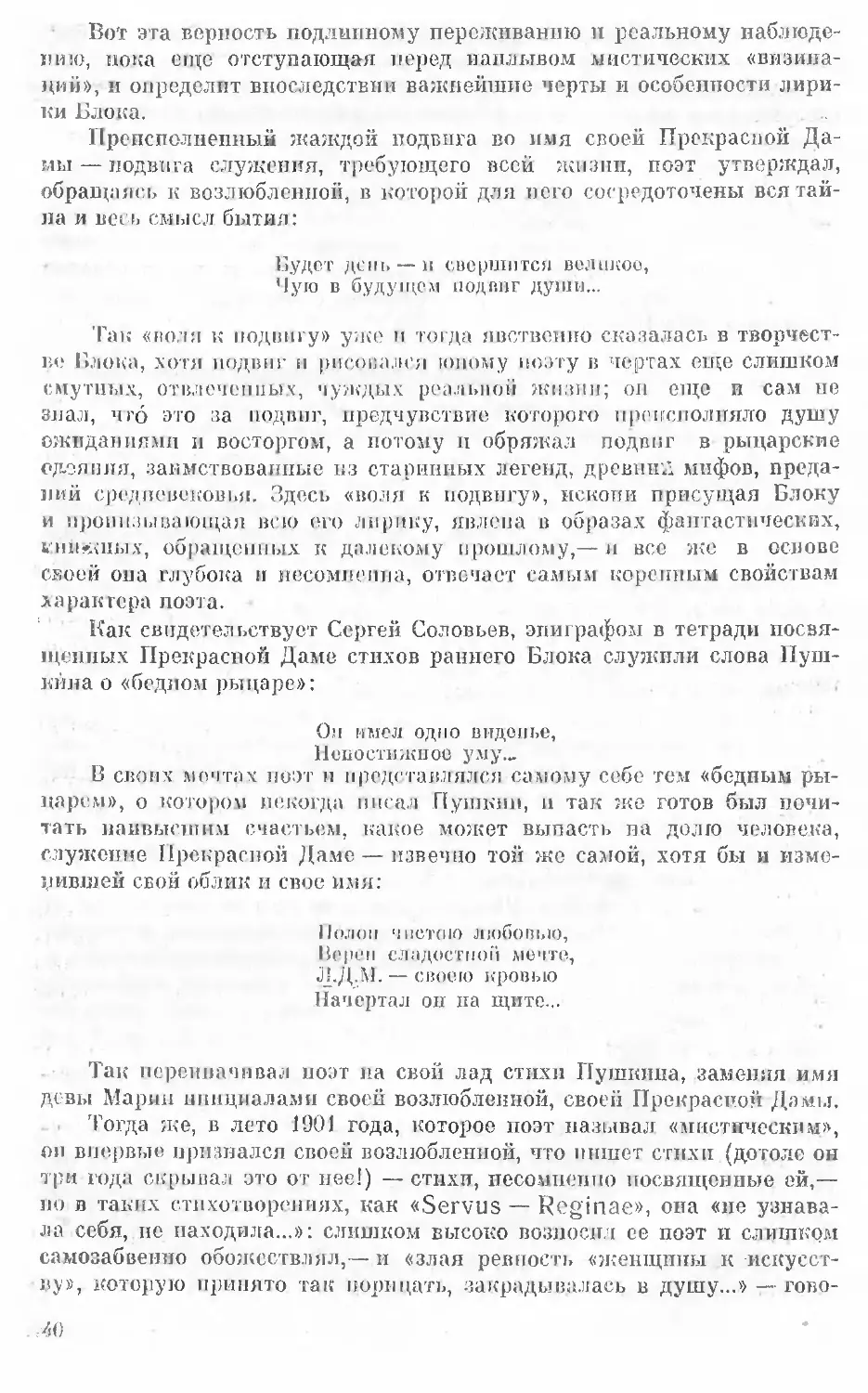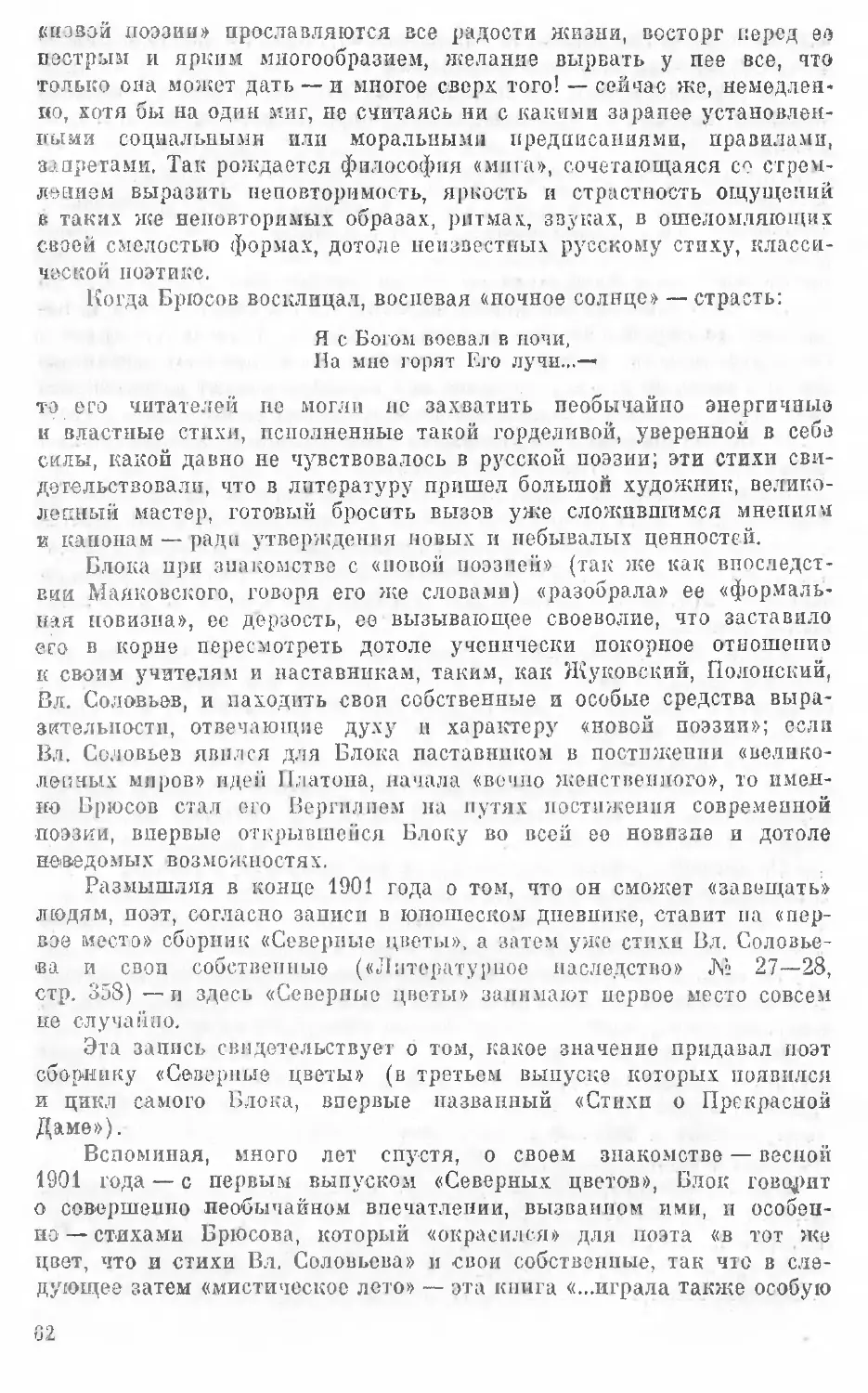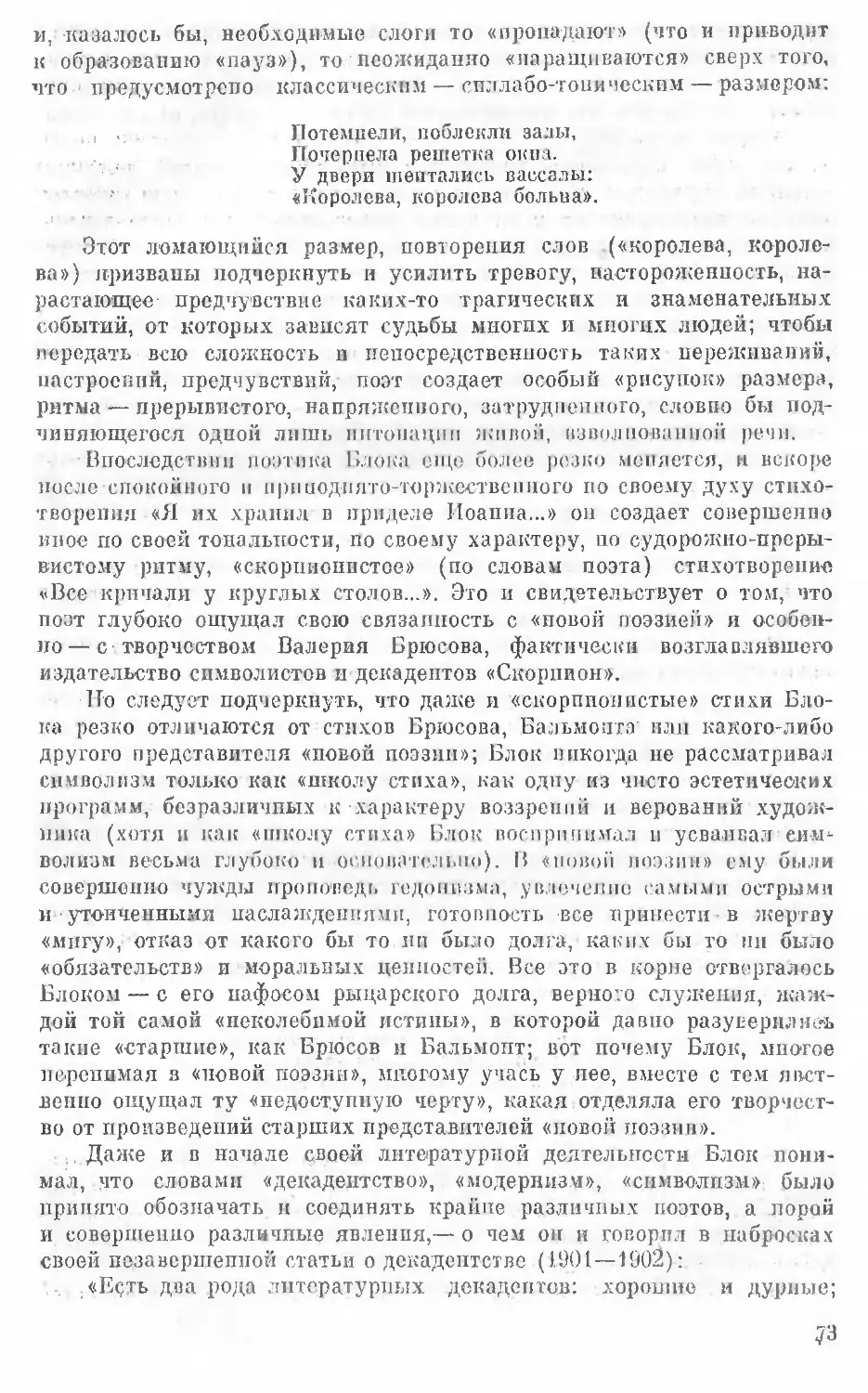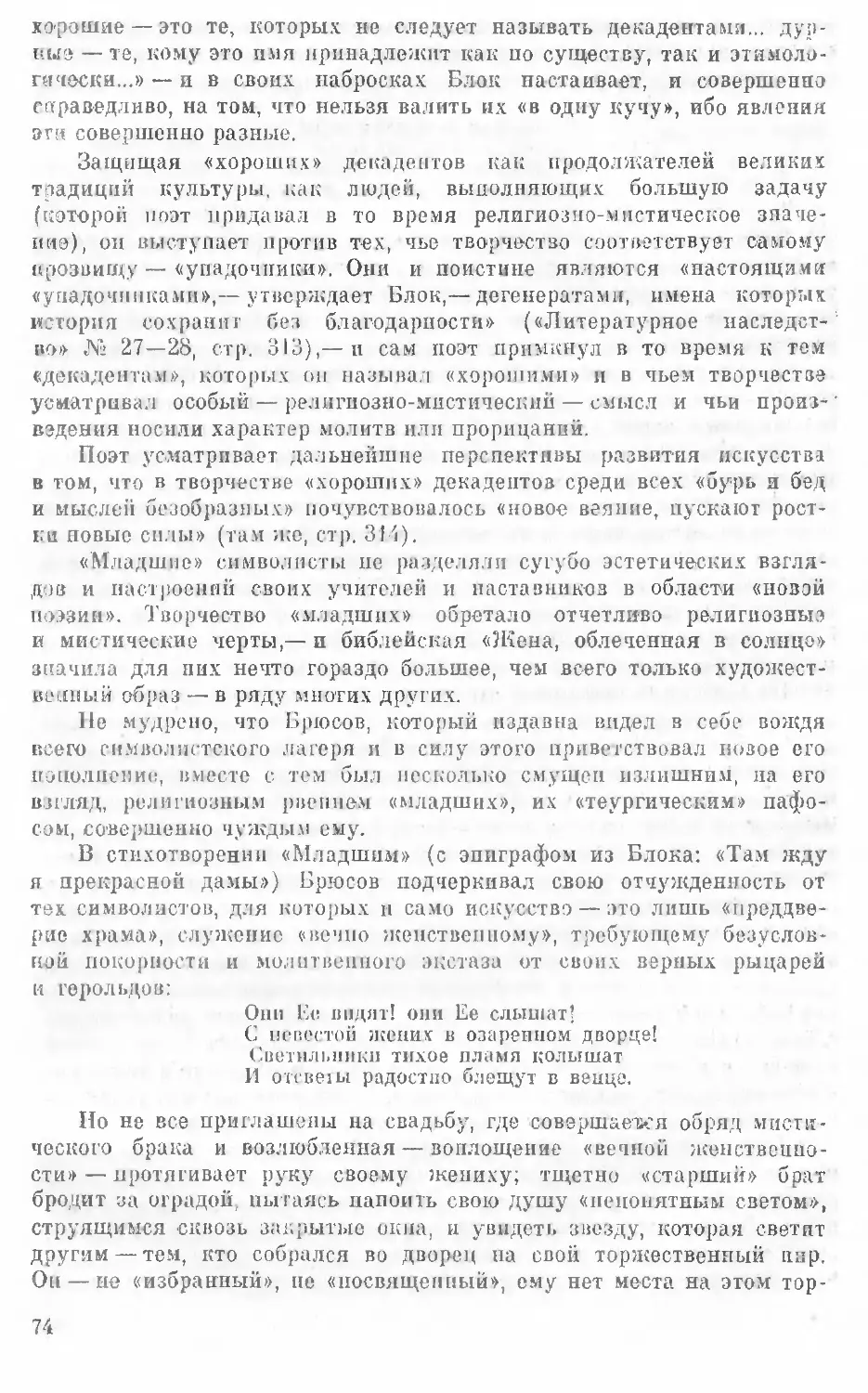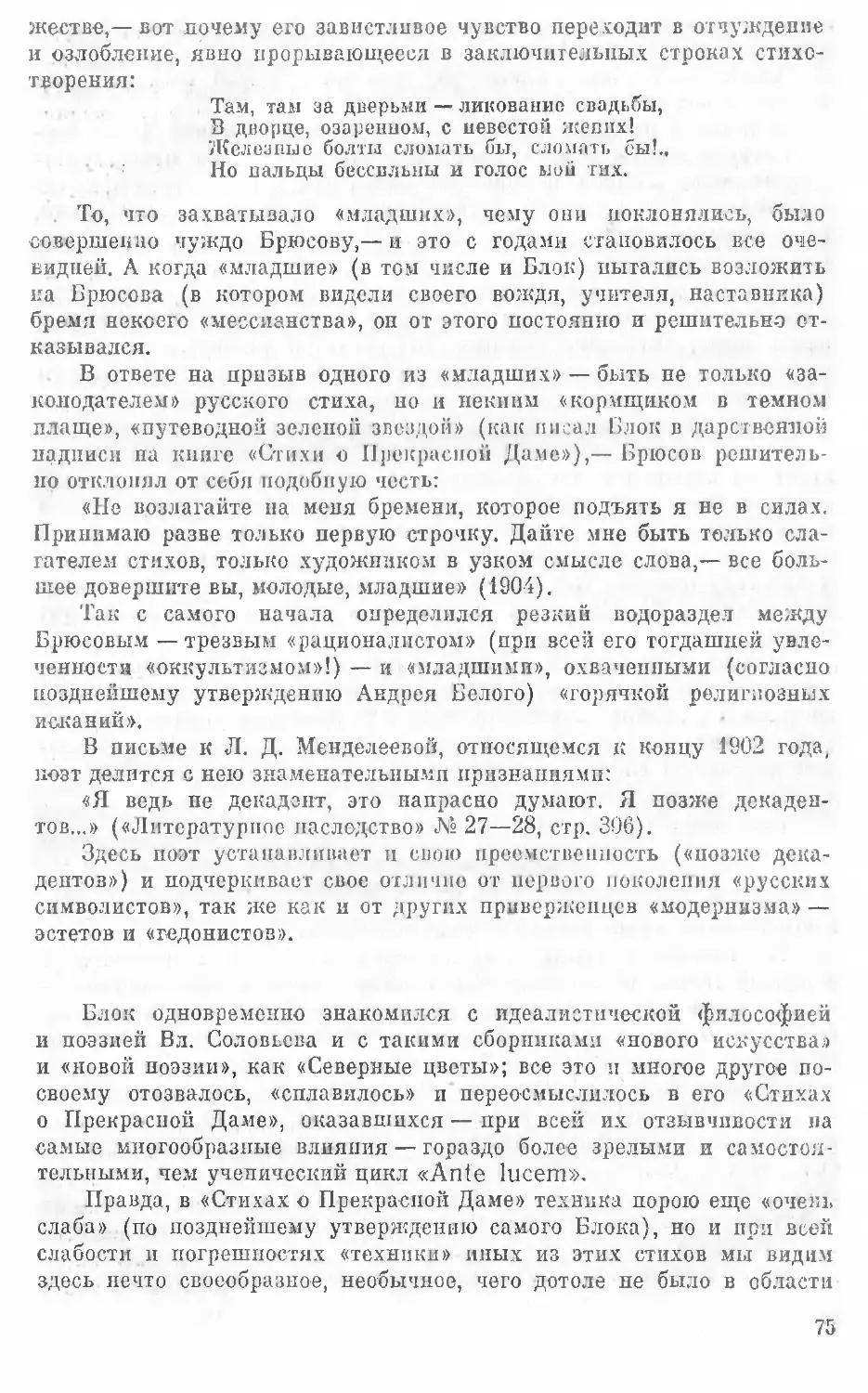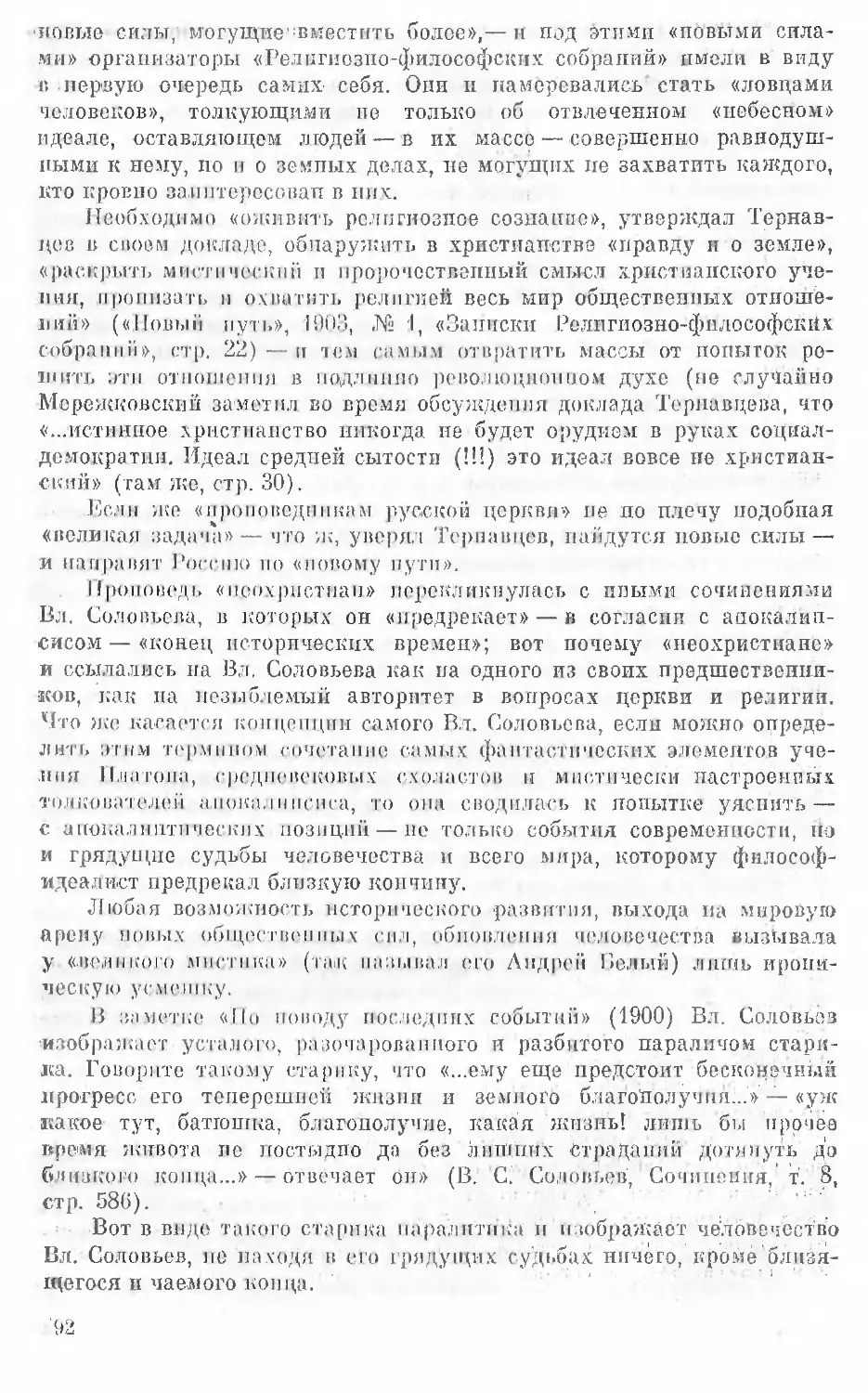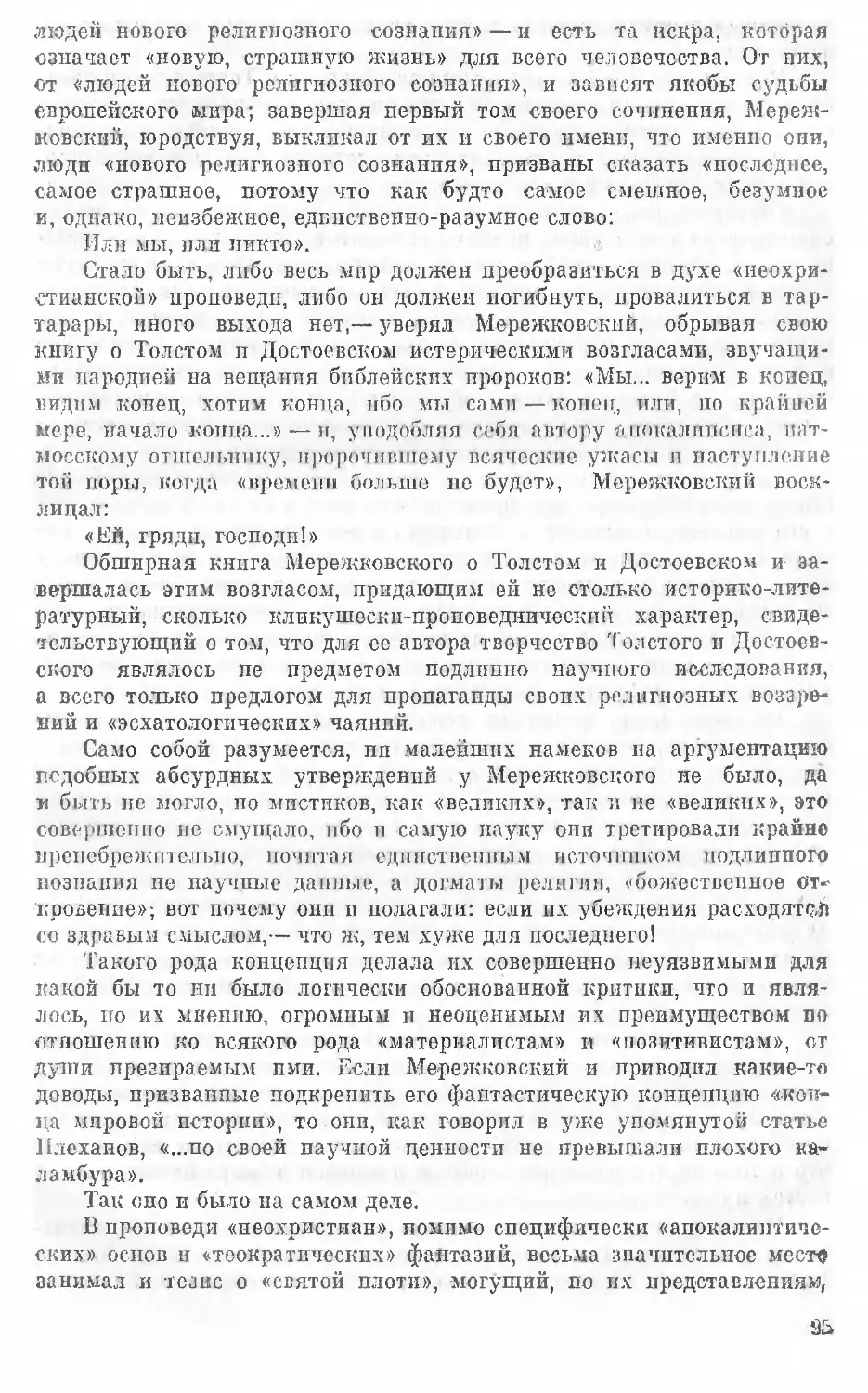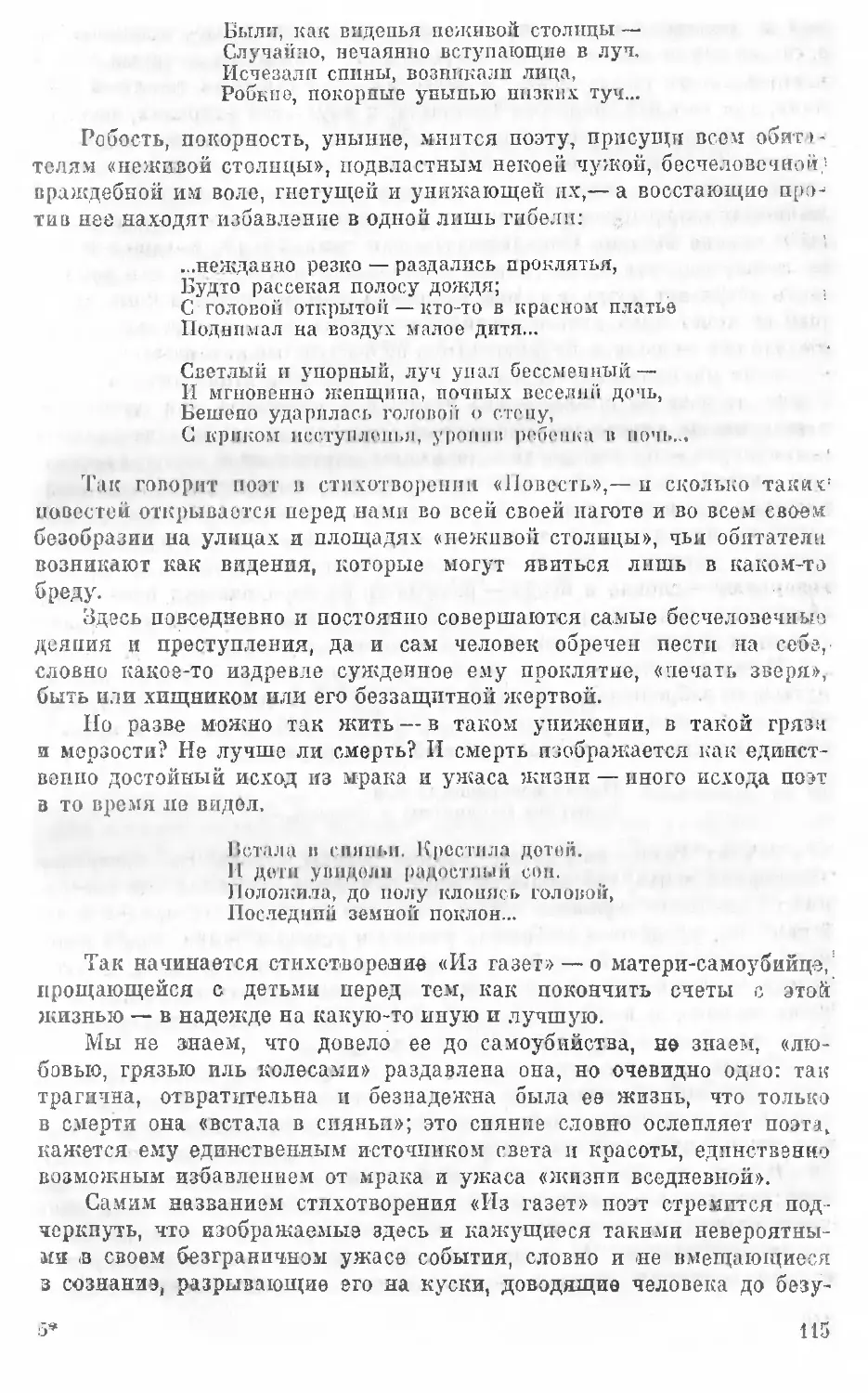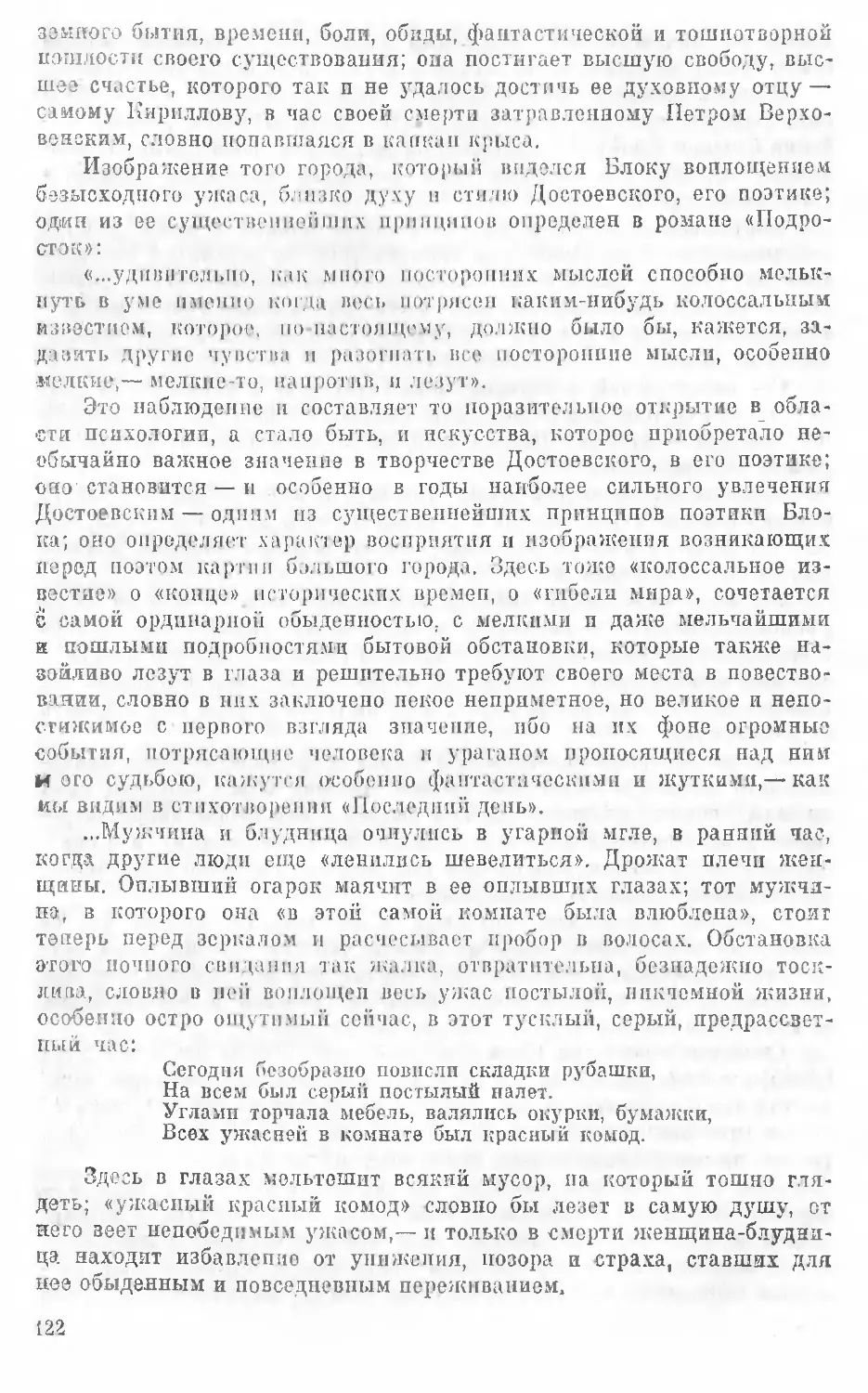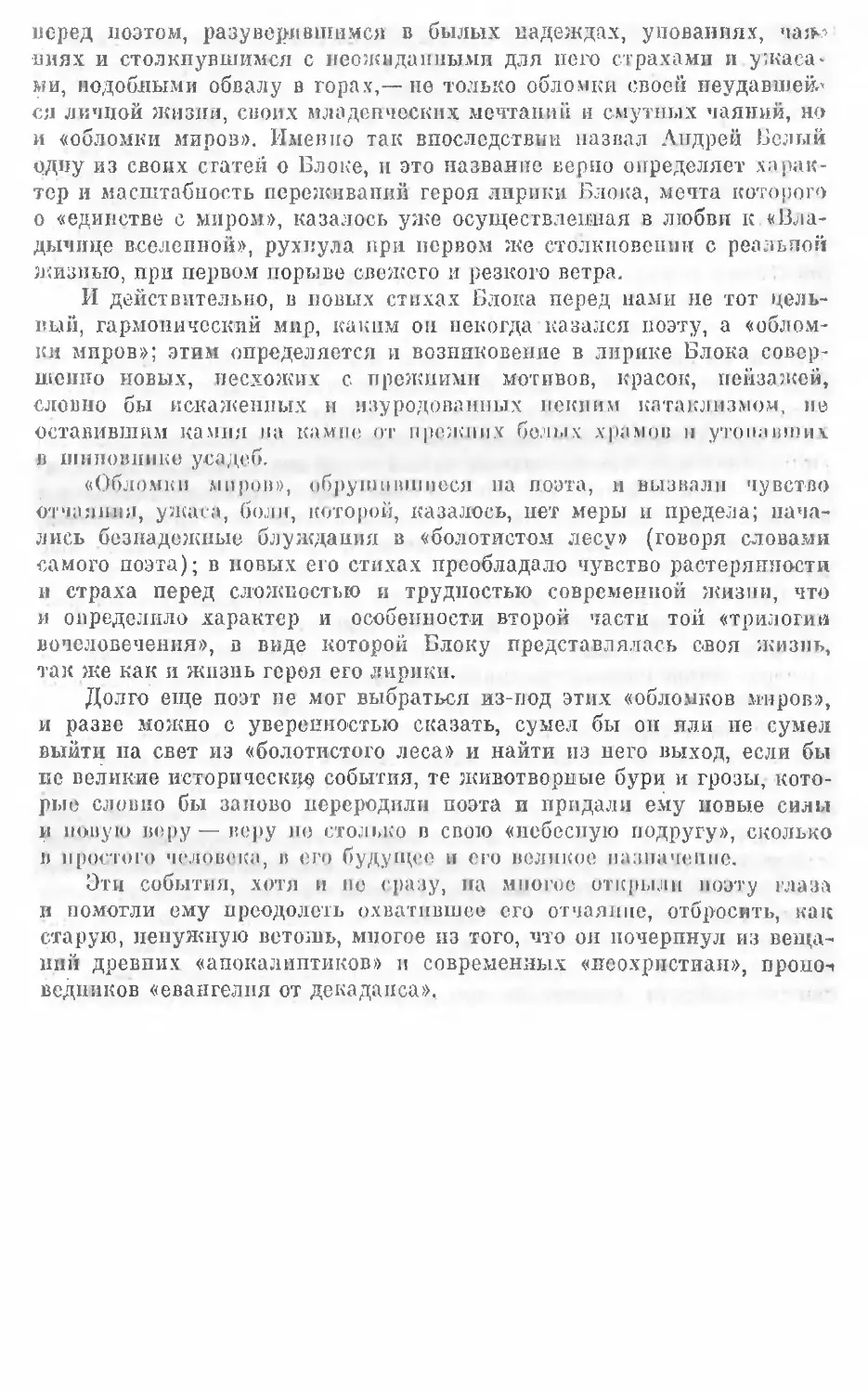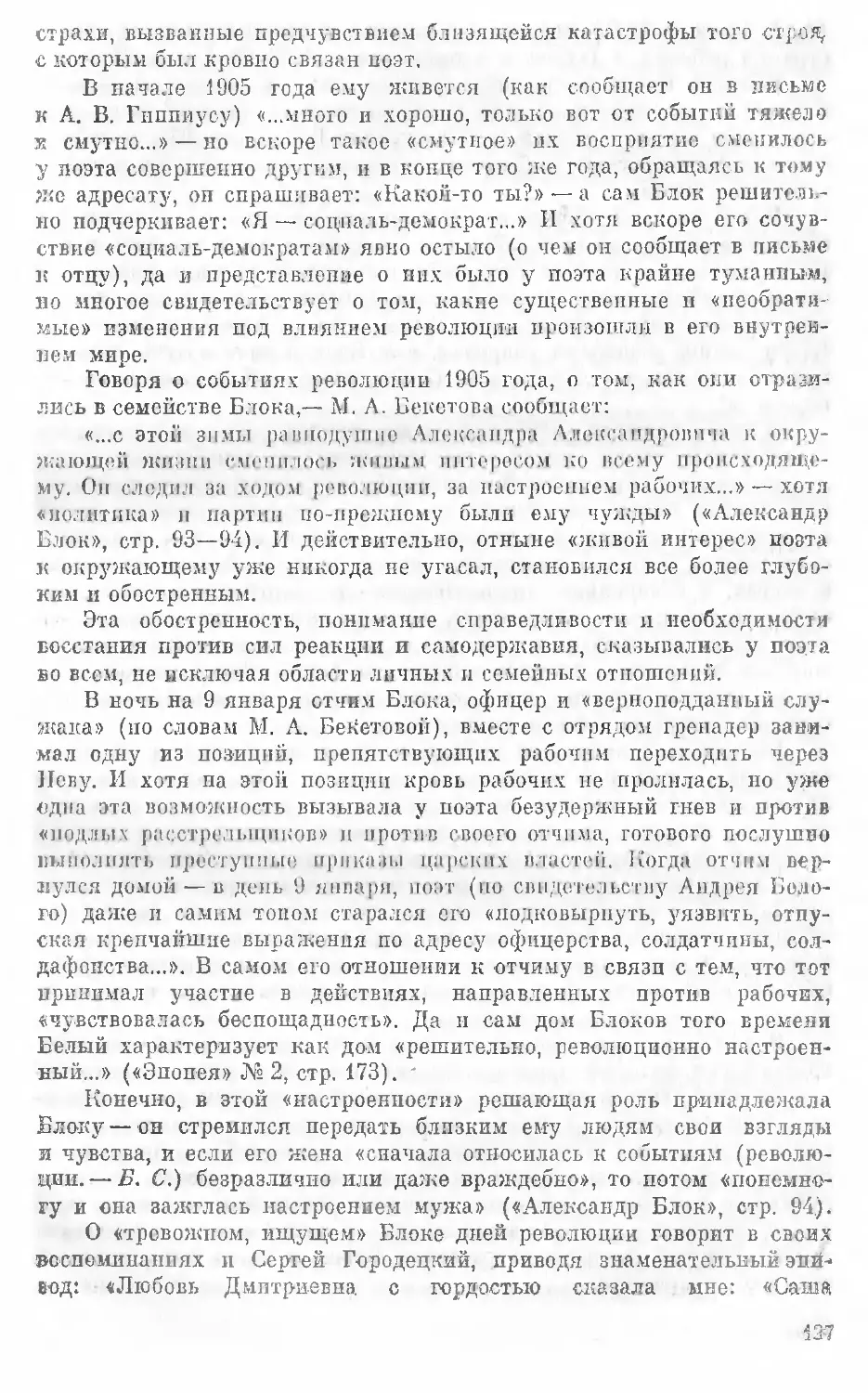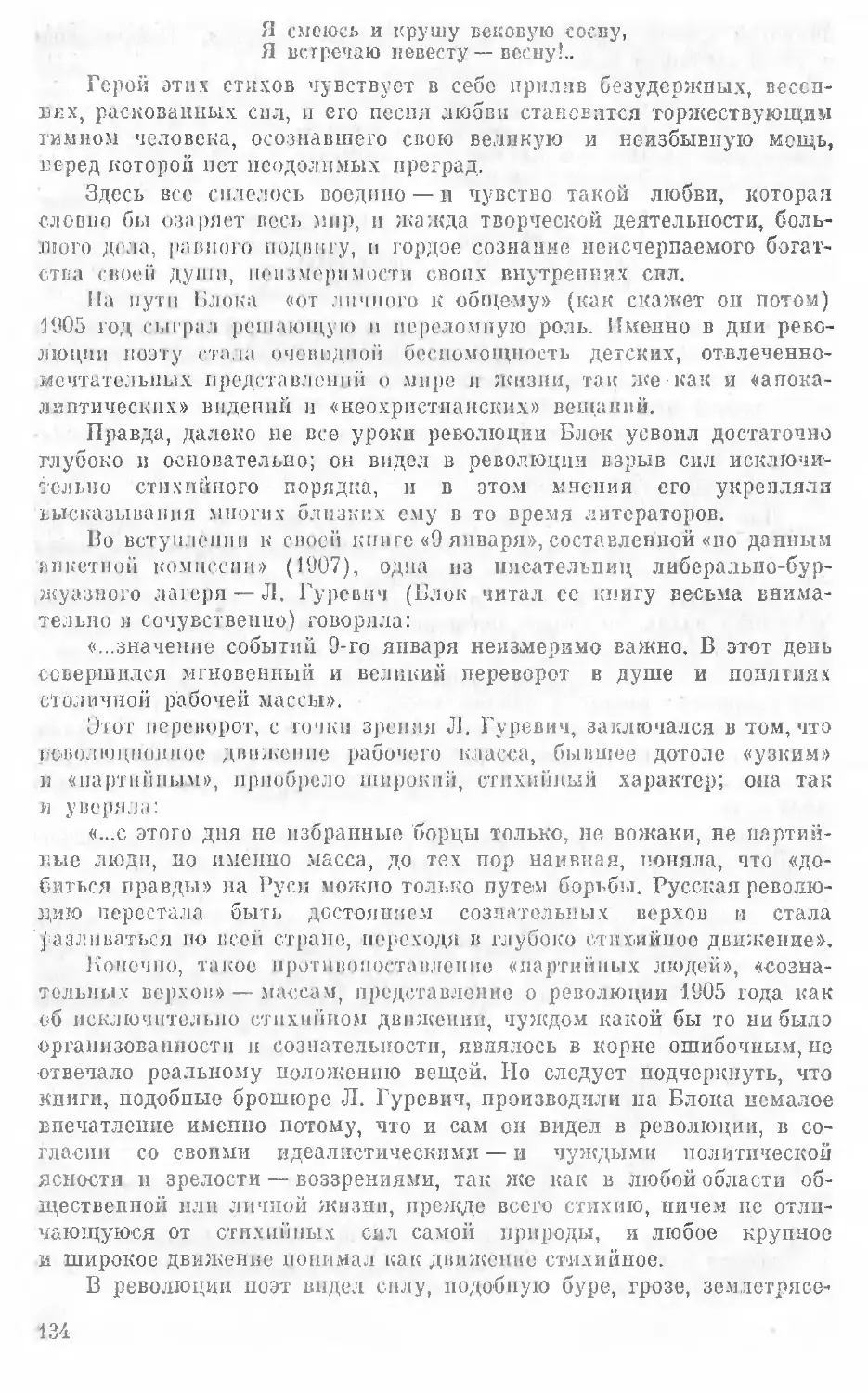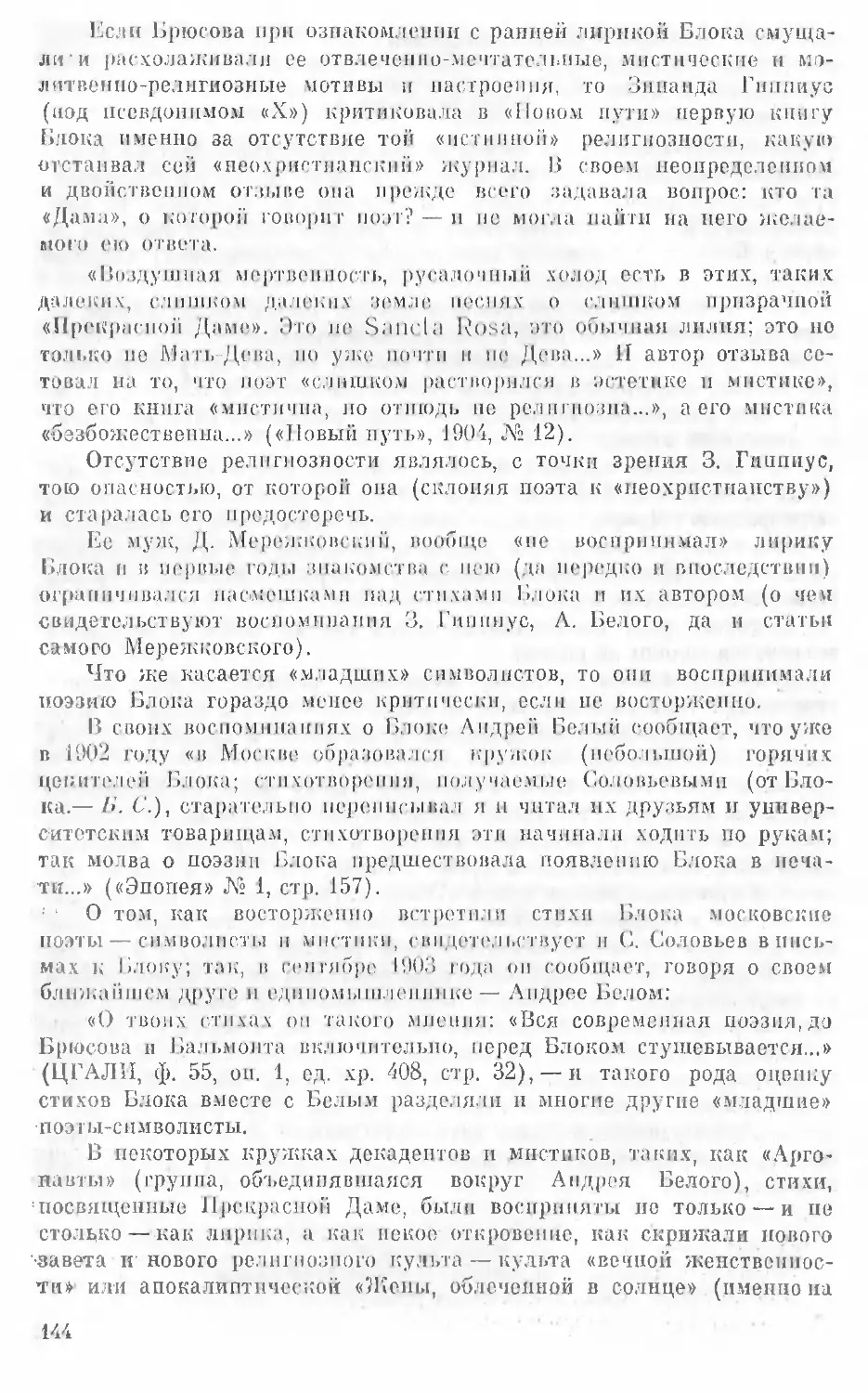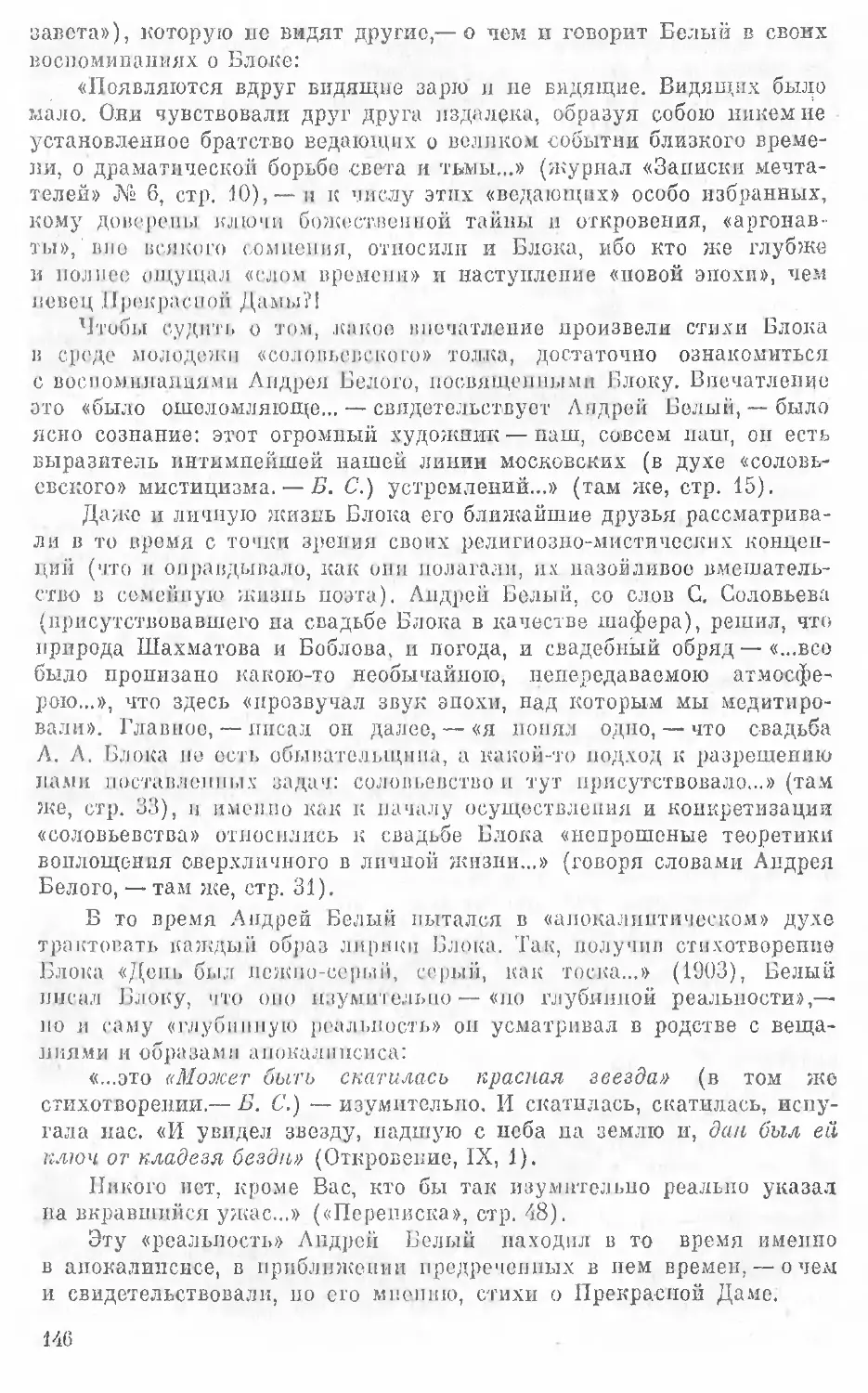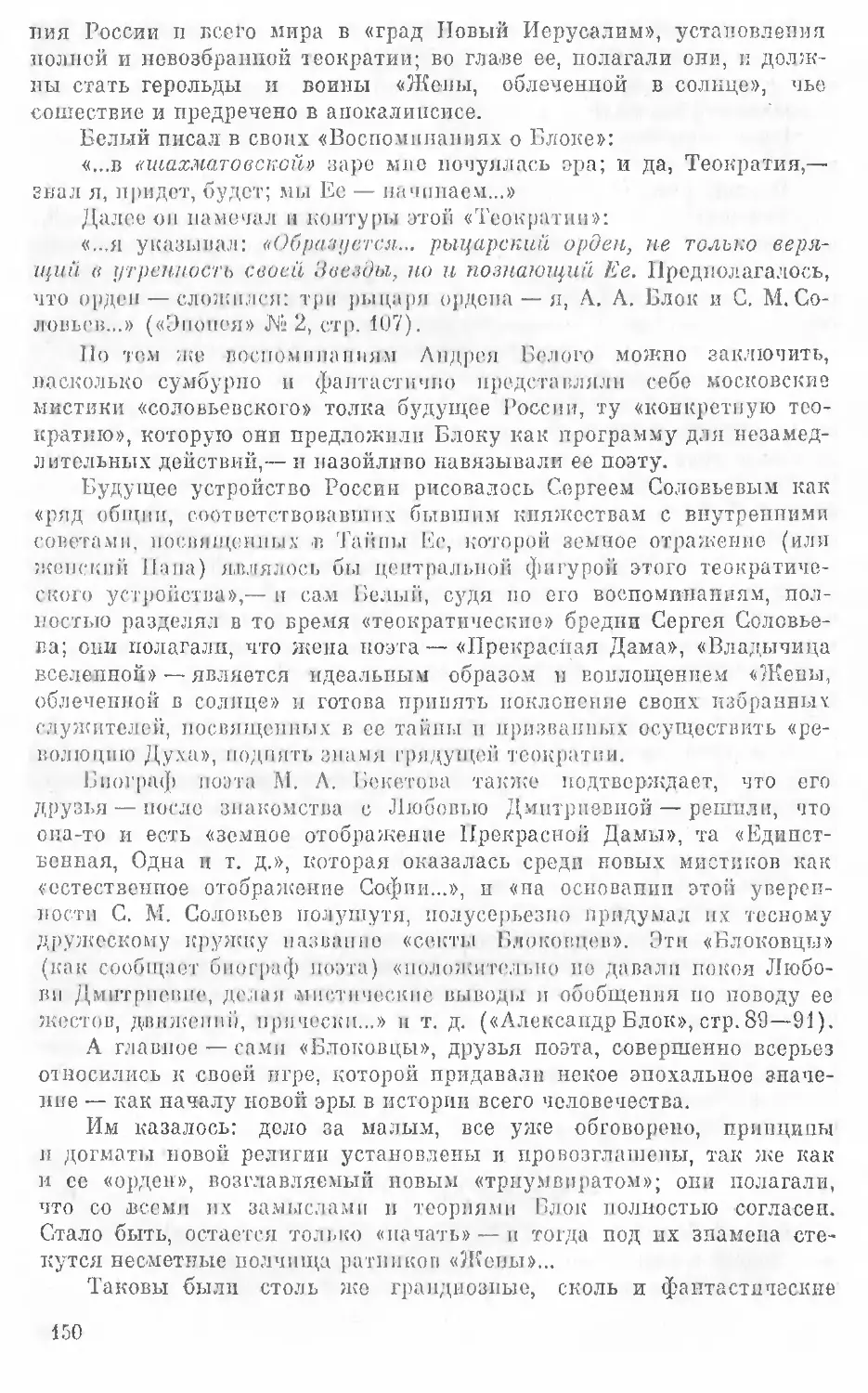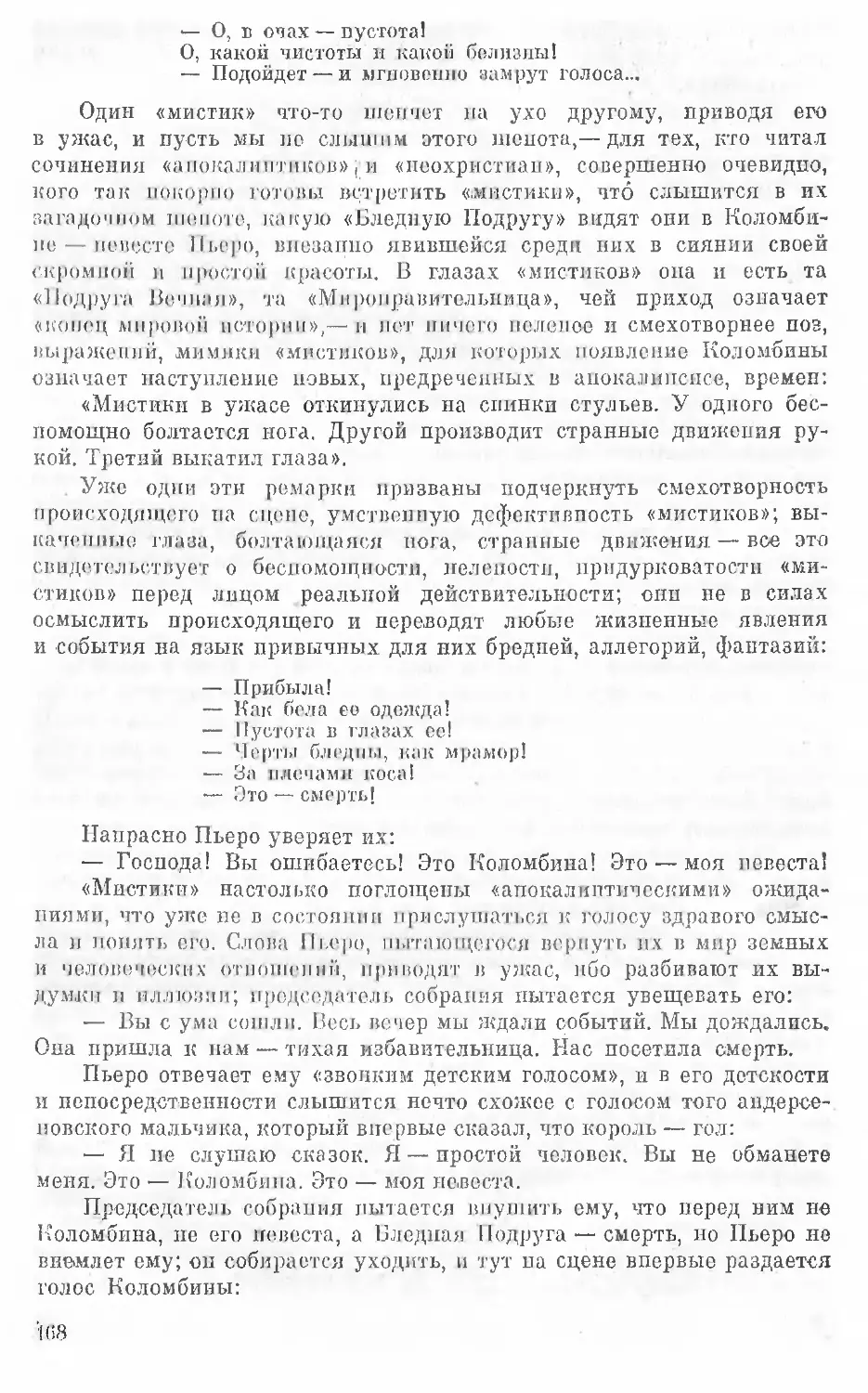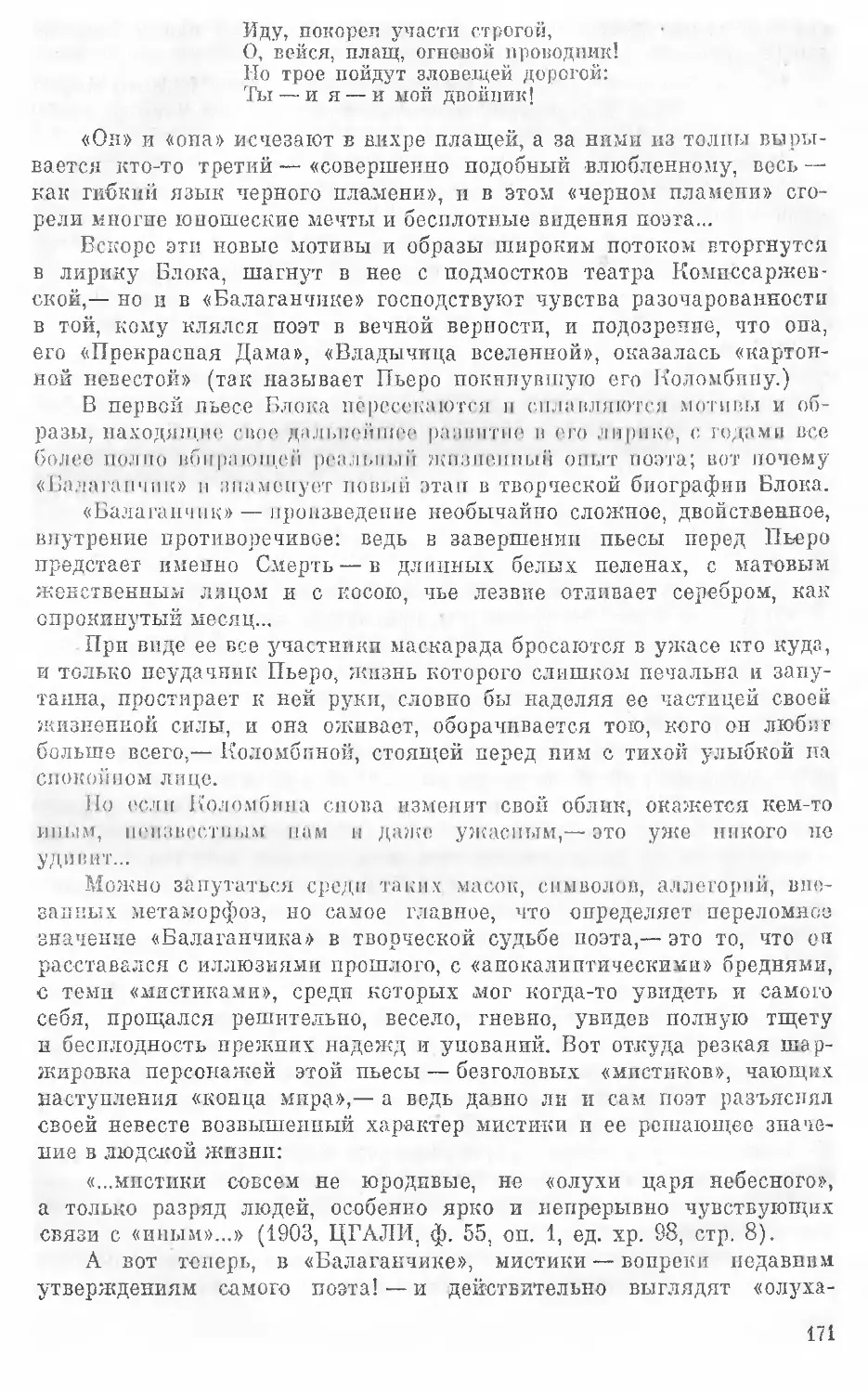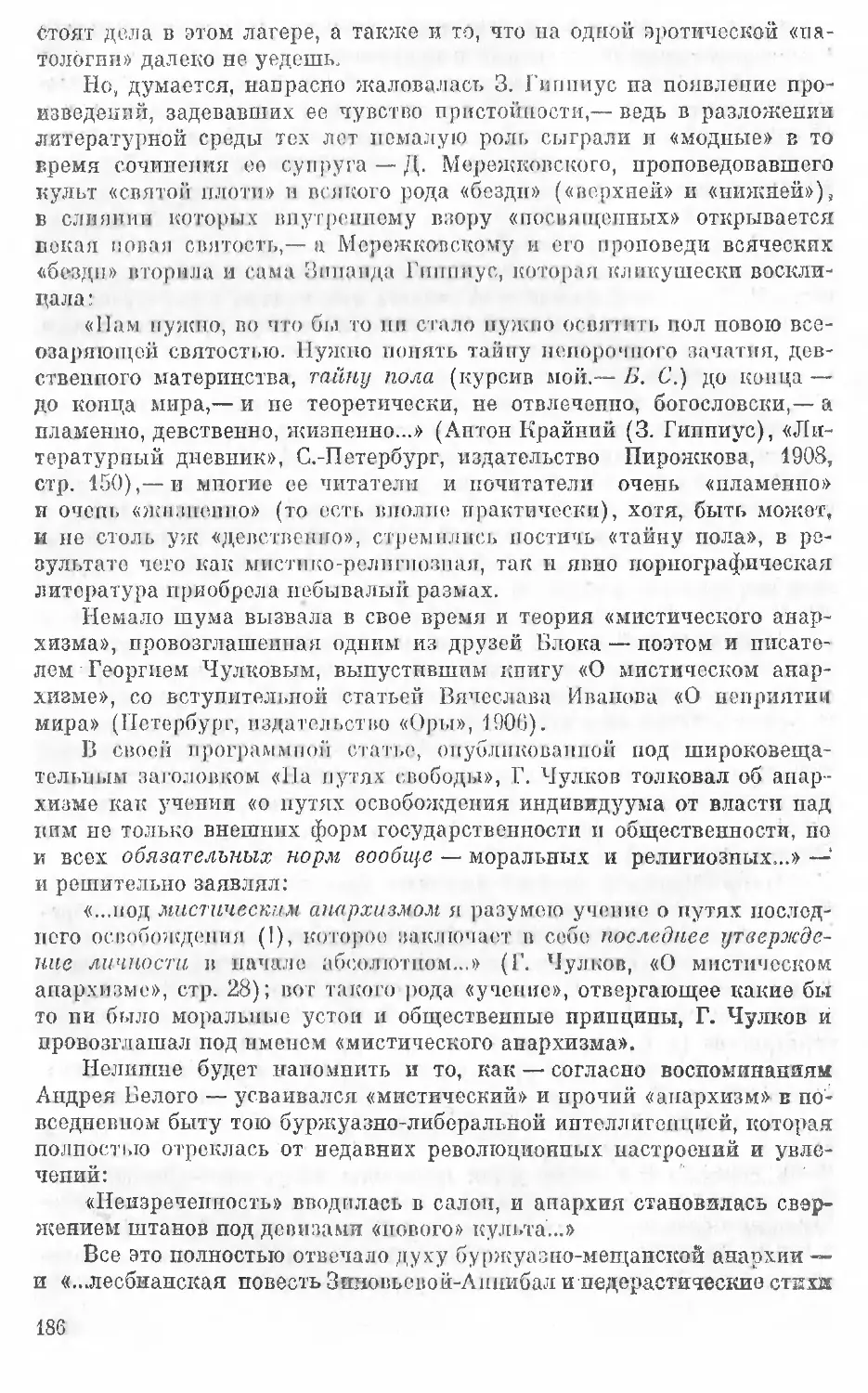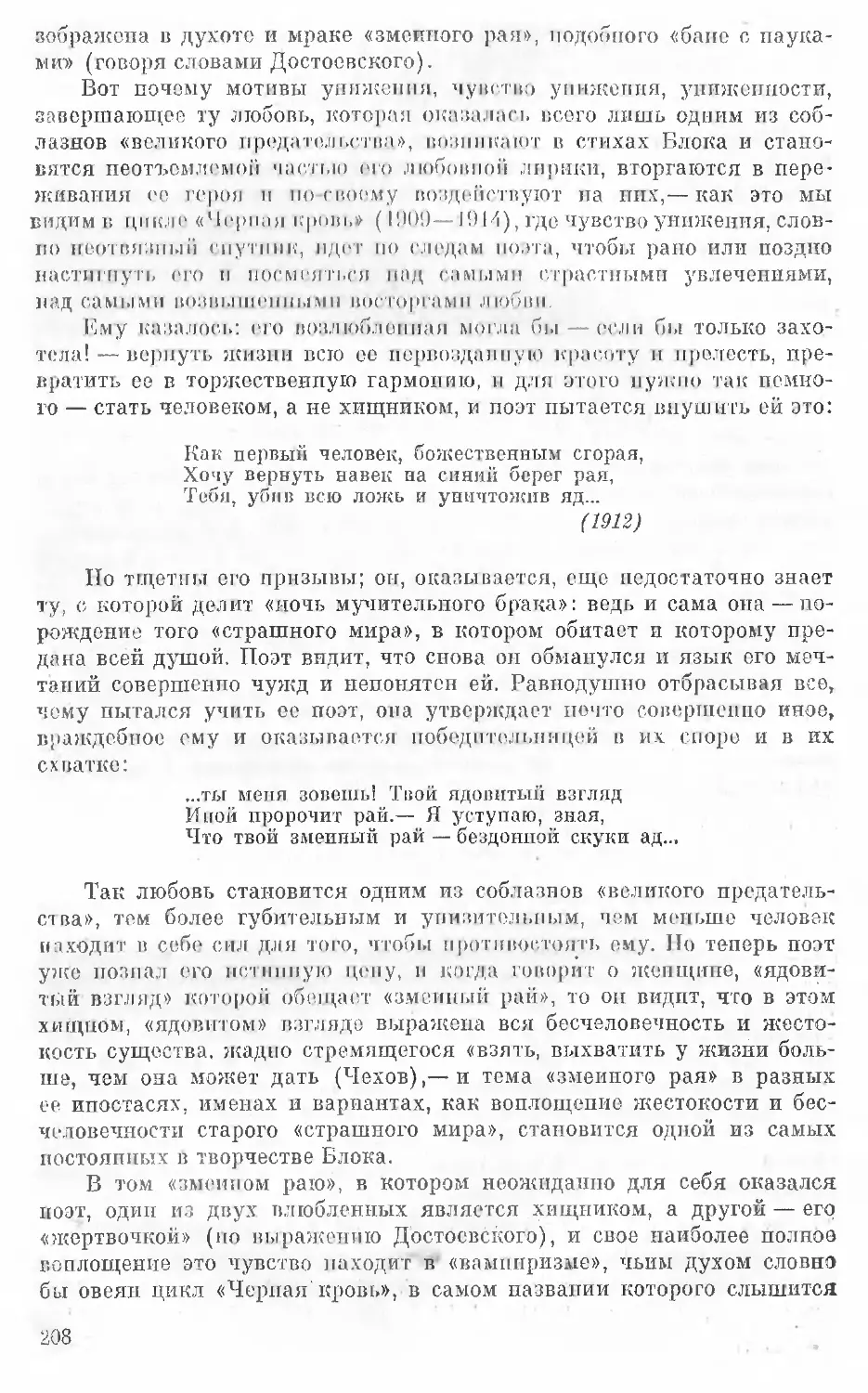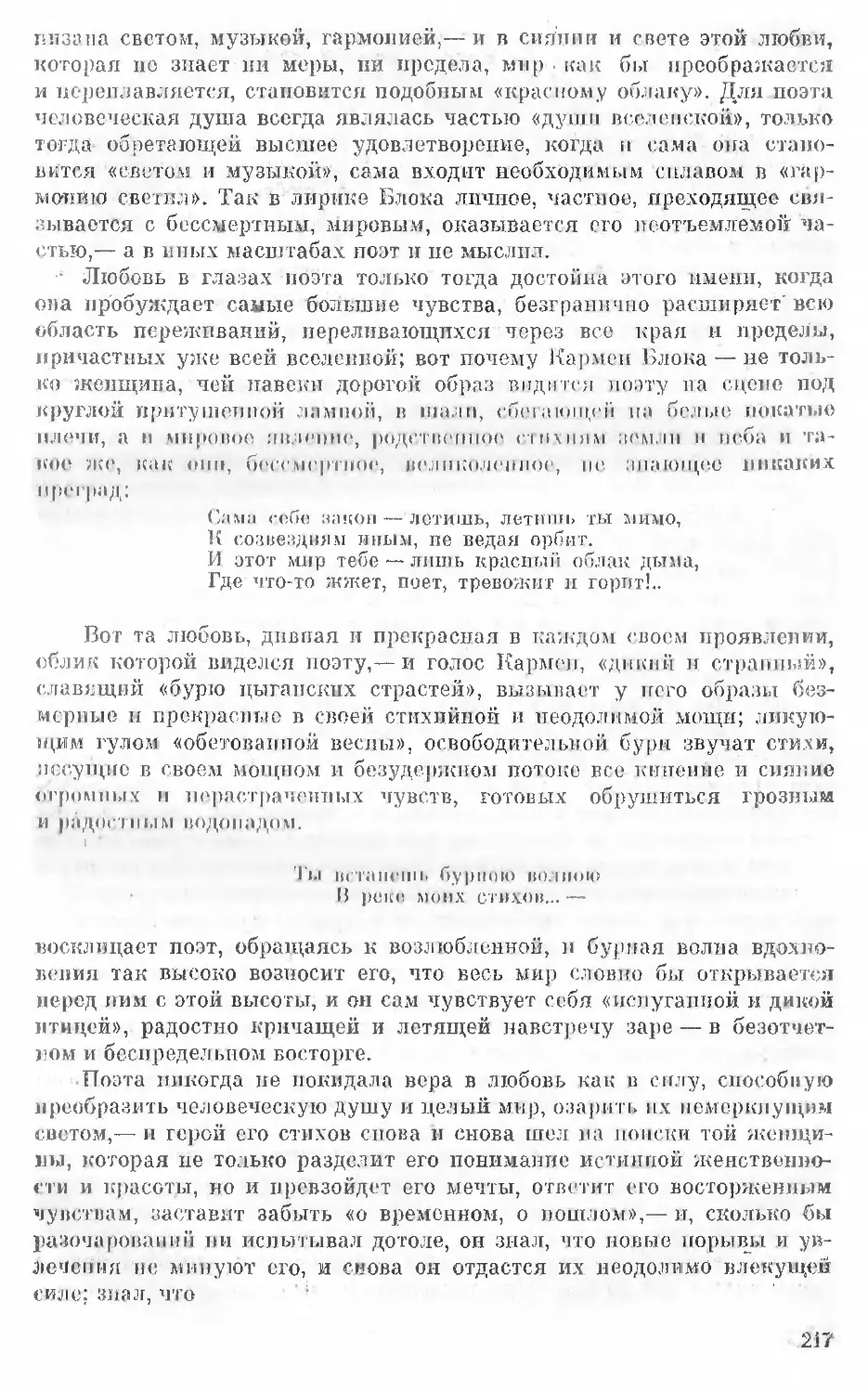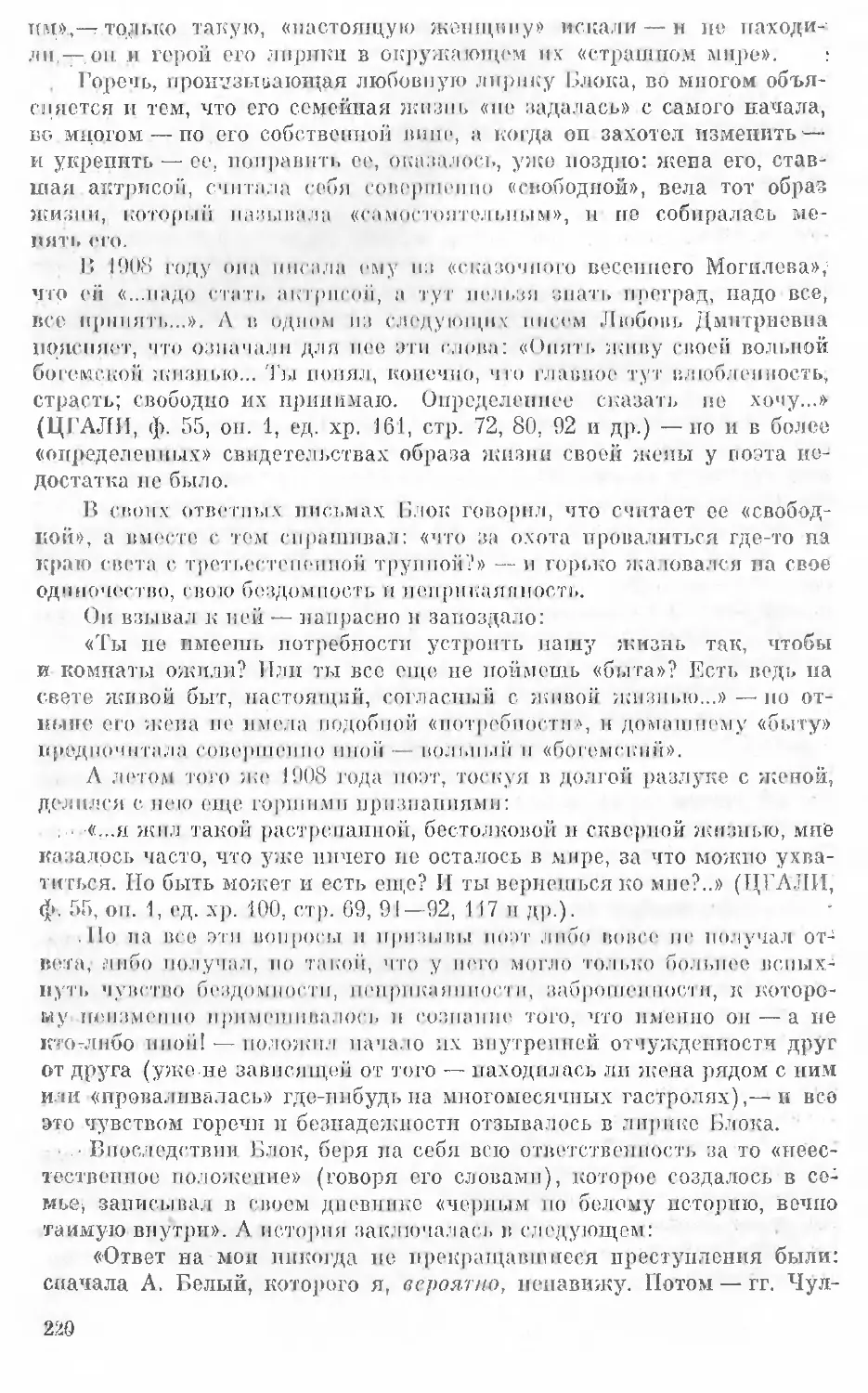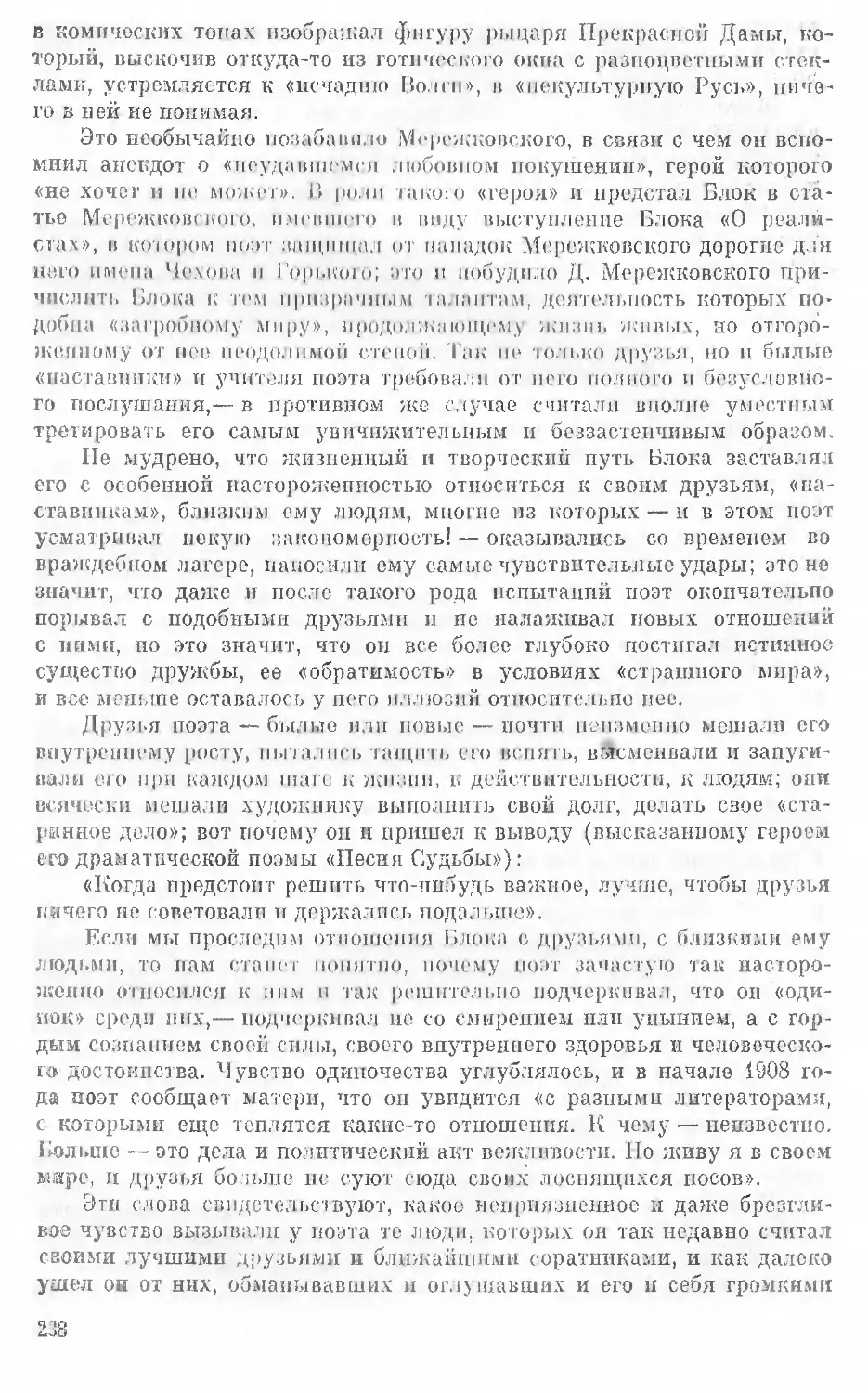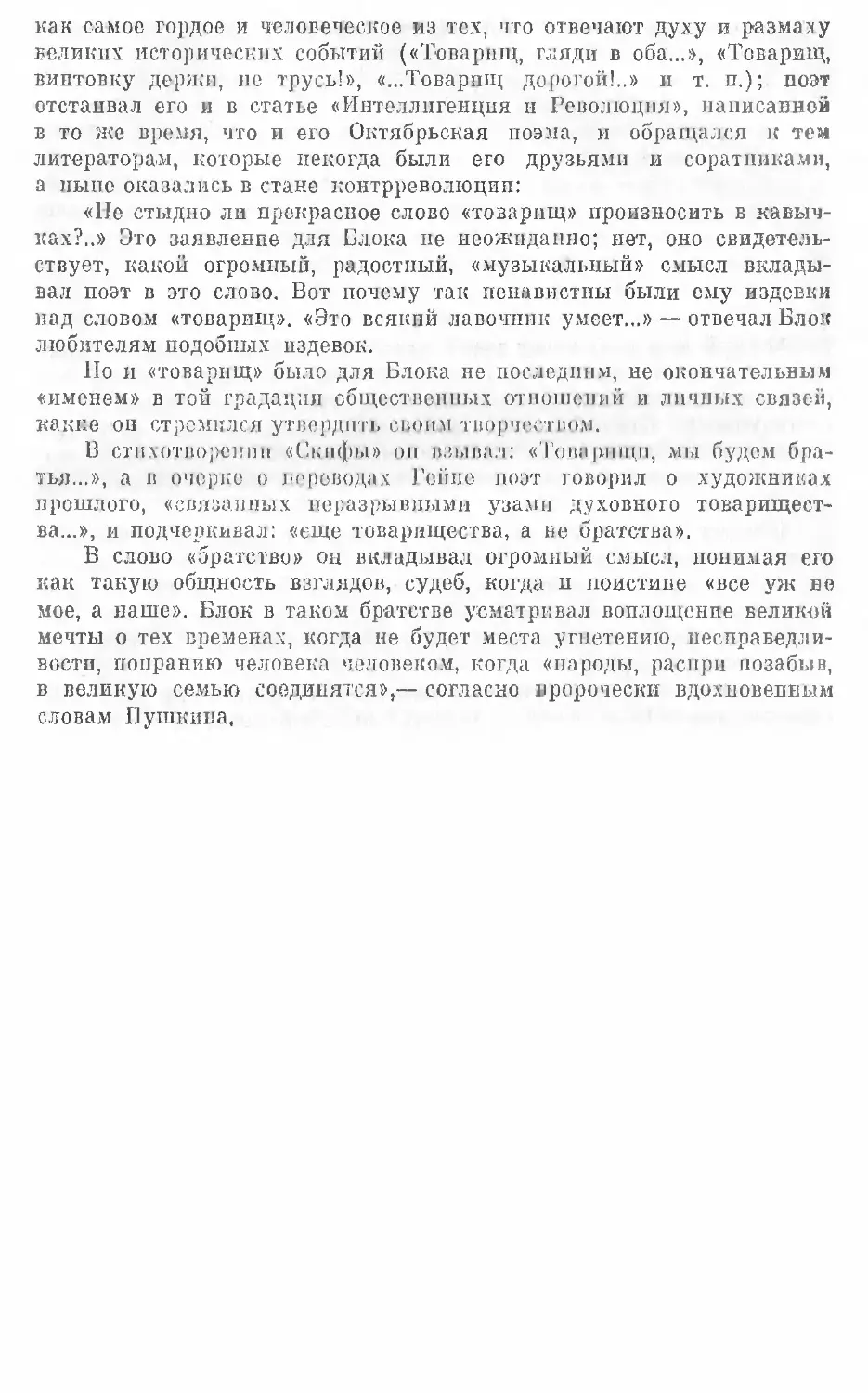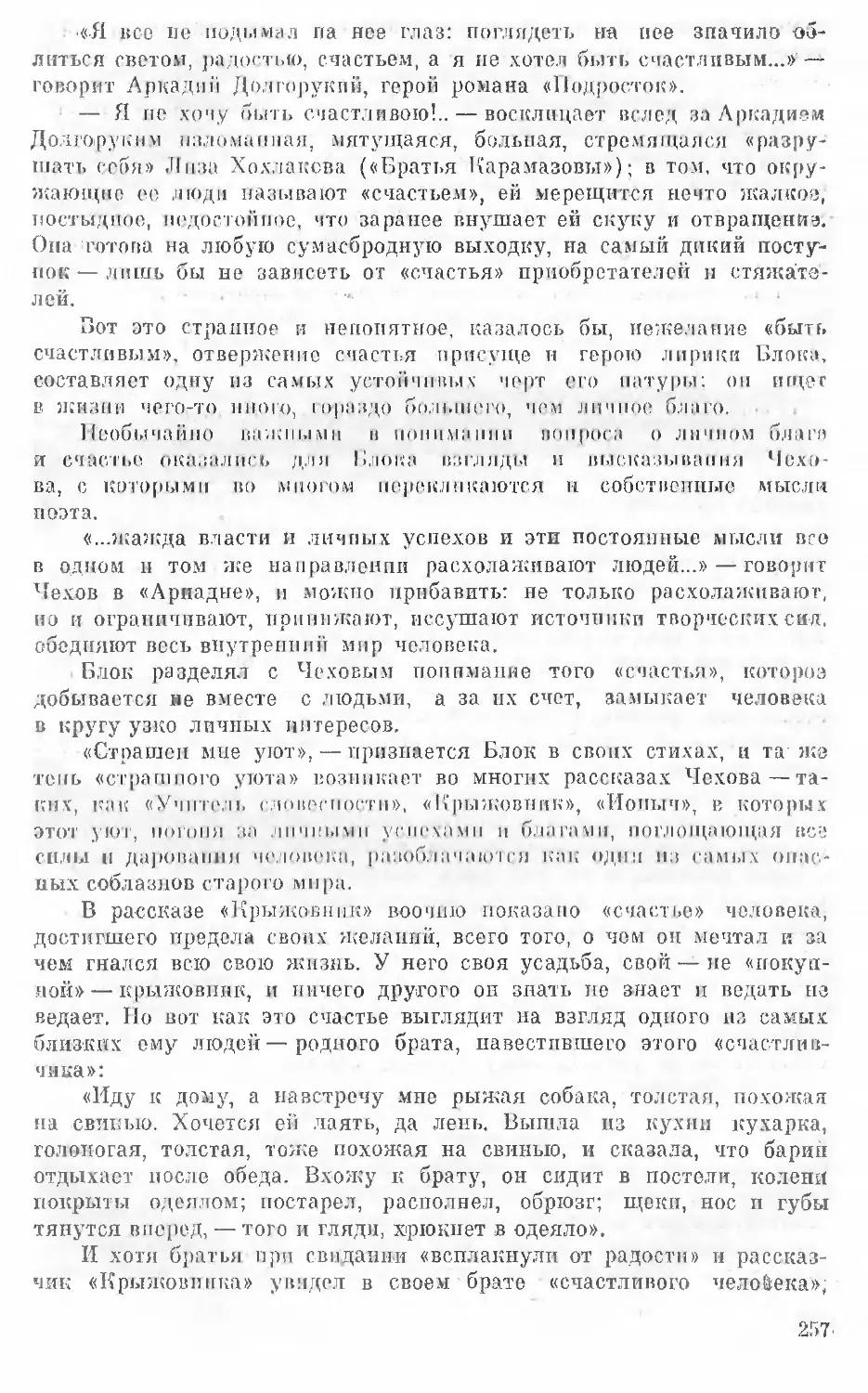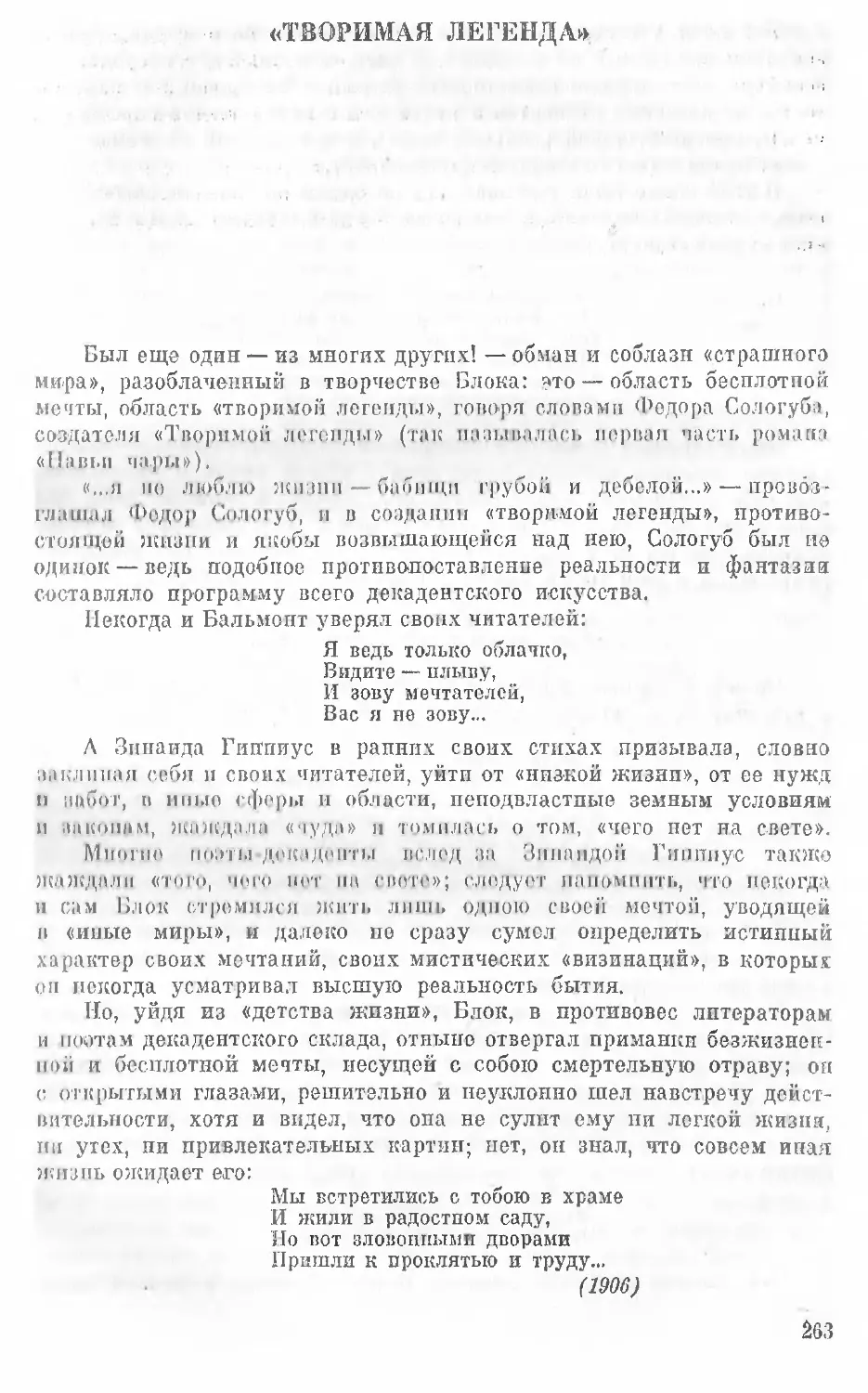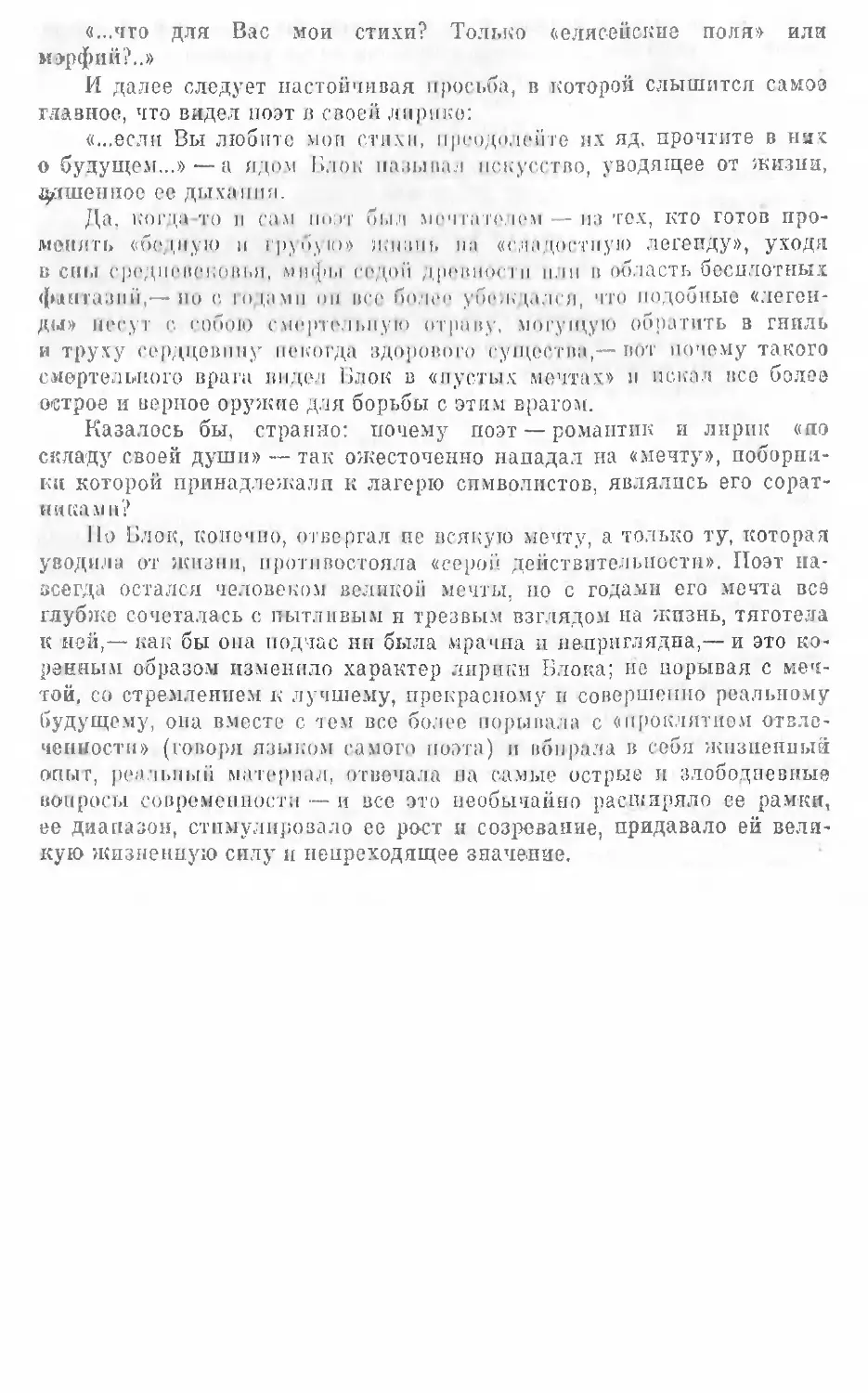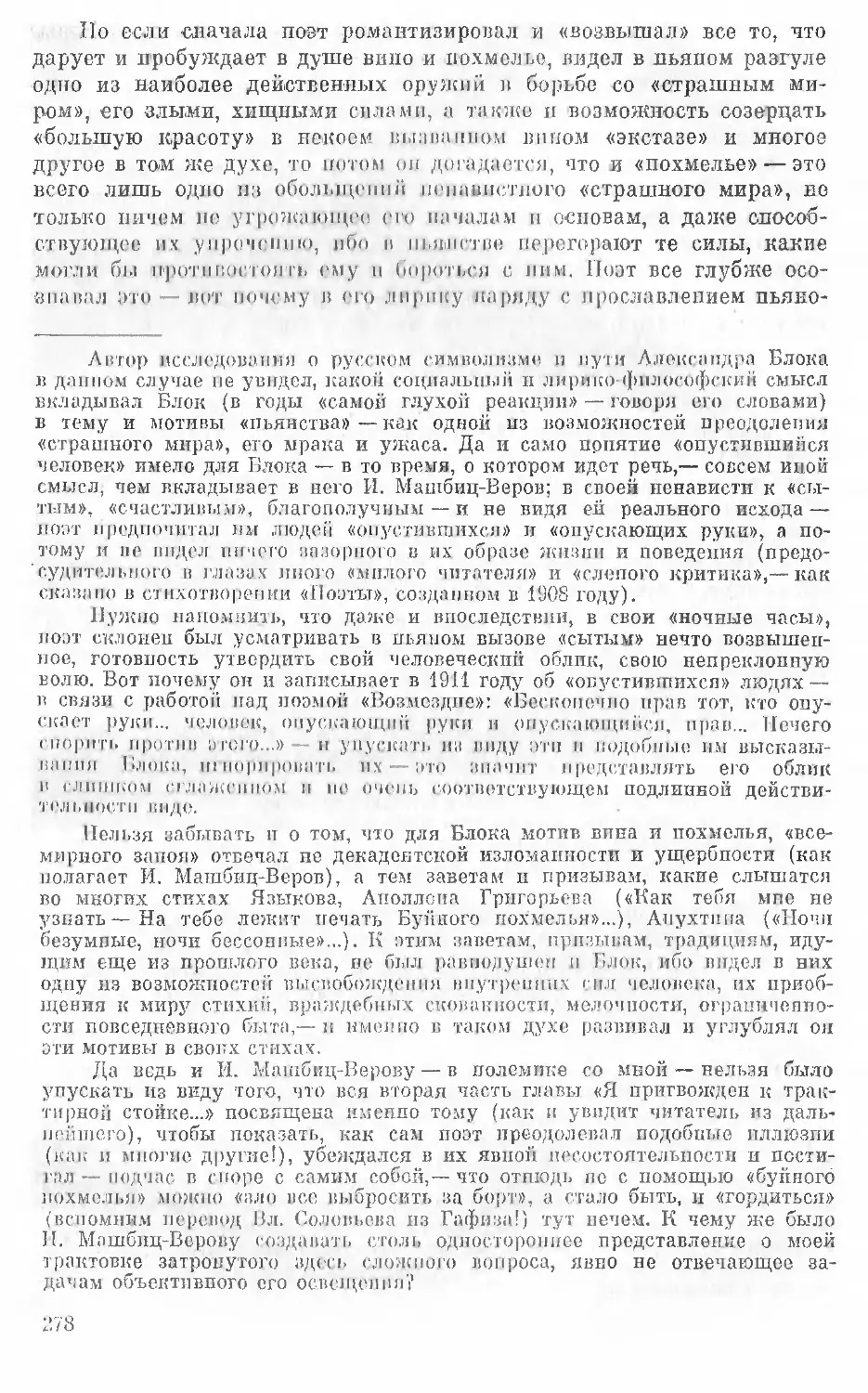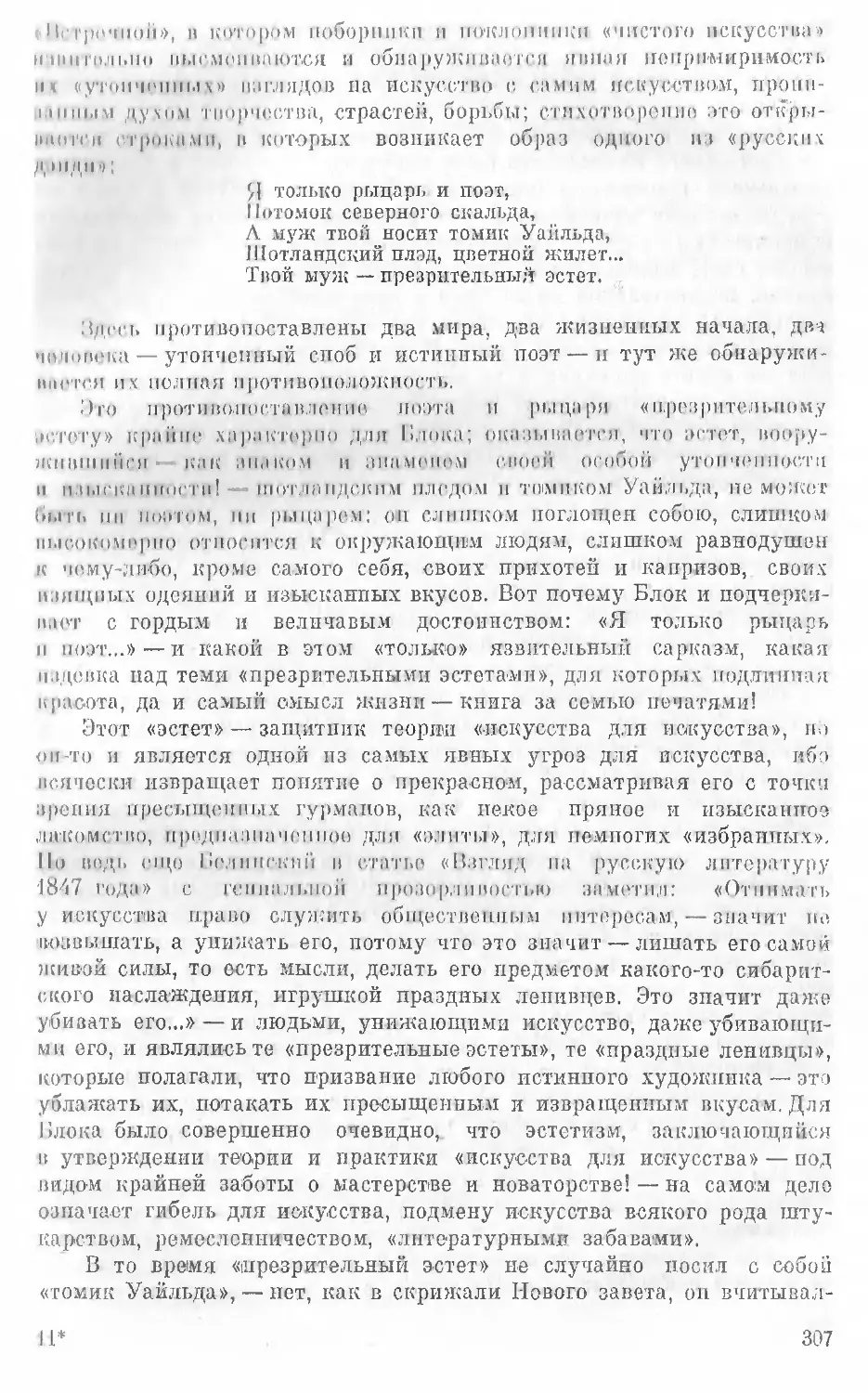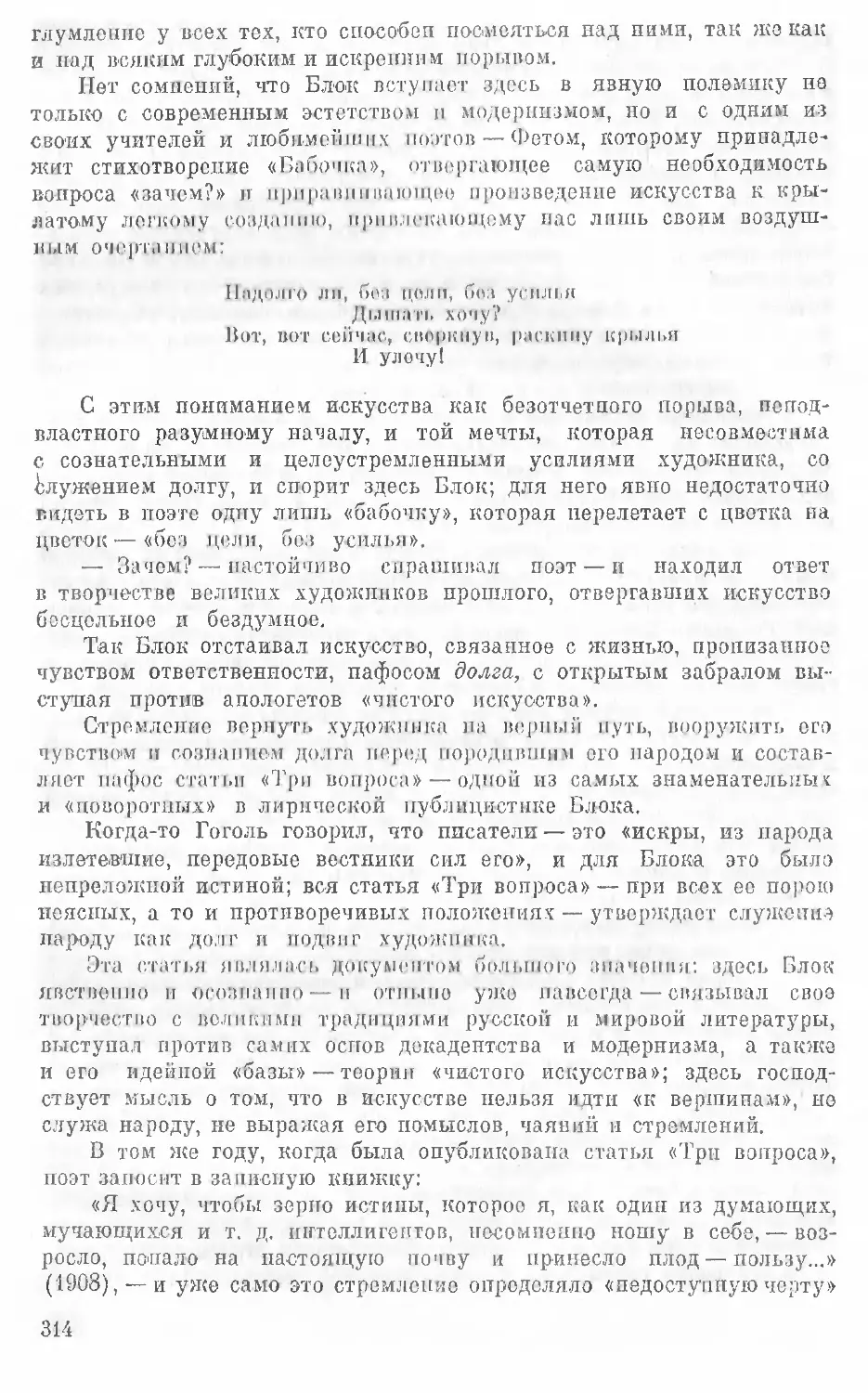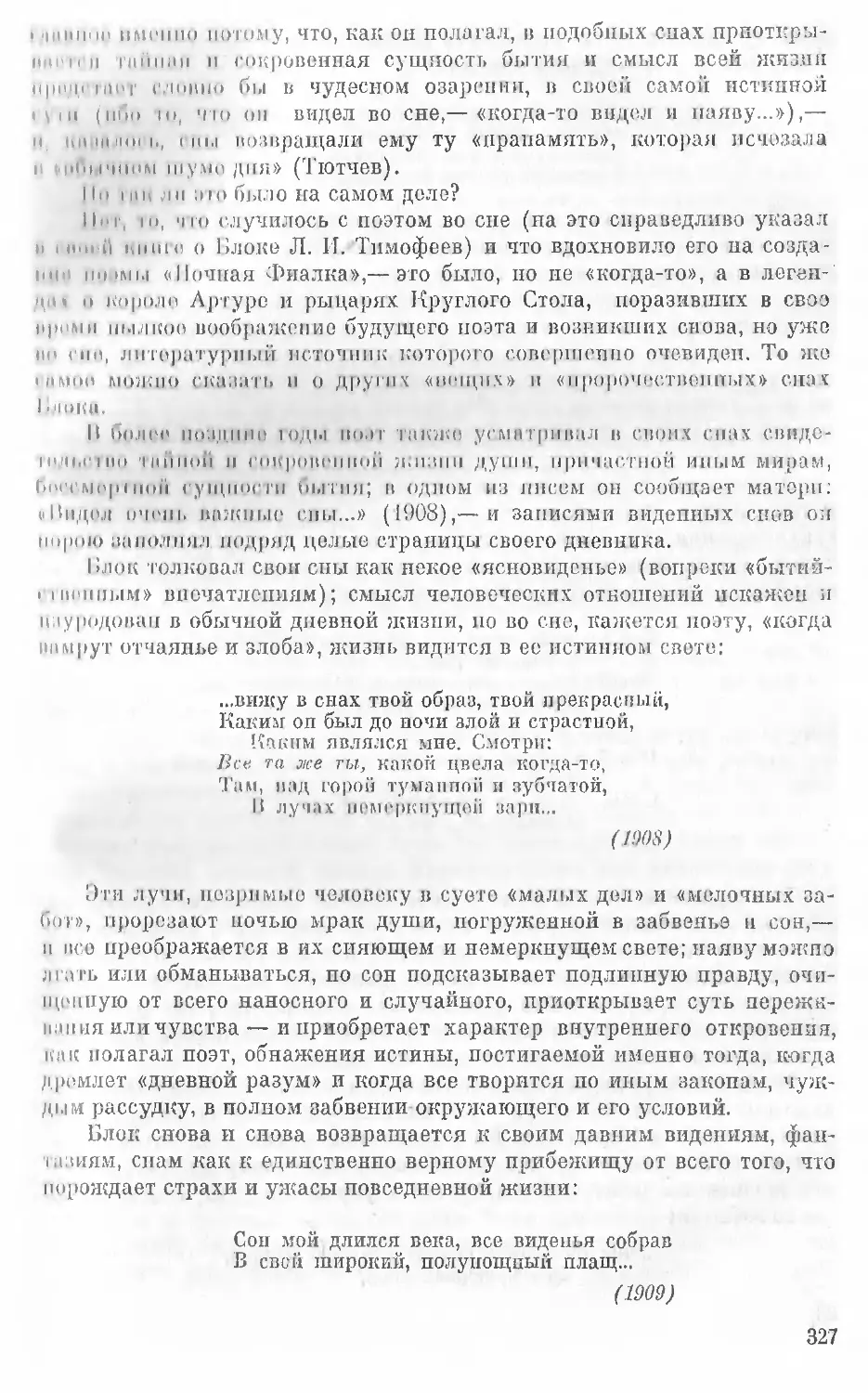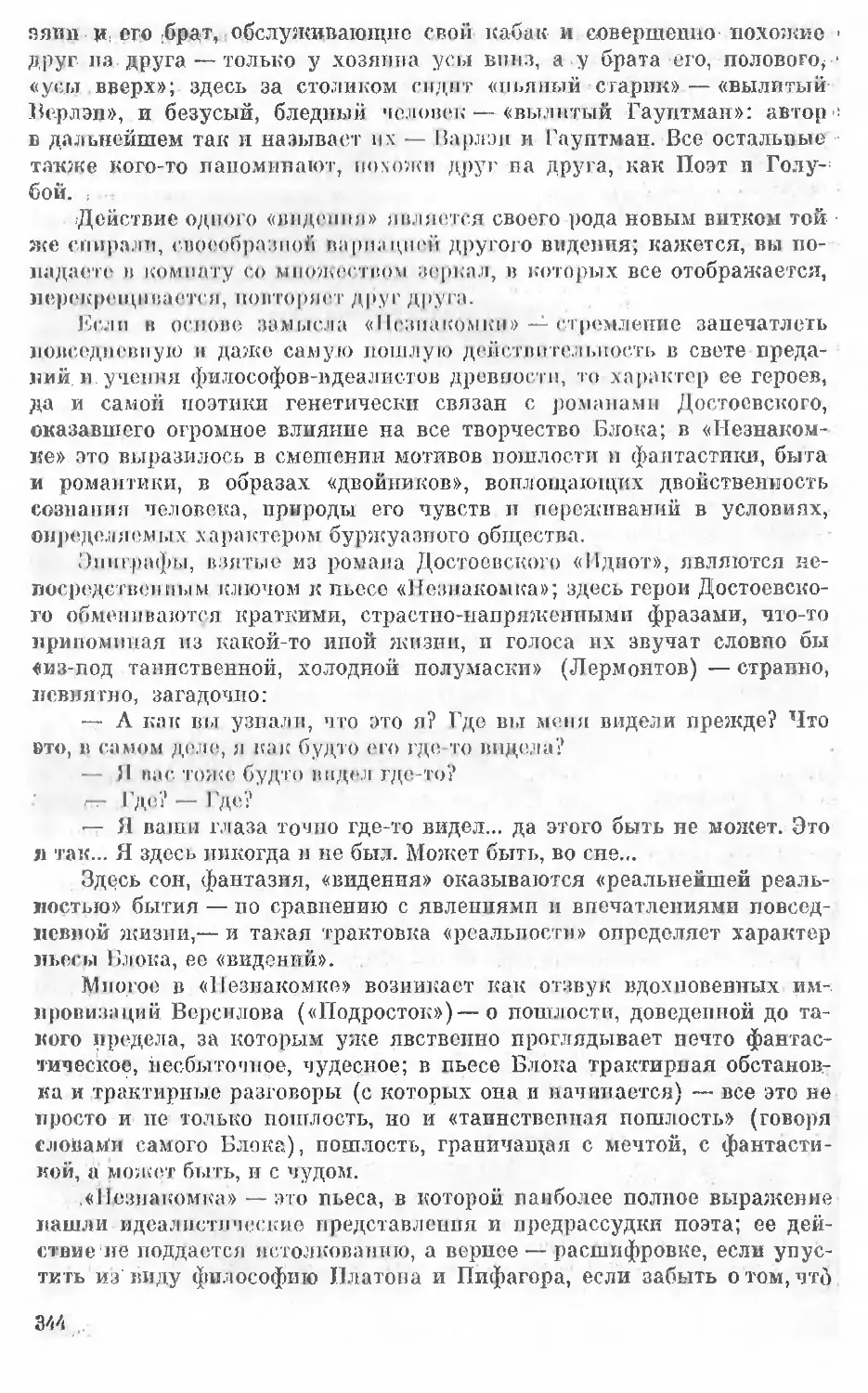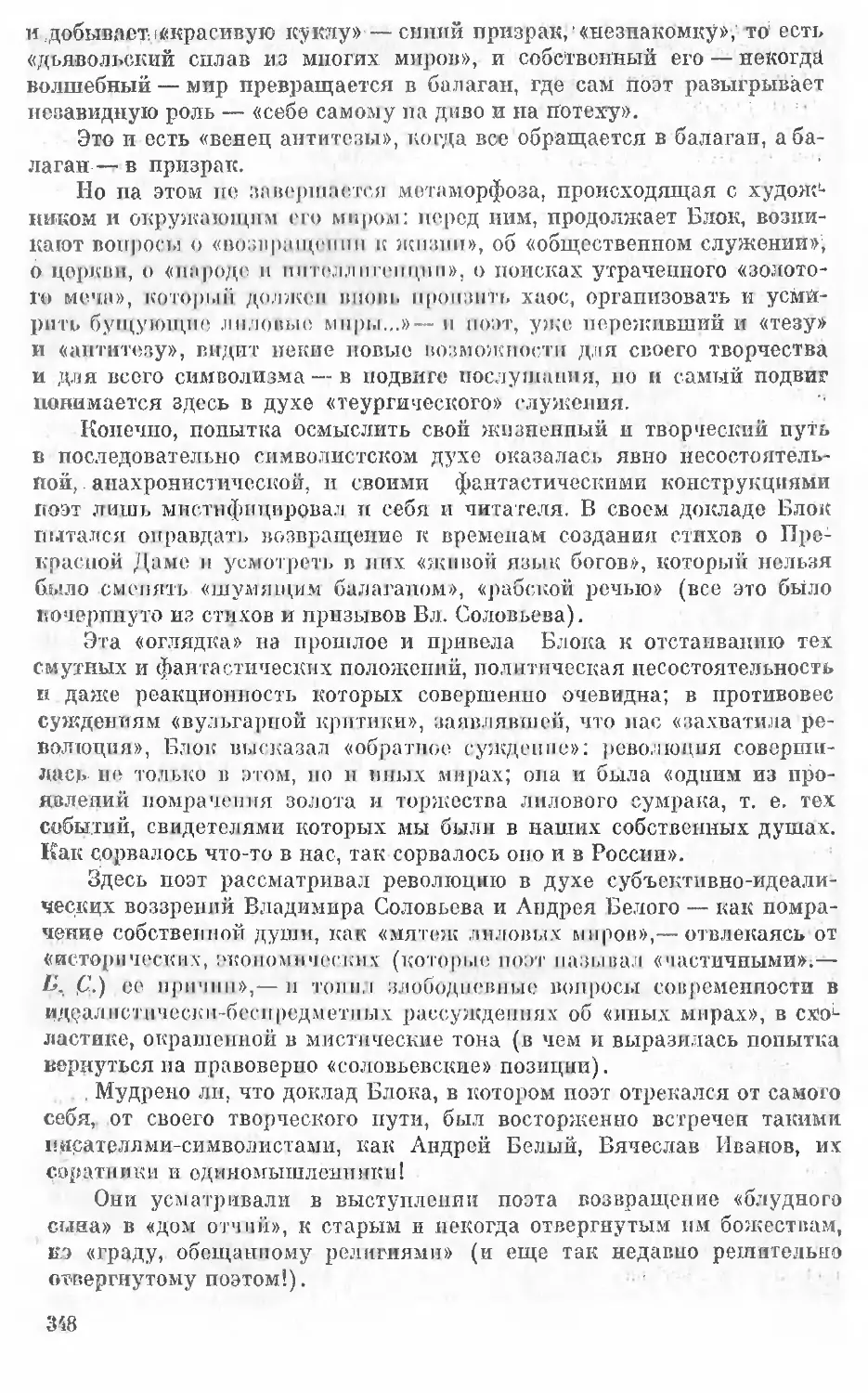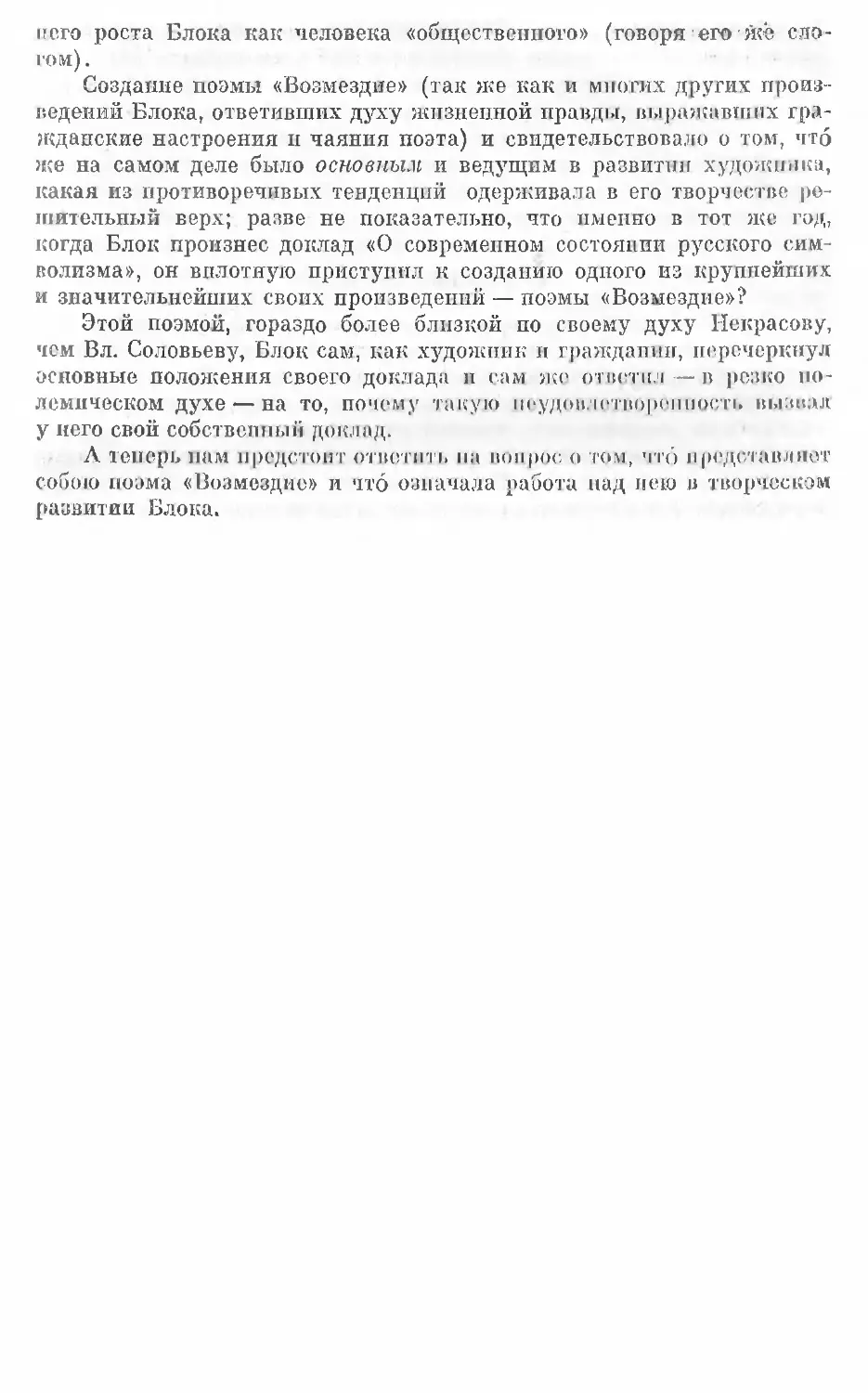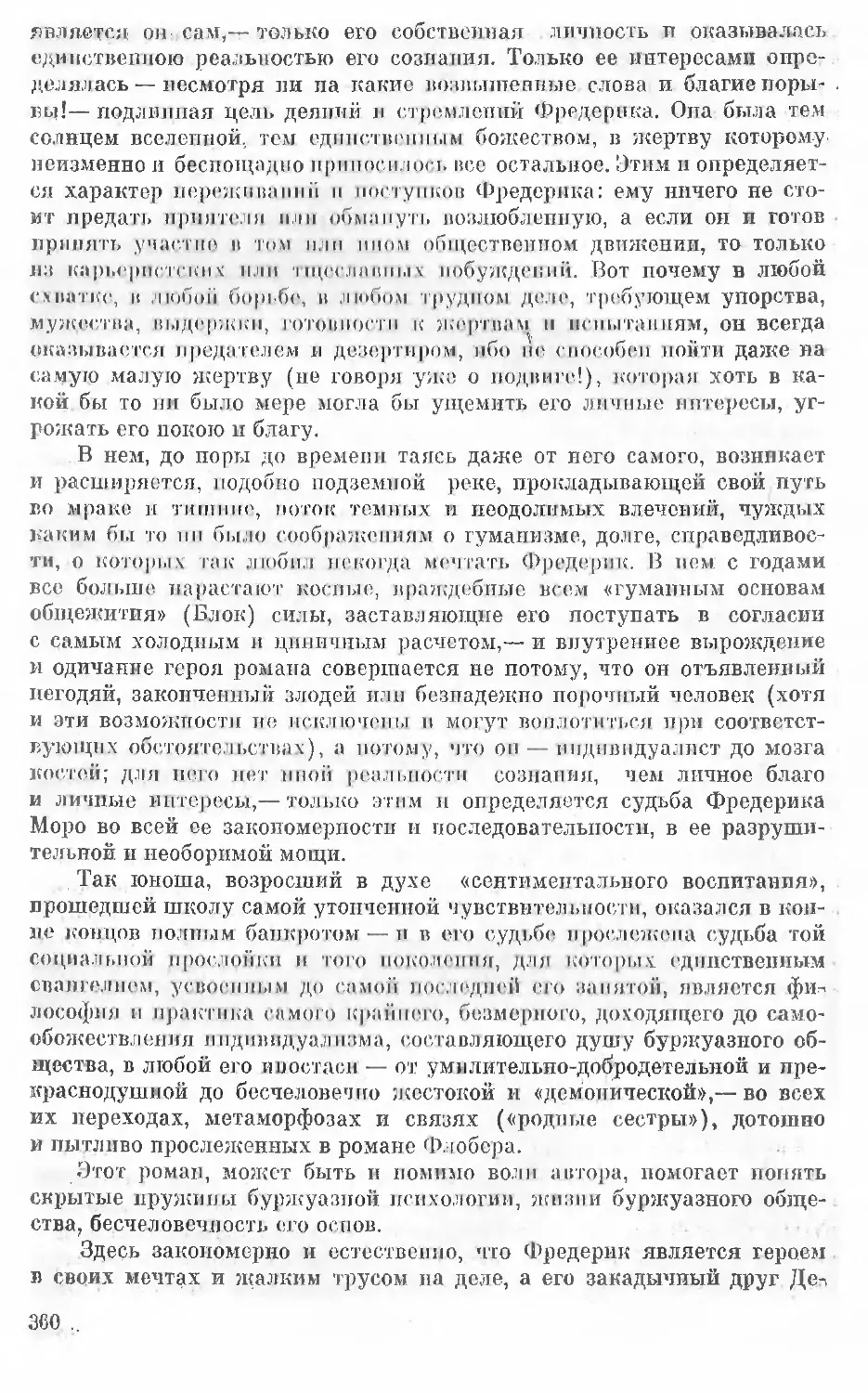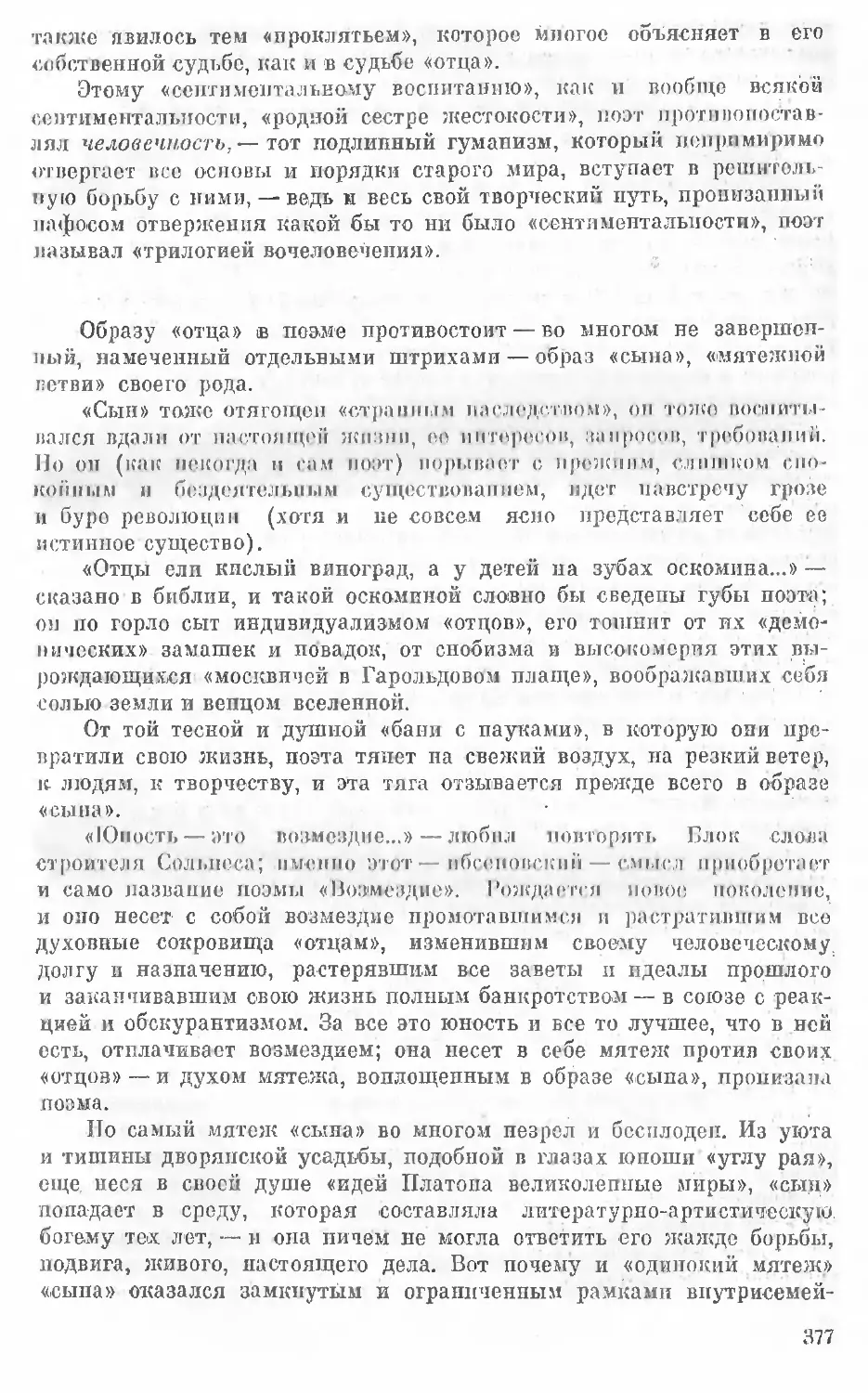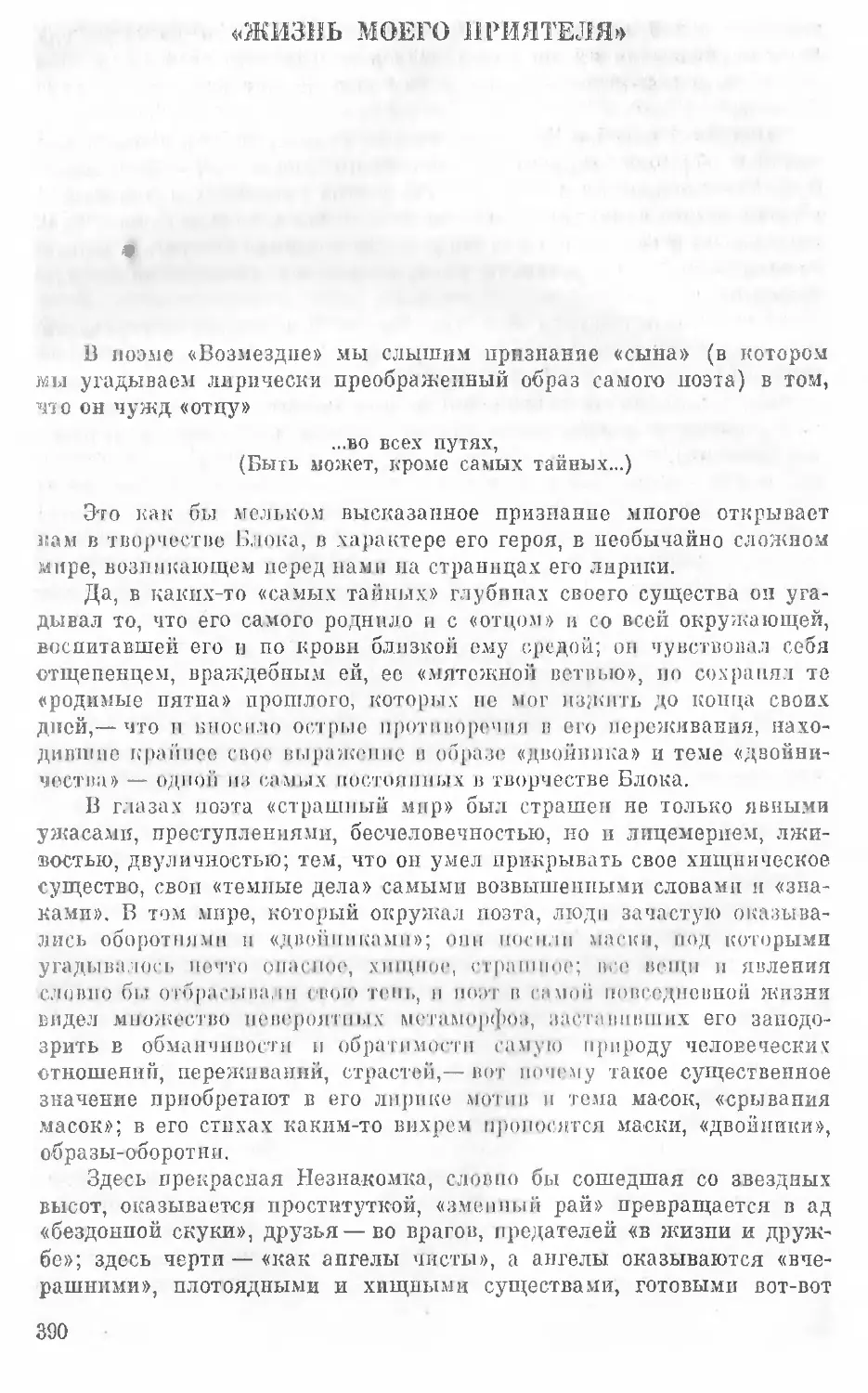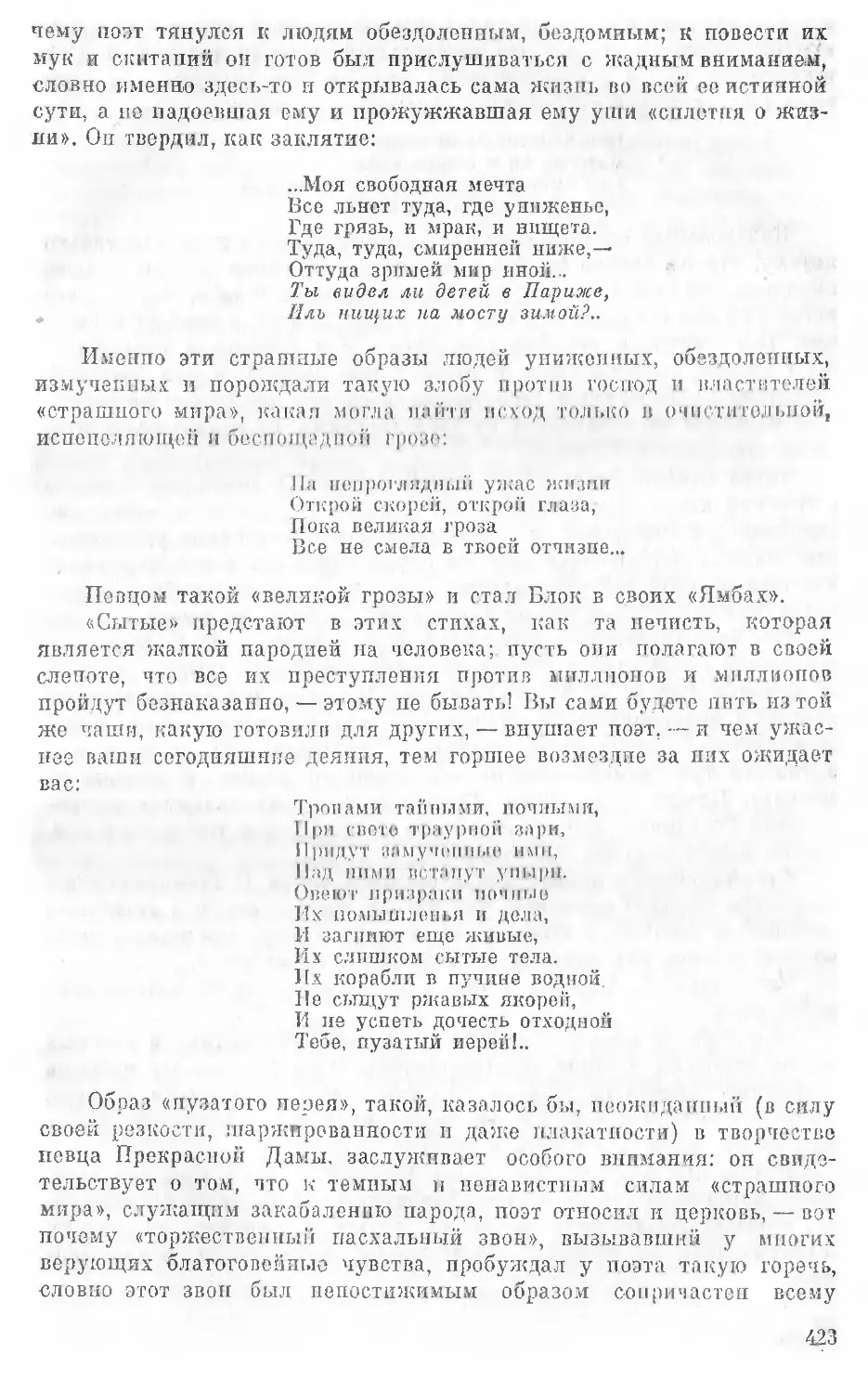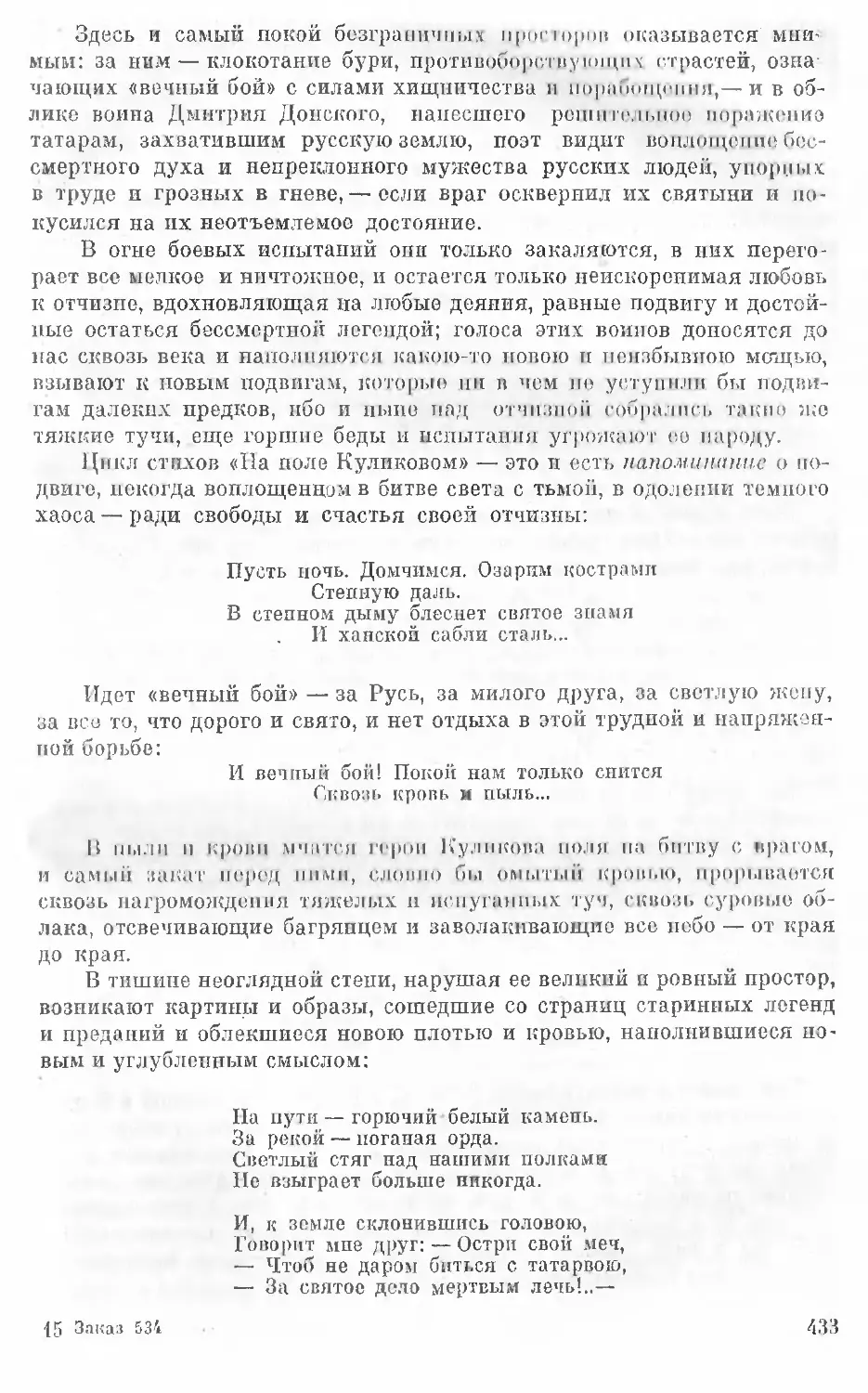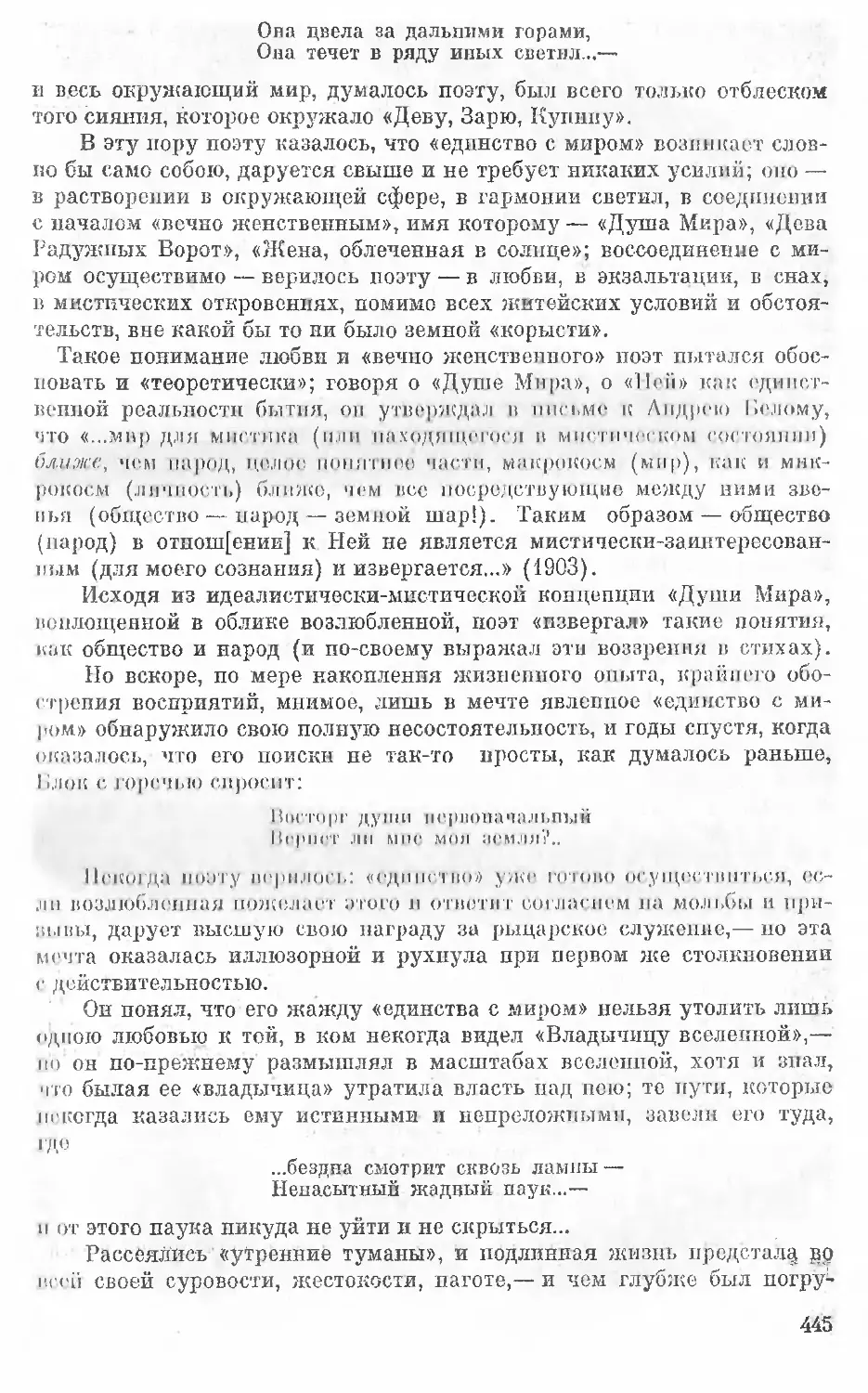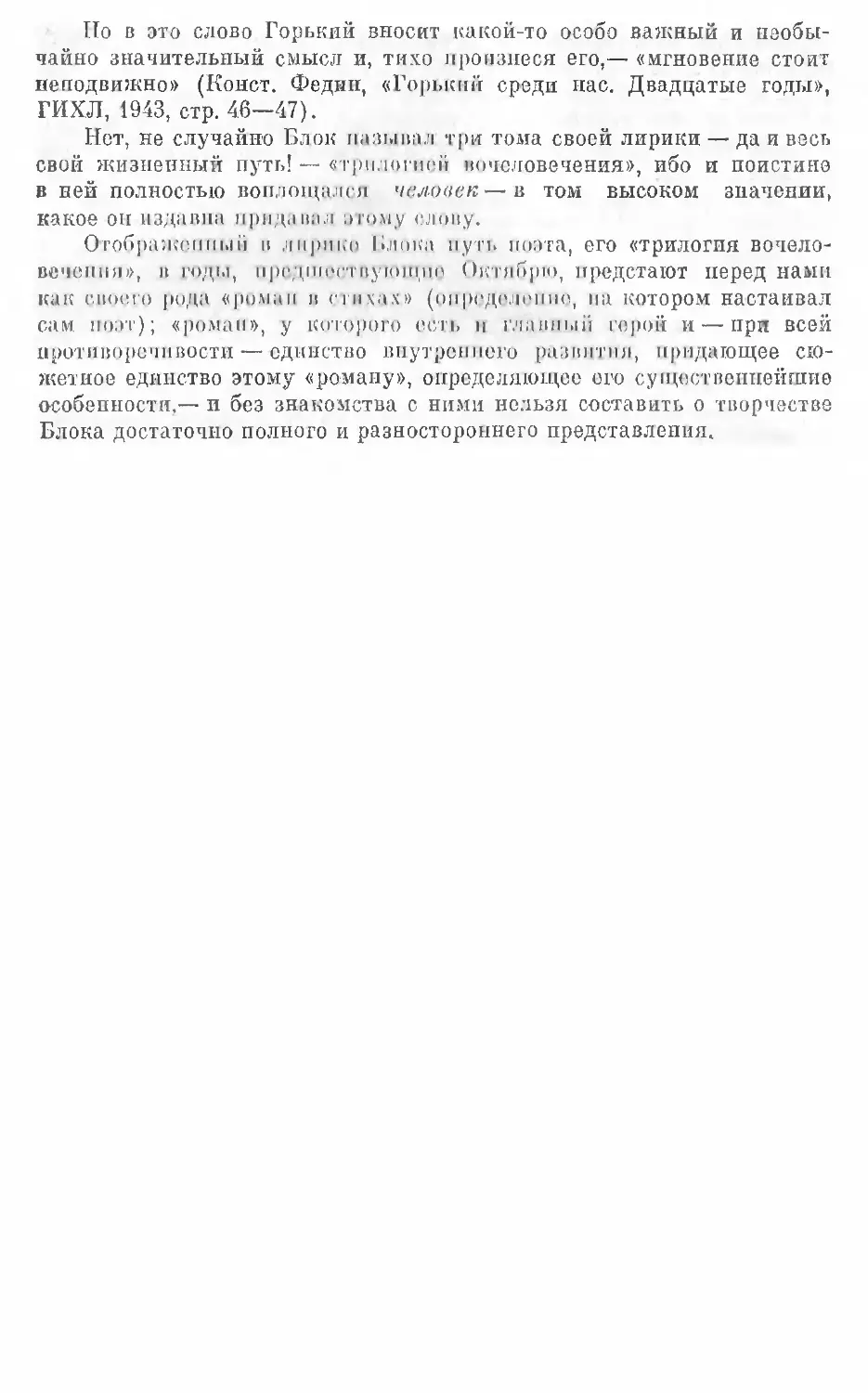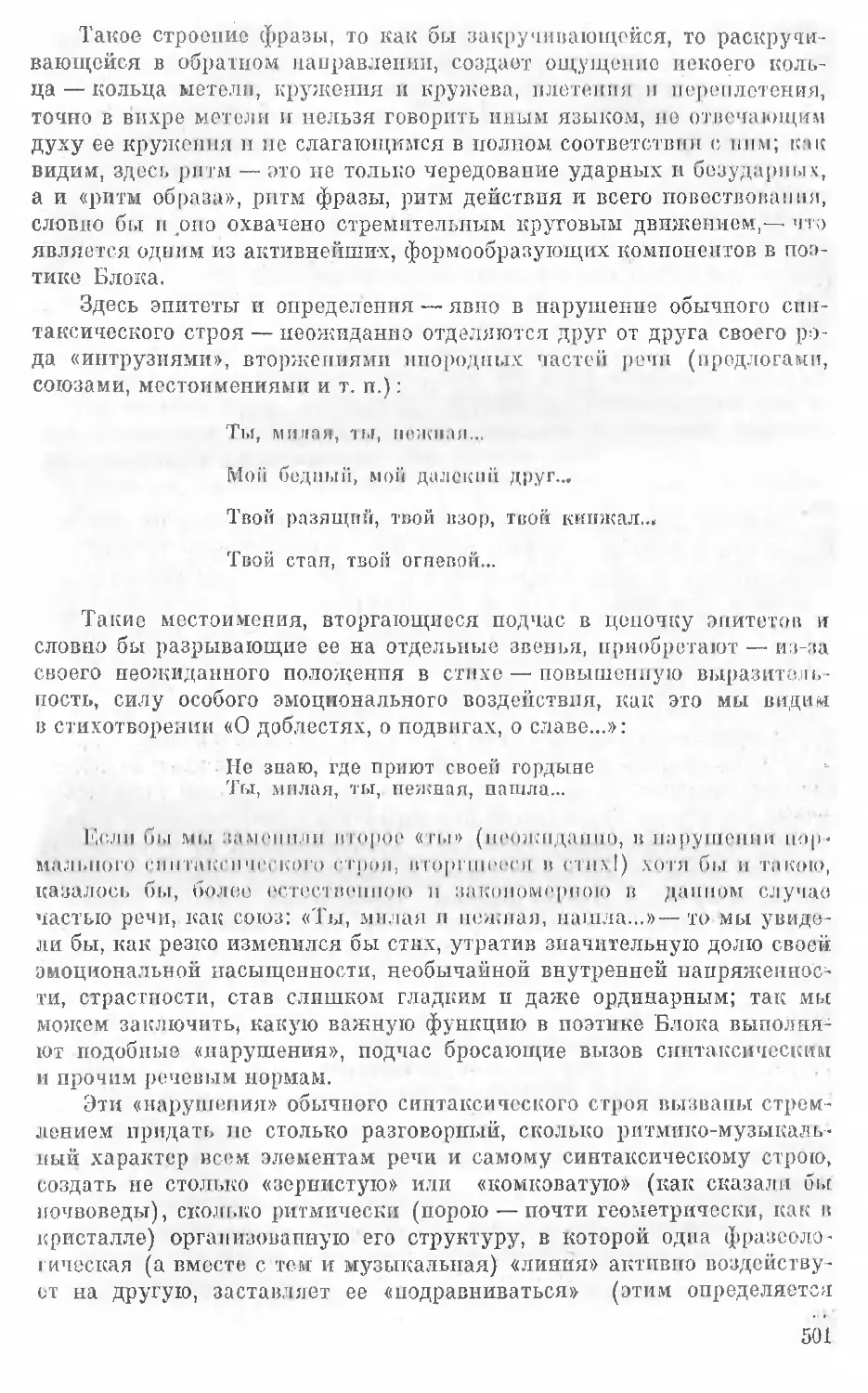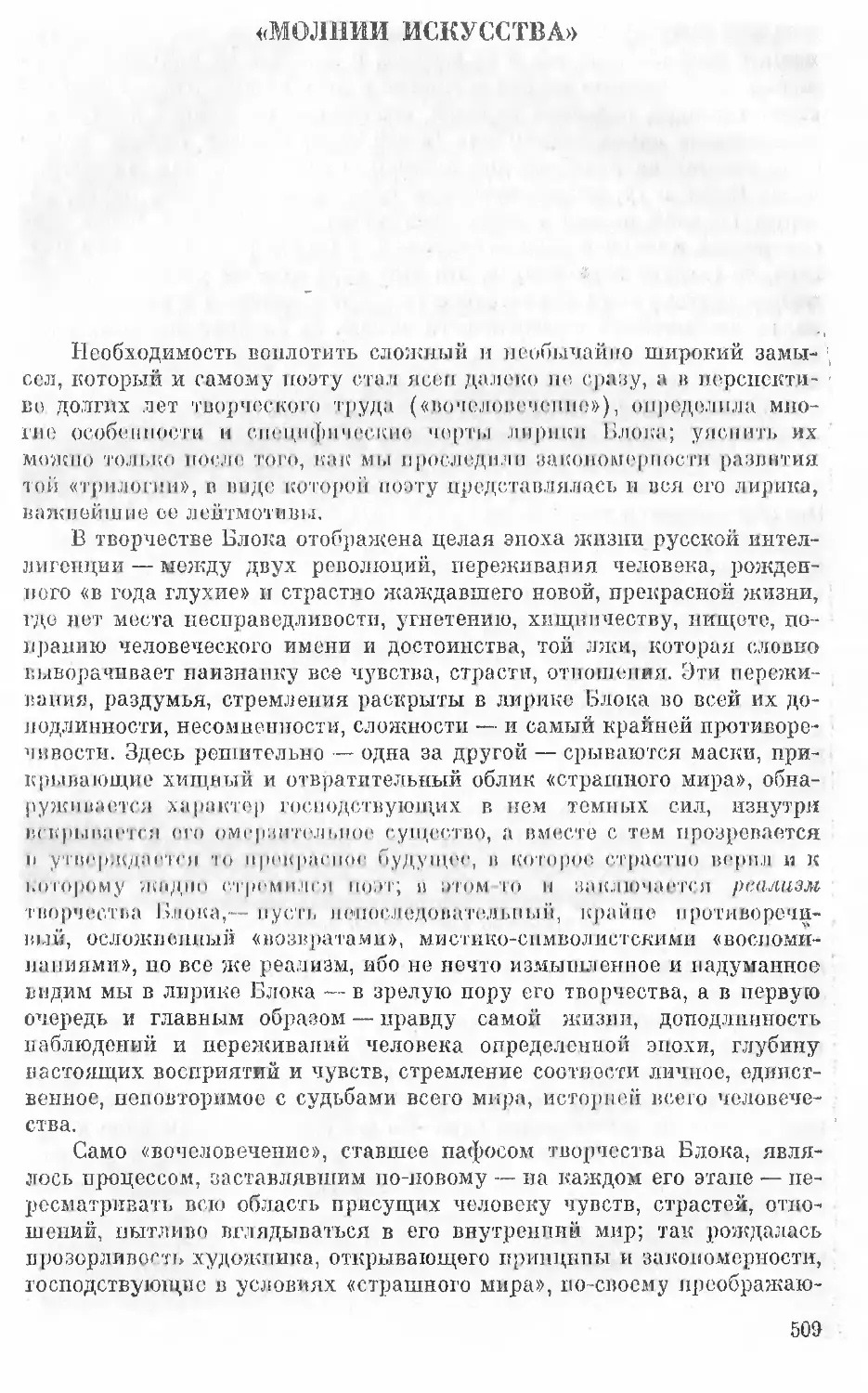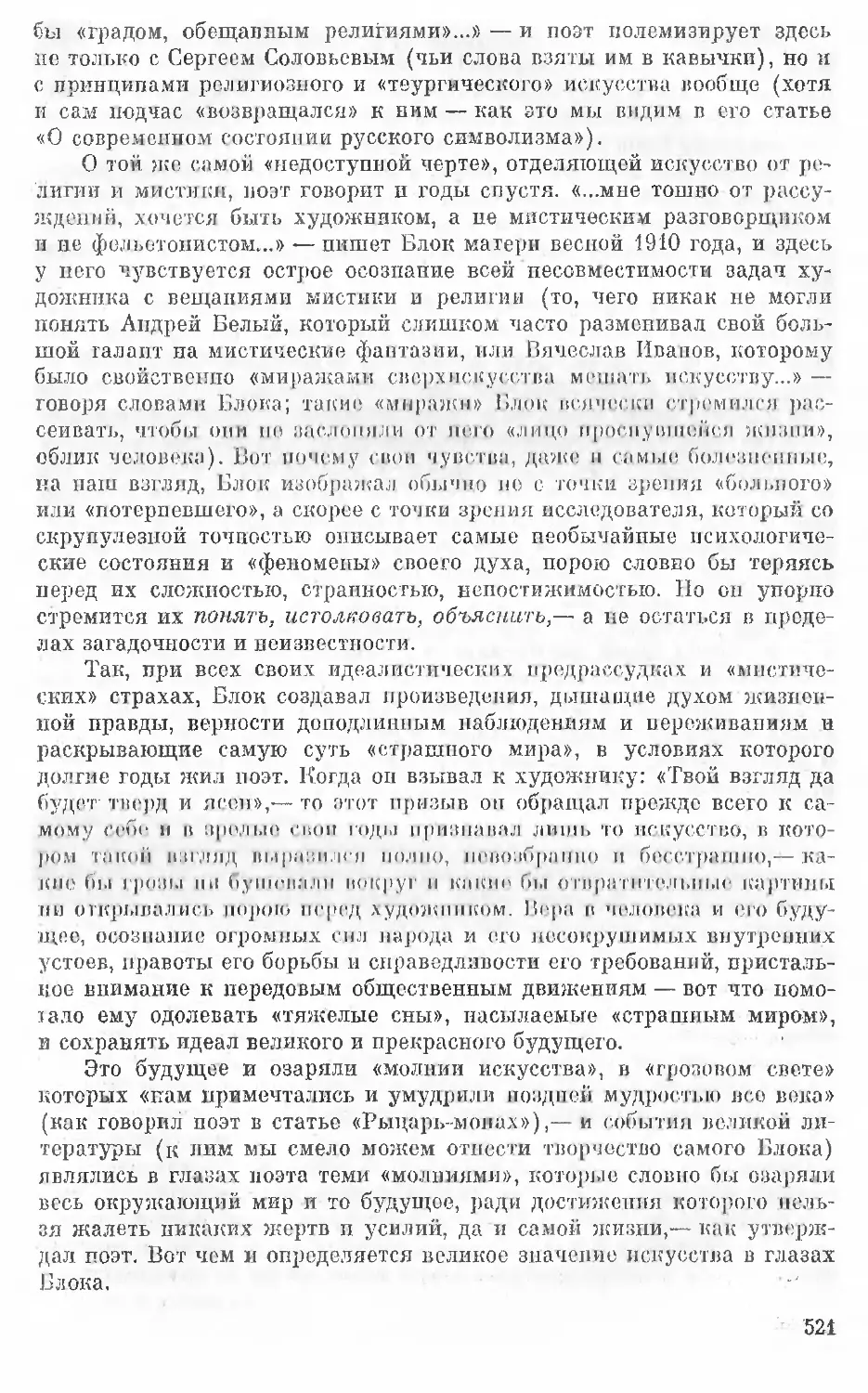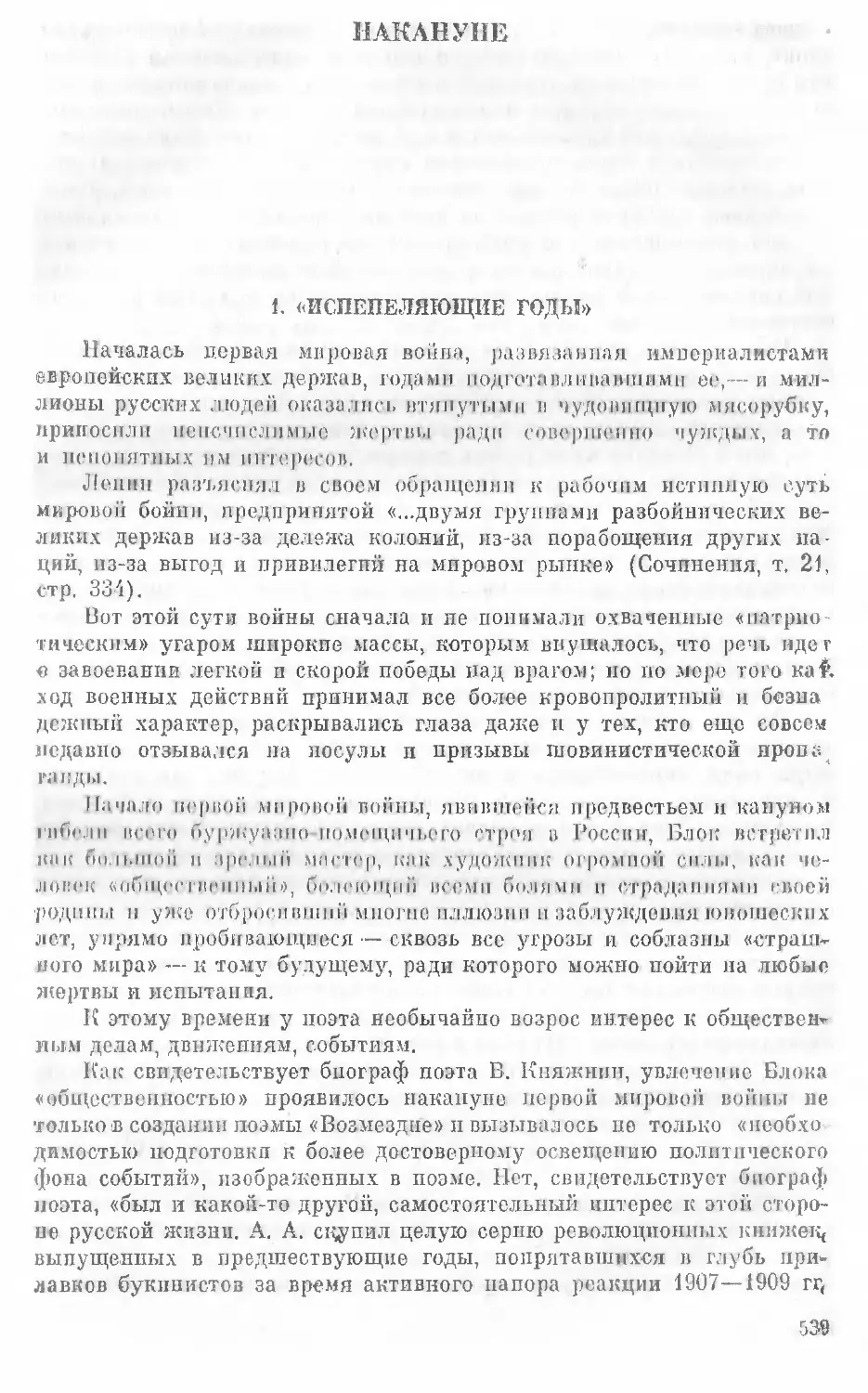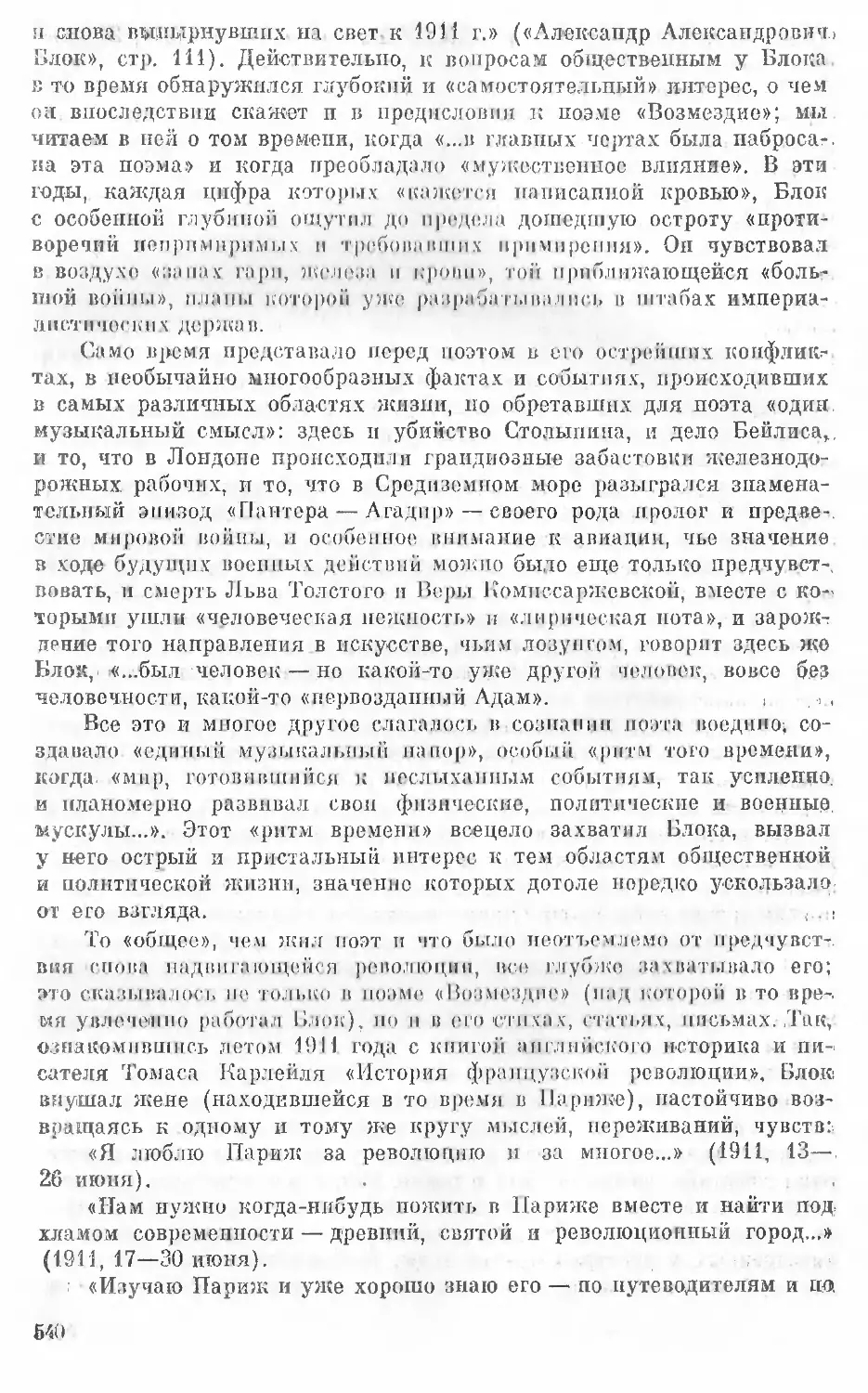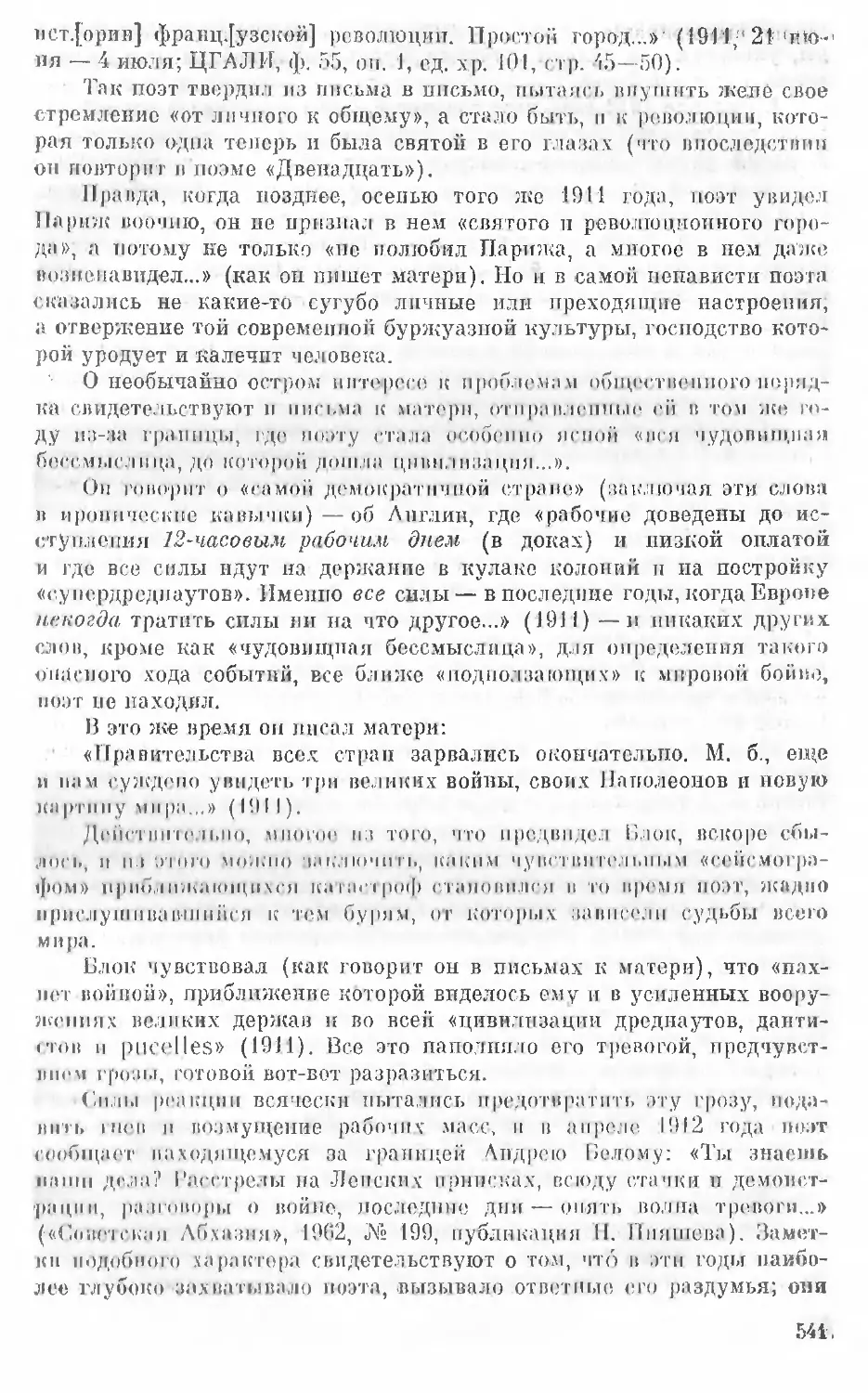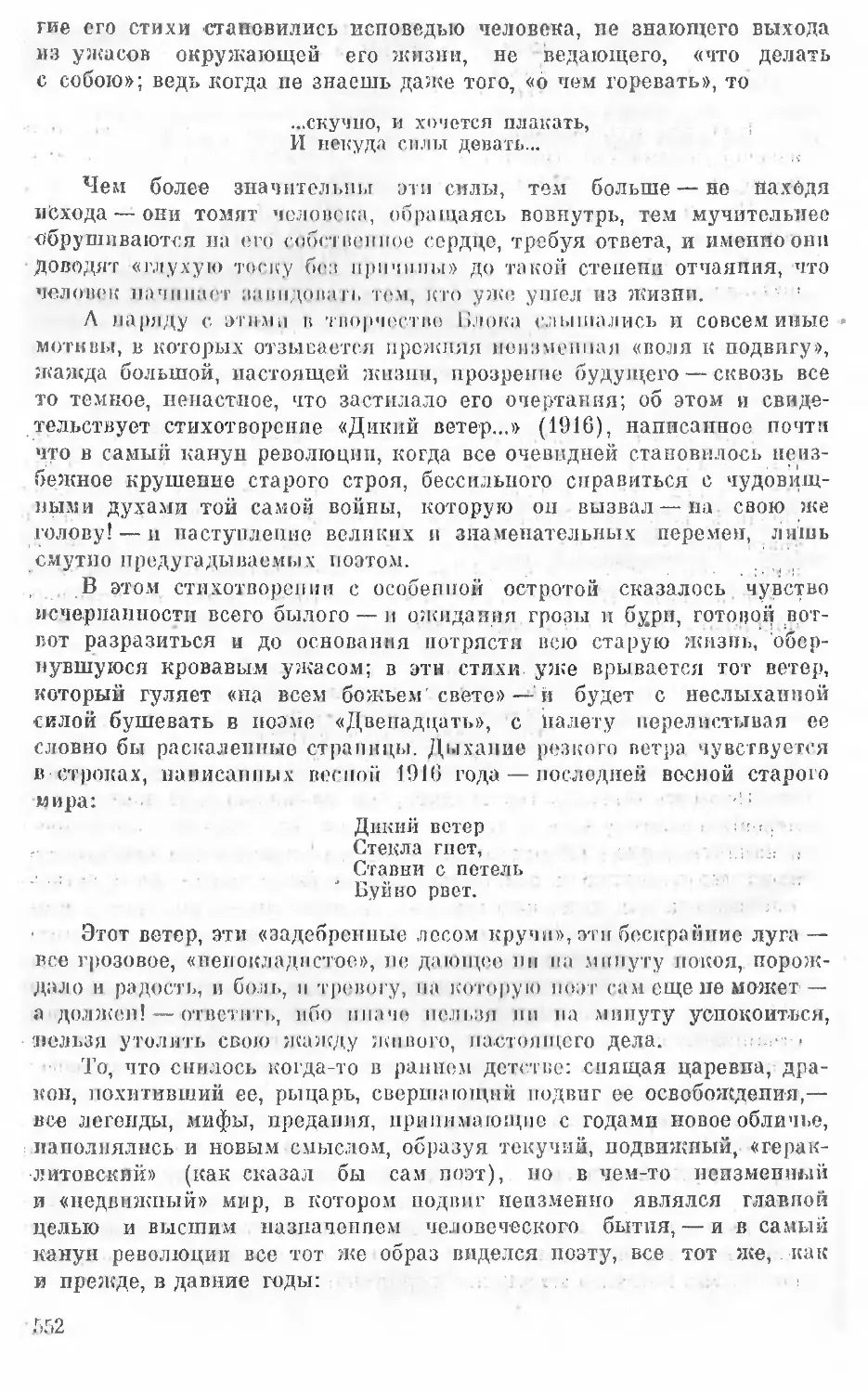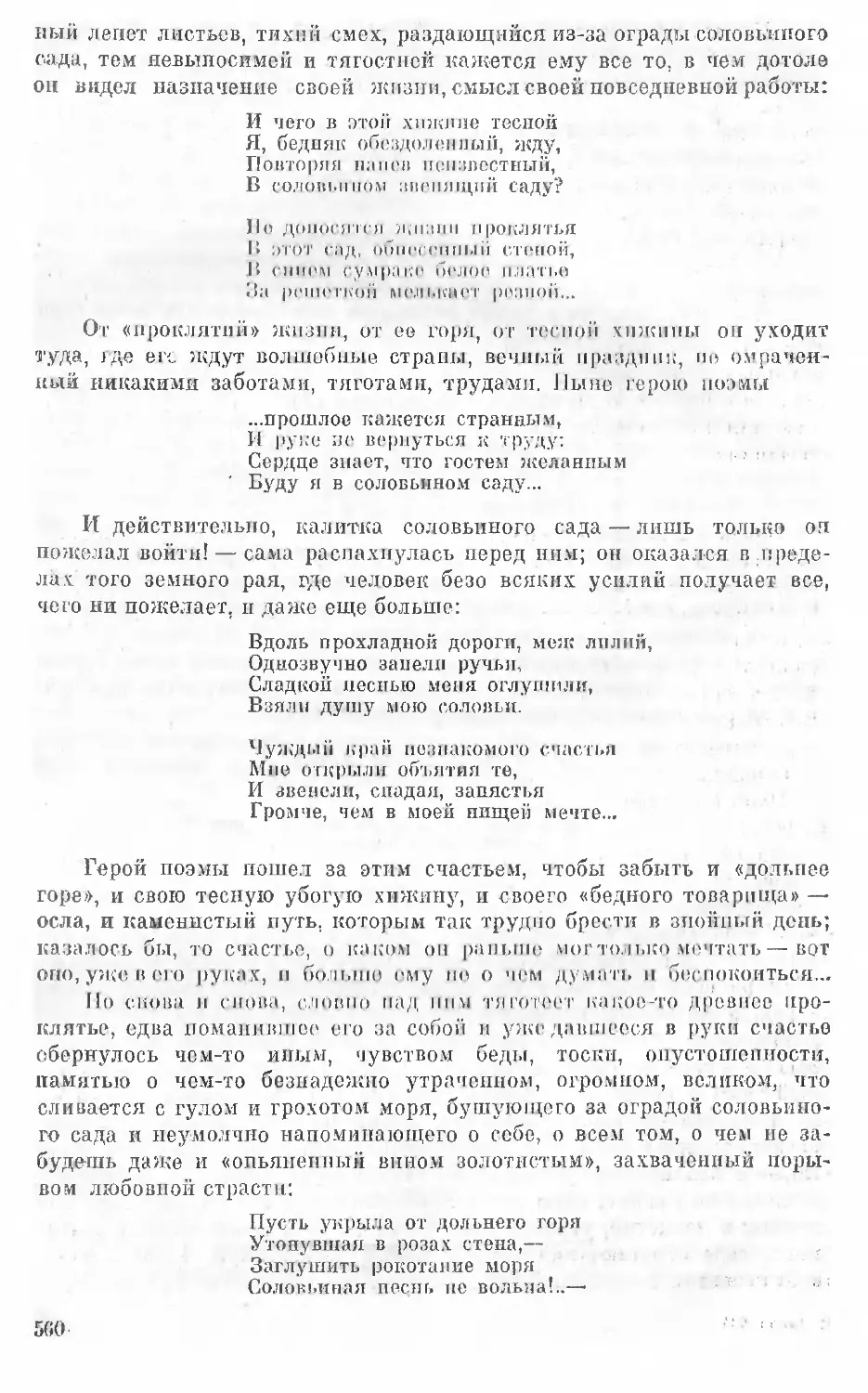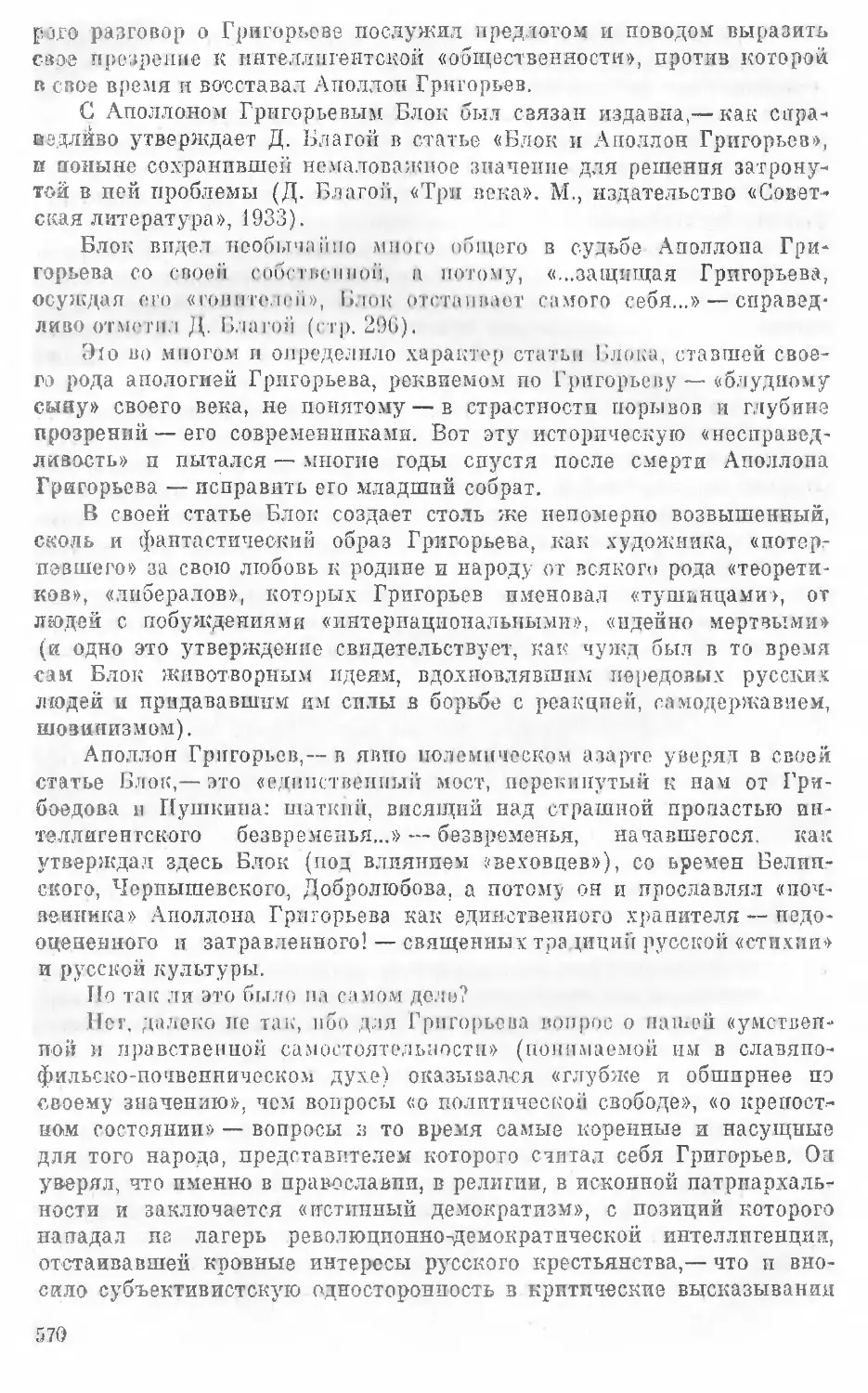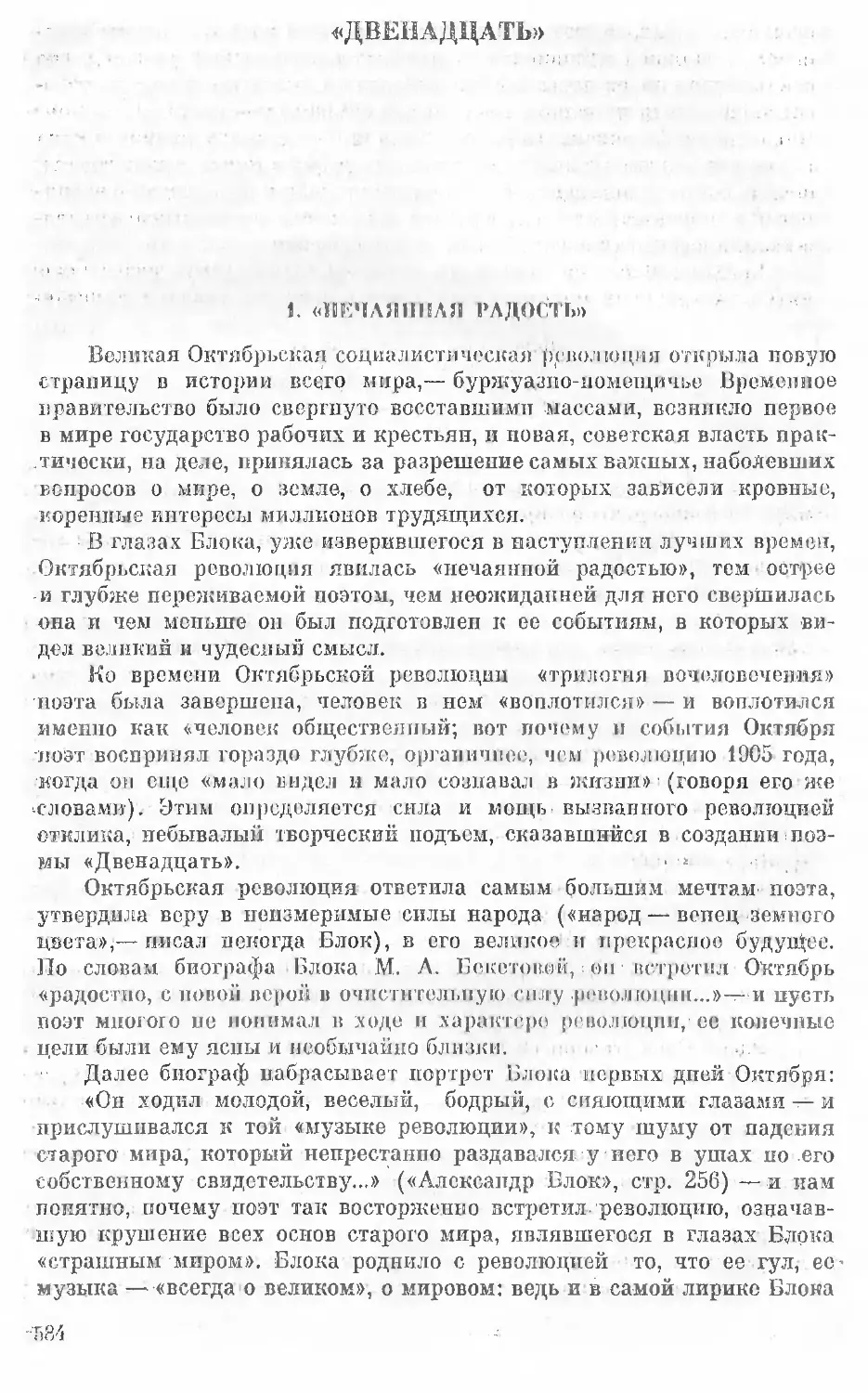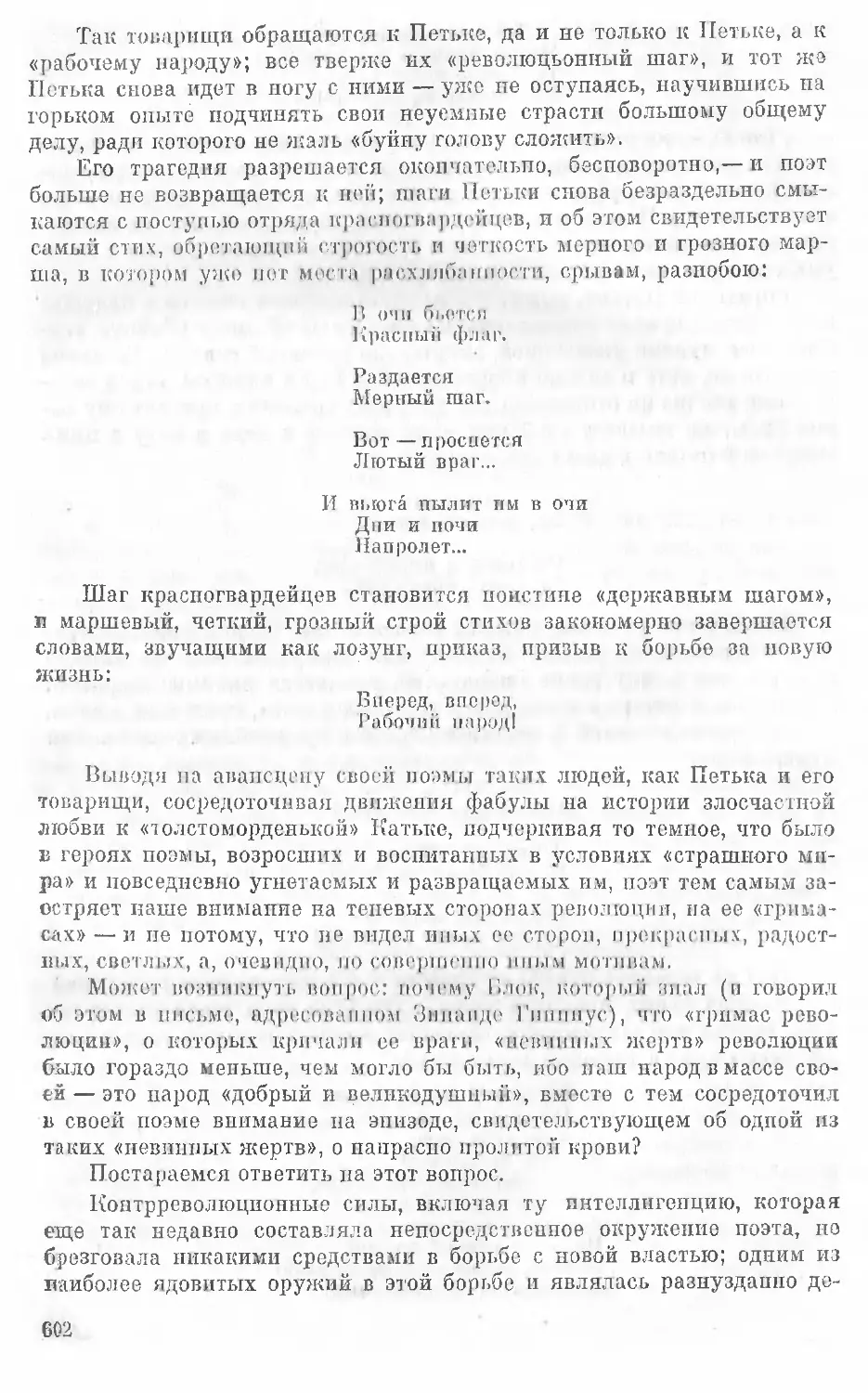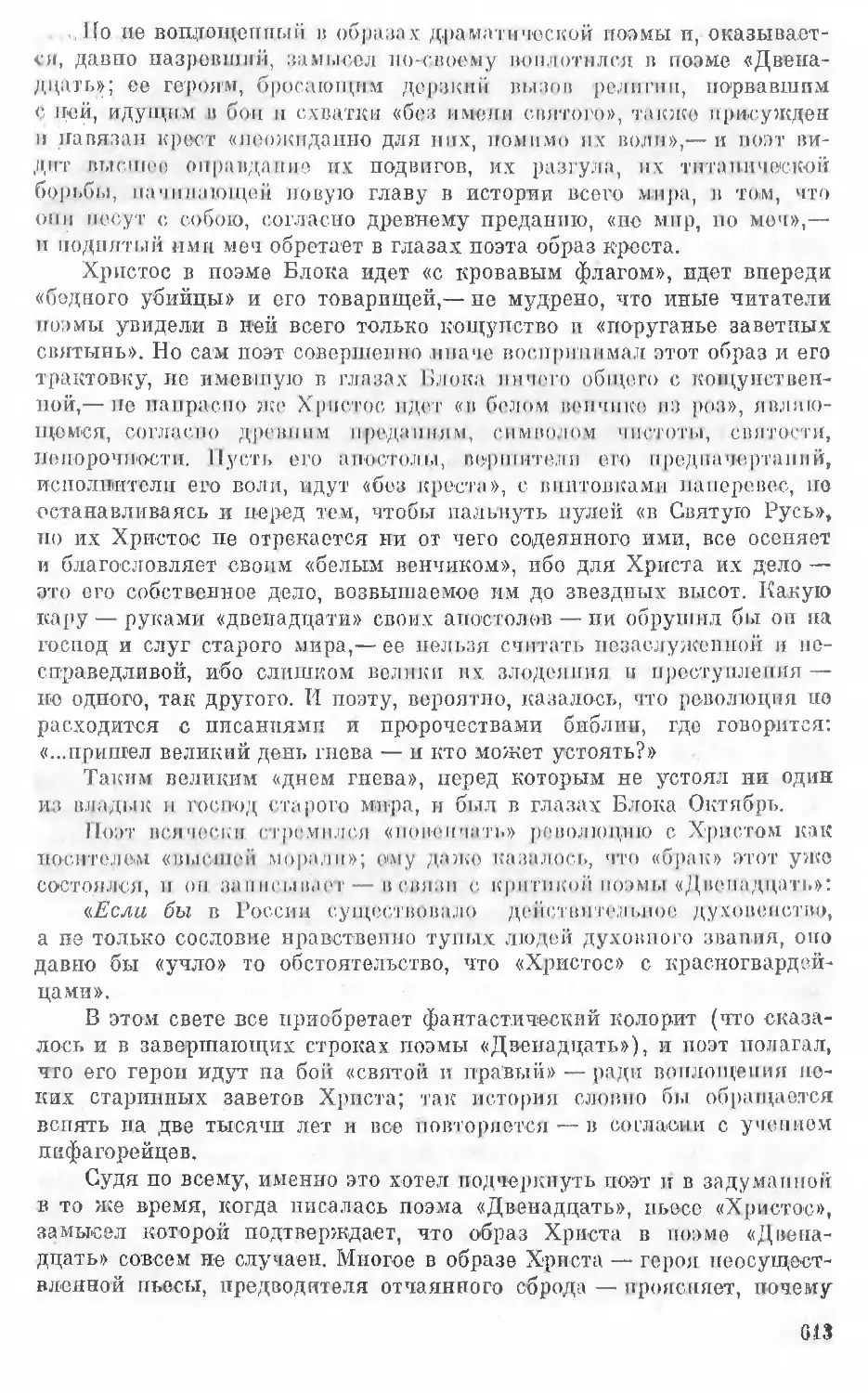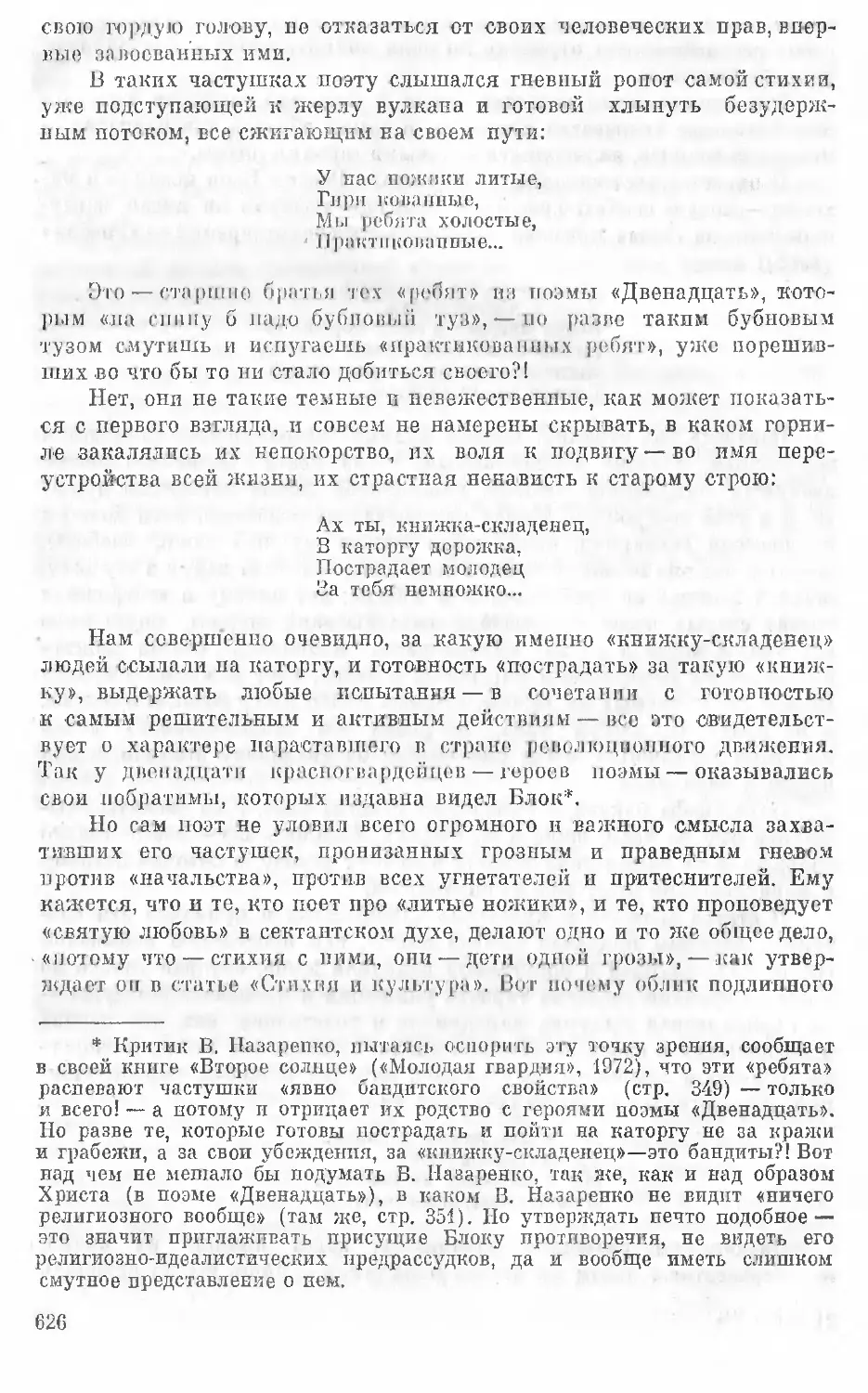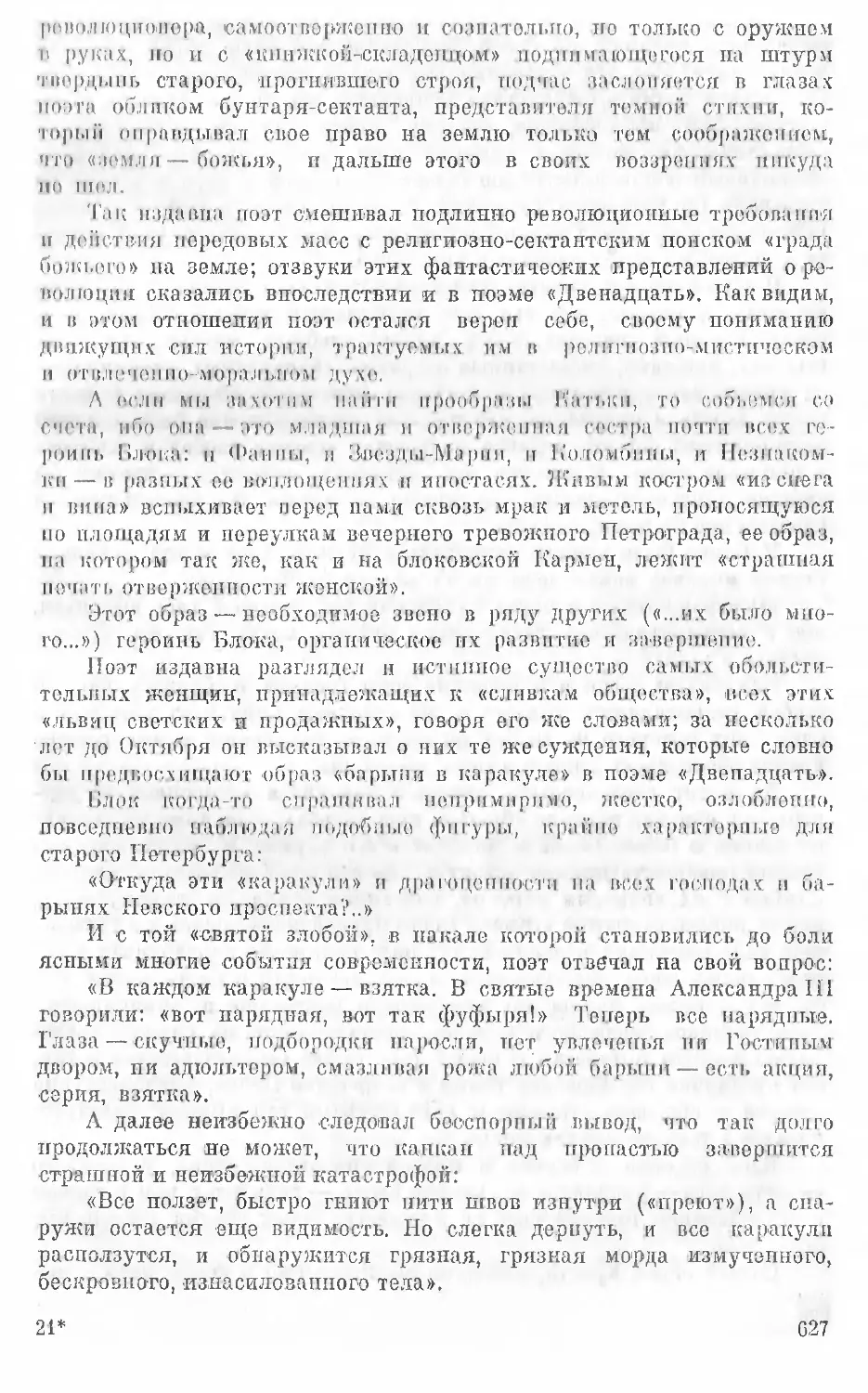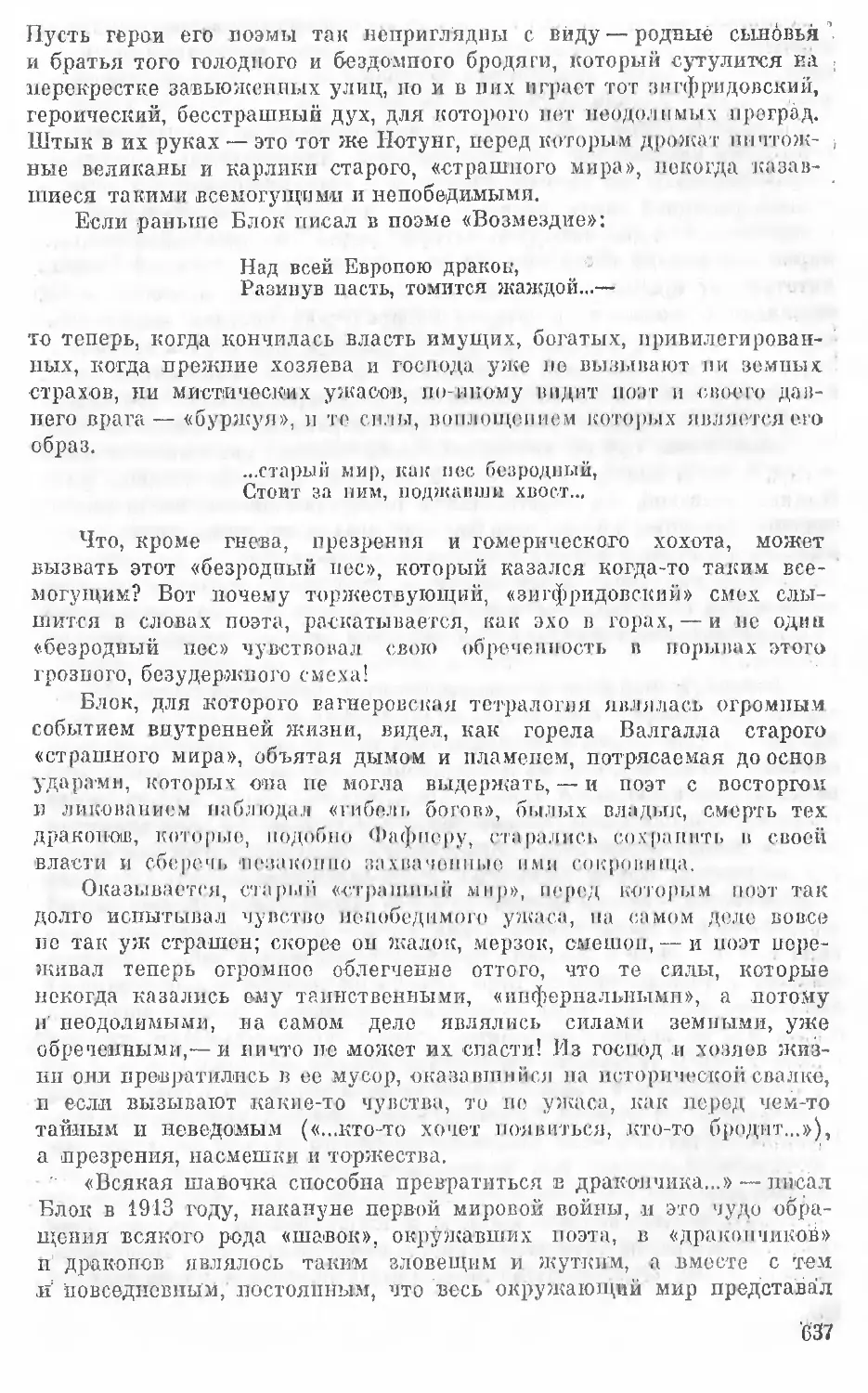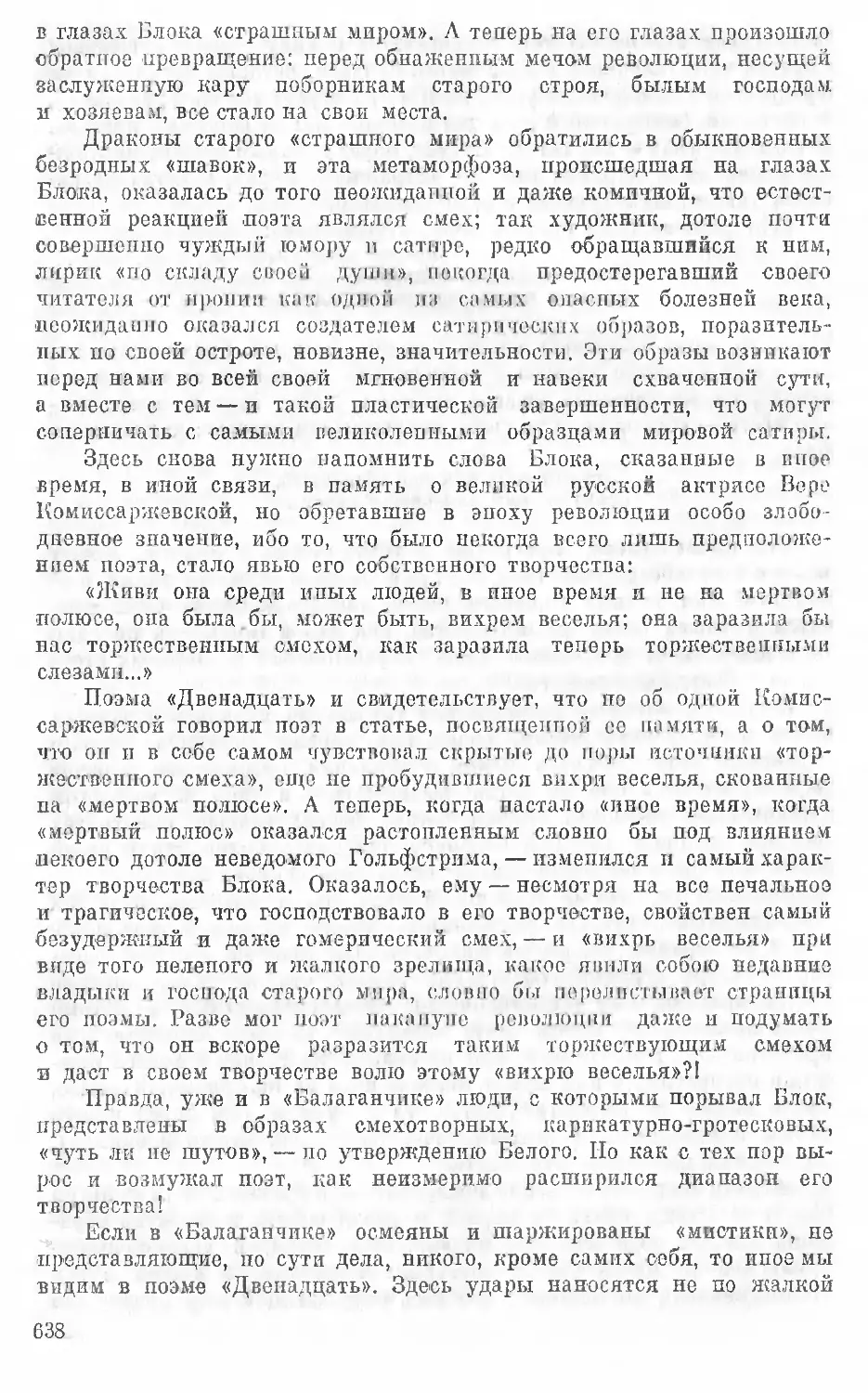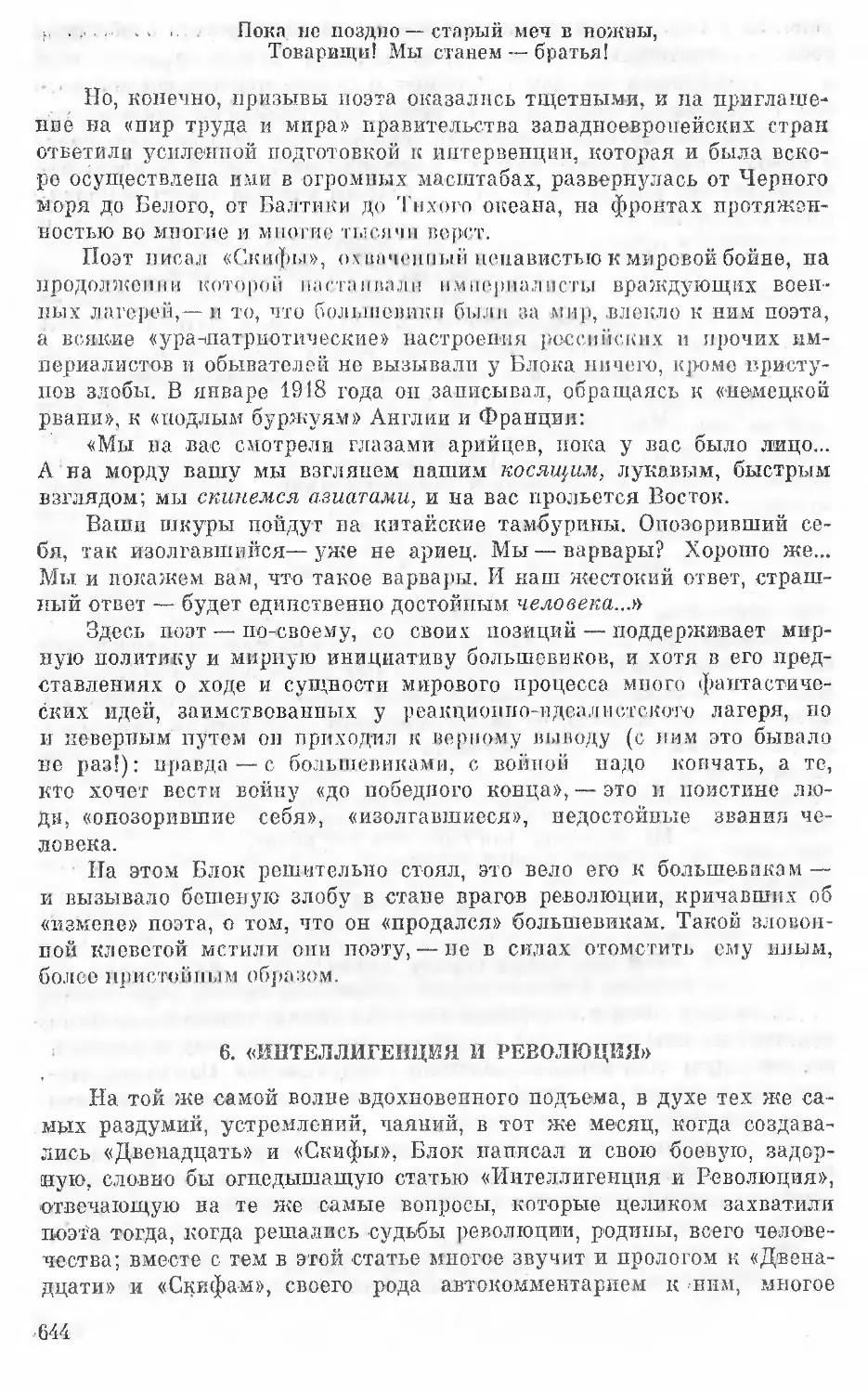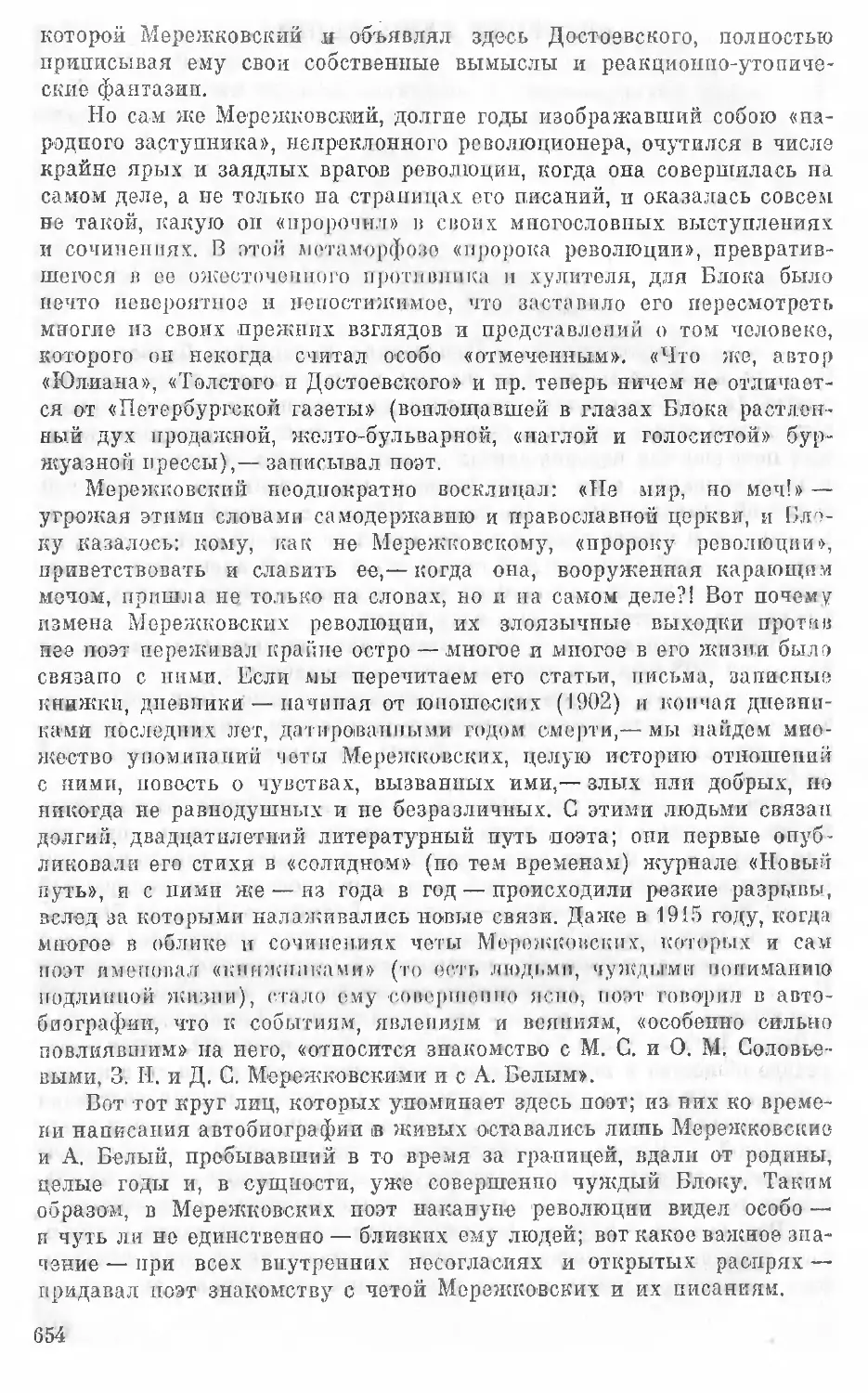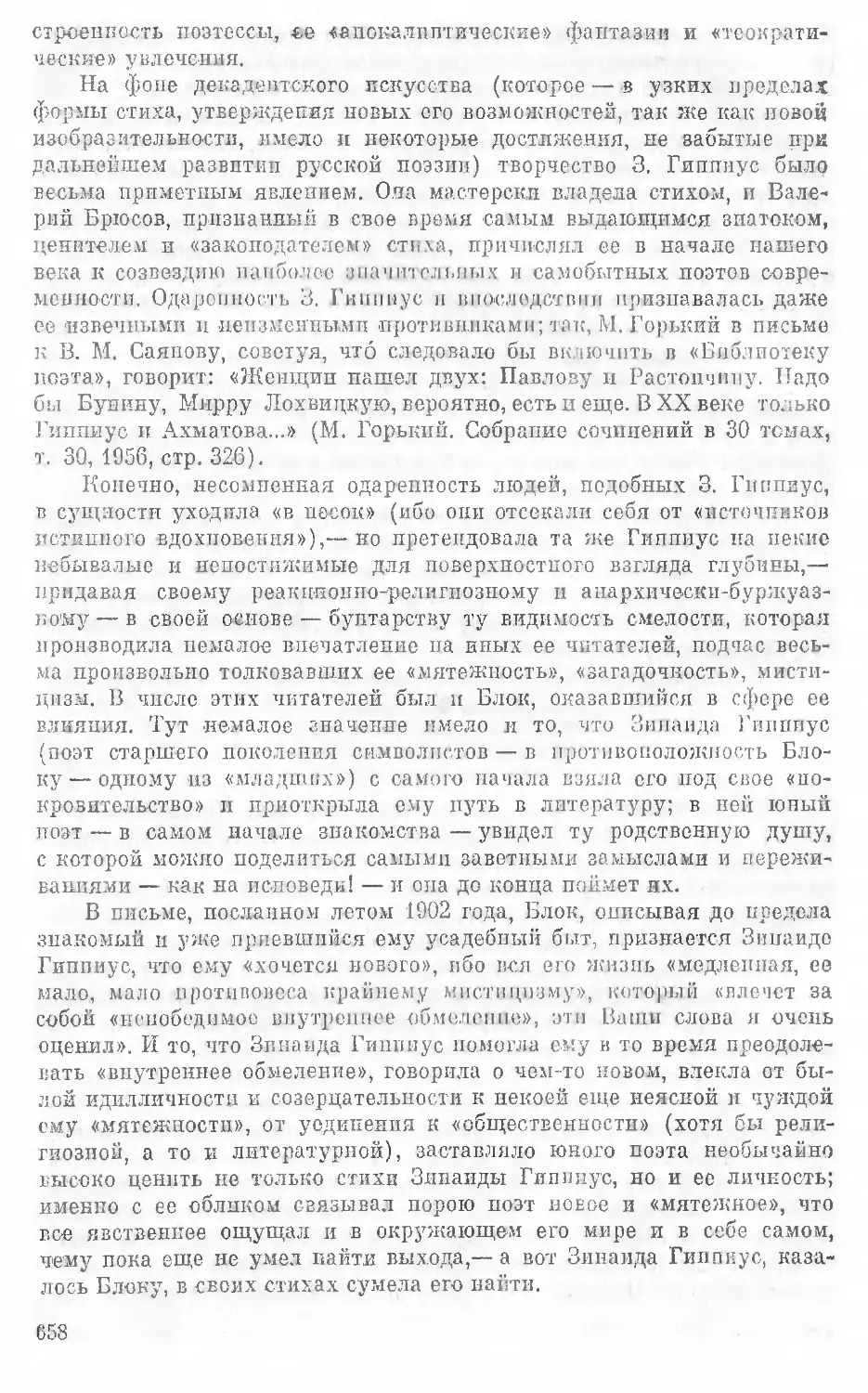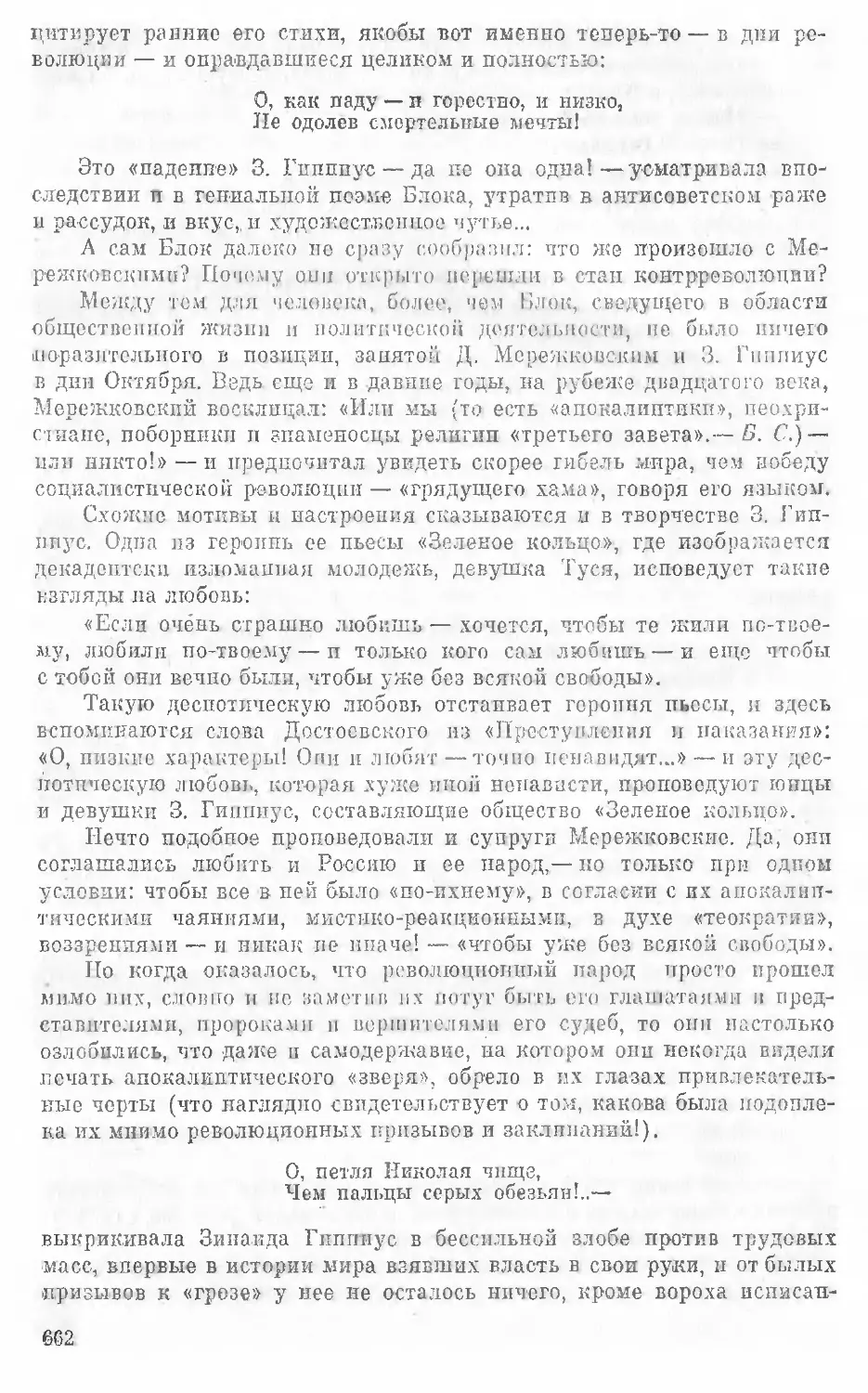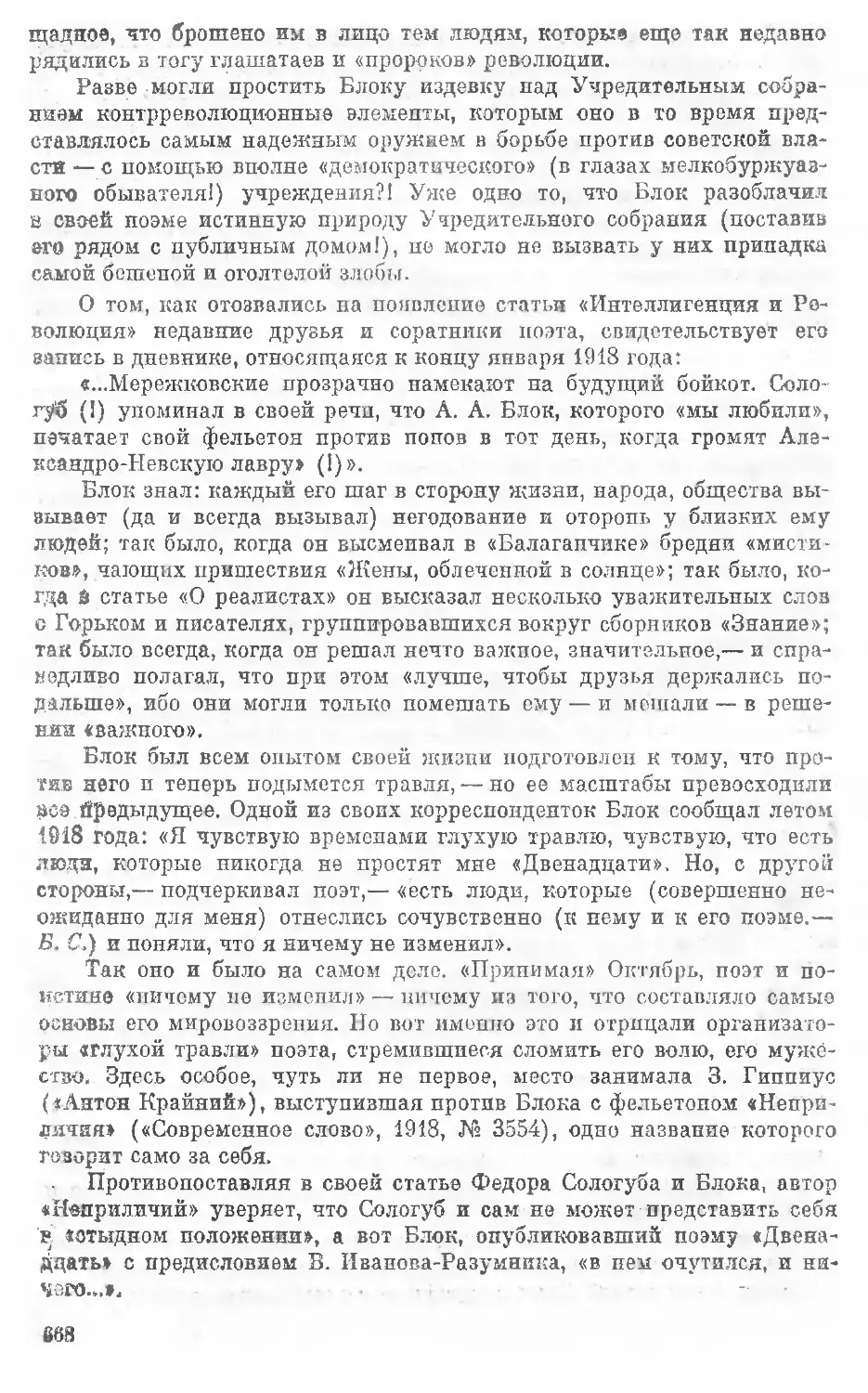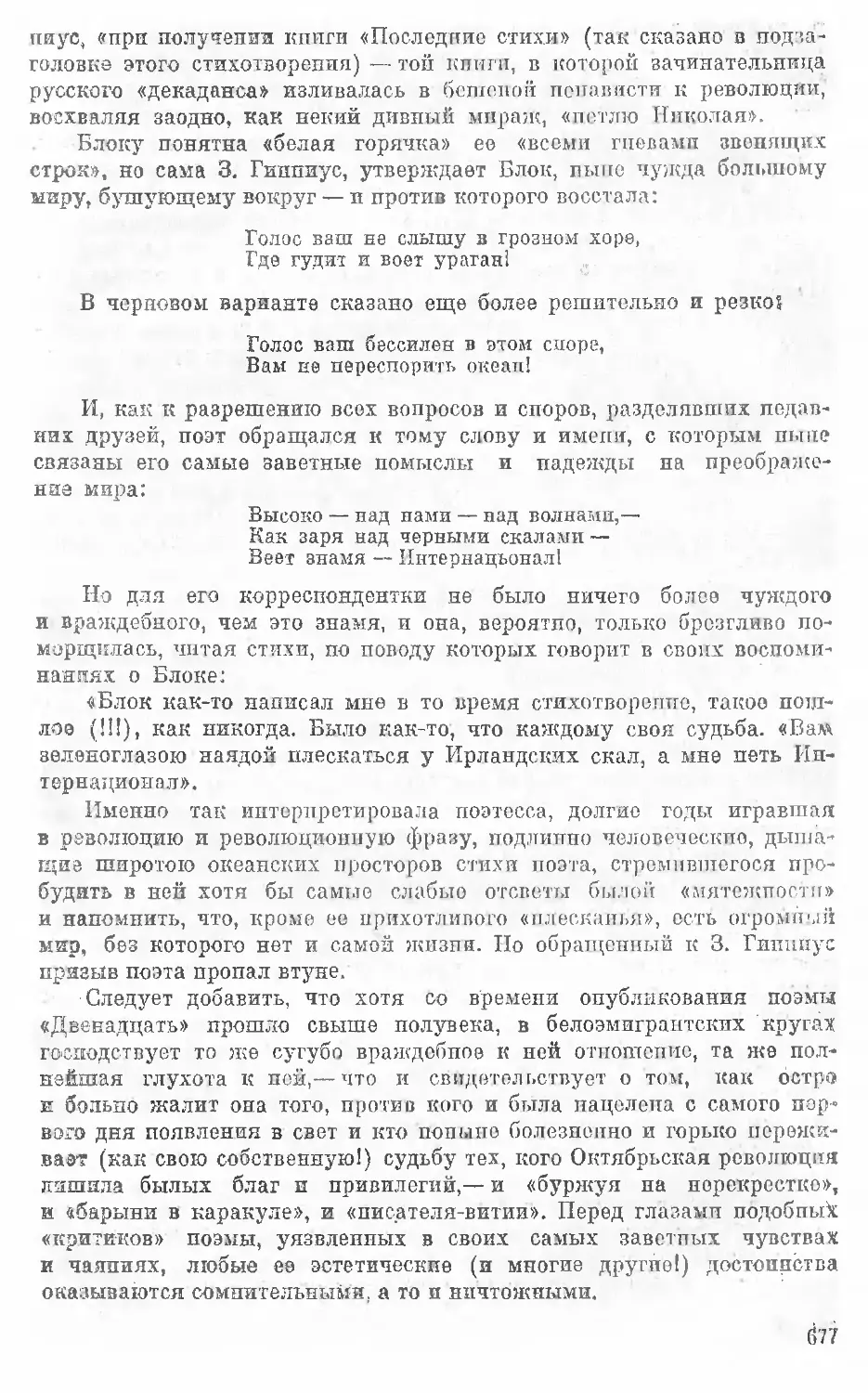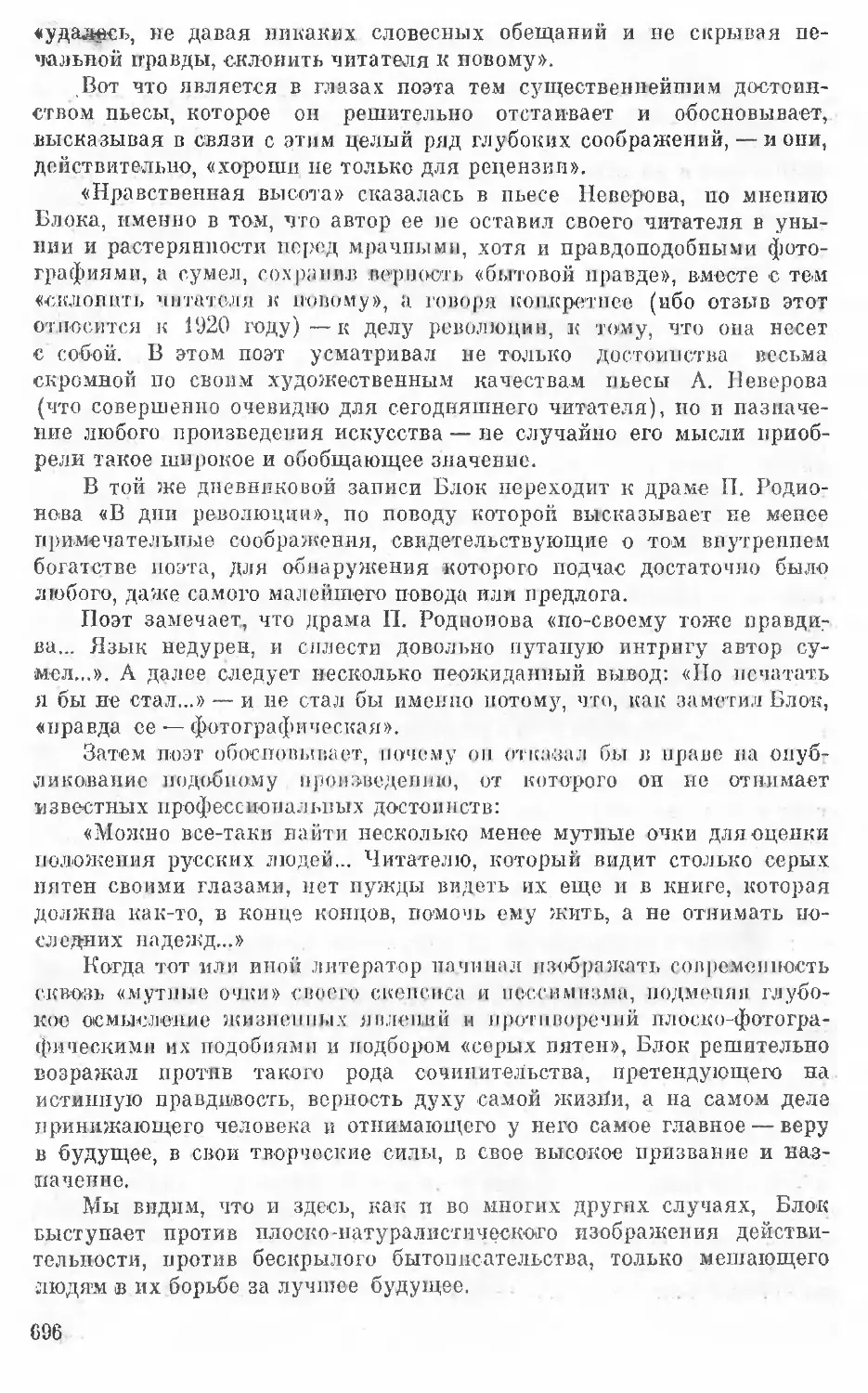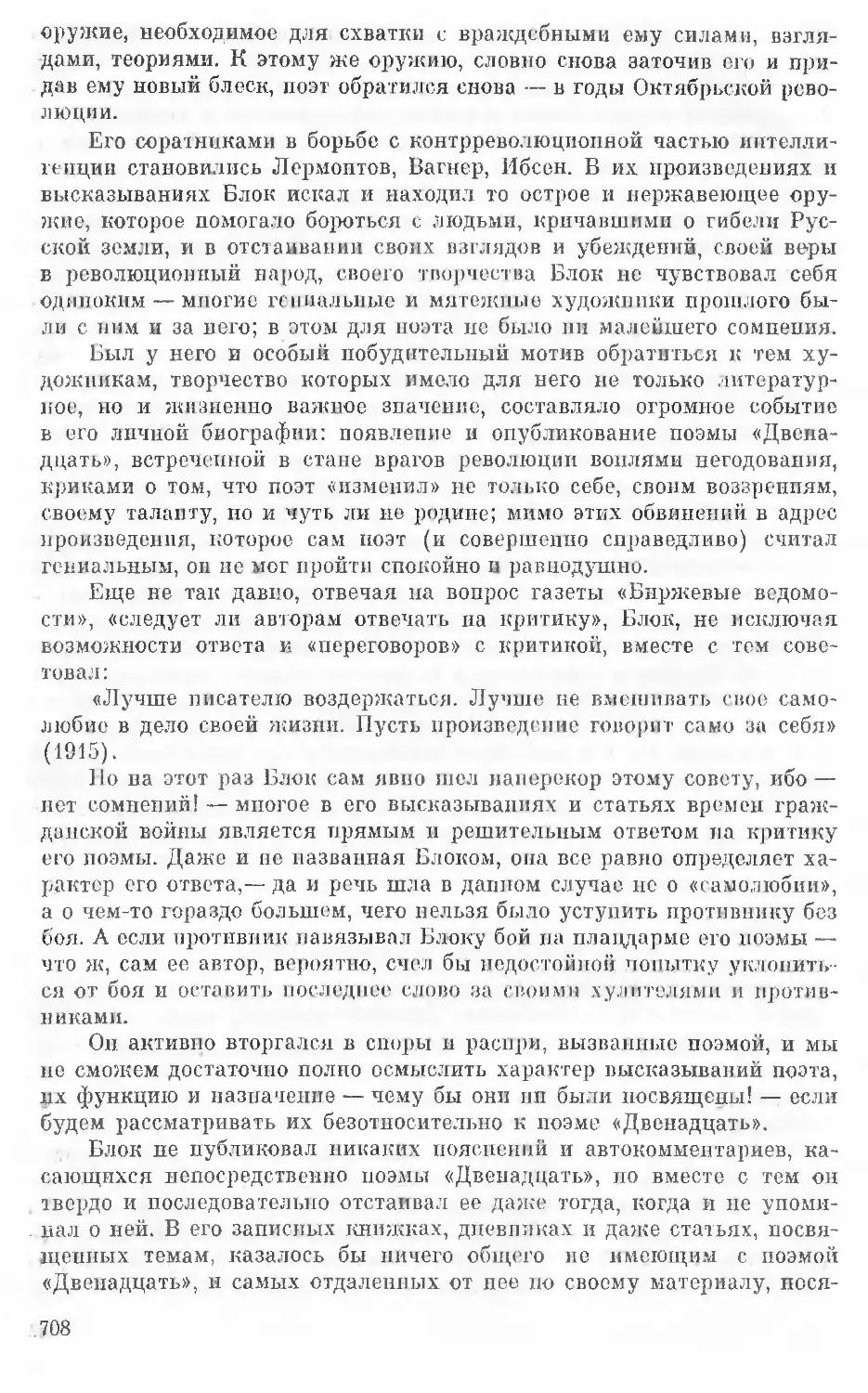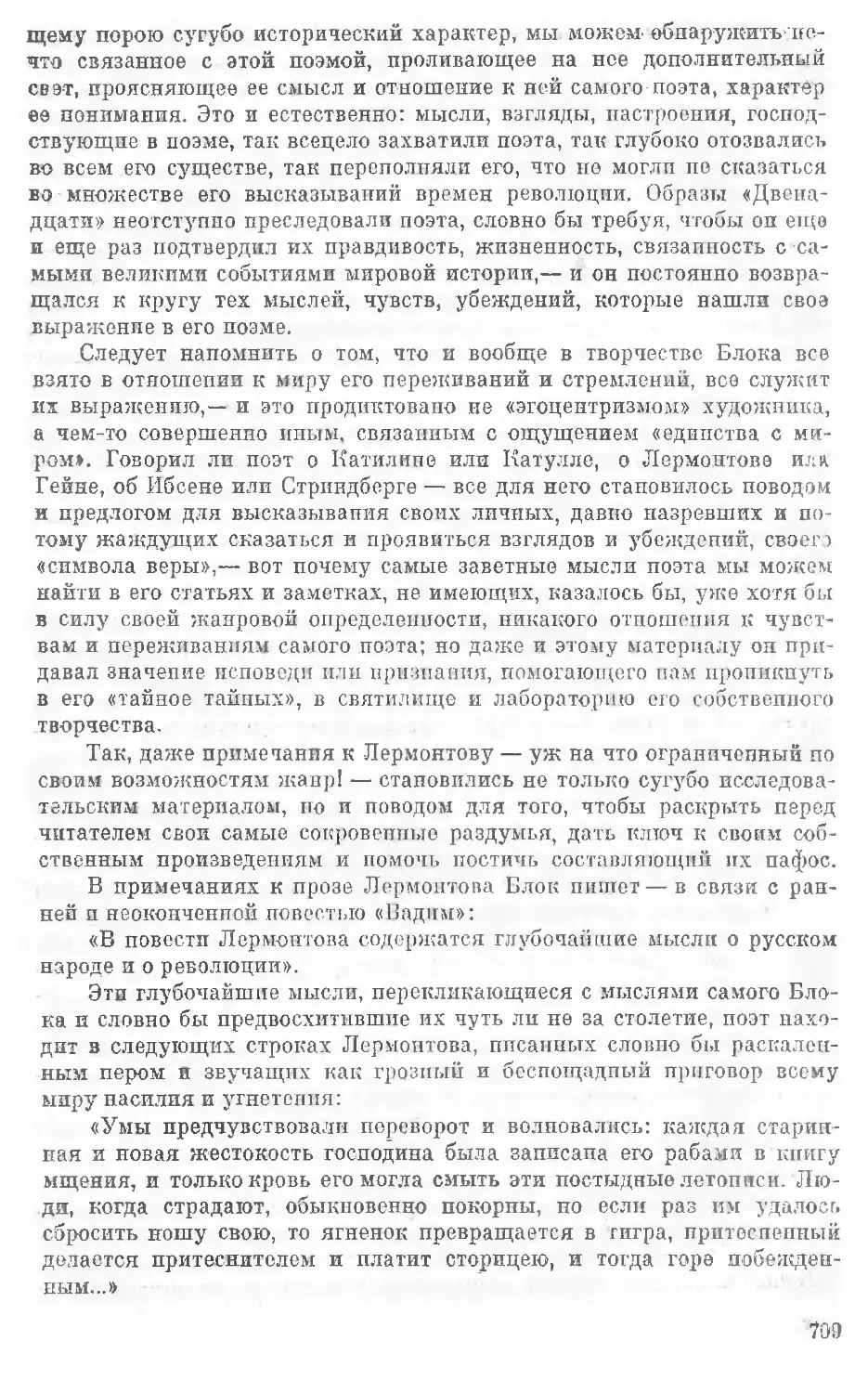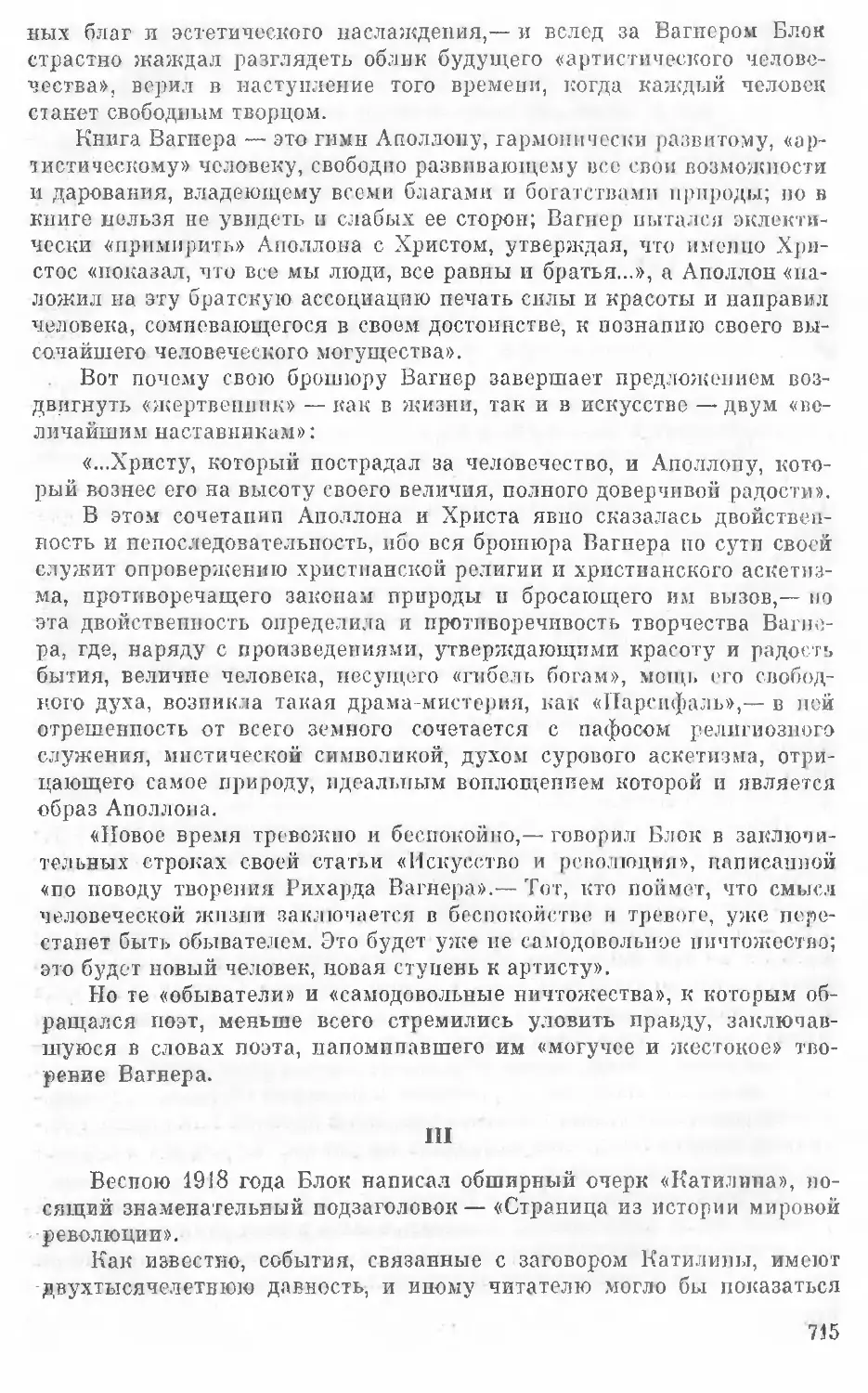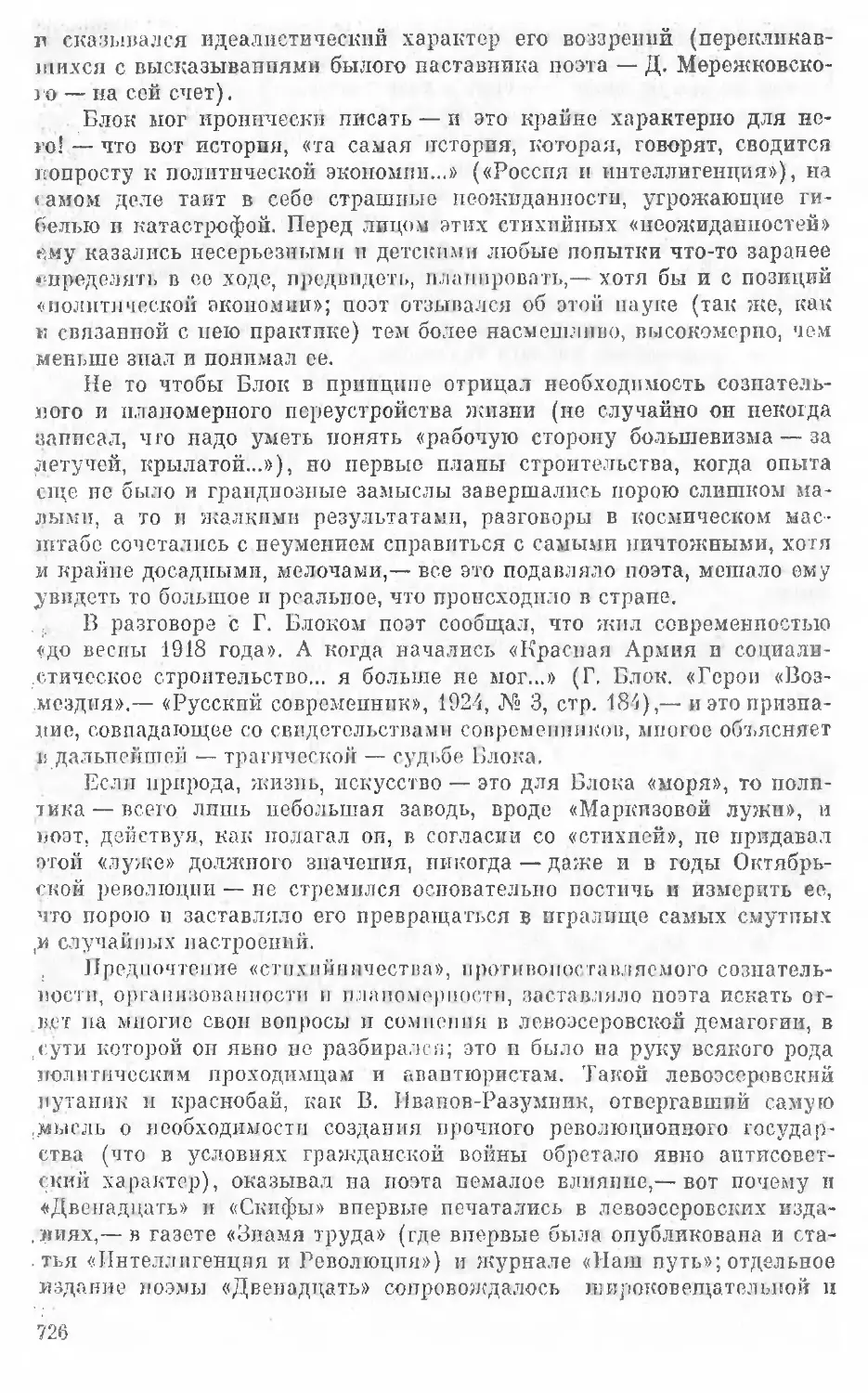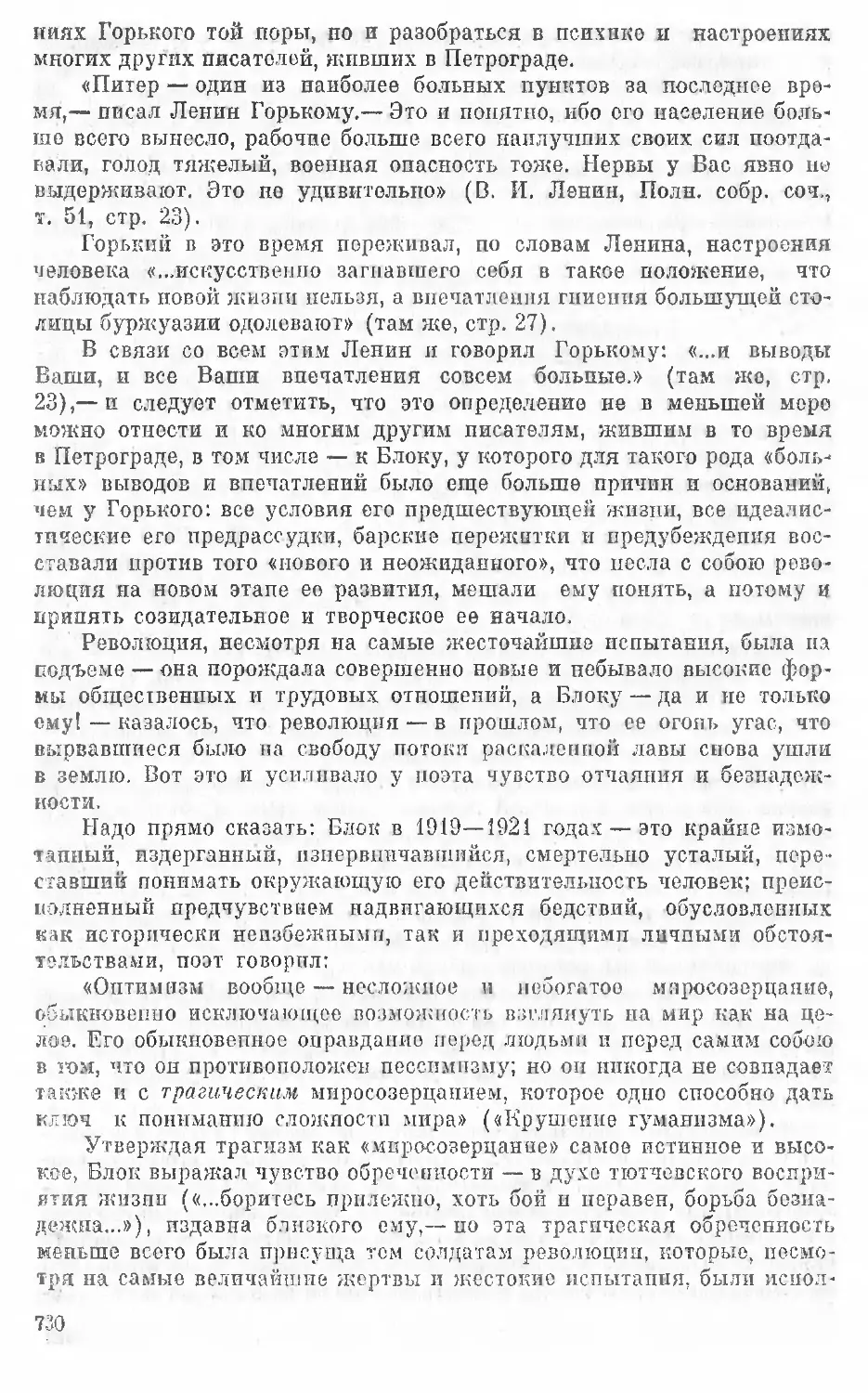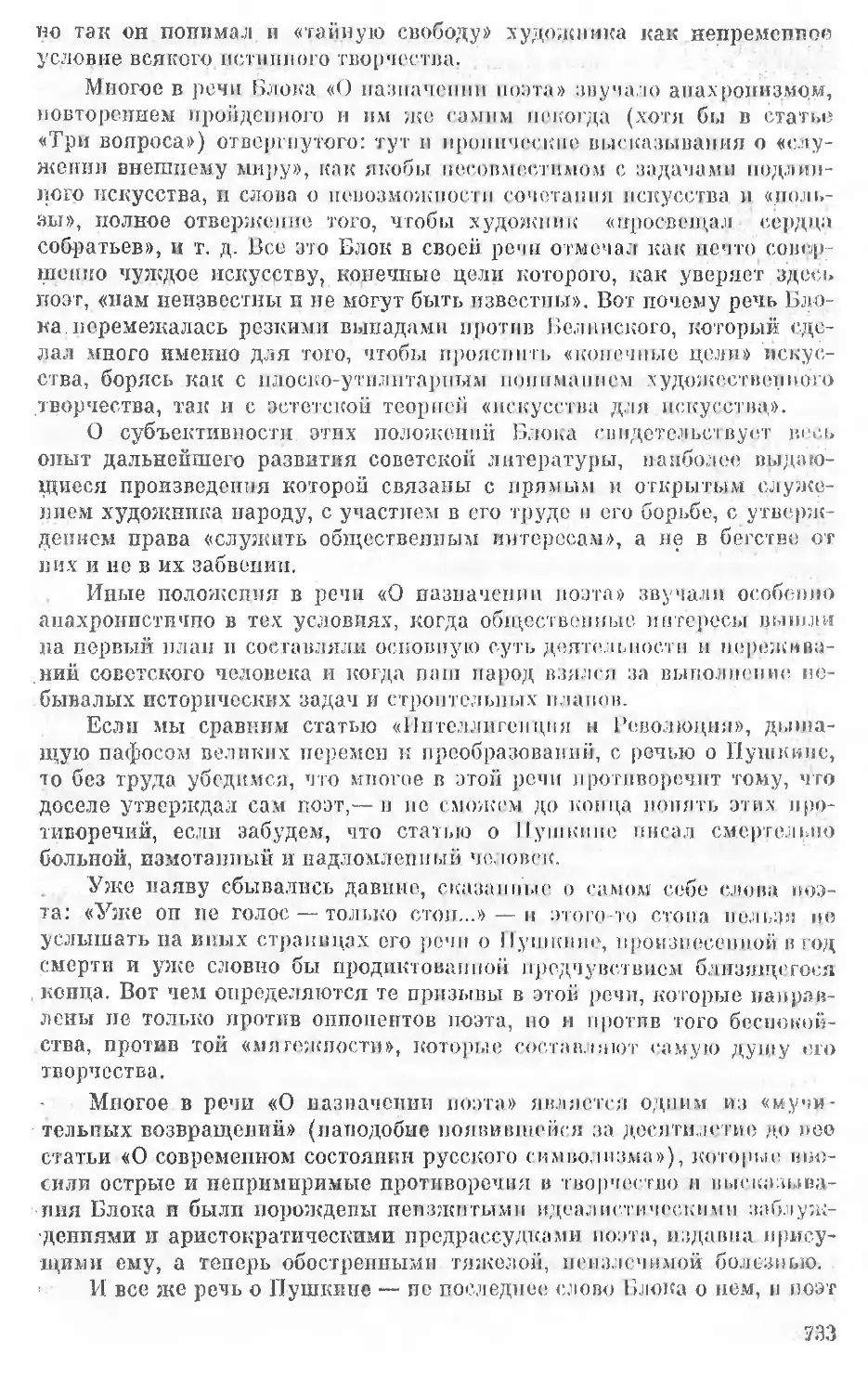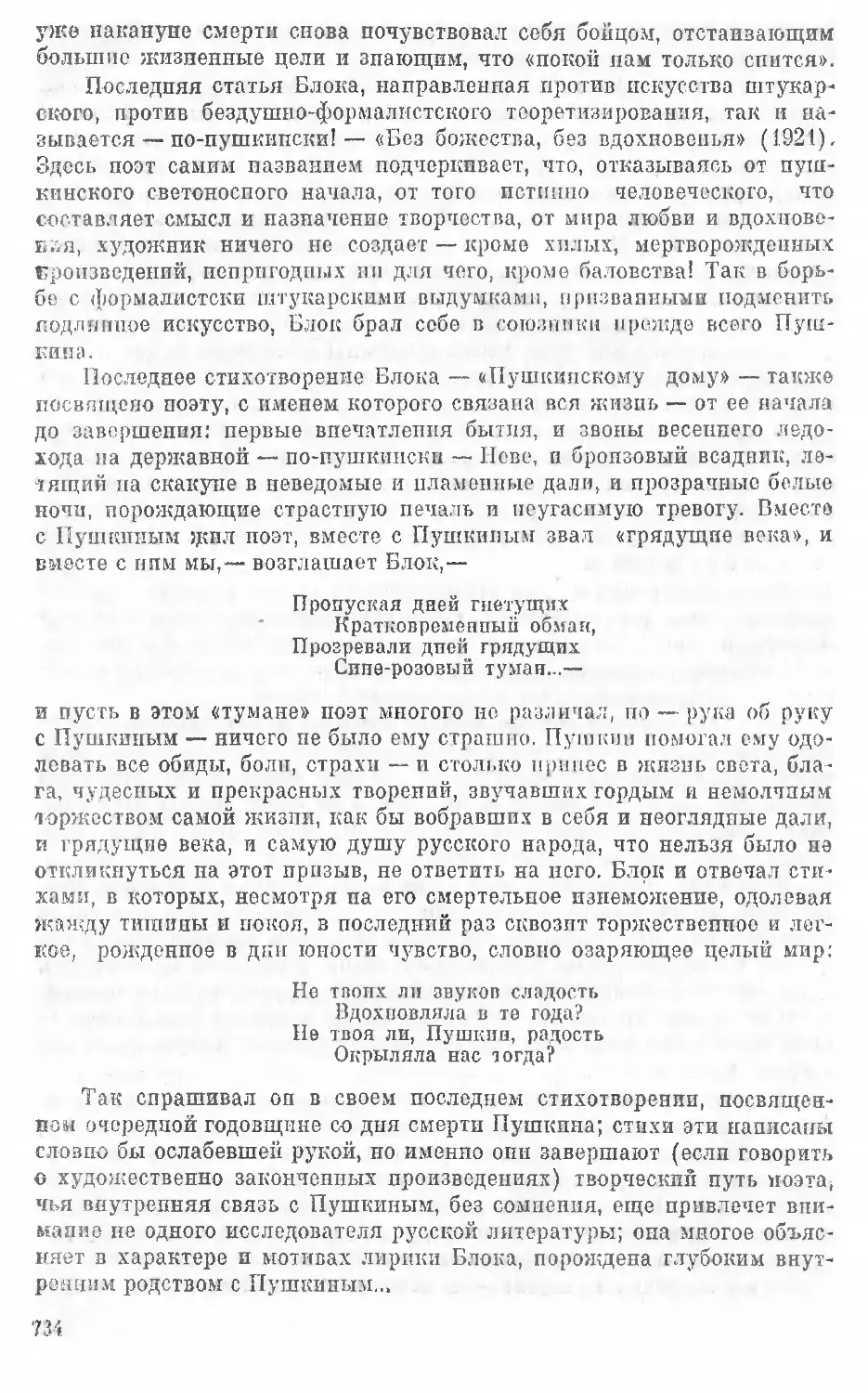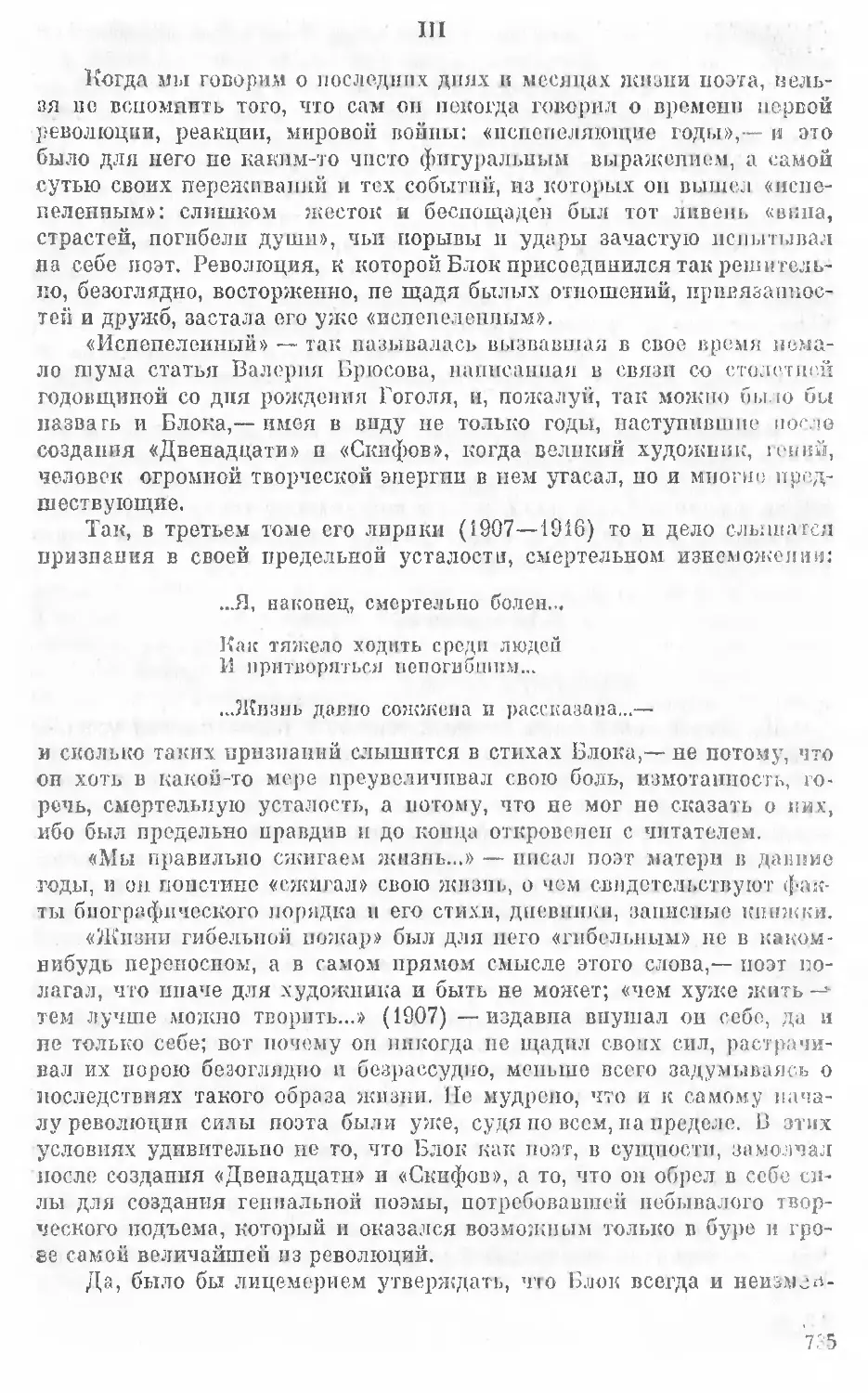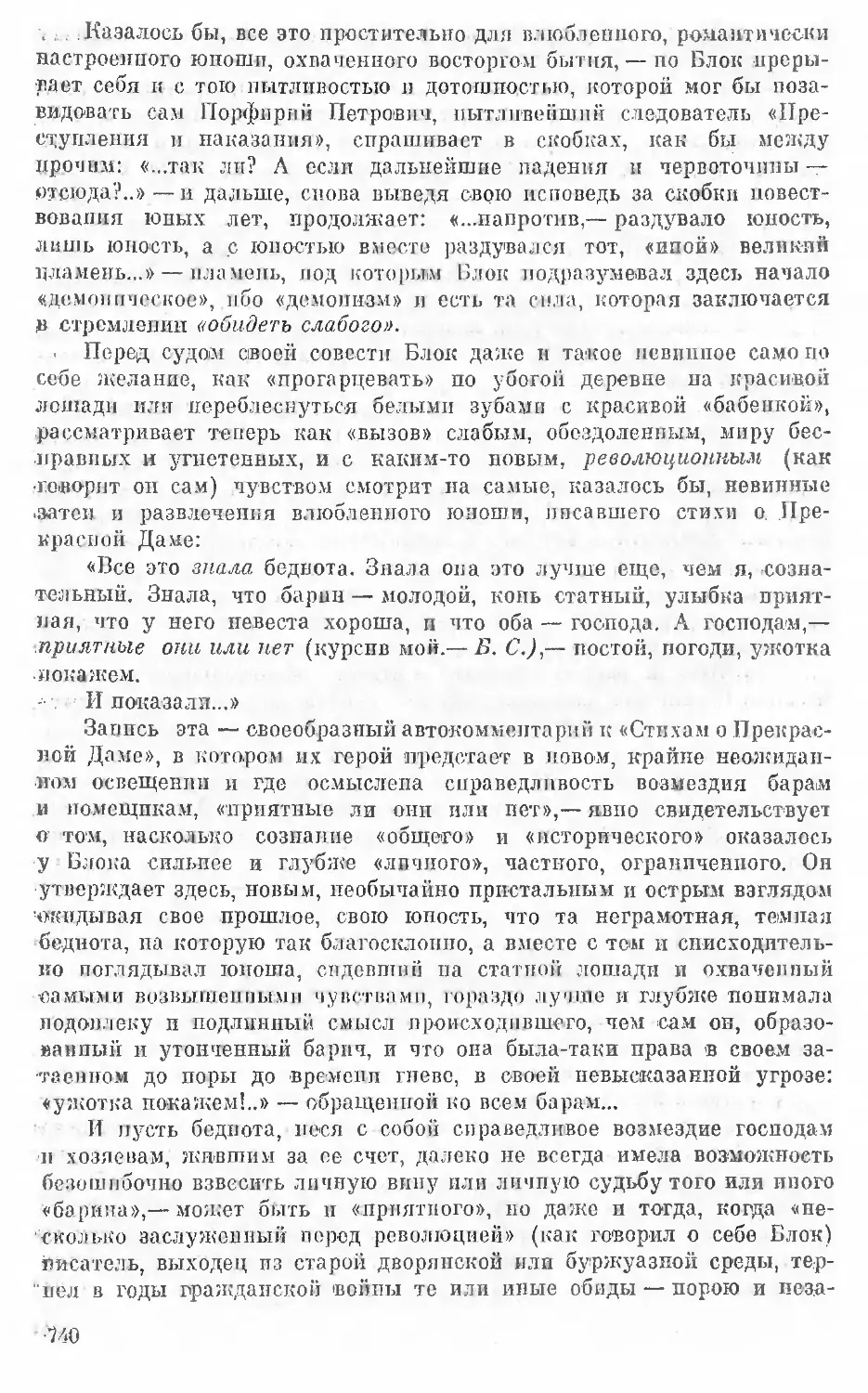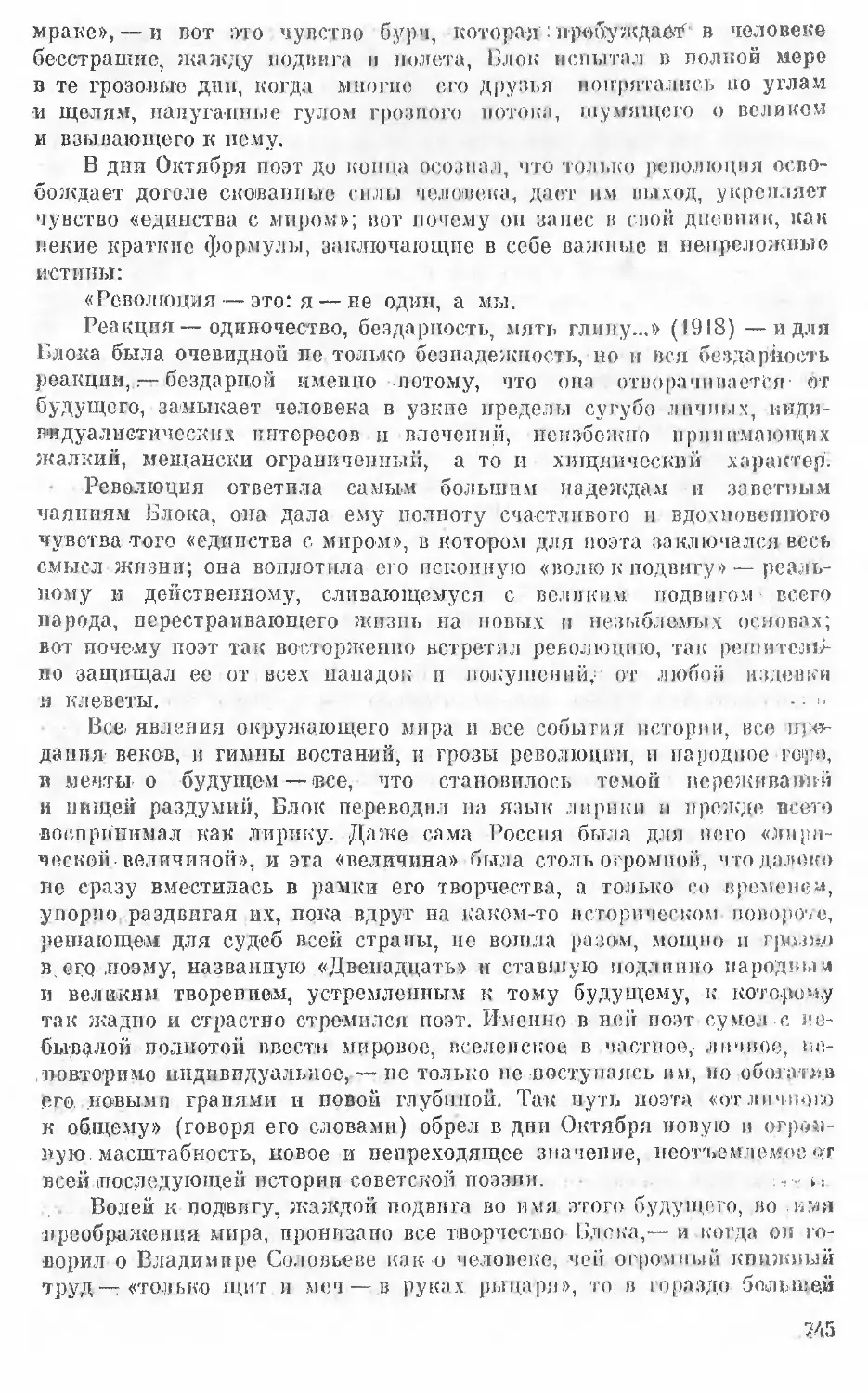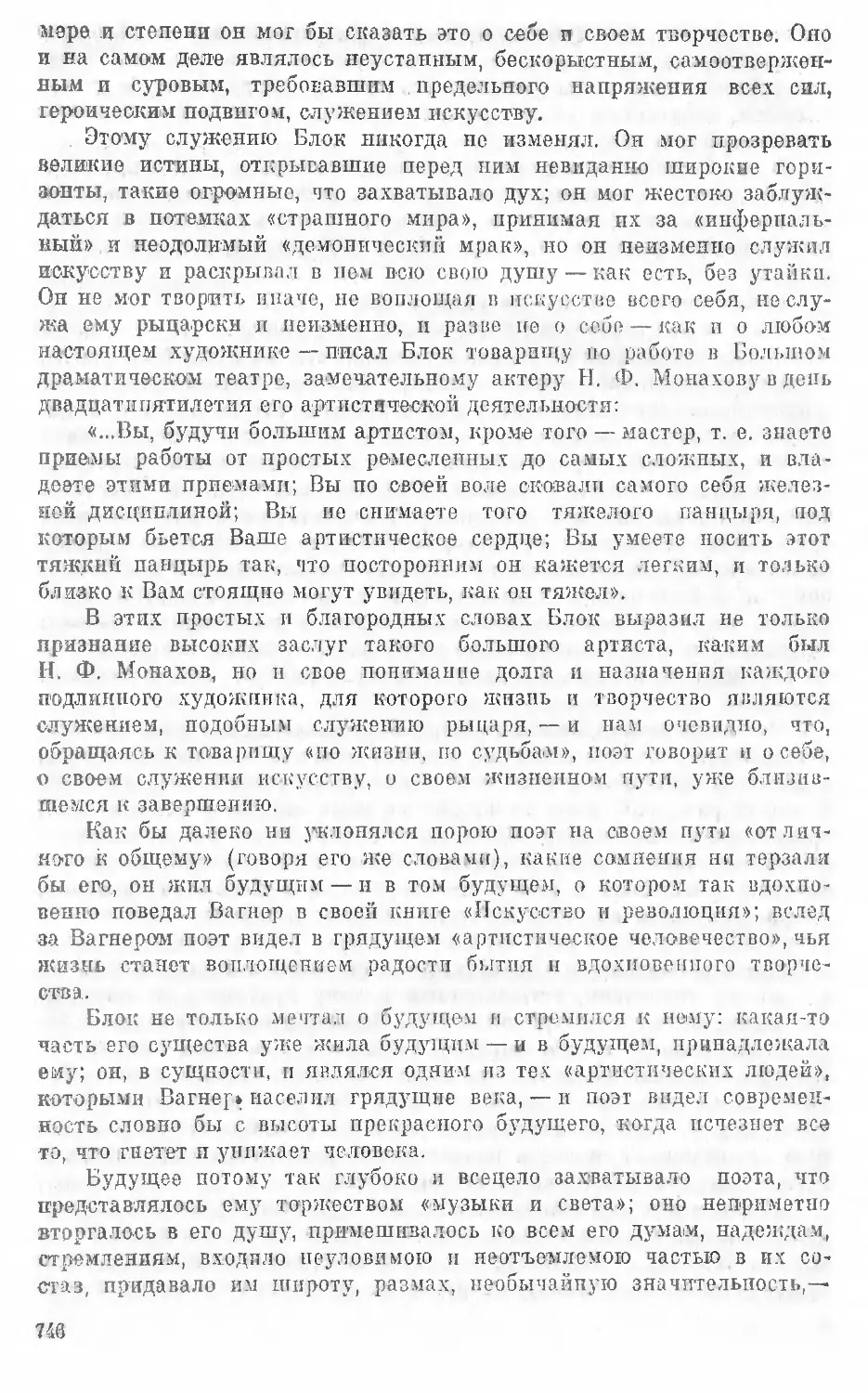Текст
мйаршшшш ппмия
рсфсрИМЕНИ
ШЯ« ГОРЬКЖБОРИС СОЛОВЬЕВПОЭТ
И ЕГО
ПОДВИГ
Александр БлокГравюра художника А. Д. Гончарова
БОРИС СОЛОВЬЕВПОЭТ
И ЕГОПОДВИГ1ПОРЧ1СКИЙ МУТЬ АЛЕКСАНДРА БЛОКАИздательство «Советская Россия»
МОСКВА — 1973
SP2С607—S'—2’
100-73
ОТ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖНИКА — ПОДВИГАА. БЛОК...ТОЛЬКО О ВЕЛИКОМ СТОИТ ДУМАТЬ,
ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ ЗАДАНИЯ ДОЛЖЕН СТА¬
ВИТЬ СЕБЕ ПИСАТЕЛЬ...А. БЛОКПУТЬ СРЕДИ РЕВОЛЮЦИЙ; ВЕРНЫЙ ПУТЬ...А. БЛОК
ОТ АВТОРАТворчество Александра Блока — великого поэта начала XX века — одно
из самых примечательных явлений русской поэзии.По силе дарования, страстности отстаивания своих воззрений и позиций,
по глубине проникновения в жизнь, стремлению ответить на самые большие
и насущные вопросы современности, по значительности новаторских откры¬
тий, ставших неоценимым достоянием русской поэзии,— Блок является
одним из тех деятелей нашего искусства, которые составляют его гордость
и славу.Многие произведения Блока и поныне сохранили все свое значение, как
правдивое свидетельство переживаний человека, отвергающего самые основы
того буржуазно-помещичьего общества, в чьих условиях он воспитывался,
поэта, охваченного предчувствием неизбежности тех бурь и гроз, которые
должны были до основания потрясти и разрушить — и разрушили — старый,
прогнивший строй с его системой рабства, насилия, угнетения.Владимир Маяковский в статье «Умер Александр Блок» — отклике на
смерть поэта — справедливо утверждал, что творчество Блока — «целая по-
этическая эпоха, эпоха недавнего прошлого», и эта поэтическая эпоха
нашла в лице Блока своего выдающегося истолкователя и художника, от¬
крывшего новые и дотоле небывалые возможности развития и совершенст¬
вования стиха.Но это лишь одна сторона вопроса о творческом наследии Блока, живом
и поныне. Поэзия Блока — не только великолепное мастерство и замечатель¬
ная школа стиха, но и искусство, устремленное в будущее, пронизанное
пафосом великих преобразований, утверждающее все то лучшее и прекрас¬
ное, что есть в жизни и в людях; в этом его непреходящее значение.Интерес к творчеству Блока — интерес вполне закономерный — возрос
за последние годы необычайно; советская молодежь страстно спорит
о стихах Блока, о том, как их надо понимать и. воспринимать, о значении
их для нашего человека — строителя коммунизма. Многое в литературном
наследии Блока обретает сугубо современное значение и злободневное зву¬
чание, помогает уяснить существенные проблемы литературы и искусства,
поныне являющиеся предметом самых острых споров, и, «как живой с жи¬
выми говоря» (Маяковский), Блок принимает участие в размышлениях и
дискуссиях наших дней.Необычайно сложен, а вместе с тем и внутренне целен творческий
путь Блока — от «Стихов о Прекрасной Даме» до поэмы «Двенадцать»;7
цельность эта определяется общностью многих коренных и существенней¬
ших тем, вопросов, лейтмотивов творчества Блока, на каждом этапе развития
решаемых по-разиому — в соответствии с новым жизненным и творческим
опытом поэта, но в чем-TOi постоянных и неизменных.Следует подчеркнуть, что и сам Блок рассматривал свое творчество
в его единстве и нерасторжимой цельности.В предисловии к собранию своих стихотворений (1911—1912) поэт
утверждал, что каждое из них — хотя: бы и слабое по форме — имеет значе¬
ние не только само по себе, но и как часть целого:«...каждое стихотворение, необходимо для образования главы; из несколь¬
ких глав составляется книга; каждая книга есть часть трилогии: всю три¬
логию я могу назвать «романом в стихах»: она посвящена одному кругу
чувств и мыслей, которому я был предан в течение первых двенадцати лет
сознательной жизни».Так, в полном согласии с истиной, говорит поэт, и эти слова обретают
необычайно важное значение для осмысления лирики Блока; взятая в це¬
лом, она и поистине слагается в «роман в стихах» или «трилогию вочелове¬
чения» (по определению самого поэта). Здесь каждое стихотворение компо¬
зиционно завершено, воплощает! особый и внутренне самостоятельный твор¬
ческий замысел, но вместе с тем оно оказывается, как подчеркивает сам
поэт, частью целого и только в, этом аспекте может быть осмыслено до конца
во всем существе, во всей своей многогранности и взаимосвязанности с дру¬
гими стихотворениями. Этот «роман в стихах» и действительно посвящен
«одному кругу чувств и мыслей»,— вот почему при рассмотрении творче¬
ства Блока представляется необходимым уяснить, что это за чувства и мысли,
каков их круг, что привнес с собою в литературу лирический герой «романа
в стихах».Говоря о своем творческом пути как о «трилогии вочеловечения», Блок
пояснял самую суть этого определения:«...от мгновения слишком яркого света — через необходимый болотистый
лес — к отчаянью, проклятию, «возмездию»... и к рождению человека «об¬
щественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру...» (1911).Эта автохарактеристика заслуживает особого внимания, ибо в полной
мере отвечает основным чертам лирики Блока, помогает уяснить закономер¬
ности оо развития и особенности каждого из ее этапов, являющихся вместе
с том и этапами развития, становления, внутреннего созревания ее героя.Здось в каждой «главе», то есть в каждом цикле стихов, важно не только
то, что в пей непосредственно сказано, но и все то, что объединяет ее с дру¬
гими «главами» и циклами, основные темы и мотивы которых перекликают¬
ся, носят постоянный и «сквозной» характер (как это мы обычно и видим
в сюжетно развернутом и внутренне цельном произведении). Единые в своей
основе, они по-разному решаются на разных этапах «трилогии вочеловече¬
ния» поэта — вот почему необходимо проследить их развитие, их модифи¬
кацию, их движение.«Роман в стихах», каким Блоку представлялась его лирика, является
тем выдающимся произведением русской поэзии, значительность и свое¬
образно которого определяются значительностью и широтой поднятых в нем
вопросов и творческой силой художника, сказавшейся в их решении.8
В одной из статей, написанных в годы реакции, наступившей после
знаменательных событий революции 1905 года, Блок говорит: «...только
о великом стоит думать, только большие задания должен ставить себе писа¬
тель; ставить смело, не смущаясь своими личными малыми силами; писа¬
тель ведь — звено бесконечной цепи; от звена к звену надо передавать свои
надежды, пусть несвершившиеся, свои замыслы, пусть недовершенные...»
(1907).В этих словах — весь Блок, который с самого начала литературной дея¬
тельности думал «только о великом» и ставил перед собой «только большие
задания»,— и если наш человек рассматривает свою жизнь в причастности
к событиям всемирно-исторического масштаба, к борьбе* за то будущее, ради
которого нельзя щадить никаких усилий,— лирика Блока не сможет не
ответить его помыслам и устремлениям. Конечно, огромное расстояние от¬
деляет Блока зрелой поры, художника великой силы, создавшего лирически
проникновенные, реалистически весомые, а вместе с тем и романтически
окрыленные произведения, пронизанные революционным пафосом, такие,
как «Ямбы», «Возмездие», «Двенадцать», от автора отвлеченно-мечтатель-
ных — в большинстве своем — «Стихов о Прекрасной Даме», но вместе с тем
нетрудно обнаружить, что, резко меняясь с годами, творчество Блока в чем-
то существенном оставалось неизменным, постоянным.Что же связывало различные этапы творчества Блока, что позволяло
ему говорить о своей цельности и «незыблемости»?Это есть, прежде всего, «воля к подвигу» — по словам Блока; это пони¬
мание смысла своей жизни как рыцарского служения «высшим целям
бытия» (Чехов), как утверждения «единства с миром» и великого, прекрас¬
ного будущего. «Волей к подвигу», на разных этапах творческого развития
поэта понимаемому по-разному, пафосом рыцарского служения, исполнения
долга, связанного с освобождением великих сил, некогда «зажатых в узел
бесполезный», пронизаны произведения Блока, да и вся его жизнь, начиная
с самых ранних лет, с детских мечтаний и отроческих увлечений. Именно
об этом свидетельствует его творчество, осмысление которого и составляет
основную задачу, стоящую перед автором книги о Блоке, предлагаемой
вниманию читателя.9
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ■«Записные книжки» — Александр Блок, «Записные книжки». Ленинград,издательство «Прибой», 1930. Москва, издательство «Художественная
литература», 1965.«Переписка» — «Александр Блок и Андрей Белый. Переписка». Москва,
издание Государственного Литературного музея, 1940.ч<Письма» — «Письма Александра Блока». Ленинград, издательство «Колос»,
1925.«Письма к родным» — «Письма Александра Блока к родным», том I, Ле¬
нинград, издательство «Academia», 1927; том II, Москва — Ленинград',
1932.«Александр Блок» — М. А. Бекетова. «Александр Блок». Биографический
очерк. Петербург, издательство «Алконост», 1922.«Александр Александрович Блок» — В. Н. Княжнин. «Александр Александ¬
рович Блок». Петербург, издательство «Колос», 1922.«Луг зеленый» — Андрей Белый. «Луг зеленый». Москва, издательство
«Альциона», 1910.«Начало века» — Андрей Белый. «Начало века». Москва—Ленинград, Госу¬
дарственное издательство художественной литературы, 1933.«Между двух революций» — Андрей Белый. «Между двух революций».
«Издательство писателей в Ленинграде», 1934.«Эпопея» №.№ 1—4, литературный ежемесячник под редакцией Андрея Бе¬
лого. Москва—Берлин, издательство «Геликон», 1922—1923.«Записки мечтателей» — журнал «Записки мечтателей» № 6, Петербург,
издательство «Алконост», 1922.«Литературное наследство» — «Литературное наследство» № 27—28. Москва,
Журнально-газетное объединение, 1937.ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.Произведения Александра Блока, вошедшие в собрания его сочинений
(тома 1—12, «Издательство писателей в Ленинграде» и «Советский пи¬
сатель», Ленинград, 1932—1936, а также тома 1—8, Москва—Ленинград,
Государственное издательство худоя?ественной литературы, 1960—1963),
отмечены в необходимых случаях датой; остальные сведения справочного
порядка содержатся в этих изданиях.
ВОТ1Я
К ПОДВИГУ
«СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ»1. «В ТУМАНЕ УТРЕННЕМ...»Александр Александрович Блок родился в Петербурге 16 ноября
1880 года; детство его прошло в годы глухой реакции, наступившей по¬
сле разгрома революционно-демократических сил.В то время явственно обнаружился кризис народничества, оказав¬
шегося неспособным к осмыслению новых исторических процессов, но¬
вых задач, возникших в связи с развитием капитализма в России и тре¬
бовавших своего коренного и революционного решения,— а рабочее и
социал-демократическое движение еще только зарождалось. Впослед¬
ствии Блок говорил об этом времени в поэме «Возмездие»:В те годы дальние, глухие,В сердцах царили сон и мгла:Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,И не было ни дня, ни ночи,А только — тень огромных крыл... —и эта «тень» омрачала многое в жизни поэта, так же как и в жизни его
родных, близких ему людей.Отец поэта, Александр Львович Блок (1852—1909),—личность не¬
заурядная и примечательная. Сомойные предания говорят о его выдаю¬
щихся дарованиях, а вместе с тем и о болезненных чертах его психики,
необычайной его скаредности, вспыльчивости, припадках патологиче¬
ской жестокости (которые на себе испытала мать поэта, вынужденная
покинуть своего мужа вскоре же после брака). Его биограф и ученик
Е. Спекторский сообщает в книге «Александр Львович Блок, государ-
ствовед и философ» (Варшава, 1911):«Александр Львович Блок происхождения полунемецкого... Один
из его предков, выходец из Мекленбурга, был врачом царя Алексея Ми¬
хайловича. Прадед А. Л., лейб-хирург Иван Блок, в 1796 г. был возведен
в русское дворянство... Отец его был лютеранин. Родился А. Л. 20 ок¬
тября 1852 г. в Киеве... в 1870 г. он окончил курс с золотою медалью
и поступил на юридический факультет Петербургского университета».Здесь А. Л. Блоку пророчили блестящую будущность. По представ¬
лении кандидатской диссертации «О городском управлении в России»
он был оставлен при университете своим руководителем, знаменитым
некогда государствоведом А. Д. Градовским, для подготовки к профес¬13
суре, а впоследствии, вплоть до самой смерти, занимал кафедру госу¬
дарственного права Варшавского университета.Рекомендуя ректору Варшавского университета своего ученика,А. Д. Градовский оценил его как ученого, которого «смело можно от¬
нести к числу весьма образованных, живых людей», обладающих «за¬
мечательными дарованиями».Первая книга A. JI. Блока, «Государственная власть в европейском
обществе» (1880), посвященная характеристике учения немецкого го-
сударствоведа Лоренца Штейна, как сообщает Е. Спекторский, показа¬
лась настолько опасной на взгляд царских властей, что «была приго¬
ворена к сожжению». Цензуру могло смутить утверждение A. JI. Бло¬
ка, что монархические правительства, призванные, по мнению Штейна,
быть регуляторами не только государственной власти, но также и «об¬
щественной борьбы классов», неизменно сообразуют свою политику
лишь с интересами господствующих классов, слишком независимые,
по тем временам, рассуждения автора о «долге» монархии и многое
другое в том же духе. Первую книгу A. JI. Блока удалось спасти от
сожжения «не без труда», как сообщает его биограф.Вторая — и последняя •— книга А. Л. Блока, «Политическая литера¬
тура в России и о России» (1884), являлась безнадежно утопической
попыткой примирить западничество и славянофильство (ибо, как пола¬
гал А. Л. Блок, «Россия достаточно универсальна, чтобы вместить без
остатка их односторонность») и в их соединении усмотреть будущее
страны. Конечно, реальная история шла мимо этого отвлеченного и ре¬
акционного умствования, плоды которого с течением времени станови¬
лись все более жалкими и скудными.С годами А. Л. Блок «правел, слабел и все забыл», как говорит его
сын в поэме «Возмездие», носящей во многих существенных чертах ха¬
рактер семейной хроники и лирически преображенной автобиографии.Последние двадцать лет своей жизни А. Л. Блок увлекался столь
же реакционной, сколь и фантастической идеей создания своей собст¬
венной «классификации наук» («с человеком в центре их») и труда
«Политика в кругу наук», в котором градация и значение всех наук —
вплоть до физико-математических — определялись бы «антропоморфи¬
ческим» принципом и сами эти науки подчинялись бы исключительно
задаче «самопознания» человека, а в конце концов — догматам его ве¬
ры, как единственно надежного источника истинного познания.Нет ни малейших оснований сомневаться в идеалистической и ре¬
акционной направленности подобного пути «не от мира к человеку, а от
человека к миру», как определяет его Е. Спекторский в той же книге;
упорным попыткам обосновать этот фантастический «путь» А. Л. Блок
отдал многие годы своей жизни. Правда, взятая на себя отцом поэта
задача оказалась настолько затруднительной, что, в сущности, он и не
приступал к ней; от задуманного им «труда» наследникам досталось
лишь несколько обрывков, свидетельствующих о явной безуспешности
подобных попыток внести полный «переворот» во всю область челове¬
ческих наук и знаний.Поэт говорит в автобиографии о своем отце:14
«Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна-
и мрачна... Выдающийся музыкант, знаток изящной литературы и тон¬
кий стилист,— отец мой считал себя учеником Флобера. Последнее и
было главной причиной того, что он написал так мало и не завершил
главного труда своей жизни: свои непрестанно развивавшиеся идеи оп
не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании
сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душев¬
ном и физическом облике его».Вот от того «судорожного» и «страшного», что было в облике н ха¬
рактере мужа, и ушла мать будущего поэта, спасая себя и своего ре¬
бенка.Всю жизнь Блок жил розно с отцом, только изредка виделся с ним,
да и то, если судить по воспоминаниям и письмам поэта, эти встречи-
были ему в тягость, и он стремился всячески избегать их.Будущий поэт вырос в семье матери — дочери знаменитого бота¬
ника Андрея Николаевича Бекетова, ректора Петербургского универ¬
ситета, друга Менделеева (рядом находились и подмосковные имения:
Бекетова — Шахматове и Менделеева — Боблоозо, где Александр Блок
встречал дочь Менделеева, Любовь Дмитриевну, свою будущую возлюб¬
ленную, невесту, жену).И в петербургской «ректорской квартире» Бекетовых и в подмос¬
ковной усадьбе поэт стал общим любимцем; его все ласкали — и дед,
вместе с которым он совершал длительные прогулки по окрестностям
Шахматова, и бабка, известная в свое время переводчица, и его тетки,
не говоря уже о матери — для нее он со дня рождения стал центром
и смыслом существования.В семье господствовали литературные интересы; мать поэта и ее
две сестры переводили с иностранных языков, писали оригинальные
произведения и унаследовали от дедов «любовь к литературе и незапят¬
нанное понятие о ее высоком значении» (как говорит Блок в автобио¬
графии) — то понятие, которое целиком усвоил и будущий поэт.Первые годы Блока — это обычное детство мальчика в старой дво¬
рянской, высокообразованной семье с либеральной закваской, гумани¬
стическими, прекраснодушными и расплывчатыми идеалами, чуждыми
духу революционного преобразования жизни.Вспоминая свое детство, поэт говорит о баловне, которого все на¬
перебой холили и лелеяли. «Жизненных опытов» не было долго. Смутно
помню я большие петербургские квартиры с массой людей, с няней,
игрушками и елками и благоуханную глушь нашей маленькой усадь¬
бы...» (читаем мы в автобиографии Блока) — ив этой «благоуханной
глуши», призванной оградить поэта от «грубой жизни», складывался
его характер — замкнутый, самоуглубленный, склонный к бездействен¬
ному мечтательству.Отсутствие «жизненных опытов» приводило к тому, что гипертро¬
фированное, самодовлеющее и решающее значение приобретали смут¬
ные видения, сны, фантазии — пока еще наивные и сказочные.Блок, начавший писать стихи с детских лет, пребывал «в тумане
утреннем» (как сказал бы его учитель и наставник — поэт и философ15>
Владимир Соловьев); он с улыбкой и горечью скажет об этих годах сво¬
ей жизни, легкость и бездумность которых оказалась хоть и сладост¬
ной, но все же отравой:...было как на Рождестве,Когда игра давалась даром,И жизнь всходила легким паром
В сусально-звездной синеве... —и за то, что сначала «игра» давалась даром и все обращалось в игру во¬
ображения, распорядок которой заранее известен, а подлинная действи¬
тельность со всеми своими заботами и тревогами начисто изгонялась
из нее, впоследствии, когда рассеялся «утренний туман», поэту при¬
шлось заплатить весьма дорогой ценой. Вот почему воспоминания
поэта о тех годах, когда все «давалось даром», не только отрадны, но
и горьки: он знал, что нельзя жить так легко, спокойно и беззаботно,
как некогда жил он, словно бы отгороженный от окружающего мира,
от его бурь и тревог, оградой своей маленькой усадьбы.Один из друзей и биографов Блока, В. Княжнин, также подтверж¬
дает, что атмосфера, в которой рос Блок,— это «атмосфера теплицы,
атмосфера, словно нарочито созданная по всем правилам науки экспе¬
риментирующим профессором-ботаником в суровом и холодно-замкну¬
том городе Петра, для того, чтобы взрастить необыкновенный цветок.
Среда — исключительно женская, рецептивная, безотцовская, без креп¬
ких мужских объятий, отдающаяся, но не властвующая...» («Александр
Александрович Блок», стр. 21—22),—и эта «тепличность», отозвавшая¬
ся на характере воспитания, на всем строе чувств, переживаний и пред¬
ставлений юного поэта, порождала страстную жажду свежего воздуха,
вольного простора (не случайно бегство из «теплицы», из «белого до¬
ма», из «соловьиного сада», в котором живется слишком спокойно и
безмятежно, станет одним из самых постоянных мотивов творчества
Блока).Если уяснить характер воспитания Блока, то для нас станет совер¬
шенно очевидно, что это было «сентиментальное воспитание», «скорее
воспитание чувств, нежели воли» (как говорит тетка и биограф цоэта
М. А. Бекетова), и оно во многом направлялось родными поэта, особен¬
но — его матерыо, авторитету которой он верил безусловно и во всем.
А мать поэта была женщиной религиозно-экзальтированной, мистиче¬
ски настроенной, обладавшей явно неустойчивой психикой, о чем сви¬
детельствует и ее сестра М. А. Бекетова (см. ее книгу «Александр
Блок и его мать») и многие современники, друзья и родные поэта.
Этим же в значительной мере объясняются существеннейшие черты в
характере молодого Блока: непомерно и односторонне развитое вообра¬
жение, мечтательность, экзальтированная восторженность — за счет
активного интереса к окружающей жизни, деятельного отношения
к ней, зрелого и трезвого ее восприятия, что определило и раннее
творчество Блока, его первые начинания в области лирики.Поэт еще бродит «в тумане утреннем», не отличая своих снов, ви¬
дений, фантазий от окружающей его действительности,— вот почему16
она в его глазах лишена четких, определенных очертаний, представ¬
ляется смутной, зыбкой, колеблющейся, что сказывается и на самом
характере стиха, еще в достаточной мере аморфного, неопределенного,
расплывчатого, в обилии стертых аллегорий, туманных иносказаний,
слишком подражательных, невыразительных, а потому и не могущих
передать живое, доподлинное чувство.«Поэтично — значит заимствовано»,— говорил Лев Толстой в трак¬
тате «Что такое искусство?» (и но без иронии замечал, что «поэтичны¬
ми» считаются такие лица, как девы, воины, пастухи); именно такого
рода «поэтичность» определяет характер подавляющего большинства
ранних стихов Блока, из которых впоследствии составился цикл «Ante
lucem» («До света»; 1898—1900), открывающий первую книгу поэта.Юный Блок сочиняет стихи, не выходящие за пределы банальной
фразы, еще настолько наивные и подражательные, что они не дают ни
малейшего представления о том, каким большим художником станет
вскоре их автор:Милый друг! Ты юного душою
Так чиста!Спи пока! Душа моя с тобою,Красота!..—и для нас очевидно, что «красота», о которой говорит поэт,'— красота
не оригинала, а копии, бледной и невыразительной; такого рода копии
зачастую подменяли в стихах раннего Блока подлинно художественное,
а стало быть и самобытное творчество.Одно из юношеских стихотворений Блока открывается строками
Жуковского:Там один и был цветок,Ароматный, несравненный...; !а этим эпиграфом следуют стихи крайне наивные и идиллически
безмятежные но своему духу:Я стремлюсь к роскошной воле,Мчусь к прекрасной стороне,Где в широком чистом поле
Хорошо, как в чудном сне...Стремление подменить действительность царством грез, фантазий,
фипозий, «чудным сном» придает переживаниям, поэта — а вместе с тек
и его раннему творчеству — детски наивный, восторженно-мечтатель¬
ный характер, противостоящий окружающей жизни, вызывающей ин¬
терес поэта только в той мере, в какой она могла питать его мечты,
фантазии, иллюзии, ответить стремлению увидеть наяву свой «чудный
сои».Та же самая склонность к уже затверженным штампам, ходячим
аллегориям преобладает и в других стихах этого цикла.Начиная свой творческий путь, поэт провозглашает:Сама судьба мне завещала
С благоговением святым2 Заказ 534if
Светить в вреддверьн Идеала
Туманным факелом моим...Здесь «Идеал» (непременно с прописной буквы!) — эхо еще тот рас¬
плывчатый «идеал», который господствует во множестве стихов поэ¬
тов — эпигонов, склонных к выспреннему и рпторнчески-декламацион-
йому красноречию, а «факел», которым вооружился юный Блок, еще
поистине так туманен, что поэт и сам не мог различить в его свете
окружающую действительность хоть сколько-нибудь ясно, отчетливо,
а потому создавал о ней самое общее и смутное представление.Ранние стихи Блока без конца варьируют друг друга, причем
однообразию и отвлеченной мечтательности их темы соответствуют
архаичность языка, условность и отвлеченность образа; десятки раз
повторяются одни и те же привычные, стертые аллегории — противо¬
поставления мрака и света, ночи и дня, яви и сновидения, что придает
большинству этих стихов монотонное звучание и утомительное одно¬
образие:Глухая ночь мертва...Казалось, ночь была немая...Минует ночь, проснется долгий день......в неизбежную ночь...В ночь непроглядную...Такого рода аллегории и символы следуют друг за другом непре¬
рывной чередой, так что и само произведение зачастую развертывает¬
ся в порядке смены уже отстоявшихся, известных, заранее затвер¬
женных аллегорий, на язык которых и стремился перевести поэт свои
возвышенные настроения и восторженные чувства:Звезда — условный знак в пути,Но смутно теплятся огни,А за чертой — иные дни,И к утру, к утру — все найти!Но не только «звезда» является «условным знаком», по определе¬
нию самого поэта, а и все остальное — это также «условные знака»: и
«далекий путь», и смутно теплящиеся «огни», и «утро», означающее
начало какой-то иной жизни, когда поэт сумеет «все найти».Впоследствии одному из молодых стихотворцев Блок писал, подчер¬
кивая слабость художественной ткани присланных ему произведений:
«...к выражениям, не достойным того, что хотел сказать ими автор,
относятся... эпитеты...» — и далее Блок приводит такие их призеры,
как «сладостно-стройная мечта», «лучистое мгновение», «волшебный
огонь» и т. п. (1913).«...это все — уже не говорящее, пе слова, а тени их»,— поясняет
Блок, отлично сознавая, что и в его ранних стихах воспетые им «чуд¬
ные сны», «горючие слезы», «кратковременные мгновения», «святой
пламень», «неясные призраки», «крылатые видения» и т. д.— без кон-
па — это всего лишь «тени слов», уже словно бм утративших самую
плоть, и такие «тени» витают на многих страницах цикла «Ante
lucem».Здесь и в самом словаре сказывается приверженность к крайне об¬
щим представлениям, ходячпм в стихах того временя «поэтизмам»
(«кумир», «сон», «храм», «челн», «грезы», «слезы», «видения» и т. п.),
которым соответствует обплие архаизмов и церковнославянских рече¬
ний (таких, как «зреть», «младость», «хладный», «вежды» и т. д.
и г. п.), крайпе характерных в ранней лирике Блока.Любимыми поэтами юного Блока были Жуковский, Полонский,
Апухтин, Фет, и многие его стихи еще не выходят за пределы их влия¬
ния, подчас являются всего лишь слабыми вариациями их произведе¬
нии. Источники заимствований прослеживаются здесь без особого тру¬
да, а норою указываются и самим поэтом; он считал вполне уместным,
начав лирическое повествование от своего лица, завершить его цита¬
той из Полонского:Ужель живут еще страданья,И счастье может унестп?В час равнодушного свиданья
Мы вспомним грустное прости...Последние две строки, выделенные курсивом, принадлежат Полон¬
скому, и такого рода «контаминация», включение в свои стихи цитат
и эпиграфов из любимейших поэтов, либо названных, либо не назван¬
ных, но и без того безошибочно угадываемых читателем, вполне отве¬
чает ученическому характеру ранних стихов Блока, их явной несамо¬
стоятельности.Так, когда поэт утверждает, что он...тяжелою тоскоюКорабль надежды потопил!..^*то здесь даже и без эпиграфа, открывающего стихотворение, вспоми¬
наются строки:В душе моей, как в океане,Надежд разбитых груз лежит...Когда поэт обращается к некоей «милой», которая пришла проли¬
вать горючие слезы над его «кратковременной могилой»:Не сожалей! Твоим страстям
Готов любовью я ответить,Но я нашел чистейший храм,Какого в жнзйн мне не встретить...—то нельзя не вспомнить Фета:В душе, измученной годами,Есть неприступный чистый храм...А когда юный Блок говорит о «богине красоты», то пользуется об¬
разом, который мы встретим как в стихах Фета, так и у многих других
поэтов.213
В то время (конец прошлого века) Блок был склонен к поэзий ме¬
лодраматической, эффектно-декламационной, любил выступать на ве¬
черах с чтением таких произведений, как «Сумасшедший» Апухтина,
и в его раннем творчестве мы слышим отзвуки ораторски красноречи¬
вого, декламационного стиха, крайне характерного для творчества
Апухтина.Его стремление к уединению, бегство в область своих фантазий и
мечтаний принимали подчас характер эффектной позы, явно заимст¬
вованной у поэтов, склонных к мелодраматическому красноречию:Толпа кричит — я хладен бесконечно,Толпа зовет — я нем и недвижим.Подобное презрение к «толпе», подчеркнутое крайне категориче¬
ским образом, вызвано не столько реальными переживаниями, сколько
требованиями театрально-эффектной позы, которую стремится занять
поэт, и такого рода стихи свидетельствуют не столько о глубине чувств
юного поэта, сколько о его пристрастии к «милой, старинной eloquen¬
ce» (как с улыбкой скажет впоследствии сам Блок).Поэт поспевает свой «идеал» в «странных песнях», «далеких жиз¬
ни», он изливает свою душу «в стихах безвестных и туманных», и все это
еще так наивно, юношески незрело, что здесь крайне затруднительно
обнаружить черты подлинно творческой самобытности, великого даро¬
вания; оно скажется (хотя еще не в полную меру) на следующем этапе
творческого развития Блока — в его «Стихах о Прекрасной Даме»,
которые последуют за циклом «Ante lucem». В них найдут гораздо
более глубокий и творчески самостоятельный выход переживания, на¬
строения, чувства, уже не укладывающиеся в рамки ученически подра¬
жательных вариаций и копий, что определит новый — гораздо более
зрелый — этап творческого развития Блока.В предисловии к собранию своих стихотворений (1911—1912) поэт,
впервые публикуя многие «полудетские» или «слабые по форме стихо¬
творения» ранней поры, замечает, что «многие из них, взятые отдель¬
но, не имеют цены; но каждое стихотворение необходимо для образова¬
ния главы». Это замечание необычайно важно как для понимания
характера лирики Блока, так и принципов ее конструкции. В наиболь¬
шей мере «полудетское» сказалось в стихах, составляющих цикл «Ante
lucem» (и ие опубликованных — за исключением стихотворения «В
полночь глухую рожденная...» — в первом издании «Стихов о Прекрас¬
ной Даме»), имеющих ценность и значение не сами по себе, а именно
как вступление, как та начальная глава романа, без которой жизнь
и внутреннее развитие его героя были бы раскрыты и прослежены
недостаточно полно и многосторонне.В связи с выходом второго издания «Стихов о Прекрасной Даме»
Брюсов заметил, имея в виду значительное пополнение сборника, что
«...с точки зрения чисто художественной это, может быть, и ошибка,
так как многие впервые напечатанные стихотворения довольно слабы
по технике, испорчены неудачными стихами, шаблонными образами.
Но зато книга приобрела новый психологический интерес, стала откро-20
веннай исповедью юного мечтате.ля-мистика,..» («Русская мысль»,
1912, №1),— и это совершенно справедливо.Правда, среди ранних стихов Блока, составляющих цикл «Ante
lucem», аил видим и такие, которые перекликаются с более поздними
и смело могли бы войти в основные циклы «Стихов о Прекрасной Да¬
ме», хотя они еще и недостаточно самостоятельны. Юный поэт в стихо¬
творении, носящем знаменательное название «Servus — Reginae»
(«Слуга — Царице»), обращается к своей возлюбленной:Не призывай. И без призыва
Приду во храм.Склонюсь главою молчаливо
К твоим ногам...Хотя здесь нельзя не усмотреть следов ученичества, явного влия¬
ния Фета, но настойчиво сказываются и те чувства, настроения, по¬
мыслы, какие обретут впоследствии особую силу и глубину в лирике
Блока, составят самый пафос его стихов — пафос подвига и слуясения,
присущий всему творчеству Блока и находящий новый, более углуб¬
ленный смысл на каждом новом его этапе.Но прежде чем перейти к «Стихам о Прекрасной Даме» (1901—
1902), преддверием которых является цикл «Ante lucem», следует на¬
помнить о том, что повлияло на их создание, что определило характер
переживаний и раздумий поэта, нашедших свое выражение в его
ранней лирике.2. «ПОКОРНОСТЬ БОГУ И ПЛАТОН...»Придет время, когда поэт назовет себя одним словом: «мятежный»,
будет говорить о присущем ему духе беспокойства, тревоги, мятежа,—
но совсем иным было начало его «трилогии вочеловечения», и иные на¬
строения, чаяния и мечтания охватили героя его «романа в стихах» на
рубеже нового, XX века, когда творчество Блока утратило недавнюю
инфантильность, незрелость, «традиционность» и стало одним из явле¬
ний «новой поэзии».Впоследствии поэт скажет об этой поре своей жизни: «Начинается
чтение книг; история философии. Мистика начинается... Начинается
покорность богу и Платон...» (1918) —и духу этой «покорности» отве¬
чают многие его стихи о Прекрасной Даме.Здесь не случайно «бог» и «Платон» стоят в одном ряду, ибо и са¬
мого бога Блок в то время видел в свете космогонии. Платона, его ми¬
фов, его учения. Перед внутренним взором поэта возникали...идей ПлатонаВеликолепные миры...—как скажет он многие годы спустя, в черновых набросках поэмы «Воз¬
мездие»,— и нам следует уяснить, что разумел поэт под своей «покор¬
ностью» богу и Платону, в чем заключалась она,— иначе мы многою
не осмыслим в стихах о Прекрасной Даме, составляющих важный этап
в творческом развитии Блока, первую часть его «трилогии вочелове¬
чения».1901 году, как началу нового века, поэт, мистифицируя и себя
и своих читателей, некогда придавал необычайное, таинственное, ми-
стическн-эпохальное значение, утверждая «в качестве свидетеля, не
вовсе лишенного слуха и зрения», что ужо январь 1901 года «стоял
под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года», что самое нача¬
ло нового столетия было исполнено новых и особых «знамений и пред¬
чувствий».Конечно, такого рода «историософия» лишена каких бы то ни было
реальных оснований, но она отвечает умонастроению самого Блока;
именно 1901 год являлся для поэта переломным, знаменательным, «ис¬
ключительно важным» (по его собственному признанию), «решившим
судьбу». С этого года и начинается новый и знаменательный этап в
жизни и творчестве Блока. С 1901 года в его лирике один за другим
возникают циклы, вошедшие впоследствии в книгу «Стихи о Прекрас¬
ной Даме». Этими стихами и начинается лирика Блока как явление
художественно зрелое и самостоятельное (при всей подражательности
и незрелости иных ее мотивов), не сводимое к творчеству предшествен¬
ников и учителей поэта, хотя бы и оказавших на него весьма сущест¬
венное влияние.Это время (1901—1902) примечательно для Блока тем, что его ог¬
ромное, всеохватывающее, страстно-напряженное чувство к J1. Д. Мен¬
делеевой сочеталось с мистической настроенностью, с увлечением идеа¬
листической философией, учением Платона, воспринятым в духе вы¬
сказываний Владимира Соловьева (1848—1901)—поэта и философа-
идеалиста, «апокалиптика», чающего «конца времен».Вл. Соловьев являлся певцом «вечной женственности» как боже¬
ственного начала, разлитою во всем мире и находящего воплощение
в облике возлюбленной,— и прежде чем непосредственно перейти к сти¬
хам, посвященным Прекрасной Даме (имевшей вполне реальный про¬
образ в лице Л. Д. Менделеевой), нам следует уяснить, в каких усло¬
виях и в какой атмосфере они создавались, что придало любовному,
доподлинному в своей основе чувству Блока необычайные и даже фан¬
тастические черты.Юный поэт жил внутренне замкнутой, одинокой жизнью (если не
считать специфически семейных отношений или гимназических зна¬
комств), предоставленный своим мечтам и фантазиям, принимавшим —
под воздействием всепоглощающего любовного чувства и особого рода
литературных и прочих влияний — все более восторженно-экзальтиро¬
ванный, а то и «мистический» характер. Он слагал своп стихи в особого
рода атмосфере — атмосфере «чрезмерной сказочности» (говоря слова¬
ми самого поэта); «чрезмерная сказочность», сочетавшаяся с равноду¬
шием к окружающей действительности, развивала склонность к бес¬
плотным фантазиям и смутным видениям, которым поэт и придавал
в то время особое, «провиденциальное», пророчествешюе значение. Все
это сказалось на характере интересов и увлечений Блока, на восприя¬
тии явлений литературы и искусства; среди них его внимание и вооб¬22
ражение на первых норах захватывало лишь то, что отвечало духу
«чрезмерной сказочности», шло ей навстречу, перекликалось с нею
и усиливало ее, предрасполагало поэта к углубленному восприятию
идеалистической философии, религиозно-мистической литературы и той
поэзии, которая питала его мечтательность и восторженность.В автобиографических записях, относящихся к ранним годам твор¬
чества, Блок говорит, что в это время «...мистика, которой был насы¬
щен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне
непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но всо
это я считал «субъективным» и бережно оберегал от всех». Осмыслить
эти «знаки», эти сны, мечты, фантазии, мистически медитации и по¬
мог поэту философ-идеалист древней Греции Платон, трактовавший
все реально сущее как отражение некоей идеальной сущности, мира
идей. Излагая воззрения Платона, Владимир Соловьев говорил, что
его учение представляет из себя «...дуалистический идеализм, прямо
по существу противополагающий всю нашу живую действительность
тому, что истинно есть и должно быть. В телесной и практической
жизни нет ничего подлинного и достойного; все подлинное и достой¬
ное пребывает в своей чистой идеальности, за пределами этого нашего
мира» (В. С. Соловьев. Собрание сочинений, т. 9, стр. 225).Нетрудно убедиться, что духом этого «идеалистического дуализма»
пронизана и поэзия самого Вл. Соловьева, некогда оказавшая весьма
значительное влияние на Блока, на формирование его мировоззрения.Особую роль в философии, и космогонпи Платона обретает (по-сво¬
ему воспринятое Блоком и глубоко отозвавшееся в его лирике) учениео «Душе мира» как начале, некогда оторвавшемся от божественного
и неустанно жаждущем соединения с ним; согласно этой фантастиче¬
ской концепции, «Мировая душа» некогда раздробилась — в процессе
своего «самопостижения» — на множество душ, в каждой из которых
по-своему сохранено тяготение к «божественному началу», названное
любовью, и каждой отдельной душе присуще скрытое в ее глубинах
воспоминание о связи с «Душою мира».Так утверждал Платон, а вслед за Платоном Вл. Соловьев
(в своих «Чтениях о богочеловечестве»), учение которого — смесь воз¬
зрений платонических и христианских — Блок воспринимал в то вре¬
мя как непререкаемую истину.Отныне не только философские представления Блока формирова¬
лась в духе «покорности» богу и философии Платона, но и реальное,
живое, страстно напряженное любовное чувство переосмыслялось поэ¬
том в духе учения Платона о «Мировой душе», о «сродстве душ», обре¬
ченных на вечные поиски друг друга, о «вечной женственности» как
нетленном и божественном начале. Вот почему особое значение для
Блока обрела и статья Вл. Соловьева «Смысл любви» (1892—1894),
развивавшая учение о «вечной женственности».В идеалистической философии поэта поразило то, что переживания
и «видения» — сугубо личные, субъективные, никому, кроме него, не
ведомые — каким-то непостюкимым и таинственным образом обрели
своих истолкователей и прорицателей, что на первых порах показа¬23
лось Блоку прямо-таки чудесным и удивительным: ему еще и сон не
успел присниться, а они уже разгадали его!Юному поэту, приступившему к изучению Платона и Владимира
Соловьёва, думалось: вот й разгаданы тайны тех «знаков», которые
мерещились ему во всем и везде, но дотоле оставались неясными и не¬
опознанными. А теперь поэт нашел ключ, с помощью которого можно
уяснить самые темные из них,— и с тем большим рвением стремился
он проникнуть в «великолепные миры» Платона и других философов-
идеалистов и мистиков.Всё мифы, предания, фантазии, учения древних философов-идеа-
листой И современных мистиков юный поэт стремился связать и спла¬
вить в нечто единое, в цельное мировоззрение; в его юношеском днев¬
нике мы читаем: «Собирая «мифологические» матерьялы, давно уже
хочу п положить основание мистической философии моего духа. Уста¬
новившимся наиболее началом смело могу назвать только одно: жен¬
ственное...» («Литературное наследство» ,№ 27—28, стр. 334),— и бро¬
сается в глаза, что подобного рода философствование весьма неориги¬
нально, несет на себе следы совершенно явного ученичества. Так, если
Вл. Соловьев утверждал, что все истинные поэты так или иначе воспе¬
вали в своих стихах культ «вечно женственного», то и Блок в поэзии
предшествовавших поколений склонен был усматривать те же образы
и те же «видения»; в набросках своей статьи о. декадентстве он замечал:
«Идея Вечной Женственности уже так громадна и так прочно фи¬
лософски установлена у Фета, что об ней нельзя говорить мало» («Ли¬
тературное наследство» № 27—28, стр. 319)., , В дуде учения Вл. Соловьева юный поэт, в пытался осмыслить все
предшествующее развитие русской лирики; что же касается современ¬
ной поэзии, то она — здесь для поэта не было ни малейших сомле¬
ем,к! -г-.«вообще ушла в мистику и одним из, наиболее ярких мистиче¬
ских созвездий выкатилась на синие глубины неба поэзии — Вечная
Женственность» (там же, стр. 320).Под этим «мистическим созвездием» поэт и стремился отныне со¬
здавать свои стихи. ;Еще более значительное влияние, чем отвлеченное философствова¬
ние В,л. Соловьева, возвращающего своего читателя к мистике древно¬
сти и схоластике средневековья, оказала на Блока его лирика, прони-
йаиная духом и пафосом «вечно женственного»..«...в связи с острыми мистическими и романтическими пережива¬
ниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловье¬
ва...» — говорит поэт в автобиографии, и стихи, Вл. Соловьева, чем-то
ответившие переживаниям самого Блока, перекликнувшиеся с ними,
явились для него целым откровением.Во многих своих стихах Вл. Соловьев выступает правоверным
«платоником», который противополагает миру божественных, неизмен¬
ных и извечных сущностей мир преходящих, подобных тени на стене
пещеры, явлений, только мешающих уловить «голоса миров иных»:- 'Милый друг, иль ты не видишь,Что все видимое нами —24
Только отблеск, только тринОт незримого очами?..В поэзии Вл. Соловьева «вечно женственное» трактуется как явле¬
ние космического масштаба и осмысляется как новый религиозный
культ, что полностью отвечало взглядам и переживаниям юного Блока.Знайте же: вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.... В свет.е немеркнущем новой богиниНебо слилося с пучиною вод... —вещал в своих стихах Владимир Соловьев, и для Блока это било не
только необычайно близким и родственным ему переживанием, во
и непреложной истиной: ведь и он в то время усматривал в своей
возлюбленной новое воплощение божественного, «вечно женственного»
начала (что утверждал и в письмах, адресованных Л. Д. Менделеевой).Экстатической восторженности и отвлеченной мечтательности поэ¬
та, всепоглощающей его влюбленности, кажущейся в глазах мистиче¬
ски настроенного юноши величайшим событием в истории всего мира,
отвечали и обращенные к «Вечной жене» стихи Вл. Соловьева, любов¬
ные его заклинания и моления, его склонность в личном переживании
усмотреть акт мировой мистерии, длящейся века и тысячелетия: ,Смерть и Время царят на земле, —Ты владыками их не зови;Все, кружась, исчезает во мгле.Неподвижно лишь солнце любви.И вслед за своим наставником и учителем Юный Блок" в то время
был готов воспевать и славить одно лишь «неподвижное солнце любви»,
в свете которого, казалось ему, меркло и исчезало все остальной. 1Конечно, и в более ранних стихах Блока (включенных в цикл
«Ante Juc.cm») можно обнаружить некое родство с лирикой Вл. Соло¬
вьева (в то время еще неизвестной юному поэту) но качественно
иной — и' философский — смысл, присущий «Стихам о Прекрасной Да¬
ме» во многом определяется знакомством с учением Платона и поэзи¬
ей Вл. Соловьева (так же как и другими произведениями философии,
литературы, искусства идеалиста чески-религнозного и мистического
характера) ; они особенно глубоко повлияли на Блока в период созда¬
ния стихов о Прекрасной Даме и заставили задуматься о том, что
раньше воспринималось поэтом всего лишь как непосредствехшое пе¬
реживание, не нуждающееся ни в каком объяснении и истолковании.О том, что в свое время значил для Блока Вл. Соловьев, можно су¬
дить по' письму, присланному поэтом отцу вместе с книгой «Стихи о
Прекрасной Даме»:i «...я старался избегать посвящений «знаменитостям»... Что касает¬
ся Вл... Соловьева, то он в эпиграфе слишком уместен. Быть может,
я стольким обязан его стихам, что лучше былё промолчать б «светлой
дочери темного хаоса» и не цитировать его... Но,—того требует окру¬
жающий хаос и «литературная» тупость. Лично же с Вл. Соловьёвым
мы некогда встретимся, но в просторной и светлой витрине неба ско¬
рее, чем в витрине книжных лавок, освещенных всесветными «газа¬
ми»,..» (1904), — и в стихах о Прекрасной Даме нельзя не заметить
глубокого увлечения лирикой Вл. Соловьева.Не только Блок, но и некоторые другие символисты, его сверстни¬
ки, восторженно воспринимали учение Вл. Соловьева и его лирику,
усматривая в ней событие огромного масштаба, важное для всего ми¬
ра; так. Андрей Белый в своих воспоминаниях о Блоке говорит, что
в начале нашего века означали лирика и учение Вл. Соловьева для
мистически настроенных молодых поэтов:«Она», или Муза поэзии Соловьева на нашем жаргоне являлась
символом органического начала жизни, душою мира, долженствующей
соединиться со словом Христа Из всех сочинений Вл. Соловьева ста¬
тья его «О смысле любви», напечатанная в «Вопросах псих[ологии]
if философии», являлась наиболее объясняющей нам нас в нашем
юном искании осветить не одним только мужским логическим началом
жизнь, но и женственным началом человечества. Она, или Душа чело¬
вечества, отображалась нам образно женщиной, религиозно осмысли¬
вающей любовь...» («Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 11), и это
толкование «вечной женственности» или «Души мира» — при всей его
фантастичности — разделялось тою молодежью, от имени которой го¬
ворит Андрей Белый в своих воспоминаниях.В пору создания стихов о Прекрасной Даме на Блока особенно
глубокое воздействие оказали и многие другие писатели и художники,
чьи произведения по-своему отвечали духу мистической настроенности,
экстатической восторженности и отвлеченной мечтательности юного
поэта. Здесь необходимо назвать Жуковского, в поэзии которого Блок
искал и видел то, что было близко ему самому: влечение к «небесному»
идеалу, романтизацию средневековья, мечтательную настроенность,
культ той любви, в которой человеку непосредственно открывается бо¬
жественное начало. «Первым вдохновителем моим был Жуковский»,—
говорит поэт в автобиографии, и родство с поэзией Жуковского явствен¬
но'сказывается во многих стихах о Прекрасной Даме.Творчество Полонского, Фета, Тютчева — поэтов, издавна близких
Клоку,— он в то время также трактовал в духе «вечно женственного»,
осмысленного религиозно-мистически (о чем и свидетельствуют многие
записи в его юношеском дневнике). Называя их (так же, как и Вл.
Соловьева) своими «великими учителями» («Литературное наследство»
Щ. 27—28, стр. 315), Блок искал в их творчестве ту «женственную
тень» и «женскую душу», которая, по его тогдашнему верованию, яв¬
лялась основой всего сущего. «Женская душа» стихов Тютчева необы¬
чайно сильна...» — уверял Блок н усматривал ее во многих стихах лю¬
бимого поэта.То же самое он готов сказать о Фете и Полонском, идя вслед за
Вя, Соловьевым. В критическом очерке, посвященном Полонскому, Вл.
Соловьев говорит: «Все истинные поэты так или иначе знали и чувст¬
вовали «женственную тень», но немногие ясно говорят о ней; из наших
яснее всех — Полонский»,— и, приведя эти слова, Блок добавляет: «Из
наших яснее всех конечно сам Соловьев...» (там же, стр. 319).
Значительное влияние оказала на Блока школа иенских романти¬
ков, возникшая в Германии на рубеже XVIII— XIX веков. Иенские
романтики (наиболее видными представителями которых были Ф. Шле-
гель, Новалис, Тик) рассматривали все земное в его отношении к бо¬
жественному и небесному, исповедовали культ религии и мистики,
мечтали о возвращении к временам феодализма, средневекового ры¬
царства, безусловного и неограниченного авторитета церкви, о преоб¬
ражении всей жизни на началах теократии (что и придавало их соци¬
альным утопиям явно реакционный характер, во многом усвоенный
в русским символизмом) .В. М. Жирмунский в своей книге «Немецкий романтизм и совре¬
менная мистика» (1914) говорит, что иенские романтики «сделали
чувственность основой своей мистики любви; тем самым они освятили
чувственность всею святостью, которою обладала в их произведениях
любовь как чувство бесконечного». Они утверждали, что «в индиви¬
дуальной любви проявляется любовь мировая и сама любовь к миру
открыта через1 любовь к женщине»,— и такое понимание.любви и ее
восприятие как связи религиозно-мистического начала с «плотским»,
чувственным родственно н близко раннему Блоку — певцу и рыцарю
Прекрасной Дамы, также стремившемуся пережить в чувствен¬
ной любви приобщение к «иному миру», божественному. и бессмерт¬
ному.В годы создания стихов о Прекрасной Даме Блок готов был рас¬
сматривать само искусство как область религиозного служения (утвер-
зкдая, что источник всех видов искусства один и «имя ему — бог»);
в этих высказываниях нельзя не услышать отзвук проповеди иенских
романтиков, воспринятой как непосредственно, так и через Жуковского
(«Поэзия есть бог в святых мечтах земли...» — говорил Жуковский
в драматической поэме «Камоэнс»).Несомненно, иенские романтики с их культом небесной любви, ми¬
стических откровений, обожествлением всего сущего, стремлением ус¬
мотреть в чувственной любви отзвук любви божественной и мистиче¬
ской во многом предвосхитили теорию и практику русского символиз¬
ма. Впоследствии в речи «О романтизме» (1919) Блок говорил о школе
иенских романтиков как об одном из источников русского символизма,
причем следует напомнить, что не только реакционные и мистические
воззрения иенских романтиков были позднее во многом усвоены сим¬
волизмом, но и их художественные принципы, соответствовавшие
стремлению выразить и воплотить в слове и образе чувства, настрое¬
ния, восприятия неуловимые и безотчетные, на грани яви и сна, не¬
коего транса. Для выражения всей их необычайности, неопределенно¬
сти, смутности недостаточным оказывалось обращение к привычным
художественным средствам, призванным передать реальные наблюде¬
ния и переживания. Только в их смешении, нарушающем и размываю¬
щем границы ощущения, в стирании его рамок н пределов рождаются
словно бы совершенно новые чувства, крайне утончается восприимчи¬
вость; тогда оказывается возможным начало исключительно духовное
перевести на цветовую гамму, краске придать музыкальную тональ-27
преть, голосу — определенную окрашенность (подробно об этом- гово‘
рится в уже упоминавшейся книге В. М. Жирмунского) п в этом
смешении обрести новые возможности слова и образа, перевести их
на язык той музыки, в которой словно бы растворяется, теряет свои
реальные очертания, а потому и безмерно расширяется вся область
переживаний и чувств. Так невские романтики открыли особую си¬
стему средств художественной выразительности.В своей поэме о Блоке Надежда Павлович вспоминает одну из
бесед поэта:I Вот Гофман, Тик, Новалис и Брешано!Величье? Нет! В таких величья пет,Но кое-что увидели в туманах,И снился нам их полуночный бред...И действительно, «полуночный бред» венских романтиков неког¬
да «спился» юному Блоку, отвечал состоянию его «непрерывного
восторга» (о котором он говорил в одном из своих писем), его жаж¬
де увидеть в земном — небесное, в любовной страсти — приобщение
к тайнам и откровениям божества; вот почему искусство иенских
романтиков (воспринятое поэтом в юности, судя по всему, не непос¬
редственно, а в вызванных им в позднейшей литературе отзвуках,
в той мере и степени, в какой оно было усвоено символизмом, одним
из источников которого и стала школа иенских романтиков) явля¬
лось в глазах Блока не только искусством, но и угадыванием той не¬
преложно]! и подлинной истины, которая недоступна для «дневного
разума» и для конкретно-чувственного опыта.Не менее существенное влияние оказала на раннего Блока
и школа искусства, выступившая в Англии в середине прошлого века
под именем «прерафаэлитского братства», развивавшая в новых усло¬
виях (в условиях господства процветающей, победоносной, самодо¬
вольной и духовно ограниченной буржуазии) взгляды и традиции
иенских романтиков и противопоставлявшая прозаической и буднич¬
ной современности, господству расчета и чистогана, романтику сред¬
невековья, поэзию рыцарских времен, легенды и предания старины,
преображенные в сказочно-фантастическом и мистическом духе.Искусство прерафаэлитов возникло как противовес и вызов господ¬
ствовавшему в то время искусству «академическому», застывшему
в условных и заранее заданных формах, сковывавших выражение жи¬
вого чувства во всей его непосредственности и глубине. Эту глубину
они видели не в изощренности и изысканности современной живопи¬
си, а на примитивных по характеру письма полотнах старых итальян¬
ских мастеров дорафаэлевской школы, с благоговейным и непосредст¬
венным чувством воплощавших сюжеты библейских легенд и евангель¬
ских преданий. В своих попытках вдохнуть в искусство новую жизнь
прерафаэлиты обращались к примитиву мастеров старинной школы
живописи, чтобы выразить — во всей его трепетности и донодлинйо-
сти -г- живое и цельное чувство, в глубинах которого им так же, как
некогда невским романтикам, мерещилось то святилище, где приот¬
крывается завеса божественных тайн и откровений, а человеческое,28
тленное и смертное начало словно бы сливается с началом божествен¬
ным и бессмертным. Так же как у венских романтиков, земная влюб¬
ленность их героев и героинь, погруженных в мистические сны и сла¬
дострастные видения, являлась вместе с тем и соединением с началом
нетленным и божественным, и в чувственной любви им мерещилось
нечто сверхчувственное — та сфера, где господствуют силы таинствен¬
ные, мистические, запредельные (такое сочетание чувственности и ми¬
стицизма станет впоследствии одним из самых устойчивых свойств
и характерных особенностей декадентского искусства).На их картинах жизнь предстает как некая мистерия, которую
свершают доблестные и мечтательные, закованные в латы рыцари
Круглого Стола, обольстительные волшебницы, от чьих всесильных
чар никому не дано уйти, ангелы, заслонившие огромными и словно
бы еще шумящими крыльями все небо, девы, потупившие перед ними
помутневший от страсти взор и сжимающие в дрожащих руках готог
кую выпасть белую лилию — символ целомудрия и святости; здесь
легендарный король Кафетуа склоняет колени перед нищенкой, устре¬
мившей отсутствующий и застывший взор в какой-то нездешний, таин¬
ственный мир и словно бы не заметившей протянутую ей корону
знак земного богатства и могущества. Да и чего стоят все земные бла¬
га перед теми сокровищами, которые мерещатся ей в ее снах наяву!йа полотнах прерафаэлитов мы видим и многих других рыцарей*
королей, прекрасных дам, волшебниц, спящих или грезящих наяву
дев, для которых все земное — лишь та оболочка, сквозь которую смут¬
но просвечивает и мерцает нечто иное, таинственное, непостижимое,
в чем они узнают и угадывают дыхание и веяние божества.Увлечение, живописью и поэзией прерафаэлитов, всякого рода сти¬
лизациями старинных мотивов в духе прерафаэлитов захватило в на¬
чале нашего века и некоторые круги русской либерально-буржуазной
м дворянской интеллигенции; оно отвечало стремлению к идеализа¬
ции старины, попыткам найти в религии и мистике прибежище от
надвигавшейся революции.Следует напомнить, что в той среде, где вырос Блок, увлечение
английскими прерафаэлитами принимало подчас характер культа,
чуть ли не молитвенного преклонения перед ними и теми их полотна¬
ми, которым сами прерафаэлиты придавали значение мистических вя-
зияаций, пророчеств, «откровений»; многие ближайшие друзья и род¬
ственники Блока видели в искусстве прерафаэлитов событие, далеко
выходящее за рамки живописи и литературы, причастное самым глу¬
боким переживаниям и самым большим вопросам человеческого бытвя,В своем биографическом очерке «Александр Александрович Блок»В. Княжнин говорил, что одна из родственниц поэта, Ольга Михайлов¬
на Соловьева (свояченица Владимира Соловьева), художница и пере¬
водчица, едва ли не первая открыла для России английских прерафаэ¬
литов и ревностно пропагандировала их искусство. Апологетом и по¬
клонником прерафаэлитов являлся и ее сын, поэт-символист Сергей
Соловьев, троюродный брат Блока, бывший в свое время одним из его
друзей и единомышленников,2Э
Писатель, художник, студент, «плененный» английскими прера¬
фаэлитами, будь то Гельман Гент, Данте Габриель Россетти, Берн-
Джойс или любой другой художник, принадлежавший к этой же шко¬
ле,— крайне характерная фигура для мистически настроенных кру¬
гов интеллигентской молодежи на рубеже XX века.В религиозно-мистической настроенности юного поэта, в его увле¬
чении искусством прерафаэлитов явно сказалось и влияние матери,
о которой поэт писал Зинаиде Гиппиус: «Близкие люди у меня есть
(схожусь с ними, конечно, разно — то в том, то в другом, кроме мате¬
ри, с которой — во всем)...» (1902),—а мать поэта благоговела перед
прерафаэлитами, и Берн-Джонс являлся в ее глазах одним из величай¬
ших художников всех времен и народов..Весьма знаменательно и то, что обширная, посвященная в основ¬
ном прерафаэлитазму статья известного немецкого искусствоведа Ри¬
харда Муттера «Россетти, Берн-Джонс и Уотс» публиковалась в том же
году и в том же журнале «Новый путь» (1903, №№ 6, 7), где появился
(впервые в «солидном» издании!) цикл стихов Блока «Из посвяще¬
ний», вошедший впоследствии в первую его книгу. Это свидетельст¬
вует, насколько в то время «корреспондировало» в восприятии редак¬
торов журнала, а также и его читателей искусство прерафаэлитов со
стихами Блока, опубликованными в этом «неохристиаиском» журнале,
я насколько в то время живопись прерафаэлитов и лирика Блока вос¬
принимались как нечто близкое и родственное друг другу.В ранних стихах Блока мы встречаем и специфически прерафаэ¬
литский пейзаж — сказочно-условный, выписанный в духе религиоз¬
ных и мистических впзинаций:Заповеданных лилий
Прохожу я леса.Полны ангельских крыли й 1
Надо мной небеса...Такого рода стихи с их «заповеданными лилиями» — символом
святости и непорочности — и небесами, сплошь заполненными крылья¬
ми ангелов, могут быгь восприняты как своего рода иллюстрация
к полотнам Россетти или Берн-Джонса. ,В искусстве прерафаэлитов Блока в юности захватывали и герои¬
ческое начало, и романтика подвига, и близкое ему в то время сочета¬
ние мистической экзальтированности с «трепетной чувственностью»,
и дух сказочности, фантастики, противостоящей жалкой прозе буржу¬
азией) общества,— все то, что отвечало.его собственным восторженным
чувствам и настроениям.То же самое подчеркивает и С. Соловьев в своих воспоминаниях
о Блоке («Письма», стр. 14—15):«В этот период у Блока несомненно было нечто от подлинной ми¬
стики Соловьева, стихи его были полны лазури, света и белизны ли¬
лий. Иногда они окрашиваются нежными красками прерафаэлитов..,
Иногда,— продолжает С. Соловьев,— в них мерцают лампады и таин¬
ственная мгла готического храма:30
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаныг красных лампад».Да и сам поэт весной 1903 года говорил в письме к С. Соловьеву:«Радостно «упрекнем» друг друга в «несвоевременном» (как по¬
лагают!) «прерафаэлнтстве» (как говорят!)...» («Письма», стр. 51).О том, чем в свое время являлось для Блока искусство прерафаэ¬
литов, свидетельствуют и его — составленные в гораздо более зрелые
годы (1908—1918) —■ «хронологические таблицы» XIX века, в которых
он сопоставлял наиболее знаменательные, иа его взгляд, события из
разных областей жизни и культуры, пытаясь установить характер их
внутренней связи, их «музыкальный» ритм, как сказал бы сам поэт.
Здесь он счел возможным упомянуть лишь два факта, относящихся
к истории живописи: организацию в Англии «прерафаэлитского брат¬
ства» (1848) и выставку первых картин Данте Габриеля Россетти
(1849) — наряду с упоминанием «Коммунистического манифеста»,
французской революции, творений Эдгара По и Вагнера, сыгравших
огромную роль в жизни и творчестве Блока.Как видим, даже и многие годы спустя, целиком высвободившись
из-под влияния искусства прерафаэлитов, поэт не увидел во всей ми¬
ровой живописи XIX века других, более выдающихся явлений, достой¬
ных включения в его «синхронную» таблицу!Можно было бы говорить и о других явлениях философии и рели¬
гий, искусства и Литературы, отозвавшихся в стихах о Прекрасной
Даме,— таких, как старинные мифы и современная мистика, древняя
и вдохновенная «Песнь песней», обращенные к Лауре сонеты Петрарки
(строки которых становились эпиграфами в лирике Блока), и «Vita
ruiova» Данте, его «Новая жизнь», являвшаяся в глазах Блока гимном
бессмертному, «вечно женственному»- началу, достойному религиозно¬
го поклонения (но образу и примеру «Vita rtuova» Блок уже в послед¬
ние годы жизни пытался заново перестроить свою первую книгу, пере¬
межая стихи прозаическими комментариями мемуарного и лирико-фи¬
лософского характера), и многое другое, что захватывало воображение
поэта, что он- стремился перенести в свою жизнь и свое творчество.
Все это следует принять во внимание читателю «Стихов о Прекрасном
Даме», если его интересует их «генеалогия», характер сказавшихся
в них влияний. Но и на основании уже рассмотренного материала
очевидно, что философские и космогонические представления юного
Блока отличались явной наивностью, инфантильностью, отвлеченной
мечтательностью н фантастичностью. Эта инфантильность сказывалась
и в полнейшем отвержении «позитивизма» ~ «положительных» зва¬
ний, точных наук — и в решительном предпочтении им мистики, вы¬
мысла, «откровений», как якобы единственных источников истинного
познания.В конспекте лекций Гегеля по истории философии Ленин замеча¬
ет, характеризуя воззрения Пифагора:«N В: связь зачатков научного мышления и фантазии а 1а рели¬
гии, мифологии. А теперь! То же, та же связь, но пропорция наукиv3t
и мифологии иная» (В. И. Ленин. «Философские тетради». Государст¬
венное издательство политической литературы, 1947, стр. 235).Если же говорить о мировоззрения Блока (особенно в молодо¬
сти) — с его презрением ко всякой «позитивной» науке, да и вообще
с полным равнодушием к науке как логически связной системе позна¬
ния, опирающегося на конкретно-чувственный опыт, то «пропорция
науки и мифологии» складывалась у пего явно не в пользу первой из
них: тут решительно преобладала мифология и мистика, что сказыва¬
лось (как мы увидим) и на характере его творчества.В стихах о Прекрасной Даме поэт называет себя «поклонником
эллинов»,— но все Hie следует отметить, что в космогонии и философии
древних Блока привлекала не чисто логическая сторона, а тот лиризм,
к.которому поэт никогда не оставался равнодушным.Идеалистическая философия древних времен захватывала его
именно потому, что не была отделена от образного творчества и давала
пищу для самого пылкого воображения, для лирики, да и воспринима¬
лась Блоком как самая возвышенная лирика: учение о «Душе мира»,
жаждущей соединиться с божественным началом, о музыке сфер, на¬
полняющей своею гармонией всю вселенную, о памяти, таящей в сво*
их глубинах бесчисленное множество предшествовавших существова¬
ний и воплощений, о любви как о сродстве душ, обреченных па вечное
томление и вечные поиски друг друга, о таинственных числах, влияю¬
щих на ход планет и судьбы людей, о бессмертном бытии человеческой
души и бесконечных ее возвращениях на землю — в новых обличиях,
и многое другое, что Блок воспринимал как дивную поэзию.Что же касается идеалистической философии как системы логиче¬
ских выкладок, как предмета изучения, требующего немалых усилий
и, напряженных занятий, то она не слишком-то увлекала поэта (как
сообщает он в одном из своих писем к отцу); к учению Платона (да
и других филоеофов-идеалистов) как «логической системе» Блок был
явно равнодушен, и «целесообразные занятия», посвященные ее усвое¬
нию, нередко оказывались ему в тягость; если он и воспринимал эту
философию, то именно как поэт, искавший и находивший в ней отлич¬
ное «горючее» для своего воображения, своей фантазии, своих ви¬
дений.С годами «тревога жизни» все глубже охватывала поэта; его безу¬
держно потянуло на свежий воздух, к людям, к жизни — настоящей,
а не придуманной в некоей мистической экзальтации, что отозвалось
и. в его творчестве, и в переоценке тех ценностей, которые дотоле пред¬
ставлялись ему великими и незыблемыми.В чаянии наступления некиих «апокалипсических» времен и «апо¬
калипсического» синтеза, когда (как сообщает поэт в письме к Зинаиде
Гиппиус) «ничего уже не будет проклятого» (ни в области духа, ни в
области плоти), Блок спрашивает (в том же письме): «...не заключены
ли мы по самой природе своей в рамки одного ожидания (этих «апока¬
липсических» времен.— В. С.) и относительного (по отношению к по¬
следнему) бездействия?..» (1902).Но эта философия «бездействия», созерцания, «недвижности» ско¬32
вывала самого поэта, его проснувшиеся и рвущиеся нарушу жизнен¬
ные силы, а потому и не могла (как показали дальнейшие событии)
слишком долго выдержать их напора.Вскоре — в письме к 3. Н. Гиппиус (1902) —поэт признается, что
ому «иногда хочется нового», ибо «вся жизнь медленная, ее мало, мало
противовеса крайнему мистицизму», который влечет за собой «непобе¬
димое внутреннее обмеление...» («эти Ваши слова я очень оценил»,—
говорит поэт своему адресату).О растущем равнодушии поэта к тем схоластическим и «теургиче¬
ским» проблемам и теориям, какие захватили его друзей, свидетельст¬
вует и Сергей Соловьев в своих воспоминаниях о Блоке:«...Я усиленно советовал ему заняться чтением «Истории теокра¬
тии» (В. Соловьева.— Б. С.). Но вместо этого нашел у него на столе
«Будем как солнце» и «Только любовь» Бальмонта...» («Письма»,
стр. 21—22),— да и сами стихи Блока все меньше отвечали духу мо¬
литвенной созерцательности и мистической настроенности. Сергей
Соловьев увидел, что в них — вместо «ангельских крылий» — появил¬
ся «кто-то косматый, кривой и рогатый...» (там же) — что не могло
не встревожить религиозно настроенного юношу («уж не черт ли?!»).Блок все более решительно начинает искать «противовеса» своему
мистицизму в той реальной действительности, мимо которой раньше
проходил равнодушно и высокомерно. Эти поиски изменили и самый
характер его творчества, и оценку тех деятелей литературы и искус¬
ства, которые еще так недавно являлись в его глазах незыблемыми
авторитетами, провозвестниками глубочайших истин.Так, для него все очевиднее становилось, что искусство прерафаэ¬
литов противостояло современной жизни; величайшие движения и со¬
бытия современности проходили мимо прерафаэлитов, не привлекая их
внимания. Они были погружены в свои сонные грезы, сказочные ви¬
дения и не хотели знать ничего другого, связанного с реальной дейст¬
вительностью. Вот почему Блок уходил от них с годами все дальше
и дальше,— о чем он впоследствии и говорит в письме к Сергею Со¬
ловьеву по, поводу его стихотворения «Королевна», автор которого уве¬
рял, что для него «тревога жизни отзвучала и замирает далеко», пола¬
гая, что Блок полностью разделит эти настроения. А поэт отвечал
своему другу и единомышленнику самым неожиданным образом: «По
этому поводу мне приходит в голову нечто о прерафаэлитстве (ибо ты
к нему в последнее время, кажется, близишься, в противоположность
мне, удаляющемуся); «Королевну» я нахожу в большой степени пре¬
рафаэлитской, Оно не может быть забыто теперь, но оно и не к лицу
нашему времени» (здесь поэт отвечал и на недавние упреки С. Соло¬
вьева в том, что в последних стихах Блока он усмотрел «некоторый
поворот», определенный им как «отрешение от прерафаэлизма») (1903,
ЦГАЛИ, ф. 55, он. 1, ед. хр. 408, стр. 30).• Эти высказывания Блока крайне знаменательны; они свидетель¬
ствуют о том, что, во-первых, и сам он испытывал на себе — явно осо¬
знанное им — влияние прерафаэлитов, а во-вторых, теперь он вправе
говорить о себе как об «удаляющемся» от прерафаэлитства — по мере
того как голоса современности все настойчивое звучали в ушах поэта.С годами эта переоценка коснется и такого учителя и «наставни¬
ка» Блока, щк Владимир Соловьев: если в пору создания стихов о Пре¬
красной Даме он представлялся поэту «гигантом», сокрушившим
в своих трудах твердынн «либерализма» и «материализма», то вскоре,
как мы увидим, этот «гигант» предстанет перед поэтом в ином свете
и гораздо более скромном виде. Но нельзя забывать и о том, что стихи
о Прекрасной Даме создавались в те годы, когда поэт, по его поздней¬
шему признанию, еще «мало что видел и мало сознавал в жизни», в ту
мору, когда у него «жизненных опытов» не было долго». Эти опыты
подменялись в значительной мере опытом воображаемым, измышлен-
йым, фантастическим,— вот почему поэт и оказался необычайно вос¬
приимчив к идеалистической философии, смутным вещаниям теологов
м мистиков, к той «чрезмерной сказочности», в духе которой и созда¬
вались стихи о Прекрасной Даме.3. «ВЛАДЫЧИЦА ВСЕЛЕННОЙ»Циклы «Стихов о Прекрасной Даме» (1901 — 1902), создание кото¬
рых означает начало творческого пути Блока как уже сложившегося
и самобытного художника (при всей несамостоятельности иных моти¬
вов), прежде всего отвечают живому и доподлинному, страстно-напря¬
женному чувству, всецело захватившему поэта и обращенному к его
возлюбленной — Л. Д. Менделеевой.Поэту в его «совершенно особом» (то есть мистическом) состоянии
в начале 1901 года кажется (вспоминает он много лет спустя), что ему
«...явно является Она. Живая же (то есть Л. Д. Менделеева.— Б. С.)
оказывается Душой мира (как определилось впоследствии), разлучен¬
ной, плененной и тоскующей...» («Дневник», 1918).Так иод влиянием «великолепных миров» идей Платова, лирики
Вл. Соловьева, мистической настроенности и сама любовь обретает в
глазах поэта черты идеальные, небесные, и в своей возлюбленной он
видит не обычную земную девушку, а ипостась божества. В стихах
о Прекрасной Даме поэт воспевает ее и наделяет всеми атрибутами бо¬
жественности — такими, как бессмертие, безграничность, всемогущест¬
во, непостижимая для смертного человека премудрость; все это поэт
усматривает в своей Прекрасной Даме, которая ныне «в теле нетлен¬
ном на землю идет» (словно бы отвечая на моления и заклинания
Вл. Соловьева).О том, насколько решительно заявлял он о своей готовности всю
жизнь посвятить служению Прекрасной Даме, свидетельствует и чер¬
новик его письма, обращенного к Л. Д. Менделеевой, в котором де¬
лаются совершенно фантастические и невероятные признания и пред¬
положения; мы читаем в этом письме, включенном в юношеский днев¬
ник поэта:«...Я стремился давно уже как-нибудь приблизиться к Вам (быть
хоть Вашим рабом, что ли — простите за тривиальности, которые не
без намерения испещряют это письмо). Разумеется, это и дерзко и в34
сущности даже недостижимо (об этом еще будет речь)', однако меня
оправдывает положительная и глубокая вера в Вас (как в земное воп¬
лощение пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности, ес¬
ли Вам угодно знать...)» («Литературное наследство» № 27—28,
стр. 353).Поат мыслил в то время и всю свою жизнь как молитвенное слу¬
жение возлюбленной; он говорил впоследствии: «...Я встретил ее здесь,
и ее земной образ, совершенно ничем не дисгармонирующий с незем¬
ным, вызвал во мне... бурю торокества...» (1918) — тот восторг, равного
которому, казалось ему, нет на земле (ведь не случайно поэт «сильно
"светился» в это время, как записывает он в том же дневнике).Подвластный этой буре, с которою, вероятно, знаком каждый влюб¬
ленный, и полностью захваченный ею, поэт видел в предмете своей
страсти все мыслимое совершенство, ту «Владычицу вселенной», у ног
которой простирается вся земля, и реально зримые ее черты представ¬
лялись ему небесными и божественными.Психологически все это нетрудно объяснить, если принять во вни¬
мание и страстпо-напряженное чувство, всецело захватившее поэта,
и его «сентиментальное воспитание», его восторженно-мистическую
настроенность; он верил в JI. Д. Менделееву как в земное воплощение
«Души мира», п «Стихи о Прекрасной Даме» пронизаны этой верой (ей
пришлось выдержать впоследствии самые большие и суровые испыта¬
ния), в духе которой Блок переосмыслил и свои собственные чувства,
назначение своих стихов, ставших призывами и молитвами, обращен¬
ными к новому божеству.Отныне поэт видит себя в образе рыцаря, давшего обет вечного
служения своей возлюбленной, своей Прекрасной Даме » поклоняю¬
щегося только ей;Вхожу я в темные храмы,Совершаю бедный обряд.Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцанья красных лампад.В тени у высокой колонны
Дрожу от скрина диерен.А в лицо мне глядит, озаренный,Только образ, лишь сон о Ней...Погружаясь в свои «сказки и сны», он покорно склоняет перед нею
колена и готов безропотно выполнять ее волю, святую для него, всегда
служить «Величавой Вечной Жене», чей земной образ неотделим от
того, который мерцает на иконах в сиянье лампад и золоте риз. Ему
кажется, что весь смысл его жизни в том, чтобы свято выполнить не¬
когда данный ей — и навсегда нерушимый — «завет служенья», и чей
темнее храм, чем беднее обряд, тем ослепительнее образ той, кому он
воссылает свои моленья, тем выше влекут его бегущие по карнизам
«улыбки, сказки и сны», обещающие исполнение невозможного и чу¬
десного.Прекрасная Дама, единая и неизменная в своем совершенстве,
в своей дивной прелести, вместе с тем постоянно меняет черты и я а -
лястся перед своим рыцарем и слугой то «Девой, Зарей, Купиной», то
«Женой, облеченной в солнце», и это к ней взывает поэт — в чаяниивремен, предреченных в старинных и священных книгах:Тебе, Чей Сумрак был так ярок,Чей голос тихостью зовет, —Приподними небесных арок
Все опускающийся свод...А когда «Она» услышит моления поэта — времени больше не бу¬
дет и весь мир преобразится в том сиянии, которого не сможет выдер*
жать ни одно живое существо...■ ' Словно приобщившись к непостижимым Для непосвященных тай¬
нам, ‘ юный почт противопоставлял всему «бренному» и преходящему
свои мечты и фантазии, некие извечные и неизменные ценности, не
подвластные законам, установленным людьми и самою природой:Все лупи моей свободы
Заалели там,Здесь снега и непогоды
Окружили храм... —а далее поэт надо всем «преходящим» и «тленным» воздвигает извеч¬
ный и неизменный образ своей возлюбленной.В то время еще весь мир, окружавший поэта, казался ему только
одною из тех сфер, которые полностью подвластны его Прекрасной
Даме, и в этой фантасмагории он усматривал основы своей философии
и космогонии:Я и мир — снега, ручьи,Солнце, песни, звезды, птицы,Смутных мыслей вереницы —<Все подвластны, все — Твои!' Вот почему призывы поэта обретают характер торжественныхгимнов и молитвенных песнопений, с которыми верующие обращаются
к божеству:Сегодня шла Ты одиноко,Я не видал Твоих чудес,Там, над горой Твоей высокой,Зубчатый простирался лес...Ему кажется: сотворение чудес в ее воле н власти — стоит ей лишь
пожелать их! В порыве молитвенного экстаза поэт словно забывает о
всем земном,. устремляется к небесному, и порою язык этих стихов за¬
имствует свою торжественность и самый словарь из церковных песно¬
пений, псалмов, молитв:Здесь — смиренномудрия
Я кладу обеты.В ризах целомудрия,О, святая, где ты?..36.
Подобные стихи словно'бы составляют часть ритуала, исполнение
которого поэт почитает своим долгом, своею отрадой.Любовное его чувство, дотоле юношески непосредственное, приня¬
ло иной, новый характер, и, как говорит он впоследствии, «...«влюблен¬
ность» стала меньше призвания более высокого, но объектом того
и другого было одно и то же лицо...».Здесь под «призванием» подразумевается молитвенно-покорное
служение возлюбленной:Со мной всю жизнь —• один завет:Завет служенья Непостижной...Сама любовь, в которой поэт видит начало, соединяющее его с бо¬
жеством, ныне принимает иные — грандиозные и вселенские — масш>
табы, чуждые обычных земных измерений:В моем забвенья без печали
Я не могу забыть порой,Как неутешно тосковали
Мон созвездья над Тобой!Эта необычайная масштабность мира чувств, переживаний, стра¬
стей становится отныне одной из самых существенных и неотъемлемых
особенностей лирики Блока (хотя впоследствии и обретет совершенно
иные черты).Все виденья так мгиовеины —Буду ль верить им?Но. Владычицей вселенной,Красотой неизреченной,Я, случайный, бедный, тленный,Может быть, любим...—и уже одна эта возможность наполняет сердце поэта «непрерывным
восторгом» и предчувствием такого счастья, выше и полнее которого
пет ни на земле, ни в небесах. Отныне, приобщившись иекиим , тай¬
кам, непостижимым для обычного, «дневного» разума, ноэт всему зем¬
ному и тленному противопоставляет иное, сверхчувственное бы.тие.,-*-.
нетленное и неизменное, лишь смутно угадываемое в пророчественных
откровениях, даруемых «избранным». Среди «суетливых дел мирских»,
не имеющих власти над его сердцем, поэт стремится услышать хотя
бы самый отдаленный отзвук «голосов миров иных», тех миров, кото¬
рые являются — в глазах верного служителя Прекрасной Дамы —
единственно истинным бытием, рядом с которым тенью и призраком
кая^тСя все земное и «бренное».Мифы Платона, фантастическую космогонию Пифагора, учение
о музыке сфер, о «Мировой душе» и отколовшемся от нее множестве
душ, хранящих в своих глубинах память о неисчислимых воплоще¬
ниях и перевоплощениях,— все это поэт стремится утвердить в жиз¬
ни, увидеть наяву, запечатлеть в своем творчестве:Все бытие и сущее согласно
В великой непрестанной тишине.31
Смотри туда участию, безучастно,—
Мне все равно — вселенная во мне.В этой воображаемой вселенной, вмещающей в себя начала п кон¬
цы бытия, всякое движение и всякая перемена мнимы и призрачны.
Подлинно истинное, утверждает поэт, является извечным и недвиж¬
ным в своей сущности, не подвержено никаким влияниям, воздействи¬
ям, переменам,— что во многом определяло новые темы и мотивы ли¬
рики Блока, принимающей подчас характер изложения и утверждения
основных постулатов идеалистической философии древности:Из мрака вышел разум мудреца,И в горной высоте — без страха н усилья —Мерцающих идей ему взыграли крылья.Эти «мерцающие идеи» Блок и стремился усвоить, воспринять,ут¬
вердить перед лицом всего мира; все окружающее, не имеющее каса¬
тельства it его любви, казалось поэту тенью тех извечных и неизменных
сущностей, которые могут быль постигнуты лишь в откровении, а не
сознательными усилиями человеческого разума. Так увлечение «вели¬
колепными мирами» идей Платона оборачивалось равнодушием и пре¬
зрением к окружающей поэта действительности:Душа молчит. В холодном иебе-
Все те же звезды ей горят.Кругом о злате иль о хлебе
Народы шумные кричат...Она молчит — и внемлет крикам,И зрит далекие миры...Захваченный преданием' о сродстве, душ, обреченных на вечные
поиски друг друга, поэт верит, что ого душа...в тишиНеустающим слухом ловит
Далекий зов другой души... —и что ей до «злата» или «хлеба», когда все это — лишь преходящая
тень перед «неподвижным солнцем» (Вл. Соловьев) его любви?
ч Увлечение космогонией эллинов, библейскими мифами, древними
преданиями по-своему определяло и самый пейзаж стихов о Прекрас¬
ной Даме. Блоку с детства была близка и дорога природа Подмоско¬
вья. Будущий поэт и его дед «делали десятки верст, заблудившись
в лесу; выкапывали с корнями травы и злаки для ботанической кол¬
лекции...». При этом дед показывал, как сообщает поэт .в автобиогра¬
фии, растения и, определяя их, учил его «начаткам ботаники», так что
Блок и годы спустя помнил «много ботанических названий».Но молодой поэт словно бы забывал то, чему учил его дед, знаме¬
нитый ботаник, и что сам он повседневно видел, бродя вокруг шахма-
товской усадьбы; если судить по стихам о Прекрасной Даме, он жил
в каком-то условном и вымышленном мире и подчас смотрел словно
бы сквозь окружающую его природу, не замечая ее и стремясь увидеть
нечто иное, неуловимое, ускользающее от взора и тающее в лазури.
Реальные и зримые черты пейзажа во многих стихах о Прекрасной Да¬
ме зачастую вытеснены теми фантасмагориями,- которые порождены
воображением мечтательного и мистически настроенного юноши:Из лазурного чертогаВремя тайне снизойти.Белый, белый ангел богаСеет розы на пути...Относительно этих картин можно сказать только то, что они скорее
пригрезились, чем увидены наяву,— но именно они крайне характерныв ранней лирике Блока.В бездействии младом, в передрассветной лени.Душа парила ввысь и там Звезду нашла.Туманен вечер был, ложились мягко тени,Вечерняя Звезда, безмолвствуя, ждала.,.Здесь нет реальных предметов — любой из них воспринимается;
как своего рода эманация духа и словно бы растворяется на глазах.
В этом «парении» и сам поэт мнит себя бесплотным духом — в сонме
других, таких же бесплотных и парящих в «высях творенья» (Тютчев).В том «радостном саду», в котором бродил поэт, почти совершенно
не было места для обычных — земных — цветов й деревьев, все обре¬
тало легкие, воздушные очертания, обращалось в мечту, сказание,
легенду, и если поэт блуждал, то казалось, не в рощах, окружавших
Шахматове, а в лесу «заповеданных лилий»; если он и внимал пению
птиц, то не тех, которых можно услышать в Подмосковье, а Сирину
и Гамаюну; тропинка становилась под его нотами «лазурной стезей»,
уводящей в иные миры, где нет места обыденному и житейскому, а не¬
бо над ним, казалось, полно «ангельских крылий».Правда, и в этих стихах сквозь черты пейзажа условного и вы¬
мышленного нодчас проступали иные, и именно об этом говорит Анд¬
рей Белый в своих воспоминаниях о Блоке:«Здесь, в окрестностях Шахматова, что-то есть от поэзии Блока;
и — даже: быть может, поэзия эта воистину шахматовская, взятая из
окрестностей; встали горбины, зубчатые лесом; напружились .почвы и
врезались зори:, .И вдоль вершин зубчатых лесаЗасветит брачная заря...»И Белый вспоминает окрестности Шахматова, по-своему озарен¬
ные поэзией Блока:«...мне кажется: знаю я место, где молча стояла «Она», «устремив¬
шая руки в зенит»: на прицерковном лугу, заливном, около синего пру¬
дика... и кажется, что гора, над которой «Она» оживала,— вот та:Ты живешь над высокой горой...Гора та — за рощицей, где бывает закат, куда мчалися искры поэ¬
зии Блока...» («Эпопея» № 1, стр. 238—239).
Вот эта верность подлинному переживанию и реальному наблюде¬
нию, пока еще отступающая перед наплывом мистических «визита¬
ций», и определит впоследствии важнейшие черты и особенности лири¬
ки Блока.Преисполненный жаждой подвига во имя своей Прекрасной Да¬
мы — подвига служения, требующего всей жизни, поэт утверждал,
обращаясь к возлюбленной, в которой для него сосредоточены вся тай¬
на и весь смысл бытия:Будет день —и свершится великое,Чую в будущем подвиг души...Так «воля к подвигу» уже и тогда явственно сказалась в творчест¬
ве Блока, хотя подвиг и рисовался юному поэту в чертах еще слишком
смутных, отвлеченных, чуждых реальной жизни; он еще и сам не
знал, что это за подвиг, предчувствие которого преисполняло душу
ожиданиями и восторгом, а потому и обряжал подвиг в рыцарские
одеяния, заимствованные из старинных легенд, древний мифов, преда¬
ний средневековья. Здесь «воля к подвигу», искони присущая Блоку
и пронизывающая всю его лирику, явлена в образах фантастических,
книжных, обращенных к далекому прошлому,— и все же в основе
своей она глубока и несомненна, отвечает самым коренным свойствам
характера поэта.Как свидетельствует Сергей Соловьев, эпиграфом в тетради посвя¬
щенных Прекрасной Даме стихов раннего Блока служили слова Пуш¬
кина о «бедном рыцаре»:Он имел одно виденье,Непостижное уму...В своих мечтах поэт и представлялся самому себе тем «бедным ры¬
царем», о котором некогда писал Пушкин, и так же готов был почи¬
тать наивысшим счастьем, какое может выпасть на долю человека,
служение Прекрасной Даме — извечно той же самой, хотя бы и изме¬
нившей свой облик и свое имя:Полон чистою любопыо,Верен сладостной мечте,Л.Д.М. — своею кровью
Начертал он на щите...Так переиначивал поэт на свой лад стихи Пушкина, заменяя имя
девы Марии инициалами своей возлюбленной, своей Прекрасной Дамы.| Тогда же, в лето 1901 года, которое поэт называл «мистическим»,
ои впервые признался своей возлюбленной, что пишет стихи (дотоле он
три года скрывал это от нее!) — стихи, несомненно посвященные, ей,—
но; в таких стихотворениях, как «Servus — Reginae», она «не узнава¬
ла себя, не находила...»: слишком высоко возносил ее поэт и слишком
самозабвенно обожествлял,— и «злая ревность «женщины к искусст¬
ву»,. которую принято, так порицать, закрадывалась в душу...» — гов.о-М)
рит она в своих воспоминаниях (Л. Д. Блок. «Быль и небылицы о Бло¬
ке и о себе». ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 519, стр. 77—79).И' все же со временем и постепенно она входила в этот мир поэ¬
зии, где «...не то я, не то не я, но где все певуче, все недосказано...»,—
сознавай,-что «...эти прекрасные стихи так юга иначе идут от меня...»
(и это не могло не польстить ей!).Постепенно, продолжает Любовь Дмитриевна, «...я отдалась страд¬
ной прелести наших отношений. Как будто и любовь, но в сущности
одни литературные разговоры, стихи, уход от жизни в другую жизнь,
в трепет идей, в зацветающие образы. Часто, что было в разговорах,
в словах, сказанных мне, я находила потом в стихах...» (там же).Но поэт, слагавший гимны в честь своей возлюбленной как некое¬
го божества, в то время так и не сумел приблизиться к ней и, казалось,
готов был удовлетвориться одними лишь разговорами и песнопениями,
что вызывало у нее раздражение и даже гнев: совсем не так действо¬
вали в подобных обстоятельствах герои Марселя Прево, Пьера Лоти
и Поля Бурже, по «запретным» романам которых она училась пости¬
гать «тайны жизни».Д. Д. Блок вспоминает:.«...все же порою с горькой усмешкой бросала я мою красную вер¬
бену, ■ увядшую, пролившую свой тонкий аромат так яга напрасно, как
и этот благоуханный летний день...» .А затем следует еще более горькое признание, свидетельствующее
о. том,, что молодая девушка стремилась в то время жить, а не ограни¬
чиваться одними лишь разговорами о жизни, хотя бы самыми лири¬
ческими и возвышенными:«Никогда не попросил он у меня мою вербену, и никогда не заблу¬
дились мы с ним в цветущих кустах...» (там Же, стр. 79—80).Но поэт, поглощенный своими мистическими фантазиями и визи-
нациямй, даже и не подозревал, о чем мечтает его возлюбленная,' ко¬
торой, Как полагал он, чуждо все «земное'» и «бренное». '■ ,;“Как вспоминает Любовь Дмитриевна, она «устала ждать», счита¬
ла себя «освободившейся», зимой 1901 года «думала о Блоке уже! толь¬
ко с досадой» и записывала в своем девическом дневнике (погибшем
в Шахматове в годы гражданской войны) очень резкие фразы на его
счет, вроде того, что «...мне стыдно вспоминать влюбленность в этого
фата с рыбьими темпераментом и глазами...» — как говорит она в своих
воспоминаниях о Блоке (ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 519, стр. 60).Но совершенно очевидно, что молодая и неопытная девушка явно
оптба'лась в характеристике своего слишком-сдержанного поклонника,
и то, что она почитала «рыбьим темпераментом», на самом деле явля¬
лось выражением самой напряженной страсти, не находившей исхода
и доводившей поэта до мыслей о самоубийстве. ; ■ > !О том, насколько в то время Блок был увлечен своими мистиче¬
скими фантазиями о «Вечно женственном» и его божественном вопло¬
щении в облике Л. Д. Менделеевой, свидетельствует ее неотправленное
письмо (относящееся к началу 1902 года), в котором она горько и
гнёвно выговаривает поэту, - вовсе не собираясь отступиться от своих41
человеческих прав во имя какого-то возвышенного, но бесплотного
и крайне далекого ей идеала:«Мы чужды друг другу... Вы меня не понимаете... Ведь Вы смотри¬
те на меня как на какую-то отвлеченную идею, Вы навоображали обо
мне всяких хороших вещей и за этой фантастической фикцией, кото¬
рая жила только в Вашем воображении, Вы меня, живого человека,
с живой душой, не заметили, проглядели...»Далее возлюбленная поэта объявляет ему о «разрыве» (как оказа¬
лось, временном), возмущенно напоминая ему о том, что он словно
бы пропускает мимо ушей призыв: «надо осуществлять...» (причем она
имела в виду, конечно, «осуществление» — и закрепление в браке — тех
любовных отношений, которые давно уже захватили ее), а вместо
этого пытается вознести ее от земли «на какие-то высоты», где ей «хо¬
лодно, страшно и... скучно...» («Ученые записки Ленинградского госу¬
дарственного педагогического института, факультет языка и литера-
ры», т. XVIII, выпуск 5-й, стр. 250, 1956; публикация Д. Е. Макси¬
мова).Переписывая неотправленное письмо Блоку, Любовь Дмитриевна
замечает в своих воспоминаниях: «Прекрасная дама взбунтовалась...» —
и в оправдание своего «бунта» против слишком мечтательного поэта
апеллирует к своим читателям: разве вы не чувствовали, «...как запе¬
вает Торжественный гимн природе ваша расцветающая молодость?..»
(ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 519, стр. 101) —крайне недовольная тем,
что «гимн природе», властный и неодолимый, поэт стремился заглу¬
шить другими гимнами, сугубо молитвенными и весьма туманными.
Вот почему она стала избегать Блока, уклонялась от встреч с ним,
зимою. 1901—1902 года усиленно занималась на театральных курсах
у М. Читау, а лето провела также в отчуждении от Блока и тогда же
«со зла» начала «флиртовать с мальчишками и реалистами...» (там же,
стр. 107).Так «Прекрасная Дама» мстила поэту за то, что он возвел ее
в ранг божества и совершал моления в ее честь, не сообразуясь с её
волей, желаниями, надеждами и даже с самим ее живым и юным су¬
ществом.В своих статьях, объединенных названием «О так называемых ре¬
лигиозных исканиях в России», Плеханов писал, что Фейербаху при¬
надлежит великолепное выражение: «Религия есть сон человеческого
духа»,—и эти слова помогают осмыслить характер Блока— экзальти¬
рованно настроенного юноши, захваченного снами, легендами, древ¬
ними мифами.Но, как бы ни было глубоко увлечение поэта мистикой, религиоз¬
ной фантастикой, философией Платона, все это превращалось для него
не только — и не столько — в символ и «знак» новой религии, сколько
в лирику, становилось в строй высоких лирических переживаний; изо¬
бразив в письме к А. В. Гиппиусу свое времяпровождение в Шахмато¬
ве, свои поездки в Боблово, где находился его «мистический магнит»
(так он называл свою возлюбленную), поэт говорит:«Настроение, как видите, такое, что всякую мысль готов превра¬42
тить в лирический стих. Очень радостное и очень напряженное...»
(1901).Не в силах сдержать восторженные чувства, так переполняющие
его, что возникает настоятельная потребность поделиться ими хоть
с кем-нибудь, Блок здесь же сообщает, что хотя такое состояние и не
способствует сочинительству, «да ведь всякое сочинение само собой
напишется, потому чтоВсе, кружась, исчезает во ыгле,Неподвижно лишь солнце любви...»«Солнце любви» (Вл. Соловьев) освещало все, что видел поэт,
и эти признания важны для уяснения характера переживаний Блока,
существа его творчества. Для Блока, действительно, всякая . мысль,
всякое переживание становились прежде всего лирикой, воспринима¬
лись как лирика, переходили в лирику и захватывали его именно
как лирика, как материал для лирики, для творчества, а не как
отвлеченное философствование (которому, правда, на первых ворах
поэт тоже отдал немалую дань).Впоследствии, в статье «О современном состоянии русского сим¬
волизма» (1910), поэт обобщит переживания, составляющие пафос
стихов о Прекрасной Даме, в следующей «тезе»:«...Ты свободен в этом волшебном и полном соответствий мире».
Твори, что хочешь, ибо этот мир принадлежит тебе. «Пойми, пойми,
все тайны в нас, в нас сумрак и рассвет» (Брюсов). «Я — бог таинст¬
венного мира, весь мир — в одних моих мечтах (Сологуб). Ты —- оди¬
нокий обладатель клада; но рядом есть еще знающие об этом кладе
(или — только кажется, что и они знают, но пока это все равно). От¬
сюда — мы: немногие знающие, символисты».Поэт и воображал себя «богом таинственного мира», думал, что
весь мир — в одних его мечтах, что только он является вместилищем
самой первой и самой последней тайны бытия, неотделимого от «вечно
женственного», божественного начала; все это по-своему окрашивало
и преображало чувства и переживания, составляющие пафос стихов
о Прекрасной Даме.4. «ИЗ-ПОД МАСКИ...». Поэт пребывал в состоянии «непрерывного восторга», у него была
своя Беатриче, каждый взгляд и каждое слово которой являлись для
него откровением и божественным даром. Все это превращало стихи^
о Прекрасной Даме в ту лирику, которая перекликается с любовными
песнями древних времен и современных поэтов, «переплескивается»
через все религиозные догматы и метафизические концепции, утверж¬
даемые в то время Блоком как некая непреложная истина.Поэт записывает в своем .дневнике в начале 1902 года:«Стихи — это молитвы. Сначала вдохновенный поэт-апостол сла¬
гает ее в божественпом экстазе. И все, чему он слагает ее,— в том кро¬
ется его настоящий бог. Диявол уносит его — и в нем он находит опро¬43
кинутого, искалеченного,— но все милее,— бога. А если так, есть бог
и во всем, тем более — не в одном небе бездонном, айв «весенней не¬
ге» и в «женской любви»...» {«Литературное наследство» № 27—28,
стр. 311). ,Вот почему и стихи Блока о Прекрасной Даме слагались в молит¬
вы и в ней он видел свое божество, воспевал ее во вдохновенном экста¬
зе. Но вместе с тем в эти молитвы все активнее и решительнее втор¬
галось иное, чуждое духу покорности и «смиренномудрия», начало,
которое ноэт (вслед за Тютчевым) называл и «весенней негой», и «жен¬
ской любовью», и другими именами, превращающими его лирику в
гимн любви — «крепкой, как смерть, и грозной, как полки со знамена¬
ми», согласно словам «Песни песней»; это чувство земной и страстной,
любви отныне уже неотделимо от грез и мечтаний поэта, примеши¬
вается ico всем его снам и видениям, хотя бы самым возвышенным
и бесплотным:Пошепчи, посмейся, милый,Милый образ, нежный сон;Ты нездешней, видно, силой
Наделен и окрылен.Но со временем все очевидней и иная, гораздо более реальная по¬
доплека его чувств, желаний, влечений,— в каком бы фантастическом
свете ни рисовался ему «милый образ» возлюбленной.«Чтожь, расплывусь в боге, разольюсь в мире и буду во всем тре¬
вожить Ее сны...» — мечтает поэт весной 1902 года («Литературное
наследство» № 27—28, стр. 328), но эти мечты все настойчивее сменя¬
лись иными, не такими отвлеченными.«Боялся я моих невольных сил»,— говорит он, чувствуя неодоли¬
мый1 прилив жизненных страстей и стремлений, но эта боязнь уже не
могла сдержать их, они все более властно вторгались в ого внутренний
мир, вытесняя молитвенно-созерцательные мотивы и настроения; онй
настойчиво заявляли о себе уже и во многих стихах о Прекрасной
Даме —в них нет прежней цельности, ясности, «лазурности», духа
молитвенно-созерцательной и безусловной покорности, приличест¬
вующей верному рыцарю Прекрасной Дамы, каким воображал себя
в то время поэт. В этих стихах еще смутно, как чья-то незнакомая
и тревожащая тень, мелькают иные, двоящиеся образы, страхи, даже
сомнения, пока еще подавляемые,-но вскоре они-то и займут господ¬
ствующее место в лирике Блока. .В своем дневнике поэт так рассказывает о «преображении» своего
чувства, дотоле но выходившего за пределы обычного юношеского
увлечения, хотя бы и крайне экзальтированного:«Началось то, что «влюбленность» стала меньше призвания более
высокого, но объектом того и другого было одно и то же лицо».В этих словах можно уловить начало той внутренней раздвоенно¬
сти чувств поэта, которая с годами станет все явственней и очевид¬
ней; поэт еще охвачен «бурей торжества», вызванной верой в свое бо¬
жество, кому все на земле подвластно и послушно, по вместе с тем его
тревожит предчувствие другой бури, после которой, может быть, ни¬44
чего не останется от былых грез, фантазий, видений. Это предчувствие
вызывает двойственность переживаний Блока, порождает тему «двой-
иичества» — одну из самых устойчивых и постоянных в его лирике.Облик возлюбленной, кажущийся поэту божественным, вдохнов¬
ляющий на молитвенно-покорное служение., вместе с тем пробуждает
и иную жажду, которую не утолить одними мечтами, иные желания,
пугающие самого поэта,— слишком явно враждебны они обету «сми¬
ренномудрия», и столько в них земного, плотского, что они представ¬
ляются поэту темными и Страшными; так возникает двойственность
страстей и стремлений, всего внутреннего мира.«...закаты брезжат видениями, исторгающими слезы, огонь и те¬
ню, но кто-то нашептывает, что я вернусь некогда на то же поле дру¬
гим — потухшим, измененным алыми законами времени, с песней на¬
удачу (т. е. поэтом и человеком, а не Провидцем и обладателем тай¬
ны...)»—-вот что нашептывают ему «двойники» даже и в минуту его
величайшего торжества, и они ие обманули поэта.Ему еще грезятся «райские сны», каким он придавал некое про-
рочественное значение, но его преследуют и другие сны — те, которые
«объемлют дух страстной мглой»; начинается «борьба с адом», как ска¬
жет впоследствии поэт в своем дневнике (1918).Эти «темные силы» вызывали в минуты молитвенного экстаза пе¬
ред внутренним его взором совсем не молитвенные образы; вот поче¬
му поэту казалось, что у него даже в храме...из-под маски лицемерной
Смеются лживые уста...Все чаще «завет служенья Непостижной» отступает перед иными
заветами, перед самой жизнью, и поэт чувствует, что его «до ужаса
недвижные» черты сменяются другими, подчас искаженными и пере¬
кошенными гримасой боли, ужаса, смятения, а то и насмешки над
былими святынями. Еще недавно он мог убеждать себя, обращаясь
к своей возлюбленной:Суровый хлад — твоя святая сила:Безбожный жар нейдет святым местам...Но вскоре «безбожный жар» растопил сковывавший чувства поэта
«суровый хлад» и уже иные гимны и моления, составляющие новую
страницу в его лирике, начал он слагать во имя возлюбленной. Его
разноречивые чувства подчас образуют — даяге в пределах одного
и того же стихотворения — две иесмешивающиеся струи, причем вто¬
рая, новая, начинает преобладать все явственнее и несомненнее.Поэт, вслушиваясь в «благовестные» звоны, еще может предавать¬
ся монашески-аскетнческим мечтам и настроениям:Непорочность просится
В двери духа божья.Сердце переноситсяВ дали бездорожья...
Но даже н стихотворение, казалось бы целиком отвечающее духу«смиренномудрия», завершается таким призывом:Испытаний силоюИстомленный — жду я
Ласковую, милую,Вечно молодую...Он предчувствует, что обеты «непорочности» едва ли будут выпол¬
нены; так почти церковные моления, призывы и заклинания обращают¬
ся в любовные, звучащие все сильнее, настойчивее и неотступней;
сквозь суровую и тяжелую «броню» смирения и целомудрия, какую
носит поэт, чтобы защититься от слишком явно проявляемой холод¬
ности и суровости своей возлюбленной, пробиваются «жаркие струи,
в которых есть кате бы оттенок соблазна», и ого «броня» становится та¬
кою раскаленной, что уже нет сил носить ее — слишком тяжко она
давит на грудь.Переживания отрока, который находил высшее свое назначение
в Том, чтобы зажигать свечи перед ликом своей возлюбленной, сме¬
няются иными страстями — бурными, земными, непокорными. Вот по¬
чему стихи Блока все больше утрачивают свой идиллически безмя¬
тежный и молитвенно-созерцательный характер. В них все сильнее
чувствуется содрогание почвы, колеблемой вот-вот готовой прорваться
лавой; самый воздух словно бы накаляется, пересыхают прежние ис¬
точники отрочески безмятежных вдохновений, и поэт прерывает свои
молитвы неожиданным возгласом, обращенным к возлюбленной,: в ком
дотоле он видел только небесные и иконописные черты:О, взойди же предо мною
Не в одном воображеньи!..—и этот возглас выдает ту жажду, которую невозможно утолить лишь
«одним воображеньем», только снами, мечтами, молитвами.Он слышит в храме вздохи и призывы своей возлюбленной, ее сло¬
ва «о какой-то любви» («О, боже! мечты обо мне...»—с восторгом
к страхом, еще почти не веря ни ей, ни себе, восклицает поэт), и хотя
Он невольно подслушал призывы и признания своей возлюбленной,
казавшейся ему дотоле существом божественным и недосягаемым,
к ему еще трудно поверить в ее любовь, но больше уже ни о чем ином
нельзя думать; поэт и сам забыл о своих недавних обетах смирения,
послушания, целомудрия: :...снова кругом тишина,И плачущий голос затих..,И снова шепчу имена
Безумно забытых святых.Но никнут обращенные к небу молитвы, темнеют лики святых, ибо
отныне совсем иные желания охватывают поэта и совсем иные мольбы
срываются с его губ...Противоречия пока еще загонялись внутрь, ибо их природа была46
недостаточно понятна самому поэту, но уже и в стихах о Прекрасней
Даме чувствуется то брожение, которое впоследствии охватит всю
лирику Блока,, придаст ей необычайную остроту и внутренне противо¬
речивый характер. Ему становилось все очевидней, что нестерпимо —
до боли — ясный горизонт ныне сквозит «ночною тьмой», а он бормо¬
чет, словно на исповеди в тихом и темном соборе: ■...снова кругом тишина,Й плачущий голос затих...И спова шепчу имена
Безумно забытых святых.Собственная «двуликость», объяснения которой он еще не находил,
вугала Блока, вызывала почги детские страхи перед теми темными
и тайными силами, которые он чувствовал в себе самом и которые
словно бы стояли на пороге его внутреннего мира, ожидая лишь не¬
коего «знака», чтобы ворваться в его душу, завладеть всем существом
поэта, еще преданного своим бесплотным мечтам и призрачным виде¬
ниям. Он едва осмеливается признаться себе в том, что какие-то новые
желания и влечения охватывают его, и с уст срываются странные
и тревожные- признания:О, как паду —- и горестно и низко,Не одолев смертельные мечты!..—и. эти «смертельные мечты» (в противовес небесным и бессмертным.)
все сильнее и глубже охватывали поэта,— что по-своему воздействова¬
ло и на стихи о Прекрасной Даме, вносило в них черты внутренней
противоречивости и двойственности.Цикл «Перекрестки» (в первом издании «Стихов о Прекрасной
Даме») открывается знаменательным эпиграфом из Вл. Соловьева:
«По миновать нам двойственной сей грани»,— и действительно* отныне
двойственность восприятий и переживаний, всех тех «граней», на ко¬
торые наталкивался поэт, становится в его глазах роковой, неизбеж¬
ной, неминуемой; образ «двойника», воплощающий всю сложность
и противоречивость переживаний, настойчиво преследует героя лири¬
ки Блока, как его неизменный и неотвязный, спутник, отравляющий
tiro восторги и готовый посмеяться над всеми его иконами, святыня¬
ми, верованиями.Уже очень рано, весной 1901 года, свидетельствует впоследствии
Блок, та полях моей страны ноявилЬя какой-то бледноликий призрак
(двойники уже просятся на службу?), сын бездонной глубины, которо¬
го изгоняет порой дочь блаокенной стороны...» (1918).Эти «бледноликие призраки», «двойники» отныне все чаще сопро¬
вождают поэта, подчас невидимые и лишь смутно угадываемые им,— и
тогда, когда он стремится уйти от всего земного и «бренного», и тогда,
когда, кажется ему, он целиком погружается в молитвенный экстаз
и готов полностью раствориться «в лазури чьего-то небесного взора».
Тогда-то они и настигают его и невнятно, смутно, настойчиво шепчут
странные и темные речи, от которых загораются щеки и сердце вачи-47
иает стучать тяжко, и тревожно, в предчувствии какого-то нового и
небывалого блаженства — и непоправимой беды.Сам поэт терялся перед сложностью и нарастающей противоречи¬
востью своих переживаний, переставал различать, когда его целомуд¬
ренные моления являлись искренними, а когда их произносили «лжи¬
вые уста»; «раздвоенность» поэта и вызывала образы двойников, масок,
арлекинады:Свет в окошке шатался,В полумраке — один —У подъезда шептался
С темнотой Арлекин.Был окутанный мглою
Бело-красный паряд.Наверху — за стеною —Шутовской маскарад...Представление о жизни как о «шутовском маскараде», где люди
прячут свои лица в «разноцветную ложь», прикрывают их масками, за
которыми таится нечто странное, незнакомое, жутковатое, свидетель¬
ствует, что первоначальная, почти детская ясность и цельность воз¬
зрений поэта сменяется чем-то иным и неожиданным для него самого;
он и сам еще но в силах понять, какая «разноцветная ложь» скрывает¬
ся за этими масками, но чувствует, что она влечет его безудержно и не¬
отвратимо, а вместе с тем и угрожает небывалыми бедами и непопра¬
вимыми утратами. Вот почему прежняя его — и безусловная — вера
в предмет своего поклонения нередко сменяется иронией и скепсисом,
ибо поэт еще не разобрался ни в сумятице своих новых переживаний
и ощущений, пи в характере той, которая и сама готова слушать и про¬
износить «слова о какой-то любви»:«Он» — мечом деревянным
Начертал письмена,Восхищенная странным,Потуплялась «Она».Восхищенью не веря,С темнотою — один —У задумчивой двери
Хохотал Арлекин.Здесь Арлекин, насмешливо и недоверчиво похохатывающий у «за¬
думчивой двери» над влюбленными,— это уже не сам поэт, простодуш¬
но и открыто исповедующийся в своих сокровенных чувствах перед
лицом возлюбленной и всего мира, а один из его «двойников».Поэт, которого терзают «двойные мысли» (Достоевский), чувству¬
ет ка своем лице «лицемерную маску», а потому и воображает себя
паяцем, возникающим возле блестящей рампы — па потеху публике!
Ему слышится, что...в тени последней кулисы
Кто-то плачет, жался меня...—и этот «кто-то — может быть, сам поэт, а может быть, его «шалунья-
девочка — душа» (как скажет он впоследствии).48
Так Блока захватывает словно бы но зависящая от его воли и же¬
ланий трагическая, а вместе с тем и шутовская арлекинада — и не
только в стихах, но и в личной жизни (о чем свидетельствуют его
юношеские дневники). Он рассказывает о себе, уже утратившем бы¬
лую — и явно инфантильную — цельность и ясность внутреннего
мира:Я был весь в пестрых лоскутьях.Белый, красный, в безобразной маске.Хохотал и кривлялся на распутьях.И рассказывал шуточные сказки.Но от этих «шуточных сказок» и самому поэту становится не пэ
себе; перед ним открывается просвет в некую пустоту, при одном
взгляде на которую можно было потерять рассудок,— вот почему в сти¬
хи о Прекрасной Даме, дотоле торжественные и величавые по своему-
тону и характеру, все настойчивее вторгаются мотивы ужаса, безумия,
иронии.О «двойниках» и «масках», смена которых и становится в глазах
поэта «арлекинадой», он пишет своему другу — А. В. Гиппиусу:.... «...с некоторых пор у меня нравственно открыт рот от удивления
на многие события, касающиеся лично меня. Все это столь «тонко»,
что даже во многих местах «рвется». Заплатки мало помогают, во вся¬
ком случае получается арлекинада, шутовской балахон...» (1902),О том же самом поэт говорит и в письме к Зинаиде Гиппиус:
«...разряжаю мою сгущенную молниеносную атмосферу жестокой ар¬
лекинадой...» (1902),—и в этой «жестокой арлекинаде» находили свой
выход его живое, страстно напряженное чувство и внутренний протест
против «крайнего мистицизма», в «сгущенной атмосфере» которого по¬
эту становилось все труднее дышать.В порывах «жестокой арлекинады», в смене «масок» преследуемый
«двойниками», издевающимися над безмятежностью поэта, его «сми¬
ренномудрием», он и сам предпринимает странные мистификации,
•запись которых составляет значительную часть его юношеского днев¬
ника; дух мистификаторства, двойственности, иронии, в которой уже
можно предугадать создание «Балаганчика», все глубже охватывает
его стихи.Не только в себе он начинает прозревать некую роковую и неодо¬
лимую раздвоенность, но и в тон, которой готов был посвятить всю свою
жизнь; ее «злая тьма» не дает поэту с прежней детской безмятежно¬
стью воссылать покорные и восторженные моления — вот почему он
и обращается к ней со странным и неожиданным признанием: «Ты свя¬
та, но я тебе не верю»,— и «неверие» в ту, которая раныне вызывала
. лишь восторженное поклонение, свидетельствует о внутреннем про¬
буждении поэта, о том, что на смену былой инфантильной восторжен¬
ности и доверчивости приходят иные, гораздо~более трезвые чувства,
острая пытливость, проницательность мысли, оставляющая все меньше
места для безусловного послушания.Порою он еще может обращать к ней моления, как тому божеству,
выше которого нет ничего:3 Заказ 53*
Белая Ты, в глубинах несмутима,' •В жизни — строга и гневна.Тайно тревожна и тайно любима,Дева, Заря, Купина...А иа другой день поэт посвящал ей совершепио иные стихи, обна¬
руживающие в нем проницательность художника, который даже и в
порыве страсти не может не подметить у своей возлюбленной склонно¬
сти ко лжи, игре, обманчивому блеску — ко всему тому, в чем для него
также открывается нечто новое, земное, а потому и по-новому обая¬
тельное, властно влекущее; когда она «затевает игру» с поэтом, он
и сам готов подхватить эту игру и стать ее равноправным участником;Я люблю эту ложь, этот блеск,Твой манящий девичий наряд,Вечный гомон и уличный треск,Фонарей убегающий ряд,..Так Прекрасная Дама обращается в обольстительную девушку,
каждый взгляд которой манит тайным соблазном, и оказывается, что
в этих превращениях, настораживающих и пугающих, есть и своя
прелесть, своя притягательная сила.Отныне поэт уже постигает всю свою двойственность и противоре¬
чивость, что и заставляет с особенной зоркостью всматриваться в свой
внутренний мир, зная, что он слишком сложен для того, чтобы излить¬
ся в каком-нибудь одном — торжественном и молитвенном — гимне
(как это было когда-то в таких стихах, как «Servus — JReginae»); вот
почему меняется н самый характер стихов Блока, в гораздо большей
мере, чем в былые времена, отвечающих реальности и сложности его
переживаний:Мне страшно с Тобой встречаться.Страшнее Тебя но встречать.Я стал всему удивляться,На всем: уловил печать...«Удивление» перед сложностью жизни, а стало быть, и мира своих
переживании, приходит на смену былой цельности и покорности, не
оставляющей места для каких-нибудь сомнепнй и колебаний, для той
пытливости, которая становится у художника все острее.Как видим, отныне лирика Блока все более отвечает реальности
переживания, что и придает жизненность лучшим из стихов о Прекрас¬
ной Даме — тем, в которых сквозь «условные знаки» пробивается жи¬
вое и настоящее чувство.В этой лирике — предчувствие того, что колеблются стены «белого
дома», словно бы отгораживающие поэта от всего остального мира и от
тех «жизненных опытов», без которых нет и подлинной зрелости; эти
стены слишком хрупки и ненадежны для того, чтобы выдержать испы¬
тания действительности, удары настоящей грозы, ежедневно могут
рассыпаться, как карточный домик,— и тогда настанет какая-то новая
и; поначалу пугающая своей новизной и неизвестностью жизнь... Вот
почему, охваченный тайным и нарастающим страхом, поэт так долго50
отстаивал свои «белые храмы» и призрачные замки, свои детские меч¬
ты, идиллию «радостного сада», где так тепло и уютно жилось на свете!
Но его цветы, его «заповеданные лилии» обугливались под слишком
жарким и порывистым ветром, в котором поэт уже не мог не услышать
дыхания приближающейся бури.Отныне он знал: какими бы привлекательными ни были его дет¬
ские мечты и фантазии, им уже не сдержать того нового, что все силь¬
нее и упорнее прокладывало себе дорогу и в окружающем мире и а
его внутренней жизни и что он уподоблял приходу весны, таяниЕЭ
льдов:Весна в реке ломает льдины,И милых мертвых мне ие жаль...—■и как бы ни были подчас милы эти «мертвые», Блоку становилось все
труднее воскрешать их, все труднее обращаться за помощью и под¬
держкой к именам «безумно забытых святых».Поэт ие обрывает «непрестанной молитвы», он еще верит в то, что
«в непогодпой полуночной мгле» ему суждено...молитвенным миром гореть
И таиться па этой земле...—но не долго оставалось ему гореть «молитвенным миром»; другие об¬
разы придут на смену былым богам и богиням, слишком «лазурным»
и бесплотным для того, чтобы ответить новым думам, желаниям и стра¬
стям, захватившим поэта.5. «НОВАЯ ПОЭЗИЯ»Сличая стихи о Прекрасной Даме с предшествующим им циклом
«Ante lucem», мы замечаем существенную их разницу, определяемую
и новым осмыслением любовного чувства, и характером самого стиха,
который также претерпел значительные изменения, что бросается
в глаза любому более или менее внимательному читателю.Вспоминая имена поэтов, затверженных с детских лет, Блок гово¬
рит в автобиографии (1915): «Семейные традиции и моя замкнутая
ишзнь способствовали тому, что ни строки так называемой «новой
поэзии» я не знал до первых курсов университета...» — что, конечно,
сказалось и на характере его раннего творчества, не выходившего и *
сферы влияния Жуковского, Полонского, Фета, Апухтина, их эпигонов
и подражателей. Но знакомство ,с «новой поэзией» — поэзией симво¬
лизма, . с альманахом символистов и декадентов «Северные цветы»,,
выходившим с 1901 года, со стихами В. Брюсова, К. Бальмонту, 3. Гип¬
пиус, И. Каневского, Ф. Сологуба и явилось для Блока одним из тех
событий, какие существенным образом повлияли на все его творчество;;
оно и само стало отныне одним из явлений Яновой поэзии» — поэзии
символизма, утратив прежний ученически-эпигонский характер.Блок, выйдя из своего уединения и завязывая отношения в среде
литераторов, с самого начала примкнул к символистскому движению,51
возникшему'В России на рубеже XIX и XX веков; это течение из го¬
нимого, осмеиваемого становилось господствующим в русской либе¬
рально-буржуазной прессе тех лет, крайне характерным для нее,—
и нам следует уяснить, чем был символизм того времени, что привле¬
кало Блока к нему.Нужно напомнить, что с самого начала в русском символизме про¬
бивались, почти не смешиваясь, а если смешиваясь, то ненадолго и не¬
прочно, две струи, два течения, впоследствии, в условиях кризиса сим¬
волизма, резко и открыто враждовавшие между собою: символизм как
школа стиха, как определенная система средств художественной выра-
вительности (на чем весьма решительно настаивал один из зачинате¬
лей русского символизма — Валерий Брюсов) и символизм как особая
форма религиозного служения, как «тайнопись неизреченного», явлен¬
ного священнослужителю, пророку или поэту в некоей визинации, в бо¬
жественном «откровении», непостижимом для логически трезвого,
«дневного» разума.В таком духе и трактовал символизм один из предшественников
.и провозвестников русского символизма — писатель, поэт и проповед¬
ник Дмитрий Мережковский, «властитель дум» реакционных, идеали¬
стически настроенных кругов интеллигенции, книга стихов которого
так и называлась — в явно программном духе — «Символы» (1887—
1891).В своем очерке «О причинах упадка и о новых течениях современ¬
ной русской литературы» (1892) Мережковский впервые определил
принципы и положения русского символизма. Всячески восхваляя и
возвышая тех поэтов, в стихах которых преобладает, по утверждению
автора очерка, религиозное начало, Мережковский настойчиво призы¬
вал их карабкаться ввысь по «тернистым и опасным тропинкам» —
ведь только здесь художник может утолить свою «жажду бога», без ко¬
торой якобы и само искусство лишается смысла и красоты.Мереяшовский внушал своему читателю, что «тайные побеги но¬
вой жизни, новой поэзии» (которые он усматривал в искусстве рели¬
гиозно-мистическом) превращают предметы и явления окружающего
нас мира в символы и иероглифы, в таинственные «знаки», непонятные
для непосвященных и устремленные к «пределам свободного божест¬
венного идеализма». Очерк Мережковского- завершается обращением
к «духу божию», который «сильнее человеческой воли и разума, силь¬
нее жизни, сильнее самой смерти»,— а без него Мережковский не мыс¬
лил и возможности возрождения искусства и самой жизни.В связи с разговором о поэзия Константина Фофанова (так же как
и Николая Минского), во многих отношениях слабой и несовершенной
па взгляд Мережковского, он следующим образом определял характер
и задачу искусства идеалистически-символистического, в котором ус¬
матривал будущее всей русской литературы: пусть Фофанов «почти не
знает людей, мало знает природу», пусть его картины однообразны
и он пользуется «устарелым арсеналом» — зато «все предметы, все
явления для него в высшей степени прозрачны. Он смотрит на них как
на одушевленные иероглифы, Как на живые символы, в которых скры¬52
та божественная тайна мира» (Д. С. Мережковский. Сочинения, г. 15.
Москва, издательство Вольф, 1912, стр. 293).Представление об искусстве и его образах как о «иероглифах»
и «символах», посредством которых художник раскрывает «божествен¬
ную тайну» мира, просвечивающую сквозь все видимые предметы,
и лежало в основе концепции символизма как искусства религиозно*
теургического.Но если Мережковский (а вслед за ним и другие поэты религиоз¬
но-мистического толка) утверждал символическое искусство как форму
нового религиозного сознания, то вопросы специфически художествен¬
ного порядка его совершенно не интересовали (да и собственные его
стихи всецело отвечали духу подражательной, эпигонской поэзий, ли¬
шённой подлинного творческого и самобытного начала, не выходили
за пределы поэзии — и поэтики — Полонского, Плещеева, Надсона);
так, говоря о Фофанове, Мережковский утверждал, что «ничего не
стоит вышутить и обнаружить его комические стороны», найти среди
его стихов «множество диких и нелепых»,— но «между рифмами вам
слышатся живые стопы живого человека. Вот что всего дороже в по¬
эзии, вот за что можно все простить...» (там же, стр. 291).Впоследствии Вячеслав Иванов, один из «столпов» и теоретиков
символизма, развивая положения Мережковского, следующим образом
описывает творческий акт «истинного певца», верного своей святыне:«Дух, погруженный в подслушивание и транс тайного откровения,
не мог сообщаться с миром иначе, чем пророчествующая Пифия. Слово
стало только указанием, только намеком, только символом, ибо только
тайое слово не было ложью...» (журнал «Весы», 1904, № 3).Сам же символ, утверждает В. Иванов, «только тогда истинный
символ, когда он Неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда
он изрекает на своем пророчественном (иератическом и магическом)
языке намека и внушения нечто неизглаголемое, неадекватное внеш¬
нему слову».Таким образом, согласно воззрениям В. Иванова, поэзия символиз¬
ма —- это язык молитв, откровений, прорицаний, тайн, и, стало быть,
символ «всегда тенен в Своей последней глубине» — в противополож¬
ность аллегории.«Аллегория — учения; символ—ознаменование. Аллегория — ино¬
сказание; символ — указание...» — поясняет В. Иванов людям, не при¬
частным к тайнам символа и символического творчества. Он утверж¬
дал, что суть искусства — всегда создание символов, а «символ в дей¬
ствии — это уже кйф», миф в религиозно-культовом смысле этого
слова.«Мы идем тропой символа к мифу...» (там же) — заявлял В. Ива¬
нов, отвергая какое бы то ни было искусство, кроме религиозного, ми¬
фотворческого, и видя в поэте жреца, «демиурга» — и никого иного.
Так символическое искусство — в интерпретации В. Иванова — неиз¬
бежно оказывалось искусством религиозным, мистическим, уводящим
от подлинно реальной действительности it иной, метафизической,
к «реальнейшей реальности», под которою подразумевалась «идеаль-
пая» .и «божественная» сущность мира — в платоневском ее. .толко¬
вании.Совершенно иной характер и иную окраску (чуждую задачам ре¬
лигиозного служения) обретало символистское искусство в трактовке
других «старших символистов» — таких, как Брюсов, Бальмонт и их
соратники, выступавших в середине 90-х годов прошлого века под
знаком модернизма. Они рассматривали символизм не как школу ре¬
лигиозного служения, а как школу стиха, отличающегося своими спе-
лцфп чески ми особенностями и отвечающего характеру переживании
современного города, и ничего ие собирались они «прощать» стихо¬
творцу, какими бы благими замыслами и намерениями ни был он вдох¬
новлен и какие бы «стоны» ни издавал в своих стихах. Эти символисты
(ирежде всего — Валерий Брюсов) отстаивали совершенно иные по¬
ложения и иную программу символизма, чем та, которую выдвигали
Д. Мережковский, В. Иванов и их единомышленники.Валерий Брюсов с самого начала рассматривал символизм как
обычную литературную школу, не имеющую никакого отношения
к тем или иным религиозным «исканиям» или мистическим вымыслам.
В своей вступительной заметке ко второму выпуску «Русских симво¬
листов» Брюсов охарактеризовал символизм как своего рода «недоска-
еанность», как импрессионизм, исходящий из того принципа, что «от¬
дельные сцены имеют значение не столько для развития действия,
сколько для известного впечатления на читателя или зрителя».«В новоромантической школе каждый образ, каждая мысль явля¬
ются в своих крайних выводах. Символизм, напротив, берет их первый
проблеск, зачаток, не представляющий резко определенных очертаний,
и, таким образом, но своей сущности не больше отличается от других
литературных школ, чем они между собой...» — пояснял В. Брюсов
(«Русские символисты», выпуск второй, стр. 7, 1894).' Следует напомнить, что «новая поэзия» середины 90-х годов (пред¬
ставленная наиболее определенным образом в трех выпусках «Русских
символистов»; 1894—1895) возникла в острых, резких, бурных столкно¬
вениях с той, которая занимала господствующее положение в совре¬
менной литературе и знаменовала явный упадок русского стиха, рус¬
ской поэзии. В пей преобладали произведения подражателей, эпигонов,
ревнителей литературного «чистописания», чьи гладкие, анемичные
стихи едва ли могли кого-нибудь по-настоящему взволновать, глубоко
захватить, чем-нибудь существенно обогатить; отдельные круппые да¬
рования не могли решающим образом изменить эту ситуацию. Появ¬
лению «новой поэзии» предшествовало, по словам Андрея Белого, вы¬
сказанным в статье «Брюсов», то положение, когда «...стих Пушкина
выродился в подозрительную, как чужой фрак, гладкость Голенищева-
Кутузова, а огненная тоска Лермонтова — в унылое брюзжание Апух¬
тина и бессильно честные вздохи Надсона» («Луг зеленый», стр. 186).
В этой статье Андрей Белый назвал поэтов, весьма популярных в свое
время и крайне характерных для него.Впоследствии Брюсов (под псевдонимом «В. Бакулин») в статье,
посвященной Николаю Минскому (одному из предшественников рус¬54
ского символизма), объяснял, почему его (дай его соратников и еди¬
номышленников) не удовлетворяло творчество Надсона:«Достаточно известно, какой «поэтики» придерживался Надсон. Онписал:Лишь бы хоть как-нибудь было излито,Чем многозвучное сердце полно!Это «как-нибудь» и было девизом его самого и его школы. У Над¬
сона и его учеников размер стихов не имел никакого отношения к ик
содержанию, рифмы брались первые попавшиеся и никакой роли
в стихе не играли, а чтобы звуковая сторона слов соответствовала их
значению — об этом никому и в голову не приходило. Невыработашшй
и пестрый язык, шаблонные эпитеты, скудный выбор образов, вялость
и растянутость речи — вот характерные черты надсоновской поэзии,
делающие ее безнадежно отжившей» («Весы», 1908, № 7, стр. 59).Конечно, поэзия Надсона заслуживает иной — и менее односторон¬
ней — оценки, но здесь важно подчеркнуть, что в статье Брюсова сжа¬
то и точно сформулированы характерные особенности той поэтики,
против которой решительно восстали «русские символисты» — предста¬
вители «новой поэзии», утверждавшие совершенно иные принципы
стиха и отвергавшие неряшливость и неразборчивость в средствах
(«лишь бы хоть как-нибудь»), присущую (за редким исключением)
большинству поэтов, их современников, почти совершенно равнодуш¬
ных к вопросам художественного мастерства.Творчеству наиболее известных современных поэтов представите¬
ли и поборники «новой поэзии», первоначально выступавшие в сборни¬
ках «Русские символисты», и бросали свой дерзкий вызов, противопо¬
ставляя ему стихи совершенно иные по своему характеру.Они стремились «встряхнуть» стих, влить в него новую, свежую
кровь, придать ему современное звучание, страстность, выразить ост¬
рые, непосредственные, неповторимо индивидуальные переживания,
вернуть ощутимость слову, образу, ритму; они искали новые формы,
новые средства художественной выразительности, самые необычные
и небывалые, а то и экстравагантные; в первой книге Брюсова «Chefs
d ’oeuvre» (1895) все странно, необычайно-экзотично на взгляд совре:
меиного ей читателя; перед нами колышутся леса криптомерий, ше- ‘
лестят лианы, сквозь которые блестят чьи-то незнакомые глаза («опять
вау-вау проказы?..» — смутно догадывается ноэт), пылает полдень Явы,
возвышается статуя божества —- Эаутуя, и даже древняя Москва ви¬
дится поэту «самкой спящего страуса».Столь же странны, а то и экзотичны исступленные страсти, вое-.
певаемые поэтом и производившие ошеломляющее впечатление на
тогдашнего читателя, казавшиеся ему чем-то нелепым, а то уродли-
вым, выходящим за пределы здравого смысла.Не менее экстравагантные стихи печатались и в сборниках «Рус- .
ских символистов»; так, стихотворный отдел второго выпуска «Русских
символистов», претенциозно названный «Ноты, аккорды, гаммы и сюи¬
ты» (что призвано было подчеркнуть родство поэзии и музыки), от¬55
крывался следующими строками, прйнадЛёжащиМв хюэту-модердйсту
А. Миропольскому:Струны ржавеют ! '>Под мокрой рукой. Грезы немеют
И кроются мглой.В мраке сознанья ' ’ " ''Минувших угроз
Влажно бряцанье
Оборванных грез...—и,' Конечно, такие стихи воспринимались как курьез или автопародия,
служили поводом для самых язвительных насмешек и издевок, так же
как и опубликованное в третьем выпуске «Русских символистов» одно¬
строчное «стихотворение» Валерия Брюсова: «О закрой свои бледные
ноги», сразу создавшее автору известность, хотя и весьма сомнитель¬
ную и долго преследовавшую Брюсова. Несколько лет спустя, в статье
«Современная русская поэзия», А. Волынский писал о Брюсове как
о выдающемся представителе «так называемых московских символи¬
стов»:«Когда-то Брюсов сочинил стихотворение в одну строчку: «О;за-
крйй свои бледные ноги»—ничего больше. Вся Россия смеялась над
этим «стихотворением» до упада, и с тех нор имя Брюсова звучит длй
читающей публики одним только чудачеством...» («Северные цветы»,
Москва, издательство «Скорпион», 1902, стр. 245).О том, что веселье, вызвапное этим «стихотворением», улеглось
не так-то скоро, свидетельствует одно из шуточных посланий Чехова,
обращенное к Бунину и такое же немиогословиЬе:«Милый Жан, закрой свои бледные ноги» (1902).Поначалу именно как подобного рода курьезы и воспринималась
читателем’«новая поэзия»; редко кто проявлял к ней более серьёзное
отношение,—и, казалось, сама она на иное не'претендует.Сразу по выходе в свет сборники «Русские символисты» вызвали
широкое внимание прессы и заслужили весьма громкую (хотя й не
сЛишком-то лестную) известность. Произведения, опубликованные
в этих сборниках, воспринимались либо как курьез, либо как издевка
над здравым смыслом читающей публики (нечто вроде «пощечины
обществённому вкусу»,— говоря языком более поздних времен); для
критики тех лет они являлись неистощимым поводом для всякого
рода насмешек и издевок, намеков на состояние умственных способ¬
ностей «русских символистов», что сопровождалось нередко и прямым
советом обратиться за помощью к врачу-психиатру на предмет необ¬
ходимого излечения. И, как это ни было неожиданно для «русских
символистов», первое место в поднятой против них в прессе кампании
принадлежало не кому-нибудь другому, а Владимиру Соловьеву, кото¬
рого они (как «поэта-символиста») считали почти своим!Все, к чему стремились и на чем настаивали «русские символи¬
сты»,— вплоть до экспериментов в области ритмики, строфики, компо¬
зиции и всяческого «формотворчества» — сказалось совершенно чуж¬56-
дым ему, В их стихах,, он. не обнаружил ничего, кроме несуразицы
и непристойности, а потому и не Заметил,—да. и не хотел замечать
(при всей тонкости своей иронической критики!) — тех еще незначи¬
тельных и еле приметных, но все же живых ростков, какие пробива¬
лись в сборниках «Русские символисты» — среди груд мусора и хлама.В своих отзывах (опубликованных в журнале «Вестник Европы»
в 1895 году) он весело потешался над «русскими символистами» (а по¬
водов для подобного веселья в этих сборниках было более чем доста¬
точно), Вот почему даже и те произведения Брюсова, значительность,
самобытность и внутренняя оправданность которых для нас вполне
очевидны и бесспорны, не вызвали у Вл.. Соловьева, ничего, кроме
насмешек (о чем и свидетельствует данный им анализ стихотворения
Брюсова «Тень несоздаиных созданий...» — одного из примечательных
в истории и поэтике символизма). . ..Такую остро ироническую критику «русские символисты» ояиида-
ля от кого угодно, только не от Вл. Соловьева. Вот почему в третьем
выпуске «Русских символистов» Валерий Брюсов, отвечая на резкие
отзывы, появившиеся в «Вестнике Европы», и согласившись, что в них
есть «дельные замечания», вместе с тем упрекнул Вл. Соловьева
и в «умышленном искажении» смысла критикуемых им стихотворе¬
ний,— умышленном, ибо кто же, как не Владимир Соловьев, должен был
бы «легко улавливать самые тонкие намеки поэта, потому.что сам писал
символические стихотворения...». В ответ Брюсову Владимир Соловьев
ядовито заметил—в отзыве па третий сборник «Русских символи¬
стов»,— что если бы даже он и «...был одушевлен самого адской зло¬
бою», то все-таки ему. «было бы невозможно, исказить смысл этих
стихотворений по совершенному отсутствию в них всякого смысла»
(В. С. Соловьев. Собрание сочинений, т. 7, стр. 166).. Вл. Соловьев обнаружил инфантильную наивность и заемный ха¬
рактер многих программных положений «русских символистов»
и только улыбался, встречая в их стихах «куртипы пустоты», «кнуты
воспоминаний», «собак секретного желанья» и прочие вычуры и вы¬
верты претенциозно-модернистского, по явно незрелого и вымученно¬
го версификаторства (не прошел он и мимо однострочного.«стихотво¬
рения» Брюсова «О закройедои бледные ноги»).В беспощадно иронической, полемике, с, Брюсовым, в стремлении
«отмежеваться» (говоря языком нашего времени) от «символизма»,
понятого «по-брюсовски» (то есть как «щкола стиха», а не как воз-
м о ясность приобщения к некоему запредельно viy миру), и рождались
великолепные пародии iia. «шершаво-декадентные» стихи «русских
символистов»: ....не дразни гиену подозренья,... Мышей тоски!Не то смотри, как леопарды мщекья
Острят клыки!И ;не. вопи сову благоразумья
, Ты в эту ночь!Ослы терпенья и слоны раздумья
•• '■ ’ Бежали прочь:.;' г : 1 -
А сам создатель этих пародий иронически замечал в адрес своих
ояаонентов, пытавшихся причислить и его к своему лагерю: «Теперь,
во крайней мере, гг. Брюсов и К0 имеют действительно право обви¬
вать меня в напечатании символических стихов» (там же, стр. 167).Пародии Вл. Соловьева являются поистипе шедеврами в своем
тавре —так они блистательно остроумны, так метко нацелены в уяз¬
вимую «пяту» зачинателей «русского символизма», такой живой
и безудержно веселый отклик (даже и поныне!) вызывают у своего
читателя.Этот историко-литературный эпизод характерен не только для
того отношения, какое вызывали — при своем появлении — сборники'
«Русские символисты» (многое в них воспринималось впоследствии
совсем по-иному), но и как показательный в борьбе двух течений рус¬
ского символизма, во многом — чуждых друг другу.Взятый Вл. Соловьевым в отзывах на три выпуска «Русских сим¬
волистов» пронически-издевательский тон, не исключающий и весь¬
ма недвусмысленных намеков на умственные способности и психиче¬
ское состояние их авторов, был подхвачен всей широкой прессой,
а его пародии на них приобрели известность гораздо большую, чем
произведения, послужившие для них поводом и впоследствии совер¬
шенно забытые. Авторы этих произведений словно бы не заботились
на о чем ином, кроме разрушения созданного до них. Но следует
подчеркнуть, что при всей манерности, искусственности, безвкусице
подавляющего большинства стихотворений, опубликованных на стра¬
ницах «Русских символистов» (так же как и других произведений
иоэтов-декадентов «первого призыва»), в одном отношении они вы¬
полнили стоявшую перед ними задачу: они заставили задуматься
о «путях и перепутьях» поэтического творчества, они вернули широ¬
кий интерес к стиху, к вопросам стихосложения, стихотворного
мастерства и новаторства, новым возможностям слова и образа, что
и сыграло свою роль в обновлении стиха, в истории русской поэзии
в открыло в ней ту главу, которая не позабыта поныне.В статье «О «Библиотеке поэта» Горький говорил, что «нашей мо¬
лодежи и молодым поэтам нашим мало известно или совсем неизвест¬
но многое в истории русской поэзии», в частности — «...причины фор¬
мального возрождения стиха в самом конце XIX века ив начале XX ве¬
ка», а вместе с тем «резкого разноречья поэзии с действительностью до
1905—1906 годов и вся последующая линия развития поэзии...».Обращаясь к тем годам, о которых говорит Горький, мы и наблю¬
даем «резкое расхождение поэзии с действительностью» (если иметь
в виду преобладающие их тенденции), а вместе с тем «формальное;
возрождение стиха», начатое «новой поэзией».«Новая поэзия» на первых порах являлась преимущественно
эстетской, «гедонистической», равнодушной К жизни общества, к тем
проблемам, которые волновали народ, к его нуждам, запросам, инте¬
ресам. Это придавало крайне ограниченное и узкопрофессиональное
значение «бунту» русских символистов против литературы эпигонско¬
го и пустого красноречия и со временем привело многих символистов58
к новому эпигонству и новой риторичности — ничуть не лучшей, чем
та, которой они некогда бросили решительный вызов.Но в первые годы своего существования «новая поэзпя» быстро
взрослела, отбрасывала многое из того, что придавало ей излишне
экстравагантный, экзотический, а то и попросту курьезный характер,
становилась все более зрелой, художественно весомой, и к тому вре¬
мени, когда Блок ознакомился с нею, ее младенческий период, в дни
которого опа вела себя крайне эксцентрическим и весьма безрассуд¬
ным (с точки зрения взрослых и благовоспитанных людей) образом,
не отказываясь и от самого откровенного озорства, был уже далеко
позади. Ее представителями являлись виднейшие в то время русские
поэты — такие, как Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Федор
Сологуб, Зинаида Гиппиус, Иван Коневской, и все меньше находилось
остряков (хотя их оставалось вполне достаточно), усматривавших
в пей лишь курьез и повод для пародий, каламбуров, издевок. Если
сборники «Русских символистов» были во многих отношениях слабы,
наивны, подражательны (вместе со своим подчеркнуто французским
акцентом и плодами своего «гри-де-иерлевого, вер-де-мерного и фель-
мортного» — по словам Вл. Соловьева — вдохновения), а то и инфан¬
тильно незрелы, то уже иной оценки заслуживает альманах «Северные
цветы», по которому Блок и знакомился впервые с «новой поэзией» —
и который вызвал целый переворот в его воззрениях на искусство;
особую роль сыграли здесь стихи Брюсова, явившиеся для Блока па
только школой «новой поэзии» и нового стиха, но и огромным собы¬
тием внутренней жизни.К этому времени Брюсов уже совершенно созрел как художник,
стал крупнейшим мастером стиха, вернул ему силу и новизну, открыл
новые его возможности,— не случайно он в начале нашего века счи¬
тался не только «первым поэтом», но и «законодателем» стихосложе¬
ния, стихотворного вкуса, высшим судьей в области поэтического
мастерства. Именно Брюсов первым — и наиболее последовательно из
русских поэтов конца прошлого и начала нашего века — стремился
выразить в своем творчестве всю сложность переживаний современ¬
ного человека, придать стиху новое — «урбанистическое» — звучание,
вводил в него ритмы и образы большого современного города, зали¬
того огнями «электрических лун», опутанного сетью проводов, оглу¬
шенного грохотом машин и колес, голосами неисчислимых людских
масс, раздираемых бурными страстями и непримиримыми противо¬
речиями.В области стиха, в развитии и возрождении русской поэзия
Брюсову принадлежит выдающееся' место; друг и соратник раннего
Блока — Андрей Белый — в статье, посвященной Брюсову, справедли¬
во заметил, что «во взглядах на поэзию Брюсов произвел глубокий
переворот...». И далее Белый так определял значение Брюсова в рус¬
ской поэзии рубежа XIX—XX веков:«Брюсов первый поднял интерес к стиху. Он показал нам опять,
что такое работа над формой... Брюсов первым из русских поэтов
проанализировал бесконечно малые элементы, елагатоттае картину
творчества... Воскресив в нас любовь к рифме, Брюсов первым воскре¬
шает перед нами понимание интимной жизни строки. Своеобразный
ритм его размеров углубляется гениальным подбором не только са¬
ках- слов, но и звуков в словах. Музыкальному ритму соответствует
рнтм мыслей и образов...» («Луг зеленый», стр. 189—190),— и хотя
в этих оценках и определениях сказывается явное преувеличение
(разделяемое многими поэтами, входившими в литературу вслед за
Брюсовым), но в основе своей они справедливы, ибо после некоторого
упадка русского стиха именно Брюсов открыл в нем новую главу,
стоит у колыбели «новой поэзии» (со всеми ее достоинствами и недо¬
статками, для нас уже совершенно очевидными),— и сам Брюсов
в -своем творчестве сумел осуществить многое из того, к чему призы¬
вал и чему учил молодое поколение русских поэтов.В стихах, опубликованных в первых сборниках «Северных цветов»
(ставших настольными книгами молодого Блока), Брюсов бросал ван
зав и сглаженному эпигонскому стиху и искусству как «теургическо¬
му служению»; он провозглашал лозунги самого крайнего ипдиви>-
дуализма и «абсолютной свободы» от каких бы то ни было верований,
принципов, долга:Неколебимой истин оНо верю я давно,И все моря, все пристани ,Люблю, люблю равно.Хочу, чтоб всюду плавалаСвободная ладья. .И господа и дьяволаХочу прославить я.Так заиоведям религии и религиозного служения Брюсоз
противопоставлял заповеди совершенно иные, отвечающие жажде
избавления от каких бы то ни было обязательств, кроме одного
«девственной веры в себя». Если такие предшественники символизма, как Вл. Соловьев
и Дм. Мережковский, твердили в своих стихах о божественном и «веч¬
ном», то Брюсов, Бальмонт и другие зачинатели «новой поэзии»
воспевали не «вечность», а миг — лишь бы он отвечал страстям, .же*
ланиям и влечениям человека, живущего всею полнотой бытия — не
думая о прошедшем и не гадая о грядущем; в стихах, опубликованных
в первом сборнике «Северные цветы» (1901),.Брюсов отстаивал■ лишь
одну «правду» — правду мига, правду безудержной страсти,— какою
бы она ни была н куда бы ни влекла:^ В моих словах бесстыдство было,В твоих очах упорство дня,И мы боролись с равной силой,Друг Друга жаждя и кляня...О, если каждый образ вечен
И полны прошлым небеса!,>То в безднах этот миг отмечен,Шит огневая полоса...-— '60
и ради того, чтобы, пережить такие «миги», не жаль сжечь и самого
себя,—- утверждал Брюсов в этих стихах.На страницах тою же сборника ему вторил Бальмонт, воспевая
того бога, который не признает ничего — кроме своих страстей и при- .
жотей:Всегда разнообразных ои хочет новых снов,Хотя бы безобразных, мучительных миров!Но только полных жизни, бросающих свой крик,И гаснущих покорно, создавши новый миг...Только такие миги, хотя бы самые безобразные, безумные, а то
и опасные, но неизменно новые, ослепительно вспыхивающие и по¬
стоянно гаснущие, чтобы смениться новыми, такими же яркими,
соблазнительными, безудержно влекущими,— и придают истинный
смысл и высшую красоту человеческой жизни, отвечают велению того
бога, который всегда и неизменно жаждет «новых снов» — каких угод¬
но, но только бы новых! — утверждал здесь Бальмонт, а вслед за иим
провозглашали и другие поэты-декаденты,: Свою философию «мига» Бальмонт отстаивал и в статье «Чувство
вечности в поэзии» («Северные цветы», сборник третий, 1903) — весь¬
ма характерной для того крайнего индивидуализма, который провоз¬
глашался «новой поэзией» как девиз и знамя «истинно-современного»
человека. Статья эта открывалась широковещательным и решитель¬
ным заявлением:«Есть только один вопрос, имеющий безусловное значение для
человека: должен ли он видеть в себе средство или цель, должен ли
он видеть в себе орудие чьей-то воли или, отрешившись от подчинен¬
ности, желать свободы во что бы то ни стало, считать каждый миг
своим единственным, быть как цветок, который расцветает, отцветает
и не возобновится. Быть рабом или быть властелином. Быть неволь¬
ником или повелителем той зеленой звезды, на которой мы живем
и которая зовется Землей».•И, призывая своих читателей учиться мудрости у цветов, не ду¬
мающих о том, «будет ли гроза и спалит ли их слишком жаркое солн¬
це», владеющих тайной мира и «равных богу» («будь это нежный
ландыш или ядовитая орхидея»), Бальмонт утверждал, отвергая ка¬
кие бы то ни было общественные обязанности и моральные ценности}
«Только вечность хороша, только душа, которая так ярко чувствует*что может воскликнуть: для меня нет ни вчера, ни завтра». • ‘ Наслаждайся любым отпущенным тебе мигом, не думай ни о чем/
другом,— и тогда ты будешь равен богу,— призывал своих читателей*
Бальмонт в этой статье, являющейся своего-рода манифестом русских;
«модернистов» и сводящей «вечное» к «мгновенному», ие знающему,;
прошлого и равнодушному к будущему.Вместо божественных откровений и «теургического служения»,
чуждого радостям земного-бытия (как это мы видим хотя бы в дидак¬
тической по своему духу поэме Д. Мережковского «Франциск Ассиз¬
ский», пронизанной пафосом сурового аскетизма), во многих стихах
и высказываниях Бальмонта,, Брюсова и других представителей
(шозой поэзии» прославляются все радости жизни, восторг перед ея
пестрым и ярким многообразием, желание вырвать у нее все, что
только она может дать — и многое сверх того! — сейчас же, немедлен¬
но, хотя бы на один миг, не считаясь ни с какими зарапее установлен¬
ными социальными или моральными предписаниями, правилами,
запретами. Так рождается философия «мига», сочетающаяся со стрем¬
лением выразить неповторимость, яркость и страстность ощущений
в таках же неповторимых образах, ритмах, звуках, в ошеломляющих
своей смелостью формах, дотоле неизвестных русскому стиху, класси¬
ческой поэтике.Когда Брюсов восклицал, воспевая «ночное солнце» — страсть:Я с Богом воевал в ночи,На мне горят Его лучи...—«то его читателей не могли не захватить необычайно энергичные
и властные стихи, исполненные такой горделивой, уверенной в себе
силы, какой давно не чувствовалось в русской поэзии; эти стихи сви¬
детельствовали, что в литературу пришел большой художник, велико¬
лепный мастер, готовый бросить вызов уже сложившимся мнениям
я. канонам — ради утверждения новых и небывалых ценностей.Блока при знакомстве с «новой поэзией» (так же как впоследст¬
вии Маяковского, говоря его же словами) «разобрала» ее «формаль¬
ная новизна», ее дерзость, ее вызывающее своеволие, что заставило
его в корне пересмотреть дотоле ученически покорное отношение
к своим учителям и наставникам, таким, как Жуковский, Полонский,
Вл. Соловьев, и находить свои собственные и особые средства выра¬
зительности, отвечающие духу и характеру «новой поэзии»; если
Вл. Соловьев явился для Блока наставником в постижении «велико¬
лепных миров» идей Платона, начала «вечно женственного», то имен¬
но Брюсов стал его Вергилием на путях постижения современной
поэзии, впервые открывшейся Блоку во всей ее новизне и дотоле
неведомых возможностях.Размышляя в конце 1901 года о том, что он сможет «завещать»
людям, поэт, согласно записи в юношеском дневнике, ставит па «пер¬
вое место» сборник «Северные цветы», а затем уже стихи Вл. Соловье¬
ва и свои собственные («Литературное наследство» № 27—28,
стр. 358) — и здесь «Северные цветы» занимают первое место совсем
не случайно.Эта запись свидетельствует о том, какое значение придавал поэт
сборнику «Северные цветы» (в третьем выпуске которых появился
и цикл самого Блока, впервые названный «Стихи о Прекрасной
Даме»).Вспоминая, много лет спустя, о своем знакомстве — весной1901 хюда — с первым выпуском «Северных цветов», Блок говорит
о совершенно необычайном впечатлении, вызванном ими, и особен¬
но — стихами Брюсова, который «окрасился» для поэта «в тот же
цвет, что и стихи Вл. Соловьева» и свои собственные, так что в сле¬
дующее затем «мистическое лето» — эта книга «...играла также особую62
роль» (1918); о том же свидетельствует и ранняя лирика Блока, резко
изменившаяся под влиянием «новой поэзии».В 1902 году Блок пишет Зинаиде Гиппиус: «Стихи Брюсова
я очень люблю, некоторые особенно — в обоих выпусках «Севервнж
цветов» (прошлого и этого года)...» — и любовь к ноэзии Брюсова,
с которой Блок дотоле не был знаком, отозвалась в его творчестве,
в самой поэтике, резко меняющейся на рубеже нового века, все более
вбирающей в себя элементы и самый дух «новой поэзии», которая
в то время выступала весьма активно и бурно, идя вширь и вглубь,
захватывая все новые плацдармы, свергая уже сложившиеся литера¬
турные авторитеты и каноны, утверждая «новый стих», являвшийся
по тем временам вызывающе смелым и необычайно дерзким.Ныне так много из того, что ввел Брюсов в поэзию начала XX ве¬
ка, усвоено русским стихом, что наш читатель, не знакомый в доста¬
точной степени с историей русской поэзии, далеко не всегда сумеет
увидеть новаторский и даже дерзкий в свое время характер творчест¬
ва Брюсова, отстаиваемых им эстетических принципов,— но вот Блок,
младший современник Брюсова (в своем отзыве на книгу «Urbi et
orbi»), специально оговаривал, обращаясь к прнверя;енцам рутины,
отвергающим (еще со времен Пушкина!) любые нововведения и не¬
ожиданные для них в области стиха образы и звучания, что «пищу
для их невзыскательного остроумия... может дать русский «vers
jibre» или упоминание о предметах, столь мало «возвышенных», ка¬
ковы конки и поезда» (1903).Как видим, даже и такие, казалось бы, скромные и заурядные
новшества Брюсова — введение в поэзию самых обычных черт «урба¬
нистического» пейзажа — становились в те времена дерзким вызовом
установленному вкусу!Книга стихов Брюсова «Urbi et orbi» (1903) буквально ошело¬
мила Блока и первые дни после ознакомления с нею (хотя многие
стихи, включенные в нее, были известны ему и ранее — как по сбор¬
никам «Северные цветы», так и но другим изданиям); эта книга была
для Блока как обвал, катаклизм, откровение небывалой новизны,
и о ней он пишет Белому восторженно, увлеченно, утрачивая чувство
какой бы то ни было меры, крайне преувеличивая и без того большее
значение новой книги Брюсова; Блок пишет о ней как влюбленный,
для которого в предмете поклонения дорого все, вплоть до самых
мельчайших черточек:«Книга совсем тянет, жалит, ласкает, обвивает. Внешность, со¬
держание — ряд небывалых откровений, озарений почти гениаль¬
ных... Долго просижу еще над ней, могу похвастаться и поплясать во
комнате, что не всю еще прочел, не разглядел всех страниц, не прон¬
зил сердца всеми запятыми».Блок в то время был настолько подавлен и «разорван» Брюсовым,
что даже и не надеялся выйти из сферы его влияния,— о чем писал
Сергею Соловьеву (упрекая его в подражании Брюсову):«...надо полагать, что скоро сам напишу стихи, которые все ока¬
жутся дубликатом Брюсова» (1903).
Правда, эти опасения не оправдались, и «дубликатом» Брюсова
не стали даже те стихи Блока, в которых влияние автора «Urbi et
orbi.» сказалось наиболее приметно, но, во всяком случае, муза «новой
ноэзии» первоначально явилась перед Блокам в том виде и убранстве,
какое придал ей Валерий Брюсов.Предисловие Брюсова к «Urbi et orbi» завершалось знаменатель-:
иыми словами, глубоко отозвавшимися в творчестве Блока и его воз¬
зрениях на характер и принципы художественного мастерства:
«На, современной поэзии лежит между прочим и задача — искать
более свободного, более гибкого, более вместительного стиха...» —
в стихи Блока отныне в полной мере отвечали этому призыву Брюсо¬
ва, утверждаемым им положениям, став поистине более «свободны¬
ми», «гибкими», «вместительными», утрачивая былую размеренность,
уравновешенность, «гладкость», а то и скованность, некогда сказывав¬
шуюся во многих из них,— не случайно в своем отзыве па книгу
Брюсова, опубликованном в журнале «Новый путь» (1904), Блок
отмечал, что «Брюсов не обременяет читателя не только вариантами
одного содержания, но избегает повторений и в размерах. Достаточно
указать, что в книге, состоящей из 96 стихотворений, употреблено
более 40 разных размеров. При этом некоторые из них...— особо под¬
черкивал Блок,— усвоены русским стихосложением впервые».Посылая редактору журнала «Новый путь» отзыв на книгу Брю¬
сова, написанный в крайне восторженном тоне, Блок сообщает своему
адресату, что не может написать рецензию «менее лирическую», ибо,
как кажется ему, «Urbi et orbi» — факт неисчерпаемый и громад¬
ный...» (1904) — и таким фактом книга Брюсова стала для Блока
именно потому, что оказалась необычайно близкой; во многом она
буквально перевернула его понимание поэзии, задач и средств худо¬
жественного творчества,—и даже после того, как поэт заново и гораз¬
до более сдержанно оценил значение книги Брюсова, он пишет ее
автору, что на деле испытал «...но крайней мере более чем литератур¬
ное «водительство» Ваше и Вл. Соловьева...» (1904). Несомненно, эти
признания в полной мере отвечают подлинным чувствам поэта, его
творческим устремлениям.«Новая поэзия» открыла перед Блоком те возможности стиха,
о которых он ранее не подозревал, и, выходя па свои «распутья», пол¬
ный предчувствия каких-то новых и небывалых перемен, поэт писал
Сергею Соловьеву: «Мне кажется возможным такое возрождение сти¬
ха, что все старые жанры от народного до придворного, от фабричной
песни до серенады — воскреснут...» (1908),— и подобного рода выска<-
зывания свидетельствуют о том, как жадно прислушивался Блок
IE голосам «новой поэзии», а особенно к голосу Брюсова, чьи необычно
звучащие песни — «фабричные», «солдатские», «девичьи» и другие
(опубликованные в книге «Urbi et orbi») —помогли Блоку осмыслить
дальнейшее развитие старых, а вместе с тем и новаторски разработан¬
ных'Жанров, ответивших духу повседневности и современности.Правда, чем более пылким было недавнее увлечение Брюсовым,
тем: быстрее наступало охлаждение, и вот Блок вскоре пишет Сергею04
Соловьеву, перед которым недавно изливался в восторгах по адресу
автора «Urbi et orbi»: «Почему ты придаешь такое значение Брюсо¬
ву?- Я знаю, что тебя несколько удивит этот вопрос, особенно от меня,
который еле выкарабкивается из-под тяжести его стихов. Но ведь
«что прошло, то прошло». Год минул как раз с тех пор, как «Urbi et
orbi» начало нас всех раздирать пополам. Но половинки понемногу
склеиваются, раны залечиваются, хочешь другого...» (1904).«Маг» оказался «не вечным» и уже не мог ответить тому «друго¬
му», что хотел услышать поэт (это «другое» он различал скорее в До:
стоевеком, чем в Брюсове), но все же и в последующее время, когда
само отношение Блока к Брюсову резко изменилось, он постоянно
подчеркивал роль Брюсова как учителя и основоположника «новой
поэзии», о чем говорит и его отзыв на книгу «Венок» (1906); здесь
Блок решительно заявляет, что предшествующая ей книга «Urbi et
orbi» «...сразу делает Брюсова учителем новой поэзии, подлинным
большим русским поэтом...» — и поэтом, как утверждает Блок, связую¬
щим новаторство с основами и традицией русской поэзии XIX века
(«ясно, что он «рукоположен» Пушкиным, это — поэт «пушкинской
плеяды,..» — утверждает здесь Блок),— что необычайно возвышало
Брюсова в глазах Блока, всегда и неизменно чувствовавшего и с гор¬
достью подчеркивавшего свою коренную причастность заветам и тра¬
дициям великой русской литературы прошлого.Даже и годы спустя после того, как прошло первоначальное
восторженное увлечение стихами Брюсова и Блок научился трезво
оценивать их, он писал Г. Чуйкову: «...Брюсова я считал, считаю
и буду считать двоим ближайшим учителем — после Вл. Соловьева...»
(1907). Такое отношение к Брюсову и его поэзии у Блока оставалось
неизменным и при новых увлечениях поэзией Брюсова (сказавшихся
хотя бы при получении его книги «Зеркало теней») и при очередных
разочарованиях в Ней. Это не случайно — знакомство с «новой поэ¬
зией» вызвало у Блока острую неудовлетворенность своим творчест.-
вом, которое было дотоле слишком уж «спокойным», ученически
послушным, верным общепринятым канонам условного, эпигонского,
и ставшего уже банальным поэтического языка. Отныне поэт сам
так же смело, как иные представители «новой поэзии», бросал вызов
и этим канонам и привыкшему к ним читателю, создавал произведе¬
ния, отвечающие духу и характеру переживания — пусть даже самого
смутного, темного, причудливого, а потому и взывающего к смутным
образам, к невнятной, темной, косноязычной речи — лишь бы она
отвечала доподлинности его чувства'и настроения.Во многом именно на образцах «новой поэзии» учился Блок смело
менять форму стиха, утратившего недавнюю мерность и уравновешен¬
ность; «но<вая поэзия» означала в его глазах и стремление передать
ритмы современной жизни в ритмах самого стиха, и введение новых
размеров, отвечающих принципам «чистого тонизма», и повышенна
выразительности образа, готовность передать самые сложные пережи¬
вания, о которых трудно рассказать ясно и внятно, языком намека,
требующим от читателя особого'рода восприимчивости и «настроенио-65
сти», или посредством «соответствий» совершенно различных областей
восприятия (как это мы видим в «Сонете к форме» Брюсова), и мно¬
гое другое, что по-своему отзывалось в стихах о Прекрасной Даме,
придало им особый характер и особое звучание, дотоле чуждое твор¬
честву Блока.Если в юношеской поэзии Блока преобладали привычные аллего¬
рии (вроде «туманного факела» или «корабля надежды»), представ¬
ляющие обширный ряд однородных явлений в их предельно обобщен¬
ном выражении, оставляющем нас на земле и в кругу конкретно
представимых обстоятельств, то теперь поэт обращается к символу,
лризваиному неревести восприятия из мира конкретно-чувственных
явлений в иной — непостижимый, таинственный, смутно угадываемый
в некоем «откровении» — и как бы расширить рамки повествования
до тех пределов, за которыми мистику открывается просвет в некие
«иные миры», видимые внутренним оком. Такого рода понимание
искусства и определяет специфически символистский характер стихов,
посвященных Прекрасной Даме.Поэт ожидает...волны попутной
К лучезарной глубине..;—и здесь «волны» — это уже не аллегории, выражающие в зримом обра¬
зе некие отвлеченные понятия, а нечто совершенно иное, и «волна»,
уносящая поэта к «лучезарной глубине», способствует «растворению»
всего «вещного», плотского, земного в ином, бесплотном, «идеальном»,Когда поэт говорит:...эти горные путиМешали слиться с неизвестным,—Твоей лазурыо процвести...—то здесь «горный путь» не только, да и не столько деталь пейзажа,
сколько вое то житейское, что еще уводит от «лазурной» и единствен¬
но истинной стези, мешает ступить на нее; каждый такой образ ста¬
новится своего рода «знаком» на пути к небесному, призванным на¬
помнить о «лазурном», божественном, «вечно женственном», помочь
увидеть его «под грубою корою вещества» (Вл, Соловьев) и слиться
с ним.Лирический рассказ Блока становится загадочным, в нем появ¬
ляются пробелы, разрывы, смутные намеки, уяснение которых подоб¬
но решению задачи со многими неизвестными:Днем за нашей стеной молчали,—Кто-то злой измерял свою совесть;И к вечеру мы услыхали,Как раскрылась странная повесть..,Эта «повесть» и действительно становится для нас «странной»,
и тщетно стали бы мы гадать, кто это тот «злой», о ком говорит поэт,
и кто эти «мы», от чьего имени идет речь; все здесь смутно, загадочно,66
неопределенно, да и не тяготеет ни к какой определенности, ибо само
стихотворение призвано вызвать не ясное и отчетливое представлена')
о предмете повествования, а оставить нас во власти смутных и тре¬
вожных предчувствий, какой-то тайны, углубить ощущение непости¬
жимости и невероятности тех событий, на которые поэт намекает
невнятным, сбивчивым языком, ибо о них и нельзя рассказать обыч¬
ной, логически связной речью.До поэта доносится некий тайный, едва уловимый шепот из да¬
леких стран:,..и в шеятаньи
Чья-то ласка, как во сне,В чьем-то женственном дыханья,Видно, вечно радость мне...«Милый образ», возникающий перед ним, обретает характер
«нежного сна», такого неуловимого, что разгадать его, рассказатьо нем, вернее — намекнуть, можно только посредством крайне неопре¬
деленных речений («кто-то», «чей-то», «в чьем-то» и т. п.).В стихотворении «Плачет ребенок...», говорящем о безвыходностк
жизни, тонущей в беспросветном мраке, мы видим туманные и рас¬
плывчатые пейзажи, подобные обрывкам тех снов, от которых оста¬
лось только полузабытое воспоминание:Шепчет и клонится злак голубой.Пляшет горбун под луною двурогой.Кто-то зовет серебристой трубой,Кто-то бежит озаренной дорогой...Напрасно было бы пытаться перевести эти неопределенные место¬
имения на более ясный и точный язык,— сама неопределенность
предмета повествования, его недосказанность призвана передать атмо¬
сферу загадки, тайны, мистерии, некоей грезы, где тонут очертания
окружающего -мира, зримость и ощутимость которого — лишь иллю¬
зия, лишь мимолетный отсвет иного и потустороннего мира. Читате¬
лю этих стихов бросается в глаза не только отсутствие определенности,
но и отказ от нее, опасение того, что в любой черте, ограничивающей
предмет четко и точно, заключены «пределы», ложь «изреченной
мысли» (Тютчев),— вот почему з лирике Блока возникают стихи,
в которых одна неясность, недоговоренность, оставляющая простор
для самого противоречивого осмысления, для любого толкования, сме¬
няется другою, такой же смутной и неясной:Жизнь медленная шла, как старая гадалка,Таинственно шепча забытые слова.Вздыхал о чем-то я, чего-то было жалко,Какою-то мечтой горела голова...Поэт ни в малейшей мере не стремится помочь нам разгадать зна¬
чение его вздохов и мечтаний, уловить их подлинный смысл, и остает¬
ся только’ гадать, какой мечтой «горела» голова ноэта, который и сам67
не знает окончательного ответа, сам, обретаясь на грани «богопозна-
ния», не хочет, да и не может разъяснить их.Такие стихи воспринимаются как «таинственный шепот», и его
значение именно в том, что он порождает чувство тайны, взывает
v тайне, в пределах которой и стремится остаться поэт, а потому даже
и не пытается уяснить ее для себя или для нас.Порою можно лишь догадываться, о ком именно так невнятно,
словно боясь потревожить чей-то покой, чыо-то «недвижность», гово¬
рит поэт; обращаясь к девушке, которая больна «прозрачной 'белиз¬
ной», он делится с нами предчувствием горестных и непоправимых
утрат:Тень лампадки вздрогнет и встревожит,Кто-то, отделившись от стены,1 (одойдет — и медленно положит
Нежный саван снежной белизны...Здесь «кто-то» — это, оказывается, сама смерть,— так явствует из
сюжета. Но и в других стихотворениях, где этот «кто-то» никак не
назван, под ним следует подразумевать нечто столь же роковое, неиз¬
бежное, свидетельствующее о присутствии вестников иных миров,
■смутно угадываемых в некиих пророчествешшх снах, непостижимых
для обычного, «дневного», конкретно-чувственного восприятия.В стихах, посвященных Андрею Белому, мы встречаемся с тою же
системой неопределенностей, которую поэт и не стремился сменить
на другую, более ясную и внятную:Под крышей медленно зажигалось окно,Кто-то сверху услыхал приближение
И думал о том, что было давно...Под крышей медленно загоралось окно.Там кто-то на счетах позолоченных
Сосчитал, что никому ие дано...Поэт не поясняет, да и не стремится пояснить, о ком «прибли¬
жающемся» идет речь, какая «невидимая рука» приподнимает зана¬
вес, за которым скрыто будущее, влекущее за собой невероятные
события, и кто считает на счетах, что «никому не дано». Он не столь¬
ко приоткрывает смысл произносимых им слов, сколько пытается
заслонить от нас то, что самому ему ослепительно ясно и что напол¬
няет его ужасом и восторгом, является в его глазах предвестием вели¬
ких, страшных, непостижимых, а вместе с тем и желанных перемен;
он обращается здесь лишь к «посвященным», для которых достаточно
одного намека, чтобы догадаться обо всем остальном и проникнуть
в глубины сокровенных переживаний и предчувствий поэта, разгадать
тайный смысл.его загадочных вещаний.Здесь и самое слово скорее намекает на предмет, чем точно обо¬
значает его. Зачастую на язык такого «намека» и переводит поэт свои
едва угадываемые переживания и впечатления:. - Высоко с темнотой слипается стена,Там — светлое окно и светлое молчанье.08
■ -■■■■■■• Ни звука у дверей, и лестница темпа,И бродит по углам знакомое дрожанье.«Светлое молчанье», «знакомое дрожанье», которое «бродит .по
углам»,— это и есть тот строй речи, которым поэт подчеркивает зыб¬
кость предмета, словно бы растворяющегося в потоке переживания
и настроений.Совершается какая-то непостижимая тайна, «что-то» происходит
в мире, «кто-то» идет навстречу самому поэту; он словно бы остере¬
гается вспугнуть это «что-то» своим прикосновением, более ясно на¬
звать и обозначить наполняющую его тайну,— вот почему его речь
становится разорванной, невнятной, алогической, что призвано под¬
черкнуть непостижимость и призрачность человеческого бытия:...хмурое небо низко —Покрыло и самый храм.Я знаю: Ты здесь. Ты близко.Тебя здесь нет. Ты ■— там... Поэт. знает: «Ты— здесь», но он же знает и то, что «Тебя здесь
нет», и оба эти «знания», исключающие друг друга, вместе с тем ока¬
зываются истинными, но в пределах иной, не рассудочной логики,
иррациональной логики откровений и пророчеств, отвергающей поло¬
жения человеческого разума,— и такие стихи требуют от читателя
способности к «сопереяшваншо», к «сотворчеству», -к тому, чтобы
угадывать намеки и «знаки», которые «кивают» ему из глубин этих
стихов, заполнить пробелы и провалы, возникающие но ходу лириче¬
ского и сбивчивого, внутренне противоречивого, словно бы теряющего
сюжетную нить рассказа, и самому наводить «мостики», достаточно
прочные для того, чтобы соединить разбросанные осколки и обломки
повествования.Крайне характерно стихотворение «Говорили короткие речи...».
Если не разгадать замысла поэта, увлеченного в то время «велико¬
лепными мирами» идей. Платона, культом «вечно женственного», ла-
рикой. Вл. Соловьева, то и вообще покажется, что перед нами невнят¬
ный и даже нелепый набор слов, обретающийся где-то за гранью
самого элементарного, здравого смысла; здесь одна невнятица .сме¬
няется. другою, чтобы создать странную, сумбурную и совершенно
бессвязную картину, ие поддающуюся чисто логическому истолкова¬
нию и ие рассчитанную на нормальное, чуждое мистицизму
восприятие:К ночи ждали странных вестей.Никто не вышел навстречу...Каких «вестей» ждали, кто ждал и кто должен прибыть, почему
«никто не вышел навстречу» и что вообще происходит в домэ,
к которому незнакомые люди подходят, «крича и плача навзрыд»,—
всему этому в стихотворении нет никакого объяснения; то главное,
основное, о чем говорит поэт и без чего нельзя уяснить самого предме¬
та повествования, обретается где-то за скобками:
Все ждали какой-то вести. ,Из отрывков слов я узнал
Сумасшедший бред о невесте,О тон, что кто-то бежал...Здесь события, судя по всему, приобретают двойственный харак¬
тер: они происходят и в здешнем, земном мире и в мире «потусторон¬
нем», сверхчувственном, где им придается совершенно иное, извечно
неизменное, мистическое значение. В здешнем мире люди «крича*
и плачут навзрыд»,—так можно плакать лишь о покойнике, а на
самом деле та, кого они оплакивают, жива, ибо она бессмертна, и сло¬
ва о ее гибели звучат как «сумасшедший бред»; но ее жених, тот,
с кем она обручена тайно и навеки, знает об этом и потому совершен¬
но чужд горю окружающих его людей:Было сладко знать о потере,Но смешно о ней говорить.Так стоял один — без тревоги.Смотрел на горы вдали.А там — на крутой дороге —Уж клубилось в красной пыли.Мы не знаем, чьи шаги клубили поднявшуюся на дороге пыль
я почему «сладка» мысль о потере, но самый пафос этих стихов сви¬
детельствует, что предстоит торжественная встреча — одна из тех,
какие «огневою полосой» (Брюсов) отмечают судьбы человека и всего
мира, и смутно угадываем, какую невесту ожидает поэт, придававший
«вечно женственному» значение нового религиозного культа.Но, конечно, эта основанная на догадках трактовка стихотворения
«Говорили короткие речи...» — лишь одна из возможных и далеко не
исчерпывает предмета алогически развертывающегося рассказа, допу¬
скающего и многие другие объяснения. Да он и не претендует на одно
определенное и логически доказуемое истолкование. Нет, любая воз¬
можность «логического высвечивания» (говоря словами Блока) здесь
весьма ограничена.Самый предмет лирического повествования в таких стихах далеко
выходит за пределы умопостигаемых понятий,— вот почему и значе¬
ние слов как бы расшатывается, расширяется, утрачивает определен¬
ные грани; слово не столько указывает на предмет или действие,
сколько смутно намекает на него. Здесь глагол не обозначает тот или
иной реально наблюдаемый или переживаемый процесс, то или иное
конкретно представимое действие, а уводит нас в область таких внут¬
ренних состояний, где все обретает иносказательный и неопределен¬
ный смысл, значение тайны, которую и выразить нельзя обычным
людским языком,— так, глагол «цвести» Блок использует самым не¬
ожиданным и причудливым образом, сочетая совершенно различные
области и категории восприятий.Мыслью сонной цветя, ты блаженствуешь много,Ты лазурыо сильна...70..
Она цвела за дальними горами,Она течет в ряду иных светил...Ты вспомни ту нежность, тот ласковый сон,Которым я цвел и дышал...—то и дело читаем мы в стихах Блока; здесь глагол «цвести» и произ¬
водные от него нарушают обычные их связи и отношения с предме¬
том, сочетаются с ним самым удивительным и почти непостижимым
образом, лишая его четкости, определенности границ и утрачивая свое
установившееся значение (как это мы видим и в иных стихах Фета).
Схожим и крайне неожиданным образом сочетаются (порою сталки¬
ваются) с предметом повествования и другие глаголы в лирике Блока.Эпитет поэта также становится не тем привычным, словно бы
само , собою разумеющимся, «затверженным», а то и банальным, как
это было в его стихах недавно, по вызывающе дерзким, бро-ским, по¬
рою даже алогичным; так, наблюдая «шутовской маскарад», поэт
говорит:Там лицо укрывалиБ разноцветную ложь...—и здесь энитет словно бы взрывает обычное представление о предмете
повествования; поэт неожиданным образом сталкивает прилагатель¬
ное с обозначаемым им явлением, чтобы обнаружить родство различ¬
ных областей восприятия, их некое тайное соответствие, переводя
понятия духовного и морального порядка па сложную цветовую
гамму.Ложь в стихах Блока оказывается не только «разноцветной» —
у нее есть и иные оттенки и цвета; поэт обращается к своей возлюб¬
ленной со странными признаниями, охваченный сложными, противо¬
речивыми чувствами, в которых н самому становится необычайна
трудно разобраться:Как ты лжива и как ты бела!Мне же по сердцу болая ложь...Правда, в этих стихах явственно намечены те обычно отсутствую¬
щие . звенья, с помощью которых мы можем уяснить загадочные;
образы, принципы их создания. В глазах поэта «она», его возлюблен¬
ная, даже и при всей своей прелести и красоте, является воплощением
лжи, самой ложью; вместе с тем «она» бела. Так почему же нельзя,
сказать, что поэтому по сердцу «белая ложь» — и именно потому, что.
она отныне воплощена в облике возлюбленной и неотъемлема от него?Герой стихов Блока .Белой мечтой неподвижно прикован
: К берегу поздних времен...«Белый намек», «белая мечта», «белая страна», «белая ложь» или.
же «разноцветная ложь» не случайны в лирике Блока, а являются
характернейшим признаком новой для него поэтики, в системе кото¬
рой внутренне оправдано сочетание совершенно различных областей71
переживаний, восприятий; явление духовного порядка оказывается
возможным перевести на цветовую или звуковую гамму, что и опре¬
деляет новый характер и особые свойства метафор, сравнений,, опи¬
саний.Другие эпитеты в стихах о Прекрасной Даме так же резко поры¬
вают с обычными и допустимыми возможностями предмета, наделяют
его совершенно новыми и необычными признаками, не вяжущимися
с его реальным существом, переводят его из ряда определенных явле¬
ний в иной, неопределенный в своих границах, «текучий», обретаю¬
щий все возможности духовного или только воображаемого бытии.; . ,«Дома растут, как желанья»,— говорит Блок; ставя в один ряд
вещи и явления, казалось бы, совершенно различные, но и те и другие
становятся для пего лишь одною из граней его собственных чувств
и восприятий; так, даже и совершенно очевидные и наглядно ощути¬
мые предметы позт лишает материальности и словно бы «растворяет»
их в глубинах своего сознания. Самый пейзаж предстает перед нами
в этих стихах как воплощение и продолжение человеческих чувств,
нереяшваний, настроений; окружающие нас предметы и явления об¬
ретают всю полноту и псе возмояшости, присущие явлениям духовно¬
го мира, а явления духовные или отвлеченные обретают видимость
и возможности конкретно зримых, чувственно ощутимых предметов,
словно бы сливаются с ними; вот почему поэту видятся «белые сказки
забвений», а его арлекин хохочет «у задумчивой двери».Поэт говорит о своей возлюбленной: «Она течет в ряду иных
светил»,— да и о самом себе он скажет: «Я пролью всю жизнь в. по¬
следний крик...» — и «текучесть» всего мира* подобная «текучести»
человеческою сознания, определяет и характер ранпей лирики Блока,
возникающих в ней образов и ассоциаций.Под влиянием «новой поэзии» Блок, дотоле верный принципам
классической; поэтики, резко меняет и «расшатывает» самую структур
ру своего стиха, словно бы бросающего вызов принципам силлабог
топического стихосложения. Здесь уже появляются — не от случая
к случаю, а как система, определяющая характер поэтики,— и «паузт
ВИК», и вариация «анакрузы» (то есть слогов, предшествующих ударт-
ному в первой стоне каждого стиха), и нарушения грамматического
строя речи; появляются и необычайные, в то время неведомые
классическому стиху разносложные рифмы:Они знают, что мне неведомо,Но поет теперь лишь одна...Я за нею — горящим следом— 4Всю почь, всю ночь — у окна!Такого рода формы стиха, ритмика которого подчинена не зара¬
нее определенному размеру, а интонации взволнованной й приподняв
той разговорной речи, так же как и многие Другие, характерные для
«новой поэзии», усваиваются и развиваются Блоком, становятся отли¬
чительным признакам его творчества. ■ ■На смену старой поэтики приходит иная, где размер ломается72
и, казалось бы, необходимые слоги то «пропадают» (что и приводит
к образованию «пауз»), то неожиданно «наращиваются» сверх того,
что предусмотрено классическим — силлабо-тоническим — размером;Потемнели, поблекли залы,Почернела решетка окна.У двери шептались вассалы:«Королева, королева больна».Этот ломающийся размер, повторения слов («королева, королев¬
на») призваны подчеркнуть и усилить тревогу, настороженность, на¬
растающее предчувствие каких-то трагических и знаменательных
событий, от которых зависят судьбы многих и многих людей; чтобы
передать всю сложность и непосредственность таких переживаний,
настроений, предчувствий, поэт создает особый «рисунок» размера,
ритма прерывистого, напряженного, затрудненного, словно бы под¬
чиняющегося одной лишь интонации живой, взволнованной речи.Впоследствии поэтика Блока ещо более розко меняется, и вскоре
после спокойного и приподнято-торжественного но своему духу стихо¬
творения «Я их хранил в приделе Иоанна...» он создает совершенно
иное по своей тональности, по своему характеру, по судорожно-преры¬
вистому ритму, «скорпионистое» (по словам поэта) стихотворение
«Все кричали у круглых столов...». Это и свидетельствует о том, что
поэт глубоко ощущал свою связанность с «новой поэзией» и особен¬
ного творчеством Валерия Брюсова, фактически возглавлявшего
издательство символистов и декадентов «Скорпион».Но следует подчеркнуть, что даже и «скорпиоиистые» стихи Бло¬
ка резко отличаются от стихов Брюсова, Бальмонта или какого-либо
другого представителя «новой поэзии»; Блок никогда не рассматривал
символизм только как «школу стиха», как одну из чисто эстетических
программ, безразличных к характеру воззрений и верований худож¬
ника (хотя и как «школу стиха» Блок воспринимал и усваивал ■ сим¬
волизм весьма глубоко и основательно). В «новой поэзии» ему были
совершенно чужды проповедь гедонизма, увлечение самыми острыми
и ■ утонченными наслаждениями, готовность все принести-в жертву
«мигу», отказ от какого бы то ни было долга, каких бы то ни было
«обязательств» и моральных ценностей. Все это в корне отвергалось
Блоком — с его пафосом рыцарского долга, верного служения, жаж¬
дой той самой «неколебимой истины», в которой давно разуверилие$.
такие «старшие», как Брюсов и Бальмонт; вот почему Блок, многое
перенимая в «новой поэзии», многому учась у нее, вместе с тем явст¬
венно ощущал ту «недоступную черту», какая: отделяла его творчест¬
во от произведений старших представителей «новой поэзии».. Даже и в начале своей литературной деятельности Блок пони¬
мал, что словами «декадентство», «модернизм», «символизм»; было
принято обозначать и соединять крайне различных поэтов, а порой
и совершенно различные явления,—о чем он и говорил в набросках
своей незавершенной статьи о декадентстве (1901—1902):,.«Е^хь два рода литературных декадентов: хорошие и дурные;73
хорошие —это те, которых не следует называть декадентами... дур¬
ные— те, кому это имя принадлежит как ио существу, так и этимоло¬
гически...» — и в своих набросках Блок настаивает, и совершенно
справедливо, на том, что нельзя валить их «в одну кучу», ибо явления
эта совершенно разные.Защищая «хороших» декадентов как продолжателей великах
традиций культуры, как людей, выполняющих большую задачу
(которой поэт придавал в то время религиозно-мистическое значе¬
ние), он выступает против тех, чье творчество соответствует самому
проэвигцу — «упадочники». Они и поистине являются «настоящими
«упадочниками»,—утверждает Блок,—дегенератами, имена которых
история сохранит без благодарности» («Литературное наследст¬
во» № 27—28, стр. 313),—и сам поэт примкнул в то время к тем
«декадентам», которых он называл «хорошими» и в чьем творчестве
усматривал особый — религиозно-мистический — смысл и чьи произ¬
ведения носили характер молитв или прорицаний.Поэт усматривает дальнейшие перспективы развития искусства
в том, что в творчестве «хороших» декадентов среди всех «бурь и бед
и мыслей безобразных» почувствовалось «новое веяние, пускают рост¬
ки новые силы» (там же, стр. 314).«Младшие» символисты не разделяли сугубо эстетических взгляд
до в и настроений своих учителей и наставников в области «новой
поэзии». Творчество «младших» обретало отчетливо религиозны»
и мистические черты,— и библейская «Жена, облеченная в солнце»
значила для них нечто гораздо большее, чем всего только художест¬
венный образ — в ряду многих других.Ие мудрено, что Брюсов, который издавна видел в себе вождя
всего символистского лагеря и в силу этого приветствовал новое его
пополнение, вместе с тем был несколько смущен излишним, на его
взгляд, религиозным рвением «младших», их «теургическим» пафо¬
сом, совершенно чуждым ему.В стихотворении «Младшим» (с эпиграфом из Блока: «Там жду
я прекрасной дамы») Брюсов подчеркивал свою отчужденность от
тех символистов, для которых и само искусство — это лишь «преддве¬
рие храма», служение «вечно женственному», требующему безуслов¬
ной покорности и молитвенного экстаза от своих верных рыцарей
и герольдов:Они Ее видят! они Ее слышат!С невестой жених в озаренном дворце!Светильники тихое пламя колышатИ отсветы радостно блещут в венце.Но не все приглашены на свадьбу, где совершаежя обряд мисти¬
ческого брака и возлюбленная — воплощение «вечной женственно¬
сти» — протягивает руку своему жениху; тщетно «старший» брат
бродит за оградой, пытаясь напоить свою душу «непонятным светом»,
струящимся сквозь закрытые окна, и увидеть звезду, которая светит
другим — тем, кто собрался во дворец на свой торжественный пир.
Он — не «избранный», не «посвященный», ему нет места на этом тор¬74
жестве,— вот почему его завистливое чувство переходит в отчуждение
и озлобление, явно прорывающееся в заключительных строках стихо¬
творения:Там, там за дверьми — ликование свадьбы,В дворце, озаренном, с невестой жених!Железные болты сломать бы, сломать бы!,.Но пальцы бессильны и голос мой тих.То, что захватывало «младших», чему они поклонялись, было
совершенно чуждо Брюсову,— и это с годами становилось все оче¬
видней. А когда «младшие» (в том числе и Блок) пытались возложить
на Брюсова (в котором видели своего вождя, учителя, наставника)
бремя некоего «мессианства», он от этого постоянно и решительна от¬
казывался.В ответе на призыв одного из «младших» — быть не только «за¬
конодателем» русского стиха, но и некиим «кормщиком в темном
плаще», «путеводной зеленой звездой» (как писал Блок в дарственной
надписи на книге «Стихи о Прекрасной Даме»),— Брюсов решитель¬
но отклонял от себя подобную честь:«Не возлагайте на меня бремени, которое подъять я не в силах.
Принимаю разве только первую строчку. Дайте мне быть только сла¬
гателем стихов, только художником в узком смысле слова,— все боль¬
шее довершите вы, молодые, младшие» (1904).Так с самого начала определился резкий водораздел между
Брюсовым — трезвым «рационалистом» (при всей его тогдашней увле¬
ченности «оккультизмом»!)— и «младшими», охваченными (согласно
позднейшему утверждению Андрея Белого) «горячкой религиозных
исканий».В письме к Л. Д. Менделеевой, относящемся к концу 1902 года,
позт делится с нею знаменательными признаниями:«Я ведь не декадент, это напрасно думают. Я позже декаден¬
тов...» («Литературное наследство» № 27—28, стр. 306).Здесь поэт устанавливает и свою нреемствеппость («позже дека-
дентоз») и подчеркивает свое отличие от первого поколения «русских
символистов», так же как и от других приверженцев «модернизма» —
эстетов и «гедонистов».Блок одновременно знакомился с идеалистической философией
и поэзией Вл. Соловьева и с такими сборниками «нового искусства»
и «новой поэзии», как «Северные цветы»; все это и многое другое по-
своему отозвалось, «сплавилось» и переосмыслялось в его «Стихах
о Прекрасной Даме», оказавшихся — при всей их отзывчивости на
самые многообразные влияния — гораздо более зрелыми и самостоя¬
тельными, чем ученический цикл «Ante lucem».Правда, в «Стихах о Прекрасной Даме» техника порою еще «очень
слаба» (по позднейшему утверждению самого Блока), но и при всей
слабости и погрешностях «техники» иных из этих стихов мы видим
здесь нечто своеобразное, необычное, чего дотоле не было в области75
поэзии,— вот почему они и означают новый и более высокий этап
в творческом развитии Блока.Стихи Блока, написанные под влиянием «новой поэзии», сами
вносили в нее нечто новое.В истории русского символизма «Стихи о Прекрасной Даме» так¬
же сыграли особую роль: раньше две струи символизма, представлен¬
ные именами, с одной стороны, Вл. Соловьева, а с другой — Брюсова
и Бальмонта (так же как и другими деятелями «повой поэзии»), текли,
не смешиваясь друг с другом (а если и смешивались, то весьма не¬
прочно и ненадолго).Эти две струи соединились в «Стихах о Прекрасной Даме», отве¬
тивших двум дотоле чуждым друг другу тенденциям и образовавших
нечто новое, внутренне цельное, специфически «блоковское». В. них
сказывается и.явное родство с лирикой Вл. Соловьева, с его культом
«вечно женственного» — в религиозно-мистическом осмыслении, а вме¬
сте с тем усвоен, развит, возведен в повое качество опыт «новой поэ¬
зии» тех «русских символистов», над которыми в свое время так от¬
кровенно потешался Вл. Соловьев. А вот его ученик совершенно
по-иному воспринял «новую поэзию» и ее возможности, увидел в пей
нечто близкое, что и вошло — критически переосмысленное — в его
стихи, стало их органическим свойством (не случайно оп пишет
в 1904 году Брюсову, что испытал более чем «литературное» водитель¬
ство «Ваше и Вл. Соловьева на деле» — и стремился «сблизить» эти
имена).Правда, в ту пору стих Блока во многом еще ие «отстоялся», за¬
частую недостаточно зрел. Влияние «новой поэзии» нередко сочетает¬
ся здесь и с крайней отвлеченностью, с условностью образа, с архаи¬
кой, сказавшейся особенно явственно в обилии славянизмов, в церков¬
ной лексике, в словах, вышедших из обихода («Юдоль», «стезя»,
«придел», «страж», «смиренномудрие» и т. д. и т. п.).Поэт взирает в лицо «смерти хладной»; он ждет, что...тайна плачущей женыРазомкнет златые звенья...— , ;а его героиня живет «среди млаДых созвучий».Это сочетание мотивов архаических и сугубо модернистских
в ранней лирике Блока придает его поэтике зыбкий, явно противоре¬
чивый, «переходный» характер; зачастую здесь нет еще цельности,
внутреннего единства, соответствия всех элементов лирики, присуще¬
го зрелому творчеству Блока. Его поэтика еще недостаточно развита,
недостаточно богата и «ветвиста» (пользуясь выражением Бальзака).
Ее средствами высказаны переживания юноши, еще не обладающего
значительным житейским опытом и погруженного в свои видения,
сны, мечты. Всему этому и соответствует бедность стихотворной
ткани, отвлеченность поэтического языка, и. сам поэт далеко не . слу¬
чайно назовет впоследствии (в письме к С. М. Соловьеву), «расплывча¬
тым» характер своей ранней лирики.В его первой книге зачастую варьируются одни и те же -темь1,76
мотивы, условные «знаки», на язык которых поэт стремится переве¬
сти свои чувства, переживания, томления,— как это мы видели хотя
бы в стихотворении «Стою на царственном пути...»:Ступлю вперед — навстречу мрак,Ступлю назад — слепая мгла.А там — одна черта светла,И на черте — условный знак.Сочетанием таких «условных знаков» являлись многие стихи
Блока, что порою и придает его ранней лирике аморфный, отвлечен-
вш характер; глазу подчас не на чем задержаться, черты и краски
расплываются, утрачивают четкость и определенность.Среди этих стихов Блока еще немало явно подражательных, в них
слышатся перепевы издавна знакомых Блоку и любимых им поэтов,
образы и ритмы которых порою заимствуются почти без каких-либо
существенных изменений; так, мы читаем в «Стихах о Прекрасной
Даме»:Жду я холодного дня,Сумерек серых я ладу,Замерло сердце, звеня,Ты говорила: «Приду»...Это звучит как ученически подражательная вариация стиховФета:Жду'я, тревогой объят,ЗКду тут на самом пути:Этой тропой через сад
Ты обещалась прийти...Совпадение размера, ритмики, характера образности, синтаксиче¬
ского строя, интонации, самих оборотов речи, любовных настроений
и призывов — все это, взятое в целом, лишает приведенные стихи
Блока каких бы то пи было признаков самостоятельности.В иных стихах Блока мы находим открытия Фета, который умел
добиваться особой выразительности речи, подчеркивая и нагнетая
сказуемые, словно бы оторванные от подлежащих:Прозвучало над ясной рекою,Прозвенело в померкшем лугу,Прокатилось над рощей немою,Засветилось на том берегу...(«Вечер»)У Блока мы находим схожие синтаксические конструкции, в ко¬
торых сказуемые словно отталкиваются от подлежащих, прерывая
с ними связь, и как бы парят, подобно птицам, крылья которых опи¬
раются только лишь на потоки воздуха, — и порою именно у Фета
учится Блок улавливать и на лету закреплять в слове и образе самые
смутные восприятия и неопределенные, едва зарождающиеся впечат¬
ления; так, слыша «далекий гул в своем пути», поэт говорит о герое
стихов:77
On преклонил e вниманьем ухо,Он жадно внемлет, чутко ждет,И донеслось уже до слуха:Цветет, блаженствует, растет...Здесь можно только догадываться о том, к кому относятся глаголы
(что мы видим и в иных стихах Фета), как бы кружащие в воздухе
и не решающиеся прикрепиться к определенному предмету, остав¬
ляющие простор для мечты или фантазии, для самых невероятных
предположений и сказочных возможностей — и ни одна из них здесь
на исключена; в этом можно усмотреть разработку того, что открыто
и введено в поэзию именно Фетом, как одно из средств повышения
ее выразительности, связанное с передачей особо тонких, сложных,
почти неуловимых ощущений и восприятий. У любимых поэтов
прошлого Блок заимствует (хотя, конечно, далеко не всегда столь
явно) те элементы, которые активно «усваивались» и «новой поэзией»^
/Гак в «Стихах о Прекрасной Даме» без труда прослеживаются
самые многообразные влияния — от Библии и Платона до Фета,
Вл. Соловьева, Валерия Брюсова, но самое главное и основное, что
преобладает в них и придает им живое звучание, — это реальность
сложных и противоречивых переживаний, чувство любовной страсти,
в конце концов торжествующей свою победу над всеми иллюзиями
и религиозно-мистическими домыслами молодого поэта; вот почему
многие стихи о Прекрасной Даме и поныне захватывают их читателя.Необходимо напомнить о том, что в книге «Стихи о Прекрасной
Даме», наряду с произведениями весьма несовершенными, а то и явно
подражательными, немало и других, свидетельствующих о том, что
в русскую поэзию пришел большой художник, сказавший свое новое
и вдохновенное слово в искусстве. В наиболее самостоятельных
в зрелых стихах о Прекрасной Даме он полностью выразил всю силу
и непосредственность глубокого, доподлинного чувства, прорываю¬
щегося даже и сквозь молитвенно-церковные мотивы, и читателю
этих стихов явственно слышится, «как сердце цветет» (Фет):Бегут неверные дневные тенп.Высок и внятен колокольный зов.Озарены церковные ступени,Их камень жив — и ждет твоих шагов.Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь,Одетый страшной святостью веков, ,И, может быть, цветок весны уронишь
Здесь, в этой мгле, у строгих образов...Так даже библейские и церковные мотивы превращаются в от¬
звук одного из самых страстных гимнов любви — «Песни песней»,
и такие стихи знаменуют новую ступень в творчестве Блока, его
созревание как большого художника, в создания которого властно
и неодолимо входили самые непосредственные и страстно-напряжен¬
ные чувства, раздумия, переживания; на наших глазах и сама цер¬
ковь словно бы преображается, превращается в языческий храм, гда
господствует сила любви и «цветок весны» торжествует свою победу78
вад холодным капнем, над недвижными образами, над «страшной
святостью» веков и тысячелетий.В иных стихах о Прекрасной Да.ие отчетливо видны точно и четко
очерченные образы н приметы окружающей действительности, уже не
сводимые, как было раньше, на язык отвлеченных аллегорий, симво¬
лических «знаков»; пет, эту картину мы наглядно видим в ее мате¬
риальной определенности, а потому и не стремимся переносить ее
в область отвлеченных и чисто духовных понятий:Там в сумерках белел дверной вавес
Под вывеской «Цветы», прикреплен болтом.Там гул шагов терялся и исчез
На лестнице —при свете лампы жолтом.Желтый свет лампы, вывеска, лестница, болт, дверной навес —
все это существует как реальные предметы, уже ие растворяющиеся
в абстракциях идеалистически настроенного сознания и не поддаю¬
щиеся «иносказательному» и чисто символическому их истолкова¬
нию. Тяготение к такого рода образности свидетельствует о том, что
поэт, дотоле всецело погруженный в мир своих фантазий и видений,
начал пристальнее вглядываться в окружающую его жизнь, задержи¬
вать свое внимание на тех ее подробностях, приметах н «реалиях»,
мимо которых раньше проходил, словно бы не замечая их.Подлинные очертапия зримого мира уже гораздо явственнее про¬
ступают в этих стихах сквозь «утренний туман», в котором еще так
недавно они тонули и расплывались; уже иные — гораздо более
точные, твердой рукой очерченные — пейзажи все чаще возникают
здесь, наряду с сугубо символическими и отвлеченно-мечтательными:Мы встречались с тобой на закате,Ты веслом рассекала залив.Я любил твое белое платье,Утонченность мечты разлюбив...Залив, весло, рябь, камыш, белое платье — все это воссоздает
реально зримую картину, которая уже не поддается полной «демате¬
риализации», не растворяется в символах и иносказаниях.Важно подчеркнуть, что вместе с утверждением реалистически
весомых мотивов крепнет, усложняется, развивается и «техника»
стиха; впервые здесь ноявляется знаменитый блоковский «трехдоль¬
ник», который впоследствии, как известно, прочно усвоили многие
русские поэты:Вхожу я в темные храмы,Совершаю бедный обряд...Эти стихи Блока уже достигают той степени художественней)
совершенства, полного соответствия внутреннего состояния и настрое¬
ния с характером их выражения, которое воспринимается как гар¬
моническая завершенность; принципы «чистого тонизма» торжеству¬
ют здесь свою победу, утверждаются во всей своей полноте, а ле79
в порядке одного лишь эксперимента или «спорадически», как было
дотоле (что отметил в свое время В. М. Жирмунский).Образ в стихах Блока становится подчас необычайно выразитель¬
ным, внутренне насыщенным, способным передать самые сложные
переживания, почти неуловимые оттенки живого и страстно напря¬
женного чувства, как это мы видим в том же стихотворении «Вхожу
я в темные храмы...»:О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны...Сказки и сны бегут по карнизам — этот образ может показаться
всего только странным, причудливым и неоправданным, но он по-
своему точно передает всю непосредственность переживаний'' челове¬
ка, чувства и восприятия которого так обострены, что в его глазах
оживают и обретают видимость и реальность самой действительности
создания его воображения, словно бы воплощенные наяву и наделен¬
ные всеми свойствами и признаками конкретных предметов.Подчас неожиданный эпитет, взятый совсем не из той сферы,
в которой пребывает объект повествования, оказывается необычайно
ярким, свежим и по-своему удивительно точным:Слышу колокол. В поле весна.Ты открыла веселые окна...Здесь сочетаются, сталкиваясь с размаху и самым неожиданным
образом, совершенно различные явления из тех областей восприятия,
которые словно бы не имеют ничего общего между собой, а в то же
время находятся в непостижимом родстве, в чем-то общи и едины
и потому могут быть сведены к одному «знаменателю». Так поэт
высекает тот огонь, который по-новому освещает не только область
его чувств и переживаний, но и весь окружающий мир, и «веселые
окна» — это нечто яркое, захватывающее, передающее настроение,
порожденное весной, когда кажется, что все предметы оживают и пре¬
ображаются в ее сиянии, блеске, — и эпитет, взятый как будто очень
издалека, вместе с тем является необыкновенно точным и убедитель¬
ным, даже необходимым.Так, усваивая опыт «новой поэзии», весьма смелой и новаторской
по своему времени, Блок вместе с тем не ограничивался им, а реши¬
тельно развивал его возможности, связанные с расширением средств
художественной выразительности (хотя порою еще недостаточно
последовательно: здесь обнаруживалась известная противоречивость,
Присущая сознанию и творчеству Блока).О тяготении поэта к реальной действительности можно судить
и но его письму, относящемуся к августу 1902 года; он сообщает -отцу
о желании «объективничать», покидая «Чрезмерную сказочность»
«недавнего мистицизма». Говоря о своем мистицизме в прошлом вре¬
мени, .Блок видит перед собою какие-то новые «пути и перепутья»,
хотя и сам еще не может различить их ясно и отчетливо; но, -какви-80
Дим, Желание «объективничать» не оставалось бесплодным и бездей¬
ственным. Нет, оно сказывалось и в самых стихах Блока, и в их поэти¬
ке, отныне не исключающей реальных примет и признаков окружаю¬
щей жизни.Стремясь выразить всю непосредственность, сложность, а то
и противоречивость своих чувств, переживаний, настроений, Блок,
хотя и робко, очень издалека, идет к реализму, пусть «фантастическо¬
му» (по его собственным словам), но приближающемуся к подлинной
действительности, что особенно явственно оказалось в цикле «Рас¬
путья» (1902—1904).6, «РАСПУТЬЯ»Циклы «Стихов о Прекрасной Даме» завершаются словами вели¬
чайшего торя«ества: оказалось, что возлюбленная поэта не отвергла
его молений, ответила на его призывы, и теперь сбылись самые стра¬
стные чаяния. Отныне он — «недвижный страж» — навсегда заслужил
вожделенный «венец трудов —- превыше всех наград»:Я скрыл лицо, и проходили годы.Я пребывал в Служены! много лет.И вот зажглись лучом вечерним своды,Она дала мне Царственный Ответ.Поэту казалось: все заключено в ответе той, которая была в его
глазах «Владычицей вселенной», все сокровища мира, все его начала
и концы. Но то, в чем он усматривал полное и окончательное разре¬
шение захвативших его тайн бытия, утоление своей жаязды «единства
с миром», оказалось всего лишь «мгновением слишком яркого света»
(как скажет впоследствии поэт), после которого настал мрак, тем бо¬
лее тяжкий п непроницаемый, чем ярче была эта вспышка.Блок переживал чувство острого разочарования, растерянности,
сменившей недавнюю увлеченность и не знающую никаких пределов
восторженность.Молодые и пробуяздающиеся силы требовали исхода, и с годами
самого поэта все более утомляла и угнетала постоянная погружен¬
ность в восторженно-созерцательное состояние, «недвижность» суще¬
ствования, отсутствие жизненно значительных событий и впечат¬
лений.И в стихах и в письмах Блока все чаще прорывается неудовлет¬
воренность отвлеченным мечтательством, стремление выйти и*
«утреннего тумана» на широкий простор—с его грозами и бурями,
свежим воздухом, которого так не хватало поэту в тепличной, душной
атмосфере его «белого дома» и «радостного сада».В августе 1902 года молодой поэт в письме, обращенном к 3. II. Гип¬
пиус, говорит о неудовлетворенности собою и слишком неизменным,
идиллически безмятежным образом своей жизни:«...вид из окна великолепный — зеленый и тихий сад, розы, ряби-4 Заказ 53481
вы, липа, сосна. Но пет места, где бы я не прошел без ошибки ночью
или с закрытыми глазами, Поэтому, иногда, хочется нового... Вся
Жизнь медленная, ее мало, мало противовеса крайнему мистицизму...»Эта усталость от «крайнего мистицизма», стремление избавиться
от «чрезмерной сказочности», от всего, что уводит от подлинной жизни
и противоречит ей, и оказались тем началом, тем бродилом, которое
ие позволило поэту слишком долго задерживаться на своих мистиче¬
ских видениях и «знаках», заставляло искать им «противовес» в пред¬
метах и явлениях реальной действительности — какою бы безобразной
ли представлялась она подчас поэту.О том, что такие настроения у Блока не случайны, свидетельст¬
вует и его лирика, в которой появляются новые, дотоле неизвестные
ему мотивы, и п прежней идиллически безмятежной цельности и мис¬
тически восторженной созерцательности обнаруживаются трещины;
в эти трещины, настойчиво расширяя их, врываются потоки новых
чувств, восприятий, впечатления подлинной действительности, и с этим
потоком уже не было сладу.Оказывается, безмятежный покой «тихого сада», переживания
юноши, погруженного в сны, мечты и молитвы, обращенные к воз¬
любленной, — все это не так цельно и ясно, it а к казалось ему сначала;
он сам в себе прозревает какие-то иные возможности и влечения,
норою опасные и страшноватые, но неодолимые. Впоследствии мотив
пробуждения от мистических визииаций и томительных снов, мотив
возвращения к реальной жизни станет одним из самых постоянных
в творчестве Блока, обретет важнейшее значение в его творческой
биографии — как преодоление первого этапа его «трилогии вочелове¬
чения» и начало второго — сложного, тяжелого, необычайно трудного,
а в то же время неизбежного и плодотворного.Этому «пробуждению» поэта способствовали и события его лич¬
ной жизни. Если облик возлюбленной вызывал у него сначала тор¬
жество, которое он считал «пророчественным», а вместо с тем
и обычную, хотя и необычную в его глазах (как и в глазах всякого
увлеченного человека), «человеческую влюбленность», то впоследст¬
вии, когда победила «человеческая влюбленность» и «Жена, облечен¬
ная в солнце» оказалась просто женой, с которой поэт сочетался
церковным браком, это торжество померкло. В его глазах погас
отсвет нездешнего и нетленного мира, или, как скажет он впоследст¬
вии: «...некто внезапно пересекает золотую нить зацветающих чудес;
лезвие лучезарного луча меркнет и перестает чувствоваться в серд¬
це...»—и этот сумрак переживался поэтом предельно трагически, как
небывалая катастрофа, как крушение всех былых иллюзий, чаяний
м надежд.«Человеческая влюбленность» победила и, победив, обрела какие-
то новые черты, уже чуждые «небесности», той «лучезарной стезе»,
по которой поэт стремился уйти от всего «земного», от окружающей
жизни, от событий злободневных, общественных, политических; его
пробуждение было тем горестней, чем меньше окружающая действи¬
тельность походила на видения и фантазии, которыми поэт подменил82
о© подлинный облик, и именно об этом свидетельствует цикл «Рас¬
путья», заключающий книгу «Стихи о Прекрасной Даме» и стоящий
в ней особняком. Он во многом резко отличается от предшествующих
стихов поэта и знаменует переход к иному — более зрелому — этапу
его творчества, более широкому и самостоятельному кругу раздумий,
переживаний, стремлений.Цикл «Распутья» открывается торжественным стихотворением —
молитвенным, гимном, обращенным к Прекрасной Даме, уже ответив¬
шей согласием на призывы и заклинания своего возлюбленного. Но за
этим следуют совершенно другие стихи, в которых явно чувствуется
тревога, растерянность, ибо поэт и сам не знает, как сочетать свою
мечту, казавшуюся дотоле мистической и недостижимой, с повседнев¬
ной жизнью, как сочетать «земное» чувство с «небесным», и растерян¬
ность, раздвоенность, противоречивость определяет характер этих
стихов;.Стою у власти, душой одинок,Владыка земной красоты.Тм, полный страсти ночной цветок,Полюбила мои черты.Склоняясь низко к моей груди,Ты печальна, мой вешний цвет.Здесь сердце близко, но там впереди
Разгадки для жизни нет.И, многовластный, числю, как встарь,Ворожу и гадаю вновь,Как с. жизнью страстной я, мудрый царь,Сочетаю Тебя, Любовь!Поэту становилось очевидно, что в его жизнь вторгается нечто
новое, неожиданное, к чему он совершенно не подготовлен; это и опре¬
делило новый характер: и новое звучание цикла «Распутья»,Растерянность поэта явственно сказывается и в ого письмах, даже
в тех, которые написаны вскоре ate после «решительного объяснения»,
когда он добился «царственного ответа»; через несколько дней он
обращается к своей возлюбленной с теми же вопросами и недоуме¬
ниями:«.„у меня даже в стихи не выходят. Боюсь тех слов, которые
обозначают действительное нынешнее, когда Ты со мной. Я узнал вся
слова из тех легенд, которые говорят о том, что Тебя не будет со мной,
и привык к ним — и с ними был; как у себя. Я знаю разлуку мучи¬
тельную и нескончаемую. Свидания я еще не знаю. Твоей близости
я еще ие знаю. Все ново и непривычно...» (1902, ЦГАЛИ, ф. 55, он. 1,
ед. хр, 98).Вот для этого «нового» и «непривычного» нужны были и какие-то
новые, непривычные, доселе неизвестные слова, образы, ритмы, и поэт
искал их .на. своих «распутьях», еще сам не уверенный, что найдет на
них и;куда они его приведут.„.Рассеиваются, «туманы утренние», очертания подлинной жизни4*83
проступают сквозь них все яснее и неотвратимее, от нее уже никуда
ие уйти и не скрыться; она властно и настойчиво требует ответа на те
острые, наболевшие вопросы, о которых раньше поэт не хотел и слы¬
шать. Блок становится, согласно его собственной формуле, «поэтом
и человеком, а не провидцем и обладателем тайны», что в корне
(хотя и далеко пе сразу) меняет характер его лирики. Он и сам еще
ие знает, какие новые тайны откроются ему, какие новые обеты
и кому должен он дать, куда поведут его новые, еще только смутно
обозначавшиеся дороги (которые Блок впоследствии и назвал «рас¬
путьями»).На этих «распутьях», трудных и опасных, завершается первый
период творчества Блока, открывшийся необычайным подъемом
и увлечением, теми восторгами, которым поэт придавал некое мисти¬
ческое значение, а ныне безнадежно и навсегда утраченными.В предисловии к книге «Земля в снегу» (так же как и в переписке
с П. Перцовым) поэт замечает, осмысляя свой творческий путь, что
«Стихи о Прекрасной Даме» — это «ранняя утренняя заря—те сны
и туманы, с которыми борется душа, чтобы получить право, на
жизнь...» — и такие признания свидетельствуют о внутреннем' созре¬
вании поэта, которому становится очевидным, что его юношеские сны
и видения, сиявшие отсветом старинных книг, средневековых преда¬
ний, мистических фантазий, еще не жизнь, их надо «одолеть», чтобы
получить «право на жизнь», — и это было тем важным для поэта
открытием, которое помогало ему изживать детски наивные иллюзии
и фантазии, заслонявшие от него подлинную действительность.Так первый этап «трилогии вочеловечения» оказался пройденным
до конца.Поэт выходил на свои «распутья», уводившие от «лазурной стези»,
некогда приснившейся ему, в тот «необходимый болотистый лес»,
в котором так мрачно и так легко заблудиться и где его ожидали
страхи, невзгоды, опасные испытания, под тяжестью которых он пе
раз изнемогал и падал, — и много пройдет времени, много выпадет
бед и утрат на его долго, пока перед ним забрезжит «ясный, холодный
день», чуждый и восторженным иллюзиям первоначальных лет
и безысходному отчаянию позднейшей норы.Жизнь представала пород поэтом со всеми своими самыми остры¬
ми и непримиримыми противоречиями, в угрюмых, горьких и гроз¬
ных чертах, казавшихся ем у тем более ужасными, чем меньше они
походили на видения и иллюзии прежних лет и чем меньше он был
внутренне подготовлен к этому зрелищу.Грохот крушения созданных им в своей мечте «великолепных
миров»,— великолепных, но всего только воображаемых, не выдер¬
жавших испытания жизнью, ее суровых опытов, ее бурь и тревог, —
ж слышится нам в лирике Блока на следующем, втором этапе его
творческого развития и внутреннего становления его «трилогии
вочеловечения».84
Первая книга Александра Блока «Стихи о Прекрасной ДаМе»
вьпйла в издательстве «Гриф» в конце 1904 года (хотя издание это
и помечено 1905 годом), а незадолго до того стихи Блока начали по-
являться в печати — в журнале «Новый путь» (1903), в сборнике сту¬
дентов С.-П. университета (1903), в сборнике «Северные цветы*(1903), в альманахе «Граф» (1904), где опубликован обширный цикл,
посвященный Прекрасной Даме.Следует отметить, что по своему характеру и составу, по самой
конструкции первое издание «Стихов о Прекрасной Даме» (ставшее
ныне библиографическим раритетом) весьма существенным образом
отличается от последующих (вот почему следовало бы его переиздать
в1 первоначальном виде, как имеющее самостоятельное значение),
В нем содержится всего лишь восемьдесят восемь стихотворений
(а не триста четырнадцать, как в «каноническом» тексте, установлен¬
ном впоследствии самим автором). В этом издании совершенно
игнорируется тот строго хронологический принцип чередования
стихов, которого поэт придерживался впоследствии при составлении
первого тома своей лирики.Как уже упоминалось, лишь одно стихотворение из тех, что
составляют цикл «Ante lucem» («В полночь глухую рожденная...»),
вошло в первое издание «Стихов о Прекрасной Даме»; самому поэту
были очевидны и «формальная слабость» и «полудетский характер»
(но его собственному определению) многих ранних его стихов, кото¬
рые он впоследствии с такою щедростью включал в расширенное
(чуть ли не втрое или вчетверо) переиздание первого тома своей
лирики. Это и обнаруживает принцип отбора, осуществленный впос¬
ледствии поэтом при составлении первого тома лирики: даже и то,
что являлось слабым само по себе, обретало в его глазах не только
право на внимание читателя, но и необходимую обязательность, как та
начальная глава и та часть «романа в стихах», без которой и сам ро¬
ман’утратил бы психологическую и сюжетную полноту, внутреннюю
связанность и необходимую цельность. С этой точки зрения совершен¬
но естественным и оправданным является то, что даже незрелые
и полудетски наивные стихи, не имеющие художественной ценности,
обретали крайне важное значение, как пролог той «трилогии вочело¬
вечения», в виде которой поэт и рассматривал свою лирику в целом.В соответствии с этой концепцией и этим замыслом поэт впослед¬
ствии перестроил первый том своей лирики, «сломал» существовавшие
В’ первом издании циклы, «выровнял» стихи в порядке прямой хроно¬
логии: теперь —в «каноническом» виде — первый том лирики Блока
'■открыйается циклом «Ante lucem», за' которым следуют ! шесть
циклов «Стихов о Прекрасной Даме» (1901—1902), а замыкается толе
циклом «Распутья» (1902—-1904).1: ’ Совершенно иначе1 сконструировано первое издание «Стихов
о Прекрасной Даме». Открывается оно эпиграфами из Вл. Соловьева
(«Вся Ты в лучах, как полярное пламя, Темного хаоса светлая
дочь!..») и Валерия Брюсова («Молчанье строгое храня, Я вдруг зави¬
жу лик знакомый. И трепет оболжет меня...») —и эти эпиграфы го-"85
аюрят о том, кого имепно поэт, слагавший стихи о Прекрасной Даме,
выбрал в то время себе в учителя.За этими эпиграфами следовал стихотворный цикл, объединенный
названием «Неподвижность» (опять-таки почти буквальная цитата
из стихов Вл. Соловьева, который писал: «Все, кружась, исчезает во
мгле, Неподвижно лишь солнце любви», — в этом смысле и нужно
понимать название цикла); в нем и помещены стихи, в большинстве
■своем вошедшие впоследствии в циклы «Стихов о Прекрасной Даме»,
а частично в цикл «Распутья», являющийся их завершением.За циклом «Неподвижность» в первом издании книги следуют
циклы «Перекрестки», а за ним «Ущерб», название которого звучало
мак вызов самому же певцу «неподвижности»; нетрудно догадаться,
что если рыцарь Прекрасной Дамы переживает некий «ущерб», то
•уже в силу одного этого он отходит от былой «неподвижности»
{в платоновском и соловьевском ее понимании), чуждой каким бы то
ни было изменениям в пространстве и времени.Цикл «Ущерб» открывается сугубо трагическим эпиграфом из
Брюсова («Завесой сумерки упали, В бездоном мраке нет дорог...»),
за которым следует стихотворение «Экклесиаст», говорящее о помра¬
чении некогда светлых высот, об ужасе, веющем на всех дорогах,
о диком страхе, объявшем все живое и предвещающем неотвратимую
гибель всему миру (к этому мотиву поэт возвратится и в последую¬
щих стихах).Что же это за «ущерб», который поэт переживал и как внутреннее
состояние (в связи с прекращением былой «неподвижности» и по¬
тускнением образа Прекрасной Дамы, некогда ослепительно сиявшего
в его глазах) и как эпоху в истории всего мира, находящегося на
«грани страха» —в предвкушении великих катастроф, небывалых
асатаклизмов?Прежде чем ответить на этот вопрос, следует напомнить, под
влиянием каких взглядов и настроений оказался поэт, когда из меч¬
тательного уединения и «радостного сада» вышел на свои «распутья»
л очутился перед реальной действительностью, тем более ужасной
ш. глазах поэта, чем меньше отвечала она его юношеским фантазиям
3S иллюзиям,
«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ДЕКАДАНСА»«Евангелие от декаданса» — так Г. В, Плеханов назвал статью,
опубликованную в журнале «Современный мир» (1909, № 12) и яв¬
ляющуюся частью более широкого круга статей, посвященных «так
называемым религиозным исканиям в России»; здесь под «овапголиом
от декаданса» подразумевалась религиозная проповедь Д.- Мережков¬
ского и других «апокалиптиков», «неохристиан», «людей религиозного
сознания» (как они сами себя называли). Они утверждали, что только
в боге спасение человечества — иначе-де его ждет неминуемая гибель
от восстания «черни», от «грядущего хама», в образе которого Мереж¬
ковский представлял все подлинно передовые силы народа и истории.На Блока «неохристианские» и «апокалиптические» воззрения
и теории его новых наставников и друзей произвели немалое впечат¬
ление, На какое-то время он оказался захваченным их проповедью,—
не случайно в письме к отцу он именует себя «апокаляптиком», «иног¬
да чающим воскресения мертвых и жизни будущего века» (1902).
В лирике Блока также появляются стихи, пронизанные духом апо¬
калипсиса; картины «конца мира» все больше заслоняли от поэта та
«блаженные острова» и «радостные сады», где некогда оп пребывал.Чтобы уяснить эти мотивы лирики Блока, весьма существенные
в пей при переходе к новому этапу ого творчества, ого внутреннего
становления, нам необходимо ознакомиться с тем, что представляли
собой русские «апокалиптики» — организаторы «неохристианского»
движения, возникшего в России на рубеже XIX—XX веков, — и в чйм
заключался их «символ веры».Литераторы, проповедовавшие «евангелие от декаданса», пыта¬
лись найти защиту от надвигающейся революции «в теии алтарей»,—
но алтарей не старых, уже явно разваливающихся, а каких-то новых
или, во всяком случае, имеющих видимость новых. «Неохристиане»,
исходили из того положения, что официальная православная церковь
оказенилась, пребывает в состоянии паралича, перестала быть «лов¬
цом человеков». Она растеряла все свои идеи — кроме идеи самодер¬
жавия, скомпрометированной в глазах широких масс; она перестала
играть важную роль в жизни общества, и отсюда — все беды, угро¬
жавшие самому существованию господствующих классов. Стало быть,
утверждали эти литераторы, необходимо обновление религиозного
сознания. Вот полему они и именовали себя «неохристианами». Меж¬87
ду ними и представителями официальной церкви, отстаивавшими
традиционные каноны п догмы русского православия, происходили
бесконечные словопрения, схоластические диспуты, отчеты о которых
печатались в журнале «Новый путь» (,$903—1904) — органе «неохрис¬
тиан» и декадентов (где и был впервые; опубликован обширный цикл
стихов Блока, вошедший впоследствии в первую книгу поэта). ,В предисловии к своему «Литературному дневнику» 3. Гиппиус
(выстукавшая как критик под псевдонимом «Аптон Крайний») писала
о целях журнала «Новый путь» и о тех условиях, в которых, он
издавался:«Идеалистов» еще не было на горизонте, декаденты жили скром¬
ными отщепенцами. Всякое слово мистики вчиталось безумием, а слово,
религии — предательством. Новый же путь встал против материализма,
и одной из задач его было — доказать, что «религия» в «реакция» еще
не синонимы. Задача, в сущности, скромная; по при тогдашних
условиях — почти невыполнимая» (Антон Крайний (3. Гиппиус).
«Литературный дневник». С.-Петербург, издательство Пирожкова,
1908, стр. V).Вот выполнить эту задачу чета Мережковских (а особенно Д. С. Ме¬
режковский) и попыталась весьма нехитрым способом — жонглирова¬
нием понятий, их смешением. Им казалось — стоит только религиоз¬
ную реакцию окрестить и освятить именем революции, как стоящая
перед ними задача будет успешно разрешена; эта незамысловатая за¬
тея и лежит в основе той словесной эквилибристики, образцы которой
они демонстрировали перед своими читателями.. Стремление к подобной эквилибристике объясняется тем, что
к началу нашего века само имя «революция» стало настолько притя¬
гательным для широких масс, что даже и реакция нередко пыталась
присвоить его и прикрыться им, только бы добиться успеха, хотя бы
и посредством выворачивания наизнанку любых общепринятых
понятий, — и в этой области Мережковский являлся непревзойденным
мастером.В утверждении необходимости «обновления» православной церкви
зачинатели и проповедники неохристианства исходили прежде всего
из положений и концепций Вл. Соловьева, звучавших в свое время
весьма еретически (в результате чего иные его сочинения подверглись
запрету со стороны церковной цензуры).В вопросе о том, какую роль призвана играть нравословная цер¬
ковь в новых исторических условиях, еще и в прошлом веке столкну¬
лись две точки зрения. Одну из них с наибольшей определенностью
высказал идеолог реакции и обскурантизма Константин Леонтьев,
усматривавший в развитии России смертельную угрозу для нее,
« потому и советовавший «подморозить» ее, поучавший тогдашних ее
правителей тому, как «делать реакцию».В связи с этим определялись им судьбы и назначение православ¬
ной церкви. В своем известном сочинении «Россия, Восток и славян-;
ство» (Москва, 1875) К. Леонтьев провозглашал, что «...византизм, то,
есть церковь и царь, прямо или косвенно, но во всяком случае глубоко88
проникают' в самые недра нашего общественного организма;., все'
живое у нас сопряжено органически с родовою 'монархией нашей,
освященной православием...» — и только «система византийских'
идей» (то есть соединение монархии и православия) и «создала ве¬
личие наше, сопрягаясь с ! нашими патриархальными, простыми
началами» (стр. 100). С этой точки зрения и церковь была сильна но
чем иным, как преданностью уже сложившимся канонам и догматам,
•недопущением каких бы то ни было новых целей, устремлений,
поисков — кроме тех, какие установлены уже сложившимся автори¬
тетом.Совершенно иные позиции в этом вопросе занимал оппонент
и антипод К. Леонтьева — Вл. Соловьев, утверждавший в открытомписьме А. С. Рачинскому (опубликованном под названием «Как'
пробудить наши церковные силы») совсем иные воззрения на историю
и судьбы православной церкви. Печалясь о падении веры и церковного
авторитета, он полагал, что церковь порист собе веру и любовь хрис¬
тианских масс только тогда, когда откроется им «на деле» и «во всей
глубине своей истины... во всем величии всемирного значения...»
(В. С. Соловьев. Собрание сочинений, т. 4, стр. 179). А это «вели¬
чие», утверждал Вл. Соловьев, раскрыть невозможно, ибо ныне «идеи
и формы церковной жизни, частью исторически слагавшиеся, частью
искусственно положенные государственным реформатором (то есть
Петром Первым. — В. С.), признаны раз и навсегда неизменными
и неприкосновенными за внушительной порукой всевластного госу¬
дарства» (там же). Здесь имеется в виду «духовный регламент»Петра
Первого, в результате введения которого церковь подчинялась госу¬
дарственной власти, ее чиновникам, и функционировала на правах
обычного правительственного департамента.В этой «неизменности», «неприкосновенности», замкнутости, под¬
чиненном положении Вл. Соловьев и усматривал причину застоя
церкви, утраты ее влияния, ее значения, — оно сводилось к выполне¬
нию официально установленных обрядов, никак не затрагивающих
духовную жизнь человека и не влияющих на нее, — утверждал Вла¬
димир Соловьев.•Как видим, и К. Леонтьев и Вл. Соловьев усматривали спасейие
от революции в религии я церкви, — но самый характер церкви мыс¬
лился ими далеко не одинаково; если К. Леонтьев усматривал в церк¬
ви силу иснокон веков косную, консервативную (в чем и заключается
ее «спасительное» и «охранительное» начало), полагая, что только
церковь, подобно огромной недвижной скале, может сдержать напор
бурных волн революции и всяческой «эгалитарности», то Владимир
Соловьев*— преследуя, в сущности, те же цели, — настаивал на необ¬
ходимости реформировать церковь, оживить ее, вдохнуть в нее новый
дух, который и усматривал в фантастической смеси христианства
с дохристианскими (преимущественно — платоновскими) мифами,
в установлении вселенской церкви, соединении католичества и пра¬
вославия и т. д.; Вслед за Вл. Соловьевым «неохристиане» полагали, что они несут89
с собою «новую религиозную идею», дабы обновить «религиозное
сознание», вернуть религии решающее и главное значение в духовной
жизни народа, распространить власть религии на все человеческое
бытие и таким образом предотвратить крушение буржуазно-поме¬
щичьего строя, которое — утверждали они — неизбежно в любом
другом случае. Реальной защиты от надвигающихся революционных
бурь они не видели — и с тем большим рвением хватались за средства
защиты иллюзорные, мнимые, дававшие хотя бы только ее видимость.
Таковы предпосылки, определявшие характер «неохристианского» дви¬
жения, крайне жалкого и худосочного, затронувшего лишь ограни^
ченные круги реакционно настроенной интеллигенции, а отнюдь не
широкие массы (на что они надеялись).Стремление основать новую ролншю, канонизировать как катехи¬
зис новой церкви, как некий «третий завот» (после Ветхого и Нового
заветов) христианства «Откровепне Иоанна Богослова», то есть апо¬
калипсис, — это и было одной из безнадежных попыток приостановить
назревавшую в недрах русского общества революцию, отвлечь его на
бесплодные и обманчивые пути «религиозных исканий», попытаться
влить новое вино в старые и уже выдохшиеся мехи.Вполне уместен вопрос: какое отношение грандиозные и фантас¬
тические картины, порожденные пылким и безудержным воображе¬
нием людей седой древности, могли иметь к реальной действитель¬
ности, событиям XX века? Казалось бы — никакого.Но, как это ни странно и ни невероятно для нашего сегодняшнего
читателя, именно за апокалипсис ухватились в то время некоторые
наиболее реакционно настроенные русские интеллигенты, видевшие
в крушении старого порядка гибель всего мира, конец времен, на¬
ступление царства мрака и ужаса, ибо не могли себе представить
иной жизни— кроме той, в условиях которой им жилось легко и воль¬
готно; а так как именно апокалипсис является той книгой, где в обра¬
зах темных, таинственных и фантастических предречены судьбы
всего человечества,, гибель мира, конец времен, то именно к апокалип¬
сису и его истолкователям обратились они, стремясь найти ответ на
самые тревожные и злободневные вопросы, прибежище от неизбеж¬
ных перемен, угрожавших всему старому строю.Апокалипсис — с его загадочной символикой — представлял огром¬
ный простор для самых необузданных вымыслов, самых фантастичен
ских предположений мистически настроенных людей, — вот почему
такое огромное место занимал он в книгах наиболее известных
мистиков XVIII и XIX веков. Толкованию апокалипсиса посвящены
такие книги, как «Путь ко Христу» Якова Беме, «Откровение во сне
и наяву» Эккартсгаузена, сочинения шведского мистика Сведенборга,
«Победная повесть веры христианской» Юяг-Штиллинга, который
внушал своим адептам, что «читающему апокалипсис бегло,, без долж¬
ного внимания, покажется он смесыо редких, величественных, но
беспорядочно разбросанных картин и описаний»; когда же читать его
будешь, «освещаясь нророчественным светом», то увидишь, что «сие
откровение содержит в себе но ипое что, как предстоящую судьбу
христианской веры, основателя оной и последователей его...». Вот
вслед за такого рода толкователями «откровения», переписывая и до¬
полняя их, русские мистики нового толка также обращались к апока¬
липсису и пытались выискать в нем ответы на все терзавшие их
вопросы и страхи.Для того, чтобы вызвать в обществе повышенный интерес к рели¬
гии, оживить «религиозное сознание», в 1901 году в Петербурге и были
основаны «Религиозно-философские собрания», среди организаторов
и наиболее ревностных участников которых — наряду с лицами
«духовного звания» — появились и лица «светские», такие литераторы,
как Дм. Мережковский, В. Розанов, В. Миролюбов и другие. В журна¬
ле «Новый путь» был заведен особый отдел «Записки Религиозно-
философских собраний в С.-Петербурге», открывая который редакция
сообщала об их характере и назначении:«Собрания эти возникли в среде лиц духовного и светского об¬
разования, в целях живого обмена мыслей по вопросам веры в исто¬
рическом, философском и общественном освещении. Необходимость
подобных собраний объясняется и возрастающим вниманием нашего
общества к религиозным темам. Но препятствием к желательной
работе в этом направлении являлась, между прочим, давняя, истори¬
чески установившаяся разобщенность духовенства л светских людей,
а также духовной н светской.печати». .Устранить подобную «разобщенность», повысить роль и значение
религии и религиозных вопросов в жизни, в современном обществе —
вот к чему стремились организаторы «Религиозно-философских собра¬
ний», пытавшиеся выдать за «новый путь» нечто старое и давно
отжившее.Деятельность «Религиозно-философских собраний» открылась
докладом одного из их члено-в-учредителей и непременных участни¬
ков—чиновника Синода, литератора реакционно-религиозного толка
В. Л. Терна вдова. Его доклад высокопарно именовался «Русская
церковь перед великой задачей». Эту «великую задачу» докладчик
усматривал в «возрождении России», которое «может совершиться на
религиозной почве», — только на ней и ни на чем ином!Но сама церковь, полагал Тернавцев, должна измениться, чтобы
решить эту задачу на уровне современных требований. Автора докла¬
да она не удовлетворяла по тем соображениям, которые были крайне
характерны для «неохристиан», жаждавших вернуть религии ее былое
влияние.«Проповедники Русской церкви наставлены в вере в большинстве
односторонне, часто ложно воодушевлены... Но самое главное,— по¬
учал Тернавцев «отцов церкви» и своих оппонентов,— они в Хри¬
стианстве видят и понимают один только загробный идеал, оставляя
земную сторону жизни, весь круг общественных отношений пустьш,
без воплощения истины. Эта односторонность и мешает им <Егать «лов¬
цами человеков» наших дней... Все смутно, шатко, не облечено авто¬
ритетом никаких определенных возвышенных учений».Но если так, утверждал Тернавцев, то, стало быть, «...необходимы04
новые силы;1 могущие-вместить более»,— и под этими «новыми сила¬
ми» организаторы «Религиозно-философских собраний» имели в виду
в первую очередь самих себя. Они и намеревались’стать «ловцами
человеков», толкующими не только об отвлеченном «небесном»
идеале, оставляющем людей—-в их массе — совершенно равнодуш¬
ными к нему, но и о земных делах, не могущих пе захватить каждого,
кто кровно заинтересован в них.Необходимо «оживить религиозное сознание», утверждал Терназ-
цев в своем докладе, обнаружить в христианстве «правду и о земле»,
«раскрыть мистический и пророчественный смысл христианского уче¬
ния, пронизать и охватить религией весь мир общественных отноше¬
ний» («Новый путь», 1903, № 1, «Записки Религиозно-фйлософскйх
собраний», стр. 22) — и тем самым отвратить массы от попыток ре¬
шить эти отношения в подлинно революционном духе (не случайно
Мережковский заметил во время обсуждения доклада Териавцева, что
«...истинное христианство никогда не будет орудием в руках социал-
демократии. Идеал средней сытости (!!!) это идеал вовсе не христиан¬
ский» (там же, стр. 30).Если же «проповедникам русской церкви» не по плечу подобная
«великая задача» — что ж, уверял Тернавцев, найдутся новые силы —
и направят Россию по «новому пути».. Проповедь «неохристиаи» перекликнулась с иными сочинениями
Вл. Соловьева, в которых он «предрекает» — в согласии с апокалип¬
сисом — «конец исторических времен»; вот почему «неохристиане»
и ссылались на Вл. Соловьева как на одного из своих предшественни¬
ков, как на незыблемый авторитет в вопросах церкви и религий.
Что же касается концепции самого Вл. Соловьева, если можно опреде¬
лить этим термином сочетание самых фантастических элементов уче¬
ния Платона, средневековых схоластов и мистически настроенных
толкователей апокалипсиса, то она сводилась к попытке уяснить —
с апокалиптических позиций — не только события современности, но
и грядущие судьбы человечества и всего мира, которому философ-
идеалист предрекал близкую кончину.Любая возможность исторического развития, выхода на мировую
арену новых общественных сил, обновления человечества вызывала
у. «великого мистика»' (так называл его Андрей Белый) лишь ирони¬
ческую усмешку.В заметке «Но поводу последних событий» (1900) Вл. Соловьёв
изображает? усталого, разочарованного й разбитого параличом стари¬
ка. Говорите такому старику, что «...ему еще предстоит бесконечный
прогресс его теперешней жизни и земного благополучия...» — «уж
какое тут, батюшка, благополучие, какая Жизйь! лишь бы прочее
время живота не постыдно да без ' ййшних Страданий Дотянуть до
близкого конца...» — отвечает он» (В. С. Соловьев, Сочинения, т. В,
стр. 586).Вот в виде такого старика паралитика и изображает человечество
Вл. Соловьев, не находя в его грядущих судьбах ничего, кроме близя¬
щегося и чаемого конца.
«Конец уже близок. Нежданное сбудется скоро...» —вещал
Вл. Соловьев в своих стихах, разумея здесь конец всего мира. Одному
из своих друзей он внущал в письме то же самое, ссылаясь на свои
стихи:..«...есть бестолковица,Сон уж ие тот,Что-то готовится,Кто-то идет...Ты догадываешься, что под «кто-то» я разумею самого антихри¬
ста, Наступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явственным,
хоть неуловимым дуновением,—как путник, приближающийся к мо¬
рю, чувствует морской воздух прежде, чем увидеть море...» (это
письмо приводит в биографии Вл. Соловьева его племянник, поэт-
символист Сергей Соловьев).Подобные настроения и чаяния «конца мира» оказались сродни
и другим мистикам и «апокалиптикам»., . Проповедники «неохристпапства» оглядывались на Вл. Соловьева
еще и потому, что он задолго до них заговорил о «всемирной теокра¬
тии» как единственном средстве разрешения самых острых и насущ¬
ных вопросов современности, как о защите от всех опасностей «либе¬
рально-эгалитарного» процесса.Следует напомнить, что «теократические» и «апокалиптические»
идеи Вл. Соловьева, некогда подвергавшиеся нападкам или вызывав¬
шие явно ироническое отношение, стали входить в моду на рубеже
XIX—XX веков — им посвящались целые исследования; для младшего
поколения символистов его авторитет в вопросах религии и мистики
был непререкаем.В статье «Религиозное дело Вл. Соловьева» Вячеслав Иванов про¬
возглашал: «Когда приблизится чаемое Царство (духа! — В. С.),
когда забрезжит заря Града Божьего, избранные и верные града
вспомнят о Соловьеве, как об одном из своих пророков...» (В. Иванов,
«Борозды п межи». Москва, издательство «Мусагет», 1010, стр. 115) —
и в качестве такого «пророка» Вл. Соловьева чтил не один В. Иванов,
а и многие другие мистики, символисты, «неохристиане».В своих основных религиозно-мистических воззрениях Мережков¬
ский, наиболее ревностный проповедник «евангелия от декаданса»,
во многом повторял Вл. Соловьева, разделяя его «апокалиптическую»
концепцию и «эсхатологические» (то есть связанные с ожиданием
«второго пришествия») чаяния, его уверенность в близком «конце
исторического процесса».Посредственный художник, автор «символических», но безнадеж¬
но эпигонских — в духе Надсона —стихов, создатель пухлой трилогий
о Христе и антихристе, в которой подлинно творческое изображение
исторических событий подменено дидактическими прописями, наду¬
манными схемами, худосочными иллюстрациями религиозно-мистиче¬
ских измышлений, Мережковский чем дальше, тем больше отходил
от художественной практики, чтобы невозбранно заняться разработ¬
кой религиозных «проблем» и литературной критикой, которую он93
превращая в орудие борьбы с передовыми традициями русской куль¬
туры и проповедь своих религиозных концепций.Вслед за Вл. Соловьевым Мережковский переводил апокалиптиче¬
ские «вещания» на язык современности, что и определило характер
его обширной книги «Лев Толстой и Ф. М. Достоевский», являющей¬
ся своего рода сводом и катехизисом «неохристиаиских» воззрений,В этой книге творчество двух величайших гениев русской литера¬
туры рассматривалось главным образом как религиозная проповедь,
как изыскания в области двух «бездн» — «бездны» плоти и «бездны»
духа (сливающихся, как утверждал автор, на своем крайнем преде¬
ле) — а как вещание о «конце мировой истории», наступлении пред¬
сказанных в апокалипсисе времен.Даже и в самом стремительном развитии русской литературы
XIX века Мережковский усматривал предвестие гибели, уподобляя
это развитие «быстроте летящего в бездну камня». Он утверждал, что
«Л. Толстой и Достоевский — эти две вершины русской культуры —
озарились первым лучом страшного солнца, которым не озарялась
еще пи одна из вершпн культуры западноевропейской. Это страшное
солнце есть мысль о конце всемирной истории».Извращая самый смысл событий русской литературы и всей рус¬
ской истории, Мережковский перетолковывал их по-своему — с пози¬
ции религиозной схоластики, мистики, темных вещаний апокалипсиса.«Недаром то, что забрезжило на высочайших вершинах русской
и всемирной культуры,— утверждал Мережковский,— совпадает с тем,
что происходит в глубочайшей стихии русского народа: недаром
в последние три века именно русский народ так упорно и неотступно,
как ни один из иародотз западноевропейских, задумался о кончине
мира».Но то, что Мережковский считал «кончиной мира», на самом деле
было всего только кончиной старого мира насилия, порабощения, на¬
живы. О кончине этого мира и наступлении нового века, когда исчез¬
нет власть хищников, богатеев, «сытых», действительно издавна
думал русский народ, хотя его и пытались запугать всяческими ужа¬
сами и «ужасиками» (пользуясь словом Блока) люди, подобны©
Мережковскому.Вещая о близящейся «кончине мира», Мережковский в этом же
духе трактовал и события современной литературы, видя в них знак
наступления апокалиптических времен:«Мы «декаденты», «упадочники»; хотя, может быть, и «декадент¬
ство» наше есть нечто родиое, народное, русское — не извне, а изнут¬
ри идущее, не из Западной Европы, а из глубины, из самых кровных
материнских недр русской земли... Может быть, и наше «декадентство»
есть также нечто исторически-естественное, необходимое, пбо что же
ш такое, как не естественный и необходимый конец русской литера*
туры, которая сама есть конец чего-то еще большого?.'»- :Приводя слова Достоевского о том, что «...в Европе все подкопа¬
но, начинено порохом и ждет только первой искры», Мережковский
уверял, что именно он й иже с ним — «ничтожная горсть русских
людей нового религиозного сознания» — и есть та искра, которая
означает «новую, страшную жизнь» для всего человечества. От них,
от «людей нового религиозного сознания», и зависят якобы судьбы
европейского мира; завершая первый том своего сочинения, Мереж¬
ковский, юродствуя, выкликал от их и своего имени, что именно они,
люди «нового религиозного сознания», призваны сказать «последнее,
самое страшное, потому что как будто самое смешное, безумное
и, однако, неизбежное, единственно-разумное слово:Или мы, или никто».Стало быть, либо весь мир должен преобразиться в духе «неохри-
етианской» проповеди, либо он должен погибнуть, провалиться в тар¬
тарары, иного выхода нет,-—уверял Мережковский, обрывая свою
книгу о Толстом и Достоевском истерическими возгласами, звучащи¬
ми пародией на вещания библейских пророков: «Мы... верим в конец,
видим конец, хотим конца, ибо мы сами — конец, или, по крайней
мере, начало конца...» — и, уподобляя себя автору апокалипсиса, пат-
мосскому отшельнику, пророчившему всяческие ужасы и наступление
той поры, когда «времени больше не будет», Мережковский воск¬
лицал:«Ей, гряди, господи!»Обширная книга Мережковского о Толстом и Достоевском и за¬
вершалась этим возгласом, придающим ей не столько историко-лите¬
ратурный, сколько кликушески-проповедническин характер, свиде¬
тельствующий о том, что для ее автора творчество Толстого и Достоев¬
ского являлось не предметом подлинно научного исследования,
а всего только предлогом для пропаганды своих религиозных воззре¬
ний и «эсхатологических» чаяний.Само собой разумеется, ни малейших намеков на аргументацию
подобных абсурдных утверждений у Мережковского не было, да
и быть не могло, но мистиков, как «великих», так и не «великих», это
совершенно но смущало, ибо и самую науку они третировали крайне
вренебрежитольно, почитая единственным источником подлинного
познания не научные данные, а догматы религии, «божественное от*-
кровение»; вот почему они и полагали: если их убеждения расходятся
со здравым смыслом,— что ж, тем хуже для последнего!Такого рода концепция делала их совершенно неуязвимыми для
ка кой бы то ни было логически обоснованной критики, что и явля¬
лось, по их мнению, огромным и неоценимым их преимуществом во
отношению ко всякого рода «материалистам» и «позитивистам», от
души презираемым ими. Если Мережковский и приводил какие-то
доводы, призванные подкрепить его фантастическую концепцию «кон¬
ца мировой истории», то они, как говорил в уже упомянутой статье
Плеханов, «...но своей научной ценности не превышали плохого ка¬
ламбура».Так оно н было на самом деле.В проповеди «неохрнстиан», помимо специфически «апокалиптиче¬
ских» основ и «теократических» фантазий, весьма значительное месте
занимал и тезис о «святой плоти», могущий, по их представлениям,35.
ожяэщсь; реяргию и вызвать полное сочувствие самых широких мас-с
верующих.В предисловии ко второму тому своей книги о Толстом и Достоев¬
ском Мережковский сообщил, что вся она есть только опыт постанов¬
ки на живом примере «вопроса отвлеченного, мистического о возмож¬
ном соединении двух противоположных полюсов христианской свято¬
сти — святости Духа и святости Плоти».«Историческое христианство,— поучал Мережковский,— усилило
один из двух мистических полюсов святости в ущерб другому — имен¬
но полюс отрицательный в ущерб положительному — святость духа
в ущерб святости плоти; дух был понят, как нечто не полярно-проти¬
воположное плоти, и, следовательно, все-таки утверждающее, а как
нечто совершенно отрицающее плоть, как бесплотное. Бесплотное
и есть для исторического христианства духовное и, вместе с тем,
«чистое», «доброе», «святое», «божеское», а плотское — «нечистое»,
«злое», «грешное», «дьявольское». Получилось бесконечное раздвое¬
ние, безвыходное противоречие между плотыо и духом...»Полагая, что он-то и нашел ахиллесову пяту «исторического хри¬
стианства», Мережковский провозглашал некий синтез христианства
с его умалением «плоти» и язычества с его умалением «духа» — ду¬
ховную плоть, догмат «святой плоти», в котором он и усматривал
некое плодотворное начало, способное наполнить христианство новы¬
ми соками, придать ему новые силы в борьбе за влияние на людские
умы. Это также стало одним из основных положений «неохристиап-
ской» проповеди, полностью усвоенным и декадентской литературой,
ринувшейся в открытые Мережковским «бездны» пола и плоти.Вопросам пола, попыткам соединить христианство с «фалличе¬
ским культом», освятив и возвысив «плоть», и тем самым оживить
религию отдал немало усилий и другой проповедник «неохристианст-
ва» — нисатель-нововременец В. В. Розанов, которого Чехов в одном
из писем (вызванном известием об организации «Религиозно-фило¬
софских собраний») не случайно назвал «городовым».Корень своих «неохристиавских» идей Розанов впоследствии
раскрыл в книге «Опавшие листья» (1913), где он утверждал: «В по¬
ле— сила, пол— есть сила...» — и, упрекая христианство за «отказ от
пола», В. Розанов самодовольно вещал, что он «...вовремя начал
проповедовать пол. Христианство должно хотя бы отчасти стать фал¬
лическим...» (стр. 192).Надо сказать, что как певец «фаллического христианства» Роза¬
нов проявлял немалую изобретательность,— чего стоит хотя бы его
проект создания таких христианских храмов, где для брачуютцихся
были бы устроены специальные приделы, в которых они могли бы
сочетаться не только в духе, но и во плоти, доказывая тем самым,
что и то и другое одинаково свято и освящено в браке божественным
светом и благоволением!О том, к чему сводились писания и призывы В. Розанова, свиде¬
тельствует письмо В. Брюсова, строки из которого приводил Андрей
Белый в своей переписке с Блоком. Брюсов говорил о Розанове:ее
<<Не разобрав, в чем дело, он при всяком стОЧейий ййрЪДй ’ ’кричать: «Что? Пол? Мистическая тайна брака? Центр тяжести в со¬
кровенном месте! Приложение силы в точке деторождения...» («Пе¬
реписка», стр. 47) — и свести все мировые вопросы к одной «точке»,
расположенной в «сокровенном месте», ограничить бытие человека
чисто биологическими функциями,— вот в чем смысл писаний Розано¬
ва, связанных с «проблемами пола», которым он придавал единствен¬
но важное в жизни людей значение и сугубо религиозное — в «нео-
христианском» духе — толкование.Таким образом, «неохристианская» проповедь сводилась к трем
основным пунктам: к утверждению апокалипсиса как «третьего заве¬
та»— после Ветхого и Нового, как главной книги евангелия, вещаю¬
щей о «конце мира»; проповеди «теократии», которая одна может
защитить от прихода революции; освящению плоти и ее «бездн»,
культу плоти («фаллическое христианство»), как той наживки, кото¬
рая сможет — в соединении с религиозным сознанием — снова пре¬
вратить церковь в «ловца человеков», лишив ее чисто духовной
«односторонности»; вот то учение, которое «неохристиане» противопо¬
ставляли ортодоксальному православию и которому придавали огром¬
ное, прямо-таки эпохальное значение.Проповедь «неохристиан», людей «нового религиозного сознания»,
апостолов «евангелия от декаданса», не ограничивалась рамками
организованных ими «Религиозно-философских собраний»; нет, они
стремились проявить максимальную активность везде, где только мог¬
ли, в любых прослойках русской интеллигенции, а особенно — в неко¬
торых кружках религиозно настроенной молодежи, и -немало пре¬
успели в этом, как свидетельствует в ранних своих воспоминаниях
о Блоке Андрей Белый. Он следующим образом сообщает о настрое¬
ниях и чаяниях, возникших у него после беседы с Вл. Соловьевым
(состоявшейся в 1900 году — незадолго до смерти «великого ми¬
стика») :«...с этого времени я жил чувством Конца (в апокалиптическом
его понимании.— Б. С.), а также ощущением благодати новой послед¬
ней эпохи благовествующего христианства. Символ «Жены, облеченной
в солнце» стал для некоторых символом Благой Вести о новой эре,
соединением земли и неба. Он стал символом символистов, разобла¬
чением Существа, Премудрости, или Софии, которую некоторые т
нас отожествляли с восходящей зарей...» («Записки мечтателей» № 6,
стр. И).Такова фантастическая «историософия», которую и собирались
иные московские мистики положить в основу своей религиозной дея¬
тельности,' усматривая в ней начало некоей новой эры в судьба!
всего мира.В своем письме, опубликованном в журнале «Новый путь» под
названием «По поводу книги Д. С. Мережковского «JI. Толстом и До¬
стоевский», Андрей Белый исповедовался:«Вот уяге два года я испытывал ни с чем несравнимое чувство:
я ягдал, кто заговорит... и вот «началось»: раздались трубные призм-97
вы.;. Вл. Соловьев прочел лекцию «О конце всемирной истории».
Д. С. Мережковский упомянул о «проснувшихся слишком рано».Во всем этом Андрею Белому, чье письмо появилось за подписью
«Студент-естественник», слышались некие вещие зовы, знаменующие
приближение времени некогда предуказанных в апокалипсисе: «В при¬
роде ив людях давно уже как бы совершается, подкрадывается все бли¬
же и ближе. И природа, и люди — как бы не те, что прежде. «Конец
мира близится»... «Стучит у дверей. Так ли?.. Или это только ка¬
жется? Так или иначе, но руки отваливаются от всякого дела.
Ждешь».В ответ на сомнения Мережковского в том, поймут ли слушатели,
что «главная мысль всего христианства — мысль о конце мира»,
Андрей Белый с пафосом восклицал: «Мое письмо — это крик: «Мы
слышим! Мы готовимся. Мы молчим, но события не минуют нас!»
(«Новый путь», 1903, № 1, стр. 155—156),— п для читателей письма
очевидно, какие «события» имеет в виду «студент-естественник», на¬
читавшийся Якова Беме, Владимира Соловьева, Дмитрия Мережков¬
ского.Не только статьи, стихи, «симфонии», но и частная переписка
Белого в те годы пронизана «апокалиптическим» духом, апокалипти¬
ческими чаяниями; так, в начале 1903 года он пишет Блоку: «Времена
исполняются и приблизились сроки... я знаю Сережу (Соловьева,—
Б. С.). Он готовился. Говорил мне: чувствует, как поднялась, налетела
волна сладких снов — мессианских ожиданий. Приближение...» («Пе¬
реписка», стр. 15),—и предчувствие этого «приближения» — в духе
эсхатологических чаяний — захватило в то время и Андрея Белого,
и Сергея Соловьева, и других юных мистиков «соловьевского» толка.Говоря о людях, враждебно относившихся ко всякому «позити¬
визму» и положительному знанию, противопоставлявших нм тайны
«божественных откровений», Андрей Белый писал в своих воспоми¬
наниях:«Ницше охватывает передовые (?!) слои русской молодежи... вы¬
ходят сочинения Влад. Соловьева, влекущие первый интерес к рели-
гиозпо-философским путям. Вечное появляется в линии времени зарей
восходящего века. Туманы тоски вдруг разорваны красными зорями
совершенно новых дней. Мережковский начинает писать исследова¬
ния о Толстом и Достоевском, где высказывает мысль о том, что
перерождается самый душевный состав человека и что нашему, имен¬
ие, поколению предстоит выбор пути между возрождением и смертью!
Лозунг его — «или мы, или никто» — становится лозунгом некоторых
нз молодежи, перекликаясь с древними пророчествами Агршшы Мет-
тенсгеймского и «книги блесков»... И мы эти лозунги сливаем с гре¬
зами Соловьева о Третьем Завете, Царстве Духа. Срыв старых путей
переживается Концом Мира, весть о новой эпохе — Вторым Пришест¬
вием (!!!). Нам чуется апокалипсический ритм времени. К Началу мы
устремляемся сквозь Конец...» («Записки мечтателей» № 6, стр. 9).Вот что говорит Андрей Белый о чувствах, охвативших, по его
словам, «передовые слои русской молодежи», а точнее говоря—тех
реакционно настроенных интеллигентов, которым в гибели основ
и устоев старого строя мерещилась гибель всего мира.Эти настроения и чаяния «второго пришествия» Белый стремил¬
ся воплотить и в своих стихах, «симфониях»; в них тема «второго
пришествия» становится одной из самых навязчивых, переплетаясь
о темой безумия, ибо именно безумца и видят окружающие в челове¬
ке, вышедшем на дорогу — в надежде встретить Христа.Десятилетия спустя Андрей Белый признавался: «...с 1905 года,
попав в Петербург, я на несколько лет окончательно запутался
в кружке Мережковского...» («Начало века», стр. 413),—и это было
по истине так. Только такой «запутанностью» (начало которой отно¬
сится к более ранним временам, о чем и свидетельствует «апокалип¬
тическое» письмо Белого как «студента-естественника», опубликован¬
ное в журнале «Новый путь» в 1903 году) можно объяснить многое
в причудливых и фантастических воззрениях молодого Белого в ту
нору.Проповедь «евангелия от декаданса» входила в моду, и на какое-
то — весьма краткое — время она захватила даже Брюсова — при
всей его рассудочности и трезвости; он увлекся апокалипсисом, по¬
трясенный его мрачной поэзией, его грандиозными и фантастически¬
ми образами, страстностью раздающихся в нем проклятий, устрашаю¬
щих пророчеств. Итогом недолгого увлечения апокалипсисом — в «нео-
хрястианском» понимании его значения, его места в евангелии как
«третьего завета» — и явилась поэма Брюсова «Конь Блед», в которой
апокалиптические образы возникают на фоне огромного современного
города, озаренного безжалостным светом электрических лун, чтобы
напомнить о древних и страшных пророчествах, о «легендах веков».Но для Брюсова, с широтой его воззрений, переходящей порой
в полную «всеядность», с готовностью принять и приветствовать «все
пристани, все гавани» и посвятить свой стих «всем богам», а если
придется — и дьяиолу, апокалиптические мотивы и образы являлись
лишь темой «ярко певучих стихов», а отнюдь не тем символом веры,
который исповедовали иные ого друзья и соратники по символизму,
особенно—«младшие». Вот почему он, отдав дань библейской мифо¬
логии н апокалипсису, почти совсем не возвращался к ним, перешел
к иным мотивам — то ли еще более древним, то ли средневековым,
то ли сугубо современным, и во всем этом видятся искания мастера,
эрудита, мыслителя, для которого все переплавляется в страстно на¬
пряженный стих, в острое переживание, обогащающее мир чувств
и восприятий,«Иеохристианские», «апокалиптические», «эсхатологические»
и прочие «теории» и воззрения, несущественные, а то и попросту
вздорные сами по себе, существенны в одном весьма немаловажном
для пашей темы отношении: они сыграли известную роль в история
символизма и оказали значительное влияние на Блока и его творче¬
ство; в письмах к Андрею Белому поэт толковал о «конце мира»,
а после ознакомления с очередным номером «нерхристианского» жур¬
нала «Новый путь» восторженно сообщал матери, что прочитал93
«поразительную статью Розанова. Гениальную. Такой еще не читал.
О браке» (1903).В это время в лирике Блока все больше появляется стихов, про¬
низанных духом апокалипсиса, картин «конца мира»,— и сам поэт
в автобиографии (относящейся к 1915 году) сообщает, под чьим влия¬
нием создавались эти стихи:«Из событий, явлений и веяний, особенно сильно повлиявших на
меня так или иначе, я должен упомянуть: встречу с Вл. Соловьевым,
которого я видел только издали; знакомство с М. С. и О. М. Соловье¬
выми, 3. II. и Д. С. Мережковскими и с А. Белым...»Вот тот круг лиц, который «особенно сильно влиял» на поэта
(в ранние его годы); это и заставляет нас внимательно рассмотреть
вопрос о том, в чем могли сказаться те «веяния», которые Блок счи-
тал; весьма существенными и значительными,— а без их осмысления
многое в его творчестве осталось бы для нас неясным и непонятным.
В письме к одному из своих друзей позт делится мечтами о «белом
боге»: «Изредка открываю древние и современные Апокалипсисы,
считываю давно ожидаемые и знакомые откровения, дроблю и опять
чеканю в горпилах и логики и мистики...» (1902).Такие письма и записки свидетельствуют о том, куда стремился
и то время поэт и где хотел найти защиту от суровой, беспокойной,
все более тревожной жизни.
«обломки миров» м 10'^-;a::vK1:f';!’'u’В наметках к плану незавершенной поэмы «Возмездие», относя¬
щейся к жанру семейной хроники и лирико-философской автобиогра¬
фий, Блок говорит о своем герое: «Он ко всему относился как поэт,
был мистиком, в окружающей тревого видел предвестие конца ми-
рй...»-~ и эти слова являются ключом к пониманию помыслов и на¬
строений, с особенной настойчивостью сказавшихся в лирике Блока
тогда, когда рассеялся «утренний туман», застилавший взгляд поэта,
и перед ним все явственнее, неизбежнее и ожесточеннее проступали
очертания суровой и неприглядной действительности. От нее стано¬
вилось все труднее и безнадежнее отгораживаться в своем «углу рая»,
самые основы которого подтачивались и разрушались некиими незри¬
мыми волнами, нарастающий грохот которых заглушал любовный
шепот и молитвенные песнопения поэта, обращенные к «Владычице
вселенной».Все тс тревояшое, опасное, что предчувствовал Блок и что в сти¬
хах о Прекрасной Даме звучало еще подспудно и едва теплилось,
проблескивало исподволь каким-то смутным и двусмысленным наме¬
ком, казалось темным и чужеродным, теперь вырвалось наружу, по¬
добно огнедышащей, кипящей лаве, хлынувшей широким и безудерж¬
ным потоком, обрело безобразный, грозный, неотвратимый, резко
очерченный облик,— и некогда радостные сады обращались в пепел
и арах; рушились ограды, возведенные вокруг «белого дома», где до¬
селе пребывал поэт в сонном покое и недвюкном уюте, и ныне сама
его жизнь, подобная «цветку над бездной», казалась странной, при¬
зрачной, недостоверной.Да, Блок с давних лет — еще перед революцией — знал, что «вез¬
де неблагополучно, что катастрофа близка, что ужас при дверях...»
(как скажет он впоследствии в статье «Памяти Леонида Андреева»),О том, что везде неблагополучно, поэт и верно знал очень давно,
с юношеских лет (и не только по книгам!) — об этом свидетельствуют
его стихи, дневники, письма родным и близким ему людям. Он по¬
всюду видел приметы и признаки неминуемой катастрофы, и следует
подчеркнуть, что предчувствие крушения того мира, в условиях кото¬
рого рос и воспитывался поэт, возникло у него далеко не случайно.
Блок, сам того пе желая, оказался в эпицентре больших исторических
и политических событий, потрясавших Россию и определяемых нара-101
ставнем трёх движений — рабочего, крестьянского и студенческого.На рубеже XIX—XX веков все в России предвещало близкую
революцию; рабочее движение, сочетавшееся отныне с социалистиче¬
ским учением, обретало все больший размах и особенно усилилось под
влиянием экономического кризиса, который ухудшил-и без того край¬
не тяжелое положение рабочих, «еще более накалил почву в стране.
Росла безработица. Безработные тысячами возвращались домой» —
в пораженную неурожаем и голодавшую деревню. «Рабочие стали
переходить is новым формам борьбы: от экономических стачек к по¬
литическим стачкам и демонстрациям. В феврале — марте 1901 года
на улицы Петербурга, Москвы, Харькова, Киева и других крупных
городов но призыву комитетов РСДРП вышли тысячи демонстрантов
с лозунгом «Долой самодержавие!» («История Коммунистической
партии Советского Союза», стр. 43),—и Блок был свидетелем этих
стачек, демонстраций, подъема революционного движения, центром
которого являлся Петербург.Как сообщает биограф поэта М. А. Бекетова, фабричный район,
где он жил (в казармах лейб-гвардейского гренадерск-ого полка,
у своего отчима, ревностного офицера-служаки), давал ему возмож¬
ность задолго до событий революции 1905 года предвидеть ее приход.
Поэт становился невольным свидетелем фабричной жизни и рабочих
демонстраций; он «...пришел в возбужденное состояние и зорко при¬
сматривался к тому, что происходило вокруг. Когда начались заба¬
стовки заводов и фабрик, по улицам подле казарм стали ходить вы¬
борные от рабочих. Из окон квартиры можно было наблюдать, как
оДйн из группы таких выборных махнет рукой, проходя мимо светя¬
щихся окоп фабрики, и по одному мановению этой руки все огни
фабричного корпуса мгновенно гаспут. Это зрелище произвело на
Александра Александровича сильное впечатление. Они с матерью
волновались, ждали событий...» («Александр Блок», стр. 92),— и тре¬
вожные ожидания оказались не тщетными!..По-своему эти ожидания и тревоги Блока, замечавшего, что.там,
за фабричными воротами, происходит нечто знаменательное и необы¬
чайно важное, сказались в етихотворешш «Фабрика» (1903), во мно¬
гом отвечавшем реальным и повседневным наблюдениям поэта:В соседнем доме окна жолты.По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,Подходят люди к воротам...Они войдут и разбредутся,Навалят на спины кули.И в жолтых окнах засмеются,Что этих нищих провели.Поэт в те дни был еще крайне далек от революционных чаяния
и настроений, видел в лице рабочих всего только обманутых хозяева¬
ми и обездоленных людей, которым можно посочувствовать,— но
царская цензура усмотрела в стихотворении «Фабрика» нечто предо¬102
судительное а даже опасное, а потому и запретила его опубликова¬
ние в журнале «Новый путь».В эти же годы и крестьяне оказались в крайне бедственном
положении и решительно восстали против существующих порядков,
против помещиков, против царских властей.«Крестьяне ие вынесли безмерного угнетения и стали искать луч¬
шей доли, Крестьяне решили,— и решили совершенно правильно,—
что лучше умирать в борьбе с угнетателями, чем умирать без борьбы
голодной смертью...» — так говорил Ленин в брошюре «К деревенской
бедноте»,5 носящей знаменательный подзаголовок: «Объяснение для
крестьян, чего хотят социал-демократы» (В. И. Ленин, Сочинения, г. 6,
стр. 385),Все это — конечно, по-своему! — отзывалось в жизни и наст рое¬
внях обитателей шахматовской усадьбы, и даже — в то лето, которое
поэт называл «мистическим»,—лето 1901 года; в те дни, когда его
всецело охватило высокое любовное чувство,—...п тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих: валов...—говоря словами Тютчева; эти ревущие валы не позволяли Блоку за¬
быться в своих восторженных и мистических видениях. Несмотря на
всю поглощенность «своим», сокровенным, «эзотерическим», он видел
«неблагополучие» пе только в окружающем мире, но и в самом
Шахматове, которому недвусмысленно угрожали крестьяне соседних
деревень (как об этом сообщает М. А. Бекетова).Вот почему С. А, Кублицкой-Пиоттух (тетке поэта), предложив¬
шей Блоку «путешествовать в горах», он отвечал, что его поездка
«была бы несвоевременна», ибо «в Шахматове нас очень уж мало
и отсутствие мое было бы очень заметно, особенно, если принять во
внимание неприятное (хотя, по-моему, не имеющее особого значения
практического) письмо, полученное бабушкой (Е. Г. Бекетовой.—В. С.). Я уверен, что я составляю некоторую нравственную гарантию
безопасности, хотя и не могу, конечно, спасти, например, от поджога;
а впрочем,— продолжает поэт,— от него и ннкто не может спасти
щ мы не убереглись бы будь десять мужчин в каждой комнате...»
(5 июля 1901; «Письма к родным», т. I, стр. 63). В примечании к это¬
му письму М. А. Бекетова сообщает, что Блок упоминает здесь «об
анонимном письме, посланном кем-то из крестьян соседней деревни»
и. содержащем, «очень, грубые ругательства и угрозы»..Так я в это лето Блок уже ощущал — и все более чувствитель¬
но — подземные толчки, которые угрожали самим основам того строя
и того мира, где он возрастал и который — если ему суждено рух¬
нуть! — «никто не может спасти...» — полагал поэт.А следующий год — 1902-й — оказался еще более тревожным
и грозным...Доведенные всяческими поборами, неурожаями,, постоян¬
ным и все более отчаянным голодом до открытого возмущения, кре¬
стьяне многих губернии поднимали восстания, насильственно отбира¬
ли выращенный ими на помещичьих полях хлеб, жгли дворянские103
усадьбы,1 предпочитая все опасности самой острой и непримиримой
борьбы с царскими властями и помещиками медленному вымиранию-
от полного истощения.Охваченный предчувствием новых и неотвратимых «жакерий»
(к которым поэт в то время относился с явной опаской) и того, что
«катастрофа близка», Блок пишет одному из своих друзей летом1902 года, делясь тревогами, вызванными ростом крестьянских волне¬
ний и выступлений:«Слышали ли Вы про ужасные бунты в Пензе и Саратове?-
Я имею достоверные сведения об этом, потому что пострадали мой
родственники и знакомые. Крестьяне жгут усадьбы, призваны войска;
Повторяется то же, что в Полтаве и Харькове... Вообще опасаться
можно очень многого. Мы с Вами будем сравнительно обеспечены
зимой в Петербурге от этих «жакерий».Но и «зимой в Петербурге» поэт не сумел обрести вожделенного
покоя.В это время, на рубеже XIX и XX веков, в России поднялось
небывало мощное и активное студенческое движение, вызванное про¬
изволом царских властей, ответивших на самые элементарные требо¬
вания студенчества, связанные с его академической, общественной
и политической жизнью, жесточайшими преследованиями и репрес¬
сиями. В 1899 году были опубликованы — а вскоре и применены на
практике! — «временные правила об отбывании воинской повинности
воспитанниками высших учебных заведений, удаляемыми из сих
заведений за учинение скопом беспорядков...». На основании этих
«правил», превращавших студентов в бесправную жертву жандарм-;
ского произвола, сто восемьдесят три студента Киевского универси¬
тета были отданы в солдаты, что вызвало взрыв возмущения почти
во всех слоях' общества и новый подъем студенческого движения во
всей России. Что же касается самого Блока, одного из студентов
Санкт-Петербургского университета, то он упорно стремился остаться
в стороне от этого движения.О том, как далек был от окружающей его действительности поэт
(поглощенный любовными переживаниями и придававший им значе¬
ние события мирового масштаба), свидетельствует черновик одного1
из писем той поры, обращенного к JI. Д. Менделеевой. Блок внушает
своей будущей жене, что он «твердо уверен в существовании таинст¬
венной и мало постижимой связи» между ними и что «так называе¬
мая жизнь {среди людей)» имеет для него интерес «только там, где
соприкасается с Вами...» — во всем остальном она, как полагал в то
время поэт, «совершенно безразлична» для него, и это безразличие
под,чаС|приводило его к самым неприятным последствиям. • i ■В это время, в 1901 году, Блок перешел с юридического факуль-^
тета Петербургского университета (куда он поступил в 1898 году)
ва полным отсутствием какого бы то ни было интереса к нравовеДче-
ским наукам — на филологический (который закончил в 1906 году),>
гораздо более отвечавший характеру его стремлений и деятельности'
(впоследствии поэт неоднократно подчеркивал значение своего уни-'104
перситетского образования, давшего ему немало основательных по¬
знаний и укрепившего умственную дисциплину).Именно в университете в результате всепоглощающего любовного
чувства л недостаточности «жизненных опытов» и произошел с поэ¬
том один из тех «казусов», о котором он говорит в автобиографии
(1915):«...От полного незнания и неумения сообщаться с миром, со мною
случился анекдот, о котором я вспоминаю с удовольствием и благо¬
дарностью: как-то в дождливый осенний день (если не ошибаюсь,
1900 года) отправился я со стихами к старинному знакомому нашей
семьи, Виктору Петровичу Острогорскому, теперь покойному. Он ре¬
дактировал тогда «Мир божий». Не говоря, кто меня к нему напра¬
вил, я с волнением дал ему два маленьких стихотворения, внушенные
Сирином, Алконостом и Гамаюном В. Васнецова. Пробежав стихи, он
сказал: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, ко¬
гда в университете бог знает что творится!» — и выпроводил мейл со
ев и реп ым добродушнем».Далее Блок замечает: «Тогда это было обидно, а теперь вспоми¬
нать об этом приятнее, чем обо многих позднейших похвалах...»,—
и мы понимаем, почему Блоку, уже взглянувшему «в лицо проснув¬
шейся жизни», было приятно вспоминать о «разносе» стихов, навеян¬
ных «благоуханною глушью» усадьбы, стены которой заслоняли от
него подлинную жизнь.А в университете в те дни, когда Блок посетил редакцию журна¬
ла «Мир божий», и действительно творилось «бог знает что» — по¬
стоянно вспыхивали студенческие волнения и демонстрации, на
подавление которых были брошены жандармерия и войска, пускавшие
в ход оружие и не останавливавшиеся перед самыми жестокими
репрессиями, вплоть до кровопролития.По эти события, отозвавшиеся в начале века во всей России,
слоимо бы совершенно но интересовали Александра Блока, который
старался не замечать их, всецело погрузиться в мир своих любовных
видений и мистических фантазий.Осенью 1901 года, вернувшись из Шахматова в Петербург, он
пишет своей тетке, С. А. Кублицкой-Пиоттух, что университет «ужас¬
но шумыт и кипятится» (что вызывает у поэта явное неудовольствие!)
а он вынужден искать спокойствия «в наших (то есть филологиче¬
ских. — Б. С.) аудиториях и музее древностей», ибо «многие из фило¬
логов — люди сравнительно отвлеченные, грезят «небом Греции
своей»; Это единственное (как полагал в то время поэт), что может
поддержать «сильно вообще падающий дух науки». Впрочем, и такие
«убежища», как «музей древностей», не могли полностью оградить
поэта от бурь и гроз, бушевавших и в стенах университета и за его
пределами.1! Конечно, явно выраженное стремление Блока, чуждого в то время
«страстям толпы», остаться в стороне от студенческого движения
оказалось неосуществимым, и сам поэт увидел себя в реакционной
и малочисленной группе «охранителей» (как сообщает он в письме105
к отцу); он негодует, замечая в студенческой среде «постояппое
и часто (по-моему) возмутительное упорство и обструкцию...» (1901).
Эта аполитичность и «равнодушие к окружающему» кончились для
поэта «довольно плачевпо», как вспоминает он в 1918 году: Блок
пришел сдавать экзамен по политической экономии тогда, когда
«порядочные люди» объявили экзамены под бойкотом, и услышал
от одного из студентов брошенное прямо ему в лицо слово: «Под¬
лец!»О том, что служило основой конфликтов поэта со студенческой
средой, говорит ю своих, воспоминаниях и Г. Чулков: «...Блок в уни¬
верситете так был равнодушен к общественности, что по рассеянно¬
сти как-то дажо скомпрометировал себя в глазах товарищей во время
студенческого движения...» («Письма», стр. 109).Такого рода «рассеянность», полное равнодушие к тому, что
волновало в то время студенческую общественность, не могли не
возмущать многих сокурсников и «коллег» Блока, и это, конечно, она
давали ему почувствовать вполне определенно и недвусмысленно.В письме к отцу поэт подчеркивает, что самое главное для на¬
го — «религиозная мистика», и, «живя ею изо дня в день», он чувст¬
вовал одно время себя в университете «нещадно гонимым за правую
веру...» (1903). И, несомненно, такие «гонения» крайне обостряли
у него чувство близящейся катастрофы.В значительной мере ощущение того, что «ужас при дверях»,
вызывалось у Блока и ходом начавшейся в январе 1904 года русско-
японской войны; японская армия и флот нанесли тяжелые поражения
не подготовленной к войне на Дальнем Востоке, отсталой в военном
отношении царской России, и это поражение отозвалось в ней рево¬
люционным потрясением и трагическими переживаниями.Нестерпимой болыо откликнулась в сердце Блока весть о гибели
броненосца «Петропавловск» (происшедшей 31 марта 1904 года), вы¬
звавшей множество человеческих жертв, среди которых был командо¬
вавший эскадрой вице-адмирал С. О. Макаров. Известие об этой
катастрофе, всколыхнувшее всю Россию, буквальпо ошеломило Блока,
и именно в связи с ним поэт направляет Андрею Белому трагически
смятенное письмо, в котором говорит о кошмаре, преследовавшем его
среди белого дня, когда ему мерещились «гам, шум, трескотня, лучшие
гаснут или тлеют...». Поэту кажется, что «небесный свод сам раско¬
лолся...», Ему видится, как «...с одного конца ныряет и расползается
муравейник положим расплющеппых сжатым воздухом в каютах,
сваренных заживо в нижних этажах, закрученных неостановленной
машиной (меня «Петропавловск» совсем поразил),— а с другой — на¬
шей воли, свободы, просторов. И так везде — расколотость, фальшивая
для себя самого двуличность, за которую я бы отомстил, если б был
титаном, а теперь только заглажу ее...» («Переписка», стр. 79—80),Трагические переживания поэта, его «двойственность», «расколо-
■гость», вызванные полным неумением и бессилием согласовать свою
«свободу», свою «волю» с тем страшным, что творится вокруг, и во¬
площались в картинах такого ужаса, от которого словно бы «раскалы-1QG
нается» не только сердце поэта, но и небесный свод над его голо¬
вой.Да и улицы огромного капиталистического города (каким стал
к тому времени Петербург) с толпами проституток, изможденными
Детьми, повседневными уродствами — все это нестерпимой горечью
отзывалось в сердце поэта.Так оказывалось, что где бы и что бы не делал поэт — выходил ли
он на окраинную фабричную улицу Петербурга, возвращался ли
и шахматовскую усадьбу, бродил ли по длинному и шумному универ¬
ситетскому коридору или вчитывался в сводки с фронта руоско-япон-
ской войны,— везде его подстерегало нечто неожиданное, тревожное,
катастрофическое, везде он видел приметы и признаки надвигающей¬
ся бури.Следует сказать и еще об одной катастрофе, переживаемой Бло¬
ком, может быть, не менее остро и болезненно, чем все остальные,—
это крушение той личной жизни, которой поэт некогда придавал
вселенское значение, ибо видел в ней сочетание с началом миро¬
вым, «вечно женственным», воплощенным в облике Л. Д. Менделее¬
вой.После «решительного объяснения» с нею, услышав от нее «цар¬
ственный ответ», вызвавший в его душе «бурю торжества», поэт
пытался внушить своей возлюбленной, что она — то божественное
существо, которого не может коснуться ничто «низменное», й крайне
смутно представлял себе их будущие брачные отношения. Его реаль¬
ная и «земная» влюбленность явно противоречила усвоенным им
платоновским и пифагорейским мифам. Вот почему он подчас и обра¬
щался к ней с аскетической проповедью, отвергающей «земную»
страсть ради исключительно духовной:«Ты сильна тою лазурью, которая не может «быть» без проявле¬
ния (кап истинное «бытие»...)».Л далее, рассуждая о том, как сохранить чистоту «лазури», поэт
приводит следующий рассказ:«Одна женщина, принадлежавшая к Пифагорейской общине
в VI веке до Р. Хр. (заметь, заметь!), написала между прочим вот что:
«когда женщина победит низшие побуждения и овладеет живою си¬
лою духа, тогда родится в ней божественная гармония». И все эти
Пифагоровы братья и сестры считали себя «равными блаженным
богам». И еще много чего «странного» есть в истории. «ЛюДи» не по¬
верят всему этому. Хочешь верить Ты? Я верю...» (ЦГАЛИ, ф. 55,
on. 1, ед. хр. 97, стр. 66).Но возлюбленная поэта не находила ничего заманчивого в том,
чтобы войти в сонм «блаженных богов», и совершенно не собиралась
отвергнуть те «побуждения», которые поэт именовал «низшими».
Не мудрено, что она не нашла в письме Блока ничего, что помогло бы
решению захвативших ее вопросов будущей брачной жизни, о чем
она и сообщила ему в ответном письме:«Ты пишешь что-то, что я не совсем понимаю. Но раз ты Ееришь
•всему этому, буду верить и я, пойму потом. Только где я возьму «жи¬107
вуЮ силу духа»? Не знаю, ведь тенерь-т© уж никакой на воли, ни
силы у меня нет...» (ЦГАЛИ, ф. 55, он. 1, ед. хр. 159, стр. 48).Есть у нее, по ее признанию, лишь «сила любви», которая «похо¬
жа на полное бессилие»,— вот и все!Эта переписка необычайно знаменательна и важна для понима¬
ния дальнейшей судьбы. Блока. Она свидетельствует, -что с самого
начала поэт оказался слишком восприимчив к проповеди «мистиков»
и «апокалиптиков» Соловьевеко-мережковского толка, не осознал всей
ее схоластичности, мертвенности, опасности, а потому — в противоре*
чин с реальностью своих переживаний, с тем, что утверждал во мно¬
гих своих стихах и письмах,— готов был оправдать и утвердить ее
и в своей жизни, да и в жизни своей возлюбленной.Поэт пугал се «астартизмом», «низшими страстями», призывал
«подавлять» их, чтобы тем самым не утратить гармонического «боже¬
ственного» начала, и, говоря об их любовных отношениях, нередко
ограничивался объяснением «их отличия (резкого, крайнего, полно¬
го)» от «обыкновенных» любовных отношений...» — как с предельной
категоричностью заявлял Блок в одном из своих писем (1902, ЦГАЛИ,
ф. 55, он. 1, ед. хр. 97, стр. 69—70).Конечно, это удивительное заявление ие могло не смутить и не
встревожить возлюбленную поэта, жаждавшую именно «обыкновен¬
ных» любовных и семейных отношений, а не каких-то иных.Не мудрено, что Блоку зачастую приходилось рассеивать ее со¬
мнения относительно того, видит ли он в ней отвлеченную идею или
живого человека из плоти и крови. Снова, снова поэт уверял ее в том,
что она напрасно усматривает в его отношении «отвлеченность» и так
настороженно остерегается любых ее проявлений:«...поверь мне до конца, что я люблю Тебя земной любовыо, что
больше этой любви нет пока, а потом только наступят иные време¬
на. Но мне ие надо их теперь, потому что в Тебе такой, какая Ты
есть, — мое все, моя вера, мой Бог...» (ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 97,
стр. 72).Но Любовь Дмитриевна недоумевала и тревожилась — и не на¬
прасно!— о каких «иных временах» толкует Блок и почему только
«пока» любит он ее «земной любовыо», намекая на возможность иных
отношений, иной любви и «иных времен». Она опасалась чего бы то
ни было «иного», что могло бы помешать торжеству ее живых и непо¬
средственных чувств, чуждых каким бы то ни было стремлениям
к'«инобытию», отрешенности от всего «земного», и постоянно стреми¬
лась изгнать из сознания и чувств поэта тягу к «иному»,—чему4 ©н
сам в то время придавал непомерное и мистическое значение:.Так, несмотря на «решительное объяснение» поэта с его будущей
женой, между ними завязывался узел новых — и неразрешимых —
недоразумений и противоречий; он, вопреки истинному существу
своей страсти, по-прежнему склонен был усматривать в образе ^воз¬
любленной начало божественное, вселенское и уверял ее, что «в тот
день, когда «встретится» с нею,—«это будет для: меня и для всего
мира...» (1902, ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 97, стр. 41), и хотя Любовь•108
Дмитриевна сама в то время думала о «мировом» и соединении
о ним,—но до чего розио понимали они и самое мировое начало!Поздним вечером, оставшись в одиночестве (как рассказывает
Л. Д. Блок в своих воспоминаниях), она «долго, долго любовалась
собой» и, убедившись, что «очень хороша», разыгрывала перед зерка¬
лом различные пантомимы и «задолго до Дункан» уже «привыкла
к владению своим обнаженным телом», «...гармонии его поз и ощуще¬
нию его в искусстве, в аналогиях с виденной живописью и скульпту¬
рой...» — и это было «...лучшее, что я могу в себе знать и видеть, мою
связь с красотой мира...» (ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 519, стр. 72—
7.4),-г- и о многом другом в том же духе говорит здесь Л. Д. Блок, даже
ни единым словом не обмолвившись о возможности иной «сеязи
с . миром» — в духе теургии, мистики или отвлеченно-мечтательной
романтики.Каждый из них думал «о своем», и поразительно, насколько Блок,
увлеченный призраком «Величавой Вечной Жены», не замечал того,
что рядом с ним — юноо и живое существо, которое меньше всего
соответствует его идеалу, да и ни в малейшей мере не собирается по¬
ходить на подобный идеал; не мудрено, что между ними возникали
недоразумения и размолвки, и поэт нередко испытывал «холодность»
своей возлюбленной, повергавшую его в тоску и отчаяние.Судя по переписке Александра Александровича и Любови Дмит¬
риевны, между ними постоянно происходили — сквозь излияния
в неизреченной и небывалой любви! — самые ожесточенные споры,
все о том же: о мистицизме, о «теоретичности» поэта, его отвлеченно¬
сти, в которой молодая Менделеева постоянно упрекала Блока, а он —
во множестве своих писем — отрицал свою «отвлеченность», а вместе
с тем настойчиво проповедовал «мистицизм», трактуя его как все¬
объемлющее и истинно жизненное начало.Пытаясь растолковать понятие «мистицизм» (под которое поэт
стремился в то время подвести даже и закопы биологического поряд¬
ка!), всячески возвеличить его как божественное начало, требующее
беспрекословного повиновения, Блок, отчаявшись в попытках пере¬
убедить в этом вопросе свою возлюбленную, с горечью пишет ей:«Все неизменно. Но невыразимо грустно, когда Ты изгоняешь из
меня меня же самого, как бесов. Если хочешь, мы не будем говорить
о тайнах. Нам много можно говорить о будущем счастье, в реальность
которого я верю совершенно. Но только позволь мне не убивать себя
самого, свою душу, которая вся направлена к Тебе одной. Когда Ты
говоришь: «Пожалуйста, без «мистицизма», Ты как будто произно¬
сишь смертный приговор над моими стихами даже. А они ноют Тебе
и о Тебе...» (ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 98, стр. 7—8).Такое отчаянное письмо направил поэт своей возлюбленной в на¬
чале февраля 1903 года, а в конце того же месяца он спрашивал у нее
в тоске и тревоге:«Что с Тобой происходит, моя Светлая Радость? Отчего Ты не
скажешь никогда прямо, почему все Твое существо возмущается вдруг
против меня?..» (ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 98, стр. 17) —но тому,109
ито внимательно ознакомится с их перепиской, станет совершенно
очевидным, почему «все существо» молодой и влюбленной девушки
«возмущалось», когда ее человеческие чувства и желания трактова¬
лись как нечто «низменное» и когда поэт предлагал ей принести их
в жертву мистическим фантазиям и аскетическим идеалам! Все это
и встречало с ее стороны решительный и ожесточенный отпор.Летом 1903 года — накануне свадьбы! — поэт записывает: «Заире-
щепность» всегда должна остаться и в браке...» («Записные книжки»).
Нечего и говорить о том, какую ложную ноту вносили в брачные
отиошеиия подобные призывы и «заветы», обращенные поэтом и к са¬
мому себе и к своей невесте.Любовь Дмитриевна —и но без основания! — так упорно и от¬
чаянно боролась с мистикой, которая в то время цепко и неотвязно
захватила ее возлюбленного. Она чувствовала в мистике (ревностно
отстаиваемой и постоянно раздуваемой ближайшим окружением поэ¬
та) своего смертельного врага, который может принести ей немал»
горя и несчастий, исковеркать ее жизнь,— и она не ошиблась в этом
предчувствии, так тревожившим ее и, казалось, с самого начала омра¬
чавшем все ее будущее.Эта раздвоенность поэта между живым и «земным» чувством и ре¬
лигиозно-мистической настроенностью сказалась и в па чале супруже¬
ской жизни Блока, подрывала самые ее основы.Так стремление претворить проповедь Вл. Соловьева и Д. Мереж¬
ковского на деле, в самой жизненной практике, оказало глубоко отри¬
цательное влияние на сем-ейную жизнь Блока, внесло в нее обманчя-
вуго ноту и отчуждало от поэта жену, которая решительно сопротив¬
лялась любой его попытке придать их совместной жизни характер
некоей «мистерии» и принимала в пей только то, что отвечало самым
обычным брачным отношениям.Да, вспоминает Л. Д. Блок, вместо ожидаемого (и им н ею) небы¬
валого счастья началось нечто иное, что она же называет «сумбурной
путаницей», куда вовлекались «...слои подлинных чувств, подлинного
уп'оевия молодостью для меня, и слои недоговоренностей его и моих,
чужие вмешательства — словом, плацдарм, насквозь минированный
подземными ходами, таящими в себе грядущие катастрофы..,»
(ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, хр. 519, стр. 116),— и эти катастрофы не заста¬
вили себя ждать слишком долго,Когда Л, Д. Блок — в связи с надвигающимися «катастрофами»*
стоившими ей многих слез и бессонных ночей,— говорит о «чужих
вмешательствах», то имеет в виду прежде всего ближайших друзей
Блока, ибо эти друзья почитали в то время своим непременным дол¬
гом самым настойчивым и даже бесцеремонным образом вторгаться
в личную и семейную жизнь Блока, трактуя ее в духе свонх религиоз¬
но-мистических фантазий. Им представлялось; если поэт поклоняется
некоему небесному идеалу и стремится сохранить верность «Деве,
Заре, Купине», то изменой являлся бы его реальный (а не чисто ду¬
ховный!) брак с какою бы то ни было земной женщиной,— что 01щ
и давали ему понять весьма определенно и решительно. Даже Сергей110
Соловьев — в то время «голубоглазый гимназистик» (по словам Анд¬
рея Белого — из поэмы «Первое свидание») — и тот торопился давать
своему другу и собрату непрошеные советы, в связи с его женитьбой,
и поучал, что если он в своей брачпой жизни не изгонит «дракона
похоти», то «не выведет Евриднку из Ада» (12 августа 1903; ЦГАЛИ,
ф. 55, on. 1, ед. хр. 408, стр. 24) и тем самым обречет ее на погибель.
Л в следующем письме он, утверждая, что «лучшие люди» следовали
«идеалу целомудрия», стремился внушить поэту, что именно в та¬
ком — исключительно духовном — браке «первое основание той церк¬
ви», которую «не одолеют врата адовы» (1 сентября 1903; там же,
стр. 28).Когда же поэт сообщил о своей предполагаемой женитьбе Зинаиде
Гиппиус, она разразилась посланием — беспрецедентным по своей
бесцеремонности. Она буквально отчитала Блока, сообщив, что и'Анд¬
рей Белый «очень удручен» его женитьбой, ибо по знает, «как лее те¬
терь относиться к его стихам»; при этом она добавляла от себя:
«Действительно, к вам, т. е. к стихам вашим, женитьба крайне ней¬
дет (?!) и мы все этой дисгармонией (?!) очень огорчены (!!!), все,
кажется, без исключений».Отлично осознавая всю бестактность и грубость своего «поздра¬
вительного» послания, 3. Гиппиус тут же поясняла, почему она в дан¬
ном случае «откладывает условность» (вернее — самые элементарные
приличия): оказывается, опа говорит «...лишь с точки зрения «абсо¬
люта.,.» (1903, 17.VI; ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 26, стр. 21—22).
Выходит, что подобный «абсолют» требует от Блока монашескн-аске-
тического безбрачия!В этом письме 3. Гиппиус не случайно упомянула о «всех нас»,
отвергающих возможность брака для Блока; в сущности, то же самое
говорит и Белый, делясь воспоминаниями о тех давних временах, ко¬
гда ои впервые узнал о намечающейся перемене в «житейских обстоя¬
тельствах» певца Прекрасной Дамы:«...Свадьба Блока, «влюбленного в Вечность», на эмпирической
девушке, вызывала вопрос: кто для Блока невеста? Коли Беатриче,—
на Беатриче не женятся; коли девушка просто, то свадьба на «девуш¬
ке просто» — измена пути; право — темы поэзии Блока не взывала
к догадке: какими путями духовными шел сам поэт. Ведь естествен¬
но (!!!) нам было видеть монахом (?!) его, защищающимся от житей¬
ских соблазнов, а тут — эта свадьба...» («Эпопея» № 1, стр. 175—176).Но «монахом» Блок быть не захотел, а потому Зинаида Гиппиус
и «ее присные» (согласно словам Блока,— из его письма к отцу) вели
себя так, словно он обманул их лучшие ожидания, изменив «Вечной
жене» и «абсолюту»,— но тут они натолкнулись на решительное его
сопротивление.Получив наглое и вызывающее письмо 3. Гиппиус, Блок пишет
из Бад-Наугейма своей невесте: «...Я не боюсь ровно ничего, потому
что сердце мое предано Тебе и в этом заострено так, что при случае
будет колоться. А остаться одному даже в покидаемом литературном
лагере мне не только не страшно, но и весело, и хорошо, и дерзостно...151
(как глубоко и полно сказались in этом письме замечательные черты
натуры Блока—гордость, упорство, бесстрашие! — Б. С.). Господа
мистики, «огорченные дисгармонией» (каково?!), очевидно совершен¬
но застряли в неколебимых математических вычислениях. Я в первый
раз увидел настоящее дно этого тихого омута, посыпанное безобидней¬
шим, желтым житейским песочком...» (ЦГАЛИ, ф. 55, он. 1, ед. хр. 99,
стр. 97—98).Только, окончательно уяснив, что Блок —вопреки их протестам
и укорам! — бесповоротно решил вступить в брак с Л. Д. Менделеевой
и что с этим им приходится примириться, друзья поэта — согласно
своим «пеохристиапским» воззрениям — решили и самому его браку
придать пекоо тайное, мистическое и «эзотерическое» значение—как
началу преображения всего мира. Если отклонить поэта от брака ока¬
залось невозможным — тут дальнейшая настойчивость могла бы при¬
вести лишь к полному разрыву с Блоком,— то внушить ему, что его
брак — поистине «мистерия», оказалось гораздо легче, ибо и сам поэт
далеко еще не избавился от той «мальчишеской мистики», которая неко¬
гда захватила его воображение и заставляла видеть в облике невесты
воплощение божественного начала — в духе мифологии Платона и фи¬
лософии Бл. Соловьева,Нетрудно убедиться, что Блок (судя и по воспоминаниям его
жены и по другим материалам) был явно ие подготовлен к семейной
жизни, с самого начала подвел под нее непрочное и неверное основа¬
ние, приносил ее в жертву древним мифам, мистическим «визйна-
циям», а когда уразумел это — исправить что бы то ни было оказалось
уже слишком поздно, и та черта, которая пролегла между ним и его
женой, так и оказалась «недоступной», непреодолимой, как об этом
ни сожалел впоследствии сам поэт.Позже, в нюне 1921 года, он запишет в своем дневнике, вспоминая
о той поре, когда его брачная жизнь еще не началась, но уже и самое
ее приближение не предвещало ничего доброго:«В Bad-Nauheim’e (в Германии, летом 1903 года, где пребывал
в то время поэт со своей матерью. — Б. С.) я большей частью томился,
меня пробовали лечить, это принесло мне вред. Переписка с неве¬
стой — ее обязательпо-ежедпевпый характер, раздувание всяких ощу¬
щении — ненужное и пе в ту сторону, надрыв, надрыв...» Семейная
жизнь, начавшаяся с такого «надрыва», конечно, не могла сулить ни¬
чего хорошего, как с горечью вспоминает поэт, подытоживая незадол¬
го до смерти историю своей жизни.В нашу задачу сейчас не входит подробное объяснение тех собы¬
тий и обстоятельств, в результате которых семейная жизнь Блока
оказалась такой запутанной и неудачной, но совершенно очевидно,
что крушение самих ее основ (ведь и «мужем» Любовь Дмитриевна
называет Блока в своих воспохминаниях в кавычках!), взрывы ее
«насквозь минированного плацдарма» — это вместо ожидаемого сча¬
стья и небывалого торжества! — полная недоговоренность с женой по
основным вопросам супружеской жизни — вот что обострило у поэта
чувство «катастрофичности» всего происходящего. Ведь ужас оказы-m
вался не только «при дверях» (как скажет впоследствии Блок),— нет,
он врывался и в двери, он преследовал поэта по пятам, не оставлял его
даже и дома, где, вопреки недавним чаяниям, все было трагична
и неблагополучно. Мы видим —об этом свидетельствует личная и се¬
мейная жизнь Блока,— каким опасным и гибельным оказывается
увлечение «мальчишеской мистикой» (слова Блока), «апокалиптиче¬
скими» и «неохристпапскими» (в духе учения Вл. Соловьева и Дм. Me-
режковского) мифами и фантазиями, какой катастрофой оборачива¬
лась любая попытка претворить их в жизнь — и какою ценою распла¬
чивался поэт за подобные попытки.Вот почему ожидание приближающейся катастрофы, от которой
нигде — даже и под домашним кровом!—не найти спасения, стано¬
вится отныне все более углубляющимся пафосом лирики Блока, став¬
шей сейсмографом некиих грозных — пока еще подземных — толчков,
летописью повседневных трагедий, отзвуком городской хроники, под¬
час пошлой, жалкой, а вместе с тем необычайно важной, перекликаю¬
щейся в ушах поэта с древними пророчествами библии.Ощущение катастрофичности всего происходящего — то ли
в пределах своего дома, то ли за его порогом — на первых порах,
когда Блок еще не постиг смысла надвигающихся и предрекавши <
революцию событий, крайне усилило его религиозно-мистическую на¬
строенность и заставляло поэта со страстным вниманием вслушивать¬
ся в кликушескую проповедь «неохристиан», жадно вглядываться
в грандиозные и фантастические образы апокалипсиса, словно бы
всплывавшие со дна его души. На какое-то время его охватили апока¬
липтические чаяния и настроения, отвечавшие проповеди Владимира
Соловьева и Дмитрия Мережковского, чыо «теорию» исторического
процесса и «конца мировой истории» поэт еще почитал «в основном
безукоризненной» («Литературное наследство» № 27—28, стр. 35G).В 1903 году, в полном согласии с их «учением», Блок утверждал
в одном из писем к Андрею Белому, ч#о «величайшим понятием, кото-
рое мы можем вместить, является Конец Мира...» — и мотив «конца
мира» начинает звучать в иных стихах Блока все более настойчиво
и неотвязно.Противоречия современного капиталистического города, само су¬
ществование которого означало гибель и растление многих его жертв,
казались Блоку неразрешимыми и безвыходными; в его глазах они
являлись не чем иным, как знамением и предчувствием гибели мира,
и, таким образом, те зерна, которые сеяли мистики, оккультисты,
проповедники «евангелия от декаданса», падали на разрыхленную
почву и давали свои всходы в творчестве Блока. Его «учителя» и «на¬
ставники» внушали ему, что только в апокалипсисе можно найти
последний и окончательный ответ на все сложные и мучительные во¬
просы современной действительности, и эта проповедь тем более за¬
хватывала Блока, чем меньше он понимал истинный смысл грозных
событий современности; в уличных криках, гулах, грохотах ему слы¬
шалось эхо тех архангельских труб, при звуке которых должны пасть
стены огромного современного города.5 Заказ 534
На первых порах поэт был так растеряй, оглушен и подавлен всем
тем, мимо чего раньше проходил спокойно и равнодушно, что его сти¬
хи превратились в крик безумия, страха, боли — такой острой и не¬
стерпимой, что и сама смерть казалась единственным и желанным
избавлением от нее, а предчувствие «конца мира» перерастало в жаж¬
ду личной гибели (определившую один из устойчивых мотивов лирики
Блока),В сборнике «Земля в снегу» стихотворением «Последний день»(1904) открывается цикл «Мещанское житье», и сопровождается оно
эпиграфом из «апокалиптической» иоэмы В. Брюсова «Конь Блед»
(«Люди! Вы ль но узнаете божией десницы?»); этот эпиграф приобре¬
тает значение ключа, помогающего нам проникнуть в замыслы поэта,
определить характер влияний, сказавшихся в то время в его твор¬
честве.Явно в апокалиптическом духе изображает здесь Блок жизнь
современного города, о степы которого разбились его блаженные ви¬
дения и детские сны; вместо них перед поэтом возникли страшные
в своей пошлости и трагичности образы домов, ставших вертепами,
в которыхПляшут огненные бедра
Проститутки площадной...Все это летит куда-то в бездну, объятое тоской, безумием, жаждой
уничтожения — и самоуничтожения; поэту казалось — вот и насту¬
пили времена, предреченные в апокалипсисе и знаменующие конец
мира.Теперь он знает, что...Оловянные кровли —Всем безумным приют.В этот город торговли
Небеса не сойдут...—ибо под этими «оловянными кровлями» все продается и все покупает¬
ся. Человек здесь унижен, обездолен, опустошен, низведен до уровня
жалкого и трусливого животного, предназначенного в жертву кому-то
жестокому, хищному, безраздельно господствующему над людьми,—
не случайно в глазах поэта и православная церковь ныне выглядит
языческим капищем, где свершаются без числа кровавые обряды; вот
почему...на башне колокольной
В гулкий пляс и медный зык
Кажет колокол раздольный
; . Окровавленный язык...—л не счесть тех жертв, которые обагрили своею нровыо этот язык.В этом городе все мертвенно, призрачно, по-привычному ужасно,
и «серые прохожие», встречающиеся па каждом шагу, ничего не про¬
носят, кроме «груза вечерних сплетен» и «усталых стертых лиц». Все
они расплываются в глазах поэта, неотличимые друг от друга в своей
мертвенности, безвольности, опустошенности; все они —114
Были, как виденья неживой столицы —Случайно, нечаянно вступающие в луч.Исчезали спины, возникали лица,Робкие, покорные уныпыо низких туч...Робость, покорность, уныние, мнится поэту, присущи всем обита¬
телям «неживой столицы», подвластным некоей чужой, бесчеловечной.!
враждебной им воле, гнетущей и унижающей их,— а восстающие про-'
тив. нее .находят избавление в одной лишь гибели:...нежданно резко — раздались проклятья,Будто рассекая полосу дождя; . ,С головой открытой — кто-то в красном платье
Поднимал на воздух малое дитя...Светлый и упорный, луч упал бессменный —И мгновенно женщина, ночных веселий дочь,Бешено ударилась головой о степу,С криком исступленья, уронив ребепка в ночь...Так говорит поэт в стихотворении «Повесть»,— и сколько таких’
повестей открывается перед нами во всей своей наготе и во всея своем
безобразии па улицах и площадях «неживой столицы», чьи обитатели
возникают как видения, которые могут явиться лишь в каком-то
бреду.Здесь повседневно и постоянно совершаются самые бесчеловечные
деяния и преступления, да и сам человек обречен нести на; себе,'
словно какое-то издревле сужденное ему проклятие, «печать зверя»,-
быть или хищником или его беззащитной жертвой.Но разве можно так жить — в таком унижении, в такой грязи
н мерзости? Не лучше ли смерть? И смерть изображается как единст¬
венно достойный исход из мрака и ужаса жизни — иного исхода поэт
а то время не видел.Встала в сияиьи. Крестила детой.И дети увидоли радостный сон.Положила, до полу клонясь головой,Последний земной поклон...Так начинается стихотворение «Из газет» — о матери-самоубийце,:
прощающейся с детьми перед тем, как покончить счеты с этой
жизнь» — в надежде на какую-то иную и лучшую.Мы ие анаем, что довело ее до самоубийства, не знаем, «лю¬
бовью, грязью иль колесами» раздавлена она, но очевидно одно: так
трагична, отвратительна и безнадежна была еэ жизнь, что только
в смерти она «встала в сияньи»; это сияние словно ослепляет поэта,
кажется ему единственным источником света и красоты, единственно
возможным избавлением от мрака и ужаса «жизни вседневной».Самим названием стихотворения «Из газет» поэт стремится под¬
черкнуть, что изображаемые здесь и кажущиеся такими невероятны¬
ми в своем безграничном ужасе события, славно и ие вмещающиеся
з сознание, разрывающие его на куски, доводящие человека до безу¬5*115
мия и самоубийства,— это не какие-то невероятные исключения,
а самые заурядные в жизни современного города, на которые никто
и внимания-то не обращает, и место им — на столбцах газетной хро¬
ники, где каждый день, без перерыва, в двух-трех строчках, набран¬
ных петитом или нонпарелью, сообщается о множестве подобных
случаев. Но в том-то и заключается самое невероятное и жуткое, на
взгляд поэта, что люди настолько привыкли и притерпелись к окру¬
жающему их ужасу, что словно не замечают его и проходят мимо, кап
пи в чем но бывало. Они движутся как сомнамбулы, которых ничто
не может вырвать из состояния мертвенного покоя,— вот что больше
всего потрясает поэта, и самые его стихи превращаются в крик, кото¬
рым он хочет пробудить их сознание, вернуть их к жизни, напомнить
мм, что они — люди, а не животные и ие бездушные автоматы.Если идиллические образы и мотивы все еще вторгаются в стихи
Блока, то уже не с тем, чтобы утешить и успокоить нас, утвердить
власть мечты, увести на «блаженные острова», но чтобы еще сильнее
подчеркнуть — но контрасту — кошмары окружающей действительно¬
сти, недавно казавшейся поэту сияющим и непреходящим праздни¬
ком'; так, в стихотворении «Из газет» еще не совсем погашены и при¬
глушены идиллические мотивы и светлые краски («голубой сон»,
«розовые детки», «добрый человек», «мамочке хорошо»...), но она
возникают — словно в бреду — какими-то беспорядочными осколками,
обломками, мазками, рядом с которыми особенно мрачно и безобразно
выглядят другие — страшные и безнадежно трагические.Поэту кажется: город — во власти зверя, который может прики¬
нуться то заброшенным псом, то пылью, то Невидимкой, и никуда не
уйти от его желтых и хищных глаз. Это он «небо запачкал в крови»;
это он вывесил над вертепом красный фонарик; это онПучки вечереющих роэШвыряет блудницам в окошко...—*и в стихах Блока возникают жуткие образы города, где наступает
«последний день», где человека ждут обманы и соблазны, где нестер¬
пимо страшно — страшнее всего! — именно тогда, когда вокруг поют
и танцуют, предаются любовным утехам и усладам, когда людей увле¬
кает разгульное и бесшабашное «веселье в ночном кабаке». В этом
веселье — отчаяние, жажда хоть на мгновение забыть «непроглядный
ужас жизни», и каждая карнавальная маска может обернуться, как
в рассказе Эдгара По, маской Красной Смерти...Но здесь все так страшно, что .мрачные фантазии Эдгара По мерк¬
нут перед той обыденностью и повседневностью, где женщины бро¬
саются из окон, где происходит жалкая и отвратительная «игра вечер¬
них содроганий», где плачет ребенок, до которого никому кет дела.В этом городе — «все мимолетно», ничему и никому нельзя ве¬
рить; он полон обманов, теней, призраков, оборотней, и если поэт
ищет «красную подругу» — что Hi, он ее' увидит, «вольную деву
в! огненном плаще»; Но стоит только пристальнее присмотреться,; сНяв
с. глаз незримую повязку,^-она окажется новой Аетартой, новой110
блудницей, словно бы сошедшей со страниц апокалипсиса, и если
пойдешь за ней,—...оаа тебя кольцом неразлучным сожмет
В змеином логовище...(«Иду — и все мимолетно...»)Так городская хроника сплавляется с видениями апокалипсиса
и повседневная пошлость граничит с самой мрачной фантазией, с поэ¬
зией кошмаров и ужасов — как мы видим в стихотворении «Неви¬
димка»:Веселье в ночном кабаке,Над юродом синяя дымка.Над красной зарей вдалеке
Гуляет в полях Невидимка.В этой Невидимке, танцующей над топыо болот и дышащей и:с
тлетворными миазмами, поэту видится теш. той апокалиптической
блудницы, в которой воплощены все силы зла и порока; это ее нагло
Торжествующий хохот слышится ему на улицах и площадях огромно¬
го города, а в облике его обитателей поэту мерещатся хищнические,
бесчеловечные, отвратительные черты:...ломится в черный притон
Ватага веселых пьяных,И каждый во мглу увлеченТШШО& Проституток румяных... .1В тени гробовой фонари,Смолкает над городом грохот...На красной полоске зари
Беззвучный качается хохот...Поэту попятно, над чем хохочет эта страшная Невидимка, во вла¬
сти которой оказались «сЛёпЫе, продажные твари», утоляющие свой
любовный голод в темных и грязных притонах. В этом городе, ужо
охваченном мраком, бредом, безумием, к людям приближается дрдто
страшное, неведомое, невидимое — недаром само стихотворение назы¬
вается «Невидимка»: .Вечерняя надпись пьяна ■ -Над дверыо, отворенной в лавку...Вмешалась в безумную давку
С расплеснутой чашей вина 'На Звере Багряном — Жена. iЗловещая Невидимка насылает на людей чуму и проказу, превра¬
щает их жизнь в непреходящий'ужас, а их самих—в плотоядных
и уродливых карликов иди в продажных тварей, и уже нет сил избе¬
жать.власти Блудницы, сидящей на Багряном Звере, не припасть к зе
чаше, наполненной отравленным и отвратительным вином ее блудо-
действа, как сказано в библии. Так вымыслы апокалипсиса врываются
ib жизнь огромного современного города, и по его улицам — видится
поэту — скачет конь Блед с всадником, имя которому — Смерть,117
в призраки безумия и смерти преследуют поэта на каждом шагу.
Бот почему само выражение лица героя лирики Блока резко измени¬
лось: если раньше его губы были сомкнуты в молитвенном экстазе, то
теперь они разодраны криком боли, страха, отчаяния, тем более без¬
надежного, чем бессмысленнее и страшнее казалась окружающая
действительность поэту, в глазах которого все мельтешило, кружи¬
лось, неслось в каком-то исступлении к краю бездны, готовой погло¬
тить целый мир. Так повседневные события городской хроники
приобретали в глазах Блока сходство с самыми мрачными страницами
древних пророчеств, вещающих о мраке, гибели, небывалых бедах,
в виделись славно в бреду человека, сходящего с ума.Поэт не мог понять, почему «непроглядный ужас жизни» не вы¬
зывает у окружающих такой же боли и такого же отчаяния, как
у него самого, и как они могут спокойно и равнодушно смотреть на те
Мерзости и преступления, которые повседневно творятся на их глазах;
все это изливалось в стихах, по которым словно пробегает судорога
боли, исступления, гнева, стихах «крикливых», резких, внутренне
ззеуравновешенных; кажется, их автору уже совсем не до того, чтобы
соблюдать правила и нормы стихосложения, заботиться о благообра¬
зии и благозвучии своих строк. Так в лирике Блока возникают стихи
разорванные, хаотические, какие-то косноязычные, созданные словно
бы на грани безумия. Стихотворение «Из газет» выговаривается кос¬
неющим языком, когда человек так потрясен и подавлен преследую¬
щими его кошмарами, что не в состоянии связно передать и высказать
•обуревающие его чувства, уже вышедшие за грани какой бы то ня
было нормы и меры:Спасибо, спасибо. Мама не могла...Мамочке хорошо. Мама умерла.Эта обрывки фраз, перебивающих и захлестывающих одна дру¬
гую, прерывистых, невнятных, призваны выразить чувства человека,
настолько потрясенного и выбитого из колеи, что он уже не способен
контролировать ни их, пи самого себя, ни того, что срывается с его
искривленных губ; кажется — его колотит мелкая дрожь, от которой
зуб на зуб не попадает, и рассказ об очередном самоубийце вот-вот
закончится диким, нечеловеческим воплем (хочется сказать — мыш-
кицским), и ничем, кроме крика боли, страдания, отчаяния, не может
■ответить поэт на ужасы и кошмары, доводящие его до истерического
Припадка* записью которого словно бы и являются такие стихотворе¬
ния, как «Из газет», «Последний день», «Невидимка», «Повесть» и мно¬
гие другие.Речь поэта становится то резко крикливой, то какой-то невнятной
м скомканной; образы то достигают предела яркости, резкости, бро¬
скости, то слагаются в смутную, невыразительную картину, изобилую¬
щую сломанными штрихами и выписанную тусклыми, померкшими
красками; прекрасное здесь становится рядом с нарочито уродливым,
болезненным, безобразным (в подобных стихах Андрей Белый и нахо-118
дия впоследствии «подделку иод детское иди просто идиотское»); вез
ото свидетельствует о смятении поэта, столкнувшегося с такими
уродствами обыденной жизни, которых он ие в силах осмыслить и из
может вместить в свое помраченное сознание, разрывающееся на
куски.Стихи Блока в то время внутренне дисгармоничны; они в каких-
то разрывах, изломах, трещинах, словно бы рассекающих их по всем
направлениям, и поэт все больше порывает с канонами и традициями
классического стиха, все напряженнее ищет стиха-выкрика, стопа,
вопля, бормотания — и так на смену былой уравновешенности и ясно¬
сти приходят разорванные строки и образы, изломанные ритмы, пре¬
рывистые интонации.Маяковский в статье «Как делать стихи?» утверждал в современ¬
ной поэзия «выкрик — вместо напева», и, пожалуй, эта формула луч¬
ше всего передает изменения, происшедшие в поэтике Блока, для
которой становится характерен стих аритмичный, внутренне неурав¬
новешенный, созданный словно бы в состоянии такого смятения
чувств, подавленности, ужаса, когда мысль о какой-либо гармонии,
строе, порядке и в голову пе приходит — просто хочется «выкричать»
свою боль.Ощущая наступление перелома в своем творчестве, поэт говоритС. Соловьеву в 1904 году:«Пишу стихи длинные, часто совершенно неприличные, которые,
однако, нравятся мне больше прежних и кажутся сильнее. Не ругай
за неприличие, сквозь него во мпе все то лее, что в прежнем «расплыв¬
чатом», но в формах крика, безумий и часто мучительных диссо¬
нансов».Здесь знаменательно и признание «расплывчатости» прежних
стихов (явпо уже не удовлетворявших самого поэта), и того нового,
что проявляется в «формах крика» и «мучительных диссонансов»,—
Блок точно определил характер своих новых стихов, их форму, поэти¬
ку, самое существо, и эти новые особенности стиха были так резко
подчеркнуты, что ие могли но броситься в глаза любому читателю.То же самое поэт говорит в отзыве на книгу стихов П. Соловьевой
(Allegro) «Иней», утверждая, что современную литературу «...словно
кто-то поджег; всюду крпк и надрывы, жалят пламенные языки...»(1905) — и для Блока было очевидно, что его собственная лирика
отвечает духу и языку, метаниям и «надрывам» этой «подожженной»
литературы.Стремясь «освоить» новый для него материал, поэт проходит
своего рода школу ученичества у новых для него учителей, уже изо¬
бражавших жизнь большого города,— и среди них особенное место
отныне занимает Некрасов; у Некрасова перенимает он манеру изо¬
бражать людей загнанных, обездоленных, того неудачника, от имени
которого и написано стихотворение «В октябре»:„.меня без всяких поводов
Загнали на чердак.119
Никто моих не слушал доводов,И вышел мой табак.А все хочу свободной волеюСвободного житья, >Хоть нет звезды счастливой более ,С тех пор, как запил я!Эта речь — поиски какого-то нового для Блока языка, призванно¬
го выразить переживания человека, перед которым раскрылись но
«радостные сады», а зловонные дворы, заплеванные углы, темные
чердаки, чадные трактиры. Но эти поиски еще недостаточно самостоя¬
тельны; герой, о котором говорит Блок, явно условен, а его разговор*
no-бытовые обороты речи («без всяких поводов»; «никто моих ие слу¬
шал доводов»; «вышел мой табак»; «с тех пор, как запил я» и т. д.)
слишком явно напоминают Некрасова, и здесь иные строки звучат
откликом на его стихи, посвященные Петербургу, «мещанскому
яштыо» его обитателей и обывателей..Еще более значительное влияние на Блока, пришедшего из своего-
«радостного сада» в темные переулки и зловонные дворы современно¬
го города, оказал Достоевский — о чем поэт сообщал отцу еще и в дав¬
ние времена, летом’1902 года:«...мой реализм граничит, да и будет, по-видимому, граничить,
с фантастическим («Подросток» — Достоевского). Такова уж черта
моя...»Эта «черта» становятся особенно явственной впоследствии, в сти¬
хах второго тома, в которых, многое необычайно родственно «фанта>-
стическому реализму» Достоевского, чьи видения и образы так гран*
диозпы, что, кажется, на какое-то время заслоняют перед глазами
поэта и саму действительность, которую он -подчас рассматривает
как бы сквозь страницы «Идиота», «Бесов» или «Подростка».О стихотворении «Все кричали у круглых столов...» (.1902),. вно¬
сящем новые и дотоле небывалые черты в лирику Блока, поэт сооб¬
щает своей невесте:«Написал хорошие стихи... Они совсем другого типа — из Достоев¬
ского...»А в следующем письме, прилагая к нему стихотворение «Все кри¬
чали у круглых столов...», Блок еще, более настойчиво подчеркивает,
родство своего нового стихотворения с темами и мотивами Достоев¬
ского: '«...Это не безформенпо. Это просто и бывает .-я жизни, на тех ее
окраинах, когда ставрогины кусают генералов за ухо...» (1902,
ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр, 97, стр. 94). гТак поэт все более явственно ощущал в своем творчестве влияние
Достоевского и все дальше уходил на те «окраины жизни», где..повсе¬
дневно творится нечто странное, необычайное — в духе и характере
Достоевского. Да и самый Петербург долгое .время представлялся
Блоку городом «из Достоевского», в котором «воскресает Достоев¬
ский», и любые встречи цли литературные разговоры оказывались
«в запахе Достоевского» (как. пишет он матери осенью 1905: года).;120
нельзя не почувствовать, что таким «запахом» пронизаны многие
стихи Блока, написанные накануне и в ходе революции 1905 года.В своих воспоминаниях о Блоке С. Соловьев говорит: «Тема «бед¬
ного рыцаря» проходит в романе Достоевского «Идиот», романе осо¬
бенно близком Блоку; из него взял он эпиграф к своей драме «Незна¬
комка». Вообще Достоевский был любимым писателем Блока...»
(«Письма», стр. 42).Окружающая жизнь и предстает перед Блоком в своем родстве
с самыми мрачными видениями Достоевского, на страницах которого
«как бы танцует» душа поэта; в лирике Блока многие мотивы разви¬
вались под «знаком» Достоевского, в его духе и стиле («не первобыт¬
но-романтическом, а скорее — «в реально-Достоевском»,— как опреде¬
ляет сам поэт).Состояние людей, о которых повествует поэт в новых своих сти¬
хах, можно лучше всего передать словами одного из персонажей
Достоевского — Аркадия Долгорукого, который говорит па страницах
романа «По дрост о к»:«...во все это последнее время, и вплоть до катастрофы, мне как-то
пришлось встречаться сплошь с людьми до того возбужденными, что
все они были чуть не помешанные, так что я и сам поневоле должен
был как бы заразиться...»■ Вот- в этом состоянии невероятного возбуждения — чуть ли не до
умопомешательства! — находятся и лирический герой новых стихов
Блока и окружающие его люди, в каждом слове и в каждом поступке
которых сквозит нечто близкое безумию—настолько потрясена их
психика вестью о «кончине мира»: ведь ли о чем другом они и думать
не в состоянии.Особое значение обретала для Блока и философия явно ненор¬
мального инженера Кириллова (роман «Бесы»), образ которого, рудя
но всему, надолго захватил Блока и вызвал в нем необычайное потря¬
сение, рапное катаклизму,— и во многом способствовал тому, что окру¬
жающая поэта жизнь, казавшаяся ому недавно сказочно прекрасной,
превратилась в жалкую и безобразную.Кириллов утверждал, что люди «...не хороши, потому чт,о не
знают;что они хороши...- Надо-им узнать, что они хороши, и все тот-,
час станут хороши...» — и «тот, кто научит, что все хороши, тот мир
закончит...», ибо когда человек достигнет счастья и совершенства,
то «...времени больше не будет, потому что не надо».Сумбурные вещания 'Кириллова по-евоему: отразились и в стихах
Блока, в изображаемых в них картинах большого современного горот,
да: там тоже проститутка «не хороша», но только до тех пор, пока но
узнает, что она «хорошая, а узнав это, она кончает самоубийством
(ибо и для нее времени больше лет — «потому что не надо»),«Кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя...»--,
внушает Кириллов, и героиня стихов Блока — проститутка — убивает,
себя в жажде «главной свободы». Она кончает расчеты с жизнью-—
и в мгновение гибели, преодолевая «боль страха смерти» (как . ска¬
зал бы Кириллов), торжествуя над ней победу, вырывается за грани
земного бытия, времени, боли, обиды, фантастической и тошнотворной
пошлости своего существования; она постигает высшую свободу, выс¬
шее счастье, которого так п не удалось достичь ее духовному отцу —
самому Кириллову, в час своей смерти затравленному Петром Верхо-
вонеким, словно попавшаяся в капкан крыса.Изображение того города, который виделся Блоку воплощением
безысходного ужаса, близко духу и стилю Достоевского, его поэтике;
один из ее существеннейших принципов определен в романе «Подро¬
сток»:«...удивительно, как много посторонних мыслей способно мелыс-*
путь в уме именно когда вось потрясен каким-нибудь колоссальным
известием, которое, по-настоящему, должно было бы, кажется, за¬
давить другие чувства и разогнать все посторонние мысли, особенно
мелкие,— мелкие-то, напротив, и лезут».Это наблюдение и составляет то поразительное открытие в обла¬
сти психологии, а стало быть, и искусства, которое приобретало не¬
обычайно важное значение в творчестве Достоевского, в его поэтике;
оно становится—и особенно в годы наиболее сильного увлечения
Достоевским — одним из существеннейших принципов поэтики Бло¬
ка; оно определяет характер восприятия и изображения возникающих
перед поэтом картин большого города. Здесь тоже «колоссальное из¬
вестие» о «конце» исторических времен, о «гибели мира», сочетается
с самой ординарной обыденностью, с мелкими и даже мельчайшими
и пошлыми подробностями бытовой обстановки, которые также на¬
зойливо лезут в глаза и решительно требуют своего места в повество¬
вании, словно в них заключено некое неприметное, но великое и непо¬
стижимое с первого взгляда значение, ибо на их фоне огромныо
события, потрясающие человека и ураганом проносящиеся над ним
ы ого судьбою, кажутся особенно фантастическими и жуткими,— как
мы видим в стихотворении «Последний день»....Мужчина и блудница очнулись в угарной мгле, в ранний час,
когда другие люди еще «ленились шевелиться». Дрожат плечи жен¬
щины. Оплывший огарок маячит в ее оплывших глазах; тот мужчи¬
на t в которого она «в этой самой комнате была влюблена», стоит
теперь перед зеркалом и расчесывает пробор в волосах. Обстановка
этого ночного свидания так жалка, отвратительна, безнадежно тоск¬
лива, словно в ней воплощен весь ужас постылой, никчемной жизни,
особенно остро ощутимый сейчас, в этот тусклый, серый, предрассвет¬
ный час:Сегодня безобразно повисли складки рубашки,На всем был серый постылый налет.Углами торчала мебель, валялись окурки, бумажки,Всех ужасней в комнате был красный комод.Здесь в глазах мельтешит всякий мусор, на который тошно гля¬
деть; «ужасный красный комод» словно бы лезет в самую душу, от
него веет непобедимым ужасом,— и только в смерти женщина-блудни¬
ца находит избавление от унижения, позора и страха, ставших для
нее обыденным и повседневным переживанием.122
В этом стихотворении пошлые подробности и мелочи, являющие¬
ся наглым вызовом всему светлому и прекрасному, что есть в жизни,
мелькают в глазах с какой-то с ума сводящей назойливостью, требуя,
чтобы мы не проходили мимо них, а угадали их тайный, подспудный,
тревожный, какой-то роковой смысл, и все до того прозаично 9 пошло,
что теряет свою ординарность, становится непостижимой, почти фан¬
тастической пошлостью,— и здесь Блок тоже следует за Достоевским,
герой которого некогда уверял: «Чем пошлее, тем фантастичней»,«Не забывай мелочей, главное, не забывай мелочей: чем мельче
черта, тем иногда она важнее...» — внушал Версилов своему щву-
«подростку» Аркадию Долгорукому, и этот совет становится для Бло¬
ка, особенно в годы наиболее сильного увлечения Достоевским, одним
из самых существенных принципов его поэтики.Изображая картины огромного города как канун близкой и неиз¬
бежной катастрофы, поэт стремился придать им несомненность и оче¬
видность самой действительности, голой, обыденной, неприкрашен¬
ной,— вот почему создаются стихи, подобные протокольной записи
какого-нибудь уличного происшествия или свидетельскому показанию
его очевидца. Здесь грандиозность масштаба сочетается с самыми
ординарными подробностями, словно бы и не идущими к делу, но
внутренне необходимыми: эти мелочи и подробности — ужасные все
до одной — словно бы призваны удостоверить доподлинность всего
происходящего, о чем поэт сообщает нам с дотошностью судебного
следователя,— иначе слишком невероятным и фантастическим выгля¬
дел бы его рассказ. Бытовые, обыденные детали вторгаются в карти¬
ну, увиденную как бы в бреду, в кошмаре, и сам поэт отказался бы
признать ее за нечто возможное и подлинное, если бы не убедитель¬
ность этих деталей; каждая из них, как бы ужасна она ни была,
призвана засвидетельствовать истинность и несомненность событий,
поразивших поэта и доводящих его до отчаяния, до безумия, до исте¬
рического припадка.Этот «припадок» во многом схож с тем, что испытал и пережил
один из героев Чехова, студент-юрист Васильев, обладавший, по сло¬
вам его приятеля, особым талантом — «человеческим», то есть «тон¬
ким, великолепным чутьем к боли вообще», и — пояснял тот же
приятель — «как хороший актер отражает в себе чужие движения
и голос, так Васильев умеет отражать в своей душе чужую боль», да
и не только боль, а весь мир человеческих переживаний и восприя¬
тий. Вот почему он так чуток к первому, недавно выпавшему снегу,
к тому, что все в природе «находилось под властью этого молодого
снега», и в его душу «вместе со свежим, легким морозным воздухом
просилось чувство, похожее на белый, молодой, пушистый снег».
Неся е собой это праздничное, ликующее чувство, словно отсвечиваю¬
щее чистотой и сиянием первого снега, Васильев, попав вместе с^
своими приятелями в публичный дом, сталкивается с постыдными
и отвратительными сценами жизни города-спрута, в щупальцах кото¬
рого гибнут тысячи и тысячи человеческих жертв,— и все это вызы¬
вает у него припадок отчаяния, боли, гнева. Он не в силах понять:123
как люди могут терпеть такое — и ие сходить с ума, как они могут
мириться с тем, что на их глазах совершаются жестокие, бесчеловеч¬
ны» преступления, и равнодушно проходить мимо тех ужасов, с кото¬
рыми сталкиваются постоянно и повседневно?Герою Блока, несущему в себе, подобно герою рассказа «Припа¬
док»1, чувство, «похожее на белый, молодой, пушистый снег», особенно
тягостно и я?утко оттого, что это чувство столкнулось о кошмарами
и ужасами «жизни вседневной», с той грязью, в которой, казалось бы,
уже нет места ничему человеческому, чистому, светлому,— не случай¬
но Васильев отказывается примириться с тем, что белый, свежий ciier
падает в переулке, где так грязно и смрадно.В стихах Блока, составляющих циклы «Распутья», «Город» и не¬
которые другие, сталкиваются и взаимодействуют стйли, казалось бы,
самые противоречивые и взаимоисключающие,— стиль газетной хро¬
ники, судебного протокола со стилем старинных мифов, библейских
легенд, апокалиптических вещаний,— и все это образует хаотическую,
разноречивую, разорванную, внутренне неуравновешенную картину,
в которой углы перекошены, кое-где лежит «серый постылый налет»
и все предстает в зловещем свете «последнего дня». Так поэт пытался
создать новый — городской и современный — миф, трагически без¬
надежный и безобразный миф огромного города-спрута, который
виделся ему подчас в образах и ритмах поэмы Брюсова «Конь Блед»,
ответившей предчувствиям и чаяниям самого Блока.Осенью 1906 года Блок пишет Брюсову в связи со своей драмой
«Король на площади», в которой, как он опасался, «Символы чере¬
дуются с аллегориями»:«Вероятно, революция дохнула в меня и что-то раздробила внут¬
ри души, так что разлетелись кругом неровные осколки, иногда, мо¬
жет быть,: случайные...» — и не только самая революция^ но и годы,
непосредственно предшествовавшие ей и открывшие поэту глаза на
неблагополучие и непрочность того мира, в котором он жил дотоле,
многое «раздробили» в том Идиллически безмятежном, Пронизанном
духом сонного покоя и смутного мёчтателъства мире, в котором когда-
то пребывая поэт; от прежней цельности и гармоничности поистине
остались лишь «неровные осколКИ», и многие Стихи второго тома ли¬
рики Блока сложены словно бы из подобных «Осколков» — такие они
изломанные, дисгармоничные, колючие.Так попытка перенести «идей Платона великолепные миры» в об¬
ласть современности потерпела явный крах,— да это и не могло быть
иначе, ибо она являлась отвлеченно-мечтательной, утопической,
бесштавенной, и крушение былых иллюзий переживалось поэтом тем
более мучительно, чем возвышенней были его мечты, чем безобразней
и ужасней оказалась окружающая действительность.Этот крах отозвался огромными переменами и катастрофами во
всем внутреннем мире поэта.Андрей Белый в то время не понял, да и не мог попять перемен,
происходивших с поэтом, и пытался объяснить их по-своему (о чем
будет сказано ниже), но он видел масштабы этих перемен, видел, что124
перед поэтом, разуверявшимся в былых надеждах, упованиях, чая¬
ниях и столкнувшимся с неожиданными для него страхами и ужаса*
ми, подобными обвалу в горах,— не только обломки своей неудавшей.»
ся личной жизни, своих младенческих мечтаний и смутных чаяний, но
и «обломки миров». Именно так впоследствии назвал Андрей Белый
«дну из своих статей о Блоке, и это название верно определяет харак¬
тер и масштабность переживаний героя лирики Блока, мечта которого
о «единстве с миром», казалось уже осуществленная в любви к «Вла¬
дычице вселенной», рухнула при первом же столкновении с реальной
жизнью, при первом порыве свежего и резкого ветра.И действительно, в новых стихах Блока перед нами не тот цель¬
ный, гармонический мир, каким он некогда казался поэту, а «облом¬
ки миров»; этим определяется и возниковение в лирике Блока совер¬
шенно новых, несхожих с прежними мотивов, красок, пейзажей,
словно бы искаженных и изуродованных пекиим катаклизмом, не
оставившим камня на камне от прежних белых храмов и утопавших
в шиповнике усадеб.«Обломки миров», обрушившиеся на поэта, и вызвали чувство
отчаяния, ужаса, боли, которой, казалось, нет меры и предела; нача¬
лись безнадежные блуждания в «болотистом лесу» (говоря словами
самого поэта); в новых его стихах преобладало чувство растерянности
и страха перед сложностью и трудностью современной жизни, что
и определило характер и особенности второй части той «трилогии
вочеловечения», в виде которой Блоку представлялась своя жизнь,
так же как и жизнь героя его лирики.Долго еще поэт не мог выбраться из-под этих «обломков миров»,
и разве можно с уверенностью сказать, сумел бы он или не сумел
выйти на свет из «болотистого леса» и найти из него выход, если бы
во великие исторические события, те животворные бури и грозы, кото¬
рые словно бы заново переродили поэта и придали ему новые силы
и новую вору — веру пе столько в свою «небесную подругу», сколько
в простоев человека, в ого будущее и его великое назначение.Эти события, хотя и но сразу, на многое открыли поэту глаза
и помогли ему преодолеть охватившее его отчаяние, отбросить, как
старую, ненужную ветошь, многое из того, что он почерпнул из веща¬
ний древних «апокалиптиков» и современных «пеохристиан», пропо¬
ведников «евангелия от декаданса».
«ВТОРОЕ КРЕЩЕНЬЕ»Мы не знаем, чем могли бы завершиться и оборваться трагиче¬
ские настроения и «апокалиптические» чаяния поэта, который «тайно
иросит гибели» и во всем окружающем видел лишь «знаки» я приме¬
ты ее приближения, если бы не революция 1905 года, вторгшаяся в его
внутренний мир, преобразившая самый строй его переживаний и раз¬
думий, принимавших безнадежно мрачный характер. Революция
открыла перед ним, так же как и перед миллионами других людей,
новые просторы, огромные перспективы, о которых он раньше даже
не подозревал.Стачечное двиясение охватило почти всю страну, на улицах раз¬
вертывались баррикадные бои, горели помещичьи усадьбы — так на¬
род ответил на невыносимый гнет господствующей верхушки, на
расстрел мирной демонстрации 9 января, на бесчисленные преступле¬
ния царских властей, пытавшихся спасти старый, прогнивший строй
зверствами и террором. В дни революции 1905 года стало очевидно:
чём бы она ни завершилась — парод, пройдя школу революции, уже
никогда не забудет ее суровых и мудрых уроков и раньше или позже,
йо сумеет отстоять своя человеческие права и кровные интересы.Поэт не сразу «принял» и по-своему осмыслил революцию. Ока¬
зывается, даже и тогда, когда Блок внимал «великолепной Гибели бо¬
гов» (издавна любимого Вагнера, который так много значил в его
жизни и творчестве), он не мог целиком погрузиться в бурные и свер¬
кающие, словно в свете незримых молний, волны вагнеровской музы¬
ки; ему в числе прочего мешали «слухи о Варфоломеевской ночи»,—•
как он сообщает Андрею Белому в начале 1905 года («Переписка»,
стр. 124), и уже одно то, что Блок в то время опасался народных
восстаний, «жакерий», «варфоломеевских ночей» (слухи о которых
распускали испуганные обыватели), свидетельствует о наивности
и отсталости политических воззрений поэта, чувствовавшего себя
в стане «привилегированных» (в котором он вскоре увидит себя
отщепенцем).Те же самые ожидания «Варфоломеевской ночи» сказываются
ш в письме к С. Соловьеву, где Блок сообщает, что, читая рассказ Лео¬
нида Андреева «Красный смех», захотел «...пойти к нему и спросить,
когда всех нас перережут. Близился к сумасшествию...» (1905), —
я в такого рода ощущениях решающую роль играли, как мы видии8120
страхи, вызванные предчувствием близящейся катастрофы того строя,
с которым был кровно связан поэт.В начале 1905 года ему живется (как сообщает он в письме
к А. В. Гиппиусу) «...много и хорошо, только вот от событий тяжело
ж смутно...» — но вскоре такое «смутное» их восприятие сменилось
у поэта совершенно другим, и в конце того же года, обращаясь к тому
же адресату, он спрашивает: «Какой-то ты?» — а сам Блок решитель¬
но подчеркивает: «Я —- ооцпаль-демократ...» И хотя вскоре его сочув¬
ствие «социаль-демократам» явно остыло (о чем он сообщает в письме
к отцу), да и представление о них было у поэта крайне туманным,
ло многое свидетельствует о том, какие существенные п «необрати¬
мые» изменения иод влиянием революции произошли в его внутрен¬
нем мире.Говоря о событиях революции 1905 года, о том, как они отрази¬
лись в семействе Блока,— М. А. Бекетова сообщает:«...с этой зимы равнодушие Александра Александровича к окру¬
жающей жизни сменилось живым интересом ко всему происходяще¬
му. Оп слодил за ходом революции, за настроением рабочих...» — хотя
«политика» и партии по-прежнему были ему чужды» («Александр
Блок», стр. 93—94). И действительно, отныне «живой интерес» штата
к окружающему уже никогда не угасал, становился все более глубо¬
ким и обостренным.Эта обостренность, понимание справедливости и необходимости
восстания против сил реакции и самодержавия, сказывались у поэта
во всем, не исключая области личных и семейных отношений.В ночь на 9 января отчим Блока, офицер и «верноподданный слу¬
жака» (по словам М. А. Бекетовой), вместе с отрядом гренадер займи
мал одну из позиций, препятствующих рабочим переходить через
Неву. И хотя на этой позиции кровь рабочих не пролилась, но уже
одна эта возможность вызывала у поэта безудержный гнев и против
«подлых расстрельщиков» и против своего отчима, готового послушно
выполнять преступные приказы царских властей. Когда отчим вер¬
нулся домой — в день 9 января, поэт (по свидетельству Андрея Бело¬
го) даже и самим тоном старался его «подковырнуть, уязвить, отпу¬
ская крепчайшие выражения по адресу офицерства, солдатчины, сол¬
дафонства...». В самом его отношении к отчиму в связи с тем, что тот
принимал участие в действиях, направленных против рабочих,
«чувствовалась беспощадность». Да и сам дом Блоков того времени
Белый характеризует как дом «решительно, революционно настроен¬
ный...» («Эпопея» № 2, стр. 173). 'Конечно, в этой «настроенности» решающая роль принадлежала
Блоку — он стремился передать близким ем-у людям свои взгляды
ж чувства, и если его жена «сначала относилась к событиям (револю¬
ции.— Б. С.) безразлично или даже враждебно», то потом «понемно¬
гу и она зажглась настроением мужа» («Александр Блок», стр. 94),
О «тревожном, ищущем» Блоке дней революции говорит в своих
воспоминаниях и Сергей Городецкий, приводя знаменательный эпй-
вод: «Любовь Дмитриевна, с гордостью сказала мне: «Сашат
'(А. А. Блок. — Б. С.) нес красное знамя — в одной из первых демон¬
страций рабочих...» («Печать и революция», 1922, № 1, стр. 78).’ Биограф Блока также подтверждает, что он «участвовал дажэ
в одной из уличных процессий и нес во главе ее красный флаг, чув¬
ствуя себя заодно с толпой...» («Александр Блок», стр. 97); подобные
факты свидетельствуют о больших переменах, происшедших в жизшг
и взглядах поэта.Порой он даже «бормочет» (говоря его же словами) о политике,
стремится не только осмыслить ход революции, но и принять в ней
непосредственное участие (что ужо очень далеко от ожиданий и опа¬
сений «Варфоломеевской ночи»), хотя, конечно, и программа передо¬
вых, сознательных рабочих и истинные цели их борьбы остаются для
Блока крайне неясными (впрочем, сам Блок в начале 1905 года от¬
кровенно признавался в письме С. Соловьеву: «Я политики не по¬
нимаю...»).В дни революции 1905 года поэт увидел, что пробудившийся
и ломающий оковы народ — это огромная и непобедимая сила,
являющаяся залогом лучшей, достойной, прекрасной жизни, не знаю¬
щей нужды, бесправия, угнетения, и это открытие внесло целый
переворот в его душу; революция явилась для него тем истинным
откровением, которое он тщетно искал в библейских преданиях
и мифах, в сочинениях отечественных и зарубежных мистиков,
оккультистов и «апокалиптиков»; революция наглядно и неопровер¬
жимо свидетельствовала о том, что перед человечеством не «конец
мировой истории», о котором кликушески вещал Мережковский, а еа
начало, великое будущее, и зов этого будущего, тяга к нему— вот что
становится отныне пафосом лирики Блока;Поэт, доселе ничего не видевший, кроме торжества и наглости
«сильных», страданий и унижений «слабых», обреченных в жертву
хищникам и беспомощных перед ними, узнал нечто совершенно дру¬
гое, опрокинувшее его прежние представления о народе, о простом
человеке. Этот человек оказался совсем не таким слабым, беспомощ¬
ным, бессильным, как полагал поэт, и заставил почувствовать своих
угнетателей и поработителей, что их век — педолог; он вышел на
прямой и открытый боа с ними, не щадя своей крови и самой жизни,
и отныне Блока, увлеченного и захваченного этим подвигом, требо¬
вавшим подлинного героизма, никогда не покидала вера в простого
человека, в его неизмеримые силы.В восстании революционных масс поэт увидел такой источник
вдохновения, который придал совершенно новый характер и его твор¬
честву; оно — хотя и ие сразу—перестало быть криком ужаса, отчая¬
ния, боли, вещанием о «конце мира», наступлении «апокалиптиче¬
ских» времен и все больше откликалась на грозы и бури, призванные
смести самые основы старого мира; революция и вывела поэта из
тупика, в котором он оказался, раскрыла перед ним огромные про¬
сторы, неведомые дотоле возможности и цели; это и определило
новые стимулы внутреннего развития Блока, а стало быть, и новый
этап в его творчестве.12.8
В гуле и буре нарастающих революционных событий, все силь¬
нее ощущая неизбежность крушения старого мира, поэт, вглядываясь
с жадным вниманием и страстным интересом в лицо «проснувшейся
жизни», испытывает самые противоречивые и сложные чувства:
и восторг, и смятение, и готовность к борьбе, от исхода которой зави¬
сит не только своя личная жизнь, но и нечто гораздо более значи¬
тельное — судьба родины и всего мира.Охваченный этими чувствами, поэт делится ими со своим другом,
Евгением Ивановым, в письме, написанном в разгар революции,
летом 1905 года:«Я и написать не могу всего, но то, чего я не могу высказать
ясно, вертится близ одного: хочу действенности, чувствую, что бли¬
зится опять огонь, что жизнь не ждет (она не успеет ждать—он сам
прилетит), хочу много ненавидить, хочу быть жестче...»Но, словно испуганный этими вспышками, которые кажутся от¬
светом далеких, незримых зарниц, Блок перебивает себя и смущенно
бормочет:«И н. е-таки это не совсем так; если узнаю еще, напишу больше.
Близок огонь опять, какой — не знаю...»Какое-то совершенно новое и грозное вдохновение обжигает
поэта, и короткие, порывистые строки его письма возникают словно
при беглых молниях, вспыхивающих одна за другой:«Старое рушится. Никогда не приму Христа... Если б ты узнал
лицо русской деревни — оно переворачивает; мне кто-то начинает
дарить оружие...»И хотя эти слова звучат еще очень неопределенно (ибо и Сам
поэт не знает, кто именно и Какое «дарит» ему оруяше, какие битвы
предстоят ему), но здесь несомненны и сочувствие восставшим мас¬
сам, и понимание справедливости их требований, и чувство торжества,
вызванное тем, что «старое рушится...».Это знаменательное письмо завершается возгласами, в которых
сказались восторг и гордость поэта, наконец-то вдохнувшего ветер
весны, воздух подлинной жизни, явившейся вихрем революции, сме¬
тающим со своего пути все мертвое и пробуждающим живые,
творческие, неодолимые силы народа:«Может быть, где-нибудь вдруг сказалось то, что не сумел сказать.
Какое важное время! Великое время! Радостно».Письмо свидетельствует о том, как решительно шел Блок навстре¬
чу жизни, стряхивая с себя «клочья ночи» и «утреннего тумана»,
застилавшего некогда его глаза; здесь слышится звонкий, радостный,
ломающийся голос поэта, еще охваченного чувством внутреннего
разлада, смятения, страха, навеянного «городом-спрутом», но уже
возмужавшего, ощутившего в себе нрнлив новых и неизмеримых сил;
следует подчеркнуть, что революция 1905 года навсегда осталась дли
Блока временем «важным», «великим» — не только исторически, но
и для него лично, ибо она произвела целый переворот в его душе
и в его творчестве, которое после 1905 года уже нельзя осмыслить вею
революции, вне ее воздействия на весь внутренний мир поэта.129
Накопец-то он мот жить не мертвенными иллюзиями, бесплотны¬
ми мечтаниями, безысходным — в духе апокалипсиса — ужасом,
а настоящей жизнью; это было подобно тому, как если бы он окунул¬
ся в кипящий и животворный родннк, обновил в нем свою душу, —
и само стихотворение, где выражены эти новые н мощные, целиком
захватившие поэта чувства, он назвал «Второе крещенье», вкладывая
а эти слова особый смысл:Открыли дверь мою метели,Застыла горница моя,И и попой снеговой купели
Крещен вторым крещеньем я.В грозах и бурях революции перед поэтом открылся простор —
многообразный, многоцветный, влекущий, населенный живыми
людьми, а не бесплотными видениями, не хмурыми призраками и об¬
реченными на заклание жертвами; Блок совершил открытие, необы¬
чайно важное для него, хотя оно и показалось бы явно наивным
нашему сегодняшнему читателю:...в новый мир вступая, знаю,Что люди есть, и есть дела...Открытие нового мира — мира дел, людей, подлинной, а не вы¬
думанной жизни — явилось великим в глазах поэта, жившего дотоле
своими фантазиями и иллюзиями, обрело огромное значение, стало
переломным в его творчестве. Вот это возрождение жизни, возвраще¬
ние к людям и было подобно чуду, которое поэт назвал «вторым
крещеньем», ибо на смену вере во всеобщую гибель пришла совершен¬
но иная вера — вера в жизнь, вера в человека, самого простого
я обыкновенного, а вместе с тем великого и прекрасного, и этой вере,
придавшей новый смысл и новую направленность лирике Блока, поэт
не изменял до конца своих дней.В дни революции 1905 года в лирике Блока впервые с такою
последовательностью возникают гражданские мотивы и темы; он го¬
ворит о «сытых» с ненавистью и отвращением, как о враждебных ему
людях:Они давно меня томили:В разгаре девственной мечты
Они скучали, а не жили,И мяли белые цветы.«Сытые» внушают поэту омерзение именно тем, что в них Ее
осталось ничего подлинно человеческого; все их внутренние силы
посвящены накоплению и защите неправедно нажитого добра; они
негодуют на восставший народ, не желающий больше мириться с ни¬
щетой, бесправием, беспросветным горем, и поэту ясно, в чем источ¬
ник их недобрых чувств, их яростного гнева:Так — негодует все, что сыто,Тоскует сытость важных чрев:Ведь опрокинуто корыто,Встревожен их прогнивший хлев!130
Им ничего и не нужно, кроме своего «прогнившего хлева», кроме
своего благополучия; вот почему для них так страшны...мольбы о хлебе
И красный смех чужих знамен!Таким языком заговорил певец Прекрасной Дамы в дни ре¬
волюции 1905 года, и это не могло не встревожить и не шокировать
его недавних друзей и поклонников!«Человек, который берет хотя бы самый малый процент, это ужэ
пе человек, а зверь...» — говорит столяр Редька в повести Чехова
«Моя жизнь», и так поэт изображает отныне тех «сытых», которым
адресовано одно из самых гневных и беспощадно обличительных его
стихотворений.Революция вдохнула в поэта дух мятежа против привилегирован¬
ной верхушки общества, и в стихотворении «Ангел-Хранитель» oei
по-лермонтовски мятежно «благодарит» своего «ангела-храиителя»
за все то, что отравлено для него горечью, что порождает в его душа
самые острыо и непримиримые противоречия; за то, говорит поэт,—...что я слаб и смириться готов,Что предки мои — поколенье рабоз,И нежности ядом убита душа,И эта рука не поднимет ножа... —•не поднимает протиз тех, «кто так унижал мой народ и меня», против
тех, —Кто запер свободных и сильных а тн>рьмуг
Кто долго не верил огню моему.Кто хочет за деньги лишить меня дняа
Собачью покорность купить у меня...Этих людей ненавидит поэт, против пих оп готов бороться во имя
свободного, раскрепощенного человека, не знающего нужды, униже¬
ний, страха.Крайне существенно и то, что большая патриотическая тема, тема
родины и ее судеб, входит в лирику Блока одновременно с темой
революции, захватившей поэта до самых потаенных глубин его душа
и породившей строй совершенно новых чувств, переживаний, стрем¬
лений, возникавших словно бы при грозовых разрядах, в их ослепи¬
тельном свете, — и отныне тема родины становится в творчестве Блока
основной и главнейшей.Одно из самых примечательных его стихотворений той поры,
написанных в дни революции 1905 года и вдохновленных ею, — «Осен¬
няя воля». В этом стихотворении, за которым последует и огромный
но своему внутреннему значению и художественному совершенству
цикл «Родина», глубоко и властно сказались те переживания и раз¬
думья поэта, какие придали его лирике новые и необычайно важные
черты.131
Все та же, прежняя, а вместе с тем и совершенно иная красота
родной'земли открылась поэту — в самой неприметной для «инопле¬
менного взора» равнине, не поражающей ни яркими цветами, ни
пестрыми красками, спокойной и однообразной, но неодолимо при¬
влекательной в глазах русского человека, — как это остро почувство¬
вал и передал поэт в своем стихотворении, не случайно написанном
именно в 1905 году (ранее в его лирике мы схожих мотивов не заме¬
чаем) :Выхожу я в путь, открытый взорам,Ветер гнет упругие кусты,Битый камень лег но косогорам,Желтой глины скудные пласты.Разгулялась осень в мокрых долах,Обнажила кладбища земли,Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали...Казалось бы, все однообразно, привычно, издавна знакомо в этих
«мокрых долах», по в них поэт увидел нечто новое, неожиданное
и словно перекликнувшееся с тем мятежным, молодым, задорным, что
он почувствовал в себе самом; в строгости и даже скудости открыв¬
шегося перед ним простора он узнал свое, родное, близкое, хватающее
за сердце — и не смог не откликнуться на алеющий перед ним крас¬
ный цвет рябины, зовущий куда-то и радующий новыми обещаниями,
которых дотоле не слышал поэт. Вот почему он испытывает такой
небывалый подъем внутренних сил, и по-новому возникла перед ним
прелесть и красота полей и косогоров родной земли:Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах нропав!И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав...Поэт сам еще не ведает, куда манит его путь, «открытый взорам»,
но он знает: только на этом родном пути — его счастье или погибель;
•здесь его братья — это и тот, кто сейчас усмехнулся ему «в окно
тюрьмы», и распевающий псалмы нищий, и тот, с кем он будет отды¬
хать «под крышей кабака», слушая «голос Руси пьяной» (Лермон¬
тов),— пьяпой не только от вина, но и от избытка небывалых сил, от
предчувствия чудесных перемен, ожидающих ее.Вглядываясь в ее издавна знакомые, но по-новому близкие и до¬
рогие черты, ощущая единство с теми вольными людьми, которых
раньше сторонился поэт, он чувствовал кровное родство со слоим
народом, своей отчизной, и уже не леса «заповеданных лилий» возни¬
кают перед ним, а совсем другие, настоящие леса, поля, косогоры;
его манит пропадающий вдали путь, где встретится множество
русских, бесстрашных, свободолюбивых, не подвластных унынию
и отчаянию людей, в чьей судьбе поэт видит и свою собственную
СуДьбу — неприкаянную, трудную и прекрасную. Именно об этом
с1 какой-то вдохновенпой радостью, светлою грустью и необычайной132
широтой, словно вмещающей весь родной простор, говорит qqar
в своей «Осенней воле»:Запою ли про свою удачу: Как я молодость сгубил в хмелю...Над печалью нив твоих заплачу,Твой простор навеки полюблю...Много нас — свободных, юных, статных —Умирает, не любя...Приюти ты в далях необъятных! 'Как и жи1ь и плакать без тебя!Это — первое стихотворение, являющееся словно бы вступлением
к циклу «Родина», в котором Блок исповедуется в великой и непрехо¬
дящей любви к отчизне; отныне эта любовь становится навсегда
неугасимым чувством, опаляющим сердце поэта и его творчество,
неизменно примешивающимся к каждой ммоли, К каждому пережи¬
ванию—: ведь по напрасно он говорит, обращаясь к родине:, «Как
и жить и плакать без тебя!»Для него это и поистине отныне невозможно и непредставимо.Так по-новому, в бурщх, и грозах революции, открылись, цоату
красота родной земли, мощь ее народа.Если вдуматься в смысл и характер таки*. стихотворений,, к.ак
«Осенняя воля», то станет очевидно, как много нового увидел, .црэг
в дня революции, как полно и многосторонне менялось в это,.«вели¬
кое время» его отношение.к жизни, к людям, к.родине..В его сознания
все рождалось вместе и одновременно: и понимание великого значе¬
ния революции, и вспыхнувшая новым светом .• i любовь - к родина,
и ощущение мощи и красоты рабочего как выразителя народного духа,
народных чаяний; все это и открылось Блоку 7 в дни революции
1905 года.Утратрв прежнюю юношескую восторженность и идиллическую
созерцательность, поэт чувствовал, как под цапрром ноцых жизнетщ.к
сил, новых веяний рущцтся ограда его «белого дома», и даже в чро
сны врывается что-то новое, тревожное, грозное, дышащее настоящей
и земной страстью, чуждой прежней отвлеченной и бесплотной..мечта¬
тельности. . .. ,.,.Сама любовь преобразилась в лирике Блока в это время; она ущэ
утратила облик Прекрасной Дамы, призрачной «Владычицы вселен¬
ной», она обратилась в один из самых прекрасных образов Ибсена ,-г
Сольвейг, имя которой— как сияние солнца, весны, потоков весеннего
света, и ей посвящено радостное, праздничное, торжественное стихот¬
ворение Блока, означающее совершенно новые мотивы в его любовной
лирике.Поэту кажется: это к. нему прибегает она на лыжах, в ней вопло,-
щена вся радость жизни, вся прелесть ранней весны, вся красота
мира, и в его душе, словно бы охваченной весенним цветением, про¬
буждаются источники новых творческих сил, и любой подвиг ему по
плечу, когда Сольвейг — рядом с ним:133
Я смеюсь и крушу вековую сосну,Я встречаю невесту — весну!.;Герой этих стихов чувствует в себе прилив безудержных, весен¬
них, раскованных сил, и его песня любви становятся торжествующим
гимном человека, осознавшего свою великую и неизбывную мощь,
перед которой нет неодолимых преград.Здесь все сплелось воедино — и чувство такой любви, которая
словно бы озаряет весь мир, и жажда творческой деятельности, боль¬
шого дола, равного подвигу, и гордое сознание неисчерпаемого богат¬
ства своей души, неизмеримости своих внутренних сил.Па пути Блока «от личного к общему» (как скажет он потом)
1905 год сыграл решающую и переломную роль. Именно в дни рево¬
люции поэту стала очевидной беспомощность детских, отвлеченно¬
мечтательных представлений о мире и жизни, так же как и «апока¬
липтических» видений и «неохристяанских» вещаний.Правда, далеко не все уроки революции Блок усвоил достаточно
глубоко н основательно; он видел в революции взрыв сил исключи¬
тельно стихийного порядка, и в зтом мнении его укрепляли
высказывания многих близких ему в то время литераторов.Во вступлении к своей кпнге «9 января», составленной «по данным
анкетной комиссии» (1907), одна из писательниц либерально-бур¬
жуазного лагеря — J1. Гуревич (Блок читал ее книгу весьма внима¬
тельно и сочувственно) говорила:«...значение событий 9-го января неизмеримо важно. В этот день
совершился мгновенный и великий переворот в душе и понятиях
столичной рабочей Массы».Этот переворот, с точки зрения J1. Гуревич, заключался в том, что
революционное движение рабочего класса, бывшее дотоле «узким»
в «партийным», приобрело широкий, стихийный характер; она так
и уверяла:«...с этого дня не избранные борцы только, не вожаки, не партий¬
ные люди, но именно масса, до тех пор наивная, поняла, что «до¬
биться правды» на Руси можно только путем борьбы. Русская револю¬
цию перестала быть достоянием сознательных верхов и стала
разливаться по всей стране, переходя в глубоко стихийное движение».Конечно, такое противопоставление «партийных людей», «созна¬
тельных верхов» — массам, представление о революции 1905 года как
об исключительно стихийном движении, чуждом какой бы то ни было
'организованности и сознательности, являлось в корне ошибочным, не
отвечало реальному положению вещей. Но следует подчеркнуть, что
книги, подобные брошюре JI. Гуревич, производили на Блока немалое
впечатление именно потому, что и сам он видел в революции, в со¬
гласии со своими идеалистическими — и чуждыми политической
ясности и зрелости — воззрениями, так же как в любой области об¬
щественной или личной жизни, прежде всего стихию, ничем не отли¬
чающуюся от стихийных сил самой природы, и любое крупное
и широкое движение понимал как движение стихийное.В революции поэт видел силу, подобную буре, грозе, землетрясе-134
иию, обвалу в горах; вот почему отныне всякая стихийная сила,
чреватая — в глазах поэта — революцией и несущая ее в себе, захва¬
тывала и увлекала его, казалось ему силой не только истинно пре¬
красной, но и единственно жизненной; ко всем другим — не стихий¬
ным—силам он относился спокойно и равнодушно, а то и пренебре¬
жительно, как к чуждым духу «музыки» (понимаемой поэтом
в гораздо более широком, чем чисто профессиональный, смысле этого
слова). Так Блок стал певцом стихии, стихийного начала, что по-
своему определило и стихи, составляющие цикл «Пузыри земли»
(1905), пронизанные духом пантеистического прославления и воспе¬
вания стихий природы, в которой все оживает на глазах поэта, вса
ему близко и дорого, — и первая трава, пробивающаяся сквозь
жесткий покров земли, и вершины зубчатого леса, дышащие
«ленивым и белым размером весны», и «весенние твари», созданные
словно бы из воздуха и готовые раствориться в нем. Все эти нежные,
хрупкие и чудесные «пузыри земли» живут какой-то странной,
удивительной, стихийной жизпыо; они подобны брызгам ручья, ку¬
сочкам света, клочкам тумана, они внезапно возникают перед нами,
пляшут в сиянии солнца или исчезают в ночном сумраке, готовые
мгновенно изменить свой облик, без следа раствориться в породившей
их бессмертной стихии, — и это к ним обращается поэт со словами
радостного привета и сердечного сочувствия:Вы зеленые, крепкие, малые,Твари милые, небывалые...Среди этих тварей — светлячков, лягушек, болотных чертеняток,
которые видятся поэту в сплетении ветвей, шорохе трав, пляске бы¬
линок, — ему мерещится и некий «болотный попик», созданный его
воображением и благослозляющий все сущее на земле:«Душа моя рада
Всякому гаду
И всякому вверю
И о всякой вере...»Просторы родной земли возникают перед поэтом в своей дивной
красоте, в которой ему слышится аов незримой «золотой трубы»; в ее
пении — голос земли, ее природы, самих бессмертных стихий, и этот
голос отныне никогда не замолкает в ушах поэта.Какую бы тему творчества Блока мы ни взяли, мы видим, что
в дни революции она обрела совершенно новый характер, ибо изме¬
нился и весь строй переживаний и воззрений поэта. Одна из его
стихотворных записей, относящихся к тем дням, свидетельствует,
какой огромный и. радостный мир раскрылся перед поэтом в очисти¬
тельных ливнях и грозах революции:Свободны дали. Небо открыто.Смотрите на нас, планеты,Как наше веселое знамя развито,Вкруг каждого лика — круг из света-135
Мы все, как дети, слепнем от света,И сердце встало в избытке счастья.О нет, не темница наша планета:Она, как солнце, горит от страсти!И Дева-Свобода в дали несказанной
Открылась всем — не одним пророкам!Так все мы — равные дети вселенной,Любовники Счастья...В этих ломающихся, словно весенние льдины, радостно кричащих
строках сказался наплыв новых безудержных чувств, и они прониза-:
Tibi горделивой верой в то, что только революции суждено обновить
лик земли и принести счастье всем «детям вселенной».Вскоре те же чувства и настроения, жажда увидеть и познать
жизнь во всех ее проявлениях, хотя бы самых бурных и грозных,
пробьют себе дорогу в новых стихах поэта, придавая им небывалую
дотоле страстность, напряженность, какую-то ликующую безудерж¬
ность, мощь, широту,— и нет предела и преграды всему тому весен¬
нему, грозному, что захватило поэта и песет его с собой, подобно
наводку, на своих высоких, сверкающих волнах.Ему казалось: весь мир готов переплавиться в пламени его
любви, страсти, мечты,— и он восклицает в каком-то самозабвенном
упоении:О, весна без конца и без краю —Без конца и без краю мечта!Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!И приветствую звоном щита!Поэта переполняет такой восторг перед'жизнью, что вся она —
в любом ее проявлении — предстает перед ним прекрасной и' дивной','
достойной самых пылких и восторженных признаний и гимнов:Принимаю тебя, неудача,И удача, тебе мой привет!В заколдованной области плача,В тайне смеха—позорного нет!..Принимаю пустынные веси!И колодцы земных городов!Осветленный простор ноднобесий
И томления рабьих трудов!..Ни от чего не может и не хочет он отречься, все переживает
в радостном и напряженном сиянии, таком ослепительном, что в этом
свете не остается ничего темного, жалкого и мелкого; его охватывают
новые и необычайно важные переживания — такие значительные, что
они намного перевешивают любую боль, обиду, : беду, придают им
какой-то высший смысл.И смотрю, и вражду измеряю*Ненавидя, кляня и любя:За мученья, за гибель — я знаю —Все равно: принимаю тебя!136
Так говорит поэт в цикле «Заклятие огнем н мраком», захвачен¬
ный и опьяненный «хмельной мечтой» и еще не чувствуя похмелья
(которое вскоре настанет); в этих стихах обнажается душа, широко
открывшаяся навстречу «всем впечатленьям бытия», жадно впиты¬
вающая их и не остерегающаяся ни одного из них — даже самого
мучительного или же гибельного.Поэт отныне «принимает» жизнь в ее самых острых, резких,
кричащих противоречиях, но не отбрасывает и щита, ибо эта жизнь
чужда недавней отвлеченной мечтательности, идиллической безмя¬
тежности, молитвенной созерцательности. В ней много сложного,
трудного, мучительного, а то и темного, — вот почему поэт «прини¬
мает» ее не как юноша, которому она представляется в зыбки*
и смутных очертаниях, «в тумане утреннем», а как борец, вооружен¬
ный щитом и мечом, знающий, что жизнь —это не тихие «елисейские
пиля»,..а «вечный бой», как скажет он впоследствии. Из «безвре¬
менья», в котором поэт пребывал доселе, он хотел ворваться «во
время», точное говоря —в современность, со всеми ее страстями,
грозду и, мятежами.Как видим, революция изменила весь строй чувств и пережива¬
ний поэта, отношение к жизни, понимание творчества и его назначе¬
ния; но: нельзя забывать, что Блок находился в стороне от передового
общественного и политического движения своего времени, — вот что
существеннейшим образом ограничивало его кругозор и делало от¬
влеченным его понимание революции и во многом беспредметной
самую критику уродств и преступлений ненавидимого им помещичье-
капиталистического строя.Характерно в этом отношении стихотворение .«Митинг», в.котором
поэт пытается запечатлеть одну из картин 1905 года; здесь и оратор,,
который говорит «умно и резко», призывая рабочие массы к восстав,
нию, и окружившая его и внимательно слушающая толпа, и его
гибель, и взведенные курки царских солдат, посланных разогнать
митинг, — но здесь же штрихи конкретные, зримые становятся
«знаками» и символами иной, внематериальной .Жизни; «тягостной
свободе», к которой призывает оратор, поэт противопоставляет
«небесную» свободу, — но ее можно добиться только в ином, нездеш¬
нем мире:...в тищине, внезапно вставшей,:Был светел круг лица,.. Был тихий ангел пролетавший,. . : :И радость — без конца., .И были строги и спокойны
Открытые зрачки,Над ними вытянулись стройноБлестящие штыки. «. ».Как будто, спрятанный у входа
За черной пастыо дул,Ночным дыханием свободы
Уверенно вздохнул.137
Конечно, перевод борьбы с силами реакции и самодержавия из
плана социально-конкретного в план отвлеченно-мистический, где
якобы только и можно добиться абсолютной «ночной свободы»,
крайне ослаблял позицию поэта в этой борьбе (что и говорит о сило
и живучести его идеалистических воззрений).В описаниях самой природы в стихах Блока, относящихся
к 1905 году, подчас еще сказывается растерянность поэта, горькое
чувство утраты былых идеалов и неумение обрести новые; так порож¬
далось у него ощущение «тихой пустоты», куда он и приглашает
«болотных чертеняток» («Пузыри земли»):И сидим мы, дурачки,Нежить, немочь вод,Зеленеют колпачки
Задом наперед...Такие стихи свидетельствуют о тоске поэта по «чьей-то глубине»,
забытой, а может быть, и никогда не ведомой ему, так и не найденной,
что обрекало его—-как казалось ему—на судьбу бездумных, мгновен¬
но, и бесцельно исчезающих «пузырей земли», словно бы приравнива¬
ло его к ним, — и приступы такой же тоски, отчаяния, чувство утраты
«правого пути», бессмысленности своего существования поэт будет
испытывать и впоследствии, а особенно тогда, когда окружающая
жизнь станет слишком мрачной и невыносимой.У Блока было немало заблуждений, предрассудков, пережитке я
прошлого, но все же не им принадлежало решающая роль в его
творчестве, о чем свидетельствует хотя бы только то, что отныне ни
разу мы не найдем здесь ни одной строки, в которой обнаружилось бы
пренебрежительное или хоть в какой бы то ни было степени высоко¬
мерное отношение к трудовому народу, к рабочему человеку. В словахо нем у поэта неизменно проявлялись огромное сочувствие и самое
высокое и безусловное уважение, как бы ни был забит и унижен этот
человек. Ие найдем мы в позднейшем творчестве Блока ни одной
строки, в которой оправдывались бы и воспевались привилегии иму¬
щих и господствующих, «цензовых» классов,— зато многие страницы
его произведений насыщены страстной, непримиримой ненавистью
к «сытым»; это и говорит о том, на чьей стороне общественные симпа¬
тии поэта, носившие не случайный, а осознанный и решительный
характер, заставлявший его — при всех присущих ему противоречиях
и предрассудках — быть на стороне революции, чувствовать себя
заодно с революционным народом (что с предельной ясностью сказа¬
лось в дальнейшем, в дни Октября). Блок навсегда запомнил уроки
революции, которую впоследствии так торопливо пытались «забыть»
недавние его друзья (что разделило их и самого поэта «огневою чер¬
той», с годами обозначавшейся все глубже и явственнее).Если раньше чувство катастрофичности и «гибельности» поэт
распространял на весь мир, то следует подчеркнуть, что и а это чувст¬
во революция внесла существеннейшую поправку: Блок понял (хотя
и со всей свойственной ему противоречивостью и непоследователь-133
мостыо), что гибель угрожает не всему миру (как ему дотоле каза¬
лось), а лишь враждебным народу кругам и слоям, строю насилия
и угнетения.Все это в корне изменило характер воззрений и переживаний
поэта и самым существенным образом отозвалось в его творчестве, —
«от почему Блок неизменно относил революцию 1905 года к важней¬
шим событиям своей жизни, «особенно глубоко» повлиявшим на него.Да, если бы не революция, не ее освежающее и грозовое дыхание,
поэт не мог бы найти спасения от отрав декаданса, религии, мистики,
какие он сам испытал на себе; если бы не революция, он не нашел
(ii.i выхода из тех «бездн», куда приглашали его Мережковский и дру¬
гие проповедники «неохристнанства» и на которые он еще так недавно
хотел «опереться» (как читаем мы в его юношеском дневнике).
Революция вдохнула в него непоколебимую веру в народ, в его неиз¬
меримые силы и огромное будущее; вот что спасло Блока как человека
и поэта, открыло перед ним новые и неисчерпаемые источники твор¬
чества и вдохновении.Революция, заставившая Блока взглянуть «в лицо проснувшейся
жизни», отбросить «апокалиптические» чаяния и ужасы, вздохнуть
воздухом освободительной борьбы, и породила его как поэта великого,
намного обогнавшего в своем творческом росте п развитии соратни¬
ков и собратьев но символизму и создавшего произведения, состав¬
ляющие одно из самых значительных и неоценимых достоянйй
русской поэзии.
«БЕЗ ВОЗВРАТА,..»I. «АПОКАЛИПСИС В РУССКОЙ ПОЭЗИИ»То мечты, фантазии, образы, которые поэт вынашивал в своей
душе, слагая гимны, обращенные к возлюбленной, наделяя ее всеми
атрибутами божественного и нетленного существа, уже словно бы
носились в окружающей его атмосфере, являлись достоянием худож¬
ников, отстаивавших и проно>ведовавших «новое, искусство», новую
религию. Вот почему Блок, выйдя из своего уединения и «затишья»,
сразу же оказался в той литературной Среде, которая тотчас же под¬
хватила его стихи и пустила их в ход как нечто свое, принадлежащее
не только самому поэту, по и целому течению, именовавшемуся
«декадентством», «модернизмом», «символизмом»1. Поэт видел себя уже
не одиноким мечтателем, а срёди единомышленников и соратников,
с которыми завязывались на ряд лея' более или менее близкие,
«союзнические», а то и весьма дружеские отношения (здесь следует
упомянуть таких поэтов-символистов, как Валерий Брюсов, Зинаида
Гиппиус, Вячеслав Иванов, Сергей Соловьева — особенно — Андрей
Белый, который видел в лице Блока «брата, посланного в пути», как
говорил он впоследствии в своих воспоминаниях). •Стихи Блока, впервые начавшие публиковаться с 1903 года, вы¬
звали самые многообразные и противоречивые отклики—■ от преуве¬
личенно восторженных и неумеренно пылких до насмешливо-
уничижительных, оскорбительно-издевательских, но, как правило,
"и в тех и в'других не чувствовалось истинного понимания существа
: и характера лирики Блока.Черносотенно-бульварная газета «Знамя» откликнулась на стихи
Блока, опубликованные в журнале «Новый путь» (1903, N» 3), сле¬
дующим образом: . ! ...«Стихотворения Откуда-то выкопанного поэта Ал. Блока (хорошо
еще, что хоть не Генриха Блока1), — набор слов/ оскорбительных
й для здравого смысла и для печатного слова.:. Новый путь в старую
больницу для умалишенных...» (см. «Письма к родным», т. I, ст.р: 31-9).Еще более глумливо отозвался на стихи Блока журнал «Миссио¬
нерское обозрение», призванный помогать распространению благо¬
честия, праведности и заветов православия. Ознакомившись со стиха¬
ми дотоле неизвестного поэта и статьями поборников «неохристйан-1 «Генрих Блок» — банкирская фирма.140
ства», служители церкви из «Миссионерского обозрения» необычайно
развеселились и, тряхнув бурсацко-семинарской стариной, сочинили
весьма фривольный «чин богослужения», названный ими «Дека¬
дентской литургией» (1903, № 9).Авторы «Декадентской литургии», в которой пародировались
писания некоторых «иовопутейцев», немалое место' уделили изобра¬
жению храма, где могли бы воплотиться призывы «неохристиан»,
проповедовавших соединение «святого духа» и «святой плоти»:«Храм должен быть украшен совне эмблемами плоти... образцы
можно позаимствовать хотя бы в откопанной Помпее. Вместо креста
доставить статую Венеры. Окрасить храм в цвет обложки «Нового
пути» (обложка—одиотопно-лиловатого цвета. — В. С.). На входной
двери вывесить в стихах объявление:Перед всезрящшщ очами Господа
Одежда — «грех Анании и Сапфиры»;Скрывать от Господа святое дело «но чистосердечно», —13 храме таком — скидайте все и все одежды».Далее авторы «Декадентской литургии» приступали к описанию
самого «чина богослужения», отправляемого в «неохристианском»
храме:«...литургия открывается увертюрой из «Руслана и Людмилы».
Следуют: чтение «Песни Песней», «Апокалипсиса» и сказаний о древ¬
них героях. Музыка Моцарта с поправками «новых христиан».
Декламирование стихотворений Блока и Гиппиус. Поучение о «свя¬
том сладострастии». Исполнение в храме «благословенного» чадородия
и т. п.» (ехидные слова о «благословенном чадородии», происходящем
в храме, — это намек на статьи В. В. Розанова, опубликованные
в журнале «Новый путь».— B.C.).В заключение «Декадентской литургии», по словам «Миссионер¬
ского обозрения», следовали «Марсельеза» и одевание; здесь служи¬
тели православной церкви изображали ненавистных им «новых
христиан» как проповедпнков разврата и чуть ли не зачинщиков
революции — что было явно облыжным обвинением, ибо революция
страшила идеологов «нового христианства» ие меньше, чем отцов
церкви. Но здесь важно подчеркнуть, что имя Блока сразу же при
своем появлении в литературе стало предметом ожесточенной распри
и поношений, подчас совершенно непристойного характера. Это те
грубости, которые «доходят до какого-то победоносно-семинарского
ржания» (говоря словами Достоевского), и это «ржание» весьма
явственно раздалось со страниц журнала «Миссионерское обозрение»,
вызванное пронизанными тончайшим лиризмом стихами о Прекрас¬
ной Даме...Весьма характерен и критический отклик на стихотворение
Блока «Из газет», опубликованный в газете «Варшавский дневник»
(1904, №179) — в том городе, где университетскую кафедру государ¬
ственного права занимал отец поэта, А. Л. Блок. Процитировав сти¬
хотворение «Из газет», автор статьи спрашивал:141
«Видите? — это уже какой-то сюсюкающий юродивый. Вот что
называется — ни складу, ни ладу. Я не говорю уже об отсутствия
смысла. Я не говорю уже о том, что здесь нет даяед и намека на
стихи, так как прежде всего нот размера, тональности, хотя бы
примитивной музыки. Посмотрите только на рифмы. II ведь это чело¬
век, претендующий, как модернист, как импрессионист, прежде всего
на красоту...»С негодованием отвергая эти «претензии», автор «Варшавского
дневника» разражается гневной филиппикой как в адрес Блока, так
и редакторов, публикующих подобные стихи:
t «Если это не мистификация, если это не шутка досужего борзо¬
писца, то — не знаю как вас, а меня это оскорбляет; меня оскорбляет
наглое глумление, издевательство над здравым смыслом и над читаю¬
щей публикой. Хотелось бы мне спросить и гг. редакторов: за кого же
вы нас-то считаете, грамотных людей? Если бумага все терпит, если
гг. стихотворничающие юродивые желают забавляться и ломаться, то
вам же надо отнестись внимательнее и серьезнее к своей задаче. Не
забудьте, что вы поставлены на страже родной литературы, — а вы
позволяете разным гаерам выкидывать неприличные шутки в храма
родноро искусства...»И заключается эта исполненная «благородным пафосом» тирада
тем возгласом, с которым строгий наставник обращается к провинив¬
шемуся школьнику:«Стыдно!»Да, людей, ищущих в стихах прежде всего «красоты», воспитан¬
ных на произведениях Ратгауза, Голенищева-Кутузова, Аполлона
Коринфского и прочих эпигонов, такое стихотворение, как «Из газет»,
доводило до белого каления, ибо оно являлось дерзким вызовом лю¬
бителям «изящества» и «благообразия»; в нем и поистине не было
тощ «складу и ладу», который ласкал бы их слух.;. Конечно, в глумлении над Блоком (как и над всем новым и жи¬
вым, что появлялось в русской литературе того времени) всех пре¬
взошел Буренин в своей статье «Новые плоды декадентства»,
опубликованной в газете «Новое время» (1904, 7 ноября).. Посоветовав «Бальмонтам и Брюсовым» «...нацепить себе жернов
на шею и броситься в пучину морскую, чем сочинять фальшивые
вздоры...» (и это после того, как Брюсов и Бальмонт издали приме¬
чательные в русской поэзии книги, вызвавшие живой и горячий от¬
клик у молодежи, неравнодушной к поэзии!) Буренин особое и сугубо
пристрастное внимание уделил одному из «малых сил», «соблазнен¬
ных» ими (в духе декадентства!) — Александру Блоку, опубликовав¬
шему свои стихи в «психиатрическом приюте» (как назван здесь
альманах «Гриф»). Цитируя эти стихи, пронизанные болью и горечью
за всех униженных и обездоленных(Вечность бросила в город
Оловянный закат.Край небесный распорот.Переулки гудят...142
Оловянные кровлиВсем бездомным приют.В отот город торговли
Небеса не сойдут...),—1>уренин не находил в них ничего, кроме «рифмованной бессмыслиц)!*
человека, который «...бросает нарочно в лицо читателям рифмован¬
ную чепуху» (чтобы хоть как-то и чем-нибудь обратить на себя
внимание!), а в заключение своих совершенно вздорных выходок на
адресу Блока восклицает с наигранным соболезнованием: «Бедный
< вихнувшийся графоман!»Так издевательски толковали о стихах Блока и их авторе на
страницах желто-бульварной и реакционной прессы.О том, как в старых московских семьях, верных духу старинного
благолепия, встречали творческие начинания Блока, в остросатириче-
ском духе рассказывает Марина Цветаева, вспоминая один из даввих
визитов своей тетки.«-- Последние времена пришли, — кипела она, — какой-то Алек¬
сандр Блок (что за фамилия такая? Из жидов, должно быть!) сочинил
«Прекрасную Даму», уж одно название чего стоит, стыда нет!
Раньше тоже-про дам писали, только не печатали, а в стол прятали,—
разве что в приятельской компании...» (Марина Цветаева. «Проза».
Нью-Йорк, 1953, стр. 287).С такого рода «пониманием» своих стихов Блок в молодости
встречался сплошь да рядом!Конечно, совсем по-иному оценивали раннюю лирику Блока
сторонники «нового искусства», символисты, — хотя и здесь не было
единства в понимании ее существа и значения в судьбах русскойПОЭЗИИ.«Старшие» символисты, открывшие Блоку дорогу в «большую»
печать (3. Гиппиус—в журнал «Новый путь», В. Брюсов —в сборшш
«Северные цветы»), относились вначале к его творчеству довольно
сдержанно. В. Брюсов долгое время полагал, что Блок и вообще «но
поэт», и уже после выхода книги «Стихи о Прекрасной Даме» спраши¬
вал Белого в открытом письме: «...неужели Блок более являет собой
русскую поэзию, чем Бальмонт?..» (как полагал Белый) — н не без
иронии в адрес Блока заявлял, что предпочитает «быть исключенным
из представителей современной поэзии, вместе с Бальмонтом, чем
числиться среди них с одним Блоком...» («Весы», 1905, № 5, стр. 38).Только потом, после опубликования «Балаганчика», «Снежной
маски», «Нечаянной радости», оценка творчества Блока Брюсовым
существенным образом изменилась. Сначала же образ слишком
бесплотной Прекрасной Дамы оставлял Брюсова явно равнодушным
(не случайно, прославляя «земную любовь», он скажет впоследствии
в своих стихах:Ах, за мгновенье под свежей сиренью
С милой — навек я отдам
Слишком привычных к нездешнему пенью
Оных мистических Дам:..).Ш
Если Брюсова при ознакомлении с ранней лирикой Блока смуща¬
ли-и расхолаживали ее отвлеченно-мечтательные, мистические и мо¬
литвенно-религиозные мотивы и настроения, то Зинаида Гиппиус
(нод псевдонимом «X») критиковала в «Новом пути» первую книгу
Блока именно за отсутствие той «истинной» религиозности, какую
отстаивал сей «неохристианский» журнал. В своем неопределенном
и двойственном отзыве она прежде всего задавала вопрос: кто та
«Дама», о которой говорит поэт? — и ие могла найти на него желае¬
мого ею ответа.«Воздушная мертвенность, русалочный холод есть в этих, таких
далеких, слишком далеких земле песнях о слишком призрачной
«Прекрасной Даме». Это по Sancla Rosa, это обычная лилия; это но
только пе Мать-Дева, по уже почти и по Дева...» И автор отзыва се¬
товал на то, что поэт «слишком растворился в эстетике и мистике»,
что его книга «мистична, но отнюдь не религиозна...», а его мистика
«безбожествениа...» («Новый путь», 1904, № 12).Отсутствие религиозности являлось, с точки зрения 3. Гиппиус,
тою опасностью, от которой она (склоняя поэта к «неохристианству»)
и старалась его предостеречь.Ее муж, Д. Мережковский, вообще «не воспринимал» лирику
Блока и в первые годы знакомства с нею (да нередко и впоследствии)
ограничивался насмешками над стихами Блока и их автором (о чем
свидетельствуют воспоминания 3. Гиппиус, А. Белого, да и статьи
самого Мережковского).Что же касается «младших» символистов, то они воспринимали
поэзию Блока гораздо менее критически, если не восторженно.В своих воспоминаниях о Блоке Андрей Белый сообщает, что уже
в 1902 году «в Москве образовался кружок (небольшой) горячих
ценителей Блока; стихотворения, получаемые Соловьевыми (от Бло¬
ка.— />’. С.), старательно переписывал я и читал их друзьям и универ¬
ситетским товарищам, стихотворения эти начинали ходить по рукам;
так молва о поэзии Блока предшествовала появлению Блока в печа¬
ти...» («Эпопея» № 1, стр. 157).О том, как восторженно встретили стихи Блока московские
поэты—символисты и мистики, свидетельствует и С. Соловьев в пись¬
мах к Блоку; так, в сентябре 1903 года он сообщает, говоря о своем
ближайшем друге и единомышленнике — Андрее Белом:«О твоих стихах он такого мнения: «Вся современная поэзия, до
Брюсова и Бальмонта включительно, перед Блоком стушевывается...»
(ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 408, стр. 32), — и такого рода оценку
стихов Блока вместе с Белым разделяли и многие другие «младшие»
поэты-символисты.В некоторых кружках декадентов и мистиков, таких, как «Арго¬
навты» (группа, объединявшаяся вокруг Андрея Белого), стихи,
'посвященные Прекрасной Даме, были восприняты ие только — и не
столько — как лирика, а как некое откровение, как скрижали нового
•завета и нового религиозного культа — культа «вечной женственнос¬
ти»1 или апокалиптической «Жены, облеченной в солнце» (именно па144
таком понимаиии стихов о Прекрасной Даме и настаивал с особым
рвением и ожесточением Андрей Белый).В программном для «Аргонавтов» цикле стихов «Золотое руно»
(1903) Андреи Белый взывал:Пожаром склон неба объят...И вот аргонавты нам в рог отлетаний
трубят...Внимайте, внимайте...Довольно страданий!Броню надевайте
из солнечной ткани!..Все небо в рубинах.Шар солнца почил.Все небо в рубинах
над нами.На горных вершинах
наш Арго,
наш Арго,готовясь логоть, золотыми крылами
забил...Здесь каждое слово — иносказательный «знак», иероглиф, символ,
понятный лишь для «посвященных» в тайны «нового века», «зорь»,
«свечений», — и иные «аргонавты», внимая этим призывам, готовились
покинуть землю и все земное, причалить на своем «Арго» к некиим
«блаженным островам», на которых вся жизнь превращена в обряд
и мистерию.Андрей Белый в книге «Начало века», обращаясь к тем давним
временам, когда он начинал свой литературный путь, писал об «арго-
иавтизме» как о явлении, существенно отличавшемся от символизма
прежних времен, для которого наиболее характерны имя Брюсова
и отстаиваемые им позиции «чистого искусства», преимущественно
формального новаторства.Белый утверждал, что в «аргонавтизме» была «иная тональность»
в оценке и понимании произведений, связанных с символизмом,
«резко отделявшая нас от «старших», от литераторов и поэтов,
группировавшихся вокруг Валерия Брюсова... Там провозглашал!!
символизм как литературную школу, главным образом связанную
с традициями французских поэтов. У нас символизм понимался шире,
но неопределеннее... Проблемы школы не интересовали нас... — про¬
должает здесь же Андрей Белый, — нас интересовала проблема новой
культуры, и нового быта, в котором искусство — наиболее мощный
рычаг...» («Начало века», стр. 107).Здесь Андрей Белый, верно отмечая водораздел, отделявший
«аргонавтов» от «старших» символистов, дает слишком смутное и не¬
достаточно ясное представление о характере «аргонавтизма», чьи
поиски «новой культуры» и нового быта были окрашены — и весьма
определенно — в тона религии и мистики.Члены таких кружков, как «Аргонавты», почитали себя особо
«избранными»; им казалось, что они видят ту «зарю» (толкуемую как
наступление некоей новой эры—-эры «Царства Духа» и «Третьего6 Заказ 534145
завета»), которую не видят другие,— о чем н говорит Белый в своих
воспоминаниях о Блоке:«Появляются вдруг видящие зарю и не видящие. Видящих было
мало. Они чувствовали друг друга издалека, образуя собою никем не
установленное братство ведающих о великом событии близкого време¬
ни, о драматической борьбе света и тьмы...» (журнал «Записки мечта¬
телей» № 6, стр. 10), — и к числу этих «ведающих» особо избранных,
кому доверены ключи божественной тайны и откровения, «аргонав¬
ты», ' вне всякого сомнения, относили и Блока, ибо кто же глубже
и полнее ощущал «слом времени» и наступление «новой эпохи», чем
певец Прекрасной Дамы?!Чтобы судить о том, какое впечатление произвели стихи Блока
в среде молодежи «соловьевского» толка, достаточно ознакомиться
с воспоминаниями Андрея Белого, посвященными Блоку. Впечатление
это «было ошеломляюще... — свидетельствует Андрей Белый, — было
ясно сознание: этот огромный художник — наш, совсем наш, он есть
выразитель интимнейшей нашей линии московских (в духе «соловь¬
евского» мистицизма. — Б. С.) устремлений...» (там же, стр. 15).Даже и личную жизнь Блока его ближайшие друзья рассматрива¬
ли в то время с точки зрения своих религиозно-мистических концеп¬
ций (что и оправдывало, как они полагали, их назойливое вмешатель¬
ство в семейную жизнь поэта). Андрей Белый, со слов С. Соловьева
(присутствовавшего на свадьбе Блока в качестве шафера), решил, что
природа Шахматова и Боблова, и погода, и свадебный обряд — «...все
было пронизано какою-то необычайною, непередаваемою атмосфе¬
рою...», что здесь «прозвучал звук эпохи, над которым мы медитиро¬
вали». Главное, — писал он далее, — «я понял одно, — что свадьба
А. А. Блока не есть обывательщина, а какой-то подход к разрешению
нами поставленных задач: соловьевство и тут присутствовало..,» (там
же, стр. 33), и именно как к началу осуществления и конкретизация
«соловьевства» относились к свадьбе Блока «непрошеные теоретики
воплощения сверхличного в личной жизни...» (говоря словами Андрея
Белого, — там же, стр. 31).В то время Андрей Белый пытался в «апокалиптическом» духе
трактовать каждый образ лирики Блока. Так, получив стихотворение
Блока «День был нежно-серый, серый, как тоска...» (1903), Белый
писал Блоку, что оно изумительно — «по глубинной реальности»,—
по и саму «глубинную реальность» он усматривал в родстве с веща¬
ниями и образами апокалипсиса:«...это «Может быть скатилась красная звезда» (в том же
стихотворении.— Б. С.) — изумительно. И скатилась, скатилась, испу¬
гала нас. «И увидел звезду, падшую с неба на землю и, дан был ей
ключ от кладезя бездн» (Откровение, IX, 1).Никого нет, кроме Вас, кто бы так изумительно реально указал
на вкравшийся ужас...» («Переписка», стр. 48).Эту «реальность» Андрей Белый находил в то время именно
в апокалипсисе, в приближении предреченных в нем времен, —о чем
и свидетельствовали, но его мнению, стихи о Прекрасной Даме.146
Вслед за Андреем Белым и другие «аргонавты» усматривали
в стихах Блока не столько лирику, сколько теософию, «знак зари»;
вот почему, как говорит Андрей Белый в своих воспоминаниях,
«аргонавты» восторженно относились к поэзии Блока.Но именно то, что Блока в кружке «Аргонавтов» принимали не
только — и не столько — как поэта, как лирика, но как «теурга», как
провозвестника некоей новой религии, и проложило «недоступную» —
и с годами все углубляющуюся — черту между Блоком и его почита¬
телями и поклонниками.Конечно, многое в стихах о Прекрасной Даме дает повод для
религиозно-мистического истолкования, но следует подчеркнуть, что
впоследствии, когда пришло время ясно определить собственное
понимание их, Блок решительно отказался расценивать свои стихи
как явление религиозной литературы или религиозное «откровение»
(на чем настаивали его ближайшие в то время друзья — Андрей
Белый и Сергей Соловьев) и утверждал, что это прежде всего и глав¬
ным образом лирика. В ней 1>лок высказал свои подлинные пережи¬
вания (хотя бы и выраженные подчас в крайне отвлеченной и мисти¬
фицированной форме); пусть многое в стихах о Прекрасной Даме
звучит молитвой, но эта молитва обращена не к некиим незримым
духам, а к возлюбленной, образ которой в глазах поэта обрел земное,
зримое воплощение, и именно ее готов он был обожествить в своих
молениях и призывах. Вот что видел прежде всего в стихах о Прекрас¬
ной Даме сам их создатель.Несомненно, что почитатели я поклонники Блока из кружка
«Аргонавтов» (и из других кружков мистически настроенной молоде¬
жи) восприняли стихи о Прекрасной Даме слишком односторонне,
видя в них лишь то, что отвечало духу мистико-религиозных
«исканий». Они не замечали их внутренней противоречивости, которая
ясно сказалась уже в первой книге Блока, разрушая некогда цельный
мир поэта и подготавливая появление таких его произведений, как
«Снежная маска» и «Балаганчик», В то время Андрей Белый составил
целую концепцию лирики Блока, столь же грандиозную, сколь
и фантастическую; всю действительность, все исторические события
он склонен был осмыслить в духе субъективно-идеалистической фило¬
софии — как порождение своего собственного сознания, о чем
и говорил в одном из писем к Блоку, написанном весной 1905 года:
«Политические ужасы и война — не обманут меня теперь эти
наваждения....«Японцев» нет, не в них дело, а в «господине черте».Ну, а с ним берусь бороться...» («Переписка», стр. 127),В то время Андрей Белый настолько увлекся неокантианской
философией, что «забыл мир эмпирической действительности» ибо
пришел к тому выводу, что «бытие есть категориальная форма для
одного из видов суждений относительных (!!!)...» —как сообщает он
Блоку (1905; «Переписка», стр. 138), —и подобного рода «формулы»
бытия свидетельствуют о том, как безнадежно блуждал в то время
Белый в дебрях мистики и субъективно-идеалистической, неокаптиан-6*147
ской схоластики, сочетавшейся с попыткой уяснить темные вещания
апокалипсиса, в духе которых он и стремился осмыслить окружаю¬
щую действительность.Все события и явления современности Андрей Белый рассматри¬
вал как свои иллюзии, страхи, «наваждения», и об этом же он писал
в статье «Апокалипсис в русской поэзии» (журнал «Весы», 1905,
№ 4):«Следует помнить, что призрачен красный дракон, несущийся на
нас с Востока: это туманные облака, а недействительность; и войны
вовсе нет: она — порождение нашего больного воображения, внешний
символ в борьбе вселенской души с мировым ужасом, символ — борь¬
бы наших душ с химерами и гидрами хаоса...» (стр. 14).Изображая всю мировую историю как апокалиптическую борьбу
«Жены, облеченной в солнце» с «Великой Блудницей», сидящей на
«Багряном Звере», Белый в своей фантастической статье всю исто¬
рию русской поэзии сводил к этой борьбе, якобы и составляющей суть
«мировой трагедии».«Русская поэзия, утверждал здесь Андрей Белый, — перебрасы¬
вая мост к религии, является соединительным звеном между траги¬
ческим миросозерцанием европейского человечества и последней
церковью верующих, сплотившихся для борьбы со Зверем... Вопрос,
ею поднятый, решается только преобразованием Земли и Неба в град
Новый Иерусалим. Апокалипсис русской поэзии вызван приближе¬
нием Конца Всемирной Истории...» (там же, стр. 27).В статье Белого, открывшейся эпиграфами из Владимира Со¬
ловьева и Александра Блока, дотоле мало кому известный Блок был
провозглашен не только величайшим русским поэтом, чье имя стоит
рядом с именами Пушкина и Лермонтова, но и учителем жизни, про¬
роком, несущим всему человечеству немеркнущий свет божественных
откровений, герольдом «Жены, облеченной в солнце», провозвестником
религии «Третьего завета».Белому в экстатическом восторге мнится, что стихами о Прекрас¬
ной Даме начинается обновление всей жизни, что они-то и вещают
о пришествии «Жены», преобразующей всю землю в «град Новый
Иерусалим» и вещающей о «конце мировой истории».■ Статью «Апокалипсис в русской поэзии» Апдрей Белый завершал
молитвенным возгласом, обращенным к «Жеие, облеченной в солнце»,
вокруг которой должны сплотиться все ее ратники, все приверженцы
«последней церкви верующих».• «Мы верим, что Ты откроешься нам, — взывал Белый, вдохнов¬
ленный стихами о Прекрасной Даме, — что впереди не будет октябрь¬
ских туманов и февральских желтых оттепелей. Пусть думают, что Ты
еще спишь во гробе ледяном.Тьт покоишься в болом гробу.Ты с улыбкой зовешь: пе буди.Золотистые пряди на лбу.Золотой образок па груди.Блок148
Нет, Ты воскресла.Ты сама обещала явиться в розовом, it душа молитвенно скло¬
няется пред Тобой, и в зорях — пунцовых лампадках — подслушивает
воздыхание Твое молитвенное. Явись!Пора: мир созрел, как золотой, налившийся сладостью плод, мир
тоскует без Тебя.Явись!» (Там же, стр. 27—28).Так взывал Андрей Белый в своем «Апокалипсисе», уверенный,
что «Вечная Жена» и «Мироправительница» уже воскресла, воплоти¬
лась, нисходит на землю,— и все это Андрей Белый усмотрел в стихах
о Прекрасной Даме (правда, пройдет года два-три, и уже совсем иное
будет говорить Белый,— перечисляя великих русских поэтов, ему уже
и в голову не придет упомянуть среди них имя Блока).Статья Белого «Апокалипсис в русской поэзии», развивавшая
столь необычную для критической работы концепцию, которой сам
автор, судя по всему, придавал чуть ли но пророчоствошшй смысл,
на самом доле была всего лишь перепевом и пересказом писаний
Вл. Соловьева и Д. Мережковского — вплоть до мельчайших подроб¬
ностей. Даже и само построение статьи Андрея Белого буквально
повторяет конструкцию книги Мережковского «Лев Толстой
и Ф. М. Достоевский», в последних строках которой так же, как
и в статье Белого, возвещается «конец всемирной истории», наступ¬
ление предреченных в апокалипсисе времен, близкое исполнение
«видения» отшельника Патмоса, и все это так же завершается истери¬
ческими возгласами: «Прииди!», «Аминь...», «Ей гряди, Господи!»,
«Явись!» — и т. п.Начало века было для Андрея Белого «эпохой максимального
отдания себя соловьевскому мистицизму» («Записки мечтателей»
№ 0, стр. 14); как видим, в духе этого мистицизма он и пытался
осмыслить лирику Блока — не столько прислушиваясь к ней самой,
сколько навязывая ей свое собственное, субъективно-идеалистическое
и до крайности произвольное толкование.Впоследствии, в своих воспоминаниях о Илоко, передавая впечат¬
ления давних уже лет, Белый говорил:«...будучи первым поэтом, он был не поэтом для нас, а теургом,
соединявшим эстетику с жизненной мистикой, и поднимался вопрос
о том, как нам жить, как нам быть, когда явно в мире звучат уже
призывы, подобные блоковским...» (там же, стр. 15).За разрешением этого вопроса и отправились Андрей Белый
и Сергей Соловьев — в разгар революционных событий, — в усадьбу
Блока, в Шахматово, а каков был результат этой поездки, мы узнаем
из дальнейшего.2. «ТЫ В ПОЛЯ ОТОШЛА...»Андрей Белый и Сергей Соловьев летом 1905 года прибыли в гос¬
ти к Блоку с «Апокалипсисом в русской поэзии» в руках, как с той
хартией, которая должна послужить основой и началом преображе-1-49
вия Рос-оии и всего мира в «град Новый Иерусалим», установления
полной и невозбранной теократии; во главе ее, полагали они, и долж¬
ны стать герольды и воины «Жены, облеченной в солнце», чье
сошествие и предречено в апокалипсисе.Белый писал в своих «Воспоминаниях о Блоке»:«...в «Шахматовспой» заре мне почуялась эра; и да, Теократия,—
знал я, придет, будет; мы Ее — начинаем...»Далее он намечал и контуры этой «Теократии»:«...я указывал: «Образуется... рыцарский орден, не только веря¬
щий в утренпостъ своей Звезды, по и познающий Ее. Предполагалось,
что орден — сложился: три рыцаря ордена — я, А. А. Блок и С. М. Со¬
ловьев...» («Эпопея» № 2, стр. 107).По тем же воспоминаниям Андрея Белого можно заключить,
насколько сумбурно и фантастично представляли себе московские
мистики «соловьевского» толка будущее России, ту «конкретную тео¬
кратию», которую они предложили Блоку как программу для незамед¬
лительных действий,— и назойливо навязывали ее поэту.Будущее устройство России рисовалось Сергеем Соловьевым как
«ряд общин, соответствовавших бывшим княжествам с внутренними
советами, посвященных в Тайны Ее, которой земное отражение (или
женский Папа) являлось бы центральной фигурой этого теократиче¬
ского устройства»,— и сам Белый, судя но его воспоминаниям, пол¬
ностью разделял в то время «теократические» бредни Сергея Соловье¬
ва; они полагали, что жена поэта— «Прекрасная Дама», «Владычица
вселенной» — является идеальным образом и воплощением «Жены,
облеченной в солнце» и готова принять поклонение своих избранных
служителей, посвященных в ее тайны и призванных осуществить «ре¬
волюцию Духа», поднять знамя грядущей теократии.Биограф поэта М. А. Бекетова также подтверждает, что его
друзья — после знакомства с Любовью Дмитриевной — решили, что
о на-то и есть «земное отображение Прекрасной Дамы», та «Единст¬
венная, Одна и т. д.», которая оказалась среди новых мистиков как
«естественное отображение Софии...», и «на основании этой уверен¬
ности С. М. Соловьев полушутя, полусерьезно придумал их тесному
дружескому кружку название «секты Блоковцев». Эти «Блоковцы»
(как сообщает биограф поэта) «положительно не давали покоя Любо¬
ви Дмитриевне, делая мистические выводы и обобщения по поводу ее
жестов, движений, прически...» и т. д. («Александр Блок», стр. 89—91).А главное — сами «Блоковцы», друзья поэта, совершенно всерьез
относились к своей игре, которой придавали некое эпохальное значе¬
ние — как началу новой эры в истории всего человечества.Им казалось: дело за малым, все уже обговорено, принципы
и догматы новой религии установлены и провозглашены, так же как
и ее «орден», возглавляемый новым «триумвиратом»; они полагали,
что со всеми их замыслами и теориями Блок полностью согласен.
Стало быть, остается только «начать» — и тогда под их знамена сте¬
кутся несметные полчища ратников «Жены»...Таковы были столь же грандиозные, сколь и фантастические150
планы и замыслы, которыми глашатаи «ХйокалжДсйса в русской поэ¬
зии» пытались увлечь Блока на тот путь, который они называли
путем «реальной мистики».Как же сам Блок отнесся к планам своих друзей и к статье «Апо¬
калипсис в русской поэзии», в которой он превозносился до небес —
в буквальном смысле этого слова (что могло бы польстить ему, если
бы он был податлив на лесть! — а особенно после нападок в печати
и поношений «вовсе хулиганского свойства», вызванных первыми
публикациями стихав о Прекрасной Даме)? Но, судя по всему, именно
эта статья заставила Блока о многом задуматься и окончательно опре¬
делить свое отношение к тем вопросам, которые дотоле были неясны
и ему самому.В том же месяце того же года, когда был опубликован «Апокалип¬
сис в русской поэзии», Блок написал стихотворение, открывающееся
знаменательными словами: «Ты в ноля отошла без возврата...» —
и словно бы противостоящее статье Белого. В стихотворении поэт
навсегда прощается со своей Прекрасном Дамой, с «Девой, Зарей,
Купиной», с «Величавой, Вечной Женой»; она для Блока оставалась
по-прежнему прекрасным, но уже отошедшим в прошлое видением
(а Белый именно « этом прошлом и видел то будущее, которому, как
он полагал, поэт должен служить от начала и до самого конца своих
дней).Конечно, сам Блок к тому времени уже далеко ушел от такого
понимания своих стихов о Прекрасной Даме — вот почему неумерен¬
ные восхваления и восторя;енные восклицания по своему адресу
он встретил весьма сдержанно, что свидетельствует о том, насколько
внутренне чуждым оказался ему их тон и пафос.Из манифеста Андрея Белого поэт узнал, что его мечты, вопло¬
тившиеся в стихах о Прекрасной Даме,—это вовсе не лирика или
меньше всего лирика, а теургия, катехизис, догматы новой религии,
проповедь которой и должна отныне составить все содержание и весь
смысл его жизни. Но такое понимание стихов о Прекрасной Даме тем
меньше устраивало Блока, чем больше рассеивались перед ним «тума¬
ны утренние», чем яснее и жестче сквозь их зыбкие и неверные
очертания проступали контуры реальной жизни, охваченной бурями
и грозами революционных восстаний.Прекрасная Дама, в облике которой друзьям Блока чудилась
«Жена, облеченная в солнце», покинула лирику Блока, ее сменили
другие образы, несхожие с ней, и совсем иное виделось в них поэту,
уже узнавшему, что в окружающем его мире «люди есть, и. есть дела»;
меньше чем когда бы то ни было рапыпе собирался он переменить
свое «званье поэта» на какое-нибудь другое, хотя бы и более «.возвы¬
шенное» в глазах иных людей. Он не мнил себя ни «пророком», ни
«теургом», ни «учителем жизни», на чем настаивали его друзья и со¬
ратники. Вот почему поэт так холодно и равнодушно отнесся к про¬
славлявшей и безмерно превозносившей его статье Андрея Белого.
Ознакомившись с ней, Блок писал автору «Апокалипсиса в русской
поэзии»:151
«Спасибо Тебе за письмо, стихи и статыо. Очень Тебя люблю
и благодарю» («Переписка», стр. 131).Что же, заверениями в любви они обменивались не впервые,
в этом не было ничего нового, а вот сухое и (всего только вежливое —
не больше! — «благодарю» в ответ на провозглашение столпом, проро¬
ком и герольдом новой религии не могло не озадачить Белого. Еще бы:
он изливался в самых пылких чувствах и восторженных восклица¬
ниях, он расценивал творчество Блока как явление эпохального
масштаба, знаменующее переустройство всей жизни человечества на
новых началах, предначертанных в стихах о Прекрасной Даме,
а в ответ услышал от Блока всего только любезное «благодарю», как
если бы отворил ему дверь или передал театральный бинокль. Это
могло означать только то, что Блок остался совершенно глух и равно¬
душен к заклинаниям и излияниям своего восторженного друга и по¬
читателя.Такого ли ответа ждал Белый от Блока, которого пытался возве¬
сти на недосягаемый для смертных пьедестал!Ведь еще недавно сам Блок говорил в стихотворении, открываю¬
щем цикл, знаменательно озаглавленный «Молитвы» и снабженный
эпиграфом из Белого: «Наш Арго!» (под этим подразумевалась готов¬
ность новых «аргонавтов» отплыть от земли па некие «блаженные
острова»):Сторожим у входа в терем,Верные рабы.Страстно верим, выси мерим,Вечно ждем трубы... —той трубы, которая возвестит, что чаемое сбылось, что предуказанный
в апокалипсисе «конец времен» наступил. А заключалось это стихо¬
творение. клятвой преданности новой вере и новым друзьям, охвачен¬
ным духом тех же надежд и упований:В светлый миг услышим звуки
Отходящих бурь.Молча свяжем вместе руки,Отлетим в лазурь.Так провозглашал Блок в 1904 году, адресуясь Андрею Белому
и другим «аргонавтам», чающим наступления пекиих новых времен
и новых пространств, чуждых земным измерениям,— а когда сами
«аргонавты» решили, что наступило время «связать руки», «отлететь
в лазурь», «начать», Блок решительно уклонился, остался «неподвиж¬
ным», не захотел примкнуть к «воинству Жены».В 1905 году они прибыли в Шахматово, рассчитывая на его пол¬
ное согласие с их замыслами, но наткнулись на решительное сопро¬
тивление поэта, тем более неожиданное для них, чем меньше были
к нему подготовлены.В ту пору, повествует Белый, С. М. Соловьев «...был настроен
особенно догматически но отношению к пониманию соловьевских
идей; он искал развить в окружающей жизни все то, что намечено152
в линии пересечения философии, поэзии, мистики Соловьева» '(^Эпо-
пея» № 1, стр. 200).Но чем настойчивее пытался навязать С. Соловьев Блоку выпол¬
нение некоего религиозно-мистического «долга» — в духе «грядущей
теократии», тем решительнее сопротивлялся Блок.Андрей Белый записывает непроизнесенный, но ясно подразуме¬
ваемый диалог между ними:С. М. (Соловьев): «Я заставлю насильно (вот до чего доходило!—
Б. С.) тебя быть слугой коллектива («коллектива» поборников «гряду¬
щей теократии»! — Б. С.).А. А. (Блок): «Уходи-ка от нас со своим явным насилием...»И далее Белый говорит:«Словами такими мы вслух не обменивались («слова» пришли
потом. — Б. С.): только издали, из молчания, фехтовались друг
с другом...» («Эпопея» № 2, стр. 248—249).Так завершилась фантастическая попытка поборников «конкрет¬
ной мистики» и «грядущей теократии» организовать «вселенский
собор» и утвердить на нем заветы и каноны нового религиозного
культа.Блок видел: назревает нечто опасное, от чего надо как можно
скорее уйти,— иначе и близких людей погубишь, да и сам пропадешь.
Обострялся конфликт — почти «сэлинджеровский» («Над пропастью
во ржи»), да и раскрытый впоследствии Белым в его воспоминаниях
почти «по Сэлинджеру» (хотя и задолго до него):«Настороженность в А. А. (Блоке. — Б. С.) замечал; он разгляды¬
вал нас, уподоблявшихся детям над пропастью; чувствуя с нами себя,
он себя ощущал еще нянькою, оберегающей детские игры...» («Эпо¬
пея» № 1, стр. 269).Вот эту спасительную — для Белого и С. Соловьева — роль Блока
они оценили далеко но сразу и, увлекшись своей «мальчишеской ми¬
стикой» (как скажет впоследствии Блок) и опасной игрой над бездной
или даже над «двумя безднами» (согласно заветам Мережковского!),
с негодованием смотрели на «изменника», отказавшегося принять
участие в их жутковатых и опасных играх.Года через три после их ссор и размолвок поэт заметит, что «...от
предсмертного антихриста Соловьева (в котором Андрею Белому ви¬
делось нечто пророчественное! — Б. С.) отдает детским вздором...»,—
но ведь этот «детский вздор» друзья поэта и преподносили ему как
непреложную и непререкаемую истину!Они не замечали, что поэт рос, мужал, внутренне созревал, а его
недавние друзья, словно бы стараясь напялить на него детский слю¬
нявчик и короткие штанишки, стремились вернуть его —с помощью
уговоров, заклинаний и даже угроз — вспять, к прежнему инфантиль¬
ному и туманному мечтательству, и очень сердились, когда их самые
энергичные усилия в этом направлении не приносили ни малейшего
успеха. Поэт упрямо упирался перед любой попыткой затащить его
в новый «орден», в котором не хотел разыгрывать даже и зах’лавной
роли, что в свою очередь возмущало его друзей. Они не могли понять,153
что с пня происходит, почему он отказывается вступить на нут»
«реальной мистики», и объясняли эту «измену» им и их фантастиче¬
ским замыслам самыми тривиальными, а то и низменными побужде¬
ниями и соображениями.Осенью того же года Апдрей Белый писал Блоку, строго выгова¬
ривая ему за «отступничество»:«Летом, когда мы с Сережей были в Шахматове, мы оба страдали
от внезапных осложнений в одном для меня и Сережи реальном
мистическом Пути, о котором я много и долго говорил Тебе в своз
время и против которого Ты не возражал (почему?)».Белый упрекал Блока: тот «всегда во всем прежде молчаливо со¬
глашался» с ним, но когда «нужно было совершить отплытие в сторо¬
ну долга и Истины (так Белый высокопарно вещал о своих мистиче¬
ских и религиозных замыслах. — Б. С.) — все запуталось: тут без
сомнения Твоя неподвижность оказала влияние». Но Блок и не соби¬
рался «двинуться» в том направлении, по тому «мистическому пути»,
на который толкали недавние друзья, и Белый строго отчитывает его:
«Мы с Сережей почти обливались кровью... Кто-то грубо клеветал
па нас, а Ты... Ты эстетически наслаждался чужими страданиями...»
(«Переписка», стр. 150).Из всех этих тирад и ламентаций явствует, какое. огромное зна¬
чение придавали Андрей Белый и Сергей Соловьев своей поездке
в Шахматово и как жестоко обманул поэт эти ожидания, отказавшись
поддержать их планы и замыслы. Так религия «Жены, облеченной
в солнце» потерпела полный крах — даже и до ее возникновения!Для Белого «отступничество» Блока оказалось, судя по всему,
страшным ударом, разносившим в прах всю его годами возводимую
и, казалось Белому, гигантскую, мировых масштабов, постройку. Вот
почему недавние друзья и соратники Блока поносили его как преда¬
теля, как человека, с удовольствием поглощавшего компот в то время,
как их «распинают» (именно этот образ, заимствованный из «Братьев
Карамазовых», казался Андрею Белому наиболее уместным в данном
случае),—-но все то, за "что они поносили поэта, шло от жизни, ев
веяний и влияний, и сказывалось самым благотворным образом в ли¬
рике Блока, в развитии его творчества, с годами набиравшего все
большую силу и высоту.Ужо и лотом 1904 года Блок, испытывая кризис прежней отвле¬
ченно-мечтательной созерцательности, записывал о себе нечто такое,
что могло бы поразить его друзей и единомышленников,-- если бы
они взглянули через плечо поэта, когда он набрасывал следующие
строки: «Чувствовать Ее —лишь в ранней юности и перед смертью...
теперь побольше ума (курсив мой.— Б. С.), отказаться от некоторого...
укрепиться, отрезветь, много сопоставить и передумать. Примирение
с позитивистами? Всякие возможности...» («Записные книжки»,
стр. 34),— и подобные записи проясняют многое в том, что отбросило
недавних друзей во враждебные станы.Следует отметить и то, что друзья Блока явно недооценивали ка¬
кие-то весьма существенные его качества; принимая молчание поэта,154
его «междометия» за одобрение, они решили, что могут располагать
им по своему усмотрению, в согласии со своими планами и предначер¬
таниями. Все это сам Блок расценивал как попытку «командовать»
им !«Ты командовал <шро-сияй»,— писал он впоследствии Белому),
как попытку весьма бесцеремонного «насаживания на плечи», хотя бы
и сопровождаемого неумеренными похвалами и превосходящими все
степени комплиментами,— но от такого «насаживания» (хотя бы
и весьма «дружественного»!) Блок накалялся все сильнее и сильнее,
что привело впоследствии к взрыву, тем, более катастрофическому для
друзей поэта, чем меньше они его ожидали.Общего языка недавние единомышленники и соратники так и не
нашли; друзья поэта отбыли из Шахматова ни с чем, а сам Блок писал
вскоре после их отъезда своему — ближайшему в то время — другу
Евг. Иванову, делясь с ним впечатлениями, вызванными недавними
разговорами и размолвками с Андреем Белым и Сергеем Соловьевым:
«Знаешь, что я хочу бросить? Кротость и уступчивость. Это необходи¬
мо относительно некоторых дел и некоторых людей...» — и для нас
после всего, что стало известно (хотя бы из мемуаров Белого) о том,
что происходило в Шахматове летом 1905 года, совершенно очевидно,
каких именно людей и какие именно «дела» имел в виду Блок в этом
письме, подтверя-сдающем его решительное несогласие разыгрывать
фарсовую роль «герольда» и зачинателя новой религии, самозванного
пророка.Так бесславно завершилась попытка организовать новый рели¬
гиозный и рыцарский «орден», основать новый культ с «женщиною
Папой» (наподобие католического) во главе, и так был нанесен со¬
крушительный удар по «апокалиптическим» чаяниям и упованиям
недавних друзей Блока — чего они никогда не могли простить поэту.Даже и многие годы спустя, уже после смерти Блока, Андрей
Белый укорял ого за «отступничество» и утверждал в своих воспоми¬
наниях:«...тема «Стихов о Прекрасной Даме» вовсо не есть продукт роман¬
тизма незрелых порывов, а огромная и по сие время не раскрытая
новая тема жизненной философии, Нового Завета (!!!), Антропоса
с Софией, проблема антропософской культуры и грядущего перио¬
да (!!!), шквал которого — мировая война 1914 года и русская рево¬
люция 1917—1918 гг.» («Записки мечтателей» № 6, стр. 23).Таким образом, и спустя два десятилетия после появления стихов
о Прекрасной Даме Белый все еще полагал, что стихи эти — не столь¬
ко лирика, сколько «философия Нового Завета», а Блок осуждался за
то, что решительно отвергал такую трактовку своей лирики.Поэт некогда призывал своих друзей «связать руки», «отлететь
в лазурь»,—но лазурь померкла, обернулась зловещими, темно-лило¬
выми сумерками; узы, связывающие руки «аргонавтов», готовых
покинуть земной мир, разорвались, и намечаемый Белым теократиче¬
ский «триумвират» так и не состоялся, распался на два враждебных
лагеря, у каждого из. которых со временем появились свои соратники
и противники.155
Между Блоком и Белым завязались весьма сложные и трудные
отношения, захватавшие целое пятилетие (1905—1910) и то перера¬
ставшие в крайне ожесточенную полемику и вражду (причем «напа¬
дающей» стороной неизменно оказывался Белый и его единомышлен¬
ники), то сменявшиеся периодами выжидательного, настороженного
«затишья», но так и но ставшие внутренне близкими и подлинно дру¬
жескими.3. КУПИНА ИЛИ КУСТ?Как это пи покажется странным нашему сегодняшнему читателю,
по непосредственным поводом для разрыва отношений между Блоком
и Белым послужил спор о том, может ли куст, оставаясь обыкновен¬
ным кустом, растущим где-нибудь на пригорке, сохранить свою
прелесть и красоту или же он должен непременно трактоваться как
«неопалимая купина» — символ бессмертного божества? Вот по этому
поводу недавние друзья и высказали противоположные мнения, обна¬
ружившие полное их разногласие в тех вопросах, которые Белый
считал совершенно бесспорными и необычайно важными.В начале октября 1905 года Блок пишет Белому знаменательное
письмо, которое и послужило началом крайне острого конфликта
между ними; в этом письме Блок говорит о том, что с ним летом
«произошло что-то страшно важное», и поясняет:«Я изменился, но радуюсь этому... я совсем перестал бояться лю¬
дей внутренне и доброжелателен ко многим больше, чем прежде».Полный ощущением огромных перемен — ив окружающем мире
и в самом себе, чувствуя прилив новых, бурных, неведомых сил, слов¬
но бы опьяненный половодьем жизни, дотоле сонной и «недвижной»,
поэт переводит свои ощущения на язык лирических образов, даже
и не подозревая, к чему это приведет:«Кто-то мне говорит, что я очень легко могу стать Купиной. Нет
причины не верить. Преследуемый Аполлоном, я превращусь в осен¬
ний куст золотой, одетый сеткой дождя на лесной поляне. Ветер по¬
веет, и колючие мои руки запляшут свободно...»В этом вдохновенном лирическом образе словно бы воплотился
дух русской природы — со своею прелестью и красотой, навсегда
захватившей поэта, его восторг перед жизнью, от которой доселе он
был отгорожен, и всо письмо Блока пронизано радостью приобщения
к ней, к ее Мятежам, бурям, грозам.К письму было приложено много стихов Блока — «невпрочет»,
как окажет потом в великом раздражении Андрей Белый, ибо иные
из этих стихов не могли не показаться ему кощунством и издевкой
над былыми мечтами и идеалами рыцаря Прекрасной Дамы. Здесь
фантастические и бесплотные видения Блок сопоставляет с подлин¬
ной жизнью — вот почему они и претерпели неизбежное крушение,
чей отзвук явственно слышится в стихотворении «Поэт», в разговоре
«папы с дочкой» о «глупом поэте», которому «хочется за море, где
живет Прекрасная Дама», но ему остается только плакать о ней...150
— А эта Дама — добрая?- Да.— Так зачем же она не приходит?— Она не придет никогда:Она не ездит1 на пароходе...В этих пролизанных горькой иронией стихах слышится ответ
Блока самому себе — автору несложившейся и незаконченной поэмы
«Ее прибытие» («ее»—стало быть, Прекрасной Дамы), окончательное
расставание с мечтами о ней,— как оказалось, мечтами иллюзорными
и несбыточными.Прекрасная Дама «не ездит на пароходе» — и поэтому никогда не
придет! Эти иронические строки буквально ошеломили Белого и заста¬
вили его с особой настороженностью отнестись к словам поэта о кусте,
о купине — в них он подозревал попытку Блока освободиться от
прежних обетов и клятв.В этом жо году Андрей Белый получил вместо с письмом Блока
и стихотворение, которое но могло не озадачить его; посвящалось оно
не Прекрасной Даме (образ которой в глазах Белого сливался с обра¬
зом богоматери), а некоему «Григорию Е.», причем Блок пояснял
в сноске: «Ежу, который живет у нас и назван Григорием»; это, ко¬
нечно, было шуткой, но стихотворение, названное поэтом «Старушка
и чертенята», оказалось совсем не шуточным. Его пронизывали какие-
то новые, гордые, торжествующие чувства земной радости и земной
красоты, и воспевались в нем стихии земли, воплощенные в образах,
подобных гномам и эльфам старинных легенд и сказаний....Чертенята и карлики «только диву даются», глядя на старушку,
совершившую подвиг послушания и благочестия, недоступный их
простому, бедному и ясному разуму. Они опасаются только одного:
как бы благочестивая старушка не вздумала и их обратить в свою
пресную вору, увести их от этих кустов, белых околиц и злачных
тропинок куда-то в иное царство, в далекие «святые места», где она
успела побывать и где, пожалуй, их заставили бы дышать «божест¬
венным ладаном», приобщаться к мощам и самим стать такими же
иссохшими и мертвенными, как эти мощи!В страхе от такой возможности, мохнатые, малые, чудесные
в своей младенческой наивности и беззащитности, «пузыри земли»-г...каются,Умиленно глядят на костыль,Униженно в траве кувыркаются,Поднимают копытцами пыль:«Ты прости нас, старушка ты божия,Не бери нас в Святые Места!Мы и здесь лобызаем подноя:ия
Своего, полевого Христа.Занимаются села пожарами,Грозовая над нами весна,Но за майскими тонкими чарами
Затлевает и нам Купина...»157
Стихотворение, открывавшееся шуточным посвящением, оказа¬
лось совсем не шуточным — в то время, когда села и в самом деле
пылали пожарами крестьянских восстаний, когда горели дворянские
усадьбы и когда вихрь революции, казалось, вот-вот готов был разбить
в щепы все устои старого самодержавного строя. В этих условиях
стихотворение Блока обретало особый смысл, и в прославляемых поэ¬
том стихийных силах земли чувствовалось внутреннее родство с теми
могучими и неукротимыми стихиями, которые проносились по России,
насыщая ее воздух бурями великих восстаний!Вот та «купина», которая виделась поэту в просторах родной зем¬
ли, чья мощь и красота' захватила ого и по-особому открылась ему
в прекрасные и грозные дни революции.Но эта купина — горящий и несгорающий куст — оказалась со¬
всем не той, какая мерещилась друзьям поэта, видевшим в образе
купины символ святости и благочестия. Вот почему Белый обнаружил
кощунство в совершенно неожиданном для него толковании образа
купины.«Новые темы», обнаружившиеся в творчестве Блока, крайне
встревожили Белого, и в ответном письме, поначалу очень осторожно
и еще неопределенно, выражены мучившие его сомнения:«...все тоньше и тоньше знакомая прелесть Твоей музы вплетается
в новые темы, за которые Ты взялся: олицетворение стихийных сил
русской природы ждет своего выразителя; этим выразителем, думает¬
ся мне, являешься Ты...»Но «стихийная сила природы» — совместима ли она с божествен¬
ным откровением, со служением Прекрасной Даме как воплощению
божественной любви?Вот вопросы, которые преследовали Андрея Вологю, почувствовав¬
шего в новых стихах и высказываниях Блока нечто несовместимое
с этим служением.В олицетворении и воспевании «стихийных сил» Белый усмотрел
величайшую опасность для Блока и всячески, хотя и безуспешно,
предостерегал от нее поэта; особенно возмутили Белого слова Блока
о том, что поэт чувствует себя «купиной»,— мимо них Белый, у кото¬
рого были особые представления о купине, но мог пройти, пе раскрыв
всей опасности подобных притязаний поэта. Блок даже не подозревал,
когда говорил, что хочет превратиться в «осенний куст золотой», ка¬
кую бурю негодования и смятения вызовут его лирически вдохновен¬
ные излияния в душе Белого, который строго и наставительно выгова¬
ривал ему:«Ты... надеешься стать «Купиной». Но купина — символ богома¬
тери. Итак Ты надеешься стать символом богоматери — Ты, студент
императорского С.-Петербургского Университета, сотрудник «Вопро¬
сов Жизни»? Тут или я идиот, или —Ты играешь мистикой, а играть
с собой она не позволяет никому...» («Переписка», стр. 155).В связи с этим Белый напоминал Блоку, что тот летом в Шахма¬
тове уклонился от своего «долга», от путей «реальной мистики», от
навязываемой ему роли «теурга» и «герольда» «Жепы, облеченной.158
в солнце», а теперь «бесцельно кощунствует», именуя себя «купи¬
ной».Вот Белый и предостерегает своего друга:«...такие кощунства не прощаются — знай...» (там же, стр. 156).Письмо Белого завершается истерическими выкриками, угрозами,
отчаянной попыткой вернуть Блока в лоно правоверного «солоазьев-
ства»:«...говорю Тебе, как облеченный ответственностью за чистоту
одной Тайны, которую Ты предаешь или собираешься предать.
Я Тебя предостерегаю — куда Ты идешь? Опомнись! Или брось, за¬
будь — Тайну. Нельзя быть одновременно и с богом и с чертом...»
(там же, стр. 157).Блок не был с богом, о чем, по мнению Белого, неопровержимо
свидетельствовала его трактовка образа купины, под которой Блок
разумел (как он поясняет в Ответном письмо к Андрею Белому) «во¬
все не символ богоматери, а обыкновеннейший терновый куст, кото¬
рый растет себо среди ноля и горит». Стало быть, он был с чертом,
который принял образ осеннего горящего куста, и стремление дока¬
зать, что купина, лишенная значения символа богоматери, божьей
благодати и превратившаяся в «обыкновеннейший терновый куст»,—
это есть воплощение черта и одно из дьявольских наваждений, создан¬
ных для обольщения людей,— вот что вдохновило Белого на создание
фантастического рассказа-пасквиля «Куст», полемически заостренного
против Блока и являющегося необходимым звеном в переписке Бело¬
го с Блоком, как бы ее продолжением.Рассказ «Куст» (журнал «Золотое руно», 1906, №№ 7—8—9), сам
по себе недалекий от бреда (именно «бредом» и называл его впослед¬
ствии Белый в своих мемуарах), может быть в какой-то мере понят
и осмыслен только в связи с этой перепиской — как ответ на выска¬
зывания Блока о купине и как грозное его «обличение».«Куст» явился наиболее полным и недвусмысленный ответом
Белого на то новое, тревожное и даже опасное, что он усмотрел во
(взглядах и высказываниях Блока, в его новых стихах и новых
письмах; этот рассказ нельзя трактовать иначе, как попытку разъяс¬
нить Блоку, чем на самом деле является купина — если ею всецело
завладевают стихийные силы природы и такие герои новых стихов
Блока, как «болотные попики», карлики, чертенята и прочие «нузырк
земли».Герой рассказа — некий Иван Иванович — еще недавно был вдох¬
новенным прорицателем, наследникам божественных тайн и открове¬
ний; он в черном фраке «взлезал на трибуну; взлезал и кидал иш
цветы, оторванные от сердца,— цветы, которым нет названия...».
Но он не удержался на той высоте, на которую был вознесен, оказал¬
ся оборотнем, превратился в бедного «Иванушку-дурачка», обитателя
психиатрической лечебницы, полоненного дьявольскими соблазнами,
наваждениями, химерами; цветы его оказались прекрасными только
с виду, и дышат они отравой, от которой надо держаться подальше,—
если хочешь спасти себя и свою душу!153
Задумал Иванушка-дурачок стать купиной, породниться с кустом,
но ничего хорошего из этой затеи не вышло:«Видел Иванушка куст, танцевавший в ветре с далекого пустыря».Этот куст — хозяин здешних мест, -воплощение земных стихий,
грешной плоти, дьявольских наваждений; к нему приходит на любов¬
ные свидания — но по тихая и прекрасная «Дева, Заря, Купина»
былых стихов Блока, а ее двойник, огородникова дочка, опасная своей
земной, греховной и неодолимо соблазнительной прелестью, и ее полу¬
раскрытые уста дышат зноем тайных соблазнов и вожделений. Вся
она — как прелестпая панночка из «Вия», с рубинами уст, прикипаю¬
щих к самому сердцу, по горе тому, кто поддастся ее соблазнам и ча¬
рам, подпадет под ее власть!—она обернется посиневшим трупом,
дробно стучащим зубами в поисках очередной жертвы, в неутолимой
жажде свежей человеческой крови.Вот какую «зарю-красу свою» .вызывает куст, водя по воздуху
узловатой, уродливой, из шеи брошенной к небу рукой, секущей воз¬
дух и чертящей заклинания. И сам Иванушка видит, как на его гла¬
зах купила превращается в хищный и уродливый куст, причастный
самым мерзким обрядам культа Астарты. А он-то воображал, что
купина может остаться светлой и прекрасной, даже если она является
всего только воплощением стихийных сил самой природы!На призыв куста-колдуна приходит новая Астарта, и кто бы мог
устоять, вопрошает автор рассказа, перед пламенем ее синих взоров —
«из-под темных ресниц, из-под, как миндаль, удлиненных разрезов
глаз... засверкавших соблазнами ведовскими...».Тут-то и понял Иванушка-дурачок, при виде этих любовных утех
куста-колдуна, оборотня, что совсем не «Деву, Зарю, Купину» манил
к себе куст, а ее двойника, некое исчадие ада «чью-то душу — полю¬
бовницу свою — ворожбою куст вызывал».Но самое страшное открытие Иванушки-дурачка, бедного идиоти-
ка, еще впереди: ведь оказывается, что «полюбовница» куста, соблаз¬
ненная и сама научившаяся соблазнять,— это его собственная душа,
некогда светлая и чистая, а ныне плененная чудищем, кустом, кол¬
дуном!Смотрит Иванушка-дурачок, как ого душа, ого заря пресмыкается
перед кустом-колдуном, словно не замечая его уродства и мерзости,
и горько ому это видеть!Хочет Иванушка вернуть свою душу, а поздно: заигрывание
с чертом до добра не доводит!Автор «Куста» наставительно замечает Иванушке (а заодно
и тому поэту, который вообразил себя кустом, вечно зацветающей
купиной):«Сух да колюч бурьян многолетний, не обнимает: всаднт тебе
в тело с десяток колючек, и ты вскрикнешь от боли. Сух да колюч
бурьян!..»Об эти колючки — дьявольские коготки — и укололся Иванушка.
Горюет он по своей утерянной душе, да поздно, она его уж и знать не
хочет:100
«Не твоя я душа, а его, куста, заря!»Хочет он вернуть свою душу, вступает в поединок с кустом, по
тому помогает вся нечисть и нежить, вся воровская ого дружина, все
греховные прелести и земные соблазны.Не сладить с ними дурачку, ибо нет ему помощи ниоткуда: «Дева,
Заря, Купина», на которую он когда-то молился, «в поля отошла без
возврата», и вот он недвижно распростерся под страшными и неотра¬
зимыми ударами куста.«Завизжав, взлетел куст, сорванный бурей. Длинной, длинной
своей вет.выо мстительно захлестал по песку. Сухим песком выхлест¬
нул глаза. Темная к очам ратоборца ночь привалилась, надо всем
распростерлась.Только в ночи бедное чье-то сознание за бессмертие свое настой¬
чиво боролось...»Так завершился поединок Иванушки с кустом, и но мог завер¬
шиться по-иному, утверждает автор рассказа, ибо Иванушка оказался
изменником, забывшим свои обеты Прекрасной Даме, предателем не¬
коей божественной тайны, в которую он был посвящен и которую
должен был свято хранить.В рассказе Белого словно бы вывернуты наизнанку все преж¬
ние — и сказочные —образы лирики Блока, и каждый из них оказал¬
ся оборотнем, в каждом из них сидит червячок и подтачивает изнут¬
ри, перемалывает в труху некогда живую сердцевину.Был рыцарь Прекрасной Дамы Иван-царевич — он обернулся
Иванушкой-дурачком, лицо которого искажено идиотически бессмыс¬
ленной гримасой, и что ему стоит поднять руку на величайшие сокро¬
вища мира, на которые он еще сам так недавно молился!Была Прекрасная Дама, «Дева, Заря, Купина», сияющай небесной
чистотой и прелестью, но и она, отрекшись от неба, вступив в союз
с древним хаосом, с темными силами земли, обернулась «огороднико-
вой дочкой», соблазнительной и похотливой, повой Астартой, белой
дьяволицей,— и бежать от нее надо без оглядки, если хочешь сохра¬
нить свою душу!Была купина — неугасимо горящий куст, но и она, лишенная
божественного начала, превратилась в колдуна, в одного из тех
«болотных чертенят», дружба с которыми гибельна для человека!Вот каков смысл рассказа «Куст», каящая строка которого звучит
то явной, то тайной полемикой с тем новым и опасным, что усмотрел
Андрей Белый во взглядах и высказываниях Блока. В этой сказочке,
в аллегориях и намеках которой безнадежно заблудился бы иной
«непосвященный» читатель, для Блока все было ясно, и для него не
оставалось никаких сомнений в том, что за «Иванушка-дурачок»,
отдавший свою душу во служение кусту-колдуну, дьяволу, изобра¬
жается в ней. Ведь не случайно Иванушка порою объясняется почти
дословными цитатами из Блока!Если сличить рассказ «Куст» с письмами Блока, говорящими
о купине, то бросается в глаза не только полемический характер рас¬
сказа, направленного против блоковского понимания купины, но101
и «перефразировка» этих писем. Белый здесь шел вслед за Блоком,
uo-своему переосмысляя каждое его слово, каждый образ.Блок писал о себе как о золотом осеннем кусте на лесной поляне:
«Ветер повеет, и колючие мои руки запляшут свободно...»В рассказе Белого мы видим тот же образ, те же «секущие воз¬
дух», колючие руки куста, которые «чертили заклинания». И если
Блок говорил о пляске куста на осеннем ветру, тот же образ повторяет
■вслед за ним и Белый, но придавая этому образу особый и предосуди¬
тельный смысл—смысл дьявольской обедни; «колючие руки» куста,о которых писал Блок,— это, на взгляд Белого, не что иное, как когти
дьявола,— в них-то и оказался рыцарь Прекрасной Дамы, нарушив¬
ший свои обеты и клятвы.Отныне Белый вел ожесточенную полемику с Блоком, носившую
многообразный характер — то явный, то скрытый, зашифрованный,—
но враждующие стороны отлично понимали этот шифр и то, что озна¬
чает каждый его знак! К таким зашифрованным и понятным лишь
для «посвященных» произведениям и относится рассказ Белого
«Куст», каждой своей строкой нацеленный против Блока,— и так об¬
наружилось, что недавние друзья и соратники настолько чужды друг
другу, что уже утратили общий язык: то, что для одного было радост¬
ным знаком красоты и бессмертия жизни, то другой рассматривал как
непростительное кощунство и дьявольское наваждение.В сущности, то же самое, что и в «Кусте», но несколько иными
словами, говорил позже Белый о Блоке в своем отзыве на книгу
«Нечаянная радость» («Перевал», 1907, № 4), где муза Блока пред¬
стает перед ним в странном — и безобразном — обличье:«Сквозь бесовскую прелесть, сквозь ласки, расточаемые чертепят-
кам, подчас сквозь подделку под детское или просто идиотское обна¬
жается вдруг надрыв души глубокой и чистой, как бы спрашивающей
судьбу с удивленной покорностью: «Зачем, за что?..» — и здесь Блок
снова (как и герой рассказа «Куст»!) выглядит бедным и растерянным
Иванушкой-дурачком, затеявшим безрассудную и опасную игру
с «чертенятками», «колдунами», стихийными и лишенными благодати
силами земли,— и заплатившим за эту «идиотскую» игру ценою своей
бессмертной души и великих сокровищ, некогда врученных ему. Ведь
все это — вариация того же «Куста» (только в ином жанре).В образах «Куста» но-своему отзываются и стихи Блока, еще из¬
давна встревожившие Белого, хотя только теперь эта тревога нашла
свой наиболее полный исход. Ведь еще весною 1905 года поэт писал,
что на «золотой голосок» весны, ушедшей в синеватую даль, отозвал¬
ся старикашка колдун, который и запрыгал на пне.Закричал:«Ты, красавица, верно ко мне!Стосковалась в своей тишине...»И вместо того чтобы отвергнуть призывы страшного и уродливого
колдуна, онаЗа корявые пальцы взялась,С бородою зеленой сплеласьИ с туманом лесным поднялась...162
А завершается это стихотворение описанием полного слияния
того нежного и дивного, что несет с собою весна, с уродством и мраком
пленившего ее «старикашки», картиной их брака — и в духе и в»
плоти:Так тоскуют они об одном.Так летают они вечерком. !Так венчалась весна с колдуном.Это «венчание» весны, зари, дивной красавицы с некиими темны¬
ми силами не могло не встревожить Белого — и образ блоковского
колдуна как воплощения стихийных сил природы, ее «астартизма»,
преобразился в «колдуна» — героя рассказа «Куст».Последующие, стихи Блока свидетельствовали, что образ колдуна,
с которым и сочетается браком весна, заря, купина,— не случаен для
него; вскоре Белый читал то же самое и в новых, стихах Блока:В лапах косматых и страшныхКолдун укачал весну...Вот этот образ, встревояшвший и испугавший Белого, раскрыт
по-своему и в рассказе «Куст», автор которого, судя по всему, задался
явной целью разъяснить Блоку, какова истинная суть этого темного
и зловещего образа и какая участь ждет человека в его косматых
и страшных лапах.«Куст» — это прямой вызов всему тому новому, что обнаружилось
в творчестве и высказываниях Блока и что Белый рассматривал как
предательство, ренегатство, измену; вот почему и рассказ «Куст» при¬
обретал не только характер сведения личных счетов (хотя не обо¬
шлось и без этого), но и обличения новых убеждений и новой веры
поэта, в которой Белый усматривал попрание великих и бессмертных
духовных ценностей1.1 В своей книге «Александр Блок» (издательство «Молодая гвардия»,
1969, стр. 108—110) А. Турков, полемизируя с данной трактовкой рассказа,
отстаивает странное предположение, будто под образом Ивана Ивановича
следует подразумевать не Блока, а самого автора рассказа «Куст» — Андрея
Белого. Это предположение, объяснимое лишь недостаточно внимательным
и вдумчивым прочтением рассказа, противоречит всему его смыслу и его
памфлетно-разоблачительной направленности.Сама «эволюция» героя рассказа — Ивана Ивановича, который сначала
был носителем и герольдом векиих божественных тайн и откровений, а уж
потом превратился в дурачка, в «идиотика», только профанирующего их,
полностью отвечает духу того, что писали и говорили в свое время о Блоке
его недавние друзья. То же самое говорит Белый и в своих воспоминаниях,
уже многие и многие годы спустя, касаясь времени «разрыва» с Блоком
и утверждая, что «...глубина могла обернуться в нем рисовкой, невнятицей,
даже «идиотизма» какого-то...» («Эпопея» № 2, стр. 272) — и в то время сло¬
вечко «идиотизм» в адрес Блока слишком уж часто и откровенно срывалось
с уст его недавних друзей — по всякому поводу и даже без повода, ие каза¬
лось им ни грубым, ни зазорным. Воплощением такого «идиотизма», каким
«обернулась» в глазах Белого глубина Блока, и является образ Ивана Ива¬
новича в рассказе «Куст».А «цветы» Ивапа Ивановича — «...цветы, оторванные от сердца,—цве¬103
Итак — купина или куст?Спор носил, казалось бы, сугубо схоластический характер, но под¬
кладка его была далеко не схоластической, ибо определялась разным
отношением к жизни, к людям, к революции, ставшей отныне для
Блока самым большим событием и всемирной истории и своей личной
жизни.Этот рассказ имел и сугубо личную подкладку, о которой можно
составить некоторое представление на основании переписки Блока
и Полого, и воспоминаний Полого, и «Были и небылиц...», принадлежа¬
щих Любови Дмитриевне. Автор «Были и небылиц» утверждает:«Моя жизнь с «мужем» (даже самое это слово Любовь Дмитриев¬
на заключает в кавычки, как по отвечавшее в то время реальной сути
их отношений. — В. С.) весной 1906 года была уже совсем расшатан¬
ной...» (ЦГАЛИ, ф. 55, он. 1, ед. хр. 519, стр. 126), и именно в этоты, которым нет названия...»,— разве здесь не подразумевается не что иное,
как «Стихи о Прекрасной Даме», которым некогда друзья Блока придавали
эпохальное значение, знаменующее начало новой эры в жизни всего чело¬
вечества? Именно этим «цветам» — и никаким другим! — Андрей Белый не
находил и не мог найти «названия» (вспомним его статью «Апокалипсис
в русской поэзии»!), ибо они были в его глазах превыше всего, что он мог
о них сказать.А когда «усталое тело» Ивана Ивановича куст иокрывает «черной
своей тенью: исповедник, отпустив грехи, так накрывает мирной епитра¬
хилью и под ней обессиленно кается чья-то душа...» — то разве о своей
душе говорил здесь Белый? Мог ли он представить и изобразить себя участ¬
ником этой кощунственной исповеди, принимающим отпущение грехов от
самого дьявола?! Нет, это совершенно исключено, ибо себя в то время Бе¬
лый считал верным хранителем религиозных начал и божественных откро¬
вений. Но вот в переписке с Блоком он и действительно предостерегал
поэта от союза с чертом, обвинял его в отречении от бога, то есть во всем
том, что определило суть и смысл переживаний Ивана Ивановича.Для любого внимательного читателя рассказа «Куст» очевидно полное
совпадение того, что Белый приписывал Блоку в своей переписке (в связи
с образом «купины»), с тем, что воплощено в фантасмагорическом образе
Ивана Ивановича, метившем именно в Блока—-и ни в кого иного (это
и придает рассказу характер сугубо памфлетный, а отнюдь не «исповедаль¬
ный» — вопреки весьма произвольному его истолкованию, данному в книгеА. Туркова).Для Андрея Белого Блок является в то время отступником, предате¬
лем некоей священной тайны, который пропускал «угар Люцифера» в святые
моста (как и сообщал оп в воспоминаниях о Блоке, опубликованных в альма¬
нахе «Эпопея»; № 2, стр. 279) —и именно таким человеком изображен герой
рассказа «Куст»; вот почему пет ни малейших оснований усматривать в его
образе некое «самораскрытие» Андрея Белого, видевшего в подобном «от¬
ступничестве» нечто совершенно чуждое и явно враждебное ему.В рассказе «Куст» (как и в отвечающей ему по времени и духу пе¬
реписке) Белый обращался к Блоку (и его жене) ие с позиций некоего
«дурачка», сумасшедшего (каким изображен здесь Иван Иванович), а с по¬
зиции премудрого, «властного», «облеченного ответственностью», кто реши¬
тельно предостерегает певца Прекрасной Дамы от того, кем он может стать
и во. что превратиться — если не вернется иа путь «конкретной мистики»
и верного служения божественному, вечно женственному началу; всякое же
произвольное толкование рассказа, игнорирующее его основной смысл,
может только лишить нас единственно надежного ключа к уяснению его
смутных символов и зловещих аллегорий.16.4.
время Андрей Белый, влюбившийся в Любовь Дмитриевну до потери
сознания, некогда видевший в ней «гиерофантиду душевных мисте¬
рий», попытался взорвать семейную жизнь Блоков, уехать с Любовью
Дмитриевной далеко-далеко, хотя бы в Италию,— и, судя по ее воспо¬
минаниям, она не осталась равнодушной к его призывам, заклина¬
ниям и мольбам. Начался бурный «роман», об острых перипетиях
которого Л. Д. Блок подробно рассказывает в своих воспоминаниях.
И всё же этот «роман» ничем не завершился — Любовь Дмитриевна,
по ее словам, вовремя «опомнилась» и внутренне отошла от Белого,
хотя и не объявила ему открыто и прямо о перемене своих чувств,
в результате чего возникли новые недоразумения. Белый увидел, что
его планы, на этот раз личные, а не только «теургические» и «теокра¬
тические», потерпели полный крах — и опять-таки по вине Блока,
который, по мнению Белого, чуть ли не силком удерживает возле себя
«Любу» (что ни в какой мере не соответствовало действительности).Впоследствии Блок записывал в своем дневнике, что «...но Желал
принимать участие в отношении своей жены и Бугаева...» (1911),
а Белый, находившийся в то время в состоянии крайней истеричности,
исступленности, почти на грани безумия, не только засыпал Блоков
градом писем, то пронизанных чувством предельной униженности, то
нарочито оскорбительных, но к тому же прислал и своего друга Льва
Кобылинского (Эллиса), передавшего Блоку вызов на дуэль.Что ж, самого Блока этот вызов не смутил — и, как справедливо
замечает в связи с этим Любовь Дмитриевна, «Саша всегда спокоен
и охотно идет навстречу всему худшему — это уже его «специаль¬
ность»...» (ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 519). Но иначе отнеслась к ви¬
зиту «секунданта» Белого сама Любовь Дмитриевна, которая, увидев
Эллиса в Шахматове (где тогда жили Блоки), сразу сообразила, с чея
он приехал, и решила, что «сама должна расхлебывать заваренную
кашу» (там же). Судя по ее словам, именно ей удалось предотвратить
дуэль между двумя недавними друзьями и разъяснить, что драться
им не из-за чего. Но ужо одно то, что Белый, почувствовавший себя
обманутым и в своих грандиозных замыслах и в своей личной жизни,
счел возможным послать Блоку вызов на дуэль, свидетельствует, ка¬
кие отвратительные и неотвязные «химеры» застилали в то время его
внутренний взор, перед которым Блок, да и его жена (отпавшая от
«зари» и предавшаяся «астартизму»—как мерещилось Белому) пред¬
ставали как изменники, с которых надо немедленно сорвать «личи¬
ну»,— что и пытался осуществить Белый в своем рассказе.Да, вероятно, именно в эти дни Андрей Белый переживал катаст¬
рофу «всех былых чаяний о новой орхестре, о новой коммуне братски
настроенных душ...» (говоря его языком — см. «Записки мечтате¬
лей» № 6, стр. 67), а также и катастрофу в личной жизни, и виновника
этих катастроф он усматривал именно в Блоке, что и заставляло Бе¬
лого с особой ожесточенностью и непримиримостью нападать па свое¬
го недавнего друга.В то время и Андрей Белый и Сергей Соловьев укрепились
в мысли, что «Блок перестал быть Блоком», и (как сообщает Андрей185
Белый в своих воспоминаниях) «...союз пас трех был безвозвратно
разорван. И этот разрыв уносил я как глубокий надрыв...» (там же,
стр. 114). Именно чувством «надрыва» и продикто-ван рассказ-«бред»
«Куст» (а впоследствии многое другое в выступлениях Белого, на¬
правленных.против Блока и его жены).Опубликование «Куста», так же как и его явная полемическая
заостренность, не осталось, конечно, незамеченным в семействе Бло¬
ков и вызвало вполне оправданное негодование: слишком произвольно
и оскорбительно трактовались >и «Кусте» но только образ поэта, но
и его жопы (которую недавние друзья и поклонники Блока склонны
были некогда рассматривать как воплощенно «Зари», «Жены, обле¬
ченной в солнце»), его личные и семейные отношения.В мемуарах Белого «Между двух революций» говорится: не¬
кая Щ. (из опубликованной переписки Блока и Белого явствует, что
здесь имеется в виду JI. Д. Блок) написала ему, что он «бесчестен»,
свой «Куст» напечатав»,— слишком многое здесь метило в семейство
Блоков и носило явно пасквильный характер. Но сам Белый отвергал
подобное обвинение и следующим образом разъяснял смысл своего
рассказа:«...«Куст» — бред, мною написанный летом... в этом жалком рас¬
сказе заря — не заря, огородница — не огородница, некий «Ивануш¬
ка», ее любя, бьется па-смерть с «кустом»-ведуно.м, полонившим ев
(образ сказок); бой подан в усилиях слова вернуться к былинному
ладу; и — все!Ни намеков, ни йоты «памфлета», сплошная депрессия... жалко:
бред, о котором забыл,—напечатали...» (стр. 138), и Белый воспринял
письмо JI. Д. Блок как очередное предательство, как удар ножа
в спину.О том же самом Белый писал в свое время и Блоку, отрицая ноле-
мически-памфлетную направленность своего рассказа,— но в тех усло¬
виях и обстоятельствах, когда публиковался «Куст», «бред» этот обре¬
тал совершенно определенную направленность, точную адресованность,
недвусмысленное значение, не составлявшее загадки для людей,
посвященных в отношения Блока и Белого, в которых немалую роль
играли и мотивы сугубо личного характера. По главное здесь опреде¬
лялось не этими мотивами, а тем, что два писателя в корне различно
воспринимали события революции. Для Блока она означала полное
крушение былых отвлеченно-мечтательных и мистически-инфантиль-
ных воззрений, х'рез наяву, а Белый в то время видел в этих грезах
самое прочное и надежное прибежище от революции и защиту от нее.Когда-то Блок писал Сергею Соловьеву, что все перемены, проис¬
ходящие с ним и с близкими ему людьми, «обязали к чему-то», и из
этого делался непреложный вывод:«Все, что было, отрезало пути к отступлению в детство жизни,
И это прекрасно и к лучшему...»Но то, чего требовали друзья и соратники Блока,— это и было бы
для него «отступлением в детство», пусть даже привлекательное своей
сказочностью, мечтательностью, фантастичностью, не считающейся на166
с какими реально-бытовыми условиями и даже отвергающей их,— но
уже невозможное для человека взрослого, уставшего от «чрезмерной
сказочности».«Отступление в детство» не состоялось и не могло состояться —
вот чего но понимали друзья Блока, и чем меньше они понимали это,
тем больше гневались на него.Да, многое из того, что друзья и соратники Блока внушали ему,
он еще недавно мог бы повторить вслед за ними, но с тех пор он про¬
шел огромный путь, и ничто не могло отвратить Блока от этого пути,
в правоте которого он был твердо уверен,— никакие заклинания и ни¬
какие угрозы.4. «БАЛАГАНЧИК» И ЕГО ГЕРОИЧем упорнее старались недавние друзья поэта возвратить ого па
путь «реальной мистики», том решительное сопротивлялся поэт, тем
очевиднее становилась ому нелепость их вымыслов и доктрин. Ему
так надоела навязываемая ими роль «мистического разговорщика»,
что он не выдержал, взорвался и разразился «жестокой арлекинадой»
(говоря его же словами); этой «арлекинадой» и явилась пьеса «Бала¬
ганчик» (1906), в которой «апокалиптические» бредни и «эсхатологи¬
ческие» чаяния его недавних друзей оказались осмеяны самым беспо¬
щадным образом.Полемическая направленность «Балаганчика» была несомненной,
особенно для людей, которых так жестоко высмеял Блок в своей пье¬
се,— в каждой ее строке им слышался дерзкий и насмешливый вызов.Они пророчили наступление небывалых событий, величайших,
в духе апокалипсиса, катаклизмов — но «конец мира» все не наступал,
«второе пришествие» не свершилось, «эсхатологические» чаяния обма¬
нули; фантастические измышления московских мистиков оборачива¬
лись фарсом, маскарадом', полопыми затеями бродящих наяву людей—
именно так изображопы они Блоком н ого знаменитом «Балаганчике»,
в котором недавние друзья и соратники поэта с изумлением и негодо¬
ванием узнавали самих себя.В пьесе «Балаганчик» выведены «мистики», ждущие прибытия
Ее, Девы из дальней (за пределами земных граней и здравого смысла)
страны, Бледной Подруги в одежде белой, как снег горных вершин,
с косою за плечами — косою смерти.Реплики «мистиков», которыми открывается действие пьесы,— это
явная и злая пародия на те разговоры, которые велись в кружках
теософских, оккультных, «грифов», «аргонавтов», последователей
Владимира Соловьева и Дмитрия Мережковского, гдя «сплетничали»
о Христе, о «конце мира», о религии «Третьего завета», о «Вечной
подруге» и ее приближении,— и все это эхом отозвалось в «Балаган¬
чике»:— Ты слушаешь?— Да.— Приближается дева из дальней страны.— О, как мрамор — черты!107
•— О, в очах — пустота!О, какой чистоты и какой белизны!— Подойдет — и мгновенно замрут голоса...Один «мистик» что-то шепчет на ухо другому, приводя его
в ужас, и пусть мы ие слышим этого шепота,— для тех, кто читал
сочинения «апокалиптиков» , и «неохристиан», совершенно очевидно,
кого так покорно готовы встретить «мистики», что слышится в их
загадочном шепоте, какую «Бледную Подругу» видят они в Коломби¬
не — невесте Пьеро, внезапно явившейся среди них в сиянии своей
скромной и простой красоты. В глазах «мистиков» она и есть та
«Подруга Вечная», та «Мироправительница», чей приход означает
«колец мировой истории»,— и пет ничего нелепее и смехотворнее поз,
выражений, мимики «мистиков», для которых появление Коломбины
означает наступление новых, предреченных в апокалипсисе, времен:«Мистики в ужасе откинулись на спинки стульев. У одного бес¬
помощно болтается нога. Другой производит странные движения ру¬
кой. Третий выкатил глаза».. Уже одни эти ремарки призваны подчеркнуть смехотворность
происходящего на сцене, умственную дефективность «мистиков»; вы¬
каченные глаза, болтающаяся нога, странные движения — вое это
свидетельствует о беспомощности, нелепости, придурковатости «ми¬
стиков» перед лицом реальной действительности; они не в силах
осмыслить происходящего и переводят любые жизненные явления
и события на язык привычных для них бредней, аллегорий, фантазий:— Прибыла!— Как бела ее одежда!— Пустота в глазах ее!— Черты бледны, как мрамор!~ За плечами коса!— Это —смерть!Напрасно Пьеро уверяет их:— Господа! Вы ошибаетесь! Это Коломбина! Это — моя невеста!«Мистики» настолько поглощены «апокалиптическими» ожида¬
ниями, что уже не в состоянии прислушаться к голосу здравого смыс¬
ла и понять его. Слова Пьеро, пытающегося вернуть их в мир земных
и человеческих отношений, приводят в ужас, ибо разбивают их вы¬
думки и иллюзии; председатель собрания пытается увещевать его:— Вы с ума сошли. Весь вечер мы ждали событий. Мы дождались.
Она пришла к нам — тихая избавительница. Нас посетила смерть.Пьеро отвечает ему «звонким детским голосом», и в его детскости
и непосредственности слышится нечто схожее с голосом того андерсе¬
новского мальчика, который впервые сказал, что король — гол:— Я не слушаю сказок. Я — простой человек. Вы не обманете
меня. Это — Коломбина. Это — моя невеста.Председатель собрания пытается внушить ему, что перед ним не
Коломбина, не его невеста, а Бледная Подруга — смерть, но Пьеро не
внемлет ему; он собирается уходить, и тут па сцене впервые раздается
голос Коломбины:'108
— Я не оставлю тебя!Напрасно председатель собрания «мистиков» умоляет Коломбину
остаться с ними; «мы всю жизнь ждали тебя!» — взывает он к ней.
Но Коломбине не до них— она уходит с приглянувшимся ей молодым
и стройным Арлекином, и «мистики» остались в дураках.Среди «мистиков» наступает «общий упадок настроения... Рукава
сюртуков вытянулись и закрыли кисти рук, будто рук и не было.
Головы ушли в воротники. Кажется, на стульях висят пустые сюр¬
туки».Нелепые «пустые сюртуки» — вот и все, что осталось от «мисти¬
ков» с провалившимися головами, когда выяснилось, что их бредни
рухнули, апокалиптические чаяния потерпели крах, и, на взгляд поэ¬
та, нет ничего глупее и нелепее этих фигур, безжизненно повисших на
стульях и словно бы проглоченных их собственными сюртуками. Так
завершается ожидание «конца времен» и прихода «Жены, облечен¬
ной в солнце».Дурацкое положенно «мистиков» подчеркивалось в пьесе и харак¬
тером ее постановки, в которой бессмысленность всех их чаяний
и упований усугублялась тем, что они в глазах зрителей и в о обще-то
выглядели безголовыми — не только в переносном, но и в самом бук¬
вальном смысле этого слова; достигалось это довольно простым спосо¬
бом, о котором и рассказывает постановщик «Балаганчика» —В. 3. Мейерхольд, бывший в то время режиссером театра В. Комиссар-
жевской («О театре», 1913):«...за столом сидят «мистики» так, что публика видит лишь верх¬
нюю часть их фигур. Испугавшись какой-то реплики, «мистики» так
опускают головы, что вдруг за столом остаются бюсты без голов и без
рук. Оказывается, что это из картона были выкроены контуры фигур
и на них сажей и мелом намалеваны были сюртуки, манишки, ворот¬
нички и манжеты. Руки актеров просунуты были в круглые отверстия,
вырезанные в картонных бюстах, а головы лишь прислонены к кар¬
тонным воротничкам...» — и могло ли что-либо иное показаться боль¬
шей издевкой над ними тем людям, которые в «мистиках» «Балаган¬
чика» узнавали самих себя, а в их бредовых разговорах — свои самые
тайные замыслы и заветные чаяния!«Балаганчик» — комедия масок (наподобие итальянской «come¬
dia dell’arfe»), но не в традиционном ее духе, а в том, который
присущ творчеству Эдгара По, Гофмана, Достоевского и сочетается
с поэтикой символизма. Здесь автор стремится раскрыть «двойствен¬
ность» жизни, ее зыбкость, соседство с таинственным и непостижи¬
мым. Каждый выведенный в пьесе образ словно бы отбрасывает
длинную тень, каждый герой готов обернуться своим двойником,
а самое высокое чувство сменяется фарсовой ужимкой, человеческая
улыбка — жалкой гримасой. Все неверно, зыбко, ненадежно; челове¬
ческая кровь оказывается всего лишь клюквенным соком, страдание —
притворным, а даль, вырисовывающаяся в окне,— намалеванной на
бумаге, скрывающей пустоту,— в нее-то и проваливается Арлекин,
вознамерившийся дышать весною и идти навстречу всему миру,,.169
В этом странном мире, открывающемся перед поэтом во всей своей
непостижимости, сложности, противоречивости, а порою и двойствен¬
ности, в которой не так-то просто разобраться, мелькают самые раз¬
личные маски, порою сменяющиеся на одном и том же лице. Именно
этим приемом поэт подчеркивает роковую и неизбежную двойствен¬
ность своих «масок»: иод каждой из них скрывается существо, при¬
надлежащее двум несогласным и даже враждебным друг другу мирам,
а потому и внутренне противоречивое по самой своей природе (этот
мотив необычайно разовьется в лирике Блока, и в нее широким пото¬
ком вторгнутся образы масок, «двойников», оборотней).В «Балаганчике» возникают «двойники» как угроза всему светло¬
му и святому, том более неотвратимая, что она появляется не извне,
а изнутри, зарождается в самом человеке, как враждебное ему и все
же готовое захватить власть над ним начало, подобное страшной
и хищной Тени одной из сказок Андерсена.Тень-«двойник», спутник угрожает «темной участью» одному из
героев «Балаганчика», увлекает его к измене и гибели. И уже непо¬
нятно, кто кричит — сам ли «погибший человек», захваченный бурей
«цыганских страстей», или же его темный «двойник»?Я клялся в страстной любви — другой!Ты мне сверкнула огненным взглядом,Ты завела в переулок глухой,Ты отравила смертельным ядом!А его возлюбленная, влекущая его к погибели, и сама словно бы
влекома тайной и неподвластной ей силой:.Но я манила, — плащ мой летел
Вихрем за мной — мой огненный друг!Ты сам вступить захотел
В мой очарованный круг!Но пусть она сейчас торжествует над ним, «влюбленным», победу
и пророчит ему «темную участь»,—• он и сам может увлечь ее в ту же
бездну, в которой найдет свою гибель; бессильный одолеть ее колдов¬
ские чары — чары вампира, он становится упырем, видящим в ней
всего лишь очередную жертву:Смотри, колдунья! Я маску сниму!И ты узнаешь, что я безлик!Тьт смела мне черты, завела во тьму,Где кивал, кивал мне — черный двойник!Отныне он уже не знает, где его настоящее, а где двойник, изде¬
вающийся надо всем, что было дотоле дорого и свято, где он сам, а где
тень, неотступно преследующая его по пятам. Отравленный смертель¬
ным ядом, он, подобно герою старых сказок, забывает о той, которой
клялся в любви, идет за колдуньей, чувствуя себя бессильным перед
ее властью и вместе с тем испытывая пробуждение темных и могуще¬
ственных сил, воплощенных в образе «спутника», «двойника»:170
Иду, покорен участи строгой,О, вейся, плащ, огневой проводник!Но трое пойдут зловещей дорогой:Ты — и я — и мой двойник!«Он» и «опа» исчезают в вихре плащей, а за ними из толпы выры¬
вается кто-то третий — «совершенно подобный влюбленному, весь —
как гибкий язык черного пламени», и в этом «черном пламени» сго¬
рели многие юношеские мечты и бесплотные видения поэта...Вскоре эти новые мотивы и образы широким потоком вторгнутся
в лирику Блока, шагнут в нее с подмостков театра Комиссаржев-
ской,— но и в «Балаганчике» господствуют чувства разочарованности
в той, кому клялся поэт в вечной верности, и подозрение, что опа,
его «Прекрасная Дама», «Владычица вселенной», оказалась «картон¬
ной невестой» (так называет Пьеро покинувшую его Коломбину.)В первой пьесе Блока пересекаются и сплавляются мотивы и об¬
разы, находящие своо дальнейшее развитие в его лирике, с годами все
болео полно вбирающей реальный жизненный опыт поэта; вот почему
«Балаганчик» и знаменует новый этап в творческой биографии Блока.«Балаганчик» — произведение необычайно сложное, двойственное,
внутренне противоречивое: ведь в завершении пьесы перед Пьеро
предстает именно Смерть — в длинных белых пеленах, с матовым
женственным лицом и с косою, чье лезвие отливает серебром, как
опрокинутый месяц...При виде ее все участники маскарада бросаются в ужасе кто куда,
и только неудачник Пьеро, жизнь которого слишком печальна и запу¬
танна, простирает к ней руки, словно бы наделяя ее частицей своей
жизненной силы, и она оживает, оборачивается тою, кого он любит
больше всего,— Коломбиной, стоящей перед ним с тихой улыбкой на
спокойном лице.Но если Коломбина снова изменит свой облик, окажется кем-то
иным, неизвестным нам и дажо ужасным,— это уже никого не
удивит...Можно запутаться среди таких масок, символов, аллегорий, вде¬
вал ных метаморфоз, но самое главное, что определяет переломное
значение «Балаганчика» в творческой судьбе поэта,— это то, что оя
расставался с иллюзиями прошлого, с «апокалиптическими» бреднями,
с теми «мистиками», среди которых мог когда-то увидеть и самого
себя, прощался решительно, весело, гневно, увидев полную тщету
и бесплодность прежних надежд и упований. Вот откуда резкая шар¬
жировка персонажей этой пьесы — безголовых «мистиков», чающих
наступления «конца мира»,-- а ведь давно ли и сам поэт разъяснял
своей невесте возвышенный характер мистики и ее решающее значе¬
ние в людской жизни:«...мистики совсем не юродивые, не «олухи царя небесного»,
а только разряд людей, особенно ярко и непрерывно чувствующих
связи с «иным»...» (1903, ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 98, стр. 8).А вот теперь, в «Балаганчике», мистики — вопреки недавним
утверждениям самого поэта! — и действительно выглядят «олуха¬171
ми»—.в самом буквальном смысле этого слова!—с чем не могли
примирйться его недавние друзья.Сергей Соловьев (согласно воспоминаниям Андрея Белого) выра¬
жал свое «бурное возмущение невнятицей Блока» хлесткой фразой:— Это просто идиотизм!..Иных слов он не находил в адрес Блока, нарушившего верность
«завету служелья» былому божеству, и «...какова ж была его злость,
когда и шедевре идиотизма (слова его), иль в «Балаганчике», себя
узнавал «мистиком»: с провалившейся головой.«—• Пот, каков лгу и, каков клеветник! — облегчал душу он,—-
Но мм ли ого хватали за •шиворот: «говори — да яснее, яснее! Он же
в свою чепуху облек — нас!» («Между двух революций», стр. 25).Сам Андрей Белый возвращался к «Балаганчику» Блока неодно¬
кратно, как к тому произведению, в котором «кощунства» поэта над
своими былыми святынями достигают высшей степени и крайнего
предела; в статье «Синематограф» («Весы», 1907, № 7) Белый, имея
в виду Блока, сообщает, что былой храм, где молился поэт, «превра¬
тился в балаган. Нет, ие в балаган, а в балаганчик».Этот «чик» оказался той каплей, которая переполнила чашу тер¬
пения Белого, и он причитает, словно мучаясь нестерпимою зубною
болыо:«Все, что угодно, только не Бадаган«чмк». Уж, пожалуйста, без
«чик»; все эти «чики» — ехидная и, признаться сказать, гадкая штука.
Уменьшительные слова выражают нежность, будто достаточно к лю¬
бому слову приставить маниловское «чик» — и любое слово ласково
так заглянет в душу: «балаганчики» мистерию превращают в Синема¬
тограф...» (стр. 51).Но лучше, уверяет Белый, обыкновенный «синематограф», кото¬
рый «возвращает нам здоровую жизнь» — ведь в нем не слышно
мистического «чиканья», которое «наносит непоправимый дефект
душе»,— и Белый продолжает поносить «балаганчики» вместе с их
«чиканьем», с их злоехидными авторами, причем, конечно, для чи¬
тателей «Весов» не было секретом, против кого именно были направ¬
лены филиппики Белого.Говоря о «грязненьком привкусе марионеточной мистерии», при¬
сущем «Балаганчику», Белый утверждал:«В мистериях все но люди, а странные «Мужи», «Девы Радуж~
ные», «Облеченные» и т. и. Но часто они не выдерживают своей роли,
да в середине мистерии так тупо, тупо улыбнутся: «гыы, гыы». Наив¬
ные добряки поднимают персты и гаркают, как по команде: «Дерзнул,
еще дерзнул! Дерзнет и еще», словно дело идет о чиханье, невежестве,
трын-травизме...» (там же, стр. 52).Этого «трын-травизма», усматриваемого в «Балаганчике», подмену
истинного символизма его «провокацией», Белый не собирался «про¬
щать» Блоку и с невероятным оя^есточением обрушивался на поэта
за его «кощунства».В журнале «Весы» (да и не только в нем) появилось немало
уничижительных откликов на «Балаганчик», но надо отметить, что мы172'
замечаем здесь и совершенно другую — справедливую и лишенную
какой бы то ни было предвзятости — оценку пьесы Блока, принадле¬
жащую Валерию Брюсову; в то время как бывшие друзья Блока —
ныне его хулители — прямо-таки бесновались, усматривая в «Бала-
х'анчике» «ренегатство», «измену», издевку над своими святынями, да
и над искусством вообще, Брюсов совершенно по-иному судил об этом
произведении, в авторе которого чуть ли не впервые увидел большого
поэта. В статье, посвященной альманаху «Факелы» (где был впервые
опубликован «Балаганчик»), Брюсов (под псевдонимом «Аврелий»)
говорил о «драматическом наброске» Блока доброжелательно и объек¬
тивно:«Он написан в условной манере театра марионеток или пантоми¬
мы. У его героев деревянные жесты, как у кукол, и речь их — как
фистула на представлениях петрушки. Но в этом отрешении от нашей
искусственной сложности, в этой новой форме упрощенности — от¬
крывается какая-то неожиданная, вдубииа. Своей драмой Л. Блок
указывает на новыо сродства художественности, намечает какой-то
действительно новый путь в искусстве...» («Весы», 1906, № 5, стр. 58).Эти проницательные суждения и оценки Брюсова крайне далеки
от всего того, что пришлось выслушать Блоку но поводу «Балаганчи¬
ка» от других «весовцев», а особенно — от своих недавних друзей, но
они пропустили мимо ушей — и совершенно напрасно! — брюсовскую
оценку «Балаганчика». Более внимательное отношение к словам
«метра» (каким в то время являлся в их глазах Брюсов) избавило бы
их от многих слишком поспешных выводов и несправедливых упреков
в адрес Блока как автора этой пьесы.Поездка в Шахматове нанесла сокрушительный удар по «теокра¬
тическим» и прочим иллюзиям недавних друзей Блока, и, как говорит
Белый в своих воспоминаниях, «...свершалася драма души: погибала
огромная «синяя птица»; Прекрасная Дама перерождалася в Коломби¬
ну, а рыцари -™ в «мистиков»-, розоватая атмосфера оказывалась тон¬
чайшей бумагой, которую кто-то проткнул; за бумагою открывалось
ничто. Это все показал «Балаганчик»... («Эпопея» № 2, стр. 254).А так как сам автор, выведший «мистиков» «Балаганчика» на
осмеяние, еще недавно был в их числе,, то они и увидели в нем опас¬
ного соглядатая, выведавшего их «тайну», чтобы выставить ее на
посрамление.Белый вспоминает, что в «Балаганчике» все ему «бросилось изде¬
вательством, вызовом» и что самое чтение «Балаганчика» автором
пьесы было пережито им как «удар тяжелейшего молота-—в сердце»
(«Эпопея» № 3, стр. 131—132),— ибо после «Балаганчика» рухнули
все те мечты и фантазии, в которых Белый в то время видел основу
и главное назначение своей жизни.«Нам (то есть ему и С. Соловьеву. — Б. С.) ясно казалось, что
«миф» нашей жизни, «миф» вещий... свел , нас с Блоком для какой-то
большой малым разумом не осознанной цели, и мы, выражаясь сло¬
вами А. А. (Блока.— В. С.), «перемигивались» как заговорщики огром¬
ного дела; для этого «дела» мы выбирали «Блоков», как старших...»173
Но — «старшие»-то и подвели!«...что же случилось; огромное дело — комедия; «инспиратриса»,
которую мы так чтиля,— комедиантка; теург — написал «Балаган¬
чик», а мы —осмеяны: «мистики» «Балаганчика»... (там же,
стр. 264).Не мудрено, что при виде крушения «мифа» всей своей жизни
Белому было отчего прийти в отчаяние и исступление!Правда, впоследствии Белый не только признавал, что для созда¬
ния «Балаганчика» у Блока были все основания, но и сам описал
одни из тех вечеров в издательстве «Гриф» (опубликовавшем книгу
«Стихи о Прекрасной Даме»), где собирались «грифы», «аргонавты»,
«луниоструйпт.го» барышни и прочие декаденты и мистики, в тонах
и в духе «Балаганчика»:«...произошел балагап... кто-то из теософов воскликнул, что шест¬
вует, шествует Посвященный, и Эртель, блеснувши осатанелыми от
экстаза глазами, скартавил бессмыслицу, что Москва, вся объятая
теургией (вот что это «что» — позабыл: преображается, что ли?).
Вдруг сытый присяжный поверенный забасил: «Господа, стол тря¬
сется».При виде этого «душевного кавардака» Блок «посерел от страда¬
ния», как описывает дальше Белый, а у него самого все «замутилось
за А. А. (Блока.— В. С.), за себя, за Нину Петровскую» (одна из дея¬
тельниц символистского движения, игравшая значительную роль
в жизни и взаимоотношениях Белого и Брюсова и явившаяся прооб¬
разом Ренаты в романе Брюсова «Огненный ангел»).Андрей Белый назвал главу, посвященную встрече Блока с «гри¬
фами», «Ахинея». И действительно, трудно назвать другим именем
то, что происходило па этом вечере (где собрались и руководимые
Белым «аргонавты»), названном здесь же «грифским бредищем».
Андрей Белый с грустью замечает, что «проваливался в этот вечер
перед Блоком «аргонавтизм» — вместе с назойливыми воплями ново¬
явленных «апокалиптиков», их «скрежетопияьными ораниями» и, вет¬
шаниями «спиритов», в глазах которых прыгал стол (от «потусторон¬
них» стуков!),«Глядите»и все, растаращась, на стол, запыхтели: а стол — ничего; оп —
стоял...» («Начало века», стр. 300—301).Блок только «каменел», когда его пытались вовлечь в подобную
«ахинею».Таким образом, даже в согласии с воспоминаниями самого Белого,
сатирически гротесковые образы лирической драмы Блока были весь¬
ма недалеки от реальных наблюдений поэта; ему, как это ни странно,
не приходилось заниматься невероятными выдумками: сама действи¬
тельность, быт и характер тех «мистических» и декадентских круж¬
ков, которые он посещал, предоставляли ому материал, необходимый
для создания подобных образов. В этом отношении весьма показатель¬
ны картины, изобрая:аемые Андреем Белым в его мемуарах и кажу¬
щиеся ему самому сцепами из «Балаганчика», которого Белый нико¬174
гда не мог «простить» Блоку и уже совершенно безнадежно и бесцель¬
но выговаривал Блоку в своих воспоминаниях:«...с моей точки зрения А. А. слишком быстро посмотрел на самого
себя со стороны оком прохожего варвара, литературного собрата По
перу и... незаслуженно осудил в себе темы этого времени (то есть
программу некоего «духовного обновления». — В. С.) в драме-пародии
«Балаганчик»... я до сих пор,— продолжает Белый,— с риском впасть
в полемику отстаиваю А. А. 1901—1903 гг. от А. А. 1907—08 гг...»
(«Записки мечтателей» № 6, стр. 24).Так Белый продолжал спорить с Блоком из-за «Балаганчика» —
даже и после смерти его создателя!Да, Блок в «Балаганчике» изменил «многому и многим» (как го¬
ворил Брюсов вслед за Вяземским), но его «измена» всему тому, что
шло вразрез с требованиями самой жизни, вставало на пути к ней,
была внутренне оправданной и необходимой — как необходимо возму¬
жание человека, который «изменяет» своему детству; много лот спустя
поэт, говоря о Гейне (в статье «О иудаизме у Гейне»), но, несомненно,
имея в виду и свой творческий путь, опыт своих переживаний
и наблюдений, раскрывает смысл подобных «измен»: «...я твердо знаю
только, что ряд измен, проистекающих не от бедности и убожества,
а от величайшей полноты, не от оскудения жизни, а от чрезмерного
накопления жизненных сил, которые рвут душу на части, совершил
Гейне...» (1919—1921) —и хоть все это, казалось бы, имеет характер
исключительно историко-литературных изысканий, но вместе с тем
(как зачастую бывает у Блока) становится и исповедью художника,
который делится с нами опытом своих страстей, раздумий, пережива¬
ний. Разве и самого Блока не обвиняли — на протяжении многих лет
и в разных обстоятельствах! — в «измене», и разве эти «измены» юно¬
шески незрелым взглядам и представлениям не происходили от «вели¬
чайшей полноты», от «чрезмерного накопления жизненных сил», на¬
полняющих душу творческим восторгом и чувством безоглядной сме¬
лости?!Но вот именно этого и не могли понять ого недавние друзья.Впоследствии, в 1910 году, Белый писал Блоку: «Ты пишешь мне,
что «Балаганчик» и «Незнакомка» — Твои: не сомневаюсь. Но в эпоху
появления этих драм мне казалось, прости меня, если я ошибался, что
ужасное подразумеваемое содержание Ты преподнес нам всем с ка¬
ким-то тайным злорадством. «Iia-те», съешьте...» — и, конечно, этого
«съешьте» недавние друзья и соратники Блока не могли переварить.
Им казалось, что поэт, создавая «Балаганчик», решил просто поглу¬
миться над ними. Других, гораздо более существенных, поводов и при¬
чин, вызвавших появление «Балаганчика», они не замечали, увлечен¬
ные своей распрей с поэтом, которой они и придавали характер
отповеди «предателю» и «клеветнику».Дальнейшие отношения Блока и Белого, обострявшиеся по
причинам сугубо личного характера, были крайне сложными и проти¬
воречивыми. Примирения сменялись размолвками и ссорами — вплоть
до вызова на дуэль, после которых следовали опять примирения,— по175
главное, что определяло характер этих отношений (и о чем Белый не
переставал выражать соя»'аления даже и после смерти Блока), остава¬
лось неизменным: Блок уже навсегда отошел от песнопений Прекрас¬
ной Даме, от «апокалиптических» настроений, от всего того, что
Белый именовал «конкретной мистикой». На ее путь поэт решительно
отказался вступить,— и все то, что казалось Белому вполне осущест¬
вимым и реальным и что могло исполниться — стоило Блоку лишь
захотеть! — рухнуло окончательно и навсегда.Впоследствии Белому ул!е никогда не приходило в голову рас¬
сматривать Блока как пророка некоей новой религии «Третьего заве¬
та», основоположника «Иоаннова храма», герольда «Жены, облечен¬
ной в солнце», «теурга», познавшего и несущего людям свет
божественных откровений. Подобным бродням поэт нанес своим
«Балаганчиком» смертельный удар — вот этого-то Белый и не мог
простить Блоку ни при его жизни, ни после его смерти.Да, впоследствии поэт мог сходиться со своими недавними едино¬
мышленниками и соратниками или расходиться с ними, дружить или
ссориться, но из «детства жизни» и связанных с ним фантазий и ил¬
люзий он ушел «без возврата», и это стало настолько очевидным для
его недавних друзей — да и для всех окружающих! — что уже никогда
потом опи по пытались возложить на Блока венец «теурга» и провоз¬
вестника пекоей «новой религии».Для самого Блока создание и постановка «Балаганчика» имела
огромное значение как расставание с отвлеченно-мечтательными на¬
строениями и иллюзиями прошлого, как выход в большой, тревожный,
подлинный, а не выдуманный мир.Поэт решительно и безоглядно шел навстречу жизни, смеясь
расставался со своим прошлым, со своим слишком затянувшимся
детством и выходил на новую и необычайно широкую дорогу, охва¬
ченный чувством своей силы, возмужалости и той зрелости, которой
некогда так не хватало рыцарю и певцу Прекрасной Дамы....Оба произведения, появившиеся в 1906 году,— «Балаганчик»
Блока и «Куст» Андрея Белого — заострены друг против друга, как
два скрестившихся на поединке клинка. «Балаганчиком» Блок расста¬
вался с розовыми снами и мистическими туманами своей юности,
а Белый своим «Кустом» укорял поэта в предательстве, союзе с «чер¬
том», в измене «Прекрасной Даме».Дальнейшую полемику с Блоком Андрей Белый и Сергей Со¬
ловьев, их соратники и единомышленники перенесли преимуществен¬
но на страницы журнала «Весы», ближайшими сотрудниками которого
они являлись; вот почему этот журнал, в котором против Блока была
открыта целая кампания, продолжавшаяся из года в год (вплоть до
закрытия журнала), не может не привлечь нашего внимания — слиш¬
ком многое значил он в судьбе Блока.
«ВЕЛИКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО»1. «СКАЗКА О ТОЙ, КОТОРАЯ НЕ ПОЙМЕТ ЕЕ» 'Дни революции были для Блока тем «важным временем», «вели¬
ким временем», когда могут разрешиться все трагические противоре¬
чия жизни, исполниться все, о чом раньше можно было только меч¬
тать; вот почему таким мраком, отчаянием, ужасом обернулась
в глазах поэта окружавшая его действительность, когда оказалось,
что революция идет на убыль, что силы самодержавия и реакции
одержали победу над восставшим народом:Вновь богатый зол и рад,Вновь унижен бедный...Поэт с болью, горечью, тоской убеждался постоянно и повседнев¬
но, что в жизни снова господствуют злые, хищные силы, что простой
человек снова попран и унижен, загнан в подполье, что «злу и ковар¬
ству меры нет...».Казалось бы, после революции 1905 года все вернулась на свои
места и привилегированные классы снова ухватили кормило власти,
чтобы уже не выпускать его больше из своих рук. Они обрушили не¬
бывалый террор на передовые силы русского общества, на активных
участников революции; они их убивали, вешали, расстреливали тыся¬
чами, десятками тысяч отправляли в тюрьмы и на каторгу, чтобы
окончательно и навсегда разделаться с «революционной заразой».Еще недавно в буре восстаний, в огнях пожаров, в клубящемся
пламени факелов, за которыми стелется красный свет, Блоку чуялось
начало какой-то новой жизни, слышался призыв к ней,— но гул этот
замолкал, пламя меркло, и казалось, что для «детей черной ночи» все
осталось по-прежнему:Нет, опять погаснут зданья,Нет, опять он обманул, —Отдаленного восстанья
Надвигающийся гул...( «Пожар»)Так писал поэт в конце 1906 года, когда революция уже шла на убыль....Наступала эпоха реакции. Либеральная буржуазия, еще вчера
демонстрировавшая свое свободолюбие, щеголявшая громкой прекрас¬
нодушной фразой, ныне, напуганная размахом революционного дви¬7 Заказ 534177
жения, угрожавшего достатку и благополучию «сытых», все более
явно смыкалась с силами реакции и самодержавия, оправдывала лю¬
бое предательство и ренегатство; процветала азефовщина в разных ее
видах и вариантах; болезненный, а то и извращенный эротизм про¬
низывал наиболее «модные» произведения декадентской литературы.Наступило то время, которое Горький назвал «самым позорным
и бесстыдным десятилетием в истории русской интеллигенции»,
и в нем Блок почувствовал дух «великого предательства».Почему поэт называл это предательство «великим»?Потому, что оно не носило мелкого, частного, «локального» харак¬
тера, а захватывало все области жизни, деятельности, переживаний,
даже самых, казалось бы, возвышенных, но подвергавшихся в эпоху
реакции опасным испытаниям и соблазнам и подчас изменявших свою
человеческую природу, славно бы выворачивающихся наизнанку
в условиях того мира, для которого поэт не находил более краткого
и точного определения, чем «страшный».Блок чувствовал: духом «великого предательства» заражены все
сферы и области «страшного мира», ни одна из них — даже самая
далекая от злободневности и современности — не свободна от его
влияния, и такие, казалось бы, извечно неизменные чувства, отноше¬
ния, привязанности, понятия, как любовь, дружба, семья, красота,
природа, мечта, благо, счастье и т. д.,— все это в условиях «страшного
мира» подвергается деформации, превращается в одно из тех орудий,
с помощью которых господствующие силы стремятся расширить
и упрочить свое влияние, и нет почти ни одной сферы и области,
которая была бы свободна от воздействия «страшного мира» и кото¬
рая — в той или иной мере — не становилась бы его проводником
и агентурой.«Великое предательство», стремившееся па все наложить свое
клеймо, означало отречение от всего подлинно человеческого, от на¬
следия культуры прошлого, от ее передовых и освободительных тради¬
ций; означало возвращение вспять, к дремучему зоологическому ин¬
дивидуализму,— и порою оно представало в своем отвратительно-обна¬
женном виде, а порою принимало весьма обманчивый, внешне
Привлекательный и даже соблазнительный облик.Пусть поэт, в сознании которого коренились самые причудливые
противоречия и предрассудки, не всегда умел разобраться в подлин¬
ной природе подобного «предательства», но отвращение ж нему помо¬
гало Блоку разглядеть его истинное и бесчеловечное существо даже
под самыми обманчивыми покровами.Слова поэта об омерзительном для него по самой своей сути
«великом предательстве» сказаны как бы Случайно и между прочим,
в произведении, которое никак нельзя отнести к наиболее значитель¬
ным и завершенным в творчестве Блока,— в «Сказке о той, которая
не поймет ее» (1907), но здесь мы находим ключ, с помощью которого
можно многое уяснить в переживаниях и раздумьях поэта, вызванных
новыми условиями, всем ходом исторических событий. И хотя в этой
«сказке» нетрудно обнаружить условпоеть и стилизаторство, но ее178
смысл совершенно очевиден, особенно если принять во внимание вре¬
мя, когда она создавалась, сопутствующие ей жизпенные обстоятель¬
ства, стихи и высказывания Блока, со многими из которых перекли¬
кается его «сказка». В ней поэт словно бы исповедуется перед нами
во всем, что ему пришлось пережить и передумать, встретившись
о одним из самых опасных соблазнов старого мира, воплощенным
в образе женщины-змеи, возникающей перед ним во всемогуществе
своей «красоты несказанной».Пусть временами кажется, что поэт навсегда подпал под ее
власть, под влияние ее темных сил и обольстительных чар, навсегда
пленен ими и всю свою жизнь отныне проведет «у шлейфа черного»,
подобного змеиной сверкающей чешуе,— но это не так. Даже и усту¬
пая ее обольщениям, поэт чувствует в себе готовность, когда придет
нужный час, одолеть их и покончить с ними.Иначе думают люди, в глазах которых поят, изменивший своему
прошлому, своей Прекрасной Дамо, погиб навсегда. Разговором о них
и открывается «сказка» Блока:«Уже разносились по городу слухи и толки о том, что он нарушил
торжественную клятву, когда-то данную им, и безвозвратно предался
в руки этой женщине...»Его врагам и друзьям казалось, что, соблазненный ею, ее страш¬
ной змеиной красотой, он, «доселе гордый и сияющий», не выдержит
испытания, падет, «замедлит путь свой в толпе предателей и сольется
с нею», станет одним из тех изменников, которые «кишмя кишели
вокруг него»; вот тогда-то, говорят его враги, «погибнет эта великая
душа, и змеи оплетут ее. Тогда погаснет ясный свет, и змея ударом
хвоста потушит лампаду».Голоса всех окружающих героя «сказки» — и врагов и друзей —
слились в единый хор, позорящий его как изменника и отступника
и пророчащий ому падение и гибель в кольцах женщины-змеи.Как будто так оно и было, ибо «тонкие чары томной женщины»
не давали ому покоя и он уступал им. Но какие опасности ни угрожа¬
ли ему, какие наваждения ни уводили его на ложные пути, где пучи¬
на прикрыта обманчивой, соблазнительно яркой ряской,—он видит
впереди ясные маяки, мигающие из будущего, и рано или поздно
вернется на «верный путь».Вот почему его душа «оставалась по-прежнему светлой, и ни одно
дурное и низкое слово не запало в нее глубоко. Все преодолевала эта
душа, переплывая все моря, как острогрудый корабль с лебяжьей
грудью...».Женщина, с которой друзья и враги связывают его имя, и в самом
деле является в «образах страшных и влекущих»: то он видит' ее
н вотще из звезд, в наряде, осыпанном звездами, то она кажется ему*
змоой — и этот образ станет одним из самых устойчивых, «ключевых^
в любогшой лирике Блока, проходит, вернее, словно бы проползает по
многим его стихам, тревожа и наполняя их шелестом шлейфо*в и шур¬
шанием ползущего в травах пресмыкающегося.В предательство, в отступничестве, п измене людям, а стало быть,7*179
и своему долгу, своему назначению есть нечто отвратительное, хищни¬
ческое, змеиное — вот почему образ змеи возникает в «сказке» Блока
как воплощение низменной и бесчеловечной сущности «страшного ми¬
ра». Возлюбленная, пытающаяся склонить героя «сказки» к измене
и предательству, и видится ему змеей: ее губы тонут «в змеиных пря¬
дях волос»; «по-змеиному— мгновенно верные — смотрели ему в гла¬
ва черные ее и сияющие глаза», и даже в большом кубке темно-крас¬
ного вина оп видит «темную и изменчивую влагу пролетевшей ночи,
когда заплясали и нем золотые змеи, как золотой ее и сияющий пояс»,
и образ змеи, обольстительно красивой, а вместе с тем жуткой и от¬
вратительной, отныне словно бы проследует поэта, влечет и отталки¬
вает, надолго приковывает ого к себе.Она, женщина-змея, покорна лишь древним инстинктам и хищни¬
ческим вожделениям,— как бы ни были современны и даже «модны»
ее покровы и одеяния, какими бы утонченными и изысканными вку¬
сами ни отличалась она. Но поэт знает, в чём она никогда не поймет
его,— и это дает ему такое ощущение своего человеческого превосход¬
ства, которое помогает одолеть все ее хищнические соблазны, в сущ¬
ности такие бедные и однообразные.Вся она, пленяющая «дикой, дразнящей и странной красотой»,
как «беспокойная ночь, исполненная злых видений» и отзывающаяся
голосом «более страстным и более нежным, чем всегда», требует пол¬
ной покорности — не только себе, но и своему царству, своему «темно-:
му раю», в котором пребывает ее душа; она просит его «совершить
великое предательство», и пусть поэт обещает этой женщине, которая
стала его «волей, воздухом и огнем», сделать все так, как пожелает
она,— но с рассветом проходят «все унижения бессонных ночей». Он
стряхнул «клочья ночи» с себя, «по существу светлого» (как говорит
поэт в письме к Андрею Белому). «Так не коснулась его сердца изме¬
на», безвозвратно уходит женщина, негодующая на то, что он не захо¬
тел до конца и до самого последнего дня разделить с нею все ее утехи
и вожделения, и его сердце не стало — и не могло стать — «сердцем
предателя».Такова мораль «Сказки о той, которая не поймет ее», завершаю¬
щейся взрывом восторга, торжества победы над всем темным, змеи¬
ным, предательским, что соблазняло се героя — и не смогло со¬
блазнить!Многое в «сказке» Блока стилизовано в духе прозы и рисунков
английского художника — эстета и декадента Обри Бердслея, и словно
бы с них срисованы образы отвратительных карликов с погаными
и двусмысленными улыбками, влачащихся на коротких ножках за
длинным шлейфом своей госпожи, небрежно зашнурованное платье
которой пе столько скрывает, сколько обнажает ее,— но даяед и в этих
мотивах, словно напетых с чужого голоса, поэт сумел выразить нечто
свое., гордое и высокое, ие растворяющееся до конца в сладостных
дурманах и чарах чужой, изысканно жеманной, обольстительно запле¬
тающейся речи; он угадал за ее невнятными шепотами, бормотанием,
заклинаньями мольбу о предательстве, призыв к измене — вот что180
помогло ему отвергнуть обманы и соблазны той, кому посвящена' его
«сказка».Конечно, когда Блок в «Сказке о той, которая не поймет ее»,
борясь с эстетством, с декадансом, с теорией «искусства для искусст¬
ва», использовал образы современного ему декаданса, то такая борьба
пе могла быть успешной до конца, являлась внутренне противоречи¬
вой. Нельзя, копируя Бердслея (как мы видим в данном случае), его
капризно-жеманную, откровенно стилизаторскую манеру (и в рисун¬
ках и в прозе), по-настоящему воспеть человека долга и подвига, но
и на этой узкой и тесной площадке Блок пытался «изнутри» взорвать
эстетство, противопоставить ему искусство героическое, искусство,
пронизанное пафосом великого служения, а не «великого предатель¬
ства». Пусть эта задача требовала совсем иных —и найденных поэтом
позже — средств для своего решения, но и здесь было заключено не¬
что необычайно важное в то годы, когда предательство и ренегатство
к сродо либеральной интеллигенции считалось нормой поведения;
ото внутреннее требоиаиио: ни в коем случае по смешаться «с тол¬
пой предателей», ни за что «пе слиться с ней».Так, перенимая чужой, искусственный язык, Блок дая<е и на этом
языке выговаривал необычайно важные для него истины, на чужой
площадке боролся с враждебными ему силами.«Великое предательство» — вот самый опасный враг, которого
поэт видел в окружающей его действительности, и пафос «Сказки
о той, которая не поймет ее» заключается в утверждении верности
долгу и подвигу, верности своему человеческому призванию и назна¬
чению, выше которого на земле нет ничего,— и само название «сказ¬
ки» утверждает чувство человеческого превосходства над всем темным
и низменным, что осаждает и обольщает ее героя. Ведь разве может
дажо и самая пленительная змея — при всей ее ляшвости и изворот¬
ливости — понять человека, увидеть тот свет, который горит и не
моргают в его душо? Ей этого по дано, ой кажется, что отношения
живых существ сводятся к отношениям хищника и его жертвы, а все
остальное — это занятная игра, в которой побеждает тот, кто перехит¬
рит и обманет другого. Так как же она моясет понять и эту «сказку»,
обращенную к ней, но находящуюся выше уровня ее сознания?! Вог
почему поэт, даже и поддаваясь ее обольщениям, все же никогда на
утрачивал чувства своего превосходства над нею — превосходства
человека над хищником.Враждебный Блоку дух «великого предательства» проникал во
многие области жизни и сферы философских, социальных, политиче¬
ских, эстетических, этических и прочих дисциплин, вытравляя из них
все человеческое н противопоставляя ему образ «белокурой бестии»
(Ницше), не признающей ничего, кроме своих личных интересов,
хищнических вожделений, насмехающейся над всеми великими
и бессмертными ценностями, выработанными человечеством за тыся¬
челетия развития его культуры. «Великое предательство» — стоило
только поверить его певцам и апологетам!—оказывалось вовсе не
предательством (само это слово звучало слишком грубо в ушах его
разносчиков и проповедников!), а чем-то восхитительно новым, ис¬
тинно современным, единственно разумным, прекрасным и даже бого¬
угодным, отвечающим одновременно и интересам человеческой лично¬
сти и божьим велениям, ибо победа индивидуализма и консерватизма
вполне соответствовала призывам и установлениям церковной
иерархии.Да, его сторонники и апологеты находили массу аргументов, на¬
чиная от философских и вплоть до шкурных,— каких угодно! —
в пользу образа мыслей и действий, продиктованных жаждой личного
блага и преуспеяния; они наступали широким фронтом на передовые
силы русского общества и даже само понятие об общественном и об¬
щественности пытались скомпрометировать, выдать за нечто эфемер¬
ное, отсталое, никчемное, смехотворное, изношенное, чье место — па
свалке истории; они издевались над всем тем, что отвечало духу на¬
рода, служило его кровным интересам, попранным в годы реакции.
Так «великое предательство» вторгалось повсюду, ощущалось в самой
среде, окружавшей поэта, в атмосфере, которою она дышала,— и Блок
отныне во всех областях чувств, отношений, жизни, с которыми по¬
стоянно и повседневно соприкасался, находил следы и признаки «ве¬
ликого предательства», борьба с которым, страстное разоблачение его
и становится отныне пафосом лирики Блока, придает ей воинствен¬
ность и мятежность,2. «ТРИДЦАТЬ ТРИ УРОДА»По-своему «великое предательство» совершалось в области лите¬
ратуры и искусства, где в моду входили еще недавно гонимые
и осмеиваемые декаденты, ставшие законодателями вкусов и заняв¬
шие господствующее положение на книжном рынке, где особым
спросом пользовались произведения либо нолупорнографического,
модернистско-декадентского, либо откровенно ренегатского характера
(не случайно переиздания либерально-ренегатского сборника «Вехи»
бойко выходили одно вслед за другим).Кто был кумиром мещанского, либерально-буржуазного по своим
воззрениям читателя — потребителя этой литературы?Одним из его «кумиров» являлся Фальк, герой романа Станислава
Пщцбышевского (весьма модного писателя эпохи реакции) «Иогпо
sapiens», «белокурая бестия», не только лишенная чувства долга,
совести, ответственности за свои деяния, но и вообще полагающая
его чем-то безнадежно устарелым, смешным, отсталым и стоящая «по
ту сторону добра и зла», согласно положениям учителя всех подобных
«бестий» — Ницше. А ведь эти Фальки, которые, считаясь лишь со
своими прихотями и вожделениями, «зачем-то шествуют по женским
трупам» (Блок), и стали героями в глазах буржуазного читателя,
пытавшегося измену делу революции выдать за пекую доблесть, до¬
ступную лишь утонченным натурам, избранникам, высшим предста¬
вителям человечества,— и он равнялся на Фалька в своей жизни
и деятельности.182
Станислав Пшибышевский поучал своих читателей и почитателей:«Ось нашей жизни это — любовь и смерть.Все, что только существует в человеческом мире: семья, общест¬
во, государство, война, убийства, преступления,— все это вещи второ¬
степенные...» («Весы», 1904, № 5, стр. 1),—и пытался отвлечь своих
читателей от этих «второстепенных вещей», изображая искаженные
и уродливые картины жизни, пронизанные духом сексуальной истерии
и психопатии; в декадентской литературе эпохи реакции у него
нашлось много последователей и продолжателей, также готовых све¬
сти всю жизнь человека к «вопросам пола».Пожалуй, наиболее характерное и самое известное произведение
подобной литературы — это роман М. Арцыбашева «Санин», героем
которого является человек, не признающий ничего, кроме cbohjc лич¬
ных интересов и вожделений, вертикальный козел в брюках,— говоря
словами Горького.Огромным успехом и опросом у читателя-мощаишт пользовались
и публиковавшиеся носколысо позже тома обширного бульварного
романа А. Вербицкой «Ключи счастья», где также воспевались «сво¬
бодная любовь», погоня за самыми «острыми» наслаждениями, все¬
возможные пикантные «изыски» и похождения его героев.В те же годы выступал и Анатолий Каменский со своими полу-
порнографическими рассказами, такими, как «Леда» или «Четыре»,
в которых воспевалась власть голых инстинктов, всякого рода распу¬
щенность.Именно в это время поэт Рославлев прославлял своего «непоня¬
того брата» — Иуду, а Леонид Андреев написал рассказ, героем кото¬
рого являлся тот же Иуда, «несправедливо» заклейменный людским
судом.Одним из самых ядовитых и отвратительных плодов литературы
тех лет явился и роман Федора Сологуба «Навьи чары» (первая часть
которого называлась «Творимая легенда») с главным «героем» — из¬
вращенным выродком Триродовым, сочетавшим и себе качества «мага»
и растлителя, развлекавшегося с иомощыо «тихих мальчиков» и тру¬
пов, превращенных им в кристаллы. В романе выведены и распутная
«социал-демократка» Алкина и другие «революционеры», в лице кото¬
рых автор оклеветал передовые слои русского общества, хотя и стано¬
вился в позу поборника «чистого искусства», чуждого земной «коры¬
сти».«Веру кусок жизни — грубой и бедной, и творю из него сладости
ную легенду, ибо я — поэт,—велеречиво вещал Федор Сологуб.—Кос¬
ней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром,— над
тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очарова¬
тельном и прекрасном...»Но от того «очаровательного» и «прекрасного», что «воздвиг» Фе¬
дор Сологуб в своей «Творимой легенде», повеяло таким смрадом, та¬
ким тяжелым духом «великого предательства», откровенной измены
всем передовым и освободительным традициям, что В. Воровскому ав¬
тор романа напомнил — и далеко не случайно] — образ мародера, вы¬183
шедшего с весьма низменными целями па ноле «вночь носле битвы».А ведь Федор Сологуб — крупный поэт, автор романа «Мелкий
бес» — сумел раскрыть в образе Передоиова уродливость и опасность
мещанина, рассматривающего всю действительность с точки зрения
сугубо личных интересов, как поло для удовлетворения своих потреб¬
ностей, вожделений, честолюбивых притязаний, а потому и видящего
мир не в реальном, а в уродливо-обезображештом и искаженном свете.
Почему жо автор «Мелкого боса» опустился до создания «Навьих
чар»?Единственное объяснение в том, что он протянул руку реакции,
отдал свое перо па служение ей; вот почему на страницах его романа
друг за другом потянулись уродливые Триродовы, алчущие любовных
утех, распутные «социал-демократки» Алкины, отвратительные «тихие
мальчики» и прочие жалкие и столь же уродливые персонажи — по¬
рождение помраченного и болезненного воображения.Так стремление послужить реакции, восславить магию, мистику,
всякую чертовщину, вложить свою долю в «разоблачение» революции
и ее деятелей довело Сологуба — да и не его одного! — до невероятного
падения и как художника и как гражданина. Горький справедливо
говорил в 1907 году в письме к В. В. Вересаеву об издательстве «Ши-
повпик» и выпускаемом им одноименном альманахе: «...после романа
Сологуба «Творим:ая легенда» не считаю это издательство приличным»
(«Сочинения», т. 29, Гослитиздат, 1955, стр. 40).Впрочем, авторы подобных сочинений ни о каких «приличиях» и
не помышляли. Наоборот, они словно бы состязались в том, кто из них
превзойдет другого в нарушении каких бы то ни было «приличий» и тем
самым в наибольшей степени потрафит либерально-буржуазному чи¬
тателю — хозяину книжного рынка и главному потребителю декадент¬
ской литературы, ценящему ее в той мере, в какой она оправдывала
и даже воспевала его предательство и ренегатство, а также «порногра¬
фию в рамках и картинах».В эти годы, которые Блок впоследствии называл «временем самой
глухой реакции», с особенной силой процветал «культ любви», и мно¬
гие люди, еще так недавно увлекавшиеся революционными идеями
и настроениями, после поражения революции целиком посвятили себя
этому «культу».Михаил Кузмин выступал на страницах «Весов» со стихами, в ко¬
торых воспевал «иебывалость знойных поз», и, чтобы не было никако¬
го сомнения, что это за «позы», добавлял:Замиранье, обниманье,Рук змеистых завиваиье
И искусный трепет ног...Так оп писал в цикле «Любовь этого года» («Весы», 1907, № 3),
вскоре после опубликования своей повести «Крылья» («Весы», 1906,
№ 11), которая приобрела скандальную известность даже в те дни,
когда подобными скандалами трудно было кого-нибудь особенно уди¬
вить.184
Герой этой понести, «изысканный» эротоман Штруп, проповедует
и воспевает самый откровенный и противоестественный разврат —под
видом культа «красоты» и «эллинизма» соблазняет и развращает юно¬
шу, а одна из «героинь» М. Кузмина внушает тому же юноше, что
и вообще любое желание, любое вожделение — «от бога» и, стало быть,
«грешно» противиться извращенным наклонностям.Вот такая растленная литература и наполняла «озера пошлости
и глупости» (пользуясь выражением Горького из письма к И. Ладыж-
никову), заливавшие книжный рынок в годы реакции.Повести Михаила Кузмина «Крылья» вполне соответствовала и по¬
весть Л. Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода», с той разницей,
что ее героями являлись не мужеложцы, а лесбиянки, «утонченные»
переживания и противоестественные отношения которых являлись
для автора объектом нездорового любопытства и «пикантных» описа¬
ний,— и сколько в декадентской литературе тех лот бродило подобных
«уродов», воображавших себя утонченными натурами, законодателями
моды и властителями дум современной молодежи!От этой «абсолютной свободы» для всякого рода извращенности
и порнографии в самых многообразных ее оттенках и видах повеяло
таким смрадом, что захватило дух даже у такой ко многому привыкшей
писательницы, как Зинаида Гиппиус, которая и сама немало потруди¬
лась над культивированием и распространением декадентства в России.В статье «Братская могила» («Весы», 1907, № 7), опубликованной
иод псевдонимом «Товарищ Герман», она, походя лягнув Горького (как
и полагалось декадентской поэтессе!), упрекала и редакцию журнала
«Весы» за опубликование элементарно непристойных произведений.
Выражая несогласие с «тактикой» журнала, 3. Гиппиус выговаривала
ею редакторам:«Хулигана в горьковском отрепье они отвергнут,— но разве так
■трудно распознать хулигана в александрийской тоге, новомодного «эк¬
са»— в смокинге?» (намек на «Крылья» и «Александрийские песни»
Михаила Кузмина).Автор «Братской могилы» отмечает «два главные течения новей¬
шей литературы»: «менее изящная», в которой «пошло, главным обра¬
зом, изображение революции», и «более изящная»:«...эта последняя воспользовалась снятием цензуры... для «заго-
ления и обнажения». Она сделалась сплошь «эротической»... Вернее
же, не эротической, а просто порнографической. Я... отмечаю расцвет
хулиганства (т. е. самой яркой антикультурности), наплыв хулиганов
именно в той стороне, где преимущество отдается «эротическому заго-
лению». Далее 3. Гиппиус — на правах «старшей» и «наставницы» —
поучает писателей, в сущности близких ей, принадлежащих к одному
с ною литературному лагерю:«...все-таки нехорошее дело: подменять искусство — физиологией
и патологией (последней отдается усиленное преимущество), художе¬
ственное творчество — заголением...» («Весы», 1907, № 7, стр. 59—60).Все эти высказывания приобретают значение свидетельства 'аело-
века из того же литературного лагеря, понимавшего, как скверно об-185
Стоят дела в этом лагере, а также и то, что на одной эротической «па¬
тологии» далеко не уедешь.Но, думается, напрасно жаловалась 3. Гиппиус на появление про¬
изведений, задевавших ее чувство пристойности,— ведь в разложении
литературной среды тех лет немалую роль сыграли и «модные» в то
время сочинения ее супруга —Д. Мережковского, проповедовавшего
культ «святой плоти» и всякого рода «бездн» («верхней» и «нижней»)*
в слиянии которых внутреннему взору «посвященных» открывается
некая новая святость,— а Мережковскому и его проповеди всяческих
«бездн» вторила и сама Зинаида Гиппиус, которая кликушески воскли¬
цала ;«Нам нужно, во что бы то ни стало нужно освятить пол новою все-
озаряющей святостью. Нужно понять тайну непорочного зачатия, дев¬
ственного материнства, тайну пола (курсив мой.— В. С.) до конца —
до конца мира,— и не теоретически, не отвлеченно, богословски,— а
пламенно, девственно, жизненно...» (Антон Крайний (3. Гиппиус), «Ли¬
тературный дневник», С.-Петербург, издательство Пирожкова, 1908,
стр. 150),— и многие ее читатели и почитатели очень «пламенно»
и очень «жизненно» (то есть вполне практически), хотя, быть может,
и не столь уж «девственно», стремились постичь «тайну пола», в ре¬
зультате чего как мистико-религиозная, так и явно порнографическая
литература приобрела небывалый размах.Немало шума вызвала в свое время и теория «мистического анар¬
хизма», провозглашенная одним из друзей Блока — поэтом и писате¬
лем Георгием Чулковым, выпустившим книгу «О мистическом анар¬
хизме», со вступительной статьей Вячеслава Иванова «О неприятий
мира» (Петербург, издательство «Оры», 1906).В своей программной статье, опубликованной под широковеща¬
тельным заголовком «На путях свободы», Г. Чулков толковал об анар¬
хизме как учении «о путях освобождения индивидуума от власти над
ним не только внешних форм государственности и общественности, по
и всех обязательных норм вообще — моральных и религиозных...» —‘
и решительно заявлял:«...под мистическим анархизмом я разумею учение о путях послед¬
него освобождения (I), которое заключает в собо последнее утвержде¬
ние личности в начало абсолютном...» (Г. Чулков, «О мистическом
анархизме», стр. 28); вот такого рода «учение», отвергающее какие бы
то ни было моральные устои и общественные принципы, Г. Чулков й
провозглашал под именем «мистического анархизма».Нелишне будет напомнить и то. как — согласно воспоминаниям
Андрея Белого — усваивался «мистический» и прочий «анархизм» в по¬
вседневном быту тою буржуазно-либеральной интеллигенцией, которая
полностью отреклась от недавних революционных настроений и увле¬
чений:«Неизреченность» вводилась в салон, и анархия становилась свер¬
жением штанов под девизами «нового» культа...»Все это полностью отвечало духу буржуазно-мещанской анархии —
и «...лесбианская повесть Зивовьсвой-Апнибал и педерастические стн:ш186
Кузмина; они вместе с программной- лирикой Вячеслава Иванова
о «333» объятиях брались слишком просто в эротическом, плясовом,
огарочном бреде...». И вот, продолжает А. Белый, «писалось стихотво¬
рение, смысл которого вызывал во мне вскрик: изнасилование девуш¬
ки называлось громко «причастием»; не нравились и филологические
комментарии на смысл евангельской любви с неизменным припевом:
любовь — дерзновенна; хотелось воскликнуть: в каком же смысле?
Розанов хрюкал весьма недвусмысленно; эта любовь — платоническая;
а Платон любил юношей...» («Между двух революций», стр. 197).На знаменитых в свое время в наиболее «рафинированных» кру¬
гах литературной богемы и художественной интеллигенции «средах»
Вячеслава Иванова, на его «башне», куда собирались известные поэты,
художники, провозвестники «соборного индивидуализма», «неприятия
мира», «полной свободы», господствовал тот особый дух, о котором го¬
ворит в своих воспоминаниях С. Городецкий:«...все было замкнуто в узком мистико-оротическом, шгголлигент-
ски-самодоволыюм кругу. Запах тления воспринимался как божествен¬
ный фимиам. Сладко-дурманящая, убаюкивающая идейными наркоза¬
ми атмосфера стояла на «Башне», построенной «высоко над мороком
жизни». Дурман все сгущался. Эстетика сред все гуще проникалась
истонченной эротикой...» («Печать и революция», 1922, № 1, стр. 81).Таковы были нравы, отвечавшие теориям «двух бездн», «неприятия
мира», всяческих «проблем пола».В этой атмосфере и парили «Крылья» М. Кузмина, рождались
«Тридцать три урода» Зиновьевой-Аннибал и многие, другие малопри^
стойные произведения, на появление которых жаловалась даже Зи¬
наида Гиппиус.Какой смысл приобретали подобные писания (а их было тоже¬
ство) и как они использовались в условиях наступающей реакции?Они приобретали значение одной из самых ядовитых отрав, при¬
званных подорвать силы и сознание человека, отвлечь его от решения
больших и насущных вопросов жизни, общественности, политики (ко¬
торые объявлялись «второстепенными», «мелкими», «несущественны¬
ми»),— и в этом смысле были на руку правящим классам, па руку ли¬
беральной буржуазии, открыто перешедшей в лагерь контрреволюции.
Вот почему и декадентская литература оказалась весьма ко двору, во¬
шла в моду и заняла господствующие позиции на книжно-журнальном
рынке — за счет литературы прогрессивной и подлинно демократиче¬
ской.Когда мы знакомимся с подобной литературой, невольно вспомина¬
ются речи адвоката Лысевича (из чеховского «Бабьего царства»), со¬
четавшего в своей натуре лакейскую угодливость, бесстыдное вымога¬
тельство с обожанием всяческой скабрезности. Это он убеждал миллио¬
нершу Анну Акимовну:«Женщина fin ,de siecle,— я разумею молодую, конечно, бога¬
тую,— должна быть независима, умна, изящна, интеллигентна, смела
и немножко развратна. Развратна в меру, немножко, потому что, согла¬
ситесь, сытость есть уже утомление. Вы, милая моя, должны не прозя¬187
бать, не жить, как рее, .а смаковат,ь жизнь, а легкий, разврат есть: соус,
жизни...»Вот этим «соусом» и были сдобреиы — сверх всякой меры — наи¬
более, «модные» произведения декадентской литературы того временя,
и многие писатели декадентского лагеря, может быть и сами того но
подозревая, полностью следовали советам Лысевича, стремясь «не про¬
зябать» и но жить «как все».В Статье «Разрушение личности» (1908) Горький гневно заклей¬
мил тех литераторов, которые «услужливо следуют за мещанами в их
суете и тоже мечутся из стороны в сторону, сменяя лозунги и идеи,
как платки во время насморка. Но уже ясно,— подчеркивал Горь¬
кий,— что самая крупная и бойкая мышь в голове современного писа¬
теля — антидемократизм...» (М. Горький. «Статьи». Петроград, изда¬
тельство «Парус», 1918, стр. 47).Вот эту «мышь» Горький в своих статьях, написанных в годы реак¬
ции, прищемил за хвост и показал миру — во всем ее ничтожестве
и всей ее омерзительности.Писатели-декаденты, открыто перешедшие в лагерь реакции, не¬
утомимо разглагольствовали о своей «абсолютной независимости» от
денежного мешка, взывали к самой полной «последней свободе», имея
в виду «свободу» от долга, морали, совести и прочих «пережитков», ко¬
торые они вполне успешно преодолевали (переходя на позиции пре¬
дательства и ренегатства),— но в своей статье «О цинизме» (1908)
Горький своевременно и глубоко раскрыл истинный смысл подобной
проповеди «последней свободы».«Цинизм прикрывается и свободой — исканием полной свободы —
это наиболее подлая маска его...— замечает Горький в своей статье
и говорит далее: — Литература, устами наиболее талантливых писате¬
лей, единогласно свидетельствует, что когда мещанин, устремляясь
к полной свободе, обнажает свое «я» — перед современным обществом
встает яшвотное».«Очевидно, это явление неизбежное и независимое от воли авто¬
ров,— иронически замечает Горький.— Их усилия почтенны и ясны —
им хочется дать поучительный образ человека, совершенно свободного
от предрассудков и традиций, связующих мещап в целое, в общество,
стесняющее рост личности, им хочется создать «положительный тип»,
героя, который берет от жизни все и ничего не дает ей...» (там же
стр. 70).Вот эту «наиболее подлую маску» и срывает Горький с проповед¬
ников «последней свободы», с того «героя», который все и всех готов
принести в жертву удобствам и усладам своего собственного существо¬
вания; против таких «героев» декадентской литературы, претендую¬
щей па небывалые открытия и достижения в области эстетики, «но¬
вой красоты», и восстает Горький в своей статье, обнажая уродливое
существо декадентского искусства, его творцов и торговцев:«В хаосе полумертвого от голода тела, в черном вихре рубищ, вер¬
тится обожженный развратом и болезнями циник, с бессильными мус¬
кулами, с размягченными костями, с безумной предсмертной жаждой183
острых наслаждений и тусклыми глазами на желтом лице под голым
черепом...» — и при этом «находит необходимым прикрывать свои бе¬
зобразия вуалыо некоторых высших соображений.— Ищу последней свободы! — торжественно возвещает он, пропо¬
ведуя н демонстрируя однополую любовь,А насилуя мальчиков, провозглашает возрождение эллинской кра¬
соты и философствует на тему о том, что природа создала женщину,
преследуя свои цели, но ее цели — узы и цепи для человека, а потому...— Долой узы!*Но не брезгает и женщиной, развращает и ее, по мере сил своих...»
(там же, стр. 68—72).Все это — не в бровь, а в глаз создателям таких произведений, как
«Навьи чары», «Крылья», «Тридцать три урода», и прочих «уродств»
декадентской литературы, претендующих на то, чтобы сказать нечто
великое, небывалое, невероятно смелое,— а на деле потрафлявших
самым низменным вкусам и запросам: Мещанина, напуганного револю¬
цией и жаждущего окончательно разделаться с нею, вычеркнуть ее из
своей памяти и из своей жизни,— и здесь многое в мыслях Горького,
в его высказываниях перекликалось с раздумьями Блока, стало ему
близким и дорогим.3. «ТЕБЯ ПОДСТЕРЕГАЮТ ВСЮДУ...»Важно подчеркнуть, что в годы реакции Блок оставался верен меч¬
там и помыслам, рожденным в дни революции; верен даже и тогда, ко¬
гда окружающая его среда была охвачена духом «великого предатель¬
ства», и боролся с этим предательством — тем более настойчиво и ре¬
шительно, чем явственнее охцущал его дух, стремившийся отравить все
области жизни, куда только ни проникал.Пройди опасные года.Тебя подстерегают всюду...—(1912)обращается поэт к самому себе с призывом, в котором слышится на¬
стороженность к окружающей его жизни; он видел, что каждая ее об¬
ласть становилась — в условиях реакции — филиалом «великого преда¬
тельства», и в любой из них находил нечто враждебное человеку, опас¬
ное и обманчивое.Да, это время и поистине было теми «опасными годами», когда лю¬
бая область чувств, переживаний, отношений становилась в глазах по¬* Последние строки в наиболее полной мере адресованы повести
М. Кузмипа «Крылья». Тем более странно, что ата повесть, вызвавшая
в своо время справедливое возмущение передовой общественности, ныне
превозносится в статье Г. Шмакова «Блок и Кузмин» («Блоковский сбор¬
ник», II, Тарту, 1972) и именно потому, что «Крылья» нестрят_ страницами,
посвященными «...красоте, свободной от понятий морали, добра и поль¬
зы»... (стр. 3!}2), Именно, с позиций подобного затрапезного эстетизма, но¬
сящего в наше время особенно анахронистический характер, и восхваляется
в статье Г. Шмакова новость М. Кузмина.189
эта искусом, обманом, соблазном, угрозой,— и сам Блок впоследствии
был изумлен, когда оказалось, что он прошел сквозь все эти исныга-
пия, сохранив и творческий восторг, и веру в человека, в его завтраш¬
ний день, когда все будет «уж не мое, а наше».Все страсти ухитряются в тебеСтать красотой и вызвать восхищенье...—говорит Шекспир о своей героине (в «Антонии и Клеопатре»), а
Блок обнаружил, что в условиях «великого предательства» все страстй,
чувства, связи — вплоть до самых близких, дружественных, семействен1-
пых, представления о счастье, благо, уюте, об искусстве, о прекрасном,
о цоли и смысле бытия, все, что составляет внутренний мир челове¬
ка,;— вступая в заговор с темными и злыми силами «страшного мира»,
уступая его угрозам, посулам, соблазнам, оказываются ого агентами
и проводниками, выворачиваются наизнанку, оскаливаются хищниче¬
ством, стяжательством, становятся не красотой, а безобразием, вызываю¬
щим непобедимое отвращение, как нечто низкое, жалкое и бесчело¬
вечное.В лирике Блока и прослеживаются эти перемены, метаморфозы,
превращения людой, «достойных званья человека», в калек, в жалкую
и гнилую труху, в хищников,— и вся она становится записью невероят¬
ных и горестных открытий, совершенных поэтом в области человече¬
ских чувств, страстей, отношений.Оказывается, что в условиях «страшного мира» видимость жизни
и ее явлений обманчива — и горе тому, кто слишком поздно догадает1-
ся об этом!Здесь на каждом шагу поэт встречает маски, скрывающие подлин¬
ное существо человека,— вот почему тема «маскарада» и «двойниче-
ства» играет такую важную роль в лирике Блока, и этот маскарад
принимает характер захватывающей и страшноватой игры, которая
ежеминутно может обернуться бедой, гибелью, утратой человеческого
облика,— если ты вовремя не разгадал и не разглядел ее истин¬
ной сути.Все это и взывало к настороженности, пытливости, зоркости, к той
чуткости ко всякой лжи, к любым обманам и соблазнам, без которой
человек и поистипе мог оказаться беспомощным и безоружным перед
лицом своего самого опасного врага — «страшного мира»,— и незамет¬
но для самого себя сдаться ему на милость. \Старый мир представал перед поэтом не только в своем грозном,
страшном, отвратительном облике; нет, у этого мира, как у двуликого
Януса, был другой облик — гораздо более утонченный, внешне привлек
кательный и даже соблазнительный. Он умел не только преследовать
человека всеми своими страхами или ужасами, но и прикинуться воз¬
вышенным, изысканным, утонченным, умудренным, добрым, снисходи¬
тельным к людским слабостям и порокам. Он мог обещать все бяйга
земли — и тогда борьба с ним значительно усложнялась и затрудня¬
лась, ибо немало требовалось проницательности, чтобы и в этом внеш¬
не привлекательном облике увидеть его истинное существо, против ко*190
торого восставал поэт, чье творчество становилось ареной непримири¬
мой борьбы с духом и силами «великого предательства».Перехожу от казни к казни
Широкой полосой огня... —(1907)так говорил Блок, прослеживая свой жизненный путь, ибо каждый
круг, сужденный ему, любая область «страшного мира» («Тебя подсте¬
регают всюду...») становились для него испытанием, казнью, соблаз¬
ном, пробой сил, школой борьбы, полем исследований и наблюдений,
каждый раз заново возникающей главою в его «трилогии вочеловече¬
ния».Конечно, не следует полагать, что Блок, вступая в эту борьбу, мог
дать безупречно точную оценку тех явлений — и произведений,— ка¬
кие были порождены духом предательства и ренегатства, выражали
его. Нет, он сам нередко утрачивал подлинно критическое отношение
к ним и даже одобрял их,— что свидетельствует о противоречивости
позиций самого Блока; далеко не всегда поэт умел уяснить, в чем
заключается дух «великого предательства»,— но лишь только улавли¬
вал его, так вступал с ним в решительную и беспощадную борьбу.В годы реакции мир, открывшийся перед поэтом и еще недавне
вызывавший чувство ни с чем не сравнимого и безграничного востор¬
га, явился «страшным миром», в котором любая дорога вела на один ие
тех кругов Дантова ада, где, казалось, не ожидало ничего, кроме боли,
отчаяния, унижения, а может быть и гибели.Так ужасен и беспросветен «мрак жизни вседневной», что опа
представала перед поэтом в образах Дантова ада, сопутствующих ему
в его «хождении по мукам»:День догорал на сфере той земли,Где я искал путей и дней короче.Там сумерки лиловые легли.Меня там нет. Тропой подземной ночиСхожу, скользя, уступом скользких скал.Знакомый Ад глядит в пустые очи...(1909)Так повествует поэт в стихотворении «Песнь Ада», и нисхожде»
пием по кругам Ада представлялась ему — в самые мрачные и траги¬
ческие «ночные часы» — его собственная жизнь, его «знакомый Ад»,—
а сколько таких «песней Ада», хотя бы они и назывались по-ияому,
слышится нам в лирике Блока!Пойдем же и мы вслед за поэтом по этим кругам, каждый из ко¬
торых являлся той или иной областью человеческих чувств, страстей,
отношений, подвергавшихся невероятным превращениям и словно вы¬
ворачивавшихся наизнанку в условиях «страшного мира» и той резк¬
ими, духом которой была пронизана среда, составлявшая ближайшее
окружение поэта.
«РАЗВЕ ЭТО МЫ ЗВАЛИ ЛЮБОВЫО?»1. «ЖИВОЙ КОСТЕР»Любовная лирика Блока и поныне захватывает своего читателя
силой и страстностью сказавшихся в ней чувств, необычайною широтой
того мира, который открылся поэту в любви, несущей с собою «музыку
и свет» и безграничной в своих возможностях; но, прежде чем оконча¬
тельно утвердиться в этом понимании и восприятии любви, поэт про¬
шел через многие испытания, обманы, соблазны, с годами все глуб¬
же — и на своем личном опыте — постигая, чем становится любовь в
бесчеловечных условиях «страшного мира»; вот почему так сложна
и противоречива любовная лирика Блока, в которой личное, неповто¬
римо индивидуальное, реально пережитое сочетается с историческим
и мировым.Тема и мотивы «рая вдвоем» — «змеиного рая», впервые затрону¬
тые в «Сказке о той, которая не поймет ее», становятся одними из са¬
мых постоянных в лирике Блока — в сочетании с темой «великого пре¬
дательства»; к ним он возвращается на протяжении многих лет,— но
сначала поэт пройдет сквозь самое сильпое и всепоглощающее увле¬
чение «любовыо-страстыо» (Стендаль), любовью-стихией, прославит
«бурю цыганских страстей», утверждая, что именно в ней, в ее свете
и пламени, совершается преображение человека, а стало быть, и ми¬
ра,— и все это по-своему связывается у поэта с его концепцией рево¬
люции, осмысленной как великая и неукротимая стихия, верная стихи¬
ям самой природы.Появление «Балаганчика», в котором наиболее резко обозначился
разрыв Блока с некогда захватившей ого «мальчишеской мистикой»,
отозвалось необычайно значительными переменами в судьбе поэта, в
образе его жизни, в самом звучании его лирики.Не только созданию, но и постановке «Балаганчика» сам поэт при¬
давал крайне важное значение в своей, да и не только в своей, жизни;
он писал режиссеру театра В. Ф. Комиссаржевской (и постановщику
«Балаганчика») В. Э. Мейерхольду, что «...в объятиях шута и бала¬
ганчика старый мир похорошеет, станет молодым, и глаза его станут
прозрачными, без дна».Вот почему поэт не только «мирился» с теми недовольствами, ко¬
торые возникали в его «лирической душе», далеко не всем удовлетво¬
ренной работой Мейерхольда (как писал он постановщику пьесы), но
и испытывал гораздо более глубокие чувства, вызванные сознанием192
того, что совместная с театром работа над «Балаганчиком» ведет его
в новый и необычайно широкий мир.Сотрудничество с театром В. Ф. Комиссаржевской поэт рассматри¬
вал как одну из форм приобщения к людям, к подлинной жизни, о чем
и говорил в том же письме к Мейерхольду: «...поверьте, что мне нуж¬
но быть около Вашего театра, нужно, чтобы «Балаганчик» шел у Вас;
для меня в этом очистительный момент, выход из лирической уединен¬
ности...» (1906)—той уединенности, которая крайне тяготила поэта
в дни, когда пробудившиеся в нем жизненные силы жаждали и не мог¬
ли найти исхода. Таким исходом и представлялось Блоку сотрудниче¬
ство с театром, являвшимся, как сообщает о себе поэт в одном из пи¬
сем к Брюсову, «...близкой и родной для меня издавна стихией...»(1907).В этой стихии поэт видел начало, песущоо в себе всесильную и
очистительную красоту, призванное преобразить весь мир, отбросить
•все то молкоо, жалкое, ничтожное, что уродует и принижает человека.
Вот чем являлся театр в глазах Блока,— и далеко не случайно его
пристрастие к театру, его тяга к артистической среде, где он вскоре стал
«своим», его увлечение артисткой Наталией Николаевной Волоховой
(игравшей в «Балаганчике» роль одной из «масок»), да и другие увле¬
чения «масками» и «незнакомками».Зимой 1906—1907 года поэт создал совершенно необычный для
него и посвященный Н. Н. Волоховой цикл стихов «Снежная маска»,
переживал всепоглощающее увлечение его героиней «с глазами крыла¬
тыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города» (как пи¬
сал он в своем посвящении). Об Н. И. Волоховой говорит поэт и в од¬
ном из примечательных писем, обращенных к жене и. относящихся
к поре увлечения «Снежной маской»:«Ты важна мне и необходима необычайно; точно также Н. Н. (Во-
жшнт.— Г>. С.)конечно, совершенно по-другому. В вас обеих роко¬
вое для меня. Если тебе ото больно — ничего, так надо. Свою руково-
димость и незапятнанность, несмотря ни на что, я знаю, знаю свою
ответственность и веселый долг...» (1907; ЦГАЛИ, ф. 55, ои. 1, ед. хр.
100, стр. 1—2).Поэт видел в те дни в образе Волоховой женщину-комету, жешци-
ну-стихшо и слепо «отдался стихии» (говоря его словами).В то время изменился и весь характер «быта» Блоков. Уже в 1907
году, замечает Андрей Белый, их жизнь текла по-иному, чем прежде:
«...они разлеталися, собираясь за чайным столом, за обедом; и вновь
разлетались; казалось, Л. Д. улетает на вихре веселья от жизни с А. А.,
увлекавшегося артисткой Волоховой... Он увлекался всецело теат¬
ром...» («Между двух революций», стр. 333).Действительно, жизнь Блокова шла теперь по иному руслу, и Лю¬
бовь Дмитриевна отныне весело и запросто принимала то новое, что
поначалу так страшило ее. В это время и сама квартира поэта приоб¬
рела (как сообщает он в письме к А. В. Гиппиусу) «богемный харак¬
тер»: в ней «ветер свищет, много людей ходит, много разговоров и мол¬
чаний...»— и этот ветер беспощадно выметал остатки былого уюта,
покоя, «недвижности». Богема ворвалась по только в квартиру поэта,
но и в его личную жизнь, на какое-то время завладела им. Сам поэт
впоследствии скажет о том «водовороте», который повлек его за собой:«Я первый, как давно тайно хотевший гибели, вовлекся в серый
пурпур, серебряные звезды, перламутры и аметисты метели. За мной
последовала моя жена, для которой этот переход (от тяжелого к лег¬
кому, от недозволенного к дозволенному) был мучителен, труднее, чем
мне...» (1917), и если уяснить, что на деле, в самой жизни, означали
эти слова, многое в лирике Блока откроется нам в непосредственной
связи с характером переживаний и житейским опытом поэта. Он наде¬
ялся, что этот «водоворот» и эти метели вынесут его к тем берегам, где
начинается преображение жизни и она становится радостной, прекрас¬
ной, свободной, подлинно человеческой (хотя вскоре и убедился в яв¬
ной беспочвенности своей надежды).Впоследствии сама JI. Д. Блок заметит, что «...чудесно рассказана
наша зима В. П. Веригиной в ее воспоминаниях о Блоке» (ЦГАЛИ,
ф. 55, on. 1, ед. хр. 519, стр. 147). И верно, в этих воспоминаниях быв¬
шей артистки театра В. Ф. Комиссаржевской — и одной из «масок»
«Балаганчика» — немало ценных сведений и тонких наблюдений, помо¬
гающих уяснить характер иных мотивов любовной лирики Блока в их
связи с биографией поэта. И все же они не дают достаточно полного и
внутренне цельного представления о самом Блоке в пору увлечения
«Снежной маской»; нет, они скорее говорят о его «веселом и послуш¬
ном» «двойнике» (как подтверждает и сам автор воспоминаний), в ко¬
тором мы не видим самого важного и основного, чем жил поэт.То, чему он придавал такой огромный смысл, как началу «очисти¬
тельному», означающему преображение всей жизни, оказалось для его
друзей и подруг той поры всего лишь «беззаботным кружением масок
на белом снегу под темным звездным небом», где не было «ничего на¬
стоящего» — «ни надрыва, ни тоски, ни ревности, ни страха...» — вспо¬
минает В. П. Веригина («Ученые записки Тартуского Государственного
университета», выпуск 104, г. Тарту, 1961, стр. 326), и как только Блоку
открылась истинная суть той «игры», в которой не было «ничего насто¬
ящего», он резко изменил свое отношение к ней, и чем сильнее она —
да и ее участники! — некогда увлекали его, тем решительнее поэт впо¬
следствии разрывал с ними. Его недавний восторг сменялся, по мере
отрезвления, тоскою, горечью, разочарованием, а то и сарказмом, ко¬
гда он обнаруживал, что снова дал увлечь себя иллюзиям, а те «коме¬
ты», которые он считал «настоящими», оказывались в его глазах «под¬
дельными» (как говорит он в одном из писем к матери).Конечно, все это по-своему преломлялось и в творчестве Блока
(причем пе следует забывать о том, что факты и «реалии» личной жиз¬
ни находили здесь не дневниково дотошное, а лирически преображен-
ное выражение, обретали значение отправного начала,— но и это нача¬
ло следует принять во внимание, если мы хотим с достаточной полно¬
той уяснить характер лирики Блока и ее побудительные мотивы).В любви-страсти, любви-стихии поэту сначала открылась новая
красота, превращающая самую заурядную и даже пошлую иовседнев-194
ность в некую мпстерню, и днвпые видения возникали перед взором
поэта, когда он смотрел «за темную вуаль» Незнакомки, ставшей для
него вестницей иных миров, где может осуществиться любое чудо, ка¬
кое ни пожелаешь.На рубеже 1906—1907 годов поэт словно бы растворился в стихии,
что отозвалось и на характере его лирики, устремившейся бурным,
неукротимым потоком, подхватившим и несущим его в неведомую, до¬
толе даль, и пафосом этой стихии дышат стихи, посвященные Незна¬
комке, «Снежной маске», Фаине. Вместо одной-единственной и боже¬
ственной Прекрасной Дамы перед героем лирики Блока появилось
множество ее подобий, взаимозаменяемых и уже лишенных ореола свя¬
тости, а его жизнь, бывшая некогда служением «Владычице вселен¬
ной», стала искусством, страстью, испытанием своих «невольных сил».В циклах «Снежная маска» (1900—1907) и «Фаина» (1906—1908),
крайне важных в лирике Блока, бесплотный и отвлеченно-мечтатель¬
ный образ Прекрасной Дамы отвергается ради земной женщины «с
живым огнем крылатых глаз» — воплощения любви-страсти, наполнив¬
шей всю ее душу, которая «никому, ничему не верна».В своей новой возлюбленной видит поэт отныне новую ипостась
«Души мира» и «вечной женственности», совсем не похожую на ту, ко¬
торая мерещилась ему в юношеских снах и мечтах. Поэт встречает
«Незнакомку» в снежной метельной мгле огромного города, и ее образ
становится воплощением той красоты, которой дано спасти и преобра¬
зить весь мир; вглядываясь в черты новой «встречной», опаленпый пла¬
менем ее страсти, поэт восклицает, словно в каком-то восторженном
бреду:Она была — живой костер
Из снега и вина.Кто раз взгляпул в желанный взор,Тот эиаот, кто опа...Ему казалось, что в атом костре, поднявшемся от земли до неба,
можно переплавить всю жизнь, превратить ее в сбывшееся наяву чу¬
до, сжечь дотла все то, что было дотоле в жизни слишком обыденной,
спокойной, медленной, словно бы затканной незримой паутиной,— и в
словах Сложной маски, Незнакомки, «встречной» поэту слышался го¬
лос метели, бушующей вокруг него и влекущей к иной, вольной, окры¬
ленной жизни и открывающей ему новые дали:«Довольно жить, оставь слова,Я, как метель, звонка,Иною жизнию жива,Иным огнем ярка».Этот ослепительный огонь словно бы охватил все вокруг, и поэт
тянется навстречу ему, еще не зная, что его ждет впереди: «Иная
жизнь? Глухая смерть?..» Но стоит ли жалеть и щадить свою жизнь,
если, лишившись этого огня, она превращается всего лишь в «мещан¬
ское житье» (так называется один из циклов книги Блока «Земля в
снегу»), становится пустым, жалким и никчемным существованием?
Ист,лучше сгореть в огне самых гибельных страстей, чтобы хоть на
миг испытать всю красоту и прелесть бытия. И, глядя в глаза своей
возлюбленной, разгорающиеся «как черных две зари», поэт уверен, что
в их огне...мы dco сгорим,Иось город мой, река, и я...Но сам он по только не опасается гибели, но и взывает к ней:Крести крещеньем огневым,О, милая моя!..11 атом крещении поэт стремится обрести новые и неизмеримые
силы и такой восторг, когда человек чувствует себя равным божеству;
вот почему и само предчувствие гибели вызывает у него не уныние и
не скорбь, а совсем иные чувства:Нет исхода из вьюг,И погибнуть мне весело.Завела в зачарованный круг,Серебром своих выог занавесила...Но даже и в час своей гибели он верит, что услышит голос: «Вос¬
стань из мертвых!» — и смело идет навстречу любой грозе и любой
опасности.Все сплелось и соединилось в трагическом, загадочном, неодолимо
влекущем образе женщины с душою-бурей — безудержная страстность,
необычайная прелесть, родство с миром звезд и комет, и отныне все
стихии земли и неба, все метели и вихри, все планеты и звезды при¬
частны той любви, для которой пет ничего невозможного и запретного.В глазах поэта любовь — во всем своем торжестве и могущест¬
ве! — подобна цыганке, которая звенит монистами, смуглая и черная:
«в яркий солнечный день пришла красавица ночь. И все встают перед
нею, как перед красотой, и расступаются. Идет сама воля и сама кра¬
сота. Ты встань перед нею прямо и не садись, пока она не пройдет...»(1907),—и в единстве воли и красоты, отбрасывающей все мелкое,
ничтожное, истлевающее в рабских страхах, поэт и видел начало, при¬
званное преобразить весь мир.Цикл «Файла» открывается стихами, где все подвластно стихий¬
ному порыву, дышит безудержной страстью, не знающим края востор¬
гом, который словно бы расплавляет душу ноэта и заставляет ее сиять
и светиться, подобно слитку добела раскаленного металла:Вот явилась. Заслонила
Всех нарядных, всех подруг,И душа моя вступила
В предназначенный ей круг.И под знойным снежным стоном
Расцвели черты твои.Только тройка мчит1 со звоном
В снежно-белом забытьи,.,196
. Фаина совсем не похожа на бесплотное и призрачное видение;
нет, она вся — порыв, огонь, страсть, и, захваченный ее повой, нёве-
домой доселе прелестью, поэт восторженно выкрикивает славословия
той, во власти которой, мнится ему, преобразить мир и сделать его
весь, от края до края, прекрасным, вольным, текучим, как волны раз¬
бушевавшегося моря:Так пускай же ветер будет
Петь обманы, петь шелка!Пусть навек не знают люди,Как узка твоя рука!..Здесь еще все — в кипении безудержных и кипучих страстей, в бу¬
шевании ослепительных вихрей, в которых тонут и исчезают берега и
наступает то забытье, когда поэт и сам пе знает, наяву или во сне про¬
носятся перед ним бубенцы, огни, нрокрасныо черты, дивные виде¬
ния, наполняющие ого душу таким бурным восторгом, что все прош¬
лое забыто и зачеркнуто и только будущее — неведомое, опасное, гроз¬
ное, может быть, гибельное — зовет и манит к себе.Нечто необычайно широкое, вольное, властно влекущее открыва¬
ется поэту в той дали, куда его мчит — вместе с возлюбленной — трой¬
ка, звенящая бубенцами; ему видится «в снежно-белом забытьи»,—Как за темною вуалью
Мне на миг открылась даль...Как над белой, снежной далью
Пала темная вуаль...Здесь облик возлюбленной сливается со стихиями самой природы,
и даже вуаль становится подобно грозовой завесе, скрывающей от
глаз поэта томную и неведомую даль.Неси мир отражался в глазах возлюбленной, и казалось, что в них...гаопол нтся страшная сказка,И звездная дышит межа...В этой «страшной сказке» любви, не знающей меры, предела, гра¬
ниц, поэту виделся тот рубеж, где человек приобщается к миру звезд,
комет, стихий, словно бы сливается с ними, становится их неотъемле¬
мой частью, обретает их беспредельность и бессмертие,—и вполне за¬
кономерно, что книга «Земля в снегу» (1908) открывается эпиграфом,
в котором образ кометы возникает как самый важный и ключевой:Недосозданная, вся полная раздора,Невзнузданных стихий неистового спора,Горя еще сама, и на пути своемГрозя иным звездам стремленьем и огнем...Что нужды ей тогда до общего смущенья,До разрушения гармонии?.. Она
Из лона отчего, из родника творенья
В созданья стройных круг борьбою послана... —>(Ап. Григорьев)
и в виде такой кометы, дышащей духом борьбы, тревоги, страсти, пред¬
стает перед поэтом Незнакомка, сеющая вокруг себя разрушение и ги¬
бель — во имя неясной ей самой цели «самосоздания» и «очищения».На первых порах образ женщины-кометы, Спежной маски, Незна¬
комки всецело захватил и пленил поэта, и не случайно ему кажется,
что кубок, врученный Незнакомкой, обращается в факел, озаряющий
весь мир ослепительным светом:Кубок факел брошу в купол синий,Расплеснется млечный путь.Ты одна изойдешь над всей пустыней
Шлейф кометы развернуть,..В таких космических масштабах переживается любовь, огонь кото¬
рой готов захлестнуть всю вселенную,— и на наших глазах шлейф пла¬
тья превращается в шлейф кометы, вспыхнувшей в черном звездном
небе; отныне все то, что связано с образом Снежной маски, любая чер¬
та ее облика, любая подробность ее наряда так же обретают в глазах
поэта необычайное значение, как явление космического и стихийного
порядка; вот почему ее узкий ноле оказывается Млечным путем, пере¬
поясавшим все небо, под ее маской светятся звезды («...а под маской
было звездпо...»), а за ео вуалыо поэт видит снежный мрак; любовь
и метель, как две сестры, обнявшись, приходят к нам и уходят от нас,
и не в человеческих силах удержать их:...над мигом свивая покровы,Вся осыпана звездами вьюг,Уплываешь ты в сумрак снеговый,Мой от века загаданный друг...Так в лирике Блока мир человеческих страстей, и прежде всего
любви, оказывается родственным миру стихий, является их порождени¬
ем, тайно и неразрывно связан с ними, повинуется им.Вот почему так безнадежны попытки подчинить ту, которая «ни¬
кому, ничему не верна», каким бы то ни было заранее установленным
правилам, законам, запретам, и в своей возлюбленной поэт воспевает
«бедовую удаль», готовность отбросить любое иго и бремя, дерзкий
вызов всему окружающему, необычайную смелость, жажду расточить
себя и свое вдохновение — безоглядно, безрассудно и бескорыстно:Гармоника, гармоника!Эй, пой, визжи и жги!Эй, желтенькие лютики,Весенние цветки!..Смотрю я — руки вскинула,В широкий пляс пошла,Цветами всех осыпала
И в песне изошла...Да и самому поэту все кажется возможным и достижимым,— стоит
только вслед за своей возлюбленной бросить вызов законам, заботам и198
страхам «мещанского житья»; отныне он готов па любой подвиг, на
любое безумство — лишь бы не уйти из того круга, в котором дышится
так широко и вольно:С ума сойду, сойду с ума,Безумствуя, люблю,Что вся ты — ночь и вся ты — тьма,И вся ты — во хмелю...В такой восторженный и неистовый гимн, вырывающийся на ши¬
рокий, волглый простор, слагаются стихи о любви — не той, которая
требует лишь молитвенных слов и вечного послушания, а той, что срод¬
ни стихиям природы и вся — буйство, безумство, озорство, вся — буря,
сметающая устои старой обыденной жизни, от которой поэт ушел
«в путь, открытый взорам».Эту безудержную удалг», отчаянную смелость, великую красоту
чувствовал в «буро цыганских страстей» и горой Льва Толстого — Фе¬
дя Протасов, говоривший о цыганской песне:«Удивительно, и где же делается то все, что тут высказано? Ах,
хорошо... и зачем может доходить человек до этого восторга, а нельзя
продолжать его...»Но Блоку — и герою его лирики — сначала казалось: нет, можно
без конца продолжать этот восторг, можно в этой музыке и в этой пес¬
не преобразить и переплавить весь мир; такое восприятие любви свя¬
зано с особым пониманием стихийного начала, как единственно истин-
ного, а стало быть, и самого прекрасного в мире.Поэт обращается к новой «колдунье», заманившей его в свой «ве¬
довской предел»:Дай мне пахучих, душных зелий
И ядом сладким заморочь,Чтоб, раз вкусив твоих веселий.Навеки помнить эту ночь...—и поначалу ому казалось, что эта почв может длиться без копца и без
пробуждения; вот почему он готов стать «рабом безумным и покор¬
ным»— лишь бы снова изведать «земную красоту» своей новой воз¬
любленной. «Готовый на новые муки», он обращается к ней с одною
мольбой:...сто раз бичуй и укори,Чтоб только быть на миг проклятым
С тобой — в огне ночной зари!..За этот миг он и готов расплатиться какой угодно ценой, пойти на
любую пытку (не случайно н само стихотворение, где слышатся эти
неотступные мольбы и призывы, называется «Под пыткой»).Если мы перечитаем сборник «Земля в снегу», то увидим, что здесь
любовные стихи, составляющие цикл «Снежная маска», а также и
большинство стихов, вошедших впоследствии в цикл «Фаина», созда¬
ны под знаком всепоглощающего и безоглядного увлечения страстью-
стихией, женщиной «с душой-бурей», с «крылатыми глазами»; даже
тогДа, когда поэт различал в них «змеиную неверность», эта неверность199
еще не вызывает ничего, кроме новых восторгов и восхвалений, новых
песнопений в честь своей возлюбленной,— прекрасной во всем, чего бы
она ни пожелала и что бы ни совершила.Поэт еще благодарит ее — «за все, за все», что бы она ему ни нис¬
послала, хотя бы «за мученья, за гибель», за то, что —...душу отняла мою,Отравой извела,Что о тебе, тебе пою
И песням пот числа!..В книге «Земля в снегу» проносится поток этих восхвалений и не¬
сен, такой бурный и страстный, что и сам поэт, кажется, утратил над
цим какую бы то ни было власть; когда он даже мельком, в тесноте
и сутолоке людных улиц, видит...ее глаза и плечи
И черных перьев водопад... —этого оказывается достаточным для того, чтобы он забыл о всем ос¬
тальном и настолько был захвачен ее прелестью, что даже отрава, да¬
руемая ею, стала самым сладостным «из наслаждений жизни» (Пуш¬
кин).Возлюбленная предстает перед ним как «змея красоты несказан¬
ной», которая просит его «последней крови» и никогда не насытится
ею,— но и в этом облике она еще не вызывает ничего, кроме восхище¬
ния и преклонения:...я узиаю
В неверном свете переулка
Мою прекрасную змею:Она ползет из света в светы,И вьется шлейф, как хвост кометы...Здесь пересеклись и сочетались в единое целое образы кометы,
звезды, змеи, и неотвратимый, зловещий образ змеи отныне неотступ¬
но преследует героя любовной лирики Блока, мерещится ему повсюду;
когда он видит «в темлой маске прорезь ярких глаз», видит стан, тонь¬
ше которого нет,— во всем этом ому чуется нечто влекущее, а вместе
с тем и тревожное, опасное, гибельное; его покоряет все тот же образ,
который переходит — словно переползает — из одного стихотворения в
другое;На плече за тканыо тусклой,На конце ботинки узкой
Дремлет тихая змея.,,Я верен черноокой,Змеиной красоте...Все размучен я тобою,Подколодная змея.Синечерпою косою
Мила друга оплетя,Ты моя и не моя...—и т. д., во множестве вариаций.200
Но все то предательское, хищническое, змеиное, что поэт видит в
облике своей возлюбленной, «встречной», Незнакомки, еще полностью
захватывает его и словно бы растворяется перед ним «в ином, высо¬
ком» (говоря его же словами); даже тогда, когда «рыжий сумрак» ее
глаз таит в себе...змеиную неверность
И ночь преданий грозовых... —поэт, еще весь под влиянием — и под гипнозом — этих глаз, готов бе¬
зусловно и безрассудно повиноваться им, как тому року, с которым
безнадежно да и не нужно бороться.Словно приговоренный некоей не от него зависящей и не ему под¬
чиняющейся властью, он молит свою возлюбленную лишь об одном:Вползи ко мио вмоой ползучей,В глухую полночь оглуши,Устами томными замучай,Косою черной задуши...Он еще верит, что любая ниспосланная ею боль, обида, пытка таит
в себе нечто возвышенное, прекрасное, издревле сужденное ему, от
чего нельзя уклониться, не теряя той красоты и того восторга, без ко¬
торых и само существование утрачивает свою истинную ценность.«Опять в слепоту и хмель, во мрак и тревогу безумно торопят меня
восторги жадной жизни...» — говорит поэт в предисловии к книге «Зем¬
ля в снегу», и под знаком «хмеля и мрака» создаются многие его сти¬
хи. Но чем глубже распознавал поэт истинную цену пленивших его об¬
манов и соблазнов, тем вернее наступало отрезвление; в его стихах
неожиданно послышались совсем иные признания, в которых уже нет
моста никаким «обманам» и самообманам.В стихотворении, первоначально названном «Я и ты», поэт еще мо¬
жет —■ (пул малейших сомнений в правоте своих слов — внушать своей
возлюбленной:Я верю мгле твоих волос
И твоему великолепью.Мой сирый дух — твой верный пес,У ног твоих грохочет цепью...Но вскоре эта цепь порвется, и совершенно иные мотивы —моти¬
вы гнева, возмущения, даже насмешки — послышатся в любовной ли¬
рике Блока. Его новая вера — вера в женщину-стихию и ее «любовь-
бурю» — подвергнется таким испытаниям, после которых он уже пере¬
станет быть «покорным» своей возлюбленной и преданным ее «темному
раю»; то, что некогда казалось нечеловечески прекрасным, явится
просто бесчеловечным, и совсем по-иному оценит поэт все, что еще так
недавно представлялось ему высшей красотой и безусловной истиной,
отвечающей сути и духу самого бытия. Совершенно иным взглядом по¬
глядит он на свою возлюбленную — острым и пытливым, и многое, вы¬
зывавшее лишь беспредельный восторг, вызовет совершенно другую
оценку и другие чувства.201
Придет время, и, как бы ни был поэт увлечен явлением Незнаком¬
ки, каждый раз возникающей перед ним в ином и новом облике, рано
или поздно он различит в ее нечеловечески прекрасном облике нечто
враждебное — «мертвую куклу», перед которой всякий живой человек
не может не задуматься о «возвращении it жизни» (как скажет поэт в
статье «О современном состоянии русского символизма»).Перед его глазами возлюбленная готова обернуться «синим при¬
зраком», вампиром, существом, родственным пресмыкающимся — сво¬
им обличьем и своими повадками:Руки болтло твои —Дно холодимо змеи...Поэт взывает к ней:Волю мне твою открой,Обойми змеей-рукой:Вуду мертвым я с тобой... —(1908; «Записные книжки», стр. 79)и ужо ничего, кроме угрозы гибели, ио ждет от нее. Вот почему этот
«призрак» меняется па наших глазах и его красота становится маской
оборотня.Придет время, и Блок узнает, что «нельзя любить цыганские
сны — ими можно только сгорать» (как заметит он впоследствии в сво¬
ем дневнике); пробуждение от них, отвержение «синих призраков» й
присущего им «змеиного» начала, отрезвление от тех отрав, которые
некогда опьяняли поэта, составят новую главу в его любовной лирике.2. «УНИЖЕНИЕ»В лирике Блока наряду со стихами, прославляющими любовь-сти¬
хию, родственную стихиям самой природы,-— и с годами все явствен¬
нее — возникают иные мотивы, продиктованные большим и трудным
жизненным опытом, вносящим горькое и отрезвляющее начало.Поэт еще пе ведал предела своему восторгу перед возлюбленной,
он был вось во власти со красоты, ее очарования и соблазнов (этим
чувством пронизаны циклы «Снежная маиса» и «Фаина»), но на его
глазах происходили странные и невероятные превращения, и все яснее
различал он в облике каждой новой «встречной» нечто опасное, хищ¬
ническое, бесчеловечное. ,Вот почему цикл «Фаина» (1906—1908), славящий «бурю цыган¬
ских страстей», завершается трагически отчаянными стихами, Каза¬
лось бы — крайне неожиданными в любовной лирике Блока, а вместе
с тем внутренне оправданными и необычайно важными для понимания
того нового, что утверждал отныне поэт; об этом он и говорит в сти¬
хах, герой которых еще недавно был целиком захвачен такой страстью,
что, казалось ему, он уже приобщился к бессмертным стихиям земли
и неба, полностью растворился в них,—202
...даже небо было страстно,И небо было за меня!..Но в нем происходят удивительные превращения, он испытывает
«превратности», которые самому ему на первых порах кажутся стран¬
ными и невероятными, ибо они явно противоречат строю его недавних
чувств, вторгаются в них резким и неожиданным диссонансом; пытли¬
во вглядываясь в мир своих ощущений и переживаний, он догадывает¬
ся, что отныне ему...все равно, какие
Лобзать уста, ласкать плеча,В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача...И все равно, чей вздох, чей топот...—ибо та, которая была подобна единственной звезде, далеко ушедшей от
нашего мира, неожиданно сметалась с сонмом себе подобных, утрати¬
ла в своем облике все, что казалось поэту чудесным и неповторимым.Слово, объясняющее то, как возникла «мертвая точка» в этом «ро¬
мане», словно бы вышедшем па просторы звездных сфер, найдено; сло¬
во это: «все равно». В нем и сказалась с наибольшей полнотой «бесче¬
ловечность» страстей и отношений, возникших между поэтом и его воз¬
любленной, «встречной», кого ои называл Незнакомкой.Для него самого невероятно и непривычно «роковое все равно», не¬
ожиданно сорвавшееся с его губ среди самых пылких признаний, то
безразличие, которое внезапно охватило его в разгаре любовной лихо¬
радки,— и поэт стремится воскресить в своей памяти подробности сво¬
его «романа», чтобы понять, почему он завершился так жалко и уни¬
зительно :Так — сведены с ума мгновеньем —Мы отдавались вновь и вновь,Гордясь своим уничтоженьем,Твоим превратностям, любовь)Но то «уничтоженье», которым сначала гордился поэт как освобо¬
ждением от некиих оков и безрассудной смелостью, не отступающей
перед лицом самой гибели, являлось (и это для него все очевидней!)
уничтожением человеческого в человеке (не напрасно возлюбленная
поэта называет своего спутника «бесчеловечным»).Рано или поздно — и скорее рано, чем поздно,— такое «самоунич¬
тожение» (хотя бы и в огне неистовых страстей) вызовет чувство уни¬
женности— самое тягостное и невыносимое из тех, какие довелось
пережить поэту и герою его стихов; чувство униженности становится
неизбежной расплатой, «возмездием» за измену человеческому, втор¬
гающуюся в любовь и искажающую самое ее существо,— и от этого
возмездия никуда не уйти пи герою стихов, ни его возлюбленной.Когда один с самим собою
Я проклинаю каждый день,—Теперь проходит предо мною
Твоя развенчанная тень... —203
иск'олько в лирике Блока проходит подобных «развенчанных теней»,-—•
развенчанных именно потому, что в них но оказалось того'венца и оре-1'
ола человечности, без которого и вся их безудержная страсть, которой,
мнилось, дано преображать миры и зажигать танцующие звезды, обо¬
рачивалась хищническим вожделением, «змеиной неверностью».«Только женщина — никто...» (1911) — внушает впоследствии поэт
одной из своих корреспонденток', и в его лирике прослеживается неве¬
роятное на первый взгляд превращение женщины-кометы, Снежной
маски, Незнакомки, в которой еще так недавно воплощалась вся пре¬
лесть мира, в жалкое, ничтожное существо с мелкими чертами стяжа¬
теля, ибо все ое чудесные возможности — в условиях «страшного ми¬
ра» — обретали предельно ограниченный и извращенный характер,
направленный на достижение низких целей и жалких интересов; вот
почему к любовному чувству у поэта все явственнее и навязчивее при¬
мешивались чувства совсем иные, несущие в себе горечь гнева, презре¬
ния, сарказма, отравляющего ту страсть, которая некогда казалась
безмерной и прекрасной.Что же изменилось — и в самом поэте и в окружающем мире?Почти ничего, все осталось тем же самым, но просто рассеялись
«обманы», которые когда-то воспевал поэт; возлюбленная предстала
перед ним такою, какою была наяву, а не только в его восторженном
воображении, и то, что казалось ему сначала «неземной страстью», не¬
исповедимой красотой, каждый раз неизменно оборачивалось чем-то
иным, уже издавна знакомым, заранее известным, затверженным, уни¬
зительным — лишь только оно познавалось в своей истинной сути —
бедной, однообразной, бездушной. Ведь у каждой из этих возлюблен¬
ных, идущих на смену одна другой, герой лирики Блока встречал одно
и то же :...те же ласки, те же речи,Постылый трепет жадных уст,И примелькавшиеся плечи...(1908)Отрекаясь от такой любви, в которой все заранее известно и ужэ
постыло, поэт предает издевке те «таинства», какие некогда казались
ему божественными, а были всего только почеловочоскими. Он отныне
с гневом и прозрением говорит о тех, чьи имена были для него «золо¬
тыми» и которые по смогли утолить его жажды большого, подлинна
человеческого чувства:...наполняя грудь весельем,С вершины самых снежных скал
Я шлю лавину тем ущельям,Где я любил и целовал!.. —и сколько лавин обрушил поэт в те ущелья, которые некогда казались
ему обителью дивного и бессмертного счастья!Так любовь становится тою ареной, где идет напряженная борьба
за человеческое имя и назначение, борьба с обманами и соблазнами
«страшного мира»,— и в лирике Блока звенят щиты, блещут мечи, раз¬204
даются удары, которыми обмениваются вчерашние (а то и сегодняш¬
ние) возлюбленные; это и вносит в нее дух схватки, борьбы, «вечного
боя».Отныне поэт приучал себя, даже и тогда, когда от «узких боти¬
нок», от запаха «хладных мехов» кружится голова, оставаться внутрен¬
не уравновешенным, спокойным, словно бы замороженным; точно
какой-то ледяной поток уносит его прочь от всего, что может сейчас
захватить и зажечь,— и он уже заранее знает, чем завершится его
очередной «роман»:Нет, я не первую ласкаю
И в строгой четкости моей
Уже в покорность не играю
И царств не требую у ней...(1909)Это мог бы твердить ужо повзрослевший Кай во дворце Снежной
королевы — таким ледяным дыханием воет от стихов; в них преобла¬
дает чувство повторности («не первую...») любовных ощущений, внут¬
реннего безразличия к той, которая предается вместе с ним всем «пре¬
вратностям» любви («...и стало все равно, какие лобзать уста...»),
что и создает ощущение бездушности отношений, любовных лишь но
имени.Поэт словно скальпелем вскрывает самые тайные покровы, при¬
крывающие истинную природу этих чувств, чтобы дать о них точную
и ясную запись, подобную математически безупречному анализу,— и
редкой женщине приходилось выслушивать такие странные и скрупу¬
лезно взвешенные объяснения в любви:Да, есть печальная услада
В том, что любовь пройдет, как снег.О, разве, разве клясться надо
В старинной верности навек?..Пот, с постоянством геометра
Я числю каждый раз без слов■ ■ Мосты, часовню, резкость ветра,Безлюдность низких островов...Это — строгая «четкость» геометра, современного Дон-Жуана, ко¬
торый если и постоянен, то не в своей верности любимой, а в неуклон¬
ной правдивости и полной откровенности, не знающей никаких гра¬
ниц,— и определяет совершенно особый характер любовной лирики
Блока, ее беспощадно резкие черты, словно бы только ожесточающие¬
ся в буре страстей, исход которых заранее известен поэту.Но когда от любви остается лишь «постоянство геометра», то она
принимает какой-то механически-мертвенный характер, ограничивает¬
ся областью точно соблюдаемого и заранее предусмотренного «ри¬
туала» :Я чту обряд: легко заправить
Медвежью полость на лету,И тонкий стан обняв, лукавить,И мчаться в снег и темноту...205
Так «страшный мир» калечит и унижает людей, перекраивает их
по своему облику и подобию, внося свою бездушность и бесчеловеч¬
ность даже в ту область, которой эти качества и свойства, казалось бы,
в наибольшей мере «противопоказаны»,— в область любви, и так
страстность и безудержность чувства обратилась в нечто противопо¬
ложное, в «постоянство геометра», заранее исчислившего, что может
произойти и с ним и с ого возлюбленной. Это вытеснение живого чув¬
ства «геометрией» определяет и самый характер стиха — жесткого,
язвительного, словно иссушенного па медленном и тайном огне, обретаю¬
щего сходство с точно выверенными, математически безупречными фор¬
мулами, языком которых и повествует поэт о самом себе, своих страстях,
когда-то сливавшихся со всем миром, а теперь целиком вмещаю¬
щихся в пробирки, тигли, чертежи и подчиняющихся зарапее извест¬
ным — и незамысловатым — формулам. По за тем «Постоянством гео¬
метра», который заранее знает, что «любовь пройдет, как снег», мы
чувствуем нестерпимую боль и горечь, еле сдерживаемый гнев — и на
возлюбленную, у которой вместо простой человеческой улыбки «посты¬
лый трепет жадных уст», и па самого себя — униженного, обездолен¬
ного, утратившего великие ценности мира («О, как я был богат когда-
то!»—с тоской вспоминает поэт). Одно из наиболее трагических сти¬
хотворений Блока так и называется «Унижение» (1911). Мы видим
здесь героя и его возлюбленную в комнате, самые стены которой словно
бы пропитаны ядом, так же как и вся обстановка; обитатели и посети¬
тели дома, где происходит эта встреча,— один под стать другому в сво¬
ей низости, пошлости, вульгарности, полной отрешенности от всего, в
чем можно усмотреть хотя бы самый отдаленный отсвет человечности:Красный штоф полинялых диванов,Пропыленные кисти портьер...В этой комнате, в звоне стаканов,Купчик, шулер, студент, офицер...Этих голых рисунков журнала
Не людская касалась рука...И рука подлеца наяшмала
Эту грязную кнопку звонка...Переступая через порог этого дома — одного из самых жалких и
смрадных филиалов «змеиного рая», поэт заранее знает, что здесь надо
отречься от всего подлинно человеческого, и его не ждет ничего, кро¬
ме боли, стыда и новых унижений; вот почему с его губ срывается во¬
прос, в котором сказалось непобедимое отвращение к тому логову, где
он очутился, и нестерпимая боль за ту любовь, которая представлялась
такой возвышенной и прекрасной, а обернулась чем-то жалким, ни¬
чтожным и постыдным:Разве дом этот — дом в самом деле?Разве так суждено меж людьми?..Поэт пристально вглядывается в облик своей возлюбленной, и пе¬
ред ним открываются повые, некогда скрытые ее черты, не сулящие
ему ничего, кроме новых мук и унижений:2Ш5
Только губы с запекшейся кровью
На иконе твоей золотой
(Разве это мы звали любовыо?)Преломились безумной чертой...Эта запекшаяся кровь — своя или чужая?— эти искаженные черты,
уже на грани безумия, становятся явным знаком и свидетельством
того, что перед поэтом — женщина-оборотень, и ничего человеческого
не видит он теперь в той, которая делит с ним ложе, утонувшее в жел¬
том, зимнем закате:Еще тесно дышать от объятий,Но ты свищешь опять и опять...Он не весел — твой свист замогильный..,Чу! опять — бормотание шпор...Словно змей, тяжкий, сытый и пыльный,Шлейф твой с кресел ползет па копер...Так поэт видит змеиный отпечаток на всем, что окружает его в
«змеином раю», что еще так недавно обольщало и манило его сюда;
видит подлинный облик своей возлюбленной во всех приметах, призна¬
ках, тайно угадываемых намеках — и она внезапно меняется на его
глазах, оказывается теныо, оборотнем, двойником; он с ужасом разли¬
чает, как сквозь ангельски прекрасные черты проступают совсем
иные — хищнические, отвратительные, и ее шлейф начинает отблески¬
вать в его глазах чешуей.Поэт видит себя в окружении всяческой нежити и нечисти, одно
прикосновение которой вызывает чувство такого непобедимого отвра¬
щения и смертельного отчаяния, что кажется — только смерть и может
принести избавление от него; вот почему он обращается к своей воз¬
любленной с мольбою и вызовом:Так вонзай жо, мой ангел вчерашний,И сердце t-острый французский каблук!..—ибо но видит сейчас иного выхода из того «змеиного рая», соблазнам
которого не смог противостоять.Подлинно человеческая любовь и «низкая страсть» — вот одно из
тех жизненных противоречий, которое раскрывается в лирике Блока
по всей его остроте, непримиримости, трагичности; оно-то и порожда¬
ет — в своем крайнем выражении — образ женщины-оборотня, обещаю¬
щей, неземной рай и зовущей в звездные сферы, но они на самом дело
оказываются всего только притоном, самый вход в который (с его «гряз¬
ной кнопкой») вызывает чувство гадливости и отвращения. И разве
только о себе думает поэт, когда настойчиво спрашивает у той, которая
сулила ему царства и миры, а оказалась жалким хищником и мелким
стяжателем:Разве так суждено меж людьми?-...В этом вопросе — тоска по человеческому, светлому началу, по «гой
истинной любви и великой красоте, которая растоптана, унижена, обе¬207
зображена в духоте и мраке «змеиного рая», подобного «бане с паука¬
ми-» (говоря словами Достоевского).Вот почему мотивы унижения, чувство унижения, униженности,
завершающее ту любовь, которая оказалась всего лишь одним из соб¬
лазнов «великого предательства», возникают в стихах Блока и стано¬
вятся неотъемлемой частью ого любовной лирики, вторгаются в пере¬
живания ее героя и по-своему воздействуют на них,— как это мы
видим в цикле «Черная кровь» (1909—1914), где чувство унижения, слов¬
но неотвязный спутник, идет по следам поэта, чтобы рано или поздно
настигнуть ого и посмеяться над самыми страстными увлечениями,
над самыми возвышенными восторгами любви.Ему казалось: его возлюбленная могла бы — если бы только захо¬
тела! — вернуть жизни всю ее первозданную красоту и прелесть, пре¬
вратить ее в торжественную гармонию, и для этого нужно так немно¬
го— стать человеком, а не хищником, и поэт пытается внушить ей это:Как первый человек, божественным сгорая,Хочу вернуть навек на синий берег рая,Тебя, убив всю ложь и уничтожив яд...(1912)Но тщетны его призывы; он, оказывается, еще недостаточно знает
ту, с которой делит «ночь мучительного брака»: ведь и сама она — по¬
рождение того «страшного мира», в котором обитает и которому пре¬
дана всей душой. Поэт видит, что снова он обманулся и язык его меч¬
таний совершенно чужд и непонятен ей. Равнодушно отбрасывая все,
чему пытался учить ее поэт, она утверждает нечто совершенно иное,
враждебное ему и оказывается победительницей в их споре и в их
схватке:...ты меня зовешь! Твой ядовитый взгляд
Иной пророчит рай.— Я уступаю, зная,Что твой змеиный рай — бездонной скуки ад...Так любовь становится одним из соблазнов «великого предатель¬
ства», тем более губительным и унизительным, чем меньше человек
находит в себе сил для того, чтобы противостоять ему. По теперь поэт
уже познал ого истинную цену, и когда говорит о женщине, «ядови¬
тый' взгляд» которой обещает «змеиный рай», то он видит, что в этом
хищном, «ядовитом» взгляде выражена вся бесчеловечность и жесто¬
кость существа, жадно стремящегося «взять, выхватить у жизни боль¬
ше, чем она может дать (Чехов),—и тема «змеиного рая» в разных
ее ипостасях, именах и вариантах, как воплощение жестокости и бес¬
человечности старого «страшного мира», становится одной из самых
постоянных в творчестве Блока.В том «змеином раю», в котором неожиданно для себя оказался
поэт, один из двух влюбленных является хищником, а другой — его
«жертвочкой» (по выражению Достоевского), и свое наиболее полной
воплощение это чувство находит в «вампиризме», чьим духом словно
бы овеян цикл «Черная'кровь», в самом названии которого слышится208
почте мрачное и зловещее (в этот цикл входит и сонет, .говорящий о
«змеином рае» и аде «бездонной скуки»).Здесь мы видим, что «страшный мир» не только бушует вокруг че¬
ловека; нет, он вторгается в самую его душу, калечит ее, оскверняет
своим тлетворным дыханием ее «святая святых», стремится загасить
все ее огни, несет с собою смертельную отраву, разрушение, гибель —
и в цикле «Черная кровь» прослежено, во что превращается любовь,
отрешенная от подлинно человеческого начала.Цикл открывается стихами, в которых бушует неистовство стра¬
сти, подобной грозе, пробивающейся сквозь все преграды и запреты и
переданной поэтом с невероятно ощутимой — до рези в глазах — на¬
глядностью:Взор мой горит у тебя на щеке,Трепет бежит по дрожащей руке...Ширится круг твоего мио огня,Ты, и по глядя, галдишь на меня!Пеплом подернутый бурный костер —Твой не глядящий, скользящий твой взор!..А завершается стихотворение возгласом, в котором слышится чув¬
ство бессилия доселе гордой и свободной души одолеть эту страсть,
миновать «предназначенный ей круг», где все заранее известно и неиз¬
бежно:Нет! Не смирит эту черную кровьДаже — свидание, даже — любовь!..—и поэта не обмануло предчувствие того, что бушевание «черной крови»
не сулит добра и не пройдет даром. Здесь любовь, если ее можно на¬
звать этим именем, взывает к самым первобытным инстинктам, оказы¬
вается схваткой двух хищников, и победа одного из них означает ги¬
бель для другого:Я гляжу на тебя. Каждый демон во мне
II рита и лея, гляди т.Каждый демон в тебе сторожит,Притаясь в грозовой тишине...—и самое страшное сейчас для обоих — вспугнуть этих «демонов», кото¬
рые не успокоятся, пока не насытятся кровью своей очередной жертвы.Герой наносит своей возлюбленной беспощадные удары, такие же¬
стокие, словно перед ним дикое существо. Да и женщина ли она в са¬
мом деле? Ведь и в ней проснулись такие темные и первобытные инс¬
тинкты, что уже ничего человеческого мы пе видим в ее облике. Поэту
кажется, что ее золотистые глаза разгораются опасным хищническим
огнем, а тонкие пальцы протягиваются к нему лишь для того, чтобы
сдавить горло, и он сам отвечает ей угрозой:Подойди. Подползи. Я ударю —И, как кошка, ощеришься ты...8 Заказ 534209
Так любовь оборачивается . откровенным хищничеством, уравни¬
вающим человека с исконными обитателями дебрей, джунглей,
яёЩер. :Они встречаются здесь как два врага, столкновение страстей кому-
то из них может стоить и самой жизни; вот почему эти страсти веду*
к гибели — не того, так другого, и их любовь завершается признания¬
ми, в которых уже нет ничего человеческого,— слышится всего только
бормотание хищника или вампира, добившегося вожделенной добычи
и утолившего свою жажду теплою, свежею кровью:Гаснут свечи, глаза, слова.,,—• Ты мертва, наконец, мертва!Знаю, выпил я кровь твою...Я кладу тебя в гроб и пою, —Мглистой ночью о нежной веснеБудет петь твоя кровь во мне!..Он пугает и завлекает свою жертву, дрожащую от «боли и бес¬
силья» (Тютчев), невероятными видениями, созданными игрой вооб¬
ражения, в свое пустынное и мертвое царство, где ее ждет неизбежная
гибель,— и так в стихах Блока изнутри раскрыто, что и сама любовь
вырождается — в условиях «вампирственного века» — в низкую
страсть, недостойную своего имени.Главное, чему учил трудный и сложный жизненный опыт, и за¬
ключалось в том, что «нечеловеческое» в любви (певцом которого яв¬
лялся сам поэт) рано или поздно обернется чем-то темным, хищниче¬
ским, бесчеловечным, против чего он и выступал гневно и неприми¬
рим о.В одном из писем-объяснений Блок раскрывает перед Андреем
Белым крайне существенные черты и особенности своего характера,
так же как и своего творчества:«...моральная сторона моей души не принимает уклонов современ¬
ной эротики, я не хочу душной атмосферы, которую создает эротика,
хочу вольного воздуха и простора...» (1907).Это же отвращение к «душной атмосфере» эротики сказывается и
в лирике Блока, в которой оно помогало одолевать обманы и соблазны
«низких страстей». Вот почему избавление от них означает для челове¬
ка, не утратившего свой человеческий облик, великое торжество, снова
возвращает ему чувство своего человеческого звания и достоинства,—•
об этом Блок и говорил в своих стихах, пройдя все круги соблазнов и
испытаний «змеиного рая».Утверждая свое человеческое имя, поэт заключает цикл «Черная
кровь» стихами радостными, торжественными и горделивыми:Далекие, влажные долы
И близкое, бурное счастье!Один я стою и внимаю
Тому, что мне скрипки ноют...210
Снова перед поэтом «за мраком ненастья» зажигается «золотая
кайма», и он верит ей гораздо больше, чем всем демонам и двойникам,
вастилавшим его взор соблазнительными и отталкивающими наважде¬
ниями:Поют опи дикие песни
О том, что свободным я стал!О том. что на лучшую долю
Я низкую страсть променял!Одоление власти низменного, хищнического начала отзывалось у
поэта чувством величайшего торжества, радостью освобождения, вы¬
хода из темной и душной теплицы, где печем дышать, на вольный воз¬
дух, на широкий простор.Любовная лирика Блока и становится одолением «низкой стра¬
сти»; как бы глубоко пи захватывала она героя его стихов, рано или
поздно он освобождался от кое, познавал со истинную цепу и обращал
слова гнева и прозрения к той, которая некогда казалась воплощением
всей красоты и прелости мири, но ничего не могла предложить ему,
кроме добрей и закоулков «змеиного рая».Так оказывалось, что в условиях мира, в котором жил поэт, у люб-
ви:стихии, любви-страсти, словно бы огнедышащей и сметающей со
своего пути все преграды и законы, неизменно появлялся свой двой¬
ник, возникала своя тень, жалкая, уродливая, какая-то сморщенная,—
по именно ей принадлежало господство, именно она диктовала свою
волю, упрямую, бесчеловечную и низменную,— вот в чем с неопровер¬
жимой силой убеждался поэт, когда проходил угар страстей и эта
«тень» обретала в его лице своего зоркого и ожесточенного противника.3. «ОБЕТОВАННАЯ ВЕСНА...»’[его же искал и что утверждал в любви сам поэт — и герой его
«романа м стихах» — па завершающем этапе «трилогии вочеловече¬
ния»?Чтобы ответить па этот вопрос, нужно напомнить историю одной
любви, рассказанную великим норвежским писателем, творчество кото¬
рого означало для Блока необычайно много и являлось одним из важ¬
нейших событий его личной и творческой биографии....Жил когда-то строитель, человек жестокий и мрачный, с мелкой
и скаредной душой, мучимый страхами и за прошлые свои деяния и
перед будущим, несущим ему неизбежное возмездие. Ради своего покоя
и благополучия он был готов сокрушить все, что стоит на его пути,—
как некогда сокрушил своего соперника, ставшего ныне безвольным и
покорным помощником; как готовится сокрушить и его сына — талант¬
ливого архитектора, которому ни за что не хочет уступить дорогу,
дать самостоятельную работу, ибо знает, что тогда молодой архитек¬
тор сокрушит его самого.«Юность — это возмездие...» — твердит Сольиес (так зовут строи¬
теля) и делает все, чтобы преградить дорогу юности, закрыть перед
нею все двери. Но оказывается, что в душе этого черствого, замкнутого8*2ii
человека, руководствующегося в отношениях с людьми одним лишь
холодным расчетом, таятся иные возможности, о которых он сам даже
ие подозревает. В его душе под ледяной и, казалось бы, навеки застыв¬
шей корой таится тролль — чудесный дух, который, если только он вы¬
рвется наружу, сумеет вдохнуть в Сольиеса новые силы и поможет ему
совершить невозможное — все то, о чем он уже перестал и мечтать.Никто пе подозревает об этих возможностях Сольнеса, кроме од¬
ной девушки, которую зовут Тильдой. Она помнит, каким некогда был
Сольное, она и знать но хочет, что с ним произошли страшные переме¬
ны, нсказивмшо и изуродовавшие его внутренний облик. Для нее он —
псе тот жо прекрасный и бесстрашный герой, который в бывде годы
воздвиг высокую башню и па самой вершине, с риском для жизни на¬
деван волок па шпиль, пол какие-то восторженные гимны земле и небу,
всему сущему в мире,— так когда-то казалось Тильде, и для нее он на
Нею жизнь остался воплощением самого чудесного и героического, что
есть в жизни, а не только в одной лишь мечте. И когда он ее, двенадца¬
тилетнюю девочку, целует, называет своей маленькой принцессой и
обещает подарить ей ровно через десять лет королевство — это стано¬
вится великим событием ее жизни. Все эти годы Тильда ждет, что он —
давно забывший о своей мимолетной встрече с милой и восторженной
девочкой! — выполнит свое обещание, вернется к ней, возьмет ее с со¬
бою и подарит ей королевство.Не дождавшись его, Тильда ровно через десять лет — день в
день! — появляется перед ним и требует:— Подайте мне мое королевство, строитель. Королевство' на
стол! — а на меньшее она не согласна.Но ее королевство — это ие прежняя «Апельсиния», как назвал его
когда-то Сольное. Это — живой, настоящий труд, повседневный творче¬
ский подвиг, необходимый людям и делающий их лучше, выше, счаст¬
ливее.Как и прежде, Тильда, уже взрослая девушка, хочет видеть своего
избранника «великим. С венком в руках. Высоко-высоко на башне...» —
и-ради того, чтобы это желание исполнилось наяву, она готова и сама
совершить любой подвиг: водь и в ней самой живет сказочный
тролль — чудесное воплощение и сочетание красоты, смелости, правди¬
вости, самой большой мечты, ие знающей преград и пределов.Ныло Сольное боится выйти на балкон второго этажа — у него на¬
чинается головокружение, а Тильда ие может этому поверить: ведь она
видела строителя па вершине высокой башни! — и с удивлением вос¬
клицает:— ...чтобы у вас — да закружилась голова!.. Никогда в жизни!Она так верит в своего строителя, обещавшего ей королевство, вего сказочное могущество, в его безграничное великодушие, что и в не¬
го самого вдохнула эту веру, веру в свои необоримые силы, в свое вы¬
сокое призвание, в свою непреклонную волю к подвигу,— а ведь те¬
перь для него взобраться на высокую, выстроенную им башню и на¬
деть венок на ее шпиль — это подвиг, который может стоить жизни. Но
отныне для Сольнеса нет ничего невозможного, ибо любовь заставила212
его вспомнить обо всем, она зашумела над пим, как весенняя гроза,
смывающая зимнюю дремоту,— и то, что вчера показалось бы ему
невозможным и безрассудным, сегодня кажется самым простым и
единственно необходимым, что предстоит сделать.С венком в руках идет строитель Сольнес на вершину башни, и
что перед величием его гибели годы жалкой, трусливой и мелочно про¬
житой жизни? Разве он не совершил своего подвига?• ...гибель не страшна герою,. Пока безумствует мечта... —так говорят Блок, и пусть мечта Сольнеса стоила ему жизни, но его
стремление ввысь, его жажда быть достойным любви — вот что при¬
дает красоту и высокий смысл деянию Сольнеса; он достиг невозмож¬
ного, и Гильда ие оплакивает своего возлюбленного, а говорит о нем в
каком-то тихом, безумном восторге:— Он достиг портимы. И я слышала и воздух о звуки арфы...—
И для нос нот ничего прекрасное, чем подвиг строителя, которого она
хотела видеть -- и увидела — бесстрашным, свободным, великим.Почему мы рассказали здесь историю любви Гильды и Сольнеса,
казалось бы не имеющую непосредственного отношения к творчеству
Блока?Потому что Блок вспомнил о ней — и не случайно! — в статье «Be¬
lla Федоровна Комисеаржевская»: для него великая русская актриса,
игравшая роль Гильды, была «вся мятеж и вся весна, как Гильда».Статью-некролог «Памяти В. Ф. Комиссаржевской» поэт завершил
стихами, обращенными не только к ней, но и к тому будущему, когда
люди прозреют, растают «низкие тучи» и мертвенный покой сменится
«вихром веселья»:...Р>ера с нами.Смотри сквозь тучи: там она —Рнзиернутое ветром знамя,Обетованная поена...(1910)Таким знаменем, «обетованной весной» и являлась для поэта лю¬
бовь — подлинно человеческая, чуждая хищничеству, стяжательству,
ограниченности, всему, что унижает и уродует человека, вносит в него
дисгармонию и разлад с целым миром.Блок вслед за Ибсеном (автором пьесы «Строитель Сольнес») так¬
же полагал, что в каждом человеке, даже самом заурядном, под тол¬
стым, с годами растущим слоем косности, заскорузлости, себялюбия
таится, как и в душе строителя Сольнеса, некий сказочно прекрасный,
безрассудно отважный и могущественный тролль, для которого на зем¬
ле нет ничего опасного и невыполнимого; все ему по плечу; он.весь
как гибкий и властный язык огня, в kotojjom перегорает все мелкое и
ничтожное, жалкое , и. трусливое,— и именно любви дано зажечь этот
огонь, высечь его из сердца, вызвать его к жизни.Страсть том и прекрасна, утверждал поэт, что она способна ока¬
зать на человека такое огромное воздействие, всецело захватить его,213
проникнуть в самые сокровенные глубины его существа, о которых он
обычно даже и не подозревает, пробить ту плотную и жесткую скорлу¬
пу, какою окружена сердцевина человека; она высвобождает его свето¬
носное начало, пробуждает чувство родства с целыми миром, который
«...каждую минуту может стать неожиданным и прекрасным...» — как
уверял Блок одну из своих корреспонденток. Поэту казалось: для того
чтобы такое превращение осуществилось, надо настойчиво и страстно
пожелать этого по только умом, но и всем существом, с полной готов¬
ностью — хотя бы и ценою самой жизни! — разрушить пределы узко
личного существования,— и именно любовь представлялась поэту той
стихией, в пламени которой сгорают все «меж нами вставшие прегра¬
ды»., так же как и все преграды между человеком и миром.Для поэта такая любовь — это не обычное чувство в ряду других,
а «обетованная весна», воплощенная в живом, неповторимо прекрас¬
ном облике, и она свидетельствует лучше всяких умозрительных пред¬
ставлений о том, что «мир — прекрасен». Она открывает в человеке за¬
поведные и сокровенные источники его внутренних сил, пробуждает
великие стремления и замыслы, придает его мечтам значение живой
реальности, когда невозможное становится возможным и неизбежным;
значит, именно в любви может с наибольшей полнотою «воплотиться»
человек, найти источники своих внутренних сил, своих беспредельных
возможностей, своего бессмертия,— таково, утверждает Блок во мно¬
гих стихах, значение любви, и не случайно он говорил, что «только
влюбленный имеет право на звание человека».Блок верил, что любовь раскрывает перед человеком всю красоту
вселенной. Он воспевал и благословлял ту любовь, которая, сознавая
свою безмерную власть и мощь вызванных ею к жизни огромных твор¬
ческих сил, направляет их на то «святое дело», за которое можно
«мертвым лечь»,—как говорит поэт в цикле «На поле Куликовом».В одном из тех писем, которые можно было бы назвать любовны¬
ми, если бы в них не заключалось столько резкости и беспощадности,
Блок признается:«Чем дольше я живу, тем я больше научаюсь ждать настоящего
звона большого колокола; я слышу, но не слушаю колокольчиков...»Эта тоска по «настоящему звопу большого колокола», зовущего
на борьбу и подвиги, и находила своо романтически преображенное
выражение в цикле «На ноле Куликовом»; вспоминая давние времена,
когда воин Дмитрия Донского слышал своим вещим сердцем голос
возлюбленной, княжны, невесты, видел ее облик в волнах тумана, в
серебре реки, в струящем свет одеянии, поэт снова со страстной силой
требует и молит:— Явись, мое дивное диво!Быть светлым меня научи!..Так он обращается с этими мольбами к своему «дивному диву»,
своей возлюбленной, потому что видит в-ней «Деву света».:Это ее нерукотворный лик светится перед воином, и это она вдох¬
новляет на ратные подвиги. Пусть сейчас иные времена и подвиги
иные, но та же жажда подвига сжигает сердце поэта, он так же готов214
«острить свой меч», как и его далекий предок, выходя на бой с врагом,
и для него настоящей подругой и возлюбленной могла стать только та,
которая сама была как дыханпе бури, сама являлась причастной тому
огромному миру, в котором жил поэт.Та — настоящая, а не обманная, не ее «двойник»; она не искушает
соблазнами «великого предательства», и ее «тихий дом» ничем не на¬
поминает «змеиного рая». И когда войдешь сюда, онаОбримет рукой, оплетет косой
Й, статная, скажет: «Здравствуй, киязь»,А если ее возлюбленный видит тучи, встающие вдали, слышит
чесни далеких сел, вещающие о лучшей доле, зовущие к подвигу,—
опа и сама наполнит его сердце тревогой, жаждой одолеть чужие, враж¬
дебные силы, внушит ему чувство пепрелояшого долга и не будет
удерживать его в своем белом и тихом домо,Порою, захваченный «вихрем страстей», изверившийся во многом,
опускающийся на дно, поэт но видит в потемках выхода:1!од шум и звон однообразный,Под городскую суету
Я ухожу, душою праздный,В метель, во мрак и в пустоту,Я обрываю нить сознанья
И забываю, что и как...(1909)Но даже и в этом забвении он помнит самое главное: есть та, ко¬
торая знает...дальней цели
Путеводительный маяк..,И поэт спрашивает: может ли она,..по нрощ.ш,Будить мои колокола,Чтобы распутица ночная
От родины не увела?..Так и в минуту отчаяния он не забывал о том, где можно обрести
внутренние силы и тот «правый путь», на котором он нужнее всего
и где слышишь «настоящий звон большого колокола».Образ возлюбленной, невесты, России возникает н во многих дру¬
гих стихах Блока, посвященных родине, а вместе с тем раскрывающих
силу глубокого, страстно напряженного чувства поэта и придающих
необычайную широту его любовной лирике, в которой мотивы сугубо
личные, интимные, ие утрачивая своей непосредственности, сливаются
с раздумьями о судьбах родной страны и всего мира.Во многих стихах Блока дума о родине сочетается с тревогой за
свою возлюбленную, над которой еще властны злые, хищные, бесчело¬
вечные силы:'215
О, нищая моя страна,Что ты для сердца значишь?О, бедная моя жена,О чем ты горько плачешь?..И поэт знает: невозможно ни какое счастье и спокойствие, пока не
найден ответ на эти вопросы, неотступно стучащиеся в сердце и взы¬
вающие к подвигу; он утверждает единство любви со всем миром; .пере¬
живаний и раздумий человека, видит их. взаимосвязанность и взаимо¬
обусловленность.Размышляя о великих возможностях любви, открывающей в чело¬
веке неисчерпаемые источники сил и преображающей весь его внут¬
ренний «состав», Блок записывает в начале, 100!) года: ...•«...есть страсть — освободительная буря, когда видишь весь мир
с высокой горы. И мир тогда — мой...» — и поэт, стремясь выразить
и передать это чувство во всем его величии и широте, в его грозной
и неодолимой силе, обращается к образу океана, над которым собира¬
ется и готовится разразиться гроза.Этим образом, словно ключом, открывается цикл стихов «Кармен»
(1914) —один из самых значительных и важных в лирике Блока:Как океан меняет цвет,Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет мигнувший свет,Уяк сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,И кровь бросается в ланиты,И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы,Эти образы и призваны передать всю безмерность охватившей поэ¬
та страсти, ее ликующую силу.Пожалуй, именно в цикле «Кармен» с наибольшей силой и власт¬
ностью бушует та «освободительная буря», которая может преобразить
человека, вдохнуть в него «мира восторг беспредельный», сроднить его
с океаном и с певучей грозой, приобщить его ко всему миру, как к сво¬
ему великому наследию, неотъемлемому и издревле сужденному до¬
стоянию,— или же принести ему гибель.Спасая свою любовь — поруганную, отверженную — от сплетен,
кривотолков и пересудов людей, ие способных понять и постичь ее,
поэт готов вознести ее до звезд от всего, что может унизить или запят¬
нать, от всех пошляков, мещан, «испытанных остряков», издавна вы¬
зывавших у него омерзение и негодование. Их суду и кривотолкам он
и противопоставляет высоту подлинно человеческой любви:Здесь — страшная печать отверженности женской
За прелесть дивную — постичь ее нет сил.Там — дикий сплав миров, где часть души вселенской
Рыдает, исходя гармонией светил...Срывая с облика возлюбленной «страшную печать» отверженности,
поэт стремится унести свою Кармен в те сферы, где вся жизнь, иро-246
низана светом, музыкой* гармонией,—и в сиянии и свете этой любви,
которая не знает ни меры, ни предела, мир ■ как бы преображается
и переплавляется, становится подобным «красному облаку». Для поэта
человеческая душа всегда являлась частью «души вселенской», только
тогда обретающей высшее удовлетворение, когда и сама она стано¬
вится "«светом и музыкой», сама' входит необходимым сплавом в' «гар¬
монию светил». Тай в1 лирике Блока личное, частное, преходящее свя¬
зывается с бессмертным, мировым, оказывается его неотъемлемой ча¬
стью,— а в иных масштабах поэт и не мыслил.Любовь в глазах поэта только тогда достойна этого имени, когда
она пробуждает самые большие чувства, безгранично расширяет всю
область переживаний, переливающихся через все края и пределы,
причастных уже всей вселенной; вот почему Кармен Блока — не толь¬
ко женщина, чей навеки дорогой образ видится поэту на сцене под
круглой притушенной лампой, в шали, сбегающей на белые покатые
плечи, а и мировое явление, родственное стихиям земли и неба и та¬
кое же, как оин, бессмертное, великолепное, но знающее никаких
преград:Сама себе закон — летишь, летишь ты мимо,К созвездиям иным, не ведая орбит.И этот мир тебе — лишь красный облак дыма,Где что-то жжет, поет, тревожит и горит!..Вот та любовь, дивная и прекрасная в каждом своем проявлении,
облик которой виделся поэту,— и голос Кармен, «дикий и странный»,
славящий «бурю цыганских страстей», вызывает у него образы без¬
мерные и прекрасные в своей стихийной и неодолимой мощи; ликую¬
щим гулом «обетованной весны», освободительной бури звучат стихи,
несущие в своем мощном и безудержном потоке все кипение и сияние
огромных и нерастраченных чувств, готовых обрушиться грозным
и радостным водопадом.Ты встанешь бурною волною
В реке моих стихов... —восклицает поэт, обращаясь к возлюбленной, и бурная волна вдохно¬
вения так высоко возносит его, что весь мир словно бы открывается
перед ним с этой высоты, и он сам чувствует себя «испуганной и дикой
птицей», радостно кричащей и летящей навстречу заре — в безотчет¬
ном и беспредельном восторге.• Поэта никогда не покидала вера в любовь как в силу, способную
преобразить человеческую душу и целый мир, озарить их немеркнущим
светом,— и герой его стихов снова и снова шел на поиски той женщи¬
ны, которая не только разделит его понимание истинной женственно¬
сти и красоты, но и превзойдет его мечты, ответит его восторженным
чувствам, заставит забыть «о временном, о пошлом»,— и, сколько бы
разочарований ни испытывал дотоле, он знал, что новые порывы и ув-
леченйя не минуют его, и слова он отдастся их неодолимо "влекущей
силе;’ зиял, чтб '"t:"Ж
Есть времена, есть дни, когда
Ворвется в сердце ветер сиежиый,И не спасет ни голос ножшдй,Ни безмятежный час труда... —и шел на зов «снежного ветра», обротал в ого дыхании те крылья, ко¬
торые возносили все выше — с каждым порывом накипающей в серд¬
це бури:Тоскою, страстью, огневицей
11 дот безумие любви...15 этой «огиовицо» порогораот все то мелкое и ничтожное, чем
обычно полна повседневная жшшъ, и весь мир открывается поэту с
головокружительной высоты; вот почему и таких величественных,
грандиозных масштабах, словно речь идет о катаклизмах, изменяю¬
щих облик мира, говорит поэт о любви, подобной буре, одно прибли¬
жение которой порождает восхищение, ужас, ожидание чего-то вели¬
кого и неизбежного, чувство ни с чем не сравнимого творческого во¬
сторга.Герой рассказа Чехова «О любви» делится с нами своим горьким
жизненным опытом и приходит к одному неизбежному выводу: «...Я
понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви надо
исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье,
грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать
вовсе...» — и эти слова откликаются в лирике Блока, для героя кото¬
рой любовь всегда составляет в жизни человека нечто неизмеримо
большее, чем «счастье или несчастье», «грех или добродетель»; здесь
любовь обретает такое огромное значение именно потому, что опа раз¬
двигает пределы внутреннего мира и вместо с нею у человека возни¬
кает реальное чувство «единства с миром», то чувство, в котором то¬
нет все остальное, как в том мощном и яшвотворном потоке, где он
находит обновление и бессмертие; вот почему с таким страстным не¬
терпением поэт ждал свою Гильду, свою «обетованную весну» — пусть
несущую возмездие, гибель, что угодно, но ту, которая не удовольст¬
вуется ничем мелким и ничтожным, а потребует королевства, испол¬
нения самых больших и священных обетов. Но Гильды не было. При¬
ходили другие, чуждые большим и смелым дерзаниям; а .если они и
оказывались героинями, то по Ибсена, а скорее Андерсена, его сказки
«Старый дом», в которой добрый и мудрый сказочник справедливо за¬
метил:Позолота вся сотрется,Свиная кожа остается...Вот и с тех «встречных», каждая из которых воображала себя «Не¬
знакомкой», «Девой света», новой. Тильдой, слишком быстро стиралась
позолота, а над нею оказывалась либо «свиная кожа», либо змеиная
чешуя,— и нестерпимою горечыо пронизаны многие стихи поэта, ви¬
девшего гибель своих самых больших надежд; в неодолимой тоске он
обращается к той, от кого ждал так много:2Я
•Да, был я-пророком, пока это сердце молилось,—Молилось и пело тебя, но ведь ты — ие царица...«Ты — не царица» — вот горестное признанно того, что новая Гиль¬
да оказывалась всего только претенциозной «принцессой на горошине»,
соблазненной модной игрой в «астральные разговоры», жалкий эпилог
которых поэт заранее мог предвидеть.Блок с годами все яснее предугадывал гибель очередной мечты о
любви, словно бы несущей в себе «музыку и свет», а оказывающейся
беспросветным мраком; он заранее угадывал и предвидел, что реаль¬
ный облик его возлюбленной не схож с тем, который возник в его во¬
ображении, и хотел завершить цикл «Кармен» стихотворением «Перед
судом», чья героиня предстает перед ним «в резком, неподкупном
свете дня», опустошенная и униженная,— и не выдерживает этого
света.Под влиянием большого и грудного жизненного опыта поэт все бе¬
лое остро ощущал разницу между утверждаемым им идеалом и реаль¬
ностью, между «змеиным» и «человеческим»,— и чем выше он ценил
«женское», женственное, истинно человеческое, тем непримиримее от¬
вергал эгоистически мещанское, корыстолюбивое начало, отравляющее
любые чувства и отношения и придающее им низменный, недостойный
человека характер. <Об этом и говорит поэт в статье «Памяти Августа Стриндберга»
(1912), в которой мы находим ключ ко многим любовным стихам Бло¬
ка, помогающий проникнуть в ход мыслей и чувств самого иоэта,— и
хотя он пишет об одном из любимейших своих писателей, ио здесь
столько наболевшего, выстраданного и лично пережитого, что эта ста¬
тья имеет непосредственное отношение к самому поэту и его творче¬
ству.«В жизни Стриндберга,— говорит Блок,— было время, когда все
женское вокруг него оказалось «бабьим»; тогда во имя ненависти к ба¬
бьему он проклял и женское,..» Но «женоненавистничество» Стринд¬
берга, подчеркивает Блок, по носило ни пошлого, ни обыденного ха¬
рактера; Стриидберг «никогда ие произнес кощунственного елрва и не
посягнул на женственное...». И далее в статье, посрамляющей «зауряд-
лого мущину», подчиняющегося «расслабляющему бабьему влиянию»,
превозносится человек иной судьбы, иного склада — «мужественный
человек, предпочитающий остаться наедине со своей жестокой судь¬
бой, когда в мире не встречается настоящей женщины, которую толь-
ко и способна принять честная и строгая душа...» (курсив мой.—
Б. С.).Не так уж много требуется от читателя догадливости, чтобы во¬
нять, что перед ним. не только статья о Стриндберге, но и «исповедь
горячего сердца» (Достоевский), прямой разговор поэта о себе и своем
творчестве.В статье «Памяти Августа Стриндберга» высказана большая и тре¬
бовательная мечта ноэта о «настоящей женщине», чуждой мелочно¬
сти, тщеславию, хищничеству, всему тому, что поэт называл «бабь-219
км».,—г тодько такую, «настоящую женщину» искали — и но находи-:
ли,—он и герой его лирики в окружающем их «страшном мире». ;, Горечь, иронззыиающая любовную лирику Блока, во многом объя¬
сняется и тем, что его семейная жизнь «не задалась» с самого начала,
во.многомпо,его собственной вине, а когда он захотел изменить^
и укрепить — ее, поправить се, оказалось, ужо поздно: жена его, став¬
шая актрисой, считала себя совершенно «свободной», вела тот образ
жизни,; который называла «самостоятельным», и не собиралась ме¬
нять его.В 1908 году она писала ому из «сказочного весеннего Могилева»,'
что ей «...надо стать актрисой, а тут нельзя знать преград, надо все,
все принять...». Л в одном из следующих писем Любовь Дмитриевна
поясняет, что означали для нее эти слова: «Опять живу своей вольной
богемской жизнью... Ты понял, конечно, что главное тут влюбленность,
страсть; свободно их принимаю. Определеннее сказать не хочу...»
(ЦГАЛИ, ф. 55, он. 1, ед. хр. 161, стр. 72, 80, 92 и др.) — но и в более
«определенных» свидетельствах образа жизни своей жены у поэта не¬
достатка не было.В своих ответных письмах Блок говорил, что считает ее «свобод¬
ной», а вместе с том спрашивал: «что за охота провалиться где-то на
краю света с третьестепенной труппой?» — и горько жаловался на свое
одиночество, свою бездомность и неприкаянность.Он взывал к ней — напрасно и запоздало:«Ты не имеешь потребности устроить нашу жизнь так, чтобы
е комнаты ожили? Или ты все еще не поймешь «быта»? Есть ведь на
свете живой быт, настоящий, согласный с живой жизнью...» — но от¬
ныне его жена не имела подобной «потребности», и домашнему «быту»
предпочитала совершенно иной — вольный и «богемский».А летом того же 1908 года поэт, тоскуя в долгой разлуке с женой,
делился с нею еще горшими признаниями:.я жил. такой растрепанной, бестолковой и скверной жизнью, мне
казалось часто, что уже ничего не осталось в мире, за что можно ухва¬
титься. Но быть может и есть еще? И ты вернешься ко мне?..» (ЦГАЛИ,
ф. 55, он. 1, ед. хр. 100, стр. 69, 91—92, 117 и др.).Но на все эти вопросы и призывы поэт либо вовсе не получал от¬
вета, либо получал, но такой, что у него могло только больнее вспых¬
нуть чувство бездомности, неприкаянности, заброшенности, к которо¬
му неизменно примешивалось и сознание того, что именно он — а не
кто-либо иной! — положил начало их внутренней отчужденности друг
от друга (уже.не зависящей от того — находилась ли жена рядом с ним
или «проваливалась» где-нибудь на многомесячных гастролях) ,— и все
это чувством горечи и безнадежности отзывалось в лирике Блока.• Впоследствии Блок, беря на себя всю ответственность за то «неес¬
тественное положение» (говоря его словами), которое создалось в се¬
мье; записывал в своем дневнике «черным но белому историю, вечно
таимую внутри», А история заключалась в следующем:«Ответ на мои никогда не прекращавшиеся преступления были:
сначала А, Белый, которого я, вероятно, ненавижу. Потом — гг. Чул-220
ков, какая-то уж совсем мелочь (А[услендер]), от которых меня как
раз теперь тошнит. Потом — «хулиган из Тьмутаракани» — актериш-
ка—главное. Теперь — не знаю кто...» (1912). Поэт никогда не по¬
прекал: жену ни за «крупное», ни за «мелочь», кем бы она ни увлека¬
лась, рассматривая подобные увлечения как нечто заслуженное им,
а потому если и жаловался и негодовал на кого-нибудь, то обычно
только на самого себя, видя в неурядице и неразберихе семейной жиз¬
ни «настоящее возмездие, которое пришло и которое должно при¬
нять...». Если он и задавал вопрос о том, чем вызваны неурядицы и
рознь в его семейной жизни,— ответ подразумевался сам собою. Но
тоска по «настоящей женщине» так и оставалась неутоленной— на
дома, ни за его пределами.И все же сколько бы разочарований, обид, унижений ни пережил
герой лирики Блока (да и сам поэт), он никогда не изменял тому об¬
разу женственного, прекрасного, который постоянно виделся его внут¬
реннему взору, никогда но изменял идеалу той любви, которая может
целиком захватить и преобразить человека, открыть в нем широкие
и чистые источники внутренних сил.Не всегда Блок заявлял об этом идеале прямо и открыто, порою он
глубоко спрятан и подобен тому «печальному ангелу», который смутно
сквозит «из невозвратного далека», но он неизменно — и в минуты
вдохновенных восторгов поэта и в минуты его «падений», уклонений,
предельного уничижения — присутствует в стихах Блока, неотделим
от их существа; меняется только его характер, его «обличье».Если поэт некогда славил и воспевал любовь-стихию, безоглядную,
безрассудную, чуждую каким бы то ни было людским законам и преде¬
лам, встающую от земли до неба, подобно живому костру из снега и ви¬
на, то потом он увидел, что этого еще недостаточно для того, чтобы
преобразить человека — и весь мир, сделать его подлинно прекрасным.
Поэт с годами все глубже прозревал, что если силы, пробужденные
it человеке любопыо, по находят верного исхода, оказываются чужды¬
ми героическому началу, то они — в условиях «страшного мира» —
обращаются в хищничество, стяжательство, беспредельный эгоизм,
и только верность человеку, верность человеческому в человеке, при¬
дает им подлинную красоту, окрыленность, огромный творческий раз¬
мах — и именно такой любви посвящены его самые восторженные
гимны.Но лишь только поэт обнаруживал, что эта любовь, эта страсть
противостоит «воле и подвигу», человеческому долгу и назначению,
является всего только одним из искушений «змеиного рая», как сразу
же — и почти без всяких переходов — посылал ей хулы и проклятия,
гневно обрушивался на нее со всей присущей ему страстной силой сар¬
казма и презрения, видел в ней всего только «постылый тренет жад*
ммх уст».Отныне он знал, чего не хватает любви-стихии, безоглядной и без¬
рассудной, чтобы стать музыкой и светом, словно бы озаряющим целый
мир; такие же сложные и противоречивые чувства, должно быть, испы¬
тывал Хома Брут, глядя на панночку, красавицу ведьму, щеки кото-221
рои пылали жефбм тайных желаний, а уста были как «рубины, готовые
усмехнуться» (Гоголь):«...но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно-
пронзительное. Он чувствовал, что душа ого начинала как-то болез¬
ненно ныть, как будто бы вдруг среди вихрей веселья и закружившей¬
ся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе...»Но именно эта песня — песня об угнетенном пароде — и -слыша¬
лась поэту в вихре «цыганских страстей», в дебрях «змеиного рая» или
в порыве самого буйного н безудержного веселья, когда вдруг душа
его начинала «как-то болезненно ныть», и сердце сжималось, и ему
приходили в голову, казалось бы, совсем неподходящие мысля* настой¬
чивые и неотступные,— и слова о том, как хорошо «раздарить цветы
чужим подругам, страстью, грустыо, счастьем изойти», завершались не¬
ожиданным признанием:...достойней за тяжелым плугом
В свежих росах поутру идти!..Так тоска по настоящему делу, «воля к подвигу» помогали поэту
одолевать одно из самых опасных обольщений духа «великого преда¬
тельства».Это не значит, что поэт, па своем долгом и горьком опыте познав¬
ший истинную цену любви-стихии, любви-страсти, но поддавался ев
обманам и соблазнам; нет, он «уступал» им, не находя настоящей
любви,— но уже заранее зная их истинную природу и цену (как он
и говорит в сонете «О нет, я не хочу, чтоб пали мы с тобой...»).Любовная лирика Блока — страстный и торжественный гимн люб¬
ви, готовой преобразить весь мир, но этот гимн растворился бы без
остатка в лирике поэтов предшествующих поколений, если бы в нем
просто воспевалась любовь и счастье любви — «бурю цыганских стра¬
стей» воспевали и другие поэты. Нет, Блок видел, что в тех условиях,
в которых он жил и творил, это счастье неосуществимо, обманчиво, оно
приходит в непримиримое противоречие с основным призванием и на¬
значением человека. Только «убив всю ложь и уничтожив яд», человек
приобщается к такой любви, в которой «всё музыка и свет»; только та¬
кая любовь казалась поэту достойной своего высокого и прекрасного
вмени,— а иной любви он по признавал; вот почему он с обостренной
зоркостью и чуткостью подмечал всо то, что противоречило его вос¬
приятию любви.Как бы ни была противоречива любовная лирика Блока, нельзя
останавливаться на констатации противоречий, ибо это означало бы
непонимание ее основного смысла, ее направленности и характера. Ха¬
рактер этот определялся именно тем, что любую сторону жизни чело¬
века, а стало быть, и область частных, личных, интимных чувств и от¬
ношений, Блок рассматривал и расценивал в связи с его высшим при¬
званием и назначением, со всем миром его творчества и борьбы. Вот
что придает любовной лирике Блока такой углубленный смысл, пре¬
вращает ее в документ большого человеческого н художественного
звучания и значения.Ш
На пути «от личного к общему», говоря словами поэта, его понй-
иание любви сугцественыым образом менялось, и если сначала любовь
для героя лирики Блока — это нечто бесплотное и неземное, а потом —
безрассудная стихия, чуждая каким бы то ни было людским законам,
дикая и неукротимая «буря цыганских страстей», то потом в ней все
больше проступают иные черты, светлые и подлинно человеческие,
гармонически прекрасные, связанные не только с миром стихии, но и с
миром людей, которым любовь несет «обетованную весну». Лирика Бло¬
ка с годами все больше становится не просто голосом стихии, как было
когда-то, по и зовом к будущему, знаменем, развернутым ветром, при¬
зывом к подвигу, к тому, чтобы освободить возлюбленную, невесту,
Россию, принести ей «на острие копья — весну»; вот та любовь, кото¬
рую отстаивает поэт и чей облик никогда не меркнет перед его внут¬
ренним взором., сквозит, как нерушимая святыня, в сумятице и пест¬
роте «жизни вседневной», во мраке окружающего «страшного мира».
«НЕ ДЛЯ ДРУЖБ Я БОРОЛСЯ С СУДЬБОЙ»1. «ДРУГ ДРУГУ МЫ TAttllO ВРАЖДЕБНЫ...»В русской лирике — множество стихов, славящих и воспевающих
Дружбу как одно из самых прекрасных чувств, связывающих людей
между собой.Казалось бы, резким диссонансом в поток этих стихов врывается
,лирика Блока, в которой дружба предстает в совершенно ином свете
и почти каждое слово о ней словно бы облито злостью, горечью, жел¬
чью, пронизано духом сарказма; пожалуй, нет другого поэта, в твор¬
честве которого дружба подвергалась бы таким ожесточенным напад¬
кам, как это мы видим в лирике Блока; лишь только в ней заходит
речь о дружбе, кажется, что горло поэта перехватывает судорога боли
и гнева и он не может найти иных слов, кроме самых резких и язви¬
тельных.Поэт видел, что «страшный мир», стремившийся полностью подчи¬
нить себе человека, накладывает свое клеймо и па такое чувство, как
дружба, выворачивает его наизнанку, превращает его в оборотня и
«двойника», и эти невероятные превращения становятся одной из са¬
мых постоянных том в лирике Блока, ее лейтмотивом, к которому поэт
возвращается снова и снова, каждый раз осмысляя его в новом свете.Для того чтобы уяснить характер стихов Блока о дружбе, нам сле¬
дует принять во внимание то, что их порождало, отношения поэта с ок¬
ружавшей его средой, с людьми, становившимися ему на какой-то пе¬
риод наиболее близкими — и в конце концов переходившими (как это
обычно бывало) в стан его наиболее ожесточенных и непримиримых
: противников; вот почему нам представляется необходимым напомнить
о давних распрях и разногласиях, в свое время весьма остро иережи-
тых Блоком и глубоко отозвавшихся в его творчестве.Дату, разделившую Блока с наиболее близкими ему в свое время
друзьями и проведшую между ними «огневую черту», через которую
они, в сущности, уже никогда не могли переступить (несмотря на те
или иные контакты, встречи, примирения — после ссор, разногласий
и расхождений), впоследствии определил сам поэт в письме к 3. И.
Гиппиус; оглядываясь назад и различая этот незримый рубеж в широ¬
кой перспективе всей жизни, Блок писал своей корреспондентке:«...нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-ый, когда я еще
мало видел и мало сознавал в жизни...» (1918).Так оно и было — но только в дни Октября поэт яснее и лучше' 224 •
осознал, что' порождало у него чувство отчужденности от того, круга
людей, в котором он раньше считался «своим».События революции 1905 года и различное отношение к ней до
крайности форсировали развитие тех противоречий, которые привели
к резкому разрыву между недавними друзьями и единомышленниками;
пылкая дружба и излияния в любви и преданности сменились, как мы
уже видели, самой яростной враждой, усиленно раздуваемой недавни¬
ми друзьями Блока.Чем откровеннее и доверчивее некогда вводил их поэт в свой вну¬
тренний мир, в свое «святая святых», тем дороже ему приходилось рас¬
плачиваться за свою откровенность: ведь именно они оказывались
лучше всего вооруженными против него (и он сам вкладывал в их руки
это оружие!), именно они могли наносить ему самые меткие удары; и
наиболее глубоко уязвить его,— слишком хорошо знали они ахилле¬
сову пяту поэта и по щадили его, когда наступал подходящий для
них час.Ареной наиболее озлобленных нападок на Блока, самых беззастен¬
чивым выходок против него (после постановки и опубликования «Бала¬
ганчика») стали «Весы» —журнал, в котором Блок был незадолго до
того провозглашен (в статье Андрея Белого) величайшим русским
поэтом и герольдом религии «Третьего завета». Но с тех пор как Блок
был заподозрен в измене «соловьевскому» делу, оценка его творчества
в корне изменилась, и «Весы» открыли по нему ожесточенный огонь,
подняли целую кампанию против него (в которой не участвовал один
лишь Брюсов, с годами все более высоко ценивший творчество Блока).В сентябре 1907 года поэт сообщает матери:«Пишут обо мне страшно много и в М[оск]ве и здесь — и ругают,
и хвалят... вероятно, многие думают обо мне плохо. Приготовляюсь
к тому, что начнут травить...» — и это предчувствие не обмануло поэта.К го н действительно «травили» — упорно и последовательно. Почти
ни один помор «Весом» но обходился без резких и оскорбительных
выпадов против поэта, без издевок и ругани по его адресу,— и особен¬
но усиленно упражнялись на этом бесславном поприще недавние дру¬
зья и соратники Блока, усматривавшие в каждом его новом произве¬
дении смертельную угрозу своим фантастическим замыслам и несо¬
стоятельным теориям; именно они больше всего были «озадачены-» тем
новым, что обнаружили в его стихах и статьях, и именно они «плохо»
думали о поэте.Особенное озлобление и негодование в лагере «весовцев» вызвала
статья Блока «О реалистах» (1907), расцененная ими как попытка сго¬
вора с враждебным лагерем реализма и «позитивизма»; они рассмат¬
ривали ее как «измену» всем былым взглядам и недавним убеждениям
поэта.Чтобы уяснить характер этой крайне противоречивой статьи, надо
напомнить о том, что, как только поэт вплотную задумался о связи
искусства с жизныо, он уяснил огромное значение произведений Горь¬
кого, вызывавших ненависть у поборников реакции, хотя бы и рядив¬
шихся в тогу ревнителей «чистого искусства».225'
Блоку особенно был близок общественный и героический пафос
творчества Горького; этот пафос не мог не увлечь Блока, ибо был срод¬
ни его собственным стремлениям и героическим помыслам,— и разве
мог он остаться равнодушным к гордым словам старухи Изергиль:«Когда человек любит подвиги, он всегда сумеет их сделать и най¬
дет, где это можно. В жшши, знаешь ли ты, всегда есть место для
подвига».Этот призыв к подвигу отвечал духу и стремлениям самого поэта,
находил у него глубокий н неизменный отклик.Вместе о том нельзя по видеть и того, что Блоку во многом было
чуждо ноннмаипо Горького как знаменосца социалистической револю¬
ции, как зачинатели нового этана в развитии русской и мировой лите¬
ратуры, нового ее метода; этим вызваны и попытки мерить Горького
исключительно старыми мерками, неумение увидеть то качественное
своеобразие, подлинно новаторское, дотоле небывалое, что несло с со¬
бою творчество Горького,— в результате чего у поэта и возникали же¬
стокие просчеты в оценке многих выдающихся произведений Горького
(как и других писателей-реалистов).Так, Блок утверждал в своей статье, что последние из опублико¬
ванных Горьким произведений «читаются со стыдом», что его сказка
«Товарищ» — это по более чем «наивное сентименгальничанье», усна¬
щенное «банальными эпитетами», что в повести «Мать» (которая нача¬
ла в то время печататься в сборниках товарищества «Знание») «нет
ии одной новой мысли и ни одной яркой строчки...».В подобных высказываниях Блока и поистипе не было «ни одной
новой мысли» — по сравнению с тем, что писалось й в «Весах», и в
«Русской мысли», и в других органах реакционной, «модернистской»
и, либерально-буржуазной прессы, пытавшейся «похоронить» Горького;
но в статье «О реалистах» у Блока есть и нечто иное, что застряло, как
кость в горле, у ею недавних друзей, разделявших испуг Мережков¬
ского перед революцией и клеймивших вслед за ним именем «гряду¬
щего хама» передовых людей России, ее лучших писателей, цвет ее
народа. Вот тут-то Блок и взорвался и впервые в жизни заговорил со
своим недавним учителем языком страстной, гневной и вполне заслу¬
женной отповеди:«Мучительно слушать, когда каждую крупицу индивидуального,
прекрасного, сильного Мережковский готов за последние годы свести
на «хлестаковщину», «мещанство» и «великого хама». Когда эти тер¬
мины применяются к Горькому и особенно к Чехову,— душа горит;
думаю, что негодованию в этом случае и не должно быть пределов...»А далее, иронизируя над способностью Мережковского «расколоть
мир, углубить обе половины до бесконечности, сплести, спутать и так
замучить, как это может сделать Мережковский», Блок противопостав¬
ляет «книжной» культуре Мережковского творчество Горького, как по¬
длинного сына парода, выразителя его дум и чаяний.«Я утверждаю...—пишет Блок,—что если и есть реальное поня¬
тие — Россия, или лучше, Русь — помимо территории, государственной
власти, государственной церкви, сословий и пр., то есть, если есть это2,26
великое, необозримое, просторное, тоскливое и обетованное, что мы
привыкли объединять под именем Руси,— то выразителем его прихо¬
дятся считать в громадной степени — Горького...»И здесь поэт, несмотря на вею противоречивость своих суждений
и оценок, выговаривает четко и ясно самое для него главное, основное,
заветное, бросая вызов всему обширному лагерю хулителей Горького
и его творчества:.«...неисповедимо, по роковой силе своего таланта, по крови, по
благородству стремлений, по «бесконечности идеала» (слова В, В. Ро¬
занова) и по масштабу своей душевной муки,— Горький — русский
писатель».В своей статье Блок отозвался одобрительно и о повести Ски¬
тальца «Огарки», иные страницы которой «представляют литератур¬
ную находку».Вот что говорил Блок губами, сведенными болыо и гневом, оскор¬
бленный за Горького и — при всей половинчатости своих оценок! —
слагая ему чуть ли не гимн, в то время как друзья и соратники поэ¬
та— «грифы», «аргонавты», «скорпионы»—тщились как можно чув¬
ствительней уязвить Горького.К Горькому и художникам-реалистам, группировавшимся вокруг
Горького, Блока тянуло то, что в их творчестве он видел готовность
ответить на те вопросы, которыми мучилась Россия. Он высоко ценил
в творчестве писателей-реалистов то, что они «исходят из думы, что
мир огромен» и в нем «цветет лицо человека — маленького и могуче¬
го...» («Записные книжки», 1907).Блок уловил здесь глубокие и характерные черты, присущие ис¬
кусству реализма, и сумел сказать о них точно, кратко, удивительно
ярко и своеобразно; особенно важно подчеркнуть, что Блок увидел ко¬
ренную разницу между реализмом и натурализмом (ведь в произведе¬
ниях натуралистического склада лицо человека не «цветет», а меркнет,
и и них он является всего только маленьким, подавленным жизненны¬
ми условиями и обстоятельствами, а вовсе не «могучим»).Блок не только высоко оценил, по и нащупал в реализме то, что
было близко и родственно его собственному творчеству; об этом он,
в сущности, и говорил в своей статье «О реалистах».Что же касается «мистиков и символистов», то они — это для Бло¬
ка несомненно — «...плюют, на «проклятые вопросы» — к сожалению.
Им нипочем, что столько нищих, что земля кругла. Они под крылыш¬
ком собственного «я» (как пишет он в своем дневнике).Вот это и вызывает у Блока резкую критику своих недавних дру¬
зей и соратников, спрятавшихся от жизни и ее «проклятых во¬
просов».В «Весах» статья Блока «О реалистах» была расценена как попыт¬
ка певца Прекрасной Дамы протянуть руку примирения враждебному
лагерю; не мудрено, что этот журнал отныне открыл постоянный огонь
по Блоку, и травля велась с таким озлоблением, которое, казалось бы,
ие к лицу представителям «чистого искусства», обитателям «блажен¬
ных островов»,—о чем свидетельствует письмо Андрея Белого, послан-
нос как отклик па статью Блока; в этом беспрецедентном но невероят¬
ной оскорбительности письме Белый говорит, что, прежде он хотел
«привлекать к ответу» Блока «за многие поступки». «Я, издали продол¬
жал за Вами следить (!!!). Наконец, когда Ваше «прошение», pardon,
статья о реалистах появилась в «Руне», где вы беззастенчиво писали
о том, чего не думали, мне всо стало ясно. Объяснение с Вами оказа¬
лось излишним» («Переписка», стр. 192).В ответ на критику Блок терпеливо разъяснял Андрею Белому и
его единомышленникам смысл и характер своей статьи и то, что озна¬
чает его «хватание» за Скитальца и других нисателей-знаньевцев:«...я за Волгу ухватился, за понятность слога, за отзывчивость
души, за ее здоровую и тупую боль. Водь я не стою на том, что это.—
искусство» (1907).Так он отвечал в одном из своих писем, адресованных Андрею
Белому, но «весовцы» продолжали «хвататься» не за Волгу, а за стра¬
ницы мистических писании, за апокалипсис, сочинения неокантиан¬
цев' —вот почему они пропускали мимо ушей любые , его объяснения
и разъяснения.Отныне «весовцы» уже не оставляли в покое Блока и во множе¬
стве статей и выступлений высказывались .о нем и его, произведениях
в самом уничижительном тоне.В отзыве на сборник «Цветник Ор», в котором участвовал Блок,
Андрей Белый перемежал самую грубую брань по адресу Г. Чулкова
с издевками над Блоком, произведения которого, по словам Белого,
ныне вызывают «только зевоту», не более. «Как это жаль! Жаль по¬
эта!..» — восклицал Белый, хотя оснований для подобной «жалости»
у него не было никаких.А далее Белый с пристрастием перечислял те деяния Блока, кото¬
рые казались ему явно предосудительными и недостойными:«Сначала он выдвинул своих «дурачков» («и сидим мы, дурачки,
нежить, немочь вод...»— стихи Блока.— Б. С.) в пику Прекрасной
Даме, которую хотел отправить на пароход. Потом обругался «.Бала¬
ганчиком» (по чьему адресу — Белый не поясняет! — Б. С.): тут вле¬
тело и мистике, о которой поэт судит столь странно, что возникает
сомнение в том, имеет ли он какое-либо представление о ней (а это
кажется Белому самым тяжким, и непростительным грехом! — В: С.).
Из мистика Блок превратился в чистого лирика... (и это «превраще¬
ние» приводит Белого в отчаяние! —В. С.),— но он кощунствует и на
лирику...» — такое «кощунство» Белый усматривает в том, что Блок
надоедает «дешевым и приевшимся модернизмом...» («Весы», 1907,
№ 6, стр. 67—68).Так «распекал» Андрей Белый Блока за его «измену».Бывало даже, что в одном и том же номере «Весов» Белый два¬
жды нападал на Блока — и под собственной фамилией и под псевдо¬
нимом; так, разделав Блока в фельетоне «Синематограф» («Весы»,
1907, № 7), Белый не забывал упомянуть о нем и в обзоре альманаха
«Белые ночи» и, признавая Блока одним из лучших современных поэ¬
тов, следующим образом характеризовал его творчество:•228
- «...У Блока всегда: подъем к Пушкину и — срыв; дерзновение, за¬
хватывающее дыхание, и тут же рядом жалкий набор слов. Глубина
переживаний исключительных и влекущих, и — тут же их фальсифи¬
кация; крик раздирающего душу страдания, и — подделка под гримасу
идиотизма...» —причем здесь слово «идиотизм» далеко не случайно;
с. ряде1 статей Белый дает понять, что только полнейшей безответст¬
венностью и умственной неразвитостью поэта можно объяснить «эво¬
люцию»1 его творчества и характер его поведения.В журнале «Весы» появилась и статья Андрея Белого «Обломки _
миров», й которой сосредоточено все то, что он порознь высказал о твор¬
честве Блока и что продиктовано решительным отвержением творчест¬
ва недавнего рыцаря и певца Прекрасной Дамы.«Блок — талантливый изобразитель пустоты...» — безапелляцион¬
но заявлял Белый, и вся его статья, в которой предпринята попытка
проследить творческий путь Блока, сводилась к стремлению доказать,
что, расставшись со своими детски мечтательными иллюзиями и фан¬
тазиями, поэт обрек себя ни духовную гибель; Белый рассматривал
здесь все то, что появилось и лирике Блока после «Стихов о Прекрас¬
ной Даме», как «провал в пустоту».Не более высокой оценки заслуживают, как уверяет Андрей Бе¬
лый, и драмы Блока — «обломки рухнувших миров (того и этого), как
попало соединенные в своем полете в пустоту...». В них так же, как и
в новых стихах Блока, «нет ничего, они ни о чем; «ряд встающих
двойников — бег предлунных облаков»... и вообще в них — гибель
ни за что, ни про что: так, для гибели. Лирика разорвалась и только;
и все просыпалось в пустоту...» («Весы», 1908, № 5, стр. 65—6G) —так
Белый стремился опровергнуть и уничтожить самые основы и пред¬
посылки того, что Сказалось в новых произведениях Блока, который
и представлен в этой статье в виде бездушного «пишущего аппа¬
рата».Н ослеплении групповой борьбы и сектантских — «соловьев-
ских»— концепций, Андрей Белый проглядел самое главное и сущест¬
венное,'что сказалось в новых произведениях Блока, и приравнял
к нулю1 то, что было полно жизни, огня, страсти, раздумьями о назна¬
чении человека, великими замыслами.В таком же высокомерно поучительном, а то и оскорбительном
духе высказывались на страницах «Весов» и другие сотрудники жур¬
нала; один из них, наиболее активный и неугомонный,— Эллис, по¬
свящая 1 Горькому очередную «разносную» статью, не преминул ляг¬
нуть и Блока. Эллис иронизировал по адресу поэта, «осмелившегося»
поднять голос в защиту Горького: «Да, воистину надо родиться А.'Бло¬
ком, чтобы восхищаться писаниями Горького...» — и с издевкой име¬
нует* Блока «бессмертным критиком» («Весы», 1908, № 7, стр. '57),
заставляя вспомнить о той, заклейменной Тютчевым, «бессмертной по¬
шлости людской», от насилия которой Блоку удавалось спасаться
далеко не всегда.Не менее резкую и несправедливую оценку встречали в «Весах»
и другие статьи Блока, написанные подчас крайне причудливым язы¬229'
ком-, что, конечно, не могло пройти мимо «испытанных. остряков» его
времени; они изощряли над поэтом свое остроумие, как только мог¬
ли,— и Эллис, и Сергей Соловьев, и Зинаида Гиппиус, называвшая
статьи Блока «несчастненькими».Не только эти статьи, но и его лирика являлась в «Весах» зача¬
стую лишь поводом для глумления,— и тот же Эллис с издевкой писал
о ней:«Ие без ужаса замечаете вы, что стихи А. Блока почти ничем не
отличаются от стихов гг, Лндрусопа, Д. Цензора, Рославлева, что они
банальны и скучно позвякивают:Опять бессильно и напрасно
Ты отстранялась от огня,Но даже небо было страстно,И небо было за меня...А дальше,— хихикал Эллис,— даже вовсе несуразно:И стало все равно, какие
Лобзать уста, ласкать плеча! (?)...»Заключив стихи Блока — для пущей издевки — вопросительным
знаком и явно завидуя лаврам «нововременца» Буренина, глумивше¬
гося над лучшими современными писателями, Эллис сочинял:«Быть может, даже- ему...все равно, какие
Писать стихи...» —(«Весы», 1909, № 5,
стр. 71-72)и не один Эллис, а почти все «весовцы» утверждали, что отныне Блоку
«все равно, какие писать стихи», все равно, куда и с кем идти,— лишь
бы угнаться за модой и славой!Не менее запальчиво выступал против Блока и его недавний друг
и единомышленник С. Соловьев. Книгу его стихов «Crurifragium»(1908) заключает отдел «Полемика», где опубликована статья, ирони¬
ческое назвапие которой говорит само за себя: «Г. Блок о земледелах,
долгобородых арийцах, паре пива, обо мне и о многом другом». При¬
водя слова поэта о том, что «на просторных нолях русских мужики,
бороздя землю плугами, поют великую песню — «Коробейников» Не¬
красова,— С. Соловьев вопрошает с претензией на тонкое остроумие:
«где видел г. Блок, чтобы мужики пели «Коробейников», «бороздя зем¬
лю плугами»?» По мнению С. Соловьева, такого не было и быть не
могло! Все это Блок придумал — наблюдая мужиков' из кабинета, «как
добрый помещик старого времени» («Crurifragium», стр. 156).Еще большее озлобление и негодование вызвала у С. Соловьева и
«другая бытовая сценка, рассказанная г. Блоком»: «Над извилиной
русской реки рабочие, обновляющие старый храм с замшенной папе¬
ртью,— поют «Солнце всходит и заходит» Горького».230
Конечно, уже одно упоминание о Горьком — да еще в таком лирит
чески-возвышенном духе! —■ не могло не возмутить поборника религи*
озно-мистического изуверства, и он сурово выговаривает поэту: «Если
эта сцена и правдоподобнее первой, то все же г. Блок совершенно на¬
прасно радуется тому, что обновление храма производится пе с соот-
ветствующими религиозными помыслами, а под напев пошлой (!!!)
революционной песни, по существу анти-художественной (!!!) и во вся¬
ком случае (?!) не народной» (там же, стр. 157).Так уже одно то, что Блок «осмелился» сказать несколько добрых
слов о Горьком, песня которого стала и поистине всенародной, доводи¬
ло и Сергея Соловьева и его соратников до припадков самой исступ¬
ленной злобы, духом которой и пронизана вся статья С. Соловьева. По¬
этому нет ничего удивительного, что в своей полемической статье С. Со¬
ловьев представляет Блока как модерниста, который пересадил на рус¬
скую почву «чахоточные цветы западного декадентства», как создатель
«бесплотных и бескровных призраков в стило Мориса Дениса и Мотор-
липка» (там жо, стр. 102). Вот каким слогом считали возможным го¬
ворить о своом «поверженном кумире» педавпие друзья Блока — после
того как убедились, что ему с ними — не по пути!В таком же духе высказывался о Блоке Сергей Соловьев и в статье
«Новые сборники стихов», в которой говорится преимущественно о кни¬
ге Блока «Земля в снегу»; чего-чего тут не насказано в адрес этой
книги и ее автора!Он-де «не видит жизни, с ее сложностью и многообразием» (и это
говорил человек, который в жизни ничего не хотел видеть, кроме кре¬
стов и церквей!—В. С.); он «совершенно лишен чувства быта и исто¬
рии»; к числу его недостатков относится «построение стихотворений на
основании случайных ассоциаций, отсутствие логики и неразработан¬
ный поэтический словарь»; оказывается, что в «Снежной маске» сло¬
варь Блока «окончательно смешан».А п заключенно С. Соловьев сообщает:«Много в гашго народнических стихотворений и даже гражданском
скорби. Все это как-то но кажется искренним» и отзывает «салопным
производством»...» («Весы», 1908, № 10, стр. 87—91).Таким издевательски-пренебрежительным образом откликались не¬
давние друзья и соратники Блока на появление его новых книг, обви¬
няя их автора в отсутствии логики, вкуса, искренности и поучая его
тому, как следует писать стихи!Чтобы представить себе всю степень предвзятости и сектантской
ограниченности сотрудников журнала «Весы», мнивших себя высшими
знатоками искусства, достаточно прочесть посвященную разбору ага*
манаха «Шиповник» статыо «Розы без шипов» (автор которой—Бо¬
рис Садовской—выступает под псевдонимом «И. Голов»), где разби¬
рается замечательный цикл стихов Блока «На поле Куликовом».Автор обзора оповещал читателей, что в последних стихах Блока
чувствуется «какая-то болезненная вялость, какое-то безразличное от¬
ношение к тому, что выходит из-под его пера...». Автору обзора, видите
ли, «грустпо и больно» за Блока, который из рыцаря Прекрасной Дамы231
превратился «в'модернизированного народника» и подменил «стихий¬
ное творчество какой-то придуманной теоретической стихией...».«Лучше бы Блок оставил это занятие рядовым стихотворцам»,—
наставительно замечает И. Голов,— ибо «в стихотворениях «На Кули¬
ковом поле» не замечается внутренней необходимости (И!)','которая
оправдывала бы (!!!) их появление... Хуже всего (?!), что последние
стихотворения напоминают мостами что-то знакомое, уже читанное
когда-то...» («Весы», 1000, № 9),.Вот что — и и каком тоне! - считалось возможным:и5уместным пе¬
чатать на страницах «Весов» и сняли с появлением одного из самых
замечательных произведений современной лирики!Дело доходило до того, что Эллис в статье «Что такое театр?»
(«Весы», 1908, № 4) трактовал «Балаганчик» Блока как предел наввоз-
можнейшего падения человека и художника — дальше, дескать, падать
некуда, а если Сергей Соловьев похваливал стилизаторски-жеманные
комедии Михаила Кузмина, то вместе с тем он ставил в упрек автору
комедий то, что «мудрая наивность мистерии сменяется у него фаль¬
шивой гримаской а-1а Блок...» («Весы», 1909, № 3, стр. 94). Как только
Кузмин избавится от этой «фальшивой гримаски», от «безвкусия» бло¬
ковского «Балаганчика» и вообще от малейшего сходства с Блоком,
гибельного для любого художника, вот тогда-то, уверяет С. Соловьев,
и расцветет талант Кузмина!И так в «Весах» из номера в номер говорилось о Блоке как о явно
сомнительном литературном явлении, эталоне фальши, искусствен¬
ности, бессмыслицы. Сотрудники «Весов» не пропускали (буквально!)
ни одного номера без того, чтобы не обругать Блока (так же как и
Горького!), словно полагали, что выпустить журнал без такой руга-
пи — все равно что испечь пирог без соли... И уж тут они предпочи¬
тали пересолить, чем недосолить!Андрей Белый переносил полемику с Блоком и его тогдашними
друзьями со страниц журнала «Весы» в свое художественное творче¬
ство, которое также использовалось как оружие в литературных
схватках. Духом такой острой и резкой полемики с Блоком пронизана
и «четвертая симфония» Андрея Белого — «Кубок метелей»; в этом
«кубке» вскипал и пенился страстный гнев против одного из ответвле¬
ний символистского движения — против «мистического анархизма»,
к которому Белый в то время безоговорочно присоединял и Блока
(хотя сам Блок весьма резонно и решительно протестовал против
подобного «объединения»).В своем «Кубке метелей» Андрей Белый хотел как можно силь¬
нее уязвить и «Жеоржия Пулкова» (в образе которого любой Чита¬
тель тех времен без труда мог узнать шарж на Георгия Чуякова),
в-Сергея Городецкого, и Блока, и других людей из враждебного Бе¬
лому Лагеря «мистических анархистов» и сочувствовавших им лите¬
раторов. : :
Разделавшись с «Жеоржием Нудковым», который «крутил в Го¬
стиных мистические крутни» и которого Белый рассматривал как «про¬
вокатора символизма», автор «четвертой симфонии» переходил к Блоку,232
ч:т,обь1.л .его. освистать всеми посвистами своей неистовой метели,,идо-
воль посмеяться иад ним:«Вышел великий Блок и предложил сложить из ледяных сосулек
снежный костер («...Она была живой костер из снега...» — читаем мы
в стихах Блока.— Б. С.).Скок да скок на костер великий Блок: удивился, что не сгорает.Вернулся домой и скромно рассказывает: .«Я сгорал на снежном костре».На другой день всех объездил Волошин, воспевая «чудо св. Блока».Здесь что ни слово — насмешка над незадачливым рыцарем Пре¬
красной Дамы, неожиданно превратившимся чуть ли не в горохового
шута,—в этой-то метаморфозе и состоит «чудо св. Блока»; сам этот
скоморошно-раешный стиль («скок да скок на костер великий Блок»)
подчеркивал издевку над поэтом, над его новыми стихами о «снежной
маске», над его болыо, над его раздумьями — совершенно пус/шми
и жалкими, на взгляд Белого, ибо они лишены мистического смысла
и теургического значения.Весь «Кубок метелей» кипел литературно-групповыми страстями,
и в пом совершенно заумные «завихрения» образов, аллегорий, сюжетаи. мистические «откровения» перемежаются со страницами сугубо фе¬
льетонного, а то и памфлетного характера.Не мудрено, что Блок, получив в дар от автора «Кубок метелей»,
долго ему не отвечал («хожу и плююсь, как будто бы в рот попал
клон...» — писал он матери после ознакомления с книгой Андрея Бе¬
лого), а когда все же собрался с ответом, то откровенно высказал, ее
автору слова сурового осуждения и резкой критики:«Я прочел «Кубок Метелей», и нашел эту книгу не только чуждой,
но и глубоко враждебной мне по духу... Ты пишешь, что симфония
эта — самая искренняя из всех; в таком случае я ничего в Тебе не по¬
нимаю, никогда не пойму, и никто но поймет. Даже с внешней сторо¬
ны (литературной) я совершенно отрицаю эту симфонию, за исключе¬
нием, иомногих мест, узко но одному тому, что половины ие понимаю
(но и никто не поймет)...» (1908).Так резко и прямо писал Блок автору «четвертой симфонии», слиш¬
ком увлекшемуся сочинениями надуманных символов и безжизненных
аллегорий.В ответном письме Белый заявлял о том, что прерывает сношения
, с Блоком, после чего они надолго разошлись.Многие годы спустя, уже после смерти Блока, Белый писал, что
нападал на него в «Весах» «...не для того, чтоб его повалить, уничто¬
жить в борьбе,— чтоб вернуть его к его прежнему светлому миру; че¬
рез мир тот опять отыскать к нему путь» («Эпопея» № 3, стр. 260—261).Но «вернуть» его к тому, что Белый называл «светлым миром»
.(а, сам Блок — «детством, жизни»), не удалось, и логика безнадежной
борьбы «за Блока» целые годы вела Белого ко все большему ожесточе¬
нию против Блока, вызывала порою даже жажду «уничтожить» его, как
отступника, «пропускающего нечисти в святые места» («Эпопея» № 3,
стр. 168). ...233
Прослеживая отношения Блока и Белого, следует сказать, что эти
отношения достигли предельной остроты в 1906—1908 годах; потом,
с 1910 года, после опубликования речи Блока «О современном состоя¬
нии русского символизма», они стали более ровными, а временами и
сердечными, но уже никогда впоследствии Белый пе пытался возлагать
на Блока миссию герольда «Жены, облеченной в солнце» или какого-
то апостола новой религии — за явной безнадежностью подобных по¬
пыток.Оглядываясь на пройденный путь, Андрей Белый однажды заме¬
тил— в момент того просветления, когда чувство реальной действи¬
тельности оказалось сильное фантазий и иллюзий, некогда имевших
над ним неодолимую власть:«Блока я понимал, может быть, два-три года, но более; да и то
оказалось, что ничего-то не понял...» («На рубеже двух столетий»,
стр. 381),— и хотя сам Белый посвятил Блоку множество страниц своих
воспоминаний (в самых противоречивых и взаимоисключающих вари¬
антах, а потому и далеко не во всем достоверных), замечание это сле¬
дует признать справедливым. Действительно, с самого начала Белый,
воспринявший «Стихи о Прекраспой Даме» не как лирику (что рас¬
сматривалось им как момент второстепенный!), а как акт «теургиче¬
ского служения» и божественного «откровения», взял в отношениях
с Блоком и оценке его творчества ту фальшивую ноту, от которой
и впоследствии не сумел отказаться, что и послужило основанием для
самых невероятных недоразумений и острых столкновений.Так завершился цикл восторженных излияний и пламенных заве¬
рений в любви и преданности между Блоком и его былыми друзьями.С новыми «друзьями» (отношения с которыми зачастую складыва¬
лись в духе «собутылыгачества») у Блока также ие налаживалось под¬
линного единства, и встречи с ними нередко таили в себе новые опас¬
ности, угрозы, разочарования.В опубликованных в «Записных книжках» Блока набросках к по¬
эме «Возмездие» мы читаем о том, что герой поэмы — «сын» (в жизне¬
описании которого мы явственно угадываем автобиографические чер¬
ты), выйдя из своего уединения и видя в событиях современности
«образы развертывающегося хаоса», очутился в том кругу, где «вино
лилось рекой», «каждый безумствовал», «каждый хотел разрушить се¬
мью, домашний очаг — свой вместе с чужим», а с языка не сходили
слова «революция», «мятеж», «анархия», «безумие» (1911),— и, пожа¬
луй, из людей, близких в то время Блоку, облик теоретика «мистиче¬
ского анархизма» Г. Чулкова в наиболее полной мере отвечал создан¬
ному здесь и обобщенному образу представителя художественной бо¬
гемы тех лет. Именно Г. Чулков в меру своих сил способствовал «раз¬
рушению» семьи Блока; именно с его уст не сходили слова о «мятеже»,
«революции», «анархии», о полном отвержении какого бы то ни было
долга перед обществом и каких бы то ни было моральных ценностей
и устоев. Все это, полагал он, только «сковывает» истинно свободного
человека. Если прежние друзья Блока видели в его творчестве «сим¬
вол веры» некоей новой религии, отвергая (даже и в борьбе с самим2.34
поэтом!) возможность какого бы то ни было иного толкования, то
впоследствии Г. Чулков не менее рьяно изображал Блока как самого
ревностного последователя теории «мистического анархизма», нашед¬
шей (как полагал Г. Чулков) в личности и творчестве Блока свое на¬
иболее цельное и полное воплощение.Сам Блок — н по вполне резонным мотивам — отказался плестись
в той упряжке, куда вознамерился пристегнуть его Георгий Чулков,
о чем и сообщил в письме в редакцию журнала «Весы» (1907, № 8).Это письмо, от опубликования которого Г. Чулков всячески отго¬
варивал поэта (как явствует из их переписки), было расценено теоре¬
тиком «мистического анархизма» как акт беспринципности и трусости
поэта перед лицом широкой и враждебной «мистическому анархизму»
кампании, предпринятой во многих печатных органах. Словно пропу¬
стив мимо ушей все то, что Блок говорил и писал —- в сугубо критиче¬
ском духе — по поводу «мистического анархизма», создатель этой
«теории» упорно зачислял Блока в ряды «мистических анархистов»
и даже многие годы спустя утверждал, что Блок якобы почувствовал
первоначально «правду» (!!!), заключенную в «мистическом анархиз¬
ме», но потом «...под влиянием всеобщей травли — смутился и отсту¬
пил» («Письма Александра Блока», стр. 110). Так даже и после смерти
поэта (не говоря уже о том, что происходило при его жизни!) былые
друзья считали возможным выдвигать против пего обвинения, из ко¬
торых следовало, что Блок — перебежчик, способный покинуть своих
друзей и соратников в трудный для них час, изменить возглашаемой
ими «правде»!На основании этой логики они считали возможным судить о его
намерениях и поступках, ставя под сомнение его мужество, честь, доб¬
рое имя, и так Блок — во многих случаях! — мог испытать на себе —
и испытывал!--«клевету друзей» (Лермонтов), которая не случайно
представлялась ему навязчивой и опасной спутницей самых различ¬
ных и многообразных «дружб».Схожим образом изображал поэта Георгий Чулков и в рассказе
«Парадиз», опубликованном в журнале «Образование» (1908, № 7);
в герое этого рассказа Блок без труда узнал самого себя (о чем он а
сообщил в одном из адресованных матери писем).Герой рассказа, отвечающего духу «мистического анархизма», «не¬
приятия мира», «конца времен»,— Александр Александрович Гердт,
сидя в кафешантане «Парадиз», развивает перед своим собутыльником
мысли об ужасе повседневности, о том, что если бы и наступили собы¬
тия, предсказанные в апокалипсисе,— никого бы они не испугали и не
удивили: ведь самое страшное, страшнее чего и придумать нельзя,—
это повседневная жизнь, «неприятие» которой и составляет пафос рас¬
сказа.В рассказе «Парадиз» Блок изображен человеком, не признаю¬
щим ничего, кроме своих прихотей, чающим «конца времен», а пока
что предающимся мелкому разврату, ночным и прочим оргиям; есть
здесь и своя госпожа Лебядкина (из «Бесов» Достоевского) — полная
проститутка, сходящая с ума, не вынесшая «непроглядного ужаса»235
своей жизни;'она вообразила себя царицей Клеопатрой, и именно Гердт
утверждает ее потрясенное сознание в этой бредовой идее.■ Не только Чуйков, но и другие новые друзья поэта находили Впол¬
не уместным' изображать его преиуществешю как человека, в чьей
душе развертывается «огромный пуль», как «праздного гуляку», «Ми¬
стического разговорщика»; именно об этом говорит Вячеслав Иванов
в посвященном Блоку стихотворении «Бог в лупанаре», героя которого
«демон надоумил)» —...но стопам бродяг и пьяниц
Вступить единым из гостей
I! притоп, где слышен гик и танец
И стук бросаемых костей...В этом притоне поэт и находит свое, призвание, ибо ему дано —...в микве смрадной ясно видеть
И, лик узнав, что в ликах скрыт,Внезапным холодом обидеть
Нагих блудниц воскресший стыд... —и сам автор этих стихов не находил, должно быть, ничего зазорного
в том, чтобы с головой окунуть поэта в эту «смрадную микву» и изо¬
бразить его в виде нового гедониста, наследника Дориана Грея, захва¬
ченного погоней за новыми — и все более острыми —- ощущениями И
наслаждениями.Так изображали Блока его ближайшие друзья, создавшие о нем1
самое превратное представление, как о герое не слишком-то лестных,
а то и попросту непристойных легенд, но сам поэт совсем не хотел быть
похожим на подобного «героя»,— незадолго до опубликования рассказа
«Парадиз» он писал Андрею Белому:«Никакого «оргиазма» не принимаю и желаю трезвого и простого
отношения к действительности...» (1907).Но вот этому Блоку и тому, что он нес в себе, не находилось места
ни в рассказе «Парадиз», ни в стихах В. Иванова, ни в других посвя¬
щенных ему произведениях и выступлениях,Блоку было очевидно, что даже и его друзья не видели в нем
самого главного, основного, обычно принимали его за кого-то другого,и. очень сердились на него, когда их ошибка обнаруживалась со всеюОЧЕВИДНОСТЬЮ.Да и «старшие» символисты, отношения с которыми бывали впол¬
не дружескими,, также наносили поэту подчас весьма чувствительные
удары.Завершая предисловие к «Литературному дневнику» (1899—1907),
Зинаида Гиппиус и здесь не забыла о Блоке, причем крайне харак¬
терен контекст, в котором упомянуто его имя:«...в литературе вчерашний день,—вернее, вчерашний вечер,—
замедлил, длится, и нового утра еще нет. Оно будет,— но пока его еще
нет. Городецкие, Цеиские, Блоки да Горькие, имитаторы да стилиза¬
торы, экспроприасты да оргиасты — разве это не вчерашний день, не238
петербургская майская заря, противоестественно горящая ка нёбе, ко¬
гда ей следовало бы давно умереть?..» (стр. VIII).Безапелляционно записав во «вчерашний день» русской литерату¬
ры «Блоков и Горьких», то есть самое живое и настоящее, что было
в русской литературе, 3. Гиппиус весьма решительно заявляла:«Впрочем, пусть ее. На то мы (!!!) и Россия, чтобы у нас заря ве¬
черняя встречалась с утренней,— старое впивалось в новое. Пусть ка¬
жется Иногда, что жизнь медлит... мы знаем, что она не останавли¬
вается. И ие будем ребячески неблагодарны к нашему прошлому: оно
отходит, рождая будущее. Отходит, уча нас жить во имя будущего».Такими высокомерными заявлениями завершала свое предисловие
3. Гиппиус, смело зачисляя себя в ряды воинов «будущего» и сбрасы¬
вая с литературного счета «Блоков и Горьких» (но и здесь были сказа¬
ны-драгоценные и необычайно важные для Блока слова: «во имя бу¬
дущего», за которые он многое готов был простить — и прощал — ав¬
тору «Литературиого дневпнка»).Особое возмущенно и издевки у 3. Гиппиус (так же как и дру¬
гих «весовцсв») вызвал неожиданно для нее вспыхнувший у поэта ин¬
терес к большим общественным вопросам, до которых, казалось бы,
нет никакого дела певцу Прекрасной Дамы; «Товарищ Герман» (один
мз псевдонимов Зинаиды Гиппиус) в статье «Трихина», посвященной
«журналу свободной мысли» — «Перевалу», с оскорбительно снисходи¬
тельным соболезнованием спрашивает: зачем, дескать, Блок помещает
в этом журнале «свои детские, несчастненькие (словно речь идет
о юродивом!—В. С.) статьи», «срываясь из «общественности» на Деву
радужных ворот? Ну, какой он «общественник!..».Из подобных положений делается и соответствующий вывод: если
Блок не «общественник», то и нечего ему соваться сюда — сиди на
своем лирическом шесте!«...По будь «Перевала», этого специального места позора, да не
будь суетливого, услужливого Чуйкова,-— никогда бы но очутился
Блок в таком ненужном положении, а продолжал бы сохранять свое
скромное достоинство тонкого, нежного лирика, который ничего ни
в какой общественности не понимает, не хочет понимать и имеет
право не понимать, потому что и не глядит в ту сторону...» («Весы»,
) 907, № 5, стр. 71).Так, под видом защиты «тонкого, нежного лирика» от всего того,
что чуждо его дарованию, Зинаида Гиппиус стремилась отгородить
Блока от какой бы то ни было «общественности»:— Ие гляди туда, боже тебя упаси — не гляди. Не твое это дело,
иначе — пропадешь, сгинешь... Не гляди!А он взял да и глянул!..Вот этого и не могли ему простить его друзья и соратники, да и
такие «наставники», как Зинаида Гиппиус.Не менее весело резвился насчет Блока и зачинатель «неохристи¬
анства» — Д. Мережковский, полагавший, что все общественные и ре¬
волюционные вопросы Можно утопить в ложке лампадного масла!,В статье «Асфодели и ромашки» (газета «Речь», 1908,: № 71) он237
в комических топах изображал фигуру рыцаря Прекрасной Дамы, ко¬
торый, выскочив откуда-то из готического окпа с разноцветными стек¬
лами, устремляется к «исчадию Волги», в «некультурную Русь», ниче¬
го в ней не понимая.Это необычайно позабавило Мережковского, в связи с чем он вспо¬
мнил анекдот о «неудавшомся любовном покушении», герой которого
«не хочет и не может». В роли такого «героя» и предстал Блок в ста¬
тье Мережковского, имевшего в виду выступление Блока «О реали¬
стах», в котором поэт защищал от нападок Мережковского дорогие для
него имена Чехова и Горького; это и побудило Д. Мережковского при¬
числить Блока к тем призрачным талантам, деятельность которых по¬
добна «загробному миру», продолжающему жизнь живых, но отгоро¬
женному от нее неодолимой стеной. Так ие только друзья, но и былые
«наставники» и учителя поэта требовали от него полного и безусловно¬
го послушания,— в противном же случае считали вполне уместным
третировать его самым уничижительным и беззастенчивым образом.Не мудрено, что жизненный и творческий путь Блока заставляя
его с особенной настороженностью относиться к своим друзьям, «на¬
ставникам», близким ему людям, многие из которых — ив этом поэт
усматривал некую закономерность! — оказывались со временем во
враждебном лагере, наносили ему самые чувствительные удары; это не
значит, что даже и после такого рода испытаний поэт окончательно
порывал с подобными друзьями и не налаживал новых отношений
с ними, но это значит, что он все более глубоко постигал истинное
существо дружбы, ее «обратимость» в условиях «страшного мира»,
и все меньше оставалось у него иллюзий относительно нее.Друзья поэта — былые или новые — почти неизменно мешали его
внутреннему росту, пытались тащить его вспять, вьтсмеивали и запуги¬
вали его при каждом шаге к жизни, к действительности, к людям; они
всячески мешали художнику выполнить свой долг, делать свое «ста¬
ринное дело»; вот почему он и пришел к выводу (высказанному героем
его драматической поэмы «Песня Судьбы»):«Когда предстоит решить что-нибудь важное, лучше, чтобы друзья
ничего не советовали и держались подальше».Если мы проследим отношения Блока с друзьями, с близкими ему
людьми, то пам станет понятно, почему поэт зачастую так насторо¬
женно относился к ним и так решительно подчеркивал, что он «оди¬
нок» среди них,— подчеркивал не со смирением иди унынием, а с гор¬
дым сознанием своей силы, своего внутреннего здоровья и человеческо¬
го достоинства. Чувство одиночества углублялось, и в начале 1908 го¬
да поэт сообщает матери, что он увидится «с разными литераторами,
с которыми еще теплятся какие-то отношения. К чему — неизвестно.
Больше — это дела и политический акт вежливости. Но живу я в своем
мире, и друзья больше ие суют сюда своих лоснящихся носов».Эти слова свидетельствуют, какое неприязненное и дая^е брезгли¬
вое чувство вызывали у поэта те люди, которых он так недавно считал
своими лучшими друзьями и ближайшими соратниками, и как далеко
ушел он от них, обманывавших и оглушавших и его и себя громкими
фразами, мнимыми «откровениями», такими претензиями и притяза¬
ниями, словно именно от них зависят судьбы родной страны и всего
мира!В том же году поэт записывает, подытоживая опыт дружеских в.
литературных связей и отношений, сложившихся к этому времени:
«Хвала создателю! С лучшими друзьями и «покровителями» (А. Белый
во главе) я внутренне разделался навек. Наконец-то! (Разумею полу¬
помешанных — А. Белый и болтунов — Мережковских)...»,— и хотя
впоследствии у него «теплились» отношения со своими «лучшими дру¬
зьями», людьми, принимавшими на себя роль его «покровителей» (а то
и «гонителей»!), но с годами поэт все меньше поддавался влиянию
«друзей» и «покровителей» из символистского лагеря, все более реши¬
тельно сторонился их и той литературной среды, враждебность которой
со временем ощущал все острее и глубже.В статье об Ибсене (1908) поэт скажет знаменательные слова,
имеющие такое же отношение к Ибсопу, кок и к пому самому: «По по¬
ложению — он писатель, прославившийся, следовательно равно одино¬
кий среди друзей и среди врагов...»— и именно таким писателем чувст¬
вовал себя и Блок в то время, когда былые друзья стали его самыми
ожесточенными врагами, а новые друзья были не слишком-то надеж¬
ными и зачастую также обнаруживали склонность к явному суесловию
и тайному предательству.Впоследствии, оглядываясь на прожитые годы и размышляя о сво¬
их «друзьях», поэт больше всего опасался возможности того, что он —
незаметно для себя — втягивается «...в атмосферу людей, совершенно
чужих для Меня, политиканства, хвастливости, торопливости, гешефт¬
махерства...» — утрачивая при этом истинный «ритм жизни».«Надо резко повернуть.,.— решает поэт в связи с этими разду¬
мьями и опасениями,— пока еще не потерялось сознание, пока не сов¬
сем поздно... А искусство — мое драгоценное, выколачиваемое из меня
старательно моими мнимыми друзьями — пусть оно останется искусст¬
вом...— без Чуйкова, без модных барышень и альмашшшиков, без бла¬
готворительных лекций и вечеров, без актерства и актеров, без исте¬
рического смеха...» («Записные книжки», 1909).Только так, утверждает Блок, и можно сохранить в себе художни¬
ка; подобные записи свидетельствуют, что поэт не заблуждался отно¬
сительно истинного характера своих друзей и подлинной их роли в его
жизни и творчестве.В связи с появлением статьи Блока «О современном состоянии рус¬
ского символизма» Мережковский в «ответной» статье «Балаган и тра¬
гедия» («Русское слово», 1910, № 211) «обличал» поэта с позиций «со¬
борности» и «общественности» (религиозной!), упрекая его в измеве
«тому святому, абсолютному, что было в русской революции», и изо¬
бражая собою поборника революции, защитника народных масс.По мнению декадентов, утверждал Мережковский, имея в виду
Блока, русская революция — балаган, где Прекрасная Дама — свобо¬
да — оказалась «картонной невестой» и «мертвой куклой», а челове¬
ческая кровь — «клюквенным соком». И далее Мережковский, искажая239
замысел блоковского «Балаганчика», с наигранным возмущением во¬
прошал его автора:«Кому не кажется свобода «картонной невестой»? Кто ие плюет на
потухший жертвенник?..»— и т. д.Для любого беспристрастного читателя совершенно очевидно, что
здесь самым недопустимым образом извращен смысл пьесы Блока, оз¬
начавшей разрыв с иллюзиями прошлого, с мистическими фантазиями,
преодоление тех настроений, которые уводили поэта от жизни, замы¬
кали в кругу отвлеченного мечтательства. Вот почему в корне несостоя¬
тельными оказались «обличения» Мережковского.Блок был возмущен появлением подобной статьи, в которой «Бала¬
ганчик» интерпретировался столь лживым и превратным образом.В но опубликованном при жизни поэта и шовном «Ответе Мереж¬
ковскому» он писал о «непримиримой вражде современников между
собою» и с горечыо добавлял при этом:«...всякий только смотрит и ищет, как бы ему кого-нибудь обру¬
гать, при том — чем ближе человек, тем язвительней и беспощадней».В этих словах сказался личный и глубоко выстраданный опыт са¬
мого поэта; «язвительную» брань по своему адресу он слышал почти
всю жизнь, а особенно со стороны тех людей, которых некогда считал
внутренне наиболее близкими. Вот почему он и устанавливал своего
рода закономерность: чем ближе человек, тем язвительней его брань,
тем беспощадней его удары,— что и заставляло Блока задуматься
о Существе и характере такого чувства, как дружба, и вынести ему свой
суровый приговор, как одному из самых обманчивых и лицемерных
в условиях «великого предательства», наступавшего по всему фронту
и стремившегося завладеть всеми сферами общественной жизни и част¬
ных, отношений, всеми областями внутреннего мира.Начиная — после долгого перерыва — записи в дневнике, Блок об¬
ращался сам к себе с настойчивым советом:«...Minimum литературных дружб: там отравишься и заболеешь»(1911).В этих условиях чувство одиночества, отъединениости от уже смер¬
дящей среды становилось источником и свидетельством внутреннего
здоровья, бодрости, сознания свежести и нерастрачеииости своих
сил.По следует вспомнить и о том, что подчас поэт переживал свое
одиночество как непоправимое несчастье и говорил в одном из самых
горьких писем к жене, написанных в мрачное время недавно наступив¬
шей реакции:«Едва ли в России были времена хуже этого. Я устал бессильно
проклинать, мне надо, чтобы человек дохнул на меня окизнъю, а не
только разговорами, похвалами, плевками и предательством, как это все
время делается вокруг меня».И далее ноэт в том же письме признается, что никогда в жизни не
испытывал «таких чувств одиночества и брошеяности...» (1908) ; эти
горькие, отчаянные чувства вызывались и отношениями с друзьями,
к которым поэт — на основании своего жизненного опыта — относился240
с явной опаской, да и с женой, зачастую пе отвечавшей на призывы
поэта вернуться в свой дом.Даже и наиболее близкие ему люди, в сущности, были весьма
далеки ему (что впоследствии с особенной очевидностью обнаружили
события приближающейся революции),—вот почему он жалуется
жене:«Жить тяжело, все враги кругом...» (1913, ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1,ед. хр. 102, стр. 63).' ' !' Но и чувство одиночества — «среди врагов» — не всегда било' тяго¬
стно. Поэт не хотел и не мог избавиться от него ценою каких бы то ни
было уступок и компромиссов.«Мне было тяжело эти дни, но сегодня я чувствую возбуждение
от борьбы и Думаю, что был вчера живым среди мертвых...» — писал
он жене (там же, стр. 75),— и это чувство неизмеримого превосходст¬
ва живого пад «мертвыми» придавало ему силу и стойкость в борьбе
с врагами, а когда надо — и с друзьями.Как видим — и это заслуживает особого нашего внимания,— Блок
в годы «самой глухой реакции» сторонился друзей и ставил под со¬
мнение дружбу не потому, что был мизантропом,— ото ему в корне
чуждо!— нет, отвержение «дружб» являлось для Блока естественным
ответом внутренне здорового организма на опасные и тлетворные яды
окружающей среды, на все то, что несет в себе заразу, разложение,
гибель. Вот это необходимо принять во внимание,— если мы хотим
уйснйть один из самых существенных мотивов лирики Блока, да
и весь ее характер в целом.Нельзя забывать о том, что Блок был сыном своего времени,
своей среды; вместе, со своими друзьями по символизму он и «радел»
•и «Сораспинаяся», и уходил — согласно заветам и призывам Мереж¬
ковского — в «бездны», «верхние» или «нижние», в зависимости от
настроения; но была между поэтом и его спутниками и соратниками-
по символизму огромная разница, заключавшаяся в том, что если они
хвалили и славило отречен но от законов человечности и морали, стоя¬
ли «по ту сторону добра и зла», то поэт знал подлинную цену своим
«падениям», никогда не выступая их адвокатом и проповедником, яв¬
лялся самым суровым и неумолимым судьей, самым беспощадным
своим обличителем. Даже в минуты, когда его захватывали «порочные
услады», он жил, «паденья свои признавая», не обеляя ни их, ни са¬
мого себя, не утрачивая тех «путеводительных маяков», свет которых
и помогал ему нащупать «верный путь» и «дорогу к делу» — в бура
страстей, в смятении самых острых противоречий. Вот что отделяло
поэта от большинства его «друзей» и временных «спутников» — и с го¬
дами все глубже.2. «ПРЕДАТЕЛИ В ЖИЗНИ И В ДРУЖБЕ...»После'того как оборвались и обернулись враяедой многие друже¬
ские связи и отношения, в творчестве Блока возникает новая и не¬
обычайно существенная для него тема — тема дружбы, осмысливае¬9 Заказ 534241
мая во всех ее воплощениях и самых крайних возможностях, зачастую
чуждых не только какой бы то ни было приязни, но даже и обычной
человечности, и эту тему Блок настойчиво решает, приходя порою
к екмым необычным и далеко не традиционным выводам.Личный опыт и обширный круг наблюдений заставили поэта
вздуматься о том, что же это за чувство, под внешне привлекательным
покровом которого иные люди проникают в твою душу, в твой внут¬
ренний мир, в твое «святая святых», в твою семью — е тем чтобы
внезапно ужалить тебя, оболгать твои самые заветные помыслы, меч¬
ты, напакостить в твоем доме — и уйти как ни в чем не бывало, с вы¬
соко поднятой головой, да к тому же еще понося и высмеивая тебя
эза всех углах и перекрестках!Бот вопрос, на который жизнь наталкивала Блока и требовала от
него точного и ясного ответа.В поэме «Ночная Фиалка» (1905—1906) впервые сказалось то
отношение к дружбе, в котором недавние друзья поэта не могли не
узнать прямого и открытого вызова. Героя поэмы в его прогулке за
городом сопровождает друг, ноТолько, друг другу чужие,Разное видели мы...—многозначительно подчеркивает рассказчик, погружённый в свои сны,
мечты, видения, и вот друг, чужой, молчаливый,—...исчез за углом,Нахлобучив картуз,И оставил меня одного(Чем я был несказанно доволен,Ибо что же приятней на свете,Чем утрата лучших друзей?)...В этих стихах намечается то понимание дружбы, которое опреде¬
ляет один из существеннейших мотивов творчества Блока, его крайне
характерную и знаменательную черту,— и недавние друзья поэта от¬
лично понимали, кому адресованы эти слова, пронизанные острою
горечью и разочарованностью в одном из самых больших человече¬
ских чувств. С годами такая трактовка дружбы, осмысление ее как
одного из тайных агентов духа «великого предательства» все более
углубляется в творчество Блока; еще, пожалуй, никогда в русской
поэзии не раздавалось «гимна» в честь дружбы, подобного стихотво¬
рению «Друзьям» (1908), запев которого поражает своей трагически
мрачной иронией:Друг другу мы тайно враждебны,Завистливы, глухи, чужды...Эту «тайную враждебность» своих друзей поэт ощущал так глу¬
боко и болезненно, что чувство боли и горечи неразрывно сливалось
у него со словом «дружба», словом-оборотнем, у которого неизменно
оказывалась и своя тень, обнаруживался свой «двойник», до поры до
времени прячущийся во мраке тайно и неприметно, чтобы тем внезан-242
нее и вернее, когда придет его час, выйти на свет и нанести беспощад¬
ный удар; осмысливая все то, что он изведал на личном опыте, поэт
говорил в необычайном по своему характеру стихотворном носланиге«друзьям»:...Что делать! Ведь каждый старался
Свой собственный дом отравить,Все стены пропитаны ядом,И негде главы преклонить!..Здесь ядом пропитаны не только стены, но.словно бы и сама
стихи — столько в них желчи и гнева и такими резкими, публицисти¬
чески заостренными штрихами изображает поэт своих «друзей»; они
возникают перед нами,— .Предатели в жизни и дружбе,Пустых расточители слов...—и мы знаем: это сказано по для острого словца, но для эстетического
эффекта; нот, адесь — правда подлинного переживания, осмысленно¬
го в свото большого и трудного яштейского опыта.В этих стихах слышится непобедимое отчаяние, крик обнаженной
боли, которую нечем утолить и которая становится все острее и не¬
стерпимее в том воздухе, где все дышит отравой и ядом, духом измены
и предательства; это отчаяние роя;дено крушением чувств и привязан¬
ностей, некогда так много значивших для поэта,— а ныне они оказа¬
лись всего только одним из ужасов «жизни вседневной», свидетельст¬
вом ее обманчивости и бесчеловечности.За всем этим чувствуется опыт не только специфически литера¬
турных отношений, но и сугубо личных переживаний, вызванных
предателями «в жизни и дружбе», которые делали все, чтобы
разрушить семью поэта, пропитать ядом стены его дома,— что ы отзы¬
валось в стихах Блока, в его раздумьях о дружбе и ее скрытом нодчаз
от нашего взгляда существе.U стихотворении «Поэты», написанном в тот же день, что и «Дру¬
зьям», тема, дружбы возникает в одном ряду с подробностями быта—
самого омерзительного и изобраяаднного в сугубо натуралистическом
духе {вообще-то говоря, мало свойственном Блоку; но уж, если речь
заходила о дружбе, слишком трудно ему было удержаться от слов
самых резких, гневных, даже грубых):...Когда напивались, то в дружбе клялись,Болтали цинично и пряно.Под утро их рвало. Потом, запершись,Работали тупо и рьяно...И мы представляем себе, чего, на взгляд поэта, стоят эти клятвы
и заверения в дружбе!В пьесе «Песня Судьбы», написанной в том же году, что и стихо¬
творение «Друзьям», многие страницы пронизаны теми же самыми
переживаниями и раздумьями о дружбе; один из основных персона¬
жей тай и называется Друг — иного имени у него нет. Судя по всему,9*24,3
автор полагал, что уже одного этого имени совершенно достаточно
для того, чтобы мы заранее знали, на какую низость и какое преда¬
тельство способен его обладатель, и чтобы мы предвидели, что тот'
совершенно бесцеремонно и откровенно цинически будет использовать
чувство, именуемое дружбой, в личных целях и своекорыстных инте¬
ресах.В «Песне Судьбы» Друг — это тоже предатель «в жизни и друж¬
бе», но предатель особого роди, пом вившийся в условиях реакции; это
яе лицемер и явный злодей, подобный Яго,— хотя а он готов на «воз¬
вышенное злодеяние» (как говорил Ницше, заранее оправдываялюбой поступок и даже любое преступление — своего героя-«сверх-человека»); нет, это нечто совершенно иное. Ото «цинизм какой-то
голой души», пользуясь выражением самого Блока. Перед вами всеце¬
ло поглощенный собою человек, в глазах которого весь мир превра¬
щается в поле для удовлетворения личных интересов, хищнических
вожделений — и только. В погоне за ними люди, подобные Другу, не
способны считаться с какими бы то ни было моральными принципа¬
ми или критериями, ибо таких принципов для них и вообще не суще¬
ствует.Одним из самых ядовитых оружий Друга является то, что Блок
называл «провокаторской иронией», перед лицом которой все равно:
«добро и зло, ясное небо и вонючая яма, Беатриче Дайте и Недотыком-
иа Сологуба». Для человека, зараженного подобной иронией, «все
едино: он может упасть на колени перед Недотыкомкой, соблазнить
Беатриче»—так утверждает Блок в статье «Ирония»., написанной
в том же году, что и «Песня Судьбы»; то же самое говорит он и в этой
пьесе;Воплощением подобной «провокаторской иронии» и является
образ Друга, который стремится заразить ею близких ему людей,
дабы использовать их в своих низменных целях; что бы ни происхо¬
дило на глазах Друга, у него «всегда наготове ирония, как щит у ди¬
каря» (Чехов). «Это смешно»,— говорит Друг тогда, когда речь ка¬
сается судеб людей, их жизни, их будущего.—- Вам всегда смешно,— замечает Елена, жена Германа — героя
«Песни Судьбы».— Все смешно,— отвечает Друг.—Люди так глупы, что лучше
смеяться, иначе пришлось бы плакать.Но тут же он делает и попытку «соблазнить Беатриче», ибо при
любых условиях не упускает из виду своих интересов и вожделений;
шот почему он тут же подхватывает, обращаясь к Елене:— Только одно не смешно.— Что? — спрашивает она.— Вы знаете... Я люблю вас, Елена.— ...Это неправда,— возражает она.— Иначе —как же вы можете
быть другом Герману?Но у Друга на все заготовлены ответы, его не собьешь апелляцией
к порядочности, благородству, дружбе; его слова подобны горсти мусо¬
ра и пыли, которую он,тут же,и бросает в глаза Елене:244
—— Но ведь у вас все можно. Вы оба совсем не от мира сего. Ка+
юие-то. необыкновенные...<(Все можно» — вот лозунг Друга, стоящего «по ту сторону добра
и зла», чтобы даже и тень тревоги не могла смутить его совесть. On
бродит среди людей как мелкий, но опасный хищник, как человек,1
«нанятый с чужой планеты» (говоря словами Чехова), и именно «про¬
вокаторская ирония», рожденная в атмосфере «великого предательст¬
ва», помогает Другу осуществлять самые низменные стремления,
оправдывать свое предательство, свое эгоистическое равнодушие к лю¬
дям,, готовность стать на колени перед Недотыкомкой, перед Иудой,
перед любым провокатором и ренегатом. Как видим, фигура Друга
весьма характерна для того времени, когда Блок создавал свою драма¬
тическую поэму.Извращая самый смысл того, что переживает и к чему стремится
Герман, охваченный смятением, тревогой, жаждой повой и еще неве¬
домой ему жизни, Друг говорит с цинической издевкой:т~ Я приветствую вашу беспринципность.Герман отвечает ему, вкладывая в свой ответ то, что давно набо¬
лело у самого поэта в его спорах и распрях с давними и недавними
друзьями, также обвинявшими его в измене, ренегатстве, беспринцип¬
ности,, попрании всего того, что он прежде говорил и отстаивал:— Вы ничего не знаете, ничего! Я не один! Я ушел не во имя
свое! Меня позвал ветер, он спел мне песню, я в страшной тревоге,:
как перед подвигом!.. Сердце горит и жаждет чего-то, о чем-то плачет,
по уже. торжествует, заранее торжествует победу. И, как будто вся'
вот эта необъятная ширь — заодно с моим сердцем, тояад горит, и то¬
скуем, и,.рвется куда-то со мной заодно!.. Все, что было, все, что' бу¬
дет,,--- обступило меня: точно эти дни я живу жизнью всех времен,
живу жуками моей родины...Это было для Блока и героя пьесы не отвлеченным представле¬
нием, а живым, с.тра«тио • напряженным, переполняющим его чувст¬
вом, безмерно расширяющим,::внутренний мир,— по, конечно,' для
Друга все это книга за семью 'печатями, на которую он посматривал
с тревогой и раздражением: не таится ли в ней что-нибудь угрояшо-
щер его покою и благу?Перед глазами Германа вспыхивают и не могут померкнуть
страшные картины и образы: нищий, протягивающий за подаянием
обрубок, руки, мальчик,: ; попавший под колесо извозчичьей теяёгй,
«безносая», которая смотрела на него «свинцовым взглядом из-под
красных век»,— и он спрашивает в тоске, еще не в силах ответить па
подступившие к нему со всех сторон мучительные и неразрешимые
вопросы:И так — везде, И это — неотступно.Но жалости не знаю никакой... ■А, может быть, узнать мне надо жалость?..Друг советует ему «оиомйиться», ко всему относиться только
с иронией и по давать ;воли ни одному из подлинно человеческих
чувств:245
Нет, наблюдайте этот мир, смеясь,И радуйтесь, что вы здесь — гость случайный;Гоните шалость плетью смеха! Если ж
Разжалобитесь вы, что люди гибнут,—Тогда я сам над вами посмеюсь!Так советует Друг —в полном согласии со своей ницшеанской
философией; Друг только насмехается над сочувствием Германа тем,
кто унижен и обездолен; он высмеивает как отсталые самые лучшие
и благородные помыслы Германа и стремится привить ему зоологиче¬
ский индивидуализм, полнейшее равнодушие к окружающему миру,
ципичоскую издевку над всем, что выходит за рамки сугубо личных
интересов, которые и являются в глазах Друга (согласно поучениям
столпов и идеологов либерально-буржуазной мысли) единственной
реальностью его существования.Выводя в «Песне Судьбы» образ Друга, Блок и боролся с весьма
модной философией своего времени — с ницшеанством; он, конечно,
не мог и подозревать, чем станет ницшеанство на практике, когда
оно превратится в одну из философских основ нацизма, — но пьеса
эта в сущности своей полемически заострена против Ницше — при
всей общности иных ее мотивов с учением Ницше.Как и Ницше, Блок отвергает жалость к людям, считая это чувст¬
во унизительным для тех, кто вызывает его, — но далее их пути резко
расходятся. У Ницше жалости противопоставляется, как нечто не¬
сравненно более возвышенное, жестокость, бесчеловечность, презре¬
ние к людям подневольного труда; для Ницше они являются всего
только удобрением на той почве, где произрастает «сверхчеловек».
А у Блока простой человек вызывал на жалость и ие презрение, но
гордость, веру в безграничные его силы, — как бы он ии был забит,
унижен и обоздолеи.Блока не миновало увлечение некоторыми сторонами ницшеанст¬
ва, понимание жизни как волевого усилия, а «Происхождение траге¬
дии» Ницше (с его противопоставлением начал аполлонического
м гармонического — дионисийскому, музыкальному, трагическому,
глубоко захватившему поэта, — не случайно он так подробно кон¬
спектировал в конце 1906 года этот трактат в своей записной книжке)
Блок воспринимал как откровение, — по вместо с тем он решительно
полемизировал с ницшеанскими взглядами, получившими широкое
хождение в определенных кругах русской интеллигенции в годы
реакции, с философией «сверхчеловечества», с презрением к народу,
с аристократическим высокомерием, беспощадным попранием угне¬
тенных и обездоленных, с проповедью отвержения каких бы то ни
было моральных принципов, духом этой полемики пронизаны многие
страницы драмы «Песня Судьбы».Здесь образ Друга — это итог не только непосредственных наблю¬
дений, но и глубоких психологических обобщений и философских
раздумий поэта; в остро-полемическом но своему характеру образе
Друга Блок обнаружил, чем становится дружба в условиях «страш¬
ного мира», где она превращается в средство для осуществления246
корыстных интересов, низменных целей, предательства, прикрывае¬
мого с помощью всякого рода цитат и парадоксов, заимствованных
из книг учителей и пророков крайнего индивидуализма — Шопенга¬
уэра, Штирнера, Ницше — и призванных залатать его убогое,
хищническое существо яркими и пестрыми заплатами. Образ од¬
ного из таких предателей — в его наиболее характерных и са¬
тирически заостренных чертах — и предстает перед нами в «Песне
Судьбы». оОбраз Друга —это новаторское, углубленное, вызванное опреде¬
лёнными исторически конкретными условиями, возникшее в эпоху
реакции и наступления на демократию воплощение темы дружбы
и в творчестве Блока и во всем современном ему искусстве.Впоследствии, годы спустя, поэт снова возвращается к той неё
теме и утверждает тот же, уже установившийся строй чувств и раз¬
думий, вызванных опытом «дружб» и определяемых ими;Ты жил один. Друзой ты не искал
И по искал одинопорц<ш.,,(1915)Это и становится одним из самых постоянных чувств поэта,
в сущности — одинокого в воспитавшей и вырастившей его среде,
«мятежного», ощущавшего всю непрочность связывавших с нею уз.Размышления о дружбе — снова и снова о дружбе! — подобные
той скрытой занозе, которая не давала поэту покоя, вторгаются
и в самые последние — из предшествующих революции — его стихи,
подытоживающие отношения с друзьями. Эти стихи возвращают нас
к теме, уже знакомой по другим стихам поэта, и словно бы подводах
под нею последнюю черту:Ты твердишь, что я холоден, замкпут и сух.Да, таким я и буду с тобой:Но для ласковых слов н выковывал дух,Ие для дружб я боролся с судьбой...(1916)«Не для дружб» — это решительное утверждение приобретает
смысл окончательного итога; размышлений поэта о своих друзьях
и чувствах, некогда связывавших его с ними.Здесь поэт, рассказав историю своих отношений с теми людьми,
которых он считал своими друзьями, обращается к неведомому нам
собеседнику,, вспоминая далекую юность и делясь своим жизненным
опытом; он с предельной прямотой открывает нам, почему отвергает
чувство дружбы, не принесшей ему ничего, кроме горя, обид, уни¬
жений: , iБыло время надежды и веры большой —Был я прост и доверчив, как ты.Шел я к людям с открытой и детской душой,Не иугаясь людской клеветы... J247
А. теперь — тех надежд не отыщешь с#еда,. ..Все к далеким звездам унеслось.И к кому шел с открытой душою тогда,От того отвернуться пришлось...Так говорит поэт, внутренним взором прослеживая весь -свой
долгий и трудный жизненный путь,— и для Блока понимание друж¬
бы, отношение к ней явилось одним из центральных мотивов -его
творчества; как видим, он относился к ней без идиллической востор¬
женности, трезво, сурово, подчеркивая ее противоречивость,, «обрати¬
мость», соседство с враждой. На пути его роста и возмужания именно
друзья становились для ноге самой упорной преградой и помехой,
именно они мешали ему решит,-ь и выполнить «важное», и поэт имен¬
но с ними спорил наиболее резко и ожесточенно.Конечно, то, что говорил поэт в своем творчестве о друзьях,
о дружбе, о тех ее чертах и особенностях, которые возникли в усло¬
виях «страшного мира», имеет значение необычайно широкое, далеко
выходящее за рамки сугубо личного опыта, и как итог глубокого
философско-психологического осмысления самого характера «дружб»
появляется запись, необычайно важная для понимания одной из
существенных тем творчества Блока:«Другом называется человек, который говорит не о том, что есть
млн было, не о том, что может и должно быть с другим человеком.
Врагом тот, который ие хочет говорить о будущем...» (1913). ,Здесь Блок наконец нашел тот ключ, с помощью которого ему
многое открылось в его отношениях с друзьями и в понимании истин¬
ней дружбы. На основании этого, выработЬнного самим поэтом,
«кодекса» дружбы оказывалось, что многие друзья поэта и являлись,
в сущности, его злейшими врагами, ибо именно они яростно восстава¬
ли,'против будущего, которое виделось поэту сквозь весь ужас и мрак
««жизни вседневной»; оди. говорила не о том, что с поэтом «мо¬
жет и должно быть»,: а,, наоборот, тянули его к прошлому, путались
у него в вогах при каждом его . шаге вперед, «от личного к об¬
щему». . ,
... Много лет спустя, в последний год своей жизни, Блок. >заносит
в свой дневник выписки из поэмы Гёте «Торквато Тассо», и в однай
иа.атвх выписок мы находим гпрйсущее самому Клоку пониманиедружбы и.отнохцеиие к nefc, ■,.. ■ , , . • ;Давно тиранство дружбы знаю я,.И, кажется, оно невыносимейВсех остальных тиранетв. Ведь ты себяСчитаешь нравым1 только -потому,'1""■ Что думаешь1 иначе. Признаю; ' 11 :гТы мне добра желаешь; но не требуй,Чтобы к добру я шел твоим путем.Да, многие друзья Блока, -весьма, решительно и ■ настойчиво
требовали, чтобы поэт шел их «путем», с негодованием отвергая
малейшую его попытку самостоятельно разобраться в «путях и пере¬
путьях» своей жизни и всего мира, решить и осуществить то большое
и важнее, к чему он был призван; самая тягостная для него тирания
и была тирания, навязываемая дружбой.Поэт повседневно наблюдал, какие превращения происходя г
в области дружбы, какие совершаются метаморфозы под влиянием
духа «великого предательства»,— что и находило свое лирически преоб¬
раженное выражение в творчестве Блока; многие стихи и выска¬
зывания Блока—это своего рода философия дружбы, стремление
раскрыть самое ее существо во всех воплощениях и возможностях,
порою необычайно далеких от подлинно человеческой близости
и приязни.3. «ПРИХОДИ КО МНЕ, ТОВАРИЩ...»Порывая со многими друзьями и издеваясь над дружбой, некогда
связывавшей их, Блок противопоставлял дружбе иное чувство, родст¬
венное ей, а вместе с тем и глубоко отличное от нее, на взгляд поэта.
Отвергая «дружбы», как отношения и связи, сковывающие человека
и метающие ему решать «нечто важное», он не останавливался ва
этом, шел дальше, и чем сомнительнее и двусмысленнее звучало в его
ушах слово «друг», тем решительнее, радостнее, горделивее противо¬
поставлял ему поэт другое слово — «товарищ», придавая ему высокое
и необычайно важное значение.Завершая стихотворение «Как случилось, как свершилось;,,»
(1913), поэт призывает:Л . . '.. . Приходи ко мне, товарищ,Разделить земной юдоли
Невеселые труды...■ Это слово «товарищ»,- чуть *ли не впервые, появившееся в лирике
Блока';1'было-не случайно .-и звучало .„не одним из синонимов слов
«друг» или «приятель», как это зачастую бывает, а совершенно; то¬
мному и в ином ключе: Здесь в слове «товарищ» поэту слышится
обетование лучшего будущего, зов к творческому труду во имя его,
труду, разделяемому с людьми, которым близки твоя вара и твои
убеждения. : -‘ : Блок вкладывал, в слово «товарищ» особый и углубленный смысл,
раскрытый им незадолго до создания этого -стихотворения в ■ статье
«Памяти Августа Стриндберга» (1912)'— одной из1 наиболее значи¬
тельных среди лирико-публйА*стиче;скихг:'работ' поэта.Блок видел в лице шведского писателя Августа Стриндберга не
только большого художника, а и своего собрата вручителя,— но поэту
этого еще недостаточно, чтобы выразить всю глубину чувств, связы¬
вающих его со Стриндбергом, я он добавляет:«Есть, однако, еще одно имя. Может быть, оно не вечно, потому,
что; мы не помним его на :заре пашей истории,- и потому, чхЬ мы
моягем мысленно представить себе то время, когда мир больше не
будет нуждаться в «том имени...» Имя — товарищ. •Вот этим именем и хочется Блоку назвать «старого Августа», йбо
лучшего среди множества других, выражающих восторг, любовь, ува¬
жение к человеку, поэт не знает. И уже по одному тому, какие зрелые
и глубоко продуманные мысли высказывает Блок о значении слова
«товарищ», мы можем безошибочно угадать, как долго и удорно раз*
мысшлял он об этом «имени», приходя к необычайно важным и знаме¬
нательным выводам.«...теперь оно особенно близко и нужно нам, — говорит Блок,—
е ним связаны заветные мысли о демократии; это — самое человече¬
ское имя сейчас; брат и учитель — имена навсегда; сейчас, может
быть, многим дороже имя товарищ...»Сродч этих «многих», совершенно очевидно, и сам поэт, набрасы¬
вающий в своой статье прекрасные черты человеческого облика,
в котором всецело воплотилось то новое и чудесное, к чему взывает
и о чем свидетельствует гордое и радостное имя «товарищ»:«...открытый и честный взгляд; правда, легко высказываемая
в глаза; правый мир и правая ссора; пожатие широкой и грубой руки.
Пока люди таковы, каковы они -есть, ребячески неискренни и боязли¬
вы в выражении своих чувств, прекрасна форма общения, выражае¬
мая словом товарищ».Эту «прекрасную форму общения», с которой поэт связывал все
самое лучшее, что есть в современном человеке, он и прозревал
в имени «товарищ»; это имя «особенно близко и нужно нам...» —
утверждал Блок.Размышляя о творчестве Августа Стриндберга, поэт говорит:
«...ведь он —демократ, он вдохновляет на ближайшую работу и,
главное, ведь огромное наследие, оставленное им, — общедоступно».Вот что, по словам Блока, и дает Стрипдбергу право на имя
«товарищ», звучащее в ушах поэта залогом подлинно человеческих
отношений, попранных в условиях «страшного мира» и «великого
предательства».Поэт с годами все глубже понимал, что, кроме красоты и значения
личных отношений, кроме «любовей, дружб и семей» (как скажет
потом Маяковский), есть еще и иная красота и иные связи, уже не
вмещающиеся в рамки сугубо личной жизни, — это красота и значе¬
ние отношений соратника, делающего вместе с тобою большое общее
дело, нужное не только вам двоим, но и всему обществу, народу,
человечеству. Для того чтобы вместить вое значение этого характера
отношений, и пригодно больше всего имя «товарищ».Если в 1907 году Блок еще мог иронизировать по поводу произ¬
ведения Горького «Товарищ», утверждавшего само это слово как
знамение нового мира, и писать (в статье «О реалистах») о «наивном
сентиментальничании» по поводу этого слова, то впоследствии он сам
понял огромное значение слова «товарищ», очень старого само но
себе, и оно засверкало перед поэтом новыми гранями и открыло
новые свои глубины — в те дни, когда снова назревали бури револю¬
ционных восстаний.Впоследствии, в дни Октября, это слово, издавна любимое Бло¬
ком, с особенной силой и страстью прозвучало в поеме «Двенадцать»,250
как оажое гордое и человеческое из тех, что отвечают духу и размажу
великих исторических событий («Товарищ, гляди в оба...», «Товарищ,
винтовку держи, не трусь!», «...Товарищ дорогой!..» и т. п.); поэт
отстаивал его и в статье «Интеллигенция и Революция», написанной
в то же время, что и его Октябрьская поэма, и обращался к тем
литераторам, которые некогда были его друзьями и соратниками,
а ныне оказались в стане контрреволюции:«Не стыдно ли прекрасное слово «товарищ» произносить в кавыч¬
ках?..» Это заявление для Блока не неожиданно; нет, оно свидетель¬
ствует, какой огромный, радостный, «музыкальный» смысл вклады¬
вал поэт в это слово. Вот почему так ненавистны были ему издевки
над словом «товарищ». «Это всякий лавочник умеет...» — отвечал Блок
любителям подобных издевок.Но и «товарищ» было для Блока не последним, не окончательным
«именем» в той градации общественных отношений и личных связей,
какие он стремился утвердить своим творчеством.В стихотворении «Скифы» он взывал: «Товарищи, мы будем бра¬
тья...», а в очерке о переводах Гейне поэт говорил о художниках
прошлого, «связанных неразрывными узами духовного товарищест¬
ва...», и подчеркивал: «еще товарищества, а не братства».В слово «братство» он вкладывал огромный смысл, понимая его
как такую общность взглядов, судеб, когда и ноистине «все уж ве
мое, а наше». Блок в таком братстве усматривал воплощение великой
мечты о тех временах, когда не будет места угнетению, несправедли¬
вости, попранию человека человеком, когда «народы, распри позабыв,
в великую семью соединятся»,— согласно пророчески вдохновенным
словам Пушкина,
«ПОРУГАНИЕ СЧЛСТЕЕЯ»'Старый мир представай перед поэтом не только в своем «страш¬
ном»,1 откровенно хищническом и бесчеловечном облике, — нет, era
опасность многократно умножалась те.м, что он умел прикинуться
благодушным, благообразным, привлекательным, и один из самых
опасных его обманов — это иллюзия «мещанского счастья», «красиво¬
го уюта», личного благополучия, достигаемого любыми путями и за
любой счет;Следует подчеркнуть, что в философии и в практике «великого
предательства» воспевание и утверждение эгоистически хищнической
морали • и «идеалов» мещанского благополучия было самой сильной
приманкой, самым большим соблазном, взывающим —и не без
успеха! — к отсталым элементам, к темным инстинктам, к наиболее
реакционным воззрениям.Ио вот этот-то «краеугольный камень» всей философии «великого
предательства» Блок отвергал решительно и непримиримо, и с этого
начался его — никогда не прекращавшийся! — бунт против тёмных
и хищных сил старого мира, Против «сытых». Единожды начав бунто¬
вать против «красивых уютов», «мещанского счастья», «змеиного
рая») Блок отныне уже никогда не примирялся с !ниМй; он -мог1 за¬
блуждаться относительно того, в чеМ заключается истинный' смысл
жизни, как вести борьбу с хищными силами старого мира, но о: тбм',
что из себя представляет счастье «сытых», что означает для человека
всепоглощающее увлечение !Ли‘чиыМй! благами и1 их приумйожёйиём,—
Блок отныне уже никогда tie яйбьгйал', и мы в дальнейшем не Найдём
у него пи одной стропи, которая говорййа бы о возможности' прими¬
рения поэта с буржуазной действительностью, с х<сытыми», 'о'Той;что
поэт мог протянуть им если не всю руку, то хотя бы один мизинец;
вот что крайне важно подчеркнуть, если мы хотим уяснить существо
и- направленность творчества Блока.В автобиографической повести «Анри БрЮлар» Стендаль замечает,
что характер человека — это «его обычный способ отправляться на
охоту за счастьем», что и определяет «совокупность его моральных
привычек»; в романе «Пармская обитель» Стендаль 'глубочайший
образом раскрыл, какие страшные и гибельные перемены происходят
во внутреннем мире человека, причастного к господствующей вер¬
хушке,' и жак гаснут его самые пылкие порывы и возвышенные252
мысли — в преследовании личного счастья; ; заботе о благополучии
и преуспеянии как высшей цели своей жизни.Герой романа, Фабрицио дель Доиго, человек выдающихся спо¬
собностей и замечательных качеств, восторженно размышляет
о славе родины, о народном благе; он с горечью и негодованием ду¬
мает о милостях, которыми власти осыпают недостойных и привиле¬
гированных людей, пресмыкающихся перед ними, — и тут же, словно
спохватившись, охлаждает ноток своих пылких и благородных по¬
мыслов следующим соображением; «Но, великий боже, имею ли я
право находить подобные вещи нелепыми? Мне ли жаловаться на
них?..» — и как только Фабрицио сознает, что и сам он лично заинте¬
ресован в подобных незаслуженных милостях и наградах, против
которых только что искренне возмущался, как с ним происходят
разительные перемены, подвергшиеся в романе Стендаля необычайно
тонкому, проникновенному, а вместе с тем беспощадно-точному
анализу:«Фабрицио испытал глубоко неприятное чувство; прекрасный
восторг перед добродетелью, только что заставлявший биться его
сердце, сменился низменным удовольствием от сознания, что он
получил хорошую долю от украденной добычи».Как видим, Стендаль прямо и резко определил, чем являются те
«привилегии», «пенсии», «милости», которыми власть награждает
угодных ей и угодничающих перед нею людей, — но сознание неспра¬
ведливости и незаслуженности подобных наград и привилегий не
может оказать существенного воздействия на образ мыслей и поступ¬
ков даже одного из наиболее возвышенных и благородных предста¬
вителей господствующего класса (каким является Фабрицио); как бы
он ни был честен, ему уже не испытать «дивного счастья» (по словам
Стендаля) бескорыстного служения народу.Здесь Стендаль вскрывает реальное и глубокое противоречие
между благими порывами Фабрицио, заставляющими его стремиться
к свершению прекрасных и героических поступков во имя народного
блага, и материальной заинтересованностью и дележе добычи, захва¬
ченной господствующей кликой:«Что же, — сказал он наконец, и взор его угас, как у человека
недовольного собой, — что же, поскольку мое происхождение дает мне
право пользоваться этими злоупотреблениями, было бы невероятной
глупостью отказываться от своей доли!..»Вот чем завершаются самые благородные и возвышенные порывы ,
Одного из любимейших героев Стендаля, — и этот замечательный ана- ;
лиз помогает нам воочию увидеть не только то, что происходит во
внутреннем мире Фабрицио, в самых сокровенных и потаенных
глубинах души, не всегда доступных даже его собственному сознанию, ,
но и понять материальные основы этих психологических процессов i
и метаморфоз; так словно бы мельком сделанное Стендалем замечание
приобретает характер глубокого и необычайно важного открытия,
касающегося переживаний не только Фабрицио, но и множества
подобных ему людей, отбрасывающих самые благие, свои порыве, г-~253
ее,вд дело касается основ благополучия, священных и неприкосновен¬
ны к с их точки зрения.По вот ог того «дивного счастья», от которого так легко отказался
Фабрицио, не хочет, да и не может отказаться герой лирики Блока,—
и если характер героя Стендаля, скрытые пружины его деятельности
и стремлений определялись способом «охоты за счастьем», то нова¬
торское. существо лирики Блока определялось совсем иным понима¬
нием счастья п ого роли и жизни человека.Характер блоковского город раскрывается в решительном отказе
от, «охоты за счастьем», в, отвержении ого, продиктованном не темя
ияи иными преходящими настроениями или приступом отчаяния,
безнадежности, тоски, и совершенно другими и гораздо более глубоки¬
ми и основательными причинами — тем пониманием счастья, о кото¬
ром говорит поэт в обращении «К Музе» (1912):Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.Есть проклятье заветов священных,Поругание счастия есть...Такими горькими и тревожными строками открывается это
стихотворение, и в лирике Блока настойчиво звучат темы и мотивы
«поругания счастия», как самого опасного обмана и соблазна «страш¬
ного мира»,В октябре 1907 года, когда победа «сытых» стала уже очевидной
(«вновь богатый зол и рад...»), Блок сообщает матери в одном из
инеем:«Пишу хорошие стихи. Но подлинной жизни нет у меня. Хочу,
чтобы она была продана по крайней мере за пеподдольное золото
(как у Альбериха), а не за домашние очаги и страхи... Чем хуже
жить — тем лучше можно творить, а жизнь и профессия, несовмес¬
тимы...»— и отныне опровержение и «поругание» «красивых уготов»,
«домашних очагов», в которых поэт видит и угадывает филиалы
«великого предательства», становится одним из лейтмотивов лирики
Блока, постоянно возвращающегося — и каждый раз по-новому —
к его осмыслению.Если раньше самого поэта, равнодушного к заботам «о злате
и о хлебе», больше всего привлекали «блажеппые острова», все
«небесное» и «лазурное», то теперь он увидел: невозможно никакое
счастье, никакое блаженство, пока мир делится на «сытых» и голод¬
ных, пока так много страданий, унижений, несправедливости; это
поэт понял окончательно и навсегда, что определяло его отношение
ко всем вариантам и ипостасям личного счастья и благополучия,
созидаемого не вместе с народом, а за счет его кровных и насущных
интересов.Довольных сытое обличье.Сокройся в темные гроба!Так нам велит времен величьеИ розоперстая судьба!..—(1907)2U
взывал поэт, и в его лирике «довольные», «счастливые», «сытые»
становятся неизменной мишенью для самых резких и гневных выпа¬
дов, обличений, издевок; даже и в облике «сытых» ему виделось нечто
отвратительное, пакостное, и поэт говорит о них так, как говорят
о животных:...тоскует сытость важных чрев:Ведь опрокинуто корыто,Встревожен их прогнивший хлев!..Люди счастливые, благополучные, самодовольные, променявшие
свое человеческое призвание на домашние очаги, «мирное счастье»,
«красивые уготы», — разве могут они увидеть и понять то, что откры¬
вается взору униженных, обездоленных, тех, кто идет «нуждой
и горем вдаль гонимый»? Поэт утверждал в своих «Ямбах»:Да. Так диктует вдохновенье:Моя свободная мечтаВсе льнет туда, где унижен ье,Где грязь, и мрак, и иищота.Туда, туда, смиренней, ниже,Оттуда зримей мир иной...(1911-1914)ГЗ этом мире все грозно, огромно, все дышит настоящей жизнью —
и в радости и в горестях, от которых сжимается и раскалывается
сердце, и здесь жалкой картонной игрушкой выглядят любые вариан¬
ты сугубо личного счастья.Блок, порывая со средой «сытых» и «счастливых», уходя от них,
хотел быть с теми, кто «загнан и забит», хотел быть вместе с огром¬
ным и тревожным миром, с бушующим морем, а не на «блаженных
островах», не в «радостном саду», и это к самому себе обращался
поэт, отвергая один из самых опасных соблазнов «страшного мира»:С мирным счастьем покопчены счеты,Ие дразни, запоздалый уют...(1910)В этих словах выражено не преходящее настроение, а неколеби¬
мое убеждение, которому поэт не изменял никогда.Блок знал: это только так кажется, что в условиях реакции
возможно безмятежное, прочное, тихое счастье; это была тишина
предгрозья, — вот почему при виде тихих уголков, тех дворянских
«затиший», которыми так умилялся Василий Розанов, поэт не мог ие
испытывать самой острой тревоги, предчувствий грозных и неотвра¬
тимых катаклизмов:Милый друг, и в этом тихом доме
Лихорадка бьет меня.Не найти мне места в тихом доме
Возле мирного огня!Голоса ноют, взывает вьюга.Страшен мне уют...(1913)255
, ,Уют страшен именно потому, что уводит в мир теней, призраков,
-в блаженные «елисейские поля» — от подлинной жизни, и чем уютнее;
были иные — дворянские и прочие—«затишья», чем прекраснее вы¬
глядел, иной «цветок над бездной», тем глубже охватывало поэта
предчувствие подстерегающей их неизбежной катастрофы.«Мирные очаги», «красивые у готы», неверное и обманчивое «сча-?
сть8,», ради которого вокруг совершалось столько преступлений и пре¬
дательств, не имели никакой власти над поэтом, а если он и говорил
о до*,, то только для того, чтобы снопа и снова раскрыть их обманчи¬
вое и бесчеловечное существо.Когда «страш мир» подступал к пому, обольщая его:■ • • -..Забудь, поат,: Вернись в красивые уюгы!..-~) он находил лишь один ответ, решительный и окончательный:!■:Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой!Уюта — нет. Покоя — нет.(1911-1914)Так. отвечал поэт на все обманы и соблазны разносчиков лжст
и лицемерия, торговцев «поддельным золотом», ф а л ын и в о м one т ч и кос
от искусства, и в его стихах «поругание счастия» — это не только
вывод из личного жизненного опыта, по и из опыта русской реалис¬
тической литературы, а особенно таких великих писателей, как Лер¬
монтов, Достоевский, Толстой, Чехов; поэт в новых исторических
условиях развивал те их мысли о назначении человека, а стало быть,
и о счастье, которые были необычайно близки и дороги ему; многие
насущные вопросы современной действительности решались Блоком
в согласии с их традициями и заветами.Герой Блока по-лермонтовски хочет «печали любви и счастию
назло», так же боясь, что покой, личное благополучие, домашние
уюты слишком избалуют его ум, слишком «сгладят чело», а потому
испытывает готовность действовать «счастию назло» — что и стало
его: второй натурой, неотъемлемой и глубоко укоренившейся чертой
его характера.В лирике Блока отвергается и то «счастье», какое Лев Толстой
иронически именовал «английским», имея в виду идеал ханжеской;
буржуазно-мещанской литературы, о котором узнает Анна Каренина,
вчитываясь в английский роман, чей герой «уже начал достигать
своего английского счастья, баронетства и имения...».Погоня за «английским счастьем», представление о том, что,
какие бы бури ни бушевали за оградой твоего дома, все равно твой
очаг, останется теплым и уютным, что в не.м-то и заключается высшее
жизненное благо, — это и есть опаснейшая иллюзия, отвержение
которой составляет то явный, то скрытый пафос лирики Блока.Чтобы понять героя лирики Блока* его отношение к счастью,
надо,вспомнить и о героях Достоевского.:250'
ч<Я все ие подымал на нее глаз: поглядеть на нее значило об¬
литься светом, радостью, счастьем, а я не хотел быть счастливым...'»'^-
говорит Аркадий Долгорукий, герой романа «Подросток».: — Я не хочу быть счастливою!.. — восклицает вслед за Аркадием
Долгоруким изломанная, мятущаяся, больная, стремящаяся «разру¬
шать себя» Лиза Хохлаксва («Братья Карамазовы»); в том, что окру¬
жающие ее люди называют «счастьем», ей мерещится нечто жалкой,
постыдное, недостойное, что заранее внушает ей скуку и отвращенаэг
Она готова на любую сумасбродную выходку, на самый дикий посту¬
пок — лишь бы не зависеть от «счастья» приобретателей и стяжате¬
лей. ■' ' ■Вот это странное и непонятное, казалось бы, нежелание «быть
счастливым», отвержение счастья присуще и герою лирики Блока,
составляет одну из самых устойчивых черт его натуры; он ищет
в жизни чего-то, иного, гораздо большего, чем личное благо.Необычайно важными в понимании вопроса о личном благе
и счастье оказались -для Блока взгляды и высказывания Чехо¬
ва, с которыми во многом перекликаются и собственные мысли
поэта.«...жажда власти и личных успехов и эти постоянные мысли псе
в одном и том же направлении расхолаживают людей...» — говорит
Чехов в «Ариадне», и можно прибавить: не только расхолаживают,
но и ограничивают, принижают, иссушают источники творческих сил,
обедняют весь внутренний мир человека.Блок разделял с Чеховым понимание того «счастья», которое
добывается не вместе с людьми, а за их счет, замыкает человека
в кругу узко личных интересов. '«Страшен мне уют», — признается Блок в своих стихах, н та- жэ
тень «страшного уюта» возникает во многих рассказах Чехова—та¬
ких, как «Учитель словесности», «Крыжовник», «Ионыч», в которых:
этот уют, погоня за личными успехами и благами, поглощающая все
силы и дарования человока, разоблачаются как один из самых власт¬
ных соблазнов старого мира.В рассказе «Крыжовник» воочию показано «счастье» человека;
достигшего предела своих желаний, всего того, о чем он мечтал и за
чем гнался всю свою жизнь. У него своя усадьба, свой — ие «покуп¬
ной»— крыжовник, и ничего другого он знать ие знает и ведать не
ведает. Flo вот как это счастье выглядит на взгляд одного из самых
близких ему людей — родного брата, навестившего этого «счастлив¬
чика»:«Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая
на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка,
голоногая, толстая, тоже похожая на свиныо, и сказала, что барин
отдыхает носле обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени
покрыты одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы
тянутся вперед, — того и гляди, хрюкнет в одеяло».И хотя братья при свидания «всплакнули от радости» и рассказ¬
чик «Крыжовника» увидел в своем брате «счастливого человека»;257'
мечта которого сбылась, но от этого «счастья» подташнивает, словно
человек объелся несвежим салом.Не мудрено, что при виде такого «счастливого человека» его
братом овладевает «тяжелое чувство, близкое к отчаянию», и само это
эгоистически замкнутое «счастье», к которому так жадно тянутся
буржуа и мещане как к цели своей жизни и предмету самых пылких
и страстных вожделений, раскрывается перед нами во всей своей
отвратительной наготе, во всом своем скотстве и убожестве; так
в рассказе «Крыжовник» прослежено то, что происходит с человеком,
все мечты которого ограничиваются собственным его благополучием,
приобретающим для него значение на и высшем ценности бытия. Чем
более решительно и оголтело, преследует он спою цель, тем стреми¬
тельнее происходит процесс его внутреннего одичания и вырожде¬
ния.То мещанское счастье, которого добивается владелец «крыжов¬
ника», — оно совсем не так безобидно, как может показаться с первого
взгляда; нет, люди, отстаивающие подобное счастье, борющиеся за
него, — это темная, косная, страшная сила, калечащая все вокруг, что
только в пределах ее власти и досягаемости; вот почему у героя чехов¬
ского рассказа и возникло тяжелое, близкое к отчаянию чувство при
виде «счастливого человека» с его «подавляющей силой».Как и в рассказе «Крыжовник», трагедия чеховского «учителя
словесности» возникает также уже после того, как он добился своего
«счастья» и того, что представлялось ему венцом желаний: женился
иа любимой девушке, обрел достаток, полное благополучие. Но, вдос¬
таль изведав это «счастье», он готов сбежать куда угодно, ибо все, что
есть в нем лучшего, подлинно человеческого — и что ныне обречено
на гибель, — взбунтовалось против его бесцельного и никчемного
существования:«Он думал о том, что, кроме мягкого лампадного света, улыбаю¬
щегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так
спокойно и сладко живется ему и вот этому коту...» — читаем мы
о герое рассказа, и то, что здесь человек и животное полностью
уравнены, приводит «учителя словесности» в ■ ужас. Отныне он не
может не думать о том, что «...есть ведь еще другой мир, и ему страст¬
но, до тоски вдруг захотелось в этот, другой мир, чтобы самому
работать где-нибудь па заводо или в большой мастерской, говорить
с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать... Ему
захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения
самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого
так однообразны».Герой рассказа осознает, что счастье плохо не само по себе,
а потому, что оно «досталось ему даром, понапрасну, и в сущности
было для него такою же роскошью, как лекарство для здорового;
если бы он, подобно громадному большинству людей, был угнетен
заботой о куске хлеба, боролся за существование, если бы у него
болели спина и грудь от работы, то ужин, теплая, уютная квартира
и семейное счастье были бы потребностью, наградой и украшением258
его жизни; теперь же все это имело какое-то странное, неопределен¬
ное значение».Таким образом, личное счастье может быть и украшением жизни
и высокой наградой — если оно заслужено, завоевано, а пе дается
даром и не- уводит от жизни и борьбы в какие-то «красивые уготы»,
ибо слишком дорогою кровыо платит народ за их «красоту»; размыш¬
ляя о счастье, поэт не мог не вспомнить всего того, что думал на эту
тему чеховский «учитель словесности», задыхающийся от своего
«счастья», благополучия, уюта и готовый променять это «счастье» на
все, что угодно,-на любые бедствия и испытания, — лишь бы изба¬
виться от него!Именно потому, что счастье, которым друзья и близкие стреми-;
лись соблазнить поэта («ты мог бы счастлив быть...»), приобретало
в его глазах «странное, неопределенное значение», двусмысленное
и лживое,—он решительно и настойчиво отвергал это счастье, обличая
его хищническое, бесчеловечное существо, — и так в его лирике воз¬
никла и углублялась с годами тема «поругания счастия», развиваю*
щая одну из самых значительных чеховских тем.В ушах поэта раздавался дружный и настойчивый хор голосов,
прославлявших личное благо и личное счастье как высшую и един¬
ственную (это-де и новейшей" философией доказано!) реальность
и премудрость жизни, — но гораздо слышнее этого хора звучал тихий
и спокойный голос чеховского Ивана Ивановича — рассказчика
истории о крыжовнике, о том призраке, который съел человека и пре¬
вратил его в подобие животного, и этот голос требовательно и настой¬
чиво .взывал:.«Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл
и цель, то смысл и. цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более
разумном и великом...» — и хотя сам Иван Иванович не мог ясно;
определить, в чем заключается это «разумное и великое», а потому
и ограничивался слишком общим призывом: «делайте добро», — но ой
сумел с необычайной глубиной разоблачить одну из самых опасных
иллюзий старого мира.■ Слова героя «Крыжовника», заметившего, что «счастья нет и не
должно его быть», — эти слова чуть ли не дословно повторяются
в лирике Блока и находят глубочайший отклик во всем его творчест¬
ве. Он обращался к своему собеседнику, своему герою, за плечами
которого — большой и трудный Жизненный опыт, заставивший прийти
к такому заключению:...наконец, увидишь ты,Что счастья и не надо было,Что сей несбыточной мечты
И на пол жизни не хватило...—а далее те «разумные и великие» цели, о которых еще так неопреде¬
ленно говорил герой «Крыжовника» («делайте добро...»), находят
в стихах Блока необычайное по глубине, прозорливости, страстности,а вместе с тем и гораздо большей конкретности, чем у героя Чехова,1
выражение:
...через край перелилась
Восторга творческого чаша,И все уж пе мое, а паше,, И с миром утвердилась связь...Да, здесь Блок идет гораздо дальше, чем герой «Крыжовника»,—
утверждая великий и прекрасный идеал, противостоящий «красивым
уютам» и заключающий в себе огромные возможности — те, с кото¬
рыми связано будущее пашей Родины и всего мира, преображение
всей жизни на повыл, справедливых и подлинно человеческих на¬
чалах.Утверждение этого идеала и составляет пафос лирики Блока, ее
огненное ядро, расплавляющее все грани, внутренне отделяющие
человека от окружающей его вселенной; только так и может быть
порождено необычайно широкое и радостное чувство того, что «все уж
не мое, а наше», весь мир является полем для применения и развития
всех человеческих способностей и дарований, — и что по сравнению
с этим творческим восторгом утехи и радости «мирных очагов»,
«красивых уютов», «змеиного рая»?!Как видим, в своем «поругании счастия» Блок был пе одинок
и в'новых исторических условиях развивал те великие традиции,
которые были ему завещаны русской классической литературой — от.
Лермонтова до Чехова.Он снова и снова возвращался к мотиву личного счастья, чтобы
разоблачить этот соблазн, показать его изнанку; приступая к очеред¬
ной автобиографии, Блок утверждал, что в ней, «во всяком случае,
ладо написать, кроме никому не интересных сведений, что «есть такой
человек» (я), который, как говорит 3. И. Гиппиус, думал больше
о правде, чем о счастья».А далее поэт сурово, прямо, беспристрастно, словно о посторон¬
нем человеке, размышлял о тех чертах своего характера, которые
и сказались определяющим образом в его творчестве:«Я искал «удовольствий», по никогда не надеялся на счастье.
Оно приходило само и, приходя, как всегда, становилось сейчас же
не собою. Я и теперь не жду его, бог с ним, оно — пе человече¬
ское...»Здесь найдено то слово, которое многое объясняет нам и в жизни
поэта и в ого творчество. В тех условиях, в которых он жил, счастье
«сытых», «довольных» приобретало явно бесчеловечный характер,
против которого не мог но восставать поэт, считавший унизительной
погоню за подобным «счастьем».В то время, когда М. Гершеизоп утверждал — в приобретшем по¬
зорную славу сборнике «Вехи» (1909), — что эгоизм западного буржуа
является «орудием божьего дела на земле», — Блок в том же году при¬
ступил к созданию ноэмы «Возмездие», всем своим пафосом направ¬
ленной против подобных антиобщественных и эгоистически ограни¬
ченных концепций.Как видим, в том пункте, который является решающим и основ¬
ным в воззрениях преуспевающего буржуа и обслуживающих его260
идеологических «надстройках», — в отношении; к индивидуализму
и индивидуалистическим интересам — Блок резко и решительно
расходился с практикой и философией индивидуализма, в корне
враждебного ему, что и имело необычайно важное значение для его
творчества и всего дальнейшего развития.Бунт поэта против «страшного мира» и начался с отвержения
власти и подавляющего все живое влияния «сытых», так же как
и всей их философия, сводящейся к утверждению своего — и только
своего! — благополучия, а там хоть трава не расти! Еще в одной из
самых ранних своих статей—«Безвременье» (1906)—поэт спраши¬
вал, не ткет ли некая «жирная паучиха паутину нашего счастья...» —
и убеждался, что «мирное счастье» — в тех условиях, когда вод
вокруг Так неблагополучно, ужасно, трагично, — и не может быть
создано из иного материала, кроме как из отвратительной паутины,
сотканной «жирной паучихою», воплощающей образ «страшного
.мира».'Нащупав ахиллесову мят’у старого мира, пытающегося низвести
человеки до уровня хищника, поэт не ограничивался этим, но нахо¬
дил, хотя и далеко не все и не сразу, другие его слабые стороны,
разоблачал его обманы, соблазны, ловушки, что и сказалось в углуб:.
лен ии творчества Блока, с годами становившегося все более зрелым,
весомым и совершенным.'Подлинный смысл и подлинная красота жизни, утверждал цоэт,
раскрываются не в погоне за уютом, благополучием, «мирным сча¬
стьем», составляющим предел стремлений мещан и обывателей,
а в высшей напряженности переживаний, стремлений, страстей, хотя
бы самых сложных н даже мучительных, трагических, но дающрх
ощущение всей полноты бытия, всей его безграничности и красоты,
отвечаЮЙЩХ чувству «единства с миром», с людьми, с народом. Поэт,
сам fia' бобй готов был принять и опрокинуть все несчастья, все траге¬
дии, псе бедствия, какие только пи есть на земле, познать их до
последнего дйи, до сокрононпих глубин, чтобы с тем большей сиддй,
извеДМ’Ь и все восторги жплип, нею ее полноту, ни oi; чего не,отказы¬
ваясь й" но отрокипп., а вне этого он по видел и возможностей
подлинно человеческого существования.Вслед1 за Фаустом он и сам «...точно пьянеет от .молодого вина,
чувствует 'и себе отвагу кинуться наудачу в мир, нести всю земную,
скорбь (й всО земное счастье, биться с бурями и не робеть при треске,
кораблекрушения...» — трудно более полно выразить самый пафце,
жизни и творчества Блока, чем в этих словах Гёте, которые коэт.годы
спустя' привел в своем выступлении «О романтизме» (1919). В нид
сказалась его неутолимая жажда самому участвовать в схватке
противоборствующих сил, охватившей всю землю, готовность взять на
себя решение всех жизненно важных вопросов — не отступая от
самых больших, самых острых, от которых зависит не только свод
личная судьба, но и будущее всего мира, — чего бы это ни стоило
и чём бы ни угрожало, — и только такая жизнь представляласьБлоку
подлинно достойной, истинно прекрасной.201
Да, человек достоин счастья и добудет его, — по подлинный чело¬
век, а не имитация, не жалкая пародия на человека, не хищник, —
всем смыслом своего творчества утверждал поэт, отвергая какую бы
то ни было уступку «великому предательству», за которой последует
неизбежное «возмездие»!«Мирное счастье» в условиях господства темных и хищных сил
«страшного мира» — это измена всему подлинно человеческому; вот
почему так страстно и грозно звучат в лирике Блока мотив и пафос
«поругания счастия».
«ТВОРИМАЯ ЛЕГЕНДА»;! -iБыл еще один — из многих других! — обман и соблазн «страшного
м»ра», разоблаченный в творчестве Блока: »то — область бесплотной
мечты, область «творимой легенды», говоря словами Федора Сологуба,
создателя «Творимой легенды» (так называлась первая часть романа
«Навьи чары»).«...я но люблю жизаи — бабищи грубой и дебелой...» — провоз¬
глашал Фодор Сологуб, и в создании «творимой легенды», противо¬
стоящей жизни и якобы возвышающейся над нею, Сологуб был на
одинок — ведь подобное противопоставление реальности и фантазии
составляло программу всего декадентского искусства.Некогда и Бальмонт уверял своих читателей:Я ведь только облачко,Видите — плыву,И зову мечтателей,Вас я не зову...А Зипаида Гиппиус в ранних своих стихах призывала, словно
заклиная себя и своих читателей, уйти от «низкой жизни», от ее нужд
и забот, и ипыо сферы и области, неподвластные земным условиям
и законам, жаждала «чуда» и томилась о том, «чего нет на свете».Многие поэты декаденты вслед за Зинаидой Гиппиус также
жаждали «того, чого пет на свете»; следует напомнить, что некогда
и сам Блок стремился жить лишь одною своей мечтой, уводящей
н «иные миры», и далеко пе сразу сумел определить истинный
характер своих мечтаний, своих мистических «визинаций», в которых
он некогда усматривал высшую реальность бытия.Но, уйдя из «детства жизни», Блок, в противовес литераторам
и поэтам декадентского склада, отныне отвергал приманки безжизнен¬
ной и бесплотной мечты, несущей с собою смертельную отраву; он
с открытыми глазами, решительно и неуклонно шел навстречу дейст¬
вительности, хотя и видел, что она не сулит ему ни легкой жизни,
ни утех, ни привлекательных картин; нет, он знал, что совсем иная
жизнь ожидает его:Мы встретились с тобою в храме
И жили в радостном саду,Но вот зловонными дворами
Пришли к проклятью и труду...(1906)263
'"Вот-куда' устремился 'поэт- из своего '«радостного сада», «резво
оценивая все то, что он покидает, и зная, что его ждет впереди. От¬
брасывая «чрезмерную сказочность» недавних настроений и пережи¬
ваний, он по-иному относится к мечте, —и о начале такой переоценки
мечты, противостоящей реальной жнапи и враждебной ей, свидетель¬
ствует поэма «Ночная Фиалка» (1905—1906).В этой поэме Блок рассказывает об одном из своих необычайных
слов, сказочных видений, какие соседствуют с обыденным и жестоким
миром; оказывается, любой человек —••• " ...такой ям) бродит, как я,Или, может быть, ты, кто читаешь
Эти строки, с любовыо иль злобой,--
Может видеть лилово-яолеиый
Безмятежный и чистый цветок,Что зовется Ночною Фиалкой.Здесь «Ночная Фиалка»— «королевна -забытой страны» — сонное
видение, смутная мечта, воплощенная в образе тихой и некрасивой
девушки, склоненной над пряжей; она живет в низкой избе, где
происходят странные и удивительные вещи. Там собрались короли,
некогда грустившие у подножия трона Ночной Фиалки: они недут, что
пришедший к ним, после долгих блужданий поэт приступитК исполненью сурового долга,К поклоненью забытым венцам... .Но их ожидания тщетны, — уж ие тот человек, каким поэт был
в прежние годы, вернулся к ним, и он говорит о себе:...па праздник вечерний
Я не и брачной одеяедо пришел; 1
.. ,. . Был я нищий бродяга,, . . . . Посетитель ночных ресторанов,..А в избе собрались короли:Но запомнилось ясно,Что когда-то я был в их кругу... ■Так сон поэта перекликался с ого давними, юношескими «рыцар¬
скими» .мечтами, ныне утратившими, свою яркость, ц, декоративность,
СЛОВНО бы потускневшими. .. В самом темном углу избы поэт различает человека, который
обречен сидеть века и века . за пивною кружкой,, думая одну и. ту же,
извечную невеседую думу, . узнает в нем себя.,дли 4своего, двойник»
и . уже уверен, что ему. самому суждена та же участь и что он обре¬
чен — если. сохранит верность «забытым венцам»-^-.остаться, как
приговоренный, до скончания века в этой избе, где,.под мерцающим
светом сидит .За бесцельною пряжей —Королевна забытой страны, .Что зовется Ночною Фиалкой. 'Это царство «забытой страны», бывшее некогда в мечтах-поэта: ■
тащм опромяым,: прекрасным, многоцветным, стало сонным,', мертвым,
истлевшим,.и он отныне знает, что, служа Ночной Фиалке (одному..из
воплощений Прекрасной Дамы!), ему никогда не свершить предназ¬
наченного подвига, не изведать настоящей жизни,— ие случайно-глаза
его-двойника застыли в созерцании былых времен, царства детских,
и фантастических видений, и от него остался только скелет, готовый
вот-вот рассыпаться. -
., Настоящая жизнь, борьба, подвиги — все это за порогом-тихой
избушки, где прядет свою вечную, никому не нужную пряжу Ночная
Фиалка, и поэту становится тяжко дышать ее дурманами; его тянет
в настоящей жизни, бушующей, за окнами, ..словно бы затянутыми
паутиной; сквозь сон ему слышится —Будто чайки кричат,Или «тонут глухие сирены,Или гонит игрпюпЩ)'! потер
• Корабли из веселой страны.И нечаянно Радость приходит,И далекая йена бушует,Зацветают далеко огпи. 'Поэта "безудержно тянут и дальний прибой, и играющий ветер,
и корабли, пришедшие из далеких стран, куда не достигают: чары
и дурманы Ночной Фиалки, —и так его поэма, в которой отдана боль¬
шая дань прежним мечтам и «чрезмерной сказочности», предостере¬
гает от тех безжизненных, обращенных к прошлому мечтаний,
которые, словно щитом, отгораживают человека от жизни1 и ббрекают
его на гибель, на недвижный покой, подобный покою смёрТИ;'вот
о чем и говорит поэма-сон «Ночная Фиалка». В ней мир дре-мотных
грез, сонных видений, мир -отжившей старины изображается как
губительный и тлетворный, как та трясина, в которой человек может
пропасть, недаром WmoMo 'среди петаролазшл^ болот и дурманных
испарений волнышаотс-н избушка дворец 1.1 очной} Фиалки.Для тех, киму остался бы непонятой скрытый пафос :иоэмы--сна
(ибо смысл siTOT противоречив и слишком «зашифрован»), поет
в статье ^Бе-зирсмсны!» (1900) снова возвратЦйётся к ее 'о'бр&зам;
перед :Шг вози и кает йМДнЙгк1,'1 .кружащийся ночью среди болот в По¬
исках невесты сноси — Ночной Фиалки. Его глаза закрыты в вёчйом’1-^
й йещем—‘cilo; кажется^ dir куда-то стремится, но само это стремле¬
ние призрачно и бос цельно; 1 вот : почему его дорога становйт-ся
безысходным к-ружеине-м в 'болотном тумане. Разъясняя истинный
смысл этих Иносказаний -и аллегорий, отвергая обольщения и дурманы;
насылаемые Ночной Фиалкой на своих рыцарей и поклонников, поэт
так завё-ршй-от свою статйо: '«Са<ммй страшный демон нашептывает нам теперь самые'сладкйе
речи: пусть вечно смотрит1 сквозь болотный, туман прекрасный
фиолетовый iKiop I.Iea-p-стЫ'--- Ночной Фиалки.'Пусть беззвучно про¬
текает счастье всадника, кружащего на усталом коне но болоту, под
большой зеленой ипездой».205
И неожиданно — страстно и гневно — звучит возглас, завершаю¬
щий этот лирический монолог:«Да не будет так». 1 ''Поэт здесь решительно отвергает своего двойника — всаднкка,
кружащего по болоту в поисках Ночной Фиалки, которая не сулит
ничего, кроме гибели в трясине; так поэма о ней обретает свой ключ.
Статья «Безвременье» — это и есть своего рода автокомментарий
к поэме-сказке «Ночная Фиалка»; в ней окончательно разъясняется
смЫсл поэмы и оо аллегорий, опасность мечты, противостоящей жизни
и враждебной ой, уводящей в болота и туманы, где так легко заблу¬
диться, потерять самого себя, свою «душу живу», —- и к этой теме
поЭт будет возвращаться снова и снова, каждый раз по-новому осмыс¬
ляя и решая ее.«Красивые уготы», «творимые легенды», «блаженные острова», чуж¬
дые подлинной жизни, как бы ни были они привлекательны с виду,
какими бы именами ни назывались и какое бы обличье не принима¬
ли, отныне возникают в стихах Блока лишь затем, чтобы поэт мог
показать их изнанку, их бесчеловечную сущность, губительность —
и разрушить их на наших глазах, предпочитая «сгинуть в стуже
лютой», чем вдыхать их душный, гнилостный, отравленный воздух.Горе тому, кто уступает старому миру, поддается утехам «змеи¬
ного рая» и пустых мечтаний, лишенных духа жизни и творчества;
именно это открывает нам поэт в одном из наиболее драматических
своих стихотворений — «На железной дороге» (1910).Мы видим здесь, как гибнет молодая, красивая девушка, раздав¬
ленная «любовью, грязью, иль колесами» — не все ль равно! — и вмес¬
те с нею гибнет целый мир, который мог бы стать огромным,
необычайным, прекрасным, полным жизни, огня, страсти. Но поэт не
только скорбит о гибели этого мира, воплощенного в образе героина
стихотворения; он размышляет, почему произошла катастрофа, поче¬
му она была неизбежной, — и видит ее в том, что его героиня, всецело
погруженная в мир своих смутных грез и бесплотных фантазий,
оказалась предельно одинокой и совершенно беспомощной перед
дщцом житейских испытаний,Запечатленная в нескольких строфах, вся иедолгая, и жалкая
жизнь героини проходит перед нами п унизительных, а вместе с тем
и драматических подробностях; здесь самым большим событием
оказалось то, что однажды...гусар, рукой небрежною,Облокотись на бархат алый,Скользнул по ней улыбкой нежною,Скользнул — и поезд в даль умчало...А вместе с ним умчалось и все то, чем жила героиня стихотво¬
рения:Да что — давно уж сердце вынуто!Так много отдано поклонов,Так много жадных взоров кинуто
В пустынные глаза вагонов...286
Как страшны в своей мертвой безжизненности «пустынные
глаза», которые, подобна «стеклянным взорам колдуна», усыпляют
и убивают все молодое, живое, страстно стремящееся жить и творить!
В них отразилась вся жестокость и бесчеловечность того «страшного
мира», в котором оказалась девушка, не смогшая ему противопоста¬
вить ничего, кроме смутной мечты, рухнувшей при первом же
столкновении с действительностью.Поэт, перед глазами которого проходит эта трагическая история,
с горечью размышляет о том, как же все это произошло, и мы чувст¬
вуем глубокую скорбь в его словах, выношенных в сердце, полном
сочувствия и сострадания к жизни, так рано и нелепо оборвавшейся
под колесами поезда:...Так мчалась юность бесполезная,В пустых мечтах изнемогая...Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая...В этих строках выражен смысл трагедии существа, увлекшегося
погоней за каким-то придуманным, недостижимым и эфемерным сча¬
стьем; именно потому и гибнет героиня стихотворения «На железной
дороге», что ее увлекли обманчивые призраки, «творимые легенды»,
те фальшивые монеты, за которые ей пришлось заплатить ценою всей
Жизни. Ее юность оказалась «бесполезной», не знающей большого,
настоящего дела, окрыляющего душу подвига; ее мечты оказались
«пустыми»в них она изнемогала, в них утратила все то, что могло
бы связать ее с людьми. Вот почему разрывала ей сердце «тоска
дорожная, железная»; вот почему погиб и тот мир, который мог бы
стать таким удивительным, бессмертно юным и прекрасным.В стихотворении «На железной дороге» поэт со страстной силой
утверждает, что «пустые мечты» —это жестокие и страшные врага
Жизни, и с ними надо пости непримиримую борьбу — борьбу за люд¬
ские души, за настоящее доло, равное подвигу. В этом — глубокий
смысл стихотворения, в котором проблемы этические и эстетические
решаются в их неразрывном единстве, в согласии с лучшими тради¬
циями литературы прошлого.Горе тому,, кто поддается соблазнам и утехам «красивых уютов»,
«творимых легенд», тех «блаженных островов», где не слышно дыха¬
ния настоящей жизни,— он выйдет оттуда опустошенный, унижен¬
ный, одинокий, жизнь пройдет мимо него, втопчет его в грязь ила
бросит под колеса поезда...Если ты не несешь в своей душе ничего, кроме «пустой мечты»,—
ты погибнешь, хотя бы у ямщика, мчащего тебя к гибели, было «перо
павлинье напоказ» и он казался всего только «мечтой поэта скром¬
ной»; этот ямщик — стоит лишь забыться, утратить чувство тревоги
и настороженности в мире, где тебя «подстерегают всюду»,—...острым полоснет клииком,Иль на безлюдном повороте
К версте прикрутит кушаком,267
Ив час, когда изменит воля,Тебе мигнет издалека :В кусте темнеющего поля • ■ • 1 •Лишь бедный светик светляка...(НПО)Так жизнью своею расплачивается тот, кто верит «творимым ле¬
гендам»,— и для Блока бесплодное, опустошающее душу мечтательст-
*о являлось тем противником, с. которым он боролся решительно
и упорно; об этом свидетольструют не только его стихи, но и статьи,
дневниковые заметки, письма,К одному пн «начинающих» Плоте обратился с письмом, в котором
предостерегал от увлечения модными в свое время поисками «отрав¬
ленных мгновений» и «одинокого храма» для молитв «носоздашшм.
мечтам непостигаемых желаний»; этому поклоннику и эпигону модер¬
низма Блок настойчиво внушал: «Все это устарело, лучше сказать,
было вечно старо и ненужно...» (1911).Здесь поэт верен себе, когда отвергает молитвы «иесозданным
мечтам», уводящим в царство призраков и теней, враждебным на¬
стоящей жизни, а потому и подлинному искусству,— и сколько таких
советов и .предостережений встречаем мы в высказываниях Блока! •По не следует забывать и того, что борьба с мечтой, уводящей от
жизни, от действительности, вовсе не означала, что сам поэт был чужд
такой мечте, не сожалел о ней,— нет, в творчестве Блока, отражающем
его внутренний опыт, взятый в самых острых и непримиримых, проти-:
воречйях, мы находим не только то, что решительно опровергает «тво¬
римую легенду», но и все то, что можно было бы сказать ,в ее защиту,.Забудь о временном, о пошлом
И в песнях свято лги о прошлом.;.™ 1обращался к себе поэт, но уже зная, как опасна и даже гибельна «свя¬
тая ложь» о прошлом,— и это «прошлое» возникало снова и снова
в стихах Блока; в них нередко слышится скорбь о безвозвратно ушед¬
шем и сгинувшем «углу рая», над которым витали ангелы, чьи широ¬
ко распростертые крылья, казалось некогда поэту, застилали все небо;,
ныне эти видения и иллюзии уподобились в его глазах «сусальному,
ангелу» — милой детской игрушке, но выдррждвшой испытания
слишком жарким огпём, пышущим из почки:...Сначала тают крылья крошки,Головка падает назад,Сломались сахарные ножки
И в сладкой лужице лежат...(1909)Казалось бы, все кончено, от сусального ангела осталось одно
лишь- грустное и забавное воспоминание,— но тут-то Блок и придает
незамысловатому и банальному, па первый взгляд, «рождественскому
рассказу» новый смысл, внезапно озаряющий странным, и неожидан¬
ным светом образ сусального ангела, его грустную кончину. Видя,2G8
как тает «немецкий ангел», поэт понимает, что туда ему и дорога;
после пего если что и остается, так всего лишь сладкая лужица; вот
почему художник и взывает:Ломайтесь, тайте и умрите,Созданья хрупкие мечты,..Под ярким пламенем событий, ,Под гул житейской суеты!..■Но' 'ком-то' эти «сусальные ангелы» дороги ему, и так много пере¬
жито и тени их крылий, что их гибель отзывается глухою, непреходя¬
щею болью, словно вместе с ними поэт хоронит и частицу самого се¬
бя,— слишком глубоко эти «созданья хрупкие мечты» вросли в сердце,
слишком глубоко пустили свои корни,— и нельзя расстаться с ними
без слез, без горечи, без сожалений:Так! Погибайте! Что н пас толку?ИуекиН лишь раз, былым дыша,
о пас, мин,начет втихомолку
Шалуньи депочка —дута...Гак Блок с болыо и горечью расставался с прошлым, бесстрашно
п безоглядно бросаясь в «яркое пламя» событий современности, жадно
и пристально вглядываясь в ее резкие и суровые черты.Но норою так трудно жить и так обжигает это пламя, что понево¬
ле издохнешь о своем детстве, былых мечтах, о «сусальном ангеле»,
который, как грезилось когда-то, охранит от всех бед и напастей;
поэту порой казалось: все можно отдать за то, чтобы вернуть прежнее
счастье, юношескую влюбленность, сладостное существование, испол¬
ненное дремотного покоя, тот «радостный сад», где некогда снились
чудесные сны; невольно думалось, что вот-вот —,,,из неиезпратного далека
IIe4iuii.iii.iii ангел просквозит.Но что бы ни пережинал поэт, он твердо знал: «печальный ал¬
гол»—кате бы о 'нем ни скорбеть, как бы ни жаждать порою его воз¬
вращения!— только одна из тех иллюзий, каким суждено бесследно
растаять «под ярким пламенем событий».Как видим, и в мотивах «творимой легенды» оказывается крайняя
противоречивость лирики Блока. В этих противоречиях иной его
читатель мог бы запутаться,— если бы упустил из виду то глав¬
ное и основное, что видел и подчеркивал поэт в себе и в своем твор¬
честве.В письме к А. Арсенишвнли (1912) Блок замечал, что «...все про¬
шедшие стихи (и мои в том числе) способны стать вдруг «полями бла¬
женных», «царством забвения».‘ Возражая против искусства, дарующего такое «сладкое забвение»,
как против той отравы, которая отнимает силы, необходимые для
жизни, поэт в связи с этим и опрашивал, словно опасаясь, что его
стйхи:,Могли отравить хотя бы одну душу:269
«...что для Вас мои стихи? Только «елисейокие поля» или
морфий?..»И далее следует настойчивая просьба, в которой слышится самоа
главное, что видел поэт в своей лирике:«...если Вы любите мои стиха, преодолейте их яд, прочтите в нико будущем...» — а ядом Блок называл искусство, уводящее от жизни,
удаленное ее дыхания.Да, когда-то и сам поят был мечтателем — из тех, кто готов про¬
менять «бедную и грубую» жизнь ид «сладостную легенду», уходя
в сны средновоковьн, мифы содой древности пли в область бесплотных
фантазий,—но с годами он все более убеждался, что подобные «леген¬
ды» несут с собою смертельную отраву, могущую обратить в гниль
и труху сердцевину некогда здорового существа,— вот почему такого
смертельного врага видел Блок в «пустых мечтах» и искал все более
острое и верное оружие для борьбы с этим врагом.Казалось бы, странно: почему поэт — романтик и лирик «по
складу своей души» — так ожесточенно нападал на «мечту», поборни¬
ки которой принадлежали к лагерю символистов, являлись его сорат¬
никами?Но Блок, конечно, отвергал не всякую мечту, а только ту, которая
уводила от жизни, противостояла «серой действительности». Поэт на¬
всегда остался человеком великой мечты, но с годами его мечта все
глубже сочеталась с пытливым и трезвым взглядом на жизнь, тяготела
к ней,—как бы она подчас ни была мрачна и неприглядна,— и это ко¬
ренным образом изменило характер лирики Блока; не порывая с меч¬
той, со стремлением к лучшему, прекрасному и совершенно реальному
будущему, она вместе с тем все более порывала с «проклятием отвле¬
ченности» (говоря языком самого поэта) и вбирала в себя жизненный
опыт, реальный материал, отвечала на самые острые и злободневные
вопросы современности — и все это необычайно расширяло ее рамки,
ее диапазон, стимулирозало ее рост и созревание, придавало ей вели¬
кую жизненную силу и непреходящее значение.
«Я ПРИГВОЖДЕН К ТРАКТИРНОЙ СТОЙКЕ...»Если «мирное счастье», «красивые уюты», те «творимые легенды»,
л которых можно укрыться от жизненных бурь и тревог, поэт сумел
разгадать и разоблачить в их истинной — и обманчивой — сути, то
«того нельзя сказать о многих Других соблазнах «страшного мира»,
который находил тысячи путей и лазеок для того, чтобы обезоружить
человека, перетянуть ого на свою сторону, лишить его сил и способ¬
ности к сопротивлению; среди этих соблазнов особое значение обрета¬
ли для поэта похмелье, опьянение, вино, и к этому мотиву своего твор¬
чества он упрямо возвращался на протяжении нескольких лет.Для Блока пьянство и опьянение — это обычно не просто влече¬
ние (как зачастую бывает) к жизненным утехам, гедонистическая
жажда наслаждений или обыкновенная «слабость» человека, при¬
страстившегося « вину и утратившего над собой внутренний контроль,
а нечто совершенно иное и связанное с определенными философскими
представлениями и историческими условиями, с характером воззрений
чюэта. Не видя реальных путей одоления темных сил «страшного
мира», Блок нередко уходил на пути одоления мнимого, хотя бы толь¬
ко воображаемого,—вот почему мраку и ужасу повседневной жизпя
он готов был противопоставить вино и опьянение, в котором пытался
найти выход «максимализму» своих стремлений, чаяний иной, лучшей
жизни, не знающей лжи, мерзости, унижений.Поэт хотел быть последовательным до конца в отвержении «змеи¬
ного рая» богатых я «сытых»,— и в пьянстве, в кабацком разгуле он
усматривал некий вызов «бессмертной пошлости», всесветному мещан¬
ству, против которого восставал в стихотворении «Поэты» (1908).Описав — в лирико-ироническом духе — жизнь своих собратьев
но перу, день которых посвящен «вину н усердным работам», Блок
внезапно обращает острие своего сарказма в иную сторону:Так жили поэты. Читатель и друг!Ты думаешь, может быть,— хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,Твоей обывательской лужи?Нет, милый читатель, мой критик слепой!По крайности, есть у поэта
И косы, и тучки, и век золотой,Тебе ж недоступно все это!.,271
Он бросает дерзкий вызов в лицо тому, кто мог бы осудить пьян¬
ство, и беспутство «поэтов», а сам не думает пи о чем, кроме покоя,
благополучия, наживы, .ради которой, готов пойти на все: , ,Ты будешь доволен собой и женой,Своей конституцией куцой,А вот у поэта — всемирный запой,И мало ему конституций!..Этот «запой» казался поэту возвышенным и влекущим именно
потому, что был «всемирным», чуждым мещанским заботам, торгаше¬
скому расчету, духу наживы и корысти.Здесь «всемирный запой» оказывается одной из форм отвержения
мира «сытых», богатых, благополучных — тех, кого вполне устраивают
бесчеловечные порядки и законы, господствующие в окружающем
мире.Что ж, если нельзя одержать победу над «страшным миром»
наяву, полагал поэт, то ее мояшо одержать хотя бы в воображении,
а мечте, в пьяном бреду, когда все может чудесно преобразиться:Пускай я умру под забором, как пес,Пусть жизнь меня в землю втоптала, —Я верю: то бог меня снегом занес,То выога меня целовала!Так воспевал поэт с веселым отчаянием «всемирный запой», про¬
тивопоставляя его обывательским и прочим «лужам», в которых с удо¬
вольствием плавали и барахтались аккуратные, тихие, вполне благопо¬
лучные мещане.Схоже с этим стихотворением и другое—«Поздней осенью из
гавани...» (1909), герою которого также именно в похмелье открывает¬
ся некий чудесный мир:...матрос, на борт не принятый,Идет, шатаясь, сквозь буран.Все потеряно, все выпито!Довольно —- больше не могу...Л берег опустелой гавани
Уж первый легкий спег занес...I! самом чистом, и самом нежном саване
Сладко ль спать тебе, матрос?..Здесь уже не важно, что человек погиб «под забором, как
нес»,— ведь и он мог бы сказать, умирая, что «выога меня целовала»,
что «бог меня снегом занес», укрыл от всех бед, обид, горестей самым
чистым и нежным саваном, а если за то, чтобы пережить эти чудесные
превращения, подобные тем, которые происходят в «Синей птице»
Метерлинка, хоть на миг увидеть бессмертную, красоту мира,: нужно
заплатить ценою своей жизни — что ж, такой конец, уверяет поэт,
прекрасен и заслуживает не хулы, а хвалы.Как видим, в глазах самого Блока пьянство не было «слабостью»;272
нет, он «водил» (как говорили в те времена) пьянствовать, усматривал
в таком образе жизни особый и значительный смысл — и не только не
порицал пьянства и «запоя», а норою даже гордился ими, не видя
(в них ничего зазорного и предосудительного; да к тому же он не чув¬
ствовал себя одиноким в такого рода понимании пьянства.Когда-то Некрасов, упрекая юных современников, принадлежав¬
ших к состоятельным классам, в отсутствии высоких стремлений,
в увлечении погоней за большим чином, теплым казенным местом или
«женой с миллионом», делился со своими читателями такими размыш¬
лениями:Не ленив человек современный,Но на что расточается труд?Чем работать для цели презренной,Лучше пусть эти баловни пыот... —и лирический герой Блоки (так же как и сам пом) готов был повто¬
рить вслед за Некрасовым от и слови.Да, лучше опустить руки и самому опуститься, полагал поэт,
лучше пропадать возле «трактирной стойки», чем «работать для цели
презренной», одна лишь мысль о которой унижает и калечит человека,
порождает у него навыки стяжателя и хищника. А так как у людей,
составлявших среду Блока и принадлежавших к верхушкам общества,
не было иных целей, кроме «презренных», то у поэта сама собою на¬
прашивалась философия пьянства, забвения, «опускания рук», как
якобы единственно достойного выхода для любого честного человека.Не видя ни одного подлинно человеческого лица среди счастли¬
вых, довольных, «сытых», Блок искал это лицо среди тех, кто до конца
изведал «непроглядный ужас жизни», среди людей, живших «на дне».,
обездоленных, отчаявшихся, опустившихся,—только там, казалось
ему, еще сохранился человек, которого поэт видел в его униженности
и обездоленности, в ого «запоо», дающем хоть недолгое забвение боли,,
того отчаяния, какое иначе было бы слишком трудно, а то и невозмож
но выносить.«Трактирную стойку», как своего рода баррикаду, Блок противо4
поставлял и той бесконечной и бессмысленной болтовне, которою
многие близкие ему литераторы отделывались от самых насущных
и злободневных жизненных вопросов, стучавшихся в их двери.В статье «Итоги литературы 1907 года» (впоследствии часть ее
поэт перепечатал под названием «Религиозные искания» и народ»)
Блок иронически замечает о болтунах — постоянных посетителях «Ре¬
лигиозно-философских собраний», о людях, «поседевших в спорахо Христе» и заблудившихся в дебрях религиозной и прочей схоласти¬
ки: «Вместо дел — уродливое мелькание слов...» — и далее поэт бросал
вызов участникам подобных сборищ (на которых он порою бывал
и сам!):«Это — своего рода словесный кафешантан, и не я один предпочту
ему кафешантан обыкновенный, где сквозь скуку прожжет порою
«буйное веселье, страстное похмелье».Поэт без всяких околичностей, как на духу, открывает нам, поче¬Ю Заказ 534273
му обыкновенный кабак кажется ему несравненно более привлека¬
тельным, чем «словесный»:«Право, человек естественный, здоровый, «провинциал», положим,
непременно прямо с этих самых религиозных собраний угодит в кафе¬
шантан, и притом — в большой компании: чтобы жизнь, насильствен¬
но на два-три часа остановлен пин, безболезненно восстановилась,
чтобы совершился переход ко сну; и то еще из-за оживленной и не¬
притязательной мордочки какой нибудь Марты всплывает ненаро¬
ком — тьфу ты пропади пропадом - какое-нибудь «одухотворенное»,
а то и просто духовное лицо.,.»И, словно глядя ужо «оттуда», из «обыкновенного кафешантана»,
поэт, для которого все ужо нипочем и пет ничего запретного, говорит
с нетрезвой и недоброй улыбкой прямо в лицо псом этим «одухотво¬
ренным», а то и «просто духовным» лицам:«Мы поглядим на вас и на ваши серьезные «искания»; поглядим,
да и выплеснем — нет-нет — на вас немножко винной лирической
пены; вытирайте лысины, как знаете».И, представив картину, которая могла возникнуть только в вооб¬
ражении человека уже под хмельком, поэт, словно бы спохватываясь,
восклицает по своему адресу:«Ах я, хулиган, хулиган!..»Но нет в этом восклицании настоящего осуждения, а скорее одоб¬
рение своей бесшабашности, во всяком случае — полное сознание
своей правоты.Мотивы вина, опьянения, похмелья занимают весьма существен¬
ное место в лирике и высказываниях Блока и требуют своего объяс¬
нения.В том же 1907 году, когда писалась статья «Итоги литературы
1907 года», он сообщает матери, с которой беседовал обо всем так жо
открыто и прямо, как со своей совестью или как на самой откровенной
исповеди:«Мама, сейчас вот ночь, и я вернулся рано, по редкости случая
(курсив мой.— Б. С.) трезвый...»Одно это признание,— а сколько их и подобных им находим мы
в стихах, в письмах, дневниках, записных книжках поэта, отиосяхцих-
ся к тем же годам — годам «самой глухой реакции» (как скажет
вспоследствии Блок)!Во многих письмах поэта — не только хроника пьяных «загулов»,
но и их объяснение, «обоснование», попытка оправдания, порою при¬
нимающая социальный и философский характер; Блок старался втол¬
ковать матери свои взгляды на вино, пьянство, похмелье, клонящиеся
к тому, что «не пить, конечно, лучше», но и не пить нельзя.В 1907 году, развивая в письме к матери те же самые мысли, поэт,
противопоставляя многочисленную народную массу «крошечной кучке
русской интеллигенции», ничтожной и запутавшейся в «куче мировоз¬
зрений», приходил к несколько неожиданному заключению:«Итак, мы правильно сжигаем жизнь, ибо ничего от нас не сохра¬
нит «играющий случай», разве ту большую красоту, которая теперь274
может брезжить перед нами в похмелья, которым поражено все рус-
скоо общество, умное и глупое...»—и Блок во многих письмах к ма¬
тери восхваляет похмелье и опьянение как одпу из реальных возмож¬
ностей увидеть «большую красоту», хотя бы в отблесках «гибельного
пожара» (осли нет иных источников света!).«Чем хуже жить —тем лучше можно творить...» — эти слова поэ¬
та, обращенные к матери, являлись для него своего рода лозунгом,
ток» программой, которую он проводил в жизнь с неуклонной после¬
довательностью и даже жестокостью по отношению к самому себе.Его стихи, записные книжки, письма к матери и друзьям нередко
становились реестром пьянства, кутежей, разгульных ночей; в этих
письмах слышатся откровенные признания, зачастую все в одном
и том же, все в одном,— то горделивые и восторженные, то отзываю¬
щиеся болью, тоскою, отчаянием; герой его лирики мог бы бросить
и лицо споим, хулителям и «увещевателям» слова Гафиза, пероводеп-
пмо одним из учителей и наставников Блока — Нладимиром Со¬
ловьевым:Зцчом ты пьопм)? Я зпать желаю!Скажу, зачем: я зол и горд,И и море пьянства выезжаю,Чтоб зло все выбросить за борт.Да, он был убежден, что в просторы «всемирного запоя», в «море
пьянства» он выплывает не по своей «слабости», а именно затем, «чтоб
ало все выбросить за борт», чтобы хоть таким образом воплотить свою
«свободную мечту», утвердить свою гордую волю, увидеть «большую
кр&соту», найти — хотя бы только в пьяном бреду — тот вечно зацве¬
тающий жезл, который помогает своему владельцу творить чудеса
и совершать невозможное; вот почему поэт так полно и откровенно
рассказывал обо всех приключениях и передрягах, пережитых им
и «мори пмшетиа», 'и решительно отклонял возражения матери, когда
они пыталась икшжшть па своего сына, извлечь его из этого «моря»:«Отчего по шшиты'и иногда, когда жизнь так сложилась: бывают
минуты приближения трагического и страшного, ветер в душе еще
свежий; а бывает — «легкая, такая легкая жизнь (Сологуб)...» —
и поэт развивает мысль о том, что пьянство ничем не хуже трезво¬
сти, а даже лучше, ибо внутренне выпрямляет человека, приобщает
его к безмерному миру, полету стихий, музыке сфер, слышимой тогда,
когда наступает забвение окружающего.«Может быть, ты и не можешь этого понять,— но неужели ты не
можешь согласовать это со мной? Ведь путь мой прям, как все русские
пути, и, если идти от одного кабака до другого зигзагами, то все же
идешь все но тому же неизвестному еще, но, как стрела, прямому
шоссейному пути — куда? куда?..»И далее следуют стихи Пушкина, тоже помогающие, на взгляд
Блока, оправдать и освятить путь «от одного кабака до другого»:Друзья! Не все ль одно и то же:Забыться вольною мечтой10*275
1! нарядном зале, в модной ложо
Или в кибитке кочевой?.. —и роди того, чтобы «забыться мечтой», открыть «большую красоту»,
увидеть в глазах случайной незнакомки «очарованную даль», поэт
готов был сжечь и себя и свою «ноудавшуюся личную жизнь» —
и беспощадно сжигал ео.Есть в таком осмыслении пьянства, «опускания рук», прожигания
жизни как единственно достойного ответа на все ужасы и мерзости
«страшного мира» нечто от внутренней чистоты и благородства Феди
Протасова («Жниой труш» Льва Толстого), душа которого была истин¬
но — и одипотаенно жиной и том миро мертвых душ, в котором оннекогда обитал,- и шоки пул ого бон сожаления, под влиянием чувства
какой-то естественной брезгливости: водь, на взгляд Феди Протасова,
принимать участие в накоплении награбленного и в охране его — это
«такой стыд, такой ужас», с которым он не в силах совладать.Сам Федя Протасов, уже опустившийся «на дно», исповедуется
перед случайным своим собеседником словами, захватывающими пре¬
дельной правдивостью, откровенностью и прямодушием:«Всем ведь нам в нашем круге, в том, в котором я родился, три
выбора — только три: слуяшть, наживать деньги, увеличивать ту па¬
кость, в которой живешь. Это мне было противно, может быть, не
умел, но, главное, было противно. Второй — разрушать эту пакость;
для этого надо быть героем, а я не герой... Или третье: забыться —
пить, гулять, петь. Это самое я и делал...»Вот именно потому, что ни Федя Протасов, ни герой лирики Блока
не хотят «увеличивать ту пакость», в которой они ямвут, а вместе
с тем не готовы к участию в решительной, упорной и осознанной
борьбе, без которой нельзя ее уничтожить, они останавливаются на
«третьем выборе»: ищут забвения в пьянстве, в гульбе, в «цыганщине»
и утверждают философию «опускания рук» как единственно реальную
возможность отвержения «пакости», очищения от нее; тут «чем хуже,
тем лучше», и чем глубяге «опускается» человек в глазах людей своего
круга, тем более возвышается он перед судом своей совести.Как видим, лирического героя Блока многое роднит с Федей Про¬
тасовым, и, даже не сговариваясь с Федей («Живой труп» был впервые
опубликован в 1911 году), он приходил к убеждению, что нравы те,
кто уходит в пьянство; этот мотив становится па определенном этапе
одним из существенных в лирике Блока, приобретает в ней философ¬
ский, социальный, этический смысл, подчеркивающий не столько «сла¬
бость» человека, сколько его силу, мужество, готовность бросить вызов
«страшному миру», утвердить себя, свою личность, свое человеческое
достоинство.В лирике Блока особое значение приобретает и мотив экстаза,
в порыве которого человеку, согласно учению древних, открывается
красота и гармония бытия, личная причастность «Душе мира» и пре¬
одолевается чувство отчужденности от нее; вот почему все, что может
пробудить экстаз хотя бы на мгновение,— а стало быть, и «по¬
хмелье»,— прославляется и воспевается в лирике Блока.276
Морою поэту казалось: стоит только забыть о «страшном мире»,
окружающем ого, стоит лишь припомнить иные миры и иные сущест¬
вовании- и тогда начнется другая, настоящая жизнь; а для того,
чтобы припомнить все это, надо приглушить шумы и звуки повседнев¬
ном жизни, по слышать их, погрузиться в забвенье,— и здесь хороши
псп сродства: сол, вино, пламя страстей и игра стихий, словно бы
> Ц|м пшик к :iвоздам я заставляющих забыть «о временном, о пошлом».
Пи Mil in пи х стихах Блока и слышится призыв к забвению — забвению
но чю Им то ни стало, любыми средствами и любой ценой, а если вино
.мрусг такое забвение — что же, поэт готов был воспевать и благо-
CIHMUIHTI. его. Ведь мир в пьяном бреду так же преображается, как
осип бы ото было и наяву, а порою именно в бреду, в забвенье откры¬
вается — если верить учению Платона — его истинная суть,— и в сбор¬
нике Блока «Земля в снегу» (1908) далеко ие случайно рядом поме¬
щены стихотворения «Ночной разговор», с эпиграфом из Платона,
и «Поело ночной попойки», одно ннивапш) которого достаточно крас¬
норечиво п даже пызывнкпцо. Поот видит в этой «ночной попойке»
in.от только одапп п.I лирически значимых способов по-новому углуб¬
ленно, молодо и свежо увидеть мир и его красоту, воплощенную
и облике возлюбленной, уйти от пошлости и скуки повседневной жиз¬
ни в «очарованную даль» —стоит лишь погрузиться в «ускользающий
сон наяву», даруемый «прекрасным напитком».Сравнивая человеческую жизнь с жизнью заморской птицы, за¬
ключенной в тесную клетку (этот образ был традиционным в литера¬
туре начала века), поэт находил и выход из этой клетки — ведь о ней
легко забыть, ее легко отбросить, когда перед глазами падают звезды,
чертя в небе серебряные нити, когда в стакане вина пляшут золоти¬
стые змеи. И он твердил, словно бы в каком-то хмельном забытьи:Когда эти нити соткутся в блестящую сетку,II вивнiiio имен с.нлотутся в одну бесконечность,Поднимут, накрутят и бросят ненужную клетку
И ооидоиную нроинсть, в какую то сишою вечность... —1а если для того, чтобы: отбросить «ненужную клетку» и приобщиться
к «синей вечности», необходимо забвение, даруемое вином,— что ж,
поэт готов был променять благополучие и респектабельное существе¬
нно но на «трактирную стойку»,—какие бы слухи и легенды ни возни¬
кали на ого счет!11 И. Машбиц-Веров в своей книге «Русский символизм и путь Алек¬
сандра Блока» (Куйбышевское книжное издательство, 1969, стр. 303—305)
стремится оспорить положения, легшие в основу этой главы, пытается
отрицать то, что для Блока —в определенные годы его жизни — пьянство
но было «слабостью», что он придавал ему «особый и значительный смысл»
и что Клок «порою даже гордился» им. Оспаривая все это, И. Машбиц-Веров
уптржднот, что в глазах Блока пьянствующий поэт — «прежде всего чело¬
век оиустншинися». Но в такого рода (сугубо «житейской») интерпретации
затронутого вопроса слишком многое противоречит в стихах, письмах,
высказываниях, самого поэта —как приведенных в этой главе, так и остав¬
шихся за ее пределами.
Но если сначала поэт романтизировал и «возвышал» все то, что
дарует и пробуждает в душе вино и похмелье, видел в пьяном разгуле
одно из наиболее действенных оружий в борьбе со «страшным ми¬
ром», его злыми, хищными силами, а также и [возможность созерцать
«большую красоту» в некоем вызванном вином «экстазе» и многое
другое в том же духе, то потом он догадается, что и «похмелье» — это
всего лишь одно из обольщений ненавистного «страшного мира», не
только ничем но угрожающе® от началам и основам, а даже способ¬
ствующее их упрочению, ибо п пьянстве перегорают те силы, какие
могли бы противостоять ему и бороться с ним. Поэт все глубже осо¬
знавал это — вот почему в его лирику наряду с прославлением пьяно-Автор исследования о русском символизме и пути Александра Блока
в данном случае не увидел, какой социальный и лирико-философский смысл
вкладывал Блок (в годы «самой глухой реакции» — говоря его словами)
в тему и мотивы «пьянства» — как одной из возможностей преодоления
«страшного мира», его мрака и ужаса. Да и само приятие «опустившийся
человек» имело для Блока — в то время, о котором идет речь,— совсем иной
смысл, чем вкладывает в него И. Машбиц-Веров; в своей ненависти к «сы¬
тым», «счастливым», благополучным — и не видя ей реального всхода —
поэт предпочитал им людей «опустившихся» и «опускающих руки», а по¬
тому и не видел ничего зазорного в их образе жизни и поведения (предо¬
судительного в глазах иного «милого читателя» и «слепого критика»,— как
сказано в стихотворении «Поэты», созданном в 1908 году).Нужно напомнить, что даже и впоследствии, в свои «ночные часы»,
поэт склонен был усматривать в пьяном вызове «сытым» нечто возвышен¬
ное, готовность утвердить свой человеческий облик, свою непреклонную
волю. Вот почему он и записывает в 1911 году об «опустившихся» людях —
в связи с работой над поэмой «Возмездие»: «Бесконечно прав тот, кто опу¬
скает руки... человек, опускающий руки и опускающимся, прав... Нечего
спорить против этого...» — и упускать из виду эти и подобные им высказы¬
вания Блока, игнорировать их — это значит представлять его облик
в слишком сглаженном и но очень соответствующем подлинной действи¬
тельности виде.Нельзя забывать и о том, что для Блока мотив вина и похмелья, «все¬
мирного запоя» отвечал не декадентской изломанности и ущербности (как
полагает И. Машбиц-Веров), а тем заветам и призывам, какие слышатся
во многих стихах Языкова, Аполлона Григорьева («Как тебя мне не
узнать — На тебе лежит печать Буйного похмелья»...), Апухтина («Ночи
безумные, ночи бессонные»...). К этим заветам, призывам, традициям, иду¬
щим еще из прошлого века, ие был равнодушен и Блок, ибо видел в них
одну из возможностей высвобождения внутренних сил человека, их приоб¬
щения к миру стихий, враждебных скованности, молочности, ограниченно¬
сти повседневного быта,— и именно в таком духе развивал и углублял оя
эти мотивы в своих стихах.Да ведь и И. Машбиц-Верову — в полемике со мной — нельзя было
упускать из виду того, что вся вторая часть главы «Я пригвожден к трак¬
тирной стойке...» посвящена именно тому (как и увидит читатель из даль¬
нейшего), чтобы показать, как сам поэт преодолевал подобные иллюзии
(как и многие другие!), убеждался в их явной несостоятельности и пости¬
гал— подчас в споре с самим собой,—что отнюдь не с помощью «буйного
похмелья» можно «зло все выбросить за борт», а стало быть, и «гордиться»
(вспомним перевод Вл. Соловьева из Гафиза!) тут нечем. К чему же было
И. Машбиц-Верову создавать столь одностороннее представление о моей
трактовке затронутого здесь сложного вопроса, явно не отвечающее за¬
дачам объективного его освещения?278
id разгула и «всемирного запоя» . все настойчивее врываются иные
ноты и мотивы, порожденные нарастающим чувством бесплодности
пьяного «вызова», бесцельной траты сил в кутежах, все более глубо¬
ким попи манием того, что не здесь проходит фронт борьбы со «страш¬
ным миром»,Этим чувством продиктовано и такое стихотворение, как «Опу¬
сти с, г., занавеска линялая...» (1908), в котором наряду с григорьевской
и шгухтинской нотой, словно бы взятой на цыганской гитаре и про¬
славляющей «ночи безумные, ночи бессонные», вытесняя ее, звучит
совершенно иная — горькая, тревожная, отзывающая смертельной
тоской, не дающая забыться ни на минуту даже и в часы самого
неистового разгула:Ты ля, жизнь, мою горницу скудную
Убирала степным ковылем!Ты ли, жшшь, мою с,окь непробудную
Нелепым отравляла вином!..п теперь ничего, кроме отравы, ire видит поэт в вине, в своих «ночных
попойках», которым еще так подавно придавал какое-то необычайное
и возвышенное значение.Стихотворение завершается возгласом боли, отчаяния, безнадеж¬
ности, признанием краха того образа жизни, в котором Блоку недавно
видолись какие-то огромные — и несбывшиеся — возможности.Спалена моя степь, трава свалена,Ни огня, ни звезды на пути...И кого целовал — не моя вина,Ты, кому обещался, — прости..,Ядооь ужо пот и намека на тот гордый вызов, который нередко
слышал он в стихах поэта, посвященных «всемирному запою»,—нет,
«всемирный запой» превращался в запой самый ординарный, свиде-
'п'мы'тпующий по о могуществе человека, по о его готовности к борьба
с тем, кто «доволен собой и женой» и «своей конституцией куцой»,
в о слабости, беспомощности, растерянности перед лицом «страшного
мира»,— и у Блока оставалось все меньше иллюзий на сей счет.Та хмельная «отрава», в которой поэту мерещилось нечто истинно
прекрасное, вольное, широкое, освобождающее душу — хоть на какое-
то мгновение! — с годами все больше отвращала его; он еще мог в от¬
чаянии и тоске предаваться ей, но уже не превозносил ее, ибо и в ней
разглядел одно из обольщений «страшного мира», один из мнимых
путей борьбы с ним, и впоследствии уже знал, что «нельзя любить
цыганские сны — ими можно только сгорать» (как записал он в своем
дневнике).I! этой записи — приговор «цыганским снам» и тому образу жиз¬
ни, которому поэт некогда предавался, находя в нем нечто истинное,
непреложное и даже возвышенное.Изведан нее степени винного угара, переболев всеми ядами и отра¬
вам,и алкоголя, поэт убеждался, что не на этом пути — приобщение279
к миру борьбы, творчества, «большой красоты», пе здесь одолеваются
темные силы, не так ломаются клетки, сковывающие человека и его
душу; наоборот, в состоянии пьяного угара утрачиваются лучшие ка¬
чества человека и мнимый взлет на самом дел® оказывается провалом
в пустоту.Все это и подтверждает Блок л статье «Ирония» (1908), в которой
опьянение безудеряшой и но знающей никаких пределов иронией
сравнивается е опьяненном алкоголем; говоря о людях, «одержимых
разлагающим смехом», и котором они «топят, как о водке, свою ра¬
дость и свое отчй'лиьо, себя и близких своих, свое творчество, свою
жизнь...», iioDT продолжает: «Пород лицом проклятой иронии — все рав¬
но для них: добро п зло, ясное л обо и вонючая яма, Беатриче Данте
и Подотыкомка Сологуба. Все смешано, как в кабаке и мгле. Винная
истина, «in vino veritas» — явлена миру, все — едино, единое — есть
мир; я пьян; ergo — захочу—«приму» мир весь целиком, унаду на
колени перед Недотыкомкой, соблазню Беатриче; барахтаясь в канаве,
буду полагать, что парю в небесах; захочу — «не приму» мира, дока¬
жу, что Беатриче и Недотыкомка одно и то же. Так мне угодно, ибо
я пьян. А с пьяного человека — что спрашивается? Пьян иронией,
смехом, как водкой; так же все обезличено, все «обесчехцено», все —
все равно» (здесь поэт полемизировал и с теориями «мистического
анархизма» и «неприятия мира», проповедуемыми в то время Георгием
Чулковым и Вячеславом Ивановым).Так Блок отвечал не только тем, кто опьянен духом «разлагающей
иронии», но и самому себе.То же самое раскрывается и в стихах Блока — их герою, готовому
на все махнуть рукой, «топя отчаянье в вине», начинает казаться под
влиянием «прекрасного напитка», что все кругом призрачно, обманчи¬
во, неверно; он испытывает равнодушие ко всому на свете, и уже
совсем ио-иному начинает звучать в лирике Блока мотив вина и опья¬
нения:Я пригвожден к трактирной стойке.Я пьян давно. Мне все — равно.Вот счастие мое — на тройкеВ сребристый дым унесено...И только сбруя золотаяВсю ночь видна... Всю ночь слышна...А ты, душа... душа глухая...Пьяным пьяна... пьяным пьяна...(1908)Зде-сь уже нет никаких надежд и упований, связанных с опьяне¬
нием, ни малейшей уверенности в том, что оно может преобразить
окружающий мир, открыть в нем нечто необычайное и прекрасное,
вывести к «очарованному берегу» (как мнилось поэту когда-то). Нет,
в этом «мне все равно» — признание того, что еще одной иллюзии, еще
одному самообольщению пришел конец, и если поэт еще надеется
найти в вине нечто необходимое ему, то лишь минутное забвение
непобедимой тоски и слишком меетериимой боли — только и всего.280
«Лео равно» — вот тот продел отчаяния, когда человек уже побеж¬
ден, на awe махнул рукой и когда он превращается в подавленное
всяческими тревогами и страхами, безвольное и опустившееся суще-
стло, ужо забывшее о своем долге, призвании, назначении,—и, таким
образом, в схватках с темными силами «страшного мира» он оказы¬
вается побежденным и обезоруженным.'Гак открывается и нам и самому поэту, что какие бы пути ни при¬
лили ото «к трактирной стойке» и какое значение ни придавал бы он
mi, усматривая порою в этой «стойке» чуть ли не барршшду против
«сытых»! — рано или поздно, но он поймет, что это не баррикада,
а один из капканов «страшного мира».Исли в более позднее время поэт снова обращается к такому из-
длш1а знакомому ему источнику творчества и вдохновения, как вино,
опьянение, «похмелье», то уже не с тем, чтобы противопоставить его
«обывательской луже» или увидеть словно бы наяву «очарованные
борога», а просто для того, чтобы приглушить отчаяние. И когда ому
казалось: томимо, а то п «потусторонние» силы обступили со всех сто¬
рон н «исхода нет»,- он упрямо твердил с недоброй, пьяной, какой-то
iiopoKomwuioii улыбкой, словно не веря ни самому себе, ни своим
словам:Ах, пе все ли мне равно!Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой,Монотонной и певучей,Вновь я буду пить вино!..(1913)И поэт, вернее — его лирический герой, признается, как на испо¬
веди, почему он обращается — за неимением другого — именно к это¬
му испытанному, старому и уже опостылевшему средству:Все равно пе хватит силы
Дотащиться до конца
(5 тройной, лживою улыбкой,Па которой — страх могилы,!1 )(Н'1ЮК0Йств0 мертвеца.И если теперь поэт обращается к собеседнику — или собутыльни¬
ку — с настойчивым призывом:Как страшно все! Как дико! — Дай мне руку,Товарищ, друг! Забудемся опять... -(1912)то это возглас боли, тоски, отчаяния, а ие горделивого вызова
«вражьей силе», как бывало раньше. А в цикле «Жизнь моего прияте¬
ля» поэт обращается к себе с горькой усмешкой много испытавшего
человека, который познал истинную цену былым увлечениям, стра¬
стям и самообманам:На утешенье, на забаву
Пей искрометное вино,281
Пока вино тебе по праву,Пока не тягостно оно...(1915)Так в простую «забаву», ужо но способную обмануть человека
и пробудить у него какие бы то ни было иллюзии и «экстазы», пре¬
вращалось вино, в котором поит никогда усматривал вызов всей мер¬
зости окружающей ого жизни и выход и иные миры, где вое чудесно
преображаете» и обротает «большую красоту».Настанет тремя, когда и сам Клок поймет ложность пути «от од¬
ного кабана до другого», пой мот, что этот путь никуда не ведет, кроме
как к бесцельной и бессмысленной растрате своих лучших сил и внут¬
ренних ценностей, оказывается «дорогой в никуда». Если поэт
возвращается впоследствии к теме пьянства, похмелья, то решает ее
уже в новом свете, чуждом какой бы то ни было романтизации и «воз¬
вышения», в духе откровенного признания в своем изнеможении,
в своей усталости, болезни («...я, наконец, смертельно болен...»); позг
уже видел и глубоко осознавал, что пьянство — никакой это не выход
из мрака и противоречий «страшного мира» и не борьба с ним, а ско¬
рее капитуляция перед ним, уступка, уклонение от борьбы, измена
тому, что составляет самый смысл жизни,— так Блок разгадал еще
один из тех обманов и соблазнов, в которых пеиогда усматривал дерз¬
кий вызов «вражьей силе».В самой боли, с которой поэт расставался со своими былыми ил¬
люзиями, «цыганскими снами», было нечто целительное: пусть он еще
не видел настоящего исхода из того «заколдованного круга», где
кружила его «буря цыганских страстей», пе ведущая никуда и словно
бы запивающаяся вокруг одной и той же мертвой точки,—но сила
к жажда жизни одолевали и это искушение «страшного мира», о чем
свидетельствует стихотворение «Май жестокий с белыми ночами...»
(1908), где появляются новые и необычайно важные для творчества
Блока мотивы, те чувства, которые позволили ему по-новому осмыс¬
лить человеческую жизнь, а вместе с тем и ее красоту.Да, хорошо «нить вино, смеяться с милым другом...», но поэт уже
знает, что не здесь открывается высшая красота, не так одолеваются
темные силы «страшного мира»; нот,—...достойней за тяжелым плугом
В свежих росах поутру идти!. Так утверждал поэт, пройдя сквозь испытания и искушения, и об
этом он отныне никогда не забывал. Он мог снова и снова «пить вино»,
мог «страстью, грустью, счастьем изойти...» — но уже познав истин¬
ную цопу им и поняв, что не здесь можно ждать преображения всей
жизни на новых, лучших, подлинно человеческих началах.Следует подчеркнуть и то, что в творчестве Блока тема пьянст¬
ва — в различных ее воплощениях и решениях — имеет определенные
хронологические границы. Она особенно глубоко захватывала поэта
в то время, которое он определил как годы «самой глухой реакции»;282
urn тема настойчиво ворвалась в лирику Блока тогда, когда явственно
пару жилось поражение революции (что и породило у поэта мрачные
и отчалпир.го настроения и чувства), а исчезла (хотя и не сразу) то«>
гди, когда снова наметился революционный подъем и когда сам поэт
■г, особенной глубиной почувствовал в себе рождение «человека обще¬
ственного»; чем яснее обнаруживались те огромные и реальные воз¬
можности, каких поэт не видел раньше, тем решительней он отбра-
(тщл философию пьянства, «похмелья», «опускания рук» как
.жни i iH'iiiioii формы отвержения «страшного мира».Понт стремился найти иные — несравненно более плодотворные —
средства и пути борьбы с ним и видел их в труде, в творчестве,
и приобщении к тем духовным источникам, которые питают народ
и ого сыновей. Вот почему с годами тема вина, разгула, опьянения,
которой некогда поэт придавал такое непомерное значение, меняется
и творчество Блока, лишаясь своего слишком пышного и яркого опе¬
рении, псо роже появляется в его стихах, чтобы исчезнуть навсегда,
нытопичишл иными томами, отвечающими великим замыслам худож¬
ника, «мужественно глядящего в лицо миру».
«ВОЛЬНЫЕ МЫСЛИ»Но сразу поат расстался с одной из иллюзий старого мира, с од¬
ним из его соблазнов, внушавшим стремление жить вне общества,
предоставить людей их собственной участи, уйти к природе, раство¬
риться в ней, в ее стихиях, которые одни только и могут дать истинное
счастье; эта иллюзия была не чужда Блоку. Ему когда-то казалось:
от пошлости и мерзости окружающей его жизни можно уйти в мир
сосен, дюн, озер, всех стихий земли и неба,— как это мы видим в цик¬
ле «Пузыри земли», а также и в цикле поэм «Вольные мысли» (1907),
написанных белым стихом.В них господствует пафос полного растворения в природе; герой
их ощущает себя лишь неотъемлемой частью природы и в общении
с нею обретает полное счастье и высшее удовлетворение.В «Вольных мыслях» поэт наносит яростные и беспощадные уда¬
ры по ненавистному ему мещанству, с его пакостной душонкой, жал¬
кими интересами, низменными вожделениями, и видит своего союзни¬
ка в борьбе с заклятым врагом — в самой природе, в мире ее изна¬
чальных и бессмертных стихий, выступающих как его друзья
и союзники.В поэме «В Северном море» Блок клеймит «гуляющих модниц»
и «франтов», которые только мусорят и пачкают «цветущий мир при¬
роды» (Тютчев); особенно отвратительны они в глазах поэта тогда,
когда надевают легкие купальные костюмы, подчеркивающие все их
убожество и уродство:...дряблость мускулов и грудей обнажив,Они, визжа, влезают в воду. Шарят
Неловкими ногами дио. Кричат,Стараясь показать, что веселятся...Этому пошлому, растленному, омерзительному миру всесветного
и живучего мещанства поэт противопоставляет иной мир — прекрас¬
ный и чудесный мир стихий земли и неба, воды и воздуха:...закат из неба сотворил
Глубокий многоцветный кубок. Руки
Одпа заря закинула к другой,И сестры двух небес прядут один —То розовый, то голубой туман.284
И в море утопающая туча
В предсмертном гневе мечет из очей
То красные, то синие огни...—и что рядом с этим прекрасным миром, с этой бессмертной красотой
могут значить жалкие потуги каких-то пошляков запакостить и за ра¬
нить их своими сплетнями и угрюмым хохотом?!I )доволь поиздевавшись над своим врагом — мещанином, поэт
уходит туда, где...озеро молчит, влача туманы,Но явственно на нем отражены
И я, и все союзники мои:Ночь белая, и бог, и твердь, и сосны...Так восстанавливается ощущение прекрасного, рождающееся
и слиянии с природой, со всем тем, что она дарует людям, не порвав¬
шим с нею родственных уз.Поэта переполняют такие большие чувства, что нельзя но поде¬
литься ими со воем окружающим миром; он исповедуется перед
лицом своих норных и неизменных друзей — сосен, дюн, моря, чистых
и ясных небес:Моя душа проста. Соленый ветер
Морей и смольный дух сосны
Ее питал. И в ней — все те же знаки,Что на моем обветренном лице.И я прекрасен — нищей красотою
Зыбучих дюн и северных морей.Только тот человек прекрасен — кто бы он ни был! — который
верен этому миру, растворился в нем до конца и несет его в себе,
живот с ним одною жизнью,— как тот жокей, которыйВсю жизнь скакал — с одной упорной мыслью,Чтоб первым доскакать...Даже смерть ому по страшна, ибо озиачаот не гибель и тление,
а слияние с окружающим ого бессмертным и прекрасным миром, пере¬
ход из одного вида стихий в другой — и только; такова смерть жокея,
упавшего с лошади:„.полетел, отброшенный толчком...Ударился затылком о родную,Весеннюю, приветливую землю,И в этот миг — в мозгу прошли все мысли,Единственные нужные. Прошли —И умерли. И умерли глаза.И труп мечтательно глядит наверх.Так хорошо и вольно...Так смерть становится «хорошей» и «вольной»,—если ты сли¬
ваешься с родной, весенней землей, если ты думал в минуту смерти
о чем-то важном, единственно нужном.Поэма «О смерти» завершается признаниями, в которых выраже¬
на и страстная любовь к жизни, и ощущение полноты своих сил285
и рвущегося через край восторга, вызванного чувством родства со
стихиями земли и неба, причастности к каждой из них: •Хочу,Всегда хочу смотреть в глаза людские,И пить вино, и женщин целовать,И яростыо желаний полнить вечер,Когда жара мешает днем мечтать
И песни пеи>1 И слушать в мире ветер!.. -и поэт, который так долго томился в подобном теплице «белом доме»,
с размаху бросился в поток самых буйных страстей, «ярость» которых
настолько захватила и ослепила ого, что на какое-то время он оказал¬
ся в их плену и готов был забыть обо всем ином.«Над озером» — это также восхваление природы, чащи высоких
сосен, дымно-сизого сумрака, стелющегося по земле, озера, словно бы
отнявшего у неба закат, все его краски, лучи, сияние,— и природа
предстает в своей неизъяснимой прелести и Чистоте перед поэтом,
«влюбленным в мир»; стихи, рояедающиеся сейчас в его душе, сла¬
гаются в торжественный гимн —Высокий гимн о том, как ясны зори,Как стройны сосны, как вольна душа.В этот божественно прекрасный мир приходит девушка, словно бы
воплощающая всю его красоту, и поэт, преисполненный чувством вос¬
хищения, придумывает ей самые дивные и романтические имена:Будь Аделиной! Будь Марией! Теклой!Да, Теклой!,.Кажется, она так прекрасна и совершенна, что ее не посмеет
коснуться ничто низкое и нечистоплотное. Но вот рядом с нею неожи¬
данно появляется вихляющий задом офицер, затянутый в узкий ки¬
тель, с пуговицей-носом, плоским блином, заменившим ему лицо,—
воплощение омерзительной пошлости, бросающей вызов всему тому
прекрасному, что существует на земле.Для поэта нет сомнения: сейчас девушка, вызвавшая его ни с чем
не сравнимое восхищение, пройдет мимо этого офицера, даже не удо¬
стоив его словом или взглядом. Но — ничего подобного!Оказывается, она пришла на свидание именно с ним — в этом нет
ни малейшего сомнения! — и на глазах поэта происходит внезапное
превращение: то «женственное», прекрасное, что могло бы явиться
венцом и украшением всего мира, верное прелести окружающей ее
природы, оборачивается «бабьим», низменным, мещанским; недавняя
Текла превращается в Феклу, прекрасная Дульцинея — в грубую
и пошлую Альдонсу, которая, вместо того чтобы безразлично и без¬
молвно пройти мимо офицера, смотрит своими ясными глазами в его
«гляделки», позволяет «чмокать» себя армейскому пошляку,— и уже
ничего романтического и прекрасного поэт не видит в ее облике.Своим хохотом, насмешками, возгласами: «Эй, Фекла! Фекла!» —
ои заставляет сконфуженную парочку поспешно скрыться' из прекрас¬
ного мира «зыбучих дюн и северных морей» — и снова озеро молчали¬
во, а в нем отражены лишь «союзники» поэта — беЛая ночь и строй¬
ные сосны.., чГерой поэмы «В дюнах», замыкающей цикл «Вольные мысли»,
также живет одною жизнью с природой, прекрасной в каждом своем
образе и явлении; весь он захвачен неукротимой и стихийной
страстью, как и его возлюбленная:... она пришла
И встала иа откосе. Были рыжи
Ее глаза от солнца и песка.И волосы, смолистые как сосны,В отливах синих падали на плечи.Пришла. Скрестила свой звериный взгляд
С моим звериным взглядом. Засмеялась
Высоким смехом. Просила в мепя
Пучок травы и золотую горсть
Носку. Потом — вскочила
И, прыгая, помчалась под откос...Молодой, хищный, красивый зверь выслеживает и настигает дру¬
гого, такого же красивого и хищного, — так изображены здесь люди,
сжигаемые страстью. Поэт подчеркивает здесь звериные черты в их
облике, в самой любовной игре, не признающей иных законов, кроме
древних законов погони и добычи, заставляющих их, перед тем как
кинуться в объятия друг другу, вести долгую и опасную игру, в кото
рой до предела, до самой высшей точки, накаляются их страсти,
ярость их желаний, поднимающих в душе целую бурю, готовую раз¬
разиться бешеным ливнем и смести все, что стоит на ее дороге:...Я не уйду отсюда,Пока не затравлю ее, как зверя,И голосом, зовущим, как рога,Ни прегражу ей путь. И но скажу:«Мон! Мол!» ■ И пусть она мне крикнет:«Твоя! Твоя!»Кажется, здесь человек становится таким, какими были когда-то,
в доисторические времена, его предки; в мире его страстей перепле¬
лись в один запутанный, темный клубок и древние инстинкты,
и хищнические повадки, и любовные вожделения, еще лишенные под¬
линно человеческой одухотворенности, — так завершается цикл «Воль¬
ные мысли», занимающий весьма существенное место в творчестве
Блока.Этот цикл — свидетельство такой зрелости, которая приобретает
явно «необратимый» характер; художник, создавший его, — это уже
но мальчик, который «неверными шагами» бродит «в тумане утрен-
ном», словно бы размывающем границу между явью и снами, вымыс¬
лом и действительностью; нет, это возмужавший человек, знающий,
что как бы ни были прекрасны и умилительны его юношеские фан¬
тазии и вызванные ими бесплотные и призрачные видения, но нельзя287
вернуться в состояние детства. «Вольные мысли» —* это словно бы
окончательный рубеж внутреннего «повзросления», утверждение
подлинного, а не выдуманного мира, красоты земли и полноты бытия,
радости существования. Поэт словно бы пьянеет от избытка своих
дотоле дремавших сил; по подвластные никаким запретам, они
захлестывают его и безудержно влекут за собой, как высокие и свер¬
кающие волны, уносящие «со дальше и дальше от тех «блаженных
островов», на которых когда-то он обитая, и уже нельзя, да и не
нужно, возвращаться назад — разно только в спах или мечтах.В «Вольных мыслях» отчетливо сказался и рост художественного
мастерства: он — в реалистичности рисунка, в смелости кисти, в не¬
обычайной широте диапазона, сочетающей острый щарж, сатириче¬
скую одкость с портретной выразительностью, с тончайшим лиризмом,
вдохновенным гимном природе, окружающей поэта, с пластически
скульптурной лепкой образа, со стремительным движением сюжета,
придающего поэмам, составляющим цикл, характер своеобразных
новелл; все это сочетается и с удивительной непосредственностью
повествования, его естественностью и живостью, вызванными
страстностью и напряженностью переполняющих поэта чувств. Вот
почему «Вольные мысли» следует рассматривать как новую ступень
в творчестве Блока.Вместе с тем здесь было и нечто иное, что не удовлетворяло само¬
го поэта,—такое полное и безоглядное увлечение «земным», «звери¬
ным», «плотоким» началом, которое вытесняло все духовное из внут¬
реннего мира человека и оставляло его наедине со своими древними
инстинктами и влечениями и тем самым — уравнивало современного
человека с его отдаленным, первобытным предком.Характерно, что в том же году, когда создавались «Вольные
мысли», поэту, соблазненному проповедью «своеволия» как высшего
проявления свободы человеческой личности, даже и в арцыбашевском
Санине представился, «настоящий человек, с непреклонной волей,
сдержанно улыбающийся, к чему-то готовый, молодой, крепкий,
свободный...» («Литературные итоги 1907 года»); эта оценка скандаль¬
но известного романа свидетельствует, что и сама свобода понималась
в то время Блоком как «свобода» ничем по контролируемых инстинк¬
тов, прихотей, влечений, — что ио-своому отозвалось на иных страни¬
цах «Вольных, мыслей».В такого рода понимания существа жизни и смысла красоты,
в полном растворении в природе, по сравнению с которой жалкой
и ненужной выдумкой выглядели все тысячелетия развития мировой
культуры, сказалось явное влияние Гамсуна (увлекавшего в те годы
обширные круги русской интеллигенции), а особенно таких его про¬
изведений, как повесть «Пан», в которой человек растворяется
в окружающей его природе и ее стихиях, подчиняется их извечны vi
и неизменным законам, древним инстинктам, не зависящим от воли
и разума и заставляющим его совершать самые безрассудные, а порою
и жестокие поступки; именно таков герой «Пана» — лейтенант Глан,
ностоянно готовый отважиться на любое сумасбродство и безрассуд¬288
ство — лишь бы только оно отвечало сиюминутному желанию,
настроению, прихоти, которая и является высшим законом его суще¬
ствования.Это, конечно, не могло не насторожить Блока — с ого пафосом
долга, служения, «стояния на страже», — вот почему он решительно
спорил впоследствии с Гамсуном, с его прославленным героем —
лоигоиантом Гланом, являвшим собой образец «белокурой бестии».К той «гамсуновщине», которая явственно сказалась в последней
поэме «Вольных мыслей», сам Блок относился двойственно, что ж вы¬
разил в связи с получением письма поэта Николая Клюева, упрекав¬
шего его в «интеллигентской порнографии»; о цикле замечательных
поэм Блока Клюев отзывался в высшей степени пренебрежительно:«Отдел (в сборнике «Земля в снегу».— Б. С.) Вольные мысли —
мысли барина-дач ника, гуляющего, ноющего, стреляющего за девчон¬
ками для «разнообразия» и вообще отдыхающего на лоне природы.
Никому это не нужно кроме Чулкова, коему посвящены эти «мыс¬
ли»,..» (1908, ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39).Так сурово отчитывал И. Клюев автора книги «Земля в снегу».Но поводу этого письма Блок пишет матери:«...я поверил ему в том, что дао/се я, ненавистник порнографии,
подпал под ее влияние, будучи интеллигентом...» (1908).В другом письме поэт оговаривается, что речь идет «не то, чтоо «порнографии» именно, а о более сложном чем-то, что я, в конце
концов, в себе еще люблю...».Это «более сложное» заключалось в попытке (восходящей еще
к временам Руссо!) «растворить» человека в природе — полностью
и целиком — и, следовательно, вернуть его в тот «дотварный» мир,
из которого он вышел, — попытке несостоятельной, иллюзорной, что
впоследствии стало очевидно и самому поэту.I(скоро поело создания «Вольных мыслей» он почувствовал, как --
при ноой с.иоой прнплокитолыюсти! — узки и тесны пределы «Пана»,
к которых горой остается иаедино с самим собою, со своими страстя¬
ми, неизбежно принимающими хищнический, звериный характер,—
и пафос «звериности» окажется совершенно чуждым Блоку; он пой¬
мет, что «бегство в природу» — это иллюзия, которая может только
помешать художнику воплотить подлинного героя нашего времени.
Крайне характерна в этом отношении дневниковая запись, относя¬
щаяся к концу того же 1908 года:«Идя по пути отрицания, нужно последовательно вычеркивать вое
Промежуточные стадии от человека к миру, как это делают декаден¬
ты. Например, и нацию. В, итоге — омерзительный Фальк, или
очаровательный Глан, один куда-то зачем-то шествует по женским
трупам... другой не имеет отношения ни к чему — кроме самого себя,
хижины и своих животных инстинктов. Оба (и Гамсун и г. Пшибы-
шевокий) —нереальны, не воплотили героев».Здесь поэт спорит прежде всего с Гамсуном (кумиром той
интеллигенции, к которой принадлежал и сам Блок), что по тем
временам было редкостью: ведь для множества современных литера¬289
торов Гамсун являлся «властителем дум», его «Пан» был высшим
созданием мировой литературы, а его герой, лейтенант Глан, — ве¬
личайшим и утонченнейшим выразителем духа современного поколе-
няя, с его самообоя^ествлением (и обожествлением окружающей
природы), с его полнейшим равнодушием и безразличием к любым
общественным интересам и движениям; полагать в этих условиях, что
отнюдь не Глап может яшпч.гл героем эпохи, — это и означало обна-
ружить глубокую пройм и, ателыюсть и полную независимость от той
или иной литературной «моды».Когда Блок оспаривал «очаровательного Глава», вычеркивавшего
«все промежуточные стадии от человека к миру», то это было спором
поэта и с самим собою как с автором и лирическим героем «Вольных
мыслей», с теми «гамсуновскими» и «глановскими» переживаниями,
раздумьями, настроениями, какие явно сказались на иных страницах
цикла его поэм.Обаяние гамсуновского героя исчезает в глазах Блока; он дога¬
дался, что подобный звуку охотничьего рога призыв «Пана» покинуть
общество и слиться с природой — это всего лишь один из соблазнов
«великого предательства», суть которого становится совершенно ясной
поэту и отныне уже не способна захватить и взволновать его: слиш¬
ком хорошо он видит и знает, что на самом деле обозначают обманы
и соблазны «великого Папа», даже и тогда, когда они предстают
в самом светлом и чистом обличье:...Надо мною
Опять звенят весны крыла...И страшпо, и легко, и больно;Опять весна мне шепчет: встань...И я целую богомольно
Во невидимую ткань...И сердце бьется слишком скоро,И слишком молодеет кровь,Когда за тучкой легкопером
Сквозит мне первая любовь...(1009)До сих пор все это но противоречит «Пану», все говорит о том,
каким восторгом готов ответить поэт па зов «Пана», зов весны, зов
«легкоперой тучки», в которой сквозит первая любовь, самое лучшее
и прекрасное, что может быть в жизни, слагающееся в одну — обра¬
щенную к поэту — мольбу, в один призыв:Забудь, забудь о страшном мире,Взмахни крылом, лети туда.По поэт, не раз испытавший на себе эти обманы и уже знаю¬
щий, чем они завершаются и что скрывается на их дне, в их самых
тайных глубинах, отвечает решительно и непримиримо:Нет, не один я был на пире!Нет, не забуду никогда!..290
SM'o «пит» сказано так твердо и резко, что для нас очевидно: никогда
it им ири каких, условиях поэт не. изменит отныне своему человеческо¬
му имоим и долгу, какими бы соблазнами ни соблазнял его «великийI In и»,Ди, многообразны обманы и обольщения старого мира, и ие всегда
они ирипбрптнют темный и зловещий характер, предстают в своем
иг шипом и отвратительном виде, — нет, порою они облекаются
н 1 *|мм,рмс 111.10 одеяния и словно бы зовут улететь за ними в область
мачты пли на крыльях самой весны, — и легко ли не отозваться па
агат юн, забыв о всем том, что наполняет жизнь горечыо и тревогой,
тпжким грузом ложащейся на сердце! Но, как ни обольстительны а ни
романтичны эти призывы, поэт находил в себе силу и веру противо-
| пит. им и отвергнуть их, ибо убедился, что забыть «о страшном
миро» это значит примириться с теми силами, которые господству¬
ют и ном, уступить им поло битвы, от исхода которой зависят судьбы
родины И 1К50ГО человечества,Отпыно ikkit пиал, что природа и каких бы прекрасных, образах
она ни ишишкпла народ ннм! • но может сама по себе принести
п oil и ним ни от Гюд и .юл человеческой жизни, изменить и улучшить
общаггио, если м корне не изменятся самые его основы и начала;
всякая иная попытка добиться истинного счастья, вот хотя бы и такая,
на к «бегство в природу» или любая другая форма бегства («эскей-
iiiriM»), является не более чем иллюзией и самообманом, — хотя бы
подчас весьма соблазнительным и привлекательным, но недостойным
того человека, который увидел в темных силах «страшного мира»
споого исконного и опасного врага, — вот об этом и говорит стнхот-
воропио «Так. Буря этих лет прошла.,.», одно из самых примечатель¬
ных в цикле «Ямбы»',
«ПЕСНЯ СУДЬБЫ»Старый мир — уже на грани неминуемой катастрофы и в предчув¬
ствии ее — упорно стремился ее оттянуть, выглядеть еще очень
молодым, полным сил, создателем изобилия всех земных благ, вестни¬
ком прекрасного будущего, знаменосцем безграничных по своим
возможностям достижений науки, небывалого расцвета культуры,
призванной ответить всем потребностям и стремлениям человека, — но
и этот обман, способствовавший еще большему закабалению обездо¬
ленных, был разгадан Блоком, у которого истинное и бесчеловечное
существо его старого, извечного врага не вызывало никаких сомнений.
Именно об этом свидетельствует картина «Дворца Культуры» — одна
из наиболее примечательных в драматической поэме «Песня Судьбы»
(1908), где снова и снова слышится — как и в лирике Блока — непри¬
миримое «нет!», брошенное в лицо «страшному миру»,» в каком бы
привлекательном и соблазнительном облике он подчас ни пред¬
ставал.Здесь многое связано с личным опытом поэта, его внутренней
жизнью, избавлением от иллюзий, рожденных «в тумане утреннем».Пробуждение от снов, бесплотных мечтаний, разрыв с недавними
друзьями, тянувшими поэта в прошлое, стремление выйти на новые
дороги, ведущие к родной стране, к людям, к их жизни, —- все это
нашло свой отклик в драматической поэме «Песня Судьбы», словно бы
продолжающей «Балаганчик» и перекликающейся со многими лейтмо¬
тивами поэзии Блока.В «Песне Судьбы» сквозь всю условность и отвлеченность иных
образов и мотивов угадываются реальные переживания поэта, его
размышления о своей судьбе и заключенном в ней опыте, имеющем
далеко не только личное значение и осмысленном в необычайно
широкой перспективе — в связи с сутдьбами и историей всей страны.Если «Балаганчик» — это своего рода прощание с прошлым
(причем Блок расставался с ним смеясь, хотя и самый смех его
пронизан горечью и отзывается болыс, ибо слишком еще близко это
прошлое, да и изжито не до конца), то «Песня Судьбы» — это уже
нечто иное по своему характеру, по своей масштабности; здесь разрыв
с прошлым, прощание с ним — только необходимая прелюдия
к утверждению новой жизни, смело идущей навстречу тем бурям
и грозам нашего века, того будущего, к которым отныне устремлены292
все помыслы Германа, героя драматической поэмы, в чьем облике
нельзя но узнать лирически преображенных чорт самого автора.Нельзя жить снами, отгородись от подлинной жизни, не слышаоо, — вот пафос первых страниц поэмы, где мы видим Германа, словно
бы опоенного сонным зельем, охваченного духом «чрезмерной сказоч¬
ности», по уже заслышавшего зов весны, голоса ветра, «песшо
('удьбы».«Песня Судьбы» открывается сценой, в которой на ступенях
крыльца, перед большим цветником (вспомним леса «заповеданных
пиний»!), над раскрытой книгой с картинками дремлет Герман. Эта
книга — может быть, рассказы о легендарном короле Артуре, о под¬
ии га х рыцарей Круглого Стола и поисках чаши Грааля, может быть,
Vila nuova» Данте, может быть, «The Blessed Daraozel» Данте-
Габриеля Россетти — и заменяет ему подлинную жизнь.Горман живот своими мечтаниями и сновидениями,'оп пребывает
<'„11011110 б 1,1 по на иоМЛО, а и каком то призрачном мире, и жена его,
Клони, паыиаог к ному, воронено, по внорвыо:Прогнить, Горман!.. Солнце на закате и бьет тебе в глаза: а ты
non <4iuiiii., пто видишь сны...Горман бормочет ,в полудремоте:— И опять уснул Во сне—все белое... — И он рассказываето большой белой лебеди, плывущей на закат, а Елена прерывает его:•— Проснись, милый, мне тревожно, мне тоскливо...И но истин о тоскою и тревогою отзываются эти долгие сказочныеСны.Надо проснуться! Надо — иначе можно проспать всю жизнь и не
увидеть оо! — и Горман просыпается.Жизнь Гормана началась идиллией, слишком тепличной длятого, ■ пну тромпа живой человек мог долго выдерживать ее .парнико¬
вую и "Г,у н по отозваться на гул весны, бушующей за оградой его"рв.цнгмппп , ,щ прорвфаалптокими витражами ого «белогоними", Гормана иго Оолоо властно тннот и мир, к людям,— от уединен¬
ной ЖН1МП, от мертвенной тИшины, от недвижного и блаженного
покоя, п достаточно малейшего знака, призыва, свежего и резкого
дуновения, чтобы его охватила жажда настоящей, не надуманной и не
прозрачной жизни, чтобы дремлющие в нем и скованные до поры до
промоп и силы пробудились, подобно гулкому, безудержному весеннему
погоку, рвущему ледяной покров.С иоршииы холма, на котором стоит его «белый дом», он заново,
улш по в одной только смутной грезе, увидел огромный мир—-синий,
ноизиостный, влекущий, и ветер ворвался в его окна; пахнуло сы¬
ростью пробуждающейся земли, талым снегом, всей прелестью той■ к> ■ I имuoii жизни, от которой Герман так долго был отгорожен,—
п у.ко ничто по может заставить его снова погрузиться в непробудные
" мы, i nизкпi.io вымыслы, легенды средневековья.Я помял, что мы одни, на блаженном острове, отделенные от
итого мира. Разве можно жить так одиноко и счастливо?..—опраши¬
вает он Клену и находит только один ответ: нет, так жить нельзя-,293
нужно вырваться из этого мертвенного покоя и дремотного уюта на
широкий простор, на вольный воздух — и жажда подлинной жизни
оказалась сильнее призрачных видений недавней поры, как бы они ни
были пленительны и заманчивы.Герман говорит своей жене:— Ты сама говорила: проснись. Вот —я проснулся. Мне надо
к людям... — И он уходит к людям, к жизни, к огромному, неизвест¬
ному и влекущему миру, готопый оставить и бросить все то, что за¬
полняло ого тихоо и дремотное существование, — лишь бы увидеть,
«какова жизнь па свете».Напрасно Елена (с которою он делил своп дни и ночи на «бла¬
женном острове») пытается удержать его, вызывая в его памяти один
за другим некогда милые ему образы прежней жизни:— Посмотри: у меня в окне лампада... у тебя —книги. В киоте —
померанцевые цветы...А когда Герман отвергает утехи и соблазны своего «белого дома»,
Елена напоминает ему о самом заветном символе тишины, покоя,
благостной чистоты — о лилии, цветок которой некогда так много
значил для Германа:— Помнишь, ты сам сажал лилию прошлой весной?.. Без тебя
лилия не взойдет.Елена знает, как много значил для Германа этот излюбленный
мистиками цветок, воспетый некогда самим Блоком в «Стихах о Пре¬
красной Даме», — но и напоминание о заповеданной, самим Германом
взращенной лилии не может остановить его; со сдержанным негодова¬
нием он отвечает Елене:— Лилия тебе дороже моей души.Здесь поэт, говорящий устами Германа, уже внутренне расстался
с той «лилией», которая некогда срослась с его существом и означала
тихую, бездеятельно-мечтательную жизнь.В еле уловимом запахе лилии, такой прекрасной с первого
взгляда, Герману отныне слышится дыхание смерти, ее тление, и он
спрашивает Елену:— Слышишь, как поет ветер? Точно — песня самой Судьбы...
веселая песня. Слышишь? — Господи, как жутко и радостно! А в доме
нет ветра и но слышно песни Судьбы.В этой песне — голос самой жизни,, огромного мира, простираю¬
щегося за оградой его дома, и Герман идет навстречу Судьбе, покидая
свой «радостный сад».В этом вступлении драматической поэмы нельзя не узнать того,
что лично пережито и выстрадано ее автором: ведь и он слишком
долго жил снами и вымыслами, легендами и видениями, мечтаяо небывалом счастье, предназначенном лишь для двоих. Блок некогда
писал своей невесте:«Моя Дорогая, моя Милая, моя Несказанная, до чего я опять хочу
сегодня быть с Тобой вдвоем только и больше ни с кем никогда,
отделиться от всего стенами, не слышать ни одного звука других
голосов, не видеть ни одного лица. И, точно так же, не знать н не294
морить пи одному событию, ни великому, ни малому из посторонних
нашему счастью...» (1003; ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 98, стр. 71—72),Да, такое письмо мог бы в свое время записать Елене герой дра¬
матической поэмы, ибо и он когда-то мечтал о счастье, отгороженном
от остального мира и равнодушном к нему. А теперь он провозгла¬
шает пород лицом всего мира новую свою веру, открытую им в буше¬
вании розкого и неукротимого ветра:Не надо чахлой жизни — трех мне мало!Не надо очага и тишины —Мне нужен мир с ноющим пеени ветром!Не надо рабской смерти мне — да будет
И жизнь и смерть — единый снежный вихрь!Так, в каком-то опьяняющем, безудержном и безотчетном вдохно-
помии восклицает Герман, крещенный «вторым крещеньем», уходя из
Своего «радостного сиди».Чем /|(л окапались его «песня Судьбы» — зов самой жизни?('.начала она предстает перед Германом «Дворцом Культуры»,
воплощающим самый дух огромпого капиталистического города — во
не,ей его бесчеловечности, со всеми его ужасами. Здесь, в гомоне
толпы и криках рекламы, прославляется «торжество человеческогоI опия», «последние открытия науки» — и все это призвано ошеломить
и оглушить человека, лишить ото воли, силы, разума, заставить
подчиниться хищническим законам буржуазного общества, выглядя¬
щего каскадом сплошных успехов, взлетов, ослепительно фантасти¬
ческих достижений. Но Герман, сумевший сохранить «жар молодой
д.упги» и живую совесть, сквозь этот гул и шум различает нечто иное:
па городской площади он услышал, как...слабый женский голосПел о свободе. )1 не мог понять,Откуда голос, и откуда песня.II стал смотреть вокруг себя и поднял
Глаза наверх. И увидал окно,Заделанное частою решеткой, —Окно тюрьмы. И тихо поглядели
В мои глаза — спокойные глаза...Какие светлые! С какою грустью!Там девушка была..Отныне Герман знает: есть нечто более важное и существенное,
чем ге «Дворцы Культуры», которые понастроила буржуазия, чтобы:
прикрыть свою отвратительную изнанку, свое хищническое нутро; он
на всегда запомнил голос девушки, певшей о свободе.Невообразимая пошлость и циническая издевка над всем тем, что
истинно высоко и прекрасно, господствует в этом «Дворце Культуры»;
его посетители, любующиеся продуктами новейшей промышленной
техники, это выродки, лишенные каких бы то ни было человеческих
черт. Они способны лишь хихикать и ахать при виде чудес современ¬
ной техники; они радостным гоготанием встречают слова некоего295
ученого старичка, который бездумно, словно попугай, вещает с высо¬
кой эстрады:— -Перед вами — летательный снаряд, обладающий чрезвычайной
силой... Снаряд этот, обладающий минимальным весом,, приготовлен
из легчайшего матерьяла. По, милостивые государи, сила его лета¬
тельных мышц такова, что своими .гигантскими крыльями он легко
может раздавить и шйкрать человека...Восторженным ревом отвечает толпа его слушателей на это
заявление:— О! 01 Пожрать человека! О-о-го-го!А когда машина и в самом доле уничтожила на их глазах чело¬
века, они разражаются криками, в которых гораздо больше любопыт¬
ства и кровожадности, чем сочувствия и сострадания:— Что? В чем дело? Человека раздавили? Машина раздавила
человека!— Как это больно, должно быть,— говорит одна из скучающих
дам, посетительниц «Дворца Культуры», брезгливо передергивая пле¬
чами.— О, пет, сударыня, нисколько,— отвечает ей галантный доктор,—
без следа...А Герман, свидетель гибели человека, пожранного машиной, не
в силах спокойно и бесстрастно перенести всю ту мерзость, которая
творится иа его глазах; он пробивается к эстраде, где только что
звенел высокий, зовущий голос каскадной певицы — Фаины, чтобы
бросить ей в лицо слова гнева и презрения, ибо видит в ней воплоще¬
ние всего чудовищного и бесчеловечного, что происходит сейчас во
«Дворце Культуры».Здесь Фаина предстает сначала в образе женщииы-стяямтельни-
цы, взывающей к древним инстинктам и темным вожделениям,
отбрасывающим человека к пещерным временам; она возникает перед
нами в черном платье, облегающем ее фигуру, как змеиная чешуя;
в ее тонком и гибком стане есть нечто змеиное и зловещее, и в своей
песне, которую поэт назвал «Песней Судьбы», вкладывая особый смысл
в эти слова (ставшие и названием его драмы), Фаина открывает перед
нами, словно в беспощадно откровенной исповеди, то «змеиное»
и опасное, что кроется в существе женщины, над которой безраздель¬
но властвуют бесчеловечные законы буржуазного общества:Когда гляжу в глаза твои
Глазами узкими змеи
И руку жму, любя,Эй, берегись! Я вся — змея!Смотри: я миг была твоя
И бросила тебя!..Она бросает дерзкий вызов всем этим хищным и плотоядным
посетителям «Дворца Культуры», не видя среди них ни одного
человеческого лица; она издевается над людьми, а вместе
с тем — над собой, ибо и Сама Файна во власти тех темных сил, кото¬296
рые ненавидит и которые оплели ее незримыми путами и узами,
еаставляют ее служить им, чувствовать себя неотъемлемой частью
«страшного мира», где любая вещь и любой человек имеет свою
рыночную стоимость.Об этом она и ноет в своей трагической и насмешливо-язвительной
«Песне Судьбы», являющейся своего рода стержнем драматической
ноамы Блока:Кто стар и сед, и в цвете лет,Кто больше звонких даст монет,Приди на звонкий клич!Над красотой, над сединой,Над вашей глупой головой —Свисти, мой тонкий бич!В пеоне Фаины есть нечто властное, роковое — и беззащитное;
она звучит угрозой, и тоской, и страстным призывом, в пей — сплав
самых разнородных чувств, стремлений, желаний, сжигающих Файлу:
и жажда большой, настоящей, подлинно человеческой любви, и пре¬
зрение к том мелким людям и мелким, уродливым душам, которые
окружают оо, застилают от нее большой и прекрасный мир, и по¬
корность стихийным силам, увлекающим ее от одной страсти к другой;
здесь и сознание своей великой и напрасно пропадающей силы —силы
самой красоты, воплощенной в ее облике и могущей преобразить
целый мир, и мрачное отчаяние, переходящее в цинически обнажен¬
ную усмешку, порожденную сознанием того, что в окружающем ее
м ире сама красота — это всего лишь предмет купли-продажи, лишает¬
ся своего человеческого имени и достоинства, отдается на потеху
и поругание «сытым».Но сначала циническая маска Фаины заслонила от Германа ее
подлинное лицо, прекрасное и трагическое; он взбегает на эстраду
к Фаино, о тем чтобы бросить ей в лицо слова негодования, презрения,
праведного гнева; сейчас, захваченный ее песней, бесконечно груст¬
ной, отчаянной, разнузданной, он именно и Фаине —в се красоте
и женственности — видит влекущее и отвратительное воплощение зла,
одно из самых обманчивых и опасных искушений «страшного мира»,
п в исступлении выкрикивает:Проклятая! Довольно ты глумилась!Прочь маску! Человек перед тобой!Пусть Фаина в ответ на дерзкие обличения хлещет Германа
бичом по лицу, но, кажется, впервые она увидела человека, а не
только покупателя, пришедшего на то торжище, где продается ее
красота, — и так начинается роман Германа и Фаины, ставший осно¬
вой драматической поэмы Блока.Когда Герман на ее вопрос, кто ои такой, отвечает гордо и просто:
«^отопок», — Фаина говорит с недоумением:— Человек? В первый раз слышу... — И именно потому, что в его
облике она нидит человека, — пробуждается в ней самой такое боль¬297.
шое, страстное и вместе с тем подлинно человеческое чувство к Гер¬
ману.Отныне ее неодолимо влечет к нему — единственному, князю,
жениху; с ним сочетаются все ее надежды, мечты, упования, все, что
долго-долго вызревало в ее девическом, доселе нетронутом сердце, ибо
только человек может разбудить ео, спасти и освободить от «вражьей
силы».В облике Фаины — царевны, плененной темными и хищными
силами и самой несущей на «обо почать хищничества и стяжательства,
Герману, чем дальше, тем явственной видится судьба самой России,
прекрасной, страстно тоскующей о правде, об истинной красоте,—
и отныне в судьбе возлюбленной он видит судьбу родной страны: они
неразрывно сливаются в его глазах (что становится одной из самых
существенных черт и особенностей творчества Блока).Хищница, стяжательница, глядящая в мир «глазами узкими
змеи», оказывается кем-то совсем другим — воплощением прекрасной
и бессмертной стихии, и, чтобы понять эти превращения Фаины,
сквозь смертную плоть которой поэт прозревает великое и бессмерт¬
ное начало, следует внимательно прислушаться к голосу Человека
в очках, оказавшегося в толпе посетителей Фаины — писателей,
художников, репортеров,— но совершенно чуждого и даже враждеб¬
ного всем им. В голосе Человека в очках нетрудно угадать голос
самого автора «Песни Судьбы», ибо то, что утверждает этот человек,
крайне близко блоковскому пониманию образа Фаины:— Опа принесла нам часть народной души. За это мы должны
поклониться ей в ноги, а не смеяться... В моей душе разверзается
пропасть, когда я слушаю песни Фаины,- Эти песни, точно костры —
дотла выжигают пустынную, дряблую интеллигентскую душу. Слушая
ее голос, я чувствую, как слаб и ничтожен мой голос. Может быть, уже
пришли люди с новой душой, и прячутся где-нибудь среди нас, не¬
приметно. Они ждут только знака. Они смотрят прямо в лицо Фаины,
когда она поет Песню Судьбы...В словах Фаины Человеку в очках слышится вольная русская
песня, даль, зовущая и незнакомая; в этой песне перед ним откры¬
ваются синие туманы, красные зори, бескрайние степи, видится вся
родная страна, те новедомыо ощо силы, которые зреют в ней, которые
придут — и принесут с собою какую-то новую и неслыханную
правду, утвердят новые и доселе еще неведомые творческие начала.Какие же именно?Сам поэт, так же как и герой его драматической поэмы, еще не
умеет ответить на этот вопрос и ищет ответа не там, где его можно
было бы найти, а в народнических фантазиях, в сектантских скитах —
ведь и образ Фаины в чем-то схож с образом хлыстовской богородицы.После того как Фаина ударила Германа своим бичом, он стал
словно бы другим человеком, точно она посвятила его в какую-то
новую для него веру, и уже никогда больше ему не вернуться назад,
к былым видениям, смутным снам; но Фаине мало отречения Германа
от прошлого — она жаждет чего-то большего, она стремится к б уду-298
щем:у, она хочет жить жизнью настоящей, свободной, уже не под¬
властной законам корысти, наживы, стяжательства, — вот почему
такой болью отозвались в ней слова Германа, в которых она не улови¬
ла ничего реального, одни лишь «лирические величины», и с таким
презрением и безмерной тоской отвечает на них:— Вот, псе вы такие... Точно мертвые... а я живая!..России, Фаина, спящая царевна взывают к тому богатырю, ко¬
торому но плечу подвиг ее освобождения:Приди ко мне! Я устала жить! Освободи меня! Не хочу уснуть!
Киизь! Друг! Жених!..Так изливается в своих призывах и заклинаниях Фаина—дайне
только Фаина: вся Русская земля словно бы молит ее голосом, все сти¬
хии земли и неба, породившие ее, — недаром «весь мировой оркестр
подхватывает страстные призывы Фаины...», и со всех концов земли
па звук ее голоса набегают волны утренних ввонов, слышатся гулы
большого колокола, и море мировых скрипок врывается торжествую¬
щей поспей любви, страсти, еще но раскованной и не разгаданной.Со псом и стих и н ми спязаиа Фаина, ни одну из них ие отвергает —
они льнут к пой, как к своей родной и навсегда любимой дочери, и,
заслышав ее призыв, «на горизонте, брызнув над лиловой полосою
дальних туч, выкатывается узкий край красного солнечного диска,
и вспыхивает все золото лесов, все серебро речных излучин... затоп-
.11)1)1 сиянием землю и небо, растет над обрывом солнечный лик...».В таких фантастических масштабах и сферах свершается
пиление Фаины, уже утрачивающей черты реального существа и став¬
шей воплощением образа родной земли, ее рвущихся на волю
н скованных сил; она ждет героя, который придет и освободит ее,
и кто к нему взывает Фаина — в пространство, над обрывом, на фоне
огромного зарева, которое, как сияние, колышется над ее головой:— Жених, мой! Статный, русый, дивные серые очи! Приди,
взгляни. Долго ждала тебя, всо очи проглядела, вся зарей распыла¬
лась, вся песнями изошла, вся синими туманами убралась, как
невеста фатой...Здесь Фаина — невеста, княжна, «Дева света» — взывает со страст¬
ной тоской к тому, кто освободит ее от владычества косных и злых
гнл, по она заклинает в пустое пространство, ибо Герман — еще пе
тот жених, царевич, освободитель, которого ждет Фаина.Герман еще и сам не умеет назвать своего подвига, хоть и томит,-
сн о нем, не знает «дороги к делу», и когда он жалуется после своих
признаний, что Фаина бьет его, как бичом, как метель, что у него лицо
и крови, что он готов умереть на снегу, — Фаина с вызовом отвечает:— Я бью тебя за слова! Много ты сказал красивых слов! Да разве
знаешь ты что-нибудь, кроме слов?Фаина требует у Германа ие слов, а всей жизни, всей души,
настоящего дола,— а его снова одолевают сны, и напрасно опа
взывает л тревоге:— Ты засыпаешь, Герман? Пора проснуться, пора!Но Герман по видит ничего, не помнит ни о чем, живет, «гряду-299
итого не видя»,— метель замела все пути и дороги, и он шепчет
в бреду:— Кто это? Ангел в белой одеждо!— И перед ним снова встают
видения былой жизни, никогда окончательно не утрачивавшие своей
власти над его сердцем, — вот почему Фаина, рванувшаяся было
к Герману и поверившая в него, снова осталась в руках «старого
властного» Спутника, в облике которого находит одно из воплощений
«страшпый мир» прошлого...В конце драматической поэмы дорогу Герману указывают некра¬
совские коробейники, — ото дороги к народу, но мы еще не знаем,
сумеет ли на нее выйти Герогап и куда она его приведет...Так завершается «Песня Судьбы», в которой воплощены новый
жизненный опыт поэта, и его раздумья о судьбах родиой страны, и его
жажда подвига,— а вместе с тем здесь сказывается и неумение найти
ей настоящий исход, утолить ее.Эта драматическая поэма приобретает характер своего рода
автокомментария к лирике Блока: в ней разъясняются те мотивы —
в их сущности, развитии, взаимосвязанности,— которые определились
и в его стихах.Так, образ Друга объясняет нам те побудительные мотивы,
которые заставили поэта в стихотворении «Друзьям» говоритьо друзьях как о предателях «в жизни и дружбе», как о расточителях
«пустых слов».Мы слышим в «Песне Судьбы» те же мотивы, что и в иных стихах
цикла «Город», где все охвачено предчувствием неминуемой катастро¬
фы, — но если там поэт подавлен ужасом и «обломки миров», кажется
ему, готовы раздавить все человечество, то в своей драматической
поэме он ужо намечает (хотя еще и неопределенно) выход из ужасов
капиталистического строя и капиталистической культуры, и этот
выход — .в верности народу.В «Песне Судьбы», как и в лирике Блока, необычайно сильно
чувство исторической преемственности, и отдаленная от нас долгими
веками битва на Куликовом поле переживается Германом (да и самим
поэтом) как одно из самых значительных событий личной жизни.
Герман говорит о ней так, словно наяву видел оо:— Помню страшпый день Куликовской битвы. — Князь встал
с дружиной на холм®, земля дрожала от скрипа татарских телег,
орлиный клокот грозил повзгодой. Потом поползла зловещая ночь,
и Непрядва убралась туманом, как невеста фатой. Князь и воевода
стали под холмом и слушали землю: лебеди и гуси мятежно плеска¬
лись, рыдала вдовица, мать билась о стремя сына. Только над русским
станом стояла тишина, и полыхала далекая зарница. Но ветер у шал
туман, настало вот такое же осеннее утро, и также, я помню, пахло
гарью. И двинулся с холма сияющий княжеский стяг...И далее поэт, для которого битва на Куликовом поле — не только
страница древней истории, а живое, яркое воспоминание, навсегда
запавшее в его душу, продолжает свое повествование, словно ища
в каждой его подробности какой-то особый и непреходящий смысл,300
ii котором и заключен ответ на все то, что тревожит и мучает сейчас.Когда первые пали мертвыми чернец и татарин, рати сшиб-
,'1 игI., и весь день дрались, резались, грызлись... А свежее войско весь
нош. должно было сидеть в засаде, только смотреть, и плакать,
и ршп'М'н ii бит,ну... И воевода повторял, остерегая: рано еще, не
им стал ищи час.Переходи от давнего воспоминания, ставшего самым острым
инретиммииом, it событиям сегодняшнего утра, Герман восклицает,
ьмп миги-,пикнул бы и сам поэт, чьи мечты и стремления мы угадываем
м ми а,дом слове и образе этого монолога:Господи! Я знаю, как всякий воин в той засадной рати, как
просит сердце работы, и как рано еще, рано!.. Но вот оно —утро!(hum, — торжественная музыка солнца, как военные трубы, как
далекая битва... а я — здесь, как воин в засаде, не смею биться, не
пинк>, что делать, по должен, но настал мой час! — Вот зачем я пе
сплю 1 ючой: я жду псом сердцем того, кто придет и скажет: «Пробил
тмой час! Норм!»II ити х слоим х вось пафос лирики Блока зрелой поры, то самое
сланное, что хотел нам сказать поэт и что ему слышалось в голосе
некрасовских коробейников, обещающих какую-то новую волю, не-
шшедаипую жизнь,.,Выходу к этой —- некрасовской — Руси поэт придавал особое
анмпепие, важное и для судеб родины и для своей собственной судьбы.
Здесь ому виделось начало подлинной народности, а стало быть,
и настоящая жизнь; он заносит в свою записную книжку раздумья
и Некрасове и его поэме-песне.«Коробейники» поются с какой-то тайной грустью. Особенно —
"Цепы сам платил немалые, не торгуйся, не скупись...» Голос исходит
слезами в дождливых далях. Все в этом голосе: просторная Русь,
п красная рябина, и цветной рукав девичий, и погубленная молодость.
Осенний хмель. Дождь и будущее солнце...»Л завершается эта запись знаменательным обращением поэта
к самому собо:«ТАК писать пьесу— в этой осени...» (1907).Некрасовские «Коробейники» приоткрывали поэту тайну «его
пути», который он впоследствии назовет путем «от личного к обще¬
му»,—вот почему к ним обратился и ими досказывал поэт все то, что
осталось не высказанным до конца в самой «Песне Судьбы», во многом
слишком отвлеченной, словно поэт еще не сумел окончательно стрях¬
нут!. с себя тех слов, которые застилали подлинную жизнь и «дорогу
.к долу».«Песня Судьбы» — это драматическая поэма, но в своей сущности
она является и тем, что можно было бы назвать словами Достоевско-
ч о — «исповедью горячего сердца»; это —разговор поэта о самом себе,о своих путях, о своих близких, о своей жизни, не менее откровенный
(при всой своей обобщенности!), чем его дневники или записные
КНИЖКИ.Поэт, сообщая жене о работе над пьесой, подчеркивает ее авто¬301
биографические черты: «Большая часть первого акта — о тебе»(1907).В процессе работы над пьесой Блок писал матери, что «литерато¬
ры отнесутся к ней односторонне, а близкие люди — сами действую¬
щие лица».Такого рода замечания помогают уяснить замысел, лежащий
в основе пьесы; в ной широки© обобщения, обретающие характер
символов, возникают на wc и оно того материала, который щедро предо¬
ставляли художнику условия и обстоятельства его личной жизни.Здесь многое звучит лирически преображенной автобиографией
(так ям) как некогда «Балаганчик», а впоследствии «Возмездие»),
записью личных переживаний и раздумий, опыта своей собственной
жизни и жизни людей, составлявших непосредственное окружение
поэта; вот почему эта пьеса сливается как с его лирикой, так и с за¬
писными книжками, дневниками, письмами, полными этими же
образами, наблюдениями, раздумьями (вплоть до буквального совпа¬
дения).В драматическую поэму включены почти все мотивы стихов
Блока 1907—1908 годов, — они порою цитируются здесь почти до¬
словно,— и волны лиризма как бы размывают ее очертания, что
и превращает поэму Блока не столько в драму, сколько в лирику,
в пределах которой нет места для рельефно очерченных характеров.Это ощущал и сам поэт, создавая «Песню Судьбы», Блок с го¬
речью пишет матери:«Проклятие отвлеченности преследует меня и в этой пьесе, хотя,
м. б., и менее, чем в остальном...»Ощущение «отвлеченности» возникало у поэта потому, что
замысел пьесы не воплотился в полностью индивидуализированных
образах (в силу чего она и приобрела черты неопределенности и рас¬
плывчатости).«Проклятие отвлеченности» сказалось здесь и в том, что на иных
страницах подлинные переживания подменены символическими
абстракциями, условными обозначениями, многие из которых шли
в русле драматургии Мориса Метерлинка и Леонида Андреева; живые
наблюдения и реальные чувства, заставляющие Германа покинуть его
«белый дом», сочетаются с невнятными аллегориями, искусственными
образами, вроде Спутника Фаины или мистического Видения, бормо¬
чущего «чуть слышно» мнимо многозначительные слова.Действие поэмы развивается порою в порядке смены одного
символа другим, и живое чувство, наполняющее Германа, далеко не
всегда может пробиться сквозь нагромождение туманных аллегорий,
смутных намеков, условных обозначений и условных фигур, преграж¬
дающих выход к реальной действительности, — не случайно Блок,
словно подчиняясь этому «проклятию отвлеченности», снова усыпляет
Германа в конце своей драмы; Герман по сумел пробиться к настоя¬
щей жизни, найти «дорогу к подвигу», а потому снова погружается
в дремоту...Лиризм, готовность весь ход действия, очертания образов и ха рак-302
• и m\'miком растворить в волнах лирики —это и является тойin иГттнютыо ним' 15л ока, которая заставляет относить их в гораздо< iii.iMi'ii ("пч юн и к жанру лирики, чем драматургии (что, в частности,
пин | |||1||)|(дц(1'|'('ц >п«м, что лирические драмы Блока, обладающие
huioiuiMii нудожествеиными достоинствами и неповторимым своеоб-
I■ н пмч присущим всему творчеству Блока в целом, вместе с тем не
' in in пилением «репертуарного» порядка, не дают — или дают• и ним мило- актеру материала для создания индивидуализирован-IIIMII оЛрпмм).Ии и мри всех своих несовершенствах (вернее — особенностях),| нугнню передаиваемых автором «Песни Судьбы», эта пьеса является
кипим таком в драматургии Блока; здесь гораздо шире и лолно-
п'жгтний, чем в предыдущих его пь.есах, господствуют большая об¬
ком таенная тома, раздумья о судьбах родной страны и ее народа. По
ииподу «Поани Судьбы» поэт 11 и к ют матери:«Ото первая мок пещь, и которой я нащупываю ие шаткую и не
только лирическую помпу, так к определяю для себя значение «Песни
с.удыи,! ' и потому люблю ее больше всего, что написал...» (1908).Оти «пе только лирическая почва» и сказалась в том, что поэт
построил широко развернутый сюжет, в пределах которого сталки-
шпитен многообразные персонажи,— и здесь раздумья о России об-
ргтают свое зримое выражение в судьбе Германа, Фаины и других
действующих лиц.Многое поэт сумел высказать в своей «Песне Судьбы», отстаивая
мюлю к подвигу»: отказ от тихого, бездеятельного, мертвенного суще-
| питания, отвержение тех «дружб», которые только мешают человеку
|'решить что-нибудь важное», ненависть к старому строю, калечив¬
шему и унижавшему людей, — но пристрастие к символике, иноска¬
заниям, противоречивость замысла, неумение внятно ответить на
покроем, с такой остротой поставленные в пьесе, — вот что помешало
поэту спадать ннутрепно цельное, художественно завершенное произ-
иодом ие (что вскоре стало очевидным и самому Блоку).Мучаясь «проклятием отвлеченности» и стремясь преодолеть его,
поэт вскоре после создания «Песни Судьбы» задумал другое крупное
произведение — поэму «Возмездие», в которой он нащупал гораздо
более надежную почву, путь к подлинно реалистическому искусству,
к созданию индивидуализированных, неповторимых, резко очерченных
характеров и пластически ощутимых образов,—что и явилось новой
победой Блока, свидетельством непрестанного развития и совершенст-
иования его великого дарования.
«ТРЕТИЙ ВОПРОС»Среди обманов старого мира, глубоко постигнутых Блоком, был
и еще один обман, приобретавший особое значение для любого
художника: это соблазнительное для многих «искусство для искусст¬
ва», «чистое искусство», якобы совершенно чуждое земной «корысти»
и предназначенное лишь для услаждения немногих «избранных»,
особо утонченных натур, чьим изысканным вкусам и должно оно
отвечать.«Страшный мир» стремился отметить своим клеймом все то пре¬
красное, что есть в жизни, да и саму красоту; он пытался присвоить
ее, прикрыться ею, заставить ее служить себе и своим низменным
интересам, превратив ее в своего агента и проводника, вывернуть ее
наизнанку, изуродовать и растлить ее, заразить духом того «великого
предательства», которым сопровождалось наступление реакции по
всему фронту — начиная от философии и политики и завершая об¬
ластью частной жизни и личных отношений; наиболее полно реакция
в сфере эстетики сказалась в декадентском искусстве, являющемся
острым и ядовитым орудием в борьбе с передовыми силами общества,
с демократическими и реалистическими традициями русской класси¬
ческой литературы.В этих условиях истинный смысл эстетской теории «искусства
для искусства», служившей силам отжившего строя, становился все
более очевидным; вот почему и Блок, выступая против «великого
предательства», где бы ни обнаружил его, пеизбожно должен был
выступить —и выступал — против эстетства, декадентства, модерниз¬
ма; началом упорной борьбы с эстетством, которой поэт отдал многие
годы своей жизни, является его примечательный «диалог» «О любви,
поэзии и государственной службе» (1906), казалось бы столь неожи¬
данный для создателя стихов о Прекрасной Даме.Здесь в образе «влюбленного Поэта» мы узнаем иронически
осмысленный облик самого автора «диалога», который с горькой
усмешкой изображает певца Прекрасной Дамы, внезапно оказавше¬
гося в реальном мире, где далеко не все так прекрасно, как было
когда-то в юношеских снах и мечтах. Неожиданно он обнаруживает
острое и глубокое понимание того, почему его «неземная» лирика
пришлась ко двору иным ревнителям и защитникам всяческого
консерватизма как в жизни, так и в искусстве, — хотя сам он меньше304
много думал о них, когда создавал стихи, уводящие «лазурною сто¬
пою» от исого зомного и бренного,..Эту евши, лирики — даже небесной! — с самыми зомными делами
и житейскими интересами помогает раскрыть Поэту один из персона¬
жей «диалога» — Придворный, представитель правящей верхушки
общества, мнящий себя знатоком и ценителем утонченного и возвы¬
шенною искусства. Этот Придворный оказывается вовсе не таким
.монстром, как можно было бы предположить; он ценит искусство, как
уверяет Поэта, и умеет потолковать о весьма тонких предметах, об¬
наруживая хотя и грубоватое, но не совсем чуждое, истине понимание
их. Ведь даже и самые отвлеченные, мечтательно-туманные стихи
I [оэта не прошли мимо его внимания.— О, я прекрасно знаю ваши стихи, молодой человек, — покрови¬
тельственно замечает Придворный. — Вы найдете во мне истинного
ценителя субъективной лирики.И далее этот «ценитель» адресуется, скорее всего, именно
К Александру Клоку, как автору «Стихов о Прекрасной Даме»:Исли но ошибаюсь, вы, как некогда Петрарка, в мистических
исканиях ваших создали интимный культ женщины и женской
любви?Поэт невнятно бормочет, смущенный слишком лестным сравне¬
нием с Петраркой и слишком прямолинейной трактовкой своих самых
сокровенных чувств, неясных даже для него самого порывов и меч¬
таний:— Это не совсем так... Но, конечно...А Придворный продолжает, умиленный своим красноречием,
умением говорить о самых отвлеченных вещах твердо и решительно,
а вместе с тем велеречиво и утонченно:— Субъективная лирика — великое дело, молодой человек. Она
дает избранным часы эстетического отдыха и позволяет им, хоть на
минуту, забыть голос капризной черни. О, я готов желать, чтобы вся
литература была подобна вашим стихам!И далее он поясняет, почему «субъективная лирика» так
устраивает его и подобных ему людей — даже если они ничего не по¬
нимают в ней:— Такая поэзия не развращает нравов. Непосвященным ведь
недоступно ничего, кроме разнузданных желаний: есть, иметь крышу
над головой — вот все, что им нужно, как вы могли сами убедиться
сейчас... (Нищие только что обращались к Придворному за по¬
мощью—-и, конечно, безрезультатно. — Б. С.). Зато избранники, оти¬
рая потное чело; могут коснуться устами нетронутых краев священ¬
ной чаши... -Здесь удивительно точно, с почти афористической завершенностью
раскрыто, почему с точки зрения правящей клики «субъективная
лирика», обитающая где-то за гранями видимого горизонта, вместе
с тем хотя и особыми, но неразрывными узами связана с ходом
реальных, земных дел и оказывает на них существенное воздейст¬
вие, — но это открытие отнюдь не повысило уважения Поэта нпЦ Заказ 534305
к «субъективной лирике», ни к таким ее знатокам и ценителям, как
Придворный.В «диалоге» Блока, помимо Поэта и Придворного, участвует еще
и Шут —носитель ординарного и плоского «здравого мысла», вообра¬
жающий себя столпом премудрости. Когда Поэт обращается к нему
с самым насущным для кого вопросом: неужели можно забыть, что
существуют богатыо и бедные? — Шут, опошляющий и принижающий
все, к чему ни прикоснется, внушает Поэту, что тот может написать
на эту тему гражданские стихи, и тут же поспешно прибавляет:— По только раз, только раз, господин! Не советую вам вообще
пускаться в обличительную литературу. Это — не ваша область, вы —
чистый художник. Ваши туманные образы всегда найдут с десяток
чутких ценителей. Неужели вам приятнее действовать на низшие
инстинкты толпы, чем услаждать вкус избранных?..И следует подчеркнуть, что здесь речи Шута, говорящего от имени
«здравого смысла», полностью совпадают с тем, что внушали и близкие
Блоку люди, утверждавшие, что он «чистый лирик», а поэтому
и имеет право не вмешиваться в социальные вопросы — это, дескать,
не его сфера и не его дело!Но Блок уже не мог не вмешиваться в них — слишком притяга¬
тельно было в его глазах «лицо проснувшейся жизни»; для него стано¬
вилось все очевидней, что, пока он дремал и видел сны наяв5^, миром
завладели злые, хищные, бесчеловечные силы, представленные то ли
в образе Шута, то ли в образе изящпого и благовоспитанного Придвор¬
ного, то ли под какой-либо иной маской, — и разве Поэту под силу
бороться с ними? Ведь он и сам чувствовал себя еще совершенно бес¬
помощным в столкновении с теми, кто поднаторел в казуистике, об¬
манах, обольщениях, и единственное его оружие — это сознание своей
■человеческой правоты, сочувствие тем, кто «загнан и забит», как
скажет впоследствии сам Блок. Но это сочувствие Поэта — слишком
слабое оружие в борьбе со старыми и опытными в своем деле лице¬
мерами и хищниками; сам Поэт предстает перед нами во всей своей
растерянности и беспомощности, что и придает скорее иронический,
чем трагический характер «диалогу», открывающему целую серию
выступлений Блока, направленных против эстетства, декадентства,
«дэндизма».Диалог «О любви, поэзии и государственной службе» — только
начало больших раздумий Блока о судьбах и назначении искусства,о его связи с действительностью, с жизнью общества; он явственно
видел, что существует какая-то нерасторжимая и не во всем еще
понятная ему самому связь художника с породившим его народом,
придающая творчеству характер исполнения долга и высокого служе¬
ния. Но вот именно это и отрицали поборники «нового искусства»,
декаденты всех мастей и оттенков, для которых и сама связь искусства
с жизнью и обществом была пустым звуком или устарелым понятием,
смешным и провинциальным. Вот против них-то и выступал Блок,
с годами все решительней и ожесточенней.Уже в 1908 году в творчестве Блока появляется стихотворение306
" Пп'рО'ШОЙ», п котором поборники И ПОКЛОННИКИ «ЧИСТОГО искусства'»
м tiiiiro.iii.iio высмеиваются и обнаруживается я иная непримиримость
и■. «утонченных» взглядов на искусство <; самим искусством, ироПи-
•IIиным духом творчества, страстей, борьбы; стихотворение это откры-
тттс.н строкимп, в которых возникает образ одного из «русских
дниди»;3 только рыцарь, и поэт,Потомок северного скальда,Л муж твой носит томик Уайльда,Шотландский плэд, цветной жилет...Твой муж — презрительный эстет.:|дсеь противопоставлены два мира, два жизненных начала, двч
чал опека — утонченный сноб и истинный поэт — и тут же обнаружи¬
вается их полная противоположность.Ото противопоставление поэта и рыцаря «презрительному
зетоту» крайне характерно для Блока; оказывается, что эстет, воору¬
жившийся -как »на ком и знаменем своей особой утонченности
и изыски inmcritl шотландским плодом и томиком Уайльда, не может
быть ни понтом, пи рыцарем: он слишком поглощен собою, слишком
высокомерно относится к окружающим людям, слишком равнодушен
к чему-либо, кроме самого себя, своих прихотей и капризов, своих
изящных одеяний и изысканных вкусов. Вот почему Блок и подчерки¬
вает с гордым и величавым достоинством: «Я только рыцарь
и поэт...» — и какой в этом «только» язвительный сарказм, какая
издевка над теми «презрительными эстетами», для которых подлинная
красота, да и самый смысл жизни — книга за семью печатями!Этот «эстет» — защитник теории «искусства для искусства», по
он-то и является одной из самых явных угроз для искусства, ибо
всячески извращает понятие о прекрасном, рассматривая его с точки
зрения пресыщенных гурманов, как некое пряное и изысканное
лакомство, предпазначешше для «элиты», для немногих «избранных».
По ведь еще Белинский в статье «Взгляд па русскую литературу
1847 года» с гениальной прозорливостью заметил: «Отнимать
у искусства право служить общественным интересам, — значит но
возвышать, а унижать его, потому что это значит — лишать его самой
живой силы, то есть мысли, делать его предметом какого-то сибарит¬
ского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев. Это значит даже
убивать его...» — и людьми, унижающими искусство, даже убивающи¬
ми его, и являлись те «презрительные эстеты», те «праздные ленивцы»,
которые полагали, что призвание любого истинного художника —• это
ублажать их, потакать их пресыщенным и извращенным вкусам. Для
Плока было совершенно очевидно,, что эстетизм, заключающийся
в утверждении теории и практики «искусства для искусства» — под
видом крайней заботы о мастерстве и новаторстве! — на самом деле
означает гибель для искусства, подмену искусства всякого рода шту¬
карством, ремесленничеством, «литературными забавами».В то время «презрительный эстет» не случайно носил с собой
«томик Уайльда», — нет, как в скрижали Нового завета, он вчитывал-11*307
ея в предисловие к роману «Портрет Дориана Грея», где утвержда¬
лось:«Не существует такой вещи, как нравственная или безнравствен¬
ная книга.Есть книги, написанные хорошо и написанные плохо. Вот и все».Для самого Уайльда это было одним из эффектных и блестящих
парадоксов, призванных поразить воображение читателя и никак не
исчерпывающих творчество самого художника — автора обаятельных
и пронизанных глубоко гумнмистическими чувствами сказок, сатири¬
ческих пьес, высмоипающих фарисейскую мораль английской аристо¬
кратии, пораз и толы! о й мо глуби но и сило разоблачения самых основ
английского правосудия «Баллады Родпнгской тюрьмы», да и самого
романа «Портрет Дориана Грея». И судьбе его героя Уайльд обнару¬
жил, до какого одичания и до какого падения доходит человек, пы¬
тающийся превратить свою жизнь в сплошной культ наслаждений,
а потому и обрекающий себя на гибель, позорную и отвратительную,
на вечный страх, превращающий его в подобие загнанного животного.
Уайльд говорил— в «De profundis» —о том «голосе осуждения»
(философии и образа жизни своего героя. — Б. С.), которое, «как
пурпуровая нить», проходит через всего «Дориана Грея», — но вот
этой «нити» наши доморощенные эстеты и не заметили. Они увидели
в романе лишь то, что было парадоксом — в ряду других эффектных
парадоксов — Уайльда, который словно бы дразнил читателя, —
и именно в этих парадоксах обрели свой символ веры, то определение
смысла искусства, которого им раньше явно не хватало!Они только потешались, как над чем-то провинциальным и без¬
надежно устарелым, над любыми попытками связать искусство
с этикой, долгом, чувством ответственности художника перед людьми,
обществом, родиной; с их точки зрения, все это не имело никакого
отношения к искусству, могло только помешать наслаждаться его
наиболее пряными и изысканными плодами и даже выращивать их.Слепо подраяшя новинкам искусства буржуазного Запада,
«русские дэнди» и «презрительные эстеты» в то же время полагали,
что создают некое «новое искусство», призванное зачеркнуть литера¬
туру прошлых веков и возвышающееся над нею, — но Блок понимал,
что подобные попытки враждебны искусству; вот почему он и проти¬
вопоставлял себя этим «дэнди»—-с их мнимой утонченностью, с их
извращенным и чисто потребительским, а не творческим пониманием
прекрасного. Поэт не прощал декадентам и модернистам их общест¬
венного индифферентизма, того, что они (как читаем мы в его
записных книжках) «плюют на «проклятые вопросы», к сожалению.
Им нипочем, что столько нищих, что земля кругла. Они под крылыш¬
ком собственного «я»... Они... размениваются иа мелочи...» (1907).Мы видим здесь, что Блок нащупывает прочную почву для борьбы
с эстетством, с декадентами, ибо видит ахиллесову пяту своего
противника, заключающуюся в крайней ограниченности интересов,
в узости кругозора, вмещающегося в рамки «красивых уютов»,
«домашних очагов», комнатного мирка, а то и «змеиного рая», отго-308
|i<iiiii'ii иого от большого и прекрасного мира,—какими бы оговорками
н какими Г>|.1 громкими словами ни сопровождалась проповедь «чисто-
1н nemywTiia» н модернизма.Ипобычийпо важно для осмысления взглядов поэта на задачиI. н|щроду искусства письмо к Андрею Белому, имеющее значение
пинии |нt,i 1,11 игнопеди — или декларации: срадаю манией величия, я не провозглашаю никаких-и 1,1.1 р, н не приглашаю в хаос, я ненавижу кощунство в жизнии 'in I "ini гурно'о кровосмесительство. Я презираю утонченную ирони-
■нм нyin критику...» (1907).Пот 1)то отвержение «черных дыр», «хаоса», всяческого «крово-
I дич'ителг.С'Г'Ва», воспеваемого эстетской и декадентской литературой,
и наставляло Блока активно выступать против ее основных положе¬
нии м догматов, — причем позиция самого поэта па первых норах
была настолько спорна, п то и внутренне противоречива, что это
Может миестн и заблуждение иного неискушенного читатели, который
далеко не сразу п не нсегда уломпт ее подлинный смысл, скрытый
и иvсинице смутимv высказываний, — Как это мы видим в статье
«о лирике» (11)1)7). И этой статье поэт утверждал как высший закон
таорчоетпа, как единственно непреложное условие создания истинного
произведения искусства — «своеволие» художника.«Так я хочу. Если лирик потеряет этот лозунг и заменит его
любым другим, — он перестанет быть лириком...»—утверждал Блок,
а далее весьма решительно заявлял:«...поэт может быть хулиганом и благовоспитанным молодым
человеком — и то и другое не повредит его поэзии, если он — истии- поэт... Поэт совершенно свободен в своем творчестве, и никто неимеет права требовать от него, чтобы зеленые луга нравились ему
бол мне, чом публичные дома...» — и подобное заявление звучало
н ушах недавних друзей поэта дерзким и кощунственным вызовом
(как и многое другое п новых высказываниях. Блока).Что жо можно сказать о формуле «так я хочу» как о высшем
и непреложном законе и девизе художника?Только то, что, взятый сам по себе, он является несостоятельным,
ибо разрушает мосты и связи между человеком и обществом, остав-
ляя его тем самым наедине с самим собою.Но, как это ни странно, девиз, ложный сам по себе, оказался
необходимым — и прогрессивным — для развития самого Блока, ибо
поэт хотел создавать не красивые безделушки и религиозно-мистиче¬
ские гимны (как советовали ему — и весьма настойчиво — былые
друзья), а произведения, нужные людям; он хотел «ухватиться за
Волгу», вдохнуть воздух подлинной жизни, а не дышать тепличной
атмосферой «блаженных островов», о которых кликушески вещал
Сергей Соловьев; вот к чему конкретно, на деле, стремился поэт и что
отвечало в его творчестве формуле «так я хочу» — вопреки ее сугубо
индивидуалистическому звучанию.Позднее, в своих «Ямбах», поэт отвечает на вопрос о том, какой
расшифровывает формулу «так я хочу»:309
Да, Так диктует вдохновенье:Моя свободная мечтаБее льнет туда, где упиженье,Где грязь, и мрак, и нищета...Вот что значило для Блока его «так я хочу», и вот куда влекла
его «свободная мечта» — ион область «творимых легенд», не в сторону
от жизни, не на пути религиозных исканий или прославления
ницшеанского культа «белокурой бестии»,, а непосредственно к самой
действительности, пусть неприглядной, даже ужасной, в самую гущу
народной жизни, и оо низы, к обездоленным, бесправным, униженным;
этого и нельзя упускать из виду, оспаривая выдвинутый Блоком
и явно ошибочный, лозунг.Когда-то Лабрюйер заметил, что «часто неправда так искусно
представляется правдой, что только неправильное суждение может не
принять ложь за правду...» — и такова была «хитрость» самой жизни,
ее сложность и противоречивость, что, в сущности, полезную роль
для творчества Блока сыграло неверное само по себе суждение, вы¬
раженное в формуле «так я хочу» как высшем, законе художествен¬
ного творчества.В тех условиях, когда Блок выдвигал этот лозунг, он помогал
поэту освобождаться от эстетства, от декадентства — и от влияния
литераторов, пытавшихся вернуть его к «детству жизни» и весьма
искушенных в прениях, в церковной и прочей догматике, в идеалис¬
тической схоластике. Конечно, если бы поэт пытался оспаривать их
на их же почве, он потерпел бы поражение (не случайно в письмах
к изощренному в проблемах идеалистической казуистики Андрею
Белому Блок говорит о своем «невежестве» в этой области) —тут бы
оппоненты разбили его в пух и прах по всем пунктам. А он отвечал
им, отказываясь следовать их советам и указаниям, упрямо и нелогич¬
но: «Так я хочу», — даже не прибегая к другой аргументации, что
помогало ему освобождаться от чужеродных влияний, выходить на
свой путь, жить но своей «глупой воле», которая и оказалась мудрее
теорий «изысканных эстетов» и самых утонченных религиозно-мис¬
тических рассуждений, усердно навязываемых ему.Но, конечно, в силу присущих сознанию поэта противоречий,
формула «так я хочу», как якобы высший закон художественного
творчества, способствовала и активизации некоторых сугубо инди¬
видуалистических, тенденций в творчестве Блока, появлению того, что
сам поэт именовал «лирическими ядами» и от чего нередко предосте¬
регал свох читателей.На тот вопрос, над которым и не задумывались эстеты и декаден¬
ты, — вопрос о смысле и назначении искусства (так и не нашедший
своего решения в статье «О лирике») — гораздо более ясный и опре¬
деленный ответ мы находим в статье Блока «Три вопроса» (1908),
имеющей характер кредо, решительно отстаиваемого поэтом,
и приобретавшей — тз год ее опубликования — естрополемнческий
смысл.Статья эта являлась продолжением спора, возникшего на стра-310
ту риала «Весы» между Вячеславом Ивановым и АндреемПолым,11! 11111 и п 11:1 них утверждал, что современное искусство прежде
и ... hi. 1 .i.ito отиотить на вопрос «как?» — подчеркивая тем самым г.Vn гик символизма моменты формального порядка, язык симво-и11и и "мирш лифов».\ 111111' 11 Полый, возражая ему, утверждал, что если для старшегои,м .I и вопрос «как?» являлся решающим, то теперьhi п и более важный вопрос: «что?» — имея в виду свои pe¬
rn h i пт мистические фантазии, свое увлечение неокантианскииа
и инцнкщнскими теориями.А Плок в статье «Три вопроса» возражал им обоим, выдвигая
in-род деятелями искусства повую — и более важную, на его взгляд,—
г|дм чу, о которой и по думали его оппоненты. Блок утверждал здесь:
помимо вопросов «кпк?» и «что?» «...возникает третий, самый соблаз¬
нительный, самый оппсимй, но и самый русский вопрос: «зачем?» —
н пиит при этом попсниет, по избежание каких бы то ни было криво¬
го IIкон, Н1\цоум1Ч1ИЙ и «нодогонороппости», что это «вопрос о необходим
мигт 11 iiojic.uioctii художественных произведений».Гак Г!лок, но страшась обвинений в отсталости, провинциализме,
плоском «утилитаризме», уже одной постановкой этого «третьего»
мои,роса заявлял себя решительным противником «модной» в то врз-
ми теории «искусства для искусства», под знаком которой и разни¬
малось все декадентство.Характерно, что в понимании и решении вопросов искусства
н ого назначения Блок счел необходимым полемизировать не только
с. самими декадентами, но с критиком и теоретиком народничества
II. К. Михайловским, который утверждал, что «вопрос «зачем?»
бывает часто относительно художественного творчества лишеи
мелкого смысла».(’. этим утверждением Блок решительно не соглашался и возра¬
жал Михайловскому:«...подлинному художнику по опасен публицистический вопрос
«зачем?», и всякий публицистический вопрос приобретает под пером
истинного художника широкую и чуждую тенденции окраску».Подтверждая свою мысль, для самого поэта бесспорную, Блок
обращается к творческому опыту художника, значившего необычай¬
но много в его жизни и его творчестве, — к опыту Ибсена (как
обратится к нему в подтверждение своих взглядов на революцию
и искусство много лет спустя, в дни Октября).«Рамки искусства широки и вместительны», — замечает Блок
и своей статье, и ближайшим доказательством тому, с его точки зре¬
ния, служит Ибсен—«знамя нашей эпохи, последний мировой писа¬
тель, так жизненно, как хлеб и вода, необходимый людям, а теперь
особенно — русским людям».Для Блока все творчество Ибсена — от начала до конца — связы¬
вается с вопросом «зачем?» — то есть с вопросом о смысле и назначе¬
нии искусства, причем только в этой связи и решается поэтом вопрос
о ценности и значительности любого подлинно художественного
произведения.Затем Блок, предваряя глубоко знаменательные высказывания
времен Октября, говорит об Ибсене пятидесятых годов, который весь
предан «пользе народной», говорит о ого стихах, где Ибсен вопрошает
норвежских поэтов: «не па пользу ли парода дан им поэтический
дар,— чтобы восторженные уста скальда истолковали его горести, его
радости и ©го порывы?..»Оказывается забота о «пользе народной...» — продолжает Блок
разговор о тнорчоелмю Ибсена и герое ого юношеской драмы «Кати¬
ли на», в котором поэт индол «загоиорщика с социалистическим
духом». Этот замысел великого норвежского драматурга так захватил
Блока, что и десятилетие спустя поэт вернется к ному, чтобы написать
очерк «Катшшна», героем которого — вслед за Ибсеном — изобразит
того же «заговорщика» (тем самым утвердив свое внутреннее един¬
ство и постоянство, верность своим убеждениям, выработанным
в борьбе с ревнителями «чистого искусства»),«Все это не только не убивает, но вдохновляет и бесконечно рас¬
ширяет мировые темы Ибсена, — подчеркивает Блок в статье «Три
вопроса». — Все тот же пред нами — Ибсен девяностых годов, ни
минуты не теряющий связи с общественностью...» — и Блок, усмат¬
ривая в опыте и на примере Ибсепа нечто присухцее всякому подлин¬
ному искусству, приходит к непреложным выводам, утверждающим
связь искусства с обществом, с его самыми острыми и злободневными
вопросами и интересами.Далее поэт непосредственно переходит к задачам «русского искус¬
ства, русского художника», который, по его мнению, так же должен
быть необходим людям, «как хлеб и вода»:«Перед русским художником вновь стоит неотступно этот вопрос
пользы. Поставлен он не нами, а русской общественностью, в ряды
которой возвращаются постепенно художники всех лагерей».Конечно, слова «о художниках всех лагерей», которые якобы
возвращались «к обхцественности», — явное преувеличение, не имею¬
щее реальных оснований, ибо сказаны они были во время разгула
реакции, отозвавшейся в сочинениях и проповеди многих писателей
и поэтов либерально-буржуазного лагеря, но эти слова крайне суще¬
ственны для характеристики самого поэта.Они свидетельствуют об укреплении у него чувства гражданст¬
венности, ответственности, долга перед людьми, о стремлении служить
им своим творчеством. Особое значение приобретал и ответ поэта на
тот вопрос «зачем?», который стоял не только перед ним, но и перед
всеми передовыми писателями эпохи:«К вечной заботе художника о форме и содержании присоединяет¬
ся новая забота о долге, о должном и не долитом в искусстве. Вопрос
этот — пробный камень для худояшика современности: может быть,
он одичал и стал отвлеченен до такой степени, что разобьется об
этот камень. Этим он докажет только собственную случайность
и слабость. Если же он действительно «призванный», а не самозванец,312
пн твердо пойдет по этому пути к той вершине, на которой «чудесным
ц|||||| юм подию г друг другу руки заклятые враги: красота и польза».Л «vc.iiи художник лишен этого чувства долга, связующего челове-
141 (1 «if»1Ц1ч г 1к»м и пародом, то это «случайный художник», величина мии'щ.пии, ибо, как утверждает Блок, «...случайный художник —m u мни \у,иигап...», то есть человек с разорванным сознанием,м. ini.i i и fioe,контрольно подчиняющийся всем своим импульсам,
при шиш, вожделениям и в силу этого неизбежно вступающий• конфликт с обществом; но такого рода «случайные худоя^- п ' чулнгапы» от искусства, утратившие чувство какой бы тонипищ ответственности за себя и свое творчество, не могут, как
мпрждпот здесь Блок, создать что-либо ценное, подлинно значитель-
h*h>, хотя бы они и были в той или иной мере наделены талантами
н маровпиинми (эту мысль поэт развивал и отстаивал во многих своих
ггптьих, выступлениих, дневниковых записях).Далее Илон ршгьисщют м сноойг статье, что именно в связи с том,
('руководит ,1111 художником Оом» IIJIH JK0 нот, сможет ли он ответить
ни вопрос »• и 'п му?#, <• :м141 мV»■ определяется и ого место в искусст-III .in п.но ним различаются подлинное и поддельное, вечное
п |м<инчnot), спитое н кощунственное». \!1дось «поддолькоо», противостоящее великим традициям русской
и мировой культуры, приобретало и свой точный адрес: это — эстет-
i'tiki, докадентство, снобизм всех мастей и оттенков — от «сумасшед¬
ший роскоши» журналов, издававшихся меценатами-библиофилами,
до vox «случайных художников», которые поют «на модную и опасную
тому», эпигонски следуя канонам и причудам «нового искусства».Гак «третий вопрос» Блок решает как один из жизненно важных
вопросов русской культуры, в связи с ее вековыми традициями, что
п подчеркивает в своей статье:«...вопрос, «зачем?» особенно русский вопрос, над которым
культурный художник может посмеяться».Но том ((испытанным острнкнм», которые посмеялись бы над этим
неотступным вопросом (как и над многими другими), поэт возра¬
жай1:«...знает ли культурный художник, что здесь речь идет как будто
уже не об одном искусстве, а еще и о жизни?...»И, словно нарочно давая пищу людям, изощряющим свое остро¬
умно над тем, что выше их понимания, поэт говорит о новых возмож-
иостнх искусства, которое способно ответить на вопрос «зачем?», об
истинном художнике, который, не боясь никаких насмешек и криво¬
толков, «...истолчет в одном глубоком чане душу красивой бабочки
н голо полезного верблюда, чтобы явить миру новую свободную
необходимость, сознание прекрасного долга. Чтобы слово стало
плотыо, художник — человеком».Сказано это неуклкше, косноязычно, и Блок, умевший переводить
гнои замыслы на язык самой тончайшей лирики, словно бы нарочно
( громился к этой неуклюжести, достойной князя Мышкина, к тому,
чтобы его слова прозвучали резким вызовом, чтобы они вызвали313
глумление у всех тех, кто способен посмеяться над ними, так ше как
и над всяким глубоким и искренним порывом.Нет сомнений, что Блок вступает здесь в явную полемику не
только с современным эстетством и модернизмом, но и с одним из
своих: учителей и любимейших поэтов — Фетом, которому нринадле-
жит стихотворение «Бабочка», отвергающее самую необходимость
вопроса «зачем?» и приравнивающее произведение искусства к кры¬
латому легкому созданию, привлекающему нас лишь своим воздуш¬
ным очертанием:Надолго ли, боя доли, бон усилья
Дышать хочу?Вот, вот сейчас, сверкнув, раскину крылья
И улечу!С этим пониманием искусства как безотчетного порыва, непод¬
властного разумному началу, и той мечты, которая несовместима
с сознательными и целеустремленными усилиями художника, со
Служением долгу, и спорит здесь Блок; для него явно недостаточно
видеть в поэте одну лишь «бабочку», которая перелетает с цветка на
цветок — «без цели, без усилья».— Зачем? — настойчиво спрашивал поэт — и находил ответ
в творчестве великих художников прошлого, отвергавших искусство
бесцельное и бездумное.Так Блок отстаивал искусство, связанное с жизнью, пронизанной
чувством ответственности, пафосом долга, с открытым забралом вы¬
ступая против апологетов «чистого искусства».Стремление вернуть художника на верный путь, вооружить его
чувством и сознанием долга перед породившим его народом и состав¬
ляет пафос статьи «Три вопроса» — одной из самых знаменательных
и «поворотных» в лирической публицистике Блока.Когда-то Гоголь гозорил, что писатели—это «искры, из народа
излетевшие, передовые вестники сил его», и для Блока это было
непреложной истиной; вся статья «Три вопроса» — при всех ее порою
неясных, а то и противоречивых положениях — утверждает служение
народу как долг и подвиг художника.Эта статья являлась документом большого значения: здесь Блок
явственно и осознанно — и отныне уже навсегда — связывал своз
творчество с великими традициями русской и мировой литературы,
выступал против самих основ декадентства и модернизма, а также
и его идейной «базы» — теории «чистого искусства»; здесь господ¬
ствует мысль о том, что в искусстве нельзя идти «к вершинам»,1 не
служа народу, не выражая его помыслов, чаяний и стремлений.В том же году, когда была опубликована статья «Три вопроса»,
поэт заносит в записную книжку:«Я хочу, чтобы зерно истины, которое я, как один из думающих,
мучающихся и т. д. интеллигентов, несомненно ношу в себе, — воз¬
росло, попало на настоящую почву и принесло плод — пользу...»
(1908), — и уже само это стремление определяло «недоступную черту»314
ш и ii у Njiokom и его литературным окружением, для которого такое , кик «польза», отзывало чем-то грубым и вульгарным, недостой-1П1Ч имитация истинного художника.I (' '-ко сим we вопросы, на которые поэт отвечал в этой статье, он
| in юн и и переписке с женой, словно продолжая разговор, поднятый
и .1 и I миги статье:• •I irfxi до сих пор не знаю — можешь ли ты ели не можешь• >и i'iiа, (курсив мой.— Б. С.) искусству... Не забывай долга—это идя музыка...» (1908, ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 100, стр. 56).| им итой «музыки» поэт отныне не мыслил и настоящего творче-
| I ми,То же самые вопросы в том же году, хотя и несколько иными
I iiпними, ставит Блок и в письме к К. С. Станиславскому:«Вижу п Вас художника, которому мало только красоты и только льны, которому необходимо покрывающее и исчерпывающее тои другое — прекрасное. И, но всему этому, верю в Ваш реализм».К такому реализму, вбирающему и пользу и красоту, а потому
истинно прекрасному, стремился Блок, мечтая о слове, которое не
in "мшилось бы только на страницах книг, а вторгалось бы в жизнь,
преображало ее, становилось плотью, живыми и нужными народу
делами,— и не находил его в декадентском искусстве; вот почему Блок
уимрждал в статье, посвященной вечерам «нового искусства» (1908),
■н о «стихи... любого из новых поэтов читать не нужно и почти всегда
иредно...».Далее он поясняет свою мысль, связывая ее с теми жизненно
пажиыми вопросами, от решения которых зависели и судьбы всего
искусства:«Вредно потому, что новые поэты еще почти ничего не сделали,
потому, что нельзя приучать публику Любоваться на писателей, у ко¬
торых пет ореола общественности, которые еще не имеют права счи¬
тан. еоОн потомками священной русской литературы» (1908).■'boro ирпин ие имели «изысканные эстеты», «русские дэпди»; вот
почему, как справедливо заметил Блок в своей статье, «вечера нового
искусства... становятся как бы ячейками общественной реакции».Блок проницательно улавливал связь «модернизма» и всякого рода
эстетства с тою реакцией, которая усматривала в «модернизме» свою
поддержку и своего союзника, ибо под флагом и под маской эстетиз¬
ма она могла изображать собою защитницу и покровительницу всего
самого прекрасного, что есть на земле и что якобы совершенно чуждо
нуждам «жизни низкой».Само понятие модернизма и всякого «модерна» являлось в глазах
Блока равнозначньш тому жалкому и постыдному, что происходило
в современной литературе; он утверждал в статье «Вечера искусств»,
что если на них «не было модернизма внешнего (который в наши дни
почти без исключения есть синоним уродства), то был еще гораздо
худший «модерн» внутренний, то есть дилетантство, легкомыслие,
хулиганство, неуважение к себе, к искусству и к публике, то есть все
то, что в итоге делает атмосферу пошлости и вульгарности,,,» — инм-315
чего, кроме пошлости, вульгарности и хулиганства не видел поэт среди
«модернистов» и их поклонников, воображавших себя утонченнейши¬
ми знатоками искусства, создателями величайших его ценностей, вер¬
шителями его судеб.В осмыслении «третьего вопроса», без решения которого поэт не
видел возможностей расцвета и развития творчества, в борьбе с тео¬
рией и практикой «искусства для искусства», у Блока возникали (как
он записывает в конце того же 1008 года) «мечты о журнале
с традициями добролюбовского «Современника»...».Поэт пересматривал многое в своих собственных взглядах,
отношениях, личных, и литературных привязанностях; он отмечал
в записных книжках «дряппость «западнических» кампаний («Весы»,
мистический анархизм и т. п.). Единственный манифест и строжай¬
шая программа. Чтоб пе пахло никакой порнографией, пи страдаль¬
ческой, ни хамской. Распроститься с «Весами». Бойкот новой западной
литературы. Революционный завет — презрение...» (1908). Именно
этот «завет» заставлял поэта отбрасывать многое из того, что и сам
он еще не так давно принимал как нечто родственное и близкое себе
по духу (в том числе и журнал «Весы»),Теми же самыми замыслами поэт тогда же поделился с одним из
своих корреспондентов — В. Стражевым: «...очень мечтаю о большом
журнале с широкой общественной программой, «внутренними обозре¬
ниями» и т. д. Уверен, что теперь можно осуществить такой журнал
для очень широких слоев населения и с большим успехом, если бы...
не правительство», которое «сцапает» «за всякую политику...»(1908),—как говорит здесь же поэт, и мечта о таком журнале свиде¬
тельствует о росте его гражданских чувств и общественных на¬
строений.В то время, когда «русские дэнди» и «презрительные эстеты»
любую новинку западноевропейского буржуазного искусства воспри¬
нимали прямо-таки как некое небывалое откровение, Блок восставал
против «западиических кампаний», и для него характерно равнодушие
к современному модернистскому искусству.В мае 1909 года он пишет матери из Венеции:«Здесь открыта еще международная выставка, иа которой пред¬
ставлена вся современная живопись (кроме России). Общий уровень
совершенно ничтожен, хотя выставлен почти весь Штук, Цорн и Де-
газ...»Но эти наблюдения над состоянием современной живописи
отнюдь не свидетельствовали о пессимистических взглядах поэта на
искусство вообще, — нет, Блок видел в Венеции образцы подлинно
великого искусства, и они вызывали у него совсем иные чувства
и настроения, большие надежды, которыми он и делился со своей
матерью:«...итальянская старина ясно показывает, что искусство еще
страшно молодо, что не сделано еще почти ничего, а совершенного —
вовсе ничего; так что искусство всякое (и великая литература в том
числе) еще все впереди...» — и это чувство, которое сам поэт называл316
■ при окрыляло его, когда он думал о судьбах и назначении•и нуI гит, ноиможиостях его развития, неизбежно связанных ссудьба-
||| м. Ч11111''ич"пт и ого будущим.Пн инг,инд поэта— одним из самых страшных явлений в области". I '■ iiiii in. олово равнодушное к этому будущему, оторвавшееся мро'шностояшее ей; с едкой иронией говорит он о том, чтоI мчиии'юлн отоЧеловек, называющий все по имени,Отнимающий аромат у живого цветка...| тшму «сочинителю», воображающему себя весьма утонченным,
пн Лосконочно жалкому в своих попытках лишить жизнь ее живого
нромотп, поот предпочитает простого человека,—Который любит IIОМJI10 И Евбо "ИолЫНг, чом рифмонанныо II порифмовпшшеРичи О НОМЛО И о иобо.Пит почпму д.ин понта по было ничего зазорнее, чем утратить связь* ппдлппппй жилпмо, остаться в пределах «книжного ряда», быть
итого лини, расточителем «пустых слов» и послужить своим творче-
| гном пищей и материалом для подобных же «расточителей»; при
одной мысли о такого рода возможности поэт готов был зачеркнуть
иго созданное им, чтобы и следа не осталось от его собственных сочи¬
нений:Молчите, проклятые книги!Я вас не писал никогда!Искусство для Блока — это настоящее, жизненно важное дело,
играющее огромную роль в судьбе народа, а но мельтешение красиво
нау чащих фраа; подобное сочинительство является, как полагал Блок,
одним на онммх тнжких rpoxoii, совершаемых, художником.Ннмокатолмтсп. пот • «брищонную не только к самому себе! —
ощущали дажо н лыс о ко ценимые им и близкие ему художники,
а «роди них— Сергей Городецкий; он выпустил книгу стихов «Русь»,
Лишенную единства и цельности в глазах Блока, который прямо и ре¬
шительно заявил об этом в своем отзыве на нее, объясняя причину
авторской неудачи: «В ней нет упорства, поэтической воли, того музы¬
кального единства, которое оправдывает всякую лирическую мысль;
йот и упорства работы, которое заставляет низать кольцо за кольцом
н целую цепь...» (1909),—а без этого «упорства работы» поэт не пред¬
ставлял и подлинного искусства.Характерна дневниковая запись, посвященпая проповеднику
а теоретику «театра для себя», то есть искусства, понимаемого не как
служение, а как «самообслуживание»:«Вечером пошел в «Кривое зеркало», где видел удивительно
талантливые пошлости и кощунства г. Евреинова. Ярчайший пример
того, как моя«ет быть вреден талант. Ничем не прикрытый цинизм
какой-то голой души...» (1912)—и сам Блок решительно отвергал31?
иейус-ство таких «голых душ»; как бы ни были затейливы и прихотли¬
вы эстетские «завитки вокруг пустоты» (но выражению самого поэта),
Блок видел в них всего лишь профанацию подлинного искусства.Как видим, для поэта вопрос о сущности и назначении искусства
не сводился к талантливости, взятой самой по себе, а ставился в за¬
висимость от пути художника, характера его воззрений, устремлен¬
ности его творчества; вот почему он отрицательно относился к иным
писателям, талантливость которых босспорна, но кто, подобно декаден¬
там, «не имеет отношения пи к чему, кроме самого себя».«Либо слово будет данным, практическим, либо оно выродит¬
ся...»—утверждал 13лок и признавал в искусстве лишь «бушующее
жизнью слово» —все остальное представлялось ему мертворожденной
и никчемной выдумкой; в ушах Блока такие слова, как «писатель»,
«литератор», «актер», звучали отрицательно, если они не сочетались
с тем, что было гораздо шире рамок любой из этих профессий.С ч'е<м же?На это поэт отвечал — после просмотра спектакля «Живой труп»
в Московском Художественном театре:«Все — актеры, единственные и прекраспые, но — актеры. Один
Станиславский — опять и актер и человек, чудесное соединение жизни
и искусства...» (1912)—и вне этого «чудесного соединения» Блок
не представлял себе подлинного искусства.Поэт на себе испытал все яды декадентства и настойчиво,
стремился предостеречь от них менее опытных и искушенных людей,о чем и свидетельствуют многие его письма, обращенные к молодым
и начинающим литераторам; Блок решительно, не щадя ничьих само¬
любий, предостерегал их от увлечения модернизмом, от его заразы;
так, он пишет М. А. Ковалеву (Р. Панову).«Прочтя написанное Вами, я убедился, что Вы не обладаете
никакой ценностью, которая могла бы углубить, оплодотворить иди
хотя бы указать путь Вашим смутным и слишком модным в наше
время «исканиям» «отравленных мгновений» или «одинокого храма»
для молитв «несозданным мечтам непостигаемых желаний». Все это
устарело, лучше сказать, было вечно старо и ненужно...» (1911).Другому корреспонденту Блок разъяснял, в чем заключаются
настоящие возможности жизни, а стало быть, и творчества:«Очень ярко бросается в глаза борьба, происходящая в Вас: борь¬
ба старого неврастенического, самолюбивого, узкого, декадентского —
с новым — здоровым, мужественным, почувствовавшим, наконец, что
мир безмерно больше и прекраснее, чем каждый из нас. Что радостпее
всего, мне кажется, второй побеждает...»Уже одно то, что для Блока было радостно сознание победы
«здорового», «мужественного» начала над «узким», «декадентским»,
явно свидетельствует о характере его взглядов па искусство, понима¬
нии новых задач, стоящих перед художником; в том же письме он
говорит:«...только оттого, что мы перестаем «красоваться» и любоваться
па самих себя, — мы сразу начинаем говорить человеческими голоса-318
"и и им томи «декадентскими», «нечестными», какими-то «муже-
нн пешими», или проще — бабьими, которые раздаются в таком обилии
" гнп|1гм1Ч1 поп литературе...» (1913).I кт пиши, что вся эстетско-индивидуалистическая, антигуман¬
на 11и'лIу духу литература, выдаваемая приверженцами докадеит-| mu hi м. по истинно новаторское и небывало современное — это,
и I \ минищ, «один нар», от которого в искусстве не останется
И I 'И»Дй,II. щт глубоко понимал, почему эстетская «изысканность», 'HIM и «допдизм» оборачиваются низостью, жестокостью, бесчело-| | шоп мо, внутренним огрублением и одичанием и в конце концов —
ипд онпем, как это и происходит с «демоном», героем поэмы
«Иолмопдие».Ко прими работы над этой поэмой Блок записал:«Когда люди долго н|к'Пмппют и одиночестве, например, имеют
дело riKihi.n с том, что недоступно пониманию «толпы» (и кавычках —
и но один, и дощток), пик «декаденты» 90-х годов, тогда — потом,
in ' n<' Iи и /ниши., они |Гн,1Ш1ЮТ растеряны] оказываются беспомощными
и часто (многие из них) падают ниже самой «толпы». Так было со
многими ив нас...» (1912). *Здесь вскрыты пружины того внутреннего механизма, который
наставляет деградировать человека, отъединившегося от людей («тол¬
пы»—в его глазах), противопоставляющего себя им, — что крайне
характерно для всякого рода «декадентов», «эстетов», до-морощенных
ницшеанцев.Как видим, для Блока борьба с декадент-ством являлась не толь¬
ко — и не столько — борьбой за пути развития искусства, но прежде
'псого борьбой за человека, борьбой с индивидуалистической психоло¬
гией и философией, ведущей к разрушению личности. Поэт видел
тесную нипимонапиоимость явлений, казало-сь бы внутренне противо-
рочипых, п рмскрыпал со и материалах к пьесе «Роза и Крест»,говоря
об образе пажа Алвонаиа:«У молодых людей (XIII века.— B.C.) появились длинные,
почти женственные одежды, т. е. они изнежились внешне (вследствие
внутреннего огрубения и одичания — вроде наших декадентов)».Здесь Блок подметил, что «изнеженность» декадентов, их «утон¬
ченность», «изысканность» — это следствие отречения от всего
подлинно человеческого; он проницательно разглядел одичание и вы¬
рождение под обманчивой маской утонченности, изысканности,
эстетизма.Блок тем глубже задумывался над вопросами эстетического по¬
рядка, что никто — в окружающей его среде — не мог помочь их
решению, ибо литераторы, составлявшие его ближайшее окружение,
трактовали искусство как служанку религии и мистики или как
игрушку «праздных ленивцев» и снобов, рассматривавших его как
пряное и изысканное лакомство, не более того. Поэт не находил
поддержки у близких ему литераторов, что и заставляло его особенно
внимательно прислушиваться к высказываниям того писателя,319
в котором он видел представителя подлинно народного духа и начала,-—
Горького.Чем решительней выступал сам Блок против эстетско-декадент¬
ского лагеря в искусстве, тем ближе становились ему позиции, от¬
стаиваемые в то время Горьким, — в борьбе против литературы,
воспевающей предательство, ренегатство, зоологический индивидуа¬
лизм,. всевозможные виды мистики, мракобесия, черносотенства;
крайне знаменательна одна из дневниковых записей Блока:«Спасибо Горькому и дажо — «Звезде». После эстетизмов, футу¬
ризмом, аполлоиизмов, библиофилов — запахло настоящим...» (1912).Речь здесь идет о статье Горького «О современности», только что
опубликованной в газете «Русскоо слово» (1912, 51—52) и встре¬
ченной Блоком как ответ на те раздумья и вопросы, которые издавна
захватывали и тревожили его самого. В этой статье Блок увидел то
настоящее, жизненно ваясное, что перекликалось и с его собственны¬
ми, давно уже назревшими мыслями и убеждениями; вот почему
следует напомнить то главное и основное, что утверждал Горький, —
это поможет нам уяснить характер воззрений Блока на жизнь,
искусство, литературу, в чем-то близких в то время и воззрениям
Горького, — иначе статья «О современности» не захватила бы поэта
так глубоко и не вызвала бы такого взволнованного и благодарного
отклика.Здесь Горький с презрением и негодованием клеймит «веховцев»,
«вероотступников», «перевертней», «оборотней» из среды той интел¬
лигенции, которая вчера еще рассказывала «о великой красоте русско¬
го народа», а теперь забрасывает его грязыо; Горький саркастически
изображает «известную группу русской интеллигенции»—ревнителей
«чистого искусства» и поборников «абсолютной свободы», которые
с остервенением взбесившихся мещан орут на литературу:— Эй, литература должна быть самоцелью, гражданские идеи,
чувства и все старое прочь! Будь свободен, а то я тебя...Наряду с этими оголтелыми ревнителями «чистого искусства»,
новыми Пришибеевыми от эстетизма, выступают «рыцари слова»
жедтой прессы, прославляющие своего «непонятного брата» — Иуду
Искариота — и приносящие обществу непоправимый врод.«Как черви, разрушают они изо дня в день этические оценки,
выработанные русской интеллигенцией с таким трудом, с такой
огромной затратою сил...» — замечал Горький, противопоставляя
«последней свободе» индивидуализма, понимаемой «исключительно
как свобода торговли словом, свобода лжи, клеветы и клоунского из¬
девательства над святынями», литературу активную, жизнеутвер¬
ждающую, кровно связанную с демократическими традициями; он
обращался к русским писателям с настойчивым призывом:«В жизни много грубого и злого, но, ведь, в ней есть и доброе,
ясное, человечное: помогите росту хорошего — дурное умалится!..»Статья «О современности» явилась для Блока той платформой,
которая укрепляла и собственное его понимание эстетизма и дека¬
дентства.320
По, коиоч»®, было бы ошибочным полагать, что сам Блок —со л»и присущими ому противоречиями и предрассудх?ами, окружен- mil ,11 iriopn гурмой средой, которую составляли декаденты, совер- ни in поддаются ее влияниям и не усваивал—порою весьматтрн ih'mhuui (vo мнения, оценки, взгляды; пет, они оказывали наmi.i пнIниное воздействие. Он далеко не всегда умел датьвер-н in и п.'шую характеристику тому или иному явлению литературы.I ми мог расхвалить и то, что совсем этого не заслуживало; так, ми» высоко оценил скандально известную повесть Михаила|'м I in ни н отозвался о ней весьма лестным образом.читал кузминские «Крылья» — чудесные...» — отмечал он в за¬
питы х книжках (1906), хотя именно эти «Крылья» были враждебны
иному тому, что утверждал сам поэт, которому были чужды «душный
иротпзм» и «нротимнопатпн легкость» (как говорит он о Вячеславе
Иипнопо), ни подь Hi’ | новость Кузмина п пропитана духом такой
" 11 po'i н in I о ним I Г» лпгкоети», Одобрительно оцопил Блок, как мы уже
нидодц и гирон романа М. Арцыбашева «Санин», а в статье «Литера¬
тур и итоги 11)07 года» 11.11015 называет «прекрасной повестью» ижал-uiiil, мертворожденный роман Федора Сологуба «Творимая легенда».11.11015 спорил со многими из своих соратников по символизму, но
нсо жо их авторитеты во многом оставались незыблемыми для него,
н поли он говорил о Вячеславе Иванове, Бальмонте, Сологубе, то
оцопка их творчества была у него нередко крайне преувеличенной,—
и даже те произведения, слабость которых для нас совершенно оче¬
видна, зачастую находили у него одобрительный отклик. Все это—
дань времени, когда поэзия «намеков» и «символов», призванных
выразить и уловить «тайнопись неизреченного», почиталась высочай¬
шим искусством и когда трудно было поэту, самому возросшему
в духе «ооптимопталыюго воспитания», разобраться в истинной сути
п ценности тох символистских произведений, от которых в искусстве
но осталось почти никакого следа — а водь их авторы слыли в свое
вромн чуть ли по гопплми, прорицателями, учителями жизни! Вото чом но следует забывать при ознакомлении со статьями и рецен-
1и а ми Блока (особенно — относящимися к раннему периоду его
творчества), в которых многое звучит спорно, а то и непонятно для
вашего современного читателя.Нельзя утверя{дать и того, что «новые веяния», распространяемые
«Носами», «Вехами» и другими органами реакционной и декадентской
и россы, объявлявшими Белинского, Чернышевского, Добролюбова,
великих деятелей русской революционно-демо'кратичеекой критики,
«устарелыми», ненужными и даже, «вредными», не оказывали своего
ид ияния на Блока (о чем и свидетельствуют иные его статьи и ре¬
цензии) .Да, начитавшись сочинений В. Розанова, М. Гершензона, Б. Са¬
довского, всякого рода весовцев и веховцев, Блок мог — вслед за
ними — опровергать «Белинских», утверждать, что у классиков не
было никакого «бичевания нравов», что Грибоедов любил Фамусова
(и «временами — больше, чем Чацкого»), а Гоголь — Хлестакова иЧи-321
чикова («Чичикова — особенно...»; 1913), — и ничего наши классики
не «осмеивали» (словно сам Блок забыл о гоголевском «смехе сквозь
слезы»!), а возлюбили все изображаемое ими. Именно это положение
настойчиво отстаивала реакционная критика,— а Блок нередко
повторял ее формулировки, о сущности своей расходившиеся с его
собственным творчеством и утиорждаемыми им самим положениями,
в которых главное составлял пафос верности «.действительности
и истине» (что отвечало тем мыслям и взглядам Белинского, которые
неоднократно, по совершенно безуспешно пытался оспорить и «опро¬
вергнуть» Блок).Увлечение философией самого крайнего ипдивидуализма, произ¬
ведениями Ницше, захватившее в годы реакции широкие круги
либерально-буржуазной интеллигенции, затронуло и Блока: так, его
привлекали некоторые лирико-романтические черты ницшеанства,
пафос «своеволия» человека, преобразующего мир и зажигающего
в своей душе «танцующую звезду», отсвет которой ложится па все
его дела и замыслы. По-своему эти ницшеанско-анархические черты
сказались в иных стихах и высказываниях Блока, — но нельзя забы¬
вать и о том, что отделяло Блока от Ницше и его поклонников: если
Ницше утверждал «своеволие» хищника, стоящего «по ту сторону
добра и зла» (что на деле означало попрание каких бы то ни было
моральных принципов или этических норм), то Блок твердо знал, что
искусство — нравственно (как заявлял он в своем дневнике), также
как нравственен, то есть подчиняется высшим моральным принципам,
и художник, творящий его («...ты, художник, твердо веруй в начала
и концы...» — говорил Блок в поэме «Возмездие»).Крайне характерна (как переоценка прежних «кумиров» литера¬
туры декаданса и символизма) и статья Блока «Литературный раз¬
говор» (1910); после размышлений о книге Бальмонта «Морское све¬
чение» (написанной «обо всем и ни о чем», как заметил Блок) поэт
с горечью спрашивает:«Безумная русская литература, когда же наконец стапет тем,
чем только и может быть литература — служением?..)) -г- и, отвергая
все другие возможности для литературы, поэт подчеркивал слово
«служение» как самое главное для нее, определяющее ее сущность
и ценность.Блок с годами всо решительнее отстаивал принципы обществен¬
но передового искусства, обнаруживал все более глубокое понимание
того, что означает «великое предательство» в области эстетики,
и с новых, завоеванных им позиций переоценивал многое в тех де¬
кадентских произведениях, которые некогда вызывали его одобрение,
а то и восхищение (как это и было с «Творимой легендой» Федора
Сологуба). Ныне поэт.видел их «в резком, неподкупном свете дня», —
и ему особенно ясной становилась безжизненность, призрачность,
мишурность, мнимая многозначительность подобных произведений,
когда-то казавшихся особой утонченностью и чуть ли не премуд¬
ростью.Блок еще задолго до Октябрьской революции ясно видел, кому322
I ii V jKiit и ком у н ужны разговоры о «чистом искусстве», так же как
и к «'питой нпуко», — именно об этом свидетельствует одна из его
|||П1111>'1птол1.1м,|\ дневниковых записей:пЖоП'ГКни педагогический институт» основан в противовесI |-1 м. > I in I i.i м •> Кисшим женским курсам. К слушательницам относят- г. г. институткам. Предлоги, первоначально — академическиеI Hi" и пришлом году — хитрый директор Платонов, созвав слушатель¬
ниц. 001,111111,и: «А если и вы будете бунтовать, то институт закроет-
" 'и пушдтолышцы» послушались), уже теперь определились о .1 определился и сам институт, как один из оплотов реакциин церковности.Пот и оказывается, как утверждает Блок, что «...роковым обра¬
ти учреждение, основанное для торжества «чистой науки», олреде-
нилось как учреждение, служащее правословиго...» (1912),— и поэт
и оишш с этим делает глубокий ВЫВОД, к которому но мешало бы
прислушаться и сегодняшним ровнителям «чистого искусства»
и «чистой науки»:«„.пустоты быть по может, всякая пустота заполняется немод¬
линно • вот ощо разительный пример результатов насаждения
«чистых» науки или искусства».Такого рода «разительные примеры» еще более укрепляли Блока
в его понимании характера связи искусства с жизнью, обществом,
н ('„ново являлось для поэта не «самоцелью», но оружием в той борьбе,
от исхода которой зависели судьбы всего мира; пусть самый характер
итой борьбы был поэту во многом неясен и действительность «пестри-
1ш» и словно бы расплывалась перед ним в «демоническом мраке», по
понимание слова как острого и надежного оружия вдохновляло его на
борьбу с эпигонами и апологетами старой и жалкой теории «искусства
для искусства», смысл которой в годы реакции стал для Блока
совершенно очевидным.и творчестве и высказываниях Блока мы находим ответ на многие
острые и злободпешшо вопросы, — вокруг них и поныне идут
ожесточенные споры: это — вопросы о назначении искусства, о свобо¬
де творчества, о принципах эстетического восприятия и отображения
действительности, о личности художника и его отношении к общест¬
ву; о связи литературы с другими областями жизни и о многом другом;
Клок решительно и ожесточенно опровергал замкнутость искусства
пределами своей сферы, его обособленность, эстетское понимание во¬
просов мастерства, потребительское отношение к жизни и творчеству;
ого высказывания на эту тему и поныне имеют существеннейшее
шачение в борьбе с эстетством, формализмом, индивидуалистической
ограниченностью, пережитки которых сказываются в творчестве иных
повременных литераторов.В основе многолетней борьбы Блока с искусством декадентским,
модернистским, эстетским, пронизанным духом «великого предатель¬
ства», — утверждение больших гуманистических идеалов, понимание
искусства как служения народу, обществу, передовым движениям
современности, чувство тесной, неразрывной связи искусства со всем323
«потокам культуры», да и не только культуры, но и самой жизни; вот
что определяло пафос борьбы Блока с «модными литераторами»,
создателями «творимых легенд.). И все же — при всей своей ожесто¬
ченности— борьба Блока с ними не была и не могла быть достаточно
последовательной, ибо и сам он примыкал к одному из модернист¬
ских течений —к символизму; многое в его творчестве носит специ¬
фически символистские черты и особенности, характер которых нам
и следует уяснить, если мы хотим составить достаточно разносторон¬
нее представление о Блоке,
«ЗАВЕТЫ СИМВОЛИЗМА»,1. «НЕСБЫТОЧНАЯ ЯВЬ»Блок входил в литературу как поэт-символист, и в его творчестве
ишкмч'дл сохранились черты симполипма (хотя поэт и утверждал в дниI штй житейской и художественной прелости: «Никаких символизмов!II roiiepi. уже пе ученик!»), и сам он внимательно прислушивался к
«пакетам сим пол hi мп» (так нашивалась одна из статей теоретика и про¬
пагандиста епмиолизма Вячеслава Иванова, придававшего этим «за-
п««Iам» необычайно важное значение, понятное лишь для «посвящен¬
ных»).Вероятно, многие читатели Блока (особенно молодые), знакомясь
с. его лирикой, недостаточно ясно и определенно представляют, в чем
конкретно заключается ее символизм, в каких образах, чертах, осо¬
бенностях сказался он и что именно противостоит ему в творчество
самого поэта.Символические черты и тенденции сказываются у Блока в таких
темах и мотивах, как религиозно-мистические фантазии, видения, сны,
свержение земной жизни как «призрачной» по сравнению с «иными
мирами», память (вернее — «прапамять», в платоновском ее понима¬
нии) о предшествующих существованиях и воплощениях человека,
а также и в других мотивах, отвечающих духу идеалистической фило¬
софии и дровиой мифологии.Для Блока символизм отнюдь но сводился к «школе стиха» (как
утверждал Брюсов и некоторые другие символисты старшего поколе¬
ния), а являлся вместе с тем и системой идеалистических воззрений
(по-своему определявших характер искусства), восходившей к творе¬
ниям Платона и Пифагора, к мифам древней Эллады, к апокалипсису
и .легендам средних веков — если не говорить о более современных
явлениях и влияниях (таких, как поэзия Вл. Соловьева).Поэт стремился в старых легендах, преданиях, мифах уловить «ту¬
манный ход иных миров...»— и нередко сам он блуждал в «туманных
ходах» и переходах «иных миров», не мог выбраться из дебрей отвле¬
ченно мечтательных, бесплотных образов и видений, словно бы засло¬
нивших события и факты реальной действительности; чем страшнее и
безнадежнее казалась она поэту, тем настойчивее активизировались его
м истико-идеалистические воззрения и предрассудки (что и определяло
«мучительные возвращения» поэта на пути, казалось бы уже до конца
пройденные, к тем годам, когда он еще «мало что видел и мало сознавал325
б жизни...» — говоря его же словами); вот почему многие страницы
дневников и записных книжек Блока испещрены рассказами о виден¬
ных снах, каждую подробность которых поэт толковал как вещий знак,
постижение сокровеннейших тайн жизни, ибо усматривал в своих снах
свидетельство непосредственною касания «мирам иным», а особенно
в те ранние годы, когда создавались стихи о Прекрасной Даме.Осенью 1901 года поэт записывает:«В знаменье видел я вещий сои.Что-то порвалось во времени, и ясно явилась мне она, иначе ко
мне обращенная,— и раскрылось тайное».Потрясенный чувством своего «избранничества», приобщения к
«тайному», поэт готов был рассматривать свой сон чуть ли не как
пророческое откровение:«Я видел, как семья отходила, а я, проходя, внезапно остановился
в дверях перед ней. Она была одна и встала навстречу и вдруг протя¬
нула руки и сказала странное слово туманно о том, что я с любовью
к ней... она все протягивала руки,— и занялось сердце. И в эту секунду,
на грани ясновиденья, я, конечно, проснулся. И явно должно было
быть так, ибо иначе неземное познал бы и уже как бы наяву — самый
сои обратился бы в состояние пророчественное».Усердное чтение книг Вл. Соловьева, толковавшего о неизбежном
и близком светопреставлении, апокалиптические чаяния и настроения,
присущие молодому поэту, погруженному в мистические грезы и фан¬
тазии, также вызывали сны, в которых возникали потрясавшие его
картины гибели мира, конца времен.Поэт записывает в 1903 году:«Какой опять сегодня сон! Какие вообще в это лето! Что это зна¬
чит? Сегодня было землетрясение, кончался мир и падали (рушились)
небеса рядами. Мы (с Пей) бежали...»Подобным записям поэт придавал «вещее» значение, но если бы он
более трезво относился к своим снам, то мог бы подметить в них не
голос и «знаки» «божественных откровений», а отголосок некогда про¬
читанных и захвативших его книг; заимствования из этих источников
порою были почти дословными и буквальными: так, гибель мира, небе¬
са, которые «падают» или «рушатся рядами»,— это всего только вариа¬
ция стихов апокалипсиса, в которых «небо скрылось, свившись как сви¬
ток», «неба нет, а земли больше но стало», или отголосок «прорица¬
ний» Вл. Соловьева.Даже и в более позднее время поэт склонен был придавать своим
снам исключительное и как бы «провиденциальное» значение; в конце
1905 года он пишет Евгению Иванову:«16 ноября мне приснилось нечто, чем я живу до сих пор. Такие
изумительные сны бывают раз в год — два года».Набрасывая на бумагу полустихом-полупрозой сон, из которого
впоследствии возникла поэма «Ночная Фиалка», поэт подчеркивает, что
он ясно понял,Что это самое настоящее:И самое главное для меня... —326
I миннн' нянчит потому, что, как он полагал, в подобных снах приоткры-
и н н тмйнпи и сокровенная сущность бытия и смысл всей жизни пи I словно бы в чудесном озарении, в своей самой истиннойн (ним го, что он видел во сне,—«когда-то видел и наяву...»),—и I и ( м 1.1 возвращали ему ту «прапамять», которая исчезала шуме дня» (Тютчев).Пи I т. in иго было на самом деле?Hi I, т. что случилось с поэтом во сие (на это справедливо указал и м I,миги о Блоке JI. И. Тимофеев) и что вдохновило его на созда-||ц.I Iи>,нмi.i «Ночная Фиалка»,— эго было, но не «когда-то», а в леген-
«(.! ч и короле Артуре и рыцарях Круглого Стола, поразивших в свое
пришв пылкое воображение будущего поэта и возникших снова, но уже
in> сип, литературный источник которого совершенно очевиден. То же
шмон можно сказать и о других «вещих» и «аророчественных» снах
Илона.II бол (in поздние годы поит также усматривал в своих снах сайде- пн• тайной и сокровенной жизни души, причастной иным мирам,I и ’г 11 |\н I р I ни Г| сущности бытия; в одном из писем он сообщает матери:
иНидол ОЧ1ЧН. важные сны...» (1908),—и записями виденных снов он
порою заполнял подряд целые страницы своего дневника.11лок толковал свои сны как некое «ясновиденье» (вопреки «бытий-
| гнойным» впечатлениям); смысл человеческих отношений искажен и
иiiуродован в обычной дневной жизни, но во сне, кажется поэту, «когда
иимрут отчаянье и злоба», жизнь видится в ее истинном свете:...вижу в снах твой образ, твой прекрасный,Каким он был до ночи злой и страстной,Каким являлся мне. Смотри:Все та оке ты, какой цвела когда-то,Там, над горой туманной и зубчатой,II лучах немеркнущей зари...(1908)Эти лучи, незримые человеку в суете «малых дел» и «мелочных за¬
бот», прорезают ночыо мрак души, погруженной в забвенье и сон,—
и вое преображается в их сияющем и немеркнущем свете; наяву можно
лгать или обманываться, но сон подсказывает подлинную правду, очи¬
щенную от всего наносного и случайного, приоткрывает суть нережн-
иания или чувства — и приобретает характер внутреннего откровения,
как полагал поэт, обнажения истины, постигаемой именно тогда, когда
дремлет «дневной разум» и когда все творится по иным законам, чуж¬
дым рассудку, в полном забвении окружающего и его условий.Блок снова и снова возвращается к своим давним видениям, фан¬
тазиям, снам как к единственно верному прибежищу от всего того, что
норояадает страхи и ужасы повседневной жизни:Сон мой длился века, все виденья собрав
В свой широкий, полунощный плащ...(1909)327
В этом поковочном и неизменном спе поэт еще готов норою нахо¬
дить ту единственную реальность бытия, которая противостоит миру
изменчивых и преходящих явлений:...когда вам мерцает обманчивый свет,Знайте — вновь он совьется во тьму.Беззакатного дня, легковерные, нет.Я ночного плаща не сниму.Вся эта условная и отвлеченная символика уводит поэта от реаль¬
ного мира и реальных наблюдений,— и сон, открывающий путь в не¬
кие фантаста чески о «иные миры» или жо в мертвое царство мра¬
ка и оцепенения, надолго остается одним из лейтмотивов лирики Блока.Если поэт говорит в своих стихах: «...хочу стряхнуть какой-то
сон...» — то этот неотвязный сои будет долгио-долгие годы преследо¬
вать его, а если он встречает жалкого и отвратительного «двойничка»,
то не случайно спросит себя: «Не снился ли мне он во сие?..» — точно
именно сон может ответить на самые сложные и мучительные вопросы
его жизни.Стремление истолковать реальность как сон, а сон — как реальность
и тем самым — «развоплотить» окружающий нас мир сказывается и в
стихотворении «Без слова мысль, волненье без названья...», в котором
только «воспоминание» (в платоновском его смысле) об ином, истин¬
ном бытии может осветить окружающий поэта мрак:Все призрак здесь — и праздность, и забота,И горькие года...Что б ни было, — ты помни, вспомни что-то,Душа... (когда? когда?)Что б ни было, всю ложь, всю мудрость века,Душа, забудь, оставь...Снам бытия ты предпочла отвека
Несбыточную явь...(1911)Эти призывы, обращенные к себе самому, свидетельствуют, что
с годами намечающийся разрыв поэта с символизмом и символистами
носил явно непоследовательный характер, ибо и в самом его сознании
глубоко укоренились идеалистические взгляды и концепции,— они-то
и порождали представления о бытии как о том «сие», где временно
пребывает человек, чтобы вернуться к некоей «несбыточной яви», ко¬
торая якобы и составляет субстанцию его жизни.Когда поэта захватывают чувства тоски, отчаяния, безнадежности,
когда ему кажется, что «мгла — все мгла...» — и ничем ее не побороть,
какие колокола ни бушевали бы в окрестном мраке,— он готов снова
и снова обратиться к сну как единственно падежному прибежищу от
всех жизненных тягот, невзгод, тревог и упрямо твердит, словно в ка¬
ком-то забытьи:...чем он громче спорит с мглою будней,Сей праздный звон,328
Том кажется железней, непробудней ; ГМой мертвый сон...— .(1912)|| Iм>|кг| i.i ii г итим «мертвым сном» у поэта подчас не хватало ни сил,
МП IIOJllliI ни целиком умещаются в русле символизма, мифов идеа- I ii'ii'i null философии, для которой реальная действительность — ■ I uni I, с мутный покров над неведомым и непознаваемым, нстинпоI \ щпм миром идей.Hi только сон, а и любой другой вид забвения может, как полагал■ ■ | приоткрыть «туманный ход иных миров», увести к «очарованно¬
му берегу», куда не проникает «трескучий шум» обыденности и по-
нендноппости и где человеку внятно слышна музыка сфер,— вот поче¬
шу но многих стихах Блоки прославляется вино, похмелье, опьянение,
н котором понт индол одну и*» самых падежных и верных гарантий
<Н1нГ1]1онпн», имрыпмющего человека ни млела обычных восприятий, по-
мседтчшой оГн'тнпоики п переносящего ого в иные сферы.Порою инбпепио, даруемое сном, и забвение, даруемое опьянением,
слипаются и нечто единое, порождающее странные, фантастические
образы, как это мы и видим в поэме «Ночная Фиалка» и предшествую¬
щих ее созданию записях; в них поэт признается, что ее образы воз¬
никли «под влиянием вина», от которого пахнет «сладким, захолоднв-
1пим душу, забвеньем...».Здесь забвенье, сои, вино, сладостные болотные дурманы словно бы
слились воедино, чтобы вызвать видение, которому поэт придавал не¬
обычайно важное значение.Сказки, предания, мифы, легенды веков, деяния, оставившие ^вой
с,лод в тысячелетиях — все это было для Блока не чисто литератур¬
ными реминисценциями, но давней историей, а самой сутыо его пере¬
живаний, их неотъемлемой частью, не менее реальной для него, чем
события повседневной жизни. Нудь это Клеопатра или Галла, Калита
или Дмитрий Донской, рыцарь Круглого Стола или менестрель сред¬
невековья, или одиа из случайно встреченных «незнакомок», в которой
поэт угадывал Магдалину библейских притч,— ему казалось, что всех
их он знает в лицо, все они сохранились в глубинах его памяти, в са¬
мых сокровенных ее тайниках, о которых он сам зачастую совершенно
не подозревает. Но изредка, в часы прозрений и вдохновений, ему при¬
открываются ее тайные хранилища,-— вот почему «память» занимала
особое место в переживаниях и лирике Блока; к ней он обращался
и попытке осмыслить наиболее ваяшые события мировой истории, а
имеете с тем и своей личной жизни.Во многих стихах Блока не только исторические, но и «праистори-
ческие», космические, «астральные» существования души становятся
предметом и материалом «воспоминания», ибо поэту кажется, что он
помнит и те времена, когда его душа была причастна миру звезд, ко-
мот, стихий; ему верилось, что он помнит и «старинный ужас», тот
хаос своего доисторического, «дотварного» существования, который,329
подобно «лесному царю» Гёте, жаждет снова вернуть его в свои вла¬
дения.В завывании ветра, который, казалось поэту, хочет выжечь его
душу, «запевая о старине», ему слышалось нечто таинственное, страш¬
ное, издревле родное.7'о душа, на последний путь вступая,Безумно плачет о прошлых снах—так внезапно, словно и каком-то озарении, произносит спутница поэта,
вуаль которой ветер шныряет ому прямо в лицо,— и для него очевидно,
как она права, хотя и сама, может быть, пе ведает всей глубины только
что, по некоему наитию, произнесенных ею слов.Б неистовых порывах выоги поэту слышалась все та же песня
«про древний хаос, про родимый» (Тютчев), и, мнилось ему: что все
наши горести и восторги перед лицом этого «древнего хаоса», с кото¬
рым мы сами вскоре сольемся, станем тем, чем были когда-гЪ — ча¬
стью самой стихии, и снова услышим «полет всех планет», «громовые
раскаты в тиши», обретем бессмертие, присущее стихиям окружающего
нас мира, и безраздельно смешаемся с ними...Не только сои, вино, «прапамять» могут вырвать душу из плена
обыденности, повседневности, дать ей почувствовать свою причастность
иным мирам и временам, но и не знающая меры и пределов страсть,
отбрасывающая все мелкое, пошлое, ничтожное,— и об этом поэт на¬
поминает своей возлюбленной:Поверь, мы оба небо знали:Звездой кровавой ты текла,Я измерял твой путь в почали,Когда ты падать начала...И поэт припоминает, узнает в пей ту, которая являлась ему в дав¬
них и забытых снах:Комета! Я прочел в светилах
Всю повесть раннюю твою,И лживый блеск созвездий милых
Под черным телком узнаю!..Эти же образы и мотивы мы встретим и в лирической драме «Не¬
знакомка».Такая «прапамять» может проснуться только тогда, утверждал
поэт, когда человек забывает «о временном, о пошлом», когда все его
«дневные» чувства дремлют, как бы исчезают, освобождая место для
восприятий иных, «запредельных», порывающих со всем тем, что огра¬
ничено в пространстве или во времени.Лев Толстой говорит в повести «Альберт» об одном из переживаний
своего героя: «...Это было больше, чем действительность — действи¬
тельность и воспоминание...»— и именно такая действительность, свя¬
занная с «воспоминанием» особого рода — с древним воспоминанием
словно бы обретающая в нем беспредельную перспективу, уходящую330
| н ' м. in ь.in и тысячелетий, вызывала у поэта чувство пи с чем неI и пн и 1ни"К)|)га; так, напомним читателю, было в Бад-Наугейме," | ик ii.min.il оперу Вагиера («это уже не музыка, а древнее вос- и пап ' писал он матери), или просто в ресторане — «за бутыл-| , ипгдк м «туманном вопле» дальних скрипок перед его внут-I ними п,пикали тысячелетние мифы и предания и он сам, как1ч у, I та повился их участником, их героем.|' , hi Платона Блок почерпнул, и представление о «Душе Ми-I омой частью которой некогда являлась его душа, и если| и м I .ii л нпбудь воссылал моления, то не богу православной церкви,
но < ii — бессмертной и безграничной «Душе Мира». .«Тоскует Душа Мира опять, опять,—записывал он в своем днев¬
нике. Из за еловых крестов смотрят страшные лики—на свинце пол-
нущпх туч. Исо те же лики — с еще новыми: лики обиженных, казнен¬
ных, обездоленных, лнкп неликих любовниц— Галлы, Изотты — и дру-I их чои,с,< пинцопые тучи ползут, ветер резкий. Мужики по-прежнему клапя-
ипсн, дгикп боится барыни, Петербург покорно пожирается холерой,
ц||||1ппк целует руку, а Душа Мира мстит нам за всех за них...»Здесь мятежное и революционное «возмездие» — возмездие за всех■ обиженных, казненных, обездоленных» — сочетается со смутпыми гре-II м и философов-идеалистов древней Греции, с их фантастической кос¬
могонией, утрачивая историческую когшретность, четкость, определен¬
ности — что отзывается и в творчестве Блока.«...будет еще много. Но Ты — вернись, вернись, вернись — в конце
назначенных нам испытаний. Мы будем Тебе молиться среди положен¬
ного нам будущего страха и страсти. Опять я буду ждать — всегда раб
Гной, изменивший Тебе, но опять, опять — возвращающийся...»Так однажды летом 1909 года записывает Блок— «перед ночью...»,
н подобные записи свидетельствуют о том, как настойчиво вторгались
идеалистически бесплотные мечты и фантазии в раздумья поэта о са¬
мых важных и злободневных событиях современности, нередко подме¬
няя их истинный — общественный — смысл платоновскими мифами
и библейскими притчами, заставляя его «возвращаться» на старые и,
лизалось бы, до конца пройденные пути.Особое значение обретала в космогонии, а стало быть, и в творчест-
III' Блока, пифагорейская теория «вечного возвращения», повторяемостиi i его сущего. Поэт писал в связи с опубликованием цикла «На поле
Куликовом»:«Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к симво¬
лическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвра¬
щение. Разгадка их еще впереди».Представление о том, что «символическим событиям» истории суж¬
дено возвращаться и что онн — в иной оболочке, в|иной эпохе, в ииой
ипостаси, но в том же самом существе — возвращаются, и лежит в ос¬
нове многих образов и мотивов творчества Блока (Христос, Магдалина,
Незнакомка — Мария — Звезда и т. п.). Поэт стремился разгадать их
значение,— и мотив повторяемости событий, и личных и исторических,331
их вечного возвращения, связан в творчестве Блока с представлениемо том, что такие события идут по каким-то изначальным и извечным
кругам; это и придает его космогонии не столько научно обоснованный,
сколько лирико-мифологический характер (как в учении древних фило-
софов-идеалистов).В миге сверхчувственного постижения истинного смысла жизни,
ее вечных и неизменны су и щоствй, и сама пошлость окружающей
жизни становится «пошлостью таинственной», как это мы видим в сти¬
хотворении «За гробом» (1008). В нем изображены самые, казалось бы,
ординарные, обычные похороны одного из тех «модных литераторов»,
кому только смерть и придает некое величие — особенно наглядное по
сравнению с тою жалкою жизнью, какую он влачил на земле;Был он только литератор модный,Только слов кощунственных творец...Но мертвец — родной душе народной:Всякий свято чтит она конец...А дальше поэт повествует о друзьях и близких того, кого они сей¬
час хоронят. Они поднимают пыль, заволакивающую невесту покойно¬
го, которая так и не дождалась свершения брачного обряда.Да и нужен ли он ей?Принимая «слова сочувствий» и «венок случайный за венком»,слушаяЭтих фраз избитых повторенья,Никому не нужные слова... —она непостижимым образом приобщается к иному миру, где даже по¬
шлость и обыденность превращаются в некую мистерию, смысл, кото¬
рой раскрыт поэтом в заключительных строках:Словно здесь, где пели и кадили,Где и грусть не может быть тиха,Убралась она фатой от пыли
И ждала Иного Жениха...Поднятая ногами пыль обращается в фату, сквозь которую светит
какая-то странная и непостижимая красота,— и пошлое, обыденное, из¬
битое обнаруживает здесь свое родство с необычайным, чудесным, фан¬
тастическим, соседствует с ним. Приоткрывается дверь в какой-то иной
мир, «житейский шум трескучий» обращается в дивную музыку, волны
которой словно бы уносят к некиим «очарованным берегам»,— и так
стихотворение «За гробом» целиком входит в русло символистской ли¬
тературы, в которой и само художественное слово осмысливается в ду¬
хе теории Вячеслава Иванова, как «тайнопись неизреченного».Обращаясь к самому себе (в стихотворении «Все на земле умрет —
и мать, и младость...»), с призывом забывать «страстей бывалый край»,
тот мир, где мы «любили, гибли и боролись», поэт направляет свой
внутренний взор к холодному полярному кругу, чуждому земных отрад
и земного тепла:332
...к вэдрагиваньям медленного хлада
Усталую ты душу приучи,Чтоб было здесь ей ничего не надо,Когда оттуда ринутся лучи...(1909)п Iпинги рода противопоставлении «здешней» жизни «инобытию»," ром до.ижмо исчезнуть все «земное», «бренное», в утверждении" ни «дуализма» мира «сущностей» и мира «явлений», и сказа-• ни п а иорность старым «заветам символизма».11и|мно мистика, касание «иным мирам» принимает в лирике Блока11 и. 11 in | и чоский характер, становится наяву переживаемым ужасом,
мншш'ммм некиими «потусторонними» силами, как это мы видим
н одном ми самых «мистических» стихотворений Блока — «Как растет• ропот к ночи,..» (1913), в котором страхи поэта окрашены в «гргфер-
IHI,т.цып» тонн и действительность предстает и них «в демоническом
мри ко»; мы пндим идоеь человека, настолько измученного и подавлен¬
ною ужнспми и нрослодошшипми «страшного мира», что его сознание
миг откшн.ишпгн ппнтп разумное объяснение всему происходящему,
п. in ротному и « ноем жестокости и бесчеловечности, а потому и при¬
нимающему к глазах поэта «потусторонние» черты; ему кажется:...Что-то в мире происходит.Утром страшно мне раскрыть
Лист газетный. Кто-то хочет
Появиться, кто-то бродит.Иль — раздумал, может быть?Этот «кто-то» принимает черты неуловимые, зловещие, «потусто¬
ронние», и кажется, сам поэт не может ответить на вопрос, существует
лн ого «гость» на самом деле или является всего лишь плодом расстро-
опного воображения; ему словно бы слышатся чьи-то шаги,—по это,
может быть, всего лишь обман слуха.Гость бессонный, мол скрипучий?..—спрашивает он себя, прислушиваясь к ночным шорохам, скрипам, ос¬
торожным шагам, в которых ему чудится что-то таинственное, ужасное,
н не может найти ответа на преследующий его вопрос.Область бесплотных мечтаний, «провиденциальных» сновидений,
таинственные, мистические «знаки», свидетельствующие об «иных ми¬
рах»», чуждых реальным земным делам и заботам, смутная «прапа-
мнть» о бесчисленном множестве предшествующих воплощений и веч¬
ной повторяемости самого существования человека, а стало быть,
н вечное возвращение всего, что происходит с ним и что превращает
его жизнь в слепок и подобие одного и того же древнего и никогда
не стареющего мифа,— вот что определяет в творчестве Блока те мо¬
шны, какие придают специфически символистский характер многимI го стихам,— даже тем, которые созданы в зрелую пору творчества,
когда сам поэт глубоко переживал кризис символизма и осознавал его
исчерпанность.333
В иных стихах Блока, где «отвращение от жизни» превозмогает
все остальные чувства, снова, как в давние годы, воскресает дух сон¬
ной, смутной мечтательности,— и они словно бы гипнотизируют нас
однообразным чередованием одних и тех же слов, подобным усыпляю¬
щим каплям, падающим в тишине:Жди, старый друг, терпи, терпи,Терпеть недолго, крепче спи,Вс о равно все пройдет,Псе равно ведь никто: не поймет,Пи тебя не поймет, ни меня,Пн что вотор поет
Нам, ввеня...(«О чем поет ветер», 1.913)А* вместе с тем поэт славил мятежиость, утверждал совершенно
иное отношение к жизни: «...слишком много энергии требует мир для
того, чтобы мог безнаказанно заснуть тот, кто призван к творчест¬
ву...»— как утверждал он в статье «Памяти Августа Стриндберга», и
знание этого в конце концов оказывалось для поэта самым важным
и определяющим; оно-то и помогало ему одолевать сны, наваждения
и туманы, полонившие героя драматической поэмы «Незнакомка», за¬
служивающей особого нашего внимания.2. «НЕЗНАКОМКА»Наиболее полно символистические мотивы, слагающиеся в широко
развернутое, сюжетно организованное действие и целиком определяю¬
щие поэтику произведения, сказались у Блока в лирической драме
«Незнакомка» (1906). Подобно тому как пьесе «Балаганчик» предшест¬
вует одноименное стихотворение (в котором перед нами предстает ба¬
лаганчик, открытый «для веселых и славных детей», но такой траги¬
ческий, что веселые дети заплакали, глядя на него), так и зерном, из
которого выросла пьеса-фантазия Блока, явилось стихотворение «Не¬
знакомка» (1906), посвященное одной из «падших» звезд — посетитель¬
нице загородного ресторана, где сквозь все пошлое и унизительное,
что окружало поэта, ему видится нечто прекрасное и таинственное,
приоткрывающее завесу над иными мирами.В стихотворении «Незнакомка» повествуется о чудесной и невоз¬
можной встрече с женщиной, пришедшей из чужой, но издревле род¬
ной страны, где все отвечает духу преданий и сказок:Девичий стан, шелками схваченный,В туманном движется окне.И медленно, пройдя меж пьяными,Всегда без спутников, одна,Дыша духами и туманами,Она садится у окна.И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,334
И шляпа с траурными перьями,И в кольцах узкая рука...Эти древние поверья, участником которых становится и сам поэт,
пиша воскресают, ибо обладают бессмертной красотой и таинственной
силой,— и что поэту до того, наяву или во сне происходят чудесные
превращения, свидетелем которых он становится,— ведь сны обладают
|| его глазах не меньшей, а большей реальностью, чем явь, ибо именно
и них человек вспоминает о том самом важном и настоящем, что ус¬
кользает от него «в обычном шуме дня» (Тютчев). Они проходят едва
уловимой тропой, где-то в «излучинах души» — эти сны, фантазии,
пидсния, и словно но мановению волшебной палочки изменяется мир,
события приобретают какой-то сказочный характер; вся жизнь, даже
самая обыденная, в которую врываются и «испытанные остряки» с за¬
ломленными котелками, и сонные лакеи, торчащие у столиков, и «пья¬
ницы. с глазами кроликов» вся жизнь, дотоле видимая во всех ее
заурядных подробностях, неожиданно, как п повестях Гоголя или Гоф¬
ман:*, приобретает фантастическую невероятность, какие-то смутные
и загадочные очертания, сквозь которые проступают видения иных
миров, сказочно прекрасные и неодолимо влекущие.Поэту, который ушел в эту «очарованную даль» от того, что томи¬
ло и угнетало его, повседневно оскорбляло его чувство красоты, спра-
подливости, человечности, кажется, что все вокруг чудесно преобрази¬
лось, сбылись самые прекрасные обетования, самые возвышенные
мечты и он живет уже в каком-то другом мире, где все обретает
бессмертную красоту, превращается в легенду веков, в предание, ко¬
торому дано пережить целые тысячелетия:Глухие тайны мне поручены,Мне чье-то солнце вручено,И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,И очи синие, бездонные,Цветут ка дальнем берегу...—*и пусть это, может быть, только снится, пусть «очарованный берег»—
nce.ro только видение, порожденное терпким вином, но таинственный,
непостижимый и истинный смысл жизни раскрывается перед поэтом —
кажется ему — именно в эти мгновения; вот почему они более значи¬
тельны для мира его чувств и переживаний, чем все другие события,
и поэт восклицает, завершая стихотворение, впервые прославившее
иго имя:Ты право, пьяное чудовище!Я знаю: истина в вине.В забвении всех унизительных мерзостей «страшного мира», в
«электрических снах наяву», в экстазе, хотя бы и дарованном вином,
>Г>лок искал выход в «мир иной» — так легче было припомнить «глухие335
тайin,u>, и «очи синие, бездонные» расцветали только тогда, когда терп¬
кое вино пронзало все «излучины души», и обычная проститутка пре¬
вращалась в таинственную и прекрасную Незнакомку, в новую Маг¬
далину, в героиню древнего мифа, старинного предания.В пьесе Блока господствуют то же образы и мотивы, что и в стихо¬
творении «Незнакомка» и п других ого символистских стихах: сон, меч¬
та, опьянение как один из путей постижения истины и приобщения
к «иным мирам»; сам образ Незнакомки, падучей звезды, напоминаето других сущоствошшинх, сохранившихся в глубинах «прапамяти»,о «Душе Мира», о сродство душ, о музыке сфер,— но здесь эти образы
и мотивы представлены но порознь (пак в иных стихах Блока), а в их
наиболее полном сочетании, в их взаимосвязанности и взаимообуслов¬
ленности; в лирической драме Блока они переплетаются, «пересека¬
ются», пронизывают друг друга и образуют то единство, которое и за¬
ставляет рассматривать пьесу «Незнакомка» как явление специфиче¬
ски символистского театра.Действие «Незнакомки» происходит в современные дни, но и сама
современность служит в ней всего лишь фоном, на котором воскресает
один из древних мифов, переживаемых героями пьесы как нечто не¬
преложное, как предвестие и истолкование их собственной судьбы.В этой сугубо «мифологической» пьесе Блока весь строй и состав
ее образов, ее сюжета, ее конструкции подчинен специфически симво¬
лическому замыслу; многие ее образы носят иллюзорный, призрачный
характер,—не случайно она состоит не из «действий», как обычное
драматическое произведение, а из «видений»: этим поэт стремился под¬
черкнуть ирреальность и призрачность всего происходящего в ней, ее
фантастический характер, включающей в себя и отдельные элементы
действительности, обыденности, повседневности, но соответствующими
средствами переработанной и преображенной — в духе предельно ут¬
рированного шаржа и гротеска, в котором повседневная пошлость гра¬
ничит с фантастикой.В сущности, в «Незнакомке» представлено не то, что может наблю¬
дать человек в окружающей его жизни, а то, что может ему пригрезить¬
ся или присниться, или то, что ои может вычитать в творениях древне¬
греческих философов идеалистического толка; их грезы, вымыслы, кос-
могонические фантазии и лежат в основе пьесы, определяют ее харак¬
тер, основные ее компоненты, словно бы иллюстрирующие старинные
размышления Платона о «Душе Мира», о призрачности окружающей
нас жизни, являющейся лишь отсветом от «незримого очами» (В. Со¬
ловьев), о сродстве душ, созданных друг для друга и разлученных
в этом мире. Здесь слышатся и отзвуки учения пифагорийцев, внимав¬
ших некогда музыке сфер и твердивших о «вечном возвращении», о веч¬
ной повторяемости всего сущего; подобные фантастические представ¬
ления и составляют основу пьесы Блока.«Вечное возвращение», повторение, узнавание, припоминание,
«сдвиги» двух планов — земного и «звездного», бытового и фантасти¬
ческого, реального и «потустороннего» (причем «реальное» и оказыва¬
ется «потусторонним», а «потустороннее»— реальностью высшего по-336
1>мд1Ш, «реальнейшей реальностью» бытия) — определяют и динамику
т.(ты, со сюжетную конструкцию, характер сменяющихся в ней мо¬
щной п коалиций; здесь все идет по кругам, движущимся словно бы
п пзпечно неизменном, заранее намеченном и бесконечно повторяю¬
щемся, а потому и «роковом» порядке, ие зависящем от героев пьесы
ч in ii\ шиш. Их самих тревожит и даже ошеломляет странное и не- гижнмоо чувство того, что все происходящее с ними уже было ког-Оч го н иных мирах, в иных сферах, в иных воплощениях, издавна
забытых ими,— и что они когда-то уже проходили по тем кругам, по
которым им суждено идти снова и снова. Но чтобы понять смысл свое¬
го существования, разгадать тайны своих неясных им самим страстей,
нолноний, тревог, им надо что-то припомнить: когда, где, в каких ми¬
рах все это уже происходило с ними?Только тогда все бытие предстанет перед их внутренним взором
в ослепительно ясном и псоозаряющем свете,— но «припомнить» им
так и но удаетсн: что то «житойскоо», какая-то досадная и неустра¬
нимая помеха т огда и неизменно возникает па их пути, сбивает их,
мешает пробужден ню их памяти, вернее — «нрапамяти», которая сно¬
па уходит н спои томимо и незримые «дневному» разуму глу-I Mill 1.1.Пьеса «Незнакомка» открывается сценой, происходящей в уличном
абаке, где мы видим несколько пьяных компаний, посетителя, мы¬
чащего нечто невразумительное; слышатся возгласы:— Да врешь ты! Да вот поди ж ты... Я тебе...— Молчать! Не ругаться! Еще бутылочку, любезный...В этом уличном кабаке нестерпимо мерзко, грязно, душно — душ¬
но, как перед грозой,— слишком уж явственна невероятность всего
происходящего здесь; бездна падения, отчаяния, пошлости словно бы
иимваот к другой бездне — звездной, голубой, бесконечной, и она ■при¬
открывается в речах подвыпившего семинариста, который бормочето полюбившейся ему девушке:II танцевала она, милый друг ты мой, скажу я тебе, как небес¬
ное создание... Так бы вот впил ее и унос от нескромных взоров, и на
улице плясала бы она передо мной на болом снегу... как птица летала
бы. И откуда мои крылья взялись,— сам полетел бы за ней, над белы¬
ми снегами...14 пусть все вокруг хохочут, и сам этот захмелевший семинарист
завершает свои лирически вдохновенные речи пьяным бормотанием:
«Л впрочем, еще бы пивца...»—возвращаясь из снеяшой, звенящей,
необозримой дали к мраку и удушыо уличного кабака, к обыденной
нонседневности,— но «вечно женственное» уже заглянуло ему в глаза,
ионлотилось в пленительном облике; он уже вдохнул чистейший воз¬
дух звездных высот, и его душа уже никогда не забудет «звуков не¬
бес.», какие «сх{учные песни земли» ни пытались бы заглушить их,
какой бы визгливый и докучный хохот ни раздавался вокруг.Если «вечно женственное» воплотилось для семинариста в непонят¬
ном для него самого чувстве полета, небывалого и невозможного вос¬
торга перед красотой, перед порывом в снежную и звездную даль, одо-Наказ 534337
девающим душные и тесные пределы кабака, то Поэт, забредший
в тот же кабак и также причастный иным мирам, уже гораздо глуб¬
же проникает в них; он приобщился философии Платона, Пифагора,
Владимира Соловьева и говорит словами, взятыми из стихов самого
Блока; он весь — в стремлении уловить «звуки небес» сквозь крики
и визгливый хохот, раздающийся в его ушах, и для него опьянение —
это только средство приглушить окружающий шум и пьяный хохот,
услышать отзвук иных, «торжествующих созвучий», несущихся из
неоглядной небесной дали; дли пего любовь—это чувство, в пламени
которого исчезают продолы узко личного и ограниченного существова¬
ния, и оно сливается со всей всолеиной, с ого извечной родиной — «Ду¬
шою Мира».Это чувство безмерно расширяет внутренний мир Поэта, который
проникается ощущением сродства душ, постигаемым в любви,— вот по¬
чему именно о любви говорит он, раскрывая свою душу «подставному
лицу» — половому, так же как и другим «подставным лицам» — посети¬
телям кабака:— Видеть много женских лиц... Любить их. Желать их. Не может
быть человека, который не любит. И вы их должны любить...— Слушаю-с,— отвечает половой («прирожденный юморист», как
замечает автор пьесы).А Поэт, словно не чувствуя, как нелепо звучит ответ его слушате¬
ля, продолжает, погруженный в свое «непостижное виденье» и глухой
ко всему остальному:— ...среди этого огня взоров, среди вихря взоров, возникает вне¬
запно, как бы расцветает под голубым снегом — одно лицо: единствен¬
но прекрасный лик Незнакомки, под густою, томной вуалью... Вот ка¬
раются перья па шляпе... Вот узкая рука, стянутая перчаткой, держит
шелестящее платье... Вот медленно проходит она... проходит она...—
И словно для того, чтобы явственнее услышать шорох ее ша¬
гов, шелест ее платья, чтобы еще сильнее приглушить докучные
«песни земли», Поэт жадно припадает к бокалу и бормочет, уже
захмелевший:— Вечная сказка. Это — Она — Мироправительница. Она держит
жезл и повелевает миром. Все мы очарованы Ею...Рассматривая камею, на которой лежит ее отсвет, лежат лучи ее
красоты, он твердит, погружаясь в туманы философии Платона, пи¬
фагорейские сны, пьяные видения:— Вечное возвращение. Снова Она объемлет шар земной. И снова
мы подвластны ее очарованию. Вот Она кружит свой процветающий
жезл. Вот Она кружит меня...— И, уже коснувшись дивных лилий ее
«процветающего жезла», ее шлейфа, влачащегося в синей высоте, усе¬
янного звездною пылью, Поэт и сам обретает частицу ее безмерной
и Чудотворной силы, сам становится властителем окружающей его
вселенной, и именно тогда, когда он под влиянием опьянения отре¬
шился от всего земного,— его воля обрела чудотворную силу. В его ру¬
ке появился незримый жёзл, которому повинуется и Она — Незнаком¬
ка, Звезда, Мария, и слова Поэта отныне обретают заклинательную338.
' пну (/сон1!’ ому.лишь обратиться к ней, к своей Звезде, с настойчивым
ч111 миом: «Яшк и! Явись!» — как расступаются стены кабака, откры-
. а шч'!!), распахиваются невероятные дали и по небу, медленно огш- I,\ I \,< 1..Г1 ывиотся яркая и тяжелая звезда.И ко лип на темпом, пустынном мосту, перерезающем широкую in I мм гея Она — Прекрасная Дама, Незнакомка, Звезда, нови-1 " 111 и 111 I I и'н> произнесенного заклятия и воплотившаяся в земном Гни само пребывание Поэта в уличном кабаке, меж пьяными1 | in in I'm, под бело-матовым светом ацетиленового фонаря, стано-
'I подобным некоей таинственной мистерии, до ужаса пошлой на0 |■"| .и взгляд,— но чем пристальнее вглядываешься, тем все болво• I' in щс гичоской и невероятной, до того предела, за которым уже мож- i-дм п. чудес; оказывается, именно здесь, в этом загаженном и за-оюииипом кабаке, среди пьяных выкриков и косноязычного бормо-1 it it им, вернее всего мол,по иотцвяить оо, Звезду, Незнакомку.Г-m сейчас нянино сейчас они пройдет здесь, меж столиков,■ 41 <>|дм Гит гну|никои, одни», н Монт вперяот и нее свой недвияагый, н И' Ill II lop II |ф01||)С1ШСТ СКВОЗЬ эти стоны, сквозь пошлость" гни и. I pin i.i'pii ipiiHiioi o кабака нечто небывалое, фантастическое, та*~
И1Н ми шин', п разве но об этом жо самом повествует стихотворение
«Мшнш комка»:...странной близостью закованный,Смотрю за томную вуаль
И вижу берег очарованный
И очарованную даль...II пусть пьяного Поэта волокут два дюжих дворника, не жалея
||ми него щелчков и толчков,—лишь над его телом могут они измы-
■'1.1,1 и, но оно сейчас совершенно нечувствительно к толчкам, ибо ду-■ Но .in гг 11 о I р у > г< г п и и стихию иных сфер и миров. В заурядной т. I nnii.il, и новой Незнакомке, он прозревает звездноо" ни on щущий странным п фантастическим сияниемни Hi ..округ пн че in, п и игом симппп исчезаю!' и рас,ступаются степыI iiiiit.ii; перед нами открывается небо — синее, зимноо, морозное, и но
и | нап.таетсн яркая звезда, к которой и взывал Поэт.'■ >га наезда оборачивается прекрасной женщиной в черном, с удив¬
им им взором расширенных глаз,— и так открывается «второе вйде- о.! шинное к жизни заклинательной силой Поэта; его бессмерт- продолжает жить среди вызванных ею образов и видении,, н мифов; в них мы узнаем и самого Поэта, уя«е принявшего■1 щи шипи, и сопровождаемого, как свитой, своими «двойниками»,
. и. ми комку — падшую звезду, Марию, воплощенную в облике зем-III.И (Ы'НЩИНЫ.|11 и и нз «двойников» Поэта — Голубой — встречает сошедшую наезду, и между ними возникает разговор, подобный невнятио-'•"!мотанию существ, витающих где-то в иных сферах, видениях
, пни только что встретились, но извечно знали друг друга, и иг• :о|'ди то были единой душой, пламенной и нераздельной.З.КГ
Протекали столетья, как сны.Долго ждал я тебя на земле... —говорит Голубой, весь колеблясь, как тихое, синее пламя.Протекали столетья, как миги.Я звездою в пространстве текла... —отвечает Незнакомка, и их диалог—это разговор двух сомнамбул, встре¬
тившихся во сно или в сказке, причастных больше миру звезд, комет,
снов, чем той зомло, па которой их бессмертные и навсегда пригово¬
ренные друг it другу души встретились — в одном из своих непрочных
и преходящих воплощений. 1По хотя они и узнали друг друга, нечто роковое лежит между ни¬
ми и мешает их соединению. Поэт так пристально загляделся в небо
и столько столетий ждал встречи со своей возлюбленной, что отныне не
хочет ничего, кроме небесного, чистого, «голубого»,— недаром он го¬
ворит о себе:Я слишком долго в небо смотрел:Оттого — голубые глаза и плащ...А Незнакомка уже не может жить одними лишь звездными снами,
только славословиями и песнопениями, обращенными к ней воздыха¬
ниями и молитвами; на земле она подвластна земному притяжению,
земным законам, земным страстям, и теперь ее бурно запевающая
кровь требует чего-то совсем иного и дотоле неведомого ей:Ядом исполнено сердце.Я стройнее всех ваших дев.Я красивее ваших дам.Я страстнее ваших невест...Так твердит и заклинает она, надеясь пробудить к жизни своего,
издавна сужденного ей возлюбленного, но Голубой, который весь в не¬
бесном, неземном, молитвенном, не слышит ее, не отвечает ей. Пока
он дремлет, снова погружаясь в свой старый, вечный, все один и тот
же сон, первый прохожий, Господин в котелке (воплощение пош¬
лости и мещанства), завладевает Незнакомкой и уводит ее, нашепты¬
вая ей избитые, банальные речи... Уж он-то не растеряется, он знает,
что нужно делать с незнакомой женщиной, возжаждавшей земных ре¬
чей и земных утех!Так пала самая прекрасная звезда.От Поэта отделяется новый двойник — Звездочет, который так же
скорбит о падении звезды Марии, как Поэт об исчезновении своей
Незнакомки. Оба они скорбят о ее падении, об утрате «астрального
ритма», и лишь для Господина в котелке встреча с Незнакомкой —
это всего только пикантное приключение.Далее в пьесе развертывается комический и скорбный диалог меж¬
ду Поэтом и Звездочетом; каждый говорит о своем, не понимая дру¬
гого, но автор знает, что они — «двойники», что они тайно связаны
между собой и тоскуют об утрате одного и того же дивного и бесцен¬но,
пои» сокровища. Поэт плачет о Незнакомке, б'ййторой ему снились сны
столетий, и Звездочет упрекает его:Стоит ли плакать об этом?Гораздо глубже мое горе:Я утратил астральный ритм!Мода решительно возражает:Я ритм души потерял.Надеюсь, это — важней!Оба оии грустят, и плачут, и пререкаются под голубым снегом, оба
утратили свою звезду, свою Марию; отныне они обречены на то, чтобы
слушать отвратительные, какофонические «дребезжащие песни светил»,
словно сорвавшихся со своих орбит и пустившихся в дикий и безо¬
бразный плис,— и ни тот, ни другой но знают, как восстановить гармо¬
нии* сфер и утраченной чувство «единства с миром»...«Троп,о индент"» сцепи и нючекой гостиной, заключающая ньо-
cy, н сущности сноси нопториот сцену в уличном кабаке: в «высших
сферах» обществ» происходит, вплоть до мельчайших подробностей
и совпадений, то же самое, что мы видим и в самых «низших»; так поэт
подчеркивает, что в разных кругах повторяется одна и та же извечна
и нииеогда суждения человеку трагедия и везде господствует пошлость
гох, кто забыл о «звуках небес».— и вечное томление других, для ко-
трых эти звуки — единственный смысл и единственная отрада их су¬
ществования.Печное «кружение» и возвращение «на старые круги» подчеркива¬
ете!! и пьесе и тем, что в разных ее «видениях» полностью повторяют-
сн п спето «низшем» и «высшем»—не только характеры, ситуации,
но даже и реи лики, приобретающие уже не столько бытовое, сколько
символическое о, своего рода иллюстрации к тому, что'неког¬
да говорили иифвгороГщы.II уличном кабачке хоинин серого внушает подвыпившему посети¬
тели), шарнщему руками в блестящей посудине с вареными раками:
Позвольте, господин. Так нельзя. Вы у нас всех раков руками
переберёте. Никто кушать но станет...— и тот, мыча нечто нечленораз¬
дельное; отходит.То Же самое повторяется и в светской гостиной: один из ее посети-
iciieil рассеянно шарит в корзине с бисквитами, а его собеседник стро-
I" инушает ему: «Послушай, оставь бисквиты. Ведь противно есть, еслиII . пере трогаешь...»—и, подобно пьяному посетителю уличного кабач-I ' ют удаляется, сконфуженно мыча,— так сама пошлость того, что
щеп. происходит, принимает какой-то странный и фантастический
смысл. Эта пошлость — словно бы ненадежный покров над снежной
н шеидной бездной; еще один шаг — и ты можешь соскользнуть в нео, предельные сферы и пространства, стоит лишь вспомнить о них как.. modi родине, х£ которой ты вернешься после всех земных блужда- и заблуждений. И разве не об этом же твердил некогда «вели-сим мистик» — Владимир Соловьев:341
Милый друг, иль ты ие слышишь,Что житейский шум трескучий —Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?..Эти «торжествующие созвучия» уже, кажется, готовы захлестнуть
fry гостиную, в которой развортываотся «третье видение» «Незнаком¬
ки»,—и снова тоскующая и пленительная «Душа Мира» готова вопло¬
титься в образе Незнакомки, Марии, Звезды.Поэт, и облике которого иоросекпются черты и волны лирики и гро¬
теска, читает, согласно пожеланию хозяйки салопа, «прекрасноестихо¬
творение» и «опять о Прекрасной Даме», о той, которая в весеннийдень сошла с иконы, оправленной и жемчуга, сошла подобно «Жене,
облеченной в солнце»,— и вот в пошлой обстановке великосветского
салона, где на Поэта смотрят как на шута, и на его стихи как на пря¬
ное лакомство и изысканное развлечение, происходит чудо: слышится
звонок, и, повинуясь мольбе и зову Поэта, заклинательной магии его
стихов, снова происходит явление Незнакомки, Марии, Звезды.Посетители гостиной внезапно и смутно начинают ощущать всю
необычайность происходящего с ними, сквозь «искаженные отклики»
им слышатся какие-то странные, нездешние и торжествующие созву¬
чия; все преображается в их глазах, становится чудесным, непонятным,
а вместе с тем — издавна знакомым.Сквозь сгущающийся мрак, сквозь трескучий шум избитых, ненуж¬
ных, механически затверженных фраз, сквозь невыносимую духоту,
такую тяжкую, что она не может не порождать предчувствия грозы,—
внезапно что-то тронулось со своих мест, корабли направились в неве¬
домую даль, и тот, кто хотел произнести очередную избитую фразу,
«никому ие нужные слова», замолкает на полуслове.«Все становится необычайно странным. Как будто все внезапно
вспомнили, что где-то привносились те же слова и в том же поряд¬
ке...» — и эти слова приобретают некую заклинательвую силу.Но Поэт не может узнать вызванную им звезду в ее новом облике
(не говорил ли когда-то и сам Блок в тревоге и смятении: «...страшно
мне: изменишь облик Ты...»). Он с мучительным усилием пытается
вспомнить о том, что было когда-то, в иных сферах, иных пространст¬
вах, иных временах, но — тщетно!Встречи такиеБывают в жизни лишь раз...Старое опасение — сбылось: среди множества звезд — неверных,
поддельных, «падших» — он не узнал своей истинной и единственной.— Поиски мои были безрезультатны,— признается Поэт Звездоче¬
ту, и в его глазах — пустота и мрак; он шатается от страшного и му¬
чительного напряжения, пытаясь вспомнить («Вспомни! Вспомни!» —
внушал себе Блок в одном из стихотворений той поры).Поэта «занесло» на таком крутом и стремительном вираже, что за¬
хватывает дух; кажется: еще одно мгновение — и он одолеет силу зем-
йЬго тяготения, приобщится к миру звезд, комет, стихий, к той «Душе342
Ми|ы», or которой он некогда был отторгнуть,— но дорогу ему преграж-*
ми ii >г чужие люди, ведущие обычную, пошлую болтовню, происходит■ и но поионраиимое: он «все забыл!»—и вот исчезает, наверное, уже
' ' i l l, Незнакомка, назвавшая себя Марией. Вместо нее за окном
in ипг одинокая звезда, по которой отныне обречен всю жизнь• ■ни | "н. и Сюинидежно тосковать Поэт. Так завершается пьеса «Незна-
HuMHtl «■п | \ рннло «Весы» (1907, №JV« 5, 6, 7), где впервые была опублико-
По. пакомка», ей предшествует, наряду с эпиграфами из Достоев-• | иго, и впиграф самою автора пьесы:...И. веют древними поверьями
Ео упругие шейка,И шляпа о траурными перьями,
п и кольцах уикал рука.Пт гнид* насколько гогпо переплелись - а глазах са*И>|0 I.HIIHI 1111 щрЩ.п п Д(|ММ» I ypi ПН, ИОроХОДЯЩШ) один и другую■I | ii * |" | I г 1114,1111 I II N111, ОДИНОК целое.и «Ио.шшшмкп» зачастую изъясняется перифразамиI не "и к in, п ингор подчеркивает родственность этого персонажа•■•пру < hook rolii Iik'uiii*ix переживаний и видений; это — один из его|in■ «ini», и речь его наполовину состоит из стихов самого Блокаочи иилнотея их вариацией.< lo.oi по но персонажей пьесы постоянно расслаивается; от него, по-
пшик.! никоей эманации или флюидам, отходят «двойники», которые,
щдолишпись, приобретают самостоятельное, хотя и весьма эфемерное,II 1010100 сущоетшптшм.Инин in иорсопажой Поэт — оказывается единым, но в трех ли-
" I ■. и -тин самого Монта, Звездочета и Голубого; да и семинарист —■ • н in, пн же Понт, но на самой низкой ступени познания Iнрн . .1 пи тнпшого» начала; для этих персонажей не- пни и о* Птицы, 11 о.1 па комки, воплощения «вечной| • .I ми й роплынн го бытии, самого духа бессмерт- н ни, .ни и оч судьопн о.'иичао! почти роковое, извечное, в ней—in н ipo'ii'iiiiH/i ганпн истинного бытия. Они ио-разиому осмысляют ее
п т. рп.нтму относятся к пей, но все это—лишь различные грани од-
щи н и шго жо сознания, каждой нз которых придана лишь видимость
i.i. о и понюй самостоятельности.Ill н in ком ка также идет в сопровождении свиты своих двойников:
пин пин п ишется возлюбленной семинариста, перед которым танцуети. и смогу, то звездой, протекающей в астральных сферах,"г* п,1 т.пости небесных пространств, то земной женщиной— «над- та ждущей поцелуев и ласк, охваченной темным пламенем рис гей и хищнических вожделений.| ii I и мое можно сказать и о других персонажах «Незнакомки»—
in ii ms уличного кабака, так же как и о посетителях светской
| iiiin.il, которые произносят те же самые затверженные и пошлыеI - el I. и самые маски являются масками-«двойниками», какхо-343
эти . да. ВДо (брдг,:; обслуживающие свой кабак и совершенно похожие .
друг на друга — только у хозяина усы вниз, а-.у.брата -его, •полового^-
«усдл ,вверх»; здесь за столиком сидит «пьяный старик» — «вылитый
Верлэн», и безусый, бледный человек — «вылитый Гауптман»: автора
в дальнейшем так и называет их — Варлэн и Гауптман. Все остальные;
также кого-то напоминают, похожи друг на друга, как Поэт и Голу-
бОЙ. ;■Действие одного «видения» является своего рода новым витком той
же спирали, своеобразной вариацией другого видения; кажется, вы по¬
падаете в комнату со множеством зеркал, в которых все отображается,
перекрещивается, повторяет друг друга.Если в основе замысла «Незнакомки» — стремление запечатлеть
повседневную и даже самую пошлую действительность в свете преда¬
ний, и учения фшшсофов-вдеалистов древности, то характер ее героев,
да и самой поэтики генетически связан с романами Достоевского,
оказавшего огромное влияние на все творчество Блока; в «Незнаком¬
ке» это выразилось в смешении мотивов пошлости и фантастики, быта
я романтики, в образах «двойников», воплощающих двойственность
сознания человека, природы его чувств и переживаний в условиях,
определяемых характером буржуазного общества.Эпиграфы, взятые из романа Достоевского «Идиот», являются не¬
посредственным ключом к пьесе «Незнакомка»; здесь герои Достоевско¬
го обмениваются краткими, страстно-напряженными фразами, что-то
припоминая из какой-то иной жизни, и голоса их звучат словно бы
«из-под таинственной, холодной полумаски» (Лермонтов) — странно,
певнятно, загадочно:—• А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что
вто, в самом доле, я как будто ого где-то видела?— Я пас тоже будто видел где-то?гг Где? — Где?гг Я ваши х’лаза точно где-то видел... да этого быть не может. Это
я так... Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне...Здесь сои, фантазия, «видения» оказываются «реальнейшей реаль¬
ностью» бытия — по сравнению с явлениями и впечатлениями повсед¬
невной жизни,— и такая трактовка «реальности» определяет характер
пьесы Блока, ее «видений». ..Многое в «Незнакомке» возникает как отзвук вдохновенных им-;
провизаций Версилова («Подросток»)—о пошлости, доведенной до та¬
кого предела, за которым уже явственно проглядывает нечто фантас¬
тическое, несбыточное, чудесное; в пьесе Блока трактирная обстанов¬
ка и трактирные разговоры (с которых она и начинается) — все это не
просто и не только пошлость, но и «таинственная пошлость» (говоря
слойайи самого Блока), пошлость, граничащая с мечтой, с фантасти¬
кой, а может быть, и с чудом..«Незнакомка» — это пьеса, в которой наиболее полное выражение
нашли идеалистические представления и предрассудки поэта; ее дей¬
ствие не поддается истолкованию, а вернее — расшифровке, если упус¬
тить из виду философию Платона и Пифагора, если забыть о том, чтбШ
•>' 111 it - I н kt • память в платоновском ее понимаШй'—■ 'й'ЪкйШЬ %&й<йвейэципмцть, \ риннщан it своих сокровенных глубинах бесчисленное мно-
ьо, тип 1юп.|1(111|,п||пй, оужденных человеку; в этой пьесе Блока необхо- . I. шытмтшя мира подменяется страстным стремлением к его'„V пт ни и п in", «припоминанию», постижению — в сверхчувственном:-,
...м,,,А|11\ liciiM'ifoM восприятии — его извечной н навеки «недвижной» hi, •>', кдой каким бы то ни было переменам и влияниям, ненос- " Hi человеческого разума и приоткрывающейся лишь В бо-ми uni,и откровениях, пророческих снах.(...музы девственную душу
Л пророческих тревожат боги снах...—■нищ! никогда Тютчев,)И о 11 «Mi мпком 1со», как и и «Палаганчико», такжо звенит ироническая
м"|и чувгIиуктсн горипан усмешка н ипд окружиющой пошлостью,
и, in,пиши,мн о, ipniuiMii" I и' [ 1111.1 м 11 себе H и трактир» и и свот-"oii mill и над самим гоПпю ипд Понтом и его двойниками, об-• ■ • 11и I ч 11 ми in 1111,1, шпи он и ночную тоску но бозпадояшо ут- м>* < v I I 'I у По кс,п и <i I iti.ii и га и м ик» явился переломным в твор- •"ниш. уОкжднл н тот, что поэтсмеясь расставался со своимM|MiHiiiiiim, в котором таким значительная роль принадлежала мистиче-• ни им м 1,1 с .и и м н < |ш 11 г| 1: 111 нм, то «Незнакомка» свидетельствовала
•фм'нтстн и .кпву'нч'тп идеалистических воззрений поэта, опреде- то , и ■,иракткр его ,11нрнчкс,кой драмы, самую ее поэтику, ее слож-и iiH нот трукн,ию, б,цинкую симфонической— с ко «лейтмотивами»
н "ониIрвпунктнмн»,и» и и Клоки именин дыханием необычайно тонкого и нроникновен-— * три очи, 11о 1111,1 которого одолевают иронию и сарказм, врываю-
" н Hi m u mu \ ■ pomuii п льдистой струей,— и все же «прокля- (in ычпио самого понта), явно сказывающей*", '" " | т. тайного ик на подлинных паблюде- ' и на iioii.iia шатких, измышленных, сугубо I ■ ■ | IIн'Iи ‘Iн ч и in I ниши',кой философии п пифа-I | ilium mi пи рщцаиицим нораном сказалось в ньессI НИЩ '|' lli'iiiiaiiiiMiiK'i пол ноннршцаетсп ко многим иллюзиям и фантас*
и спи ч прошлого, и такого рода «возвраты», рецидивы болезни, уже,-' и , |„„ н «Идеи пути и пиитическом сознании Л. Блока» («Бло-■ I II, Тарту/1072) Д. Максимов, полемизируя с даннойп некой поймы «Нонцикомка», утверждает, что концепция| , шнщницннмп» получила свое толкование у Блока «...не от. пифа-, impiuii'Mhic,ленном ее варианте — в идеология нового вромо-.| .пн пин'I аргументов в пользу своей точки зрения не приводит; .ни привести — если принять во внимание, какое огром- I ini >1 и пил и юности (да и позднее) Блок древне-греческой| И,,пику фагорейцам (перечитаем хотя бы ого письмо ml, при поденное здесь иа 107-й странице) даже и в то отдаленное представление о «идеологии нового345
казалось бы, окончательно изжитой, крайне характерны для Блока,—
и многое мы упустили бы в его произведениях, если бы забыли об
их сложности, двойственности, крайней противоречивости, а то и самой
явной непоследовательности,3. «О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА»Но только в своей художостлотюй практике, но и в иных теорети¬
ческих высказываниях Блок, в противоречии с основной направлен¬
ностью своих произведений (даже и в то годы, когда кризис символист¬
ского движения стал для него совершенно очевиден), мог отстаивать
символизм и символическое творчество как единственно достойное
истинного художника — свидетельством чему и является его доклад
«О современном состоянии русского символизма» (1910), прочитанный
в Обществе ревнителей художественного слова. В этом докладе поэт
пытался теоретически обосновать противоречия, присущие его созна¬
нию, проследить свой творческий путь, начиная от «мгновения слишком
яркого» — и вскоре померкшего — света.Докладу Блока предшествовал доклад Вячеслава Иванова «Заветы
символизма», прочитанный в том же обществе, причем сам Блок вы¬
сказал в свое время согласие с основными положениями В. Иванова
и рассматривал свое выступление как всего лишь иллюстрацию к док¬
ладу «Заветы символизма».«Моя цель,— утверждал Блок во вступительных строках своего до¬
клада,— конкретизировать то, что говорит В. Иванов, раскрыть его
терминологию, раскрасить свои иллюстрации к его тексту...» я обнару¬
жить — «какая реальность скрывается за его словами, на первый
взгляд отвлеченными,..».Что же касается доклада самого В. Иванова, то его нельзя рас¬
сматривать иначе, как одну из попыток гальванизировать уже выдох¬
шийся к тому времени символизм, вдохнуть в него новые силы, собрать
воедино и сплотить его приверженцев, и тем самым доказать, что сим¬
волизм не только жив, но что только ему — и никаким иным течениям
в искусстве! — принадлежит будущее. В этом докладе утверждались
старые положения символизма как «теургического служения» и мисти¬
ческою «откровения», проповедовался — в правоверно платоновском
духе — извечный «символический дуализм» мира «чувственных» прояв¬
лений и мира «сверхчувственных откровений», причем самый симво¬
лизм, с позиций автора доклада, являлся «первым и смутным воспоми¬
нанием о священном языке жрецов и волхвов, усвоивших некогда сло¬
вам всенародного языка особенное, таинственное значение, им единым
открытое — в силу ведомых им одним соответствий между миром со¬
кровенного и пределами общедоступного опыта...»—в связи с чем и в
самом поэте В. Иванов усматривал прежде всего и главным образом
«носителя внутреннего слова, органа мировой души, ознаменователя
сокровенной связи сущего, тайновидца и тайнотворца жизни».Повторяя и варьируя эти множество раз высказанные им положе-
1 И р.,'тш п постулировал следующие «отличительные признака чип,'шчш'кого художества»:|| ' '<> пт I с 1Ы10 выраженный художником параллелизм феноме- и|*\ ,мскального; гармонически найденное созвучие того, что ни и тПрижает как действительность внешнюю («realia»), и то- фоппдпт во внешнем как внутреннюю и высшую действи-1 и- ("кмПога»)...1 гкчшпн интуиция и энергия слова, каковое непосредствен-. п и I китом как тайнопись неизреченного, вбирает в свойими ми, неведомо откуда отозвавшиеся эхо и как бы отзвуки род-
> I м'мII 1.1 .V ключей—и служит, таким образом, вместе пределом■ ■ * * mi и unu 1)<нд(м11.ПОО, буквами (общепонятным начертанием)•1 *' in in то и иероглифами иератичоской транскрипцией внутреннего
п ин- (журнал «Дно,и,поп», 1010, М й, стр. 14),') I и •• щи ту in I i.i ■> п <' IиnI' 11.1пшио.штма, in ("питаемые. It. Пнано-I . М НК III.И НИ III >111(1. 11(1111 (ipi'll HUM Д11ЩН1 пройденного, а I10T0- ■ м. и, I.iihii in п 1,1 1111111111( I 111111 м 1111 н я, если бы Блок не провоз-н. к in .| < hi 111 н 11 i.i ,м II положен иями» доклада В. Ивано- пики in. ни многом Нино чуждыми ему (о чем и свиде-■ ■ I»I ^ (• I чприкгнр развития его творчества)." т.! И тки «О современном состоянии русского символизма»
г-ll - пмлм.’н'н безнадежной н заранее обреченной попыткой реставри-I ini!, прежние п во многом уже изжитые поэтом символистские
' и шилепин о жизни н творчестве, вернуться к воззрениям Влади-• *'• 1"( < .и кии,(inn, противопоставлявшего «святыню муз», как ценность■ ни in порядки, «шумящему балагану» (здесь Вл. Соловьев имел■ • • пи мню I Iciipticoim, гражданские и злободневные мотивы его"1"и н) с, ,пп'. пищ и п и Илок и рассматривал свое творчество, харак-
I inn ямы но. ринит, «пошло задачи», стоящие перед сим-Ни I H'IMMH!! м, Ч1.т м и.• |(1111(\ н hi iiiiiiiihiii положения доклада В. Иванова,
'I' .inti к hi Kin inn in'ii. l imn жизненный >1 творческий путь
н iiii ни I ii'ici к 11II i|ni шгифпн, утнорждан, что «символист уже к in rt>ni>i', I с обладатель тайного знания, за которым стоит .Hein"пики). С, :iinх «тоургнческих» позиций и говорит Блок аб л(мрич)> («...либо существуют те миры, либо нет...») —и пастаи * I ini ич существовании. сначала поэт — он же «теург» —пребывает «в ла.зу-I in лучезарного взора...»; к нему — сквозь миры — доходит'.'и 'Ii.iи то безмятежной улыбки», и «начинается чудо одпиокого
нрщПриННЧШН»,' итеза», за которой вскоре последует и «антитеза», ибо не-сн ниши перерезает «нить зацветающих чудес», и, «как сквозь• ни и. плотину, врывается мировой сумрак», в котором вместоI и.ill подруги» предстает «мертвая кукла» с лицом, «смутно нм то, которое сквозило среди небесных роз».и |*• ипощнй. эту «антитезу» уже не один: «он полон многих (иначе называемых «двойниками»)», с помощью которых он347
и,добывает,(«красивую куклу» —■ синий призрак,: «незнакомку», то1 есть
«дьявольский сплав из многих миров», и собственный его — некогда
волшебный — мир превращается в балаган, где сам Поэт разыгрывает
незавидную роль — «себе самому па диво и на потеху».Это и есть «венед антитезы», когда все обращается в балаган,'а'ба¬
лаган—- в призрак.Но на этом но завершается метаморфоза, происходящая с худОж1-
ником и окружающим его миром: перед ним, продолжает Блок, возни¬
кают вопросы о «возвращении к жизни», об «общественном служении»,о церкви, о «народе и интеллигенции», о поисках утраченного «золото¬
го меча», который должен вновь пронзить хаос, организовать иусмй>
рить бущующие лиловые миры...»— и поэт, уже переживший и «тезу»
и «антитезу», видит некие новые возможности для своего творчества
и для всего символизма — в подвиге послушания, но и самый подвиг
понимается здесь в духе «теургического» служения.Конечно, попытка осмыслить свой жизненный и творческий путь
в последовательно символистском духе оказалась явно несостоятель¬
ной, , анахронистической, и своими фантастическими конструкциями
поэт лишь мистифицировал и себя и читателя. В своем докладе Блок
пытался оправдать возвращение к временам создания стихов о Про1
красной Даме и усмотреть в них «живой язык богов», который нельзя
было сменять «шумящим балаганом», «рабской речью» (все это бйло
ночерннуто из стихов и призывов Вл. Соловьева).Эта «оглядка» на прошлое и привела Блока к отстаиванию тех
смутных и фантастических положений, политическая несостоятельность
и даже реакционность которых совершенно очевидна; в противовес
суждениям «вульгарной критики», заявлявшей, что нас «захватила ре¬
волюция», Блок высказал «обратное суждение»: революция соверши¬
лась не только в этом, но и иных мирах; опа и была «одним из про¬
явлений помрачения золота и торжества лилового сумрака, т. е. тех
событий, свидетелями которых мы были в наших собственных душах.
Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России».Здесь поэт рассматривал революцию в духе субъективно-идеали-
ческкх воззрений Владимира Соловьева и Андрея Белого — как помра¬
чение собственной души, как «мятеж лиловых миров»,— отвлекаясь от
«исторических, экономических (которые поэт называл «частичными»;—
£>', ,С..) ее причин»,— и топил злободневные вопросы современности в
вдсалистически-беспредметиых рассуждениях об «иных мирах», в схо¬
ластике, окрашенной в мистические тона (в чем и выразилась попытка
вернуться на правоверно «соловьевские» позиции).. Мудрено ли, что доклад Блока, в котором поэт отрекался от самого
себя,, от своего творческого пути, был восторженно встречен такими
Ейрателями-символистами, как Андрей Белый, Вячеслав Иванов, их
соратники и единомышленники!Они усматривали в выступлении поэта возвращение «блудного
сына» в «дом отчий», к старым и некогда отвергнутым им божествам,
кэ «граду, обещанному религиями» (и еще так недавно решительно
отвергнутому поэтом!).348
Шылыс друзья и соратники Блока восприняли его доклад КяК’дтказ
ю требований общественности, современности, злободневности, и не
напрасно Вячеслав Иванов бросился к нему—после прочтения
>Iого доклада- с объятиями и поцелуями, а Андрей Белый, ознако¬
мит! на. о выступлением Блока, сразу же отправил ему восторжен-
нin' нin i.мн со словами любви и примирения (после двухлетнего раз-
piillllll)1н I i.i п идось снова именует Блока братом и изъясняется в пре¬
данное i и п любви к нему:•| прочитав Твою статью в «Аполлоне» (где были опубликованы
диклнды Иванова и Блока.— Б. С.), я почувствовал долг написать Te¬
lle, чтобы выразить Тебе мое глубо1{ое уважение за слова огромного
мужества н благородной правды, которой... ведь почти никто не услы¬
шит, кроме нескольких лиц, как услышало эту правду несколько лиц,
и Моские, Сейчас н глубоко взволнован п рас.трогаи. Ты нашел слова,
которые и ужо нот год ищу, пси пе могу пойти: а Ты — сказал но толь¬
ко та сыш, по п за ни ". нас,.,» («IIпрописки», стр. 233). И Белый спешитii I hi п or 111 покщшно» по иенм том, что «было меж нами», беря и а се-
Он целнком нею пипу за то, что привело к разрыву отношений двух
Оылых друзей.Пам по приходитсн гадать, почему Блок в своем докладе вернулся
н прошлому и повторил многое из того, что, казалось бы, уже оконча-|г <ii.uo реодолел, попытался оживить те иллюзии, призрач-ши н, и обманчивость которых была совершенно очевидной я ему
самому, Для Блока пе могло пройти безболезненно и бесследно воз-
Д| Йстнио тех продуктов разложения и гниения, которыми была насы¬
щена окружившая его среда,— нет, она оказывала на него глубокое
н существенное плиниио — и «Весы» (журнал, которому он считал
'' 11н многим обпзапиым), и «Вехи», подвергавшие осмеянию идеалы in м in not I in) демократического лагеря, и всякого рода сектантские,мп т., ..iimi у I i.i н i.i ■< .> сочинении, и которые внимательно вчиты-II.i-н и ном, mi мн и отощал or к н его докладе, вызнавшем восторжен¬
ный щ клик у инки понтон симппдистои.11 ос и н 111,01111 |.ю попыткам воскресить символизм, доклады Блока и
Ниппона вызнали весьма резкую но своему тону статыо Валерия Брхо-■ нин ■() речи рабском», в защиту поэзии» («Аполлон», 1910, № 9);
и 11 и м г I о и толковал символизм как «теургическое служение», а Валерий1 решительно оспаривал подобную точку зрения на символизми . (mime нанитольио высмеивал ее.• Ими. теургом, разумеется, дело очень и очень недурное. Но поче¬
ши пт итого следует, что быть поэтом — дело зазорное?..» — спра- Прюсои, и, как один из основоположников русского символиз-• и участник самых первых его начинаний, опровер-I II, Иванова, утверждавшего, что «символизм не хотел и не • hi и.ко искусством».•■Инк иго,., ни досадно,— заявлял Брюсов,—но «символизм» хотел т огда был только искусством». Он развивался «исключительнон > ii I ii in hi ис кусства».349
Не ограничиваясь этой исторической справкой, Брюсов и здесь от¬
стаивал своп старые представления об абсолютной «автономии» искус¬
ства. ■«У него свой метод и свои задачи,— утверждал Брюсов.— Неужели
после того, как искусство заставляли служить науке и общественности,
tffiepb его будут заставлять служить религии! Дайте же ему, наконец,
свободу!» (там же, стр. 32—33).Далее Брюсов полемически заострял ту же мысль и придавал ей
сатирически-фольетонный характер, резко контрастирующий с патети-
чески-возвышоши.гм языком своих оппонентов:«Настаивать, чтобы всо поэты были непременно теургами, столь
же нелепо, как настаивать, чтобы всо о пи были ч ленами Государствен¬
ной Думы. А требовать, чтобы поэты перестали быть поэтами, дабы
сделаться теургами, и того нелепее».Как видим, позиция самого Брюсова в этом споре являлась весьма
односторонней: настаивая на абсолютной «автономии» искусства, его
независимости от общественности и науки (хотя и сам он в журнале
«Русская мысль» отстаивал «научную поэзию»), Брюсов тем самым
впадал в противоречие с самим собою и лишал искусство наиболее жи¬
вотворных источников творчества и вдохновения, без которых невоз-<
можно существование и развитие искусства (что и привело к кризис¬
ным явлениям в творчестве самого Брюсова, к явно обозначившемуся
в те годы упадку его дарования). Но, конечно, требование освободить
искусство от опеки религии, от «теургического служения» было про¬
грессивным и совершенно оправданным,— а вот именно против этого
требования и возражал с крайней запальчивостью Андрей Белый, ак¬
тивно ввязавшийся в дискуссию о символизме и его судьбах; на стра¬
ницах. того же «Аполлона» он изливал на Брюсова издавна накопив¬
шееся негодование, вызванное отказом автора «Путей и перепутий»,
вопреки призывам того же Белого, стать апостолом и «знаменем»
символизма. В своей статье («Аполлон», 1910, № 11) Белый заявлял,
что «в корне не согласен» со статьей Брюсова, и упрекал его в измене
идеалам символизма и своим прежним взглядам и высказываниям
О' символизме.«В искусстве кроется религиозное творчество,— утверждал Бе¬
лый.— Символизм — пе школа стиха, а новая жизнь и спасение чело¬
вечества. Вот почему нооты-символисты — это теурги и пророки, что
бы ни говорил Брюсов».Так на страницах «Аполлона» между недавними соратниками-«ве-
сощами» вспыхнула яростная и страстная полемика, выяснившая, что
оппоненты не только не имеют, но и никогда не имели общего языка,—
и даже тогда, когда произносили одни и те же слова, вкладывали в них
различный смысл.Впоследствии Белый перенес полемику с Брюсовым и в журнал
«Труды и дни» (1912, № 1), где в статье «Символизм» декларировал,—*
оспаривая Брюсова,—что «...портик искусства — не портик, сквозь ко-
л&шы которого светит только пустота: это портик перед подлинным
(Храмом». Но этого не. видит Брюсов,—: вот почему Белый и обращается
к нему с гневными фюшппикамл, пронизанными духом явных угроз
(как когда-то и в переписке с Блоком!):«Говоря о цели искусства, говорю я, как посвященный, и если я —
посвященный, то горе мне, если венец обменяю я на венок.Горе, кто обменит
На венок венецВ. БрюсовСо мной да поступлено будет, как с изменником». »Таким «изменником» и являлся в те годы в глазах Андрея Белого
Калерий Брюсов, променявший «венец» мага и священнослужителя на
«венок» ординарного искателя людской славы и широкой популярности.
И здесь Белый обращал против Брюсова давние стихи самого Брюсова!Андрей Белый рекомендовал в свое время Брюсову путь от «черной
магии» к «белой магии» («Луг зеленый», стр. .185), то ость к религии
и мистике, а Брюсов избрал совершенно иной путь —- от «магии» (ко¬
торою некогда увлекался) к реальной жизни — и только высмеивал
отстаиваемое Белым понимание искусства как «теургического служе¬
ния».Что же касается самого Блока, вызвавшего своим докладом «О со¬
временном состоянии русского символизма» неумеренные восторги м
новые надежды на возрождение символизма в одном лагере и недоуме¬
ние — в другом, то поэт весьма недолго увлекался этой иллюзией; он
испытывал острое недовольство «собою и своим докладом».Через три дня после выступления в Обществе ревнителей русского
слова он пишет матери, с которой делился самыми заветными раз¬
думьями и переживаниями:«Я читал в Академии доклад, за который меня хвалили и Вячеслав
целовал, но и этот доклад — плохой и словесный. От слов, в которых
я окончательно запутался и изолгался, я, как от чумы, бегу в Шахма¬
тово...» (1910).О том, какую оскомину вызвал у Блока его собственный докладо символизме, свидетельствует и его письмо В. Кривичу, в котором
поэт говорит о возможности «поставить крест» над своими «статьями
лообще», в чем рн чувствует «большую потребность, теперь по край-,
ней мере...» (13 апреля 1910 года),-— именно «теперь», когда только
что прочитан доклад, явно противоречивший творческим устремлениям
самого Блока.В письме к писательнице JI. Я. Гуревич (в то время — сотруд¬
нице журнала «Русская мысль») Блок говорит, что он до такой степени
«заболтался», «особенно в прозе», что «лучше не писать», и пояс^
ниет ей:«Если напишу, будет непременно ложь, т. е. словесность, т. в.
кощунство...» (1910).Это таюке написано вскоре после того, как Блок прочитал свой до¬
клад «О современном состоянии русского символизма», судя по всему
вызвавший такое недовольство собою, что и другие свои сочинения-—
«особенно в прозе»—поэт взял под сомнение: не являются ли и :они не¬
навистной ему «словесностью», враждебной живому делу?!Почему же такую реакцию вызвал у самого Блока его доклад?Потому что здэеь сказалась ие только внутренняя противоречивость
поэта, но и прямо-таки «раздвоенность»: в своей речи он приводил как
завет всякого истинного художника стихи Владимира Соловьева, на¬
правленные против Некрасова и призванные «обличить» его (что видно
из письма Вл. Соловьева, адресованного А. А. Фету и известного Бло¬
ку— хотя бы но альманаху «Северные цветы», где оно было впервые
опубликовано):Восторг души — расчотлииым обманом,И речыо рабскою — живой язык богов,Святыню муз шумящим балаганом
, Он заменил и обманул глупцов.Сам Блок, процитировав в своем докладе эти жалкие стихи, не на-i шел ничего лучшего, как полностью разделить их «жреческий» пафос
и прибавить от себя: «Да, все это так».А вместе с тем он незадолго до того создал пьесу «Песня Судьбы»,
герой которой именно в некрасовских «Коробейниках» ищет дорогу
к настоящему делу, к подвигу, к народу; поэт уже паписад стихи, вхо-■ дящие в циклы «Родина» и «Ямбы», в которых многое перекликается
с музой Некрасова, и, наконец, он уже приступил к созданию поэмы
«Возмездие», где, как никогда дотоле, сближается с Некрасовым, осо¬
бенно — в характеристике эпохи и людей рубежа 70—80-х годов; здесь
он следует именно за Некрасовым, использует опыт его творчества,
приобщается к его гражданскому пафосу; вот это стремление к подлин¬
ной реальности, творческое родство с Некрасовым, оказывалось го¬
раздо сильнее мистических домыслов Владимира Соловьева, отстаи¬
ваемых Блоком в его докладе,— вот почему сразу же после произне¬
сения этого доклада он испытывал такое недовольство собою.Нет, не в докладе «О современном состоянии русского символизма»
нашел поэт выход новым своим чувствам, думам, стремлениям, застав¬
лявшим его идти «от личного к общему» и обострявшим ненависть
к «страшному миру», ко всему строю насилия, угнетения и самодержа¬
вия; эта ненависть находила спой неизбежный выход ио в мистических
«прозрениях» и «откровениях», не в «теургическом служении», а в со¬
вершенно ином: в создании цикла стихов «Родина», «Ямбы» и, может
быть, в наибольшей мере — в создании ноэмы «Возмездие», которая
и была «пропитана этой ненавистью» (как говорит поэт в письме к ма¬
тери); здесь и проявилось с наибольшей полнотой созревание Блока
как художника, как гражданина своей родины, укрепление чувства
ответственности за судьбы народа, за ход борьбы с силами реакции
и мракобесия.Вопреки своим иллюзиям о возможности возрождения символизма
(сказавшимся в докладе поэта), вопреки всем своим заблуждениям на
сен счет Блок обратился к созданию произведения, пронизанного ог¬
ненным гражданским пафосом,— что и было свидетельством внутреи-352
ггого роста Блока как человека «общественного» (говоря его й<ё сло¬
гом) .Создание поэмы «Возмездие» (так же как и многих других произ¬
ведений'Блока, ответивших духу жизненной правды, выражавших гра¬
жданские настроения и чаяния поэта) и свидетельствовало о том, что
же на самом деле было основным и ведущим в развитии художника,
какая из противоречивых тенденций одерживала в его творчестве ре¬
шительный верх; разве не показательно, что именно в тот же год,
когда Блок произнес доклад «О современном состоянии русского сим¬
волизма», он вплотную приступил к созданию одного из крупнейших
и значительнейших своих произведений — поэмы «Возмездие»?Этой поэмой, гораздо более близкой по своему духу Некрасову,
чем Вл. Соловьеву, Блок сам, как художник и гражданин, перечеркнул
основные положения своего доклада и сам жо ответил — в резко по¬
лемическом духе — на то, почему такую неудовлетворенность вызнал
у него свой собственный доклад.А теперь нам предстоит ответить на вопрос о том, что представляет
собою поэма «Возмездие» и что означала работа над нею в творческом
развитии Блока.
«ВОЗМЕЗДИЕ»I. «РОДНЫЕ СЕСТРЫ»В 1910 году Блок приступил к созданию поэмы «Возмездие», пер¬
вая глава которой была опубликована в журнале «Русская мысль» (в
январе 1917 года); хотя поэма осталась незавершенной,—и в незавер¬
шенном виде она представляет важный этап в творчестве Блока, одно
из наиболее выдающихся явлений русской поэзии. Но прежде, чем
перейти к рассмотрению «Возмездия», необходимо уяснить характер
воззрений, сложившихся у Блока к началу работы над поэмой и ут¬
верждаемых в пей страстно, решительно и непримиримо.В то время жрецы и проповедники самого крайнего индивидуализ¬
ма тщились найти все новые и новые аргументы против революция
и демократии как начал якобы «привозных», надуманных, искусствен¬
ных но сравнению с жизнью личной, частной, семейной (на чем особен¬
но усиленно настаивали авторы либерально-ренегатского сборника «Ве¬
хи»),— и в этих условиях самый замысел, лежащий в основе поэмы
Блока и направленный против философии и практики индивидуализма,
против буржуазной этики, являлся необычайно важным и своевремен¬
ным.Поэт, осмысляя свой большой и суровый жизненный опыт, ясно
осознавал, что один из самых опасных обманов и соблазнов «страшного
мира» заключается в утверждении индивидуализма и индивидуалисти¬
ческой философии как единственно истинного, подлинно гуманисти¬
ческого начала — в противовес началу общественному, коллективному,
народному. Так перед Блоком открывалась еще одна область, которую
«страшный мир» пытался присвоить, выдать за свою исконную вотчи¬
ну, чтобы выглядеть наиболее возвышенным и благородным. Это — об¬
ласть всяческих добродетелей, морали, гуманизма, единственным пев¬
цом, провозвестником и «гарантом» которого буржуазия объявляла
себя, утверждая, что только в условиях оо господства человеческая
личность обретает,возможности для невозбранного удовлетворения всех
своих интересов и потребностей,— а лучшего порядка нет и быть не
может.. Старый мир не прочь был прикинуться гуманным, великодушным,
добрым, но эта «доброта» (плохо согласующаяся с господствующим
в .нем бесчеловечными порядками и отношениями), доходившая до
умиления, сентиментальности, благотворительности, и вызывала у Бло¬
ка обостренную настороженность, недоверчивость, пытливость, которая'
н привела его к открытиям, необычайно важным для понимания харак-354
тора и природы буржуазного гуманизма (что впоследствии сказалось
и в статье, написанной в дни гражданской войны,— «Крушение гума¬
низма»), потакавших развитию и укреплению сугубо эгоистических ин¬
тересов и хищнических вожделений, оправдывавшего «великое пре¬
дательство» народных интересов и самого дела революции.При всем том индивидуализм редко выступал в своем отвратитель¬
ном и обнаженном виде,— нет, он носил множество внешне привлека¬
тельных масок, он хотел выглядеть возвышенным и благообразным в
глазах широких масс; он стремился прикинуться отзывчивым («ласко¬
вый старик» — назвал его Брюсов); он умел эксплуатировать чувство
жалости, сострадания, любовь к старине, сладостную и усыпляющую
привычку к уже сложившемуся порядку жизни, противостоящую за¬
боте и тревоге о народном благе, о будущем, о самом главном в жизни.Один из соблазнов «страшного мира» — это оглядка назад, умиле¬
ние перед старым, издавна милым, по отжившим, пород псом том, с чем
нельзя расстаться без горьких сожалений и острой боли, как нельзя
выбросить с детства знакомую игрушку, хотя бы уже никуда не год¬
ную, облезлую, по дорогую но слишком многим воспоминаниям. Имен¬
но такую милую и выдаваемую за некий непревзойденный идеал ста¬
рину воспевали писатели реакционного лагеря,— и в сочинениях В, Ро¬
занова (как и многих других обскурантистов) ради таких «игрушек»
под вопрос ставилось будущее всей страны и ее народа; вот почему
Блок, высоко ценивший художественное дарование Розанова, вместе
с тем решительно оспаривал его откровенно реакционные, нововре-
менские позиции, отвергал его оглядку на прошлое.В 1909 году он писал В. Розанову, певцу дворянских «затиший»,
провинциальных «закоулков»:«...знаю я эту любовь к мелочам быта, люблю ее в Вас лично ужас¬
но и боюсь ее в Вас как писателе. Позвольте мне, в числе многих дру¬
гих и как бы уже пе от своего лица, сказать Вам, что этой любовью,
этой прелостью и нежностью невольно прикрываются самые страшные
ямы — сентиментальность и жестокость — родттьто сестры...»Этих «сестер»—сентиментальность и жестокость — поэт видел на¬
сквозь, в любом их обличье — и в бездеятельной мечтательности, и в
умиленной любви к старинному благолепию и благочестию, которая
оборачивалась ненавистью ко всему живому, юному, мятежному; видел
поэт их родство и в той жестокости, которая оказывалась стяжатель¬
ством, беззастенчивым себялюбием, откровенным хищничеством, еще
рядящимся в пестрое оперение крылатого и вдохновенного демона,
кичащегося своим родством с героями Байрона, Лермонтова, Врубеля,
ко уже явственно видного в своей человеконенавистнической и отвра¬
тительной сути. И как бы ни были порою различны с виду эти «сест¬
ры», поэт раскрывал их внутреннее родство, их нерасторжимую связь,С пристальным и зорким вниманием наблюдая нравы родственных
ему кругов русской интеллигенции, встречаясь с близкими ему людь¬
ми, поэт все более убеждался в том, что существуют «темпые буржуа:!*
по-прикащичьи, гувернантские слои», где сентиментальность и «смире¬
ние» пахнут «погромом по славу божию...» (Дневник, 1912),— и в его355
глаза^ небщло ничего случайного в том, что именно в,.издании
К. П. Победоносцева, в Синодальной типографии, вышел перевод расг
сказа английской полубульварной писательницы Марии Корелли «Ис¬
тории детской души» (своего рода вариант реакционно-клерикального
романа французского писателя Поля Бурже «Ученик»), в котором
предпринята безнадежная попытка дискредитировать самые основы
научного познания — ради торжества религии и буржуазно-клерикаль¬
ного «гуманизма». Рассказ этот, но словам автора, адресован «тем
самоимевным нрогроссптпм, пои и учением своим и примером содей¬
ствуют бесчестному долу воспитания детей без веры...» — и тем самым
устраняют из детской души «нозиашю бога и любовь к богу», единст¬
венную основу «доброй жизни...»Изложив вкратце этот сентиментально-ханжеский рассказ, (без¬
божник профессор довел своего восниташшка-мальчика до самоубийст¬
ва, а сам, «просветленный» горем, уверовал в бога), Блок подытожи¬
вает:«Какова же мораль? Цель автора (а скорее редактора): прикрыв¬
шись образом чистого ребенка, бросить камень в возможно большее ко¬
личество ценностей: 1) в науку; 2) в свободолюбие, которое отожест¬
вляется с Ибсеном».Далее поэт прозорливо раскрывает смысл подобных изданий Сино¬
дальной типографии, действующей иод эгидой «старого дьявола» (как
Блок здесь же именует «обер-прокурора святейшего Синода» — К. По¬
бедоносцева); поэт подчеркивает, «с каким поистине дьявольским ис¬
кусством» воспользовались русские реакционеры и мракобесы невин¬
ным «лепетом» Марии Корелли и ее именем, чтобы десятилетиями
подавлять «великие духовные, умственные и, наконец, политические
движения, без которых страна задохнулась бы».Пусть англичане, если это им нравится, наслаждаются подобными
«уютными септиментами», а у нас,— записывает Блок,— «с помощью
подобных «сентиментов» такие «старые дьяволы», как Победоносцев
и. прочие мракобесы, расправляются с передовым движением совре¬
менности, душат все живое, прикрывают с их помощью «самые .страш¬
ные ямы».Так какое же право мы, русские, имеем на подобные «уютные сен-
тименты», если нам заранее извостио, кто их использует и каким реак¬
ционным силам: служат они?! — вот вопросы, па которые Блок отвечает
в своей поэме, выступая против обожания старинных «затиший», про¬
тив кликушески восторженного восхваления всего ветхозаветного, от¬
жившего и оборачивающегося «демонизмом», ненавистью ко всему
новому и передовому (что и раскрыто в поэме «Возмездие»).Разоблачая индивидуализм и в его крайних, «демонических» про¬
явлениях, для всех очевидных, и в его самых тайных, скрытых от пос¬
тороннего глаза закоулках, «затишьях» и убежищах, поэт снова
столкнулся с той проблемой, которая издавна представлялась ему не-,
©бычайно важной,— проблемой воспитания, а особенно того, которое
Вызывается «сентиментальным», ибо полностью оно соответствует
философии и психологии индивидуализма, способствует и потворствует,356
как это ни парадоксально с первого взгляда, самым крайним'ёго Нрб-
пвлёниям.1«Сентиментальное воспитание» — такое безобидное и даже прй-
влш&тельноё с виду — с романтикой его снов и возвышенных мечта¬
ний, чуждых «низким» нуждам повседневной жизни, оказывается од-
Ш!м из самых обманчивых и опасных обояыцепий «страшного мира»;
оно подобно тайному пламени, сжигающему мосты между человеком
и обществом, и чем оно благообразней, «вкрадчивей», «уютней», плени¬
тельней, тем опаснее оно и ядовитее; если отбросить украшающие его
покровы, то «сентиментальное воспитание» неизбежно и неизменно
оказывается воспитанием индивидуалиста, чуждого сознанию долга
и ответственности перед людьми, перед народом и занятого лишь са¬
мим собою; оно является в конце концов воспитанием хищника, «де¬
мона», а поэтому в полной мере соответствует духу и потребностям’
буржуазного общества.Вот эту связь «сентиментального воспитания» с поощрением са¬
мого крайнего индивидуализма («демонизма»), связь на первый взгляд
непонятную и почти непостижимую, и раскрывает поэт во многих
своих Произведениях, а в первую очередь и наиболее глубоко и после¬
довательно — в поэме «Возмездие», где мы видим, что скрывается за
«гуманистическим туманом», какие «темные дела» зреют под его бла¬
гообразным и обманчивым покровом.Чем был «демонизм» прежних времен, во многом отличный от со¬
временного Блоку?Когда-то он был дерзким вызовом старому и уже отжившему по¬
рядку, осознанием мощи человеческого разума и неизмеримости при¬
сущих; человеку сил, чувством того, что весь мир принадлежит ему, кай
его неотъемлемое достояние, наследие, поле битвы и творчества; 8т6
становилось и богоборчеством, ибо на божие имя и божий авторитет
веками ссылались все ревнители и поборники старых порядков и воз¬
зрений,— и кто из людей нового склада, видевших, кате под их удара¬
ми, угрожая и огрызаясь, отступают старые боги, предчувствовавший
свою гибель, не сказал бы о себе словами Брюсова:Я с Богом воевал в ночи,На мне горят Его лучи...Великие деятели эпохи гуманизма бросали вызов всем устарелым
законам, й людским и божеским, прокладывали дорогу всему челове¬
честву, которое никогда не забудет их деяний и подвигов.«Демонизм» прошлых веков вдохновлялся мыслью о том, что как
ни сильны боги старого мира, но человек, несущий в своей груди бес¬
смертный й неугасимый прометеев огонь, неизмеримо сильнее и но
может, в конечном итоге, не одолеть их. Вся история Возрождения и
новых времен — это и есть «гибель богов»— богов старого феодального
мира, место которых все более властно и решительно захватывает Че¬
ловек,1 бросающий им Дерзкий вызов и видящий всю несправедливость
и бесчеловечность установленных ими порядков,— а если, на взгляд
тех; кто: цеплялся за старую веруй отжившие феодальные устои, такдй357
вызов могли бросить только дьявольские, демонические силы,— что ж,
люди нового, гуманистического склада но только не страшились имени
демоиа, но и гордились им, окружали ого романтическим ореолом, ви¬
дели в нем дух возмущения, свободолюбия и мятежа.Но у этого, когда-то передового и прогрессивного движения, опре¬
делявшего характер развития мировой культуры и сказавшегося на
судьбах всего человечества, была и своя ахиллесова пята, своя «мертвая
точка», достигнув которой опо пошло под уклон. Эта «точка» опреде¬
лялась тем, что гуманизм прошлого, отстаивая права и интересы че¬
ловеческой личности как пооп.омломые и верховные, был нерасторжи¬
мым и органическим образом связан г. философией и практикой инди¬
видуализма (что и отмстил впоследствии Блок в статье «Крушение
гуманизма») и в конце концов послужил не отмене всякого угнетения
человека человеком, а только смене формы этого угнетения. В этом
и заключалась его слабость, обнаруживавшаяся тем более явственно,
чем активнее выходили на авансцену истории, как ее первая и решаю¬
щая сила, трудовые массы, не желающие подвергаться никакому гне¬
ту — ни со стороны «богов» старого феодального мира, ни со стороны
пришедших на смену им и пронизанных духом крайнего индивидуа¬
лизма «избранных», хищников, «демонов».В этих условиях философия и психология индивидуализма, выше
всего ставящего интересы отдельной личности, терпят неизбежный
крах,— что нашло свое выражение в новой трактовке образа «демо¬
на» — героя «Возмездия»; Блоку и суждено было завершить этот образ,
который уже перешел «мертвую точку» в своем развитии — и отныне
был обречен на падение, неизбежное и закономерное в новых истори¬
ческих условиях.Вопрос о том, как человек превращается в стяжателя и хищника,
какой огоиь медленно и терпеливо Пожирает самую его сердцевину, из¬
давна тревожил Блока, привлекал его острое и напряженное внимание.
Поэт давно понял, что «яд нежности», отрава «сентиментального вос¬
питания» — все это убивает душу, а человек с такой «убитой душой»,
Хотя бы он и вышел в жизнь с самыми прекрасными намерениями
и устремлениями, рано или поздно превратится в хищника и себялюб¬
ца, для которого истинная реальность бытия — это он сам, его личные
удобства, блага, вожделения, ради которых он все остальное готов раз¬
рушить и принести в жортву; об одном из людей, искалеченных «сен¬
тиментальным воспитанием» и несущих в себе «демоническое начало»,
и повествует поэма «Возмездие».Блок на себе испытал все последствия «сентиментального воспита¬
ния», в духе которого возрос, и его биограф М. Бекетова (автор при¬
мечаний к переписке Блока с его родными) поясняет в связи с этим:«L’education sentimentale» («Сентиментальное воспитание») —
название романа Флобера, очень любимого Блоком. Это выражение,
применяемое к себе (курсив мой .— Б. С.), Блок понимал как воспита¬
ние, основанное иа чувстве и развивающее мечтательность...» (А. Блок,
«Письма к родным», т. II, стр. 431),—и многое в творчестве и выска¬
зываниях Блока посвящено осмыслению того, как такое воспитание'358
влияет на человека, на весь его склад и характер, и во что превращает¬
ся человек с годами—под его губительным воздействием; здесь мно¬
гое помогал ему уяснить роман Флобера — любимейшая книга его от¬
ца! Вот почему и мы вслед за поэтом и его отцом должны обратиться
к этому роману, который далеко не случайно упомянут в поэме «Воз¬
мездие».Одно название романа — «Сентиментальное воспитание» — означа¬
ло для поэта необычайно много, ибо в этих словах звучал ответ на за¬
гадку странной болезни, поражавшей человека, еще так недавно, ка¬
залось бы, полного сил, дерзаний и самых возвышенных побуждений,
стремящегося ко благу чуть ли не всего человечества, а ныне охвачен¬
ного апатией, безволием и не способного ни на какое усилие,— если
оно не связано с удовлетворением его сугубо эгоистических интересов;;
даже вне зависимости от каких бы то ни было усилий воли ои прокла¬
дывает свой предопределенный путь по сужающимся, концентричес¬
ким кругам, чтобы оказаться в копцо концов в клотко, самой узкой
и тесной из тех, в какую только можно его загнать и откуда нот выхо¬
да никуда.Герой романа Флобера Фредерик Моро — с его возвышенными по¬
рывами и низменными поступками, жаждой деятельности и дряблой
волей, большими замыслами и ничтожными их результатами, с его
неумением довести до конца ни одно из предпринятых им начинаний,
с готовностью предать любое дело и любых людей ради своих благ
и удобств — это и есть закономерный и вполне созревший плод того
«сентиментального воспитания», которое превращает людей в калек
и уродов. Это воспитание приучает человека к возвышенным мечтам
и прекраснодушной фразе, а вместе с тем потворствует развитию са¬
мого свирепого и неискоренимого эгоизма, выше всего ставящего лич¬
ные блага и интересы,— что и подмечено взглядом зоркого и беспо¬
щадно правдивого художппка, в романе которого Блок находил много
общего со своими наблюдениями и раздумьями.Сначала мы видим Фредерика Моро полного восторгом жизни,
великими замыслами, предчувствием необычайного будущего. Бродя
ночью по набережной Сены с непокрытой головой и обнаженной гру¬
дью, вдыхая свежий речной воздух, он чувствует, как из глубин его
существа снова и снова подымается прилив нежности, вызванный
любовью к г-же Арну, волнуя его, подобно непрестанному движению
воды там, внизу, под мостом. Он испытывает такой душевный трепет,
словно переносится в иной, высший мир, и вся вселенная, кажется ему,
простирается у его ног и взывает к его вдохновению, подвигам, твор¬
ческим дерзаниям. Фредерик еще и сам не знает, кем он станет — вели¬
ким художником или гениальным поэтом, но любая из этих возмояшос-
тей кажется ему желанной, осуществимой и близкой...Но вскоре во внутреннем мире Фредерика Моро происходит нечто
еще неведомое и ему самому, но перетирающее в пыль и труху все его
честолюбивые планы и замыслы. Среди хаоса и сумятицы самых про¬
тиворечивых, сумбурных и преходящих настроепнй и мечтаний о соз¬
дании декоративно-эффектных романов, неизменным героем которые359
является он; сам,—только его собственная личность в оказывалась,
единственною реальностью его сознания. Только ее интересами онрег
делилась — несмотря ни на какие возвышенные слова и благие поры¬
вы!—подлинная цель деяний и стремлений Фредерика. Она была тем
солнцем вселенной, тем единственным божеством, в жертву которому,
неизменно и беспощадно приносилось все остальное. Этим и определяет¬
ся характер переживаний и поступков Фредерика: ему ничего не сто¬
ит предать приятеля или обмануть возлюбленную, а если он и готов
принять участие в том или ином общественном движении, то только
из карьеристских или тщеслаиных побуждений. Вот почему в любой
схватке, и любой борьбе, в любом трудном, деле, требующем упорства,
мужества, выдержки, готовности к жертвам и испытаниям, он всегда
оказывается предателем и дезертиром, ибо не способен пойти даже на
самую малую жертву (не говоря уже о подвиге!), которая хоть в ка¬
кой, бы то ни было мере могла бы ущемить его личные интересы, уг¬
рожать его покою и благу.В нем, до поры до времени таясь даже от него самого, возникает
и расширяется, подобно подземной реке, прокладывающей свой путь
во мраке и тишине, поток темных и неодолимых влечений, чуждых
каким бы то ни было соображениям о гуманизме, долге, справедливос¬
ти, о которых так любил некогда мечтать Фредерик. В нем с годами
все больше нарастают косные, враждебные всем «гуманным основам
общежития» (Блок) силы, заставляющие его поступать в согласии
с самым холодным и циничным расчетом,— и внутреннее вырождение
и одичание героя романа совершается не потому, что он отъявленный
негодяй, законченный злодей или безнадежно порочный человек (хотя
и эти возможности не исключены и могут воплотиться при соответст¬
вующих обстоятельствах), а потому, что он — индивидуалист до мозга
костей; для него нет мной реальности сознания, чем личное благо
и личные интересы,— только этим и определяется судьба Фредерика
Моро во всей ее закономерности и последовательности, в ее разруши¬
тельной и необоримой мощи.Так юноша, возросший в духе «сентиментального воспитания»,
прошедшей школу самой утонченной чувствительности, оказался в кон¬
це концов полным банкротом — и в его судьбе прослежена судьба той
социальной прослойки и того поколения, для которых единственным
евангелием, усвоенным до самой последней его занятой, является фи¬
лософия и практика самого крайнего, безмерного, доходящего до само-
обожествления индивидуализма, составляющего душу буржуазного об¬
щества, в любой его ипостаси — от умилительно-добродетельной и пре¬
краснодушной до бесчеловечно жестокой и «демонической»,— во всех
их переходах, метаморфозах и связях («родные сестры»), дотошно
и пытливо прослеженных в романе Флобера.Этот роман, может быть и помимо воли автора, помогает понять
скрытые пружины буржуазной психологии, жизни буржуазного обще- :
ства, бесчеловечность его основ.Здесь закономерно и естественно, что Фредерик является героем
в своих мечтах и жалким трусом иа деле, а его закадычный друг Де-,360
•иорье в: любой момент — когда ему выгодно! -“-'предаст"своего ирййтё-'
ля; и1 Фредерик, зная это, мирится с ним, ибо лучшего друга среди ок¬
ружающих ему все равно не найти. Здесь женщина но расчёту
выходит замуж, продает себя, а потом с хищной радостью смотрит на
труп мужа, вместе с которым накапливала богатство: наконец-то olia
поживет в свое удовольствие, но своей прихоти!Все они стоят друг друга, ибо в буржуазном обществе, как это и но-1
казано в романе Флобера, любые человеческие чувства, страсти, отно¬
шения оказываются «оборотнями» и служат человеку затем, чтобы ой
мог обмануть — если не себя, так других — в своей природе стяжателя
и хищника; в романе Флобера показано с ослепительной ясностью и
неопровержимостью, точно зигзагами молний на полотнищах непро¬
глядного мрака, какие страшные и разрушительные перемены происхо ¬
дят в человеке, замуровывающем себя, словно в каменном силене,
н тесные пределы своего узколичного существования, своих эгоистиче¬
ских интересов.Что ж, роман Флобера дает вполне убедительный ответ на вопрос
о том, какие подспудные перемены и метаморфозы происходят во
внутреннем мире человека, возросшего в духе буржуазного гуманизма,
«сентиментального воспитания», и живущего «жизнью сердца», пре¬
краснодушными порывами, — но лишенного необходимых связей с об¬
ществом, чувства долга и ответственности перед ним, а стало быть
сосредоточенного лишь на себе и на своих интересах.Здесь потому таг; подробно говорится о романе «Сентиментальное
поснитание», что ему принадлежит большое, во многом ключевое, зна¬
чение и в «семейной хронике» Блока — в его поэме «Возмездие» (кста¬
ти — и это необходимо особо отметить — сам Блок никогда не перево¬
дил, как это зачастую делают иные переводчики и литературоведы,
название романа Флобера «L’education sentimentale» как «Воспита¬
нно чувств», а всегда и неизменно — «Сентиментальное воспитание»,
ибо но о «воспитании» чувств идет речь в этом романе, а скорее наобо¬
рот— об их вырождении, разрушении, «деструкции», об одичании,
происходящем как естественный и неизбежный процесс, охватывающий
человека, подчиняющегося законам и нормам буржуазного общества).Говоря о главном герое поэмы «Возмездие» — об «отце», для ко¬
торого роман Флобера значил так много и который видел в нем школу
жизни и школу искусства, поэт говорит в своей поэме:...жаль отца, безмерно жаль:Он тоже получил от детства
Флобера странное наследство —Education sentimentale...Самому Блоку также досталось это «странное наследство»— и «сен¬
тиментальное воспитание», сентиментальные иллюзии «радостного са¬
да», отгороженного от всего остального мира, и «демонизм», и мноГоо
другое, что стоит между человеком и его «волей к подвигу», долгой
перед обществом и родиной; немало требовалось от поэта мужества,
ныдержкн, прозорливости, гражданского чутья,' чтобы противостоять361'
всем обманам и соблазнам той среды, в которой он возрос, чье влияние
испытывал на себе с детских лет — и которой бросал вызов в своей
новой поэме.Для Блока с годами становилось все очевидней, что некогда про¬
грессивный индивидуалистический гуманизм — в любой его ипоста¬
си! — занял явно реакционные, «охранительные» позиции, когда на
авансцену истории вышли сами массы, интересы и судьбы которых
этот «гуманизм» игнорировал и продавал. Против такого «гуманизма»
Блок и выступал решительно и непримиримо в своей поэме «Возмез-?
дне» — одном иа самых мримочатодышх его произведений, пронизан¬
ных пафосом «революционных предчувствий», говоря словами поэта,2. ОТЕЦ И СЫНПоэма «Возмездие» по своему жанру близка семейной хронике,
психологически-бытовому и социальному роману {сам поэт называл
ее своими «Ругон-Маккарами», имея в виду обширный цикл романов
Эмиля Золя, где образы героев и сюжетные мотивы осмыслены в све¬
те больших философско-политических концепций, в связи с широким
общественным; движением, на фоне важнейших событий истории — вне
чего нельзя уяснить характер переживаний и отношений Персонажей,
их личную жизнь, являющуюся неотъемлемой частью жизни обще¬
ства).Толчком и побудительным мотивом создания поэмы «Возмездие»
послужили события личной и семейной жизни поэта,...В конце 1909 года умер его отёц — Александр Львович Блок, про¬
фессор Варшавского университета, много лет занимавший кафедру
государственного права.Мать поэта, Александра Андреевна Блок, в девичестве Бекетова,
покинула мужа незадолго до рождения ребенка и вернулась в семью
Бекетовых (через Несколько лет она вступила во второй брак); буду¬
щий поэт лишь изредка встречался с отцом — человеком больших, но
невоплотившихся дарований, которому пророчили блестящую, но так
и не состоявшуюся карьеру; он умер жалким, опустившимся, озлоб¬
ленным, почти всеми людьми забытым неудачником.Об Александре Львовиче, его странностях, жестокости, явно па¬
тологической скупости в семьо Бекетовых—Блоков создавались целые
легенды (примечательна в этом отношении статья двоюродного брата
поэта, Г. П. Блока, «Герои «Возмездия», опубликованная в журнале
«Русский современник» и восстанавливающая облик отца поэта). По¬
добные рассказы и легенды об отце не могли оставить равнодушный
будущего поэта, не вселить в него чувства отчужденности, неприязни
к отцу, даже некоторого ужаса; отношения между отцом и сыном
складывались трудно, тяжело, и поэт в буквальном смысле этого слова
избегал отца (о чем свидетельствуют письма Блока к матери), когда
тот приезжал из Варшавы в Петербург и хотел повидаться с сыном.Получив известие о смертельной болезни А. Л. Блока, поэт выехал
в Варшаву, но уже не застал отца в живых.362
Впечатления, связанные с похоронами отца, размышления о его
«Влйке, судьбе, жизненном пути, личные воспоминания о нем и мрач¬
ные семейные легенды — все это и явилось побудительными' мотивами
к созданию поэмы «Возмездие», одного из этапных произведении
Блока, над которым поэт работал — с большими перерывами — в тече¬
ние многих лет (вплоть до последних дней своей жизни) и начатым
вскоре после смерти отца (первый фрагмент поэмы, ставший ее
«зерном», так и называется «Отец»).Характер поэмы «Возмездие», как лирико-философской автобио¬
графии, как своего рода семейной хроники, еще более очевидно рас¬
крывается в черновых записях, в заметках из дневника, в планах поэ¬
мы, где Блок прямо указывает, что его персонажи — это он сам и его
семья, его ближайшее окружение. «Дед» — это «профессор лучших вре¬
мен Петербургского университета», Андрей Николаевич Бекетов; млад¬
шая его «дочь» — это Александра Андреевна, мать поэта, человек очень
трудной судьбы, с крайне неустойчивой психической организацией;
«отец» — это «черная птица», молодой и мрачный неудачник Александр
Львович Блок; его «сын» •— один из героев «Возмездия» — это сам поэт,
«мятежная ветвь» своего рода, отщепенец,— и в судьбе, страстях, пе¬
реживаниях «сына», в событиях его личной жизни нельзя не увидеть
лирически преображенную судьбу, жизненный опыт и внутренний об¬
лик поэта.Блок говорит в заметках, названных «Душа писателя» (19091):«Как ирис и лилия требуют постоянного удобрения почвы, подзем¬
ного брожения и гниения, так писатель может жить, только питаясь
брожением среды...»— и в поэме «Возмездие» поэт не только просле¬
живает судьбы ее героев, но и характер «брожения» той среды, в усло¬
виях которой они произрастают и соками которой питаются. Эта
«■реда определила и «обмен веществ» — если уместно здесь это поня¬
тие,— происходивший в их внутреннем мире; в поэме прослежено, что
именно они получали из окружающей среды и что возвращали ей.«Мы все — звенья единой цепи...»— говорил поэт, и ему думалось:
стоит ухватиться за эти звенья («два-три звена, И уж видны заве™
темной старины...»), — и стапет видна вся цепь — прерывистая, а вме¬
сте с тем внутренне цельная, единая, скованная из незримых звеньев —
бесконечная цепь, которой не дано исчезнуть в веках. Вот что опреде¬
лило замысел., поэмы, необычайно широкий и емкий, вмещающий и .са¬
мые большие общественные события, и самые сложные, противоречи¬
вые, еле уловимые движения души или изменения, характера.Здесь личные воспоминания поэта, семейные предания, так много
значившие для него, осмысливались на широком фоне, в связи со зна¬
чительнейшими событиями истории, с ходом развития общественного
движения, что необычайно расширяет рамки той «семейной хроники»,
которую собирался «неспешно , и нелживо» поведать нам поэт,—за о
том, как основательно изучал он события и документы затронутой им
йнохи, свидетельствуют хотя бы и «материалы для поэмы»,, опублико¬
ванные в Собрании его сочинений. Здесь мы найдем и высказывания
Плеханова, давшего меткую и острую характеристику наследия револю-363
пионеров 70-х годов, и обширнейшую биографию Александра II, состав¬
ленную С. Татищевым, и работы по истории революционного движения
в России, и многое другое, что помогло поэту воссоздать дух и характер
эпохи,— начиная от быта правящей верхушки и завершая конспиратив¬
ной деятельностью народовольцев; несомненно, что не только воссозда¬
ние «семейной хроники» имел: в виду поэт, приступая к «Возмездию»,
а и нечто иное, гораздо болоо широкое: историю всей страны, просле¬
женную пе только на судьбах; героев поэмы, в ее сюжете, но И в обшир¬
ных «вступлениях» и «отступлениях». Они обретают здесь характер
больших лирико-философских обобщений, очерков эпохи, составляю¬
щих и фон действия и тот «грунтовой слой», который углубляет смысл
описываемых в поэме событий, судеб ее героев, далеко выходящий за
рамки «семейной хроники», хотя и тесно связанный с нею.Приступая к новому и обширному труду, поэт обращается к себе
с настойчивым призывом:Познай, где свет, — поймешь, где тьма.Пускай же все пройдет неспешно,Что в мире свято, что в нем грешно,Сквозь жар души, сквозь хлад ума...Снова перед поэтом, вчитывающимся в страницы истории и при¬
стально вглядывающимся в события современности, возникают и на¬
стойчиво требуют ответа вопросы о сущности жизни, о призвании ху¬
дожника, о ложных и неложных путях, о назначении человека.Поэма охватывает обширный ряд событий; начало ее действия сов¬
падает с рубежом 70—80-х годов, а последняя (недописанная) глава —
это уже ие история, а современность,— по мы видим и основу, приз¬
ванную объединить все главы.Составляющий пафос лирики Блока миф о спящей царевне, поло¬
ненной злыми и хищными силами, о подвиге ее освобождения обре¬
тает в поэме огромный, общественно-исторический смысл, связан во¬
едино с судьбами народа, бесправного и закабаленного. Глубоким
и немеркнущим светом освещаются здесь самые трагические страни¬
цы прошлого и современности, самые тягостные события в жизни род¬
ной страны, в облике которой; поэту видится образ спящей царевны,
невесты, княжны; древних легенд и преданий.... В то годы дальние, глухие,В сердцах царили сон и мгла... —•повествует поэт о событиях прошлого, а далее следует лирико-фило¬
софское истолкование этих строк — и перед нами раскрывается истин¬
ный характер темных дел, творимых силами зла и реакции в том мра¬
ке, который они хотели продлить на века и вока:Победоносцев над Россией
.. ., Простер совиные крыла,И не было ни дня, ни ночи,А только — тень огромных Крыл;Он дивным кругом очертилЖ
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна;Иод умный говор сказки чудной
Уснуть красавице не трудно,—И затуманилась она,Заспав надежды, думы, страсти...И все же ошибся бы тот, кто поверил бы во всемогущество этих
темных чар, решил бы, что они навек овладели Россией:...Но и под игом темных чар
Ланиты красил ей загар:И у волшебника во власти
Она казалась полной сил,Которые рукой железной
Зажаты в узел бесполезный...В этих стихах дана широчайшая по своему общественному масш¬
табу характеристика целой эпохи,—и образ /идущей освобождения от
злого ига России становится в творчестве Блока центральным, основ¬
ным, взывающим к подвигу и твердящим о нем.В поэме «Возмездие» каждый стих продиктован негодованием, гне¬
вом, ненавистью к силам реакции, мракобесия, самодержавной власти
(«этим пропитана поэма»,— писал поэт матери), что и порождало обра¬
зы, в которых раскрыто и заклеймено их хищническое, отвратительное
существо. Перед нами мелькнет то стеклянный взор колдуна, храня¬
щего под сукном живые души, то демон, терзающий беззащитную
жертву, то дракон, разинувший пасть над всей Европой в жажде све¬
жей человеческой крови,— а другие образы и не могли бы выразить
всю жестокость и бесчеловечность сил старого «страшного мира».
Здесь хищник высматривает очередную добычу, терзает «детей Рос¬
сии»,.Первая глава поэмы открывается резкой и открыто публицистиче¬
ской характеристикой девятнадцатого, «воистину жестокого» века; поэт
видит, что это вок — ,...буржуазного богатства
(Растущего иеаримо зла!).Под знаком равенства и братства
Здесь зрели темные дела...Поэт словно бы приложил руку к самому пульсу описываемой им
»нохи, и сквозь все напластования противоречивых событий, сквозь
сумятицу повседневных дел, сквозь все наносное, смутное и случайное
услышал его напряженные, глухие удары, точно определил причины
п характер глубоко спрятанной и страшной болезни, разъедающей этот
пек,— ведь и само накопление «буржуазного богатства», этого «расту¬
щего незримо зла», неизбежно и неизменно потворствует бесчеловеч- вожделениям, хищническим инстинктам,— какими бы маскамии завесами они ни прикрывались!Здесь поэт обнаруживает явственное понимание того, что ростки
('буржуазного богатства» создают почву для «зла», для всякого рода
«темных дел», для высвобождения и развития хищнических страстей,365
и даже самые священные чувства и отношения, приносятся в жерт¬
ву — если это может дать соответствующий барыш.Вот то общество и сложившиеся в нем порядки, против которых
восстал Блок, суля им в своей поэме неминуемый крах, неизбежное
«возмездие», отмщепне за все грехи и преступления, направленные не
только против тех или иных людей, но и против всего человечества
и его будущего, а вместо с тем осуществляемые под возвышенными
«знаками», под лозунгами «абсолютной свободы» личности, под маской
гуманизма!...тот, кто двигал, управляя
Марионетками всех стран,—Тот знал, что делал, насылая
Гуманистический туман:Там, в сером и гнилом тумане,Увяла плоть и дух погас,И ангел сам священной брани,Казалось, отлетел от нас...Вот именно то, что «темные дела» века «буржуазного богатства»
творились в «гуманистическом тумане», под прикрытием самых возвы¬
шенных слов, привлекательного «знака» равенства и братства, под са¬
мыми обманчивыми масками, вызывало у поэта особо острый гнев,
стремление раскрыть и разоблачить перед всем миром, что на деле озна¬
чает «гуманизм» буржуазного общества (ведь и сам герой поэмы,
«отец»,— один из тех, у кого с годами «увяла плоть и дух погас») и ка¬
кова цена проповедуемой им философии и практики индивидуализма,
завоевывавшего в годы реакции все новые и новые позиции.В поэме сталкиваются и борются два начала: «м:иродержавпое»,
светлое, «зигфридовское» — и начало индивидуалистическое, ограничи¬
вающее личность сферой узко эгоистических стремлений и интересов
и превращающее в калек людей, «достойных званья человека»; об
одном из таких «превращений» и повествует «Возмездие».Раскрывая замысел своей поэмы и подготавливая ее к печати
(в так-таки незавершенном виде), Блок говорит в предисловии к свое¬
му труду, с которым были связаны такие большие — и далеко не пол¬
ностью осуществленные — надежды:«Первая глава развивается в 70-х годах прошлого века, на фоне
русско-турецкой войны и народовольческого движения, в просвещенной
либеральной семье; в эту семыо является некий «демон», первая лас¬
точка «индивидуализма», человек, похожий на Байрона, с какими-то
нездешними порываниями и стремлениями, притупленными, однако,
болезнью века, начинающимся fin de siecle».Как видим, в предисловии отмечается широта исторического фона
главы — фона не мертвого и недвижного, а словно бы составляющего
подоснову характера и действия героев поэмы. Здесь их судьбы рас¬
крываются в неразрывной связи со значительнейшими событиями са¬
мой истории; глубокое философско-публицистическое вступление сме¬
няется живыми, сверкающими яркими красками картинами, воссоздаю¬
щими в. своей, совокупности самый дух эпохи:, старый Петербург,363
наводненный толпами, восторженно встречающими войска, вернувшие¬
ся с фронтов русско-турецкой войны; собрание людей, чающих велико-
го будущего России и готовых до конца бороться с силами реакции;
среди них — Софья Перовская, чей милый и пежный взор горит пе¬
чалью, отвагой, решимостью; ее поздравляют с побегом, а она готова
«опять—на смертную борьбу», и ничто не могло бы остановить эту
худенькую, хрупкую, невысокую женщину на единожды избранном ею
пути. Пусть силы людей, восстающих против самодержавия, еще не¬
велики и они еще не нащупали верных путей, ведущих к победе, но
это они выражают сейчас гнев и возмущение закабаленных и угнетен¬
ных масс, их решимость бороться до копца за свои кровные интересы...
Л рядом «живет дворянская семья» — та, из которой вышел и сам
поэт, семья, преданная патриархальным традициям и нравам, либе¬
ральной фразе, прекраснодушным порывам, по, в сущности, «заплу¬
тавшаяся» в буднях «нового движенья», многого по понимающая
и условиях и требованиях современной эпохи.В этой сомьо явно поотстали от ное — в стремлении сохранить не¬
тронутым п недвижным старый дворянско-усадебный уклад, тот «угол
рая», который кажется таким прекрасным и нетленным. Во всяком слу¬
чае, «на наш век хватит»,— полагают в этой семье, не умея как сле¬
дует осмыслить и понять того, что бездна вот-вот уже готова погло¬
тить тот мир, к которому они так привязаны, хотя и умеют за обедом
у Фореля — известною ресторатора тех времен — «брюзжать пе хуже
Щедрина». Но брюзжание — брюзжанием, а жизнь — жизнью, и в этой
жизни оии — «честнейшие из царских слуг», что и придает несколько
комический характер их «свободолюбивым» и «прекраснодушным» раз¬
говорам, превращает их возвышенные речи о любви к народу в пустую
болтовню, что и подчеркнуто в поэме весьма иронически.Эта семья отличается «тургеневской» безмятежностью, либераль¬
ным благодушием; здесь стараются сгладить все противоречия, смяг¬
чить их, на все пролить «примирительный елей», и кто бы ни вотпел
ii этот дом: «нигилист н косоворотке» или «весьма чиновный» гость,—Всем ведомо, что в доме этом
И обласкают, и поймут,И благородным мягким светом
Все осветят и обольют...Но беспечность, сентиментализм, либеральная фраза «старших»ii семье оборачиваются жестокостью одного из «младших», —- и мы
видим здесь, с какою зрелостью мысли и остротою взгляда Блок
покрывает самую основу жизни героев своей поэмы, намечая тот
общественно-исторический фон, на котором естественно и неизбежно
появление личности, обладающей откровенно хищническим харак¬
тером.Блок записывает в планах «Возмездия» — в связи с появлением
«черной птицы» байронического склада — Александра Львовича1»лока:«Приготовляется индивидуализм, это значит старинное «обзцест-367
венное» («мироде ржание») охщ^скается с миром, просыпается и готов
зашуметь народ».Воплощением этого индивидуалистического, антиобщественного,
антинародного начала и является герой поэмы — «отец» (облик кото¬
рого в глазах поэта почти полностью сливался с обликом его
собственного отца, настолько завершенным в своей характерности
и определенности, что он по требовал почти никаких дополнительных
черг для воссоздания внутренне цельного и типически обобщенного
образа)....В старой дворянской семье появляется «странный незнако¬
мец»:Его отмечены черты
Печатью не совсем обычной...Даже Достоевский, один из персонажей «Возмездия», обратил на
него внимание: «Кто сей красавец?., похож на Байрона...» (факт и*
биографии А. Л. Блока), — и это сходство, подмеченное великим
писателем, оказалось знаменательным и не случайным: дамы, посе¬
щающие великосветский салон Вревской, куда Блок перенес место
действия поэмы, подхватили «крылатое словцо»: «Он — Байрон —
значит демон...» — и для них «демонизм» — это всего только склон¬
ность к «нездешним порывам», романтической загадочности, блестя¬
щим парадоксам, рискованной игре, и ни одна из них не подозревает,
что это гораздо серьезней и тревожней, чем может показаться
с виду...Они даже и не пытаются уяснить, что означает его «нездешняя
злость», в чем заключается смысл его странных и блестящих пара¬
доксов, что таится во тьме его противоречий (заранее прощаемых
ему). Но поэт, пристально вглядываясь в лицо «странного незнаком¬
ца», подмечает в нем нечто такое темное и зловещее, что ускользнуло
от внимания светских дам и других менее пытливых наблюдателей
и отличало «новоявленного Байрона» от его великого предка:...На Байрона он походил,Как брат болезненный на брата
Здорового порой похож:Тог самый отсвет красноватый,И выраженье власти то ж,И то жо порыва п ьо к бездне.Но — тайно околдован дух
Усталым холодом болоний,И пламень действенный потух,И воли бешеной усилья
Отягчены сознаньем...А далее поэт, вглядываясь в самые тайные и скрытые от посто¬
роннего взгляда глубины души «отца», в ее самые темные и запутан¬
ные переходы и закоулки, сквозь все Напластования и покровы, маски
и ширмы, видит ее сокровенную суть — нечто такое, чему уже нельзя
найти человеческого имени:308
...Так —Вращает хищник мутный зрак,Больные расправляя крылья.Слово найдено. Всего только одно слово, но оно озарило все
вокруг ослепительно ясным светом, оно становится ключом, с по¬
мощью которого можно проникнуть в самые потайные ходы, не заплу¬
таться в самых запутанных лабиринтах сложной и противоречивой
души «странного незнакомца»; это слово «хищник». Оно-то и помогает
нам увидеть в резком и беспощадном свете ту скрытую пружину,
которая движет всеми поступками и действиями «отца», и загадка его
существа отныне уже прослежена до самого конца, до последнего
своего завитка:Ты слышишь сбитых крыльев треск?То хищник напрягает зренье...Вот это «хищническое», что поэт видит в облике «стран по го
незнакомца», еще неприметно для посторонних — оно умоет прикры¬
ваться вежливостью, обходительностью, верностью чинным обычаям
старины, блестящими парадоксами, «широтою» воззрений, которою
легче всего замаскировать их подлинную суть, но оно совершенно
ясно поэту, — от него ничто не может укрыться в облике «отца», до
последней черточки знакомом ему.Блок словно бы не хочет, чтобы читатель остался наедине с этим
«новоявленным Байроном», — как бы остерегаясь, что мы хоть на
минуту можем подпасть под его обаяние и не разгадаем того, что
таится в недрах его внутреннего мира, не распознаем смысла его
горения (вернее, тления), странных и тайных порывов; все то, что
вызывает одобрение у салонных дам, восхищенных дерзкими экспром¬
тами и «нездешней злостью», новоявленного «демона», пронзает сердце
поэта, словно полосой тонкой и острой стали, странным и горьким
предчувствием непоправимой беды; первое же появление «странного
незнакомца» невольно заставляет поэта обратиться к одному из самых
тягостных воспоминаний, подобных старой и никогда незаживающей
ране:Встань, выйди поутру на луг;Иа бледном небе ястреб кружит.Чертя за кругом плавный круг,Высматривая, где похуже
Гнездо припрятано в кустах...Но вот очередная добыча высмотрена, и теперь ей нечего ждать
пощады от бездомного и голодного хищника:Пух нежный по ветру летит —Он жертву бедную когтит...И вновь, взмахнув крылом огромным,Взлетел — чертить за кругом круг,Несытым оком и бездомным
Осматривать пустынный луг.... Когда нд взглянешь,—кружит, кружит...13 Заказ 534869
Не оставляя возможности для каких бы то ни было сомнений
и кривотолков относительно подлинного смысла того, какие чувства
томят поэта и какие думы охватывают его при виде ястреба, высмат¬
ривающего добычу, он говорит открыто и прямо, вкладывая в свои
слова огромный смысл, гражданский пафос., великую боль за свою
родину и ее лучших сынов:Россия мать, кпк пгица, тужит
О дотях; по оо судьба,Чтоб их торнали ястреба...И поэт дол а от всо, чтобы сорвать с одного из этих «ястребов»
перья, которыми прикрыты ого растленное существо, его грешная
и дрянненькая плоть, чтобы этот хищник, оЩе умеющий кое-кого
привораживать и соблазнять, предстал перед нами голым, общипан¬
ным, во всей своей неприглядной наготе.Следует подчеркнуть, что образ «отца», «демона» —■ это здесь не
тощая абстракция, не пугало, не отвлеченное представление, — нет,
он возникает перед нами во плоти, его образ «ветвист» (говоря
словами Бальзака), необычайно сложен, многогранен, внутренне
богат; вот почему не так-то легко раскусить этого «демона» — ведь под¬
час в нем обнаруживается подлинный талант, и обаяние художествен¬
ной натуры, и желчный ум, и какие-то странные порывы, неясные
и ему самому и свидетельствующие о больших его возможностях,г.пособности увлечься «музыкальной бурей», отзывающейся эхом в его
острых, напряженных, мятущихся страстях, вбирающих в себя
и восторг высоты, и обреченность неизбежного падения, и торжество
хищника, ухватившего очередную добычу, и скорбь души, оплаки¬
вающей свою гибель.Не мудрено, что все это способно увлечь и других, а особенно —
ту, для которой появление «странного незнакомца» стало судьбою
и роком.«Новоявленный Байрон» увлекает «меньшую дочь» — девушку,
почти ребенка, посулами царств, которых и сам не имел, мерцанием
«сверлящих пламенем очей», порывами и благовестами «.музыкальной
бури»; она уже утратила волю к сопротивлению, а он, околдовав ее,
ие торопится с окончательным объяснением.В тайном страхе перед своей жалкой, одинокой, постылой судь¬
бой, он словно бы чего-то выжидает, — а поэт и здесь обнажает самые
темные закоулки и «затишья» его души, тонущие «в демоническом
мраке», в тьме, пределов которой он еще и сам не ведает, но уже
явственно проступающей, чтобы поглотить все остальное в его внут¬
реннем мире.«Меньшая дочь» уже попалась в расставленные перед нею силки;
она не может найти ответа на вопрос, который неотступно преследует
ее, порождаемый чувством беззащитности перед «новоявленным
Байроном», своим будущим мужем, в тревоге за будущее, такое ма¬
нящее, а вместе с тем отпугивающее еще неведомыми опасностями
и бедами:370
За что терзает и. пугает
Он, беззащитную, меня...Но то, на что не находит ответа неопытная и растерявшаяся
девушка, захваченная дотоле неведомым ей чувством, становится до
боли ясным «сыну» — в перспективе всей жизни «отца»; оглядываясь
назад, сквозь долгие и страшные годы, он видит картину, в котором
нет ничего человеческого, хотя она и претендует на то, чтобы ка¬
заться любовной. Чуждые каких бы то ни было приукрашений
и страшные в своей оголенности образы возникают перед поэтом во
всей своей истинной и отвратительной сути:Смотри, так хищник силы копит:Сейчас — больным крылом взмахнет,На луг опустится бесшумно
И будет пить живую кровь
Уже от ужаса — бонумной,Дрожащей жертвы...В этой жертве поэт узнает свою мать — вот почему такую нена¬
висть и смертельное отвращение вызывает у него «демонизм», некогда
блестящий и возвышенный, а ныне жалкий, выродившийся, не со¬
хранивший из былого наследия ни искры прометеева огня, ничего,
кроме хищнических повадок и непомерных притязаний, уже нелепых
и жалких в своей бесплодности и беспочвенности.Блок охвачен страстным стремлением, составляющим самый
пафос «Возмездия»,— не только разоблачить «демоническое» начало
как выражение самого крайнего индивидуализма, но и заклеймить его
перед всем миром, пригвоздить его к позорному столбу как одно из
самых опасных и отвратительных порождений «страшного мира»
и века «буржуазного богатства».Поэт, прозровая, чем являются в условиях буржуазного общества
лучшие чувства, присущие человеку, видел, что и сама любовь стано¬
вится отношением между хищником и ого «жортвочкой»,— и так
поэма «Возмездие» превращается в одно из самых глубоких и страст¬
ных обличений философии и психологии индивидуализма. Нет сомне¬
ний, что суть и смысл индивидуализма и «демонизма» — в годы его
упадка, когда он обрел черты болезненности, уродства, вырождения,—
потому и вызвали особенно обостренный отклик у поэта, что в «дро¬
жащей жертве» новоявленного «демона» он увидел человека, каждую
рану которого пер ел; и за л как свою собственную и даже еще острее;
это и помогло с особенной глубиной постичь смысл и характер нового
«демонизма» — окруженного в свое время возвышенно-романтическим
ореолом — в самой его сокровенной сути, с позиций не стороннего
наблюдателя, но той жертвы, для которой его торжество означает не¬
выносимые1 мучения, а может быть, и гибель.Вот почему поэт с нестерпимою, рвущею горло горечью говорит
о любви, недостойной самого этого имени, ибо разве можно назвать
любовью тяготение хищника к своей добыче?!13*371
...Вот — любовь
Того вампирствеииого века,Который превратил в калек
Достойных званья человека!Но любовь человека, зараженного всеми ядами индивидуализма,
(возросшего в духе «сентиментального воспитания» (тайным образом
сочетающегося с «вампиризмом»), замкнутого в узком кругу исклю¬
чительно личных прихотой, потребностей, интересов, и не может бытьиной,— вольной, крылатой, иод. человеческой; она произрастаетиа отравленной, бесплодной, иссушенной почве, — и только теперь,
когда перед постом »тп истина открылась по всей ее полноте и не¬
опровержимости, он выкрикивает в лицо своему врагу, дав полную
волю переполняющему его чувству гпова, ненависти, боли:Будь трижды проклят, жалкий век! —и с этим жалким веком он сводит счеты в своей поэме, в которой
ваклеймено одно из самых «темных дел» века «буржуазного богатст¬
ва», отдающего человека в жертву коршунам, хищникам, упырям....Через два года «меньшая дочь», полностью изведавшая на самой
себе «любовь вампирственного века», вернулась домой...Худа, измучена, бледна...И на руках лежит ребенок...В поэме не сказано, каким мучениям и пыткам подвергал ее
новоявленный «демон», но мы видим самого мучителя, палача, хищни¬
ка, и для нас очевидно, что он не мог не находить жалкую и болез¬
ненную отраду в том, чтобы терзать ее.Для Блока события, описываемые в поэме, были не просто
сюжетными ходами и трагическими коллизиями, создаваемыми
фантазией художника, — нет, индивидуализм как школа жизни, как
философская система находил в Блоке своего беспощадного и непри¬
миримого обличителя еще и потому, что поэт на себе, на своих близких,
на. событиях своей «семейной хроники», в которой мы можем найти
всех «прототипов» его поэмы, изведал, что означает индивидуализм на
<;амом деле, без прикрас, не в ярких и пестрых одеяниях, а в домаш¬
ней обстановке, в «туфлях и халате», без всего того, что может осле¬
пить иного человека и вскружить ему голову; так глубоко осмыслен¬
ный и кровно пережитый личный опыт поэта помог ому постичь самую
суть индивидуалистической психологии, осознать всю ее враждебность
человеческому обществу и прийти к выводам, приобретающим огром¬
ное и непреходящее значение. В «Возмездии» хищник предстал не
только перед поэтом, но и перед всеми окружающими в своей оттал¬
кивающей наготе, бесчеловечной сущности, которую он уже был не
в, состоянии скрывать,— и от него в ужасе отшатнулись даже самые
.близкие ему, люди. ......Поэт прослеживает жизненный путь «отца» — путь страшный,
одинокий, идущий по сужающимся кругам, все более безвыходнымд.гибе.льцы» (этот образ и оказался в .поэме полностью завершенным):S72
Так, с жизнью счет сводя печальный,Презревши молодости пыл,Сей Фауст, когда-то радикальный,«Правел», слабел... И все забыл;Ведь жизнь уже не жгла — чадила,И однозвучны стали в ней
Слова: «свобода» и «еврей»...Так вырождался «отец», «демонизм» которого обернулся патоло¬
гической скупостью, ярым ретроградством, ненавистью к передовым
и революционным силам русского общества; в его вялости шевелится
только одно живое чувство — злоеь, злость против всего, что жизнен¬
но, молодо, талантливо и что прокладывает себе дорогу вопреки
любым преградам и испытаниям. Но нельзя безнаказанно, без огром¬
ных внутренних утрат, опустошений, катастроф, расстаться с миро»
людей, их надежд, мечтаний, борьбы, лучших стремлений и перейти
в Стан хищников — подобного рода «великое предательство» челове¬
ческого рода и измена всему человеческому даром но проходят и но
могут пройти; они навлекают неотвратимое «возмездие» в том или
Ином его виде, о чем и свидетельствует жалкая и трагическая судьба
«отца».. Жизнь мстит «отцу»; она, по словам поэта, «загоняет мокриц
во все более зловонные ямы», и одной из этих ям оказалась та «убогая
берлога», в которой и влачил «отец» последние дни своей жизни.Так на наших глазах, в XX веке, завершился жизненный путь
одного из тех — некогда мятежных и могущественных — «демонов»,
которые раньше моглй вызывать на поединок богов старого мира
и сокрушать их, умели высоко парить и зажигать восторгом многиэ
сердца, а теперь сами стали скопидомами, ретроградами, «охраните¬
лями» изжитого старья (как в прямом, так и в переносном смысла
слова), жалкой пародией того, чем когда-то были; раньше они могли
и умели «соблазнять» многих и многих — но кого может соблазнить
судьба и облик «отца»?Прослеживая общественные закономерности «воистину жестоко*
го» века, Блок различал всю глубину их воздействия на гороя своей
поэмы, или, как говорит он в предисловии к ней: «...мировой водоворот
засасывает в свою воронку почти всего человека; от личности почти
вовсе не остается следа, сама она, если остается еще существовать,
становится неузнаваемой, обезображенной, искалеченной. Был чело¬
век — и не стало человека, осталась дрянная вялая плоть и тлеющая
душонка...» (1919).Именно таким — не человеком, а подобием человека — и предстает
перед нами «отец», герой поэмы.Былой «демон» выродился во что-то жалкое, мелкое, ничтожное,
и «кривая» его падения уловлена здесь в ее самых сокровенных и не¬
приметных дня постороннего взгляда зигзагах, вспыхивает в глазах
поэта огневой и ослепительной чертой, уходящей во мрак и оставляю¬
щей после себя всего только дым и смрад.В. Розанов говорит в «Уединенном» (1912):«Глубочайшая моя субъективность (пафос субъективности)
сделала то, что я точно всю жизнь прожил за занавеской, ве снимае¬
мою, не раздираемою. «До этой занавески никто не смеет коснуться».
Там я жил; там, с собою, был правдив... А что говорил «по сю сторону
занавески», — до правды этого, мне казалось, никому дела нет» (стр.
185-186).Герой поэмы «Возмездие» — молодой ученый, «странный незнако¬
мец», «демон» —- тоже жил «за занавеской», тоже если и был правдив,
то только с самим собою; ему казалось, что до его тайн никому нет
дела и они умрут вместе с ним. Но вот пришел «сын», поэт, судья,
разодрал занавеску, резким и беспощадным лучом осветил все, что
таилось за пей,—и на нас пахнуло таким смрадом, словно мы попали
в берлогу больного и старого хищника.Да, так увидеть и пережить падение некогда блестящего и талант¬
ливого человека — изнутри, во всей его неизбежности, обреченности
и безусловности, во всех его горестных и отвратительных подроб¬
ностях — мог лишь тот, кто не только жадно и пытливо всматривался
в облик «отца», но и тот, для кого во внутренней его жизни не было
никаких тайн и кто являлся не только летописцем «семейной хрони-
ки», но и действующим ее лицом. Вот что помогало ему с необычайной
глубиной и полнотой воплотить образ героя своей поэмы—«отца».Зорко и пытливо прослеживая его судьбу, освещая самые сокро¬
венные, потаенные, отзывающие пылью и тленом уголки его души,
б которых завелась всякая нежить, поэт со страстной настойчивостью
стремился дознаться и до подспудного, сложного, внутренне противо¬
речивого, незримо протекающего в самых тайных глубинах процесса,
превращающего некогда здоровую сердцевину в гниль и труху. Но
этот процесс нельзя проследить, не осмыслив характера связи челове¬
ка с обществом, — и тем самым замысел поэмы взывал к широким
философско-историческим раздумьям и обобщениям, в перспективе
которых судьбы людей видятся в связи с жизнью всего народа, рас¬
крыты не только «сами по себе», но и в отношении к ней, что и при¬
дает особую глубину поэтическому повествованию Блока. Так, в обли¬
ке «отца» он показывает не только личное и неповторимое, но и нечто
иное, далеко выходящее за рамки личной судьбы, — ту эпоху, которая
порождала подобных «демонов», хищников, унырей, те «дальние*
глухие» годы, когда «в сердцах царили сои и мгла». Уродливым по¬
рождением и воплощенном этого сна, этой мглы и видится нам «отец»,
навеки захмелевший от тех помоев, которыми опоили его деятели
реакции и столпы мракобесия. «Отец» в поэме «Возмездие» — это не
только тип «современного Гарпагона», а и нечто гораздо более сложное
и темное: он еще современник и наследник столпов и вождей россий¬
ской реакции и обскурантизма — Каткова, Леонтьева, Победоносцева;
он один из тех, кто — вслед за ними — хотел бы «подморозить»
Россию, сковать ее живые силы, кто стремился положить «под сукно»
ее «живые души» — в смертельном страхе перед грядущей и неизбеж¬
ной революцией. В «Возмездии» мрак и тень «отца» словно бы сли¬
ваются с тенью огромных совиных крыльев, которые Победоносцев
простер над всей Россией; облик «отца» в поэме «Возмездие» видится374
и самом эпицентре тех событий, которые потрясали Ро-ссию ыа рубежа
70—80-х годов. Его характер, замкнутый, угрюмый, «демонический»,
при всем своем своеобразии, порожден ими; его личная судьба
видится на фоне судеб всей страны, и в его облике запечатлена целая
эпоха в развитии русской интеллигенции, кризис индивидуалистиче¬
ского сознания; так в образе «отца» органически сплелось личное
и историческое, преходящее и «вечное», неповторимо своеобразный
характер с темой, которую молено обозначить как разрыв с «сенти¬
ментальным воспитанием», как «крушение гуманизма», его обращение
в свою противоположность — чем и определяется широта замысла,
лежащего в основе поэмы.Пусть иные либерально настроенные дворяне и отрекались от
подобных, выживших из ума, некогда блестящих, а ныне опустивших¬
ся «демонов», но поэт, создав портрет «отца», не столько обрисован¬
ный, сколько заклейменный резкими, безупречно точными штрихами,
утверждает, что он —их закономерное и естественное порождение,
и это раскрыто п поэме с неопровержимой убедительностью свиде¬
тельского, безусловно правдивого показания.Поэтом глубоко прослежено — вполне закономерное и типическое
в тех условиях —сочетание в одной и той же среде, в одном и том ж а
семействе элементов, казалось бы, самых противоположных и разно¬
родных: и помещиков старого закала, заботящихся о своем покое
и благе, и «либералов» с их прекраснодушной фразой и верноподдан¬
ническими настроениями (это из них выходят «честнейшие из царских
слуг»), и «нигилистов» в косоворотке, воображавших, что их «народ
зовет вперед», пугавших стариков «революционной», хотя и совершен¬
но безобидной, фразой — и явных ретроградов, яростных крепостни¬
ков, ревнителей старого порядка, «раскаявшихся» и разуверившихся
в своих былых и свободолюбивых чаяниях, открыто перешедших па
службу реакции, — как перешел и «отец». Его образ — закономерное
и неизбежное порождение той среды, где «сентиментальное воспита¬
ние» н либеральная фраза полностью мирятся с самодержавием, а по¬
тому и вступают с ним в сделку и т&сиый союз.Поэма «Возмездие» по своему характеру примыкает к обширному
ряду «семейных хроник», которых так много в русской литературе;
вместе с тем она несет в себе и то новое, что связано с ходом истории,
развитием общественных отношений, все более обнаруживающих пол¬
ное смыкание либерализма с силами реакции и. самодержавия, Это
и заставляло поэта по-новому осветить и осмыслить традиционные
для русской литературы темы и образы, дошедшие словно бы уже до
самой последней грани своего развития; так, образ «отца» орх-аничеоки
связан с образами Онегина, Печорина, Чацкого, он их преемник и на¬
следник. Поэт видит «отца» в их ряду, в их цепи, которую «отец» слов¬
но бы замыкает, — но в нем есть и то новое, что вызвано условиями
времени, когда индивидуализм превратился в одно из самых острых
и ядовитых оружий в борьбе с передовыми силами истории и общест¬
ва. Этим образом замыкается круто оборвавшаяся линия рода, некогда
столь блестящего и славного, а ныне выродившегося, ибо всо возмож¬375
ности «демонического» характера прослежены здесь до их предела,
до последней черты, а дальше наступает стремительный упадок,
им рождение, гибель — в самом буквальном смысле слов.Так поэма Блока явилась как бы завершением огромной темы
русской и мировой литературы, заключительным звеном цепи «исто¬
рии молодого человека» (да и по только молодого) XIX века—века
«буржуазного богатства».Создавая это звено, 1!лок подхватывал и развивал великие тради¬
ции литературы прошлого; и ого поэме отчетливо обнаружено, что
«отец»—«наследник Лермонтова, Грибоедова, Чаадаева» (Блок), раз¬
меняв и извратив великие ценности, некогда врученные ему как одно¬
му из представителей русской культуры, п:шл из этого наследия лишь
одно «демоническое», отбросив «человеческое»,—в результате чего
и «демонизм» лишился своего оправдания и своей возвышенной сущ¬
ности.Напоминая о «странном наследстве», доставшемся «отцу» от
Флобера, поэт подчеркивает родство «отца» и с героем романа «Сен¬
тиментальное воспитание» — Фредериком Моро; Блок в романе
Флобера ищет и находит ответы на те вопросы, которые издавна
и неотступно преследовали его: не случайно отец поэта (согласно.
свидетельству близких ему людей) так пристально и обреченно вчи¬
тывался в горькие и сухие, словно истлевшие па медленном и тайном
огне, страницы романа «Сентиментальное воспитание»: казалось, в них
его собственная судьба прослежена на многие годы вперед, до самого
последнего конца, с беспощадной ясностью и неотвратимостью,—
й для того чтобы предсказать ее, совсем не надо быть пророком или
чародеем. Нет, достаточно проследить те закономерности, которым
подчинено развитие человека в условиях бурлсуазного общества,
чтобы заранее определить, как может он поступить в том или ином
случае, как сложится его жизнь, какие процессы произойдут в его
внутреннем мире и чем завершится его путь —после того, как трез¬
вый расчет вступит в свои нрава и окончательно вытеснит все
иллюзии и фантазии. Тут, конечно, возможно бесконечное количество
вариаций, но есть и нечто общее, закошшерное и словно бы роковым
образом предопределенное, что роднит Фредерика Моро и «отца» т-
героя поэмы «Возмездие»: оба они, изменившие своему человеческо¬
му призванию и назначению, разменявшие некогда врученные им
ценности, обречены на то, чтобы испытать горечь «утраченных иллю¬
зий», видеть крушение своих самых возвышенных замыслов и в конце
своего пути оказаться полными банкротами перед лицом люден
и самой жизни.Над могилой «отца» «сын» перебирает даяние годы, припоминает
все то, что связывает его с. этим человеком, чуждым ему во всем, на
всех путях, «быть может, кроме самых тайных», и какое-то новое
и неожиданное чувство к «отцу», отмеченному «печатью скитальцев»,
неприкаянных, гонимых людьми и судьбой, впервые шевельнулось
в его груди, ибо и для «сына», как и для «отца», «сентиментальное
воспитание» — не книга, а сама действительность, его юных лет! —376
также явилось тем «проклятьем», которое многое объясняет в его
собственной судьбе, как и в судьбе «отца».Этому «сентиментальному воспитанию», как и вообще всякой
сентиментальности, «родной сестре жестокости», поэт противопостав¬
лял человечность, — тот подлинный гуманизм, который непримиримо
отвергает все основы и порядки старого мира, вступает в решитель¬
ную борьбу с ними, — ведь ж весь свой творческий путь, пронизанный
пафосом отвержения какой бы то ни было «сентиментальности», поэт
называл «трилогией вочеловечения».Образу «отца» в поэме противостоит — во многом не завершен¬
ный, намеченный отдельными штрихами — образ «сына», «мятежной
ветви» своего рода.«Сын» тоже отягощен «странным наследством», он тоже воспиты¬
вался вдали от настоящей жизни, ое интересом, запросов, требований.
Но он (как некогда и сам поэт) порывает с прежним, слишком спо¬
койным и бездеятельным существованием, идет навстречу грозе
и буре революции (хотя и не совсем ясно представляет себе ее
истинное существо).«Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина...» —
сказано в библии, и такой оскоминой словно бы сведены губы поэта;
он но горло сыт индивидуализмом «отцов», его тошнит от их «демо¬
нических» замашек и повадок, от снобизма и высокомерия этих вы
рождающихся «москвичей в Гарольдовом плаще», воображавших себя
солью земли и венцом вселенной.От той тесной и душной «бани с пауками», в которую они пре¬
вратили свою жизнь, поэта тянет на свежий воздух, на резкий ветер,
к людям, к творчеству, и эта тяга отзывается прежде всего в образе
«сына». ■«Юность — это возмездие...» — любил повторять Блок слова
строителя Сольпоса; именно этот — ибоеновский— смысл приобретает
и само название поэмы «Возмездие». Рождается новое поколение,
и оно несет с собой возмездие промотавшимся и растратившим все
духовные сокровища «отцам», изменившим своему человеческому,
долгу и назначению, растерявшим все заветы и идеалы прошлого
и заканчивавшим свою жизнь полным банкротствам — в союзе с реак¬
цией и обскурантизмом. За все это юность и все то лучшее, что в ней
есть, отплачивает возмездием; она несет в себе мятеж против своих,
«отцов» — и духом мятежа, воплощенным в образе «сына», пронизана,
поэма.Но самый мятеж «сына» во многом незрел и бесплоден. Из уюта
и тишины дворянской усадьбы, подобной в глазах юноши «углу рая»,
еще. неся в своей душе «идей Платона великолепные миры», «сын»,
попадает в среду, которая составляла литературно-артистическую,
богему тех лет, и она ничем не могла ответить его жажде борьбы,
подвига, живого, настоящего дела. Вот почему и «одинокий мятеж,»
«сына» оказался замкнутым и ограниченным рамками внутрисемей-377
ныж, внутриродовых отношений, и не в нем заключается то подлинное
«возмездие», которое несла с собою «молодость мира» всему косному,
отжившему, обреченному.Что же это за герой и что это за среда, куда он пришел?На этот вопрос поэт отвечает в планах своей поэмы, набросанных
в 1911 году:«У моего героя не было событий в жизни... Он ко всему относил¬
ся как поэт, был мистиком, в окружающей тревоге видел предвестие
конца мира. Всо разрастающийся события были для него только
образами раэлортымающогосн хаоса...»Таким некогда был и сам поэт, возросший в старой усадьбе,
словно бы отгороженной от исого остального мира; из этой усадьбы,
где он постигал уроки в школе «сентиментального воспитания», кото¬
рую сам впоследствии отвергнул, «сын» и шагнул в мир, в ту среду,
где «вино лилось рекой», где каждый «безумствовал» по своей воле
и прихоти. Герой поэмы ведет существование, названное «бесцельным
и губительным», а так как ему присущи большие творческие силы,
жажда настоящего дела, в нем нарастает внутренний протест против
подобного существования.Наступает внутреннее отрезвление «сына»; он отходит от богемы,
пронизанной духом разложения, измены, «великого предательства»;
начинается новый и высший этап его «вочеловечения», совпадающий
с известием о смертельной болезни «отца». «Сын» приезжает к нему
в Варшаву, но уже не застает его в живых...В черновиках третьей главы возникает образ «сына», бродящего
по площадям и предместьям Варшавы, одинокого, тоскующего, преж¬
девременно уставшего от жизни и уже готового безраздельно слиться
стой стихией, голос которой слышится ему в нарастающем гуле
метели. И вот «простая девушка пред ним». Неожиданно завязывает¬
ся странный, необычайно многозначительный — уж не в бреду ли? —
р813ГОВОрГ«— Мне жить надоело. — Я тебя не оставлю. Ты умрешь со мной.
Ты одинок? — Да, одинок. — Я зарою тебя там, где никто не узнает,
и поставлю крест, и весной над тобой расцветет клевер...» — и она...с улыбкой открывает
Ему объятия спои
И псе, что было, отступает
И исчезает (и забытьи)...Далее следуют заключительные (тожо черновые) строки поэмы,
наглядно свидетельствующие, чт-о «сын» так и гибнет, не приобщив¬
шись к тому будущему, в котором — назначение и единственное оправ¬
дание его жизни. Вот почему так безнадежно-трагична и безысходна
его судьба:«...он умирает в ее объятиях. Все неясные порывы, невоплощен¬
ные мысли, воля к подвигу [никогда] пе совершенному, растворяется
на груди этой женщины.378
Мария, нежная Мария,Мне пусто, мне постыло жить!Я не свершил того...Того, что должен был свершить».В последних словах героя поэмы раскрывается трагедия его
жизни, и is них — объяснение его метаний, противоречий, смертельной
тоски, сжигающей «сына» и отнимающей у него даже и саму
жажду жизни.Что же помешало «сыну» воплотить свою «волю к подвигу»?Именно то, что его порывы были «неясными», что он и сам не
йог найти «дорогу к подвигу», того «важного дела», ради которого не
жаль пожертвовать жизнью; он не знает выхода из раздираюшей
противоречивости своих стремлений, и его ненависть к прошлому
сочетается со множеством порожденных им пережитков, предрассуд'
ков, иллюзий; -мятож «сына» прогни прошлого оказался бесплодным,
и именно потому, что был «одиноким», но связанным с борьбою
революционных масс, поднявшихся к активному историческому
творчеству.Когда-то Стендаль высказал примечательную мысль о том, что
«бывают такие положения, когда не так трудно выполнить свой долг,
как точно знать, в чем он заключается» — и, кажется, нельзя лучше
выразить ни внутреннее состояние «сына» (а во многом — и самого
ноэта), ни причины сжигающего его недуга.«Если бы знать!» — восклицает Герман в «Песне Судьбы», и тра'
гедия «сына» в том, что он жнвет «грядущего не видя», а потому и не
зная точкп приложения своих больших и нерастраченных сил,— вот
почему они бесплодно томят его и гаснут.В декабре 1911 года поэт записывает:«Мама дала мне совет — окончить поэму тем, что «сына подни¬
мают на штыки па баррикаде...» — но ничто в намеченном в «Возмез¬
дии» характере «сына» (да и в самой ого «биографии») не подводит
к такой участи; вот почему поэт, разумеется, и по смог воспользо¬
ваться этим советом, никак не связанным с материалом его повество¬
вания, хотя в планах и черновиках мы видим попытку такого рода:...и за тебя, моя свобода,Взойду на черный эшафот.Но этот «эшафот» — не подлинный, а явно условный, «фигураль¬
ный», не тот, который имела в виду мать поэта; сюжет поэмы стре¬
мится по иному, более узкому руслу, чуждому баррикад и кары за
них. Мятеж «сына» принимает слишком замкнутый, а во многом
и ограниченный характер; он превращается в распрю «отцов» и «де¬
тей», не затрагивающую самой основы той жизни, в условиях которой
так вольготно живется коршунам, хищникам, упырям. Но это — еще
не то настоящее и подлинное «возмездие» правящей верхушке за все
ее преступления, а только иллюзия «возмездия», его подобие, не
очень-то страшное для тех, против кого оно направлено. С таким379
«возмездием» они охотно примирились бы — лишь бы за ним не по¬
следовало другое, более реальное и грозное.Вот это ощущение «бесплодности» «сына», неумение найти русло
«собственному мятежу» и придает его порывам безвыходность, осоз¬
нание х^оторой и оборачивается отчаянием, тоской, философией
«опускания рук»...Но Блок и сам но связывал со своим героем — «сыном» — боль¬
ших надеягд, когда утворждал (в планах и наметках поэмы):«На фоне каждой семьи встают ее мятежные отрасли — укором,
тревогой, мятежом. М. б., они хуже остальных, может быть, они сами
осуждены па погибель, они беспокоят и губят своих, но они правы
новизною. Они способствуют выработке человека. Они обыкновенно
сами бесплодны. Они — последние. В них всо замыкается. Им нет вы¬
хода из собственного мятежа — ни в любви, ни в детях, ни в образо¬
вании, новых семей,..» — и «бесплодность» «сына» закономерно опре¬
делена тем, что он стоит где-то на обочине, в стороне от главных путей
истории.Если образ «отца» возникает в поэме со всей ясностью и опреде¬
ленностью — как в своем индивидуальном своеобразии, так и в том
общественно-историческом, что разглядел поэт в: частном и личном,—
к виден во всех переходах своей судьбы, от блистательного начала до
безнадежно трагического завершения, то образ «сына», обретающий
отдельные яшвые черты, словно бы истаивает в некоем тумане, в до¬
гадках, внутренней противоречивости. Здесь долгие поиски и твор¬
ческие усилия поэта оказались во многом тщетными, ибо, судя по
всему, и для него самого в облике «сына» многое оставалось смутным,
неясным и слишком много было «неизвестных» (самому художнику),
для. того чтобы поэт мог до конца воплотить этот образ.«Сын», горой поэмы «Возмездие», подобно Герману «Песни Судь¬
бы», — это тоже один из «двойников» поэта, одно из его лирически
преображенных воплощений; он еще не вышел (в противоположность
автору поэмы) на дорогу «от личного к общему», задохнулся в своем
«одиноком мятеже» и в конце своей жизни утратил «волю к подвигу».
Это —одна из возмояшостей внутреннего развития, — но тоже не та,
которая могла бы до конца удовлетворить поэта, и не та, которая
осуществлялась в его собственной жизни.«Сын» гибнет, так и но увидев перед собой ясной дороги; задачу
воплощения «человека» поэт возлагает на следующее поколение, на
семя, зароненное «сыном», ужо гибнущим. Его гибелью и завершается
поэма, вернее — ее фрагменты и наброски.3. «КТО МЕЧ СКУЕТ?..»Замысел поэмы «Возмездие» по случайно возник во всей его
эпичёской широте в то время, когда после лет реакции, закрывшей
было «лицо проснувшейся жизни», в воздухе снова запахло револю¬
цией; Да и вся эта поэма, по позднейшему признанию художника,
пронизана духом «революционных предчувствий», возникших380
и укрепившихся именно тогда, когда революционное движение — по¬
сле периода застоя, упадка, отступления — снова пошло на подъем
и снова ретрограды и мракобесы почувствовали, что у них нет «ника¬
кой надежды» (по словам В. Розанова) на успех своего обреченного
и гиблого дела. Надолго сковать рукой, хотя бы и «железной»,
живые силы народа, надолго обескровить его им не удалось. В возду¬
хе снова повеяло грозой, предотвратить которую правящая и разла¬
гающаяся верхушка уже не могла, и вопросы, связанные с неизбеж¬
ностью новой революции, все настойчивее входили в повестку дня,
стучались во все двери.В письме, отправленном «с оказией», а не почтой, и потому не
подвергавшемся опасности перлюстрации («но моим наблюдениям,
письма распечатывают иногда...» — сообщается здесь же), поэт гово¬
рит матери:«...я яростно ненавижу русское правительство («Повое время»),
и моя поэма этим пропитана» (10:11).Вот почему в поэме, как и в цикле «Ямбы», преобладает стих,
«рожденный негодованием», и, стало быть, совсем пе случайно, что
иные ее куски, не вошедшие в окончательный текст, становились
стихотворениями «Ямбов», — такое «взаимопроникновение» двух
творческих созданий вполне закономерно, ибо им присущ один и тбт
же вдохновляющий их пафос гнева и ненависти к силам реакции
и мракобесия.В начале 1911 года, в разгар работы над поэмой, Блок в письме
к матери подытоживает опыт своей жизни, значение которого при¬
открывается ему в новом и ясном свете, как переход «от личного
к общему» (как скажет он впоследствии).«Я чувствую, — говорит поэт, — что у меня, наконец, на 31-м году,
определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме и на
моем чувстве мира. Я думаю, что последняя тень «декадентства»
отошла. Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых,
хороших и увлекательных возможностей — при том в том, в чом преж¬
де их не видел. С одной стороны — я «общественное животное»,
у меня есть определенный публицистический пафос и потребность
общения с людьми — все более по существу. G другой — я физически
окреп и очень серьезно способен относиться к телесной культуре,
которая должна идти наравне с духовной...»Далее следуют размышления об искусстве — необычайно важные
для понимания замысла поэмы «Возмездие», ее пафоса, самой ее на¬
правленности:«...настоящее произведение искусства в наше время (и во всякое,
вероятно) может возникнуть- только- тогда, когда 1) поддерживаешь
непосредственное (не книжное) отношение с миром и 2) когда мое
собственное искусство роднится с чужими (для меня лично —
е музыкой, живописью, архитектурой и гимнастикой)...»Здесь необходимо подчеркнуть слова о «непосредственном» отно¬
шении с миром (чТО нашло свое выражение и в поэме), о «публицис¬
тическом пафосе», пронизывающем поэму и оттолкнувшем от нее тех,381
кто еще так недавно похваливал Блока за его доклад «О современном
состоянии русского символизма».Но поэт и сам подозревал, что совсем не этого ждут от него —
певца Прекрасной Дамы и Незнакомки!—друзья и близкие ему
люди, и предупреждал мать, чтобы она «не испугалась» при ознаком¬
лении с поэмой с неожиданными для нее тенденциями и чтобы знала,
что он имеет потребность «расширить круг своей жизни, которая до
сих пор была углублена (на счет должного расширения)».Должно быть, немало видел поэт выражений испуга и неодобре¬
ния на лицах друзой и близких, если у него возникла потребность
предупредить даже и мать — самого близкому ему человека! — чтобы
она «не испугалась» нового и глубоко новаторского его произведения.В «Возмездии» события современности видятся в широчайшей
.керспективе, объемлющей века, страны, народы, — и поэт стремится
дать ответ на самые большие и острые вопросы о путях и судьбах
истории; вот почему здесь возникают образы космогонии, мифологии,
старинных легенд и преданий, повествующих о столкновении враж¬
дебных сил — света и мрака, зла и добра, дракона и его жертвы,
бесстрашного Зигфрида и злобного карлика Миме (здесь имеется
б виду тетралогия Вагнера «Кольцо Нибелунгов»), и эти образы
обретают в поэме Блока, несмотря на всю свою символичность и пре¬
дельную обобщенность, живое, конкретное значение, ибо поэт выра¬
жает в них реальность самой действительности, характер той борьбы,
ходом которой определяется и судьба родины.Впоследствии, в 1917 году, размышляя о данной Ключевским
периодизации русской истории, Блок обращается к собственному
творчеству, к «Возмездию», которое снова переместилось в поле его
внимания.«Вот, вот — реализм, научность моей поэмы, моих мыслей
с 1909 года!..» — восклицает он, подчеркивая то новое и принципи¬
ально важное, что сказалось в поэме, выдержавшей такое великое
испытание, как испытание революцией — и выдержавшей, на взгляд
поэта, именно потому, что в ней воплотились принципы «реализма,
научности». Так сам Блок определял пафос п характер своей поэмы,
которую относил к явлениям реалистического искусства, и был совер¬
шенно прав, ибо поэма дает (особенно — в первой главе) исторически
верное, правдивое и проникновенное изображение эпохи, глубоко свя¬
зывая «личное» с «общим».Своему произведению — одному из любимейших — поэт отдал
много напряженного труда и неоднократно — в течение целого десяти¬
летия! — возвращался к работе над ним, вплоть до последних дней
своей жизни (правда, тогда рука поэта уже была слишком слабой для
того, чтобы успешно завершить замысел, требовавший огромного твор¬
ческого напряжения, вдохновенного порыва, высокого мастерства).В поэме Блока широта исторических обобщений сочетается с отто¬
ченностью психологически проникновенных характеристик, с жи¬
востью интонации, передающей страстно напряженные переживания
автора поэмы и ее героев, со стремительным развитием внутренне382
свободного, а вместо с тем подчиняющегося строгой художественной
дисциплине действия,— но все же каких-то весьма существенных
аиеньев и связей в ней не хватает, и перед нами лишь куски и осколки
аа меча тельного замысла, так и не воплотившегося и не выкристалли¬
зовавшегося до конца.Едва ли причины этой незавершенности могут объясниться об¬
стоятельствами случайными и преходящими,—нет, в самом замысле,
и характере материала и композиции поэмы заключалось, судя по
всему, нечто такое, что «тормозило» ее развитие, вызывало противоре¬
чивость и внутреннюю несогласованность частей, которую поэт ие
смог преодолеть.Лишь первая глава поэмы, в которой события сравнительно дав¬
него прошлого показаны в широкой перспективе, отвечает внутренним
требованиям избранного поэтом жанра, да и самому замыслу, стрем¬
лению связать судьбы героев с судьбами родины, с теми событиями
истории, которые свидетельствуют об остром столкновении ее проти¬
воборствующих станов — сил реакции и самодержавия с силами на¬
рода, революции, будущего.Судя по всему, основная трудность заключалась в том, что замы¬
сел, лежащий в основе поэмы и определивший ее масштабность, тре¬
бовал от художника огромной общественно-политической зрелости,
внутренней последовательности в объяснении событий истории
и современной действительности, умения увидеть и запечатлеть в не¬
разрывной связи с ними и частную жизнь человека, личное и непо¬
вторимо индивидуальное объяснить как часть общего, всемирно-исто¬
рического и тем самым — обнаружить и показать те общественные
силы, которые несут «возмездие» власть имущим, а также и пх при¬
хвостням и подголоскам, героям возвышенной и пустой фразы. Только
при этом условии новые «Ругон-Маккары», новая эпопея, задуманная
Блоком, могла бы найти успешное завершение,— но в процессе ее
художественной реализации обнаружились трудности и помехи, кото¬
рые нельзя объяснить случайными причинами.Энгельс писал Лассалю по поводу пьесы «Франц фон Зикинген»,
что художник должен черпать мотивы действия своих героев «не1
в мелочных индивидуальных прихотях, а в том историческом потоке,
который их несет...» (К. Маркс, Ф. Энгельс, «Об искусстве». Москва,
издательство «Искусство», 1938, стр. 176) — и этот «исторический
поток» врывается в первую главу «Возмездия», подхватывает и под¬
нимает ее образы на огромную высоту, выносит их на неоглядный
простор. Они возникают подобно айсбергам, и каждый из них означает
гораздо больше, чем видимо сначала; в них чувствуется большая и не¬
обычайно весомая, ускользающая от поверхностного взгляда масса,
уходящая в глубину и словно бы растворяющаяся в ней, и это впечат¬
ление не обманчиво — о чем свидетельствуют материалы к поэме
«Возмездие», подтверждающие, как глубоко изучал Блок затронутое
им время — 70-е и 80-е годы, исторические события, определившие
и судьбы героев и социальные движения эпохи. Конечно, не весь этот
материал сказался в поэме, но он словно бы присутствует в ней, со¬383-
ставляет ее живой и подвижный фон, ее грунтовой слой, образует то
глубокое подспудное течение, которое явственно ощущается в ней
и придает особый смысл каждому слову, образу, намеку — за ними
чувствуется дыхание самих исторических событий, нарастание уже
готовой обрушиться бури; здесь каждая строка поэмы словно бы со¬
дрогается от глухих ударов и подземных толчков, от которых призрач¬
ными и непрочными становятся все старые и, казалось бы, такие
прочные устои самодержавного строя, уже напоминавшего — при всей
своей помпезности и кажущейся солидности! — карточный, готовый
вот-вот разрушиться домик.Все эти и многие другие материалы, далеко выходящие за рамки
личного опыта, семейных и устных преданий, поэт изучил весьма
основательно, и здесь семейная хроника и предания старины осмысли¬
ваются в свете огромных исторических перспектив, в конечном сче¬
те -г- в отношении к проблеме «единства с миром», неотъемлемой от
всех этапов творчества Блока.Но аналогия с «Ругон-Маккарами» окажется явно неоправданной,
если читатель поэмы от описанных в ней исторических событий перей¬
дет к событиям современным, от образа «отца» к образу «сына»; здесь
обращение художника к личному опыту и личным переживаниям
(чем преимущественно и ограничился автор) оказалось явно недоста¬
точным для того, чтобы воссоздать такую же широкую социальную
картину, какую мы видим в первой главе.Поэт в своей личной жизни ие был связан с теми передовыми,
подлинно революционными слоями русского общества, борьба которых
была посвящена делу «преображения России», а без них и картина
современной русской жизни не могла явиться достаточно полной
и многогранной, во всяком случае — в той мере, в какой этого требо¬
вал замысел поэмы, взывавший не только к резко отточенным и не¬
повторимо своеобразным подробностям, но и к самым широким
обобщениям, связанным с раздумьями над судьбами всего народа.Та историческая действительность, в условиях которой Блок пред¬
принял работу над поэмой, также еще не дала ему окончательного
ответа на затронутый им вопрос — вопрос о характере и значении
«возмездия» всему старому, прогнившему строю; это было еще впере¬
ди, и поэт не видел тех реальных сил, которые несли с собою «возмез¬
дие» правящей верхушке общества; многое тонуло перед поэтом
в тумане, в тех сумерках, которые он называл «демоническими»;
«лишком многое казалось ему неясным и смутным, что и мешало ра¬
боте над поэмой, самый замысел которой требовал предельной ясности
и четкости.Биограф. поэта М. А. Бекетова подмечает, говоря о событиях
1912 года:. «В эту зиму цоэма была отложена. Блок стал относиться к ней
холоднее, с нерешительностью и долго не возвращался к начатому
труду...» («Александр Блок», стр. 173).Надо полагать, что эта «нерешительность» и была вызвана тем,
что поэт не. находил реального воплощения темы «возмездия», связаи-т
ной с нарастанием новой революции; отсюда — колебания в опреде¬
лении .сюжетных мотивов поэмы и «недоговоренность» образа «сына»;
его «мятежность» не находила реального выхода в широкий мир,
а ноэтому поэт и обрекал своего героя-«сына» на одинокий бунт и бес¬
славную гибель.Стихи поэмы вспыхивают на скрещении самых сложных и проти¬
воречивых чувств, восстающих друг против друга и доводящих до
предела остроты все переживания поэта; его сжигает страстн8гя и не¬
утолимая ненависть к силам реакции, а вместе с тем он не знает, «что
делать с собою» — и со своей ненавистью, чувствует внутреннюю
скованность, бессилие, и его поднятая для удара рука беспомощно
замирает в воздухе.Вот почему замысел поэмы — в процессе его реализации — на¬
талкивался, словно на незримые подводные камни, на непримиримый
противоречия, на возрастающие трудности, с которыми поэт так и п»?
сумел справиться до конца.Внутренняя противоречивость, присущая поэме, сказывается ужо
и в ее прологе, где поэг приравнивает подвиг худояшика, замыслив¬
шего новое и большое произведение, к подвигу Зигфрида, сковавшего
свой верный меч — надежный и неотразимый Нотунг,— а вместе с тем
сам же и отказывается от выполнения подобной задачи, полагая, что
она ему не по плечу.С предельной выразительностью, зримостью, остротой противоре¬
чивость поэмы — и вдохновляющая ее ненависть ко всему отжившему
и мертвенному, и неумение увидеть реальные пути борьбы с ним' —
сказалась в образе Нотунга, волшебного меча, который может выко¬
вать лишь тот, кто не ведает страха; с помощью Нотунга Зигфрид,
герой «Кольца Нибелунгов», и побеждает своих врагов.Образы этой тетралогии Вагнера были для Блока не только явле¬
нием искусства, но и одним из тех важных событий внутренней
жизни, смысл которых проаревается с годами все более глубоко и по¬
могает осознать современную действительность в широкой перспекти¬
ве, вмещающей века, страны, народы, и связать обыденное, повседнев¬
ное с историческим и мировым. Блоку были необычайно близки
образы и мотивы гениальной тетралогии Вагнера, и в поэме «Возмез¬
дие» события видятся словно бы сквозь дым и пламя, озаряющее
трагедию неизбежной гибели богов старого «страшного мира». Как бы
ни были грозны и могущественны эти боги, но идут новые силы, перед
которыми они беспомощны; они уже отжили свой век и заедают Дру¬
гой — молодой, неудержимо рвущийся к свету, к свободе, к счастью,
но конечная победа—за ним!В тетралогии Вагнера Блок искал ключ, с помощью которого
можно проникнуть в тайные глубины человеческого существа, разга¬
дать загадки бытия, будущее всего человечества; вот почему образам
и лейтмотивам «Кольца Нибелунгов» Блок придавал черты сугубо
современные, даже злободневные.Цоэту казалось: снова у природы новыми и страшными Нибелуя-
гамн похищено золотое кольцо и снова на страже всех земных благ
- , „цнмипц стоят чудовища, заставляющие людей служить себе
и превратившие их в рабов,— и только новому, не знающему страха
Зигфриду дано покончить с их угнетателями и поработителями;
сооруженный Нотунгом, Зигфрид смело выходит на борьбу со злом
и решительно расправляется с ним — будь это зло двуличное, скольз¬
кое, ползучее, подобпое коварным замыслам карлика Миме—вопло¬
щению духа «великого предательства», или зло нагло торжествующее,
открытое, уверенное в себе, своей силе и власти, как уверен в ней
дракон Фафнер, завладевший бесценным сокровищем Рейна.Сквозь огонь и бури вагнеровской космогонии и мифологии, в кро¬
вавом и дымном отсвете пожарища, означающего «гибель богов»,
и видел поэт события современности — еще более величественные
и трагические, чем в прежние времена, и требующие жертв и подви¬
гов, достойных нового Зигфрида, чтобы спасти мир от жестоких,
бесчеловечных сил, господствующих на земле. Образы вагнеровского
«Кольца Нибелунгов» осмыслены здесь как ключевые, символические,
снова вернувшиеся к жизни и угадываемые поэтом в обликах совре¬
менности, в событиях окружающей его действительности.Вагнеровские образы возникают в первых же строках поэмы, в ко¬
торых и;ели и назначение искусства видятся в необычайно широкой
перспективе; пропуская все жизненные впечатления и восприятия
«сквозь,жар души, сквозь хлад ума», подвергая их испытанию «огнем
и мраком», Блок уподобляет труд художника закалке меча, верного
ж надежного в любых условиях:Так Зигфрид правит меч над горном:То в красный уголь обратит,То быстро в воду погрузит —И зашипит, и станет черным
Любимцу вверенный клинок...И этот клинок становится самым острым оружием в борьбе со
злом и мраком:Удар — он блещет, Нотунг верный,И Миме, карлик лицемерный,В смятёньи падает у ног!..Подобно Нотунгу, надежному, сияющему мечу, и творчество того
подлинного художника, который ворует «в начала и концы», готов на
любые жертвы и испытания — лишь бы навсегда одолеть нагло тор¬
жествующие силы, враждебные всему человеческому, истинно пре¬
красному и стремящиеся стать полновластными господами и хозяева¬
ми всей земли.Как видим, самый замысел поэмы требовал от художника ясного
ответа на вопрос: кто сумеет нанести смертельный удар драконам
и карликам «страшного мира»? Этот ответ мог найти только тот, кто,
не ведая страха, в сплетении самых острых и непримиримых проти¬
воречий, раздиравших не только Европу, но и весь мир, реально видел
будущее и людей будущего, которые уже и в то время наносили реши¬
тельные удары алчным и хищным «драконам» и злобным «карликам»386-
старого мира, несли на острие своих мечей гибель его богам,— ао
» первых же строках своей поэмы сам художник отказывался от тога
ясного и точного ответа, которого настойчиво требовал весь ход его
поэмы.Если в «Возмездии» спор с «демонами» и «драконами» хищниче¬
ства и наживы обнаруживает, что поэт реально знает их «темные
дела», связанные с характером растлевающего души «буржуазного
богатства», то этого, как видно, нельзя сказать о силах, противостояв¬
ших «дракону».Кто нанесет ему удар?..—
вопрошал поэт и сам себе отвечал с тоскою и горечью:Не ведаем: над нашим станом,Как встарь, повита даль туманом,И пахнет гарыо...Сквозь этот туман еще по дано проникнуть взору поэта, и ои ие
видит на земле, в самой действительности, тех сил, которые могут
нанести верный и смертельный удар.Что же мешало самому поэту в прежние годы сковать тот меч,
перед которым не устоял бы ни один дракон или карлик отжившего
мира?В прологе поэт отвечает на этот вопрос, издавна преследовавшийего:Кто меч скует? — Не знавший страха.А я беспомощен и слаб,Как все, как вы,—лишь умный раб,Из глины созданный и праха,—И мир — он страшен для меня...Здесь найден ответ на вопрос о том, что мешало поэту сковать
меч из тех осколков некогда могучего копья, обладателем которых он
чувствовал себя; этот меч но мог бы сковать тог, для кого окружаю¬
щая его действительность обернулась «страшным миром». Поэт но
знал, почему хищные, бесчеловечные силы забрали такую огромную
власть над людьми, над народом, а потому и видел в них нечто «поту¬
стороннее», «демоническое», «инфернальное»,— именно поэтому в об¬
разе колдуна и упыря предстает в поэме «Воз-мездие» Победоносцев»
как наглядно-зримое воплощение реакции и мракобесия. Мучаясь
кошмарами и ужасами «страшного мира», поэт не мог найти подлин¬
ного объяснения всему тому, что творилось на его глазах, и усматри¬
вал разгадку реальных событий в сферах иных, «инфернальных», пе
зависящих от людской воли и власти:Двадцатый век... еще бездомной,Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).Пожары дымные заката
(Пророчество о нашем дне),Кометы грозной и хвостатой
Ужасный призрак в вышине...387
Здесь словно бы сами стихийные и необоримые силы, дымные. за¬
каты и странные призраки ополчились на человека, пророчат ему ги¬
бель, и не в его силах одолеть и победить их; так конечные причины
и цели людских поступков н действий поэт искал в иных — небесных
или подземных — сферах, что и вносило в его поэму внутренний
разлад, неизбежные противоречия, порождало чувство горечи и бесси¬
лия; ее «зигфридовское» начало не могло раскрыться во всей своей
полноте, а Нотунг, занесенный над новым и еще более чудовищным
Фафиером, бессильно замирал в воздухе, словно руку поэта сковыва¬
ла некая невидимая и тайная сила. Вот почему и борьба с «вражьей
силой» представлялась поэту обреченной на поражение, и чувство
Toi-o, что «борьба безнадежна», что нет одоления хищным и бесчело¬
вечным силам «страшного мира», что они носят некий демонический,
«инфернальный» характер, а потому и неуязвимы, порождало в душе
поэта отчаяние и страхи. Когда он говорил о себе: «...я беспомощен
и слаб...» — создание из «глины» и «праха», то именно чувство беспо¬
мощности и обреченности диктовало поэту эти мрачные, и отчаянные
признания. Он стремился уйти в какие-то иные миры, обращался
к нездешним силам, пытаясь найти в них свою опору и защиту, и пе¬
ред ним, словно в тумане, вызванные из далекого прошлого, возника¬
ли образы церкви, склоненного в молитве рыцаря-монаха, «Жены,
облеченной в солнце», и именно к ней взывал поэт, приступая к ново¬
му творческому замыслу:Ты, поразившая Денницу,Благослови на здешний путь!..Все это свидетельствует, как трудно было Блоку окончательно
расстаться с представлениями и предрассудками прошлого, пережит¬
ками «сентиментального воспитания», против которого направлена
его поэма.Таким образом, сам Блок создавал — в силу непоследовательно¬
сти, запутанности, крайней противоречивости своих воззрений — те
трудности, которые и помешали ему завершить замысел, лежащий
в основе поэмы; вдохновляющий ее пафос ненависти не находил вер¬
ного исхода, а потому и само «возмездие», о котором говорит поэма,
оказывалось слишком проблематичным и условным, явно недостаточ¬
ным. Здесь но помогало обращение поэта к старому своему божест¬
ву— к «поразившей Денницу»,— от которого поэт ждал «благосло¬
вения».Да, поэму пронизывало предчувствие «возмездия» — оно назрева¬
ло с каждым годом все более явственно, очевидно и неизбежно, но
совершенно иным образом, чем тот, который виделся поэту сквозь
даль, пахнущую гарыо.В записях, относящихся к весне 1915 года и вызванных размыш¬
лениями над драмой «Роза и Крест», Блок утверждал, что к далекой
истории он обратился потому, что «не созрел для изображения совре¬
менной жизни», которая «очень пестрит» у него в глазах, «смутно
звучит в ушах». Вот почему и попытки отобразить ее в цельной,388
эпически ясной, широко развернутой картине поэту ие до конца уда¬
лись; осуществляя их, он наталкивался на какие-то внутренние пре¬
пятствия, в характере которых и сам еще не мог как следует разо¬
браться.Поэт был подобен Зигфриду, еще не знающему, как сковать свой
меч из обломков старого божественного копья. «Я — беспомощен
и слаб»,— говорил он о себе, и пусть в этих уверениях и признаниях
есть излишнее самоуничижение, но есть в них и доля истины — толь¬
ко доля, но и ее хватило для того, чтобы создание Нотунга, сверкаю¬
щего и беспощадно разящего меча, оставалось до поры до времени
недостижимым.Только впоследствии, в другую эпоху и в других исторических
условиях, Блок сумеет сковать из кусков и осколков древнего, некогда
разбитого копья свой «Иотунг верный» и осуществить с его помощью
подвит; о котором он раньше мог только мечтать,—тот подвиг, кото¬
рый являлся в глазах поэта самым важным назначением человека
и художника.
«ЖИЗНЬ МОЕГО ПРИЯТЕЛЯ»*В поэме «Возмездие» мы слышим признание «сына» (в котором
мы угадываем лирически преображенный образ самого поэта) в том,
что он чужд «отцу»...во всех путях,(Быть может, кроме самых тайных...)Это как бы мельком высказанное признание многое открывает
нам в творчестве Блока, в характере его героя, в необычайно сложном
мире, возникающем перед нами на страницах его лирики.Да, в каких-то «самых тайных» глубинах своего существа он уга¬
дывал то, что его самого роднило и с «отцом» и со всей окружающей,
воспитавшей его и по крови близкой ему средой; он чувствовал себя
отщепенцем, враждебным ей, ее «мятежной ветвыо», но сохранял те
«родимые пятна» прошлого, которых не мог изжить до конца своих
дней,— что и вносило острыо противоречия в его переживания, нахо¬
дившие крайнее свое выражение в образе «двойника» и теме «дзойни-
чества» — одной из самых постоянных в творчестве Блока.В глазах поэта «страшный мир» был страшен ие только явными
ужасами, преступлениями, бесчеловечностью, но и лицемерием, лжи¬
востью, двуличностью; тем, что он умел прикрывать свое хищническое
существо, свои «темные дела» самыми возвышенными словами и «зна¬
ками». В том мире, который окружал поэта, люди зачастую оказыва¬
лись оборотнями и «двойниками»; они носили маски, под которыми
угадывалось нечто опасное, хищное, страшное; все вещи и явления
словно бы отбрасывали свою тень, и поэт и самой повседневной жизни
видел множество невероятных метаморфоз, заставивших его заподо¬
зрить в обманчивости и обратимости самую природу человеческих
отношений, переживаний, страстей,— вот почему такое существенное
значение приобретают в его лирике мотив и тема масок, «срывания
масок»; в его стихах каким-то вихрем проносятся маски, «двойники»,
образы-оборотни.Здесь прекрасная Незнакомка, словно бы сошедшая со звездных
высот, оказывается проституткой, «змеиный рай» превращается в ад
«бездонной скуки», друзья — во врагов, предателей «в жизни и друж¬
бе»; здесь черти — «как ангелы чисты», а ангелы оказываются «вче¬
рашними», плотоядными и хищными существами, готовыми вот-вот390
вонзить в сердце «острый французский каблук»,— и, стало быть, из
только земля, но и небо населены «двойниками» и масками.В окружающем мире, где разыгрались хищнические страсти
и вожделения, человеку пусто и одиноко; он окружен враждебными
ему силами, он смертельно тоскует, ибо и в нем самом попрано, уни¬
жено, загажено все лучшее и подлинно человеческое, что есть на зем¬
ле и что обретает какой-то странный и двусмысленный оттенок, напо¬
минает нечистую изнанку расползающегося по всем швам одеяния,
еще не утратившего лоска казовой своей стороны.Что нее делать? Что же делать? — в тоске и отчаянии спрашивал
сам себя поэт,— и отвечал:«Нет больше домашнего очага. Необозримый, липкий паук посе¬
лился на месте святом и безмятежном, которое было символом Золо¬
того Века. Чистые нравы, спокойные улыбки, тихие вечера — все
заткано паутиной, и самое время остановилось, Радость остыла, по¬
тухли очаги...»Так говорит поэт в статье «Безвременье» (1900), и его лирика
отныне свидетельствует об обманчивости подобных «тихих вечеров».Весь мир словно бы выворачивался наизнанку на глазах поэта,
и, легко ли ему было угадать, что скрывается «под маской»: человече¬
ская улыбка или шутовская ухмылка, «постылый трепет жадпых
уст»? Порою кажется: поэт и сам не уверен, на чем од стоит,— то ли
на твердой земле, то ли на зыбком и ненадежном покрове, над прова¬
лом, на дне которого гибель,— и сам не знает: истинно ли то, что
открывается перед его взором, или же это всего только очередная
игра лживых масок и ускользающих теней?..Но для Блока «страшный мир» — со своими страхами, соблазна¬
ми, наважделиями — это не только то, что существует где-то за поро¬
гом сознания, но и то, что поэт видит в самом себе, в части своего
собственного существ:».Это враждебное начало, заложенное в нем самом, в его внутрен¬
нем мире, поэт и персонифицирует во множестве своих подобий,—
и так возникает образ «двойника», тень которого неотвязно преследует
поэта и заставляет его жадно и пристально вглядываться в самого
себя, отыскивая в себе то, что так враждебно ему в окружающей
жизни.«Двойник» — это все, что противостоит поэту,— его тень, его «не
я»,, которое может — ибо человеческое существо подвижно и «обрати¬
мо» — стать и его «я», завладеть полем сознания человека, вытеснить
его из жизни,— как в сказке Андерсена, где тень становится челове¬
ком, а человек,— ее жалкой и беспомощной тенью,— и оставить его
обездоленным и ограбленным, не находящим пристанища и утратив¬
шим смысл своего существования...«Двойник» обычно едва уловим, подобен тени, смутно различимой
в сумерках; в нем сосредоточено все то, что отвратительно поэту, все,
что он стремится вытеснить из своей внутренней жизни. Но однажды
он делает неожиданное открытие, застигнув врасплох те мысли и чув¬
ства, еле уловимые ощущения, о существовании которых дотоле и но391
подозревал: ость в нем самом то начало, которое чуждо и враждебно
ему; вот почему тема «двойничества» занимает такое существенное
место в лирике Блока и такие страшноватые сказки рассказывает
город поэту на каждом шагу. А самой опасной и, соблазнительной
сказкой было то, что нередко поэт утрачивал представление о том, где
oi'F— настоящий, подлинный, но придуманный им самим, чуждый
каким бы то ни было иллюзиям, самообольщениям, компромиссам,,
а где его тень, его «двойник» — все то, что ненавистно ему и что вме¬
сте с тем коренится и нем самом, в самых потайных его глубинах,
вьется вокруг, чтобы проникнут it ого внутренний мир; с этим обма¬
ном поэту было трудное лсого бороться, ибо здесь какая-то часть его
собственного существа вступала в заговор с темными и враждебными
ему силами.Этот страх подтачивал поэта изнутри, вызывал сомнения в самом
себе, и не только в своих силах, но и в их природе; этим страхом
и порождены многочисленные «двойники», ворвавшиеся в лирику
Блока пестрой и шумной толпой и словно бы насмехающиеся над
ним, над его возвышенными мечтами, благородными стремлениями,
святыми для него ценностями.Поэт видел, что «страшный мир» ищет — а подчас И находит —
самые тайные лазейки и трещины, чтобы не только извне поработать
человека, подчинить его себе, но и изнутри захватить его, сломить его
волю к борьбе и сопротивлению, целиком поглотить и «переварить»
его, превратить его в своего слугу и проводника,— и для Блока эта
опасность была тем более ощутимой и реальной, что и сам он, сохра¬
нивший многие пережитки и предрассудки барства и аристократизма,
был отравлен ядами прошлого, далеко не всегда оказывался равно¬
душным к его обманам и обольщениям, нодчас. «уступал» им — даже
и тогда, когда знал, чего они стоят на самом деле и какие гибельные
последствия влекут за собою. «Уступая» им, он размышлял: что, если
и сам он — всего лишь частица того «страшного мира», который вызы¬
вал у него такое непобедимое отвращение? Что, если и сам он — плоть
от его плоти и кость его кости? А ведь именно это и внушали поэту
оборони и «двойники», каждый из которых стремился выглядеть его
подобием, его точной копией.Отвечая Эллису па упреки в литературном «хулиганство» (адре¬
сованные Г. Чуйкову,—хотя и сам Эллис являлся непревзойденным
зачинщиком подобного «хулиганства»), Блок говорил о «полуправде,
полухулиганстве» и пояснял:«Но в ком'нет последнего — может быть, есть и во мне?. Много
двойников развелось, постоянно душа тяпот руку другой душе — по-
луподобной себе, полу враждебной...» (1907),— и издавна знакомых
поэту «двойников» особенно много расплодилось в годы «великого
предательства», когда сама возможность внутренней цельности
и нравственного здоровья человека ставилась под сомнение, а то
и попросту отвергалась.Поэт никогда окончательно не отделял себя от взрастившей его
среды и с горечью исповедовался перед своим читателем:392-
«...сам я люблю эстетику, индивидуализм и отчаянье... я сам ин¬
теллигент... во мне самом нет ничего, что я любил бы больше, чем
спою влюбленность индивидуалиста и свою тоску, которая, как тень, "
всегда и неотступно следует за такой влюбленностью...» («Народ и йн*-
толлигенция», 1908),— и нередко эта «тень» воплощалась в облике
«двойника», внушавшего поэту «самозабвение» тоски, отчаяния, без¬
различия, безверие в себя и в свои силы.«Двойник» возникал тогда, когда сознание поэта словно бы рас¬
калывалось пополам, и если одна половина его существа сохраняет ,
мело свою верность служению, долгу, «высшим целям бытия» (Чехов),
то другая устает сопротивляться, уступает очередному соблазну —
и тогда вместо восторженного романтика, которым он был когда-то,
поэт видит в самом себе «стареющего юношу», возникающего в не¬
проглядном тумане и шепчущего ему:Устал я шататься,Промозглым туманом дышать,В чужих зеркалах отражаться
И женщин чужих целовать...С отвращением вслушиваясь в шепот этого «стареющего гоноши»,
поэт вдруг замечает, что вблизи никого нет, и размышляет с тоской
и тревогой:Знаком этот образ печальный,И где-то я видел его...И вдруг его застигает врасплох странная и неопровержимая
догадка:Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной?.. —и само название стихотворения «Двойник» (1909) слуяшт нам ответом
иа этот вопрос.«Двойник» является перед нами и и образе «демона», для которо¬
го возлюбленная —- всего только «ясертвочка», данная ему для того,
чтобы терзать ее, как это мы видим в цикле «Черная кровь» («Я гля-,
жу на тебя. Каждый демон во мне Притаился, глядит...»).Но и «демон» — не самый страшный «двойник» из тех, которые.,
вторгаются в лирику Блока.Когда поэт утрачивал «правый путь», когда он безнадежно блуж¬
дал в переулках и «извивах» огромного города, в этих «электрических
опах наяву», и чувствовал себя не только его жертвой, но и его части¬
цей, впитавшей, словно губка,, капля за каплей, опасные яды окру¬
жающей среды,— его «двойник», у которого спруты и вампиры гигант¬
ского города высосали кровь, и сам становился вампиром и делился •
с нами такими тягостными признаниями, в которых уже нельзя, раз?
личйть ничего человеческого:...Зиаю, выпил я кровь твою...Я кладу тебя в гроб и пою,— 1 ’ ' ' '1393
Мглистой ночью о нежной весне
Будет петь твоя кровь во мне!..Так одним из «двойников» поэта становился вурдалак, вампир,
упырь, о котором в народе рассказывались страшные легенды, и в этом
образе воплощено все самое мерзкое, хищническое, паразитическое,
что только может представить себе человек и что уже лишено каких
бы то ни было приукрашеиий, Когда поэт говорит об упырях, вурда¬
лаках, живых мертвецах, порою ему кажется: он говорит о самом
себе,— и тогда ого лицо искажается какою-то нечеловеческой, хочется
сказать — вороилопокой гримасой, я которой словно бы сквозит иро¬
ния над самим собою п над всом миром, и or лица своего очередного
«двойника» он с усмешкой провозглашает:Забавно жить! Забавно знать,Что под луной ничто ие ново!Что мертвому дано рождать
Бушующее жизнью слово!«Бушующее жизнью слово», рожденное мертвецом и отзывающее
«лирическими ядами»,— это и есть его собственное творчество, по
мнению таящегося в самом поэте «двойника», которому «забавно»,
а вместо с тем и страшно жить, «ходить среди людей и притворяться
нзногибишм» — посланцем какого-то иного, потустороннего мира.Здесь «двойник» — это тень человека, и если сам человек живет
и. хочет «безумно жить», то его «двойник» — это мертвец, отвергаю¬
щий все живое; в улыбке «двойника» поэт различает всого только...страх могилы,Беспокойство мертвеца... —и «живой труп» возникает в лирике Блока как один из самых тягост¬
ных и навязчивых призраков..Как видим, поэт не только не умалчивал о всем том «темном»,
что было в нем («по существу — светлом», как говорил он в переписке
с Андреем Белым), но даже подчеркивал его, доводил до предела,
и тогда казалось, что он принимает на свои плечи всю тяжесть грехови, преступлений породившей его среды и того мира, который был
в глазах поэта бесчеловечным и враждебным.Блок решительно и безоглядно вскрывал всо эти — самые край¬
ние— противоречия, чтобы до конца, до самых последних и сокровен¬
ных глубин, порою недоступных ие только для взгляда постороннего
человека, но и для самого себя, исследовать свое существо во всех его
возможностях и ипостасях, ничего не сглаживая, не смягчая, не при¬
украшивая, не обходя самых острых углов, не замалчивая и самых
глубоких своих «падений» (говоря его словами); вот почему он так
пристально и неотступно вглядывался в искаженные тоскою, отчая¬
нием, иронией лица своих «двойников» — опустившихся пьяниц,
'завсегдатаев ночных ресторанов, мелких, ничтожных, навсегда запу¬
ганных людей,— и в русской литературе нет более мрачных и отчаян¬
ных исповедей (кроме, пожалуй, исповеди Ставрогина), чем иные394
стихи Блока, в которых человек с такой же предельной откровен¬
ностью обнажал бы все свои пороки, болезни, язвы, не утаивая ни
«дной из них; чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать цикл
«Жизнь моего приятеля» (1913—19J5) — один нз наиболее примеча¬
тельных в третьем томе лирики Блока.Здесь образ «двойника», воплотивший усталость и отчаяние поэта,
чувство безнадежности в поисках лучшей, подлинно человеческой
жизни, намечен наиболее полно, подробно и подобен той тени, кото¬
рая, обретя совершенно самостоятельное существование, стремится
внушить человеку, что и сам он на этой земле является всего лишь
тенью тени, .чье существование бессмысленно и никчемно.«Приятель» — это один из тех «двойников» поэта, тот «нищий
дурак», который ограбил самого себя и бесцельно прожигает, а вер¬
нее — изничтожает свою жизнь; он проводит дни в жалкой и мелкой
суете, словно в каком-то одуряющом угаро, и всо ого силы и дарова¬
ния уходят впустую— так жо как лучшие стремления и надежды,
некогда волновавшие его и казавшиеся такими возвышенными и зна¬
чительными:Весь день — как день: трудов исполнен малых
И мелочных забот.Их вереница мимо глаз усталых
Ненужно проплывет...В облике этого «приятеля» мы можем различить черты того же
«стареющего юноши», который — стоит вглядеться попристальней
и прикрикнуть на него построже — рассыплется и рассеется пылью,
дождем, туманом, из которого словно бы и возник; этот призрак —
плод расстроенного воображения, но подпусти его поближе, поверь
в него, сроднись внутренне с ним — и тогда сам себя не узнаешь, сам
станешь таким же жалким и никчемным, как он; об участи человека,
которого поглотил его «двойник», поработила его собственная «тень»,
и повествует поэт в этом цикле.«Приятель» поэта рассказывает о себе, о своих бесцельных мета¬
ниях, своем безверии, своей ненужности, ибо он забыл настоящее
дело, «дорогу к подвигу»; вглядываясь в мир своих чувств, пережива¬
ний, стремлений, он не находит в них ничего, кроме пустоты, скуки,
смертельной то-ски:Волнуешься, — а в глубине покорной:Не выгорит — и пусть.На дне твоей души, безрадостной и черной,Безверие и грусть... —и все тонет в этой мрачной и недвижной глубине, подобной глубине
заросшего тиной стоячего пруда.Гонимый тоскою, ночными страхами, своим «безрадостным
уютом», в котором — одно из проклятий его жизни, он мечется по
опустевшим улицам, которые кажутся продолжением его неодолимой
тоски,— и только под утро, может быть,...придет желанная усталость . ..И станет все равно... —895
(опять «все равно»!). И его, сломленного ночными ужасами, охваты¬
вает полное равнодушие и безразличие ко всему тому, что еще так
недавно сияло перед ним, как «лучшие алмазы в человеческой ко¬
роне» (Блок),Теперь у героя лирики Блока за плечами большой и трудный
жизненный опыт; он прощел по многим кругам того ада, каким яв¬
ляется в его глазах современная действительность,— вот почему он
так резок, желчен, угрюм и так язвительно иронизирует над «со¬
вестью», «честью», «любовью», «дружбой»—над всеми теми возвы¬
шенными словами, которыми так часто люди обманывают друг друга
и которыб почти неизменно оказываются фальшивками:Что? Совесть? Правда? Жизнь? Какая это малость!Ну, разве ие смешно?..«Ну, разве не смешно?» — последняя строка стихотворения, от¬
крывающего цикл, могла бы служить и его эпиграфом; в каком-то
наигранно веселом, даже легкомысленном тоне сообщается о дальней¬
шей жизни «приятеля», с которым происходят самые простые, даже
забавные, а вместе с тем и ужасные приключения. Но он, судя по
всему, так привык к ним, что говорит о них как о чем-то невероятно
смешном, хотя дело касается всей его жизни, и сквозь желчность,
язвительность, насмешливость, какими, как губка уксусом, пропитаны
эти строки, проступает нечто иное — и гораздо более глубинное, неиз¬
менное, о чем поэт Постоянно помнил и чему был «верен сквозь всю
свою неверность» (говоря его же словами). А если его и охватывал
приступ смеха,—- это тот смех, о котором он некогда говорил в своих
стихах:...изверившись в счастье,От смеху мы сходим с ума,И, пьяные, с улицы смотрим,Как рушатся наши дома!..У «приятеля» тоже рушится дом, а вместе с домом — и вся его
жизнь; но ему уже «все равно». Пусть все пропадает пропадом,—
ведь, что ии делай, ему никто не поможет, да и «некому помочь»,
и: сам он не может принести людям ничего — кроме той боли, от кото¬
рой не знает избавления.Поэт рассказывает историю жизни своего «приятеля»:Был в чаду, пе чуя чада,Утешался мукой ада,Перечислил все слова,Но — болела голова...Долго, яалобпо болела,Тело тихо холодело,Пробудился: тридцать лет,Хвать-похвать — а сердца нет,Но даже тогда, когда с этим «приятелем», сломленным ложью,
усталостью, отчаянием или же «провокаторской иронией», происходят896
эти страшные и трагические превращения, он оказывается до того
опустошенным и беспомощным, что и собственная гибель является
н его глазах лишь поводом для всякого рода острот и каламбуров
с «инфернальным» оттенком, привычка к которым въелась в него,
подобно экземе или проказе:Сердце — крашеный мертвец,И, когда настал конец,Он нашел весьма банальной
Смерть души своей печальной... —и этот «мертвец» отнюдь не становится нривлека т е л ь н е й оттого, что
раскрашен в какие-то желтые и свинцовые тона...«Нищий дурак» пристает к «приятелю» поэта с нахальной дву¬
смысленной улыбкой, словно бы зная о нем нечто такое, что тому
и неведомо; между ними завязывается странный и томительный раз¬
говор, а когда «приятель», взбешенный, требует объяснений у своего
незваного и докучного спутника в явно угрожающем ому тоне: «Чего
тебе надо?..» — то в ответ слышит слова, звучащие тайной и едкой
издевкой:...Того,Чтоб стал ты, как я, откровенен,Как я, в унижеяьи, смиренен,А больше, мой друг, ничего...Да, стало быть, одного требует докучный спутник: чтобы «прия¬
тель» поэта стал «откровенен», то есть осознал свое собственное ничто¬
жество, свою униженность, словесный и чисто риторический характер
своего мятежа против лжи и предательства, не рвался бы ввысь, от¬
бросил бы все самообманы и самообольщения,— тогда на поверку
вышло бы, что и он ничем не лучше тех людей, которые верой и прав¬
дой служат «страшному миру», давно сдружились с ним, являются
его надежными слугами и пронырливыми агентами. Такой предельной
правдивости и откровенности, хотя бы с самим собою, только и тре¬
бует — кажется поэту— «нищий дурак», и поэт по уверен до конца,
что этот «дурак» ошибается.Да и «приятелю» поэта нечего возноситься, задирать нос перед
«пищим дураком», предаваться каким бы то ни было иллюзиям отно¬
сительно своего истинного существа; ему только и остается, что при¬
знать свое поражение в споре с ним — духом мрака и опустошенности,
свое полное ничтожество, свою духовную нищету,— это, может быть,
было бы вполне разумно и только справедливо. Ведь если взглянуть
правде в глаза, если проникнуть до самого дна души «приятеля», души
«безрадостной и черной», то и там мы не найдем ничего, кроме фан¬
тазий и иллюзий, — уверяет «нищий дурак», — и победа в споре
с «приятелем» оказывается на его стороне, а попытка разделаться
с ним кончается для «приятеля» весьма плачевно. Только что он успе¬
вает воскликнуть в своем праведном гневе:Что лезешь ты в сердце чужое?• « . • • Ступай, проходи, сторонись!.. — • 1 •397
как в ответ слышит насмешливый голос, сливающийся со смутным
шелестом дождя, шорохом ветра и пропадающий в сырости октябрь¬
ского тумана:«Ты думаешь, милый, нас двое?Напрасно: смотри, оглянись...». И правда, продолжает «приятель», словно сбитый в толку,— «пу,
задал задачу!» — ведь, в самом дело, никакого спутника рядом нет,
все:это — морок, наваждение, призрак раздваивающегося и смятенного
сознания; «нищий дурак» оказывается такою же химерой, как и сам
«приятель», один па «днойников» поэта. Но в этой химере, готовой рас¬
таять и сырости и слякоти осеннего Петербурга, поэту подчас мере¬
щится нечто особенно страшное, пугающее своей обратимостью: что,
если эта химера и есть на самом деле отвратительная реальность
и суть его существа, а то, что он считает реальностью, то есть самого
себя, со всем миром своих мечтаний, высоких дум, рыцарской воли,
с поисками «добра и света»,— на самом деле, если взглянуть правде
в глаза, отбросить все иллюзии, и является химерой?«Жизнь моего приятеля» не дает окончательного ответа на этот
вопрос — один из самых сложных и страшных в глазах поэта, для
которого пе было ничего важнее правды, каким бы тяжким бременем
на легла она на плечи. Но для него несомненно: от таких «приятелей»,
готовых либо вторгнуться в твою душу, либо рассеяться осенней из¬
моросью, туманом, «мараморохом»,—если ты вовремя не разглядел их
обманы, проделки, наваждения,— нужно держаться подальше, иначе
и сам станешь таким же, как они, «нищим дураком», человеком, кото¬
рый «ни во что ие верит», а стало быть, всему может изменить, вез
предать; что бы ни задумал и к чему бы ни стремился поэт,—его
«приятель» отравляет своим скепсисом, своей иронией, ядом своей
«-черной крови», все выворачивает наизнанку, да еще и пытается вну¬
шить поэту, что это не его «двойник» выкидывает такие штуки, а он
сам, поэт, и что он и его «приятель», «стареющий юноша», «крашеный
мертвец»,— в сущности, одно и то яге лицо.В статье «Народ и интеллигенция» (1908) Блок с тревогой спра¬
шивает себя:«Отчего нас посещают все чаще два чувства: самозабвение востор¬
га и самозабвенно тоски, отчаянья, безразличия?..» («...и станет все
равно...», как говорит он в цикле «Жизнь моего приятеля». — Б. С.)««Скоро иным чувствам не будет моста...» — утверждает поэт
и объясняет это странное и двойственное состояние тем, что вокруг
«господствует тьма», как в страшных снах и кошмарах, когда выходят
на волю «двойные мысли» (Достоевский) и человек чувствует себя не
только осажденным оборотнями и призраками «нескончаемой ночи»,
но и в себе самом, в глубинах своего собственного существа, с ужасом
и отвращением различает очертания и шевеление одного из подобных
оборотней и мог бы сказать о себе словами Версилова: «...мне кажется,
что я весь точно раздваиваюсь... Право, мысленно раздваиваюсь
и ужасно этого боюсь...» — и, пожалуй, именно у Достоевского больше,
чем у кого-нибудь другого, учился поэт постигать такие необычайные398
психологические соетояйпя и закономерности, раскрытые и просле¬
женные в их самых сложных переходах и крайних чертах творцом
«Подростка», «Идиота», «Бесов», «Братьев Карамазовых».Достоевский сумел с гениальной прозорливостью проникну»
в двойственную психику буржуа — с его тягой к самым верхам обще¬
ства, где можно командовать и повелевать, присваивать все жизнен¬
ные блага, воображать себя новым Наполеоном, для которого заковал
Tie писаны, а вместе с тем — с вечным страхом за свою судьбу, с веч¬
ным ожиданием катастрофы, с вечной перспективой попасть на самое
«дно», затеряться среди «униженных и оскорбленных». Эта двойст¬
венность переживаний, принимающих крайне острый и причудли¬
вый — порою на грани безумия — характер, и порождает образы
«двойников», занимающих в творчестве Достоевского особое место,
ибо в них с наибольшей полнотой воплощается крайняя противоречи¬
вость сознания, непримиримость раздирающих человека стремлений,
«обратимость» страстей, подвергавшаяся но только психологическому,
но словно бы даже и клиническому анализу в романах Достоснекого.
Эта «обратимость» страстей отлично знакома и одному из героев ли¬
рики Блока, «двойнику»,— и сколько таких же «двуликих», как ой
сам (и в чем-то родственных ему!), нашел поэт в романах Достоевско¬
го, постигая в судьбах и характерах героев «Идиота» и «Подросткам
свою судьбу, особенности своей натуры. Сама тема «биполярностгёз
человеческих переживаний, по-своему определяющая характер лирик»
Блока — с ее мотивами «радости-страданья», «дружбы-вражды», '«Люб¬
ви-ненависти»,— неотъемлема от творчества Достоевского, вооружив¬
шего поэта тем скальпелем, с помощью которого он беспоЩадйо
вскрывал самые сложные и запутанные противоречия внутренней
жизни человека — и смело шел им навстречу.Лирическому герою Блока не раз доводилось, как и героям До¬
стоевского,, любить «со злобы» («эта любовь самая сильная»,— утвер»!-
дает Достоевский л повести «Вечный муж») и так же обознаваться
в своих чувствах, как обознался однажды Раскольников, придя к Соне
Мармеладовой:«...вдруг странное, неожиданное ощущение какой-то едкой 'нена¬
висти к Соне прошло по его сердцу. Как бы удивясь и испугавшись
сам этого ощущения, он вдруг поднял голову и пристально поглядел
на нее; но он встретил на себе беспокойный и до муки заботливый
взгляд ее; тут была любовь; ненавнеть его исчезла, как призрак. Это
было не то; он принял одно чувство за другое».Вот и герою лирики Блока нередко приходилось принимать «одво
чувство за другое», угадывать в них каких-то «оборотней», «двойни¬
ков», истинную природу которых не так-то легко распознать. Это как
у Раскольникова или как у Трусоцкого, героя «Вечного мужа»: он
думал, что едет в Петербург затем, чтобы обнять Вельчанивова,
а оказалось—затем, чтобы убить; это как у Версилова, который сам
утратил представление о том, где он настоящий, а где обращается
л своего двойника.В творчестве Блока перед нами зачастую так же раскрываются
«чувства-оборотни», двойственные но самой своей природе, что и вно¬
сит в него резкие противоречия, непримиримые контрасты, воплощен¬
ные — в крайнем своем выражении — в образе «двойникам и разре¬
шающиеся в теме «двойничества», издавна знакомой литературе, но
обретающей в лирике Блока свои неповторимые и углубленные черты.Когда поэт испытывал самые острые и, казалось бы, взаимоисклю¬
чающие чувства, когда его раздиралиИ отвращение от жизни,И к ной безумная любовь... —то постигать эти чувства во всей их сложности и противоречивости он
учился у Достоевского, на опыте его необычайных и ошеломляющих
открытий, в свете которых некогда цельный и единый внутренний мир
человека словно бы раздваивался или раскалывался на куски.Так оказывалось, что непримиримые противоречия жизни — они
не только где-то вне человека, в окружающем его «страшном ми¬
ре»,— нет, они же находят щели и трещины и в его собственном
внутреннем мире, в его сознании, примешиваются к его чувствам
и переживаниям, придают им двойственность, зыбкость, «обрати¬
мость». Оказывается, что человек, если он утратил свою внутреннюю
цельность, осаждаемый темными и враждебными ему силами, может
потерять последнее прибежище от них, последнюю цитадель, куда им
не было доступа: самого себя, свое сознание, свою душу. Тогда он уже
и сам начинает терять представление о том, кто же он на самом деле:
рыцарь, противоборствующий темным и хищным силам («сонмы лю¬
тые чудовищ налетели на меня»), или же всего только один из их
агентов, забывший о своем долге, призвании, назначении — и сам пре¬
вращается в того хищника, «демона», «упыря», в виде которого и пред¬
стает перед нами порою герой лирики Блока.Вот почему и борьба с индивидуализмом — в каком-то измерении,
на путях «самых тайных» — оказывалась борьбой поэта с самим со-
брю, со всем тем, что укоренилось в нем самом и что влекло назад,
к уже отошедшему и, казалось бы, до конца изжитому прошлому,
манившему к себе всеми своими соблазнами и очарованиями, при¬
стально и жадно глядевшими на него «из невозвратного далека».Как видим, образ «двойника» по случайно занимает такое сущест¬
венное место в лирике Блока, определяя тому и характер многих его
замыслов,— «двойники» находили в нем свое убежище в той мерз
и степени, в какой в нем самом еще жил аристократ, человек, возрос¬
ший в духе «сентиментального воспитания» и сохранивший в себе
многие навыки и предрассудки барства; они-то и оказывались теми
проводниками, с помощью которых «страшный мир» пытался завла¬
деть изнутри душою поэта, «освоить» ее и подчинить себе, создавая
отвратительные образы «двойников», от которых самого поэта проби¬
рала дрожь,— и, обнажая их существо, поэт тем самым боролся с ни¬
ми, изживал их, враждебных всему тому, что он утверждал в себе,
в своем творчестве, в окружающем его мире.Чехов когда-то говорил в одном из своих писем к А. С. Суворину,400
что он «выдавливает из себя по капле раба...» — добиваясь полной вну¬
тренней свободы; если же говорить о Блоке, то и ому, чтобы добиться
такой же свободы, приходилось с болью, с горечью, с кровыо, порою
разрывая самые тесные узы и нежные ткани, попирая «заветные свя¬
тыни», идя на самые острые конфликты с друзьями, соратниками,
с окружающей средой, по капле выдавливать из себя — но не раба,
а барича, каким он и был когда-то по своему происхождению, воспи¬
танию, и уже переставал им быть. Но не так-то легко и просто — даже
если и есть страстное желание! — изменить свою природу, избавиться
от тех привычек, пристрастий, воззрений, которые словно бы всосаны
с молоком матери; об этом-то и говорит поэт в своих стихах с той
прямотой и откровенностью, которая приравнивает их к исповеди, но
исповеди особого рода.В этой исповеди поэт нередко повествует ие столько о совершен¬
ных поступках, сколько о тех, которые он мог бы совершить, или
о которых мог хотя бы помыслить, — боря яа себя ответственность за
все деяния своего века, своего рода, своей среды, за все то, что тво¬
рится на земле и чему нет достойного имени на человеческом языке.Поэтому-то герой его стихов — «двойник» — и предстает перед
нами как одно из самых жалких и отвратительных порождений не
только «страшного мира», но и личного сознания поэта, и именно об
этом говорит Блок в статье «О реалистах» (1907) в связи с романом
Федора Сологуба «Мелкий бес» и его «героем» — пакостным и тупым,
на грани безумия и вырождения, Передоновым:«...бывает, что всякий человек становится Передоновым. И быва¬
ет, что погаснет фонарь светлого сердца у такого ищущего человека,
и «вечная женственность», которой искал он, обратится в дымную
синеватую Недотыкомку. Так бывает, и это бесполезно скрывать..;
Пусть скажут, что мои слова кощунственны...» — продолжает Блок...
готовый почти на любое «кощунство», если в нем есть хоть какая-то
доля истины и необходимости. Л если истиной является та противо¬
речивость человеческого существа, которую утверждал еще и Достоев¬
ский,— в образах Голядкина, Версилова, Ставрогина и многих других
своих героев, то почему же не повторить эту истину, даже если она
покажется ужасной на чей-нибудь взгляд? — и поэт порою доходил
«до черты», раскрывая противоречивость своих страстей и стремле¬
ний, — да и не. только своих.Такова была глубина и страстность его чувства причастности ко
всему, что происходит вокруг, что подчас ему казалось: все добро,
которое есть в мирз, совершено им, и в себе самом он видел «невос-
кресшего Христа» — ив себе же самом видел средоточие всего злого,
что разлито во вселенной, господствует над людьми, и готов был за¬
подозрить в себе демона и вампира.Так острые непримиримые противоречия раздирали Блока
и вносили разлад в его творчество.Кстати, в связи со спорами недавних лет следует подчеркнуть,
что тему «двойничества» в стихах Блока нельзя осмыслить и объяс¬
нить без такого понятия, как «лирический герой», против которого14 Заказ 534
возражали иные литераторы как лретгав некоей ненужной «фикции»;
нет, «лирический герой» Блока далеко не во всем совпадает е лич¬
ностью самого художника, и его нельзя представить в виде такой
«фикции».В чем же это несовпадение (без учета которого нельзя понять
и существеннейших особенностей и характернейших черт лирики
Блока) «лирического город» и «н'о создателя?В том, что художник может говорить — и говорит, хотя бы и отсвоего имени,- не только О том, что он реально пережил и испытал,а о самих возможностях (вплоть до крайних) того или иного ряда
своих переживаний и помыслов в том, что он многое может дорисовать
и «довообразить»— что также вполне закономерно и даже неизбеж¬
но в процессе художественного творчества.Необходимо подчеркнуть и то, что художник весь творческий
материал—в том числе и лично пережитое — подвергает отбору, ти¬
пизации, обобщению, а порою «заострению» и «сгущению»; в сово¬
купности все это и влияет на образ «лирическою героя», определяет
его существеннейшие черты и особенности, зачастую явно Не совпа¬
дающие с личностью самого художника, с реально пережитым им
жизненным опытом.Таким образом, принимать «лирического героя» за ненужную
«фикцию» могут только люди, трактующие характер и назначение
творчества слишком упрощенно — с позиций натуралистически дотош¬
ного правдоподобия, совершенно чуждых Блоку, в лирике которого
раскрыто не только его «я», но и то, о чем поэт мог бы сказать: «не я»
и что противоречило основам его существа. Вот что отличает такую
величину, как «лирический герой», от самого художника, иные черты
которого могут совершенно исключаться из образа «лирического
героя», а другие — предстать перед нами в необычайно преувеличен¬
ном и предельно заостренном виде.Когда мы читаем в стихах Блока:Я сам, позорный и продажный,С кругами синими у глаз.,, —то читатель, наивно принимающий любую речь от первого лица как
исповедь, на к «самораскрытие» или же своего рода дневник, фикси¬
рующий события из жизни самого автора, мог бы получить крайне
превратное представление о личности поэта и характере его творче¬
ства.Как свидетельствует практика, игнорирование или непонимание
такой эстетической категории, как «лирический герой», может привес¬
ти (а подчас и приводит) к самым явным недоразумениям, ненужным
обидам, неоправданным упрекам, адресованным художнику, — что
подтверждается хотя бы воспоминаниями бывших артисток театра
В. Ф. Комиссаржевской — Н. II. Волоховой и В. П. Веригиной, участ¬
ниц блоковского «Балаганчика».Н. II. Волохова говорит в своих воспоминаниях о стихах «Снеж¬
ной мас-ки», посвященных «высокой женщине в черном, с глазами402
вршаттт я влюбленными в. огня и мглу моего снежного города»;
Блок, прочтя строки:И как, глядясь в живые струи,Не увидать себя в венце?Твои не вспомнить поцелуи
На запрокинутом лице?.. —«...взглянул и увидел крайнее изумление на моем лице», и — несколь¬
ко смутившись — «...с сконфуженной улыбкой, стал объяснять, что
в плане поэзии дозволено некоторое преувеличение.— Как говорят поэтьт: «sub specie aeternitatis» («под знаком
вечности». — В. С.), что буквально означает,— сказал он с улыбкой,—
«под соусом вечности».Он словно просил прощения за некоторые поэтические вольности,Пришлось простить...» — замечает II. II. Волохова («Земля в сне¬
гу», «Ученые записки Тартуского Государственного университета»,
выпуск 104, 1901, стр. 374- 375).По то, что автор этих воспоминании воспринял: как некоторые
«поэтические вольности», составляет самую душу подлинного творче¬
ства, воспроизводящего явления и переживания не только в их кон-
кретпой данности, дневниковой «дотошности», но и в тех возмож¬
ностях, которые отвечают характеру художественного замысла.Еще более горьким чувствам предается Н. Н. Волохова, вспоми¬
ная стихотворение «Своими горькими слезами...» (1908), заключающее
цикл «Фаина». Описывая последнюю встречу с Блоком — в 1920 го¬
ду — в Художественном театре, откуда поэт неожиданно для И. II. Во¬
лоховой (условившейся о встрече с ним) исчез, автор воспоминаний
заключает:«...только значительно позя-te, когда я прочла некоторые из не¬
известных мне его стихотворений, которые как бы завершают цикл
стихов, относящихся ко мне, я поняла, почему он не решился, не мог
встретиться со мной... Я невольно вспомнила: «sub specie aeterni¬
tatis»,— по на этот раз но улыбнулась...» (там же, стр. 377).Что ж, может быть, и так, может быть, поэт и действительно
«не решился» на новую встречу с II. Н. Волоховой именно потому, что
чувствовал — в связи с заключительным стихотворением цикла
«Фаина»—некоторую неловкость перед нею,—но, конечно, не пото¬
му, что создал это удивительное стихотворение, как бы подытоживаю¬
щее целый этап его жизненного опыта и внутреннего развития,
а потому, что мог предполагать, что Н. Н. Волохова истолкует
стихотворение в узко биографическом, дневниковом плане, а не в его
истинном — огромном и широком — значении, и не ошибся бы в этом
предположении.О том же самом говорит и В. П. Веригина в своих воспоминаниях
о Блоке, касаясь того же стихотворения:«После он написал о своей Снежной деве стихотворение, полное
злобы, уничтожающее ее и совершенно несправедливое...» — то, кото¬
рое Н. II. Волохова прочла «...с ужасом и возмущением, с горечью — за
что?..» (В. П. Веригина, «Воспоминания об Александре Блоке». «Уче-14*403
вые записки Тартуского Государственного университета», выпуск 10'1,
1961, стр. 330).«За что?»Вот на этот вопрос и следует ответить, чтобы помочь уяснению
одной из тех проблем, неверное решение которой приводит (как мы
видим) к самым явным недоразумениям и незаслуженным упрекам.Если обратиться к циклам «Снежная маска» (посвященному
Н. Н. Волоховой) и «Фаина» (где, кстати, этого посвящения нет) сего
заключительным стихотворением «Своими горькими слезами...», то
нельзя но увидеть, что каковы бы пи были их побудительные мотивы
и реальные события биографического порядка, так или иначе отозвав¬
шиеся здесь, — поэт по мере развития этих циклов видел и осмыслил
подлинные факты своей биографии не столько в их конкретной дан¬
ности, сколько на пределе возможною, а то и невозможного, соотно¬
сил их с миром стихий, звезд, комет, создавая свое «предание», свою
«легенду веков». А здесь происходили те процессы и метаморфозы, ко¬
торые пе имели непосредственного отношения к Н. Н. Волоховой (не
случайно он обронит: «...быть моя?ет, здесь уже не ты...»).Поэт делится с нами вызванными реальным житейским опытом,
но далеко выходящими за его пределы размышлениями о любви:
какой она могла стать — и не стала —в условиях «страшного мира»,
а если эти размышления кому-то и адресованы, то именно «многим»
(«их было много...»), не сумевшим переступить черту «предназначен¬
ного крута», не ответившим высоким помыслам и большим мечтам
поэта. Вот что прежде всего сказалось в таком стихотворении, как
«Своими горькими слезами...», а вовсе но стремление нанести кому бы
то пи было незаслуженную обиду и сорвать на ком-то «злобу». Да
и разве могли бы подобные низменные побуждения породить одно из
замечательных созданий блоковской лирики?!Это совершенно очевидно для тех, кто рассматривает творчество
Блока как великое явление искусства, а не как дневниковую запись
или ноле для сведения «личных счетов».Схожим образом трактует В. П. Веригина в своих воспоминаниях
и другое стихотворение Блока, относящееся к жене поэта, в которой
пробудился «...громадный стихийный темперамент. Блок знал это,
и ему сделалось страшно, когда она захотела пойти своей дорогой,,,
Он написал чудеснейшее стихотворение:О доблестях, о подвигах, о славо
Я забывал на горестной земле,Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.К сожалению, оно огорчило Любу (жену поэта.— Б. С.): в нембыла обидная неправда:Но час настал, и ты ушла из дому,Я бросил в ночь заветное кольцо.Кольцо поэт бросил раньше, когда взор его обратился в сторону
Незнакомки, а затем Волоховой...» (там же, стр. 346).404
Это замечено справедливо — если опять-таки рассматривать
лирику Блока в плане сугубо автобиографическом, как своего рода
дневниковые записи, хотя бы и стихотворные. Но перед нами пе
такого рода запись, а произведение, отвечающее тем эстетическим
закономерностям, которые нельзя ограничить требованиями бытового
и дотошного правдоподобия. Их правда носит иной и гораздо болео
углубленный смысл — вот почему в данном случае так неоснователь¬
ны адресованные поэту упреки в искажении истины, в «очевидной
неправде».В стихах Блока любая их героиня становилась явлением лириче¬
ского характера, не только отраженным, но и преображенным поэтом
в духе присущего ему творческого начала, в отношении к жизни — не
только личной, но и мировой. Вот почему даже и тогда, когда поэт
изменял в своих стихах течение тех или иных реально происходив¬
ших событий, такого рода «преображение» материала, легшего » осно¬
ву лирического повествования, иолыш трактовать как ненужную
выдумку, а то и «обидную неправду», — так же как нельзя «обижать¬
ся» па ту или иную философскую концепцию. Но ведь по своему
характеру и размаху лирика Блока столь же широка и всеобъемлю¬
ща; его стихи нельзя рассматривать ни как альбомные мадригалы, ни
как «злобные выходки» личного порядка; ни к тому, ни к другому
«жаару» они не имеют ни малейшего отношения даже тогда, когда их
побудительные мотивы для нас совершенно очевидны.Так вопрос, который может представиться отвлеченно-теоретиче¬
ским и не выходящим за рамки эстетики, — вопрос о «лирическом
герое» — в жизни, на. практике, оказывается подчас необычайно
важным; неумение верно разрешить его может привести к самым
явным недоразумениям и ошибкам в осмыслении существа и мотивов
того или иного художественного произведения.Вслед за Гамлетом Блок мог бы сказать: «К моим услугам столько
прогрешений, что у меня но хватает мыслей, чтобы о них подумать,
воображения, чтобы придать им образ, и времени, чтобы их совер¬
шить...» — и ответ за все то «прогрешения» «страшного мира», которым
нет имени и числа, поэт готов был взять на себя — не потому, что он
их совершал, а потому, что, как казалось ему, мог бы совершить в том
или ином своем состоянии, при тех иди иных условиях, ибо и в себе
самом чувствовал ненавистную ему «черную кровь», одной капли ко¬
торой достаточно для того, чтобы отравить и растлить душу человека,
внести в нее яд, сомнение в истинной природе своего существа, своего
призвания и назначения, в самых высоких и незыблемых ценностях
мира.Что означает этот пристрастный и беспощадный допрос «двойни¬
ков», на каждого из которых словно бы заведено следственное дело,
где огромными буквами записаны ие только их явные преступления,
но и скрытые помыслы и желания, подчас таимые не только от по¬
стороннего взгляда, но и от самого поэта?Исследование «низкой страсти», порою захлестывавшей героя
лирики Блока и порождавшей, самых разнообразных «двойников», не405-
означало, в конце концов, . сдачи-; на милость противнику, врагу,
«двойнику», — нет, отвечая на его угрозы и посулы, на призыв
к предательству, поэт испытывал жажду битвы и отвагу воина. Он
знал: идет великая борьба, вовлекающая в свою орбиту все народы,
страны и времена — вплоть до самых отдаленных, и никому пе дано
от нее уклониться. Да он и не хотел уклоняться: не напрасно в его
лирике звучат трубы, сверкают латы, скрещиваются мечи!«Выходи на битву, старый рок...» — взывал он к своему врагу,
и «старый рок» выходил, принимая подчас обличив «двойников», ко¬
торые с тыла обходили поэта, чтобы нанести ему предательский удар,
или с тем, чтобы соблазнить ого, заставить его пойти на уступки, на
сделку с ними.Если взять творчество Блока в целом, то совершенно очевидна его
«двойственность», ибо и сам поэт принадлежал двум мирам — про¬
шлому и будущему, и оба мира настойчиво и постоянно боролись за
него; это был тот «вечный бой», который продолжался вплоть до конца
жизни поэта; каждый нз них хотел видеть в нем своего сына, своего
вестника, своего певца — вот почему его лирика принимала внутренне
противоречивый характер и нередко становилась криком боли,отчая¬
ния, гнева, обращенного не только против враждебных ему сил, но
и против себя, против того, что коренилось в нем самом, сковывало
в борьбе, отбрасывало на старые и, казалось бы, давно уже пройден¬
ные пути.Но какие бы противоречия ни были присущи творчеству Блока,
нельзя упускать из виду того, что они не приобретали всеохватываю¬
щего и универсального характера, не затрагивали самих основ воз¬
зрений поэта, его отношения к «страшному миру», чьи обманы
и соблазны по составляли загадки для поэта даже и тогда, когда он
«уступал» им. Эти противоречия не затрагивали и его отношения
к «сытым», «счастливым», к «красивым уютам», ко всему тому, чем
легко купить людей слабовольных, ограниченных, не выходящих за
узкие пределы своих личных интересов и вожделений; вот почему
поэт имел право говорить о своей «незыблемости», «неподвижности»
и «верности» — «сквозь всю свою неверность», — что он и разъяснял
в одном из писем к Андрею Белому:«Если я кощунствую, то кощунства мои о избытком покрываются
стоянием на страже. Так было, так ость и так будет. Душа моя —
часовой несменяемый, она сторожит овоо и по покинет поста. По
ночам же — сомнения и страхи находят и на часового...» (1907).Да, поэт был подвержен «сомнениям и страхам», ибо. многое ему
виделось «в демоническом мраке», — и слишком демонический,
«инфернальный», «потусторонний» облик обретала в глазах поэта
сила, господствующая в окружающем его «страшном мире»; об этой
«вражьей силе» говорят и свидетельствуют многие стихи.Блока.
«ВРАЖЬЯ СИЛА.»В творчестве Блока прослежены, раскрыты и изобличены многие!
соблазны и обольщения «страшного мира», который предстает
в лирике Блока как его исконный, извечный враг.Но у этого врага и запасе но только обманы и соблазны «пустой
мечты», «красивых у ютов», «змеиного рая», «гуманистического тума¬
на», «двойгшчества», но и угрозы, ужасы, страхи (не случайно поэт
не находил для него иного определения, чем «страшный») — они-то
и призваны заставить человека безусловно подчиниться ему, даже
если тот догадался о его истинной и омерзительной природе и уже
познал цену всем его обманам и обольщениям; тогда он предстает
такою угрозой, чтобы даже сама мысль о возможности сопротивления
и борьбы с ним представлялась нелепой, безрассудной, заранее
обреченной, — и в создании страхов и ужасов он оказался не менее
изобретательным, чем в любом другом.Когда-то поэту мнилось, что простирающееся над ним небо полно
«ангельских крылий» и лазурная тропа уводит ввысь, в «звездные
сны»,— но вот прошли годы и годы, и это небо «скрылось свившись,
пак свиток», согласно древнему преданию, и появилось другое небо,
подернутое суровыми тучами и угрожающее неслыханными бедами;
сама среда, окружающая поэта, стала капканом и ловушкой, где
человека на каждом шагу подстерегают боды, страхи, ужасы. Лето
писцем этих бедствий и ужасов, чьим свидетелем и участником
являлся человек начала XX века, и становится поэт, открывший
третий том своей лирики обширным циклом стихов, который так
и называется «Страшный мир», и это название обретало для Блока
огромное значение.«Страшный мир», вторгаясь в Лирику Блока уже безо всяких
покровов и масок, вносил в нее черты и мотивы необычайно мрачные,
жесткие, горькие; здесь жизнь человека, самая простая и обычная,
вместе с тем оказывается и невыносимо тягостной, словно в каком-то
мучительном бреду или наваждении, и напрасно человек пытается
уйти от них — они повсюду и неотвязно преследуют его:Ты вскочить и бежишь на улицы глухие,Но некому помочь;Куда не повернись — глядит в глаза пустые
И провожает — ночь.407
Там ветер над тобой на сквозняках простонет
До бледного утра;Городовой, чтоб не заснуть, отгонит
Бродягу от костра...Вот образ огромного, многолюдного, а вместе с тем и пустынного
города, который кажется страшным именно потому, что в нем все бро¬
сает вызов человеку, враждебно ому, и где людям чуждо даже простое
сочувствие друг другу — иначе зачем бы городовому прогонять
бродягу от костра в ночь, н стужу, на такой ветер, который несет
с собою невысказанную и неотвратимую угрозу?Маркс охце в сороковых годах прошлого вока говорил в книге
«Святое семейство»:«В современном мире каждый человек одновременно — член
рабского строя и публичноправого союза. Именно рабство граждан¬
ского общества по своей видимости есть величайшая свобода, потому
что оно кажется завершенной формой независимости индивидуума,
который принимает необузданное, не связанное больше ни общими
узами, ни человеком, движение своих отчужденных жизненных эле¬
ментов, как, например, собственности, промышленности, религии
и т. д., за свою собственную свободу, между тем как оно, наоборот,
представляет собой его завершенное рабство и полную противополож¬
ность человечности...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр.
129—130).Вот эту «полную противоположность человечности» буржуазного
строя, господство над всеми его отношениями закона купли-продажи,
принявшего универсальный характер, Блок чувствовал и изобличал
с необычайной пристрастностью, прозорливостью, решительностью,
хотя и не ведал — кем и почему установлен закон купли-продажи,
предметом которой становится человек и любые его чувства, страсти,
отношения.В цикле «Пляски смерти» мы читаем:В воротах гремит звонок,Глухо щелкает замок.Переходят за порог
Проститутка и развратник.,,—и для поэта очевидно, что всо человеческое, живое, прекрасное, что
могло быть присуще этим людям, вытеснено из их внутреннего мира,
а сама любовь стала для них всего только предметом торговли.Всемогущество темных и хищных сил, стремящихся на все
положить свой отпечаток, свой «знак», свое клеймо, порождает у поэта
чувство отчаяния и безнадежности, под влиянием которого он
и утверждает:Живи еще хоть четверть века —Все будет так. Исхода нет.Но и эти стихи — не самые отчаянные у Блока, о чем говорит
такое стихотворение, как «Голос из хора» (1910—1914), в котором408
берется под сомнение будущее всего человечества. Это стихотворе¬
ние— одно из самых мрачных и безысходно трагических не только
в творчестве Блока, но и во всей русской поэзии.О, если б знали, дети, выХолод и мрак грядущих дней!..—так в тоске, страхе, отчаянии твердит поэт, и «холод грядущих дней»
пробирал его до самых костей, так что и зуб на зуб не попадал; ему
виделись такие страшные картины будущего, которые могли поме¬
рещиться лишь отчаявшемуся хчеловеку, изверившемуся в себе
и окружающих его людях; позже он и сам говорил о «Голосе из хора»:
«Очень неприятные стихи... Но я должен был их сказать. Трудное надо
преодолеть. За ним будет ясный день...» (Всеволод Рождественский,
«Страницы жизни», «Советский писатель», 1962, стр. 238),—-и такие
«неприятные стихи», отзывающие духом пессимизма, нередко возни¬
кали у Блока в годы реакции....моры нет страданью человека,Ослепшего в ночи... —твердил певец и обличитель «страшного мира», и сам порою чувство¬
вал себя именно таким человеком, изверившимся во всех своих меч¬
тах и идеалах, готовым отбросить и самую надежду иа будущее, для
которой, казалось бы, нет реальной почвы — слишком был беспросве¬
тен обступивший поэта «мрак жизни вседневной» (Фет).Подавленный ее «свинцовыми мерзостями», Блок уверяет мать:«...Единственное «утешение» — всеобщий ужас, который господ¬
ствует везде, куда ни взглянешь. Все люди, живущие в России, ведут
ее и себя к погибели...» (1909), — и это «утешение» свидетельствует
о той предельной грани отчаяния, до которой порою доходил поэт
в условиях нарастающей реакции, слагающейся в череду «страшных
лет России».Чувством отчаяния пронизаны не только многие страницы лирики
Блока, но и его письма, дневники, записные книжки, в которых —
те же раздумья и наблюдения, подчас одни только факты, переданные
внешне бесстрастным, почти протокольным слогом, но и в самой
сдержанности здесь чувствуется подавленное возмущение и боль за
тех бесправных и обездоленных, которые гибнут на глазах поэта
постоянно и повседневно.«Вечный ужас сочельников и праздников, — записывает Блок
в декабре 1911 года, — мороз такой, что на улице встречаются рас¬
терянные, идущие неверной походкой люди. Я, гуляя перед ванной,
мерзну в дорогом пальто. • У магазина на Большом проспекте двое
крошек — девочка побольше, мальчик крошечный, ревут, потеряв (?)
отца. «Папа пошел за пряником, была бы елка». Их окружили, по¬
везла на извозчике какая-то женщина на Пушкарскую, но они не
помнят № дома, может быть, и не довезет. Полицейский офицер,
подойдя, говорит: «Что за удивление, таких удивлений бывает сотня
в день.,.»■409
В апреле 1912 года —запись, продиктованная тем же ощущением
«непроглядного ужаса» жизни, подавляющего своей обыденность®,
повседневностью; этот ужас видится поэту везде — стоит только по¬
пристальней приглядеться:«Какая тоска —почти до слез. Ночь —на широкой набережной
Невы, около Университета, чуть видный среди камней ребенок, маль¬
чик. Мать («простая») взяла ого на руки, он обхватил ручонками ез
за шею — пугливо. Страшный, несчастный город, где ребенок теряет¬
ся, сжимает горло слезами...»Б июне того же года — сходная запись:«Ночь белеет, сейчас иду на вокзал встретить милую. Вдруг
вижу с балкона — оборванец идет., крадется, хочет явно, чтобы никто
ие увидал, и все наклоняется к земле. Вдруг припал к какой-то
выбоине, кажется, поднял крышку от сточной ямы, выпил воды,
утерся,., и пошел осторожно дальше.Человек».То, что другому показалось бы обычным и ничем не примеча¬
тельным штрихом городской жизни, заставляло поэта снова и снова
задумываться о самых основах той жизни, в которой человек так
унижен и обездолен.«Человек» — с горькой улыбкой подчеркивал поэт, и сердце его
сжималось от подступающих слез, от тоски, от безысходного отчаяния.Перед'ним вставал и настойчиво требовал ответа все тот же
неотступный вопрос: почему человек — венец бытия — является таким
беспомощным и жалким перед лицом обступивших ого бедствий
и ужасов, почему он так часто оказывается игралищем хищных
и враждебных ©му сил?Воспитанный в духе идеалистической философии, поэт, сталки¬
ваясь с этими силами, не мог и ие ушел найти им объяснения подлин¬
но. реального, а потому и самый ответ на мучившие его вопросы
переносил в область фантастики и мистики.Ему казалось, что над миром господствуют некие не подвластные
людям, «инфернальные» силы, что это они отравляют кровь человека,
эго они искажают и уродуют его облик, — и события современности
словно бы тонули «в демоническом мраке», в тени «Люцифероза
крыла»; вот почему в творчество Блока возникали образы мертвеца,
вурдалака, упыря (как это мы видим и в поэме «Возмездие»), встав¬
шего из гроба, чтобы терзать живых людей, нить их кровь, высасывать• из них все соки. Образы эти в главах поэта носили совершенно
реальный характер, он верил в их до подлинность (не случайно
с таким глубоким и захватывающим вниманием вчитывался он в ро¬
ман английского писателя Брем-Стокера «Вампир граф Дракула»,
расписывавшего похождения вампира)...Так, в цикле «Пляски смерти» бюрократическая знать старого
Петербурга предстает перед поэтом ие только в виде бездушных
и наглых чиновников, но и упырей, лишь прикидывающихся людьми
п втирающихся в людское общество, «скрывая для карьеры лязг
костей»; эта нежить и нечисть вылезает из своих, могил и склепов,410
чтобы захватить вею власть над живыми людьми,— и поэт видит ее
а зловещем отсвете каких-то адских огней, во всей ее омерзитель¬
ности и чудовищности, соперничающей с образами самых тягостных
наваждений, преследующих человека во сне или в бреду:...Живые снят. Мертвен встает из гроба,И в банк идет, и в суд идет, в сенат...Чем ночь белее, тем чернее злоба,И перья торжествующе скрипят...Уж вечер. Мелкий дождь зашлепал грязью
Прохожих, и дома, и прочий вздор...А мертвеца — к другому безобразыо
Скрежещущий несет таксомотор...Мертвецы встают из гробов, чтобы преследовать и торзатъ
живых, — вот в каких образах видятся здесь представители высшей
власти, бюрократического, финансового и прочего капитала, вызы¬
вающие у Блока предельный ужас и непобедимое отвращение.«Пляска смерти» продолжается и на балу, где поэту слышатся за
«условно-светскими речами» странного незнакомца, от которого нет-
нет да и пахнет могильным тлением, те «настоящие слова», которые
эхом отзываются в этих стихах и оказываются словами упыря; ему
место ие здесь, среди живых людей, на балу, на танцах, а в том мо¬
гильном мраке, откуда он пришел и куда стремится прихватить
очередную жертву, встретившуюся на его пути; только с подобным
-себе упырем он может говорить откровенно, пе надевая маску свет¬
ской любезности и наигранной страстности:«Усталый друг, мне странно в этом зале.Усталый друг, могила холодна.Уж полночь». — «Да,, но вы не приглашали
На вальс NN. Она в вас влюблена...»Оживший мертвец направляется к NN, нашептывает ой
«незначащие речи», от которых у нее кружится голова, розовеют
плечи, и от запаха теплой, свежей человеческой крови он испытывает
прилив новых вожделений, угасшее было пламя снова тлеет в нем, —
г< тем легче казаться ему живым, влюбленным, страстным, а не
вурдалаком, рыскающим в поисках очередной добычи. Он еще умеет
прикинуться утонченным, таинственным, он еще не лишен способнос¬
ти увлекать и соблазнять, — но горе той, которая примет слишком
близко к сердцу его «пленительные для живых слова»!...острый яд привычно-светской злости
С нездешней злостью расточает он...«Как он умен! Как он в меня влюблен!» —>шепчет NN, которую все пленяет в «странном незнакомце», и, за¬
хваченная своей любовью, словно в чаду, она не умеет различить
того страшного и предостерегающего, что явственно слышит поэт,
заранее зная, каким ужасом обернется «бессмысленный восторг» ее
любви, когда она увидит — без маски и обманчиво пленительных по¬
кровов— того, кому сейчас отданы все ее помыслы, мечты, желания:В ее ушах — нездетпий, странный звон:То кости лязгают о кости.Но она не слышит этого «странного звона», и тем страшнее будет
ее пробуждение...Даже тогда, когда поэт оказывается «,в ttixoiM доме», «возле мир¬
ного огня», ого бьот лихорадка, охватывает ужас; ему кажется—кто-
то и здесь преследует ого, неотступно следит за каждым его шагом,
взглядом, словом; в сумерках тихого дома, мнится ему, он не один:Голоса поют, взывает вьюга,Страшен мне уют...Даже за плечом твоим, подруга,Чьи-то очи стерегут!..От этих пристально вперившихся, бессонных, враждебных глаз
никуда не уйти и не скрыться, и зло приобретает в глазах мистически
настроенного поэта характер оккультного преследования; он уверен,
что враждебные силы особенно страшны тем, что они могут настигнуть
тебя там, где ты их не ждешь, застать тебя врасплох; поэту кажется,
что они его «подстерегают всюду» и за ним неусыпно следят чьи-то
враждебные, неумолимые глаза. Он готов повсюду увидеть тени
«тайных сыщиков» — агентов некиих «потусторонних» сил.В стихотворении «Как свершилось, как случилось?..» (1913) Блок
словно бы окидывает взором всю свою жизнь и, переводя ее па язык
легенд и притчей, повествует о том, что произошло с ним, «недостой¬
ным рабом», после того как он утратил врученные ему сокровища:...Сонмы лютые чудовищ
Налетели на меня.Приручил я чарой лестью
Тех, кто первые пришли.Но не счесть нам вражьей силы!Ощетинившейся местыо
Остальные поползли...Поэт придавал этой «вражьей силе» иокоо мистическое значение;
вот почему рожи и маски окружающего ого «страшного мира» обрета¬
ли в его глазах какой-то зловещий и потусторонний смысл. Когда
тоска хватает поэта — или его «двойника», ого «приятеля» — за горло,
не дает ему вздохнуть, то кажется, что это все неспроста, что «сам
дьявол сел на грудь», торжествуя свою победу, и не в человеческих
силах одолеть его, справиться с теми призраками, которые посланы на
землю, чтобы мучить и терзать людей. Так рождается чувство отчая¬
ния, обреченности, бесплодности борьбы с этими силами, не подвласт¬
ными земным условиям и людским законам.Незримое пламя опаляет поэта, он чувствует на своем лице
«жала огня» — огня, раздуваемого не людским дыханием, и если Данте412
некогда был для Блока прежде всего создателем «Vita nuova»,
воспевшим небесную красоту и бессмертную любовь, то теперь Данте
для него — это свидетель и летописец пыток ада; это спутник и про¬
водник по всем дорогам жизни, как по тем неведомым и таинствен¬
ным кругам, каждый из которых выводит в новую область мрака
и ужаса. Если теперь Блок и вспоминает Данте, то только для того,
чтобы сложить новую «Песнь Ада», терцины которой как бы продол¬
жают создание великого флорентийца и свидетельствуют о новых
пытках, сужденных человеку, которому «знакомый Ад глядит в пустые
очи», — и сам поэт проходит по его кругам, словно бы опаленный
языками преисподнего пламени.Но у Блока был и другой, гораздо более современный проводник
по кругам «знакомого Ада» — это шведский писатель рубежа
XIX — XX веков Август Стриндберг, один из романов которого, по¬
священный современной жизни, так и называется «Ад» («Inferno»);
в нем мотивы сугубо реалистические и даже научные (герой книги
является химиком, занимающимся научными изысканиями в своей
области) сочетаются с религиозными и мистическими, уводящими нас
в область самых мрачных фантазий, темных суеверий и оккультных
«дисциплин». В романе «Ад» описываются мучения человека, под¬
вергающегося преследованию «потусторонних» сил, постоянно готовых
обрушиться на него — и людскою злобой и яростью всех стихий земля
и неба; герою «Ада» действительность видится «в демоническом
мраке», воплощающем потусторонние силы, посланные мучить
людей, — вот почему и жизнь стала для него ужасной, никогда не
прекращающейся пыткой.В этом романе Стриндберг утверждал, что земля — это не пред¬
дверие ада, а самый ад, «исправительные галеры, где мы отбываем
наказание за те преступления, которые совершили в своей прошлой
жизни...» — и герою романа кажется, что его преследуют, что с него
но спускают глаз, и он и ужасе бормочет:«Кто-то в темноте стережет меня, прикасается ко мне, ищет моо
сердце, чтобы высосать из него кровь...»Его терзают кошмары и галлюцинации; он содрогается от страха,
чувствуя рядом с собою дыхание тайного и враяедебного ему существа;
даже в шорохе листвы ему мерещится игра злых и враждебных сил;
гроза кажется ему злоумышлением против него, каждая молния —
«специально предназначенной» для его устрашения или уничтожения;
он обливается холодным потом, переживая чувство постоянного
«преследования в оккультной форме», — а Блок воспринимал эти
высказывания Стриндберга и его героя как истинные, придавал им
необычайно важное значение (не случайно он одно время творил, что
живет «под знаком Стриндберга» и называл Петербург «стриндбергов-
ским» городом). Блок с особым и тревожным вниманием вчитывался
в страницы Августа Стриндберга, находил в них нечто родственное
себе, своим переживаниям, опасениям, страхам — и пытался пайти
в них ответ на непостижимо сложные и, казалось ему, неразрешимые
вопросы человеческого бытия.413
Как и герою романа Августа Стриндберга «Inferno», поэту
зачастую мерещились демонические тени, преследующие его и угро¬
жающие ему ночными страхами, древними ужасами; с этим романом
перекликается и стихотворение, написанное, кажется, того же самой,
дрожащей от неодолимого ужаса рукой,—«Как растет тревога к но¬
чи...», где «кто-то хочет появиться, кто-то бродит...» — и этот «кто-то»
(«гость бессонный, пол скрипучий?..») тем-то и страшен, что он играет
с поэтом в прятки, насылает на пего ужасы и потешается над ним,
укрывает свое хитрое и хищное лицо, словно бы в смущении, чтобы
внезапно обернуться странной и страшной рожей, в которой уже нзт
ничего человеческого.В этом стихотворении одолевающие поэта ужасы и страхи на¬
столько безмерны, что от них можно сойти с ума; они приобретают
значение того таинственного и непостижимого зла, борьба с которым
превышает человеческие силы и возможности, — что и порождает
чувство отчаянности, а то и безнадежности, заставляющее находить
лишь один — я уже привычный — исход:Ах, не все ли мне равно!Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой,Монотонной и певучей!Вновь я буду пить вино!.,Так и здесь «сонное похмелье» оказывается одной из попыток
уйти от ужасов, призраков и наваждений «страшного мира», отмах¬
нуться от них: «...не все ли мне равно!..»Стриндберг одно время был для Блока не только писателем,
а каким-то стихийным явлением, сродни явлениям космического по¬
рядка, — и когда поэт видел вокруг себя нечто страшное, угрожающее,
«особое книге пне улиц», кажущееся ему чем-то опасным и омерзи¬
тельным, он говорил о «майской петербургской стриндберговщине»,
и в понятии «стриндберговщина» для него заключалось очень многое:
и «демонический мрак», воплощающий мировое зло, и готовность
увидеть в окружающей мерзости нечто предумышленное и зловещее,
и особое чувство безнадежности борьбы со злом, не по-людски
страшным и отвратительным и, казалось Блоку, зависящим не от
людей, а от игры каких-то таинственных и непостижимых сил.Из событий, явлений и веяний, особенно сильно повлиявших на
поэта, он упоминает в автобиографии «знакомство с творениями
покойного Августа Страндберга», явно не различая того, что в произ¬
ведениях любимого им писателя нередко исчезает крупный и удиви¬
тельно своеобразный художник и появляется болезненно настроенный
человек, охваченный патологическими страхами и терзаемый манией
преследования; одной из своих корреспонденток поэт сообщает:«Для того, чтобы иметь представление о том, как я сейчас
(и очень часто) настроен (но не о моих житейских обстоятельствах
и отношениях), прочтите трилогию Стриндберга («Исповедь глупца»,
«Сын служанки» и в.Ад»)ь {1912), — и чувство этой «стриндбергаз-
щипы» крайне обострилось у поэта в условиях тех «страшных лет414
России», когда господство «вражьей силы» становилось особенно
явственным.Трудно согласиться с теми литераторами, которые усматривают
в увлечении Блока творчеством Стриндберга вишь преклонение перед
«мужественностью» шведского писателя (что видел в Стриндберге
Горький). У Блока было свое понимание Стриндберга — не только как
воплощения мужественности, но и связанное с мистическими фан¬
тазиями, предрассудками,, «предчувствиями» — что подтверждала
и мать поэта в беседе с В. П. Веригиной.По словам Александры Андреевны, вспоминает В. П. Веригина,
«...в Стриндберте Блока поражала и восхищала духовная сила —быть
на грани безумия, и удержаться, не переступить. И еще она говорила
следующее: «У Саши и у меня есть общее со Стриндбергом помеша¬
тельство. Мы всюду видим знаки, стараемся угадать значение самых
обычных явлений. Стриндберг идет по дорого, видит ползущую гусе¬
ницу, для него ото некий знак... и так во всем...» («Ученые записки
Тартуского Государственного университета», выпуск 104, 1961, стр,
357), — и хотя мать поэта напрасно полностью и целиком приписывала
ему подобное «помешательство», по, несомненно, многое в окружаю¬
щем его мире он воспринимал в духе и «ауре» стриндберговской мис¬
тики.В это время сама действительность представала перед поэтом пе
только в зримых образах, но и в тайнам «демоническом мраке» — в том,
о котором словно бы коснеющим от ужаса языком поведал Август
Стриндберг; здесь каждая мелочь приобретала особое, «инфернальное»
значение, и, услышав за собой на улице дерзкое бормотание: «Ишь..,
какой... верно... артис...» — поэт «зеленеет от злости», встречая наглый,
весело хохочущий взгляд, услышав беззаботный и оскорбительный
хохот; потом, оставшись наедине с собой, Блок записывает в дневнике,
переходя от ничтожного уличного происшествия к широким раз¬
думьям (какэто у него зачастую бывало), в которых сказалось то, что
давно выстрадано, стало чувством острой, живой, никогда по затихаю¬
щей боли:«Эти ужасы выотся кругом меня всю неделю — отовсюду появ¬
ляется страшная рожа, точно хочет сказать: «Ааа... ты вот какой?..
Зачем ты напряжен, думаешь, делаешь, строишь, зачем?..»Подобные «рожи», издевающиеся и подхихикивающие над самыми
заветными чувствами и раздумьями поэта, все множатся и множатся
в его воображении, им нет числа; каждая из них дробится на тысяча
себе подобных, и никуда не скрыться от их наглых насмешек и изде¬
вок. В их глазах проскакивают зеленоватые искры, от которых поэту
не по себе, и его злоба достигает такого хтакала, что начинает словно
бы светиться (ведь это — то же самое чувство, о котором Блок
впоследствии скажет: «святая злоба»), и в ее настерпимом сиянии
перед поэтом резко и отчетливо возникает — в своем подлинном виде
и значении — каждый из тех циников и наглецов, которыми кишел
окружавший его мир.«Такова вся толпа на Невском,— торопливо,, словно боясь упустить,415
«не припомнить» что-нибудь особо важное, записывает Блок. — Такова
(совсем про себя) одна искорка во взгляде Ясинского... Такова морда
Анатолия Каменского.— Старики в трамвае были похожи и на Суво¬
рина, и па Меньшикова, и на Розанова (нововременцы! — В. С.).
Таково все «Новое время». Таковы — «хитровцы», «апраксинцы»,
Сенная площадь».Вот о чем и о ком срезу же подумал поэт, когда они обступали его.•Что же это за «страшные рожи», враждебные всему живому
и человеческому?Это, как утверждает здесь Блок, все реакционное, черносотенное,
торгашеское, пронизанное духом мещанства, стяжательства, хищни¬
чества, «великого предательства»; это и рыцари наживы, рабы
«процента», — и поэт окаменевал перед их глазами, словно перед-
ликом Горгоны.Летом 1909 года он писал матери:«Более, чем когда-нибудь, я вижу, что ничего из жизни современ¬
ной ,я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй
внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя — не
переделает никакая революция...»Для нас очевидны наивность и несостоятельность подобных утвер¬
ждений. Блок заранее отвергал то, в чем заключалась единственная
возможность преображения жизни, ибо только революция несла
с собой эту возможность. Вот почему самым лучшим выходом поэту
представлялась гибель — гибель с гордо поднятой головой и мечом
в руках, но именно гибель, — и герой Блока решительно и безоглядно
идет ей навстречу, даже с какой-то радостью, вызванной сознанием
своей человеческой гордости, неуступчивости, готовности отстаивать-
величайшие сокровища духа, культуры, гуманизма хотя бы ценой
самой жизни, — и мотив гибели, даяге жажда гибели — если ничем
иным нельзя доказать своего превосходства над силами мрака и зла! —
настойчиво звучит в лирике Блока.Поэт знал: нельзя уступить «страшным рожам», вызывавшим
гадливое чувство, неодолимое отвращение, ни частицы своей гордой
и благородной души, но вместе с тем, казалось ему, и борьба с ними
бесплодна, ибо они являются неисчислимыми и неистребимыми аген¬
тами злой и Неподвластной человеку потусторонней силы; вот что
заставляло поэта вновь и вновь обращаться к стихотворению Тютчева
«Два голоса», в котором высокая доблесть идет рука об руку с траги¬
ческой обреченностью, — но и перед ео лицом человек не опускает
своего рыцарского забрала:Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,Хоть бой и неравен, борьба безнадежна...Здесь вторая строка подчеркнута самим Блоком, и она стала для
него тем девизом, который рыцари старых времен постоянно видели
на своих щитах и гербах; эту «безнадежность» и обреченность испы¬
тывал поэт в непрестанных схватках со «страшным миром» и его
неисчислимым воинством.416
Как видим, нежить и нечисть буржуазного общества представля¬
лась поэту силой «инфернальной», исчадием ада — в самом букваль¬
ном смысле этого слова.Годы спустя, уже после свержения самодержавного строя, Блок
писал матери в марте 1917 года:«...все происшедшее меня радует... Минуты, разумеется, очень
опасные, но опасность, если она и предстоит, освещена, чего очепь
давно не было, на нашей жизни, пожалуй, ни разу. Все бесчисленные
опасности, которые вставали перед нами, терялись в демоническом
мраке...» — и это признание позволяет нам многое уяснить в лирике
Блока, в характере ее трагизма, в ее образах и мотивах.Размышляя о «демоническом мраке», встававшем перед людьми
и укрывавшем от них подлинную жизнь, Блок записывал в 1912 году:
«Лучше вся жестокость цивилизации, все «безбожие» «экономи¬
ческой» культуры, чем ужас призраков — времен отошедших; самый
светлый человек может пасть мертвым ирод неуязвимым призраком,
по он выпосот чудовищность и ужас реальности. Реальности надо
нам, страшнее мистики пет ничего на свете...»Но сам поэт слишком часто отказывался от «реального»
объяснения мрака и ужаса повседневной жизни, и именно в этом —
истоки его отчаяния и безнадежности.Тот «демонический мрак», о котором говорит Блок, рассеялся
перед ним только в дни революции, — но как ни были ужасны, а то
и соблазнительны наваждения «страшного мира», поэт настойчиво
и непримиримо призывал к борьбе с ними. И какою бы «безнадеж¬
ной» ни казалась ему подчас эта борьба, он оставался верным духу
«вечного боя» — боя со всем тем, что враждебно человеку и противо¬
стоит его жизни, его целям, его высокому имени и назначению.Прослеживая различные мотивы лирики Блока, такие, как «змеи¬
ный рай», «творимая легенда», «мирное счастье», игра теней и «двой¬
ников», все ужасы и соблазны «страшного мира», все неистовое
увлечение отравами и обманами «вина, страстей, погибели души», мы
видим, как герой лирики Блока поддается этим страхам и обманам,
уступает им — и как в конце концов находит в себе силы и волю пре¬
одолеть их, выйти из борьбы с ними еще более умудренным, чем был
дотоле, отстояв свое человеческое призвание; в этом — победа Блока
как человека и художника, не утратившего — при всех своих сомне¬
ниях, уклонениях, противоречиях — чувства «верного пути», светив¬
шегося перед ним даже и в том мраке, который сам он называл
«демоническим».Что же помогало поэту одолевать ужасы и соблазны «страшного
мира», быть «верным — сквозь всю свою неверность»?Вот на эти вопросы мы и попытаемся ответить в следующей главе.
«ОТ ЛИЧНОГО К ОБЩЕМУ»1. «ВЕНЕЦ ЗЕМНОГО ЦВЕТА»Мы уже отмечали крайнюю противоречивость Блока, сказавшую¬
ся в темах и мотивах «двойничества», в борьбе символистских и реа¬
листических тенденций и во многом другом; чем же в конце концов
определялась в творчестве Блока победа «добра и света», победа
жизненного начала и того «общественного человека», которого с года¬
ми все яснее и несомненнее видел в себе нозт?В первую очередь тем, что разбуженный революцией страстный
интерес к реальной действительности, вера в простого рабочего чело¬
века, в его внутреннюю красоту, в его огромные силы, со всей очевид¬
ностью сказавшиеся в те дни 1905 года, которые сам поэт называл
«великим временем», уже никогда не покидали Блока, оставались
незыблемой и неизменной основой внутреннего мира поэта; это
и определяло характер творчества, самые значительные и важные
его черты, преобладавшие над иными — смятенными и «случайными»
(говоря словами самого поэта).Пусть мир, где жил поэт в годы реакции, снова оказался «страш¬
ным миром», в котором господствовали враждебные человеку силы, по
было и нечто иное, отличавшее в глазах Блока этот мир от того,
обреченного на гибель, каким он виделся в прежние времена — в дни
«распутий» и крушения былых мечтаний и иллюзий.С новой верой в народ, в Человека — с большой буквы! — поэт
стремился везде и всюду найти подтверждение ей, и его статья
«О драме» (1907), заключенная разбором пьесы Леонида Андреева
«Жизнь Человека», завершается знаменательным п крайне важным
для понимания всего последующего творчества Влока утверждением:«...Человек ость человек, не кукла, по жалкое существо, обречен¬
ное тлению, но чудесный Феникс, преодолевающий «ледяной ветер
безграничных пространств». Тает воск, по по убывает жизнь...»Пусть мрачная и безнадежная по своему настроению пьеса
Андреева противоречила вере в человека, отозвавшейся в этих словах,
но поэт настойчиво подтверждал ее, пользуясь хотя, бы самым отда¬
ленным поводом для того, чтобы высказать ее, — что и свидетельствует
о том, насколько прочна у него самого была эта вера в человека,
и притом — не в какого-то «отмеченного», «избранного», или особо
«утонченного» (если поэт потом и говорил о такого рода «утончен¬
ности», то почти неизменно с насмешкой и издевкой), а самого418
простого, обездоленного, униженного, по сохранявшего стойкость
и мужество перед яйцом любых бедствий и испытаний.Представителям «рафинированной» интеллигенции, воображав¬
шим себя солыо земля, Блок противопоставлял людей парода — му¬
жиков, рабочих, у которых...светлые глаза привольной Руси
Блестели строго с почерневших лиц..»Именно здесь, а не в срэде эстетов и декадентов, поэт видел
подлинную красоту, не нуждающуюся ни в каком гриме, ни в каких
цриукрашениях, — и если он говорил о народе, то с величайшим
уважением и даже благоговением, как о носителе некоей, не всегда
ясной ему самому, безусловной истины и создателе всего прекрасного,
что есть на земле; именно у народа и в пароде видел Блок те качества
и стремления, которые ценил превыше всего: нерушимые нравствен¬
ные устои, жажду справедливости, непреклонное мужество, готовность
к настоящему делу, доподлинному, а но «книжному» и по мнимому.
Вера в народ, в простого человека, в его внутреннюю красоту и неиз¬
меримую мощь, а стало быть — в его великое будущее, помогала поэту
одолевать напасти «страшного мира», противопоставлять псевдогерою
декадентской литературы — хищнику, стяжателю, «белокурой бес¬
тии» — подлинного героя, того, кто поднимает «верный молот» в борь¬
бе с темными и хищными силами, кто готов без устали «за тяжелым
плугом в свежих росах поутру идти» и никогда не изменит своему
высокому человеческому имени, долгу, назначению.Народ, «простые люди» — это для Блока, так же как и для Льва
Толстого (у которого он многому учился), не безмолвная, темная, кос¬
ная масса, к которой можно, в лучшем случае, относиться с жалостью,
состраданием и снисхождением, a «vrai grand monde» (то есть
«настоящий большой свет») — в противовес господствующей верхушке
общества, именовавшей себя «великим светом».15 стихах Блока иомало издевок над чиновничьей знатыо, бога¬
теями, над «сытыми», над власть имущими, над той 'или иной
«львицей светской и продажной», но люди труда — рабочие, крестьяне,
мастеровые — вызывали у поэта огромное и неизменное уважение,
а порою и чувство какой-то виноватости перед ними.Он писал из Шахматова матери, делясь с ней своими раздумьями
и наблюдениями, крайне существенными для понимания его твор¬
чества:«Я все время на постройке. Очень мне нравятся все рабочие, все
разные, и каждый умнее, здоровее и красивее почти каждого интел¬
лигента. Я разговариваю с ними очень много...» (1910).Это отношение к рабочим, мастеровым, к трудовому люду крайне
характерно для Блока; почти никогда так уважительно, с таким высо¬
ким пафосом он не говорил о тех людях искусства и литературы,
которые составляли его среду и считали себя цветом нации.Великая, неодолимая мощь родной страны слышалась поэту в ее
«ветровых песнях», в голосе ее народа, напоминающем о величия419
людей, только до поры до времени забитых и униженных; вот почему,
казалось поэту,—...невозможное возможно,Дорога долгая легка,Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..Так писал Блок в стихотворении «Россия» (1908), вслушиваясь
в эту песню, звучавшую для пего надеждой и обетованием; в ней поэту
приоткрывалась душа народа непреклонная, гордая, свободолюби¬
вая, жаждущая справедливой и лучшей доли, являющаяся ее залогом
и предвестием.«КЛаде наслаждение уважать людей! — восклицал Чехов. — Когда
я вижу книгу, мне нет дела до того, что авторы любили, играли
в карты, я вижу только их изумительные дела...» («Записные
книжки»).Изумительные дела всегда до глубины души потрясали и Блока;
он говорил о них как о подвиге, с такой гордостью, словно сам их
совершил, и мы чувствуем, каким огромным и ни с чем не сравнимым
переживанием было для него наслаждение уважать людей, неведомое
ему в былые времена.Примечательна в этом отношении статья Блока «Горький о Мес¬
сине», посвященная книге М. Горького и В. Мейера «Землятрясение
в Калабрии и Сицилии» (1909), — здесь поэтом высказаны мысли
и чувства, необычайно важные для понимания его воззрений и твор¬
чества, воодушевляющего его пафоса.Блок с особым волнением, словно в предчувствии необычайно
важных открытий, всматривался в события, вызванные грандиозным
землетрясением, стоившим множества человеческих жертв, и видел
в них не только картины ужаса, безумия, смерти, но и нечто иное
и крайне знаменательное — мощь стихии, прекрасной и грозной,
а вместе с тем величие и красоту человека, его героические качества,
явственно сказавшиеся в минуты смертельной опасности. Вот почему
события в Сицилии и Калабрии приобрели в глазах поэта не только
трагический характер; нет, он увидел в них и тот «драгоценнейший
миг», в который «как бы при внезапной вснмшко подземного огня»
явилось лицо человека, освобожденное от каких бы то ни было
«личин», и «того лица, подлинного, неподдельного, обыкновенного
человека, которое мелькнуло в ярком свете, можно было испугаться,
до того мы успели от него отвыкнуть, — говорит поэт. — Написано на
нем было одновременно, как жалок человек и как живуч, силен и бла¬
городен человек, й все это — без подкраски, без ретуши».Человек жалок, говорит Блок, потому что утратил «ничем из
заменимое чутье», «животные инстинкты», — ведь даже крысы
и кошки, согласно показаниям свидетелей и очевидцев землетрясения,
предчувствовали его и вели себя сообразно с этим, а человек «ничего
не предвидел, ничего не предчувствовал», и «в минуту катастрофы42Q
и несколько часов поело нее люди были охвачены паникой,, безумием,
совершенно растеряны, несчастнее зверей».Иной писатель-мизантроп на этом бы и остановился, подчеркнув
торжество древних, хищнических, разрушительных инстинктов,
родство охваченного паникой человека с животным, — по не об этом
говорила книга Горького и Мейера, и не об этом говорила статья
«Горький о Мессине», в которой Блок утверждал вслед за авторами
книги: «Но какие же чудеса человеческого духа и человеческой силы
были явлены потом!..» — и об этих чудесах, в частности — о подвиге
русских моряков, оказавшихся в то время в Сицилии, поэт говорит
с гордостью за самых простых людей, превращая свою статью в гимн
Человеку, который своими руками способен творить чудеса, достой¬
ные самых прекрасных легенд и сказаний:«Так вот каков человек. Беспомощной крысы, по прекрасней
и выше самого прозрачного, самого бесплотного видения. Таков
обыкновенный человек...)) — и здесь неслучайно поэт подчеркнул, сло¬
во обыкновенный, ибо он говорит но о каких-то исключительных,
«избранных» натурах, редких по своим качествам, а о тех, чье имя —
легион. Вот они-то и оказываются, согласно неопровержимо убеди¬
тельным и точным свидетельствам, «...прекрасней и выше самого
прозрачного, самого бесплотного видения».Это необычайное открытие приобретало для певца Прекрасной
Дамы огромное значение, ибо определяло и новую — высшую — сту¬
пень в его сознании, новую ступень его зрелости как гражданина
и художника.Обыкновенного, простого, а вместе с тем великого и прекрасного
человека Блок противопоставлял всем мрачным и человеконенавист¬
ническим измышлениям декадентской литературы, болезненным
фантазиям мизантропов и пессимистов, приписывавших человеку
извечную жестокость, порочность и низменность. Нет, человек не
таков, — возражает им Блок, — он «но Передонов и но насильник, не
развратник и не злодей... Он поступает страшно просто, и в этой
простоте только сказывается драгоценная жемчужина его духа».Эту «драгоценную жемчужину» человеческого духа, человеческого
благородства и видит поэт прежде всего в обыкновенном человеке,—
и рядом с этой сияющей жемчужиной меркнет все остальное, ничтож¬
ными кажутся все измышления против простого, а вместе с тем и ве¬
ликого человека; он не ангел, не демон, но без него нет На земле
ничего истинно прекрасного, —• утверждал Блок в своей статье.Поэт с гордостью говорил о людях, самых простых, но способных
на деяние, равное подвигу, и совершающих его как нечто безусловно
необходимое и само собою разумеющееся; в 1911 году Блок пишет
матери из Бретани о событии, по всей видимости глубоко захватившем
его, ибо в этом событии было нечто перекликавшееся с раздумьями
поэта о человеческом призвании и назначении, о существе чело¬
века:«Недавно в одном из вертящихся маяков умер старый сторож,. Не
успев приготовить машину к вечеру. Тогда его жена заставила двух
маленьких детей вертеть машину рунами всю ночь. За это ей дали
орд. Поч. Легиона».А далее следует приписка, в которой оказалось непреклонное
убеждение поэта в героических качествах русского человека, хотя бы
■он и находился на сасмом скромном и неприметном посту:«Я думаю, русские сделали бы то же самое».Чехов говорил устами одного из своих героев, что человек «должен
сознавать себя вышо львов, тигров, звезд, выше всего в природе,
даже выше того, что но по пятно и кажется чудесным...» — и сам Блок
испытывал величайшую гордость за человека, когда в нем раскрыва¬
лись подлинно человеческие, а стало быть, прекрасные и героические
качества, когда человек стирал в собо «случайные черты» и совершал
те дела, в которых проявляется его истинное существо — ничем не
замутненное и не искаженное.Пожалуй, наиболее полно и глубоко вера поэта в человека мысли
о человеке, о его призвании и назначении сказались в цикле стихов
«Ямбы» (1907—1914), пронизанном духом революционных предчувст¬
вий, нашедшим здесь свое прямое и открытое выражение.Цикл «Ямбы» зарождался в тот же год, что и цикл стихов
«Родина», и во многом посвящен одной и той же теме, обретающей
огромное историко-философское значение в лирике Блока: это
раздумья о человеке, о народе, о его судьбах (неотъемлемой частью
которых является и судьба самого поэта), а вместе с тем и ненависть
ко всем темным и хищным силам; эта ненависть и находит здесь
открытое, страстное выражение, чуждое каких бы то ни было недо¬
молвок или уклончивости.Певец Прекрасной Дамы обращается к Ювеналу и в его беспо¬
щадно язвительных и грозных стихах находит наиболее созвучный
эпиграф для. цикла «Ямбы»: «Негодование рождает стих»; негодова¬
нием гражданина, родина которого попрана и унижена, и пронизаны
«Ямбы» Блока. Его муза, которая недавно бродила по «горним
путям» с очами, обращенными к небу и равнодушно скользящими по
всему тому, на чем лежит печать людских забот и тревог, отныне
готова стать музой гнева, мятежа, «пламенной сатиры». С высоты
новых, гражданских чувств, словно бы вздымающих его стихи на
своих белых от бешенства гребнях, поэт видит то житейское и жиз¬
ненно важное, чего по замечал раньше, •• и стихи Блока обретают
новый характер, новое звучание. Он бросает в своих «Ямбах» страст¬
ный и решительный вызов, свое непримиримое «нет!» старому миру —
и в этой ненависти находит новые источники вдохновения, обретает
новые творческие силы.«В острогах, в ночлежных домах и в кабаках всегда только одни
бедные, а порядочные люди, заметьте, всегда богатые...» — говорит
лакей Мишенька в повести Чехова «Бабье царство», — и Блок отвергал
не только богатых, «сытых», для существования которых необходимо,
чтобы кто-то был голоден и обездолен, но и самую их «порядочность»,
их лоск, их «изысканность» и «утонченность», свидетельствующие
о принадлежности к касте «избранных», привилегированных; вот по¬422
чему поэт тянулся к людям обездолепным, бездомным; к повести их
мук и скитаний он готов был прислушиваться с жадным вниманием,
словно именно здесь-то и открывалась сама жизнь во всей ее истинной
сути, а не надоевшая ему и прожужжавшая ему уши «сплетня о жиз¬
ни». Он твердил, как заклятие:...Моя свободная мечтаВсе льнет туда, где униженье,Где грязь, и мрак, и нищета.Туда, туда, смиренней ниже,—Оттуда зримей мир иной...Ты видел ли детей в Париже,Иль нищих на мосту зимой?..Именно эти страшные образы людей униженных, обездоленных,
измученных и порождали такую злобу против господ и властителей
«страшного мира», какая могла найти исход только в очистительной,
испепеляющей и беспощадной грозе:Па непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,Пока великая грозаВсе не смела в твоей отчизне...Певцом такой «великой грозы» и стал Блок в своих «Ямбах».«Сытые» предстают в этих стихах, как та нечисть, которая
является жалкой пародией на человека; пусть они полагают в своей
слепоте, что все их преступления против миллионов и миллионов
пройдут безнаказанно, — этому не бывать! Вы сами будете пить из той
же чаши, какую готовили для других, — внушает поэт, — и чем ужас¬
нее ваши сегодняшние деяния, тем горшее возмездие за них ожидает
вас:Тропами тайными, ионными,При свете траурной зари,Придут вамучошшо ими,Над ними встанут упыри.Овеют призраки ночные
Их иомышленья и дела,И загниют еще живые,Их слишком сытые тела.Их корабли в пучине водной.Не сыщут ржавых якорей,И не успеть дочесть отходной
Тебе, пузатый иерей!..Образ «пузатого иерея», такой, казалось бы, неожиданный (в силу
своей резкости, шаржиреванности и даже плакатности) в творчестве
певца Прекрасной Дамы, заслуживает особого внимания: он свиде¬
тельствует о том, что к темным и ненавистным силам «страшного
мира», служащим закабалению парода, поэт относил и церковь,— вот
почему «торжественный пасхальный звон», вызывавший у многих
верующих благоговейные чувства, пробуждал у поэта такую горечь,
словно этот звон был непостижимым образом сопричастен всему423
отвратительному и бесчеловечному, что творилось в жизни — на бдаго
«сытым». Поэту казалось, что «пасхальный звон» не возвышает,и не
просветляет людей, а принижает их, «терзая ночь глухую», — и из-за
этого еще тягостней становится ее безысходный мрак; :Над человеческим созданьем,Которое он в землю вбил,Над смрадом, смертью и страданьем
Трезвопят ДО потери сил...Колокольный звон становится ненавистен поэту хотя бы только
потому, что им словно бы благословляется все самое темное, низкое,
смрадное, что сеть иа земле; этот ином призывает к забвению того, что
раскаленными буквами горит иа скрижалях памяти и требует возмез¬
дия. Вся «мировая чепуха» спасается — или стремится спастись —
этим звоном, призывающим к примирению палача с его жертвой,
грабителя с ограбленным, не оставляя обездоленным людям ни малей¬
шей надежды на избавление от этой «чепухи», на возможность под¬
линно человеческой жизни...Такое отношение к официальной церкви у поэта не связано
с тем или иным изменчивым и преходящим настроением, — нет, оно
выстрадано и продумано, в нем сказывается неколебимое убеждение,
что церковь, поставившая себя на службу реакции и самодержавию,
взявшая на себя «охранительные» функции, и не может быть ничем
иным, как пособницей самых темных сил «страшного мира».Это поэт решительно утверждал и в письме к В. В. Розанову,
который в своей статье «Попы, жандармы и Блок» («Новое время»,16 февраля 1909 г., № 11829) «укорял» Блока за его «демонизм», за
распрю с церковниками и внушал ему, что его тоска — «это тоска
отъединения, одиночества, глубокого эгоизма» (?!), и только,—
и «ничего тут «демонического» нет, никакого плаща и шляпы не
выходит. Просто — это дурно. Такими «демонами» являются и при¬
казчики Гостииного двора, если у них залеживается товар, если они,
считая деньги, находят, что «мало»...»Сравнив поэта с приказчником-гостинодворцем, В. Розанов внушал
читателям «Нового времени», что народу нужны «храм с горящими
свечами», и «канун», и «сорокоуст», и проч. и проч., так же неиасыти-
мо необходимы, как знойной ниве дождь,— не мепсе...».Завершает В. Розанов свою статью следующим «отеческим»
внушением:«Не пора ли опознатъея Блоку и другим декадентам, в которых
мы не отрицаем лучших «возможностей», и из бесплодных пустынь
отрицания перейти на сторону этих столпов русской жизни (то есть
попов и жандармов.—- Б. С.), ее тружеников и охранителей. Будет
ребячиться, пора переходить в зрелый возраст».А «зрелый возраст», на взгляд Розанова, — это и есть тот «воз¬
раст», когда человеку не только «извинительно», но даже и необходи¬
мо, отбросив стыдливость и былые иллюзии, перейти на сторону
«охранителей», На сторону самодержавия, православия, черносотен¬
ства.m
По поводу всех этих писаний В. Розанова поэт и отвечал ему:
«...всякое уничтожение и унижение личности — дело страшное,
и потому я...—не желаю встречаться с Пури ш к ев иче м (один из лидеров
«черной сотни». — Б. С.) или Меньшиковым (реакционный журна¬
лист, вововременец.— Б. 6’.), мне неловко говорить и нечего делать со
сколько-нибудь важным чиновником или военным, я ие пойду
к пасхальной заутрене к Исакию, потому что не могу различать, что
блестит — солдатская каска или икона, что болтается — жандармская
епитрахиль или поповская ногайка. Все это мне по крови отврати¬
тельно» (1909).Это отвращение к «жандармской епитрахили» и «поповской
ногайке» (оказавшихся неразличимыми в глазах поэта!) откликнулось
не только в «Ямбах», но и во многих других произведениях Блока
(вплоть до поэмы «Двенадцать»),В своем ответном письме В. Розанов, отвергая революционные
чаяния поэта, объяснял их (так жо кик и самую революцию) тем, что
«...зарыт в нас древний Kami», который жаждет-де «полизать крови»,
и если во времена «сравнительно кроткого язычества» люди утоляли
жажду сидящего в них «Каина» всяческими жертвоприношениями,
то впоследствии их «жажда» осталась неутоленной, и только поэтому,
уверяет В. Розанов, «начались пытки, костры, гильотины».«Все это мне противно, — заявлял В. Розанов в своем письме,—
и для меня революция так же противна, как «сабля наголо» и жан¬
дармы, а пропагандисты с книжками ничуть не милее дьякона
с «господи помилуй»...» (1909, ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 58).Это письмо великого лицемера и циника, пытавшегося
представить себя здесь человеком, стоящим «над схваткой» (хотя его
приверженность реакции ни у кого не могла вызвать ни малейших,
сомнений), не осталось без ответа.В новом своем письме Блок решительно возражал В. Розанову,
утверждая, что «...современная русская государственная машина есть,
конечно, гнусная, слюнявая, вонючая старость...» — на борьбу с ко¬
торой и вышла русская революция — «юность с нимбами вокруг
лица»; Далее поэт торжественно провозглашал «концепцию живой,
могучей и юной России...» — поясняя при этом:«...если где такая Россия «мужает», то, уж, конечно, — только
в сердце русской революции в самом широком смысле, включая сюда
русскую литературу, науку и философию, молодого мужика, одер-
жанно раздумывающего думу «все об одном», и юного революционера
с сияющим правдой лицом, и все вообще непокладливое, одержанное,
грозовое, пресыщенное электричеством. С этой грозой,— решительно
утверждал поэт, — никакой громоотвод не сладит».Так отвечал Блок на недостойные и жалкие попытки Розанова
оклеветать революцию, свести ее к делу «древнего Каина», а вместе
с тем прикрыть этими клеветническими измышлениями истинную
суть своих реакционно-обскурантистских воззрений; сам поэт нетер¬
пеливо торопил «подземного крота» революции, охваченный пред¬
чувствием «неслыханных перемен» и «невиданных мятежей»:425
Ты слишком хриплым стоном душу
Бессмертную томишь во мгле!Эй, встань и загорись и жги!Эй, подними свой верный молот,Чтоб молнией живой расколот
„ Был мрак, где но видать ни зги!..Этими стихами поэт призывает своего читателя на борьбу, на
подвиг, но если герой стихов о Прекрасной Даме — это юноша, но,
знающий предела своим силам и мечтам, готовый во имя своей воз¬
любленной совершить любой подвиг, дажо и не сомневаясь в исходе
предстоящей битвы, то мимо чувства охватывают его теперь, когда
ужо за плечами огромный и трудный жизненный опыт. Он потерпел
в жизненных стычках немало поражений, прошел по многим кругам
ада, вдыхал его смрадный дым и раскаленный воздух; теперь он
предстает перед нами словно бы «испепеленный» и предельно уста¬
лый, точно в смертельном изнеможении. Даже взывая к правому
гневу, к тому, чтобы «приготовлять к работе руки», он уже соразме¬
ряет эти призывы с возможностями человека, утратившего много
надежд и иллюзий, и предвидит иные возможности, о которых прежде
и не подумал бы:* ...Не можешь — дай тоске и скуке
В тебе копиться и гореть...Но только — лживой жизни этой
Румяна жирные сотри
И, как пугливый крот, от света
Заройся в землю —там замри...Во всем этом — голос уяад усталого сердца, опыт ужо много видев¬
шего и во многом отчаявшегося человека, который знает: борьба
с враждебными силами совсем не так проста, как могло показаться
в прежние годы! Этот человек уже познал — в стычках и схватках
с окружающим его «страшным миром» — малые пределы своих
личных сил и неизмеримость сил, враждебных ему и подобных
дракону, на шее которого вместо одной отрубленной головы вырастают
две новые. Но как бы ни была безнадежна в глазах поэта борьба
с ними, он никогда не прекращал ее, — и пафос борьбы неотъемлем
от лирики Блока, от «Ямбов», где он и находит свое продольно четкое,
открыто декларативное выражение:...Всю жизнь жестоко нопапидя
И презирая этот свет,Пускай грядущего по видя,—Дням настоящим молвив: иег!..—>и именно потому, что простые люди были для Блока превыше всего,
так решительно и непримиримо выступал он против реакции, черно¬
сотенства, мракобесия, принижавших человека и стремившихся
сковать его разум, волю, творческие силы.Поэт надеялся: как бы ни была могущественна и тяжела власть
«сытых», заживо гниющих, заражающих своим тлетворным дыханием
тот воздух, которым мы дышим, — должен же когда-нибудь прийти420
ой конец. Вот почему он утверждал, после того как различил самые
мрачные тени -окружавшего его «страшного мира»:Я верю: новый век взойдетСредь всех несчастных поколений...—и основой этой веры являлось сознание могущества и красоты самого
простого человека — сына своего народа.Нас не могут не захватить глубиной мысли и страстностью чувст¬
ва стихи, обращенные к широким трудовым массам — гордости нации:В голодной и больной неволе
И день не в день, и год не в год.Когда же всколосится поле,Вздохнет униженный народ?..Только тогда и придет «настоящий день», утверждает Блок,—
иначе и вся жизнь «не в зачет».Поэт, захваченный болью парода, мучается всеми его муками,
разделяет его надежды и стремления; это порождает ту остроту
и глубину переживаний и восприятий, какие и отзываются в его
«Ямбах», исполненных огромной внутренней силы; они возникают на
гребне высокого вдохновения, не знающего никаких преград
и изливающегося полно, широко, свободно, с естественностью самого
дыхания и глубиной великого, страстно напряженного чувства, словно
бы объемлющего весь простор родной земли, вбирающего всю ее кра¬
соту, всю ее гордую и вольную душу:Что лето, шелестят во ыраке,То выпрямляясь, то клонясь,Всю ночь под тайным ветром злаки:Пора цветенья началась...В цветении этих злаков поэт прозревает иное цветение, могучее
и бессмертное, над которым уже по властны никакие «зимние сны»,
никакие темные силы.Пусть сам Блок не знает, как одолеть их (и в этом, — истоки ого
отчаяния, порою словно бы захлестывавшего все окружающее, всю
землю, от края до края, и порождавшего самые мрачные страницы
в его лирике), но он чувствует: нет, не может быть, чтобы все оста¬
валось по-прежнему, — слишком велика мощь народа, сказавшаяся
в дни революции, потерпевшая поражение, словно бы ушедшая в зем¬
лю, но являющаяся залогом и свидетельством того, что победа реакция
не окончательна (недаром сам поэт называл ее «случайною победой»,
за которою «роится сумрак гробовой») и она не может не смениться
поражением всего, что противостоит народу и враждебно ему; вот
почему такою уверенностью в победе подлинно человеческих сил звучат
горделивые и величавые строки «Ямбов»:Народ — венец земного цвета,Краса н радость всем цветам:Не миновать господня лета
Благоприятного — и нам.427
Равных им по силе мысли и мощи чувства, сказавшегося в этих
стихах, с их переливающейся через край любовью к простому челове¬
ку, голодному, униженному, обездоленному, с верой в его величие
и справедливость его требований и целей, в русской поэзии не по¬
являлось со времен Некрасова; только гениальный, необычайно про¬
зорливый художник мог создать такие классически зрелые и подлинно
народные стихи, слагающиеся к торжественный и радостный гимн
простому человеку, его иолнчию и красоте. В этих стихах, входящих
в арсенал революционном поэзии, ужо трудно узнать того поэта,
который еще так подавно о опаской говорил о «жакериях», рассуждая
о них с. позиций господствующей верхушки; теперь его стихи сама
дышат раскаленным воздухом «жакерий», взывают к ним, как к тем
бурям, которые они одни только и смогут смести и уничтожить грязь
и мерзость старого «страшного мира».«Рост демократии» (о котором поэт говорит в одной из своих
дневниковых записей, относящихся к 1912 году), утверждение духа
демократии и революции — вот что составляет пафос цикла «Ямбы»,
одного из наиболее примечательных и значительных в лирике
Блока.Весьма знаменательно и то, что высказывания поэта о народе
лишены какой бы то ни было противоречивости, и простой рабочий
человек —лишь только речь заходит о нем—вызывал у поэта неиз¬
менное уважение; одно это свидетельствует о том, насколько прочной
и неколебимой являлась любовь поэта к народу, вера в простого чело¬
века, в его огромные, неизмеримые силы, а стало быть, и в его великое
и прекрасное будущее. Этой вере поэт никогда не изменял и никогда
не отступал от нее; она являлась тою твердыней его внутреннего
мира, какая помогала находить надежную опору при всех бедах
и утратах, одолевать все «сомнения и страхи», — а сколько довелось
поэту испытать и пережить их!,Жизнь, какая она есть —не «сплетня о, жизни».—представала
отныне перед поэтом и в образе старухи, встретившей очередной
«осенний день» своей жизни, и в образе матери, тоскующей над сыном,
обреченным на покорность, голод, неизбывную нужду, и в образе
рабочих, являющихся воплощением «привольной Руси», и в образе
бездомного бродяги, которого гонят от костра в ночь, мрак, стужу,
и от этой стужи пробирает до костей, кажется, по только бродягу, но
самого поэта; их судьбы, их образы, целиком захватившие Блока,
заставляли его с особой страстностью стремиться к тому будущему,
когда уже ничто не унизит и не обездолит человека.Только с народом, с приобщением к народу связывал Блок и воз¬
можности развития искусства; в письмо, посвященном размышлениям
о судьбах театра, о его будущем, Блок «интеллигентскому театру»
(театру «Метерлинка, Гофмансталя, Ведекинда и т. д.») противопо¬
ставляет народный театр — «в самом широком смысле (фабричный,
сельский, солдатский и т. д.)...». Здесь поэт утверждает, что весь
современный репертуар — «от Шпажинского до Метерлинка» — может
быть подвергнут «критике и подлинному суду — не перед лицом этой428.
интеллигенции, для которой все равно, забавно или скучно, а только
перед лицом будущего...».Блок выражает здесь твердую уверенность, что «только народ
покажет истинную цену той драматургии, о которой умирающая
интеллигенция может судить только случайно и необоснованно. Вот
почему так остро стоит вопрос о мелодраме, о пользе (русский
утилитаризм), о содержании...» (1908).Справедливо утверждая, что развитие и будущее искусства —
в повышении его общественно-воспитательной роли, позт вместе
с тем разъясняет, что его взгляды не являются плодом всего только
личных вкусов и настроений, а выражают реальное положение
вещей:«Статистика показала с очевидностью, что 1) театр необходим для
народа, и в России развивается очень успешно народный театр,
2) что народу чужды и отвратительны какие бы то ни было тенден¬
ции и поучения со сцены, 3) что народ способен воспринимать и це¬
нить именно тот пафос высокой драмы и трагедии (например, «Гроза»)
и высокой комедии (например, «Женитьба»), который более не во¬
одушевляет современную театральную публику, но о котором мечтают
'передовые люди эпохи».Далее поэт развивает мысли о необходимости «живой работы»
в «народном театре», к которой, как полагает он, и следует призывать
всех стоящих артистов, ибо «только свежая публика достойна уваже¬
ния, а без публики — нет театра...» — решительно заявляет Блок.Суммируя свои мысли о театре, необычайно значительные,
глубокие, и словно бы приоткрывая дверь в будущее, поэт уверяет,
что в них нет ничего утопического:«То, что я говорю, более чем реально и, по-моему, истинно
празднично».И действительно, чем-то праздничным и необычайно свежим веет
от этого, обращенного к жене, письма, свидетельствующего о новых
и широких возможностях, открывшихся перед поэтом и увиденных им
в связи искусства с жизнью народа.В противовес проповеди, постоянно раздававшейся со страниц
«Весов» (хотя бы в неисчислимых писаниях Эллиса) и утверждавшей,
что подлинное искусство доступно лишь некним «избранным», «арис¬
тократам духа», Блок обнаруживал глубочайшую веру в простого
рабочего человека, в его запросы, в его здоровый, свежий, неиспор¬
ченный, а стало быть, и хороший вкус — гораздо лучший, чем у иных
«рафинированных» и «утонченных» литераторов, воспитанных па
декадентском искусстве. Об этом он и заявлял решительно и прямо
в статье «Письма о поэзии», в сущности — полемизируя с некогда
близким ему журналом и говоря о том, что «характеризует особенно
русского читателя»:«Никогда этот читатель, плохо понимающий искусство, но знаю¬
щий азбучных истин эстетики, не даст себя в обман «словесности»; он
холодно и просто ие примет «пшибышевщины» и не возрастит в своем
саду чахлой и пестрой клумбы современных французских цветов...»429
(1908)— тех цветов, «отравленными ароматами» которых упивались
люди, подобные Эллису.Эта пера в самого рядового и отпюдь не «рафинировапиого» чита¬
теля являлась у Блока частью великой веры в человека, никогда не
покидавшей его.Буржуазному гуманизму (представавшему перед широкой публи¬
кой в розовой облатке сентиментализма или в романтических опере¬
ниях «демонизма»), неотъемлемому от практики и философии крайне¬
го индивидуализма, Блок и противопоставлял веру в простого рабоче¬
го человека, вору в парод и его великое будущее, ради которого можно
совершить любой подвиг и пойти на любую жертву.2. «РОКОВАЯ, РОДНАЯ СТРАНА...»Б творчестве Блока образ простого человека и тема народной судь¬
бы неразрывно переплетаются с другой, переходят и «врастают»
в нее — с темой родины, России; эта тема занимает здесь — что с го¬
дами становится все более очевидным — главенствующее место.В конце 1908 года поэт отправил необычайно важное по своему
значению письмо К. С. Станиславскому, заинтересовавшемуся в то
время драмой «Песня Судьбы»; в своем письме Блок говорит в связи
с возникшей перед ним «темой о России»:«Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Все
ярче сознаю, что это — первейший вопрос, самый жизненный, самый
реальный. К пему-то я подхожу давно, с пачала своей сознательной
жизни, и знаю, что путь мой в основном споем устремлении — как стре¬
ла — прямой, как стрела — действенный. Может быть, только пе отто¬
чена моя стрела. Несмотря иа все мои уклонения, падения, сомнения,
покаяния,— я иду. И вот теперь уже (еще нет 30-ти лет) забрезжила
мне, хоть смутно, очертания целого. Недаром, может быть, только
внешне неловко, внешне бессвязно, произношу я имя: Россия. Ведь
здесь — жизнь или смерть, счастье или погибель...»Только в решении этой темы видит поэт возможность обновления
жизни, и, утверждает он, если мы откроем ей сердце, то она «исполнит
восторгом, новыми надеждами, новыми снами, опять научит свергнуть
проклятое «татарское» иго сомнений, противоречий, отчаяния, само¬
убийственной тоски, «декадентской иронии» и пр. и пр., все то иго,
которое мы, «нынешние», в полной мере несем».То же самое утверждает поэт и в не опубликованном при его жизни
открытом письме Д. С. Мережковскому, полемизируя с теми, кто счи¬
тал слишком «гордым», «самонадеянным» утверждение: «как в России,
так и мы». А Блок отстаивал именно эту связанность и это положение,
поясняя его следующим образом: «...писатель, верующий в свое при¬
звание, каких бы размеров этот писатель пи был, сопоставляет себя со
своей родиной, полагая, что болеет ее болезнями, страдает ее страда¬
ниями, сорасшшается с нею, и в те минуты, когда ее измученное тело
хоть иа минуту перестают пытать, чувствует себя отдыхающим вместе
е нею...» (1910). Отныне одна бессонная забота и неотступная тревога430
сжимала сердце поэта даже в разгуле «цыкни кш гтрттой», казалось
Гил целиком захвативших его: жажда жить жилим» родним, болеть ее
болью, всегда быть с нею — и в горе и в радости, неилмеппо и но поем
делить ее судьбу, какою бы суровой она ни была! — что и мридпеч ли¬
рике Блока огромную широту и необычайную значительность, !)т<> нее
|'да и постоянно — разговор о самом важном. «Здесь жизнь или
смерть»,— как говорил сам поэт.Его судьба — в судьбе родины, неотделима от нее, неразрывно свя¬
зана с нею, и «его рука — в руке народной...»—вот что стало ему до
очевидности ясным; этим и определяется самый подход Блока ко всем,
без исключения, областям человеческой жизни, которые он видит и изо¬
бражает в их внутренней цельности, связности, взаимообусловленнос-
ти, в одном п том же всепроникающем «луче».То, что открылось поэту в грозах революции, «переворачивало»
его душу, и теперь он в новом свете видел родину — во всей ее славе
и силе, в ее суровой и бессмертной красоте, полностью и навсегда за¬
хватившей сердце поэта; судьба родины переживалась им как его
личная судьба, и чувство боли и тревоги за нее никогда не покидало
Г»лока, составляло подспудный, «грунтовой» слой его лирики. Отныне
она становится страстным излиянием любви к родине, жаждой увидеть
ее свободной и счастливой, отвечает порыву самых пылких признаний:Россия, нищая Россия,Мне избы серые твои,.Твои мне песни ветровые,—Как слезы первые любви!..(1908)Пусть она бедна, пусть горька и безрадостна любовь к ней, уни¬
женной, скованной, полоненной злыми и хищными силами,— поэт про¬
гревает в пей такую мощь, перед которой ие устоять ее врагам и на¬
сильникам:Тебя ншлеть я по умею,И крест свой бережно носу...Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!Пускай заманит и обманет,—Не пропадешь, не сгинешь ты,И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...С такими раздумьями и признаниями обращался поэт к России, и
номстыне: не жалость к родине, а совсем иные чувства испытывал он —
любовь, обожание, гордость,— ту гордость за нее, которая в свое время
вдохновила Гоголя на создание гимна России — необгонимой тройке,
несущейся в неоглядную даль с такой безудержной силой, что гремит
и становится ветром разорванный на куски воздух; этот образ, навсе¬
гда захвативший сердце Блока, отозвался в его лирике ответным поры¬
вом вдохновения, в котором сливались все остальные чувства, страсти.,
стремления, тревога о будущем и великая вера в него.У поэта с годами само представление о родине становилось все бо¬431
лее реальным и отчетливым. Сначала родина предстает в стихах Блока
в отвлеченно-романтическом духе, как сказочный и загадочный край,
где ведуны и ворожеи «чаруют злаки на полях» (1906), где ветер
«поет преданья старины», гдо все погружено в дремоту и в тайну
(«...и в тайне — ты почиешь, Русь...»); когда читаешь такие стихи, то
кажется, что поэт как бы процеживает подлинные наблюдения сквозь
свои сны, фантазии, вымыслы и видит облик родины в их неверном и
колеблющемся свете, многое домысливая, пытаясь найти особую пре¬
мудрость в темных вгщаппнх деревенского колдуна или старой во¬
рожеи; по вскоре он научился иидоть и изображать родину иными
чертами, п современном обличим, а но только сквозь смутную н роман¬
тическую дымку, навеянную древней поэзией «заговоров и заклина¬
ний».Созданный впоследствии цикл «Родина» (1907—1916)’ — один из
важнейших в третьем томе лирики Блока — открывается стихотворе¬
нием «В густой траве пропадешь с головой...», написанным в 1907 го¬
ду; в нем облик любимой, еще так недавно поглощавший и заслоняв¬
ший весь мир, уже неотделим от образа родины, от того переполняю¬
щего всю душу чувства, которое зовет на подвиг — во имя и благо ее.Поэт и сам еще не знает, куда манит его невидимый колокольчик,
звенящий вдалеке, но жажда подвига охватывает его сердце, которое
«просится в бой», и отныне он знает, что это бой за благо и счастье
родины.В цикле «На поле Куликовом» (1908) та же тема решается с еще
большей глубиной, страстностью, в огромной перспективе, вмещающей
необозримые дали, и здесь страстно напряженное чувство сочетается
с такою широтой раздумий, что голос поэта словно бы растворяется
в голосе самой истории родной страны, у которой такое великое прош¬
лое и огромное будущее, что захватывает дух.Однообразен ее простор, нет здесь ярких и радующих красок, нэ
за что зацепиться взгляду; все так ровно, спокойно, безгранично, что
кажется —- так оно пребывало и будет пребывать во веки веков:Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.Над скудной глиной желтого обрыва
15 степи грустят стога...Широкая, ровная степь простирается перед памн; кажется, все
здесь — и грустно раскинувшаяся река, и скудные пласты глины над
желтым обрывом, и стога, одни только и нарушающие ровную линию
неизмеримого простора,— так же неизменно и извечно, как века назад;
раздумья о судьбах родной страны плывут широким потоком, где сли¬
лись воедино и скорбь, и гордость, и предчувствие каких-то великих
перемен и радостных событий, ожидающих родину:О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь...432
Здесь и самый покой безграничных просторов оказывается мни»
мым: за ним — клокотание бури, противоборствующих страстей, озна
чающих «вечный бой» с силами хищничества и порабощения,— и в об¬
лике воина Дмитрия Донского, нанесшего решительной поражение
татарам, захватившим русскую землю, поэт видит воплощение бес¬
смертного духа и непреклонного мужества русских людей, ynopi.ii.ix
в труде и грозных в гневе, — если враг осквернил их святыни и по¬
кусился на их неотъемлемое достояние.В огне боевых испытаний они только закаляются, в них перего¬
рает все мелкое и ничтожное, и остается только неискоренимая любовь
к отчизне, вдохновляющая на любые деяния, равные подвигу и достой¬
ные остаться бессмертной легендой; голоса этих воинов доносятся до
нас сквозь века и наполняются какою-то новою и неизбывною мощью,
взывают к новым подвигам, которые ни в чом но уступили бы подви¬
гам далеких предков, ибо и ныне над отчизной собрались такио же
тяжкие тучи, еще горшие беды и испытания угрожают оо народу.Цикл стихов «На поле Куликовом» — это и есть напоминание о по¬
двиге, некогда воплощенном в битве света с тьмой, в одолении темного
хаоса—ради свободы и счастья своей отчизны:Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь...Идет «вечный бой» —- за Русь, за милого друга, за светлую жену,
за все то, что дорого и свято, и нет отдыха в этой трудной и напряжен¬
ной борьбе:И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль..,И ныли и кропи мчатся герои Куликова поля па битву с врагом,
и самый закат пород ними, словно бы омытый кровью, прорывается
сквозь нагромождения тяжелых и испуганных туч, сквозь суровые об¬
лака, отсвечивающие багрянцем и заволакивающие все небо — от края
до края.В тишине неоглядной степи, нарушая ее великий и ровный простор,
возникают картины и образы, сошедшие со страниц старинных легенд
и преданий и облекшиеся новою плотыо и кровью, наполнившиеся но¬
вым и углубленным смыслом:На пути — горючий белый камень.За рекой — поганая орда.Светлый стяг над нашими полкамиНе взыграет больше никогда.И, к земле склонившись головою,Говорит мне друг: — Остри свой меч,— Чтоб не даром биться с татарвою,— За святое дело мертвым лечь!..—15 Заказ 534433
и готовность воина былых времен любою ценою отстоять свое правое
дело, жажда деяния, равного подвигу, обретает в глазах поэта значе¬
ние того бессмертного примера, которому должно следовать и совре¬
менное поколение,—если ему дороги судьбы родины, будущее ее народа.Сама тема цикла «На поле Куликовом» была для Блока не толь¬
ко — и не столько — исторической, сколько современной, перекликаю¬
щейся с нашей эпохой, с ее живой злободневностью; поэт настойчиво
подчеркивает непреходящий смысл знаменательных событий русской
истории:За Пни родной лебеди кричали
И опять, опять они кричат...Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла...Опять с вековою тоскою
Пригнулись к земле ковы ли.Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издали...Здесь образы истории придают огромную — на многие столетия —
перспективу событиям современности, сплетаются с вековою судьбою
страны, переживаемой поэтом как своя личная судьба:Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий поджар.Объятый тоскою могучей,Я рыщу иа белом копе...Так облик самого поэта словно бы сливается с обликом ратника
древних времен; со своими современниками и говорит поэт от лица это¬
го воина, готового пожертвовать жизнью ради свободы и славы род¬
ной страны, что придает его словам весомость нерушимого завета, об¬
ращенного к потомкам, для блага которых в глубокую старину наши
предки совершали великие деяния:Я — во первый воин, по последний,Долго будет родина больна.Помяни ж аа раннею обедней
Мила друга, светлая жена!Так память о подвиге былых времен, о победе, одержанной в борь¬
бе с поработителями, не уводит поэта в далекое прошлое от современ¬
ной жизни, а становится настойчивым и неотступным призывом к
новому подвигу, такому же великому и героическому; пусть теперь все
выглядит по-иному, чем в те дни, когда «Мамай залег с ордою степи
и мосты», но в непробудной тишине «страшного мира», где «вновь б о-
гатый зол и рад», поэту слышится нечто иное,— и он восклицает
в предчувствии великих и знаменательных событий:
По узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!Над вражьим станом, как бывало,И нлеск, и трубы лебедей...Эго «начало» заставляет поэта обратиться к далекому прошлому
своей родины, чтобы увидеть в нем вдохновляющий образец героики,
воплощенный в великом и бессмертном деянии, отозвавшемся в исто¬
рии и судьбе всего нашего народа.Следует напомнить и о том, что сам поэт порою весьма произволь¬
но истолковывал современное значение цикла «На поле Куликовом»,
как столкновение народа и «интеллигенции» («татарвы»)—группы,
оторвавшейся от народа, его корней и враждебной ему,— по, конечно,
и поныне непреходяще значение этого цикла гораздо глубже и истинней
подобных толкований. Оно — в великой и пламенной любви к отчизне;
оно — в готовности «за святое дело мертвым лечь», ибо «совершенная
любовь не знает страха»; оно — в нерушимой вере в величие своего
парода п его огромное будущее,— и все это воплощено здесь в живом
и захватывающе страстном чувстве, словно бы открытом навстречу
просторам родной страны и откликающемся на каждый ее зов.Эта безмерная любовь к родине и ее людям, восхищение героичес¬
ким складом их духа, не может не захватить нашего читателя, которо¬
му навсегда запомнятся и плавный бег Непрядвы, и стога, грустящие
«над желтой глиной скудного обрыва», и степная кобылица, мнущая
безбрежный ковыль, и та верная жена, чей светлый облик сияет па щи¬
те воина великой рати, подвиг которой запечатлен в веках.Так в грозах и бурях революции родина открылась Блоку как самое
близкое и дорогое, что есть в жизни, как мать, невеста, жена, и его
обращения к ней отныне приобретают характер страстных излияний
такой любви, в свете которой меркнет и перегорает все мелкое, ничтож¬
ное и остаотс.и только то, что неподвластно тлению и угасанию.«Долго будет родина больна»,— говорит поэт в цикле «На ноле
Куликовом», н если больна родина, мать, как же может быть счаст¬
лив оо сын, жить как ни в чем не бывало, в тонло и в уюте, спокойно
й благополучно? Для поэта ото было немыслимо, и в стихотворении
«Осошшй день» (1909) он задавал вопросы, словно бы и не имеющие
отношения друг к другу, но внутренняя связь которых была для него
совершенно очевидной и несомненной:О, нищая моя страна,Что ты для сердца значишь?О, бедная моя жена,О чем ты горько плачешь?Так настойчиво спрашивал поэт, хотя и знал, что еще нет у него
ответа на эти разные, а вместе с тем и неразрывно слитые, внутренне
единые вопросы. Одно было для него очевидно: нельзя жить спокой¬
ной, умиротворенной жизнью, забывая о тех, кто унижен и обездолен,• широких лугах, уходящих в вечерний туман, о клине журавлей, зо¬
вущих и манящих в даль...i5*435
Давно не бывало в русской поэзии и таких чистых, прозрачных
пейзажей, как в стихотворении «Осенний день»; они пронизаны горь¬
ким и грустным чувством, вызванным тревогой о судьбах простых рус¬
ских людей, несущих на себе бремя самых тяжелых забот, тревог и
лишений:...НИ8КИХ нищих деревень
Но счесть, не смерить оком,И светит в потемневший день
Костер в лугу далеком...По, пока светит «тот костер, не должна угаснуть надежда на иную
жизнь, на лучшую долю, к которой он взывает,— вот почему так при¬
стально и жадно вглядывается поэт в простор широкого луга, в кото¬
ром ему мнится нечто еще более широкое, властно зовущее к себе;
необычайная полнота восприятий позволила поэту в бедах и нищете
обездоленного разглядеть беды всей страны, а стало быть — и свои лич¬
ные беды, тяжким бременем ложившиеся на сердце.Глядя на одну из «низких нищих деревень» поэт записывал:«Виденное: гумно с тощим овином. Маленький старик, рядом — бо¬
лотце. Дождик. Сиверко. Вдруг осыпались золотые листья молодой лип¬
ки на болоте у прясла иод ветром, и захотелось плакать.Когда выходишь на место срублеппой рощи в сумерки (ранние,
осенние), дали стираются туманом, и ночью там нищая, голая Рос¬
сия...» (1908).У этой «голой, нищей Росии», а не у Мережковского или Розанова,
искал Блок ответа на вопросы, неотступно встававшие перед ним; она
учила его по-новому слагать свои стихи и песни — с такою благородной
скромностью и величавой простотой, которых давно, со времен Пушки¬
на и Некрасова, не было в русской поэзии; да разве иными словами,
иным слогом и можно было рассказать о той России, о которой говорил
Блок, задумавшись о ней, о ее судьбах,— как это мы видим в циклах
«Ямбы», «На поле Куликовом», в таком стихотворении, как «Осенний
день»,— одном из самых примечательных в русской лирике?Следующий этап в осмыслении темы родины знаменует стихотво¬
рение «Новая Америка» (1913), являющееся новой ступенью в цикле,
посвященном родине; оно свидетельствует о том, что поэт все более
глубоко осмысливал судьбы родной страны и находил все более вер¬
ные ответы на вопрос о ее будущем, со счастье.Стихотворение открывается необъятно широкой и торжественной
картиной, словно бы вбирающей в себя простор родной земли — со
йбёмн"ее степями и городами, со всеми ее людьми, их заботами, тре¬
вогами, радостями, со всем тем, что всецело захватило поэта:' ■ ■ • - Праздник радостный, праздник великий,Да звезда из-за туч пе видна...Ты. стоищь под метелицей дикой,Роковая, родная страна...Снова, кажется поэту, «чудным звоном заливается колокольчик»
(Гоголь), и снова грозная вьюга вдохновения замела все пути и до¬436
роги, и «роковая, родная страна» сверкнула новой красотой, безудерж¬
ной улыбкой, молодой и влекущей.В стихотворении «Новая Америка» Блок утверждал, какими обман¬
чивыми являются норою представления о России,— если ограничиться
лишь тем, что бросается в глаза, и упустить из виду нечто гораздо бо¬
лее важное и существенное, хотя бы и неприметное с первого взгляда;Там прикинешься ты богомольной,Там старушкой прикинешься ты,Глас молитвенный, звон колокольный...За крестами — кресты, да кресты...Словно бы ничто не изменилось в этой Руси, и она такая же, как
столетия назад, но если взглянуть пристальней, то и поистине окажет¬
ся, что Русь уже совершенно ие та, какою видится с первого взгляда;;
она может только «прикинуться» смиренной, покорной, богомольной,
но ведь это ужо одна только видимость, ибо но молитвенное смирение,
а нечто совершенно другое различает пытливый взгляд поэта сквозь
старые, привычные черты, и совсем иные звоны и голоса слышатся
его настороженному, чуткому слуху «под метелицей дикой», пронося¬
щейся Но просторам родной страны:Только ладан твой синий и росный
Просквозит мне порою иным...Нет, не старческий лик и не постный,Под московским платочком цветным!Сквозь земные поклоны, да свечи,Ектеньи, ектеньи, ектеньи —■Шопотливые, тихие речи,Запылавшие щеки твои...Тихие речи, которые не каждому дано услышать, щеки, запылав¬
шие пламенем тайных надежд и желаний, от которых пришли бы в
ужас радетели старых порядков и ревнители убогой, кондовой Руси,—
все это становится для поэта знаком и предвестием великих перемой,
предчувствие которых разлито во всем окружающем мире и как бы
преображает его:...там, за рекой полноводной,Где пригнулись к земле ковыли,Тянет гарью горючей, свободной,Слышны гуды в далекой дали...К этим гудам прислушивается поэт, и они вещают ому о том, что
судьба родной страны снова на каком-то изломе.Что они означают?Может быть, возврат к тому, что уже было некогда в веках?Иль опять это — стан половецкий
И татарская буйная крепь?Не пожаром ли фески турецкой
Забуянила дикая степь?..437
Но нет, отвечает сам себе поэт, пытливо вглядываясь в «непонят¬
ную ширь без конца» — те необычные приметы, которые он различает
в раскинувшемся перед ним просторе, означают не возврат к далекому
прошлому, а нечто совершенно иное; древняя Русь оказалась удиви¬
тельно молодой, и поэт именно в том новом, что открылось перед ним
и изменило даже самый пейзаж, издавна знакомый, а вместе с тем
небывало новый, видит залог важных и знаменательных событий, из¬
менивших облик родной страны и означающих новые пути ее истории:Том чорпоют фабричные трубы,Там заводские стонут гудки.Путь степной — боя копца, без исхода, »Степь да ветер, да ветер,— й вдруг
Многоярусный корпус 'завода,Города из рабочих лачуг...Вот где приоткрывается полог над тем будущим, о котором поэт
так упорно и долго мечтал,— в этих убогих лачугах, в этой горючей
и свободной гари, под пронзительный вопль заводских гудков, и здесь
особенно ясным становится смысл тех перемен, предчувствие которых
стеснило грудь; это они преображают самый обычный трудовой день
в радостпый и великий праздник:На пустынном просторе, на диком
Ты все та, что была, и не та,Новым ты обернулась мне ликом,. И другая волнует мечта...Эта мечта о великом будущем, уходящая корнями в почву родной
страны, уже пе отвлеченна и пе бесплотна, как было некогда,—нет, она
вдохновлена и подсказана всем тем, что увидел поэт «под метелицей
дикой», на неоглядных степных просторах; всем тем, что оп почувство¬
вал в стоне заводских гудков, в молодых задорных взглядах, сверкнув¬
ших ему «под московским платочком цветным», в темных и задымлен¬
ных «городах из рабочих лачуг», в труде их людей; вот почему даже
и сквозь эту гарь, копоть, убогость, сквозь строй черных высоких труб,
заслоняющих небо и изменивших самый ого цвет, поэту видится нечто
светлое, радостное:Уголь стонет, и соль забелелась,И железная воет, руда...То над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда!Поэт говорит о России будущего как о «новой Америке», но вносит
он в эти слова особый смысл: здесь «новая Америка» — это не Соеди¬
ненные Штаты, не страна бизнесменов, биржевиков, дельцов-предпри-
пимателей (о которых ни одного слова пет в стихотворении Блока);
здесь под «новой Америкой» подразумевается край огромных возмож¬
ностей и талантливого, молодого духом парода, который сумеет претво¬
рить — и претворяет — эти возможности на живом, плодотворном де¬438
ле, овладевая богатствами земли и покоряя неизмеримую мощь он недр
и стихий.Впоследствии —и по совершенно случайному поводу (ибо поэту иго
служило поводом и предлогом для высказывания ужо накрошит, н< г
иолняющих его и требующих исхода чувств и раздумий) Нлок ни
сал, что он издавна привык называть про себя американизмом «тот
подход к решению жизненных, практических вопросов», который «тр >бует больших масштабов и широкого размаха». Никакого другой пимания «американизма» Блок в своей «Новой Америке» и не нод|т
зумевал.Самое главное, что следует подчеркнуть в стихотворении «Моими
Америка»,— это то, что, прославляя новую Россию и ее новый облик,
ее молодой задор, ее творческие силы, Блок даже и ни упоминает пред¬
принимателей, тузов-воротил, владолицои фабрик II СИНОДОМ (III 'Hit. I
но они создают богатства и, стало бить, но нм принадлежи г ч, и.
и слава завоевания и освоении недр родной страны, со неисчислимы
сокровищ, несущих людям счастливое и прекрасное будущей, н i*i.*
стихах пет ни намека, ни слова, говорящего о владельцах нсох .пи,
фабрик и заводов, и совсем по о них написано и но к ним обращено
стихотворение «Новая Америка», совершенно чуждое самому духу
частного предпринимательства, в котором буржуазии индола папанею
от всех бед, угрожавших господствующим классам, и самую надежи , ш
гарантию от надвигающейся бури.По поводу стихотворения «Новая Америка» ныекизыннлоп. ми будто бы оно написано иод влиянием крупного капиталиста, кад^т
и будущего министра Временного правительства- М. II, Терещенко,
По с этим мнением трудно согласиться, если принять но внимание ром
поэта как «гражданина своей родины», записи тех лот (I'.)12 НИИ),
характер самого стихотворения, герои которого живут не и огобинкмх
капиталистов и заводчиков, а и «городах ни рабочих лачуг», ходит «ниц
МОСКОВСКИ М платочком диетным», НИЛНЮТСИ детьми 1РУД(1|10ГН народ I,
а по ('ГО нахлебниками и нпхриботниками, иш о чем нильан laOi.nmn,,
вчитываясь и строки «Новой Америки»,Конечно, и в этом стихотворении (как и и творчестве II,ника и цо
лом) нельзя уловить определенных политических воззрений поэта (а
силу присущих ему предрассудков он ко всякой «политике» относился
с предубеждением), но совершенно очевидно, что ого сочувствие, ли*
бовь и огромное уважение —не с капиталистами, но (5 томи «сытыми",которые издавна ненавистны ему, а с рабочим людом, нонами анывавшим у него гордость за простого русского чолоиокнЕсли сравнить цикл «На поле Куликовом» г «Новой Америкой»,
то нельзя не заметить гражданского возмужании, попой степени ipo
л ости поэта, ибо в «Новой Америке» то, что посла с гобой сопревши
ность, раскрыто более зримо, явственно, конкретно, н картины шипи
дневной действительности уходят в широкую, устремленную и иуду nv • •перспективу; здесь вера поэта в свой народ и ого будущей а 1юлее прочную опору, ибо художник отдает себе ужо нсный отчет и том,
rilr залоя;ены богатства и мощь родной страны, от ш>,ч> именно можно
ждать ее обновления, кто является носителем будущего, от кого зави¬
сит победа в борьбе за ее благо и процветание; все это и находит свое
; страстное и торжественное выражение в «Новой Америке»— гимне но-
| вой России, одно предчувствие которой преображало обыкновенный и
будничный день в радостный и великий праздник.Крайне характерен и самый состав цикла «Родина», куда, наряду
ео стихами широкого общественного масштаба, включены произведения,
казалось бы, совершенно иного порядка, повествующие о сугубо лич¬
ных переживаниях и чувствах понта — такие, как «На железной доро¬
ге», «Сны», «Приближается звук...». Это говорит о том, какой большой
смысл вкладывал поэт в свои стихи, какое широкое значение придавал
им, ища в частном и личном то непреходящее и исторически значи¬
тельное, что перекликается с жизпыо народа, с судьбами родной
страны.Те же самые мысли и убеждения поэт высказывал в статьях, пись¬
мах, дневниковых заметках, относящихся к тем годам, когда созда¬
вался цикл «Родина».«Чем больше чувствуешь связь с родиной,— пишет Блок в не опуб¬
ликованном при его жизни «Ответе Мережковскому»,—тем реальнее
и охотней представляешь ее себе, как живой организм; мы имеем на
это право, потому что мы, писатели, должны смотреть жизни как можно
пристальнее в глаза; мы не ученые, мы другими методами, чем они,
систематизируем явления (курсив мой.— Б. С.) и не призваны их
схематизировать...» (1910).Стало быть, на взгляд Блока, разница между наукой и лирикой
ие в том, что первая рассматривает реальный мир, а вторая — исклю¬
чительно субъективный и вымышленный,— нет, и та и другая пости¬
гают доподлинную жизнь, и разница между ними в ином: в других
«методах систематизации», которая только тогда не будет бесплодной,
когда художник знает жизнь, выражает чувства, думы, волю своей ро¬
дины, а не их искаженное или чисто субъективное преломление,— вот
что было очевидно для поэта, и в такого рода понимании взаимоот¬
ношений искусства, науки и жизни он необычайно близок Белинскому.
Здесь важно подчеркнуть и другое: то, как крепнущее с годами у поэ¬
та чувство «гражданина своей родины» заставляло ого отбрасывать
| химеры и иллюзии прошлого, смотреть как можно пристальнее в глаза
самой жизни,— как бы подчас пи была она сурова и неприглядна.Но все же в его ответе па наиболее острые и наболевшие вопросы и
проблемы, стоявшие перед страной и требовавшие своего разрешения,! было еще слишком много неясного, смутного, противоречивого; мечтая
о великом будущем родной страны, поэт зачастую обращался к прош¬
лому, к отжившему, а потому и оказывался в плену таких концепций и
течений, как славянофильство, «неонародпичество», а то и сектантство.О том, насколько далек был поэт — в своей повседневной жизни —
от передовых сил русского общества и как плохо представлял подчас
характер окружавшей его среды, свидетельствует одна из его дневни¬
ковых записей, относящихся к концу 1908 года:«Я захотел вступить в Религиозно-философское общество с надеж¬440
дой, что оно изменится в корне. Я знаю, что здесь соберутся цвет рус¬
ской интеллигенции и цвет церкви...»—и свой доклад о народе и интел¬
лигенции он читает в том же «Религиозно-философском обществе»,
стремясь «..иметь дело с новой аудиторией, вопрошать ее какими бы
ч о пи было путями. Хотя бы прочтением доклада и выслушивания воз¬
ражений свежих людей...».Конечно, сама попытка найти «свежих людей» в затхлой атмосферо
подобного «общества» свидетельствовала о наивности и смутности по¬
литических воззрений поэта.«Новая Россия» — это для Блока «какая-то» Россия, которая пой¬
дет «совершенно другим путем, чем Европа...» (фраза, заимствованная
у славянофилов и народников); но что эго за «путь»—поэт реально
не представлял, ограничиваясь мечтами — в духе некоего «неославяно¬
фильства», нытающех'ося обосновать свою концепцию на «загадочной»
и неисповедимой природе русского мужика. Всякой «политике», созна¬
тельному следованию политической программе, поэт протииопоставлял
«стихию» и стихийное начало, как единственно истинное и несомнен¬
ное, отвечающее духу нашего народа и «переплескивающееся» через
разум, через какую бы то ни было логику,— все это и сказалось в иных
стихах цикла «Родина», где гениальные прозрения перемежаются с аб¬
страктными или идеалистическими, в духе «мессианства», призывами
и заклинаниями.Порою Блоку, в согласии с утверждаемой им «стихийностью» как
основной силой исторического процесса, сама судьба родной страны
представлялась игралищем диких страстей, не подвластных никакому
разуму, не зависящих от него и таящих в себе нечто неисповедимое,
темное, грозное, и облик родины виделся поэту в зареве степных, зло¬
вещих, никогда не гаснущих костров, разложенных нашими давними
предками, древними кочевниками:...Лодки, да грады по рекам рубила ты,Но до Царьградских святынь по дошла...Соколов, лебедей в степь распустила ты --
Кинулась из степи черпая мгла...За море Черное, за море Белое,В черные ночи и в белые дай
Дико глядится лицо онемелое,Очи татарские мечут огни...(1910)Глядя в это дикое темное лицо, от которого веет чем-то роковым,
грозным, зловещим, поэт спрашивает в тоске и томлении:Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим...Что же маячишь ты, сонное марево?Вольным играешься духом моим?.,—и не может найти ответа, от которого зависит не только его жизнь, а и
судьба родной страны.441
Но даже и обрывая «нить сознанья», стремясь раствориться в бу¬
шующей вокруг него стихии, ища в ней возможности обновления, при¬
общения к подлинной жизни, поэт больше всего тревожился о том,Чтобы распутица ночная
От родины ие увела...—(1909)и патриотический пафос noon и и Блока делает ее особенно близкой и до¬
рогой нашему сегодняшнему читателю.Впоследствии, па рубежо 11)15—11)10 годов, Блок вернулся к кругу
чувств и настроений, сказавшихся и л «Ямбах», и в «Новой Америке»,
и в других стихах. Подтверждая издавна сложившиеся убеждения
ж верования, он говорил в своих «Записных книжках»:«Будущее России лежит в еле еще тронутых силах народных масс
и подземных богатств».Предчувствие этого будущего, когда со всей мощью обнаружатся
раскованные «силы народных масс» и народ — «венец земного цве¬
та»— овладеет всеми неисчислимыми богатствами родной страны,— и
порождало в душе поэта «праздник радостный, праздник великий».Теперь мы можем ответить па вопрос о том, что же — при всех
«падениях» и «уклонениях» поэта, при всех взрывах отчаяния, охва¬
тывавших его,— не давало ему уступать соблазнам и ужасам «страш¬
ного мира» и заставляло верить, что «новый век взойдет средь всех
несчастных поколений».Ответ может быть только один: рожденная в дни революции 1905
года и никогда впоследствии не гаснущая любовь к родине, вера в про¬
стого рабочего человека, в его внутреннюю красоту, в его неизмеримые
творческие силы, а стало бы ть — в его великое будущее, и помогали
поэту одолевать обступавшие его страхи и сомнения, стирать те «слу¬
чайные черты», которые затеняли и искажали облик прекрасного
мира.В статье «Рыцарь-монах» поэт скажет:«Те из нас, кого ие смыла и не искалечила страшная волиа истек¬
шего десятилетия,— с полным правом и с ясной надеждой ждут нового
света от нового века...» (1910),—-и хотя здось поэт обращается к ста¬
рой и дорогой для пего тони Вл. Соловьева, но окружающая жизнь ви¬
делась Блоку в некоем «новом спето», как. «человеку общественному»,
«гражданину своей родины».Если некогда действительность представала перед поэтом как «об¬
ломки миров», страшных в каждом своем образе и видении, то разбу¬
женная революцией и вспыхнувшая с огромной, всепоглощающей си¬
лой любовь к родине и вера в русский народ явились надежным про¬
тивоядием против ужаса и отчаяния,— что создавало новую и прочную
основу духовной жизни поэта, определяло новый характер и новые, не¬
обычайно широкие масштабы его творчества, его поисков и устрем¬
лений, .442
3. «ЕДИНСТВО С МИРОМ»Блок во многих своих произведениях и высказываниях утверждая
свою «неизменность», «неподвижность», верность одиножды избранно¬
му и всеобъединяющему началу, и в этом отношении он — прямая про¬
тивоположность герою «Скучной истории» Чехова, говорившему о себе:«Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во
всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках, и во всех
картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный
аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом жи¬
вого человека».Если же мы обратимся к Блоку и его творчеству, то увидим, что
оно вдохновлено и живет некоей «общей идеей», меняющейся с годами,
в разные периоды жизни поэта, но неизменно присущей ему на любых
этапах его внутреннего развития, сказывающейся в каждом его про¬
изведении.В противоположность герою «Скучной истории», герой Блока даже
и самые мельчайшие события своей жизни соотносит с «общей идеей»;
частное, конкретное только тогда привлекало внимание поэта, когда
виделось в связи с «общей идеей», помогало уяснить ту или иную ее
сторону, что и придает лирике Блока внутреннее единство, подлинно
философский смысл, ибо идея Блока, составляющая самый пафос его
творчества, была идеей огромной и в сущности своей, в своих истоках
и конечных выводах (к каким со временем пришел Блок) идеей рево¬
люционной (не случайно Блок при всей своей скромности считал себя
писателем «несколько заслуженным перед революцией»,— как скажет
он впоследствии, в дни Октября).Что же это за идея и в чем она заключается?Она заключается в утверждении того единства с миром, вне кото¬
рого Блок не мыслил подлинно человеческой жизни,— что и определяло
самую масштабность лирики Блока, даже тогда, когда она говорила,
казалось бы, всего только о частном, интимном, личном, ибо в ней
сквозь личное, неповторимое п рорывается воли кос, мировое.Приверженность этой «общей», а вместо с тем и необычайно зна¬
чительной идее, углублявшейся и «материализовавшейся» с годами,
являлась стимулом огромного подъема внутренних сил поэта, стреми¬
тельного внутреннего роста, определявшего характер развития его
творчества.«Единство с миром» — этот мотив, общий для всей лирики Блока
и цементирующий ее, необычайно важен для понимания значения про¬
изведений Блока, его творчества, далеко выходящего за рамки непо¬
средственного отклика на то или иное событие, захватившее поэта, и
поднимающегося на те вершины, где речь идет о судьбах мира и всего
человечества.Пафос творчества Блока и состоит в сложном, внутренне противо¬
речивом, то радостном и торжественном, то неудовлетворенном и жаж¬
дущем утоления чувстве «единства с миром»,— единства, то, кажется,
уже достигнутого и вызывающего ощущение восторга, небывалой пол-443
ноты всех своих жизненных сил, то словно бы совершенно недостижи¬
мого — и тогда обостряющего болезненно переживаемый поэтом раз¬
лад с окружающей его действительностью.Он обращался к себе с признаниями, в которых слышится давно
накопившаяся горечь:...вступая и мир огромный,Единства тщетно ищешь ты.,.—и бесплодность поиском «одинстиц с миром», без которого человек не
может найти свое истинное место и жизни, выполнить свой долг и на¬
значение, порождает трагичность переживаний Блока, ту нестерпимую
горечь, которая примешивается к ого стихам; но в том и в другом слу¬
чае, тщетны или не тщетны эти поиски, именно они определяют ха¬
рактер переживаний поэта,— и неизменной оставалась ого жажда
«единства с миром», то, казалось бы, уже утоленная, то сжигающая
с новой силой.Особенность лирически-философской концепции Блока и состоит
в том, что она стремится охватить все умопостигаемое пространство, все
времена существования человека, решить коренные вопросы его бы¬
тия,— чем определяется самый характер изображения временных и
пространственно ограниченных явлений и состояний в лирике Блока,
где личное, преходящее и конкретное неизменно связывается с миро¬
вым, всечеловеческим, исторически непреходящим.Завершая в 1918 году лирико-автобиографические записи, относя¬
щиеся к начальному периоду его творчества, Блок замечает:«Так, неготовым, раздвоенным я кончаю первый период своей ми¬
ровой жизни...»—и то, что личная жизнь поэта в его глазах являлась
вместе с тем мировой, говорит о самой масштабности его восприятий,
переживаний, раздумий о личном жизненном опыте, осмысленном как
неотъемлемая часть жизни всего мира.Творчеству поэта был неизменно присущ пафос того «единства
с миром», различное понимание которого и определяло разные этапы
его творческого пути.Сперва оно являлось умозрительным и созерцательным, достигае¬
мым лишь в области грез, фантазий, воображения (в духе «великолеп¬
ных миров» идей Платона), сугубо личных переживаний, которым сам
поэт придавал вселенские масштабы, ибо, казалось ему, весь мир слов¬
но бы истаивал и растворялся в сиянии, исходившем от лика его воз¬
любленной; он слагал ей торжественные гимны, подобные' молитвам,
рожденным любовыо и дышащим ею:Верю в Солнце Завета,Вижу зори вдали.Жду вселенского света
От весенней земли...В своей возлюбленной поэт видел в то время воплощение косми¬
ческих, вселенских сил:444
Она двела ва дальними горами,Она течет в ряду иных светил...—и весь окружающий мир, думалось поэту, был всего только отблеском
того сияния, которое окружало «Деву, Зарю, Купину».В эту пору поэту казалось, что «единство с миром» возникает слов¬
но бы само собою, даруется свыше и не требует никаких усилий; оно —
в растворении в окружающей сфере, б гармонии светил, в соединении
с началом «вечно женственным», имя которому — «Душа Мира», «Дева
Радужных Ворот», «Жена, облеченная в солнце»; воссоединение с ми¬
ром осуществимо — верилось поэту — в любви, в экзальтации, в снах,
в мистических откровениях, помимо всех житейских условий и обстоя¬
тельств, вне какой бы то ни было земной «корысти».Такое понимание любви и «вечно женственного» поэт пытался обос¬
новать и «теоретически»; говоря о «Душе Мира», о «Ной» как единст¬
венной реальности бытия, он утверждал п письмо к Андрею Полому,
что «...мир для мистика (или находящегося н мистическом состоянии)
ближе, чем народ, целое понятное части, макрокосм (мир), как и мик¬
рокосм (личность) ближе, чем все посредствующие между ними зве¬
нья (общество — народ—земной шар!). Таким образом — общество
(народ) в отношении] к Ней не является мистически-заинтересован-
ным (для моего сознания) низвергается...» (1903).Исходя из идеалистически-мистической концепции «Души Мира»,
воплощенной в облике возлюбленной, поэт «извергал» такие понятия,
как общество и народ (и по-своему выражал эти воззрения в стихах).Но вскоре, по мере накопления жизненного опыта, крайнего обо¬
стрения восприятий, мнимое, лишь в мечте явленное «единство с ми¬
ром» обнаружило свою полную несостоятельность, и годы спустя, когда
оказалось, что его поиски не так-то просты, как думалось раньше,
Плок с горечью спросит:Восторг души первоначальный
Вернет ли мне моя земля?..Некогда поэту мерилось: «единство» уже готово осуществиться, ес¬
ли возлюбленная пожелает этого и ответит согласием на мольбы и при¬
зывы, дарует высшую свою награду за рыцарское служение,— но эта
мечта оказалась иллюзорной и рухнула при первом же столкновении
с действительностью.Он понял, что его жажду «единства с миром» нельзя утолить лишь
одною любовыо к той, в ком некогда видел «Владычицу вселенной»,—
но он по-прежнему размышлял в масштабах вселенной, хотя и знал,
что былая ее «владычица» утратила власть над нею; те пути, которые
некогда казались ему истинными и непреложными, завели его туда,
Где...бездна смотрит сквозь лампы —Ненасытный жадный паук...—и от этого паука никуда не уйти и не скрыться...Рассеялись «утренние туманы», и подлинная жизнь предстал^ щд
всей своей суровости, жестокости, наготе,— н чем глубже был иогру-
жен поэт в свои блаженные сны и видения, тем горестней и тягостной
оказалось его пробуждение. Вместо «единства с миром» он увидел все¬
го лишь «обломки миров», под которыми были погребены его юношес¬
кие и восторженные мечты; его слух раздирали «дребезжащие песни
светил», словно бы сорвавшихся с орбит и несущихся в бездну, сея на
своем пути смерть и разрушение.Нет сомнений, что для Блока стремление к «единству с миром»
было ие отвлочонпо мечтательным, по только умозрительным, всего
лишь чаемым,— нот, оно было у пего живым, непосредственным, не¬
обычайно напряженным, Любое нарушение этого чувства или ут¬
рата ого отзывались у поэта потрясением всех основ его существа; чем
восторженнее стремился он когда-то раствориться во «вселенском све**
те» своей любви, тем глубже переживал горечь обид, разочарований,
страхов; вот почему гимны радости и торжества («Владычицей все¬
ленной я, случайный, бедный, пленный, может быть любим...») сменя¬
лись криками боли, гнева, безысходного отчаяния.Реальная жизнь на каждом шагу —и совершенно беспощадно —
разбивала юношеские иллюзии поэта; он все явственнее видел: не так-
то легко отвергнуть настоящую жизнь, встающую перед ним повседнев¬
ным ужасом, настойчиво врывающимся в область его грез и видений,
не давая ему ни на минуту забыться,— и его лирика становится слов¬
но бы предвестием всеобщей и неизбежной гибели, как единственного
исхода из мрака «жизни вседневной».Так былое восторженное ощущение «единства с миром» оказа¬
лось мнимым, и сам поэт в речи «О современном состоянии русского
символизма» рассказывает об этих переменах и метаморфозах обра¬
зами, напоминающими лад средневековых легенд, сказаний, старин¬
ных рыцарских романов: сначала в «лазури Чьего-то лучезарного
взора пребывает теург», то есть поэт, обладающий «тайным знанием,
за которым следует тайное действие...»— и сквозь все миры доходит
к нему вначале лишь «сияние Чье-то безмятежной улыбки». Но затем,
«как бы ревнуя одинокого теурга к Зоревой ясности, некто внезапно
пересекает золотую нить зацветающих чудес: лезвие лучезарного меча
меркнет и перестает чувствоваться в сердце. Миры, которые были про¬
низаны его золотым светом, теряют пурпурный оттенок; как сквозь
прорванную плотину, врывается сиие-лиловый мировой сумрак-.»- В
этом сумраке ужо нельзя мечтать о «единстве с миром»,—- как и о мно¬
гом другом, о чем некогда думал молодой поэт как об уже достигнутом
и свершившемся.Казалось, остается только погибнуть под «обломками миров»,— но
снова во внутреннем мире поэта происходят, под влиянием революции
1905 года, огромные перемены; опа заставила его «взглянуть в лицо
проснувшейся жизни», вдохнула в него новые силы, дух мятежа, вну¬
шила ему веру в человека, несущего в себе зерно великого будущего,
и поэт понял, что перед человечеством — не всеобщая гибель, как ему
еще так недавно казалось, а многие прекрасные и еще не воплощенные
возможности; все это коренным образом повлияло и на «общую идею»,
искони присущую Блоку, а стало быть, и на все его творчество. Он уви¬446
дел: «единство с миром» — это не фантазия, но смутная и обманчи¬
вая юношеская греза; нет, оно достижимо, поиски его могут оказаться
успешными, но только на новых путях, дотоле еще неведомых ему.
Поэт все более убеждался в том, что оно неосуществимо без единства
с родиной, с народом, с его жизныо — без всех необходимых и непре¬
ложных «посредствующих звеньев» между человеком и миром, что при¬
дает совершенно новый характер исканиям и стремлениям Блока,
всему его творчеству. Отныне большая патриотическая тема так глу¬
боко и полно захватила поэта, что тема личной жизни стала неотъем¬
лемой ее частью, и личная судьба сплетается в его глазах с судьбами
родины, сплавляется с ними воедино; если перед поэтом возникает
вопрос, настойчиво требующий ответа:О, нищая моя страна,Что ты для сердца значишь?..—то вместе неизбежно возникает и другой вопрос, являющийся как
бы продолженном первого и, в сущности, тот же самый:О, бедная моя жена,О чем ты горько плачешь?,.—и жена, невеста, Россия — все они отныне нераздельны в сердце поэта,
«в очах его души», говоря словами Гамлета.Как и прежде, поэт зовет своего читателя уйти туда, откуда «зри¬
мей мир иной», но и само представление об «ином мире» у него су¬
щественно изменялось с годами; если сначала «иной мир» представлял¬
ся поэту в чисто идеальном — в духе учения Платона — и бесплотном
образе, как нечто совершенно «стороннее» и чуждое земной жизни,
конкретно-чувственному восприятию, то потом и «иной мир» стал
для него совершенно другим: это был мир будущего, мир, где исчезнут
гнет, нужда, то перпиопство, одна мысль о котором пробуждала у поэта
негодование, названное им революционным.Так нсонредолепио-ромаитическое и наивно-мечтательное чувство
«единства с миром» впоследствии сменилось другим — и гораздо более
зрелым, вызванным пониманием того, что исполнения своих чаяний
можно добиться не помимо людей, не в уединенной и бездеятельной
созерцательности, а только вместе с людьми, с народом, в труде и борь¬
бе; сам поэт в своей лирике бросал вызов былым мечтам, фантазиям,
представлениям о том, что для ощущения всей полноты бытия вполне
достаточно первой любви, легкоперой тучки, лазурной стези, уводящей
в небесную высь; нет, это слишком легкий и явно обманчивый путь —
так же как и забвение в «буре цыганских страстей».Вне «единства с миром» и сама человеческая жизнь в глазах Бло¬
ка утрачивала смысл, какое бы то ни было значение, разменивалась на
сутолоку «малых трудов», «мелочных забот». Настоящее дело в глазах
Блока — это нечто совершенно иное, связанное со всей окружающей
вселенной, и история человеческой жизни развертывается в лирике447
Блока на самом широком фоне, вмещающем весь окоем и все, что прос¬
тирается за его пределами:Миры летят. Года летяг. Пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз,А ты, дута, усталая, глухая,О счастии твордишь,— который раз?..Здесь личная трагедия — ото только часть трагедии мировой, раз¬
вивается в связи с судьбами поого человечества, и если, на взгляд ноэ-
та, жизнь окружающих людей — ото торжище, то и торжище не про¬
винциальное, но аахолустпоо, но местечковое по своему масштабу,
а мировое, ибо па ном происходят сделки, где в заклад отдаются самые
величайшие ценности, самые чистые алмазы, добытые человечеством
за тысячелетия развития его жизни и культуры:Я тоже — здесь. С моей судьбой,Над лирой, гневной, как секира,Такой приниженный и злой,Торгуюсь на базарах мира...,В таких вселенских, масштабах ведутся сделки на базарах «страш¬
ного мира»,— а иных масштабов поэт не признавал.Блок утверждал своим творчеством, что между ним и окружающим
его миром существует извечная, хоть и не всегда уловимая связь.
Вслед за Пушкиным он мог бы повторить: «Нет, весь я не умру...»—
и все, что он делает, думает, переживает сегодня, является наследием
прошлых веков и отзовется в веках грядущих; его никогда не оставля¬
ло личное — а вместе с тем и историческое — чувство «связи времен».«Вспоминая» («термин Платона», как сказал бы сам Блок) свое
бытие — в разных его воплощениях и существованиях, начиная еще
со времен Калиты, а может быть и еще более древних, все, что с ним
«было, было, было» и что в глазах поэта столь же реально и безусловно,
как и его сегодняшняя жизнь, он уверен в одном:...не пройдет бесследноВсе, что так страстно я любил,Весь трепет этой жизни бедной,Весь этот попонятпый пыл!..Поэт связывал свое личное и преходящее существование со всем
круговоротом бессмертного бытия, с тем хором, который не замолкнет
вовеки, и ему казалось: страсть, как одно из стихийных начал, прояв¬
лений «действительной жизни», и может явиться тем звеном, которое
непосредственно утверждает «единство с миром»,— вот почему в за¬
метках Блока мы читаем не только о захватившей человека страсти,
но и о ее «вселенских ритмах».В своем «Открытом письме Мережковскому», исповедуясь в любви
к родине — «огромному, родному, дышащему существу, подобному че¬
ловеку», поэт говорит о том времени — уже близком, по его утвержде¬
нию,— «когда границы сотрутся и родиной станет вся-земля, а потом448
и не одна земля, а бесконечная вселенная, только мало крыльев из по¬
лотна и стали, некогда крылья Духа понесут пас в объятия Вечно¬
сти...».Именно таким представлял поэт наше будущее; здесь наряду с от¬
влеченно-фантастическими и явно идеалистическими мечтами возни¬
кают и другие, пережившие свою эпоху, и на которые ие может пе
отозваться сегодняшний читатель Блока.Может быть, именно в «Ямбах» наиболее полно и открыто сказа¬
лись пафос «единства с миром», жажда слияния с миром;О, я хочу безумно жить:Все сущее — увековечить,Безличное — вочеловечить,Иесбывшееся — воплотить!..—и стремление увековечить «все сущее», утвердить гармонию па мосте
древнего хаоса, пронизать и сплавить пось мир светом и музыкой при¬
дает лирике Блока широчайшую масштабность, составляющую неотъ¬
емлемые ее чорты и особенности.Вот почему задачи искусства рассматривались Блоком как дело
огромной яшзненной важности, связанное с судьбами и будущим всего
человечества,— что и подтверждают многие его высказывания, обра¬
щенные к художникам и поэтам. Он настаивал: «только о великом
стоит думать, только большие задания должен ставить себе писа¬
тель...»— а вне «великого» поэт не видел настоящего смысла ни в жйз-
ни, ни в творчестве.Это же подтверждает и В. П. Веригина в своих воспоминаниях
о Блоке, касаясь уже более поздних лет знакомства с ним и подчерки¬
вая его «особое отношение к искусству»:«Когда я по привычке делилась с поэтом впечатлениями от прочи¬
танного талантливого произведения или игры даровитого музыканта,
он неизменно (курсив мой — В, С.) говорил:«Да, но ведь это не имеет мирового значения». Блок считал, что за¬
служивает внимания только то, что имеет такое значение...» («Ученые
записки Тартуского Государственного университета», выпуск 104, 1961,
стр. 356) ,— и это свидетельствует, в каких огромных масштабах виде¬
лись поэту цели и назначение художественного творчества.Одному из своих корреспондентов, в стихах которого, как отме¬
чал Блок, многое было «наивно и технически очень уж слабо», поэт
внушал:«Вы не думайте нарочито о «крошечном», думайте о большом. То¬
гда, может быть; выйдет подлинное, хотя бы и крошечное...» (1912).«Думайте о большом» — в этом призыве весь Блок, романтик по
своему духу, по природе своих переживаний; он впоследствии утверж¬
дал, что «...во всяком романтическом произведении заключено всемир¬
ное чувство; чувство как бы круговой поруки всего человечества...
(1919),— и нельзя по-настоящему осмыслить лирику Блока во всей ее
глубине и сложности, если не разглядеть в ней этого «всемирного чув¬
ства», составляющего самое ее существо, ее пафос, явственно сказы¬А':0
вающийся даже тогда, когда поэтом затронуты темы и мотивы самые,
казалось бы, мелкие, обыденные или сугубо личные,— но и в них уга¬
дывается присущее Блоку «всемирное чувство», в связи с которым они
обретают свое истолкование и значение. Вот почему творчество Блока
является дерзким вызовом психологии и практике индивидуализма,
тем людям, для которых их интересы и влечении — превыше всего. По
самой природе своего даровании, по характеру своих переживаний
Блок пе мог не восставать против индивидуализма, ставшего новым
евангелием либерально-буржуазных интеллигентов, в корне отвергав¬
ших «круговую поруку» всего человечества, как нечто надуманное,
устарелое и даже забавное; вопреки им, поэт утверждал и в своем твор¬
чество и во многих высказываниях, что аамыкапие личности в себе,
в пределах своих сугубо индивидуальных интересов, влечений, прихо¬
тей, означает ее отказ от возможностей подлинного расцвета, от тех
источников жизни и творчества, которые являются единственно плодо¬
творными, чистыми и неисчерпаемыми.Мир, если стереть с него «случайные черты», прекрасен, и красота
является силой, преображающей его,— в таком аспекте виделась Бло¬
ку огромная роль художника, как провозвестника будущего «артисти¬
ческого человечества» (Вагнер) и носителя красоты, призванного одо¬
левать силою своего слова окружающий хаос, преобразить его в «музы¬
ку и свет»; вот почему задачей искусства, утверждал Блок, станови¬
лось претворение этого мира из мечты в жизнь.Пожалуй, наиболее полно мысли поэта о художественном творче¬
стве — в его неразрывной связи с поисками «единства с миром» — ска¬
зались в статье «Памяти В. Ф. Комиссаржевской» (1910). Статья на¬
чинается знаменательными словами, как бы вводящими иас в святая
святых поэта и приоткрывающими завесу над самыми заветными его
Переживаниями и помыслами:«Душа настоящего человека есть самый сложный, и самый нежный,
и самый певучий музыкальный инструмент...—а далее Блок разви¬
вает это же сравнение, придавая ему необычайно глубокий смысл: —
Бывают скрипки расстроенные и скрипки настроенные...» — утверждает
поэт, и нет предела его презрению к «расстроенным скрипкам» с их
«рыдучим дребезжанием», увеселяющим и потешающим «кабацкую
голь».Поэт переводит свои мысли и чувства в широкий философский
план, вмещающий раздумья о цели и смысле всей жизни:«Расстроенная скрипка всегда нарушает х’армонию целого; ее визг¬
ливый вой врывается докучной нотой в стройную музыку мирового
оркестра; она вечно дребезжит, а не поет; она предается истерике, но
не плачет; она униженно молит о ненужном, но не требует строго и но
просит повелительно о необходимом...»Но, внушает поэт своему читателю, «...не должно человеку пла¬
кать пьяными слезами, изрыгать богохуления, предаваться истерике,
клянчить и нарушать визгливым воем своей расстроенной души важ¬
ную торжественность мирового оркестра. И есть в мире люди, которые
остаются серьезными и трагически скорбными, когда все кругом летит450
б вихре безумия; они смотрят сквозь тучи и говорят: там есть весна,
там есть заря».Таких людей Блок называл художниками,— по, конечно, пе толь¬
ко в профессиональном смысле этого слова, а в гораздо болое широком;
художник, поясняет Блок,— это тот, «кто слушает мировой оркестр
и вторит ему, не фальшивя». Такого человека Блок называл настроен¬
ной скрипкой — и гневно обрушивался на все то мелкое, ничтожное,
ограниченное, что является средостением между человеком и миром.Одного из своих корреспондентов поэт учил борьбе «старого, нейра-
стенического, самолюбивого, узкого, декадентского — с новым — здоро¬
вым, мужественным, почувствовавшим наконец, что мир безмерно
больше и прекраснее, чем каждый из нас...» (1913).В такой борьбе, связанной с «самоосуждением» в себе всего «ста¬
рого» и «узкого», утверждал поэт, и рождается «новый человек»,— и,
может быть, именно в этих словах, написанных по случайному поводу,
наиболее полно и определенно сказался характер воззрений, сложив¬
шихся у Блока в годы зрелости, то большое и новое, что он почувство¬
вал в самом себе и утверждал в своем творчестве — со всею присущей
ему страстностью и решительностью.Поэт говорил в своих пророчески вдохновенных стихах:...через край перелилась
Восторга творческого чаша,И все уж не мое, а наше,И с миром утвердилась связь...Эти стихи пронизаны тем светом, который хлынул словно бы из
«коммунистического далека» и придал им удивительную глубину и
красоту, неотъемлемую от внутренней красоты и благородства их
создателя.«Все уж не мое, а наше...» — в этом преодолении эгоистической
ограниченности, замкнутости, стяжательства прозорливо усматривал
поэт мощный стимул творческого восторга, уничтожающего все про¬
грады между человеком и миром, утверждающего нерушимую связь
с ним,— и следует подчеркнуть, что только решив проблему личного
счастья, личного преуспеяния, личного благополучия (превозносимого
буржуазным гуманизмом как верховная ценность в иерархии челове¬
ческого бытия), Блок смог решить и проблему, бывшую в его глазах
самой важной, великой, всеобъемлющей,— проблему «единства с ми¬
ром». Только тогда, когда поэт увидел, что «счастья и не надо было»
(того счастья «сытых», которое добывается за счет попрания общих
интересов и благ), только тогда, когда перелилась через край чаша
творческого восторга и все становилось «уя{ не мое, а паше», издавна
начатые поиски обретали прочную и незыблемую основу («...с миром
утвердилась связь...»),— хотя на практике она до поры до времени
и ускользала от него.Так поэт стремился охватить в своей жизни и в своем творчестве
всю полноту подлинной действительности, а не отдельные ее сторо¬
ны — чем и определяется необычайная яшзненпость и многогранность
лирики Блока, отзывающейся на все «внечагленья бытия», осмыслен¬
ного в их связи, дельности, внутреннем единстве с хоровым началом
(хотя бы и крайне противоречивым: в нем и «гармония» и «буйство»),
зовами всего мира, бушеванием шумного океана народной жизни.В лирике Блока «мира восторг беспредельный» отзывается даже
и тогда, когда она говорит о «бодах и утратах», об изменах, о «паде¬
ниях», о «буре цыганских страстей», казалось бы полностью захватив¬
ших поэта и по оставлявших и ого душе ни одного уголка для чего-
нибудь иного; почти неизменно, то зримо, то скрытно, в ней просвечи¬
вает и некий дальний плои, без которого нельзя по-настоящему осмыс¬
лить всо ее значение.Поэт утверждает в поэме «Возмездие» незыблемые основы жизни,
а стало быть, и искусства:...ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,Где стерегут нас ад и рай.Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.Твой взгляд — да будет тверд и ясен.Сотри случайные черты —И ты увидишь: мир прекрасен.Чем дальше, тем более «тверд и ясен» был взгляд художника, и
его вера «в начала и концы» сливалась с осознанием роста и укрепле¬
ния в нем человека «общественного»; стремление в мгновенном разли¬
чить мировое, исторически-непреходящее, увидеть все явления на той
грани, которая повернута к будущему и связана с ним,— вот что ос¬
тавляет пафос лирики Блока и вызывает в лей сияние и свечение,
которое с годами разгоралось все зримей и явственней.Липе и ее матери (Чехов, «В овраге») кажется, что «...как ни ве¬
лико зло, все же ночь тиха и прекрасна и все же в божьем мире прав¬
да есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только
ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью...»—
и пусть целая бездна отделяет большого русского поэта, тончайшего
лирика, от простых и неграмотных женщин, измученных горем, нуж¬
дой, несправедливостью, казалось бы, по знающей меры и края, но
И'он разделял их неизменную и страстную вору в то, что «все на земле
только и ждет, чтобы слиться с правдой»; она определяла отправную
точку в его поисках «единства с миром», который в конце концов дол-
жен стать миром правды, справедливости, красоты, творческих дерза¬
ний и деяний.Широта лирики Блока, в которой всегда и неизменно решается
мировое, общечеловеческое, всенародное, и придает ей философски-
психологический характер; это ие только лирика наблюдений и непо¬
средственных переживаний, как порою может показаться иному наив¬
ному читателю,— нет, ее нельзя отделить от огромных обобщений, от
раздумий о целях и смысле бытия, о судьбах народа, о всем том, «чем
люди живы». • ■ - 'Как видим, с годами многое менялось в лирике Блока (как и во452
всем его творчестве) —• по мере ее развития и совершенствования; но
есть и нечто общее для нее в целом; ото общее заключается в характере
его творчества, которое говорит «всегда о великом», всех'да о всемирном,
исторически-непреходящем; здесь и частное, личное затрагивается
в связи с ним, в отношении к нему — не иначе. Необычайная масштаб¬
ность внутренней жизни, врывающейся широким и безудержным пото¬
ком в его стихи («...Ты встанешь бурною волною в реке моих стихов..»),
постоянная готовность осмыслить и усвоить мировое как свое, личное
и тем самым вочеловечить «все сущее», пропустить его сквозь свое
восприятие, свое сердце, согреть своей кровью — все это остается у Бло¬
ка неизменным на любых этапах его творчества, отзывается в необы¬
чайной глубине и удивительной цельности лирики, которую сам поэт
не случайно назвал «романом в стихах».Поэт говорит в записной книжке:«Можно издать свои «песни личные» и «поспи объективные». То-то
забавно долить — сам черт могу сломит!..» (1908),— и для пего подоб¬
ного «деления» ие было и быть по могло. Все творчество Блока — в лю¬
бых жанрах и проявлениях — органично, цельно, посвящено одному
и тому же кругу тем, переживаний, раздумий, где даже и сугубо лич¬
ное становится необходимой и неотъемлемой частью общего, вселенс¬
кого.Впоследствии, в очерке «Катилина» (1918), Блок говорил, уже имея
за плечами огромный жизненный и творческий опыт, послуживший ос¬
новой больших и знаменательных выводов:«...в поэтическом ощущении мира нет разрыва менаду личным и об¬
щим; чем более чуток поэт, тем неразрывнее ощущает он «свое» и «пе
свое»; поэтому, в эпохи бурь и тревог, нежнейшие и интимнейшие
стремления души поэта также преисполняются бурей и тревогой».Эти слова являются тем ключом, с помощью которого мы можем
уяснить многие существенные черты и особенности лирики Блока, не¬
отъемлемой от поисков «единства с миром» и отзывающейся на
самые большие бури и треноги сноси опохи.4, «ТРИЛОГИЯ ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЯ»В 1911 году Андрей Белый опубликовал книгу «Арабески», в кото¬
рую включил статьи, полемически заостренные против Блока, не¬
когда «изменившего» былым божествам и идеалам; в одном из
своих писем Блок спокойно и решительно разъяснял Белому, ни в чем
его не упрекая и ни от чего в своем творчестве ие отрекаясь:«...таков мой путь... теперь, когда он пройден, я твердо уверен, что
это должное и что все мои стихи вместе — «трилогия вочеловеченияm
(от мгновения слишком яркого света — через необходимый болотистый
лес — к отчаянью, проклятию, «возмездию» и — к рождению человека
«общественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру,
получившего право изучать формы, сдержанно испытывать годный и
негодный матерьял, вглядываться в контуры «добра и зла» — ценою ут¬
раты части души)...» (1911).453
Хотя это письмо сам Блок называет «недоговоренным», но сказано
в ном достаточно много для того, чтобы мы могли составить ясное
представление об основных этапах творческого пути Блока, о его созре¬
вании как человека «общественного», как художника, мужественно
глядящего в лицо жизни.Блок утверждал, что самое малое, а вместе с тем и самое великое,
что можно потребовать от каждого: стать человеком; этим для него все
сказано,— вот почему и свою лирическую судьбу, воплощенную в трех
книгах стихов, поэт пполпл «трилогией вочеловечения».Оп считал, что самое высокое и прекрасное, что есть иа земле и
прекраснее чего быть но может,—- ото человек, и не случайно именно
«вочеловечение» видел он как самое главное и основное в своем жиз¬
ненном и творческом развитии.— Стань человеком! — взывает героиня «Песни Судьбы» Фаина
к Герману.И не только Фаина — это взывает Россия, родина, ее люди, ее
великие просторы и дали, все ее стихии,— их голоса и сливаются
в один требовательный призыв, настойчиво звучащий в творчестве
Блока:— Стань человеком!Здесь скрещиваются все пути, здесь решается и судьба Германа
и судьба любого другого его современника: станет ли он человеком,
сумеет или не сумеет «воплотиться» — или же заблудится «в сыром
ночном тумане», потеряет «дорогу к делу»?Стать человеком -- как будто бы легко выполнимое и само собою
разумеющееся требование: ведь кем же Герману (так же как и герою
лирики Блока) быть, как не человеком? И разве оп сам себя ие назы¬
вает «человеком» —- при первой встрече с Фаиной? Но, оказывается,
в том «страшном мире», в котором жил поэт, быть Человеком с большой
буквы, человеком с головы до ног,— совсем не так легко и просто, как
некогда полагал поэт.С точки зрения зрелого Блока, юноша, который бродил «в тумане
утреннем», погруженный в свои восторженные мечты, в свои прекрас¬
ные, но бесплотные видения, и который равнодушно проходил мимо
людей, пренебрегая как чем-то низким и недостойным их мольбами и
криками «о злато и о хлебе»,— ото еще по «человек», оп еще не «воп¬
лотился»; не «воплотился» и тот, кто впоследствии пришел на смену
ему,— уже утративший былые иллюзии, подавленный ужасами окру¬
жающей жизни и заблудившийся в «болотистом лесу», не знающий
исхода. Он может только жаловаться, раздирая свой рот криком гнева,
боли, отчаяния.«Вочеловечение» — это значит, по неколебимому убеждению Бло¬
ка на третьем, завершающем этапе его «трилогии»,— непременно стать
человеком «общественным», слиться с океаном народной жизни, всегда
быть вместе с пародом, жить его судьбами и его нуждами; это зна¬
чит — ненавидеть всех тех «сытых» и тех «колдунов», которые живут
за счет подневольных людей и кладут «под сукно» их «живые души»;
вот что значило для поэта «вочеловечение» на том этапе, когда уже454
угадывался и виднелся «верный путь» — среди множества обманчи¬
вых, манивших опасными соблазнами и ложными призраками.Стало быть, «вочеловечиться» — это значит взять па себя ответ¬
ственность за судьбы всего народа, добиться единства со всем окру¬
жающим миром,—и не уничтожение или умаление личности усматри¬
вал в этом поэт, но необходимейшее условие ее роста, развития, внут¬
реннего созревания и здоровья, единственную возможность стать не
«визгливым смычком», нарушающим торжественную музыку мирового
оркестра, не маленьким колокольчиком, дребезжащим лишь о своем,
о мелком и ничтожном, а могучим колоколом, отзвук которого не зами¬
рает в веках. И не столь уже важно, даны ли при этом тебе малые или
большие силы,— гораздо важнее то, чему они служат, посвящены ля
они великому делу, от которого зависит судьба народа и его благо, или
же целиком обращены на «самообслуживание», «самоудовлетворение»
(«театр для себя», как говорил II. Евреинов).В статье «О вечерах искусства» поэт, имея в виду «модернистские»
выступления и прочие зрелища «дурного тона», утверждал, что они
весьма успешно развивают «стадный инстинкт», в то время как «зрели¬
ща испшно-прекрасныо и гармоничные развивают, как известно, инс¬
тинкты общественные...».То, что прекрасное всегда взывает к общественному, утверждает¬
ся Блоком как нечто совершенно бесспорное и очевидное («какизвест¬
но...»), а все иное и не может быть истинно прекрасным— именно это
заявлял Блок в своей статье, в противовес тому, что проповедовали
«изысканные эстеты» и прочие разносчики и потребители модернизма.Отныне мир раскрывается перед поэтомНеописуемо прекрасный
И человечески простой...—и это по просто перечисление разнообразных качеств, а утверждение
их необходимой внутренней связи: именно потому и «неописуемо
прекрасный», что «человечеоки простой»; а быть человеком — это,
оказывается, удивительно просто, а вместе с том трудно и даже
опасно в условиях «страшного мира», высылающего против «настоя¬
щего человека» все свои темные силы, чтобы купить его, соблазнить
всеми мыслимыми соблазнами и обманами или обездолить, согнуть,
сломать его волю так, чтобы он из человека превратился в «дрожа¬
щую тварь». В этих условиях сохранить свое человеческое имя, знание,
достоинство — значит быть повседневно готовым к той борьбе, где на
карту поставлена вся жизнь, не меньше. Это значит неизменно стоять
на страже великих завоеваний культуры, общества, народа, оказав¬
шихся под смертельной угрозой.Блок не только считал «талант человечности» (Чехов) главным
для писателя, по и единственным, который превращает личность
в художника; в неопубликованном при жизни ноэта ответе Мереж¬
ковскому он утверждал, что писатели свободны «от всех обязанностей,
кроме человеческих...»—и пояснял при этом, что писатели — это не
«слепые инстинкты» своей родины, но «тончайшие и главнейшие»455
органы ее чувств, «ее сердечные боди, ее думы и мысли, ее волевые
импульсы».Свое выражение суть и характер «трилогии вочеловечения»
находят в стихотворении «Как свершилось, как случилось...» (1913),
где судьба поэта — и героя его лирики — прослеживается как путь
к людям, к суждеиной ему «земной юдоли».Сначала перед нами возникает образ юного мечтателя, бродящего
«в тумане утреннем» и живущего своими грезами и фантазиями,
которым он и придает смысл божественных откровений:...был н бодоп, слаб и мил.Но Величий неких тайна
Мне до времени открылась,Я Высокое познал...Все это соответствует настроению, господствующему во многих
стихах о Прекрасной Даме и присущему юноше, погруженному в мир
своих мистических грез и фантазий.Но под влиянием новых, живых, молодых сил, страстной влюблен¬
ности, жаждущей проявиться и сказаться «не в одном воображепьи»,
они рассеиваются и меркнут; второй цикл переживаний героя стихот¬
ворения носит уже иной характер, связанный с победой новых сил пад
былою отвлеченностью и молитвенной созерцательностью. Уступая
этим силам, еще непонятным ему, не находя противовеса их буйству,
неукротимости, половодью, он и сам был в смятении и уя«асе от того,
что творилось с ним и что так противоречило недавним благостным
чаяниям и молитвенным порывам; вот почему поэту казалось, какой
говорит в своей лирической исповеди, чтоСонмы лютые чудовищ
Налетели на меня...Чувство смятенности, а то и отчаяния, утраты «правого пути» —-
вот что господствует в этих стихах, продиктованных растерянностью
перед обманами и соблазнами «страшного мира», перед сложностью
жизни; ее уроки обошлись поэту очень дорого, но зато они и дали ему
необычайно много. Он увидел и понял силу и могущество простых,
обыкновенных людей; перед ним открылись иные дали, иные возмож¬
ности, вызванные рождением в пом человека «общественного», и он
уже по-иному, в новом свете, увидел свой жизненный путь, ступени
своего внутреннего развития.Настал новый день, настал тогда, когда поэт с особой глубиной
почувствовал в себе рождение мужественного художника, мастера,
«получившего право изучать формы, сдержанно испытывать годный
и не годный матерьял...» — а вместе с тем получил и надежное оружие
для борьбы со всякого рода «вражьей силой», пытавшейся изнутри
захватить и поработить его; поэт подытоживал свой трудный и слож¬
ный житейский опыт, стоивший ему так много душевных сил:...тоской моей гонима,Нежить сгинула,— и вдруг456
День жестокий, день железный
Вкруг меня неумолимо
Очертил замкнутый круг...—■и через этот круг уже ие могли переступить ни «двойники», пи всякая
нечисть, принимавшая то обманчиво соблазнительный, а то и устра¬
шающий облик.Оказалось,— хоть и «страшен черт, да милостив бог», как говорили
в старину; хоть и «силен бес» — неизмеримо сильнее человек, разга¬
давший все страхи и обольщения «вражьей силы»; это и постиг на
своем горьком и трудном жизненном опыте лирический герой стихов
Блока.Все, что прежде мучило и томило поэта, предстало перед ним
«пустыней бесполезной»; в его душе снова воссиял ясный день, уже
лишенный тумана иллюзий, бездеятельной созерцательности и молит¬
венной умиленности. Он потребовал суровой, неуклонной работы,
готовности к подвигу, хотя бы самому скромному и неприметному, но
связанному с жизнью людей, нужному им, и об этом говорит ноэт
в словах, исполненных огромного достоинства и подлинного вели¬
чия,— ими завершается исповедь героя этих стихов, в судьбе которого
запечатлена «трилогия вочеловечения», пережитая и самим поэтом:Где же ты? не медли боле.Ты, как я, не ждешь звезды.Приходи ко мне, товарищ,Разделить земной юдоли
Невеселые труды.В ясном и беспощадном свете «железного дня» по-новому пред¬
стала перед поэтом и вся его жизнь; здесь земля — это уже не вотчина
«вражьей силы», а «юдоль», предназначенная для бессонного и вели¬
кого труда, для непреклонной борьбы за лучшее будущее; здесь никто
ему не даст — по случайной милости или прихоти! — царств и сокро¬
вищ; адось все нужно добыть потом и кровыо, сделать самому, «не
требуя наград за подвиг благородный», и уже иным пафосом — не
бе’здействснно-мечтатеЛьиым, а актшшо-созидателышм — пронизаны
эти стихи.Так сам поэт отвечал на вопросы о том, кто является героем
«романа в стихах», какие чувства и думы захватили его, что он нес
с собою людям, чем для них важны и значительны его искания
и свершения, его большой и трудный жизненный опыт, по каким
кругам ада проходил он, воплощая свою «божественную комедию»,
свою «трилогию вочеловечения», и какие молнии освещают его лицо,
на котором лежит кровавый отсвет «дней войны» и «дней свободы»,—
вот на все эти вопросы и отвечает с исчерпывающей полнотой и пре¬
дельной откровенностью поэт, который, так же как и его герой, мог бы
прямо и открыто сказать о себе:Не таюсь я перед вами,Посмотрите на меня:Я стою среди пожарищ,Обожженный языками
Преисподнего огня...—457
и такой огонь, кажется, словно бы еще пробегает по самому краю его
строк, и «гибельный пожар» его жизни все еще обжигает нас.Эти стихи, написанные за несколько месяцев до начала первой
мировой войны, приобретают характер подытоживания жизненного
опыта — со всеми его взлетами и падениями, восторгами и разочаро¬
ваниями, со всем тем, что некогда захватывало и потрясало поэта,
составляло самую суть его чувств и переживаний; умудренный боль¬
шим опытом, с растерзанным сердцем, но ясным взглядом и чистой
совестью, выходил он к берегу повой жизни, нового мира.Этот берег совсом но таков, каким представал в давних мечтах; он
не «очарованный», и на пом но растут леса «заповеданных лилий»,
здесь но шумят крылья ангелов; по похож он и на нагромождение
апокалиптических ужасов, на вереницу соблазнов «страшного мира»,
в вихре которых поэт некогда стремился найти высшую отраду, вос¬
торг, забвенье и «отдых от забот».Пет, это наш обычный мир, повседневная жизнь — и ничего
больше! Но как много она требует от человека и как много обещает
ему! — вот почему, в предчувствии благих и великих перемен, так
гордо, скромно и страстно звучит призыв поэта, обращенный к тому
товарищу, который захочет разделить вместе с ним «невеселые
труды», — и как бы подчас ни были они тяжелы и горьки, поэт
отныне предпочитал их любым утехам на тех «блаженных островах»,
куда не достигает отзвук подлинной жизни.В ненависти к «страшному миру», в непримиримой борьбе с ним
поэт мужал и закалялся, и сама логика «вечного боя» заставляла его
все решительнее вступать на путь «от личного к общему».Осенью 1908 года Блок пишет одному из своих ближайших
друзей:«Между прочим (и, может быть, главное) — растет передо мной
понятие «гражданин», и я начинаю понимать, как освободительно
и целебно это понятие, когда начинаешь открывать его в собственной
душе...»Для Блока это открытие имело необычайно важное значение,
придававшее его доселе тщетным или иллюзорным поискам «единства
с миром» гораздо более прочную и надежную основу,С годами Блок всо глубже осознав Л, что «стать человеком» —
это прежде всего стать «человеком общественным», живущим всеми
болями и радостями своей родины, своего народа, — иначе герой
останется «невоплощенным.», что с годами являлось для поэта — по'
мере подъема волны нового революционного движения — все очевид¬
ней; вот почему особенно значительна и знаменательна, исполнена
особо глубокого смысла третья *— заключительная — часть его «трило¬
гии», ибо именно она соответствует — после многих лет странствий
и поисков — годам зрелости, возмужания, высокого мастерства;
именно в эту пору стих Блока становится классически ясным и совер¬
шенным, а зрелость замыслов, сила страстей и переживаний поэта,
глубина раздумий ставят его в один ряд с великими художниками
прошлого.458
Одному из своих знакомых поэтов Блок писал: «...я все больше
верю в будущее; чем меньше в личное, тем больше в общее...»(1911),--и чувство «общего», вера в будущее — отнюдь не в узко
личном его понимании! — становились для поэта в годы нарастания
новой революционной волны все более постоянным и углубляющимся
с годами источником творчества и вдохновения; «общее» и «общест¬
венное» все яснее и последовательнее осмысливалась поэтом как
революционное — не иначе.Несколько лет спустя поэта захватывали те же раздумья и замыс¬
лы; размышляя над поэмой «Возмездие», Блок подытоживал свой
большой жизненный и творческий опыт в словах, необычайно важных
для понимания характера и основных тенденций его внутреннего раз¬
вития:«Поэма обозначает переход от личного к общему. Вот главная ее
мысль...» — и эта «главная мысль» относится но только к поэмо, по
и к определенному этапу жизни Блока, иаиболоо зрелому и плодотвор¬
ному; нельзя точнее и прямее выразить тенденцию, определяющую
характер развития поэта и его творчества.Выразив «главную мысль», художник возвращается к ней, стре¬
мится определить ее с наибольшей четкостью:«Формула вместительна, на первый взгляд—растяжима, неяс¬
на, многозначна. Но это, надеюсь, только на первый взгляд...»
(1916).Поэт перед самим собой отстаивал эту «формулу», оказавшуюся
не только «вместительной», но и очень ясной, отнюдь пе растяжимой,
верной духу его творчества.Здесь необычайно важна автохарактеристика творческого пути
поэта как перехода «от личного к общему» — как магистрали, не
исключающей и «мучительных возвращений», свидетельствующих
о сложности и противоречивости переживаний, стремлений, а стало
быть, и творчества поэта,— по противоречивости, предполагающей не
хаотические метании от одной крайности к другой, а явно осозпаппоо
ведущее начало, нанявшее «первый план» души и определяю¬
щее «некие повые группировки мыслей, ощущений, отношений
к миру...».Когда поэт взывал: «...да подтвердит верность моих формул —
действительность,,.» -- то не напрасны были эти призывы: действи¬
тельность, нашедшая свое выражение в его творчестве, подтверждала,
что только так и может развиваться подлинный художник — «от лич¬
ного к общему», ибо вне «общего», в ограничении одним «частным» —
тупик, одиночество, вырождение.Блок отныне знал, какая тенденция в его творчестве является
основной, «ведущей»; поэт стремился, как говорит он о себе в запис¬
ной книжке, «...перейтп пустыню; органически ввести новое, общее
и то, органическое же, индивидуальное, что составляет содержание
первых моих четырех книг...».Эти строки — разговор с самим собою — свидетельствуют о том,
как глубоко уяснил поэт характер развития и своей жизни и своего459
творчества: одно с другим было связано органически и неразрывно..Осознание того, что «вочеловечение» — это и есть путь «от лично¬
го к общему» — и никакой иной! — явилось для Блока необычайно
важным открытием, ибо вооружало против ложного, индивидуалисти¬
чески ограниченного понимания гуманизма и гуманности, ложного
представления о цели и назначении искусства; против декадентства,
уводившего человека от «общего» в свой «змеиный рай», в область
«творимой легенды»; против толстовщины, сводившейся к проповеди
нравственного «самоусовершенствования» («царство божие внутри
нас») и отрицанию революционных путей и средств преобразования
жизни.Поэт видел: все это враждебно подлинной человечности,— и его
огромная победа заключалась в том, что индивидуалистически огра¬
ниченному буржуазному гуманизму (а заодно и «демонизму» в его
новом — ницшеанском — одеянии) он сумел противопоставить гума¬
низм иного, гораздо более высшего порядка, в основе которого — чув¬
ство кровной ответственности за судьбу народа, будущее всего чело¬
вечества.В его статьях, дневниковых заметках, записных книжках немало
издевок над «исканиями» в области искусства, над «новым театром»
и т. д.,— по не потому, конечно, что Он отрицал «искания» вообще;
нет, без них он не мыслил и самого искусства! — а потому, что «иска¬
ния» современных литераторов и художников, составлявших его окру¬
жение, сводились обычно к отвержению великих гуманистических
традиций, реалистического искусства, копированию новинок западно¬
буржуазного декаданса. Вот почему Блок с горечью размышлял об
инициаторах подобных «исканий», лишенных. корней, бесплодных,
если не попросту заемных: «Их самих мучит их сухая пестрота, они
ломятся с «театральностью» в открытую дверь и никак не хотят по¬
пять, что человечность не только не убьет, но и возвысит и осмыслит
правдивое в их «исканиях...» (1913)—хотя и знал, что поклонников
и апологетов модернистского искусства меньше всего занимал вопрос
о «человечности», безнадежно устаревший с их точки зрения.Но, конечно, нельзя забывать о противоречивости воззрений,
а стало быть, п творчества Блока, чьи «возвращения» были потому
так мучительны, так настойчиво повторялись, что и сам оп не имел
достаточно ясного и точного представления о том «общем», к чему
стремился.Размышляя, о своих творческих «путях и перепутьях», поэт ана¬
лизировал характер и закономерности внутреннего развития — во всей
его сложности и противоречивости — и писал в статье «Душа пи¬
сателя»:«Писатель» — растение многолетнее. Как у ириса или у лилии
росту стеблей и листьев сопутствует периодическое развитие корневых
клубней,— так душа писателя расширяется и развивается периодами,
а творения его — только внешние результаты подземного роста души.
Потому путь развития может представляться прямым только в пер¬
спективе, следуя же за писателем по всем этапам пути, не ощущаешь460
отой прямизны и неуклонности, вследствие постоянных остановок
и искривлений...» (1909).Эти строки помогают увидеть творческий путь Блока в широкой
перспективе, уяснить характер роста и развития, подчиняющегося
определенной «периодичности», говоря словами самого поэта, наблю¬
даемые здесь «остановки» и «искривления» — в пределах каждого
периода (причем, конечно, нельзя не учесть, что тут все несравненно
сложнее, чем у ириса, лилии или какого-нибудь другого растения).Сами «периоды» и переходы здесь гораздо запутанней, а порою
неопределенней, и иного читателя могут сбить с толку «остановки»
или же возвращения «на старые круги», с которыми мы постоянно
встречаемся в лирике Блока,— но все же перспектива ее развития
совершенно ясна, так же как ясны и закономерности ее роста; различ¬
ные этапы слагаются в то единство, какое Блок и называл «романом
в стихах».«Трилогия вочеловечения», переживаемая Блоком и гороем ого
лирики, развивалась но в порядке прямой преемственности; нот, внут¬
ри каждой части его «романа в стихах» можно уловить свои противо¬
речия, водовороты вокруг некоего незримого стержня, поступательные
шаги и возвращения на старые, уже, казалось бы, пройденные пути,
и мы видим, что поэт способен в один и тот же миг испытывать самые
противоположные чувства (что и порождало целую серию «двойни¬
ков», созданных воображением поэта и настойчиво вторгающихся
в его стихи); порою он и сам словно бы теряется перед сложностью
обуревающих его переживаний, стремлений, страстей, но в них —
и сквозь них — с годами все яснее и определеннее сказывалось то
ведущее начало, какое и составляет основу лирики Блока.Определяя три тома стихов как «трилогию», поэт помогает нам
уяснить их внутреннее единство, взаимосвязанность, самые различные
этапы и грани своей лирики; каждый из этих этапов отвечает истории
характера, раскрытого в процессе развития, созревания, становле¬
ния,— и лирический герой Блока предстает пород нами во всей своей
цельности, в неразрывном единстве всех своих качеств и особенностей.В одном из писем к Белому Блок утверждает: «...вся история
моего внутреннего развития «напророчена» в «Стихах о Прекрасной
Даме»...— и Блок «торопится еще раз подчеркнуть», что и «вторая
часть» последующего его внутреннего развития — и творчества,
включающая «Балаганчик», «Незнакомку» и т. д.,— «...тоже мои...»(1910). Поэт подчеркивает здесь органичность, цельность, последова¬
тельность своего внутреннего развития— при всей его противоречи¬
вости, ие исключающей и самых острых и непримиримых внутренних
конфликтов, также составляющих важную и неотъемлемую особен¬
ность героя лирики Блока, да и ее создателя.Конечно, огромное расстояние отделяет юношу, бродившего «в ту¬
мане утреннем» и слагавшего восторженные стихи в честь Прекрасной
Дамы, от того сурового и многоопытного художника, каким стал Блок
в зрелую' нору своего творчества, ио необходимо подчеркнуть, что,
несмотря на всю противоречивость внутреннего развития, он и дейст-461
витодъно в чем-то существенном оставался цельным, «неподвижным»
(говоря его же языком) и, вероятно, готов был приложить к самому
себе слова одного из учителей и наставников — Ибсена:«Люди полагают, что я с течением времени менял свои взгляды,
но это большая ошибка. На самом деле мое развитие шло вполне
последовательно».Вот почему поэт (процитировавший эти слова Ибсена в статье
«От Ибсена к Стрипдборгу»), лини, только слышал упреки в «измене»
и «отступничество», решительно настаивал на своей последователь¬
ности, «мерности» («И ворон, порол!» — но говорит, а прямо-таки
выкрикиrmот горой Шока, его «alter ego» — Горман — в лицо всем,
кто упрекает его в измене, как упрекали и самого автора «Балаганчи¬
ка» и «Песни Судьбы»),Действительно, вся лирика Блока складывается в единый путь,
прямой, несмотря на все «уклонения» и «сомнения» поэта — и героя
его лирики, с беспощадной правдивостью и исследовательской дотош¬
ностью прослеженные и осмысленные в творчестве Блока; если же нэ
видеть этого пути, этой линии развития «от личного к общему», то
можно запутаться в его сложнейших противоречиях.После всех «уклонений», «падений», «сомнений» наступало отрез¬
вление, и снова поэта томила тоска по большому, настоящему делу,
нужному людям, снова его охватывало одно всепоглощающее чувство,о котором он и говорил в своих стихах:...я — человек. К паденье свое признавая,Тревогу свою не смирю я: она все сильнее...Эта спасительная тревога настигала поэта врасплох, порою в по¬
рыве самого безудержного разгула, в «буре цыганских страстей»; она
не давала ему забыться и уйти от ответа за свою жизнь, за каждый
свой шаг, каждый поступок, за свою судьбу, свое человеческое имя;
когда поэт говорил: «Я — человек»,— эти слова значили для него не¬
обычайно много и ко многому обязывали.Они обязывали судить с высоты подлинной человечности все по¬
роки и преступления «страшного мира»; они укрепляли чувство долга
перед народом; они внушали тревогу и горечь за тех, кто «загнан
и. забит»,— и заставляли поэта болеть всею болыо, всеми муками лю¬
дей бесправных и обездоленных, стремиться к тому будущему, когда
ни одна «случайная черта» по исказит облик прекрасного мира и ко¬
гда все люди станут свободными, гордыми, счастливыми. Вот что
значило в глазах Блока быть человеком, и для него утверждение
в себе и в окружающих такой веры в человека и человеческое призва¬
ние являлось делом жизни, ее основным смыслом.Поэт исследовал многие области человеческих отношений и пере¬
живаний, на себе испытывал весь цикл чувств, страстей, стремлений,
ставших в условиях реакции чувствами-оборотнями, мужал и закалял¬
ся в испытаниях и борьбе, проходил искус «вочеловечения» — все это
составляет содержание того «романа в стихах», каким и является ли¬
рика Блока, взятая в целом.462
Переплавив в горниле самых больших испытаний, самых сильных
страстей весь свой жизненный опыт, поэт не отвергал его, а осмысли¬
вал в свете истины, добытой в грозе и буре, «в огне и холоде тревог»;
нот почему этот горький опыт оказывался необходимым, а потому
в конце концов и необычайно ценным; именно это утверждал Блок
в своих стихах:Благословляю все, что было,Я лучшей доли не искал.О, сердце, сколько ты любило!О, разум, сколько ты пылал!Пускай и счастие и муки
Свой горький положили след,Но в страстной буре, в долгой скуке —*Я не утратил прежний свет...—(1012)м чем более зрелым, реалистически весомым становилось творчество
Олока, тем яснее разгорался этот свет.Блок писал Андрею Белому —снова и снова утверждая «вочело¬
вечение» как итог всех своих блужданий и поисков:«Сходствует несказанное или страшное, безликое, но человеческие
лица различны. Сходны бывают «счастливцы» («счастливчики»),
осужденные не воплотиться, носясь по океану удач и легких побед.
Воплощенный — всегда «несчастливец», лик человека — строгий
и сумрачный... «нуждой п горем вдаль гонимый...» (1911).В том же году Блок делает признание, крайне важное для пони¬
мания его творческого пути, осмысленного в необычайно широкой
перспективе и новом, ослепительно ясном свете:«Один — и за плечами огромная яшзнь — и позади, и впереди,
и в настоящем... Настоящее — страшно важно, будущее — так огром¬
но, что замирает сердце, — и один; бодрый, здоровый, не копченный,
отдохнувший. Так долго длилось «вочеловечение».Так ужо в годы зрелости, возмужалости поэт весь свой пройден¬
ный путь осмысливал как «вочеловечение» и готов был — вслед за
героем Чехова — сказать, что выше и прекраснее человека нет ничего
в мире; поэт говорил в том же письме:«...в глазах у нас — дело: более, чем когда-нибудь, мы на «флаг¬
манском корабле»; не знаю, какую работу исполняю я,— но, исполняю,
как-то каждый день готовлюсь к сражению».В этом он и видел призвание и назначение человека.Герой лирики Блока прошел свою «трилогию вочеловечения»,
оказавшуюся вместе с тем путем «от личного к общему», и поэт ясно
н и дел нерасторжимую связь одного с другим: только на пути «от
личного к общему» — и никаким иным образом!—можно «воплотить¬
ся», «вочеловечиться» — это для Блока стало совершенно бесспорным
и очевидным.Впоследствии Горький, беседуя с К. Фединым о Блоке и советуя
«непременно познакомиться» с ним, скаятет, ища самое верное и самое
точное определение для поэта, одно только слово:«Человек».463
Но в это слово Горький вносит какой-то особо важный и необы¬
чайно значительный смысл и, тихо произнеся его,— «мгновение стоит
неподвижно» (Конст. Федин, «Горький среди нас. Двадцатые годы»,
ГИХЛ, 1943, стр. 46-47).Нет, не случайно Блок называл три тома своей лирики — да и весь
свой жизненный путь! — «трилогией вочеловечения», ибо и поистине
в ней полностью воплощался человек — в том высоком значении,
какое он издавна придавал этому слову.Отображенный в лирико Блока путь поэта, его «трилогия вочело¬
вечении», в годы, предшогл'вукнцио Октябрю, предстают перед нами
как своего рода «роман в стихах» (опроделонио, па котором настаивал
сам поэт); «роман», у которого есть и главный герой и — при всей
противоречивости — единство внутреннего развития, придающее сю¬
жетное единство этому «роману», определяющее его существеннейшие
особенности,— и без знакомства с ними нельзя составить о творчестве
Блока достаточно полного и разностороннего представления.
«РОМАН В СТИХАХ»IЛирика Блока — это действительно (по справедливому определе¬
нию самого художника) «трилогия вочеловечения», «роман в сти¬
хах»,— роман со своим сюжетом, своим гороом, в изображении и пси¬
хологическом исследовании которого в полной мере сказались беспо¬
щадная правдивость, необычайная прозорливость, творческая смелость
художника, открывающего новые явления и закономерности челове¬
ческого бытия — в условиях того мира, который он называл
«страшным».Ознакомившись с характером этого «романа в стихах», мы можем
теперь уяснить те его особенности, которые составляют удивительно
своеобразную поэтику Блока.В литературе о Блоке нередко поднимается вопрос: в какой мере
«сознательно» поэт использовал те или иные формы и средства худо¬
жественной выразительности? Некогда утверждалось, что и вообще
поэт творит исключительно интуитивно, а то и «иррационально»,
словно повинуясь «посторонней», от него не зависящей воле.Сам Блок с предельной ясностью отвечает на этот вопрос уже
и на первых порах своего творческого развития; в 1902 году, когда
слагались стихи о Прекрасной Даме, он писал невесте, упрекавшей
ого в излишней «отвлеченности»:«Ты принимаешь за отвлеченное, м. б., иногда образы и фан¬
тазии в рифмах. Но ведь стихи и образы не рассудочны. Только
форма их гранится рассудочно — (окончательно) (курсив мой.— Б. С.),
а содержание и главное, «субстанция», всегда выпевается из сердца
прямо, непосредственно...» (ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 98,
стр. 76-77).Это признание необычайно важно: оказывается, что даже в пе¬
риод создания стихов о Прекрасной Даме (во многом «иррациональ¬
ных», «мистических»), поэт «рассудочно», то есть совершенно созна¬
тельно, «гранил» свои стихи — после того как они «выпелись» из
сердца. В дальнейшем он «гранил» их еще более сознательно («рассу¬
дочно»), еще более тщательно и точно, доводя каждую грань до
предельного совершенства.Когда Станиславский знакомился с пьесой «Песня Судьбы», его
увлекали те страницы, которые «математически точны и в смысле
физиологии и психологии человека», а не те, где он усматривал16 Заказ 5344G5
«ошибки, противоречащие природе человека» (как писал он Блоку?
К. С. Станиславский, Собрание сочинений, т. 7, стр. 416).Отвечая величайшему артисту эпохи, «догадываясь» о «чрезвы¬
чайной ценности» его наблюдений касательно «математической точ¬
ности», Блок говорил в ответном письме, что «теме о России» он по¬
святил «сознательно и бесповоротно» всю свою жизнь, а вместе с тем
подчеркивал, что в ого признаниях и стремлениях нет ни тенн «пуб¬
лицистического разгильдяйства», что он пи в коем случае не хочет
забывать «форму» дли «содержании», пренебрегать «математической
точностью, строжайшей шлифовкой драгоценного камня...» (1908).Искусство являлось для Блока именно таким драгоценным кам¬
нем, в шлифовке которого нельзя щадить никаких жертв и усилий,—
что и становилось одним из самых существенных и неизменных, прин¬
ципов творческой «лаборатории» Блока, его поэтики.«Если бы уметь помолиться о форме...» — размышлял поэт (1911),
и для него «форма» была не чем-то внешним по отношению к предме¬
ту повествования и теме переживаний, к замыслу, лежащему в основе
произведения, а средством их наиболее полного и совершенного рас¬
крытия и утверждения.«Форма — плоть идеи...» — говорил Блок, и никакой иной формы
(которой «формалисты» придают некое самодовлеющее и «самоцен¬
ное» значение) он не признавал.Следует особо подчеркнуть, что эти слова поэта полностью отве¬
чают характеру его творчества, принципам его мастерства; поэтика
Блока насквозь «функциональна» (если позволительно здесь это вы¬
ражение) — до последней запятой (в самом буквальном смысле сло¬
ва), ибо поэт придавал существенное значение даже и характеру
расстановки знаков препинания (порою не совпадающей с общеприня¬
той; когда редактор журнала «Аполлон» —- С. Маковский — рекомен¬
довал Блоку «исправить» грамматически его стихи, поэт ответил ему:
«Для меня дело обстоит вот как: всякая моя грамматическая оплош¬
ность в этих стихах не случайна, за ней скрывается то, чем я внутрен¬
не не могу пожертвовать...») (1909).Блок придавал огромное значение даже самым мельчайшим эле¬
ментам формы, призванным воплотить замысел, лежащий в основе
произведения, а в коночном счете — мировоззрение художника, его
идею, его отношение к жизни, людям, творчеству; вот почему мы
создали бы крайне поверхностное представление о художественном
мастерстве и поэтике Блока, если бы обошли существо идеи, выражен¬
ной их средствами.Как уже отмечалось, для поэта его лирика была не собранием
разрозненных стихотворений, а «трилогией», «романом в стихах».
Определяя таким образом характер своей лирики, взятой в целом,
Блок — и совершенно справедливо — подчеркивал ее крайне важные
черты, заслуживающие особенно пристального внимания, ибо именно
они являются «ключевыми» в осмыслении характера и своеобразии
лирики Блока.Как в любом подлинном романе, в ней несомненно обнаруживает-m
ея явное, хотя необычайно сложное и крайне противоречивое, единст¬
во; все в ней взаимообусловлено, и совершенно очевидно, что если бы
не были созданы «Стихи о Прекрасной Даме» — со всею присущей им
молитвенностыо, мечтательностью, с их мистическими «предчувствия¬
ми»,— не было бы и «Балаганчика» с его беспощадной иронией и на¬
смешкой над всем тем, что некогда захватило — и загипнотизирова¬
ло— самого поэта, и,— как впоследствии утверждал он (согласно
воспоминаниям С. Соловьева): «...если б я не написал «Незнакомку»
и «Балаганчика», не было бы написано и «Куликово поле» («Письма»,
стр. 36).Эту внутреннюю дельность своего творчества поэт подчеркивал
неизменно; размышляя над пьесой «Песня Судьбы», он записывает:«...драма написана по новому, но нет пропасти, она органически
связана с прежним, со стихами и т. д.— и с прежними драмами
моими...» (1908).Действительно, эта внутренняя связность, одипстпо всего твор¬
чества Блока неоспоримы,—■ вот почему совершенно оправдано и то,
что в пьесы вторгаются потоки его стихов и по-своему окрашивают
их, в сущности — говорят о том же, отвечают тому же самому кругу
чувств, переживаний, раздумий.Так сам поэт всегда и неизменно рассматривал свое творчество —
в его цельности, взаимосвязанности всех его мотивов, даже и крайне
противоречивых и, казалось бы, взаимоисключающих.Позже Блок говорил о характере развития своего творчества —
в перспективе долгих лет, осмысляя постоянные «возвраты» к уже
сказанному, но обычно чуждые какой бы то ни было «тавтологии»:«Если представить мое творчество в образе спирали, то тот круг
спирали, на котором «Двенадцать», соответствует нижнему кругу
«Снежной маски...» (П. Павлович, «Об Александре Блоке», «Огонек»,
1946, № 28), и если воспользоваться—вслед за поэтом — образами
стереометрии, то именно спираль является наиболее подходящей
фигурой для уяснении характера внутренней цельности творчества
Блока, о вместе с тем — и закономерностей развития, постоянных
возвращений к уже сказанному, к уже знакомым темам и мотивам,
по неизменно обогащаемым и возводимым в новую степень, па новую
высоту.На протяжении многих лет в лирике Блока зачастую решаются
одни и те же темы, приобретающие характер постоянных лейтмотив
вов, по-разному осмысленных и освещенных на разных этапах внут-
реннего развития лирического героя этих стихов; вот почему они
и складываются в своего рода главы или циклы, циклы — в повести,
повести — в трилогию, в которой все внутреннее переплетается, пере¬
крещивается, взаимодействует, идет по незримой спирали, многократ¬
но повторяется, хотя и в новом выражении, в новом сочетании и на
инЫХ! глубинах или высотах. Все в лирике Блока пронизано взаимны¬
ми откликами, озаряется взаимными отсветами; эхо юных лет и юно¬
шеских стихов слышится в самых поздних стихах; память об отроче¬
стве по-своему окрашивает горький и трудный опыт зрелости. Так10467
одни и те же темы и мотивы, переходящие от цикла к циклу и от
книги к книге, словно бы цементируют их материал, придавая ему
внутреннюю связность, психологическое и сюжетное единство,— вот
почему по отношению к лирике Блока и само определение «трилогия»,
обычно применяемое лишь к произведениям большой повествователь¬
ной формы, не является ни натяжкой, ни ошибкой, ни преувеличе¬
нием.Три тома лирики Блока — ото и поистине «трилогия», отвечающая
всем требованиям, которые можно предъявить к произведениям по¬
добного жанра: здесь ость и горой, обладающий ясно и глубоко
выраженными особенностями характера, и коллизии, определяемые
его столкновениями с окружающей средой, и сюжетное развитие,
связанное с этими коллизиями, и процесс внутреннего роста, станов¬
ления, и вся сложность человеческих страстей, раздумий, отношений,
и многое другое, что заставляет воспринимать лирику Блока в ее цель*
ности и совокупности именно как «роман в стихах». Рост, созревание,
возмужание его героя, осмысление его судьбы как «трилогия вочело¬
вечения», на всех ее этапах,— вот что придает философско-психологи¬
ческую основу и внутреннее единство блоковскому «роману в стихах»,
который можно пересказать так же, как романы «Евгений Онегин»
или «Герой нашего времени»,— для этого в нем вполне достаточно
чисто «романного» материала и сюжетно развернутых мотивов.Этот «роман» — событие в области истории поэзии совершенно
особое и исключительное, до сих пор еще, в сущности, не рассмотрен¬
ное и не изученное в своей художественной цельности и жанро¬
вом своеобразии, которому, надо полагать, нельзя найти аналогов во
всей мировой литературе (хотя первую часть этой трилогии — «Стихи
о Прекрасной Даме» — сам поэт сопоставлял с книгой Данте «Vita
nuova», по образу которой предполагал перестроить первую книгу
своей лирики, перемежая стихи с поясняющей и комментирующей их
прозой; замысел этот не был до конца осуществлен поэтом).IIВсе, что происходит с героем лирики Блока, совершается на ши¬
рочайшем фоне, в огромном мире, который и становится свидетелем
и участником всех ого переживаний и страстей. Лирика Блока спета
голосом «высоким, важным и зовущим» («Песня Судьбы»), всегда
говорит о большом, о великом, исторически непреходящем, необычай¬
но важном для всего внутреннего мира, для судеб человека и человече¬
ства,—вот почему даже и тогда, когда поэт говорит о чередовании
«малых дел» и «мелочных забот», то они обретают в его глазах поис-
тине вселенские масштабы,— и стремление во временном, преходящем
уловить нечто исторически непреходящее, в частном найти всеобщее,
мировое нередко роднит лирику Блока с преданием, былиной, леген¬
дой, апокрифом, «житием», древним мифом, старинной притчей, на¬
значение которой не в том, чтобы поведать о частном, хотя бы и за¬
нимательном случае, а чтобы ответить на самые важные вопросы
жизни, заставить задуматься о них своего читателя или слушателя.Блок не мог не разделять той мысли Льва Толстого, что в буду¬
щем искусством «...будут считаться только те произведения, которые
будут? переделывать чувства, влекущие людей к братскому единению,
или такие общечеловеческие чувства, которые будут способны соеди¬
нить всех людей...» («Что такое искусство?»).Наиболее отвечали этой задаче искусства, по мнению Толстого,
такие жанры, как легенда, оказание, притча, в лапидарности, всеоб¬
щей понятности и моралистическом пафосе которых Толстой усматри¬
вал черты искусства будущего,— что по-своему воспринято и лирикой
Блока, сочетавшей сугубо современную поэтику с верностью духу
и характеру старинного предания.Отзвуки русских былин, «Слова о полку Игореве», «Задонщины»,
героических сказаний старины, повествующих о борьбе с иноземными
пришельцами и завоевателями,— все это слышится и в творчество
Блока, а особенно — в «Пеоне Судьбы», в цикле «Родина», в гениаль¬
ных стихах о битве на Куликовом поле; самый сюжет этих стихов
перекликается с теми, которые слышались в преданиях и былинах,
старого сказителя, словно бы продолжает и развивает их в новых
исторических условиях, в дни нашей жизни.Следует подчеркнуть и то, что предания древности являлись
в глазах1 поэта не просто созданием фантазии или предметом для
подражания и стилизации, но тем навсегда бессмертным заветом,
в' котором заключалась подлинная истина бытия, на разных этапах
жизни поэта понимаемая по-разному (от сказочно-фантастического
аспекта до общественно-злободневного),— вот почему сказания древ¬
них времен занимают необычайно ваяшое место в творчестве Блока.
Так, миф об АндромеДе, похищенной морским чудовищем, и Персее,
свершающем подвиг ее освобождения, являлся источником глубочай¬
ших раздумий и творческих вдохновений поэта, одним из значитель¬
нейших событий внутренней жизни,— тех, без которых нельзя уяс¬
нить и пафос ого творчества. Можно проследить и многие другие
темы и мотивы древних преданий, которые но-своому преломлены
Блоком и перенесены им «из вечности — во время» — в условия
и атмосферу XX века.Но следует напомнить и о том, что даже и тогда, когда поэт
обращался к сюжетам и мотивам народных сказаний, древних мифов,
русских былин или «житий», он не просто повторял или варьировал
их, наряжая в новые, современные одеяния и оставляя неизменным их
существо,— пет, и оно переосмыслялось поэтом, обретало новый ха¬
рактер и новое толкование, подчас крайне далекое от канонического
первоисточника.Откликаясь на старинное предание, лирика Блока не повторяет,
а продолжает или оспаривает его — и тогда поэт создает новые леген¬
ды й'мифы, подсвеченные огнями огромного современного города,
навеянные его выогами, метелями, снегами, вырванные из его рас-
тиоп&ой и кровоточащей плоти, найденные «в кабаках, в переулках,
и извивах...».
Перед поэтом воскресает библейская притча об Иосифе и братьях,
Снова продающих его в рабство, и новая жена Пентефрия соблазняет
его, и здесь, влача по панели пронизанный, звездным мерцанием
шлейф, скользит ведьма-оборотень — «синее чудо», готовая стать то
«змеей красоты несказанной», то костром из снега и вина, то неукро¬
тимой «беззаконной кометой», уносящейся в бездонную пустоту и вле¬
кущей за собою — к отчаянию, унижению, смерти — героя нового
и небывалого мифа, рожденного в глухих городских колодцах, «в элек¬
трическом спе наяву»,,. II вдос-ь жо продолжаются бессмертные леген¬
ды о плененной дарение и рыцарском подвиге со освобождения, о не¬
весте, подобной обетованной воспо; все это отвечает и духу древних
сказаний, и быту современного города, в котором очутился герой
лирики Блока.Вся жизнь в ее реальных и зримых образах, неповторимых чертах
н особенностях, а вместе с тем и на пределе обобщения, возникает нз.
этих страницах,— подобно тому как это мы видим в стихотворепии
«О доблестях, о подвигах, о славе...», герой которого делится с нами
горестным опытом всей своей жизни:Летели дни, крутясь проклятым роем.., ,Вино и страсть терзали жизнь мою...И вспомнил я тебя пред аналоем,И звал тебя, как молодость свою..,Я звал тебя, но ты не оглянулась,Я слезы лил, но ты не снизошла...Здесь каждая строка подобна стиху старинных притч или «жи¬
тий», напоминает о них и перекликается с ними.Порою миф словно бы впервые зарождается на наших глазах, как
это мы видим в стихотворении «В ресторане» («Никогда не забуду —
он был или не был — этот вечер...») —своего рода новелле или романе,
герой которого выхватывает из памяти — или из сна наяву? — самые
важные для него подробности встречи, странной, нечаянной и так
много значащей в его жизни, готовой изменить свое течение, отны¬
не — необычайно широкое, полное, торжествующее, как весеннее
и безудержное половодье. В этом торжестве, сиянии, предчувствии че¬
го-то нового, чудесного даже самые обыкновенные слова, жесты,
подробности ресторанной обстановки словно бы преображаются и об¬
ретают черты таинственные и непостижимые, родство с фантастиче¬
ским вымыслом или древним преданием.Близко духу и жанру старинной притчи, апокрифа, «жития»,
и стихотворение «Как свершилось, как случилось..,», завершающее
цикл «Возмездие» и словно бы подытоживающее жизненный путь
поэта:...был я беден, слаб и мал.Но Величий неких тайна
Мне до времени открылась,Я Высокое познал...Особое значение в лирике Блока обретает и перенесенная им из
мглы тысячелетий к началу нашего века притча о «блудном сыне»,470
снова воскресшем в жизни, заплутавшемся на «путях и перепутьях»
огромного современного города,— о «мятежном», отказавшемся от
уюта и покоя старого отчего дома. Поэт сурово и просто, в духе ста-,
рннного апокрифа, повествует о его «хождениях по мукам», но кругам
ада современной жизни, о тех соблазпах и ужасах, которые оп испы¬
тывает на каждом шагу, переходя «от казни к казни». Такою притчей
о «блудном сыне» или своего рода «житием» и является цикл стихов
«Жизнь моего приятеля».«Все свершилось по писаньям...» — говорит поэт в этом цикле,
и здесь упоминание старинных «писаний» ие случайно — сам этот ’
цикл превращается в притчу, повествующую о странствиях души '
современного человека, забывшего былые заветы, утратившего «юный
пыл», сбившегося с «правого пути»; вот почему в его «житие» запро¬
сто и закономерно входят Смерть и ад, ангелы и черти, без которых
не обходятся сюжеты древних притч и старинных лубочных картин.Одно из стихотворений этого цикла так и называется «Говорят
черти»,— и черти, конечно, пашонтывают «приятелю» поэта речи,
дышащие ядом «порочных услад».Греши, пока тебя волнуют
Твои невинные грехи,Пока красавицу колдуют
Твои греховные стихи...А вслед за чертями «говорит Смерть» — так называется заключи¬
тельное стихотворение цикла,— и Смерть прослеживает весь жизнен¬
ный и горестный путь «приятеля», которому было дано так много,—
по он все растерял в «малых трудах», «мелочных заботах» и приходит
к ее порогу нагим и нищим, бесконечно усталым и изможденным:Он больше ни во что не верит,Себя лишь хочет обмануть,Л сом — к моей блажониой дпори
Отыскиппот пяло путь...Так завершается повествование о «приятеле» поэта, и создается
горестный рассказ о жизни человека времен «страшного мира», подоб¬
ный старинной притче о блудном сыне,—с той только разницей, что
нынешний «блудный сын» так и не нашел дорогу к «отчему дому»,
к той правде, к которой некогда порывалось его сердце.Таковы современные притчи и мифы, о которых повествует поэт,
словно бы и сам являющийся их свидетелем и участником, и они по-
своему отобразились в лирике Блока — не только в ее сюжетах с их
моралистическим пафосом, но и в поэтике, во многом верной ясности
и простоте былины, древнего сказания, апокрифа, «жития» или прит¬
чи, в самом слоге — торжественном, емком, необычайно лапидарном,
исключающем приукрашения и подробности, не имеющие самого пря¬
мого отношения к предмету повествования (именно такую поэтику,
как наиболее совершенную и полностью отвечающую существу и на¬
значению. искусства, отстаивал Толстой в своем трактате).471-
■Здесь прослежена и подытожена жизнь человека — со всеми ■ ее
восторгами и разочарованиями, взлетами и падениями; вся она вме¬
щается в пределах нескольких строф, каждая из которых — это боль¬
шая и емкая глава его страстной исповеди, его горестного «жития»,
что и придает необычайную стремительность и насыщенность повест¬
вованию о великих надеждах и нарушенных клятвах, о дарах, вручен¬
ных человеку и зарытых им в землю, о жизни, растраченной впустую
или набирающей силы для нового взлета,— и здесь она предстает пе¬
ред нами в се самых знаменательных событиях и переменах, положив¬
ших свой отпочаток пн вею судьбу человека,В том раю, который понт называл «змеиным», он обращается
к цыганке со странной просьбой:«Спляши, цыганка, жизнь мою».Но она знает, что хочет увидеть и что разумеет поэт под этими
словами, и вот —...долго длится пляс ужасный,И жизнь проходит предо мной
Безумной, сонной и прекрасной
И отвратительной мечтой...Пожалуй, не в меньшей мере и лирика Блока, чуть ли ие каждое
его стихотворение, отвечает жажде и потребности увидеть и подыто¬
жить всю свою жизнь — вот так же «сплясать», вернее, «спеть» ее, от
начала и до конца, запечатлеть ее во всем том прекрасном и отврати¬
тельном, что было присуще ей, ничего не упуская из виду, не укло¬
няясь и от самых горьких признаний. Все это придает изображаемой
здесь жизни героя характер того «жития» (отнюдь не в чисто рели¬
гиозном смысле этого слова), в котором заключен житейский, фило¬
софский и нравственный опыт человека — от самого начала и до
конечного завершения.IIIВ лирике Блока, в его «трилогии вочеловечения», человек (при¬
надлежащий определенной общественной среде и исторической фор¬
мации) рождается в тревогах, сомнениях, в острой, напряженной
борьбе и с враждебными ому силами «страшного мира» и с самим
собою, ибо слишком многое связывает его с прошлым, заставляет
оглядываться назад,— вот чем определяется трагедийность лирики
Блока, драматизм судьбы блоковского героя, его воинственность, ска¬
зывающаяся в каждом стихотворении, хотя бы и посвященном теме,
на первый взгляд, самой мирной и обыденной.Лирика Блока всегда событийна, насыщена духом острых и не¬
примиримых противоречий, столкновений, конфликтов; в ней всегда
бушуют самые напряженные и безудержные страсти, происходит то,
от. чего зависит вся судьба человека,—и она решается вот сейчас, на
наших глазах, в тех условиях и обстоятельствах, которые тут же рас-472
врываются перед нами во всей своей до подлинности, непреложности
и «существенности».Герой Блока всегда живет всей полнотой страстей; с ним всегда
происходит нечто такое, что захватывает и потрясает его до самых
глубин души, отзывается в нем «восторгом, бурей, адом», ведет его
в пределы «невозможного счастья» или к самому краю гибели —
«откуда возвращенья нет»; ему необходимо поделиться с нами самы¬
ми большими своими раздумьями, самыми напряженными пережива¬
ниями, всем своим опытом; он проходит перед нами словно по острию
ножа, на том рубеже и в тот момент, от которого зависит вся его
судьба,г- что и определяет острую сюжетность и необычайную дина¬
мичность лирики Блока. В ней всегда слышится разговор о самом
главном, о наболевшем, на том переломе, когда все сбилось в один
комок, в один узел и зависит только от того, что сейчас произойдет,—
здесь «жизнь или смерть, счастье или погибель...» (как говорит сам
поэт в письме к Станиславскому).В «Пиковой даме» Германн, бродя возле дома графини*** и вооб¬
ражая себя обладателем фантастического богатства, увидел в окне
голову, склоненную над книгой или работой, внезапно блеснувшие
черные глаза, и — «эта минута решила его участь».Вот и в стихах Блока время подчиняется каким-то особым зако¬
нам и измерениям; здесь «часы идут походкою столетий» («Когда
замрут отчаянье и злоба...») — и только но таким часам, по таким
мгновениям, когда «решается участь», когда вся жизнь человека со¬
средоточена в одном движении, слове, взгляде и, кажется, зависит
только от него, а книга судьбы распахнута на самой захватывающей
и трагической ее странице, отсчитано время в лирике Блока; только
эти минуты и сменяются в ней — одна за другой; других «хрономет¬
ров» она не признает.С ха рактером остро па пряженного драматизма, порождённого
противоборством страстей, ноизбожным столкновением человека —
и всего человеческого в человеке — с уродствами, химерами, ужасами,
а то и соблазнами повседневной жизни, связана сюжетность стихов
Блока, его стремление в нескольких строфах раскрыть ход и смысл
борьбы, в которой целиком обнаруживается человек, то одерживая
великие победы в борьбе с враждебными ему силами, то испытывая
чувство поражения, отчаяния, гибели. Этим и определяется стреми¬
тельное развитие мотивов стихотворения, зачастую развертывающего¬
ся в порядке непосредственного перехода от одной остро противоре¬
чивой коллизии к другой.Вот почему многие стихотворения Блока — такие, как «В эти жел¬
тые дни меж домами...», «На железной дороге», «Унижение», «Перед
судом», цикл «Жизнь моего приятеля»,— превращаются в особого
рода новеллы или «маленькие трагедии», где судьбы людей и их отно¬
шения прослежены с удивительной полнотой и завершенностью.Могущественное и неотразимое воздействие на любого читате¬
ля — как наиболее «рафинированного», так и самого неискушенного —
стихов Блока во многом и объясняется тем, что в них, в пределах479
нескольких строф, каждая из которых по своей емкости, лапидарно-
сти, содержательности не уступила бы главам иной обширной повести,
необычайно кратко,— а вместе с тем с такою полнотою и обстоятель¬
ностью, что ничего не прибавишь! — рассказан не тот или иной эпизод
илп «случай из жизни» героя, а вся ого жизнь в ее необычайной
сложности, трагичности, противоречивости.Поэт полностью постиг тайну тех слов, которые вмещают гораздо
больше того, что в них исноородотпоппо сказано,— и здесь от их сосед¬
ства, соединения, столкновения попыхивают такие искры и молнии,
в свото которых судьбы гороео видится во всей их определенности,
цельности, нпутроммои завершенности; об этих стихах можно сказать
обращенными к Фоту словами Льва Толстого: «сияние от них очень
далекое».В этом сиянии мы видим и все то, о чем поэт не сказал и чего нз
упомянул, но что ясно п без того.Чтобы добиться такой масштабности, емкости, «суггестивности»,
Блок и само повествование строит не в порядке последовательно раз¬
вертывающегося лирического сюжета, а смены крайне отдаленных
друг от друга образов и мотивов, связь которых намечена легким,
едва уловимым пунктиром или всего только подразумевается,-- что
по-своему определяло и конструкцию лирического сюжета. Для ее
уяснения крайне важна запись, относящаяся к концу 1906 года:«Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях не¬
скольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует
стихотворение...»Завершается эта запись признанием, относящимся к самому поэту
и его личному творческому опыту:«Хорошо писать и звездные и беззвездные стихи, где только мо¬
гут вспыхнуть звезды или можно их самому зажечь...»Зажечь слова, которые могут вспыхнуть как звезды и осветить
огромное пространство вокруг,— это стремление определяло характер
лирической композиции, ее масштабность, и необычайно широким
оказывалось «покрывало», которое расстилал Блок на остриях своих
слов-звезд. Они порою очень далеко отстояли друг от друга,— и не
всегда читателю с первого взгляда ясно то, что связывает их воедино,
не всегда различишь исходящий от них и взаимоозаряющий свет,—
по Блок открывал между ними внутренне необходимую связь, со¬
здающую в его стихах смелые и неожиданные сопоставления, выводя¬
щие наше восприятие за грань привычных, заставляющие заново
увидеть и ощутить слова — во всей их резкости, отчетливости,
«разности», «первозданности»; поэт мог воскликнуть:Валентина, звезда, мечтанье!Как ноют твои соловьи...... Эти стихи ие могут не захватить читателя своим огромным разма¬
хом, своей безудержной страстностью, уже опрокинувшей все прит
вычные мерки, пределы, соответствия и вырвавшейся на такой пром¬
отор, где и звезды вмешиваются в нашу жизнь, становятся ее согляда¬474
таями и соучастниками,— эхо и придает напряженную динамичность
стиху, до самых крайних пределов расширяет сферу захвативших поэ¬
та переяшваний.Блок соединяет отдаленные друг от друга понятия рак будто бы
из совершенно различных областей; так, колокола в сто стихах звонят
не только «над мировою чепухою», но и...над шубкой меховою,В которой ты была в ту ночь...Здесь слова, казалось бы, совершенно чуждые друг другу, взятые
во всей их несоизмеримости («мировая чепуха» — «меховая шубка»),
оказываются в каком-то нерасторжимом и тайном родстве, и каждое
из них, неожиданное для нас, да, кажется, и для самого поэта, обре¬
тает какой-то необычайно важный смысл; так Блок соединяет
и сталкивает слова совершенно разного «ранга» л ряда, чтобы высечь
из них нечто новое и небывалое, ту искру, ту «молнию искусства»,
в свете которой многое становится продольно ясным и четким, откры¬
ваемся заново, в остроте самых резких противоречий; вот в таких
столкновениях и рождается небывалая, ошеломляющая новизна стиха.Чего же добивался и достигал поэт, растягивая свое «покрывало»
на остриях слов-звезд, крайне далеко отстоящих друг от друга.,
а вместе с тем слагающихся в некое нерасторжимое единство?Он достигал предельной емкости повествования, где в нескольких
строках рассказано о судьбе человека — от ее начала до завершения,
как это мы видим в стихотворении «На железной дороге». Как буд¬
то бы нет никакой явно выраженной и точно определенной внутрен¬
ней связи между гусаром, который облокотился небрежной рукой «на
бархат алый», и гибелью героини, раздавленной «любовью, грязью иль
колесами», но здесь слова и образы, очень далеко отстоящие друг от
друга, и поистине «светятся, как звезды»,— вот почему все события,
так скупо и «прерывисто» рассказанные поэтом, но объединенные
высокой мыслью и скорбыо, но нуждающейся в пояснениях и доказа¬
тельствах, приобретают необычайную ясность и цельность.Все сплавлено воедино в «страшном мире»:Темный морок цыганских песен,Торопливый полет комет!Во всем этом — безмерная широта чувств и страстей, пережива¬
ний и восприятий поэта, «впечатлений бытия», в которых личное,
частное, мгновенное нельзя отделить от размаха и буйства «четырех
стихий», полета комет, борьбы миров; в таких масштабах живет поэт
и герой ого лирики,— да и они порою слишком малы для него
(«Страшный мир! Он для сердца тесен,..»),IVВ глазах ноэта, чувствовавшего евое неразрывное «единство с ми¬
ром», вся природа, вся вселенная участвовала в его внутренней жиз¬
ни, являлась свидетелем его переживаний, что и определяло характер
образа, описания, пейзажа.475
Знакомясь с лирикой Блока, мы видим, что внимание поэта при¬
ковано к области чувств и восприятий, а если здесь и возникает
картина внешнего мира, то лишь такая, которая кажется тою же
жизнью души, но уже настолько непомерной, бескрайней, что она
словно бы охватывает весь мир — «от земли до крайних звезд» (Тют¬
чев) — и без остатка растворилась в пом и ого стихиях.В стихах Блока мы по видим фона «нейтрального» по отношению
it переживаниям поэта, но участвующего в них, в их зарождении,
нарастании, смоно; в ого лирике мотивы, казалось бы, всего только
статические, пейзажные, принимают драматичоски-папряженный ха¬
рактер, возвещают о оуждоиной человеку трагедии,— как это мы
видим в стихотворении «Унижение»:В черных сучьях дерев обнаженных
Желтый, зимний закат за окном.(К эшафоту на казнь осужденных
Поведут на закате таком).Здесь предательская желтизна заката, сквозящего в зловеще¬
черных тучах и наводящего на мысль о чем-то ужасном и неотврати¬
мом, становится прологом безысходной трагедии, и она действительно
наступает — трагедия человека, заблудившегося в дебрях «змеиного
рая» и поверившего хотя бы на краткое время в услады «вина, стра¬
стей, погибели души». В этом стихотворении пейзаж обретает не толь¬
ко живописную выразительность, но и внутреннюю активность, сю¬
жетно-драматический характер; он является вступлением к драме,
которая вот-вот должна совершиться на наших глазах,— и не впустую
предвещает ее. 'Так зловещие события, которые видит поэт на земле,— они по-
своему окрашивают и само небо, словно бы отражаются в нем, кладут
свой отсвет и свои теии на весь окружающий мир; здесь в самом пей¬
заже уже словно бы запечатлен и раскрыт тайный смысл тех событий,
свидетелем и участником которых оказался поэт. Вот почему в поэзии
Блока мотивами динамическими становятся даже и такие элементы
поэтики, как обстановка, фон действия, вся «неживая природа»; явле¬
ния окружающего мира, стихии земли и неба участвуют в жизни че¬
ловека, во всем, что оп перевивает, думает, чувствует, или — подобно
хору древнегреческой трагедии '—поясняют ее коллизии, раскрывают
их сокровенный смысл,— как это мы видим в стихотворении, заклю¬
чающем цикл «Фаииа».Само его начало заставляет нас воспринять пейзаж не как без¬
действенный фон, на котором развертывается история одной любви,
а как непременного участника житейской драмы двоих, некогда близ¬
ких друг другу людей:Своими горькими слезами
Над нами плакала весна...'Вся природа вовлекается в круг восприятий, переживаний, стра¬
стей поэта, становится его судьбой, обетованием, откровением; здесь
и месяц участвует во всем, что происходит на земле, и разделяет476‘
каждое чувство поэта, будь оно возвышенным или унизительным,—
как это мы видим в цикле «Черная кровь»:Вновь у себя... Унижен, зол и рад.Ночь, день ли там, в окне?Вот месяц, как паяц, над кровлями громад
Гримасу корчит мне...—и от его паглой гримасы поэту становится не по себе; он испытывает
талой приступ тоски, злости, отчаяния, чувство униженности и опу¬
стошенности, что, кажется ему, весь окружающий мир издевается
над ним.Тот же пейзаж, неизменный сам по себе, рисуется совершенно
другим, когда иные, горделивые и возвышенные чувства охватывают
героя этих стихов:.Из длинных трав встает луна
Щитом краснеющим го роя,И буйной музыки полна
Плеснула в море заревое...—и здесь героические чувства поэта находят в пейзаже свое наглядно¬
зримое воплощение и словно бы преображают его.Подобные же превращения происходят и с солнцем — оно также
участвует во всех людских переживаниях и передрягах, а если у поэта
особенно скверно на душе и жизнь его «приятеля», в которой он
смутно и неотвратимо угадывает родство со своей собственной жизныо,
кажется ему особенно постылой и унизительной, то и само солнце
глядит на него с каким-то тайным злорадством и словно бы издевает¬
ся над ним:В голубом морозном своде
Так приплюснут диск больной,Заплевавший все в природе
Нестерпимой желтизной...Образ солнца, словно бы поплевавшего «приятеля» с головы до
ног, доводит до вселенских пределов чувство унижения и безвыходно¬
сти, испытываемое человеком, сломленным ложыо и растерявшим все
свои мечты и надежды.Бессмыслица и жестокость «страшного мира» также обретает
в глазах поэта космические масштабы,— и тень того, что происходит
на земле, ложится на небо, неизменно откликающееся на все чувства,
охватившие человека, и по-своему выражающее их; здесь и самая
обычная прогулка на Острова становится сродни фантастической ми¬
стерии, в которой «все говорит о беспредельном»:В легком сердце — страсть и беспечность,Словно с моря мне подан знак.Над бездонным провалом в вечность,Задыхаясь, летит рысак...Эти страстно-напряженные чувства вырываются за пределы обы¬
денности, повседневности, «мелочных забот» и приобщаются к миро¬477
вому и беспредельному — так возникают образы моря, зовущего и ма¬
нящего тайными знаками, бездонного провала, над которым летит
рысак,— и эти провалы и просветы, «из времени в вечность» (Фет),
неожиданно открывающиеся в стихах Блока, возникают постоянно
и неизменно — в соответствии с самыми основами его восприятий,
придают его чувствам и переживаниям захватывающую широту, не¬
обычайную масштабность.Так мотивы, казалось бы, всего только пейзажные, неподвижные,
статические (как они определяются: п курсах поэтики), обретают
в стихах Блока актшшый характер и наравне с другими участвуют
в переживаниях лирического горой, непосредственно влияют на его
судьбу, по-своему обозначают ее, принимают драматический, страст¬
но-напряженный характер.Особое значение в поэзии — ив поэтике — Блока обретают образы
стихий ветра, метели, «певучей грозы», как великих сил, приобщаясь
к которым человек утверждает свое бессмертие, высшее счастье своей
жизни:Мира восторг беспредельный
Сердцу певучему дан.В путь роковой и бесцельный
Шумной зовет океан.Весь мир с его ветром, огнем, океаном, сам человек, вокруг кото¬
рого они бушуют, шумят, заводят свои опасные игры,— все это связа¬
но воедино и снега, крутясь, врываются словно бы в душу поэта, что¬
бы приобщить его к стихиям, выжечь у него память «о временном,
о пошлом».Образы ветра, метели, вьюги противостоят здесь образам иным,
«домашним», «уютным», словно бы высмеивают, преследуют и изго¬
няют их,— и самое вступление в новую жизнь оказывалось в глазах
поэта победой ветра, выоги, метели, которым он предался всецело
и навсегда....в новой снеговой купели
Крещен вторым крещеньем я...—говорил поэт в дни революции 1905 года,— и отныне вотор становится
одним из лейтмотивов его творчества, активно действующим лицом.Бросается в глаза и то, что в лирике Блока все «внешнее» — во
всех его подробностях — привлечено лишь в той море и стопепи, в ка¬
кой оно помогает раскрытию «внутреннего»; в душе поэта, говорит он
о себе, «те же знаки, что на моем обветренном лице...», и это не слу¬
чайное замечание,— нет, внешнее вызывает его острое и пристальное
внимание, но только тогда, когда оно в чем-то соответствует внутрен¬
нему, иначе оно оставляет поэта совершенно равнодушным. Здесь нет
описаний ради описаний вещей, независимых от внутренней жизни,
как бы ни были они интересны и значительны сами по себе; в стихах
Блока они всегда и неизменно перекликаются с миром страстей,
чувств, раздумий, являются своего рода ключом, помогающим нам
проникнуть во внутренний мир человека.478
Если поэт наблюдает гуляющих модниц и франтов, которые пе¬
реодеваются в купальные костюмы, «дряблость мускулов и грудей
обнажив», то здесь он тоже ищет и находит соответствие внешнего —
внутреннему в характере и существе этих «модниц» и «франтов»,
которые только и способны на то, чтобы замусорить чистейший песок
побережья.А в стихотворении «На железной дороге» мы видим приметы
и подробности совершенно иного характера, еще более поразительные
своей необычайной точностью, емкостью, краткостью, а вместе с тем
широтой и страстностью сказавшихся — в них и через них — чувств
и переживаний поэта:Вагоны шли привычной линией,Подрагивали и скрипели;Молчали желтые и синие;В зеленых плакали и поли.,.Эти скупые, сдержанные, предельно лаконичные строки возни¬
кают перед нами как знаменательная и трагическая страница истории
нашей родины. Поэт видит, что только там, в зеленых вагонах (ваго¬
нах «третьего класса», предназначенных для «простонародья»),—
настоящая, неподдельная жизнь; только там люди — те, кто «загнан
и забит»,— охвачены тревогой, беспокойством, жаждут иной, лучшей
доли, а потому и предъявляют великие требования, которые слышатся
в их плаче и в их песнях. Но в «синих» и «желтых» вагонах («перво¬
го» и «второго» классов, предназначенных для привилегированных
и состоятельных) отмалчиваются; «сытые» притихли, затаились, слов¬
но ничего не слышат,— да им и нечего ответить на голоса бесправных,
обездоленных, пронзительно и настойчиво звучащие в их ушах. В этих
голосах, раздающихся не только где-то на маленькой и далекой стан¬
ции, но и по всей России,— и горечь, и удаль, и предчувствие прибли¬
жающейся грозы, от которой но отсидеться и но отмолчаться «сытым»
в своих уютных уголках, своих «желтых» вагонах... Все то суровое,
тревожное, грозовое, что слышится здесь, высказано поэтом не прямо,
открыто и непосредственно, а словно бы мельком, как нечто само со¬
бою понятное, одним лишь намеком,— но надо быть слишком не¬
догадливым, чтобы не уловить его подспудного смысла, отвечающего
давним раздумьям поэта о судьбах всей страны и будущем ее наро¬
да,— ведь не случайно стихотворение «На железной дороге», каза¬
лось бы, посвященное всего только судьбе одной несчастной девушки,
включено в цикл «Родина» и обретает свое подлинное значение имен¬
но в этих огромных масштабах и в связи с другими стихами того же
цикла.Здесь три цветовых штриха — желтый, синий, зеленый — не
только предельно точны, но таят в себе глубочайший смысл, общест¬
венный пафос, отвечают живому чувству истории, издавна присуще¬
му поэту, его острому ощущению обреченности всего старого строя.И так — всегда: если Блок говорит о приметах и явлениях окру¬
жающего его мира, это не только повествование о чем-то «внешнем»,—479
нет, оно вступает в активнейшие отношения с миром его чувств,
переживаний, раздумий.Этим определена роль не только пейзажа или фона, но и лгобьп:
других живописных мелочей, деталей, подробностей в лирике Блока,
оказывающихся необычайно значительными, существенно важными,
связанными с самыми большими замыслами поэта; «жизнь в мимо¬
летных мелочах» интересовала и захватывала его,— но только в той
мере, в какой помогала уловить эту связь (а но сами по себе «мелочи»,
как в произведениях, иисатолой'иитурали'стов).VС самого начала своей творческой деятельности Блок присоеди¬
нился к тому течению, которое отстаивало «новую поэзию», поэзию
символическую, что и определяло существеннейшие черты и особен¬
ности его лирики, характер средств художественной выразительности,
самих образов, обретающих не только зрительную «представимость»,
но смысл и значение символов. Утверждая это общеизвестное поло¬
жение, вместе с тем необходимо отметить, что сами символы Блока
далеко не «однозначны», по по-разному—а во многом и внутренне
противоречиво — отвечают различным этапам творческого развития
поэта и становятся в разные отношения с миром реально сущих
явлений и общественных процессов.В ранней лирике Блока явственно оказывается стремление вез
земное, «плотское» трактовать в духе идеалистической философии
Платона, перевести реальные наблюдения и переживания на язык
снов, грез, мистических видений, что определяет характер и назначе¬
ние образов-символов.Впоследствии их характер в лирике Блока существенно меняется
(хотя и далеко не всегда), обнаруживая новые черты, новые свойства,
перестает отвечать сугубо идеалистическим воззрениям и мистической
настроенности поэта, — и они уже не уводят нас от реального мира
и реального человека, со всеми его сложными и трагическими пере¬
живаниями, в область некоей бесплотной и смутной мечты; наоборот,
они как бы повернуты «лицом» к людям и обществу, к «проснувшейся
жизни», помогают осмыслить ее.В годы, являющиеся временем его совершенной творческой
зрелости, Блоку нужен «весь человек», вся его психология, вся область
его переживаний, «высоких» или «низких», — что по-своему сказалось
и в его поэтике, на его образах, обретающих подлинную «ветвистость»
(говоря словами Бальзака), внутреннее богатство, поразительную
конкретность и необычайную жизненность; они словно бы выхвачены
из самой действительности и застигнуты «in statu nascendi», как
сказал бы химик («в момент рождения»),—во всей их свежести,
непосредственности и трепетности, а вместе с тем с тою степенью
обобщенности, которая и придает им символический смысл.«Непроглядный ужас жизни» виделся поэту —и с годами все
глужбе и отчетливей — не в образах отвлеченных или сугубо аллего¬480.
рических, а в самых обыденных, повседневных; детали обычной
пошлой обстановки приобретали в его глазах зловещий смысл, словно
бы они и сами были тайно связаны с силами зла и мрака. Так,
в стихотворении «Унижение» самые заурядные и точно описанные
подробности обстановки того «дома свиданий», который кажется
«змеиным раем», словно бы несут на себе неизгладимую печать
«страшного мира», вступили с ним в тайный заговор, верой и правдой
служат ему; они предстают перед нами во всей своей неприглядности,
и мерзости — «пропыленные кисти портьер» (перевидавшие так
много!), «грязные кнопки», — да и многое другое, отмеченное тем же
самым клеймом. От всего этого на поэта и веет тем «непроглядный
ужасом», печать которого виделась ему не только в окружающих
людях, но и на всем, что связано с их бытом и существованием, даже
с самой обстановкой их жилищ и берлог.Здесь «острый французский каблук» — это но только одна из
поразительно точных живописных подробностей:, но только характер¬
нейшая деталь обуви тогдашних модниц, но и нечто иное, опасное
и зловещее,—то оружие, которое становится смертоносным в дебрях
«змеиного рая», где человеку обещано так много и где он не находит
ничего, кроме унижения и гибели, — и так беспощадность и бесчело¬
вечность «страшного мира» передаются всего только одним образом,
одною «случайною чертою», поразительной своей неожиданностью,
экспрессией, точностью.Поэт «в мимолетных мелочах» той жизни, которая обступала его
повседневным мраком и ужасом, стремился уловить их истинную —
и подчас такую бесчеловечную — суть, что по-своему воздействует на
самый характер рисунка в его стихах.Так, образ «колечка» (в стихотворении «Седое утро») поначалу —
нсого лишь мелыком подмеченная деталь, одна из тех, какими
открыт*огон стихотворение («Я молча жму к своим губам твои
сорпбрннмо кольца...»). Но та жо доталт., как бы совершив некую
ширимую для нас «;жолюцпю» и ходе лирического повествования,
словно бы но имеющего никакого отношения к ней, внезапно снова
шмиикаот в завершающих строках — и, не утрачивая реалистической
точности а конкретности, обращается в символ, вобравший в себя весь
смысл тех превращений, которым подвержена любовь в условиях
«страшного мира». Начавшись «бурей цыганских страстей», не знаю¬
щий никаких запретов и пределов, она неожиданно для поэта порывает
с миром подлинно человеческих чувств и отношений:«Прощай, йоьъми еще колечко,Оденешь рученьку свою
И смуглое свое сердечко
В серебряную чешую...» —*ту чешую, которая отгораживает от людей, заставляет человека
приобщиться к миру самых низменных существ; это передано и вы¬
ражено в образе «колечка», словно бы впитавшего в себя все зЛо
«страшного мира», весь его стяжательский и хищнический дух,
и потому и ставшего образом-символом.481
Жестокость и бесчеловечность «страшного мира» находит у Блока
свое прямое и непосредственное выражение в таких образах, как
ястреб, высматривающий свою очередную жертву, как мертвец, встаю¬
щий из гроба, чтобы втереться в общество живых, как колдун, кладу¬
щий под сукно живые души и нашептывающий своим жертвам
страшноватые и усыпительные сказки, как дракон, разинувший пасть
в жажде теплой и свежей кропи. По «страшный мир» предстает
в лирике Блока пе только в образах ужасающих и отталкивающих,—
лет, в иных ого образах-символах мы видим и «перо павлинье напо¬
каз», и «жадные герани», и тот «цветок», в котором...сладость
Забвенья всех прошедших дней,И вся неистовая радость
Грядущей гибели твоей!..—и многие другие ядовитые «цветки», — образы и символы тех утех
и соблазнов «страшного мира», каждый из которых источает отраву,
приторный и ядовитый дух «великого предательства», несущий с со¬
бою растление и гибель.В творчестве Блока есть и еще один примечательный образ-сим¬
вол, воплощающий суть человека, чуждого чувства «единства
с миром», глухого к музыке мирового оркестра, — это образ «визгливо¬
го смычка», поющего и ноющего лишь о своем, о личном, занятого
лишь собою, а потому неизбежно обретающего жалкий, ничтожный,
«антимузыкальный» характер. Поэт вспоминает об этом образе
в статье, посвященной памяти В. Ф. Комиссаржевской. В написанном
в том же году стихотворении «Голоса скрипок» словно бы продол¬
жаются раздумья, высказанные в этой статье; здесь поэт возвращает¬
ся к тому же образу-символу:...буйной музыки волна
Плеснула в море заревое.Зачем же в ясный час торжеств
Ты злишься, мой смычок визгливый,Врываясь в мировой оркестр
Отдельной песней торопливой?..В образе такого «визгливого смычка» наглядно, а вместе с тем
и символически обобщенно воплощалась поэтом вся сумятица, ник¬
чемность и глухота души, занятой лишь самой собой, а потому и вно¬
сящей фальшь и дисгармонию в окружающий ее мир.В лирике Блока «страшному миру» противостоит другой мир —
«неописуемо прекрасный и человечески-простой», — и также находя¬
щий свое воплощение в образах-символах, но уже совершенно иных
но своей природе.Так, в стихотворении «Новая Америка» московский «цветной
платочек» — это и непосредственно зримый образ, а вместе с тем
ж символ, в котором по-своему сказалось и воплотилось то юное,
«непокладистое», мятежное, что противостоит старому и уже уходя¬482
щему миру, воем его «ектеньям», земным поклонам, старушечьей
извечной покорности; в глазах поэта такой цветной платочек, словно
бы бросающий вызов рабьему прошлому и обещающий какую-то
новую, радостную, творческую жизнь, становится подобном флага или
знамени, зовущего к борьбе за все то, чему суждепа долгая и пре¬
красная жизнь, — и так сами образы-символы обретали в лирике
Блока новое значение, новый смысл (да ж новую «функцию»), стано¬
вились зримым воплощением его гражданских чувств и героических
стремлений, знаком на пути «от личного к общему».О том, как с годами менялась направленность лирики Блока, ее
существо, обретавшее характер больших социальных обобщений,
с неопровержимой убедительностью свидетельствует цикл стихов
«Ямбы», чьи образы-символы ведут не в сторону от «проснувшейся
жизни», а прямо к ней, к ее огнедышащей сердцевине, к оо бурям
и грозам, провозвестником и певцом которых с годами стал поэт. Если
он настойчиво требует:Па непроглядный ужас жизниОткрой скорей, открой глаза,Пока великая грозаВсе не смела в твоей отчизне...—то здесь под «великой грозой», вне всяких сомнений, подразумевается
возмущение сил не столько природных, сколько общественных, народ¬
ных, революционных; именно эти силы воплощает поэт в безмерной
широте и неумолчном гуле бурнох'о моря, грозного океана, бозудерж-
ного ветра, властно врывающегося в лирику Блока, меняя самый оо
строй, ее устремленность. Здесь и народ предстает как тот «венец
земного цвета», который рано или поздно, но дождется благоприятной
поры, когда полностью раскроются все его силы и возможности. Эта
символы отвечают необычайно напряженным и страстным пережива¬
ниям поэта, его самым глубоким раздумьям о судьбах родины, а стало
быт ь, и о своей судьбе —вот чем вызвана их жизненность, непосред¬
ственность, эмоциональность, чуждая каких бы то ни было элементов
рассудочности и отвлеченпости.Подлинно человеческая страсть в глазах поэта, уже осмыслившего
«се ее воплощения и метаморфозы, — это «обетованная весна»
и «освободительная буря»; это — и океан, меняющий свой цвет в мгно¬
венном блеске молний, и «дикая птица», восторженно кричащая
и летящая навстречу кровавой заре; эти образы-символы господству¬
ют н стихах Блока, славящих и воспевающих любовь как поликую
красоту и неизмеримую творческую мЬщъ, которая могла бы преобра¬
зить всю жизнь, если бы опа но была так унижена и обездолена
в условиях «страшного мира». А переливающаяся мороз край «востор¬
га творческого чаша» -это символ полноты и могущества творческих
сил человека, их избытка и размаха, — и здесь наглядно, зримо
воплощены радость и торжество человека, чье чувство «единства
с миром» наконец-то нашло свое удовлетворение, ибо именно творче¬
ство и творческий восторг восстанавливают ту связь с миром, вне483
которой человек обречен на бесцельное и никчемное существование.Среди образов, обретающих в поэзии Блока символический смысл
и повторяющихся (подобно лейтмотиву) на всех этапах его творчест¬
ва, особое значение принадлежит образам меча, щита, лат, кольчуги,
панциря — всех видов и аксессуаров боевого снаряжения, рыцарского
доспеха, необходимого для того «вечного боя», гулы и отзвуки которого
неизменно раздаются в лирико Блока. В ней постоянно слышится
«буйный зов рогов призывных», сталкиваются щиты, блещут мечи —
даже тогда, когда речь идет, казалось бы, всего лишь о любовном
свидании («перед этой враждующей встречей никогда я не брошу
щита...»), ибо и здесь идет борьба за человека, за его назначение,
за'его душу. По с годами и этим образам-символам «вечного боя»
придается иной смысл, иная направленность; если некогда поэт пред¬
ставал перед нами как «заоблачный воин, уронивший панцырь на
землю», то впоследствии он сошел с заоблачных высот, и уже в иных
образах воплотился пафос лирики Блока; ее герой встает перед нами
в том доспехе, который «тяжел, как перед боем», — но бой теперь он
ведет не за некие отвлеченные идеалы, а за светлую невесту, за верную
жену, за родину, на которую наступают чужеземные орды.Не только образы вооружения, боя, рыцарского доспеха являются
е лирике Блока символами, пронизанными высоким гражданским
пафосом, — такими же символами становятся и образы, связанные
с повседневным трудом человека, его творчеством, созданием жизнен¬
но необходимых благ. Это и «верный молот» — орудие труженика,
высекающего из железа ту искру, ту «живую молнию», которая одна
только и может расколоть окружающий мрак; это и «тяжелый плуг»,
за которым так радостно пройти поутру «в свежих росах»; это и кирка,
пробивающая глубокие недра, где таятся неисчислимые богатства
и сокровища. Эти и многие им подобные образы-символы, вмещающие
в себя огромный социальный и общественный смысл, противостоят
той «праздной заботе», которой окружавшие поэта люди отдавали поч¬
ти все свое время.По-своему — и не менее острым оружием — вооружен и «страш¬
ный мир», которому поэт объявил непримиримую войну. И когда он
говорит в «Ямбах»:...гибну, принц, в родном краю,Клинком отравленным заколот...—то этот клинок, впитавший то горькие, то сладостные яды, несущие
Еерную гибель, также становится предельно обобщенным и многознач¬
ным символом всего того, что враждебно поэту, — да и не только ему
одному, но и каждому человеку доброй воли. Такого рода символы
(«отравленный клинок», «острый яд привычно-светской злости» или
та-кие же ядовитые, хотя с виду не столь опасные, «жадные герани») —
все это по-разному воплощенные образы «страшного мира»; вот что
изменило и самый характер образа-символа в лирике Блока, его
«функцию» и направленность — не от мира, а к миру.Порою и сам поэт раскрывает истинное —общественное — значе-484
нйе своих образов-символов, новых и необычайно значительных в его
лирике, хотя бы таких, как «цветение» («народ — венец земного
цвета...»); но даже и тогда, когда мы не находим такого толкования,
их смысл и характер совершенно очевиден — в «последней глубине»
и общественном значении.Правда, в свои «ночные часы», когда поэт видел «непроглядный
ужас жизни» и пе знал, как ответить на ее трагические противоречия,
его снова охватывало отчаяние, заставлявшее искать убежище, от
слишком страшной действительности в иных, дальних и «запредель¬
ных» мирах, что и побуждало его снова обращаться к старым «заве¬
там символизма» и отвечавшим этим заветам образам, смутным и «по¬
тусторонним».Вот почему созданные поэтом образы-символы нельзя подводить
под один общий «знаменатель», нельзя приписывать им общую «функ¬
цию» в системе средств художественной выразительности. Пот, когда
поэт испытывал «и отвращение от жизни и к ной безумную любовь» —
этим противоречивым переживаниям и влечениям отвечали и различ¬
ные по своему характеру, по своей направленности средства художест¬
венной выразительности.Как видим, в том противоречивом единстве, каким является лири¬
ка и поэтика Блока, в зрелую пору его творчества — встречаются два
типа образов-символов, явно не «корреспондирующих» друг с другом
и обращенных к различным сферам жизни и сознания. Одни образы
отвечают «заветам символизма» — в том ого «теургическом» и «мис¬
тическом» понимании, на котором настаивали такие ревнители
и апологеты идеалистического искусства, как Вл. Соловьев, Д. Мереж¬
ковский, В. Иванов, придававшие образу значение «иероглифа неизре¬
ченного», знака на пути к миру «запредельному», «потустороннему»;
другие образы были целиком обращены к той действительности,
и условиях которой жил поэт, способствовали ее глубокому осмысле¬
нию, и именно они обретали преобладающую роль в лирике Блока,
свидетельствовали о оо зрелости и глубине, о новом понимании сим¬
вола, как воплощения и «сгустка» самой жизни, «удесятеренного» но
своей остроте ее восприятия.VII! поэтике Блока нет деталей, подробностей, описаний, «нейтраль¬
ных» но отношению к миру страстей, раздумий, восприятий, — вот
почему для нео в высшей степени характерна доведенная до предела
пкопроссинность образа; метафоры в стихах Блока обретают крайнюю
[выразительность, позволяющую наглядно видеть и почти физически
ощутить самые сложные, тонкие, едва уловимые переживания или же
бушующие н неукротимые страсти, захватившие всего человека.ЧеловочосКИЙ взор в стихах Блока пылает, горит, жжет — и но
только в переносном (что само по себе неново), по и в буквальном
смысле слова; гадом н страстей оказывается самым настоящим пламе¬
нем; от него на щеках остаются ожоги, «жала огня», как сказал бы485
поэт; если глаза возлюбленной — это две свечи, то ослепленный ими,
поэт уверен, что его лицо...освещено
Твоими страшными глазами...В этом свете меркнет и исчезает все остальное. Здесь же он утвер¬
ждает, обращаясь к своей возлюбленной, что мечи ее «безумных глаз»
так опасны, что могут пронзить и ребенка; во многих стихах Блока
повторяется и варьируется образ взгляда-огня, порождающий почти
фантастические картины:Пронзай меня* крылатый взор,Иглою снежного огня...Взор мой горит у тебя на щеке,Трепет бежит по дрожащей руке...Пеплом подернутый буриый костер —Твой не глядящий, скользящий твой взор!.....обугленный рот в крови
Еще просит пыток любви...Чувства и страсти до того напряжены, что их словно бы можно
коснуться рукой и увидеть во всей их ослепительности, хотя тот, кто
на это отважится, может быть, идет на гибель:В эти желтые дни меж домами
Мы встречаемся только на миг. 'Ты меня обжигаешь глазами
И скрываешься в темный тупик...Здесь человек настолько поглощен страстью, как бы растворился
в ней, что нам словно бы воочию виден огонь чувств, сжигающих его —
и таких напряженных, что можно погибнуть, если попадешь в сферу
этого огня.Поэт обращается к одной из «встречных»:...взглядом вы боитесь сжечь
Меж нами вставшие преграды.,.—и здесь метафора реализуется целиком и полностью; острый или
пылкий взор превращается в огонь, пожар, меч или кинжал, — и имен¬
но о пожаре или кинжале, уже словно бы обретающих совершенно
самостоятельное бытие, независимое от своей «основы», и говорит
в дальнейшем поэт; это придает его образу, раскрывающему слож¬
нейшие переживания и напряженные чувства — в их зарождении,
движении, смене, — необычайную экспрессивность и энергичность,
почти физическую наглядность и ощутимость.Если взгляд сравнивается с кинжалом, то ударом этого кинжала
и завершается стихотворение:...меня, наконец, уничтожитТвой разящий, твой взор, твой кинжал!486
Так метафора обнаруживает — при своем развертывании — важ¬
нейшее сюжетообразующее значение и становится кульминацией
и трагическим завершением романа, происходящего на наших глазах.Не только взгляд —даже голос, если в нем слышится обетование
«невозможного счастья», отзвук подлинной страсти, родственной
бушующей и неукротимой стихии, может также жечь, оставлять
в душе свою «огневую черту»:...старик перед хором
Уже топнул ногой,Обожги меня голосом, взором,Ксюша, пой!Так отзывается в душе поэта «бред безумья и страсти», услышан¬
ный им в цыганской песне, каждое слово которой для него — словно
никогда не затухающий уголь, приложенный к самой груди.Поэт спрашивает авиатора, потерпевшего катастрофу: аачом он,
отважный, был в небо «и свой первый и последний раз..,»? Затем ли,Чтоб львицо светской и продажнойПоднять к тебе фиалки глаз?..—и этим фиалкам придается совершенно самостоятельное существова¬
ние, так я№ как и тому кинжалу или костру, который поэт видел во
взоре своей возлюбленной.Как видим, метафора Блока играет в его стихе не столько «орна¬
ментальную» или описательную роль, призванную повысить «предста¬
вимость» и пластическую ощутимость предмета повествования, сколько
драматизировать его, приобщить к миру самых острых переживаний
и как бы растворить — то ли «в буре цыганских страстей», то ли
в тоске и отчаянии, но непременно раскрыть в нем — и через него —
трагический характер человеческой жизни в условиях «страшного
мира».Особого внимания иаслуяшпаот характер блоковского эпитета. За¬
частую он резко «сдвинут», нарушает ряды обычных восприятий:Ночь бросает свой мглистый клич...Дальних скрипок вопль туманный..,...я пошел с толпой — за всемиВ туманную и злую высь...и т. п.«Мглистый клич», «гуманный вопль», «злая высь» — это смещение
восприятий зрительных, слуховых, чувственных, психологических или
любых иных систематически возникает в лирике Блока, и поэт высе¬
кает искры, сталкивая взаимоисключающие или совершенно не согла¬
сующиеся между собою эпитеты и определения.Как правило, в классической поэзии прошлого один эпитет гармо¬
нически дополняется и развивается другим; взятые вместо, они при¬
званы создать пластически завершенное представление о предмете,487
подчеркнуть его особенности, а вместе с тем и внутреннюю цельность;
здесь один эпитет является непосредственным и необходимым про¬
должением другого, развивает и дополняет его, и все они, взятые
вместе, составляют одно дружное «семейство».Не то мы видим в поэтике Блока, — его образы и эпитеты призва¬
ны не столько подчеркнуть пластическую цельность и единство
предмета повествования, сколько его двойственность, неустойчивость,
«текучесть», что и сказывается на самом характере определений,
внутренне противоречивых, взаимоисключающих, словно бы взрываю¬
щих друг друга, отвергающих сосодиоо и бросающих ему дерзкий вы¬
зов. Здесь эпитеты не «притягивают» друг друга, а отталкиваются
один от другого, и единство, образуемое ими, крайне изменчиво, не¬
устойчиво; это и составляет одну из своеобразнейших черт поэтики
Блока, сообщающих ей особую остроту, дух беспокойства, неуравнове¬
шенности, внутренних столкновений.Страстная, безбожная, пустая,Незабвенная...—так обратится поэт к своей возлюбленной, раскрывая самим чередова¬
нием этих внутренне противоречивых эпитетов всю сложность, мучи¬
тельность и внутреннюю «неуравновешенность» своих отношений
с нею.Зачастую Блок выбирает эпитеты и определения из совершенно
различных областей, словно бы не соприкасающихся и не «корреспон¬
дирующих» друг с другом, в результате чего и создаются крайне не¬
ожиданные и странные, на первый взгляд, образы:Твои дикие слабые руки,Бормотаний твоих жемчуга...Здесь от читателя требуется особого рода чуткость, «сотворчество»
для того, чтобы полностью войти в мир поэта и понять, а там уже
и «принять» — его образ, его эпитет, его «жемчуга».«Жемчуга бормотаний» — этот необычайно смелый и даже риско¬
ванный образ так неожидан и причудлив, что может показаться не¬
понятным с первого взгляда, и именно потому, что здесь какие-то
звенья в цепи сравнений и метафор опущены. По если мы сумеем
восстановить их, образ утратит свою непонятность, даже необычность,
и мы увидим, насколько он внутренне оправдан и закономерен.
Б своей основе образ этот традиционен, и нечто похожее мы видим
в стихах Алексея Константиновича Толстого:Не брани меня, мой друг,Гнев твой выразится худо,Он мне только нежит слух,Я слова ловить лишь буду,Как они польются вдруг,Так посыпятся, что чудо,Точно падает жемчуг
На серебряное блюдо!488
j Как. видим, сам по себе образ слова-жемчуга' (или, что, в сущнос¬
ти, почти то же самое—«жемчуга бормотаний») далеко не нов,—
а необычайную новизну образу придает внезапность, застигающая нас
врасплох, отсутствие промежуточных звеньев, что и вызывает ощуще¬
ние его странности и даже алогичности.Этот пример помогает уяснить то повое, что Блок вносил в разра¬
ботку эпитета и метафоры, принципы их развертывания.Мы видим, что один и тот же — в основе своей — образ различно
«подан» в лирике Толстого и Блока. Толстой обдуманно и последова¬
тельно подготовляет читателя к восприятию образа, развертывает
длинную цепь глаголов и описаний, которые призваны оправдать
появление слова-жемчуга. А Блок словно бы нарочито избегает каких
бы то ни было «оправданий» и пояснений, какой бы то ни было под¬
готовки, и если сравнить образ со штольней, то можно сказать, что
Алексей Толстой заботливо ставит подпорки, чтобы поддержать ее,
а Блок вышибает их одну за другой—и ого образ прямо-таки обру¬
шивается на совершенно по подготовленного читателя, порою букваль¬
но ошеломляет, — чем и достигается крайняя неожиданность и эк¬
спрессивность образа, метафоры, эпитета.Здесь не только сюжет, его лирическая «конструкция» обладают
«прерывностью», необходимою для повышения лапидарности и «емко¬
сти» стихотворения, призванного рассказать о всей судьбе человека,
его отношении к миру; как видим — такою же «прерывностью»
обладают метафоры Блока, эпитеты, сравнения, порою — выхваченные
из самых разнообразных, крайне отдаленных друг от друга областей,
что также отвечает широте поля восприятий и переживаний героя
его стихов,VIIНеобычайно важное зпачепие поэт придавал особого рода музыке,
охватывающей все стороны и явления жизни и призванной победить
«древний хаос», вноси в него гармоническое начало, — вот почему так
настойчиво в стихи Блока врываются скрипки, гитарные натянувшиеся
струны, бубен весны, визг гармоники, цыганские мотивы, глухие
песни, звучащие осторожной тоской — ив них особенно явственно
ощущается «музыкальное» начало, присущее лирике Блока. Вне этого
музыкального начала, всеохватывающего ритма поэт не представлял
себе подлинно осмысленной, внутренне цельной и наполненной жиз¬
ни — о чем и говорит в письме к М. И. Пантюхову:«Может быть, одиночество преодолимо только ритмами действи¬
тельной жизни, — страстью и трудом...» (1908) —и сам поэт не просто
присматривался (и с годами — все глубже и внимательнее) к жизни,
но и стремился «гармонизировать» ее, уловить ее ритм, утвердить ее
музыкальное начало —что по-своему сказалось в лирике Блока, в ее
мотивах и ритмах.«Форма искусства есть образующий дух, творческий порядок...» —
наметил Блек в записной книжке (1909), и тот «творческий порядок»,480
который установлен лирикою Блока, отличается удивительной дель¬
ностью, сказывающейся во всех элементах поэтики. Это и по истине
«порядок», во многих отношениях — весьма близкий порядку гармо¬
нического и художественно завершенного музыкального произведения
(что и составляет одну из характернейших особенностей лирики
Блока).Музыка, говорил Блок (снова услышав в Бад-Наугейме Вагнера,
так много значившего в его жизни и творчестве), — это «...самое совер¬
шенное из искусств.,, каждый оркестровый момент есть изображение
системы звездных систем но псом оо мгновенном многообразии
и текучом...Музыкальный атом есть самый совершенный — и единственный
реально существующий, ибо — творческий».Вот почему, утверждал поэт, «музыка творит мир. Она есть духов¬
ное тело мира — мысль (текучая) мира...» — ив музыке и посредством
музыки «становится космосом — дотоле бесформенный и небывший
хаос».Поэзия, в противоположность музыке, «исчерпаема» (продолжает
Блок), ибо ее атомы «менее подвижны», — вот почему он и приходит
к мысли о том, что, «дойдя до предела своего, поэзия, вероятно,
утонет в музыке...».Конечно, в этой записи много продиктовано сугубо личным вос¬
приятием и пониманием музыки, но она помогает уяснить существен¬
ные и «формообразующие» начала и элементы лирики и поэтики
Блока.Еще не так давно поэт призывал себя «оглохнуть ко всему, что не
сопровождается музыкой (такова современная жизнь, политика
и тому подобное...)» (1909), — хотя, вопреки этому призыву, «полити¬
ка» все настойчивее вторгалась в его стихи (о чем свидетельствуют
и «Ямбы», и «Возмездие», и стихи о России), ибо она тоя?е сопровож¬
далась «музыкой» (далеко не всегда слышной поэту). Самое же
главное — и отвечающее духу его лирики — заключается в том, что
в ней действительно мы слышим лишь то, что «сопровождается
музыкой», откликается на нее, и поэт проходил мимо всего, что не
охвачено ею, не стало музыкой (в том особом значении этого слова,
какое придавал ему Блок).В своем искусство поэт лсогдо оставался ворпым музыке, в которой
он видел родство со всо ми стихиями земли и ноба, да и самой жизни,
стремился «растворить» свои стихи в стихии музыки, подчинить их
мелодии.Ясно прослеживается особого, рода «настроенность» каждой
строки уже и в ранних стихах Блока, словно бы гипнотизирующих
своего читателя и стремящихся внушить ему то состояние, которое
отвечает мотиву лирического повествования:Утихает светлый ветер,Наступает серый вечер,Ворон канул на сосну, ^Тронул сонную струну...490
Эта едва тронутая «сонная струна» отозвалась во всем строе
стиха, преобразила его тембр, его звучание — и стала такой явствен¬
ной, словно ее затихающий звук еще раздается в наших ушах,
рассекает окружающий воздух и возбуждает в нем легкую и долгую
вибрацию; в этом и заключается своего рода гипноз стиха, его
«магия» (не случайно Блок так внимательно изучал «поэзию загово¬
ров и заклинаний», которой и посвящена одна из его ранних работ).В окружающем мире поэту слышится «всех линий таянье
и пенье», и это пение вторгается в его стихи, по-своему определяет
их течение и звучание.В лирике Блока сами звуки — своим сочетанием, чередованием,
сменой, своей музыкальной настроенностью — договаривают сказанное
в стихах; когда поэт утверждает, чтоУжасней дня, страшное ночиСиянио небытия...—то в последней строке сочетанно широко разворстых, легких и воз¬
душных гласных, летящих и словно бы утративших опору, приобре¬
тает особое звучание н значение, и «сияние» воспринимается здесь
как зияние — на краю той бездны, от одного вида которой захватывает
дух и кружится голова.В цикле «На поле Куликовом» мы читаем:Орлий клекот над татарским станом
Угрожал бедой...—и в самом подборе каких-то захлебывающихся, клокочущих горловых
звуков («орлий клекот») нам слышится нечто зловещее, отзывающее¬
ся предчувствием близкой беды и угрожающее ею, накликающее ее.А когда мы далее читаем:Я слушаю рокоты сечиИ трубимо крики татар..,—то эти «рокоты» раскатываются но стихам, как грозовые разряды над
просторами бескрайних полей; строки рокочут, пронизанные трубны¬
ми «р», — и в них явственно слышатся те «рокоты сечи», о которых,
как о чем-то злободневном, неизбежном и еще не отзвучавшем, сви¬
детельствует поэт.Совершенно иное — и определяемое другой темой, другими моти¬
вами — звучание слышится в стихотворении «Комета»:Сквозь ночь, сквозь мглу — сгремят отнынеПолет — сгада стольных стрекоз!Кажется, самый звук стихов отзывается на работу заведенного
механизма, и совершенно очевидно, что этот звук возник и ширится
не случайно, а как бы повторяет равномерное и однообразное стреко¬
тание механических существ, вонзающихся в темное небо.А когда мы читаем в «Незнакомке»:...и веют древними поверьями..^—491
то сама эта строка, напоминающая о древних поверьях, перекликает¬
ся — характером своих созвучий, обретающих необычайно важное
смысловое, а вместе с тем и музыкальное значение, — с духом «пове¬
рий»; так магия стиха, повествующего о свершении чуда, наступления
чудесного и таинственного, становится магией звука, отвечающего
духу «поэзии заговоров и заклинаний», в которой особое, «заклина-
тельное» значение придается ие только смыслу произносимых слов,
но и звуковым их сочетаниям, словно бы обладающим некоей силой
влияния и воздействия иа окружающий мир.Та же nopuocTh духу «поэзии заговоров и заклинаний» угадывает¬
ся и в стихотворении «I! ресторане»; здесь жизнь чувства обретает
свой, отвечающий ее характеру звуковой «обл ик», — и выражена в нем
явственно и ощутимо:...вздохнули духи, задремали ресницы,Зашептались тревожно шелка...В этих звуках, исполненных какого-то особого обаяния, вопло¬
щается и тревожный шелест шелков, и дыхание духов, и дремота
ресниц — всему здесь придается тайное значение, и кажется, стоит
только уловить его настороядашым слухом — приоткроется калитка
в какой-то новый и неведомый мир, в котором господствует музыка,
наяву свершаются чудеса, воплощаются сказания старины.Поэт обращается к «встречной»:...угрюмому скитальцуВослед скользнет ваш беглый взгляд,Тревожно шелк зашевелят
Трепещущие ваши пальцы.В этих строках, в самом их звуковом составе, подчеркиваются
сложнейшие переживания и чувства — с предельной, почти физиче¬
ской ощутимостью; так, в последних двух стихах нагнетанием шипя¬
щих, следующих друг за другом, передаются и шорох шелка, переби¬
раемою трепещущими пальцами, и тревога, словно бы навеянная,
и усиленная этим шорохом и уже как бы слитая с Ними, и смятении
человека, охваченного предчувствием чего-то роковою и неизбежно¬
го; все звуки перекликаются, отзываются один в другом, слиты в некое
музыкальное единство.Мы можем по-разному осмысливать характер и значение «пере¬
клички», повторов, различных вариаций одних и тех же или схожих
фонем в том или ином их чередовании, но нельзя не заметить, что
они определяют настроенность, выразительность и музыкальность
стиха, его мелодию; несомненно, что и сам характер этих фонем, их
смена определены повествовательным материалом, являются его
музыкальным .выражением, eqo«.«звуковым лицом», что крайне харак¬
терно в поэтике! Блока.Так, в стихотворении «Новая Америка» радостное, праздничное,
торжественное «чувство, охватившее поэта, перед глазами которого
открылась «непонятная ширь, без конца», находит свой выход пе492
только в сюжете и характере лирического повествования, но и в самом
его звуковом строе и составе:Праздник радостный, праздник великий,Да звезда из-за туч не видна...Ты стоишь под метелицей дикой,Роковая, родная страна..., Здесь праздничное ощущение усиливается и подчеркивается
в стихах тем, что вслед за словом «праздник» следует эпитет «радост¬
ный», повторяющий почти все его фонемы,— и эхом откликающееся
«ра» словно бы всплывает и перекатывается на волнах охватившей
поэта радости и особым образом выражает ее. Слова перекликаются
друг с другом, отражаются и преломляются одно в другом, как зер¬
кальные глади, стоящие одна против другой и многократно умножаю¬
щие открывающиеся в них перспективы, — ив поэтике Блока крайно
характерен принцип построения таких «звуковых зеркал», где
в последующих словах отражается — в самых прихотливых сочетаниях
и преломлениях, частично или полностью — звуковой состав предан
дущих, обретая таким образом повышенную ощутимость и вырази¬
тельность.Если мы вслушаемся в строку: «роковая, родная страна»,-—то
нельзя не поразиться столкновению «особенных «эр» (говоря словами
Иннокентия Анненского), раскатывающихся здесь друг за другом
с нарастающей силой; нас захватит повторение одной и той же удар¬
ной гласной, сливающейся в одно сплошное и широко развертываю¬
щееся: «а а а!..»—подобное долгому и протяжному крику человека,
перед глазами которого открылась «непонятная ширь без конца», где
сколько ни кричи — ни до кого ие докличешься...Так самый фонетический состав стиха, создающий своего рода
«звуковой образ», становится неотъемлемой частью картины и пол¬
ностью сливается с нею, подчеркивает и делает пластически осязае¬
мыми ео чорты; пород нами возникает но просто звук, а «строитель-
звук» (если воспользоваться выражением Есенина).Конечно, нельзя сразу от звука, от фонем и их сочетания, чередо¬
вания, смены перейти к семантике (что явно упрощало бы вопрос об
их связи и взаимоотношениях), но когда мы читаем строку:...не людская касалась рука...—то несомненно, что необычайная ее насыщенность одними и теми же
фонемами, повторяющимися и как бы лязгающими слогами, одними
и теми же свистящими и горловыми призвана подчеркнуть в стихе
нечто механическое и поистине «не людское».Нетрудно убедиться, что стихи Блока насыщены элементами,
придающими им музыкальность и мелодичность («всех линий таянье
и пенье...»), но эта фонетическая насыщенность чужда модному
в свое время «бальмонтизму», который заключался в назойливом
и «выпирающем» повторении аллитераций, в оглушающем и монотон¬
ном чередовании одних и тех же, нарочито и искусственно — вне493
зависимости от смысла — подобранных фонем («чуждый чарам чер¬
ный челн...»), в чем Бальмонт и усматривал «поэзию как волшебство»;
именно так называется книга, в которой Бальмонт отстаивал примат
звука, фонемы над смыслом стиха; он утверждал в своей книге:«Вслушиваясь долго и пристально в разные звуки, всматриваясь
любовно в отдельные буквы, я ие могу не подходить к отдельным
угадываниям. Я строю из звуков, слогов и слов родной своей речи
заветную часовню, где все исполнено углубленного смысла и проник¬
новения».Что же это за «проникновение»?И Бальмонт расшифровывает:«Мягкоо М, влажное Л. Смутное И, прозрачное А, медовое
М и А — как пчела. В М — мертвый шум зимы, в Л — властная весна.
М —сжимает и тьмой и дном, в А — взвивающийся вал... У — музыка
шумов и У — всклик ужаса. Звук, грузный, как туча и гул медных
труб. У — вдруг встает как упор, как угол, упреждающий развитие
бури... Как противоположность грузному У, И —тонкая линия, прон¬
зительная, вытянутая, длинная былинка...» — и т. п.Из всего этого Бальмонт делает вывод:«Стих вообще магичен по существу, и каждая буква в нем —
магия... Каждый звук есть живое существо, и каждая буква есть
вестница».Именно эти «теории» послужили основой для поэтической прак¬
тики самого Бальмонта, породили стихи, подобные «Челну томления»
(«Вечер. Взморье. Вздохи ветра...») или «Песне без слов» («Ландыши,
лютики, ласки любовные...»).Следует подчеркнуть, что такого рода воззрения на «поэзию как
волшебство», весьма широко (в той или иной их модификации) рас¬
пространенные в начале века, были чужды Блоку,— так же, как игра
в аллитерации, в подбор заранее определенных звуков, означающая
на практике «низведение поэзии до уровня технической работы» — по
точному определению Маяковского.В сущности, то же самое говорил и Блок в своих записных
книжках (неизвестных Маяковскому):«Бальмонт и вслед за ним многие современники вульгаризировали
аллитерацию...» (1911), —придав ой назойливый и заранее заданный
характер, «подгоняя» под нее точен и о стиха, то ость придавая одному
из элементов формы доминирующее значение, что вступает в явное
противоречие с самим существом художественного творчества, низво¬
дит его до уровня версификаторского упражнения.Артикуляционная и фонетическая выразительность и музыкаль^
ность, в высшей степени присущие лирике Блока, как и перекличка
звучаний в его стихах, призваны не затемнить и не «оттеснить» их
смысл, а, наоборот, подчеркнуть тот или иной оттенок смысла, придать
ему особую явственность, дополнительную окраску, сделать его
наиболее ощутимым и выразительным, эмоционально-действенным.
Если Блок замечал, что «фонетика» его стиха становится излишне
подчеркнутой, Назойливой, он стремился приглушить ее, сделать ее494
более тонкой, неприметной (о чем и свидетельствуют черновые ва¬
рианты его стихов, в которых мы нередко встречаем по-бальмонтовски
назойливую «инструментовку» — с резко выпирающими аллитерация¬
ми; дальнейшая работа Блока над стихом, помимо прочего, заключа¬
лась в том, чтобы «приглушить» или убрать назойливо звучащие
аллитерации, придать музыке более тонкий и сложный характер,
многообразнее использовать возможности сочетания и «переклички»
одних и тех же фонем, придать их звучанию большую гибкость, сде¬
лать их менее приметными).Существует мнение, что в стихе размеры, ритмы, звучания — ней¬
тральны по отношению к выражаемому смыслу, материалу пережива¬
ний, наблюдений, раздумий и что любыми из них можно передать все
что угодно. Но с этим крайне трудно согласиться.Конечно, взятые сами по себе, эти компоненты стиха действитель¬
но являются нейтральными, но, входя в него, занимая в нем опреде¬
ленное место, становясь частицей его системы и «конструкции», «осваи¬
ваясь» им, они обретают и определенный смысл, определенную
эмоциональную окрашенность, утрачивают свою изначальную «нейт¬
ральность». Включаясь в стих, каждый «звучик» и каждый, даже не¬
приметный, «образишко» (говоря словами Маяковского) вступает
в реальные и конкретные взаимоотношения с другими компонентами
стиха («тут каждый слог замечен и в чести»,— заметил Пушкин), с тем
целым, которое призвано воплотить с наибольшей полнотою и опреде¬
ленностью художественный замысел, и либо способствует решению
этой задачи, либо мешает — третьего быть не может; подтверждением
этому положению может служить и лирика Блока, принципы его мас¬
терства.В цикле «Венеция» поэт восклицает:Волна возвратного приливаБросает в бархатную ночь...—*и в этих стихах более явственно, чем в подавляющем большинстве дру¬
гих, подчеркнута взаимосвязанность звуков, их заимозависимость, соз¬
дающая особого рода настроенность стихотворения в целом. Здесь зву¬
ки возникают на гребне одной и то же волны, о которой повествует
поэт, и являются как бы ее продолжением, ее отголоском, ее эхом,—
и тут несомненно, что фонетика стиха находится в нерасторжимом род¬
стве и единстве с темой и материалом повествования, как бы порожде¬
на ими, и послушно отвечает им, «корреспондирует» с ними — одно
неотделимо от другого. В этих стихах мы можем уловить не только
линии воссозданного поэтом рисунка, но и «пение линий», словно бы
растворяющихся в предмете повествования и переводящих его на свой,
особый язык; здесь и сама «звукопись» (по терминологии Валерия
Брюсова) каждого стиха отличается своей фонетически определенной
тональностью, и такого рода определенность (конечно, далеко не всег¬
да столь резко подчеркнутая) создает музыкальность стиха, звучание
которого никогда ие безразлично к характеру выраженных в нем
чувств, настроений и наблюдений. Они находят свой явственный от¬•595
клик в самой фонетике стиха, в системе присущих ему звуковых, соче¬
таний, повторов, «возвращений» («волна возвратного прилива» — как
сказал бы сам поэт).VIIIВ поэтике Блока, отвечающей музыкальному строю его лирики,
особое значение принадлежит ритму, причем блоковский ритм охваты¬
вает необычайно широкий круг тех, компонентов, из которых слагает¬
ся стих, воздействует па них и формирует их.В статье «Поэзия Александра Блоки» (1922) В. М. Жирмунский,
разъясняя принципы силлабо-тонического стихосложения — в отличие
от чисто тонического, от «дольника» (в котором при определенном ко¬
личестве ударений в каждом стихе число неударных слогов — между
ударными — является величиной переменной), не случайно, а вполне
оправданно связывает «победу принципов чистого тонизма» с именем
Блока и при этом отмечает:«Конечно, у Блока были предшественники, как у всякого художни-
ка-поватора. Стихия чистого тонизма просачивалась в русскую поэзию
разными путями...» — и здесь В. М. Жирмунский упоминал произве¬
дения и Жуковского, и Лермонтова, и Фета, и Григорьева, и других
поэтов — вплоть до В. Брюсова, 3. Гиппиус, В. Иванова.«Некоторые из этих стихотворений,— говорит В. Жирмунский,—
предшествуют первым дольникам Блока (1901—1902, «Стихи о Пре¬
красной Даме»), другие написаны одновременно или позднее, во вся¬
ком случае — вполне самостоятельно. Тем не менее... они производят
впечатление первых опытов неканонизироваиной подземной литератур¬
ной струи. Впервые у Блока свободные тонические размеры зазвучали
как нечто само собою разумеющееся, получили своеобразную напев¬
ность, законченный художественный стиль. В творчестве Блока,— про¬
должает В. Жирмунский,— русский поэтический язык ассимилировал
в себе эту новую, еще недавно непривычную форму...»Действительно, как система «законченного художественного сти¬
ля» блоковский стих является классическим выражением «дольни¬
ка»,— причем такого «дольника», в котором все элементы полностью
развернуты, применены и внутренне соподчинены именно как художе¬
ственно завершенная система, а не от случая к случаю (и не только
как переложение западноевропейской поэзии или нечто механически
заимствованное из нее,— как это было, преимущественно, раньше).В своей работе В. М. Жирмунский справедливо говорит о значении
и характере «паузника» в «Стихах о Прекрасной Даме» как о худо¬
жественном открытии Блока (и с годами это все очевидней и бесспор¬
ней); впоследствии блоковский «паузник» стал еще более выразитель¬
ным, емким и — хочется сказать — «содержательным», как это мы ви¬
дим в цикле «Три послания»; когда мы читаем:Над бездонным провалом в вечность,Задыхаясь, летит рысак...—
то здесь «паузы» возникают потому, что перехватывает дыхание как
бы над краем провала; они становятся словно бы знаком и бесспорным
свидетельством бездонного провала, который откликается и в самом
ритме стихов.Но ритмика Блока и по-иному может усилить, когда необходимо,
ощущение «провала», «зияния»,— как это мы видим в стихотворении
«Шар раскаленный, золотой...»:...Ужасней дня, страшнее ночи
Сияние небытия...В последней строке ощущение бездны, готовой открыться под но¬
гами и поглотить человека, создается и усиливается характером соче¬
тания гласных, не только непосредственно следующих одна за другой
и создающих ощущение «воздушности» речи, но и характером ритми¬
ки, выразительным сочетанием второго пеона с четвертым, когда пер¬
вая и вторая ударные — опоры стиха, его «быки» — далеко отстоят
друг от друга, а меж ними возникает широкий пролет, где как бы па¬
рят безударные гласные, создавая особую настроенность речи, сияю¬
щей — зияющей — воздушной.Совершенно иначе звучит стихотворение «Голос из хора», в кото¬
ром ужасу и отчаянию, охватившему поэта, отвечают короткие, рез¬
кие, чуждые какой бы то ни было музыкальности, фразы, произнесен¬
ные человеком, у которого судорожно сжимается горло,— и его речь
переходит в выкрик, мольбу, растерянное бормотание:Весны, дитя, ты будешь ждать —Весна обманет.Ты будешь солнце на небо звать —Солнце не встанет.И крик, когда ты начнешь кричать,Как камень, канет...Кажется, что и самый стих готов «кануть, как камопь» и является
как бы эхом падении но крутым, скользким скалам, в страшную
пропасть, и этот грохот падающего камня слышится в лязгающем
стуке — «кам... кам... кан...», отзывающемся словно бы из глубин ги¬
бельного провала.Можно было бы взять многие мотивы и проследить, как кая^дый
из них находит свой отзвук в стихе, в его ритме; обратимся хотя бы
к одному из них — такому, как танец или пляска (которому посвящено
немало страниц в лирике Блока).В цикле «Заклятие огнем или мраком» поэт в кружении и посвис¬
тах метели внезапно !узнает «удалую пляску», залихватские лады
(«гармоника — ты?»), и сразу я«е ритм его стихов откликается на при¬
зыв лихой частушки, задорной и отчаянной песни, которая составляет
самую душу разгульного хоровода:Гармоника, гармоника!Эй, пой, визжи и жги!Эй, желтенькие лютики,Весенние цветки!..17 Заказ 534497
Неверная, лукавая,Коварная — пляши!И будь навек отравою
Растраченной души!..Так поэт отвечает па задорный призыв лукавой молодки, которая
изошла песней, пляской, и в самом ритме этих стихов угадывается ее
лихая и бедовая удаль, ос «широкий пляс».Совершенно иной ритм господствует в стихотворении «Дух пря¬
ный марта...», отличающий огню и задору того танца, который видится
поэту в кружении весенней мотели:Ты прижималась все суеверной,И мне казалось — сквозь храп копя —'Венгерский танец в небесной черни
Звенит и плачет, дразня меня...Эти прерывистые, надвое рассеченные строки словно содрогаются
в лавине звона и лязга невидимого оркестра и, кажется, сами рожда¬
ются под топот венгерки, отвечают ее порывистому и напряженному
ритму.К совершенно особому ритму взывают «цыганские» мотивы, когда
они возникают в стихах Блока — во всей своей непосредственности,
безудержности, даже «диковатости», словно бы уже не подчиняющейся
никаким заранее установленным порядкам и правилам; здесь все
возможно, допустимо (как известно еще со времен Аполлона Григорье¬
ва) самое неожиданное сочетание слов, образов, ритмов — лишь бы
они отвечали порыву живой, непосредственной, ничем не сдерживае¬
мой страсти, и такие стихи — вне пределов поэтики классицизма; в них
перед нами возникают образ и интонация героя, уже настолько «обож¬
женного» налетевшим на него жарким вихрем, что он утратил власть
над собой, над своей речью; он бормочет и выкрикивает, точно в бре¬
ду, бессвязные и восторженные слова, и они в лихорадочном темпе
сменяются одно за другим,— да и как же иначе выразить все кииевие
и неистовство охвативших и переполнивших поэта чувств?!Брод безумья и страсти,Бред любви...Невозможное счастье —На! Лови!..Эти восклицания, выкрики, их стремительный, бурный, безудерж¬
ный поток обрушиваются на нас с какой-то высоты, с того крутого
порога, где можно насмерть разбиться о камни; они возникают перед
нами во всей своей непосредственности, первозданности, даже дико¬
ватости, подчиняясь совершенно особому ритму, небывалому дотоле и
бросающему дерзкий вызов любым стихотворным канонам и нормам.Все здесь уже за пределами тех чувств и помыслов, о которых мож¬
но дать отчет себе или другим,— а стало быть, и за пределами логи¬
чески связанной речи, призванной сообщить нечто ясное и определен¬на
ное, точно установленное; говоря словами самого поэта, в таких сти¬
хах слышится уя;е совершенно иное:...страстный бред,Уст о блаженно-странном лепет...Несбыточные уверенья,Нет, не слова...(«Черпая кровь»)Эти слова действительно утратили свое обычное значение — и на¬
значение, превратились в бормотание, выкрики, бессвязный лепет, но,
кажется, только они и могут ответить состоянию того «страстного бре¬
да», которым они подсказаны и для которого обычная, логически связ¬
ная, заранее размеренная речь была бы ни к чему и некстати,— и это
отзывается на всем характере и строе стиха.IXСледует подчеркнуть и то, что в лирике Блока существенное и фор¬
мообразующее, а вместе с тем смысловое значение обретает не только
ритм, как определенный порядок чередования ударных и безударных,
но и иной ритм, который Андрей Белый (анализируя стихи Валерия
Брюсова) назвал «ритмом образа», ритмом повторения, возвращения,
смены, вариаций образов, метафор, обращений, частей речи, необычай¬
но важным в структуре произведения.Ритм образа — повторение одних и тех же метафор или оборотов
речи, их «параллелизм», а то и другие, порою «перевернутые», фигуры
и «возвратные» движения — придает особого рода музыкальную на¬
строенность лирике Блока, в которой крайне характерна такая конст¬
рукция фразы:(I эвпл тебя, но ты но оглянулась,И слепы лил, по ты не снизошла...I! мое измученное тело,В моо холодиоо жилье...Ты так светла, как снег невинный,Ты так бела, как дальний храм...О, сердце, сколько ты любило!О, разум, сколько ты пылал!..Разве дом этот — дом в самом деле?Разве так суждено меж людьми?..В час рассвета холодно и страипо,В час рассвета — почь мутна...Когда поэт открывает и замыкает строфу одним и тем же глаго¬
лом:Есть в напевах твоих сокровенныхРоковая о гибели весть.17*499
Есть проклятье заветов священных,Поругание счастия есть...—то это настойчиво повторяющееся «есть — есть — есть» приобретает
особый музыкальный смысл и особую выразительность — столько в
нем сосредоточено силы, энергии, убежденности, что оно не может не
оказать своего глубокого, хочется сказать — гипнотического, воздейст¬
вия на читателя.А если сердце поэта полно «страшной памятью» о «нескончаемой
ночи», как это мы видим « стихотворении «Посещение», то ее «нескон-
чаемость» отзывается здесь и настойчивым нагнетанием одних и тех
структур, словно поэт ие может выбраться из круга захвативших его
и держащих ого под своей властью чувств, переживаний, тягостных
раздумий, возвращающихся все к одному и тому лее,— как будто по¬
мимо них в мире не осталось ничего иного:Я сквозь ночи, сквозь долгие ночи,Я сквозь темные ночи — в венце...Да, кажется, таким ночам нет конца, ибо для всего иного душа
поэта «ослепла»,— как и внушает он нам в этом стихотворении.Такое я^е властное, но исполненное уже совершенно иной —• торже¬
ствующей и всепобеждающей — силой заклятье слышится нам в цикле
«Кармен» с его страстной напряженностью и настойчивостью, перед
которой должны пасть все преграды, открыться любые пределы:О, да, любовь вольна, как птица,Да, все равно — я твой.Да, все равно мне будет сниться
Твой стан...И эти «да-да-да» идут словпо волны разбушевавшегося моря —
одна вслед за другой, нарастая в своей высоте и ликующей мощи, го¬
товой обрушиться, а если надо, то и сокрушить все, что стоит перед
ними.А когда поэт с такой же энергией и страстью заклинает:Все это было, было, было,..—имея в виду множество своих предшествующих существований, то его
страстно утверждаемые слова подобны ударам молота, настойчиво и
неотразимо бьющего в одну и ту же точку.Поэт зачастую возвращает нас к тем же самым — или варьирую¬
щимся — фразеологическим конструкциям, задерживает наше внима¬
ние на тех же образах, заставляет вернуться к уже сказанному, чтобы
по-новому воспринять и пережить его и словно бы сообщить нам осо¬
бые «знаки», имеющие, помимо логического, и некий иной, «заклина-
тельный» смысл., Сама конструкция фразы подчинена в стихах Блока законам рит¬
мики и архитектоники:...в ночной завывающей стуже,В поле звезд отыскал я кольцо.Вот лицо возникает из кружев,Возникает из кружев лицо.,..500
Такое строение фразы, то как бы закручивающейся, то раскручи¬
вающейся в обратном направлении, создает ощущение некоего коль¬
ца — кольца метели, кружения и кружева, плетения и переплетения,
точно в вихре метели и нельзя говорить иным языком, но отвечающим
духу ее кружения и не слагающимся в полном соответствии с ним; как
видим, здесь ритм — это не только чередование ударных и безударных,
а и «ритм образа», ритм фразы, ритм действия и всего повествования,
словно бы и оно охвачено стремительным круговым движением,— что
является одним из активнейших, формообразующих компонентов в поэ¬
тике Блока.Здесь эпитеты и определения — явно в нарушение обычного син¬
таксического строя — неожиданно отделяются друг от друга своего ро¬
да «интрузиями», вторжениями инородных частей речи (предлогами,
союзами, местоимениями и т. п.):Ты, милая, ты, ложная...Мой бедный, мой далекий друг...Твой разящий, твой взор, твой кинжал...Твой стан, твой огневой...Такие местоимения, вторгающиеся подчас в цепочку эпитетов и
словно бы разрывающие ее на отдельные звенья, приобретают — из-за
своего неожиданного положения в стихе — повышенную выразитель¬
ность, силу особого эмоционального воздействия, как это мы видим
в стихотворении «О доблестях, о подвигах, о славе...»:Не знаю, где приют своей гордынеТы, милая, ты, нежная, нашла...Если бы мм* заменили второе «ты» (неожиданно, в нарушении нор¬
мального синтаксического строя, вторгшееся в стих!) хотя бы и такою,
казалось бы, более естественною и закономерною в данном случае
частью речи, как союз: «Ты, милая и нежная, нашла...»—то мы увиде¬
ли бы, как резко изменился бы стих, утратив значительную долю своей
эмоциональной насыщенности, необычайной внутренней напряженнос¬
ти, страстности, став слишком гладким и даже ординарным; так мы
можем заключить, какую важную функцию в поэтике Блока выполня¬
ют подобные «нарушения», подчас бросающие вызов синтаксическим
и прочим речевым нормам.Эти «нарушения» обычного синтаксического строя вызваны стрем¬
лением придать не столько разговорный, сколько ритмико-музыкаль¬
ный характер всем элементам речи и самому синтаксическому строю,
создать не столько «зернистую» или «комковатую» (как сказали бы
почвоведы), сколько ритмически (порою — почти геометрически, как в
кристалле) организованную его структуру, в которой одна фразеоло¬
гическая (а вместе с тем и музыкальная) «линия» активно воздейству¬
ет на другую, заставляет ее «подравниваться» (этим определяется501
множество «параллельных», да и не только «параллельных», но и дру¬
гих многообразно варьирующихся синтаксических, а вместе с тем
и музыкальных «рядов» и фигур в лирике Блока).Все это, взятое вместе, и создает не просто «линии», но и «пение
линий», совершенно особый ритм звука, слова, образа, охватывающий,
и по-своему организующий стихотворение в целом, а вместе с тем
и каждый компонент стиха.Здесь архитектоника проиннедшши подчиняется ритму, музыкаль¬
ному соотношению частой, ш pm т особую, а подчас и наглядно зримую
роль — как это мы видим н цикле «Пляски Смерти»:Ночь, улица, фонарь, аптека,Бессмысленный: и, тусклый свет.Живи еще хоть четверть века —Все будет так. Исхода нет.Умрешь — начнешь опять сначала,И повторится все, как встарь:Ночь, ледяная рябь канала,Аптека, улица, фонарь.Замысел художника обретает особую выразительность потому, что
полностью воплощен в четких, резко очерченных образах (улица, фо¬
нарь, аптека), которые сначала идут перед нами в одном направлении,
а затем в обратном,— и аптека, замыкающая первый, начальный, ряд
образов, открывает последний, завершающий ряд — как некое нерас¬
торжимое звено, соединяющее всю цепь образов, слагающихся в замк¬
нутый круг, из которого, казалось поэту, «исхода нет». Этот «круг»
образов подчинен особого рода ритму, связанному с четкой, архитек¬
турно завершенной композицией всего стихотворения в целом.Чтобы уяснить, какую роль играет «ритм образа» в поэтике Блока,
система повторов, по-своему влияющая на конструкцию лирической
фразы, достаточно внимательно присмотреться к стихотворению «Сны»,
в котором за «внешним» сюжетом — воспоминанием об услышанной
в детстве сказке —- раскрывается иной, скрытый — и символический —
смысл, раздумье о судьбах родины. Здесь «копь качается качалка»,
а мальчик, который внемлет «древней, древней» сказке «о заморской,
о царевне», мечтает «на коня-б скакнуть» и мчаться «за моря, за океа-
пы», — туда, где царевна «спит в хрустальной, спит в кроватке».Под парчами, под лучами
Слышно ей сквозь сны,Как звенят и бьют мечами
О хрусталь стены...Она слышит, как «бьется конник гневный, бьется семь ночей», что--
бы освободить ее от власти темных сил; завершается стихотворение’
«Сны» восторженным возгласом:Луч зеленый, луч лампадки,Я тебя люблю!Если проследить все «•повторы», «возвращения», вариации уже ска¬
занного, то мы увидим, что отмеченный Андреем Белым «ритм обра¬
зов» возникает не от случая к случаю, а систематически — и по-свое¬
му формирует каждую строфу, охватывает все стихотворение в делом,
движение которого развивается на волне напряженного ритма, пос¬
тоянно возвращающихся мотивов, обретающих в силу этого особое
и систематически подчеркиваемое поэтом значение.Здесь мы привели наиболее очевидные образцы, свидетельствую¬
щие о том, насколько творчеству Блока присущи начала «архитекто¬
ники», музыкальности, ритмики, охватывающей все элементы его сти¬
ха,— но, конечно, в большинстве случаев они носят бодее сложный
и скрытый характер, являются менее броскими и наглядными,—и все
же они со всею несомненностью прослеживаются в строе и чередова¬
нии звуков, слов, образов, отвечающих характеру ритма, «резонирую¬
щего» во всех элементах произведения. Все ото и образует особый ха¬
рактер поэтики Блока, по многом — совершенно неповторимый, так жо
как неповторим жизненный и творческий опыт художника, характер
его воззрений и замыслов.Конечно, принцип повторов, возвращений, вариаций, создающих
особого рода «ритм образа», открыт ие одним лишь Блоком (да и не
символизмом вообще); в творчестве иоэтов-символистов (Валерий
Брюсов, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус, Федор Сологуб, Иван Конев-
ской) он применялся систематически, а потому и обрел существенное
значение в поэтике символизма, но особенно — в творчестве Блока,
вершине русской поэзии начала нашего века.В конце концов, повышенная роль ритма в стихах Блока (так же
как и всех средств фонетической выразительности), явственно наме¬
ченная «архитектоническая» структура, охватывающая все элементы
лирического повествования, отвечают отношению поэта к музыке как
высшему роду искусства (музыке не только в узкопрофессиональном
ее понимании). Впоследствии — в очерке «Катилжна» (1918),'-анализи¬
руя стихотворение Катулла «А.ттис», характер размера и его модифи¬
каций, поэт приходит к следующему, необычайно важному выводу,
имеющему самое непосредственное отношение к его творчеству (так
же как и творчеству любого другого художника, чуткого к голосу сво¬
ей эпохи);«...личная страсть Катулла, как страсть всякого поэта, была насы¬
щена духом эпохи; ее судьба, ее ритм, ее размеры, так же, как ритм
и размеры стихов поэта, были внушены ему его временем; ибо в поэ¬
тическом ощущении мира нет разрыва между личным и общим...» И?
продолжает Блок в связи с этим: «...в эпохи бурь и тревог нежнейшие
и интимнейшие стремления души поэта также преисполняются бурей
и тревогой...»Вот что внушало поэту особые ритмы, особые размеры, в которых
и нашло свое выражение его время.Так вопросы о таких специфических компонентах стихотворной
речи, как ритм, размер, связывались поэтом непосредственно с бурями
а грозами его эпохи, а но была чисто .«спонтанными» (как полагают
иные теоретики стиха).503
XПрослеживая особенности лирики Блока, взятой в целом, мы ви¬
дим, что его эстетика — это «движущаяся эстетика», меняющаяся
с годами, от тома к тому, и ее развитие крайне сложно и внутренне
противоречиво.Каждой части «трилогии вочеловечения» соответствует и своя осо¬
бая система средств художественной выразительности, далеко не всег¬
да хронологически сошшдающин с членением трилогии, но явственно
различимая в своей определенности, в своих преобладающих и отличи¬
тельных чертах и тенденциях, сказывающихся на всех компонентах
стиха.Огромное расстояние отделяет Блока зрелой поры, художника не¬
обычайно силы, создавшего произведения, пронизанные пафосом об¬
щественности и революционным духом, от автора отвлеченно-мечта¬
тельных в большинстве своем «Стихов о Прекрасной Даме». Но и в них,
наряду со стихами невыразительными, «гладкими», а то и явно подра¬
жательными, относительно которых поэт говорил, что их «техника»
очень слаба, встречаются и иные, где слышится нарастающая тревога,
чувство близкого и неизбежного крушения того идиллически безмя¬
тежного мира, в котором дотоле пребывал поэт...Второй том лирики Блока — внешне наиболее хаотический, необыч¬
ный, броский; многие его стихи пронизаны кричащими интонациями,
разорванными размерами, всем тем, что призвано выразить смятенность
создания, потрясенного зрелищем ужасов современной жизни, или
же увлеченность стихией, чуждой какого бы то ни было порядка и
строя.Погружаясь в стихию снегов и метелей, стремясь раствориться
в ней, поэт целиком предается и стихии слова, бросается в волны сти¬
хотворной речи, не заботясь о том, куда они его вынесут и что ждет
его впереди — лишь бы только не изменить стихии,— и не желая хоть
в чем-либо подчинить ее себе:Сны метели светлозмейвой,Песни выоги легковейной,Очи девы чародейной,И какие-то печали
Издалй,И туманные скрижали
От земли,И покинутые в дали
Корабли.И какие-то за мысом
Паруса.И какие-то над морем
Голоса...Здесь все зыбко и расплывчато, все тонет в неопределенных очер¬
таниях, в наплывах туманов, снов, смутных видений, и сами слова как
бы мельтешат вокруг некоей недвижной точки, от которой не могут
оторваться, и хотя говорят они о стремительном движении,— все кру-504
жится на одном место, явно повторяясь или только слегка варьируясь.
Одна неопределенность сменяется другою («какие-то печали»; «какие-
то паруса»; «какие-то голоса»...); мы тонем в потоке этих слов, и чем
обильнее они нагромождаются, чем быстрее и беспорядочней сменяют
друг друга, тем очевиднее недвижная «точка», вокруг которой они
мелькают; так стремление передать дух стихии в формах «самой сти¬
хии» подчас приводило поэта к смутным, расплывчатым, хаотическим
стихам.Не мудрено, что такого взыскательного мастера, как Валерий Брю¬
сов, многое в стихах «Снежной маски» не удовлетворяло, как «недо¬
статочно стройное, художественно-завершенное». В своем отзыве на
«Снежную маску» («Весы», 1907, № 5) Брюсов справедливо замечал,
что в новой книге Блока «...рядом с нежными мелодиями, в которых
Блок такой несравненный мастер, стоят и попытки передать мятущие¬
ся чувства — стихом неправильным, разорванными размерами, невер¬
ными рифмами. Как и в предыдущих книгах Блока, ого «рисунок»
(если пользовался терминами художников) часто остается неотчетли¬
вым...» (стр. 60—67)—неотчетливым именно благодаря тому, что
передать «мятущиеся чувства» поэт пытался «мятущимся» же стихом.Впоследствии характер поэтики Блока существенным образом ме¬
няется; в более зрелую пору творчества (к которой целиком относит¬
ся третий том лирики Блока) поэт и в самом «нестройном вихре чувст¬
ва» стремился находить свой «строй» и выражать его в образах пре¬
дельно отчетливых, композиционно завершенных, верных движению
лирического, стремительно развертывающегося сюжета.Чернышевский некогда говорил о поэзии великих художников
слова: она «владычествует и над своими восторгами, и над своими стра¬
даниями...»— и если Блок второго тома еще весь охвачен такими вос¬
торгами и страданиями, которым нет предела и меры, и они подчас
доводят поэта и героев его стихов почти до безумия, неистовства, ис¬
ступления, то впоследствии оп уже научился «владычествовать» над
всоми своими страстями, научился находить в них свой «строй»; вот
почему и сама поэтика третьего тома явно отличается от того, что мы
видели во многих стихах предшествующих периодов, Если мы вправе
(пользуясь словами самого поэта) говорить о «мучительных диссонан¬
сах» многих стихотворений второго тома, возникающих в формах «кри¬
ков», «безумий», то этих «диссонансов» мы уже не встретим в третьем
томе; какие бы ужасы «страшного мира» не потрясали сознание и во¬
ображение поэта, мы теперь уже почти совсем не услышим у него
отчаянного крика, исступленного вопля.Он уже научился в любых обстоятельствах владеть собою — даже
и тогда, когда переходил «от казни к казни». Его стих стал внешне го¬
раздо более спокойным, захюнчеиным, гармоничным, снова близким
классической «норме» и классическим традициям,— но это не являлось
возвращением к исходной позиции, ие означало ученически подража¬
тельного (как бывало когда-то) следованиям им, а живое, активное
их развитие.Стихи третьего тома отличаются пластической выразительностью,505
стремлением самые тончайшие и сложнейшие, страстно-напряженные
переживания переводить на язык зримых и архитектонически дель¬
ных образов, каждая линия которых врезана и отчеканена твердой
рукой безупречного мастера, строго и взыскательно испытывающего
любые материалы — от обыденных и серых вплоть до самых редчай¬
ших, словно бы радиоактивных.Крайне характерно — в творчестве Блока зрелой поры — и то, что
здесь уже исчезает система умолчаний, пропусков, смутных намеков
на свершение некоего таинства, недоступного для непосвященных.
В стихах третьего тома самый m:imк становится, как правило, класси¬
чески ясным, четким, чуждым какой бы то ни было несогласованности
и «двусмысленности», посредством которой поэт некогда стремился вы¬
разить всю смутность, сложность и противоречивость своих пережива¬
ний и стремлений, порою —- неясных и ему самому; чтобы убедиться
в существенных, во многом коренных, изменениях в поэтике Блока,
характере всех средств образной выразительности, достаточно сопоста¬
вить стихи о Прекрасной Даме с такими циклами стихов, как «Ямбы»
ели «Родина».Стих Блока с годами обрел совершенно новые качества, сияние и
крепость алмаза, того «драгоценного камня», в шлифовке которого
и сказались «терпение и жертвенность мастера» (говоря словами са¬
мого Блока). Даже и тогда, когда тоска и отчаяние захлестывали поэта
и словно бы стягивали его горло тугой петлей, он стремился выражать
эти чувства как можно точнее, спокойнее, строже, нередко придавая
своему образу черты прямые и жесткие, подобные неумолимо логиче¬
ской, а потому и неопровержимой математической формуле (как мы
видим в стихотворениях «На островах», «Ночь, улица, фонарь, апте¬
ка...» да и во многих других).С годами изменился и самый пейзаж в лирике Блока; если юный
поэт, бродивший «в тумане утреннем», в лесах «заповеданных лилий»,
испытывал влияние художников-ирерафаэлитов, вдохновлялся их дре¬
мотными видениями и бесплотными фантазиями, то впоследствии он
решительно отошел от них, и уже совсем иная живопись захватывала
и тревожила его, а особенно — напряженный драматизм врубелевских
полотен: острый, подобный лезвию меча, луч, словно бы рассекающий
«дымно-лиловые горы», наплывающий бурным и неукротимым потоком
сумрак — тень огромных, изломанных крыльев, всо то, что свидетель¬
ствует о неукротимых страстях и мятежном духе, обьятом неодолимой
гордостью и бросающем дерзкий вызов самому создателю вселенной
и соперничающем с ним в славе и могуществе.Все это и отзывается в лирике Блока, в характере открывающихся
в ней пейзажей, словно бы изборожденных и возмущенных столкнове¬
нием самых неукротимых и отвергающих друг друга страстей и стрем¬
лений.Мы видим, что, обретая зрелость мастера, «мужественно глядяще¬
го в лицо миру», Блок многое пересматривал в своей собственной ху¬
дожественной системе и практике; с годами он все больше стремился
к тому, чтобы запечатлеть не только порывы, экстазы, прозрения, вос¬506
торженные состояния души, но и «всего человека», всю его душу, все
«житейское», простое и сложное, бескрылое и «цыганское» — как ут¬
верждал он сам, и это заставляло вырабатывать новые средства худо¬
жественной выразительности, не всегда податливые, порою еще непри¬
вычные; вот почему у поэта возникло недовольство собою и тем, Что
им уже сделано. Он записывал:«Пишу я вяло и мутно, как только что родившийся. Чем больше
привык к «красивостям», тем нескладнее выходят размышления о жи¬
вом, о том, что во времени и пространстве. Пока не найдешь действи¬
тельной связи между временным и вневременным, до тех пор пе ста¬
нешь писателем, не только понятным, но и кому-либо и на что-либо,
кроме баловства, нужным...» (1912) — и отныне Блок чурается «краси¬
востей», того условно поэтического языка, каким написаны многие его
ранние стихи. Он стремится к формам объемным, пластическим, спо¬
собным вместить все богатство переживаний, все многообразие окру¬
жающего мира, классически ясным, простым по своему выражению,
а вместо с тем, как очевидно нашему читателю, и необычайно сложным
но существу.Героем лирики Блока становится человек, «нуждой и горем вдаль
гонимый», униженный и обездоленный, тот нищий, который дрогнет
зимою на мосту,—и в связи с этим меняется весь строй стиха, обра¬
щенного именно к этому герою и зачастую идущего словно бы от его
имени; вот почему стих поэта с годами становится все более безыскус¬
ственным, лишаясь многих сложных метафор, причудливых и прихот¬
ливых тропов, переносных значений, изысканных образов и оборотов
речи, броских сравнений или зашифрованных «знаков», понятных лишь
для «посвященных» (что отныне кажется поэту «книжностью», совер¬
шенно неуместною в искусстве).В зрелые годы своего творчества Блок избегал всего, в чем усма¬
тривал хоть малейший намек на высокопарность, ходульность, мнимую
многозначительность; он испытывал непобедимое отвращение ко вся¬
кой «словесности», к «витиеватым нагромождениям», чуждым живому
чувству и настоящему делу.Как видим, эстетика Блока (а стало быть, и его поэтика) — это
«движущаяся эстетика» и она менялась в зависимости от характера
роста поэта, развития его воззрений на пути «от личного к общему»,—
о чем и свидетельствует его творчество, разным этапам которого отве¬
чают и различные принципы поэтики, генетически связанные между
собою.Поэтика Блока, искусство его стиха, его замечательное мастерство,
то новое, что открыто им и осуществлено в лирике,— все это заслужи¬
вает особого и тщательного исследования; не случайно Маяковский
говорил, что творчество Блока — целая поэтическая эпоха; чем при¬
стальнее рассматривать его стихи и их «фактуру» — вплоть до самых
мельчайших деталей,— тем очевиднее их связь с характером художе¬
ственного замысла, а если брать шире — с мировоззрением поэта, с его
взглядами на жизнь и, стало быть, на задачи искусства, художествен¬
ного творчества.507
Для осмысления этой органйчеёкой и неразрывной связи всех эле¬
ментов произведения творчество Блока предоставляет неисчерпаемый
и доселе еще, в сущности, не изученный материал. На основании его
всестороннего рассмотрения можно прийти к выводам, имеющим весь¬
ма злободневное значение и важным для развития современного искус¬
ства, для борьбы с декадентскими и формалистскими представлениями
о характере и назначении искусства, с тем «эстетизмом», против кото¬
рого Блок выступал решительно и непримиримо.То новое, самобытное и необычайно важное, что внес Блок в рус¬
ское стихосложение, заслуживает особого и скрупулезного исследова¬
ния; предлагаемые здесь вниманию читателя страницы, посвященные
этой теме, но могут, разумеется, претендовать иа роль такого исследо¬
вания; они призваны дать читателю представление о некоторых сто¬
ронах и существенных особенностях творчества Блока, его поэтики,
связанной с характером воззрений и развития лирического героя, его
«трилогии вочеловечения».
«МОЛНИИ ИСКУССТВА»Необходимость воплотить сложный и необычайно широкий замы- •
сел, который и самому поэту стал ясен далеко не сразу, а в перспекти- :
ве, долгих лет творческого труда («вочеловечение»), определила мно¬
гие особенности и специфические черты лирики Блока; уяснить их
можно только после того, как мы проследили закономерности развития
той «трилогии», в виде которой поэту представлялась и вся его лирика, :
важнейшие ее лейтмотивы.В творчестве Блока отображена целая эпоха жизни русской интел¬
лигенции — между двух революций, переживания человека, рожден¬
ного «в года глухие» и страстно жаждавшего новой, прекрасной жизни, ;
где нет места несправедливости, угнетению, хищничеству, нищете, по¬
пранию человеческого имени и достоинства, той лжи, которая словно
выворачивает наизнанку все чувства, страсти, отношения. Эти пережи- ;
вания, раздумья, стремления раскрыты в лирике Блока во всей их до-
подлинности, несомненности, сложности — и самый крайней противоре¬
чивости. Здесь решительно — одна за другой — срываются маски, при¬
крывающие хищный и отвратительный облик «страшного мира», обна¬
руживается характер господствующих в нем темных сил, изнутри
вскрывается ого омерзительное существо, а вместе с тем прозревается
и утверждается то прекрасное будущее, в которое страстно верил и к
которому жадно стремился поэт; в атом-то и заключается реализм ;
творчества Блока,— пусть непоследовательный, крайне противоречи¬
вый, осложненный «возвратами», мистико-символистскими «воспоми¬
наниями», по все же реализм, ибо не нечто измышленное и надуманное
видим мы в лирике Блока — в зрелую пору его творчества, а в первую
очередь и главным образом — правду самой жизни, доподлинность
наблюдений и переживаний человека определенной эпохи, глубину
настоящих восприятий и чувств, стремление соотнести личное, единст¬
венное, неповторимое с судьбами всего мира, историей всего человече¬
ства.Само «вочеловечение», ставшее пафосом творчества Блока, явля¬
лось процессом, заставлявшим по-новому — на каждом его этапе — пе¬
ресматривать всю область присущих человеку чувств, страстей, отно¬
шений, пытливо вглядываться в его внутренний мир; так рождалась
прозорливость художника, открывающего принципы и закономерности,
господствующие в условиях «страшного мира», по-своему преображаю¬509
щие всю природу человека,— и необычайно важны как наблюдения
поэта в этой области, так и те выводы, к которым он приходил, поло¬
жения, отстаиваемые им как истинные и незыблемые. Это — целая си¬
стема взглядов, подобная научной, основанной на данных конкретно-
чувственного опыта дисциплине (в той мере, в какой лирика может
быть родственна подобной дисциплине),—вот почему так значителен
вклад Блока в ту, разрабатываемую средствами искусства, науку, ко¬
торую Горький назвал «человеководопием». Если лирику Блока рас¬
сматривать именно н этом аспекте — как своего рода «курс психоло¬
гии», то следует подчеркнуть, что этот курс едва ли уступит какому-
нибудь другому— по значительности заключающегося в нем материа¬
ла, по необычайной прозорливости автора, по глубине выводов, к ко¬
торым ои пришел, по смелости и самостоятельности концепции, лежа¬
щей в основе его «романа в стихах». Этот «роман» является вместе
с тем и исследованием человеческого характера, средоточием и обоб¬
щением огромного жизненного опыта, освещающим самые сложные
и сокровенные пласты внутренней жизни человека, которую поэт про¬
слеживал до самых тончайших ее тканей, до самых потаенных глубин.
Это обусловлено и тем, что поэт руководствовался не некиими предвзя¬
тыми, «априорными» и помимо него выработанными представлениями
о психологии окружавших его людей (и своей собственной), а пытли¬
выми наблюдениями, ведущими к истине, обретающей характер широ¬
кого и жизненно важного открытия; вот что придает лирике Блока нэ
только художественное, но и философское, этическое, социальное зна¬
чение.Некогда Блок (в статье «Три вопроса») прославлял Ибсена как ху¬
дожника, ни на минуту пе теряющего «связи с общественностью» и ни¬
когда не расстающегося «с остро наточенным ножом для анализа»,— и
зачастую в руках самого поэта перо также превращалось в подобный
«остро наточенный нож для анализа», глубоко и беспощадно вскрыва¬
ющий самые тонкие и сокровенные покровы человеческого существа.Почти о том я{е самом скажет поэт и в своих стихах:Ты острый нож безжалостно вонзалВ открытое для счастья сердце...1—и здесь рука поэта не знала никаких колебаний, даже если это каса¬
лось его самого.Как пи были чувствительны внутренние ткани, он решительно
вскрывал их — если только таким путем можно добраться до самой
последней, до самой несомненной истины, и не отступал даже тогда,
когда после таких психологических «вивисекций» остается кровоточа-
хцая и долго не заживающая рана. Но все это — не стремление к му¬
чительству, не увлечение путаницей чувств, переживаний и отноше¬
ний, а жажда уяснить их подлинную природу — любой ценой и любы¬
ми.средствами.Поэт стремился установить — перед собою и перед нами,— что
происходит с человеком в условиях «страшного мира», какому воздейст¬
вию подвергается он в этих условиях и как отвечает на них? Как окру¬510
жающая среда влияет па его существо и как оно изменяется (порою —
до неузнаваемости!) под этим влиянием? Вот почему лирика Блока
с годами становилась все более скрупулезной и точной заппсыо тех
колебаний и потрясений, которые происходят во внутреннем мире че¬
ловека; это — безупречно правдивый отчет о тех метаморфозах, кото¬
рым подвергается вся — без исключения! — область чувств и отноше¬
ний человека определенной эпохи. Блок пытливо и бесстрашно иссле¬
довал их — в процессе самых невероятных превращений, придающих
им подчас какой-то двусмысленный, а то и уродливо-искаженный ха¬
рактер,— и не было никаких преград и пределов, перед которыми оста¬
новился бы поэт; не было самых крайних выводов и признаний, от
которых он воздержался бы.Пристальное внимание и особая настороженность к тем опасно¬
стям, которые «подстерегают всюду», «неумолимая честность» худож¬
ника, готового рассмотреть любые факты своей — или чужой — жизни
«в резком, неподкупном свете дня» — вот что помогало поэту совер¬
шать все новые и новые открытия как в области нсихолоиш человека,
так и в его отношениях с окружающей средой.Поэт записывал в дневнике, пересматривая свои ранние — и во
многом устаревшие — воззрения: «...думаю: мы ругали «психологию»
оттого, что переживали «бесхарактерную» эпоху... Эпоха прошла, и,
следовательно, нам опять нужна вся душа, все житейское, весь чело¬
век, Нельзя любить цыганские сны, ими можно только сгорать. Безум¬
но люблю жизнь, с каждым днем больше, все житейское, простое
и сложное, и бескрылое и цыганское.Возвратимся к психологии. Назад к душе, не только к «человеку»,
но и ко «всему человеку» — с духом, душой и телом, с житейским —
трижды так».Эти взгляды, присуш,ие Блоку в зрелую пору творчества, побужда¬
ли его по новому осмыслить и задачи, стоящие перед искусством, и
принципы изображения героя своей лирики; «безумная любовь» к жиз¬
ни, ко всему, что есть и пей, «простому и сложному», заставляла его
с особой пытливостью, заинтересованностью, страстностью всматри¬
ваться в ее черты.Если многие ранние стихи Блока отличались отвлеченностью, бес¬
плотностью, равнодушием к окружающей жизни, то революция 1905 го¬
да, влияние которой отозвалось во всей области чувств и переживаний
поэта, заставила его изменить и само отношение к художественному
творчеству, понимание его назначения и существа; в дни революции
Блок намечает в одной из своих рецензий (на книгу Мирэ «Жизнь»)
путь от абстракции к «роду художественного реализма» («обратный
путь совершенно несостоятелен...» — подчеркивает Блок) — и следую¬
щим образом разъясняет свою мысль: «Черпать содержание творчест¬
ва из отвлеченно-бесплодного — значит расстаться с творчеством.
Черпать его из самого живого и конкретного — значит углублять и ут¬
верждать творчество...» (1905) — и отныне истинное творчество озна-»
чало для Блока усвоение «Живого и конкретного», ответ на подлинные
чувства, переживания, наблюдения.511
Жизнь как она есть — обычно уже без каких бы то ни было «от¬
влеченностей» — входила в его стихи прямо и непосредственно, и здесь .
«секрет» художника заключался не столько в «деформации» материала,
сколько в характере его освещения, в особого рода подходе к нему,
углубленном осмыслении его. Крайне показательно в этом отношении
сопоставление поэмы «О смерти» («Вольные мысли», 1907) с написан¬
ным незадолго до ее создания письмом, обращенным к жене поэта:«Я был в Лесном... за забором скачек; когда я подошел, на всем
скаку упал желтый жокой. Подбежали люди и подняли какие-то жал¬
кие и совершенно мертвые болтающиеся руки и ноги — желтые. Он
упал в зеленую траву — лицом и небо...» (ЦГАЛИ, ф. 55, он. 1, ед.
хр. 100, стр. 17).Вось этот эпизод перенесен в поэму — вплоть до тех деталей, о ко¬
торых поэт говорит и в письме, оставив их нетронутыми, и лишь по-но¬
вому освещая их:...лежал жокей,Весь в желтом, в зеленях весенних злаков,Упавший навзничь, обратив лицо
В глубокое ласкающее небо...В эти стихи словно бы врывается широкий поток самой жизни, ее
подлинных событий, зорко и жадно подсмотренных Блоком.То же самое мы видим и в позднейших произведених Блока,— так
в цикле «Кармен» воссозданы многие из тех описаний, деталей, под¬
робностей знакомства с Л. А. Дельмас, какие первоначально были за¬
несены в записную книжку.«Возврат к психологии», обусловленный особым пониманием ха¬
рактера «вочеловечения», обязывал поэта чутко и глубоко вникать
в реальные человеческие переживания, изучать природу страстей с до¬
тошностью исследователя, от которого ие укроется ни одно, даже са¬
мое тайное, побуждение и который трезво и беспощадно взвесит и рас¬
смотрит его. В этом и состоит та особенность лирики Блока, которая
заставляет нас оценивать ее не только как замечательное явление ис¬
кусства, но и как человеческий документ огромного и непреходящего
значения,— подобно тому как мы видим это в «Исповеди» Руссо или
«Герое нашего времени» Лермонтова.Поэт пристально всматривался в окружающий его мир, чтобы за
«сплетней о жизни» услышать и увидеть саму истину — без маски
и без прикрас, пусть хотя бы самую ужасную и отталкивающую, но
настоящую, несомненную.За их условно-светскими речами
Ты слышишь настоящие слова...—говорит он, внимая беседе двух мертвецов, оказавшихся па светском
балу, и в его лирике чувствуется постоянное н неуклонное стремление
услышать — за любыми «условными» — настоящие слова; вот почему
поэт ничего не ценил в искусстве выше правды, больше всего думал
о ней, и огромное, ни с чем не соизмеримое уважение испытывал к тем
художникам, голосами которых говорит сама правда, а не надуманные512
представления о пей, какими бы возвышенными они ни были и чем бы
ни диктовались.Множество записей и замыслов Блока пронизано пафосом правди¬
вости, вне которой оп пе мыслил ни одного подлинно значительного
произведения искусства; с этих позиций он рассматривал и наследие
классиков и всо явления текущей литературы; крайне характерна его
дневниковая запись, относящаяся к концу 1911 года:«...Страшная, тягостная вещь — талант; может быть только гений
говорит правду; только правду, как бы она ни была тяжела, легка —
«легкое бремя».Правду, исчезнувшую из русской жизни,— возвращать паше дело».В этих записях — целая программа, необычайно широкая и плодо¬
творная; поэт полагал: без этого «легкого бремени», без правды — ка¬
кою бы она ни была суровой — произведение искусства превращается
в пустышку или мыльный пузырь, играющий всевозможными и самы¬
ми яркими красками, по готовый вот-вот лопнуть на наших глазах.А в начало 19J2 года, задумавшись над автобиографией, Блок воз¬
вращается к своим давним размышлениям о правде: «...надо написать,
...что «есть такой человек» (я), который, как говорит 3. Н. Гиппиус, ду¬
мал больше о правде, чем о счастье...»Да, так оно и было, и умение быть правдивым — и справедливым —
поэт ценил превыше всего, несравненно более высоко, чем все жизнен¬
ные блага и любые «красивые уюты».Осенью 1915 года он возвращается к тем же мыслям о себе, об осо¬
бенностях своего характера, а стало быть, и творчества: «...хоть я и ле¬
нив, я стремлюсь делать всякое дело как можно лучше. И уж во вся¬
ком случае я очень честен».О том, что означала для поэта такая честность, можно судить по
его записям, посвященным русским сказкам — как средству воспита¬
ния. Здесь Блок утверждает, что от родителей, если они хотят воспи¬
тать своих дотой по белоручками и по тупоядцами, «надо требовать по
крайней море честности;. чтобы но закрывали глаза па действитель¬
ность».Казалось бы, это не так много: находить и отстаивать полную и
безусловную правду,— но в тех условиях, когда ложью и предательст¬
вом была пропитана вся наиболее «модная» и ходкая литература мо¬
дернизма и декаданса, наводнявшая книжный рынок, когда многие из
наиболее известных писателей состязались в поношении революции да
и вообще всяких демократических и прогрессивных начал, в воспева¬
нии ренегатства, измены, предательства,— отстаивание правды стано¬
вилось мужественной борьбой с темными и властпыми силами «страш¬
ного мира».Блок мог бы повторить вслед за Тургеневым: «Точно и сильно вое-,
произвести истину, реальность жизни, есть величайшее счастье для
литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными
симпатиями.,.» — а другого счастья Блок в искусстве и не искал, рав¬
нодушно относясь it отзывам своих современников, и особенно — к по¬
хвалам, но делая ни одного шага для завоевания их; чтобы испытать513
то счастье, о котором говорил Тургенев, поэт готов был пожертвовать
всем остальным, в том числе и тем, что ему лично было необычайно
близко и дорого; так, если истина заключалась в том, что ■■«■сусальные
ангелы» осуждены на гибель и неизбежно должны погибнуть «под
ярким пламенем событий»,— он сам способствовал их гибели; даже ес¬
ли при этом терзалась какая-то часть его собственного существа, и о
них плакала его «шалунья девочка-душа» — руки художника твердо
и беспощадно делали свое дело,В 1907 году Блок писал Андрею Белому: «Когда издеваюсь над
своим, святым — болею...» — и криком боли был и многие его стихи, в ко¬
торых ноот расставался со своими былыми мечтами, иллюзиями, идил¬
лиями, «белыми храмами» и «радостными садами». Ио он шел на
любые испытания и готов был изведать любую боль — если этого тре¬
бовали непреложные законы искусства, верного жизненной правде
и никогда не отступающего перед нею.Поэт предпочитал говорить самым сухим, жестким, резким языком
(«не для ласковых слов я выковывал дух...»), чем хоть на йоту укло¬
ниться от истины; во многом именно этим и можно объяснить, почему
но характеру описания, верного реальности переживаний, прослежен¬
ных и в явных и в самых скрытых проявлениях, невидимых для посто¬
роннего взгляда их тайниках, лирика Блока равна научному трактату
и дает о них необычайно точное представление; поэт не скрывал и не
утаивал от нас ни своих восторгов, ни своих «падений» и унижений —
ничего, что значительно и важно для постижения человека и его внут¬
ренней жизни.В незавершенной книге «итальянских впечатлений» (начатой
в 1909 году) — «Молнии искусства» Блок раскрывает перед нами
свое понимание творчества как того служения, которому художник
призван полностью отдать всего себя; он рассказывает здесь об одном
из воспоминаний, которым «лучше бы и не делиться с третьими лица¬
ми», ибо уже одна попытка прикоснуться к нему и обнародовать его
может оказаться не только слишком смелой, но даже и кощунственной;
вот почему его лучше бы оставить в неприкосновенности, чтобы оно
«сохранило свой тонкий аромат, как от кучи розовых лепестков, сло¬
женных в закрытом ящике»...Высказав все это, Блок продолжает: «И вот я записал его, однако,
и имею потребность делиться им с другими. Для чего? Не для того,
чтобы рассказать другим что-то занятное о себе, и не для того, чтобы
другие услышали что-нибудь с моей точки зрения лирическое обо мне;
но во имя третьего, что одинаково не принадлежит ни мне, ни другим;
оно, это третье, заставляет меня воспринимать все так, как я воспри¬
нимаю, измерять все события жизни с особой точки и повествовать
о них так, как только я умею. Это третье — искусство; я же — человек
несвободный, ибо я ему служу...»В этом служении поэт видел свое назначение, которому никогда
не изменял, а состояло оно, по словам Блока, прежде всего в том, что¬
бы вносить в жизнь правду — полную и безусловную. Вот почему
и о себе он рассказывал Vece, что могло представляться ..существенным514
для понимания психологии изображаемого человека, и собственная
жизнь казалась поэту тою притчей, легендой, песней, из которой «сло¬
ва не выкинешь»; как бы ни было трудно порою произносить это слово,
поэт твердо и решительно выговаривал его — и в своих стихах, и в
дневниках, и в письмах к друзьям и родным; вот почему и само твор¬
чество Блока является человеческим документом исключительной
правдивости, предельной откровенности — подобным тому, о котором
говорит Руссо, начиная свою «Исповедь»:«Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде
его природы,— и этим человеком буду я».Слова Руссо могли бы служить эпиграфом к тому «роману в сти¬
хах», каким и представлялось Блоку его собственное творчество, в ге¬
рое которого нельзя не узнать лирически преображенного образа его
создателя. Художник неизменно и решительно вводит нас в мир своих
личных переживаний, ведет нас по самым сложным и запутанным их
лабиринтам; вот почему его лирика пином и наст исповедь, а вместо
с тем — она гораздо шире но своему характеру и значению, чем испо¬
ведь или дневник, ибо пород нами не просто частная жизнь поэта, со
всем тем случайным и в горостепенным, что в ней было, а образ «сына
века» — одного из отщепенцев своей среды и своего рода.Творчество Блока — это лирическая летопись жизни целой про¬
слойки русской интеллигенции начала века, ее «пути среди револю¬
ций», говоря словами самого поэта; это правдивая история ее метаний,
стремлений, поисков истины; это рассказ человека, рожденного «в года
глухие», в условиях ненавистного ему «страшного мира», и этот рас¬
сказ Блока отвечает реальности его бытия.В статье «Реализм и модернистские течения в русской литературе
начала XX века» В. Перцов справедливо замечает, что «...диалектика
художественного развития толкала отдельных, наиболее талантливых
художников, начавших свой путь среди модернистов, на позиции реа¬
лизма, открывая пород ними возможность па этом пути добиваться
сормыпык у0ШШИ1 и развитии национальной литературы,..» (В; Пер¬
цов, «Писатель и новая действительность», издательство «Советский
писатель», 1958, стр. 308—309).Первым среди этих художников, начавших свой путь среди модер¬
нистов, но все более решительно переходивших на позиции реализма,
мы и должны назвать Блока, который издавна, вопреки своим симво¬
листским взглядам и иллюзиям, тянулся к реализму,— о чем свиде¬
тельствует его статья «О современной критике» (1907), где он утвер¬
ждал:«...движение русского символизма к реализму и полное несходство
его в этом отношении с западным — ужо представляют общее место.
Современные символисты ищут простоты, того ветра, который так лю¬
бил покойный Поповской (один из ранних поотов-симво листов.— В. С.),
здорового труда и вольных дум. Это обещает молодость,— и в этом за¬
ключается лучшая и истинная сторона дела, встреча символистов с ре¬
алистами. Строить по атому поводу какие-нибудь теории и предполо¬
жения, мне кажется, бесплодно, потому что здоровый факт — налицо»-.
Конечно, «движение русского символизма к реализму» отнюдь не
являлось «общим местом» (ие случайно сами символисты яростно от¬
вергали подобное «общее место», на котором настаивал Блок), по со¬
вершенно очевидно, что в этих словах поэта сказалась его собственная
тяга к реализму, к действительности, к разоблачению темных тайн
«страшного мира», крепнущая но мере того, чем глубже поэт чувст¬
вует в себе рост «человека общественного», «гражданина своей ро¬
дины».В письмо, обращенном к Блоку, 1C. С. Станиславский утверждал,
что. все «измы» в искусство «...включаются в «утонченный, облагоро¬
женный, очищенный реалиям», который и становится основой «глубо¬
кого и широкого обобщения» (К. С. Станиславский. Собрание сочинений,
т. 7, стр. 416),— и Блок полностью разделял эти положения, близкие
его собственным взглядам на существо и задачи подлинно новаторско¬
го искусства. Вот почему поэт — в ответном письме Станиславскому
(1908)—и говорил, что «...мы... (конечно, я говорю «мы» лишь
в предчувствии новых людей, пока их, несомненно, мало...— подчер¬
кивал Блок здесь же.— Б. С.) вправе стать реалистами в новом смыс¬
ле...» (то есть со всей мерой «утонченности», уже вошедшей в плоть
и кровь современного интеллигента,— В. С.),— и эти слова не остались
для Блока пустой фразой, а отозвались и в его произведениях.Сам Блок, утверждая реалистические тенденции своего творчест¬
ва, восклицал:«Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символиз-
мов больше...» (1913). (Правда, несмотря на это утверждение, и впоследствии у него по¬
являлись сугубо «символистские» произведения, но уже не они зани¬
мали «авансцену» — главное и определяющее место — в его творчестве,
ибо оно с годами становилось все более реалистически полнокровным,
многогранным; оно вбирало все больший круг явлений подлинной дей¬
ствительности, все решительнее откликалось на самые злободневные
события современности (стоит сравнить хотя бы «Стихи о Прекрасной
Даме» с «Ямбами» или «Возмездием»!).Следует напомнить и о том, что в творчестве Блока реализм утвер¬
ждался и развивался в исторически новых условиях — в тех, когда
противоречия старого общества дошли до продела, до открытого столк¬
новения, и когда стала особенно явственной и несомненной обречен¬
ность заживо разлагающегося буржуазно-помещичьего строя.Реализм наиболее зрелых и значительных произведений Блока, то
новое и небывалое, что поэт внес в него, и определялись прежде всего
«верностью действительности и истине» (говоря словами Белинского),
широтой переживания — даже самого личного, но в конечном счете
неизбежно связанного с решением задач общенародных и мировых, не¬
обычайно острым чувством современности, благодаря которому целая
эпоха жизни в развитии русского общества показана и раскрыта из¬
нутри, в ее существенных проявлениях и противоречиях — ив этом от¬
ношении в современной Блоку поэзии нет ничего равного и подобного
ей по значительности и глубине. Впоследствии, в связи с опубликова-516
кием первой главы поэмы «Возмездие» (1917), сам Блок убежденно и
решительно утверждал «реализм» и «научность» своего творчества, что
во многом отвечает истине.Но, конечно, когда мы говорим о реализме и реалистических тен¬
денциях в творчестве Блока, мы не должны упускать из виду того, что
и само понимание реализма у поэта во многом отлично от нашего, со¬
четалось с вымыслами и представлениями сугубо идеалистического ха¬
рактера (такими, как «Душа Мира», «Вечная женственность» и т. п.),
которые он склонен был рассматривать как нечто реально сущее, а по¬
тому и отвечающее принципам реалистического искусства. Но рожде¬
ние «человека обхцественного», «гражданина своей родины», создавало
в творчестве Блока надежную основу для подлинно реалистических
тенденций и все более значительных побед реализма.Прослеживая эти тенденции в творчестве Блока, необходимо по
менее отчетливо уяснить его как примочатольиойшео явление искусст¬
ва романтического,— иначо мы создали бы о нем неточное и явно одно¬
стороннее представление (о чем свидетельствуют многие высказыва¬
ния, посвященные этой теме).В литературе нередко утверждается, что творчество Блока являет¬
ся не реалистическим, а романтическим,— но такого рода противопо¬
ставление реализма романтизму едва ли показалось бы оправданным
самому поэту. Романтизм для него являлся не противопоставлением
реализму, реальной действительности и методу ее отображения, а пре¬
дельно обостренным — по своей силе и интенсивности — ее восприяти¬
ем, ощущением ее прекрасных и безграничных возможностей. Основ¬
ным признаком истинного романтизма Блок считал удесятеренное чув¬
ство жизни; он связывал воедино романтику и реализм, утверждая, что
«...истинный реализм, реализм великий, реализм большого стиля, со¬
ставляет самое сердце романтизма...» (1919) —и это определение по¬
могает нам осмыслить творчество самого Блока, верное реализму «боль¬
шого стиля» и в то же время романтическое по устромлонпости.Да, Блок был н наиеогди остался романтиком — по самому своему
существу; он мыслил в необычайно широких масштабах («от земли до
крайних звезд...» — как сказал бы Тютчев) и готов был довести каж¬
дое чувство до его возможных — а то и невозможных — пределов, но
па разных этапах жизни и творчества самый романтизм понимался —
и претворялся — Блоком по-разному, В зрелые свои годы поэт не толь¬
ко не противопоставлял романтизм повседневной действительности, ре¬
альной жизни (как было некогда), но, наоборот, обращал его к жизни,
к ее сердцевине, к «эпицентру» ее бурь, тревог, потрясений, и именно
в обостренном восприятии жизни, в предвосхищении ео будущего и
стремлении к нему усматривал дух и пафос романтизма и романтиче¬
ского творчества.«Прошлое страстно глядится в грядущее...» — говорил поэт в сво¬
их стихах, и это страстное стремление увидеть сегодняшнюю жизнь ка г:
шаг на пути в будущее определяет характер и масштабность всей
лирики Блока, поток которой устремлен к грядущему,—с тем, чтобы
предвосхитить и отразить его в своих широких и сверкающих волнах.
В письме к одному из корреспондентов, противопоставлявших ре¬
альной жизни мертвенную и надуманную мечту, Блок развивает свои
издавна выношенные мысли о призвании и назначении человека, о его
долге, выполнению которого могли бы только помешать мертворожден¬
ные «творимые легенды»:«Мы пришли не тосковать и по отдыхать. То чудесное сплетение
противоречивых чувств, мыслей и воль, которое носит имя человече¬
ской души, именно оттого носит это радостное (да, несмотря на всю
«дрянь», в которой мы сидим) имя, что оно все обращено более к буду¬
щему, чем к прошедшему; к прошедшему тоже,.— но поскольку в про¬
шедшем заложено будущей. Человек есть будущее...»И далее поэт внушает своему корреспонденту:«...пока есть в нас кровь и юность, будем верны будущему. Если в
современной противоречивой и вялой жизни многое тонкое и высокое
бессильно сказать нам о будущем, будем беречься его, будем даже лю¬
бить более грубое и более низкое (в культурном, что ли, смысле), если
гам голос будущего громче...» (1912).Эта вера в будущее леяшт в основе всего того, что говорит Блок
своей лирикой; несмотря на «сплетение» самых «противоречивых
чувств, мыслей и воль», она обращена к будущему, свидетельствует
о будущем, рвется к нему, дышит им, страстно и настойчиво торопит
его приход, чем и определяется романтический характер творчества
Блока.Крайне характерно для Блока и его отношения к литературе то,
что самый романтизм (как определил поэт в выступлении «О роман¬
тизме») понимался им не только как чисто литературное явление, но и
как нечто иное — «новый способ переживания жизни», «стремление
установить новую связь с миром». Так романтизм становится в глазах
Блока одним из главных «двигателей» не только искусства, но и самой
жизни.В таком понимании романтизма не только нет противопоставления
искусства и действительности, но, наоборот, оно требует наиболее глу¬
бокого ее осмысления и самого действенного вторжения искусства в
жизнь — с целью ее преображения; на новых и подлинно человеческих,
а стало быть, и общественных началах, связанных со служением «выс¬
шим целям бытия». Бог почему даже и и годы «великого предатель¬
ства», в условиях «страшного мира» поэт умел не только обличать, но
и утверждать, отстаивая прекрасное будущее как высшую реальность
человеческой жизни и всего мира; как ни было глубоко его обличение
той среды, в условиях которой он рос и воспитывался и в которой чув¬
ствовал себя отщепенцем,— еще глубже, полнее,, масштабнее было то.,,
что он утверждал,— те великие и непреходящие ценности, без кото¬
рых и само человеческое существование утрачивает свой истинный
смысл. Каждому из отвергаемых Блоком начал в его творчестве про¬
тивостоит начало иное, высокое, отстаиваемое поэтом со всей присущей
ему страстностью и непреклонностью; «попирая» то, что несло на себе
печать прошлого, что являлось оруяшем и средством «страшного мира»,,
служившим для сохранения и утверждения его господства, поэт про-518
тивоноставлял ему свой идеал,— верный и нерушимый, взятый из бу¬
дущего, когда все чувства и отношения, освобожденные от власти чи¬
стогана, примут подлинно человеческий — и никакой другой — харак¬
тер. Этот идеал — то явственно, то незримо — присутствует в творче¬
стве Блока, служа поэту внутренней мерой для оценки всех вещей,
явлений и событий.В одном из писем к Андрею Белому Блок внушает ему, что «все
дело в том, есть ли сейчас в России хоть один человек, который здраво,
честно, наяву и по-божъи (то есть имея в себе в самых глубинах скры¬
тое, но верное «Да») сумел бы сказать «нет» всему настоящему...» —
и это замечание раскрывает существо и глубинные тенденции лирики
Блока, в которой сквозь гневное, решительное, непримиримое «нет»
прорывается, как тайный, но постоянно ощутимый огонь, «верное
«Да»,— имепно оно, в конце концов, и придает «тайный жар», согрева¬
ет бурный и неукротимый поток лирики I «лежа, прокладывающий свое
русло к лучшему будущему — сквозь тройные и томные тоснииы
«страшного мира».Это «Да» норою так глубоко скрыто под слоем и переплетением
«случайных черт», под напластованием горечи, обид, отчаяния, тоски,
безнадежности, что порою кажется — оно и совершенно исчезает. Но
тот, кто пе слышит его в лирике Блока,— утрачивает и ключ к ней,
к тому, что утверяодал ноэт своей лирикой, всем ее трепетом и «непо¬
нятным пылом».В том мире, который поэт стремился утвердить и увидеть наяву и
который представлялся ему как будущее всего человечества, господ¬
ствуют «музыка и свет», и человеческие чувства, страсти, отношения
предстают в творчестве Блока словно бы в двойном освещении: в свете
настоящего, искажающем и уродующем их — и запечатленном поэтом
в духе беспощадно правдивого и сурового реализма, и в ином свете,
словно бы брызжущем из будущего и проясняющем истинную суть и
красоту подлинно человеческих отношений, ужо свободных от корыст¬
ных расчетов и хищнических вожделений, от всего, что унижает и уро¬
дует их,— и именно искусство являлось в глазах; Блока вестником
этою будущего и его ратоборцем.Искусство было для Блока очищающей грозой. Он жил среди
«молний искусства», освещающих и сегодняшнюю жизнь и ее будущее,
торопящих его приближение, и сам вызывал на себя эти молнии — ка¬
ким бы опасным порою ни был их огонь; в их фантастическом и осле¬
пительном сиянии многое ему становилось до боли, до восторга ясно и
очевидно,— и для Блока не было иной поэзии, кроме той, которая
рождается «из пламя и света» (Лермонтов), из огромного, лично вы¬
страданного и глубоко осмысленного жизненного опыта, из раздумий
о судьбах человечества, из огня, возникающего в душе художника и
придающего его творению то сияние, которому не даио померкнуть в
веках. Романтический пафос творчества Блока и определен этой устре¬
мленностью в будущее, широтою перспектив, вмещающих пределы все¬
го мира и неизмеримых времен, ставших такими близкими и явствен¬
ными в ослепляющем свете «молний искусства».519
Но нельзя забывать и о том, что блоковский романтизм порою обре¬
тал крайне мрачный характер («...борьба безнадежна...» — настойчи¬
во повторял Блок вслед за Тютчевым), ибо, предчувствуя и утверждая
великие и прекрасные возможности человека, а стало быть — и его бу¬
дущее, поат не видел — да и но мог увидеть (в силу присущих ему
идеалистических предрассудков, незрелости своих политических воз¬
зрений) — верных путей к этому будущему, конкретных средств его до¬
стижения и воплощения. Вот почему и Россия будущего оставалась
для него,— как и многое другое, что захватывало и поглощало его
воображение,— л «Россией н мечтах» (говоря словами самого поэ¬
та)—мечтах невероятных и недостижимых. Это и порождало .край¬
нюю противоречивость романтических порывов и устремлений Блока,
придавало им трагический характер,— слишком огромный разрыв от¬
крывался перед поэтом между действительностью «страшного мира»
и чаемым будущим, спетым в песне или напророченным великими рус¬
скими писателями . прошлого. В этот разрыв — или провал — вторга¬
лись и видения «страшного мира», выглядевшие извечными, всемогу¬
щими, несокрушимыми, и призраки «радостного сада», некогда владев¬
шие поэтом и возникавшие перед ним снова и снова, и мистические
«визинации», словно бы свидетельствующие о беспомощности человека
перед лицом сил «потусторонних», «инфернальных», и многие другие
видения, фантазии, мифы, призванные придать и самой мечте о буду¬
щем сомнительный или безнадежно мрачный характер. Вот почему
в творчестве Блока возникли такие стихотворения, как «Голос из хо¬
ра» (с его мрачными предсказаниями: «О, если б знали, дети, вы холод
и мрак грядущих дней!») или «Как растет тревога к ночи», где поэт
дает выход своим страхам, чувству безнадежности, обреченности, ощу¬
щению «преследования в оккультной форме», с каким нет ни силы,лш
воли бороться.Но даже и тогда, когда действительность словно бы тонула перед
глазами поэта в «демоническом мраке» и не по-людски жестокие
и хищные силы зла обретали «потусторонний», «инфернальный» харак¬
тер, поэта и его творчество. спасало то, что он называл «честностью
художника», осознание безусловной и неуклонной правдивости как,ос¬
новы подлинного искусства, боязнь того, чтобы не «провраться мистиче¬
ски» (говоря его словами), чтобы по выдать свои иллюзии (а чем иным
могли быть религиозные концепции и мистически» фантазии?) за нечто
истинное, реально сущее. Вот почему Блок и утверждал издавна, еще
в начале 1906 года, что «...искусство имеет свой устав, оно — монастырь
исторического уклада, т. е. такой монастырь, который не дает места ре¬
лигии...» (и во многом именно .потому, что поэт в своем творчестве все
меньше, давал «места религии» —да и другим беспредметным измыш¬
лениям,— оно и пережило произведения подавляющего большинства
символистов — его современников, даже и. весьма талантливых).О том же самом говорит Блок и в следующем году — в письме,
адресованном Андрею Белому: «...ценя высоко лирический лад души,
который должен побеждать лирическую распущенность, я но люблю,
когда стараются уладить все средствами, посторонними лирике, хотя•520
бы «градом, обещанным религиями»...» — и поэт полемизирует здесь
не только с Сергеем Соловьевым (чьи слова взяты им в кавычки), но и
с принципами религиозного и «теургического» искусства вообще (хотя
и сам подчас «возвращался» к ним — как это мы видим в его статье
«О современном состоянии русского символизма»).О той же самой «недоступной черте», отделяющей искусство от ре¬
лигии и мистики, поэт говорит и годы спустя, «...мне тошно от рассу¬
ждений, хочется быть художником, а не мистическим разговорщиком
и не фельетонистом...» —пишет Блок матери весной 1910 года, и здесь
у него чувствуется острое осознание всей несовместимости задач ху¬
дожника с вещаниями мистики и религии (то, чего никак не могли
понять Андрей Белый, который слишком часто разменивал свой боль¬
шой талант на мистические фантазии, или Вячеслав Иванов, которому
было свойственно «миражами сверхискусства мешать искусству...» —
говоря словами Блока; такие «миражи» Блок всячески стремился рас¬
сеивать, чтобы они не заслоняли от пего «лицо проснувшейся жизни»,
облик человека). Вот почему свои чувства, даже и самые болезненные,
на наш взгляд, Блок изображал обычно но с точки зрения «больного»
или «потерпевшего», а скорее с точки зрения исследователя, который со
скрупулезной точностью описывает самые необычайные психологиче¬
ские состояния и «феномены» своего духа, порою словно бы теряясь
перед их сложностью, странностью, непостижимостью. Но он упорно
стремится их понять, истолковать, объяснить,— а не остаться в преде¬
лах загадочности и неизвестности.Так, при всех своих идеалистических предрассудках и «мистиче¬
ских» страхах, Блок создавал произведения, дышащие духом 'жизнен¬
ной правды, верности доподлинным наблюдениям и переживаниям и
раскрывающие самую суть «страшного мира», в условиях которого
долгие годы жил поэт. Когда он взывал к художнику: «Твой взгляд да
будет’ тверд и ясен»,— то этот призыв он обращал прежде всего к са¬
мому себе и в зрелые свои годы признавал лишь то искусство, в кото¬
ром такой взгляд вырази,иси полно, невозбранно и бесстрашно,—ка¬
кие бы грозы пи бушевали вокруг и какие бы отвратительные картины
ии открывались норою перед художником. Вера в человека и его буду¬
щее, осознание огромных сил народа и его несокрушимых внутренних
устоев, правоты его борьбы и справедливости его требований, присталь¬
ное внимание к передовым общественным двюкениям — вот что помо¬
тало ему одолевать «тяжелые сны», насылаемые «страшным миром»,
и сохранять идеал великого и прекрасного будущего.Это будущее и озаряли «молнии искусства», в «грозовом свете»
которых «нам примечтались и умудрили поздней мудростью все века»
(как говорил поэт в статье «Рыцарь-монах»),—и события великой ли¬
тературы (к ним мы смело можем отнести творчество самого Блока)
являлись в глазах поэта теми «молниями», которые словно бы озаряли
весь окружающий мир и то будущее, ради достижения которого нель¬
зя жалеть никаких жертв и усилий, да и самой жизни,—как утверж¬
дай поэт. Вот чем и определяется великое значение искусства в глазах
Блока.521
«Исжусство не есть наслаждение, утешение или забава: искусство
есть великое дело...» — говорил Лев Толстой в трактате «Что такое ис¬
кусство?», имея в виду возвышающую и объединяющую людей роль
искусства,— и, несомненно, многое в понимании существа и назначе¬
ния искусства Блок усваивал из этого трактата.Именно как к «важному делу», а не как к «наслаждению, утеше¬
нию или 'забаве», относился Блок к искусству, по-своему претворяя
мысли и убеждения Толстого— но лишая их того религиозно-пропо¬
веднического смысла, который Толстой вкладывал в слова «великое
дело».Так, споря с «презрительными эстетами» и вдохновлявшим их ду¬
хом «великого предательства», Блок утверждал, что красота — это
великая сила, призванная преобразить мир на новых, истинно человече¬
ских началах; всякое подлинно художественное произведение искус¬
ства в глазах Блока — это не только совершенная красота, но и свиде¬
тельство силы и мощи человеческого гения.Поэт писал матери но поводу пьесы Стриндберга «Виновные — не
виновны», что здесь «...жизнь души переведена на язык математиче¬
ских формул, а эти формулы в свою очередь написаны условными зна¬
ками, напоминающими зигзаги молний на очень черной туче...»
(1912) — и схояаю «зигзаги молний» одна за другой вспыхивают и в его
собственном творчестве.Поэт утверждал, что искусство «...вместе с наукой ведет к позна¬
нию конечных целей жизни мира...» (1919) — и эти «конечные цели»,
неотъемлемые от достижения «единства с миром», неизменно виделись
ему в ослепительном свете «молний искусства», что и ставило в глазах
Блока искусство «большого стиля» — реалистическое в своих основах
и романтическое по устремленности — на необычайно высокое и ничем
пе заменимое место в иерархии человеческих ценностей.
«БОЛЯ К ПОДВИГУ»В поисках «единства с миром», па пути «от личного к общему»,
который был определен Блоком как «вочеловечение», как рождений
«гражданина своей родины», находил поэт новый исход и новые воз¬
можности воплощения своей «воли к подвигу» —той воли, которая
Пронизывает всю его лирику, а потому и является ее движущей силой,
объединяющим ее началом.«Я только рыцарь и поэт...» — говорил Блок со скромным и вели¬
чавым достоинством, и эти слова в его стихах стоят рядом не случай¬
но и не произвольно. Нет, для Блока было несомненно, что истинный
поэт — это вместе с тем и человек высокого посвящения, рыцарского
служения, обладающий «терпением и жертвенностью мастера», чья
«воля к подвигу» не отступает перед испытаниями и опасно¬
стями.Некогда Блок говорил, что Ибсен «...сохранил нежную ткань
сердца, и только воля его стала как железный, разящий меч...»
(1908) — и, пожалуй, эти. же слова можно отнести к самому Блоку,
решительно и неуклонно отстаивавшему свои воззрения и позиции от
любых угроз и нападок.«От современного художника -- подвига...» — так записывает Блок
в марте 1910 года, определяя характер своих исканий и убеждений,
основное существо своей лирики, пафос которой — в утверждении
подвига, в устремлении к подвигу, в тоске о подвиге,, всегда присущей
поэту, несмотря на все его «уклонения, падения, сомнения,, по¬
каяния...» (как говорит он об этом в письме к К. С. Станислав¬
скому) .Следует подчеркнуть, что такого рода понимание смысла челове¬
ческой жизни находилось в резком противоречии с тем, что утвержда¬
ла в то время, либерально-буржуазная, ренегатская по своему духу,
пресса, прославлявшая «великое предательство» в различных его
видах и вариантах.Если «Вехи» (в статье С. Булгакова) измывались над,, «гордели¬
вым, опирающимся на самообожание» героизмом передовой русской
интеллигенции (как и над всякой героикой вообще), то именно подвиг
являлся в глазах поэта высшим, а вместе с тем и «древним» назначе¬
нием человека, и он не видел иного «верного пути» в жизни, кроме
«дороги к подвигу».523
Тема подвига — в ее самых различных выражениях — и является
центральной в творчестве Блока: Она связывает все этапы его творче¬
ства, многообразные, а вместе с тем и внутренне единые лейтмотивы
его лирики.В спорах со своими былыми друзьями и соратниками, упрекав¬
шими его в «измене», поэт утверждал свою «неподвижность», «незыб¬
лемость». Действительно, среди самых острых противоречий и всех
превратностей его судьбы оставалось нечто неизменное, прочное, что
позволило ему сказать: «Путь мой прям, как все русские пути...» —
и что придавало цельность и единство этому пути, при всех самых
крутых и резких ого поворотах, в потоке самых бурных и противоре¬
чивых страстей; вот почему характер блоковской «трилогии вочелове¬
чения» нельзя осмыслить вне связи с неуклонной «волей к под¬
вигу».Перед поэтом оживали все героические легенды, мифы, предания
старины, в которых история мира изображается как борьба света
и мрака, гармонии и хаоса, созидания и разрушения; среди всех
древних преданий и мифов, захвативших воображение поэта, поле его
творчества, и воплощающих народные представления о счастье, кра¬
соте, справедливости, был один — вечно зацветающий, из поколения
в поколение возрождающийся, постоянно меняющийся и в то же время
бессмертный миф о Персее и Андромеде, о плененной злыми и хищ¬
ными силами царевне, в облике которой воплотилась вся прелесть
жизни, вся ее красота, — и подвиг ее освобождения составляет один
из основных мотивов лирики Блока, внутренне объединяющее еа
начало.В набросках плана первой главы поэмы «Возмездие» Блок запи¬
сывает:«...тогдашние (речь идет о годах 1878—1881. — Б. С.) прекрасные
передовые русские люди носили в себе мир — при всеобщем сне. То
были герои еще (дракон, спящая царевна). То, что кажется «наив¬
ным» теперь, тогда не было наивно, но было сораспятием...»Сам Блок никогда ие чурался подобных «наивностей» и находил
в них ту жизненность, глубину, мудрость, о которой забыли слишком
поглощенные «мелочными заботами» люди,— и сказание о плененной
царевне и Подвиге ее освобождения с детства захватило поэта, ещз
в те времена, когда «няня читала над ним долго, долго, внимательно,
изо дня в день:Гроб качается хрустальный... .— Спит царевна мертвым сном...» —и это не только о герое поэмы «Возмездие» — «сыне» — говорит поэт;
он говорит здесь и о самом себе, о том сказочно прекрасном облике,
который целиком захватил его воображение и наполнил внутренний
мир — единожды и навсегда; не случайно он скажет о себе в стихах
о Прекрасной Даме:Будет день — и свершится великое,Чую в будущем подвиг души...524
Образ прекрасной царевны, может быть навеки заснувшей и все
же исполненной тайной жизни и влекущей прелести, возникает еще
и в ранних стихах Блока; юный поэт слагал в ее честь баллады, напоми¬
навшие и стихи Жуковского, и полотна английских прерафаэлитов,
и легенды времен короля Артура и рыцарей Круглого Стола, и искал
в их хходвих'ах источники своих мечтаний и вдохновений; так возни -
кает одна из ранних баллад Блока: «Дали слепы, дни безгневны...»
(1904); в ней царевне, спящей в пепробудном оне, видится всадник...в битвенном наряде4,В золотой парче.,.Видение этого рыцаря словно бы поглощает весь отгружающий
мир, становится явлением космическим -- наподобие образов старин¬
ных сказаний и мифов, в которых воспеваются стихийные силы самой
природы:Ночью девушкам приснится,Прилетит из тучКонь — мгновенная зарница,Всадник *— беглый луч...С древними преданиями и героическими мифами перекликается
и стихотворение «Сын и мать» (1906), герой которого покинул мать
ради свершения ратного подвига,— но везде она видит его «знаки»,
словно бы вспыхивающие и просвечиваюхцие во всем окружающем ее
мире:Вот он, сын мой, в светлом облаке,В шлеме утренней зари!Сыплет он стрелами колкимиВ чернолесье, в пустыри!..В подвиге сыпа матери видится сияние самого ■солнца, и пусть
этот подвиг стоит сыну самой жизни — сердце покинутой матери пе¬
реполняет «золотая радость», ибо сыновний свет победил окружаю¬
щую мглу, царит над пей.Все это выражено пока еще условно, отвлеченно, но не условны
сами чувства, выраженные здесь, тот героический пафос, которым
пронизано стихотворение.А она, царевна, невеста, «светлая жена», в образе которой вопло¬
щена вся красота жизни, думает не о том, чтобы удержать своего воз-
любленяохх) в тесном терему, а чтобы вдохновить его на предназначен¬
ный ему П0ДВИ1', несущий счастье и обновление всему миру:Возьми свой меч. Готовься it сече.Я сохраню тебя в пути...—(1Ж)и ее верный рыцарь уходит, чтобы принести ей «на острие копья —
весну», зпая, что, только выполнив долг и свершив подвиг, сможет он
вернуться к любимой.525
Образ спящей царевны, жаждущей чуда своего пробуждения —
и освобождения, преобладает во многих других стихах этой поры,
^ак же как и образ рыцаря, который пробирается «окрай неизвестных
дорог», чтобы найти похищенную возлюбленную и освободить ее от
власти «вражьей силы».На втором этапе «трилогии вочеловечения», когда перед поэтом
поднимется «необходимый болотистый лес», подвигом окажется пре¬
одоление обманов и соблазнов «страшного мира», обольщающего
утехами «красивых уютом», «творимых легенд», «змеиного рая»,
в котором места хватает лишь на двоих; топорь и возлюбленная оказы¬
вается по «Прекрасной Дамой», а «Незнакомкой», «Ночной Фиалкой»,
«змеой красоты несказанной», призванной завлечь ого в свое логозо
и жаждущей лишь того, чтобы он «все забыл» — забыл о своей неве¬
сте, о ее спасении, о суждением ему подвиге, стал бы служить хищ¬
нице я соблазнительнице.Но он знает, что мертвый сои его истинной возлюбленной —- не па
века; она ждет своего освободителя и слышит, как идет бой с полонив¬
шей ее нежитью и нечистью:Под парчами, под лучами
Слышно ей сквозь сны,Как звенят и быот мечами
О хрусталь степы...Поэт включил стихотворение «Спы», написанное уже в зрелую
пору творчества, в цикл «Родина»,— и разве это не говорит о его
подлинном смысле и подспудном значении?По мере воплощения «трилогии вочеловечения» и сама «воля
к подвигу», искони и неизменно присущая поэту,, явным образом видо¬
изменялась, обретала совершенно новые и сугубо современные черты
и особенности.С годами Блоку становилось все очевидней, что освобождение
«плененной царевны» — это и есть освобождение всего народа от ско¬
вавших его пут, от господства хищных сил «страшного мира» — иначе
невозможно никакое иное освобозкдение! — и понимание этого при¬
дает его «воле к подвигу» необычайно глубокий и жизненный харак¬
тер; Если некогда поэт мог сказать о себе в стихах о Прекрасной
Даме: «Я грущу, как заоблачный воин...» —и, вслед, за Вл. Соловье-
йым, видел в своей возлюбленной «темного хаоса светлую дочь», та
йотом он сошел с заоблачных высот на родную землю, и отныне са¬
мый подвиг не мыслился им вне «дороги к делу», it людям; так древ¬
нее сказание обретало в творчестве Блока современное звучание,
отвечало его жажде настоящего дела и «вечного боя».Как видим, меняются не те сказки, предания, мифы, которым
Блок был верен до конца своей жизни,— меняется их осмысление,
понимание, восприятие: если раньше они носили отвлеченно-мечта¬
тельный и фантастический характер, не имеющий -никакого отноше¬
ния к окружающей действительности, то потом они в глазах поэта
словно бы растворились в самой жизни, взятой в ее самых обыденных.
) ■ ■ :
528
и повседневных проявлениях, полностью слились с пею, как слилась
и сказка о плененной драконом царевне; следует напомнить, что это
революция 1905—1907 годов придала плоть и кроль дотоло отвлечен¬
ным представлениям поэта «о доблестях, о подвигах, о ели во», ни
в малейшей мере ие уменьшив их романтической возвышенности
и героического пафоса.Образ героя лирики Блока, рыцаря, томящегося о подпито, также
претерпел существенные изменения: если раньше он продета ил иле л
поэту облеченным в среднековые латы, в старинные доспехи, то теперь
поэт видел людей подвига уже не такими, как па полотнах Дапто
Габриеля Россетти или Бери-Джонса, пе в образе мечтательного рыца¬
ря, бродящего в зачарованном лесу в поисках приключении, а и обри
зах самых обыкновенных, внешне ничем но примечательных.В статье об Ибсене (1908) Блок приходят it миамепмтеш.иому
признанию, заключающемуся п том, что ronpouojjiioo челоночеетво
«...не может войти и широкие врата вечных идеалом, минуя уикпе
двери тяжелого и черного труда...» —и понимание этого изменяет
в глазах поэта характер подвига, предназначенного человеку и неко¬
гда мыслящегося как подвиг «неподвижности», отрешенности от всего
«земного», преданности некоему небесному видению.Отныне подвиг — это не турнирные схватки, не борьба со сказоч¬
ным чудовищем, а повседневная, тяжкая, пепрестанпая работа; это
«земной юдоли невеселые труды», которые поэт и призывает пас раз¬
делить вместе с ним. Во всем этом—та же самая, искони присущая
ему «воля к подвигу» (вот почему поэт и настаивает па своей неиз¬
менности, «неподвижности»), а вместе с тем и нечто совершенно иное,
необычайно важное в своей новизне.Крайне знаменательно и то, что даже тогда, когда в лирике Блока
не упоминаются ни сражения, пи принадлежности рыцарских доспе¬
лом, м прежние промена так любимых нм (как и все «средневековое»),
мы нем рммпо ощущаем м ней вибрацию особого рода, напоминающую
тонкий и явственный «звон щита»* тот «поп, которым поэт приветст¬
вует жизнь.Каждая из затронутых им тем пробуждала у него дух борьбы,
и даже ожидание встречи с любимой вызывало чувство воина, стоя¬
щего на страже и знающего, что ему не дано наслаждаться безмятеж¬
ней м покоем, что сейчас-то и начнется испытание его мужества, стой?
кости, «воли к подвигу».Перед этой враждующей встречей
Никогда я ее брошу щита...—утверждает поэт, и этот звон не умолкает в стихах Блока даже тогда,
когда оп говорит о вещах крайне далеких от военных схваток и бос-
вых испытаний. Вот почему жизнь в глазах поэта являлась неустан¬
ным «вечным боем», и, узнавая о неудачах театра Соловцова (с труп¬
ной которого гастролировала JI. Д. Блок), поэт высказывает
в очередном письме к жене мысли, необычайно важные для понима-527
вяя его собственного творчества, утверждаемых им основ искус¬
ства:«Я радуюсь принципиально вашему провалу. Может быть хоть
кто-нибудь из вас очнется от сна. Беспочвенность и усталость я оди¬
наково не принимаю к сердцу—им нет места среди нас—художни¬
ков...» (1908, ЦГАЛИ, ф. 55, он. 1, од. :хр. 100, стр. 55—58) — и, думает¬
ся, эти слова Блока и поныне сохраняют все свое значение, как тот
завет, верность которому являотся налогом подлинно художественного
и жизненно важного творчества.Ещо никогда жажда подвига, ноля к подвигу но обретала в стихах
поэта такого мощного звучания, такой ясной устремленности, как
тогда, когда она полностью и без остатка растворилась .в любви к род¬
ной земле и ее людям,— как это мы видим в цикле стихов «На поле
Куликовом»:О Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!..В этой широте, в величии подвига, предстоящего нашему народу,
тают мелкие страхи за себя, за свое личное благополучие, так же как
смолкают все шорохи и шепоты, когда рядом с ними раздается мощ¬
ное гудение большого колокола,— и отныне «воля к подвигу», искони
присущая поэту, уже неотделима от чувства родины, неразрывно
сочетается с ним, с думой о счастье и будущем всей России; это и при¬
дает новый, необычайно углубленный смысл раздумьям поэта о подви¬
ге, его «воле к подвигу».Герой «Песни Судьбы» признается: «Я в страшной тревоге, как
перед подвигом...» — и этой «страшной тревогой» охвачена вся лирика
Блока, свидетельствующая о подвиге, призывающая к подвигу как
к тому делу всей жизни, без которого она утрачивает какой бы то ни
было смысл; готовность пожертвовать всею жизнью ради «важного
дела» становится одною из самых сильных страстей поэта, одним из
неиссякаемых источников его вдохновения; ведь...гибель не страшна герою,Пока безумствует мечта!А, воплощение великой мечты стоит того, чтобы заплатить за него
цеиою всей жизни,— утверждает Блок в своей лирике.В условиях «страшного мира» человеку остается либо превращать
свою жизнь в повседневный подвиг, либо становиться на путь «вели¬
кого предательства»; либо гореть, либо тлеть — третьего не дано,—
и, жадно вглядываясь в те неясные письмена, которые начертаны на
свитке его судьбы, тлеющем на медленном и тайном огне, Блок готов
был повторить вслед за Тютчевым:О, небо, если бы хоть раз
Сей пламепь развился по воле,И, не томясь, ие мучась доле,Я просиял бы — и погас!..528
За то, чтобы «просиять» — хотя бы на краткий, но чудесный
миг,— можно, заплатить ценою всей Жизни, и сжигавшая поэта жажда
«просиять» заставляла, его идти навстречу «гибели» и воспевать ее,
но именно такую, которою человек расплачивается за свое горение,
свое «сияние», за подвиг, стоящий любой цены,— и «неизъяснимое
наслаждение», рожденное чувством бесстрашия перед лицом самой
гибели, в высшей степени присуще Блоку и герою его лирики.Подвиг, «воля к подвигу» противостоят в глазах поэта «малым
трудам», «мелочным заботам»,—но здесь необходимо и пояснить: под
«мелочными заботами»,. недостойными настоящего человека, поэт
прежде всего разумел всепоглощающую увлеченность сугубо личными
интересами, жалкими в своей ограниченности; но в его же стихах,
письмах, высказываниях утверждается и прославляется самый обык¬
новенный повседневный труд,— если он вдохновлен большой думой,
великой целью; такой труд в глазах поэта являлся подвигом по мопь-
шим, чем тот, который прославлен в гороичоских легендах; и дрошшк
преданиях.• ■ Волей к подвигу и пафосом подвига, верного и вечного служения,
пронизана и драматическая поэма Блока «Роза и Крест» (1912), Дей¬
ствие которой происходит во времена рыцарского средневековья.В средневековье Блока — в зрелые годы его жизни — захватывали
и увлекали не его антураж и рыцарские аксессуары, пе придворные
турниры и фантастические, в духе старинных романов, приключения,
а нечто иное — скромное и неуклонное служение своему идеалу, своей
Прекрасной Даме,—будь это возлюбленная или вся родина; верность
тому «непостижному виденью», о котором говорил Пушкин в стихах,
посвященных «бедному рыцарю».Одним mi таких «бедных рыцарей» является и герой поэмы «Роза
и Крест» — «Рыцарь постстье» Бертран.Но томорь, затрагивая даже историческую тему, Блок не уходил
от действительности и современности, от их самых острых и злобо¬
дневных вопросов, о чем и свидетельствует «Объяснительная записка»
поэта для Московского Художественного театра, предполагавшего
поставить эту драму; в своей «записке» поэт указывал:«Первое, что я хочу подчеркнуть,— это то, что. «Роза и Крест» —
не историческая драма. Вовсе не эпоха, не события французской жиз¬
ни начала XIII столетия, не стиль—стояли у меня на первом плане,
кйгда я писал драму... дело не в том, что действие происходит
в 1208 году в южной и северной Франции, а в том, что жизнь запад¬
ных феодалов, своеобычная в нравах, красках, подробностях, ритмом
своим нисколько не отличалась от помещичьей жизни любой страны
и любого века».С этими положениями можно спорить, но именно они помогают'
осмыслить характер драмы «Роза и Крест» и других произведений
Блока, каких бы том и времен они не касались и к какому бы жанру
ни относились.}8 Заказ 534
В драматической поэме Блока рассказывается история любви
«Рыцаря-несчастья» Бертрана к Изоре — госпоже феодального зайка,
й ушах которой неумолчно слышится песня заезжего странника-мене-
стреЛя о «радости-страданье», словно бы отравившая ее и не дающая
ей покоя, преследующая ее даже во сне.Изора отправляет своего верного рыцаря Бертрана, всеми гонимо¬
го и осмеиваемого, на поиски этого мопестреля, ибо только он, кажет¬
ся Изоре, сможет утолить сжигающую оо и непонятную ей самой
жажду; после долгих странствий Порт pun выполняет повеление своей
•госпожи, любое слово которой овищонпо для него; он возвращается
в замок вместе с другим «бодным рмцаром» — Г'аэтаном, слагателем
несен, которому в каждом образе и в каждом явлении окружающего
мира открывается их вещий, неисповедимый смысл, кажущийся дру¬
гим людям всего лишь сказкой и выдумкой.Ла очередном пиру Гаэтан поет перед Изорой свою песню о «ра¬
дости-страданье »:Сдайся мечте невозможной,Сбудется, что суждено...Сердцу закон непреложный —Радость-Сраданье одно!..—и вся жизнь «Рыцаря-несчастья» Бертрана, который в горести в стра¬
даниях своей безотчетной и безответной любви находит самую выс¬
шую отраду, является подтверждением этих слов странпика-мене-
стреля.Но Изора, женщина из многочисленной (в творчестве Блока)
плеяды «падших звезд», уже «все забыла»; охваченная непонятным ей
волнением, вызванным песней Гаэтаиа, насыщенной гулами и грозами
океана, зовущего в неведомую даль, она осталась равнодушной к се¬
дому, старому, изможденному годами слагателю песен и оказалась
в объятиях «красивого мальчика» — пажа Алискана, наделив его
в своем воображении всеми теми возвышенными качествами, которые
ему и не снились.Как и многие другие герои Блока, она «обозналась» в истинной
природе своих страстей и влечений (так же, как некогда и звезда-
Мария, подавшая руку жалкому пошляку — «господину в котелке»),
и в тех людях, с которыми ее столкнула песня Гаэтана. Отныне Изора
жаждет «земных ласк» и «земных горячих рук», в них она находит
свое бедное и кратковременное счастье. Что ж, Алискан быстро сооб¬
ражает, что настал его час, и Изора с помощью Бертрана, который ни
в чем не может отказать своей Прекрасной Даме, добивается ночного
свидания с Алисканом — под охраной верного Бертрана.Он стоит на страже с открытой смертельной раной, нанесенной
ему в. бою, и умирает под окном Изоры, в которой для него—свет
всего мира, впервые постигая смысл смутных и мудреных для его
простого, бесхитростного сердца слов о «радости-страданье», хотя
именно в них находит свое высшее и самое верное выражение пафос
всей жизни Бертрана,530
Звон его выпавшего щита предостерегает двух юных любовни¬
ков— Изору и Алискана—о приближении опасности... Аляска*f
скрывается, а Изора, когда опасность миновала, роняет по адресу
Бертрана несколько снисходительных и ужасающих своею непроиз¬
вольной черствостью слов, которыми и завершается драма:«— Мне жаль его. Он был все-таки верным слугой».Так оценен подвиг «Рыцаря-несчастья» тою, которой Бертран без
раздумий и сожалений отдал годы самоотверженного служения, да
и саму жизнь.Но уменьшается ли от этого подвиг Бертрана?Нет, на темном фоне, который составляют «злые, подлые люди»,
окружающие его, образ Бертрана становится еще светлее и прекрас¬
нее, и та ни с чем не сравнимая радость, которую оп нашел в своем
страдании, неизмеримо выше утех и отрад, изведанных его госпожою
в объятиях своего возлюбленного — красивого животного.Но Бертран даже и в час смерти но осуждает Изору; нет, оп
желает ей счастья, ибо знает, что отныне для неоМальчик красивыйЛучше туманных и страшных снов!..—тех вещих снов, которые отзываются на шум океана и уводят на
неоглядный простор, «в путь роковой и бесцельный»,— и не сулят пи-
чего, кроме новых бед и утрат, боли «неизведанных ран», ибо только
так «сбудется, что суждено», только так может воплотиться «невоз¬
можная мечта».Бертран —это символический образ верности единожды и навсе¬
гда избранной мечте и эта верность обретала в глазах поэта высшую,
цени осы. среди всех остальных, особенно — в годы «великого преда-
тольспщ», духом которого дышала вся окружающая его среда,— ей-то
Блок напомнил своей поэмой о тех незыблемых устоях и великих
синтынмх, которые надо отстаивать в любых условиях и любой
ценой.Истинным героем драматической поэмы Блока и является «Ры¬
царь-несчастье» — «бедный рыцарь» — Бертран; в его груди таятся
такие сокровища, по сравнению с которыми жалкой мишурой выгля¬
дели бы самые драгоценные камни,— и то рыцарство, которое утверя;-
дал поэт в драме «Роза и Крест», ничего общего не имеет с попыткой
роста upировать времена средневековья и выдать их за некий «недвиж¬
ный» и извечный идеал. Нет, совсем иной характер обретают замыслы
поэта, обратившегося к средневековью, и толкует оп здесь об ином
рыцарство, ужо лишенном какого бы то ни было оттенка декоратив¬
ное,тн и эффектности.Бертран, замечает Блок в своих записях, «не герой, но мозг
и сердце всей ш.оеы, человек по преимуществу...» — и это замечание по только для понимания пьесы «Роза и Крест»,но и иоого творчества 1>лока зрелой поры, где герой возведен в звание
человека, — пылю этого звапня в глазах Блока по было ничего.IH'
’В «0бъяйнителъиой 8аписке»'к драме «Роза и Крест» поэт говорит
о Бертране: '«Он неумолимо честен, трудно честен, а с такой честностью жить
на свете почти невозможно, и все окружающие, пользуясь этой чест¬
ностью на все лады, над ней же издеваются и ее считают дурац¬
кой».Это, судя по всему, сказано но только о Бертране, но и о себе,
основано на личном опыте,—и дальше Блок высказывает свои собст¬
венные завотпыо думы, ошшииыо с осмыслением опыта своей жизни,
хотя поводом служит все тот же образ «Рыцаря-несчастья»:«Бертран любит свою родину, притом в том образе, в какой толь¬
ко и можно любить всякую родину, когда ее Действительно любишь...
От этой любви к родине и любви к будущему — двух любвей, нераз¬
рывно связанных, всегда предполагающих ту или другую долю1 свя¬
щенной ненависти к настоящему своей родины,— никогда и никто не
получал никаких выгод...»Как сообщает сам автор драмы,— в то время, к какому относится
ее действие, объединение Франции еще не совершилось, и, стало быть,
еще не было той «niadame France», которой рыцарски слуяшт Берт¬
ран; это лишний раз свидетельствует, что все высказанное здесь
в связи с образом Бертрана — давно выстраданные и назревшие думы
и чувства самого поэта, его заветные помыслы и убеждения.Проблематика драматической поэмы Блока, «тема переяшваиий»
ее героев — все это также во многом носит сугубо современный харак¬
тер. Поэт замечает, что действие ее относится ко времени «...между
двух огней, вроде времени с 1906 по 1914 год. Крестовые походы со¬
вершенно вышли из моды, раздували их папа и авантюристы, а у мо¬
лодых людей появились длинные, почти женственные одежды,
т. е. они изнежились внешне (вследствие внутреннего огрубения
м одичания — вроде наших декадентов)...».Своих «АлисКанов» Блок находил не в старинных архивах,' а сре¬
ди тех завсегдатаев декадентских кружков и салонов, у которых изне¬
женность й «утонченность» сочеталась с внутренним одичанием,
утратой подлинно человеческих качеств.Еще Достоевский утверждал в «Дневнике писателя», что «...искус¬
ство всегда современно и действительно, никогда но существовало
иначе, не может иначе существовать...» и, развивая эту мысль,
пояснял: «...нам иногда кажется, что искусство уклоняется от дейст¬
вительности, что действительно есть сумасшедшие поэты и прозаики,
к'оторые прерывают всякие сношения с действительностью, действи¬
тельно умирают для настоящего, обращаются в какйх-тЬ дрёвнйх
грекЬв или средневековых рыцарей и прокисают в антологии или
средневековых легендах».«Такое превращение,— наставительно замечает Достоевский, —
возможно; но поэт-художник, поступивший таким образом, есть сума¬
сшедший вполне». ,
Были ли такие «сумасшедшие вполне» поэты и прозаики среди
современников Блока? ‘ " ' ••532
. Бщщ,: ж. в зла читальной:., количестве, но сам ;он ш<Н>ражаегГтв своей
пьесе людей, которых видел всюду и повседневно, что и отделяет,
драму Блока, от тех декадентско-эстетских и стилизаторских «твори»
мых,- легенд»,: которые стремились увести своего читателя в прошлое,
как р. некий. «золотой век», противостоящий современности,— как цепь
ность несравненно более высшего порядка., Драма «Роза и Крест» написана белым стихом (вперемежку
с .подчеркнуто бытовой и «сниженной» прозой, когда на сцене, появ¬
ляются персонажи, чуждые лирически возвышенному и «музыкально¬
му» началу), если не считать нескольких песен, а особенно «песни
Гаэтана» — одного из замечательных созданий лирики Блока; эта пес¬
ня свидетельствует о подвиге как о высшем призвании человека
и зовет ,к.,,подвигу, .как единственно достойному назначению всей,
жизни:.Смотрит чертой огневою
Рыцарю в очи закат,• • t • Да над судьбой роковою, •„ •, Звездные ночи горят...’ .’Пусть, «исповедь горячего сердца» называется здесь песней страк-
ника-мецестреля, но это о себе, говорит поэт, это его переживания,
и раздумья, вобравшие огромный и трудный, выстраданный долгими
годами, жизненный опыт, обретают страстное, вдохновенное воплоще¬
ние,—-и сквозь легкие, словно бы воздушные очертания Гаэтана про¬
ступает облик его.создателя.В драматической поэме «Роза и Крест» мы находим и ответ, ее
автора на ,самые насущные и злободневные вопросы широкого обще¬
ственного масштаба. Если некогда поэт с тревогой внимал слухамо, «вцрфрломеевских ночах», о «жакериях», то каким сарказмом отзы¬
ваются: теперь, в драматической поэме, слова одного из «сытых» —
владельца замка, оповещающего своих приближенных о победе над
очередной «жакерией»:Но бойтесь, рыцарь, больше
Ни вил, ии дубья!Мы вновь — господа
Земель и замков богатых!Беззаботно отпразднуем ныне
Наступленье веселой весны!В этих словах торжествующего хищника, одержавшего победу
над безоружными и обездоленными тружениками, слышится приговорпоэта д;о.му строю, само существование которого являлось вызовом
справедливости и человечности.В лирике Блока глубоко и правдиво запечатлены переживания
и ,стремления .той лучшей части, буржуазно-дворянской интеллиген¬
ция, которая ясно осознавала обреченность старого общественного533
строя, справедливость революционных требований народа, его возму¬
щения против темных и хищнических сил «страшного мира» — и все
глубже чувствовала свое «отщепенчество», свою «мятежность», но
вместе с тем и не умела слить свой «одинокий бунт», свои надежды
и устремления с освободительной борьбой народа, а потому так часто
поддавалась настроению исторического пессимизма, трагической без¬
выходности.«Ты, кому обещался, прости...»—умолял Блок в минуту тоски,
сомнений, такого смертельного отчаяния, когда кажется, что впере¬
ди— «ни огня, ни 8везды, пи пути» и что «воля к подвигу», так и не
нашедшая исхода, навсегда замерла или изменила, изнемогла в борьбе
с обманами и соблазнами «страшного мира».В год своей смерти Блок перевел стихотворение Гейне, в котором
многое перекликается с той темой соблазнов «змеиного рая» и «кра¬
сивых уютов», которая так много значила в его собственном твор¬
честве:Чуть не в каждой галерее
Есть картина, где герой,Порываясь в бой скорее,Поднял щит над головой.Но амурчики стащили
Меч у хмурого бойца
И гирляндой роз и лилий
Окружили молодца.Цепи горя, путы счастья
Принуждают и меня
Оставаться без участья
К битвам нынешнего дня.Но главное и ведущее в творчестве Блока начало, составляющее
его героический пафос, звучит гордым, настойчивым призывом: не от¬
давать своего меча «амурчикам», разрывать «путы счастья»,— если
они связывают человека, лишают его «воли к подвигу» и делают рав¬
нодушным «к битвам нынешнего дня».«Я только рыцарь и поэт...»— говорил некогда Блок, но с годами
все яснее сознавал, что быть рыцарем в традиционном смысле слова —
ото еще слишком мало для того, чтобы жизнь была осмысленной,
оправданной, внутренне наполненной; для этого требуется иное, более
высокое посвящение,— и если раньше «избранного» человека посвя¬
щали в рыцари, то теперь поэт совершает иное «посвящение»: он по-
йвящает рыцаря в человека (как посвятил и своего «бедного рыца¬
ря» — Бертрана).Вот именно в том, чтобы «стать человеком», и заключается выс¬
шая ступень подвига и посвящения — в тех условиях, когда устои,
основы и законы «страшного мира» враждебны всему человеческому
и преследуют человека на каждом шагу, в любой области жизни,
деятельности,' помыслов, чувств, отношений; в этих 'условиях стать
человеком —это и есть подвиг, выше которого нет ничего.
В такой «посвящении в человека» и заключено то новое и необььчайно важное, что вносит поэт в «рыцарскую» тему. И, таким образом*
«воля к подвигу», искони присущая ему, все глубже осмыслялась как
воля к «вочеловечению» (вот почему весь свой жизненный и творче¬
ский путь поэт определял как «трилогию вочеловечения»).Героический пафос творчества Блока является вместе с тем и тра¬
гедийным, ибо, осознав подвиг как высшее призвание и назначен но
человека, поэт не видел реальных путей его воплощения, его претво¬
рения в жизнь, томился о подвиге, не ведая, «кто меч скует», не зная,
«что делать с собою».Как видим, все произведения Блока можно увидеть в их внутрен¬
нем единстве, и все темы и мотивы внутренне перекликаются в со¬
зданной Блоком «трилогии», связаны в один узел: «единство с миром»,
чаемое как высшее назначение нашей жизни, неосуществимо без
«вочеловечения», а само «вочеловечение» в условиях «страшного ми¬
ра» требует подвига и является подвигом; этот подвиг может бытг.
осуществлен лишь на пути «от личного к общему», в постоянной
и напряженной борьбе со всем тем, что ему противостоит,— и мы ви¬
дим, что эти взаимосвязанные и взаимообусловленные темы и мотивы
цементируют лирику Блока, придают ей то внутреннее — сюжетное,
психологическое, философское — единство, которое поэт и подчерки¬
вал, когда определял три тома своих лирических стихов как «роман
в стихах» или «трилогию вочеловечения»; здесь к личным пережива¬
ниям неизменно примешиваются звезды, океаны, зори, вся вселенная,
являющаяся участницей той драмы, о которой повествует Блок.Пе всегда эти темы и вопросы непосредственно затрагиваются
и решаются здесь в том или ином конкретном произведении, но она
составляют пафос, присущий творчеству Блока, являются грунтовым
слоем ого лирики, определяют ее огромную масштабность.Важно подчеркнуть и то, что к эпохе Великой Октябрьской рево¬
люции, означавшей новую главу в истории всого мира, поэт пришел
Человеком —<• м том высоком смысле, который он вкладывал в это имя,
Человеком о большой буквы, ужо «воплотившимся», избравшим путь
«от личного к общему» кап самый верный и надежный.По, перед тем как перейти к новому — и высшему — этапу его
творчества, вершиной которого является поэма «Двенадцать», нам
следует подвести некоторые предварительные итоги рассмотренному
одесь материалу и уяснить его в целом.То «молнии искусства», которые вспыхивают в насыщенной буря¬
ми и грозами лирике Блока, освещают «печальное человеческое лицо»,
говоря словами поэта,— лицо человека, истерзанного страстями, со¬
блазнами и ужасами «страшного мира», но сохранившего в глубинах
своего духа нерушимую веру в народ и его будущее, жажду «единства
с миром», волю к подвигу, отвращение к тому «великому предатель¬
ству», чьим духом, казалось поэту, насыщен и самый воздух, которым
он дышал,Именно потому, что Блок уже осуществил в жизни и творчестве
спою «трилогию вочеловечения», он и Октябрьскую революцию вос¬535
принял так глубоко и органически, ответил па нее созданием одного
из величайших и подлинно новаторских произведений русской и ми¬
ровой поэзии.В дни Октября поэт сумел полно и невозбранно воплотить свою
«волю к подвигу», а потому и пережить самое великое торжество,
какое может быть суждено испытать человеку н художнику: сознание
подвига — жизненного и творческого, не только чаемого, но и на деле
совершенного подвига, в котором сказались все силы и дарования,
какие только были присущи поэту, во всей их полноте, во всем их
небывало возросшем могущество; имопио об этом подвиге и будет
рассказало во второй — заключительной — дЦти книги о Блоке.
^Jaemh €то^ал
ПОДВИГ
НАКАНУНЕ1. «ИСПЕПЕЛЯЮЩИЕ ГОДЫ»Началась первая мировая война, развязанная империалистами
европейских великих держав, годами подготавливавшими ее,— и мил¬
лионы русских людей оказались втянутыми в чудовищную мясорубку,
приносили неисчислимые жертвы ради совершенно чуждых, а то
и непонятных им интересов.Ленин разъяснял в своем обращении к рабочим истинную суть
мировой бойни, предпринятой «...двумя группами разбойнических ве¬
ликих держав из-за дележа колоний, из-за порабощения других на¬
ций, из-за выгод и привилегий на мировом рынке» (Сочинения, т. 21,
стр. 334).Вот этой сути войны сначала и не понимали охваченные «патрио¬
тическим» угаром широкие массы, которым внушалось, что речь идет
в завоевании легкой и скорой победы над врагом; но по мере того кай
ход военных действий принимал все более кровопролитный и безиа
дежный характер, раскрывались глаза даже и у тех, кто еще совсем
недавно отзывался на посулы и призывы шовинистической про и у
га иды.Начало первой мировой войны, явившейся предвестьем и кануном
гибели всего буржуазно-помещичьего строя в России, Блок встретил
как большой м зрелый мастер, как художник огромной силы, как че¬
ловек «общественный», болеющий всеми болями и страданиями своей
родины и уже отбросивший -многие иллюзии и заблуждения юношеских
лет, упрямо пробивающиеся •— сквозь все угрозы и соблазны «страш¬
ного мира» — к тому будущему, ради которого можно пойти на любые
жертвы и испытания.К этому времени у поэта необычайно возрос интерес к обществен*
лым делам, движениям, событиям.Как свидетельствует биограф поэта В. Княжнин, увлечение Блока
«общественностью» проявилось накануне первой мировой войны не
только® создании поэмы «Возмездие» и вызывалось не только «необхо
димостыо подготовки к более достоверному освещепию политического
фона событий», изображенных в поэме. Нет, свидетельствует биограф
поэта, «был и какой-то другой, самостоятельный интерес к этой сторо¬
не русской жизни. А. А. скупил целую серию революционных книжек,
выпущенных в предшествующие годы, попрятавшихся в глубь при¬
лавков букинистов за время активного напора реакции 1907—1909 гг,
и снова'вынырнувших -на-, свет, к 1911 г.» .(«Александр Александрович:)
Блок», стр. 111). Действительно, к вопросам общественным у Блока,
в то время обнаружился, глубокий и «самостоятельный» интерес, о чем
он. впоследствии скажет и в предисловии к поэме «Возмездие»; мы.
читаем в ней о том времени, когда «...в главных чертах была набросаг,
на эта поэма» и когда преобладало «мужественное влияние». В эта
гады, каждая цифра которых «кажется написанной кровью», Блок
с особенной глубиной ощутил до продела дошедшую остроту «против
воречий непримиримых и требовавших примирения». Он чувствовал
в, воздухе «запах гари, же,поза и кропи», той приближающейся «боль¬
шой войны», планы которой уже разрабатывались в штабах империа¬
листических дерзкав.Само время представало перед поэтом в ого острейших конфликт,
тах, в необычайно многообразных фактах и событиях, происходивших
в самых различных областях жизни, но обретавших для поэта «один
музыкальный смысл»: здесь и убийство Столыпина, и дело Бейлиса,.,
и то, что в Лондоне происходили грандиозные забастовки железнодо¬
рожных рабочих, и то, что в Средиземном море разыгрался знамена¬
тельный эпизод «Пантера — Агадир» — своего рода пролог и предав^,
стие мировой войны, и особенное внимание к авиации, чье значение,
в ходе будущих военных действий можно было еще только предчувст¬
вовать, и смерть Льва Толстого и Веры Комиссаржевокой, вместе с ко¬
торыми ушли «человеческая нежность» и «лирическая нота», и зарож-:
пение того направления в искусстве, чьим лозунгом, говорит здесь же
Блок, !«...был человек —но какой-то уже другой человек, вовсе без
человечности, какой-то «первозданный Адам». Все это и многое другое слагалось в; сознании поэта воедино; со¬
здавало. «единый музыкальный напор», особый, «ритм того времени»,
когда; «мир, готовившийся к неслыханным событиям, так усиленно,
и планомерно развивал своп физические, политические и военные,
мускулы...». Этот «ритм времени» всецело захватил Блока, вызвал
у него острый и пристальный интерес к тем областям общественной
и политической жизни, значение которых дотоле нередко ускользало;
от его взгляда. ,То «общее», чем жил поэт и что было неотъемлемо от предчувст¬
вия снова надвигающейся революции, все глубже захватывало его;
это сказывалось не только в поэме «Возмездие» (над которой в то вре-.
«я увлеченно работал Блок), но и в его стихах, статьях, письмах.: Так,:
ознакомившись летом 1911 года с книгой английского историка и пи->
сателя Томаса Карлейля «История французской революции», Блок,
внушал жене (находившейся в то время в Париже), настойчиво воз¬
вращаясь к одному и тому же кругу мыслей, переживаний, чувств:.«Я люблю Париж за революцию и за многое...» (1911, 13—.
26 июня). . , i«Нам нужно когда-нибудь пожить в Париже вместе и найти под
хламом современности — древний, святой и революционный город..,»
(1911, 17—30 июня).«Изучаю Париж и уже хорошо знаю его — по путеводителям и та640
ист.[орив] французской] революции. Простой город...»* (1911,' 21
ия — 4 июля; ЦГАЛИ, ф. 55, он. 1, од. хр. 101, стр. 45—50).Так поэт твердил из письма в письмо, пытаясь внушить жене свое
стремление «от личного к общему», а стало быть, и к революции, кото¬
рая только одна теперь и была святой в его глазах (что впоследствии
он повторит в поэме «Двенадцать»),Правда, когда позднее, осенью того же 1911 года, поэт увидел
Париж воочию, он не признал в нем «святого и революционного горо¬
да », а потому не только «не полюбил Парижа, а многое в нем даже
возненавидел...» (как он пишет матери). Но 1 в самой ненависти поэта
сказались не какие-то сугубо личные или преходящие настроения,
а отвержение той современной буржуазной культуры, господство кото¬
рой уродует и калечит человека.О необычайно остром интересе it проблемам общественного поряд¬
ка свидетельствуют и письма it матери, отправленные ей в том же го¬
ду из-за границы, гдо поэту стала особенно ясной «вся чудовищная
бессмыслица, до которой дошла цивилизация...».• Он говорит о «самой демократичной стране» (заключая эти слова
в иронические кавычки) — об Англии, где «рабочие доведены до ис¬
ступления 12-часовым рабочим днем (в доках) и низкой оплатой
и где все силы идут на держание в кулаке колоний и на постройку
«сунердреднаутов». Именно все силы — в последние годы, когда Европе
некогда тратить силы ни на что другое...» (1911) —и никаких других
слов, кроме как «чудовищная бессмыслица», для определения такого
опасного хода событий, все ближе «подползающих» к мировой бойне,
поэт ие находил.В это же время он писал матери:' «Правительства всех стран зарвались окончательно. М. б., еще
и нйм суждено увидеть три великих войны, своих Наполеонов и новую
картину мира,.,» (1911).Дойствитолыю, многое из того, что предвидел Блок, вскоре сбы¬
лось, и из этого можно заключить, каким чувствительным «сейсмогра¬
фом» приближающихся катастроф становился н то время поэт, жадно
прислушивавшийся к тем бурям, от которых зависели судьбы всего
мира.Блок чувствовал (как говорит он в письмах к матери), что «пах¬
нет войной», приближение которой виделось ему и в усиленных воору--
зкениях великих держав и во всей «цивилизации дреднаутов, данти¬
стов и pucelles» (1911). Все это наполняло его тревогой, предчувст¬
вием грозы, готовой вот-вот разразиться.'Силы реакции всячески пытались предотвратить эту грозу, пода¬
вить гнев и возмущение рабочих масс, и в апреле 1912 года ■ поэт
сообщает находящемуся за границей Андрею Белому: «Ты знаешь
наши дола? Расстрелы на Ленских приисках, всюду стачки и демоист-
рации, разговоры о войне, последние дни — опять волна тревоги...»
(«Советская Абхазия», 1962, № 199, публикация Н. Пияшева). Замет¬
ки подобного характера свидетельствуют о том, что в эти годы наибо¬
лее глубоко захватывало поэта, вызывало ответные его раздумья; они541,
же свидетельствуют и о том, на какие силы поэт возлагал свои надеж-
ды, упования — в чаянии лучшего будущего и победы над силами
реакции и мракобесия.В феврале 1912 года поэт говорит в своем дневнике о «новой для
него» газете — это «ежедневно конфискуемая и от этого имеющая еще
больший успех — социал-демократическая «Звезда»,—и далее Блок
записывает те мысли, которые вызвала у него самая передовая рус¬
ская рабочая газета, орган большевиков:«Отрадно после консерватизма органов — «Речи» и «Русского
слова» (которое, может быть, превратится в прогрессивный орган,
©ели приобретет определенную физиономию,—чыо, вопрос?)... Все
здесь ясно, просто и отчетливо...»Л через несколько дней, в начале марта, следует но менее знаме¬
нательная запись, свидетельствующая о явно выраженных обществен¬
ных настроениях и симпатиях поэта:«Спасибо Горькому (опубликовавшему статью «О современно¬
сти». — В. С.) и даже — «Звезде». После эстетизмов, футуризмов, апол-
лонизмов, библиофилов запахло настоящим. Так или иначе, при всей
нашей слабости и безмолвии подкрадыванъе двенадцатого года к со¬
бытиям отмечается опять-гаки в литературе...» — в той «настоящей»
литературе, в которой поэт и усматривал предвестие больших и отрад¬
ных, то есть революционных, событий.В год, предшествующий началу войны, Блок занес в свой дневник
сведения и размышления о тех событиях, которым придавал необы¬
чайно важное значение, как свидетельству знаменательных явлений,
могущих в корне изменить ход истории, общественных движений,
судьбу всей страны:«В прошлом году рабочее движение усилилось в восемь раз по
сравнению с 1911. Общие размеры движения достигают размеров дви¬
жения 1906 года и все растут. Оживление промышленности. Рост де¬
мократии».9 января 1913 года — в годовщину январских событий 1905 го¬
да! — поэт записывает в дневнике: «Большие забастовки и демонстра¬
ции...»,— и теперь его внимание постоянно привлекают те факты
повседневной жизни, которые свидетельствовали о нарастании рево¬
люционного движения в России.В брошюре «Социализм и война» Ленин говорил:«1912—1914 годы обозначили собой начало нового грандиозного
революционного подъема в России. Мы вновь стали свидетелями
великого стачечного движения, какого не знает мир. Массовая рево¬
люционная стачка вовлекла в '1913 году, по самым минимальным
подсчетам, IV2 миллиона участников, а в 1914 перевалила за 2 мил¬
лиона и подходила к уровню 1905 года. Накануне войны в Петербур¬
ге дело дошло уже до первых баррикадных битв» (Сочинения, т. 21,
стр. 289).Следует подчеркнуть, что Блок, стоявший в стороне от револю¬
ционного движения, все же оказался крайне чуток к нему, со страст¬
ным нетерпением ждал революционных событий и именно в них —642
и ни в чем ином! — видел возможность очищения и обновления всей
жизни.Но вот разразилась мировая война, н эти надежды поэта оказа¬
лись попранными и надолго Отброшенными.Годы войны отозвались в переживаниях и творчество Блока го¬
речью, гневом, чувством завершенности огромного этапа жизни —
своей собственной и всей страны — и неуверенным ожиданием каких-
то новых перемен.Каких именно?Этого и сам поэт не знал, а потому и предавался в свои «ночные
часы:» самому мрачному отчаянию, видя, что еще темнее, чем когда бы
то ни было раньше, «мрак жизни вседневной» (Фет) — тот мрак,
в котором поэт склонен был усматривать некий «потусторонний»,
«инфернальный» смысл.Правда, в первые дни войны у поэта еще возникали иллюзии,
связанные с представлением о том, что она означает начало каких-то
новых — и благодетельных — перемен.«В начале войны он ходил провожать эшелоны, с одним из кото¬
рых, между прочим, уехал его отчим. В начале войны ему «казалось»,
минуту, что она очистит воздух...» — говорит в своих воспоминанияхо Блоке его биограф В. Княжнин,— но никакого «очищения» не про¬
исходило; наоборот, вскоре все застлал тот «отравленный пар», в ко¬
тором с каждым днем поэту дышалось труднее и тяжелее.«Что такое война?» — спрашивал Блок впоследствии в статье
«Интеллигенция и Революция» (1918) и отвечал, подытоживая чувст¬
ва и впечатления тех лет, когда, казалось, все тонуло во мраке, из
которого не видно никакого исхода:«Европа сошла с ума; цвет человечества, цвет интеллигенции си¬
дит годами в болоте, сидит с убеждением (не символ ли это?) на
узенькой тысячеверстной полоске, которая называется «фронт».,.Трудно сказать, что тошнотворное: то кровопролитие или то без-
Оелье, та скука, та пошлятина; имя обоим — «великая война», «отече¬
ственная война», «война за освобождение угнетенных народностей»
или как еще? Нет, иод этим знаком — никого но освободишь...»Мудрено ли, что годы войны отозвались в душе поэта горечью,
гневом, чувством смертельной усталости и безнадежности — всем тем,
что не могло не сказаться и в его творчестве, словно бы омраченном
тою «разливающейся мглой», сквозь которую не мог проникнуть взор
поэта, придававшего ей смысл некоей «высшей мистики».Блок не видел того, что война, искалечившая и уничтожившая
миллионы человеческих жизней, принесшая бесчисленному множест¬
ву людей неслыханные бедствия и страдания, вмосте с тем создавала
и предпосылки для революции.Ленин писал в статье «Конференция заграничных секций
РСДРП»: «Крайние бедствия для масс, создаваемые войной, не могут
не порождать революционных настроений и движений, для обобщения
и направления которых должеп служить лозунг гражданской вой¬
ны...» (Сочинения, т. 21, стр. 139),—и под этим лозунгом объедввя-
лись и сплачивались наиболее передовые силы русского рабочею
класса и крестьянства, видевшие только в революции возможность
мира и свободы.Но вот эту — единственно верную — возможность отвергал в то
, время Блок, перед которым окружающая действительность представа-
\ ла в самом мрачном и безнадежном с вето.В письме к литератору Л. Измайлову поэт утверя!дал: «Одича¬
ние», которое теперь у всех па языке,— факт, в большой степени со-
.вершившийся..,» — и но видел тех решшшх сил, в союзе с которыми
«;ог бы бороться с, «одичанием»; он разуверился в какой бы то ни было
^«общественности», оказавшейся (как полагал: поэт) полным банкро¬
том пород лицом хаоса, вырвавшегося наружу и уничтожавшего вез1 .человеческие и культурные ценности.События первой мировой войны глубоко отозвались во внутренней
жизни поэта, заставили его заново задумываться о . своей 1 судьбе
it судьбах всего народа, многое переосмысливать в своем творчестве;
все это по-своему сказалось и в жизни и в стихах Блока, созданных
в те дни и коренным образом отличавшихся от того, что выходило
из-под пера других поэтов — его современников... Война углубила у поэта чувство одиночества,— именно она с осо¬
бенной, явственностью обнаружила, насколько отвлеченны и «книж¬
ны» оказались те литераторы, которых Блок еще так недавно почитал
ближайшими своими, друзьями и усматривал некие глубины в их ми¬
стических бреднях и теософских фантазиях.К их числу относился В.. Пяст — второстепенный поэт-символист,
а также и литератор-мистик Евгений Иванов. Вот об этих-то друзьях
и пишет поэт жене в декабре 1914 года: «Пяст, говорят, поправляется
(после психического заболевания.— B.C.), но все-таки он свихнулся,
невидимому,,так же, как в 1906 году. Я боюсь за Женю (Евгения:Ива¬
нова.— Б. С.), теориям и «деятельности» его конца нет;обовсем-то он
скажет запутанно, сбивчиво и «апокалипсически»...» (ЦГАЛИ, ф. 55,
он. 1, ед. хр. 103, стр. 81).Вот что, на взгляд поэта, являлось в то время признаком психиче¬
ской ненормальности, да и умственной незрелости.Следует напомнить, что в начале войны многие поэты, принадле¬
жавшие к различным литературным направлениям и течениям, ки¬
чившиеся своей приверженностью «чистому искусству», полнейшей
непричастностью к зомным делам и зомной «корысти» (такие, как
Федор Сологуб, Игорь Северянин, Георгий, Иванов, и множество Дру¬
гих), оказались самыми ревностными трубадурами войны, певцами
откровенно шовинистического толка, пропагандистами «победоносной
войны», сочинявшими «патриотические» стихи и прославлявшими
подвиги Кузьмы Крючкова и других «чудо-богатырей», то и дело гото^
внх насаживать на одну пику, как куропаток, десятки «бошей» и; вот-
вот готовых ворваться в Берлин, чтобы водрузить над ним русский
герб с двуглавым орлом.Ничего общего с этой псевдопатриотической и откровенно шови¬
нистической стряпней, являвшейся своего рода саморазоблачением
истинного существа буржуазного декаданса — со всеми его несостоя¬
тельными претензиями на особую эстетическую «утонченность»,—
творчество Блока ие имело, да и иметь не могло, ибо поэт совершенно
по-иному и гораздо более трезво оценивал существо происходящих
событий.В первые месяцы войны поэт создал такие «важные» (по его соб¬
ственной терминологии) стихотворения, как «Грешить бесстыдно,
непробудно...», «Петроградское небо мутилось дождем...», «Рожденные
в года глухие...»,— и в октябре 1914 года он пишет жене в действую¬
щую армию (где она работала в одном из госпиталей в качество
сестры милосердия):«Занимаюсь Ап. Григорьевым. Больше всего один, конечно; чувст¬
вую войну и чувствую, что вся она — на плечах России, и больнее
всего — за Россию...» (6 октября 1914 г.; ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1,
ед,' хр. 102, стр. 33). ■Эта «боль за Россию» и обостренная болью любовь к ной состав¬
ляет пафос лирики Блока той поры, когда его охватила «буря воен¬
ных чувств и мыслей...», — как говорит он в одном из последующих
писем (там же, стр. 71).«Петроградское небо мутилось дождем...» — одно из первых стихо¬
творений, какими Блок отозвался на начало войны; здесь изобрая;ает-
ся отправление на фронт воинского эшелона, и оно пронизано чувст¬
вом нестерпимой боли и горечи за тех, кто составляет гордость, цвет
и могущество страны:В этом поезде тысячью жизней цвели
Боль разлуки, тревоги любви,Сила, юность, надежда,..—и1 кто был обречен на гибель в жерле чудовищной мясорубки войны:...В закатной дали
Были дымные тучи в крови.Но по мог же кровавый ужас продолжаться без конца — водь так
сгустился и омрачился: воздух, так тяжко и трудно дышать, что но
может Не разразиться очистительная и освежающая гроза; даже в ти¬
шине, наступившей после отхода воинского эшелона, поэту слышалось
почто иное — долгожданное, неизбежное, роковое:...с дождливых полей все неслось к нам ура!В грозном клике звучало: пора!Поэт и сам пе мог сказать точно и внятно, чему именно наступала
«пора», но жид ожиданием знаменательных перемен и неутолимо
жаждал их.Некоро он утратил и эту надежду: слишком долгим и безиадож-
н 1*1 м было его ожидание, слишком трагическим становился ход войны,
чудовищность и бессмысленность которой становилась все очевидней.В годы великих бедствий и испытаний у поэта снова, с небывалой
силой, вспыхнула любовь к Отчизне, к ее сыновьям, проливавшим545
п.отоки кррви на галицийских— и прочих — полях, на неизмеримых
фронтах войны, пересекавших всю Европу: ;Да, ночные пути, роковые,Развели нас и вновь свели,И опять мы к тебе, Россия,Добрели из чужой земли.Крест и насыпь могилы братской,Вот где ты теперь, тишина!Лишь щемящей поспи солдатской
Издали несется полно...Зпачепио этих стихов, вобравших в себя печаль и горесть мил¬
лионов простых людей, обреченных на страдания и гибель, станет для
нас еще явственнее, если мы сличим их с теми «патриотическими»
и шовинистическими виршами, потоки которых захлестывали прессу
тех времен!Читая словно бы отсвечивающие пожарами и пропитанные
кровыо страницы газет, наполненных штабными сводками и телеграм¬
мами «наших специальных военных корреспондентов», поэт находил
название знакомого ему города; он вспоминал Антверпен, его доки,
мачты, музей, где...в складки платья Саломеи
Цветы из золота вплелись...Но эти цветы обугливались в пламени мировой войны, обрушив¬
шейся на Бельгию пожарами и разрушениями, и перед внутренним
взором поэта возникал иной образ, заслоняющий все остальные, угро¬
жающий им гибелью и являющийся предвестием новых и небывалых
катастроф:...все — притворство, все —обман: ;Взгляни наверх... В клочке лазури,Мелькающем через туман,Увидишь ты предвестье бури —Кружащийся аэроплан., Цветы из золота, складки старинного платья и другие прекрас¬
ные, но слишком хрупкие создания человеческого гения перегорали
золой и пеплом в огне войны, от бедствий и ударов которой никуда
не уйти, нигде по найти защиты,—и сердце поэта все глубже охваты¬
вали опасения за судьбы всего человечества и мировой культуры.
Человеческий гений оказался бессильным перед лицом хаоса, вырвав¬
шегося на свободу изо всех щелей и торжествующего свою победу,
перед лицом «демонического мрака», волны которого, казалось поэту,
готовы захлестнуть вселенную,— вот почему такою болью и нестерпи¬
мою горечью пронизано стихотворение «Антверпен» — одно из тех,
какими поэт отозвался на самое начало войны.Написанное в те же дни стихотворение, посвященное Зинаиде
Гиппиус,— это и прощание с прошлым, и надежда на будущее, и опа¬
сение, что людям того поколения, к которому принадлежал поэт,: уже
не дождаться лучших времен — слишком ужасен и беспросветен мран
окружающей жизни, подсвеченной лишь пожарами и взрывами, озпа*
чавшими начало мировой бойни:Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.Мы — дети страшных лет России —Забыть не в силах ничего...И на что могли надеяться дети этих «страшных лет», когда уже
разразилась мировая война, каждый день которой уносил тысячи
и тысячи человеческих жизней?Подводя итог «испепеляющим годам» жизни — и своей и всей
страны,— поэт полагался на волю божию, отчаиваясь увидеть на зем¬
ле то царство свободы, справедливости, красоты, без которого и на
мыслил подлинно человеческого существования:...пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье,—Те, кто достойной, боже, боже,Да узрят царствие твое!«Роковая пустота», сознание того, что снова обманула «мечта»,
сулившая хотя бы и в час гибели «увидать блаженные края»,— вот
что определяет мрачный и трагический пафос многих стихов этого
времени, в которых поэт говорит о себе, о горестной судьбе своих со¬
временников, и сквозь то «страшное», что обступало его со всех сто¬
рон, он не видел никакого просвета — в пределах отпущенного ему
времени.Стихи времен войны, вошедшие в цикл «Родина»,— одни из самых
знаменательных и сложных в лирике Блока; поэт яростно и неприми¬
римо выступал против казенного и официального «патриотизма», под
флагом которого царские власти отправляли на фронт миллионы
и миллионы тружеников, по в это же время им написано стихотворе¬
ние «Грешить босстыдно, непробудно...», где он исповедуется в такой
любви к родипо, которая распространяется и иа всо то уродливое,
отжившее, что ость в ней; здось Россия иродстаот и в облике того
кулака, обиралы, набожного ханжи, который готов положить на цер¬
ковную тарелку «грошик медный»,—А воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,И пса голодного от двери,Икнув, ногою отпихнуть.И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,Потом переслюнить купоны,Пузатый отворив комод.И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне...Но любовь поэта требует, чтобы было оправдано и освящен»
а облике родины даже и то, что в нем безобразно,— иначе какая жа54?
si'6 'яШоШ' Вб^'-йбЧёму Блок готов примириться со всем, здо висит
на ней, как гиря на шее, разделить все ее «тяжелые сны»:Да, и такой, моя Россия,Ты всех краев дороже мне...Так утверждает в каком-то исступлении поэт, готовый благосло¬
вить Русь в любом ее виде и обличим,—даже и ту «кондовую», «тол¬
стозадую», но которой вскоре «пальнут пулей» героя его «Двенадца¬
ти»; но пока что поэт вместо с этой «толстозадой» Русью, она еще вы¬
зывает его любовь, умилении, чувство кровной близости, как с родной
матерью, а мать - но судят, какая бы она ли была...Ото наглядно свидетельствует, что Блок в то время слишком
большое значение придавал силам уже обреченного прошлого, явно
преувеличивая его живучесть,— и готовность воспеть «кондовую»
Русь является свидетельством крайней противоречивости воззрений
и симпатий поэта.Но с каждым днем, с каждым годом все мрачнее становилась,
обстановка — и сами стихи поэта, как и черты его лица, словно бы
заострились, стали необычайно жесткими, резкими, замкнутыми, как
бы закаляясь на каком-то медленном, тайном, испепеляющем огне;
именно об этой жесткости, ставшей неотъемлемым свойством творче¬
ства и самой натуры художника, он говорит в одном из наиболее
«важных» стихотворений той поры, окончательно подытоживающем
многие темы и мотивы, которые на протяжении долгих лет находили
в его лирике свой ответ и свое решение. Стихотворение это—«Ты
твердишь, что я холоден, замкнут и сух...» (1916) — написано накану¬
не революции, в самый разгар мировой войны; вот почему оно прони¬
зано такою нестерпимою горечью, безнадежностью, а вместе с тем
и неколебимою верою в какие-то вечные истины и незыблемые цен¬
ности, не зависящие от хода современных событий и призванные
в конце концов спасти мир и оградить человека от самого последнего
отчаяния, одичания и вырождения.Здесь поэт снова возвращается к тем мотивам и темам, которые
у же издавна и неоднократно затрагивались в его творчестве, но теперь
он сочетает их в единое и всеохватывающее целое, отвечающее на
многие из тех вопросов, какие имели для Блока жизненно важный
смысл, — что и придает стихотворению характер лирико-философской
исповеди.В ответ па упреки в том, что он «холоден, замкнут и сух», поэт,
взвешивая каждое слово, словно утверждая незыблемую и давно про¬
веренную формулу, решительно, холодно, «сухо» заявляет своему не¬
зримому собеседнику:Да, таким я и буду с тобой:Не для ласковых слов я выковывал дух, :Не для друя{б я боролся с судх.бой...Следует подчеркнуть, что недоверие к «дружбам», готовым обер¬
нуться изменой и предательством, к «ласковым словам», которыми
люди так часто обманывают друг друга, сказалось не только в этом548
стихотворении, но и по многих других — им пронизаны цельте .едакггтл.
лирики Блока; борясь за .истину,,отвергая «сплетню о жизни» ради,
самой жизни, поэт издавна боролся с «ласковыми словами», предпо¬
читая им любые другие — самые сухие и даже жесткие!—лишь бы
они были точными, верными и истинными.Среди мирового мрака, среди неслыханных бедствий и страданий,
поэт, через голову которого перекатывались лавины огромных и тра¬
гических событий, заново обдумывал все, что происходило вокруг,
чтобы понять происходящее, все, чему довелось быть свидетелем; ведь
он так1 Же, как прежде, и в эти годы не мыслил свою жизнь вне «един*
ства с миром» — какое бы отчаяние ни охватывало его и какие бы
надежды и упования на великое и прекрасное будущее своего народа
ии хйронйл он под рев снарядов и грохот пушек.Перед нами раскрывается широчайшая, охватывающая весь1
окоём, мрачная и грозная картина, вмещающая целый мир и псе его
пределы (в иных масштабах Блок не умел и не хотел ни мыслить, и и
чувсЙОАЙтЬ) — какими они виделись в то время поэту:Вот — свершилось. Весь мир одичал, и окрест
Ни один ие мерцает маяк.: И тому, кто не понял вещания звезд,—! >•' ‘ Нестерпим окружающий мрак.1; Только так — от широчайших обобщений, от осмысления страпь-
пых событий современности. Не суливших, казалось бы, ничего — кро-г
мо новых: испытаний и бедствий, и мог перейти поэт it разговору:о себе,1 о своей судьбе, которая, как неизменно и упорно верил он, чтог.
то значит ходе событий истории, а поэтому и «не пройдет бесследно»,;
поможет^ одолению мрака и хаоса «жизни вседневной», — и так раз¬
говор о себе приобретал в лирике Блока огромную масштабность, ста-г,.
повился разговором о назначении человека, о смысле бытия.!€««)' время, порежипаемое поэтом, так же, как и всем русским,
пародом, определяло строй и лад этого горестного, такого жесткого,
сухого;>что перехватынаот горло, а вместо с том-и страстного разгово¬
ра, в котором вся жизнь представала в сумрачном и трагическом
освещении; .. <• :Было время надежды и веры большой —Был я прост и доверчив, как ты.Шел я к людям с открытой и детской душой,Не пугаясь людской клеветы..., и; А теперь — тех, надежд не отыщешь следа,. . ■, Все к далеким звездам унеслось.И к кому шел с открытой душою тогда,От того отвернуться пришлось...Поэт в свете своего горестного и трудного жизненного опыта,
не оставлявшего места для каких бы то ни было иллюзий, видел
теперь истинную цену многого из того, чему некогда придавал такое
огромное ..значение как величайшему своему достоянию, а стало .быть,:
и «бури цыганских страстей», которая так увлекала и захватывала549
его, казалась такой прекрасной и бескрайней, — а теперь от нее оста¬
лось но так уж много:...улыбкой сведенная бровь,Сжатый рот и печальная власть
Бунтовать ненасытную женскую кровь,Зажигая звериную страсть...«Звериная страсть» — так сухо и кратко, даже враждебно име¬
нует поэт то, что некогда проносилось по его жизни подобно полету
кометы или огненному палу - «восторгом, бурей, адом»,— но обрело
выно иной образ и иное, гораздо более точное и жесткое определение.Поэт ныне по видол ни тех возможностей, ни тех людей, которые
могли бы изменить течение исторических событий и самый ход войны,
принимавшей все более кровопролитный, бессмысленный, чудовищ¬
ный характер; хотя он и знал, что «грядущего ночь не пуста», но не
различал маяков и «знаков», указывающих надежный путь к лучшему
будущему.Разочаровавшись в «общественности», не сумевшей оберечь
Россию от кровопролития, грязи и «пошлости» мировой бойни, поэт
только в подлинном художнике видит человека, который противостоит
охватившему людей безумию, сохраняет верность истине и долгу, один
оказывается хранителем священных заветов старины, прорицателем
и провидцем грядущего:Ты — железною маской лицо закрывай,Поклоняясь священным гробам,Охраняя железом до времени рай,Недоступный безумным рабам.Такими строками завершается это мрачное и горестное стихотво¬
рение, свидетельствующее, как далек был Блок от понимания
истинного хода событий современности, в недрах которых назревало
нечто новое, небывалое, означающее начало новой эры в истории всего
человечества, но еще совершенно неведомое поэту. Ему казалось, что
только немногие «избранные» — среди одичавших и обезумевших
людей — хранят в своих душах неугасимый свет бессмертных начал
и надежду на лучшее будущее, по нечего и говорить о том, насколько
несостоятельными и шаткими являлись ого упования на людей
замкнутых, одиноких, хранящих некие немеркнущие светы и глубине
и мраке своих пещер и келий, отгороженных от всего остального мира.Конечно, и в эти годы, может быть да же особенно обостренно,
сказалась крайняя противоречивость чувств и воззрений Блока; веря
в незыблемые ценности, в то, что «грядущее есть», — как бы ни за¬
стилал его «отравленный пар», поэт испытывал и смертельное
отчаяние, от которого хотелось укрыться где бы то ни было,,—хотя бы
под землей, куда не достигают никакие тревоги, бедствия, ужасы
и где хорошо уже по одному тому,...что в дремотные звуки
Не вступают восторг и тоска,550
Что от муки любви и разлуки
Упасла гробовая доска...Поэту мнилось: может, только в могиле найдет он утоление всем
своим мукам, своей жажде иного, лучшего, и, отчаявшись найти его
на земле, ищет под «бедным холмиком», заросшим травой:Торопиться не надо, уютно;Здесь, пожалуй, надумаем мы,Что под жизнью беспутной и путной
Разумели людские умы.В таких тоскливых, отзывающих «инфернальной» иронией
стихах и сказывается ощущение полной безнадежности попыток
развязать те запутанные узлы, которые завязывались все туже
и туже, — а сам поэт еще не видел меча, которым можно было бы ихразрубить.Во многих других стихах этих же лот Влок возвращался к старым
темам, давая им новое, а подчас и окончательное решение.Прощаясь со своей возлюбленной, поэт теперь уже ие испытывает
ощущения «бурного счастья», чувства того, что променял свою
«низкую страсть» на «лучшую долю» (как бывало иногда), — пет, ои
задает ей неожиданный вопрос, продиктованный смертельной уста*-
лестью, предельным изнеможением:• Неужели и жизнь отшумела,Отшумела, как платье твое?Он и сам не мог бы сейчас с уверенностью ответить на свой
вопрос, — может быть, действительно это так, и все лучшее, что есть
в жизни, уже позади, остается только проститься со своей возлюблен¬
ной и с той жизнью, исчерпанность и изжитость которой становилась
поэту все несомненней и очевидней, — а на новую уже нельзя на¬
деяться!Стихотворение «Пород судом»—тоже завершение любовного
лейтмотива и лирико Блока, горькое расставание с той, которая не¬
когда значила для поэта все в жизни, а ныне предстала перед ни и
«в резком, неподкупном свете дня». Но с этих пор поэт не видел ее
в ином свете; и «грубая веревка кнута», разбившая былые иллюзии
и вымыслы, отныне не повита ни лилиями, ни розами, бьет тяжело
и беспощадно — и так завершается любовная лирика Блока, уже
словно бы исчерпанная до конца. Об этой предельной исчерпанности
с еще большей очевидностью и несомненностью свидетельствует
и стихотворение «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух...».
Здесь любовные чувства и страсти лишаются даже малейшего оттенка
той возвышенности и той романтики, которую еще можно уловить
в стихотворении «Перед судом», несмотря на всю его резкость и суро¬
вость.В будущем поэт видел лишь «неизвестность пути», и меньше, чем
когда бы то ни было раньше, он верил в возможность воплощения
подвига, вне которого по мыслил подлинно человеческой жизни; мно¬551
гие его стихи становились исповедью человека, не знающего выхода
из ужасов окружающей его жизни, не ведающего, «что делать
с собою»; ведь когда не знаешь даже того, «о чем горевать», то...скучно, и хочется плакать,И некуда силы девать...Чем более значительны эти силы, тем больше —не нахйдя
исхода — они томят человека, обращаясь вовнутрь, тем мучительнее
обрушиваются на его собственное сердце, требуя ответа, и именно они
■доводят «глухую тоску беи причины» до такой степени отчаяпия, что
человек начинает завидовать тем, кто уже ушел из жизни.Л наряду с этими в творчестве Блока слышались и совсем иные
мотивы, в которых отзывается прежняя неизменная «воля к подвигу»,
жажда большой, настоящей жизни, прозрение будущего — сквозь все
то темное, ненастное, что застилало его очертания; об этом и свиде¬
тельствует стихотворение «Дикий ветер...» (1916), написанное, почта
что в самый канун революции, когда все очевидней становилось неиз¬
бежное крушение старого строя, бессильного справиться с чудовищ¬
ными духами той самой войны, которую он вызвал —на свою же
голову!—и наступление великих и знаменательных перемен, лишь
смутно предугадываемых поэтом.В этом стихотворении с особенной остротой сказалось чувство
исчерпанности всего былого — и ожидания, грозы и бщ>и, готовой вот-
вот разразиться и до основания потрясти всю старуюЖизнь, обер¬
нувшуюся кровавым ужасом; в эти стихи уже врывается тот ветер,
который гуляет «на всем божьем'свете»—й будет с неслыханной
силой бушевать в поэме «Двенадцать», с Налету перелистывая ее
словно бы раскаленные страницы. Дыхание резкого ветра чувствуется
в «троках, написанных весной 1916 года — последней весной старого
•мира: -Дикий ветер ' г., ...■■■*■.Стекла гнет,Ставки с петель
Буйно рвет.■ Этот ветер, эти «задобренные лесом круаи»; эти бескрайние луга—
все грозовое, «непокладистое», не дающее ни па минуту покоя, порож¬
дало и радость, и боль, и тревогу, па которую поэт сам еще не может —
«‘.должен! — ответить, ибо иначе нельзя ни на минуту успокоиться,
нельзя утолить свою жажду живого, настоящего дела.■То, что снилось когда-то в раннем детстве: спящая царевна, дра¬
кон, похитивший ее, рыцарь, свершающий подвиг ее освобождения,—
все легенды, мифы, предания, принимающие с. годами новое обличье,: наполнялись и новым смыслом, образуя текучий, подвижный, «герак-
■литовский» (как сказал бы сам поэт), но в чем-то неизменный
и «недвижный» мир, в котором подвиг неизменно являлся главной
целью и высшим назначением человеческого бытия,—и в самый
канун революции все тот же образ виделся поэту, все тот же, как
в прежде, в давние годы: : м552
.г."--- ’■ За окном черно и пусто*. ацте* я&ьта- -уг»• Ночь полна щаг’ов и хруста, ,Там, река ломает лед, ..■ ' ■ Там меня невеста Ждет...В облике возлюбленной, невесты, России поэту видится все тоже
извечно дорогое ему, самое прекрасное, что есть в жизни, — ие случай¬
но ?ке э,то стихотворение включено в цикл «Родина».Иоа.т видел, что темные, хищные силы враждебны его любви,
стремятся : похитить его возлюбленную, светлую невесту,— вот почему
и любовь сочеталась здесь с героическим пафосом и сам собою напра¬
шивался вопрос, неотступно стучащийся в сердце:Как мне скинуть злую дрему,Как мне гостя отогнать?i Как мне милую — чужому,Нрорлятбму не отдать?..Этот «чужой», «нахальный» гость —он повсюду, ои только и ждет
того, чтобы притупилась зоркость поэта, ослабла его «воля к подви¬
гу»,— и похитить его невесту, покорить ее, сделать ее своей верной
рабыней, исполнительницей злой и хищной воли. А сам поэт еще не
знает, как выполнить свой долг, свой подвиг, без которого и вся
жизнь «не в зачет», —и чувство того, что невозможно справиться
с, «Нахальным» гостем, пришедшим с самыми черными умыслами,
порождает злобу, тоску, горечь, ибо —■' ■ Как не бросить все на свете, " Ч'1’• ; . . Не отчаяться во всем,Если в гости ходит ветер, , ... ,Только дикий черный ветер,ЁотрйсаюЩий мой Дом?.. ! 'Но пусть горько и трудно поэту, а несвершенный подвиг, который
мерещился ому уже и и давние годы, тяжким грузом ломит плечи
и иажотси подчаО невыносимым ■ •• вей ' равно нельзя изменить ему;
Пусть вокруг «глухота и чернота», словно бы поглотившая и погасив¬
шая все огни, по водь но напрасно же «ночь полна шагов и хруста»,
реца ломает лед, во всем, чувствуется наступление весны и веет таким
пронзительным сквозняком, свежестью, шелестами, хрустами, которые
словно бы говорят, шепчут, уверяют, что не до веку чужой, «прокля¬
той»! гость будет хозяйничать на нашей родной земле. Так сквозь
отчаяние и горечь прорываются иные — весенние, молодые — чувства,
и отi,предвестия наступающих великих перемен становится и тревож¬
но и. .радостно. иСтихотворение «Дикий ветер...» написано 22 марта 1916 года,
и в'тот же весенний день поэт пишет другое стихотворение — «Кор¬
шун-», перекликающееся с первым и еще более ясное,' цельное но
своему характеру, по глубине сказавшихся в нем чувств; здесь тоска
о подвиге во имя своей страны и ее народа находит прямое, обна-
женнбе, почти публицистическое, а вместе с тем страстно напряжен¬
ное и классически совершенное выражение.553
.„Коршун, высматривая очередную добычу, кружит над пустын¬
ным лугом, над избушкой, где мать тужит над сыном, словно бы уже
заранее обреченным, с первого дня рождения, на те же муки, униже¬
ния, испытания, как и его давние предки, — и в тоске, в отчаянии,
перед лицом родины, вглядываясь в ее прекрасный и до последней
черточки любимый образ, поэт настойчиво требует ответа:Доколе матери тужить?Доколо коршуну кружить?..И только революция ответила на эти вопросы, как и на все осталь¬
ные,—такие жо большие и, казалось поэту, неразрешимые.Б стихах, написанных в годы войны и замыкающих лирику Блока,
его «трилогию вочеловечения», подытожен обширный, трудный, слож¬
ный, а то и внутренне противоречивый жизненный и творческий опыт
поэта, нашли окончательное решение многие лейтмотивы лирики
Блока, господствовавшие в ней на протяжении долгих лет, — такие,
как любовь, дружба, «мирное счастье», «воля к подвигу», «единство
с миром», путь «от личного к общему», «змеиный рай», обманы
и соблазны которого уже утрачивали над поэтом какую бы то ни было
власть, В годы первой мировой войны эти мотивы и лейтмотивы обре¬
ли в лирике Блока свое завершение, настолько полное и окончатель¬
ное, что поэт к ним больше и не вернется, — вот чем особо значитель¬
ны эти стихи в его творческой биографии.Весьма примечательны и тенденции, сказавшиеся в его лирике,
относящейся К предреволюционным годам (1914—1916), когда были
созданы такие стихотворения, как «Грешить бесстыдно, непробудно...»,
«Петроградское небо мутилось дождем...», «Рожденные в года глу¬
хие...», «Я не предал белое знамя...», «На улице —дождик и сля¬
коть...», «Похоронят, зароют глубоко...», «Превратила все в шутку
сначала...», «Дикий ветер...», «Коршун» и другие; в них мы можем
заметить особые черты, усиление одних стилистических тенденций
и явное ослабление, а то и полное исчезновение других.Для этих стихов крайне характерна необычайная скупость
в использовании средств художественной выразительности, предель¬
ная обнаженность образа, безыскусственность художественной речи.Если раньше в иных стихах Блока действие происходило
«в голубой далекой спаленке» и сам он уходил ввысь по некоей
«голубой стезе», а рыцаря — героя ого стихов — украшали позументы
и золотая парча, и скакал он «в голубой пыли», то теперь другие
картины и краски возникали перед внутренним взором поэта— вели¬
чавые, суровые, неброские, уже лишенные той «голубизны», которая
сквозила в его ранних стихах и придавала им подчас слишком
эффектный и эфемерный характер.Еще недавно Блок мог писать:Я саван царственный принес
Тебе в подарок!..—но в позднейших стихах изменилась и самая их лексика; она стала
менее яркой и «пышной», — уж если и саван, то, во всяком случае,554
йе «царственный», а скорее из самой грубой холстины,' йй' и’ где уж
сыскаться парадному «царственному савану», там, где доля челове¬
ка— всего только «крест и насыпь могилы братской...»—и стремле¬
ние отбросить «царственный саван» для одеяния гораздо более скром¬
ного, неприметного определяет характер стихов Блока, созданных
в годы войны.Поэта все больше захватывает «прелесть нагой простоты»
(Пушкин), что особенно явственно оказывается в стихах времен
войны, — на ее фоне поэту явно ненужными и неуместными показа¬
лись фигуры и формы нарочито прибранной, изящной речи; тут уж
ие до «изящества», когда потоками льется людская кровь и бедствиям,
обрушивающимся на народ, нет и не видно конца и предела! Стихи
этих лет слагаются просто, безыскусственно, как негромкий разговор
друга, делящегося с нами самыми сокровенными переживаниями
и наболевшими раздумьями, и мы понимаем, что ому самому не до
громких слов, не до ярких и блестящих сравнений, которые были бы
сейчас совершенно неуместны.От стиха подчеркнуто метафорического, усложненного, а то изы¬
сканного или отвлеченного, изобилующего переносными смыслами,
тропами, условными или символическими фигурами, зашифрованны¬
ми речениями, понятными лишь немногим «избранным», «посвящен¬
ным» (что характерно для иных мотивов ранней лирики Блока) поэт
решительно переходит к стиху почти бедному в своей «нагой просто¬
те», обращенному к каждому человеку и доступному каждому
читателю, даже самому неискушенному.Чтобы уяснить характер этой эволюции, надо вспомнить, что
говорил Блок в своей статье об Ибсене (1908), — тогда многое
н характере его развития как художника станет очевидней.«Изысканность стиля, в чем бы она ни выражалась, — утверждал
Илон п статье, ■ • и словесной ли пышности или в намеренной
нриткисти, спндетольстиуот о многострунности души, если можно■ нн ni.ipii и, о *мно/юбожми» пистоля, о демонизме ого. Напротив,души \уД11/КП111(», слушинчцил голос одной струны или поклоняющая-
пщОнш/мц (ini'll, пользуется- для своего выражения простыми, иногда
до беНпости простыми формами...» — н вот такая «бедность», вызвав¬
ши! «единобожием» поэта, все более глубоким ощущением своей
цельности — и целеустремленности, вызывала появление форм
необычайно простых, скупых, как это мы видим в стихотворений «На
улице дождик и слякоть...»:Глухая тоска без причиныИ дум неотвязный угар.Давай-ка, наколем лучины,Раздуем себе самовар!..Здесь лее просто и предельно безыскуственпо, как и та обыден-
ппи, скудная жизнь, о которой повествует поэт; пи одно прихотливое
ник неожиданное сравнение не изменит и не взволнует тихое и,
низалось бы, спокойное течение речи, на фоне которой оно выглядело555
бы,..может быта, и красивым, по совершенно инородным телом,
ненужной, хотя и блестящей, инкрустацией. Но как много сказано
в этих стихах, словно и не претендующих ни на что, кроме непосред¬
ственного выражения доподлинного чувства!. Какой глубокий и неизт
гладимый след, подобный огненной полосе, они оставляют за собой!В них трудно обнаружить хотя бы одно слово, хоть один эпитет,
которые вырывались бы из общего их строгого и ровного строя,
и только абсолютный слух художника мешает этой скупости превра¬
титься в бедность. По каждое из таких стихотворений, единожды
узнанное нами, потом может стать ночным спутником нашей жизни,
навсегда врезаться в память, ибо в них сказался весь человек — со
всем складом своих чувств, раздумий, переживаний, человек великой
души, раскрывшейся перед нами до конца, — и Дружба с ним отныне
является нашим неотъемлемым и драгоценным достоянием.Впоследствии, в письме к Анне Ахматовой. Блок, высоко оценивая:
поэму «У самого моря», вместе с тем говорит о том, что ему чуждо
и чего он «никогда не перейдет» и «никогда не простит», потому что
оно противопоказано большому и подлинному искусству. Блок настой¬
чиво советует молодой поэтессе: . ■ :«....не надо кукол, не надо «экзотики», не надо уравнений с д<ь
сятыо неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больнее...»
(1916)..Здесь принципы творчества и поэтики зрелого Блока выражены
решительно и резко, -?• а они во многом противостоят не только тому,
что Блок усмотрел в поэме «У самого моря», но и его собственному
раннему творчеству, где тоже было немало «кукол» и лирически.к
уравнений со множеством «неизвестных», принимавших слишком
условный и неопределенный характер. Когда поэт советовал Анне
Ахматовой: «жестче, неприглядней, больнее», — в этих словах слышит?
ся и, завет, обращенный к самому себе и полностью — безо всяких
отступлений! — воплощенный самим Блоком в стихах военных лет,Отныне в красивых словах «творимых легенд» поэт видел ту
«человеческую ложь», которую во что бы то ни стало и любою ценою
стремился избежать; вот почему он и очищал свой язык от всего
излишне красноречивого, пышного, эффектного или попросту неясно-;
го и темного; его речь —голос совести и правды, не нуждающейся
ни в каких украшениях для того, чтобы проникнуть в паше сердце! —
становится мерной, лапидарной, безыскусственной, еще ближе языку
преданий, легенд, притч или старинных апокрифов; крайне показа¬
тельно в этом отношении такое стихотворение, как «Грешить бесстыд¬
но, непробудно...». Самый его слог отвечает и характеру повседневных
наблюдений поэта и духу тех «житий», где повествуется о судьбе
человека, задумавшегося о своем назначении, о смысле своего суще¬
ствования и ищущего ответ на самые большие вопросы бьпия
и морали.Блоку в годы его художественной зрелости было в высшей степе¬
ни присуще стремление в обыденном и повседневном видеть веч¬
ное, и необычайно важное — вот что резко отличало его от писа¬
телей натуралистической школы, даже и тогда, ко'Гда 1 он1 !об$Щ<£Й1С?г:
К' самым заурядным фактам и событиям.Бросается п глаза и то, что поразительная самобытность его
стихов чужда нарочито подчеркнутой оригинальности; такое стихот-
творение, как «Коршун», находится в русле некрасовской традиции
и словно бы возвращает нас к раздумьям поэта прошлого века о доле
русской женщины — рабыни и матери «сына раба» («Расти, покорст¬
вуй^ крест неси...»), и Блок ничем не стремится подчеркнуть здесь
свое особое место в этом русле, хоть чем-нибудь внешне броским вы¬
делить и окрасить свой стих, чтобы он не растворился без остатка
в старой традиции.Мы чувствуем, что создатель «Коршуна» меньше всего трево¬
жился о том, достаточно ли он самостоятелен и неповторим, — что-то
другое и гораздо более глубокое, зрелое, значительное целиком
захватило поэта, выразилось в ого стихах, придало им необычайную
внутреннюю наполненность, жизненность, классическое совершенство
и «блоковское», ни с чем не сравнимое и особое звучание, ибо оно
связано со всем миром его раздумий, переживаний, страстей, прису¬
щих именно ему и никому другому, вносит свою тональность в любую
тему, казалось бы —даже самую общую, но неотделимую от личного
опыта поэта.В трактате «Что такое искусство?» Лев Толстой говорил об искус¬
стве будущего, доступном всему народу и создаваемом всеми одарен¬
ными его людьми, а не отдельными «избранными»: оно «не только не
будет ниже теперешней формы искусства, но будет без всякого срав¬
нения выше ее, выше — не в смысле утонченной и усложненной тех¬
ники, а в смысле умения кратко, просто и ясно передать без всякого
лишнего описания или украшения то чувство, которое испытал и хо¬
чет Передать художник...».Так утверждал Лев Толстой — и, пожалуй, еще более последова¬
тельно, чем когда бы то ни было раньше, отвечают этому требованию
«краткости», «ясности», «простоты» как высших критериев формы
искусства стихи, созданные Блоком в годы войны.Вместе с тем очевидно, что стихи этого периода носят в его твор¬
честве переходный характер. «Трилогия вочеловечения», в виде
которой поэт представлял и свое собственное внутреннее развитие,
а вместе с тем развитие и становление героя своей лирики, была
завершена, и Блок остро переживал ощущение исчерпанности своей
прежней темы, прежнего жизненного опыта, прежнего круга пережива¬
ний, уже пройденного, прежних тревог и раздумий, высказанных, до
конца. Оп ощущал необходимость каких-то новых, небывалых, необы¬
чайных, еще неясных и ему самому жизненных опытов, восприятий,
переживаний — иначе и писать ни к чему: ведь уже все, что он хотел
сказать, было сказано, все завершено, — а того нового, чего так ждал
и жаждал поэт и что встряхнуло бы его существо до самых основ, он ‘
так и не видел, да уже не чаял увидеть.После Создания таких стихотворений, как «Дикий ветер...»,'
«Коршун», «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух...», Блок слов¬557
но бы подвел некую итоговую черту, за которой должно последовать
либо полное молчание, либо нечто совершенно иное, новое —и небы¬
валое, а не просто продолжение того, что уже когда-то было задумано,
сказано и сделано поэтом.Крайне знаменательна его запись, относящаяся к 1916 году
и свидетельствующая о том, какую исчерпанность прежней «темы
переживаний» испытывал ои — и как жаждал повой темы, без которой
и дальнейшее творчество утрачивало в его глазах какой бы то ни
было смысл, превращалось в ненужное повторение давно уже откры¬
того и затверженного:«На днях я подумал о том, что стихи писать мне не нужно, по¬
тому что я слишком умею это делать. Надо еще измениться (или —
чтобы вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность
преодолевать материал...» — а без таких перемен, полагал поэт,
и стихи писать уже не к чему. То, что это было не только словами,
а твердым решением, свидетельствует и необычайная, небывало дли¬
тельная для Блока в то время пауза — свыше полутора лет (вплоть
до начала 1918 года), когда не было создано ни одного стихотворного
произведения: до тех неизбежных перемен, которых ждал поэт, было
еще далеко.Блок очутился снова «на перепутье двух дорог», как некогда
в юности; одна дорога была пройдена до конца, другая —еще не на¬
чата, даже не намечена, и у него не было никакой уверенности, что
сумеет отыскать ее; только одно он твердо знал: художнику пе к лицу
ни-.повторять уже сказанное, ни говорить о том, что еще не созрело
в нем, ие выношено, что еще слишком неясно и ему самому. Так
размышлял поэт в дни, предшествующие наступлению революций,
исподволь назревавшей в недрах старого общества — под неумолчный
грохот стрельбы, доносившейся с кровавых полей войны.2. В САДУ КЛИНГЗОРАОсобое место в творчестве Блока занимает поэма «Соловьиный
сад» (1915), также созданная во время первой мировой войны
и свидетельствующая о том, что каковы бы ни были переживания
я раздумья поэта, вызванные трагическим ходом событий современ¬
ности, они пе могли поколебать самих основ его мировоззрения, отно¬
шения к жизни, понимания подвига как смысла и назначения
человеческого бытия.Поэма «Соловьиный сад» завершает ту тему, которая огненной
полосой проходит сквозь лирику Блока: это — тема «поругания
счастья», борьбы с утехами и усладами «елисейских полей», «твори¬
мых легенд», «змеиного рая», который обольщал человека миражами
личного блага, минутного наслаждения — с тем чтобы сломить его
вэлю, заставить его забыть о своем призвании, назначении, долге
веред людьми и перед всем миром и в конце концов — подчинить его
темным и хищническим силам, враждебным всему человеческому.558
Поэма открывается картиной тяжелой, безотрадной работы
(«...земной юдоли невеселые труды...»), на которую обречен скромный
(труженик, от чьего имени и ведется повествование;Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илистом дне,И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине.Донесем до железной дороги,Сложим в кучу,—и к морю опять..,А рядом, тут же, у самой железной дороги, где трудится герой
поэмы, — а потому и особенно соблазнительный —...прохладный
И тенистый раскинулся сад.По ограде высокой и длинной
Лишних роз к нам свисают цветы,Не смолкает напев соловьиный,Что-то шепчут ручьи и листы...Кто-то поет и смеется за резной, узорной оградой соловьиного
сада, и герою поэмы в этом шепоте и пении слышится что-то зовущее
и манящее, и все неотступнее снится ему «жизнь иная —моя —не
моя...», чуждая его повседневным заботам.В поэме «Соловьиный сад» музыка, доносящаяся из-за ограды,
словно бы откликается и в самом стихе, в его ритме, в его повторах,
в возвращениях к уже сказанному или спетому:И она меня, легкая, манит
И круженьем, и пеньем зовет.И в призывном кружепьи и пеньи
Л иабытоо что-то ловлю,Л любить начинаю томленье,Недоступность ограды люблю.Здесь «круженье и пенье», о которых говорит поэт, отзывается
в «кружепьи и пеньи» самого стиха, где все снова и снова повторяются
(как во сне) одни и те же слова, ритмы, мотивы, образы, зачины
строк, и не только концевые, но и внутренние рифмы, что создает
своего рода кружево — с его переплетением, повторами, вариациями
одного и того же рисунка; это определяет какой-то особый, замедлен¬
ный темп и ритм повествования, словно сам рассказчик подпал под
влияние некиих неодолимых чар, томительного сна и никак пе может
стряхнуть его с себя, опутанный незримыми и неразрывными нитя¬
ми,—и это но-своему передает тепличную, душную атмосферу
«соловьиного сада»; одно лишь ириблюкение к нему отзывается том¬
лением и дремотой, утратой силы и воли. Утехи л обольщения соловь¬
иного сада обретают над героем поэмы неодолимую власть, и чем
пленительней соловьиный напев, колдовское журчание ручьев, стран-559
ныв лепет листьев, тихий смех, раздающийся из-за ограды соловьиного
сада, тем невыносимей и тягостней кажется ему все то, в чем дотоле
он видел назначение своей жизни, смысл своей повседневной работы:И чего в этой хижине тесной
Я, бедняк обездоленный, жду,Повторяя напев неизвестный,В соловьином звенящий саду?По доносятся Жизни проклятья
]! этот сад, обнесенный стеной,В сипом сумраке белое платье
За решеткой мелькает розной...От «проклятий» жизни, от ее горя, от тесной хижины он уходит
туда, где его ждут волшебные страны, вечный праздник, по омрачен¬
ный никакими заботами, тяготами, трудами. Ныне герою поэйЫ...прошлое кажется странным,И руйе не вернуться к труду:Сердце знает, что гостем лшланным
Буду я в соловьином саду...И действительно, калитка соловьиного сада — лишь только он
пожелал войти! —сама распахнулась перед ним; он оказался в преде¬
лах того земного рая, где человек безо всяких усилий получает все,
чего ни пожелает, и даже еще больше:Вдоль прохладной дороги, меж лилий,Однозвучно запели ручьи,Сладкой песныо меня оглушили,Взяли душу мою соловьи.Чуждый край незнакомого счастья
Мне открыли объятия те,И звенели, спадая, запястья
Громче, чем в моей нищей мечте...Герой поэмы пошел за этим счастьем, чтобы забыть и «дольнее
горе», и свою тесную убогую хижину, и своего «бедного товарища» —
осла, и каменистый путь, которым так трудно брести в знойный день;
казалось бы, то счастье, о каком он раньше мог только мечтать—вот
оно,ужового руках, и больше ому по о чем думать и беспокоиться...Но снова и снова, словно над ним тяготеет какое-то древнее про¬
клятье, едва поманившее его за собой и уже давшееся в руки счастьо
обернулось чем-то иным, чувством беды, тоски, опустошенности,
памятью о чем-то безнадежно утраченном, огромном, великом,' что
сливается с гулом и грохотом моря, бушующего за оградой соловьино¬
го сада и неумолчно напоминающего о себе, о всем том, о чем не за¬
будешь даже и «опьяненный вином золотистым», захваченный поры¬
вом любовной страсти:Пусть укрыла от дольнего горя
Утонувшая в розах стена,—Заглушить рокотание моря
Соловьиная неснь не вольна!..—500
и этот рокот—суровый, гневный, зовущий — все громче и настойчивое
раздается в его ушах, нестерпимою горечыо примешивается к любой
самой пленительной утехе, к самой сладостной легенде.Человеческая душа чувствует себя осиротевшей, обездоленной,
заброшенной в этом саду, где ее оглушают соловьиным пением,
опьяняют огнем страстей, и ей нечем утолить свой голод среди этой
неги и роскоши — вот почему она ропщет, томится, гневается, пе
дает ни на минуту забыться герою поэмы, — и напрасно та, которая
отворила калитку в этот сад, простирает в знойной мгле горячие руки,
беспокойно повторяя: «...что с тобою, возлюбленный мой?..»Понять ли ей, обитательнице «змеиного рая», тоску человека,
который знает, что он изменил своему назначению и долгу, — пусть
самому суровому и трудному? Теперь уже ничто не может отвлечь его
от чувства горестной и непоправимой утраты, утолить жажду подлин¬
ной жизни, дать исход той тоске, дыхание которой словно бы обра¬
щает в золу и пенол цветы и деревья соловьиного сада;...вступившая в пенье тревога
Рокот волн до меня донесла...Вдруг — видеиье: большая дорога
И усталая поступь осла...И перед видением этой жизни, — трудной, тяжелой, обыденной,
по подлинной и единственно достойной своего имени, меркнут и блек¬
нут все очарования соловьиного сада, обернувшегося адом «бездонной
скуки» (как говорит поэт в цикле «Черная кровь»).Здесь образ осла обретает особое значение, ибо с него снято всо
забавное, традиционно комическое и осталось нечто другое — заду¬
шевное, теплое, трогательное; когда герой поэмы говорит о нем, как
о своем бедном друге:И кричит, и трубит он,— отрадно,Что идет налегке хоть назад...—то и сам испытывает отраду; здесь нельзя не вспомнить, что такую же
отраду переживал и герой Достоевского князь Мышкин («Идиот»),
когда в дотоле чуждой и наводящей тоску Швейцарии заслышал «а
городском рынке такой же трубный крик.Для героя поэмы осел всегда был верным помощником в труде,—
и вот этого помощника он бросил, так же как и все другое, остав¬
шееся где-то там, за оградой соловьиного сада!Но собственная измена не дает ему теперь ни на минуту забыть¬
ся, заставляет его беспокойно ворочаться на мягком ложе, внимать
«рокотанию моря» — голосу самой жизни, пытливо вглядываться в ту
даль, из которой до него доносятся тревожные и зовущие голоса; его
охватывают нестерпимая горечь, раскаяние, жажда снова вернуться
на свой прежний — пусть тяжелый, но единственно верный — путь;
вот почему —...вперяясь во мглу сиротливо.Надышаться блаженством спеша,19 Заказ 534501
Отдаленного шума прилива
Уж не может не слышать душа...—и, повинуясь этому настойчивому и неумолчному зову, герой поэмы
покидает соловьиный сад. Но поздно, возмездие уже свершилось. Он
отверг подлинную жизнь, которая была для него слишком трудной,
суровой, бедной, а теперь она сама отшвырнула его, когда он понял,
мак она богата и прекрасна: водь без нее и все остальное — тлея,
тоска, томление духа.Настало новое, чужое время, и там, где был когда-то дом «обез¬
доленного бедняка», оп видит только ржавый лом, затянувшийся
мокрым песком; вокруг него незнакомая жизнь —...А с тропинки, протоптанной мною,Там, где хижина прежде была,Стал спускаться рабочий с киркою,Погоняя чужого осла.Отныне герой поэмы обречен не жить, а влачить существование,
всем чужой, никому не нужный, бесконечно одинокий в окружающем
его мире; так заканчивает он горестное повествование о своей судьбе,
о возмездии — самом страшном из тех, какие только могли постичь
его, и так завершается история человека, изменившего своему долгу
перед людьми, погнавшегося за утехами и радостями узко личного
счастья, эгоистического существования, отгороженного от большого
мира борьбы и труда.Древняя легенда о юноше, который попал в волшебное царство
и пробыл там несколько дней, а оказалось — несколько столетий, ибо
каждый день в этом царстве равен веку, по-своему осмыслена Бло¬
ком, и поэт придает ей совершенно новое звучание и значение — в све¬
те большого жизненного опыта, заставившего ею по-новому решать
вопрос о долге, о служении, говорить о той велихгой цене, которою
неизбежно расплачивается человек за измену своему долгу.Вместе с тем поэма «Соловьиный сад» перекликается и с оперой-
мистерией Рихарда Вагнера «Парсифаль», мотивы которой находят
свое развитие и свои вариации в поэме Блока.Как известно, тема «Парсифаля» заимствована Вагнером из
легенд о рыцарях Круглого Стола, из фантастических преданий
средневековья, из поэмы «Парциваль» Вольфрама фон Эшенбаха
(XVI век). Здесь повествуется о том, что в замке Монсальват, где
каждый день за столом собираются рыцари-монахи и подвижники,
изнемогает от раны царь Амфортас, хранитель чахни Грааля — святы¬
ни христианской церкви; ее хрусталь источает розовые лучи, и на его
поверхности появляются таинственные письмена; эти письмена воз¬
вещают о тяжких испытаниях, претерпеваемых невинными людьми
« разных концах света, и указывают рыцарям на ожидающие их
подвиги.Но чаша дарует свой свет и свою благодать ие всем рыцарям,
а только наиболее достойным из них, а достойные — это те, кто
«уберег себя от чувственных соблазнов: благодатную силу святыни562
обретают только целомудренные сердца» (как говорит Вагнер в на¬
бросках либретто, предшествовавшего созданию его оперы),Но легко ли рыцарям-монахам Монсальвата сохранить своэ
целомудрие, верность обетам безбрачия и подвижничества, если рядом
с их замком возвышается другой замок — замок волшебника Клипгзо-
ра, окруженный сказочным и пленительным садом, живым воплоще¬
нием всех мыслимых утех и соблазнов, подстерегающих на каждом
шагу?Благочестивый всячески избегает сада Клингзора, но тот, кто ужо
отозвался на голос своей плоти, неудержимо влечется к блестящим
башенным зубцам, возвышающимся в чудесном саду-цветнике; здесь
все поражает взор невиданным великолепием, отсюда доносится
дивное пение птиц, окрест разливаются опьяняющие ароматы, и здесь
обитает красавица-соблазнительница Кундри, повинующаяся вола
своего сурового владыки, и ее подруги, такие же прекрасные, как она
сама. Многие из тех рыцарей, которые дали обет подвижничества,
безбрачия и целомудрия, попались в расставленные для них в саду
Клингзора сети и погибли навеки. А этих сетей так трудно избежать —-
сделай всего один лишь неверный шаг, только единожды уступи и<
соблазнам!Сам Амфортас, глава рыцарского братства Монсальвата, не сумел
уберечь себя от. «чувственных соблазнов», от хитро расставленных
сетей своего коварного врага Клингзора, попал в объятия красавицы-
волшебницы Кундри, и вот теперь изнемогает от смертельной раны,
нанесенной ему в замке Клингзора.Кто придет на смену Амфортасу, кровь которого изливается
неиссякаемым потоком, вновь и вновь мучительно напоминая о нару¬
шенном обете? Кто возглавит рыцарское братство Монсальвата, кто
станет достойным хранителем ныне почти погасшей чаши Грааля?Только тот, кто жаждет подвига самоотречения и целомудрия, кто
полон аскетической святости, кто отвергает земные радости, — как
iroiiocTiiyoTc.ii и «Нареифоло». Только ого святость и чистота, только
подвиг сурового аскетизма может искупить прогрешение Амфорта-
са,—и его преемником становится юный Парсифаль, который одолел
чары волшебницы Кундри и вышел победителем из той схватки,
в которой бесславно погибли многие рыцари Монсальвата.Напрасно пытались соблазнить его Кундри и другие красавицы-
волшебницы, обитавшие в саду Клингзора; Парсифаль не мог забыть
о страданиях Амфортаса, которого он должен спасти, о сужденном
ему подвиге, и отверг все обманы и услады волшебного сада....Парсифаль становится отныне главою братства рыцарей-нод-
вижннков; он исцеляет Амфортаса, и чаша Грааля источает яркоо
сияние, что и знаменует святость подвига, совершенного Парсифалем.Сопоставляя «Парсифа ль» и «Соловьиный сад», мы видим сходст¬
во многих мотивов этих произведений: и там и тут главные героя-
призваны совершить подвиг, выполнить свой долг; и там и тут их
подстерегают опасные соблазны; и там и тут рядом с тем миром,
в котором они обитают, находится пленительный сад, где живу*19'563
красавицы-волшебницы, воплощающие всю мыслимую прелесть мира,
все его обольщения; и там и тут красавицы-волшебницы, подчиняясь
мекиим злым чарам, стремятся завлечь героя в свои сети, заставить
его забыть о долге, о подвиге, навсегда остаться в душном, отравлен¬
ном воздухе сада Клингзора — соловьиного сада.Да и самый сад Клингзора — тут же, рядом; и ведет к нему та же
калитка, которую и искать не надо,— она сама стоит на пути и по¬
слушно отворяется перед человеком, стоит ему лишь на шаг осту¬
питься и изменить своему долгу, призванию, назначению:Ираиду сердце говорило,И ограда была по страшна,Не стучал я — сама отворила
Неприступные двери ома...В судьбе скромного каменотеса, героя «Соловьиного сада», повто¬
ряется судьба одного из тех рыцарей Монсальвата, который не одолел
соблазнов сада Клингзора, забыл о своих обетах и клятвах — и новая
Кундри завлекла его в свой «соловьиный сад», оказавшийся одним из
садов Клингзора, созданных на погибель человеку.Клингзор — или какой бы то ни было другой агент враждебной
человеку, «инфернальной» силы — в поэме Блока не назван, но незри¬
мо присутствует в ней, ибо не свою волю исполняет обитательница
«соловьиного сада», а иную — верховную; она — всего только сеть
в незримых герою поэмы руках, несущих гибель человеку, да и самый
этот сад — волшебный, в нем все покорно воле его властелина, и не
только обитатели сада, но даже ручьи, соловьи, розы, которые словно
бы и сами знают свое предназначение •— пленять и обольщать «обез¬
доленного бедняка» (так же как и множество других людей),сбивать
с пути; не случайно, согласно его повествованию, когда он уже навеки
покидает соловьиный сад, познав на своем горьком опыте истинную
цену его очарованиям, и спускается по каменной ограде, то...шипы, точно руки из сада,Уцепились за платье мое...Эти шипы — словно когти волшебника, который не хочет терять
власть над своей очередной жертвой и терпеть поражение в борьбе
с человеком и его душой, отозвавшейся на голос моря, прибоя, самой
жизни. И пусть меньше всего та железная дорога, к которой подвозит
камень герой поэмы, может напоминать грозный и гордый Монеаль-
ват — замок, где обитают хранители чаши Грааля, пусть крайне
скромен и неприметен подвиг героя поэмы, но все же именно здесь его
Монсальват, здесь он свершает свой тяжелый, повседневный; ничем не
примечательный подвиг, которому и сам до поры до времени не при¬
дает особого значения, и здесь тоже рядом — стоит только оступиться,
и окажешься в нем! — простирается подобный саду волшебника Клинг¬
зора пленительный соловьиный сад.Как видим, в «Соловьином саду» Блока многое перекликается
с «Йарсифалем», с его образами и мотивами, да и вообще следует56-4
напомнить,что Блоку с юных, лет был присущ обостренный интерес,
it ваш&ровскому творчеству, являвшемуся для него не только огром¬
ным: явлением искусства, но и одним из значительнейших событий
внутренней жизни. В его записных книжках мы не случайно встре¬
чаем имя Вагнера, заметки о постоянных посещениях опер Вагнера
(но «Вагнеровскому абонементу» — да и не только по нему!), воспри¬
нимавшихся им и как остросовременные по характеру поднятых
в них жизненно важных вопросов и как «древнее воспоминание». Что
же касается оперы-мистерии «Парсифаль», то, согласно его записям,
oil весной 1914 года — незадолго до создания «Соловьиного сада» —
неоднократно слушал ее, и имя Кундри соседствует в этих записях
с «дорогим навек» для поэта именем Кармен, что также подтверждает
мысль о внутреннем родстве этих произведений. Да и сама JI. А. Дель-
мас (как свидетельствует фотография, опубликованная в журнале
«Юность»,, 1989, № 10) принимала деятельное участие в «Парсифале»,
исполняла роль одной на нимф в «саду Клингзора» — что также по¬
буждало Блока, стремившегося в то время не пропускать ни одного ее
выступления, с особо обостренным чувством воспринимать оперу-
мистерию Вагнера, перекликнувшуюся с его собственным замыслом.Но если их сопоставить, то мы увидим, что многое в поэме Блока
звучит не только согласием, но и явной полемикой с оперой Вагнера,
ибо сама природа подвига понимается в этих произведениях в корне
различным образом, так же как и путь «вочеловечения» их героев (хотя
и в самом Блоке, согласно воспоминаниям Андрея Белого, иные из .его
почитателей видели Парсифаля, — см. «Записки мечтателей» № 6,
стр. 54; тем более полемический смысл обретала его поэма).Если в «Парсифале» подвиг осмыслен как аскетическое подвиж¬
ничество, как одоление «греховных» страстей, внушаемых человеку
природой,. как устремление к небесному идеалу (что и придает
«ПарС'ифалю» характер религиозной мистерии), то совершенно иной
подвиг утверждается в поэме Блока, и заключается он не в бегство
от жилки, но в отвержении ш!ох жизненных благ и радостей, а наобо¬
рот,— и укреплении сиплой с жйяныо, и творчестве во благо людей,
в труде, хотя бы самом скромном и неприметном, во всем том, что
объединяет человека с обществом, с народом,—и горе человеку, если
он изменит этому служению, уступит обольщениям «страшного мира»
или;.I.«змеиного рая»: ему отмстится жестоко и беспощадно, как от¬
мстилась эта.язмена и герою поэмы! ■, . ...В. поэме «Соловьиный сад» бегство от мира, от людей, от их по¬
вседневных . забот и трудов — это и есть тот величайший грех,, за ко?
торым следует и самая жестокая кара, кара отлучения от жизни,
утрата^ всего того, что связывает с нею человека, гг-и в таком пони.-,
мании подвига нельзя не усмотреть прямой и решительной полемики
с Вагнером, с героем его мистерии.Заглушйть рокотание моряСоловьиная песнь не вольна!.,—
говорит поэт, и для него эта старая и вечно новая: метафора (народ —
море) приобретала необычайно значительный и широкий смысл; Блок
©сознал, что лпо этого «моря» — смерть заживо, что только с ним —
возможность «единства с миром», и его охватывали думы об этом
море, жажда слиться с ним полно и безраздельно.В поэме «Соловьиный сад» находят свое высшее и наиболее пол¬
ное воплощение и завершение давние раздумья поэта об эгоистически
замкнутом счастье, и здесь он окончательно разрешил в своем
творчестве мотив «пустой мечты».В этой поэме, как лучи в фокусе, скрестились и нолучили свое
окончательное решение многие вопросы и темы, постоянно возникав¬
шие в лирике Блока и ставшие оо лейтмотивами.«Соловьиному саду» сопутствуют многие высказывания, относя¬
щиеся ко времени создания поэмы и свидетельствующие, как глубоко
был захвачен ноэт выразившимися в ней чувствами и раздумьями,
заставлявшими его отвергать все возможности «красивых уютов»,
отгороженных от великого моря народной жизни.В письме к своей двоюродной сестре, С. Н. Тутолминой, Блок
отвечает горькими и резкими словами на выражение родственной
приязни и доброжелательных чувств как с ее стороны, так и со сторо¬
ны других «милых, добрых, хороших людей», тянущих его к своим
«домашним очагам» и своим «запоздалым уютам»; приоткрывая край
того «безмерного», чем жил сам поэт и чего не хотел и не мог про¬
менять ни на какие «красивые уюты», он внушал корреспон¬
дентке:«Вся современная жизнь люден есть холодный yoicac, несмотря на
отдельные светлые точки, — ужас надолго непоправимый.Я ие понимаю, как ты, например, моягешь говорить, что все хо¬
рошо, когда наша родина, может быть, на краю гибели, когда социаль¬
ный вопрос так обострен во всем миро, когда нет общества, государ¬
ства, семьи, личности, где было бы хоть сравнительно благополуч¬
но...» — и поэт решительно отказывался от того «благополучия»
и «счастья», о котором заботятся многие люди, пусть «хорошие»
и «добрые», но «забывающие» о том, какие бури бушуют за стенами
их уютных гостиных и надушенных спален...Это письмо, написанное вскоре после завершения нозмы «Со¬
ловьиный сад», является своего рода автокомментарием к ней; оно
вводит нас в тот строй страстей и помыслов, в ту атмосферу, в кото¬
рой создавалась поэма, и помогает раскрыть замысел, лежащий в ее
основе, подспудные ключи и течения, бьющие под покровом легендар¬
ного сюжета и магически звучащих слов.О том, что сказалось в поэме «Соловьиный сад» и что отвечает
глубоко назревшим раздумьям поэта, а ие чему-то случайному или
преходящему, — свидетельствует и письмо, обращенное к жене Федора
Сологуба, Анастасии Чеботаревской, написанное через день после
опубликования поэмы.Анастасия Чеботаревская упрекала поэта в «измене» мечте (эту
измену А. Чеботаревская усмотрела в том, что Блок сотрудничал
в горьковской «Летописи» — журнале, боровшемся с шовинизмом
и псевдопатриотизмом), а Блок решительно заявил, подчеркивая566
свое несогласие с ее пониманием «мечты», враждебной подлинной
жизни:«Я думаю, что Вы меня совсем не знаете; я ведь никогда не любил
«мечты», а в лучшие свои времена, когда мне удается более или менее
сказать свое, настоящее, — я даже ненавижу «мечту», предпочитаю
ей самую серую действительность...» — и письмо это носит явно поле¬
мический характер, ибо именно Сологуб являлся проповедником той
«мечты», той «творимой легенды», против которой выступал Блок
(хотя и сам некогда восхищался ею).Теми же самыми раздумьями о счастье, «мечте», «творимой
легенде» делился поэт и при встрече с С. Н. Тутолминой, навестившей
поэта в январе 1916 года.«Его отчужденность от людей произвела на меня тяжелое
впечатление.;.» — пишет С. Н. Тутолмииа в своих воспоминаниях,
а самому Блоку высказала довольно-таки наивное предположение,
что если бы она была в свое время около него, то он был бы другим,—
на что поэт ответил:«Да, возможно, что я бы мог быть счастливее, но я считаю, что
человек в наше время не имеет права на счастье. Я дорожу своим
одиночеством и оно мне не мешает любить жизнь во всех ее проявле¬
ниях. Вот это мелочная лавочка, что видна из моего окна, говорит мне
больше, чем вся создаваемая искусственно людьми мишурная красота,
потому что в этой лавочке сама жизнь...» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2,ед. хр. 96, стр. 10).Как это глубоко перекликается с тем, что писал поэт А. Чебота-
ревской и что отозвалось в поэме «Соловьиный сад»!Такое же понимание «мечты», «творимой легенды», «мишурной
красоты» сказалось у Блока и в стихах военных лет; в них поэт со¬
бирал крупицы «самой серой действительности», той обыденной,
повседневной «прозы», которой живут простые и здоровые русские
люди и как бы подчас ни были малы и скромны эти крупицы, для
поэта они отныне дороже самых эффектных выдумок, самых изящных
украшений, — что по-своему определяло и принципы ого мастерства.Означает ли эта приверженность фактам и явлениям «самой
серой действительности» то, что поэт из романтика превратился
в заядлого натуралиста, в дотошного бытописателя, который ни о чем
возвышенном, чудесном и думать не хочет?Нет, здесь мы видим нечто совершенно иное: стремление не выду¬
мывать яшзнь, не подменять ее фантазией, хотя бы самой пылкой
и заманчивой, а изобразить ее такою, какая она есть на самом деле,—
но вместе с тем находя в ней самой то, что выше и прекраснее любой
«творимой легенды»; это и придавало остро полемический характер
отстаиваемым Блоком воззрениям на искусство; нет нужды подробно
говорить, что, борясь с «пустой мечтой», противостоящей жизни и уво¬
дящей от нее в мертвенный мир «творимых легенд», поэт страстно
отстаивал ту мечту (без кавычек!), которая жадно устремлена к жиз¬
ни, к будущему, и торопит час его приближения.Чем еще примечательна поэма «Соловьиный сад»?587
Тем, что опа написана в годы империалистической бойни, которая
была в глазах поэта нелепой «пошлостью», чудовищной бессмыслицей,
с каждым днем нараставшим ужасом; казалось бы,' именно теперь
поэт, которого многие считали мечтателем «не от мира сего», мог-бы
устремиться в края «елйсейских нолей», «блаженных островов», если
бы у него была хоть малейшая склонность к этому,— уж слишком
тяжела и мрачна была окру,якающая действительность!Но даже и в этих условиях поэт остался верен себе, верил в буду¬
щее, и его «Соловьиный сад» утверждал не бездейственно-мечтатель¬
ное, не «эскеймнстскоо» (от слова «escape» — то есть бегство) отно¬
шение к жизни, а совершенно иное творчески-деятельное, мужест¬
венно-активное, связанное со служенном «важному делу» (хотя 'бы
м самому неприметному с виду!), измена которому означает для
человека растление и гибель. ;Старой и каждый раз решаемой заново теме «поругания сча¬
стия»,— того счастья, которое уводит от людей и жизни «в красивые
у Юты», в тепличном и душном воздухе которых трудно: дышать
и нельзя жить, посвящено и написанное в дни войны стихотворение
«Ты жил один! Друзей ты не искал...» (1914); в ответ на призывы
«страшного мира» («Безумный друг! Ты мог бы счастлив быть!;.»)
поэт отвечает с тою же суровостью и непреклонностью, как и прежде,
ни на шаг не отступая от давних и окончательно принятых решений:...средь бурного ненастья
Мы, все равно, не можем сохранить
Неумирающего счастья!Он знает: пока вокруг бушует «бурное ненастье» и в окна стучит
«буйный ветер», проносящийся по всей России, жалки и нелепы лю¬
бые попытки укрыться от него в мир «творимых легенд» и «красивых
уютов», картонные и размалеванные стены которых не выдерживают
дыхания ветра и разваливаются при первом же порыве настоящей
бури. ........3. «СУДЬБА АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА»Первая мировая война являлась в глазах поэта «надолго непо¬
правимым ужасом», свидетельством полного банкротства разума перед
лицом «древнего хаоса», вырвавшегося наружу,.' разрушавшего-: все
очаги света и культуры и отбрасывавшего человечество на тысячеле¬
тия назад, как полагал Блок; вот почему такое отчаяние охватывало
его, а вместе с тем и озлобление против либерально-буржуазной ин¬
теллигенции, в. которой поэт видел носительницу. общественной и де¬
мократической'мысли прошлого; это и вызвало у него чувство неверия
в того «общественного человека», чье рождение он видел и утверждал
еще недавно и в самом себе и в окружающих его людях* что определи¬
ло одно: из самых «мучительных.: возвращений» Блока на прежние,
■казалось.бы уже пройденные,.пути. ... :Именно об этом свидетельствует. его статья «.Судьба Аполлона
Григорьева»' (1915),— тот «зигзаг», который говорил- « крайней проти-568
во речивости поэта, о живучести его сугубо индивидуалистических
пережитков и аристократических предрассудков, активизировавшихся
иод; влиянием .трагических событий, словно бы бросавших вызов ра¬
зуму, человечности, всем основам современной культуры.Нетрудно определить, почему именно творчество да и самый об¬
лик Аполлона Григорьева, одного из поэтов середины XIX вока, про¬
буждали у Блока такой обостренный интерес: двух художников
внутренне сближали понимание исконной народной жизни как сти¬
хии, противостоящей «умствующей», запутавшейся в бесплодном
теоретизировании и оторвавшейся от народной почвы интеллигенции,
отвержение концепции либерально-буржуазного «прогресса» как па¬
нацеи: от всех общественных бедствий, увлечение «бурей цыганских
страстей», некогда воспетой Григорьевым, особое понимание любви,
■находящее свое воплощение в образе женщины-змеи-кометы, порывы
в «запредельное» — вперемежку с «падениями», с чувством отчаянно¬
сти, обреченности, опустошенности, «почвеннические» иллюзии, и мно¬
гое другое, о чем Блок не мог говорить равнодушно. Он видел в Гри¬
горьеве старшего собрата, человека родного, близкого, преследуемого
«судьбой и горем», гонимого, как утверждал Блок, жестоко и неспра¬
ведливо; сам Блок следующим образом определял в своей статье то,
что :ему ближе всего в творчестве Григорьева: , г• «../утверждение, связи с возлюбленной в вечности... ощущение
крайней натянутости мировых струн вследствие близости хаоса; пере¬
ливание но жилам тех демонических сил, которые стерегут поэта
и скоро на него кинутся...»Все это, как и многое другое в творчестве и воззрениях Аполлона
Григорьева, было необычайно близко и дорого Блоку, что,и.заставляло
его с особой пристальностью и внимательностью вчитываться в стиха
и статьи Григорьева, находить родственные мотивы в его творчестве;
впрочем, следует подчеркнуть, что у Блока те же мотивы обретают
гораздо более глубокий лирико-философский смысл (так, григорьев¬
ский мотив женщины змеи становится в лирике Блока не толькЬ1 лич¬
ным, исключительно психологическим, но и одним из ключевых, свя¬
занных со всей областью переживаний и отношений в условиях
«страшного мира», враждебного всему человеческому; этот мотив
обретает, здесь и лирическое и глубоко гражданское значение; о даш
же -еамвм' могли бы свидетельствовать и другие мотивы лирики ; Бло¬
ка---п-! «стихийные», «цыганские», генетически связанные с творчеством
Григорьева);В статье Блока высказано немало глубоких и проникновенных
-замечаний о Григорьеве, и все же эта статья, появившаяся в особых
-в исключительных условиях, оказавших на нее решающее воздейст¬
вие,: носит характер панегирика, лишенного подлинно критических
начал и- чуждого духу научного исследования, объективно основатель¬
ного рассмотрения исторической обстановки, в которой жил и творил
Григорьев,— вот почему она представляет интерес главным образом
не столько как попытка анализа и оценки литературной деятельности
Григорьева,: сколько как автохарактеристика самого Блока, для кото¬509
рог® разговор о Григорьеве послужил предлогом и поводом выразить
свое презрение к интеллигентской «общественности», против которой
в свое время и восставал Аполлон Григорьев.С Аполлоном Григорьевым Блок был связан издавна,— как спра¬
ведливо утверждает Д. Благой в статье «Блок и Аполлон Григорьев»,
а доныне сохранившей немаловажное значение для решения затрону¬
той в ней проблемы (Д. Благой, «Три вока». М., издательство «Совет¬
ская литература», 1933).Блок видел необычайно много общего в судьбе Аполлона Гри¬
горьева со своей собственной, а потому, «...защищая Григорьева,
осуждая его «гонителей», Блок отстаивает самого себя...» — справед¬
ливо отметил Д. Благой (стр. 290).Эю во многом и определило характер статьи Блока, ставшей свое¬
го рода апологией Григорьева, реквиемом по Григорьеву — «блудному
сыну» своего века, не понятому — в страстности порывов и глубине
прозрений — его современниками. Вот эту историческую «несправед¬
ливость» и пытался — многие годы спустя после смерти Аполлона
Григорьева — исправить его младший собрат.В своей статье Блок создает столь же непомерно возвышенный,
сколь и фантастический образ Григорьева, как художника, «потерг
певшего» за свою любовь к родине и народу от всякого рода «теорети¬
ков», «либералов», которых Григорьев именовал «тушинцами», от
людей с побуждениями «интернациональными», «идейно мертвыми»
(и одно это утверждение свидетельствует, как чужд был в то время
сам Блок животворным идеям, вдохновлявшим передовых русских
людей и придававшим ям силы в борьбе с реакцией, самодержавием,
шовинизмом).Аполлон Григорьев,-- в явно полемическом азарте уверял в своей,
статье Блок,— это «единственный мост, перекинутый к нам от Гри¬
боедова и Пушкина: шаткий, висящий над страшной пропастью ин¬
теллигентского безвременья...» — безвременья, начавшегося, как
утверждал здесь Блок (под влиянием «веховцев»), со времен Белин¬
ского, Чернышевского, Добролюбова, а потому он и прославлял «поч¬
венника» Аполлона Григорьева как единственного хранителя — недо¬
оцененного и затравленного! — священных тра диций русской «стихии»
и русской культуры.Но так ли это было на самом доле?Нет, далеко не так, ибо для Григорьева вопрос о пашей «умствен¬
ной и нравственной самостоятельности» (понимаемой им в славяно¬
фильско-почвенническом духе) оказывался «глубже и обширнее по
своему значению», чем вопросы «о политической свободе», «о крепост¬
ном состоянии» — вопросы з то время самые коренные и насущные
для того народа, представителем которого считал себя Григорьев. Оя
уверял, что именно в православии, в религии, в исконной патриархаль¬
ности и заключается «истинный демократизм», с позиций которого
нападал на лагерь .революционно-демократической интеллигенции,
отстаивавшей кровные интересы русского крестьянства,— что и вно¬
сило субъективистскую односторонность в критические высказывания570
этого крупного и необычайно одаренного писателя н вызывало ответ
ную — подчас крайне острую и ожесточенную — полемику у его совре¬
менников.Для пае ясен характер «почвеннических» воззрений Аполлона
Григорьева,—но в своем гневе против теорий «прогресса», столь оче¬
видным образом обанкротившихся в глазах Блока в годы войны, он
готов был повторять многие высказывания Григорьева, находя в них
верность духу «стихии», «почвы», любви к родине.В своей статье Блок весьма высокомерно третирует современную
«общественность» и всякую «политику» вообще, как нечто не заслу¬
живающее серьезного внимания и глубокого раздумья — и уверяет
своих читателей, что вот теперь (то есть в 1915 году) «...твердыни
косности и партийности начинают шататься под неустанным натром
сил и событий, имеющих всемирный смысл...».За' этим инфантильно-наивным заявлением следует и другое, ие
менее поразительное, в котором утверждается, что вот теперь, после
того как поставлены под вопрос «твердыни партийности», приходится
уделять внимание явлениям более сложным, «ие только стоящим иод
знаком «нравостн» и «девости» (то есть реакционности или револю¬
ционности), и к этим явлениям Блок относил творчество Аполлона
Григорьева, пытаясь встать «над политикой», как «правой», так и «ле¬
вой»,— но подобного рода попытка была совершенно несостоятельной
и приводила к выводам явно реакционного характера.Блок в своей статье с небывалым презрением и сарказмом говорит
о любых социальных теориях, концепциях, замыслах переустройства
жизни на новых, лучших началах; все это ныне кажется поэту в еще
большей степени, чем когда бы то ни было раньше, чисто интеллигент¬
ской и не заслуживающей внимания болтовней разного рода «полити¬
ков» п «либералов»,— а так как Белинский являлся родоначальником
русской разночинной и революционно-демократической интеллиген¬
ции, то именно против Полянского в первую очередь направил Блок
стрелы своего сарказма и гнева, том более ожесточенно, что, на взгляд
Блока, Белинский но оценил должным образом и самого таланта
Аполлона Григорьева.Вслед за авторами «Бесов» и «Вех», насилуя свои собственные
взгляды, Блок иронизирует здесь над теми «славными постами», кото¬
рые отстаивали лучшие и самые передовые люди русской интеллиген¬
ции; повторяя и варьируя реакционные писания Эллиса, Б. Садовско¬
го, М. Гершензона, Блок высмеивает в своей статье «шумное поколе¬
ние сороковых годов во главе с В. Белинским» — «белым генералом
русской, интеллигенции»'.Не мудрено, что, повторяя писания литераторов весовско-вехов-
окого толка, высокомерно третируя великих деятелей революционно-
демократического1 лагеря, Блок приходит к защите одного из самых
ярых мракобесов и реакционеров той эпохи — юдофоба-нововременца
Василия Розанова, в чьей судьбе и находит нечто общее с судьбой
Аполлона Григорьева, который в своих письмах восставал против
«Добролюбовых» и утверждал, что «гласность», свобода — все это,571
в сущности, для меня слова, слова, бьющие только слух, слова вздор-'
вые, (бессодержательные...».В этих заявлениях Аполлона Григорьева Блок и находит нечто
родственное «самой яркой литературной современности» — «Опавшим-
листьям» Василия Розанова, ибо и Розанов в своих книгах пытался
внушить читателю, что свобода — это всего лишь «вздорное орово»у
только бьющее на слух, и ничего больше. Блок, словно забыв свой
многолетний спор с Розановым, пытался «защитить» Розанова, откры¬
то заявлявшего о своей реакционности, от суровой и справедливой
критики со стороны русской общественности. Поэт изображал Роза¬
нова в виде «невинной жертвы» политических распрей я несправедли¬
вых «гонений», предпринятых, теми же «интеллигентами», потомками
Белинского и Добролюбова, которые некогда «затравили», и Аполлона
Григорьева; Блок так и говорит, сопоставляя судьбы Григорьева
и Розанова, выступая в качестве их пылкого защитника:«Вот уже пятьдесят лет, как Григорьев не сотрудничает ни в ка¬
ких журналах, ни в «прогрессивных», ни в «ретроградных»,— по той
простой причине, что он умер. Розанов не умер, и ему не могут про-,
стить того, что он сотрудничает в каком-то «Иовом Времени». Надо,
чтобы человек умер, чтобы прошло после того пятьдесят лет, тогда
только «Опавшие листья» увидят свет божий. Так всегда...»В лице Розанова Блок — неожиданно для себя и других — увидел
мученика, человека,, напрасно обюкениого и напрасно отвергнутого
русской культурной общественностью, что коренным образом расходи¬
лось с истинным положением вещей. Логика поэта при этом крайне-
проста: ранее «либералы» ругали и травили талантливейшего Аполло-,
на Григорьева, а теперь ругают и травят талантливейшего Василия
Розанова; стало быть, «либералы» травят все талантливое, которое
к надо спасать от их опеки, от их поношений, от их вмешательства^
Так, отвергая любую политику, а стало быть, и передовую, служа*
щую коренным и кровным интересам народа, поэт в силу этого неиз-i
бежно попадал в плен к политике реакционной, запутывался в; ее-С6ТЯХ. . ' '• ' ••• -: Естественно, что статья-Блока об Аполлоне, Григорьеве вызвала-
оструго, резкую критику, в которой участвовала и'Зинаида Гиппиус,’
чье слово было особенно важно и существенно для Блока; она опубли¬
ковала в сборнике «Огни» (книга норвая, Петроград,; 1916) :СТЛтыо,
называвшуюся так же, как и-предисловие Блока к'новому изданию
стихотворений Григорьева,— «Судьба Аполлона Григорьева». г
. Эта статья 3. Гиппиус, заслуживает внимания* потому что по пей
можно судить, чем могли завоевать уважение Блока те литераторы^
которых он почитал лучшими людьми русской интеллигенции (к их
числу он относил н чету Мережковских) .Надо прямо сказать, что 3. Гиппиус обнаружила в статье Влета
реальные и совершенно очевидные просчеты, отсутствие подлинной
научности И историчности.Блок — вслед за Григорьевым — поносил в своей статье передо¬
вых деятелей революционно-демократической, мысли.-за то, что они572,
требовали от Григорьева уяснить его общественные позиции, а Зинаи¬
да Гиппиус резонно замечала Блоку, что «не Белинские и Чернышев¬
ские требовали от Григорьевых волевого выбора пути (и жертвы) —
сама жизнь требует их от человека. История (движение) требует,—
и жизнь. И даже так, что чем сложнее, богаче, глубже душа — тем
нужнее для нее человеческое, волевое самоопределение:Ты человеком быть обязан.А если ты поэт — тем более обязан,— вдвое...» (стр. 276).Об этой обязанности «быть человеком», а не довольствоваться
коротенькой и куцей «эстетической свободой», «абсентеизмом» в жиз¬
ненно важных общественных делах и вопросах, и напоминала Зинаи¬
да Гиппиус Блоку,— напоминала так, что тому и возразить было
нечего: ведь самому Блоку всегда было слишком мало «эстетической
свободы», отгороженной от всего остального мира...Статья Зинаиды Гиппиус напоминала Блоку о том, о чем он,
казалось, склонен был забыть, и позиция 3. Гиппиус, при всей ее
полемической направленности против Блока, не могла не вызвать
у него уважения и внутреннего отклика.Так же, как и доклад «О современном состоянии русского симво¬
лизма», статья Блока «Судьба Аполлона Григорьева», поражающая
своей озлобленностью, «оскаленностыо», явилась одним из «мучитель¬
ных возвращений» поэта на старые и уже, казалось бы, до конца
пройденные пути; война до предела обострила противоречивость
воззрений и высказываний поэта, перед которым действительность
представала все более ужасающей и безобразной,— и поборника
«культуры», «прогресса», «гуманности», выглядевшие в глазах Блока
лжецами и шарлатанами, вызывали у него гнев и презрение, прорвав¬
шиеся и статье об Аполлоне Григорьеве бурным и неукротимым
потопом. It конце 1015 года он записывает, подмечая всеобщее «оди¬
чание»:«Молодежь самодовольна, «аполитична», с хамством и вульгар¬
ностью. Ей культуру заменили Вербицкая, Игорь Северянин и пр.,
Языка пет. Любви пет. Победы — не хотят, мира — тоже. Когда же
и откуда будет ответ?..»И именно потому, что сам поэт не мог найти ответа на свой во-1
ирос, не видел он края и исхода мировой бойни.Насколько Блок был далек от понимания того, какие революцион¬
ные настроения и чаяния назревали в недрах народных масс, свиде-;
тельствует и его письмо Леониду Андрееву, написанное всего лишь за |
три месяца до краха самодержавного строя; в этом письме поэт при-(
знается в своей растеряв,пости перед современностью, в неумении'
осмыслить &е ход:«Чем дальше развиваются события, тем меньше я понимаю, что
происходит и к чему это;ведет. Всякая попытка войти в политическую
жизнь хотя бы косвенно для меня сейчас невозможна...»■ ' - Неумение1 «осмыслить ход современности», понять настроения573
иш|шкпл Miicr, развитие политических событий, и обусловили то, что
ш>:>т in' различал ни малейшего просвета во мраке и ужасе «жизни
in 1‘дновной»,— вот откуда настроения тоски, отчаяния, безнадежности,
смертельной усталости, попытка еще раз укрыться в область «старых
снов», преданий о «мировой душе», отсвет которой виделся ему
в творчестве Аполлона Григорьева.Но безнадежность и бесплодность подобных попыток вскоре стала
очевидной и самому поэту; в позднейших высказываниях он уже
в ином духе трактует творчество Аполлона Григорьева и полемизирует
с теми положениями своей статьи (отрицание «общественности»,,
утверждение права художника обретаться «вне политики» и т. п.),
которые и составляли оо пафос.Мировая война принимала все более кровавый и затяжной харак¬
тер; становилось совершенно очевидно, что только революционное
восстание может принести рабочим, крестьянам, солдатам избавление
от ее бедствий и ужасов. Приближение революции чувствовалось во
Есем — в росте стачечного движения, в случаях неповиновения воен¬
ным приказам и братаний с противником, в возмущении изголодав¬
шихся людей, в требованиях мира и хлеба.Петроградский пролетариат, рабочие Путиловского и других заво¬
дов восстали первыми; напрасно царские власти стягивали войска
к Петрограду, чтобы предотвратить революцию,— участь самодержа¬
вия была уже решена.Но Блок стоял в стороне от этих событий, а потому и не видел
явного предвестия надвигающейся грозы, неотвратимого революцион¬
ного переворота.Летом 1916 года поэт — в связи с призывом в армию — зачисляет¬
ся в одну из дружин Всероссийского Союза земств и городов, где
служит табельщиком (в районе Пинских болот) вплоть до Февраль¬
ской революции.О настроениях и образе жизни Блока в эту ш>ру можно судить
по его письму к Леониду Андрееву:«...все словесное во мне молчит; полдня я провожу верхом на
лошади, сплю на походной кровати, почти не умываюсь; что дальше
будет, не знаю, а пока это было только хорошо: проще и яснее; есла
бы все это описать, вышло бы донельзя обыкновенно и скучно; обыч¬
ная газетная статья с подписью: «действующая армия»; стихи тоже
никак ие выходят; вся суть — в новом ряде снов, в которые погру¬
жаешься. Может быть, что-нибудь и выйдет из этого, когда пройдут
годы; из нежной любви к лошади и стыда перед рабочими, которыми
я ведаю; среди них много несомненного хамья и природной сволочи,
по стыдно до тошноты, и чего — сам плохо знаешь: кажется, того, что
все равно «ничего не поделаешь» (не вылечишь, ие обуешь)..,»Вот это сознание бессилия перед лицом жизненных испытаний
и бедствий, а то и кровавых ужасов, чувство того, что «ничего не
поделаешь», усугубляло замкнутость и внутреннюю молчаливость
Блока, приводило к тому, что «все словесное» надолго замолкало
в нем.574
Казалось: иоэт как никогда был далек от свершения того подвига,
без которого не видел смысла жизни.Но на самом деле — он как никогда раньше был близок к свер¬
шению подвига, о котором томился годами и годами, и внутренне со¬
зревал для него (хотя и сам не подозревал этого); не хватало только
внешнего толчка, перемены обстоятельств, изменения хода событий,—
но они себя не заставили ждать слишком долго.4 «МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ»Чем меньше поэт предвидел приближение революции, которая
казалась ему неосуществимой в условиях мировой войны, тем радост¬
нее встретил он ее приход, захваченный ликованием масс, ираздиую-
щих свою победу над силами царизма.Февральскую революцию Блок воспринял как начало новой эры,
ответившей самым большим ого надеждам и ожиданиям, как предве¬
стие лучших времен — и поражение тех томных сил, тех «коршунов»
и «упырей», которые веками терзали народ, издавна вызывали у поэта
ненависть и отвращение. Ему казалось, что Февраль несет с собою
избавление исстрадавшимся массам от обрушившихся на них небыва¬
лых бедствий, от ужасов войны, от власти «сытых», приведших стра¬
ну на край гибели.Вернувшись в Петроград из района Пинских болот, он пишет
матеря в марте 1917 года:«...все происшедшее меня радует.— Произошло то, чего никто еще
оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала.
Не произойти не могло, случиться могло только в России...»Далее поэт, еще весь во власти прекраснодушных иллюзий, вы¬
сказывает соображения, свидетельствующие о неясности и наивности
его политических воззрений, о непонимании истинного характера
свершившейся революции, которая, кажется ему, полностью ответила
народным, интересам и чаяниям.Но на самом доле это было совсем не так, и плодами февральской
победы восставших масс воспользовались в первую очередь имущие
классы. Власть оказалась в руках Временного правительства — органа
диктатуры буржуазии и помещиков, думавших не о том, чтобы удов¬
летворить насущные требования и кровные интересы народа, а лишь
о том, чтобы под прикрытием лживой, либерально-демократической
фразы и всяческого рода демагогии и посулов свернуть завоевания
революции, сохранить все свои привилегии, приумножить источники
своих доходов и продолжать империалистическую войну «до победно¬
го конца» — в согласии с «союзническими» обязательствами царского
правительства. Они вели ту же империалистическую политику —
только иными средствами и под новыми вывесками.«Трудящиеся России, совершив революцию, надеялись добиться
мира, земли, хлеба и свободы,—читаем мы в курсе «Истории КПСС».—
Flo буржуазное правительство и не думало о прекращении войны,
а, напротив, хотело использовать революцию для реализации своих575
аакватйическях планов...» Вот почему Временное правительство «по¬
вело скрытую борьбу против революционного движения масс, стараясь
выиграть время, чтобы собрать силы для открытого выступления...»
(стр. 206) и с каждым днем, с каждым месяцем истинные замыслы
Временного правительства, больше всего опасавшегося неудержимо
возраставшей активности революционных масс, становились все оче¬
видней.В первые дни Февральской революции подлинный смысл происхо¬
дящих событий был еще далеко по ясен для множества людей, оказав¬
шихся во власти мелкобуржуазных и прекраснодушных иллюзий,
которые в полной море разделял и Плок.Инфантильную восторженность поэта поддерживали (согласно
его письмам к матери) Мережковские, с которыми ои, несмотря на все
споры и разногласия, снова наладил в то время тесные и дружеские
отношения (особенно с Зинаидой Гиппиус), видя в них прямо-таки
«пророков революции», чьи таяния и вещания наконец-то сбылись;
поэт зашел к ним, и «они мне рассказали многое, так что картина
переворота для меня более или менее ясна. Нечто сверхъестественное,
восхитительное...».Но буржуазная революция, целиком и полностью удовлетворяв¬
шая и «восхищавшая» Мережковских, явилась всего только прологом
событий других, гораздо более значительных, в результате которых
власть оказалась в руках самого народа,— но именно такому, их ходу
сопротивлялись и пришедшее к власти Временное правительство,
и все привилегированные слои общества, и те круги интеллигенции,
с которыми был в то время тесно связан Блок.В организовавшихся в первые дни Февральской революции Сове¬
тах рабочих и солдатских депутатов, захлестнутых «гигантской мелко¬
буржуазной волной», преобладали представители соглашательских
партий — эсеры, меньшевики. «Этим объясняется, почему победившие
рабочие и крестьяне в лице своих Советов добровольно отдали власть
представителям буржуазии» («История КПСС», стр. 203).Нужны были время, суровые испытания, опасности, огромный жиз¬
ненный и стремительно возраставший политический опыт, чтобы пере¬
воспитать народные массы, избавить их от мелкобуржуазных иллю¬
зий, вдохновить их на борьбу с оружием в руках — за власть, за свои
кровные интересы, попранные в условиях господства имущих классов,
которые и не собирались хоть в чем-нибудь поступиться своими бла¬
гами и привилегиями.Ленин разъяснял в своих исторических «Апрельских тезисах»,
легших в основу политики и тактики большевиков:«Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от
первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недоста¬
точной сознательности и организованности пролетариата,— ко второмуее. этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и бедней¬
ших слоев крестьянства» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т.31,стр. 114).Все дальнейшее развитие исторических событий полностью под¬
твердило правоту этого гениального предвидения, глубину ленинского576
анализа существа и характера Февральской революции,—но вот этого
«своеобразия, текущего момента» в то время явно не видел Блок, о по¬
литической наивности которого свидетельствует его письмо к матери;
связанное с городскими выборами, и строки в записной книжке, от¬
носящиеся к этому же эпизоду:«Я думал много и опустил в урну список № 3 (с.-р. с мсш.ш«ви(са¬
ми). Узнав об этом, швейцар остался доволен.Кажется, и я поступил справедливо.Жить — так жить. И надо о них, бедных и могучих, всегда пом¬
нить...»Вот эта характерная для Блока тех времен апелляция к мнению
швейцара как одного из «бедных и могучих» выразителей духа рево¬
люции — свидетельство того, как плохо поэт разбирался в политиче¬
ской борьбе, в позициях и расстановке противоборствующих сил и как
доверчиво принимал за голос всего парода мнение людей, либо совсем
не участвовавших в борьбо революционных масс, либо плохо связан¬
ных с пими.Да и вообще высказывания поэта о революции, о политике, о со¬
циализме в то время крайне противоречивы; весьма характерна в этом
отношении запись от 21 мая 1917 года:«Для того, чтобы быть сейчас с революцией, нуяшо быть немного
марксистом. Величайшая положительная сторона марксизма — то, что
он не останавливается на просто политическом перевороте, он предпо¬
лагает продолжение. Величайшая отрицательная сторона — нечувствие
свободы, матерьялистическое отрицание личности; а свобода есть толь¬
ко свобода личности, иной свободы нет».Верно подчеркнув одну из положительных сторон марксизма, поэт
совершенно произвольно приписывает марксизму «отрицательную сто¬
рону», явно почерпнув свою аргументацию из враяадебных марксизму
источников, искажающих самую его суть. Он принял на веру разгла¬
гольствования разного рода вульгаризаторов, приписывающих марксиз¬
му пренебрежение к запросам и интересам личности (па такого рода
«понимании» марксизма весьма упорно настаивал тот же Мережков¬
ский во мнояшетве своих велеречивых и риторических статей).В мае 1917 года поэт приступает к работе (в качестве одного из
редакторов) в назначенной Временным правительством Чрезвычайной
следственной комиссии, расследовавшей преступления царских санов-:
ников и министров, высших представителей царской бюрократии, лиц,
приблшкенных к царской семье (впоследствии на основании опыта
своей работы в этой комиссии Блок написал книгу «Последние дни
императорской власти», в которой дан исторически достоверный отчет
о фактах, предшествовавших непосредственно крушению старого
строя). Эта работа, увлекшая Блока, многое дала ему для понимания
всей преступности представителей еще недавно правившей юшки, ис¬
пользовавших власть в своих корыстных интересах и целях, обостряла
давнюю ненависть к ним у поэта, воочию наблюдавшего их — в крепо¬
сти, куда они были заключены, на допросах; он пишет матери об этой
«отарой швали»,: господство которой так дорого обошлось нашему на-:577
роду: «Когда они захлебываются от слез или говорят что-нибудь очень
для лих важное, я смотрю всегда с каким-то особенным, внимательным
чувством: революционным...» Нет сомнения, что работа в комиссии
в значительной мере способствовала росту и укреплению этого чувства,
и никогда впоследствии, даже в самые трудные и мрачные для поэта
дни, не тянуло его оглянуться назад. Он видел, каким ужасом и крово¬
пролитием могла бы обернуться любая попытка вернуть прошлое, вру¬
чить кормило власти людям, глухим к интересам и нуждам народа
м доведшим страну до самой грани катастрофы,— вот почему с таким
гневом и негодованием относился поэт к подобным попыткам.Недавняя восторженность Блока все более остро сталкивалась
с новой и гораздо более трезвой оценкой происходящих событий, и все
это порождало противоречивость его восприятий и высказываний; дей¬
ствительность слишком «пестрит» в глазах поэта, не складывается в
цельную картину.«Я «сораспинаюсь со всеми», как кто-то у А. Белого...»—сообщает
Блок матери, находя еще, что «все правы — и кадеты правы, и Горький
с «двумя душами» («европейской» и «азиатской»,— Б. С.) прав, и в
большевизме есть страшная правда...»Не мудрено, что вслед за этими утверждениями слышится и та¬
кое признание:«Ничего впереди не вижу, хотя оптимизм теряю не всегда. Все,
все они, «старые» и «новые», сидят в нас самих: во мне, по крайней
мере. Я же — вишу в воздухе; ни земли сейчас нет, пи неба».Но долго «висеть в воздухе», не подчиняясь тому или иному при¬
тяжению, не «самоопределяясь», было невозможно, да и в ходе собы¬
тий все больше прояснялся их истинный характер; все меньше остава¬
лось у Блока иллюзий и возможностей заявлять, что «все .нравы».2.3 июня 1917 года поэт заносит в дневник итоги размышлений по¬
следних дней — очень трезвых, чуждых недавней восторженности и ин¬
фантильности:«В нашей редакционной комиссии революционный дух не присут¬
ствовал. Революция там не ночевала. С другой стороны, в городе откро¬
венно поднимают голову юнкера — ударники, имперьялисты, буржуа,
биржевики, «Вечернее время» (суворинское.— Б. С.).И, наблюдая все это, чувствуя оживление сил реакции, стремя¬
щейся снова ухватить кормило власти, Блок спрашивает с тоской, гне¬
вом, тревогой: «Неужели? Опять — в ночь, в ужас, в отчаянье?..»—и
больше всего он опасался, что снова возродятся страшные рожи, приз¬
раки прошлого.В это же лето, узнав о том, что «юнкера Николаевского кавалерий¬
ского училища пили за здоровье царя». Блок записывает, ощущая, что
силы реакции выступают все более нагло, решительно, открыто натрав¬
ливая наименее сознательную часть населения на большевиков:«Отчего же после этого хулить большевиков, ужасаться перед на¬
шим отступлением, перед дороговизной, и пр. и пр. и пр.? Ничтожная
кучка хамья может провонять на всю Россию...»— и Блок ничего не
ждал, кроме ужаса, провокаций и страшного кровопролития от той578
привилегированной «кучки хамья», которая снова собиралась захва¬
тить власть и разделаться с революционным народом; эта неистреби¬
мая ненависть К старому «страшному миру», его представителям к
прислужникам, во многом помогала поэту уяснить смысл происходя¬
щих событий.Знаменательна переписка поэта с его женой в мае — июне 1917 го¬
да. Здесь уже нет и следа от его недавней «безоблачности»; ее сменил
поток острых, напряженных раздумий о судьбах революции, страны,
народа, интеллигенции, всецело захвативший поэта, — что и сказалось
во многих его полемических высказываниях, обращенных к жене, на¬
ходившейся в то время в Пскове, на театральных гастролях.Полемика эта открылась письмом JI. Д. Блок, помеченным рукою
поэта: «Получено 25 мая 1917» (и, судя по всему, являвшимся раздра¬
женным ответом на призыв поэта «проснуться» к новой жизни):«Раз пишу без цензуры, скажу тебе, что мое отношение к полити¬
ческому моменту тебо было бы очень неприятно и ты сердился бы на
меня: я перестала совсем увлекаться новым кулаком, который повис
над всем, что я люблю и в идеях, и в чувствах, и в людях. Положение
наше, «интеллигенции», как было загнанным и предосудительным, так
и осталось. Что я могу ждать хорошего от нового кулака, кроме того,
что я очень знаю — только и думают, как бы получить побольше денег,
ничего не делать и проявить свои холуйские капризные требования...»«Счастлив ты...— не без иронии в адрес поэта продолжает его же¬
на,— что к тебе события повернуты их грандиозной стороной...» —
а вот она повседневно наблюдает их такими, какими они являются на
самом деле, без фантазии и приукрашений,— и в этом аспекте они вы¬
глядят совсем но-другому! Она видит и «солдатский оркестр», и «теа¬
тральных рабочих», и «театральных портних», которые «...хамят, полу¬
чают колоссальные оклады и всячески стараются увильнуть от работы.
Теперь «у пирога» они вместо бюрократии и лопают его также отвра¬
тительно — чему же мне радоваться...» (ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 107,
стр. (Я -03).Жена поэта говорила здесь о том, как она «непосредственно чув¬
ствует теперешнее время...»,—и была нрава в предчувствии того, что
подобные взгляды и настроения окажутся «очень неприятными» само¬
му поэту, вызовут у него резкие возражения.Так оно и случилось.В ответном письме (28 мая 1917 года) Блок замечает, что он «но
склонен особенно оспаривать» то, что сообщила ему жена о театраль¬
ных рабочих и портнихах, но вместе с тем внушает ей: «...если это
действительно правда (а в этом много правды, но есть и другие), это
только усугубляет трагедию России. Есть своя страшная правда и й
том, что теперь носит название «большевизма». Если бы ты видела
и знала то, что я знаю, ты бы отнеслась все-таки иначе; твоя точка зре¬
ния — несколько обывательская, надо подняться выше...»— и именно
этой жаждой «подняться выше», жить вровень с большими историче¬
скими событиями (и поднять вслед за собою жену), продиктовано одно
из следующих писем поэта, обращенное к жене и также направленное
против той точки зрения, которую поэт называл «несколько обыватель¬
ской»: 1«Нового личного ничего нет, а если б оно и было, его невозможно
было бы почувствовать, потому что содержанием всей жизни становит¬
ся всемирная Революция, во главе которой стоит Россия...»Следующие строки того же письма имеют не только широчайшее
по своим масштабам значение, но являются и непосредственным отве¬
том на все то, что было написано женой поэта в ее «бесцензурном»
письме и на что Блок счел необходимым снова ответить — более точно
и определенно, ужо без какой бы то ни было сдержанности; поэт-гово¬
рит здесь о том, что заставляет ого «иногда — просто ненавидеть «ин¬
теллигенцию» (ту самую, положение которой Любовь Дмитриевна
рассматривала как «загнанное» и «предосудительное»).Блок говорит — вразрез со взглядами своей жены и завязывая
с нею острейшую полемику но самым коренным и значительным воп¬
росам современности:«Если «мозг страны» будет продолжать питаться все теми же «иро¬
ниями», рабскими страхами, рабским опытом усталых наций, то он и
перестанет быть мозгом, и его вышвырнут — скоро, жестоко и велича¬
во, как делается все, что действительно делается теперь...»И поэт добавляет, словно бы отвечая на те сомнения и страхи, ко¬
торыми было пронизано письмо его жены:«Какое мы имеем право бояться своего великого, умного и доброго
народа?..»Те же самые глубоко захватившие Блока мысли о революционном
народе и о той обывательски настроенной интеллигенции, которая со¬
ставляла его непосредственное окружение, ои развивает и в письме
к матери, подчеркивая свое «страшное одиночество», ибо «пи один ин¬
теллигентный человек» не разделяет его понимания происходящих со¬
бытий и их величия (19 июня 1917; «Письма к родным», т; II, стр. 378).В тот же день поэт записывает в своем дневнике, размышляя о на¬
роде и интеллигенции:«Ненависть к интеллигенции и прочему, одиночество. Никто не
понимает, что никогда не было такого образцового порядка и что этот
порядок величаво и спокойно оберегается всем революционным на¬
родом.Какое право имеем мы (мозг страны) нашим дрянным буржуаз¬
ным недоверием оскорблять умный, спокойный и много знающий ре¬
волюционный парод?»Любой интеллигент, ставивший свои личные или сословные инте¬
ресы выше народных, выглядел в глазах Блока слепым и жалким, и он
постоянно возвращался к мысли о народе и интеллигенции,— мыслям
горьким и тревожным.Эти мысли, издавна захватившие поэта, обретшие в дни революции
особенную актуальность и остроту, вскоре отзовутся и в поэме «Две¬
надцать», и в статье «Интеллигенция и Революция», которые не слу¬
чайно вызовут такое яростное ожесточение в окружавшей Блока среде.После расстрела июльской демонстрации, за которой последовала580
бешеная кампания против большевиков, истинный смысл событий
стал для поэта еще более ясен, хотя он и склонен был порою прислу¬
шиваться к клеветнической болтовне о «немецких деньгах»; в травле
больщевшсрй од видел наступление на силы демократии, активиза¬
цию контрреволюционной военщины., На улицах,— замечает поэт,—масса команд, солдатских конных и
пеших патрулей,— и делает верный вывод: «вообще поворот направо».
Снова в душе поэта смутно; усиленные крики о «войне до побед¬
ного, код цр, попытки нродол;кать затеянную империалистами бойню,
восстановление смертной казни — все это подавляло Бйока, вызывало
у него.горечь, озлобление, отчаяние:«Опять я не вижу будущего, п. ч. проклятая война затягивается,
опять воняет ей. Многое меня очень смущает, т. е., я не могу нонять(
в нем дело. Всякая вечерняя газетная сволочь теперь взбесилась, уша¬
ты помой выливаются...»Здесь поэт имеет в виду ту оголтелую клеветническую кампанию
против, большевиков, которая всо шире развертывалась на страницах
буржуазной, прессы, «наглой и голосистой», всо более откровенно про,-
славлявшей силы военщины как оплот государства и единственную
управу на революционные массы.. Но несмотря,на эту отчаянную; и оголтелую травлю (а может быть,
и благодаря ей), поэт все чаще задумывался о большевиках, о том,,по¬
чему < именно, они вызывают в стане контрреволюции такое невероят¬
ное озлобление; задумывался об их политике, тактике, о самом их об¬
лике, который порою представал перед ним в столь же романтическом,
сколь и фантастическом свете, в духе старинных преданий и «почвен¬
нических» иллюзий:. -■ «...пламя вражды, дикости, татарщины, злобы, унижения, заби¬
тости, недоверия, мости — то там, то здесь вспыхивает; русский боль¬
шевизм гуляет, а дождя все нет; и бог ие посылает его!..» (6 августа
1!)17 г.).И таком еноте виделся и то время поэту большевизм, в котором он
усматривал силу чисто стихийного порядка (что по-своему скажется
и в поэме:«Двенадцать»). ■ . • >. .•Поэт, чувствуя, что в большевизме есть «страшная правда», говот
рит о своем «тяготении» к «туманам большевизма и анархизма» и пояст
няет, что имеет в виду под .этими «туманами»: «Стихия, гибель, уско¬
рить, :«яики :роз над чернойплыбой...» (воспоминание; о Владимире Со¬
ловьеве! — Б. С.) — утверждая тем самым, что «корень» самих светлых
и прекрасных явлений и событий всегда «темен», «ночвеиен»; но вот
это соединение «большевизма» и «анархизма» в нечто общее, раствог
ряющееся в одной и той же,; стихии и порожденное одной и той, же
«черной глыбой», «татарщиной» (да и не без «распутипщины»!) — все
это. свидетельствует, насколько туманным и были представления Блока
о большевизме и большевиках, в которых он видел сегодняшних
«Емелек» и. «Стенек».Перед поэтом и действительно поднимались такие «туманы», из
которых очень трудно выбраться на верный и надежный путь; ом чувег-581
вовал в себе «качание маятника» с весьма широкой и неопределенной
амплитудой, о чем и сообщает в письме к матери:«...я не умею бунтовать против кадет и с удовольствием почитываю
иногда «Рус.[скую] Свободу» (кадетский журнал,— Б. С.); «любя кадет
но крови», он вместе с тем утверждает: «Я духовно не кадет»,— и тут
же признается, что «качание» его внутреннего маятника «не добрасы¬
вается в эти дни до стихии большевизма (или добрасывается случайно
и редко)...».Вот почему у Блока и возникает ощущение, что он сидит «между
двух стульев (как, кажется, все русские)», — но в данном случае он
явно незакономерно пытался обобщить свое сугубо личное и крайне
неустойчивое состояние с положением «всех русских».Еще летом 1917 года поэт мог записать в дневнике мысли, свиде¬
тельствующие о том, как шатки и неопределенны были в то время его
собственные позиции: «Я никогда не возьму в руки власть, я никогда
не пойду в партию, никогда не сделаю выбора, мне нечем гордиться,
я ничего ие понимаю...»—но но мере того как развертывались события
и борьба обострялась, необходимость выбора оказывалась все более
настоятельной и неотступной.Контрреволюция смелела, уповая на «твердую власть», на военную
диктатуру, которая снова установит в России «порядок» — под ним наи¬
более реакционные круги подразумевали возвращение к самодержавию;
это сказалось самым явственным образом в ходе корниловского мяте¬
жа и предшествовавших ему событий, не оставлявших никаких сомне¬
ний относительно замыслов контрреволюционной военщины.События, вызванные корниловским мятежом, в ходе которого у
множества трудящихся раскрылись глаза на истинный характер пла¬
вов контрреволюции, не оставлявших места для бессознательной до¬
верчивости и наивного прекраснодушия, многому научили в Блока.
В связи с раскрытием заговора Корнилова Блок записывает:«...ясно, что такое «контрреволюция», ясно, что Корнилов есть сим¬
вол; на знамени его написано: «продовольствие, частная собственность,
конституция не без надежды на монархию, ежовые рукавицы»...» —
и для поэта не могло оставаться сомнений в том, что на деле означают
те «ежовые рукавицы», с помощью которых царские генералы соби¬
рались ухватить и удержать кормило власти.Правда, при этом поэт еще но освободился окончательно от наив¬
ных иллюзий, и, видя «мрачное прошлое» в «генерале Корнилове и
прочих», он склонен (и весьма решительно) усматривать «будущее во
Временном правительстве», которое уже и само дышало на ладан.
Дальнейшее развитие исторических событий освободило поэта и от
этой наивной иллюзии, заставило более трезво оценить Временное пра¬
вительство и его политику, направленную на удушение революции-.Вскоре Блок, уже окончательно разочаровавшийся во Временном
правительстве, записывает:«Все разлагается. В людях какая-то хилость, а большею частью —
недобросовестность...» (12 сентября 1917 г.).В его дневнике появляется множество таких записей — мрачных,582
а то и отчаянных, свидетельствующих о том, что поэт все больше осво¬
бождался от своих недавних инфантильно-идиллических иллюзий; это
и заставляло его пересматривать свое отношение к происходящем со¬
бытиям и видеть их в новом — более углубленном — свете.Его впечатления от «нового строя» и Временного правительства
в корне изменились; попытки продолжать войну «до победного конца»,
отстоять буржуазный строй и буржуазные порядки под флагом Учреди¬
тельного собрания были в его глазах явно несостоятельными, отзыва¬
ли политическим прожектерством и шулерством — вот что впослед¬
ствии и помогло Блоку осмыслить значение Октябрьской революции.Да, хотя он и не понимал самых основ ленинской тактики и страте¬
гии революции, но все-таки уже и в канун Октября верил именно
Ленину, большевикам, ибо обладал особого рода чуткостью к взглядам
и настроениям широких масс, а потому и разделял с ними возраставшее
с каждым днем возмущение политикой Временного правительства, все
более открыто и беззастенчиво обманывавшего их, разделял их доверие
к Ленину и ого партии.Блок все яснее понимал, что только большевики видят выход из со¬
здавшегося невероятно сложного и тяжелого положения, только Ленин
и ленинская партия могут принести избавление от порабощения и ги¬
бели, угрожавшей России.За несколько дней до Октябрьской революции, узнав о «крупном
расколе среди большевиков», о том, что Зиновьев и Троцкий смотрят
на, результаты возможного выступления «пессимистически», поэт запи¬
сывает:«Один только Ленин верит, что захват власти демократией дейст-
тельно ликвидирует войну и наладит все в стране.Таким образом, те и другие — сторонники выступления, но одни —
с отчаянья, а Ленин — с предвиденьем доброго...» (19 октября 1917 г.) —
и то, что именно с Лениным и его линией в решении самых насущных
и злободневных вопросов жизни поэт отныне связывал «предвиденье
доброго», ликвидацию войны, возможность «наладить все в страже»,
определяли отношение Блока к дальнейшим событиям, к Великой Ок¬
тябрьской революции,
«ДВЕНАДЦАТЬ»«. «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»Великая Октябрьская социалистическйя' революция открыла новую
страницу в истории всего мира,— буржуазно-помещичье Временное
правительство было свергнуто восставшими массами, возникло первое
в мире государство рабочих и крестьян, и новая, советская власть прак¬
тически, на деле, принялась за разрешение самых важных, наболевших
вопросов о мире, о земле, о хлебе, от которых зависели кровные,
-коренные интересы миллионов трудящихся.-; •В глазах Блока, уже изверившегося в наступлении лучших времен,
Октябрьская революция явилась «нечаянной радостью», тем’острее
-и глубже переживаемой поэтом, чем неожиданней для него свершилась
она и чем меньше он был подготовлен к ее событиям, в которых ви¬
дел великий и чудесный смысл. -
■- ■ ■ ■ Ко времени Октябрьской революции «трилогия вочеловечения»
•поэта была завершена, человек в нем «воплотился» — и воплотился
именно как «человек общественный; вот почему и события Октября
поэт- воспринял гораздо- глубже, органичнее, чем революцию 1905 года,
-■когда .он еще «мало видел и мало сознавал в жизни» ■ (говоря его же
словами); Этим определяется сила и мощь-вызванного революцией
отклика,: небывалый творческий .подъем,- сказавшийся в создании ^поэ¬
мы «Двенадцать». -нОктябрьская -революция- ответила самым- - большим мечтам- поэта,
■утвердила веру .в неизмеримые, силы народа- («народ — венец'Земного
цвета»;—писал некогда Блок), в его вел.:кое прекрасное будущее.
По словам: биографа ) Блока М. А. Бекетрвой,; он ■ встретил Октябрь
«радостно, с новой верой в очистительную силу революции...»^ и пусть
поэт многого не понимал в ходе и характере революции, ее конечные
цели были ему ясны и необычайно близки. , >, Далее биограф набрасывает портрет Блока■ первых дней'Октября:• «Он ходил молодой, веселый, .бодрый,/ о сияющими, глазами и
■прислушивался к той-«-музыке революции», к тому шуму от- падения
■старого мира, который непрестанно, раздавался у него в ушахпо его
собственному свидетельству...» («Александр Блок»,:.стр. 256) — и нам
понятно,: почему , поэт так восторженно встретил--революцию,-означав-
апую'.крушение всех основ старого мира, являвшегося в глазах.Блока
«страшным--миром»; Блока' роднило с революцией- :.то, что-ее-гул; , ее-
музыка — «всегда о великом», о мировом: ведь и в самой лирике Блока-184
решались, каждый раз nti-новому, вопросы мирового масштаба; вот
почему с такой глубиной и с таким небывалым творческим подъемом
откликнулся он на зовы и гулы революции, услышав в них нечто не¬
обычайно близкое, родное, знакомое; огромная широта его внутреннего
мира словно бы перекликнулась с широтой деяний революции, и издав¬
на чаемое поэтом «единство с миром» из области мечты и надежд пере¬
шло в область повседневно свершаемого деяния,— а ведь невозмож¬
ность осуществить это «единство» и определяла некогда трагизм пере¬
живаний поэта, отзывавшийся во всей его лирике.Когда-то Блок мог только страстно взывать к тому, чтобы покон¬
чить со «страшным миром» и сбросить его гнет, его ужасы и кошмары:Довольных сытое обличье,Сокройся в темные гроба!- ■ • • -1' Так пай 'велит времен величье .• И роэоперсгая судьба/.. ' > -Теперь-все. то, о-чем так страстно тосковал-и думал поэт, сверши¬
лось наяву! Перед «величьем времен» рассыпался прахом «страшный
мир», и свободный, раскрепощенный, восставший из ничтожества-че¬
ловек сбросил со своих плеч «гроба, наполненные гнилью», смело пре¬
ображал весь мир на новых, лучших, подлинно человеческих: нача¬
лах. Блок ликовал и торжествовал, видя в крушении старого «страшно¬
го мира» исполнение своих самых заветных чаяний, отклик на свои
призывы. Это ликование и составляет пафос поэмы «Двенадцать»; воз¬
носит.-ее на-высоту торжественного гимна радости, красоте и бессмер¬
тию жизни, восторженного прославления прекрасного мира, с облика
которого наконец-то стираются «случайные черты;». .Крайне характерна для: понимания .отношения Блока к революци¬
онному перевороту запись; относящаяся к январю 1.9-18 года. Обращаясь
к двум враждующим империалистическим лагерям, каждый, из -кото¬
рых стремился завершить затеянную ими мировую бойшо в свою поль¬
зу, Блок говорит:'и «I,мааор З'/г лот («война», «патриотизм»)- надосмыть.Тычь, тычь , в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься,
Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним:.; • ^; Если;.-вы хоть «демократическим миром» -не..смоете .позора вашего
военного-патриотизма,, если-нашу, революцию погубите, -значит вы. уже
не арийцы больше...» ;-ь ---;■- м.-Здесь Блок, говоря об Октябре, утверждает как. нечто само собою
разумеющееся: «наша революция»,—и это свидетельствует о том, что
он чувствовал свою безраздельную слитность с восставшими массами,
ощущал себя их неотъемлемой частью, полностью разделял их лико¬
вание, восторг только что одержанной победы, историческое и мировое
значение которой не вызывало у Блока ни малейших сомнений..Это восторженное чувство и вдохновило его на создание поэмы
«Двенадцать», пронизанной. ощущением единства- е окружающим.,-ми¬
ром,-Который перестал, биты .миром чуждым, враждебным, бесчеловеч¬
ным, а. являлся отпыне: миром справедливости и свободы, воплощенной585
поэтом в образе стихии — ветра, бури, метели. Все. это придает совер¬
шенно особое и необычайно важное значение поэме «Двенадцать»
® .творчестве Блока — так же, как и во .всей русской поэзии.Действие поэмы происходит в те дни, когда враги Октября еще
и не думали складывать оружие и когда они не только пророчили са¬
мую скорую гибель ненавистной им советской власти, лишившей их
былых благ, богатств, привилегий, но и сами всемерно стремились при¬
близить час этой гибели.Основные свои планы на первых порах борьбы с советской вла¬
стью контрреволюционная буржуазия связывала с деятельностью Уч¬
редительного собрания, в котором большинство мандатов принадле¬
жало правым эсерам, отвергавшим даже и мысль о признании совета
ской власти, ее учреждений и постановлений. Вот почему лозунг «Вся
власть Учредительному Собранию!» приобрел явно антисоветский
характер.Вопрос об Учредительном собрании являлся в те дни одним из
самых острых, становился центральным в антисоветской демагогиче¬
ской кампании, направленной против большевиков, обвинявшихся
и в узурпации власти, и в развязывании гражданской войны, и в на¬
сильственном подавлении демократии (в буржуазном ее понимании!);,
за оплот которой выдавалось Учредительное собрание. .Именно на этом
плацдарме контрреволюция мобилизовала свои силы и собиралась дать
решительный бой советской власти.В «Проекте декрета о роспуске Учредительного собрания» Ленин
писал:«Всякий отказ от полноты власти Советов, от завоеванной народом
Советской республики, в пользу буржуазного парламентаризма и Учре¬
дительного собрания, был бы теперь шагом пазад и крахом всей Ок¬
тябрьской рабоче-крестьянской революции» (Полн, собр. соч., т. 35,
стр 236).Но именно о таком крахе и мечтала буржуазия,— и она с отчаян¬
ными усилиями цеплялась за лозунг «Вся власть Учредительному Со¬
бранию», дававший ей наибольшие возможности для пропаганды про¬
тив советской власти и завоеваний Октября.Конечно, контреволюция не ограничивалась одними лишь словес¬
ными выступлениями и эскападами против советской власти,— нет,
уже и в самые первые дни Октября она предпринимала бешеные, хотя
безуспешные, попытки свергнуть советскую власть 'силой оружия. Ге¬
нерал Краснов вел свои отряды па революционный Петроград; в Петро¬
граде и в Москве вспыхнули — вскоре же подавленные — юнкерские
мятежи; контрреволюционно настроенные офицеры пробирались на
юг, организовывали там свои силы; казачьи атаманы — генералы Кале¬
дин и Дутов — подняли восстание на Дону и в Оренбурге,— так начи¬
налась гражданская война (зачинщики которой с демагогической без¬
застенчивостью обвиняли в ее разжигании самих же большевиков).В Петрограде сложилась крайне острая и напряженная обстанов¬
ка, широко развернулся саботаж, орудовали банды грабителей и по¬
громщиков, происходили демонстрации под враждебными власти. Со¬586
ветов: лозунгами, организовывались заговоры, нити которых тянулись
за границу,— и все это требовало строжайшей бдительное!и, острой
настороженности, самых решительных действий в борьбе с контрре¬
волюцией и ее пособниками.Партии правых эсеров и меньшевиков открыто призывали к свер¬
жению советской власти и доходили до «...неприкрашенных призывов
и террору, который «неизвестными группами» и начал уже осущест¬
вляться» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 237).В обстановке- этого террора, саботажа, погромов, бандитизма, от¬
чаянной борьбы контрреволюционных элементов против советской вла¬
сти в Петрограде и было введено осадное положение, укреплялись ста¬
рые и организовывались новые отряды Красной гвардии, призванные
любою ценою отстоять завоевания Октября. Одним из таких отрядов и
был тот, который является коллективным героем поэмы «Двенадцать?).Этот отряд идет на смертельный бой с врагами революции,— где
бы ни встретил их и в каких бы обличиях (подчас до крайности
«демократических» в сверх всякой, меры «революционных») они-ни
выступали.Поэма открывается картиной зимнего, тревожно настороженного
Петрограда, но которому проносится ветер — злой, веселый, беспощад¬
ный. Наконец-то он вырвался на волю и может вдосталь погулять на
просторе!.. Он сейчас — истинный хозяин этих площадей, улиц,, за¬
коулков, он завивает вихри белого снега, и прохожим так трудно, а то
и невозможно устоять под его порывами и ударами, под его неистовым
натиском. Это — ветер в самом прямом и буквальном смысле слова,
а вместе с тем он является и символом разгулявшейся, беспощадной,
неукротимой стихии, в которой для поэта воплощается дух революции,
ее грозная и прекрасная музыка.Истинный герой поэмы — это и есть разбушевавшаяся народная
стихия, разрушившая «зачерепевший слой», сковывавший ее, и проно¬
сящаяся по улицам ощетинившегося штыками Петрограда,— колыбели
Октябрьской революции. И иоэт — в,мосте с этой стихией, с этим вет¬
ром, сметающим всо старое, отжившее, косное и несущимся с такою
грозною и неодолимою силой, что захватывает дух. Горе тем, кто захо¬
чет противиться этой стихии и снова загнать ее в подполье,— он по¬
гибнет в ее неукротимом потоке,— и создателя «Двенадцати» мы видим
в поэме как восторженного певца стихии.Но не в этом — то новое, что заключено в .поэме, ибо Блок издавна
сдавил и воспевал стихию как самое истинное и прекрасное жизнен¬
ное начало, а в том, что он стал поэтом стихии раскованной, наконец-то
вырвавшейся на свободу, .слившейся с восстанием неисчислимых масс,
гнев которых превратился в. кипящую, огнедышащую лаву, сметающую
ев своего пути все преграды.Напрасно пытаются приверженцы прошлого склеить обломки раз¬
битого вдребезги, бороться с разбушевавшейся стихией — их потуги
нелепы и смешны, ибо нет такой силы в мире, которая могла бы повер¬
нуть. колесо истории, вспять, на старую,, уже до конца пройденную
колею!'587
Над всеми нищими духом людьми, глухими к потоку великих ис¬
торических событий, ветер хохочет грозным и : заливистым смехом,
раскаты которого проносятся по заснеженным и погрузившимся , во
мрак петербургским улицам; он проделывает над своими противниками
злые шутки, сбивает их с ног, толкает в сугробы, щиплет их за уши,
швыряет им в лицо пригоршни снега — и врывается в их души смер¬
тельным страхом, неодолимой тоской, полной, растерянностью: что им
теперь делать, когда пришел конец их вольготной жизни, а ни к какому
полезному и нужному людям труду они не приспособлены?! Вот поче¬
му такое отчаяние, оборачивающееся ненавистью к новой, советской
власти, охватывает их и заставляет жалобно скулить, злобно пророчен
ствов-ать гибель повой России, «ехидствовать» и «надмеваться» над
восставшим народом, сбросившим их со своей шеи.: Ветер рвет в клочки протянутый от дома к дому плакат, на кото¬
ром начертано: «Вся власть Учредительному Собранию!»; он издевает¬
ся над этим обманчивым плакатом, ибо народ, уже взявший власть
в свои руки, не собирался ее никому передавать и готов был отстоять
ее любою ценой от всех посягательств и покушений; не случайно тут-
же, под плакатом, слышится разговор, не имеющий к нему как будто'
никакого отношения, но беспощадно разоблачающий радетелей «учре¬
дилки» как одной из форм буржуазной пропаганды и политической
проституции, и в сущности, развивающий ту Hie, самую тему:...Й у нас было собрание......Вот в этом здании......Обсудили —Постановили: 'На время — десять, на ночь — двадцать пять......И меньше — пи с кого по брать......Пойдем спать...Обрывки этого мельком подслушанного разговора — язвительная
насмешка и меткая пародия па «героев» буржуазно-парламентской
фразы, продажность и растленность которых заклеймены поэтом с >
непревзойденной силой, резкостью и точностью.За пейзажной, необычайно лапидарной, предельно четкими мазка¬
ми набросанной картиной вечернего Петрограда, открывающей поэму,'
следуют жанровые зарисовки; сделанные словно бы с налету и на ве¬
ка --- стремительной рукой; резкие контуры, обрывки фраз, мгновенно
мелькнувшие тени, подхваченные очередными порывами выоги и на¬
всегда исчезающие в черных пролетах заснеженных улиц,—как это
великолепно и неповторимо передает события, образы и самую атмо--
сферу тех дней!* V.,Bce это куда-то проносится по воле ветра—так же, как и растет
рянные, обомлевшие, обеспамятевшие люди прошлого, ничего не чув¬
ствующие, кроме того, что произошло какое-то невероятное крушение;
они безнадежно оплакивают блага и утехи той жизни, которая ныне
кажется им чудесным и навсегда потерянным раем, и не напрасно
потешается над ними злой, веселый ветер — ветер самой революции.:В духе незатейливой народной шутки поэт говорит о тех обыва¬588
телях, которые попросту ничего не понимают в происходящих собы¬
тиях и усматривают в них только нарушение привычного, а потому
и милого их сердцу уклада:Старушка, как курица,Кой-как переыотнулась через сугроб.— Ох, Матушка-Заступница!— Ох, большевики загонят в гроб!Она «убивается — плачет» н над тем, что иа канате висит «огром¬
ный лоскут» — плакат, а ведь сколько из него вышло бы портянок!—
и над прошлой жизнью, такой тихой и спокойной; все, что происходят
в «буре-мире»,— выше ее понимания и ие вызывает у нее ничего, кроме
потока слез. Но уже одним лишь сравнением — «как курица» — поэт
подчеркивает истинный характер испуга тех обывателей, которые ис¬
кали защиты от революции у «Матушки-Заступницы».А далее Блок выводит другого — и гораздо меноо безобидного —
противника революции, своего исконного врага, того «богатого», кото¬
рый еще так недавно был «зол и рад», видя, что «вновь унижен бед¬
ный». Но теперь его радости нет и в помине; в удел ему осталась одна
лишь жалкая и бессильная злость:Ветер хлесткий!Не отстает и мороз!И буржуй на перекресткеВ воротник упрятал нос...—и с какой «жестокой радостью» (Пушкин)- поэт изображает своего ста¬
рого — и ныне побежденного — врага, в образе которого воплощались
самые злые и хищные силы ненавистного ему «страшного мира», раз¬
битого вдребезги — и осколков не собрать!Блок ненавидел ие только буржуя вообще — как некую социальную
категорию с присущими ей паразитичсски-хищническими свойствами,
но и конкретное ого воплощение. Всо признаки и особенности буржуя
вызывали у Блока такое непобедимое отвращение, как прикосновение
чего-то нечистого и мерзкого, такое чувство гадливости, что поэта прос¬
то коробило при виде своего старинного врага,— в каком бы обличье
тот ни появлялся. Вот о чем свидетельствует дневниковая запись, от¬
носящаяся к февралю 1918 года, к дням опубликования поэмы «Две¬
надцать»:«Я живу в квартире, а за топкой перегородкой находится другая
квартира, где живут буржуа с семейством...»Далее следует резко и лаконично очерченный портрет этого «бур¬
жуа», который мог бы занять свое место в галерее сатирических обра¬
зов «Двенадцати», между «дамой в каракуле» и «писателем-витией»:«Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным
чиновником, под глазами — мешки, под брюшком тоже, от него пахнет
чистым мужским бельем, его дочь играет на рояле, его голос — тэно-
ришка — раздается за стеной, на лестнице, во дворе, у отхожего места,,
где он распоряжается и пр. Везде он...»589-
И пусть этот «буржуа» — чистенький, плотоядный, привыкший
командовать и распоряжаться (даже у отхожего места!), не сделал
никакого зла лично поэту, но разве он от этого менее подл и нег.авяс-
т«н?1 И Блок, охваченный непобедимым отвращением, обращается к
кебу с молитвой, в которой нет и духа христианского милосердия и
всепрощения:«Господи боже! Дай мне силу освободиться от ненависти, к нему,
которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мыс¬
ли... я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патоло¬
гического исторического омерзения, мешает жить...»И ни о нем так страстно но мечтает поэт, как о том, чтобы .сгинул
наконец с глаз этот «буржуа», с виду такой чистенький, опрятный, бла¬
гообразный, но словно бы воплощающий всю грязь и мерзость старого
«страшного мира»:«Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, что¬
бы не соприкасаться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже
его, не знаю, но гнусно мне, противно мне, отойди, сатана...»Так завершается это «моление», в котором сказалась непримири¬
мая ненависть поэта к силам, враждебным революции, к былым гос¬
подам и владыкам, попиравшим жизнь миллионов и миллионов;
тою же ненавистью к буржую — «безродному псу» — пронизана н.поэ?
ма «Двенадцать».. Вслед за .буржуем в поэме выведен и другой исконный противник
поэта «писатель-вития», годами и десятилетиями подменявший жи¬
вое, нужное народу дело «уродливым мельканьем слов».В столицах шум, гремят витии,Кипит словесная война...—кисал некогда Некрасов с горечью и язвительной насмешкой. Потомок
этих «витий», возникший на страницах поэмы Блока, так же глух к
тому, что происходит «во глубине России», в самой толще народных
масс, хотя он и воображает себя их «заступником», властителем их дум.
Его облик очерчен в поэме Блока всего только двумя-тремя штриха¬
ми— беглыми, стремительными, но такими точными и острыми, что они
прямо-таки врезаются в глаза, вспыхивают перед нами, словно бы
вытравленные на металле едкой и жгучей кислотой.«А это кто?» — спрашивает поэт, словно вперяя взор в давно из¬
вестную и все же непостижимым образом изменившуюся, облейлую
фигуру того велеречивого литератора, с которого октябрьский вихрь со¬
рвал все маски й одеяния,— и отвечает, словно набредя на разновид¬
ность каких-то странных и жалких существ, чудом сохранившихся от
уже отжившей эпохи: ■ -...Длинные волосы,И говорит вполголоса;— Предатели!— Погибла Россия!Должно быть, писатель —<Вития...590-
Вот он стоит, дрожащий и жалкий, перед судом истории и народа,
подобно банкроту, выдавшему уйму самых широковещательных век¬
селей, оказавшихся на поверку всего только бумажной трухой. Он еще
пытается сохранить позу грозного обличителя, вполголоса бормочет
угрозы и проклятия в адрес народа, совершившего величайшую в исто¬
рии мира революцию, но уже не ужас вызывают у поэта его слова,
предрекающие гибель России, а только грозный и беспощадный смех,
ибо слишком наглядно несоответствие громких и возвышенных фраз
с их нустой, ничтожной начинкой.Здесь каждая строка, каждый образ, эпитет — все это необычайно
значительно, точно, хлестко, и само слово «вития» в поэме «Двена¬
дцать» звучит как гневная, презрительная, уничижительная кличка,
пригвождающая к позорному столбу тех, кто искал защиты от бурь
и гроз великой революции в жалкой и уже утратившей какой бы то
лги было смысл болтовне.Поэт ужо давно, воспою 1917 года, издевался «над партией И. И.»
(«испуганных интеллигентов»). Она вызывала у пего ироническую ус¬
мешку, которая обернулась в дни Октября грозным смехом, и конечно
же, именно членом «партии И. И.» является «вития» в поэме «Двена¬
дцать»; это фигура, не имеющая лица. Раньше на нем была маска —
маска жреца, пророка, радетеля народных судеб; но вот маска сорвана,
и лица уже не видно,— должно быть, оно слишком мизерное, как ле¬
ченое яблочко; зато бросается в глаза, что у него «длинные волосы»,
которые, оказывается, и придавали ему некогда известную представи¬
тельность и даже солидность. А теперь видно, что, кроме этой пышно
разросшейся шевелюры, ничего у этого «витии» нет — и не было! —
за душой. По какой-то инерции, с которой порою так трудно расстаться,
он и по сей час изображает из себя нелицеприятного судию, бормочет
проклятия по адресу народа, совершившего революцию, и притом — не
спросись его советов и указаний, но он уже ие выкрикивает их с три¬
бун, м произносит вполголоса, ибо и сам знает: произнеси он их громко,
вслух,— и в ответ гряпот гомерический хохот, а то и почто еще более
оскорбительное и даже опасное...Вслед за «писателем-витией» и за «долгополым», который опасли¬
во хоронится за сугроб, а так недавно «брюхом шел вперед», поэт вы¬
водит еще одного радетеля И приверженца старого «страшного мира»,
его характернейшего представителя — «барыню в каракуле», которой
только и остается, что без конца оплакивать свои былые «красивые
уюты», старые порядки, когда ей жилось так сладко и вольготно;
она изображена в духе народного лубка, веселого раешника, приоб¬
ретающего для нее значение окончательного и беспощадного при¬
говора:Вон барыня в каракуле
К другой подвернулась:— Ужь мы плакали, плакали...Поскользнулась
И — бац — растянулась!591
, . Поэт насмешливо-сочувственно восклицает:Ай, ай!Тяни, подымай!..—но «ветер веселый» еще не раз собьет с ног и эту «барыню» и всех
тех, кто оплакивает безнадежно ушедшее прошлое и страстно жаждет
его возвращения.Образы людей, оказавшихся полными банкротами, глухими к ве¬
личавому и грозному гулу потока революции, выведены в поэме с ог¬
ромной сатирической силой. Здесь художник разоблачает все их убо¬
жество, бессилие, их растери и пость пород лицом небывалых истори¬
ческих событий, всо, что делает невероятно нелепыми и смешными их
претензии на то, чтобы остаться «хозяевами жизни», томи «властителя¬
ми дум», какими они дотоле воображали себя,— и их образы очерчены
в поэме словно бы накаленным до белого каления пером.Но не они являются подлинными героями поэмы; в ней сквозь го¬
речь, шёв, «святую злобу» против всех ревнителей старого, прогнив¬
шего строя прорывается старинная боль поэта за каждого забитого,
загнанного, голодного человека, за его поруганное достоинство, и от¬
стаивается неколебимое убеждение, что так жить, как жили раньше,—
мирясь со всеми ужасами и преступлениями «страшного мира»,— нель¬
зя, что с ними пора кончать. Вот почему тот, кто некогда был «загнан
и забит», вызывает в душе поэта целую бурю светлых и больших
чувств, и ему становятся близки и дороги все те, кто еще совсем не¬
давно обретался на самых низах жизни, на ее дне; для поэта все они
отныне — словно родные братья:Поздний вечер.Пустеет улица.Один бродягаСутулится,Да свищет ветер.Эй, бедняга!Подходи —Поцелуемся...Поэт знает: только теперь, в дни революции, открылся просвет в
новую, чистую, прекрасную жизнь для каждого, кто еще так недавно
был лишен человеческого имени и достоинства; как ни трудно и как
ни тяжело теперь — и какие испытания ни выпали бы на долю восстав¬
шего народа! — все это оправдано.Первая глава поэмы завершается призывом:Товарищ! Гляди
В оба!..Эти слова настойчиво напоминают о том, что враги революции не
дремлют, замышляют все новые и новые козни, и что с ними необходи¬
мо вести жестокий, беспощадный бой.Этот бой взывает к героическим деяниям,— и героическое начало
поэмы воплощается в образе «двенадцати» красногвардейцев, стоящих592
на страже Октябрьской революции, отстаивающих ее великие завое¬
вания от всех посягательств и покушений.«Двенадцать» — в изображении поэта — это городская голыепа,
люди «дна», люди обездоленные, те, кому «на спину б надо бубновый
туз»,— и так, согласно взглядам поэта, городские низы, люди презирае¬
мые и «отверженные», становятся провозвестниками и основополож¬
никами нового мира, очищенного от грязи и мерзости прошлого, апо¬
столами новой и высшей правды, и только они в его глазах — это
«vrai grand monde» («настоящий большой свет»), цвет нации, ее на¬
дежда, залог ее великого и прекрасного будущего.Снежные вьюги врываются в поэму, посвистывают в ней, ведут пе¬
рекличку между собой, и поэт напряженно вслушивается в говор, в гу¬
лы, шепоты грозного, настороженного города, который волнует своим
новым и небывалым обликом, ибо те, которые прятались прежде в под¬
валах и таились на чердаках, в темных и тесных конурах, вышли на
улицу — и оказались подлинными хозяевами жизни. Принимайте их
такими, каковы они есть! Полюбите их черненькими,— беленькими их
всякий полюбит!Что ж, поэт не жалеет самых резких и выразительных красок для
того, чтобы они выглядели «черненькими» и на самом деле, а не только
на словах,— и все же он любит их даже такими, какими создали их
условия и порядки старого мира, породившего в них своего могильщи¬
ка. Здесь — по-новому — поэт готов повторить прежние свои стихи:Да, и такой, моя Россия,Ты всех краев дороже мне.Но эти строки в дни свершения великой революции приобретают
новый, углубленный и грозный смысл.Первые слова того разговора, который ведут «двенадцать», носят
самый обыденный, вульгарный, даже низменный характер. Поэт совер¬
шенно чужд стремлению «приподнять» своих героев в глазах читателя;
он показывает их по псой присущей им неотесанности, грубости, зано¬
зистости, заранее отбрасывая какие бы то ни было приукрашеиия; ои
изображает своих героев вместо с их «подноготной» и даже в той гря¬
зи, которая не могла не прилипнуть к ним — людям старого городского
«дна», миазмами которого они так долго дышали. Это и передал поэт,
подслушавший обрывки их разговоров, доносящихся сквозь порывис¬
тое дыхание метели:— А Ванька с Катькой — в кабаке.,,— У ей керенки есть в чулке!— Вашошка сам теперь богат...— Выл Ванька паш, а стал солдат!..Но сквозь то бытовое, грубое, а подчас и низкое, что видится в об¬
лике «двенадцати», слышится в их говоре, поэту открывается и нечто
иное — огромное, необычайно важное, высокое, ибо они берут на себя
такой великий подвиг, который по плечу только легендарным богаты¬20 Заказ 534т
рям, но ведающим сомнений и страха в борьбе со всякой нечистыо,
с любым врагом. Они готоеы «буйну голову сложить» — лишь бы раз¬
делаться со старым миром и на его развалинах основать новый, спра¬
ведливый, прекрасный, не знающий нужды, обид, унижений!Пусть они темны и невежественны, пусть их руки в крови и грязи,
и сами они еще не сознают до конца всей высоты и святости своего по¬
двига, своего великого дела, но они неуклонно и беззаветно служат
ему; что бы они ни думали, о чем, бы ни говорили, чем бы ни были сей¬
час заняты или развлечены — они все равно неизменно и неизбежно
возвращаются к мысли о пом, тревожатся о нем, и, как грохот бурного
и неукротимого потока, оно врываотся it их разговоры, покрывая все
другие звучания, но даст отвлечься ни па минуту, ибо и сами «двена¬
дцать» целиком захвачены пылом и пафосом борьбы с «неугомонным
врагом». Вот почему разговор о Катьке, не отличающийся излишней
пристойностью и изобилующий весьма недвусмысленными намеками
(«...Катька с Ванькой занята — Чем, чем занята?..»), сменяется ружей¬
ной пальбой («Тра-та-та!»), снова напоминающей о том самом главном,
ради чего «наши ребята», герои поэмы, пошли «в красной гвардии слу¬
жить»;Кругом — огни, огни, огни...Оплечь — ружейные ремни...Товарищ, винтовку держи, пе трусь!Пальнем-ка пулей в Святую Русь —*В кондовую,В избяную,В толстозадую!Сейчас для них в «кондовой», в «толстозадой», в «Святой Руси»
воплощается все то, с чем нужно разделаться — во имя новой Руси, ибо
старая Русь слишком долго сковывала их силы, была их тюрьмой, дер¬
жала в неволе, готовая «заспать» их «надежды, думы, страсти», как
говорил некогда поэт. А теперь пришла пора разделаться со всеми ста¬
рыми порядками, со смирением, с покорностью, «святостью», с духом
непротивления злу — именно в него готовы «пальнуть пулей» герои
Блока. Вот почему «на бой кровавый, святой и правый» они идут «без
креста»,— слишком долго этим крестом прикрывались насилия и пре¬
ступления «страшного мира», его хозяев и прислужников!Они ясно осознают, что многим из них но пережить тех событий,
которые ныне сотрясают весь мир,— вот почему их разговор, начатый
с самых бытовых и даже низменных предметов, с кабака, с хгеренок,
спрятанных Катькой в «ейном» чулке, приобретает совсем иной харак¬
тер; в него неизбежно врываются мотивы широчайшего общественного
масштаба, в нем звучат воззвания, обращенные ко всему трудовому на¬
роду, взявшему власть в свои руки:Революцьонный держите шаг!Неугомонный не'дремлет враг!Эти призывы, приказы, лозунги, подхваченные и затверженные,
словно строки нерушимого и святого завета, миллионами людей труда,
сменяются проникновенными, дирически-взволнованными размышле¬
ниями поэта о судьбах «двенадцати»,— да и но только о них, но и о
всех тех, кто своей кровью и своей жизнью готов защищать великие
завоевания революции:Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить ~В красной гвардии служить —Буйну голову сложить!Революция возвела людей бесправных, отверженных, обездолен¬
ных в ранг человека — а что на земле выше этого звания и имени! —
на огромную вершину, откуда им отиыпо виден весь мир. Они впервые
почувствовали себя настоящими людьми,— но поденщиками жизни,
а ее господами, хозяевами своей судьбы и своей страны, всего ее вели¬
кого наследия и достояния, созданного их ж о руками, сынами ее, а по
пасынками. Для них, уже глотнувших грозового воздуха свободы, уже
почувствовавших на своем лице ее дыхание, лучше смерть — да в по¬
рыве и вдохновении борьбы им некогда и задуматься о ней! — чем воз¬
врат к прошлому, старому, навсегда сброшенному ярму. Вот это и вы¬
звало к жизни героический и непреклонный дух у людей самых про¬
стых и обыкновенных, отнюдь не мнящих себя героями; вот в каком
огне закалялась их «воля к подвигу» — подвигу не отвлеченному, но
мечтательному, а повседневно претворяемому в жизнь, продиктован¬
ному и обусловленному самими обстоятельствами, требующими от вос¬
ставших масс предельного героизма и взывающими к нему — иначе их
ждало бы поражение.Поэт неизменно подчеркивает, что его герои — не какие-то особен¬
ные, редкостные, что они люди самые рядовые и даже «черненькие» —
не в каком-то отвлеченном, фигуральном, чисто литературном, а самом
прямом и буквальном смысле этого слова. Они могут отважиться не
только на подвиг, па бой с врагами революции, но и на грабож, па са¬
мосуд, и в поэме непосредственно за торжоствонпо-героическими, про¬
низанными революционным пафосом и звучащими как клятвенное
заверение строками:Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем...—следуют совсем иные стихи, звучащие в совершенно другом, спиженно-
бытовом ключе. Поэт знакомит нас с «сукиным сыном» Ванькой,
который был «наш», а стал «буржуй» (вероятно, один из тех, кто со¬
блазнился возможностью использовать реквизиции для личного
обогащения, превратился в обычного грабителя), и с его новой возлюб¬
ленной — Катькой, которую он, судя по всему, одаривает и «керенка¬
ми» и награбленным барахлом.Образ Катьки поражает своей быощей через край жизненностью,
«плотскостью», завершенностью. Эту дочь городсхшх низов и окраин
видишь всю, с головы до ног («больно ножки хороши»), вместе с пун¬20*595
цовой родинкой «возле правого плеча»; видишь во всем ее обаянии, в
со влекущей прелести:Запрокинулась лицом,Зубки блещут жемчугом...В Катьке наряду со всем тем, что несет на себе печать самой ост¬
рой злободневности, есть то страстное, цыганское, «артистическое» на¬
чало, которое превращает ее но только в персонаж бульварно-мещан¬
ского романа, но и в героиню древних преданий и мифов, словно бы
снова оживших и ее облике. Она и сама но видит истинного смысла и
высокой ценности своей бедовой удали (родственной стихиям самой
природы), прелести, красоты — иначе по растрачивала бы их так без-
удержно, безрассудно и нелепо, как ничего ие стоящую дешевку; но
и в Катьке — при всей ее низменности и вульгарности — есть черты,
тайно роднящие с тою Кармен, к которой поэт некогда обращал самые
восторженные хвалы и гимны:Сама себе закон — летишь, летишь ты мимо,К созвездиям иным, не ведая орбит,И этот мир тебе — лишь красный облак дыма,Где что-то ягжет, поет, тревожит и горит!..Катька и сама не знает, что в ней поет, что ее жжет, и в каком-то
вечном загуле, походя и безоглядно, прожигает свою жизнь; она изо¬
бражена во всем своем обаянии, а вместе с тем и с присущим ей лу¬
кавством, хищничеством, той предельной неверностью, которая доводит
ее до полного обесценивания своих чувств и страстей, бросающих ее
от одного случайного «встречного» к другому:С юнкерьем гулять ходила —С солдатьем теперь пошла?Но есть в ней хотя предельно сниженные, но в каком-то своем
скрытом и подспудном существе неизменные черты тех легендарных
героинь, которых поэт видел в образах Прекрасной Дамы, Незнакомки,
Фаины,— она их младшая и отверженная сестра, «блудная дочь» в том
же семействе; Катька при всей своей вульгарности, бесшабашности,
отчаянности сродни им. О ней любой из ее случайных возлюбленных
мог бы сказать: «Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь...» — и уви¬
деть в оо глазах «змеиную неверность и ночь преданий грозовых»; раз¬
ве тот же самый Петька — один из многих се возлюбленных! — не взы¬
вал бы к ней словами самого поэта,— если бы знал их и если бы думал,
что Катька отзовется на них:Неверная, лукавая,Коварная — пляши!И будь навек отравою
Растраченной души...Все готов отдать Петька ради прелести своей возлюбленной, все
готов загубить— Из-за удали, бедовой
В огневых ее очах,596
Из-за родинки пунцовой
; : Шзлё'гфавогЬ'njib'ia... ' " >..4.И эхо к ней обращен его безудержно восторженный — ие то вздох,
но то возглас:Ах ты, Катя, моя Катя,Толстоморденькая...Сколько в этом любовно сказанном и непроизвольно вырвавшемся
«толстоморденькая» восторга, упоенного любования, грубоватого вос¬
хищения, в котором выразился весь человек, вся его «эстетика» — если
уместен здесь этот термин.Так один штрих, одна интонация, восторженная улыбка, которая
словно бы раздвигает губы и расплывается по всему лицу Петьки, пе¬
реживающего несравненные для него достоинства своей возлюбленной,
обретают невероятную, словно бы особо «сгущенную» жизненность,
плотскость, пластичность,— и художник с одного, казалось бы — мель¬
ком брошенного, взгляда ухватывает и навсегда закрепляет в слове и
образе самое характерное, существенное, а вместе с тем самое сокро¬
венное, что есть в человеке,— и вот Петька перед нами весь как на ла¬
дони!В поэме любовные и прочие обращения Петьки к своей неверной
возлюбленной носят не только предельно фамильярных! («толстомор¬
денькая»), но подчас и крайне грубый характер («холера», «падаль»,
«дура»), что не только не мешает сказаться вызванной ею силе стра¬
стей, но словно бы еще больше разжигает их. Из-под слов насмешки,
гнева, ненависти здесь так и сверкает любовь,— а «такая любовь са¬
мая сильная», как заметил когда-то один из героев Достоевского. Вот
именно такую любовь, готовую мгновенпо обернуться ненавистью и
местью, вызывает Катька, неверная и лукавая, а вместе с тем и вле¬
кущая своей прелестью, бесшабашностью, играющей страстью.«Бедовая удаль» Катыш, отличающейся, судя по всему, вызываю¬
щей смелостью и безудержностью своих страстей, тою стихийностью,
которая обретает черты Дикова.тости, сталкивается с такой же удалыо
и страстностью ее возлюбленного,— если его можно назвать этим име¬
нем. В этом столкновении и сама их недобрая любовь обретает харак¬
тер «поединка рокового» (Тютчев), не по-людски бешеной схватки.Так назревает трагедия, и ей предшествует внутренний разговор
Петьки с Катькой; он лихорадочно перебирает в памяти все тайные и
неодолимо влекущие прелести своей подруги — вместе с ее пунцовой
родинкой; у него даже «сердце екнуло в груди», когда он представляет
ее себе в блуде с кем-то другим. Но если она забыла своего недавнего
возлюбленного, для которого и поныне осталась совершенством красо¬
ты, то он предлагает ей «освеяшть» Свою память. Вот почему так зло¬
веще и грозно звучат в поэме и сами любовные признания:У тебя па шее, Катя,Шрам ие зажил от ножа,У тебя под грудью, Катя,Та царапина свежа!
И здесь не то признание, не то угроза (одно от другого неотдели¬
мо!) сопровождается неистовыми, бешеными — «цыганскими» выкри¬
ками, почти теми же самыми, что звучали во времена Григорьева
и Апухтина:Эх, эх, попляши!Больно ножки хороши!..Но нет, о том, что это не времена Апухтина, нам сразу напоминает
совершенно иной ход повествования, отзывающегося бурями револю¬
ционных событий. Даже и воспоминание о ножках, которые «больно
хороши», не может отвлечь от того грозного и великого, что происхо¬
дит вокруг — и по без участия героев ноомы:Помнишь, Катя, офицера —Не ушел он от ножа...Аль не вспомнила, холера?Али память не свежа?..Может, после такой угрозы возлюбленный Катьки и «освежит» ее
память ударом ножа, но его снова побеждает Катькина прелесть, удаль,
сверкающая в ее «огневых очах», и закипающий было гнев разрешает¬
ся неожиданным образом:Эх, эх, освежи,Спать с собою положи!Сейчас ни о чем ином и не мечтает ее возлюбленный, убеждеппый
по старинке, что «не согрешив — не покаешься»:Эх, эх, согреши!Будет легче для души! —и только так представляются ему любовь и любовные встречи.Катька возникает перед нами в сверкании снега, на волнах метели,
в разгуле стихии, перекликающейся со стихийностью самого ее суще¬
ства:Снег крутит, лихач кричит,Ванька с Катькою летит —Елекстрический фонарик
На оглобельках...Ах, ах, пади!..Трагедии предшествует картипа, изображенная автором в почти
лубочном, «простонародном» духе и переданная языком, не избегаю¬
щим и самой просторечной вульгарности (вплоть до этого неграмотного,
но с претензией на «образованность»: «елекстрический»),— но она вы¬
глядит не вульгарной и не банальной, ибо и на нее падает отсвет ве¬
ликих пожаров, пожирающих обломки старого «страшного мира», и ви¬
дится она в огромной, уходящей в века перспективе.Так предельно низкое и пошлое сочетается с высоким и траги¬
ческим, для выражения чего герои поэмы и языка не могли бы сыс¬
кать!598
Измена Ваньки, который был «наш», красногвардеец, а стал «бур¬
жуй», кажется «двенадцати» настолько подлой, что они, увидев лиха¬
ча, на котором летит Ванька, обнимающий «Катьку-дуру», готовы учи¬
нить немедленную расправу пад ним,— так же как и над любым бур¬
жуем, который вздумал бы помешать победоносному ходу революции.
Ванька переметнулся во враждебный стаи, к тому «юнкерью», к том
«солдатам», которые шли против рабочих, являлись орудием контрре¬
волюции, и если «двенадцать» стряхивают с себя грязь того мира, из
которого еще так недавно вышли, то Ванька целиком потонул в ней;
вот почему для его недавних товарищей он — предатель, иуда, спра¬
ведливая расправа с которым должна быть короткой и беспощадной.Они пересекают дорогу лихачу, и слышатся их выкрики:Стой, стой! Аидрюха, помогай!Петруха, сзаду забегай!..Лихач прорвался сквозь красногвардейский заслон, сквозь ожесто¬
ченный ружейный огонь, многократно перекатывающийся гулом:Трах-тарарах, тах-тах-тах-тах!Искрутился к небу снежный прах...Разделаться с Ванькой не удалось. «Лихач — и с Ванькой — на¬
утек...» Не помогла и новая команда: «Еще разок! Взводи курок!..»Но если он «утек сегодня», то с ним расправятся завтра; от рево¬
люционного суда — в какой бы форме он ни состоялся! — Ваньке не
«утечь»! Не напрасно вслед ому несется грозный крик: «Расправлюсь
завтра я с тобой!» А вот сейчас кара — и кара незаслуженная — по¬
стигла лишь его случайную подругу:А Катька где? — Мертва, мертва!Простреленная голова!..—и убил се но кто иной, как Петька...То, что Ванька отправился «с девочкой чужой гулять», не имеет
большого значения ни дли кого из «двенадцати», кромо Петьки; когда
он увидел свою неверную возлюбленную с Ванькой, его охватило но
высокое революционное чувство, а совсем иное, сугубо личное. Для
Петьки Ванька прежде всего его соперник, надругавшийся над ним, над
его страстью, загулявший с его «девочкой»; главное для него — месть.
Но отомстил он не Ваньке — для него Ванька в истории его жизни и
его любви лицо второстепенное! — отомстил Катьке, отомстил за ее
измену, за ту легкость и беззаботность, с которой она бросила его; за
это — и только за это — Петька разделался с ней, и из праведного су¬
дьи, несущего справедливую революционную кару, каким чувствуют
себя его товарищи, он превратился в обычного убийцу. Вот почему
Петька мучается сводящими с ума муками раненой совести и на нем
«не видать совсем лица». ОнВсе быстрее и быстрееУторапливает шаг.Замотал платок па шее —Не оправиться никак...599
И, вероятно, сейчас этот платок для-него— как петля, которою он
готов стянуть свое горло: все лучше, чем терпеть такую муку, чем ви¬
деть свои руки в невинной крови Катьки. Сейчас вся ее прелесть видит¬
ся ему в новом, каком-то особо ярком, сводящем с ума свете, от которо¬
го никуда не уйти и не скрыться; хоть и со многими гуляла Катька, но
не растратила она в этой бесшабашной гульбе своей дивной преле¬
сти — недаром «бедный убийца», которого преследует ее лукавый, лжи¬
вый и прекрасный облик, бормочет, словно в бреду:— Ох, товарищи, родные,Эту донку л любил...Ночки черные, хмельные,С этой девкой проводил...— Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча
Загубил я, бестолковый,Загубил я сгоряча... ах!И в этом «ах!» столько отчаяния, для выражения которого и слов
найти нельзя. Кажется, еще немного — и Петька сойдет с ума или на¬
ложит на себя руки, расправится сам с собой так же нелепо, бестолко¬
во, безобразно, как и со своей неверной возлюбленной.Вот тут-то товарищи Петьки и приходят ему на помощь, поддер¬
живают его — в час самой смертной, доводящей до умопомрачения
тоски, обнаруживают — при всей своей внешней грубости, неотесан¬
ности, жестокости — удивительную внутреннюю душевность, даже
такт. Они понимают, что сейчас пожалеть Петьку, посочувствовать
ему — это значило бы только растравить его раны, еще более потрясти
и без того помрачненную душу. Вот почему они и обрушиваются на
него градом попреков, обвинений, резких слов, которые не могут не
пробудить у Петьки новое сознание вины,— но уже не сводящее с ума,
а целительное чувство ответственности за то общее и великое дело,
о котором он готов забыть, захваченный вихрем невыносимой, смер¬
тельной тоски:— Ишь, стервец, завел шарманку,Что ты, Петька, баба, что ль?— Верно, душу паизшшЛу
Вздумал вывернуть? Изволь!А далее, после этих резких слов, звучащих осуждением и беспо¬
щадной издевкой, но имеющих для Петьки: совершенно иной смысл,
раздаются другие призывы и обращения, в которых кровная забота
красногвардейцев о своем оступившемся соратнике звучит по-друго¬
му — не менее сурово и настойчиво, но уже с еле прикрытой добротой,
дружбой, товариществом, на которые глубоко и охотно отзывается ис¬
тосковавшаяся но подлинно человеческому слову душа Петьки:— Поддержи свою осанку!— Над собой держи контроль!60ft
■ - -н Не такое нынче время, ■ . . :Чтобы нянчиться с тобой!Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!..—и то, что он — не потерянный для своих соратников человек, то, что он
для них остался «дорогим товарищем» и всем им вместо суждено де¬
лать великое дело, ради которого не жаль пожертвовать жизныо,— все
это вызывает у Петьки целую бурю новых, горделивых чувств, застав¬
ляющих его по-новому оценить свое братство с людьми, вместе с кото¬
рыми он идет «на бой кровавый, святой и правый».Соратники Петьки, вместе с ним отстаивающие счастье и будущее
всего народа, сумели снова вернуть в свои ряды «бедного убийцу», тер¬
завшегося муками уязвленной, смертельно раненной совести. Сознание
того, что он, хоть и сильно провинившийся перед народом, перед това¬
рищами, все же не отщепенец для них, а их соратник, придает ому но¬
вые силы; он смыкает свой шаг с их шагами и идет в ногу с пими
сквозь вой метели и дым пожарищ; он...замедляет
Торопливые шаги...Он головку вскидывает,Он опять повеселел...Так течение рассказа, которое вот-вот готово было обернуться тра¬
гической развязкой, ужасом безумия или самоубийством, внезапно, а
вместе с тем и внутренне оправданно, сменяется лихими, озорными
выкриками, в которых и сказалась «бедовая удаль», присущая людям,
не ведающим сомнений и страха в борьбе с враждебными им силами
старого мира:Эх, эх!Позабавиться пе грех]Запирайте отожи,Иыпчо будут грабежи!Отмыкайте погреба —Гуляет нынче голытьба!Поэт не отделяет одного от другого — и великого дела революций
и катькиной крови, пролитой зазря,— обо всем этом герои поэмы го¬
ворят подряд или вперемежку, совмещая в себе всю гамму самых раз¬
норечивых чувств, страстей, стремлений:— Ох, пурга какая, спасе!— Петька! Эй, ие завирайся!От чего тебя упасЗолотой иконостас?Бессознательный ты, право,Рассуди, подумай здраво —Аля руки не в кровиЙз-за Катькиной любви?— Шаг держи революцьониый!Близок враг неугомонный!
Так товарищи обращаются к Петьке, да и не только к Петьке, а к
«рабочему народу»; все тверже их «революдьонный шаг», и тот же
Петька снова идет в ногу с ними — ужо не оступаясь, научившись на
горьком опыте подчинять своп неуемные страсти большому общему
делу, ради которого не жаль «буйну голову сложить».Его трагедия разрешается окончательно, бесповоротно,— и поэт
больше не возвращается к ней; шаги Петьки снова безраздельно смы¬
каются с иоступыо отряда красногвардейцев, и об этом свидетельствует
самый стих, обретающий строгость и четкость мерного и грозного мар¬
ша, в котором узко нот места расхлябанности, срывам, разнобою:В очи бьется
Красный флаг.Раздается
Мерный шаг.Вот — проснется
Лютый враг...И вьюга пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...Шаг красногвардейцев становится поистине «державным шагом»,
в маршевый, четкий, грозный строй стихов закономерно завершается
словами, звучащими как лозунг, приказ, призыв к борьбе за новую
жизнь:Вперед, вперед,Рабочий парод!Выводя па авансцену своей поэмы таких людей, как Петька и его
товарищи, сосредоточивая движения фабулы на истории злосчастной
любви к «юлстоморденькой» Катьке, подчеркивая то темное, что было
в героях поэмы, возросших и воспитанных в условиях «страшного ми¬
ра» и повседневно угнетаемых и развращаемых им, поэт тем самым за¬
остряет наше внимание на теневых сторонах революции, на ее «грима¬
сах» — и не потому, что не видел иных ее сторон, прекрасных, радост¬
ных, светлых, а, очевидно, по совершенно иным мотивам.Может возникнуть вопрос: почему Блок, который знал (и говорил
об этом в письме, адресованном Зинаиде Гиппиус), что «гримас рево¬
люции», о которых кричали ее враги, «невинных жертв» революции
было гораздо меньше, чем могло бы быть, ибо наш народ в массе сво¬
ей — это парод «добрый и великодушный», вместе с тем сосредоточил
в своей поэме внимание на эпизоде, свидетельствующем об одной из
таких «невинных жертв», о напрасно пролитой крови?Постараемся ответить на этот вопрос.Контрреволюционные силы, включая ту интеллигенцию, которая
еще так недавно составляла непосредственное окружение поэта, не
брезговала никакими средствами в борьбе с новой властью; одним из
наиболее ядовитых оружий в этой борьбе и являлась разнузданно де¬602
магогическая клевета относительно «зверств» восставших масс,— и
;-десь к «былям» прилагалось несчетное множество небылиц, рассчи¬
танных на то, чтобы поразить воображение мещанина, напугать обы¬
вателя.Вот что заставляло Блока с особым вниманием отнестись к одному
из наиболее ходовых приемов контрреволюционной пропаганды,—что¬
бы выбить это отравленное оружие из ее рук. В основу своего сюжета
он и положил одно из тех происшествий, о которых с пеной у рта во¬
пила буржуазная пресса, стараясь «не замечать» в событиях револю¬
ции ничего, кроме «гримас» и «зверств»,— и нет сомнений, что поэт
избрал такой сюжет не случайно, а в явно полемических целях, сра¬
жаясь с противником на его же почве, пользуясь его же материалом,
его же оружием,— но обращая это оружие против врага и клеветников
восставшего народа; поэма Блока пронизана духом задора и дерзкого
вызова, адресованного тем чистоплюям, которых отвращали от рево¬
люции грубость и жестокость иных поступков и действий восставших
низов, их «невоспитанность», в которой сами они были повинны мень¬
ше всего.Один из героев Достоевского, Версилов («Подросток»), даже меч¬
тая о будущем «золотом веке» как царстве свободы и справедливости,
вместе с тем. боялся передряг и испытаний, стоящих на пути к нему;
он признавался:«...Сапожность процесса пугала меня. Впрочем, действительность
и всегда отзывается сапогом, даже при самом ярком стремлении к
идеалу».Да, многие из тех, кто восставал против Октябрьской революции,
утверждали, что и они стремятся к лучшему будущему как царству
разума, свободы, справедливости, но их отпугивает «сапожность про¬
цесса»,— пусть даже и прогрессивного в основе, но совершающегося
отнюдь но по правилам благочестия и смиренномудрия. Вот почему они
ничего но хотели замечать, кроме «гримас революции», о которых
и поднимали истошный визг и крик в своих еще не прикрытых в то
время газетах и журналах.Против подобной демагогии, рассчитанной па самые отсталые мас¬
сы, и была полемически заострена поэма Блока (так же как и его ста¬
тья «Интеллигенция и Революция», являющаяся своего рода ключом
к поэме).Впоследствии, в докладе на II Всероссийском съезде профессио¬
нальных союзов, Ленин указывал:«Рабочий никогда не был отделен от старого общества китай¬
ской стеной- И у него сохранилось много традиционной психологии
капиталистического общества. Рабочие строят новое общество, не пре¬
вратившись в новых людей, которые чисты от грязи старого мира,
а стоя по колени еще в этой грязи. Приходится только мечтать о том,
чтобы очиститься от этой грязи. Было бы глубочайшей утопией думать,
что это можно сделать немедленно. Это было бы утопией, которая на
практике только отодвинула бы царство социализма па небеса» (Сочи¬
нения, том 28, стр. 403).603
Но именно для того, чтобы отодвинуть «царство социализма на не¬
беса», и хваталась буржуазия, ее приспешники и прислужники за; эту
утопию, выливая потоки желчи и клеветы на восставшие массы, изде¬
ваясь над ошибками и просчетами людей, на плечи которых легла ог¬
ромная ответственность за судьбы страны и революции и которым за¬
частую еще не хватало умения, опыта, самых элементарных знаний;
вот против этой «глубочайшей утопии», внешне, на иной поверхност¬
ный взгляд, и привлекательной, а на самом деле призванной отодви¬
нуть «царство социализма па побеса» и тем самым — увековечить гос¬
подство буржуазии (против такого «социализма» не возражал бы и Ме¬
режковский!), направлено острие поэм и Блока.Самим ее сюжетом, сосредоточенным иа одном из кровавых и тра¬
гических эпизодов, связанных с эпохой революции, поэт полемически
подчеркивал, что строителями и знаменосцами нового, светлого, пре¬
красного мира являются не какие-то особо избранные, очистившиеся
от всякой скверны и мерзости прошлого люди, достигшие полного нрав¬
ственного совершенства, а те, кто стоит еще по колени в грязи, те, у ко¬
торых сохранилось «много традиционной психологии капиталистиче¬
ского общества».Они-то и являются подлинными героями поэмы, и ее автор меньше
всего стремился представить их перед нами «чистенькими» и благооб¬
разными, соответствующими идеалам новых «утопистов»!Следует подчеркнуть, что и вообще Блоку было присуще в любви
своей — к чему бы то ни было и к кому бы то ни было — видеть не
только светлое начало, но не закрывать глаза и на теневые стороны,
даже сосредоточиваться именно на них, подчеркивая противоречивость
изображаемых им явлений и процессов; вот и теперь, запечатлевая
образы и события, рождавшиося в огне и вихре революции, поэт также
сосредоточил свое внимание на том «теневом», о котором так злобно и
яростно кричали ее враги; он решительно, твердо и страстно отвечал
им своей поэмой: да, и такую я приемлю революцию, да, и такой она
мне бесконечно ближе и дороже, чем самые «красивые уюты» старого
«страшного мира»!Так в своей поэме Блок разделывался с утопически «прекрасно¬
душными» представлениями о революции, принявшими в дпи Октября
явно контрреволюционный характер; поэт по-своему разрушал ту кон¬
цепцию, согласно которой только просвещенные и нравственно совер¬
шенные люди могли участвовать в революционном перевороте и дове¬
сти его до успешного завершения. Нет, в поэме Блока прославляется
братство всех людей — самых простых, некогда униженных, обездолен¬
ных, отверженных, а теперь пусть по-прежнему нищих и голодных, но
возведенных в ранг человека — самое высокое звание на земле! Вот
что составляет пафос поэмы, обращенной к миллионам и миллионам
(без различия!), а в первую очередь —к тем, кто идет на штурм твер¬
дынь старого мира и строит на его развалинах новый, прекрасный
и справедливый.В соответствии с этим огромным замыслом действие поэмы расхо¬
дится расширяющимися кругами.
Первый круг, составляющий передний план поэмы,— история люб¬
им Петьки и Катьки, завершающаяся трагической гибелью Катьки,
этой Кармен городских низов, не знающей запретов и пределов своей
удали, смелости в утверждении своей вольной воли.Другой круг, гораздо более широкий,— это Петроград дней рево¬
люции, город постоянно возникающих схваток, борьбы «двенадцати»
и стычек Красной гвардии с врагами революции, с теми, кто затаился
в переулках, за сугробами, «хоронясь за все дома»; с теми, кто выжи¬
дает часа, чтобы снова взять власть в свои руки и, ухватившись за ко¬
лесо событий, повернуть его вспять.А за этим кругом открывается еще более широкий — и взывающий
к масштабам всемирно-историческим, связанным с решением судеб
всего человечества: жить ли ему по-прежнему иод властью темных,
злых, хищнических сил или же оно обретет свободу, одолеет всех ве¬
ликанов и карликов старого «страшного мира»?Так в поэме дается ответ па вопросы, связанные с судьбами чело¬
вечества, проблемами «единства с миром», призвания и назначения
человека, его будущего; все это и определяет огромную масштабность
поэмы Блока.В пей судьба Петьки и других красногвардейцев, защитников но¬
вой, революционной России, переплетается с судьбами всей страны,
народ которой взялся за переустройство России на новых, справедли¬
вых, подлинно человеческих началах. Никакие беды, напасти, испыта¬
ния не могли сломить его железной, непреклонной решимости, вдохно¬
вляющей и героев поэмы Блока на любые подвиги, ставшие ныне до¬
стоянием легенд и преданий.Блок своей поэмой утверждал и неизбежность возмездия, которое
нес с собой революционный парод представителям ныне свергнутых,
но еще яростно сопротивляющихся привилегированных классов. «Свя¬
тая злоба»,— так поэт называл пафос этого возмездия, справедливость
которого но могла потерпеть существенного ущерба оттого, что люди,
веками жившие в угнетении и темноте, поднявшись на гребне восста¬
ния, оказывались ие во всем безупречными и не всегда умели остаться
в рамках гуманности, закона й правопорядка. Нет, здесь возникали
и некоторые «перехлесты», эксцессы, подобные тому, который опреде¬
лил сюжетный стержень поэмы.Но в ней есть и еще один круг проблем и вопросов, необычайно
важных в глазах поэта, а потому и заслуяшвакяцих особого нашего
внимания.2. «В БЕЛОМ ВЕНЧИКЕ...»Вопрос о том, что революция такого масштаба, как Октябрьская,
не могла быть «безболезненной», «бескровной», вставал как один из
тех центральных вопросов, которые служили ее врагам поводом и пред¬
логом для самых ожесточенных нападок и оголтелой клеветы.В спорах с ними и рож Дались многие образы поэмы Блока, кото¬
рый видел в революции утверждение чистой, справедливой, прекрасной
жизни, новой, подлинно человеческой морали, причем поэт доходил до
самых крайних выводов, осеияя своих героев и даже «бедного убий¬
цу», лишившего жизни «толстоморденькую» Катьку — никому пе нуж¬
ную жертву его самосуда и его неукротимых страстей, именем Христа.Образ Христа, замыкающий поэму и, казалось бы, случайный,
странный, ничем не оправданный,— для самого Блока не был ни случа¬
ен, ни странен, ни произволен, о чем свидетельствует множество его
высказываний, устных и письменных, в которых поэт возвращается
к этому же образу, стремясь утвердить его закономерность и необходи¬
мость.Герои поэмы идут в бой «без имени святого», и присказка, сопро¬
вождающая их шаги и поступки,— это «эх, эх, боз креста!»; они — без¬
божники, у которых насмешку вызывает даже одно лишь упоминаниео Христе, о «спасе»:— Ох, пурга какая, спасе!— Петька! Эй, не завирайся!От чего тебя упасЗолотой иконостас!И все же то дело, которое они вершат, не жалея своей крови и са¬
мой жизни, ради будущего всего человечества, право и свято. Вот по¬
чему певидимый красногвардейцами бог — в согласии с воззрениями
Блока — все же с ними, и во главе их поэт видит одну из ипостасей бо¬
жества — бога-сыиа:...Впереди — с кровавым флагом,И за вьюгой невидим,И от пули невредим,Нежной поступыо надвыожпой,Снежной россыпыо жемчужной,В белом венчике из роз —Впереди —Исус Христос.А теперь попытаемся ответить на вопрос о том, почему именно
этим образом Блок завершил свою поэму и какой смысл вкладывал
в него.Если «страшный мир» являлся в глазах поэта воплощением зла,
тонул «в демоническом мраке», то, значит, силы, противостоящие ему
и разрушающие его,— не могут ие быть добрыми, светлыми, святыми,
как бы ни была неприглядна та или иная их видимость; вот почему
поэт говорит не просто о злобе, кипящей в груди героев его поэмы,
но о «святой злобе»,— а воплощением святости в глазах Блока являл¬
ся образ Христа, каким поэт и стремился «освятить» революцию.Христос в поэме Блока — это заступник всех угнетенных и обез¬
доленных, всех, кто был некогда «загнан и забит», несущий с собою
«не мир, но меч» и пришедший для того, чтобы покарать их притесни¬
телей и угнетателей. Этот Христос — воплощение самой справедливо¬
сти, находящей свое высшее выражение в революционных чаяниях
и деяниях народа,— какими бы суровыми и даже жестокими ни вы¬
глядели они в глазах иного сентиментально настроенного человека.
Вот тот Христос, с которым, сами того не ведая, идут красногвардей¬606
цы, герои поэмы Блока,— и в глазах поэта совершается удивительное
превращение, ибо если красногвардейцы идут за Христом, то, стало
быть, они и являются его новыми апостолами. Таким образом, и само
число их -**• двенадцать,— совпадающее с числом апостолов евангель¬
ской легенды, становится символическим, как и название поэмы, под¬
черкивающее именно «апостольское» призвание и назначение ее ге¬
роев.Эти «апостолы» осуществляют какой-то новый завет, непонятный
и неведомый до поры до времени даже и им самим; они утверждают
новую веру и новую справедливость — более высокую, чем изживший
себя гуманизм старого общества,, охотно мирившийся со всеми его
пороками и преступлениями. Они безгранично верят в то, что им
предназначено разрушить и уничтожить горы зла, несправедливости,
преступлений всего старого мира,— вот почему они и провозглашают
как неизбежный и непреложный свой долг, который готовы выпол¬
нять любой ценой, не щадя крови и жизни — ни своей, пи чужой,
самый святой для них завет:Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,Мировой пожар в крови —Господи, благослови!И хотя последний возглас («Господи, благослови!») для «двена¬
дцати» — это, скорее всего, привычное присловье, почти междометие,
которому сами-то они не придают никакого значения, но иначе отно¬
сится к нему поэт: пусть герои его поэмы безбожники, но все равно,
утверждает он, бог с ними, благословляет все их поступки и деяния,
даже те, которые приводят в ужас их противников — мещан, обывате¬
лей, «витий», «буржуев», «барынь в каракуле», да и попов.Нашему сегодняшнему читателю покажутся странными и, может
быть, более непонятными, чем это было па самом деле, попытки поэта
сопоставить революцию и оо солдат — красногвардейцев — с образами
Христа и его апостолов, но в свое время эти попытки сочетать рево¬
люцию и религию, «освятить», революцию именем Христа имели свое
объяснение и были весьма широко распространены в литературе,
в поэзии.В эпоху создания «Двенадцати» сама тема христианства и Христа,
образы библии и евангелия —в их самых различных трактовках и ас¬
пектах — в сочетании с новым, рожденным революцией материалом —
не содержали в себе ничего необычного и экстраординарного; к ним
обращались многие поэты самых различных взглядов и направлений,
в произведениях которых откликнулись библейские предания, мифы,
образы.Задолго до создания поэмы «Двенадцать» схожие мотивы затрону¬
ты в поэме Маяковского «Облако в штанах»; в ней кощунства и бо¬
гохульства («долой вашу религию...»—так впоследствии выразил сам
Маяковский один из центральных мотивов поэмы) парадоксально
сочетаются с мотивами иного характера:607
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.(Первоначально поэма так и называлась: «Тринадцатый апостол».—
Б. С.)И когда мой голос
похабно ухает —
от часу к часу
целые сутки,может быть, Иисус Христос нюхает
моей души нозабудки.Так завершается третья часть тетраптиха Маяковского, и здесь
появление образа Христа (как выражения подлинного гуманизма
и высшей справедливости), может быть, не менее неожиданно, чем
в поэме Блока, играет схожую функцию.В поэме Сергея Есенина «Товарищ», написанной незадолго до поэ¬
мы «Двенадцать», в 1917 году, сказывается, как и в поэме Блока, такое
же стремление сочетать революцию и религию, «санкционировать»
революцию именем Христа и включить его в ряды солдат революции.Герой поэмы Есенина, мальчик Мартин, отец которого погиб
в борьбе «за волю, за равенство и труд», обращается к своему «това¬
рищу» — к изображенному на иконе младенцу Христу с призывом:
идти бороться за то же дело, за которое пал отец Мартина, и для
ожившего Иисуса нет никаких сомнений в том, что это дело право
и свято. Вот почему он сходит с икоиы па землю, идет вместе с Мар¬
тином на бой с силами гнета и реакции, и в этой борьбе...пал, сраженный пулей,Младенец Иисус.Мартин теперь один. Горе томит его, палит огнем, но святое дело,
за которое пал его новый «товарищ», сошедший с иконы, не погибло:
омытое кровыо Христа, оно торжествует свою великую победу. За ок¬
ном спокойно звенит «железное слово» — «Рре-эс-пуу-уб-лика»,
и, стало быть, не зря пролили кровь и отец Мартипа и «младенец
Иисус».Так завершается поэма Есенина «Товарищ».В начале революционных событий поэт «кондовой Руси» — Ни¬
колай Клюев полагал, что с большевиками можно договориться,—
пусть только земля перейдет от помещика к «крепкому» хозяину,
а старый деревенский уклад останется нетронутым! При этом условия
он готов был воспеть революцию и ее вождя — в духе религиозно-сек-
тантских программ и вещаний:Есть в Ленине Керженский дух,Игуменский окрик в декретах,Как будто истоки порух1 *• • Он ищет в Поморских Заветах...6Q8.
Правда, вскоре Клюев убедился в полной беспочвенности надежд
и чаяний, отвечавших интересам «крепкого» хозяина, и горько жало¬
вался в своих стихах на крушение старого уклада, ослабление рели¬
гиозного духа — и с грустыо замечал, что у разбуженного революцией
крестьянина «до триодь, а Каутский в углу»...Соединить революцию с Христом пытался и Андрей Белый.
В 1917 году он пишет стихотворение «Родине», в котором облик Рос¬
сии изображается в духе мессианства, а ее народ видится поэту как
народ-богоносец, испытания которого подобны мукам евангельского
Христа:Сухие пустыни позора,Моря пеизливные слез —Лучом безглагольного взора
Согреет сошедший Христос...В написанной в 1918 году поэме «Христос воскрес» Белый разви¬
вает те же взгляды и мотивы; Россия изображается здесь как новая
Назарея — родина Христа, которая «прорезывается славами света»;
революция — на взгляд Белого — это «мировая мистерия», мистерия
воскрешения Христа, его «второго пришествия»:Есть —Воскресение...С нами —Спасение...Исходит огромными розами
Прорастающий Крест!Под знаком креста, в духе апокалиптических вещаний и чаяний,
изображаются здесь Белым все события современности; вот почему,
кажется автору поэмы «Христос воскрес», Россия — это «та самая
облеченная солнцем Жена», о которой некогда вещал «патмосский
отшельник», она — «богоносица, побеждающая змия», ее пространст¬
ва происнолноиы «пения и огня слетающего Серафима», а ее сыны
пребывают «в святыне».Есть в поэме «Христос воскрес» и иные, менее падумапныо
н фантастические образы и мотивы; таков образ «очкастого, расслаб¬
ленного интеллигента», который произноситНегодующие слова
О значении
Константинополя
И проливов...Здесь, конечно, невольно напрашивается сопоставление с «писате-
лем-витией» из «Двенадцати», но подобные жизненные и реальные
образы тонут в потоке «антропософических» философствований авто¬
ра, превращающих поэму Андрея Белого в какой-то религиозно-ми¬
стический трактат, в стихотворные комментарии к апокалипсису, что
и помешало ее автору разглядеть истинное существо великих истори¬
ческих событий.Не только поэты, пришедшие к осмыслению революции весьма
издалека, такие, как Белый, Клюев, Есенин видели ее на первых но-603'
pax в свете евангельских преданий, притч и мифов, но и другие, гордо
именовавшие себя пролетарскими поэтами и говорившие от имени
рабочего класса, зачастую писали о революции в схожем духе. Так,
в образах христианской мифологии стремился известный в свое время
поэт Владимир Кириллов выразить величие и святость дела револю¬
ции; крайне характерно само название стихотворения Кириллова —
«Железный мессия», в котором события современности изображаются
в свете христианских мифов и преданий о втором пришествии Христа:Думали — явится в звездных ризах,В ореоло божественных тайн,А он пришел к нам в дымах сизых,С фабрик, с заводов, окраин...—и в «очистительном пламени», зажженном «железным мессией», пре¬
ображается земля и сгорает вся нечисть старого мира,— как уверяет
В. Кириллов в своем: стихотворении.То же самое обращение к христианским легендам и мифам, попыт¬
ка осмыслить Октябрьскую революцию как новое и давно предречен¬
ное пришествие Христа, мессии, «искупителя», определяет и характер
цикла стихов «Красное евангелие», принадлежащего перу одного из
известнейших поэтов времен гражданской войны — Василия Князева;
само название этого цикла достаточно ясно раскрывает замысел поэта,
в стихах которого мы читаем;Ко мне пришел ты издалече,Но не твори молитвы мне:Я не Христос, а лишь Предтеча
Христа, грядущего в огне.Крещу огнем свободной песни.Склони к источнику уста,Очисти душу — и воскресни
Во ими Красного Христа!У этого князевского Христа во многом тот же характер, что
и у Христа, идущего впереди «двенадцати» и освящающего своим
именем все их деяния; Христос «Красного евангелия» также песет
людям «не мир, но меч» и предостерегает их только от одного — от
избытка благодушия и мягкосердечия к врагу. Так Василий Князев
создавал свою легенду о «втором пришествии», пытаясь новое, рево¬
люционное содержание нарядить в старые одежды христианских пре¬
даний и мифов.Совершенно иной характер обретают в годы гражданской войны
религиозные мотивы и образы в творчестве Маяковского и Демьяна
Бедного. В их произведениях библейские мифы и предания переосмыс¬
лены в пародийно-ироническом плане; так, если Андрей Белый
всерьез изображал события революции как кульминацию «мировой
мистерии», означающую новое пришествие Христа, то Маяковский
создает не мистерию, а героико-ироническую «Мистерию-буфф», са¬
мим этим названием подчеркивая пародийные черты в характере
своего замысла.610
Здесь упомянута только малая часть произведений,, в которыж
п -разных аспектах и планах — то в патетико-романтическом, то паро¬
дийно-сниженном — решается или затрагивается религиозная тема —
в ее связи с событиями революции. Как видим, в этом отношении
поэма «Двенадцать» далеко не одинока — у нее есть и предшествен¬
ники и продолжатели, идущие по ее следам, учитывающие ее опыт,
и, стало быть, Блоку принадлжнт не сама попытка осмыслить револю¬
цию —- в ее отношении к религии, к образу и имени Христа (что было
в то время неудивительно), а характер его понимания Христа —то
особенное, что вносил поэт в этот образ, ставя Христа во главе красно¬
гвардейцев, героев своей поэмы.Образ Христа .издавна преследовал. Блока, и поэт относился к не¬
му сложно, двойственно,— «и с ненавистью и с любовыо», то воспевая
его в своем творчестве (но отнюдь по с позиций канонического право¬
славия!), то бросая ому дерзкий вызов, вступая с ним в единоборство
(подобно Иакову древиебиблейских преданий, боровшемуся с Иеговой).Иисус Блока — это по тот, которого проповедовала православная
церковь,— милостивый, благостный, готовый лобызать и жертву и ее
палача, проповедуя братское их примирение и всепрощение, а дру¬
гой — изгоняющий бичом торгашей из храма, беспощадно карающий
угнетателей и притеснителей, призывающий народ к мести и расправе
над ними, не останавливаясь перед пролитием крови, а потому и бла¬
гословляющий бунты, раздувающий пожары восстаний, идущий рядом
с «бедным убийцей», с тем, кому «на спину б надо бубновый туз»,
как его собрат и товарищ.Блоковский Христос издавна — как это мы видим в стихотворении
«Ангел-Хранитель» (1906) —шел «отмстить неразумным, кто жил без
огня», кто унижал народ, а вместе с ним и поэта!Что же это за ангел и от чего он охраняет поэта?Оказывается: этот ангел охраняет его душу,— но лишь тогда, ко¬
гда опа верна духу восстаний и мятежей, готова обрушиться па ста¬
рый мир со всей присущей ой страстностью и ненавистью.Такие «аигелы-храийтоли» показались в свое время столь опас¬
ными царской цензуре, что она распорядилась конфисковать номер
журнала, в котором было опубликовано стихотворение Блока, и пред¬
приняла судебное преследование против редактора журнала,— как
сообщает Орест Цехновицер в статье «Символизм и царская цензура»
(«Ученые записки Ленинградского государственного университета»,
1941, № 76).«Тяжко© и преступное деяние» — так рассматривала старореясим-
ная цензура свободолюбивые призывы поэта отомстить тем «малодуш¬
ным», тем «сытым», которые обрекают народ на голод, нужду, униже¬
ния; тем, кто «запер свободных и сильных в тюрьму», хочет купить
у людей «собачью покорность». Слишком мятежные «ангелы-храпи-
тели» неспроста показались опасными защитникам «сытых», ибо нес¬
ли с собою дух восстаний и мятежей против установленных в старые
времена законов и порядков.Своего Христа поэт стремился отыскать в запретных апокрифах,611'
в сектантских учениях, а то и в писаниях современных мистиков,
апокалиптиков, «неохристиан».Что ж, само по себе сочетание образа Христа с кровавой распра¬
вой не ново; в истории русского сектантства было немало и таких
толков, в которых религиозная проповедь сочеталась с призывом
к беспощадной расправе с врагом.Особый смысл для поэта представляло письмо того сектанта, сло¬
ва которого Блок приводил в своей статье «Стихия и культура»
(1908), написанной почти за десять лет до Октября:«Наши сектанты мне представляются тоже революционерами,
но только их программа писалась под диктовку Неведомой Силы,
и хотят они установить «тысячелетнее царствие» не на небе, а на
земле».Вот и поэту думалось, что программа его «двенадцати», ринувших¬
ся на твердыни старого мира подобно потоку огненной лавы, все сжи¬
гающему на своем пути, тоже писалась «под диктовку Неведомой
Силы», тоже свята — и при этом в самом буквальном, религиозном
смысле слова; только народ, по мнению поэта, сохранил в недрах
своей души нерушимую веру, подобную не «примирительному елею»,
а неукротимому подземному пламени, которое вот-вот готово про¬
рваться наружу и разрушить самые основы старого мира,— и именно
об этом говорил поэт в стихах, написанных задолго до Октября:Задебренные лесом кручи;Когда-то там, на высоте,Рубили деды сруб горючий
И пели о своем Христе.Да, утверждает поэт, у них свой Христос, которого они сумели
сохранить от всех посягательств церковников, от властей, от догмати¬
ческого православия, и этот Христос, суровый и гневный, «всесилен,
как стихия» (говоря словами Тютчева), и, словно стихия, рождается
в глуши обыденной жизни, как вызов против всякой несправедливо¬
сти, всякого угнетения, в каждой ржавой капле, от которой зачинают¬
ся реки и озера родной земли,—И капли ржавые, лесные,Родясь в глуши и темноте,Несут испуганной России
Весть о сжигающем Христе.Вот этот «сжигающий» («чудовищный», как сказано в черновом
варианте) Христос, не останавливающийся ни перед чем — лишь бы
сбылись исконные чаяния народа! — а не его кроткий и смиренный
«двойник» идет впереди «двенадцати», незримый и неведомый для них.Еще в 1916 году, в записях, посвященных драматической поэме
«Роза и Крест», Блок, завершая их, говорит, что героиня поэмы Изора
остается над трупом верного своего рыцаря Бертрана, «окруженная
зверями и призраками, с крестом неожиданно для нее, помимо ее
воли, ей сужденным», •612
По не воплощенный п образах драматической поэмы и,- оказывает¬
ся, давно назревший, замысел по-своему воплотился в поэме «Двена¬
дцать»; ее героям, бросающим дерзкий вызов религии, порвавшим
С вей, идущим в бои и схватки «без имени святого», также присужден
и навязан крест «неожиданно для них, помимо их воли»,— и поэт ви¬
дит высшее оправдание их подвигов, их разгула, их титанической
борьбы, начинающей новую главу в истории всего мира, в том, что
они несут с собою, согласно древнему преданию, «не мир, но меч»,—
и поднятый ими меч обретает в глазах поэта образ креста.Христос в поэме Блока идет «с кровавым флагом», идет впереди
«бедного убийцы» и его товарищей,— не мудрено, что иные читатели
поэмы увидели в ней всего только кощунство и «поруганье заветных
святынь». Но сам поэт совершенно иначе воспринимал этот образ и его
трактовку, не имевшую в глазах Блока ничего общего с кощунствен¬
ной,— не напрасно же Христос идет «в белом венчике из роз», являю¬
щемся, согласно древним преданиям, символом чистоты, святости,
непорочности. Пусть его апостолы, вершители его предначертаний,
исполнители его воля, идут «без креста», с винтовками наперевес, не
останавливаясь и перед тем, чтобы пальнуть пулей «в Святую Русь»,
но их Христос не отрекается ни от чего содеянного ими, все осеняет
и благословляет своим «белым венчиком», ибо для Христа их дело —
это его собственное дело, возвышаемое им до звездных высот. Какую
кару — руками «двенадцати» своих апостолов — ни обрушил бы он на
господ и слуг старого мира,— ее нельзя считать незаслуженной и не¬
справедливой, ибо слишком велики их злодеяния и преступления —
не одного, так другого. И поэту, вероятно, казалось, что революция не
расходится с писаниями и пророчествами библии, где говорится:
«...пришел великий день гнева — и кто может устоять?».Таким великим «днем гнева», перед которым не устоял ни один
из владык и господ старого мира, и был в глазах Блока Октябрь.Поэт всячески стремился «повенчать» революцию с Христом как
носителем «высшей морали»; ему даже казалось, что «брак» этот уже
состоялся, и он записывает — в связи с критикой ноэмы «Двенадцать»:«Если бы в России существовало действительное духовенство,
а не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно
давно бы «учло» то обстоятельство, что «Христос» с красногвардей¬
цами».В этом свете все приобретает фантастический колорит (что сказа¬
лось и в завершающих строках поэмы «Двенадцать»), и поэт полагал,
что его герои идут на бой «святой и правый» —■ ради воплощения не¬
ких старинных заветов Христа; так история словно бы обращается
вспять на две тысячи лет и все повторяется — в согласии с учением
пифагорейцев.Судя по всему, именно это хотел подчеркнуть поэт И в задуманной
в то же время, когда писалась поэма «Двенадцать», пьесе «Христос»,
замысел которой подтверждает, что образ Христа в поэме «Двена¬
дцать» совсем не случаен. Многое в образе Христа — героя неосущест¬
вленной пьесы, предводителя отчаянного сброда — проясняет, почему013
именно этим образом завершается поэма «Двенадцать» и какой смысл
вкладывал сам поэт в заключительные ее строки.Из набросков ньесы явствует, как близка она по своему духу и па¬
фосу поэме «Двенадцать». В пьесе «Христос» действуют почти те те
самые «двенадцать», что и в поэме, только перенесенные силой вооб¬
ражения художника на два тысячелетия назад и ставшие апостолами
не сегодняшнего, а библейского Христа. Они — такие же забулдыги,
забубенные головы, отчаянные, лихие люди, как и те, которые выведе¬
ны в поэме «Двенадцать».В замысле пьесы «Христос» скепсис и ирония Ренана (автора
книг о Христе и его апостолах) помножены на ярость восстаний и мя¬
тежей, овеяны огненным дыханием революционных бурь и тревог;
здесь апостолы Христа — это босяки и воры, которым — попади они
в руки римских властей — несдобровать: у каждого, должно быть,
немало провинностей перед законами великой империи, еще и не ве¬
дающей, какая катастрофа ожидает ее. Самый язык героев пьесы
«Христос» — это грубый жаргон, и думают они о самых обыденных
вещах, которые, если подвернется подходящий случай, можно съесть
или украсть; но это их руками, полагал поэт, совершалось великое
и святое дело, открывшее новую эру в истории мира. Они утверждали
новую — и высшую — мораль, и именно они оказались «достойными
элизиума» (говоря словами поэта). В этом сближении первых апосто¬
лов христианства с теми «двенадцатью», которых Блок изобразил
в позме,— как и в самом символическом их числе,— был свой резон:
стремление доказать, что апостолы Христа, канонизированные цер¬
ковью и возведенные в ранг святых, в сущности, не лучше тех «две¬
надцати», которых мы видим в поэме, и мало чем отличаются от них;
эти апостолы — такие же лихие «нрактиковаиные» ребята, которые
готовы за свою веру «пострадать немножко», а когда глядишь на них,
то возникает такое чувство, что чего-то в их облике не хватает.Чего же именно?Бубнового туза!Вот каковы эти апостолы, приход которых означал новую эру во
всей истории мира (как думал поэт).Да и сам Христос иевогоющенной пьесы — сродни тому, который
идет впереди «двенадцати», в «белом венчике из роз», и этот «белый
венчик» странным и почти непостижимым образом сочетается с «буб¬
новым тузом» его новых апостолов.Что ж, примите не только новых апостолов, но и самого Христа
таким «черненьким»,— внушает поэт,— если вы верите в будущее,
если боретесь за него и за настоящего, свободного, раскованного чело¬
века, если вы и в самом деле хотите увидеть «новое небо и новую
землю», предсказанные в старинном писании.Так спору о «гримасах» революции, затеянному ее: озлобленными
противниками, поэт придавал не только сугубо современное, но и все¬
мирно-историческое значение, разговаривал о них в масштабах тыся¬
челетий,— и своей пьесой «Христос», судя по наброскам к ней, хотел
доказать, что, если говорить о «гримасах», неизбежно сопровождаю¬614
щих рождение н-ового мира и иоаия морали,— их было не меньше
и при зарождении христианства.Не только в поэме «Двенадцать», но и во многих записях Блока
утверждается, что дело революции освящено заветом Христа. Красная
гвардия — с Христом, говорит поэт, и пусть официальная православ¬
ная церковь не признает этого, все равно, полагал Блок, Красная
гвардия — это «вода на мелышцу христианской церкви как и сектант¬
ство и прочее, усердно гонимое...» (1918).Утверждая это, он сам пугался картин, созданных его вообража-
ииэм. ибо сознавал, что от связи с христианством революция может
лишиться своей силы, своего ореола, утратить свой подлинный харак¬
тер,— и продолжал: «В этом слабость и красной гвардии: «дети в же¬
лезном веке»...», — по детски наивной была в данном случае концепция
самого поэта, не имеющая ничего общего с реальной действитель¬
ностью.Блок сравнивал Красную гвардию с «деровяиной церковью среди
пьяной и похабной ярмарки» («в этом —ужас!» — восклицал он),—
но для нас очевидно, что подобные «ужасы» оказались мнимыми, что
Красная гвардия п Красная Армия не только не обнаружили никакой
«слабости» в борьбе с врагом, а, наоборот,— величайшую силу; голод¬
ные и плохо вооруженные, они одолевали отлично обученного и хоро¬
шо вооруженного врага, которому на помощь пришли полчища интер¬
вентов,— и для того чтобы запечатлеть мощь солдат революции, явно
неуместен и непригоден оказался нарисованный Блоком образ жалкой
деревенской церкви, не видной и не слышной в ярмарочном пьяном
разгуле.Иные литературоведы недоумевают и даже негодуют: как это мог
Блок приравнять красногвардейцев к сектантам? И, конечно, они были
бы правы, если бы Блок понимал это слово в его современном и обще¬
употребительном смысле. Но для того чтобы постигнуть значение
поэмы «Двенадцать» и связанных с нею высказываний и размышле¬
ний поэта, необходимо уточнить смысл каждого ого образа и слова,
семантика которого отнюдь но всегда совпадает с принятой нами
и привычной для нас, а подчас и крайне резко расходится с ною.
К таким словам и понятиям, которым Блок придавал особый, непри¬
вычный для нас смысл, относятся слова «секта», «сектантство», звуча¬
щие в его ушах совсем иначе, чем для нашего современного читателя,
и значившие для него необычайно много. Для нас эти слова — синони¬
мы замкнутости, ограниченности, догматичности, начетничества
и т. п., а Блоку в них слышалось гудение подземного огня, колеблюще¬
го всю землю, готового вот-вот смести ео «зачерепевший слой»
и вырваться на свободу.В статье «Религиозные искания» и народ» поэт, говоря о сектант¬
стве, утверждал, что «слово это — пламенное слово», — и таким пла¬
менем веяло для него это слово, что даже и тогда, когда он в речах
и делах красногвардейцев почувствовал пламя, готовое поглотить весь
строй насилия и бесправия, то назвал такое пламя старым и привыч¬
ным для него именем: «сектантство». Конечно, с его трактовкой сек-615
таитства согласиться нельзя, но эту точку зрения нельзя не • принята
во внимание,—если мы хотим уяснить, что именно подразумевал сам
Блок под словом «сектантство», которое он если и применял^ к Красно!
гвардии, то не в уничижительном для нее, а в романтически-возвы-
шенном смысле.Блок видел, что, несмотря на все «эксцессы» и «гримасы» (кото-
рых, по его утверждению, было очень мало), дело революции — это
дело великое, правое, святое; видел, что в грозе и буре революции
рождалась новая, коммунистическая мораль, но не мог найти для нее
нового имени и называл именем старым: «Христос», хотя и ощущал
в этом — с присущим ему чувством правды — нечто недостоверное,
чуждое характеру тех людей, которые отвоевывали новый мир для
всех грядущих поколений.Вскоре после появления «Двенадцати» — и в ответ хулителям
поэмы, кричавшим о «кощунственном» сочетании красногвардейцев
и Христа,— Блок записывает в своем дневнике:«Религия — грязь (попы и пр.). Страшная мысль этих дней: не
в том дело, что красногвардейцы «не достойны» Иисуса, который идет
с ними сейчас, а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел
Другой».Поэт чувствовал слабость, недостаточность, а то и нежизненность
своей религиозной концепции (а потому и томился о «Другом»), но ие
видел «Другого», да и не мог увидеть, ибо идеалистические основы его
мировоззрения не были поколеблены революцией (что крайне важно
подчеркнуть).Саму мораль поэт рассматривал как категорию внеисторическую,
извечно-неизменную — вот почему и окрестил мораль совершенно
новую, коммунистическую, старым именем «Христос», хотя и чувство¬
вал несоответствие этого имени новым людям и их делам.Блок, услышав., что он в своей поэме «восхвалил Христа», заметил
в дневнике:«Разве я «восхвалял»?.. Я только констатировал факт: если вгля¬
деться в столбы метели на этом пути, то увидишь «Иисуса Христа».
Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак...»
(1918).Но если верить в то, что революция санкционирована рели¬
гией, то и увидишь — неизбежно увидишь,— хотя бы в своем вообра¬
жении, образ Христа, венчающий ее дело и подвиг ее людей,— и не
увидишь реальных основ их внутреннего мира.. Движущие силы истории Блок видел не в фактах социально-эко¬
номического порядка, а в сугубо моральных, исключительно духов¬
ных; так для него переломный момент древней истории, определивший
падение Римской империи,— не разложение системы рабства и приход
на смену ей отношений более прогрессивных — феодальных, крепост¬
нических, а нечто совершенно иное: крушение язычества, свергнутого
нарастающей волной христианства, несущего миру новые законы
и заветы. События древней истории, по аналогии с которыми (в духе
учения пифагорейцев!) поэт осмысливал .и события современности, он
соотносил с датами -жизни Христа, как переломными и решающими
моментами всей мировой истории, а потому и завершил свою поэйу
образом Христа, воплощавшим мораль прошлого, обращенным л и дом
вспять, а не it тому будущему, к которому страстно рвался поэт. Все
ото вносит в поэму «Двенадцать» непримиримые противоречия, кото¬
рые присущи и всему творчеству Блока, взятому в целом.3. «СТРОЙ НАХОДИТЬ В НЕСТРОЙНОМ ВИХРЕ...»Поэма «Двенадцать» — одно из самых важных и значительных
произведений русской поэзии, отличающееся дерзкой и смелой новиз¬
ной во воем, начиная от мельчайших подробностей и завершая «архи¬
тектоникой»; в ней сочетается удивительная компактность с нару¬
шающей и отбрасывающей все пределы, масштабностью повествова¬
ния; оно выходит из темных и заснеженных переулков на великие
просторы, где только и может осуществиться издавна чаемое поэтом
«единство с миром», и все вопросы решаются в отношении к началу
мировому, вселенскому.Поразительна экспрессия и емкость этой поэмы, необычайно крат¬
кой (всего триста с чем-то строк!), но вмещающей огромные события
всемирно-исторического значения; стремительность развития ее дей¬
ствия подобна вихрю, способному одним порывом одолеть огромное
пространство, подхватить нас и швырнуть в кипение самых иапря-
женных и невероятных событий, столкнуть с людьми, дотоле незнако¬
мыми, а теперь сразу постигнутыми во всей их подноготной,—как
бывает в минуты борьбы, схватки, смертельной опасности, катаклизма,
когда в какое-то решающее мгновение, от которого зависит целая
жизнь, обнаруживается вся суть человека, весь-его склад, а не только
обличье, видимость. Он и предстает перед нами целиком, с головы до
ног, видный как каменная порода на изломе или в разрезе, и тут-то
мы узнаем его истинную цену — малую или великую. Вот почему, как
ни кратко наше знакомство и как ни скупо очерчены образы поэмы,
порою — всего лишь двумя-тремя беглыми штрихами, они отличаются
удивительной, какой-то особо резкой и необычайно интенсивной яшз-
непностыо, навсегда вторгаются в нашу память как одно из самых
отчетливых и глубоких личных впечатлений — и «двенадцать», со¬
здающие своими натруженными, жесткими, окровавленными руками
новую, прекрасную, им самим еще неведомую жизнь на развалинах
старой, н их враги, жадно и безнадежно цепляющиеся за обломки
прошлого, и то бродяги, попы, проститутки, старушки, которых «судь¬
ба, как вихрь» (Тютчев), несет вперед, в неведомую им и грозную
даль.Все действие поэмы стремительно развивается, словно подгоняемое
порывами неукротимой бури, и образ вьюги, пурги, метели, безудеряс-
но разгулявшейся стихии словно бы обрамляет здесь все события —
от начала до трагического их завершения; ее гул, ее посвист, ее воя
и составляют грозный хор, сопровождающий все перипетии трагедия,
происходящей на наших глазах «на всем божьем свете». Неукротимый
ветер врывается в поэму, окрыляет или сбивает с ног ее героев, ста¬
новится одним из самых активных персонажей,— и словно бы именно
этим «нестройным вихрем» определяется строй поэмы, ее характер —
страстный, порывистый, безудержный, сметающий любой заранее за¬
данный порядок и самым неожиданным образом изменяющий течение
повествования. Это по-своему откликается в звучании стиха — раско¬
ванного, свободного, необычайно смелого, разговорно-непринужденно¬
го, чуждого каким бы то ни было заранее установленным канонам
и размерам; поэт готов попользовать или отбросить любой из них—
лишь бы это соотвотствоаало правде живого, непосредственного и по¬
стоянно меняющегося чувства; так стихия ветра становится и стихией
самой поэмы.Уже в начале поэмы, в ее «запеве», подчеркивается, что перед
нами — произведение, в котором неожиданное, внезапное, непредви¬
денное встречается постоянно, становится системой,— а такие ли
неожиданности ждут нас впереди! —Черный вечер.Белый снег.Ветер, ветер!На ногах не стоит человек.Ветер, ветер —•На всем божьем свете!.,.Первые три стиха — двухстопный хорей. Этот размер в четвертом
стихе неожиданно сменяется трехстопным анапестом, за которым сле¬
дует снова двухстопный хореический стих, а за ним — трехстопный
паузник, и такие чередования стихотворных размеров — а то и явный
отказ от них — определяют звучание поэмы.Она удивительно многообразна но своему строю, необычайной
полифонич пости; здесь и раешный стих, организуемый рифмой, отве¬
чающий особенностям и оборотам непосредственно-разговорной речи:Старушка убивается — плачет,Никак не поймет, что значит,На что такой плакат,Такой огромный лоскут?Сколько бы вышло портянок для ребят,А всякий — раздет, разут...Здесь и стих-выкрик, то веселый, то дерзкий, то грозный и пове¬
лительный, но неизменно вырывающийся словно бы из самых глубин¬
ных недр раскованной души, чуждой предвзятости, верной в любом
своем проявлении правде страстно напряженного переживания.Иногда один выкрик или призыв следует за другим, образуя
сплошную череду:Эй, бедняга!Подходи —IПоцелуемся..,Хлеба!Что впереди?Проходи!
Вслед за этим рядом коротких, обрывистых выкриков или обраще¬
ний возникает резко и четко, одною чертой очерненный пейзаж:Черное, черное небо.. А далее — такая же резкая, прямая, «лобовая» характеристика,
но посвященная уже иному миру, внутреннему, а вслед за ней снова
выкрики, четкие и обрывистые, как слова приказа,— ими и завершает¬
ся первая глава поэмы:Злоба, грустная злобаКипит в груди...Черная злоба, святая злоба,,,Товарищ! Гляди
В оба!Здесь и стих-плакат («Вся власть Учредительному Собранию!»),
и стих-молитва, верный духу старинной силлабики («...упокой, госпо¬
ди...»), внезапно сменяющийся озорной частушкой, и все это — нечто
поразительное по смелости столкновения самых многообразных раз¬
меров и ритмов, отвечающих непосредственности и силе долго сдер¬
живаемых и наконец-то вырвавшихся наружу чувств.Перед нами порою — чередование совершенно самостоятельных,
словно бы никак друг с другом не связанных стихов, каждый из кото¬
рых обладает своей интонацией, мерой, темой, выраженной с предель¬
ной краткостью, динамичностью, одним мазком, штрихом, возгласом,—
и словно бы обрывающихся на полуслове:Свобода, свобода!Эх, эх, без креста!Тра-та-та!Холодно, товарищи, холодно!— Ванька с Катькой —в кабаке...Чтобы уловить замысел поэта, от читателя требуется здесь не
только усвоение сказанного, по и активное «сотворческое» усилие;
необходимо осмыслить необычайно значительные паузы, создающие
ощущение огромного и насыщенного грозовым воздухом нространст»
ва, увидеть связь этих стихов, нити, соединяющие их в нечто нераз¬
рывное и заключающее в себе целую эпоху человеческой жизни
и людских отношений — в их критической фазе.Предельная краткость, емкость, стремительность, умение поэта
использовать не только площадку стиха, но, кажется, н самое про¬
странство между строками, насытить его огромным, хотя только под¬
разумеваемым, содержанием и смыслом — все это и создает в поэме
«Двенадцать» крайне напряженную динамику стиха.Эта динамика порождена духом самых острых, резких, постоянно
сталкивающихся друг с другом противоречий (что отвечает и прони¬
зывающему всю поэму пафосу острой и напряженной борьбы), опре¬
деляющих описания, образы, пейзажи, поражающую с первых строк619
контрастность изображения («Черный вечер. Белый снег...»). Крайне
противоречивы и характеры-, выведенные в поэме и 'совмещающие^
в себе самые противоположные качества и свойства,— грязь и- низость
того мира, в условиях которого воспитывались и формировались
герои поэмы, с высокими помыслами и дерзаниями, с беззаветным
и безоглядным героизмом.Стремление как можно глубже раскрыть эти противоречия, на
только не избегая их, но прямо и решительно идя на них, предельно
их заостряя, рисуя избранный предмет во всей его новизне, сложности
и одновременно — в его внутренней цельности,— вот что является
существеннейшей особенностью поэмы и сказывается во всех ее чер¬
тах, во всех, средствах художественной изобразительности.Самый стих в поэме подчиняется принципу контрастных сочета¬
ний: короткие, как удары хлыста, словно обрубленные строки внезап¬
но сменяются длинной фразой, растягивающей стих и заставляющей
его восприниматься совершенно особо, отдельно, как некая инкруста¬
ция, которая словно бы уже одним своим видом, одною формой проти¬
востоит духу стихии, метели, ветра, господствующему в поэме; именно
такой тяжелой и неуклюжей инкрустацией выглядит «учредиловский»
лозунг, кажущийся совершенно чужеродным явлением на фоне дру¬
гих строк — кратких, четких, порывистых:Ветер веселый
И зол и рад.Крутит подолы,Прохожих косит,Рвет, мнет и носит
Большой плакат:«Вся власть Учредительному Собранию...»А когда Петька, совершивший преступление, снова становится
в ряды своих товарищей, уже ничто не нарушает их сурового, четкого
шага:В очи бьется
Красный флаг.Раздается
Мерный шаг.Вот — проснется
Лютый враг...На этого лютого незримого врага, врага не только «двенадцати»,
но и всего рабочего народа, направлены их «винтовочки стальные»,
их черная, святая злоба, их горький гнев, все более сплачивающий
воедино героев поэмы — что сказалось и в ее ритме, приобретающем
маршевый характер.Самая злободневная современность — с ее жаргоном, языком,
смешением «высокого» с «низким», тех уличных словечек и политиче¬
ских понятий, в каждом из которых нельзя не услышать эхо породив¬
шей их необычайной и неповторимой эпохи во всей ее характерности
и колоритности, вторгается в поэму Блока, сквозит в любой ее гла-620
но,-—вот хотя бы и в том разговоре, чьи обрывки доносит до нас рез¬
кий, пронзительный ветер:...И у нас было собрание......Вот в этом здании......Обсудили —Постановили...Это — словно строки злободневного фельетона или случайно под¬
слушанный и записанный со скрупулезной точностью диалог — во
неси его доподлинностп, неприбранности, неприглядности,— но и в са¬
мой этой по-щедрински острой и глубокой фельетонности слышится
нечто необычайно значительное, беспощадная издевка над теми, кто
хотел обмануть восставшие массы миражем буржуазного демокра¬
тизма.Поразительны своей смелостью обрисовка обстановки и характер
изображения действующих, лиц поэмы.Один из героев романа Достоевского «Подросток» — Версилов —
говорит о трактирной духоте, о заикающейся арии из «Лючии», о по¬
ловых «в русских до неприличия костюмах» и о прочем в том же духе,
что все это «до того пошло и прозаично, что граничит почти с фанта¬
стическим»; на этой же грани видится поэту пошлость и крайняя
прозаичность той обстановки, в которой промелькнули перед нами на
лихаче Катька с Ванькой.Здесь лирически возвышенный строй перебивается раешником,
самым простонародным стихом, чуждым каких, бы то ни было ухищ¬
рений литературно-рафинированной речи:Он в шинелишке солдатской,С физиономией дурацкой,Крутит, крутит черный ус,Да покручивает,Да пошучивает...Но вскоре эти шутки отзовутся кровью, она — рядом с ними,
струится расплавленным, пока еще неприметным ручейком, так же,
как в этой поэме рядом — почти балаганный и, казалось бы, совсем
пенритязательный раешник,—и величавая патетика, тончайшая ли¬
рика, словно пронизанная дыханием метели.Вот так Ванька — он плечист!Вот так Ванька — он речист!Катьку-дуру обнимает,Заговаривает...Парень «с физиономией дурацкой» обнимает «дуру», добиваясь от
нее благосклонности весьма определенного свойства,— все это почти,
из лубочных картинок, из «русского до неприличия» раешника, отзы¬
вающего духом далеко не всегда пристойного балагурства, рассчитан¬
ного. на потеху «почтеннейшей публики»,— уж на что, казалось бы,
пошлее и прозаичней! По сквозь эту пошлость, изображенную в под¬
черкнуто натуралистических, а то и гротесковых тонах, проглядывает-
нечто грозное, трагическое и такое огромное, охватывающее события621
мирового масштаба и перехлестывающее через них:, что дух захваты¬
вает от такой широты, смелости, невероятности — и поистине грани¬
чащей с фантастикой.Поэт не избегает и специфически балаганных и грубоватых шу¬
ток, острот, восклицаний, вызванных тем, что кто-то получил пощечи¬
ну, щелчок по носу или неожиданно свалился с ног («...бац!»,
«растянулась», «Ай, ай, тяни, подымай»),—старинные, испытанные
приемы вызвать хохот у массы самых невзыскательных зрителей. Но
это не только шутки, но и «грозный смех» (Маяковский), от которого
тряслись поджилки у тех, кому было совсем не до шуток и кто в кру¬
шении старого строя, вызывавшего у поэта такое бурное веселье,
видел свою гибель.Словно какой-то незримый прожектор внезапно вырывает из мра¬
ка то одно, то другое лицо — во всей их четкости, определенности,
резкости, неповторимости, и мы видим их вплоть до самых мелких
черточек, схваченных с налету — и навечно.Злой, торжествующий, хлесткий ветер несет и швыряет в нас об¬
рывки фраз и разговоров, неожиданно начатых, внезапно прерванных,
оборванных на полуслове, случайных и беглых («...И у нас было со¬
брание...», «Ужь (мы плакали, плакали,..», «Предатели!..»), но до того
характерных, что в них — все сказано, обнаруживается весь человек,
и уж нечего прибавить ни к бормотанию той старушки, которая ищет
защиты у Матушки-Заступницы, ни к причитаниям «барыни в кара¬
куле», ни к вещаниям «писателя-витии», пророчащего гибель России
в час ее величайшего торжества; в поэму мощно и властно врываются
городские голоса, выкрики, песни, призывы, приказы, гомон и гул
толпы — все то, что вызвано к жизни революцией и несет на себе ее
печать, присущие ей черты. Здесь все — живое, подслушанное, уви¬
денное в нестерпимо резком свете, словно в молнийных разрядах,
в грозовых раскатах, потрясающих весь старый мир; во всем этом
сказывается особое — и высшее — мастерство, свидетельствующее, что
художник полностью овладел тем «современным языком», который
раньше — по его словам — не давался ему. Вот отсюда — необычайное
многообразие ритмов поэмы, широта ее диапазона, глубина дыхания,
словно бы вбирающего весь мир,— и все это удивительным, почти
непостижимым образом подчинено строжайшей художественной дис¬
циплине, тончайшему расчету и вдохновенному порыву, возвышаю¬
щему преходящий и повседневно преображающийся материал совре¬
менности, разбросанно, пестро мельтешащие черты злободневности —
до вершин классически безупречного и не подвластного времени
совершенства (не напрасно поэт издавна учился «строй находить
в нестройном вихре чувства...»). И это — при всей кажущейся хаотич¬
ности и «нескладице», введшей в заблуждение не одного Читателя...Буквы этой поэмы словно бы налиты кровью (пользуясь образом
Гоголя), все в ней живет, играет, дышит огромной жизненной силой;
ее образы встают перед читателем с очевидностью какого-то наважде¬
ния, видения, внезапно ояшвшей картины, в которой самая злободнев¬
ная современность, взятая во всей своей наготе и неприбранности,622
сочетается с чистейшей лирикой, уходящей в мир стихий и звезд,
ничем не запятнанной красоты нетронутого снега, его жемчужных
россыпей и едва уловимых шорохов. Все это и было подобно чуду
творения, потрясшему прежде всего самого создателя поэмы,— слиш¬
ком долго ж, казалось, уже безнадежно ждал он этого чуда!Еще совсем недавно поэт не решался приступить к самой боль¬
шой, на его взгляд, творческой задаче: изображению современности
во всей ее полноте и многогранности, изображению жизни масс —
в ее конкретности и характерности, верности условиям бытовой обста¬
новки, обыденному и повседневному, подчас даже «низкому» материа¬
лу, а вместе с тем — во всем ее всемирно-историческом значении, в ее
«музыкальности», в том великом и непреходящем, что останется на¬
всегда жить в сознании и памяти народа, в его судьбах.Размышляя над своей драмой «Роза и Крест», поэт записывал
весною 1915 года:«Психология действующих лиц — вечная, всо эти комбинации:
могут возникнуть во все века.Почему же я остановился именно на XIII веке (кроме внешних
причин)?» — спрашивал он и отвечал на свой вопрос с издавна прису¬
щей ему решительностью, прямотой и даже беспощадностью по отно¬
шению к себе и своему творчеству:«Потому, что современная жизнь очень пестрит у меня в плазах
и смутно звучит в ушах. Значит, я еще не созрел (курсив мой. — Б. С.)
для изображения современной жизни, а может быть и никогда не со¬
зрею, потому что не владею еще этим (современным) языком. Мпе
нужен сжатый язык, почти поговорочный в прозе или — стихо¬
творный».И то, о Чем поэт раньше только мечтал,— о создании крупного
эпического произведения, где жили бы и сталкивались люди, в кото¬
рых проявляется не только «вечное» или «общее», но и современное,
неповторимо своеобразное, исторйчеоки-конкретное, характерное для
данного времени и данных лиц,— было полностью воплощено и поэме
«Двенадцать». Самим фактом своего появления она рассеяла сомнения
поэта в том, что он, может быть, никогда «не созреет» для всесторон¬
него изображения современной жизни,— а именно в таком изображе¬
нии он усматривал высшую ступень зрелости и мастерства худож¬
ника.Опасения поэта оказались напрасными: в поэме «Двенадцать» он
разрешил и эту задачу, заговорив «современным языком», сжатым,
поговорочным, разговорным, поразительно непринужденным, подслу¬
шанным на улице и площадях, в шуме толп и гуле демонстраций,
я разгаре самых ожесточенных схваток,—и возвел его на вершину
мирового искусства.И еще одно «проклятие», некогда тяготевшее над поэтом и вызы¬
вавшее у него крайнее недовольство преодолепо в поэме «Двепадцать»:
■«проклятие отвлеченности», говоря словами Блока; здесь удивительно
жизненны, конкретны, внутренне полнокровны образы, созданные
поэтом, хотя бы даже и мельком упомянутые.623
Все, о чем поэт мечтал, все, к чему стремился, все, о чем думал
годами, все, что было в его глазах самым высоким подвигом, суждеи-
ным художнику — и что он уже отчаялся осуществить!—все это
внезапно воплотилось в произведении, крылья которого, подхваченные
грозой и бурей великой революции, мощно и широко развернулись
на невероятной высоте — что и породило у поэта чувство небывалого
творческого восторга, духом которого пронизана каждая строка его
поэмы.И поистине: в поэме «Двенадцать» с небывалой дотоле полнотой,
жизненной мощыо, сверкающей красотой обнаружился гений Блока*
в творчеств© которого пот ничего равного и подобного ей.Поэма разрешила всю тоску поэта о создании произведения, где
голос простого человека слышался бы в полную силу и куда современ¬
ность вошла бы невозбранно и широко, зазвучала бы грозно и власт¬
но; такого произведения, «преходящее содержание» которого приобре¬
ло бы непреходящее значение, ибо отразило неотъемлемую часть
народной души и народной жизни — на ее небывало важном истори¬
ческом этапе. Все это воплотилось в поэме «Двенадцать» и утвердилось
в ней незыблемо, прочно, навечно — в ее «нестройном вихре», в ее
снегах и метелях, в ее эпических и гротесковых образах, в самой
державной поступи «двенадцати», эхом отозвавшейся в поэме Блока.4. «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»Для любого более-менее внимательного читателя очевидна огром¬
ная разница между двумя этапами творчества Блока — дооктябрьским
и позднейшим. Раньше поэт чувствовал себя словно в некоей «клет¬
ке», действительность тонула перед ним «в демоническом мраке»,
томила его своими ужасами, тем более зловещими, чем меньше он мог
осмыслить их истинную — земную — природу. А теперь все измени¬
лось в грозах и бурях революции, и уже ничто не мешало его «воле
к подвигу» претвориться в жизнь, сказаться на деле; вот что опреде¬
ляет совершенно новые черты и новый характер поэмы «Двена¬
дцать»,— если сравнить ее с предшествующими произведениями
Блока. Но вместе с тем несомненно, что она является естественным
продолжением многих замыслов, словно бы венчает и возводит в но¬
вое и высшее качество всо то, что и раньше назревало в творчестве
Блока.Если рассмотреть порознь элементы, мотивы, характерные черты,
составляющие образную ткань поэмы, то нельзя не поразиться тому,
как много их обнаруживается в предшествующих стихах и высказы¬
ваниях Блока, как много здесь совпадений, подчас — почти букваль¬
ных, дословных. Вот почему можно утверждать, что при всей своей
неожиданности, необычности, подлинно новаторской смелости, сказы¬
вающейся как в грандиозных масштабах замысла, так и в характере
самого стиха, «Двенадцать» — это совершенно закономерный этап
в творчестве поэта, подготовленный всем предшествующим развитием
и органически связанный с ним. Чуть ли не каждый мотив и образ624
шкжы имеет своих «прототипов» и «аналогов», совпадения и сходства
с которыми не может отрицать ни один внимательный и непредубеж¬
денный читатель.Это прежде всего касается «воли к подвигу», пафосом которого
пронизано все творчество Блока, да и самих образов «двенадцати» —
красногвардейцев, являющихся главными героями поэмы.В прежней «острожной», «каторжной» России Блок искал —и на¬
ходил — некую особую красоту и правду,— недаром оп писал, завер¬
шая одно из самых примечательных своих стихотворений — «Россия»
(1908):...невозможное возможно,Дорога долгая легка,Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,Когда звенит тоской острожной
Глухая поспя ямщика...Казалось бы, странно: почему именно «невозможное» становится
тюзможпым, чудесно осуществимым, когда поэту слышалась песня,
звенящая «острожной тоской», навевающей самые невеселые думы?
По и в этой «острожной тоске» чувствовалась огромная, хотя до поры
до времени скованная, сила, такая жажда лучшей доли, свободы,
счастья, что она не могла пройти бесследно, — и поэт верил в эту силу,
ждал и жаждал ее пробуждения и победы; вот почему и «острожная
тоска» старых песен вызывала у него высокий подъем, неугасимое
горение. А котда в поэме «Двенадцать» появились «наши ребята»
с примятыми картузами и цигарками в зубах, поэт радостно встретил
их как давно чаемых им героев, готовых пойти и под пули, и в острог,
и на плаху, не жмуря глаз, не робея,— и «невозможное» стало
ноисгине возможным, когда они вышли на авансцену истории, взялн
власть в свои руки.Катастрофа близка, — утверждал некогда поэт, и ее раскаты слы¬
шались ому во всем, дажо в частушках, казалось бы — всего только
озорных, а на самом доле таящих в собо ту угрозу, с которой старому
и одряхлевШому миру уже по оправиться.В статье «Стихия и культура» (1908) Блок и приводил эти час¬
тушки, которым придавал особый смысл, как предвестью небывалой
грозы, назревающей в поруганной народной душе, которая только до
поры до времени согласна терпеть унижения и произвол. Эта душа —
не идиллическая выдумка народников и толстовцев; нет, она сурова
и беспощадна в своей неоглядной удали, буслаевской мощи, в озорст¬
ве, в котором слышится безудержное кипение молодых, нерастрачен¬
ных, неукротимых и еще не тронутых сил:Пусть нас жарят и калят,Размазуриков-ребят —Мы начальству ие уважим,Лучше сядем в каземат.Да, они «не уважили» начальству, когда пришло их время,
и теперь готовы пойти на любые испытания — лишь бы не склонить21 Заказ 534625
свою гордую голову,-не отказаться от своих человеческих прав, впер¬
вые завоеванных ими.В таких частушках поэту слышался гневный ропот самой стихии,
уже подступающей к жерлу вулкана и готовой хлынуть безудерж¬
ным потоком, все сжигающим на своем пути:У нас ножики литые,Гири кованные,Мы ребята холостые,' Практикованные...Это —старшие братья тех «ребят» из поэмы «Двенадцать», кото¬
рым «на спину б надо бубновый туз», — но разве таким бубновым
тузом смутишь и испугаешь «практикованных ребят», уже порешив¬
ших во что бы то ни стало добиться своего?!Нет, они не такие темные и невежественные, как может показать¬
ся с первого взгляда, и совсем не намерены скрывать, в каком горни¬
ле закалялись их непокорство, их воля к подвигу — во имя пере¬
устройства всей жизни, их страстная ненависть к старому строю:Ах ты, книжка-складенец,В каторгу дорожка,Пострадает молодец
За тебя немножко...Нам совершенно очевидно, за какую именно « кн и жк у-с к л а де н е ц »
людей ссылали на каторгу, и готовность «пострадать» за такую «книж¬
ку», выдержать любые испытания — в сочетании с готовностью
к самым решительным и активным действиям — все это свидетельст¬
вует о характере нараставшего в стране революционного движения.
Так у двенадцати красногвардейцев — героев поэмы — оказывались
свои побратимы, которых издавна видел Блок*.Но сам поэт не уловил всего огромного и важного смысла захва¬
тивших его частушек, пронизанных грозным и праведным гневом
против «начальства», против всех угнетателей и притеснителей. Ему
кажется, что и те, кто поет про «литые ножики», и те, кто проповедует
«святую любовь» в сектантском духе, делают одно и то же общее дело,
«потому что — стихия с ними, они —дети одной грозы»,— как утвер¬
ждает он в статье «Стихия и культура». Вот почему облик подлинного* Критик В. Назаренко, пытаясь оспорить эту точку зрения, сообщает
в своей книге «Второе солнце» («Молодая гвардия», 1972), что эти «ребята»
распевают частушки «явно бандитского свойства» (стр. 349) — только
и всего! — а потому и отрицает их родство с героями поэмы «Двенадцать».
Но разве те, которые готовы пострадать и пойти на каторгу не за кражи
и грабежи, а за свои убеждения, за «шгажку-складенец»—это бандиты?! Вот
над чем не мешало бы подумать В. Назаренко, так же, как и над образом
Христа (в поэме «Двенадцать»), в каком В. Назаренко не видит «ничего
религиозного вообще» (там же, стр. 351). Но утверждать нечто подобное —
это значит приглаживать присущие Блоку противоречия, не видеть его
религиозно-идеалистических предрассудков, да и вообще иметь слишком
смутное представление о нем.626
революционера, самоотверженно и сознательно, но только с оружием
и руках, но и с «книАйкойтскладейцом» .поднимающегося на штурм
твердынь старого, прогнившего строя, подчас заслоняется в глазах
поэта обликом бунтаря-сектанта, представителя томной стихии, ко¬
торый оправдывал свое право на землю только том соображением,
что «земля — божья», и дальше этого в своих воззрениях никуда
но гнел.Так издавна поэт смешивал подлинно революционные требования
и действия передовых масс с религиозно-сектантским поиском «града
божьего» на земле; отзвуки этих фантастических представлений о ре¬
волюции сказались впоследствии и в поэме «Двенадцать». Как видим,
и в этом отношении поэт остался верен себе, своему пониманию
движущих сил истории, трактуемых им в р е л и г и о з п о -м исти чес ко м
и отвлетеншнморалытом духе.Л если: мы захотим найти прообразы Катьки, то собьемся со
счета, ибо опа — это младшая и отверженная сестра почти всех ге¬
роинь Блока: и Файлы, и Звезды-Марйи, и Коломбины, и Незнаком¬
ки— в разных ее воплощениях « ипостасях. Живым костром «из Снега
и вина» вспыхивает перед нам,и сквозь мрак и метель, проносящуюся
но площадям и переулкам вечернего тревояотого Петрограда, ее образ,
па котором так же, как и на блоковской Кармен, лежит «страшная
почать отверженности женской».Этот образ — необходимое звено в ряду других («...их было мно¬
го...») героинь Блока, органическое их развитие и завершение.Поэт издавна разглядел и истинное существо самых обольсти¬
тельных женщин, принадлежащих к «сливкам общества», всех этих
«львиц светских и продажных», говоря его же словами; за несколько
лет до Октября он высказывал о них те же суждения, которые словно
бы предвосхищают образ «барыни в каракуле» в поэме «Двенадцать».Блок когда-то спрашивал непримиримо, жестко, озлобленно,
повседневно наблюдая подобные фигуры, крайне характерные для
старого Петербурга:«Откуда эти «каракули» и драгоценности па всех господах и ба¬
рынях Невского проспекта?.,»И с той «святой злобой», в накале которой становились до боли
ясными многие события современности, поэт отвечал на свой вопрос:
«В каждом каракуле — взятка. В святые времена Александра III
говорили: «вот нарядная, вот так фуфыря!» Теперь все нарядные.
Глаза — скучные, подбородки наросли, пет увлеченья ни Гостиным
двором, ни адюльтером, смазливая рожа любой барыни — есть акция,
серия, взятка».А далее неизбежно следовал бесспорный вывод, что так долго
продолжаться не может, что канкан над пропастью завершится
страшной и неизбежной катастрофой:«Все ползет, быстро гниют нити швов изнутри («преют»), а спа-
руяси остается еще видимость. Но слегка дернуть, и все каракули
расползутся, и обнаружится грязная, грязная морда измученного,
бескровною, изнасилованного тела».21*627
''! Что это? Записи к поэме «Двенадцать», из которых впоследствии
вырос несравненный по своей саркастической силе образ «барыни
в каракуле»? Нет, это — дневниковые записи, относящиеся к 1911 году.
Но когда в поэме «Двенадцать» появляется все та же «барыня в ка¬
ракуле», для нас очевидно, почему таким острым и беспощадно
саркастическим взглядом измерил поэт свою старую знакомую,
обманчивый облик и истинное существо которой у него и встарь не
вызывали ни малейших сомнений. Разница лишь в том, что ветер
революции уже сорвал маски благообразия, изысканности, утонченнос¬
ти с подобных ей стяжателей и хищников.В «Крейцеровой сонате» Толстого рассказчик сообщает об одном
из своих знакомых, что это «так называемый добрый малый, т. е.
самый большой негодяй...» — и такие «добрые малые», все эти
«сытые», пошляки, «испытанные остряки», «бонвиваны», стремившие¬
ся урвать кусок пожирней и погулять повеселей, вызывали у поэта
такую злость и омерзение, что одно их прикосновение было для него
нестерпимым; вот эта издавна назревшая «святая злоба» к «сытым»
и помогала поэту различить их истинное существо, — какими бы
внешне привлекательными одеяниями и какими бы возвышенными
словами оно ни прикрывалось.У Блока была давняя неприязнь к буржуа. Еще за год до начала
первой мировой войны поэт писал матери из Франции:«Возвращались мы через Булонский лес, который весь вытоптан,
ибо в демократических республиках буржуа могут, где им угодно,
пастись и гадить...»Как видим, Блок и в прежние годы говорил о буржуа как об
особой разновидности наглого и не слишком опрятного животного,
один вид которого не может не внушать омерзения, и это чувство
крайне обострилось у поэта в годы революции.Да и тот «долгополый», который хоронится «сторонкой за суг¬
роб», — а еще так недавно «брюхом шел вперед», — он тоже не случай¬
но возник в поэме Блока и находит в его лирике и высказываниях
немало предшественников (стоит в связи с этим вспомнить хотя бы
«Ямбы» с их «пузатым иереем», читающим отходную старому миру,
или черновые варианты «Жизни моего приятеля»: «...сидел я в трамвае
меж толстым попом и девицей...»); поэт постоянно подчеркивал в об¬
разах понов черту «брюхатости», принадлежности к касте «сытых»,'—
что в его глазах полностью разоблачало лицемерие и обманчивость
проповедников «небесного идеала», поставленного на службу совер¬
шенно земным интересам и целям (это также свидетельствует о том,
как орх'анична Октябрьская поэма в творчестве Блока, как прочно она
связана с образами, темами и лейтмотивами его лирики, развивав¬
шимися в течение многих лет).Блок издавна выступал и против «писателя-витии», у которого
«вместо дела — уродливое мелькание слов», — ведь это о нем с гневом
и возмущением говорил поэт во множестве своих стихов, статей, вы¬
ступлений.Самый образ Хряста, внезапно возникающий в конце поэмы, вы¬628
зван, как вы видим, постоянно отстаиваемыми поэтом во многихстихах и выступлениях взглядами на религию, сектантство, мораль.Снежные вихри ранних стихов Блока также родственны тому
ветру, который в поэме «Двенадцать» раздувает еще более жаркие
и грозные костры; ветер, гуляющий «на всем божьем свете», издавна
ворвался в лирику Блока как воплощение духа безграничной, без¬
удержной, всемогущей стихии, сдержать которую никому но дано.Даже ритмика «Двенадцати» при всей ее новизне зачастую
совпадает с ритмикой стихов предшествующего периода — стоит
вспомнить стихи из цикла «Родина»:Дикий ветер
Стекла гнет,Ставни с петель
Буйно рвет.Так писал Блок накануне революции, в 1916 году, — и разве не
естественным и закономерным был бы после этого такой переход:Раздается
Мерный шаг.Вот — проснется
Лютый враг...И там и здесь — страстная энергия стиха, порожденная ходом
грозных исторических событий; и там и здесь ходит буйный, неукро¬
тимый ветер, и только от него ждет поэт ответа на свои самые сокро¬
венные вопросы, от решения которых зависит судьба родины — и его
собственная судьба:Что ж ты, ветер,Стекла гнешь?Ставни с петель
Дико рвешь?Так поэт спрашивал накануне революции, и тот же ветер гуляет
в поэме «Двенадцать» — только ещо более порывистый, гневный,
властный.Иные интонации «Двенадцати» слышатся нам и в ранних произ¬
ведениях Блока. Так, в сцене убийства Катьки раздаются вы¬
крики:Стой, стой! Андрюха, помогай!Петруха, сзаду забегай...Они схожи с теми, какие выкрикивают в пьесе «Незнакомка»
дворники, волоча пьяного Поэта:Эй, Ванька, дай ему щелчка!Эй, Васька, дай ему толчка!Но то, что ранее носило пародийно-комический и нарочито
сниженный характер, теперь звучит совсем по-иному и обретает новое
значение — не той вставки, которая словно бы вшита в основу пестройГ.2Э
аппликации, а самого грунтового слоя произведения, народность
которого является подлинной, а не пародийно-юмористически осмыс¬
ленным мотивом. Это и свидетельствует о значительном углублении
понимания народности и самого ее духа.В дни революции наполнилось новым значением и новым светом
«самое человеческое имя», утверждаемое и воспеваемое поэтом за¬
долго до революции; вот почему ом негодовал на тех, кто брал имя
«товарищ» в кавычки и «надмевался» над ним; в поэме «Двенадцать»
это имя, издавна полюбившееся поэту, звучит особенно властно, ве¬
личаво, торжественно, насыщенное и овеянное бурями революции:Товарищ! Гляди
В оба!«Могучая музыка», и поистине могущая «мертвых из гроба под¬
нять» (Маяковский), слышится Блоку в этом слове, с потрясающей
и грозной мощыо раздающемся в поэме «Двенадцать», — когда поэту
стало очевидным, каким огромным смыслом наполнилось в дни
революции имя «товарищ», не заменимое никаким другим!Самый дух поэмы «Двенадцать», пронизывающая ее «святая
злоба» к силам «страшного мира» издавна наметились в творчестве
Блока. Еще в 1907 году поэт взывал в своих «Ямбах» к «подземному
кроту» революции, к простому человеку, униженному и обездоленно¬
му, снова загнанному в подвалы и тюрьмы:Эй, встань и загорись и жги!..Эй, подними свой верный молот,Чтоб молнией живой расколот
Был мрак, где не видать пи зги!Вот каковы были чаяния поэта, и когда настало время для того,
чтобы «довольных сытое обличье» и на самом деле «сокрылось в тем¬
ные гроба», когда для народа настало «благоприятное» лето, — поэт
восторженно встретил «пору цветенья» и пору гроз, той бури, которая
навеки унесла в своих потоках и ливнях обломки прошлого.В «Ямбах» воплотились необычайно важные мотивы лирики
Блока, прямо и открыто выразился ее высокий революционный па¬
фос,—и не случайно поэт, годы спустя после их создания, уже во
время гражданской войны, скажет (в письме к В. С. Миролюбову),что
«Ямбы» кажутся ему «одними из лучших» его стихов; такое при¬
знание тем более знаменательно, что именно в «Ямбах» чаяния,
предчувствия, ожидание революции отозвались со всепоглощающей
страстностью и увлеченностью. Это и говорит о том, как высоко ценил
сам поэт в своем творчестве те произведения, которые во многом пред¬
варили его Октябрьскую поэму («Ямбы», «Стихи о России», «Возмез¬
дие») и в которых наиболее ясно и несомненно сказались его револю¬
ционные настроения.Поэма «Возмездие», являющаяся огромным событием в развитии
русской поэзии и органически замыкающая целый ряд ее образов,
мотивов, проблем, также может рассматриваться как своего рода под¬030
ступ к «Двенадцати», ибо в ней подготовлено и дано во фрагментах
многое из того, что потом полностью обнаружится п разовьется
в Октябрьской поэме Блока. «Возмездие» — это своего рода мост между
предшествующим его творчеством и поэмой «Двенадцать», являющей¬
ся дальнейшим шагом художника на пути «от личного к общему»;
здесь революционные чаяния и предчувствия, духом которых и прони¬
зано «Возмездие», сливаются с самою революционной действитель¬
ностью и находят в ней прочную и надежную опору.Тема «двойничества», издавна присущая творчеству Блока, также
меняется в годы революции, переосмысляется, обретает новый и не¬
ожиданный характер; если раньше все то, что в глазах поэта являлось
святым н возвышенным, было заподозрено в чем-то бесчеловечном,
отвратительном, нечистом и каждому светлому образу, словно тень,
сопутствовал неотвязный «двойник»— «стареющий юноша», «при¬
ятель», «нищий дурак» или одно из его многообразных подобий, то
теперь, в дни рождения нового мира, «двойственность» явлений,
событий» людей, о которых повествует поэт, обрела совершенно иной
и в основе своей противоположный характер. Если раньше человечес¬
кое лицо вдруг пересекала отвратительная гримаса, искажала
«нахальная улыбка», всеразъедающая ирония, смешивающая воедино
героя и Ыедотыкомку, Беатриче и проститутку, то теперь поэт, изобра¬
жая подвиги времен революции и ее «гримасы», избрал героями
«практикованных ребят», красногвардейцев, — но и они оказываются
«двойниками», хотя «двойниками» особого рода; от них, темных, тоже
падает тень, но тень не темная, а светлая, ибо их руками делается
святое дело и их «двойник» — это уже не «нищий дурак», не «старею¬
щий юноша», а Христос, незримо сопутствующий им с «кровавым
флагом» и осеняющий «белым венчиком» их деяния.Разве случайно, что летом 1911 года в одном из писем к жена
поэт называл Париж городом «святым и революционным»? Для него
и в те давние дни было очевидно и несомненно, что дело революции т-
овятое дело. И если Петроград зимой 1917—1918 годов также являлся
в его глазах городом «святым и революционным», то это сочетание,— ,
вопреки тому, что утверждали недруги и клеветники поэта,—«вовсе
не было для него ни случайным, ни неожиданным.Крайне существенно для осмысления «Двенадцати», их связи со
всем предшествующим творчеством Блока и то, что тема трех его
поэм—«Возмездие», «Соловьиный сад», «Двенадцать», — созданных,
в годы паивысшой зрелости художника и завершающих его творче¬
ский путь, при всем их разнообразии является в одном — весьма
важном — отношении общей. Эта тема: возмездие, расплата за «вели¬
кое предательство», измену своему долгу перед людьми. То, что пер-,
вая из них так и называется «Возмездно», свидетельствует, что для ■
поэта мотив неизбежной расплаты за уклонение от «правого пути»,
за измену человеческому долгу ж назначению, в конечном счете — за
измену народу, играл огромную, может быть—решающую роль;
самый воздух, которым дышали Блок и его ближайшее литературное
окружение, был пронизан духом того «великого предательства», ,631
которое превращало мысль о неизбежном «возмездии» в наиболее
острую, злободневную, актуальную.Поэт еще задолго до революции видел и чувствовал, что таи
долго продолжаться не может, что терпению народа приходит конец,
что его гнев, подобно огненной закипающей лаве, готов прорваться,—
и тогда горе тем, кто попытается ее остановить и обуздать! Вот почему
поэма «Возмездие» и предрекает читателюНеслыха иные перемены,Невиданные мятежи.В поэме «Соловьиный сад» самое жесткое возмездие постигает
человека, изменившего — в погоне за проходящими утехами и наслаж¬
дениями— своему долгу и назначению, ради всякой нежити, хотя бы
и принявшей обольстительный облик.И, наконец, поэма «Двенадцать», в которой возмездие поразило
уже не отдельную личность, не выдержавшую соблазнов «страшного
мира», а весь строй насилия и угнетения — со всеми его присными, со
всеми его господами и прислужниками.Уже одно то, что тема и мотив возмездия — в разных его ипоста¬
сях, предчувствие неизбежного краха всех сил, враждебных народу,
чуждых духу труда и созидания, так глубоко захватили поэта,
свидетельствует, насколько внутренне органично и цельно его творче¬
ство, как глубоко и многосторонне подготовлена поэма «Двенадцать» —
при всей ее необычайности и неожиданности — всем ходом и харак¬
тером предшествующего развития поэта.Когда-то Андрей Белый высказал в своих воспоминаниях о Блоке
верное и глубокое замечание (что бывало с ним далеко не так часто),
заслуживающее самого пристального нашего внимания:«...понять Блока — понять связь стихов о «Прекрасной Даме»
с «Двенадцатью»...» («Эпопея» № 2, стр. 111) —и действительно, толь¬
ко осознав и увидев эту коренную связь, сможем мы создать достаточ¬
но полное и внутренне цельное представление о Блоке и закономер¬
ностях развития его творчества.Несомненно, что всем своим предшествующим творчеством (так
же как и самим ходом и размахом исторических событий) Блок был
подготовлен и подведен к созданию «Двенадцати». Многие его более
ранние произведения как бы предвосхищали его Октябрьскую поэму.
Это особо следует подчеркнуть, имея в виду и суждения иного харак¬
тера; так, в книге А. Горелова «Гроза над соловьиным садом»
(«Советский писатель», Ленинградское отделение, 1970) высказано
крайне одностороннее мнение (и при этом — с такою категоричностью,
какая исключает возможность любого инакомыслия) относительно
связи «Двенадцати» с другими произведениями Блока. Такая связь
-и вообще может представиться явно сомнительной, если согласиться
с утверждением А. Горелова, гласящим, что «...неоправданно героизи¬
ровать его биографию, подвести его к поэме «Двенадцать» прямиком,
строевым шагом. В действительности все было весьма запутанно
(курсив мой,— В. С.). В мучительных, а часто болезненных метаниях632
поэта противоречия эпохи сказывались и осложнялись его субъектив¬
ной смятенностью, максимализмом его требований, его стремлением
соизмерять хмурую логичность действительности с лиризмом его по¬
этических представлений» (стр. 314).В этих утверждениях есть некоторая доля истины — только доля,
но никак нельзя разделить стремление автора упомянутой книги
«генерализировать» ее, рассматривать ее как главное и основное
в творческом и жизненном пути поэта, определять этот сложный путь
как весь «запутанный», не выходящий из сферы «метаний» (то есть
лишенный какой-нибудь последовательности в его развитии, «путево¬
дительных маяков», внутренней преемственности, определяющей
«доминанту», явственно уловимую — среди многих противоречивых
тенденций!).Конечно, творчество Блока нельзя представить вне присущих ему
противоречий (а потому и подводить ого к поэме «Двенадцать» «пря¬
миком, строевым шагом», — как в полемическом азарте заявляет
А. Горелов), но и представить этот путь как полностью «запутан¬
ный» — это значит утратить тот ключ, без кот-орош нельзя осмыслить
этапов внутреннего развития Блока, а стало быть, и предпосылок,
необходимых для создания такого небывалого в бго творческой био¬
графии произведения, как поэма «Двенадцать» (что не могло не ска¬
заться на характере ее истолкования). Тут полной «запутанностью»
и оплошными «метаниями» поэта трудно что-нибудь объяснить.Необходимо напомнить, что и сам поэт рассматривал три тома
своей лирики не как сплошные «метания», а как «трилогию вочело¬
вечения», «роман в стихах», путь «от личного к общему» — то есть
■видел его в развитии, становлении, поступательном движении к «даль¬
ней цели» (говоря словами самого поэта).Что же касается слов А. Горелова о том, что «неоправданно герои¬
зировать» биографию Блока, то и с этим суждением также нельзя
согласиться; с самого начала («Чую в будущем подвиг души...»)
и вплоть до ее завершения биография Блока являлась поистине
героической (надо это просто видеть — тут нечего и нарочито «героизи¬
ровать»), ибо ценою всей жизни поэт готов был осуществить свою
«волю к подвигу» и ценою жизни заплатить за свои взгляды, убежде¬
ния, верования («...гибель не страшна герою...»). В их отстаивании он
■обнаруживал неколебимое мужество и подлинно героический характер,
только закалявшийся в огне испытаний.Многое из того, что возникло и отобразилось в поэме «Двена¬
дцать», мы могли видеть и раньше, и почти все ее мотивы можно
проследить в предшествующих произведениях и высказываниях Бло¬
ка. Но есть и огромная разница между -ними и поэмой «Двенадцать»,
и заключается она в следующем: то, что раньше мелькало порознь,
в каком-то рассеянном свете, порою тонуло в «демоническом мраке»,
а потому и не было прояснено до конца, собралось воедино, в цельный
и ослепительный, режущий глаза пучок света, которого не могли вы¬
нести недавние друзья и поклонники Блока, но старипко видевшие
в нем певца «Прекрасной Дамы» и проморгавшие последующие пути633
поэта, уходившего от них в неведомую им даль, его богатырский
творческий рост.В романе «Годы учения Вильгельма Мейстера» Гёте говорит:«Бывают в жизни такие минуты, когда события, подобно окрылен¬
ным ткацким челнокам, снуют перед нами взад и вперед, неудержимо
заканчивая ткань, основу которой мы в большей или в меньшей
степени сами натянули и закрепили».Вот и в жизни поэта наступили такие необычайные, торжествен¬
ные минуты; весь мир предстал пород ним в новом и необычайно
ясном свете, — и события Октября помогли поэту завершить ту ткань,
только отдельные нити которой (хотя почти во всей их совокупности)
поэт дотоле видел и закреплял.Теперь эти нити образовали единую и неразрывную ткань; штри¬
хи, дотоле различимые порознь, сложились в цельную картину,
созданную в порыве такого вдохновения, что в ушах поэта стоял
словно бы грозный и слитный гул — грохот рухнувшего мира, сли¬
вающийся с шумом потока, звучавшего для Блока великой и прекрас¬
ной музыкой.5. НОТУИГПоэма «Двенадцать» — при всей трагичности ее сюжета — прони¬
зана несокрушимой верой в великое и прекрасное будущее России,
которая «заразила своим здоровьем все человечество» (как говорит
сам поэт) верой в огромные, неизмеримые силы ее народа, которые
некогда были скованы, зажаты в «узел бесполезный», а теперь пора¬
зили весь мир своим размахом и несокрушимой творческой мощью.
Вот откуда оптимистический пафос, пронизывающий поэму, придаю¬
щий ей такое величавое и торжественное звучание, беспощадная
издевка над «бывшими людьми», пытавшимися снова завладеть уже
утраченными сокровищами, накинуть на тело народа-гиганта прошив¬
шие путы.«Художнику надлежит пылать гневом против всего, что стремит¬
ся гальванизировать труп...» — говорит поэт в ответе иа анкету Союза
деятелей художественной литературы (1918), и вся ого поэма, подобно
мечу, закалена в огне великого гнева, вся пышет еще гае остывшим
жаром боев, светится сталыо, источающей ослепительное сияние. Это
и поистине тот Нотуиг, о создании которого мечтал Блок в поэме
«Возмездие», яолда сравнивал назначение художника с подвигом
героя драматической тетралогии Вагнера:Так Зигфрид правит меч над горном:То в красный уголь обратит,То быстро в воду погрузит —И зашипит, и станет черным
Любимцу вверенный клинок...Удар — он блещет, Нотуиг верный...Но сковать Нотуиг и владеть им дано лишь тому, кто пе ведает
страха в борьбе с драконами и карликами старого мира,—и поэт,634
мечтая о таком мече, некогда утверждал, что эта задача ему ие по
силам.«Кто меч скует?» — спрашивал оп в прологе «поэмы «Возмездие» —
и отвечал:...Не знавший страха.А я беспомощен и слаб,Как все, как вы,— лишь умный раб,Из глины созданный и праха,—И мир — он страшен для меня.В этом ответе чувствуется растерянность перед тем драконом,
который разинул пасть над всей Европой и томится неутолимой
жаждой свежей человеческой крови. Перед глазами поэта даль тону¬
ла в тумане, в «демоническом мраке», и лишь теперь, в грозах
и бурях Октября, обрушивая тяжкий молот на наковальню стиха, он
радостно, искусно, горделиво ковал свое оружие, свой Иотуиг из
осколков древнего разбитого копья — осколков правды, разрозненных
раздумий, наблюдений, замыслов, которые ужо и ие чаял сплавить
воедино.Многие и многие годы поэта томила мечта о подвиге как о выс¬
шем призвании и назначении человека, «воля к подвигу» («так и не
воплощенному», — как говорил он в черновых записях к «Возмез¬
дию»),—та воля, которая определяет мужественное начало творчества
Блока; мы помним моление о подвиге героя «Песни Судьбы» — Горма¬
на, в словах которого поэт выразил свои собственные порывы и чаяния,
свой собственный жизненный опыт; помним его призывы и клятвы,
рожденные томлением большого, деятельного и пока еще внутренне
скованного духа:«Господи! Я знаю, как всякий воин в той засадной рати, как
просит сердце работы, и как рано еще, рано!.. Но вот оно — утре!
Опять торжественная музыка солнца, как военные трубы, как далекая
битва, а я — здесь, как вони в засаде, ие смею биться, не знаю, что
делать, но должен, но настал мой час!»А -вот теперь пробил долгожданный час, и огромная рать, сидев¬
шая в засаде, вышла на великую битву, от исхода которой зависели
судьбы родины, и в этом для Блока была такая окрыляющая и гордая
радость, такое чувство своих необоримых сил, что все это не могло не
сказаться в его поэме, воплотившей — всем своим пафосом, звучаньем,
характером- — мечту поэта о подвиге.Издавиа он размышлял о преодолении противоречий между
еловом и делом и высказывал, что именно он ждет от своего собствен¬
ного творчества и от творчества тел, кто так же, как и он, считает свое
слово оружием:«...есть у всех нас тайная надежда, что ие вечна пропасть между
словами и делами, что есть слово, которое переходит в дело».Вот таким словом — оружием в той борьбе, от исхода которой
зависят судьбы мира, и явилась поэма «Двенадцать» — слоном, став¬
шим делом и подвигом; так исполнилась давняя мечта поэта, который
еще за пять лет до Октября писал В. Княжнину, упрекая своего кор¬
респондента в высокомерии, презрении, брезгливости — во всем том,
в чем поэт услышал «обывательские нотки»:«...я нападаю не только на Вас, но и на себя, ибо во мне есть
«шестидесятническая» кровь, и «интеллигентская» кровь, и — мало ли
еще что. Только все это в нас — какие-то осколки и половинки, и на
этими половинками мы сможем что-нибудь для чего-нибудь сделать,
принести чему-нибудь пользу, — а только цельным, тем, что у каждо¬
го — свое, а будет когда-нибудь — общее».Вот об этой цельности, которая сменит былые «осколки и поло¬
винки» (говоря это, поэт по мог не вспомнить и об «осколках» копья
Вотапа!.. — В. С.), сольется с «общим» — и только тогда принесет
настоящую «пользу» — мечтал поэт в давние времена, писал о ней
в письмах, дневниках, говорил в поэме «Возмездие». Он неизменно
думал о «Нотунге верном» — об искусстве, подобном мечу («если золо¬
той меч дан — надо разить»), и все это с огромной силой, поразившей
самого поэта, сказалось и воплотилось в поэме «Двенадцать».В грозе и буре Октября он увидел истинное существо старого
мира, преодолел свои страхи перед ним, и теперь «осколки древнего
копья» сплавились воедино, в нечто поразительно цельное, удивитель¬
но «свое», а вместе с тем «общее», народное. Для самого поэта во всем
этом заключалась та «нечаянная радость», которая и вызвала порыв
небывалого дотоле творческого восторга.Почему же так полно, так глубоко, так радостно — всей грудью —
вздохнул Блок в поэме «Двенадцать», почему таким восторженным
и торжественным гимном революции зазвучала поэма?Потому, что на глазах поэта разрешились самые острые, самые
важные вопросы о народе, его путях и судьбах, исчезла пропасть меж¬
ду великой мечтой и реальным делом; все приобрело — в разгара
революционного шквала, в неистовстве вьюги, в кручении снега, кото¬
рый «воронкой завился», — необычайную цельность, слитность
и огромное — на века! — значение.Кричащие противоречия современности, некогда казавшиеся
поэту неразрешимыми, ее пестрые, острые, ранящие осколки — все
они сложились перед ним, как перед Каем во дворце Снежной короле¬
вы (этот образ не случайно припомнился в давние годы Г. Чулкову —
одному из самых первых критиков Блока), в давно загаданное, из¬
древле сужденное, словно бы и забытое, но паконец-то найденное
слово, расколдовавшее «страшный мир» — мир призраков, упырей,
драконов, злобных и лицемерных карликов — и вернувшее жизнк
подлинно человеческий смысл, свет, радость, веру в великое и пре¬
красное будущее; этим словом и стало для поэта слово «революция».
Так из разрозненных «обломков миров», из осколков старого божест¬
венного копья, которые никак не удавалось сплавить воедино (тут
снова нельзя не напомнить о самых крайних и предельно острых про¬
тиворечиях, присущих Блоку и его творчеству), поэт наконец-то
выковал несокрушимый меч, свой «Нотунг верный», — и теперь ему
стали чужды старые страхи, чувство безнадежности («борьба безна¬
дежна...»); по плечу оказался любой подвиг и любые испытания.636
Пусть герои его поэмы так неприглядны с виду — родные сыновья 1
и братья того голодного и бездомного бродяги, который сутулится на
перекрестке завьюженных улиц, но и в них играет тот зигфридовский,
героический, бесстрашный дух, для которого нет неодолимых преград.
Штык в их руках — это тот же Нотунг, перед которым дрожат иичтбж- ,
ные великаны и карлики старого, «страшного мира», некогда казав¬
шиеся такими всемогущими и непобедимыми.Если раньше Блок писал в поэме «Возмездие»:Над всей Европою дракон,Разинув пасть, томится жаждой...—*то теперь, когда кончилась власть имущих, богатых, привилегирован¬
ных, когда прежние хозяева и господа уже не вызывают ни земных
■страхов, ни мистических ужасов, по-иному видит поэт и своего дав¬
него врага — «буржуя», и те силы, воплощением которых является его
образ....старый мир, как пес безродный,Стоит за ним, поджавши хвост...Что, кроме гнева, презрения и гомерического хохота, может
вызвать этот «безродных! нес», который казался когда-то таким все¬
могущим? Вот почему торжествующий, «зигфридовский» смех слы¬
шится в словах ноэта, раскатывается, как эхо в горах, — и не один
«безродный нес» чувствовал свою обреченность в порывах этого
грозного, безудержного смеха!Блок, для которого вагнеровская тетралогия являлась огромным
событием внутренней жизни, видел, как горела Валгалла старого
«страшного мира», объятая дымом и пламенем, потрясаемая до основ
удара ми, которых она не могла выдержать, — и поэт с восторга и
и ликованием наблюдал «гибель ботов», былых владык, смерть тех
драконов, которые, подобно Фафнеру, старались сохранить в своей
власти и сберечь незаконно захваченные ими сокровища.Оказывается, старый «страшный мир», перед которым поэт так
долго испытывал чувство непобедимого ужаса, на самом деле вовсе
не так уж страшен; скорее он жалок, мерзок, смешон, — и поэт пере¬
живал теперь огромное облегчение оттого, что те силы, которые
некогда казались ему таинственными, «инфернальными», а потому
и' неодолимыми, на самом деле являлись силами земными, уже
обреченными,— и ничто не может их спасти! Из господ и хозяев жиз¬
ни они превратились в ео мусор, оказавшийся па исторической свалке,
и если вызывают какие-то чувства, то не ужаса, как перед чем-то
тайным и неведомым («...кто-то хочет появиться, кто-то бродит..,»),
а презрения, насмешки и торжества.«Всякая шавочка способна превратиться в дракончика...» — писал
Блок в 1913 году, накануне первой мировой войны, и это чудо обра¬
щения всякого рода «шавок», окружавших ноэта, в «дракончиков»
и' драконов являлось таким зловещим и жутким, а имеете с тем
и' повседневным/постоянным, что 'весь' окружающий' мир представал’637
в глазах Блока «страшным миром». А теперь на его глазах произошло
обратное превращение: перед обнаженным мечом революции, несущей
заслуженную кару поборникам старого строя, былым господам
и хозяевам, все стало на свои места.Драконы старого «страшного мира» обратились в обыкновенных
безродных «шавок», и эта метаморфоза, происшедшая на глазах
Блока, оказалась до того неожиданной и даже комичной, что естест¬
венной реакцией поэта являлся смех; так художник, дотоле почти
совершенно чуждый юмору и сатире, редко обращавшийся к ним,
лирик «по складу своей души», некогда предостерегавший своего
читателя от иронии как одной из самых опасных болезней века,
неожиданно оказался создателем сатирических образов, поразитель¬
ных по своей остроте, новизне, значительности. Эти образы возникают
перед нами во всей своей мгновенной и навеки схваченной сути,
а вместе с тем — и такой пластической завершенности, что могут
соперничать с самыми великолепными образцами мировой сатиры.Здесь снова нужно напомнить слова Блока, сказанные в иное
время, в иной связи, в память о великой русской актрисе Вере
Комиссаржевской, но обретавшие в эпоху революции особо злобо¬
дневное значение, ибо то, что было некогда всего лишь предположе¬
нием поэта, стало явью его собственного творчества:«Живи она среди иных людей, в иное время и не на мертвом
полюсе, она была, бы, может быть, вихрем веселья; она заразила бы
нас торжественным смехом, как заразила теперь торжественными
слезами...»Поэма «Двенадцать» и свидетельствует, что но об одной Комис¬
саржевской говорил поэт в статье, посвященной ое памяти, а о том,
что он и в себе самом чувствовал скрытые до поры источники «тор¬
жественного смеха», еще не пробудившиеся вихри веселья, скованные
па «мертвом полюсе». А теперь, когда настало «иное время», когда
«мертвый полюс» оказался растопленным словно бы под влиянием
некоего дотоле неведомого Гольфстрима, — изменился и самый харак¬
тер творчества Блока. Оказалось, ему —несмотря на все печальное
и трагическое, что господствовало в его творчестве, свойствен самый
безудержный и даже гомерический смех, — и «вихрь веселья» при
виде того нелепого и жалкого зрелища, какое явили собою недавние
владыки и господа старого мира, словно бы перелистывает страницы
его поэмы. Разве мог поэт накануне революции даже и подумать
о том, что он вскоре разразится таким торжествующим смехом
я даст в своем творчестве волю этому «вихрю веселья»?!Правда, уже и в «Балаганчике» люди, с которыми порывал Блок,
представлены в образах смехотворных, карикатурно-гротесковых,
«чуть ли не шутов», — по утверждению Белого. Но как с тех пор вы¬
рос и возмужал поэт, как неизмеримо расширился диапазон его
творчества!"Если в «Балаганчике» осмеяны и шаржированы «мистики», не
представляющие, по сути дела, никого, кроме самих себя, то иное мы
видим в поэме «Двенадцать». Здесь удары наносятся не по жалкой638
кучке людей, схваченных маниакальными бреднями, нелепыми на
взгляд любого нормального человека, обладающего хотя бы крупицей
здравого смысла, а по всему строю насилия и угнетения, по его
наиболее типичным представителям и поборникам, — и поэт наносит
эти удары с небывалой силой и меткостью, рубит под самый корень!
В это.м-ю и сказалась его мощь, многократно умноженная сознанием
ясности цели, чувствогм реального творческого подвига, сливающегося
с подвигом восставших масс.В дни революции поэта особенно привлекали люди, которые
могли бы сказать о себе вслед за героем любимой им пьесы Ибсена
«Катилина»:...Я не знаю страха.Опасностью пренебрегать и вызовБросать судьбе — вот страсть моя...Такие бесстрашные люди, герои с головы до йог, и вызывали
особое внимание поэта, захватывали его, ибо их героизм отвечал и его
собственной «воле к подвигу». Вот почему он восторженно воспел
солдат революции, также не ведавших страха и бестрепетно идущих
навстречу любым опасностям и испытаниям.Вероятно, никогда дотоле поэт не переживал такого творческого
подъема, — и случайно ли то, что на протяжении нескольких лет
работы он не смог завершить поэму «Возмездие», а «Двенадцать» он
создал в несколько дней, в такой стремительном ритме, в таком осле¬
пительном свете, с такою безудержностью,. что все это подобно дол¬
гожданному, внезапно хлынувшему ливню?!Нет, это не случайно. Революция и оказалась для поэта ,той куз¬
ницей, где он выковал свой Нотунг, и тем светом, в котором рассея¬
лись все «демонические» сумерки и туманы, некогда застилавшие его
путь. Революция потребовала от Блока всего присущего ему мужест¬
ва, всего бесстрашия, той «святой злобы», в пламени которой и зака¬
лена его поэма — его верный и беспощадный Нотунг, разивший вра¬
гов, в том числе — и бывших недавно друзьями поэта, а теперь
оказавшихся во враждебном станс, проклинающих и поносящих его
из всех литературных углов и подворотен. Но всем этим пренебрег
поэт. Он свершил подвиг, который доступен лишь тому художнику,
который и само творчество не мыслит вне «дороги к делу», а если
брать такой лейтмотив, как подвиг, то разница между двумя этапами
творчества Блока (их рубеж определяется Октябрьским переворотом)
огромна.Состоит она в одном крайне существенном обстоятельстве: если
пафос произведений, относящихся к первому этапу, заключается
в мечте о подвиге, в «воле к подвигу, так и но свершенному» («Воз¬
мездие»), говоря словами самого поэта, то пафосом, преобладающи,и
на втором этапе и глубже всего сказавшимся в поэме «Двенадцать»,
'является самый подвиг, реально претворяющийся в жизнь и сливаю-*
щийся с подвигом нашего народа, с его борьбой за преобразование
всей жизни на новых, лучших, подлинно человеческих основах, и осу¬
ществляемый ценою любых жертв и испытаний, о которых даже и не639
задумывались герои поэмы. Вот этим и определяется героическое,
«зигфридовское» начало поэмы.Решительный разрыв с прошлым, с тою средой, с которой поэт
был связан годами и десятилетиями, вступление в новую эпоху жизни
и творчества, сутью которого становится слияние невероятно дерзкой
и небывало омелой мечты с повседневной действительностью, героиче¬
ской, а вместе с тем взятой в самых обыденных, а то и низменных ее
проявлениях,— это и было для поэта тем реальным подвигом, которого
он ждал и жаждал годами — и наконец-то дождался! Поэт знал, что
только революция придала его исконной «воле к подвигу» реальную
основу, только революция вложила в руку меч и указала на того вра¬
га, против которого надо направить удары; только в дни революций
страх поэта перед старым миром и чувство безнадежности борьбы
с ним сменились грозным смехом, и его взрывы перекатываются по
страницам поэмы «Двенадцать», подобно высоко вздымающимся
и грозно сверкающим волнам; все это и определило характер поэмы —
явления небывалого и новаторского как в творчестве Блока, так и во
всей русской и мировой литературе.Поэма «Двенадцать» — новый этап в творческом развитии Блока,
высшее его достижение; Октябрьская революция вдохновила Блока на
создание одного из самых примечательных произведений советской
поэзии, что неопровержимо убедительным образом свидетельствует
о силе и глубине воздействия революции на весь внутренний мир
поэта, широко и безоглядно смело раскрывшийся навстречу бурным
событиям современности и ее очистительным грозам.Рухнули все средостения между поэтом и окружающим его ми¬
ром, все преграды, некогда казавшиеся ему непреодолимыми; «един¬
ство с миром», которое так упорно и так тщетно искал поэт, наконец-
то осуществилось и на самом деле.Каждому художнику ведомы пределы своих сил; Блоку некогда
казалось: он уже свершил все то, что ему предназначено,— так, по
крайней мере, заявлял он в своих письмах, дневниках, записных
книжках,— воплотил то, что брезжило в его душе и жаждало сказать¬
ся в слове и образе. Еще совсем незадолго до создания «Двенадцати»
он готов был сказать о себе стихами Баратынского, что ому все ве¬
домо, и —...только повтореиья
Грядущее сулит...А теперь все изменилось, и Блок воочию увидел я убедился, что
он сам не ведал предела своих возмояшостей. Они оказались гораздо
большими, чем он думал дотоле, ибо революция вызвала у него такие
новые источники творческих сил, о существовании которых ои и не
подозревал. Поэт сумел одним мощным порывом создать то, о чем
раньше мог лишь мечтать, и не только получил новую возможность
преодолевать материал — материал необычайный, небывалый, огром¬
ный, «трудный»,-— но и полностью осуществил эту возможность640 ; •
в произведении, поразительном по своей новаторской дерзости, смй-:
лости, художественному совершенству.С невероятной простотой, естественностью, величием, так соответ¬
ствующими духу, характеру, безграничным масштабам событий, про¬
исходивших вокруг и преображавших облик всего мира,— воплоща¬
лись в дни Октября все творческие замыслы поэта, все его чаяния
и надежды; то, что годами томило и ускользало от него, словно дразня
своею близостью, а вместе с тем и недостяжтгостью, недоступностью,
теперь словно бы само шло в руки, безошибочно угадывая в нем зре¬
лого и многоопытного мастера, и тут же становилось образом небыва¬
лой новизны и классического совершенства, явлением великого
и бессмертного искусства.Было отчего испытывать чувство творческого и радостного
подъема, заставившего Блока сказать о себе такие высокие слова,
каких еще никогда не выговаривал поэт, ибо всегда был полон ощу¬
щения, что чего-то самого главного он еще не сделал и не сказал:
«Сегодня я — гений».Эти слова отзывали бы излишней самонадеянностью, если бы
в них было хоть малейшее преувеличение. Но они оказались совер¬
шенно верными; в них и нашло выход ликующее чувство только что
одержанной и небывалой творческой победы.Для самого Блока создание поэмы «Двенадцать» явилось поисти-
не «нечаянной радостью», тем более остро переживаемой, что он уже
начал разуверяться в том, что когда-нибудь сумеет создать произведе¬
ние, утверждающее «единство с миром», пронизанное пафосом подви¬
га — не как мечты, а как реального дела, отвечающего выработанному
с годами идеалу героического, подлинно народного, современного
искусства, вторгающегося в жизнь, решающего ее острейшие, набо¬
левшие вопросы, а вместе с тем отвечающего самым суровым и высо¬
ким требованиям классического мастерства. Всем этим необычайно
высоким требованиям и ответила его поэма. В ней пересеклись и скре¬
стились в ослепительный пучок света все лучи, некогда прорезавшие
«мрак жизни вседневной», сбылись все творческие чаяния поэта, (Все
то, что разрозненно, отдельными чертами, возникало в его стихах, все
то, к чему он так упорно и страстно стремился. Ведь еще за полгода
до создания поэмы он записывал в дневнике, размышляя о себе, своей
судьбе, своей позиции в жизни, а стало быть, и о своем творчестве:«Я по-прежнему «но могу выбрать». Для выбора нужно действие
воли. Опоры для нее я могу искать только в небе, но небо — сейчас
пустое для меня (вся моя жизнь под этим углом...)».И далее следуют строки, продиктованные тягостным чувством ка¬
кого-то смутного недовольства собой и своими поисками:«...утвердив себя, как художника, я поплатился тем, что узаконил,
констатировал середину жизни—«пустую» (естественно), потому
что — слишком полную содержанием преходящим. Это — еще не «ма¬
стер» («Мастер»)».В праве на то, чтобы называться Мастером — с большой буквы!
поэт отказывал себе, ибо для него это значило быть не только худож-641
пиком, но и кем-то большим,— тем, кто «стоит на страяте», участвует
в борьбе, от исхода которой зависят судьбы всего мера, в чем и про¬
является «действие воли».Но поэма «Двенадцать» — это и «ста. прямое и открытое «действие
воли»,— вот почему она навсегда осталась в сознании ее создателя
лучшим и наиболее значительным из написанного им, что подтверж¬
дается не только личною оценкою самого поэта, но и многими свиде¬
тельствами современников поэта.Вслед за Блоком мы также можем рассматривать «Двенадцать»
как вершину его творчества, основываясь пе только на своих личных
ощущениях, восприятиях, вкусах, по и на совершенно объективных
и бесспорных данных; главное из них — огромная широта и глубина
замысла, лежащего в основе поэмы и нашедшего в ней классически
завершенное,, а вместе с тем и небывало новаторское по своему харак¬
теру решен». В поэме происходят трагические события, смерть идет
рядом с ее героями, их враги не дремлют, но вся она пронизана тор¬
жеством только что одержанной победы, сознанием святости и непре¬
ложности подвига, совершаемого восставшим народом, великой верой
в будущее, когда окончательно будет уничтожена грязь и мерзость
старого «страшного мира»,—- вот что составляет пафос поэмы и делает
ее одним из самых глубоких и жизнеутверждающих произведений
русской поэзии.Поэма «Двенадцать» свидетельствует о том, что революция воз¬
несла поэта на такой высокий гребень, откуда ему стало видно «дале¬
ко во все концы света» (Гоголь). Она наполнила его слух своей герои¬
ческой и яростной музыкой, вдохновившей «на бой кровавый, святой
щ правый» миллионы и миллионы людей, а вместе с ними и самого
поэта. Вот почему современность перестала «вострить» в глазах поэта
и «смутно звучать» у него в ушах. Нет, сквозь ее бури, в прорезях
туч, поэт разглядел тысячецветную радугу новой, чистой, справед¬
ливой жизни, и охваченный «грозной вьюгой вдохновения:), говоря
словами Гоголя, он создал свое великое и бессмертное произведение.Поэма поразительна такою внутренней широтой, словно вся раз¬
гневанно бушующая, только что порвавшая вековые путы, омытая
кровью Россия вместилась на ее страницах —со своими стремления¬
ми, раздумьями, героическими порывами в неоглядную даль, и эта
Россия-буря, Россия-революдия, Россия — новая надежда всего чело¬
вечества — вот та героиня Блока, величие которой придает такое
огромное значение его Октябрьской поэме. Чем больше вчитываешься
в нее, тем больше открывается в ней поразительных черт, драгоцен¬
ных качеств; кажется, богатство ее неисчерпаемо, и то, что может ска¬
зать о ней любой читатель,— лишь малая часть того, что в ней содер¬
жится. Но таково свойство всякого истинно гениального произведения,
простого с виду, а вместе с тем и невероятно сложного, как сама
жизнь; это и является одним из новых подтверждений значения и ве¬
личия Октябрьской поэмы Блока.Таким высоким был творческий подъем, переживаемый поэтом,
что еще не успели просохнуть черновики поэмы «Двенадцать», а ой
уже писал необычайно значительное — по своей остроте и злободнев¬
ности — стихотворение «Скифы», в котором самым прихотливым
и противоречивым образом сочетались и острое чувство современно¬
сти, заставляющее поэта бросать вызов европейской буржуазии, ви¬
девшей в Октябрьской революции смертельную угрозу для себя,
и явно идеалистические, издавна присущие поэту предрассудки; от¬
крывается оно эпиграфом из стихов старого учителя Блока — Влади¬
мира Соловьева:Панмонголизм! Хоть имя дико,Но мне ласкает слух оно.Само стихотворение Блока носит на себе печать воззрений
Вл. Соловьева на Россию как «щит» между Востоком и Западом,
и поэт говорит, обращаясь к своим совремеппикам-овропойцам:Мильоиы — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.Попробуйте, сразитесь с нами!Да, скифы — мы! Да, азиаты —■ мы,—С раскосыми и жадными очами!Для вас — века, для нас — единый час.Мы, как послушные холопы,Держали щит меж двух враждебных рае
Монголов и Европы!Поэт уверяет: если Европа не откликнется на призыв «варварской
лиры», приглашающей ее «на братский пир труда и мира», тогда она
будеть иметь дело «с монгольской дикою ордою», которая ничего но
оставит от ее Пестумов, от ее многовековой культуры, от самого еэ
существования; если случится так, то —...сами мы — отныне — вам не щит,Отныне в бой не вступим сами,Мы: поглядим, как смертный бой кипит,Своими узкими глазами.Не сдвинемся, когда свирепый гушт
В карманах трупов будет шарить,Жечь города, и в церковь тать таб.уя,И мясо белых братьев жарить!..Здесь поэт мыслит историческими аналогиями, только уводящими
от истинного смысла событий современности,— вот почему нарисован¬
ная им в духе «паимонголистической» концепции Вл. Соловьева кар¬
тина столкновения двух якобы враждебных рас является совершенно
фантастической.Вместе с тем поэт настойчиво и неотступно обращался к пародам
западноевропейских стран, господствующие классы которых уже за¬
мышляли походы против революции, с вдохновенным и великодуш¬
ным призывом:Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятья!643''
. . . . . ■ Пока, не Поздно— старый меч в ножны,Товарищи! Мы станем — братья!Но, конечно, призывы поэта оказались тщетными, в на приглашен
ниё на «пир труда и мира» правительства западноевропейских стран
ответили усиленной подготовкой к интервенции, которая и была вско¬
ре осуществлена ими в огромных, масштабах, развернулась от Черного
моря до Белого, от Балтики до Тихого океана, на фронтах протяжен¬
ностью во многие и многие тысячи верст.Поэт писал «Скифы», охваченный ненавистью к мировой бойне, на
продолжении которой настаивали империалисты враждующих воен¬
ных лагерей,— и то, что большевики были за мир, .влекло к ним поэта,
а всякие «ура-патриотические» настроения российских и прочих им¬
периалистов и обывателей не вызывали у Блока ничего, кроме кристу-
пов злобы. В январе 1918 года он записывал, обращаясь к «немецкой
рвани», к «подлым буржуям» Англии и Франции:«Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо...
А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым
взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольется Восток.Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший се¬
бя, так изолгавшийся— уже не ариец. Мы — варвары? Хорошо же...
Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страш¬
ный ответ — будет единственно достойным человека...»Здесь поэт — по-своему, со своих позиций — поддерживает мир¬
ную политику и мирную инициативу большевиков, и хотя в его пред¬
ставлениях о ходе и сущности мирового процесса много фантастиче¬
ских идей, заимствованных у реакциоино-идеалистското лагеря, но
й неверным путем он приходил к верному выводу (с ним это бывало
не раз!): правда — с большевиками, с войной надо кончать, а те,
кто хочет вести войну «до победного конца», — это и поистине лю¬
ди, «опозорившие себя», «изолгавшиеся», недостойные звания че¬
ловека.На этом Блок решительно стоял, это вело его к большевикам —
и вызывало бешеную злобу в стане врагов революции, кричавших об
«измене» поэта, о том, что он «продался» большевикам. Такой зловон¬
ной клеветой мстили они поэту, — но в силах отомстить ему иным,
более пристойным образом.6. «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ»На той же самой волне вдохновенного подъема, в духе тех же са¬
мых раздумий, устремлений, чаяний, в тот же месяц, когда создава¬
лись «Двенадцать» и «Скифы», Блок написал и свою боевую, задор¬
ную, словно бы огнедышащую статью «Интеллигенция и Революция»,
отвечающую на те же самые вопросы, которые целиком захватили
поэт'а тогда, когда решались судьбы революции, родины, всего челове¬
чества; вместе с тем в этой статье многое звучит и прологом к «Двена¬
дцати» и «Скифам», своего рода автокомментарием к ним, многое644
•поясняет и разъясняет в них; статья эта словно бы сопровождала их
и освещала им дорогу к большому читателю.Статья «Интеллигенция и Революция» — такой же восторженный
гимн революции, как и поэма «Двенадцать», пронизана тем же пафо¬
сом, тем же лиризмом; когда поэт спрашивал себя, почему такою
прекрасной и торжественной музыкою гремит в его ушах «разорван¬
ный'ветром воздух», то ему становилось очевидно, что чувство такого
небывалого торжества и ликования он испытывает потому, что под¬
нявшийся на великую борьбу народ задумал «...переделать все.
Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скуч¬
ная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой
и прекрасной жизнью...» — и поэт видел в этом замысле, уже становя¬
щемся реальностью самой жизни, исполнение надежд и чаяний лучших:
людей всех эпох и народов.«Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе,
в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бур¬
ным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов,—
это называется революцией...» — радостно и торжественно провозгла¬
шал Блок, и ради ее победы не жаль никаких усилий и никаких
жертв, без которых не обходится ни одно подлинно великое дело.
Да и какие бы жертвы пи были связаны с революцией, они оказыва¬
лись гораздо меньшими по сравнению с теми, какие ежедневно и по¬
стоянно приносил русский народ в годы войны во имя чуждых ему
целей и интересов.Вот о чем «забывали» те злопыхатели революции, которые на всех
углах и перекрестках истерически кричали о «безвинных жертвах»
революции, о «страданиях» русского народа, на который они хотели
надеть старый хомут,— и в то время статья «Интеллигенция и Рево¬
люция», направленная против их лживых и клеветнических доводов
и домыслов, приобретала необычайно злободневный и острополемиче¬
ский характер с первых нее своих строк.«Россия гибнет» («...погибла Россия» — почти теми же словами
встречает революцию «писатель-вития» в поэме «Двенадцать».—
В. С.), «России больше нет», «вечная память России» — слышу я во¬
круг себя...»— такими словами начинается эта статья, направленная
против нытиков, маловеров, паникеров, даже и не подозревавших, что
они присутствуют не при «конце» России, а при ее великом обновле¬
нии, при рождении нового и небывалого мира; боль и крик рожающей
в муках матери они приняли за предсмертные вопли — и это им отве¬
чает поэт в статье, буквально ошеломившей его недавних друзей и со¬
ратников: того ли они ожидали от певца Прекрасной Дамы!«России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она
выйдет из этих унижений новой и — по-новому — великой...» —
утверждал поэт; там, где его недавние друзья не видели ничего, кроме
краха, гибели, ужаса, он прозревал нечто такое радостное, прекрасное,
непобедимое, ради чего можно претерпеть любые муки и любые ис¬
пытания.В глазах Блока люди, трагически заламывавшие руки и прежде¬645
временно оплакивавшие «гибель земли русской» (хотя и сами некогда
заигрывали с революцией!), были неразумнее детей, балующихся
с огнем,— и поэт наставительно замечал по их адресу:«Значит, рубили тот сук, на котором сидели? Жалкое положение:
со всем сладострастьем ехидства подкладываем в кучу отсыревших
под снегами и дождями коряг —сухие полешки, стружки, щепочки;
а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба (как знамя),—
бегать кругом и кричать: «Ах, ах, сгорим!»Где же во веем этом хотя бы элементарный смысл? — настойчиво
добивался поэт ответа у велеречивых и самозванных «народных за¬
ступников» (ныне «разочаровавшихся» в своем народе) — и не мог
добиться.Блок вспоминал заклинания и утверждения своих противников
и оппонентов с тем, чтобы, предоставив им слово, тут же опровергнуть
их писания, как в корне ложные, продиктованные слепым страхом
перед событиями революции, перед ее грозным и величавым потоком.
Против карликов и пигмеев, исступленно кричавших о том, что «Рос¬
сии больше нет», Блок как верное и надежное оружие выдвигал имена
великих русских писателей прошлого — Лермонтова, Гоголя, Достоев¬
ского, тех, которые видели «в устрашающих и пророческих снах»
новую, небывалую страну — Россию, несущуюся необгонимой трой¬
кой, Россию, перед которой сторонятся другие народы и государства.«Россия — буря. Демократия приходит «опоясанная бурей», гово¬
рит Карлейль...» — и для поэта нет сомнений, что эта буря, очисти¬
тельная, благодатная, плодотворная, преобразит весь мир.Сама наша эпоха, вызывающая ужас и отчаяние у людей, смер¬
тельно испуганных ходом и размахом революции, являлась эпохой,
имеющей «не много равных себе по величию»,— вот почему поэту
вспоминались слова Тютчева:Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...—и события революции были в глазах Блока тем «высоким зрелищем»,
которое приобщает человека к самым прекрасным и величавым гла¬
вам истории мира. Поэт видел, как уже сегодня, в ожесточенной
борьбе, рушится старый мир и рождается новый — в крови, в страда¬
ниях и муках. Но разве может родиться иначе то, чему суждено вели¬
кое будущее, означающее новую ору в истории всего человечества?!Иные рафинированные интеллигенты той поры полагали, что уже
одна «утонченность» возносит их над любым рабочим или крестьяни¬
ном, но Блок издавна понимал, что такой «утонченный» интеллигент,
«возвращаясь к жизни», зачастую оказывается гораздо ниже той са¬
мой «толпы», которую он презирает и всячески третирует; так оно
и оказалось в дни революции, когда многие «утонченные» интеллиген¬
ты вели себя как взбесившиеся мещане и мелкие лавочники.Кто вы? — настойчиво и требовательно спрашивал Блок у тех,
кто еще так недавно был в числе его ближайших друзей, соратников
и даже учителей: люди, которые, вслушиваясь в диссонансы, ревы,б^б
звоны, неожиданные переходы разбушевавшегося потока, «действи¬
тельно любили» (подчеркивает поэт) их или же «только щекотали
свои нервы в модном театральном зале после обеда»?Но если мы «не только щекотали свои нервы» всякого рода «дис¬
сонансами» и «неожиданными переходами», а слышали и любили эхом
отзывающийся в них поток жизни, ее бури и вихри, «мы должны слу¬
шать те же звуки, когда они вылетают из мирового оркестра; и слу¬
шая — понимать, что это — о том же, все о том же».Обращаясь к интеллигентам, многие из которых, увлекшись
созданием всякого рода «творимых легенд», погрузившись в мечтания,
хотя бы и прекраснодушные, утратили какое бы то ни было представ¬
ление о подлинной жизни народа и его истинных нуждах, Блок на¬
стойчиво внушал:«Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только
своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были. Револю¬
ция, как грозовой вихрь, -как снежный буран, всегда несет новое
и неожиданное; опа жестоко обманывает многих; она легко калечит
в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невреди¬
мыми недостойных, но это — ее частности, это не меняет ни общего
направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, кото¬
рый издает поток. Гул этот, все равно, всегда — о великом».Вот этого величия революции пытались «не заметить» ее враги
и хулители; они хотели подменить в глазах широких масс ее истинное
значение разговорами и криками о «частностях»; они бешено вопили
о «гримасах революции», о «зверствах большевиков», «прилыгая», по¬
добно крыловскому лжецу, к былям множество небылиц и преподнося
своим слушателям и читателям эти были и небылицы в беззастенчиво
искаженном виде и демагогическом духе,— а Блок отвечал им:«Что же вы думали? Что революция — идиллия? Что творчество
ничего не разрушает на своем пути? Что народ — паинька? Что сотни
ягуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих -погреть руки,
не постараются ухватить то, что плохо лежит? И, наконец, что так
«бескровно» и так «безболезненно» и разрешится вековая распря меж¬
ду «черной» и «белой» костыо, между «образованными» и «необразо¬
ванными», между интеллигенцией и народом?»И поэт вскрывал неприглядную — контрреволюционную и «анти-
му зыкальную» — суть тех, кто под предлогом, что революция не
«идиллия», стремится опорочить и оклеветать ее.«...лучшие люди говорят: «мы разочаровались в своем народе»;
лучшие люди ехидничают, иадм-евают-ся, злобствуют, не видят вокруг
ничего, кроме хамства и зверства (а человек — тут, рядом); лучшие
люди говорят даже: «никакой революции и ие было» (ведь называли
же такие снобы и эстеты, как 10. Айхенвальд, Октябрьскую революцию
«псевдореволюцией»! — В. С.); те, кто места себе ие находил от нена¬
висти к «царизму», готовы опять броситься в его объятия, только бы
забыть то, что сейчас происходит...» — и Блок до самого дна раскры¬
вал подлинную суть «модных литераторов», вопивших о «гримасах
2>еволюциа»—в тоске по старым порядкам, имениям и владениям.647
. Так и здесь он боролся с,явно реакционными взглядами или же
чуждыми жизни народа «пустыми мечтами», которые в тех условиях,
когда сбывались вековые чаяния народа, нередко оборачивались обы¬
вательским злопыхательством, контрреволюционным саботажем, а то
и открытыми восстаниями против советской власти.Блок всячески стремился предостеречь интеллигенцию от «духов¬
ного родства» с буржуазией. «Для той все очень просто,— говорил
поэт, раскрывая образ мыслей буржуазии в самых его истоках: —
«в ближайшем будущем паша возьмет», будет «порядок», и все —
по-старому; гражданский долг заключается в том, чтобы беречь добро
и шкуру; пролетарии — «мерзавцы»; слово «товарищ» — ругательное;
свое уберечь — и сутки прочь...» и т. д.Но ведь они, продолжает поэт, слыхали разве только о том, «что
нахрюкали им в семье и школе. Что нахрюкали, то и спрашивается...»Но ведь есть и большая человеческая правда, а не только это
«хрюканье» буржуев, для которых не существует ничего, кроме
«брюшного дела»; так неужели интеллигенция может пойти за ними,
а не на зов самой правды — зов революции?Людям, которые не хотели видеть — и не видели — в революции
ничего, кроме «диких эксцессов», «зверств», кровопролитных жертв,
Блок разъяснял ее высшую историческую справедливость, ее свя¬
тость; он спрашивал, глядя в глаза самой суровой действительности:«Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах?»й отвечал, стремясь ни на йоту не уклониться от истины:«Потому, что там насиловали и пороли девок: ие у того барина,
так у соседа».«Почему валят столетние парки?» — продолжал оп свой нелице¬
приятный допрос.И отвечал:«Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами
господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мошной,
а дураку — образованностью.Все — так.Я знаю, что говорю. Конем этого не объедешь. Замалчивать этого
нет возможности...»И Блок вновь и вновь напоминал об ответственности за прошлое
тем, кто хотел уклониться от нее, вновь и вновь, как железную пер¬
чатку, бросал в лицо сторонникам и поборникам старого, прогнившего,
бесчеловечного строя слова горькой и суровом правды, готовый по¬
рвать с самыми близкими своими друзьями,—если эта правда была
им не по плечу и не по вкусу.Для Блока, увидевшего, словно воочию, крылья народа, его вели¬
кую преобразующую силу и ее огромный размах, «рабочую сторону
большевизма» — «за летучей, за крылатой» — было почти непостижи¬
мо то, что многие «умеющие» отвернулись от народа, от революции,
и он не знал предела гневу, возмущению и презрению против таких
«умеющих», которые во время великих событий стояли в сторонке,
сложа руки, с презрительной ухмылкой на губах.648
Во всем этом заключалось нечто непостижимое для поэта; он не
мог понять: как можно было столько лет взывать к революций, кри¬
чать о ней — и отвернуться от нее, когда она пришла на самом деле?О том же самом Блок говорит в своих дневниках и записных
книжках. В январе 1918 года, в месяц создания поэмы «Двенадцать»
и статьи «Интеллигенция и Революция», он заносит в дневник то но¬
вое, что открылось ему в облике «высокобровой» интеллигенции, «ре¬
волюционность» которой оказалась дутой и мнимой величиной:«Любимое занятие интеллигенции — выражать протесты: займут
театр, закроют газету, разрушат церковь — протест. Верный признак
малокровия...»И по поводу всех этих бессмысленных и бессильных «протестов»,
в которых прорывалась буржуазно-мещанская озлобленность против
революции, стремление всячески дискредитировать ее, Блок замечает:
«Ко всему надо как-то иначе, лучше, чище отнестись. О, сволочь,
родимая сволочь!»И эта «сволочь» была ему тем ненавистней, чем «родимей»
и возвышенней казалась когда-то. А теперь он обращался к ней в по¬
рыве того гнева, пафосом которого и пронизана статья «Интеллиген¬
ция и Революция»:«Медведь на ухо. Музыка где у вас, тушйнцы проклятые?»
Такими «тушинцами», перебежавшими из стана революции в ла¬
герь ее врагов, оказались многие недавние друзья и бывшие соратни¬
ки поэта.Беседуя сам с собою, Блок сначала недоумевает: как же могло
случиться, что «главные интеллигенты» (так он называл тех, в ком
видел своих учителей и собратьев), на весь мир шумевшие о своей
«революционности» и любви к народу, оказались теперь в стане самых
ярых врагов революции и восставшего народа? Но вскоре у поэта
возникает вопрос, совершенно неожиданный для пего и по-новому
освещающий ту область культуры и знаний, которую еще так недавно
он считал совершенно чуждой политике:«Или и духовные ценности — буржуазны?»И сам собою напрашивался единственно верный ответ:«Ваши — да...» (это сказано в адрес «главной интеллигенции», То
есть аристократической и либерально-буржуазной).Так сама действительность разрывала перед поэтом истинный
смысл и писаний, и деятельности, и тех «духовных ценностей», кото¬
рыми «главная интеллигенция» прикрывала свою подлинную суть,
свой смертельный страх перед народом и революцией.Как видим, в статье «Интеллигенция и Революция» и в соответ¬
ствующих ей дневниковых записях бушует вихрь тех же самых пере¬
живаний, раздумий, страстей, что и в «Двенадцати»; так же, как
и в поэме «Двенадцать», в статье беспощадно высмеиваются «пи¬
сатель-вития» и его собратья по перу — ядовитому и ржавому; так
же, как и в поэме, в статье «Интеллигенция и Революция» само слово
«товарищ», звучащее в ушах поэта обетованием прекрасного будуще¬
го, внутреннего родства людей, борющихся за него, поднято на огром-649
вую высоту, вызывает в душе поэта бурю больших и благодарных
чувств. Он и здесь страстно отстаивает это слово от любых попыток
принизить его (так же, как и все связанное с революцией и рожден¬
ное ею), посмеяться над ним — что было в ходу у контрреволюцион¬
ной буржуазии, пользовавшейся оружием насмешки и издевки над
всем, что дорого и свято восставшим массам.Те, кого он принимал за людей высокой доблести и огромной куль¬
туры, за властителей дум и вождей интеллигенции, оказались жалки¬
ми пигмеями, подобными карлику Миме, прикидывающемуся добрым
и великодушным, но таящему самыо злобные и мстительные замыс¬
лы,— и подобно тому как Зигфрид, глотнув капли драконовой крови,
научился понимать язык птиц, слышать самые тайные замыслы кар¬
лика, так и поэт в грозе и буре революции научился слышать и распо¬
знавать тайный и скрытый смысл писаний всех этих «витий», изобра¬
жавших из себя заступников народа, а на деле оказавшихся его злей¬
шими врагами. Отныне уже никакие витийственные возгласы
и велеречивые заклинания врагов революции не могли ввести поэта
в заблуждение.Так, словно какая-то неодолимая центробежная сила, неукроти¬
мые вихри самой революции отрывали поэта от тех людей, с которыми
он еще так недавно был тесно связан, считая их своими ближайшими
друзьями и соратниками.Снова повторилось все, что происходило в дни ;революции 1905 го¬
да, когда он впервые начал всматриваться «в лицо проснувшейся
жизни», прислушиваться к ее гулам и зовам, шел им навстречу.
Именно тогда его друзья, испуганные и возмущенные тем, что проис¬
ходит с поэтом, поносили его, всячески стремились приостановить его
внутренний рост, травили его, во что бы то ни стало хотели удержать
его на старых и раскисших путях «вечной женственности», мистиче¬
ской религиозности, отвлеченного мечтательства, трактуя как «изме¬
ну» каждый шаг поэта в сторону жизни, современности, общественно¬
сти. Все это повторялось и теперь — но в неизмеримо больших мас¬
штабах.«В писателях гораздо больше чистокровного мещанства, нежели
в любом лавочнике...»—писал некогда Флобер Луизе Коле, имея в ви¬
ду продажную и растленную литературу времен «Третьей империи»;
его слова мог бы вспомнить и Блок, наблюдая тех писателей, которые
еще так недавно составляли его ближайшее окружение. Поэт вынуж¬
ден был задать им .недоуменные и настойчивые вопросы:«Не стыдно ли издеваться над безграмотностью каких-нибудь
объявлений или писем, которые писаны доброй, но неуклюжей рукой?
Не стыдно ли гордо отмалчиваться на «дурацкие» вопросы?»И сам же отвечал:«Это — всякий лавочник умеет».И то, что «лучшие интеллигенты» внезапно оказались ничем
не лучше «лавочников», Блок переживая с болыо, горечью,
гневом.В статье «Интеллигенция и Революция» заключен и самый сюжет650
поэмы, в котором такое важное место принадлежит истории трагиче¬
ски завершившейся любви Петьки к «толстомордевькой» Катьке.
О «прототипах» самих «двенадцати» поэт говорит:«Среди них есть такие, которые сходят с ума от самосудов, ве
могут выдержать крови, которую пролили в темноте своей, такие,
которые быот себя кулаками по несчастной голове: мы — глупые, мы
понять не можем; а есть и такие, в которых еще спят творческие
силы; они могут в будущем сказать такие слова, каких давно не гово¬
рила наша усталая, несвежая и книжная литература...»И если для врагов революций отряды Красной гвардии — это все¬
го лишь сборища грабителей и убийц, то именно в них Блок видел
залог подлинно человеческого и прекрасного будущего; именно они
несли с собою то новое, свежее слово, которое поэт и не чаял услы¬
шать от окружавших его людей искусства, от современной литера¬
туры, «усталой» и «книжной».— Вы кричите о том, что красногвардейцы — темная и жестокая
сила, а на самом деле они ведут бой «святой и правый», я во главе их
стоит не кто иной, как сам Христос! Вы прячетесь в щели от урагана
революции, от грозного гула ее потока, но именно в нем — высшая
красота, ибо он несет в себе надежду на великое и прекрасное бу¬
дущее.Так мог бы ответить — и так отвечал — Блок хулителям и клевет¬
никам революции.Завершая свою статью, позт обращается,— но уже ие только
к своим оппонентам и противникам, но и ко всем читателям, ко всему
народу, замыслившему великое дело — «переделать все», перестроить
всю жизнь на новых, подлинно человеческих началах:«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Рево¬
люцию».Таким вдохновенным призывом заканчивается статья «Интелли¬
генция и Революция», в которой поэт выступает восторженным пев¬
цом революции, захваченный со мощным и грозным потоком, звуча¬
щим «всегда о великом»,— и непримиримым противником и обличи¬
телем тех, кто издевался и «надмевался» над восставшими массами,
выискивал отдельные «фальшивые ноты» в реве и звоне «мирового
оркестра».Статья «Интеллигенция и Революция» в творческом развитии
Блока имеет двоякое значение: она замыкает цикл лирико-публици¬
стических статей Блока за целое десятилетие, является итогом долгих
и неотступных раздумий поэта о народе и интеллигенции, и она же
открывает новый этап в публицистике Блока, связанный с годами
гражданской войны и отличающийся своими особенностями, ибо рево¬
люция произвела огромные перемены в окружающей поэта действи¬
тельности. Все это отозвалось не только в поэме «Двенадцать», но и во
всей публицистике Блока, в его статьях, дневниковых записях, выска¬
зываниях, приобретавших —- по сравнению с прошлым — гораздо
большую четкость, остроту, а когда нужно, и беспощадно гневную
обличительную силу.651
Для Блока приход к революции, принятие Октября — это был
своего рода прыжок через нротасть, в том направлении, в котором он
шел годами (в этом поэт не изменил себе), но все же прыжок, резкий
разрыв со многими старыми понятиями и предрассудками, дружеским
литературным окружением, со многими близкими людьми,— и об этом
он писал Зинаиде Гиппиус, говоря о «Великом Октябре», разрубившем
узлы многих противоречий и дружб, связывавших поэта с прежней
средой.Блок также решительно рубил самые запутанные узлы, вступая
в новую эпоху жизни и творчества; многое он покинул, со многими
порвал, и этого не могли простить ому люди, оставшиеся на том, на
старом берегу; иные из них увидели в поэте своего противника, тем
более опасного, что он знал всю их подноготную, разгадал их истин¬
ную суть,— вот почему они и обрушились на поэта с таким невероят¬
ным ожесточением.
«ПРОРОКИ РЕВОЛЮЦИИ»Статья «Интеллигенция и Революция», написанная Блоком, в том
же году, в тот же месяц, в те же дни, когда писалась поэма «Двена*
дцать» (и опубликованная незадолго до завершения поэмы), прони¬
зана духом самых острых и резких споров с теми литераторами, кото¬
рых поэт еще так недавно считал своими друзьями, соратниками, а то
и наставниками; всем своим острием она направлена против той
«главной интеллигенции» (по словам Блока), с которой поэт был свя¬
зан многие и многие годы, и то, что писал он в своей статье, имеет не
только большой обобщающий смысл, но и точный адрес. Это — поле¬
мика с очень хорошо знакомыми ему людьми, и многие из них неко¬
гда играли значительную роль в его жизни.Крайне характерна в этом отношении дневниковая запись от
14 января 1918 года — в месяц создания «Двенадцати»:«Происходит совершенно необыкновенная вещь (как все): «ин¬
теллигенты», люди, проповедовавшие революцию, «пророки револю¬
ции», оказались ее предателями. Трусы, натравливатели, прихлебате¬
ли буржуазной сволочи».Здесь в иронические кавычки, точно в железные раскаленные
клещи, схвачены слова «пророки революции»,— и помимо того, что
они направлены против всех «праздно болтающих» о революции или
открыто восставших против нее, они имеют совершенно конкретный
адрес: это, в первую очередь,— Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мереж¬
ковский. Ведь именно Мережковский долгие годы громче всех кричал
о приближении небывалой, неслыханной, грандиозной «революции
Духа». Он именовал Достоевского не иначе, как «пророком русской
революции» — так называлась его посвященная Достоевыадму статья
(«Весы», 1906, №№ 2 и 3-4). В этой статье Мережковский, вещая о «пе¬
реходе общества в церковь», о приближении предсказанного в апока¬
липсисе «конце всемирно-исторического процесса», противопоставлял
«политической революции» (сводимой им к мещанскому идеалу урав¬
нительной сытости) — «революцию» религиозную—«предельную
и окончательную», «ниспровергающую» всякую человеческую власть,
всякое государство «в его последних метафизических основаниях».Вот почему,— внушал Мережковский своим читателям,— «крас¬
ные знамена политических восстаний бледнеют перед этим невидан¬
ным ультрапурлуровьш цветом религиозной революции», «пророком»653
которой Мережковский и объявлял здесь Достоевского, полностью
приписывая ему свои собственные вымыслы и. реакционно-утопиче¬
ские фантазии.Но сам же Мережковский, долгие годы изображавший собою «на¬
родного заступника», непреклонного революционера, очутился в числе
крайне ярых и заядлых врагов революции, когда она совершилась на
самом деле, а не только на страницах его писаний, и оказалась совсем
не такой, какую он «пророчил» в своих многословных выступлениях
и сочинениях. В этой метаморфозе «пророка революции», превратив¬
шегося в ее ожесточенного противника и хулителя, для Блока было
нечто невероятное и непостижимое, что заставило его пересмотреть
многие из своих прежних взглядов и представлений о том человеке,
которого он некогда считал особо «отмеченным». «Что же, автор
«Юлиана», «Толстого и Достоевского» и пр. теперь ничем не отличает¬
ся от «Петербургской газеты» (воплощавшей в глазах Блока растлен¬
ный дух продажной, желто-бульварной, «наглой и голосистой» бур¬
жуазной прессы),— записывал поэт.Мережковский неоднократно восклицал: «Ие мир, но меч!» —
угрожая этими словами самодержавию и православной церкви, и Бло¬
ку казалось: кому, как не Мережковскому, «пророку революции»,
приветствовать и славить ее,— когда она, вооруженная карающим
мечом, пришла не только на словах, но и на самом деле?! Вот почему
измена Мережковских революции, их злоязычные выходки против
нее поэт переживал крайне остро —многое и многое в его жизни было
связано с ними. Если мы перечитаем его статьи, письма, записные
книжки, дневники — начиная от юношеских (1902) и кончая дневни¬
ками последних лет, датированными годом смерти,— мы найдем мно¬
жество упоминаний четы Мережковских, целую историю отношений
с ними, повесть о чувствах, вызванных ими,—злых или добрых, но
никогда не равнодушных и не безразличных. С этими людьми связан
долгий, двадцати летний литературный путь поэта; они первые опуб¬
ликовали его стихи в «солидном» (по тем временам) журнале «Новый
путь», и с ними я;е — из года в год — происходили резкие разрывы,
вслед за которыми налаживались новые связи. Даже в 1915 году, когда
многое' в облике и сочинениях четы Мережковских, которых и сам
поэт именовал «книжниками» (то есть людьми, чуждыми пониманию
подлинной жизни), стало ему совершенно ясно, поэт говорил в авто¬
биографии, что к событиям, явлениям и веяниям, «особенно сильно
повлиявшим» на него, «относится знакомство с М. С. и О. М. Соловье¬
выми, 3; Н. и Д. С. Мережковскими и с А. Белым».Вот тот круг лиц, которых упоминает здесь поэт; из них ко време¬
ни написания автобиографии в живых оставались лишь Мережковские
и А. Белый, пребывавший в то время за границей, вдали от родины,
целые годы и, в сущности, уже совершенно чуждый Блоку. Таким
образом, в Мережковских поэт накануне революции видел особо —
и чуть ли не единственно — близких ему людей;, вот какое важное зна¬
чение — при всех внутренних несогласиях и открытых распрях —
придавал поэт знакомству с четой Мережковским и их писаниям.654
О том, что некогда связывало поэта с Д. Мережковским, особен¬
но — в первые годы знакомства с ним, и почему эти отношения обре¬
тали для Блока далеко не случайный смысл, свидетельствуют планы
поэмы «Возмездие», Это о себе — хоть и в третьем лице — говорил
Блок, прослеживая путь героя поэмы — «сына», у которого еще «не
было событий в жизни»:«Он ко всему относился как поэт, был мистиком, в окруяшощей
тревоге видел предвестие конца мира.Все разрастающиеся события были для него только образами
развертывающегося хаоса...»Вот эти события в жизни героя поэмы — и самого поэта — больше
всего связаны (на первых порах) с именем Мережковского: это
Д. С. Мережковский был мистиком, «апокалиитиком», эта он возгла¬
шал в своих статьях, в своем обширном сочинении «Лев Толстой
и Ф, М. Достоевский» «конец мира», «конец мировой истории», маиия
своего читателя в хаос всяческих «бездн», приглашал его «опереться
на бездну», и хотя Блок подчас весьма резко осуждал схоластичность
и отвлеченность своего учителя и наставника, многое в воззрениях
Блока генетически связано с проповедью Мережковского и не может
быть полностью осмыслено,— если мы не примем ее во внимание.Такая существеннейшая тема раздумий и переживаний поэта, как
«религия и революция»,— в их взаимоотношениях и связях — была
впервые названа Блоку именно Мережковским, который написал иа
. эту тему множество сочинений и касался ее в самых разнообразных
. аспектах и жанрах — начиная от статей и романов и завершая рели¬
гиозно-схоластическими трактатами,— и уже одно то, что Мережков¬
ский открыл эту тему, сумел ее назвать, значило в глазах Блока не¬
обычайно много; вот почему, несмотря на свои распри с Мережков¬
ским, на все презрение к его «книжности», ироническую усмешку над
. его «ужасиками», все же Блок долгие годы сохранял особое — и высо¬
кое—уважение к Мережковскому. Ему казалось, что Мережковскому
(как говорит Блок в письме к В. Княжнину) доводилось «разговари¬
вать с богом»,— и даже после того, как подлинное лицо Мережковско¬
го открылось Блоку во всей его неприглядности, поэт не отбросил
ироповедуемую и отстаиваемую Мережковским идею сочетания
революции и религии. Она — вопреки очевидности — казалась ему
истиной, нашедшей свое воплощение в ходе и дух® революции,— что
соответствовало идеалистическим его воззрениям и предрассудкам.
О том же самом Блок говорил впоследствии Горькому, имея в виду
прежде всего незадачливых «пророков революции», в ужасе отшатнув¬
шихся от нее — в час ее свершения: «Вызвав рз тьмы дух разрушения,
нечестно говорить: это сделано не нами, а вот теми. Большевизм —
неизбежный вывод всей работы интеллигенции на кафедрах, в редак¬
циях, в подполье...» (М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах,
том 15, стр. 330. М., Гослитиздат, 1951).Так «отвлеченность» поэта, по поводу которой и сам оп говорил
с такою горечью, его аполитичность помешали ему в свое время уви¬
деть, чего на самом деле стоила «революционная» фраза Мережков¬655
ского, вызывавшая — по свидетельству Г. В. Плеханова,— не одобре¬
ние, а всего лишь негодующий смех у русского пролетариата.О том же, какова была на самом деле истинная цена «смелости»,
и «революционности» Мережковского — в его борьбе с самодержа¬
вием,— можно судить по мемуарам Андрея Белого, некогда одного из
ближайших друзей дома Мережковского — Гиппиус. В автобиографи¬
ческой книге «Начало века» Белый (игравший в свое время при
Мережковских весьма незавидную и не очень достойную роль — не то
друга дома, не то мальчика «па побегушках») свидетельствует: «Ме¬
режковские... боялись простуды, заразы, клопов, революции и посыла¬
ли меня за... пи пи факсом» (стр. 435).В одном этом штрихе весь Мережковский — с его бесконечными
разговорами о самой грандиозной и небывалой «религиозной револю¬
ции», перед которой ничтожны идеалы и цели «революции социаль¬
ной»,— и страхами перед реальной действительностью, идущей мимо
его уговоров и заклинаний.А. Блок — всегда чуждавшийся области политики — явно пере¬
оценивал «революционность» Мережковского, не учитывая того об¬
стоятельства, что, кликушески взывая к «революции», Мережковский
вместе с тем был решительным противником социализма, поборником
теократии, другими словами — превращал свои писания о революции
в пустую и напыщенную фразу. Блоку сначала было странно и непо¬
нятно, почему люди, подобные Мережковскому, отвернулись от револю¬
ции, которую — как казалось поэту — сами же и «напророчили».
Для поэта, с его чувством правдивости, долга, неразрывности слова
и дела,— в этом поведении человека-оборотня, которому он так долго
верил, было нечто горькое, постыдное, отвратительное, и нет сомнения
в том, кого имел в виду Блок, говоря о фальшивых и лицемерных
«пророках революции»: когда он писал эти слова, перед ним не мог не
возникнуть тщедушный облик Мережковского, тщившегося выглядеть
великаном и громовержцем.Может быть, еще более существенны, чем с Д. Мережковским,
были для Блока его личные и литературные отношения с жепой Ме¬
режковского— Зинаидой Гиппиус, известной поэтессой, принадлежав¬
шей старшему поколению декадентов и символистов. Ее творчество,
ее жритические замечания оказали в свое время на Блока немалое
влияние — и не случайно почти в самом начале знакомства с четой
Мережковских Блок пишет Андрею Белому:«Скажу тебе большую пошлость: его жена умнее его».Зинаида Гиппиус — с бросающейся в глаза одаренностью, с ее
острым, хотя и крайне поверхностным умом, с ее пристрастием к «ка¬
ламбурам в высшем смысле» (как сказал бы Достоевский), с ее ми¬
стической «загадочностью», смысл которой открылся Блоку далеко не
сразу,— произвела на него в самом начале их знакомства необыкно¬
венное впечатление, и дружбу с нею — особенно на первых порах —
Йдок причислял к одним из самых значительных событий своей жи¬
тейской и творческой биографии. -656
Пожалуй, именно Зинаида Гиппиус была одним из первых в Рос¬
сии поэтов подлинно символистско-декадентского склада,-— ибо такие
предшественники и родоначальники символизма в России, как Вл. Со¬
ловьев и Д. Мережковский, в своих стихах оставались, в сущности,
эпигонами, не выходили за пределы поэтики Фета, Полонского, Над-
сона, отвергали попытки создать какой-то новый, нетрадиционный
стих (и только потешались над ним, как Вл. Соловьев над сборниками
«Русские символисты», а Мережковский, согласно воспоминаниям
Андрея Белого,— над ранними стихами Блока). Этого нельзя сказать
о Зинаиде Гиппиус, которая для выражения своих сугубо субъекти¬
вистских переживаний, настроений, «молитв» (как она называла свои
стихотворения) умела найти и соответствующий им — и весьма не¬
обычно звучащий — язык, единственно точное слово, если нужно —
небывалое, вновь созданное, новые образы, ритмы, звучания, пора¬
жавшие слух ее читателя. Она расшатывала традиционную — и став¬
шую в свое время эпигонской — поэтику, решительно обновляла ее
арсенал, и в этом сказывалась — бросающаяся в глаза — одаренность
поэтессы, ее оригинальность.В своей работе «Искусство и общественная жизнь» Г. В. Плеха¬
нов глубоко анализирует декадентство вообще, а в связи с этим и твор¬
чество 3. Гиппиус — как проявление крайнего индивидуализма, от
которого «не может не страдать поэзия и вообще искусство, служащее
одним из средств общения между людьми...» («Искусство и литерату¬
ра», Гослитиздат, 1948, стр. 254).В подтверждение этой мысли он приводит стихи 3. Гиппиус:Беспощадпа моя дорога,Она меня к смерти ведет,Но люблю я себя, как бога,—Любовь мою душу спасет.«В этом позволительно усомниться,— замечает Плеханов.— Кто
«любит себя, как бога»? Беспредельный эгоист. А беспредельный
эгоист вряд ли способен спасти чыо-пибудь душу».Напоминая своему читателю, что субъективный идеализм, отзы¬
вающийся в этих и им подобных стихах, пе признает никакой иной
реальности, кроме «я», Плеханов справедливо утверждает:«Оказывается, что при нынешних общественных условиях искус¬
ство для искусства приносит не весьма вкусные плоды. Крайний
индивидуализм эпохи буржуазного упадка закрывает от художников
все источники истинного вдохновения» (там же, стр. 264).Поэты-де.каденты, хотя бы и одаренные, неизбежно закрывали от
себя «источники истинного вдохновения», ограничиваясь сугубо лич¬
ными ощущениями и восприятиями, зачастую принимающими иллю¬
зорно-мистический характер, что мы и видим во многих стихах
3. Гиппиус. В них угадываются изломанность, тоска, отчаяние, по¬
рожденные чувством неизбежной обреченности того строя, с которым
навсегда была связана 3. Гиппиус, а стало быть — и надежда лишь
на «чудо» как единственную возможность сохранения старого жиз¬
ненного уклада. Надежда на «чудо» и порождала религиозную на-22 Заказ 534657
стрсенность поэтессы, «е «апокалишические» фантазии и «теократи¬
ческие» увлечения.На фоне декадентского искусства (которое — в узких пределах
формы стиха, утверждения новых его возможностей, так же как новой
изобразительности, имело п некоторые достижения, не забытые при
дальнейшем развитии русской поэзии) творчество 3. Гиппиус было
весьма приметным явлением. Она мастерски владела стихом, и Вале¬
рий Брюсов, признанный в свое время самым выдающимся знатоком,
ценителем и «законодателем» стиха, причислял ее в начале нашего
века к созвездию наиболее значительных и самобытных поэтов совре¬
менности.. Одаренность 3. Гиппиус и впоследствии признавалась даже
ее извечными и неизменными противниками; так, М. Горький в письме
к В. М. Саянову, советуя, что следовало бы включить в «Библиотеку
поэта», говорит: «Женщин нашел двух: Павлову и Растопчипу. Надо
бы Бунину, Мирру Лохвицкую, вероятно, есть и еще. В XX веке только
Гиппиус и Ахматова...» (М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах,
т. 30, 1956, стр. 326).Конечно, несомненная одаренность людей, подобных 3. Гиппиус,
в сущности уходила «в песок» (ибо они отсекали себя от «источников
истинного вдохновения»),— но претендовала та же Гиппиус па некие
небывалые и непостижимые для поверхностного взгляда глубины,—
придавая своему реакционно-религиозному и анархически-буржуаз-
но'му — в своей основе — бунтарству ту видимость смелости, которая
производила немалое впечатление па иных ее читателей, подчас весь¬
ма произвольно толковавших ее «мятежность», «загадочность», мисти¬
цизм. В числе этих читателей был и Блок, оказавшийся в сфере ее
влияния. Тут немалое значение имело и то, что Зинаида Гиппиус
(поэт старшего поколения символистов — в противополояшость Бло¬
ку—одному из «младших») с самого начала взяла его под свое «по¬
кровительство» и приоткрыла ему путь в литературу; в ней юный
поэт — в самом начале знакомства — увидел ту родственную душу,
с которой можно поделиться самыми заветными замыслами и пережи¬
ваниями — как на исповеди! — и она до конца поймет их.В письме, посланном летом 1902 года, Блок, описывая до предела
знакомый п уже приевшийся ему усадебный быт, признается Зинаиде
Гиппиус, что ему «хочется нового», ибо вся его жизнь «медленная, ее
мало, мало противовеса крайнему мистицизму», который «влечет за
собой «непобедимое внутреннее обмолонио», эти Ваши слова я очень
оценил». И то, что Зинаида Гиппиус помогла ему в то время преодоле¬
вать «внутреннее обмеление», говорила о чем-то новом, влекла от бы¬
лой идилличности и созерцательности к некоей еще неясной и чуждой
ему «мятежности», от уединения к «общественности» (хотя бы рели¬
гиозной, а то и литературной), заставляло юного поэта необычайно
высоко ценить не только стихи Зинаиды Гиппиус, но и ее личность;
именно с ее обликом связывал порою поэт новое и «мятеяшое», что
все явственнее ощущал и в окружающем его мире и в себе самом,
чему пока еще не умел найти выхода,— а вот Зинаида Гиппиус, каза¬
лось Блоку, в своих стихах сумела его найти.658
Ее более поздние стихи, созданные в дни революции 1905 года,
перекликались с его собственной — уже прорывающейся, а не скры¬
той от постороннего взгляда — мятежностыо, и не напрасно впослед¬
ствии часть их (по выбору самого Блока, как утверждает 3. Гиппиус
в своих воспоминаниях) была посвящена Блоку. Они пришлись «по
душе» поэту и вызвали, судя по всему, отклик в его собственном
творчестве, а потому заслуживают особого внимания.В одном из них — «Гроза» — Зинаида Гиппиус изобличает при¬
верженность к тишине, уюту, покою. Но, словно сама ужаснувшись
открывшимся в ней безднам, в которых владычествуют молнии, бури,
ослепительные светы, предостерегает своего читателя:Тебя пугают миги вечные...Уйди, закрой глаза.В душе скрестились светы встречные,В моей душе — гроза.В этих стихах Блоку слышался не только ужас перед грозой, под¬
нимающейся со дна души и срывающей с нее все покровы и прегра¬
ды, но и упоение ею, восторг, который может изведать только тот, кто
и сам подстать грозе, кто пе смешивает испепеляющую любовь с уни ¬
зительной жалостью и вялой чувствительностью.Захватывали Блока и другие стихи Зинаиды Гиппиус, насыщен¬
ные неукротимою и мрачною энергией, клокочущие яростной и власт¬
ной силой, близкой поэзии «заговоров и заклинаний» (издавна люби¬
мой Блоком),— как это мы видим в ее «Водоскате»:Душа моя угрюмая, угрозная,Живет в оковах слов.Я — черная вода — ненномороаная,Меж льдяных берегов.Ты с бедной человеческою нежностью
Не подходи ко мне.Душа мечтает с вещей безудержностьюО снеговом огне.И если в мглистости души, в иглистости
Но видишь своего,—То от тебя ее кипящей льдист ост и
Не нужно ничего.Здесь слышится словно какое-то бешеное клокотание свистящих
и шипящих согласных — так создается особая выразительность
стихов, «кипящая лъдистость» которых становится наглядно и на слух
ощутимой; кажется — в них сталкиваются и ломаются хрустальные
тонкие льдинки, хрустящие над мглистым, черным потоком, «угрю¬
мым, угрозным», таящим неведомые опасности, а вместе с тем влеку¬
щим и обещающим гораздо больше, чем могут дать иные, слишком
спокойны© и безмятежные чувства.Таким стихам, как «Гроза» или «Водоскат», присуща мрачная
энергия, тревожность, своеобразная сила — и некогда они звучали
в русской поэзии необычайно молодо, дерзко, властно.Об отношении самого Блока к поэзии Гиппиус свидетельствует22*659
его письмо, обращенное к матери: «Гиппиус прочла мне все свои
стихи — по-прежнему — хорошие» (1908).Поэт по-разному — на разных этапах — относился к высказыва¬
ниям и творчеству Зинаиды Гиппиус (явное и вполне понятное раз¬
дражение вызывает у Блока ее проза; «Гиппиус строчит свои бездар¬
ные религиозно-политические романы...» — записывает ои в 1913 го-
ДУ))—но в течение многих лет она умела и в своих разговорах
и в своих обращениях к Блоку — дружеских или враждебных (отно¬
шения между ними были весьма сложны, запутанны, далеко не «одно¬
линейны») — глубоко задеть или захватить его, навести на какие-то
весьма значительные для него раздумья,— и не случайно именно ей
посвящено одно из наиболее поразительных и глубоких стихотворений
Блока — «Рожденные в года Глухие.,..». Вероятно, поэту казалось:
именно Зинаида Гиппиус глубже, чем кто бы то ни было другой,
должна воспринять эти стихи и отозваться на них.Перед самым кануном революции 3. Гиппиус видела в лице Блока
одного из близких и наиболее ценимых ею друзей — несмотря на все
споры и разногласия, разделявшие их. Ее послесловие к пьесе «Зеле¬
ное кольцо», опубликованной в 1916 году, полно ссылками на Блока,
цитатами из его стихов и личных разговоров с автором пьесы — так
можно говорить только об очень близких людях,— да и в тетрадях
Блока в то время немало записей, свидетельствующих о том, насколь¬
ко значительными казались ему долгие разговоры с Зинаидой Гип¬
пиус. Только в 1917 году, когда уже не осталось места для игры в сло¬
ва и когда реакция, даже и прикрытая псевдореволюционной фразой,
предстала в своем истинном — антинародном — существе, поэт уяснил,
как далеки они друг от друга.В это время 3. Гиппиус по-прежнему стремилась подчинить Бло¬
ка своему влиянию,— на этот раз с тем, чтобы заставить его примкнуть
к силам контрреволюции (Мережковские в то время вступили в по¬
литический альянс с эсером Савинковым),—но орешек оказался не
по зубам, о чем 3. Гиппиус сама с горечью признается в своих воспо¬
минаниях о Блоке. Вот характерный эпизод, из которого явствует,
как решительно и неуклонно порывал Блок в дни революции с теми
людьми, которых еще так недавно считал своими друзьями и настав¬
никами:«Савинков, ушедший из правительства (он являлся заместителем
военного министра) после Корнилова (имеется в виду контрреволю¬
ционный мятеж генерала Корнилова, выступившего с попыткой уста¬
новления военной диктатуры. — Б. С.), затевал антибольшевицкую
(так пишет это слово 3. Гиппиус.— Б. С.) газету. Ему удалось спло¬
тить порядочную группу интеллигенции. Почти все видные писатели
дали согласие. Приглашение многих было поручено мне. Если пригла¬
шение Блока замедлилось чуть-чуть, то как раз потому, что в Вдоке-то
уя? мне и в голову не приходило сомневаться».Но выяснилось, что именно в Блоке ж следовало «сомневаться»
людям, затевавшим «антибольшевицкую» газету, а впоследствии
и «йнтвболыпевицкие» заговоры.Ш-
3. Гиппиус эвонит Блоку— «это было начало октября» — и «спеш¬
но, кратко, точно» объясняет ему, «в чем дело», зовет «к нам, на пер¬
вое собрание», а Блок, помолчав отвечает:— Нет, я, должно быть, не приду.— Отчего? Вы заняты?— Нет, я в такой газете ие могу участвовать.— Что вы говорите! Вы не согласны? Да в чем же дело?Гиппиус хочет сообразить, что происходит с ее собеседником,и не может.«Предполагаю кучу нелепостей... (как обычно! ■— Б. С.)Однако не угадываю. В телефонной трубке раздается голос Бло¬
ка, немного рассерженный:—; Вот война. Война не может длиться... Нужен мир.— Как... мир? Сепаратный? Теперь — с немцами мир?— Ну да. Я очень люблю Германию. Нужно с ней заключить мир,У меня чуть трубка не выпала из рук.— И вы... не хотите с нами... Хотите заключить мир... Уж вы,пожалуй, не с большевиками ли?»Самой Зинаиде Гиппиус, ее вопрос показался абсурдным, а Блок,
который «никогда не лгал», решительно отвечает:1 — Да, если хотите, я скорее с большевиками, они требуют ми¬
ра, они...При этих словах его собеседница буквально поперхнулась.— А Россия?! Россия?!.— восклицает Зинаида Гиппиус в теле¬
фонную трубку,—Вы с большевиками и забыли Россию (!!!) Ведь
Россия страдает.— Ну, она не очень-то страдает...— отвечает Блок на ее демаго¬
гические возгласы, и от этих слов у его собеседницы, как сообщает
она, «дух перехватило» (3. Н. Гиппиус. «Живые лица». Прага, 1925,
стр. 59—6:1),Еще бы,—писатель, которого она, как ей казалось, держала
в узде и третировала как недоросля, как человека, Лишенного «взрос¬
лости», неожиданно для нее взбунтовался и весьма хладнокровно
отнесся к ее истерически-кдикушеоким воплям!Судя но всему, поэт старался успокоить расходившуюся даму,
полагающую, что «быть с большевиками» — значит «забыть Россию»,
но не преуспел в этом намерении.«Сомнений не было. Блок, с ними»,— осенило 3. Гиппиус посл:е
удручающего для нее разговора с Блоком. Это, конечно, не могло не
привести ее,— так же, как и других недавних друзей поэта,—*• в состоя¬
ние, близкое к столбняку.«С ними же, явно, был и Андрей Белый. Оба писали и работали
в «Скифах».Слышно было, что и в разных учреждениях они оба добровольно
работают. Блок вместе с Луначарским и Горьким...» (там же, стр. 62).
Такого пассаЖа Гиппиус от Блока не ожидала!Не мудрено, что ей «не хотелось даже и слышать ничего о Блоке»
и «уже не боль -- негодование росло против Блойа», Она с чувством
цитирует ранние его стихи, якобы вот именно теперь-то — в дни ре¬
волюции — и оправдавшиеся целиком и полностью:О, как паду— и горестно, и низко,Не одолев смертельные мечты!Это «падение» 3. Гиппиус — да не она одна!—усматривала впо¬
следствии и в гениальной поэме Блока, утратив в антисоветском раже
и рассудок, и вкус,, и художественное чутье...А сам Блок далеко не сразу сообразил: что же произошло с Ме¬
режковскими? Почему они открыто перешли в. стан, контрреволюции?Между тем для человека, более, чем Блок, сведущего в области
общественной жизни и политической деятельности, не было ничего
поразительного в позиции, запятой Д. Мережковским и 3. Гиппиус
в дни Октября. Ведь еще и в давние годы, на рубеже двадцатого века,
Мережковский восклицал: «Или мы (то есть «апокалиптикп», иеохри-
стиане, поборники и знаменосцы религии «третьего завета».— Б. С.) —
или никто!» — и предпочитал увидеть скорее гибель мира, чем победу
социалистической революции — «грядущего хама», говоря его языком.Схожие мотивы и настроения сказываются и в творчестве 3. Гип¬
пиус. Одна из героинь ее пьесы «Зеленое кольцо.»-, где изображается
декадентски изломанная молодежь, девушка Туся, исповедует такие
взгляды на любовь:«Если очень страшно любишь — хочется, чтобы те жили по-твое¬
му, любили по-твоему — и только кого сам любишь — и еще чтобы
с тобой они вечно были, чтобы уже без всякой свободы».Такую деспотическую любовь отстаивает героиня пьесы, и здесь
вспоминаются слова Достоевского из «Преступления и наказания»:
«О, низкие характеры! Они и любят —точно ненавидят...» — и эту дес¬
потическую любовь, которая хуже иной ненависти, проповедуют юнцы
и девушки 3. Гиппиус, составляющие общество «Зеленое кольцо».Нечто подобное проповедовали и супруги Мережковские. Да, они
соглашались любить и Россию и ее народ,— но только при одном
условии: чтобы все в ней было «по-ихнему», в согласии с их апокалип¬
тическими чаяниями, мистико-реакционными, в духе «теократии»,
воззрениями — и никак не иначе! — «чтобы уже без всякой свободы».Но когда оказалось, что революционный народ просто прошел
мимо них, словно и не заметив их потуг быть его глашатаями и пред¬
ставителями, пророками и вершителями его судеб, то они настолько
озлобились, что даже и самодержавие, на котором они некогда видели
печать апокалиптического «зверя», обрело в их глазах привлекатель¬
ные черты (что наглядно свидетельствует о том, какова была подопле¬
ка их мнимо революционных призывов и заклинаний!).О, петля Николая чнгце,Чем пальцы серых обезьян!..—*выкрикивала Зинаида Гиппиус в бессильной злобе против трудовых
масс, впервые в истории мира взявших власть в свои руки, и от былых
призывов к «грозе» у нее не осталось ничего, кроме вороха исписан¬662
ной бумаги. А Блок, никогда не отделявший книгу от жизни, далеко
не сразу сумел постичь: как могла отрекаться от революции люди,
о которой, если верить их. писаниям, «ни только и мечтали? В чем
смысл их поведения?Вот на этот вопрос Блок отвечал — пересматривая многолетние
отношения с ними — и в поэме «Двенадцать» и в статье «Интеллиген¬
ция н Революция», где он решительно спорил с Зинаидой Гиппиус,—
•н не только с тем, что она утверждала в то время, но и с ее старыми
стихами, уводившими их. читателя от земной жизни в мир отвлечен¬
ней и бесплотной мечты. 3. Гиппиус некогда писала, что ей «хочется
того, чего нет на свете», и на эти слова, ставшие своего рода знаменем
я программой символизма, Блок возражал, дословно цитируя ее стихи
ж тут же опровергая их.Поэт подчеркивал, что человеку надлежит «верить по в «то, чего
нет на свете», а в то, что должно быть на свете: пусть сейчас этого нет
и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она — прекрасна».Во времена «самой глухой реакции», когда «дремало главное
и просыпалось второстепенное» (как говорит Блок в письме к 3. Гип¬
пиус), людям часто казалось: стоит только вместе «перемигнуться»
над стихами Владимира Соловьева, воспевающими «Деву Радужных
Ворот», вместе восхититься картинами Берн-Джонса или какого-ни¬
будь другого художника-ирерафаэдита, перекинуться словом об
«Inferno» Стриндберга, намекнуть о «преследованиях в оккультной
форме» или вместе заслушаться трагической и грозной музыкой «Вал-
кирий» — и человек становится таким братом по духу, от которого но
может быть никаких тайн. А теперь все шло по-другому, и людей
объединяло и разъединяло не столько общее отношение к той или
иной картине пли книге, к тому или иному роману Стриндберга или
полотну Берн-Джонса, а нечто гораздо более существенное: отноше¬
ние к восставшему народу, к Октябрьской революции, к новой, совет¬
ской власти; но мудрено, что прежние «дружбы» терпели крах при
первом же серьезном испытании и вчерашние единомышленники
обращались в ожесточенных врагов.Необычайно важно (для понимания дальнейших отношений поэта
с его средой, с его недавними — и давними — друзьями) то, что Блок
писал А. Ремизову еще в 1911 году, словно заглядывая далеко виереД:«До сих пор ведь мы все по отношению друг к другу были более
или менее цветами. Когда встречались, вое между нами было одобрено
розовым маслом — стилями, масками, шутками и стишками. Но самые
плоды — впереди».Да, под этим «розовым, маслом» подчас нельзя было разглядеть
самого человека, а вот теперь, когда резкий и пронзительный ветер
раскачивал и сбрасывал былые и такие подчас широковещательные
и соблазнительные вывески, срывал все маски — даже самые привле¬
кательные и благообразные с виду! — многие друзья и близкие поэта
предстали в своем истинном существе, и до чего же оно подчас отли¬
чалось от того, каким некогда виделось поэту! Вот почему он поневоле
должен был задуматься об истории и характере своих отношений как663
с Мережковскими, так и со-многими другими «главными интеллиген¬
тами», составлявшими его окружение, пересмотреть и уяснить то, что
доселе было для него совершенно непонятным,— и пришел к знамена¬
тельным выводам, о которых и сообщает в письме (неотправленном)
к 3. Гиппиус — одном из самых примечательных документов в эпи¬
столярном наследии Блока. В этом письме — итоге глубоких раздумий
и огромного жизненного опыта — поэт «напоминает» своей корреспон¬
дентке то, что стало для него совершенно очевидным лишь в дни
Октября:«...нас разделил пе только 1917 год, по даже 1905-ый, когда я еще
мало видел и мало сознавал в жизни...В наших отношениях всегда было замалчивапье чего-то; узел это¬
го замалчиванья завязывался все туже, но это было естественно
и трудно, как все кругом было трудно, потому что все узлы были
завязаны туго — оставалось только рубить.Великий Октябрь их разрубил. Это не значит, что жизнь не напу¬
тает сейчас же новых узлов... только это будут уже не те узлы,
а другие.Не знаю (или — знаю), почему Вы не увидели октябрьского вели¬
чия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало — могло
быть во много раз больше...»Но Зинаида Гиппиус не увидела этого потому, что и не хотела
видеть; поэт втуне обращался к ее «человечности», «уму», «благород¬
ству», «чуткости» — все эти качества (если корреспондентка Блока
когда-то и обладала ими в той или иной мере) перегорели и расплави¬
лись в ярой ненависти к революции и восставшим массам.Но, конечно, письмо Блока обретает значение не только «высвечи¬
вания» личных и литературных отношений с Зинаидой Гиппиус и ее
единомышленниками, но и гораздо более широкое. Здесь поэт осмыс¬
лил. ;Свой жизненный и творческий путь, свои отношения со всей
окружавшей его средой, с которой с годами было все меньше взаимо¬
понимания. Вот почему так туго завязывался «узел замалчивания»
того «главного», что составляло суть и смысл всей его жизни,— и что
разорвало его связи с былыми друзьями и наставниками, долгие годы
изображавшими собою «народных заступников» и «пророков рево¬
люции».
ЗА И ПРОТИВПоэма «Двенадцать», так же как и статья «Интеллигенция и Рево¬
люция», сразу же после опубликования вызвала самые противоречивые
отклики.«Поэма произвела целую бурю: два течения, одно восторженно-со¬
чувственное, другое — враяадебио-злобствующее — боролись вокруг
этого произведения...» — сообщает биограф поэта М. А. Бекетова («Але¬
ксандр Блок», стр. 256), и буря, вызванная этой поэмой, не затихала
целые годы.Даже из воспоминаний наиболее озлобленных (в ту пору) врагов
и клеветников поэта (не говоря уже о других источниках!) явствует,
что поэма «Двенадцать» превратилась в событие огромного масштаба
и ее строки в годы гражданской войны стали плакатами, полотнищами,
лозунгами, которые виднелись среди демонстраций, па улицах, на
мчащихся к фронтам поездах — и с которыми солдаты Красной Армии
шли на борьбу с белогвардейцами и интервентами.О том, как принималась поэма Блока «в сочувствующей, револю¬
ционно настроенной аудитории», биограф поэта сообщает:«Многочисленная публика, в числе которой было немало солдат-
и рабочих, восторженно приветствовала поэму, автора и чтицу (JI. Д.
Блок.— Б. С.). Впечатление было потрясающее, многие были тронуты-
до слез, сам Ал. Ал., присутствовавший на чтении, был сильно взволно¬
ван...» («Александр Блок», стр. 257).Схожие заметки находим мы и в записной книжке самого Блока:
«Рабочая дружина чит<ает> «Двенадцать». . •«Люба (жена поэта.-— Б. С.) ...в казармах Московского полка...—
Красной армии. Читала «Двенадцать». Слушали очень внимательно.
Все уже — па Мурманском фронте...» — и нам понятно волнение поэ¬
та, который воочию убеждался, как восторженно откликались на его
поэму те массы, для которых она была предназначена.В своих воспоминаниях о Блоке Вс. Рождественский, рассказывая
о «литературном утре», на котором J1. Д. Блок выступала с чтением
недавно опубликованной, но уже приобретшей широчайшую извест¬
ность Октябрьской поэмы Блока, также свидетельствует, что «...чтение
«Двенадцати» прошло триумфально», вызвало «живейший отклик де¬
мократической галерки», долго не смолкающие «аплодисменты взвол¬
нованного зала...» (Всеволод Рождественский. «Страницы жизни».063
М.—JI., «Советский писатель», 1962, стр. 221),—я сколько таких
«утренников» и «вечеров» с чтением «Двенадцати» состоялось в то
годы и в Петрограде, и в Москве, и во многих других городах рево¬
люционной России!О том, как отзывчиво, горячо, страстно читатель тех лет восприни¬
мал «Двенадцать», говорят не только многие воспоминания о Блоке,
но и записки, посланные поэту в начале мая 1921 года (в дни его вы¬
ступлений в Москве) и бережно сохраненные Блоком в его архиве;
многие слушатели в своих записках настойчиво просили все об одном
и том же, все об одном — чтобы услышать из уст автора полюбившую¬
ся им поэму (icoTopyio сам поэт — по ого убеждению — «не умел
читать»):«Если возможно «Двенадцать» (ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 14,
стр. 32.).«От Вас услышать «Двенадцать» мечта многих — сделайте это!!»
(там. же, стр. 40).«12» (!) Ради Бога: ходим второй день и не можем услышать»
(многочисленные подписи.; там же,, стр. 56),— и сколько таких просьб,
записок, требований, говорящих о том, как захватила поэма «Двена¬
дцать» самые широкие круги читателей и какой не затихающий с го¬
дами отклик вызвала она, было адресовано в то время поэту!Об этом отклике свидетельствуют и многочисленные перепечатки,
переиздания и .переводы поэмы (о чем сообщается в примечаниях
к собранию его сочинений):«При жизни Блока поэма вышла еще в трех (помимо первого.—
В. С.) изданиях в издательстве «Алконост».,., не считая, ряда провин¬
циальных и зарубежных изданий (Одесса, Красноярск, Тифлис, Баку,
Ставрополь, Харьков, Киев, Чернигов, Чита, Париж, София, Берлин),
осуществленных без участия автора, а также — в переводах па фран¬
цузский, немецкий, итальянский, английский, польский, болгарский,
еврейский, древнееврейский, украинский языки» (Александр Блок. Со¬
чинения, т. 3. М., Гослитиздат, 1960, стр. 626).В России поэма «Двенадцать» выходила пе только на территории,
управляемой советской властью, по и в белогвардейском тылу, в виде
нелегальных брошюр и листовок, и это лишний раз подчеркивает ее
злободневное и политическое значение.Газета «Правда» отозвалась на появление книги Блока «Россия
и интеллигенция» статьей М. Левидова «Переступившие через черту».
В ней раскрыто огромное и благотворное влияние Октябрьской рево¬
люции, разрешившей старую трагедию поэта, чувствовавшего отчуж¬
денность от народа той интеллигенции, с которой он был кровно связан
и которая в подавляющей своей части в дни революции отошла от нее.
А теперь, писал М. Левидов, «...к народу, ко всей России обращен
яркой радостью наполненный возглас Блока, заканчивающий его кни¬
гу («всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Револю¬
цию»,— Б. С.) — исповедь этого отщепенца от интеллигенции, этого из¬
гоя, одного из немногих, имевших достаточно нравственного мужества,
чтобы почувствовать трагедию, и одаренного истинно талантливой686
душой для того, чтобы в слиянии с пародом, с революцией достигнуть
разрешения трагедии...» («Правда», 18 января 1919 г.)., Эти. слова, обращенные к создателю поэмы «Двенадцать» и автору
статьи «Интеллигенция и Революция», свидетельствуют о том, как вы¬
соко оценила большевистская печать творческий и гражданский подвиг
поэта (хотя, конечно, образ Христа и вызывал у многих читателей
вполне понятные возражения).О том, что поэма Блока стала не только примечательнейшим явле¬
нием литературы, но вошла в повседневный быт эпохи гражданской
войны, свидетельствует и ЬСорнелий Зелинский в своей книге «На
рубеже двух эпох» (Москва, издательство «Советский писатель»,
1959):«Ранней весной 1918 года я встретил па Невском проспекте Алек¬
сандра Блока. Поэт стоял перед витриной продовольственного мага¬
зина, за стеклами которой висели две бумажные полосы. На них были
ярко оттиснуты слова: на одной — «Мы на горе всем буржуям мировой
пожар раздуем» и иа другой — «Революцьонинй держите шаг! неуго¬
монный не дремлет враг!» Под каждой из этих строк стояла подпись:
«Александр Блок...» (стр. 7),—и такого рода плакаты, лозунги, при¬
зывы, выхваченные из поэмы и отвечавшие героическому духу рабочих
масс, Блок мог видеть, а порою и видел там, где кипела ожесточенная
борьба с силами прошлого,— и ее оружием (даже вне зависимости от
воли самого художника) становились огненные .строки поэмы.Но была и иная аудитория, усматривавшая в Октябрьской поэме
Блока, в его статьях и выступлениях измепу былым идеалам, разрыв
с прежними друзьями, соратниками, единомышленниками, и нельзя за¬
бывать о том, что среди хулителей поэмы и врагов ее автора оказалось
подавляющее большинство тех интеллигентов, которые еще так не¬
давно составляли ближайшее окружение поэта, его дружескую и ли¬
тературную среду. Именно они яростно нападали на поэта и с наи¬
большей ожесточенностью травили его.Поэт, говоря словами Некрасова, и поистяне мог услышать «звуки
одобревья» своей поэмы «не и сладком ропоте хвалы, а в диких криках
озлобления»,— и такими «дикими криками» была переполнена антисо¬
ветская пресса тех лот, трактовавшая Слока как человека, продавшего
свои былые идеалы ради «чечевичной похлебки»,— о чем а говорит
одна жз записей поэта, относящаяся к началу 1918 года:«Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем «утре России» в Тени-
шевском зале. Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и мо¬
ему — «изменники». Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся
на меня страшно...»После появления «Двенадцати» и статьи «Интеллигенция и Рево¬
люция», вызвавших невероятную ярость в стане контрреволюции, к ко¬
торому примкнули и многие «писатели-витии», он мог решительно и
спокойно сказать по их адресу:«Господа, вы никогда не знали России и никогда ее по любили.Правда глаза колет».Здесь под правдой Блок подразумевал все горькое, резкое, беспо-667
щаднов, что брошено им в лицо тем людям, которые еще так недавнорядились в тогу глашатаев и «пророков» революции.Разве могли простить Блоку издевку над Учредительным собра¬
нием контрреволюционные элементы, которым оно в то время пред¬
ставлялось самым надежным оружием в борьбе против советской вла¬
сти — с помощью вполне «демократического» (в глазах мелкобуржуаз¬
ного обывателя!) учреждения?! Уже одно то, что Блок разоблачил
в своей поэме истинную природу Учредительного собрания (поставив
©г® рядом с публичным домом!), но могло не вызвать у них припадка
самой бешеной и оголтелой злобы.О том, как отозвались на появлопие статьи «Интеллигенция и Ре¬
волюция» недавние друзья и соратники поэта, свидетельствует его
запись в дневнике, относящаяся к концу января 1918 года:«...Мережковские прозрачно намекают на будущий бойкот. Соло-
губ (!) упоминал в своей речи, что А. А. Блок, которого «мы любили»,
печатает свой фельетон против попов в тот день, когда громят Але-
неавдро-Невскую лавру» (!)».Блок знал: каждый его шаг в сторону жизни, народа, общества вы¬
зывает (да и всегда вызывал) негодование и оторопь у близких ему
людей; так было, когда он высмеивал в «Балаганчике» бредни «мисти¬
ков», чающих пришествия «Жены, облеченной в солнце»; так было, ко¬
гда В статье «О реалистах» он высказал несколько уважительных слов
о Горьком и писателях, группировавшихся вокруг сборников «Знание»;
так было всегда, когда он решал нечто важное, значительное,— и спра¬
ведливо полагал, что при этом «лучше, чтобы друзья держались по¬
дальше», ибо они могли только помешать ему — и мешали—в реше¬
нии «важного».Блок был всем опытом своей жизни подготовлен к тому, что про-
тнв него и теперь подымется травля, — но ее масштабы превосходили
асе. Предыдущее. Одной из своих корреспонденток Блок сообщал летом
1818 года: «Я чувствую временами глухую травлю, чувствую, что есть
люди, которые никогда не простят мне «Двенадцати». Но, с другой
стороны,— подчеркивал поэт,— «есть люди, которые (совершенно не¬
ожиданно для меня) отнеслись сочувственно (к нему и к его поэме.—В, С,) и поняли, что я ничему не изменил».Так оно и было на самом деле. «Принимая» Октябрь, поэт и по-
кстине «ничему не изменил» — ничему из того, что составляло самые
основы его мировоззрения. Но вот именно это и отрицали организато¬
ры. «глухой травли» поэта, стремившиеся сломить его волю, его муже¬
ство,. Здесь особое, чуть ли не первое, место занимала 3. Гиппиус
(«Антон Крайний»), выступившая против Блока с фельетоном «Непри¬
личия* («Современное слово», 1918, № 3554), одно название которого
говорит само за себя.. . Противопоставляя в своей статье Федора Сологуба и Блока, автор
«Неприличий» уверяет, что Сологуб и сам не может представить себя
в «стыдном положении», а вот Блок, опубликовавший поэму «Двена¬
дцать» с предисловием В. Иванова-Разумника, «в нем очутился, и ни¬
чего...».
Так 3. Гиппиус «распекала» поэта, словно строптивого школьника»
а в завершение своих «Неприличий» она истерически выкрикивала,
что «если, в связи с общим (!!!), литературное наше одичание будет
продолжаться — русская литература и пе до того еще дойдет...» — и
примеров подобного «одичания» она бралась представить сколько
угодно, «хоть отбавляй» («яростная и мелкая злоба» — так определил
сам Блок в записной книжке характер этого фельетона).«Одичание», «неприличие», «неприличный жест» — все это сказано
и адрес одного из величайших русских поэтов, но за этим адресом ви¬
ден и иной, гораздо более широкий и «общий». Хотя «Антон Крайний»
и уверял в своей статейке, что ои, сочиняя ее, остается «в плане исклю¬
чительно литературном», совершенно не касается «так называемой
политики», но именно духом политики, притом самой откровенной
и весьма дурно пахнущей, пронизана эта статейка, носящая явно кле¬
ветнический характер; ее автор уверяет, что, мол, сейчас, в условиях
революции, не нужно, да и опасно, соблюдать какие бы то ни было при¬
личия, ибо это «вещь трояко-криминальная. Приличия, с известной
(то есть большевистской, как намекает автор статьи.— Б. С.) точки
зрения: 1) саботаж, 2) буржуазность и 3) контрреволюция».Как видим, «так называемой политики» в «Неприличиях» сколько
угодно, и при этом — такой политики, в которой все пышет негодова¬
нием и ненавистью к новой, советской власти.Зинаида Гиппиус всячески преследовала поэта уже и после раз¬
рыва их личных отягощений. Она поносила его не только в своих ста¬
тьях и речах, но и в стихах, и писала в стихотворении «Идущий», по¬
священном Блоку и Белому (опубликованном в «Новых биржевых ве¬
домостях» и сохранившемся в архиве Блока), о Христе, который идет
вдоль длинных улиц заснеженного города, омраченного «гневом бо¬
жьим», ищет своих двух неразумных детей, двух «заблудившихся»
поэтов,— но напрасно! Они «заблудились» навеки, как уверяет автор
стихотворения:В покрывале ветер свищет, гонит с севера мороз,Никогда их не отыщет —двух потерянных — Христос...—(ЦГАЛИ, ф. 55, он. 2, ед. хр. 5),—и действительно; для лагеря контр¬
революции эти поэты оказались «потерянными» навсегда.В травле Блока пытались не отстать от Зинаиды Гиппиус (хотя
это и было трудновато) такие писатели и критики-«эстеты», как Юрий
Айхенвальд, мнивший себя самым утонченным ценителем и знатоком
современного искусства. В его статье, носящей весьма характерное для
контрреволюционно настроенных кругов интеллигенции название
«Псевдореволюцвя» (так автор статьи называл Октябрьскую револю¬
цию), народ, взявший в свои руки кормило власти, назван «торжест¬
вующим Калибаном»^ то есть жалким уродом, охваченным самыми
низменными страстями и инстинктами, от которого (за немногими иск¬
лючениями,— тут, конечно, помянут и Блок!) якобы отвернулась вся
современная литература, сохраняющая верность «одухотворенному
Просперо» (носителю светлого и доброго начала). Вся эта игра в шек¬
спировские образы, спекулятивно-фальсификаторское их использование
понадобилось автору «Псевдореволюции» для того, чтобы мимоходом,
как о чем-то само собою разумеющемся, заявить о «теперешней фазе
нашей по существу контрреволюционной революция», которая «в сво¬
их сегодняшних проявлениях» — это-де «„.только ужасное половодье
крови, только разрушение и гибель, только отрицание, а не созидатель-
ство» («Накануне», 1918, № 4).Вот до каких столпов разнузданной клеветы и самых оголтелых
антисоветских выходок доходили люди, воображавшие себя «чистыми
эстетами» и не брезговавшие самой отвратительной руганью, если бы¬
ли затронуты их сугубо личные и классовые интересы,— и Айхенвальд
тут нее поносит поэтов, не разделявших его откровенно контрреволю¬
ционных позиций:«...Среди неожиданностей нашей революции есть не только траги¬
ческое, но и вызывающее улыбку, хотя бы и горькую. Таково, напри¬
мер, скоропостижное обращение в большевистскую веру иных поэ¬
тов — Александра Блока и Андрея Белого».Изобразить Андрея Белого «большевиком» — с его антропософско-
мистическими увлечениями и чаяниями той поры, выступлениями про¬
тив марксизма — можно было только в состоянии припадка исступлен¬
ной злобы, доводящей до полного ослепления. Впрочем, до такого со¬
стояния и доводила иных, некогда «утонченных» эстетов и снобов не¬
нависть к революции.В схожем духе высказывался о поэтах,, принявших Октябрь,, а ста¬
ло быть — о Блоке, и один из былых его друзей — Георгий Чулков, ко¬
торый в то время утверждал (как записывает Блок в своем дневнике),
что все происшедшее в дни Октября есть «мрачная контрреволюции,
а в марте революция была...». Исходя из этих антисоветских позиций,
он и нападал на «наших декадентов» (то есть поэтов, принявших рево¬
люцию), которым «все нипочем; им, по-видимому, пришлась по вкусу
та буйная метелица, которая закрутилась на улицах обманутого и об¬
манчивого города; им нравится пьяная тоска, декадентское отчаяние,
хулиганское безверие и площадное безбояже. В этом уличном мареве
не найти ни хюнца, ни начала, ни правды, ни правдивости,— да и за¬
чем они, все эти нравственные относительности.?..» — иронически во¬
прошал Чулков. И продолжал с наигранным и ничем не оправданным
пафосом:«Правда, погибает Россия, та какое дело декаденту до
России, когда ему, «единственному и его достоянию» ничего не
угрожает?..»Впрочем, Чулков готов проявить и снисходительность к тем поэтам,
чьи «стихи и проза» стали появляться в некоторых газетах — «самых
левых и самых крайних»:«Полемизировать с поэтами нет нунсды и обвинять в гнусном пре¬
дательстве нет смысла. Поистине лирики невинны, ибо не ведают, что
творят. Они так же невинны, как невинна проститутка, которую воспи¬
тала улица...» («Накануне», 1918,. № 1).Так лихо разделывались враги Октября с теми художниками, хсо-670
торые приняли революцию .как свое, родное, кровное дело и восторжен-
но воспевали ее,— и так они третировали и «поучали» Блока.Иные писатели в знак презрения и негодования перестали пода¬
вать Блоку руку, подобно одному из некогда ценимых им литерато¬
ров — В. Пясту, который даже и после смерти поэта не мог «простить»
ему «Двенадцати» и, сводя с ним «старые счеты», поучал — уже покой¬
ного! — поэта в книге, посвященной ему же:«Какой же морок, какая мара заволокла его очи, какой «альп»
водил рукою поэта, когда... писал он,:...не трусь!Пальнем-ка нулей в Святую Русь!и так-далее, и так далее!»И Пяст высокомерно возвещал в связи с этим;«Ответственность за слова! Вот что страшно!» (В. Пяст. «Воспоми¬
нания об Александре Блоке». ГГг., изд-во «Атепсй», 1923, стр. 49—50).
«Мороком» в глазах Пяста выглядела Октябрьская революция, а Блок
утратил, по уверению Пяста, чувство «ответственности» за слова»,
когда воспевал ее!«Вот что страшно!» — пугал Пяст своего читателя, но этот испуг
перед революцией не обнаруживал ничего, кроме истинного существа
самого Пяста, оказавшегося в дни Октября одним из тех озлобленных
обывателей, которые всячески поносили Блока.«Пяст, топорщащийся в углах (мы не здороваемся по-прежне¬
му;..) »,— записывал поэт осенью двадцатого года»,— а ведь Пяст еще
незадолго до революции являлся одним из ближайших друзей Блока;
что же говорить о других — еще более чуждых Блоку людях?! Не было
конца и предела их возмущению, их оскорбительным выходкам против
поэта.О весьма характерном эпизоде сообщает Всеволод Рождественский
в своих воспоминаниях, относящихся к весне 1918 года: на литератур¬
ном утре кружка «Арзамас» JI. Д. Блок читала поэму «Двенадцать»,
а собравшиеся за кулисами литераторы спорили о поэме, всячески
осуждали н ее и ее автора, и вдруг — неожиданно для них — «в ком¬
нату вошел Блок. Перед ним расступились недоброжелательно. Кое-кто
демонстративно повернулся спиной. Бородатый человек в узком фор¬
менном сюртуке отвел протянутую было руку...»Но этой пассивной формы бойкота для присутствующих оказалось
мало — опа выглядела в их глазах недостаточно оскорбительной, и вот
один из них шепчет своему соседу:«— Взгляните, какая у него виноватая спина...Этот довольно явственный шепот ие мог но дойти до ушей Бло¬
ка,— продолжает Вс. Рождественский.— Он резко повернулся и пойти
л упор взглянул иа говорившего... Не торопясь, холодно и несколько
дерзко Блок обвел взглядом присутствующих. Все, потупившись, мол¬
чали. Молчал и он, видимо чего-то выжидая, готовый ко всему...» (Все¬
волод Рождественский. «Страницы жизни». М.,—Д., «Советский писа¬
тель», 1962, стр. 221—222).671
Такою травлей отвечали «высокобровые» интеллигенты, ослеплен¬
ные ненавистью к революции, на страстный и сердечный призыв поэта,
обращенный к ним.Больше всего 3. Гиппиус, Мережковского и иже с ними приводило
в негодование то, что поэма «Двенадцать» оказалась оружием, направ¬
ленным революционными массами против враждебного им лагеря
и широко используемым ими. Это была вынуждена признать и сама
3. Гиппиус (в воспоминаниях о поэте, опубликованных уже после его
смерти), хотя признания ее смешаны с желчью и злобой в адрес рево¬
люции и ее певца:«Большевики... несказапностыо но смущаясь, с удовольствием
пользовались «Двенадцатью». Где только не болтались тряпки с над¬
писью:Мы на горе всем буржуям
Мировой яожар раздуем...Видели мы и более смелые плакаты, из тех же «Двенадцати»:...Эй, не трусь!Пальнем-ка пулей в Святую Русь!и еще что-то вроде» (3. Гиппиус, «Живые лица», Прага, 1925, стр.
62—63).Но это «что-то вроде», свидетельствовавшее, что, вопреки всем
печатным и изустным поношениям, поэма Блока дошла до самых ши¬
роких масс, и доводило 3. Гиппиус до такой неистовой злобы, что ей
«не хотелось даже и слышать ничего о Блоке...» (там же, стр. 63).А слышать волей-неволей приходилось, и то, что она слышала,
вызывало у нее зубовный скрежет. Единственное, что порою несколько
успокаивало ее,— это то, что поэт пребывает «за гранью ответственно¬
сти» (как уверяла она), а значит, с него и взятки гладки!В ненависти к Блоку и его гениальной поэме сошлись вчерашние
«соперники» и «враги», словно для того, чтобы подтвердить старое
изречение, гласящее, что общая ненависть сплачивает людей гораздо
крепче, чем взаимная любовь. Для людей типа Пяста, Айхенвальда,
3. Гиппиус эго изречение оказалось вполне справедливым. Забыв бы¬
лые распри и расхождения, они дружно поносили все то, в чем им слы¬
шался дух революции, а стало быть, поэму «Двенадцать» и ее создателя.Круги от этой враждебной кампании расходились широко — в нее
вовлекалась и часть интеллигентской молодежи, отравленной «сенти¬
ментальным» или «декадентским» воспитанием.В журнале «Новый мир», в подборке «Новое об Александре Блоке»
(1955, № 11), опубликовано письмо начинающих поэтесс, которые, ци¬
тируя строки из поэмы «Двенадцать», обращались к ее автору с весьма
развязными вопросами и советами:«И Вам не стыдно?Пощадите свои первые три книжки, Розу и Крест и Соловьиный
сад!..Как бесконечно жаль, что Вы не остались за оградой «высокой
И длинной»...672
Так оплевать себя!..»На этом мещанско-злопыхательском письме сохранилась и пометка
Блока, свидетельствующая о том, как он относился к авторам подобных
посланий и «критикам» своей поэмы:«Что за глупости? Неужели все та же война развратила этих милых
девушек?..» (публикация Вл. Орлова).Подобные писания не вызывали у поэта ничего, кроме брезгливо¬
сти, к которой примешивалась даже и доля снисходительной жалости.
К выходкам против себя и своей поэмы он уже привык, и они не могли
хотя бы в малейшей степени поколебать его в сознании своей правоты
и значения «Двенадцати».Но были и иные отклики, больно задевавшие поэта, ибо в числе
хулителей и клеветников — неожиданно для него — оказывались люди,
которых он необычайно высоко ценил и уважал; одним из них являлся
большой художник — И. Бунин, в 1918 году выступивший на собрании
московских литераторов с явно контрреволюционных позиций, а стало
быть, с решительным осуждением поэмы «Двенадцать» и ее автора.Сам Бунин в своих опубликованных в Париже «Воспоминаниях»
(1950) подробно описывает этот эпизод, дающий реальное представле¬
ние о том, какой травле подвергался Блок в то время, с каких позиций
нападали на поэта люди, враждебные Октябрю; согласно этим воспоми¬
наниям, Бунин во время обсуждения поэмы «Двенадцать» произнес
перед московскими писателями целую речь, изничтожая и поэму и ее
автора, деятельность которого не вызывала у Бунина ничего, кроме
негодования и озлобления. Бунин пе мог «простить» Блоку того, что
поэт в своей статье призывал интеллигенцию «слушать музыку рево¬
люции», и, всячески понося Блока, присоединял свой голос к голосам
хулителей поэта, организаторов яростной травли против него.Смысл речи Бунина сводился к тому, что в то время, когда совер¬
шаются «бессмысленные зверства» (так Бунин трактовал события Ок¬
тябрьской революции), когда горят помещичьи усадьбы,— «не странно
ли, что в такие дни Блок кричит на нас: «Слушайте, слушайте музыку
революции» и сочиняет «Двенадцать», а в своей брошюре «Интеллиген¬
ция и Революция» уверяет пас, что русский народ был совершенно прав,
когда в прошлом октябре стрелял по соборам в Кремле, доказывая свою
правоту такой ужасающей ложью на русских священнослужителей,
которой я просто не знаю равной: «В этих соборах, говорит он, толсто¬
пузый поп целые столетия водкой торговал, икая!» Что до «Двенадца¬
ти», то это произведение и впрямь изумительно, но только в том смыс¬
ле, до чего оно дурно во всех отношениях. Слон нестерпимо поэтичпый
поэт, у него, как у Бальмонта, почти никогда нет ни одного слова
в простоте, все сверх всякой меры красиво, красноречиво, он но знает,
не чувствует, что высоким стилем все можно опошлить».Стремясь доказать ту ложную мысль, будто революционное по сво¬
ему духу произведение не может быть подлинно художественным,
Бунин и рассматривает поэму Блока, как «набор стишков, частушек,
то будто бы трагических, то плясовых и в общем претендующих быть
чем-то в высшей степени русским, народным».673
Но из этих попыток Блока, по миопию Бунина, ничего но получи¬
лось, да и не могло получиться — вместо кародпого языка и народных
чувств у него якобы мы видим «нечто совершенно лубочное, неумелое,
сверх всякой меры вульгарное», и как пример этой «вульгарности»
Бунин приводит замечательный образ поэмы, в котором выражена вся
обреченность старого, некогда «страшного», а ныне отжившего и жал¬
кого мира:Стоит буржуй, как пес голодный,Стоит безмолвный, как вопрос,И старый мир, кик пес безродный,Стоит за ним, поджавши хвост.Этот образ исполнен глубочайшего философского и социального
смысла, а Бунин усматривает в нем всего только нечто вульгарное,
«лубочное». Ничто в понстине гениальной поэме Блока не захватило
ею, даже и те стихи, в которых с огромной силой раскрыта трагедия
человека, совершившего злодеяние — и испытывающего неотступные
муки своей уязвленной совести:— Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,Загубил я, бестолковый,Загубил я сгоряча... ах!Цитируя в своих воспоминаниях эти стихи, Бунин сопровождает
их такими комментариями, каким нельзя не поражаться — настолько
спи произвольны и несправедливы:«В этой архи-русской трагедии ие совсем ладно одно: сочетание
толстой морды Катьки с «бедовой удалыо» ее огневых очей.По-моему, очень мало идут огневые очи к толстой морде. Не совсем
кстати и «пунцовая родинка»,— ведь не такой у.ж изысканный ценитель
женских прелестей Петруха» (И. А. Бунин. «Воспоминания». Париж,
изд-во «Возрождение», 1950, стр. 215—220).Для нас очевидно: отвергая самый замысел поэмы Блока как враж¬
дебный ему, Бунин пе «принял» и тех деталей, черт, образов, в которых
этот замысел воплотился. Отсюда поразительная для большого худож¬
ника слепота и глухота в оценке одного из самых замечательных явле¬
ний русской поэзии — поэмы «Двенадцать».Но даже и вопреки воле автора «Воспоминаний» мы видим в его
крайне односторонних, иронических и злобных описаниях, какое огром¬
ное впечатление произвела поэма Блока на ее слушателей и читателей.«...Так как слава этого произведения, которое почему-то называют
поэмой,— говорит Бунин,— очень быстро сделалась вполне неоспори¬
мой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание,
потом послышались негромкие восклицания: «изумительно! замеча¬
тельно!» (там же, стр. 214).Вот эти-то восторженные похвалы произведению, самый дух
которого был враждебен Бунину, и довели его до белого каления. Оп674
взял текст «Двенадцати» и, согласно воспоминаниям, произнес речь,
в- которой разделал под орех и поэму «Двенадцать» и ее автора.Что можно сказать по поводу этой совершенно несостоятельной
и откровенно злопыхательской речи Бунина?То, что ненависть к революции, «осуждение» народа, совершившего
ее, никому не проходит даром и ослепляет даже такого большого ху¬
дожника, как Бунин. Он терпит явное поражение, лишается присущего
ему тонкого чутья, вкуса, чувства меры, когда пытается защитить
исторически обреченное дело и бранит все то, что противоречит его
симпатиям, обращенным к далекому и уже отжившему прошлому,—
именно это и подтверждают те страницы воспоминаний Бунина, где он
выступает против крупнейших писателей, имена которых являются
гордостью и славой советской литературы, в том числе и против Блока.Может быть, для врагов революции поэма Блока, в которой он под¬
хватил их аргументы, причитания, ламентации — и швырнул обратно
им в лицо, звучала неслыханной дерзостью, подобно «Нате!» Маяков¬
ского, таким же насмешливым вызовом, такою же беспощадной издев¬
кой над их «святая святых»-,— недаром вопль: «Кощунство!» явился
первым, каким враги Октября встречали новую поэму Блока
и остервенело бранили ее еще прежде, чем успевали в нее вчитаться.К явной клевете на предельно искреннего и безукоризненно прав¬
дивого поэта, который даже по свидетельству такого озлобленного его
врага, как Зинаида Гиппиус, «никогда не врал», прибавились и аргу¬
менты, если можно так сказать, «религиозно-философского» порядка,
сводившиеся к обвинениям поэта в циничном отношении к образу
России, «поруганному безбожной и бесчеловечной, кощунственной
и мерзкой революцией», в «Двенадцати» не преодоленной «пи эсте¬
тически, ни религиозно»,— как писал бывший «марксист» П. Струве.
Оказавшись в эмиграции, он опубликовал в своем журнале «Русская
мысль» (1921, № 1—2) статью, посвященную «Двенадцати», где трак¬
товал поэму как произведение, в котором автор ие ставил задачи пре¬
одоления революции — отсюда то «естественное (!!!) отталкивающее
впечатление, которое иа многих производит «Двенадцать».Далее П. Струве «разъясняет» и «обосновывает» свою точку зре¬
ния — и не только на поэму Блока, Но и иа породившие ее события,
вызывавшие у редактора «Русской мысли» бешеную и бессильную зло¬
бу (статью П. Струве Блок переписал в своем дневнике):«Отношение к русской революции есть частный случай отношения
к греху и мерзости вообще. Оно у Блока тоже двусмысленно цинично
и кощунственно. Это не может не восприниматься болезненно всеми
любящими красоту блоковской поэзии...»Так «любители» блоковской поэзии поносили поэта за создание
самого значительного его произведения.В анкете Союза деятелей художественной литературы, отвечая иа
вопрос, «волнующий каждого сознательного русского гражданина»:
«Что сейчас делать?», Блок говорил:«...«сознательный русский гражданин»—термин старый и растя¬
жимый. Все три слова — суть слова-оборотни. Я боюсь оборотней.675
Чтобы защититься от них, я оговариваю, но крайней мере, одно:
«русским гражданином», как понимали это слово старые русские ли~
бералы, я никогда не был и не буду, как бы далеко ни простиралась
травля на мою душу. Я — художник, следовательно, не либерал».Да, травля на душу поэта простиралась очень далеко! И здесь
само слово «травля» не случайно и не условно — оно точно передает
характер отношения к поэту тех людей, которые еще так недавно
были наиболее близки ему и составляли его литературную, друже¬
скую, житейскую среду.Следует подчеркнуть: вся эта травля ни в малейшей мере не
смутила поэта, не заставила его отступиться, пересмотреть свои воз¬
зрения, «отказаться» от поэмы «Двенадцать», которую он, вопреки
всем нападкам и обвинениям, продолжал считать лучшим из создан¬
ного им произведением.Характерно в этом отношении письмо Андрея Белого Блоку,
написанное в марте 1918 года; здесь Белый говорит о том, что они
снова «перекликнулись», об огромном и подобном циклу «Куликово
коле» значении «Скифов», о том, что все, что пишет Блок, «взмывает
в душе вещие те же йоты».Поражаясь «отваге и мужеству» Блока (какговорит здесь Белый),
он вместе с тем пытался умерить эту «отвагу» (которой далеко не во
всем сочувствовал) и давал Блоку крайне робкие советы:«...По-моему, ты слишком неосторожно берешь иные ноты. По¬
мни— тебе не «простят» «никогда»...Будь мудр: соединяй с отвагой и осторожность...» — взывал Белый
к благоразумию поэта.От призывов Белого к соблюдению «осторожности» на Блока по¬
веяло чем-то старым, знакомым — «повторением пройденного», и он
отвечает Белому, решительно отметая его советы и предостережения:«Мне бы хотелось, чтобы Ты («все Вы») не пугался «Двенадцати»,
не потому, чтобы там не было чего-нибудь «соблазнительного» (может
быть, и есть), а потому, что мы слишком давно знаем друг друга,
а мне показалось, что Ты «испугался», как И лет назад — «Снежной
Маски» (тоже — январь и снега)...»Таким образом — даже тогда, когда люди, считавшие Блока
«своим», «близким», пугали его тем, что враги ому «никогда ire про¬
стят», Блок, в свою очередь, советовал им самим «но пугаться»—и не
запугивать его.В дни революции поэт, подобно Зигфриду, утратил представление
о страхе и мог только успокаивать своих друзей, когда они опасались
за себя или за него. Он не собирался быть «осторожным», ибо пони¬
мал, что только с помощью беспредельной отваги, бросающей вызов
всему старому миру, можно преобразить жизнь на новых, лучших
началах.И все Hie, вопреки очевидности, несмотря ни на что, поэт еще на¬
деялся, что его недавние друзья не совсем глухи к голосу искренности,
человечности, правды.В июне 1918 года Блок пишет стихотворение, обращенное к 3. Гип¬676
пиус, «при получении книги «Последние стихи» (так сказано'в подза¬
головке этого стихотворения) — той тайги, в которой зачинательница
русского «декаданса» изливалась в бешеной ненависти к революции,
восхваляя заодно, как некий дивный мирая;, «петлю Николая».Блоку понятна «белая горячка» ео «всеми гневами звонящих
строк», но сама 3. Гиппиус, утверждает Блок, пыно чужда большому
миру, бушующему вокруг — и против которого восстала:Голос ваш не слышу з грозном хоре,Где гудит и воет ураган!В черновом варианте сказано еще более решительно и резко!Голос ваш бессилен в этом споре,Вам не переспорить океан!И, как к разрешению всех вопросов и споров, разделявших недав¬
них друзей, поэт обращался к тому слову и имени, с которым ныне
связаны его самые заветные помыслы и надежды на преображе¬
ние мира:Высоко — над нами — над волнами,—Как заря над черными скалами —Веет знамя — Интернацъонал!Но для его корреспондентки не было ничего более чуждого
и враждебного, чем это знамя, и она, вероятно, только брезгливо по¬
морщилась, читая стихи, по поводу которых говорит в своих воспоми¬
наниях' о Блоке:«Блок как-то написал мне в то время стихотворение, такое пош¬
лое (■!!!), как никогда. Было как-то, что каждому своя судьба. «Важ
зеленоглазою наядой плескаться у Ирландских скал, а мне петь Ин¬
тернационал»,Именно так интерпретировала поэтесса, долгие годы игравшая
в революцию и революционную фразу, подлинно человеческие, дыша¬
щие широтою океанских просторов стихи поэта, стремившегося про¬
будить в ней хотя бы самые слабые отсветы былой «мяте?кпости»
и напомнить, что, кроме ее прихотливого «нлесканья», есть огромный
мир, без которого нет и самой жизни. Но обращенный к 3. Гиппиус
призыв поэта пропал втуне.•Следует добавить, что хотя со времени опубликования поэмы
«Двенадцать» прошло свыше полувека, в белоэмигрантских кругах
господствует то ate сугубо враждебное к ней отношение, та же пол¬
нейшая глухота к ней,— что и свидетельствует о том, как остро
и больно жалит она того, против кого и была нацелена с самого пер¬
вого дня появления в свет и кто поныне болезненно и горько пережи¬
вает1 (как свою собственную!) судьбу тех, кого Октябрьская революция
нашила былых благ и привилегий,— и «буржуя на перекрестке»,
и «барыни в каракуле», и «писателя-витии». Перед глазами подобный
«критиков» поэмы, уязвленных в своих самых заветных чувствах
и чаяпиях, любые ее эстетические (и многие другие!) достоинства
оказываются сомнительными, а то и ничтожными.
Больше всего те из них, которые — за прошедшие полвека — «ни¬
чего не забыли и ничему не научились», хотели бы «похоронить»
Октябрьскую поэму Блока, выдать ее за нечто недостойное его вели¬
кого таланта и уже отошедшее (в противоположность другим созда¬
ниям Блока!) в далекое прошлое — вместе с породившим ее временем.
Вот и пишет Георгий Адамович (один из наиболее известных литера¬
торов в кругах эмиграции) о «Двенадцати» (в статье «Наследство
Блока»): «...поэма выдохлась (!!!). Она насыщена злободневностью,
а потому увяла, обветшала... Остроумно (?!), в особенности начало, но
как-то непривычно мелко, бойко, чуть-чуть плоско и суетливо» (?!)
(Георгий Адамович. «Комментарии». Вашингтон, 1967, стр. 162).Что же, таким языком можно было говорить в свое время о раеш¬
нике какого-нибудь «дяди Михея», рекламировавшего табак и марки
«Дюбек» или «Дюшес», но когда в таком стиле критикуется «Двена¬
дцать»,— трудно поверить, что все это пишется всерьез.Не мудрено, что тот же Г. Адамович — ив той же книге,— пы¬
таясь понять, почему же все-таки «Двенадцать» были созданы таким
несравненным поэтом, как Блок, утверждает, что он «не был умен»
(при всей своей одаренности!) «в смысле быстроты и точности рассуд¬
ка»,—что «отчасти и объясняет его срыв (?!) к «Двенадцати» (там же,
стр. 75).«Назвать «срывом» небывалый взлет, ответивший давним и глу¬
боко назревшим мечтам и чаяниям самого поэта,— вот «логика», за¬
ставляющая отмахиваться от произведения, слава которого и поистине
стала мировой и бессмертной!Можно было бы привести (если бы в этом оказалась надобность)
и многие другие свидетельства, говорящие о том, что в среде белой
эмиграции «Двенадцать» и поныне воспринимаются как произведение,
активно направленное против нее (что и свидетельствует о его вели¬
кой жизненности, непреходящей силе),—и можно представить, с ка¬
ким негодованием и озлоблением встретили враги Октября появление
в свет поэмы Блока, которую они и поныне не могут ему «простить»
(как и предупреждал его некогда Андрей Белый)!Правда, Блока не только хулили; иные литераторы из числа его
противников готовы были (ради его «былых» заслуг) примириться
с поэтом, подать ему руку — лишь бы он отрекся от своих крамольных
и ненавистных им «Двенадцати». Они не прочь были распустить слу¬
хи, что такое «отречение» уже состоялось н сам Блок не может,
дескать, слышать даже упоминания о своей Октябрьской поэме!Отношение к Блоку той части белоэмигрантской прессы, которая
была склонна «реабилитировать» поэта (особенно — после его смер¬
ти), как человека, полностью «покаявшегося» в своих революционных
чаяниях и «падениях», нашло наиболее «сконцентрированное», почти
формулировочное выражение в тех же воспоминаниях 3. Гиппиус
о Блоке, опубликованных под столь же претенциозным, сколь и без¬
вкусным названием «Мой лунный друг». Завершая свой очерк описа¬
нием «разрыва» с поэтом, оказавшимся автором «кощунственной»
поэмы, 3. Н. Гиппиус с помощью собственных домыслов и различного678
рода кривотолков, а то и доходящих из-за советского рубежа слухов
создает воображаемый облик «раскаявшегося» Блока, внутренне уже
перешедшего в стан белой эмиграции и полностью сомкнувшегося
с нею.«Великая радость в том, что я хочу прибавить...» — возвещает
3. Гиппиус своим читателям, словно закрывая глаза на все то, что
поэт написал после «Двенадцати» и что в своем основном и главном
говорит о том же, что и поэма,— все о том же.Эта «радость» вызвана тем, что некие люди, «глазам которых
я верю, как своим собственным», сообщает 3. Гиппиус (это были те
«свидетели», к которым вполне применимо выражение: «врет как оче¬
видец»), сообщили ей, что они узрели «медленное восстание Блока,
как бы духовное его воскресение, победный конец трагедии. Из глуби¬
ны своего падения (!), он, поднимаясь, достиг даяче той высоты, кото¬
рой ие достигли может быть и не падшие, оставшиеся твердыми
и зрячими»,Конечно, уверяет вслед за подобными «свидетелями» 3. Гиппиус,
этот «воскресший Блок» в последние годы свои «уже отрекся от всего.
Он совсем замолчал, не говорил ни с кем ни слова. Поэму свою
«12» — возненавидел (1), не терпел, чтоб о ней упоминали при нем»
(3. Н, Гиппиус, «Живые лица». Прага, 1925).Создав эту фантастическую картину, ничего общего не имеющую
с реальной действительностью, 3. Гиппиус в завершающих строках
своих «воспоминаний» о Блоке (относительно которых нельзя по
вспомнить давних слов самого Блока: «Мережковские много врут»)
сочинила утешительную для всего белоэмигрантского стана легенду
о «раскаявшемся» Блоке, который-де в последние годы своей жизпи
«сумел стать одним из достойных... И в том радость, что он на век я
наш» (!!!). И поэтому «мы, сегодняшние, можем неомраченно любить
его живого» (там же).Таковы заключительные слова очорка «Мой лунный друг», свиде¬
тельствующие, какие легенды и басни создавались в антисоветском
лагере о Блоке и о его поэме, как при жизни поэта, так и — особен¬
но —■ после его смерти, когда уже но могло быть никаких опасений по
поводу того, что сам герой этих легенд выступит против них и разру¬
шит их одним щелчком, как карточный домик.Но все же поэт выступал против подобных лживых легенд, начало
которым было положено еще и при его жизни, выступал решительно
и непримиримо, о чем свидетельствует почти все, что написано им
после «Двенадцати»,— будь это очерк о Каталине или комментарии
к Лермонтову,..Вопреки показаниям тех «свидетелей», па которых ссылается
в своих воспоминаниях Зинаида Гиппиус, статьи и высказывания са¬
мого Блока неопровержимо свидетельствуют о том, что все написанное
им вслед за поэмой имеет непосредственное отношение к его поэме,
подводит к ней, разъясняет ее замысел, ее образы, ее связь и с собы¬
тиями современности и с великой культурой прошлого.О том, как Блок — ужо в самом конце своей жизни — относился670
к «Двенадцати», мы узнаем не только из его собственных высказыва¬
ний, но и из многих воспоминаний современников.Так, Константин Федин говорит в своей книге «Горький среди
нас» о том, как к Блоку — после произнесения в Доме литераторов
речи «О назначении поэта» — протолкался некий публицист, и «с оче¬
видным удовлетворением, но с болезненной миной он посочувствовал
Блоку:— Какой вы шаг сделали после «Двенадцати», Александр Алек¬
сандрович!— Никакого,— ровно и строго отозвался Блок.— Я сейчас думаю
так же, как думал, когда писал «Двенадцать».Он сказал это так, что искусителю не пришло в голову его оспа¬
ривать («Горький среди пас. Двадцатые годы», ГИХЛ, 1943, стр. 99).Об этом же сообщает и двоюродный брат А. А. Блока — Г. II. Блок,
которому поэт сказал:«— «Двенадцать» — какие бы они ни были — лучшее из того, что
я написал!» (журнал «Русский современник», 1924, № 3, стр. 183).Этому убеждению поэт никогда не изменял; оно составляло пафос
многих статей, очерков, записей Блока, и оно же подтверждено им во
многих ясных высказываниях, не подлежащих никаким кривотолкам.
«НА ЛИНИИ ОГНЯ»3. «Я НИЧЕМУ НЕ ИЗМЕНИЛ»Как примирять огромный талант Блока — бесспорный даже для
его тогдашних врагов и недавних друзей — с его «изменой» им, с тем,
что он не с ними, а с большевиками?Для объяснения этого была выдвинута «концепция», заключаю¬
щаяся в том, что Блок — не в жизни, а «около» жизни, что он — ин¬
фантилен, что он остался ребенком — с рождения и на всю жизнь, не
сумел «в свое время повзрослеть», как говорит Зинаида Гиппиус
в своих воспоминаниях о поэте. Она уверяла, что «необходимая взрос¬
лость... не приходила к Блоку. Он оставался, при редкостной глуби¬
не— за чертой «ответственности» («Живые лица», стр. 15).Вот этой «детскостью», «незащищенностью», «безответственостыо»
и пытались объяснить «падение» и «измену» Блока иные из его былых
друзей.Подобные обвинения в «измене» были настолько нелепыми, что
поэт счел их не чем иным, как недоразумением, ошибкой, провалом
памяти у своих оппонентов и противников, которые словно бы забыли,
что писал и говорил поэт — и не только в последние дни, но и в тече¬
ние многих лет, предшествовавших Октябрю. Вот тогда-то и появилась
в евет книга Блока «Россия и интеллигенция» (1918), которою поэт
напоминал о своих статьях, написанных на протяжении двенадцати
(1907—1918) лет; в ней ретроспективно, уже на гребне великой рево¬
люции, отвечавшей сокровенным чаяниям поэта и давшей выход его
внутреннему мятежу, он оценивает и характер дореволюционной эпо¬
хи и свое личное место в водовороте исторических событий, предшест¬
вовавших Октябрю.Для поэта выход этого сборника, который он сам рассматривал
как сугубо современный и даже злободневный (в связи о чем он
и перепечатывал иные из своих старых статей в газете «Знамя тру¬
да»), имел особый, «музыкальный», как сказал бы сам Блок, смысл,
помогающий уяснению его сегодняшней позиции и единства — при
всей сложности и противоречивости — его пути, пониманию того, как
автор «Стихов о Прекрасной Даме» пришел к «Двенадцати»; этот
сборник подтверждает, насколько органичными —■ в творческом
и гражданском развитии поэта — явились его «Двенадцать» и статья
«Интеллигенция и Революция», замыкающая книгу и посвященная681
тому жо кругу размышлений о России, народе, интеллигенции, кото¬
рый издавна захватил поэта.К статьям Блока, предшествующим главной и основной — «Ин¬
теллигенция и Революция», следует внимательно присмотреться,—
ес :и мы хотим осмыслить характер тех воззрений Блока, которые
сказались в поэме «Двенадцать» и в его выступлениях, относящихся
к годам гражданской войны.При всей своей внутренней противоречивости, а иногда и алогич¬
ности, книга «Россия и интеллигенция» в чем-то самом основном —
в воззрении на народ, интеллигенцию, революцию как взрыв стихий¬
ных сил — по-своему цельна, последовательна, внутренне едина.
Несомненно, это-то обстоятельство и стремился подчеркнуть поэт, вы¬
пуская свои статьи — и старые и новые — отдельной книгой, свиде¬
тельствующей, что сегодняшнее восприятие резолюция было давно
подготовлено и продиктовано всем ходом его внутреннего развития.Для Блока выпуск книги «Россия и интеллигенция» являлся ие
только ответом тем клеветникам, которые кричали, что поэт изменил
и сабе и своим былым взглядам, по и горделивым утверждением того,
что статьи, написанные десятилетие назад и казавшиеся в свое время
многим их читателям всего только фантастическими и нелепыми,
выдержали испытание революцией — самой грандиозной в истории
мира, и, стало быть, автор этих статей, на которые его критиками
«было потрачено пе мало злобы в разных ее оттенках» (как сообщает
поэт в предисловии ко второму изданию), оказался во многом прав.
Учу то свою правоту, цельность, незыблемость и устанавливал поэт
выпуском книги «Россия и интеллигенция».— Прочитайте статьи, входящие в мою книгу, если вы не читала
их раньше или просто забыли,— словно бы обращался Блок к своим
читателям,— и отыщите в них — при всей их противоречивости! —
хоть крупицу того, что можно было бы назвать изменой своим убеж¬
дениям, своим идеалам, своим позициям,— и только тогда выносите
тот или иной приговор, не раньше!Что ж, последуем и мы за приглашением поэта и перечитаем его
статьи, составившие сборник «Россия и интеллигенция», выпущенный
в разгар самых ожесточенных боев времен гражданской войны, в са¬
мый разгар травля, поднятой против Блока ого клеветниками
и хулителями.В предисловии к книге поэт определял ее тему — тему отношений
интеллигенции и народа, которой придавал огромное, самое важное
значение в ж и спи наших людей; эти отношения приняли, по мнению
автора, характер некоей роковой и неизбежной враждебности (причем
под интеллигенцией поэт подразумевал особого рода соединение, «во¬
лею истории вступившее в весьма знаменательные отношения с «на¬
родом», со «стихией», именно — в отношении борьбы»), и следует
подчеркнуть, что в этой борьбе все сочувствие поэта — не па стороне
той интеллигенции, к которой он сам принадлежал, а на стороне на¬
рода, «стихий».Почему с такою горечью, а порою и явным озлоблением говорит682
поэт в той интеллигенции, с которой был житейски и литературно
связан, а потому и мог ее наблюдать постоянно и повседневно? Пото¬
му, что она была оторвана от парода, подменяла живое, нужное ему
дело «уродливым мельканием слов»,— как говорил поэт в первой же,
открывающей книгу, статье «Религиозные искания» и народ» (1907).
Этой статье поэт, судя по всему, придавал особое значение, ибо именно
здесь на языке прозы и публицистики сформулировал наиболее важ¬
ные для него положения и вопросы, для ответа на которые ие хватило
и всей его жизни и которые во многом определили характер всего
дальнейшего творчества Блока.В статье «Религиозные искания» и народ» присущая поэту «воля
к подвигу», к настоящему, большому делу, во имя которого не жаль
пожертвовать и всей жизнью, оборачивается презрением к той беско¬
нечной и бесплодной болтовне, которая господствовала на собраниях
«Религиозно-философского общества» и прочих, призванных служить
защитой от надвигающейся революции и подменить созданием «рели¬
гиозной общественности» подлинно революционные чаяния и стремле¬
ния широких масс.В беспощадно саркастическом духе изобразив обстановку «рели¬
гиозно-философских» собраний, Блок говорит о самых острых вопро¬
сах современности, от которых не отделаться схоластической бол¬
товней: «А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, их
вешают; а в стране — «реакция»; а в России жить трудно, холодно,
мерзко...»И поэт, перед глазами которого раскинулась огромная, необъят¬
ная страна, где «люди голодают, их вешают», с ненавистью и презре¬
нием клеймит тех, кто способен уйти от страданий и унижений на¬
рода — в дебри мистико-религиозной схоластики:«Да хоть бы все эти болтуны в лоск исхудали от своих исканий,
никому на свете, кроме «утонченных натур», ненужных,— ничего
в России бы не убавилось и не прибавилось!»«Болтуны» — так Блок в порыве своего праведного гнева, направ¬
ленного против очередных пособников реакции и мракобесия, заклей¬
мил «представителей религиозно-философского созпапия», и в первую
■очередь — Мережковского и Розанова, как активных организаторов
«диспутов с попами»; Блок ценил художественное дарование и того
и другого, но именно их он имел в виду, обрушиваясь на «кафедры
религиозно-философских собраний», которым Мережковский придавал
прямо-таки эпохальное значение.Но в чем же сам Блок усматривал выход? Где видел людей дела
и подвига, а не «болтунов»? Мы находим в статье ответ и на этот
'вопрос — но до чего он беспомощен и по-детски наивен! Да и продик¬
тован он теми людьми, которые и сами недалеко ушли от участников
«Религиозно-философского общества» и вполне могли бы соперничать
с ними — на совершенно равных правах — в «мистических», религиоз¬
ных и прочих диспутах; Блок цитировал «пятикопеечную книжку»,
изданную «Посредником» (И. Нажпвин, «Что такое «сектанты» и чего
они хотят»),— и при этом многозначительно добавлял:683
«В этих пятикопеечных брошюрах случается находить иногда
больше полезного, нежели в толстых и дорогих книгах и журна¬
лах». . ■Но то, что Блок считал «полезным», а именно — рассуждения
И. Нажнвина о сектантах как носителях народной мудрости, исконных
народных начал и представлений (в противовес «политикам», поль¬
зующимся, как уверял в своей брошюре «толстовец» И. Наживин,'
«иноземным товарам» и пытающимся искусственно привить его к «не¬
подходящей» для этого русской почве),— все это было не чем иным,
как бесплодной болтовней, только отвлекающей от единственно вер¬
ных, революционных путем борьбы с силами реакции и мракобесия.Участникам религиозных собраний и вечеров «свободной эстети¬
ки» поэт предпочитал людей иной веры и иного оклада, о которых
и рассказывали сектантские брошюры, — но нетрудно убедиться, что
он так и не сумел решить поставленный им вопрос о народе и интел¬
лигенции, ибо противопоставил риторике участников «религиозно-
философских» собраний сектантскую схоластику, носившую такой же
бесплодный характер, как и прения мистиков и церковников, «посе¬
девших в спорах о Христе». Поэт не видел людей подвига, людей буду¬
щего там, где они были на самом деле, а поэтому и искал их — вслед
за Иваном Наживиным — там, где их не было, среди сектантов и вся¬
ческих изуверов, запутавшихся в дебрях религиозной казуистики.Блок видел в сектаптстве бессмертное проявление живого народ¬
ного духа, вечно развивающейся мысли, но он не знал, с каким гнетом,
с каким жесточайшим подавлением любой мысли, не согласующейся
с учением или указанием главы или «наставника» секты, связана
жизнь ее приверженцев и адептов; идеализируя сектантство, Блок
писал матери:«Забавно смотреть на крошечную кучу русской интеллигенций,
которая в течение десятка лет сменила кучу миросозерцания и разде¬
лилась на 50 враждебных лагерей, и на многомиллионный народ, ко¬
торый с XV века несет одну и ту же однообразную и упорную думу
о боге (в сектантстве)».Далее в письме следует утверждение, которое с предельной на¬
глядностью свидетельствует о том, как глубоко заблуждался поэт
в оценке существа и характера сектантства:«Письмо Клюева окончательно открыло глаза...» (1907).Уже одно то, что именно, в Клюеве с его хлыстовскими замашка¬
ми, витиевато-вычурным слогом и театрально-наигранными, мнимо
глубокомысленными «обличениями» русской интеллигенции (и, в част¬
ности, самого Блока) — поэт видел подлинного представителя народа;
выразителя его вековых дум и заветных чаяний, наглядно свидетель¬
ствует, как далек он был от верного понимания истинной сущности
сектантства и «деятелей» религиозно-сектантского толка.Под влиянием писаний Д. Мережковского, И. Наживина, Н, Клюе¬
ва и других поборников религиозного изуверства Блок также усмат¬
ривал в религиозности и в сектантстве верность духу народной сти-
хки;. оп утверждал, что сектантство несет в себе какую-то большуЕО684:
и упорную думу, в которой — решение судеб русского народа, его
будущее. Во всем этом и сказались наивно-инфантильные, идеалисти¬
ческие представления поэта о движущих силах истории, сводившейся
в его глазах к смене одних религиозных убеждений и моральных
принципов другими,В статье «Народ и интеллигенция» (1908) поэт в тревоге говорит
о «недоступной черте» между интеллигенцией (охваченной «волею
к смерти») и народом (который искони носит в себе «волю к жизни»),
и ему кажется,— «как бывает в страшных снах и кошмарах»,— что,
«бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке,
на верную гибель», и что «над нами повисла косматая грудь коренни¬
ка и готовы опуститься тяжелые копыта».В таких грозных и фантастических образах рисуется поэту отно¬
шение народа к интеллигенции — враждебной народу, оторвавшейся
от пего и от его корней. Но, рисуя эту устрашающую картину, поэт
ни одной минуты не сомневался в справедливости народного суда —
каков бы ни был этот суд! — не сомневался и в том, что только в на¬
роде — и с народом — подлинная жизнь, «воля к жизни», а все осталь¬
ное — проникнуто все-ми видами «самоуничтожения».Было в этих воззрениях Блока своеобразное и лирически сумбур¬
ное «неовародничество», беспочвенность которого не может вызвать
никаких сомнений, но был и дерзкий вызов той интеллигентской
прослойке, которая уклонялась от живого, нужного народу дела,—
и поэт оказывался правым, обрушивая на нее свой ярый гнев.В статье «Стихия и культура» (1908), в которой «стихия» — то
есть народ — уподоблена потоку огненной лавы, а «культура» — «за-
черепевшему» верхнему слою, самым хаотическим и противоречивым
образом смешаны и предчувствия новой революции, грозной и неиз¬
бежной, ибо ни одно из жизненно важных требований народа не было
удовлетворено в ходе революции 1905 года, и фантастические утопии
в народническо-сектантском духе; Блок здесь с сочувствием цитирует
письмо одного из сектантов, утверждавшего, что «мы» (то есть сек¬
танты) «никогда не были рационалистами, а были и суть — мистики
самой чистой воды»,— и эти «мистики» веруют в то, что «Тысячелет¬
нее Царствие наше будет не за гробом, не на небе, а на земле...».Судя по всему, на поэта эти слова произвели особое впечатление,
ответили его собственным думам; в них ему слышался призыв к осо¬
бой «революции» — не по программам той или иной партии, а под дик¬
товку «неведомой силы», в согласии с древними пророчествами (от¬
звуки этих фантастических представлений о связи надвигающейся
революции с велениями божественной «неведомой силы» мы видим
и в поэме «Двенадцать»); вот почему поэт такое важное значение
придавал словам о сочетании революции и религии — эти слова и зву¬
чали для Блока крайне многозначительно. В них он находил немую
премудрость, зародившуюся в самых сокровенных недрах народной
души.Необычайно важны — для понимания позиций Блока — страницы
статьи «Пламень», посвященные книге П. Карпова и сами словно бы
затлеватощис от приближения настоящего, не книжного, огая, о кото¬
ром говорил поэт в конце своей статьи:«Не все можно предугадать и предусмотреть. Кровь и огонь могут
заговорить, когда их никто не ждет. Есть Россия, которая, вырвав¬
шись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть
более страшной».Так писал Блок в 1913 году — в последний «мирный» год старой
России, и в его словах прорывается острое предчувствие грозных
исторических событий и той революции, дыхание которой становилось
все более жарким.Эта статья, как и другие, перепечатанные в книге «Россия и ин¬
теллигенция», свидетельствует, что поэт издавна прислушивался к тем
подземным гулам, которые колебали почву под ногами, угрожали
катастрофой всему старому миру, являлись предвестьем новой рево¬
люции, призванной смести весь строй насилия и бесправия.Таким образом, в статье «Интеллигенция и Революция», являю¬
щейся как бы эпилогом книги его лирико-публицистических статей,
Блок подытоживал и то, что было написано в предыдущих статьях,
задолго до революции, говорил об условиях, в которых они писались,
обстоятельствах, вызвавших их к жизни, и устанавливал несомненную
для него внутреннюю связь всего материала, составляющего книгу
«Россия и интеллигенция»:«В том потоке мыслей и предчувствий, который захватил меня де¬
сять лет назад, было смешанное чувство России: тоска, ужас, покая-
ние* надежда...» Далее поэт пояснял, почему годы реакции «легли
па плечи как долгая, бессонная, наполненная призраками ночь» —
ведь царская власть «в последний раз достигла, чего хотела»,— и не¬
куда было скрыться от «грязи и мерзости» тех лет, когда на авансцену
истории вышли пуришкевичи, азефы, распутины... И как бы порою
ни были наивны представления самого поэта о народе, интеллигенции,
сектантстве, но статьи, собранные в книгу «Россия и интеллигенция»,
пронизаны духом революционных предчувствий,— что и оправдывало
их появление в свет в дни Октября.Конечно, многое в этих статьях неубедительно, а то и в корне
ложно, ибо сам Блок, поднимая жизненно важный вопрос о взаимоот¬
ношениях интеллигенции и народа, выражал полнейшее пренебреже¬
ние к «политике» и тем самым отбрасывал ключ, с помощью которого
только й можно было решить этот вопрос.Блок проявил наивную уверенность в том, что его тема — о наро¬
де и интеллигенции — настолько всеобъемлюща, универсальна, огром¬
на, что она «...рано или поздно погасит все докучные партийные
и личные споры».Но надо было иметь слишком смутное представление о «партий¬
ных спорах», чтобы предполагать, будто они «погаснут» перед сугубо
импрессионистическими рассуждениями поэта о народе и интеллиген¬
ции,— причем интеллигенцию он уподоблял «татарскому стану», на
который и может обрушиться, как во времена Дмитрия Донского,
«народный лагерь»,686
В статье «Религиозные искания» и народ» наряду с точной и сар¬
кастически резкой характеристикой «религиозно-философских» и про¬
чих «собраний» мы встречаем п наивные рассуждения, обращенные
к лштераторам-беллетрлстам:«Марксисты ли, народники ли,— пусть помнят,— внушает поэт,—
что никто из них до сей поры не указал, как быть с рабочим и мужи¬
ком, который вот сейчас, сию минуту, неотложно спрашивает, как
быть..,»Изображать положение в России таким образом, что вот работай
«спрашивает, как быть», а никто не может ответить на этот вопрос,—
значило проявлять крайнюю политическую наивность и отсталость,
незнание затронутого вопроса,—но именно такой незрелостью и ин¬
фантильностью в области политики отличались воззрения Блока. Это
и было естественным следствием тех идеалистических представленийо народе, обществе, движущих силах истории, от которых поэт пе мог
освободиться до конца своих дней.Отсутствие реальных связей с подлинно передовыми силами рус¬
ского общества приводило Блока к тому, что, издеваясь над никчемной
и бесплодной болтовней представителей «религиозно-философского
сознания», он вместе с тем выступал с чтением своих докладов и ре¬
фератов (вошедших в книгу «Россия и интеллигенция») на тех же
собраниях «Религиозно-философского общества»; он оставался в том
же заколдованном кругу, из которого не видел реального выхода,
а поэтому находил выход мнимый — в сектантских и прочих измыш¬
лениях.Для нас очевидна произвольность и несостоятельность иных сопо¬
ставлений и исторических (вернее — антиисторических) аналогий
поэта — он даже и Красную гвардию приравнивал к «сектантству».
Но здесь важно подчеркнуть то, что, как бы ни были эти взгляды
произвольны и субъективны,— возникли они не случайно — и «траге¬
дия» поэта (о ней он скажет впоследствии в письме к 3. Гиппиус)
заключалась, и нонстине, в том, что в нем «ничего но изменилось».
Революцию он увидел в свете старых представлений о пароде, стихии,
сектантстве,— вот почему статьи Блока о народе и интеллигенции
производят двойственное впечатление. В них много глубоких мыслей
и точных наблюдений над теми кругами либерально-буржуазной ин¬
теллигенции, с которыми поэт был жизненно и литературпо связан,
и всю бесплодность и антинародность которых отлично сознавал,
а вместе с тем и неверных выводов, ибо свои наблюдения он весьма
произвольно обобщал, относил их к интеллигенции в целом, создавая
фантастическую концепцию исконной враждебности интеллигенции
и народа, утверждая, что «каждый член культурного общества, без
различия партий (курсив мой.— В. С.), литературных направлений
или классов (курсив мой.— В. С.),— представляет из себя одно из
слагаемых какого-то целого» (то есть народа или интеллигенции. —
Б. С.), и, таким образом, трактуя интеллигенцию как некую внеклас¬
совую категорию.Не видя борьбы двух культур — в пределах одной национальной,687
исходя во многом из «почвеннических» (в духе Аполлона Григорьева)
представлений, Блок склонен был рассматривать всю интеллигенцию
как своего рода «единый поток», отделенный от народа «недоступной
чертой», и видел в этом потоке лишь отдельные, редкие исключения,
подтверждающие установленные им «законы».В статье «Стихия и культура» он так и говорит:«....исключения подтверждают правила; а счастливыми исключе¬
ниями, людьми, способными идти навстречу народу, являются как раз
передовые люди, вдохновляемые своим трудом, стоящие на честном
посту, охраняющие от врага своих невидимых спящих друзей».К таким «исключениям» Блок причислял огромные и дорогие ему
имена Менделеева, Толстого, Горького,— они, как утверждал поэт, не
отделяют себя от народа, сочетают слово и дело, и стало быть, есть
какая-то «согласительная черта» между народом и интеллигенцией.
Для нас очевидно, что поэт завидует участи таких людей, которые,
неся в себе высшую культуру, стоя там, где решаются ее самые слож¬
ные и насущные вопросы, в центре путей, где скрещиваются судьбы
истории, оказываются в силу этого нужными народу и служат ему
делом всей своей жизни; оно и становится «большим делом», равным
подвигу; поэт, ставя перед собою трудные задачи, думая лишь «о ве¬
ликом», тянулся к людям, нашедшим верный исход своей «воли к под¬
вигу» и не знавшим никакого средостения менеду словом и делом.Но все Hie эти «отдельные исключения» не меняли и не могли
изменить (как полагал поэт) общего положения интеллигенции как
силы, враждебной народу, оторвавшейся от своих корней, от народной
почвы. Впрочем, та интеллигенция, которую он непосредственно
наблюдал и с которой был лично связан, поистине являлась чуждой
и враждебной народу; меж ним и ею в дни революции и действительно
пролегла «недоступная черта»—та пропасть, перешагнуть через ко¬
торую эта интеллигенция — в подавляющей своей части — не смогла.Книгой «Россия и интеллигенция» Блок бросал вызов своим кле¬
ветникам, утверждая, что и последняя ее статья — «Интеллигенция
и Революция», так же как все предшествующие ей, посвящена одним
и тем же большим, трудным, наболевшим вопросам русской жизни
и что все они «написаны в разное время на одну и ту же старую, но
вечно новую и трагическую для русских людей тему»,— как говорит
поэт в предисловии. Тема эта — Россия, парод, интеллигенция, и для
любого добросовестного и беспристрастного читателя совершенно оче¬
видно внутреннее единство книги Блока, ее последовательность, ска¬
завшаяся даже и в самой ее противоречивости, в остроте поставлен¬
ных вопросов, вызванных тревогой за судьбы родины.Книга эта — итог многолетних раздумий — написана словно бы
одним порывом, одним дыханием, одним росчерком пера.Собрав под одной крышей статьи, объединенные темой «Россия
и интеллигенция», которая, как утверждал автор в предисловия,
и в дни революции «не утратила остроты», издавая и переиздавая эти
статьи, Блок словно бы хотел сказать своим недавним друзьям и со¬
ратникам, отшатнувшимся от него и кричавшим изо всех литератур-
вых и прочих закоулков и подворотен об его «измене» и «преда¬
тельстве»:— Да знали ли вы меня? За того ли вы меня принимали, кем
я был на самом деле? Разве все мои статьи, собранные вместе, не сви¬
детельствуют о внутренней цельности и полном единстве воззрений их
автора? А если не все в этом единстве равно самому себе, если здесь
есть и противоречия и перемены — разве это не закономерно? Разве
об авторе этой книги и его концепции нельзя сказать того же, что сам
он говорит о России, которая, на его взгляд, являет собою «некое со¬
единение, постоянно меняющее свой внешний образ, текучее (как
гераклитовский мир) и, однако, не изменяющееся в чем-то основном»?Таким «гераклитовским миром» и представлялись поэту его соб¬
ственная душа, его творчество — «текучее» и, однако, не изменяющее¬
ся «в чем-то основном».Наверпо, Блоку думалось: стоит ему выпустить такую книгу,
которая неопровержимо засвидетельствует единство его воззрений на
народ и интеллигенцию, а стало быть, органичность и неизбежность
приятия революции,— его противники и клеветники, вняв неопровер¬
жимым доводам, сразу замолкнут и усовестятся.Но еще Стендаль проницательно заметил (в статье «Лорд Байрон
в Италии»), что «взгляды высшего английского общества нельзя ис¬
править разумом, так как они порождены выгодой...» — и то же самое
можно отнести к любой привилегированной общественной прослойке,
интересам и выгодам которой угрожают реальные опасности. «Испра¬
вить» ее с помощью разума, доказательств, доводов, хотя бы самых
убедительных и неопровержимых, не представляется возможным,—
в чем Блок убедился на своем личном опыте. Хотя он и издал книгу,
свидетельствующую о цельности, постоянстве и неизменности его ос¬
новных воззрений на народ и интеллигенцию, его клеветники
и хулители не обратили на его доводы ни малейшего внимания и по-
прежнему продолжали с завидным рвением травить и клеймить поэта,
окружая его имя лживыми легендами и порочащими выдумками.
А если это никак не согласовалось с истиной, что ж, тем хуже для
нее — полагали они.2. «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ И ЖЕЛЕЗОМ»IПоэт, отстаивая дело и знамя революции, не только отражал
нападки на себя, свои позиции, свою поэму, словно бы «опоясанную
бурей» (Карлейль), — он переходил в атаку, он активно боролся
с враждебным лагерем, он стоял «иа линии огня», говоря его же сло¬
вами; дыханием огня пронизаны и овеяны многие его высказывания:
и выступлений дней Октября — начиная от статьи «Интеллигенция
й Революция». Она замыкает и подытоживает цикл лирико-публици-
стйгаеских статей поэта, написанных задолго До Октября, а вместе
с тем — открывает обширный ряд новых статей и выступлений, по¬23 Заказ 534689
следовавших за ней и посвященных наиболее острым и злободневным
вопросам культуры, искусства, эстетики — в их связях и отношениях
с великой революцией, захватившей все области человеческой жизни,
В этих высказываниях Блока раскрывается истинное существо тех
людей, которые в победе революции усматривали ие только крушение
основ старого строя, но и угрозу для самых высших достижений и цен¬
ностей культуры, выработанных за тысячелетия ее развития,—изо¬
бражая собою защитников и поборников гуманизма, истины, красоты;
вот почему Блок, осмысляя подлинные цели подобной клеветнической
кампании, счел для себя необходимым ответить на эти обвинения
и поношения, разобраться в том, что же на самом деле являют собою
те ценности, которые буржуазная интеллигенция отстаивает и превоз¬
носит с пеной у рта как извечное и незыблемое достояние всего чело¬
вечества.Так возникла одна из самых глубоких и примечательных статей
Блока — «Крушение гуманизма» (1919), в которой поэт прослеживает
закономерности развития буржуазного гуманизма с самого его возник¬
новения, когда он знаменовал новую эру в истории общества, означал
новый — и высший — вид человеческих отношений. И пусть, по вполне
понятным причинам, далеко не все в этой статье выдержало испыта¬
ние временем, но многое (а особенно то, что направлено против бур¬
жуазно-индивидуалистического понимания гуманизма) сохранило
свое значение и поныне, а потому заслуживает самого пристального
нашего внимания.В начале статьи Блок подчеркивает, что обеспечило победу бур¬
жуазного гуманизма в прошлом, на протяжении столетий, и что
в конце концов не могло не привести его — в новых исторических
условиях — к поражению:«Понятием гуманизм привыкли мы обозначать прежде всего то
мощное движение, которое на исходе средних веков охватило сначала
Италию, а потом и всю Европу и лозунгом которого был человек —
свободная человеческая личность. Таким образом, основной и изна¬
чальный признак гуманизма — индивидуализм».Этот — индивидуалистический — гуманизм в свое время сыграл
прогрессивную роль: он расшатывал основы феодального строя
и прокладывал дорогу новым, более передовым отношениям, а потому
и одерживал на протяжении веков огромные победы. «Его духом были
проникнуты как великие научные открытия и политические течения,
так и отдельные личности».Говоря об успехах движения, исходной точкой — и конечной
целыо — которого была человеческая личность, Блок утверждает, что-
ово «могло расти и развиваться до тех пор, пока личность была глав¬
ным деятелем европейской культуры».Но вот «на фоне европейской истории появилась новая движущая
сила — не личность, а масса», — а в связи с этим, продолжает Блок,
«наступил кризис гуманизма» — того гуманизма, основой которого
я является индивидуализм, интересы и потребности отдельной лич¬
ности, расцениваемые ею превыше, всего.€130
Почему гуманизм старого толка потерпел закономерный и совер¬
шенно очевидный крах? Потому, что он отличался общественным
индифферентизмом, проходил мимо тех огромных социальных проти¬
воречий, бедствий и несправедливостей, в результате которых жизнь
и интересы миллионов приносились в жертву интересам жалкой кучки
«сытых» — и отлично уживался с этим порядком, поддеряшвал ого.
Стало быть, он являлся одною из его опор, способствовал укреплению
строя насилия и бесправия, шшогал ему носить благообразную маску,
скрывать хищнический облик и бесчеловечную суть, — и тем самым
оказывался весьма острым и действенным оружием в руках господ¬
ствующей верхушки.Кружение этого гуманизма являлось не только неизбежным, но
и совершенно справедливым; как бы ни оплакивали его поборники
и прислужники старого, буржуазно-помещичьего строя, Блок безоши¬
бочно улавливал подоплеку их воплей и причитаний, в которых поэту
слышалась неодолимая тоска по старым, безвозвратпо ушедшим вре¬
менам — и неистовая злоба к восставшим массам.Отвечая веем тем, кто подменял глубокое осмысление происходя¬
щих событий бессильной злобой, Блок говорил:«Художнику надлежит пылать гневом против всего, что пытается
гальванизировать труп. Для того, чтобы этот гнев не вырождался
в злобу (злоба — великий соблазн), ему надлежит хранить огонь
знания о величии эпохи, которой никакая низкая злоба недостойна».И, подчеркивая, что именно доляшо вызывать в художнике свя¬
щенный гнев, Блок напоминал о «социальном неравенстве», как
источнике праведного и неугасимого гнева. Он советует художнику
не унижать великого содержания этих двух слов «ни «гуманизмом»,
ни сантиментами, ни политической экономией, ни публицис¬
тикой...».Конечно, сама эта формула в достаточной мере противоречива^
обнаруживает инфантильное понимание «политической экономии»
и «публицистики» (хотя статья самого поэта была явной—и по тем
временам крайне острой — публицистикой). Но главное и основное
здесь — это отрицание буржуазно-индивидуалистического «гуманиз¬
ма», взятого на вооружение врагами революции.Статья «Крушение гуманизма», написанная в разгар революцион¬
ных событий, является непосредственным откликом на них, но и она
менее всего неожиданна или случайна в творчестве Блока. Нет, она
перекликается со многими его произведениями, а прежде всего — с пб-
Э'мЬй «Везмездие», в которой также наносятся беспощадные удары
и по мещанскому индивидуализму и по буржуазному «гуманизму»,
какими высокими словами и красивыми масками ни пытался бы он
прикрыть свое хищническое, отвратительное существо, — ведь по слу¬
чайно Же поэт еще и в былые годы утверждал, что «в гуманистическом
тумане» угасает дух, что в век «буржуазного богатства», в век «расту¬
щего незримо зла» —Под знаком равенства и братства ; ....Здесь зрели темные дела...—>23*691
и Блок, приложив руку к самому пульсу эпохи, слышал его удары,
определял симптомы той болезни, которая превращала в калек людей,
«достойных званья человека».В предисловии к поэме «Возмездие» (написанном в 1919 году)
поэт утверждал, что новое и более острое осознание жизни, привне¬
сенное с собою молодыми отпрысками старого рода, достигается
«ценою бесконечных потерь, личных трагедий, жизненных неудач, па¬
дений и т. д.; ценою, наконец, потери тех бесконечно высоких свойств,
которые в свое время сияли, как лучшие алмазы в человеческой
короне (как, например, свойства гуманные, добродетели, безупречная
честность, высокая нравственность и проч.)».Да, «лучшие алмазы в человеческой короне», добытые в свое
время великими гуманистами прошлого, любые личные добродетели
человека могли оказаться под сомнением, неизбежно обращались
в свою противоположность, — если они сочетались с общественным
индифферентизмом, с мещанской ограниченностью, с ненавистью
к новому, конфликтовали с революционным движением, враждовали
с ним. Если «двенадцать» Блока восклицают: «Пальнем-ка пулей
в Святую Русь», — то здесь под «святостью» подразумеваются и те
патриархальные «добродетели», которые спокойно уживались со всею
жестокостью и несправедливостью основ старого «страшного мира»
и тем самым — поддерживали его, маскировали его хищническое
существо.В те же дни, когда создавалась статья «Крушение гуманизма»,
Блок устанавливал в каждом подлинном артисте, художнике «отсут¬
ствие гуманной размягченности, острое сознание», — .но было бы не¬
верно предполагать, что это означало отвержение тех качеств, которые
присущи гуманизму нового порядка, рожденному в бурях и грозах
великой революции. Насколько понимание нового, социалистического
гуманизма, вбирающего все то лучшее, что создано человечеством за
века его развития, было присуще Блоку, свидетельствует его запись
от 19 июля 1919 года:«Горький читал в Музее города воспоминания о Толстом. — Это
было мудро и все — вместе с невольной паузой (от слез) — прекрас¬
ное, доброе, увлажняет ожесточенную душу».Стало быть, «прекрасное» и «доброе» не уходит в связи с «круше¬
нием гуманизма», а, наоборот, растет и укрепляется, обретает новую
и гораздо более прочную основу. Для Блока было очевидно, что самый
«гуманизм» буржуазного общества, совершавшего «жестокости, но без
жестокости» (говоря словами Стендаля), противостоит подлинной
человечности, отвергающей тот строй, который порождает тысячи
и миллионы преступлений, развязывает хищнические инстинкты
и вожделения, держится на угнетении бесправных и обездоленных
масс.Несколько лет спустя после опубликования статьи «Крушение
гуманизма» Горький писал К. А. Федину, противопоставляя людей
волевых, действенных, активно перестраивающих жизнь, создавших
«в нашем мире все, что радует нас, все, чем гордимся мы», — людям692
безвольным, пассивным, обучившимся «искусству быть несчастными»:
.«На, мой взгляд, с людей- страдающих надо срывать словесные
лохмотья, часто под ними объявится здоровое тело лентяя и актера,
игрока на сострадание.и даже хуже того...» (3 марта 1926 г.). .В связи с этой «игрой на сострадание» и культом страдания,
составляющим основу христианской морали («Я не тебе поклонился,
я всему страданию человеческому поклонился...» — говорит Расколь¬
ников Соие Мармеладовой), Горький утверждает в том же письме:
«Гуманизм в той форме, как он усвоен нами от евангелия и свя¬
щенного писания художников наших о русском народе, о жизни, этот
гуманизм — плохая вещь, и А. А. Блок, кажется, единственный, кто
чуть-чуть не понял этого».Здесь Горький имеет в виду прежде всего статью Блока «Круше¬
ние гуманизма», выделяя ее из всего того, что дотоле было написано
па эту тему, и придавая ей особо® значение.Почему Горький говорит о Блоке как о единственном художнике,
который «чуть-чуть не понял» истинную природу буржуазного гума¬
низма? Потому, что именно Блок — если говорить о художниках прош¬
лого — увидел и разоблачил его органическую связь с индивидуализ¬
мом, с. ожесточенной конкуренцией, составляющей самую душу бур-
игуазного общества, а стало быть, и связь с теми пороками, которые
привели его на край вырождения, деградации, полнейшего одичания;
вместе с тем Горький справедливо говорил о Блоке не как о человеке,
до конца понявшем суть буржуазного гуманизма, а как о «чуть-чуть»
не понявшем ее; это «чуть-чуть» далеко не случайно.Поэт усматривал неблагополучие и распад буржуазного общества
не в их реальном существе, а в вымышленных коллизиях, в столкнове¬
нии культуры с цивилизацией как начал, в основе своей якобы враж¬
дебных друг другу; Блок пытался создать свою философию историй,
свою «историософию», считаясь не столько с объективными фактами
и закономерностями, сколько с величинами и понятиями чисто лири¬
ческого, а то и мифологического порядка, с духом «музыки» как
основной движущей силы истории, и подгонял факты истории под
слишком произвольную схему, — что и вносило неразрешимые про¬
тиворечия в его концепцию.Поэт не видел, что же придет на смену выдохшемуся и ставшему
реакционным «гуманизму» старого общества, устремлял свой взгляд
не вперед, а вспять, хватался за ржавое, уже непригодное оружие,
снова обращался к образу Христа, а потому и оказывался в кругу тех
же метафизически-неизмениых и идеалистически-христианских пред¬
ставлений о морали, только мешавших ему понять истинную природу
нового, социалистического гуманизма, присущего передовым людям
нашей эпохи и не нуждающегося в санкции христианской или какой-
либо другой религии. При всем том в статье Блока есть такие глубокие
наблюдения и размышления о сущности, характере и исторической
ограниченности буржуазного гуманизма, являвшегося порождением
определенных общественных условий и неизбежно делившего их судь¬
бу, какие и поныне сохранили свое актуальное значение.693
IIОтстаивая неразрывную связь культуры и искусства с револю¬
цией, оплодотворяющей творчество в любой области жизниji придаю¬
щей ему подлинную глубину и огромный размах, Блок решительно
опровергал любые попытки отгородить искусство от всех других сфер
человеческой жизни, общественной деятельности, культуры, замкнуть
его в своих же пределах («искусство для искусства»). Блок справед¬
ливо утверждал, что подобное искусство, лишившееся связей с жиз¬
нью, с человеком, с обществом, то есть своих питательных корней, ни
для кого и ни для чего—-кроме баловства — не нужно (а стало быть,
и обречено на вырождение и гибель). Пафосом борьбы за подлинно
гуманистическое искусство, слитое с жизнью народных масс, с их
будущим, со всем потоком культуры, и пронизаны многие статьи,
выступления, высказывания Блока, относящиеся к годам гражданской
войны.Он записывал в апреле 1919 года:«...публика» в своей наивности и вульгарности правее, когда
требует от литературы «души и содержания», чем мы, специалисты,
когда под всякими предлогами хотим освободить литературу от при¬
несения пользы, от служения и т. д. Я боюсь каких бы то ни было
проявлений тенденции «искусство для искусства», потому что такая
тенденция противоречит самой сущности искусства и потому, что,
следуя ей, мы в конце концов потеряем искусство; оно ведь рождается
из вечного взаимодействия двух музык — музыки творческой личнос¬
ти и музыки, которая звучит в глубине народной души, души массы.
Великое искусство рождается только из соединения этих двух элек¬
трических токов...»Здесь важно подчеркнуть, что Блок считал, что «искусство для
искусства» означает не развитие искусства, а его гибель, его ликвида¬
цию,—и в этом он шел вслед за Белинским, который то же самое
утверждал в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», являю¬
щейся как бы завещанием великого критика. В этой статье Белинский
писал:«...вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть
искусством, мы тем не менее думаем, что мысль о каком-то чистом,
отрешенном искусстве, живущем в своей собственной сфере, не
имеющем ничего общего с другими сторонами жизни, есть мысль от¬
влеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигде не. бы¬
вало...»Так утверждал Белинский в середине прошлого века, и его слова
остаются неопровержимым ответом всем тем, кто еще и иоиыце готов
оспаривать у искусства «право служить общественным интересам»;
тот же самый круг вопросов затрагивает и Блок в целом ряде своих
статей, написанных им в последние годы жизни.Необычайно важно то, что говорил Блок в 1919 году в своем
«письме о. театре», в котором он утверждал, что «театр есть могучая
образовательная сила», ибо именно здесь «искусство соприкасается694
с жизнью» — здесь происходит «вечный смотр искусству и смотр жиз¬
ни...».Далее Блок провозглашал дели того нового театра, который
рождался на его глазах в дни революции:«...рампа есть линия огня; сочувственный и сильный зритель,
находящийся иа этой боевой линии, закаляется в испытании огнем.
Слабый — развращается и гибнет», — ибо, как мимоходом замечает
Блок, «искусство, как и жизнь, слабым не по плечу». И далее поэт не
оставляет ни малейших сомнений в том, на чьей стороне его личное
сочувствие, от кого он ждет обновления театра и какой зритель несет
с собою залог расцвета искусства:«...надо переждать, пока порода сытых, равнодушных и брезгливых
людей, давно ненавистных всем артистам и художникам, без разли¬
чия направлений, покинет навсегда светлые театральные залы и опус¬
тится на дно, куда ей и суждено опуститься; другая же порода, не¬
удержимо рвущаяся наверх, — порода людей, душевно голодных,
внимательных и чутких, — еще не наполнит этих зал...» — и именно
к этим людям, жаждущим великого искусства, взывал поэт, именно
с ними связывал мечту о великом и подлинно народном театре.Все это приобретает здесь характер лирико-философской испове¬
ди, эстетического credo, выводящего искусство из узких пределов
«банши из едоновой кости», «блаженных островов», «творимых легенд»
на широкую, людную площадь, на линию огня, где и кипит «вечный
бой» — за будущее, за лучшую жизнь, за человека, и в этом бою
искусству принадлежит огромная роль, вне которой она, как утверж¬
дал Бйок, утрачивает какую бы то ни было ценность. С этих пози¬
ций поэт рассматривал и оценивал любое литературное произ¬
ведение.Чтобы убедиться, насколько широко Блок понимал задачи искус¬
ства в дни революции, чувствуя величайшую ответственность за его
смысл, направленность, судьбы, достаточно прочесть но только его
обширные декларативные статьи, но и каждый —даже и самый ма¬
ленький—отзыв на то или иное произведение, с которым он знако¬
мился как публицист или деятель театра.Он умел беспристрастно оценить любое явление искусства, даже
и очень ему далекое по своему духу. Крайне характерны в этом отно¬
шений его высказывания о пьесе А. Неверова «Захаро1ва смерть» —
настолько значительные и интересные, что и сам Блок в скобках
замечает, что его мысль, «так выраженная, ясна и хороша не только
для рецензии». Что же это за мысль?«Захарова: смерть», — говорит Блок, — бытовая драма, написан¬
ная хорошим литературным языком, очень правдиво изображает не¬
которые черты современной деревенской жизни».Драма Неверова оставляет у читателя «доброе и грустное впечат¬
ление, —замечает Блок, — позволяя ему сделать какой угодно вывод
и не насилуя его совести; а так как совесть влечет человека к новому
(курсив мой.— Б. С.), если над ней не производится насилие, и обрат¬
но — неизбежно умолкает — под гнетом насилия», тб Неверову695
«удааееъ, не давая никаких словесных обещаний и не скрывая пе¬
чальной нравды, склонить читателя к новому».Вот что является в глазах поэта тем существеннейшим достоин¬
ством пьесы, которое он решительно отстаивает и обосновывает,
высказывая в связи с этим целый ряд глубоких соображений, — и они,
действительно, «хороши не только для рецензии».«Нравственная высота» сказалась в пьесе Неверова, по мнению
Блока, именно в том, что автор ее не оставил своего читателя в уны¬
нии и растерянности перед мрачными, хотя и правдоподобными фото¬
графиями, а сумел, сохранив верность «бытовой правде», вместе с тем
«склонить читателя к новому», а говоря конкретнее (ибо отзыв этот
относится к 1920 году)—к делу революции, к тому, что она несет
с собой. В этом поэт усматривал не только достоинства весьма
скромной по своим художественным качествам пьесы А. Неверова
(что совершенно очевидно для сегодняшнего читателя), но и назначе¬
ние любого произведения искусства — не случайно его мысли приоб¬
рели такое широкое и обобщающее значение.В той же дневниковой записи Блок переходит к драме II. Родио¬
нова «В дни революции», по поводу которой высказывает не менее
примечательные соображения, свидетельствующие о том внутреннем
богатстве поэта, для обнаружения которого подчас достаточно было
любого, даже самого малейшего повода или предлога.Поэт замечает, что драма П. Родионова «по-своему тоже правдиг
ва... Язык недурен, и сплести довольно путаную интригу автор су¬
мел...». А далее следует несколько неожиданный вывод: «Но печатать
я бы не стал...» — и не стал бы именно потому, что, как заметил Блок,
«правда ее — фотографическая».Затем поэт обосновывает, почему он отказал бы в праве на онубг
ликование подобному произведению, от которого он не отнимает
известных профессиональных достоинств:«Можно все-таки найти несколько менее мутные очки для оценки
положения русских людей... Читателю, который видит столько серых
пятен своими глазами, нет нужды видеть их еще и в книге, которая
должна как-то, в конце концов, помочь ему жить, а не отнимать по¬
следних надежд...»Когда тот или иной литератор начинал изображать современность
сквозь «мутные очки» своего скепсиса и пессимизма, подменяя глубо¬
кое осмысление жизненных явлений и противоречий плоско-фотогра¬
фическими их подобиями и подбором «серых пятен», Блок решительно
возражал против такого рода сочинительства, претендующего на
истинную правдивость, верность духу самой жизйи, а на самом дела
принижающего человека и отнимающего у него самое главное — веру
в будущее, в свои творческие силы, в свое высокое призвание и наз¬
начение.Мы видим, что и здесь, как и во многих других случаях, Блок
выступает против плоско-натуралистического изображения действи¬
тельности, против бескрылого бытописательства, только мешающего
людям в их .борьбе, за лучшее будущее.696
mHe менее решительно, чем иротив натуралистического крохобор-
чества, выступал Блок и против своего старинного врага — против
эстетства, снобизма, декаданса в любых его формах и видах.Для Блока русский поэт, отрекшийся от «русской жизни и жийни
мира вообще», — это был «знатный иностранец», все писания которого
являлись не более чем безделушкой, пригодной разве только что для
баловства...18 июня 1917 года Блок записывает в дневнике: «Перед моим
окном высохло дерево...» — и вот этот ничтожный — на фоне происхо¬
дящих событий! — факт вызывает у поэта целый поток раздумай,
уже давно назревших и ищущих лишь повода для того, чтобы вы¬
сказаться оо всею присущей им глубиной:«Буржуа, особенно с эстетическим рылом, посмотрит и скажет:
опять рабочие нахулиганили. Но надо сначала знать: может быть, тут
свалили что-нибудь тяжелое, может быть, нельзя было пе задеть,
может быть, просто очень неловкий человек тут работал (у многих из
них еще нет культурной верности движений)».Здесь сказалась давняя и страстная ненависть к «буржуа с эсте¬
тическим рылом», старому противнику Блока, — и поэт не устает
наносить беспощадные удары по тому врагу, с которым не мог при¬
мириться до конца своей жизни.Блок издавна знал, что творческая личность только тогда сумеет
воплотить заложенные в ней возможности, когда приобщится к пароду
и efo жизни, — в противном случае она, даже и будучи талантливой,
обречена на бесплодные метания, вырождение, упадок — как утверж¬
дает поэт в своем фельетоне «Русские дэнди» (1918).Здесь он сухими, резкими, предельно отчетливыми штрихами на¬
брасывает жалкий облик «русского дэнди» — одного из молодых лю¬
дей, который мертвенным, спокойным тоном говорит о себе и ему
подобных:— Нас ничто не интересует, кроме Стихов. Ведь мы — пустые, со¬
вершенно пустые.И хотя в годы гражданской войны людей, подобных этому
«русскому дэнди», было не так-то много, их вредоносность оказыва¬
лась не такой уж малой, — что подтверждают речи и самого «героя»
фельетона Блока:«Нас — меньшинство, но мы пока распоряжаемся среди молоде¬
жи: вы высмеиваем тех, кто интересуется социализмом, работой,
революцией. Мы живем только стихами...»Так стремление «изысканных эстетов» сделать искусство «пред¬
метом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкой праздных
ленивцев» (Белинский) в годы гражданской войны приобретало
особое значение — оно было отравленным оружием и прибежищем тех,
кто выступал против революции, против социализма, кто высмеивал
их и хотел бы замкнуться от эпохи, от ее вихрей и бурь, — если не
в башне из слоновой кости (за отсутствием таковой!), то хотя бы697
в «картонном домике» (так называлось одно из частных издательств
той поры.), построенном из обложек стихотворных книг.Вот в кого выродились ревнители «искусства для искусства»
в годы самой величайшей из революций, и Блок с тревогой думал
о «русском дэндизме» в его прошлом и настоящем, о том, что его
«дожирающее пламя» некогда подсушивало «столетние клены и дубы
дворянских парков в трухлявую, дряблую древесину бюрократии.
Дунул ветер, и там, где торчала бюрократия, ныне — груды мусора,
щепы, валежника».Но «русский дэндизм» — это не только прошлое, и об этом настой¬
чиво напоминает поэт иосле разговора с «русским дэнди». Оказывает¬
ся, опасный огонь «дэндизма» не унялся —■ «он идет дальше и начи¬
нает подсушивать корпи нашей молодежи». Опасение за молодежь,
с которой связано будущее России и всего человечества, заставляло
поэта задуматься о таком явлении, как «дэндизм», вскрыть его истин¬
ное существо, его тлетворное и гибельное влияние; следует напом¬
нить, что статья «Русские дэнди» не утратила актуальности, ибо
и поныне не перевелись всякого рода «дэнди» (как бы их ни имено¬
вать!), пытающиеся превратить искусство в пряное и изысканное
лакомство «для немногих».Разговор о «русских дэнди» Блок продолжает и в связи с книгой
Георгия Иванова «Горница», в которой он встретился с «хорошими,
почти безукоризненными по форме стихами, с умом, вкусом и большой
культурной смекалкой». Но вот дочитываешь эти стихи — и «никаких
чувств не остается», да автор и не хочет вызвать у читателя «какие бы
то ни было чувства».«Что же он хочет? — спрашивает Блок и сам же отвечает на свой
недоуменный вопрос: — Ничего. Оп спрятался сам от себя, а хуже
всего было лишь то, что, мне кажется, не сам спрятался, а его куда-то
спрятала жизнь, и сам он не знает куда,,.»И Блок делится с нами тяжелым чувством, вызванным подобны¬
ми безнадежно мертвенными стихами: >
«Слушая такие стихи, как собранные в книжке Г. Иванова
«Горница», можно вдруг заплакать — не о стихах, не об авторе их;
а. о-'вашем бессилии, о том, что есть такие страшные стихи ни о;чем,
не обделенные ничем — ли талантом, ни умом, ни вкусом, и вместе
с тем — как будто нет этих стихов, они обделены всем, и ничего с этим
сделать нельзя...» . г
Здесь — продолжение тою же разговора об эстетстве, формализме;
снобизме, начатого много лет назад, в снова оказывается, что худож¬
ник— и художник по-своему талантливый«зарезан без крови», •—>
если корни его творчества истлели, иссушены и если само оно
утратило какой бы то ни было смысл, превратилось в пустую забаву.«Так вот он — русский дэндизм. XX века! — восклицает Блок.--~
Его пожирающее пламя затеплилось когда-то от искры малой част;*
байроновской души; во весь тревожный предшествующий нам век оно
тлело в разных Брэммелях, вдруг вспыхивая и опаляя нрылья крыла-1
тих: Эдгара По, Бодлера, Уайльда; . в нем был великий .-соблазн.-*G98
соблазн «антимещанства»; да, оно попалило кое-что на пустошах
«филантропии», «прогрессивности», «гуманности» и «полезностей»; но
попалив кое-что там, оно перекинулось за недозволенную черту...»Поэт размышляет над этим явлением, — оно далеко не так незна¬
чительно и безобидно, как может показаться с первого взгляда: «ведь
в рабочей среде и в среде крестьянской тоже попадаются уже свои
молодые дэнди. Это —очень тревожно...» — и тревога за судьбы
искусства и идущих к нему людей, молодых, духовно здоровых, но еще
слишком неопытных, незакаленных, а потому и не умеющих проти¬
востоять опасным соблазнам «эстетства» и «дэндизма», продиктовала
многие статьи и высказывания Блока, относящиеся к годам граждан¬
ской войны.Самая последняя статья Блока — «Без божества, без вдохновенья»
(1921), опубликованная уже после его смерти, — своего рода завеща¬
ние великого поэта — дышит духом той же непримиримой и страстной
борьбы с извечными его противниками — с эстетством, снобизмом,
с «русскими дэнди»; жажда довести эту борьбу до конца заставила
поэта преодолеть смертельное изнеможение и взяться за перо, чтобы
снова и снова врезаться в самую сердцевину споров об искусстве и пути
его развития, дать решительный бой всему тому, что могло увести
литературу на ложные пути. Так рождалась последняя статья Блока,
вся пронизанная пафосом страстно-напряженной борьбы, духом острой
и непримиримой полемики.В ней поэт решительно и настойчиво возражает против любых
попыток замкнуть искусство в сферу его же собственных интересов
и проблем, против разделения культуры на обособленные как друг от
друга, так и от всей жизни ручейки, которые в этих условиях обрече¬
ны на неизбежное измельчание и усыхание.Блок писал:«Так же, как неразлучимы в России живопись, музыка, проза,
поэзия, неотлучимы от них и друг от друга — философия, религия,
общественность, даже — политика. Все они образуют единый мощный
ноток, который несет на себе драгоценную ношу национальной куль¬
туры...»Блок подчеркивает, как вывод из этих необычайно значительных
и глубоких раздумий:«Когда начинают говорить об «искусстве для искусства», а потом
скоро — о литературных родах и видах, о «чисто-литературных» за¬
дачах, об особенном месте, которое занимает поэзия, и т. д. и т. д.,—
это, может быть, иногда любопытно, но уже не питательно и ие жиз¬
ненно». Это, продолжает поэт, «может понравиться лишь гурманам...»
(повторяя в данном случае — и почти дословно — Белинского).Непосредственным поводом, вызвавшим статью Блока, явился
альманах «Дракон» (издание «Цеха поэтов», 1921), в котором была
предпринята явно анахроническая и безнадежная попытка оживить
одну из дореволюционных модернистских школ — акмеизм. В свое
время Блок не выразил полно и обстоятельно личного отношения
к этой чуждой ему школе искусства, про возглашенным ею прин-G99
Шдагош—«от потому опубликование. «Дракона» вызвало потребность
вернуться к вопросу об акмеизме, проповедовавшем под новой вывес¬
кой зсе ту же старую теорию «искусства для искусства».В своей статье Блок в ироническом духе говорит как об истории
$?оаяакновения акмеизма, так и новых попытках оживить его,— что
кажется поэту занятием совершенно бесплодным, никчемным. Он, всю
жизнь отстаивавший слово, рожденное «из пламя и света», видит, что
даже и одаренным участникам сборника не хватает творческого огня,
что хотя сборник и назван «Драконом», но,— подчеркивает поэт,—
«пламенем «Дракон» не пышет». Наоборот, от него веет холодом и схо¬
ластикой.Споря в своей статье с «вождем» и теоретиком акмеизма — Нико¬
лаем Гумилевым, выдвигавшим перед поэзией на первый план «чисто
лйтературные задачи», Блок выступал против его статьи «Анатомия
стихотворения» — своего рода манифеста акмеистически-формалист-
ского толка, отстаивая искусство, тесно связанное с жизнью народа, об¬
щественностью, публицистикой, культурой, со всеми сферами духов-
йога бытия.Разгадку неудачи сборника «Дракон», рецензирование которого —
«неблагодарное занятие», Блок и находит в программной статье Н. Гу¬
милева, написанной «тоном повелительным, учительским и не терпя¬
щий возражений»,— что вызывает у Блока откровенную иронию.Н. Гумилев утверждал в своей статье, что поэтом является тот, «кто
учгвт все законы, управляющие комплексом взятых им слов»,—и к
этим «законам», произвольно им же самим установленным, сводил
смысл и существо художественного творчества. Но когда художествен¬
ное творчество приравнивалось к филологическому экзерсису на за¬
данную тему, Блоку становилось «жутко», а вместе с тем и весело —
Чего он не собирался скрывать от своих читателей:«Далее говорится, что каждое стихотворение следует подвергать
рассмотрению с точки зрения фонетики, стилистики, композиции и «эн-
Долологии». Последнее слово для меня непонятно, как название чет¬
вертого кушенья для Труффальдино в комедии Гольдони «Слуга двух
Господ». Но и первых трех довольно, чтобы напугать...»Так писал Блок по поводу статьи «Анатомия стихотворения», про-
тазоноставляя подлинно творческое и жизненно важное слово бездуш-
Ко-формалистическому теоретизированию, сводящему искусство к сум¬
ма приемов и заранее определенных «законов».Завершая статью, Блок говорил:«...Н. Гумилев и некоторые другие «акмеисты», несомненно даро¬
витые, топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяче¬
ского формализма; они спят непробудным сном без сновидений; они не
имеют и не желают иметь тени представления о русской жизни и жиз¬
ни мира вообще; в своей поэзии (а следовательно, и в себе самих) они
замалчивают самое главное, единственно ценное: душу».Всего этого, как подчеркивает Блок, нельзя компенсировать ника¬
ким «комплексом» слов, хотя бы и составленным по всем законам и
правилам стилистики и «эйдолологии». — но говорить серьезно об уча-700
стайках «Цеха поэтов» можно будет только тогда, заключает Блок
свою статью, «когда они оставят свои «цехи», «отрекутся от формализ¬
ма», перестанут быть «знатными иностранцами, цеховыми и гильдей¬
скими...».Конечно, этот призыв к отречению от замкнутых поэтических «це¬
хов», от формализма остался безответным, и акмеистический «Цех поэ¬
тов» ни на йоту не изменил своих позиций.Нет сомнений, что статья Блока во многом сохраняет свое значе¬
ние и поныне, помогает бороться с влиянием формализма, с попытка¬
ми подменить подлинное творчество схоластическим теоретизирова¬
нием.Как видим, даже и в год своей смерти, уже предчувствуя ее, Блок
утверждал все те же мысли об искусстве — долге, служении, подвиге,
чуждом эстетско-спобистской бездумности и бездушности. Одному из
«русских дэнди», сочинявшему — в духе «Цеха поэтов» — стихотвор¬
ные «портреты» людей искусства, Блок писал:«Главное, что оригиналы взяты в их чертах застывших, данных.
Не показаны никакие возможности, ничего от будущего, а это — един¬
ственное, что может интересовать».В последних словах — то самое главное и основное, что подчерки¬
вает Блок в своих взглядах на искусство. «Кажется, Вы «эстет»,— до¬
бавляет Блок, заключая в кавычки само это слово и иронически,
даже с какою-то брезгливостью, поясняя: «...всеядный, т. е. Вам нра¬
вится бесконечное количество образов, вещей, душ, пе имеющих об¬
щего между собою. Не так ли?»На этом Блок и завершает характеристику «эстетства» своего кор¬
респондента, словно торопясь оборвать неприятный разговор, но совер¬
шенно очевидно, что разговор этот неприятен поэту именно потому,
что обращен к человеку, внутренне для него совершенно чуждому;
Блок не понимал и не принимал таких «всеядных» людей, которые
не замечали в искусстве ничего «от будущего» и занимались преиму¬
щественно коллекционированием вещей, не столько связывающих че¬
ловека с миром, сколько отгораживающих от него.Правда, подчеркивая основное и ведущее в борьбе Блока с ревни¬
телями «искусства для искусства», нельзя упускать из виду и противо¬
речивости, присущей поэту, «мучительных возвращений» (говоря его
же словами) к тому, что, казалось бы, навсегда преодолено и изжи¬
то им.Так, он давпо уже внушал себе: «Никаких символизмов! Новый
ручеек, пополнив, чем мог, древнее русло, растворился в нем...» — а в
1921 году он снова поверил в возможность оживить символизм и мог
писать о символизме, в связи с организацией издательства «Алконост»,
как о самом живом в литературе явлении, наиболее чутко и глубоко
выразившем дух революции,— хотя попытки гальванизировать симво¬
лизм были явно безнадежны, ничего общего не имели с живыми по¬
требностями развития литературы. Она росла и развивалась отнюдь ие
по «заветам символизма» (как сказал бы В. Иванов), а вопреки им —
и вопреки приведенному высказыванию Блока о символизме.701
IVБлок не видел источников вдохновения и творчества вне связи с
жизнью. Связь с жизнью — это было для него связью с современно¬
стью, со всеми ее событиями, нашедшими свой отклик во внутреннем
мире человека, и это касалось всего, что делает писатель,— даже и то¬
гда, когда его работа носит, казалось бы, сугубо исторический харак¬
тер.Весьма примечателен в этом отношении его разговор со своим
двоюродным братом — Г. Блоком, записанный и опубликованный по¬
следним в очерке «Герои «Возмездия».А. А. Блок спросил, сообщает автор очерка,— «живу ли я совре¬
менностью?».На этот вопрос последовал отрицательный ответ.Тогда А. Блок заметил:«Если не жить современностью — нельзя писать... Вот вы соби¬
раетесь писать о Фете. Должны же вы сказать, почему Фет нужен сей¬
час. А вы этого сказать не можете...» (журнал «Русский современник»,
1924, №3, стр. 183-184).Так даже решение тех вопросов, которые носили историко-литера¬
турный характер и ие были непосредственно связаны с текущей дей¬
ствительностью, поэт не мыслил вне современности, ее живых потреб¬
ностей. На его взгляд — иное понимание литературного труда и даже
самой истории литературы невозможно, приводит к специфически
книжному сочинительству. Против подобного сочинительства Блок вос¬
ставал самым решительным образом, как против явления, по сути сво¬
ей враждебного истинному искусству, всегда тесно связанному с жиз¬
нью, с современностью, с людьми и их насущными потребностями и
интересами.В своих воспоминаниях о Блоке К. И. Чуковский приводит слова
поэта, сказанные им уже после того, как миновал тот подъем, на греб1
не которого написаны «Двенадцать» и «Скифы»:«Все звуки прекратились. Разве не слышите, что никаких звуков
нет?»1 : Несомненно — эти слова отвечают реальному состоянию и настро¬
ению Поэта, который многого не понимал — и не принимал — в Ходё
революции. И все же нельзя придавать им слишком расширительного
'толкования, как это мы видим зачастую в литературе о Блоке; Соглас¬
но им можно представить человека, охваченного тоскою, усталостью,
совершенно чуждого окружающей жизни,— но такое представление о
Блоке времен гражданской войны было бы явно ошибочным и крайпё
односторонним, противоречащим реальному облику поэта и характеру
его деятельности.При веем том мрачном и отчаянном, что переживал Блок, при всей
его нарастающей «глухоте» к окружающему, оп оставался воином, бор¬
цом, страстно — и при любом подходящем случае — отстаивавшим
новые принципы1 культуры и искусства, дышащего духом революций и
служащего ей, стоящего не в стороне от схватки, а «на линии огня»702
(говоря словами поэта). Если собрать то, что написал Блок за три
с небольшим года (1918—1921), то можно поразиться и боевому, насту¬
пательному характеру его выступлений в области публицистики, кри¬
тики, истории, литературоведения, и глубине его мысли, ее необычай¬
ному масштабу,— и выступлений, посвящен пых не «боковым», а са¬
мым важным, коренным вопросам развития искусства и литературы,—
да и просто небывалому для поэта количеству того, что создано им
в этих жанрах (десятки печатных листов, сотни страниц!). Этому ко¬
личеству мог бы позавидовать и любой современный литератор.Мы не согласимся с тем, что шло иод знаком идеалистических
предрассудков и аристократических пережитков поэта, но многое здесь
и доныне сохранило всю жизненность и актуальность,— и нельзя не
расслышать в том, что писал Блок в эти годы «звопа щита», который
он никогда не отбрасывал, отстаивая свои взгляды и убеждения; тут
он был стоек и непримирим,— о чем свидетельствуют многие его статьи
и выступления времен гражданской войны.«...всякий талант должен быть сначала испытан огнем и желе¬
зом...» — утверждал Блок в своей речи «О романтизме» (1919), и эти
слова обретали особое значение в дни революции, которая и являлась
тем «испытанием огнем и железом», которого не выдержали недавние
друзья и соратники поэта. Он стоял «на линии огня» и не сходил с этой
линии до самых последних дней своей жизни; какие бы ^одинокие
сомнения» ни одолевали подчас поэта, ничто не могло заставить его
отступиться, покинуть пост,— если он полагал, что занимает верные
позиции и что этого требует долг художника, равный в глазах самого
поэта рыцарскому долгу.VВ противоположность той интеллигенции, которая открыто отстаи¬
вала политику саботажа, поэт хотел послужить восставшим массам не
только словом, но и делом, передать им все, что нужно, из сокровищ¬
ницы своих знаний, своей культуры, и призывал к тому же самому сво¬
их собратьев по перу.В 65-м сборнике «Литературного наследства» приводятся выдерж¬
ки из воспоминаний Б. Ф. Малкина; из них явствует, каким широким
был в дни Октября саботаж «главной интеллигенции» и как еще узок
был круг тех художников, которые поддерживали советскую власть и
хотели сотрудничать с нею.«Через неделю после Октябрьского переворота,— пишет Б. Ф. Мал¬
кин,—мы в Смольном от имени Всероссийского ЦИК пытались собрать
всю тогдашнюю интеллигенцию Петрограда. Перед этим было много
объявлений в газетах, масса было расклеено в городе афиш, и наше об¬
ращение в популярной информации дошло до всех кругов петроград¬
ской интеллигенции. Обращение было о том, что Советская власть при¬
зывает людей культуры и искусства прибыть в Смольный, предложить
и провести ряд мероприятий, необходимых для молодой, только что
возникшей власти...703
И вот в 7 часов вечера все, что представляло интеллигенцию Петро¬
града, состояло из пяти —- семи человек, которые все уместились на
одном диване. Помшо, там были Ал. Блок, Маяковский, Всеволод
Эмильевич Мейерхольд, Лариса Рейснер...» (стр. 563).Как видно из этих воспоминаний, Блок был в числе крайне узкого
в то время круга той художественной интеллигенции Петрограда, кото¬
рая сразу, без колебания, отозвалась на призыв советской власти уча¬
ствовать в ее культурном строительстве, мероприятиях, преобразова¬
ниях,— что и вызвало крайнее озлобление у многих литераторов, во¬
пивших. об «измене» и «предательстве» поэта.Воспоминания Б. Ф. Малкина свидетельствуют о том, что никто
из писателей и поэтов, составлявших непосредственное окружение
Бяока, никто из тех, с кем он поддеряшвал личные, дружеские или ли¬
тературные отношения, не отозвался на призыв Смольного, саботиро¬
вал его, и Блок оказался в тот вечер чуть ли не единственным предста¬
вителем старой писательской интеллигенции Петрограда; поэт с изум¬
лением ощущал пустоту, возникшую вокруг него, неодобрение и него¬
дование даже тех людей, которых еще так недавно считал своими
единомышленниками и соратниками.В. Полянский, бывший в то время правительственным комиссаром
литературно-издательского отдела Наркомпроса, в своих воспомина¬
ниях «Из встреч с А. Блоком» подчеркивает, насколько трудны были
на первых порах условия для работы Наркомпроса и его отделов:«Интеллигенция саботажничала и сотрудничать с рабоче-кресть¬
янской властью демонстративно не хотела. Из приглашенных к сотруд¬
ничеству в великом культурном деле откликнулись немногие, но и эти
бы»и для нас загадочным сфинксом. Сумеем ли сговориться, найдем ли
общий язык...»Среди этих «немногих» был и Александр Блок,— хотя далеко не
все в характере и ходе революции было ему понятно и близко.В то время, когда многие интеллигенты полагали, что лучшая так¬
тика в отношениях с советской властью и ее учреждениями — это пол¬
ное ее игнорирование, поэт утверждал совсем иное (в ответе на анкету
«Может ли интеллигенция работать с большевиками?»):«Я политически безграмотен и не берусь судить о тактике согла¬
шения между интеллигенцией и большевиками. Но по внутреннему по¬
буждению это будет соглашение музыкальное» (14 января 1918 г.).Так отвечал поэт тем, кто призывал к саботажу (и осуществлял
его) всех учреждений и мероприятий советской власти,-— и отвечал
живым и конкретным делом.В январе 1918 года Блок записывает: «Вот что я еще понял: эту
рабочую сторону большевизма, которая за летучей, за крылатой...» —
и такие мысли возникли у поэта в связи с работой в комиссии по изда¬
нию классиков; всецело поддерживая декрет Советского правитель¬
ства об издании классиков, Блок подчеркивает «трагичность положе¬
ния»: «нас мало», а вместе с тем переживает «что-то и хорошее
(доброе)».Работа комиссии по изданию классиков для народа,-на взгляд ноэ-704
та, «труд великий и ответственный». Вот почему он саркастически за¬
мечает по адресу тех, кто не в состоянии осмыслить это:«Господа главные интеллигенты не желают идти в труд, а не в
«с кондачка».Сам Блок охотно и деловито «шел в труд» — если видел его плоды
и результаты — и в годы революции исполнял немало самых различ¬
ных обязанностей.Биограф поэта сообщает:«В начале 1918 года, уже при повой власти, Ал. Ал. был пригла¬
шен в члены Репертуарной Комиссии Театрального Отдела. Это было
большое дело... Ал. Ал. был выбран председателем Репертуарной Ко¬
миссии и принялся за дело с большим жаром и большими надежда¬
ми... В 1919 году в издательстве ТЕО вышел целый ряд пьес класси¬
ческого репертуара как русских, так и иностранных, а также пьесы но¬
вых писателей. Ал. Ал. много занимался составлением списка пьес для
народного театра...» («Александр Блок», стр 263),— и множество не¬
обычайно основательных и глубоких отзывов поэта о прочитанных им
пьесах подтверждает, с каким увлечением он приступил к этой работе,
считая ее «живой и плодотворной» (хотя впоследствии и остыл к ней,
ибо видел, что многие из его обширных замыслов оставались лихнь на
бумаге).О том, какое огромное значение придавал поэт изданию пьес для
народного театра,— с тем чтобы противопоставить их макулатуре, ка¬
кую распространяли театральные дельцы, говорит С. М. Аляиский —
один из ближайших друзей Блока той поры — в книге «Встречи с Алек¬
сандром Блоком» (М., издательство «Детская литература», 1969). Как
свидетельствует ее автор, Блок, в поисках необходимого для Издатель¬
ского бюро Театрального отдела Наркомпроса материала, «сам ходил
на книжные склады», «в театральные агентства» и «часами занимался
поисками старых, редких изданий пьес». Привлекая С. Алянского к ра¬
боте Издательского бюро, Блок внушал ему, что это «очень важное
дело» (стр. 61—62).В апреле 1919 года Блок был назначен председателем режиссер¬
ского управления Большого драматического театра.Занимая этот пост, Блок знал, что можно угодить дурным вкусам
публики, ее «разрушительным инстинктам» (как писал он М. Ф. Андре¬
евой), а можно «успеть заразить толпу (и труппу в том числе) истинно
высоким...» — и, рекомендуя для постановки репертуар, отвечающий
характеру романтического театра, Блок подчеркивает: «...со всем
этим мы не выйдем из области высокого, к которому надо стремиться
неуклонно, пока ядро труппы им горит...» (1919)—и сам поэт делал
все, что мог, для того, чтобы вызвать неутолимую жажду «высокого».В выступлении «Большой драматический театр в будущем сезоне»
(1919) Блок говорит, что этот теагр должен быть театром «высокой
драмы». «Здесь мы находимся,— продолжал он,— в атмосфере служе¬
ния искусству театра большого стиля...», где «мы будем служить ис¬
кусству, прежде всего...».Именно такое служение создавало для Блока ту атмосферу, вне705
которой ему но хватало воздуха; но если он чувствовал ее, то и нахо¬
дясь «на службе» забывал о самом времени, просиживал в театре на
репетициях, на подготовках к премьерам до двух, до трех часов ночи
(как свидетельствует о своих воспоминаниях о Блоке Е. Замятин),Это же подтверждает и К. Чуковский в своих воспоминаниях о
Блоке:«...Всей душой он прилепился к театру, радостно работал для
него: объяснял исполнителям их роли, истолковывал готовящиеся к
постановке пьесы, произносил вступительные речи перед началом спек¬
таклей, неизменно возвышал и облагораживал работу актеров».В письме к М. Ф. Андреевой поэт говорит о том, что он — в ответ
на просьбу актеров Большого драматического театра — не только «с
большим волнением» собирается поговорить с ними о романтизме, но
и подготовил специально для этой цели доклад,— доклад, прибавим мы
от .себя, необычайно значительный, во многом сохранивший свое зна¬
чение и поныне!Разве это не пример высокого энтузиазма, с которым поэт «слу¬
жил» — и служил «с железной дисциплиной людей искусства» (как го¬
ворил он в письме к замечательному актеру Большого драматического
театра — И. Ф. Монахову)? Эта «железная дисциплина» была для Бло¬
ка не в тягость,— если он видел ее необходимость и высокое значение.Блок являлся также одним из членов редакторской коллегии изда¬
тельства «Всемирная литература»,— и эта работа, отнимавшая очень
много времени, отнюдь не сводилась для него к присутствию на засе¬
даниях.Думается, деятельность Блока во «Всемирной литературе» могла
бы быть образцом для многих наших литераторов; образцом могли бы
явиться «изумительные и беспримерные тщательность и четкость, ко¬
торые вкладывал он в свой редакторский труд...» — сообщает в своих
воспоминаниях В. Зоргенфрей и приводит весьма характерный при¬
мер — работу Блока как редактора Гейне:«Поручив мне перевод «Путевых картин», он начал с того, что сам
перевел до 10 страниц, читал их вместе со мною, внимательно прислу¬
шиваясь к моих замечаниям и вводя поправки; получив от меня нача¬
ло перевода, просмотрел его, исправил и потом читал мне вслух, входя
в обсуждение всех мелочей, придумывая новые и новые варианты, то
и дело обращаясь к комментариям и справочным изданиям. Ряд храни¬
мых мною писем делового свойства, посвященных переводам Гейне,
является живым свидетельством редакторской заботливости Блока...»
(«Записки мечтателей» № 6, стр. 145).Об этой же редакторской «заботливости» Блока свидетельствует
и одно из его писем к В. Зоргенфрею, в котором поэт подчеркивает, что
-«...дать Гейне нашей эпохи — труд большой и ответственный...», что
это работа «...и очень нужная, и очень благодарная, и срочная...».Как видим, это не только добросовестное исполнение служебных
обязанностей, но и нечто гораздо большее — служение.Можно было бы упомянуть и другие «службы» и обязанности, взя¬
тые. на себя поэтом и выполняемые им со всею присущей ему тщатель-706
ностыо, добросовестностью, высоким чувством ответственности за свою'
деятельность. Так, в тех же воспоминаниях В. Зоргенфрёя мы читаем,
что Блок, возглавив Петроградский Союз поэтов и «отвлекаемый раз¬
нообразными обязанностями и делами обществошюго и литературного
характера...», все же немало времени уделял новой организации и
«добросовестнейшим образом пытался выполнять председательские
обязанности: посещал заседания, измышлял способы материального
обеспечения членов Союза, организовывал вечера и, в качестве рядово¬
го члена, выступал как на этих вечерах, так и в частых собраниях
Союза...» («Записки мечтателей» № 6, стр. 146),—и все это свиде¬
тельствует о том, как поэт относился к любой работе, к любому пору¬
ченному ему делу,— если видел в нем толк и ждал от него плодотвор¬
ных результатов (которые он видел далеко не всегда). «Дайте дело,
я буду делать...» — требовал Блок (как читаем мы в ею записной
книжке за 1918 год),— а ему зачастую предлагалась лишь скука длин¬
ных и бесплодных заседаний.Если Блок незадолго до смерти записывал, что «службы» стали
ему «почти невыносимы» (отмечая при этом «бессилье» Союза писате¬
лей), то нельзя забывать о том, что подобные записи принадлежат тя¬
жело больному человеку. Их мояшо объяснить еще и тем, что слишком
много планов и замыслов (подчас весьма обширных и грандиозных)
оставалось в то время на бумаге или давало ничтожные результаты,—
что и порождало у Блока ощущение никчемности и бесплодности мно¬
гих своих трудов и усилий, подчас весьма значительных и самоотвер¬
женных. Именно в этих случаях и само «служение» превращалось в
глазах поэта в обычную «службу», в ту тяжелую ношу, которую ему хо¬
телось сбросить как ненужное и невыносимое бремя. Но, во всяком слу¬
чай, бесспорно то, что для Блока его работа в советских учреждениях'
и организациях (так же, как и его литературный труд) являлась борь¬
бою «на линии огня», а особенно — в тех условиях, когда и он и его1
работа подвергались яростным пападкам со стороны людей, враждеб¬
ных революции, где бы они пи находились — в пределах Советской Рос¬
сии или за ее рубежами.3. «ИСКУССТВО И РЕВОЛЮЦИЯ»IВ дай Октября Блок решительно и непримиримо боролся с теми
переметнувшимися на сторону лавочников и биржевиков литератора¬
ми, которые еще так недавно считали себя «солью земли», «главной ин¬
теллигенцией», «пророками революции»; в глазах поэта они являлись
не только предателями революции, но вместе с тем и всей мировой1
культуры, «духа музыки», говорившего «всегда о великом». В борьбе
с этой интеллигенцией, испугавшейся революции, искавшей спасения
в далеком прошлом, Блок видел союзников в облике тех великих ху¬
дожников, творчество И высказывания которых были для него неисчер¬
паемо1 богатым и никогда не стареющим арсеналом, откуда ой и брал707
оружие, необходимое для схватки с враждебными ему силами, взгля¬
дами, теориями. К этому же оружию, словно снова заточив его и при¬
дав ему новый блеск, поэт обратился снова — в годы Октябрьской рево¬
люции.Его соратниками в борьбе с контрреволюционной частью интелли¬
генции становились Лермонтов, Вагнер, Ибсен. В их произведениях и
высказываниях Блок искал и находил то острое и нержавеющее ору¬
жие, которое помогало бороться с людьми, кричавшими о гибели Рус¬
ской земли, и в отстаивании своих взглядов и убеждений, своей веры
в революционный народ, своего творчества Блок не чувствовал себя
одиноким — многие гениальные и мятежные художники прошлого бы¬
ли с ним и за него; в этом для поэта не было ни малейшего сомнения.Был у него и особый побудительный мотив обратиться к тем ху¬
дожникам, творчество которых имело для него не только литератур¬
ное, но и жизненно важное значение, составляло огромное событие
в его личной биографии: появление и опубликование поэмы «Двена¬
дцать», встреченной в стане врагов революции воплями негодования,
криками о том, что поэт «изменил» не только себе, своим воззрениям,
своему таланту, но и чуть ли ие родине; мимо этих обвинений в адрес
произведения, которое сам поэт (и совершенно справедливо) считал
гениальным, он не мог пройти спокойно и равнодушно.Еще не так давно, отвечая на вопрос газеты «Биржевые ведомо¬
сти», «следует ли авторам отвечать на критику», Блок, не исключая
возможности ответа и «переговоров» с критикой, вместе с тем сове¬
товал:«Лучше писателю воздержаться. Лучше не вмешивать свое само¬
любие в дело своей жизни. Пусть произведение говорит само за себя»
(1915).Но на этот раз Блок сам явно шел наперекор этому совету, ибо —
нет сомнений! — многое в его высказываниях и статьях времен граж¬
данской войны является прямым и решительным ответом на критику
его поэмы. Даже и не названная Блоком, она все равно определяет ха¬
рактер его ответа,— да и речь шла в данном случае не о «самолюбии»,
а о чем-то гораздо большем, чего нельзя было уступить противнику без
боя. А если противник навязывал Блоку бой на плацдарме его поэмы —
что ж, сам ее автор, вероятно, счел бы недостойной попытку уклонить¬
ся от боя и оставить последнее слово за своими хулителями и против¬
никами.Он активно вторгался в споры и распри, вызванные поэмой, и мы
не сможем достаточно полно осмыслить характер высказываний поэта,
их функцию и назначение — чему бы они ни были посвящены! — если
будем рассматривать их безотносительно к поэме «Двенадцать».Блок не публиковал никаких пояснений и автокомментариев, ка¬
сающихся непосредственно поэмы «Двенадцать», но вместе с тем он
твердо и последовательно отстаивал ее даже тогда, когда и не упоми¬
нал о ней. В его записных книжках, дневниках и даже статьях, посвя¬
щенных темам, казалось бы ничего общего ие имеющим с поэмой
«Двенадцать», и самых отдаленных от нее по своему материалу, нося¬708
щему порою сугубо исторический характер, мы. можем' обнаружить 'не¬
что связанное с этой поэмой, проливающее на нее дополнительный
свет, проясняющее ее смысл и отношение к ней самого поэта, характер
еэ понимания. Это ж естественно: мысли, взгляды, настроения, господ¬
ствующие в поэме, так всецело захватили поэта, так глубоко отозвались
во всем его существе, так переполняли его, что не могли не сказаться
во множестве его высказываний времен революции. Образы «Двена¬
дцати» неотступно преследовали поэта, словно бы требуя, чтобы он ещэ
и еще раз подтвердил их правдивость, жизненность, связанность с са¬
мыми великими событиями мировой истории,— и он постоянно возвра¬
щался к кругу тех мыслей, чувств, убеждений, которые нашли своэ
выражение в его поэме.Следует напомнить о том, что и вообще в творчестве Блока все
взято в отношении к миру его переживаний и стремлений, все служит
их выражению,— и это продиктовано не «эгоцентризмом» художника,
а чем-то совершенно иным, связанным с ощущением «единства с ми¬
ром». Говорил ли поэт о Катилине или Катулле, о Лермонтове или
Гейне, об Ибсене или Стриндберге — все для него становилось поводом
и предлогом для высказывания своих личных, давно назревших и по¬
тому жаждущих сказаться и проявиться взглядов и убеждений, своего
«символа веры»,— вот почему самые заветные мысли поэта мы можем
найти в его статьях и заметках, не имеющих, казалось бы, уже хотя бы
в силу своей жанровой определенности, никакого отношения к чувст¬
вам и переживаниям самого поэта; но даже и этому материалу он при¬
давал значение исповеди или признания, помогающего нам проникнуть
в его «тайное тайных», в святилище и лабораторию его собственного
творчества.Так, даже примечания к Лермонтову — уж на что ограниченный по
своим возможностям жанр! — становились не только сугубо исследова¬
тельским материалом, но и поводом для того, чтобы раскрыть перед
читателем свои самые сокровенные раздумья, дать ключ к своим соб¬
ственным произведениям и помочь постичь составляющий их пафос.В примечаниях к прозе Лермонтова Блок пишет — в связи с ран¬
ней и неоконченной повестью «Вадим»:«В повести Лермонтова содержатся глубочайшие мысли о русском
народе и о революции».Эти глубочайшие мысли, перекликающиеся с мыслями самого Бло¬
ка и словно бы предвосхитившие их чуть ли не за столетие, поэт нахо¬
дит в следующих строках Лермонтова, писанных словно бы раскален¬
ным пером и звучащих как грозный и беспощадный приговор всему
миру насилия и угнетения:«Умы предчувствовали переворот и волновались: каждая старин¬
ная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу
мщения, и только кровь его могла смыть эти постыдные летописи. Лю¬
ди, когда страдают, обыкновенно покорны, но если раз им удалось
сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра, притесненный
делается притеснителем и платит сторицею, и тогда горе побежден¬
ным...»709
Жестокость господ, полагавших, что они навсегда останутся без¬
наказанными, записи в «постыдных летописях» унижения, буквы кото¬
рых налиты кровью,— все это взывает к возмездию, возмездию неиз¬
бежному и справедливому, и Блок, утверждая это, знал, что Лермон¬
тов — вместе с ним!Так в своих комментариях к этим строкам «Вадима» Блок подчер¬
кивает не только психологическую прозорливость Лермонтова, но и его
чувство историзма, глубину осмысления событий широкого обществен¬
ного масштаба.Необычайно значительно и важно для понимания воззрений Блока,
прямо и открыто сказавшихся в его поэме, и следующее его примеча¬
ние к прозе Лермонтова, звучащее почти как исповедь — столько здесь
сосредоточено сокровенных мыслей, лично пережитого опыта, выстра¬
данной и окрепшей в острых и непримиримых спорах убежденности:«Будучи дворянином по рождению, аристократом по понятиям,
Лермонтов, как свойственно большому художнику, относится к револю¬
ции без всякой излишней чувствительности, не закрывает глаза на ее
темные стороны, видит в ней историческую необходимость».Й далее Блок, словно отвечал своим многочисленным противникам
из лагеря буржуазной интеллигенции, говорит об одном из тех эпизо¬
дов, которые могли произойти не только в давние, пугачевские време¬
на, но и в разгаре революционных событий 1917 года:«В конце повести представлена расправа озлобленной толпы с без¬
защитными людьми, с девушкой и стариком, отцом ее, виновными
лишь в том, что они — дворяне. Только под конец поэт определяет осви¬
репевших казаков одним точным, холодным словом: «душегубцы»; но
ни из чего не видно, чтобы отдельные преступления заставляли его за¬
быть об историческом смысле революции: признак высокой культуры».Это примечание проясняет взгляды самого Блока, в глазах которо-
ю умение увидеть историческую неизбеяшость и оправданность рево¬
люционных событий, хотя бы и сопровождающихся ненужными «экс¬
цессами», является свойством подлинно большого художника и «при¬
знаком высокой культуры» — что звучало особо знаменательно в те
дпи, когда враги и клеветники восставшего народа на всех углах и изо
всех подворотен кричали о «невинных жертвах» революции. А Блок,
споря с ними, отвечал им не только своими «Двенадцатью», но и «Ва¬
димом» Лермонтова, который также утверждал справедливость народ¬
ного восстания.В этом Блок и усматривал «глубочайшие мысли о русском народе
и революции», те мысли Лермонтова, которые не могли не быть прису¬
щими, на взгляд поэта, каждому большому художнику. Все это хотя и
писалось в порядке примечаний к сочинениям Лермонтова, но приобре¬
тало в условиях гражданской войны не только злободневный, но и ост-
рополемический смысл.Так на новом плацдарме, в масштабах великого искусства прош¬
лых поколений, продолжался спор Блока с той интеллигенцией, которая
оказалась глухой к музыке революции,— с Дмитрием Мережковским,
с Зинаидой Гиппиус, с белой эмиграцией и внутренними эмигрантами;710
в борьбе с ними Блок опирался не только на чувство долга, справедли¬
вости, исторической неизбежности происходящих событий, но и на
великие традиции русской литературы прошлого, славя ее освободи¬
тельный дух, ее преданность народу, ее трезвый и суровый реализм,
чуждый «излишней чувствительности»,— если дело касалось коренных
интересов и требований народа, В дни революции Блок увидел в Лер¬
монтове не только гениального лирика, но и глубокого мыслителя, пси¬
холога, историка, обладавшего беспощадно аналитическим умом.Поэт находил в творчестве Лермонтова необычайно глубокий и
мудрый ответ злопыхателям и клеветникам революционной России и
видел в Лермонтове своего союзника; его комментарии к прозе Лер¬
монтова — это исследование, а вместе с тем и строки исповеди, разду¬
мья о нашей эпохе и ее людях, о поэме «Двенадцать» и сказавшемся
в ней пафосе.Так многое из того, что писал в то время Блок, обретало прямое
или косвенное отношение к «Двенадцати», являлось своего рода авто¬
комментарием к поэме, объяснительной запиской, ибо он снова и снова
возвращался к мыслям о поэме, которую отстаивал от всех нападок и
посягательств — откуда бы они ни исходили,IIВ дни, когда только что была опубликована поэма «Двенадцать»,
Блок снова обратился к Вагнеру, к его книге «Искусство и революция»
(1849), которую поэт называет творением «могучим и жестоким, как
все могучее». Для Блока эта книга Вагнера — не исторический доку¬
мент,' имеюший лишь архивную ценность, но произведение, отвечаю¬
щее па самые злободневные вопросы, острое оружие в борьбе с теми,
кто вставал в позу защитников всего высокого и прекрасного — от мни¬
мых покушений революционных масс.Чем было творчество Вагнера для Блока?Не только великим явлением искусства, по и одним из важнейших
событий его внутренней жизни.Следует напомнить о том, что биограф поэта М. А. Бекетова сви¬
детельствует в примечаниях к письмам Блока: творчество Вагнера
Блок ценил не только как великое явление в области музыки, но и как
литературное событие непреходящего значения, оказавшее на него ог¬
ромное влияние.Блок и действительно видел в творчестве Вагнера великую и жиз¬
ненно важную ценность, жадпо вслушивался в грозные и напряженные
ритмы ого музыки, улавливая в них отзвуки бессмертпых мифов и са¬
мих стихий; в каждом образе Вагнера он находил нечто родственное
я близкое себе, что и поднимало в нем бурю ответных чувств, застав¬
лявших задуматься над главными вопросами личной жизни и всей ми¬
ровой истории.Почему Блок гак высоко оценил книгу Вагнера «Искусство и ре¬
волюция»?■ Потому что она необычайно глубоко и полно отвечала его самым
заветным помыслам и стремлениям, перекликнулась с мечтами и ду¬
мами поэта о великом и прекрасном будущем.Враги революции, исходя из вульгарного понимания материализ¬
ма, утверждали, что ее победа означала бы гибель для всех областей
духовной деятельности человека, и стало быть, для искусства,— а
Блок, опираясь на книгу Вагнера, опровергал их клеветнические До¬
мыслы и доводы, справедливо утверждая, вслед за Вагнером, что толь¬
ко с победой революции может искусство добиться истинного расцвета
и обновления; так в борьбе с лагерем контрреволюционной интеллиген¬
ции Блок находил в Вагнере и его книге своих верных союзников и
соратников.Брошюра Вагнера, написанная вскоре после революции 1848 года;
участником которой являлся гениальный композитор, начинается сло¬
вами о том, что «почти везде в настоящее время художники жалуются
на тот ущерб, который приносит им революция»,— и Вагнер справед¬
ливо разъясняет создавшееся положение вовсе не тем, что революцией
потрясены некие возвышенно-моральные устои их бытия, основы худо¬
жественного творчества, а причинами совершенно иного и гораздо бо¬
лее прозаического порядка. Он не без иронии замечает, отметая в сто^
рону ламентации тех художников, интересы которых были в той или
иной мере затронуты ходом революционных событий середины прошло¬
го века, и обращается прямо к существу дела:«Еще недавно художник, пользовавшийся известностью, получал
от состоятельного и беззйботного класса нашего счастливого общества-
плату золотом за свои, угождавшие вкусам этого класса, произведения
и имел возможность тоже вести беззаботную и полную довольства
жизнь. Тем тяжелее ему теперь, когда боязливо сжатые руки отталки¬
вают его, и он осужден на жалкую борьбу из-за куска хлеба...»Эти слова в дни Октябрьской революции приобретали не только
исторический, но и вполне злободневный смысл, ибо в то время многие
художники, угождавшие вкусам «состоятельного и беззаботного клас¬
са», служившие его интересам, были напуганы ходом революции, в ко¬
торой видели угрозу своему спокойствию и благоденствию. Они крича¬
ли о гибели родины, чести, искусства,— а Блок напоминал им резкие,
беспощадные, но совершенно справедливые слова Вагнера, сказанные
при схожих обстоятельствах:«...Итак, художник имеет право жаловаться. Но имеет ли он право
смешивать себя с самим искусством и в своих жалобах (на револю¬
цию,— Б. С.) изображать свое личное несчастье как несчастье, постиг¬
шее искусство, и обвинять революцию лишь потому, что она поставила
его в более неблагоприятные условия для добывания себе средств су¬
ществования?»И далее Вагнер вполне резонно разъясняет, почему именно худож¬
ники, угождавшие вкусам и интересам господствующих классов, не
имеют права изображать свои личные, вызванные революцией горести
как несчастье, постигшее само искусство; наоборот,— утверждает Ваг¬
нер всем ходом своих размышлений о судьбах искусства,— именно ре¬
волюция и выводит художника на широкую дорогу подлинно свобод-712
кого и вдохновенного творчест-аа, ибо ■* ней заложены все возможно¬
сти для необычайного и небывалого расцвета и развития искусства,
которое перестанет служить кучке пресыщенных тунеяцев, а обратится
к целям несравненно более высоким и прекрасным; он писал:«Истинное искусство может подняться из своего состояния цивили¬
зованного варварства на достойную высоту лишь на плечах нашего ве¬
ликого социального движения; у него с ним общая цель, и они могут
ее достигнуть лишь при условии, что оба признают ее. Эта цель человек
прекрасный и сильный; пусть Революция даст ему Силу, Искусство —
Красоту».Пытливо прозревая в будущем человека, овладевшего всеми дара¬
ми природы, сбросившего иго порабощения и угнетения, ставшего «пре¬
красным и сильным», Вагнер вдохновенно говорит об этом будущем,
словно бы наяву возникающем перед его внутренним взором:«Если наш свободный человек будущего не должен будет считать
целью своей жизни приобретение средств существования, но если бла¬
годаря новой вере, или вернее — науке, ставшей активным принципом,
приобретение средств существования в обмен естественной пропорцио¬
нальной активности не будет больше зависеть ни от какой случайности,
одним словом, если индустрия не будет больше нашей повелительни¬
цей, но, наоборот, нашим слугой, тогда мы своей целью сделаем насла¬
ждение жизнью, и приложим все усилия к тому, чтобы воспитать
в наших детях силу и способность наслаждаться жизнью как можно
продуктивнее».Последнее слово следует особо подчеркнуть потому, что насла¬
ждение жизнью, как удел будущего человечества, Вагиер не мыслил
как чисто потребительское, как удовлетворение повседневных нужд
и потребностей, преходящих желаний, но именно как «продуктивное»,
когда высшим наслаждением жизни становится творчество, в котором
человек воплощает все свои силы, способности, дарования,— ведь
именно поэтому Вах'нер и называл человечество будущего артистиче¬
ским человечеством,— и его взгляды полностью разделял Блок.На заключительных страницах своего трактата Вагнер от имени
художников обращается к читателям, со всею присущей ему страстно¬
стью утверждая, что прозреваемый им идеал будущего «артистического
человечества» — не утопия, а реальность, вполне достижимая,— если
идеал этот встретит дружное и активное сочувствие у всех слоев обще¬
ства :«...Вы, мои страдающие братья всех классов человеческого обще¬
ства, чувствующие в себе глухую злобу, если вы стремитесь освобо¬
диться от рабства денег, чтоб стать свободными людьми, поймите хо¬
рошо нашу задачу и помогите нам поднять искусство на достойную
высоту, для того, чтоб мы могли вам показать, как вы возвысите ремес¬
ло на высоту искусства, раба индустрии на степень прекрасного созна¬
тельного человека, который с улыбкой посвященного может сказать
природе, солнцу, звездам, смерти и вечности: «Вы тоже мне принадле¬
жите, и я ваш повелитель/»Возвышенный идеал такого великого и прекрасного будущего «ар¬713
тистического человечества» возникал перед внутренним взором Вагне¬
ра, и он страстно отстаивал, его в своей книге «Искусство и революция»,
где с гениальной прозорливостью предугаданы условия развития и воз¬
можности расцвета искусства, не унижающего себя служением власть
имущим, денежному мешку.Конечно, сам идеал, отстаиваемый Вагнером, не был утопичен,—
но утопичными были намеченные им пути к этому идеалу. Обращаясь
ко всем слоям общества, Вагнер лелеял прекраснодушную, но неосуще¬
ствимую мечту о том, что если бы они «стали действовать сообща», то
все его замыслы воплотились бы очень легко и просто.Вагнер стремился убедить читателей самыми неопровержимыми
и логически безупречными, как казалось ему, доводами, не подозревая,
что одной логики слишком мало для того, чтобы заставить имущие
классы отказаться от своих интересов и привилегий; исходя из утопи¬
ческих представлений о природе общества, он полагал, что стоит лишь
наметить разумно обоснованный путь развития человечества — и по
нему ринутся все классы и сословия!Но, несмотря на эти промахи наивно-утопического характера,
трактат Вагнера в существеннейшей части и поныне сохранил свое
значение как глубокое осмысление условий развития искусства.В статье «Искусство и пролетариат», прочитанной впервые в
1911 году на рабочем собрании в Штутгарте (см. журнал «Новый мир»,
1957, №8, стр. 180),-Клара Цеткин говорила:«Лишь тогда, когда труд сбросит ярмо капитализма и тем самым
будут ликвидированы классовые противоречия в обществе, лишь тогда
мечта о свободе искусства обретет реальность и гений художника су¬
меет свободно совершать свой полет ввысь. Это давно понял и возве¬
стил миру один избранник искусства — Рихард Вагнер. Его статья
«Искусство и революция» до сих нор остается классическим выраже¬
нием этой мысли».Несомненно, эти взгляды и мысли Вагнера издавна оказывали на
Блока огромное влияние, тем более что они полностью отвечали его
собственным воззрениям; так же, как и автор книги «Искусство и ре¬
волюция», Блок был убежден в том, что неизмеримые возможности
искусства связаны с победой революции; в идеях и высказываниях
Вагнера и находил он животворные истоки, укрепляющие его веру
в •правоту своих собственных взглядов на революцию, на Искусство и
литературу, их великое будущее.Повторяя вслед за Вагнером, что искусство прошлого пересталй
быть «свободным выражением свободного народа», Блок утверждай
как одну из открытых Вагнером и совершенно бесспорных истин:«Возвратить людям всю полноту свободного искусства может толь¬
ко великая и всемирная Революция, которая разрушит многовековую
ложь цивилизации и поднимет народ на высоту артистического ;1кело-
вечества».Для Блока цель и смысл искусства и заключались в том, чтобй
участвовать в сотворении сильного, свободного, прекрасного человека,
которому принадлежит весь мир, вся природа как источник жизнен¬714
ных благ и эстетического наслаждения,— и вслед за Вагнером Блок
страстно жаждал разглядеть облик будущего «артистического челове¬
чества», верил в наступление того времени, когда каждый человек
станет свободным творцом.Книга Вагнера — это гимн Аполлону, гармонически развитому, «ар¬
тистическому» человеку, свободно развивающему все свои возможности
и дарования, владеющему всеми благами и богатствами природы; но в
книге нельзя не увидеть и слабых ее сторон; Вагнер пытался эклекти¬
чески «примирить» Аполлона с Христом, утверждая, что именно Хри¬
стос «показал, что все мы люди, все равны и братья...», а Аполлон «на¬
ложил на эту братскую ассоциацию печать силы и красоты и направил
человека, сомневающегося в своем достоинстве, к познанию своего вы¬
сочайшего человеческого могущества».. Вот почему свою брошюру Вагнер завершает предложением воз¬
двигнуть «жертвенник» —как в жизни, так и в искусстве — двум «ве¬
личайшим наставникам»:«...Христу, который пострадал за человечество, и Аполлону, кото¬
рый вознес его на высоту своего величия, полного доверчивой радости».В этом сочетании Аполлона и Христа явно сказалась двойствен¬
ность и непоследовательность, ибо вся брошюра Вагнера по сути своей
служит опровержению христианской религии и христианского аскетиз¬
ма, противоречащего законам природы и бросающего им вызов,— но
эта двойственность определила и противоречивость творчества Вагне¬
ра, где, наряду с произведениями, утверждающими красоту и радость
бытия, величие человека, несущего «гибель богам», мощь его свобод¬
ного духа, возникла такая драма-мистерия, как «Парсифаль»,— в ней
отрешенность от всего земного сочетается с пафосом религиозного
служения, мистической символикой, духом сурового аскетизма, отри¬
цающего самое природу, идеальным воплощением которой и является
образ Аполлона.«Новое время тревожно и беспокойно,— говорил Блок в заключи¬
тельных строках своей статьи «Искусство и революция», написанной
«по поводу творения Рихарда Вагнера».— Тот, кто поймет, что смысл
человеческой жизни заключается в беспокойстве и тревоге, уже пере¬
станет быть обывателем. Это будет уже не самодовольное ничтожество;
это будет новый человек, новая ступень к артисту».Но те «обыватели» и «самодовольные ничтожества», к которым об¬
ращался поэт, меньше всего стремились уловить правду, заключав¬
шуюся в словах поэта, напоминавшего им «могучее и жестокое» тво¬
рение Вагвера.IIIВесною 1918 года Блок написал обширный очерк «Катилина», но¬
сящий знаменательный подзаголовок — «Страница из истории мировой
-революции».Как известно, события, связанные с заговором Катилины, имеют
двухтысячелетнюю давность, и иному читателю могло бы показаться715
странным: почему именно к ним обратился поэт в то.время, которое,0Ц
сам называл «эпохой бурь и тревог»? Уж не попытка ли это уклониться
от «бурь и тревог», отсидеться от них в гавани древнеримской истории?
Но сам поэт, который смело, а порою и весьма произвольно, .сдвигал
целые эры, придавал своему очерку совершенно иное, сугубо злободнев¬
ное значение, Не для того, чтобы уйти от современности, а чтобы обо¬
стрить ее восприятие, увидеть ее в новом свете, в широчайшей истори¬
ческой перспективе, обратился он к страницам древней истории. Он
усматривал в очерке «Катилина» ответ на самые острые вопросы,сов¬
ременности, что подчеркивается и тем, что Блок именовал Каталину
«римским большевиком», полагая, что Катилина и сегодняшние,.ком¬
мунисты делали и делают, в сущности, одно и то же дело и что они
вдохновлены одними и теми же — в основе своей — целями и за¬
мыслами.Блок начисто опровергает мысль о том, что художественное, про¬
изведение может быть просто иллюстрацией исторического события,
но имеющей самого непосредственного отношения к современности,
к личности автора, и в очерке «Катилина», в связи с анализом стихов
Катулла, си решительно отстаивает именно такое — сугубо злободнев¬
ное— понимание исторической темы и материала истории:«...художники хорошо знают: стихотворения не пишутся по , той
причине, что поэту захотелось нарисовать историческую и мифолощ-
ческую картину. Стихотворения, содержание которых может показать¬
ся (курсив мой.— Б, С.) совершенно отвлеченным и не относящимся
к. эпохе, вызываются к жизни самыми неотвлеченными и самыми зло¬
бодневными событиями». :Этими событиями и вызвано появление очерка «Катилина», в ко¬
тором, размышляя о судьбе «большевика» древнего Рима — Каталины,
поэт ни на одну минуту не забывал об Октябрьской революции, о ге¬
роях поэмы «Двенадцать».Блок говорил о Каталине сугубо современным языком и самые пе¬
реживания его выражал словами старого революционного гимна,: на¬
чинающегося словами: «Отречемся от старого мира». ,Те же самые слова, кажется, готов был запеть — как полагал
поэт—и Катилина, ибо испытывал такие же чувства и выражал их
чуть ли не тем же самым образом. Когда Цицерон произносит свою
уничтожающую Каталину речь в храме Юпитера Статора, Катилина
как бы переродился: «...ему стало легко, ибо он «отрекся от старого
мира» и «отряс прах» Рима от своих ног».Так говорит Блок, словно объединяя старого «римского большеви¬
ка» с молодыми питерскими рабочими и всемерно сближая две совер¬
шенно различные эпохи, чтобы мы увидели в древнем Риме времен Ка¬
талины подобие тому, что происходило на улицах Петрограда в бурные
и тревожные дни Октября.В своей трактовке образа Каталины — одного из представителей
римской знати, пытавшегося захватить власть в свои руки из побужде¬
ний далеко не возвышенных, Блок опирался не столько на исторически
достоверный и документально обоснованный материал, сколько на юно¬716
шескую пьесу Ибсена «Катилина», открывающую огромный и сложный
путь великого драматурга, пронизанную вольнолюбивым и мятежным
духом, возмущением против официальной «академической» науки,
стремлением в корне оспорить ее основы, принципы, оценки тех или
иных исторических деятелей. Историю пишут победители, утверждали
в старину, но Ибсен решительно восставал против диктата «победите¬
лей» и пересматривал историю с позиций угнетенных и «побежден¬
ных»,— а среди последних он нашел такую яркую, необычайную, тра¬
гическую фигуру, как Катилина, заклейменную в воках и тысячеле¬
тиях его прославленными и непримиримыми врагами — Цицероном,
Саллюстием и множеством других.Могли ли враги Катилины,— именно в силу того, что они явля¬
лись врагами,— правдиво и беспристрастно изобразить Каталину и его
деяния, один из драматических эпизодов истории Рима, связанных
с именем Катилины, поднявшего восстание против господствовавшей
олигархической клики? Это для Ибсена было крайне сомнительно, и,
создавая свой образ Катилины, он утверждал нечто прямо противопо¬
ложное тому, что принято официальной историей.Ибсен размышлял о том, какие благие мотивы и побуждения мог¬
ли лежать в основе самых предосудительных и даже преступных дея¬
ний Катилины. Трудно было, не насилуя историю, придать им более-
менее благовидный — не говоря уже о благородном — характер, по
здесь на помощь писателю пришло представление о том, что Катилина
низкими средствами пытался достигнуть возвышенных целей, что и
утверждалось в юношеской драме Ибсена, захватившей воображение
Блока.Его очерк «Катилина» завершается разбором пьесы Ибсена и тор¬
жествующим возгласом о том, что в пьесе Ибсена «достойным Элизиу¬
ма и сопричтенным любви оказывается именно бунтовщик и убийца
самого святого, что было в жизни,— Катилина».Именно это подчеркивает Блок в своем очерке, устанавливая род¬
ство ноэмы «Двенадцать» с пьесой Ибсена и находя в этом подтвер¬
ждение своих замыслов, своих взглядов, своих убеждений,— ведь и
в поэме «Двенадцать» ее герои, которым «на спину б надо бубновый
туз», тоже оказались «достойными Элизиума и сопричтенными любви»;
это «бунтовщики» и убийцы «самого святого, что было в жизни»
(«пальнем-ка пулей в Святую Русь...»),-— и в то же время оказывается,
что именно они выполняют завет Христа, несущего людям «ие мир, но
меч».Сам Блок так раскрывает смысл центрального образа юношеской
пьесы Ибсена:«Катилина следует долгу, как «повелевает ему тайный голос из
' глубины души». «Я должен!» — таково первое слово Катилины и пер¬
вое слово драматурга Ибсена — Катилина ищет, чем утолить «страст¬
ную душевную тоску» в мире, где «властвуют корысть и насилие», и
потому Катилина — «друг свободы».Всем своим творчеством Блок отзывался на повеление этого «тай¬
ного голоса», и какие бы соблазны того мира, где некогда властвовали717
«корысть и насилие», ни осаждали поэта, в конце концов настойчивый'
и неодолимый голос долга и «воля к подвигу» оказывались силь¬
нее всего; воплощение «воли к подвигу» и видит Блок в образе Ка¬
тил ины.В области истории поэт мыслил аналогиями, сдвигая самые отда¬
ленные времена, и если для освящения подвига красногвардейцев он об¬
ращался на две тысячи лет назад — к образу Христа (хотя и чувство¬
вал, что здесь нужен «Другой»), то для освящения образа и подвига
Катилины он уходил от эпохи своего героя на две тысячи лет вперед
и славил его как «большевика»,— хотя для этого нет оснований; Для
нас совершенно очевидна крайняя произвольность и субъективность
подобных «сдвигов» истории и подобных определений, продиктованных
не научными изысканиями, а запалом спорщика, стремящегося дока¬
зать свою правоту любою ценой и во что бы то ни стало.Блоку казалось совершенно чуждым, непонятным и даже вуль¬
гарным стремление связать духовную жизнь человека с его материаль¬
ным бытием; вот почему и ход истории в глазах поэта определялся не
возникновением и сменой общественно-экономических формаций, вы¬
званных характером развития производительных сил, а сменой исклю¬
чительно моральных, философских, религиозных систем и концепций,
С этой точки зрения не разложение рабского строя и приход на смену
ему более прогрессивных феодально-крепостнических отношений, а за¬
рождение и распространение христианства представляется поэту ре¬
шающим новоротным пунктом мировой истории, причиной крушения
Римской империи,— причем иную, материальную сторону этого про¬
цесса поэт даже и не затрагивает. Она его не интересует, ибо не кажете
ся ему столь уж существенной.Все это так, и для нас очевидна шаткость многих теоретических
(и идеалистических в своей основе) воззрений поэта, но важно под¬
черкнуть другое: в своей борьбе с клеветниками революции Блок не
чувствовал себя одиноким. С ним были и Лермонтов, и Вагнер, и Иб¬
сен, и другие великие художники прошлого, творчество и высказыва¬
ния которых били не в бровь, а в глаз всем хулителям восставшего на¬
рода, глухим it музыке мощного потока революции, всем защитникам
«чистого искусства», равнодушным к жизни общества.Блок и обращался к творческому опыту великих художников про¬
шлого, словно бы мобилизуя их для той борьбы, от исхода которой за¬
висели судьбы всего мира, будущее всего человечества.Как видим, поэт встречал и приветствовал революцию не тольк&!
от своего имени — нет, он утверждал во многих своих статьях, выступ¬
лениях, высказываниях, что она, расковавшая дух мировой музыки
и всколыхнувшая великие волны народного океана, отвечает чаяниям,
исканиям, свершениям лучших людей прошлого, наиболее выдающих¬
ся и бесстрашных художников; в их творчестве Блок подчеркивал все,
что перекликалось с музыкой грозного и прекрасного потока револю¬
ции. Он на фактах истории литературы и искусства подтверждал, что
только революция усвоила и наследовала то, что было самым высоким,
самым прекрасным и мятежным в мировой культуре,— и поражался718
слепоте тех, кто не видел этого, оставался глухим к величавой музыке
революции.Важно отметить не только то, что Блок в своей борьбе с ними ис¬
пользовал как верное и надежное оружие творчество и высказывания
великих художников прошлого, но и то, что в сложном и противоречи¬
вом наследии мировой культуры поэт в первую очередь останавливал¬
ся на том, что поддерживало его собственные революционные чувства
и устремления, перекликалось с ними. Вот почему он останавливается
на ранней, отвечавшей духу революционных чаяний пьесе Ибсена
«Катилина», говорит о книге Вагнера, пронизанной откликами револю¬
ционных событий 1848 года, размышляет над теми необычайно родст¬
венными ему страницами Лермонтова, где речь шла о грозном и спра¬
ведливом возмущении веками угнетаемого народа; обо всем этом Блок
напоминал не в порядке только лишь историко-литературных коммен¬
тариев и справок, а как о самых значительных и злободневных произ¬
ведениях, важнейших для понимания острых и насущных задач совре¬
менной действительности и современного искусства.Так в дни Октября, в схватках с его врагами, для Блока по-ново-
му осветились и старые, издавна любимые имена великих художников
прошлого; в их творчестве он видел острое оружие борьбы, убежден¬
ный, что они — заодно с ним и поддержат его в том споре, который он
вел с «главными интеллигентами», перешедшими на сторону лавочни¬
ков и биржевиков.Да, революция не только открыла поэту глаза на его недавних
друзей и соратников, истинную суть которых он увидел только те¬
перь,— она заставила его пересмотреть и свои взгляды на литератур¬
ное наследие, многое в нем оценить по-новому,— и принять далеко не
все из того, что он принимал — или мимо чего проходил раньше.В статье «Крушение гуманизма» Блок утверждает, что нельзя за¬
крывать глаза на «Избранные места из переписки с друзьями» Гоголя,
на борьбу Аполлона Григорьева с демократами (которую сам еще так
недавно склонен был оправдать и защищать!), на либеральные за¬
блуждения Тургенева.. Обо всем этом Блок высказывался решитель¬
но — с тех позиций, которые он называл революционными, и это сви¬
детельствует о стремлении поэта отрехпиться от многих былых иллю¬
зий и заблуждений, придать своим взглядам на литературу цельность
и последовательность. Поэт знал — и мог бы повторить вслед за Брю¬
совым — знаменательные слова, впервые прозвучавшие в начале на¬
шего века:Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза,И песня с бурей вечно сестры.Вот почему в глазах Блока литература и жизнь, искусство и рево¬
люция были нерасторжимы,— а тот, кто оказывался глухим к зовам и
гулам мощного и прекрасного потока революции, тот неизбежно являл¬
ся полным банкротом и в области искусства. Вот это убеждение и от¬
стаивал поэт во многих своих статьях и выступлениях.
«ИСПЕПЕЛЕННЫЙ»IСоветской власти достались разоренное наследство, разруха, го¬
лод, а к этому прибавились и новые бедствия, вызванные борьбой с ин¬
тервентами и белогвардейцами, пытавшимися удушить революцию в
ее колыбели,— и борьба с ними требовала героических усилий и огром¬
ных жертв. Все это страшной тяжестью ложилось на плечи измотанных
и исстрадавшихся людей, живших в условиях неслыханной нищеты,
нужды, недостатка в самом необходимом для жизни.В статье «Великий почин» Ленин подчеркивал, что «коммунисти¬
ческие субботники» начали рабочие — вовсе не находящиеся в исклю¬
чительно благоприятных условиях, а те, которые поставлены «в обыч¬
ные, т. е. самые тяжелые условия» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39,
стр. 20).Особенно тяжелы были эти условия в Петрограде — огромном го¬
роде, почти совершенно отрезанном от источников снабжения и с явно
дезорганизованным хозяйством, пришедшим в полный упадок.Вот и Блок жил в «обычных» для того времени условиях, которые
вместе с тем оказывались и условиями «самыми тяя{елыми»,— и тяже¬
лыми для поэта тем более, чем меньше он был подготовлен к ним всем
предыдущим образом своей жизни.Об этом говорят и сам поэт, и его биограф — М. Бекетова, в книге
которой мы читаем о «сезоне 1937—18 года»:«Вздорожание и скудность припасов заставили голодать большин¬
ство петербургских жителей. Александр Александрович не избег об¬
щей участи. Он питался довольно-таки плохо, так как заработок его
был невелик, и они с Любовью Дмитриевной не успели еще применить¬
ся к новым условиям жизни...» («Александр Блок», стр. 258).Для Блока, погруженного в мир творчества, всегда думавшего
больше об «историческом», чем о житейском, личном, бытовом, «при¬
мениться» к этим условиям — так же, как и к любым другим,— оказа¬
лось крайне затруднительно, почти невозможно, и каждый шаг в сто¬
рону этого «Применения» давался ему с огромным трудом, вызывал
внутренний протест и острое раздражение, граничившее порою с отчая¬
нием,— как и все то, что хоть в какой-то мере мешало или могло ме¬
шать внутренней сосредоточенности и творческой его деятельности.Поэту могло показаться, что все окружающее восстает против
него — и не только недавние приятели, друзья, поклонники, внезапно
превратившиеся в непримиримых врагов и ярых хулителей, но и сами720
условия его жизни, приобретавшие тяжелый и мрачный характер, ко¬
торый поэт мог бы определить словами: «быт против меня» — быт
взбунтовавшийся, беспорядочный, не подчиняющийся никаким зако¬
нам, нормам, привычкам и заставляющий поэта повседневно чувство¬
вать его невероятную жестокость.В ответе на апкету Союза деятелей художественной литературы
поэт говорил:«На вопрос о продовольствии, о замещении пустующих престолов,о парламентаризме, о дефилировании крестных ходов по проспектам —
я отвечать ие берусь, хотя мне не хватает хлеба, так же, как всем дру¬
гим...» (1918).Этот ответ свидетельствует о непритязательности Блока, его
скромности — и о том, в каких трудных условиях жил он, с каким же¬
стоким бытом столкнулся, как тяжела была для него непривычная за¬
бота о куске насущного хлеба, о разного .рода «пайках», дровах и о
многом другом в том же роде — и как все это томило и угнетало его.Поэту приходилось отдавать много времени и забот для решения
тех вопросов, над которыми раньше он никогда на задумывался, и то
новое, что вторгалось в его быт и настраивало психологию на новый
лад, выражалось в шуточных, по пронизанных самым горьким и безот¬
радным юмором стихах:И не раз и но дваВспоминаю святые cjioiia: ' !Дрова...—и сколько таких «святых слов» навязло в зубах у поэта, как и у всех
других петроградцев! В это время кусок хорошо выпеченного — из на¬
стоящей ржаной муки! — хлеба составлял событие, о котором поэт счи¬
тал должным писать своим родным. А нехватка чая была почти нераз¬
решимой и мучительной для Блока проблемой. О тяжести быта, кото¬
рую в полной море пришлось изведать Блоку, свидетельствует и
закись одного из его близких друзей той поры — В. Зоргеифрея:«Тяготы и обиды не миновали Л. А.; скудость наших дней сопри¬
коснулась вплотную с его обиходом; но испытывая, по неоднократным
его заверениям, голода, он, однако, сократил свои потребности до ми¬
нимума; трогательно тосковал по временам о «настоящем» чае, отрав¬
лял себя популярным ядом наших дней — сахарином, выносил свои
книги на продажу, и в феврале этого года, с мучительною тревогою в
глазах, высчитывал, что ему понадобится, чтобы прожить месяц с семь¬
ей, один миллион!» («Записки мечтателей» № 6, стр. 151).Схожие наблюдения мы находим и в книге К. Чуковского «Алек¬
сандр Блок как человек и поэт»:«Конечно, его жизнь была тяжела; у него даже по было отдельной
комнаты для занятий; в квартире ие было прислуги; часто из-за отсут¬
ствии све.га он по неделям не прикасался к перу. И едва ли ему было
•полезно ходить почти ежедневно пешком такую страшную даль — с са¬
мого конца Офицерской на Моховую, во «Всемирную литературу...»
(такого рода сообщения подтверждаются записями и письмами само¬
го поэта.)24 Заказ 534721
. А. В. Луначарский говорит в предисловии к первому тому собра¬
ния сочинений поэта (1932):«Блоку... пришлось жить в такие годы (и до лучших он ие до¬
жил), когда пролетариату нужно было биться с самой свирепой нуж¬
дой, нахлынувшей на него со всех сторон в результате разорительных
войн. Блок поэтому прежде всего испытывал эту огромную разорен-
иость, которая разрушила и его собственный быт...» — и та «свирепая
нужда», е которой боролись питерские рабочие, создавала для поэта
крайне трудные условия существования.Он вынужден был переселиться в тесную квартиру, принимать
участие в различных «повинностях», холод и голод врывались и в его
двери, ие хватало керосина, то есть освещения, и порою все это сплета¬
лось —■ в сочетании с трудными семейными отношениями (постоянные
размолвки между его матерью и женой, вынужденными поселиться
вместе) — в такой безнадежно запутанный клубок, что поэт впадал в
отчаяние; это и накладывало свой отпечаток на его переживания, на
восприятие и осмысление текущих событий.Вот одна из характерных записей последних лет его жизни,— а
сколько таких записей, как опубликованных, так и неопубликованных,
пронизанных духом тоски, отчаяния, безнадежности, находим мы в его
дневниках и записных книжках!«Мороз. Какие-то мешки несут прохожие. Почти полный мрак. Ка¬
кой-то старик кричит, умирая от голода.Светит одна ясная и большая звезда...» — и эта звезда горит слов¬
но бы только для того, чтобы еще яснее и беспощаднее осветить поэту
тягостную и мрачную повседневность его жизни — во всей ее скудо¬
сти и наготе.Да, условия быта Блока были крайне тяжелыми, во все же но
столько ими определялся трагический характер переживаний поэта в
последние годы его жизни, сколько обстоятельствами гораздо более
глубокими и существенными. Самое тягостное для поэта, еще так не¬
давно призывавшего «всем телом, всем сердцем, всем сознанием» слу¬
шать революцию, заключалось в том, что сам-то он с каждым годом
все более переставал слышать грозную и прекрасную музыку эпохи
и воспринимать ее; для Блока — творца, художника это и было тем ис¬
пытанием, которое он переживал гораздо острее и болезненнее, чем
любые житейские невзгоды и бедствия.Почему же это произошло? Вот вопрос, на который необходимо
ответить, чтобы уяснить трагедию поэта, связанную с характером его
понимания революции, закономерностей и условий ее развития. Здесь
все очевиднее обнаруживался разрыв между издавна определившимися
воззрениями поэта и объективным ходом событий.Для Блока революция была ответом на его чаяния, она переклик¬
нулась с его давними призывами, воплотила его мятежные мечты, уто¬
ляла его ненависть к прошлому, жажду увидеть крушение старого
«страшного мира», уже смердевшего заживо,— вот почему он так вос¬
торженно встретил ее. Но вместе с тем он оставлял в неприкосновен¬
ности основы своего мировоззрения, свои идеалистические взгляды и
предрассудки, самое понимание исторического прЩесса как исключи¬
тельно стихийного и чуждого сознательному началу, какому бы то ни
было руководству, организации, усилиям человеческих сил, человече¬
ского разума.Прославление революции как «стихии» у Блока не случайно: а со¬
гласии со своей концепцией «стихийности» поэт еще и в былые годы
воспевал таких общественных деятелей, как идеолог анархизма — Ми¬
хаил Бакунин, отрицавший какое бы то ни было государство, а вместе
с тем и роль пролетариата как гегемона революции,— но Блок именно
в образе и биографии Бакунина усматривал согласие с духом стихии,
с ее «музыкой», видел в Бакунине (о котором в семействе Бекетовых-
Блоков говорили запросто и по-родственному, как о «Мишеле») все то,
что необычайно высоко ценил в людях: «гармонию противоречий», от¬
сутствие «книжности», привычку «презирать все установившиеся по¬
рядки»,— «начиная от государственного строя н общественных укла¬
дов и кончая крышей собственного жилья, пищей, одеждой, сном...»«...все это было для Бакунина не словом, а делом,— подчеркивал
Блок и взывал к своим читателям: — ...Займем огня у Бакунина! Толь¬
ко в огне расплавится скорбь, только молнией разрешится буря...» —
и вторил словам Бакунина о том, что «страсть к разрушению есть вме¬
сте и творческая страсть».Так статья Блока «Михаил Александрович Бакунин», написанная
в 1903 году, лишний раз свидетельствует, насколько поэт был далек от
понимания истинного характера движущих сил истории и революции.Один из тех барских предрассудков, с которыми до конца своей
жизни не мог расстаться поэт и который всячески укреплялся писания¬
ми Мережковского и иже с ним, заключался в недоверни к разуму, в
предпочтении ему чисто эмоциональных импульсов, подсознательной
и бессознательной жизни человека как якобы несравненно более вер¬
ных и надежных источников истины и компасов деятельности.В статье «Народ и интеллигенция» (1908) Блок сравнивает чело¬
веческое сердце с полноводной и могучей рекой, а разум — с темными
облаками, пролетающими над ней —одно за другим — и не оставляю¬
щими на ней никакого следа; в умалении разума, в предпочтении ему
«сердца», слепого влечения, стихийной силы сказывается и влияние
той среды, с которой был связан поэт, формировавшей его идеалисти¬
ческие воззрения и предрассудки, его веру в иррациональное начале
как главенствующее и самое важпоо во внутренней жизни человека;;
этому убеждению поэт не изменил и впоследствии, что мешало e&iy
объективно осмыслить ход и развитие революционных событий.Он, конечно, знал, что существует и штаб революции и ее идеоло¬
ги, стратеги, полководцы, но, судя по всему, думал (в духе военной
концепции Льва Толстого, как автора «Войны и мира»), что их роль
сводится лишь к тому, чтобы дать выход стихийным силам, накопив¬
шимся в народе, ие мешать их проявлению — и только.В одной из предсмертных записок поэт говорит:«...в январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее
слепо, чем в январе девятьсот седьмого или в марте девятьсот четыр-24*723
вадцатого, Оттого я не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было,
написано в согласии со стихией...». : «Согласие со стихией»—в этом и состоял в глазах ноэта пафос
революции. Но в то время, когда Блоку революция представлялась
стихией, родственной мятежным и неукротимым стихиям самой приро¬
ды, Ленин в самом начале Октябрьской революции, в декабре 1917 го¬
да,, писал статью «Как организовать соревнование?», в которой с ге¬
ниальной прозорливостью указал, что именно социализм создает воз¬
можность для большинства трудящихся проявить себя, развернуть
свои способности, обнаружить организаторские таланты: * ■ •«Их много в народе. Они только придавлены. Им надо помочь раз¬
вернуться. Они и только они, при поддержке масс, смогут спасти
Россию и спасти дело социализма» (Поли. собр. соч., т. 35,
стр. 205).Так Ленин ставил вопрос о творческих организационных задачах,
стоящих перед народом, перед советской властью, и без решения кото¬
рых он не мыслил возможности окончательной победы революции.Тем же проблемам посвящена и написанная двумя годами позже
статья Ленина «Великий почин» (1919), созданная уже на основе кон¬
кретного опыта социалистического соревнования. В этой статье Ленин
писал, что если в первое время после пролетарской революции нас бо¬
лее всего занимает, как главная и основная задача, «преодоление со¬
противления буржуазии, победа над эксплуататорами...» то «...рядом
с этой задачей столь же неизбежно выдвигается — и чем дальше, тем
больше — более существенная задача положительного коммунистиче¬
ского строительства, творчества новых экономических отношений, но¬
вого общества» (Поли. собр. соч., т. 39, стр. 13).Далее, в статье «Великий почин», Ленин решительно подчеркивал
преобладающее значение созидательных, строительных, творческих
усилий пролетариата над любыми другими:«Эта вторая задача труднее первой, ибо она ни в коем случае не
может быть решена героизмом отдельного порыва, а требует самого
длительного, самого упорного, самого трудного героизма массовой я
будничной работы. Но эта задача и более существенна, чем первая, ибо
в последнем счете самым глубоким источником силы для побед над бур¬
жуазией и единственным залогом прочности и неотъемлемости этих по¬
бед может быть только новый, более высокий способ общественного про¬
изводства, замена капиталистического и мелкобуржуазного производ¬
ства крупным социалистическим производством» (там же, стр.
17—18).Так Ленин «в ходе самой напряженной, самой острой, до бешен¬
ства, до отчаяния острой классовой борьбы и гражданской войны...»
(В. И. Ленин. Поля. собр. соч., т. 35, стр. 192), когда речь шла о жизни
или смерти Советского государства, прозорливо думал о будущем, на¬
мечал огромные задачи, стоящие перед советской властью в области
творчества, организации, созидания, связывая текущие и первоочеред¬
ные задачи, стоящие перед советской властью, с гигантскими перспек¬
тивами социалистического строительства. Но если Блока мог увлечь724
if увлекал «героизм беззаветного порыва» пролетарских масс, то он об¬
наружил явное непонимание «второй задачи», стоящей перед нроле>«
тариатом; чем большее значение в ходе революции приобретали нача¬
ла организованности, железной дисциплины, повседневных созидатель!-;
ных усилий, побеждавшие расхлябанность, стихийность, партизаищипу,
анархическое своеволие отдельных личностей и групп, тем менее был»,
способен поэт воспринимать «музыку революции», тем более глухим-
оказывался он к гулу ее необычайно широкого и мощного потока*1
Многое здесь было для него «ультразвуком», и прежде всего—- музыка
ее созидания, творчества, организации, ее великого строительства,'
которое приходилось начинать с самого малого и незаметного.Этот наиболее героический подвиг нашего народа не был понят
Блоком. А не понять подвига творчества и труда, призванного преоб¬
разить голодную и разоренную страну, добиться ее небывалого расцве¬
та, благоденствия, могущества,—ото значило не понять самого плавно¬
го, что с каждым годом, уже и в разгаре гражданской войны, все силь¬
нее захватывало народные массы; это значило не понять нового этапа;
революции.Блок полагал, что истинная революция совершается исключитель¬
но в области духа,— а если так, то достаточно лишь, утверждения новой
морали, отвергающей власть прошлого, законы старого «страшного,
мира», достаточно одного лишь страстного желания и внутреннего по¬
рыва, чтобы жизнь в корне преобразилась — и уже вот сегодня, сейчас!
ответила бы всем нашим мечтаниям, чаяниям, требованиям, стала пре¬
красной и безупречной. Он провозглашал максималистские лозунги,,
объявлял, что «жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные;
требования к жизни: все или ничего...».Но было наивным и прекраснодушным мечтательством полагать,
что пролетариат, только что пришедший к власти в нищей, эдономиче-
ски отсталой стране, разоренной годами войны и залитой кровыр..мил?
лионов,- мог кому бы то ни было сразу предоставить,«все», когда, впе¬
реди непочатый край работы, которую приходилось начинать с са¬
мого малого,/чтобы удовлетворить хотя бы наиболее насущные, потребу
ности. Где уж. тут было говорить о том, чтобы немедленно дать «все.»!Но поэт требовал от жизни —и немедленно! — «всего», иначе, ио-
лагал он, «и жить: ие стоит». Вот почему ему пришлось испытать,горь¬
кие и неизбежные разочарования, когда оказалось, что впереди — годц-
огромного, повседневного, кропотливого, планомерного ;и точно, расе?,Ш5-
тайного труда.Поэт и вообще возражал против выведения начал духовной и идей¬
ной- Жизни человека из материальных основ его существования, и»
экономических интересов определенных классов, из характера произ-г
водственных отношений. Все это Блок‘—вслед за представителями
идеалистического лагеря — трактовал весьма высокомерно, пренебрег
жителвио, рассматривал как нечто связанное лишь с требованиями же¬
лудка и нб- имеющее никакого отношения к духовной жизни (Человека-,
к его высшим запросам и интересам; Стремление: связать одно с дру¬
гим казалось поэту непонятным, примитивным и вульгарным, в чем7-25
л сказывался идеалистический характер его воззрений (перекликав¬
шихся с высказываниями былого наставника поэта — Д. Мережковско¬
го — на сей счет).. Блок мог иронически писать — и это крайне характерно для не¬
ге! что вот история, «та самая история, которая, говорят, сводится
попросту к политической экономии...» («Россия и интеллигенция»), на
саном деле таит в себе страшные неожиданности, угрожающие ги¬
белью и катастрофой. Перед лицом этих стихийных «неожиданностей»
ему казались несерьезными и детскими любые попытки что-то заранее
определить в ее ходе, предвидеть, планировать,— хотя бы и с позиций
«политической экономии»; поэт отзывался об этой науке (так же, как
и связанной с нею практике) тем более насмешливо, высокомерно, чем
меньше знал и понимал ее.Не то чтобы Блок в принципе отрицал необходимость сознатель¬
ного и планомерного переустройства жизни (не случайно он некогда
Записал, чго надо уметь понять «рабочую сторону большевизма — за
.летучей, крылатой...»), но первые планы строительства, когда опыта
еще не было и грандиозные замыслы завершались порою слишком ма¬
лыми, а то и жалкими результатами, разговоры в космическом мас¬
штабе сочетались с неумением справиться с самыми ничтожными, хотя
и крайне досадными, мелочами,— все это подавляло поэта, мешало ему
увидеть то большое и реальное, что происходило в стране.В разговоре с Г. Блоком поэт сообщал, что жил современностью
«до весны 1918 года». А когда начались «Красная Армия и социали¬
стическое строительство... я больше не мог...» (Г, Блок. «Герои «Воз¬
мездия».— «Русский современник», 1924, № 3, стр. 184),— и это призна¬
ние, совпадающее со свидетельствами современников, многое объясняет
в дальнейшей — трагической — судьбе Блока.Если природа, жизнь, искусство — это для Блока «моря», то поли¬
тика — всего лишь небольшая заводь, вроде «Маркизовой лужи», и
поэт, действуя, как полагал он, в согласии со «стихией», не придавал
этой «луже» должного значения, никогда — даже и в годы Октябрь¬
ской революции — не стремился основательно постичь н измерить ее,
что порою и заставляло его превращаться в игралище самых смутных
,и случайных настроений.Предпочтение «стихийничества», противопоставляемого сознатель¬
ности, организованности и планомерности, заставляло поэта искать ог-
si'T на многие свои вопросы: и сомнения в левоэсеровской демагогии, в
,сути которой он явно не разбирался; это и было на руку всякого рода
политическим проходимцам и авантюристам. Такой левоэсеровский
путаник и краснобай, как В. Иванов-Разумник, отвергавший самую
.Мысль о необходимости создания прочного революционного государ¬
ства (что в условиях гражданской войны обретало явно антисовет¬
ский характер), оказывал на поэта немалое влияние,— вот почему и
«Двенадцать» и «Скифы» впервые печатались в левоэсеровских изда¬
ниях,—в газете «Знамя труда» (где впервые была опубликована и ста¬
тья «Интеллигенция и Революция») и журнале «Наш путь»; отдельное
издание поэмы «Двенадцать» сопровождалось широковещательной и726
демагогически хлесткой статьей Иванова-Разумника, извращавшей
и суть происходящих событий и характер самой поэмы Блока.Потакая идеалистическим (в духе Вл. Соловьева) предрассудкам
поэта, В. Иванов-Разумпик декламировал здесь на тему о «максима¬
лизме» поэта, о его «скифстве», о «полном внешнем и внутреннем осво¬
бождении человека» — на путях все того же левоэсеровского «макси¬
мализма», о «миссии» России, понимаемой во «скифском духе» (Алек¬
сандр Блок, «Двенадцать», «Скифы». М., Издательство «Революционный
социализм», 1918, стр. 38) ,Что подразумевали в то время под понятием «скифство» его зачи¬
натели и «теоретики»?Если ознакомиться с декларацией «скифов» (которою открыва¬
ются одноименные сборники), то это — путаное, неопределенное, с
претензией на глубокомыслие и многозначительность, утверждение
«духовного максимализма», такого интенсивного «чувства жизни», от
которого «полнится и ширится грудь», что порождает «и яркость поры¬
ва и дерзновение тугого, звенящего лука». Вот почему «нет цели, про¬
тив которой побоялся бы напречь лук он, скиф...»—обнаруживая том
самым свою «волю до конца во всех областях, во всех кругах жизни
и творчества» («Скифы», сборник первый, 1917, стр. VII—XI). Конеч¬
но, все это не более чем общие и весьма неопределенные сами по себе
фразы — если говорить об их социально-политическом «эквиваленте»,—
но трактовались они идеологами «скифства» в духе «почвеннических»
иллюзий левоэсеровских концепций. А «цель», против которой «ски¬
фы» натягивали свои «луки», была совершенно определенной и оче¬
видной: это — партия большевиков; это — установившаяся в Октября
рабоче-крестьянская власть; это — диктатура пролетариата,—что ж
придавало «скифским» выступлениям явно антисоветский характер. От¬
вергая какую бы то ни было (а стало быть, и рабоче-крестьянскую)
государственность, В. Иванов-Разумник призывал — в статье «Испыта¬
ние в грозе и буре» — «взорвать изнутри старый мир Европы» своим
«скифством», своим духовным и социальным «максимализмом», иб'о
только такой максимализм «открывает пути к подлинному освобожде¬
нию человека...» (В. Иванов-Разумник. «Александр Блок. Андрей Бе¬
лый». Пб., изд-во «Алконост», 1919, стр. 154 и др.). Вот почему он
в топ же книге утверждал, что заключение Брестского мира — это
«капитуляция революции перед мещанством» и «величайшая со¬
вершенная ошибка...» (стр. 172). По его мнению, «ошибкой» и «сда¬
чей» являлся и подвиг советского народа, совершившего Великую
Октябрьскую революцию — ие по эсеровским наставлениям и но по
«скифским» рецептам.Люди, подобные Иванову-Разумнику, всячески стремились разду¬
вать идеалистические предрассудки и «максималистские» настроения
поэта. Но следует подчеркнуть, во избежание недоразумений и терми¬
нологической путаницы, что «максимализм» Блока, в котором «эсеры-
максималисты» усматривали нечто свое, непосредственно связанное "с
их пропагандой или порожденное ею, на самом деле имел совершенно
иную природу и носил не «эсеровский», а в гораздо большей мере727
«брандонский» (Ибсен) характер, усвоенный поэтом в давние годы.
В осмыслении блоковского «максимализма» решающая роль в гораздо
большей мере принадлежит не эсерам, а Ибсену, его герою — Бранду,
лозунгу «quantum satis» (то есть «в полную меру», «всо или ничего»),
повторенному впоследствии в самим Блоком.■ Именно этот «максимализм) брэндовского склада составлял не¬
отъемлемую часть мировоззрения Блока, издавна отвечал героиче¬
ским качествам его характера; вот почему несостоятельными являлись
любые попытки «эсеров-максималистов» (и прежде всего — В. Ивано-
ва-Разумника) истолковать творчество Блока в своем духе и объявить
полное единство взглядов поэта с их демагогической фразой,—- хотя
надо1 отметить, что эта фраза и оказывала.на поэта известное воздей¬
ствие, казалась ему родственной и его собственному «максимализму»,
а потому в начале революции и увлекала его.Правда, в тех же воспоминаниях о Блоке В. Зоргенфрей добавля¬
ет, что «...в дальнейшем увлечение что прошло, и лишь к многочислен¬
ным группам и кастам, претендующим на близость к Блоку, прибави¬
лась, в истории общественности, еще одна...» («Записки мечтателей»,
1922, № 6, стр 142),— и это, конечно, отвечает присущему поэту отно¬
шению к политике вообще, и эсеровской в частности.Как видим, к осмыслению революционных событий поэт подходил
крайне издалека, сохраняя в неприкосновенности свои идеалистические
предрассудки и предубеждения, высмеивая любые попытки объяснить
ход истории с позиций диалектического материализма, о чем свидетель¬
ствует и одна из самых последних его статей-— «Владимир Соловьев
и наши дни», написанная незадолго до смерти, в 1920 году.Поэт изображает здесь тысячелетия человеческой истории как из¬
вечные круги жизни, подменив постижение закономерностей развития
истории историческими аналогиями, для уяснения которых нужно не
познание, а «припоминание». Блок утверждал. так же, как христиан¬
ство оказалось некоей «третьей силой» в борьбе древнего Рима с вар¬
варами, так и теперь якобы происходит нечто подобное,—и в борьбе
нового и старого, то есть революции с ее противниками, участвует и
некая, подобная христианству, «третья сила» — «незримая», «духов¬
ная», еще не сказавшаяся в полную меру. Поэт говорил в связи с этим:«...не все черты нового мира определились отчетливо... музыка
его еще заглушена... имени он еще но имеет..л-} и «третья сила» «дале¬
ко еще не стала равнодействующей и шествие ее далеко не определило
величественных шествий мира сего». .• ► •Вот именно потому, утверждал поэт, Владимир Соловьев и не на¬
шел «приюта меж двух враждебных станов», что и сам был носителем
«какой-то части этой третьей силы, этого, несмотря ни на что, идущего
на нас нового мира».Для нас очевидна вся несостоятельность этих смутных представ¬
лений поэта; только крайняя политическая наивность Блока, помножен¬
ная на не изжитые до последних дней жизни идеалистические пред¬
ставления и предрассудки, могла породить такую статью, как «Влади¬
мир Соловьев и наши дни», в которой о «наших днях» дается со вер-728
пхеано фантастическое представление, так же как и о перспекхи.вях
развития всего советского, общества; , . ■В статье «Интеллигенция, и Революция» поэт-предупреждал '.своих
товарищей по перу, своих- недавних друзей и соратников, перебежаягших во враждебный стан: -«Горе тем, кто думает найти в революции- исполнение.только -своих
мечтаний, как бы высоки н .благородны они ни были. Революция, как
грозовой вихрь, как снежный бурап, всегда несет новое и неожидаигНОС...» ...... Mil,Это замечание, верио^ий его острие обращено не только прочив
людей враждебного лагеря, но и против самого поэта.Да, Блок предупреждал тех, кто «обманулся» в революции,. пред¬
ставляя ее себе по-иному—- в парламентских или даже чисто релтодзг
ных формах, а но в ее подлинной сути и реальности: их ждет гор©, ибо
«иа не-может ответить надуманным и отвлеченным «творимым дегеи-
дам», она отбрасывает их и идет своим непреложным путем. , ., ,
Но здесь поэт и себе напророчил «горе» — ибо и его наиболее
«максималистским» и романтически-нрекраснодушньш мечтам — «как
бы высоки и благородны они ни были» — революция ответила далеко
не во всем, и чем дальше, тем очевиднее это становилось Блоку. Он, хо¬
тел увидеть в революции исполнение «только своих мечтаний» — в
этом-то, нонстине, и заключалось его «горе», с годами переживаемое
поэтом все острее и глубже. ,Под влиянием возрастающей «глухоты» к тому, что происходит во¬
круг, у Блока возникло тяжелое чувство изжитое/га жизни, того, что
ему уже «никогда не помолодеть». К этому присоединился: связанный
с обостренно болезненным состоянием нервной системы необычайно
мрачный и безнадежный взгляд иа все окружающее, тот пессимизм,
который был, в сущности, враждебен Блоку — и с которым поэт . сам
долгие годы упорно боролся. А теперь — первы сдали, и вот он записы¬
вает в состоянии мрачного и безнадежного отчаяния: .«Жизнь изменилась (она изменившаяся, но не новая, не -.nuova
(здесь поэт имеет в виду Данте и его книгу «Vita nuova», так много
значившую для него), вошь победила весь свет, это уже совершившее¬
ся дело, и все теперь будет меняться только в другую сторону, а не э
ту, которой жили мы, которую любили мы...»Подобные записи, а их.*-*- опубликованных и неопубликованных .-т
вдневниках и записных книжках поэта немало, свидетельствуют, что ан,
погруженный в мир своих болезненных восприятий и переживаний,
уже отгородился от окружающей действительности, переставал; слы¬
шать.ее>Чтобы понять Подлинное состояние и настроение Блока в послед¬
ние годы его жизни (1919—192)), трагический характер его пережива¬
ний, нужно обратиться к письму В. И. Ленина к Горькому (июль
1919'года), где подвергнуто необычайно глубокому анализу положение
в Петрограде тех времен, а в связи с этим — впечатления н восприятия
Горького, вызванные обстановкой, в которой оказался писатель.1 Это
письмо помогает нам мйотое уяснить ие только во взглядах и настрое¬
но
шшх Горького той поры, но и разобраться в психика ш настроениях
многих других писателей, живших в Петрограде.«Питер — один из наиболее больных пунктов за последнее вре¬
мя,-—писал Ленин Горькому.— Это и понятно, ибо его население боль¬
ше всего вынесло, рабочие больше всего наилучших своих сил иоотда-
пали, голод тяжелый, военная опасность тоже. Нервы у Вас явно не
выдерживают. Это но удивительно» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч.,
т. 51, стр. 23).Горький в это время переживал, по словам Ленина, настроения
человека. «...искусственно загнавшего себя в такое положение, что
наблюдать новой жизни нельзя, а впечатления гниенпя большущей сто¬
лицы буржуазии одолевают» (там же, стр. 27),В связи со всем этим Ленин и говорил Горькому: «...и выводы
Ваши, и все Ваши впечатления совсем больные.» (там же, стр,
23),—и следует отметить, что это определение не в меньшей мере
можно отнести и ко многим другим писателям, жившим в то время
в Петрограде, в том числе — к Блоку, у которого для такого рода «боль¬
ных» выводов и впечатлений было еще больше причин и оснований,
чем у Горького: все условия его предшествующей жизни, все идеалис¬
тические его предрассудки, барские пережитки и предубеждения вос¬
ставали против того «нового и неожиданного», что несла с собою рево¬
люция на новом этапе ее развития, мешали ему понять, а потому и
принять созидательное и творческое ее начало.Революция, несмотря на самые жесточайшие испытания, была на
подъеме — она порождала совершенно новые и небывало высокие фор¬
мы общественных и трудовых отношений, а Блоку — да и ие только
ему! — казалось, что революция — в прошлом, что ее огонь угас, что
вырвавшиеся было на свободу потоки раскаленной лавы снова ушли
в землю. Вот это и усиливало у поэта чувство отчаяния и безнадеж¬
ности.Надо прямо сказать: Блок в 1919—1921 годах — это крайне измо¬
танный, издерганный, изнервничавшийся, смертельно усталый, пере¬
ставший понимать окружающую его действительность человек; преис¬
полненный предчувствием надвигающихся бедствий, обусловленных
как исторически неизбежными, так и преходящими личными обстоя¬
тельствами, поэт говорил:«Оптимизм вообще — несложное и небогатое миросозерцание,
обыкновенно исключающее возможность взглянуть на мир как на це¬
лое. Его обыкновенное оправдание перед людьми и перед самим собою
в том, что он противоположен пессимизму; но он никогда не совпадает
также и с трагическим миросозерцанием, которое одно способно дать
ключ к пониманию сложности мира» («Крушение гуманизма»).Утверждая трагизм как «миросозерцание» самое истинное и высо¬
кое, Блок выражал чувство обреченности — в духе тютчевского воспри¬
ятия жизни («...боритесь прилежно, хоть бой и неравен, борьба безна¬
дежна...»), издавна близкого ему,— но эта трагическая обреченность
меньше всего была присуща тем солдатам революции, которые, несмо¬
тря на самые величайшие жертвы и жестокие испытания, были иснол-730
йены духом исторического оптимизма, несокрушимой веры в великое
и прекраснее будущее.М. А. Бекетова пишет о последней поре жизни Блока: «Его нервы-
были в очень плохом состоянии, по большей части он был в самом мрач¬
ном настроении...» — и это подтверждается записями поэта, иные из ко¬
торых являются свидетельством крайней депрессии. Такова, напри¬
мер, запись от 4 января 1921 года:«1 января не было ничего, кроме мрачной тоски.2-го на «Венецианском купце» -—мрачнейшие слухи...3 января... днем — Е. Ф. Кшшович, которая была в прошлом году
самым верным другом нашей несчастной квартиры...В. М. Алексеев докладывал о литературной жизни Англии но
«Athaeneum»’y за 1920 год. И это было мрачно...»Не случайна и заметка в дневнике, относящаяся к началу 1921
года:;«Следующий сборник стихов, если будет: «Черный день»,—для
поэта к концу его жизни все дни и поистине стали .«черными
днями».В тонах такой «мрачности» видится поэту вся окружающая его
действительность, ибо сами восприятия его обрели болезненно обо¬
стренный характер, и все это заставляло сжиматься при любом прикос¬
новении внешнего мира, жаждать той «тайной свободы», того «покоя»,
тоской о которой пронизана его речь о Пушкине («О назначении поэ¬
та»)., произнесенная почти накануне смерти.IIВ самом конце своей жизни Блок записал:«Перед нашими глазами с детства как бы стоит надпись; огром¬
ными буквами написано: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет многие
дни нашей жизни...», а в одной из своих записных книжек он tзаме¬
тил: «Перед Пушкиным открыта вся душа — начало и конец душевно¬
го движения...» (1914). Если говорить о том наследии великой куль¬
туры прошлых поколений, которое было для Блока его кровным и не¬
отъемлемым достоянием, то здесь прежде всего и надо назвать имя
Пушкина.Пушкин для Блока — это не только неизмеримое по своему значе¬
нию явление русской литературы, ее высочайшая вершина и непрехо¬
дящая слава, но и огромное событие личной жизни, с которым вся она
связана незримыми и неразрывными узами, та «первая любовь» (гово¬
ря словами Тютчева, возникшая с пробуждением самых первых про¬
блесков сознания, какую никогда не забывало его сердце.Имя Пушкина в жизни Блока — словно бы немеркнущая радуга,
стоящая над нею и охватывающая ее всю, от начала и до конца, и в
сиянии этой радуги становится ясным многое из того, чем жил поэт,
что наполняло его душу, восторгом и болыо отзывалось в его творче¬
стве.Пушкиным начинается жизнь Блока, стихами и сказками Нушли-7й4
на открывается для него мир детства, край красоты, подвига,—и это
«ад ним, на самой заре его жизни, как говорят он в поэме «Возмездие»,
«йянй читает долгй-долго, внимательно, изо дня в день:■ ~ ■- Гроб качается хрустальный,Спит царевна мертвым сном...» —и в этих стихах, ставших словно бы самой жизнью, неотъемлемых от
неё; было нечто запомнившееся Блоку, так же как и герою его поэмы,
на -всю жизнь.А потом оказалось, что в этих стихах и'бкйзгсах, любимых и за-
тверженных с детства, была своя великая и непреходящая правда, и
в образе полоненной царевны воплотились самые прекрасные и навсе¬
гда любимые черты родной страны, скованной злыми и хищными сй-
ламй — и также взывающей к подвигу своего освобождения.Особое значение для Блока обретает пушкинский образ «бедного
рыцаря», навсегда захвативший поэта и ставший его неизменным
спутником, символом всей его жизни. Этот образ словно бы осеняет
всю лирику Блока, и, кажется, именно с ним сличает и на него рав¬
няет сам Блок — «рыцарь и поэт»,— все, что происходит в его жизни,
в его внутреннем мире, становится предметом лирического повествова¬
ния.1 Это и отозвалось в речи «О назначении поэта» (1921), где Блок
Высказывает давние свои —и навеянные Пушкиным — мысли о ху-
дсШийке’как «величине неизменной»,», о поэте, чье дело в своей сущ¬
ности «не устаревает», ибо он—«сын гармонии», а гармония «есть
согласие мировых сйл, порядок мировой жизни. Порядок — космос, !в
противоположность беспорядку — хаосу...». Именно в гармонии и по¬
средством гармонии поэт (который «приводит в гармонию слова и зву-
кй») помогает рождению космоса, мира — из хаоса беспорядка, безна¬
чалия; в утверждении прекрасного и гармонического мира'Блок видйт
назначение поэта. Эти мысли отвечают его любви к Пушкину и неуто¬
лимой жажде «единства с миром», его давним представлениям о велй-
ком и ничем не заменимом значений дела художника,— и в них сказа¬
лась необычайная внутренняя широта Блока, безмерность требований,
Предъявляемых им к жизни и искусству.1 ■ Но речь БлОка о Пушкине во многом отлична От того, что поэт го¬
ворил дотоле, ибо сам он испытывал неодолимую й всепобеждающую
тягу к Мокою, к отдыху,— ведь накоиец-то и сбылись слова Блока, ие-
‘когда сказанные им о самом себе: «Я, наконец, смертельно болен...»
Эту речь произнес уже и действительно смертельно больной человек,
у которого почти нестерпимой болыо отзывалось каждое, даже самое
легкое; прикосновение. В творчестве Пушкина поэту ныне слышится
призыв прежде всего к покою, и он твердит, словно некое заклинание:
«Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит».В дни уже предсмертные Блок и в самом деле^ жаждал лишь покоя
и отдыха, казавшихся ему— в его предельном-изнеможении высши¬
ми жизненными благами; в своей речи о Пушкине он отстаивал полнуюi независимость поэта от общества, в условиях которого живет,— имен¬732
но так он понимал и «тайную свободу» художника как непременное
условие всякого, истинного творчества.Многое в речи Блока «О назначении поэта» звучало анахронизмом,
повторением пройденного и им же самим некогда (хотя бы в статье
«Три вопроса») отвергнутого: тут и иронические высказывания о «слу¬
жении внешнему миру», как якобы несовместимом с задачами подлин¬
ного искусства, и слова о невозможности сочетания искусства и «поль¬
зы», полное отвержение того, чтобы художник «просвещал сердца
собратьев», и т. д. Все это Блок в своей речи отмечал как нечто совер¬
шенно чуждое искусству, конечные цели которого, как уверяет здесь
поэт, «нам неизвестны и не могут быть известны». Вот почему речь Бло¬
ка, перемежалась резкими выпадами против Белинского, который сде¬
лал много именно для того, чтобы прояснить «конечные цели» искус¬
ства, борясь как с плоско-утилитарным пониманием художественного
творчества, так и с эстетской теорией «искусства для искусства,».О субъективности этих положений Блока свидетельствует весь
опыт дальнейшего развития советской литературы, наиболее выдаю¬
щиеся произведения которой связаны с прямым и открытым служе¬
нием художника народу, с участием в его труде и его борьбе, с утверж¬
дением права «служить общественным интересам», а не в бегстве от
них и не в их. забвении.Иные положения в речи «О назначении поэта» звучали особенно
аиахронистичпо в тех условиях, когда общественные интересы вышли
на первый план и составляли основную суть деятельности и пережива¬
ний советского человека и когда ваш парод взялся за выполнение не¬
бывалых исторических задач и строительных планов.Если мы сравним статью «Интеллигенция и Революция», дыша¬
щую пафосом великих перемен и преобразований, с речью о Пушкине,
то без труда убедимся, что многое в этой речи противоречит тому, что
доселе утверждал сам поэт,-— и не сможем до конца понять этих про¬
тиворечий, если забудем, что статью о Пушкине писал смертельно
больной, измотанный и надломленный человек.Уже наяву сбывались давние, сказанные о самом себе слова поэ¬
та: .«Уже. он не голос —только стоп...» и этого-то стона нельзя це
услышать на иных страницах его речи о Пушкине, произнесенной в год
смерти и уже словно бы продиктованной предчувствием близящегося
, конца. Вот чем определяются те призывы в этой речи, которые направ¬
лены не только против оппонентов поэта, но и против того беспокой¬
ства, против той «мятежности», которые составляют самую душу его
творчества.Многое в речи «О назначении поэта» является одним из «мучи¬
тельных возвращений» (наподобие появившейся за десятилетие до нее
статьи «О современном состоянии русского символизма»), которые,вно¬
сили острые и непримиримые противоречия в творчество и высказыва¬
ния Блока и были порождены неизжитыми идеалистическими заблуж¬
дениями и аристократическими предрассудками поэта, издавпа. ирису-
щими ему, а теперь обостренными тяжелой, неизлечимой болезнью,И все же речь о Пушкине — не последнее слово Блока о нем, и поэтJ33
уже накануне смерти снова почувствовал себя бойцом, отстаивающим
большие жизненные цели и знающим, что «покой нам только снится».Последняя статья Блока, направленная против искусства штукар¬
ского, против бездушно-формалистского теоретизирования, так и на¬
зывается по-пушкински! — «Без божества, без вдохновенья» (1921),
Здесь поэт самим названием подчеркивает, что, отказываясь от пуш¬
кинского светоносного начала, от того истинно человеческого, что
составляет смысл и назначение творчества, от мира любви и вдохнове¬
нья, художник ничего не создает — кроме хилых, мертворожденных
произведений, непригодных ни для чего, кроме баловства! Так в борь¬
бе с формалистски штукарскими выдумками, призванными подменить
подлинное искусство, Блок брал себе в союзники прежде всего Пуш¬
кина.Последнее стихотворение Блока — «Пушкинскому дому» — также
посвящено поэту, с именем которого связана вся жизнь — от ее начала
до завершения: первые впечатления бытия, и звоны весеннего ледо¬
хода на державной — по-пушкински —- Неве, и бронзовый всадник, ле¬
тящий на скакуне в неведомые и пламенные дали, и прозрачные белые
ночи, порождающие страстную печаль и неугасимую тревогу. Вместе
с Пушкиным жил поэт, вместе с Пушкиным звал «грядущие вока», и
вместе с ним мы,— возглашает Блок,—Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,Прогревали дней грядущих
Сине-розовый туман..,—и пусть в этом «тумане» поэт многого но различал, но — рука об руку
с Пушкиным — ничего не было ему страшно. Пушкин помогал ему одо¬
левать все обиды, боли, страхи — и столько принес в жизнь света, бла¬
га, чудесных и прекрасных творений, звучавших гордым и немолчным
'торжеством самой жизни, как бы вобравших в себя и неоглядные дали,
и грядущие века, и самую душу русскох-о народа, что нельзя было ие
откликнуться на этот призыв, не ответить на него. Блок и отвечал сти¬
хами, в которых, несмотря иа его смертельное изнеможение, одолевая
жажду тишины и покоя, в последний раз сквозит торжественное и лег¬
кое, рожденное в дни юности чувство, словно озаряющее целый мир:Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?Так спрашивал он в своем последнем стихотворении, посвящен¬
ном очередной годовщине со дня смерти Пушкина; стихи эти написаны
словно бы ослабевшей рукой, но именно они завершают (если говорить
о художественно законченных произведениях) творческий путь ноэта*
чья внутренняя связь с Пушкиным, без сомнения, еще привлечет вни¬
мание не одного исследователя русской литературы; она многое объяс¬
няет в характере и мотивах лирики Блока, порождена глубоким внут¬
ренним родством с Пушкиным...734
IllКогда мы говорим о последних днях и месяцах жизни поэта, нель¬
зя ие вспомнить того, что сам он некогда говорил о времени первой
революции, реакции, мировой войны: «испепеляющие годы»,—и это
было для него не каким-то чисто фигуральным выражепием, а самой
сутью своих переживаний и тех событий, из которых он вышел «испе¬
пеленным»: слишком жесток и беспощаден был тот ливень «вина,
страстей, погибели души», чьи порывы и удары зачастую испытывал
на себе ноэт. Революция, к которой Блок присоединился так решитель¬
но, безоглядно, восторженно, пе щадя былых отношений, привязаннос¬
тей и дружб, застала его уже «испепеленным».«Испепеленный» — так называлась вызвавшая в свое время нема¬
ло шума статья Валерия Брюсова, написанная в связи со столетней
годовщиной со дня рождения Гоголя, и, пожалуй, так можно было бы
назвать и Блока,—имея в виду ие только годы, наступившие после
создания «Двенадцати» и «Скифов», когда великий художник, гений,
человек огромной творческой энергии в нем угасал, но и многие пред¬
шествующие.Так, в третьем томе его лирики (1907—1916) то и дело слышатся
признания в своей предельной усталости, смертельном изнеможении:...Я, наконец, смертельно болен.,.Как тяжело ходить среди людейИ притворяться непогибшим......Жизнь давно сожжена и рассказана.,.—<и сколько таких признаний слышится в стихах Блока,— не потому, что
он хоть в какой-то мере преувеличивал свою боль, измотаиносгь, го¬
речь, смертельную усталость, а потому, что не мог не сказать о них,
ибо был предельно правдив и до конца откровенен с читателем.«Мы правильно сжигаем жизнь...» — писал поэт матери в давние
годы, и он поистине «сжигал» свою жизнь, о чем свидетельствуют фак¬
ты биографического порядка и его стихи, дневники, записныо книжки.«Жизни гибельной пожар» был для него «гибельным» не в каком-
нибудь переносном, а в самом прямом смысле этого слова,— поэт по¬
лагал, что иначе для художника и быть не может; «чем хуже жить —>
тем лучше можно творить...» (1907) — издавна внушал он себе, да и
не только себе; вот почему он никогда не щадил своих сил, растрачи¬
вал их норою безоглядно и безрассудно, меньше всего задумываясь о
последствиях такого образа жизни. Не мудрено, что и к Самому нача¬
лу революции силы поэта были уже, судя по всем, на пределе. В этих
условиях удивительно не то, что Блок как поэт, в сущности, замолчал
после создания «Двенадцати» и «Скифов», а то, что он обрел в себе си¬
лы для создания гениальной поэмы, потребовавшей небывалого твор¬
ческого подъема, который и оказался возможным только в буре и гро-
ве самой величайшей из революций.Да, было бы лицемерием утверждать, что Блок всегда и неизм^п1-735
но стоял на высоте своих требований, обращенных к интеллигенции,
которую он призывал слушать «музыку революций», что он во все дни
революции шагал с гордо поднятой головой, но ведая ни сомнений, ни
страхов. Нет, Блок пережил их в полной мере, чему можно найти не¬
мало свидетельств и доказательств. Ему не раз случалось «в тоске
смертельной поглядеть назад», ибо там был с давних детских лет лю¬
бимый «радостный сад», в котором каждый куст и каждое дерево поэт
мог найти с закрытыми глазами,—как утверждал он в одном из своих
старых писем; там ои встречал возлюбленную, казавшуюся воплощен
ияем божественного «вечно женственного» начала; там возвышался
белый и такой уютный дом, изобилующий всеми жизненными блага-
ми^г— а сейчас двери его квартиры были распахнуты настежь перед
свирепой стужей, метель вымела последние крохи былого достатка, от
холода коченели руки, сердце сжималось по ночам от боли, тоски, от¬
чаяния. В поэме Маяковского «Хорошо!» запечатлена встреча с Блоком —
не тем гордым и торжествующим, кто мог сказать о себе: «сегодня я —
гений», а надломленным, словно бы сгорбленным, осаждаемым бедст¬
виями и испытаниями, для борьбы с которыми не хватает внутренних
сия. Именно у этого Блока «тоска у глаз», лицо «мрачнее, чем смерть
на свадьбе», и он мрачно сообщает:■ «Пишут...из деревни...сожгли...у меня...библиотеку в усадьбе».! Да, был и такой Блок, который горевал о шахматовской усадьбе,
об 'уничтоженной библиотеке, о тех растоптанных и памятных с детских
и юношеских лет реликвиях, иные из которых были для него навсегда
священными. И все это надо принять во внимание, чтобы реально
представить себе трагически обостренное состояние поэта, который noj
вседневно выходил на битву и с врагами, и с друзьями, и с жестоким,
беспощадным бытом — и изнемогал в этой борьбе, исходил в ней сле¬
зами и кровыо. Ему зачастую приходилось очень трудно и тяжело в
годы гражданской войны, и многое он переживал в горе, в отчаяний,—
недаром он просыпался ночью с лицом, залитым слезами, в тоске о
сожженной усадьбе, и о всем том, что было для него с детства великой
отрадой, а ныне растоптано чужими ногами,— и все это накладывало
свой тягостный отпечаток на настроения и переживания поэта, порою
принимавшие безнадежно мрачный и трагически отчаянный характер.Но было у него и нечто иное,—и величие Блока сказывалось в
том, что он умел, когда это нужно было, отделить личное от историче¬
ского,. мирового, высшего, не позволял личному возобладать над всем,
остальным; как бы ему ни было трудно и тяжело, Блок умел сохранять
чувство исторического, непреходящего в судьбах всего человечества, и
какое бы отчаяние не овладевало им порою, оно отступало перед тем,
что ! поэт, как «гражданин своей родины», считал своим долгам и на¬
значением.736;
Чтобы вникнуть в эти противоречия, присущие внутреннему-миру
пома, осмыслить их, понять, как он мог сочетать неколебимое муже?
ство, сознание своего долга и назначения с приступами смертельной
тоски, боли, отчаяния, следует напомнить о его давнем, написанном:
за несколько лет до революции письмо, обращенном к В. В. Розанову.
В этом письме Блок делится со своим/корреспондентом — и идейным,
противником — знаменательными, самыми заветными своими раздумь+
ями и признаниями, объясняющими многие противоречия его творя©-^
ства и характера; поэт утверждал:«...я могу сколько угодно мучиться одинокими сомнениями как от¬
дельная личность, но как часть целого я принадлежу к известной груп¬
пе, которая ни на какой компромисс с враждебной ей группой не пой¬
дет».Так оно и теперь, в годы гражданской войны, происходило с поэ¬
том; он нередко мучился «одинокими сомнениями», ибо многого не мог
понять, а потому и принять в ходе и характере революции, и все же ои
не прекращал — во множестве статей, высказываний, выступлений —
отстаивать ее и не шел «ни на какой компромисс» с враясдебной груп¬
пой, в которой обреталось немало его недавних друзей и соратников.
Никакие бытовые неполадки, даже бедствия, никакие личные неуряди¬
цы ие могли поколебать поэта в отстаиваний тех взглядов, которые он ■
считал истинными, хоть на один шаг отступиться от них. Даже в мину¬
ты самого мрачного отчаяния Блок не- сдавался на посулы и угрозы
старого «страшного мира» — слишком хорошо поэт знал их истинную
цену! — и поверх всего личного, бытового, преходящего утверждал по¬
что иное, более высокое и постоянное — то, что сам поэт определял как
«историческое», и этому «историческому» он отдавал безусловное
предпочтение, сохранял верность, никогда не отрекался от него, так
же .как.и от своих издавна сложившихся и созревших убеждений, взгля¬
дов на искусство и литературу. В отстаивании этих взглядов поэт был
так же тверд и последователен, как и прежде, ни на шаг не остуиал/от
них.Об этом свидетельствовал и один из эпизодов, рассказанных его
биографом— В. Н. Княжниным: «Участие в лево-эсеровской прессе не
прошло бесследно. Когда в феврале 1919 г. был арестован в . Москве
Центральный комитет этой партии, произошли аресты и в Петрограде-.
Вечером 15 февраля А. А. был также арестован и просидел на Горохо¬
вой до утра 17 февраля. С лево-эсеровской группой его связывали чи¬
сто литературные отношения, а вовсе не их идеология, и потому мате-;
риала для следственной работы ire оказалось» («Александр Ал екса и -
дрович Блок», 1922, стр. 121).• К этому следует прибавить лишь то, что, и очутившись в условиях
кратковременного заключения, поэт (согласно воспоминаниямА. 3. Штейяберга) ни в малейшей мере не изменил своих взглядов,
своего отношения к революции, по-прежнему видел в себе револю¬
ционера; в ответ на. обращенные к нему слова одного из заключенных:
«...Я никогда не слышал, >чтобы были беспартийные революционе¬
ры...» — поэт только рассмеялся.
— По-вашему, бывают только беспартийные конир-революционе-
ры?.. («Памяти Александра Блока», Петроград, Вольная философская
ассоциация, 1922).Этот ответ (так же как и многое другое в характере и поступках
Блока) свидетельствует о мужественности Блока, стойкости его, уме¬
нии и готовности осмыслить жизнь — исторически — вне зависимости
от сугубо личных интересов и самых горьких переживаний.В. Зоргенфрей сообщает в своих воспоминаниях о Блоке: «Отно¬
ситесь безлично», — говорил он в трудные дни, отзываясь на мои
сетования обывательского свойства; «я приучаю себя относиться без¬
лично — это мне иногда удастся...» («Записки мечтателей» № 6,
стр. 143),-—и эти слова крайне характерны для Блока.«Историческое», мировое было для него несравненно важнее
и значительнее «личного», — и если «личное» терпело тот или иной
ущерб, поэт умел пренебрегать им, относиться к своим трудностям
и тяготам «безлично», — когда они являлись в его глазах неизбежным
следствием событий исторического масштаба, связанных с преобра¬
жением всей страны; им он придавал решающее и верховное значение
» жизни людей, а стало быть, и в своей личной жизни, которую он
заново рассматривал в связи с ними, в их свете — и приходил к новым,
Необычайно важным выводам. Если же оказывалось, что его «личное»,
включая и то, что в этом личном было ему дороже любой священной
реликвии, вступало в противоречие с общим, историческим, то он
сам — и беспощадно — переоценивал свое «личное», свое прошлое —
лишь бы остаться на высоте «исторического», сохранить безусловную
я неколебимую справедливость, не зависящую ни от каких преходя¬
щих интересов и чисто субъективных стремлений. Он сам, как это
очевидно для читателей дневников и записных книжек поэта, стано¬
вился своим судьей, следователем, обличителем, — когда ему казалось,
что он готов забыть о том мировом, общем, непреходящем, без чего
и сама жизнь утрачивает свой смысл. Он судил себя с гораздо боль¬
шей строгостью и пристрастностью, чем это мог бы сделать любой
другой человек, ибо не о каких-то предосудительных «деяниях»
говорит поэт, — их не было, да и быть ие могло! — а о таких психоло¬
гических тонкостях тайных, подспудных, скрытых до поры до време¬
ни не только от постороннего человека, но даже от самого себя —
влечениях, склонностях, пристрастиях, только теперь, в озарении
вешкой революции, обретавших в глазах поэта какой-то иной —
новый —смысл, о котором он сам раньше, вероятно, не подозревал
я не догадывался.Примечательны в этом отношении записи, вызванные известиями
о разграблении Шахматова — имения, где протекали детство и юность
поэта и необычайно дорогого ему по многим самым заветным воспо¬
минаниям. Всякий мещанин-собственник после этого возненавидел бы
революцию и людей, ее осуществляющих, но Блок отнесся к известию
о разгроме Шахматова совсем по-иному. Глубокое осознание неспра¬
ведливости каких бы то ни было привилегий за счет простого парода,
рабочих, крестьянской бедноты заставляло поэта по-новому относить¬738
ся и к себе, к своему прошлому, по-вовому взглянуть и на эпоху
создания стихов о Прекрасной Дамо.Исходя в своих суждениях из «исторического», а не «личного»,
Блок беспощадно и — на взгляд его читателя, знающего всю высоту
помыслов и стремлений поэта, — излишне беспощадно и слишком
сурово говорит здесь о себе, переоценивая свое прошлое с новых
позиций, в новой перспективе, открывшейся ему после разгрома Шах¬
матова.13 январе 1919 года поэт, который «обливался слезами» в снах
о Шахматове, вместе с тем в новом и резком свете видит эти слезы
и записывает со скрупулезностью хирурга, вскрывшего грудную клет¬
ку и установившего источник опасной и дотоле неизвестной болезни,
готовой — если ее вовремя не остановить, если дать ей волю — захва¬
тить всего человека:«Всякая культура -- паучная ли, худоя!ественная ли — демоняч-
на... ио демонизм есть сила. А сила— это победить слабость, обидеть
слабого. Несчастный Федот (крестьянин, который «приложил руку
к разграблению шахматовского дома», — см. Ал. Блок. Сочинения
в. двух томах, 1955, т. II, стр. 773,— Б. С.) изгадил, опоганил мои
духовные ценности, о которых я демонически же плачу по ночам. Но
кто сильнее? Я ли, плачущий и пострадавший, или Федот, если бы
даже он вступил во владения тем, чем не умеет пользоваться?.. Для
Федота — двугривенный и керенка то, что для меня — источник но
оцениваемого никак вдохновения, восторга, слез».Сам Блок в распре «Федота» — имени собирательного! — с вла¬
дельцем Шахматова занимает какую-то особую позицию, «безличную»
(говоря его же словами; но гораздо более близкую к позиции «Федо¬
та», прибавим мы от себя), и, как бы ни была остра боль, вызванная
гибелью драгоценных для него реликвий, умеет отвлечься от нее,
взглянуть на себя со стороны, — и взглядом гораздо более суровым,
жестким, даже беспощадным, чем взгляд любого другого судьи или
прокурора.Поэт носил в себе — в годы своей юности — «'великое пламя
любви», в котором, казалось ему, перегорело все мелкое, преходящее,
земное. Это была любовь двух необыкновенных людей, вмещавшая,
подобно некоему чудесному сосуду, всю земную красоту, все сияние
небесного света, — а теперь, в дни революции, поэт, совершая новые
поразительные открытия, видел в своем прошлом то, о чем доселе
даже и не догадывался, и вот делится с нами — и самим собой —
результатами своих необычайно важных для пего наблюдений:«...когда я носил в себе эту любовь, о которой и поело моей смерти
прочтут в моих книгах, — я любил прогарцовать по убогой деревне на
красивой лошади; я любил спросить дорогу, которую знал и безто«>,
у бедного мужика, чтобы «пофорсить», или у смазливой бабенки,
чтобы нам блеснуть друг другу мимолетно белыми зубами, чтобы
екнуло сердце в груди так себе, ни от чего, кроме как от молодости, от
сырого тумана, от ее смуглого взгляда, от моей стянутой талии —
и это ничуть не нарушало той великой любви...»739
.....:Казалось бы, все это простительно для влюбленного, романтически
настроенного юноши, охваченного восторгом бытия, — но Блок преры¬
вает. себя и с тою - пытливостью и дотошностью, которой мог бы поза¬
видовать сам Порфирий Петрович, пытливейший следователь «Пре¬
ступления и наказания», спрашивает в скобках, как бы между
прочим: «...так ли? А если дальнейшие падения и червоточины —
отсюда?..» — и дальше, снова выведя свою исповедь за скобки повест¬
вовании юных лет, продолжает: «...напротив,— раздувало юность,
лишь юность, а с юностью вместе раздувался тот, «иной» великий
пламень..;» — пламень, под которым Блок подразумевал здесь начало
«демоническое», ибо «демонизм» и есть та сила, которая заключается
э стремлении «обидеть слабого».Перед судом своей совести Блок даже и такое невинпое само по
себе желание, как «прогарцевать» по убогой деревне на красивой
лошади или переблеснуться белыми зубами с красивой «бабенкой»,
рассматривает теперь как «вызов» слабым, обездоленным, миру бес¬
правных и угнетенных, и с каким-то новым, революционным (как
•говорит он сам) чувством смотрит на самые, казалось бы, невинные
.затеи и развлечения влюбленного юноши, писавшего стихи о. Пре¬
красной Даме:«Все это знала беднота. Знала она это лучше еще, чем я, созна¬
тельный. Знала, что барин — молодой, конь статный, улыбка прият¬
ная, что у него невеста хороша, и что оба — господа. А господам,—
.приятные они или пет (курсив мой.— В. С.),— постой, погоди, ужотка
покажем.И показали...»Запись эта — своеобразный автокомментарий к «Стихам о Прекрас¬
ной Даме», в котором их герой предстает в новом, крайне неожидан¬
ном освещении и где осмыслена справедливость возмездия барам
и помещикам, «приятные ли они или нет»,— явно свидетельствуето том, насколько сознание «общего» и «исторического» оказалось
у Блока сильнее и глубже «личного», частного, ограниченного. Он
утверждает здесь, новым, необычайно пристальным и острым взглядом
'окидывая свое прошлое, свою юность, что та неграмотная, темная
беднота, на которую так благосклонно, а вместе с тем и снисходитель¬
но поглядывал юноша, сидевший на статной лошади и охваченныйч,амыми возвышенными чувствами, гораздо лучше и глубже понимала
подоплеку и подлинный смысл происходившего, чем сам он, образо¬
ванный и утонченный барич, и что она быда-таки права в своем за¬
таенном до поры до времени гневе, в своей невысказанной угрозе:
«ужотка покажем!..» — обращенной ко всем барам..,И пусть беднота, неся с собой справедливое возмездие господам
я хозяевам, жившим за ее счет, далеко не всегда имела возможность
безошибочно взвесить личную вину или личную судьбу того или иного
«барина»,— может быть и «приятного», но даже и тогда, когда «не¬
сколько заслуженный перед революцией» (как говорил о себе Блок)
писатель, выходец из старой дворянской или буржуазной среды, тер-
; йел в годы гражданской войны те иди иные обиды — порою и неаа-■ ПА О
(■луженные и ненужные,— Блок меньше всего «обижался» на ' рево¬
люцию. -- . . . : •Нет, поэту казалось в то время, когда ему приходилось очень
трудно, что «глядят на это миллионы тех же не знающих, в чем Д6Л6,
но голодных, исстрадавшихбя глаз, которые видели, как гарцевал стат¬
ный н кормленый барин, И еще кое-что видели другие разный гла¬
за—но "такие же. И посмеиваются глаза — как -же, мол, гарцевал
барин, гулял барин, а теперь барин — за нас? Ой, за нас ли барин?;.
н находил этот вопрос вполне уместным и оправданным. !Нужно напомнить и то, Нто в отзыве на пьесу А. Неверова «Заха1-
рова смерть» Блок утверждал, что как бы порою ни было дорого «ста¬
рое и устоявшееся», но «...человеческая совесть побуждает человека
искать лучшего и помогает ему порой отказываться от старого, уют¬
ного, милого, но умирающего и разлагающегося — в пользу нового,
сначала неуютного и не милого, но обещающего свежую жизнь».Это, конечно, имеет общезначимый смысл, но высказано поэтом
г* о себе, о своем отношении к окружающей его действительности, об
опыте своих личных переживаний, и имеет гораздо более глубокое
отношение к самому поэту; чем к Неверову и героям его пьесы, ибо
едва ли можно было бы назвать жизнь крестьянина в старой и разо¬
ренной за годы войны деревне «уютной» и «милой».Самому ноэту зачастую и действительно было крайне «неуютно»
в окружающем его мире, в суровых, чрезвычайно жестоких и трудных
условиях гражданской войны, и все же он решительно отказывался
от «старого, уютного, милого», но уже обреченного мира, повинуясь
велению своей недремлющей совести, которая влекла его к «новому»,
к тому; что обещало «сшежую жизнь».Как видим, поэт сурово и беспощадно судил о себе и своем про¬
шлом, ему казалось — с позиций народа, но сам народ судил о нем
иначе, совсем не так сурово, и один из виднейших деятелей новой,
советской власти, А. В. Луначарский, выражая мнение народа, говорил
впоследствии в предисловии, к собранию сочинений ноэта, что
«Революция... погрузила его—о чем нельзя не пожалеть горько —на
долгие месяцы в настоящую нужду...» — и этого горького сожаления
первого «наркома просвещения» не могут не разделить все читатели
Блока. - • , :. > Пренебрегая бытовым, «личным»; поэт стремился и умел, жить
«истерическим», самим воздухом великих перемен и событий, участ¬
ии сам-жоторых являлся, — но его «горе», его беда заключались в том,
что он все меньше постигал- то «историческое», что совершалось вокруг
него, а поэтому и исчезала опора для того, чтобы бороться с бытовыми
и; точными трудностями, испытаниями, бедствиями. Так образовался
замкнутый круг, из которого поэт не видел выхода, — а потоку
и подпадал под влияние самых мрачных раздумий и настроений, . , ■1 - Да,'Блок во многом не понимал нового этапа революции, характе¬
ра ее ‘Путей, ее созидательной работы и с сожалением , усматривал
всего лишь угасание «стихийности» там, где было укрепление органи¬
зованности, сялоченностщ дисциплины, творческого начала. Но он.был,.741
верен революции, ее конечным целям и все свои силы, весь свой труд
отдавал ей. Это было его гордостью, его подвигом, который он совер¬
шал сурово и неуклонно, как некое служение, подобное служению
й подвигу рыцаря.В последние месяцы своей жизни поэт находился в крайне болез¬
ненном, психически подавленном состоянии, о чем свидетельствуют
многие, близко знавшие его литераторы (К. Чуковский, Е. Замятин,В. Зоргенфрей и другие).«В середине апреля, — как сообщает М. А. Бекетова, — начались
первые симптомы болезни. Ал. Ал. чувствовал общую слабость и силь¬
ную боль в руках и ногах, но не лечился. Настроение его в это время
было ужасное, и всякое неприятное впечатление усиливало боль. Когда
его мать и жена начинали при нем какой-нибудь спор, он испытывал
усиление физических страданий и просил их замолчать» («Александр
Блок», стр, 293).В мае 1921 года поэт пишет матери но возвращении из Моеквы!
(где он выступал на вечерах):«У меня была кремлевская докторша, которая сказала, что у ме¬
ня, как результат однообразной пищи, сильное истощение и малокро¬
вие, глубокая неврастения, на ногах цинготные опухоли и расшире¬
ние вен... никаких 'органических повреждений нет, а все состояние,
и слабость, и испарина, и плохой сои, и пр. — от истощения...» — и по¬
следствия этого истощения оказались гибельными для поэта.О своем болезненном состоянии поэт говорит и в письме
к Н, А. Нолле-Коган, вернувшись из поездки в Москву, где он «...пе
мог воспринимать ничего от болезни; все эти публичные чтения,
несмотря на многое приятное, что даже до меня доходило, — были как
тяжелый, трудный сон, как кошмары...» (1921).Да, для поэта вся его жизнь превращалась в кошмар, — и тяже¬
лые кошмары преследовали его наяву и в снах (о чем сообщает
в своих воспоминаниях о Блоке его жена).За два месяца до кончины Блок говорит в письме к В. Зор-
•генфрею:«Чувствую себя в первый раз в жизни так: кроме истощения,
цынги, нервов — такой сердечный припадок, что не сплю уже две
ночи...» («Записки мечтателей» № 6, стр. 152).Вскоре после поездки в Москву начались сердечные припадки,
удушье, боли в груди; явственно обнаруживалось и психическое
расстройство. Болезнь прогрессировала все быстрее; в ее близком
и роковом исходе доктора уже не сомневались.«За месяц до смерти, — сообщает М. А. Бекетова, — рассудок
больного начал омрачаться. Это выражалось в крайней раздражитель¬
ности, удрученно-апатичном состоянии и неполном сознании действи¬
тельности...» («Александр Блок», стр. 302).Доктор медицины Пекелис, врач Блока, рассказывая историю его
последней болезни, также отмечает, что у больного со временем «все
заметнее и резче проявлялась ненормальность в сфере психики».О многих проявлениях этой ненормальности Блока в недели, предг
шествовавшие его смерти, о крайне депрессивном состоянии, делаю¬
щем его жертвой бредовых видений и галлюцинаций, о припадках
обостренной и ничем не сдерживаемой раздражительности говорит
и Любовь Дмитриевна в своих воспоминаниях, но, думается, останав¬
ливаться на ходе болезни Блока здесь не следует — это ужо скорее
область медицины, чем литературоведения...«Последние месяцы его жизни были сплошной мукой...» — свиде¬
тельствует 11. С. Коган, и именно этой мукой продиктованы горькие
и отчаянные слова, вырвавшиеся у поэта в последние дни жизни; так,
он писал К. Чуковскому в мае 1921 года:«...сейчас у меня ни души, ни тела йот, я болей, как не был ни¬
когда еще: жар не прекращается, и всо всегда болит... слопала-таки
поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поро¬
сенка...»Эти слова мот сказать только смертельно -- я телесно и душев¬
но — больной человек, каким и был в те дни поэт.Умер Александр Блок 7 августа 1921 года.
' ЗАКЛЮЧЕНИЕ; «РЫЦАРЬ-ГРЯДУЩЕЕ»: ' ! : fi г:В статье «Владимир Соловьев и наши дни» (1920) Блок говорит
об одном из ;Своих: старых наставников,—г но словами, которые имеют
гораздо большее отношение к автору статьи, нежели к ее объекту;
утверждая, что Вл. Соловьев являлся «носителем и провозвестником
будущего», поэт продолжал:«...весьма вероятно, что человек вполне здоровый, трезвый и урав¬
новешенный не вынес бы этого постоянного, стояния на ветру из от¬
крытого в будущее окна, этих постоянных нарушений равновесия.
Такой человек просто износился бы слишком скоро, он занемог бы
или сошел бы с ума».Конечно, все это-в очень малой степени соответствует облику
Владимира Соловьева, реакционно-утопические фантазии которого
и мечты о грядущей «теократии» были обращены не к будущему,
а далеко вспять, — но слова Блока имеют непосредственное отношение
к нему самому, приобретают характер исповеди, выражают свойства
и [особенности его существа, ибо это он сам стоял у окна, открытого
в будущее, — на резком, пронзительном сквозняке, от которого сводило
губы и леденело сердце.В статье «О современности» Горький приводит легенду о Стефане
Пермском. Шея он однажды полем в бурю и ветер. Упала к его ногам
птица, и он сказал ей:— Ие опускай крыл, птица божия! В непогожий день легче летать
и выше взлетишь!И, передавая этот вдохновенный рассказ, Горький взволнованно
подхватывает: :«Как верно сказано это!» •• Да, в те дни, когда но всем русским полям проносилась бурй,
когда ветер гулял «на всем божьем свете», Блок 'широко распахнул
перед ними окна и двери. Ои был подобен той «радостно кричащей
птице», которая в бурях и грозах Октября-взлетала как никогда высо¬
ко и дышала легче, шире и свободней, чем когда бы то ни было,
вбирая всею своею грудью небывало чиетый, свежий воздух высот,
отбросив страхи, сомнения и наваждения некогда «страшного» мира.С той высоты, на которую вознесли его крылья, опирающиеся и а
стремительный и неукротимый октябрьский ветер,’ поэт ясно и четко■ видел многое из того, что доселе тонуло перед ним в «демоническом
мраке»,— и вот это чувство бури, которая: пробуждай* в человеке
бесстрашие, жажду подвига и полета, Блок испытал в полной мере
в те грозовые дни, когда многие его друзья попрятались по углам
и щелям, напуганные гулом грозного потока, шумящего о великом
и взывающего к нему.В дни Октября поэт до конца осознал, что только революция осво¬
бождает дотоле скованные силы человека, дает им выход, укрепляет
чувство «единства с миром»; вот почему он занес в свой дневник, как
некие краткие формулы, заключающие в себе важные и непреложные
истины:«Революции — это: я — не один, а мы.Реакция — одиночество, бездарность, мять глину...» (1918) — и для
Блока была очевидной не только безнадежность, но и вся бездарность
реакции,,г-г бездарной именно потому, что она отворачивается' от
будущего, замыкает человека в узкие пределы сугубо личных, инди¬
видуалистических интересов и влечений, неизбежно принимающих
жалкий, мещански ограниченный, а то и хищнический характер;Революция ответила самым большим надеждам и заветным
чаяниям Блока, она дала ему полноту счастливого и вдохновенного
чувства того «единства с миром», в котором для поэта заключался весь
смысл жизни; она воплотила его исконную «волю к подвигу» — реаль¬
ному и действенному, сливающемуся с великим подвигом .всего
народа, перестраивающего жизнь на новых и незыблемых основах;
вот почему поэт так восторженно встретил революцию, так решитель¬
но защищал ее от всех нападок и покушений,; от любой издевки
и клеветы,Все. явлении окружающего мира и все события истории, все пре¬
дания; веков, и гимны востаний, и грозы революции, и народное горе,
в мечты о будущем —все, что становилось темой переживаний
и пищей раздумий, Блок переводил на язык лирики и прежде всего
воспринимал как лирику.. Даже сама Россия была для него «лири¬
ческой величиной», и эта «величина» была столь огромной, что далеко
не сразу вместилась в рамки его творчества, а только со временем,
упорно раздвигая их, пока вдруг на каком-то историческом повороте,
решающем для судеб всей страны, не вошла разом, мощно и трозао
в,его лоэму, названную «Двенадцать» и ставшую подлинно народный
и великим творением, устремленным к тому будущему, к кото-ром.у
так жадно и страстно стремился поэт. Именно в ней поэт сумел с не¬
бывалой полнотой ввести мировое, вселенское в частное, личное, не¬
повторимо индивидуальное,! — не только не поступаясь им, но обогатив
его новыми гранями и новой глубиной. Так путь поэта «отличного
к общему» (говоря его словами) обрел в дни Октября новую и огром¬
ную, масштабность, новое и непреходящее значение, неотъемлемое от
всей последующей истории советской поэзии. . и.Волей к подвигу, жаждой подвига во имя, этого будущего, во .имя
преображения мира, пронизано все творчество Блока,— и когда ои го¬
ворил о Владимире Соловьеве как о человеке, чей огромный книжный
труд т «только щит. и меч—,в руках рыцаря», то, в гораздо, большей245
маре и степени он мог бы сказать это о себе я своем творчестве. Оно
и на самом деле являлось неустанным, бескорыстным, самоотвержен¬
ным и суровым, требовавшим предельного напряжения всех сил,
героическим подвигом, служением искусству., Этому служению Блок никогда не изменял. Он мог прозревать
великие истины, открывавшие перед ним невиданно широкие гори¬
зонты, такие огромные, что захватывало дух; он мог жестоко заблуж¬
даться в потемках «страшного мира», принимая их за «инферналь¬
ный» и неодолимый «демонический мрак», но он неизменно служил
искусству и раскрывал в нем всю свою душу — как есть, без утайки.
Он не мог творить иначе, не воплощая в искусстве всего себя, не слу¬
жа ему рыцарски и неизменно, и разве ие о себе — как и о любом
настоящем художнике — писал Блок товарищу по работе в Большом
драматическом театре, замечательному актеру Н. Ф. Монахову в день
двадцатипятилетия его артистической деятельности:«...Вы, будучи большим артистом, кроме того — мастер, т. е. знаете
приемы работы от простых ремесленных до самых сложных, и вла¬
деете этими приемами; Вы по своей воле сковали самого себя желез¬
ной дисциплиной; Вы не снимаете того тяжелого панцыря, иод
которым бьется Ваше артистическое сердце; Вы умеете носить этот
тяжкий панцырь так, что посторонним он кажется легким, и только
близко к Вам стоящие могут увидеть, как о и тяжел».В этих простых и благородных словах Блок выразил не только
признание высоких заслуг такого большого артиста, каким был
И. Ф. Монахов, но и свое понимание долга и назначения каждого
подлинного художника, для которого жизнь и творчество являются
служением, подобным служению рыцаря, — и нам очевидно, что,
обращаясь к товарищу <шо жизни, по судьбам», поэт говорит и о себе,
о своем служении искусству, о своем жизненном пути, уже близив¬
шемся к завершению.Как бы далеко ни уклонялся порою поэт на своем пути «отлич¬
ного к общему» (говоря его же словами), какие сомнения ни терзали
бы его., он жил будущим — и в том будущем, о котором так вдохно¬
венно поведал Вагнер в своей книге «Искусство и революция»; вслед
за Вагнером поэт видел в грядущем «артистическое человечество», чья
жизнь станет воплощением радости бытия и вдохновенного творче¬
ства.Блок не только мечтая о будущем и стремился к нему: какая-то
часть его существа уже жила будущим — ив будущем, принадлежала
ему; он, в сущности, и являлся одним из тех «артистических людей»,
которыми Вагнег» населил грядущие вока, — и поэт видел современ¬
ность словно бы с высоты прекрасного будущего, когда исчезнет все
то,, что гнетет и.унижает человека.Будущее потому так глубоко и всецело захватывало поэта, что
представлялось ему торжеством «музыки и света»; оно неприметно
вторгалось в его душу, примешивалось ко всем его думам, надеждам.,
стремлениям, входило неуловимою и неотъемлемою частью в их со¬
став, придавало им шпроту, размах, необычайную значительность,—746
и все это определяет не подвластную годам и ущербу силу и жизнен¬
ность творчества Блока.Когда-то Чехов говорил А. С. Суворину о писателях, «которых мы
называем вечными или просто хорошими»:«Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть,
но от того, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели,
Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна
быть...» (Сочинения, т. 15, стр. 446), —и вот это никогда не угасаю¬
щее чувство той жизни, «какою она должна быть» — жизни «неопи¬
суемо прекрасной и человечески простой» (одно от другого неотдели¬
мо!) придает лирике Блока необычайную широту и непреходящее
с годами значение — даже и тогда, когда мы видим в ней одну из тех
«мимолетных мелочей», на которой словно бы ненароком задержался
взгляд поэта; но и здесь каждая его строка «пропитана, как соком,
сознанием цели», устремлена к ней, словно повинуясь некоему незри¬
мому магниту.Блок говорил в заключительном слове к своему докладу «Круше¬
ние гуманизма» о том, что художник «должен честно смотреть,
а смотреть художественно] честно и значит — смотреть в буду¬
щее...» — и все, что происходило перед его глазами, все, что творилось
в душе, он видел с высоты того идеала, который рано или поздно, по
непременно воплотится в жизнь.Необычайно значительно письмо поэта Г. II. Блоку, где раскры¬
вается далеко не всегда приметный пафос творчества Блока; в ответ
на то, что может показаться в нем «страшным» (как говорил в своем
письме Г. П. Блок) и что другие читатели называли «пессимизмом»
и чем-то «разлагающим», поэт возражал (словно подытоживая основ¬
ное значение своих произведений и осмысляя характер присущей им
противоречивости):«Я действительно хочу многое «разложить» и во многом «усум-
ииться», — но это — не «искусство» для искусства, а происходит от
большой требовательности к жизни; от того, что, я думаю, то, чего
нельзя разложить, и не разложится, а только очистится. Совсем не
считаю себя пессимистом...» (1920).Это и поистине так: взятое в целом, творчество Блока несет
®: себе, несмотря на все, «мрачное», на «угрюмство», заключенное
в нем, светлое и «очистительное» начало, в котором и заключается его
основной смысл.Свою жажду иной, прекрасной, справедливой жизни поэт некогда
воплотил в образе рыцаря-странника Гаэтаиа, героя поэмы «Роза
и Крест».Гаэтан — так назвала Блока Ольга Форш в своей повести «Сума¬
сшедший корабль», посвященной жизни петроградской литературной
интеллигенции конца гражданской войны и начала мирного времени,
и это имя присвоено здесь поэту не случайно: в нем самом многое от¬
вечало облику Гаэтана, воспевавшего «мира восторг беспредельный»
и умевшего сочетать воедино радость и страдание, идти навстречу
грядущему — прекрасному вопреки любым утратам и бедам.747
В черновьй М'рМнткх поэмы Таэтан носит странное и какое-то'неуклюжее имя: «РыЦаръ-Грядущее», — но в этом имени поэт подчер¬
кивал то самое важное, что утверждал и й себе самом: Жажду гряду-'
щего, отсвет грядущего, его голос, зовущий к себе, подобно неумолЧ-
н'ойу, шумйоМу' и певучему океану, 'заглушающему вёе остальные
голоса. «Рыцарь-Грядущее»— вот кем хотел видеть себя — и видел —
поэт, и этот облик проступает, сквозь страницы его книг, напоенных
«музыкой и светом», за и мсти ованны м и из еще не наступивших
времен.Прэт .сдорно наяву, видел будущее —так ясно и четко оно выри¬
совывалось перед ним; это видение никогда не оставляло Блока,—
и все, что он. наблюдал в окружающей его действительности, все, что
он переживал, виделось ему в. свете и сиянии будущего, от которого
он. словно бы выхватил частицу своего огня, своей творческой силы^
своего вдохновения.Творчество Блока и поныне захватывает нас, является призывом
к борьбе за переустройство жизни, за тот мир, который должен воз¬
никнуть перед нами во всей своей ничем не замутненной красоте.К этому миру и шел поэт, его видел в своей творческой мечте, его
воплощал в созданиях своего труда, им измерял любой свой шаг и по¬
ступок, любое свое деяние, — и именно потому, что сам поэт изобра¬
жал современную действительность в огромной перспективе будущего,
s отношении к нему, к прекрасному идеалу «новой жизни» (говоря
словами Данте), его творчество обретало огромную масштабность,
непреходящее значение и, посвященное современности, вызванное ее
заботами и тревогами, далеко выходило за ее рамки и пределы.Блок необычайно много может дать современному читателю —
тому, кто услышит его живой, не слабеющий с годами, юношески
страстный голос. В творчестве Блока наш читатель не сможет не раз¬
личить и не почувствовать того, что чуждо тлению, что всегда будет
принадлежать не только прошлому и настоящему, но и будущему,—
«волю к подвигу», веру в людей, ту жажду «единства с миром»,
в утолении которой поэт видел высшее торжество и высшее счастье
человека.Такое понимание жизни, творчества, назначения человека отве¬
чает и внутреннему строю людей нашего времени, — вот почему так
дорого нам вдохновенное и мужественное творчество Блока,
откликающееся на самые большие вопросы человеческого бытия
и дающее на них свой ответ; пусть далеко не все в этом ответе можно
принять и разделить, но пафос творчества Блока необычайно близок
и дорог нашему читателю, не может не захватить его.Эта жажда будущего, родство с будущим, умение увидеть жизнь
с высоты будущего, нерушимая вера в то, что «мир прекрасен», —
стоит лишь стереть «случайные черты», —- вот что придает такую
жизненность и властную силу произведениям Блока, определяет748
ведущее начало в его крайне сложном и противоречивом наследии.
Какие сомнения и страхи ни одолевали бы порою поэта, какие бы
сумерки ни застилали открывшуюся перед ним широкую даль, он
твердо и уверенно говорил о себе — славно из пределов того огромного
и прекрасного будущего, к которому стремились все его помыслы,
надежды, мечты:Простим угрюмство — разве ото
Сокрытый двигатель его?Оп весь — дитя добра и света,Он весь — свободы торжество!В этих строках мы и находим верный и глубокий ответ на вопрос
о том, что составляет основной смысл его стихов, обладающих велй-
кой жизненной силой и по нраву ставших выПе достоянием самых
широких кругов наших читателей. В творчестве Блока — наряду
с временными и преходящими — они увидят черты будущего, пре¬
красные и бессмертные, увидят в облике поэта то сияние «добра
и света», какому де дано померкнуть вовеки.
СОДЕРЖАНИЕОх автора , • * 7Часть первая
ВОЛЯ К ПОДВИГУ(«Стихи о Прекрасной Даме»1. «В тумане утреннем,..» 132. «Покорность богу и Платон...» . 213: «Владычица вселенной» 344. «Из-под маски...» . , . . 435. «Новая поэзия» ............. 516. «Распутья» . 81«Евангелие от декаданса» 87«Обломки миров» . . . 101«Второе крещенье» 120«Без возврата...»1. «Апокалипсис в русской поэзии» ...... 1502. «Ты в поля отошла..» 1493. Купина пли куст? . . . 1584. «Балаганчик» и его герои , . 187«Великое предательство»1. «Сказка о тон, которая не поймет ее» .... 1772. «Тридцать три урода» .......... 1823. «Тебя подстерегают всюду...» 139«Разве это мы звали любовью?»1. «Живой костер» 1922. «Унижение» 2023. «Обетованная весна...» 211«Не для дружб я боролся с судьбой»1. «Друг другу мы тайно враждебны...» .... 2242. «Предатели в жизни и дружбе...» 2413. «Приходи ко мне, товарищ...» ....... 249«Поругание счастия» . 25Й«Творимая легенда» 283«Я пригвожден к трактирной стойке...» 271«Вольные мысли» . » 284«Песня Судьбы» 292«Третий вопрос» 304«Заветы символизма»1. «Несбыточная явь» 3252. «Незнакомка» , . , ■ 3343. «О современном состоянии русского символизма» 346ш
■«Возмездие»1. «Родные сестры» . 3542. Отец и сын 3623. «Кто меч скует?..» 380«Жизнь моего приятеля» 390«Вражья сила» ■ « . 407«От личного к общему»1. «Венец земного цвета» ... * 4182. «Роковая, родная страна...» < 4303. «Единство с миром» ........... 4434. «Трилогия вочеловечения» . , . 453«Роман в стихах» ... 465«Молнии искусства» * 509«Воля к подвигу» .............. 523.Часть вторая
ПОДВИГНакануне1. «Испепеляющие годы» .......... 5392. В саду Клннгзора 5583. «Судьба Аполлона Григорьева» 5684. «Между двух революций» 575«Двенадцать»1. «Нечаянная радость» . . 5842. «В белом венчике...» . . •• . . 6053. «Строй находить в нестройном вихре. » . . . 6174. «Связь времен» . 6245. Нотунг 6346. «Интеллигенция и Революция» 644«Пророки революции» , . .......... 653За и против . . , 665«На линии огня»1. «Я ничему не изменил» ......... 6812. «Испытание огнем и железом» . ..... 6893. «Искусство и Революция» . , ....... 707«Испепеленный» 720Заключение. «Рыцарь-Грядущее» ........ 744
Боряе* Иванович Соловьев
ПОЭТ И ЕГО ПОДВИГХудожник И. А. Литвишко
Редактор В. М. Курганова
Художественный редактор Э. А, Розен
Технический редактор В. А. Авдеева
Корректор В. Л. ДаниловаСд. в ваб. 31/VII-72 г, Поди, к печ. 24/V-73 г.
Ф, бум. 60X60'/м. Фи», п. л. 47,0. Уч.-изд. я.
54,55. Изд. инд. ЛХ-659. А07928. Тираж 50 003,
Цена 2 р. 60 к. Бум, М» 1.Издательство «Советская Россия».
Москва, пр. Сапунова, 13/15.Книжная фабрика N5 1 Росглавполиграфпрома
Государственного комитета Совета Министров
РСФСР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли, г.. Электросталь Московской
области, ул, км, Тевосяна, 2^,-'Заказ. № 534,