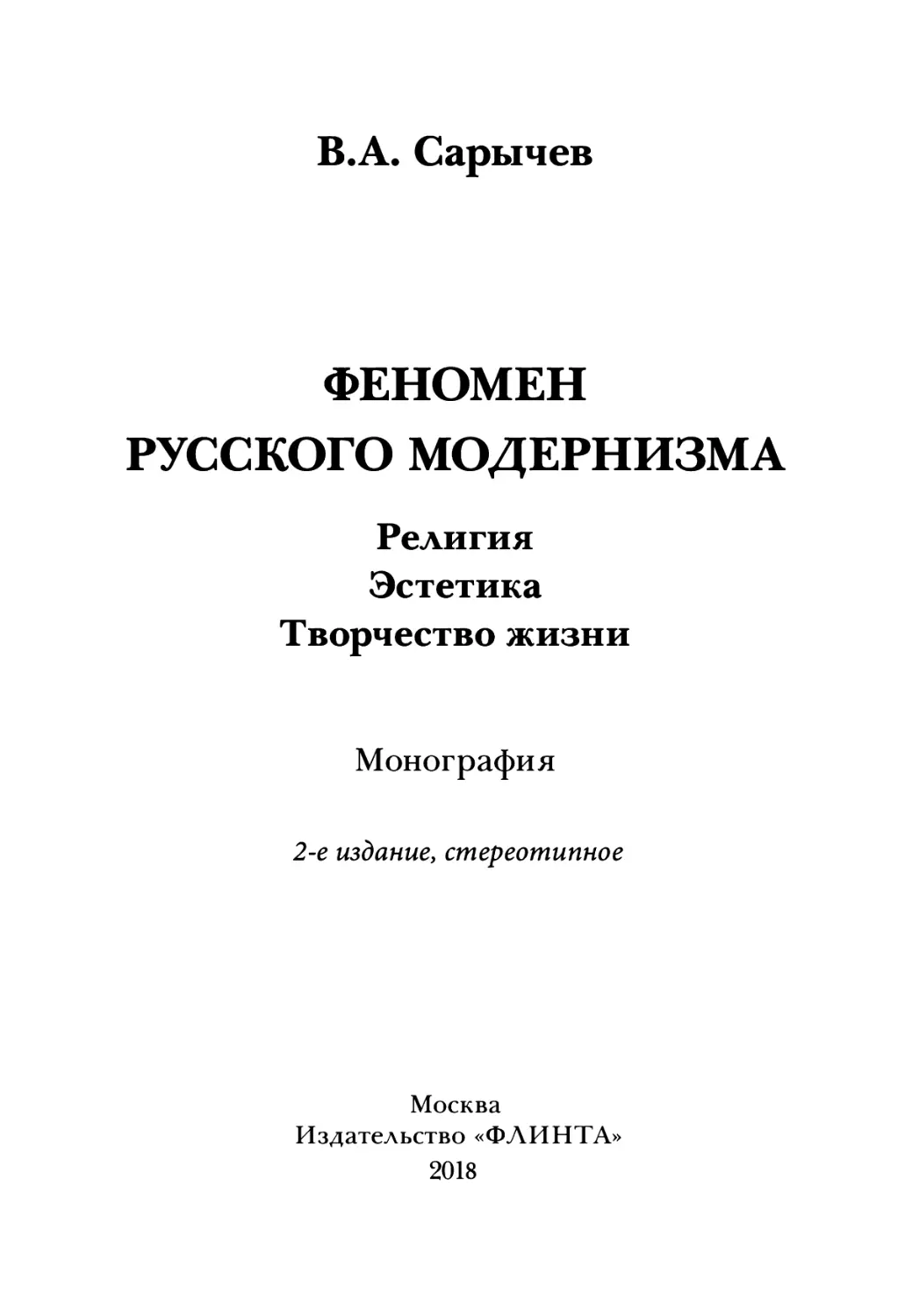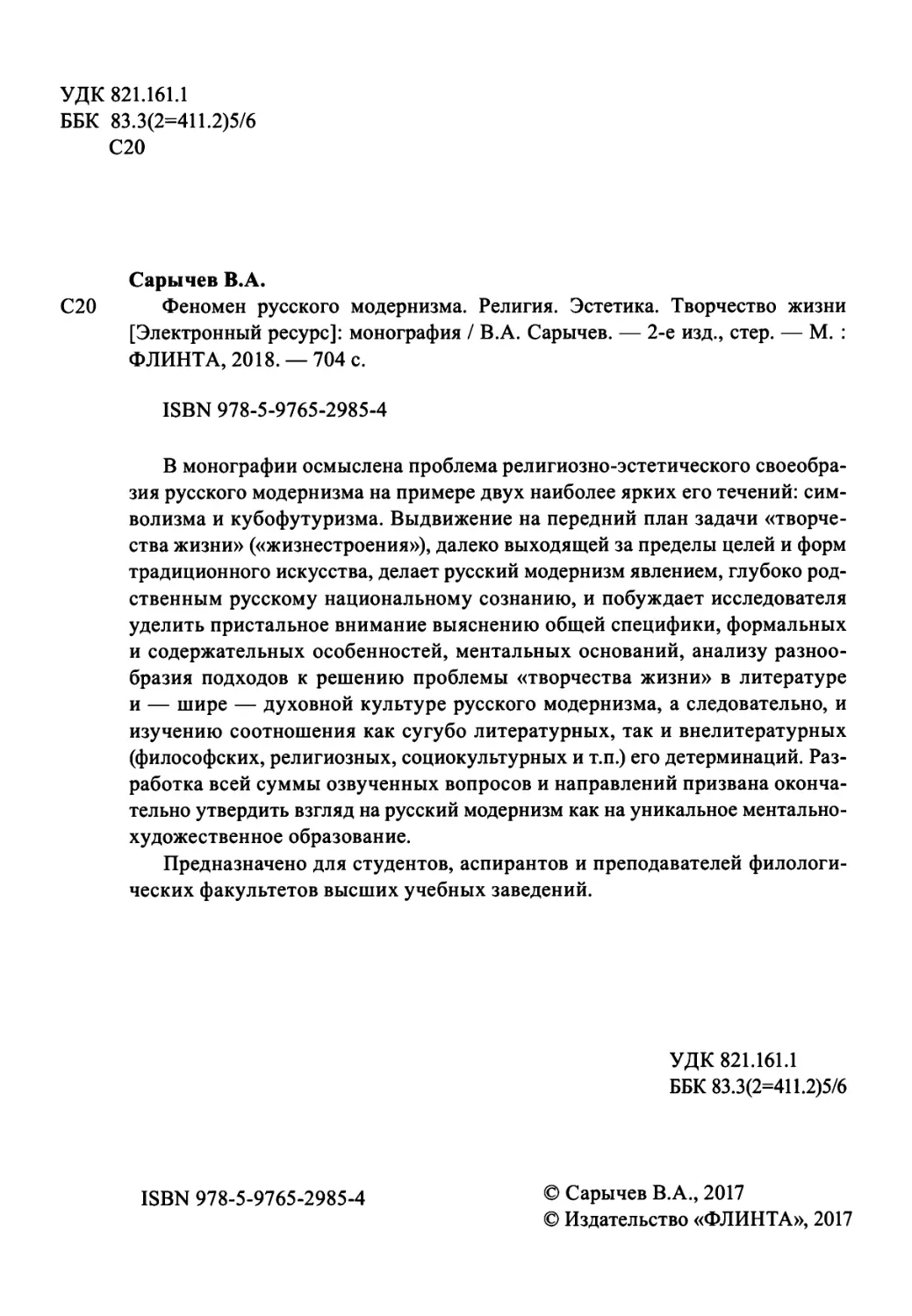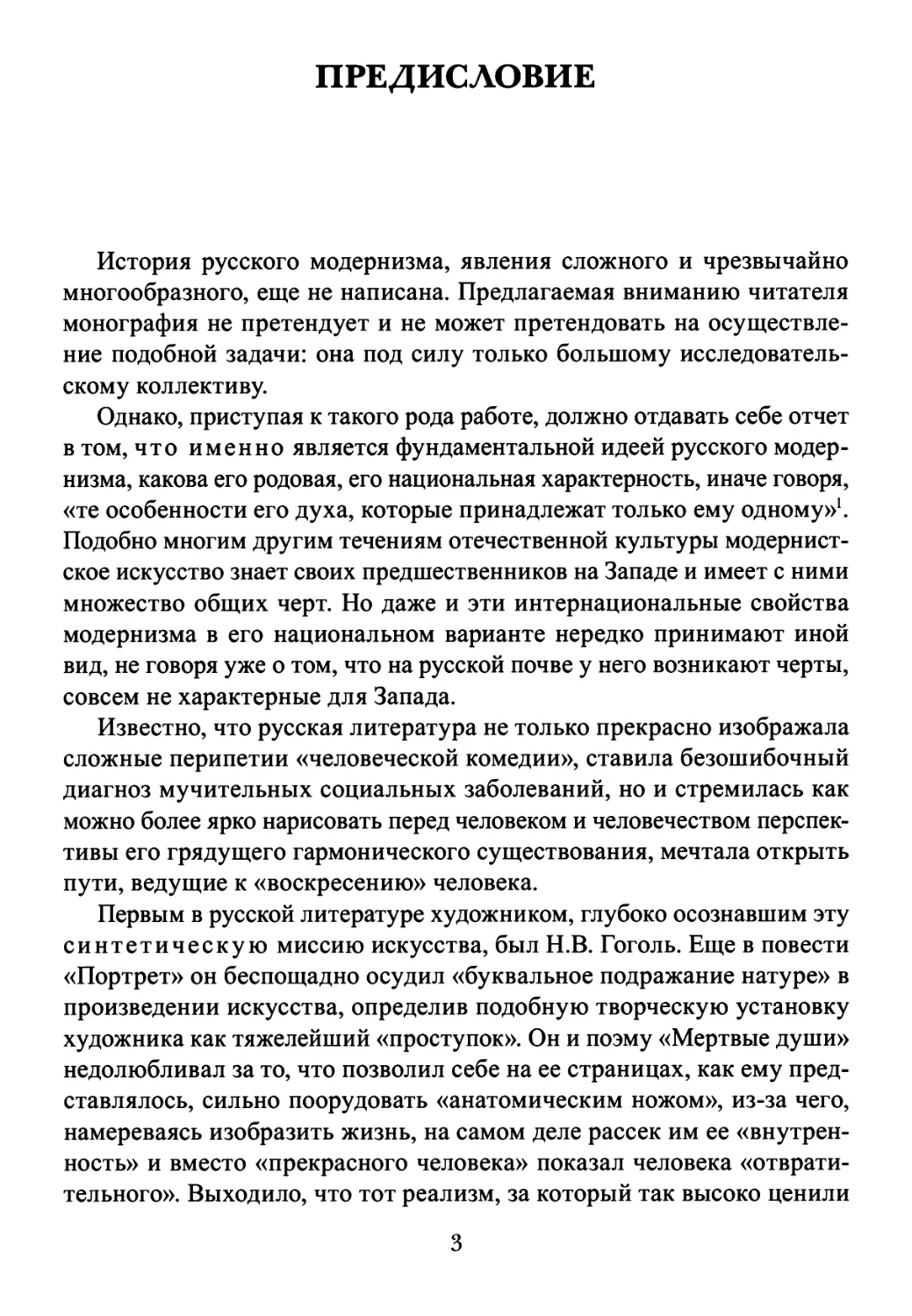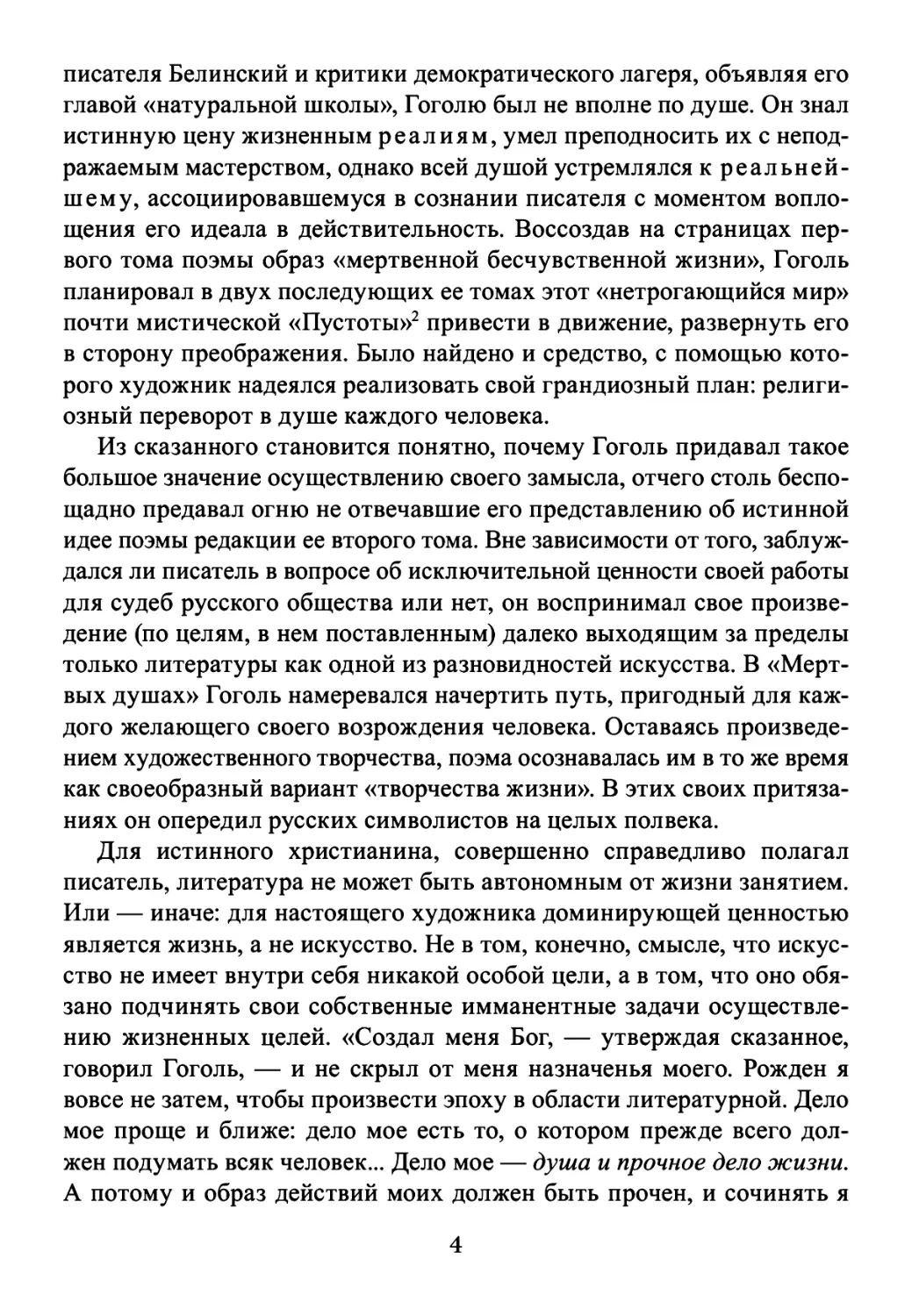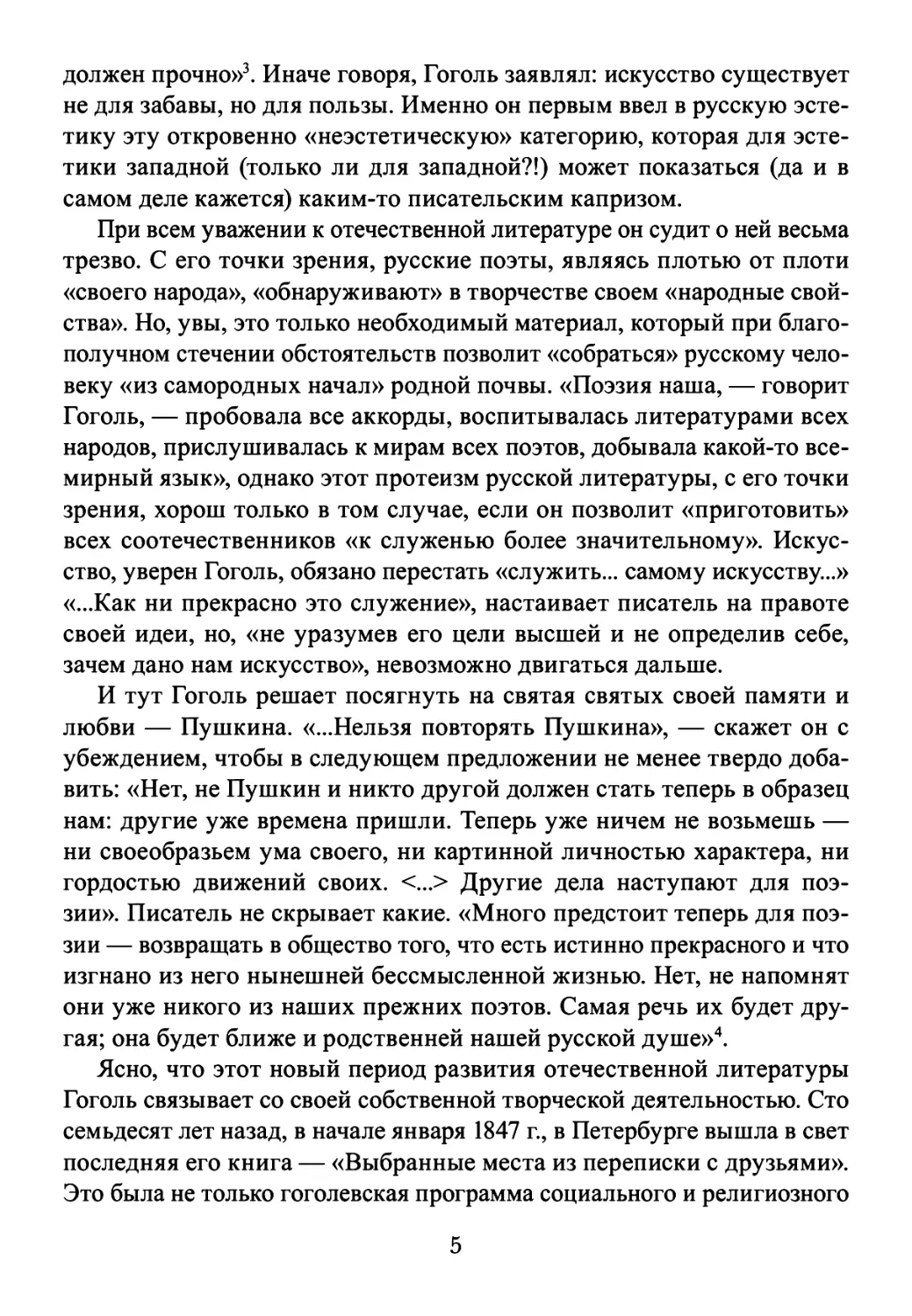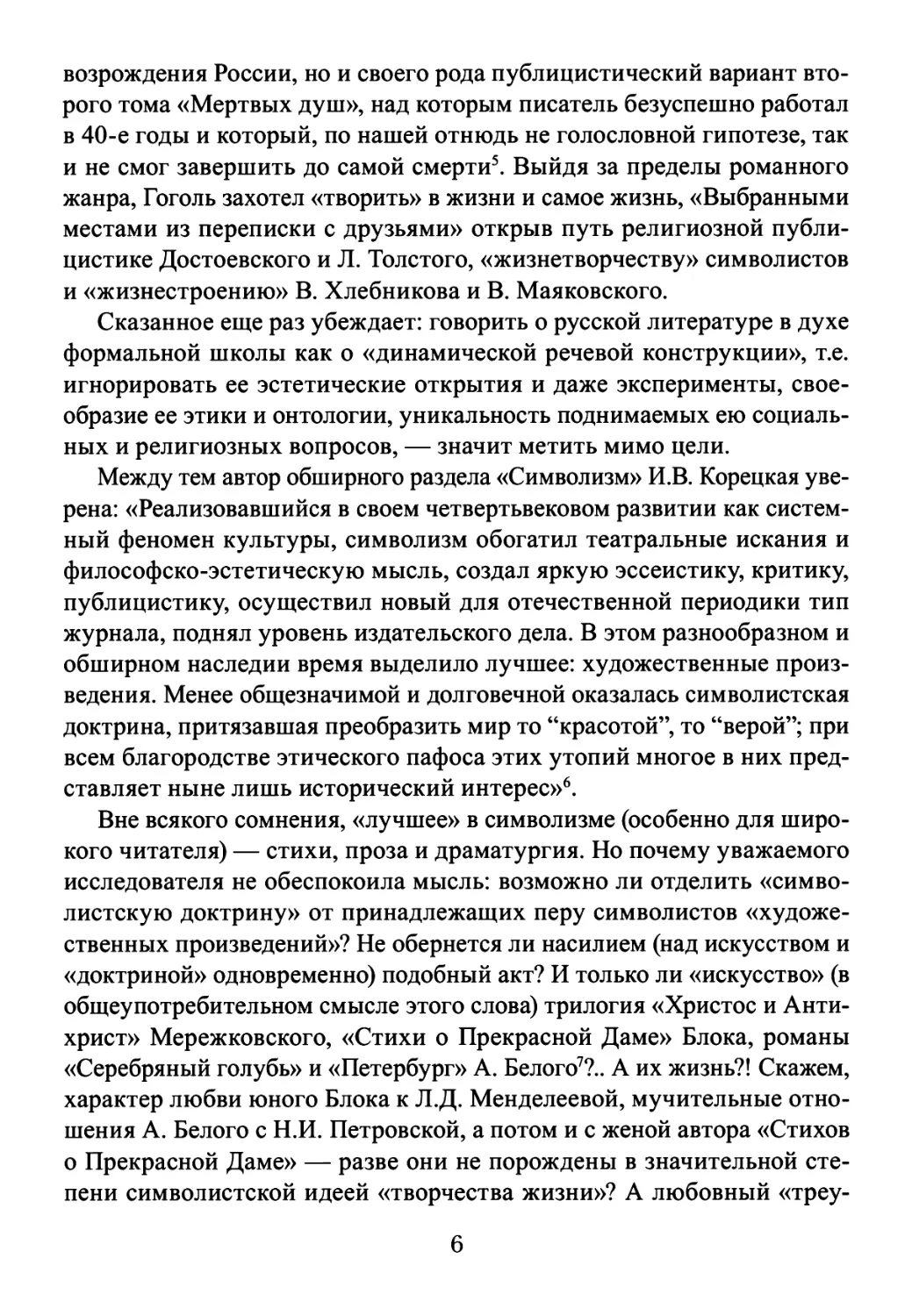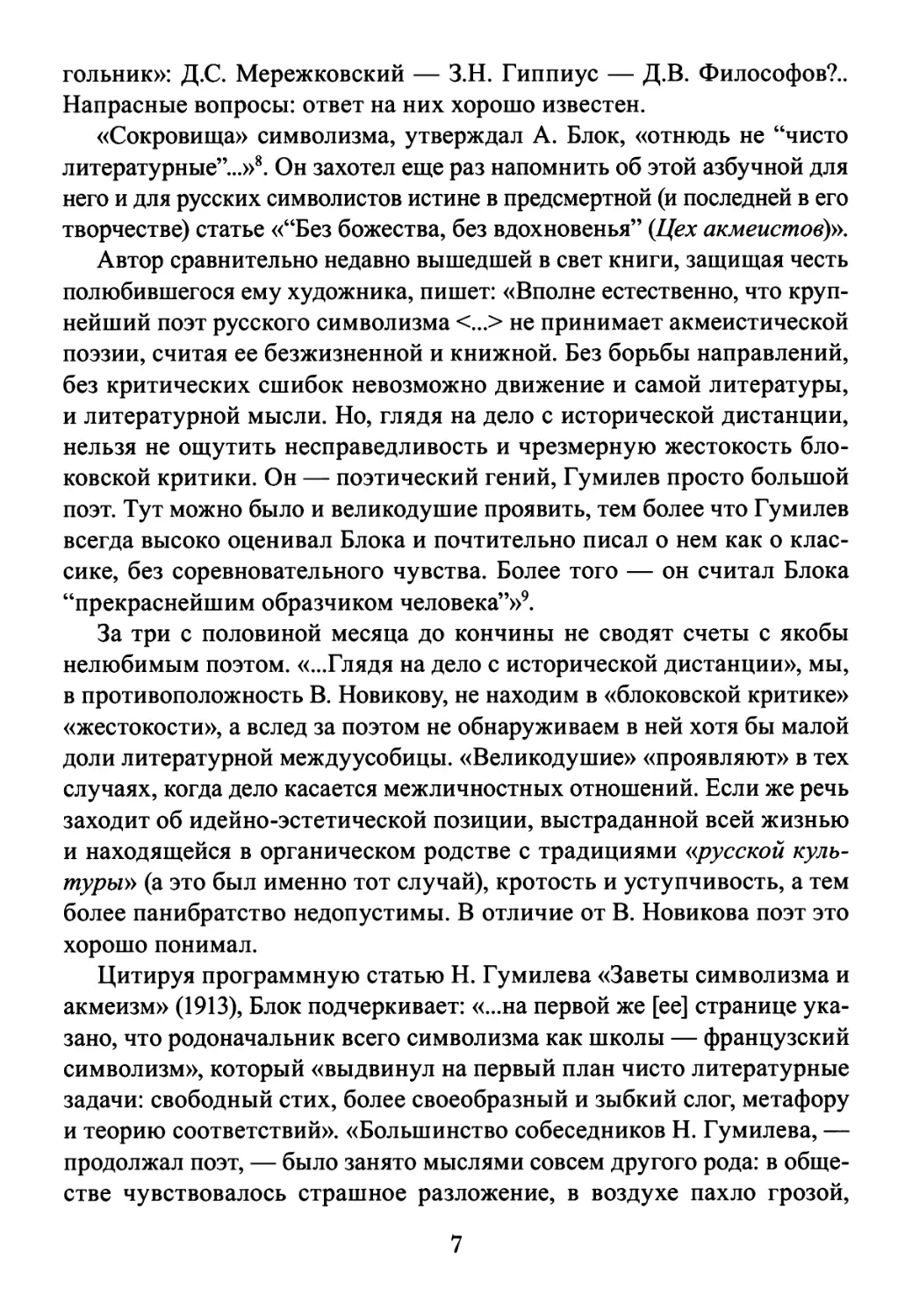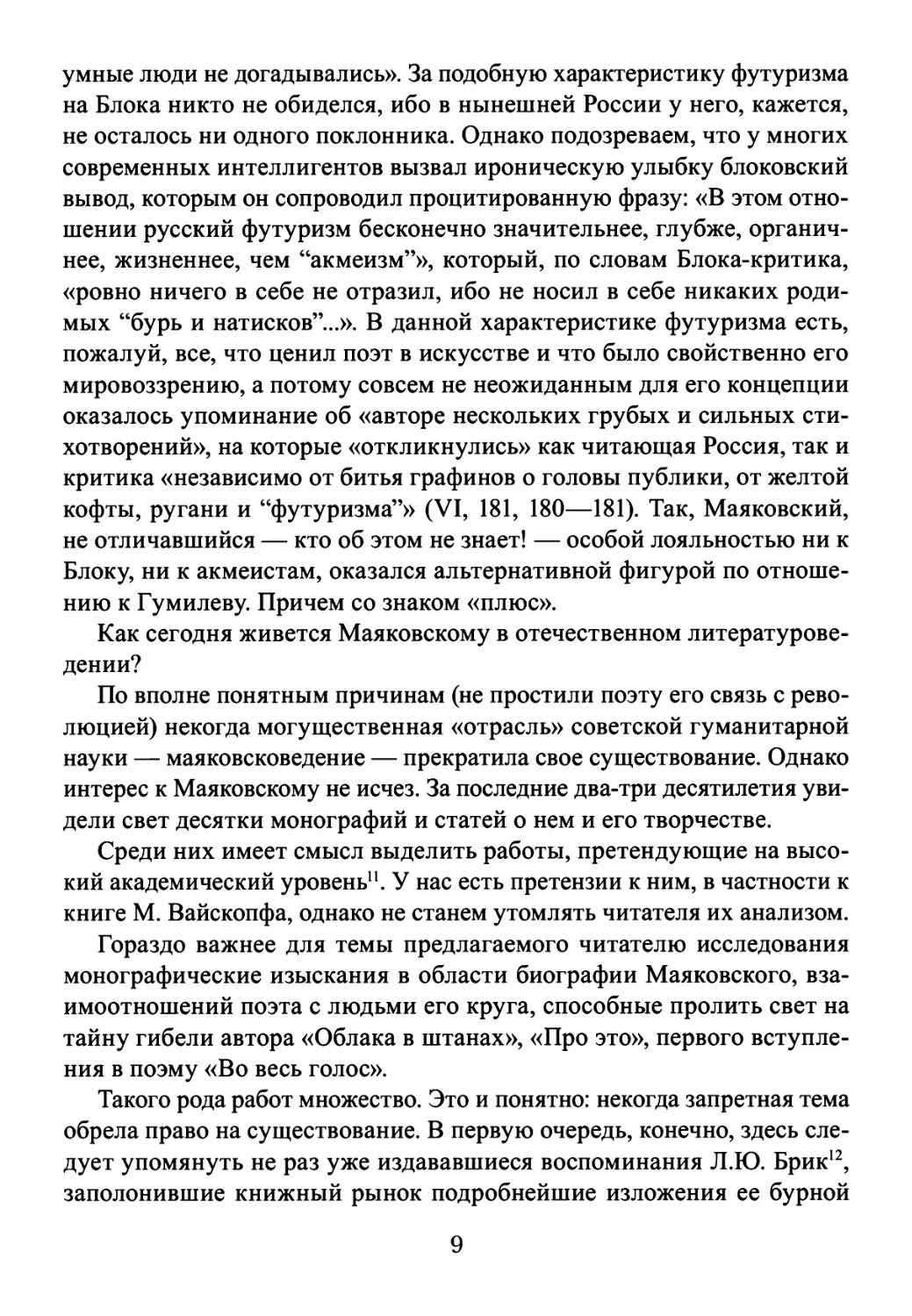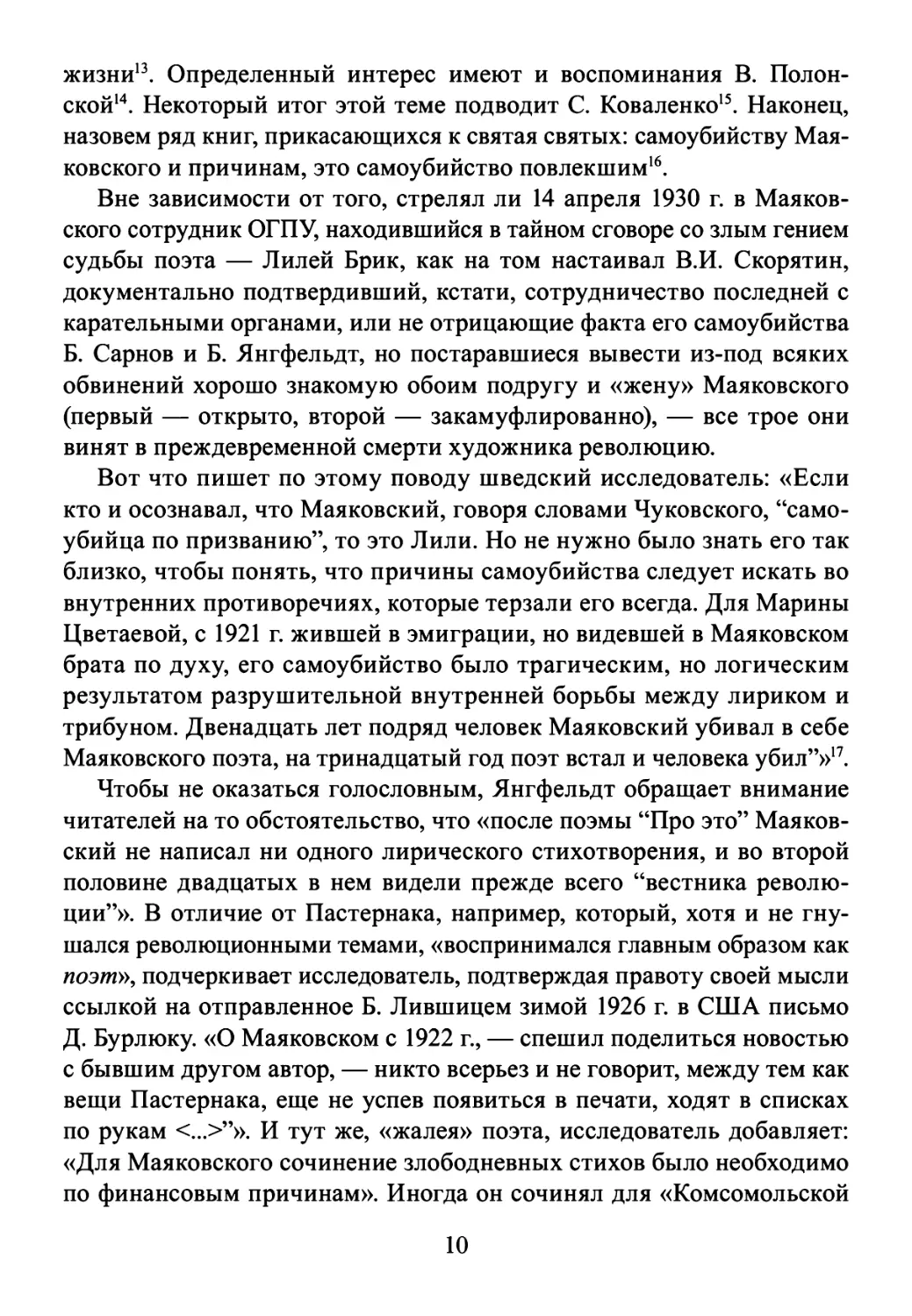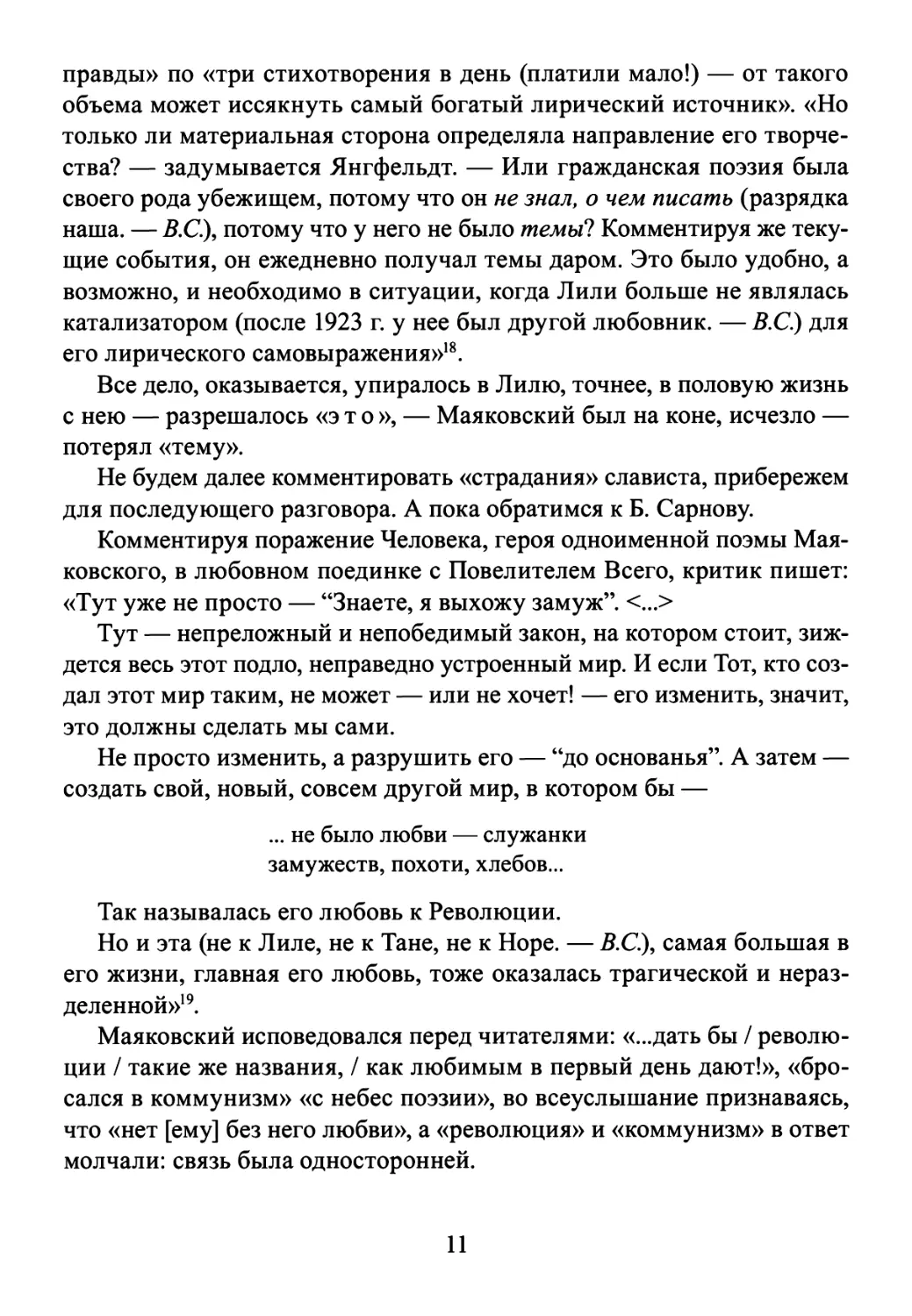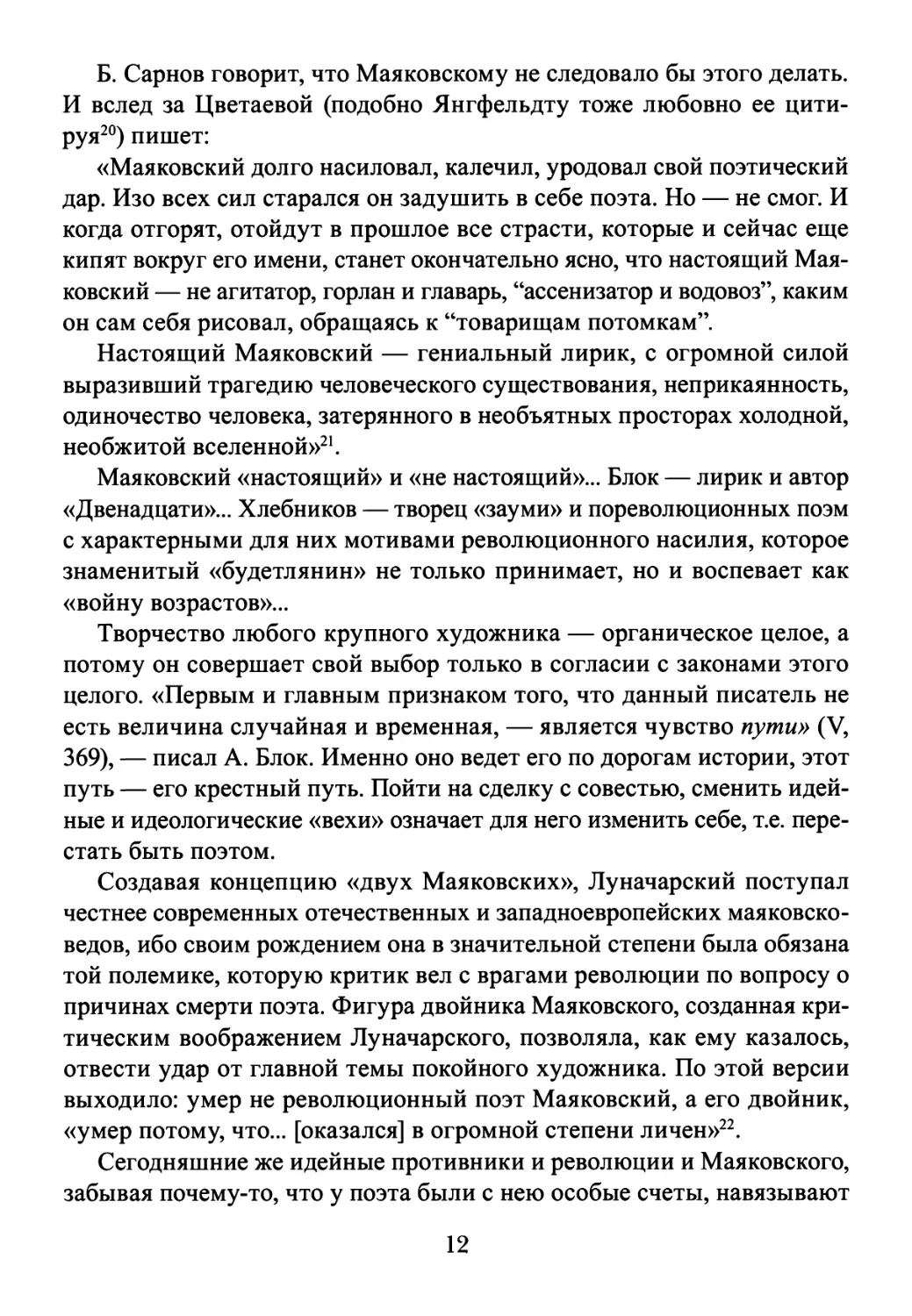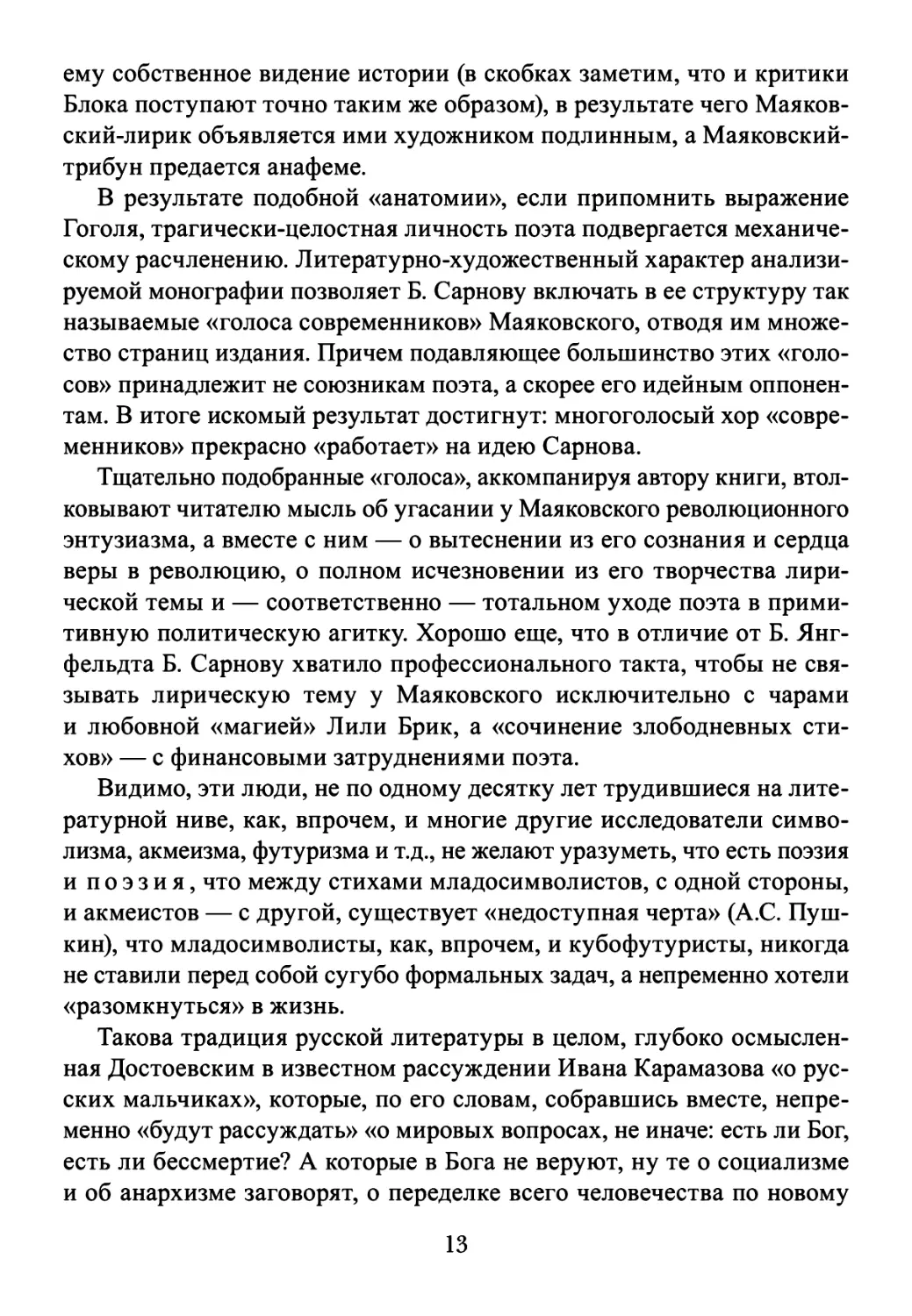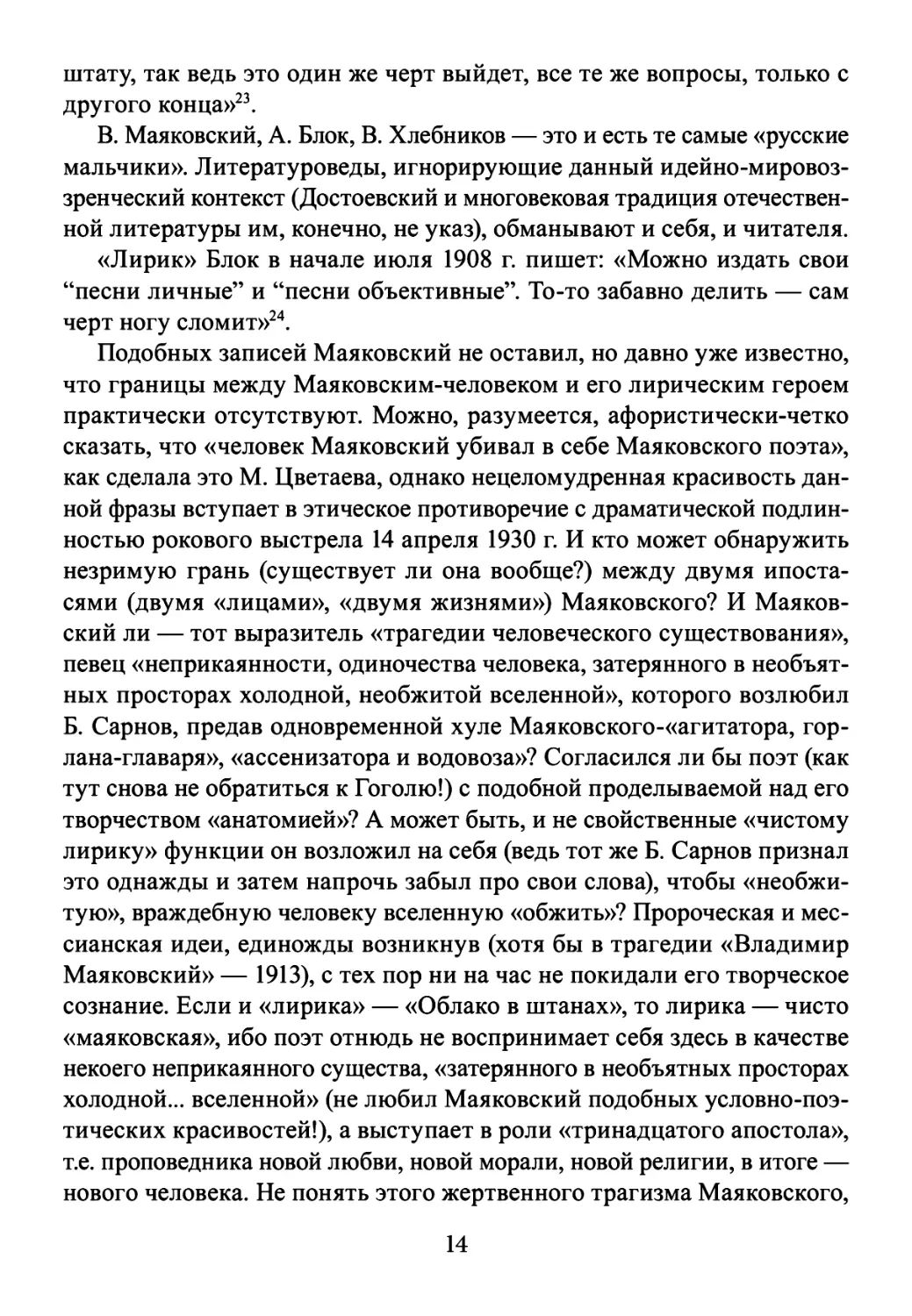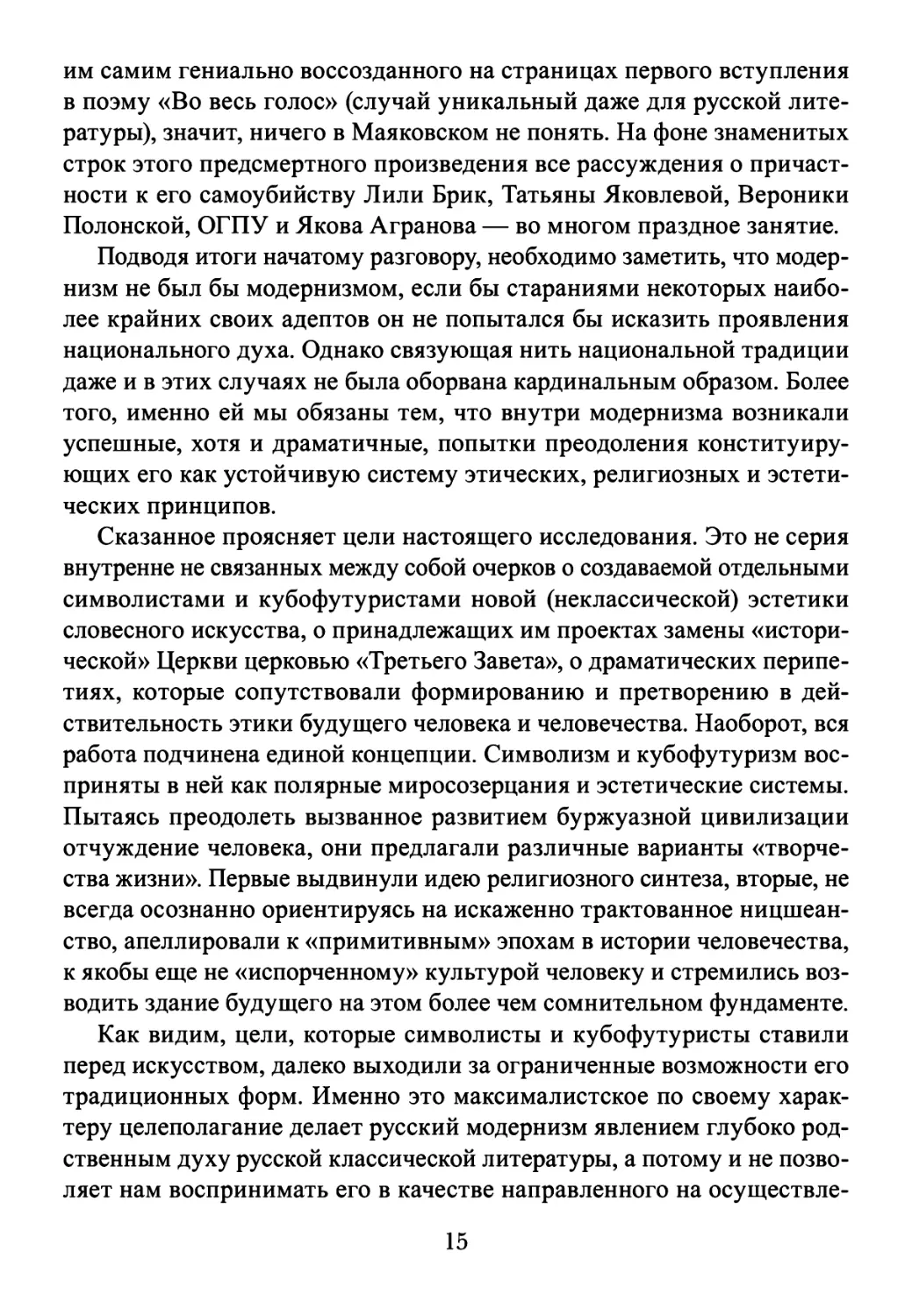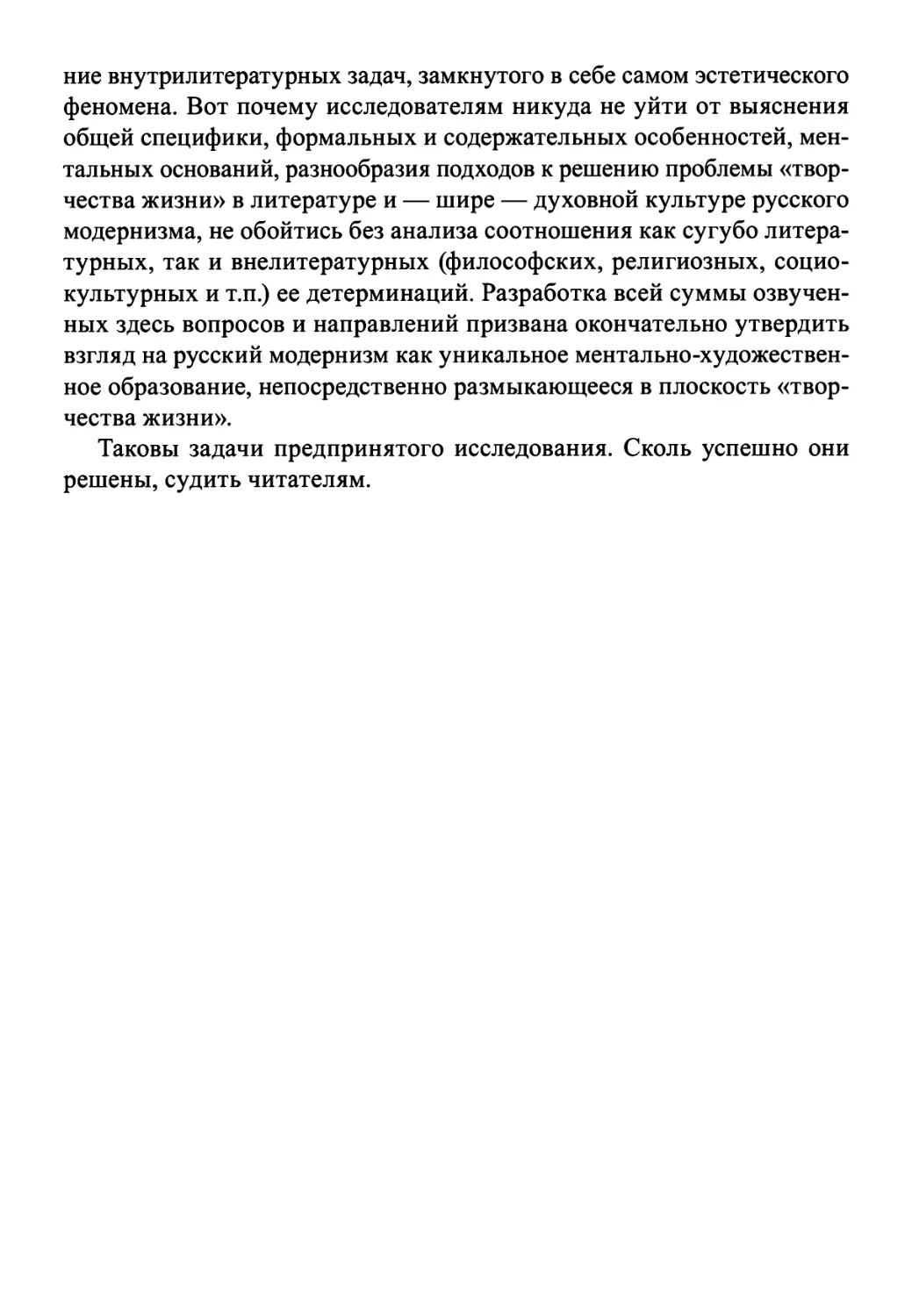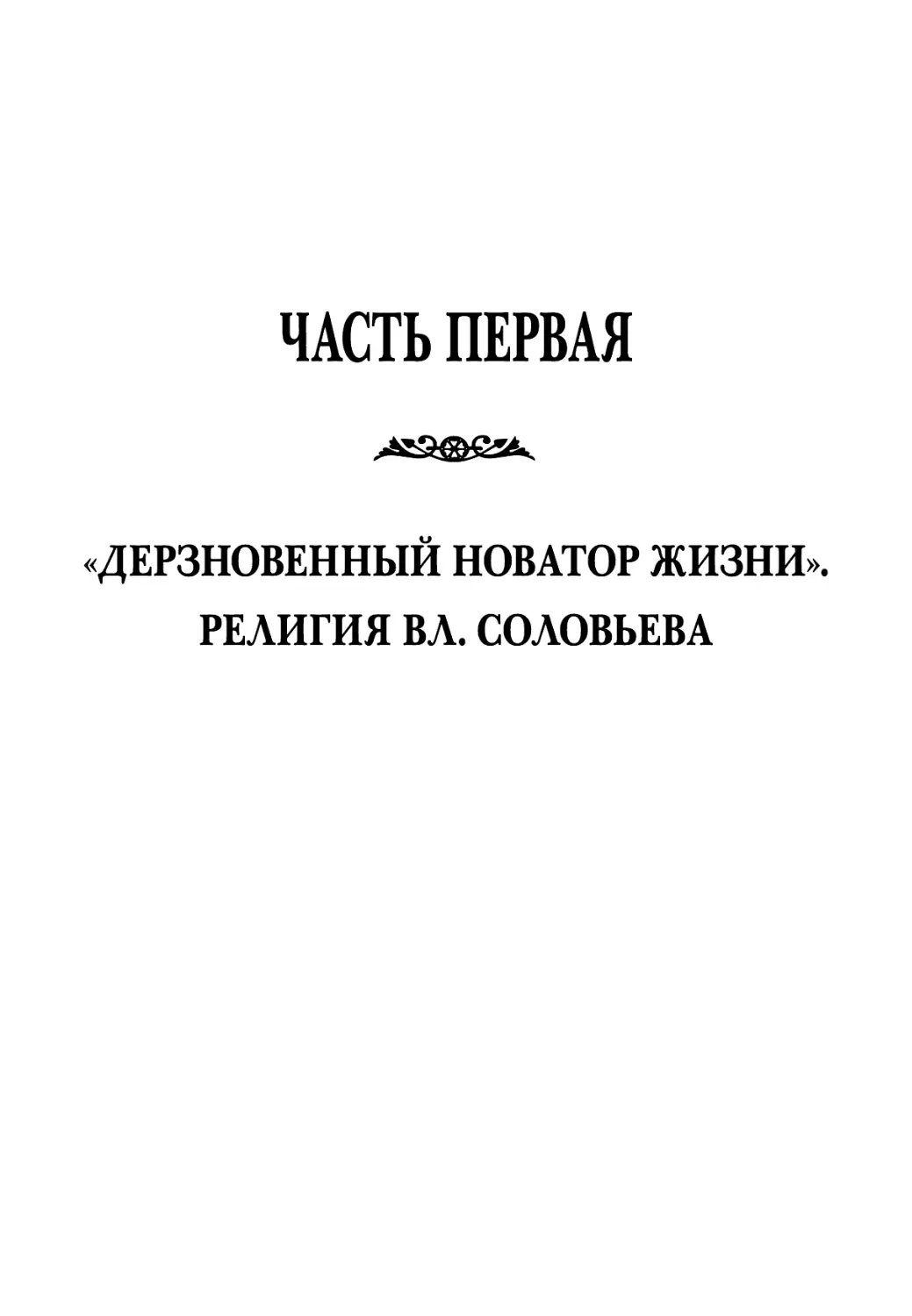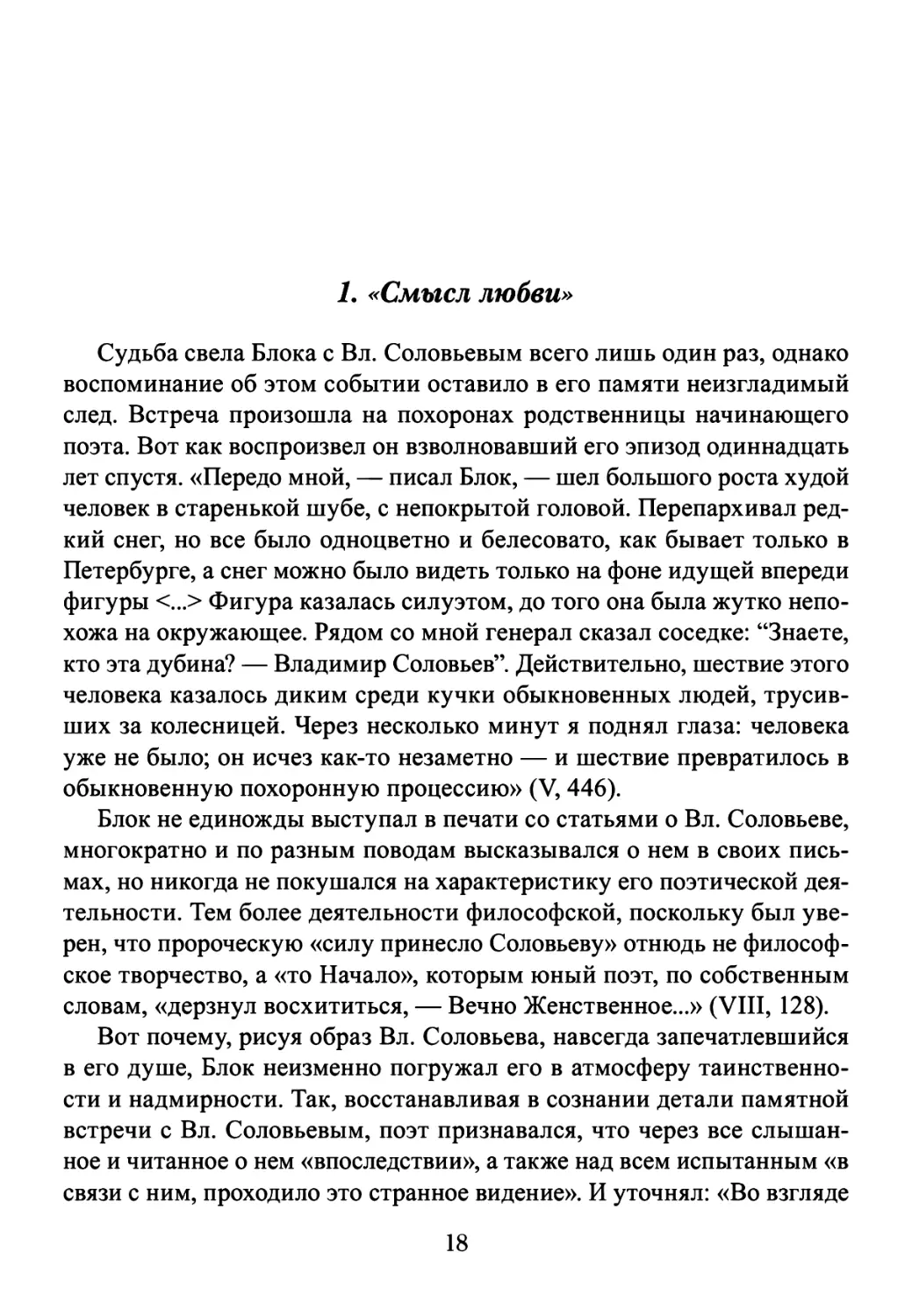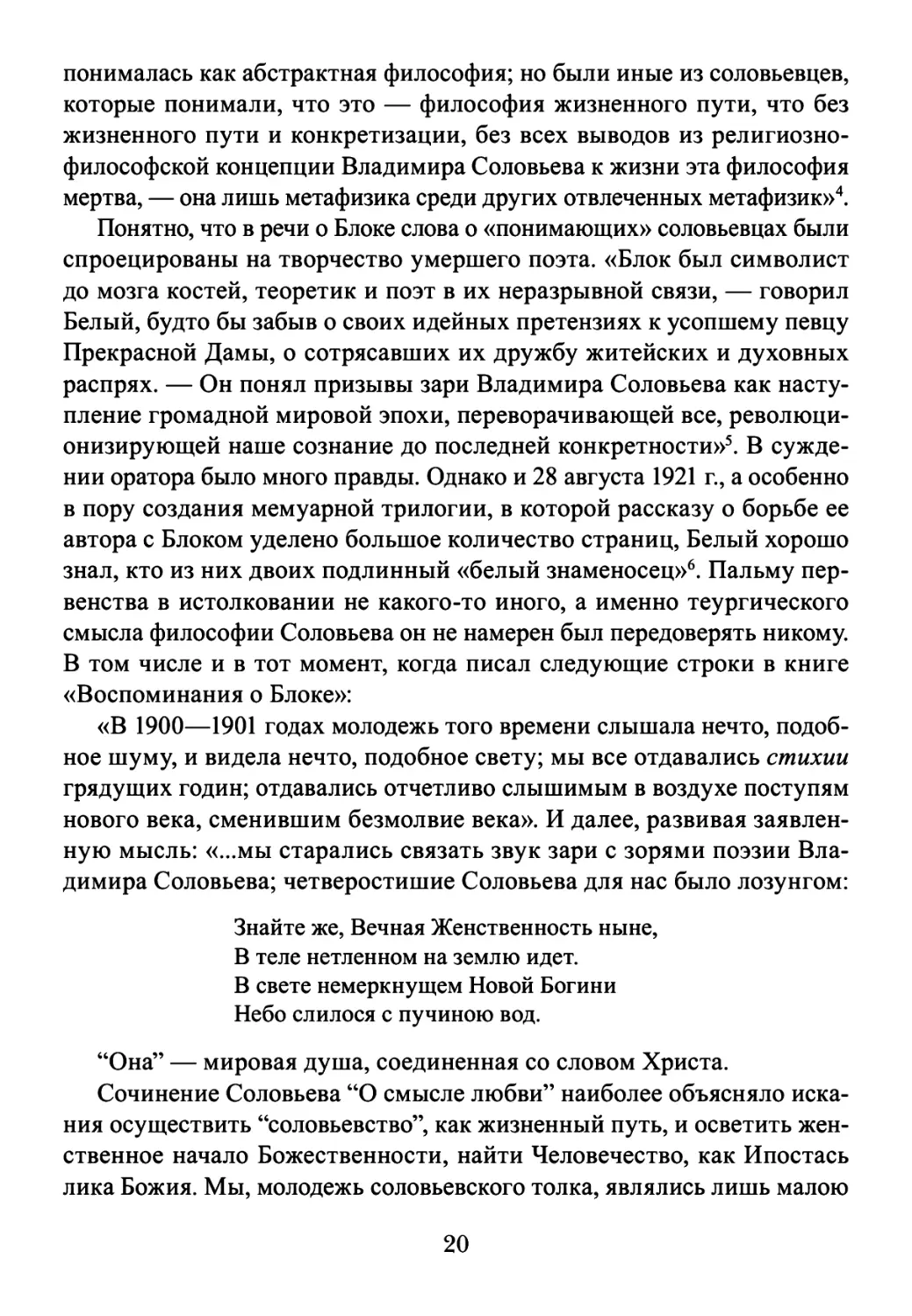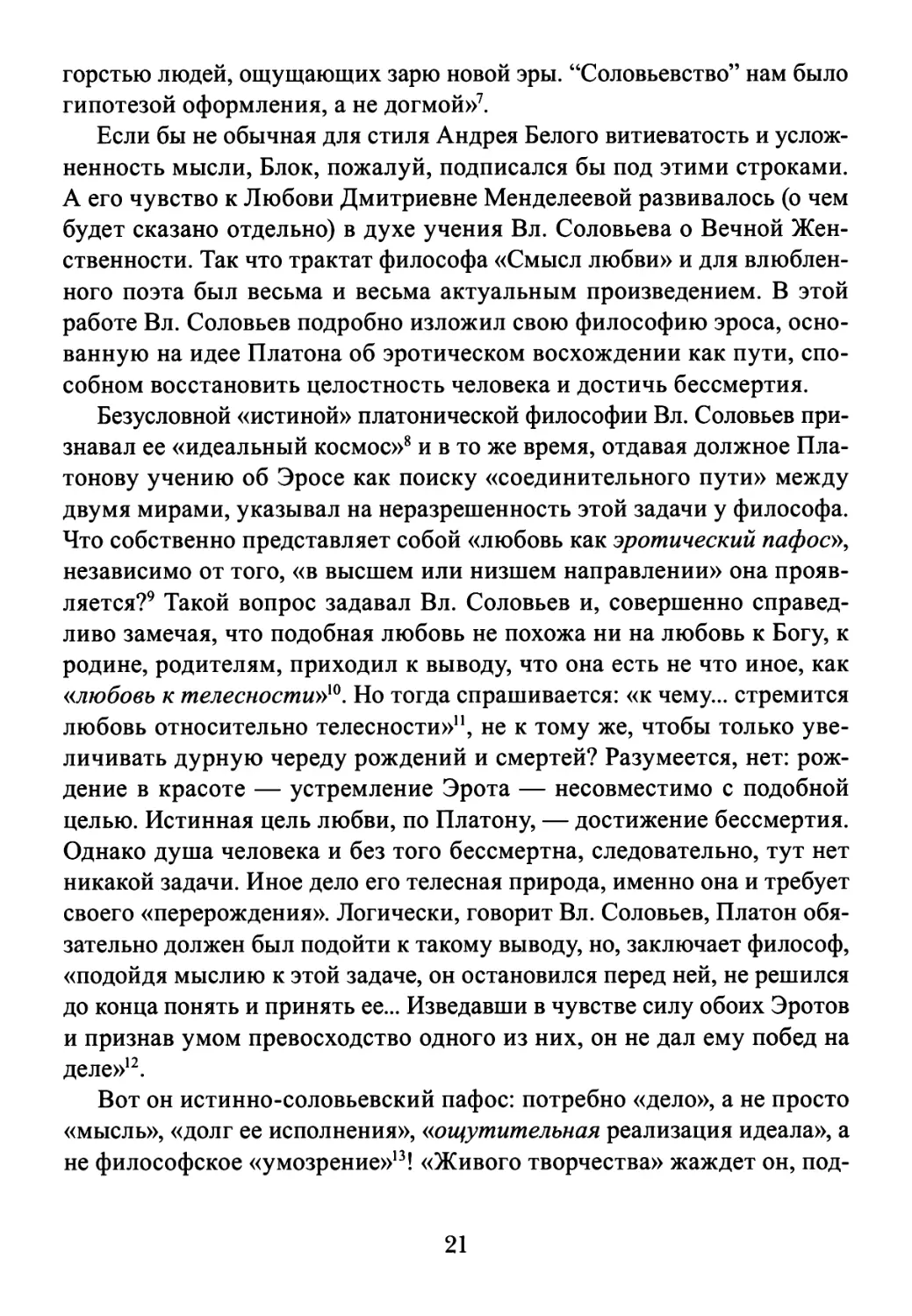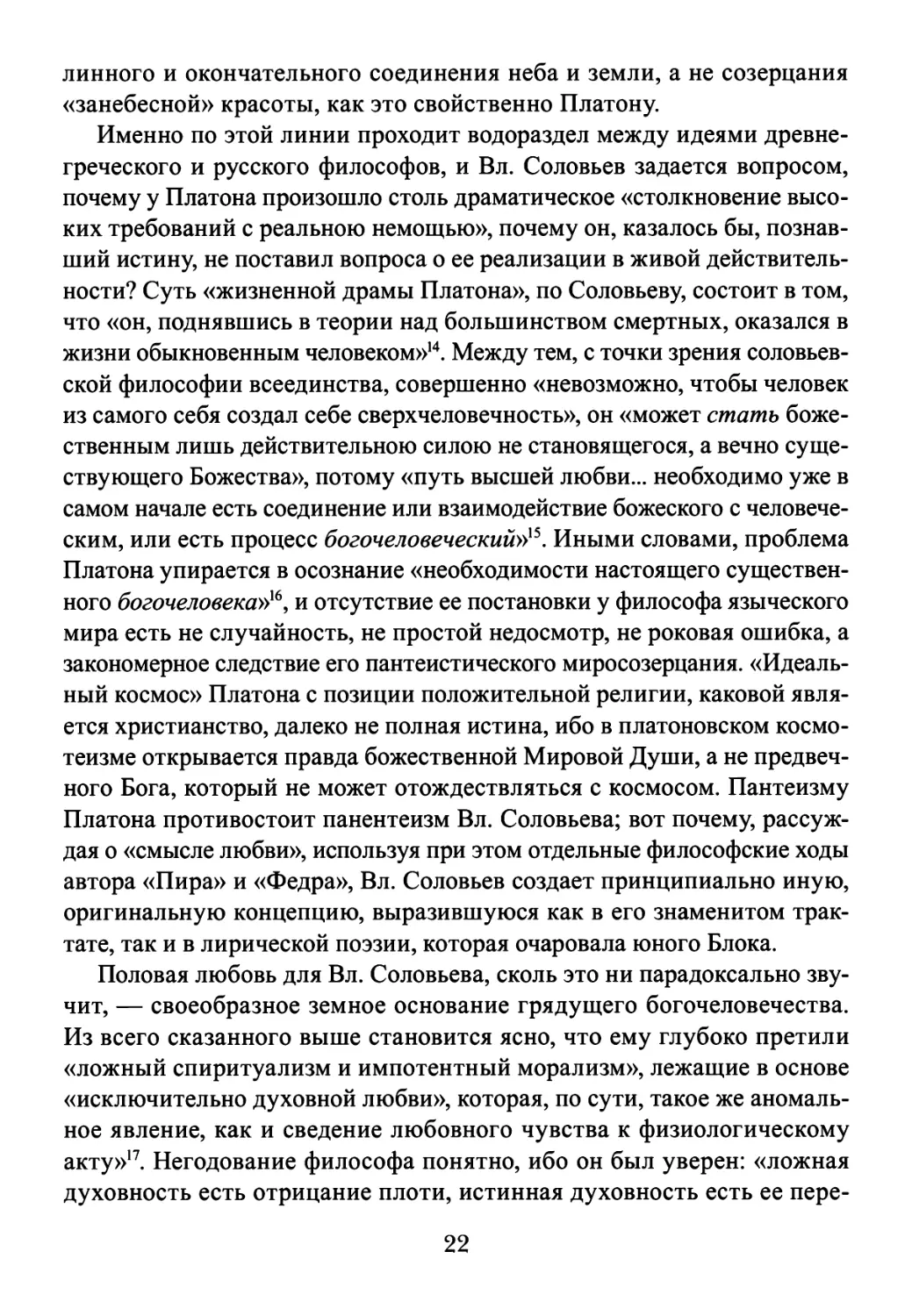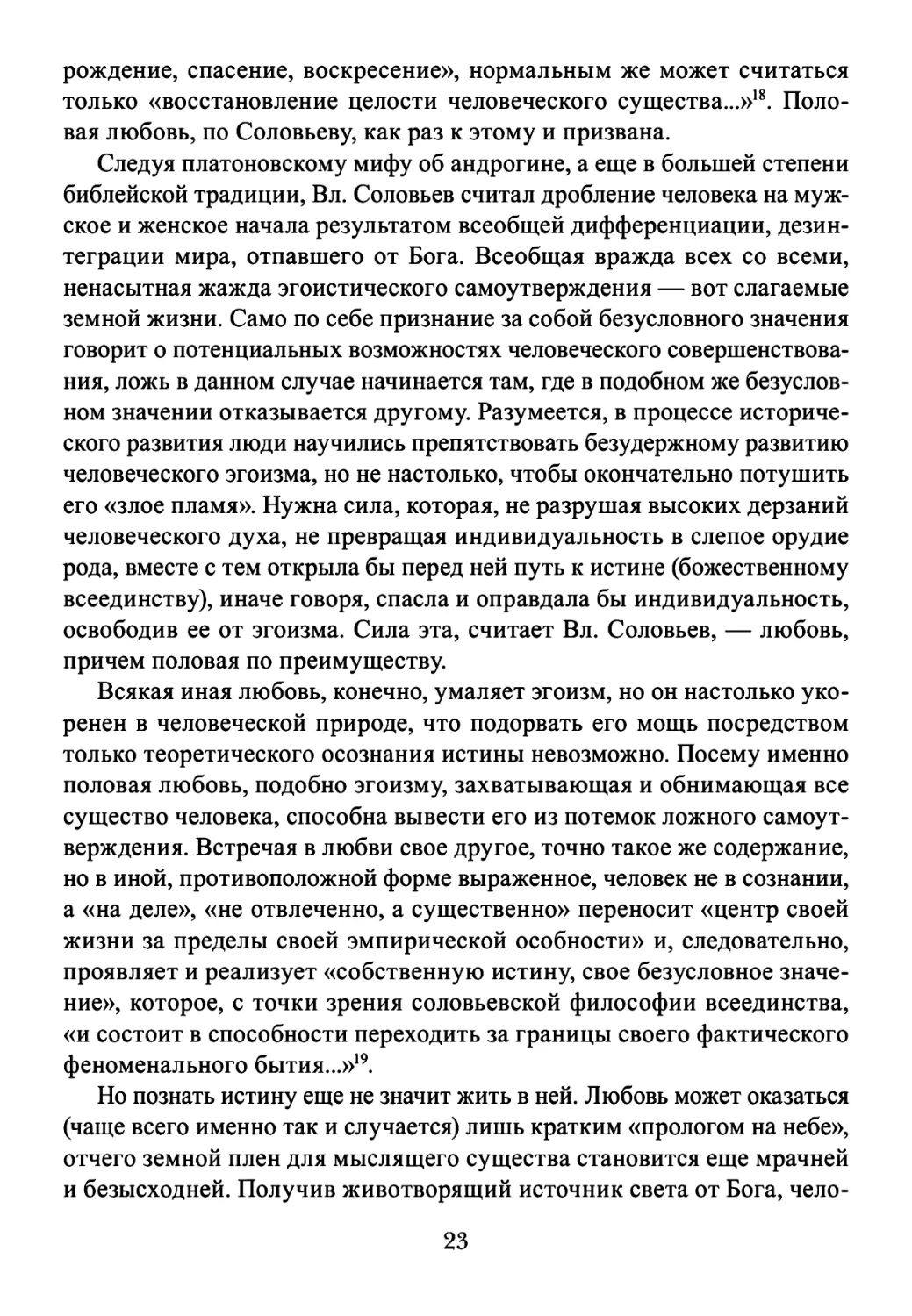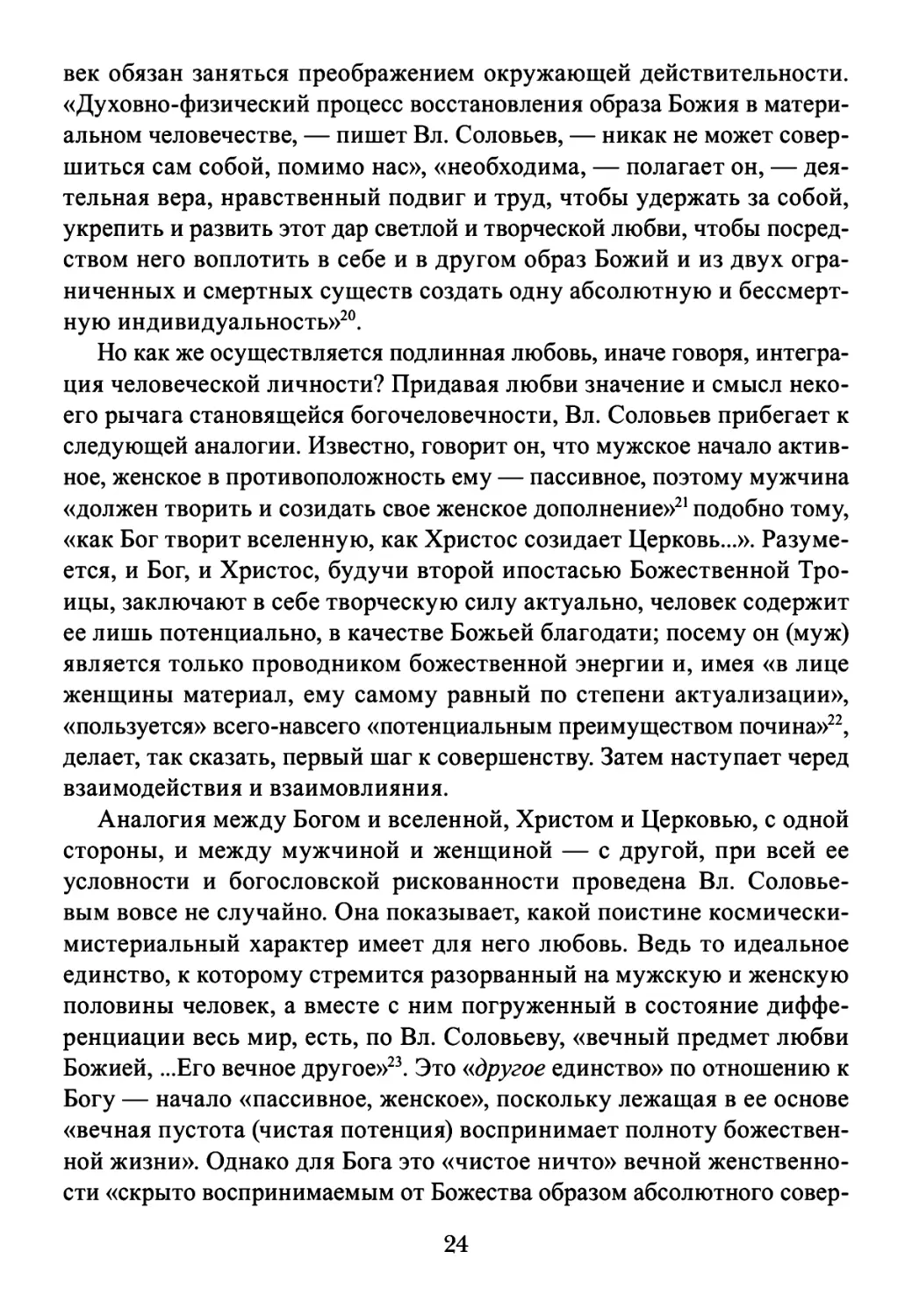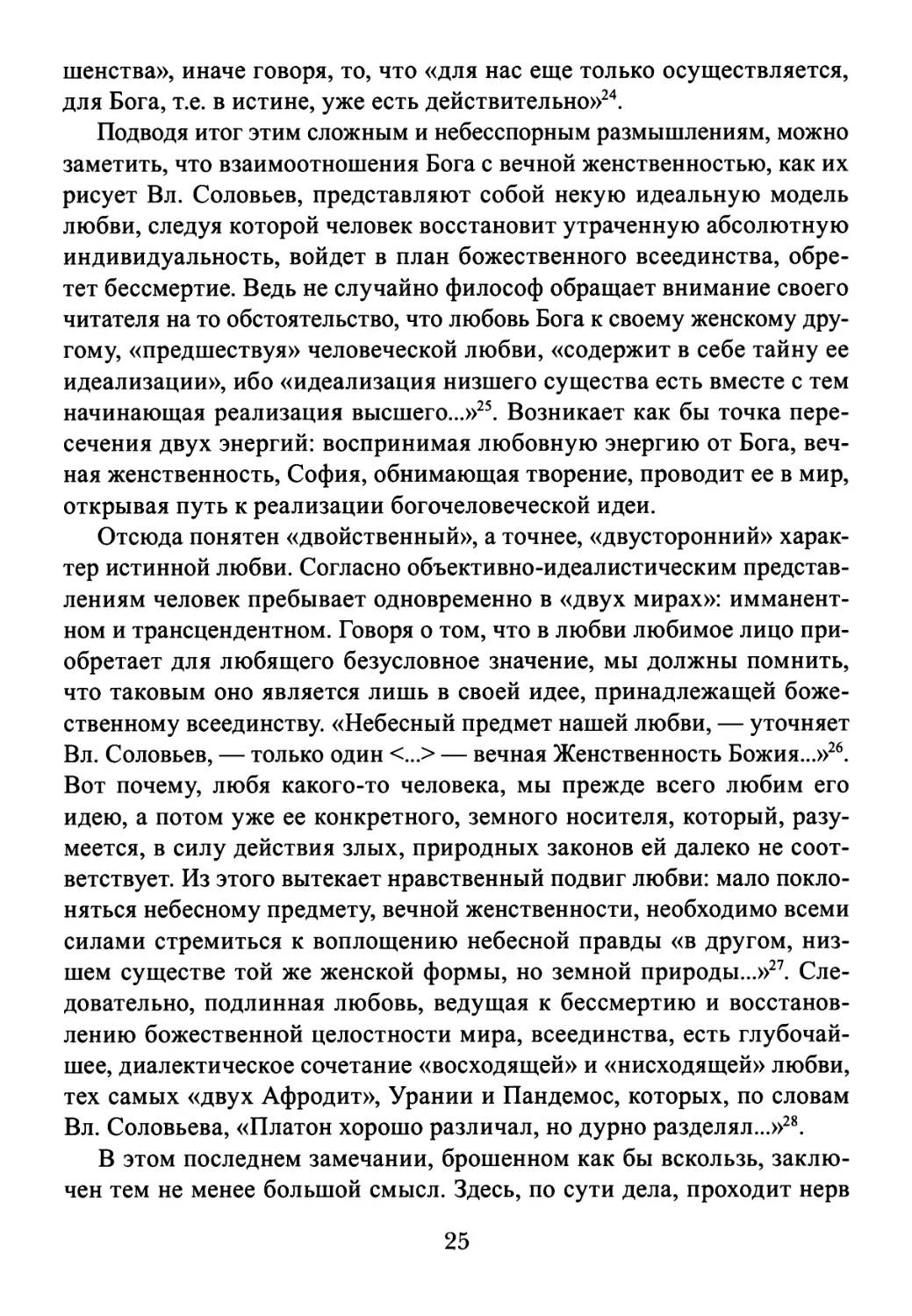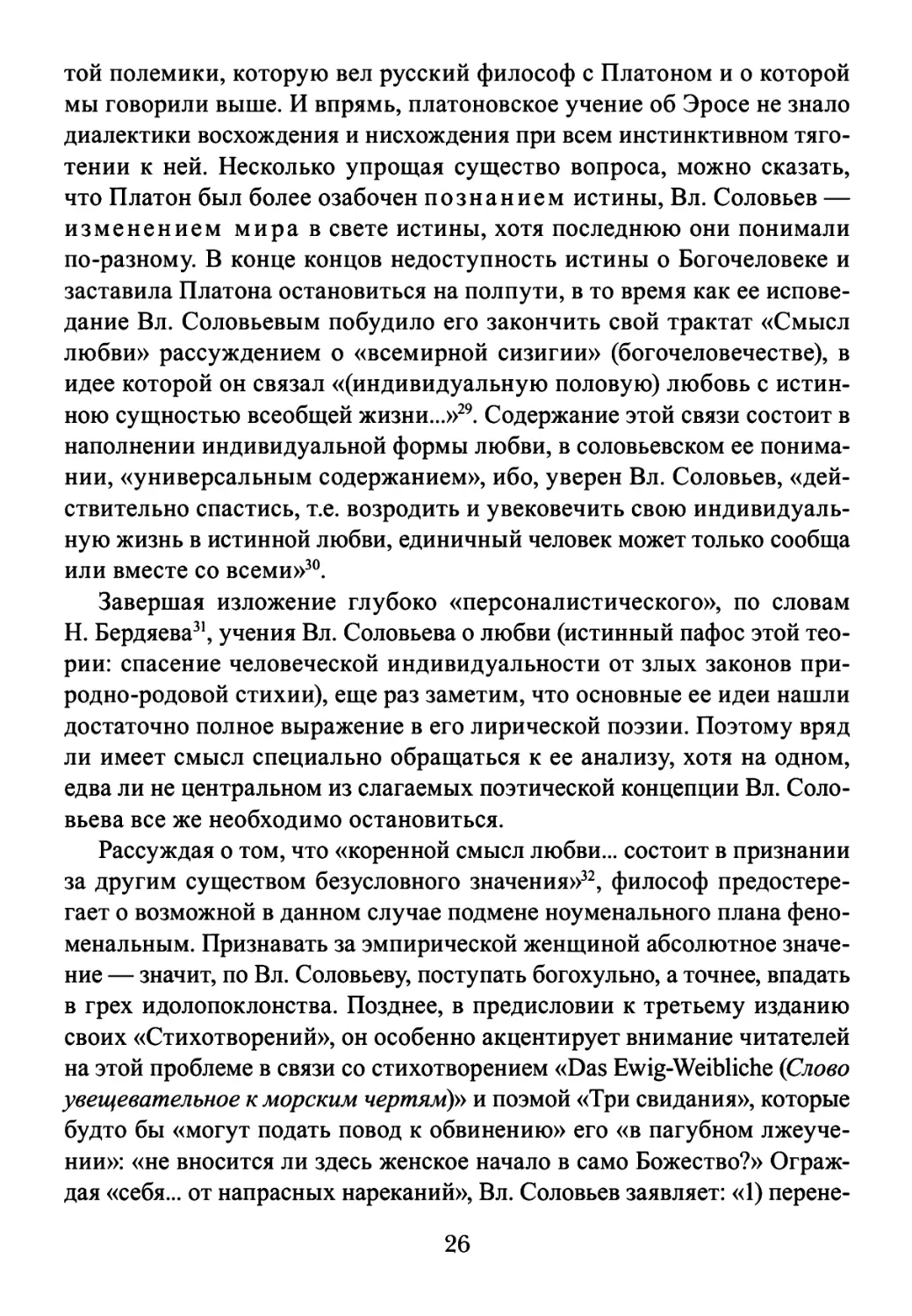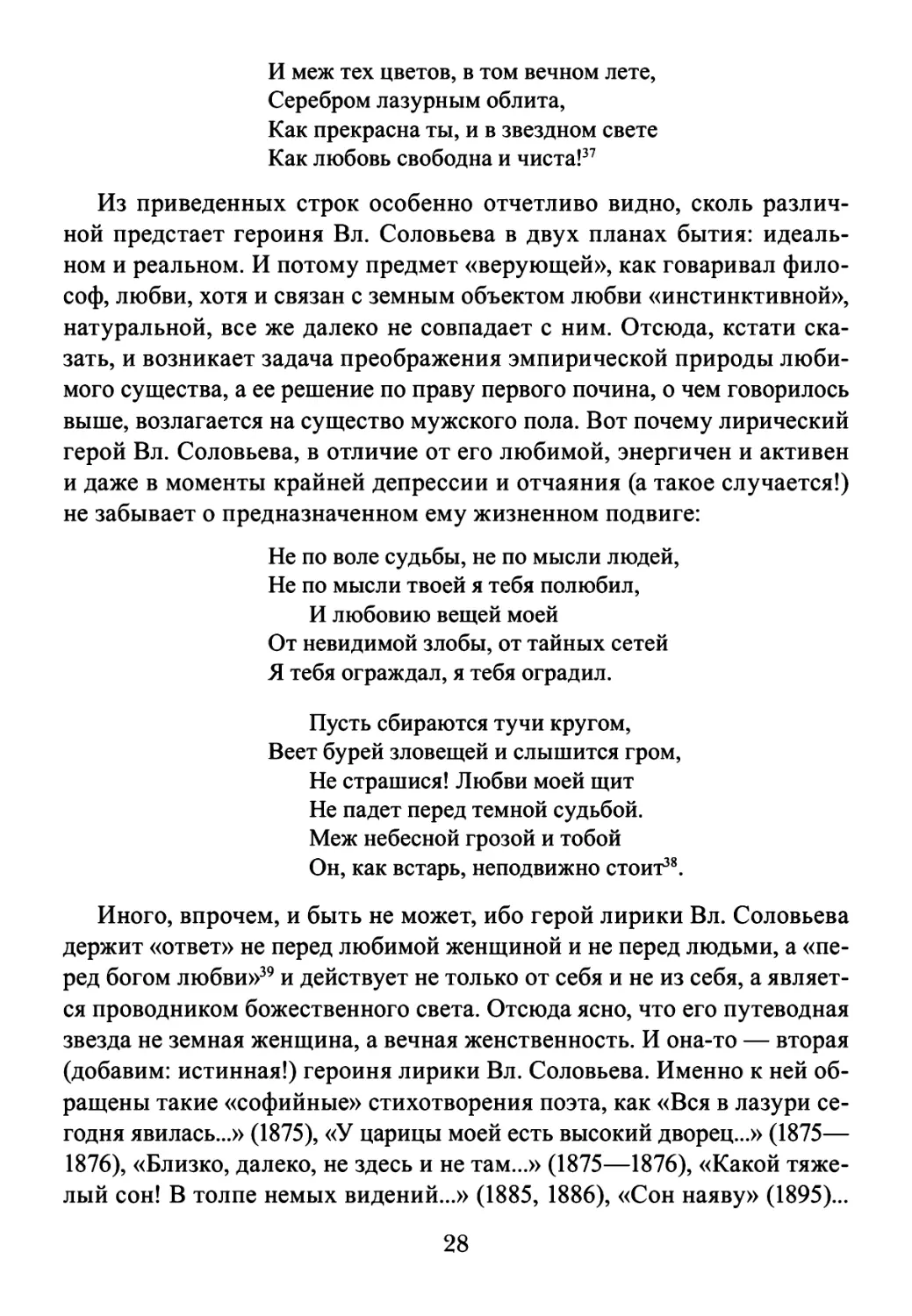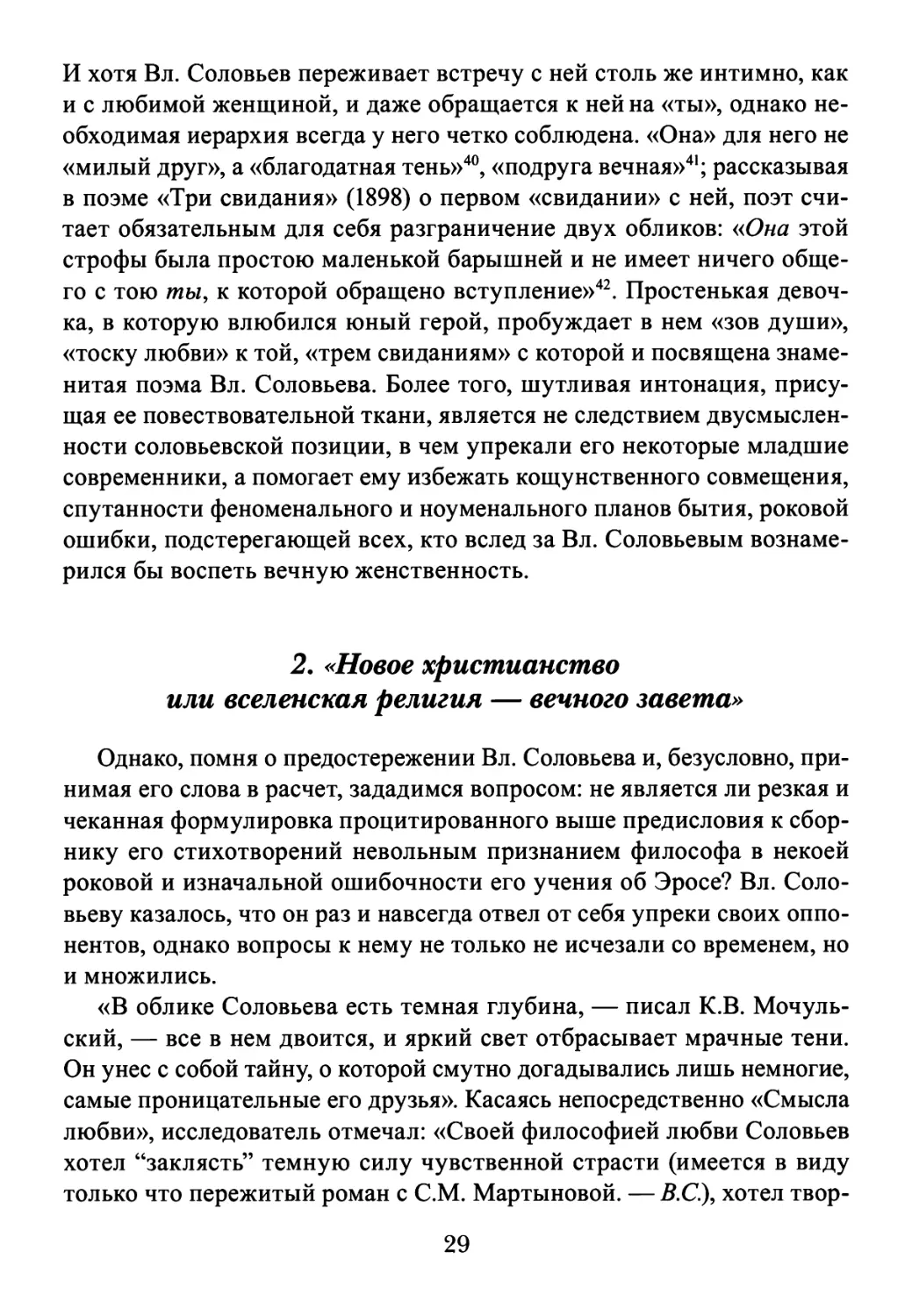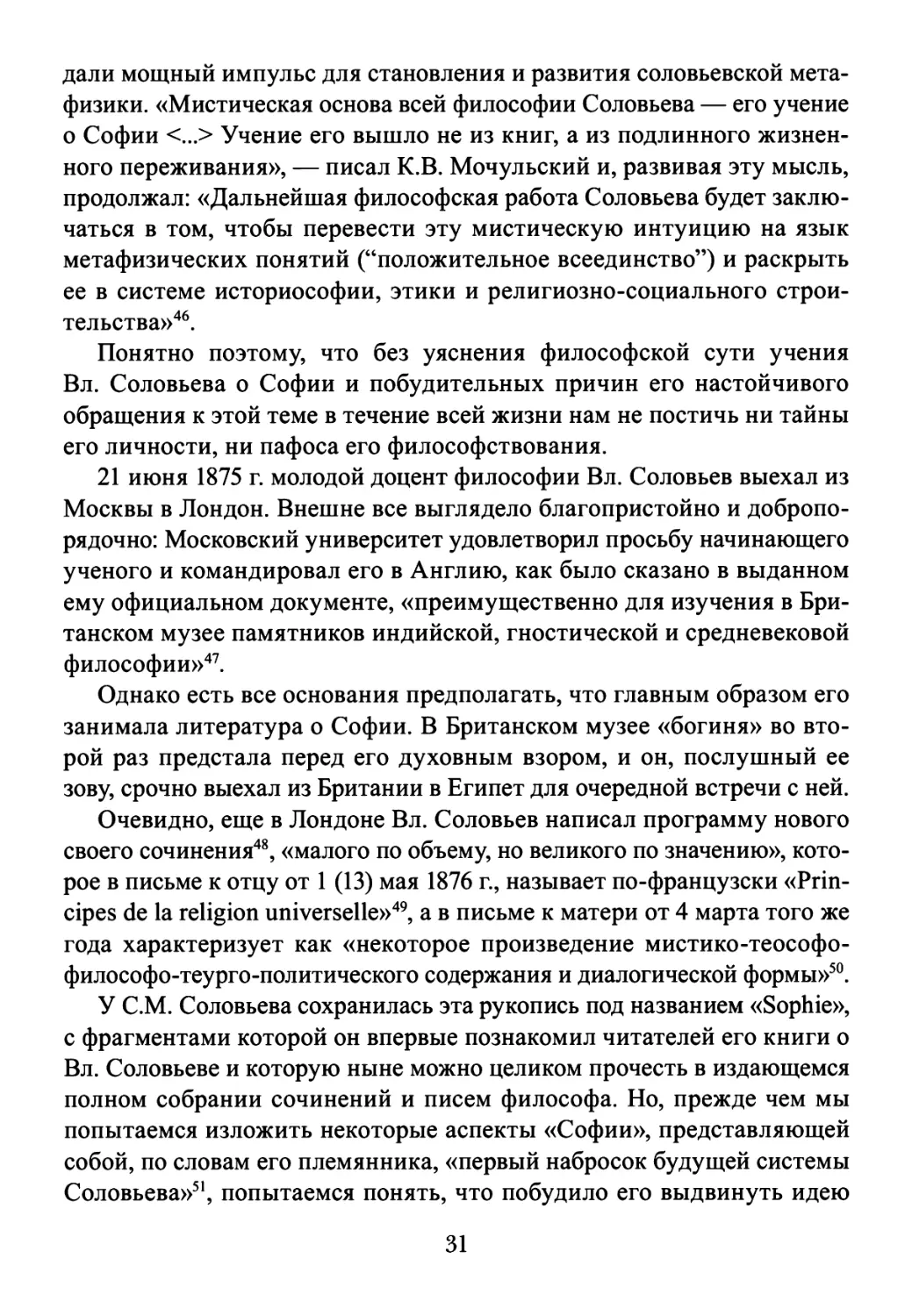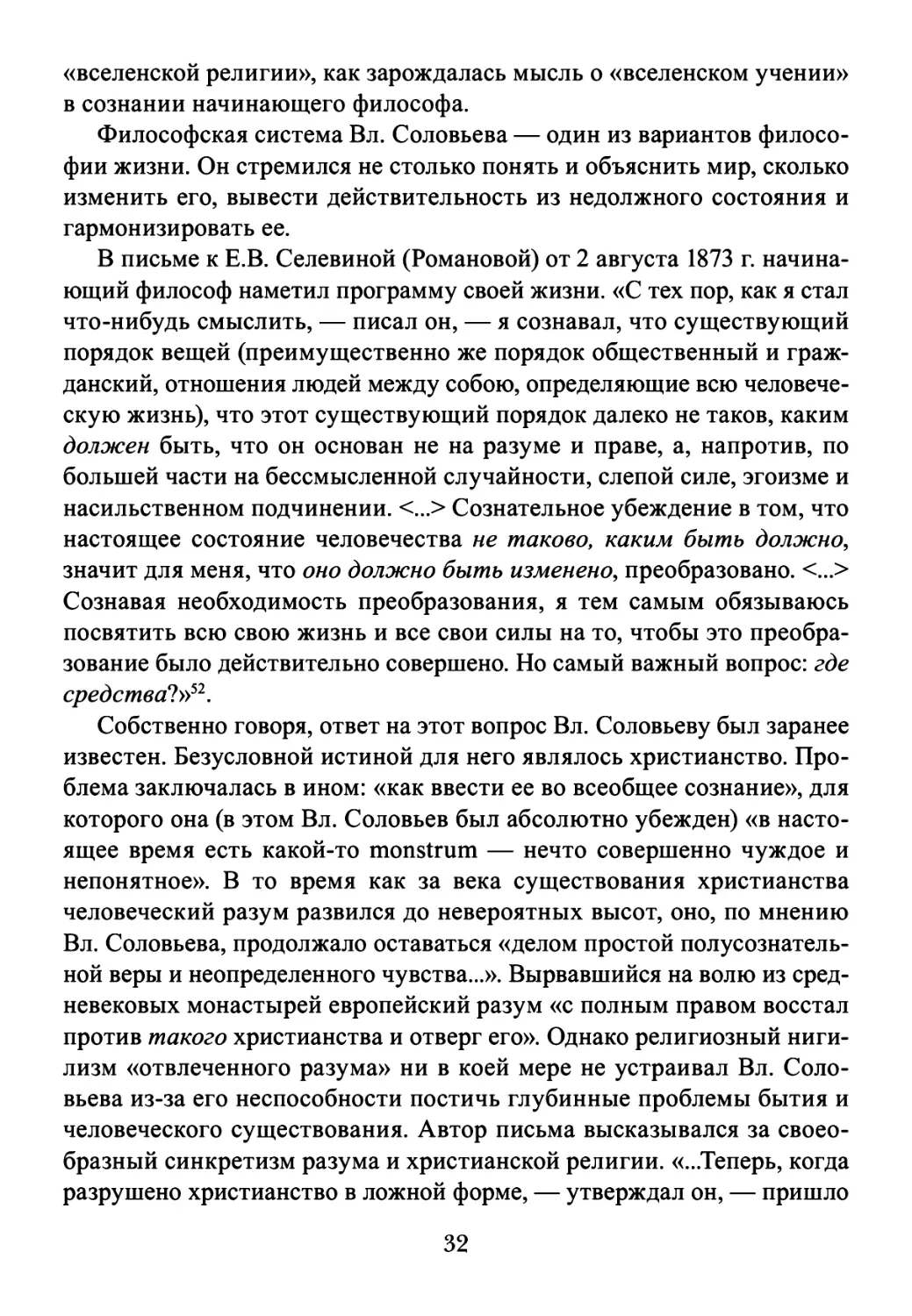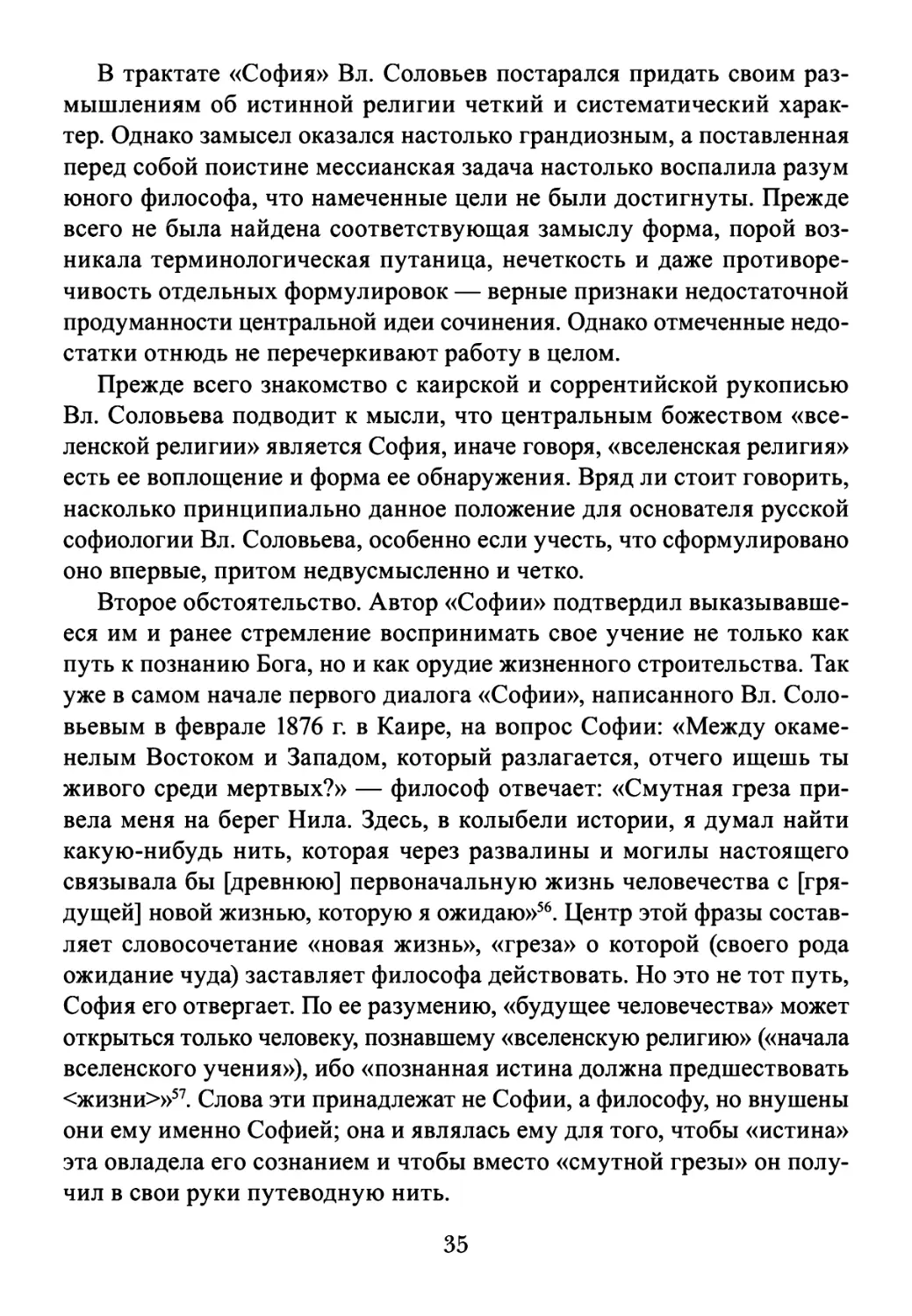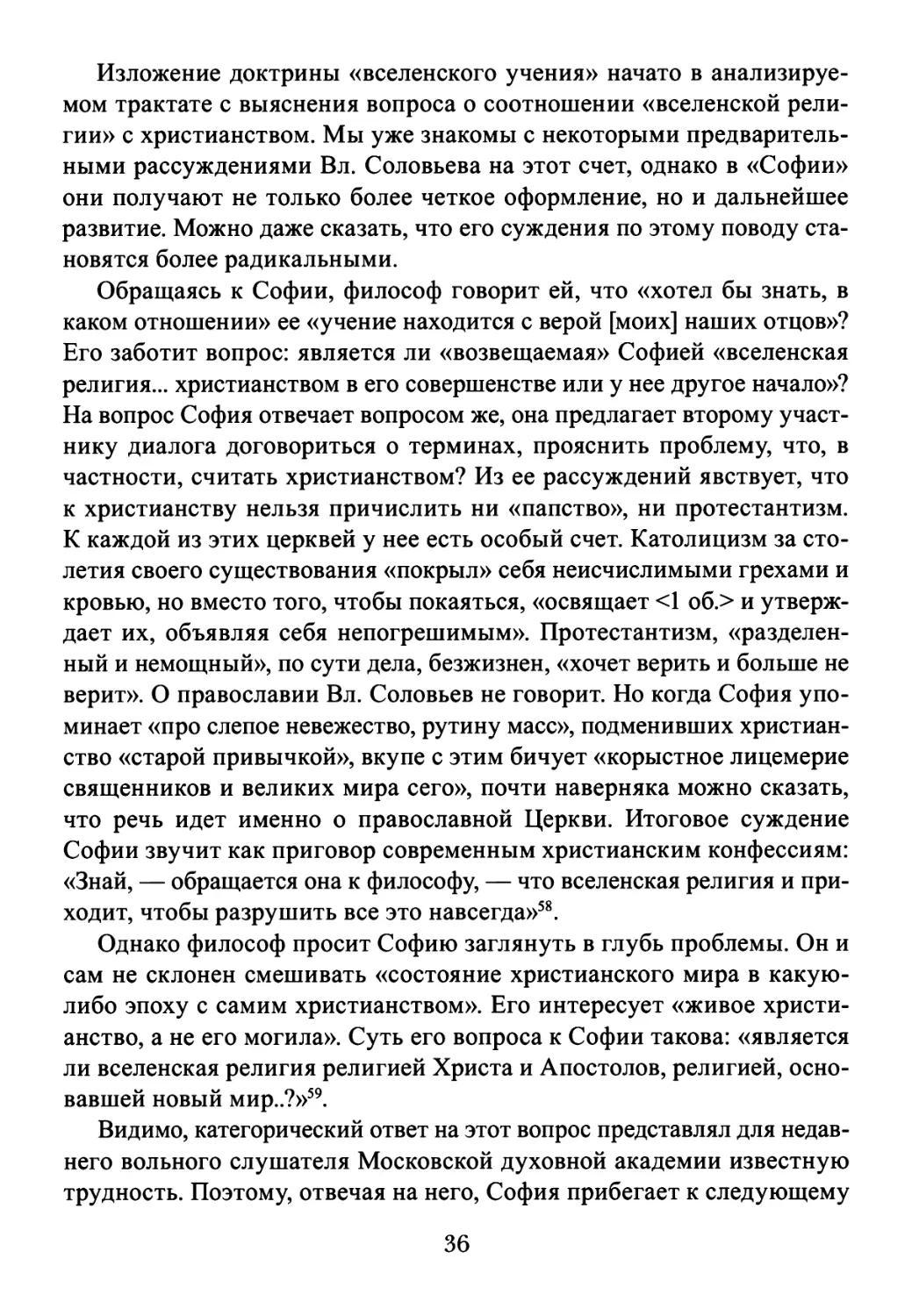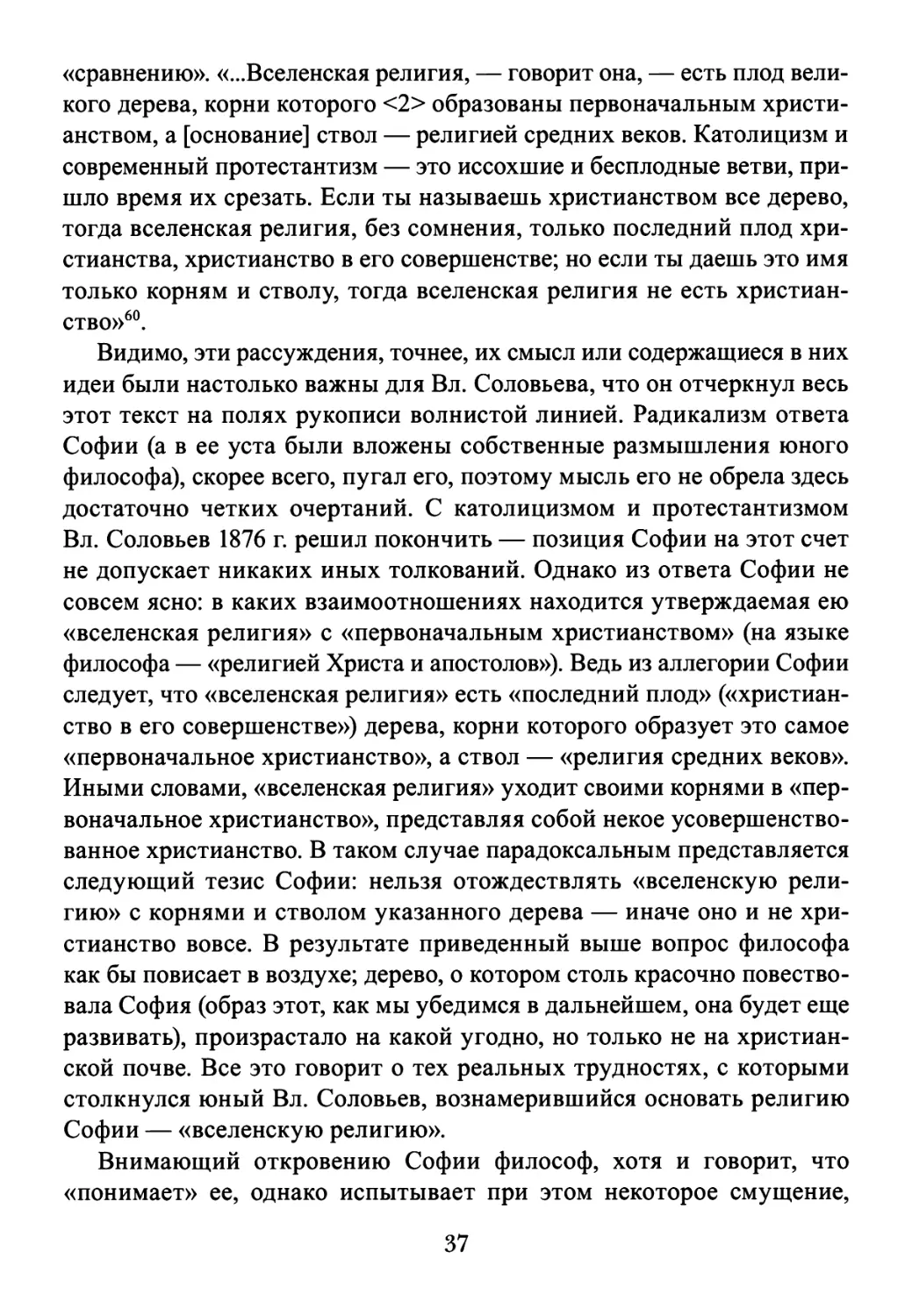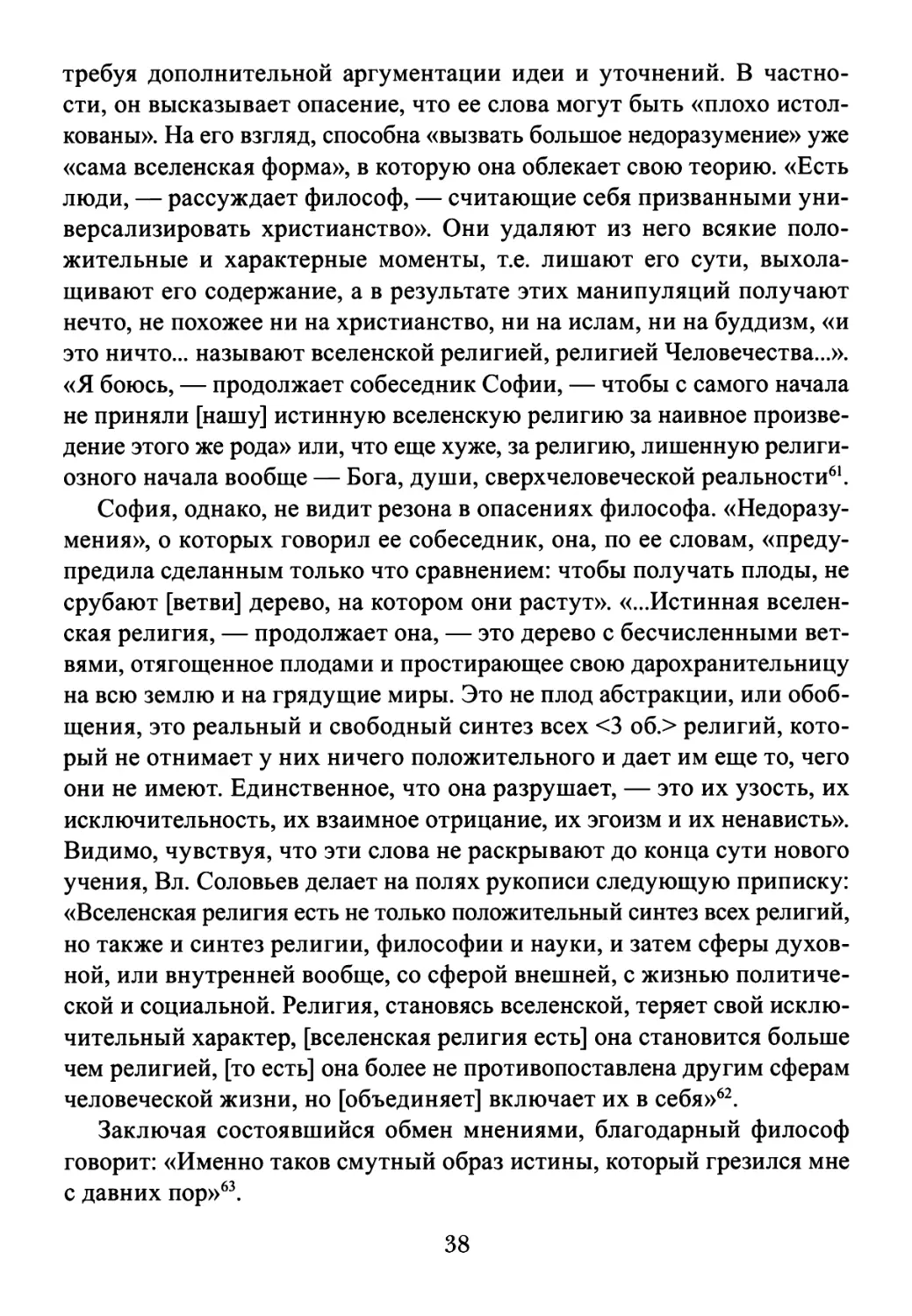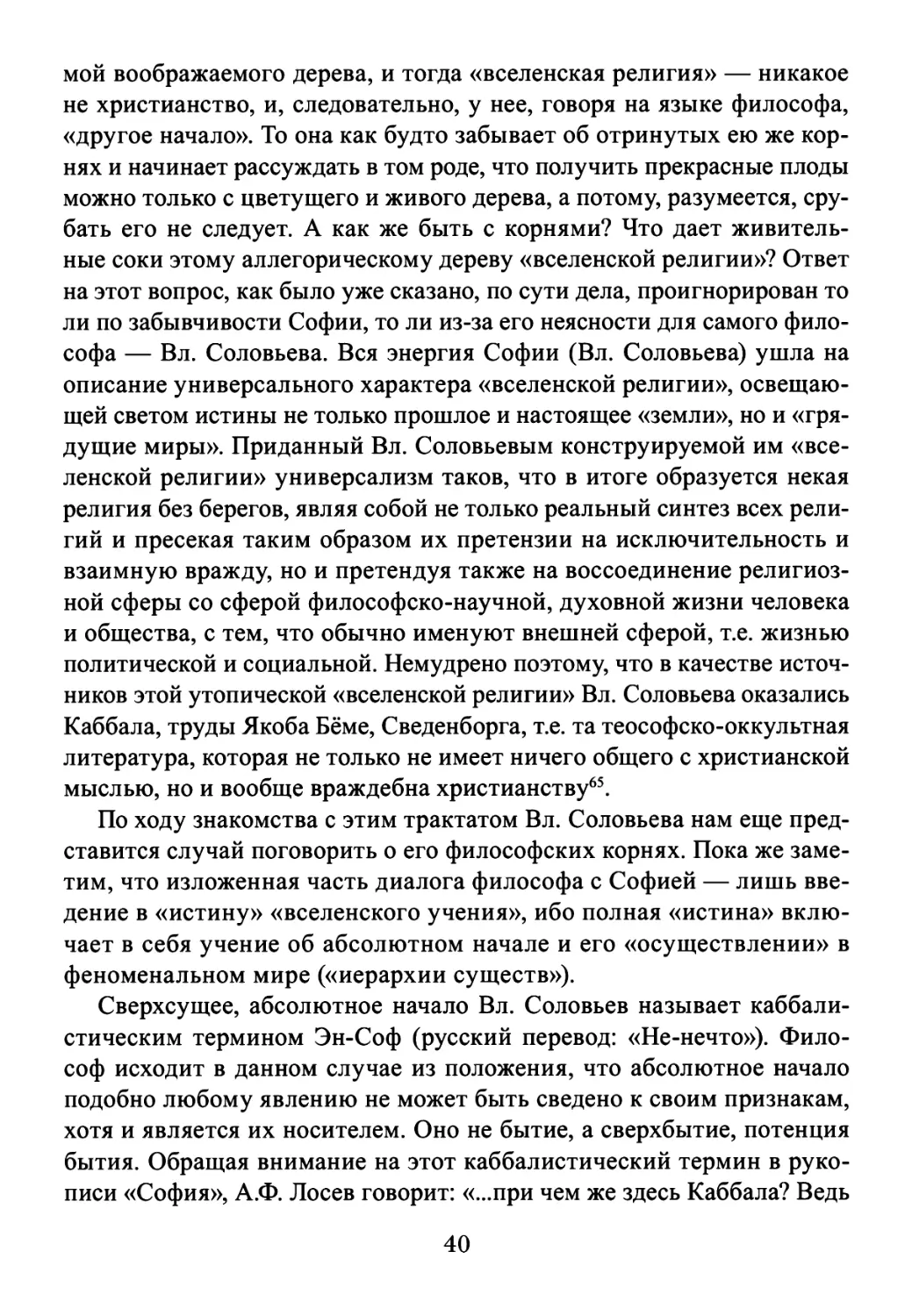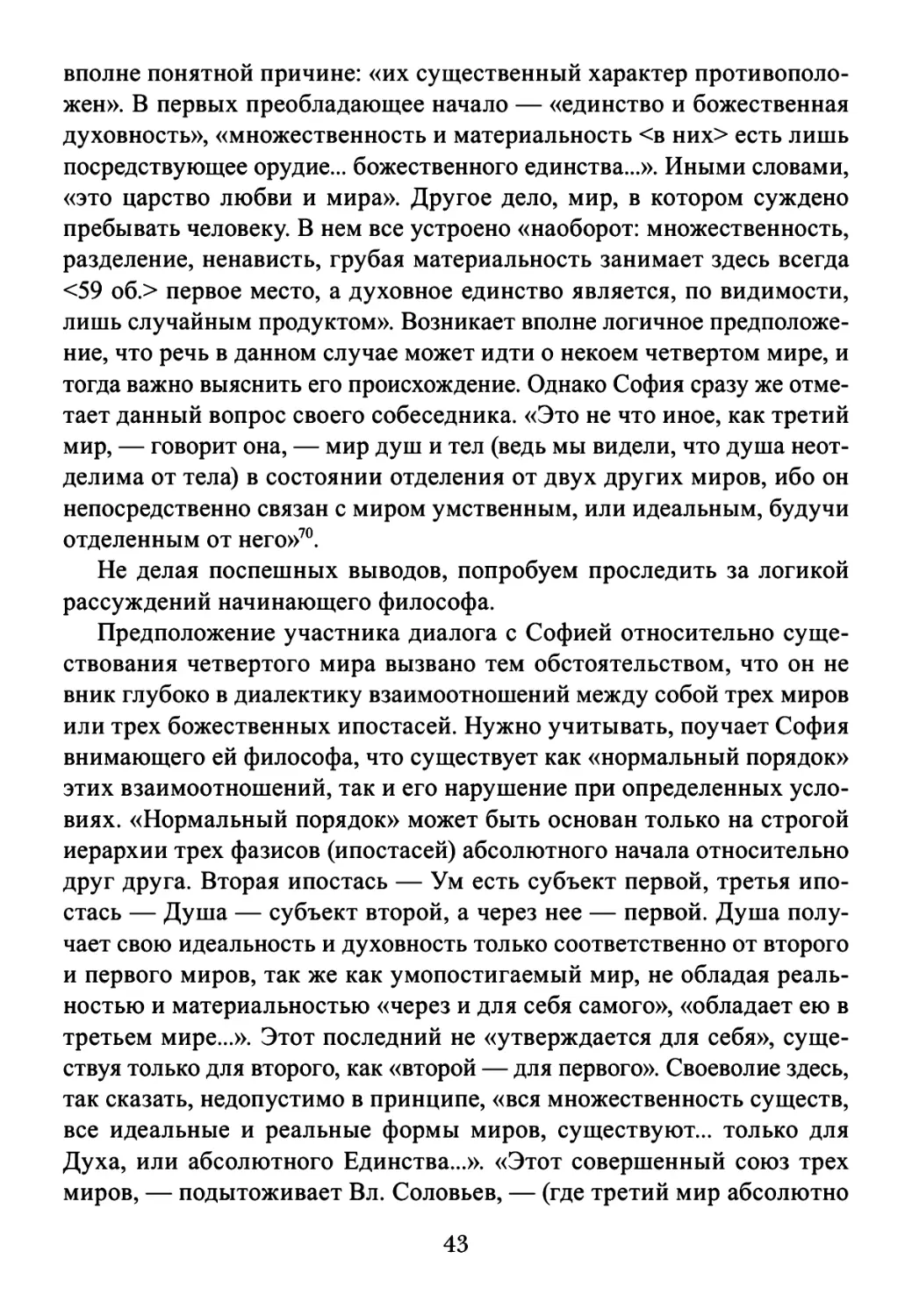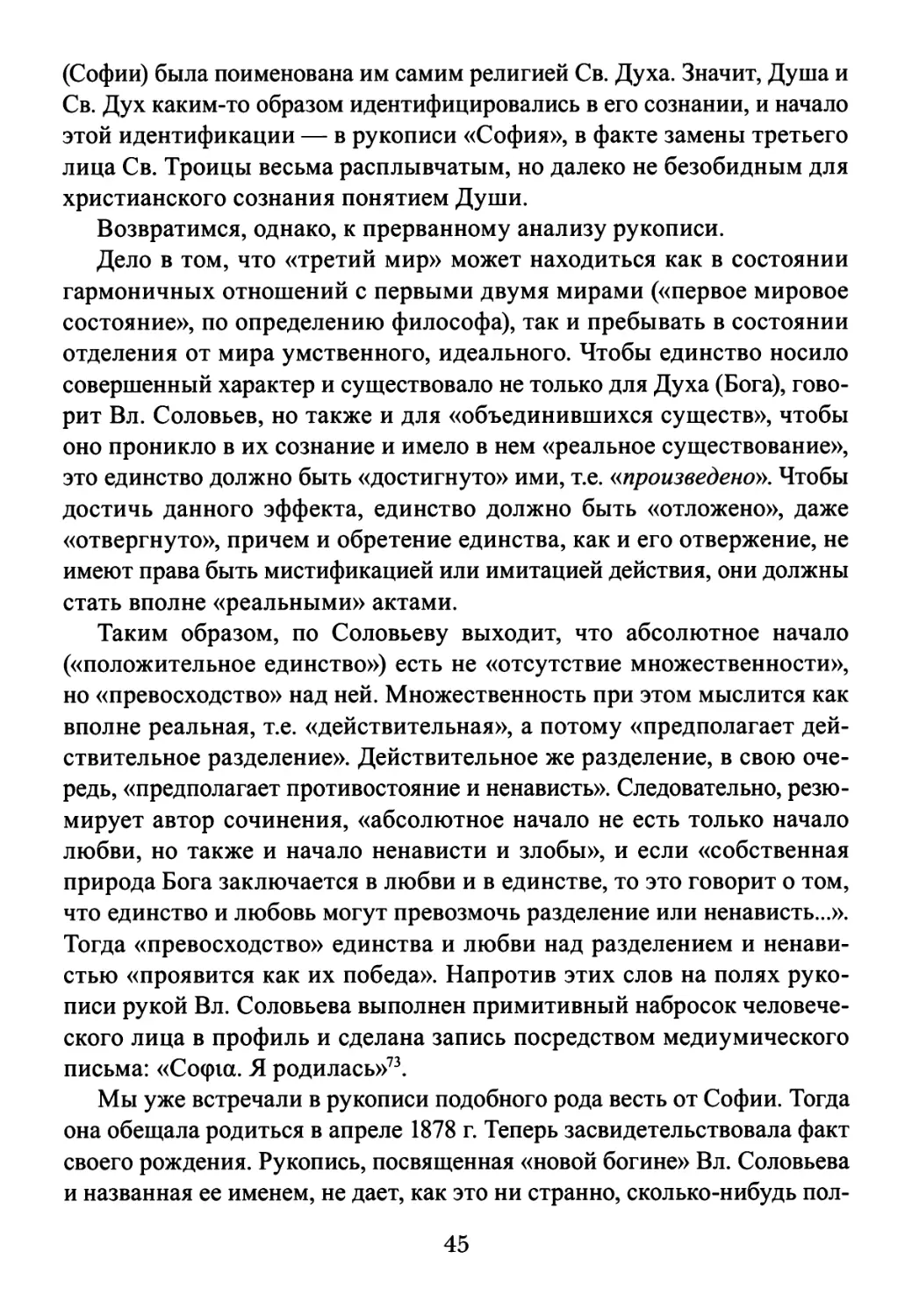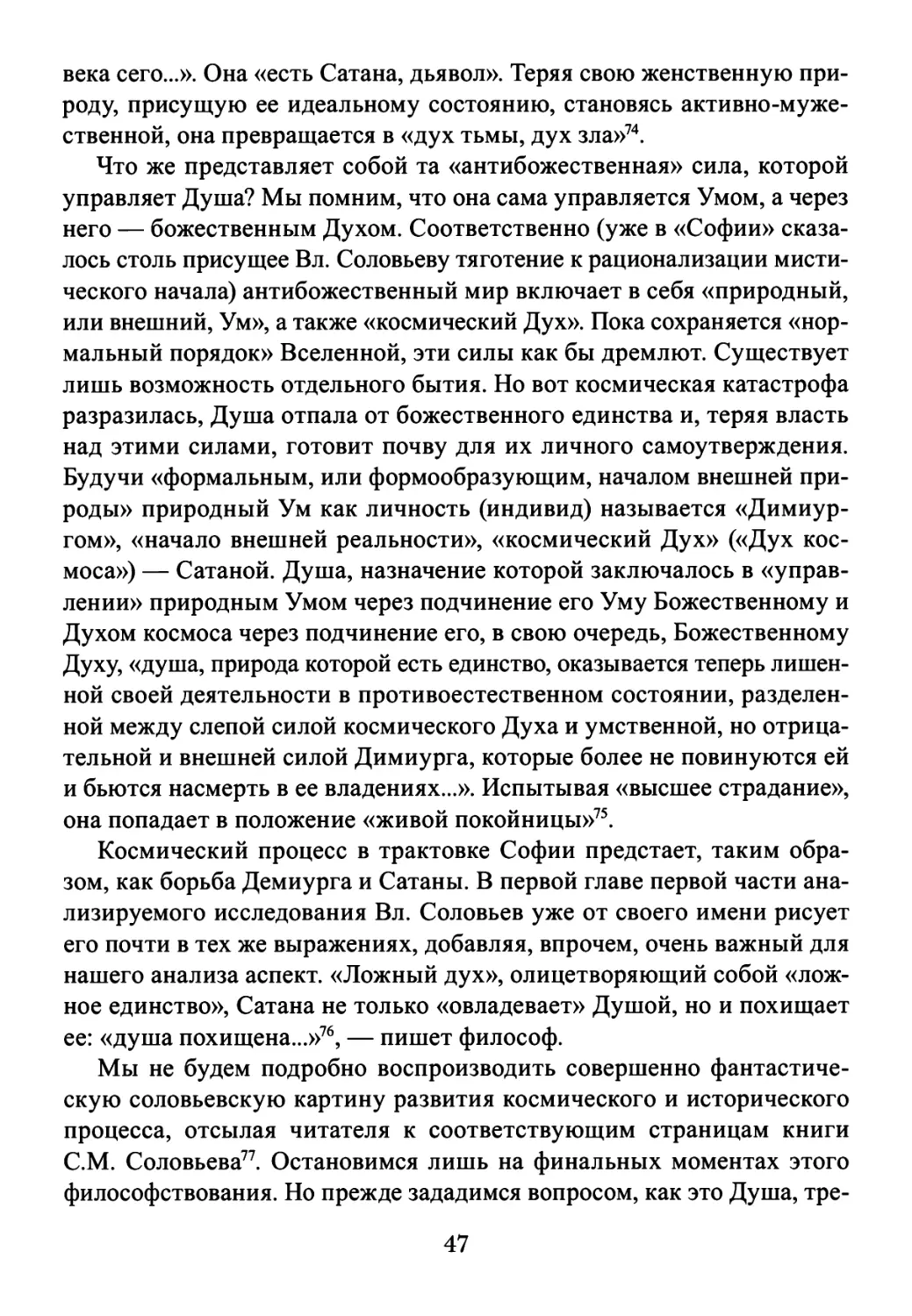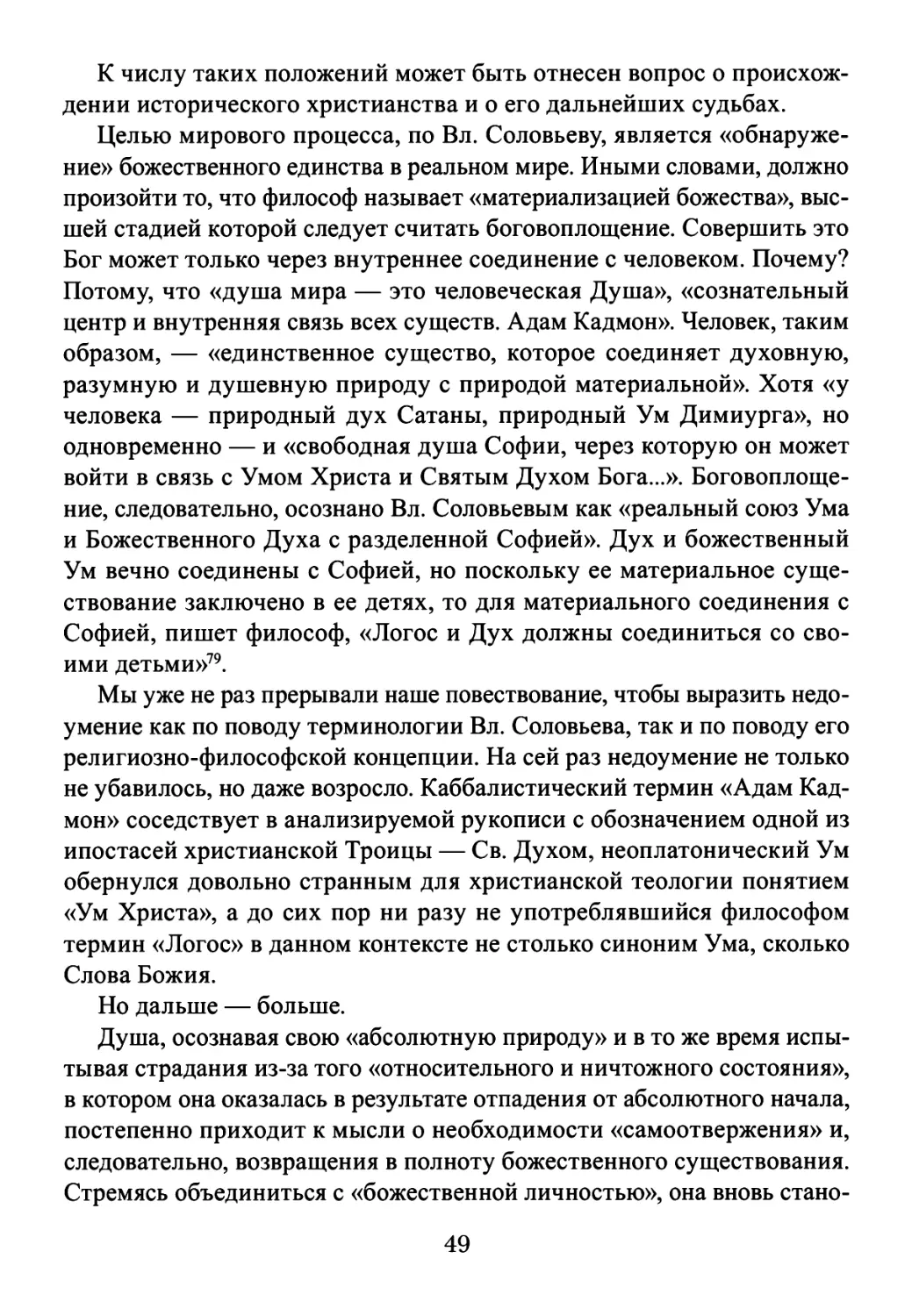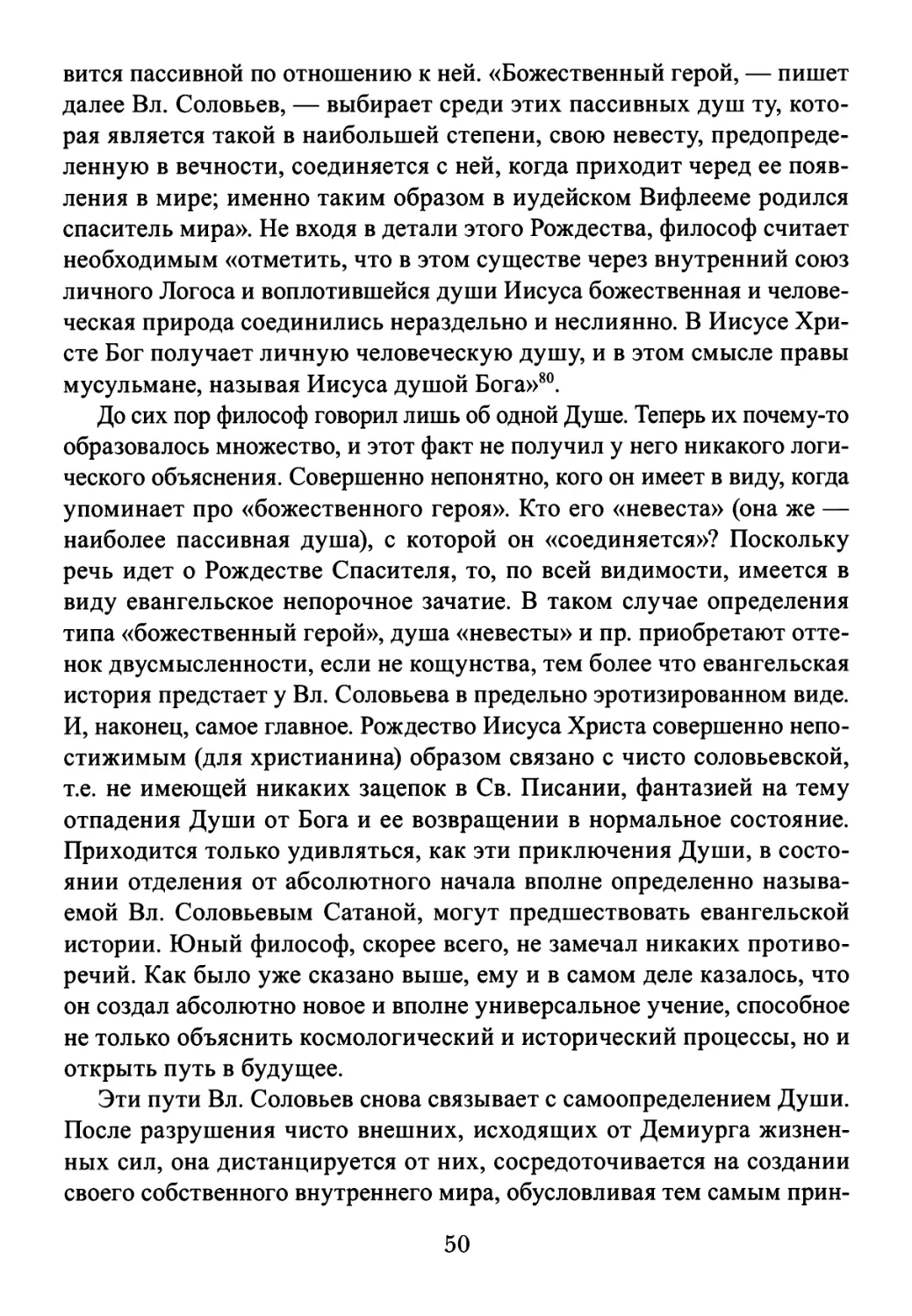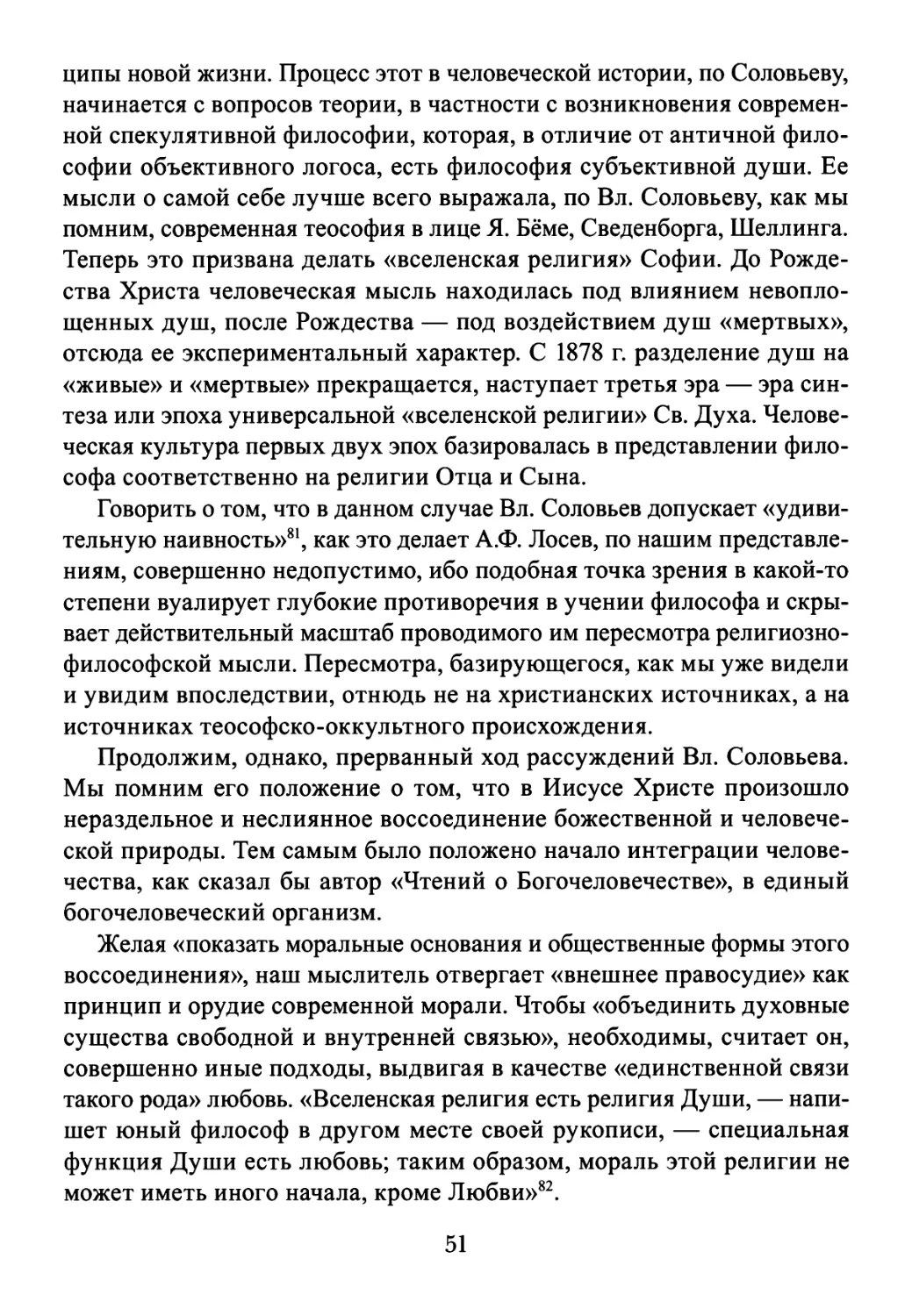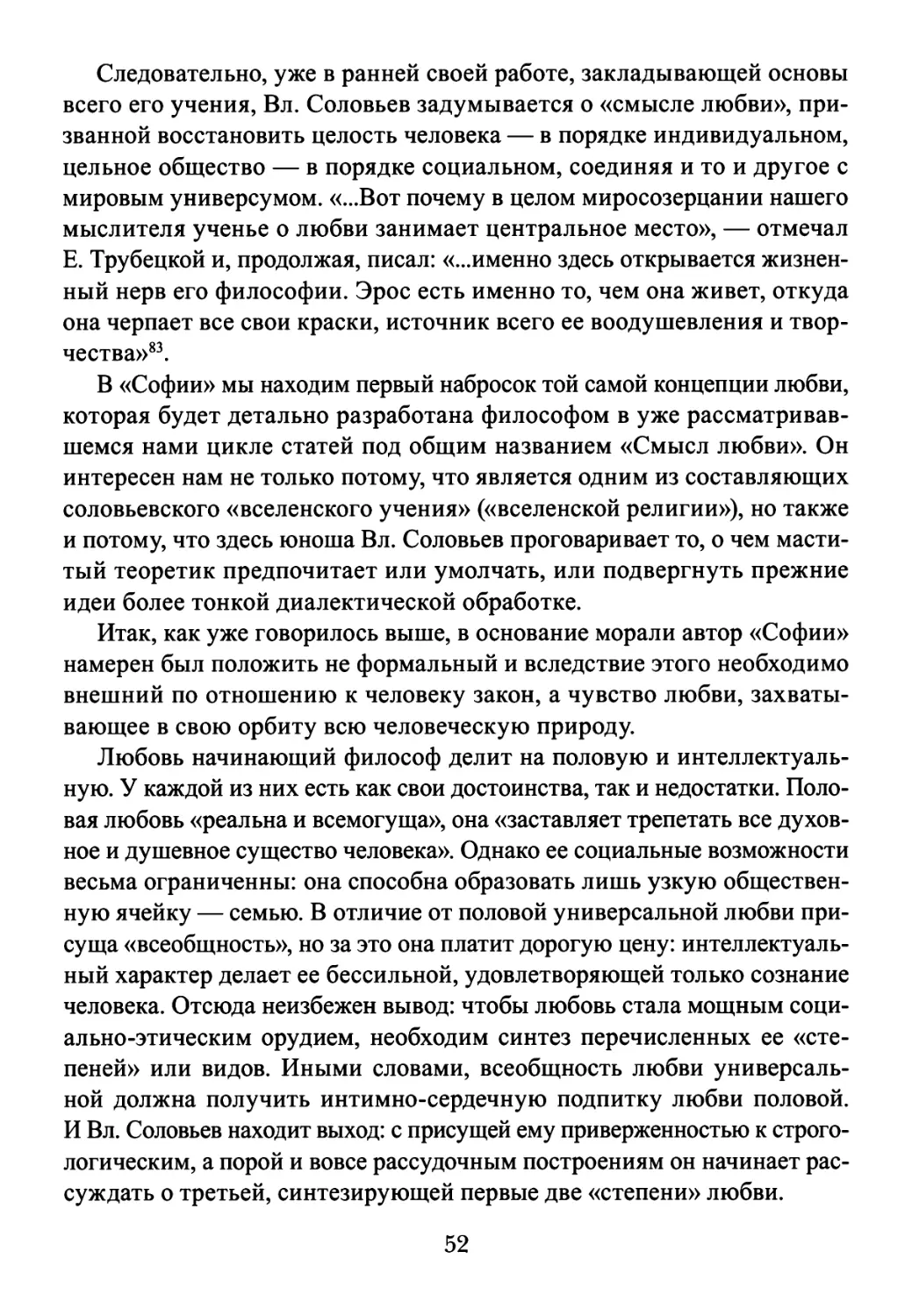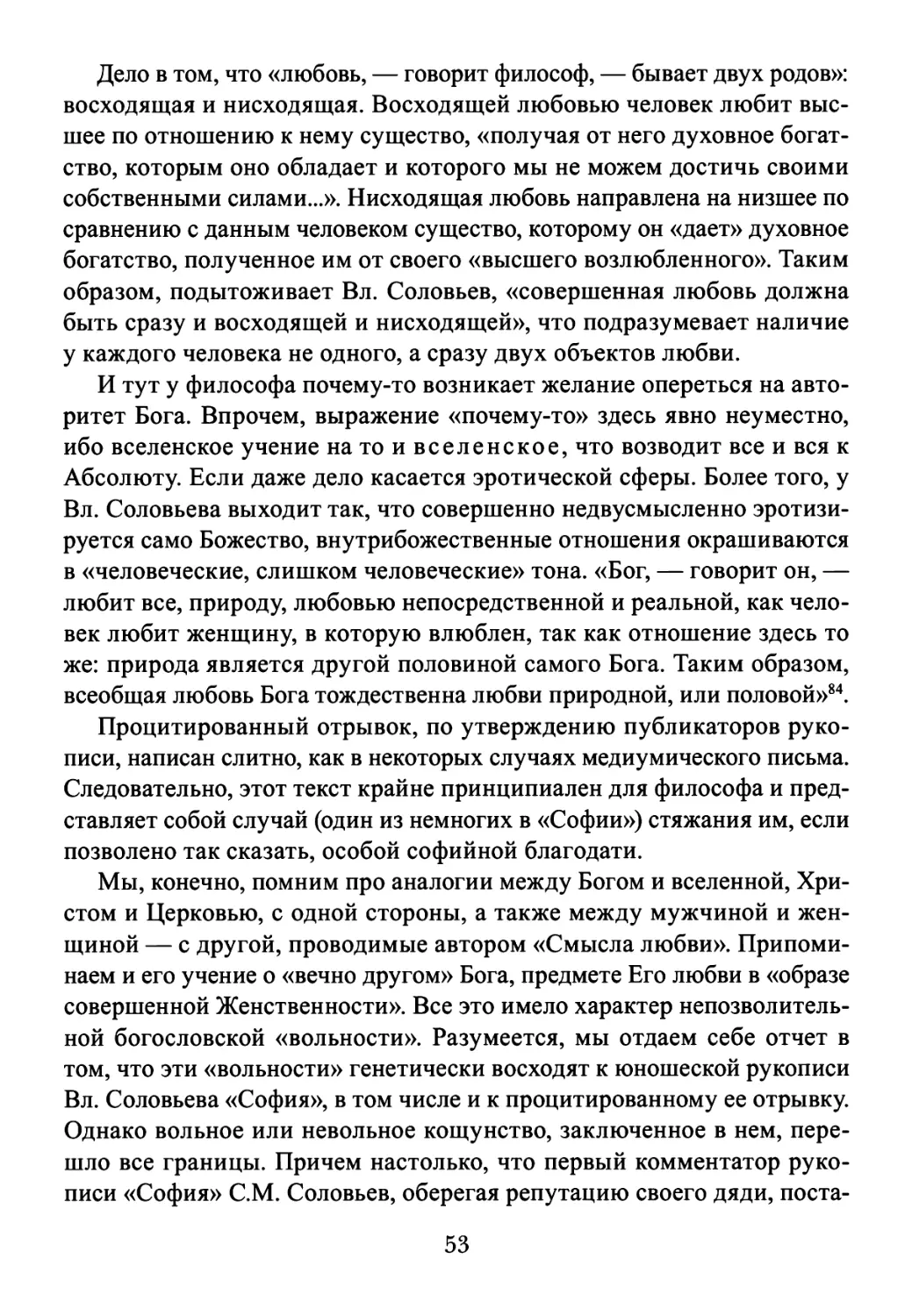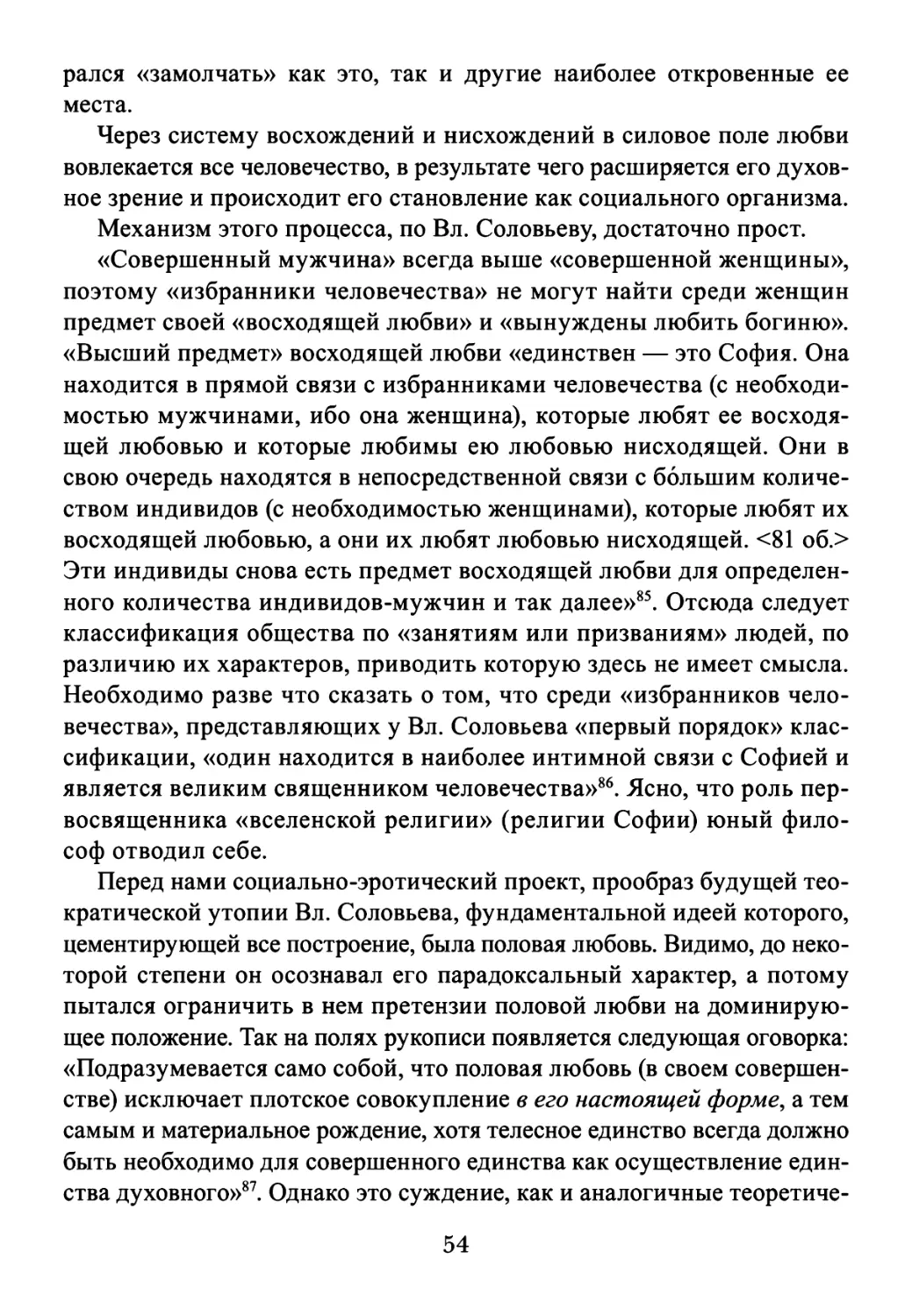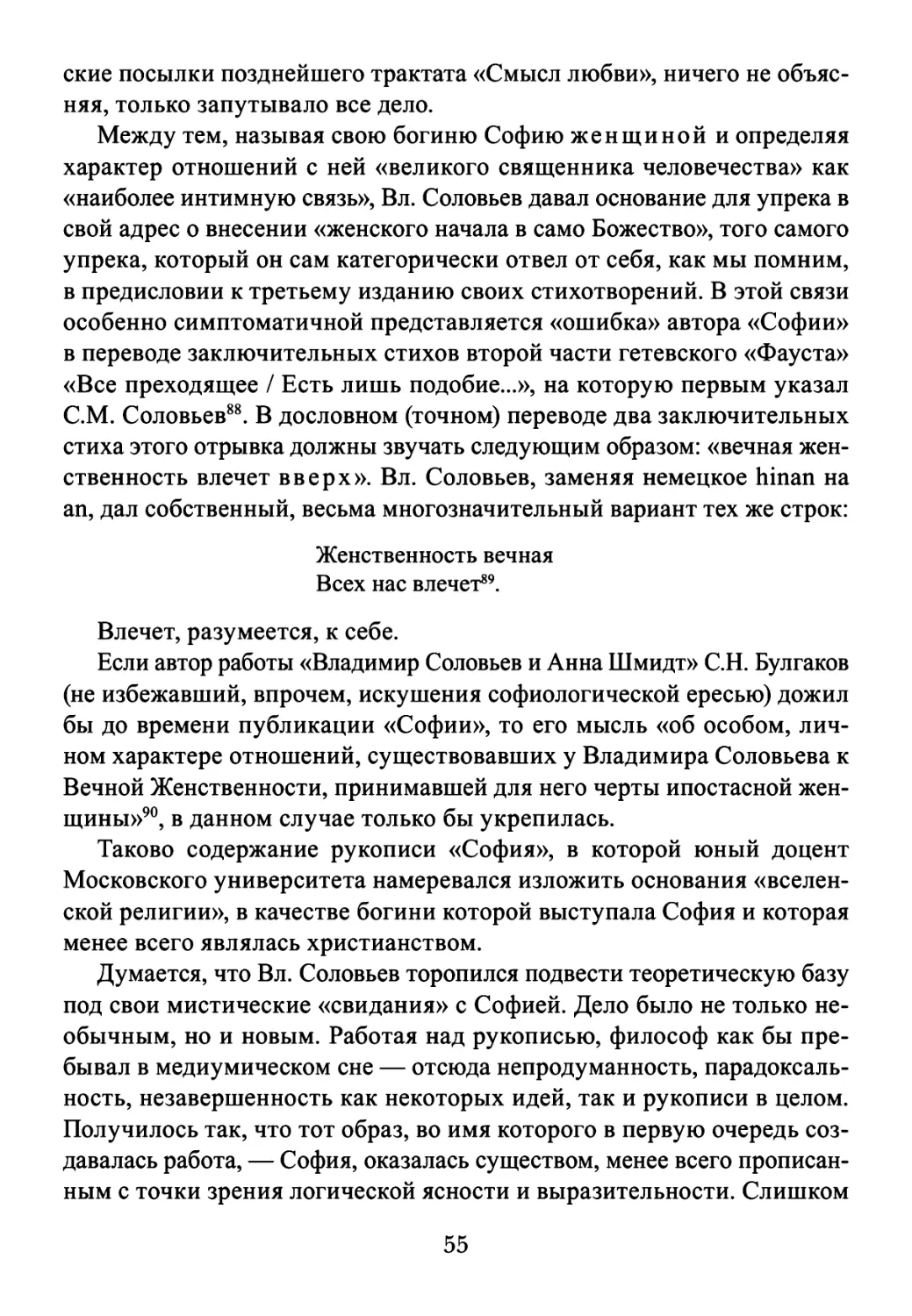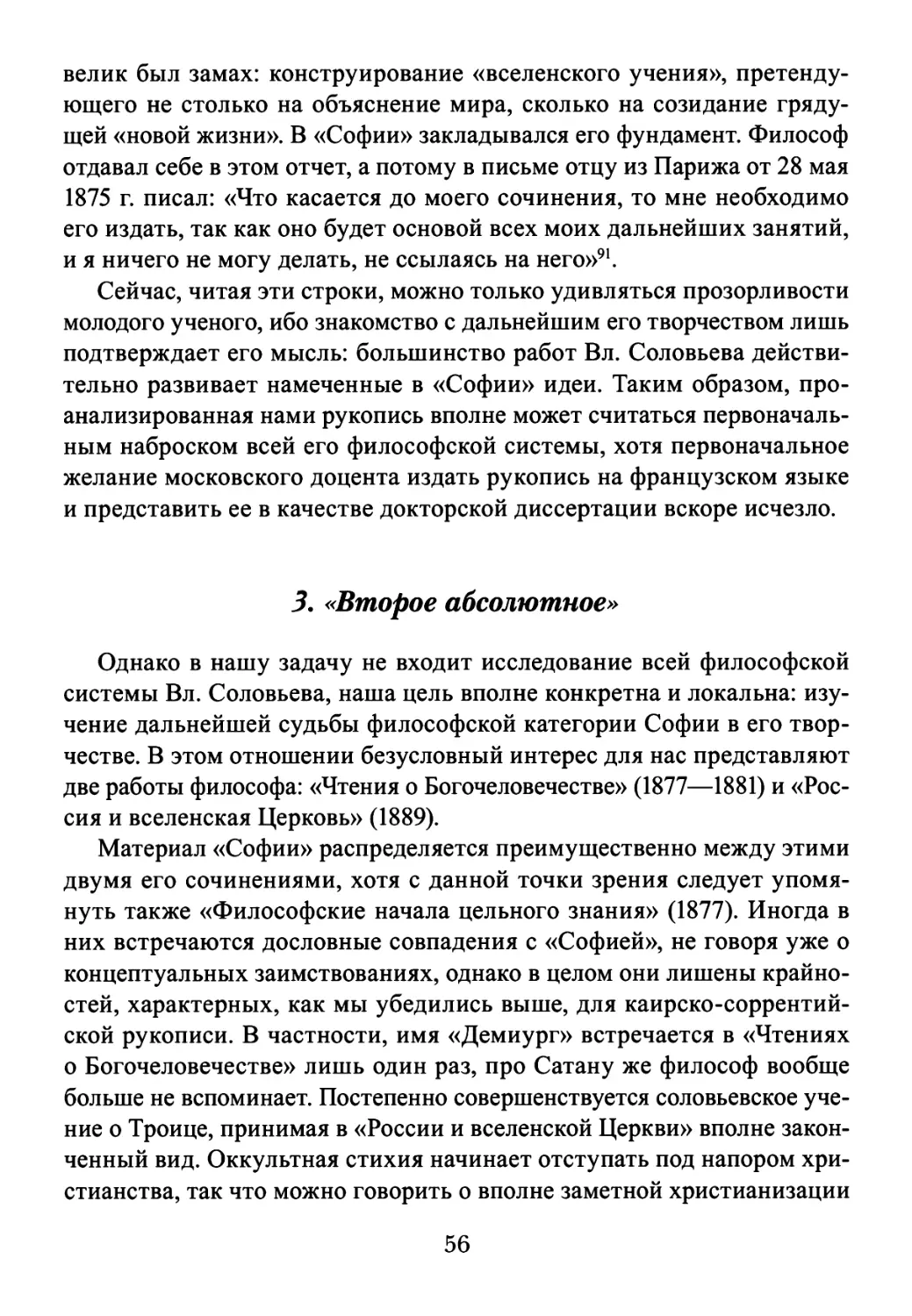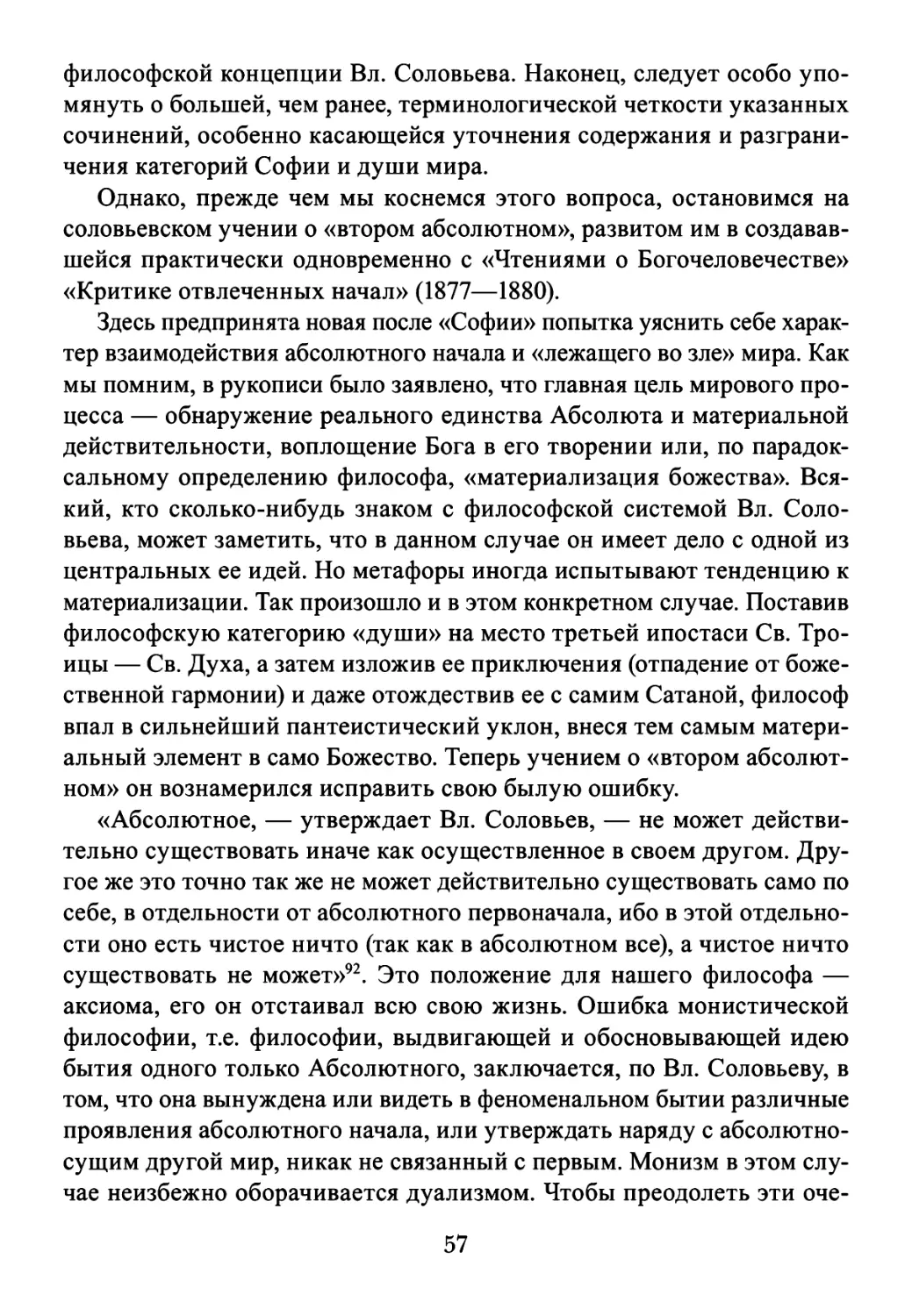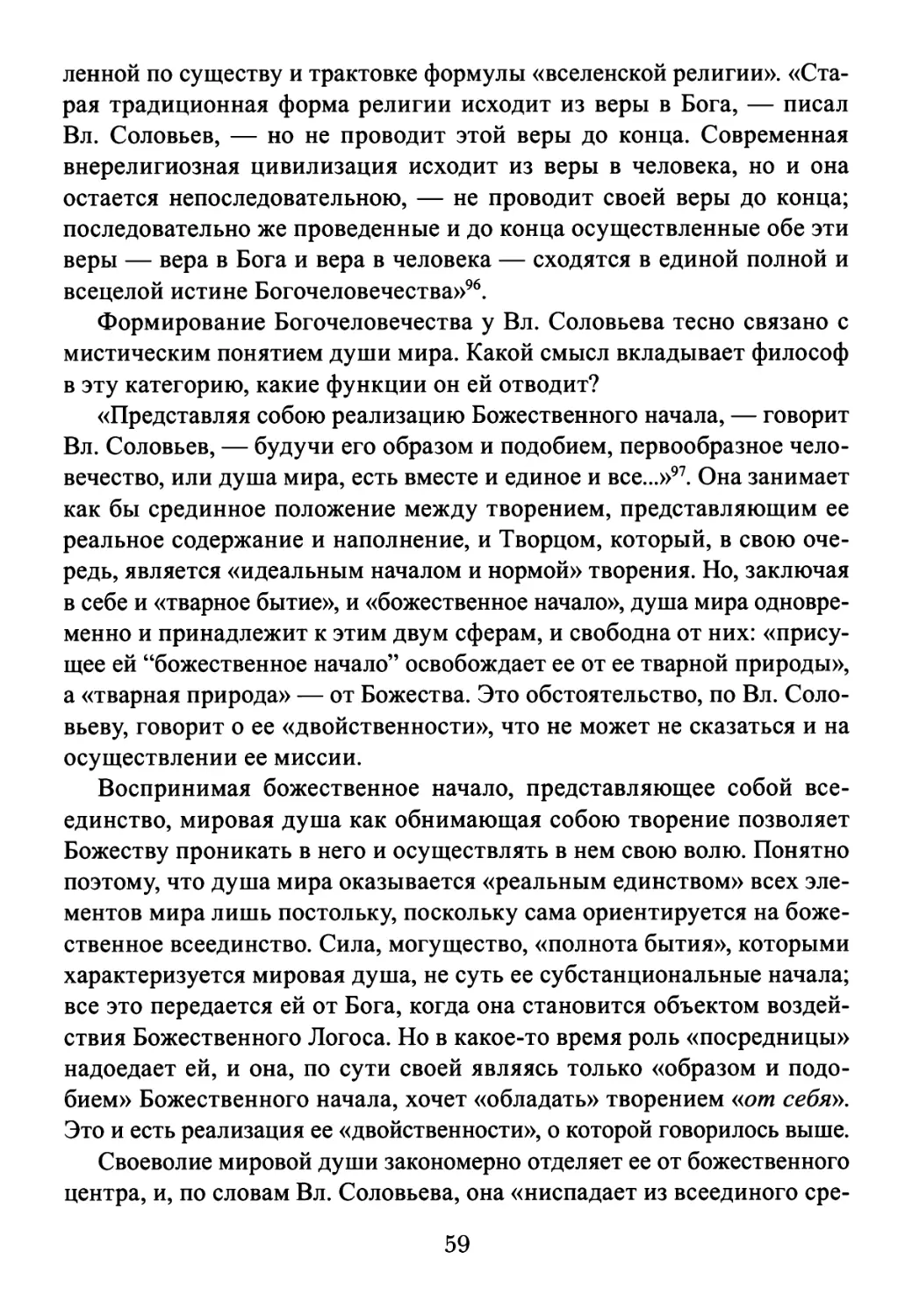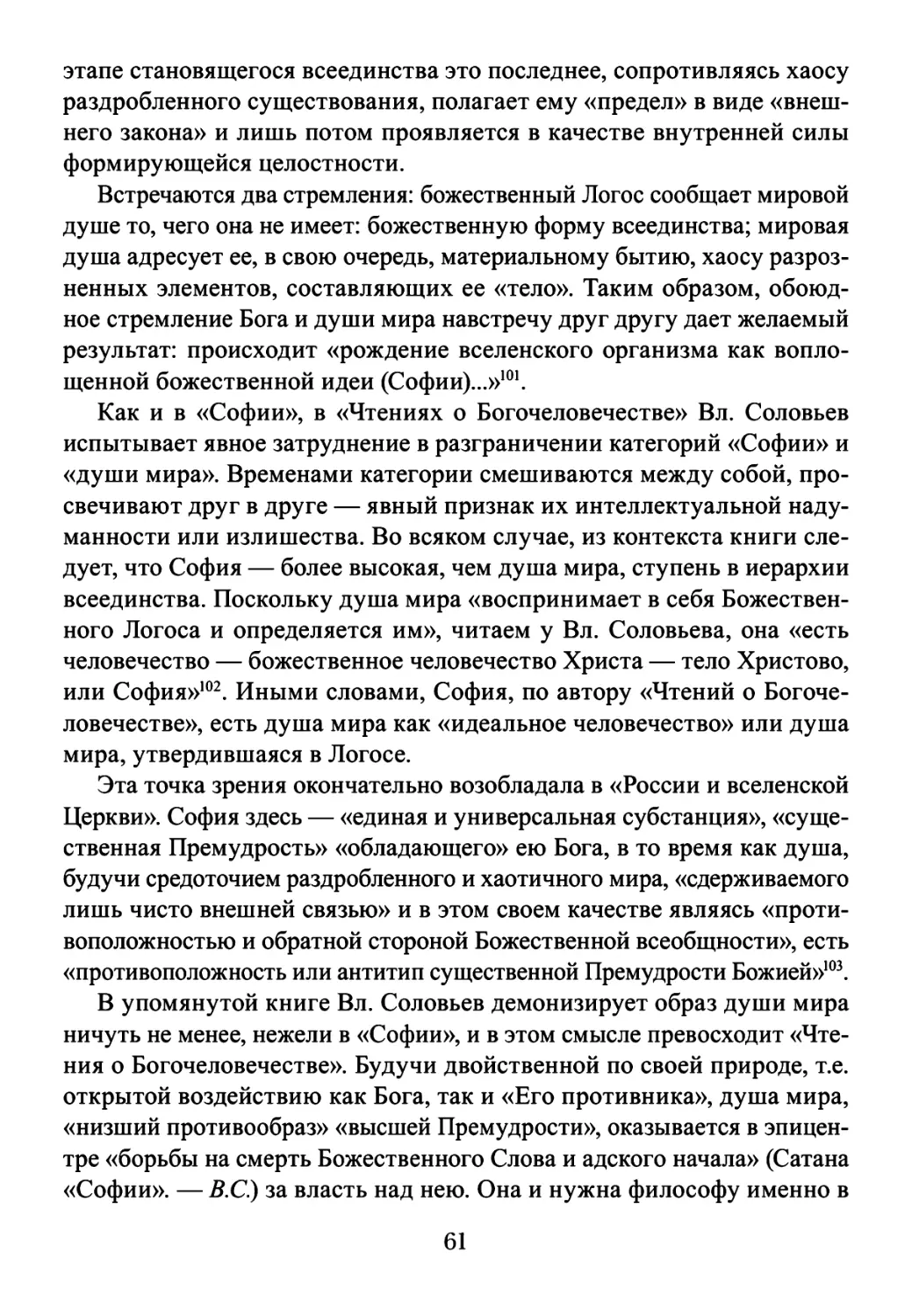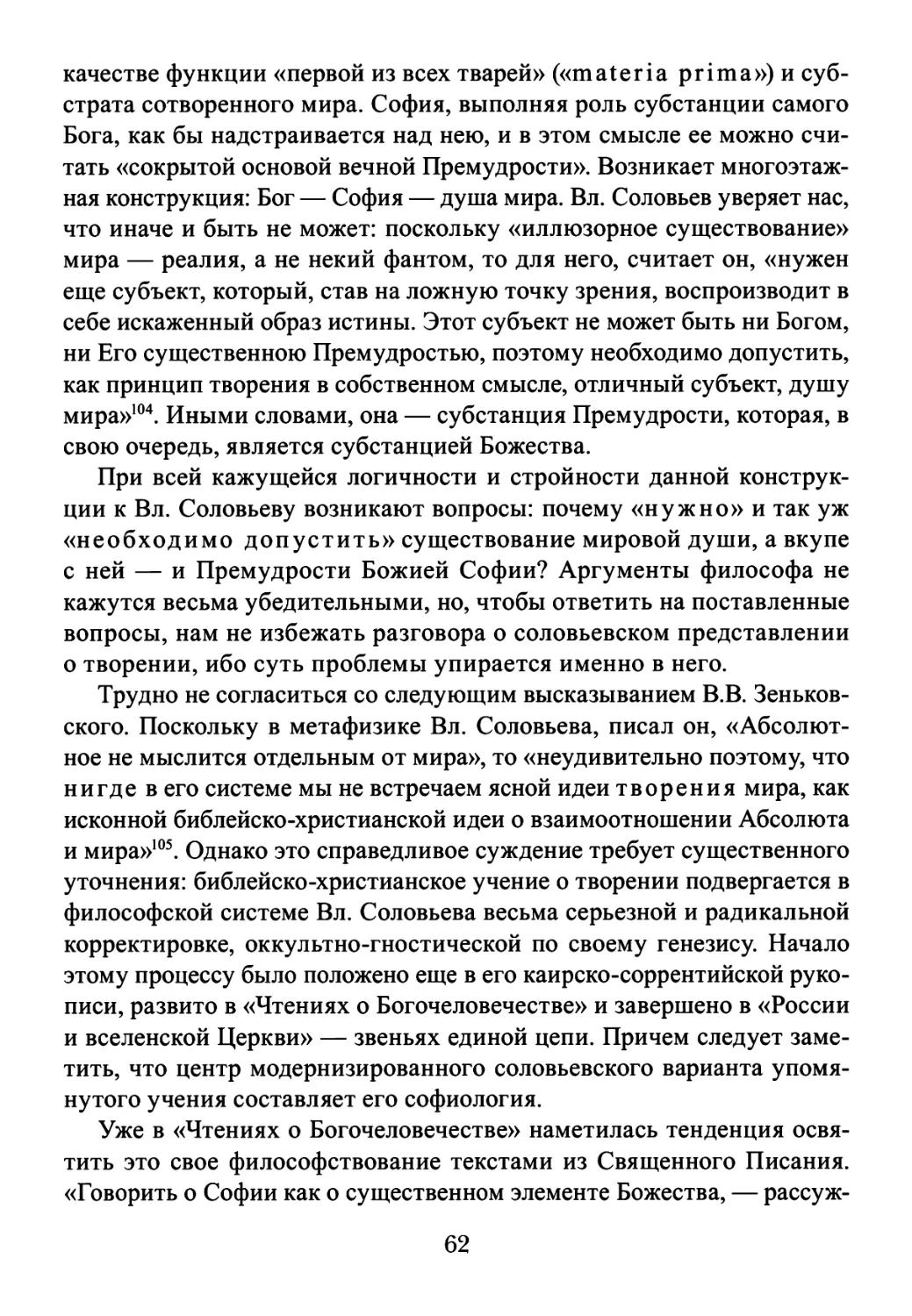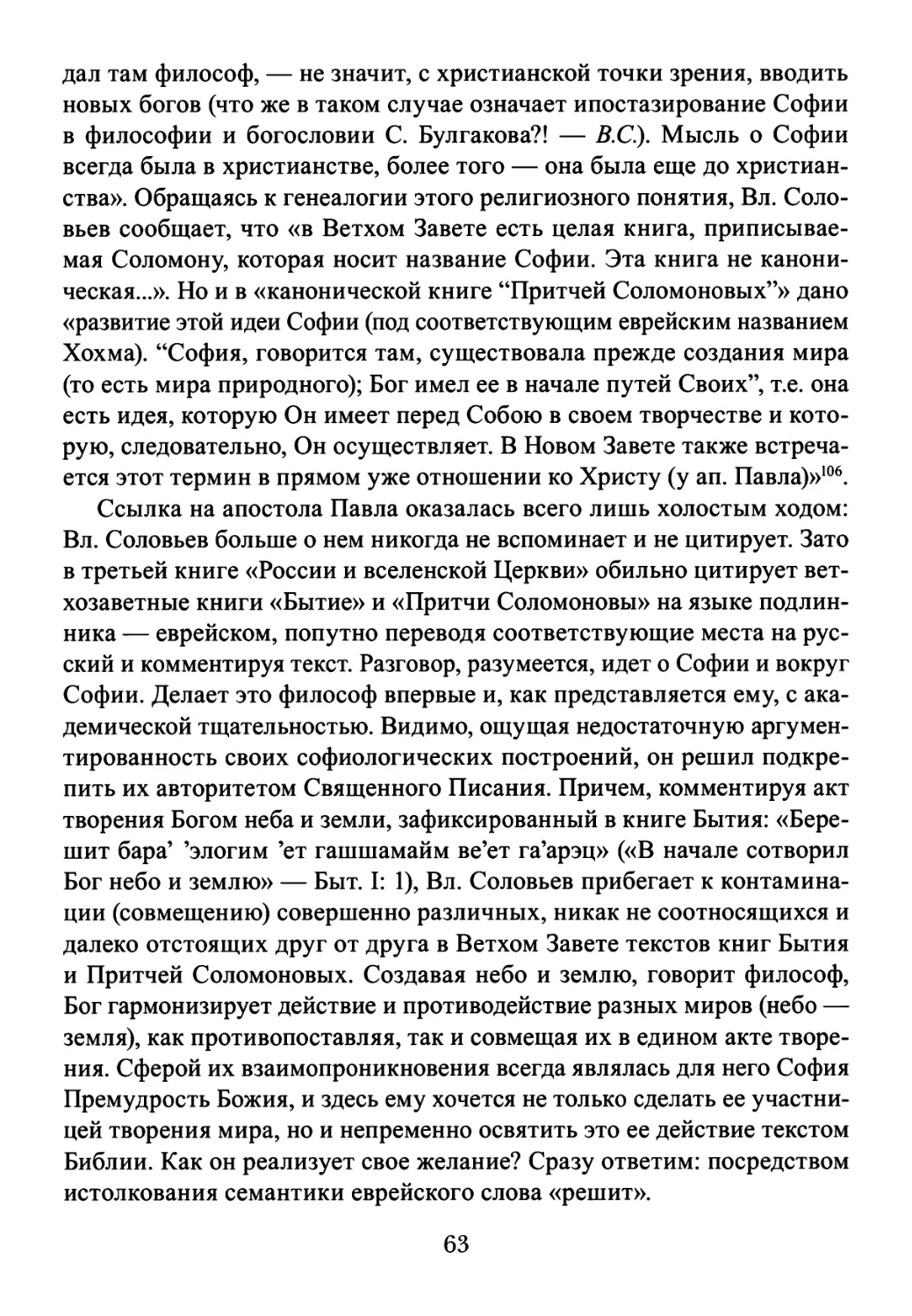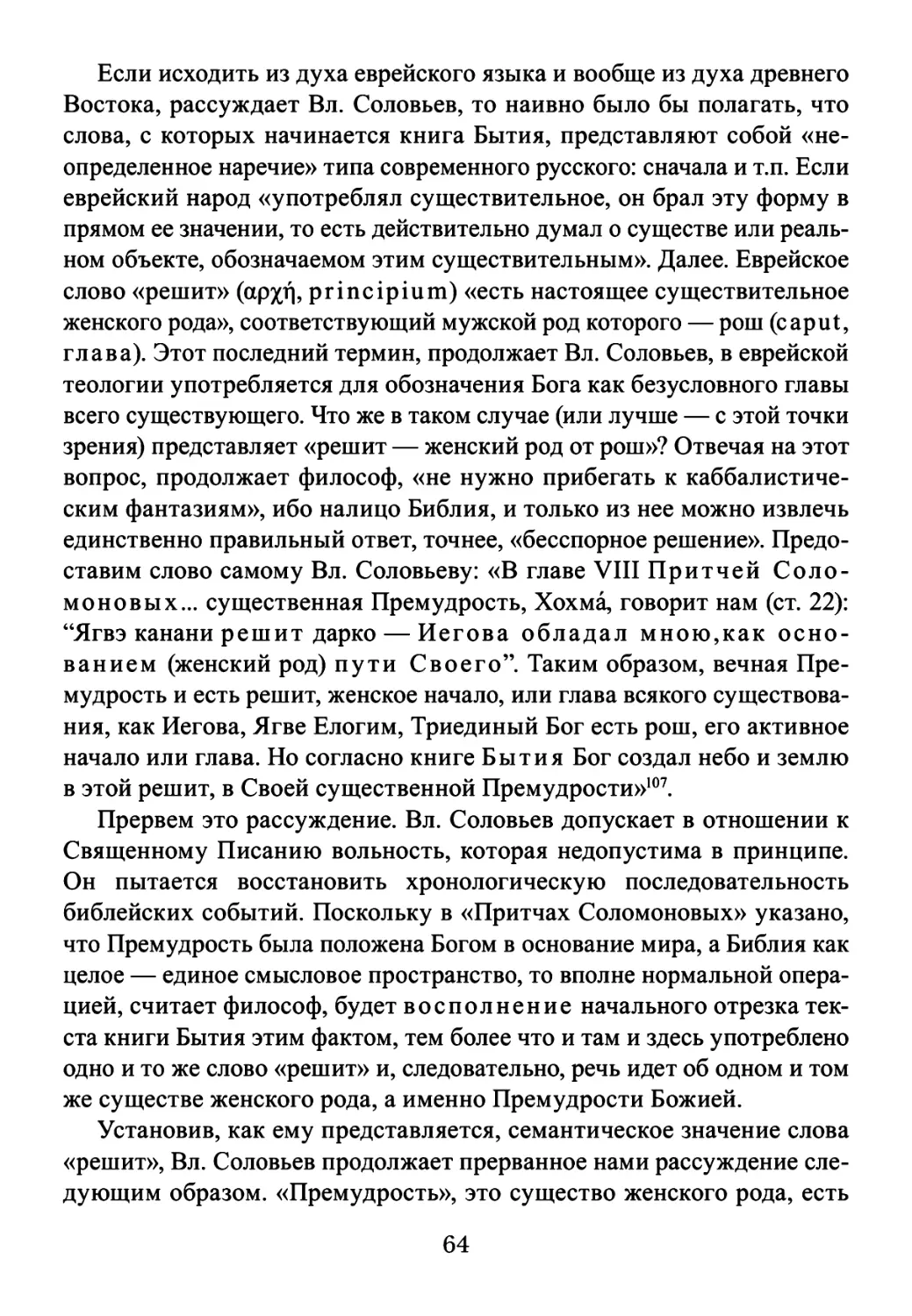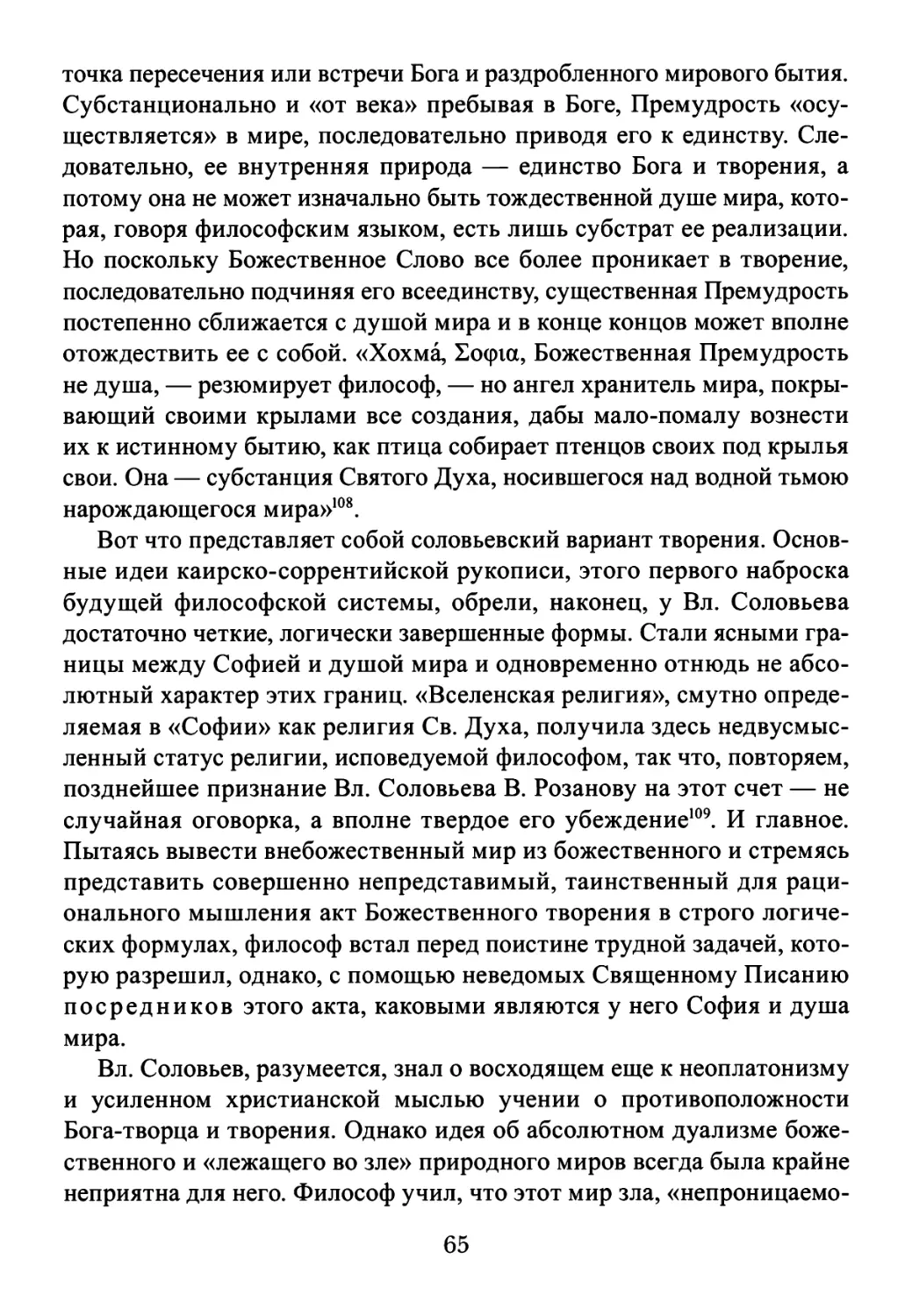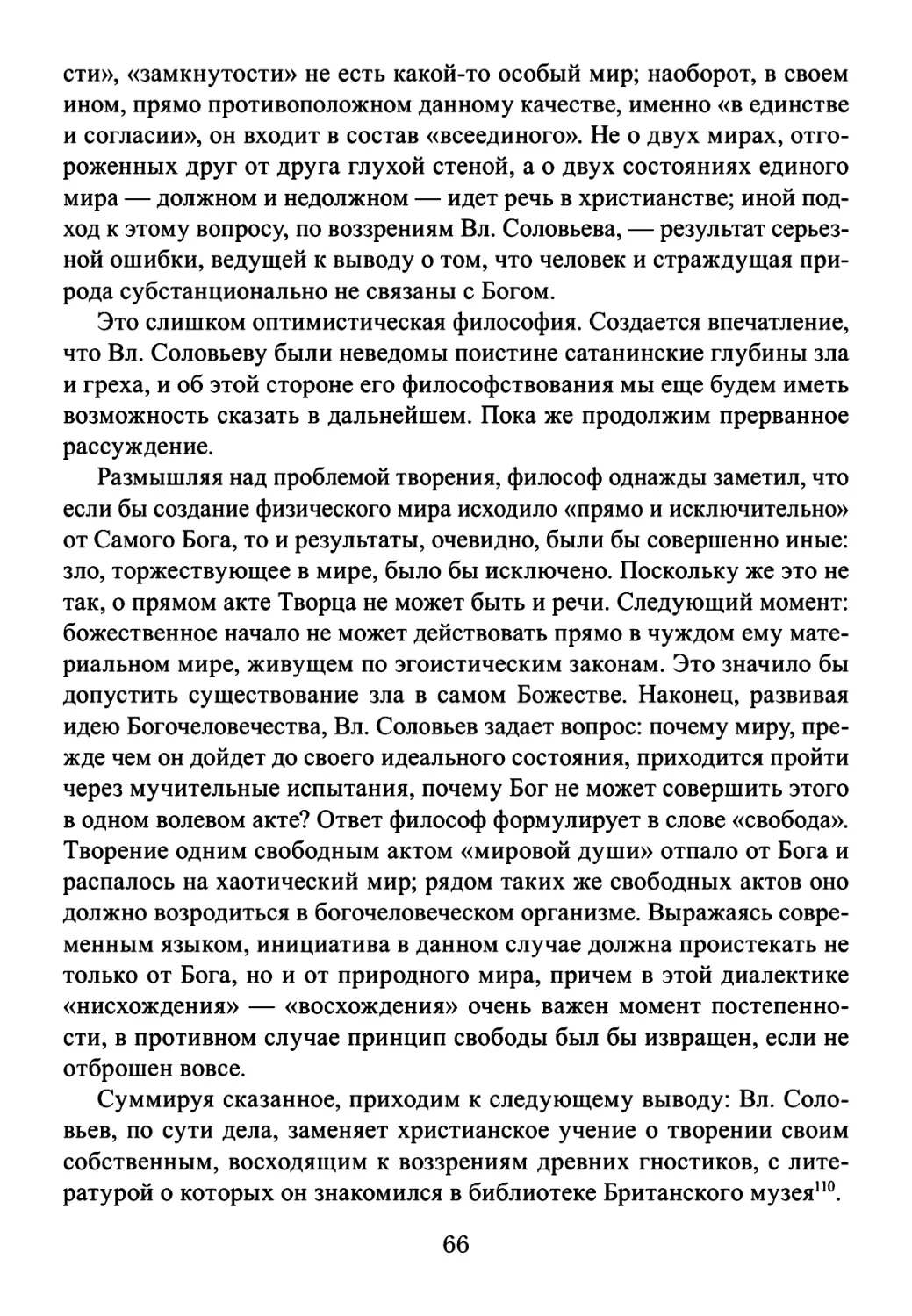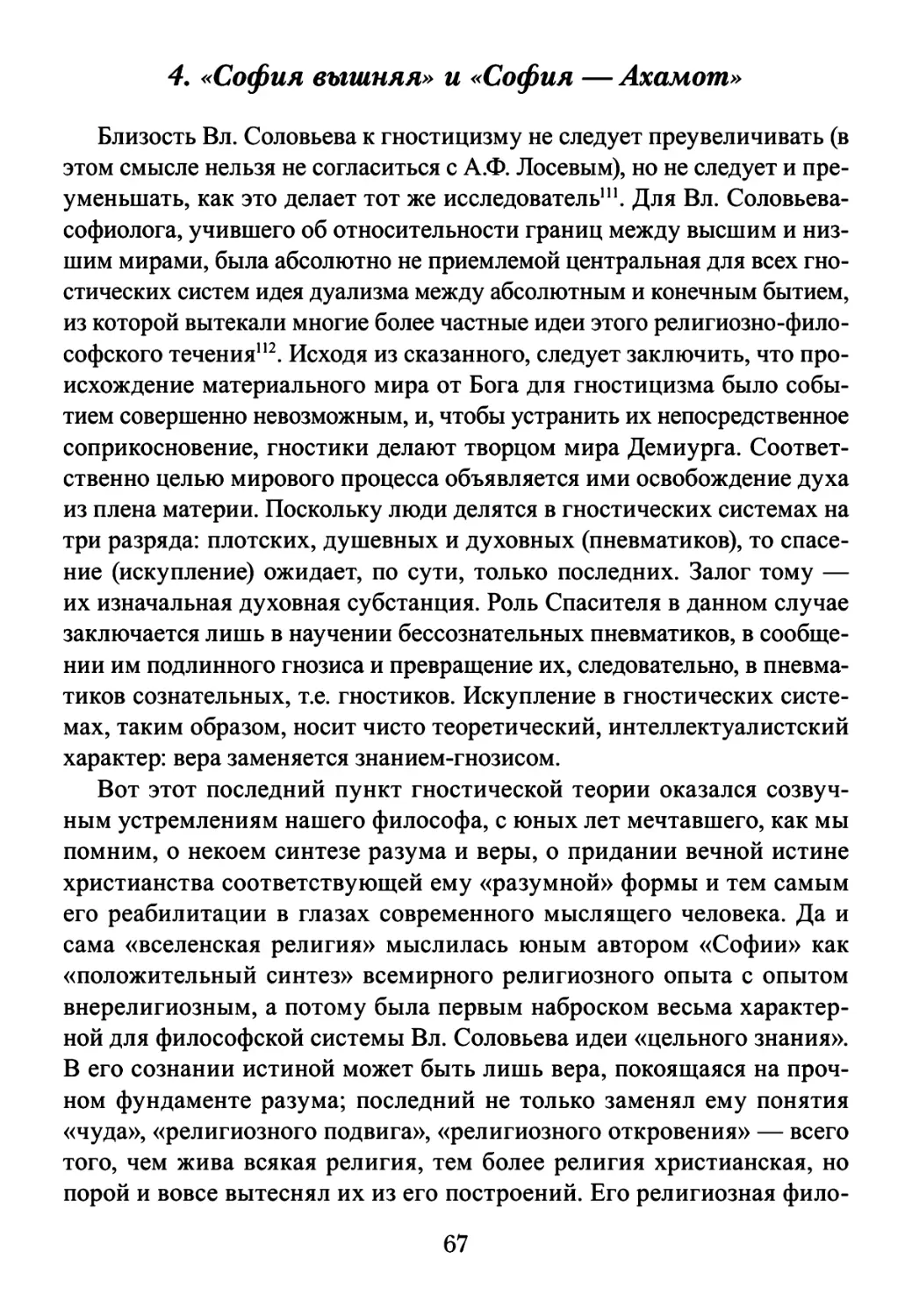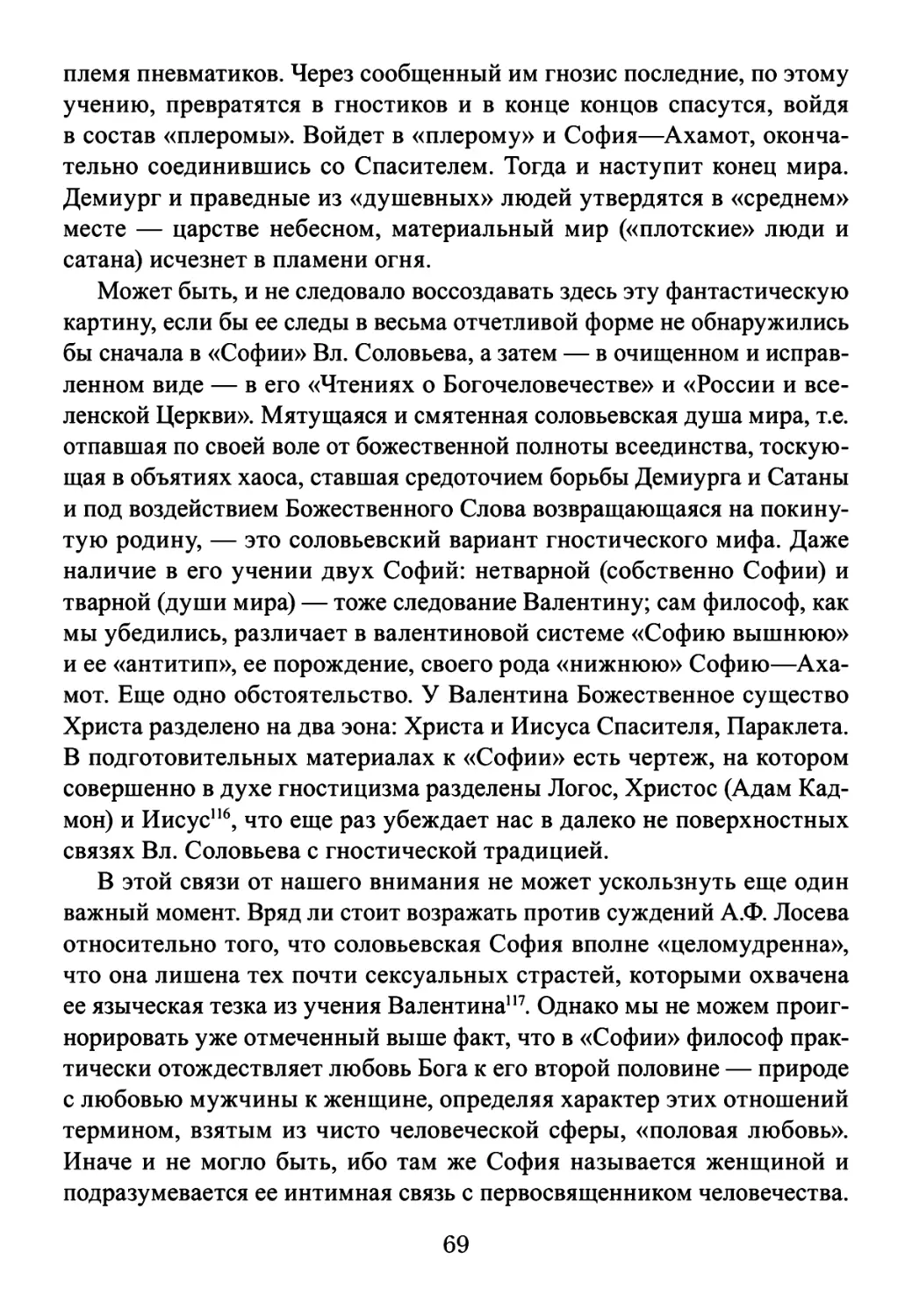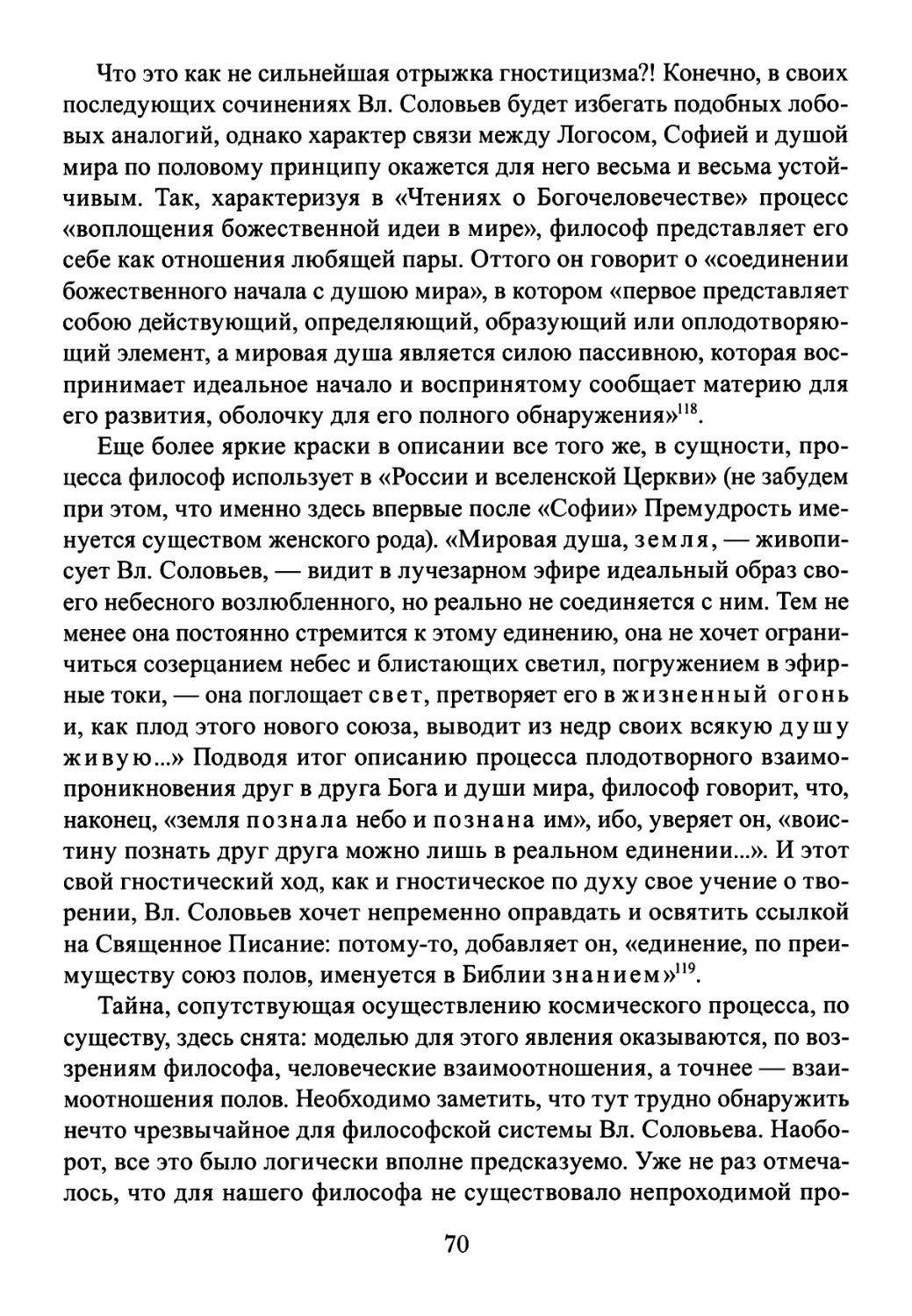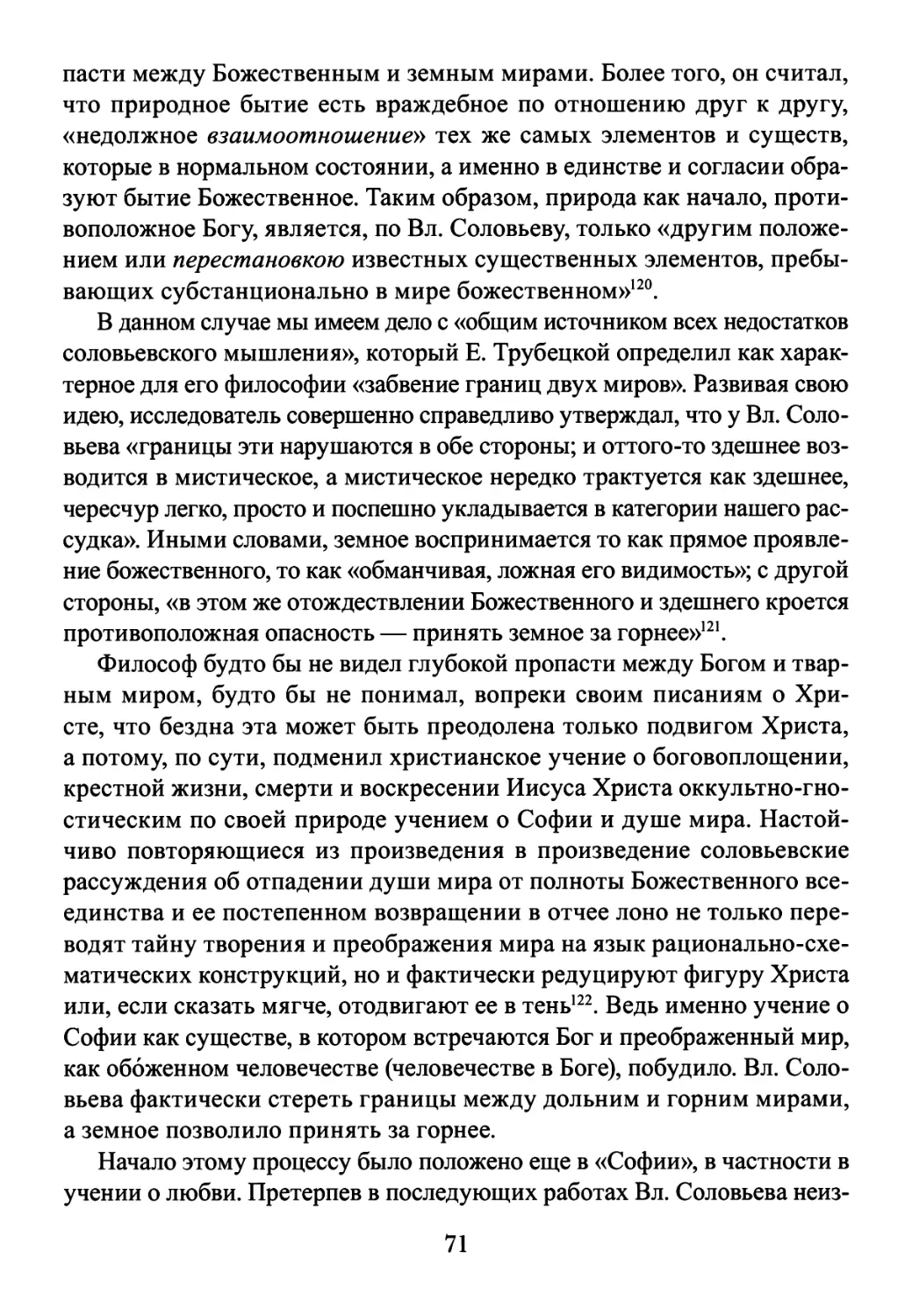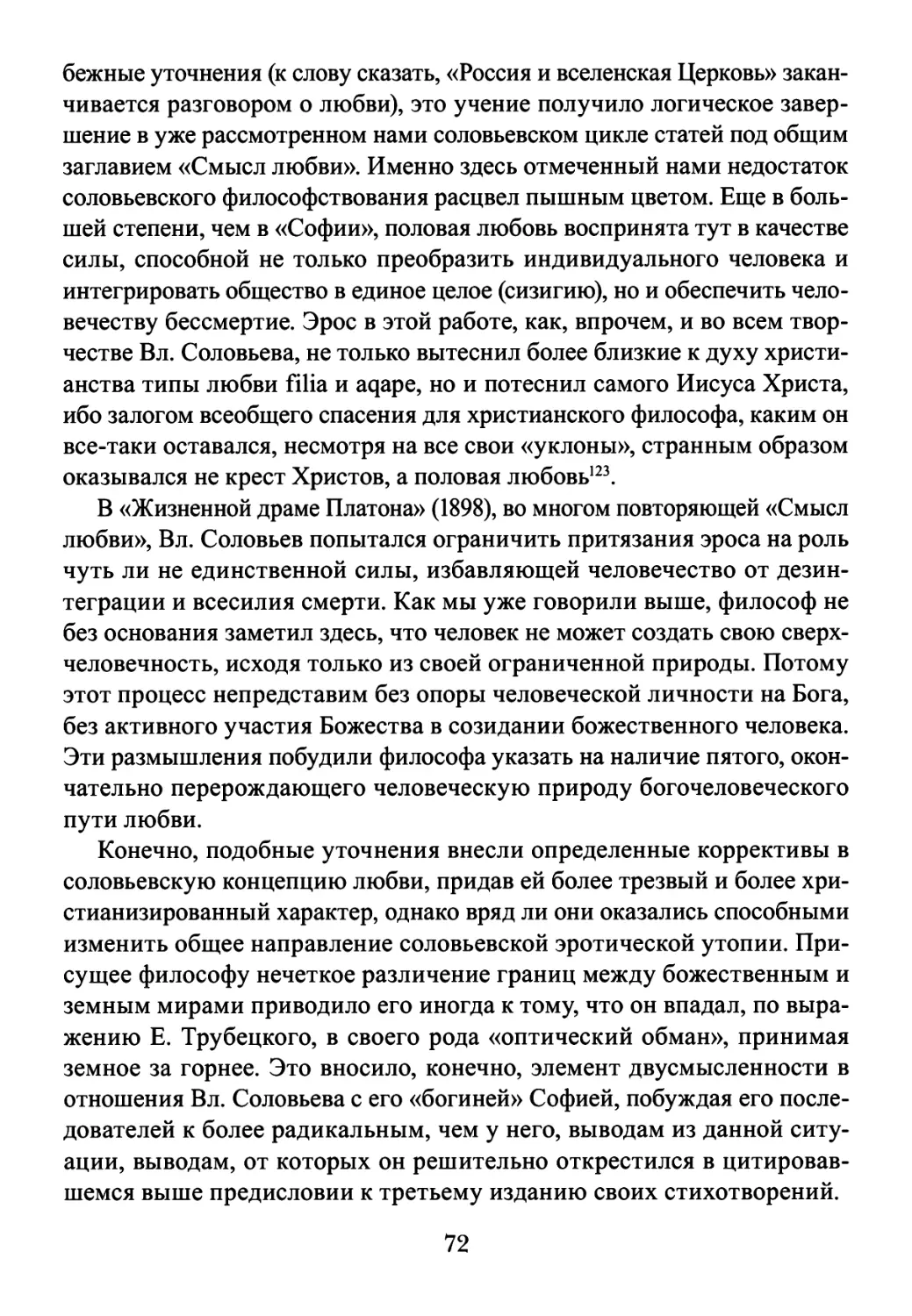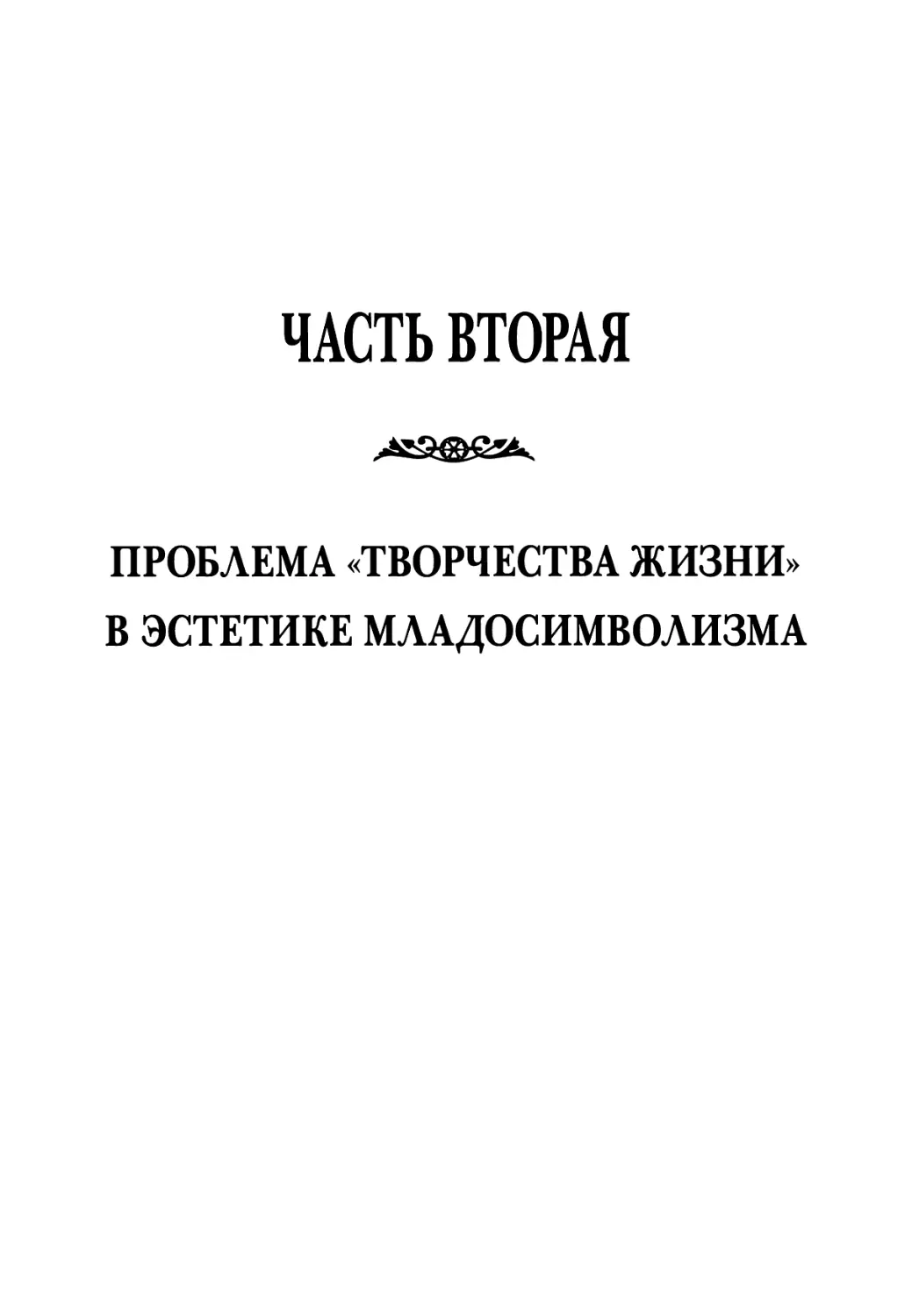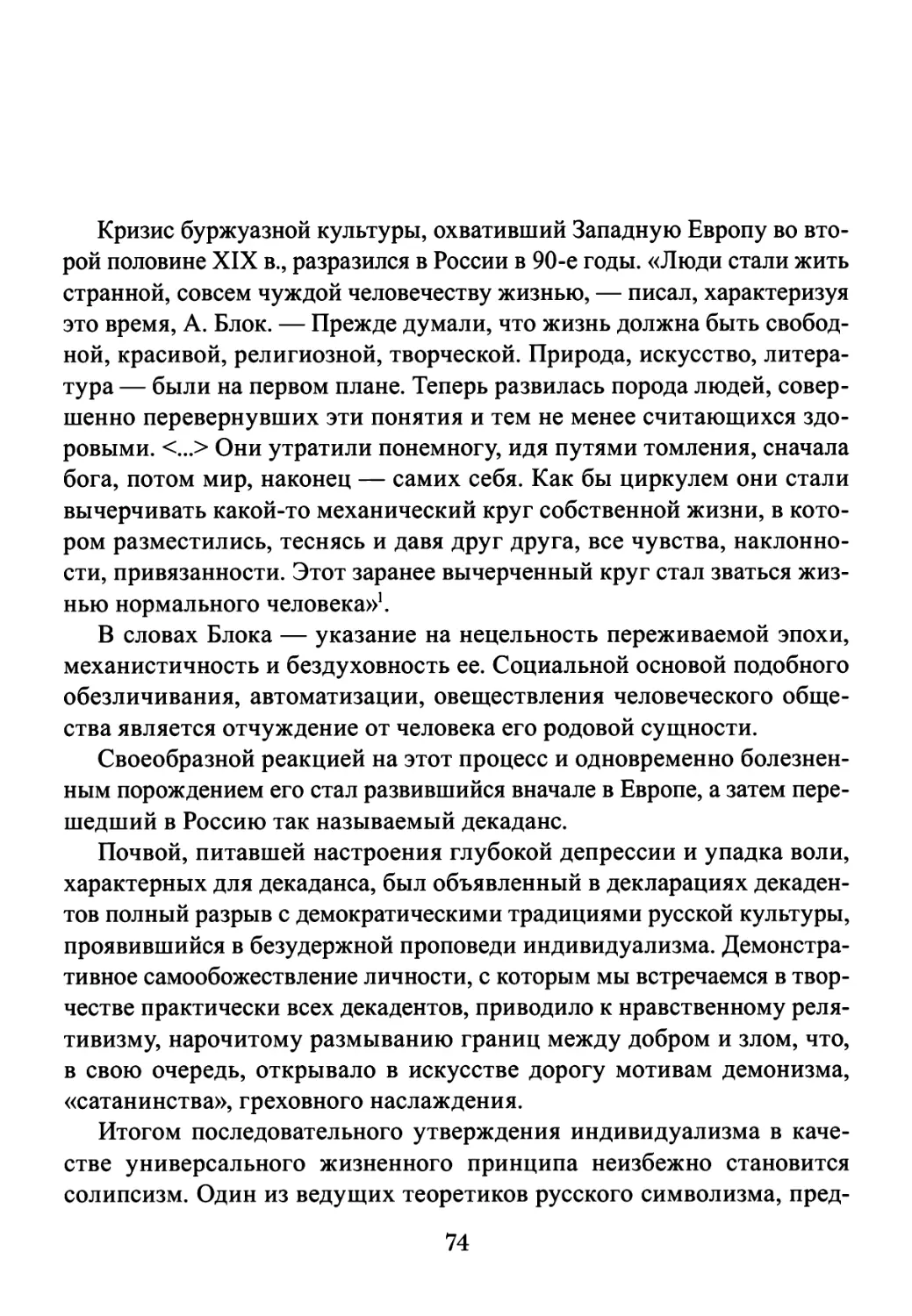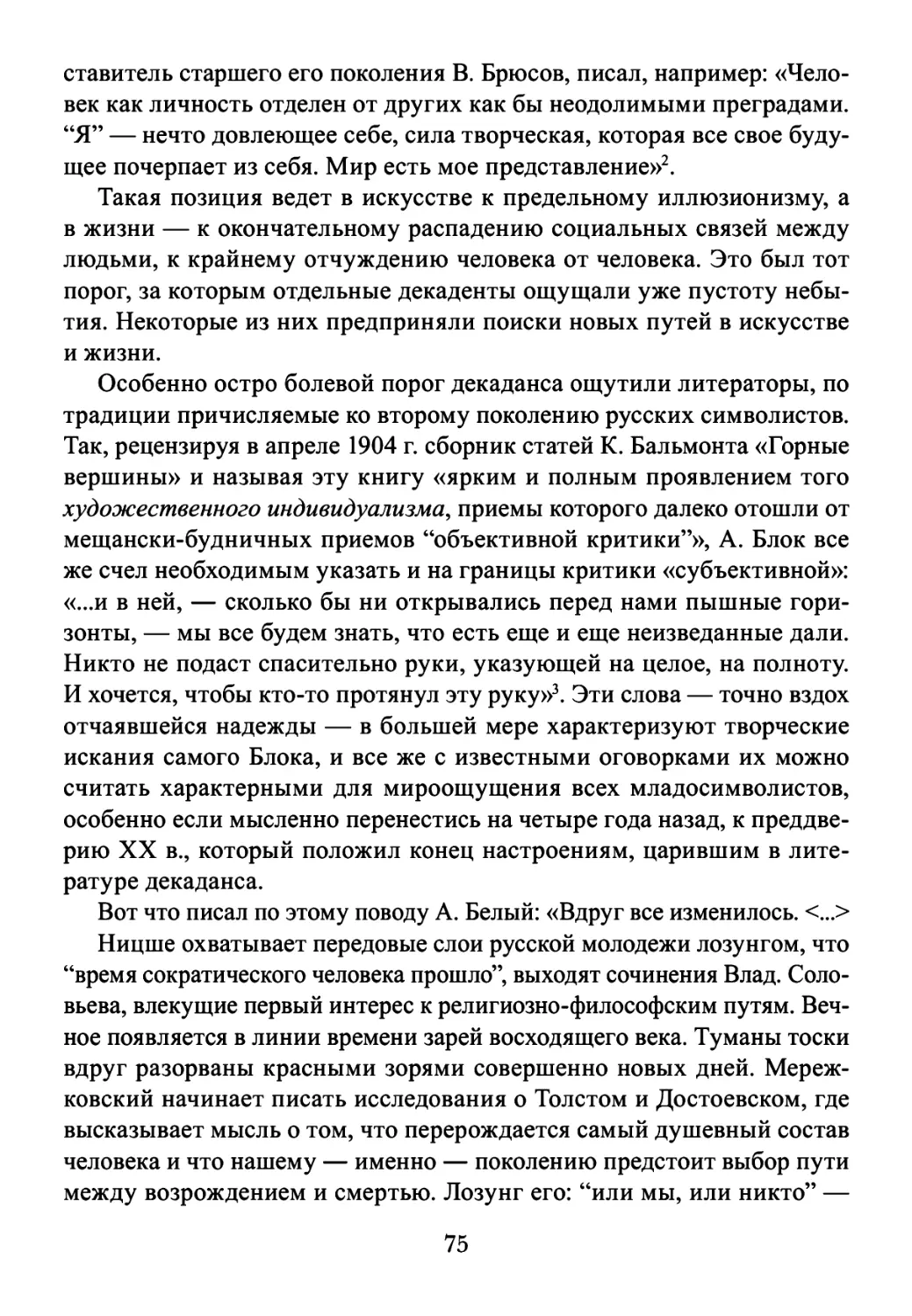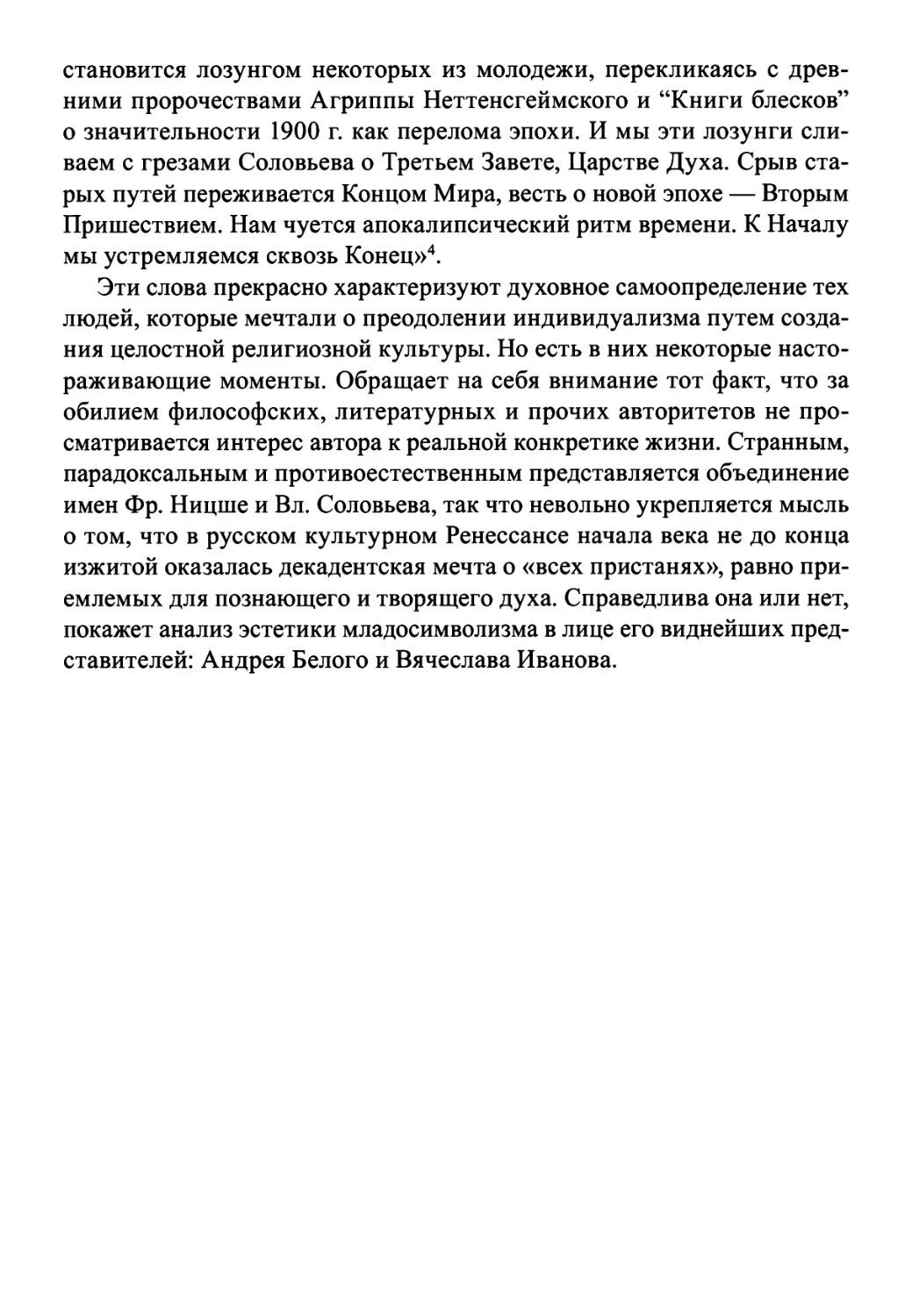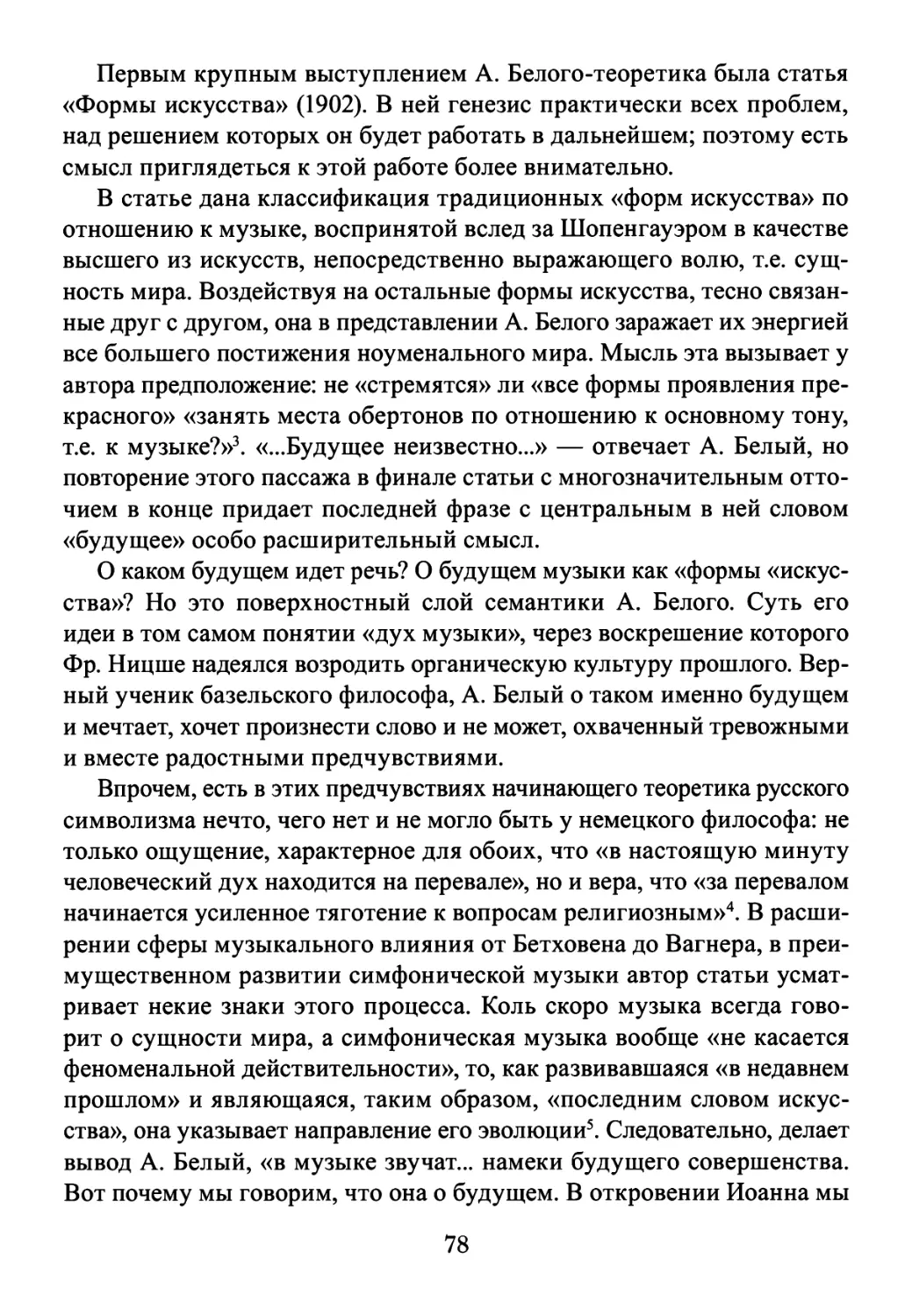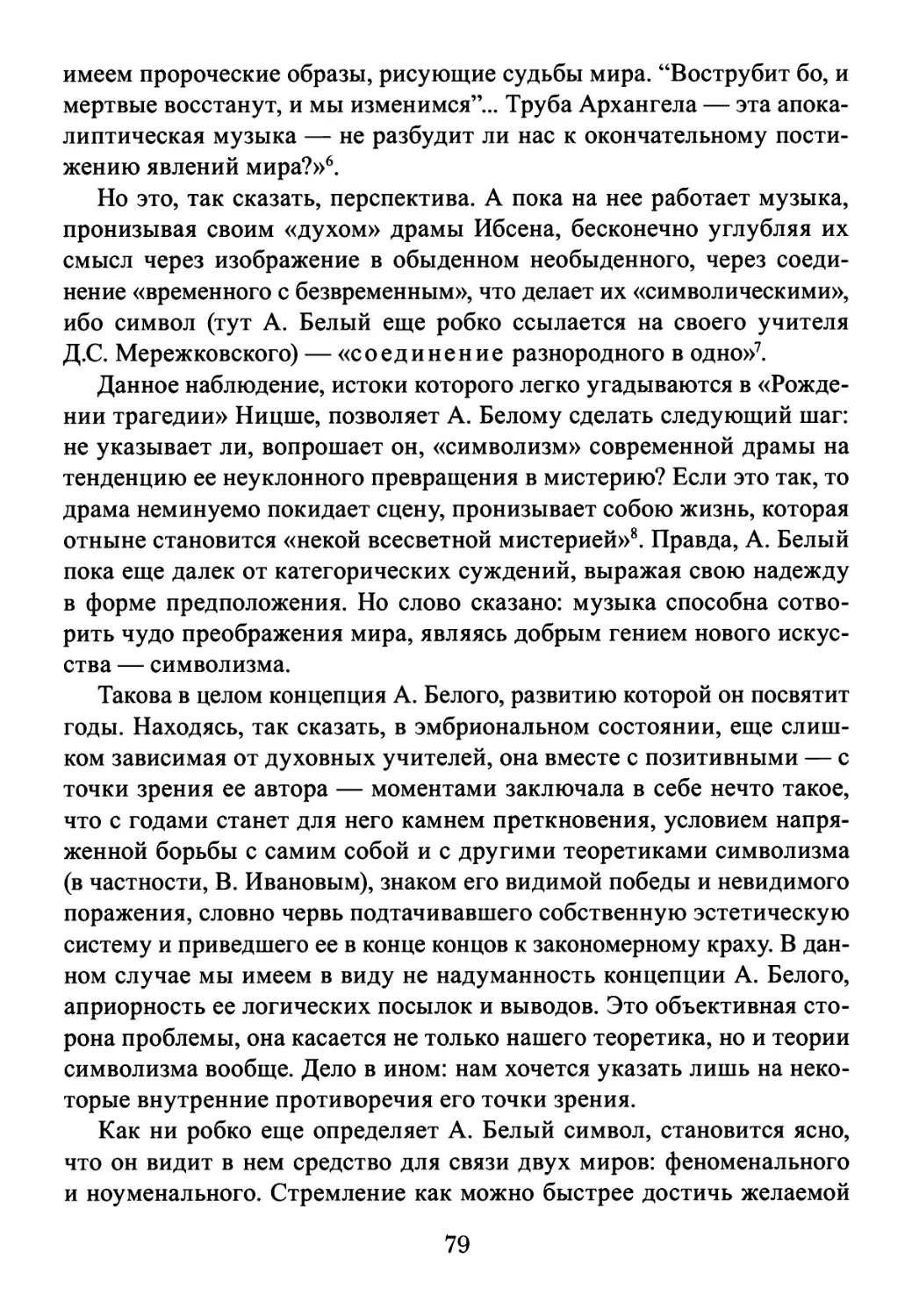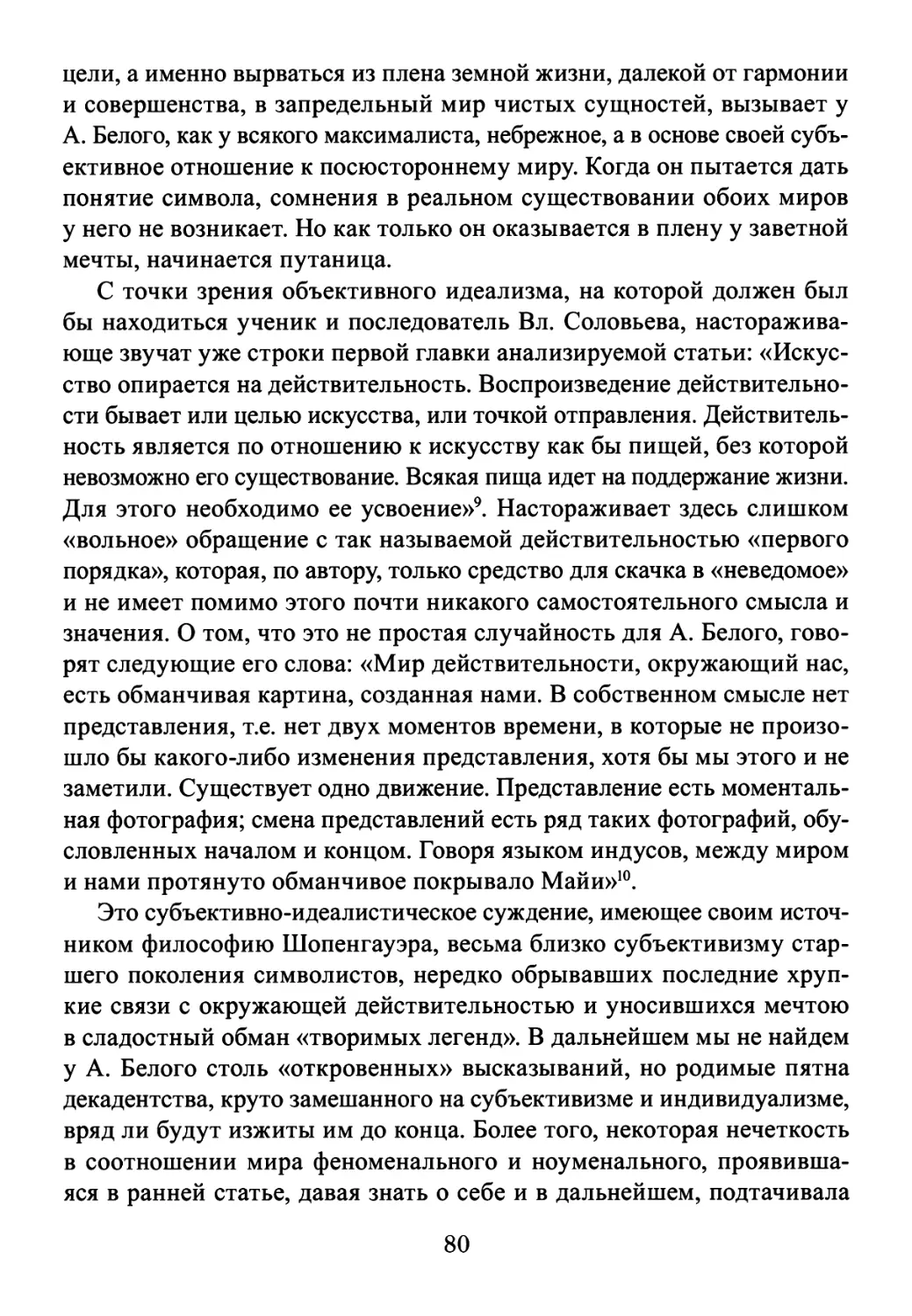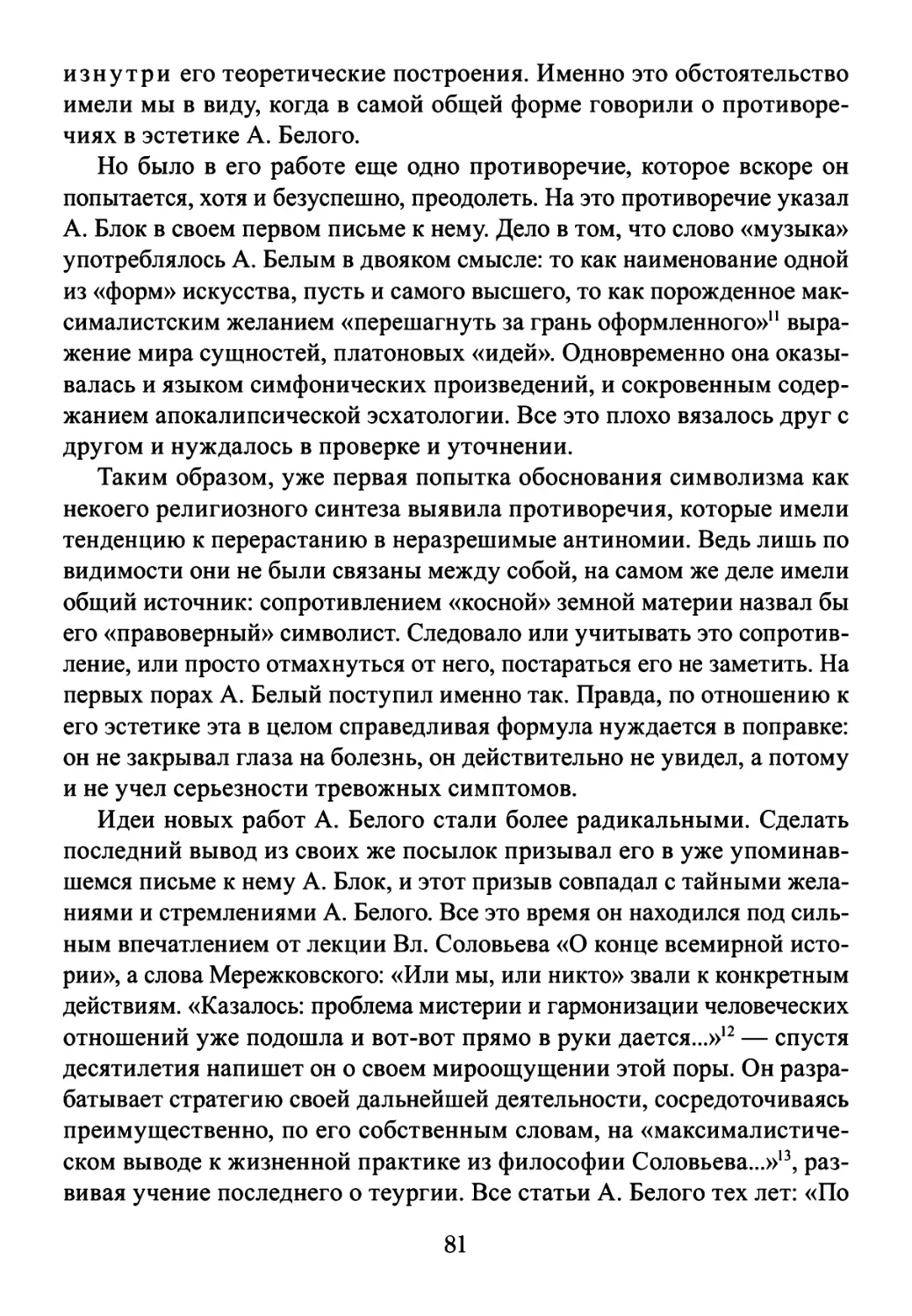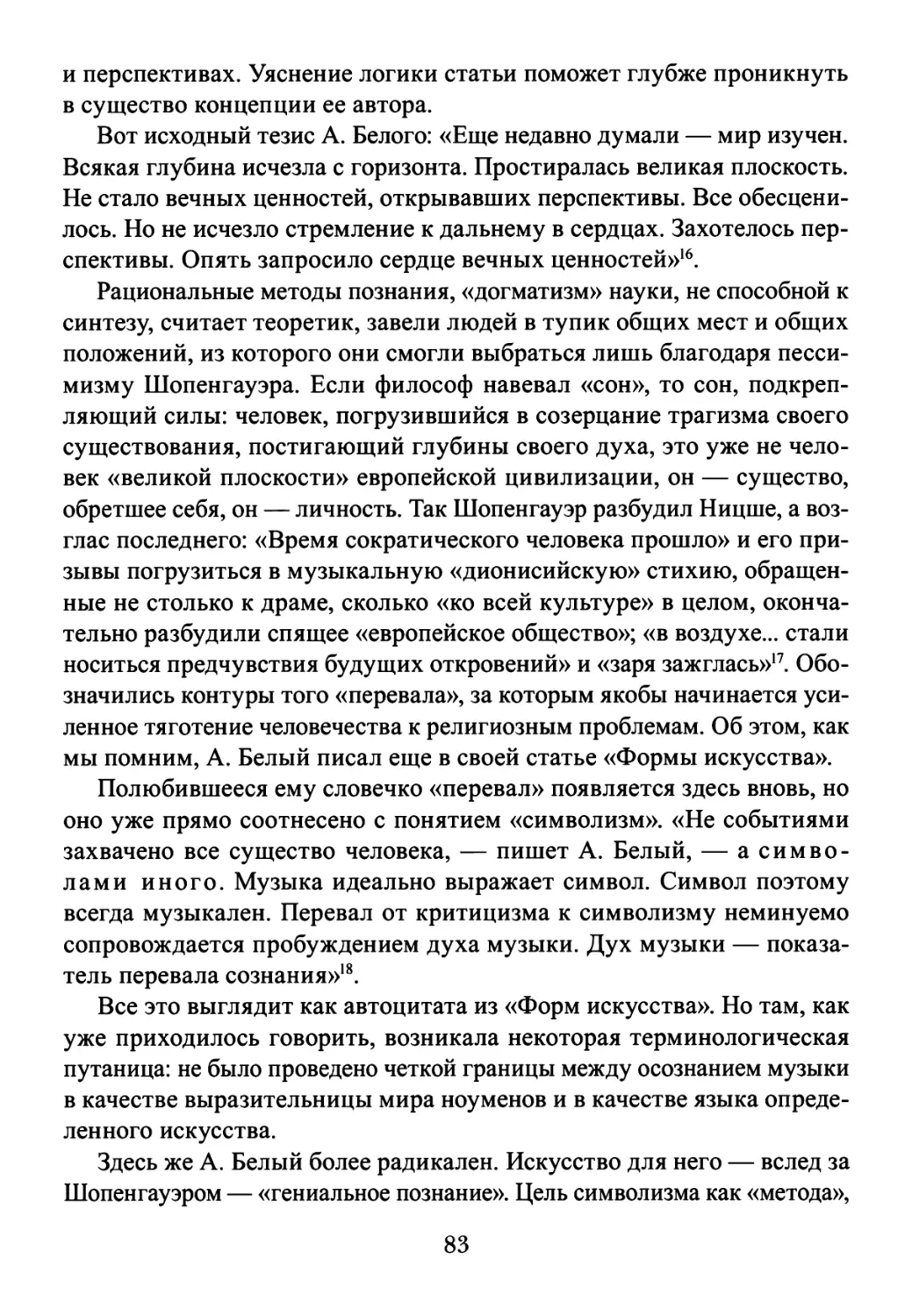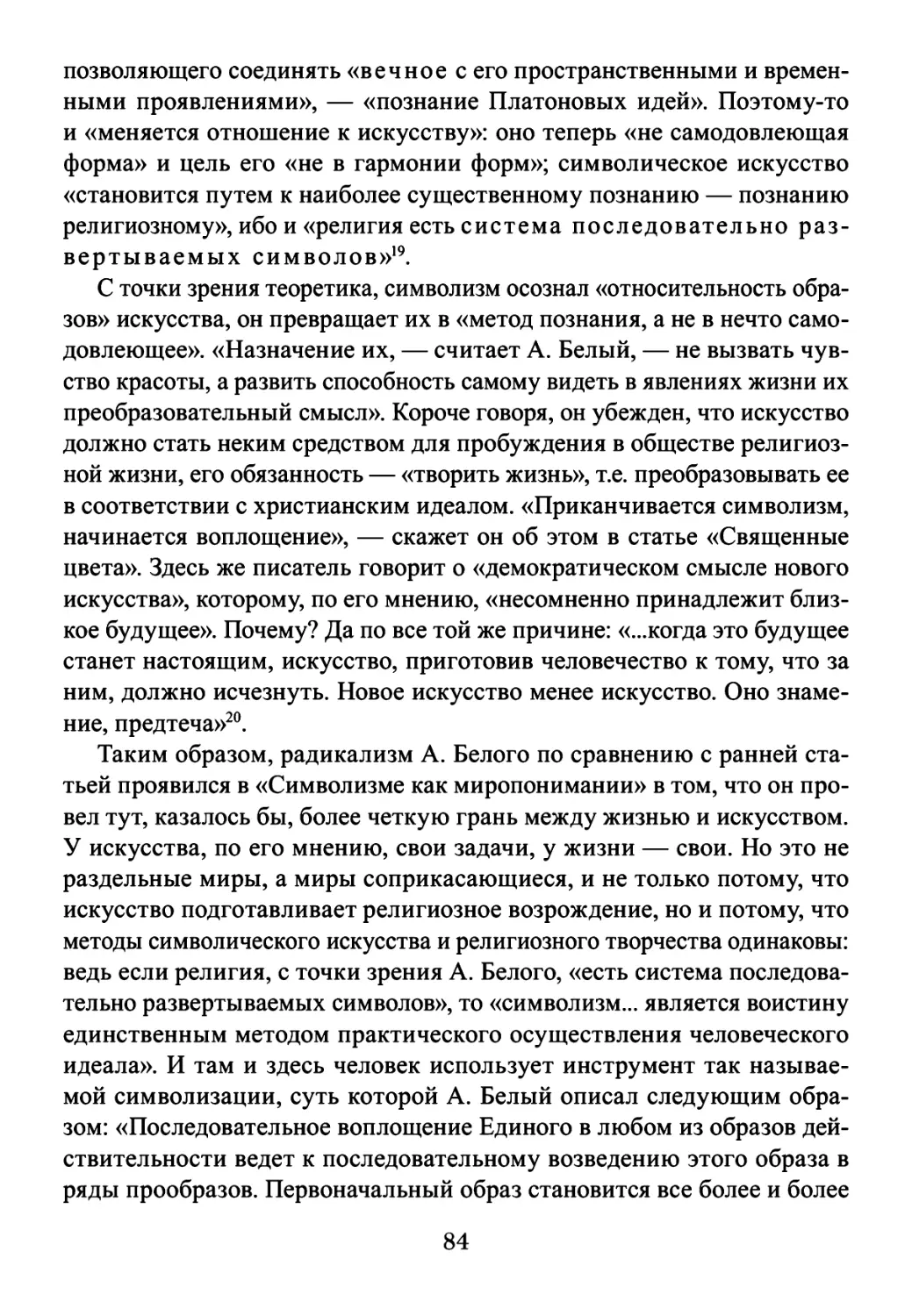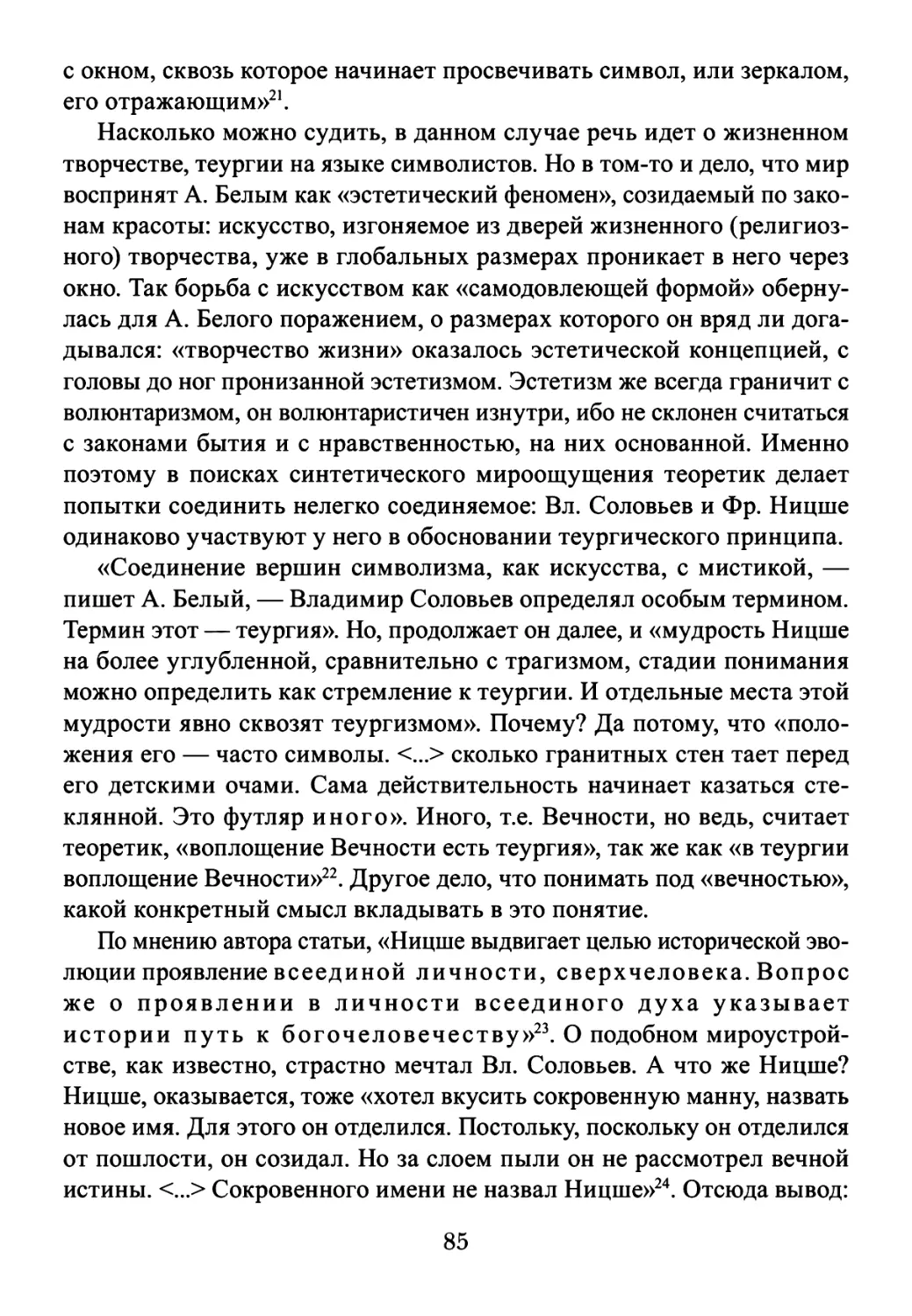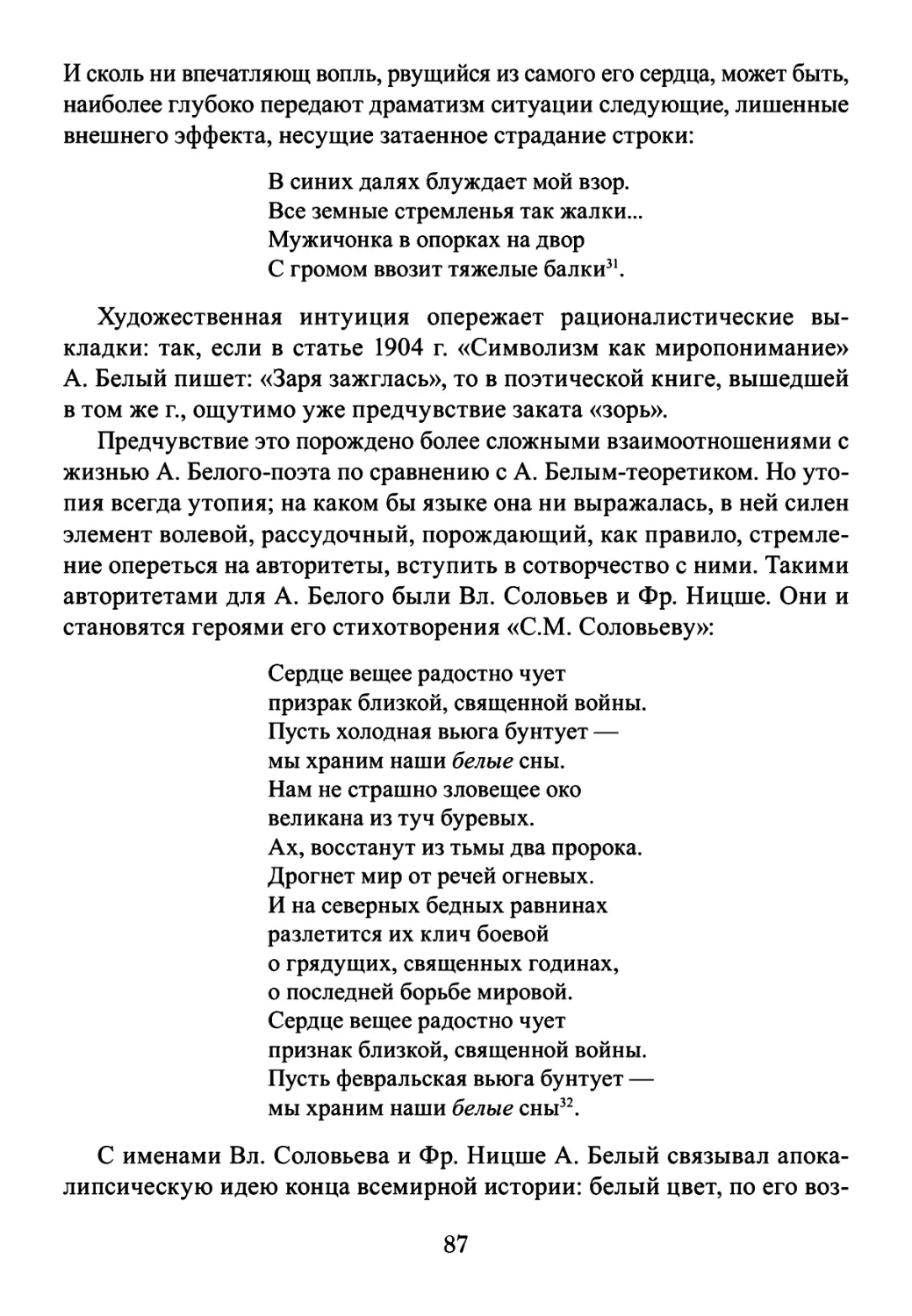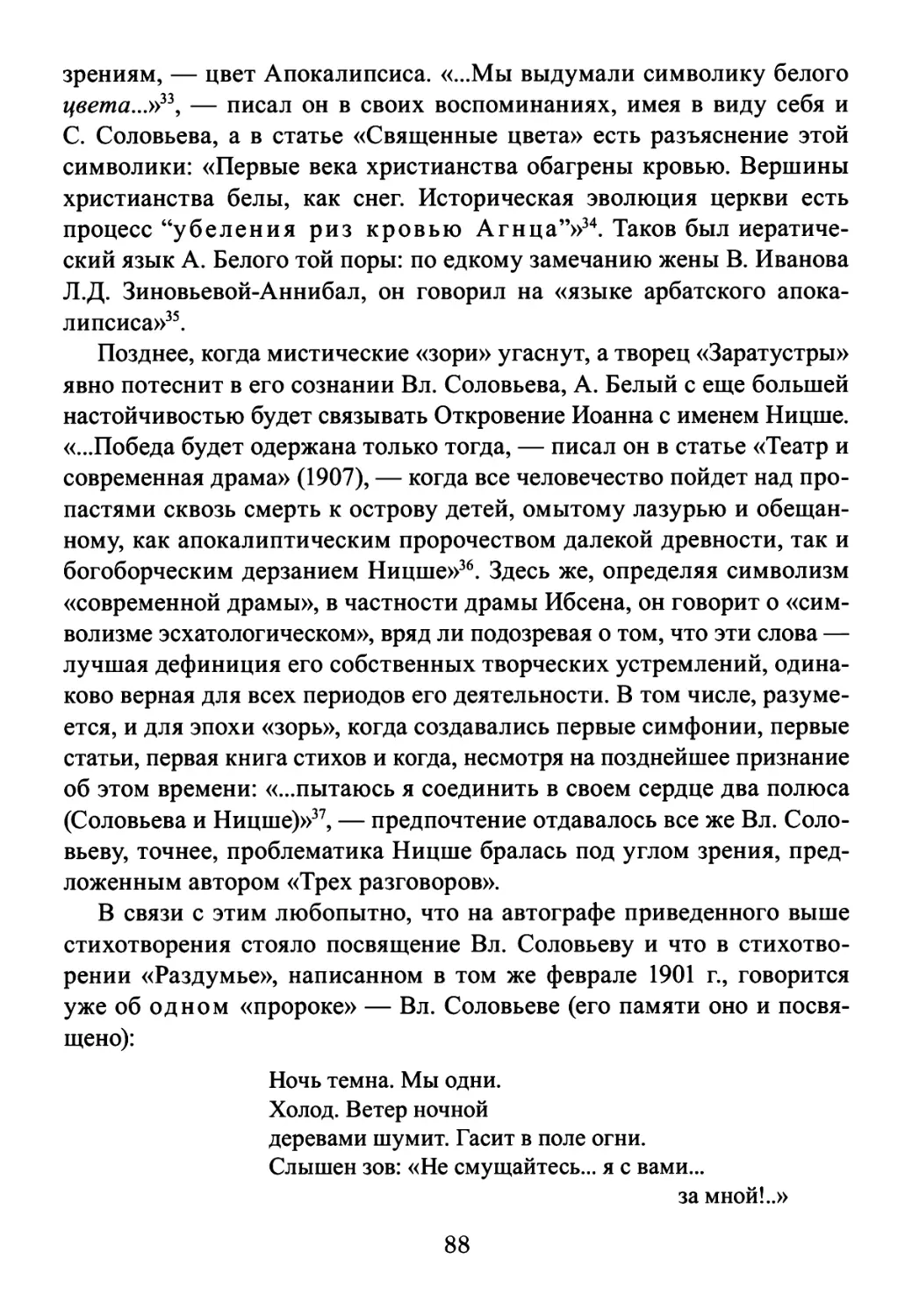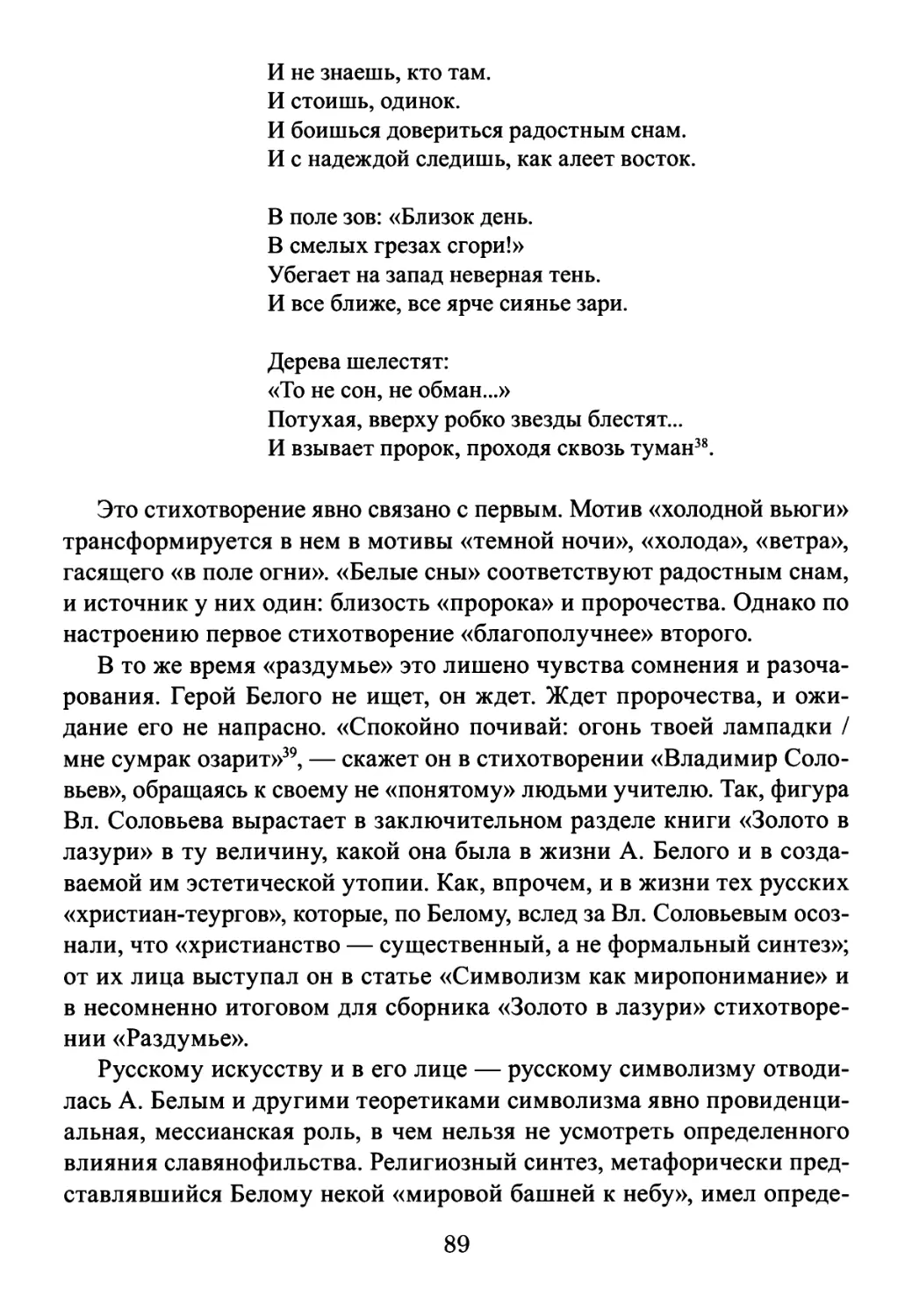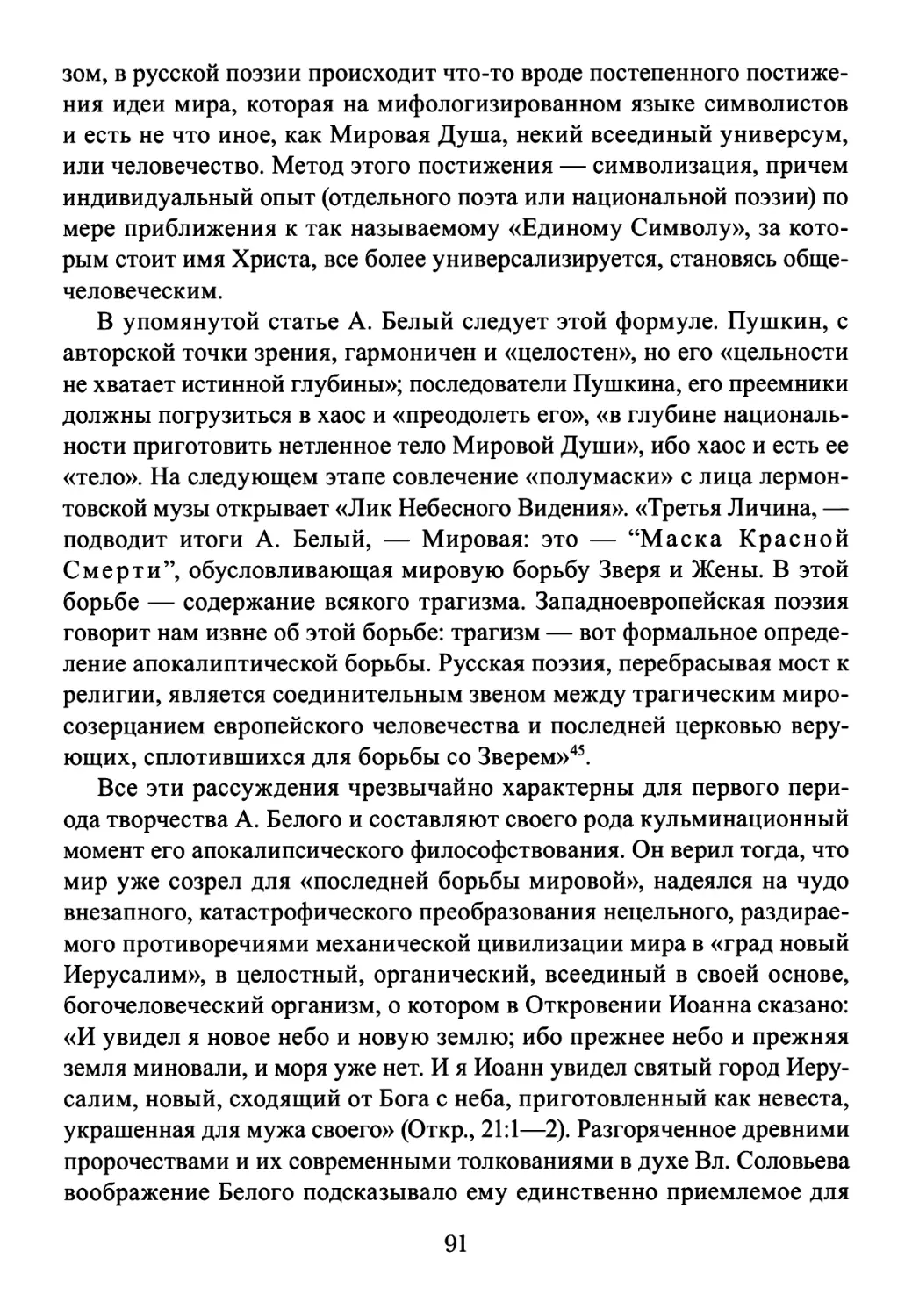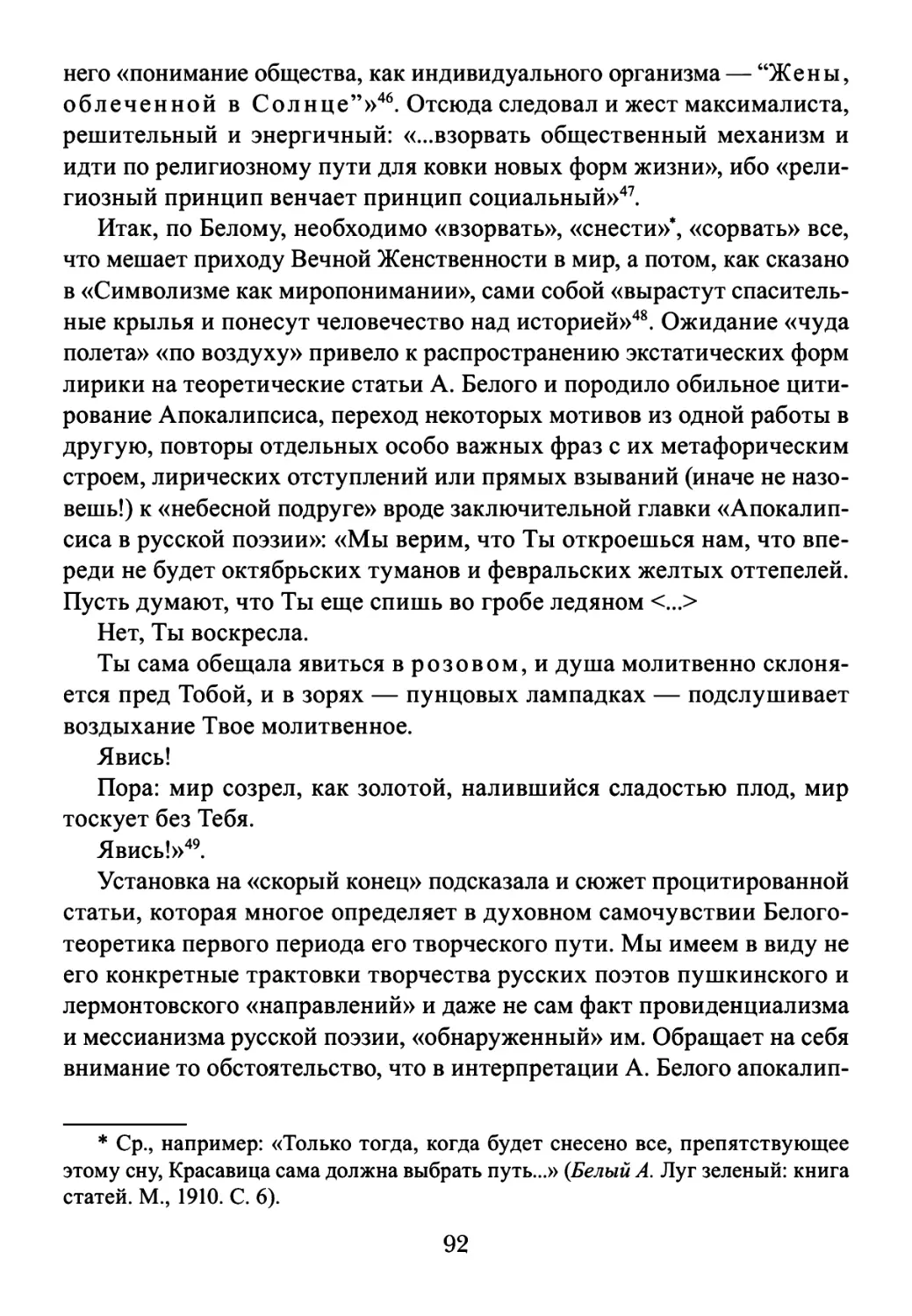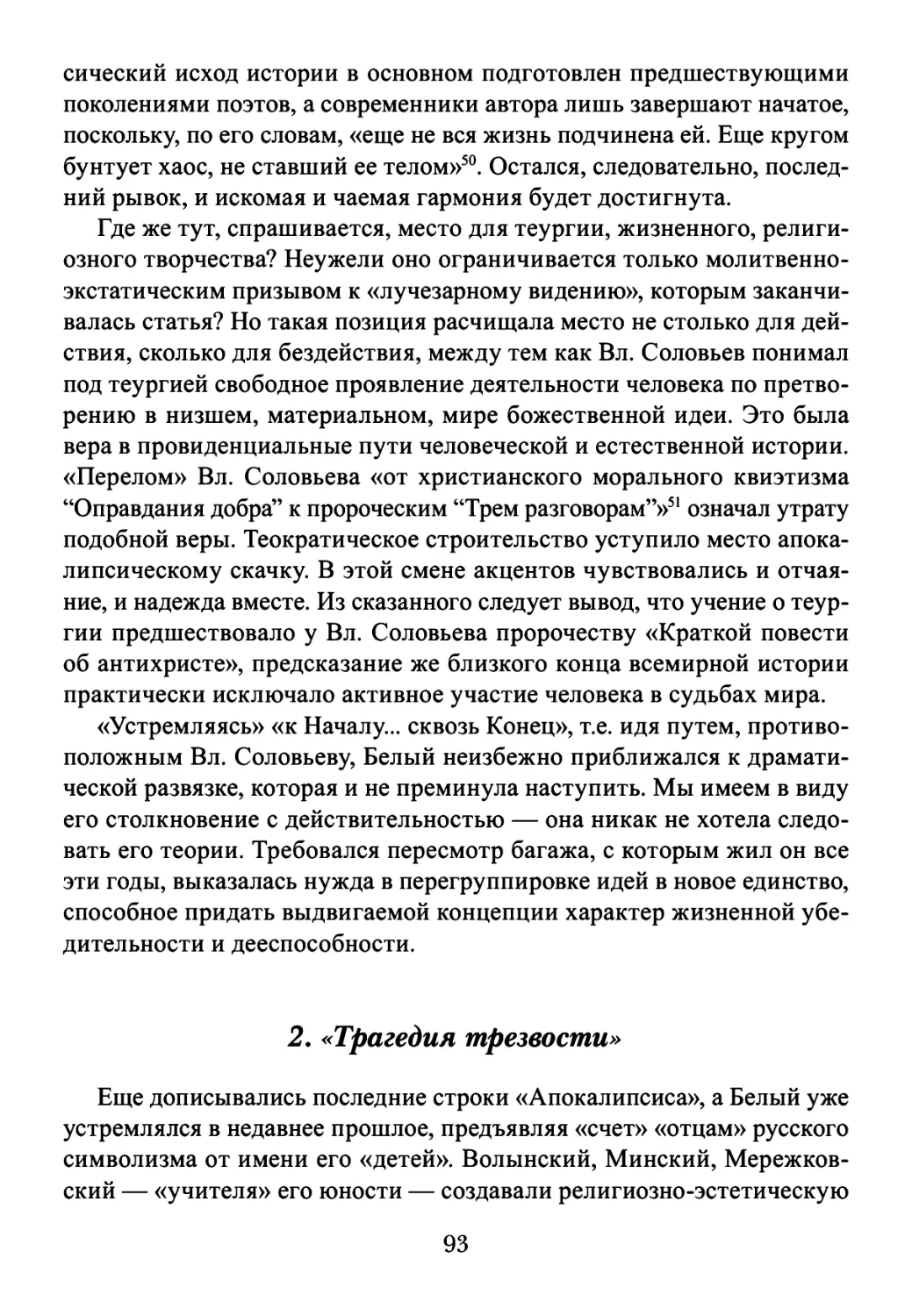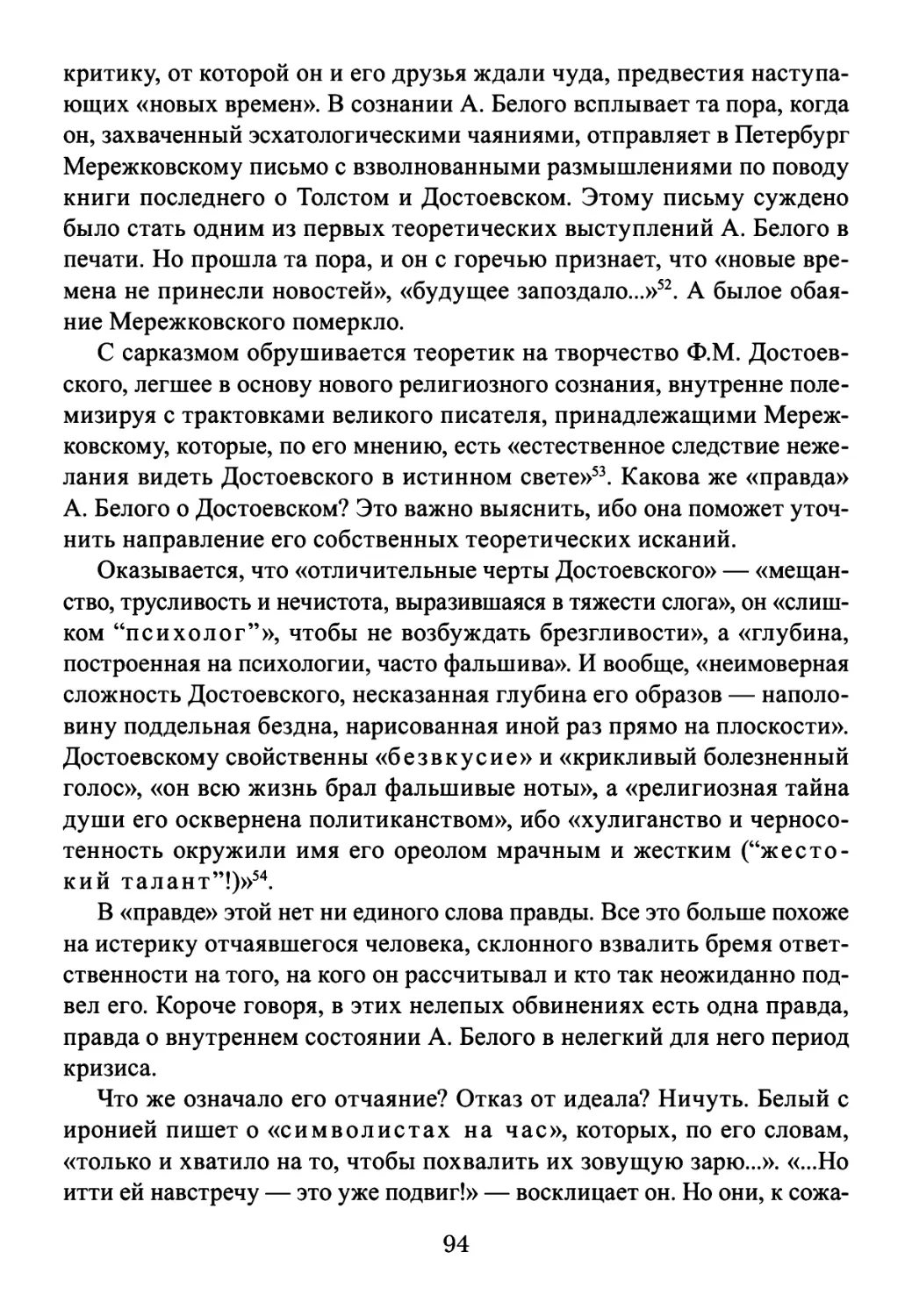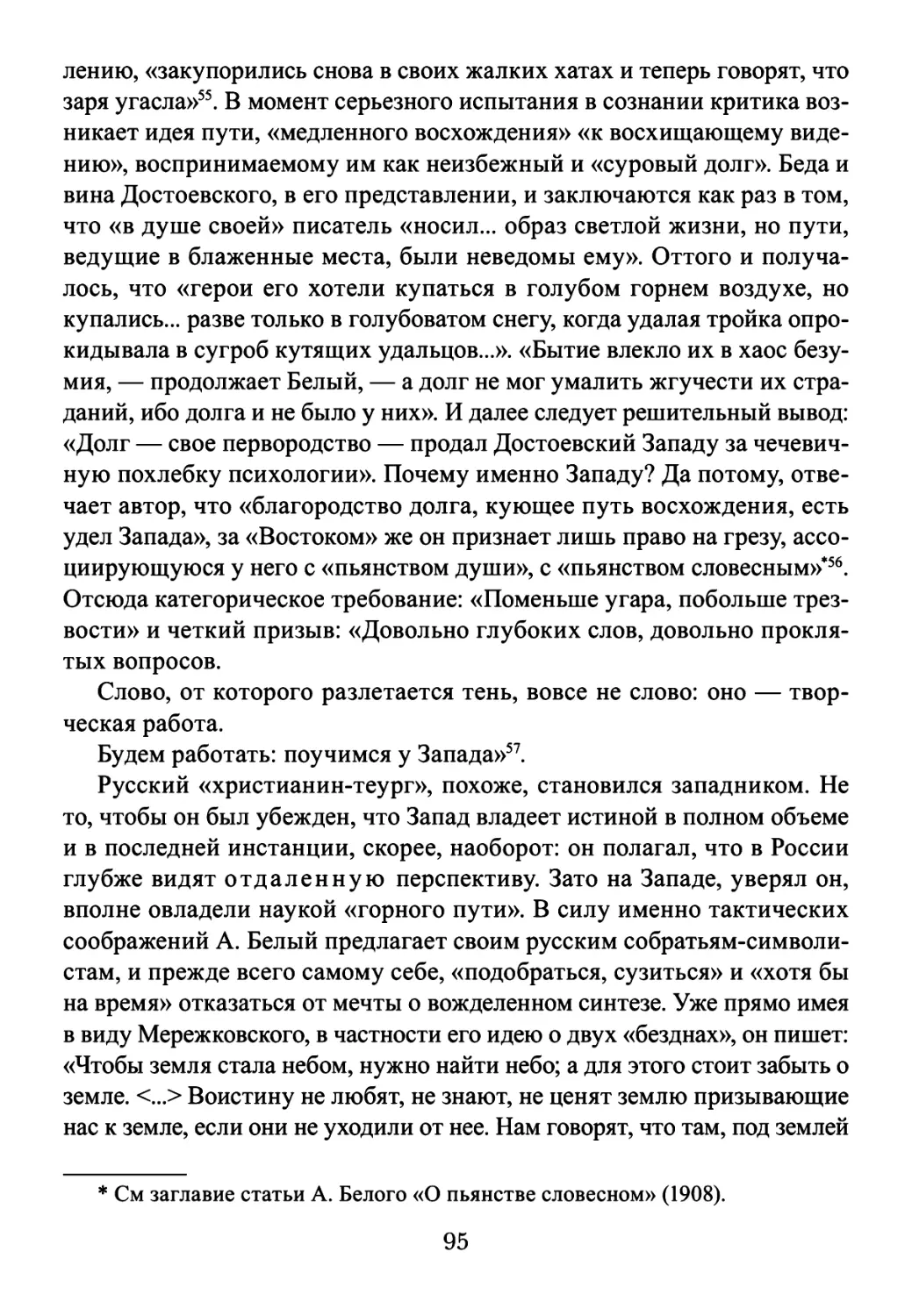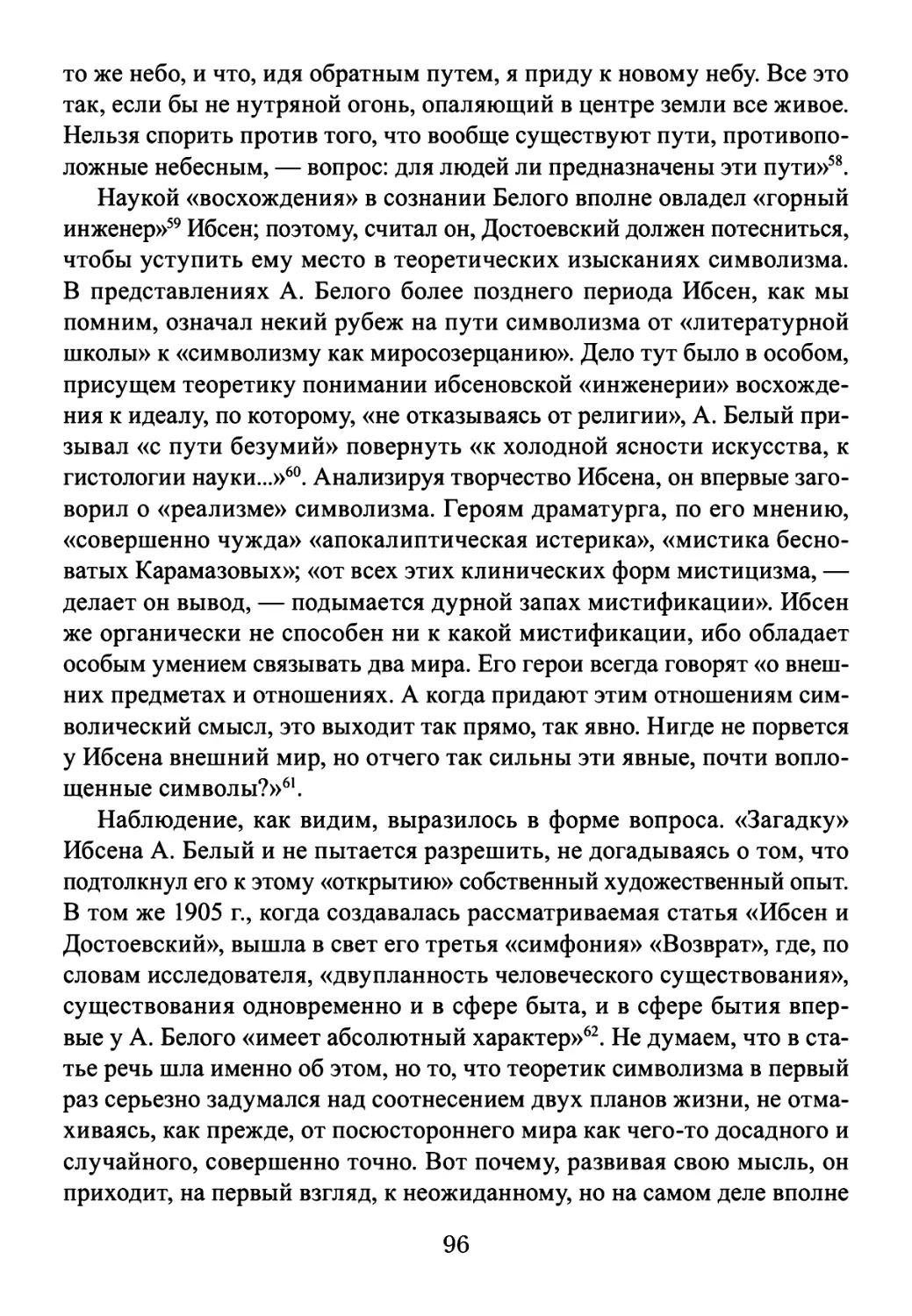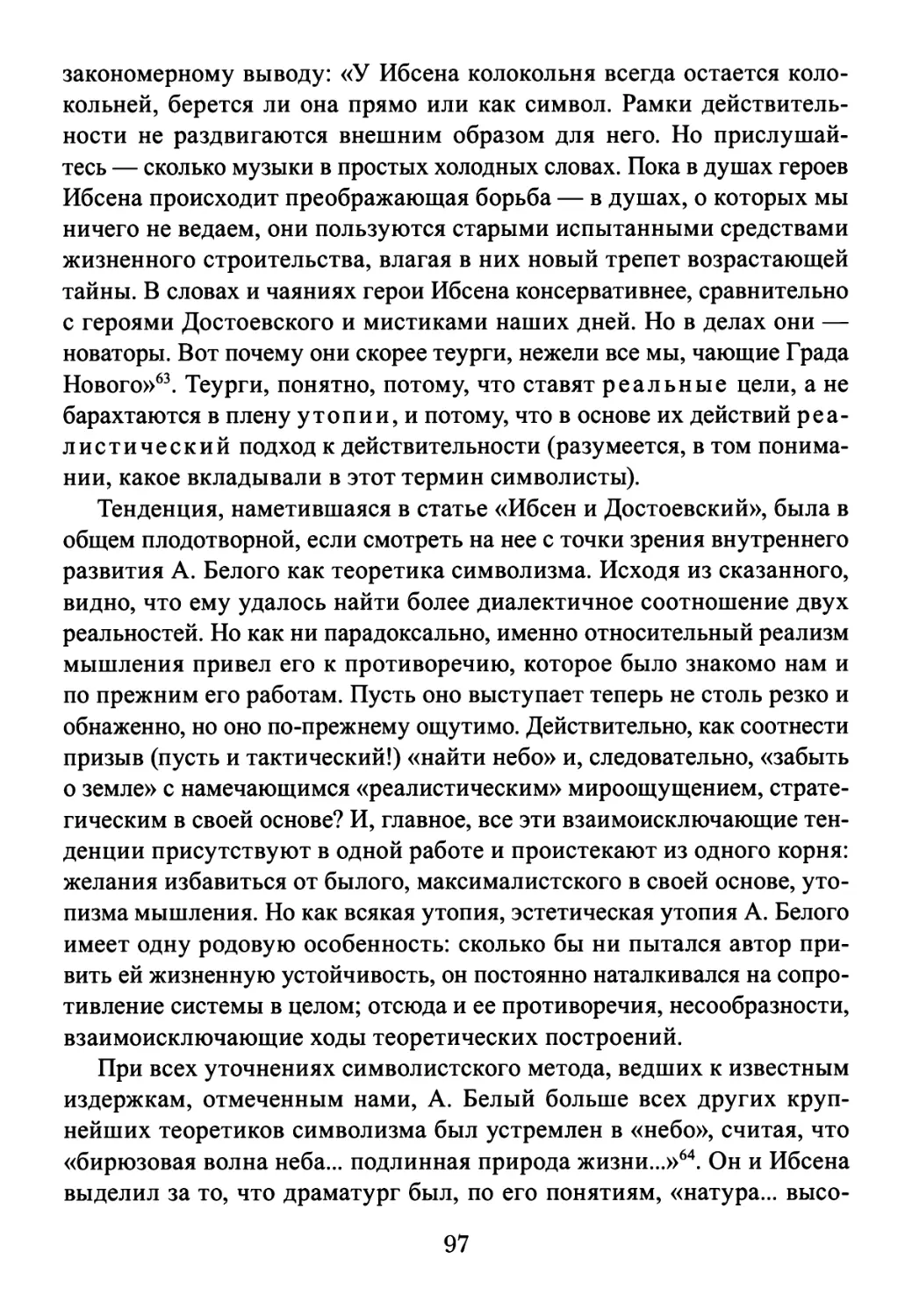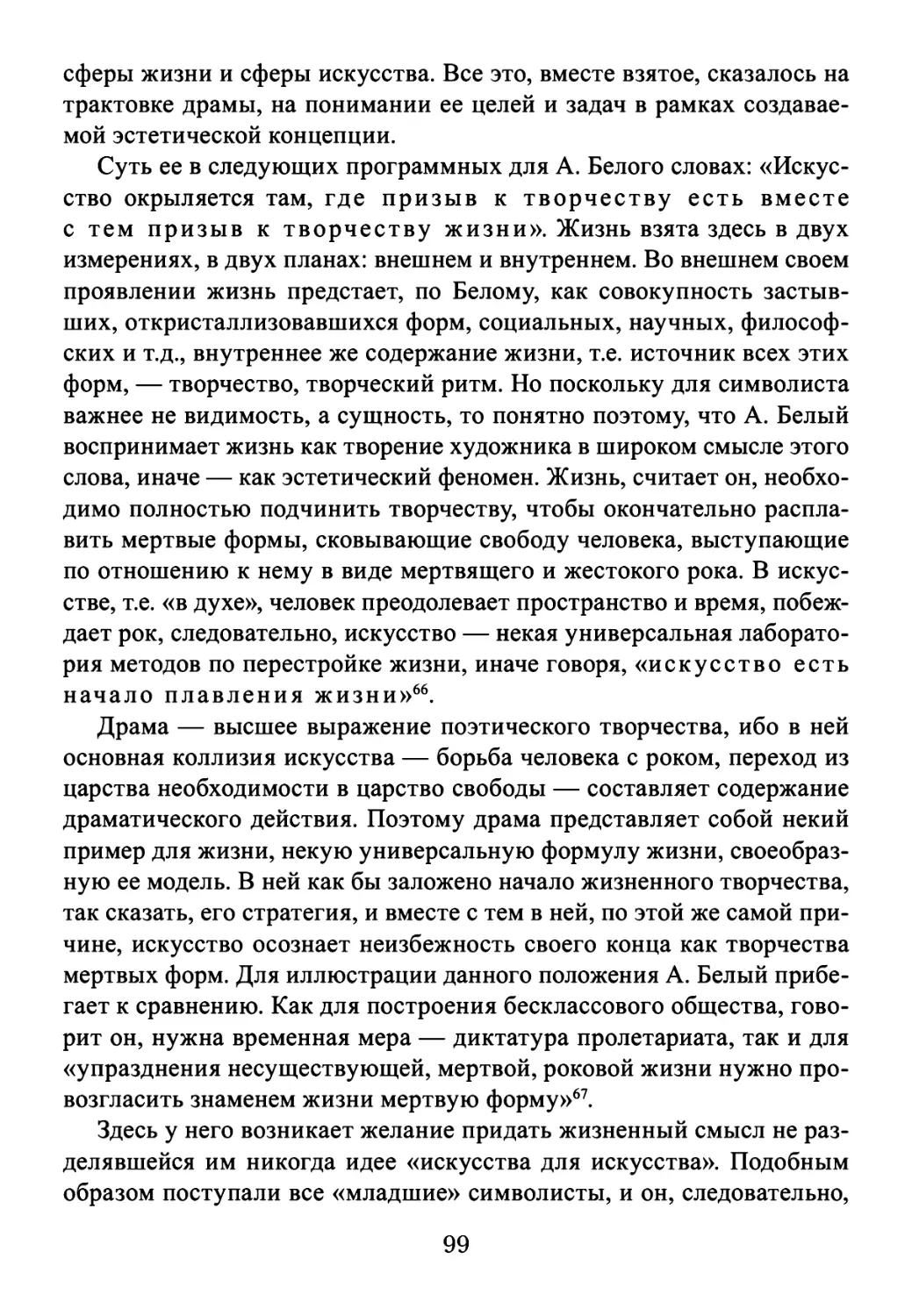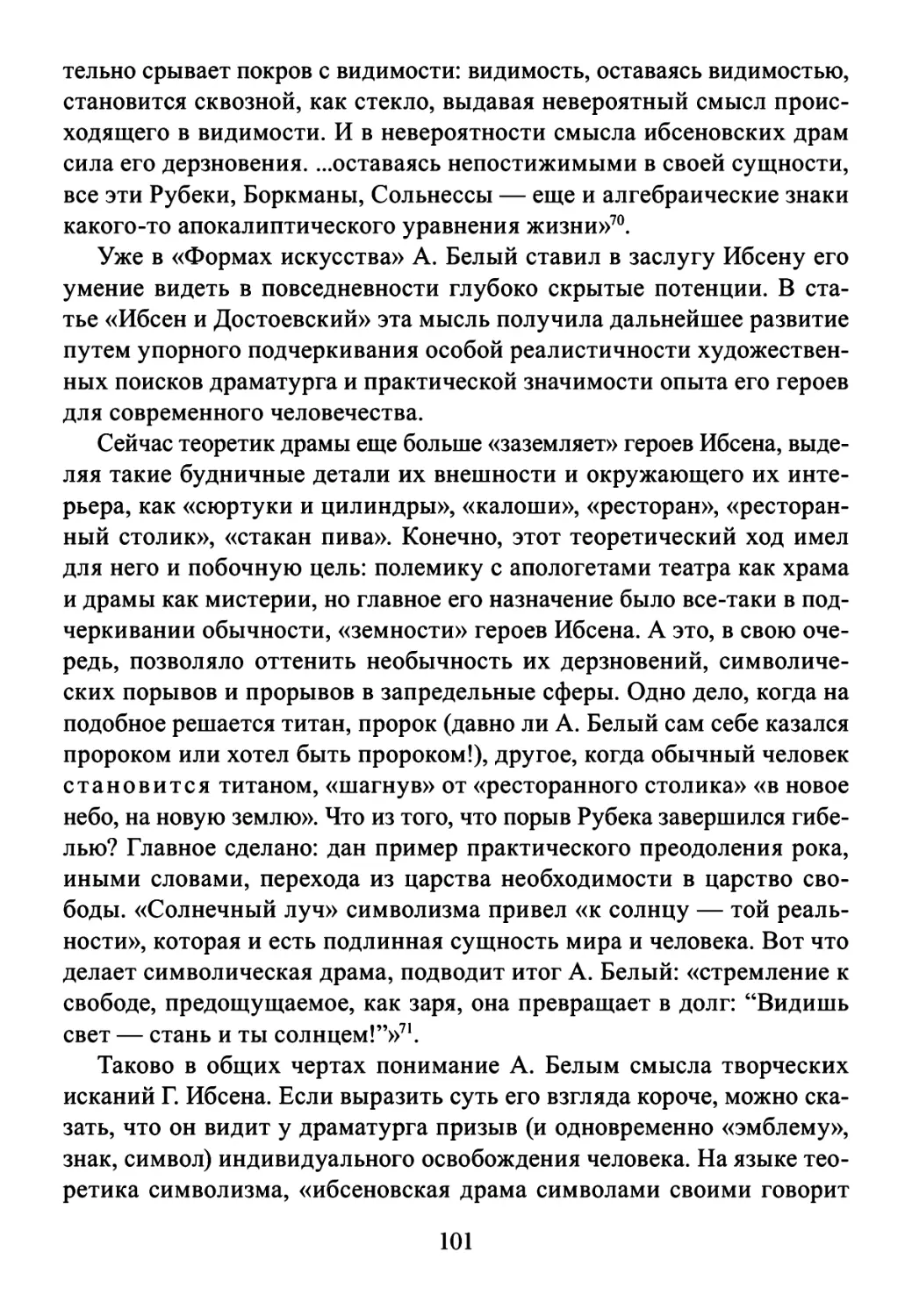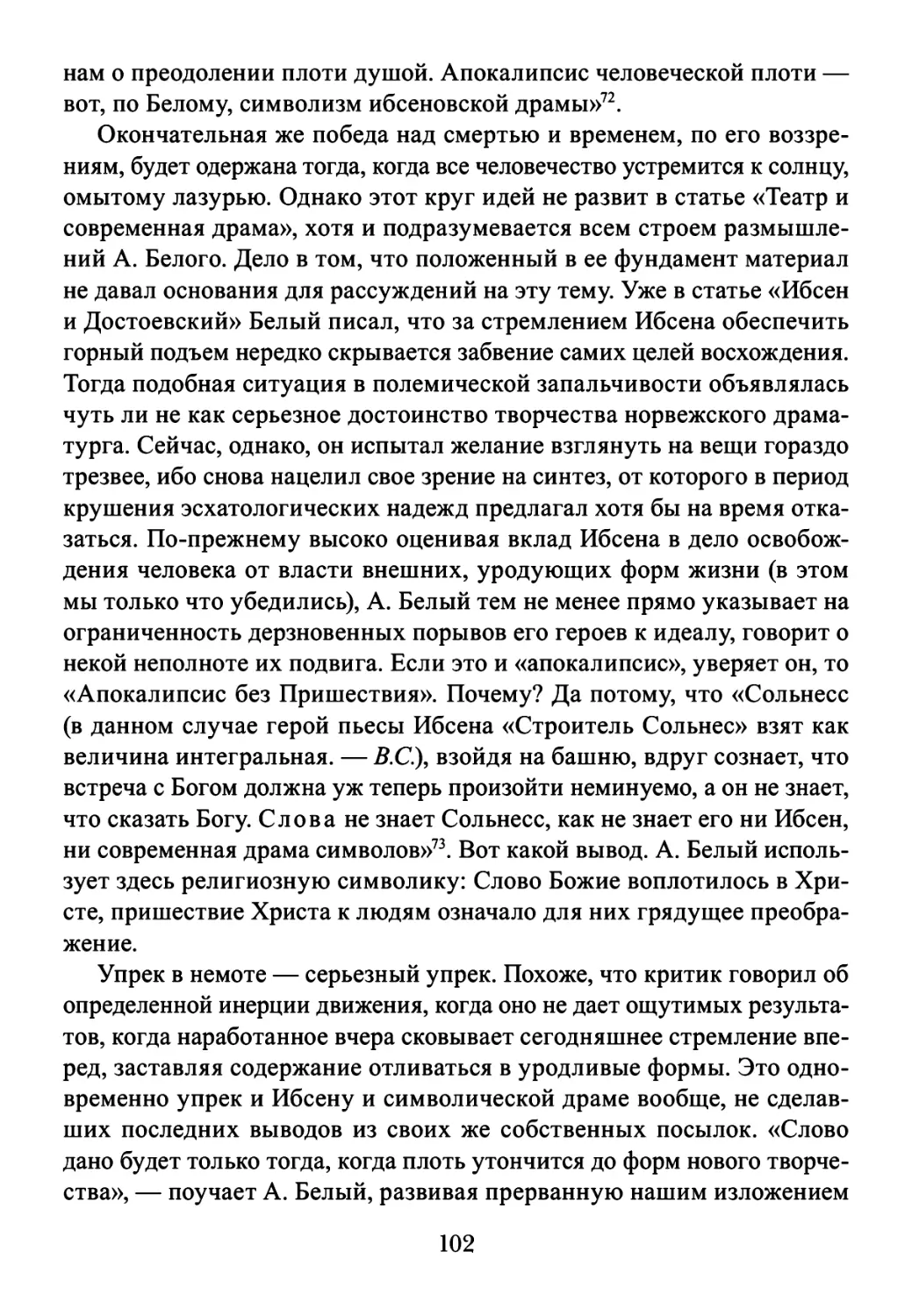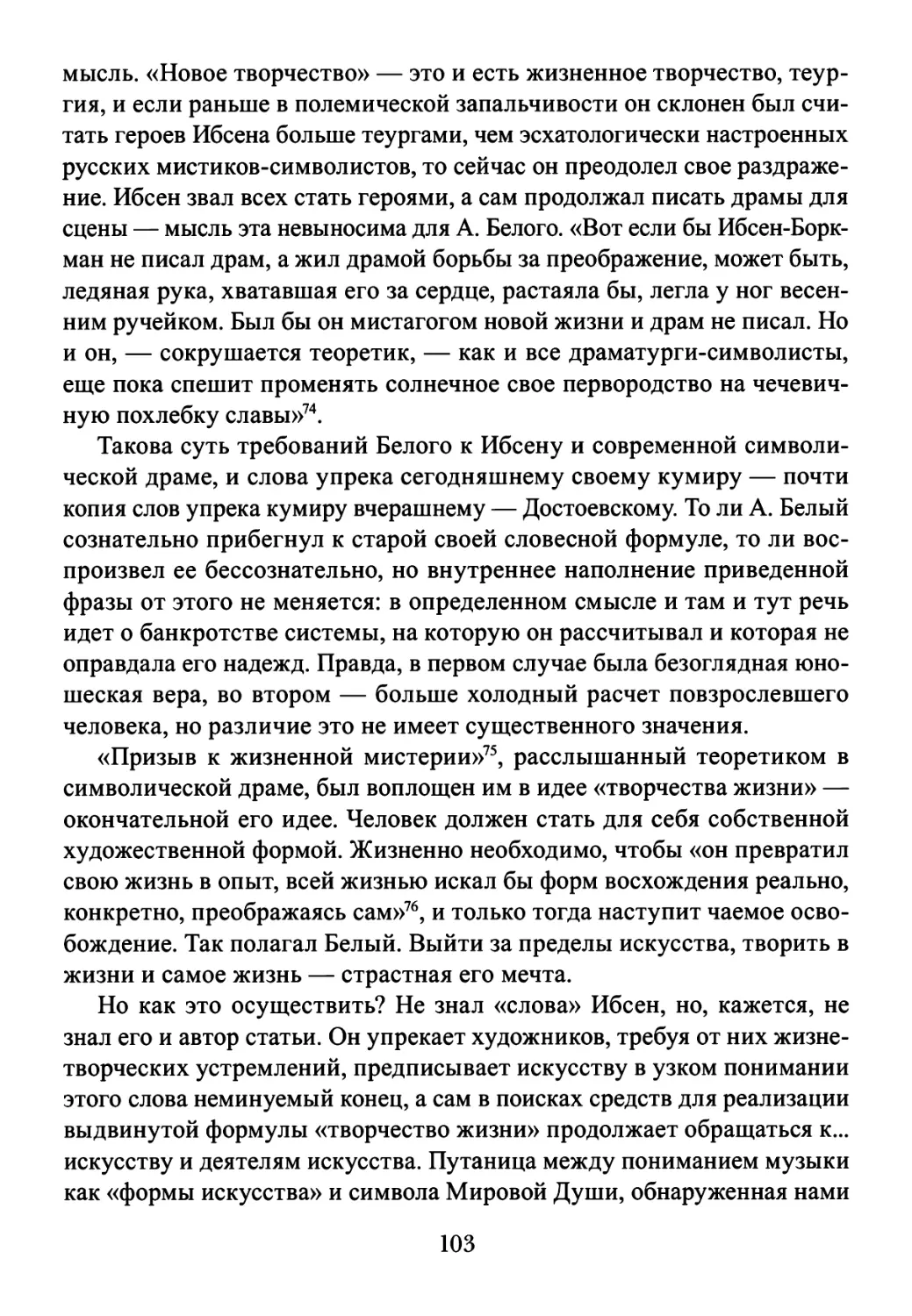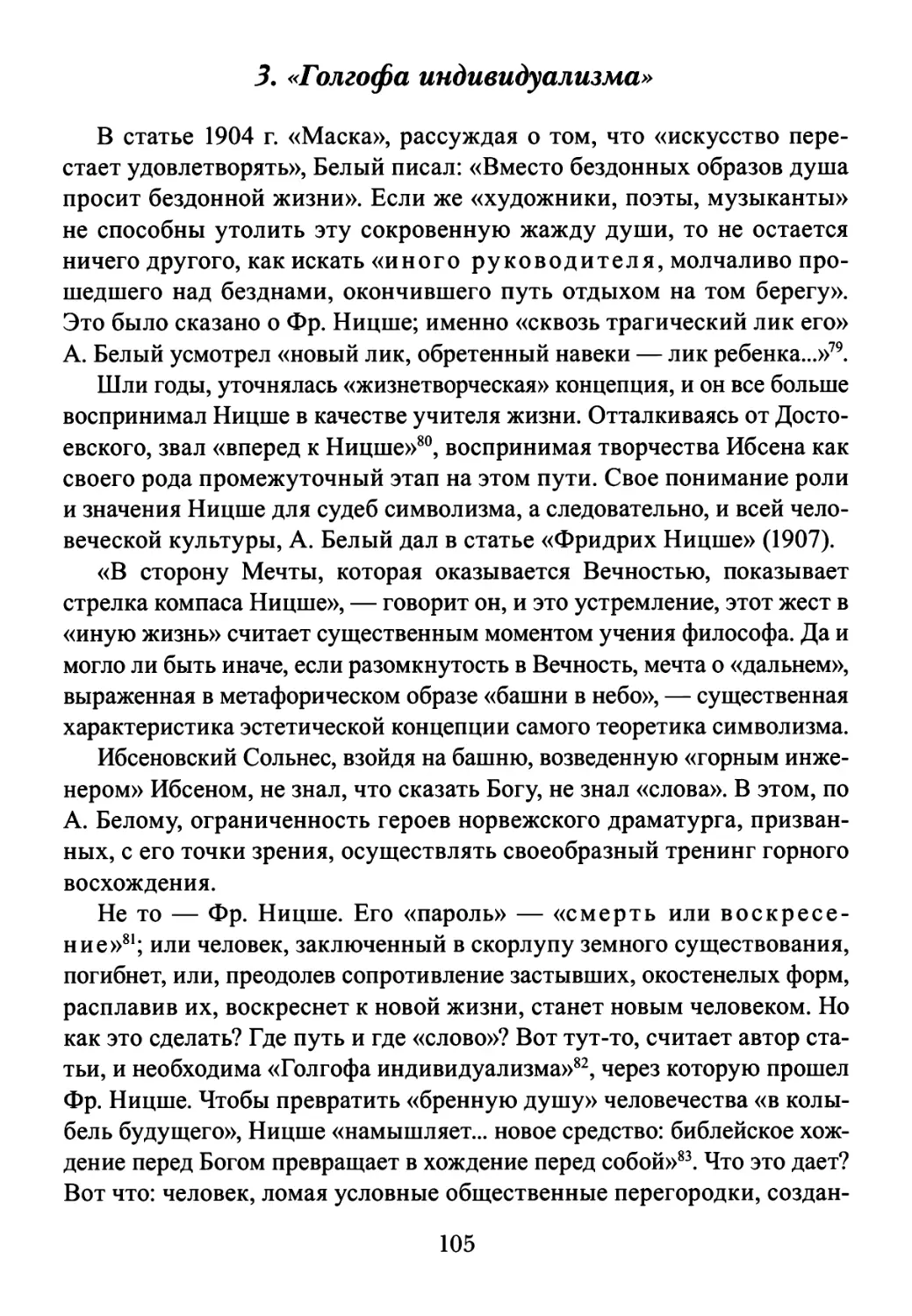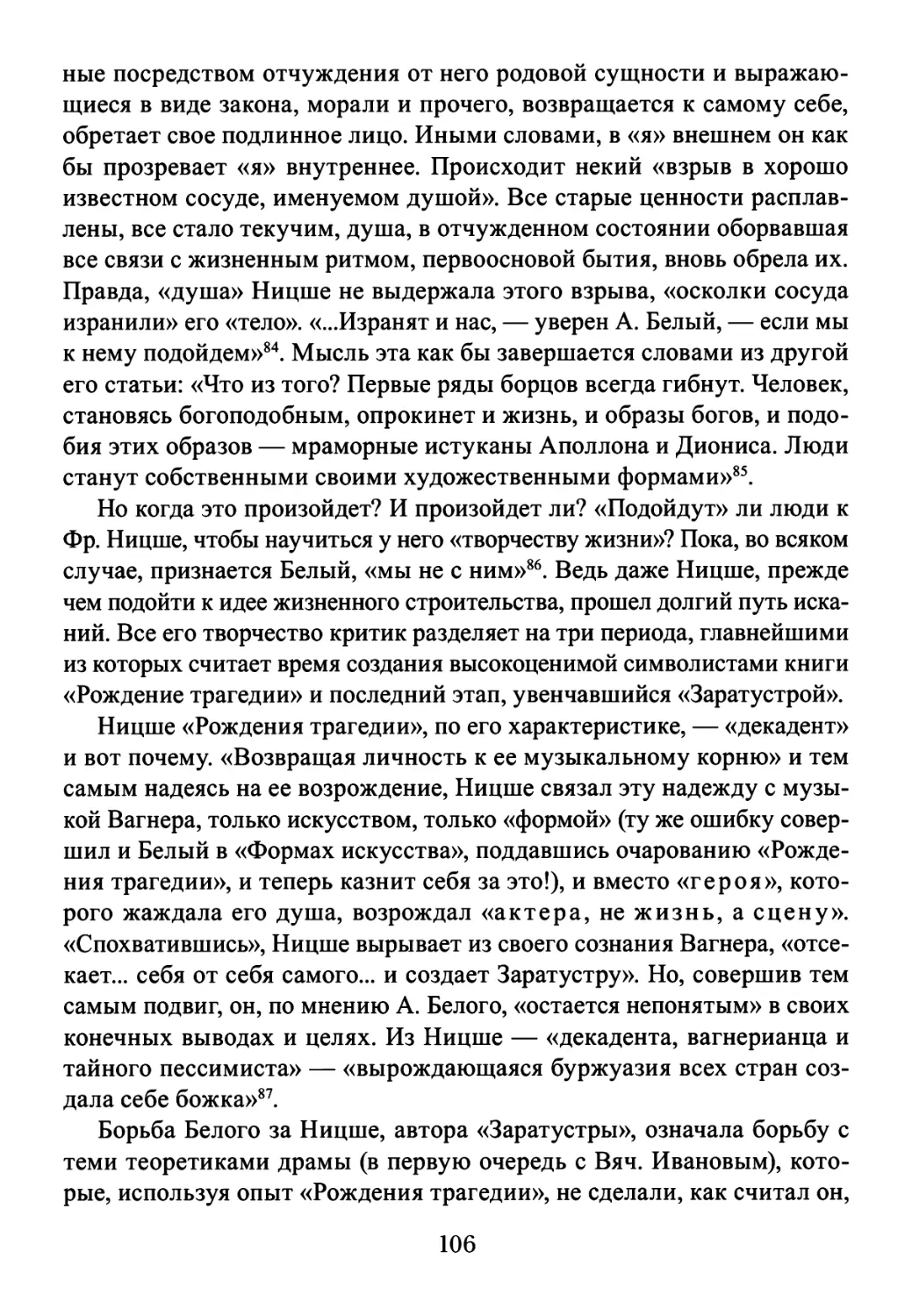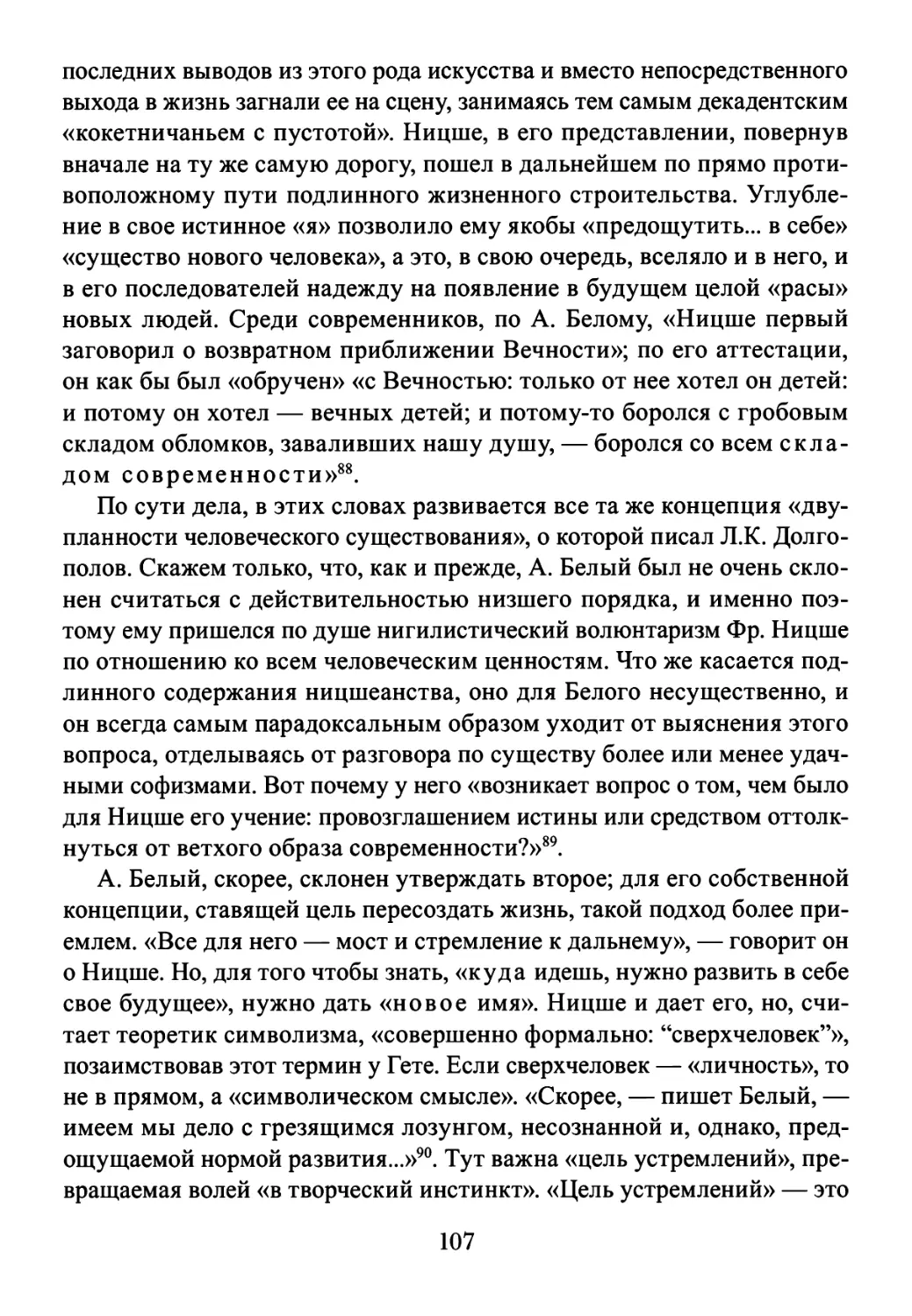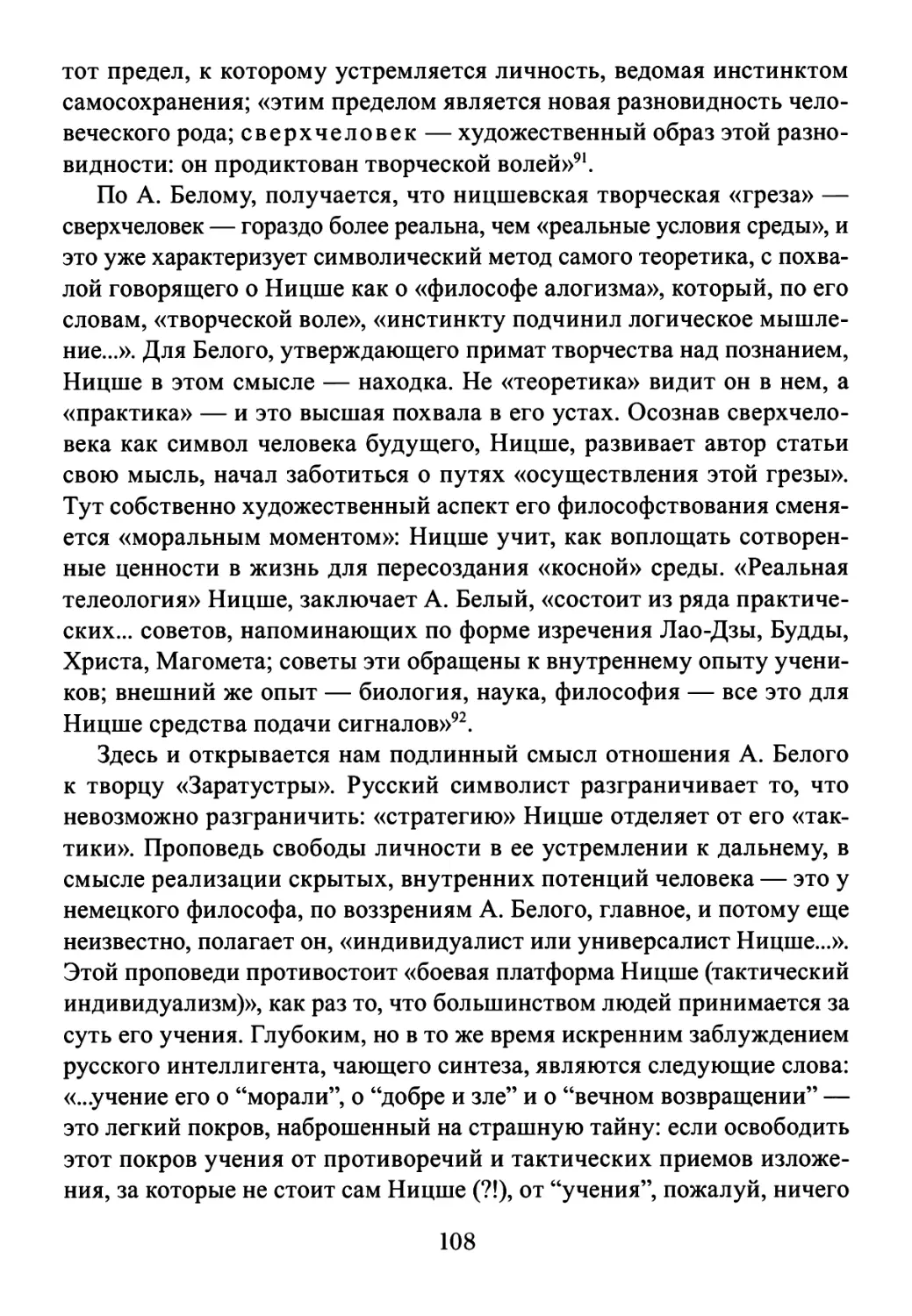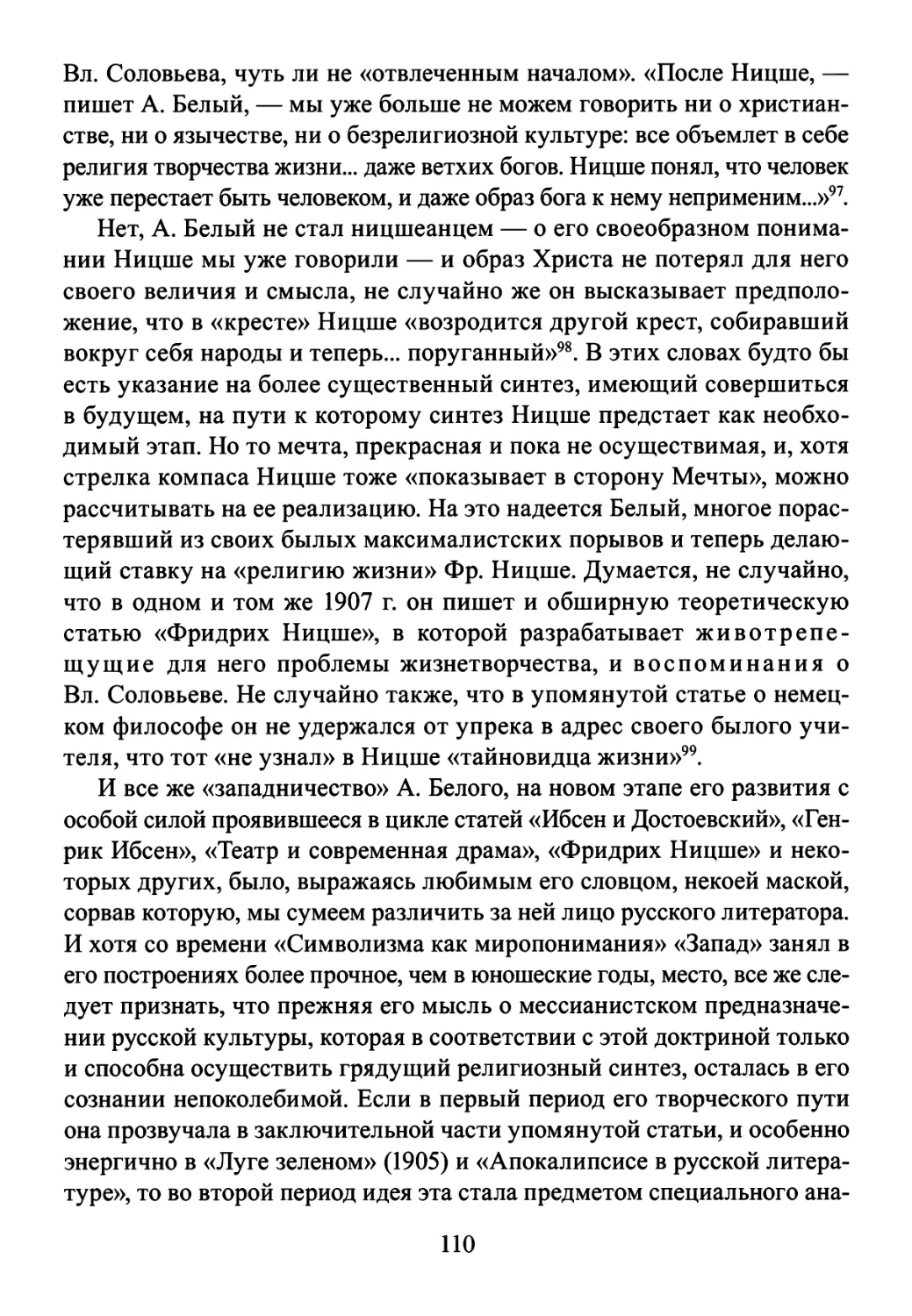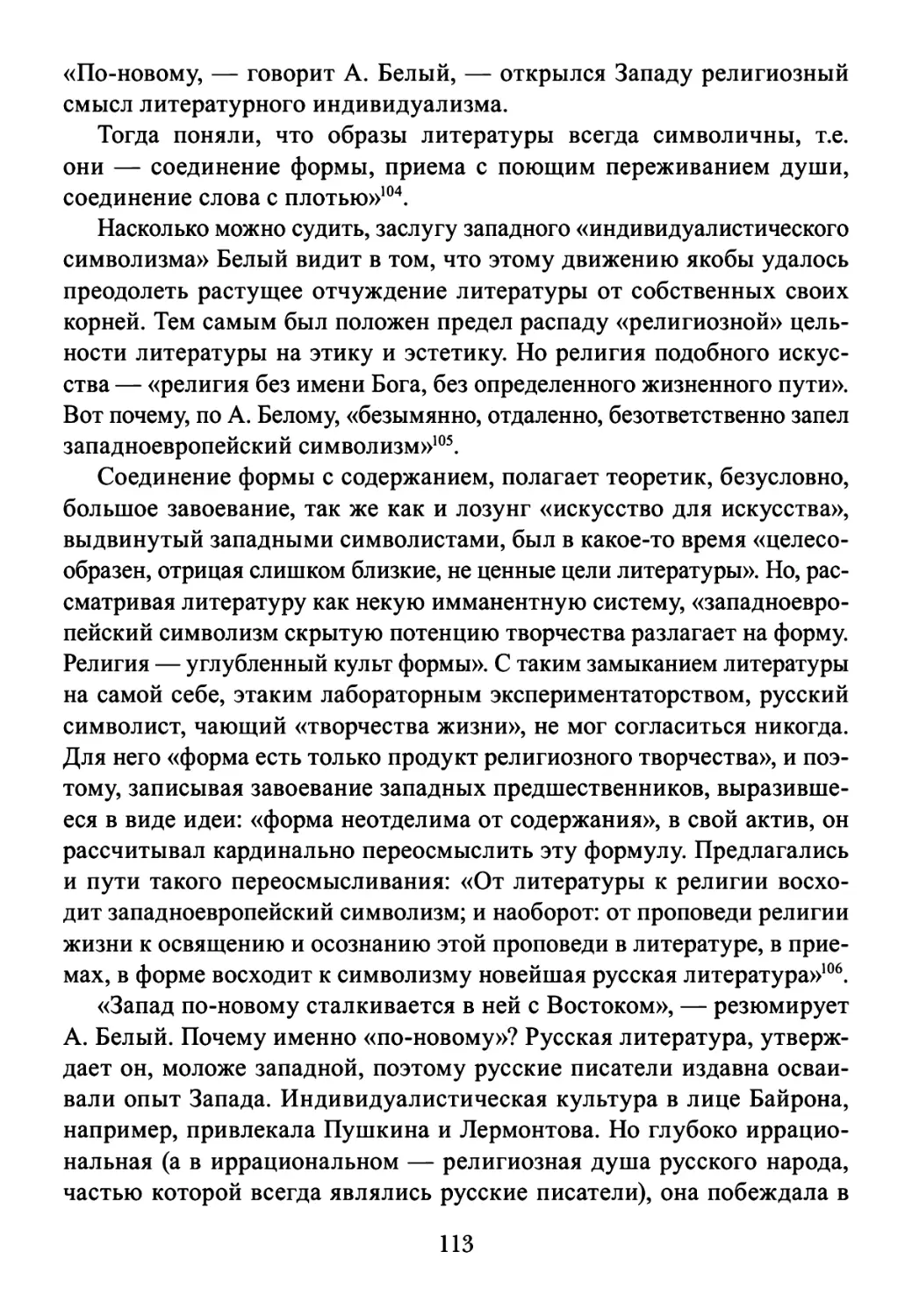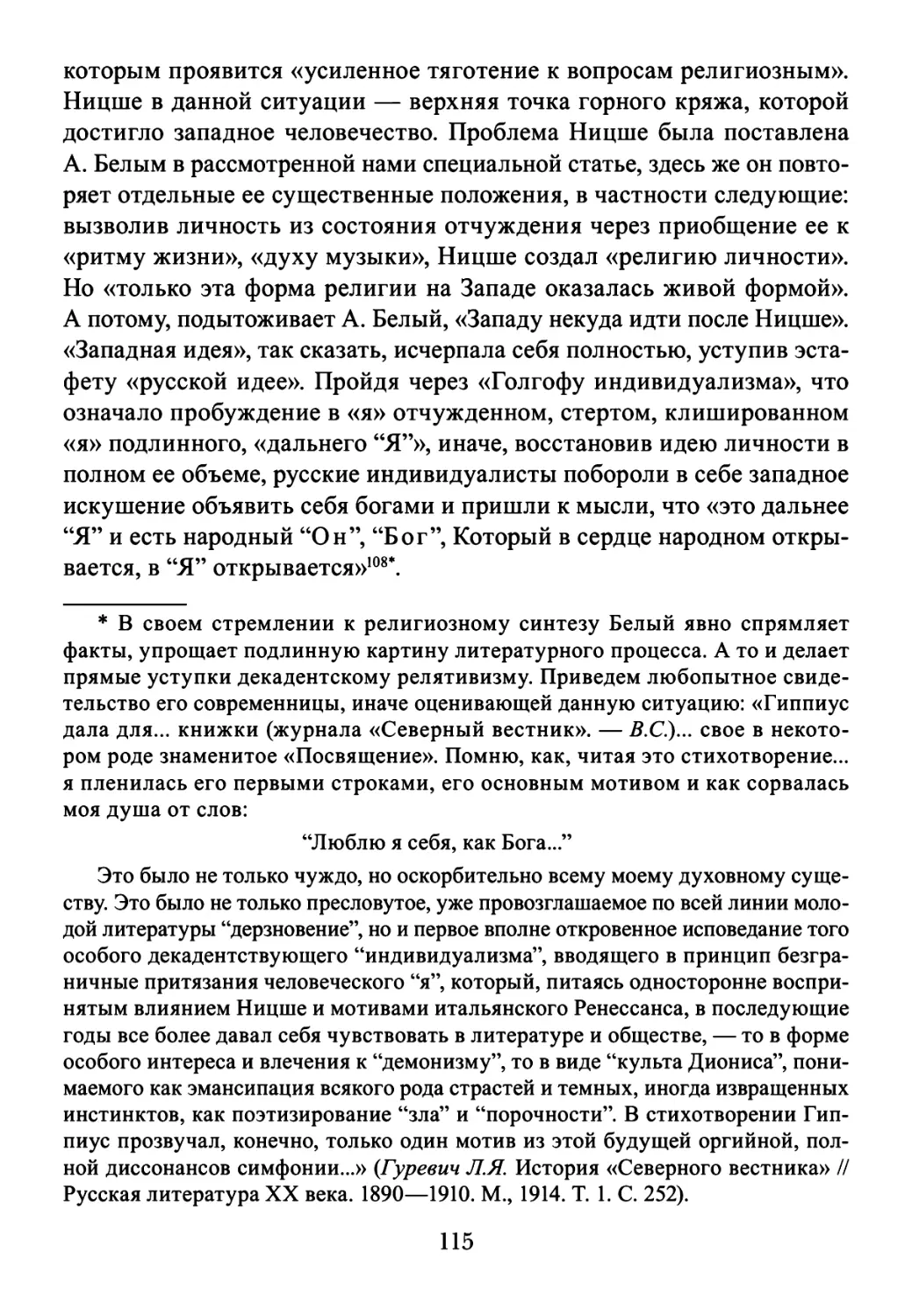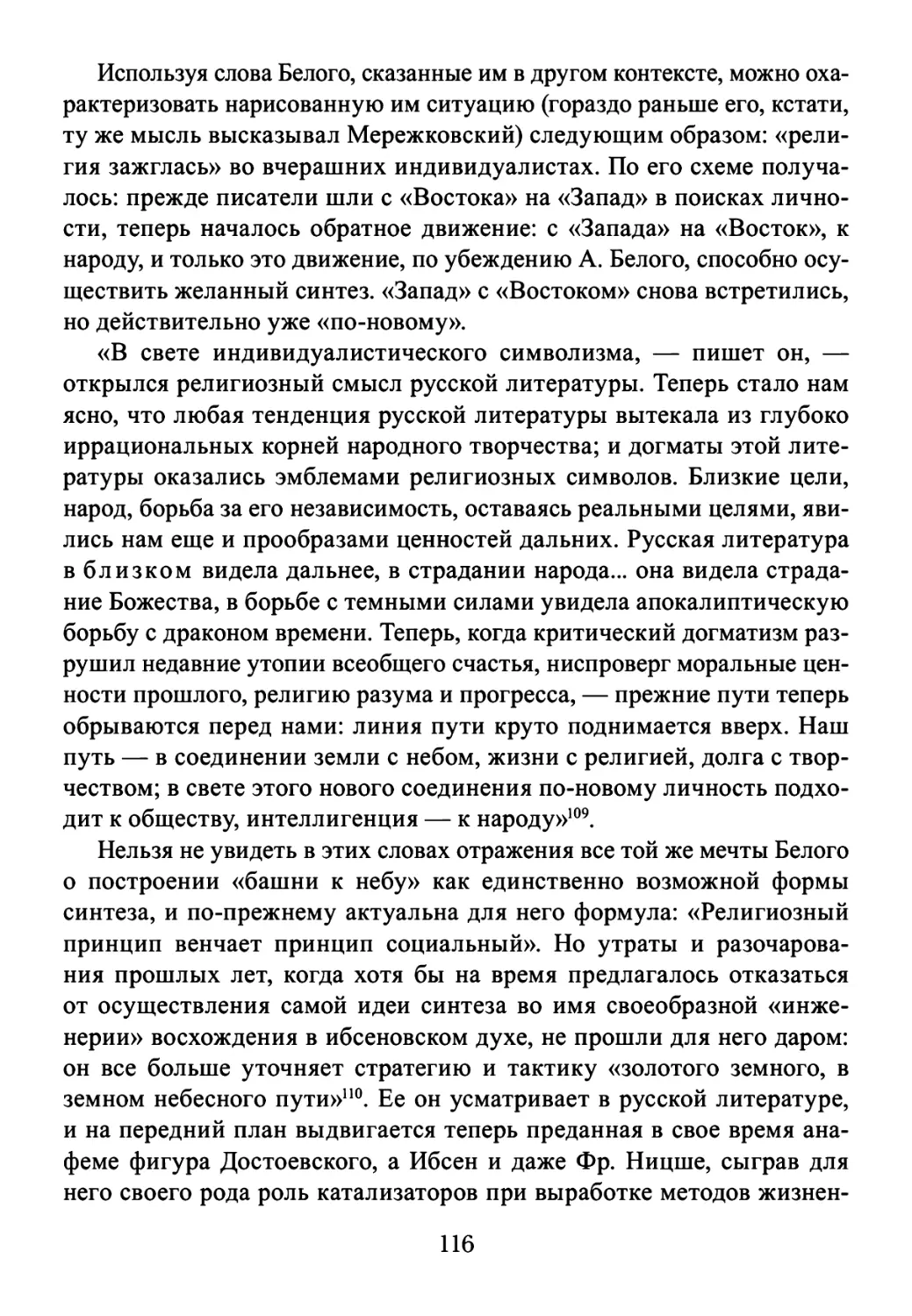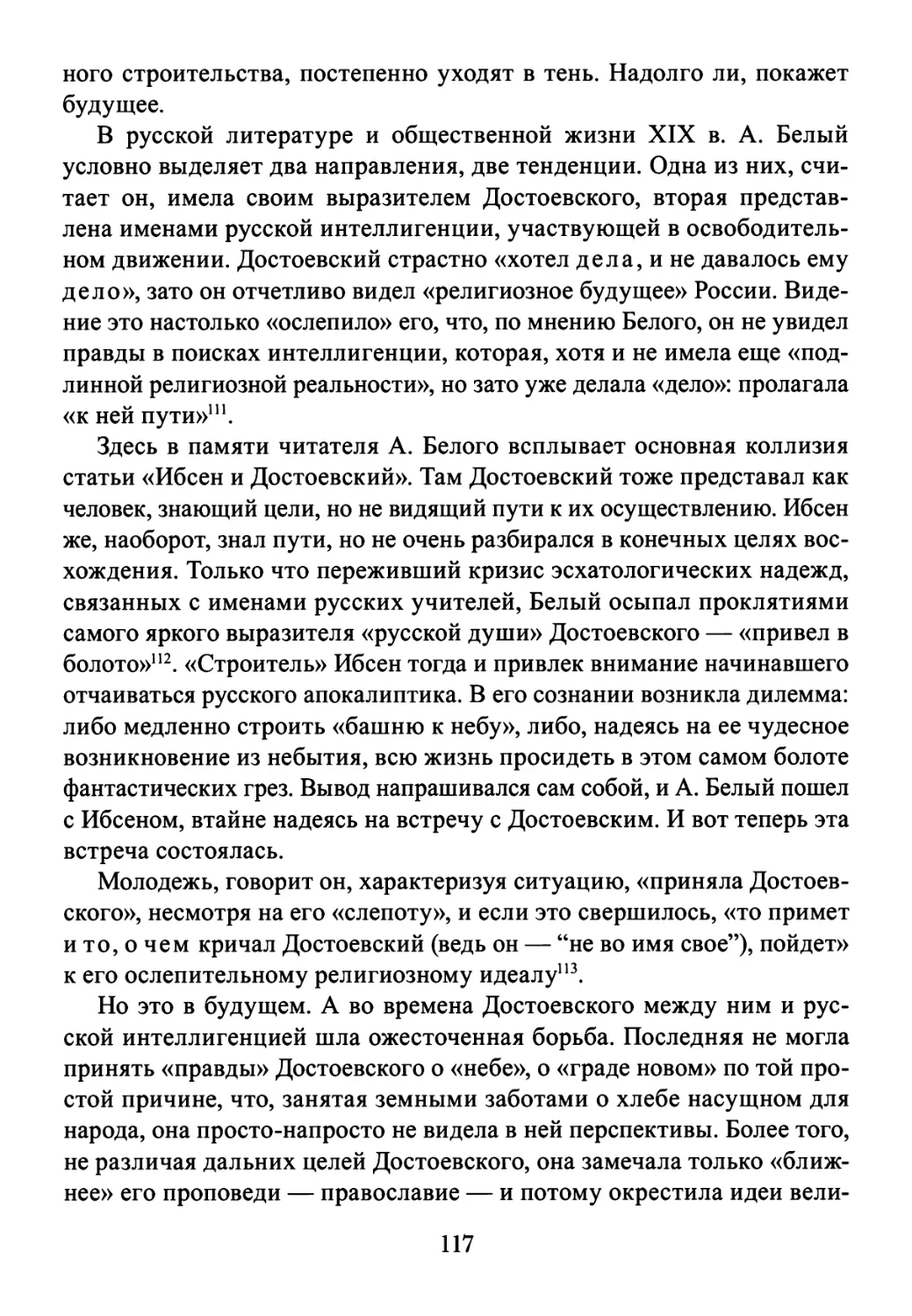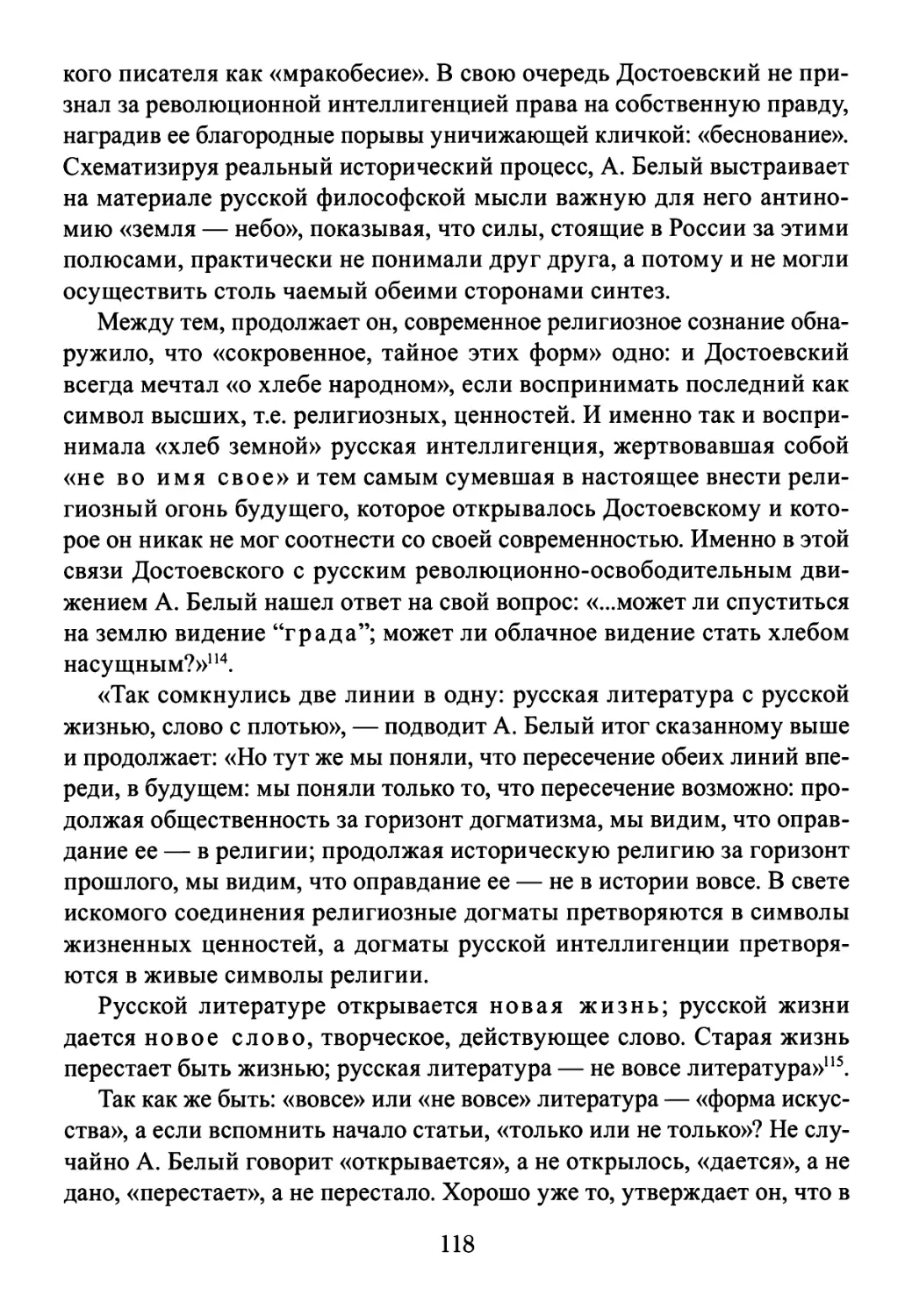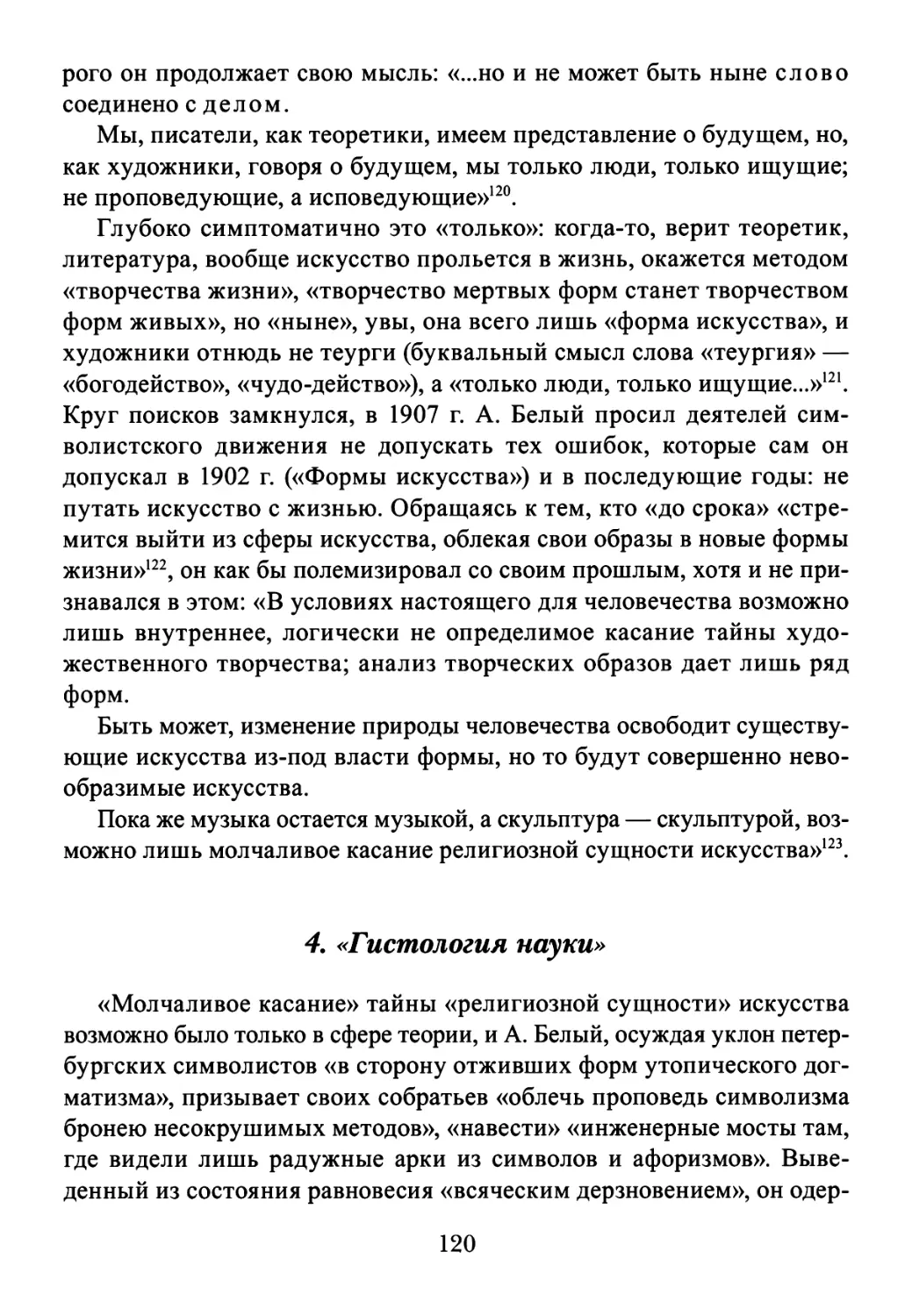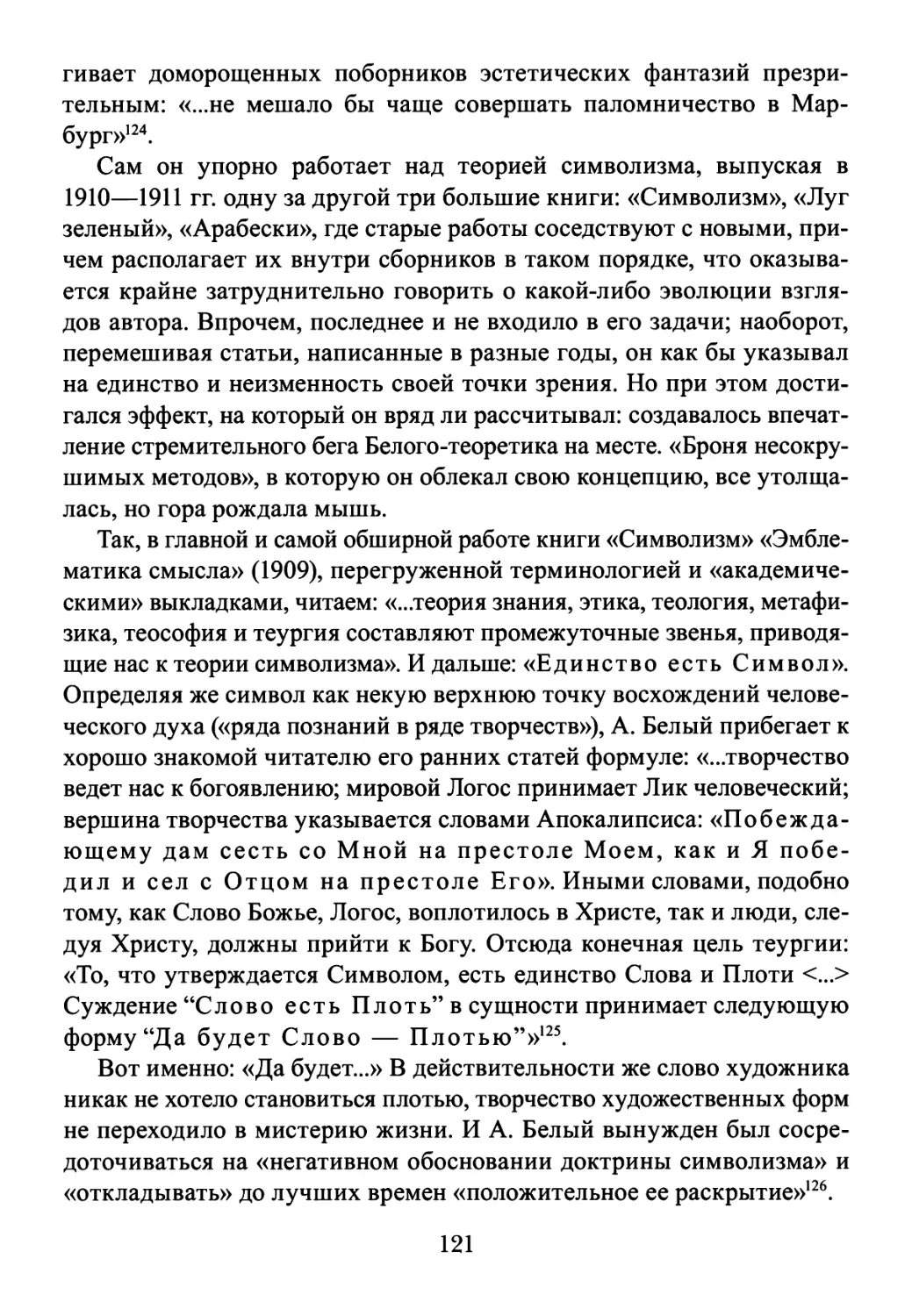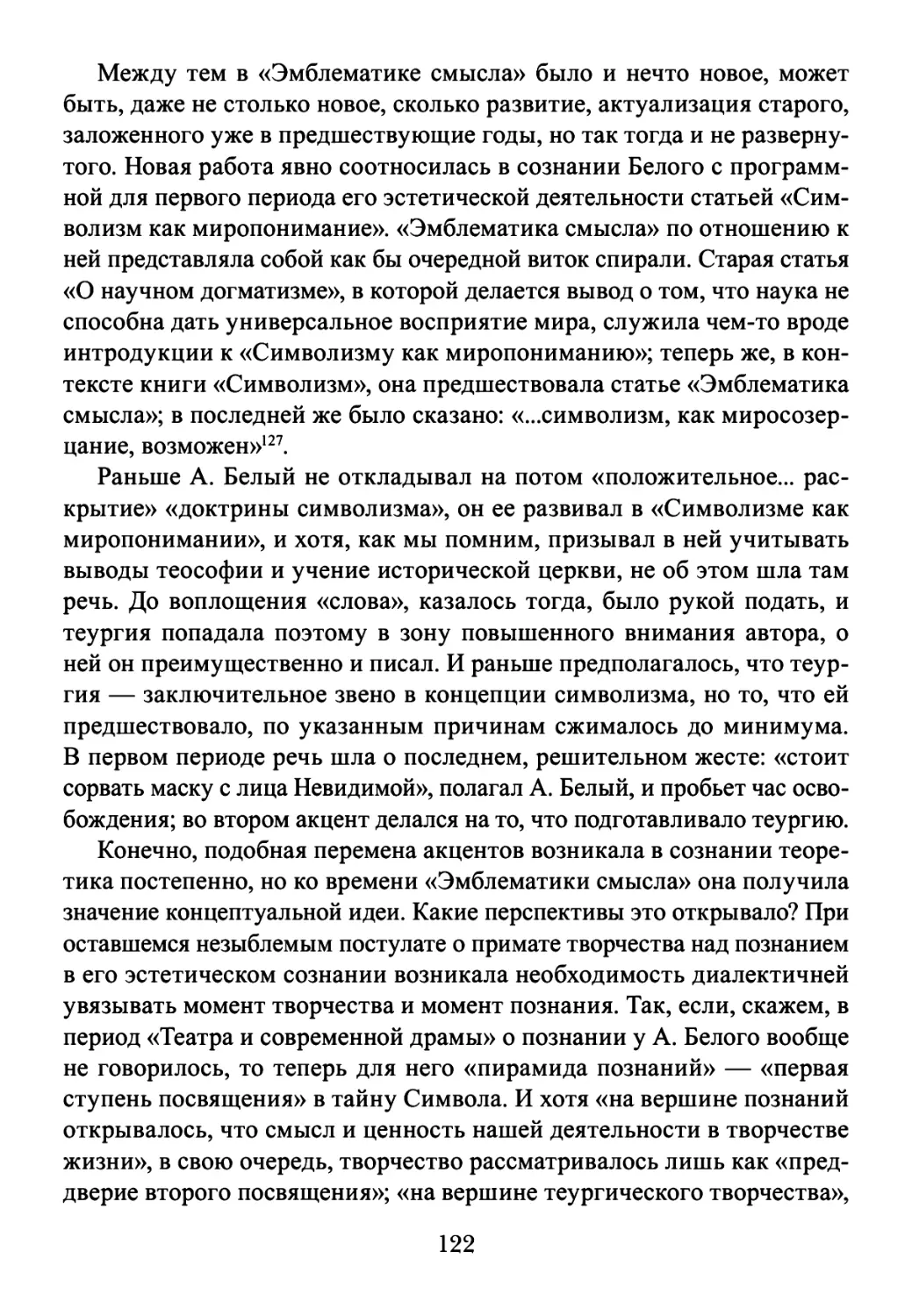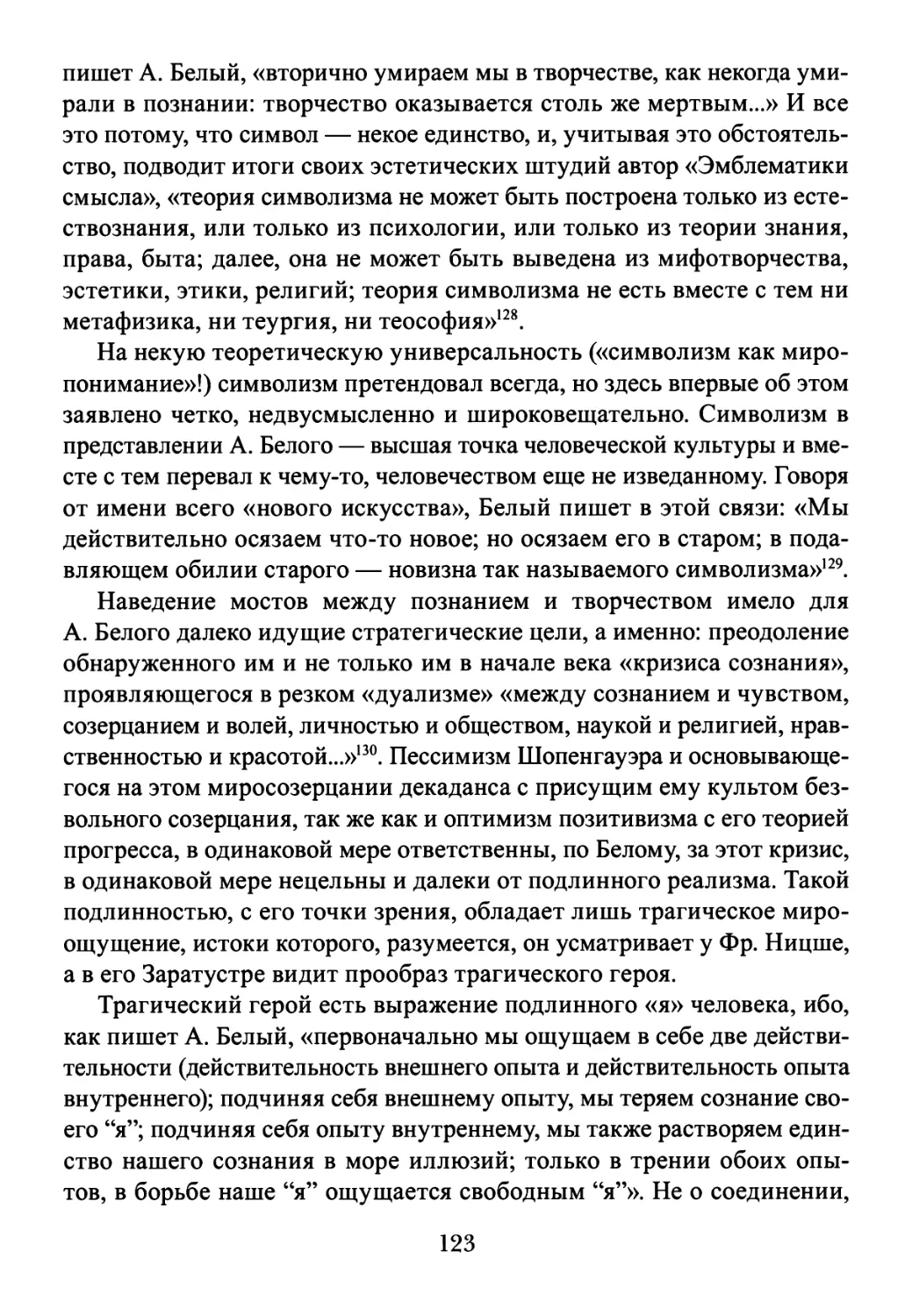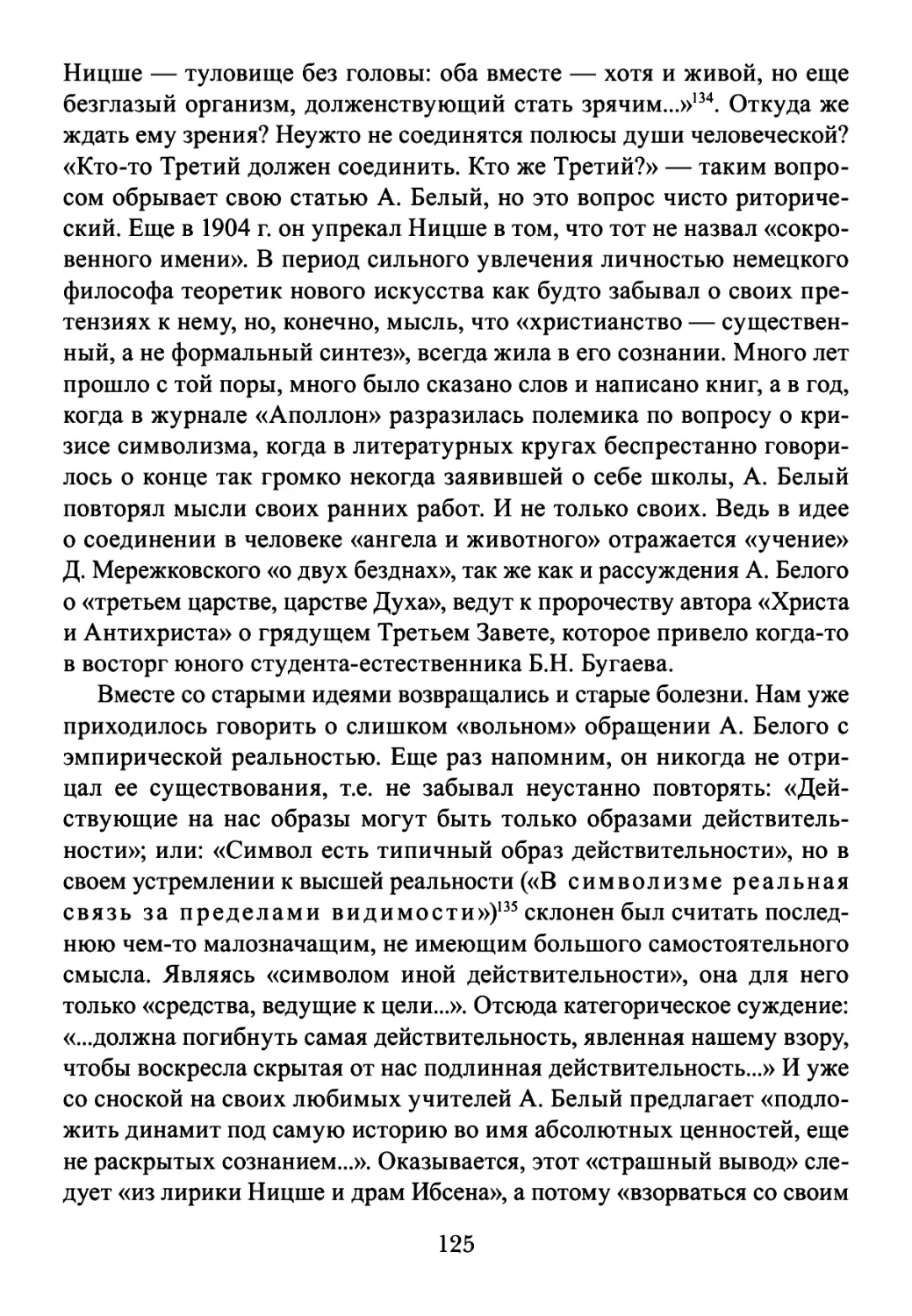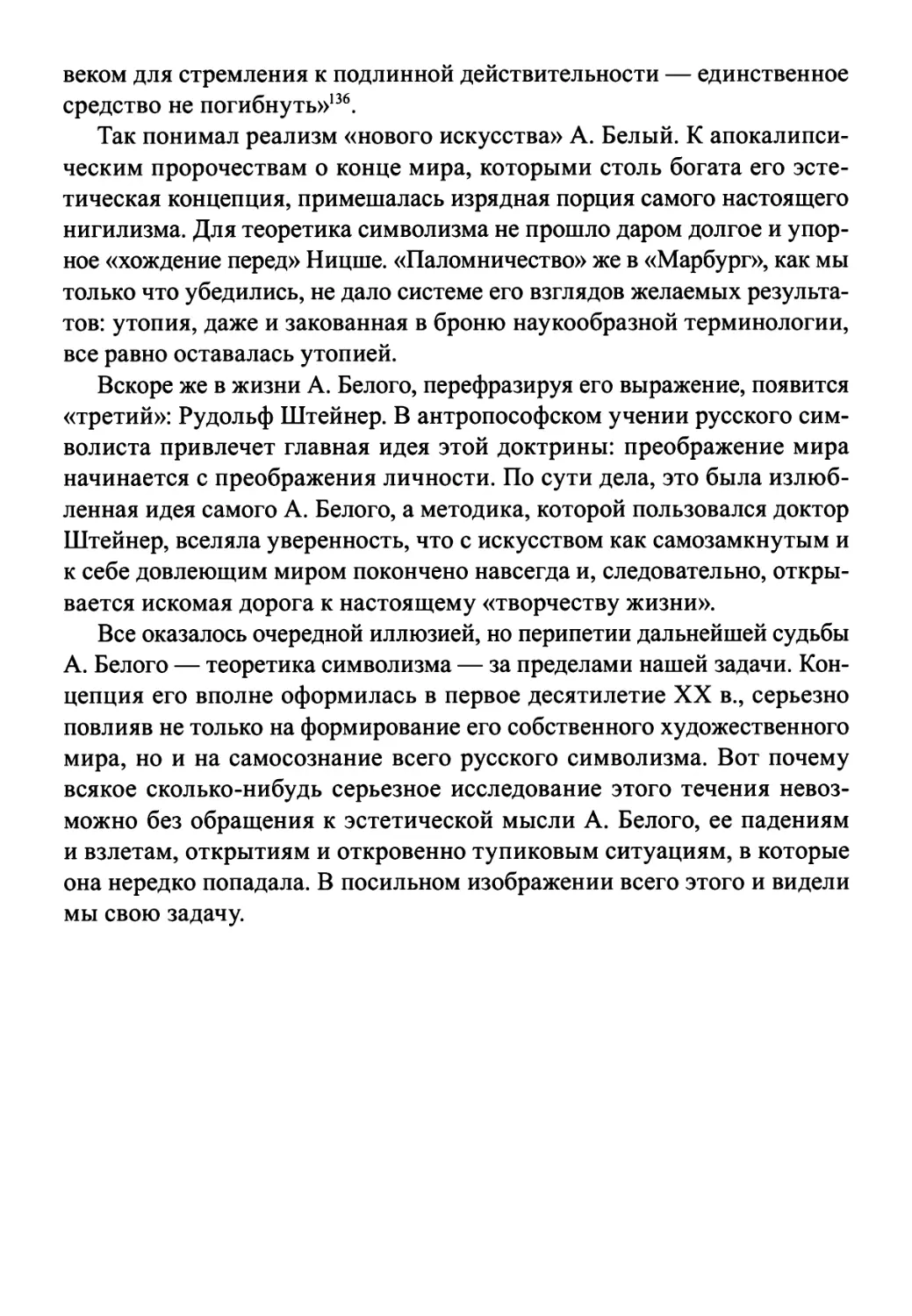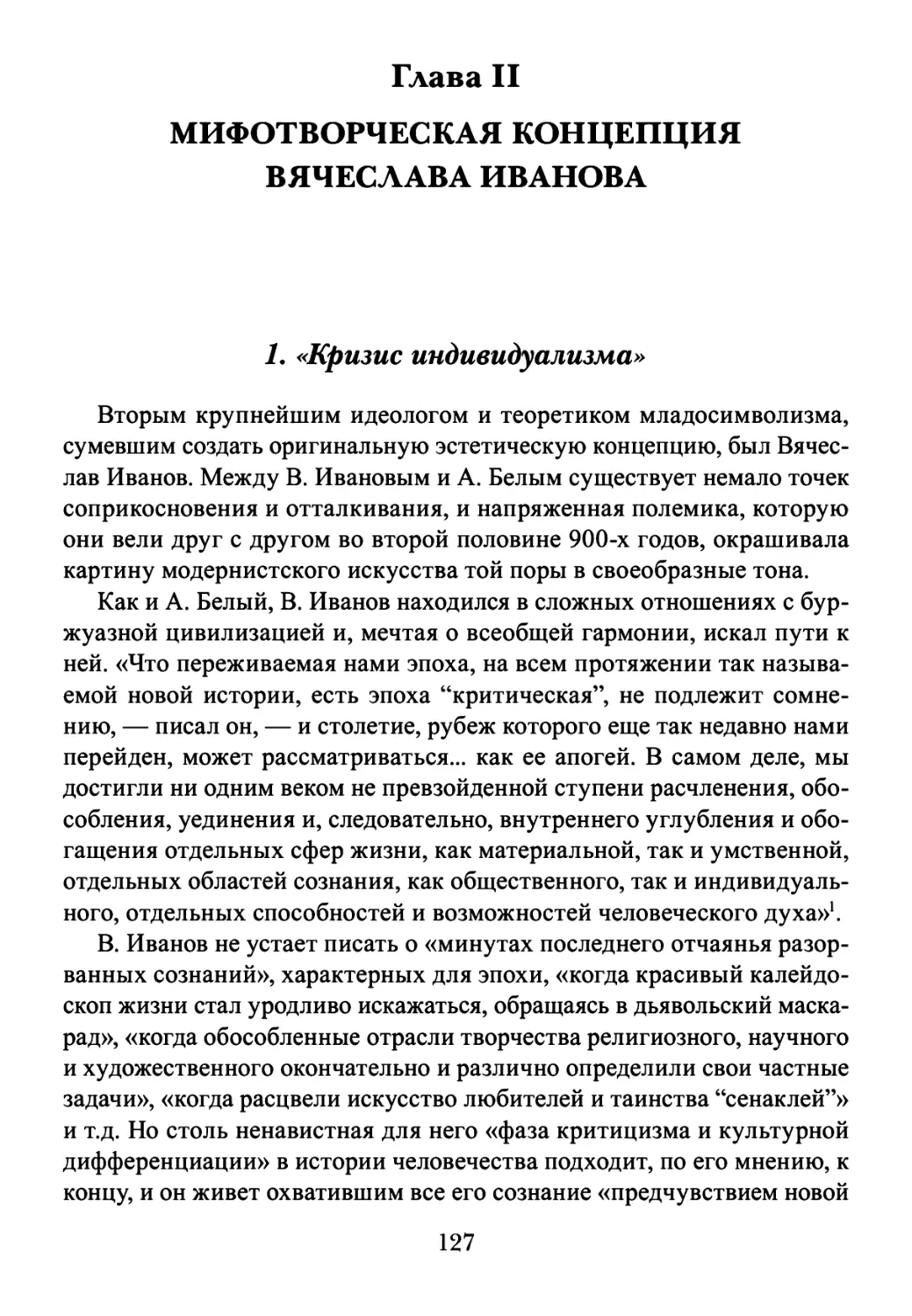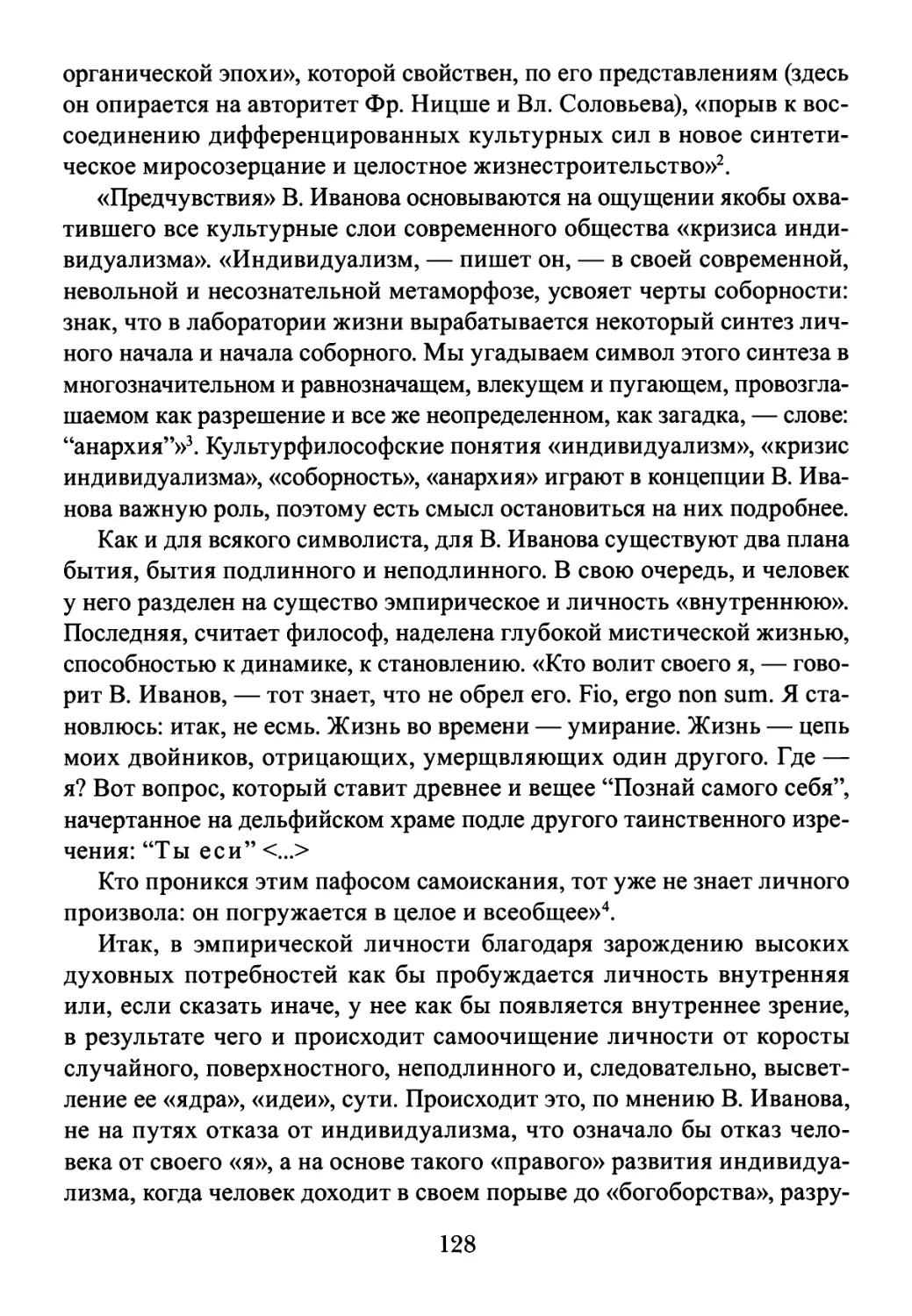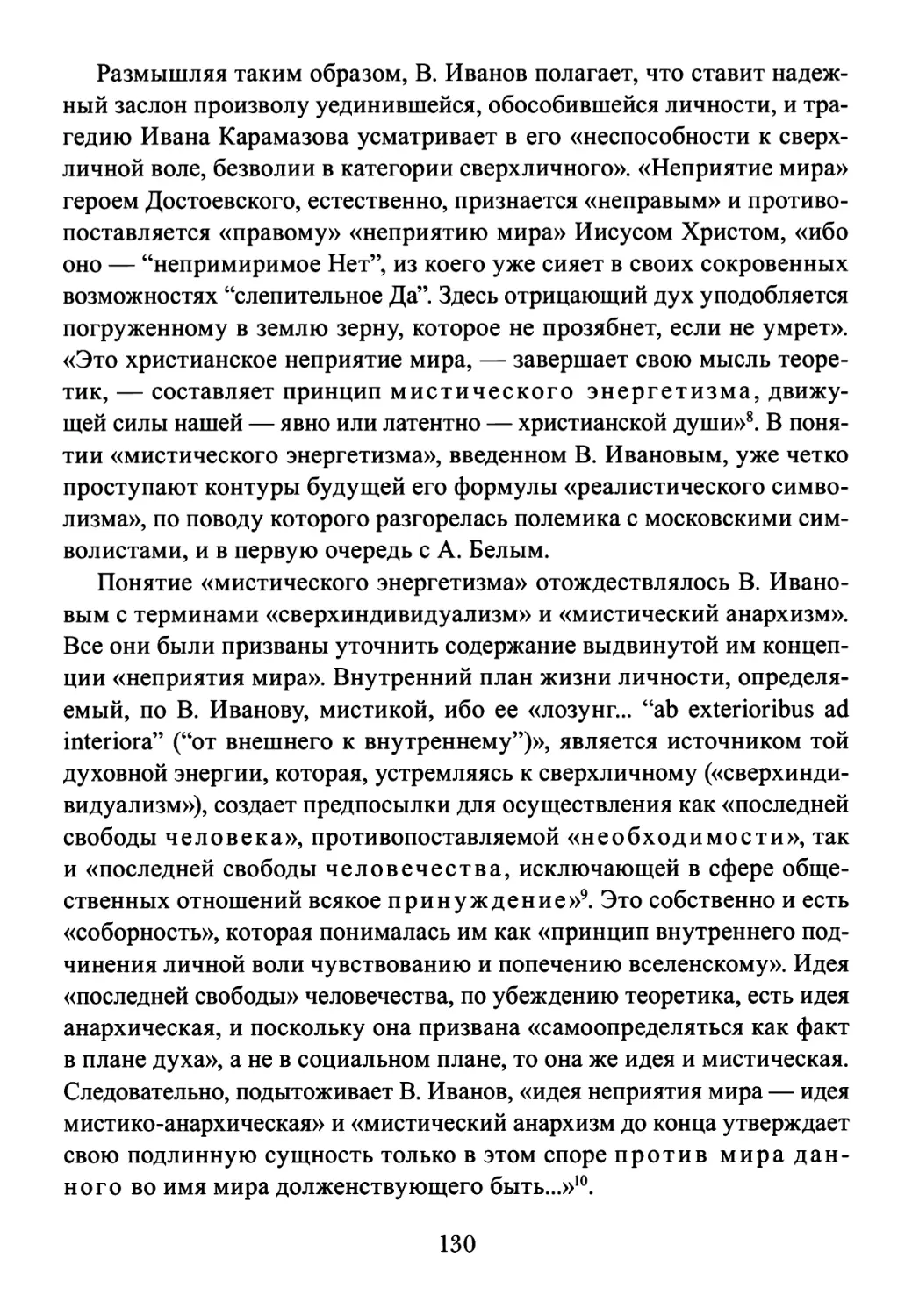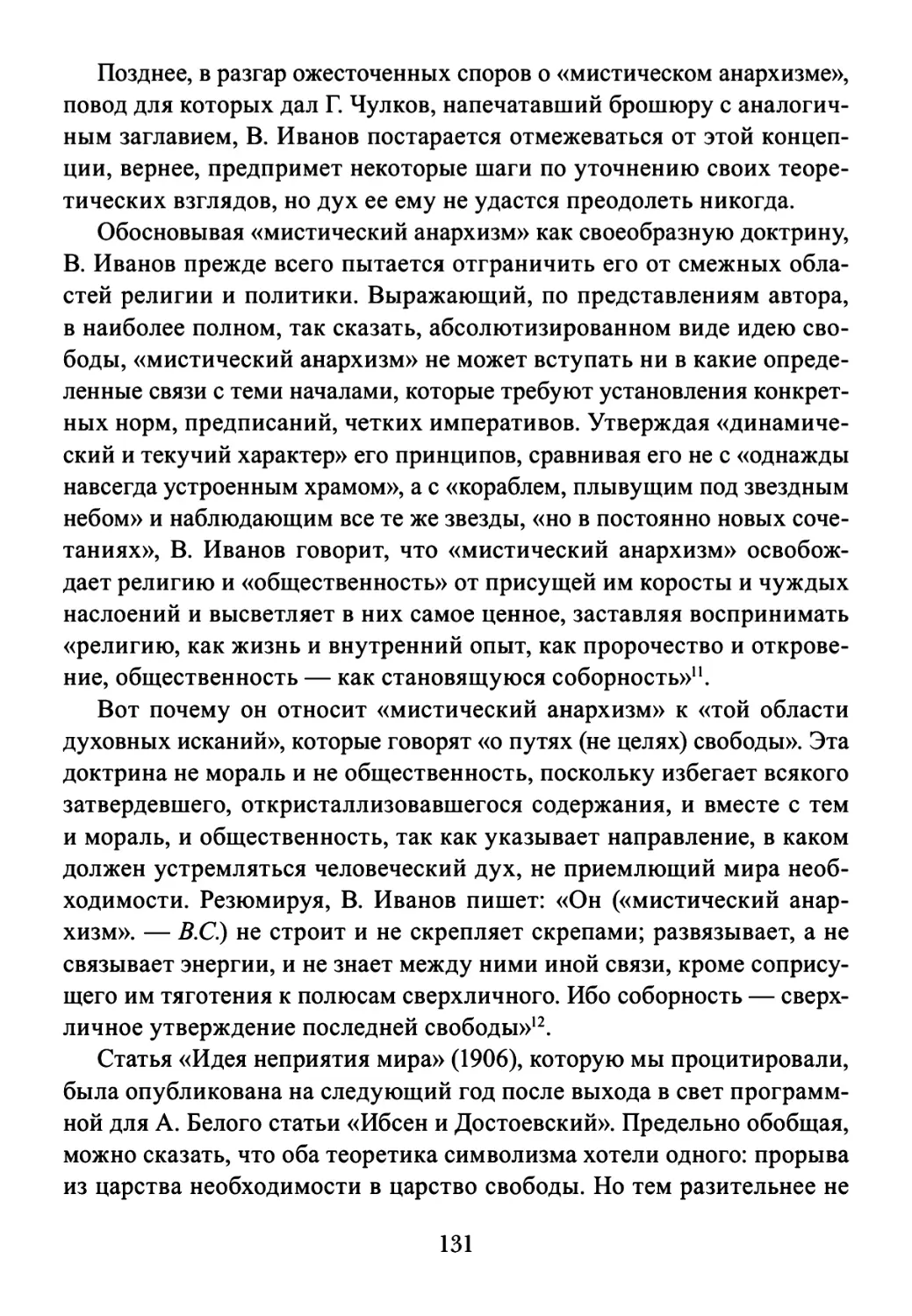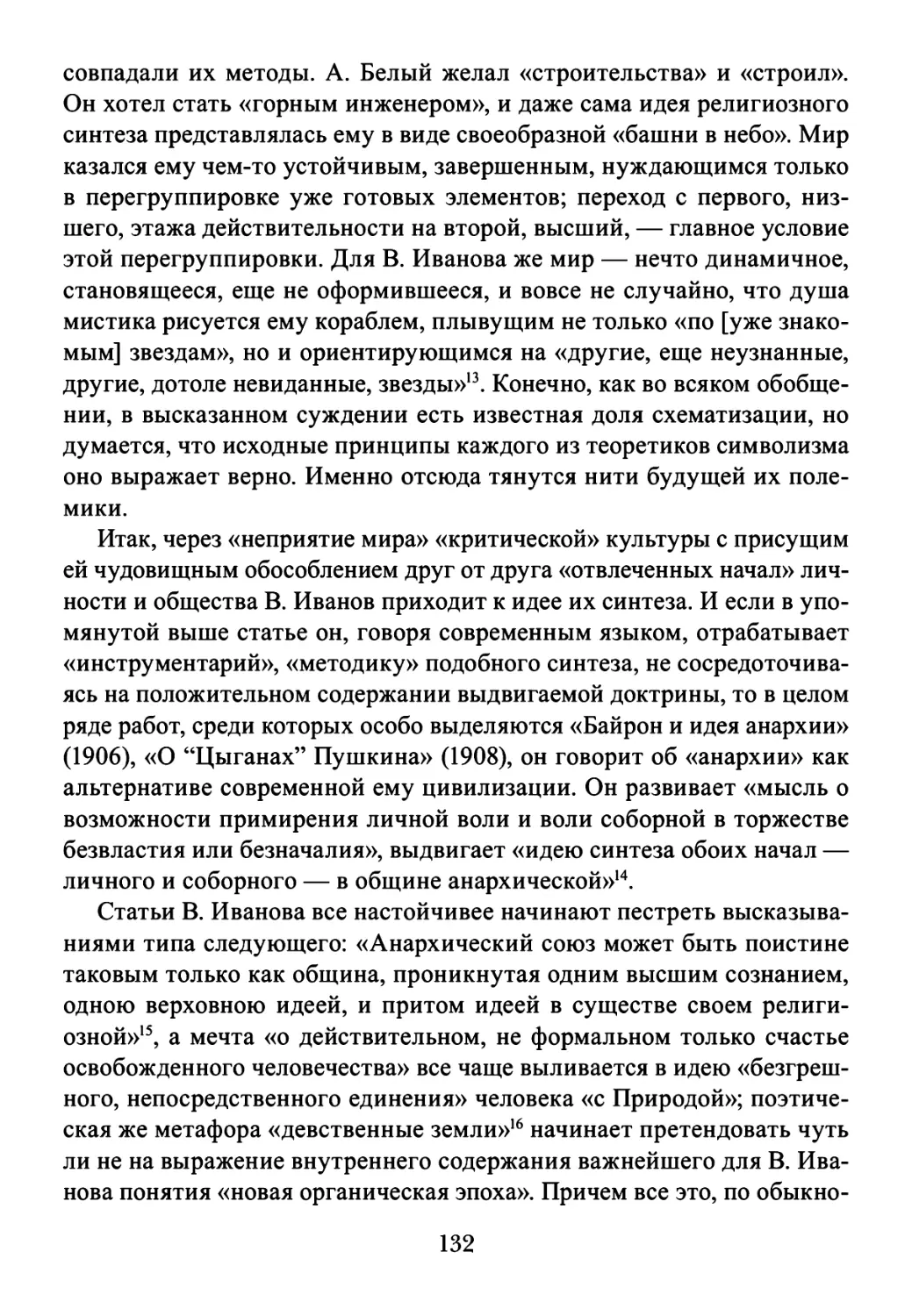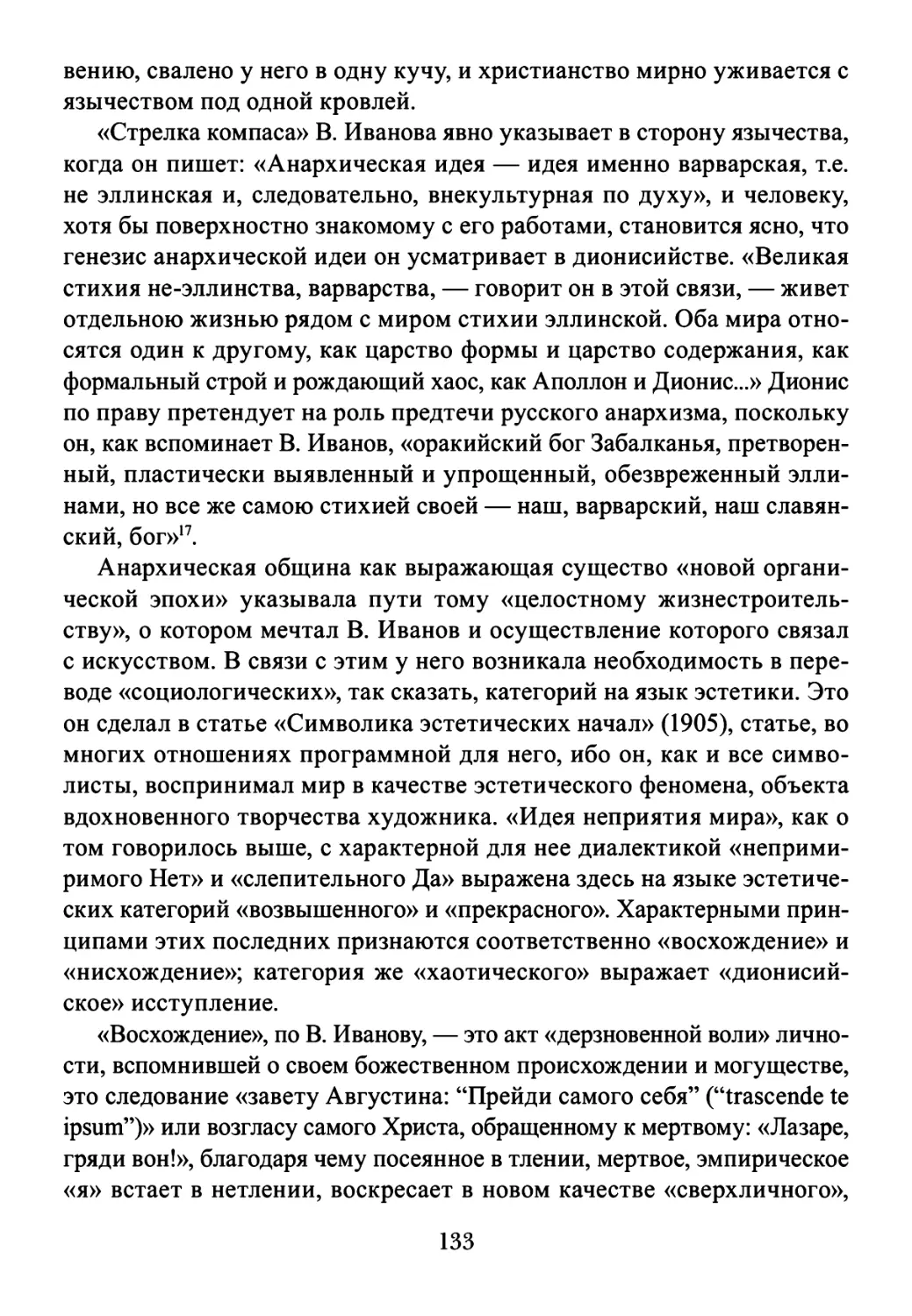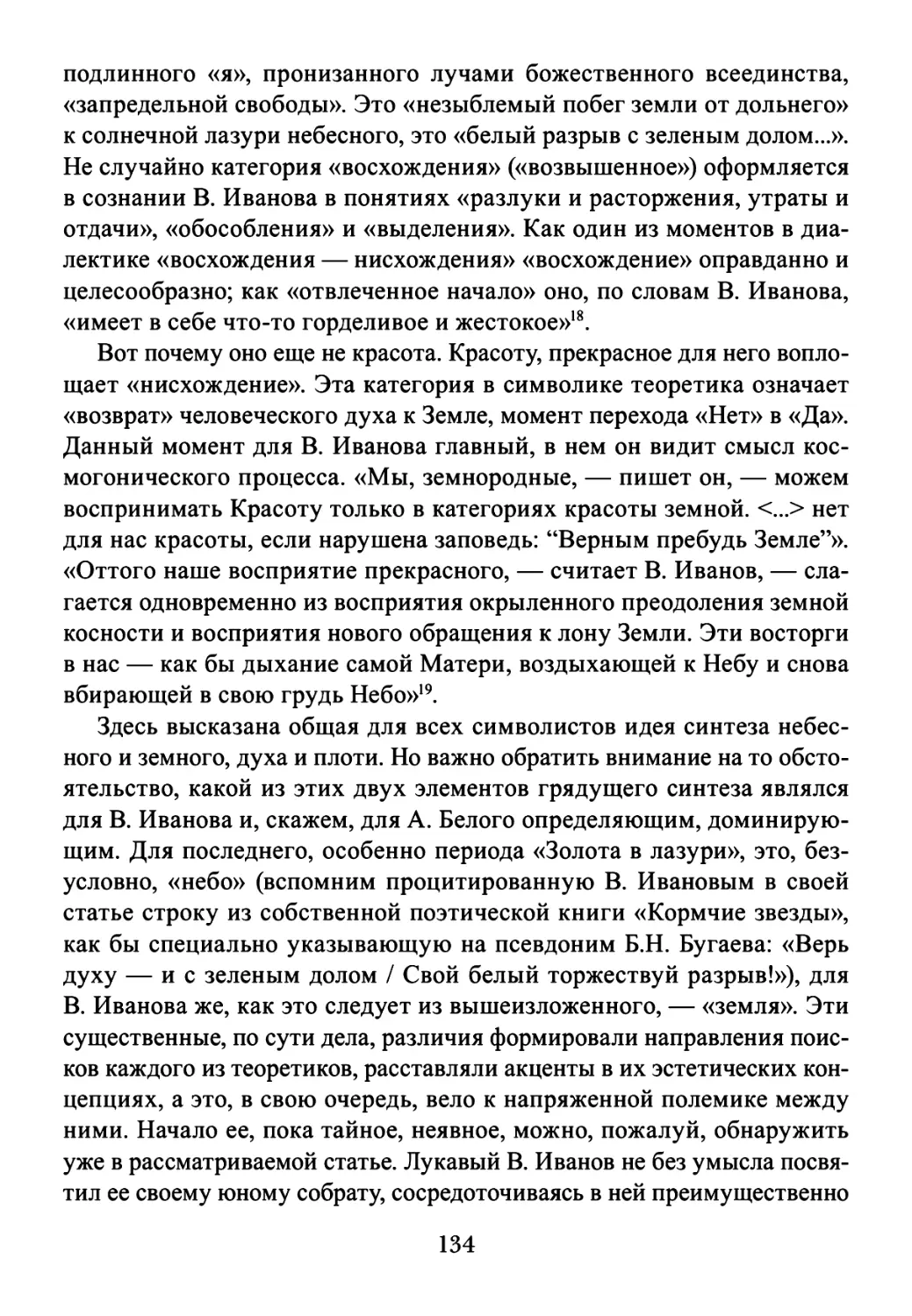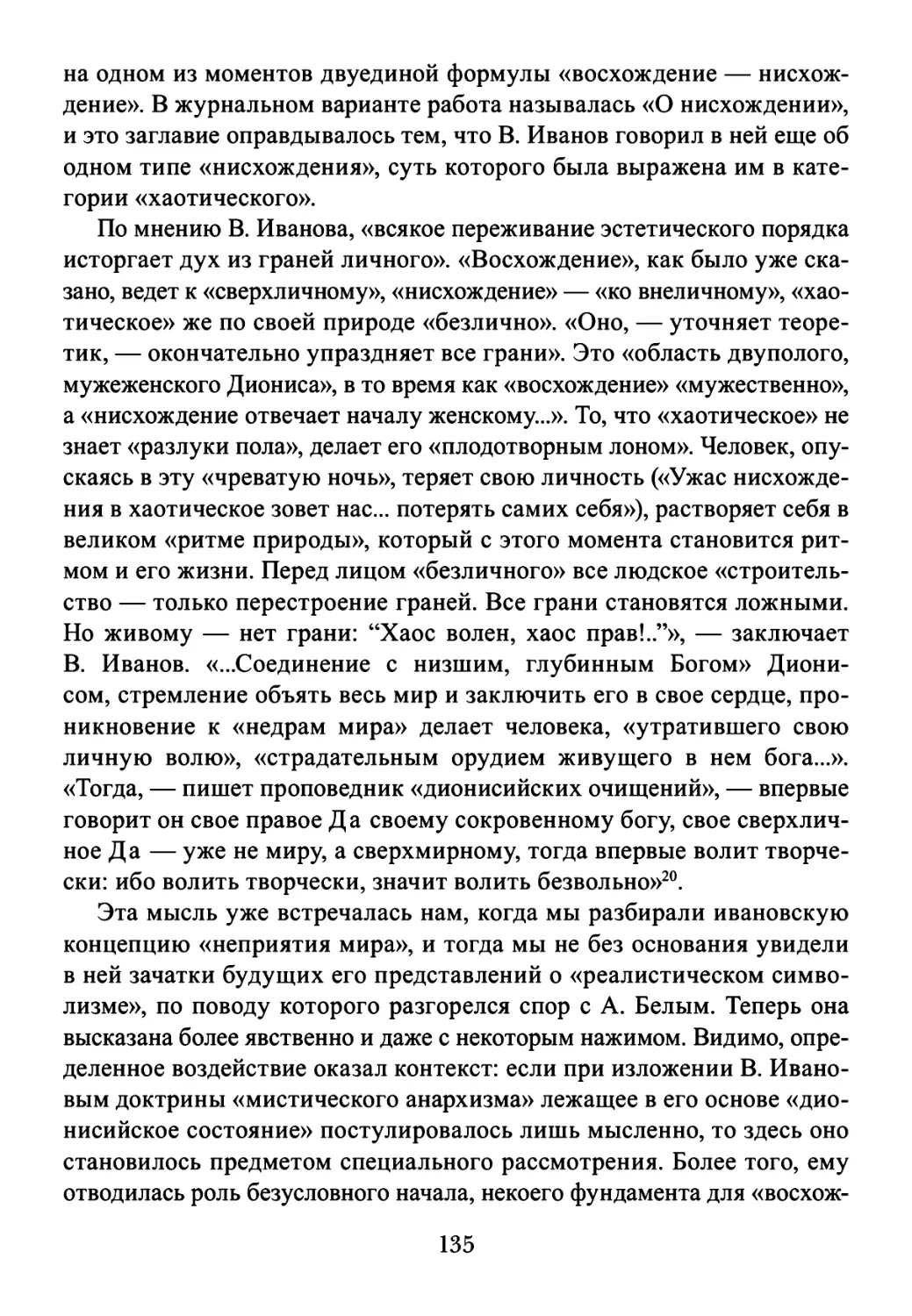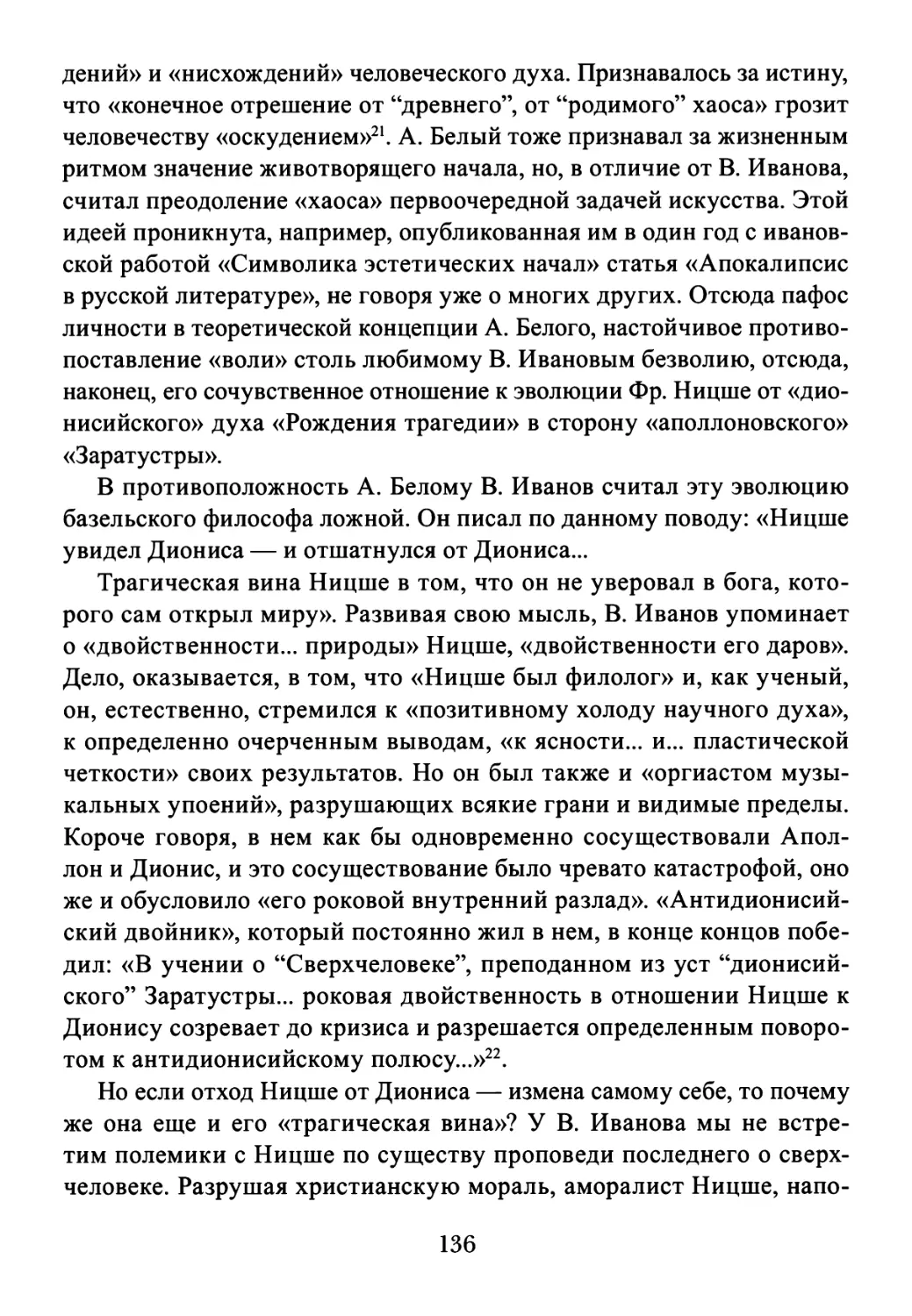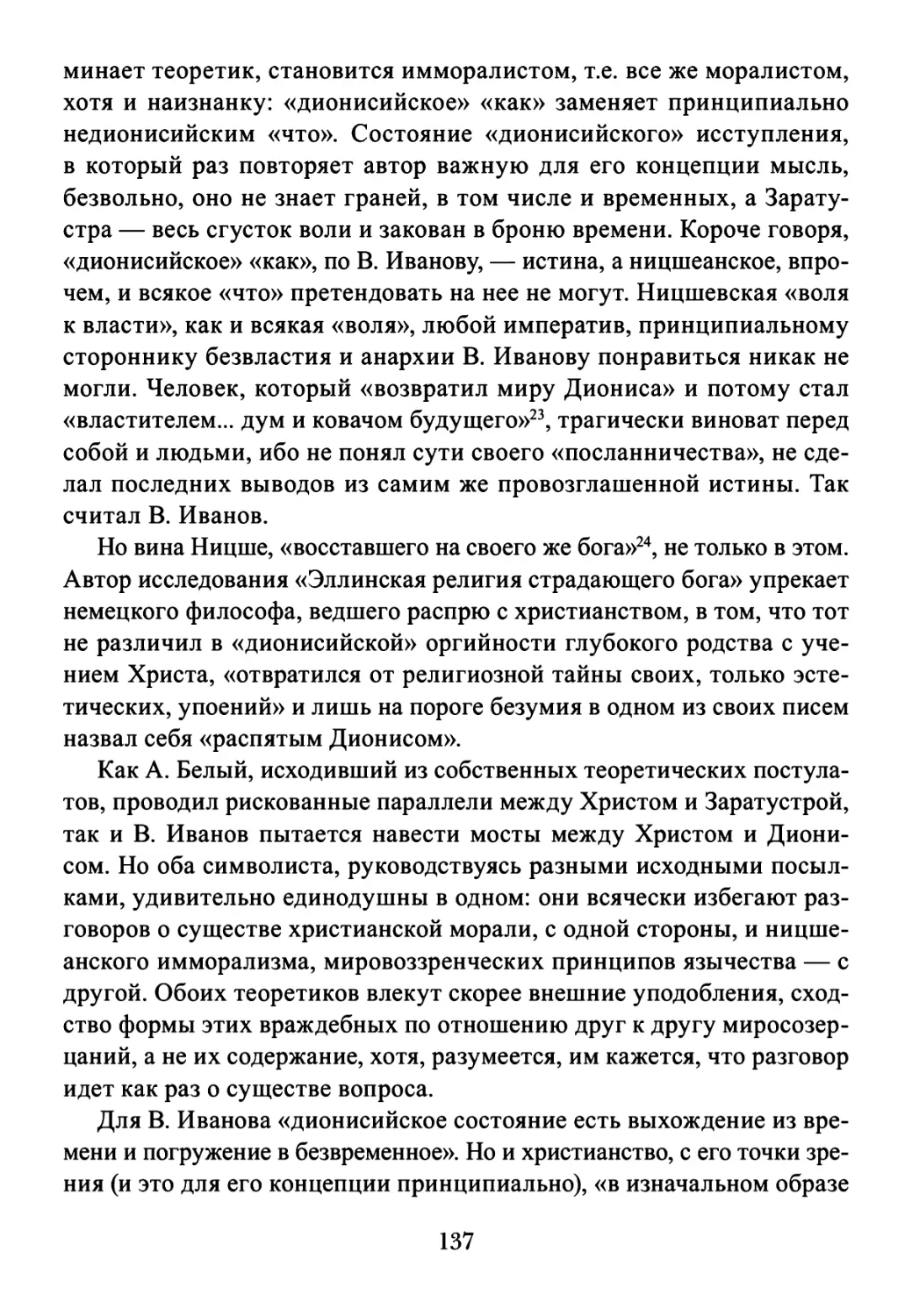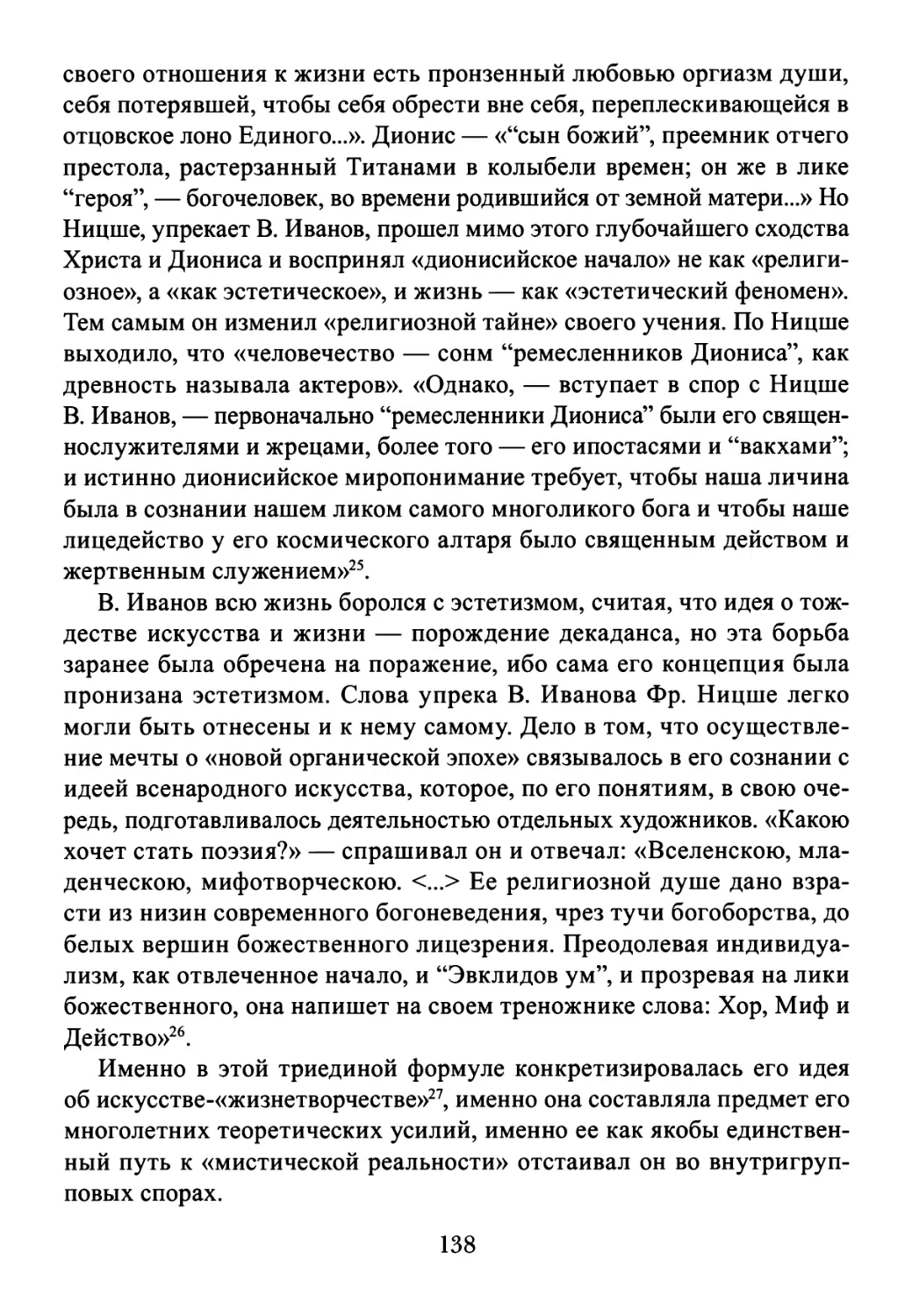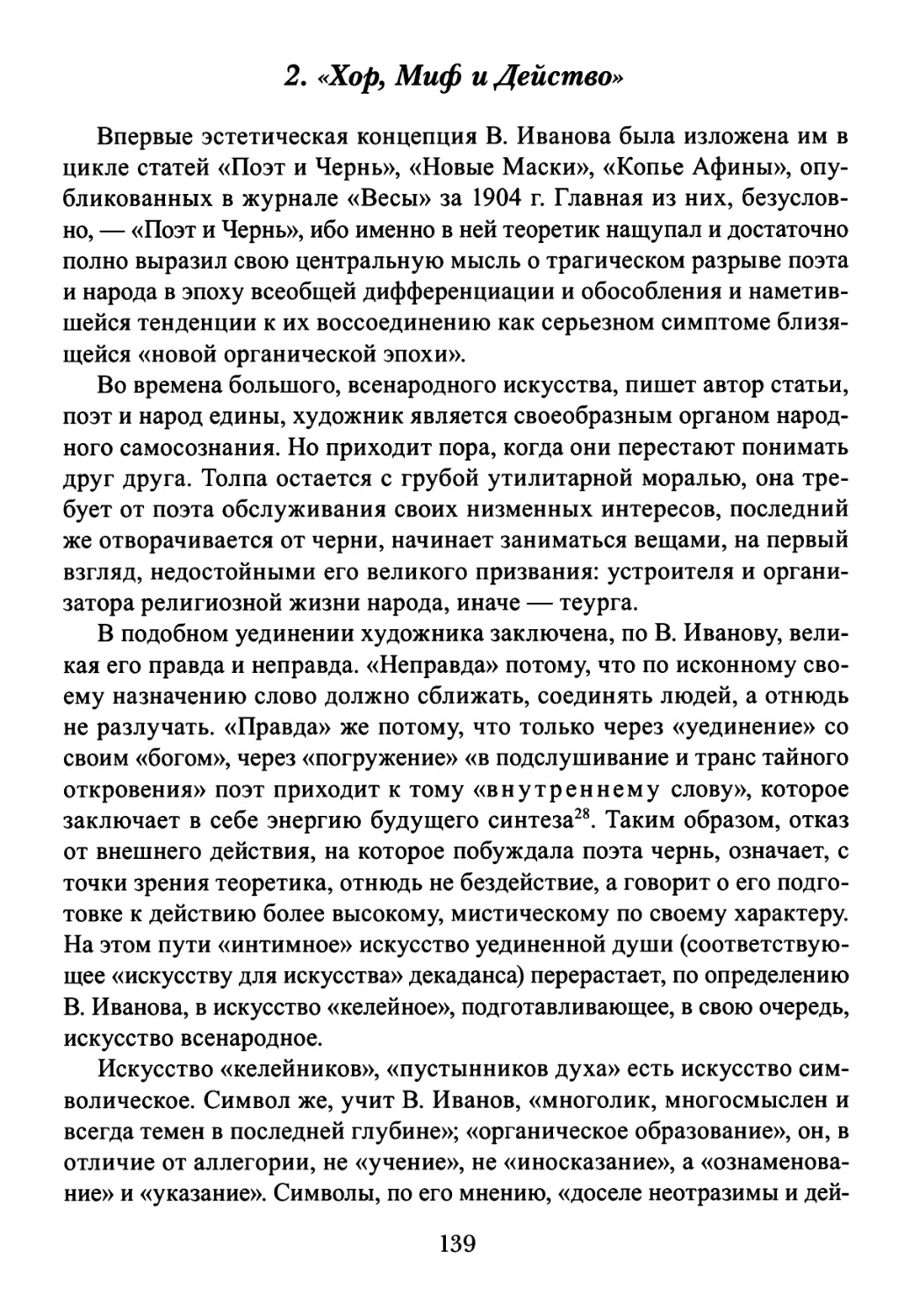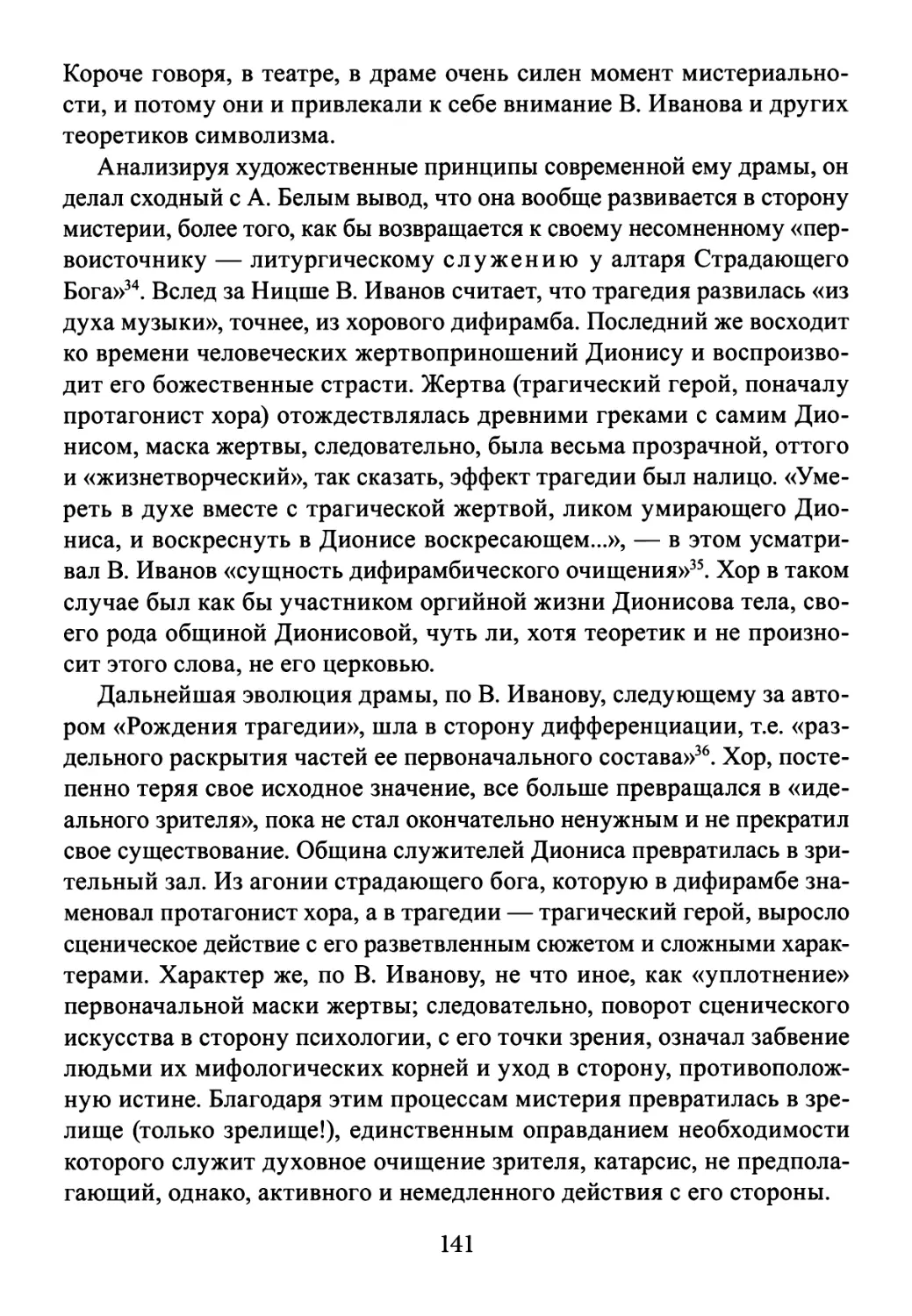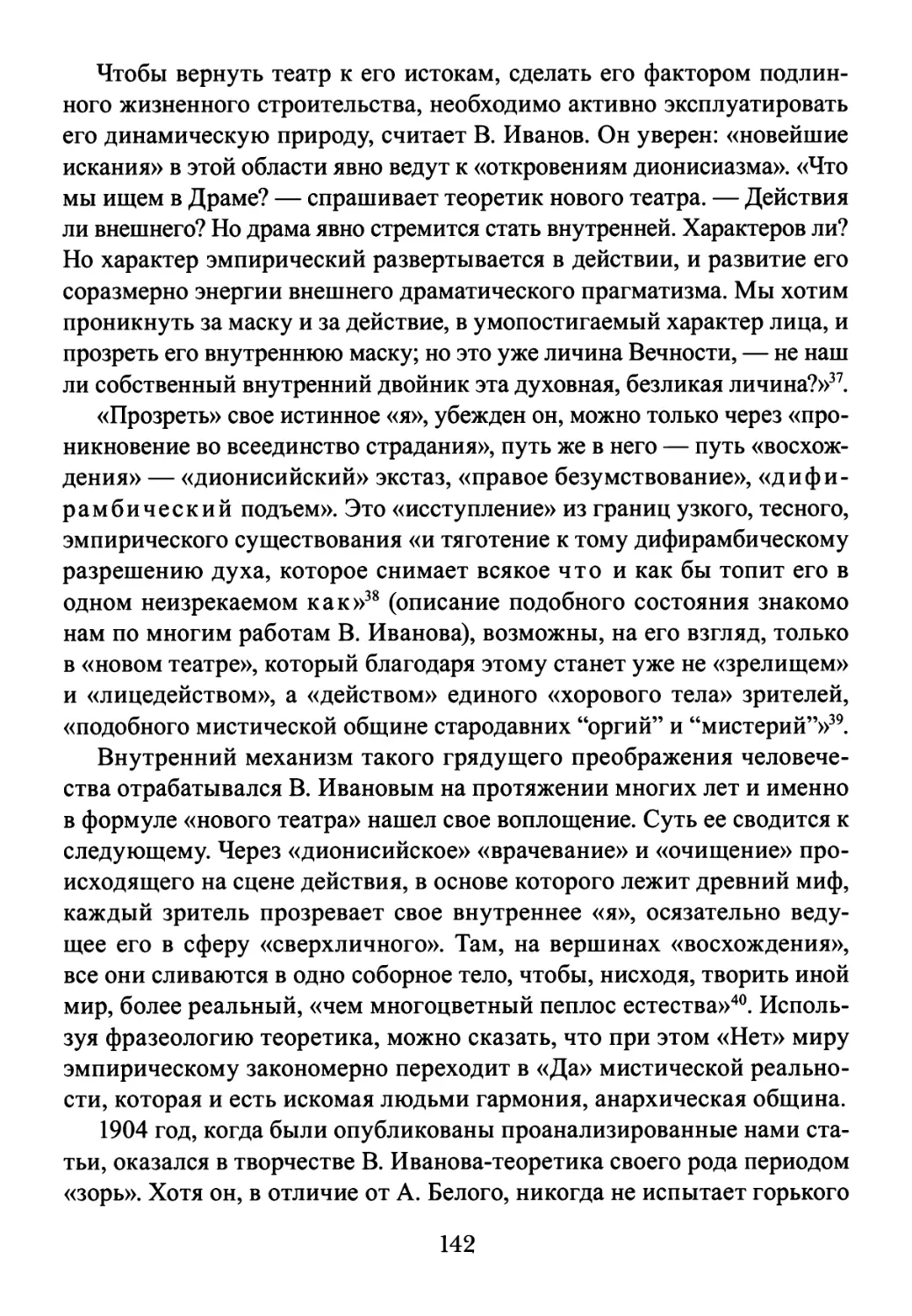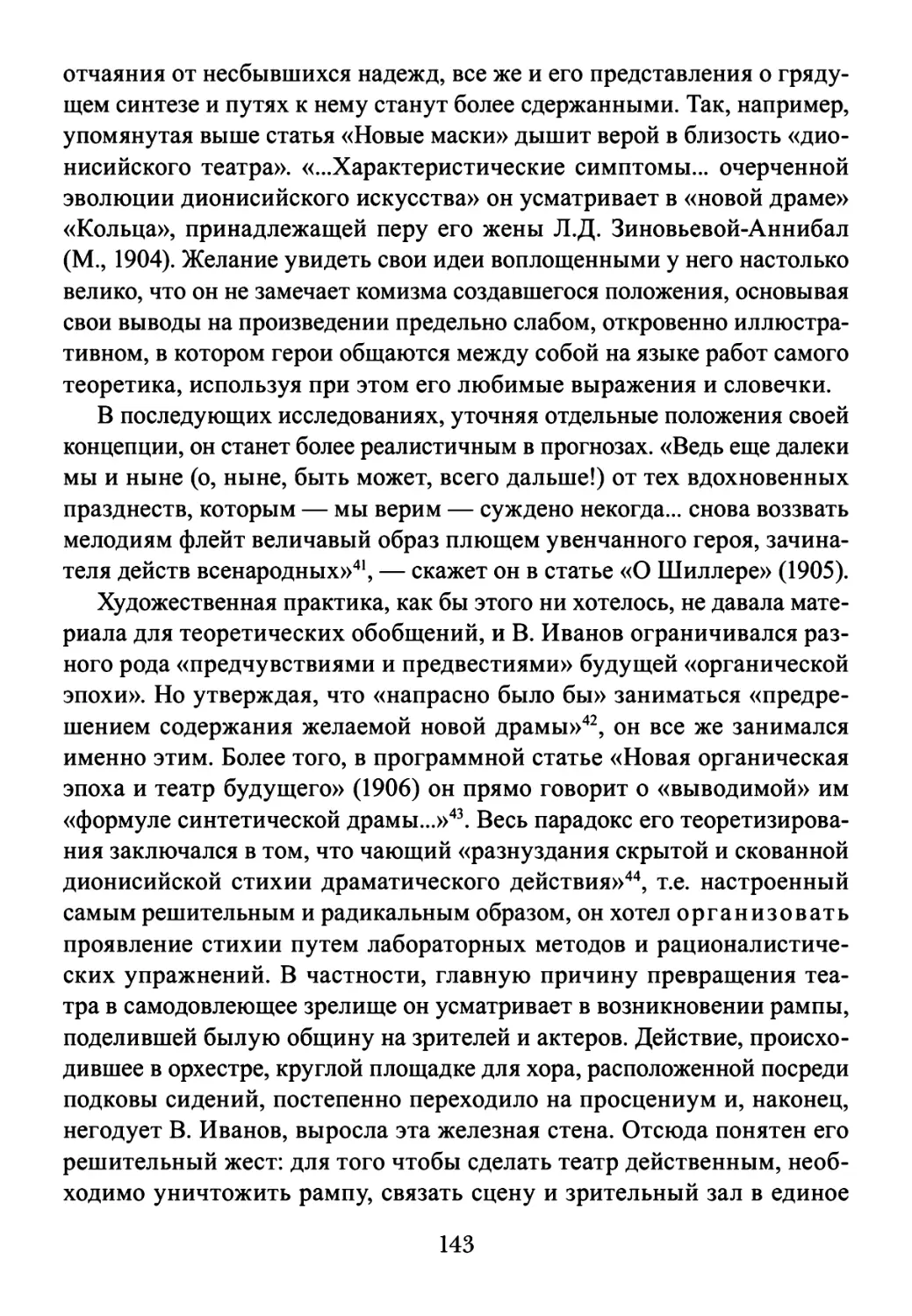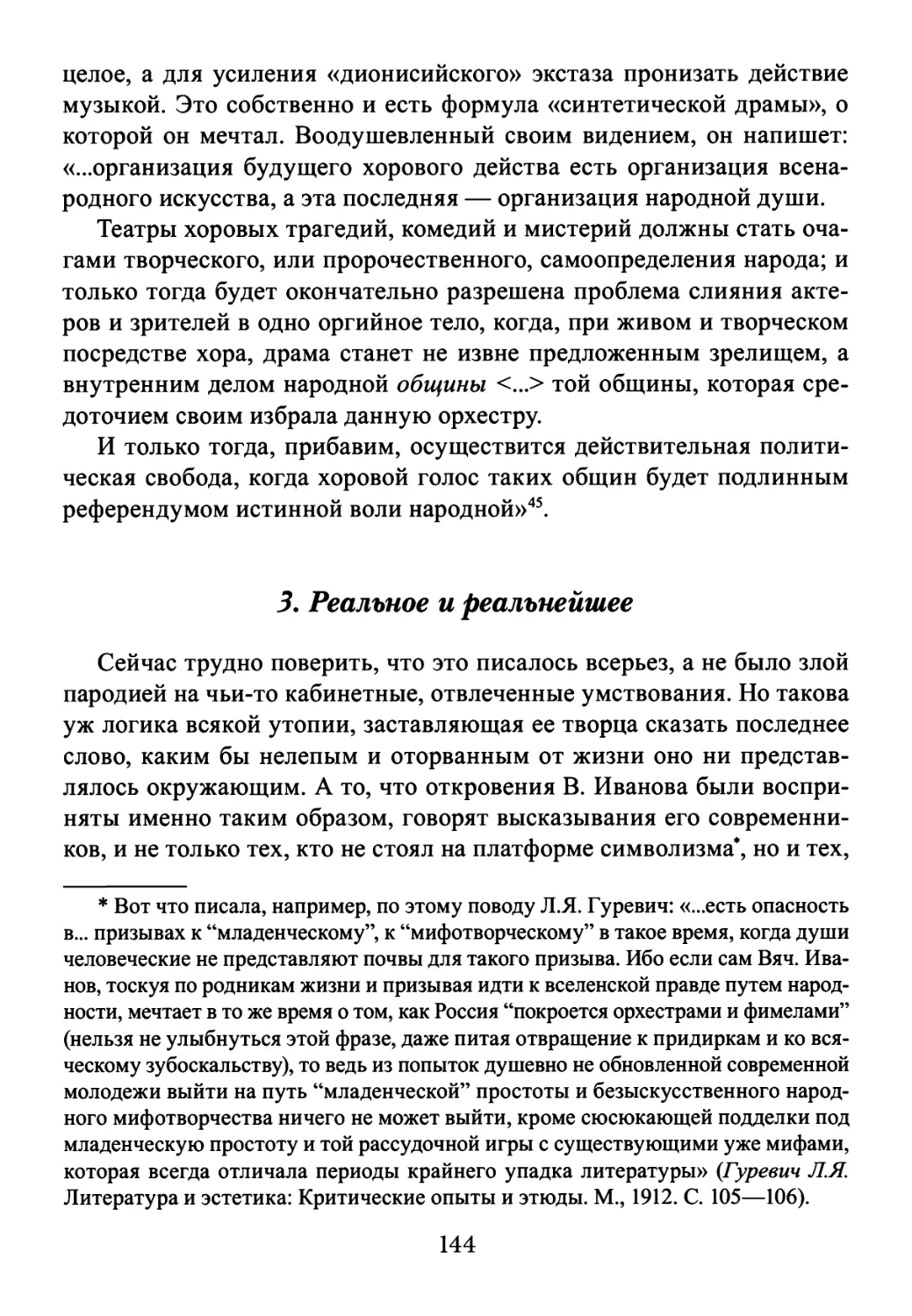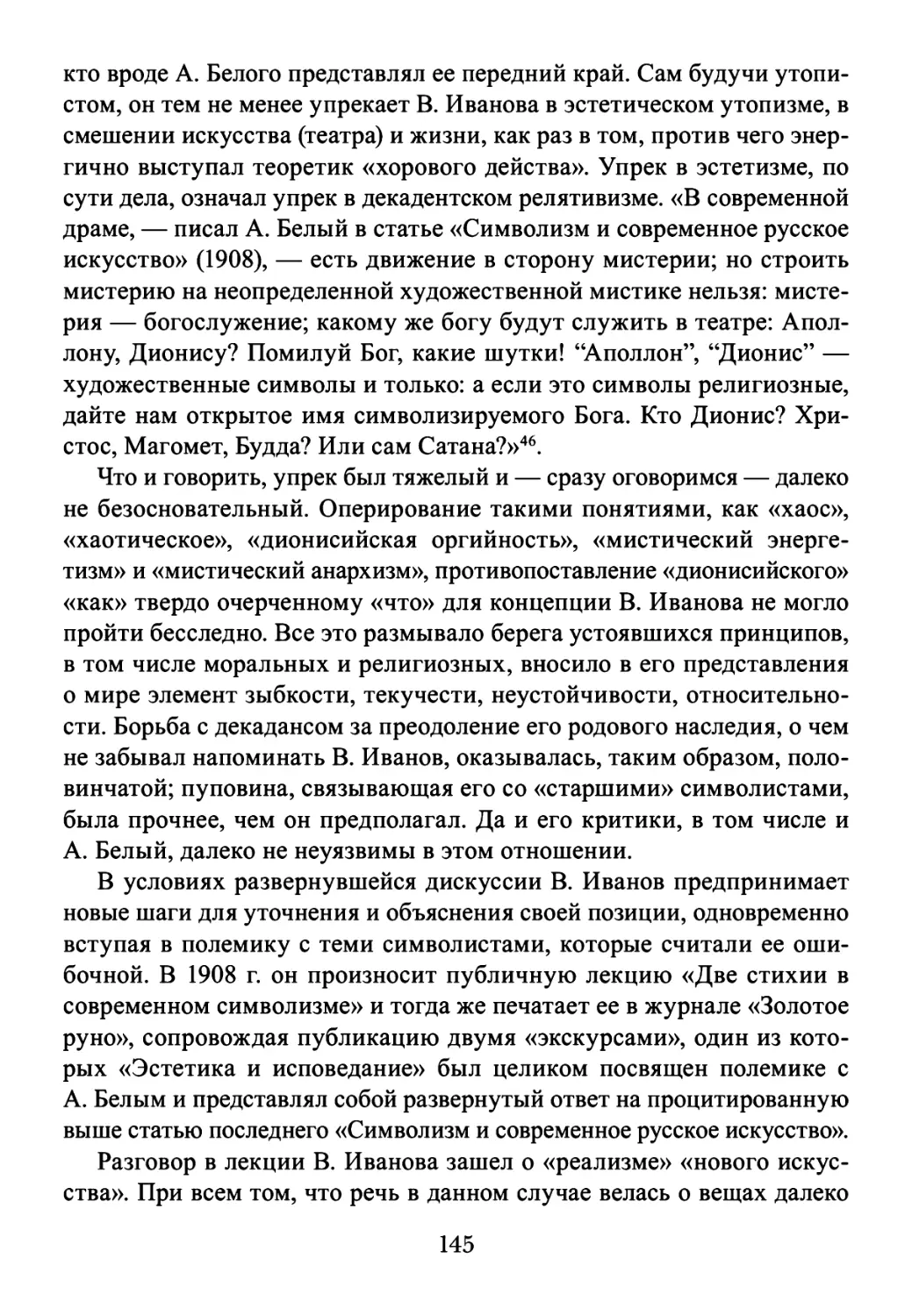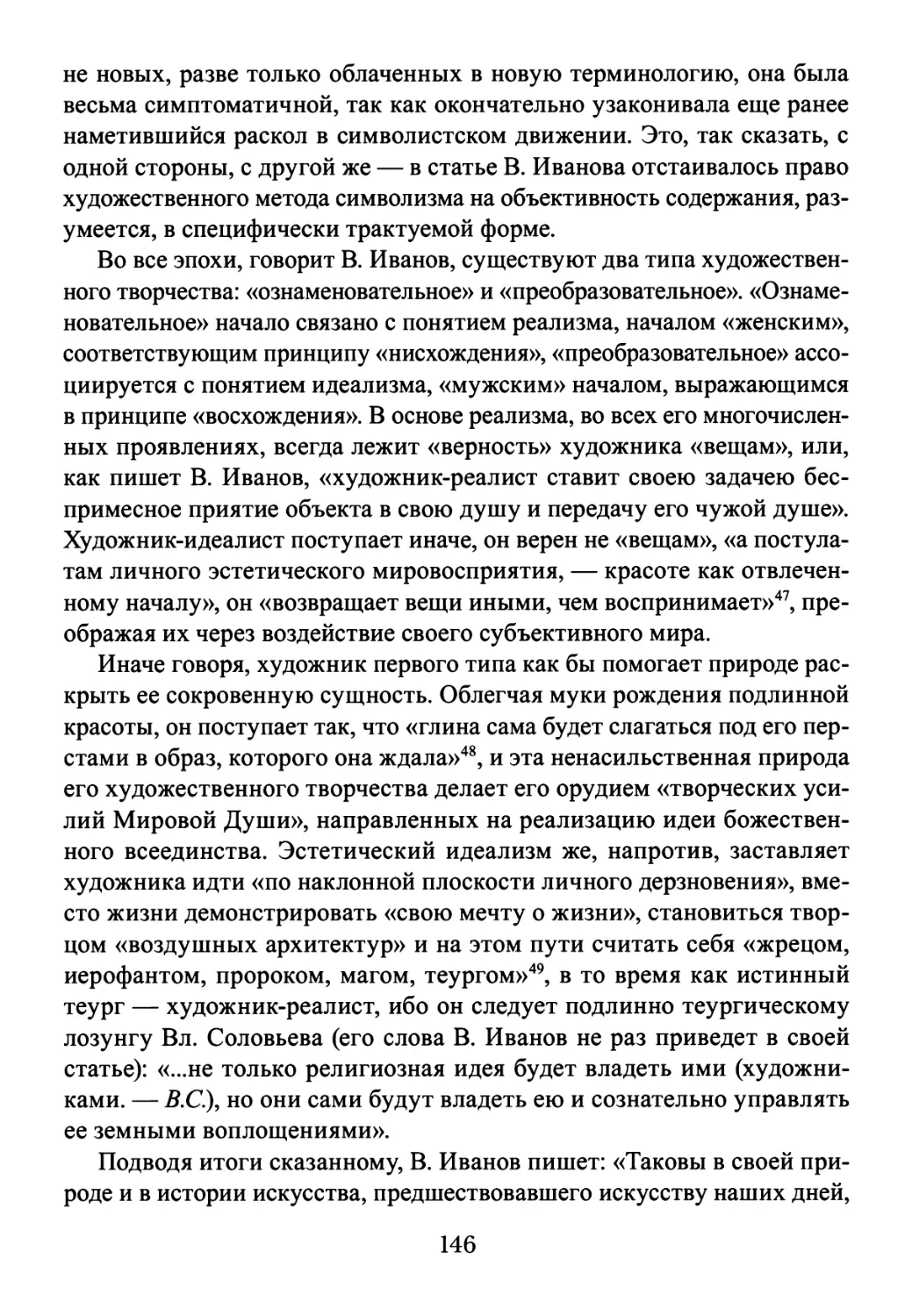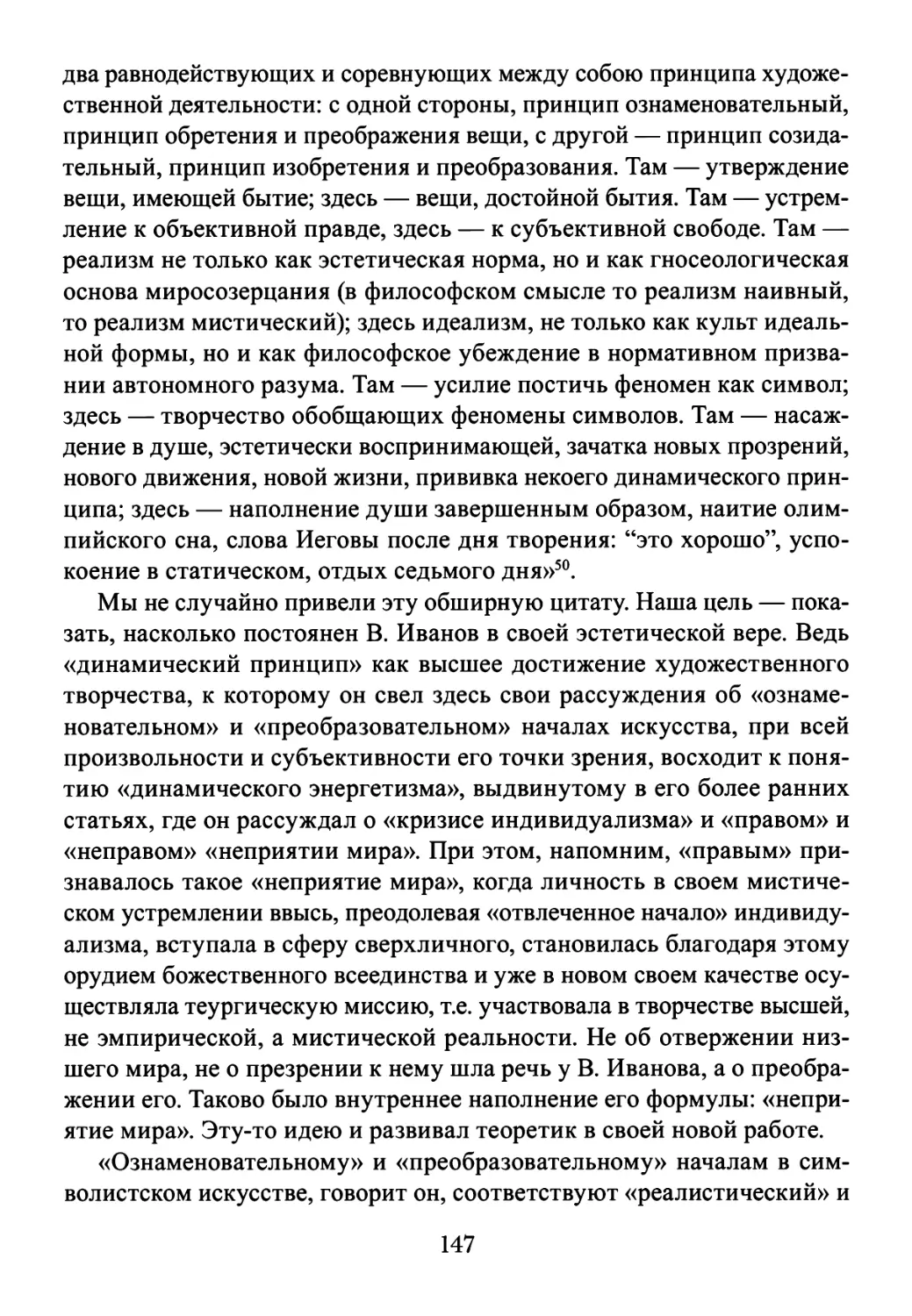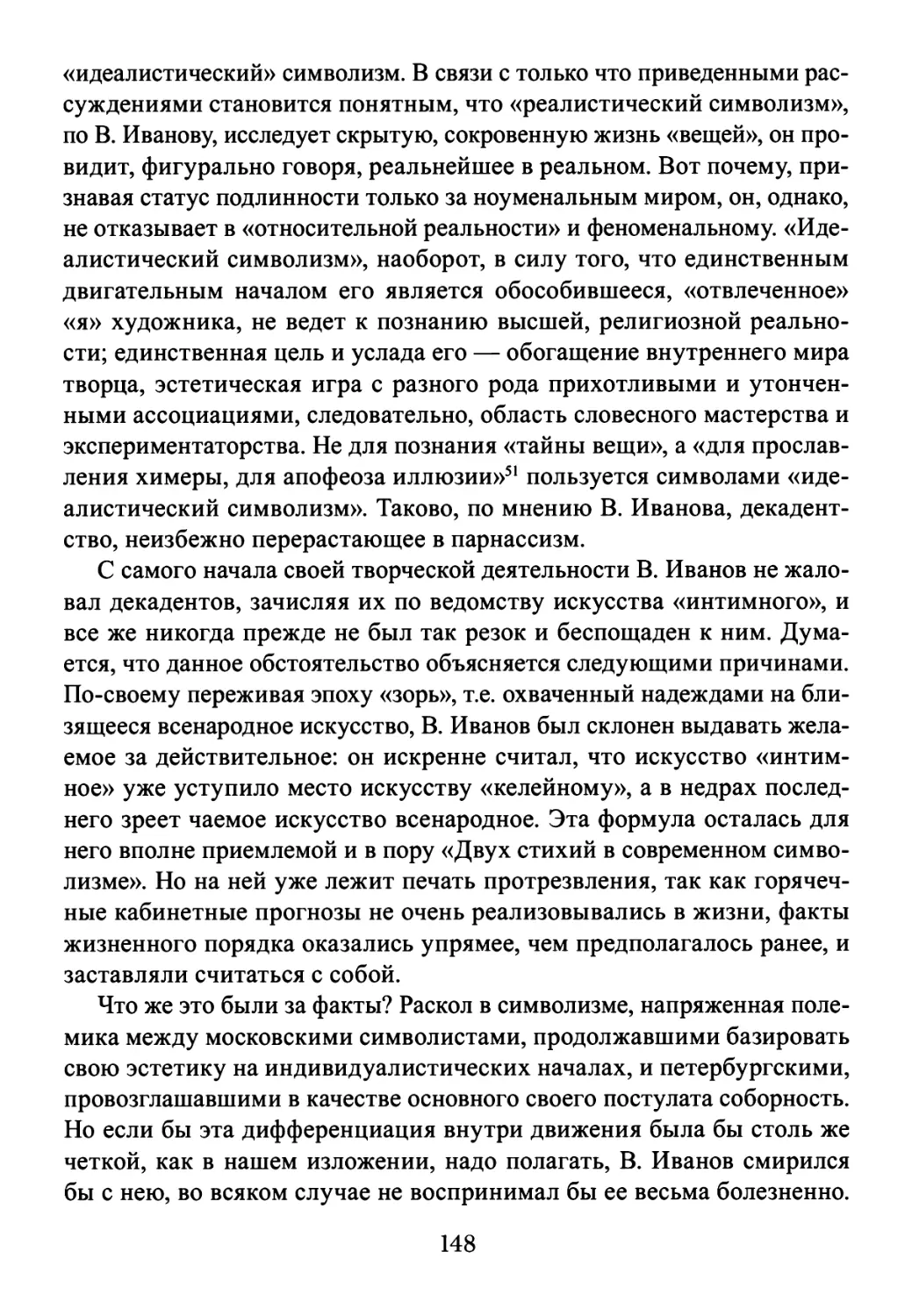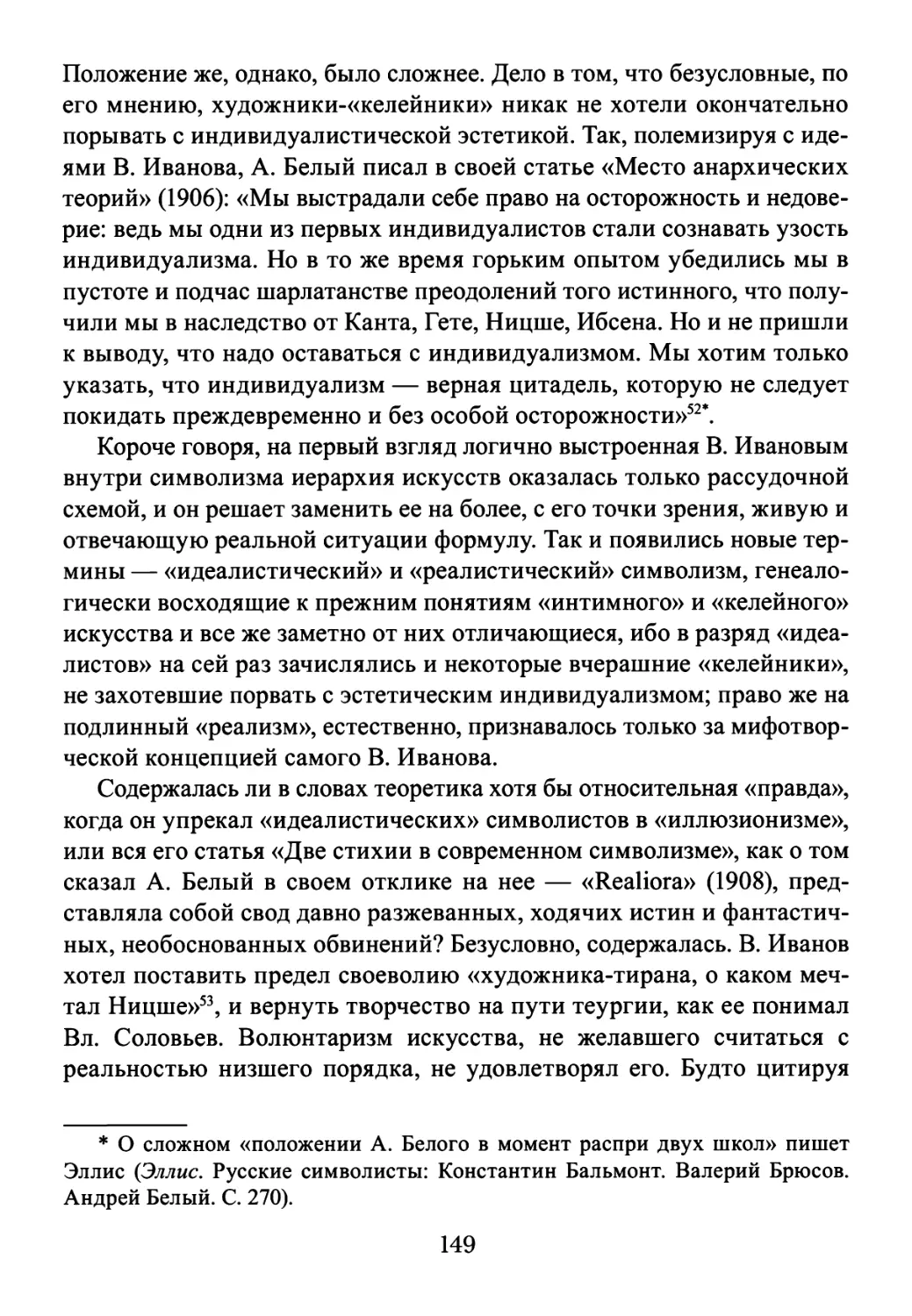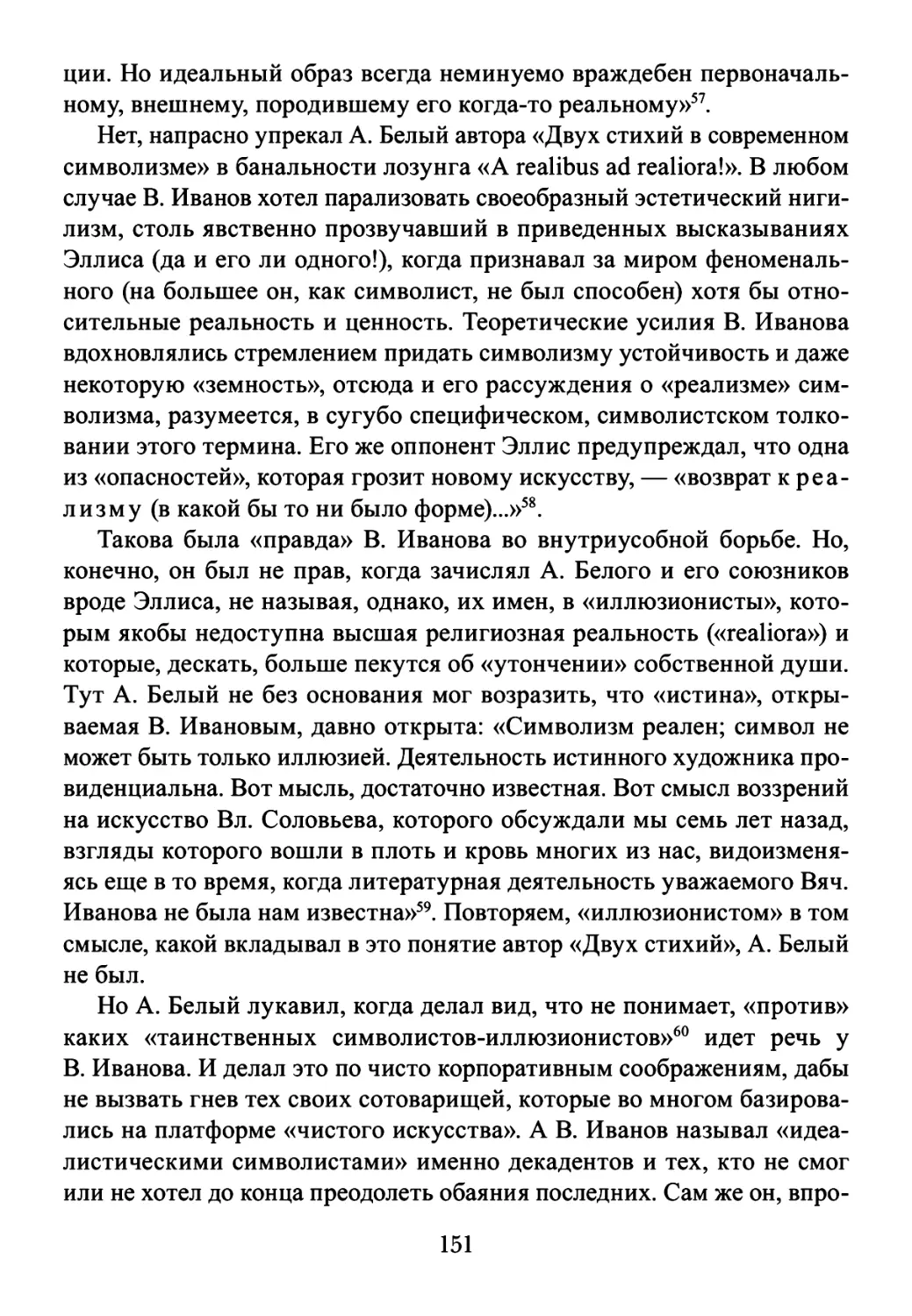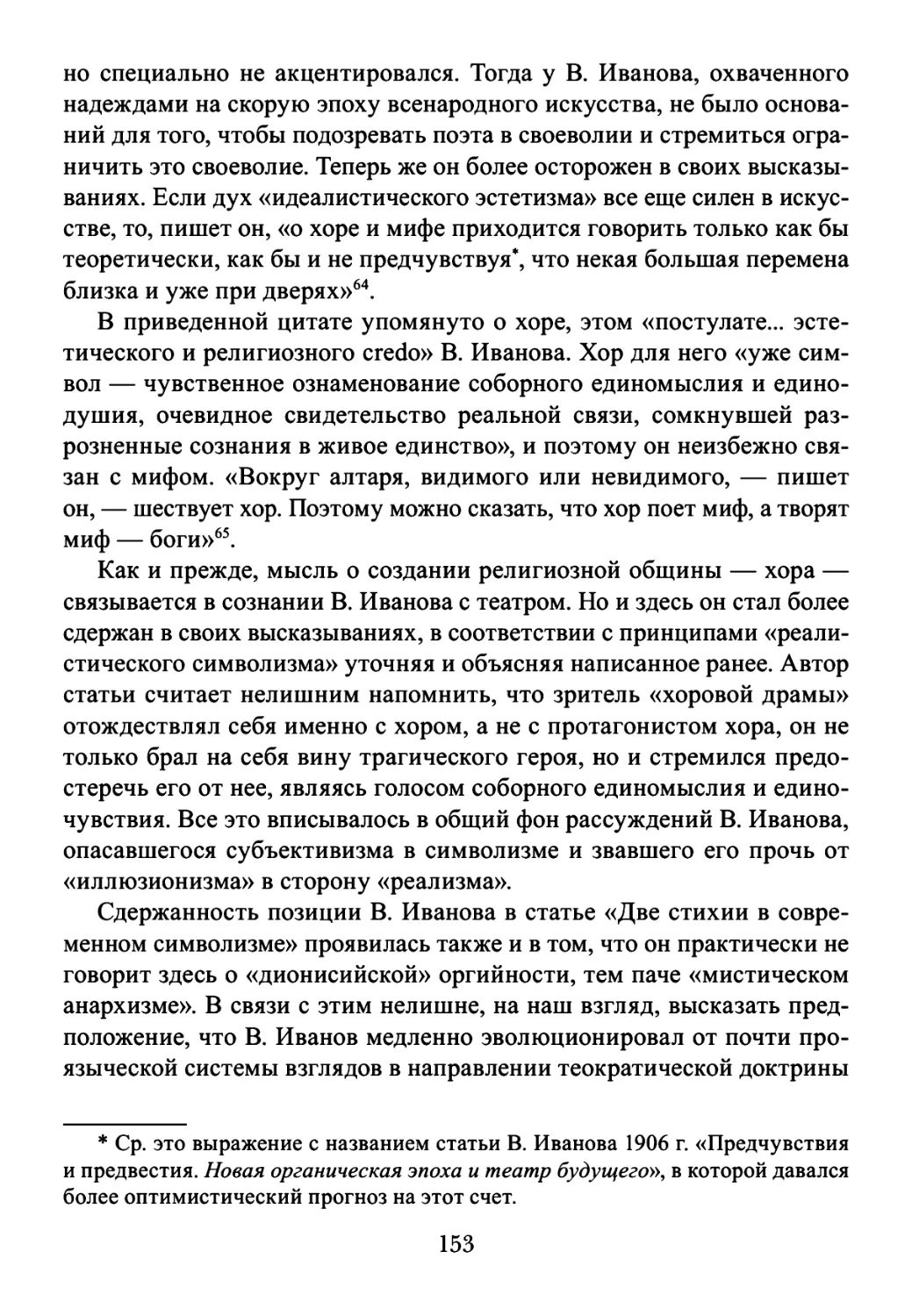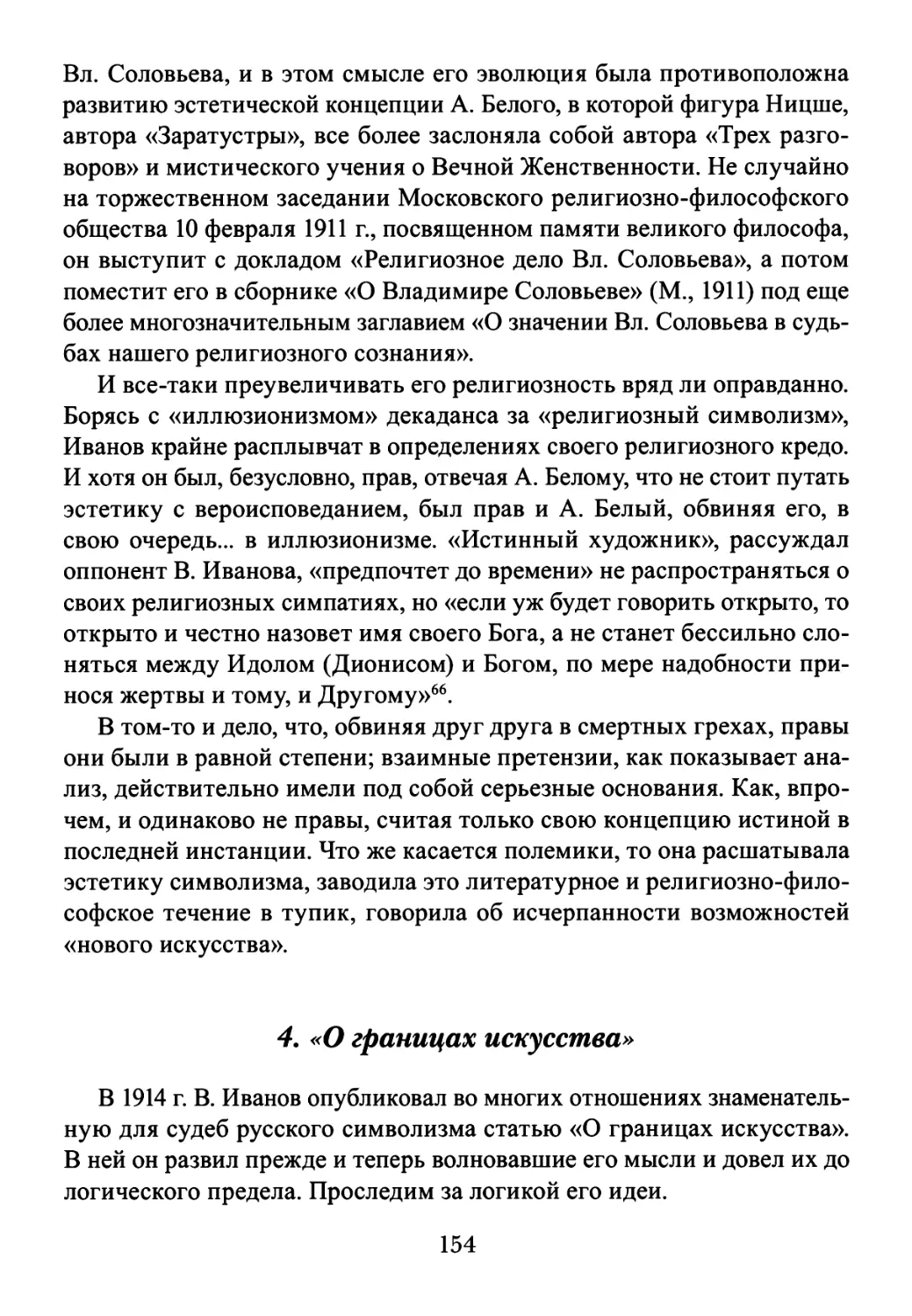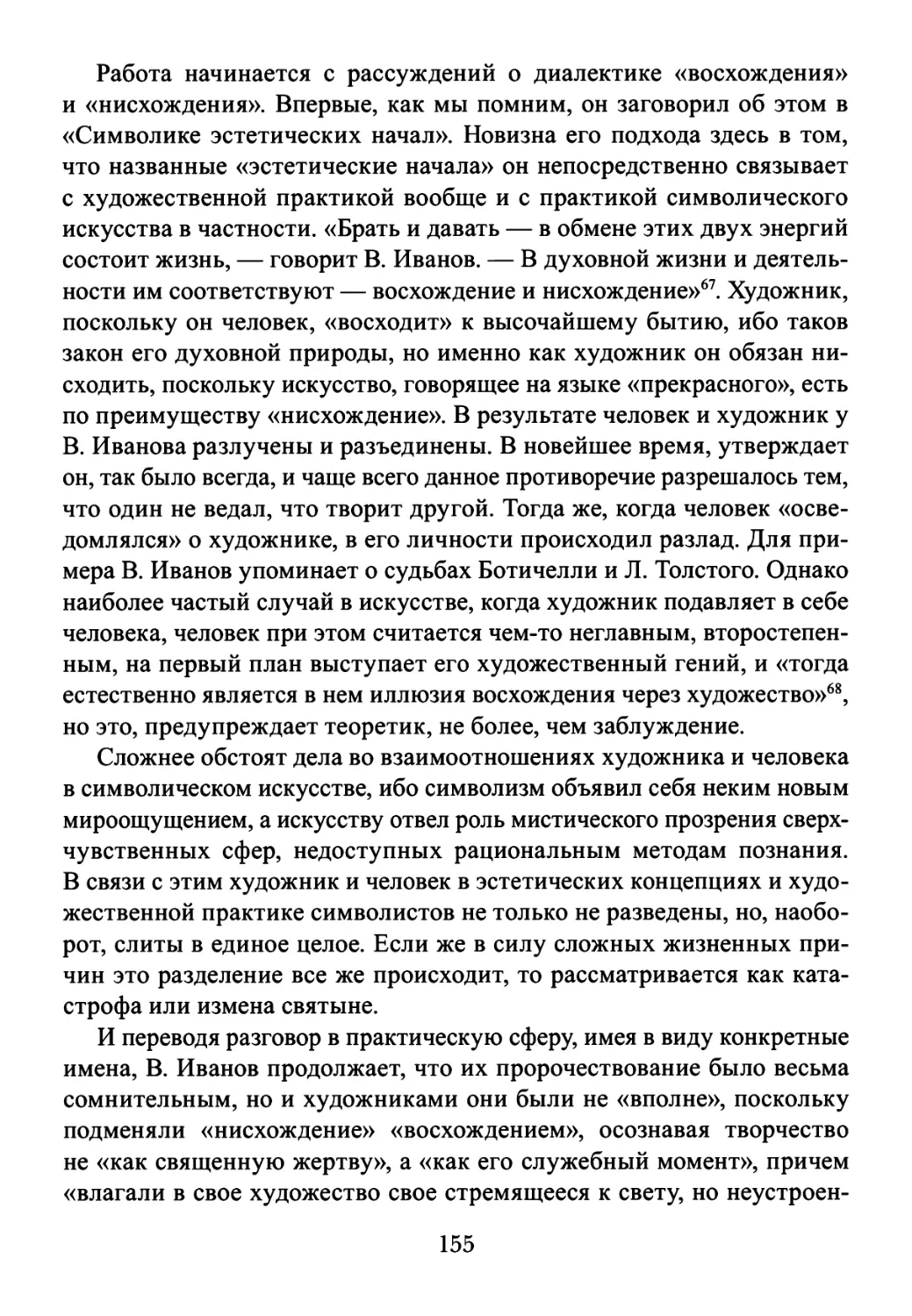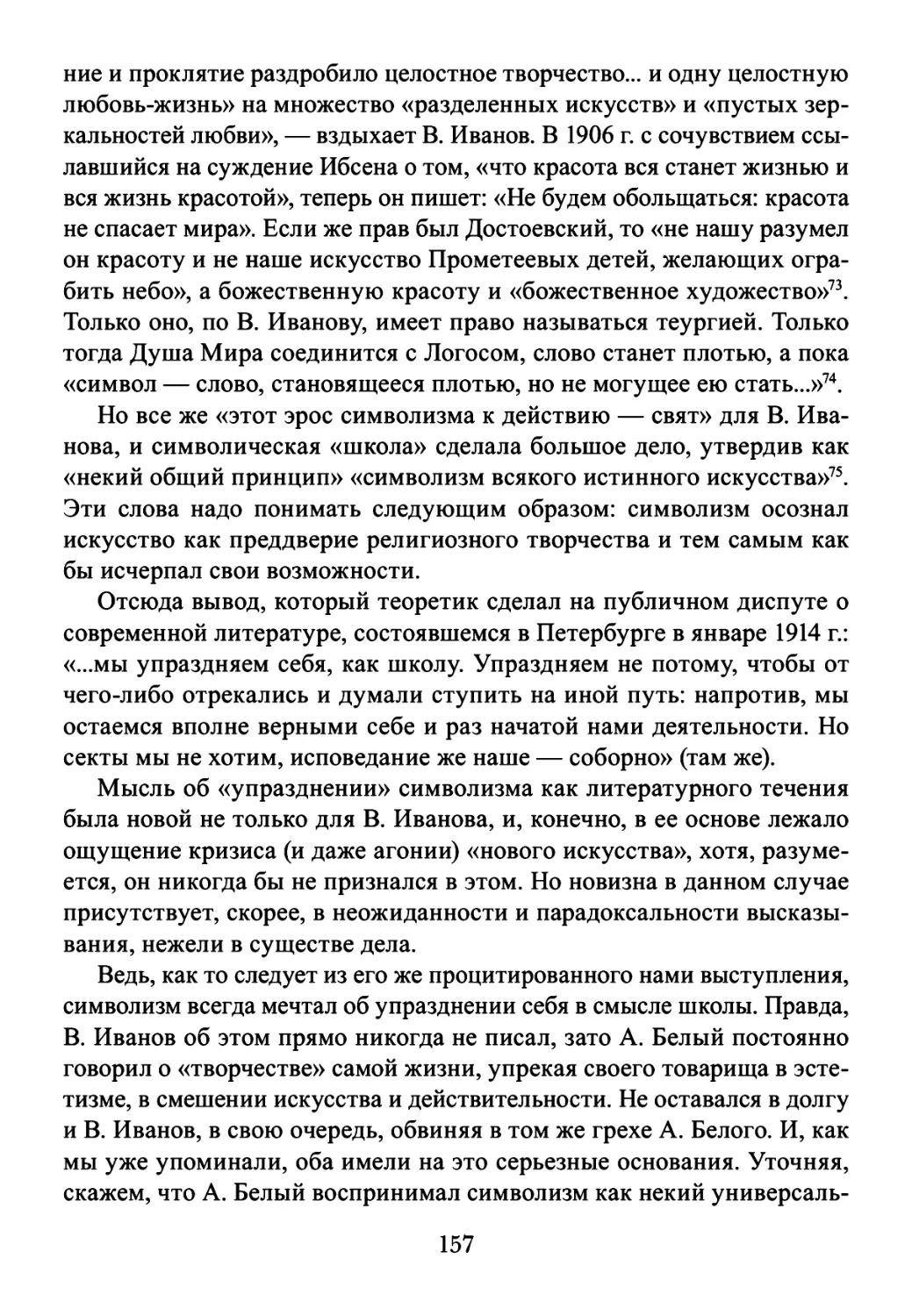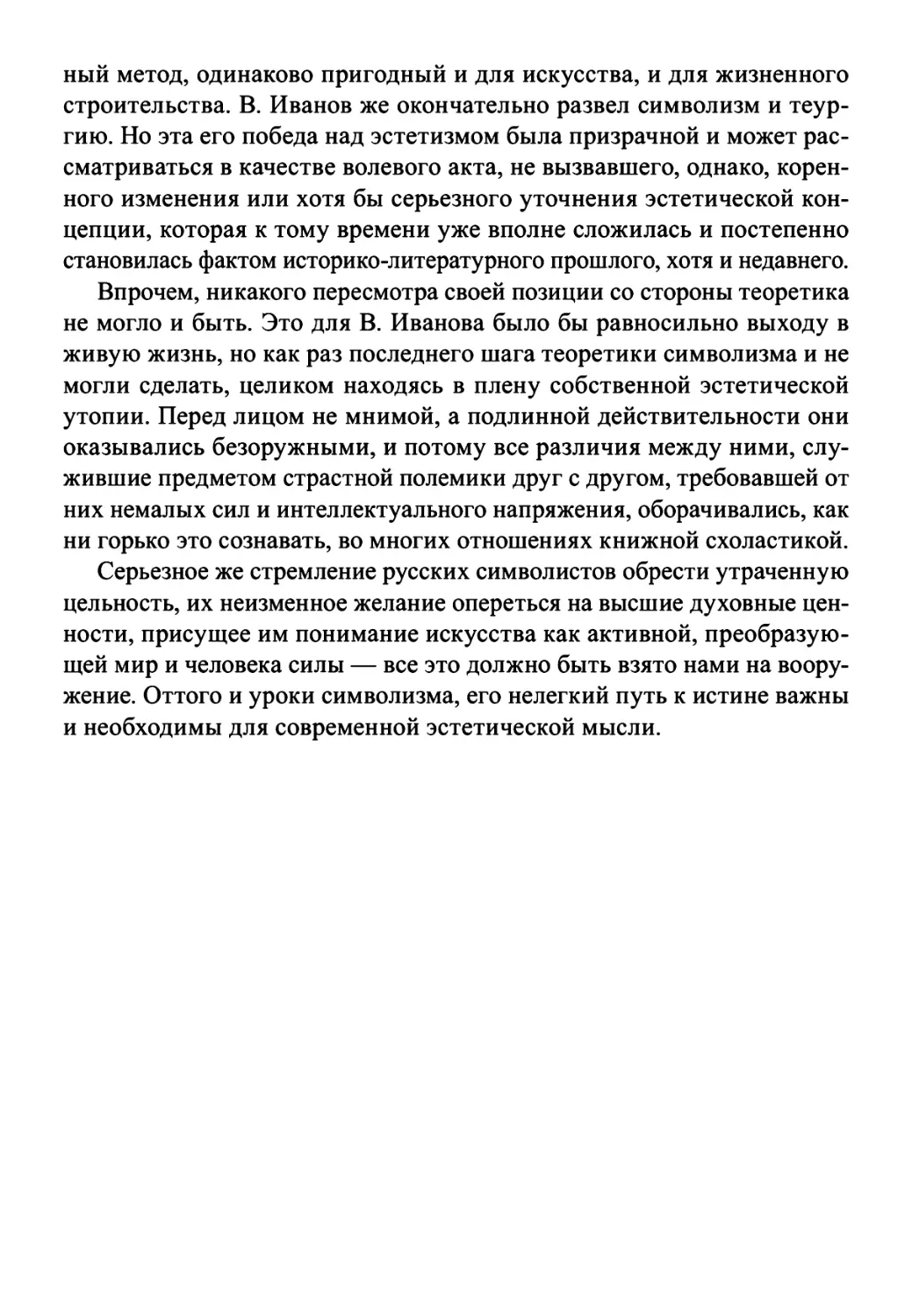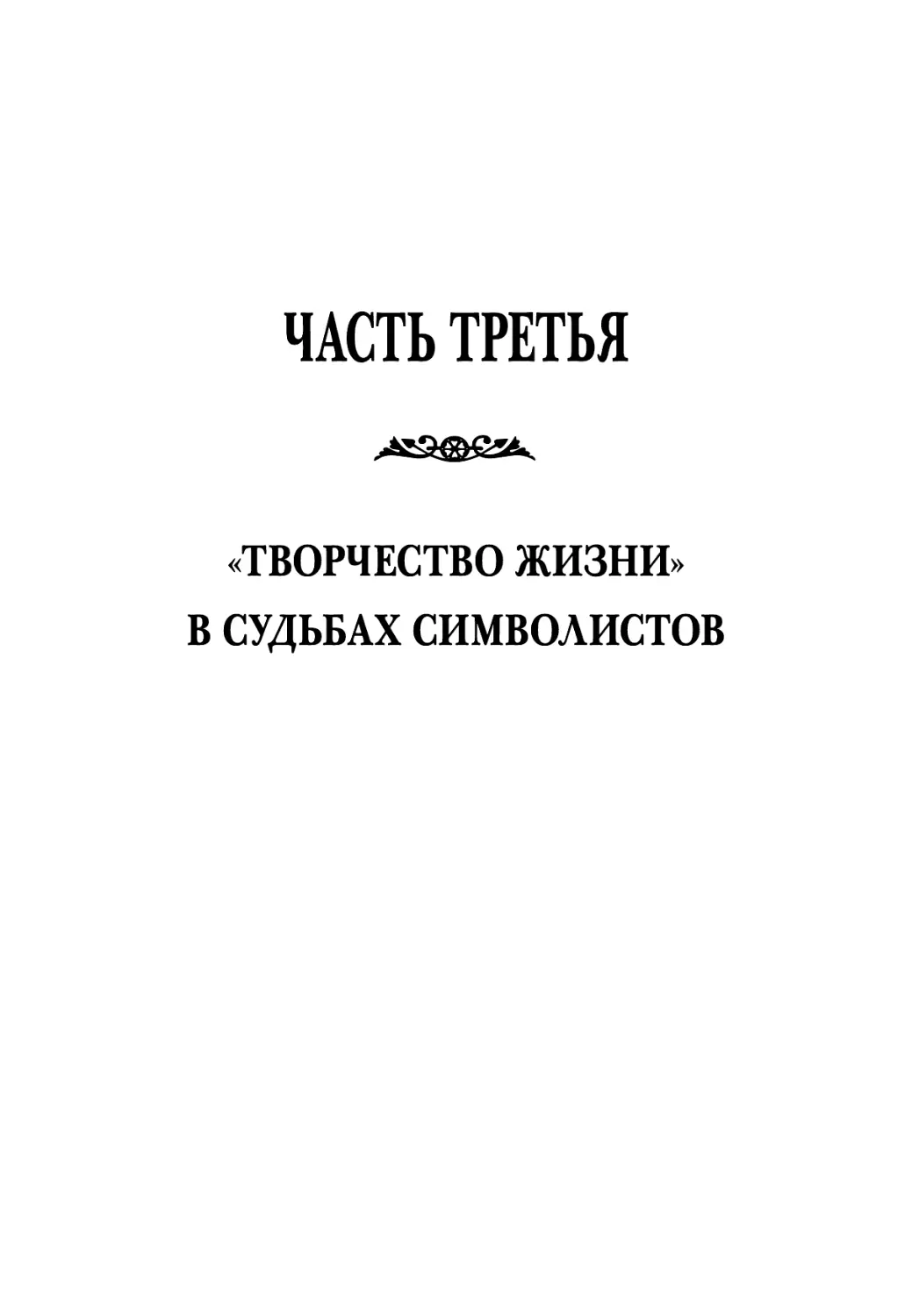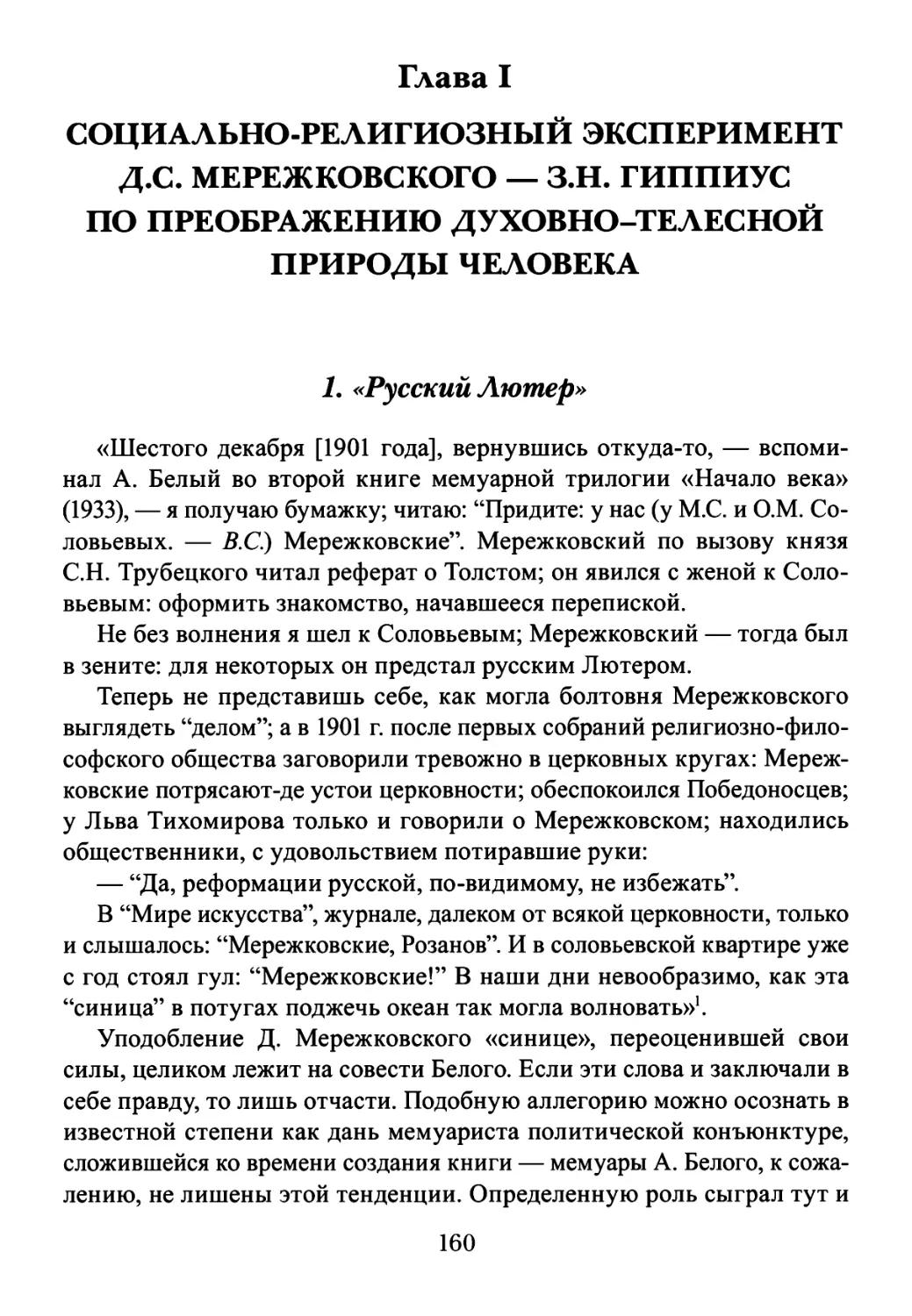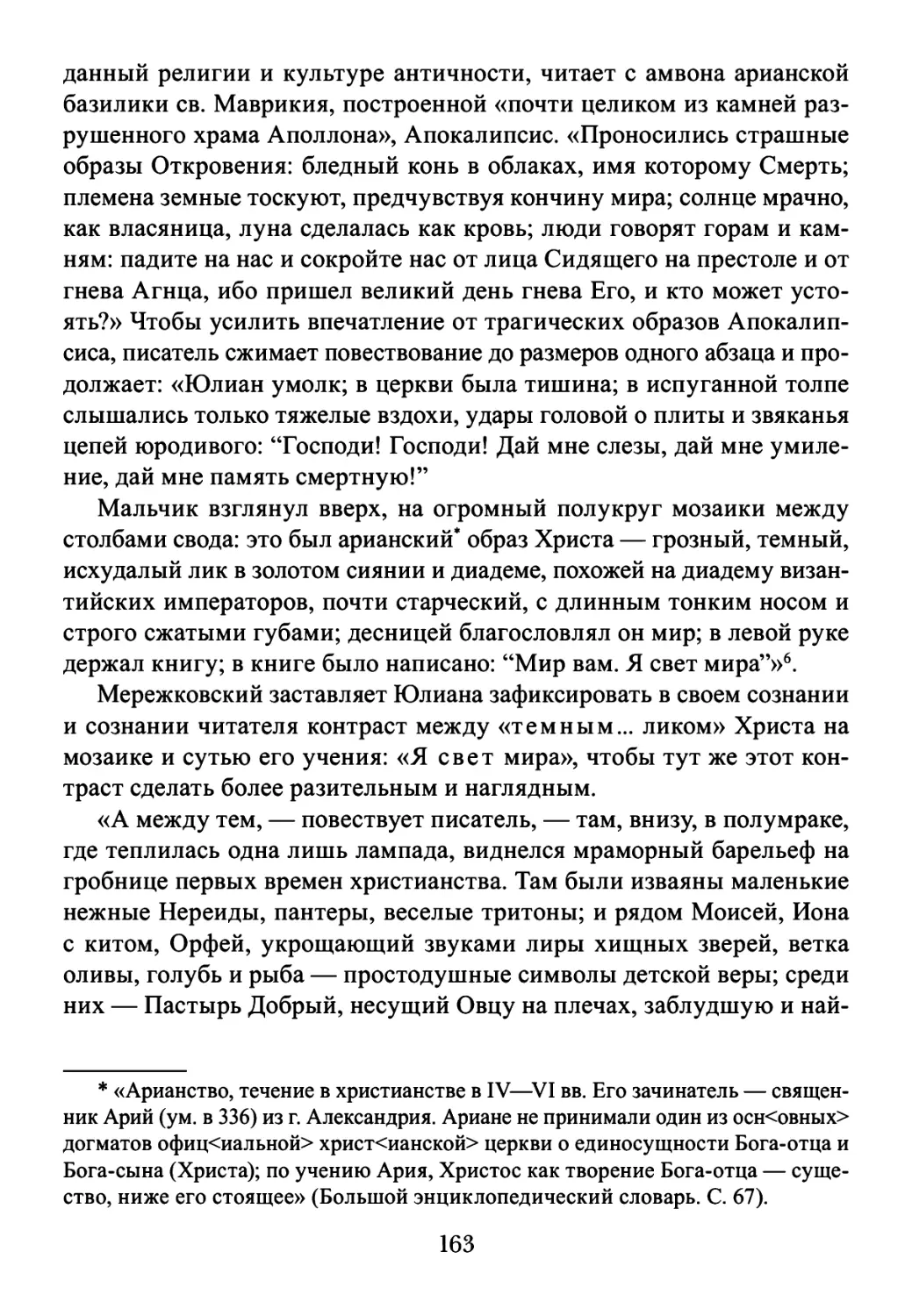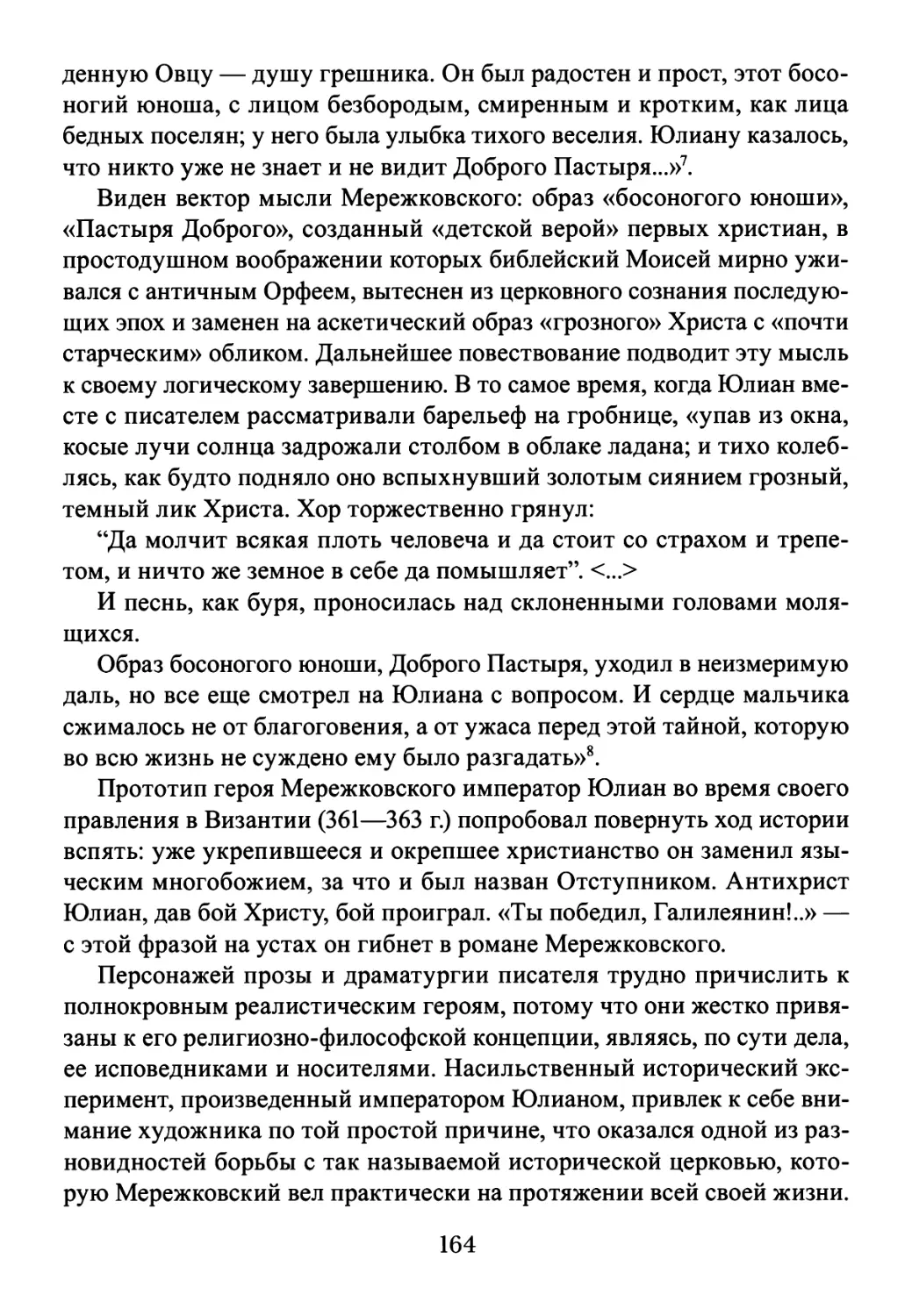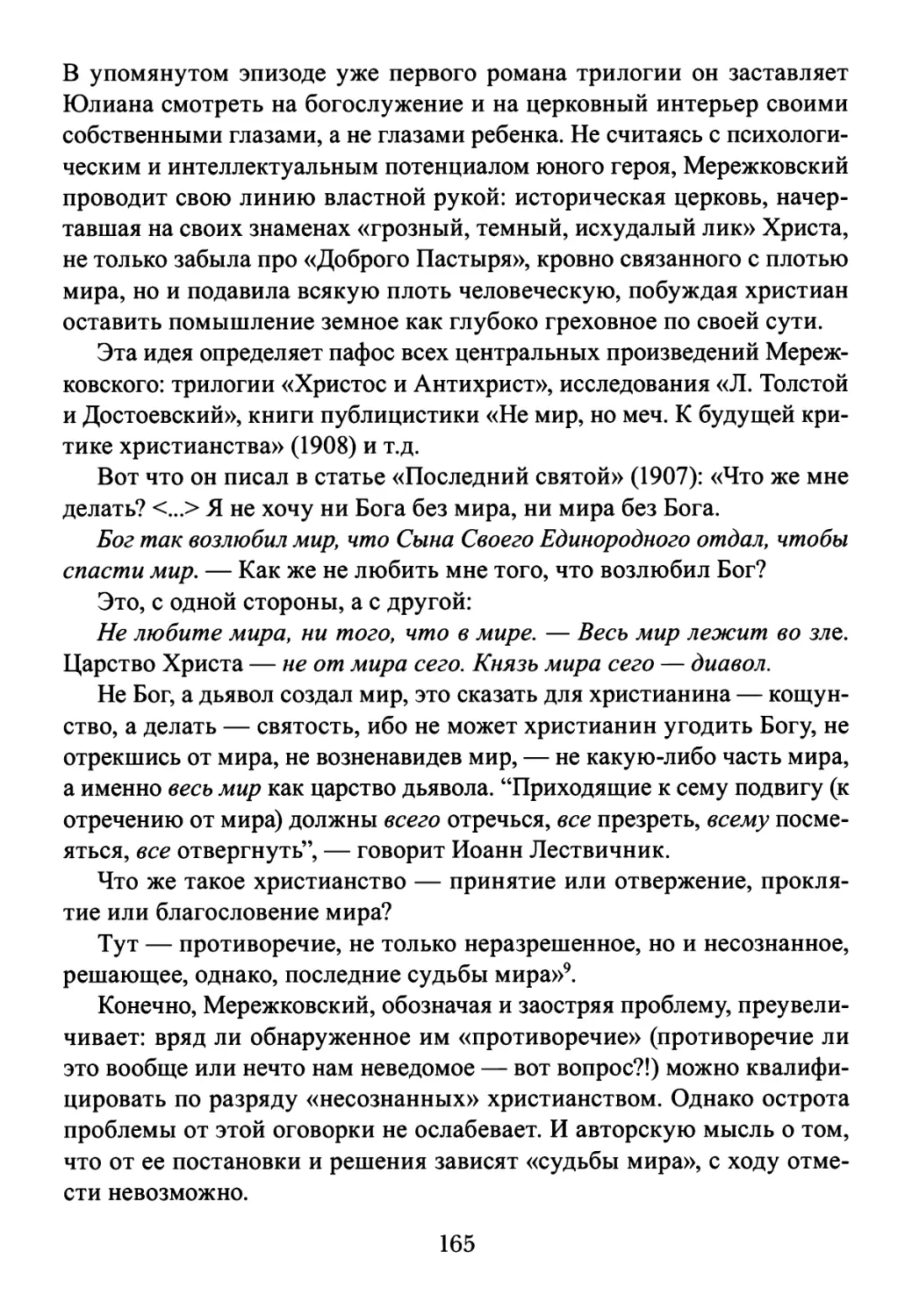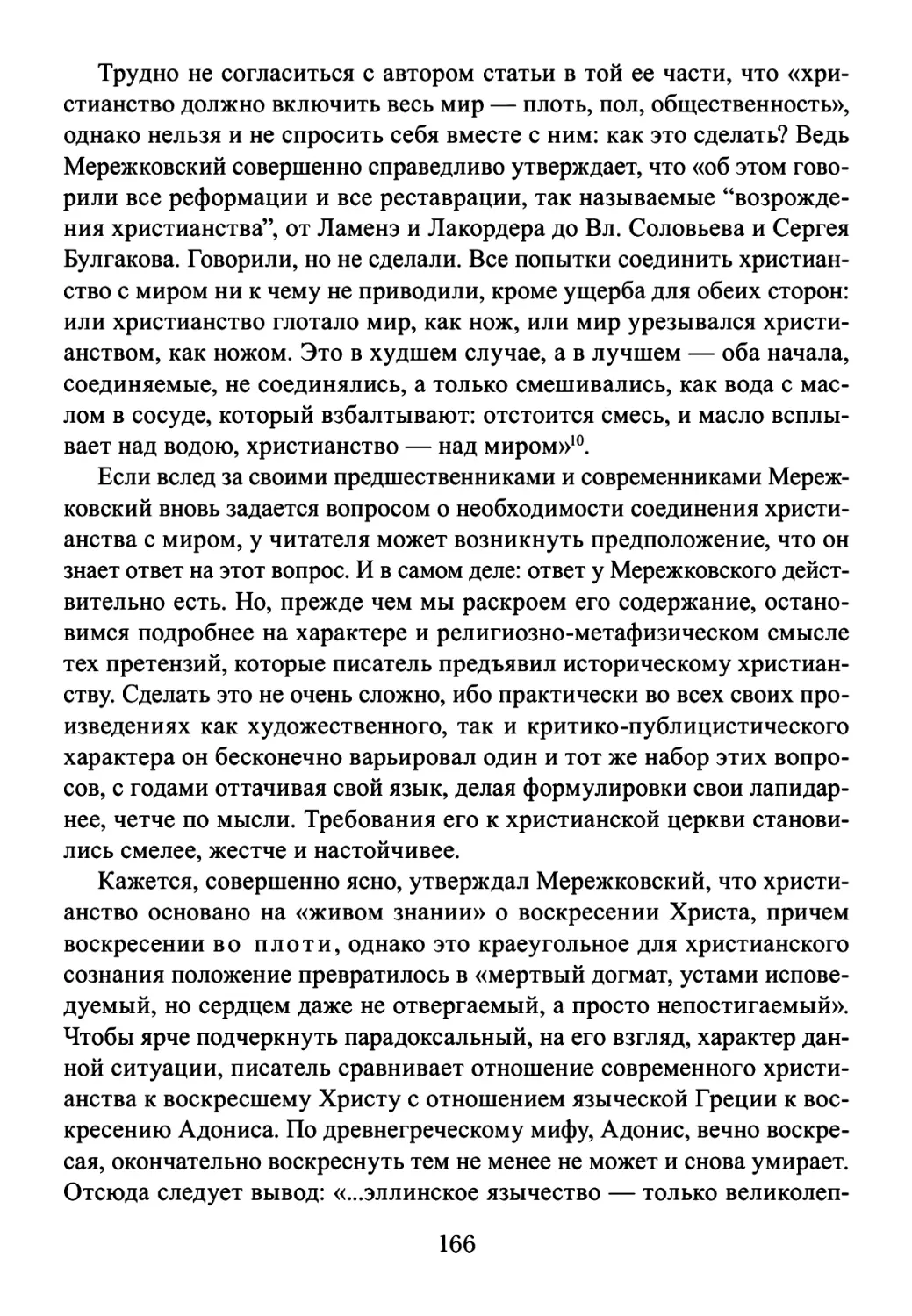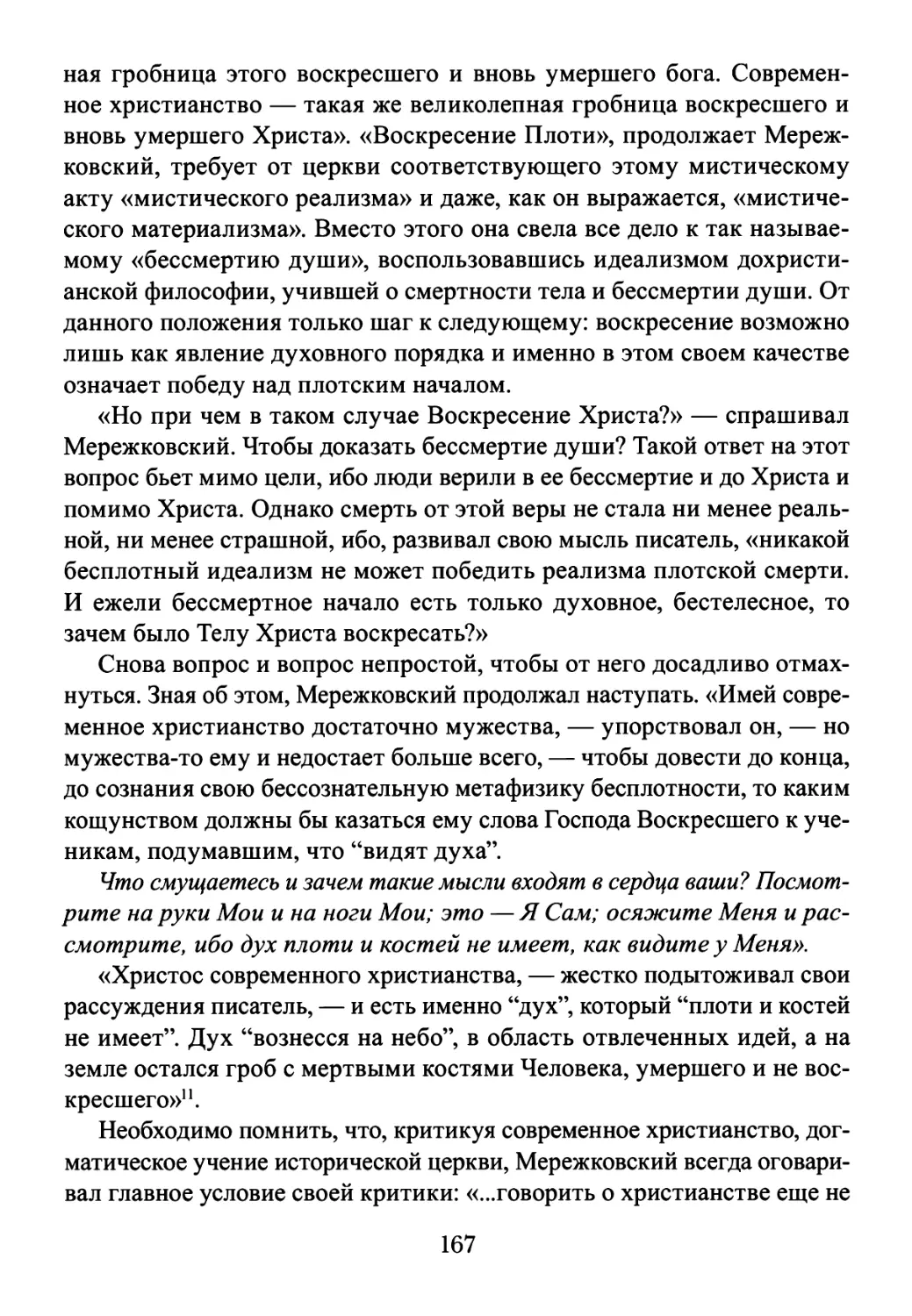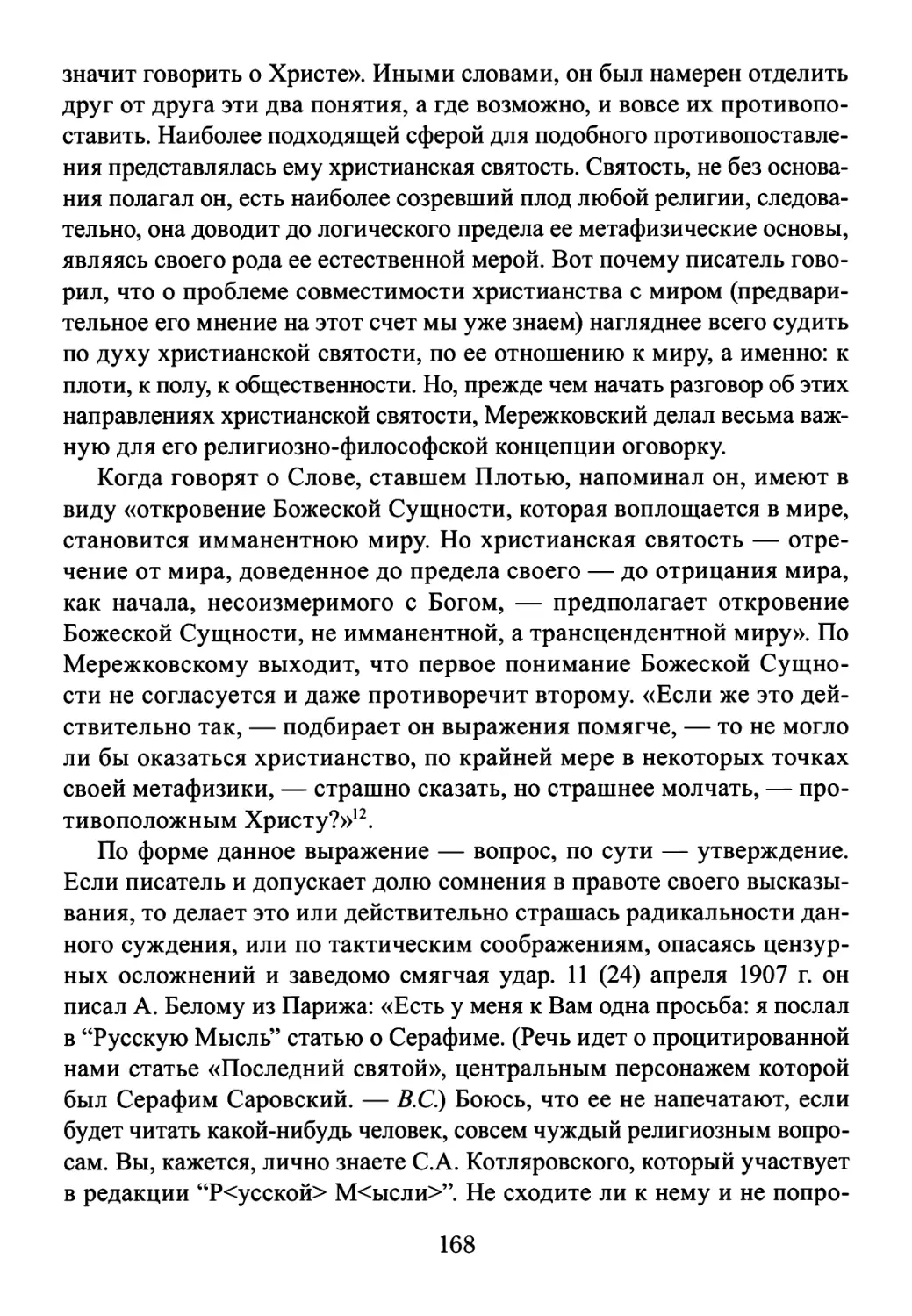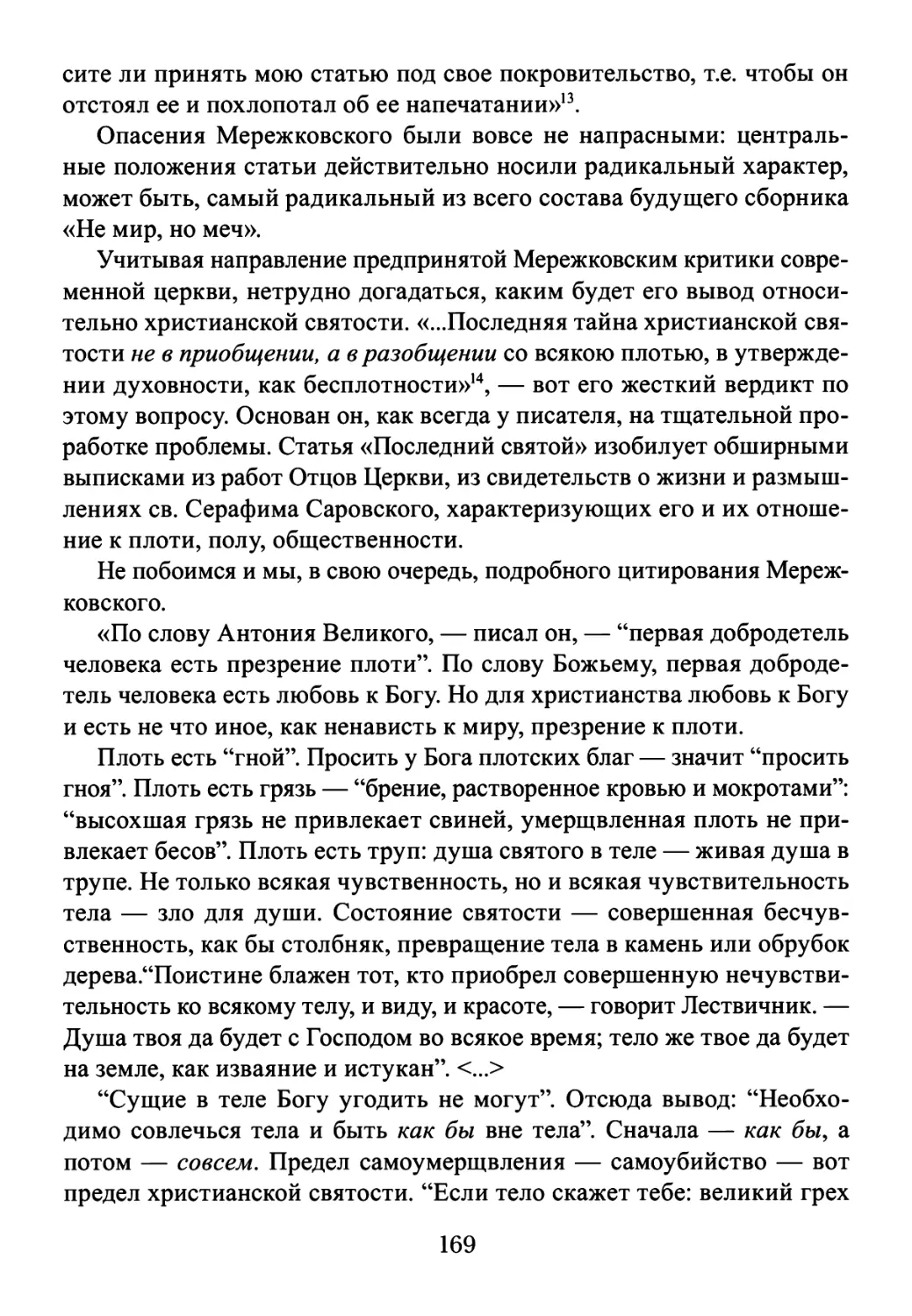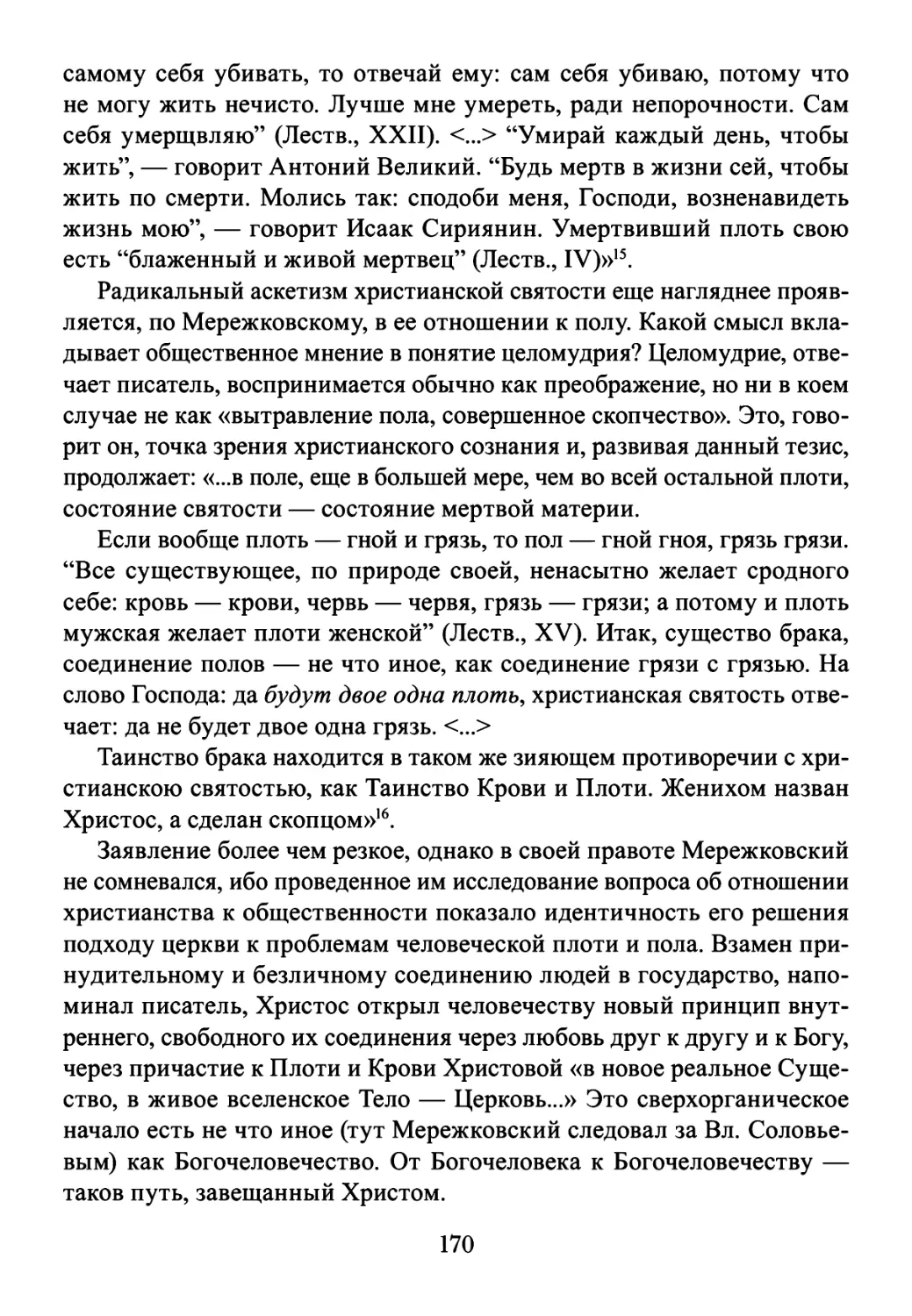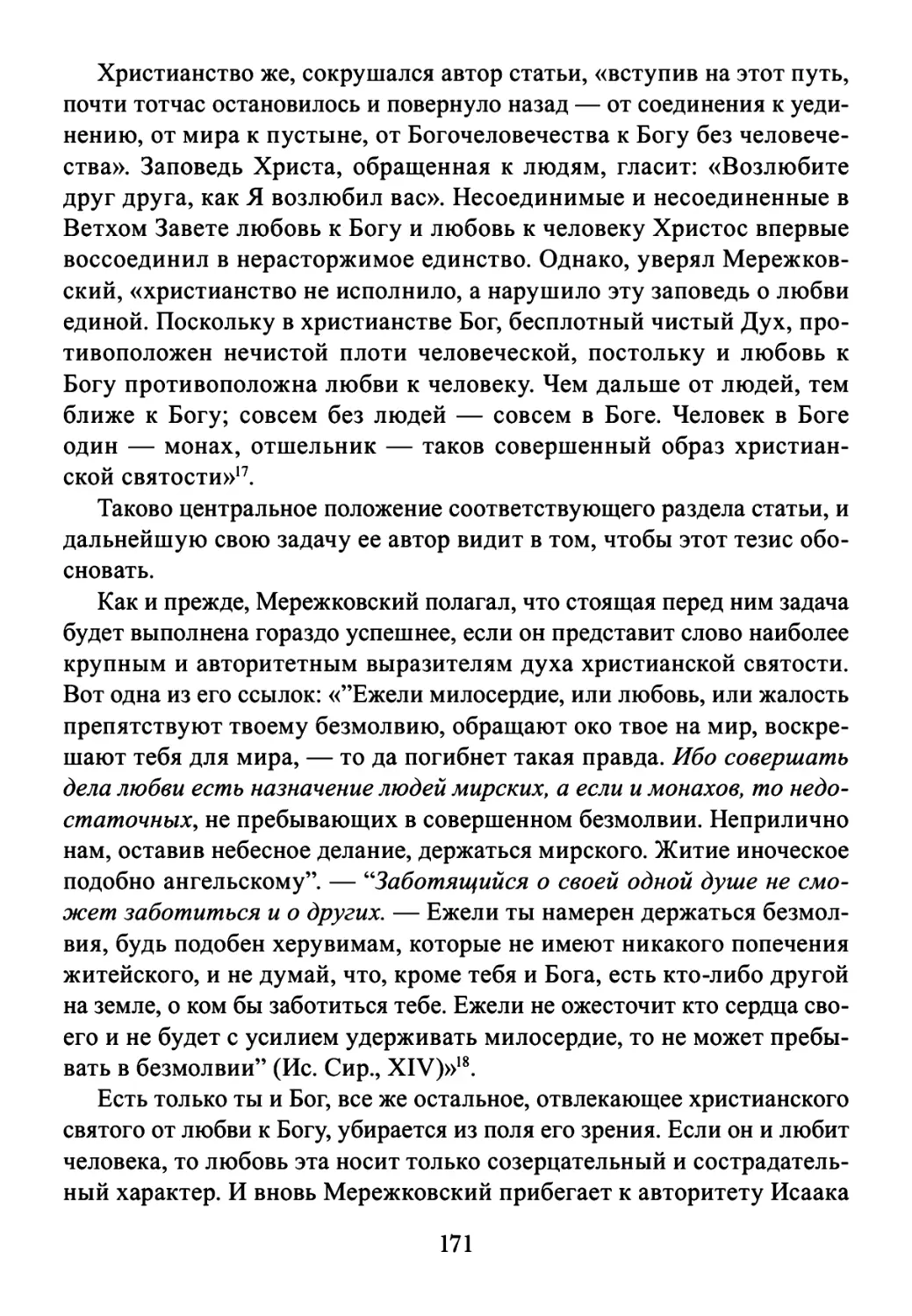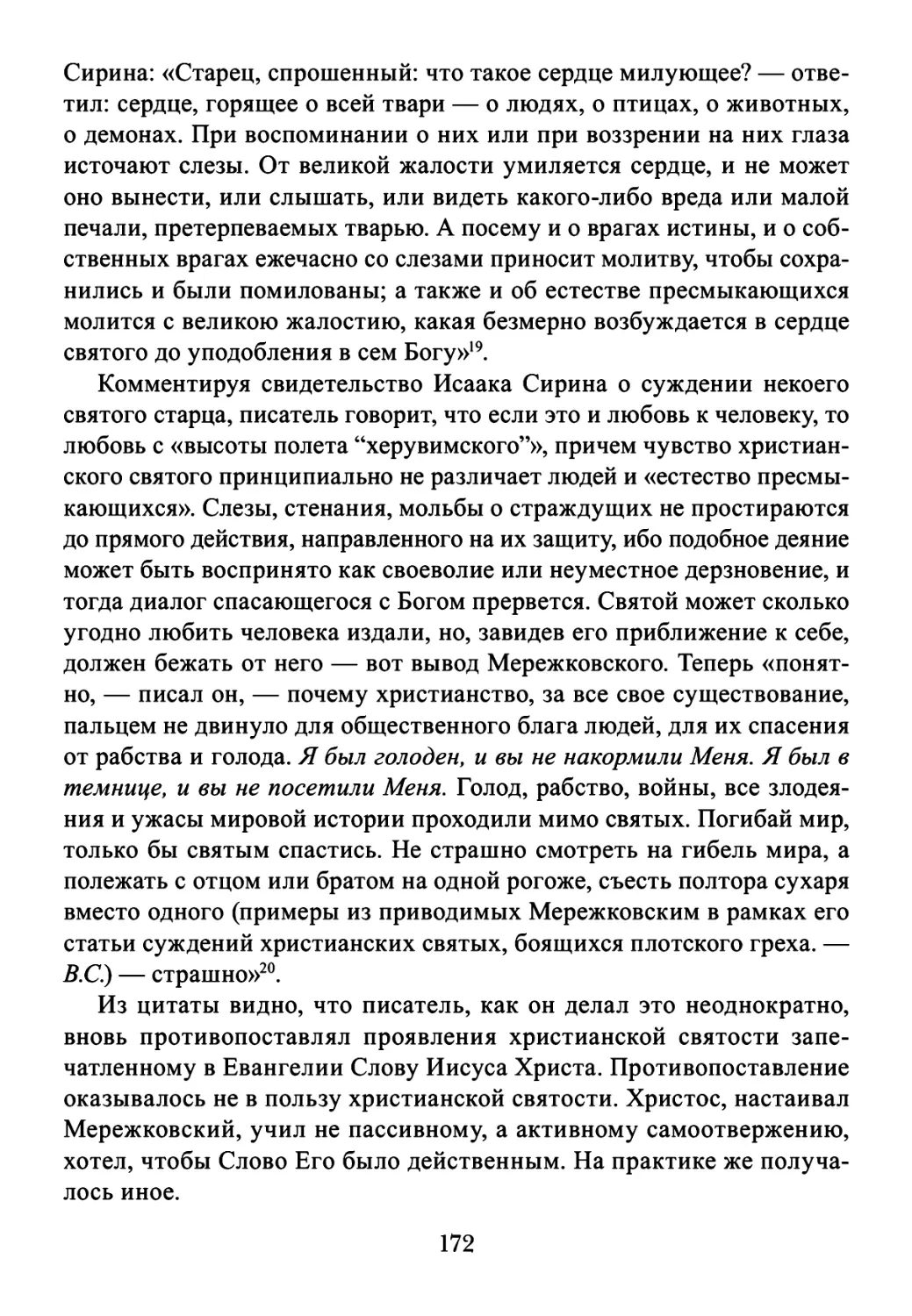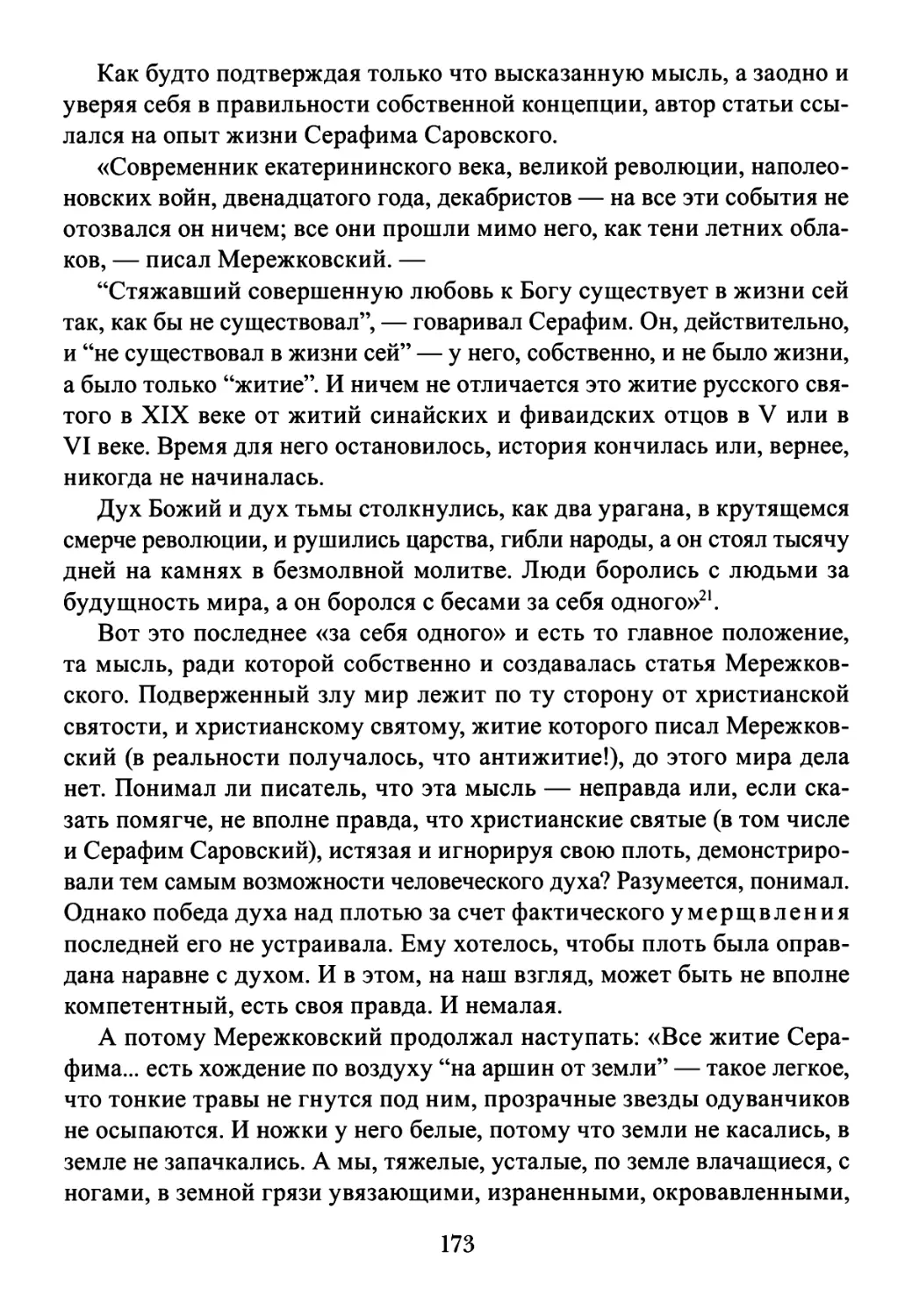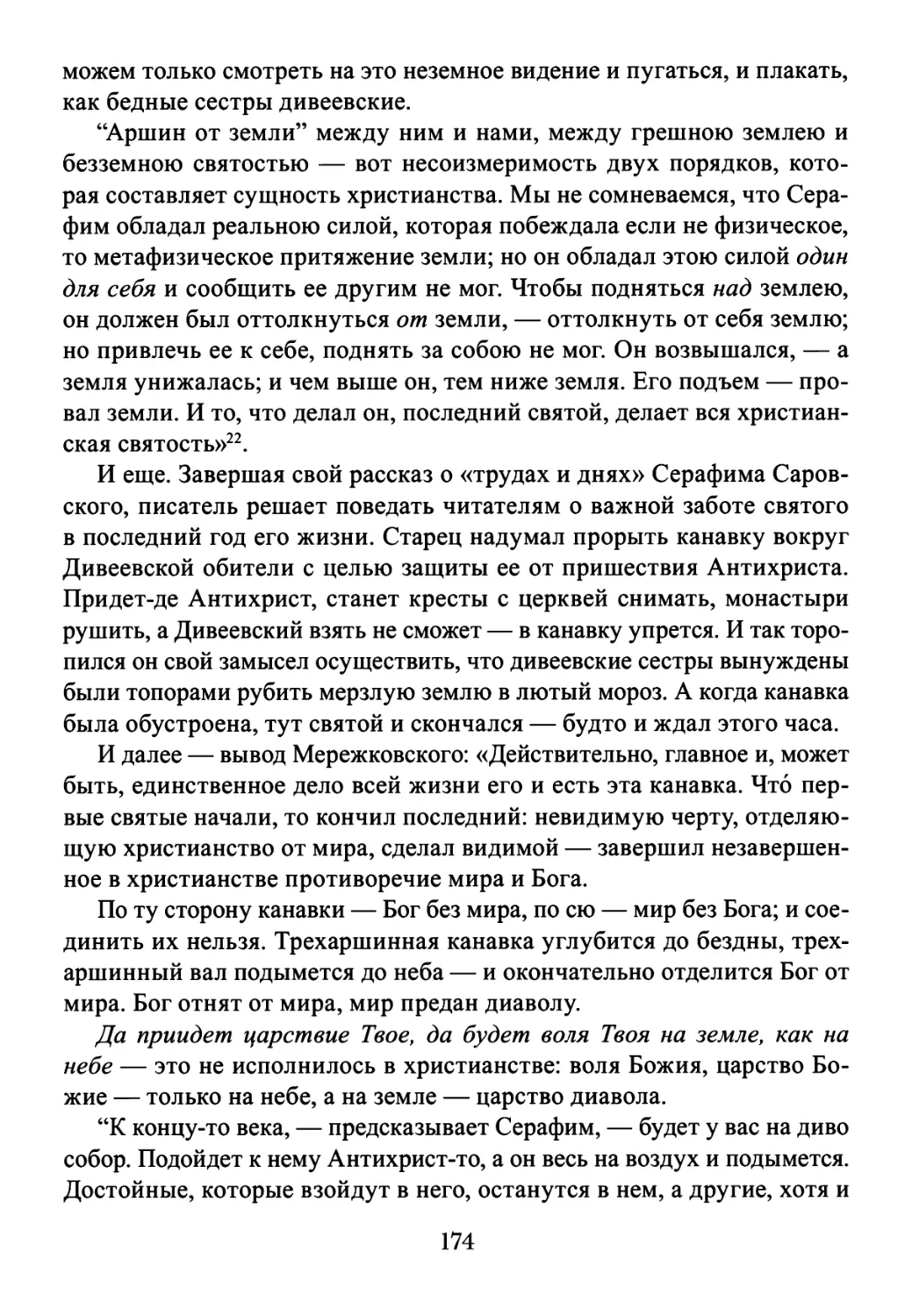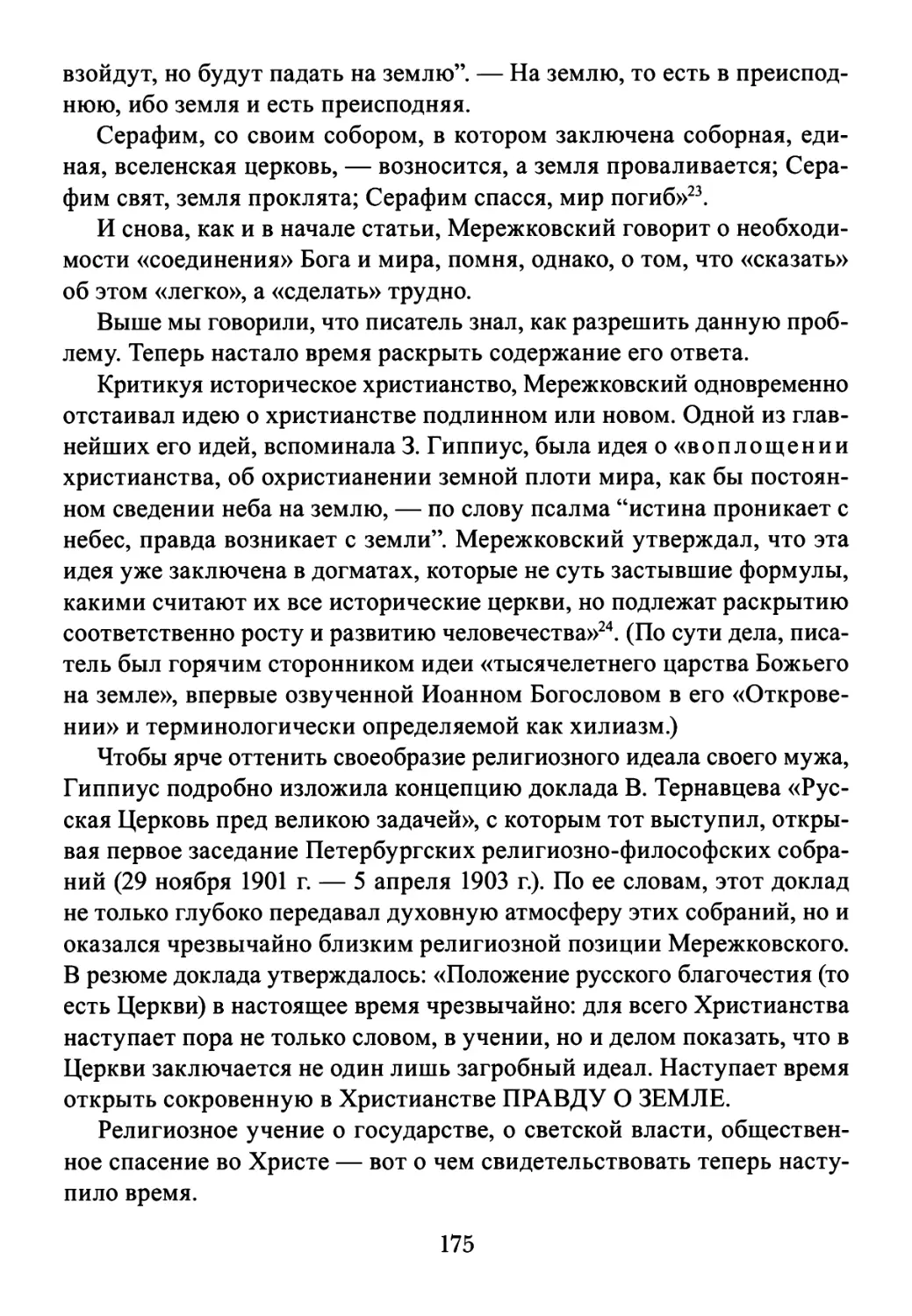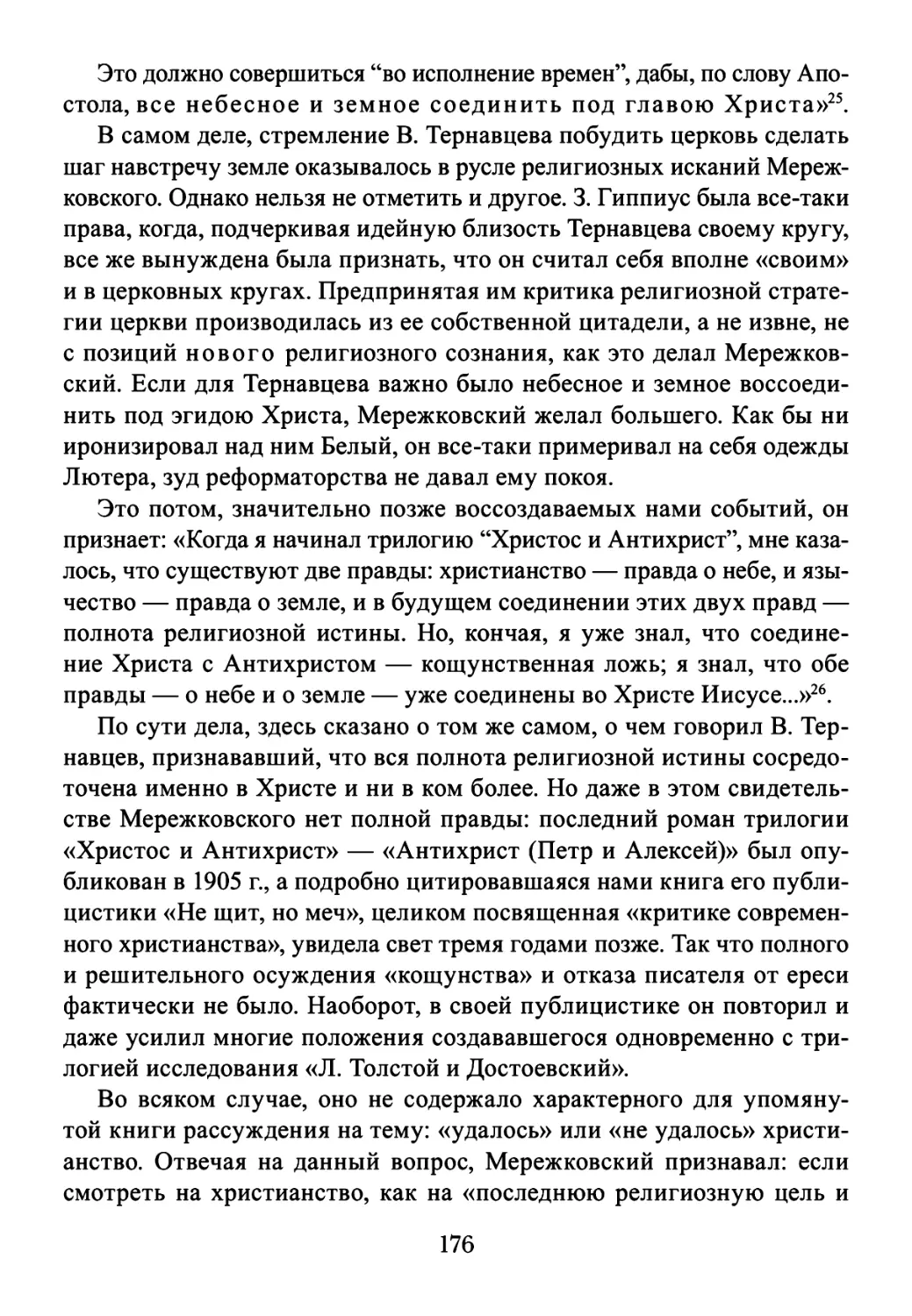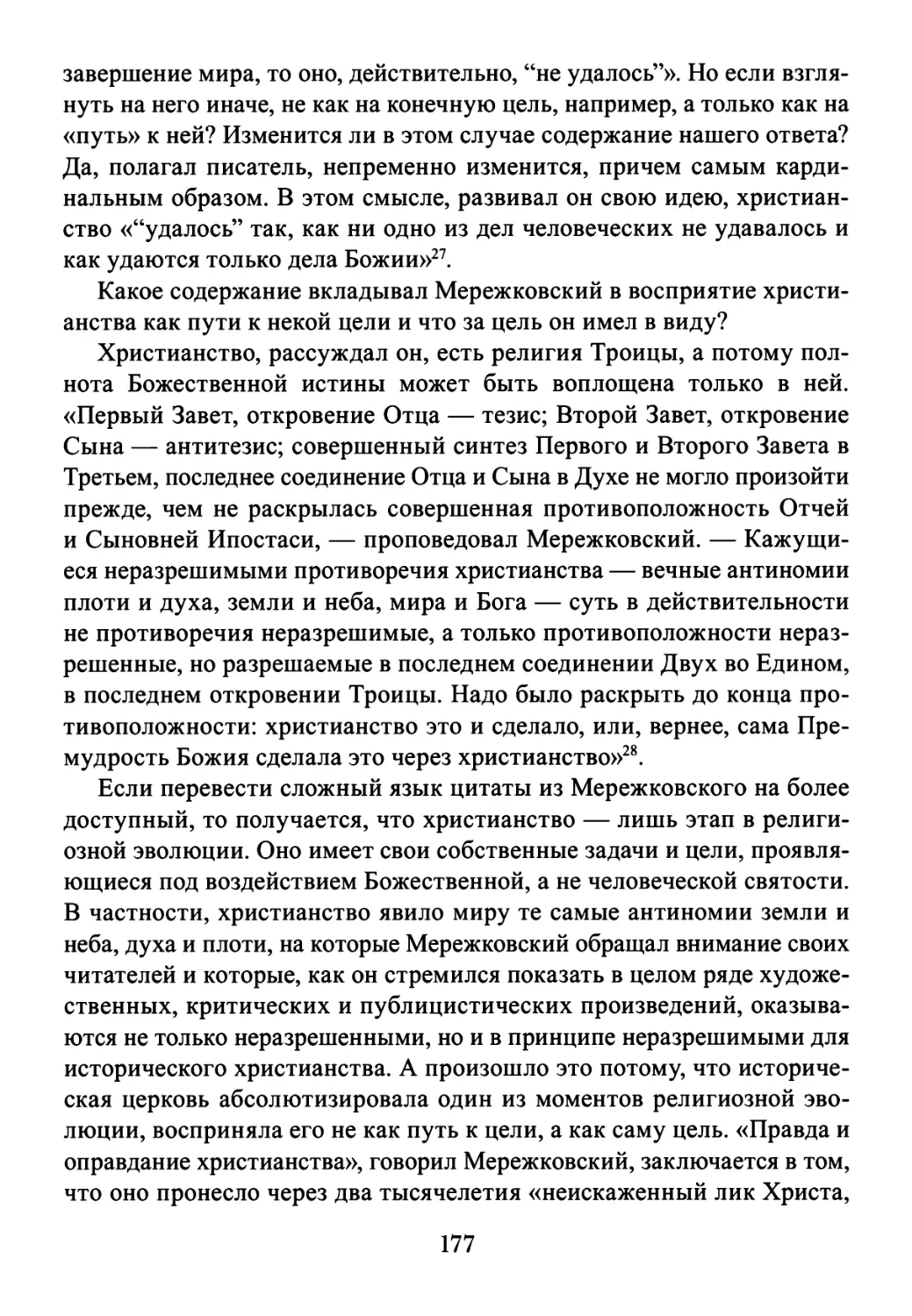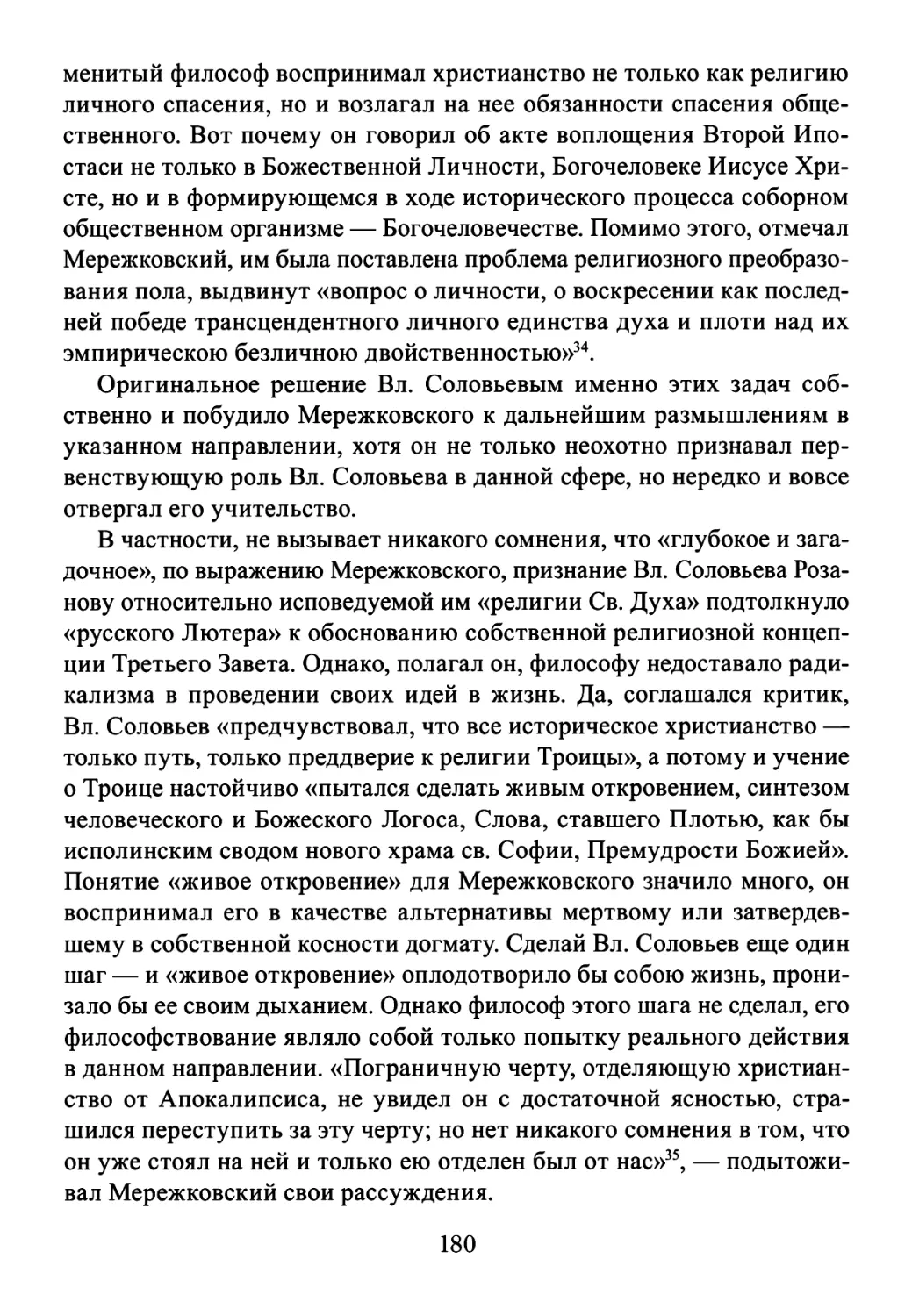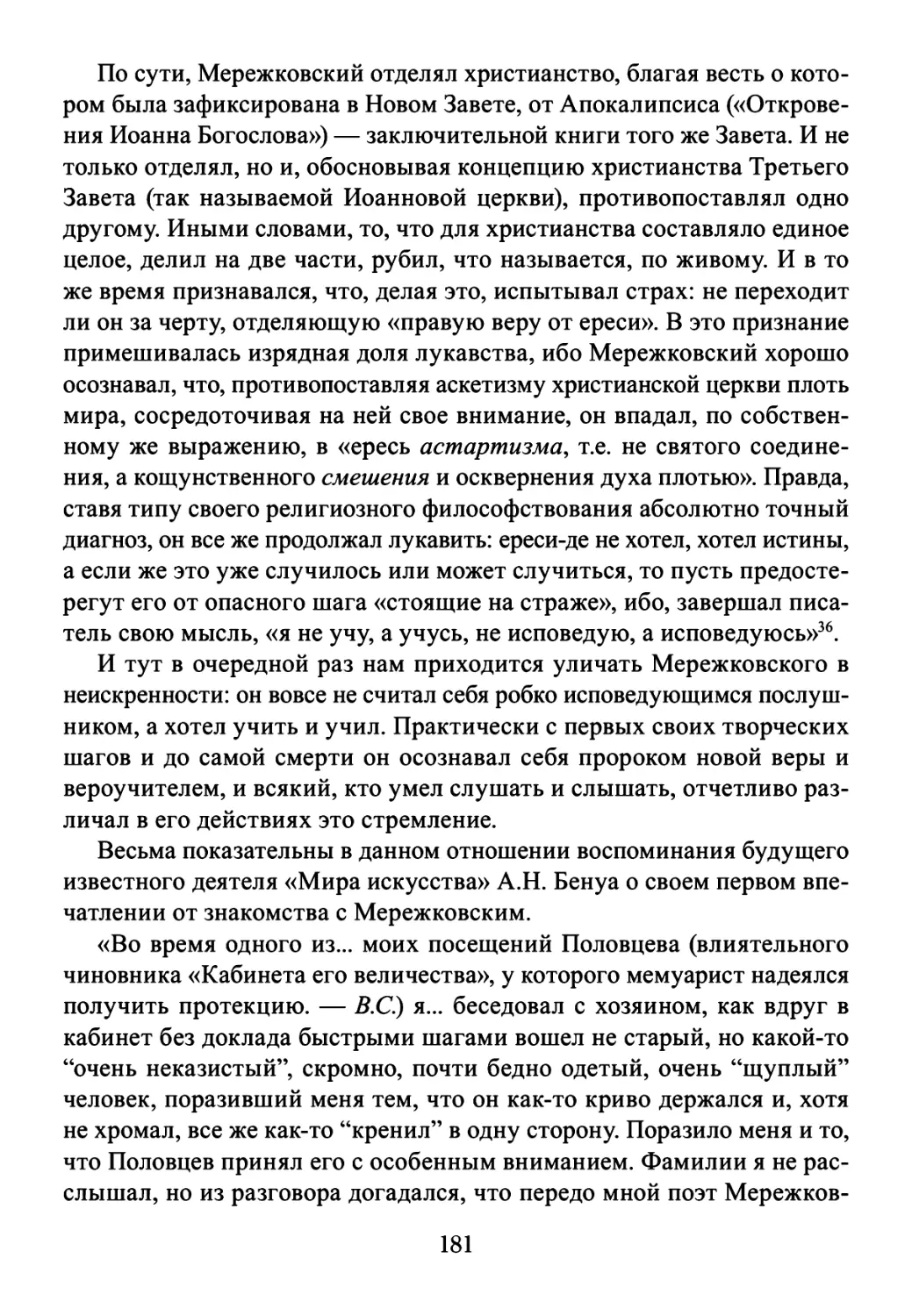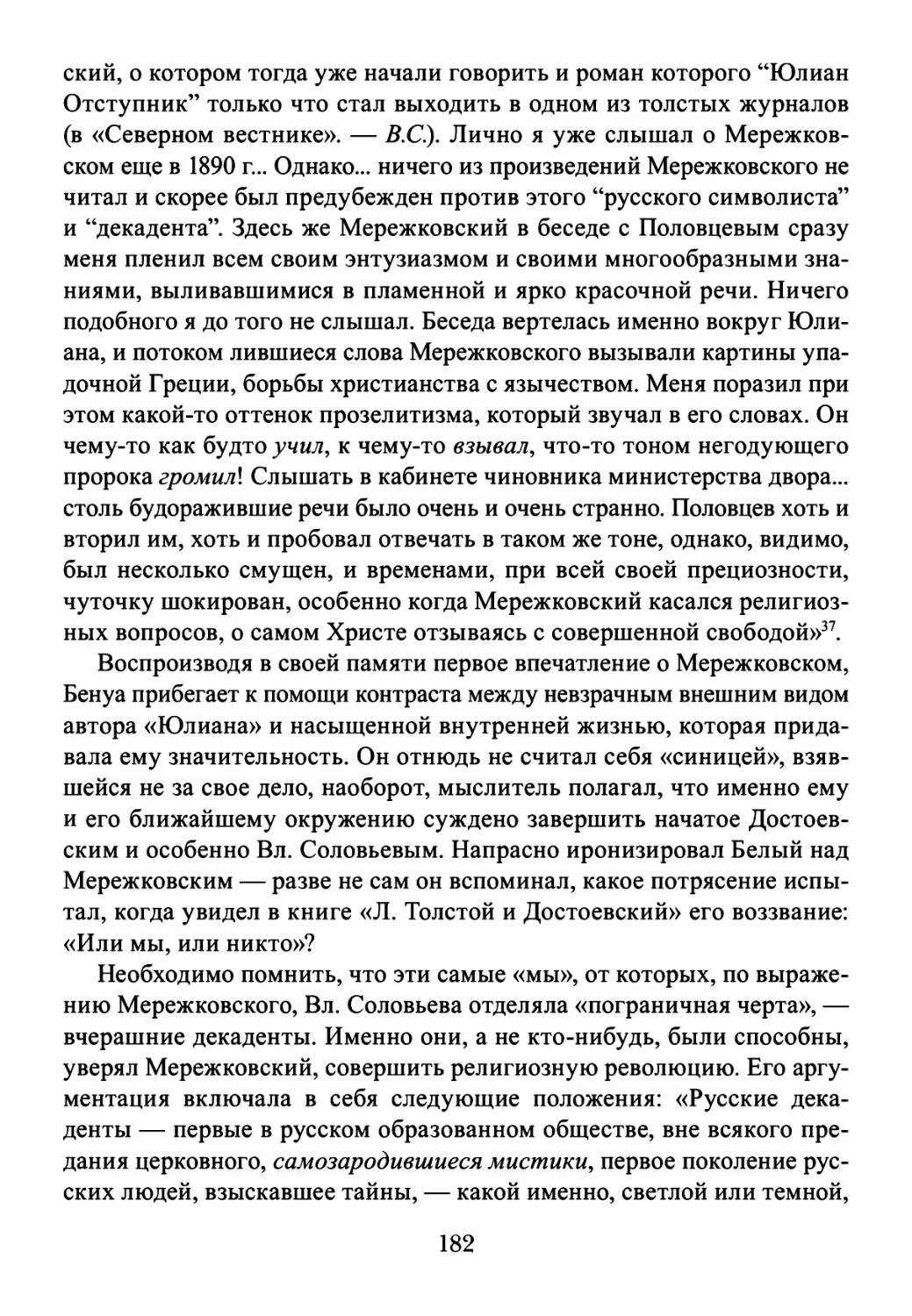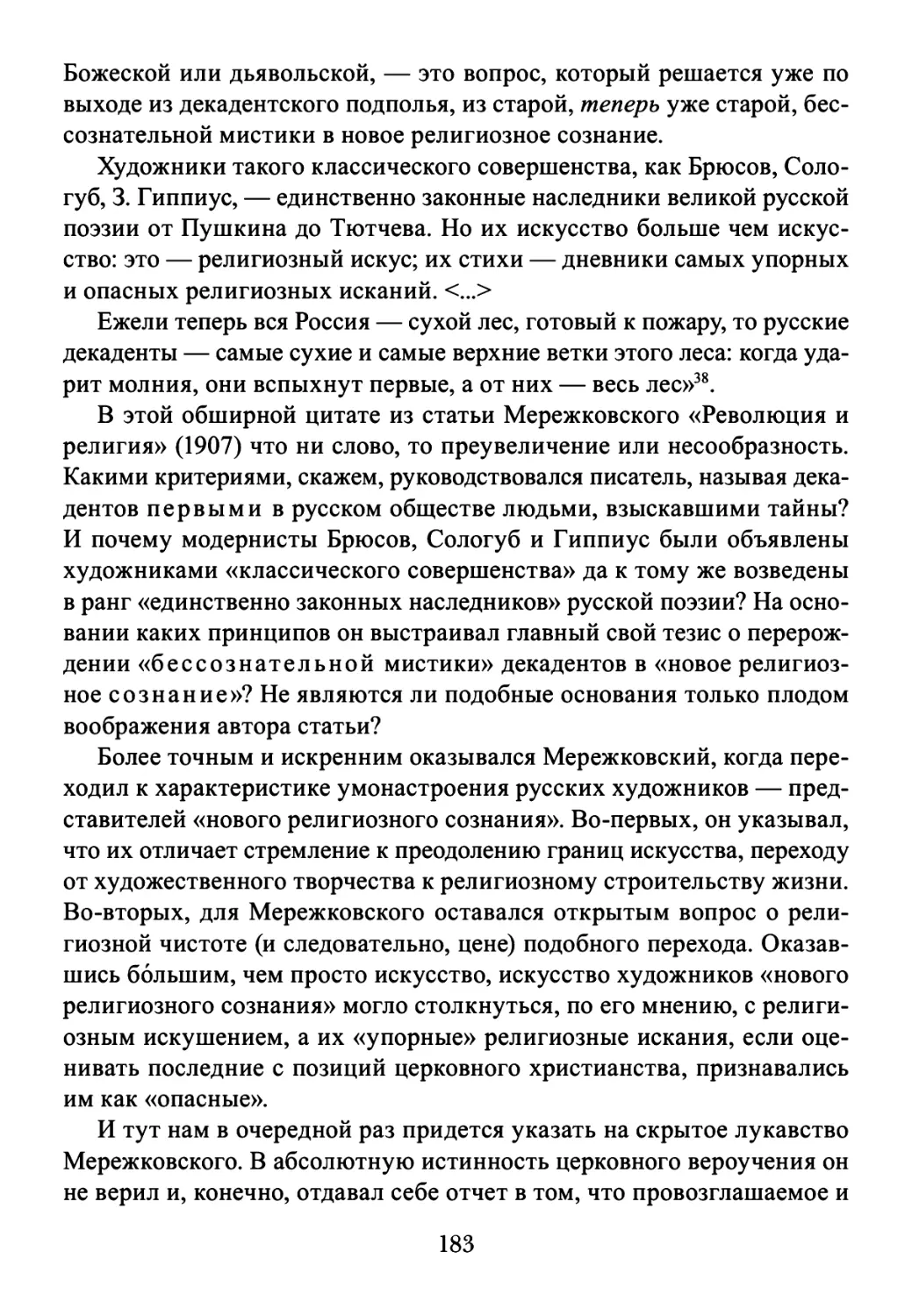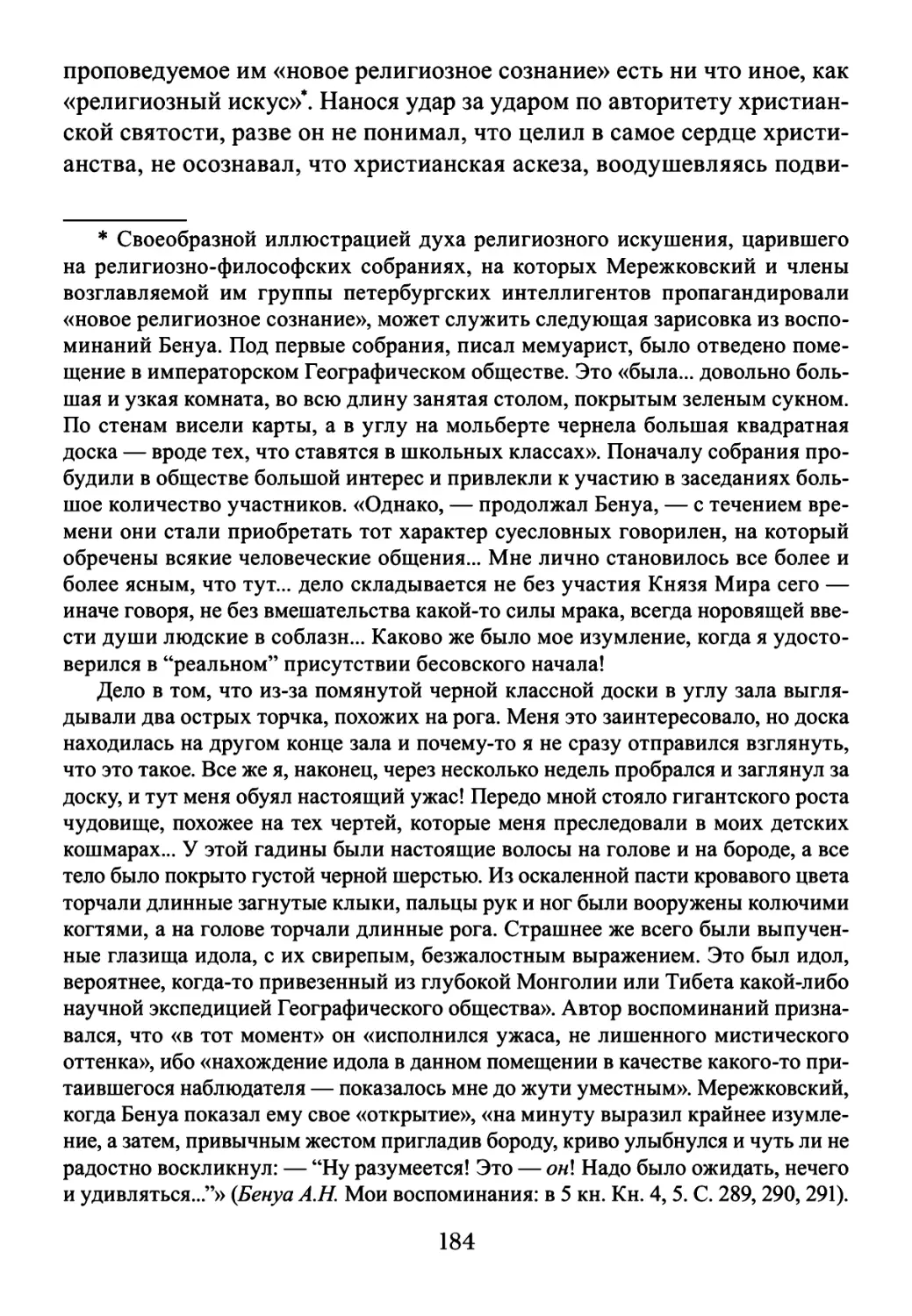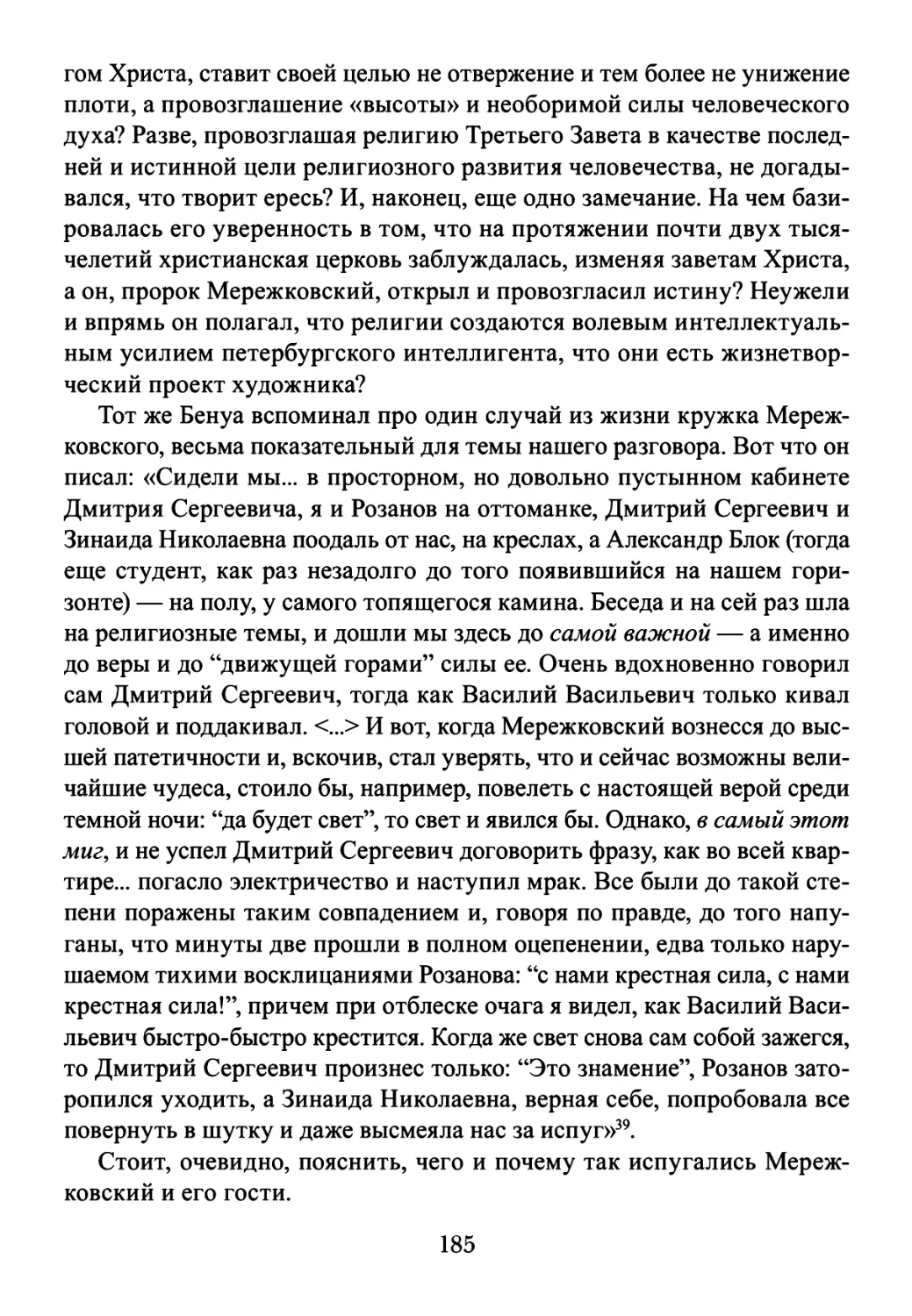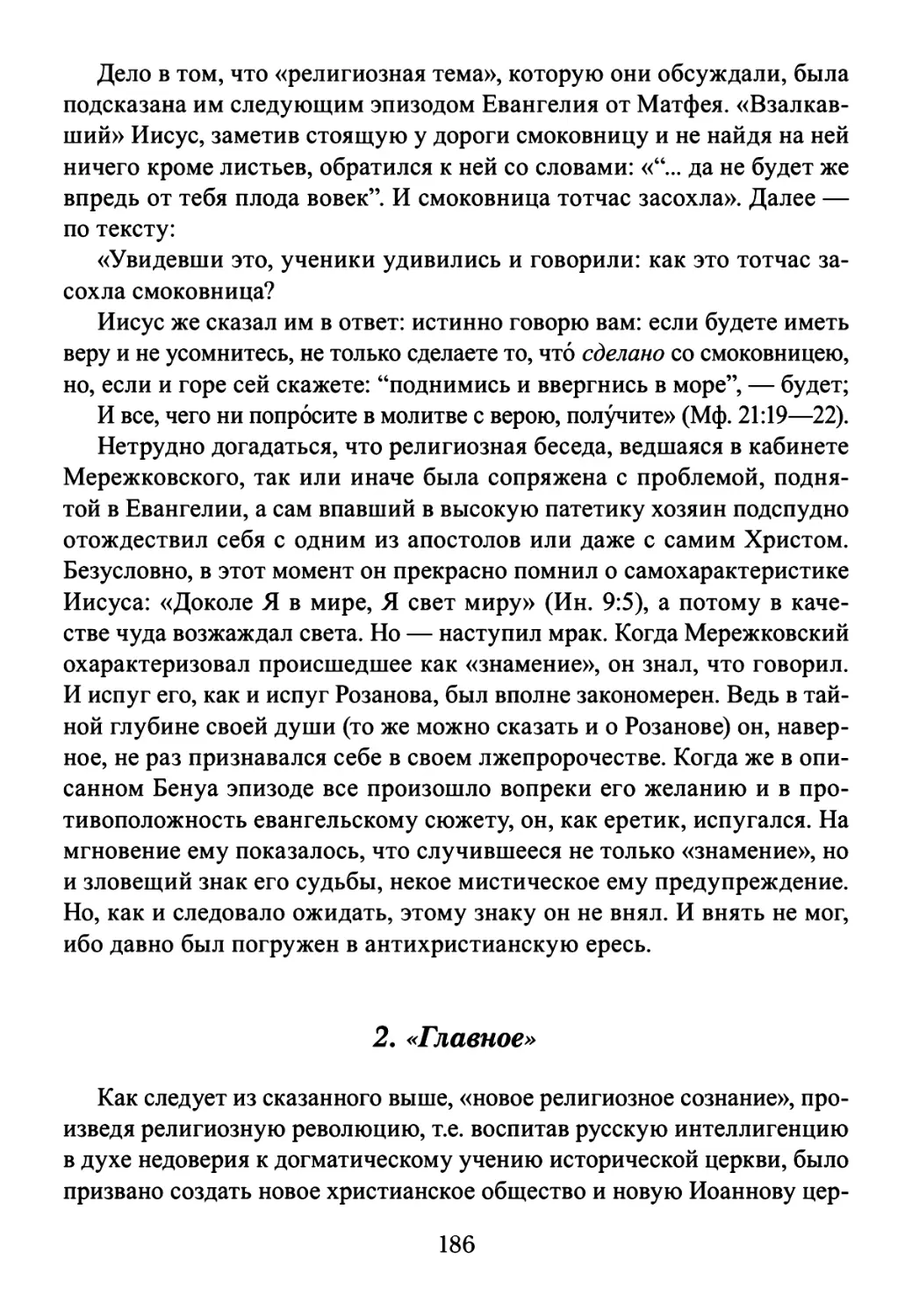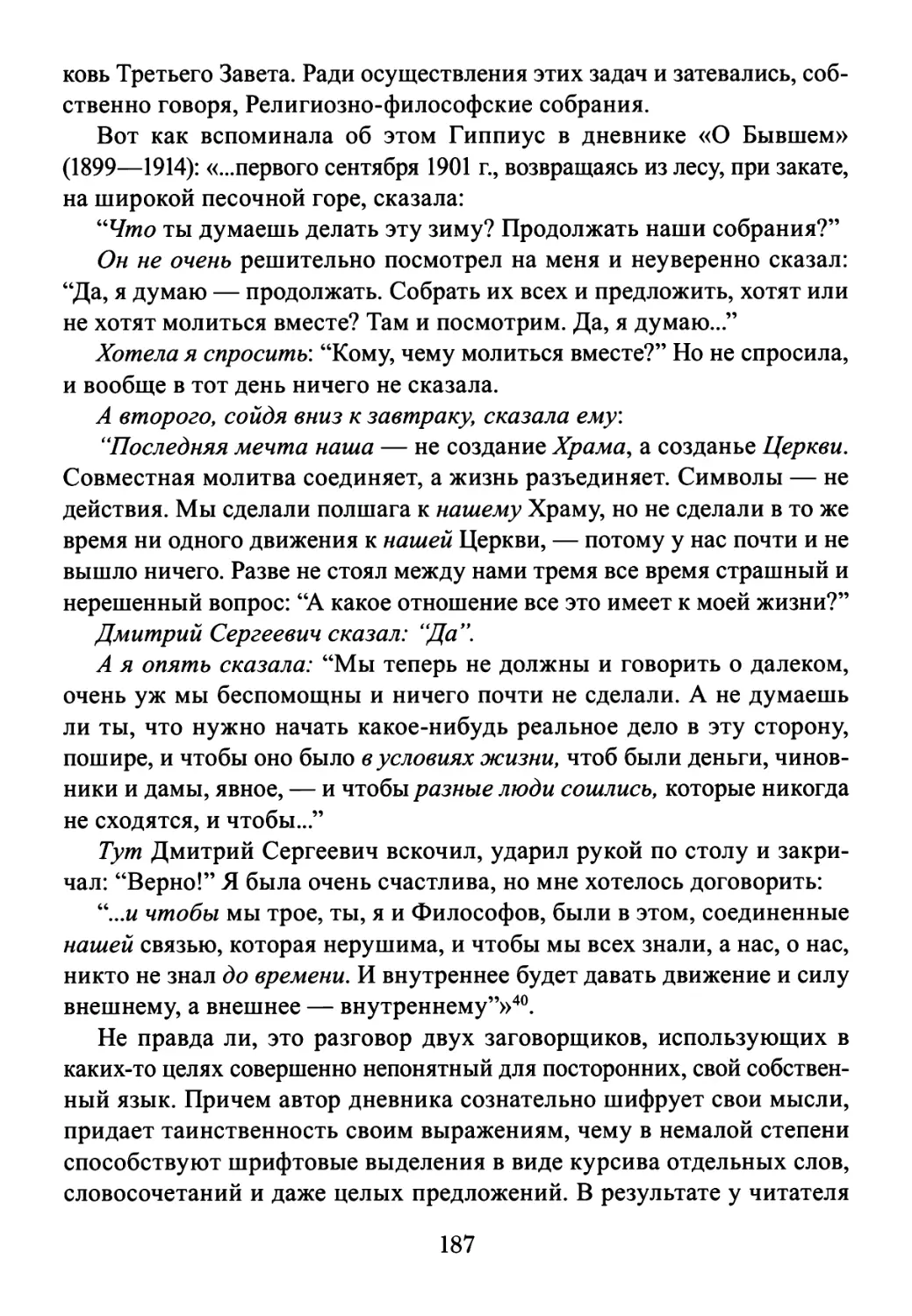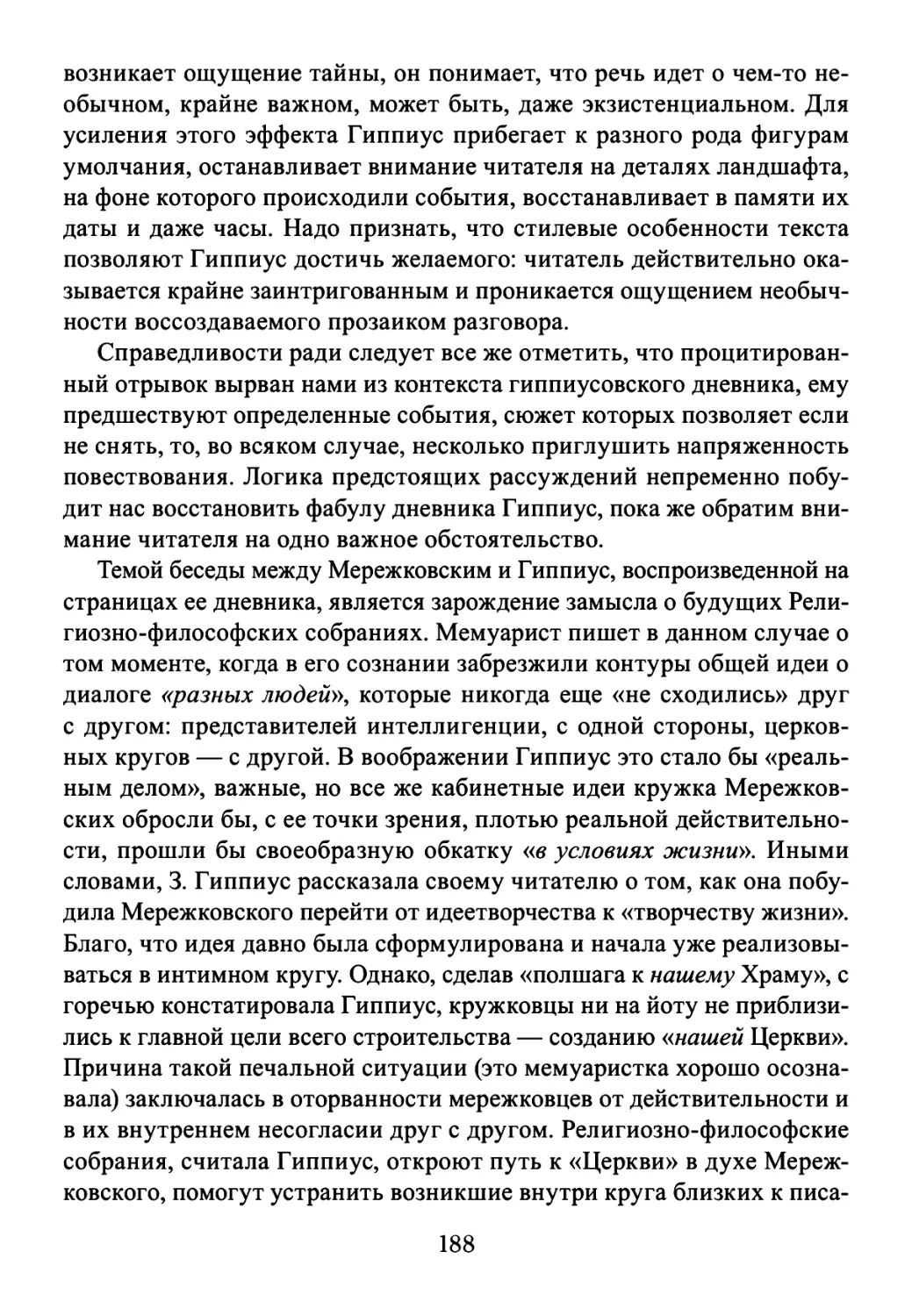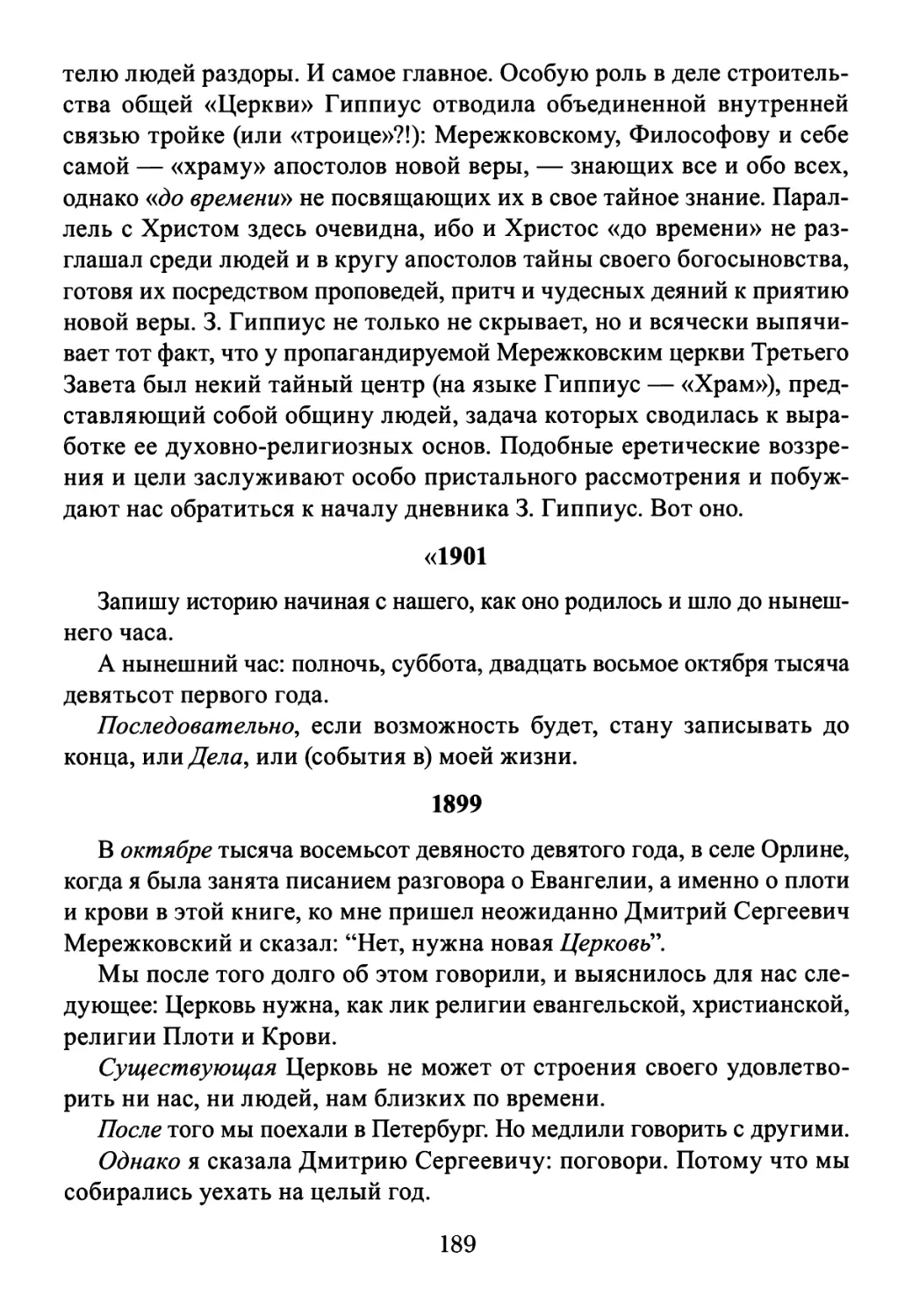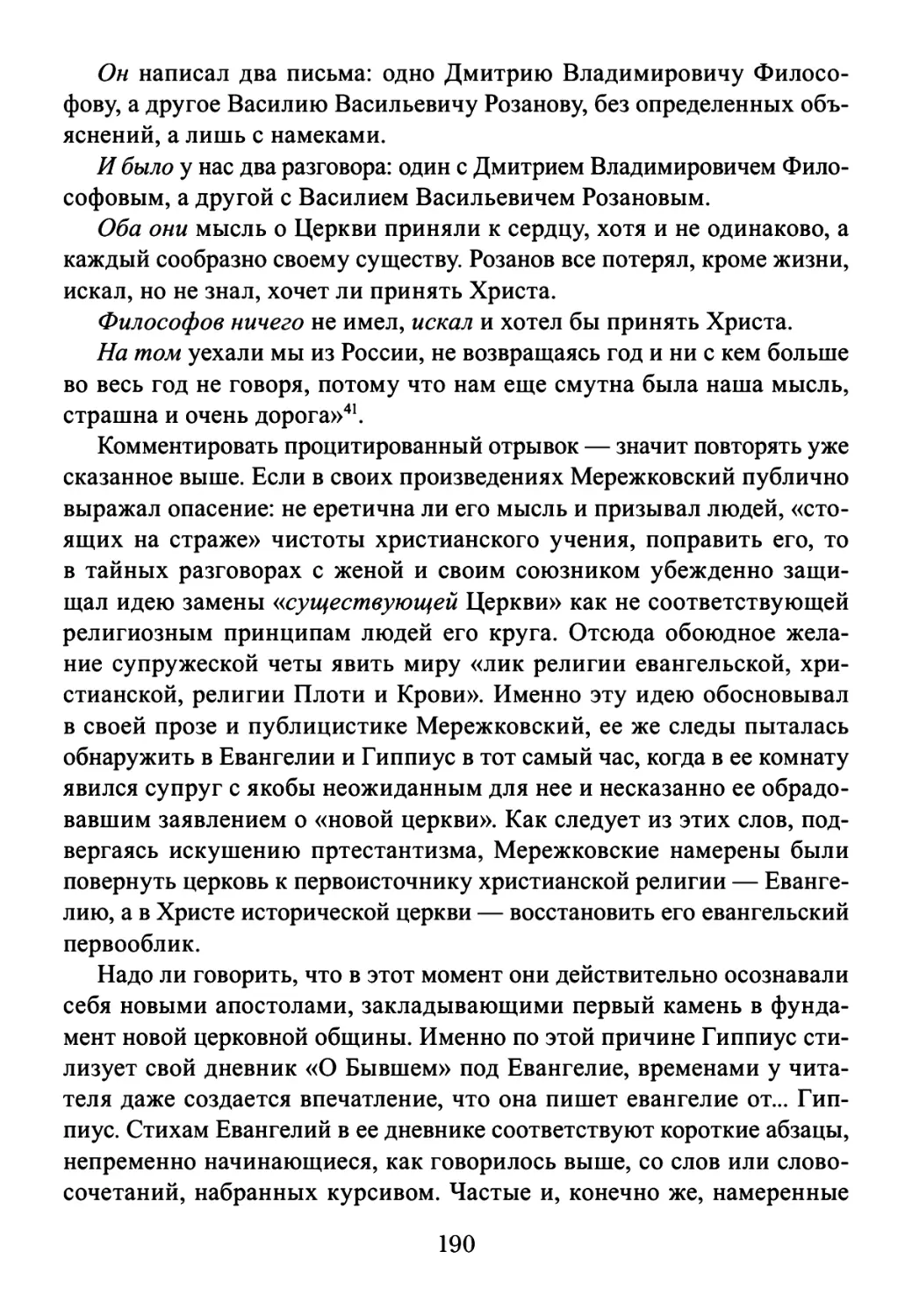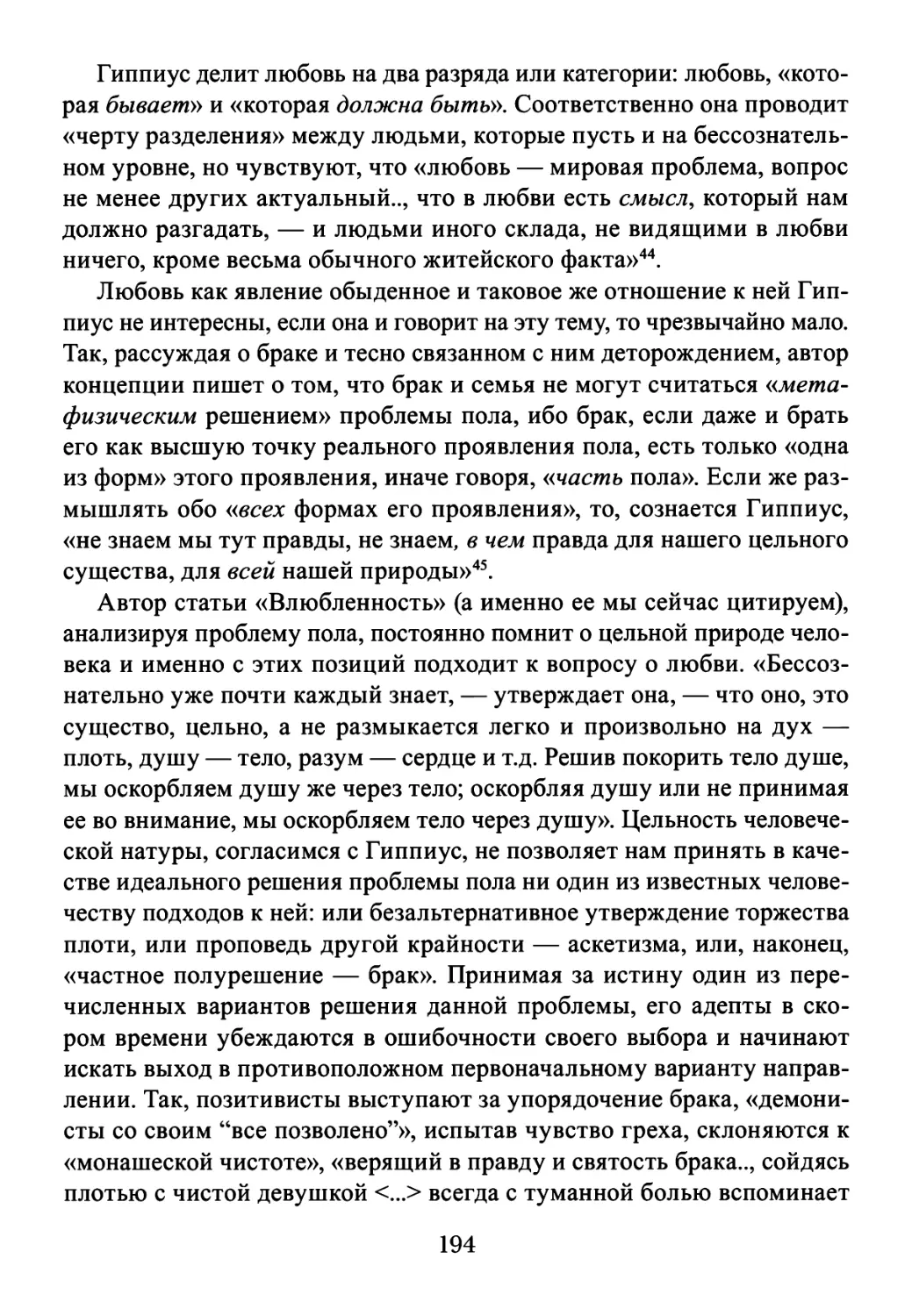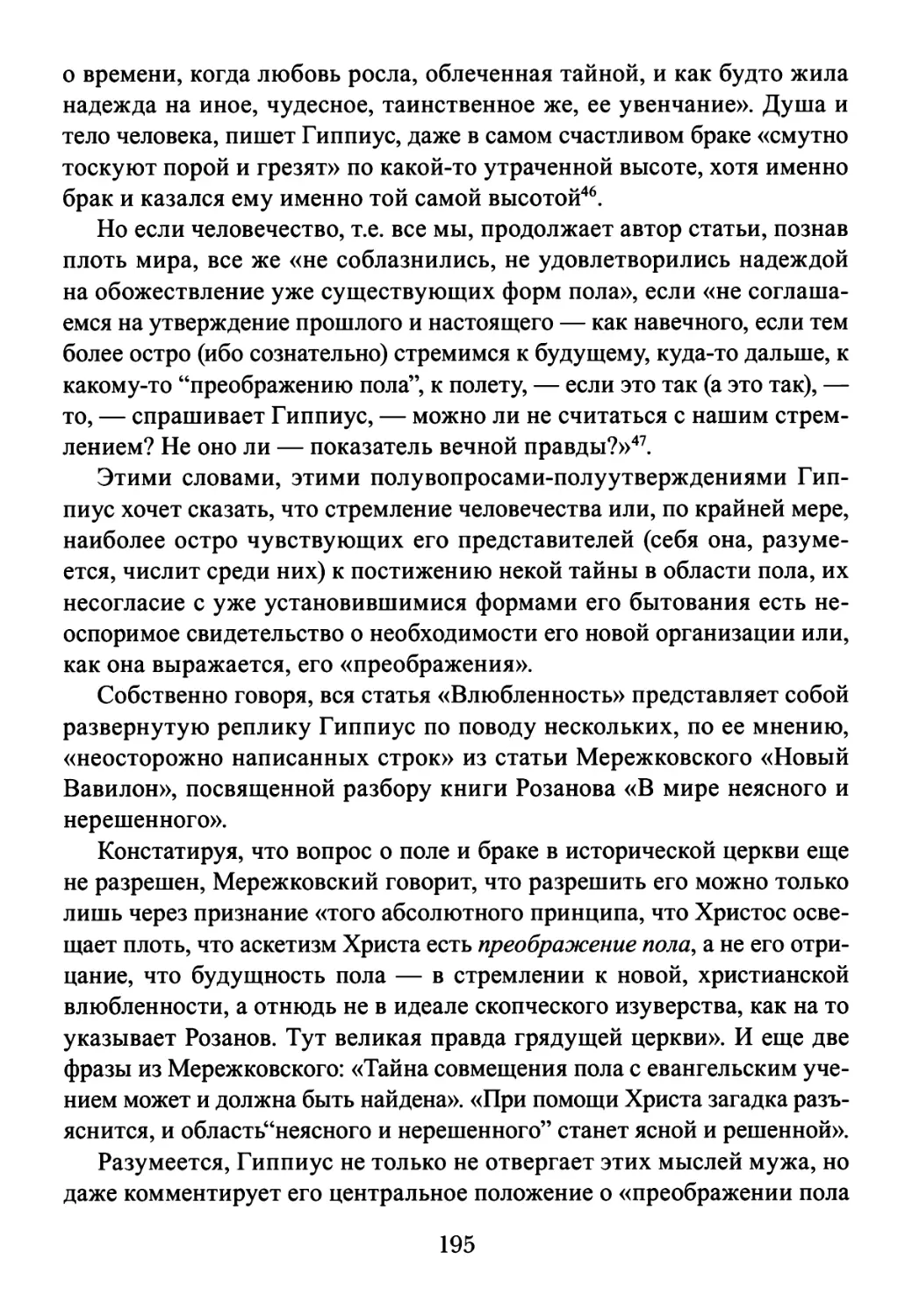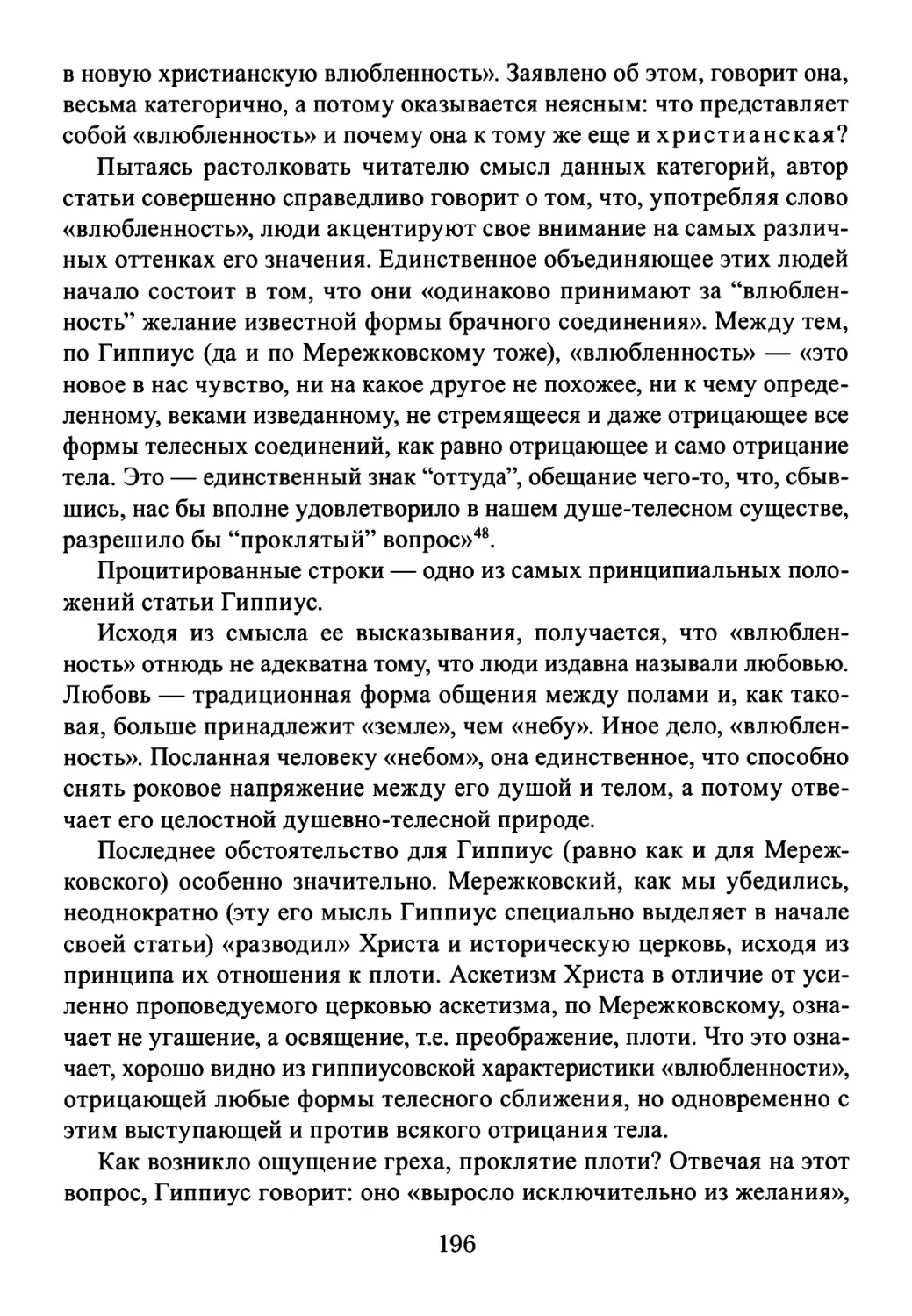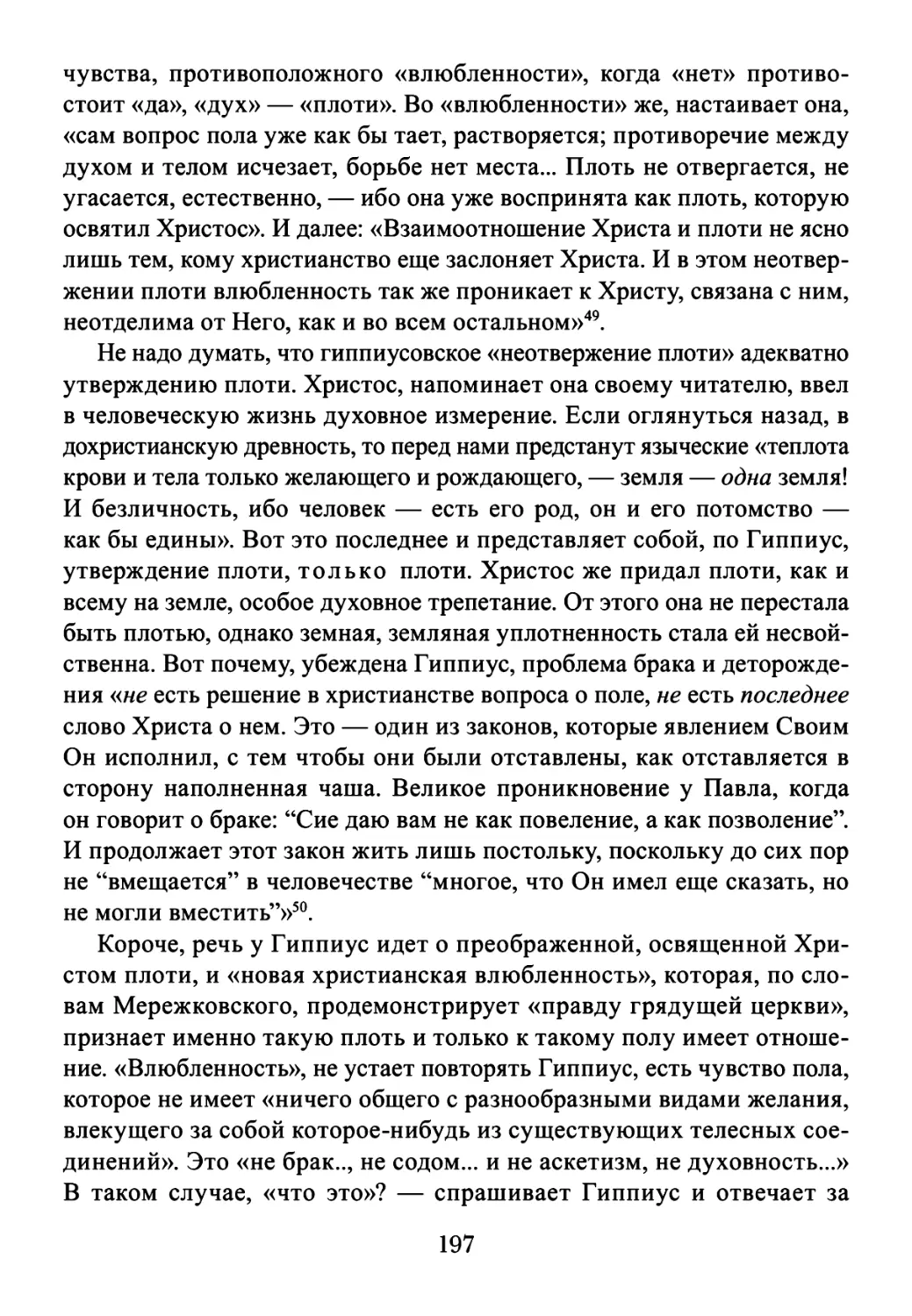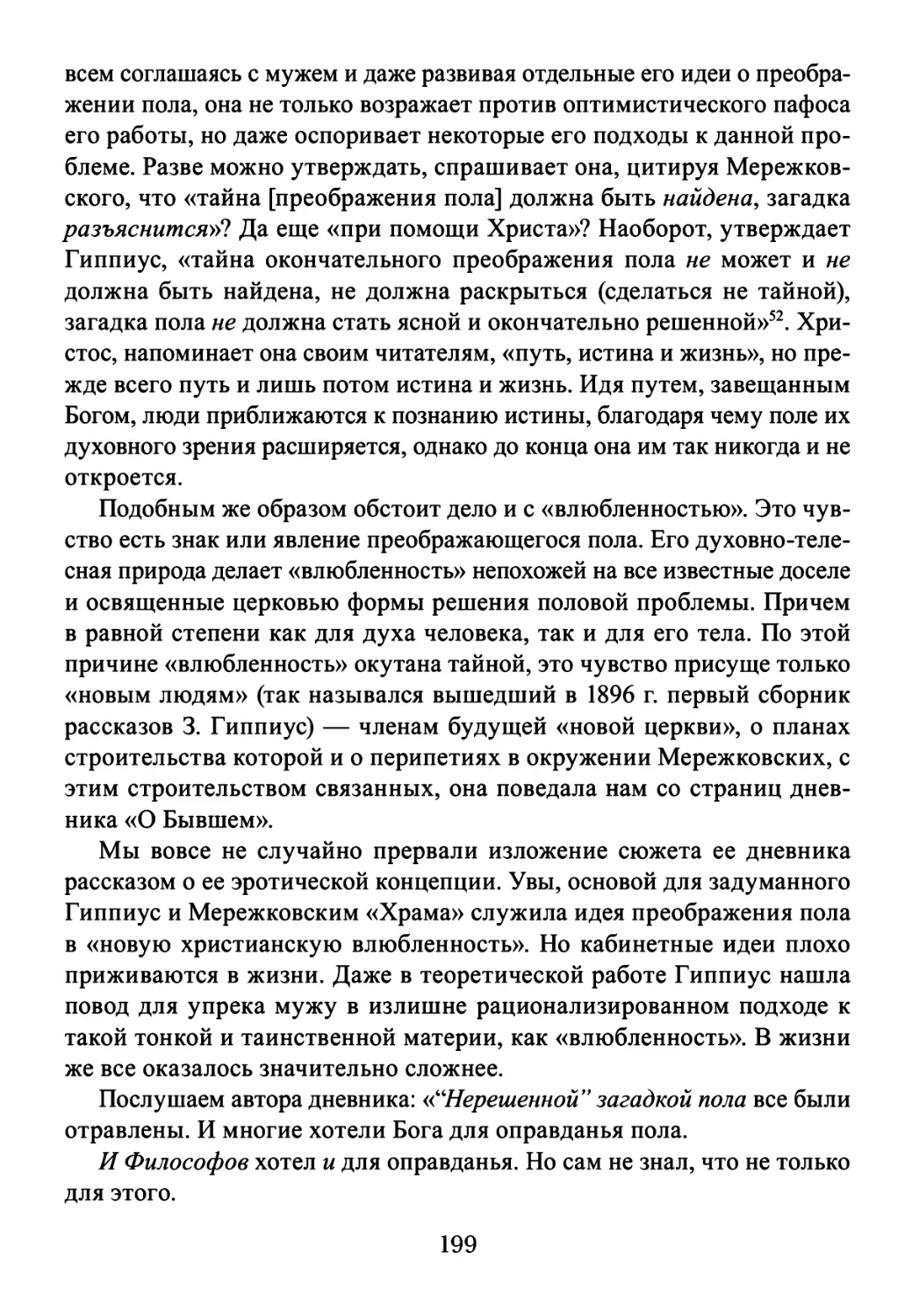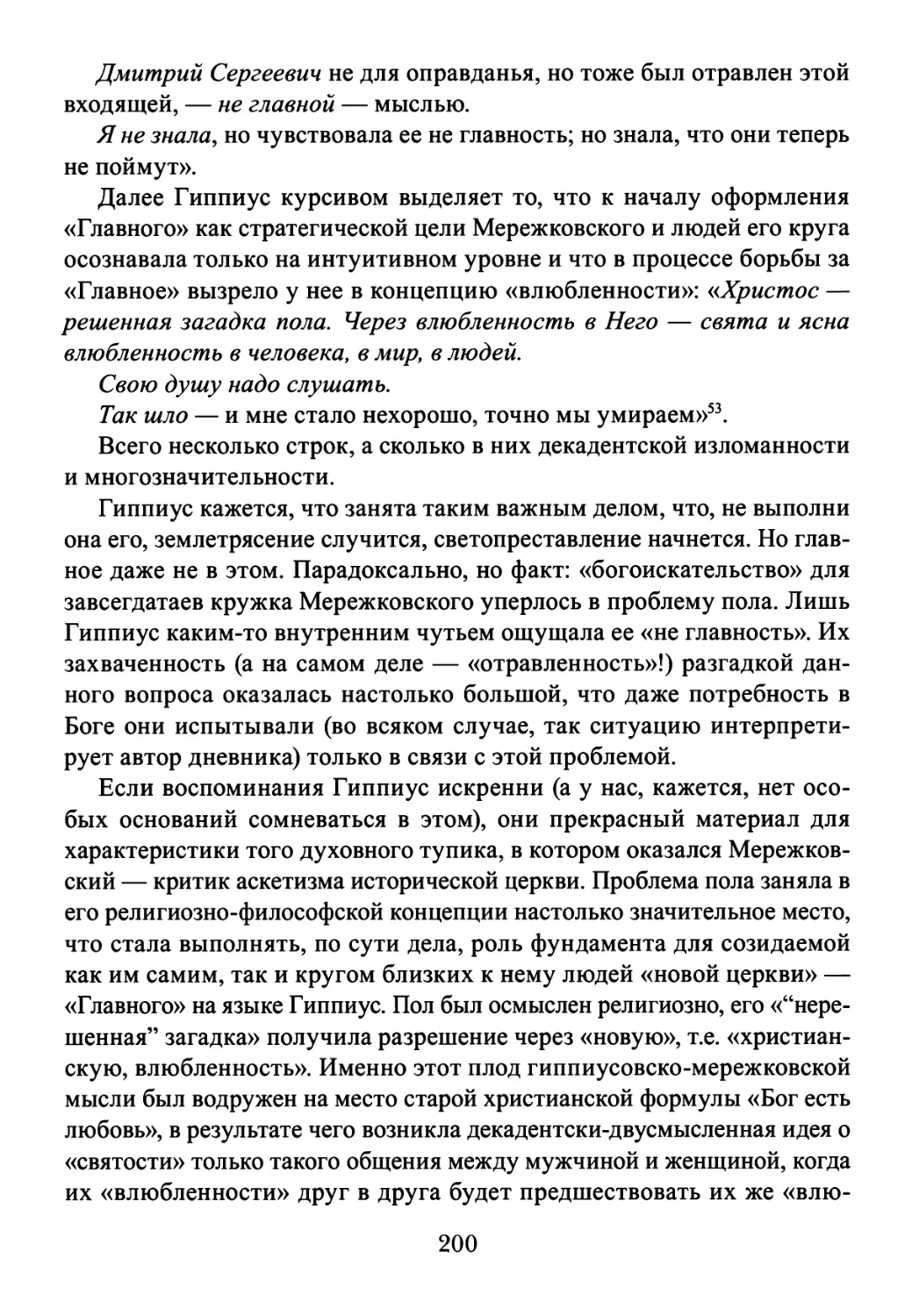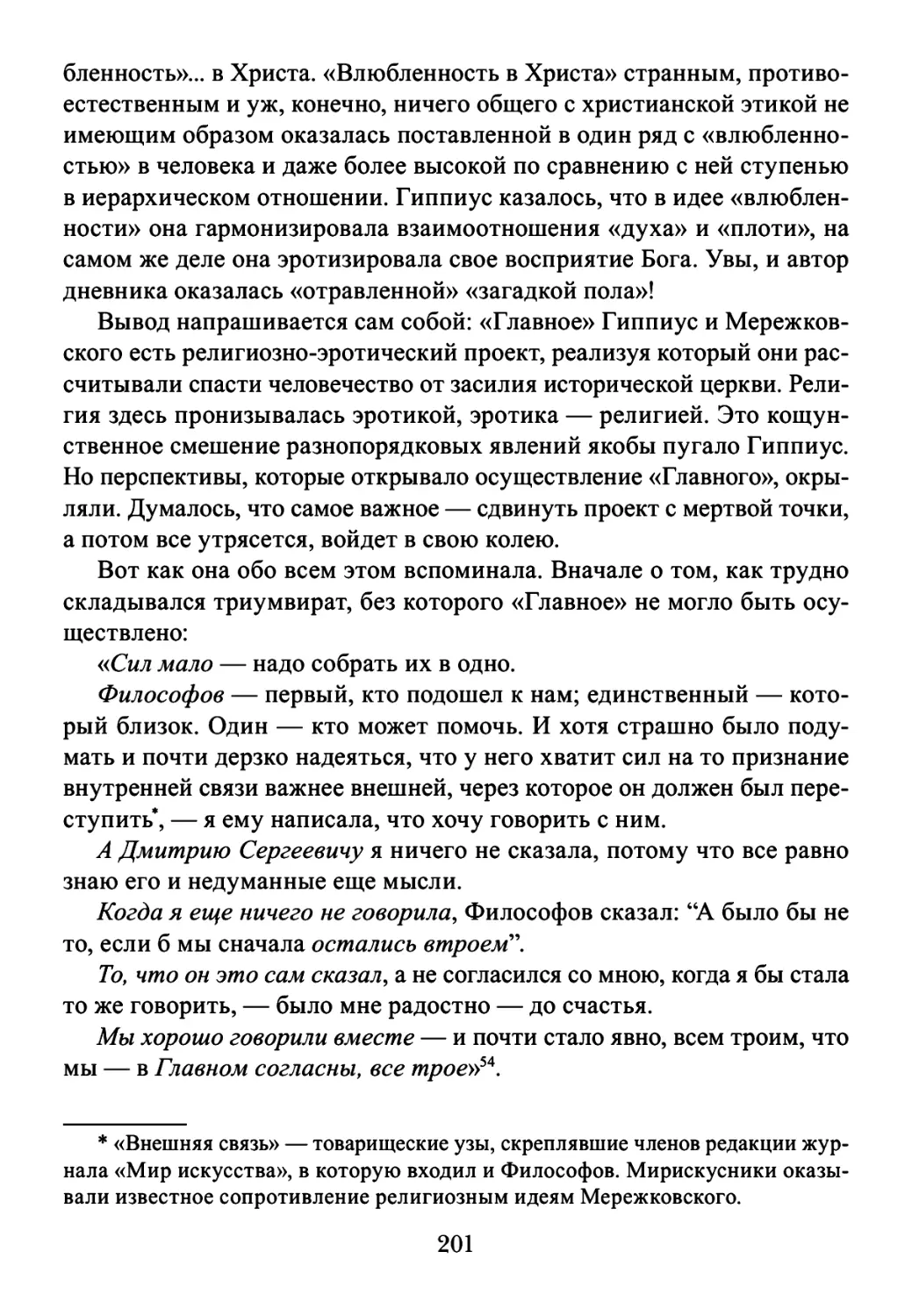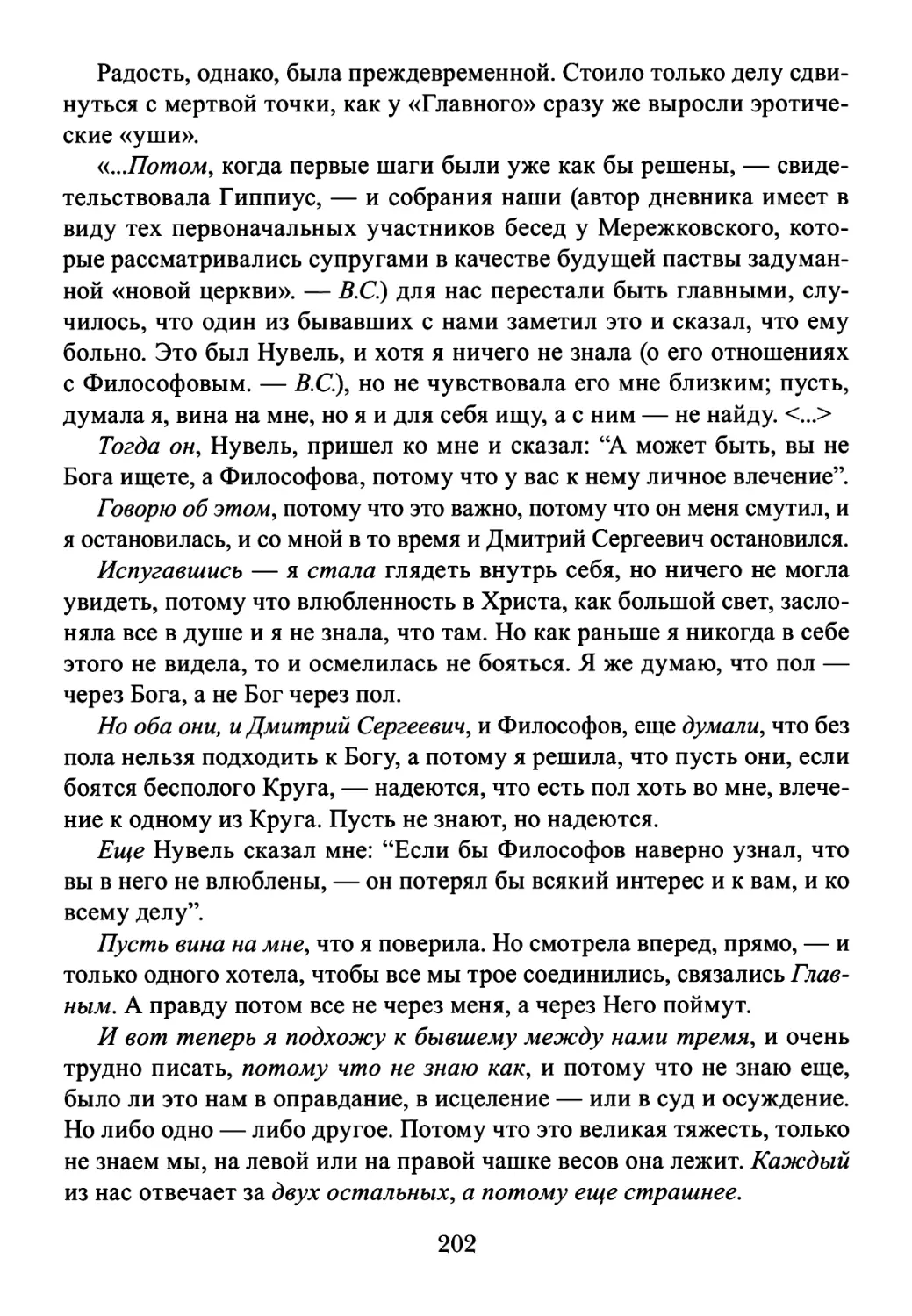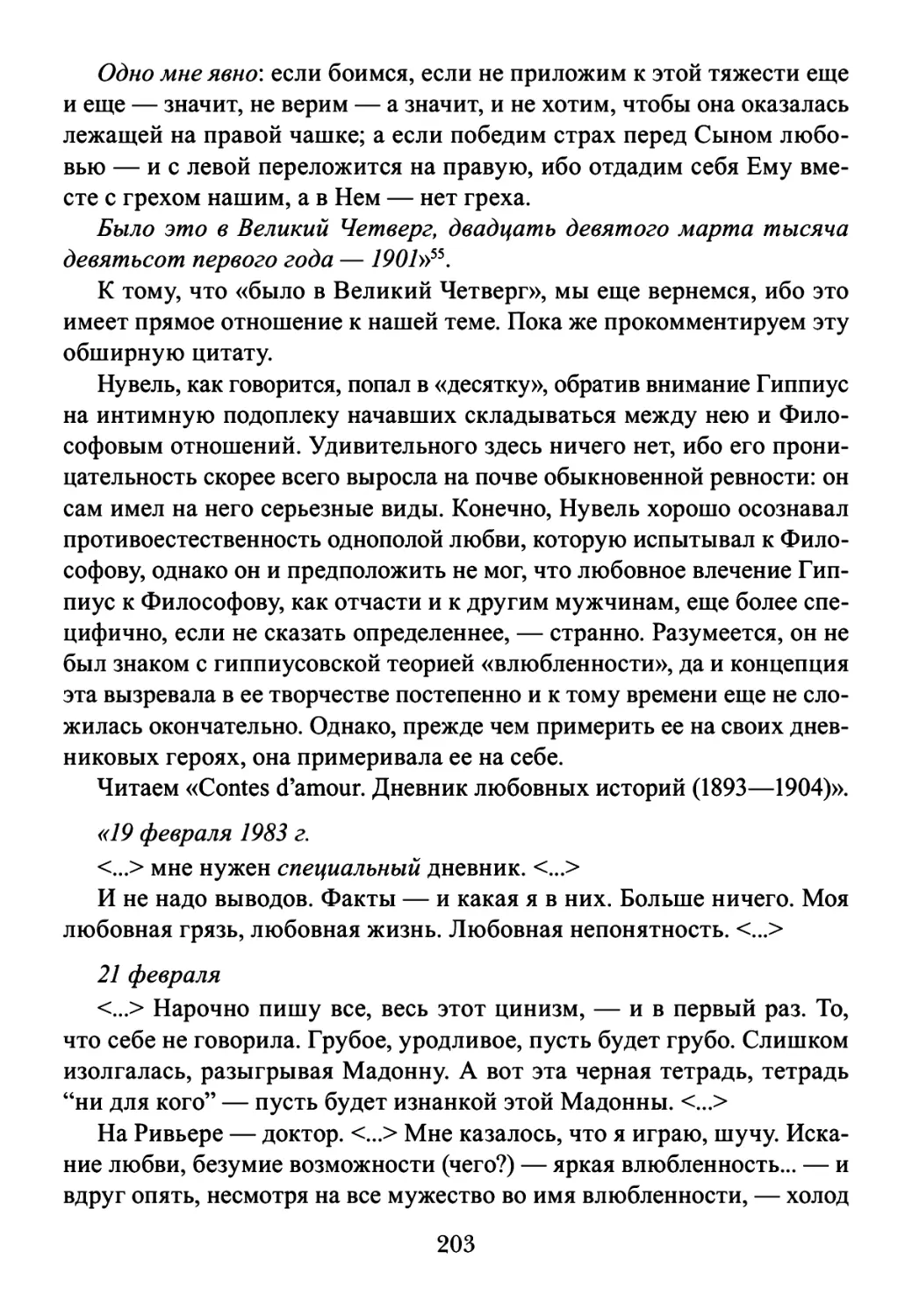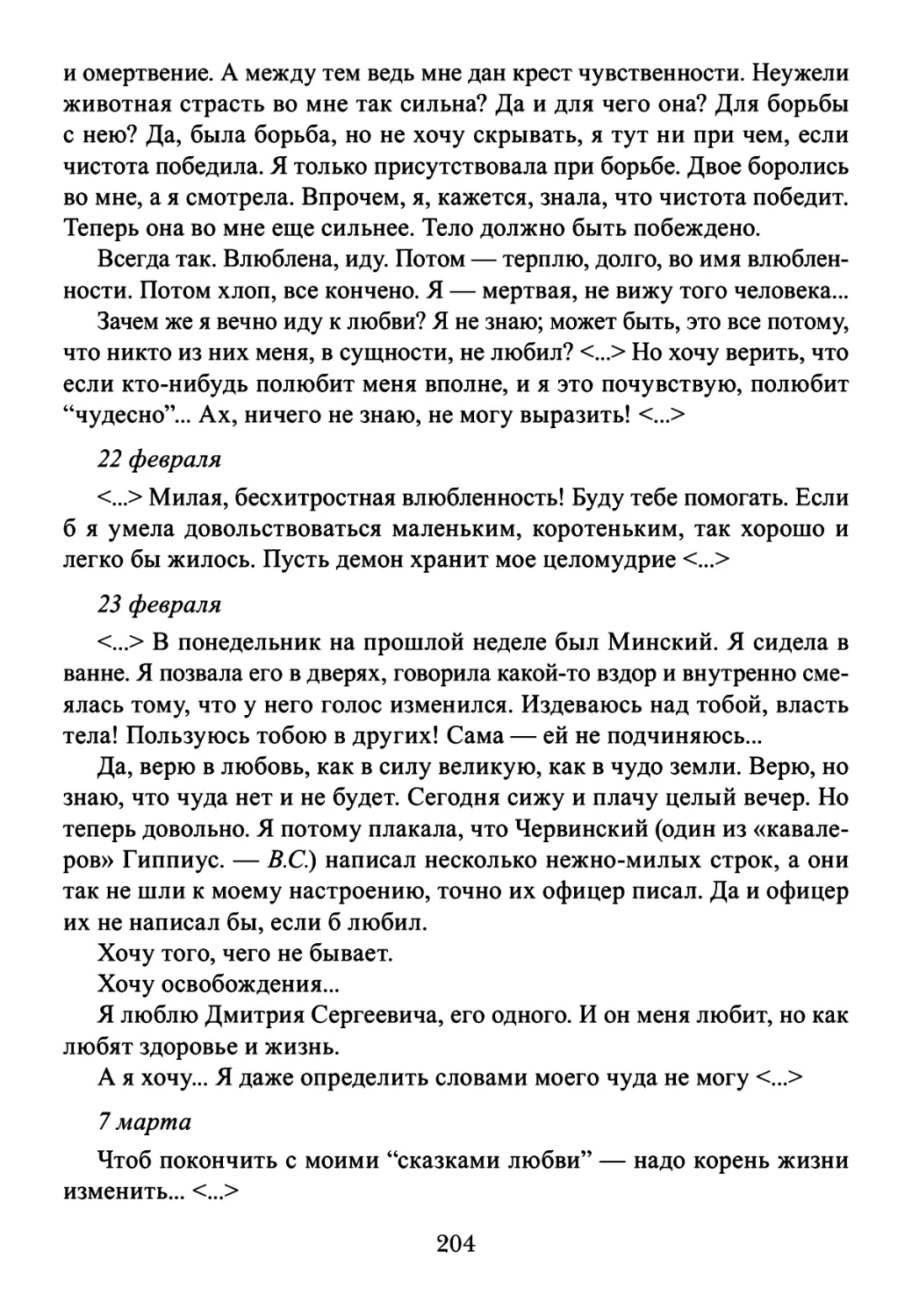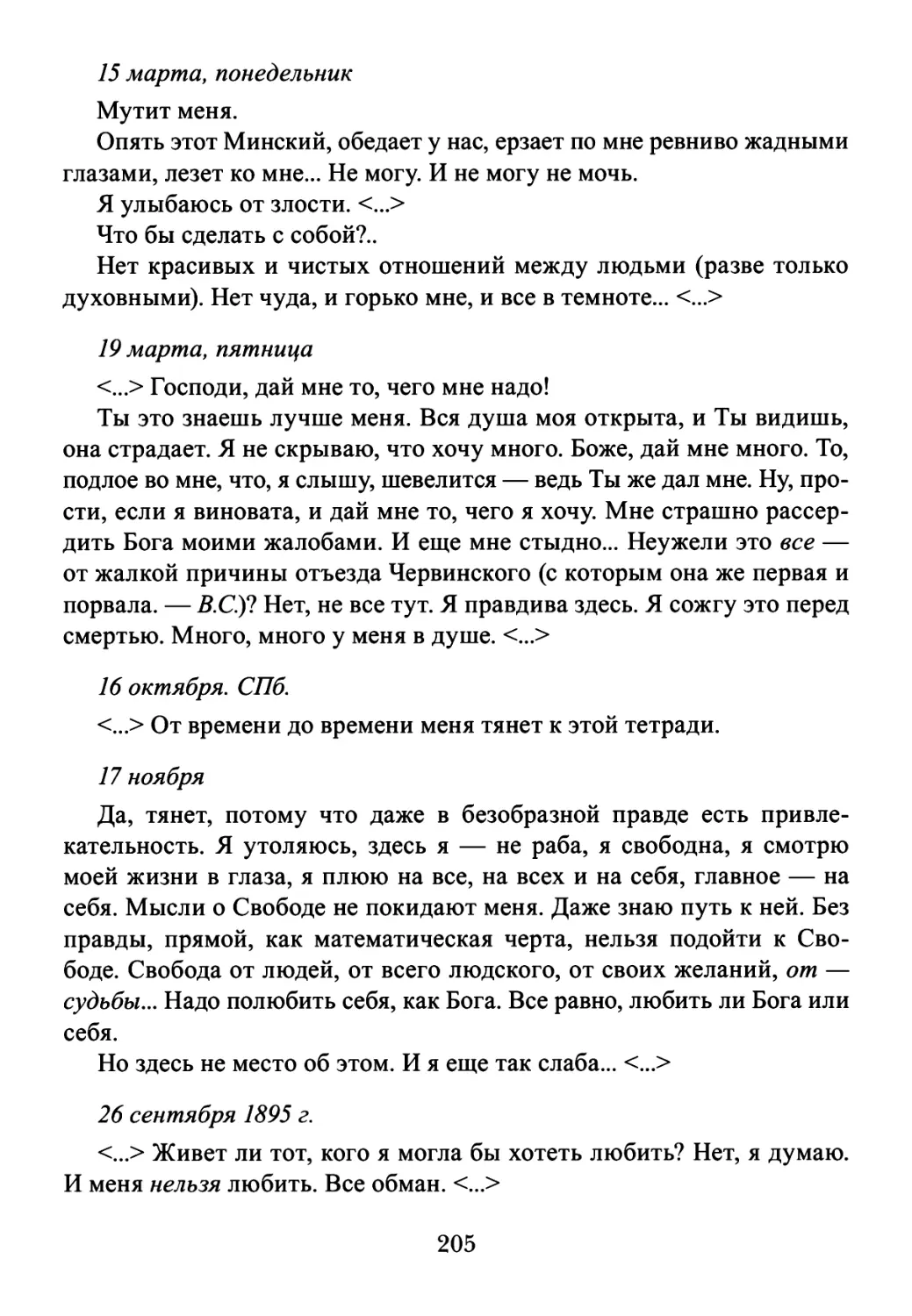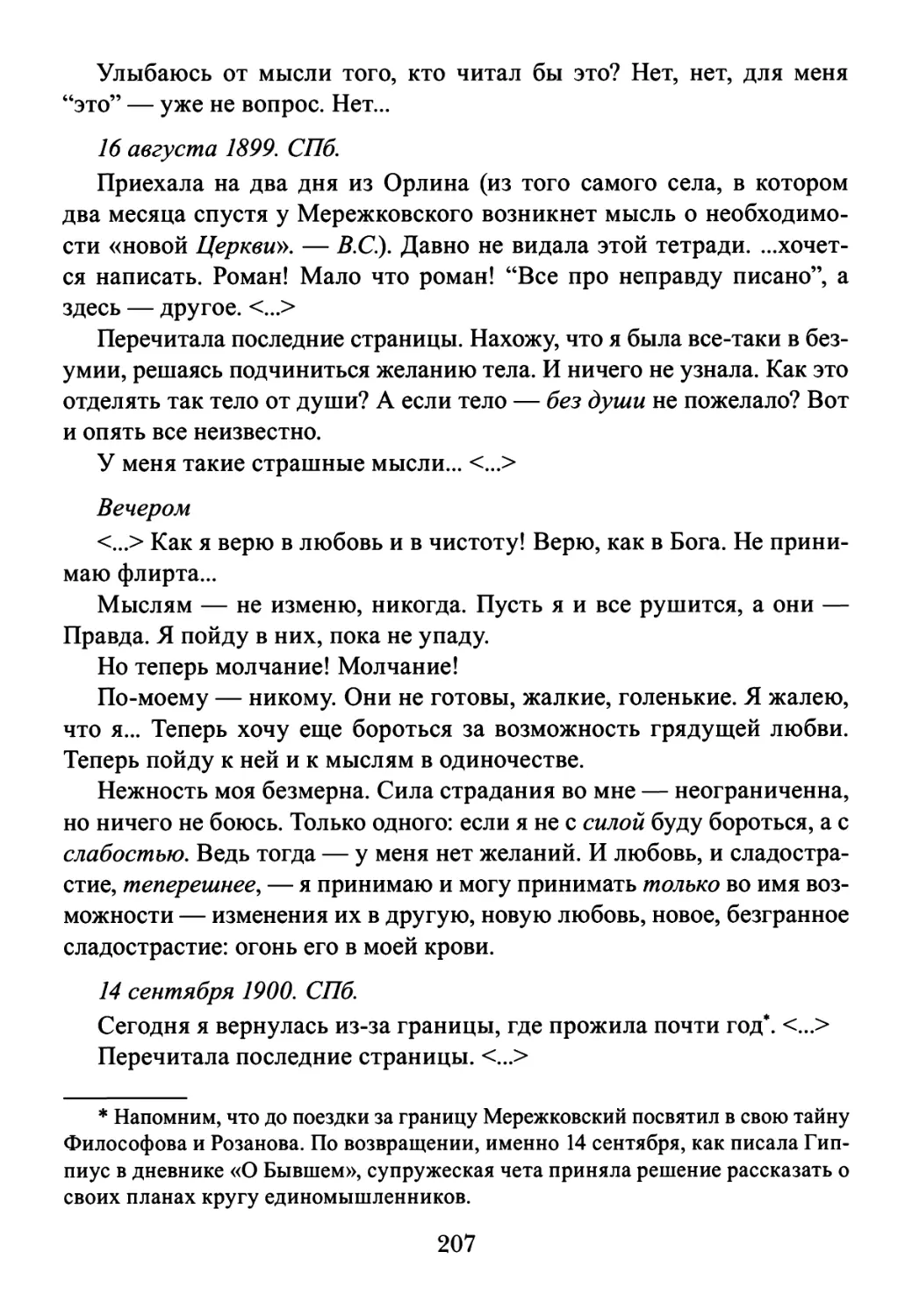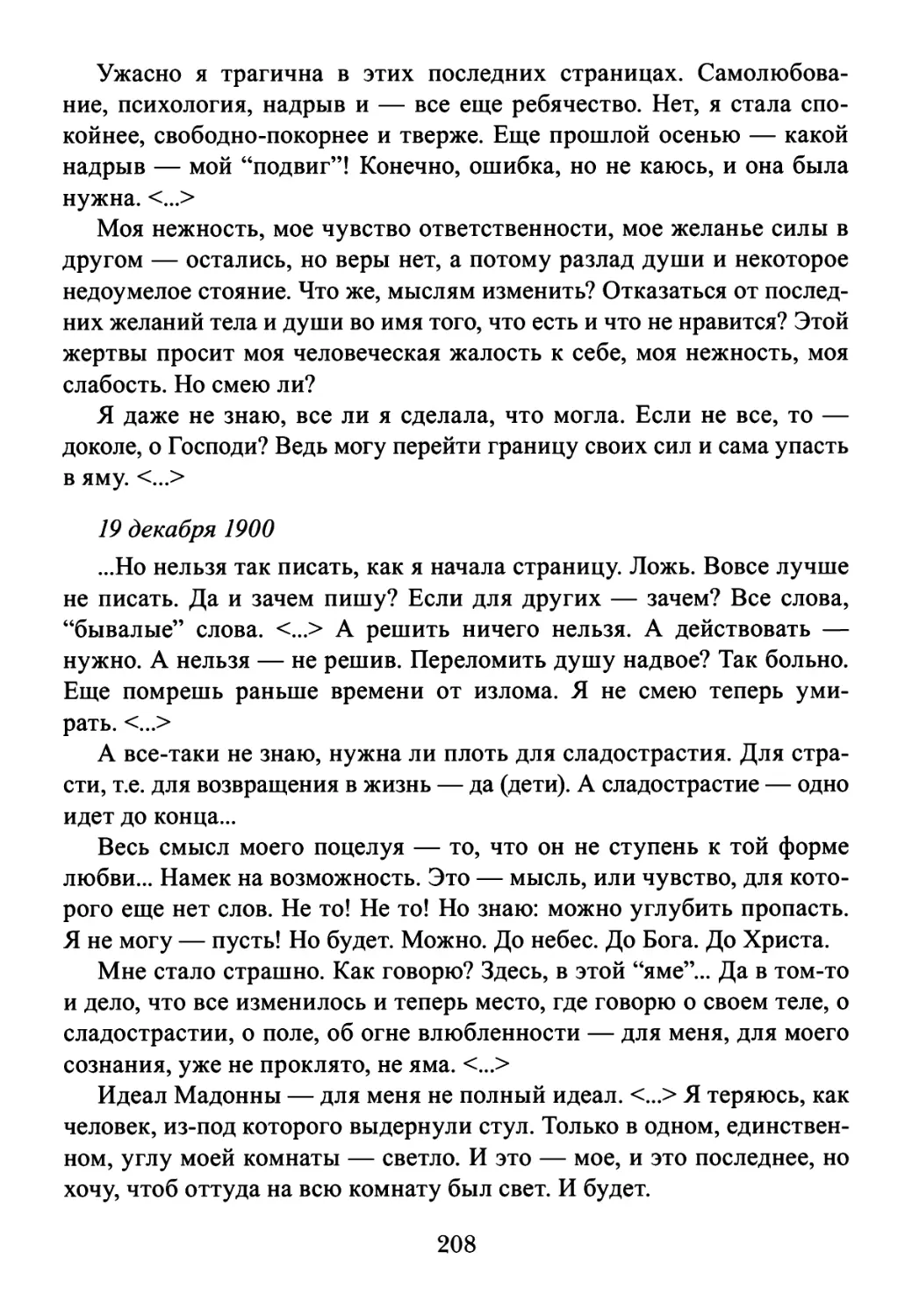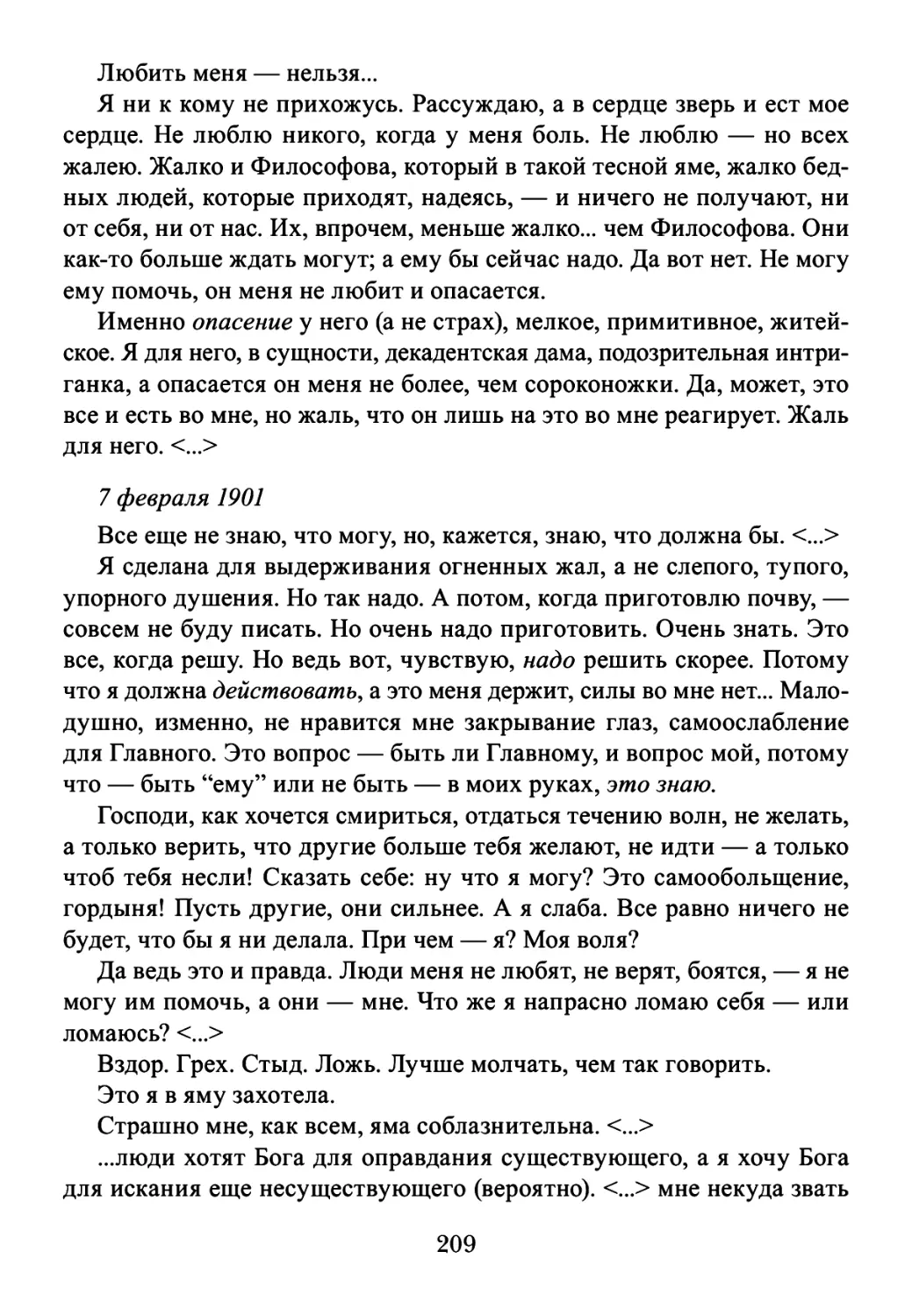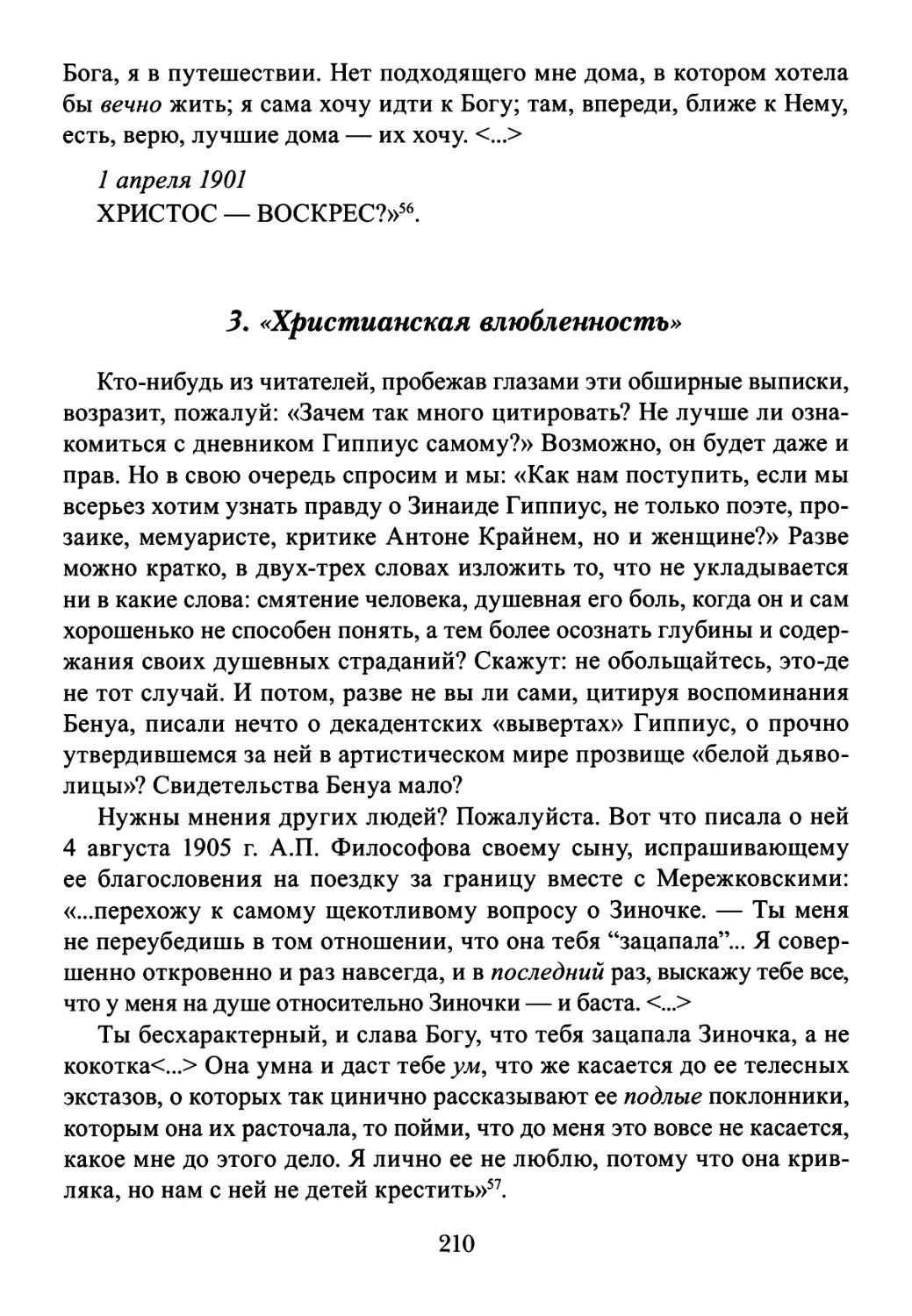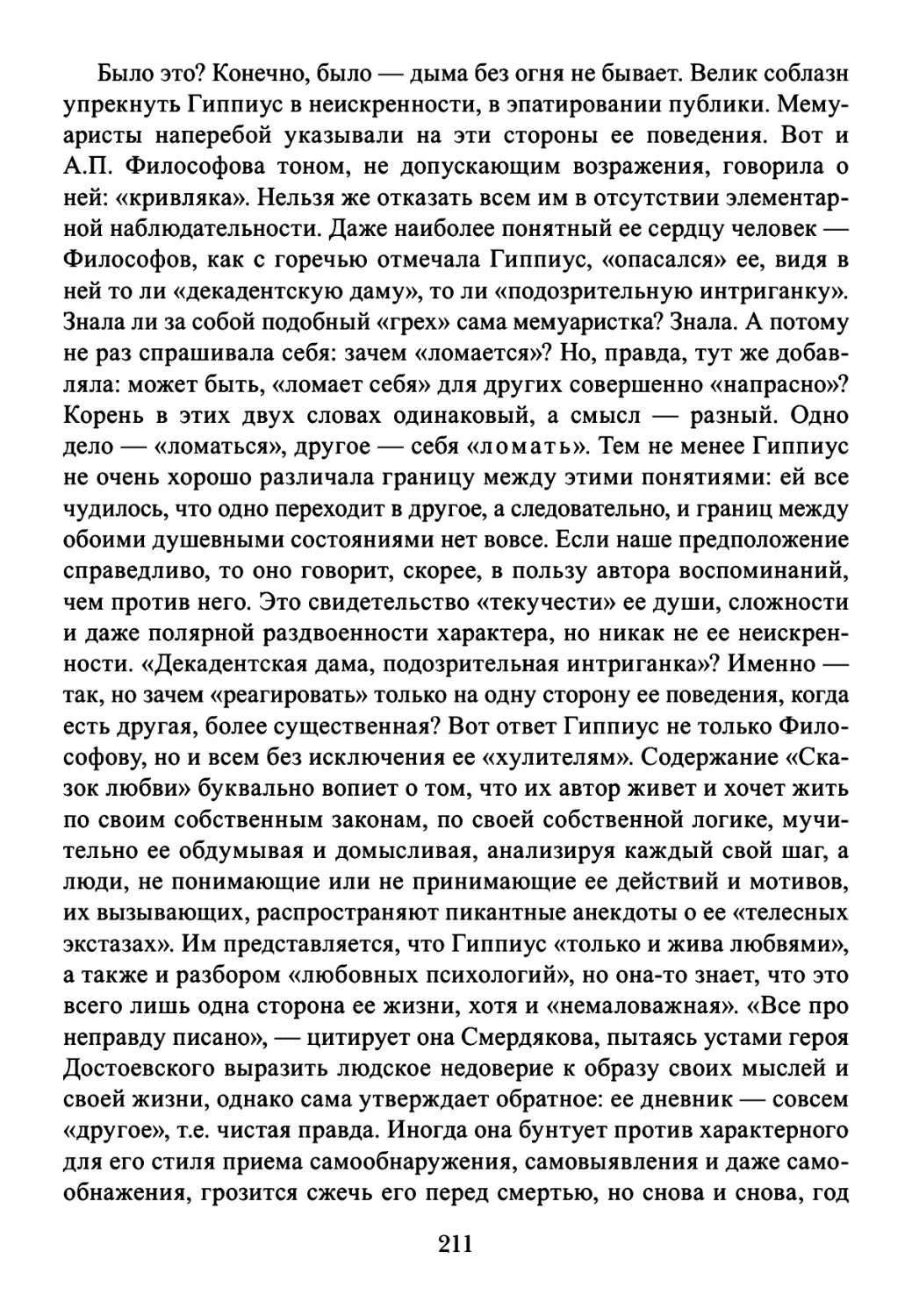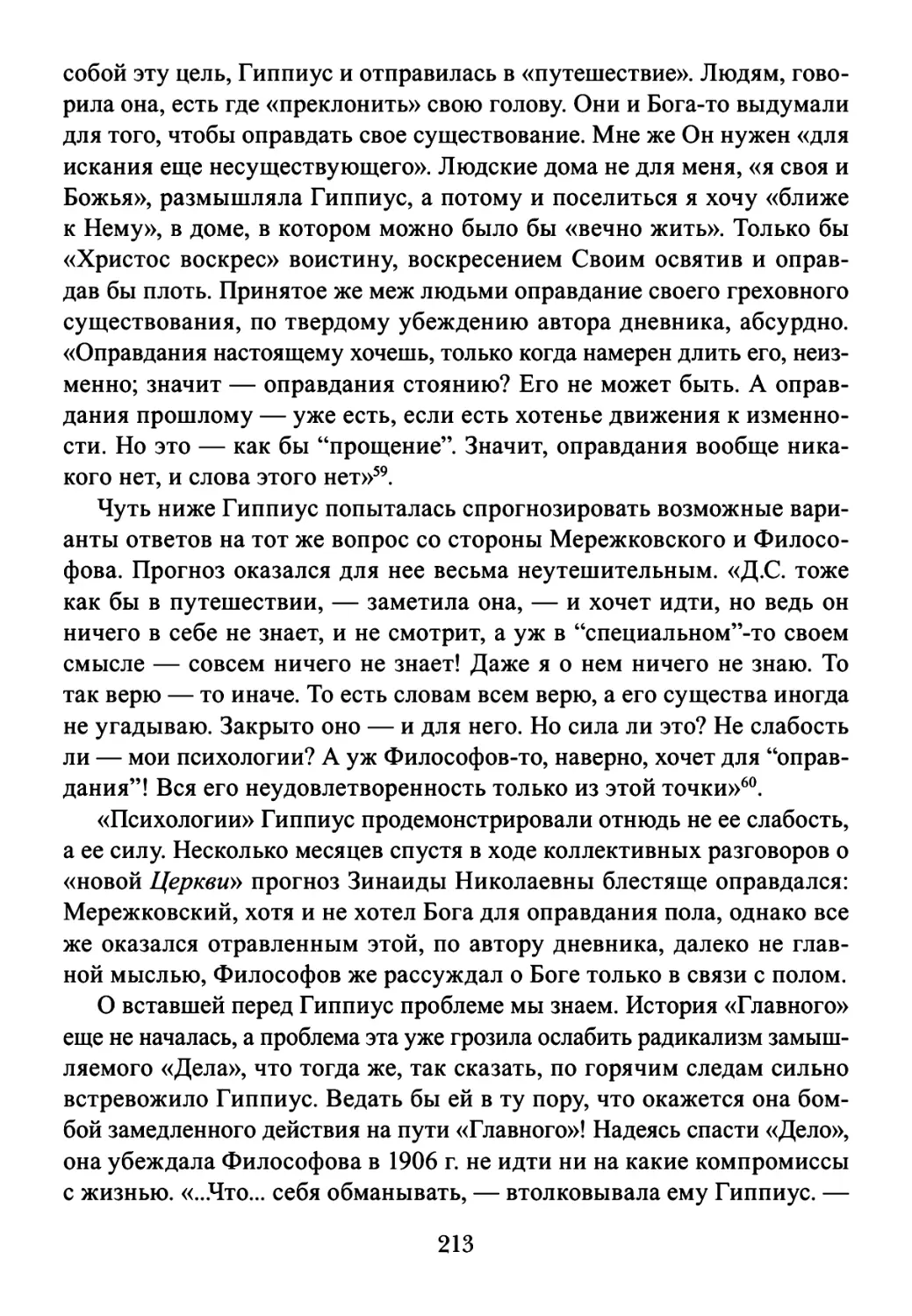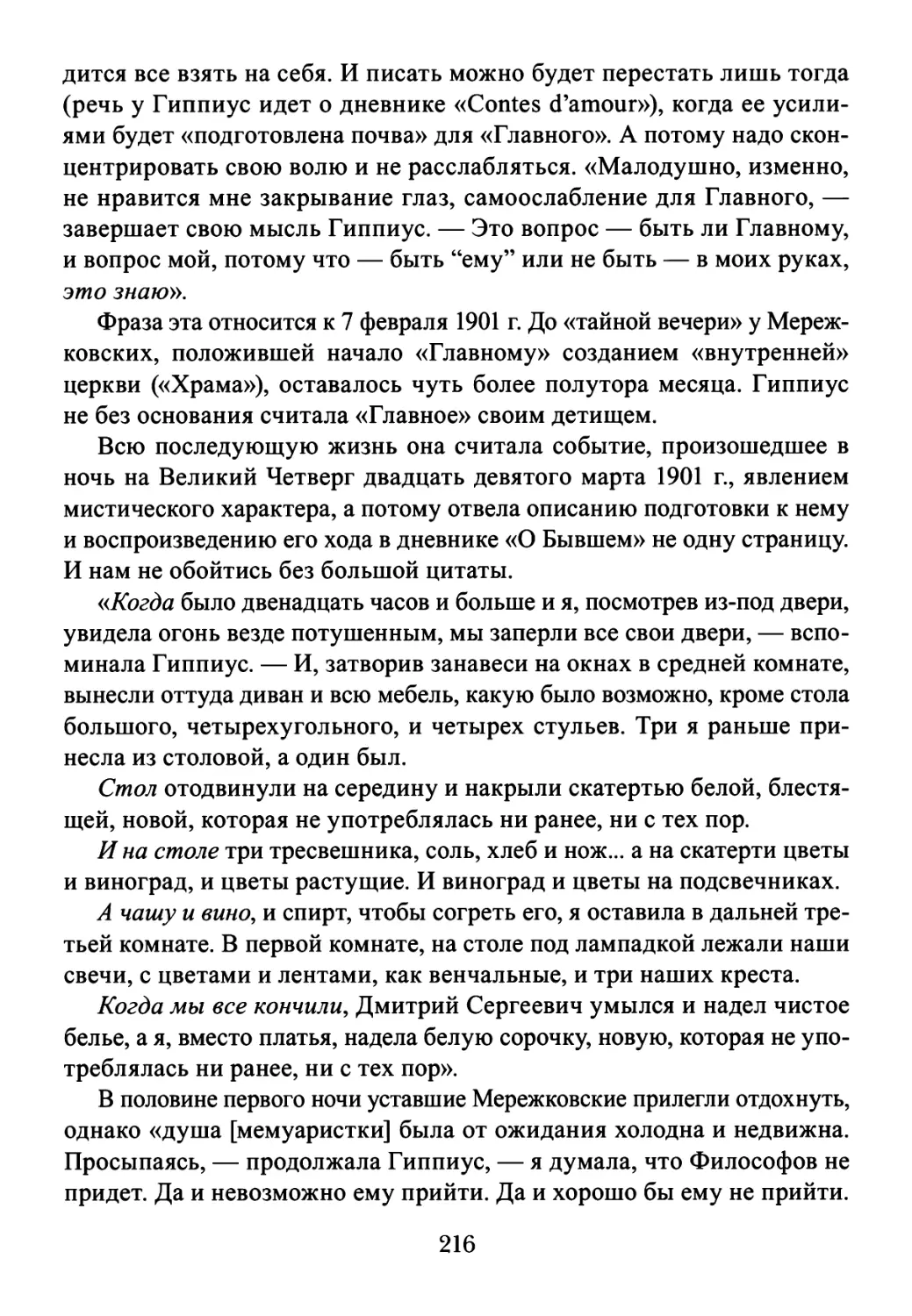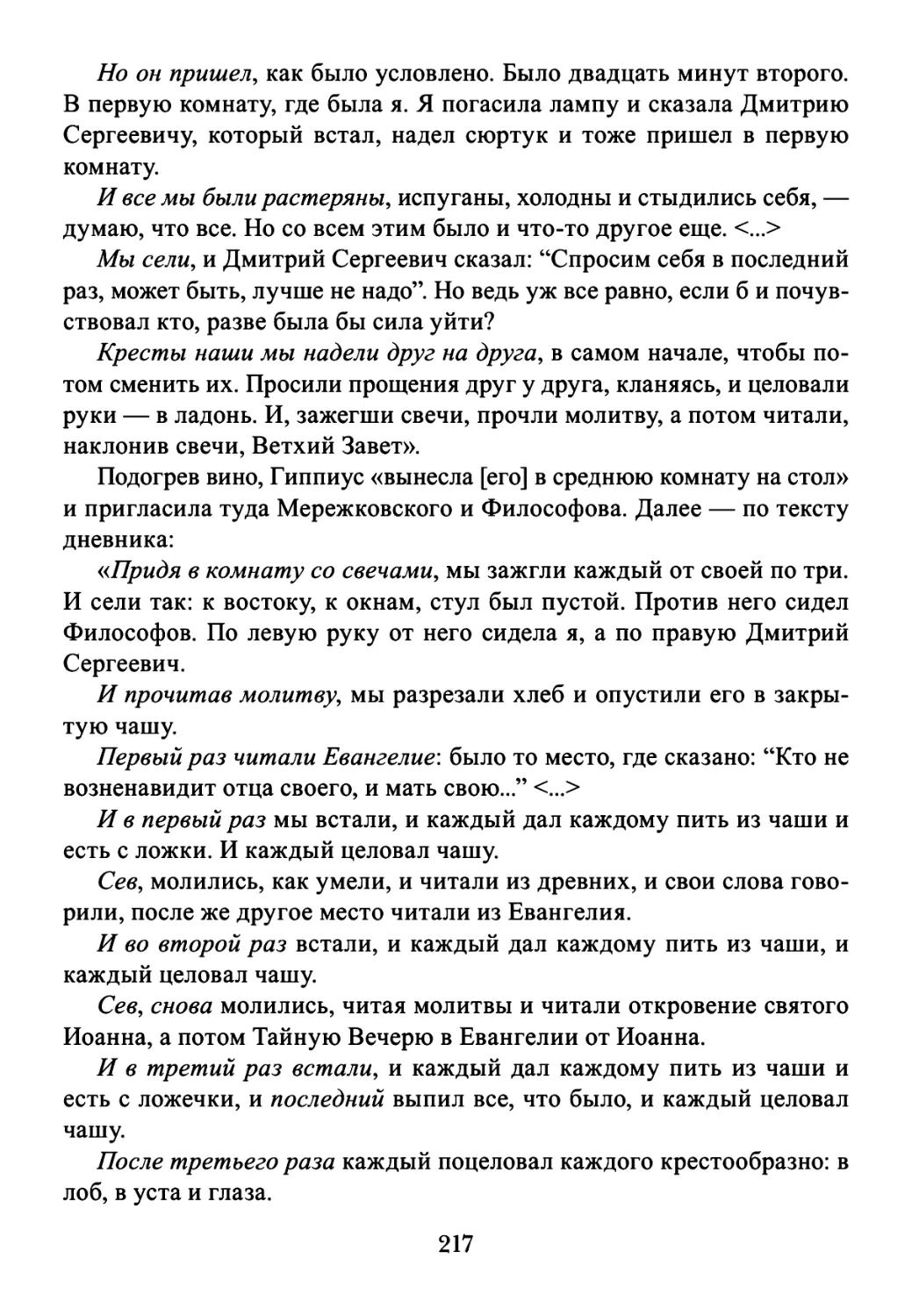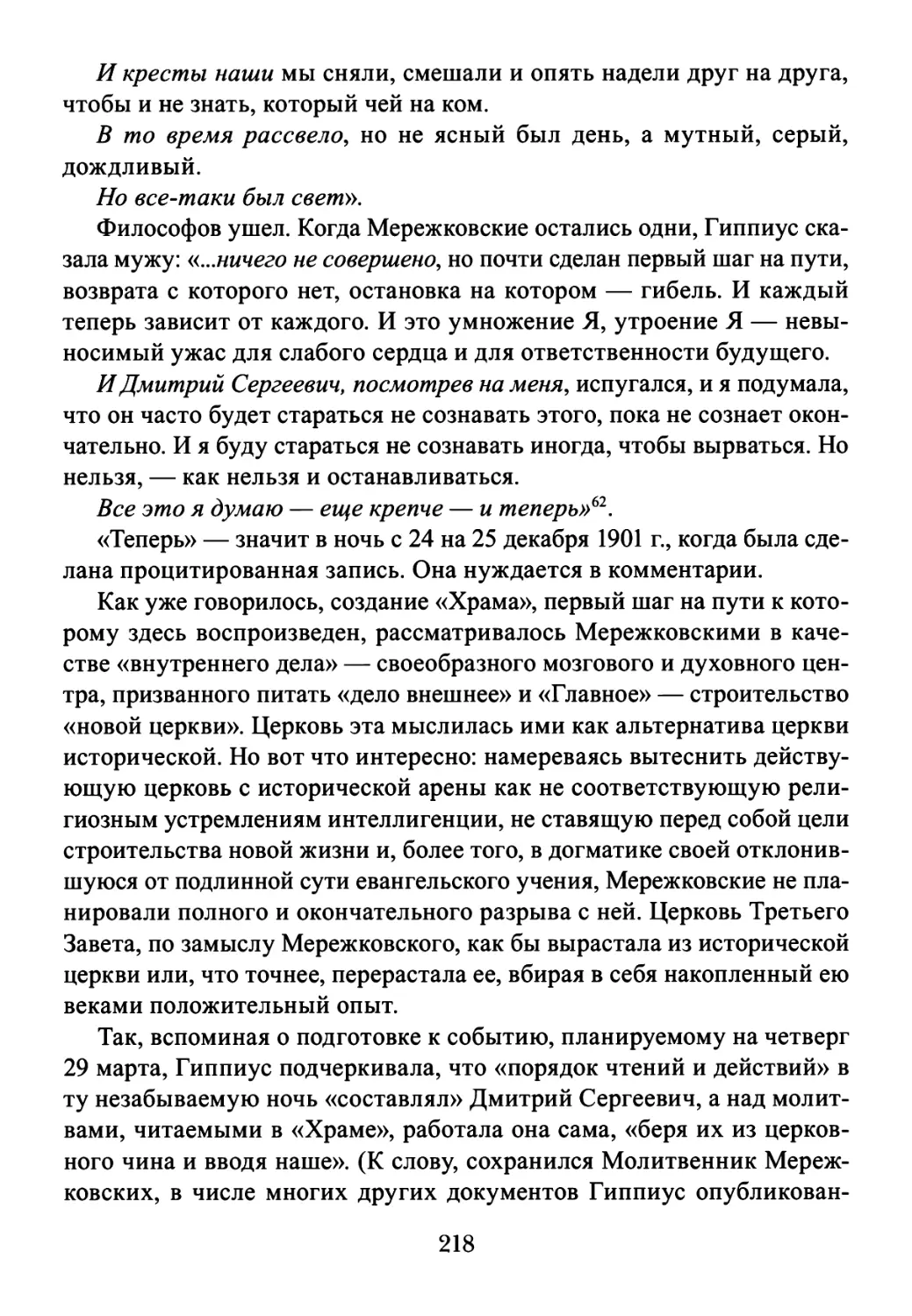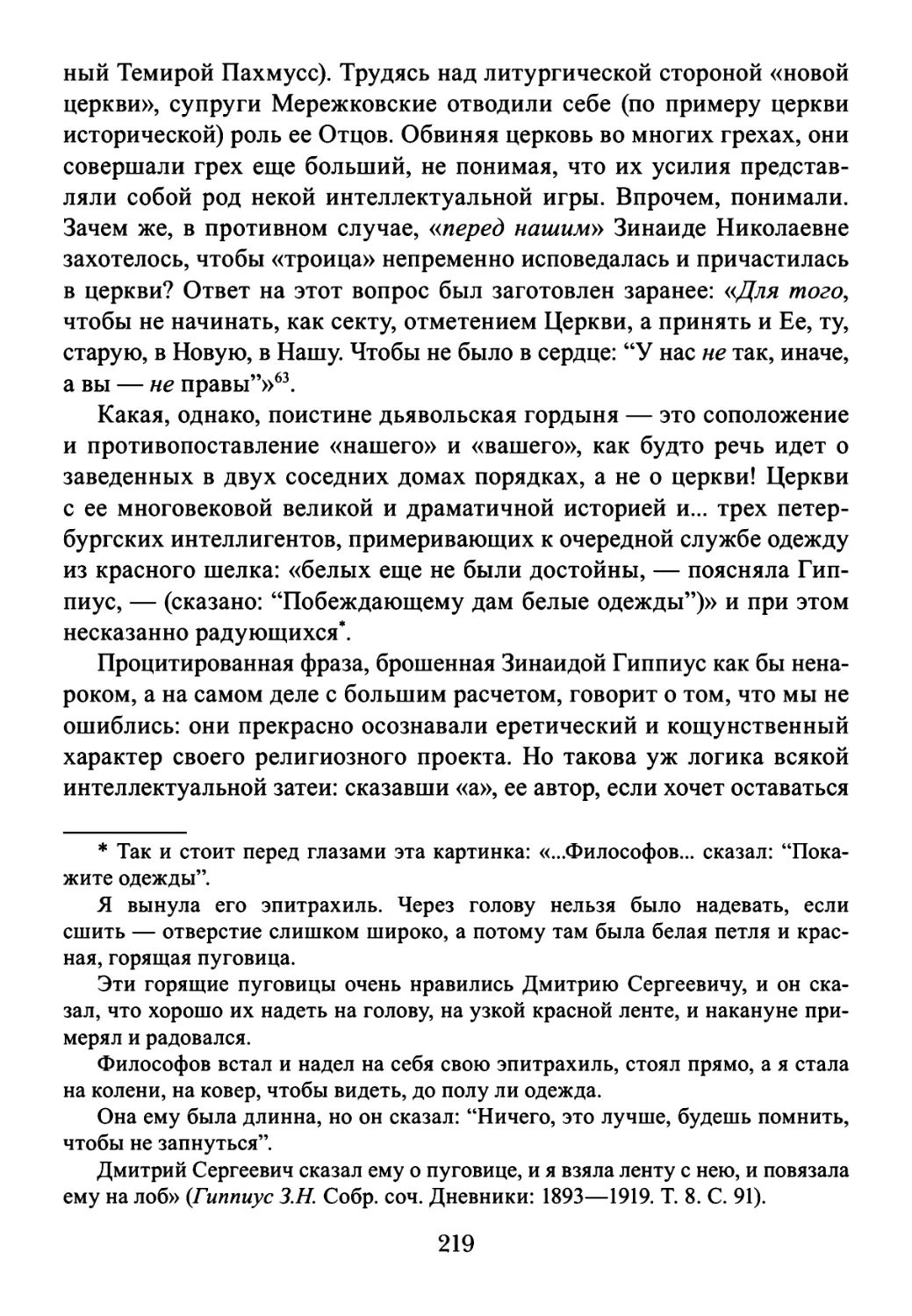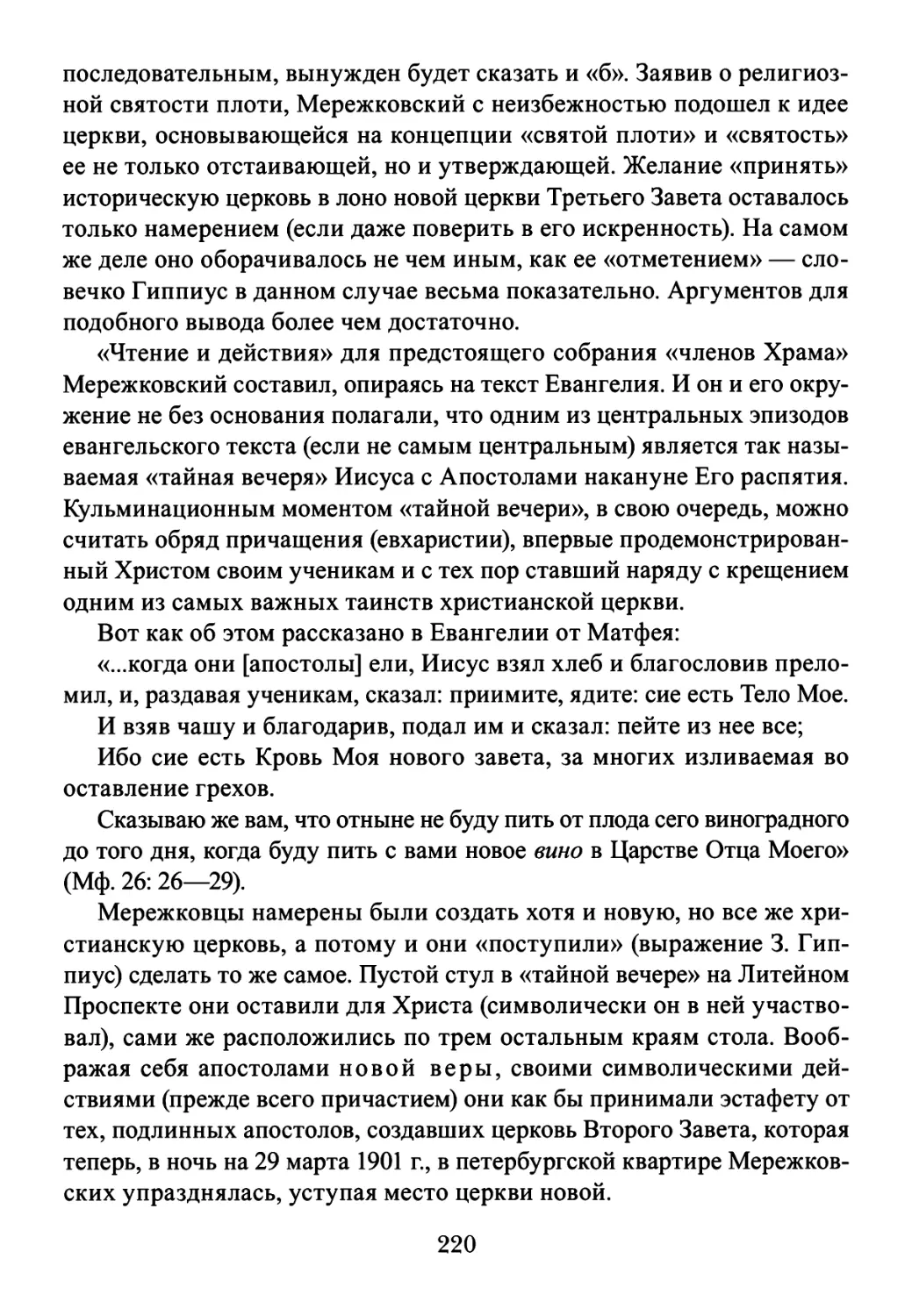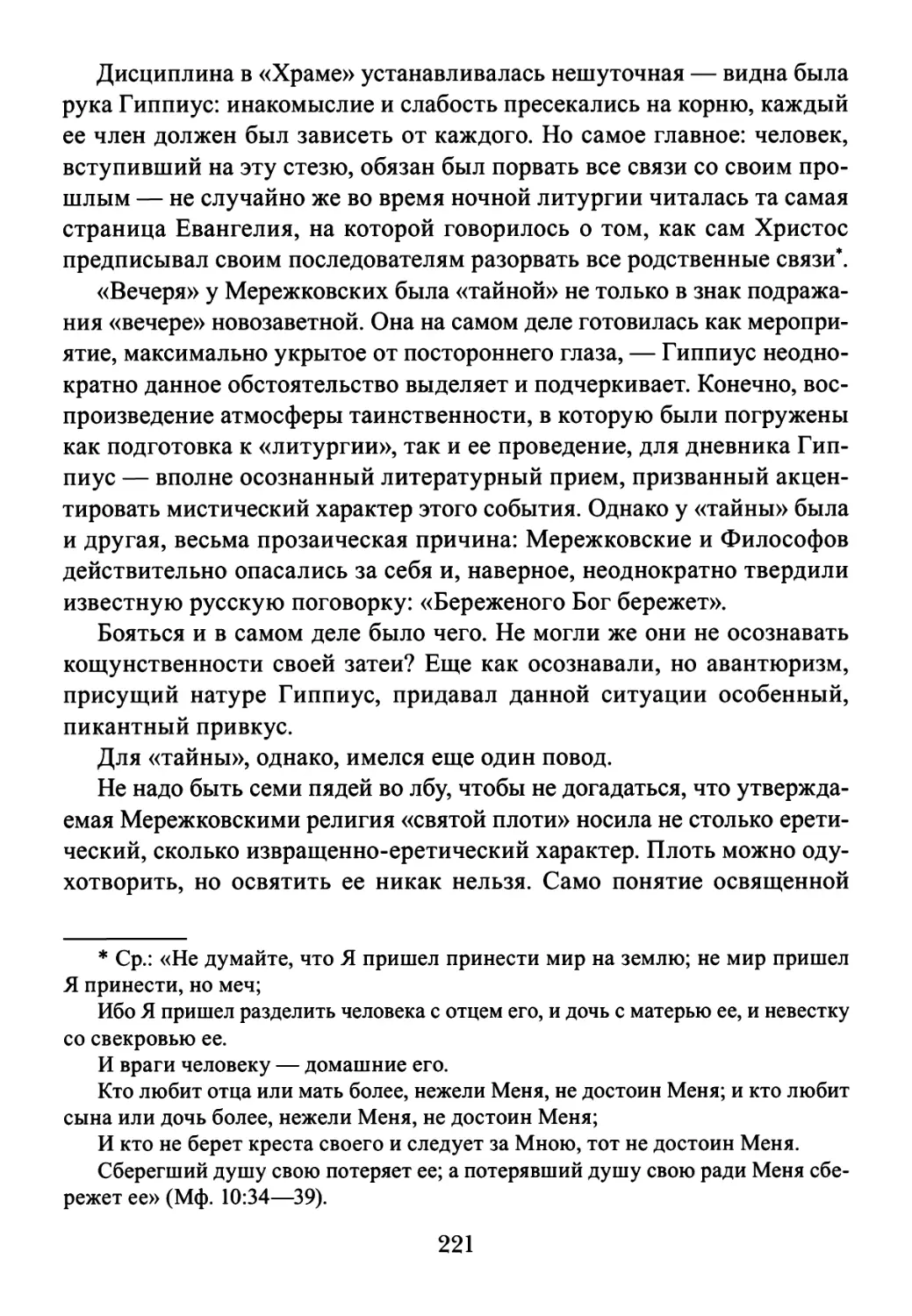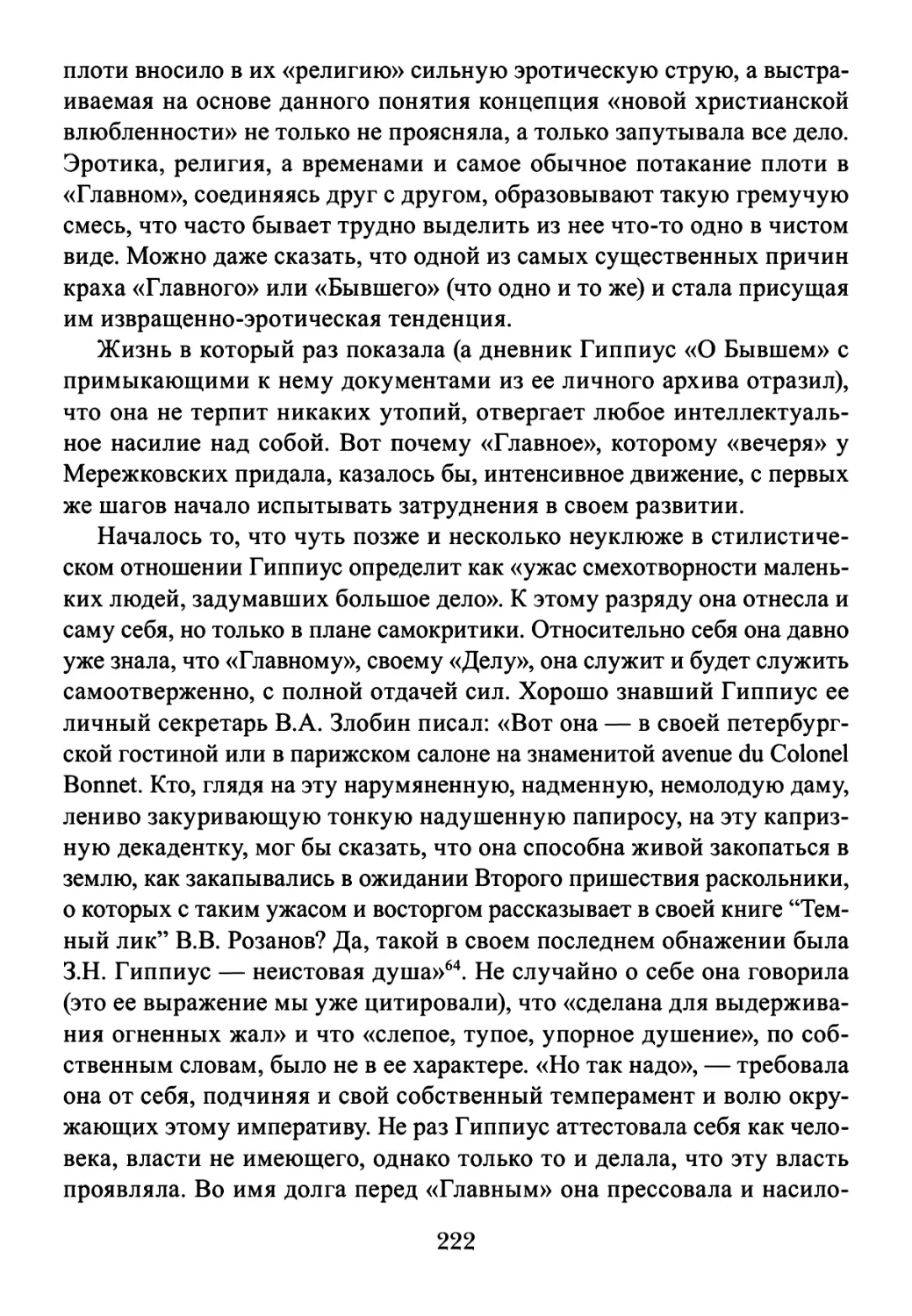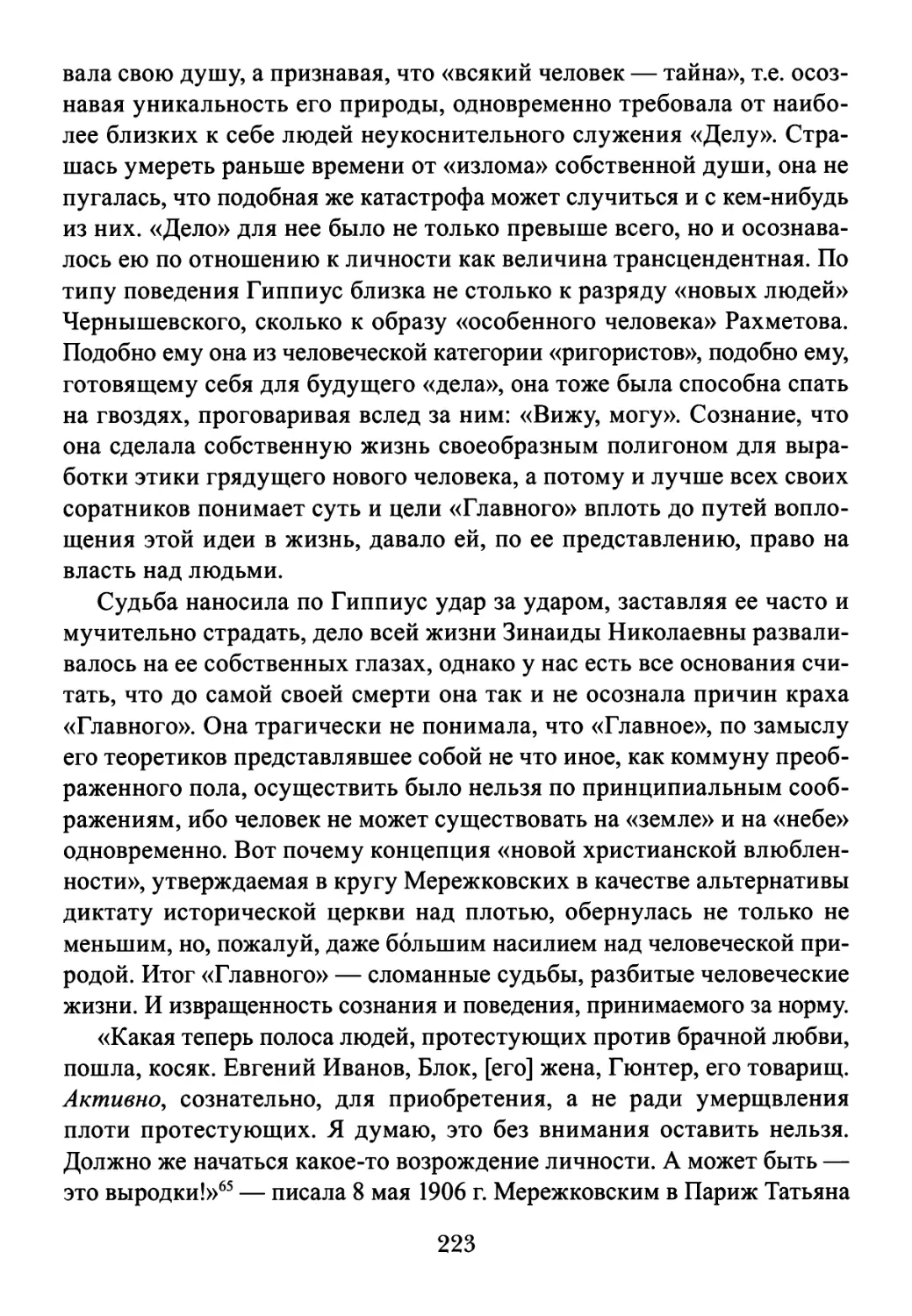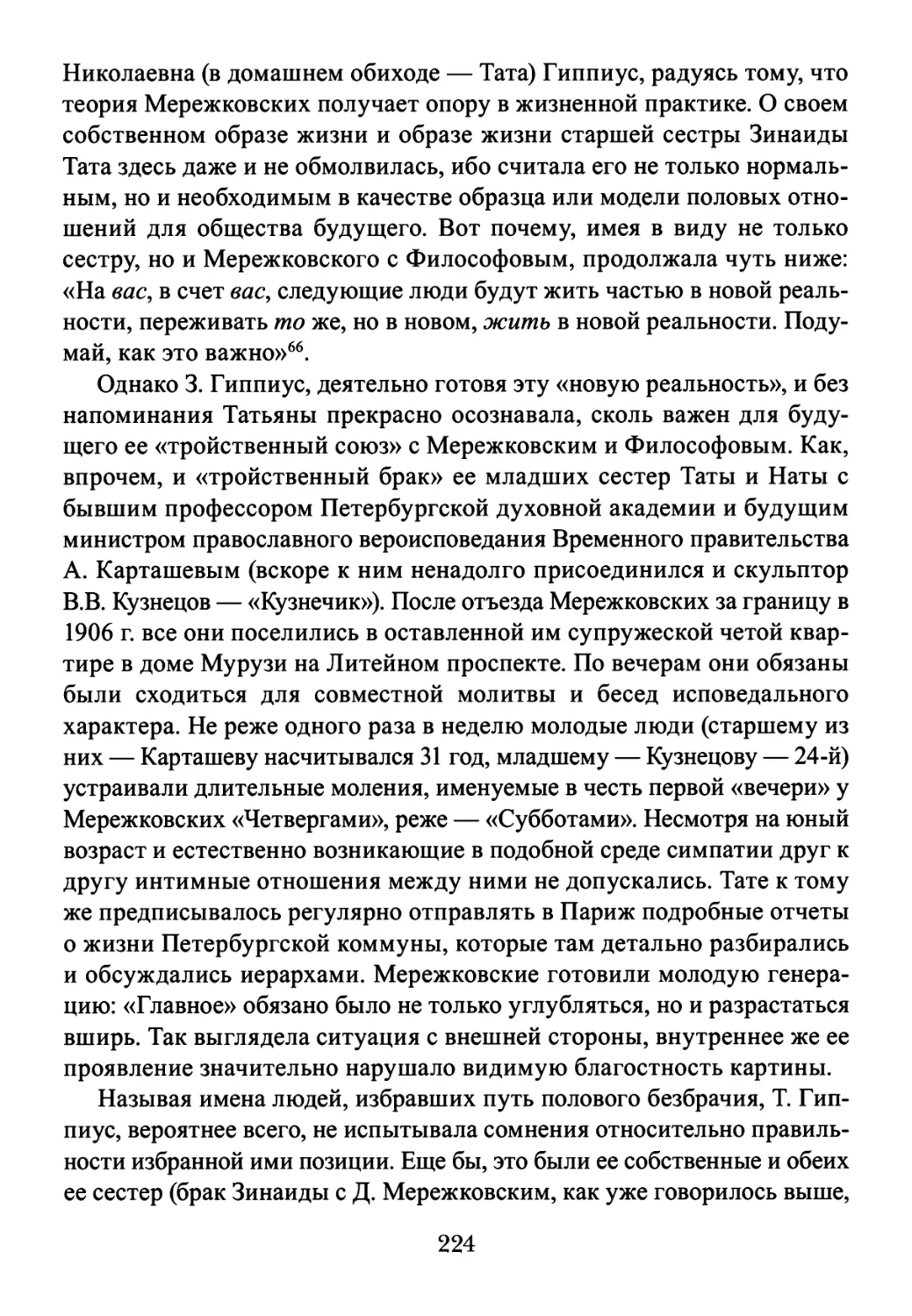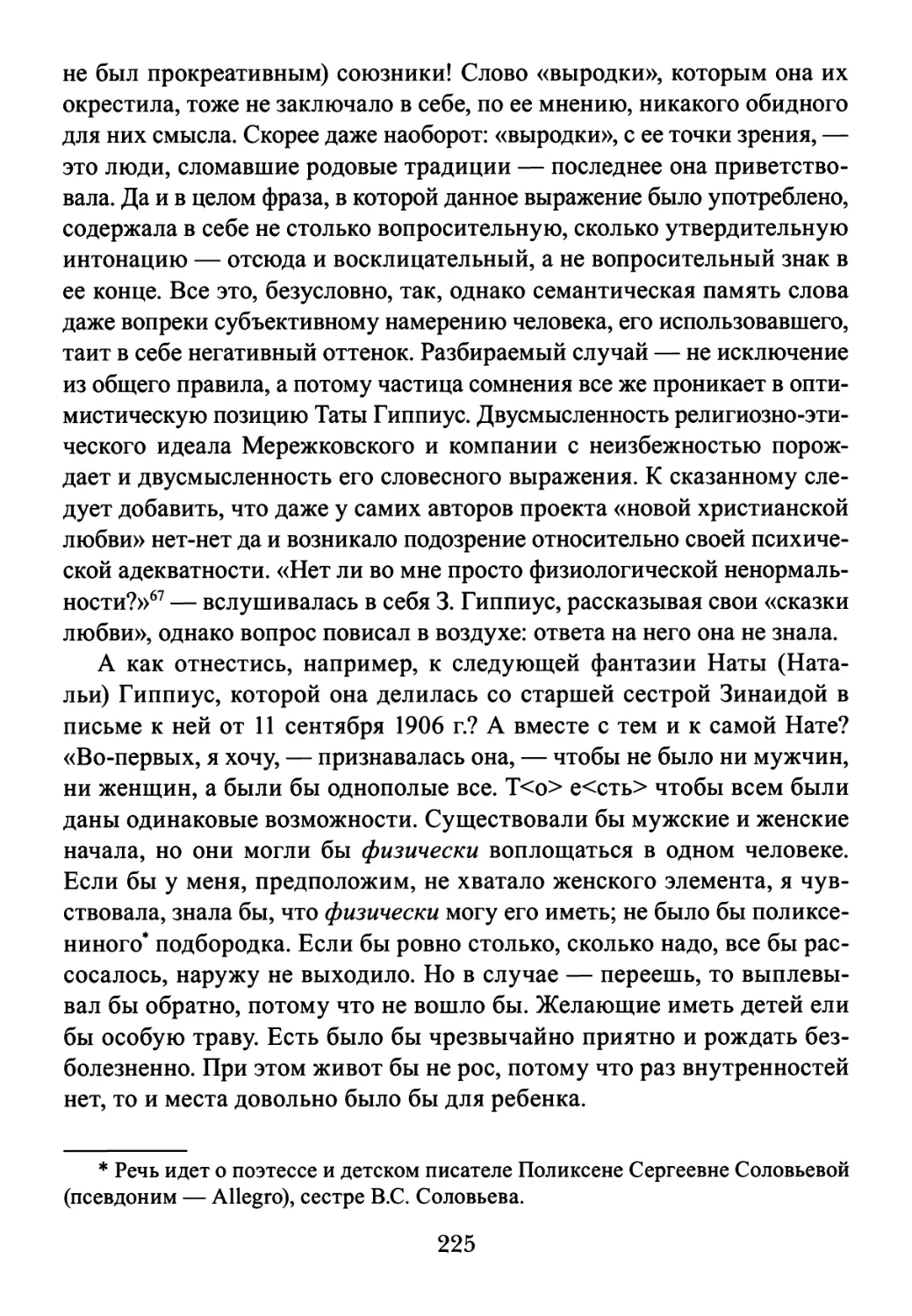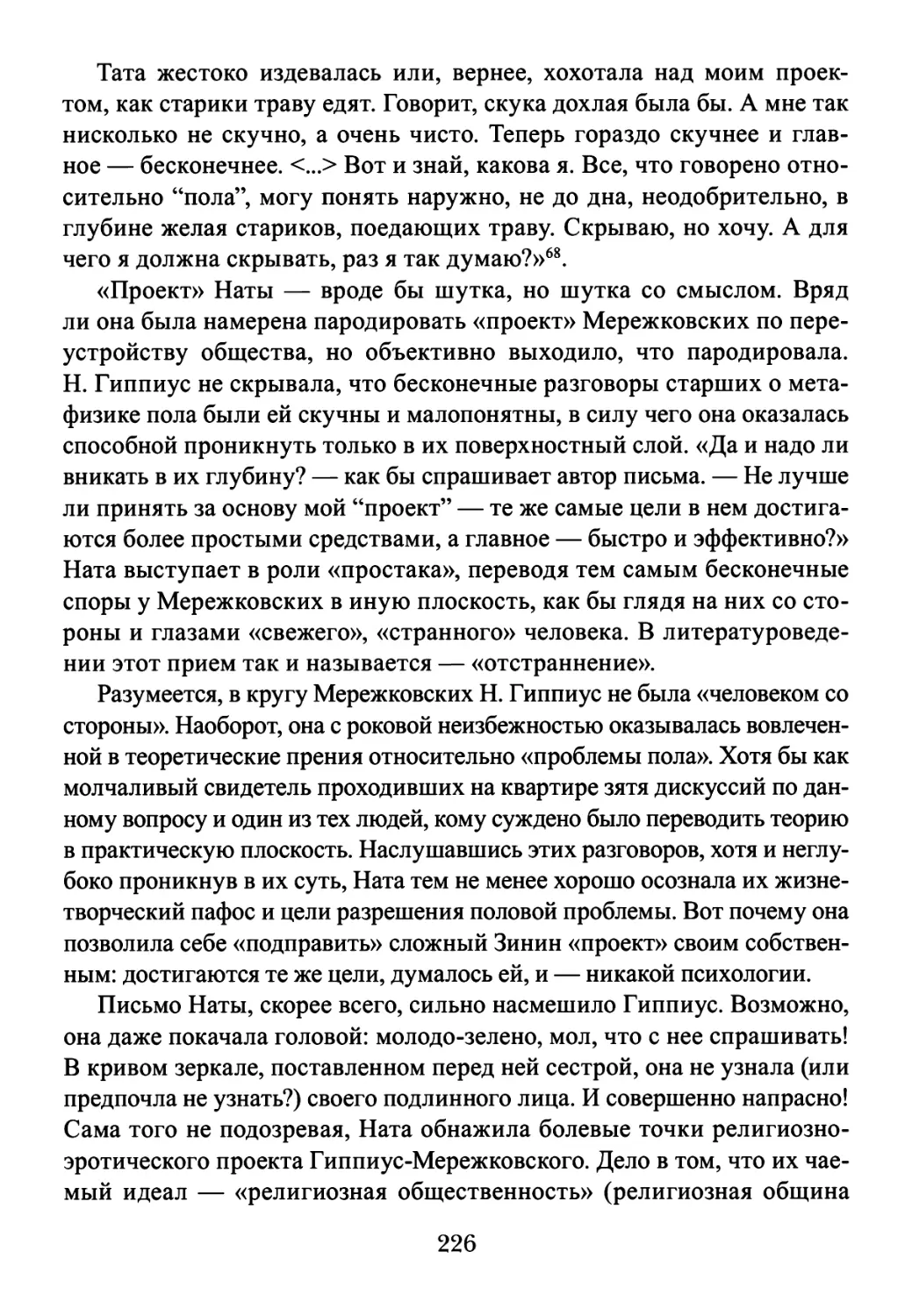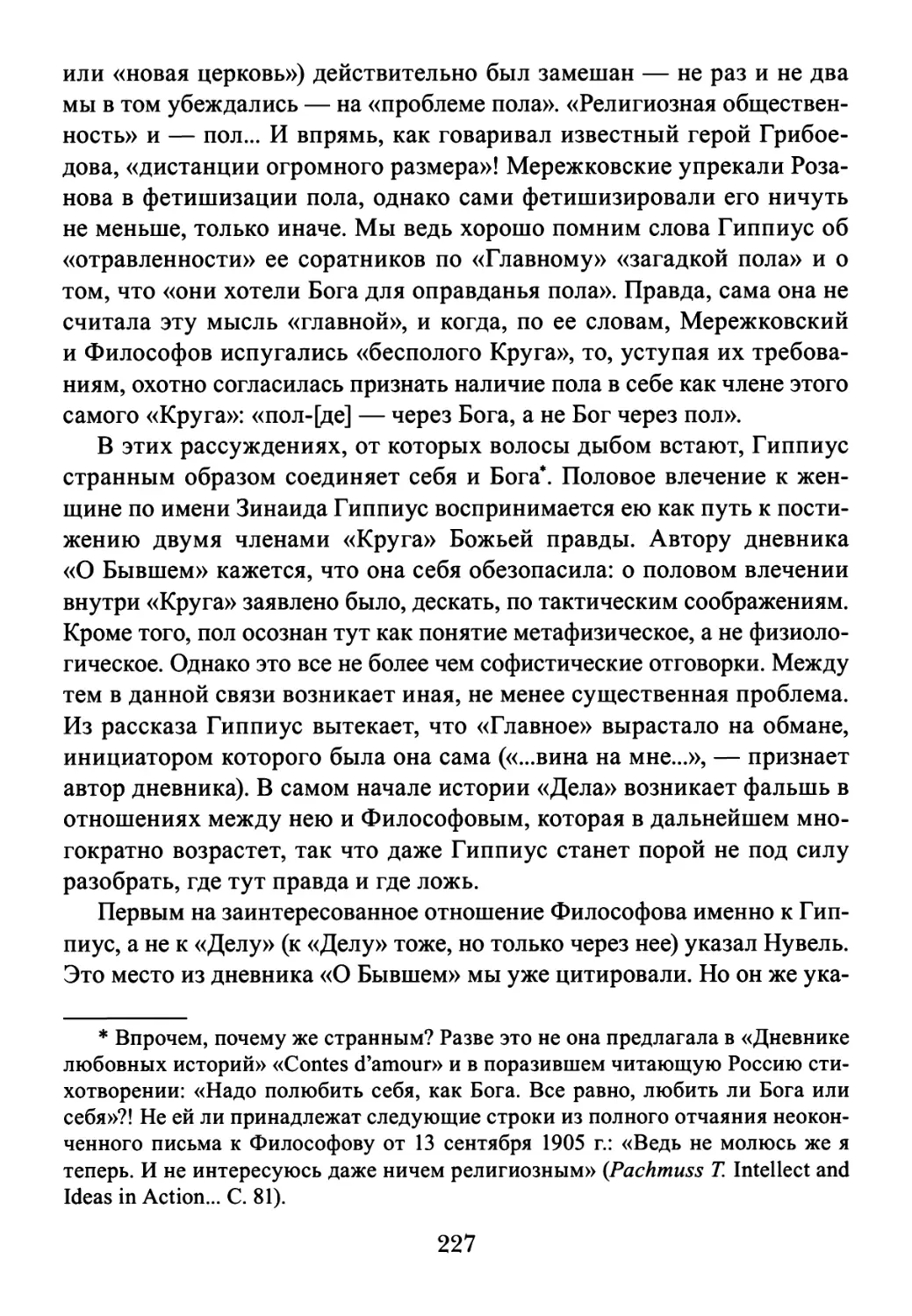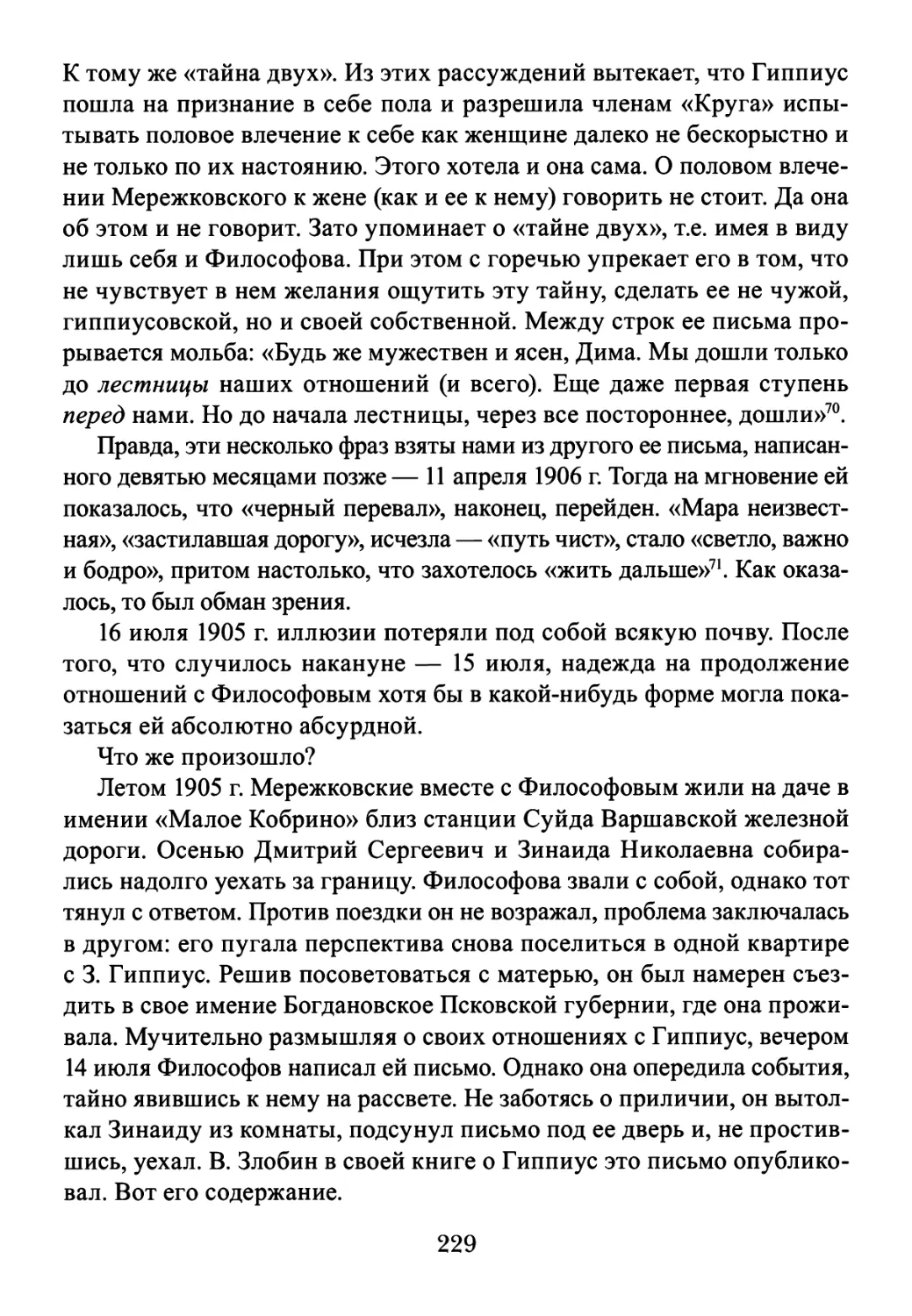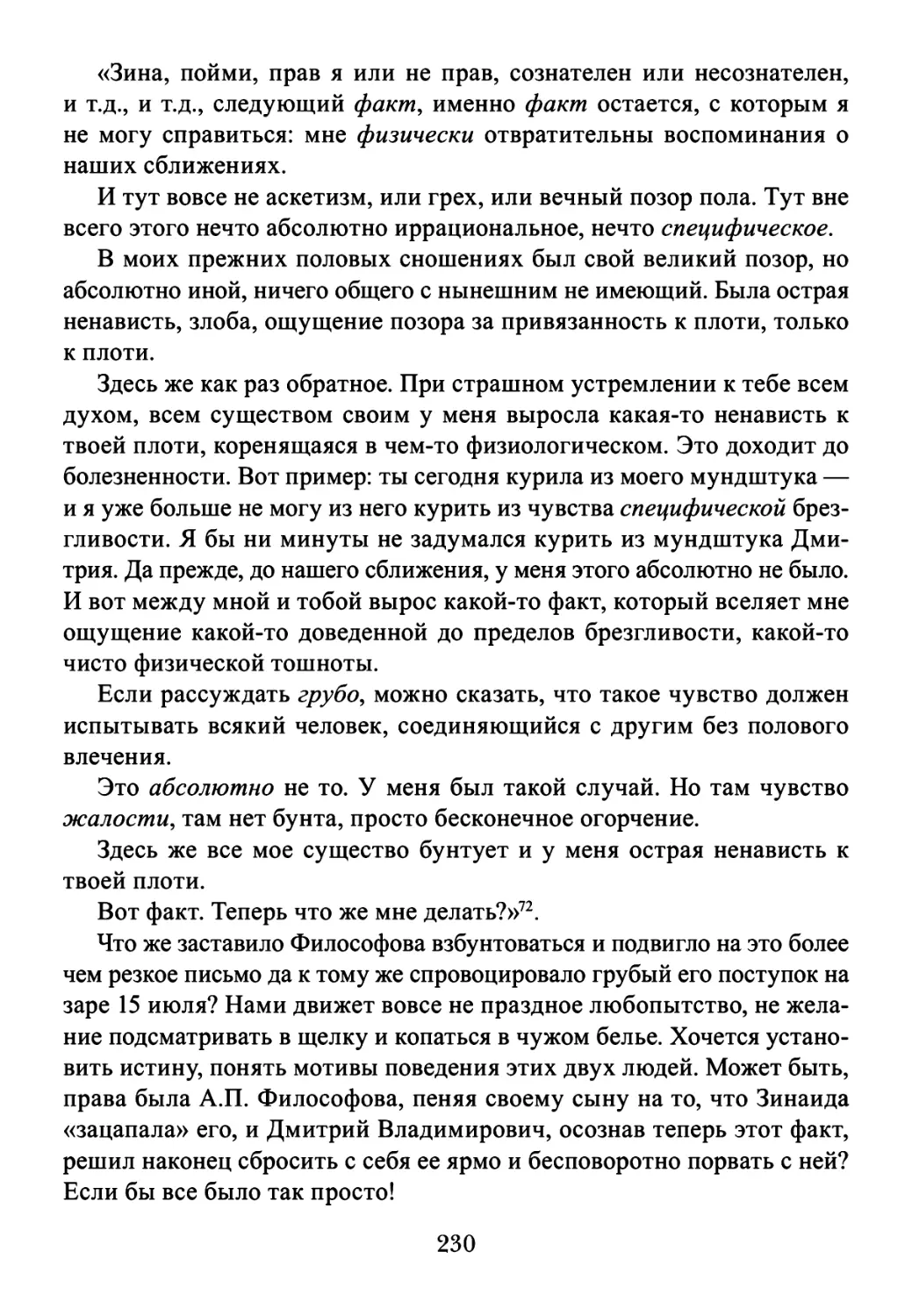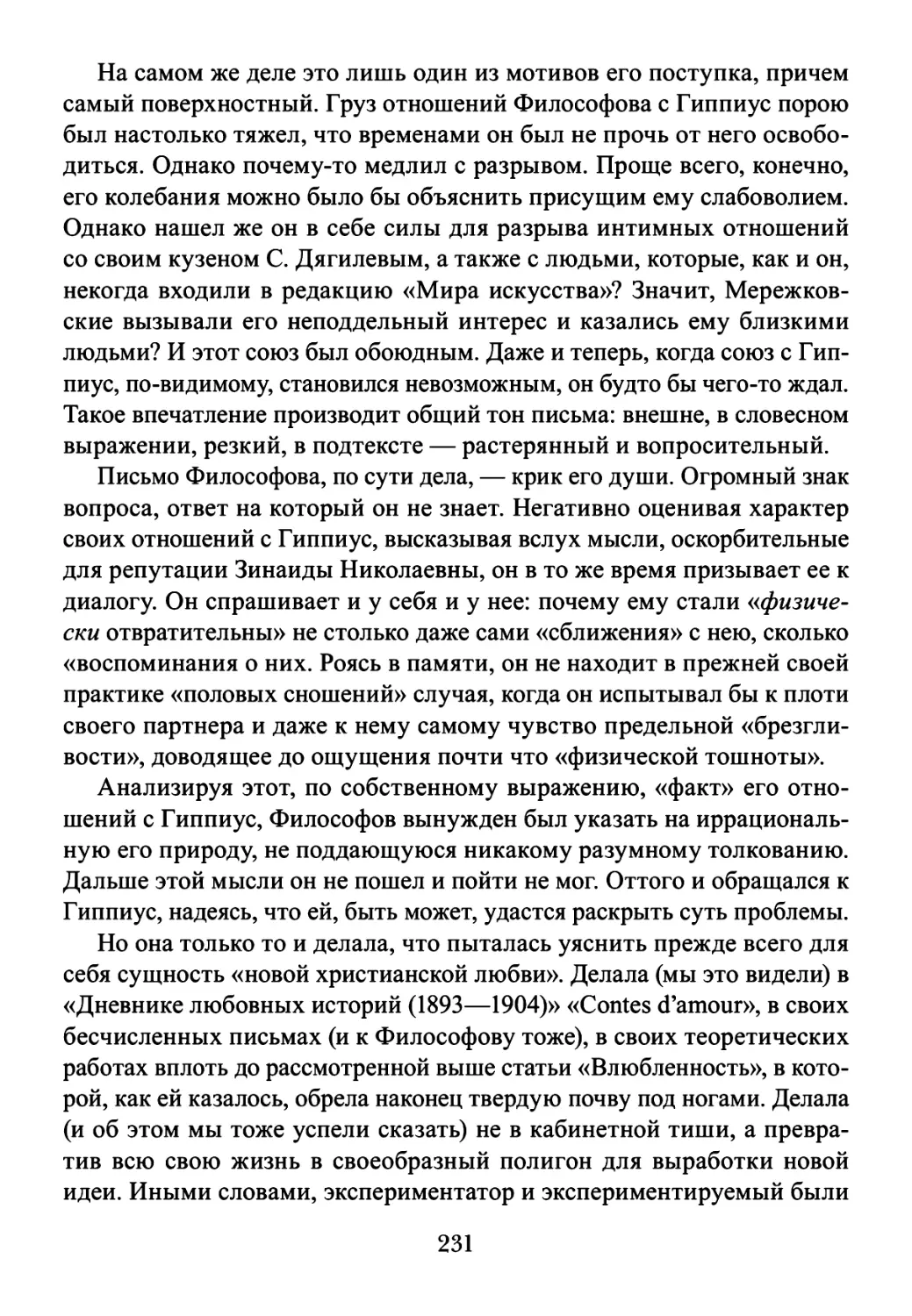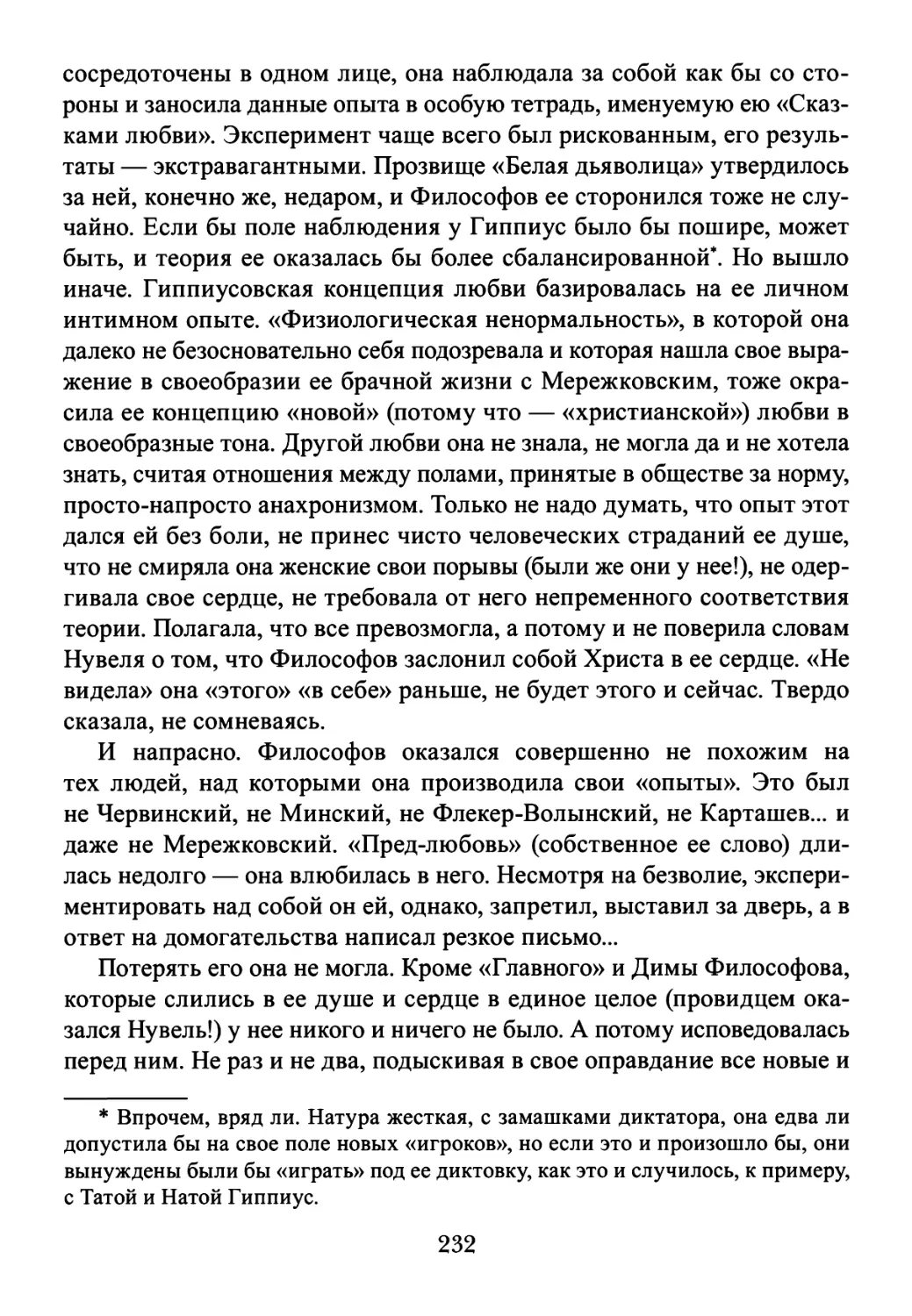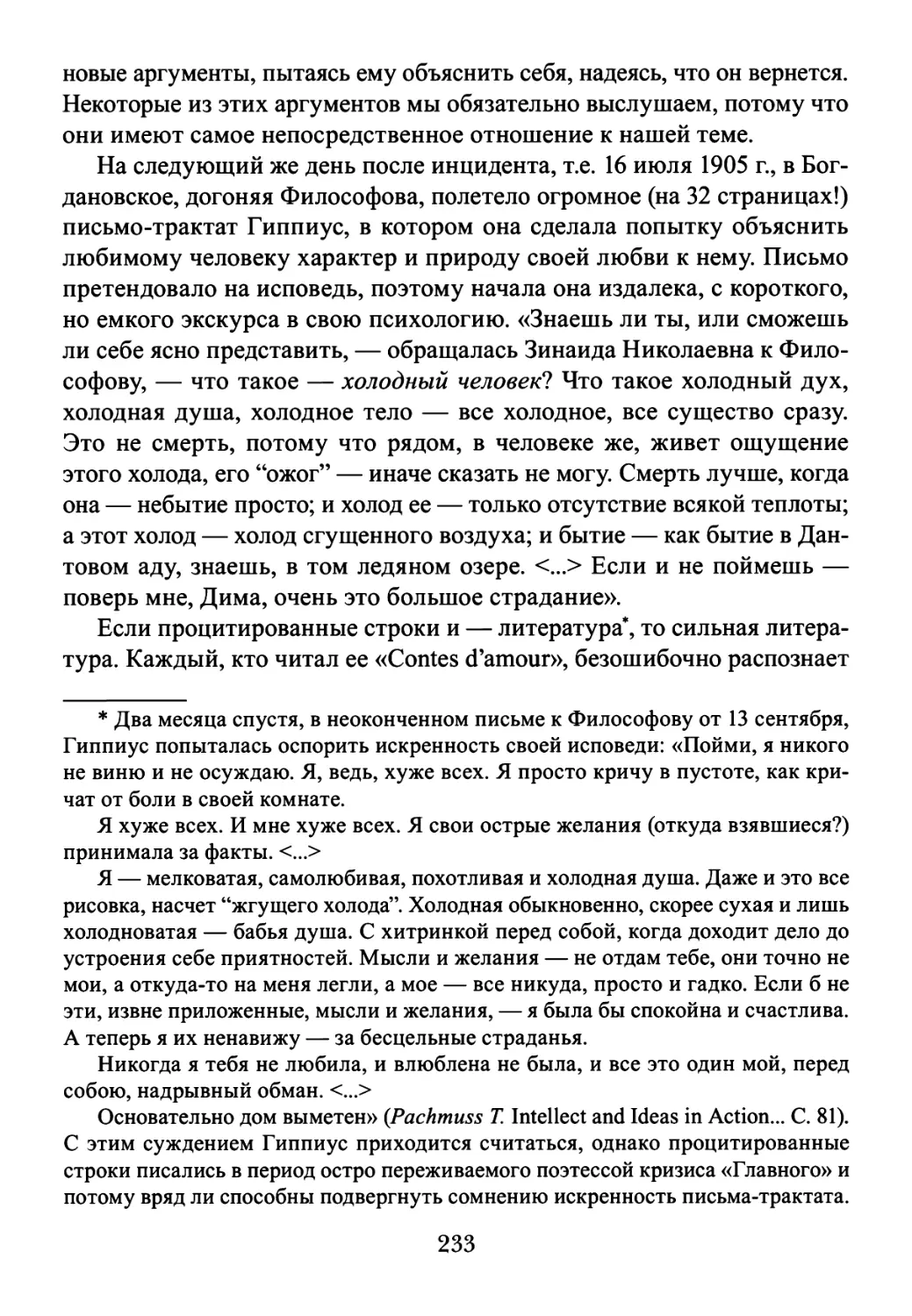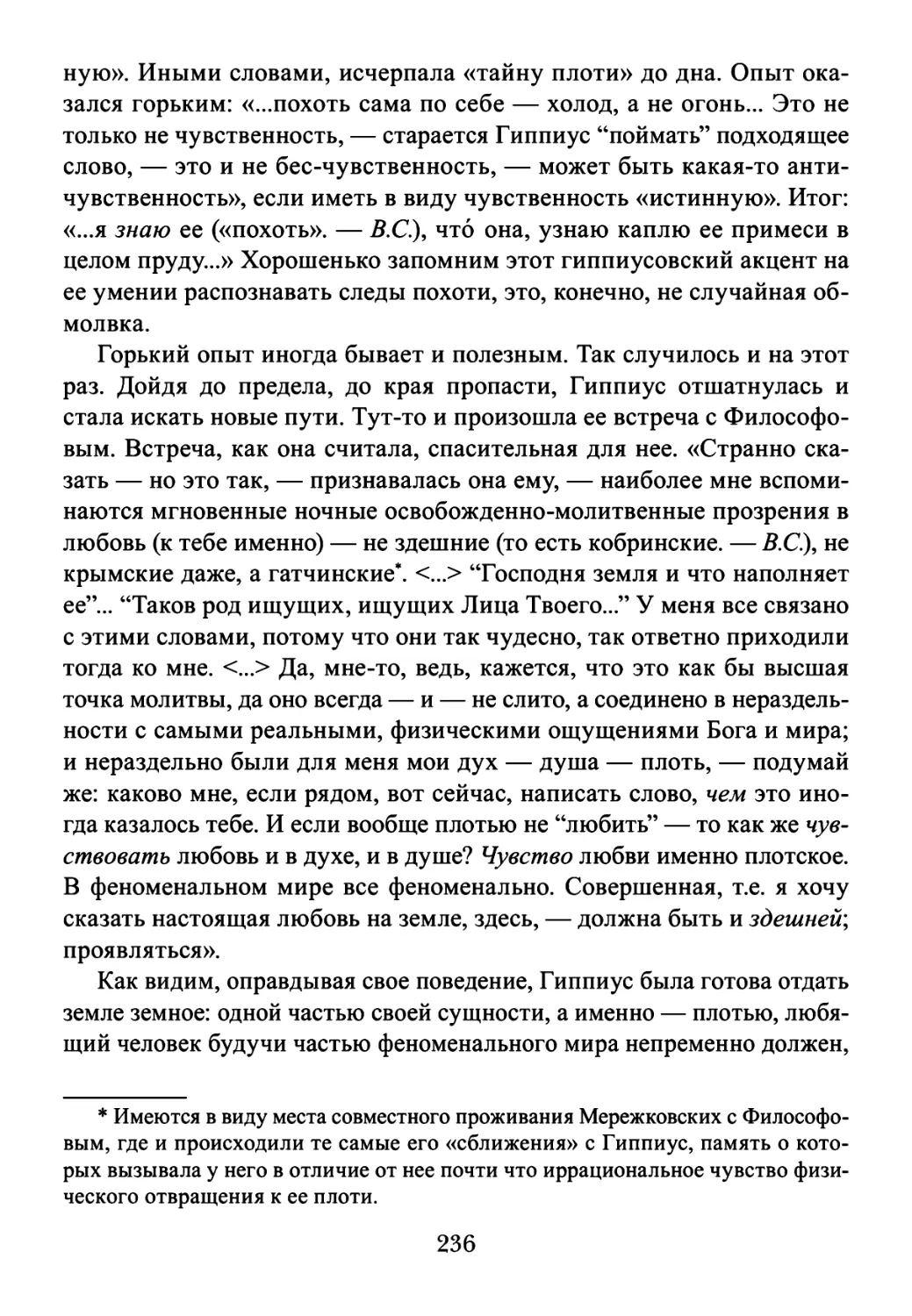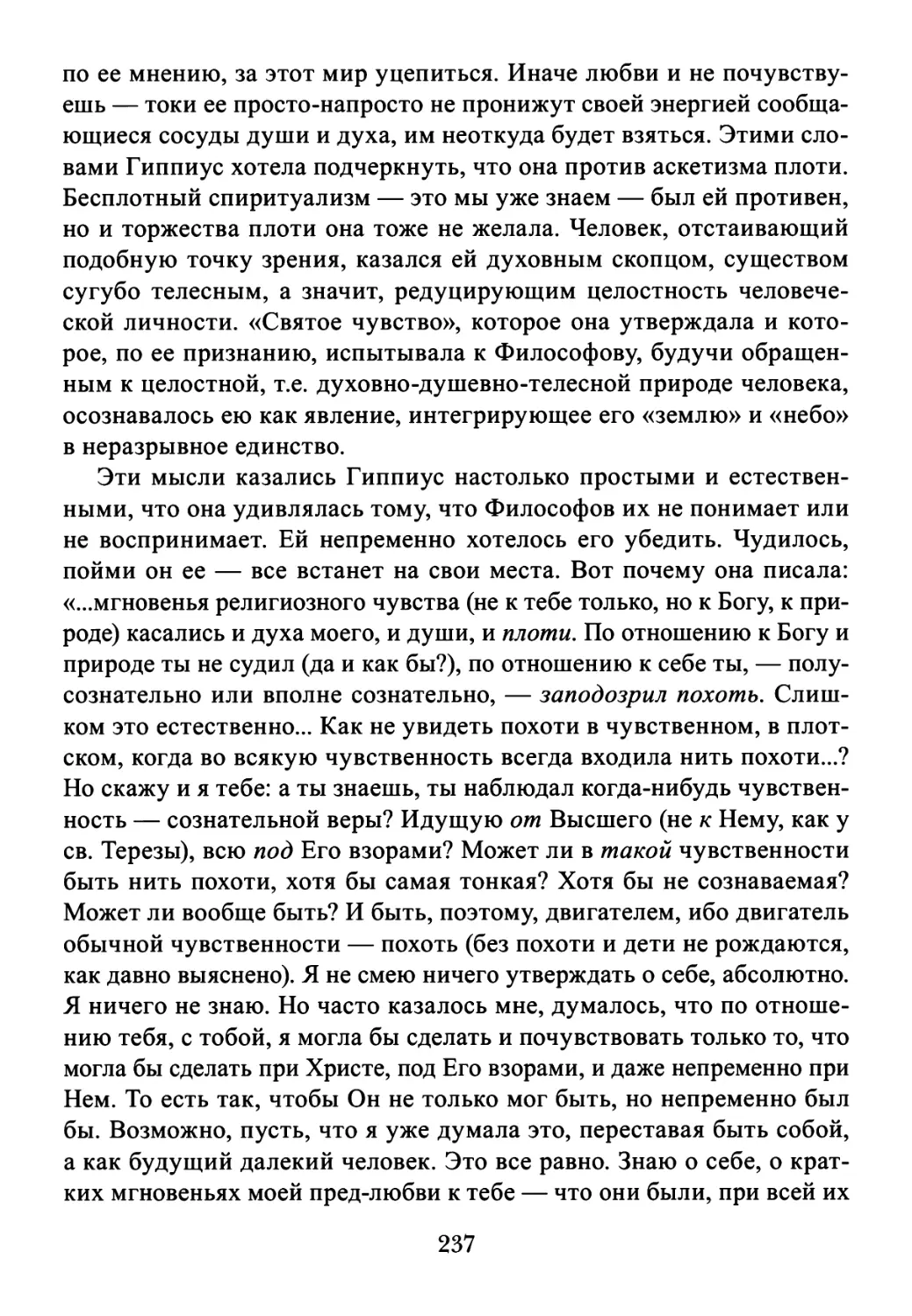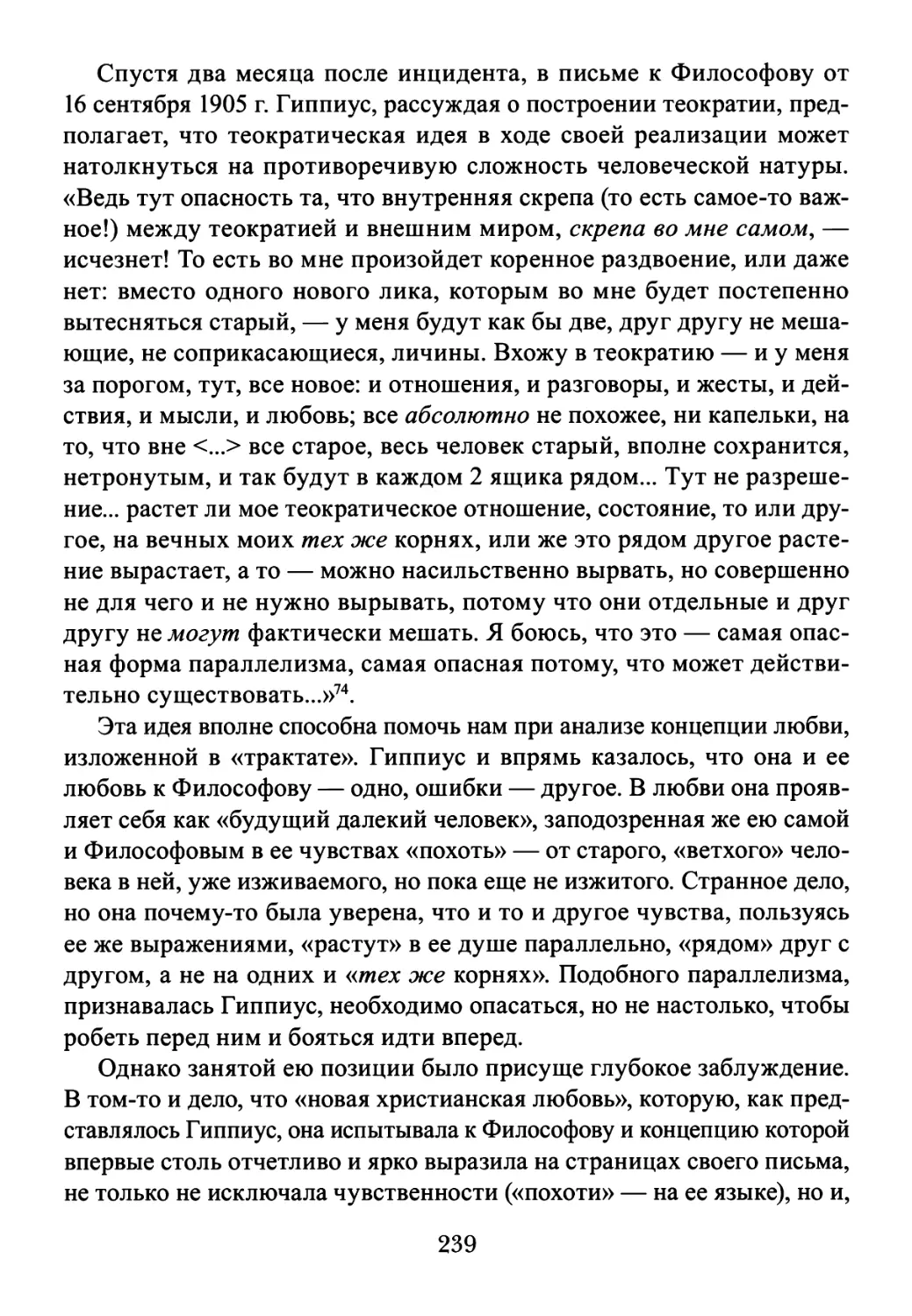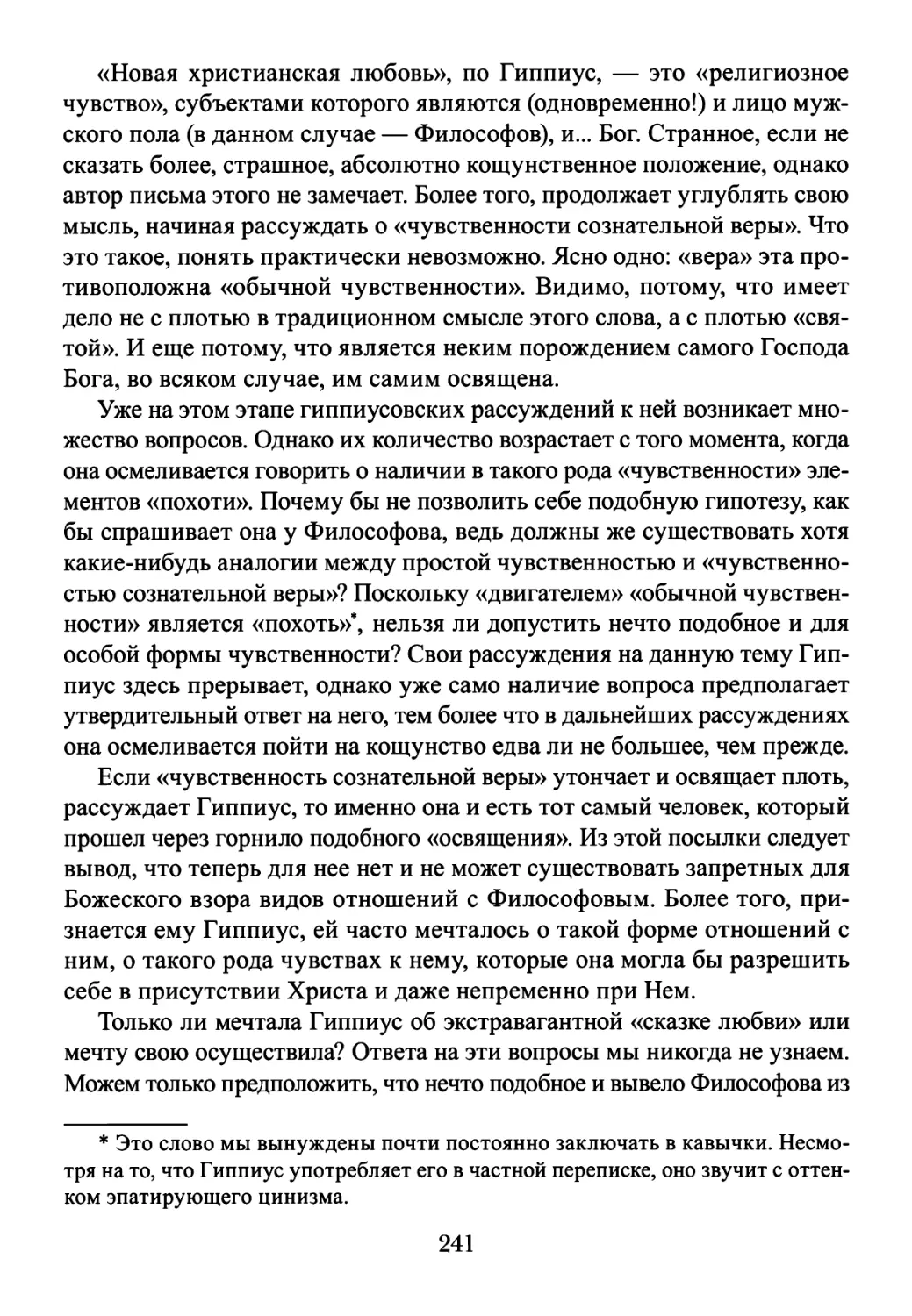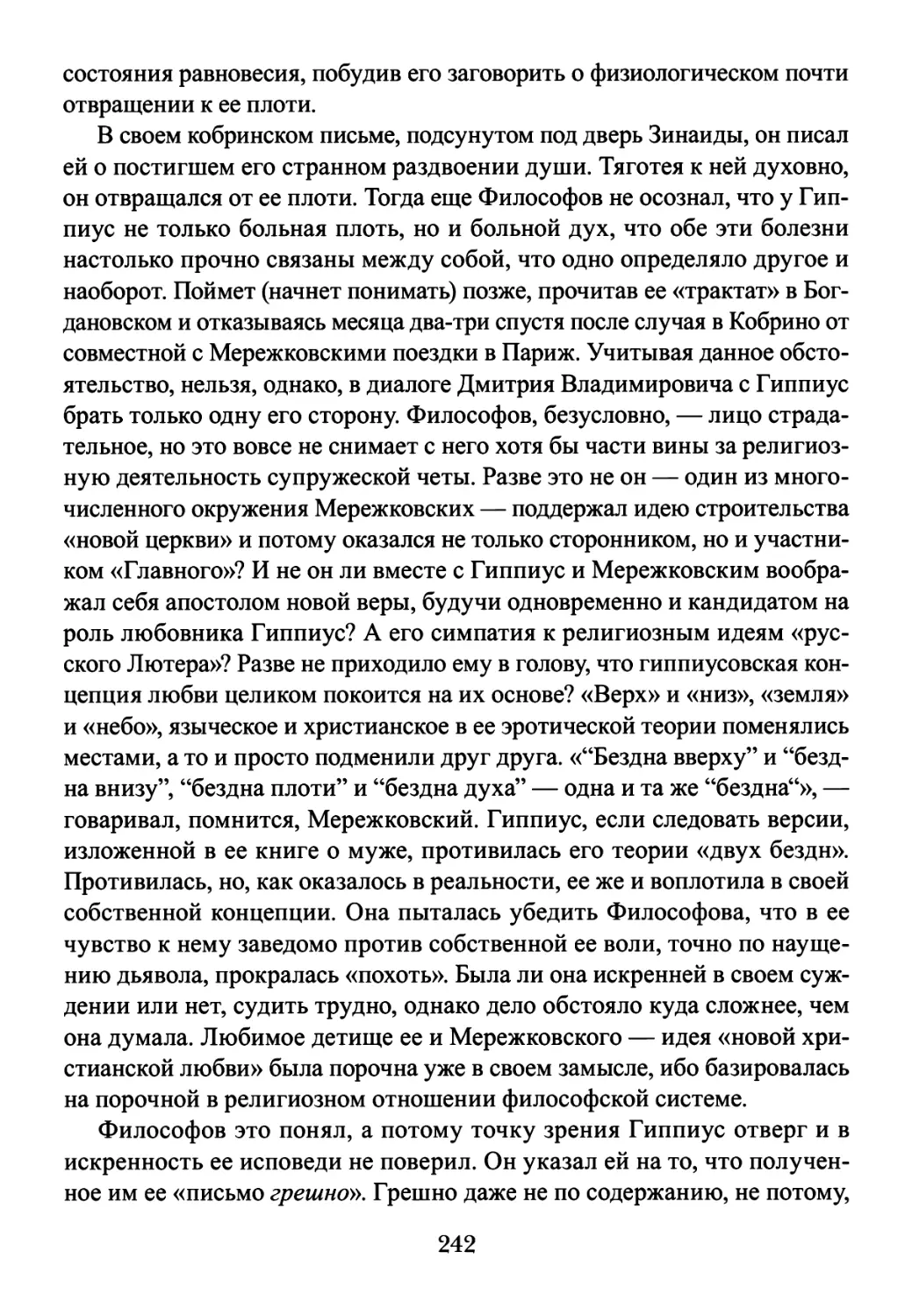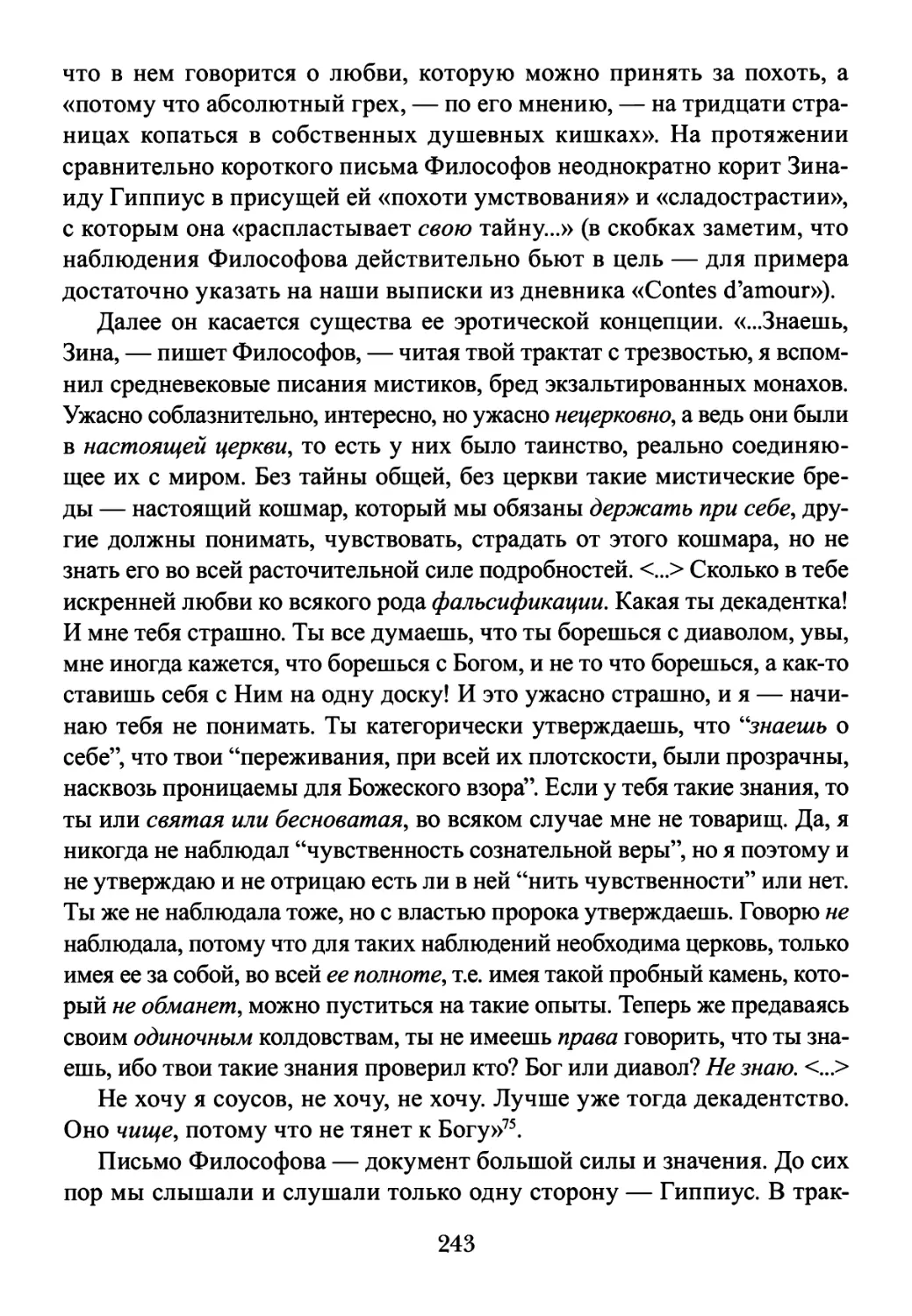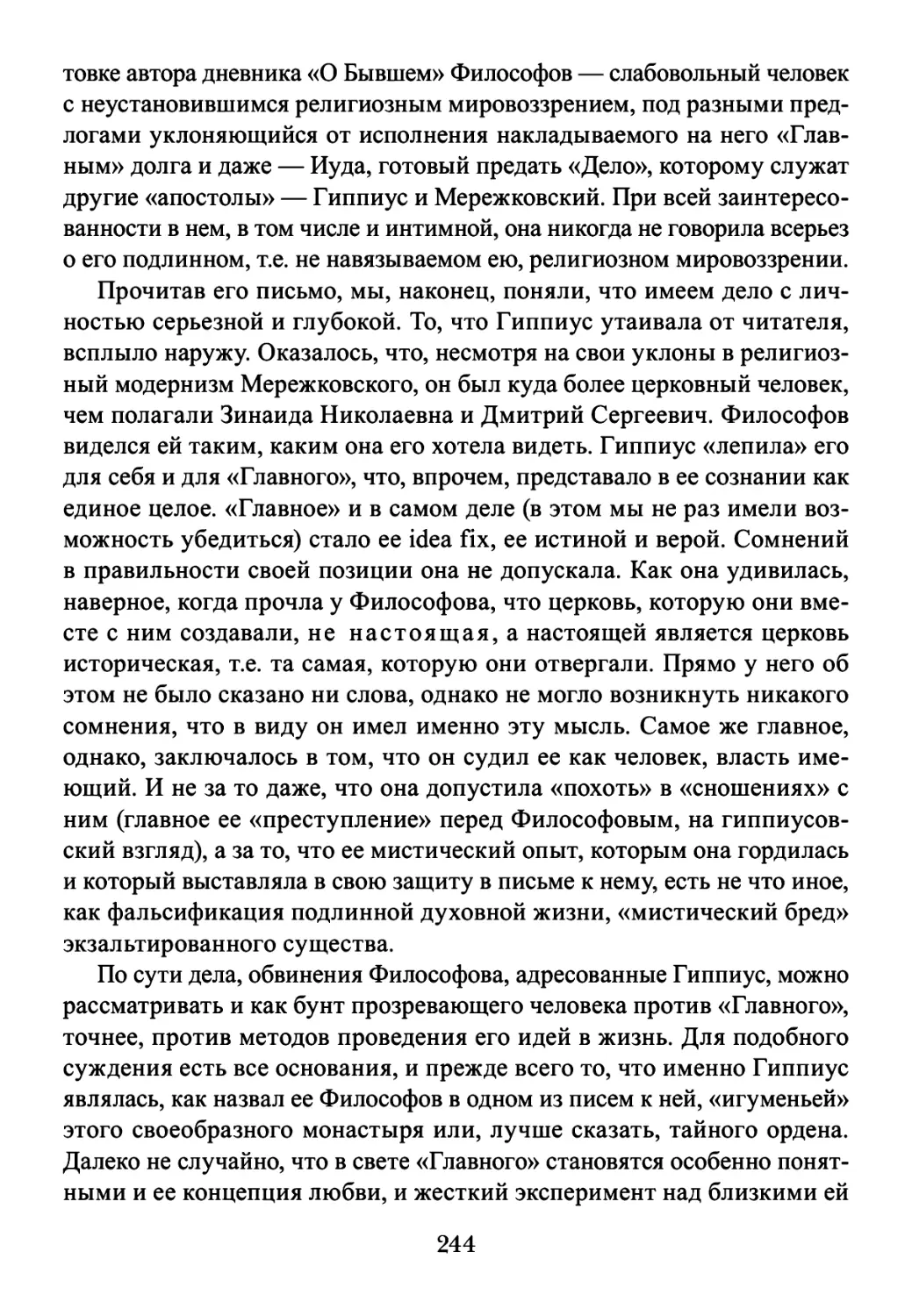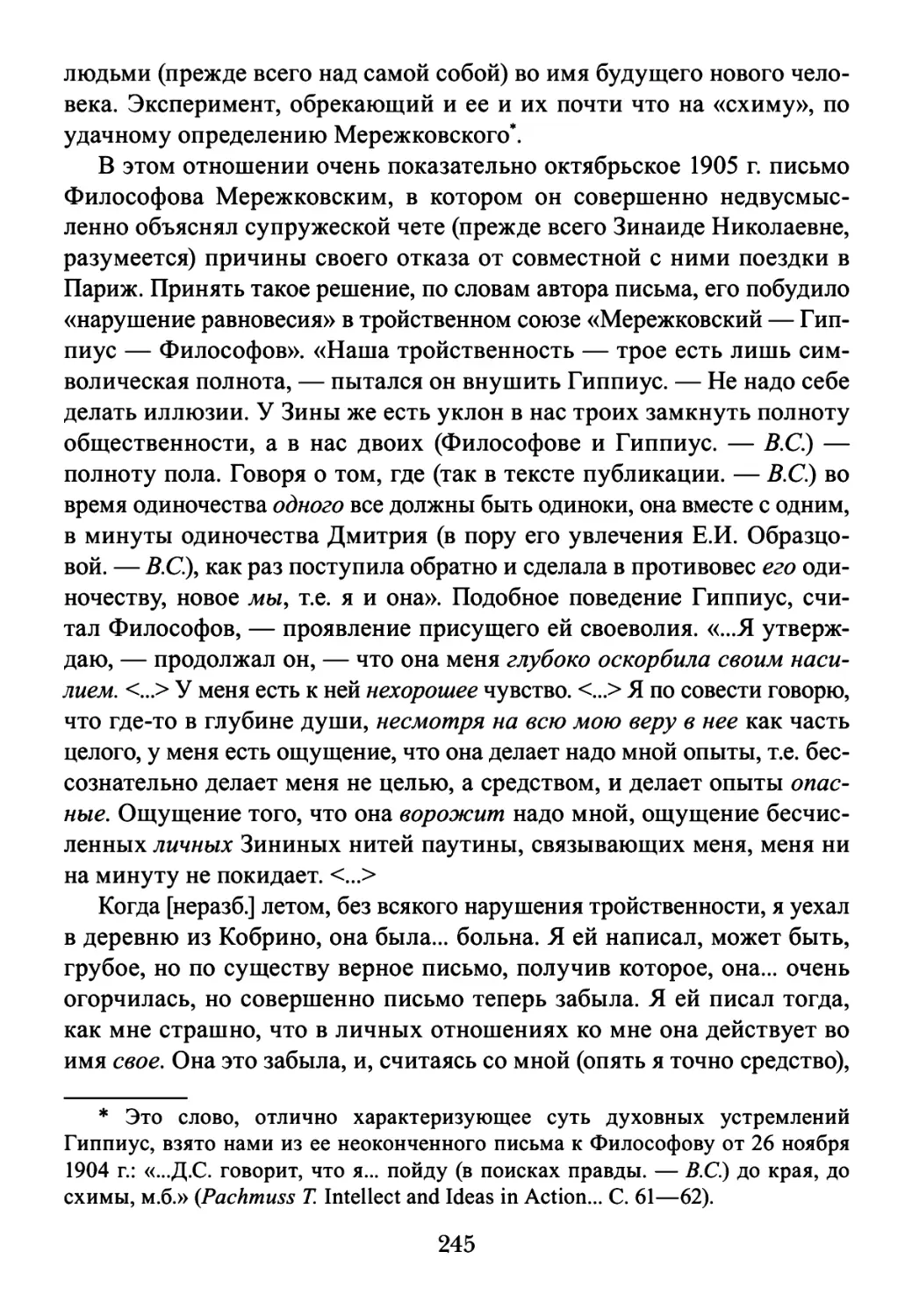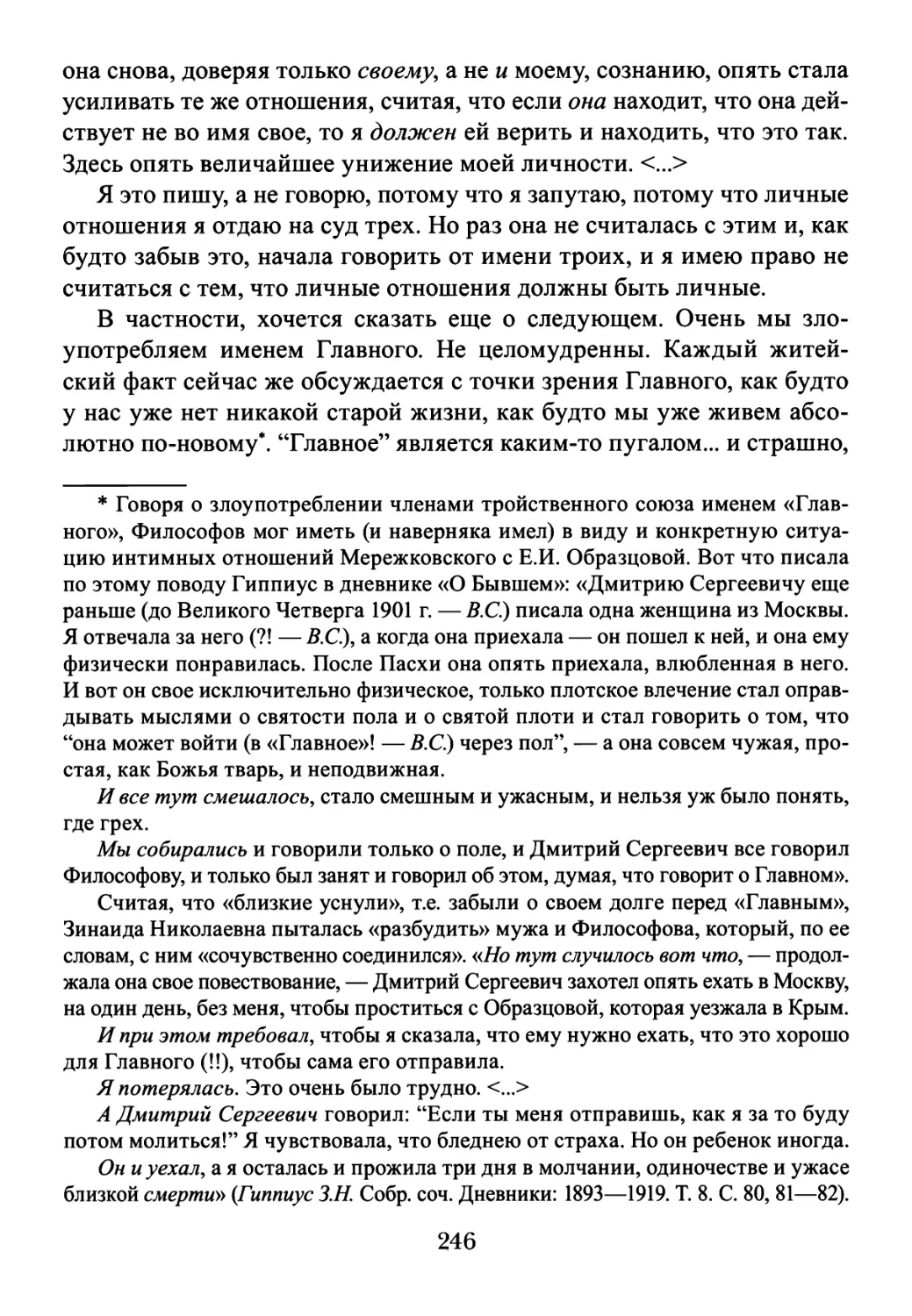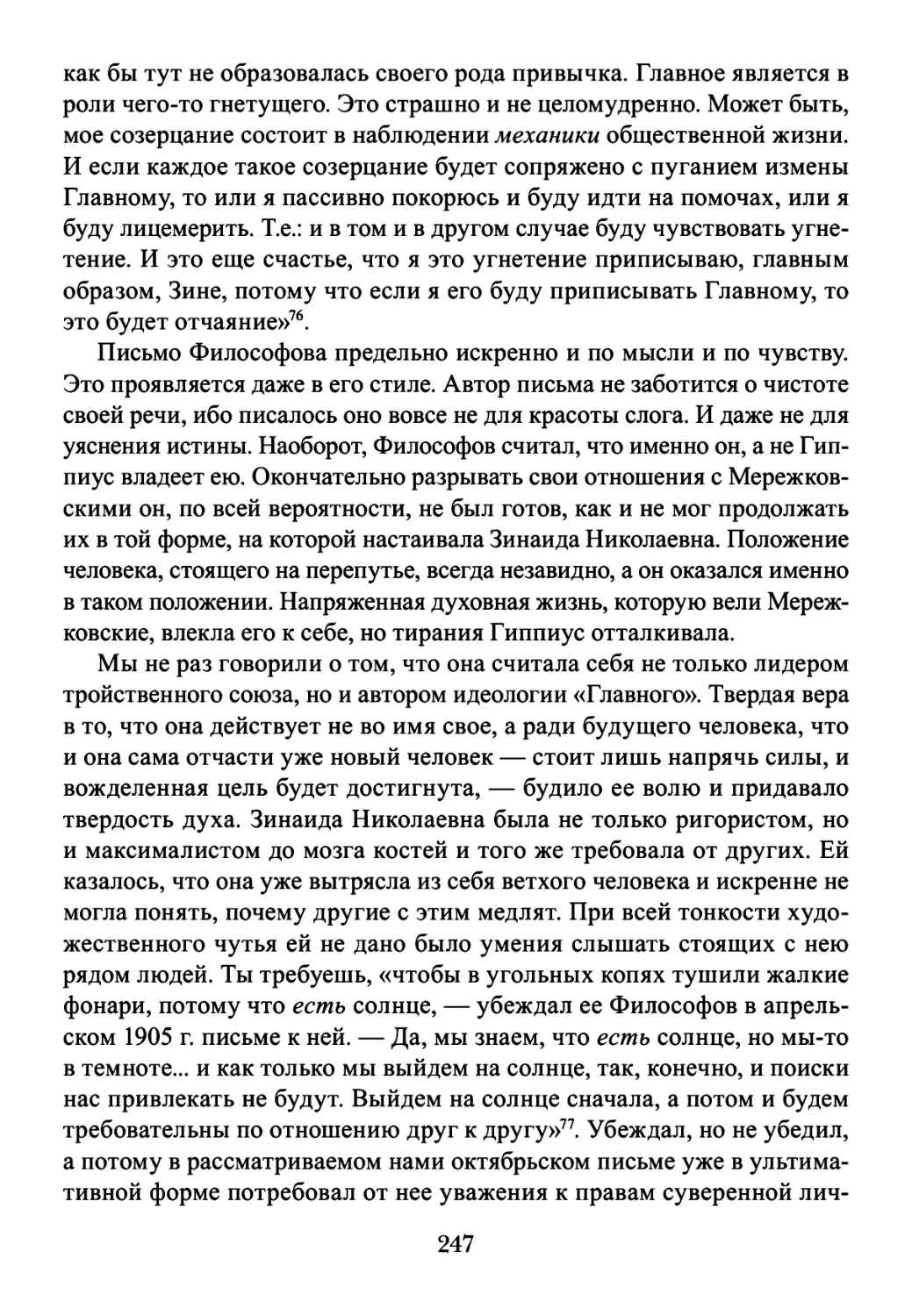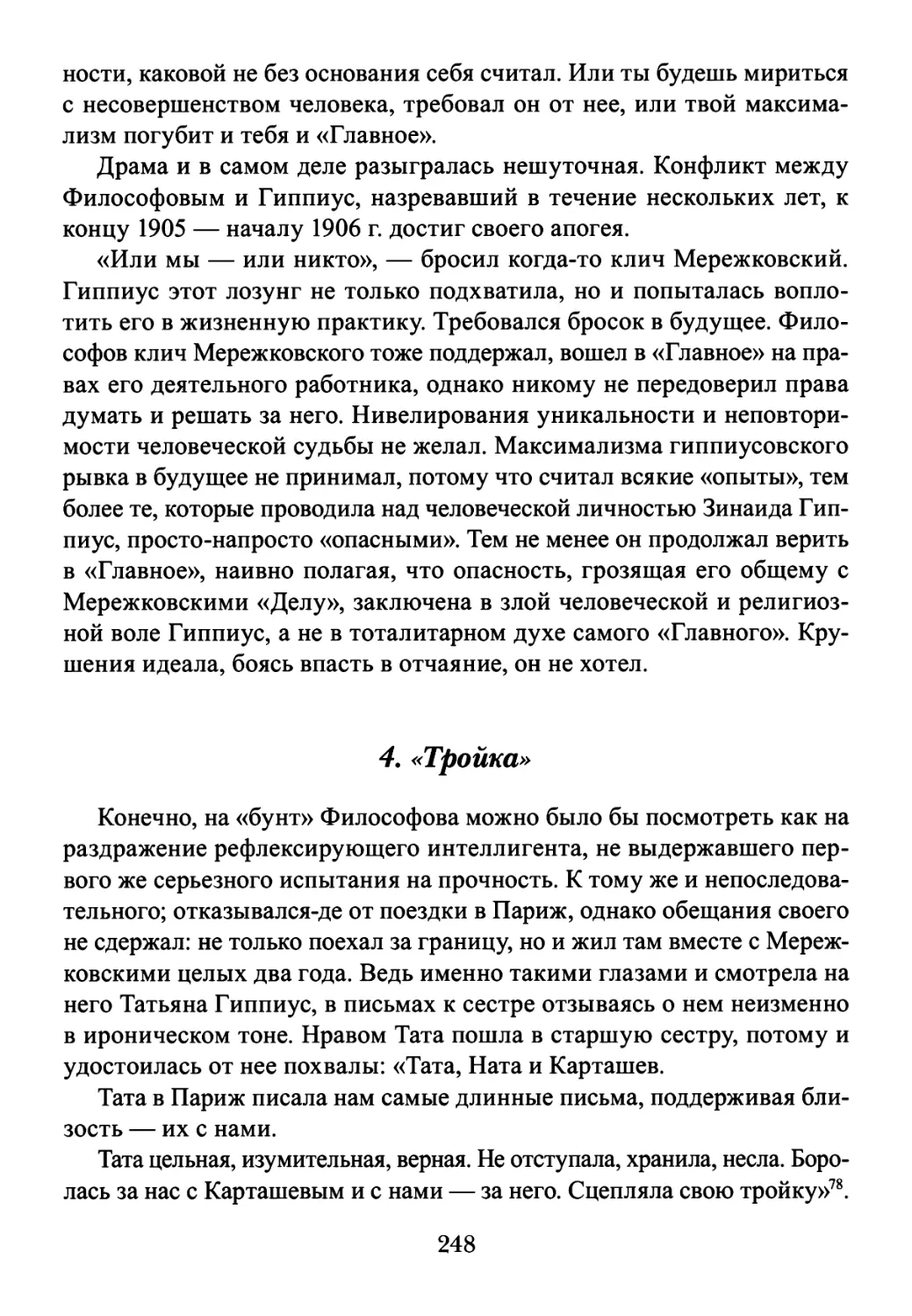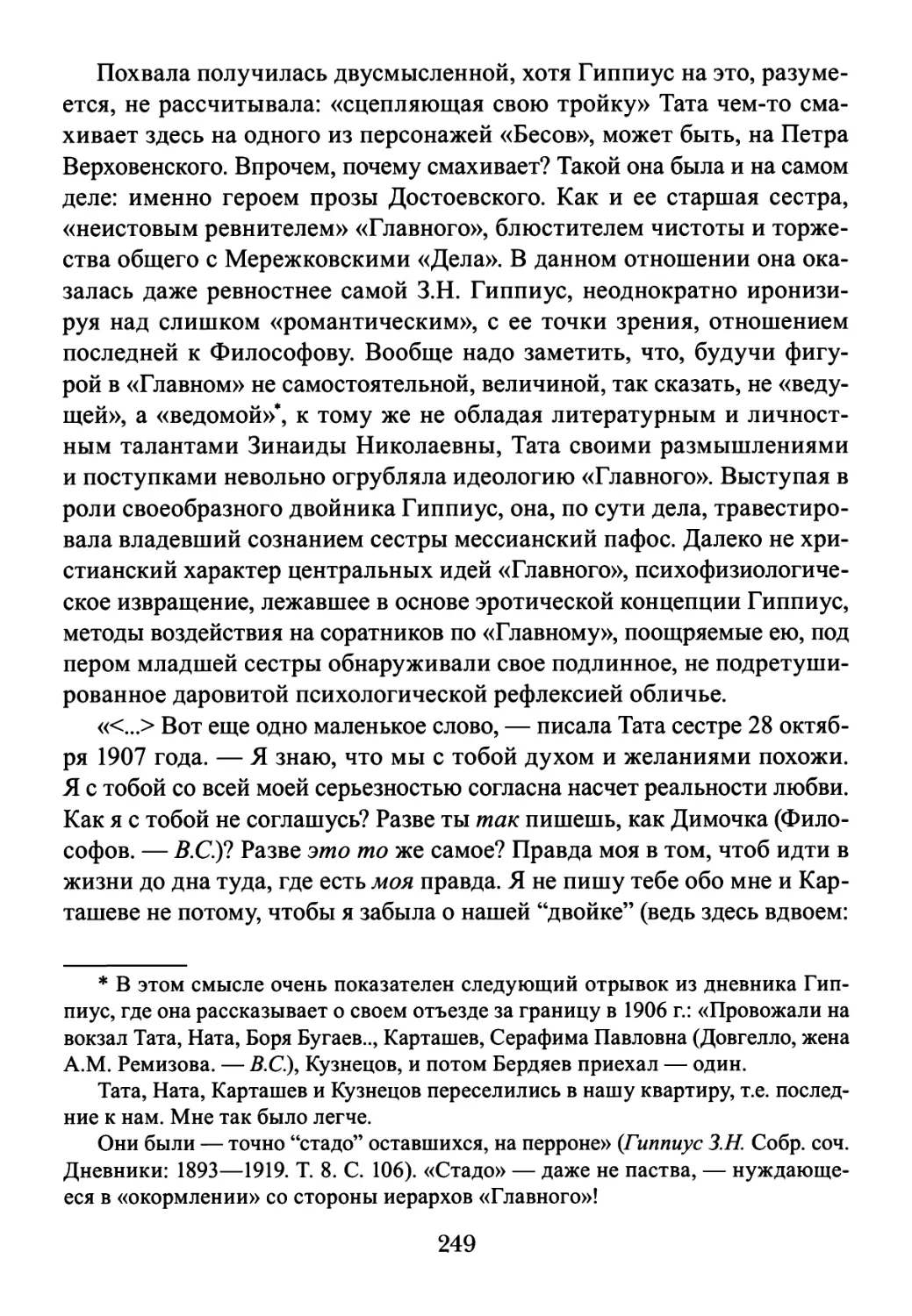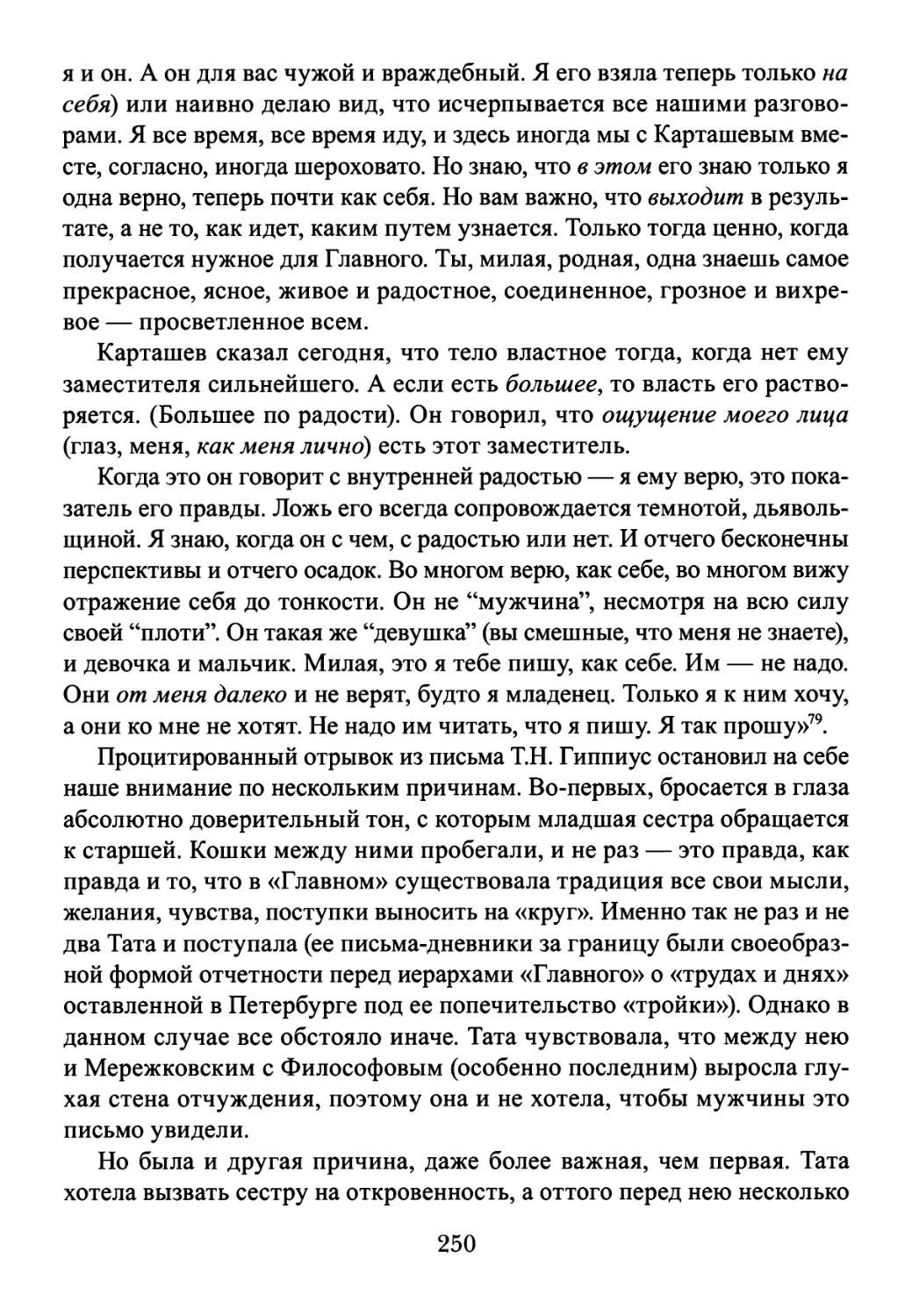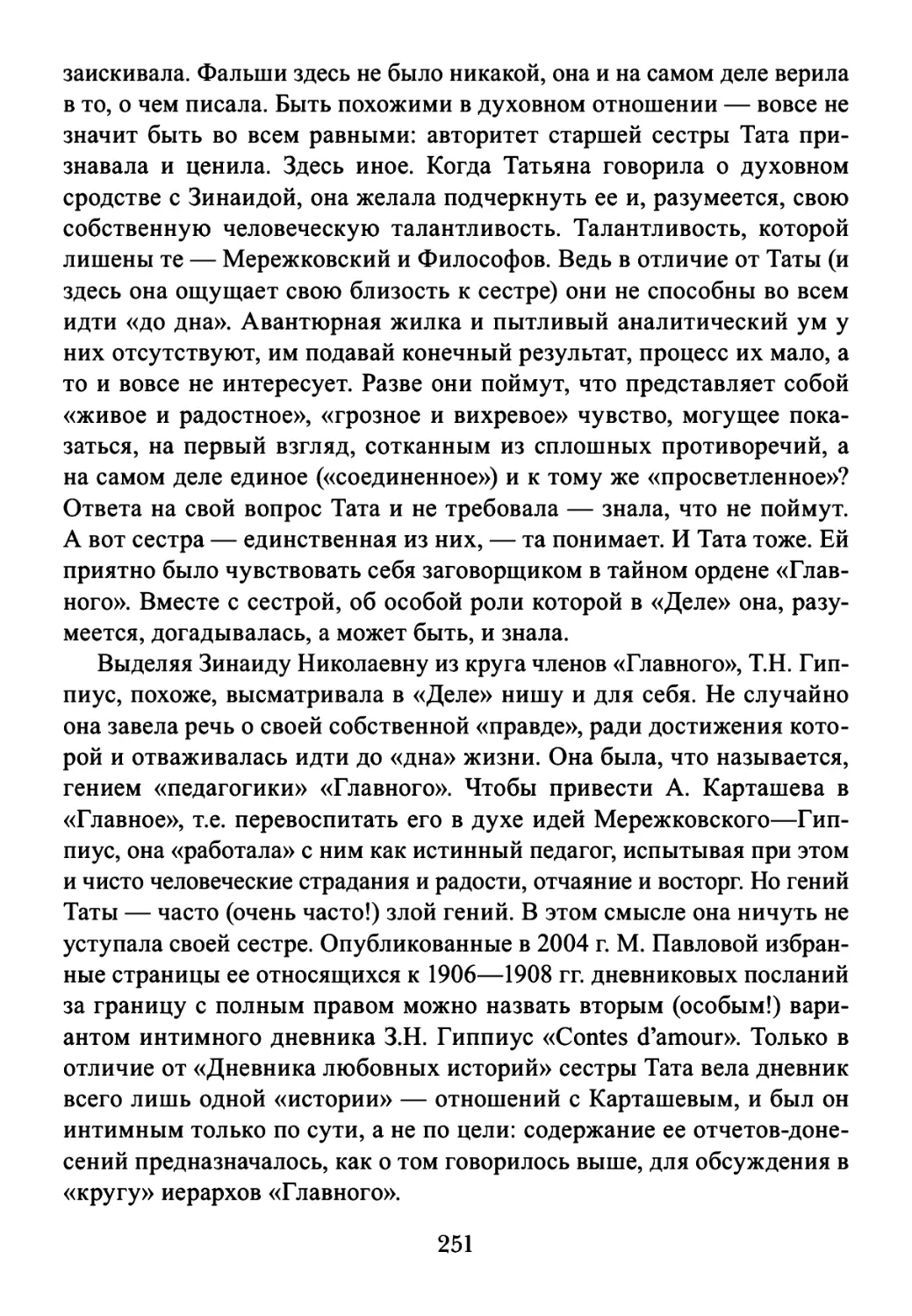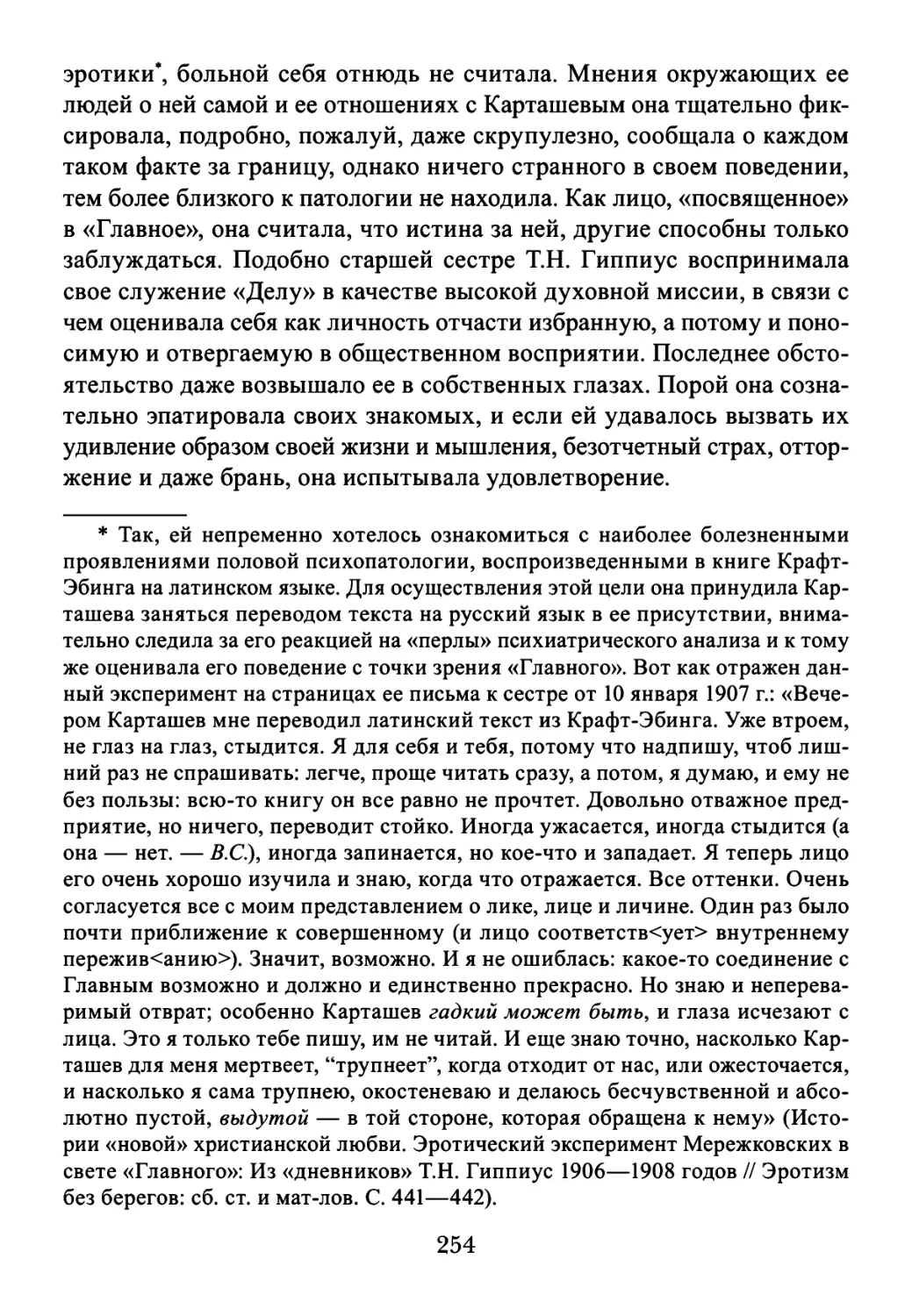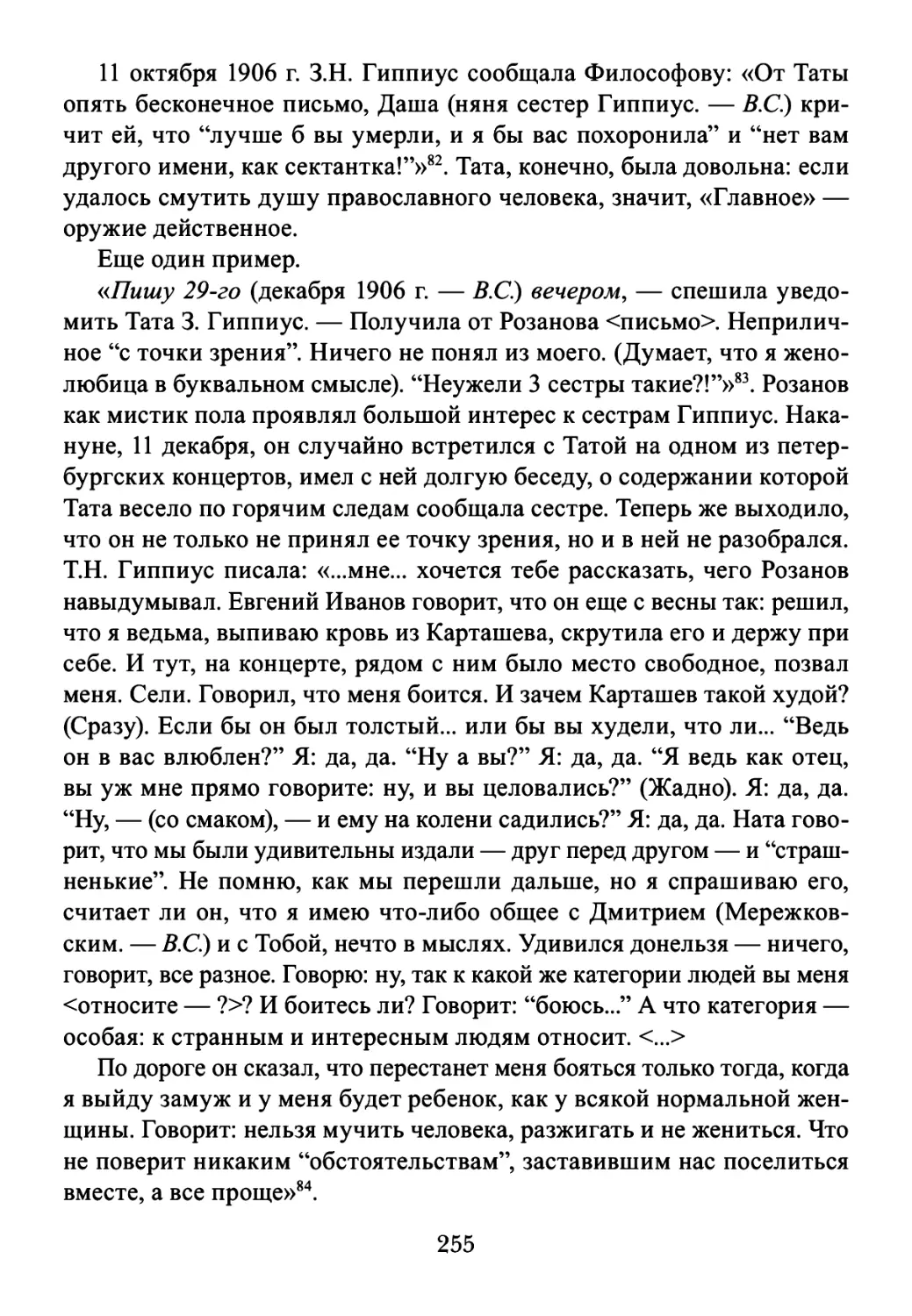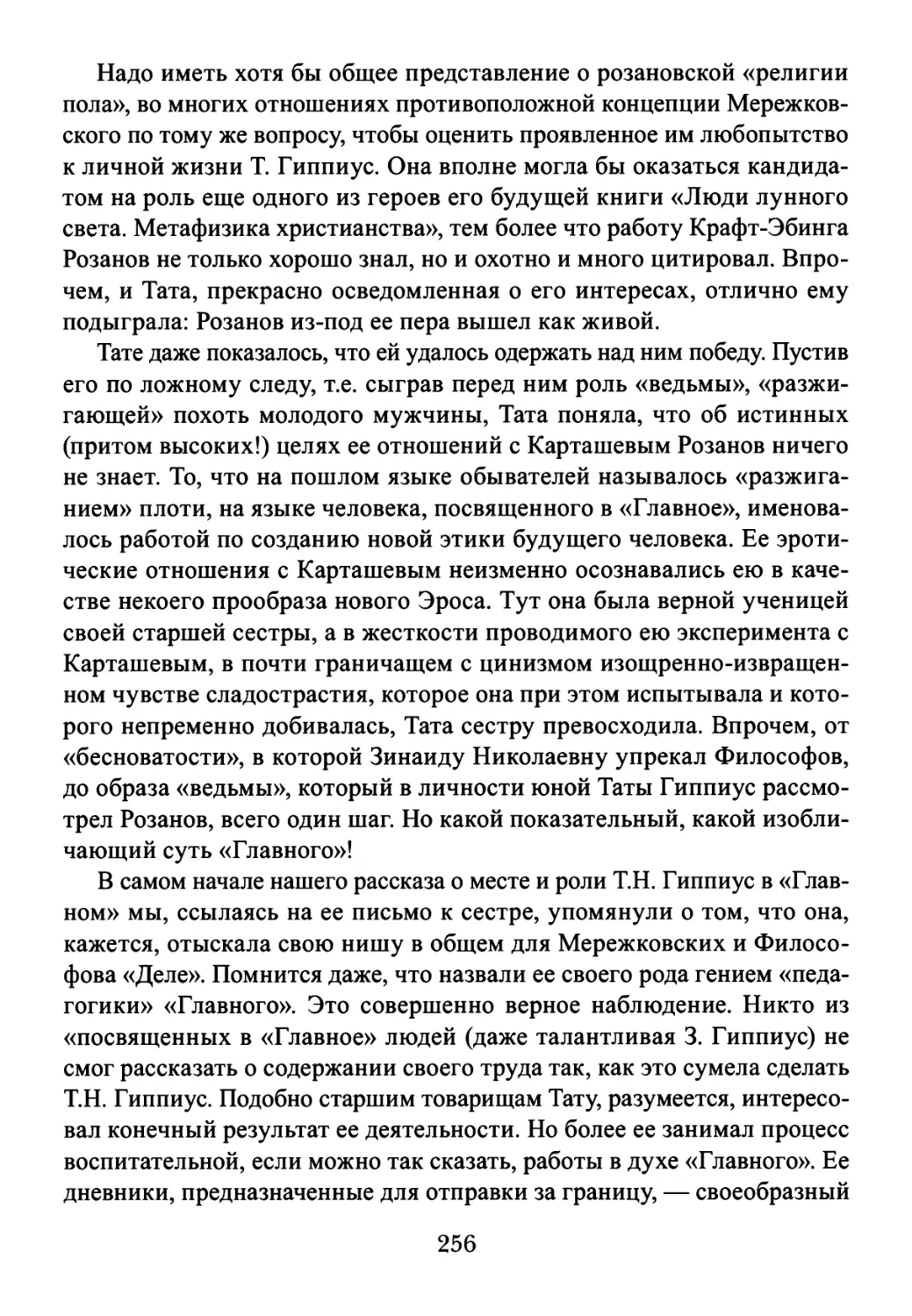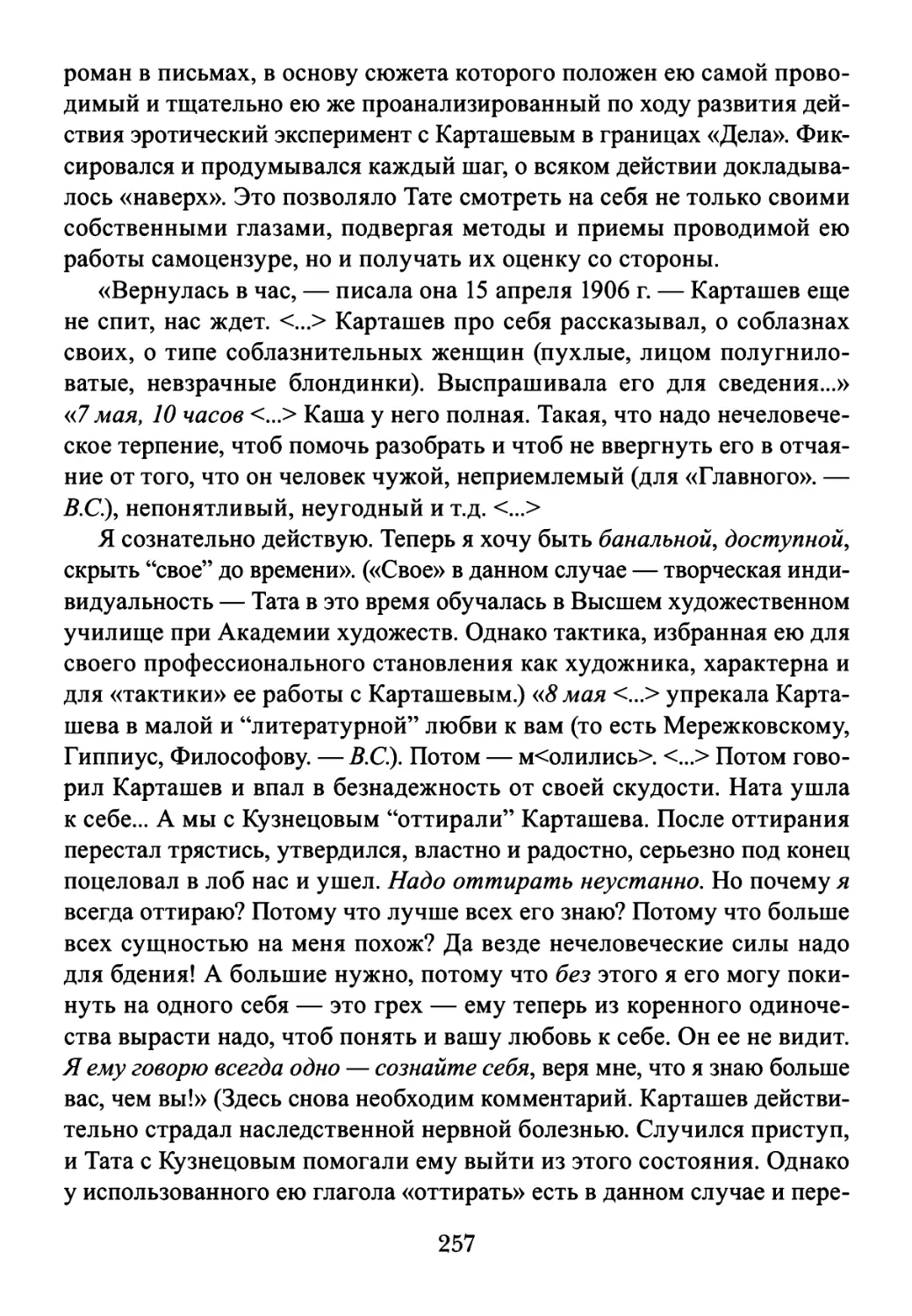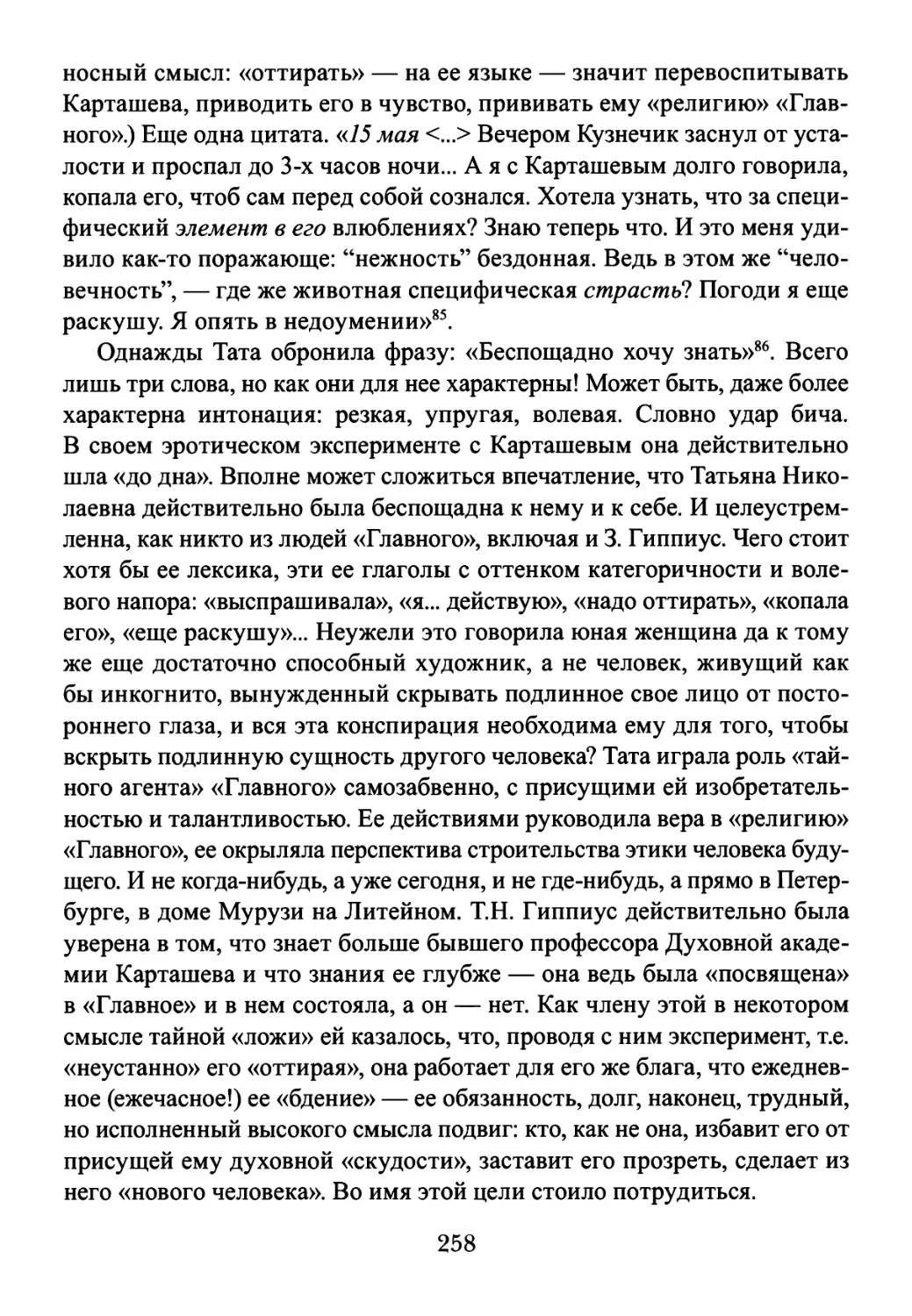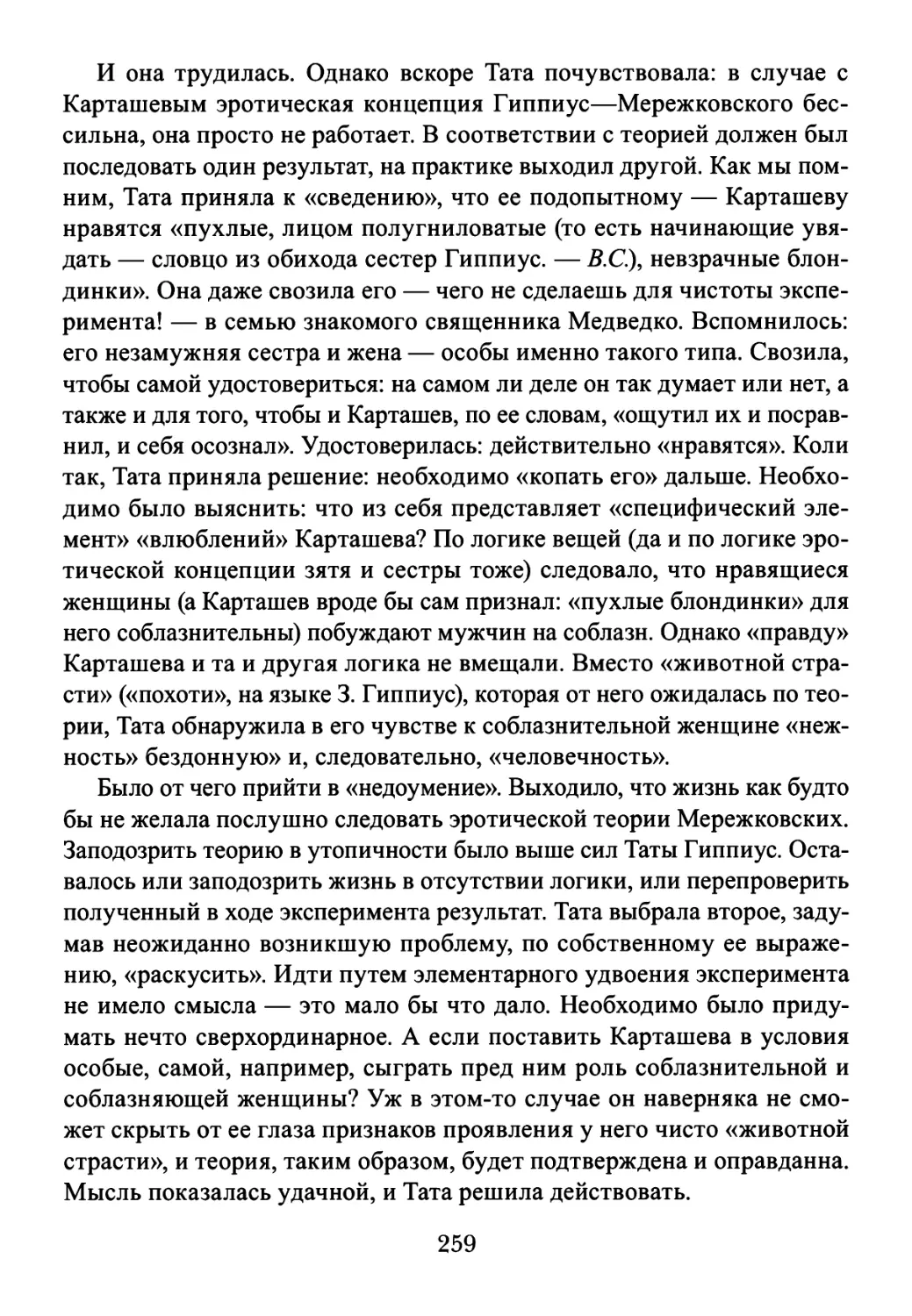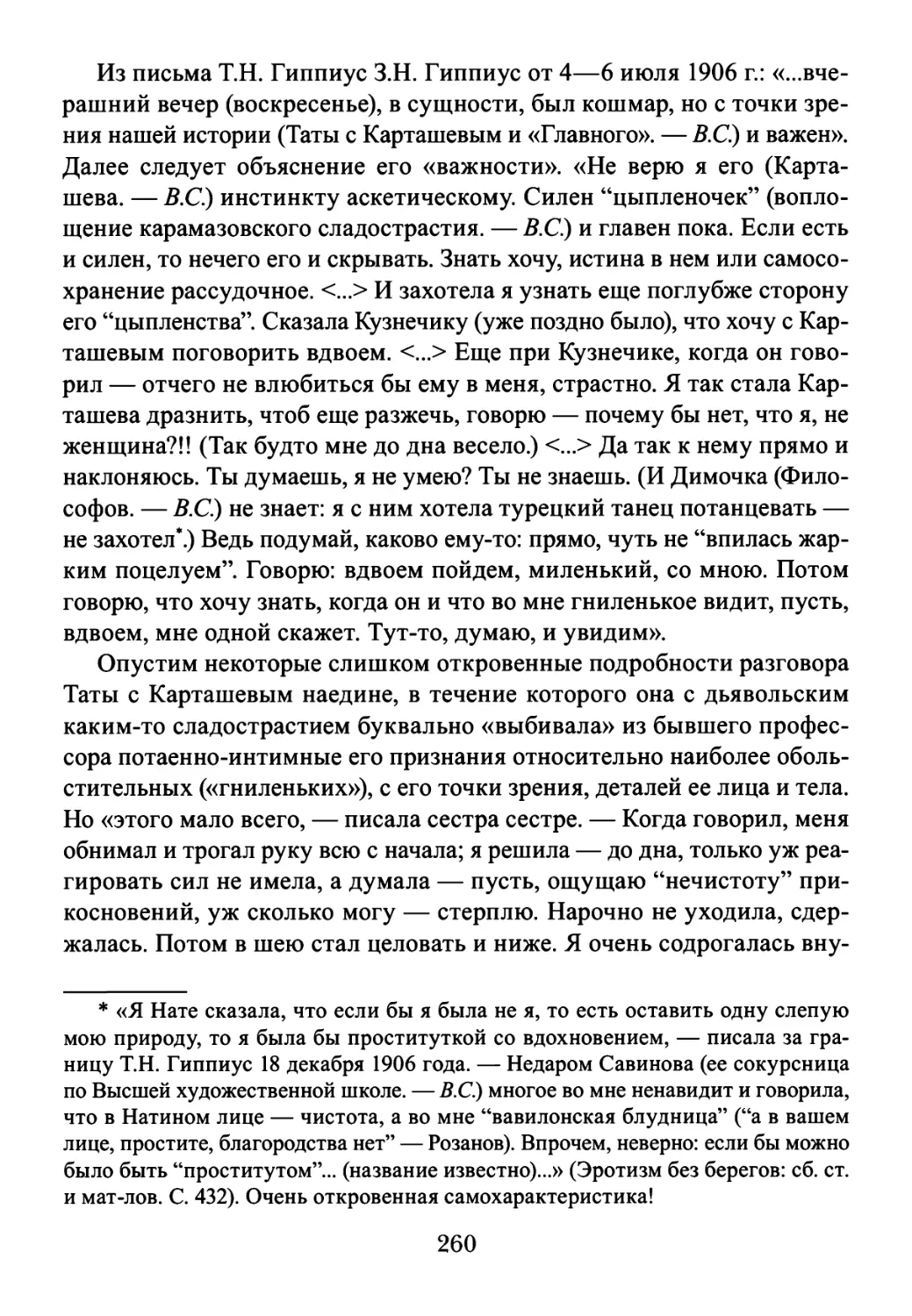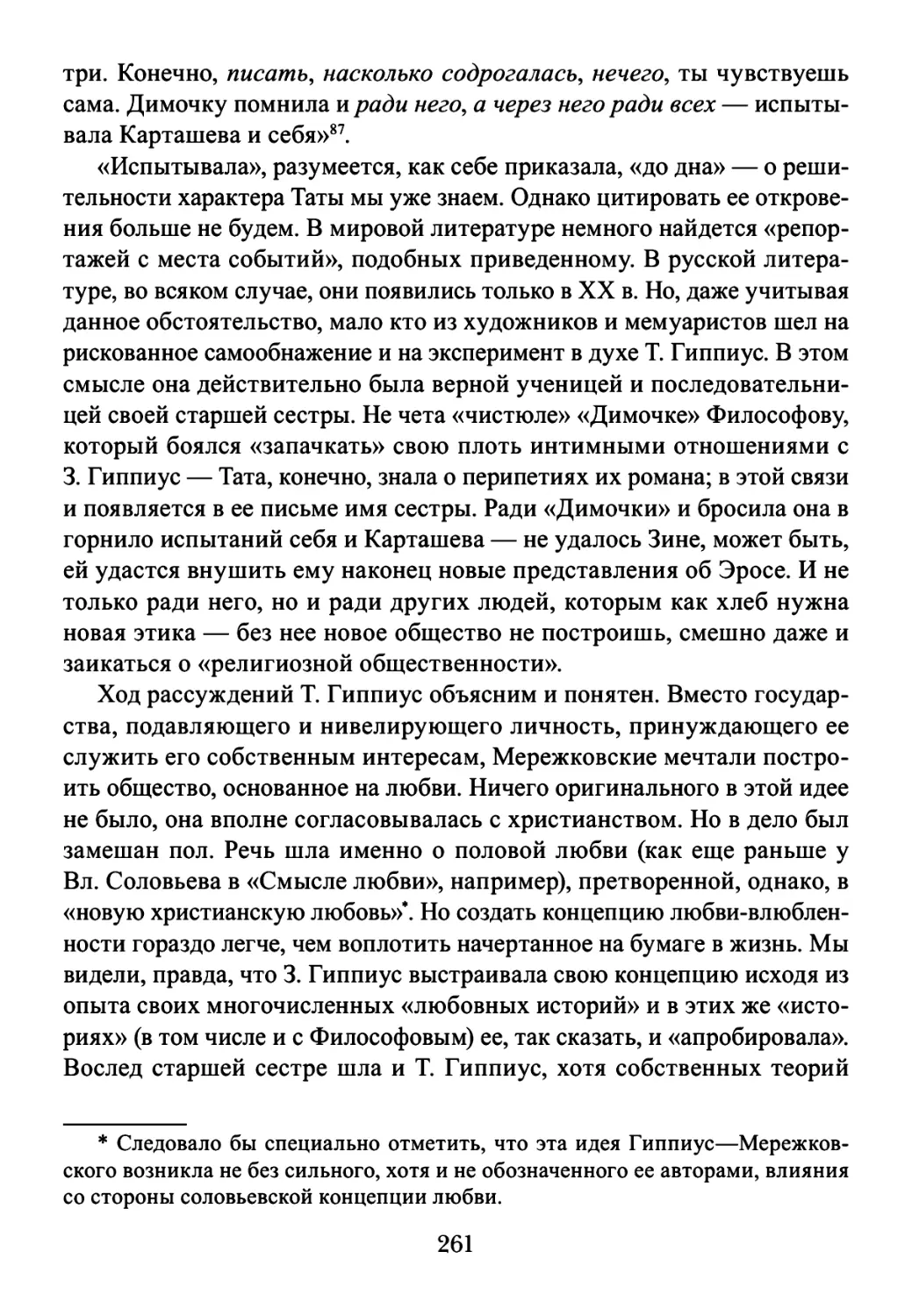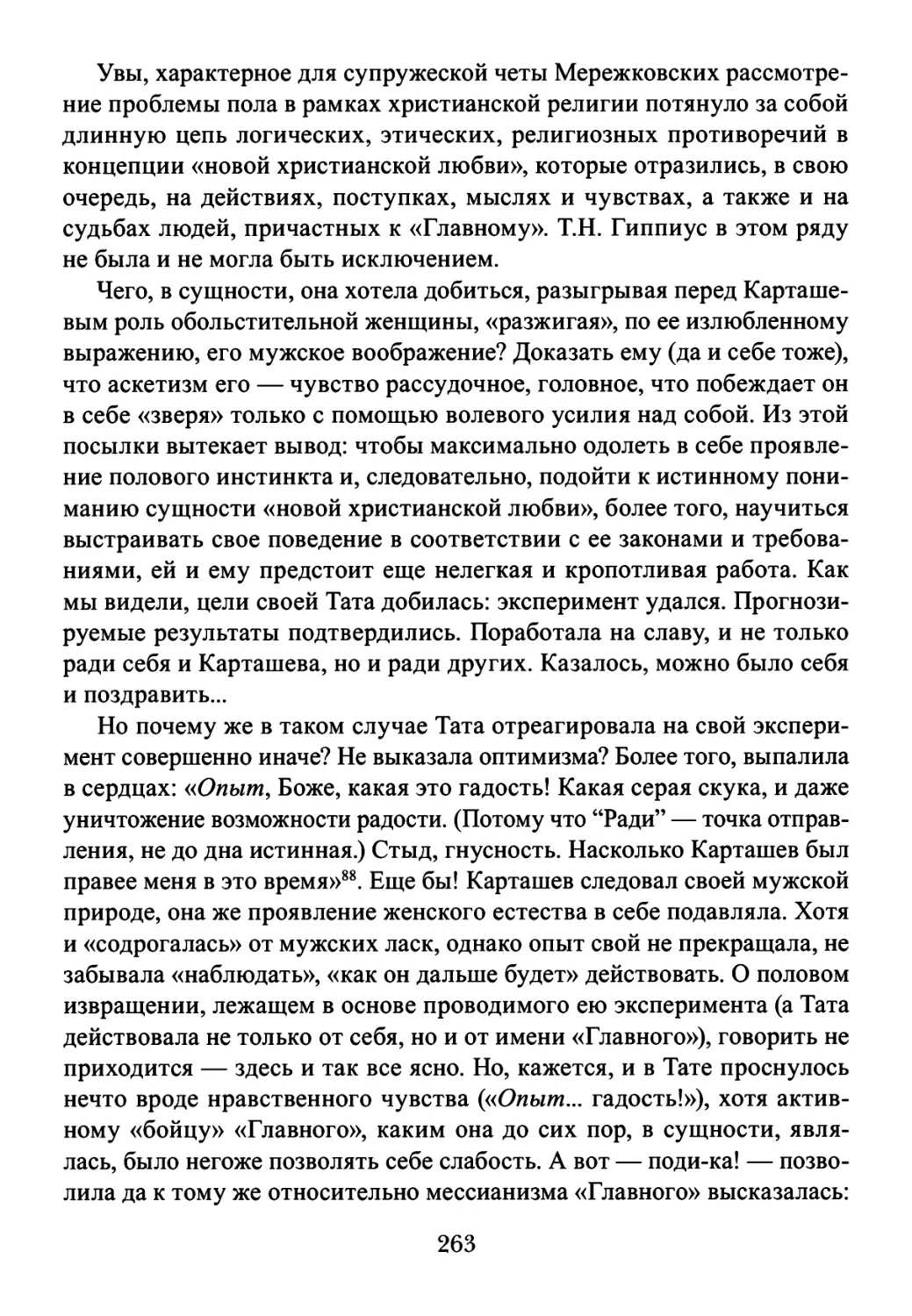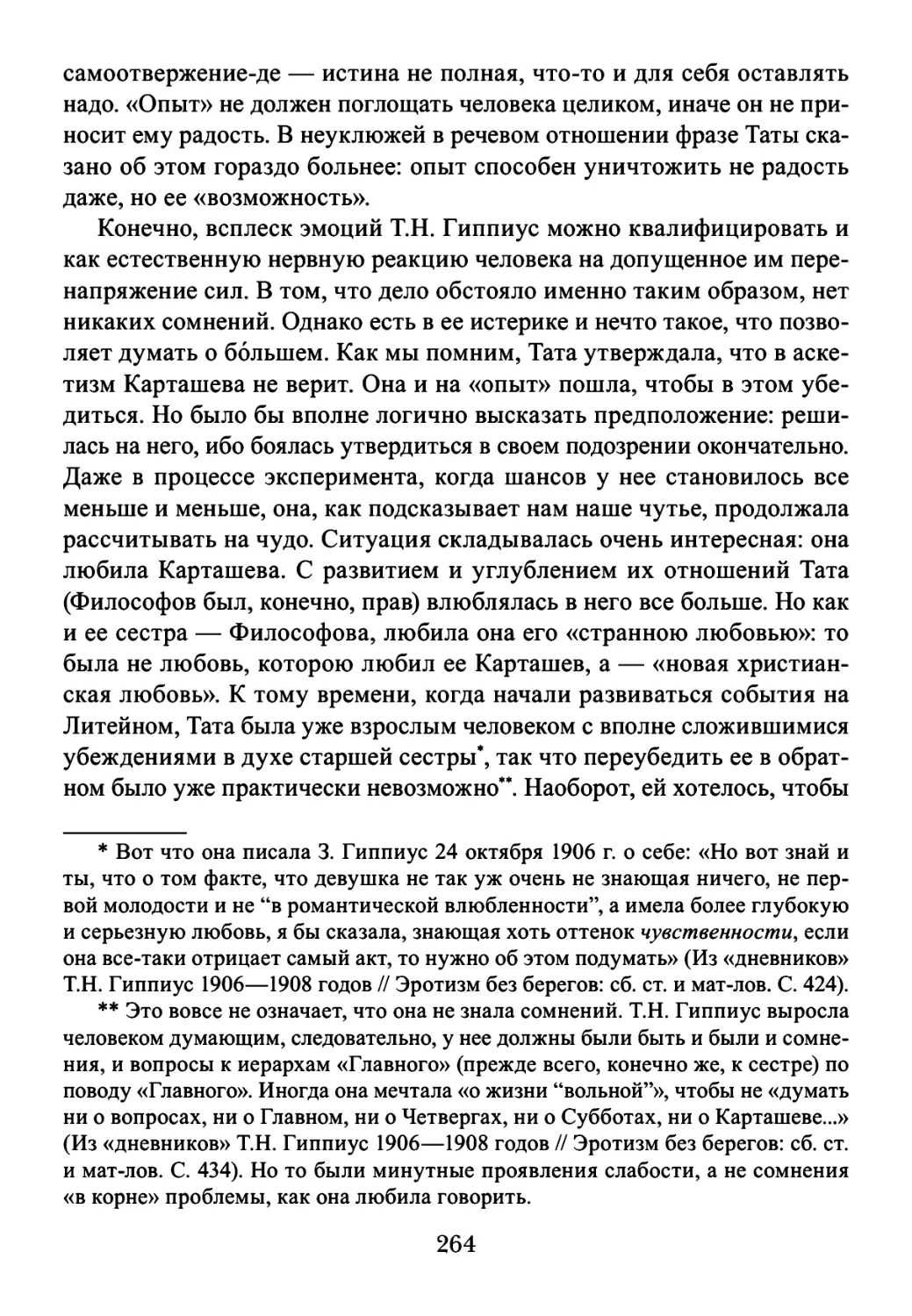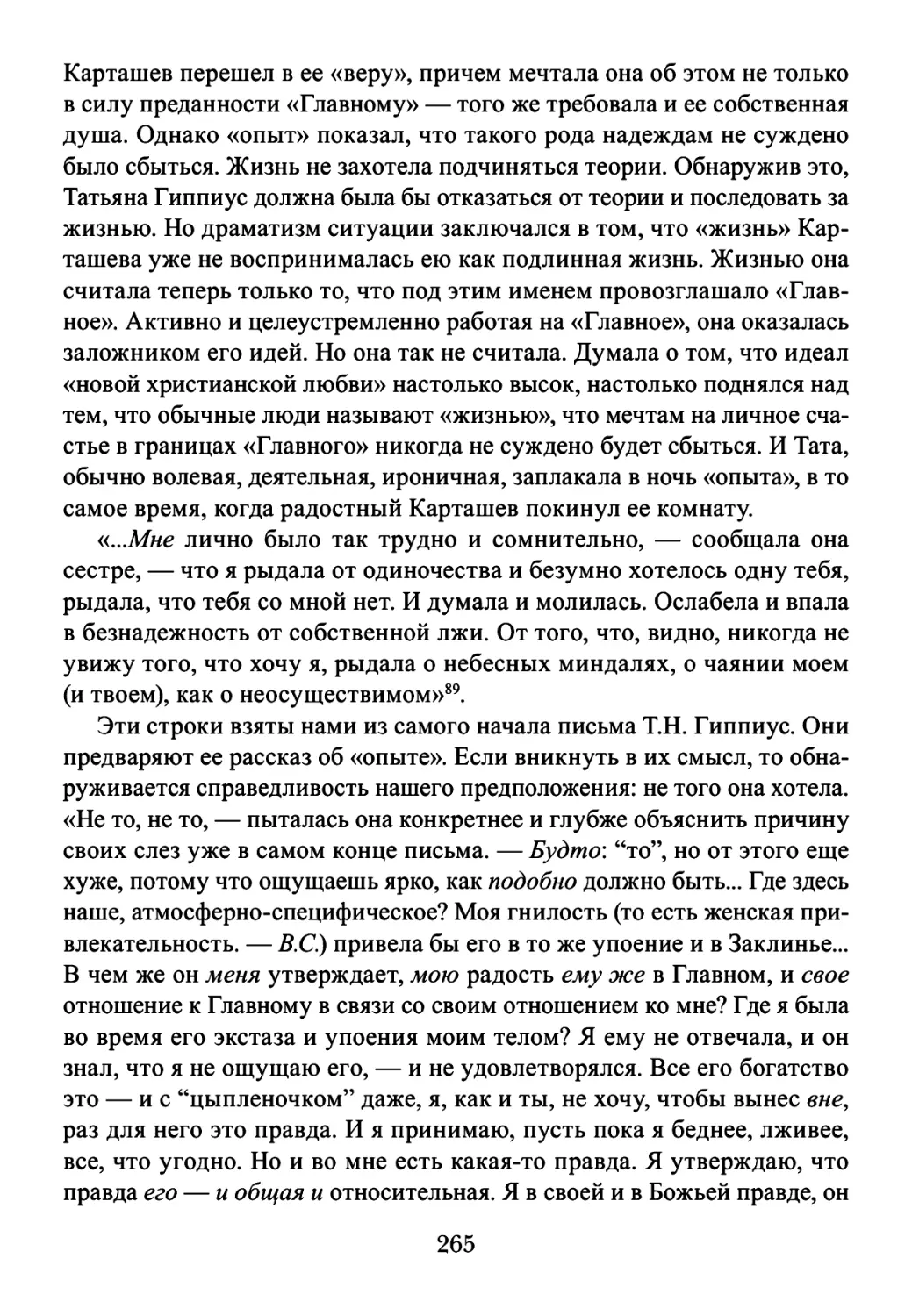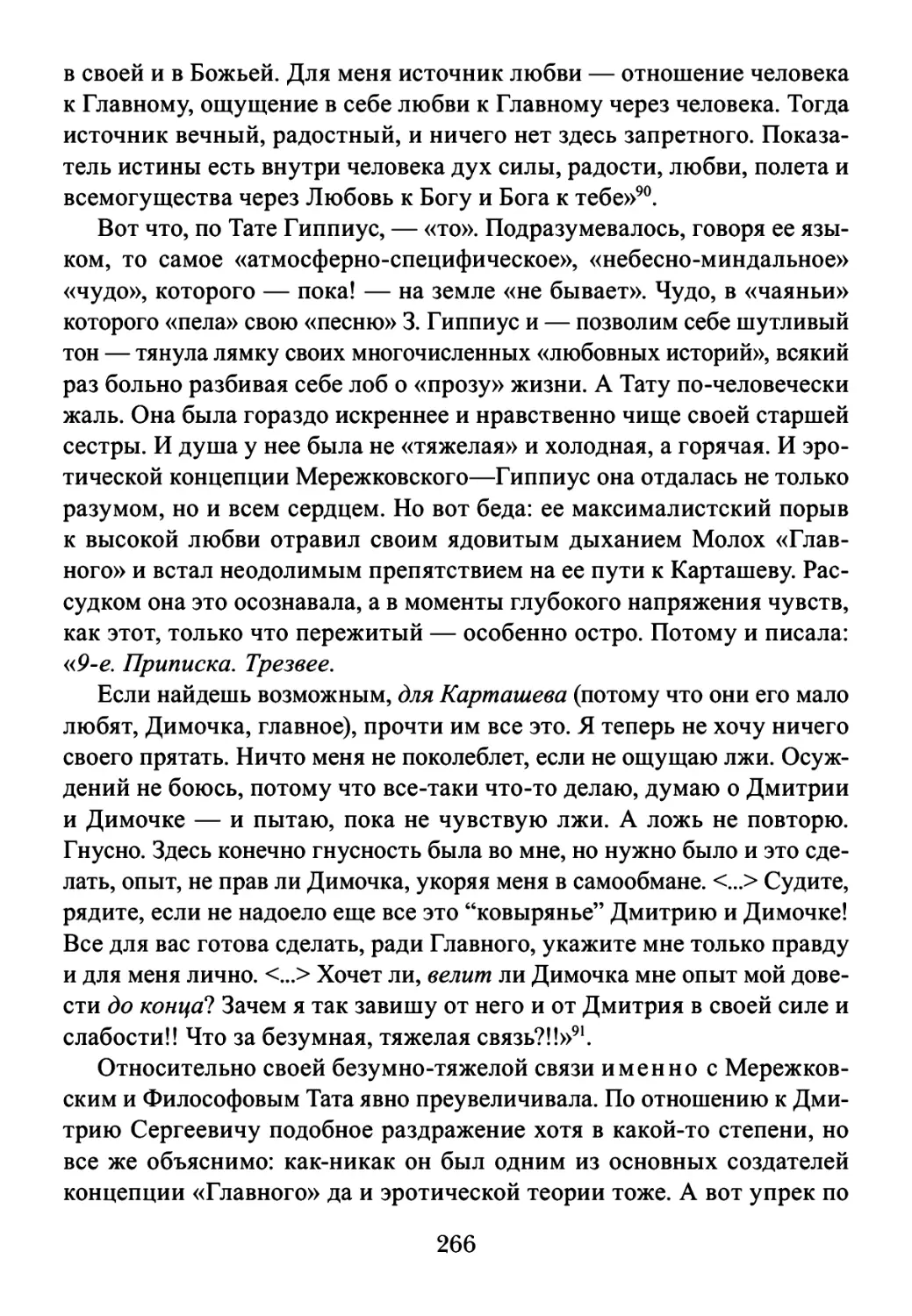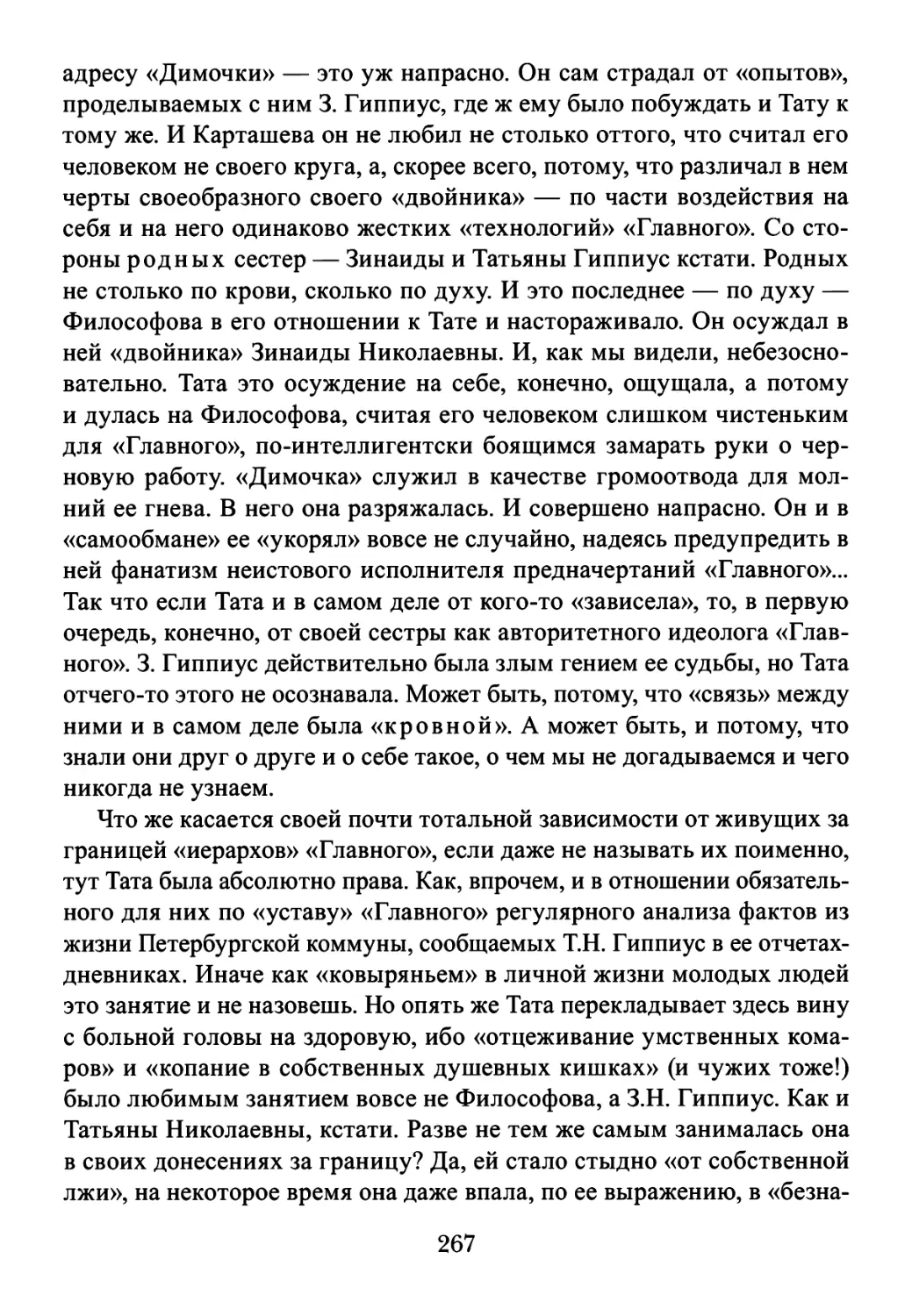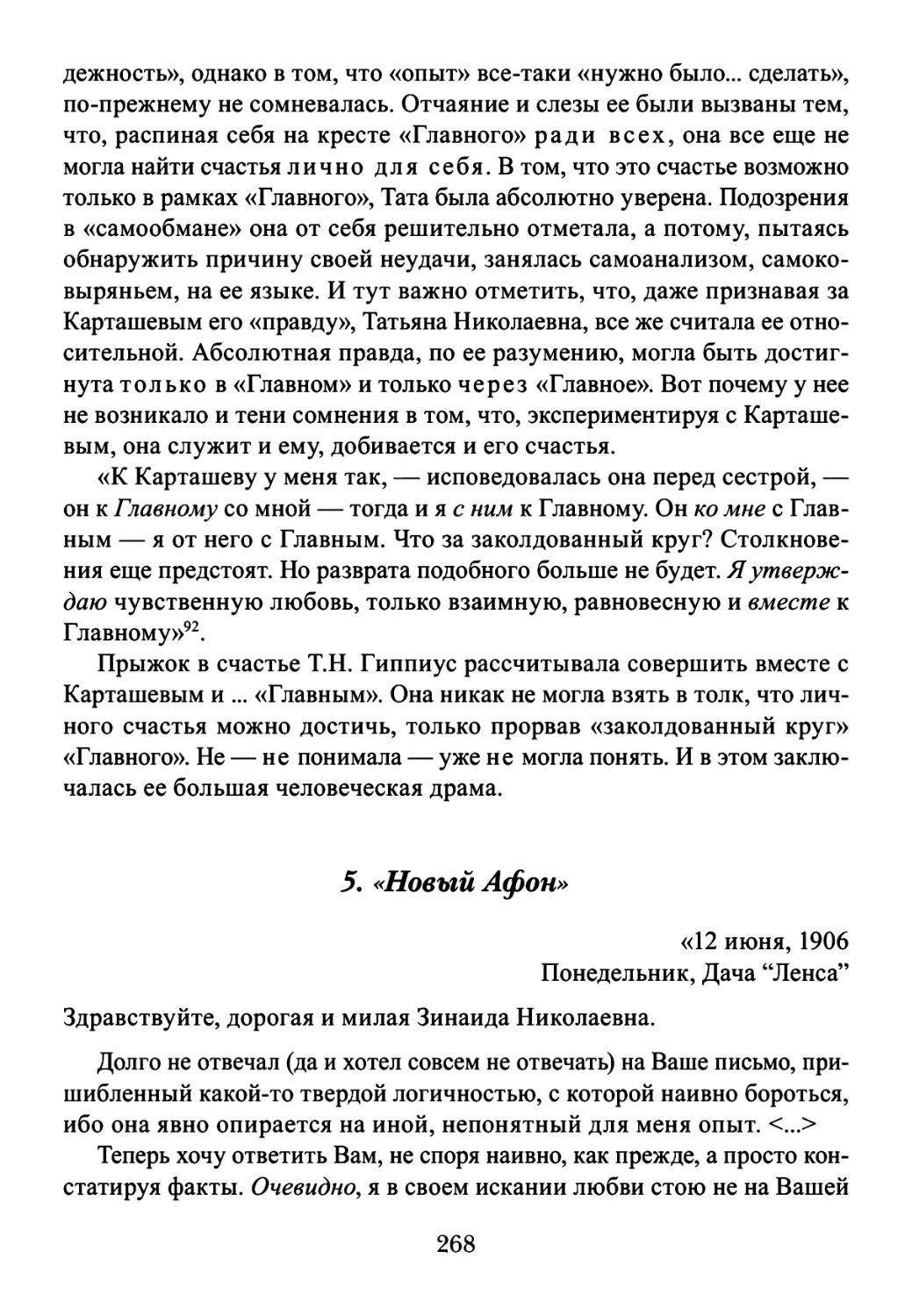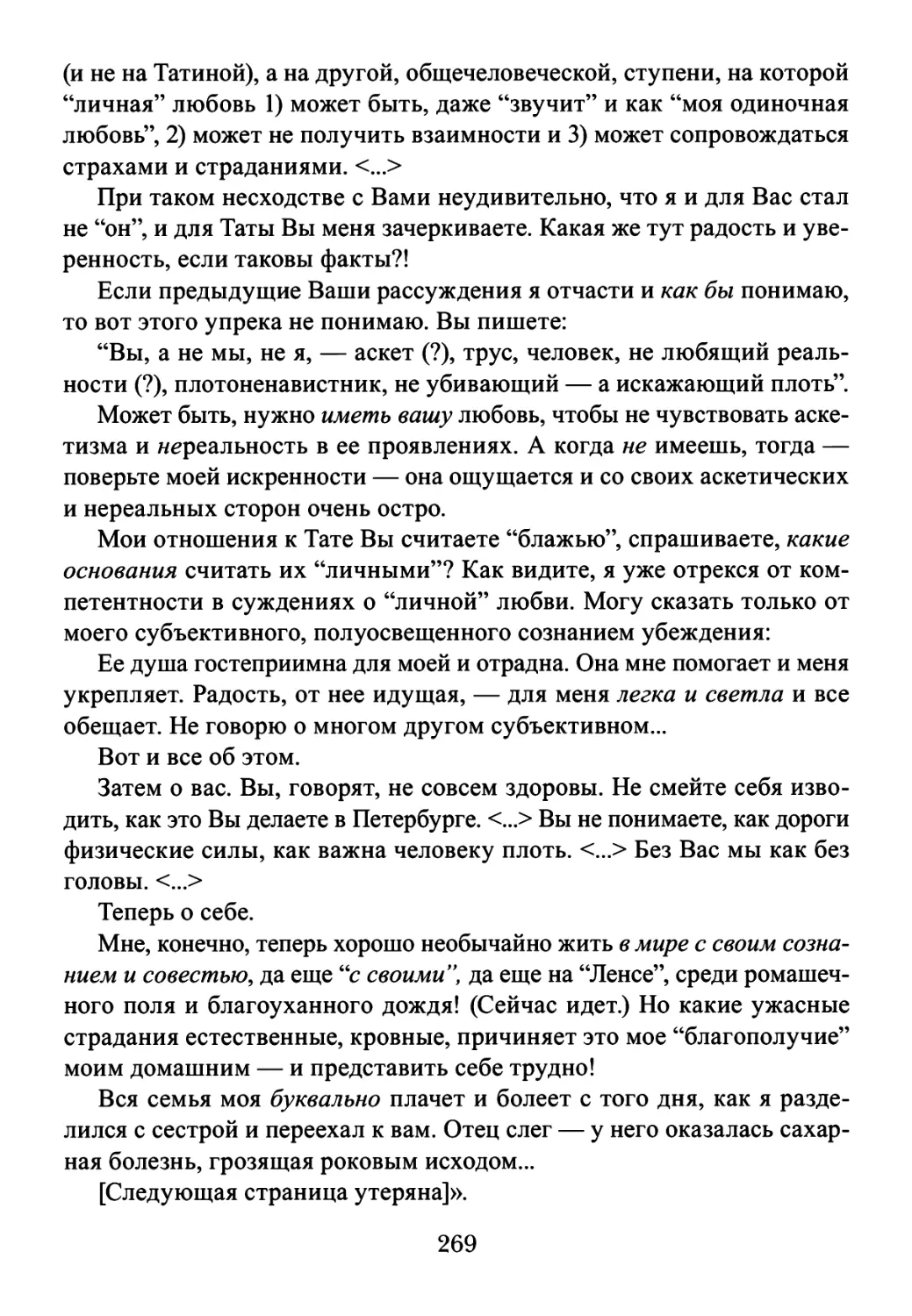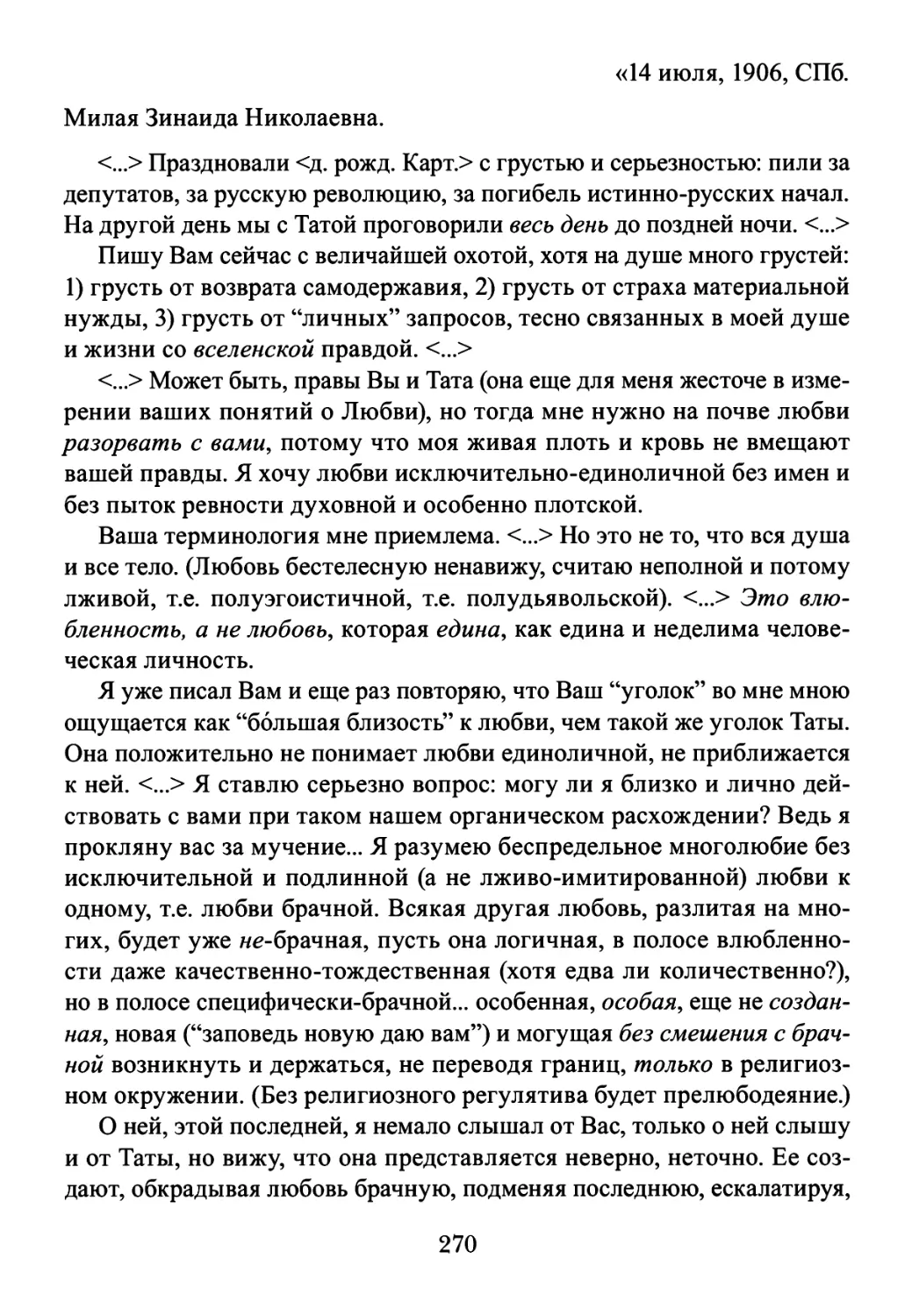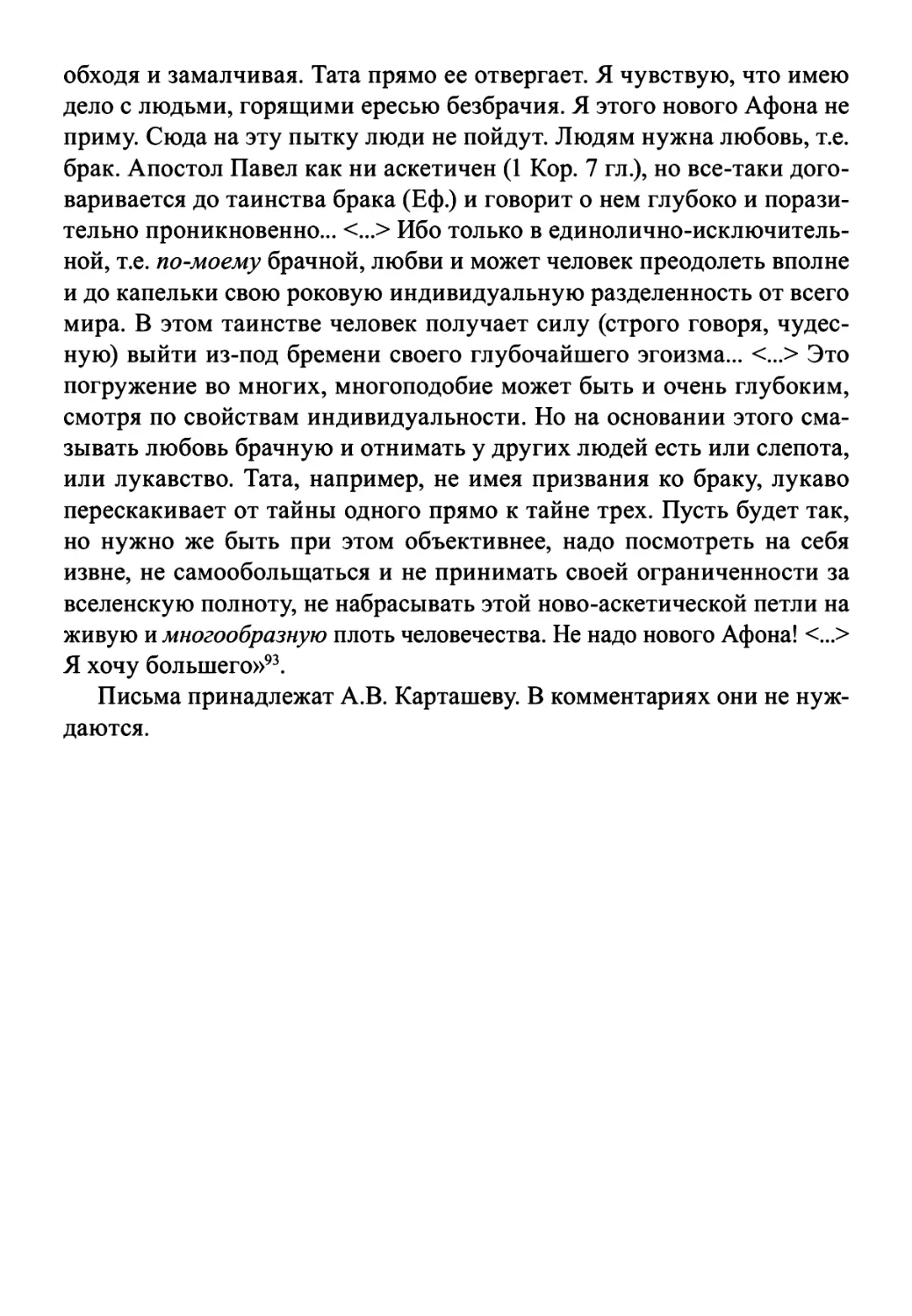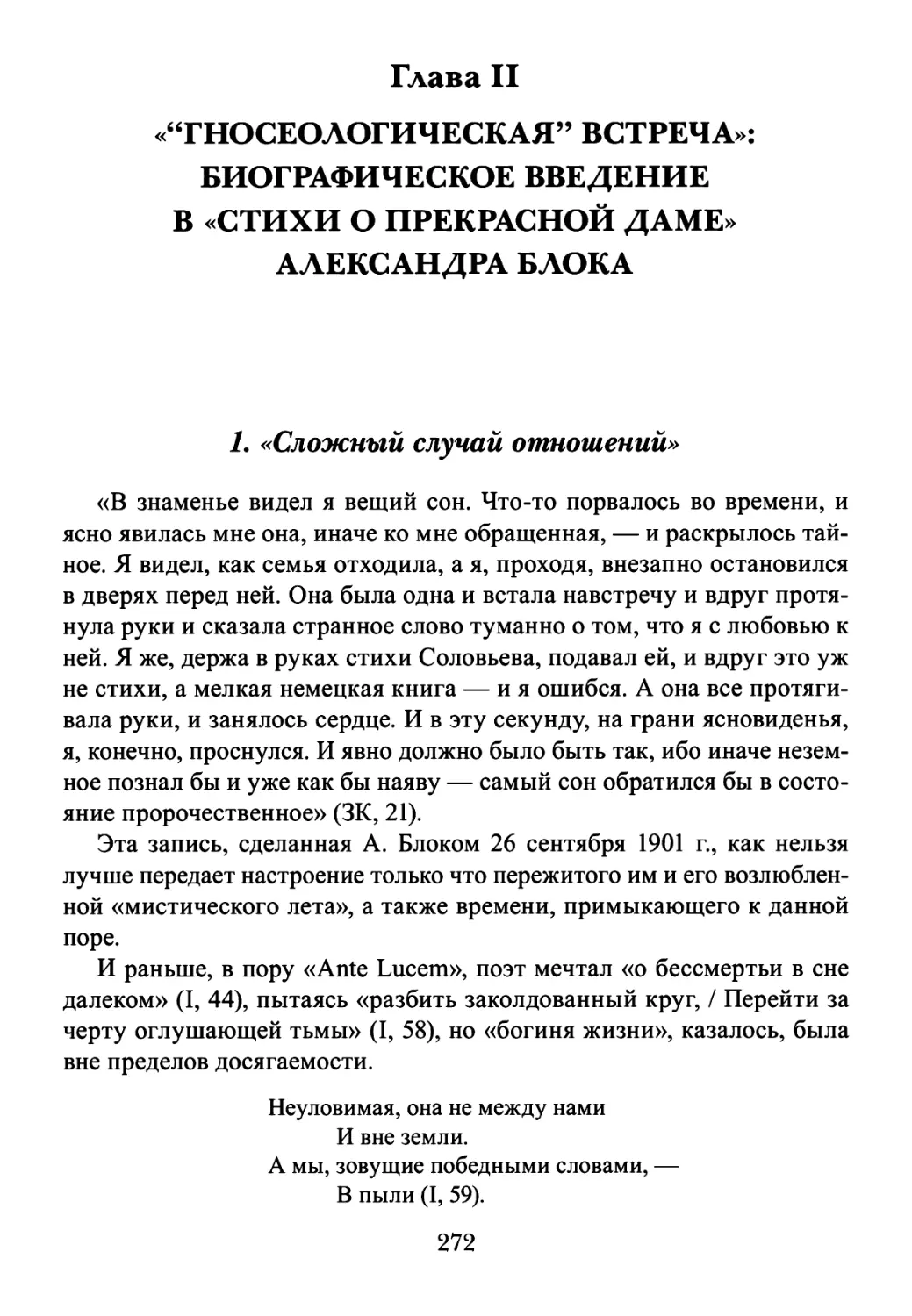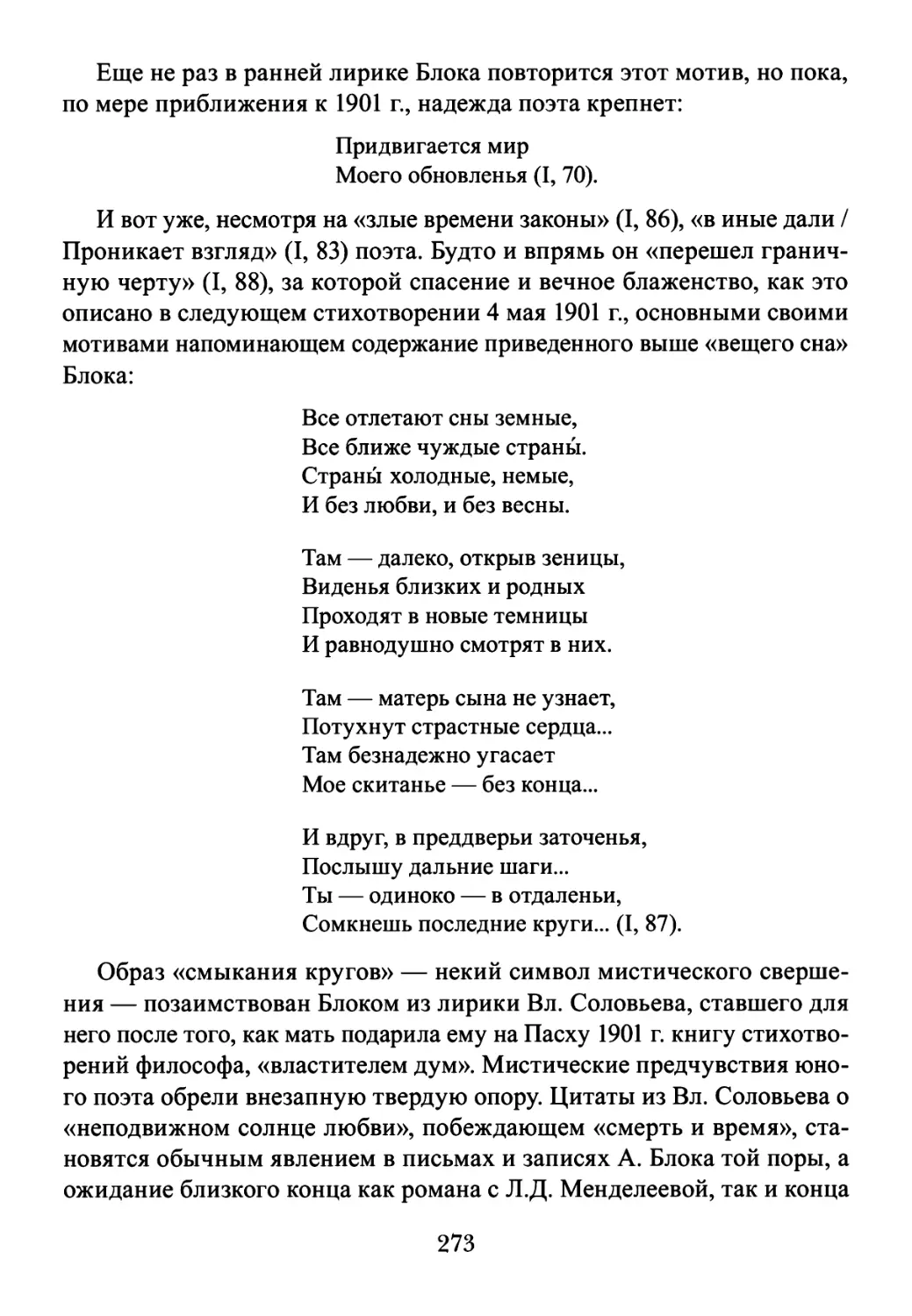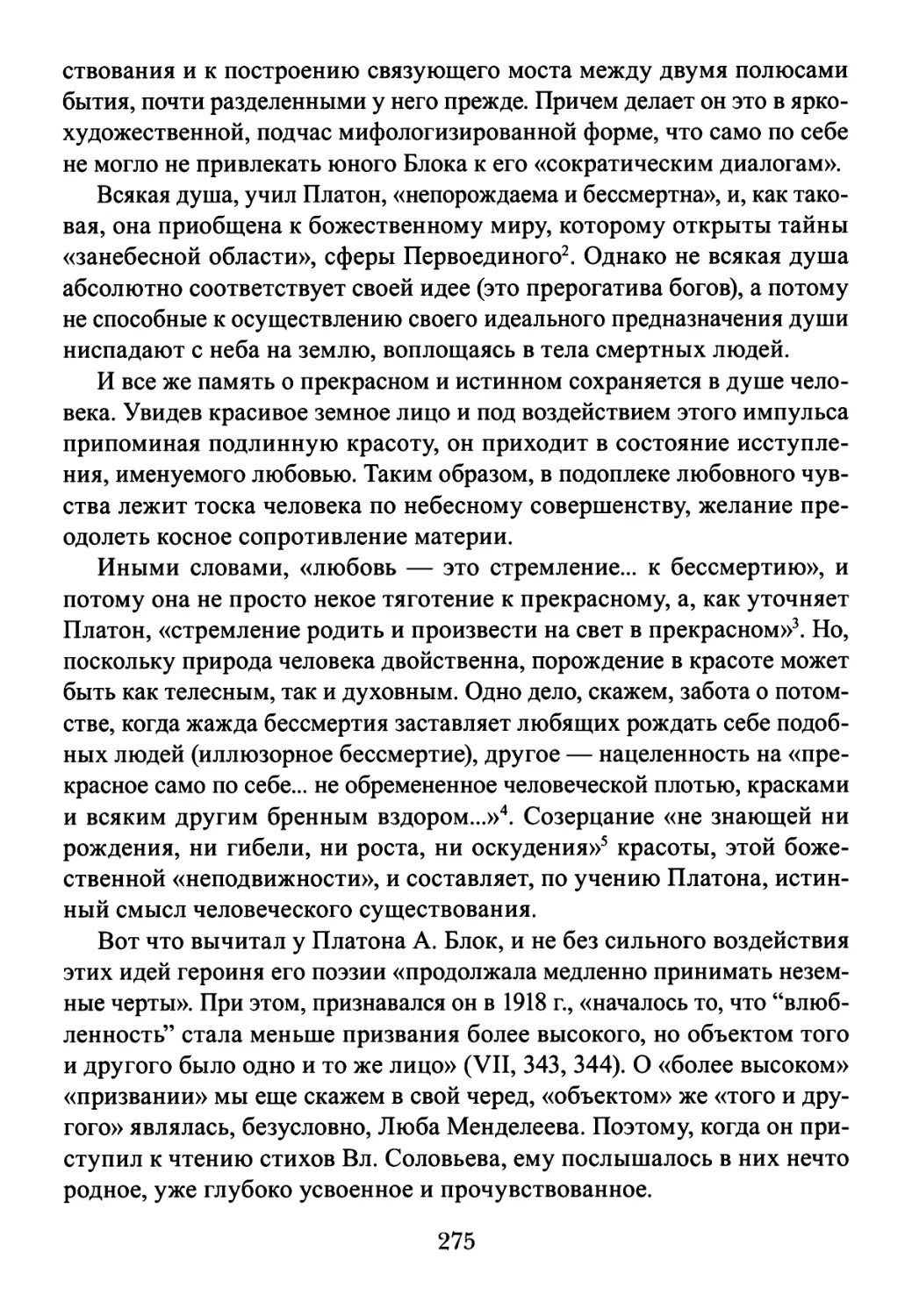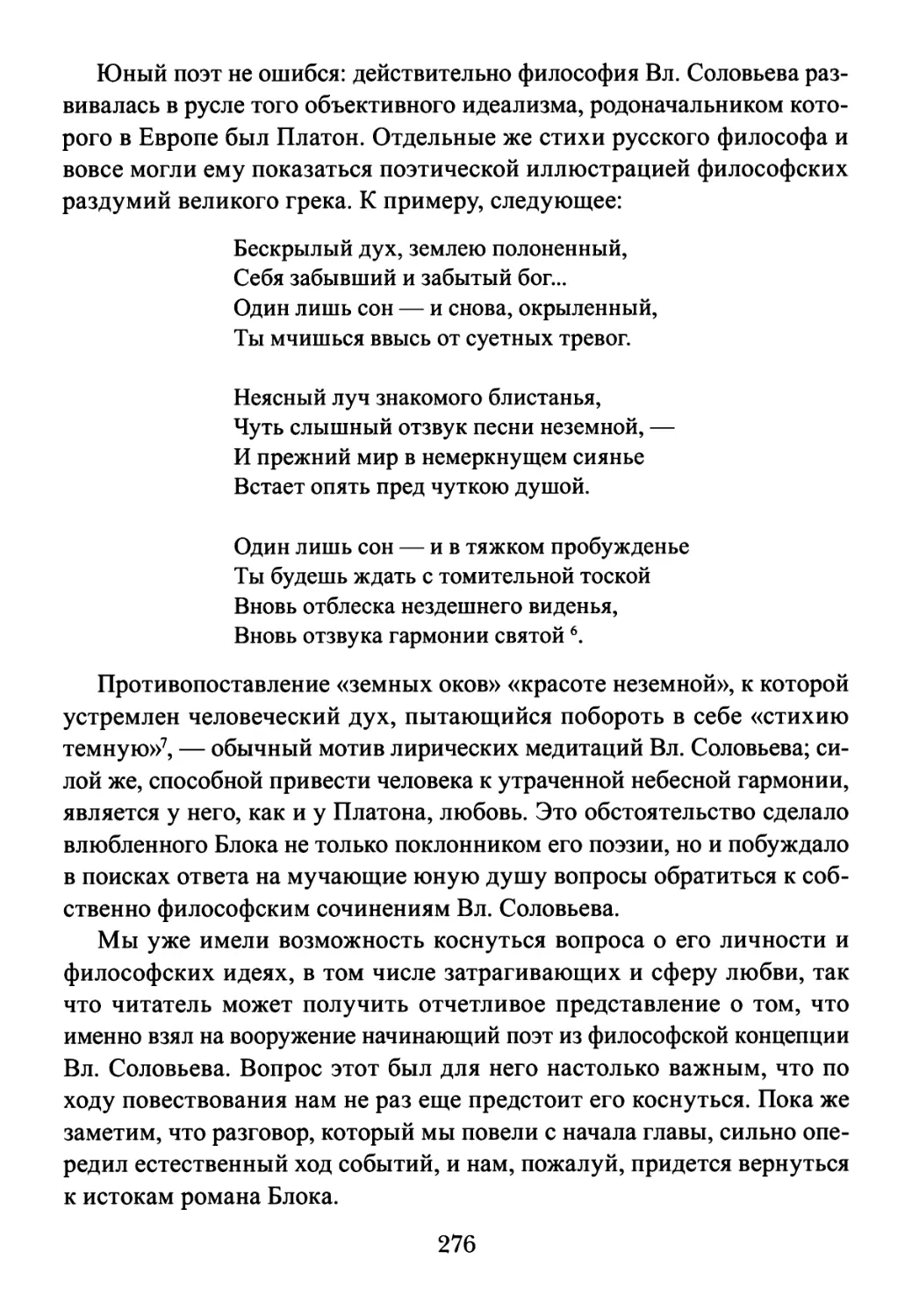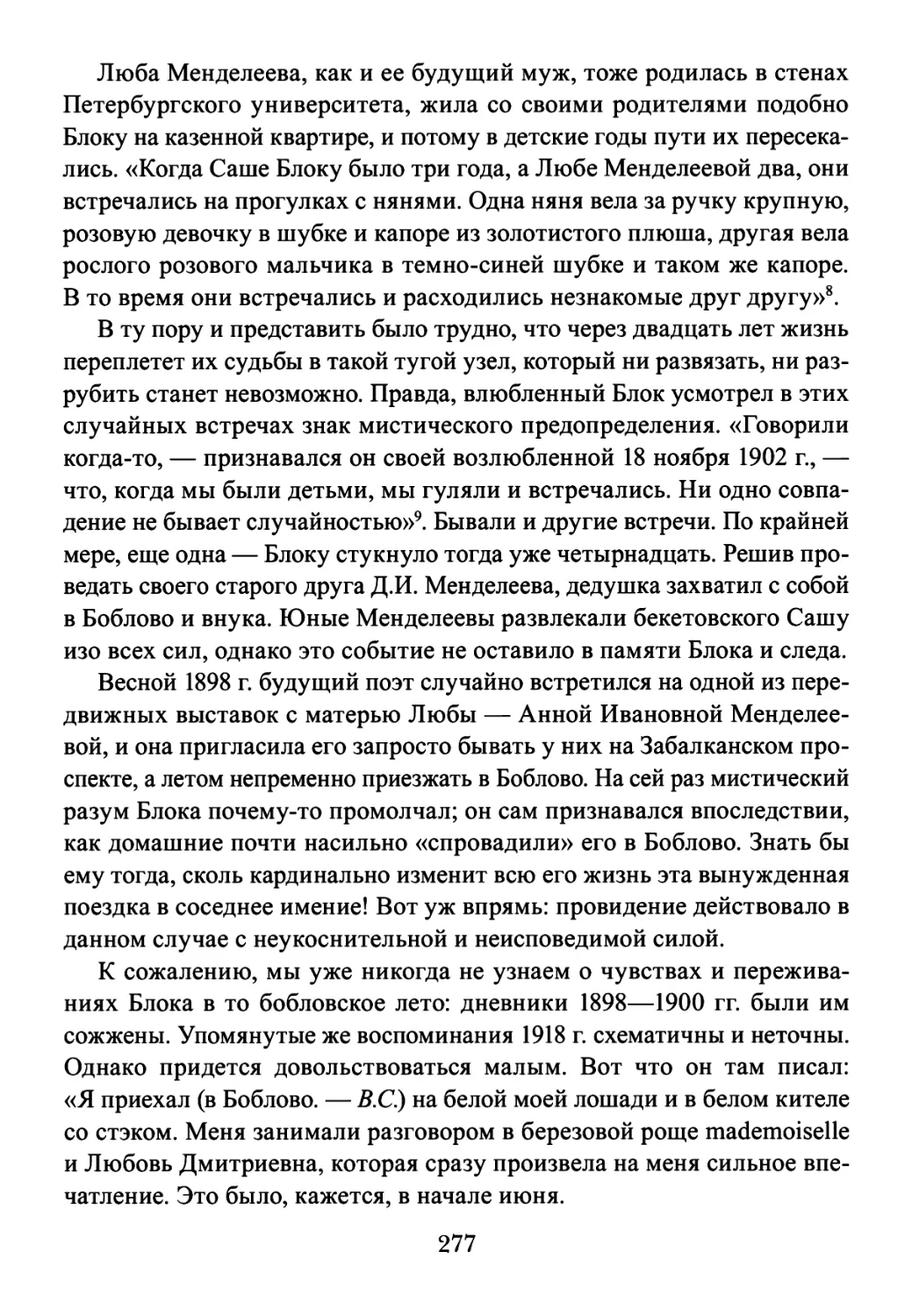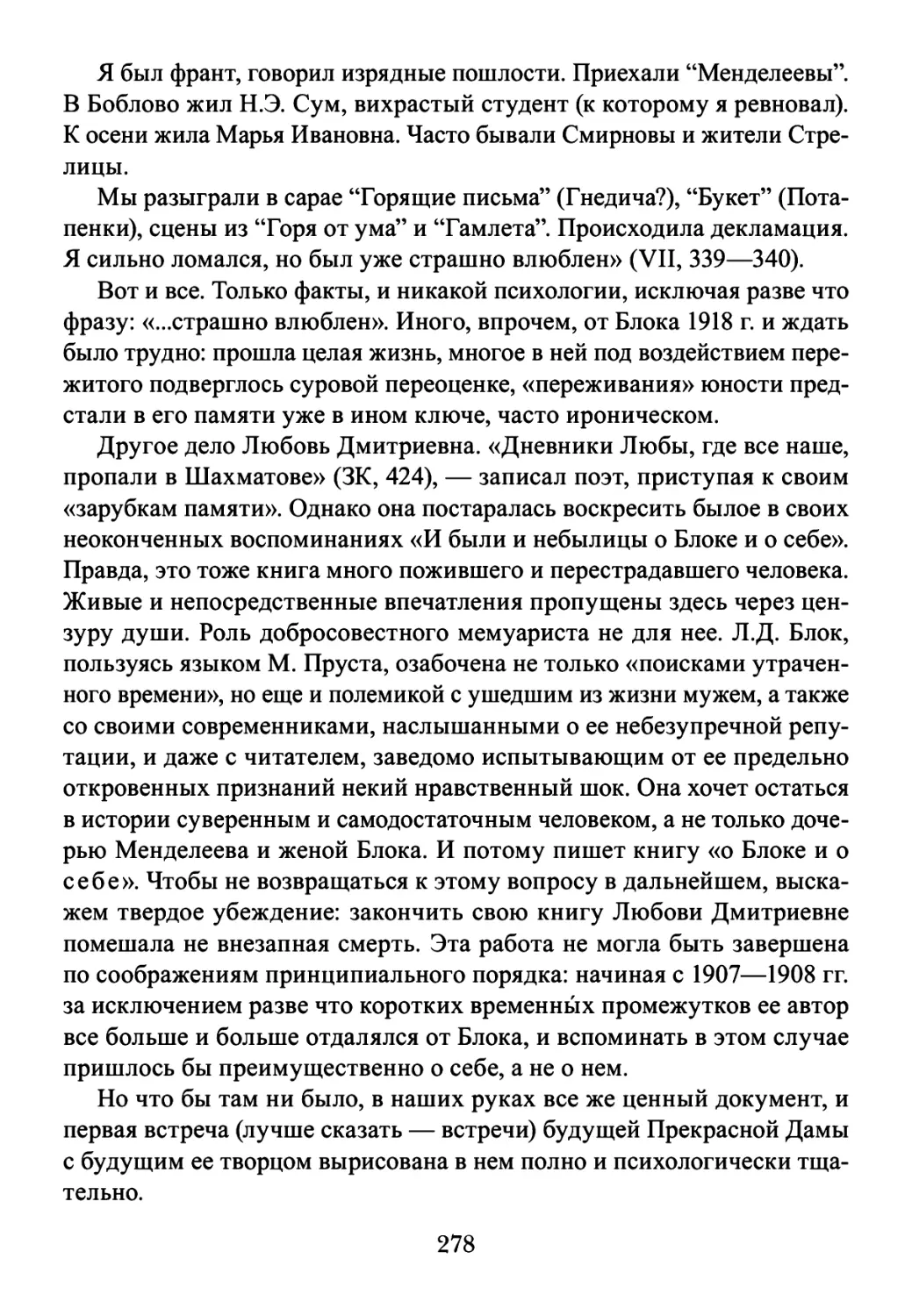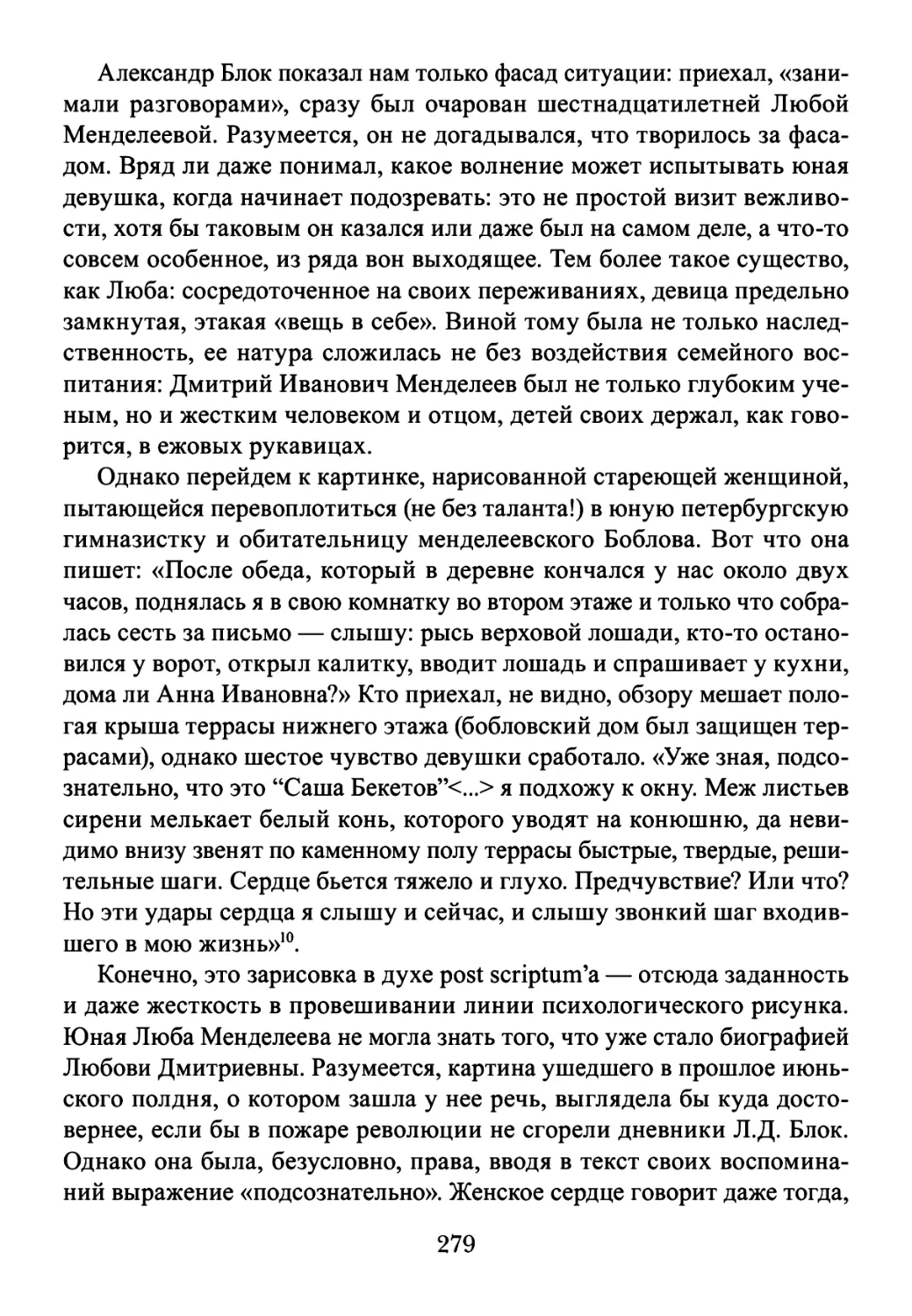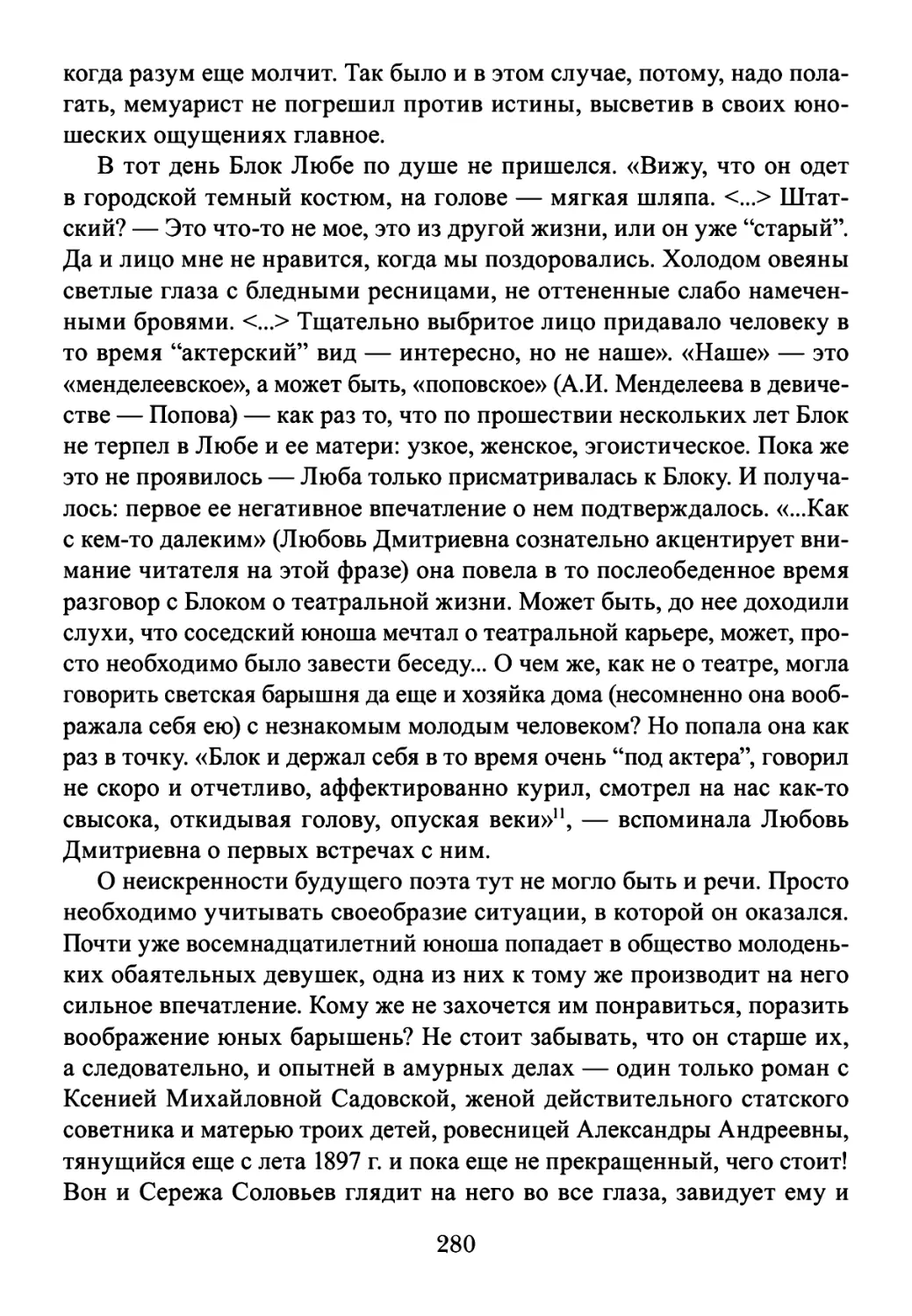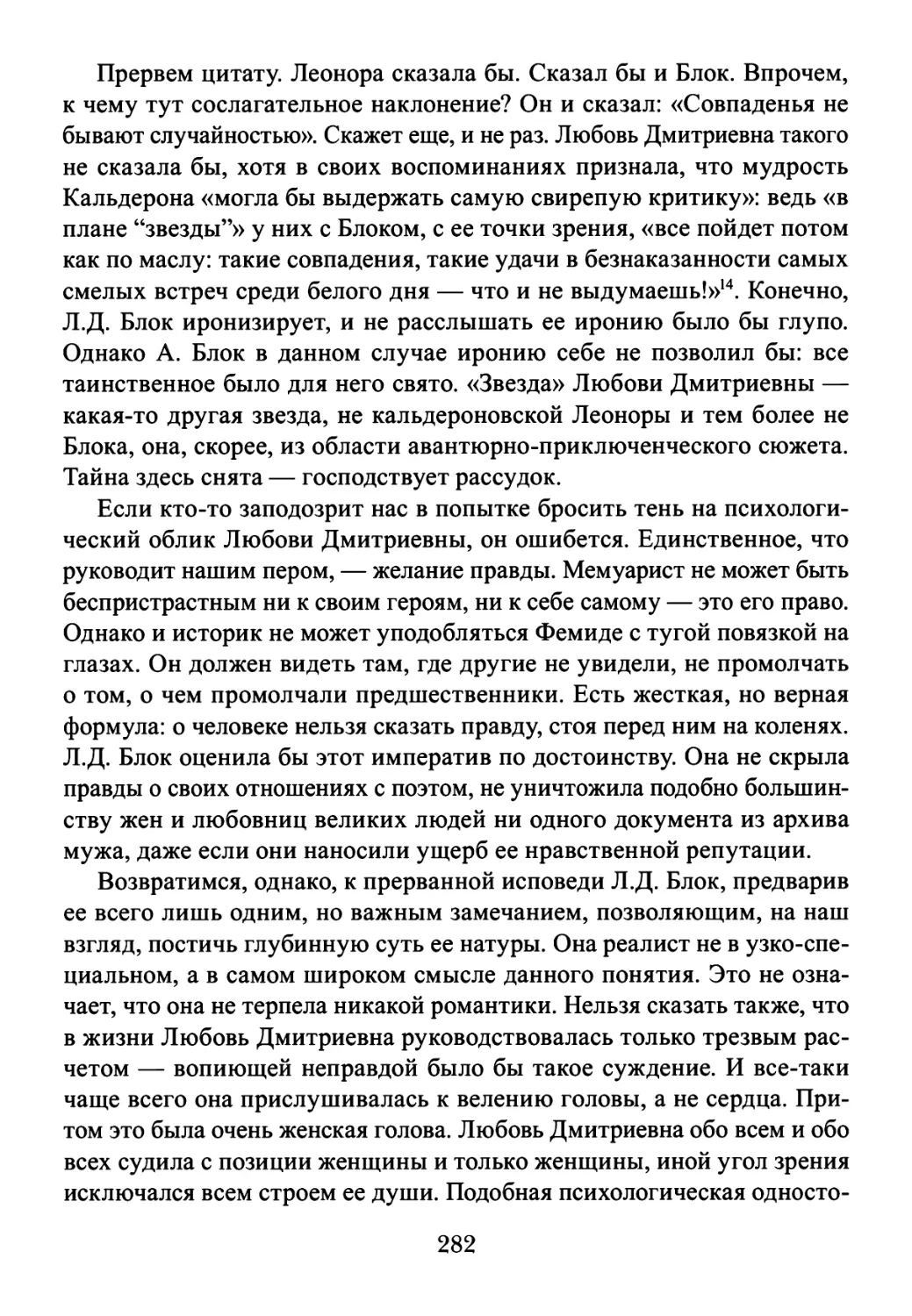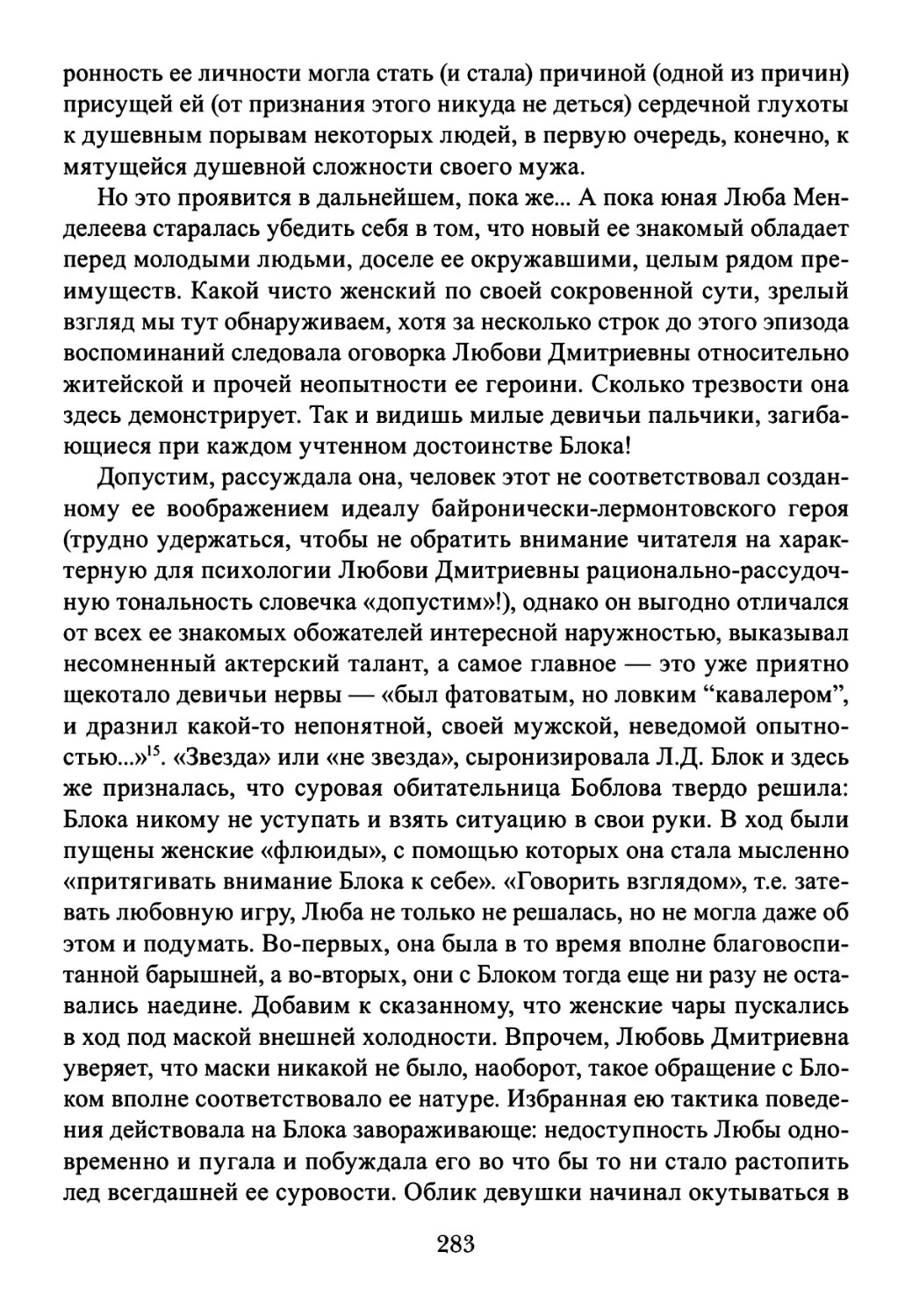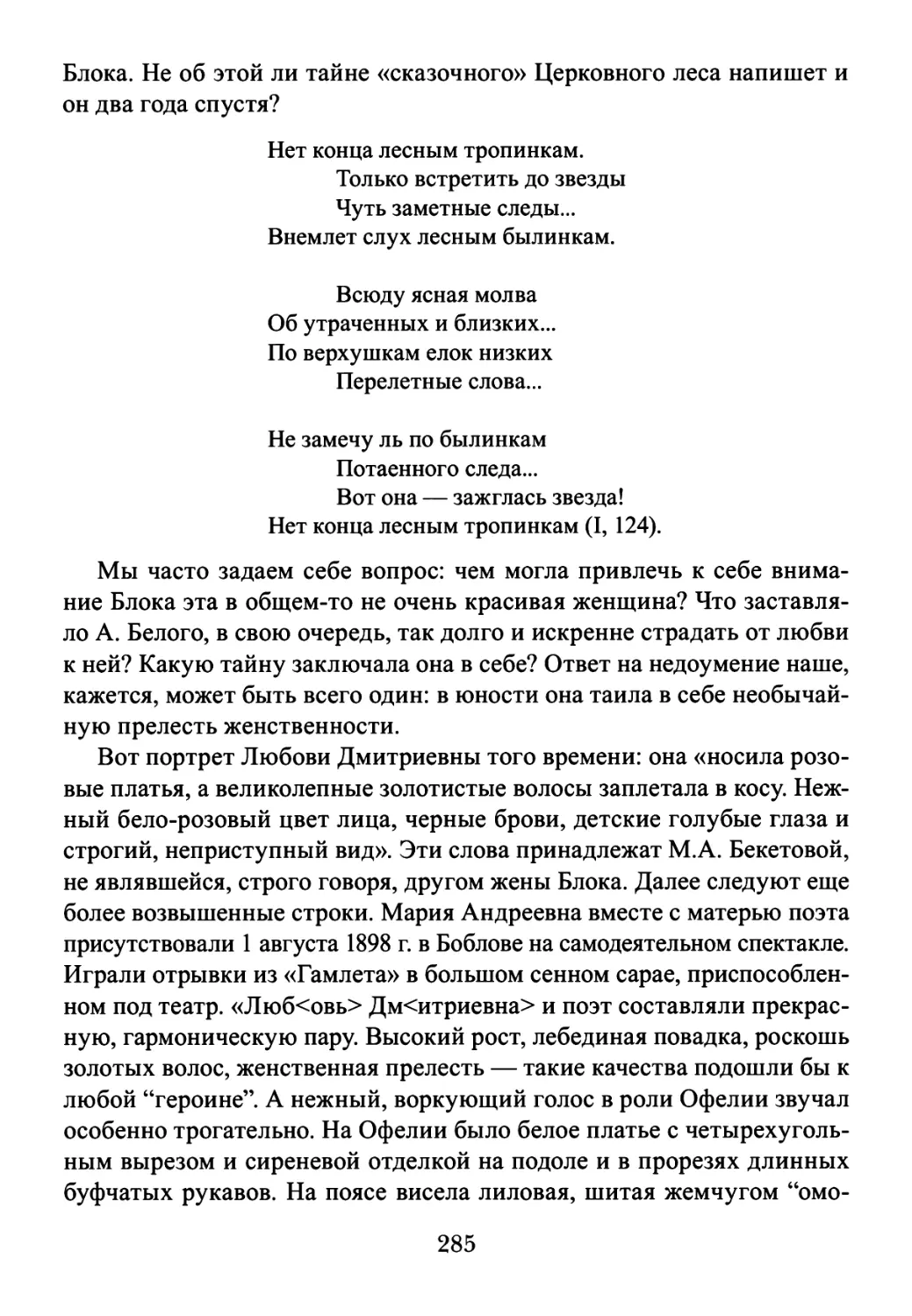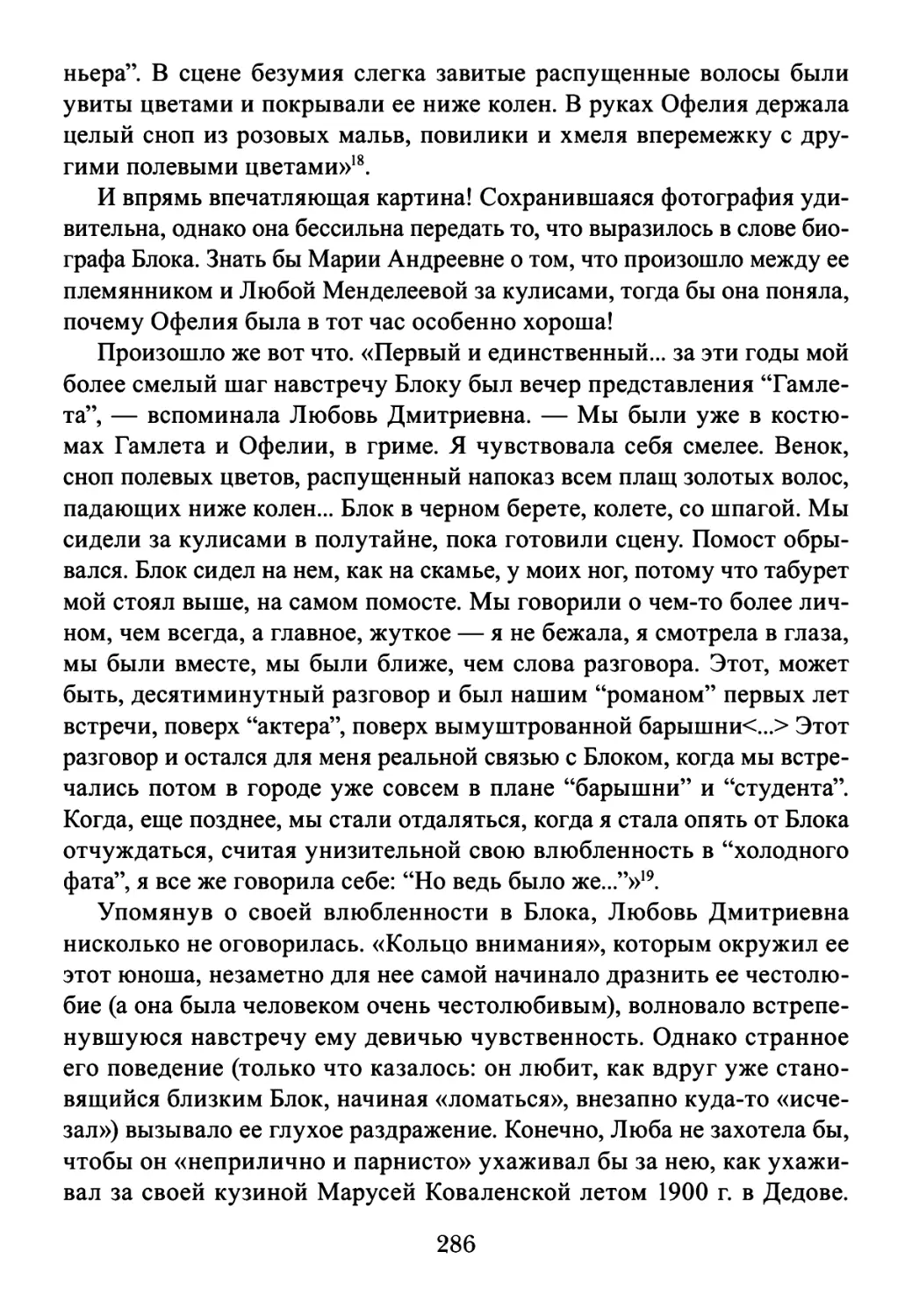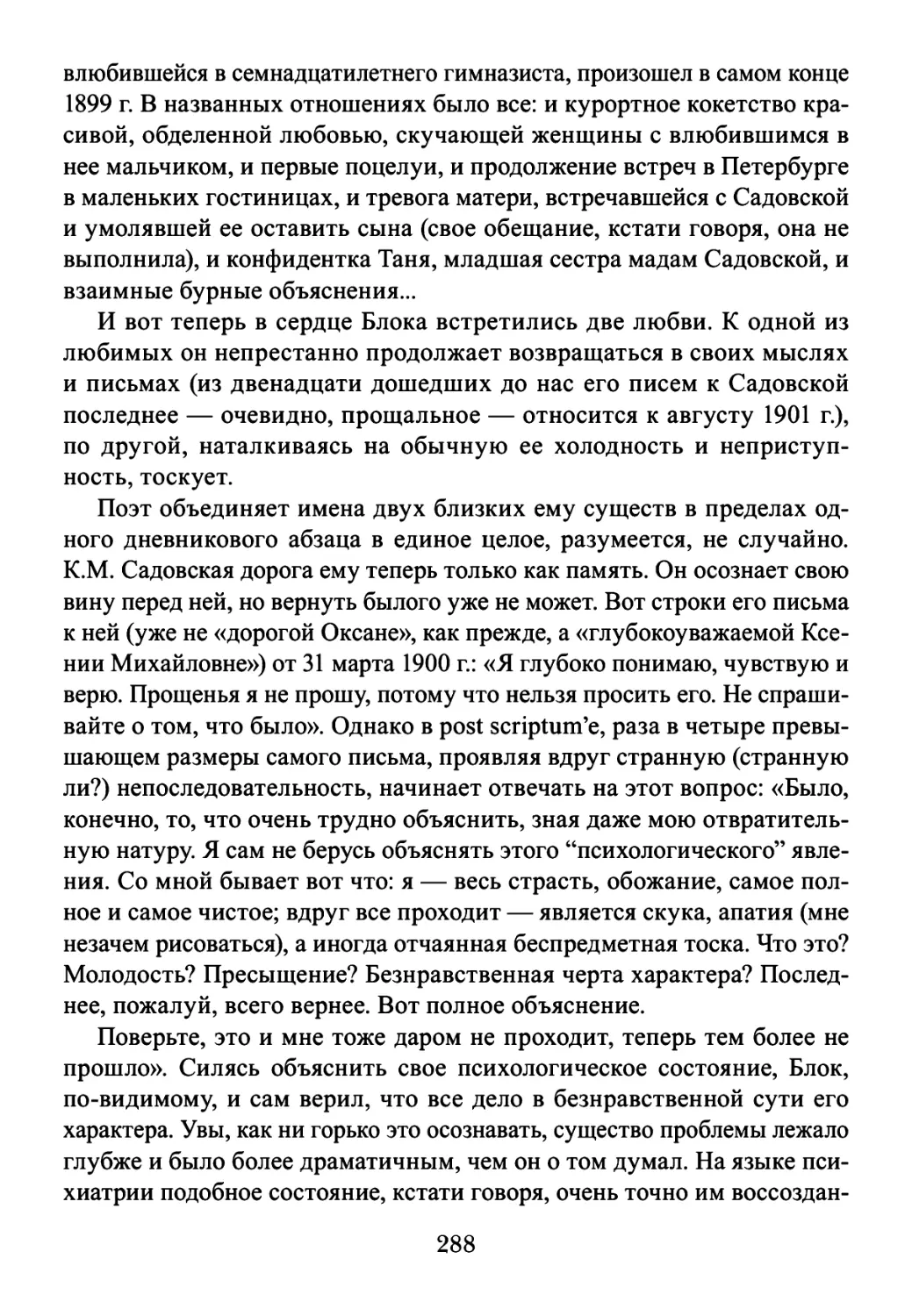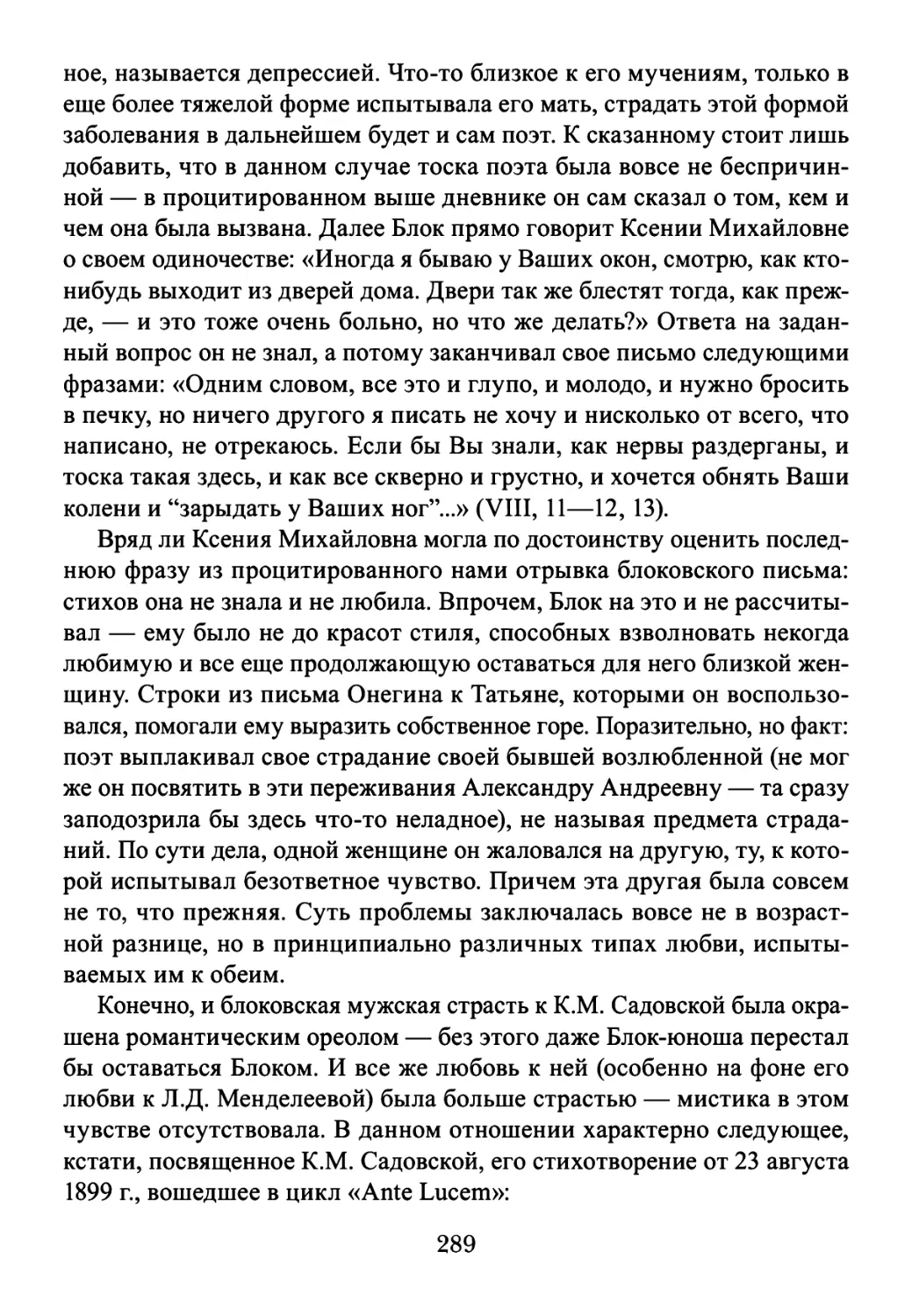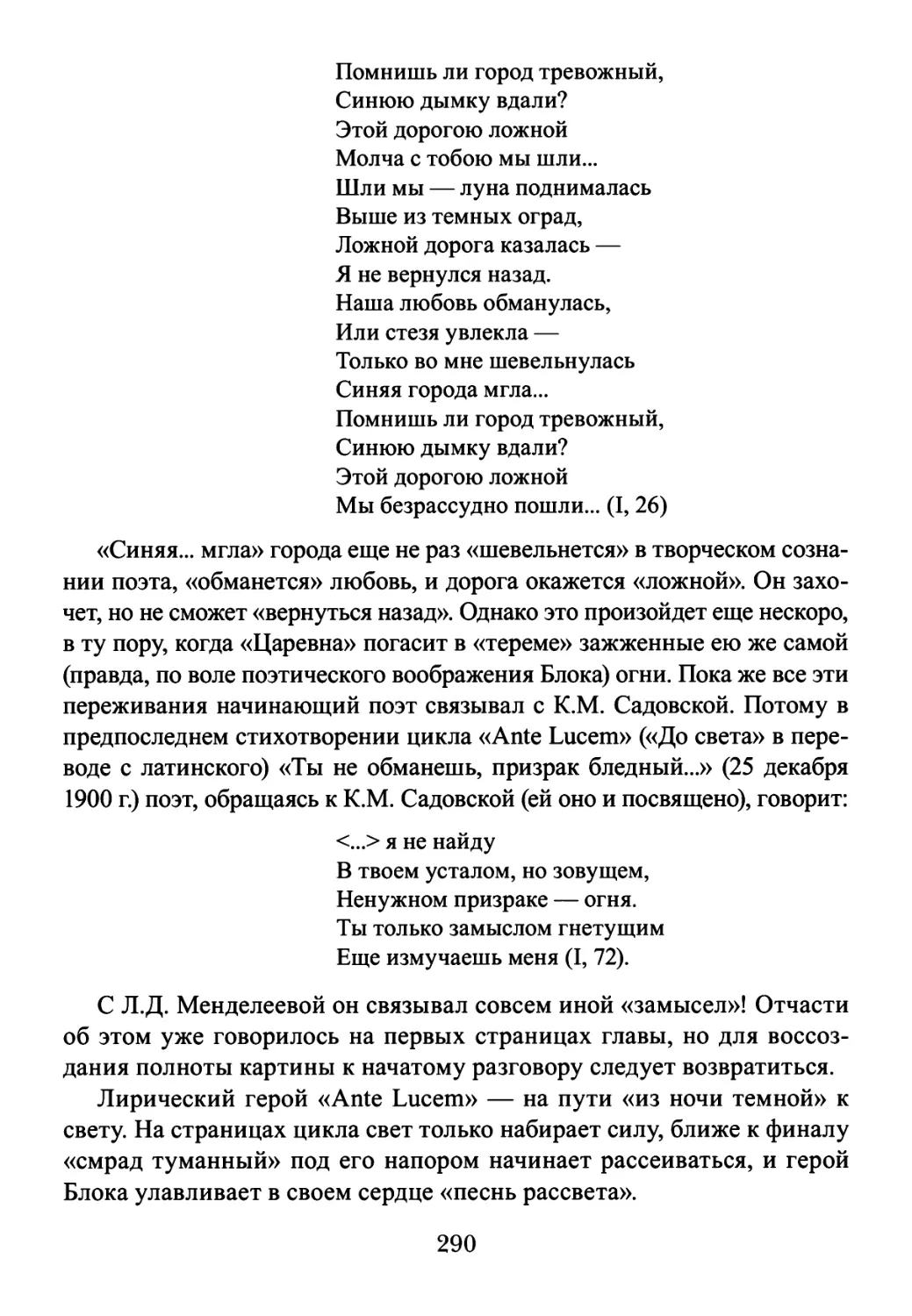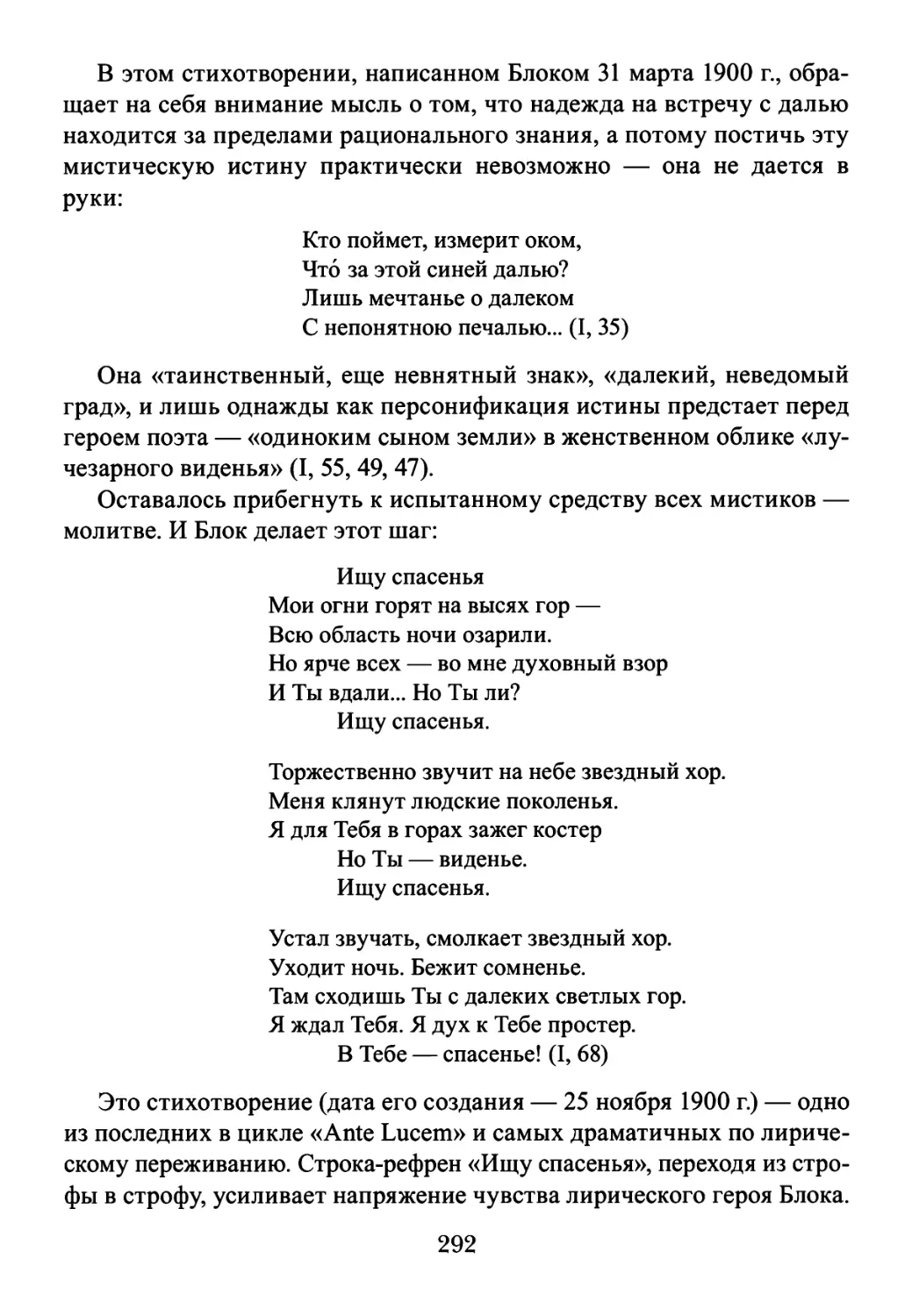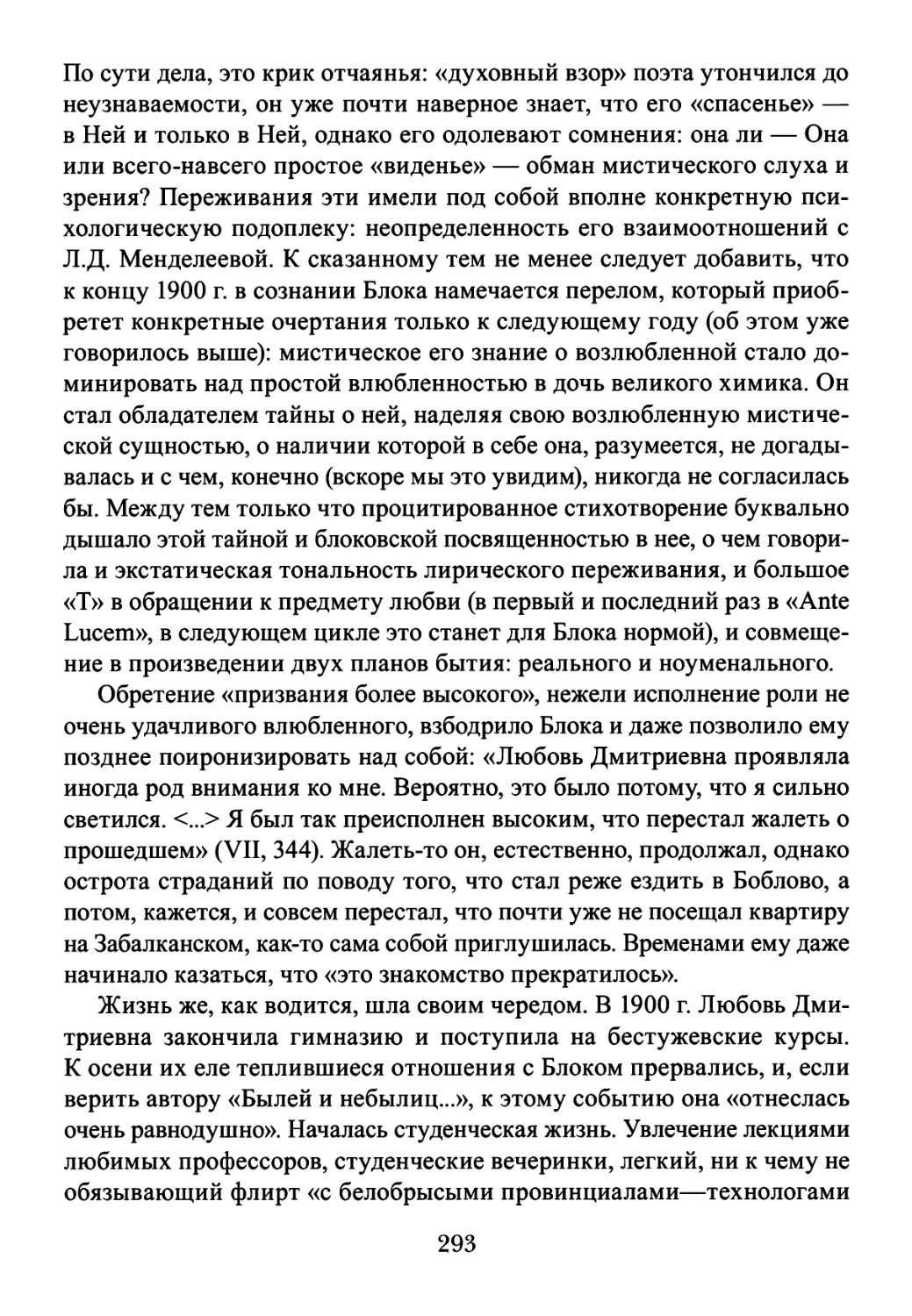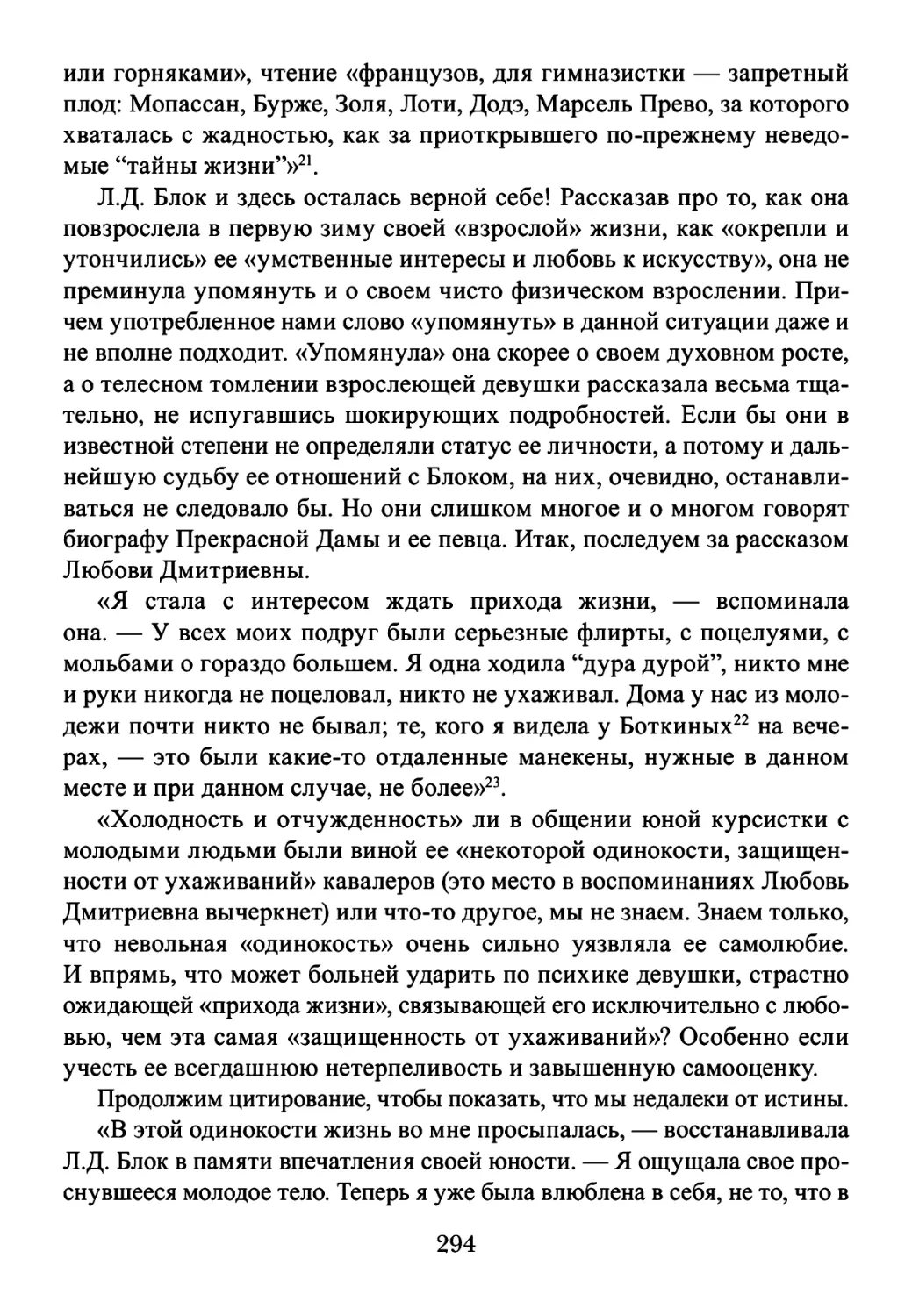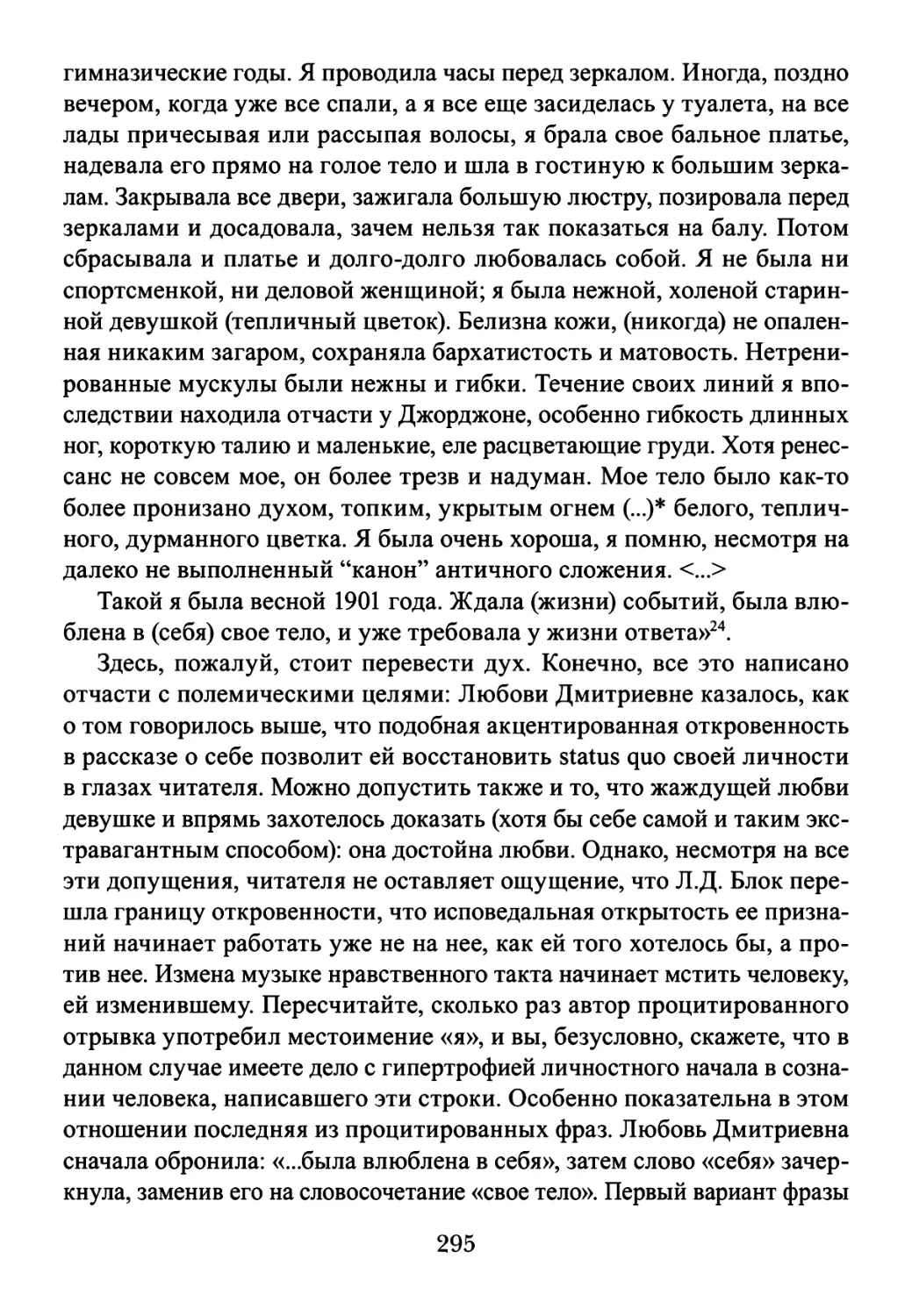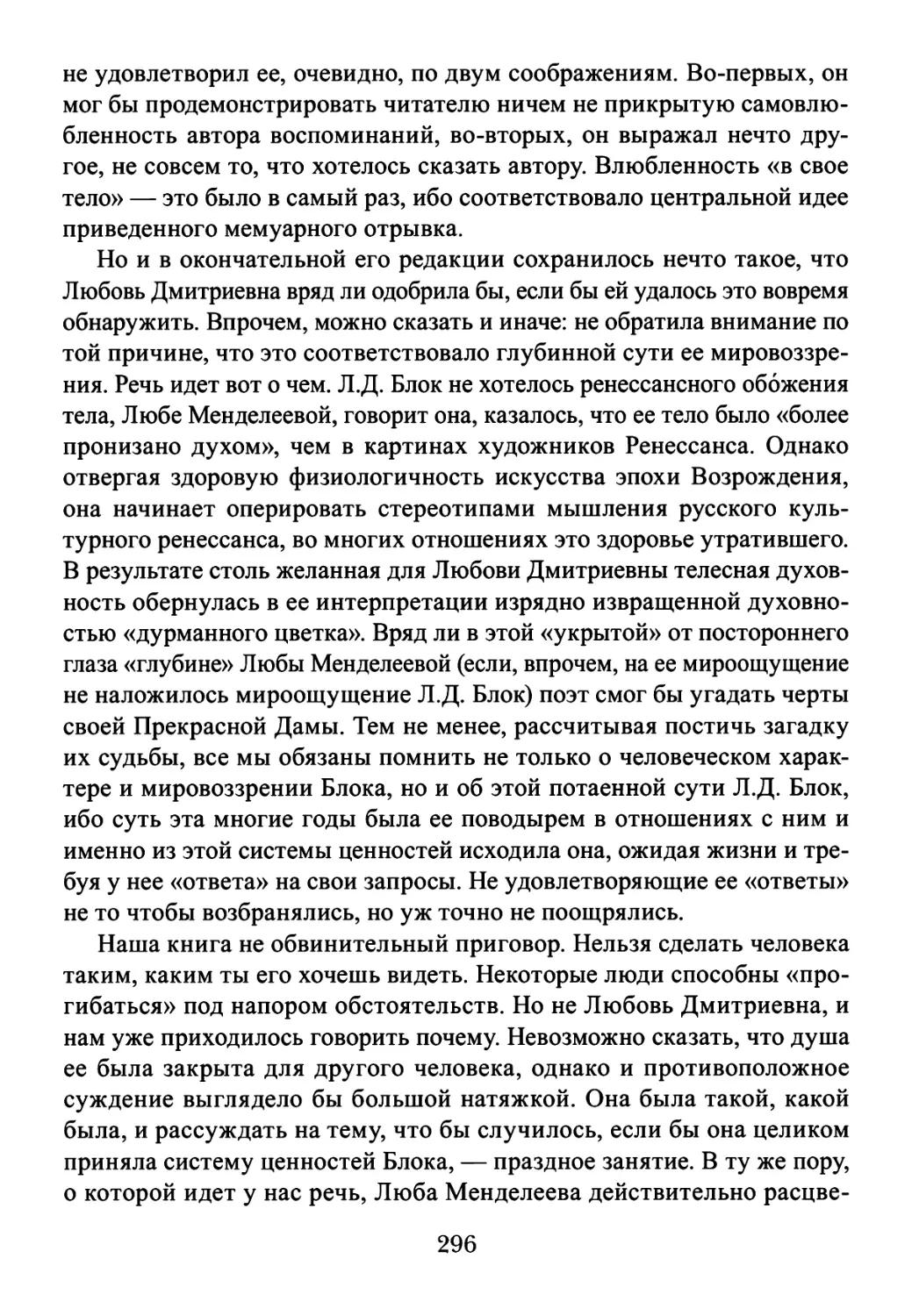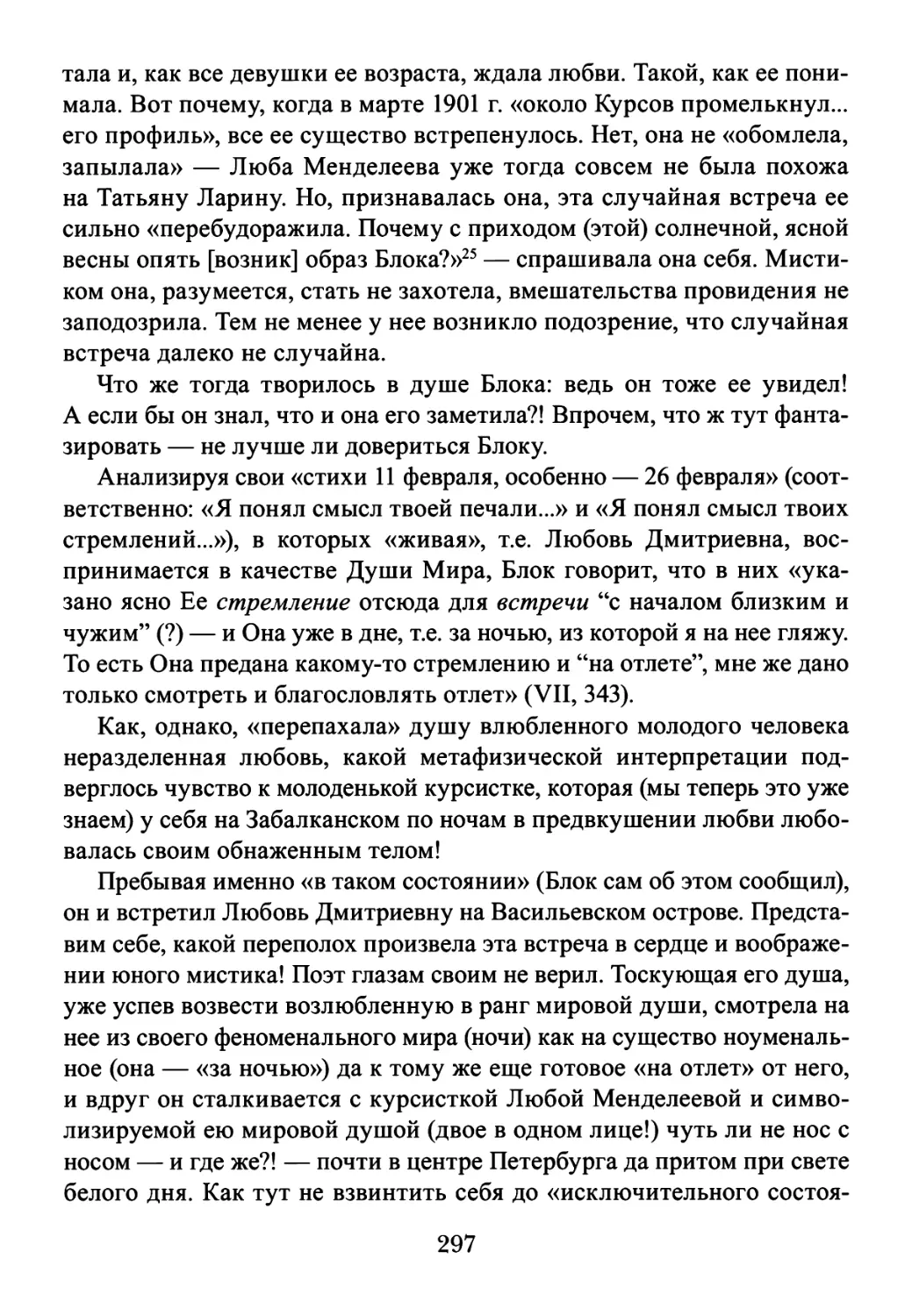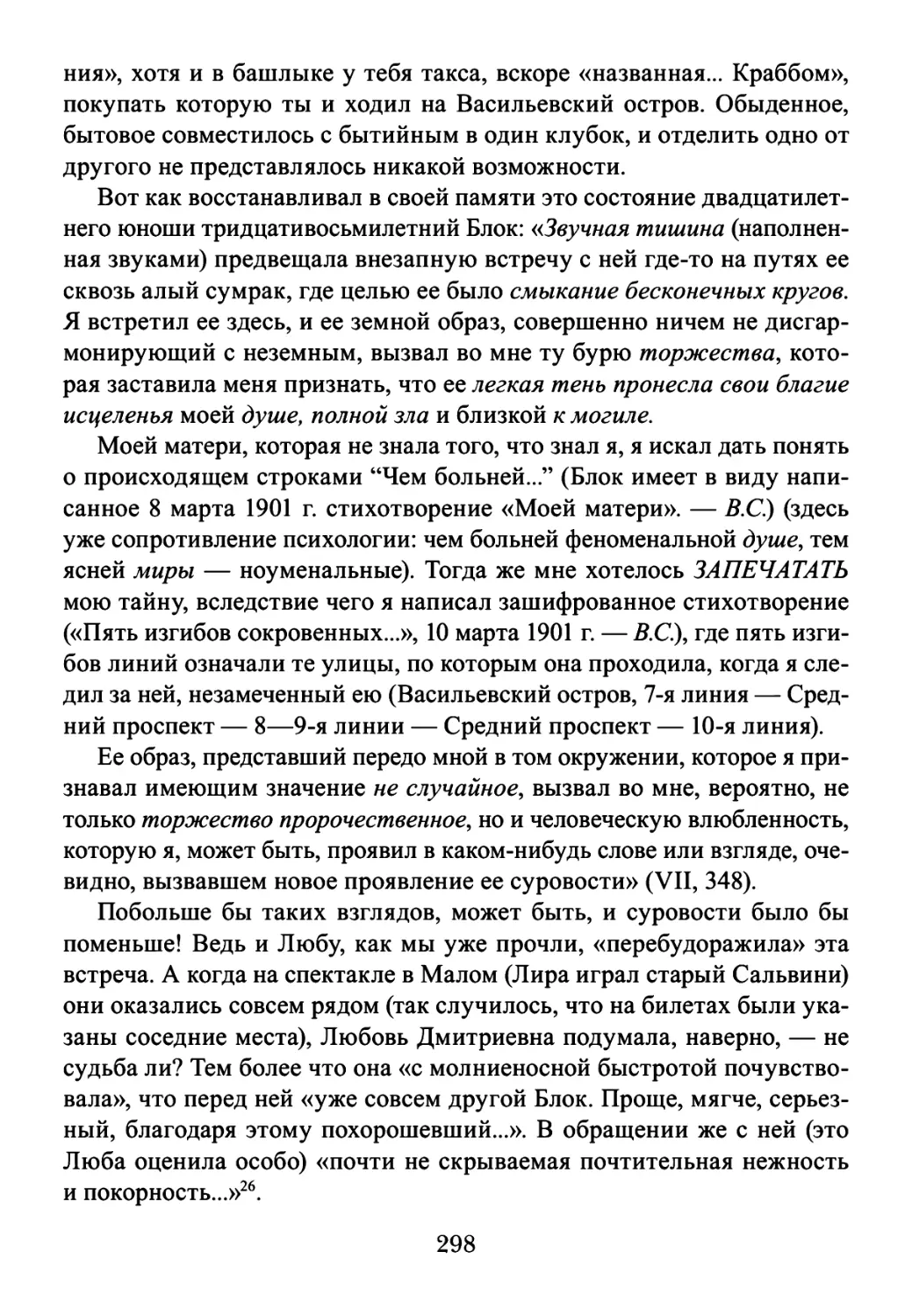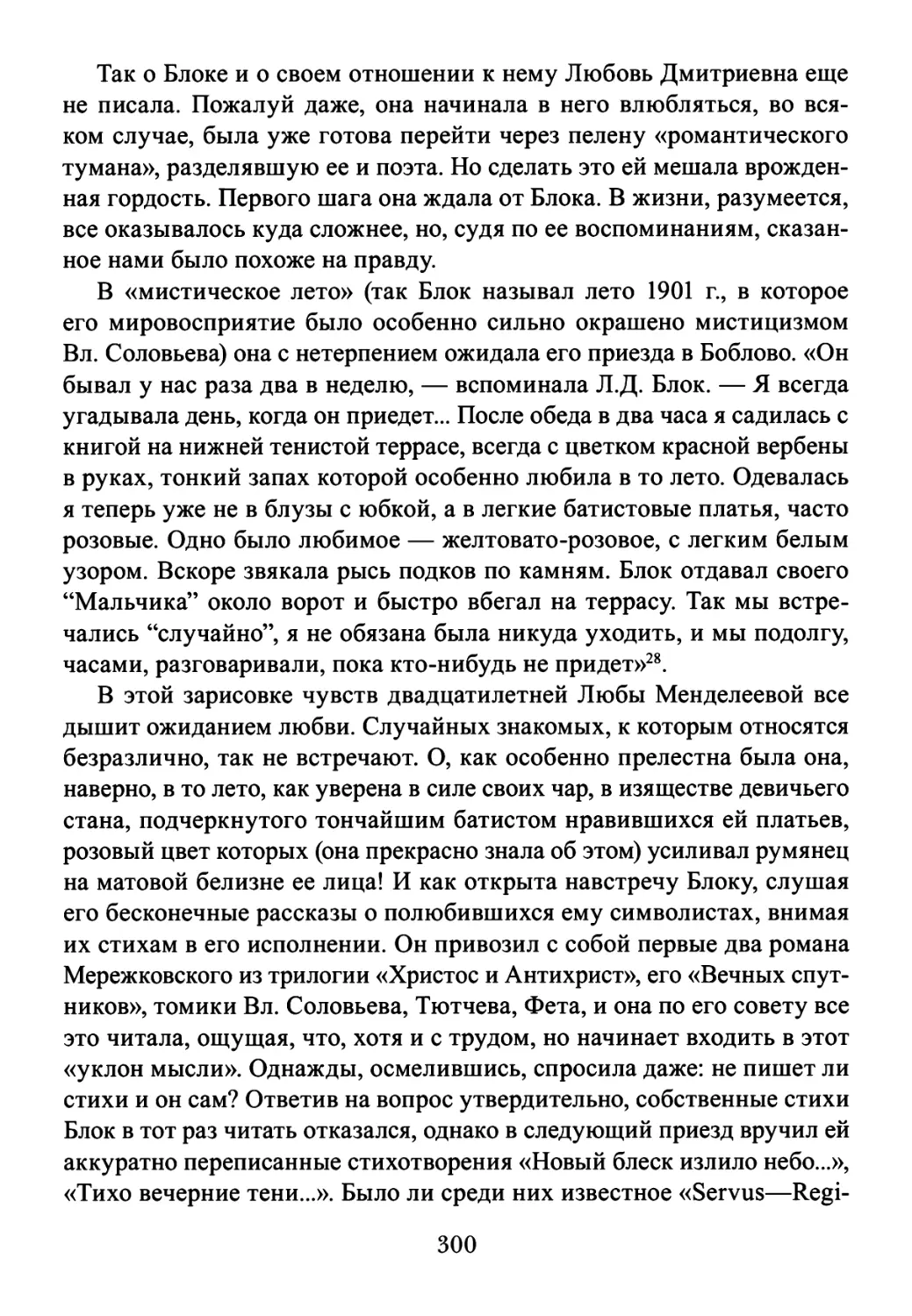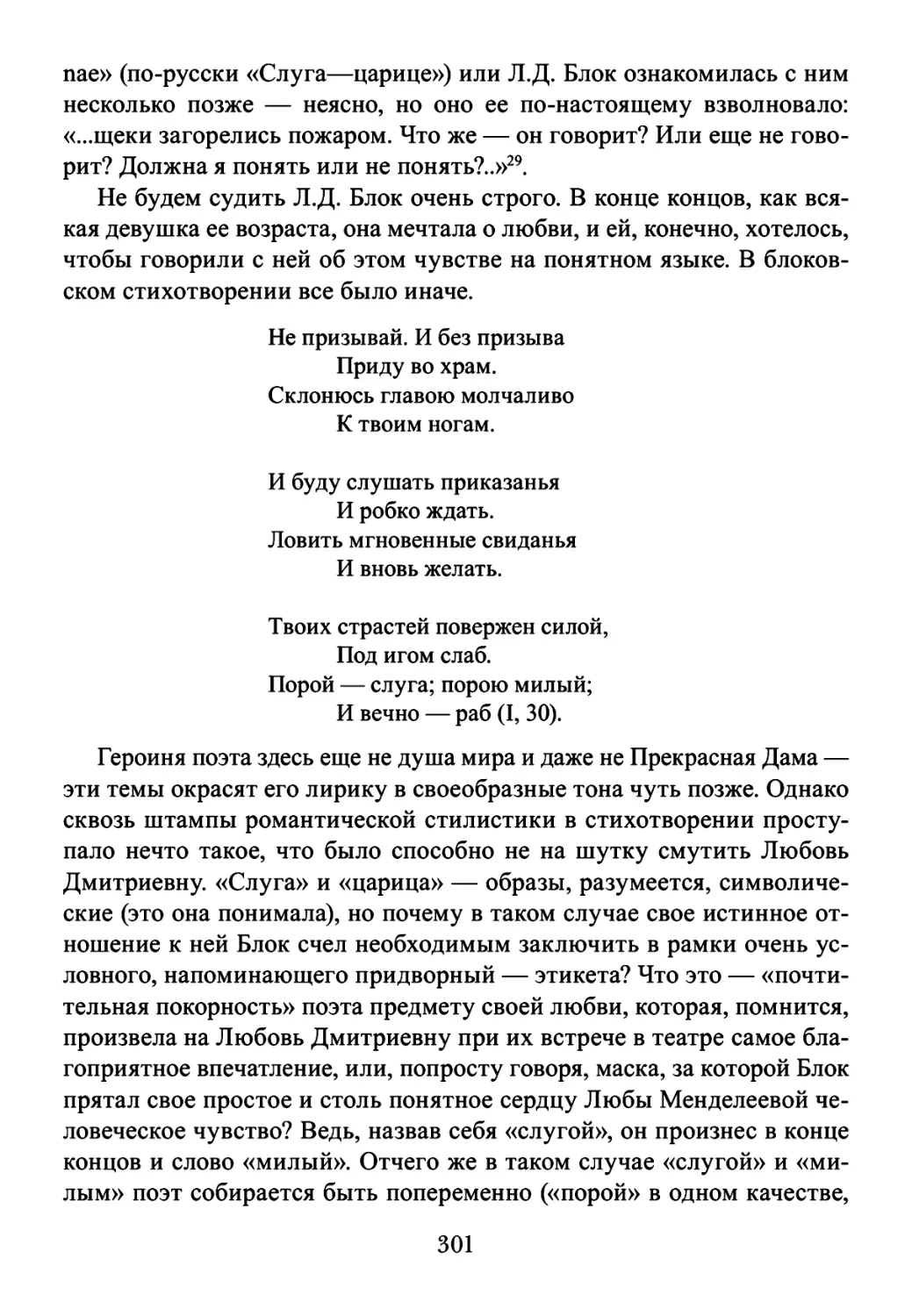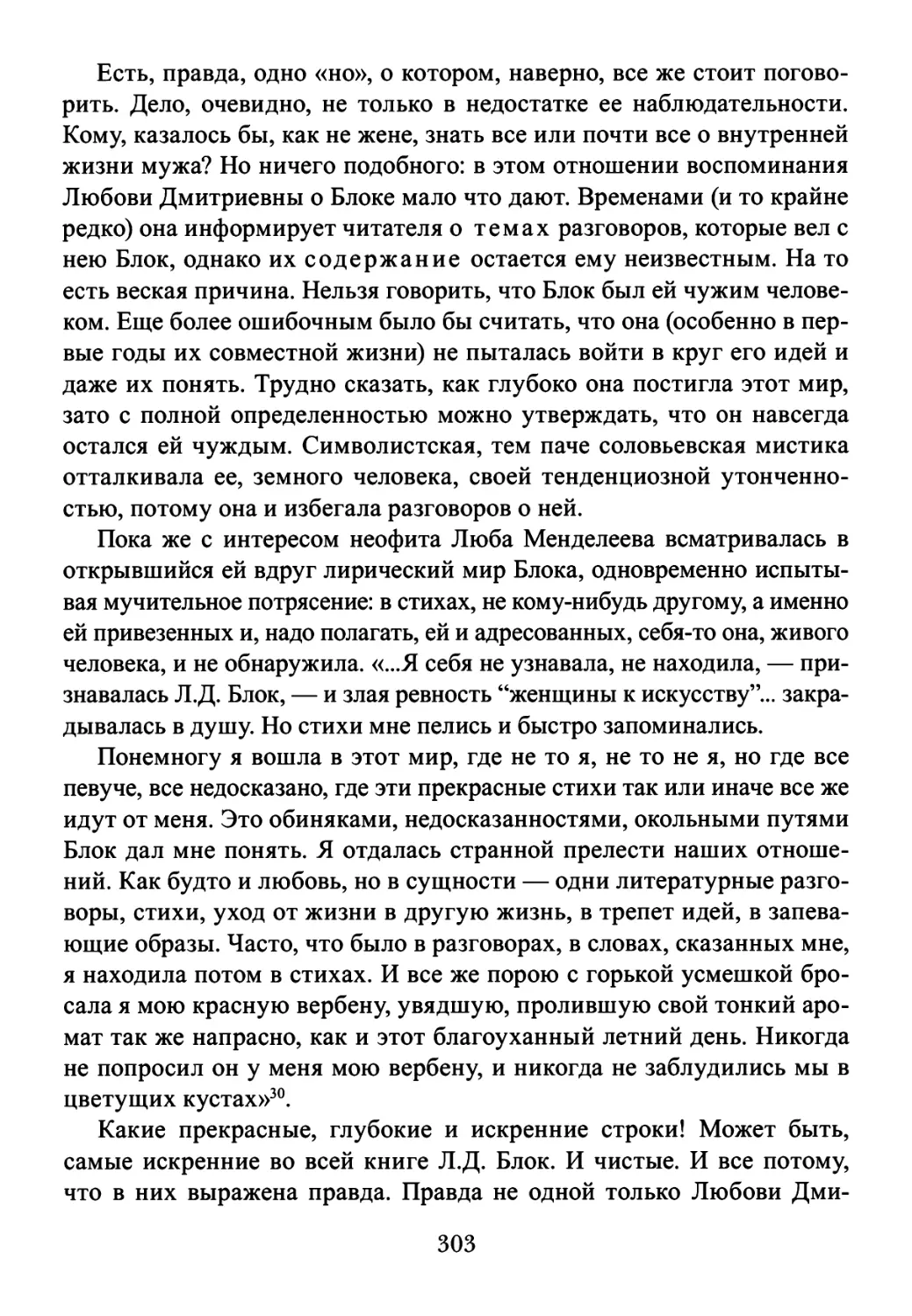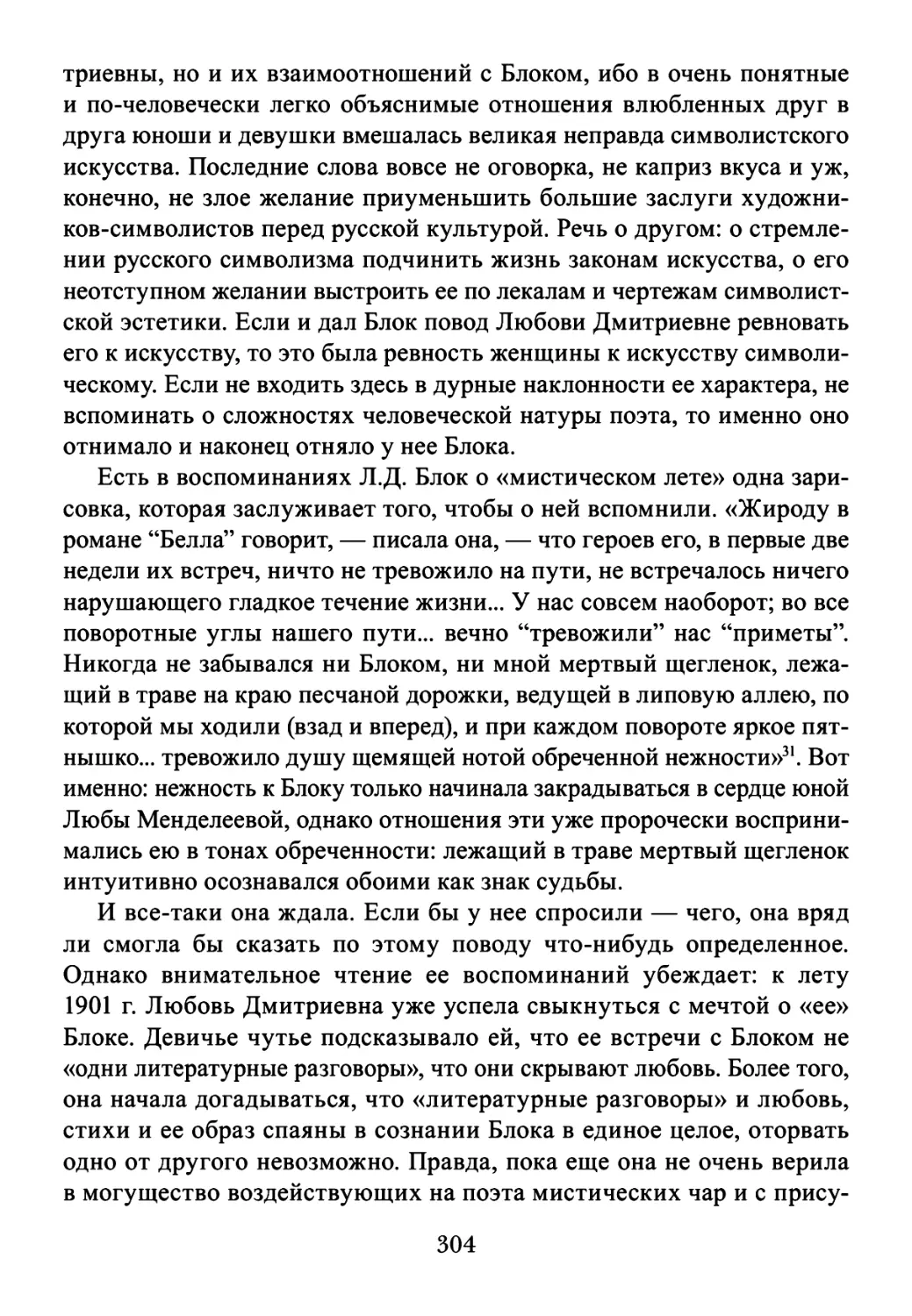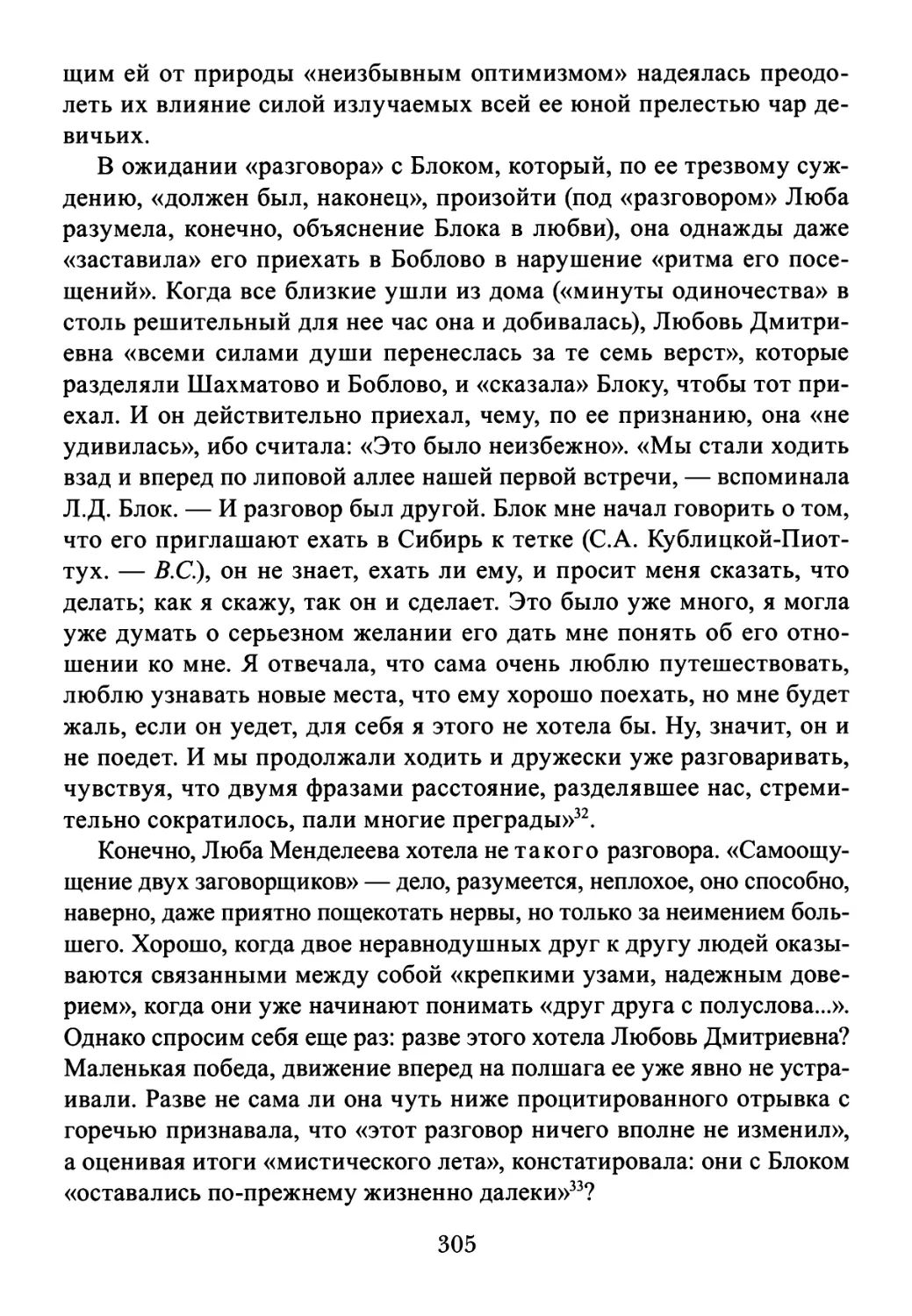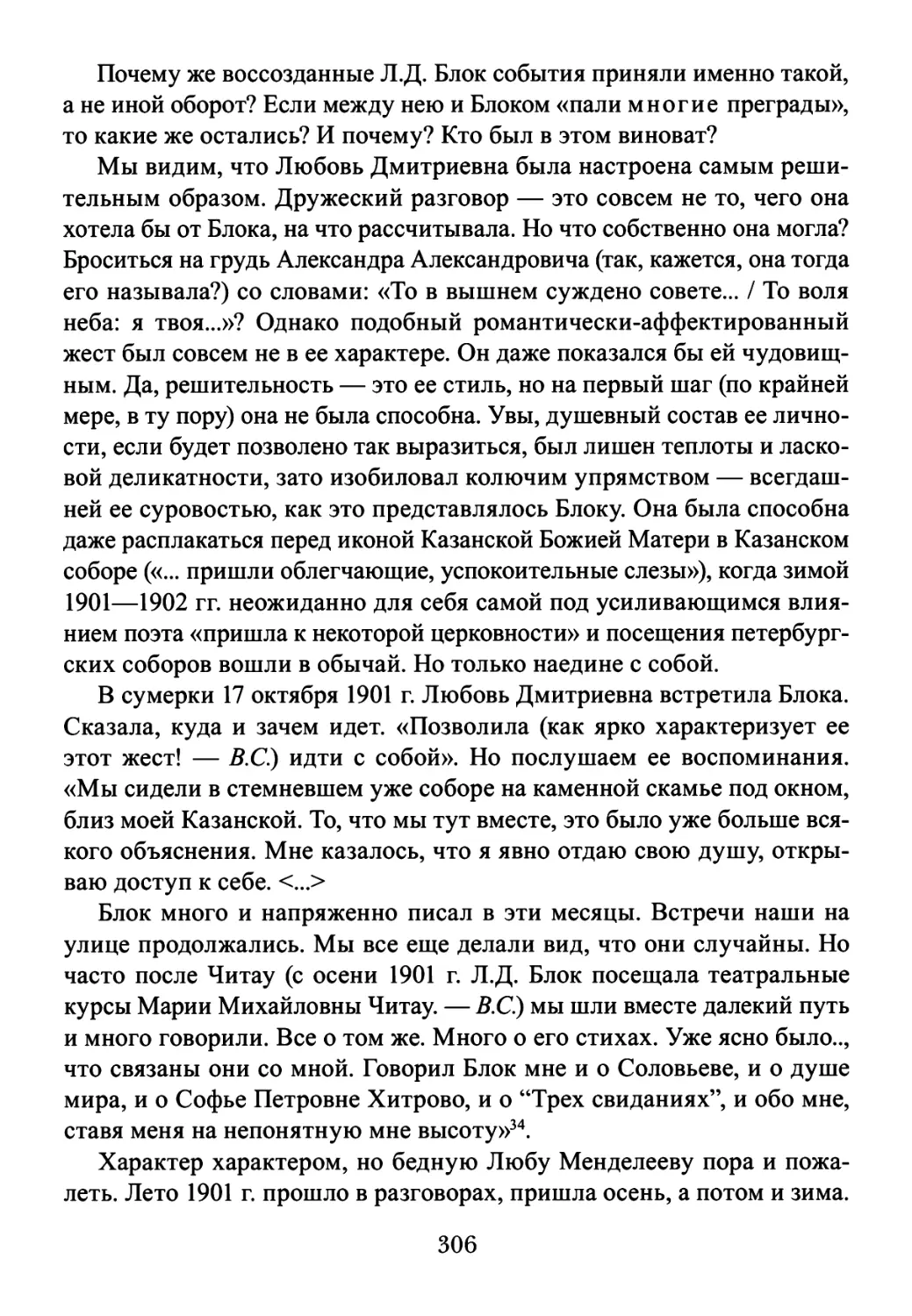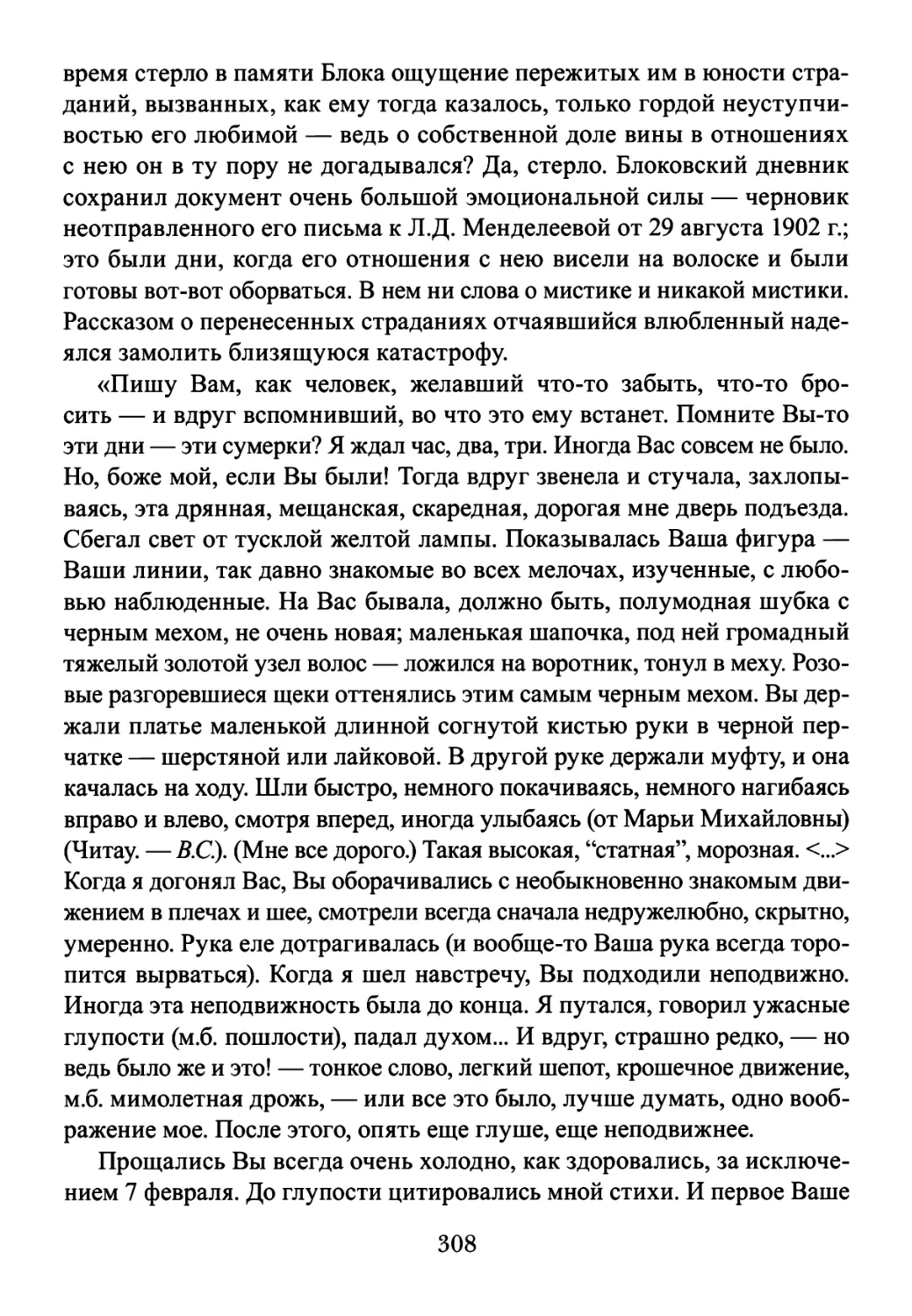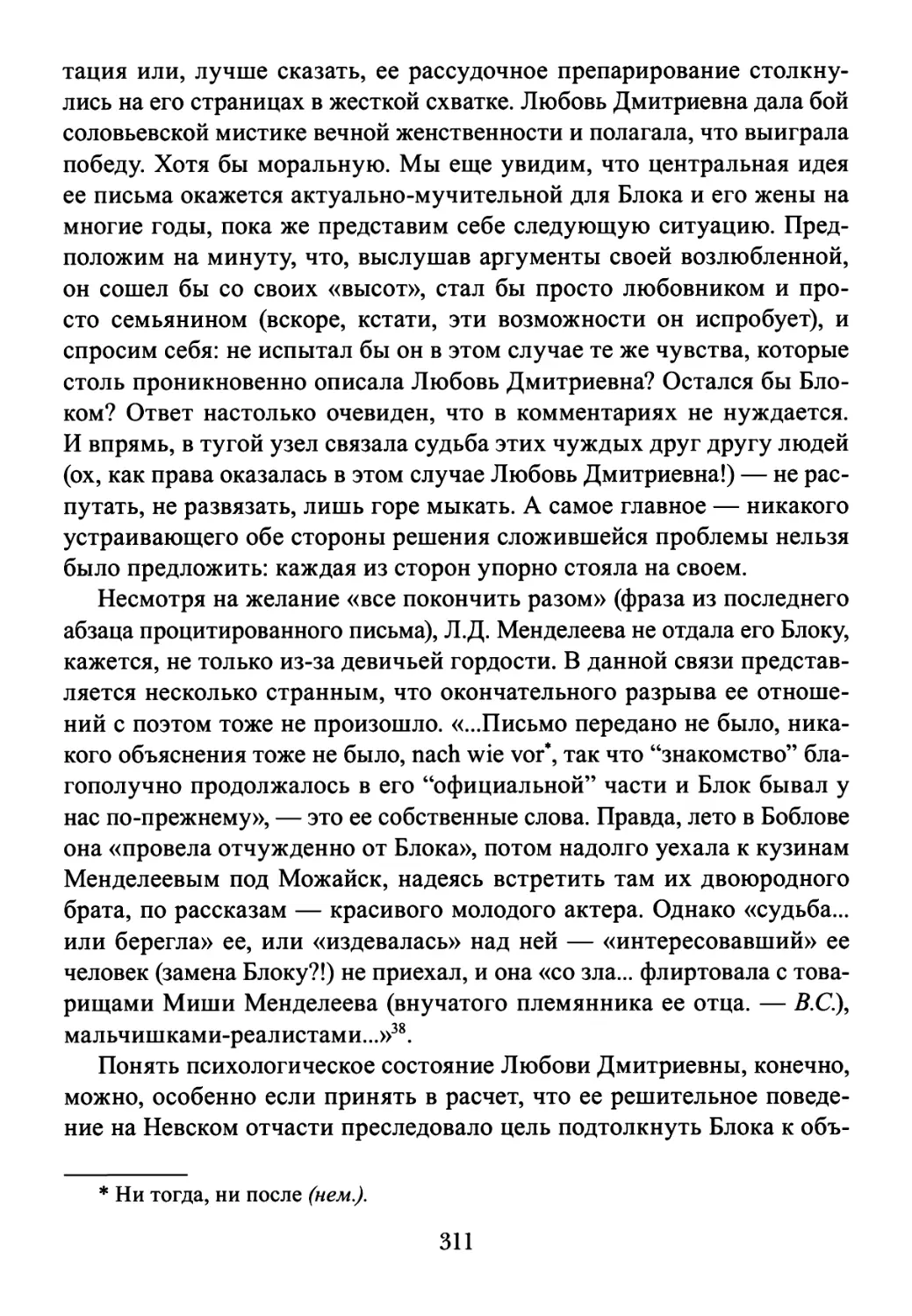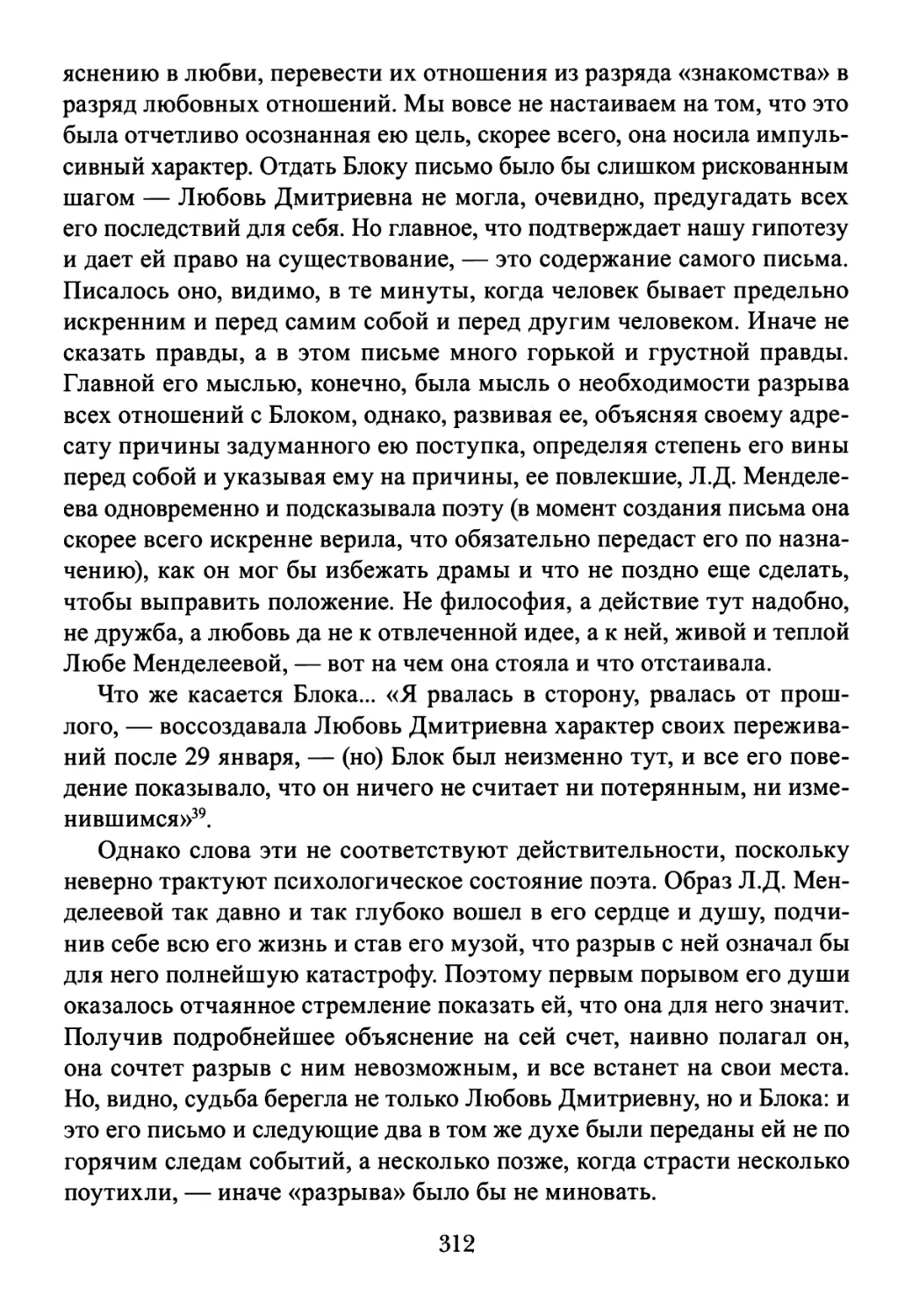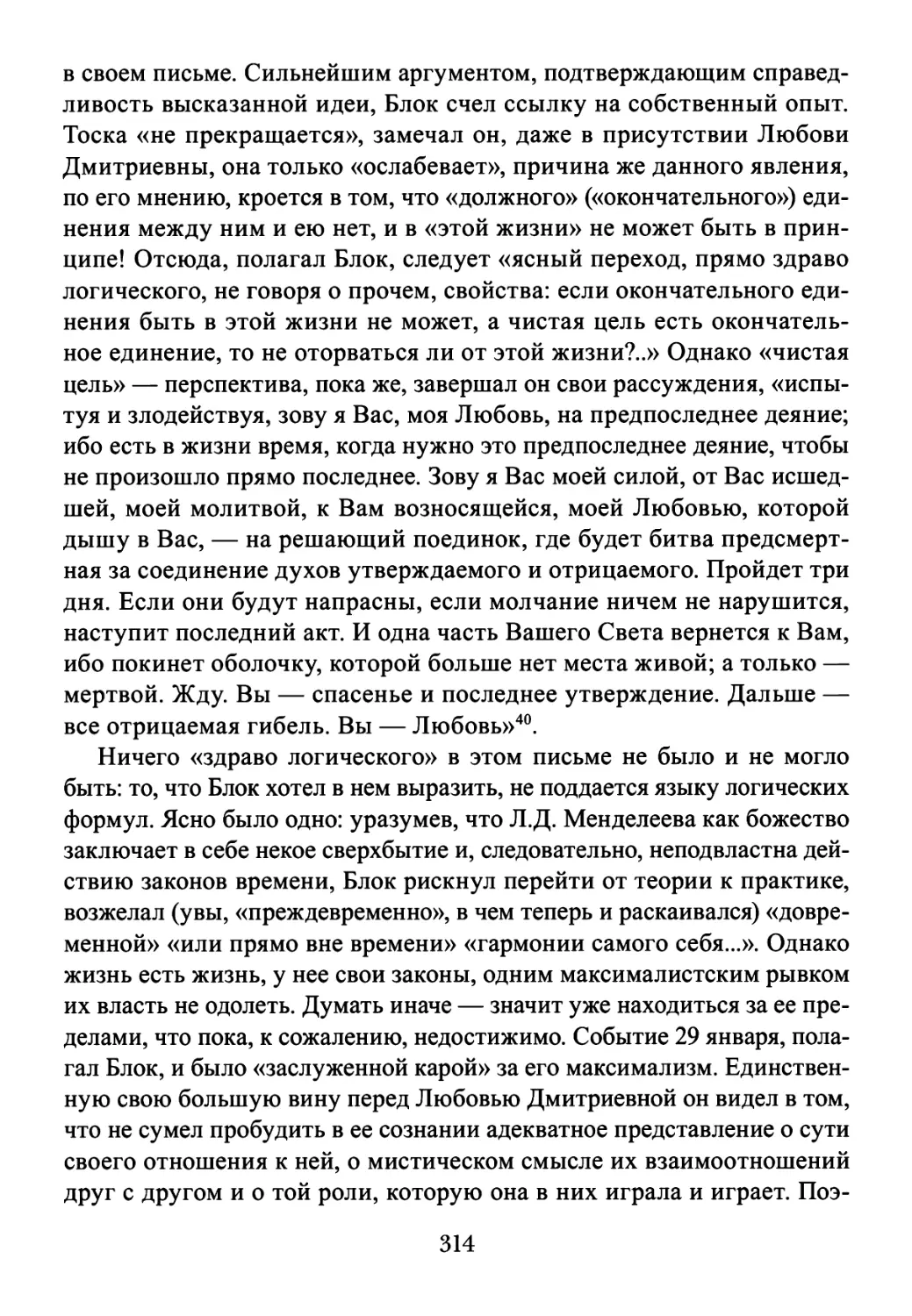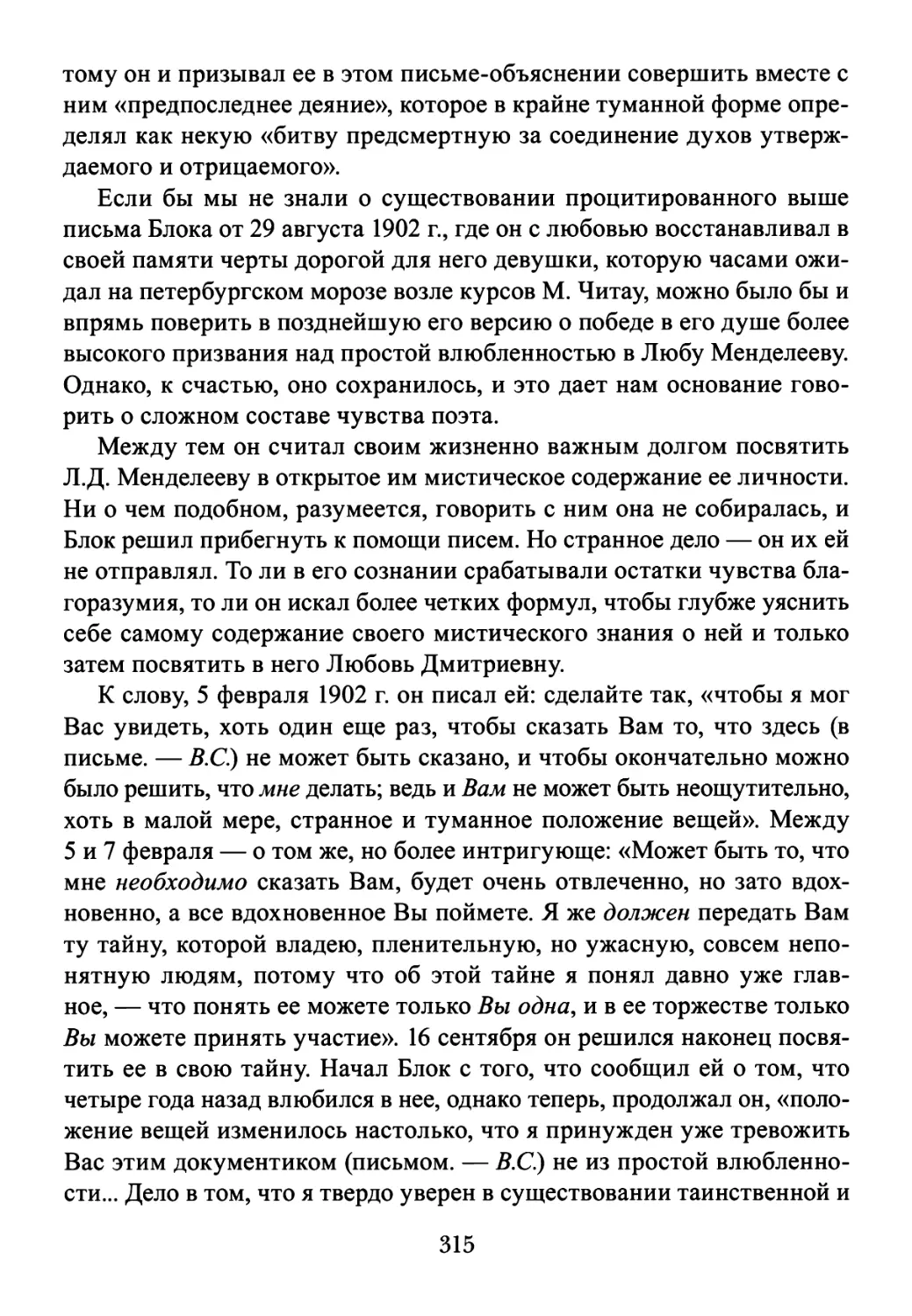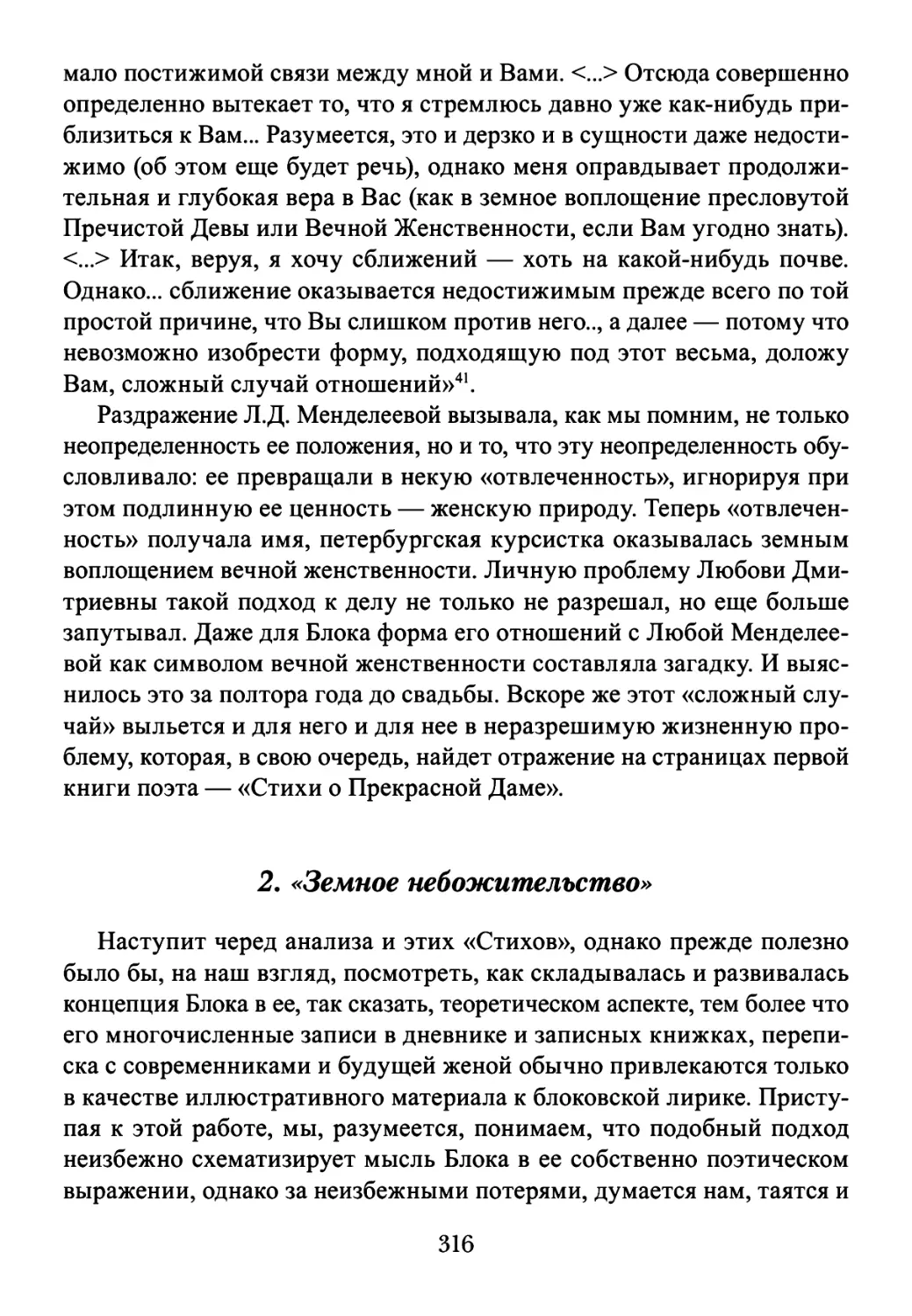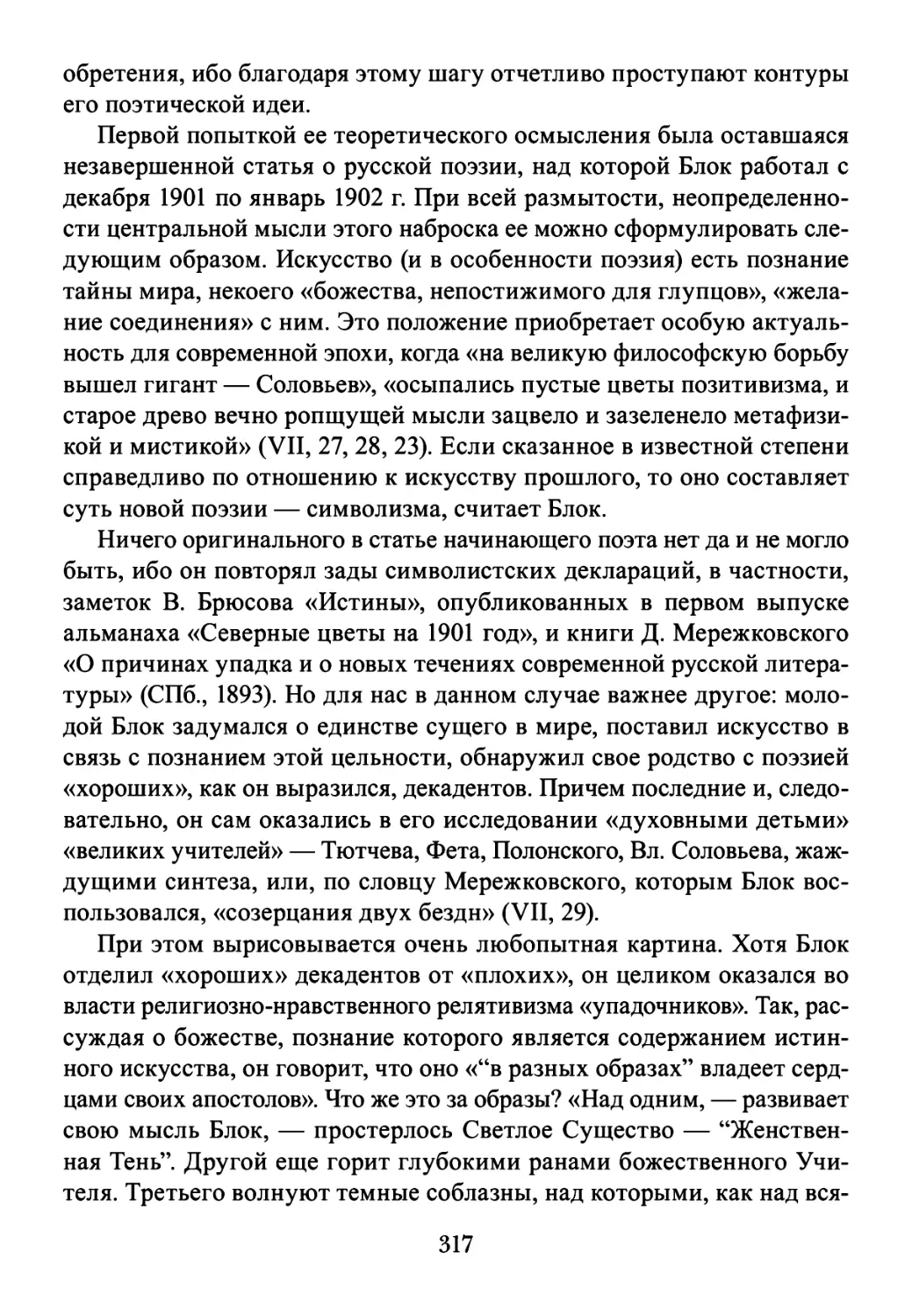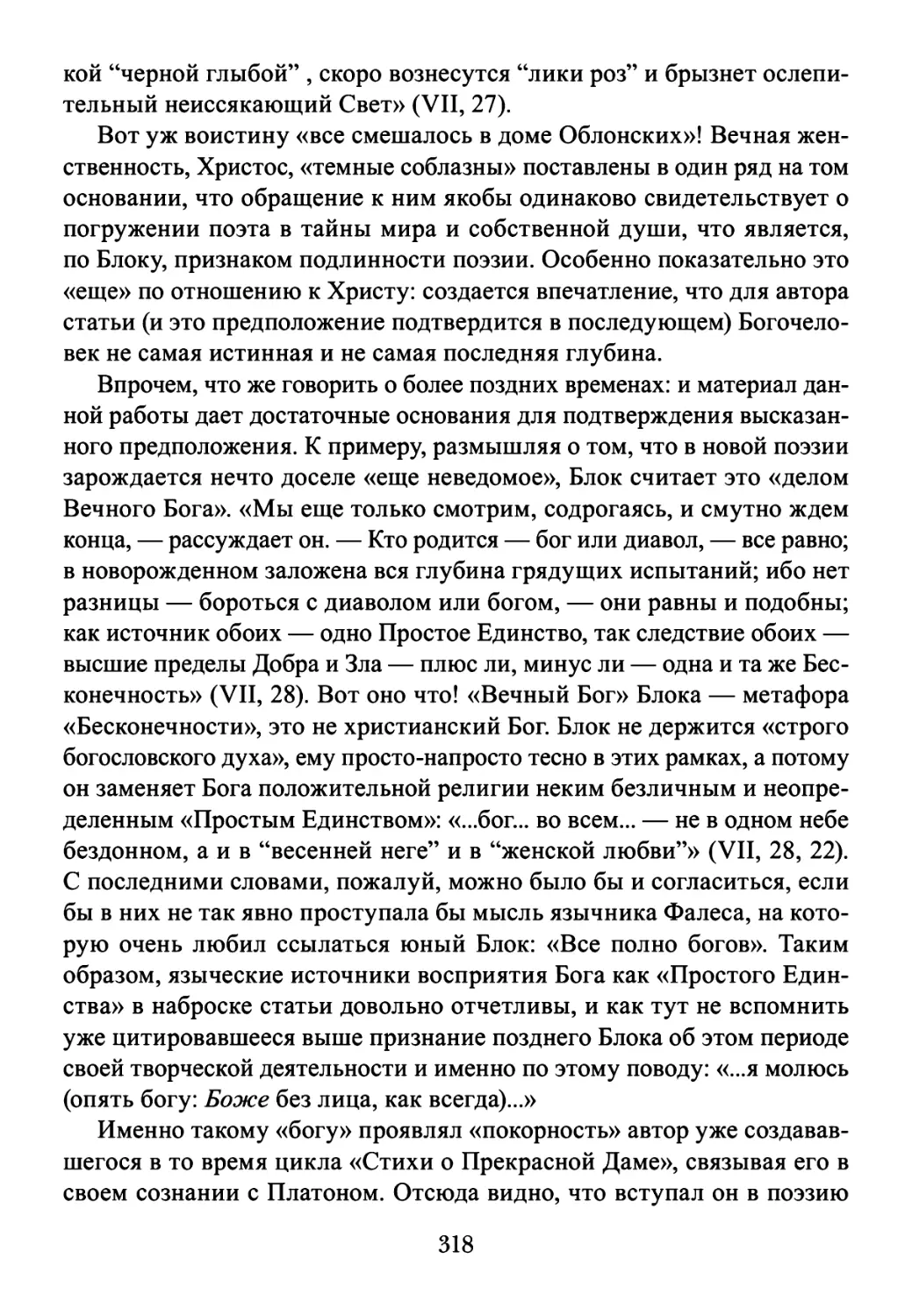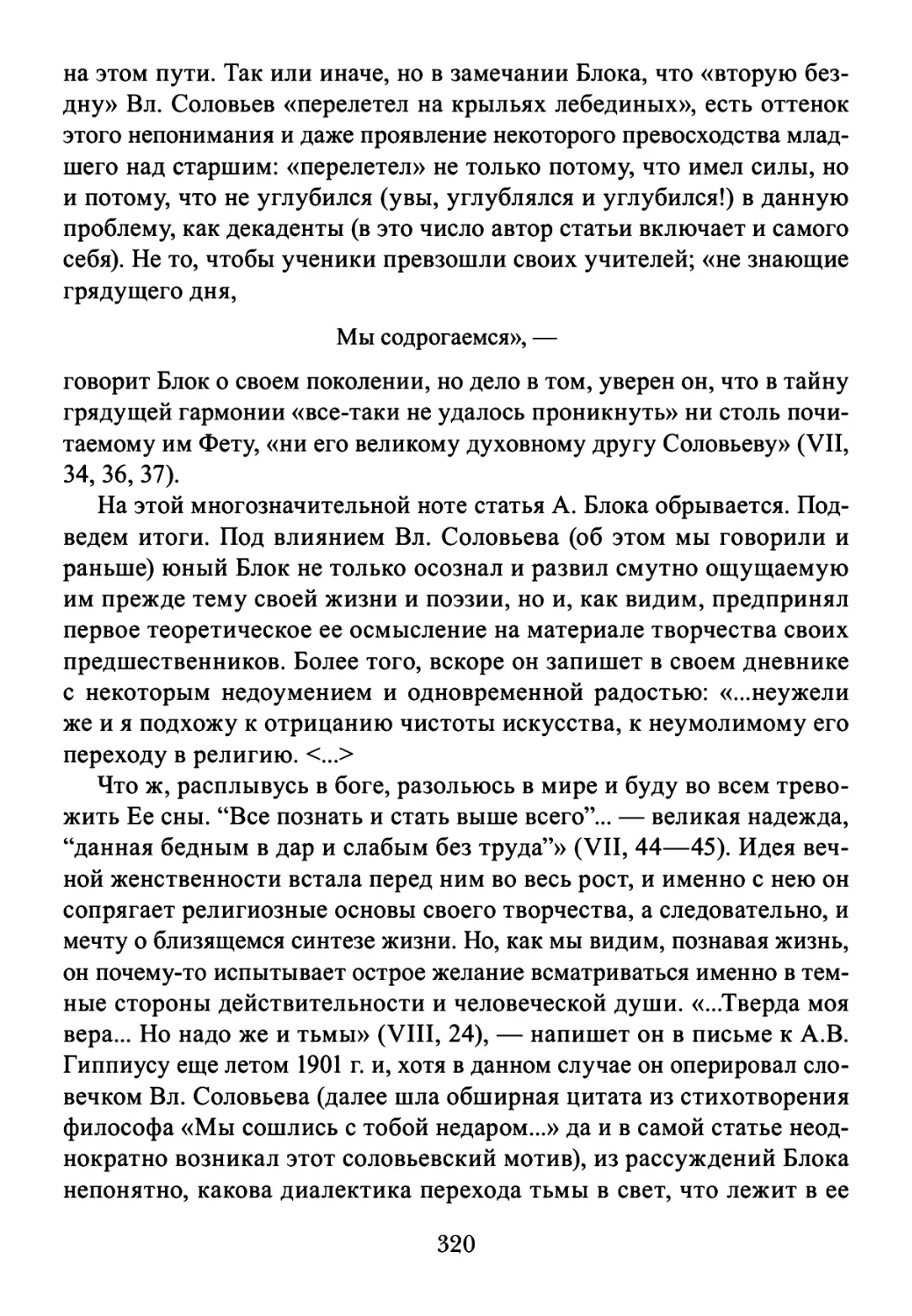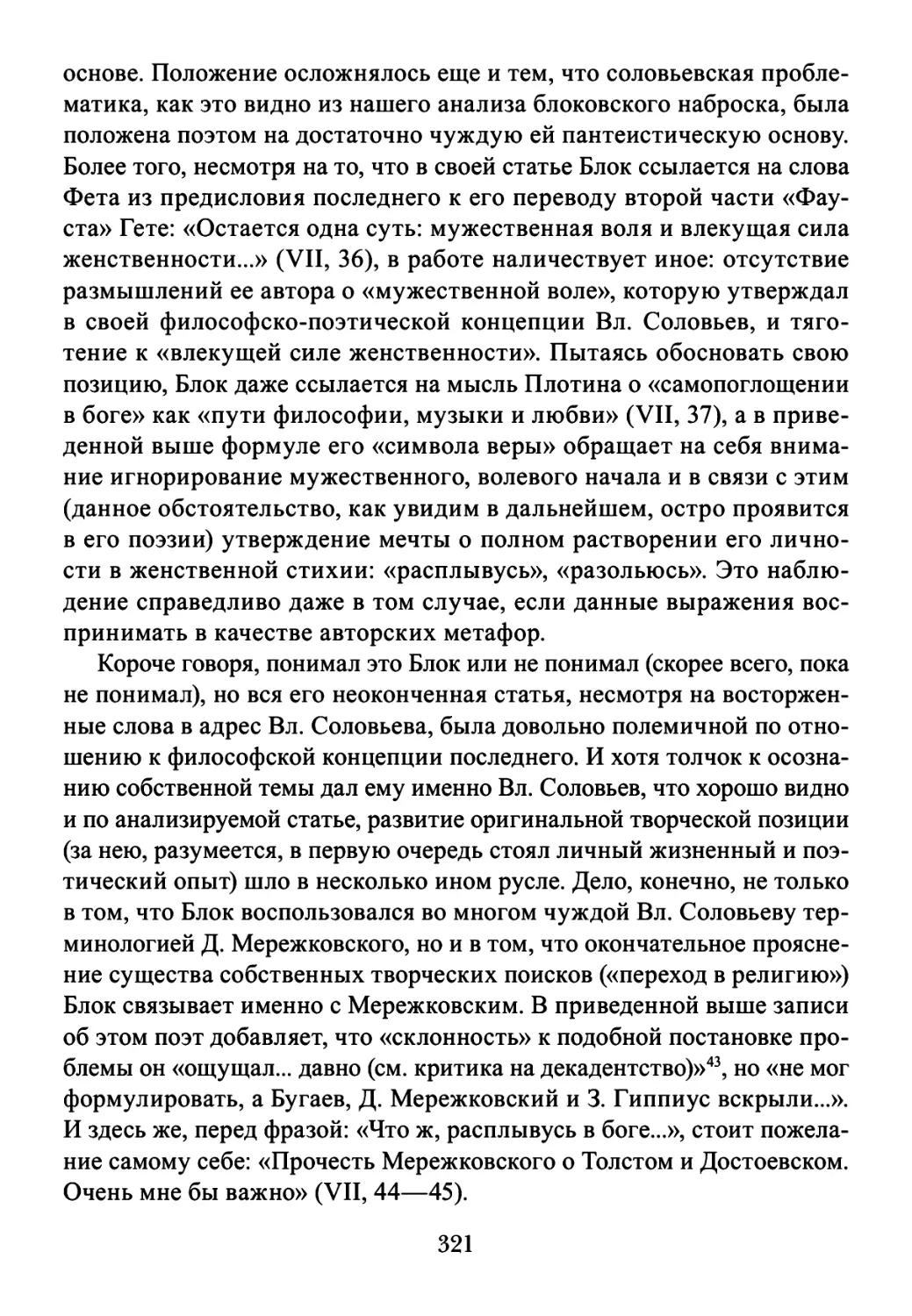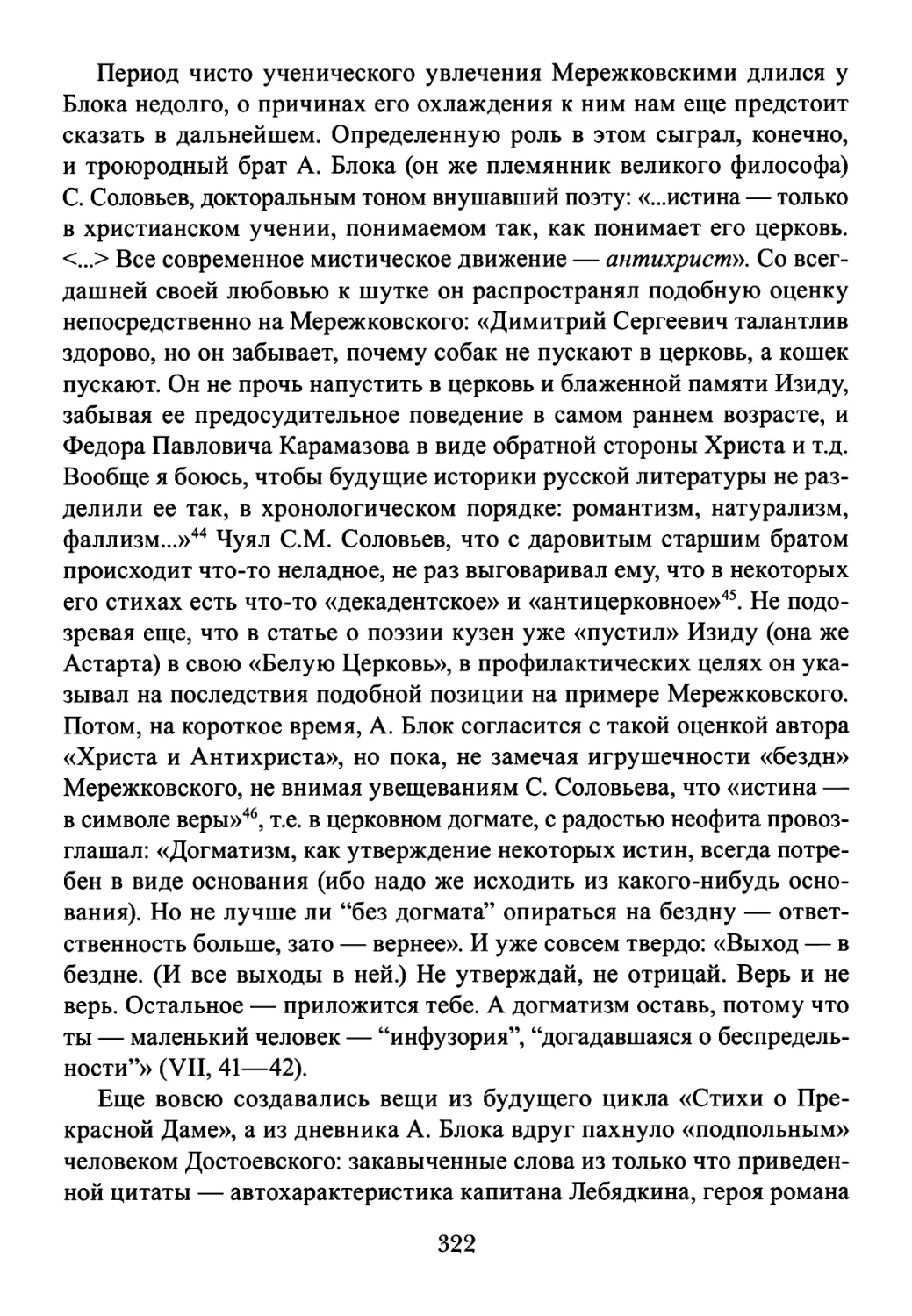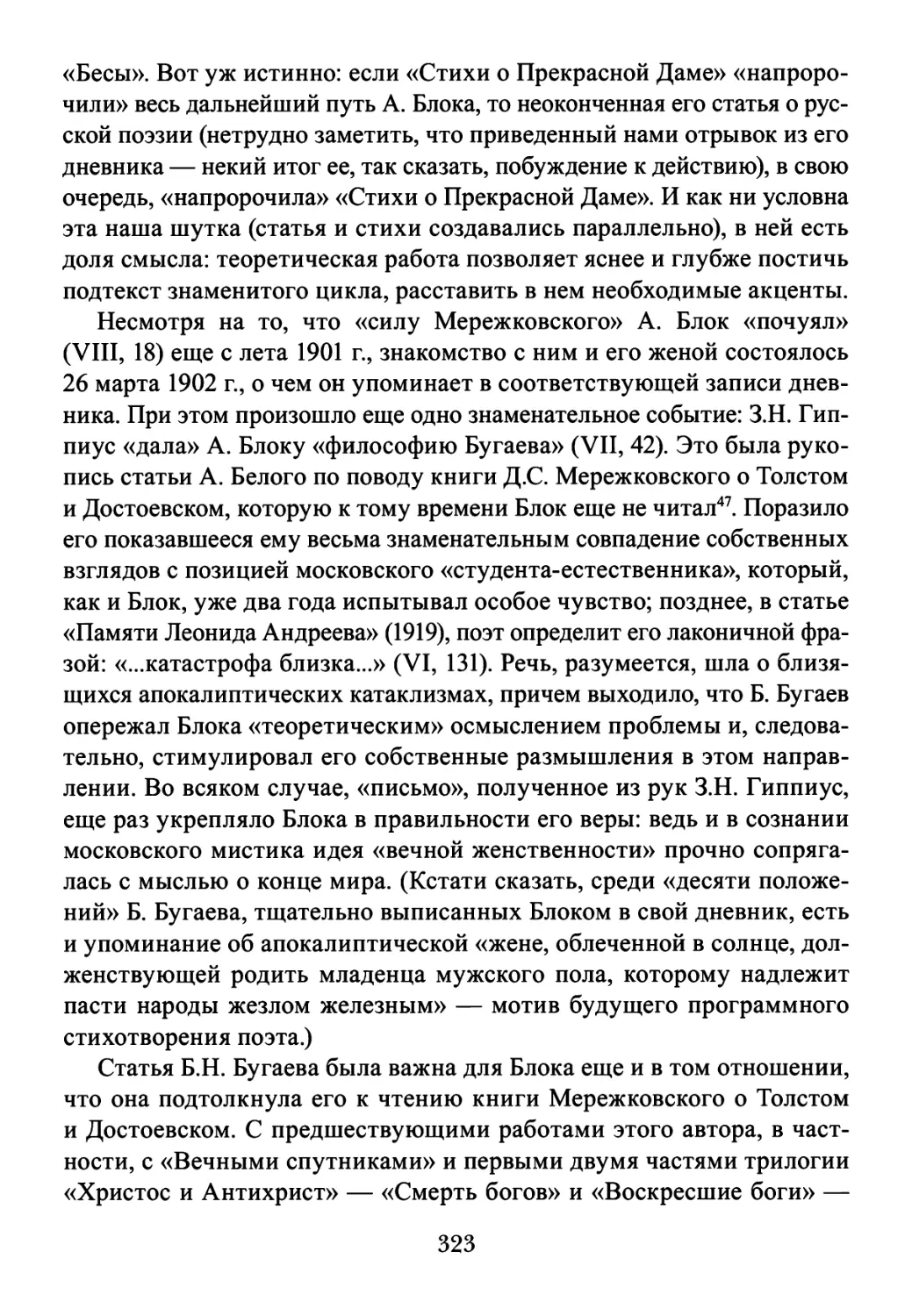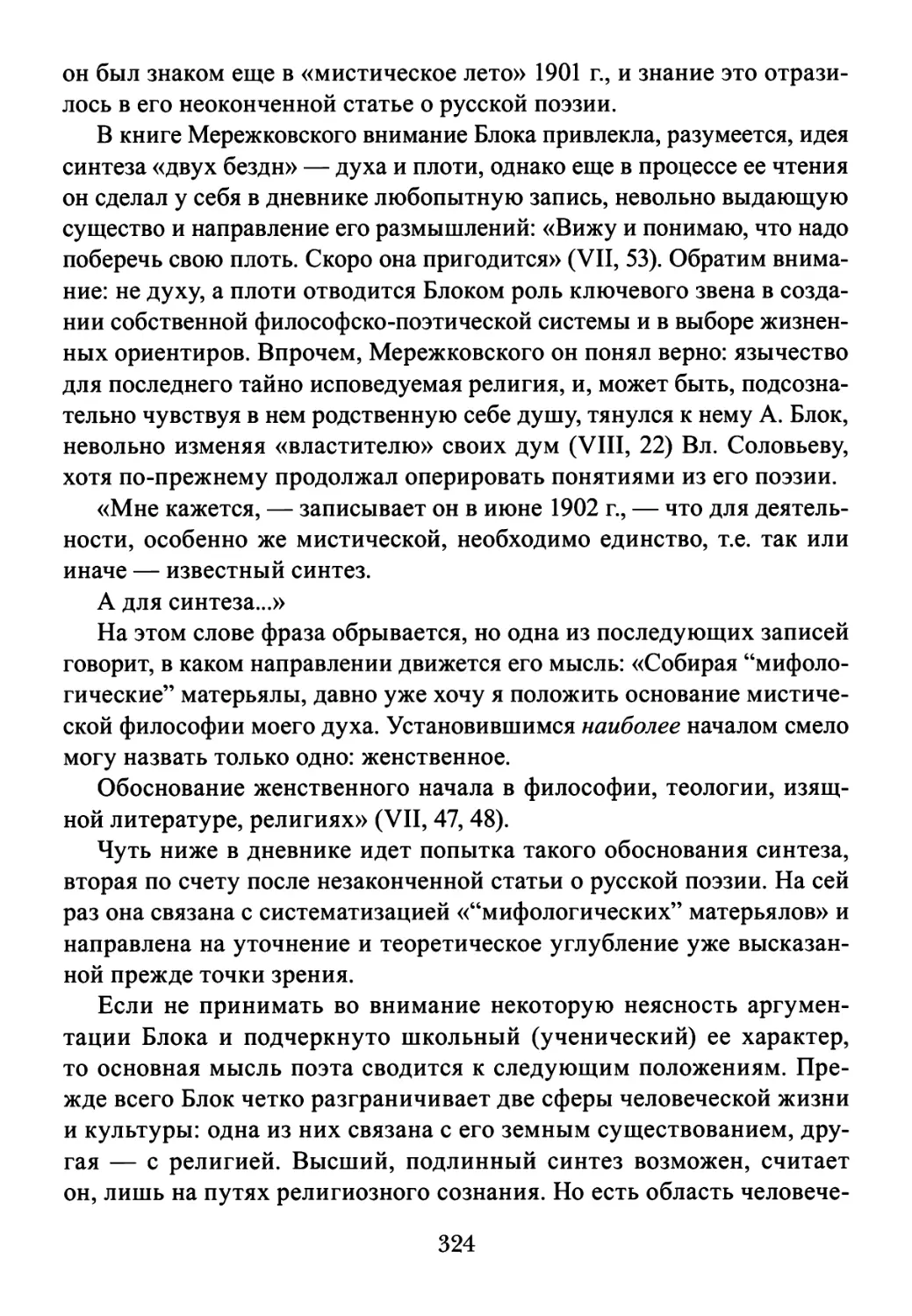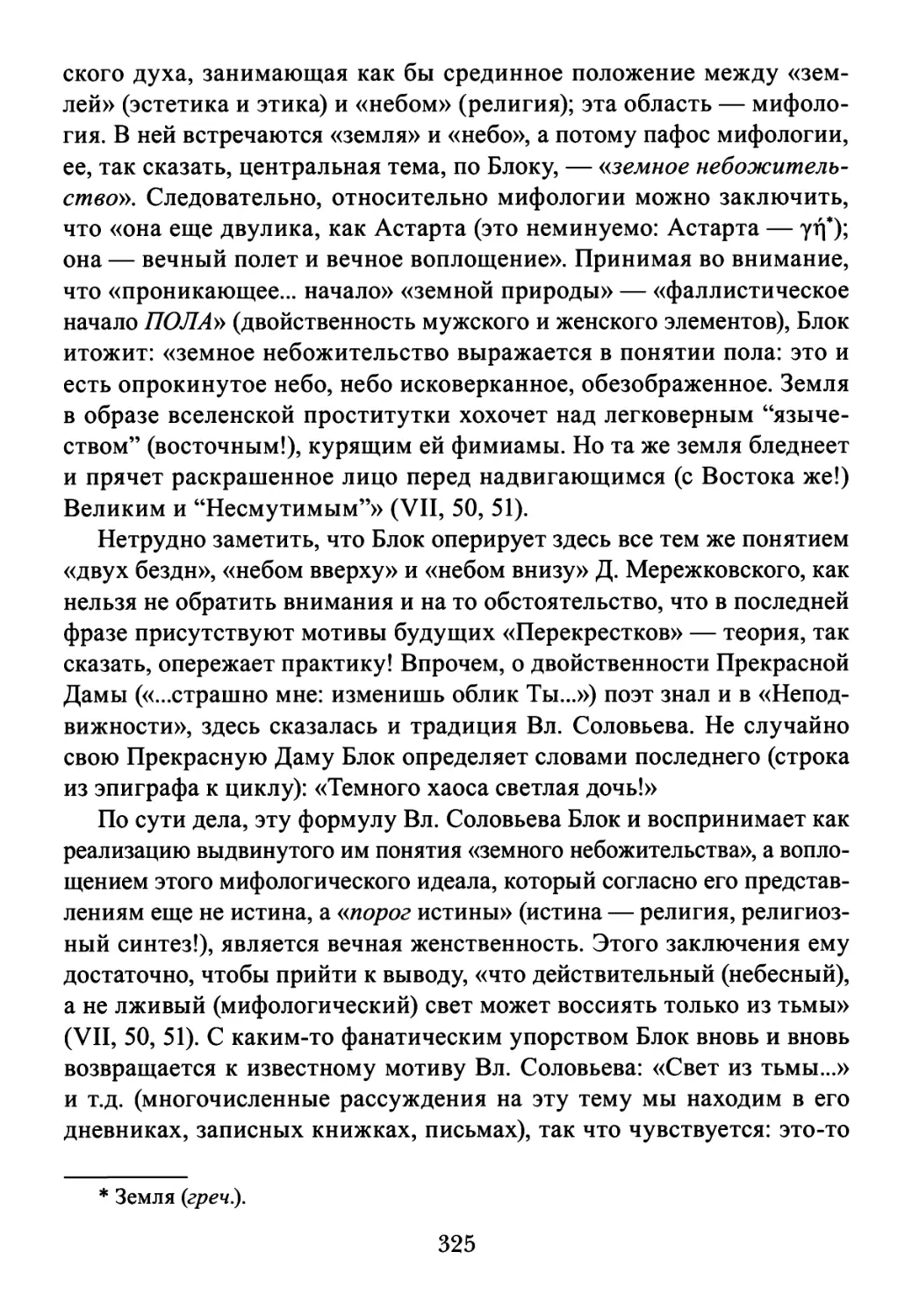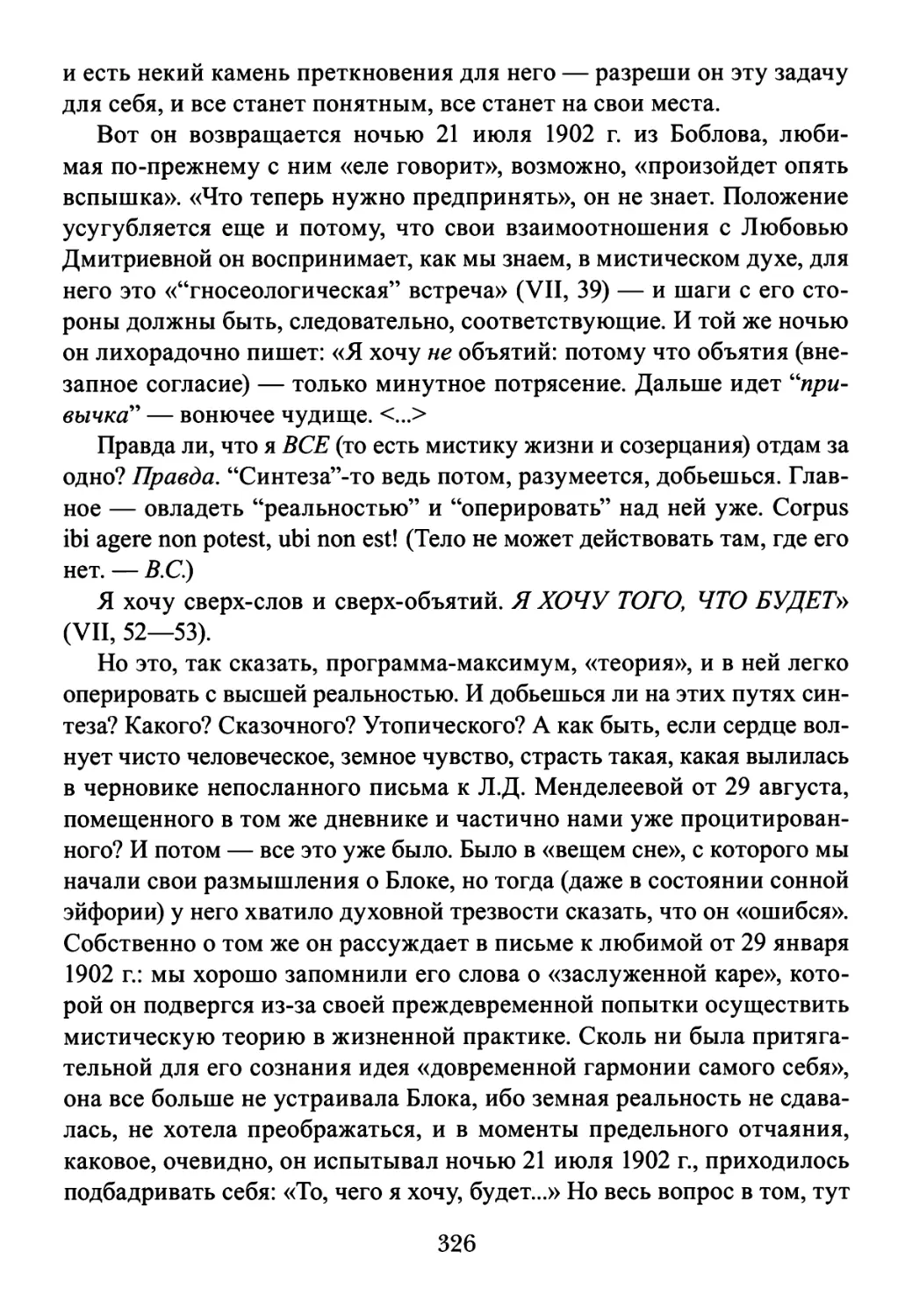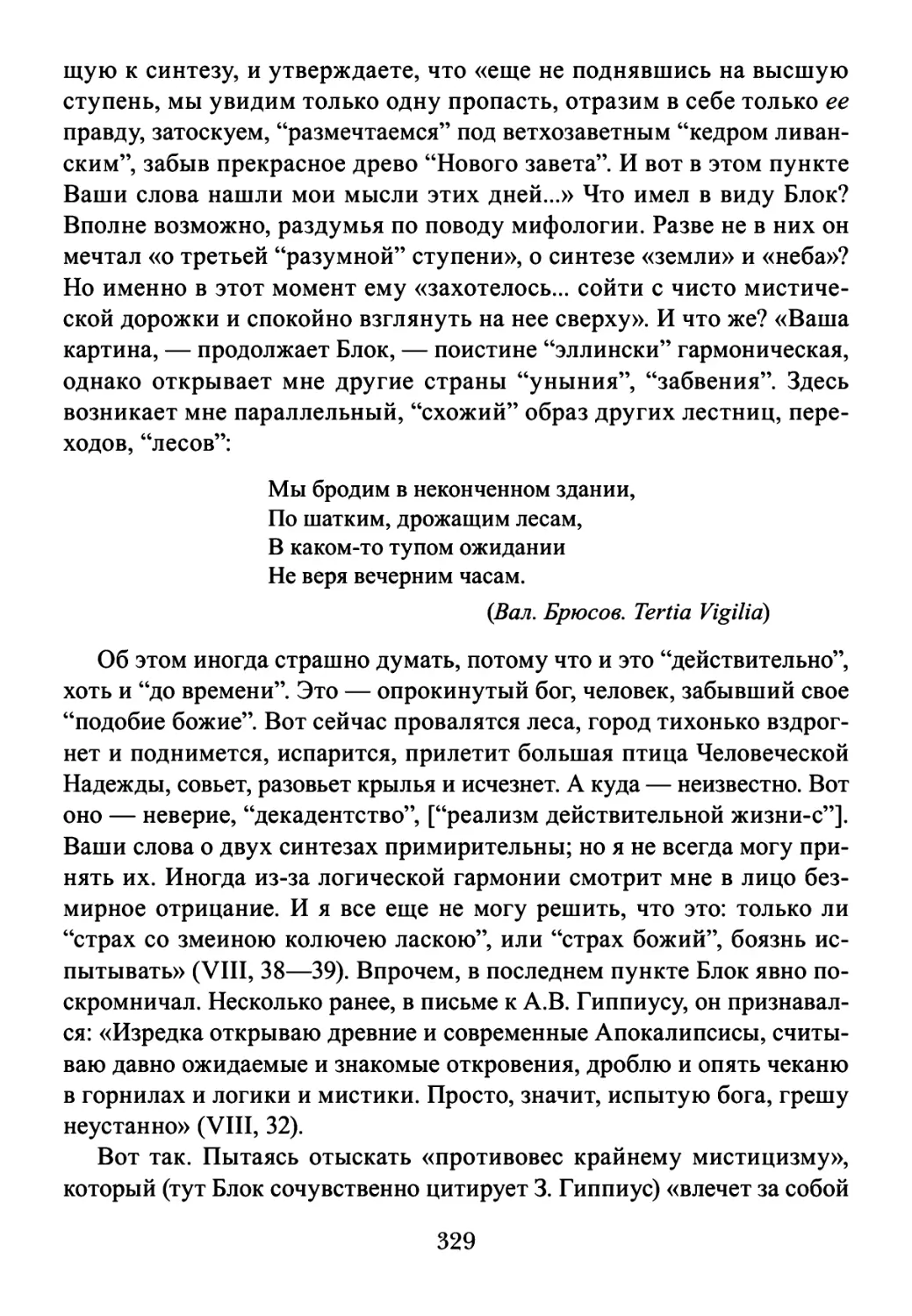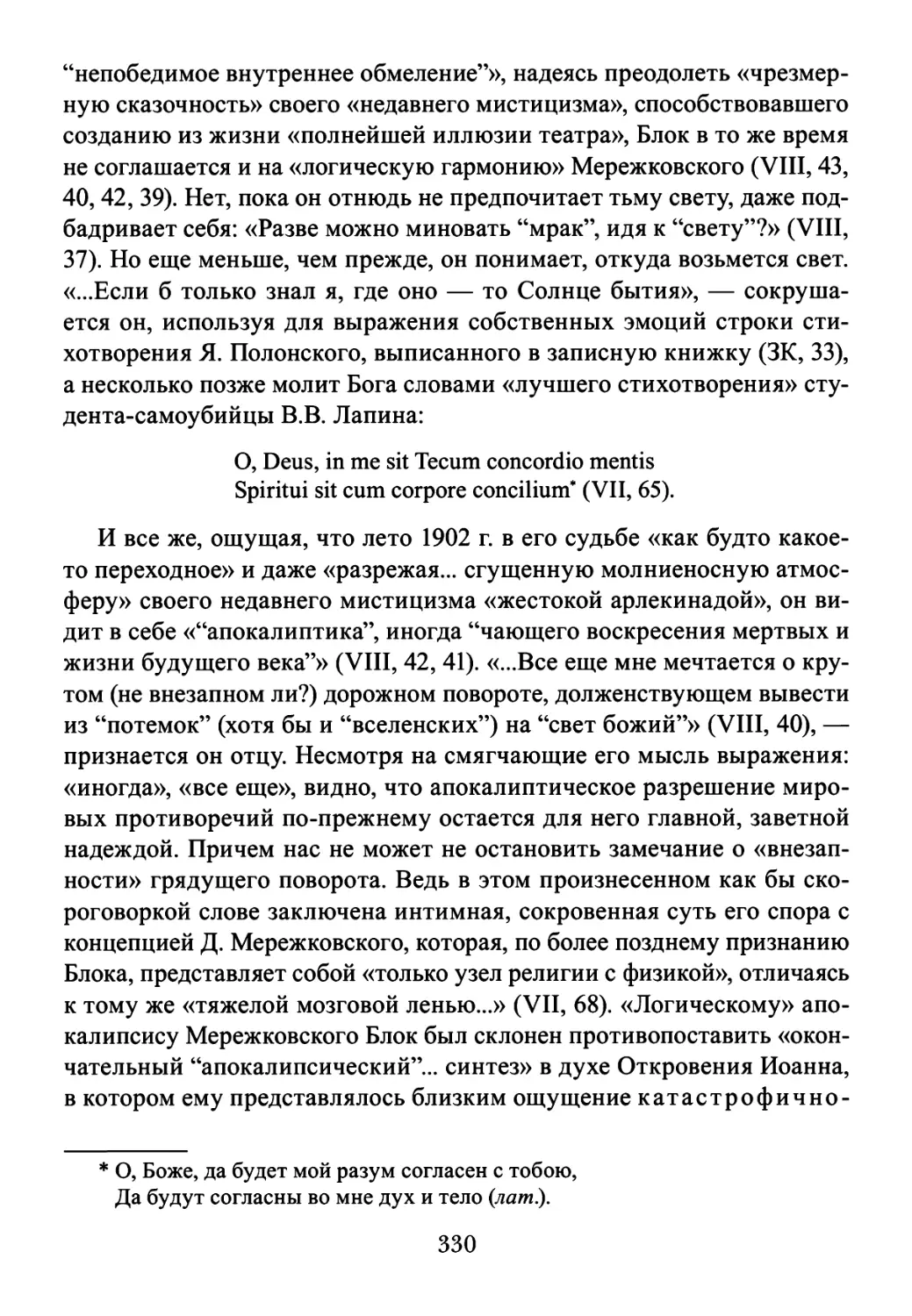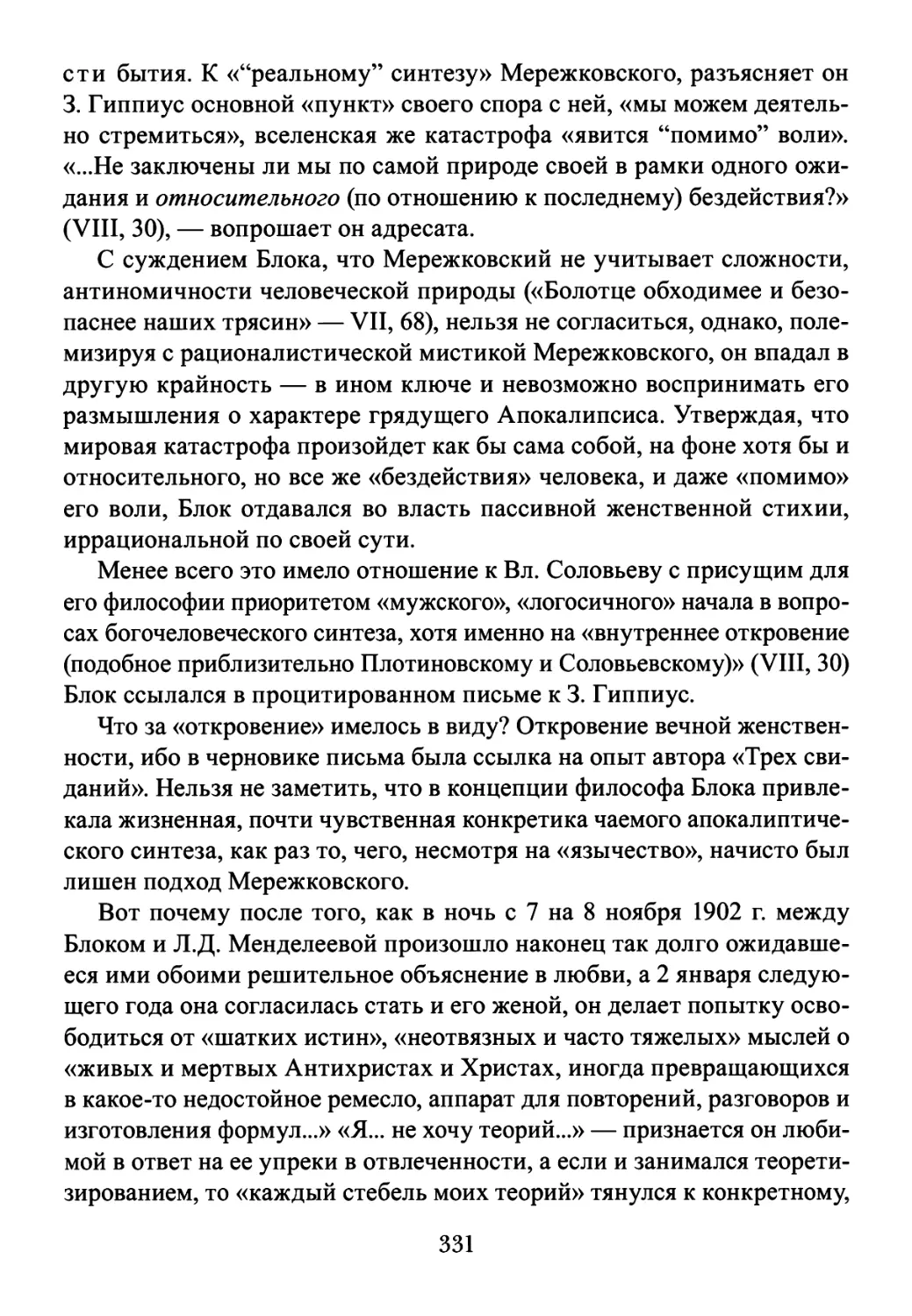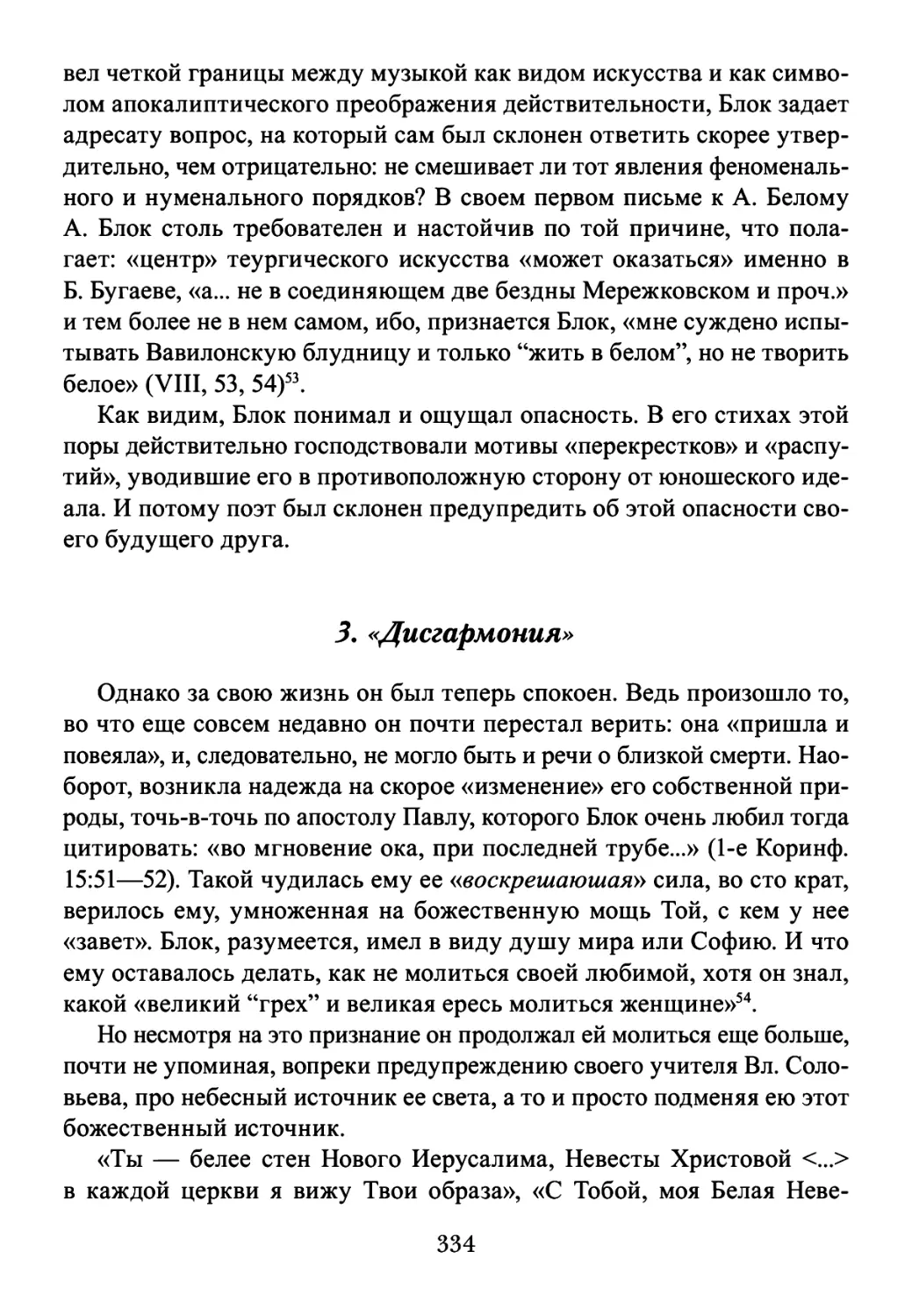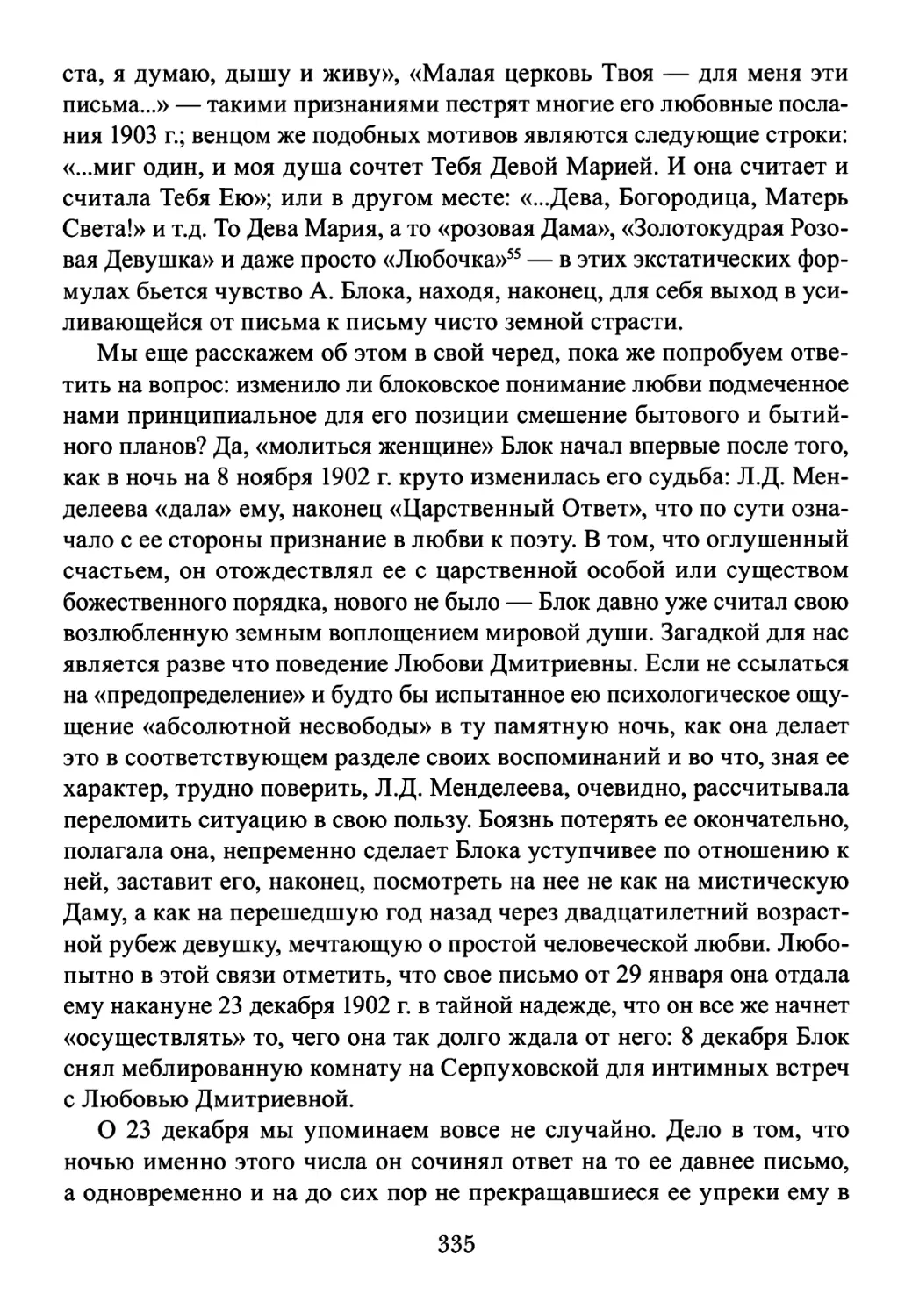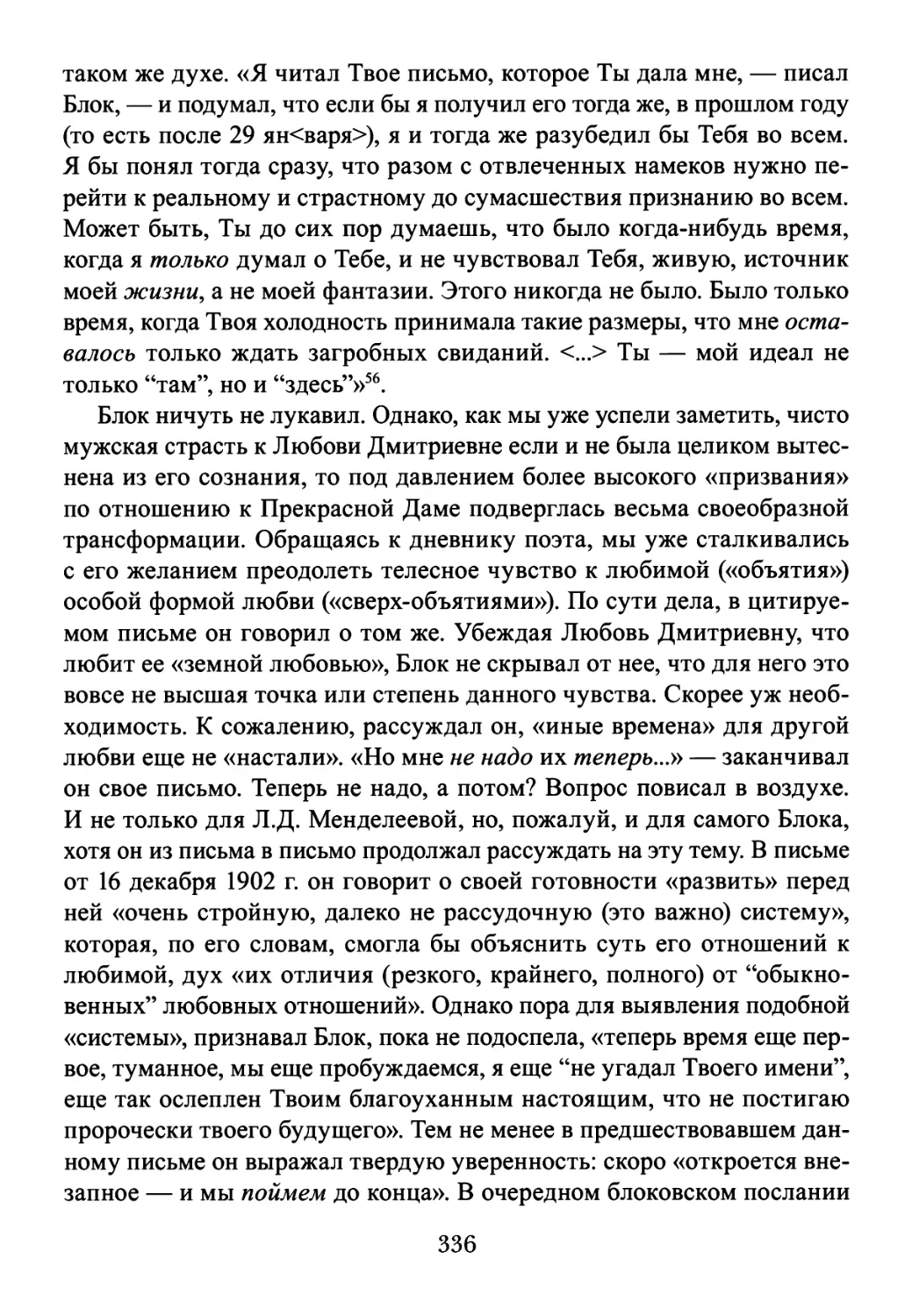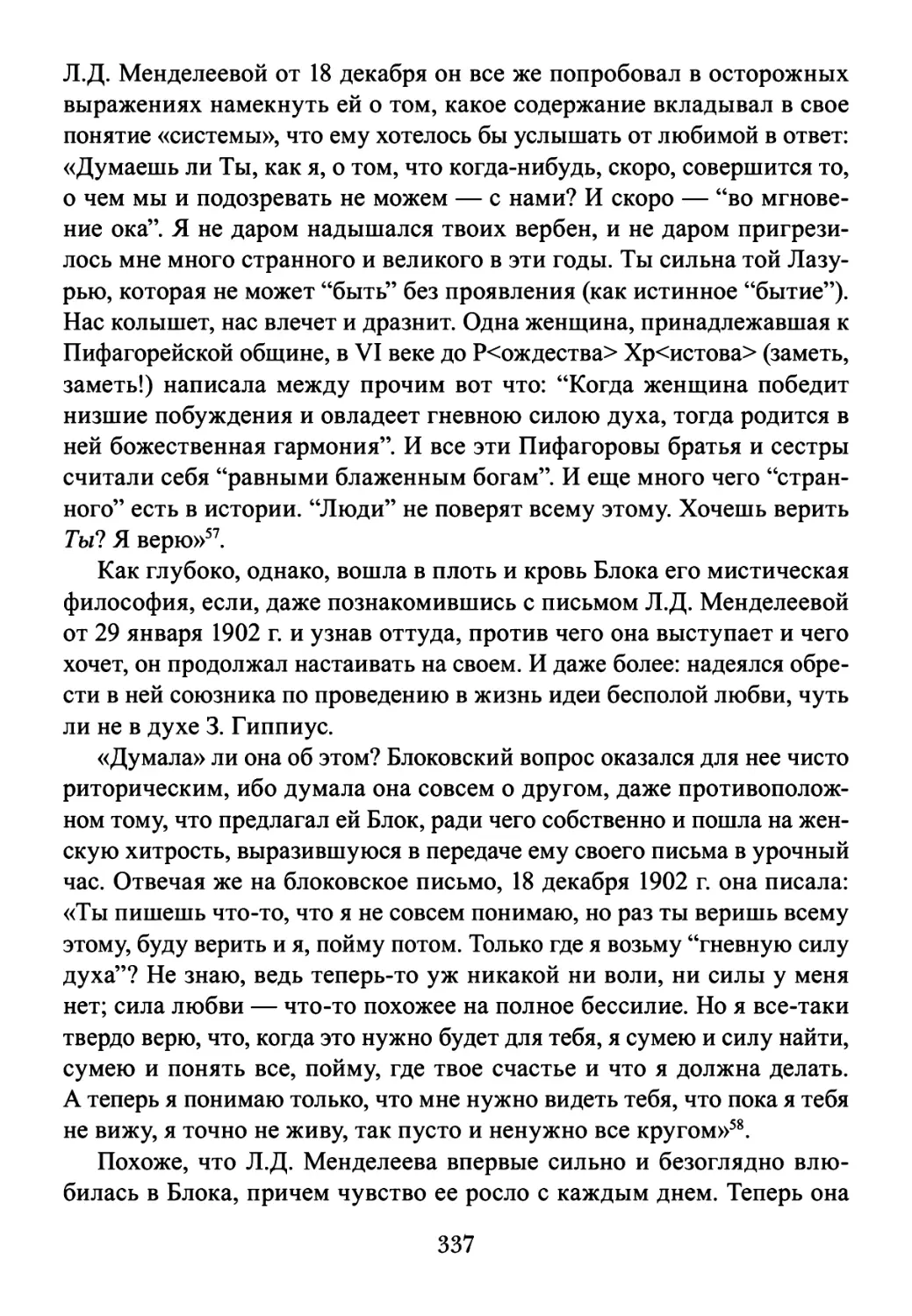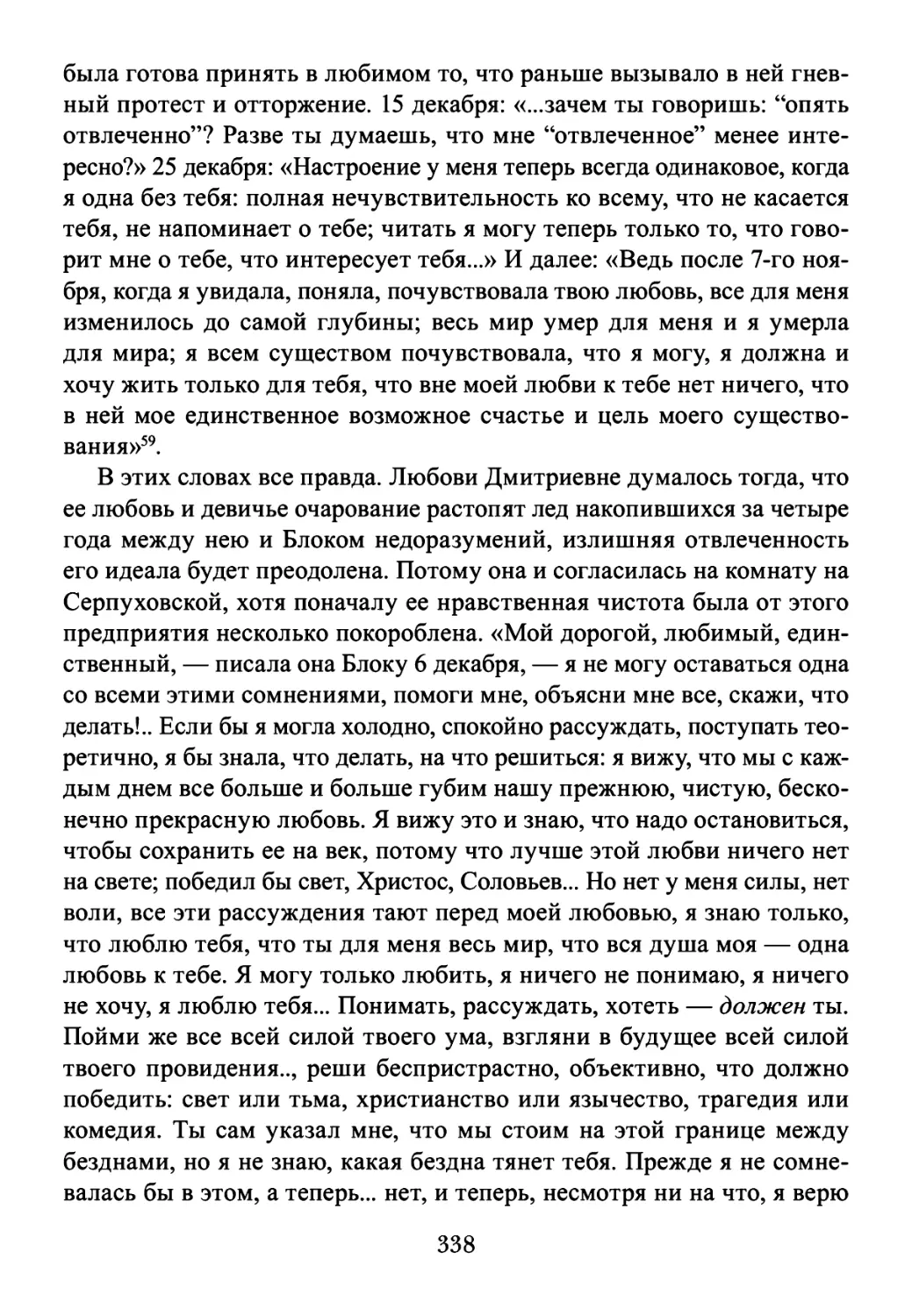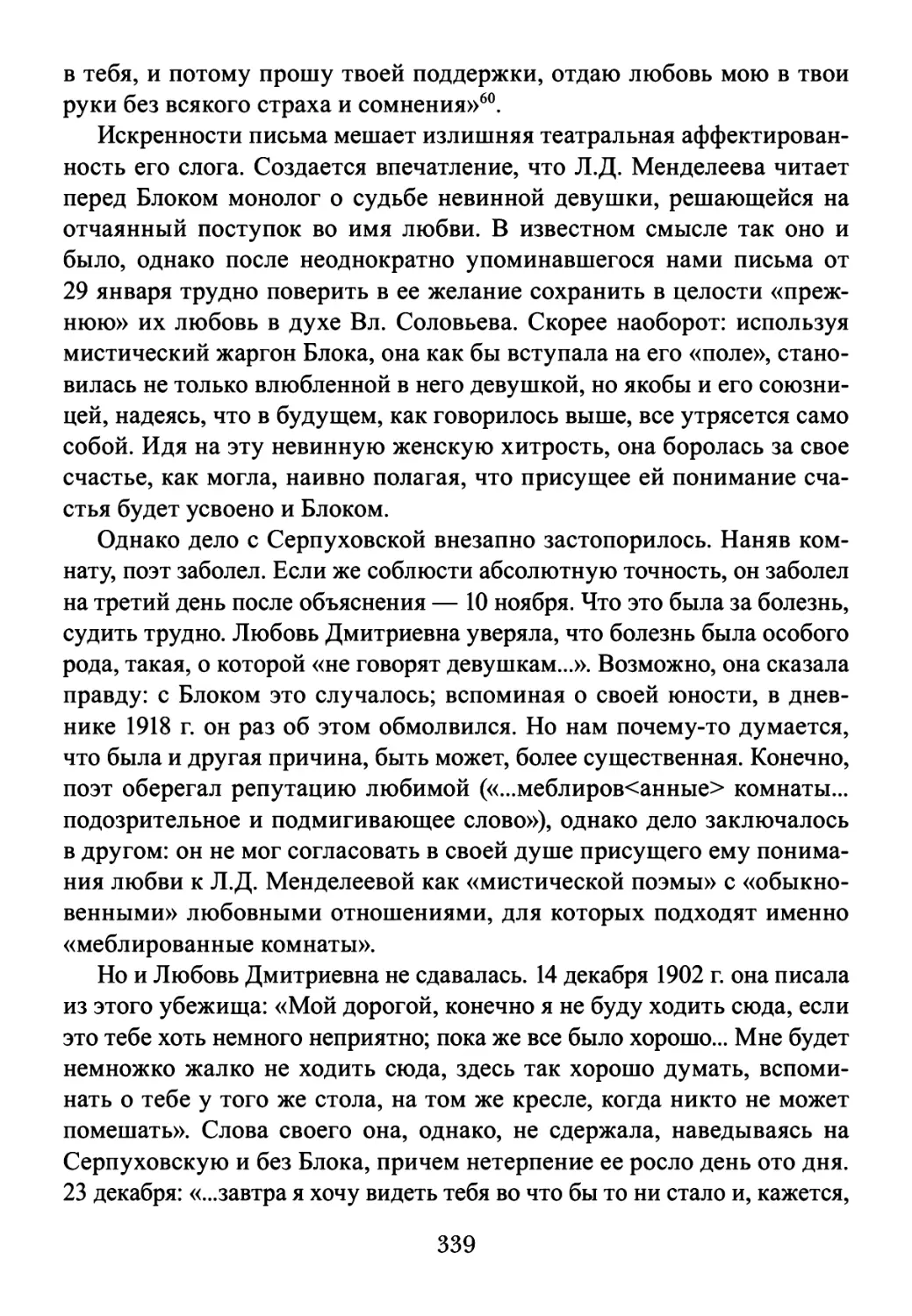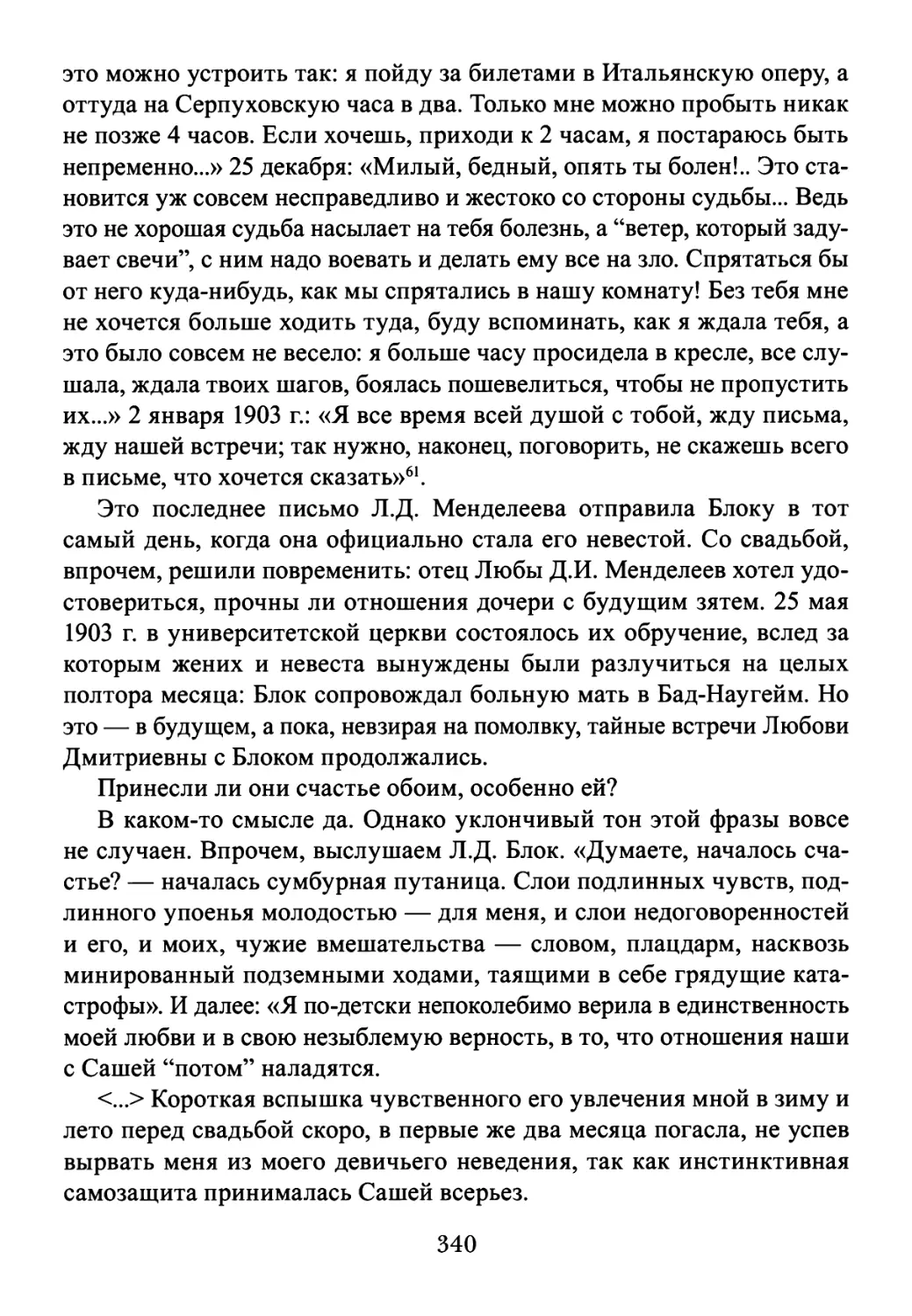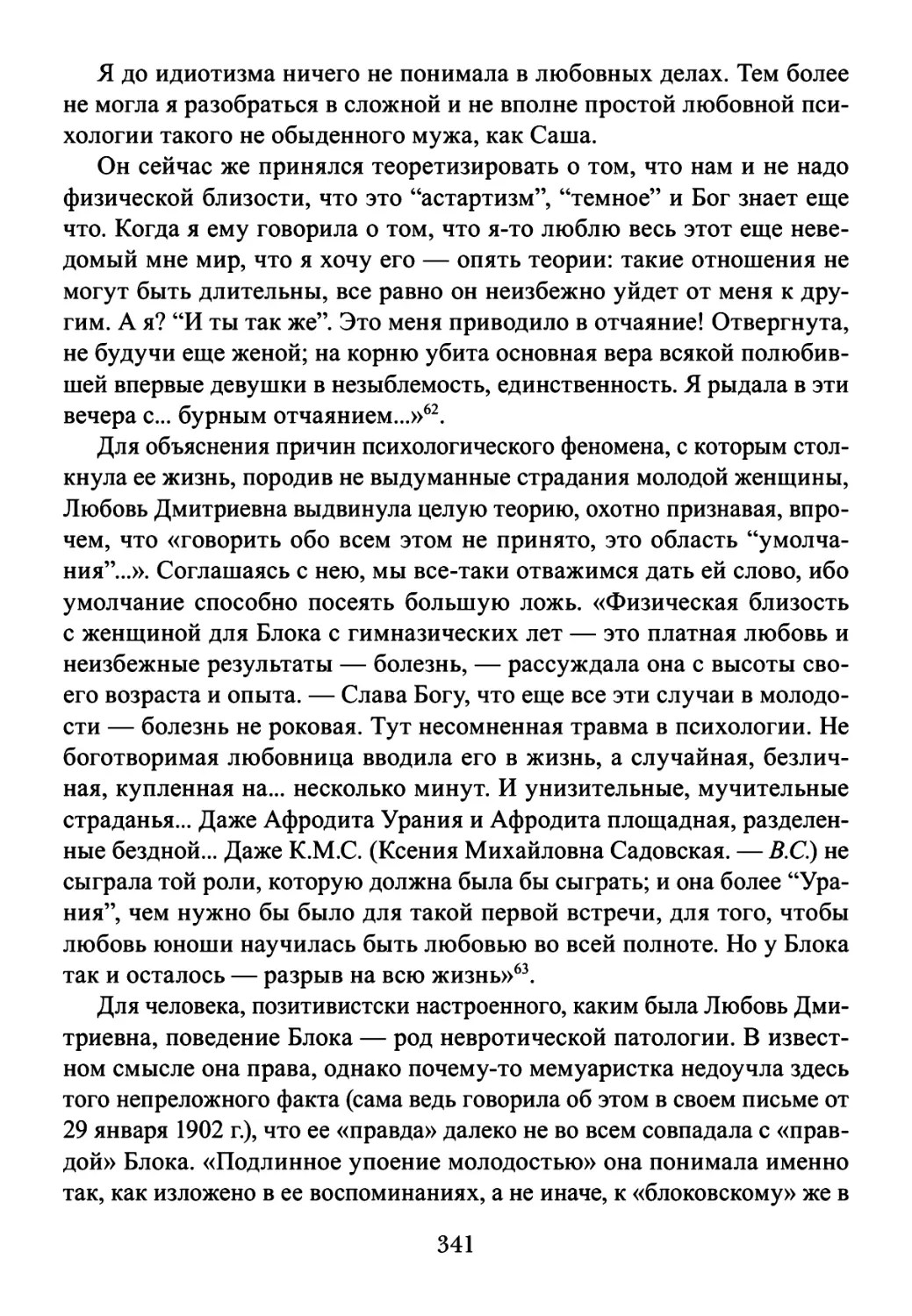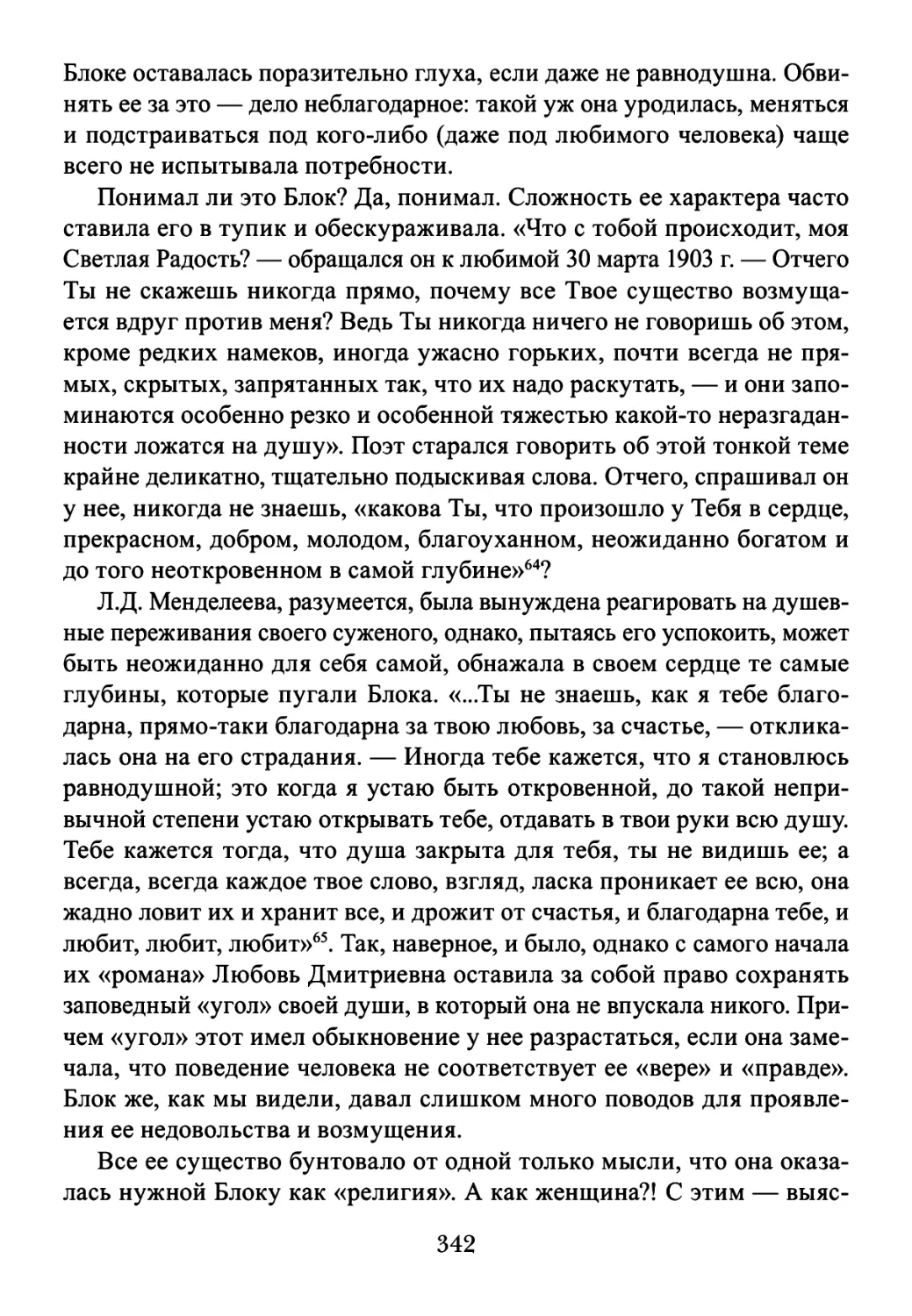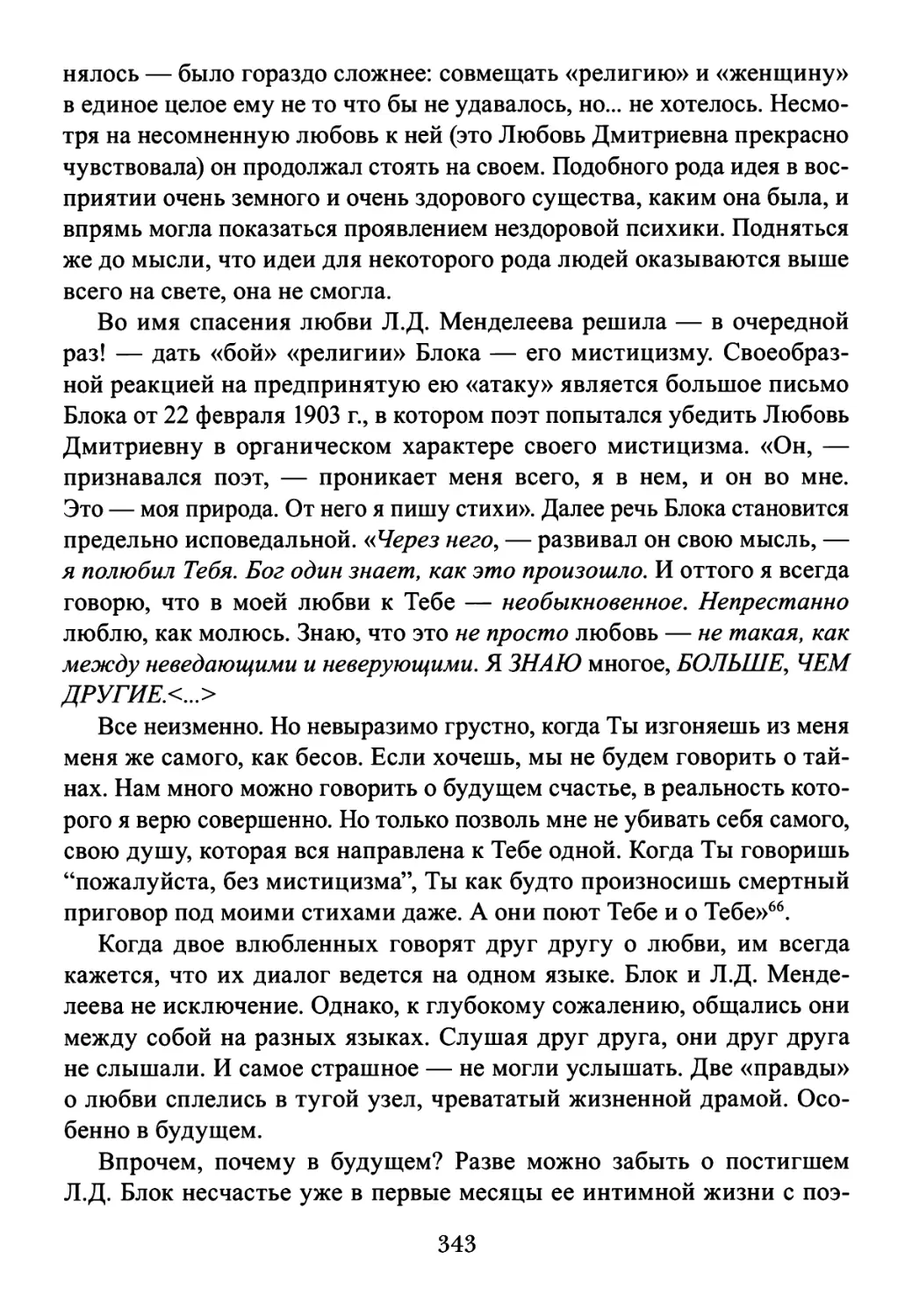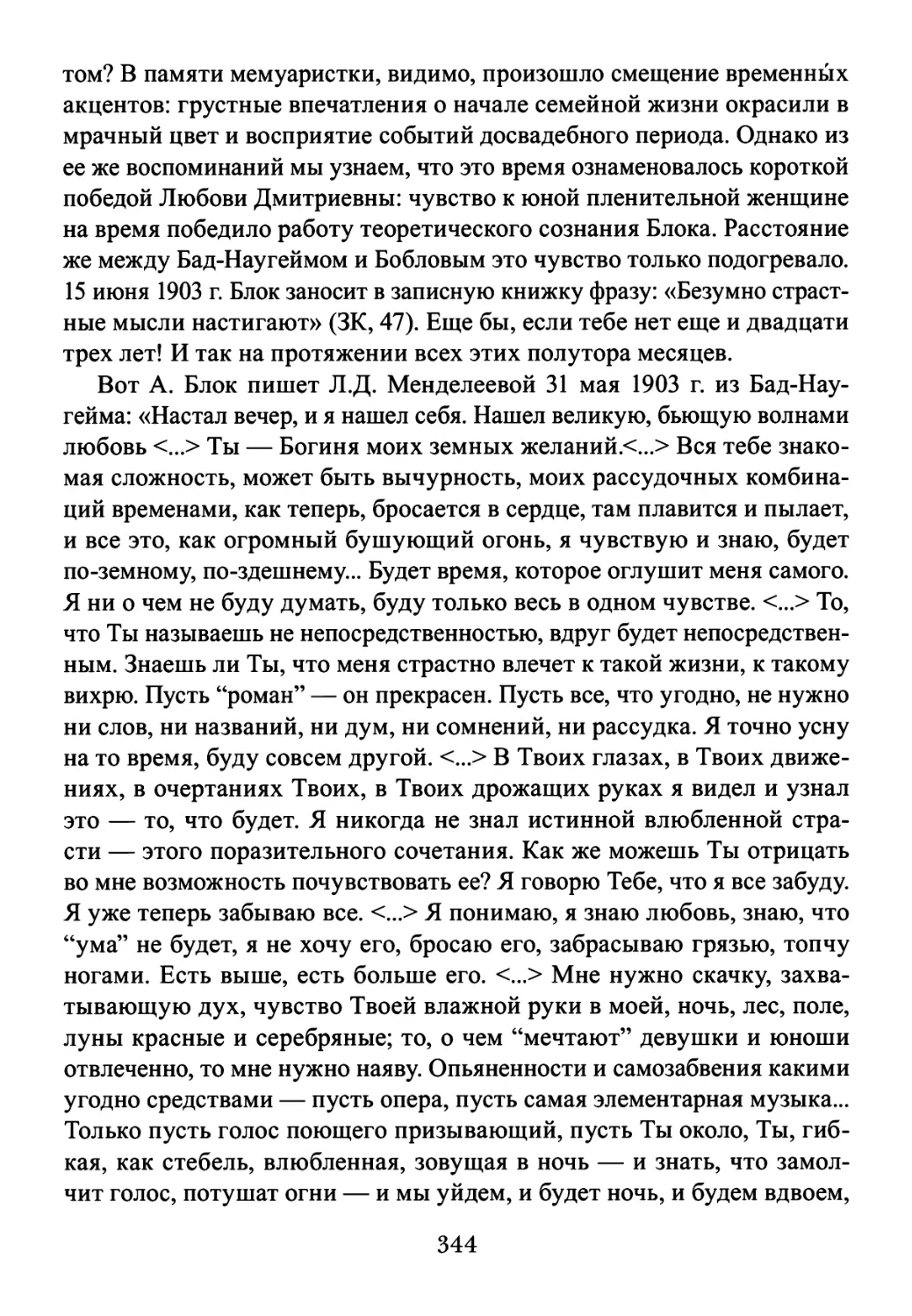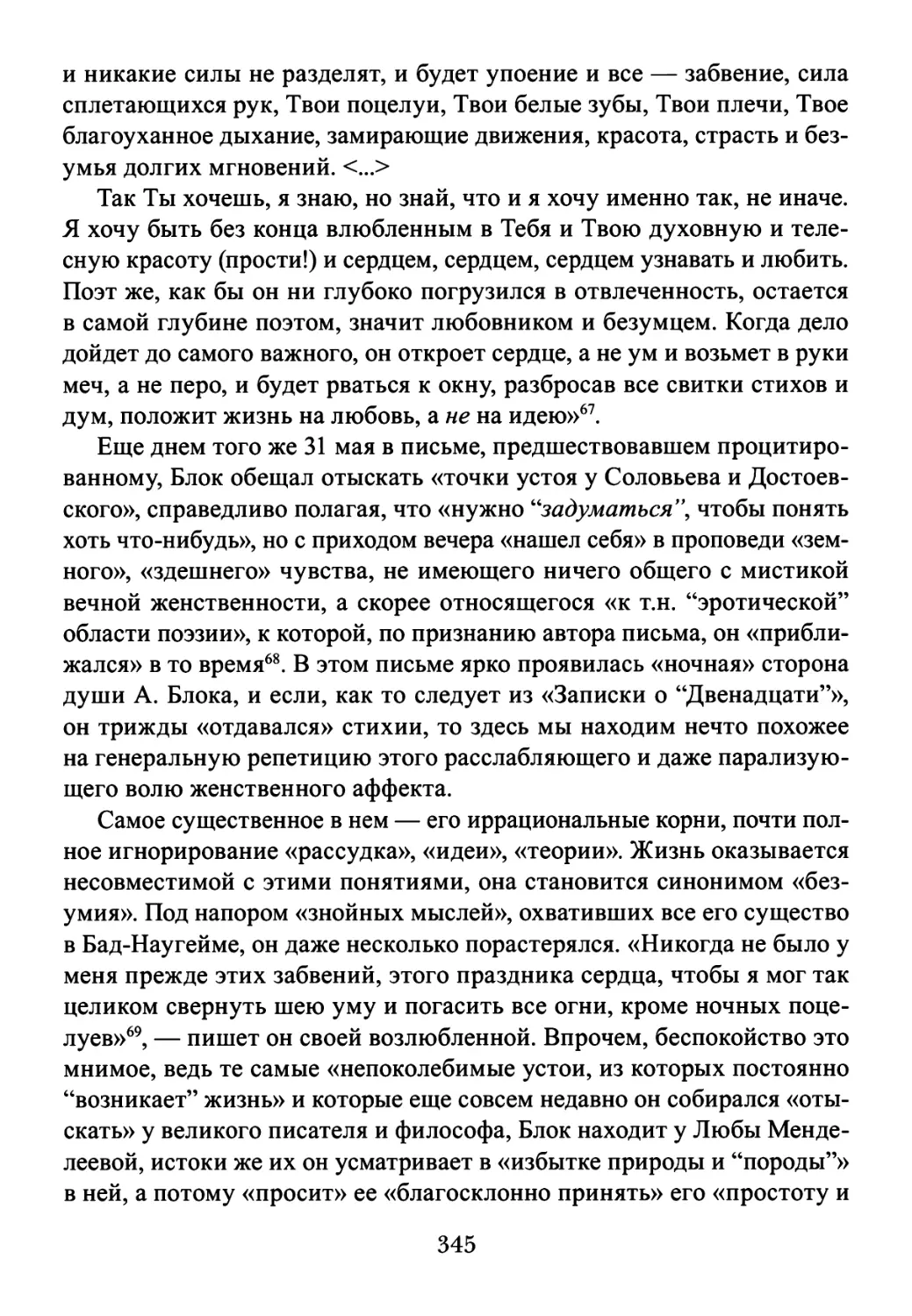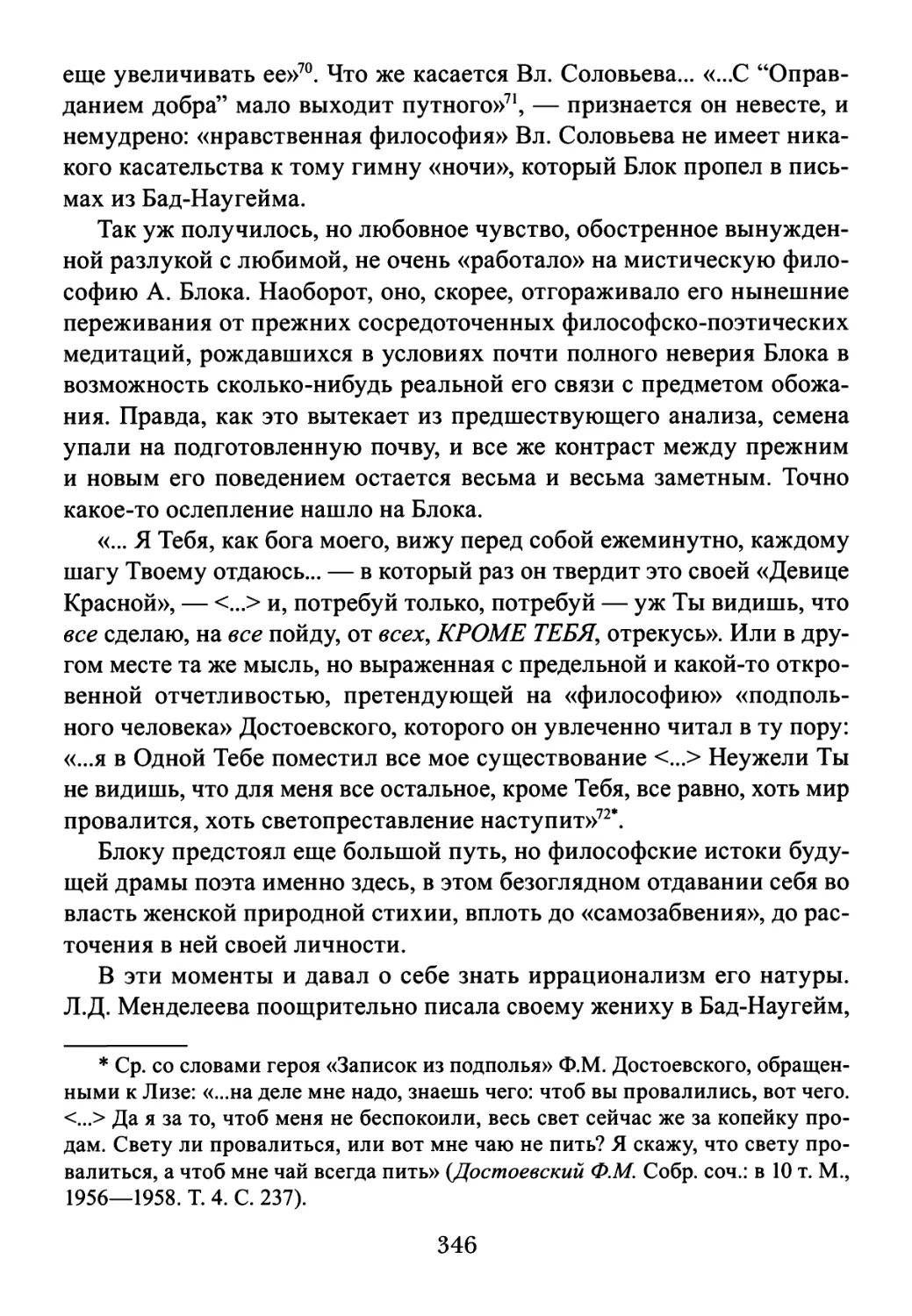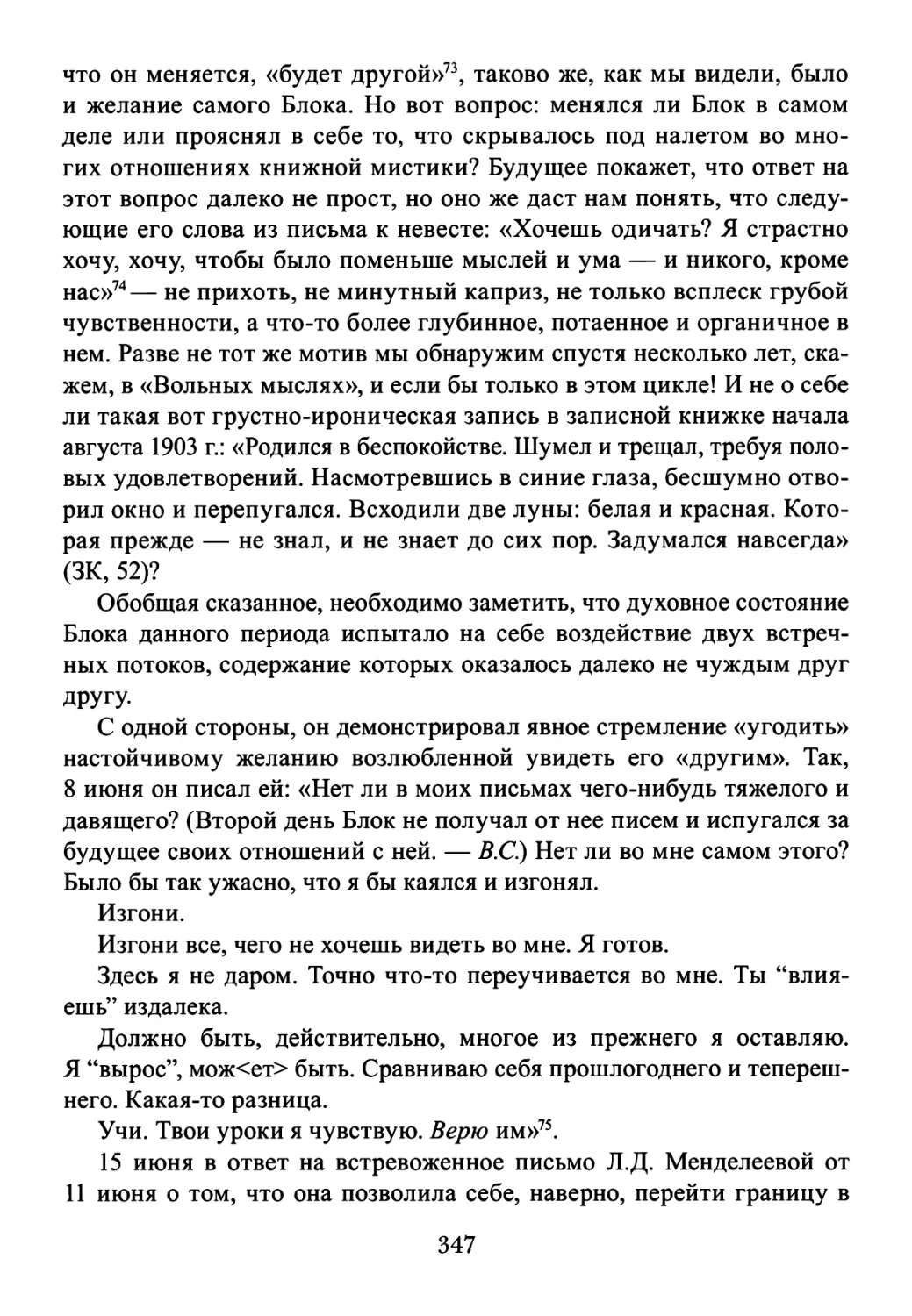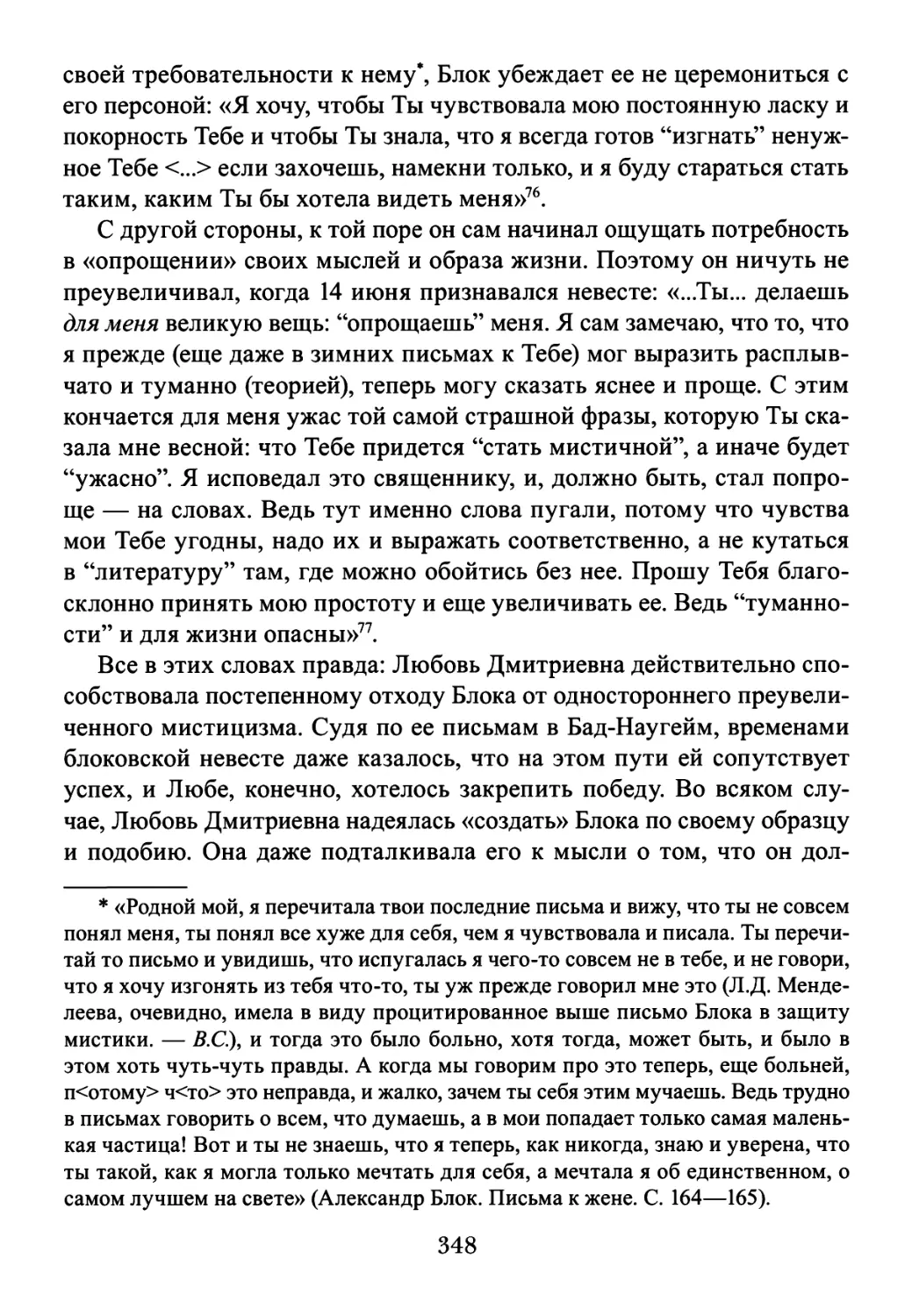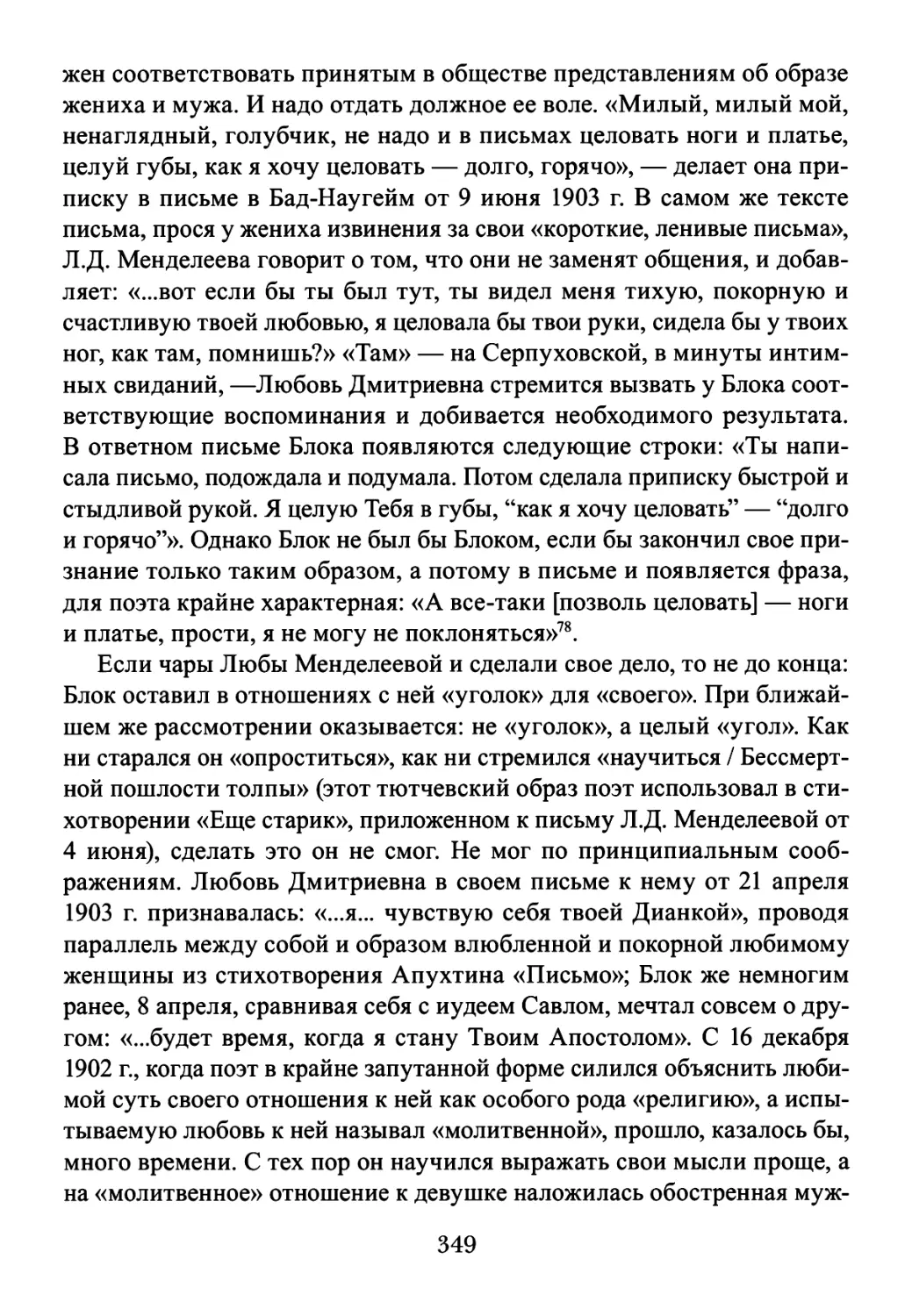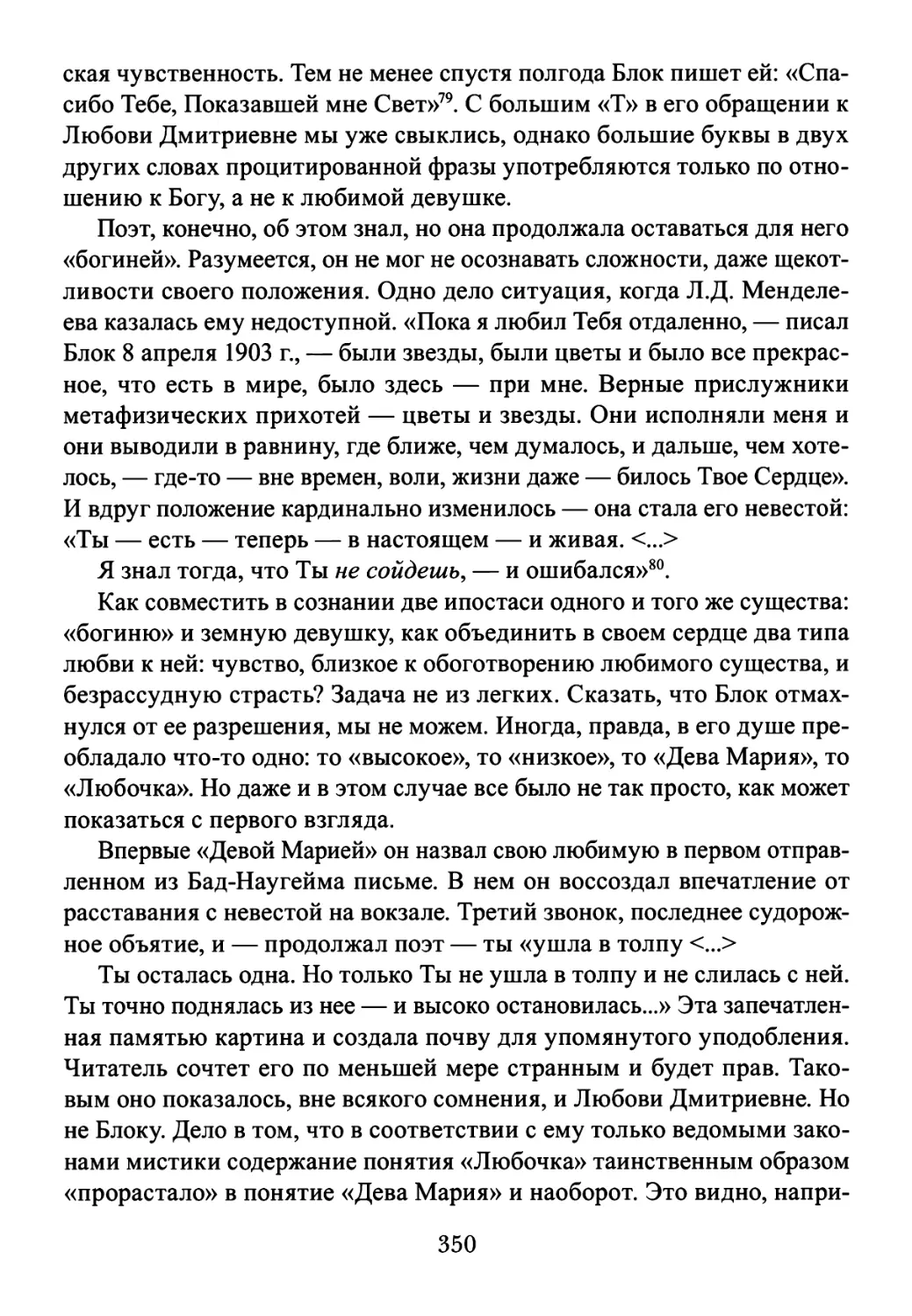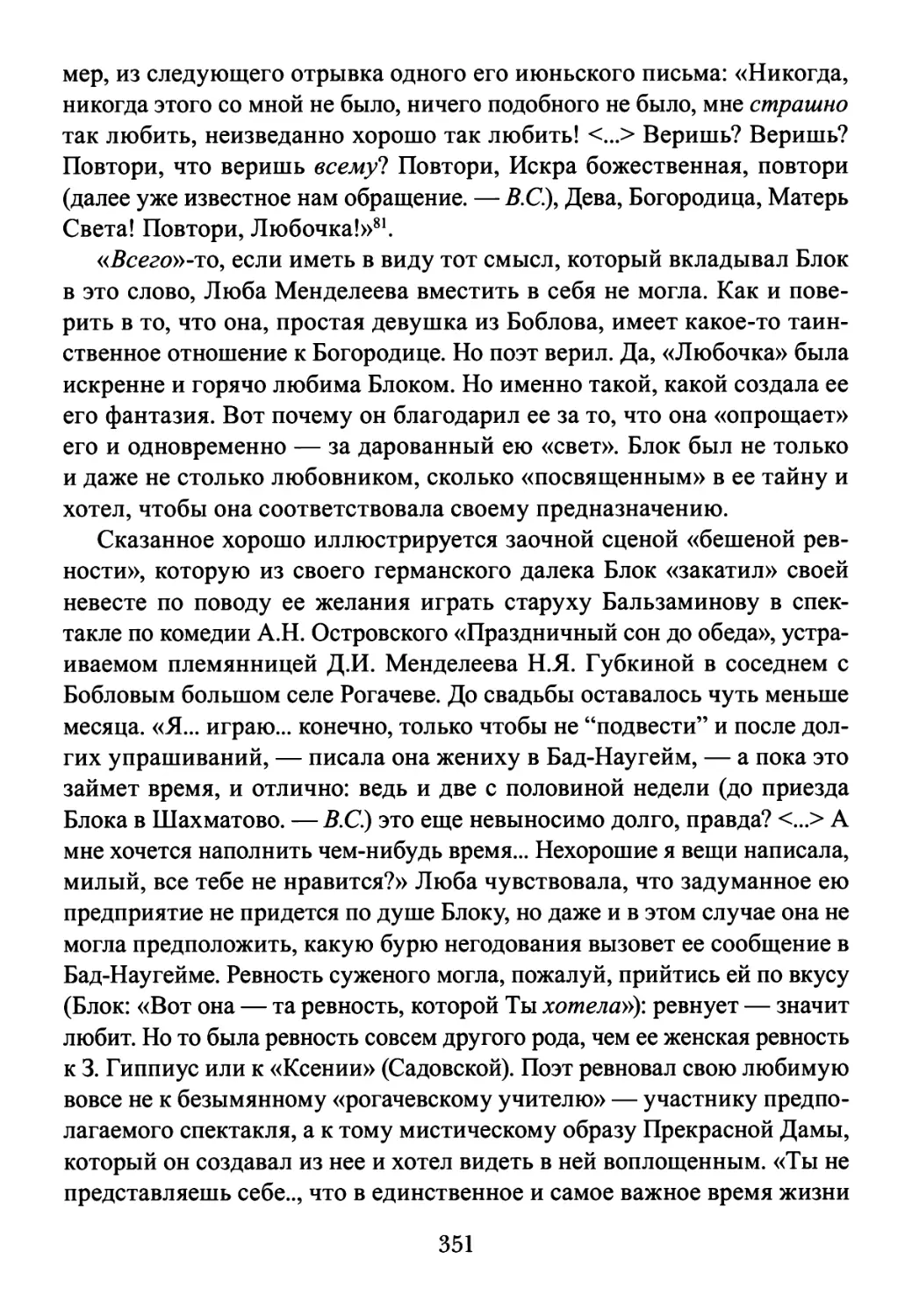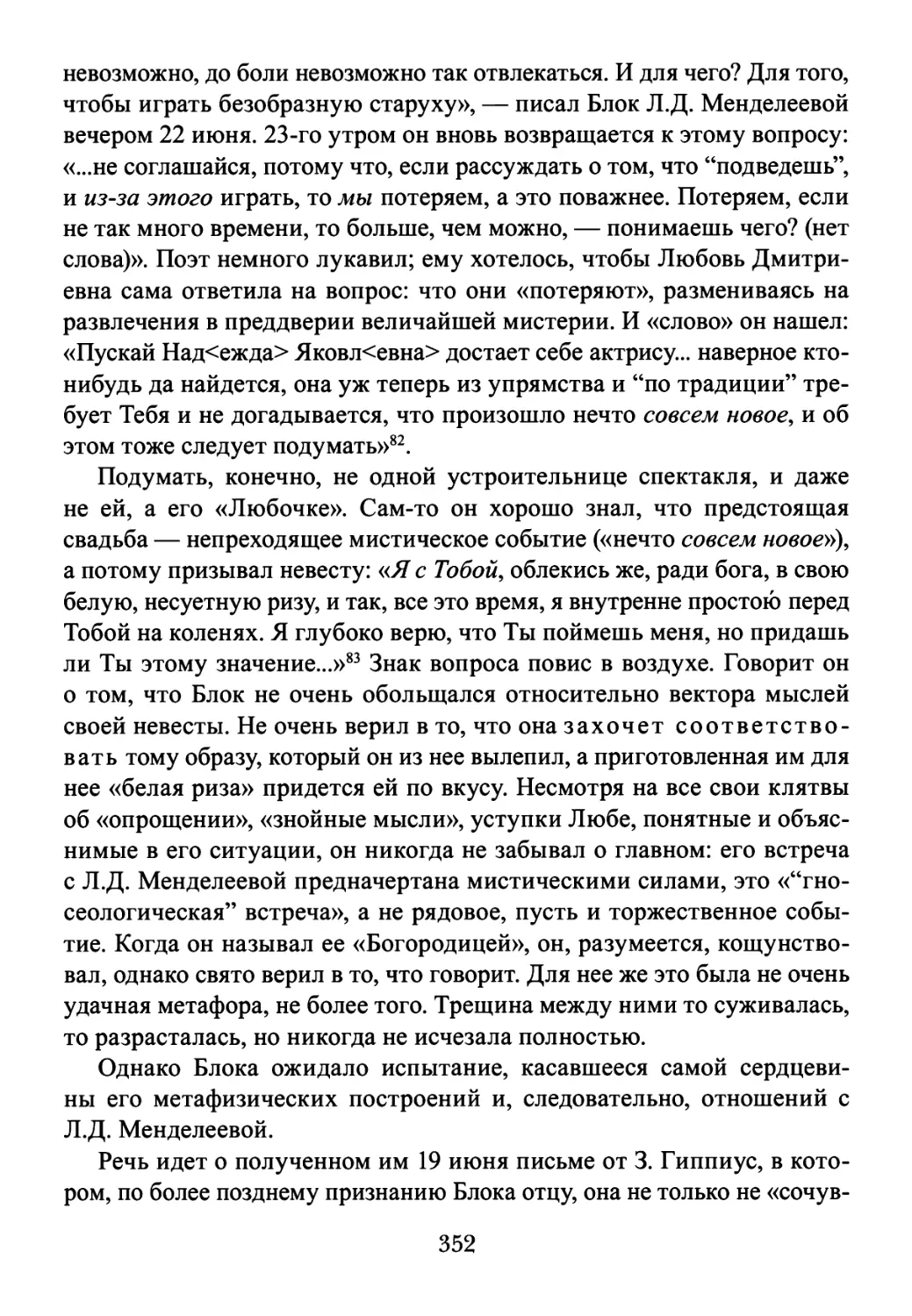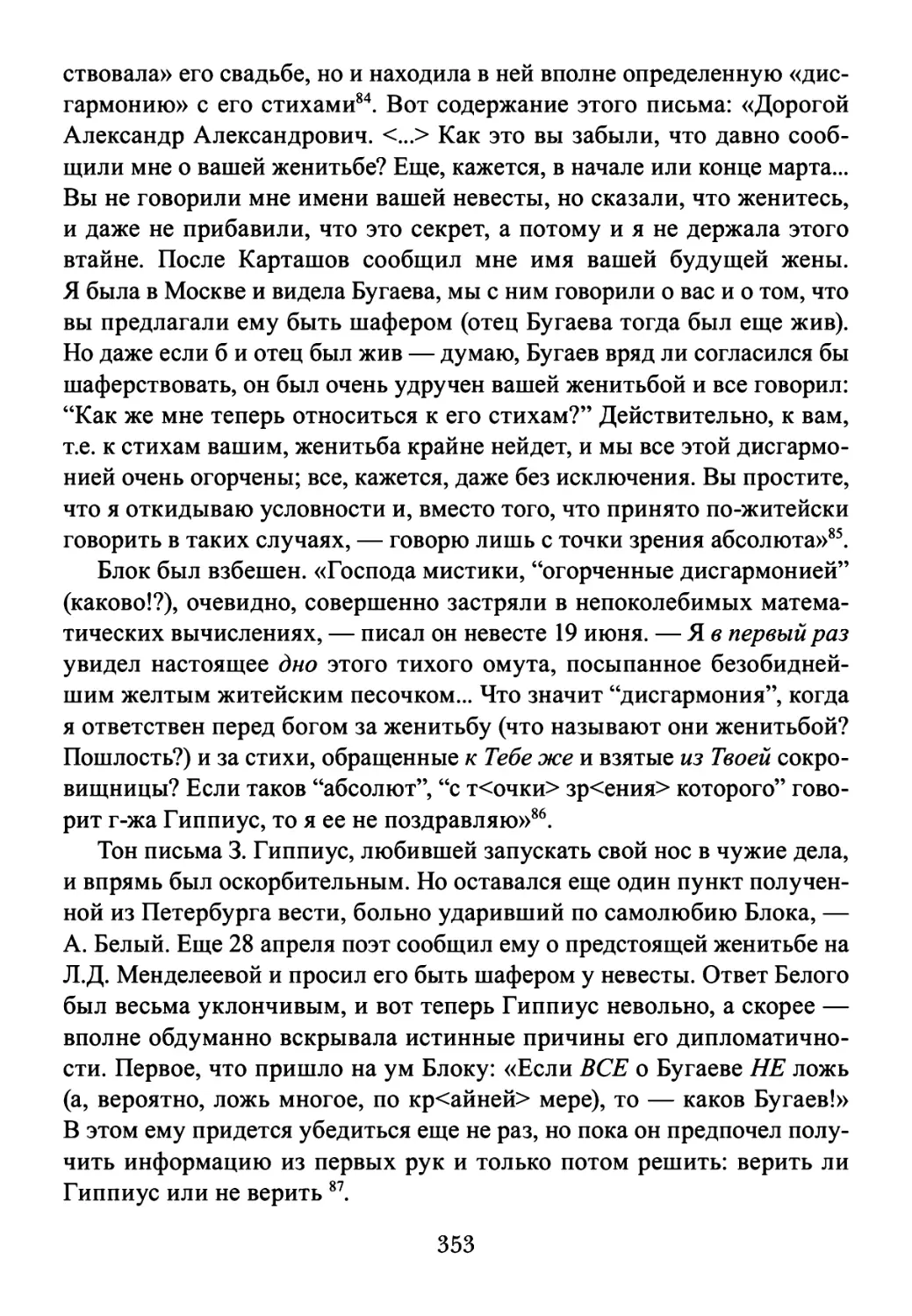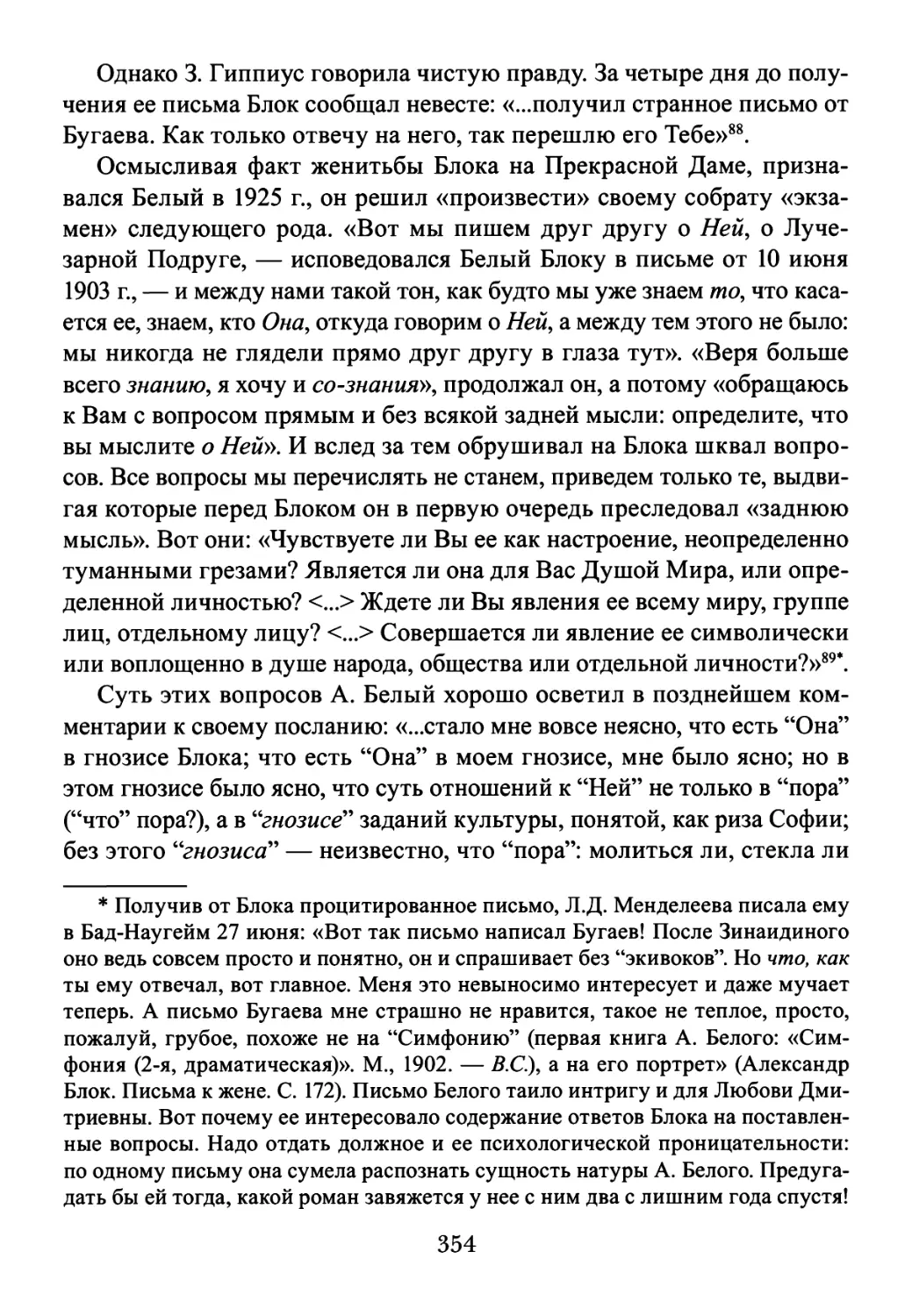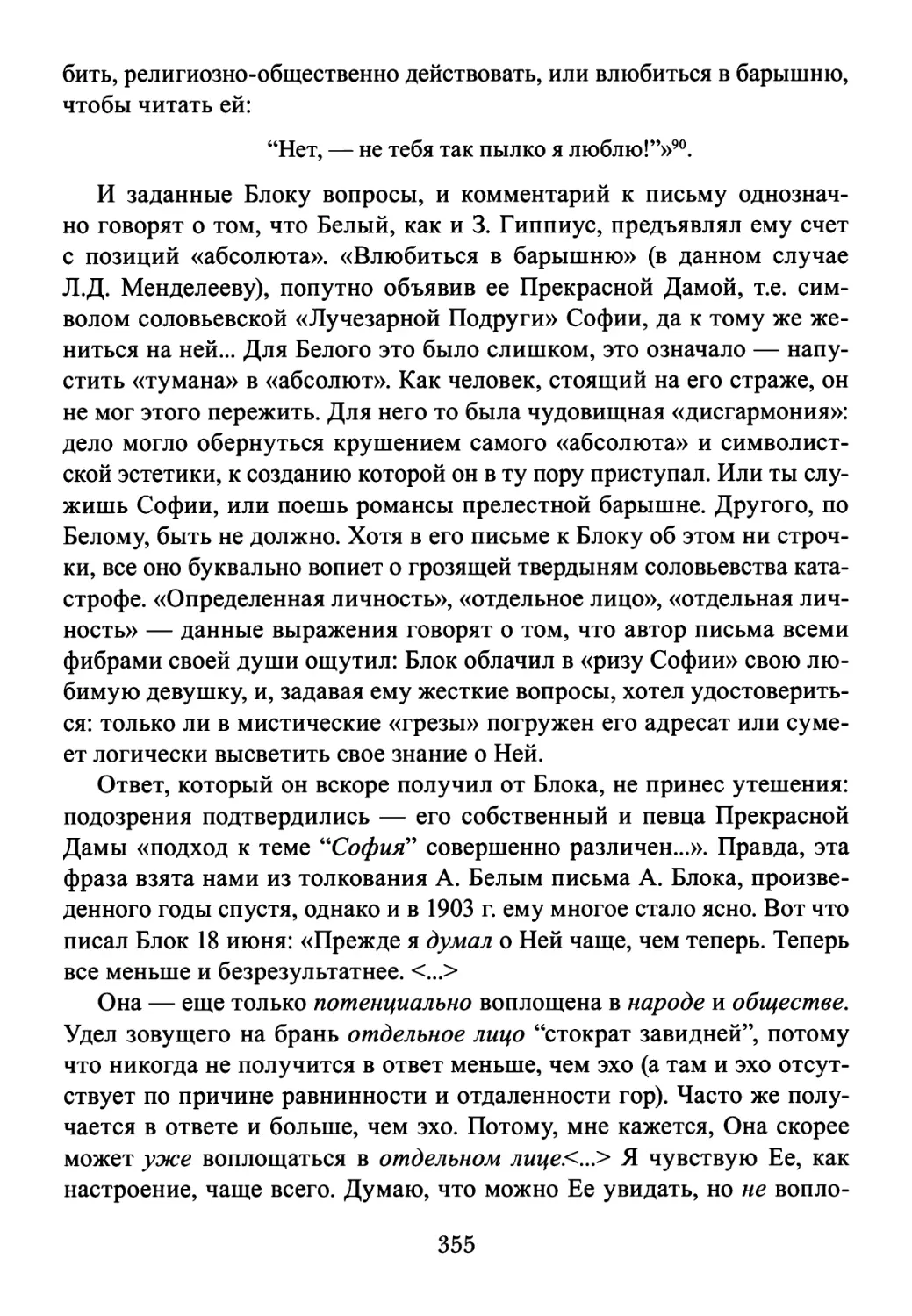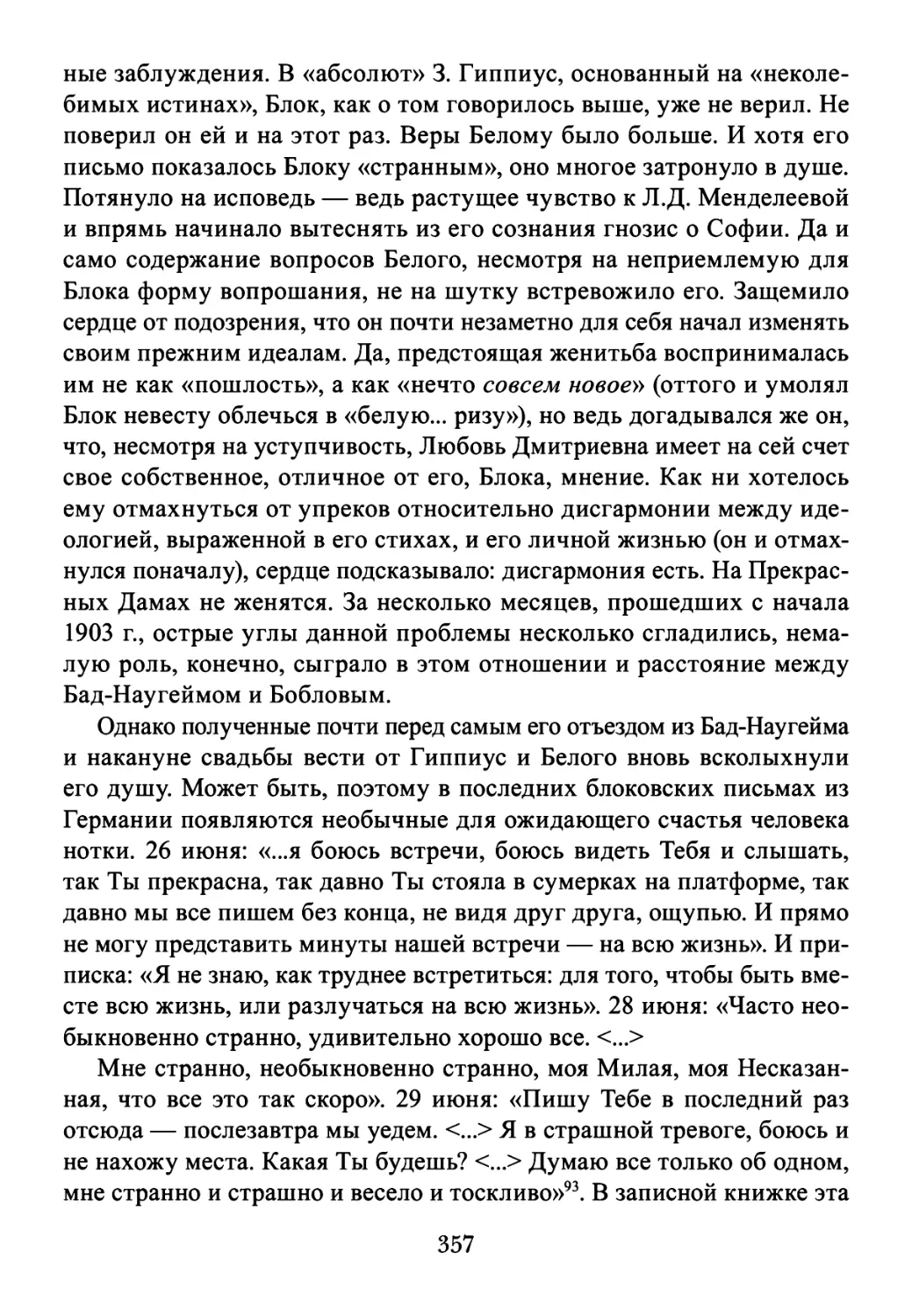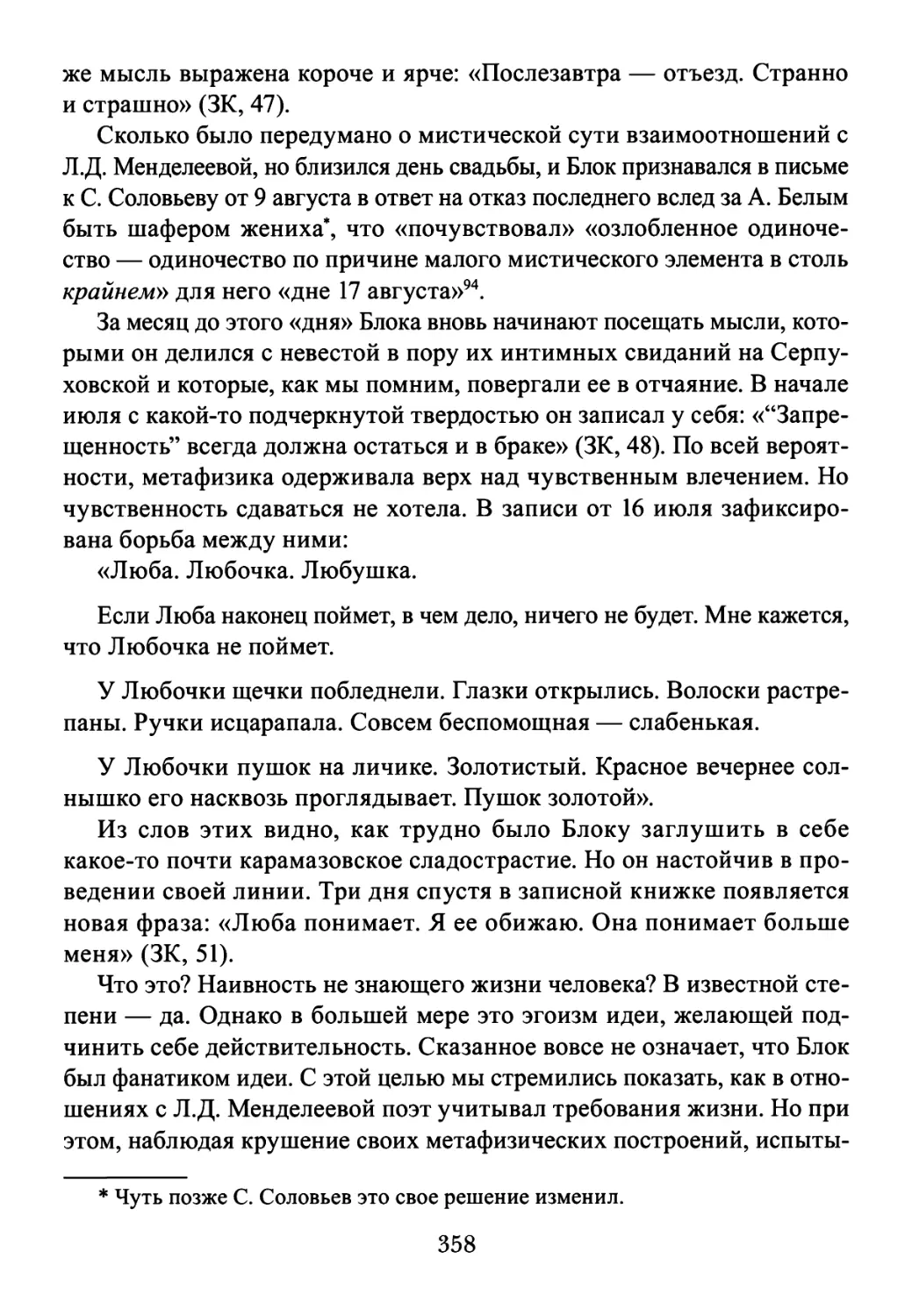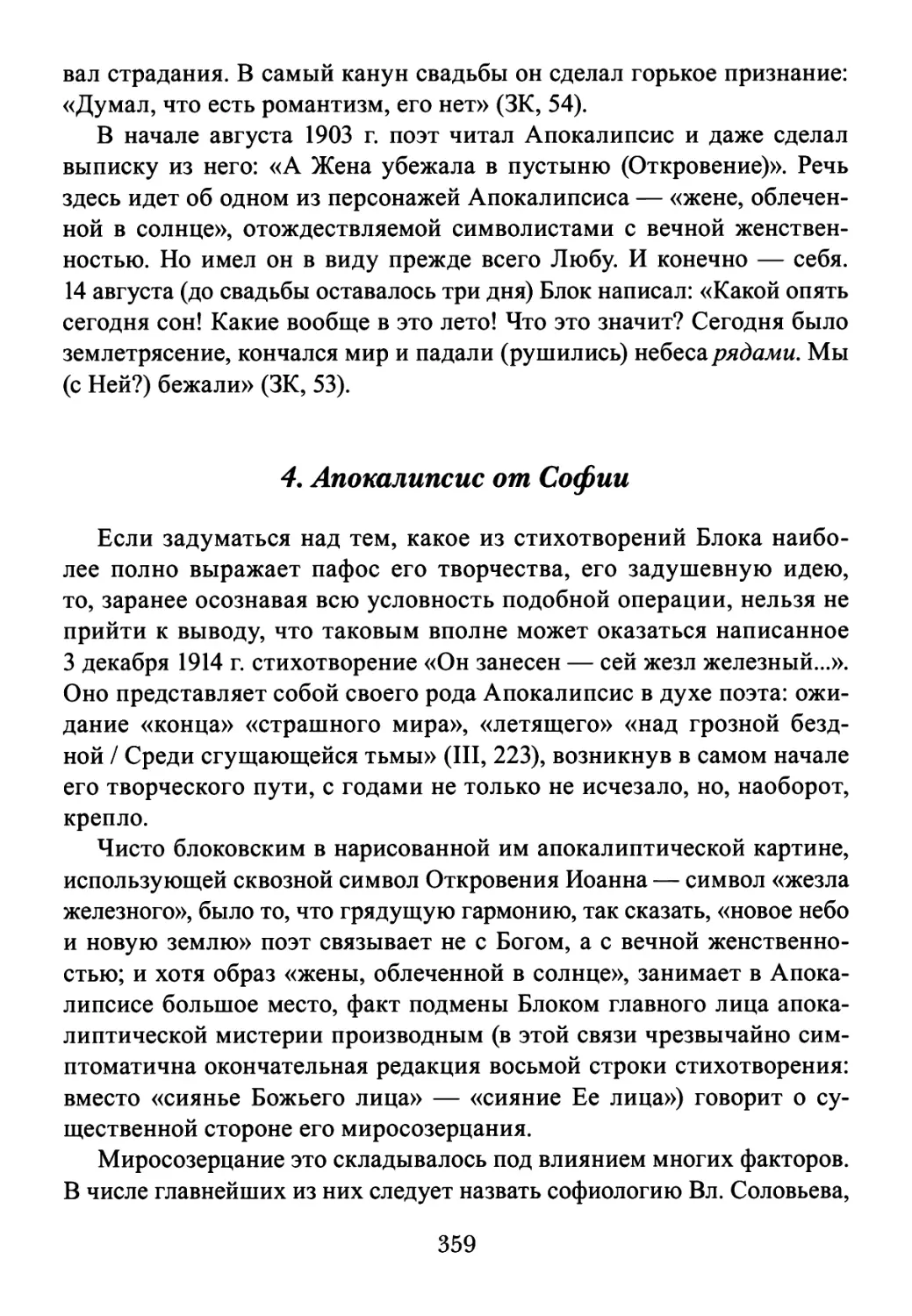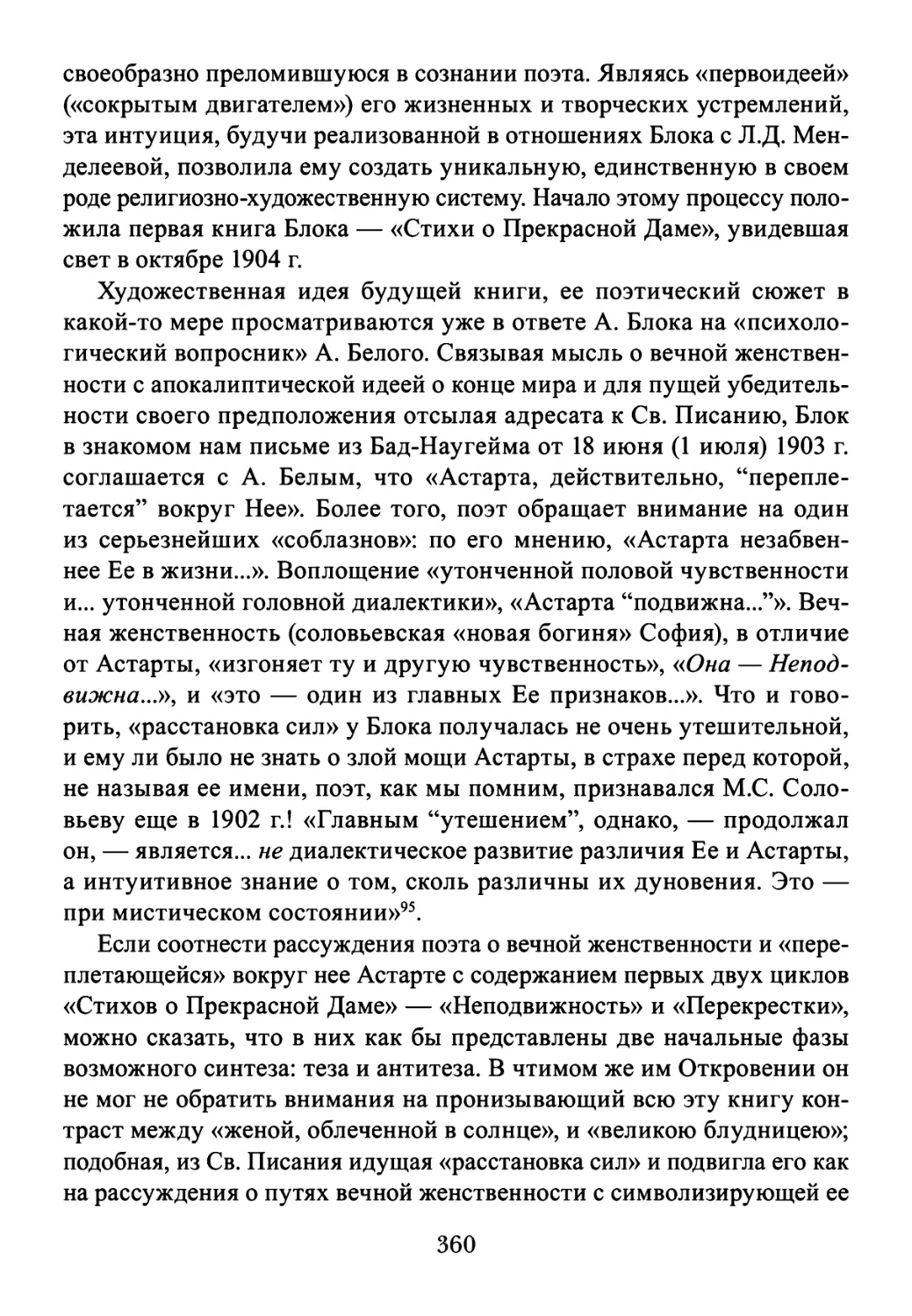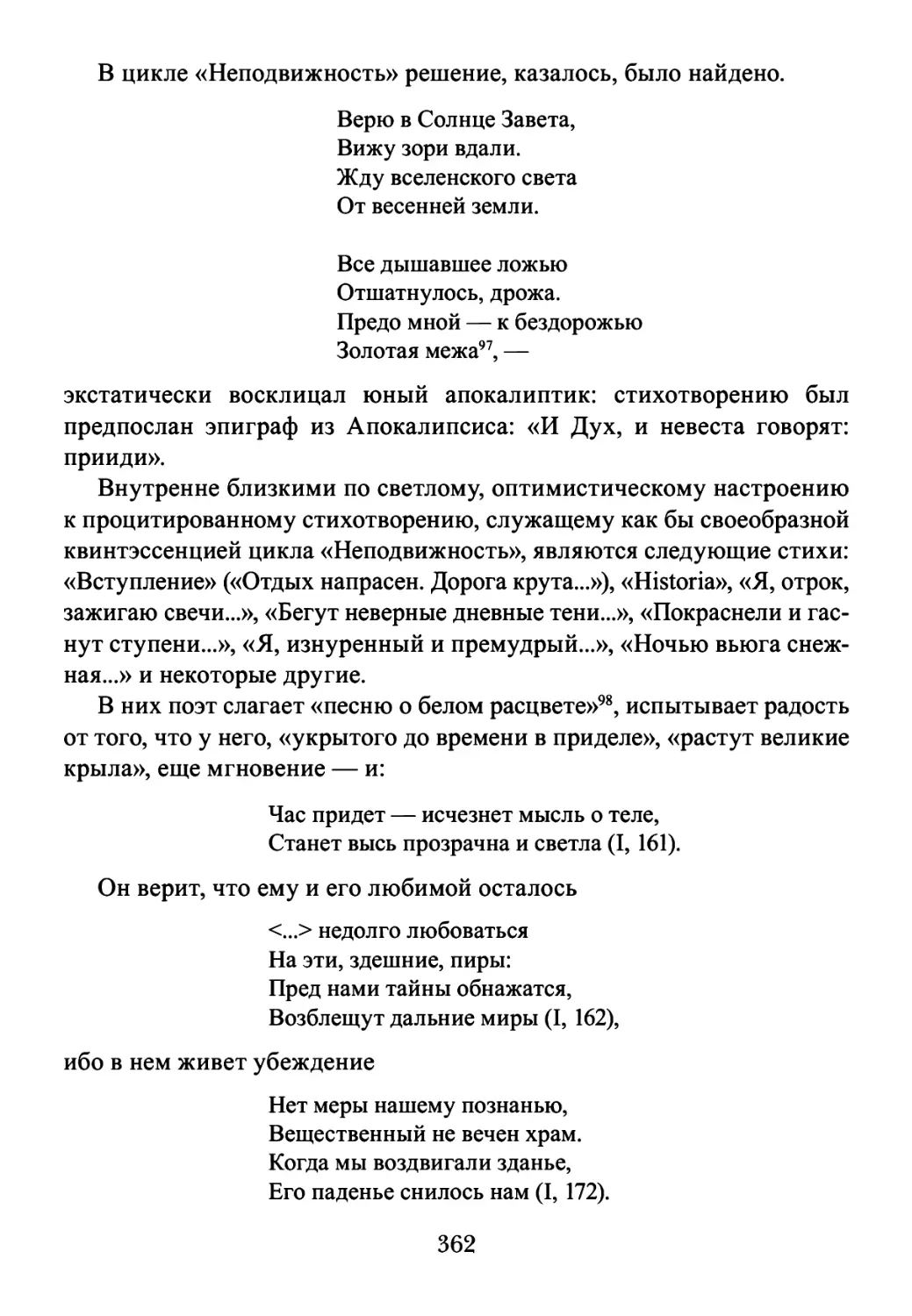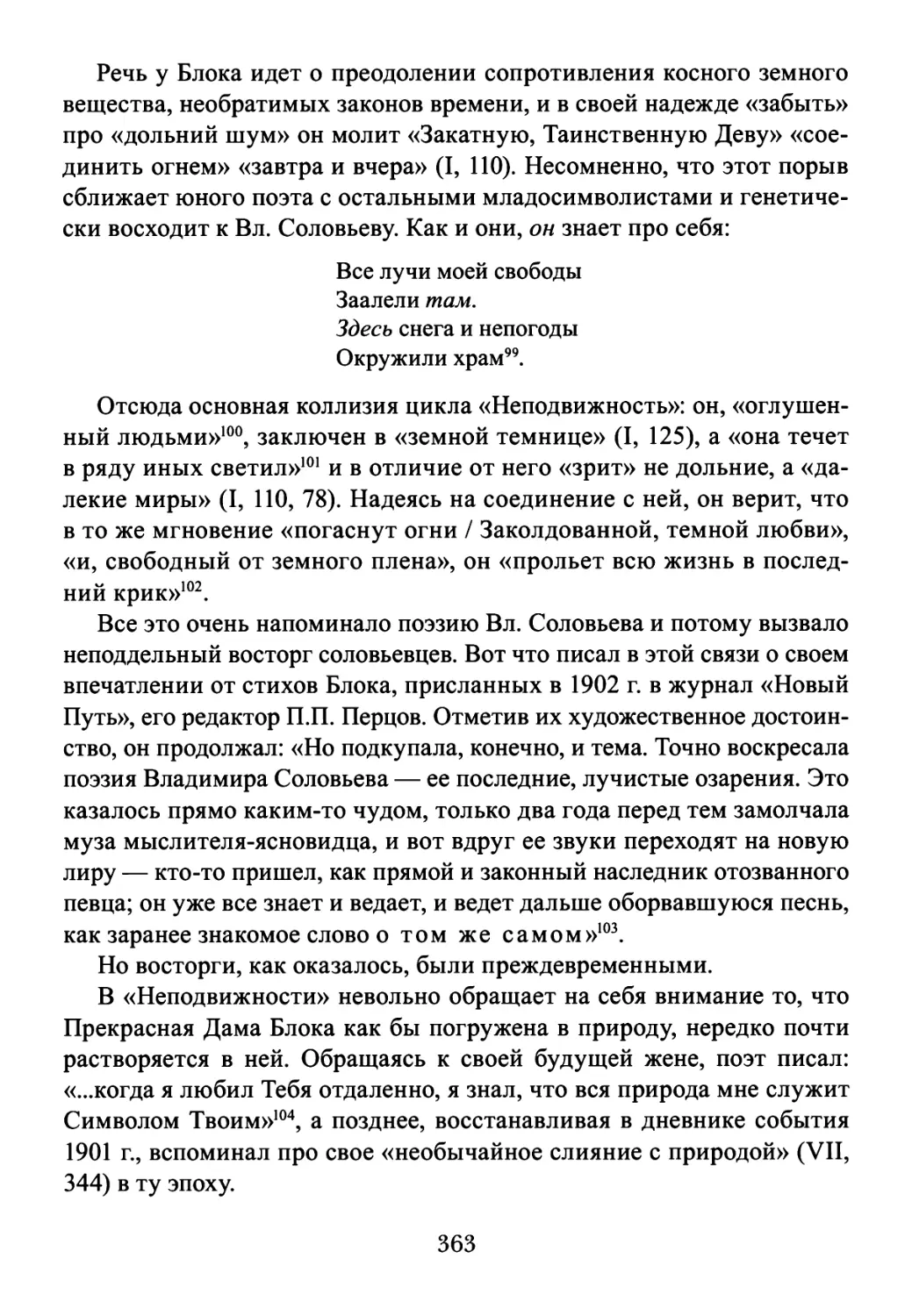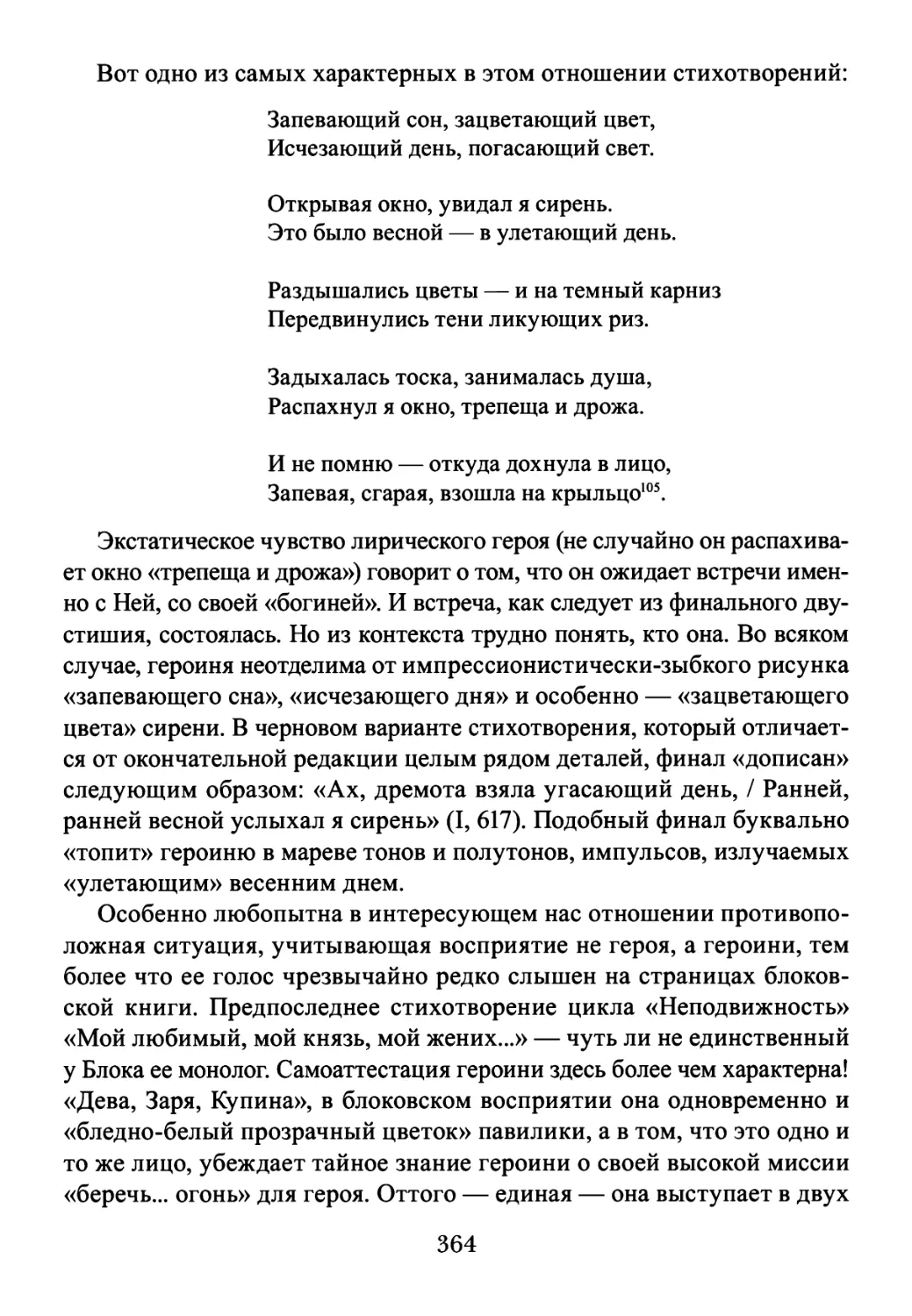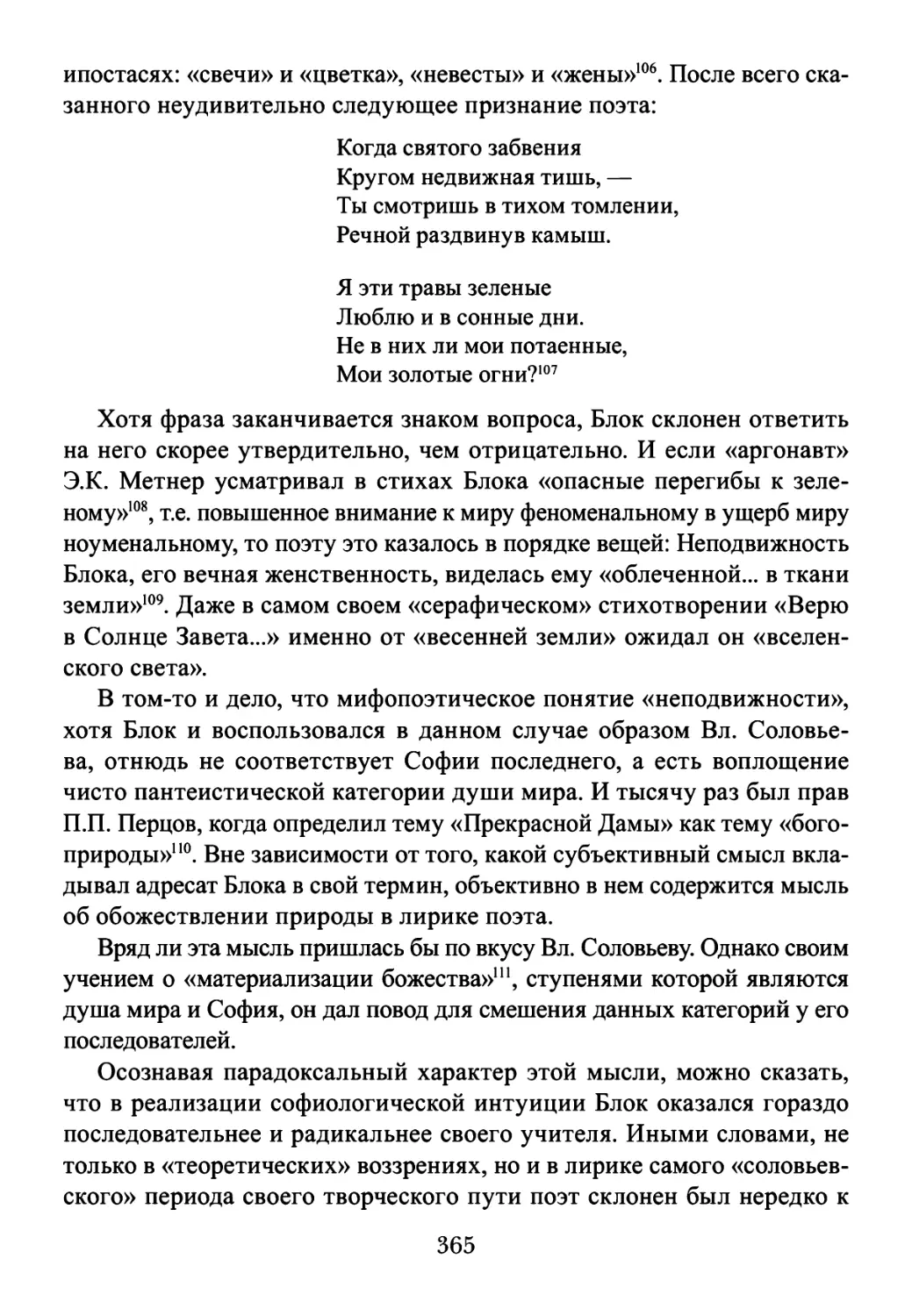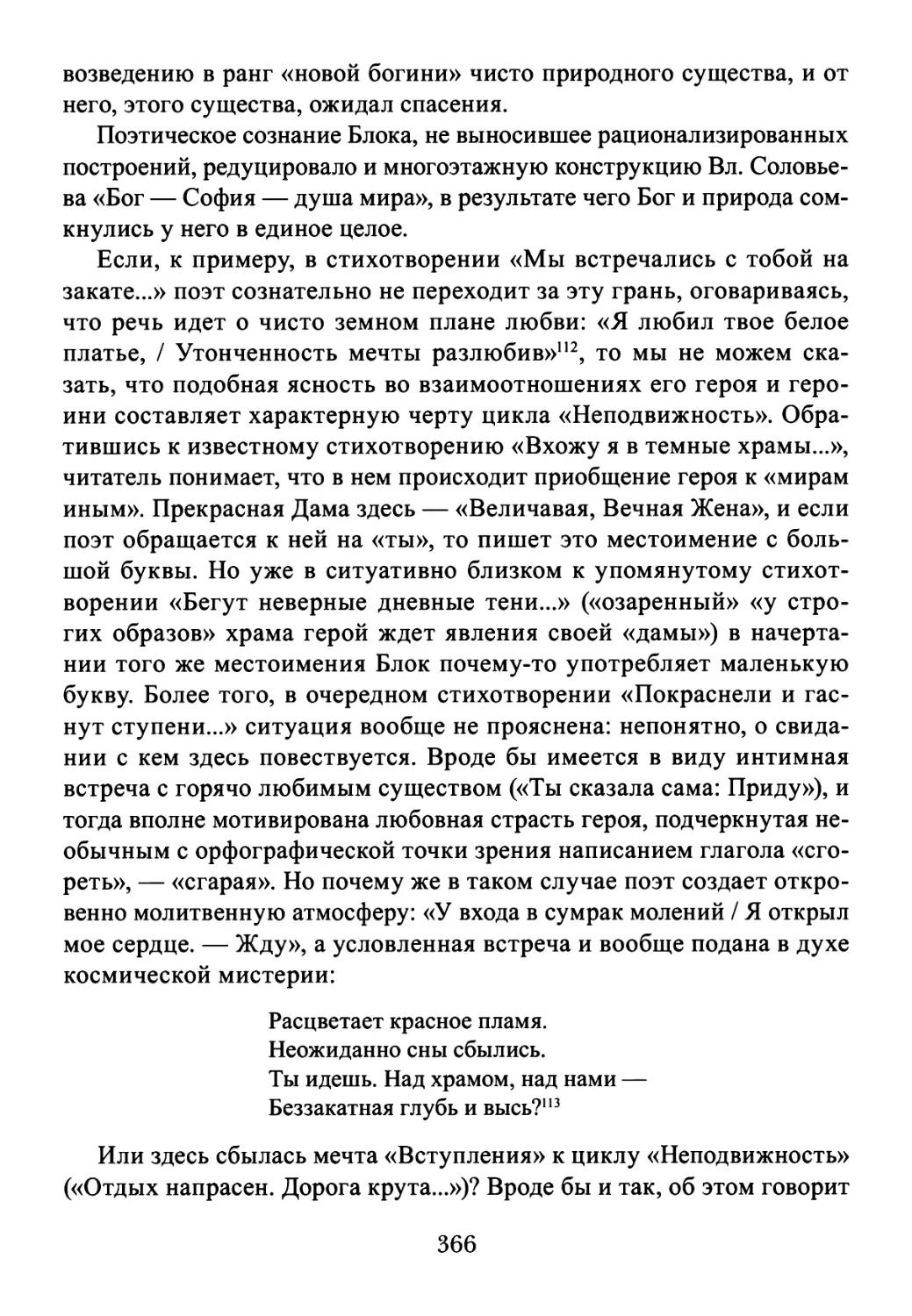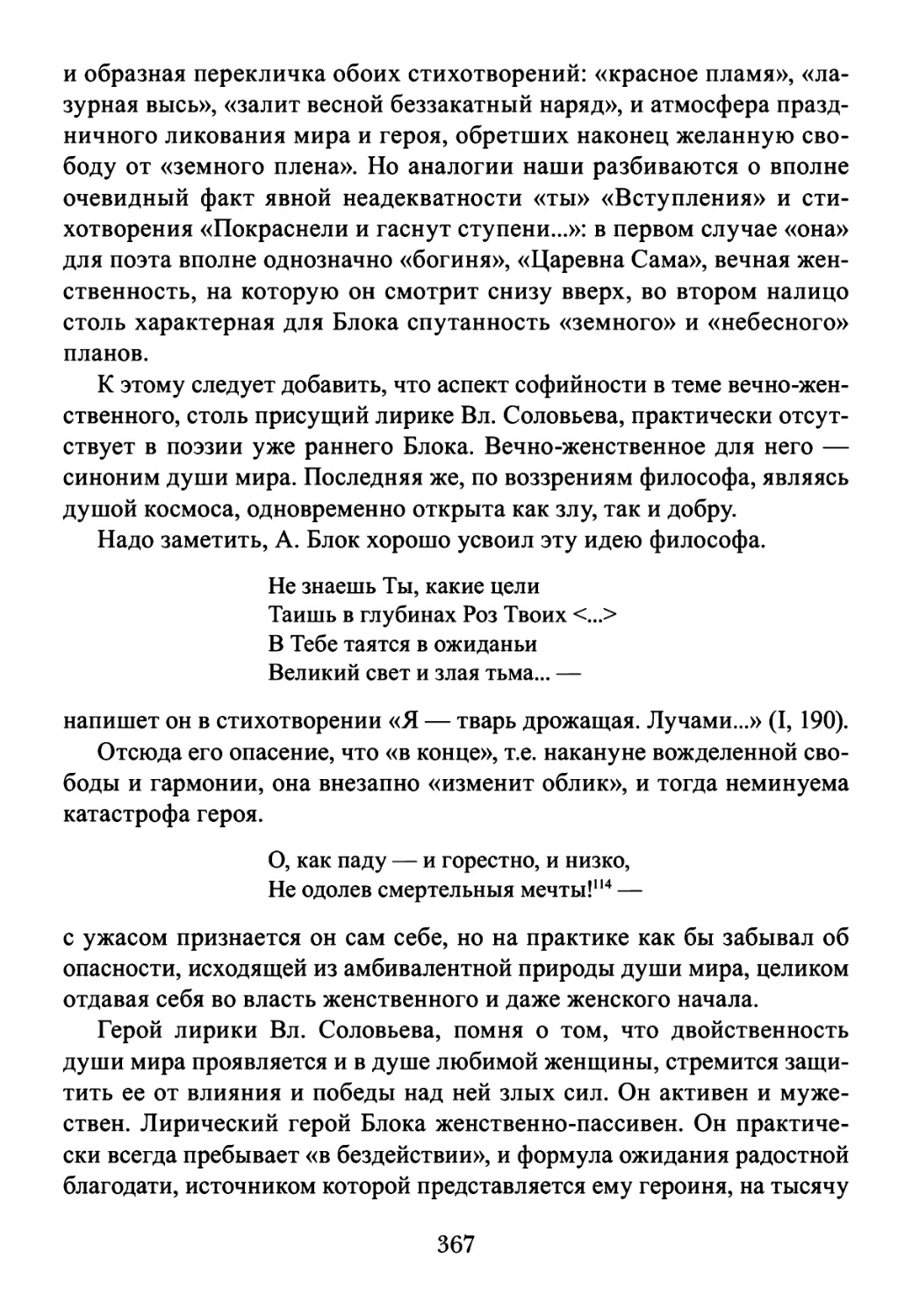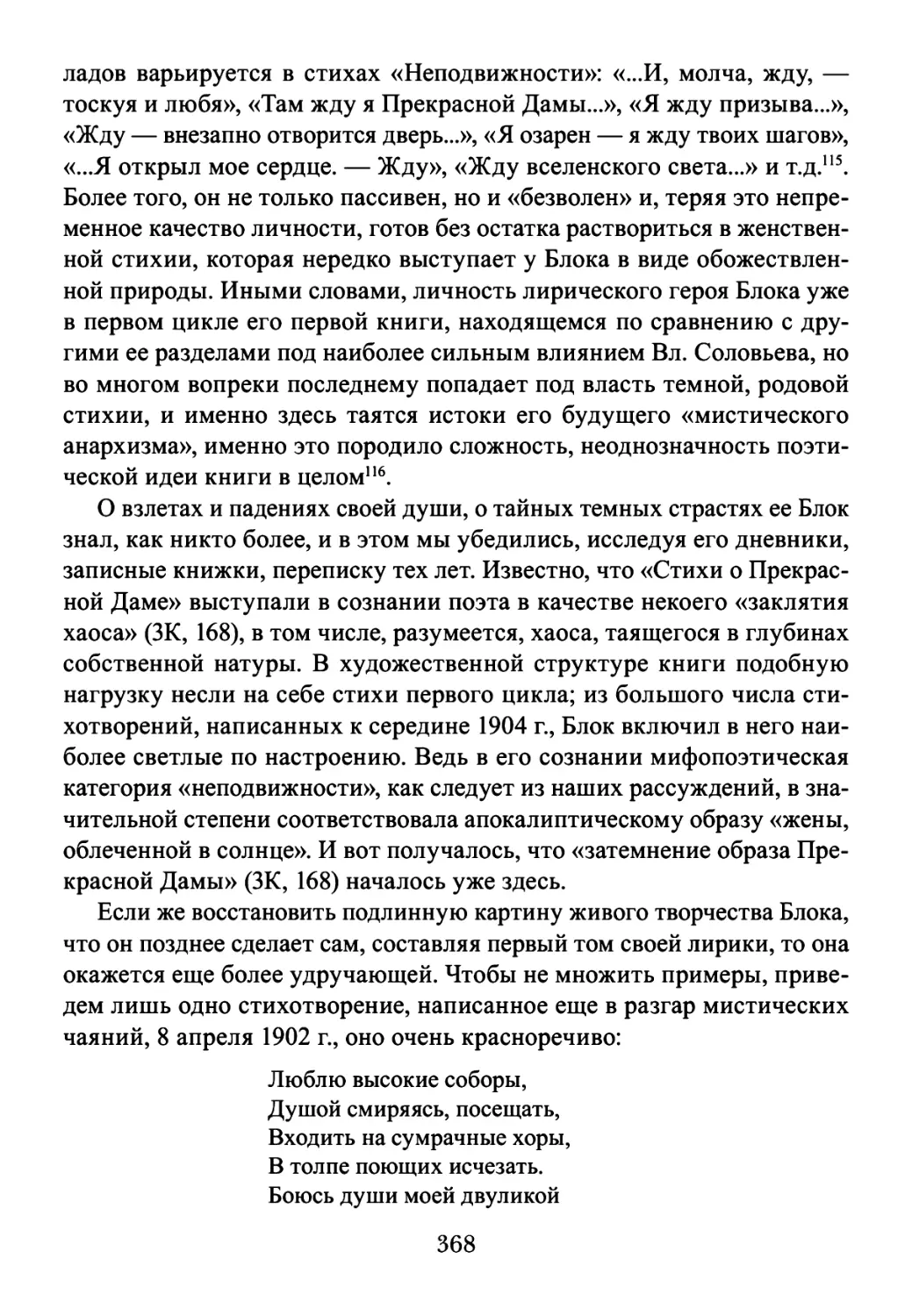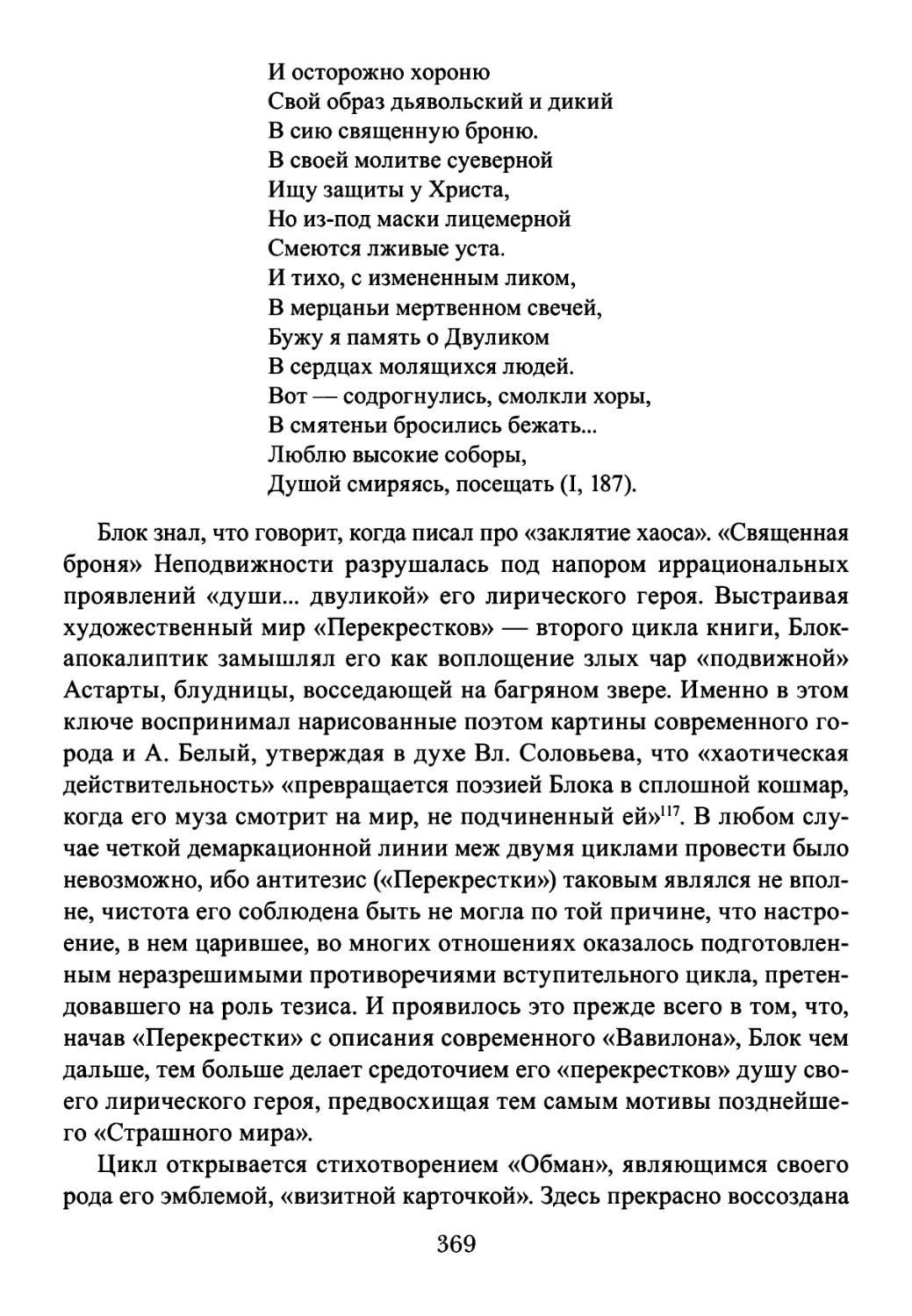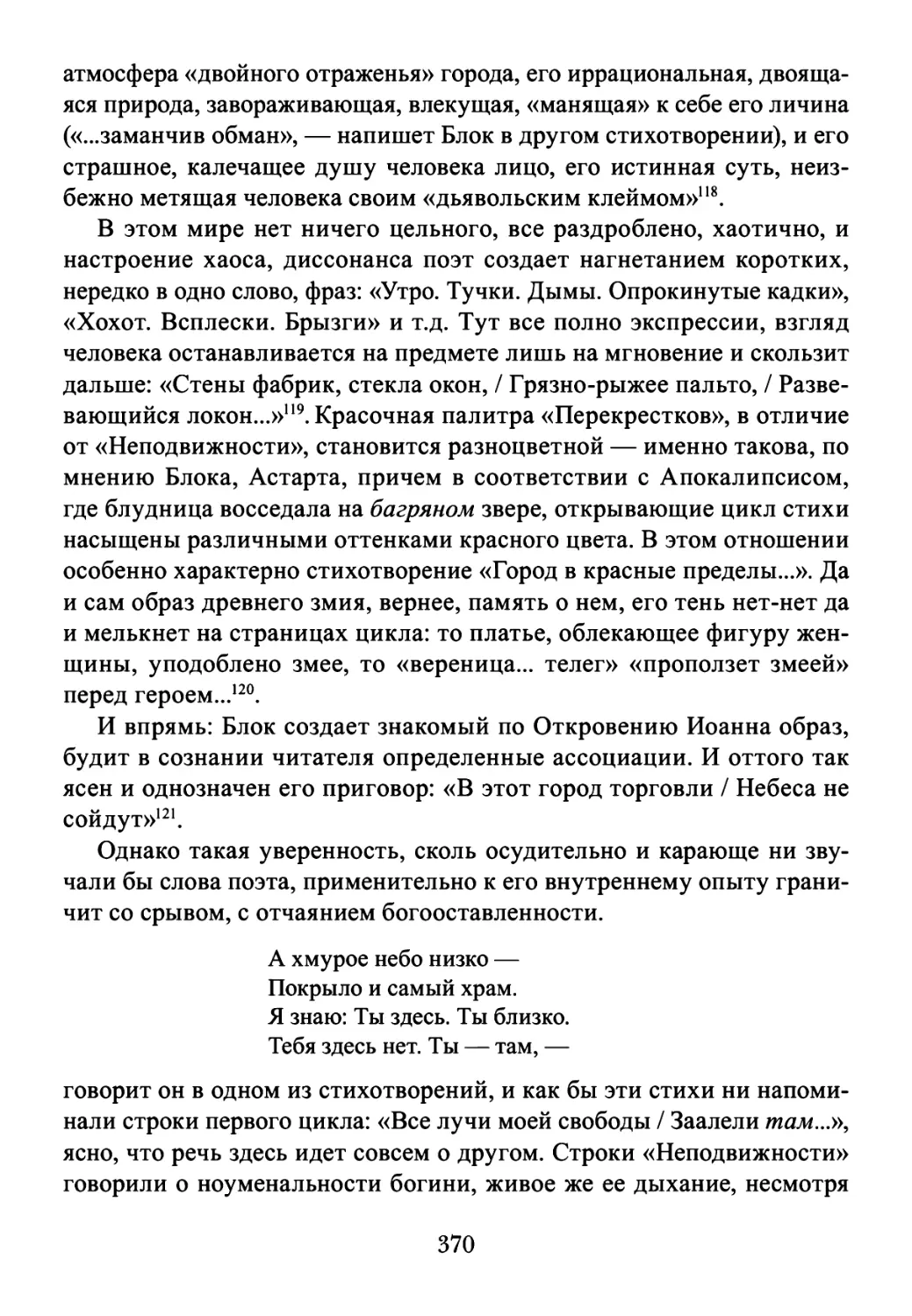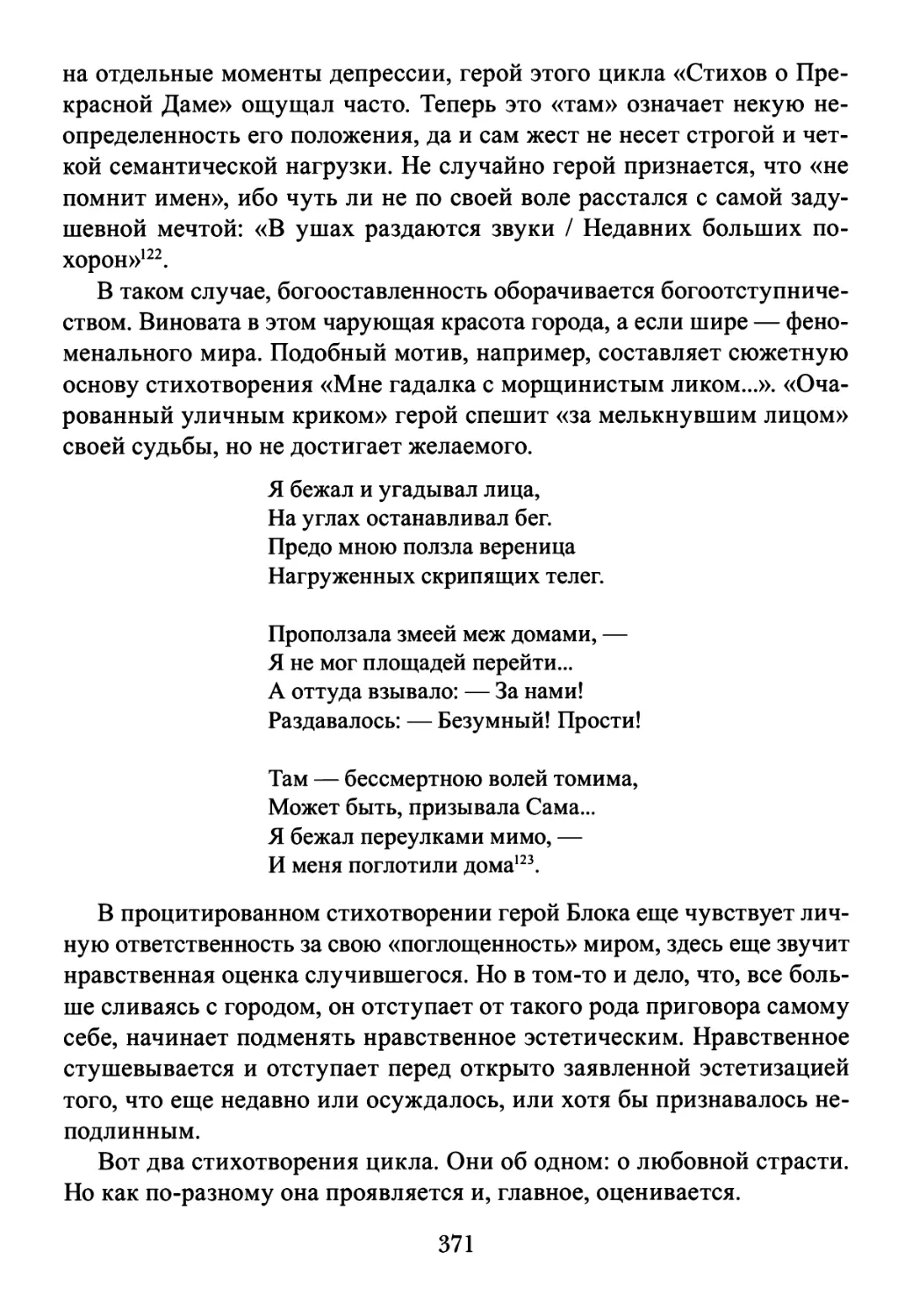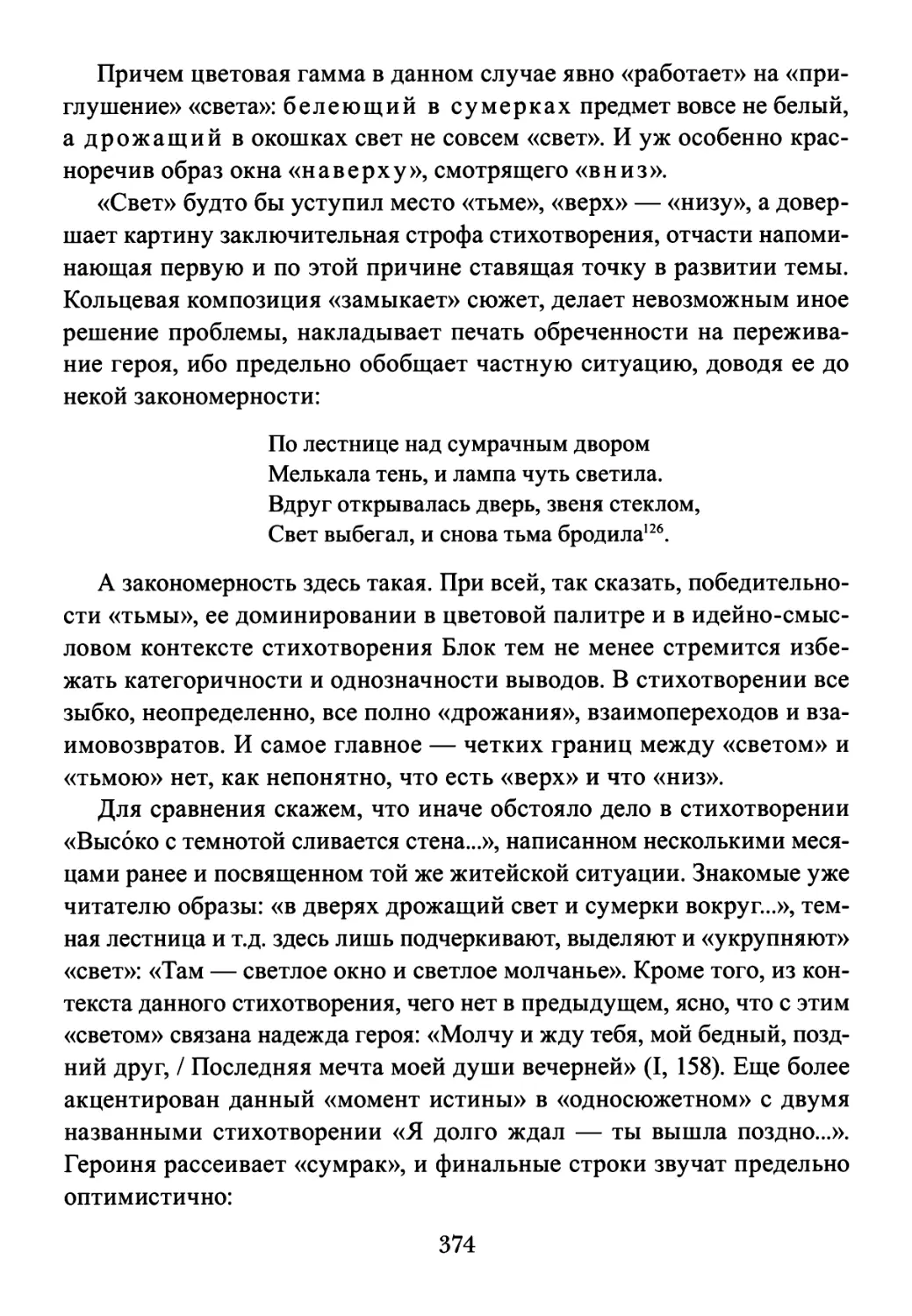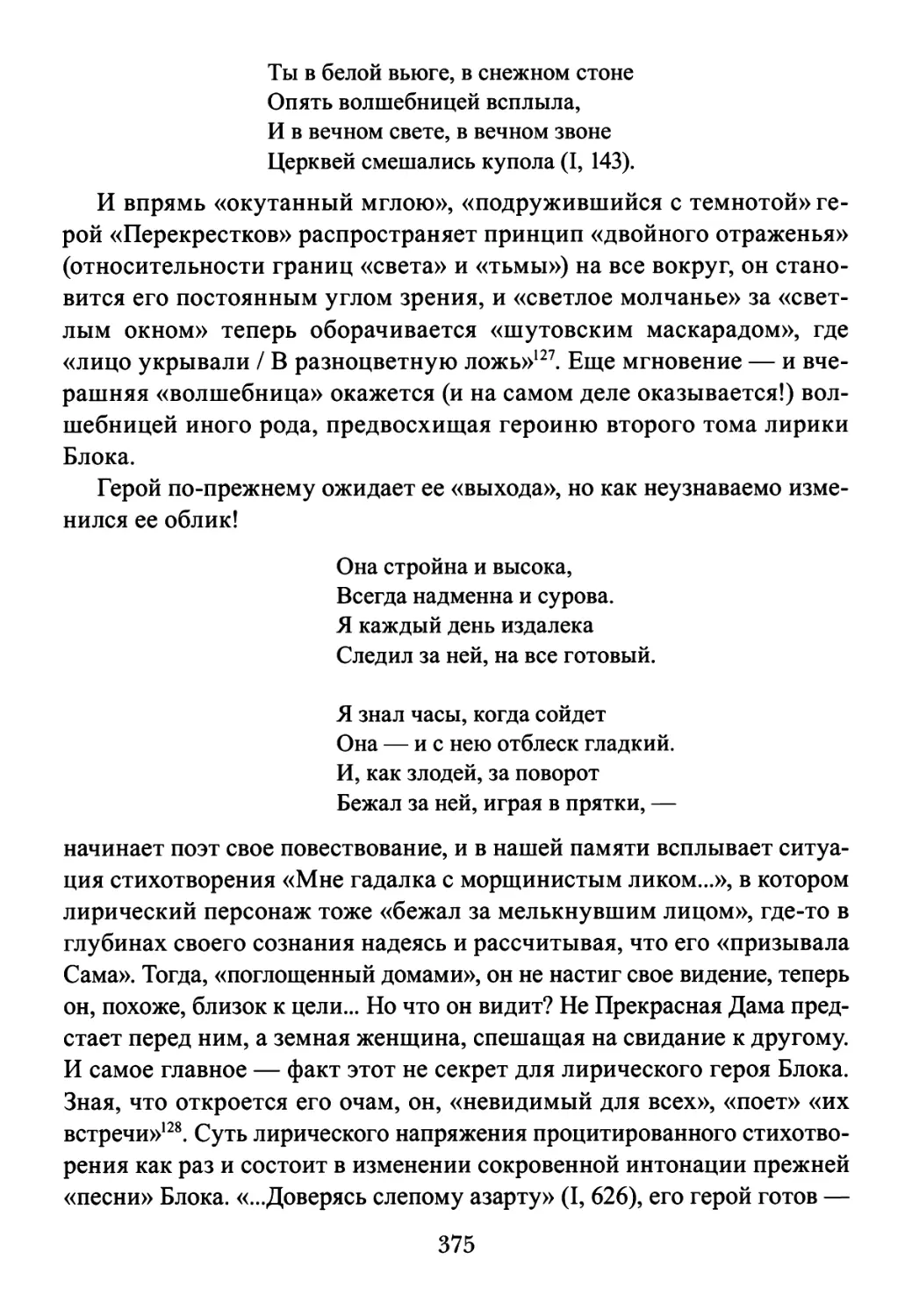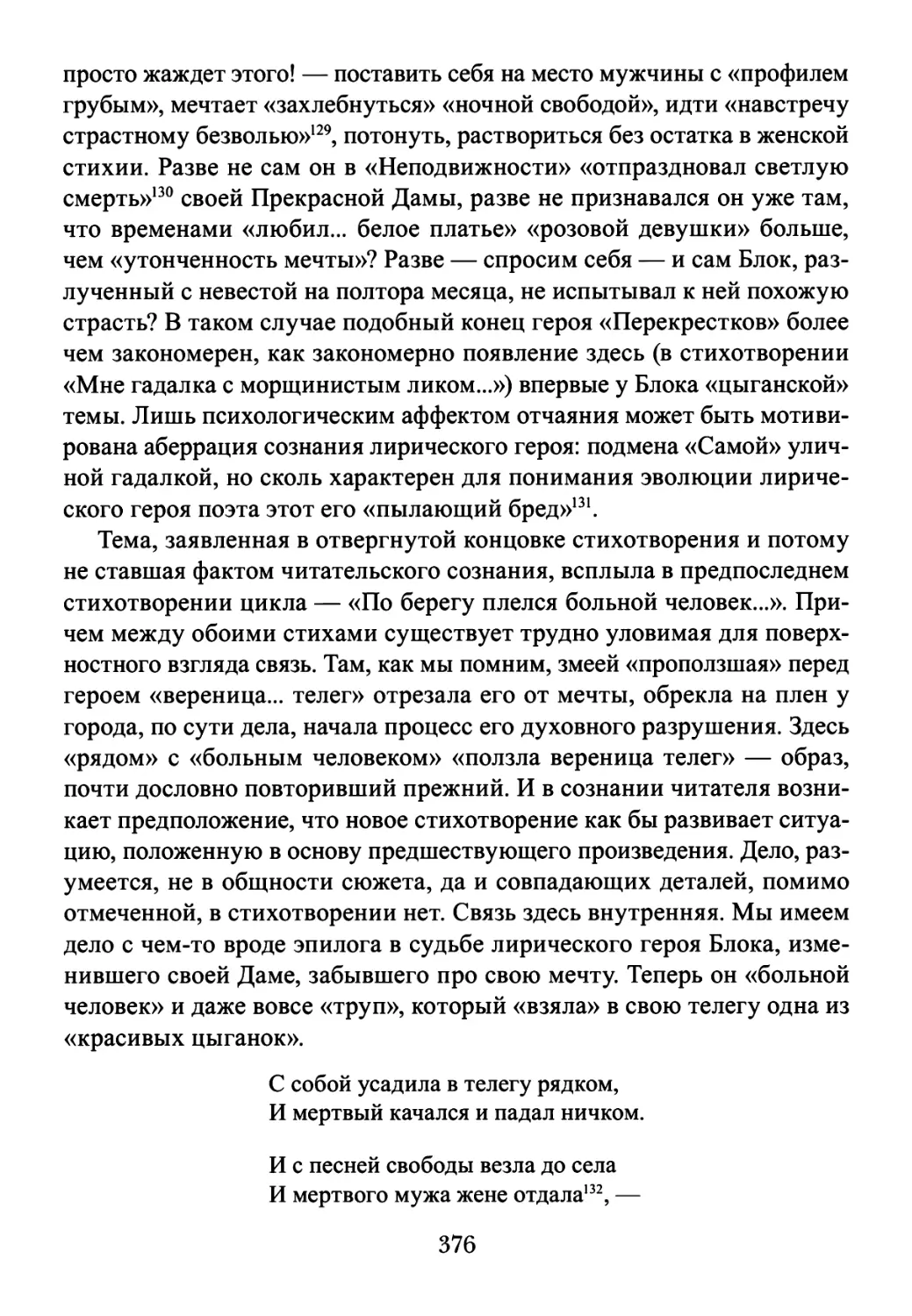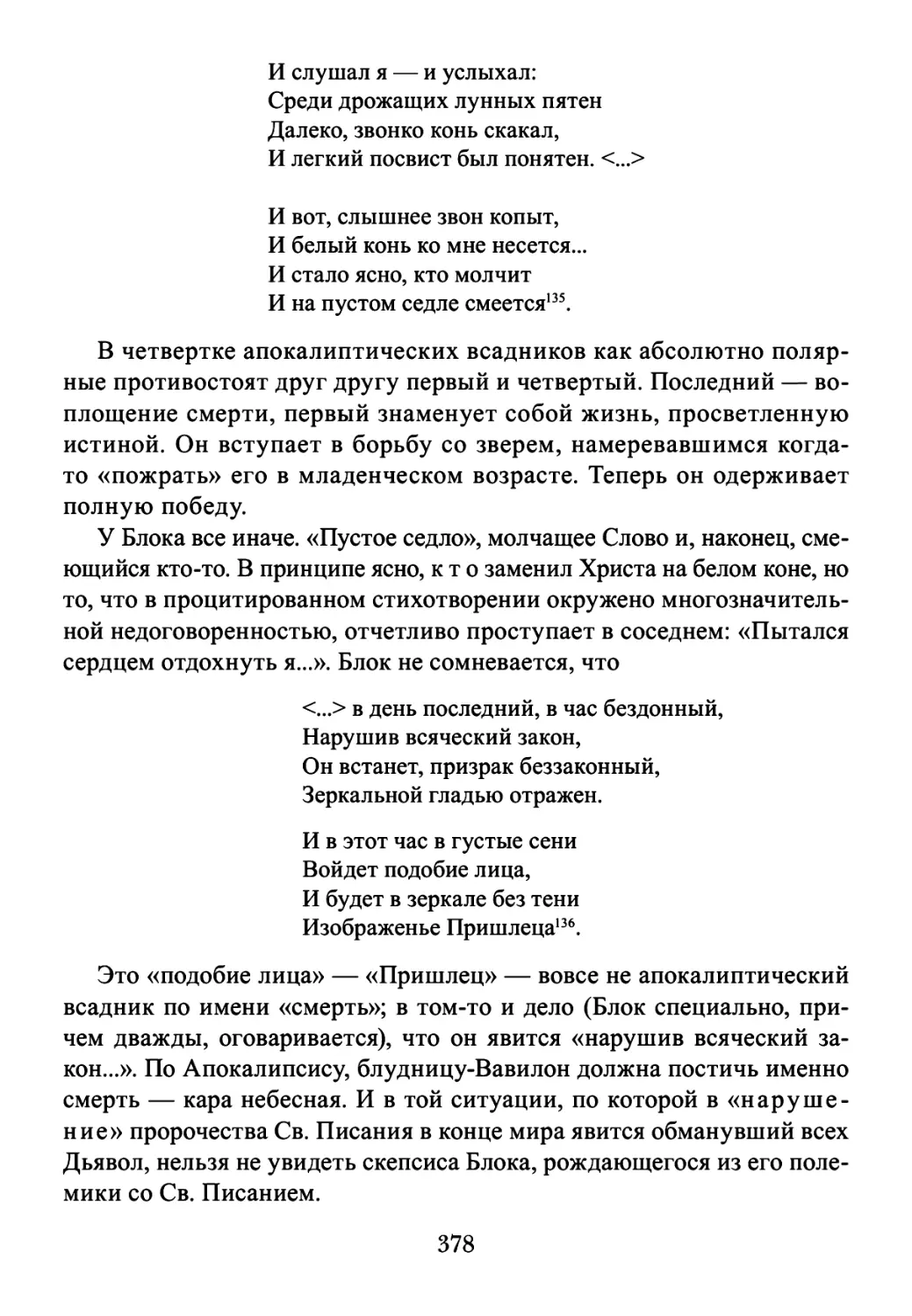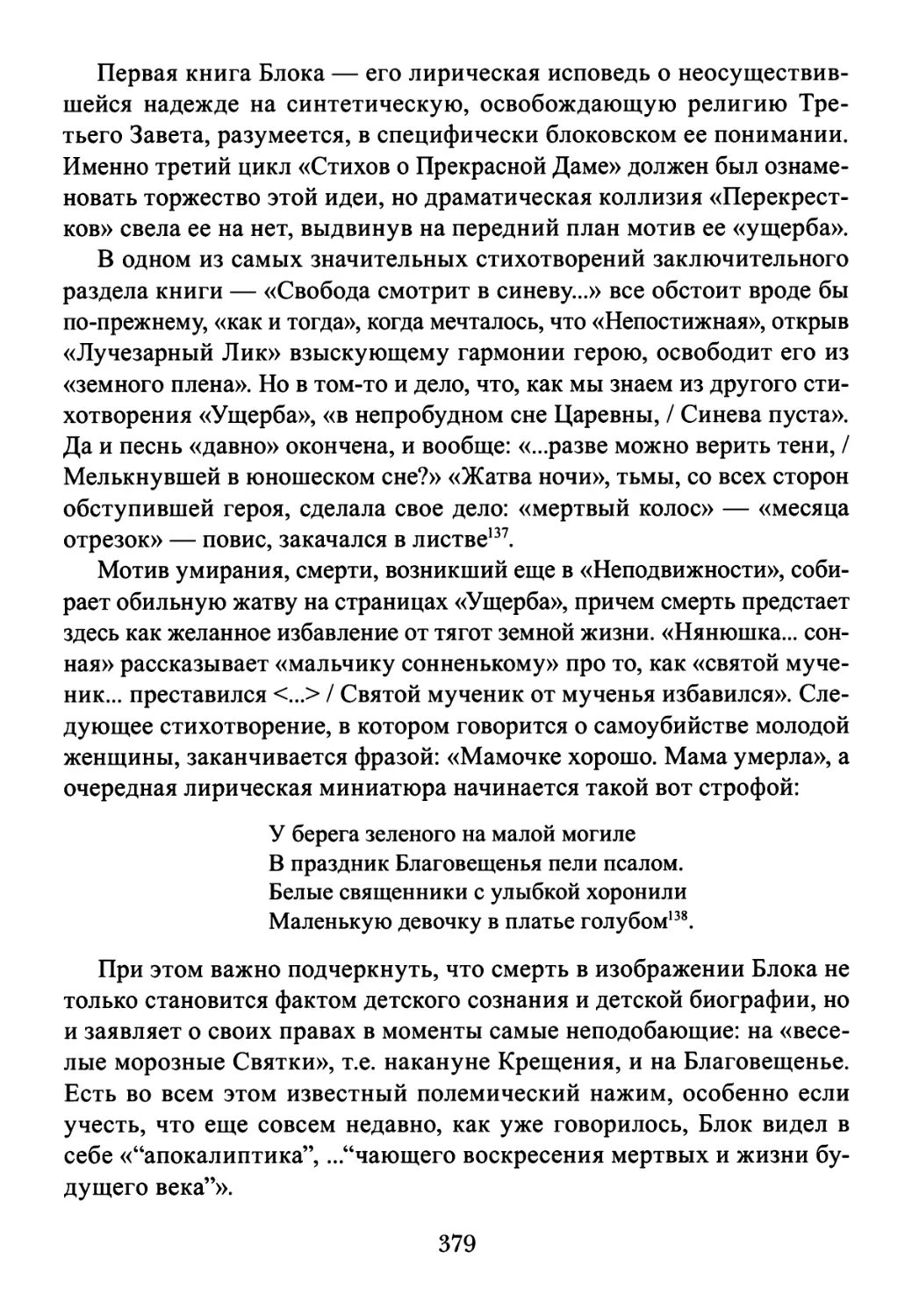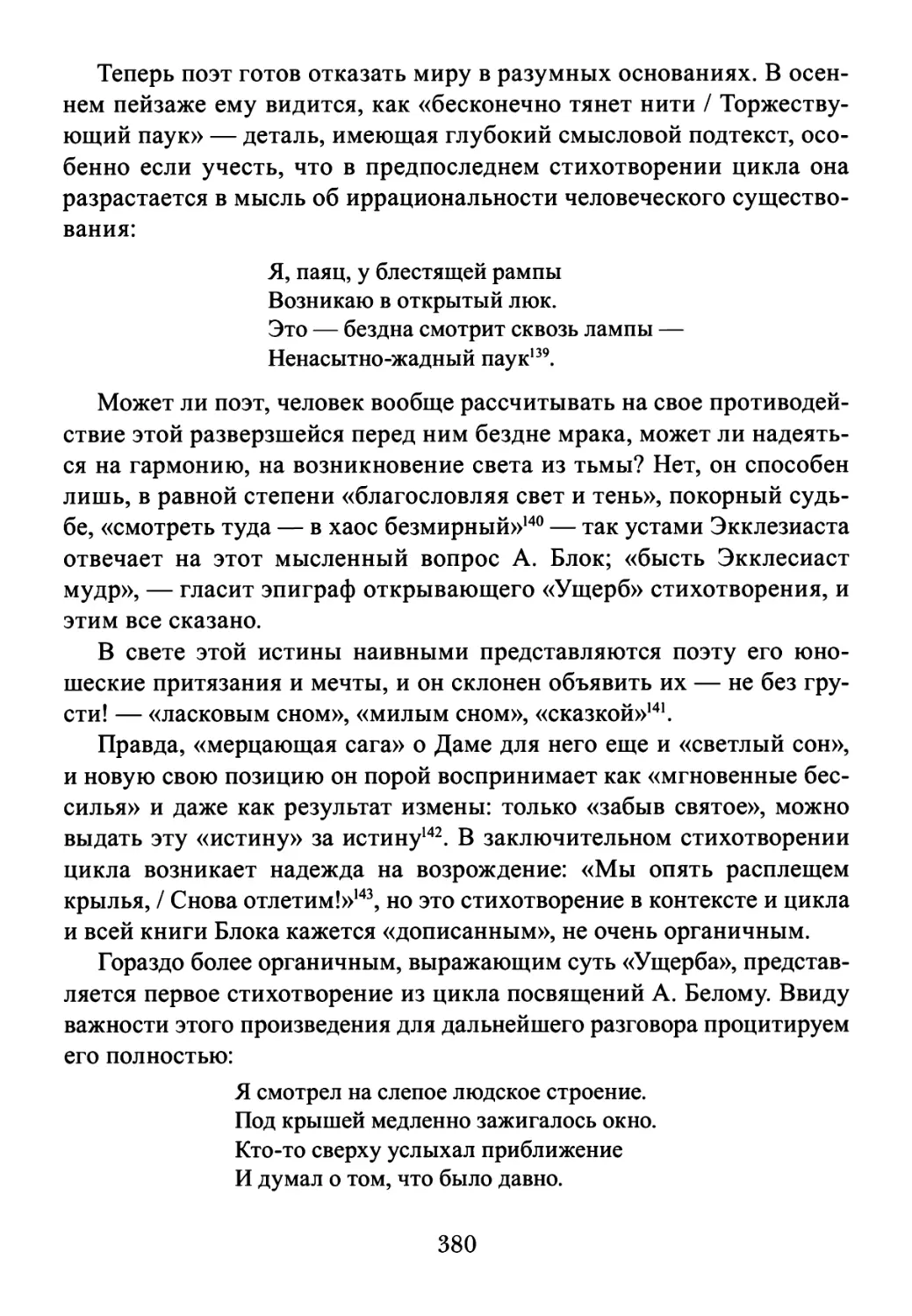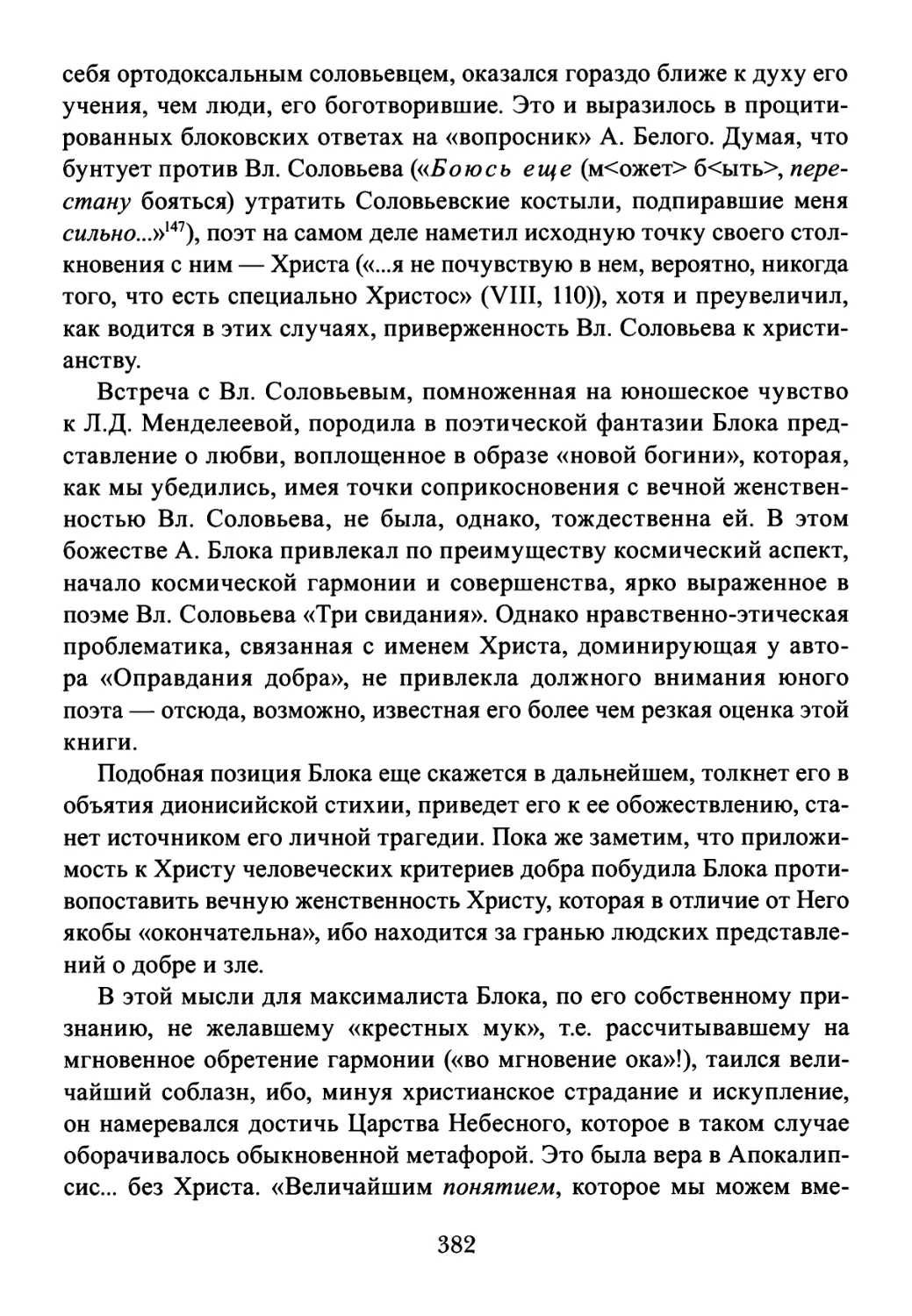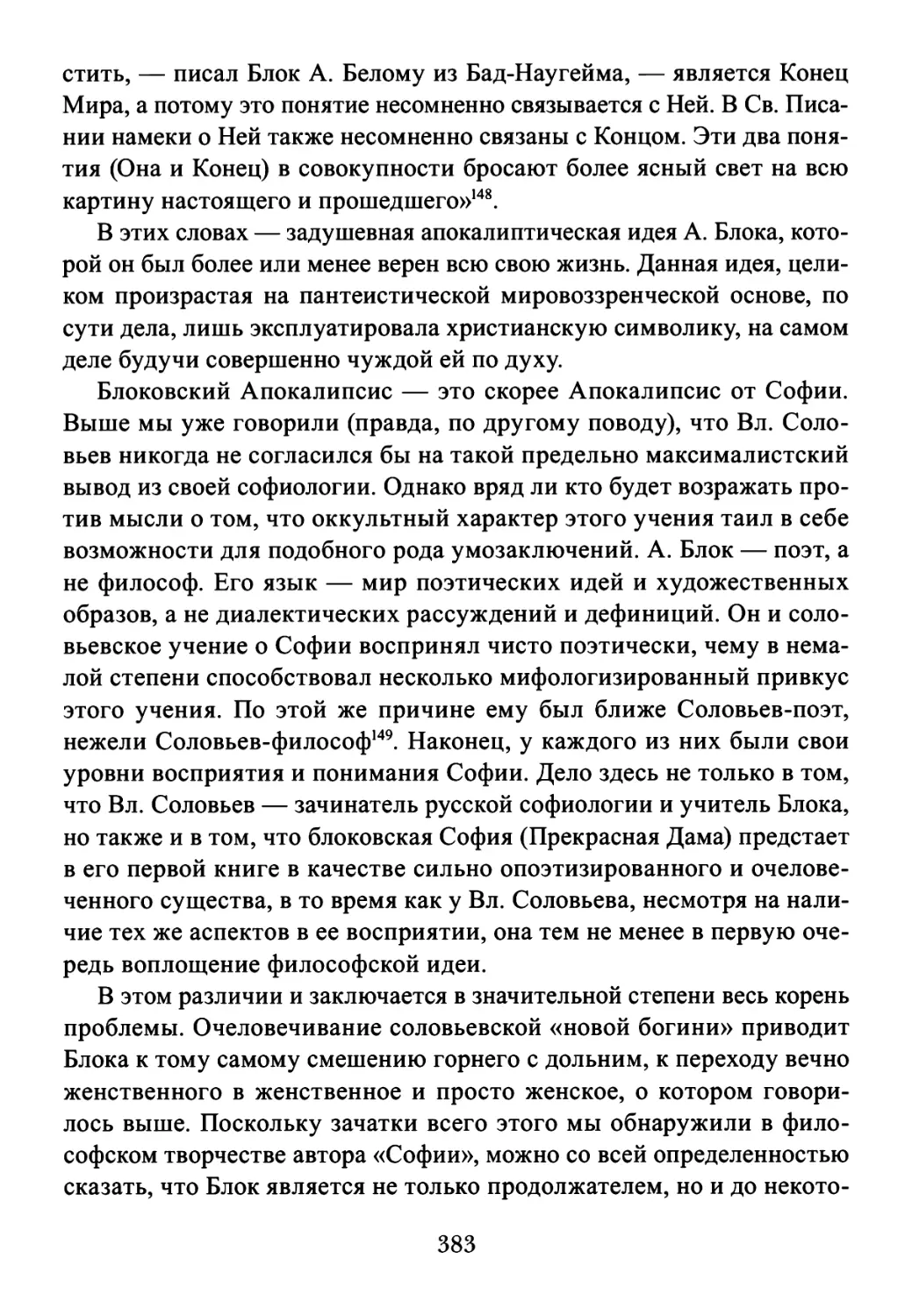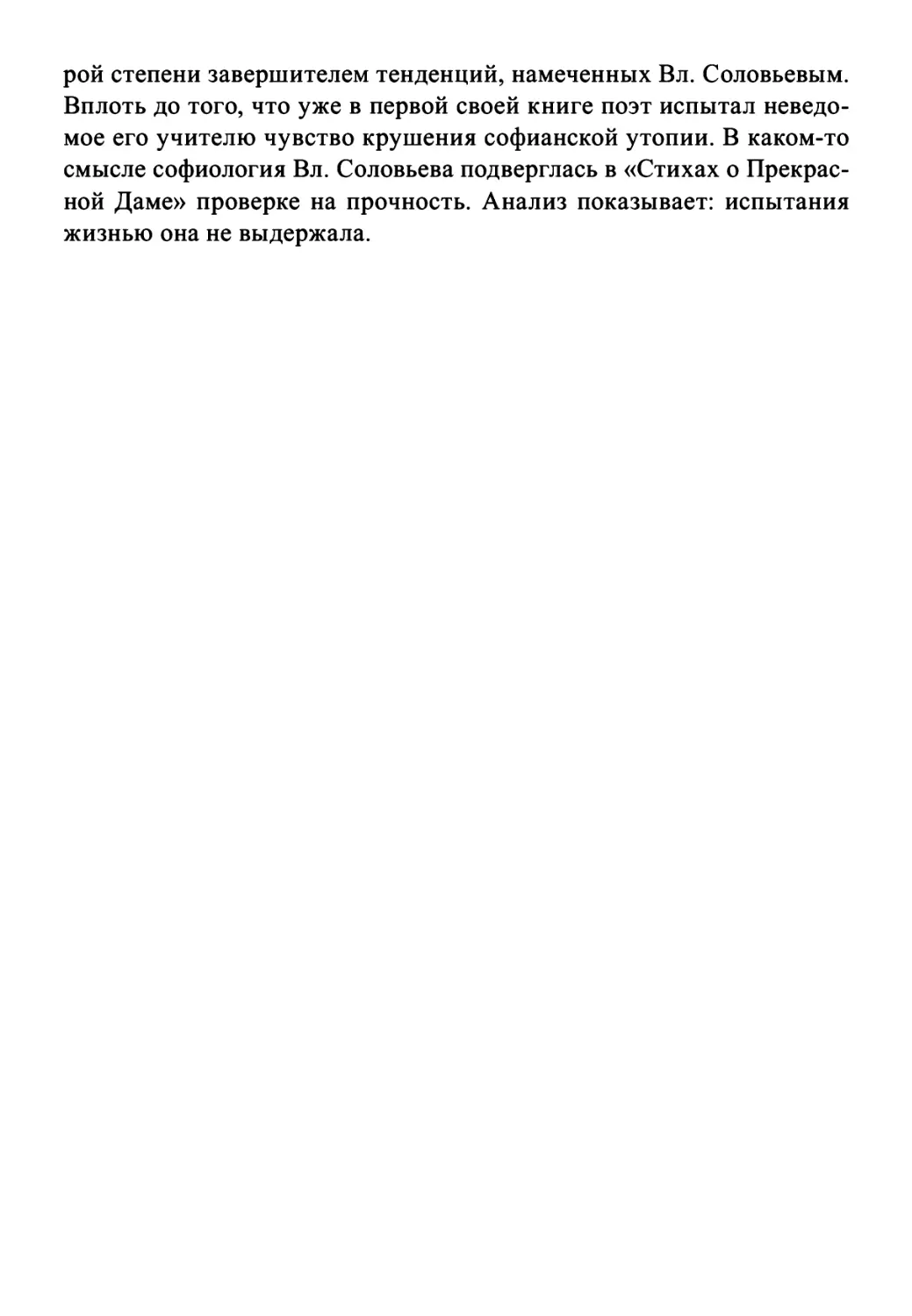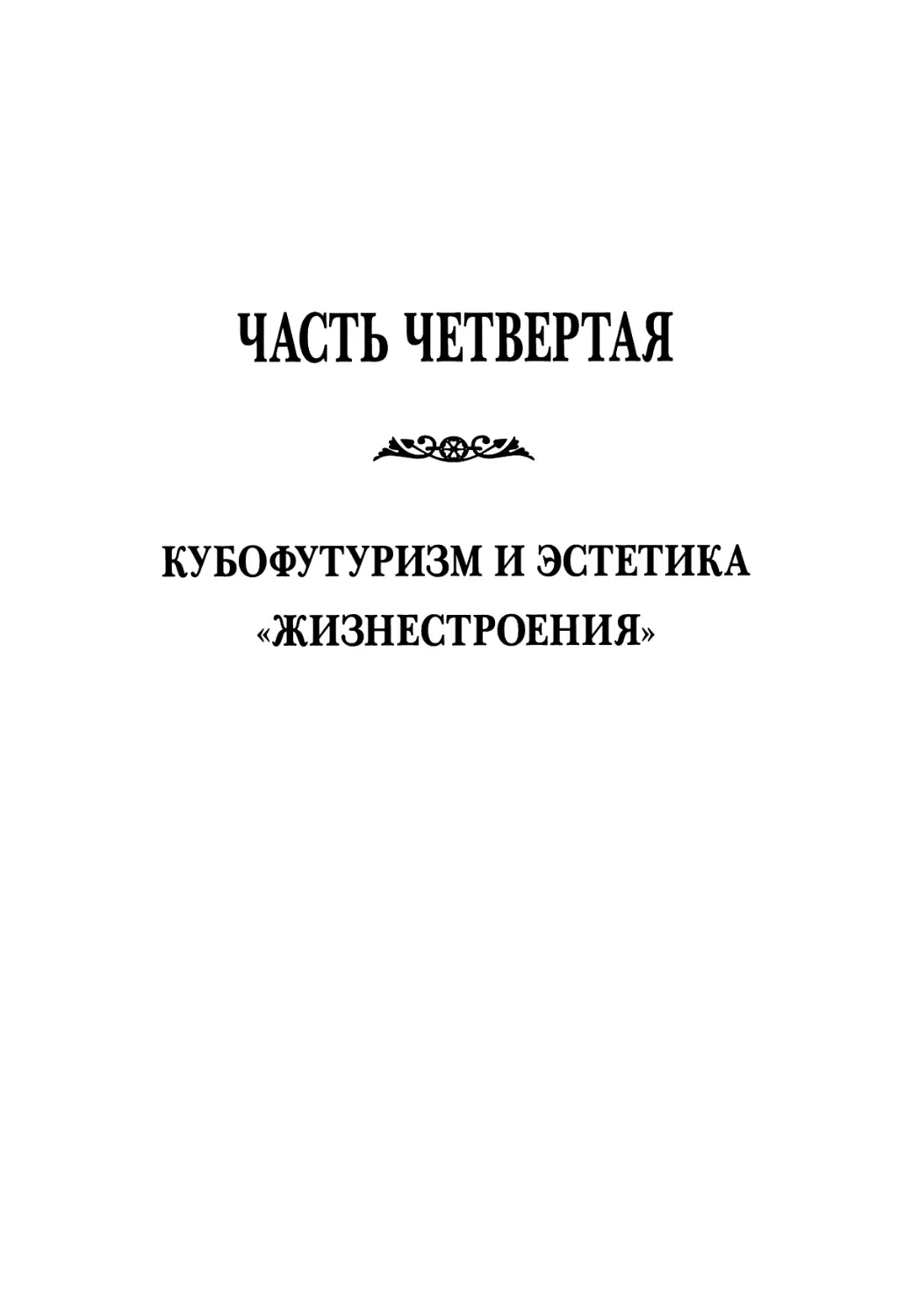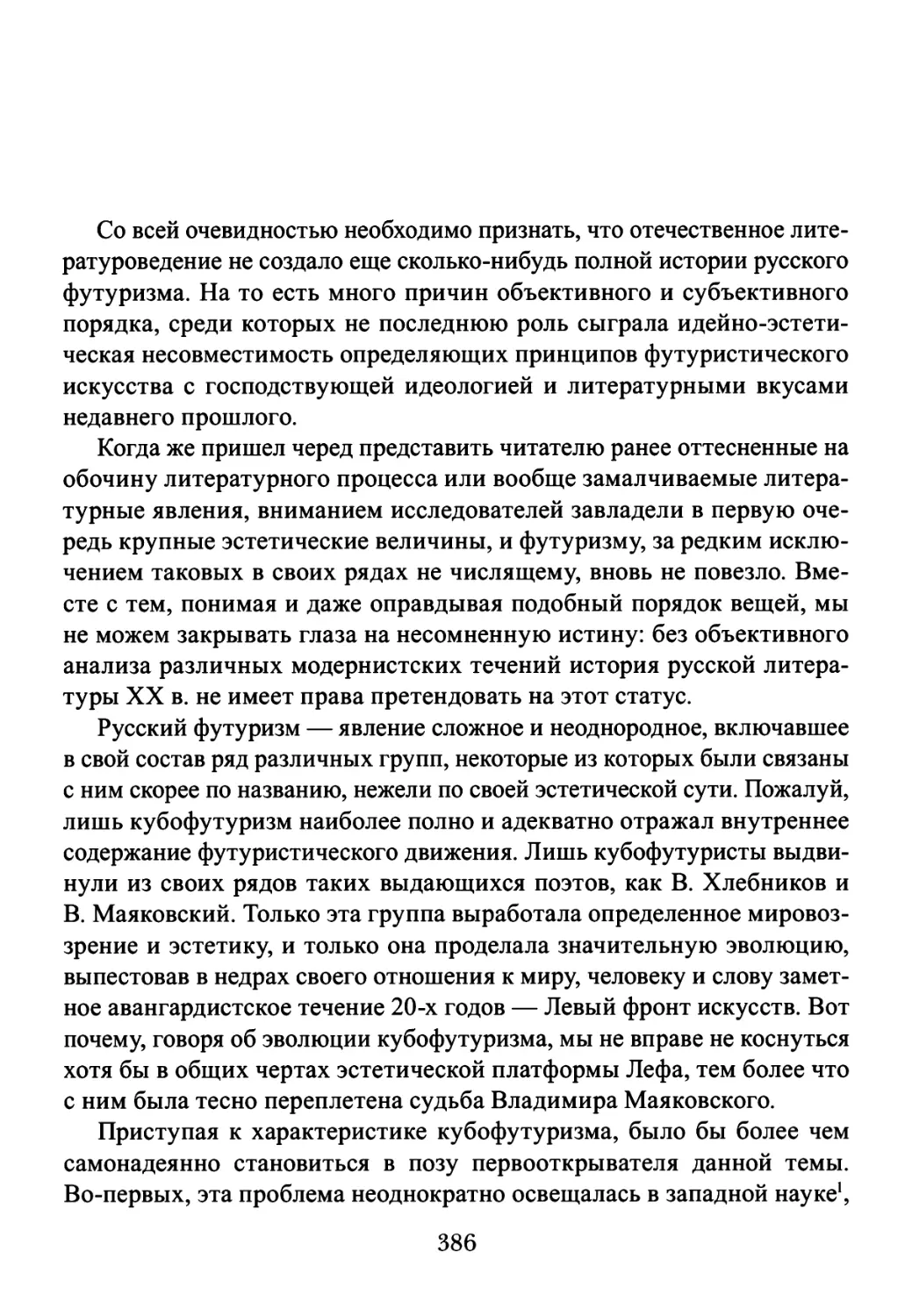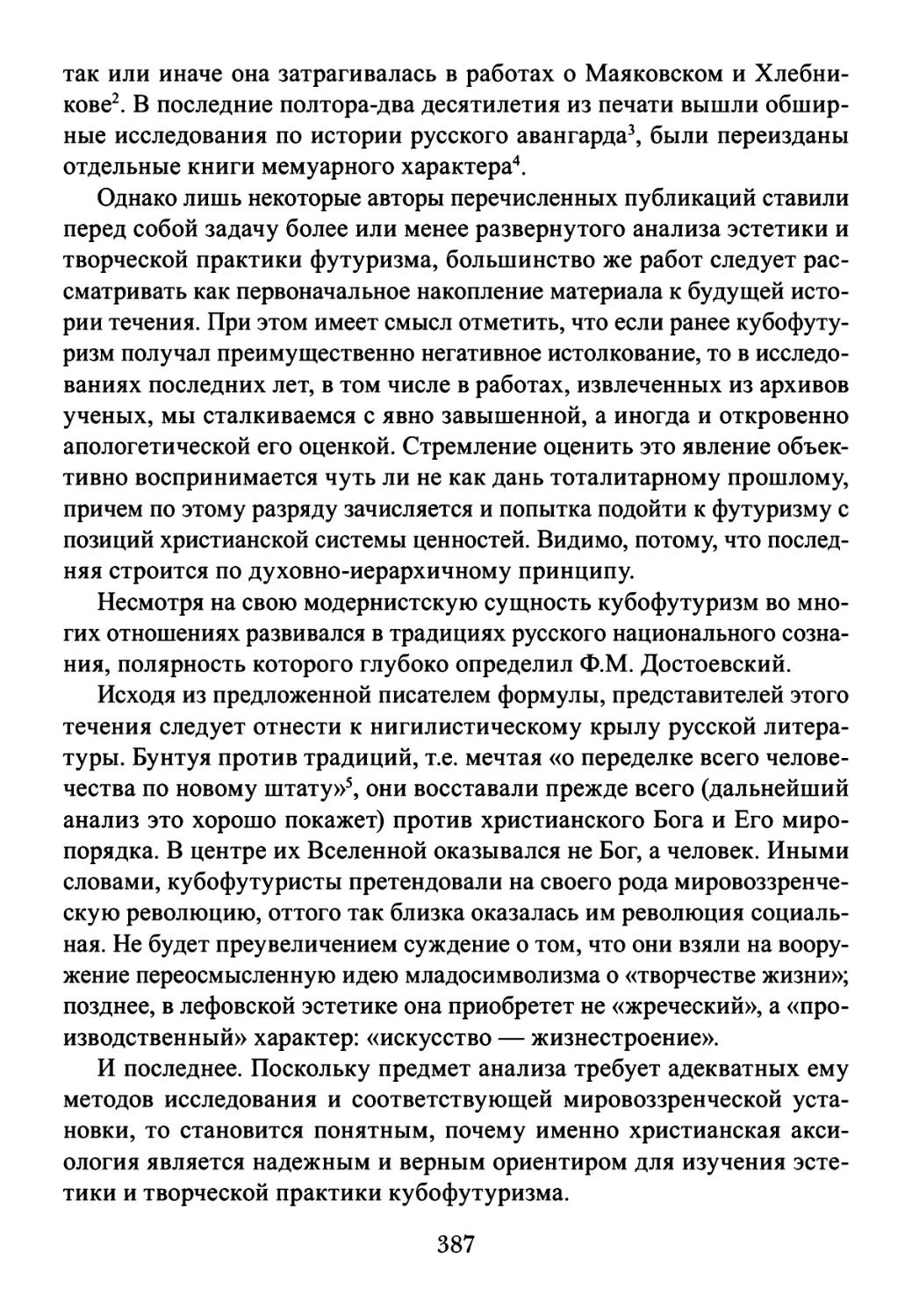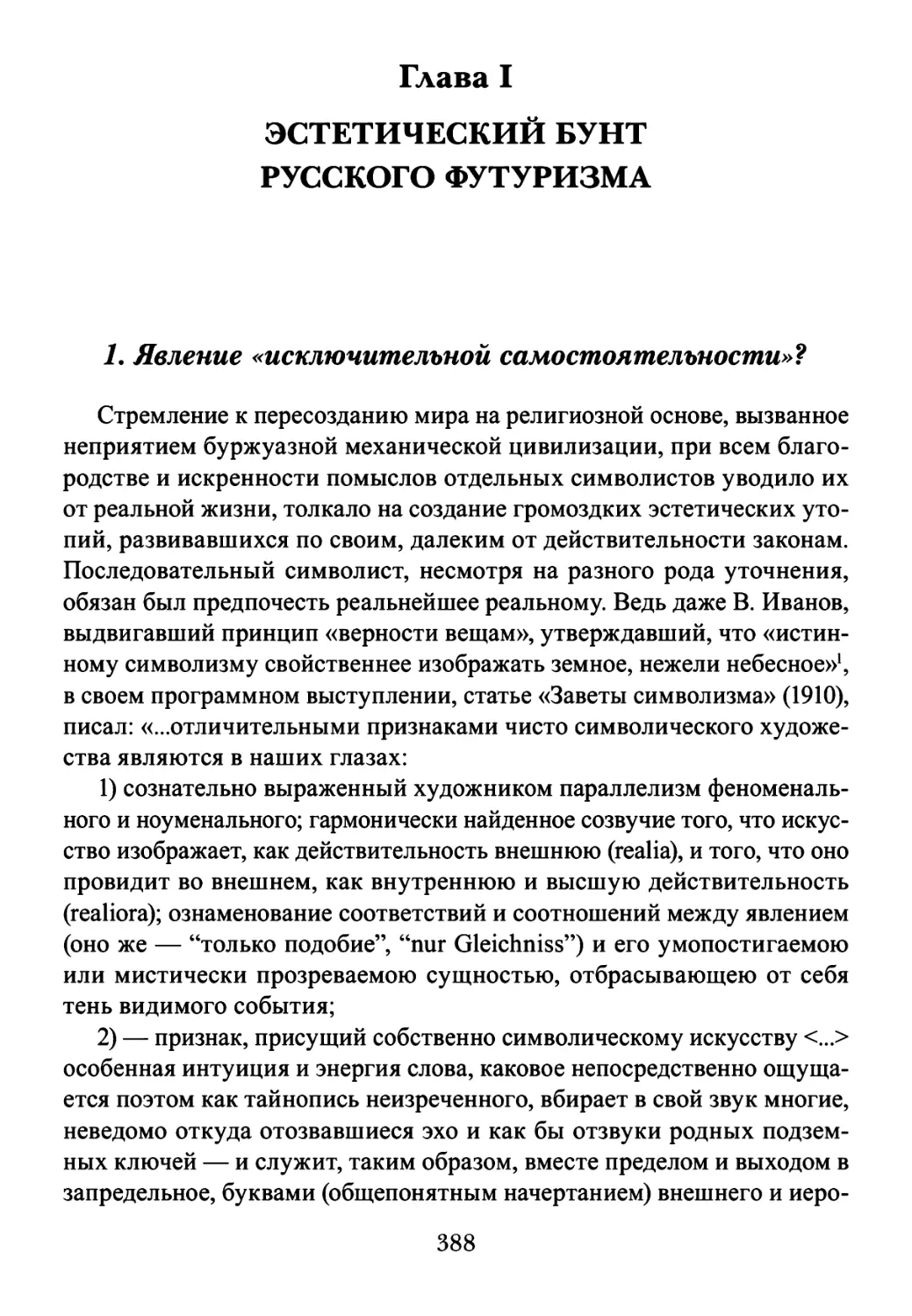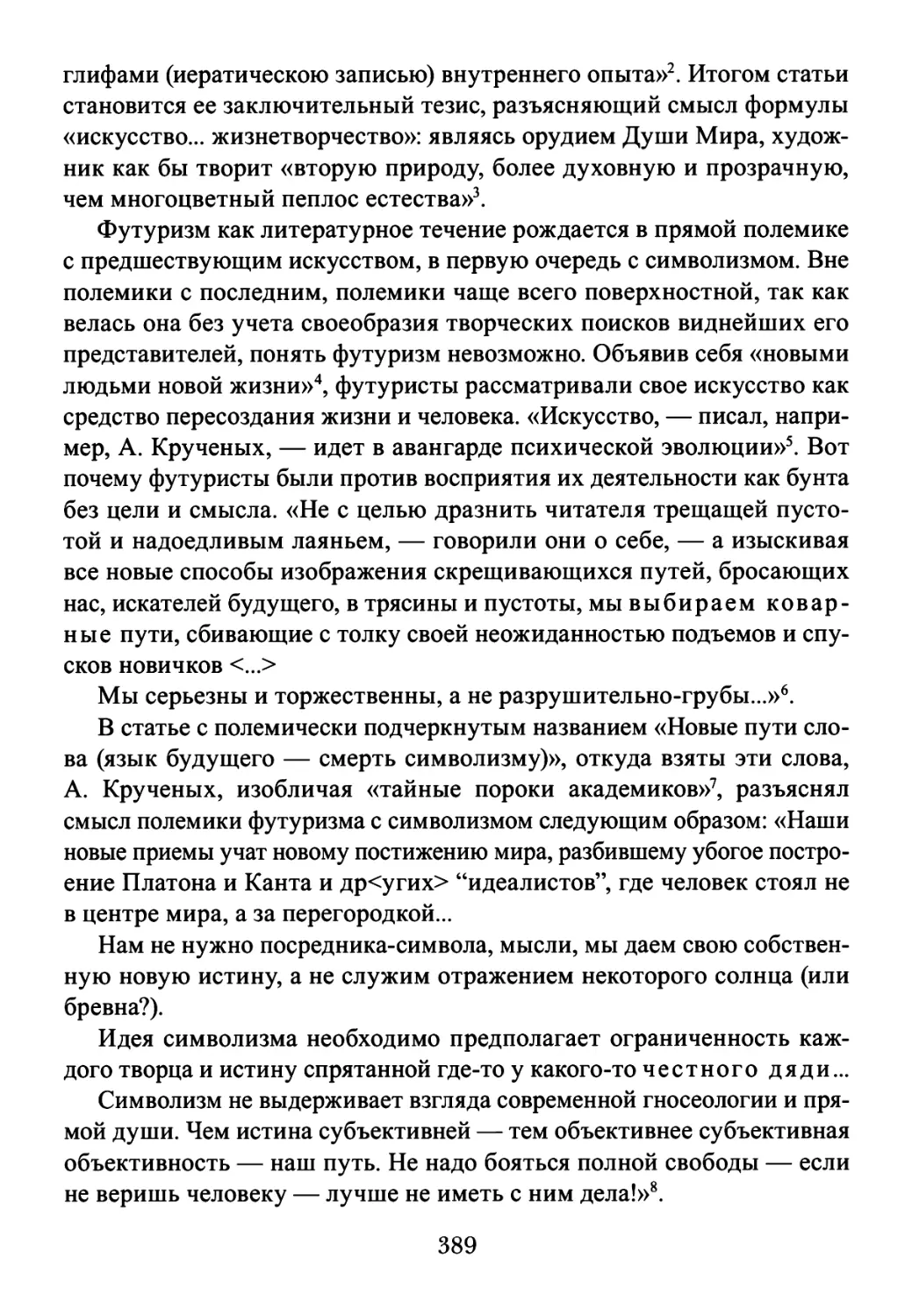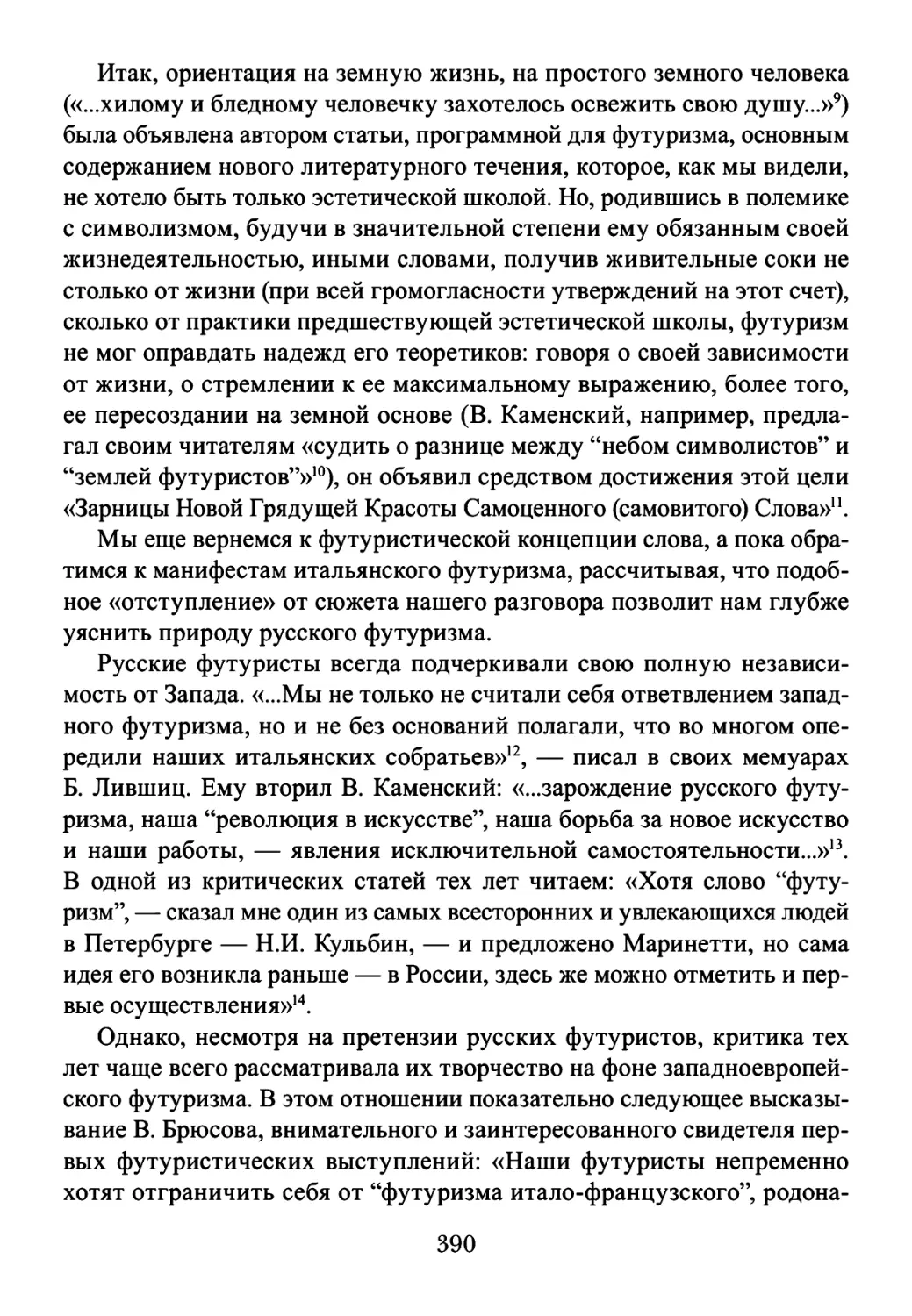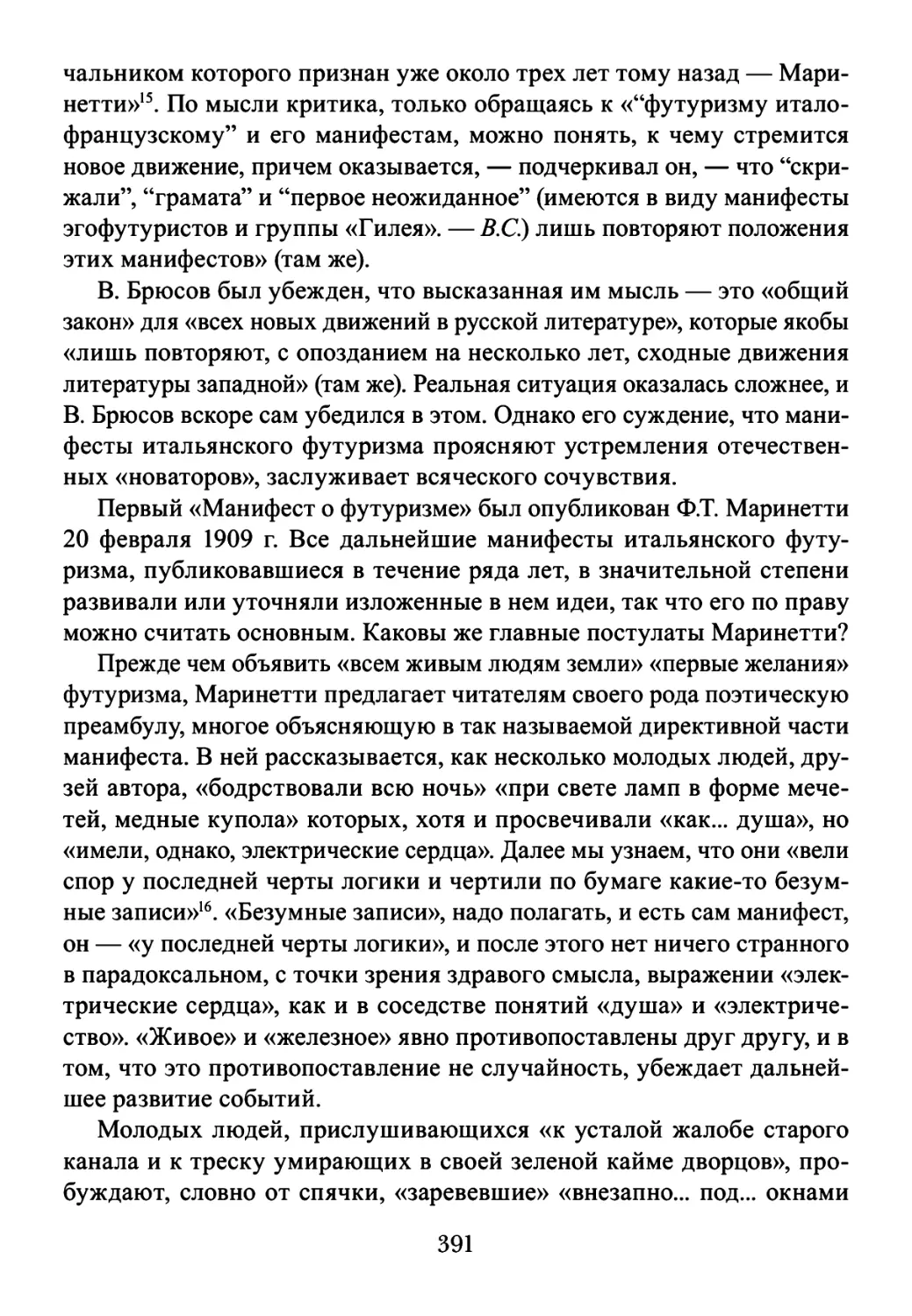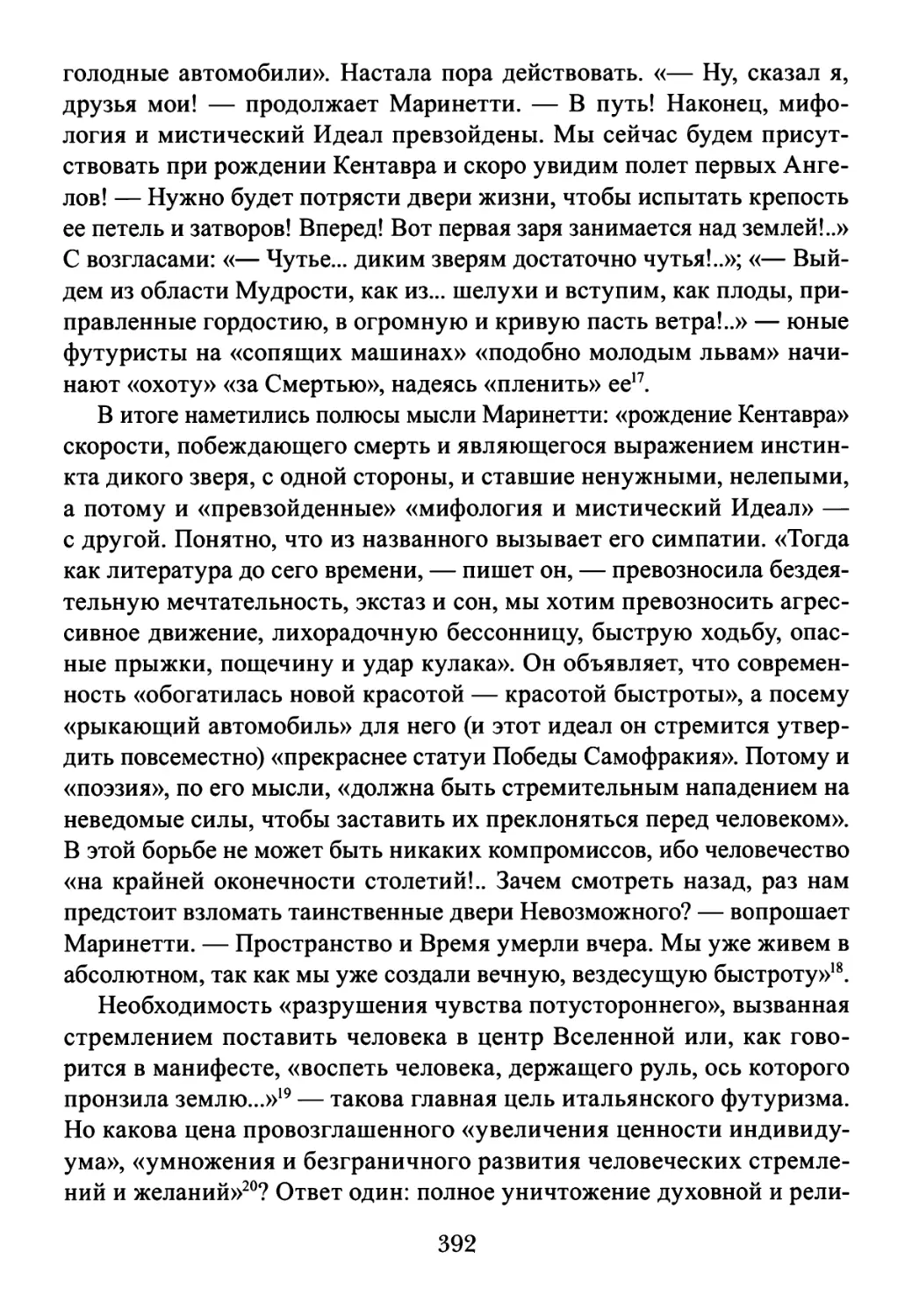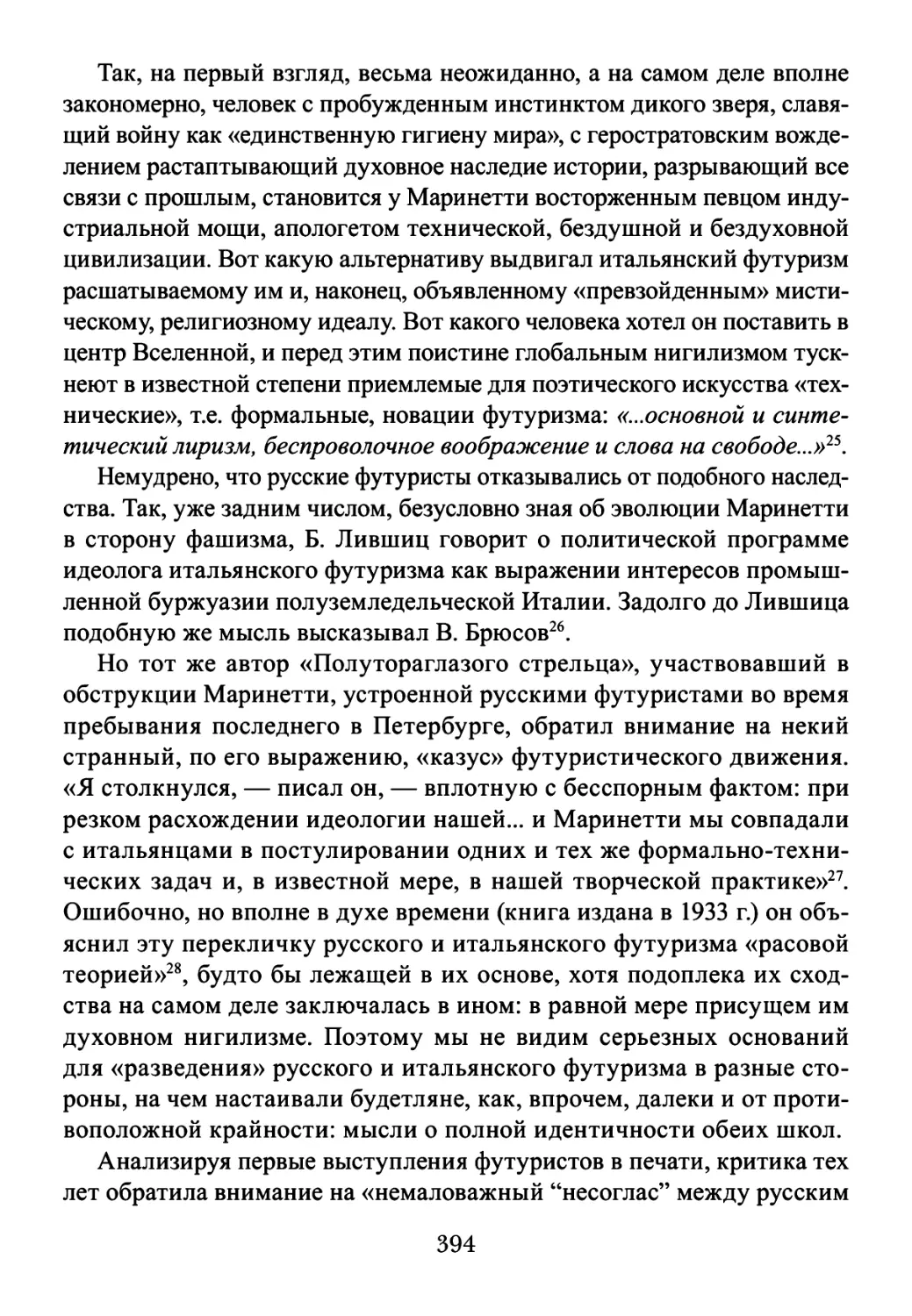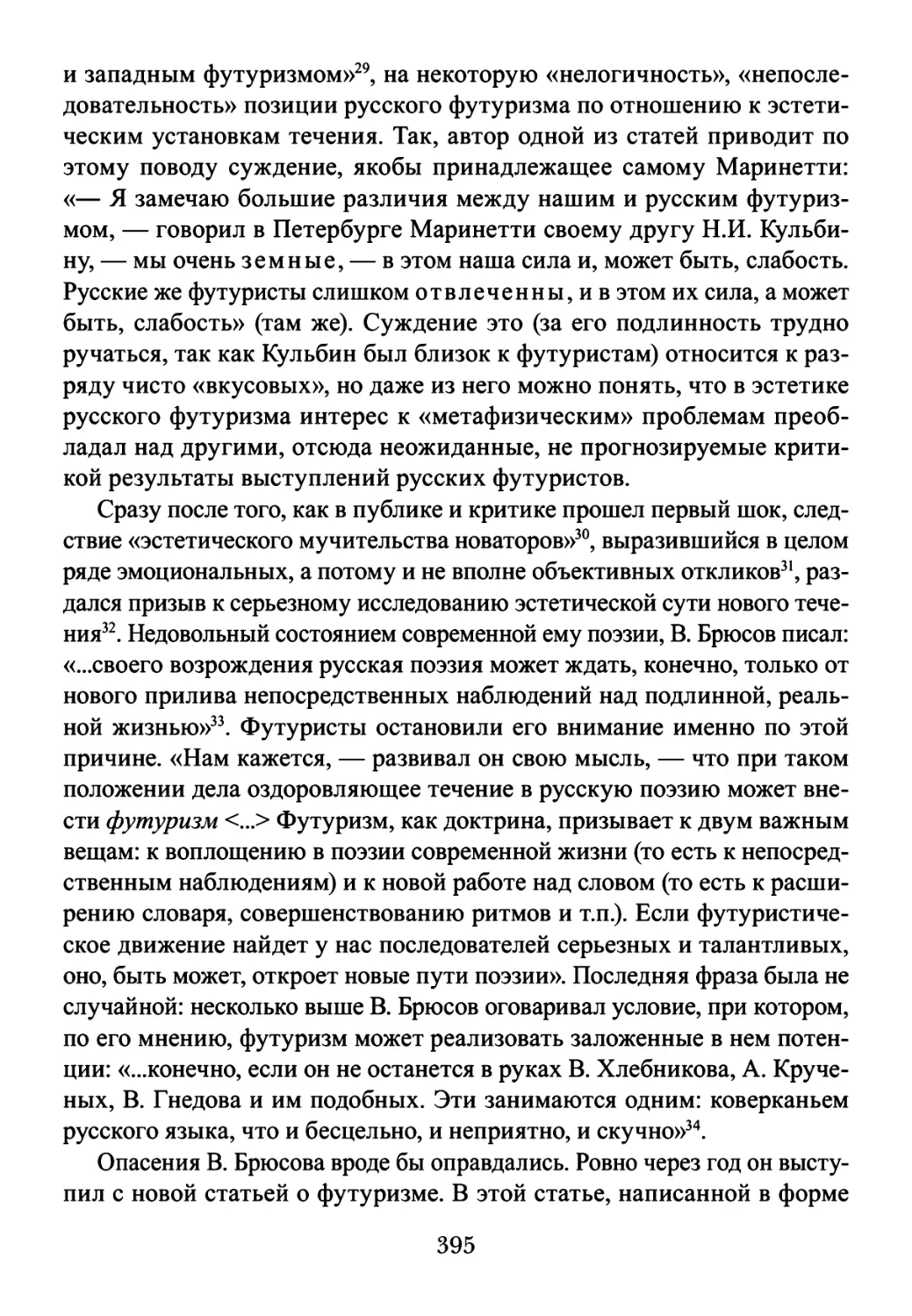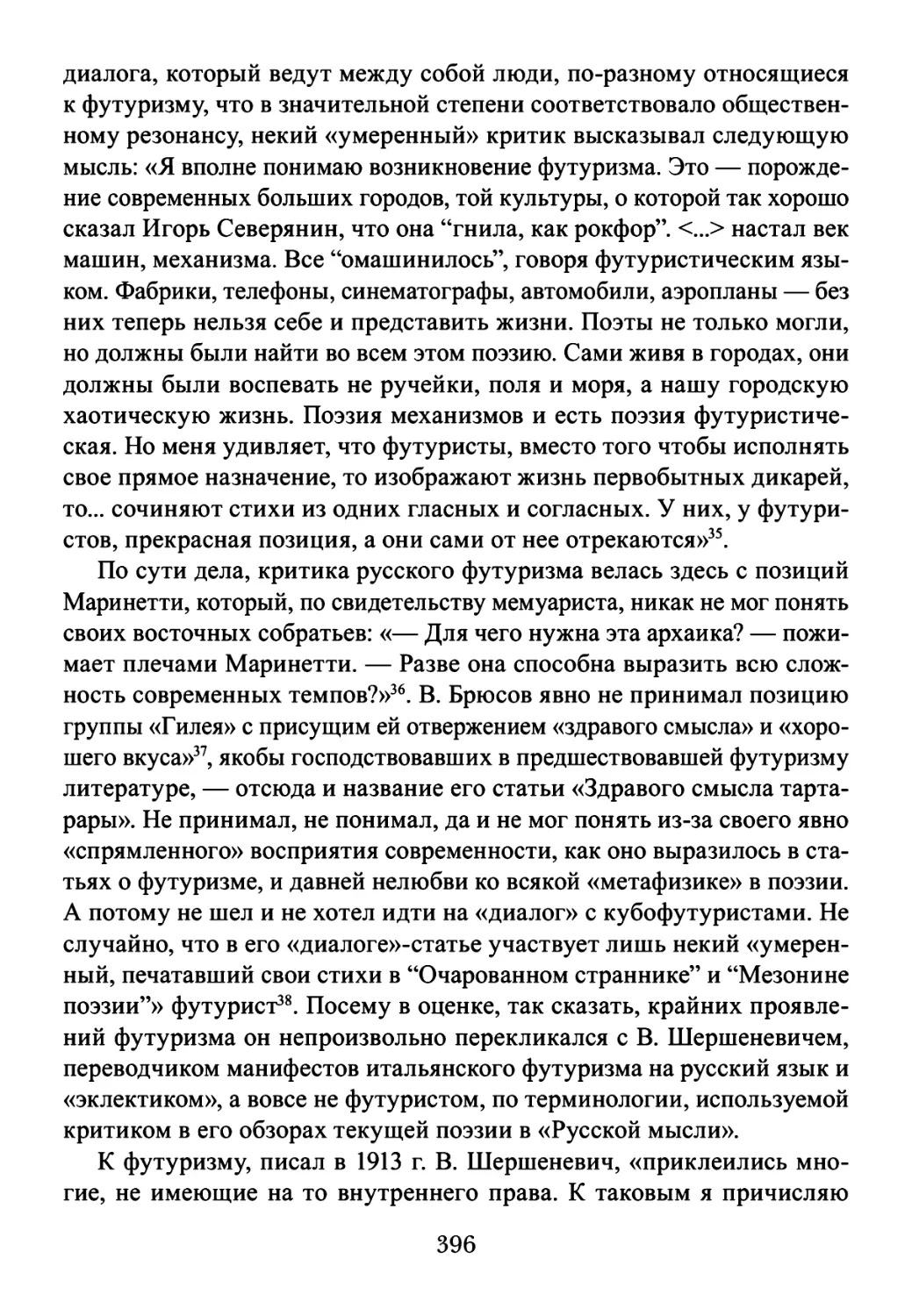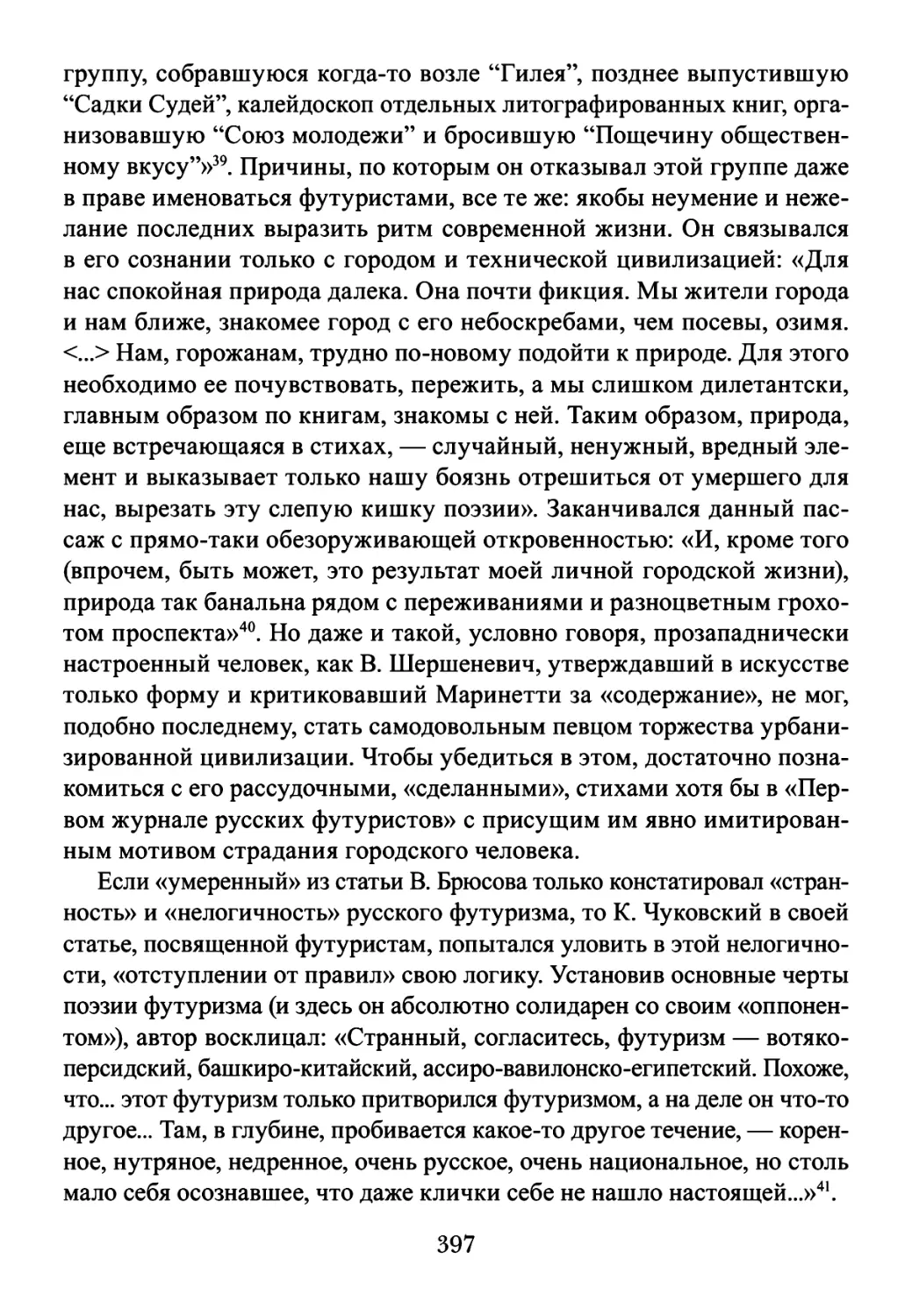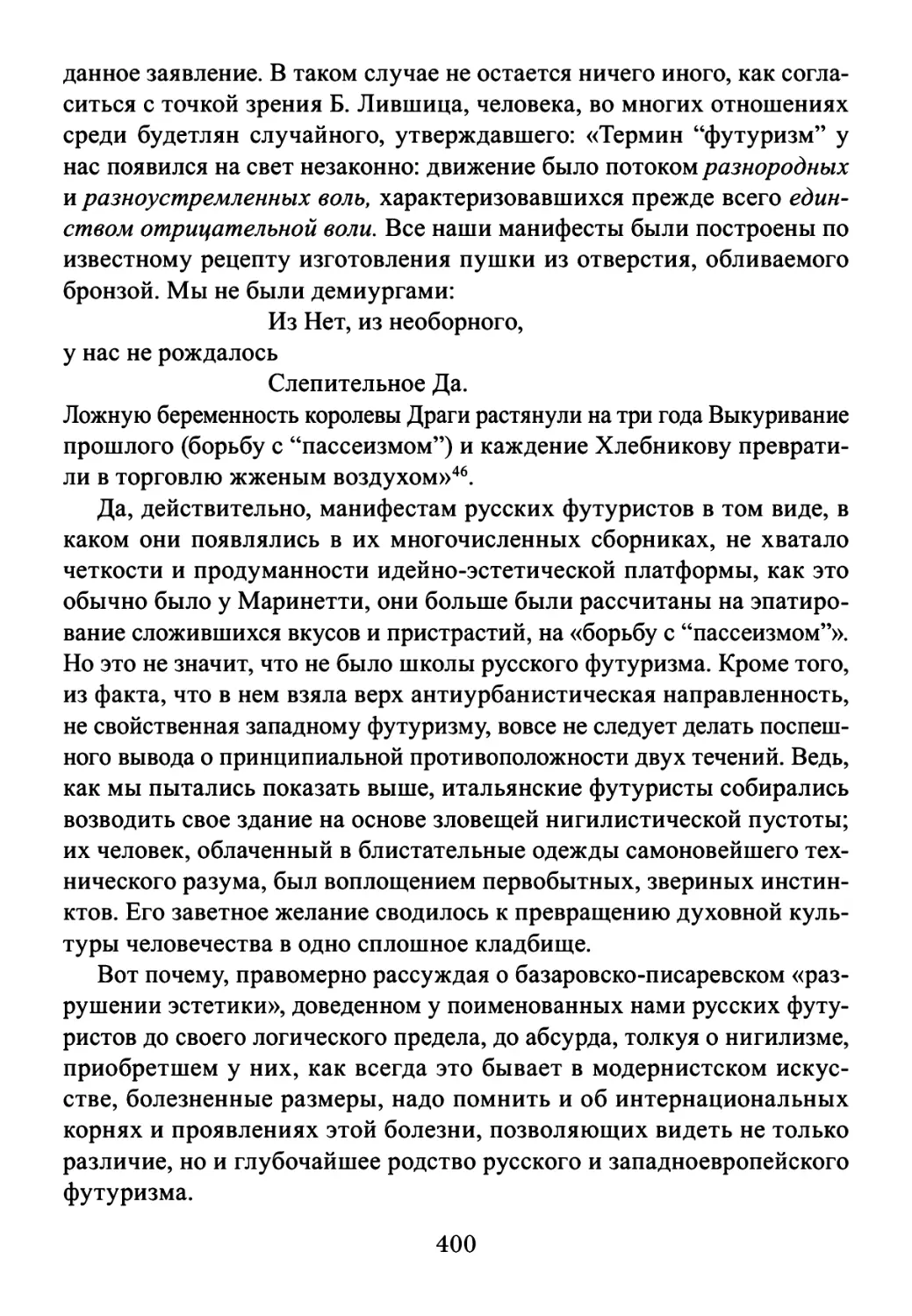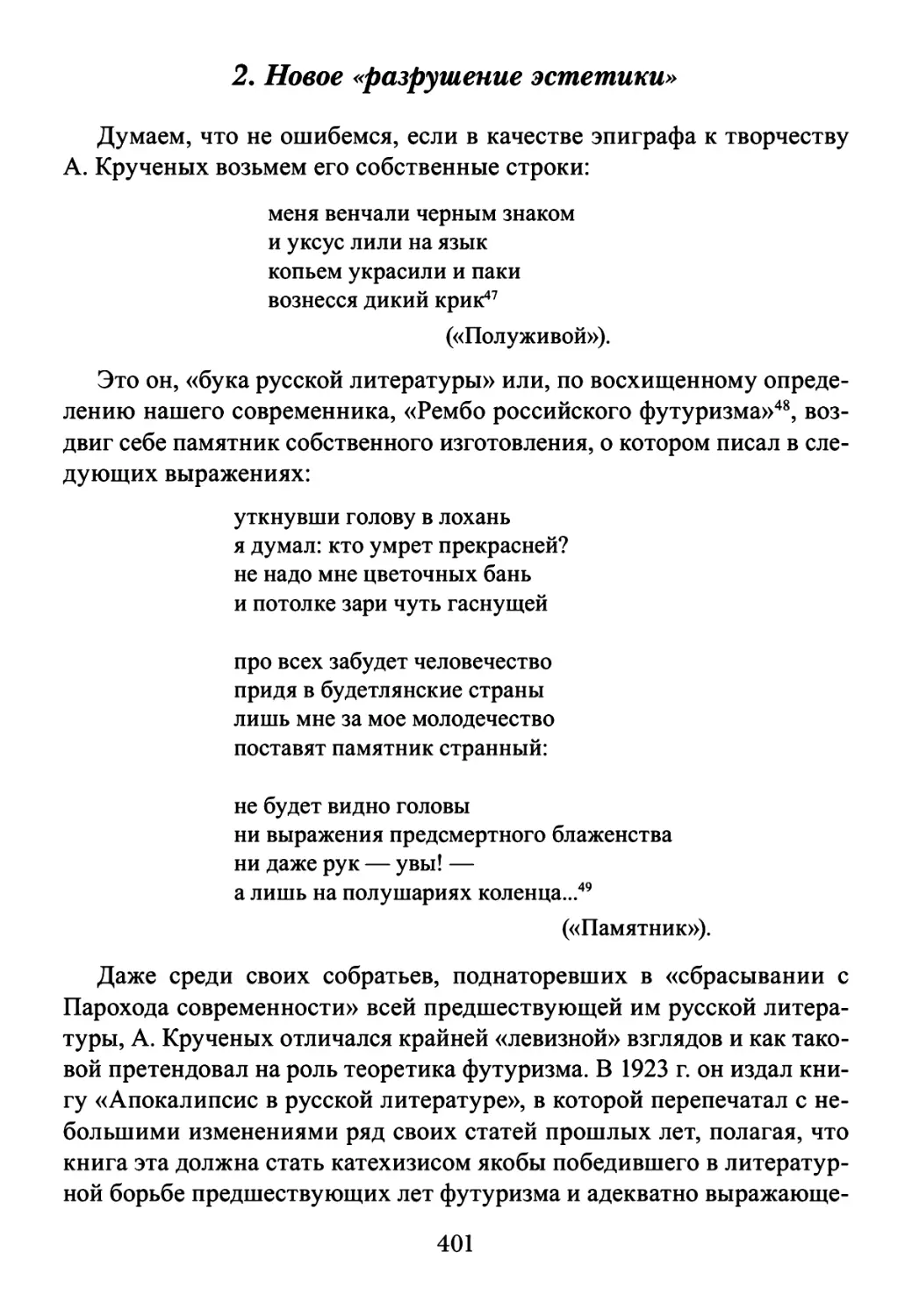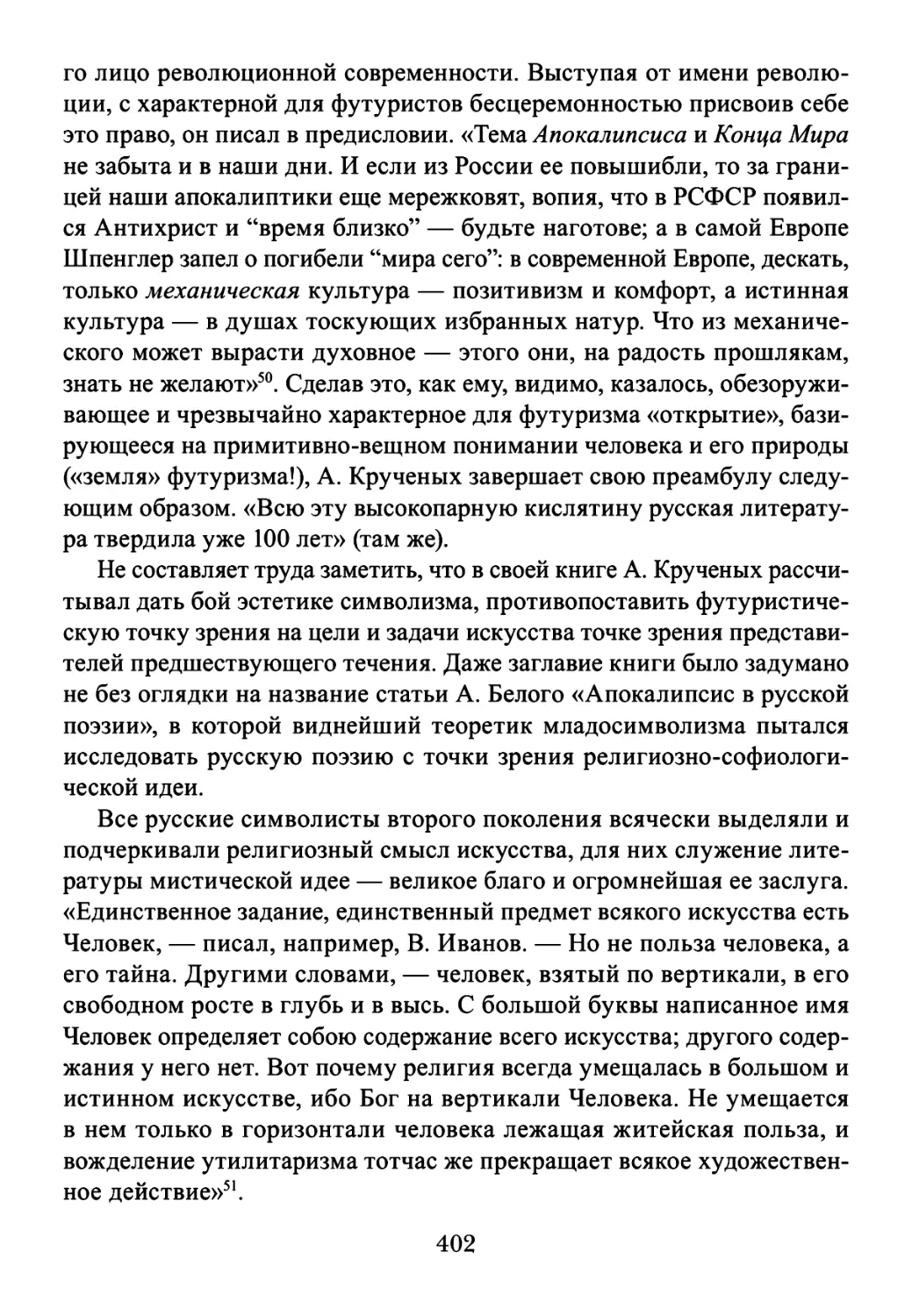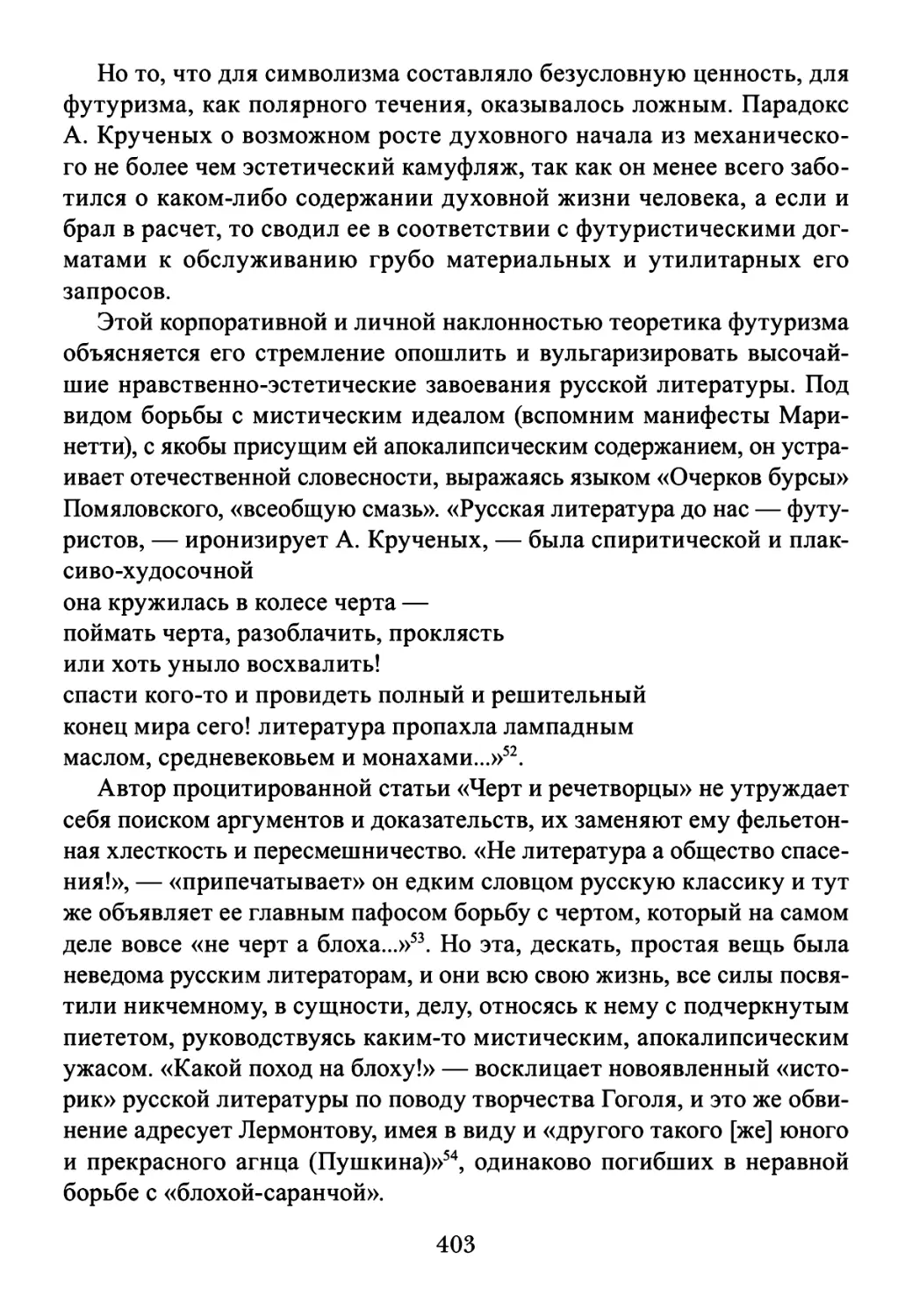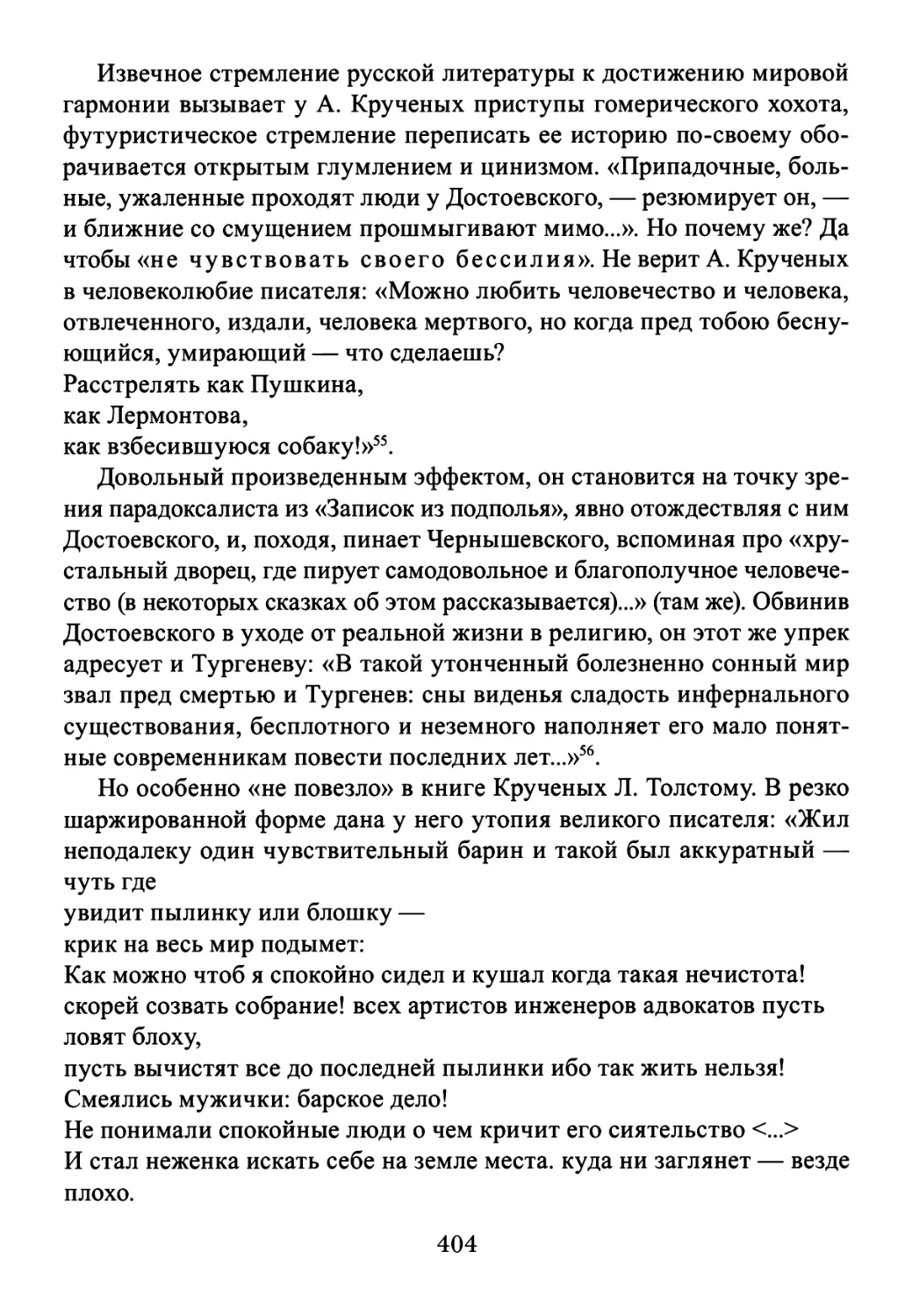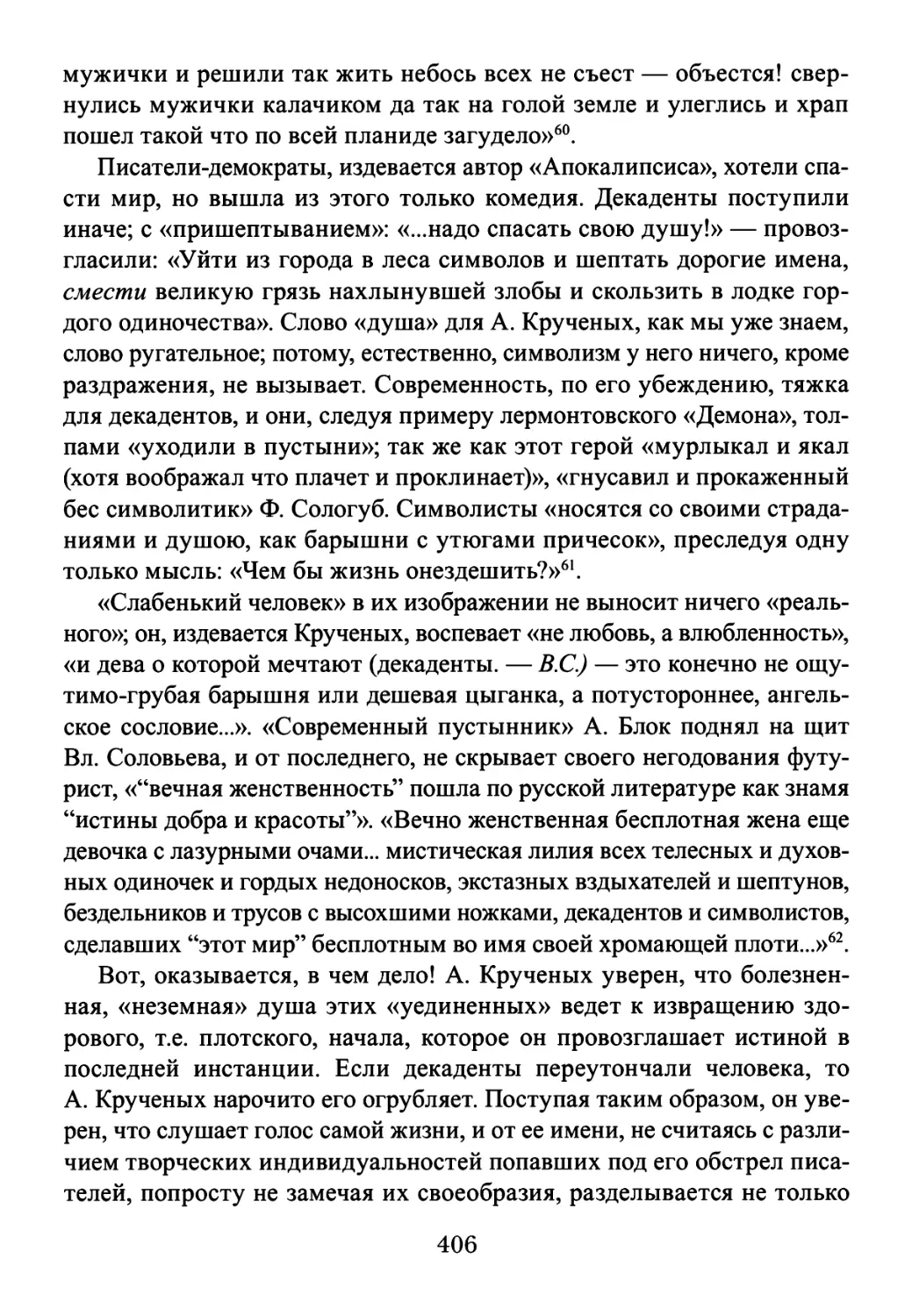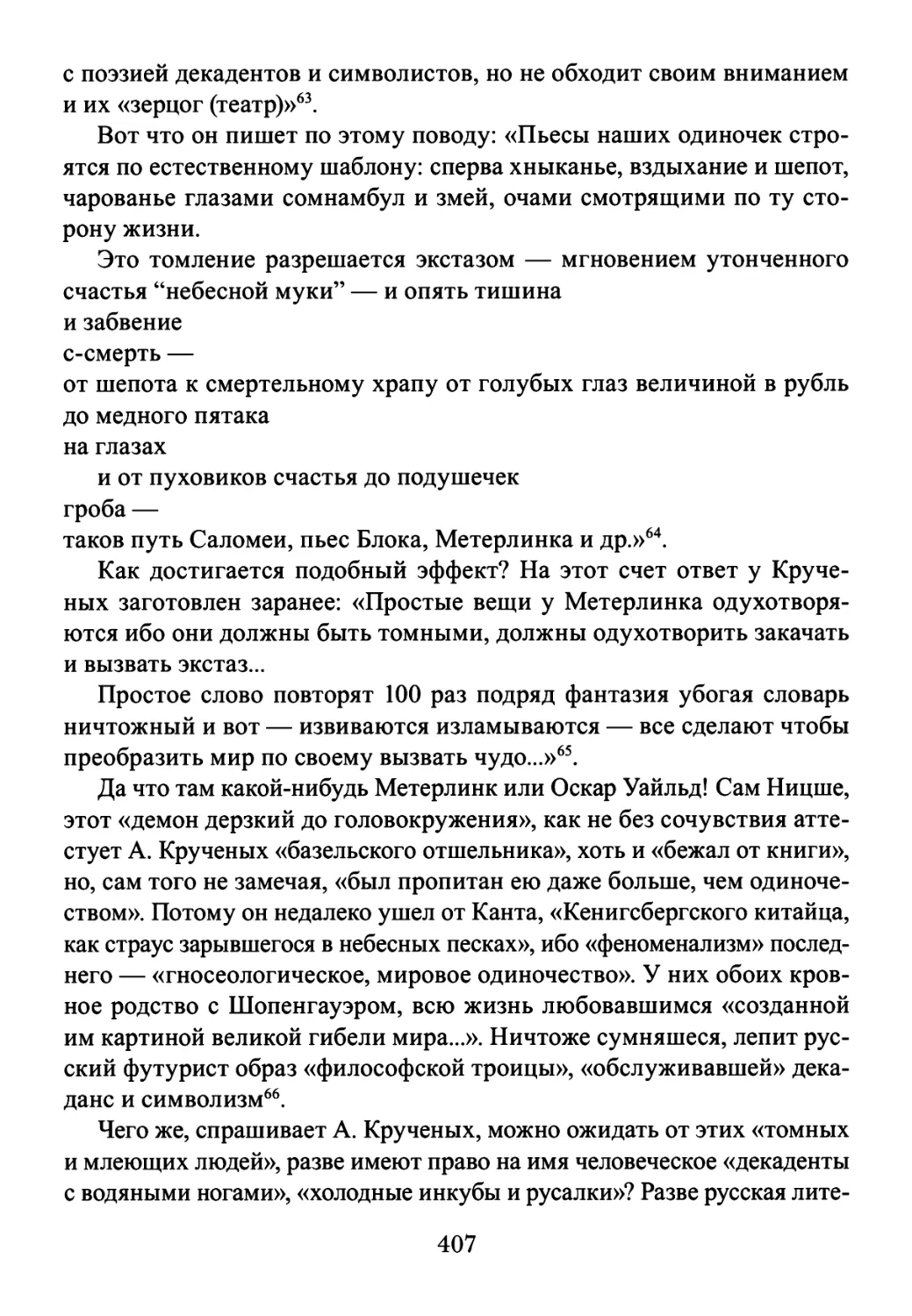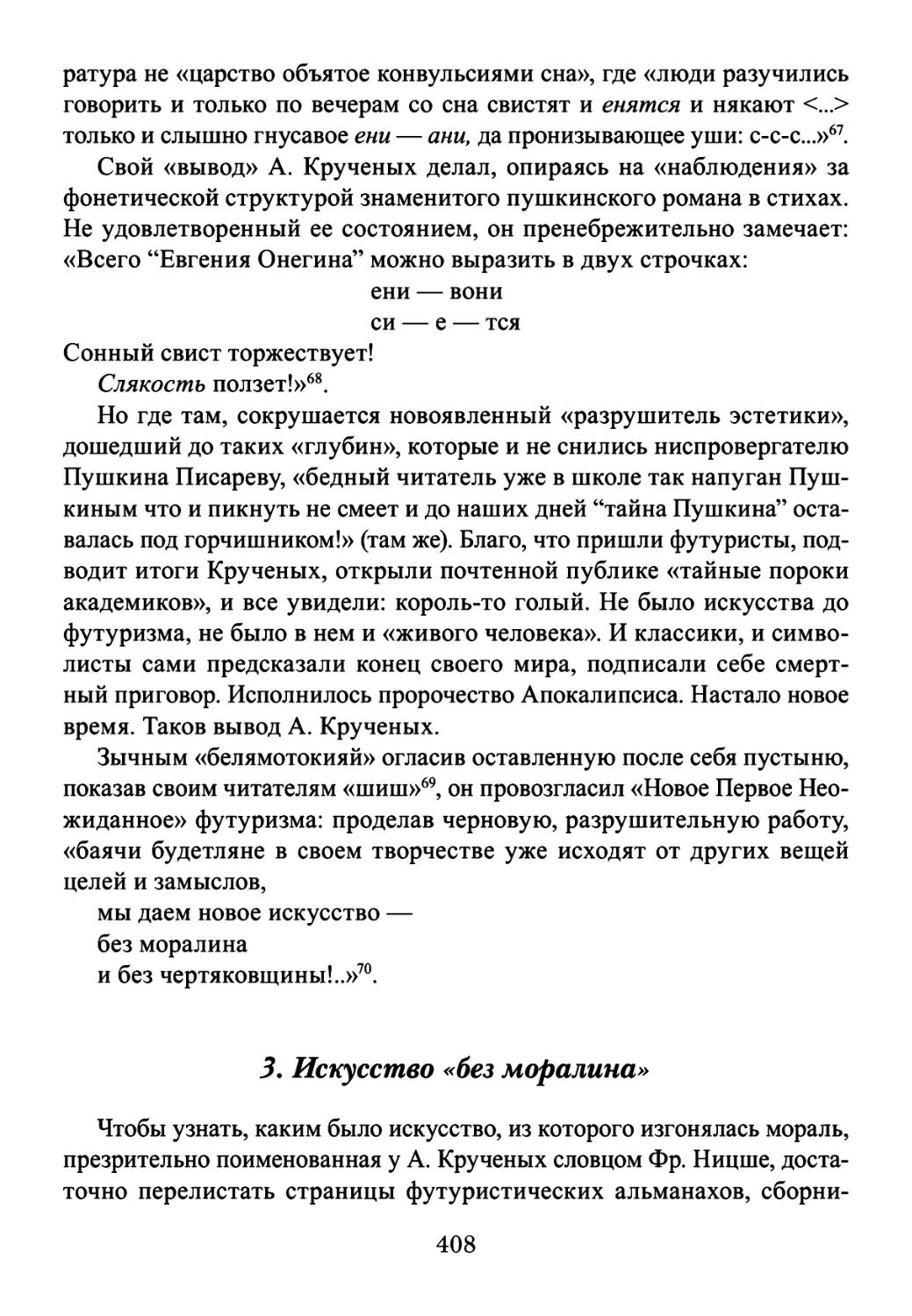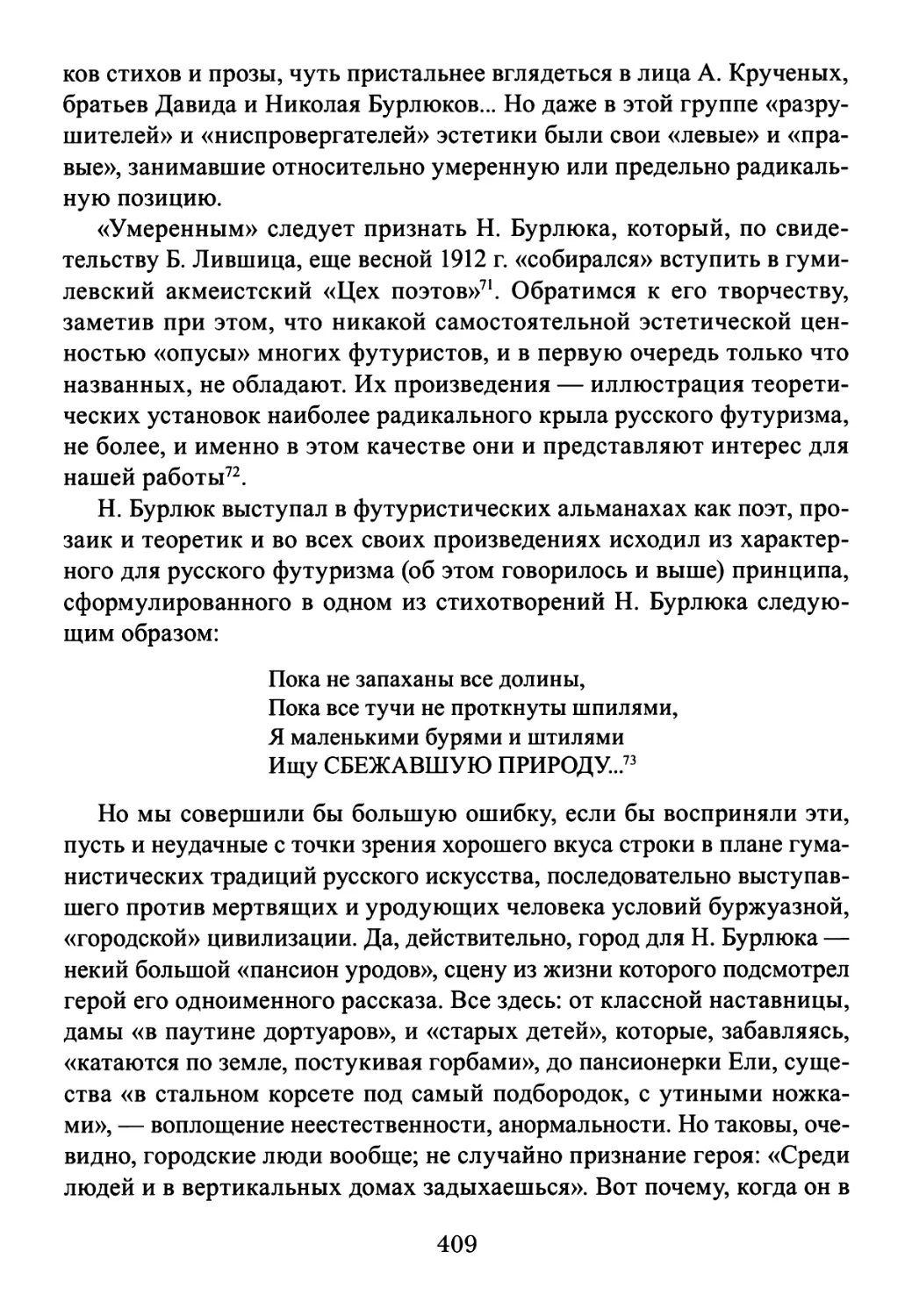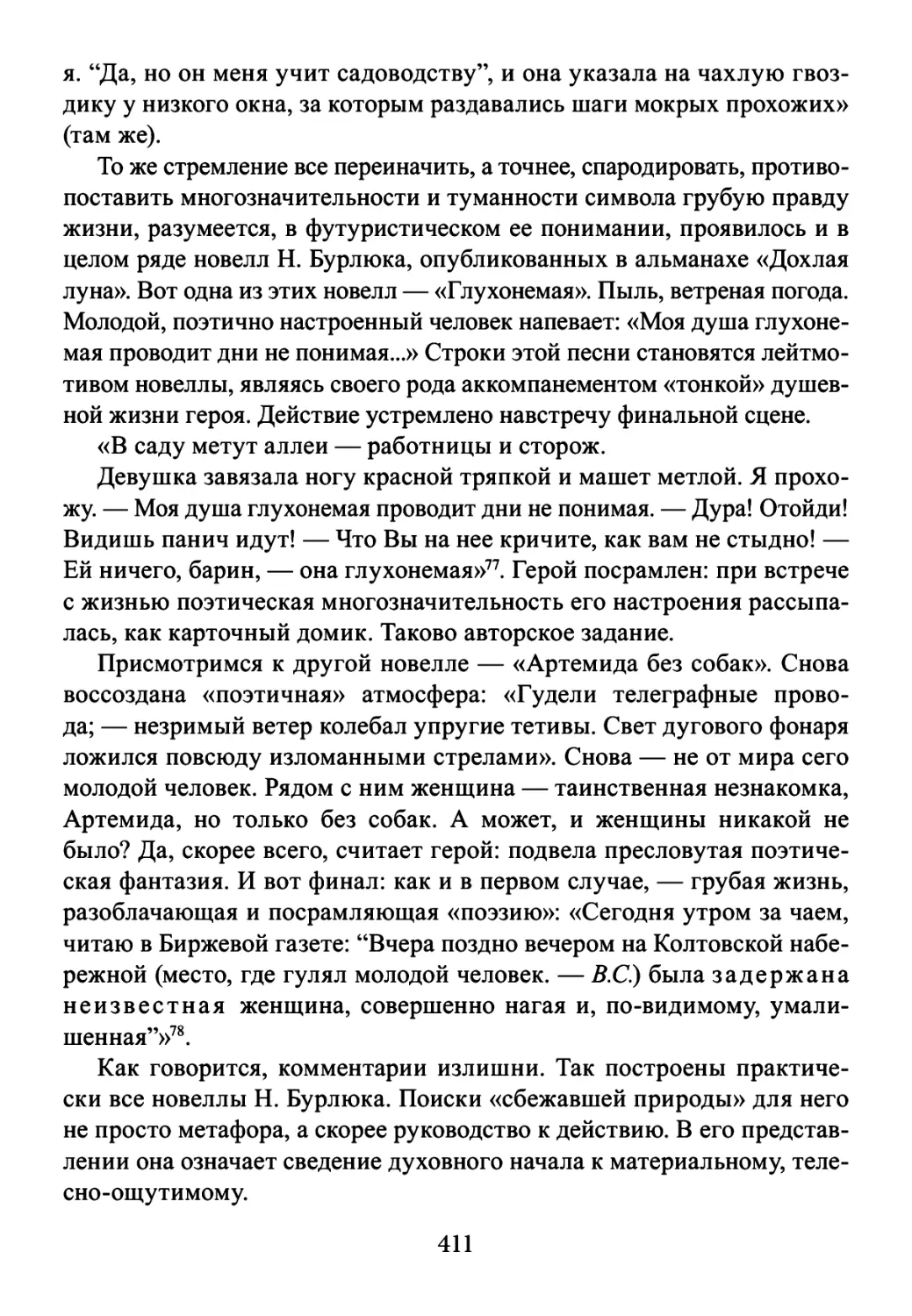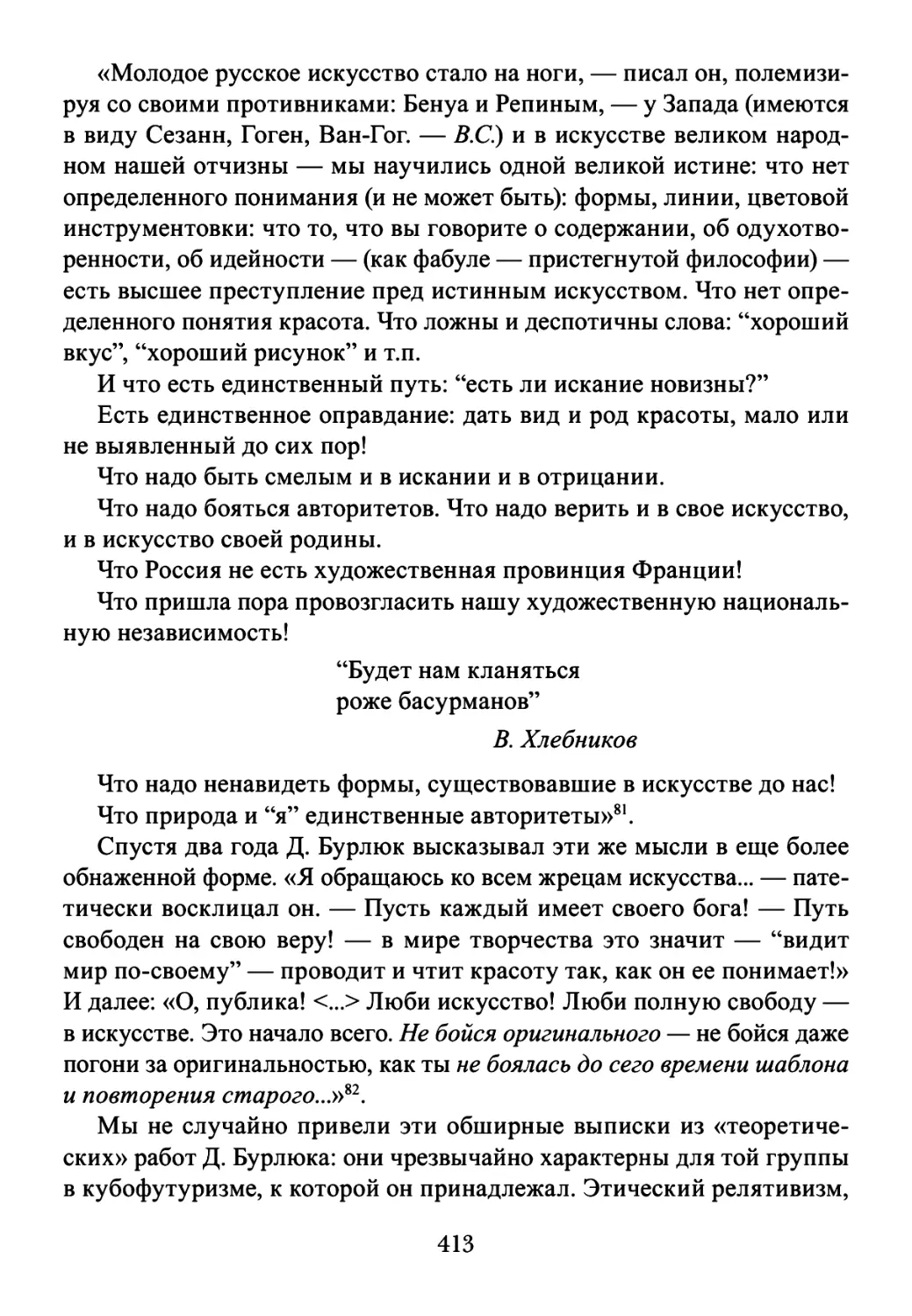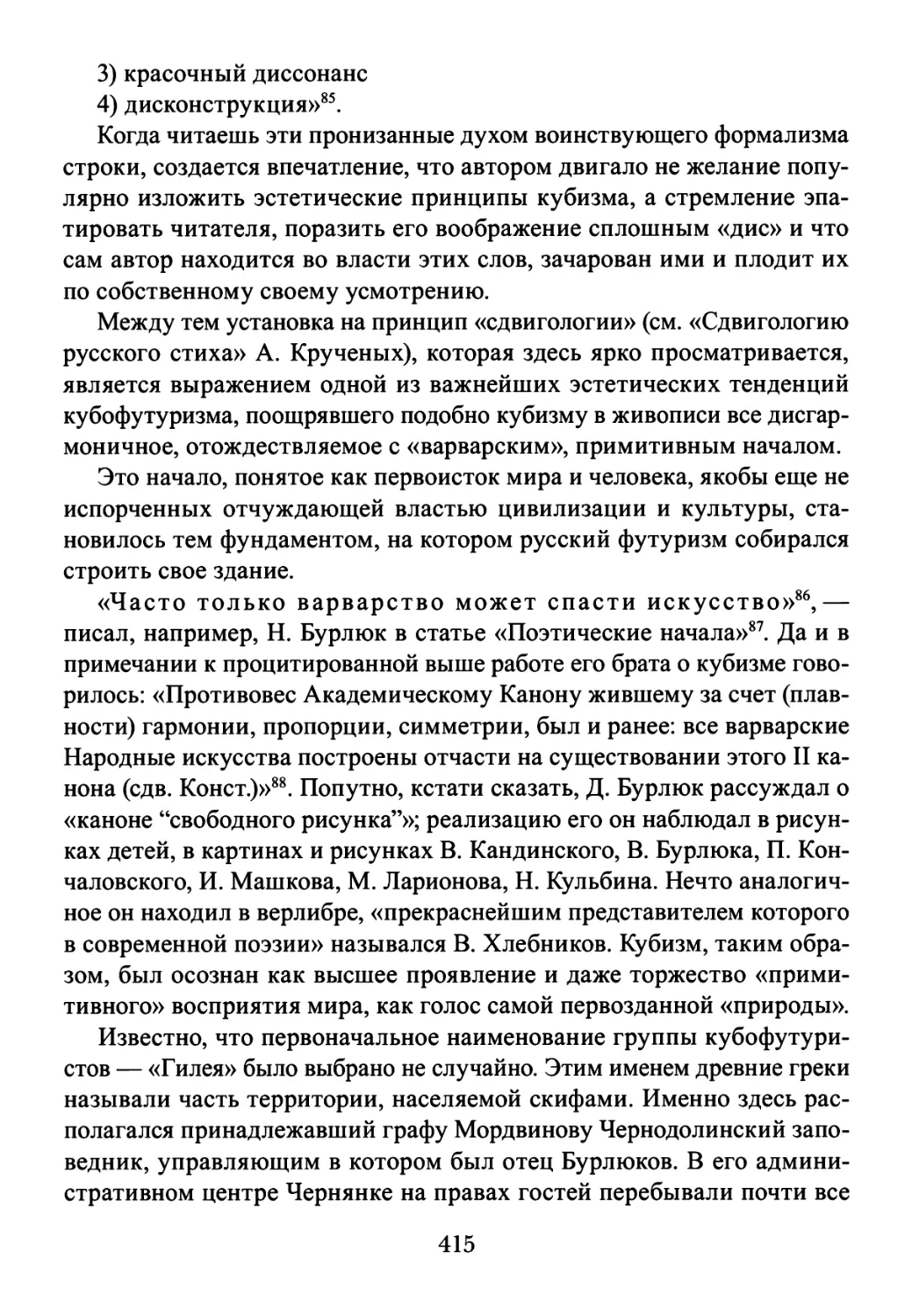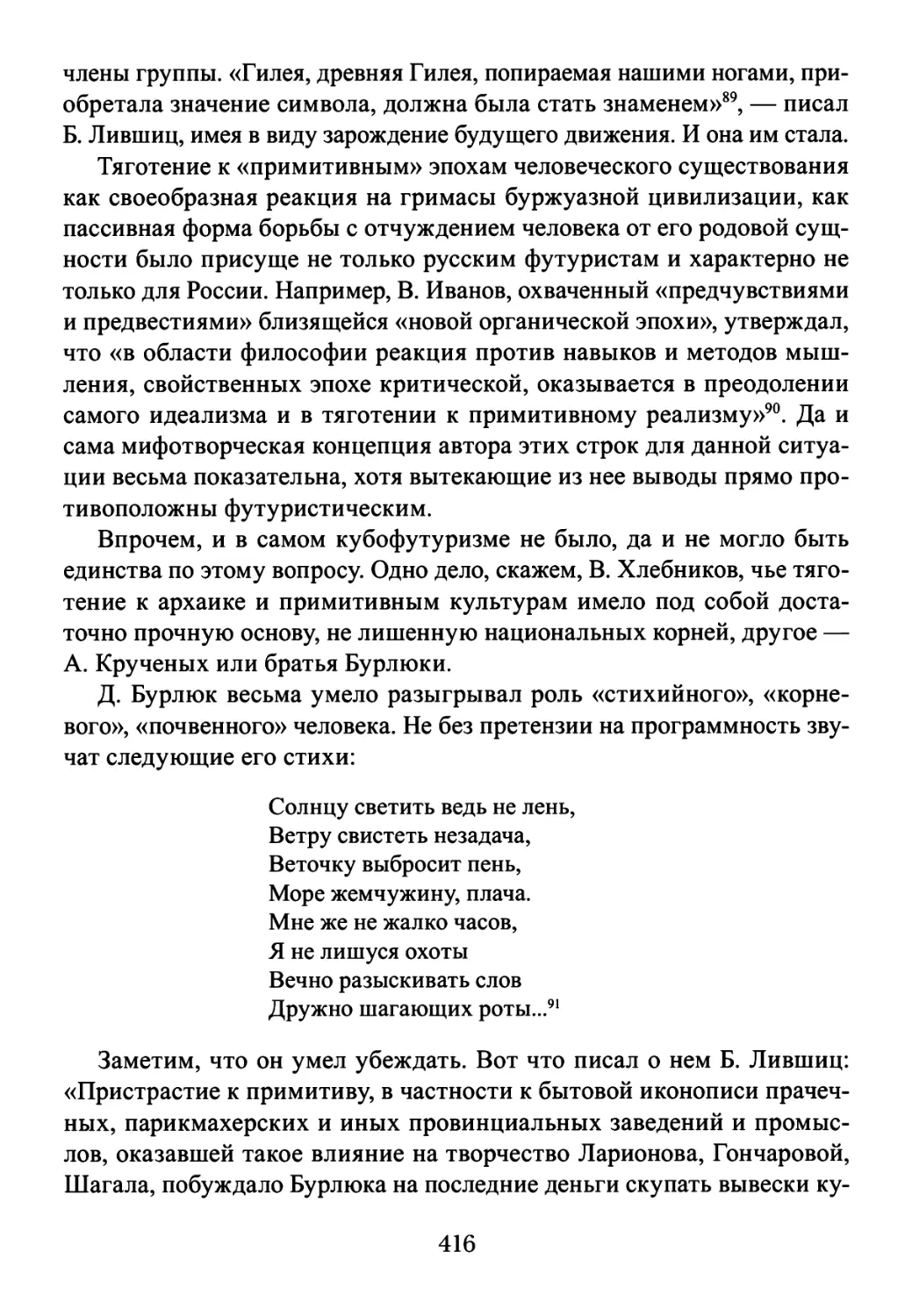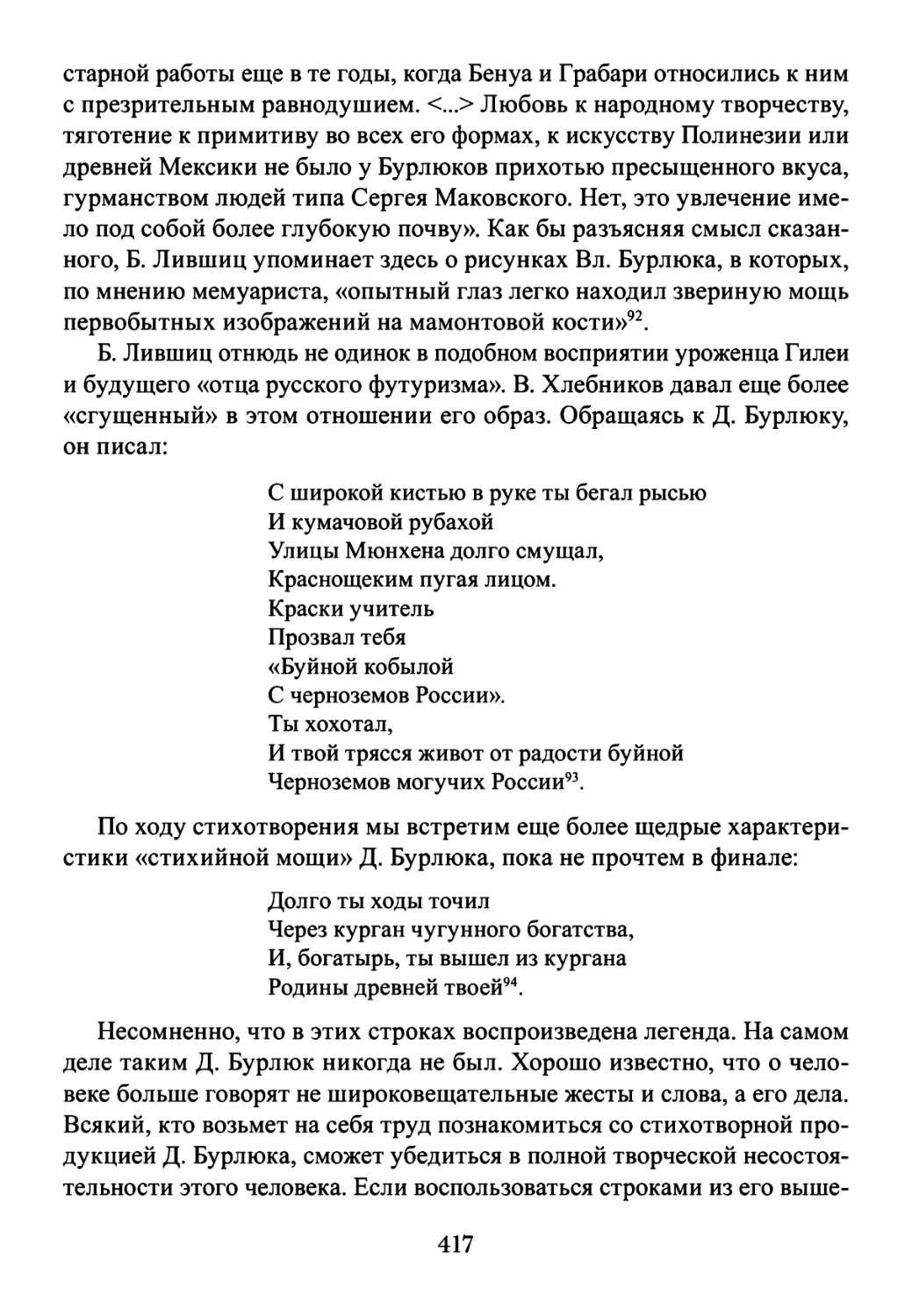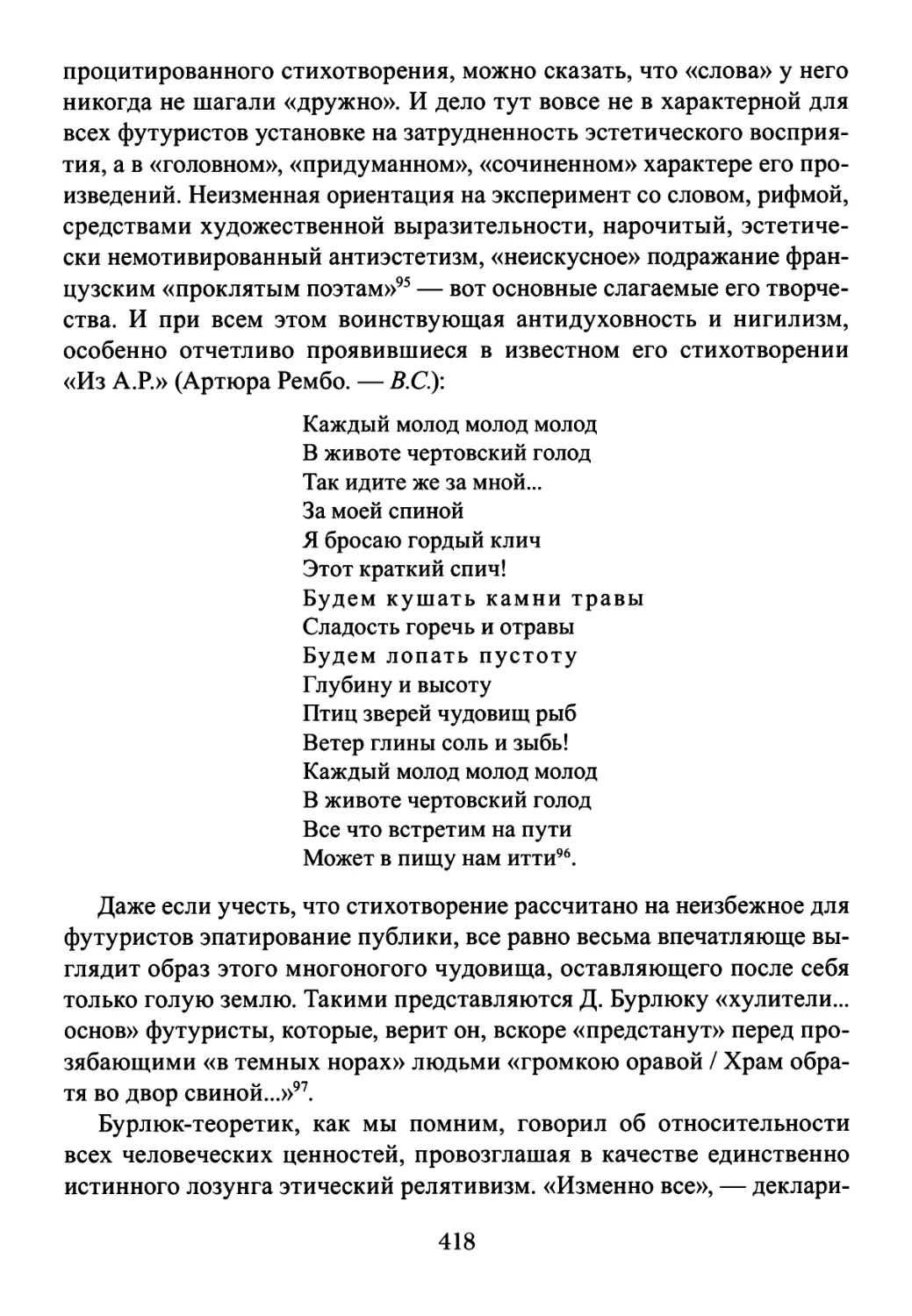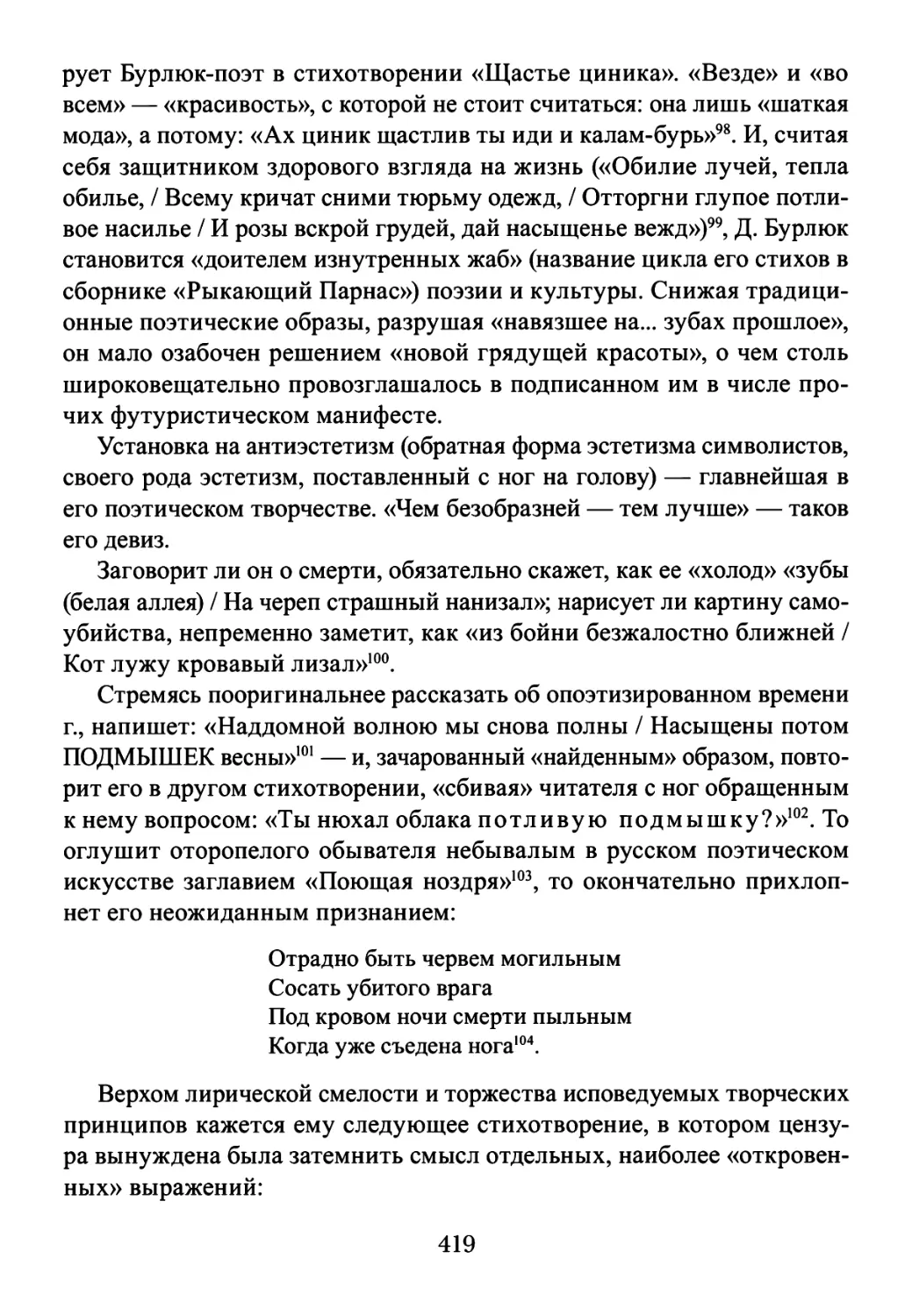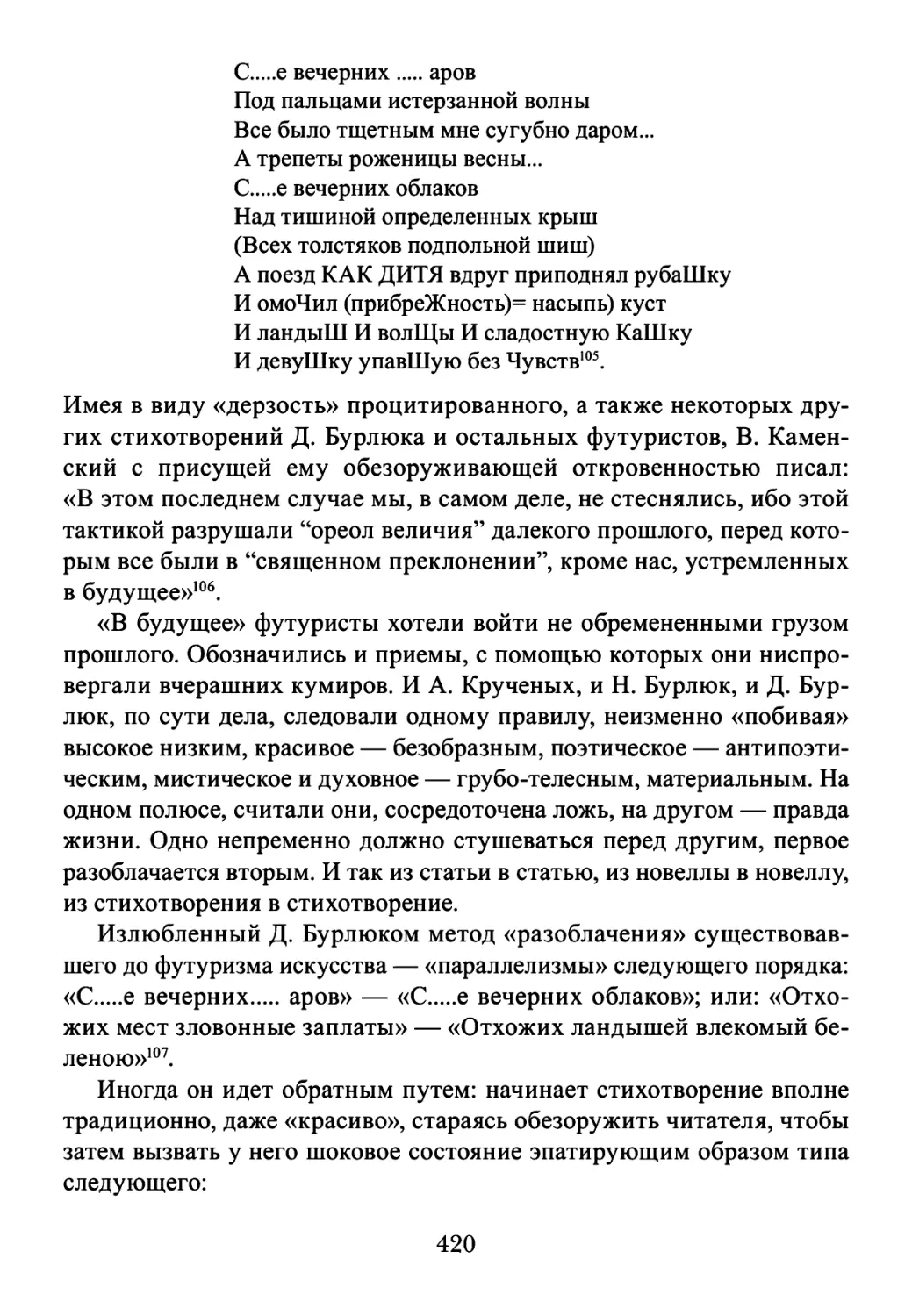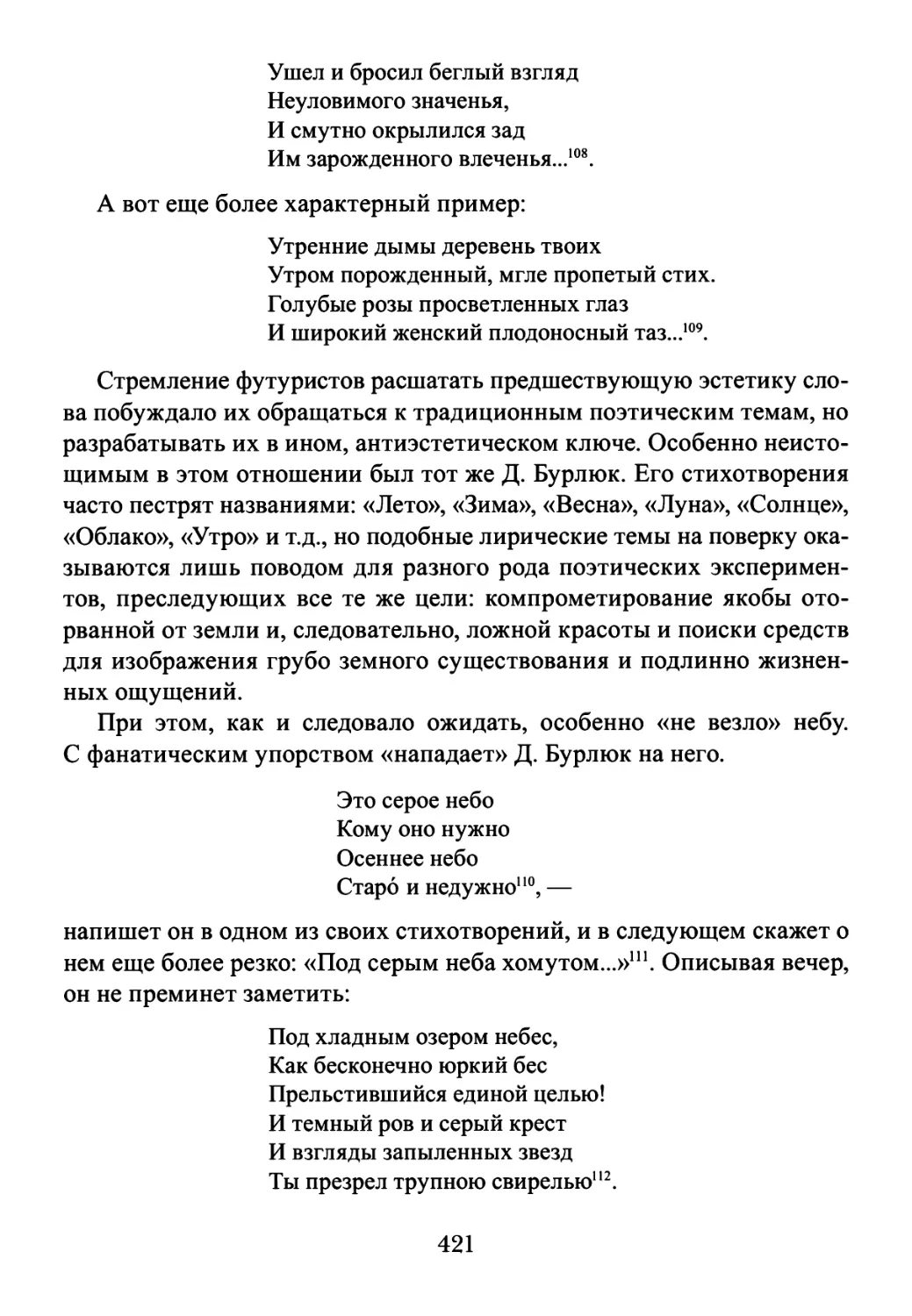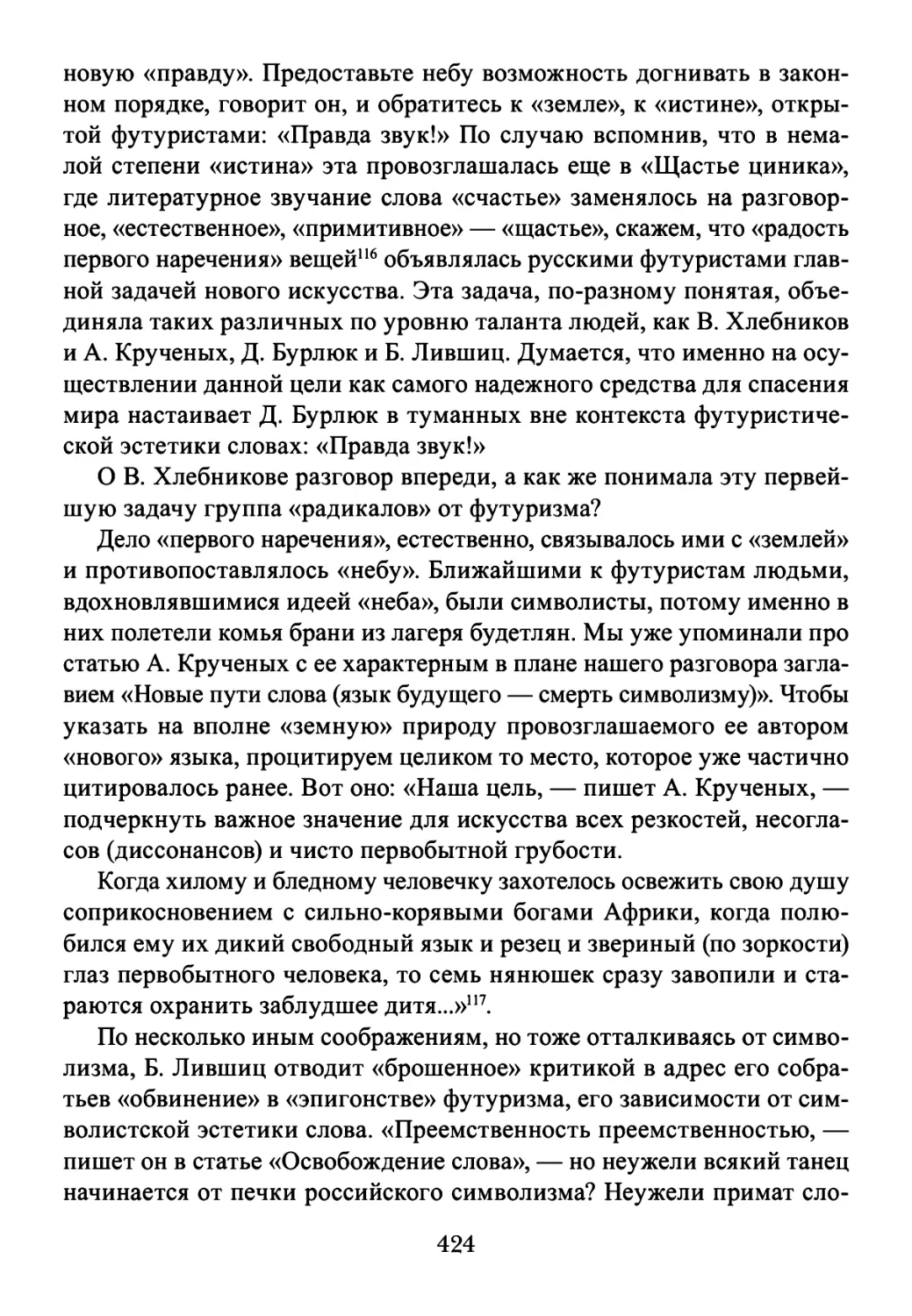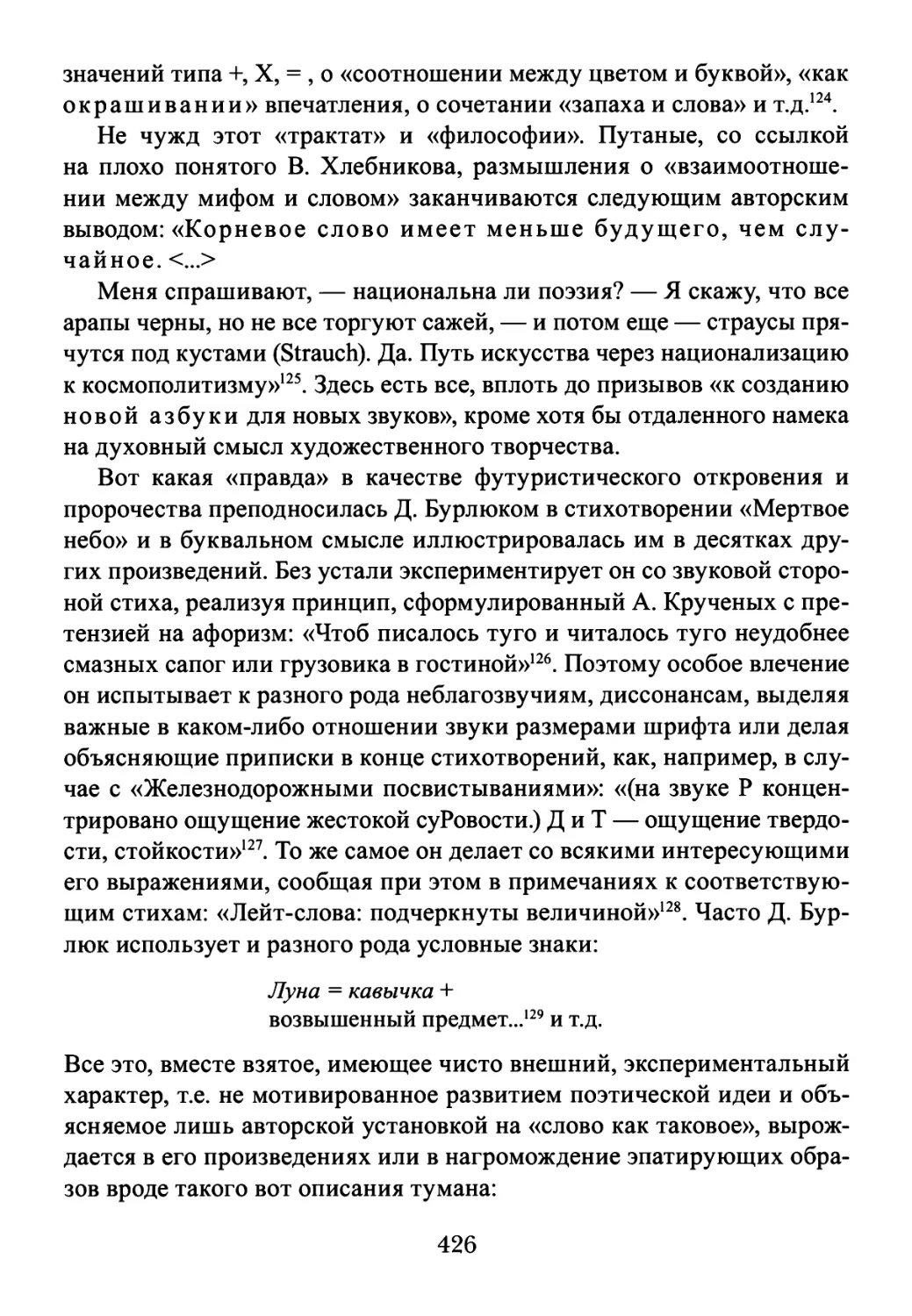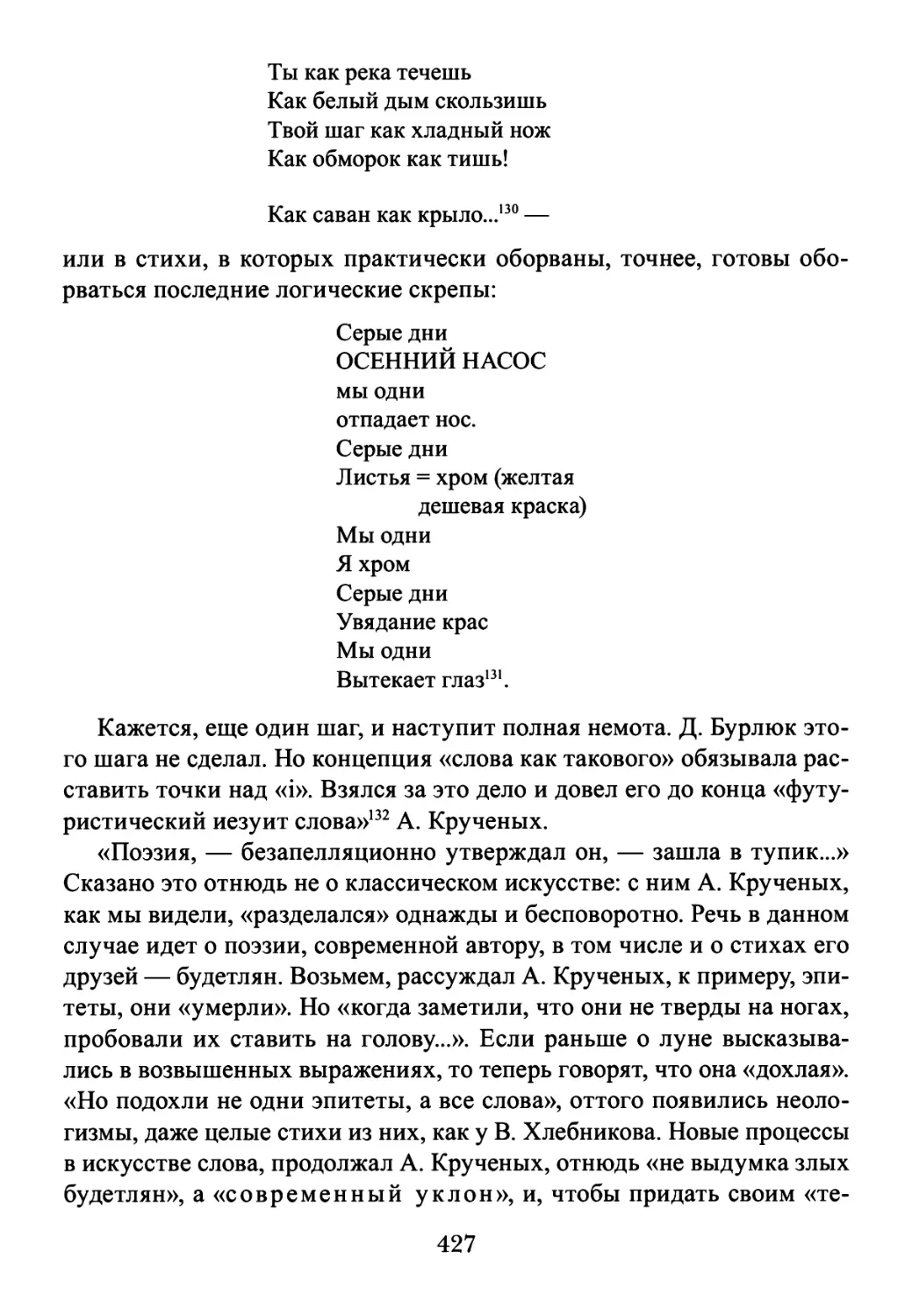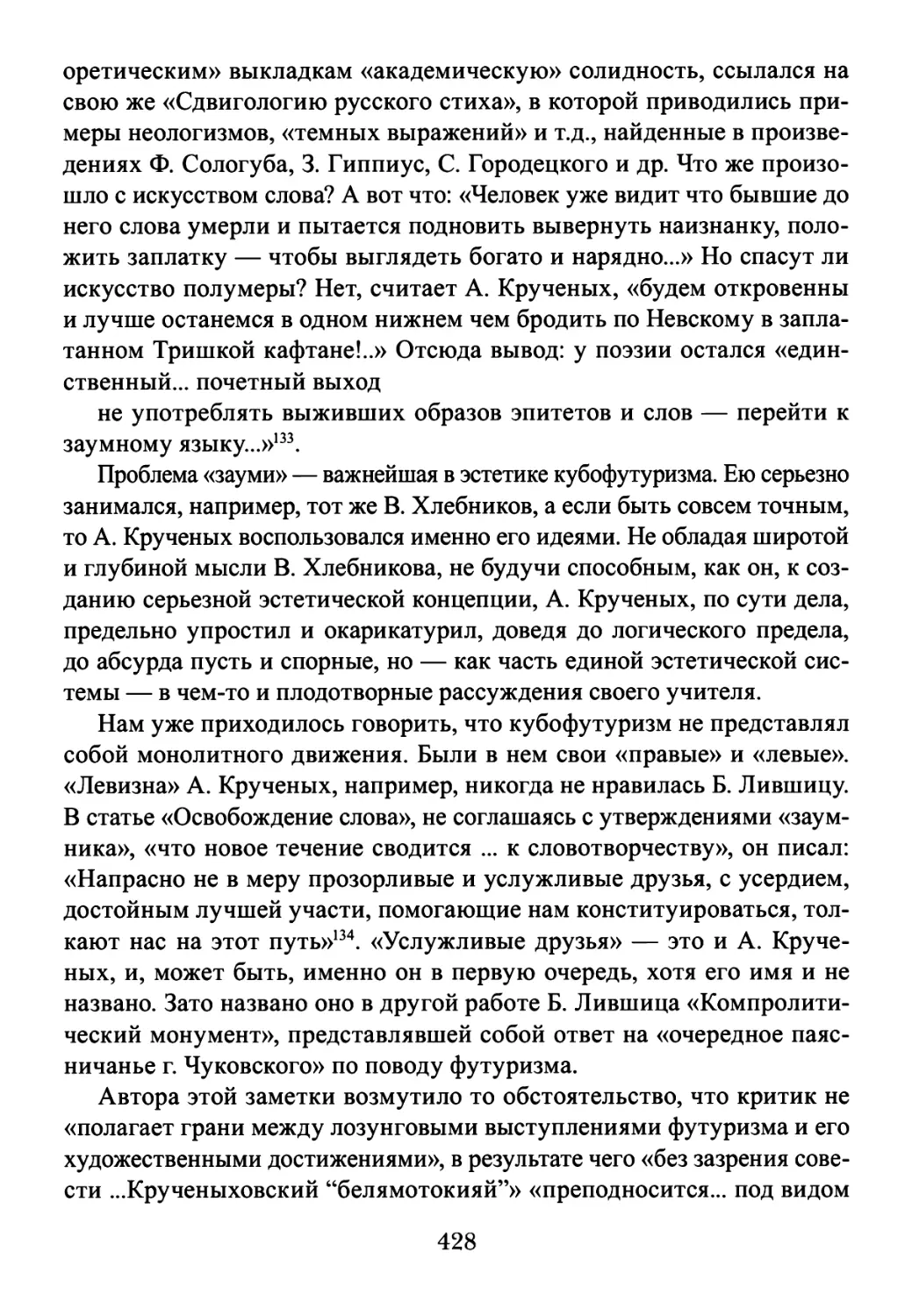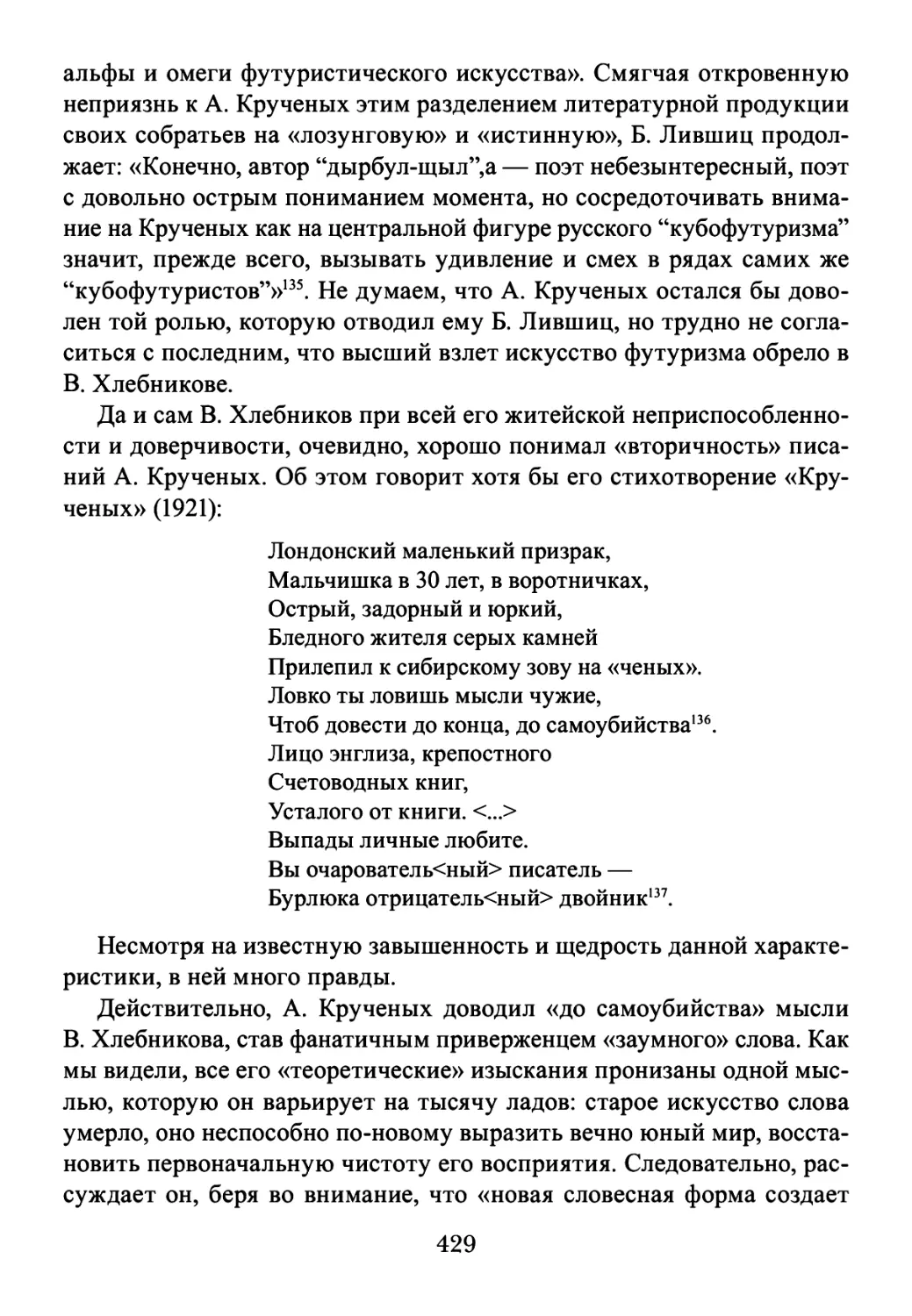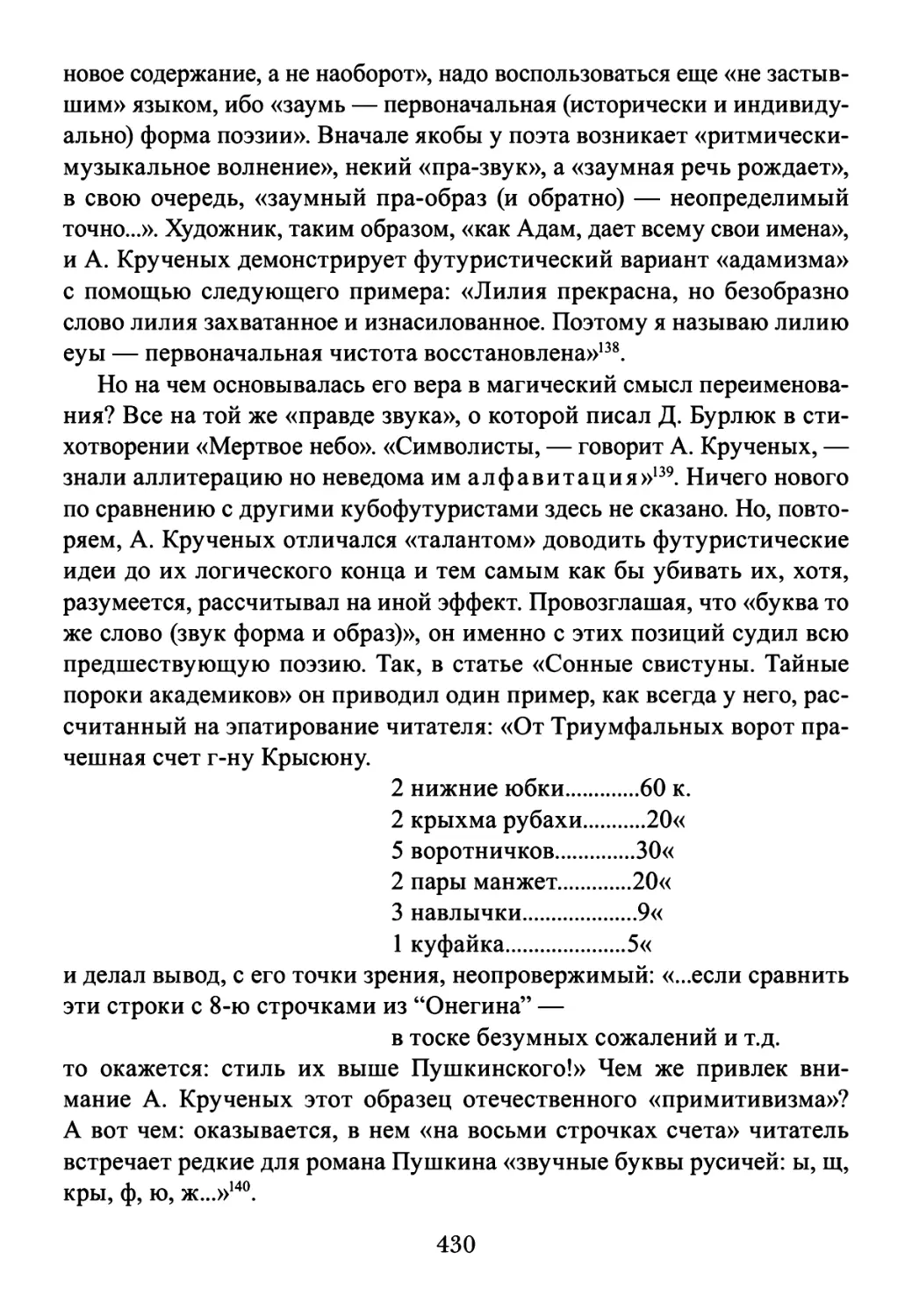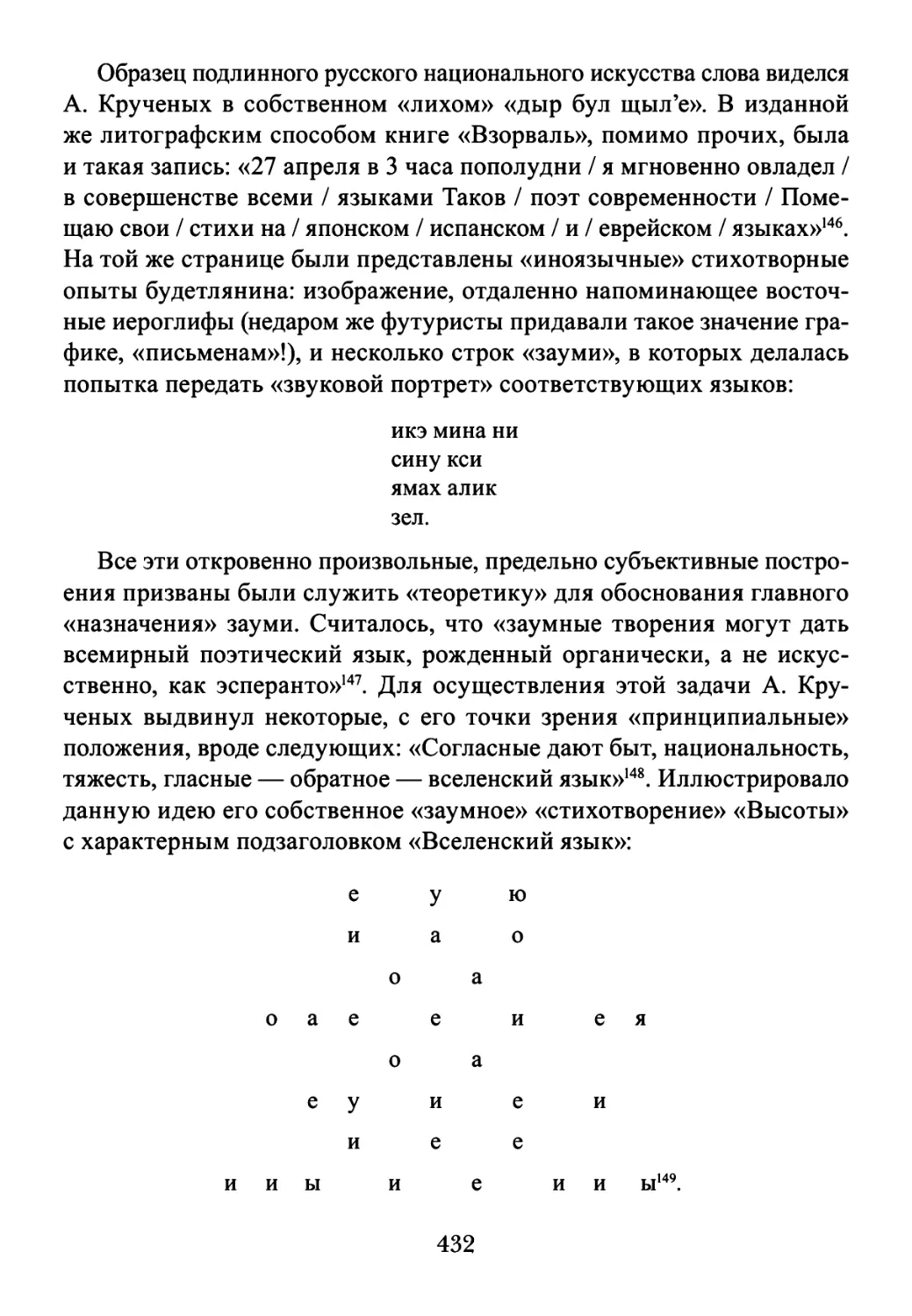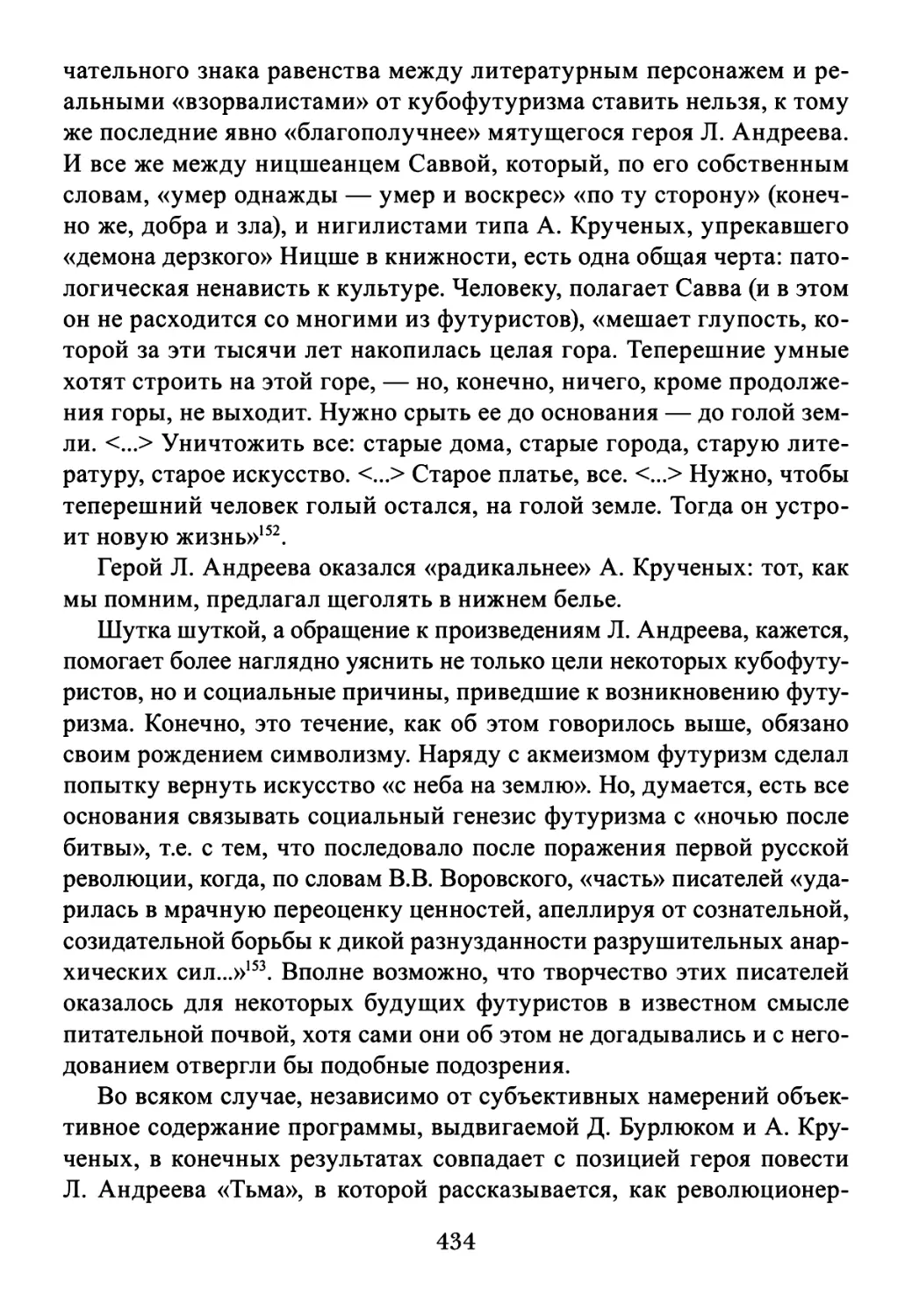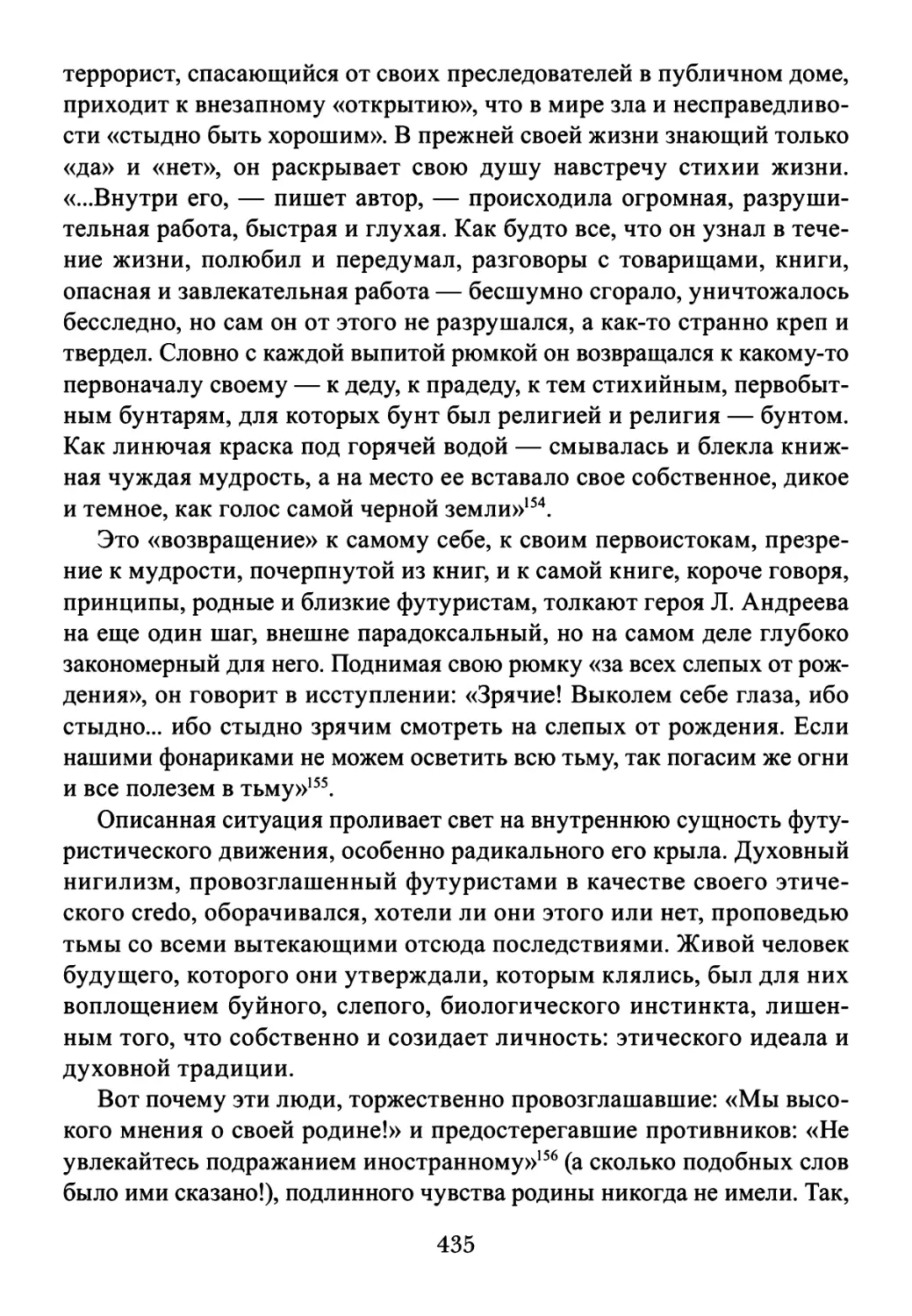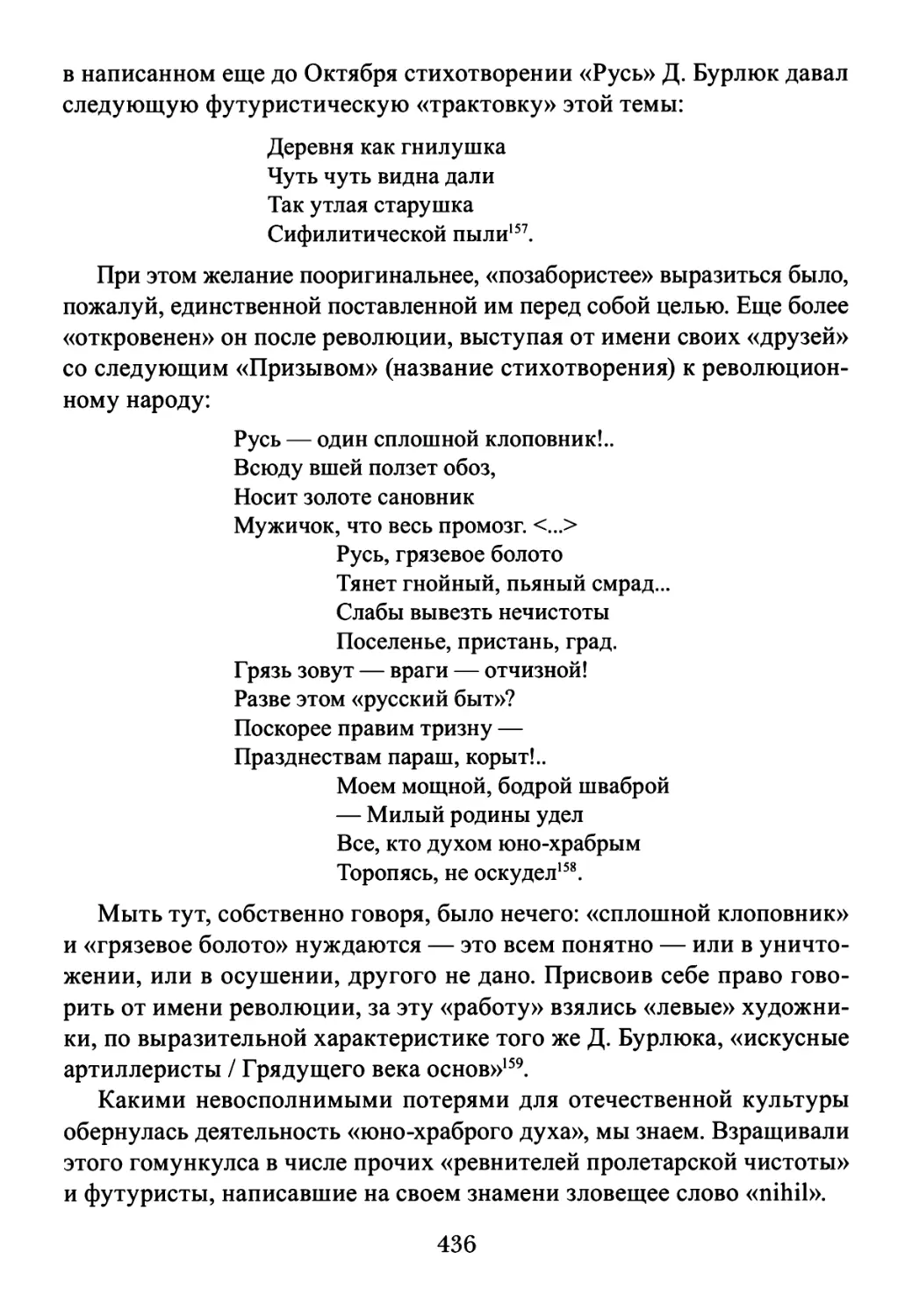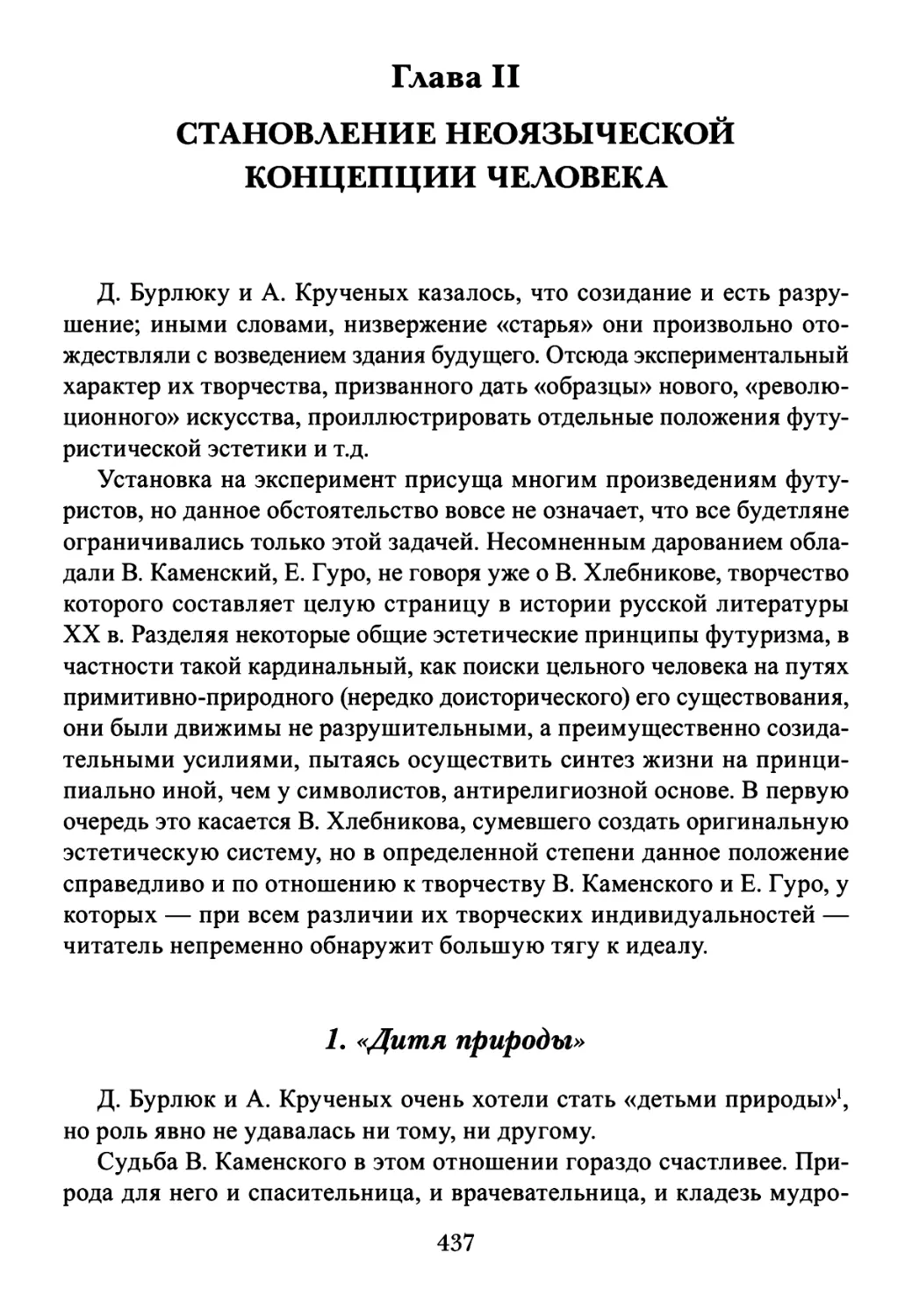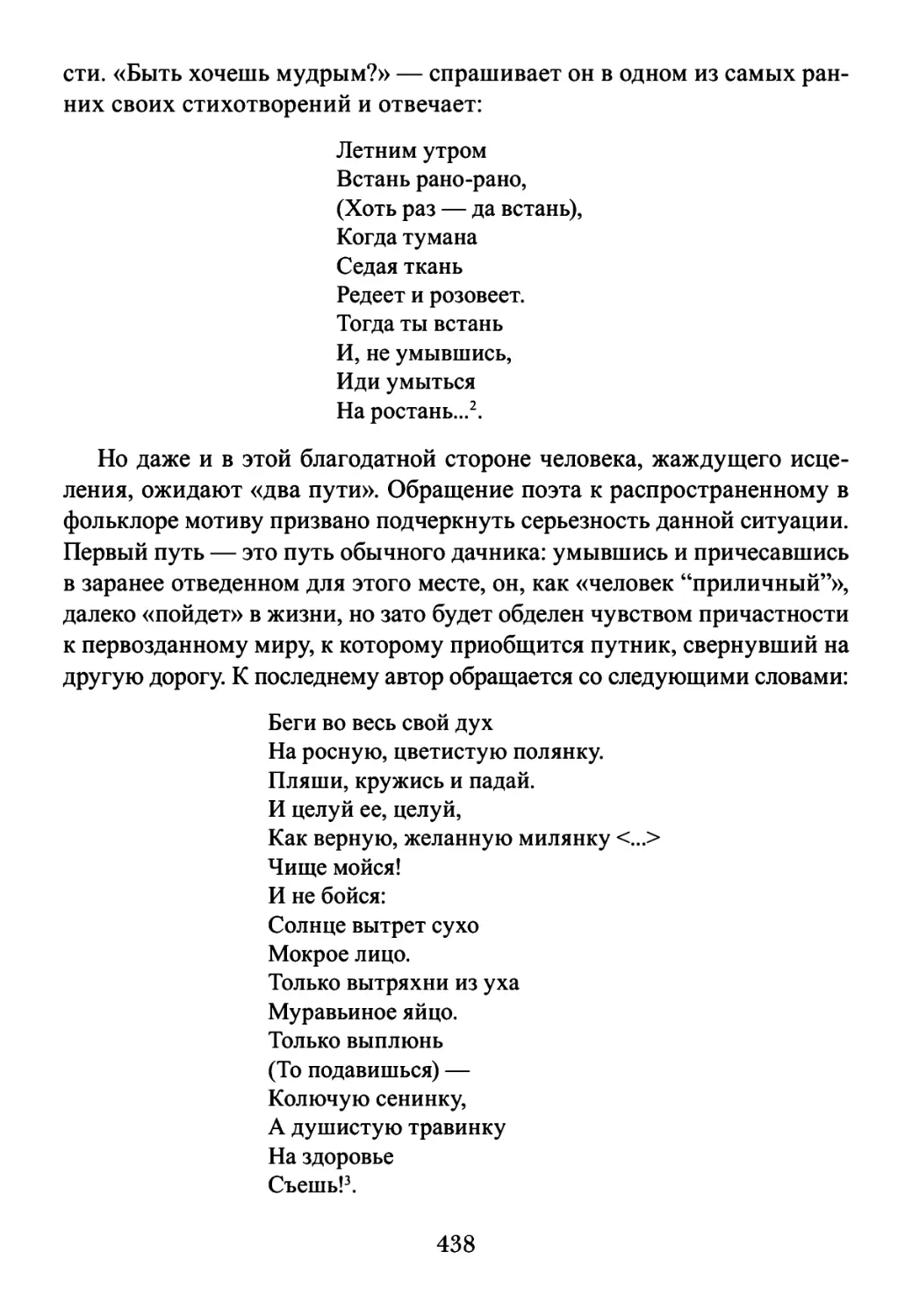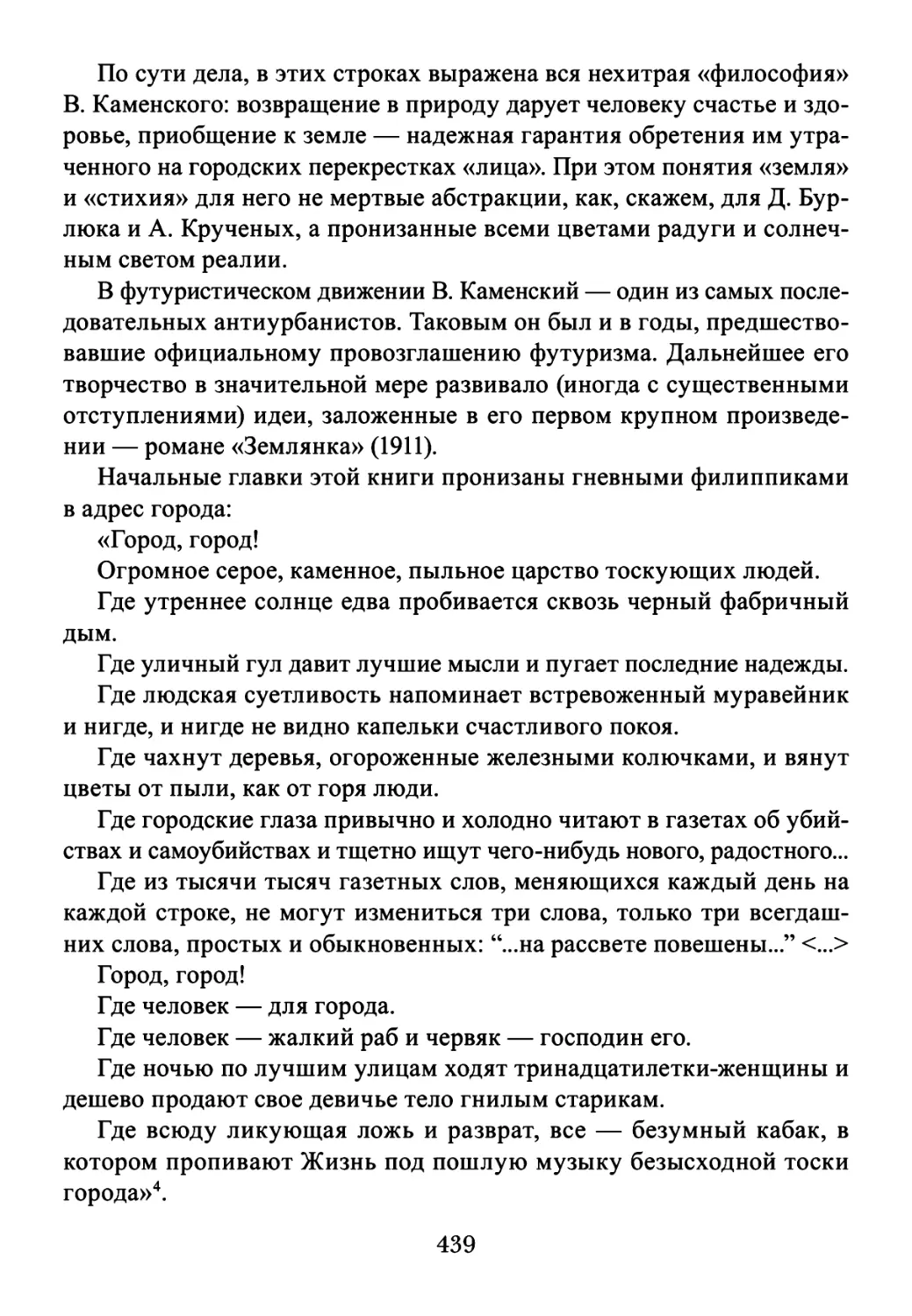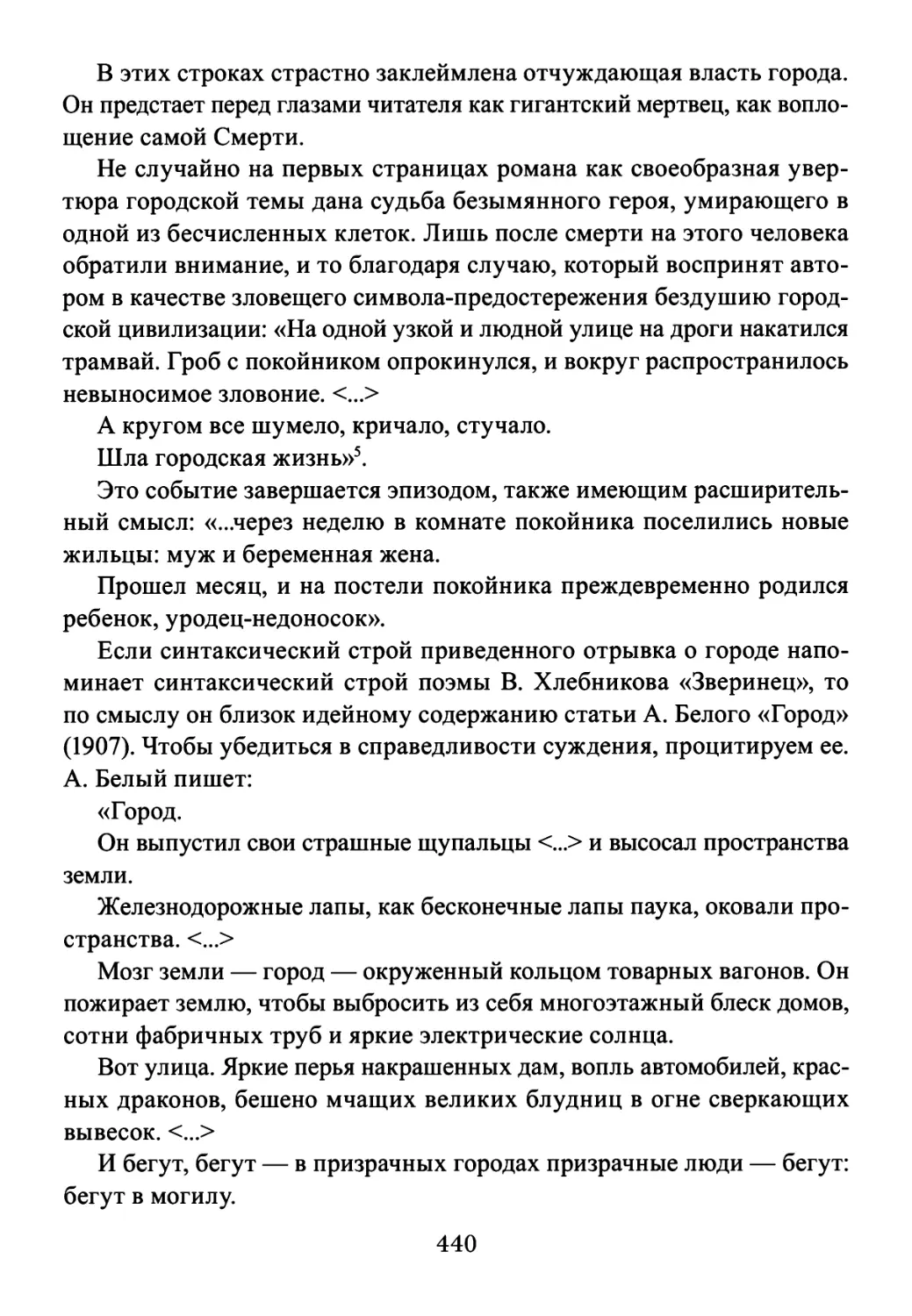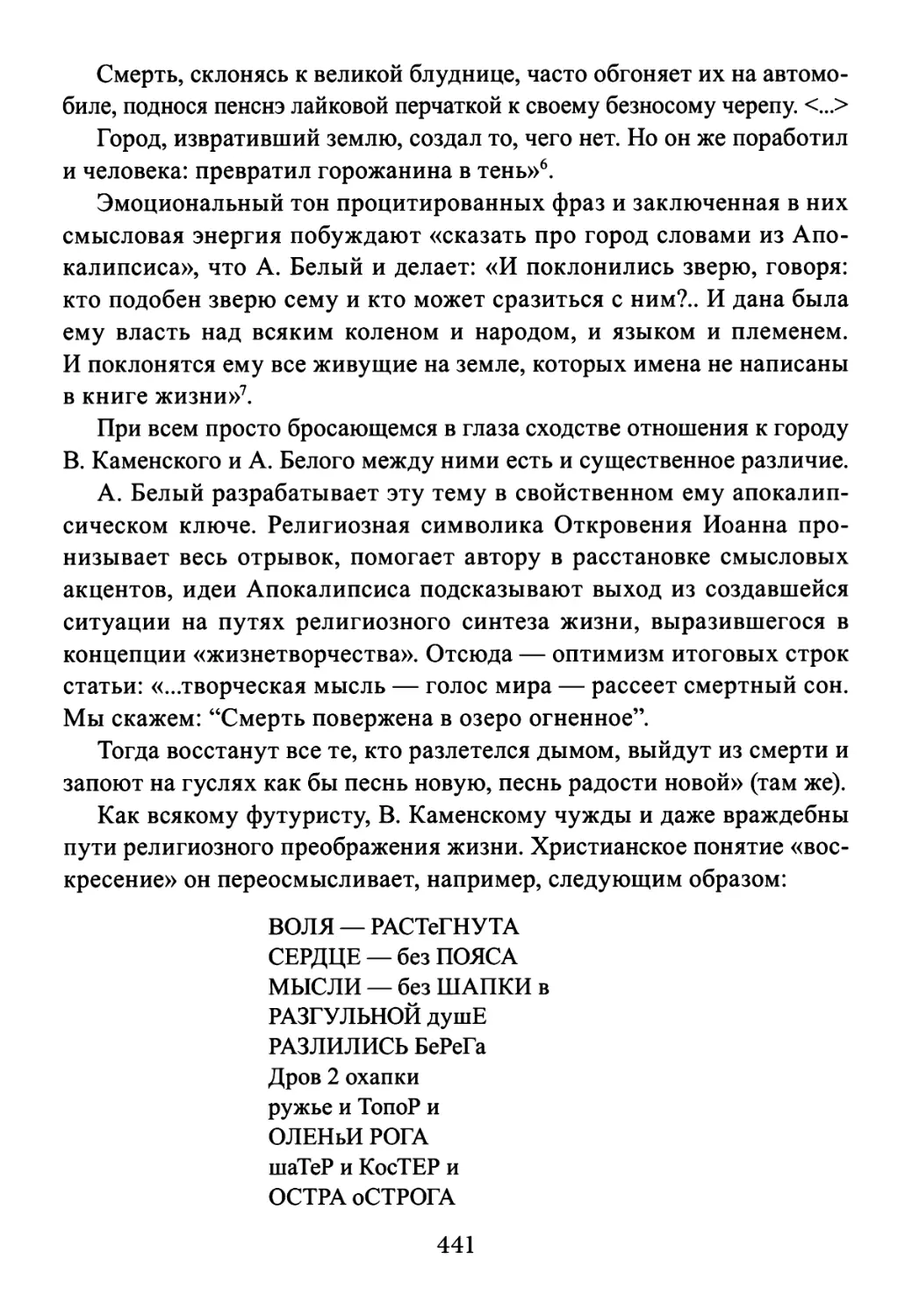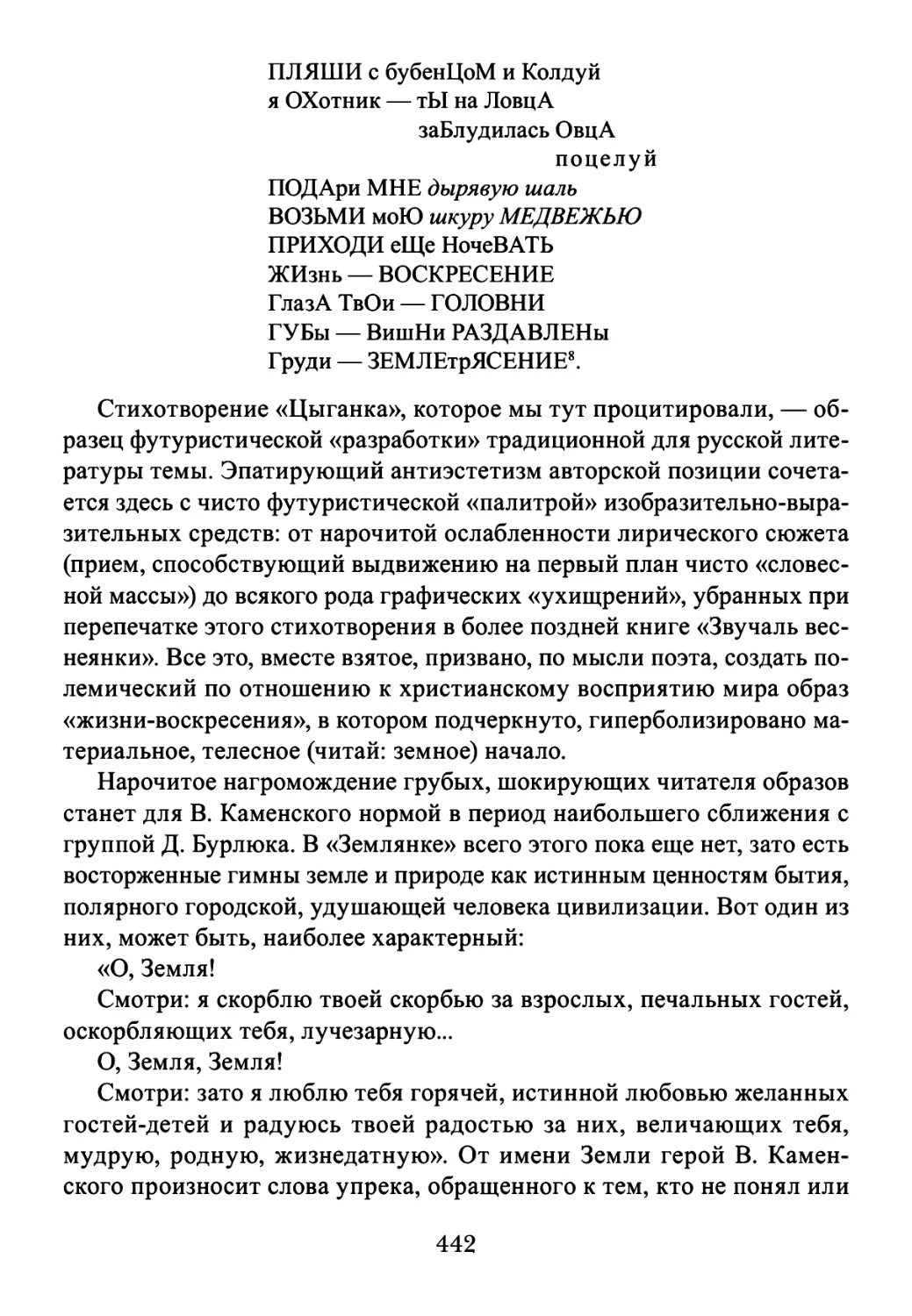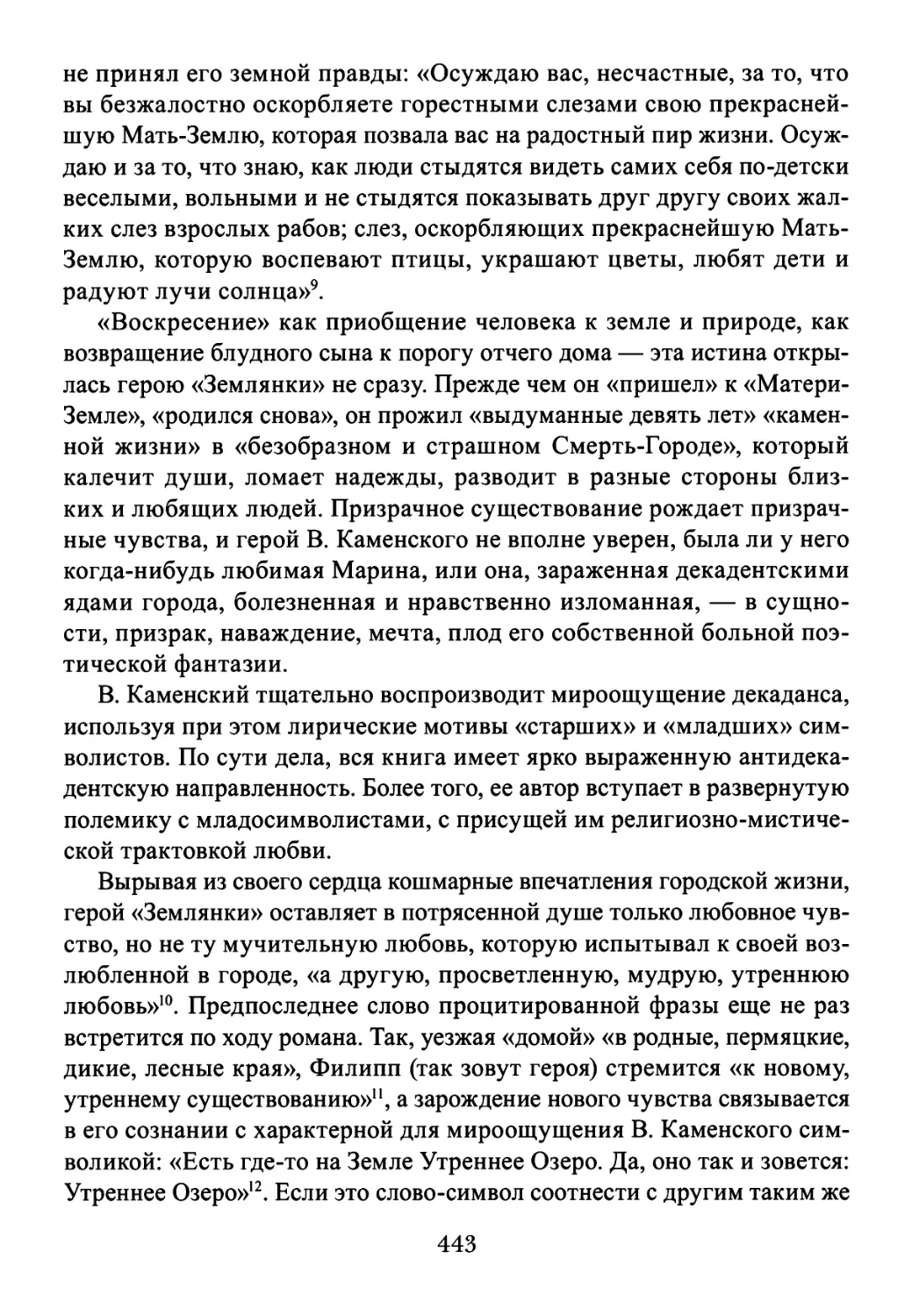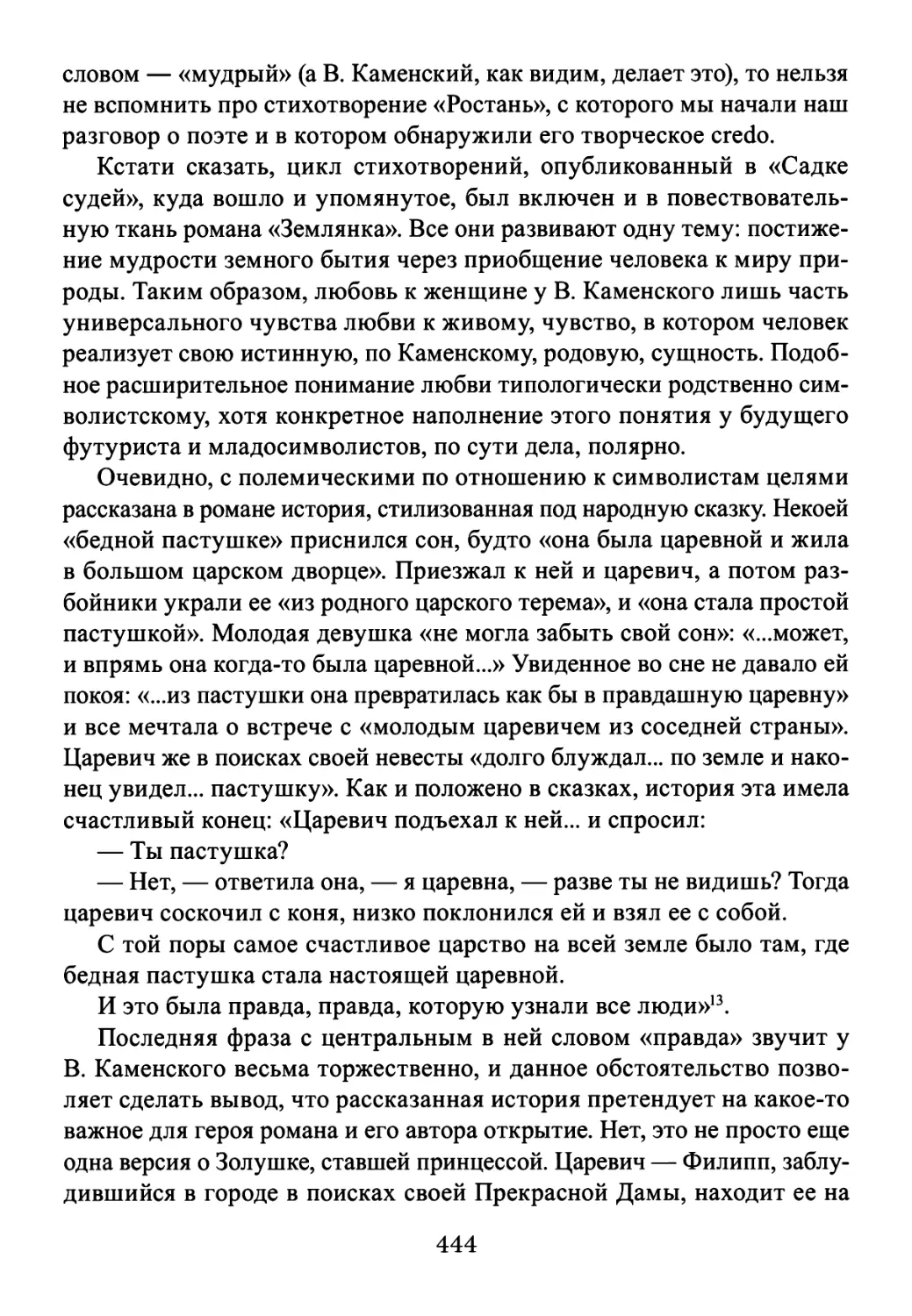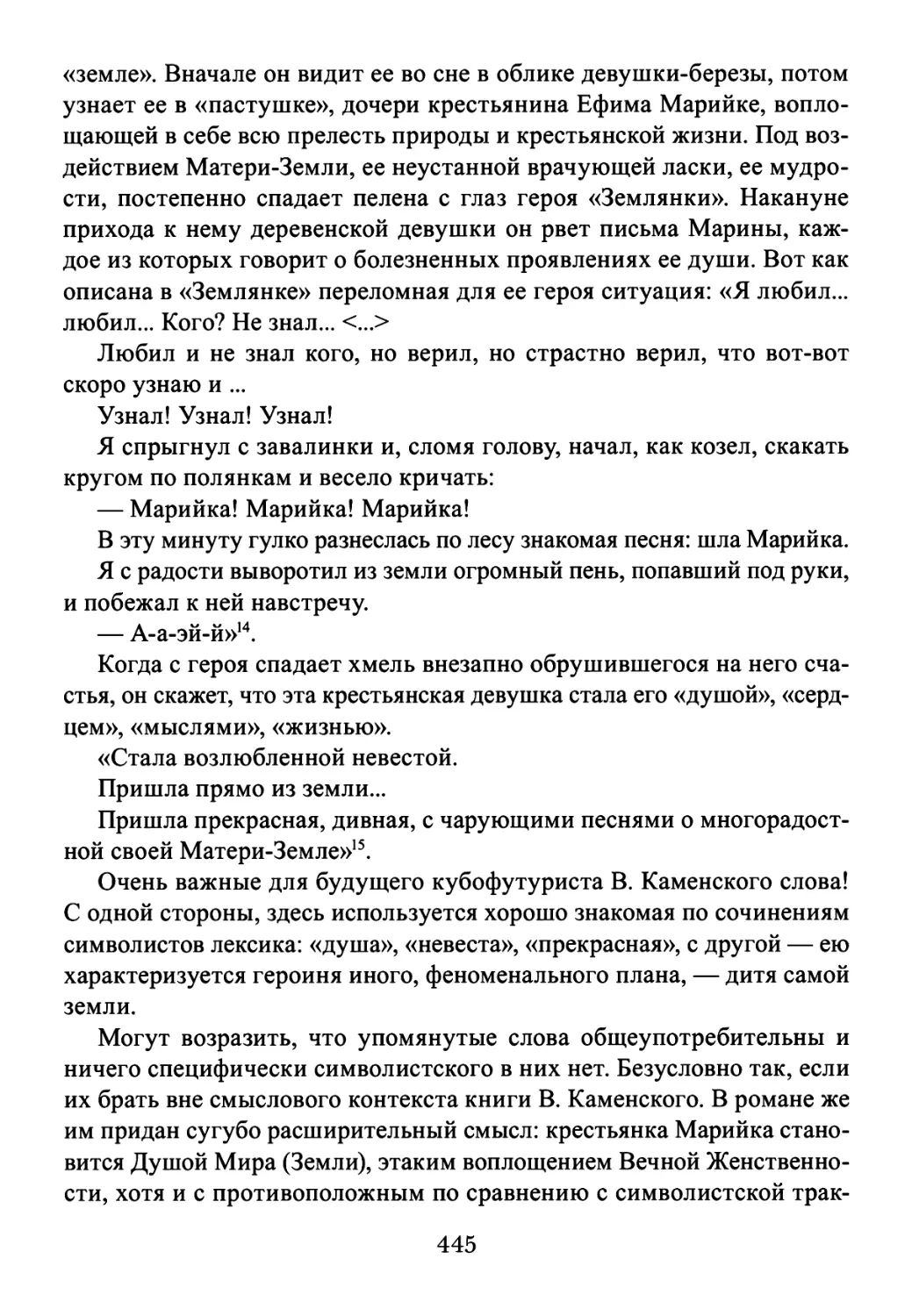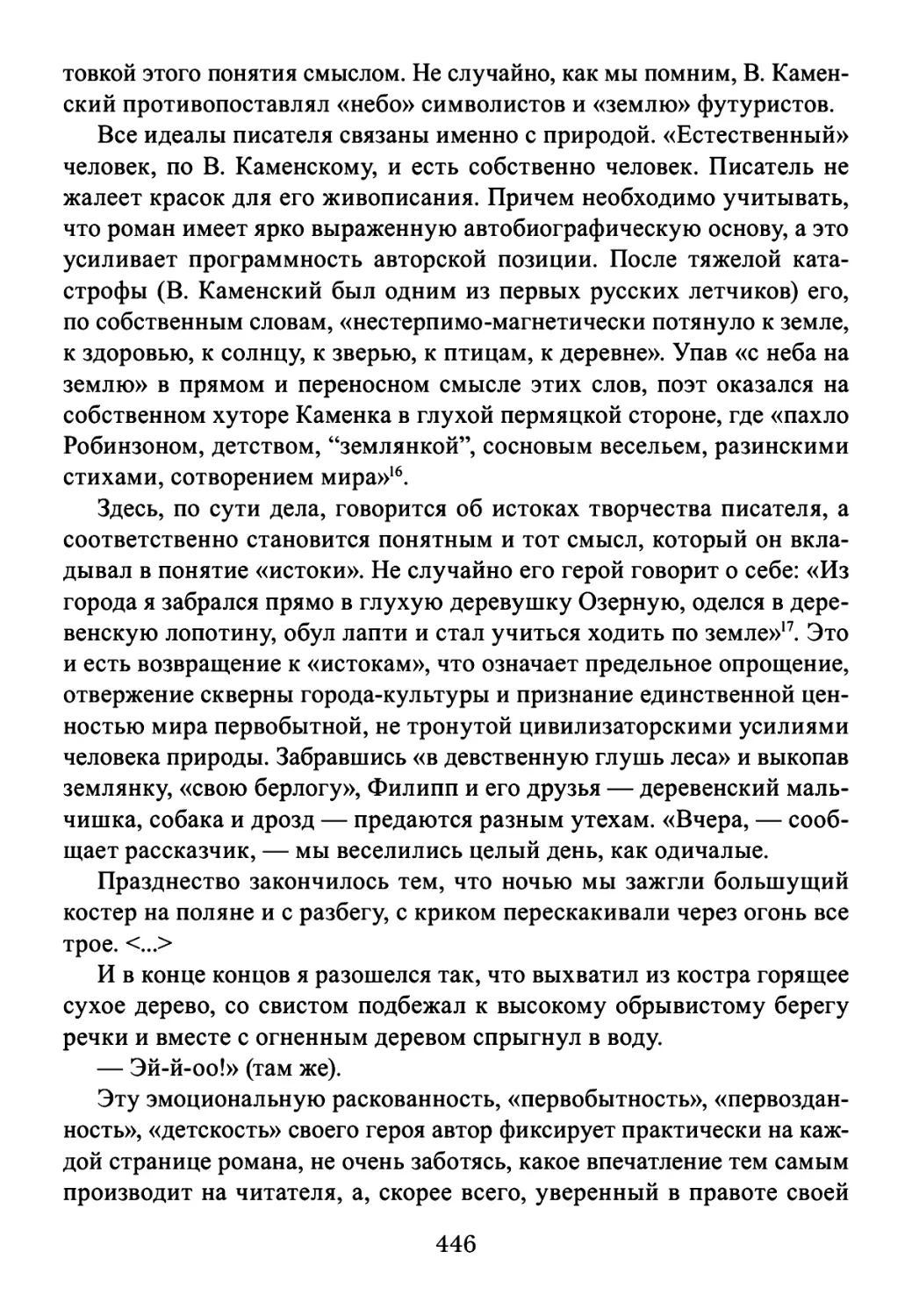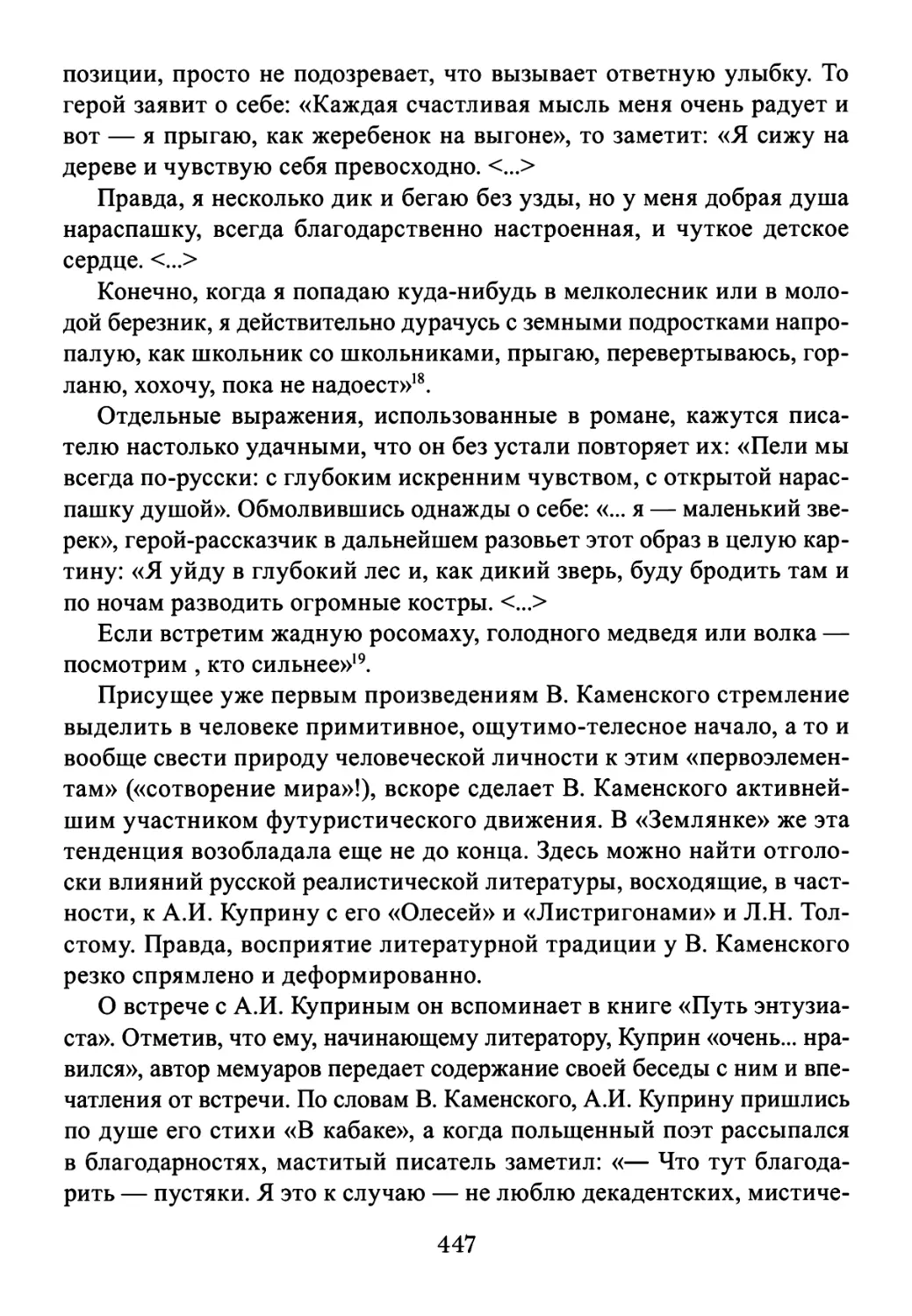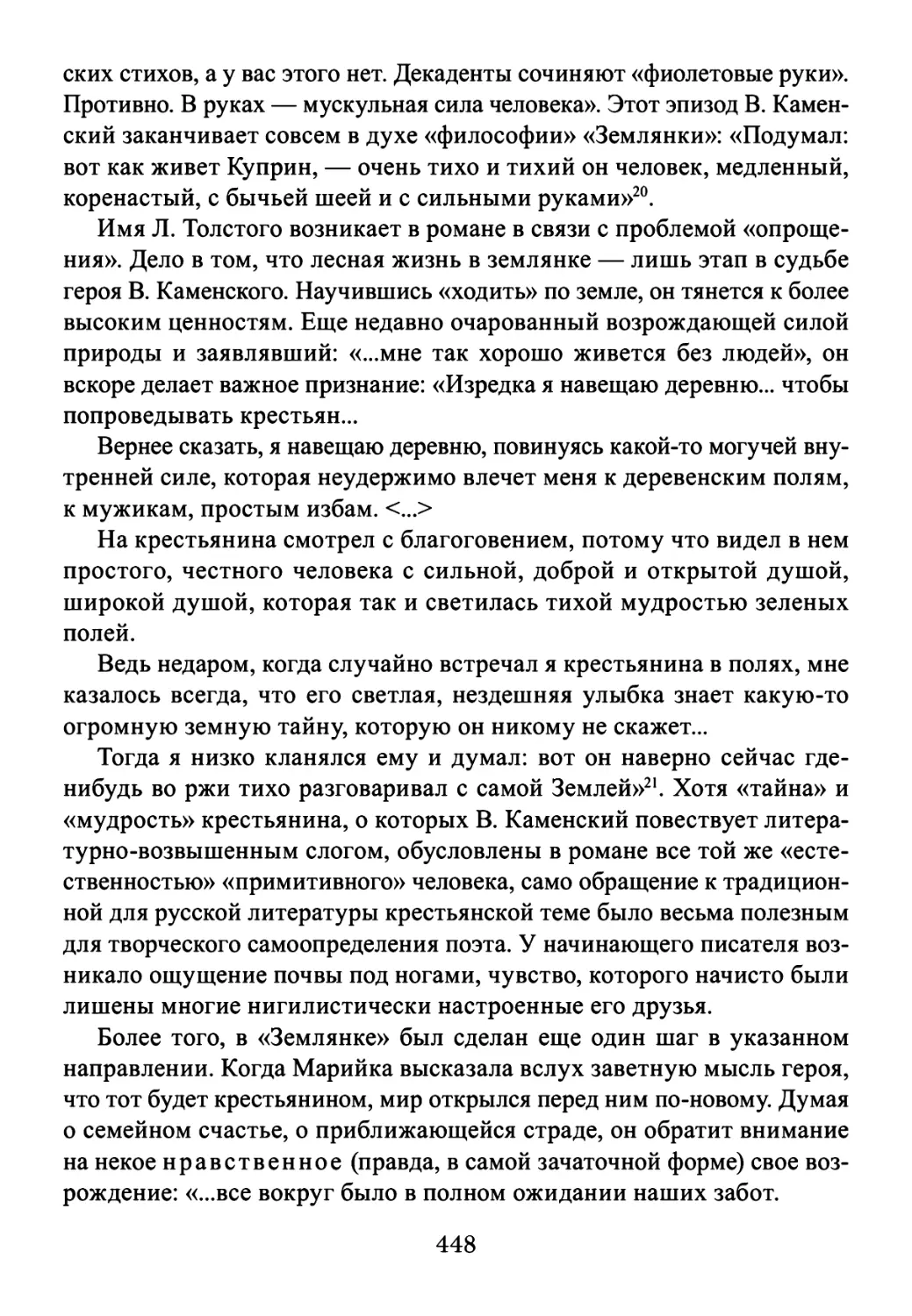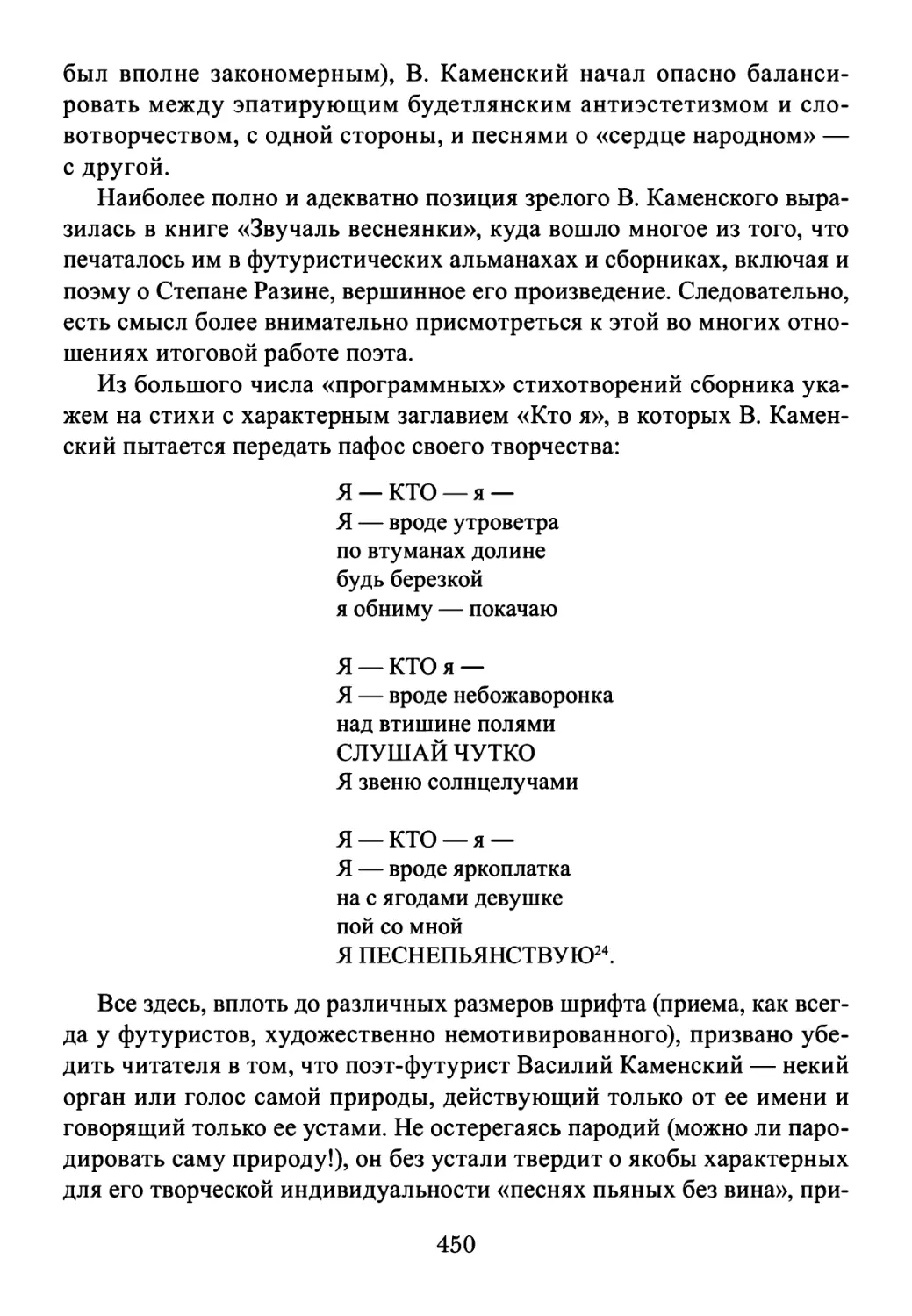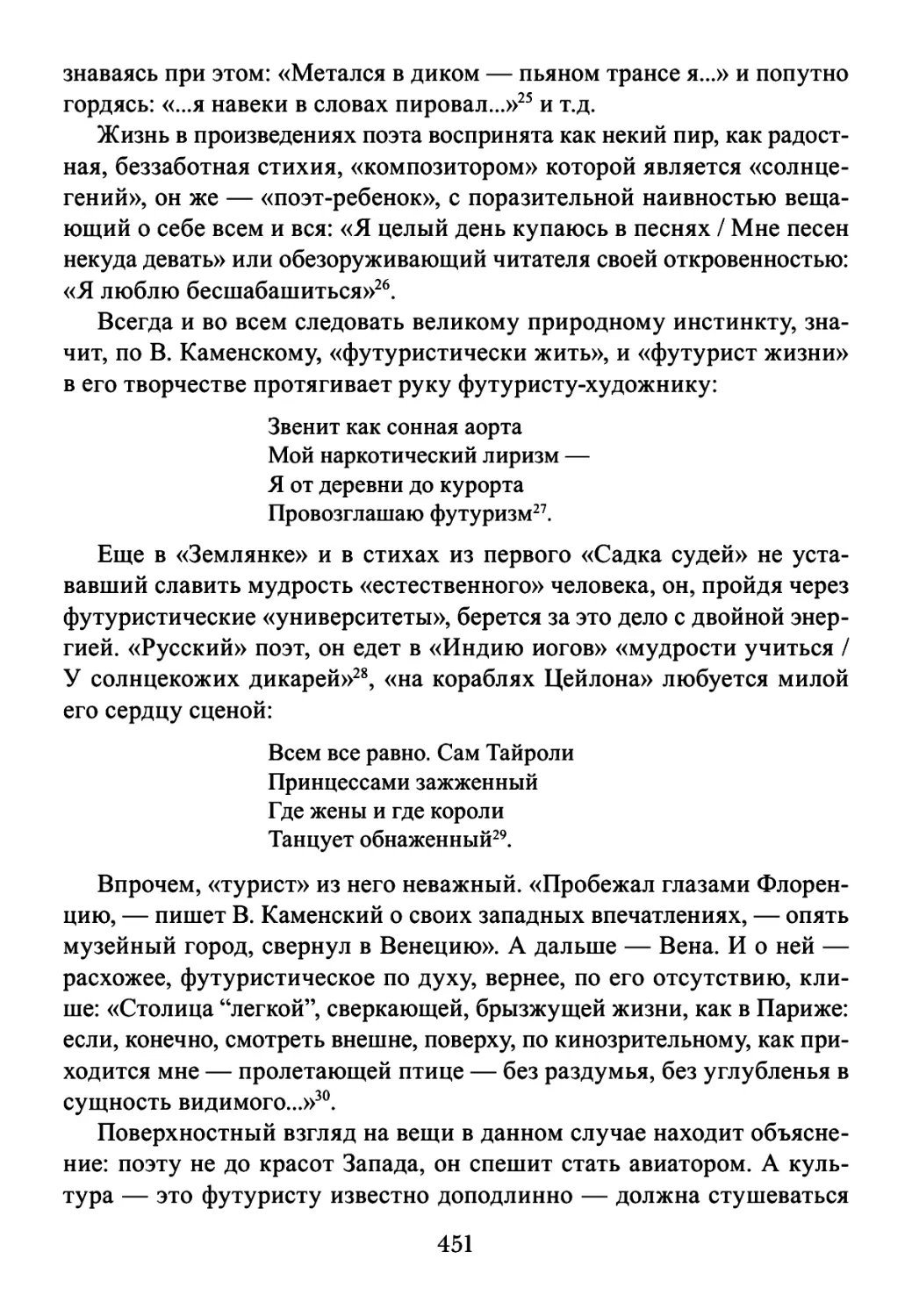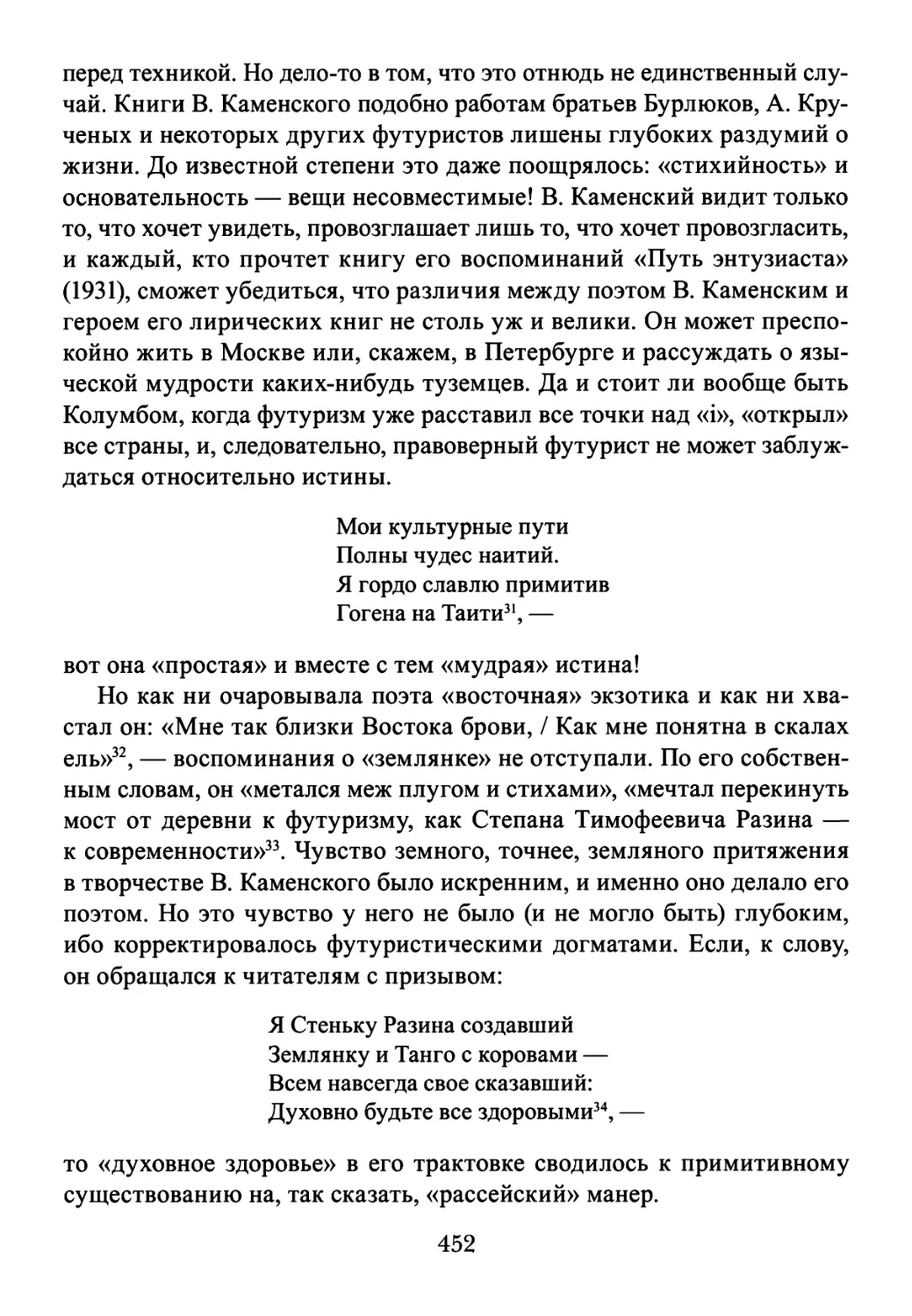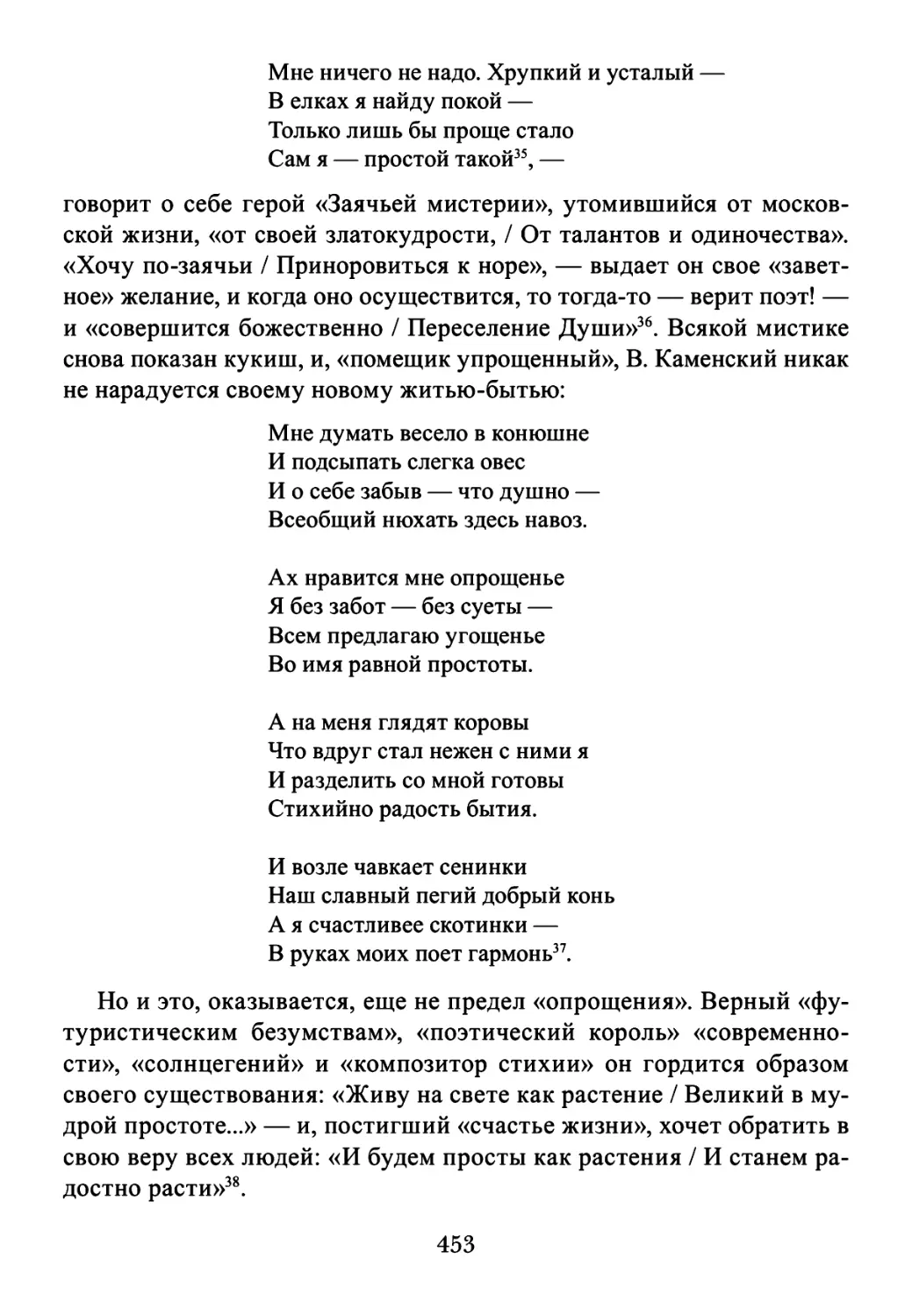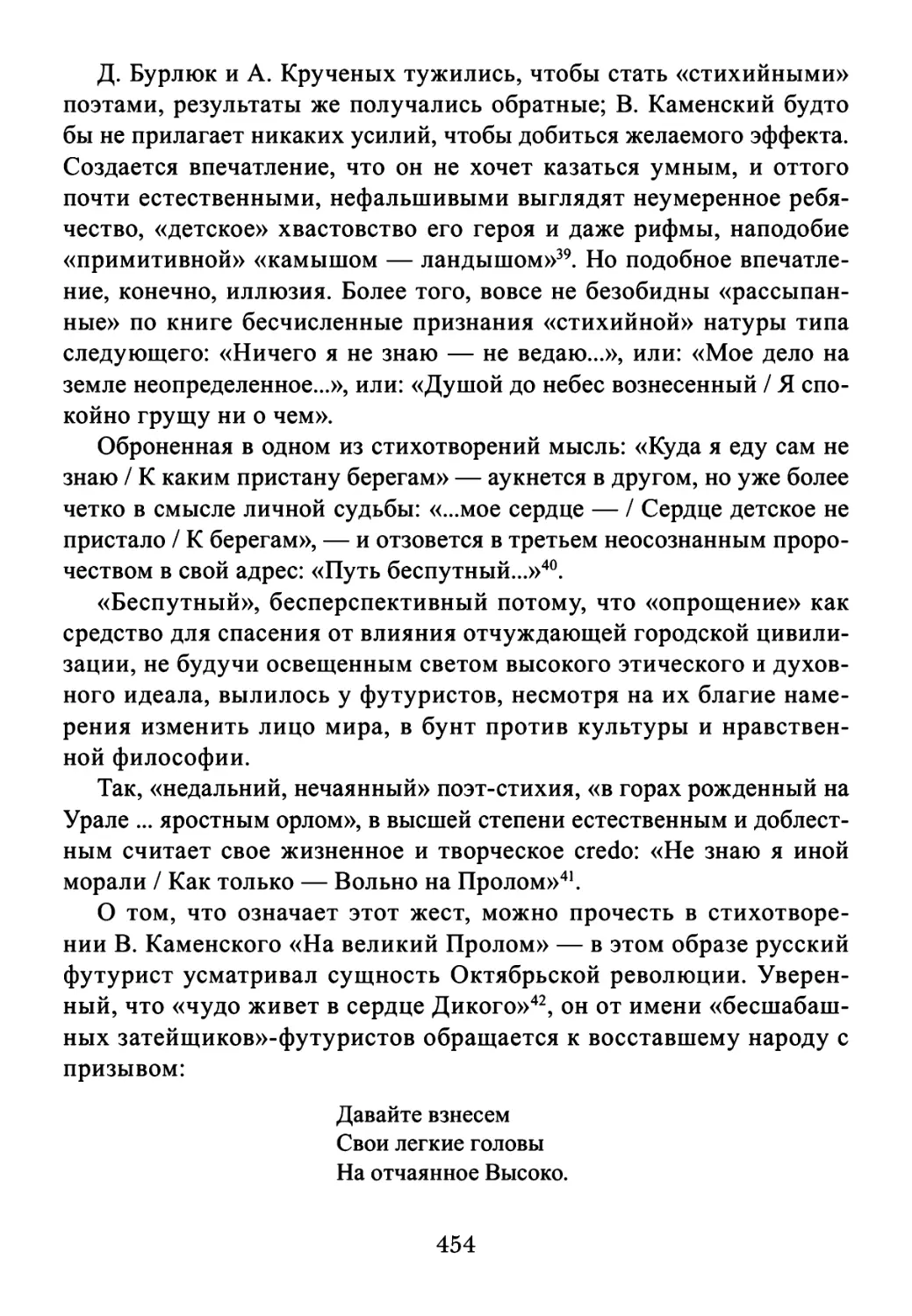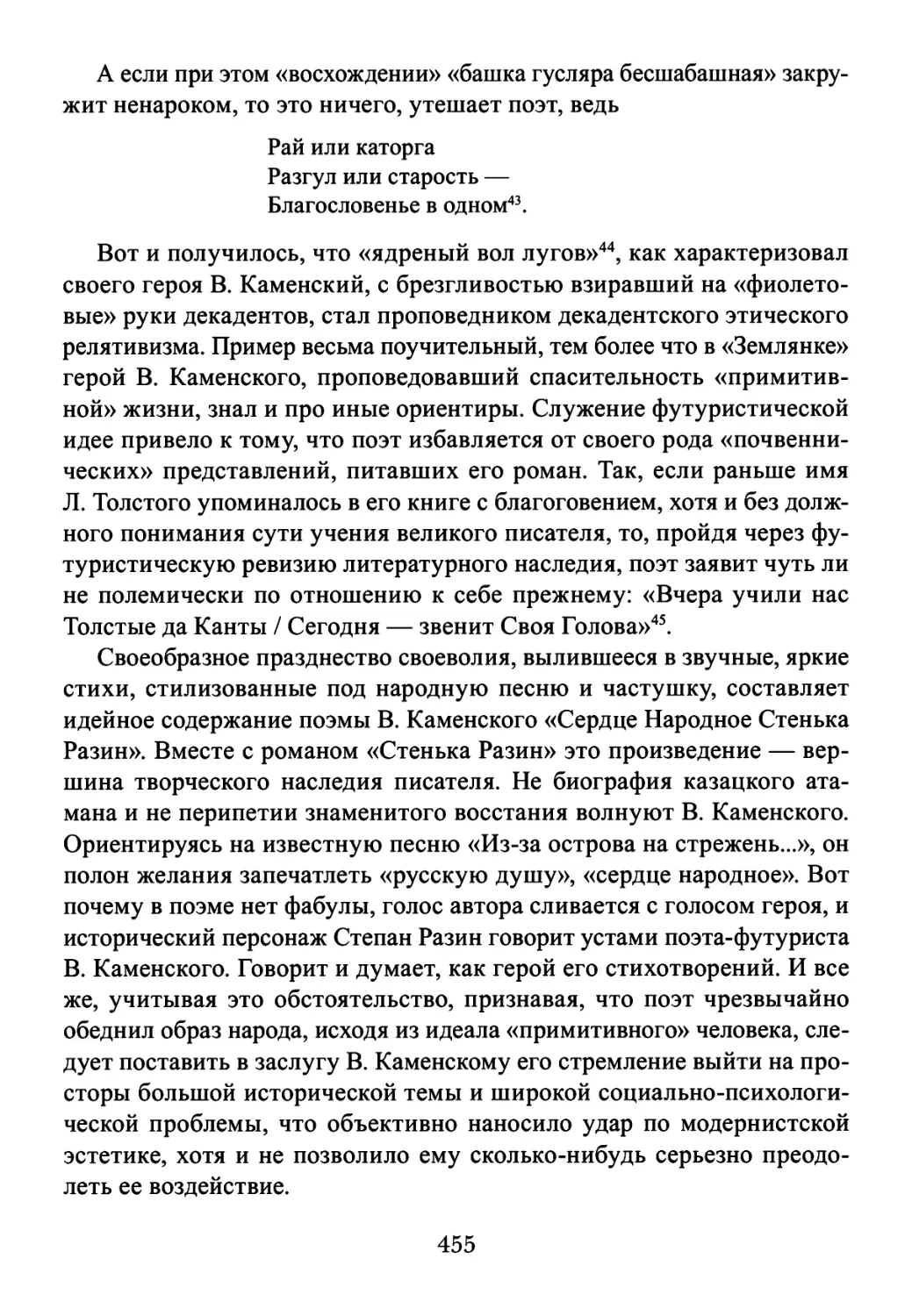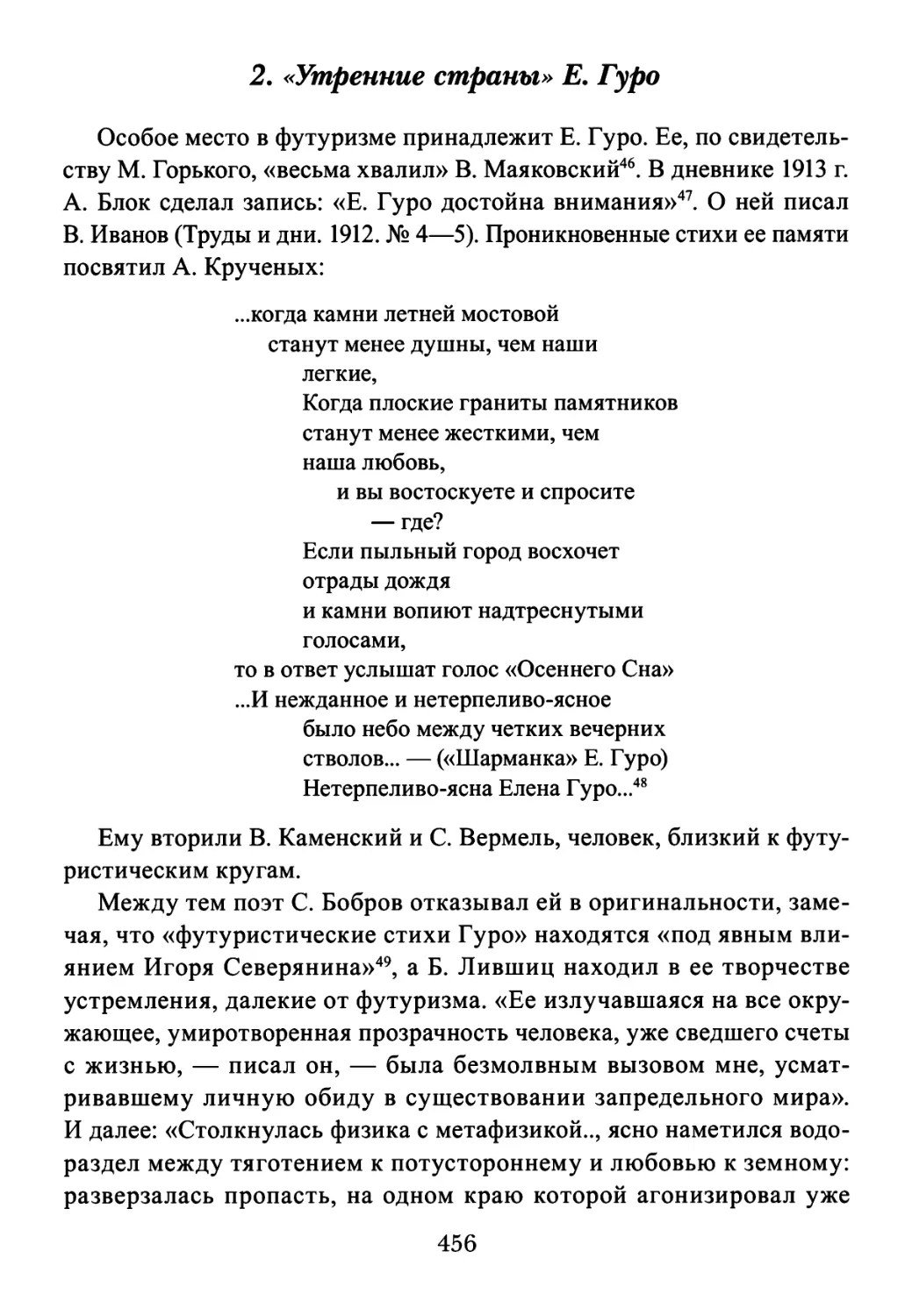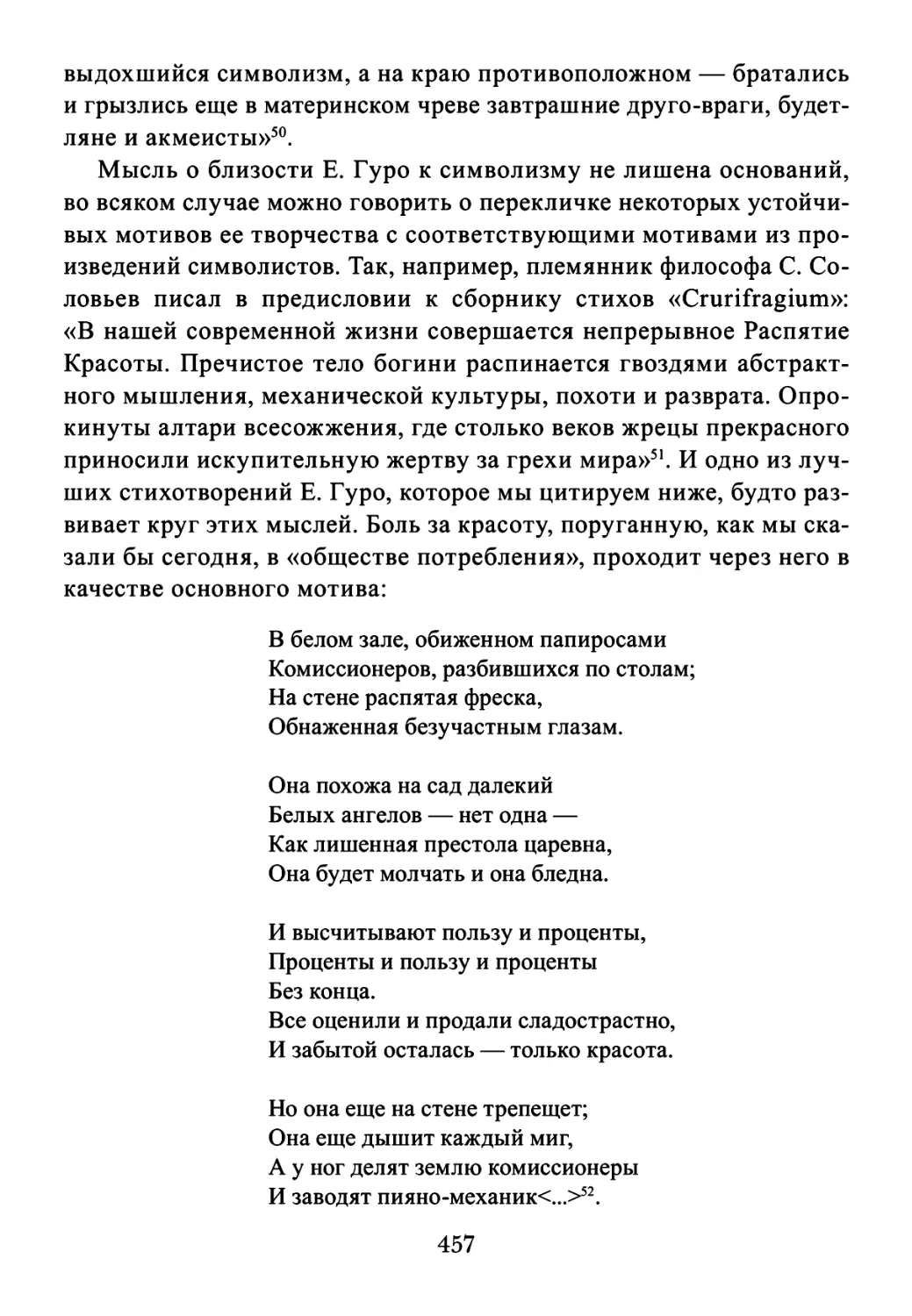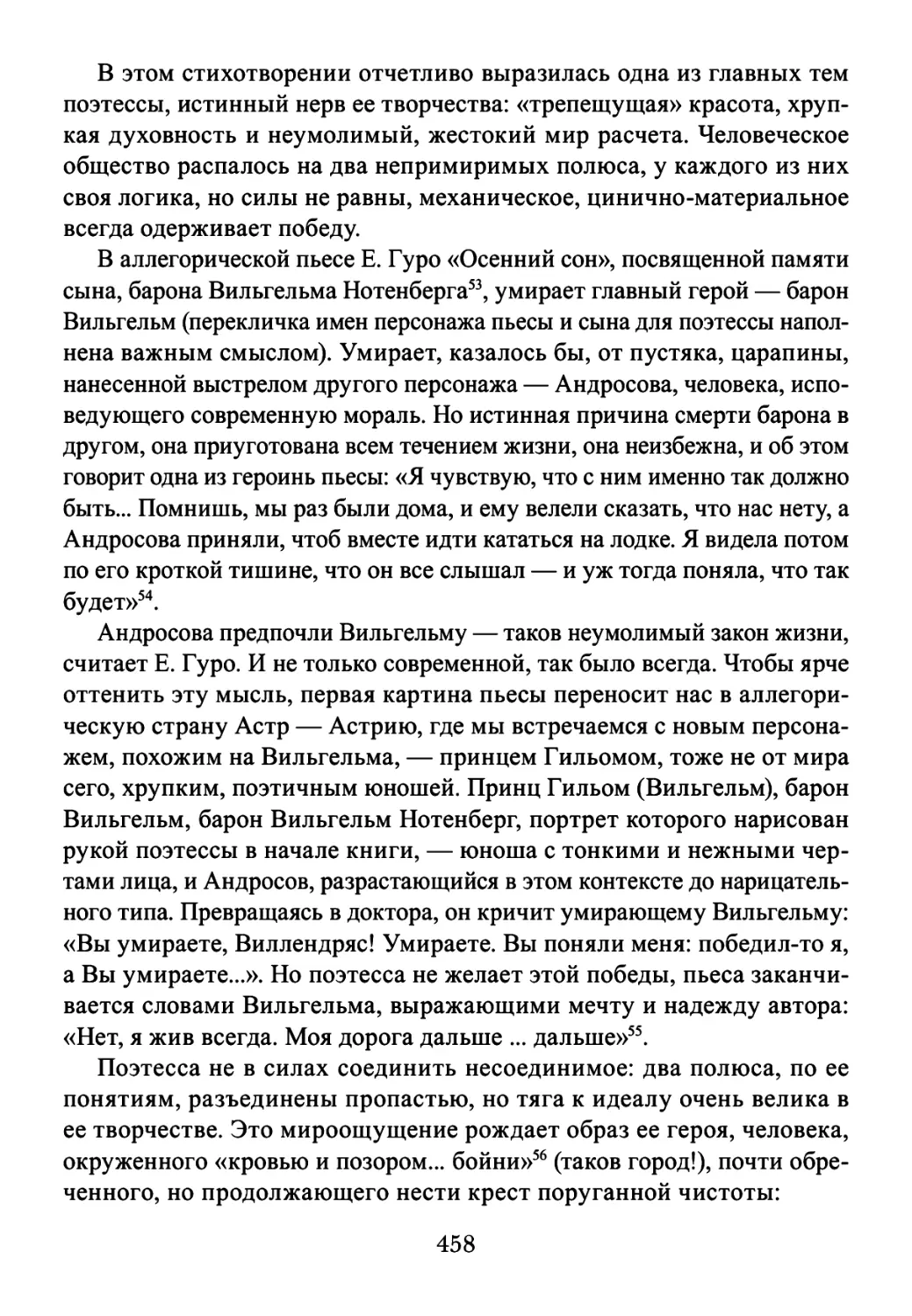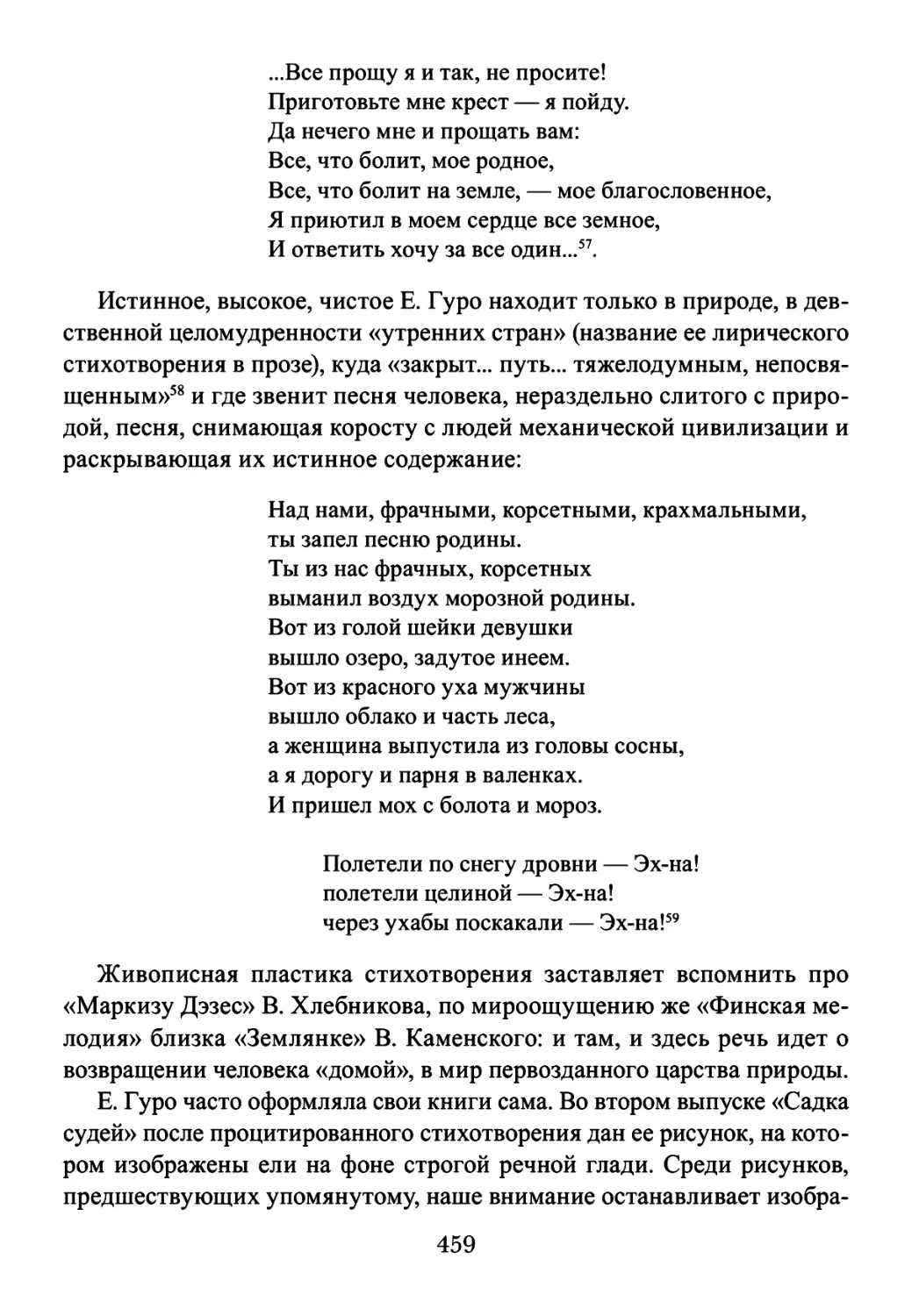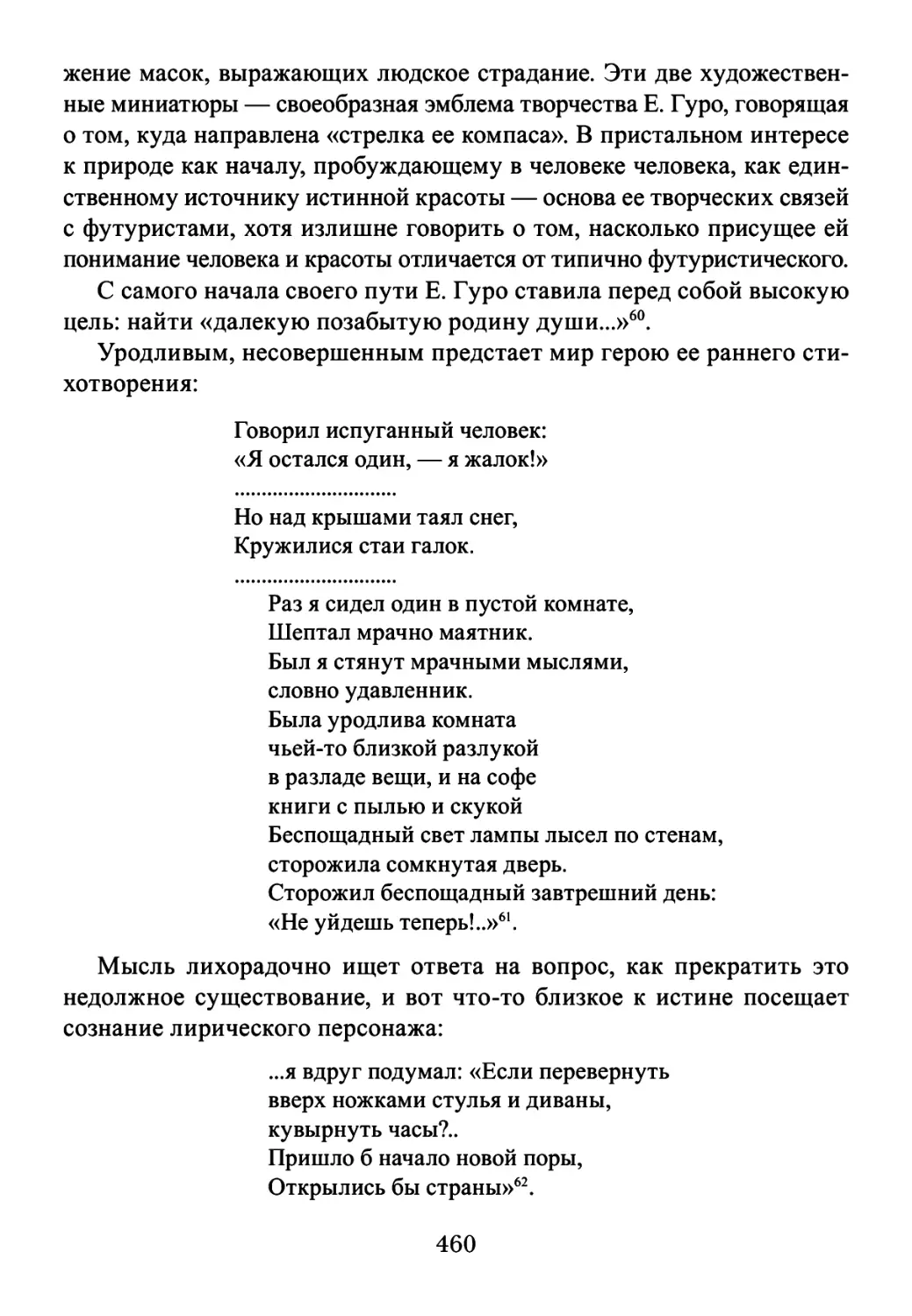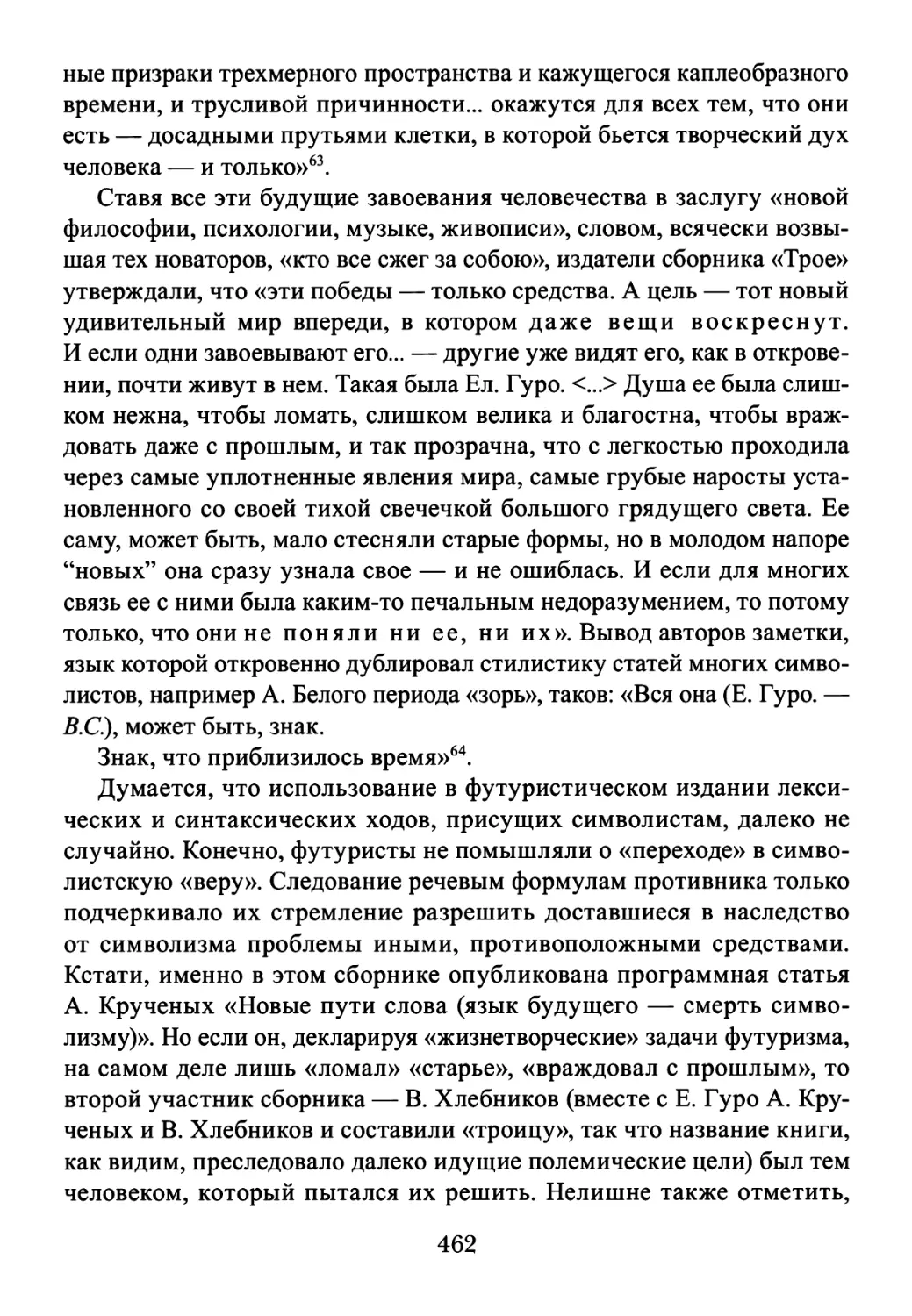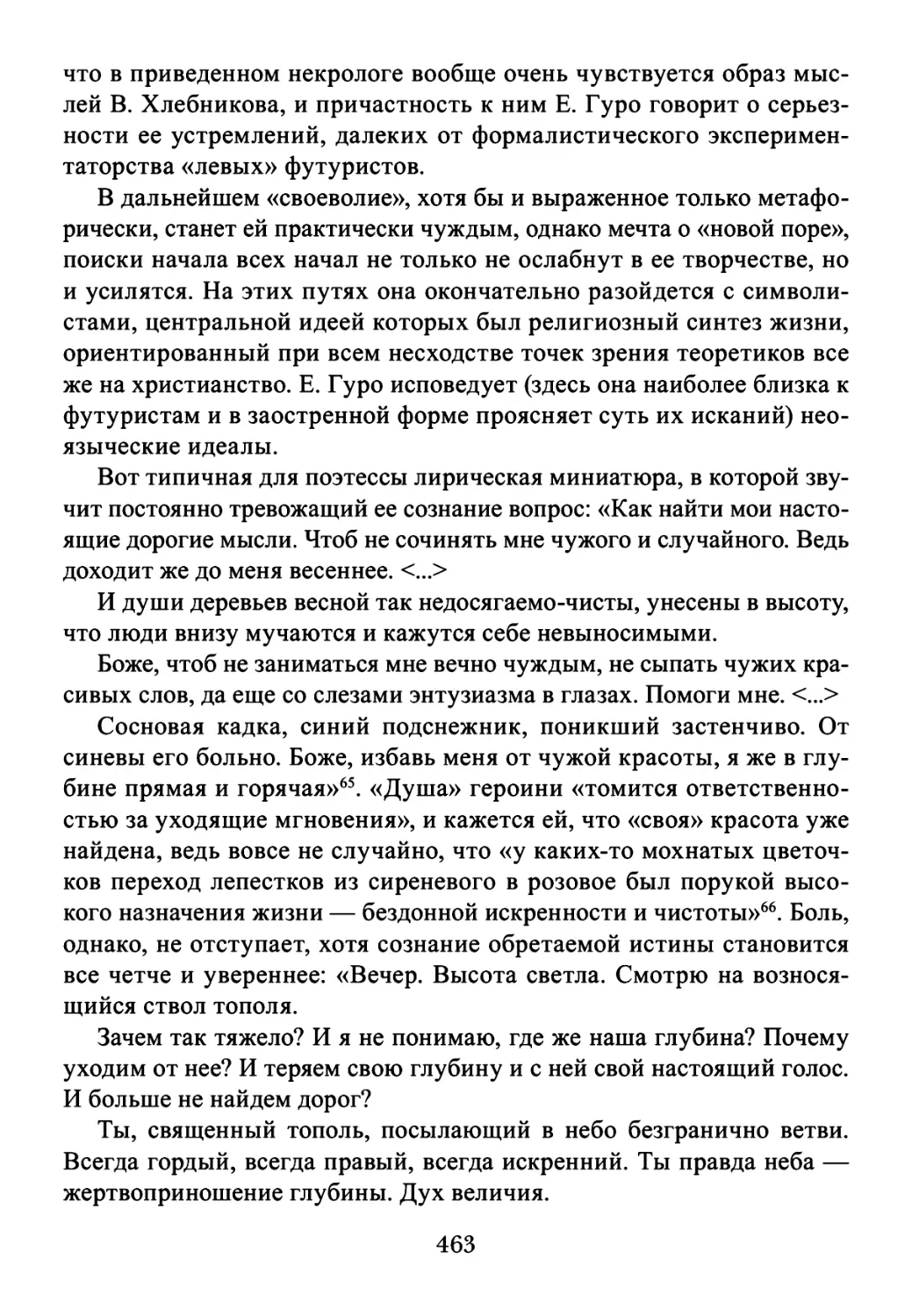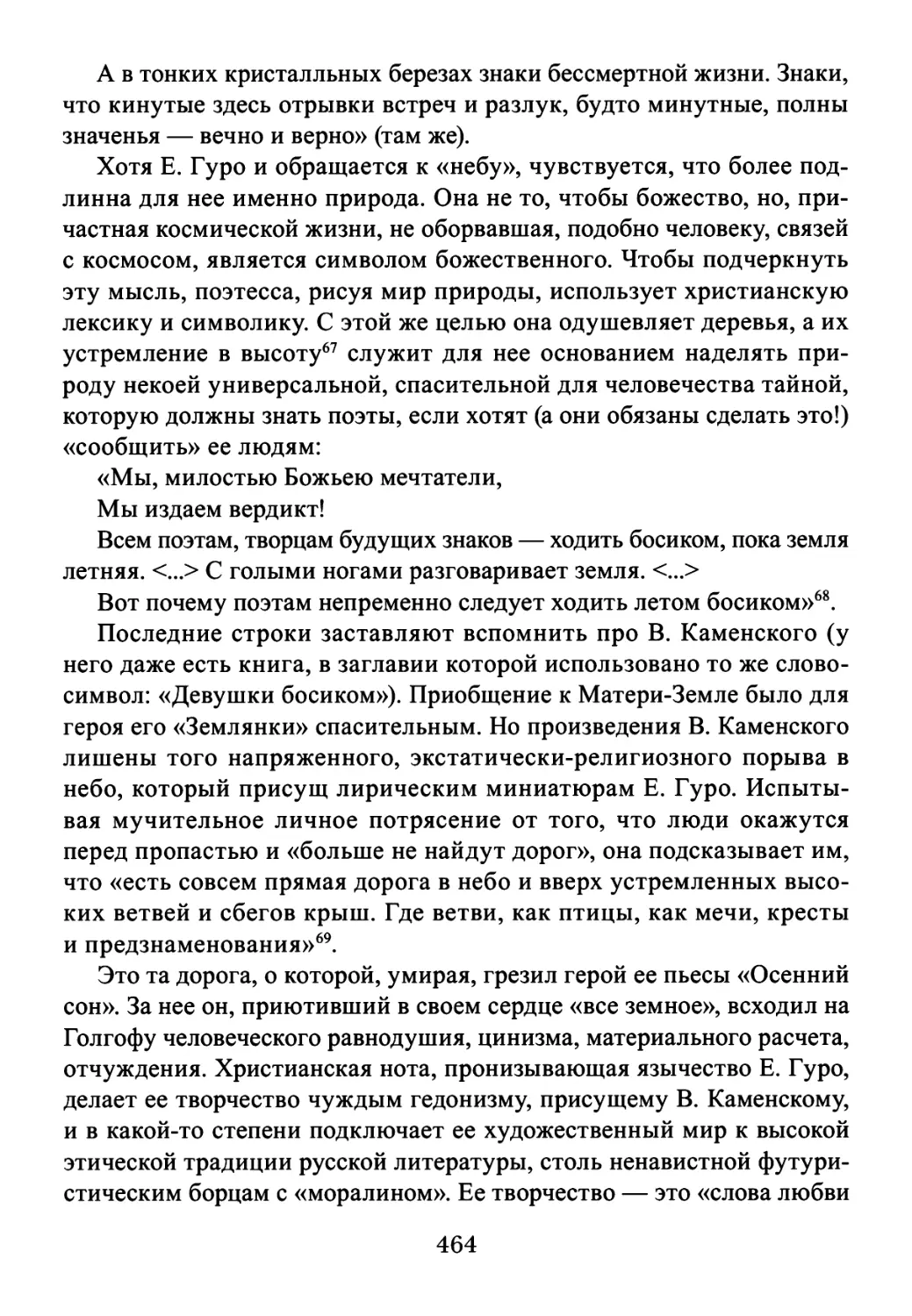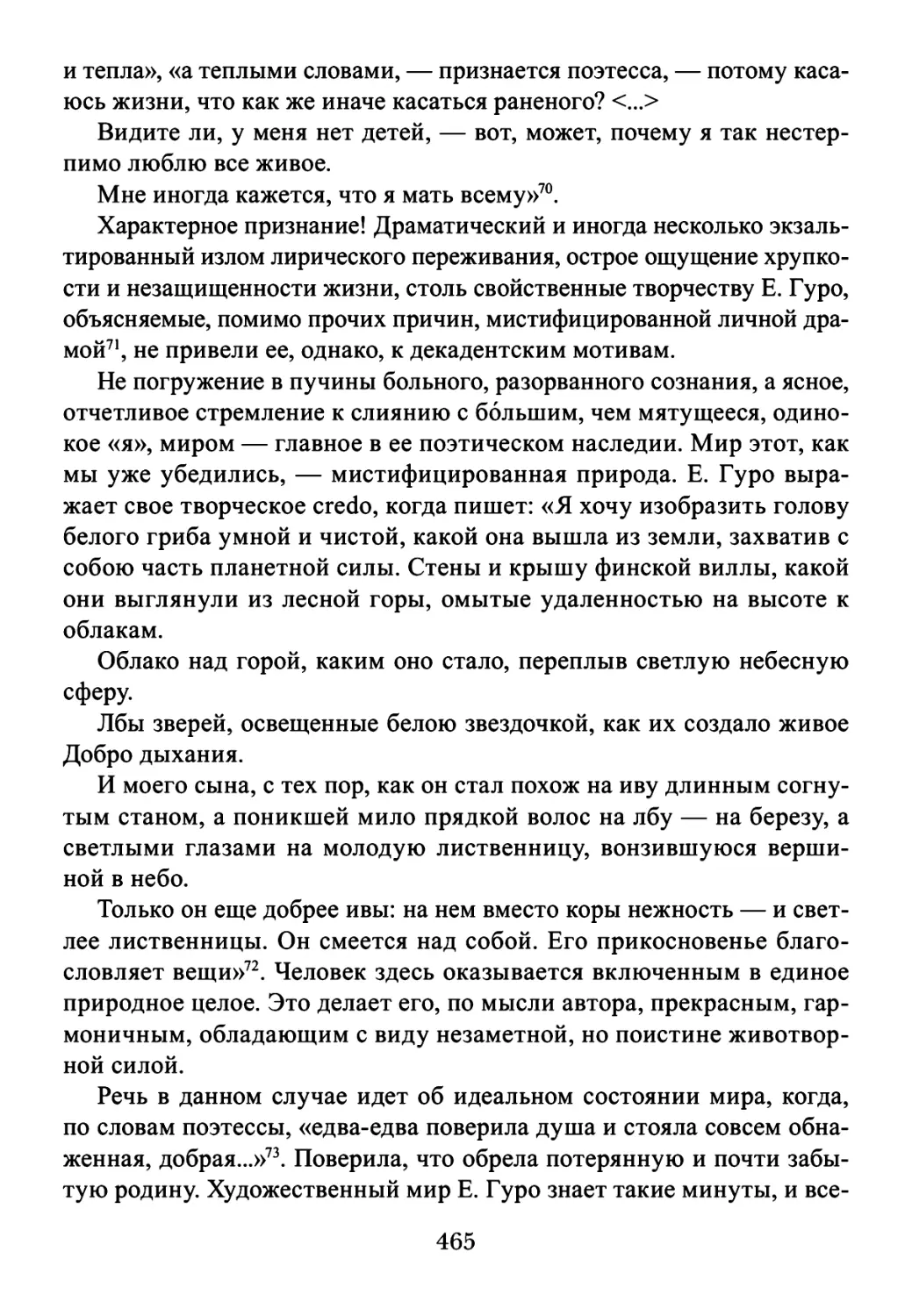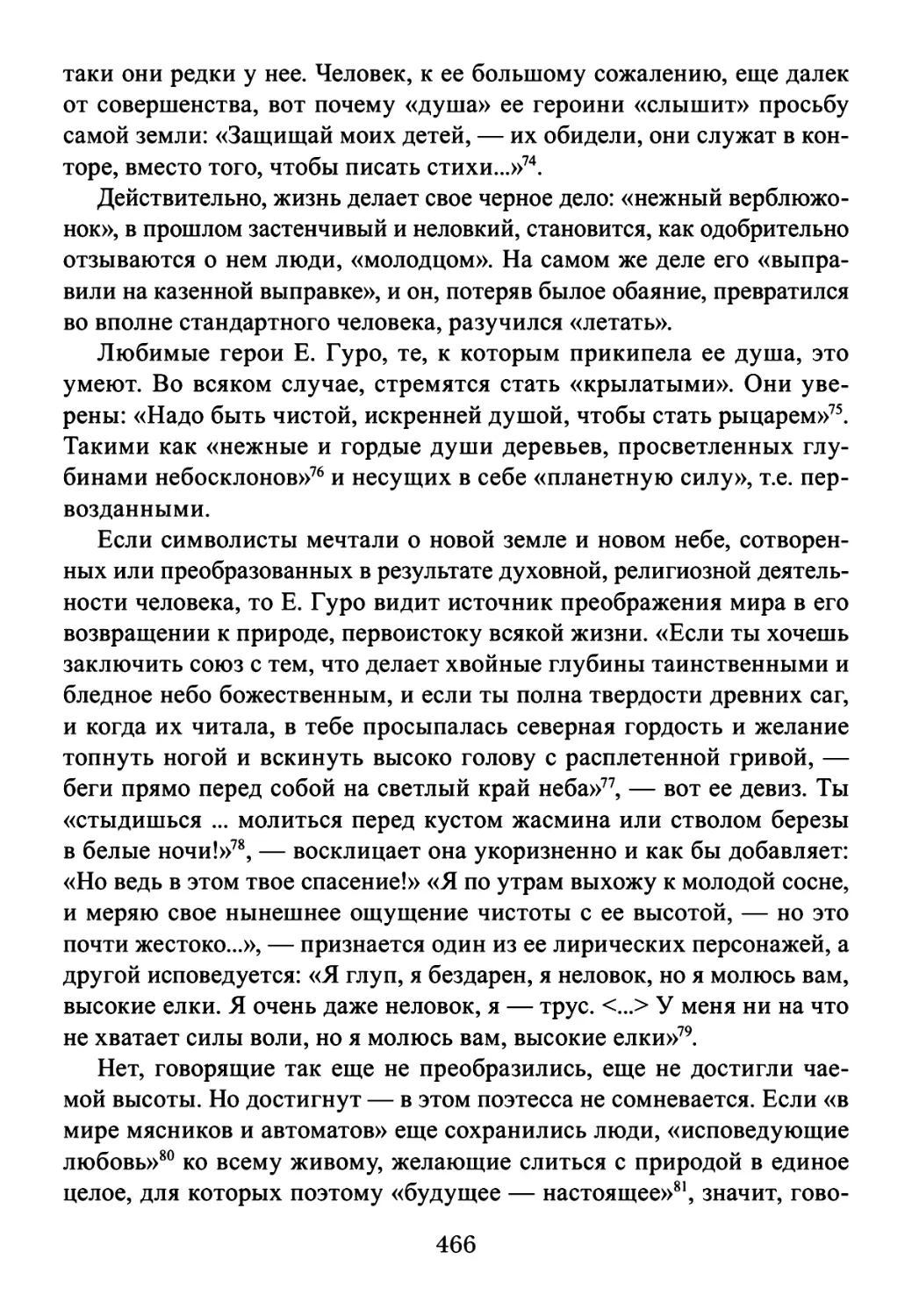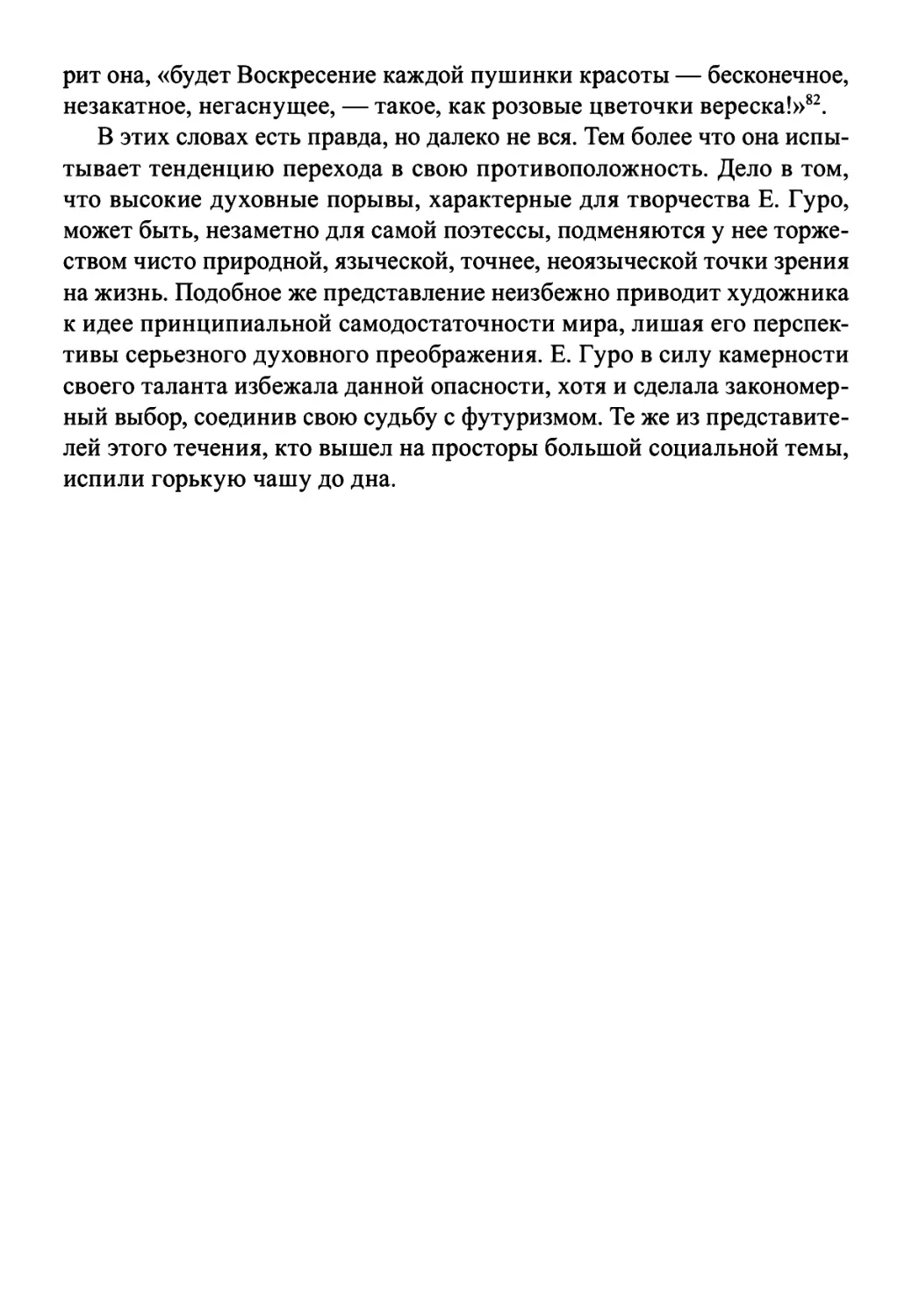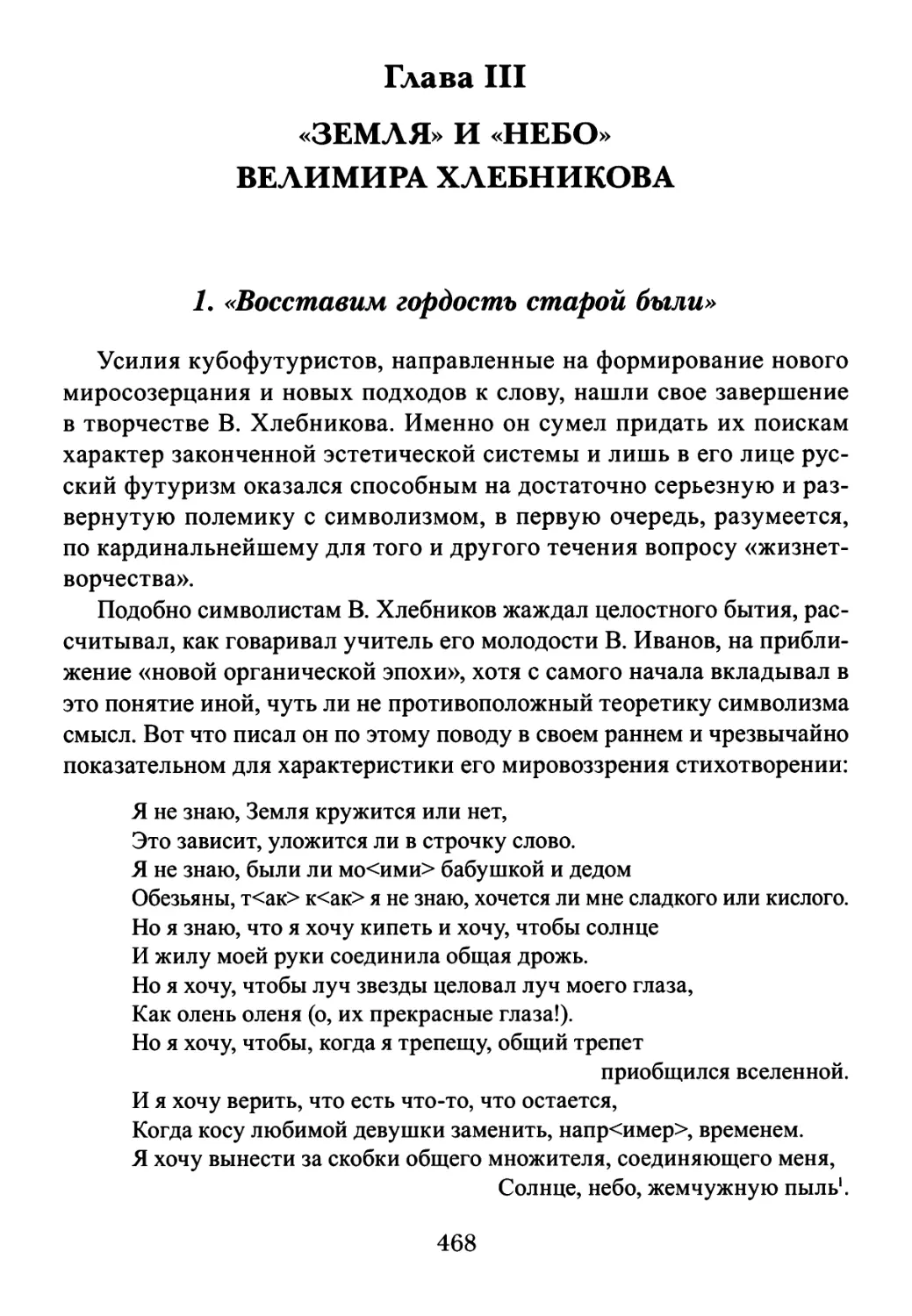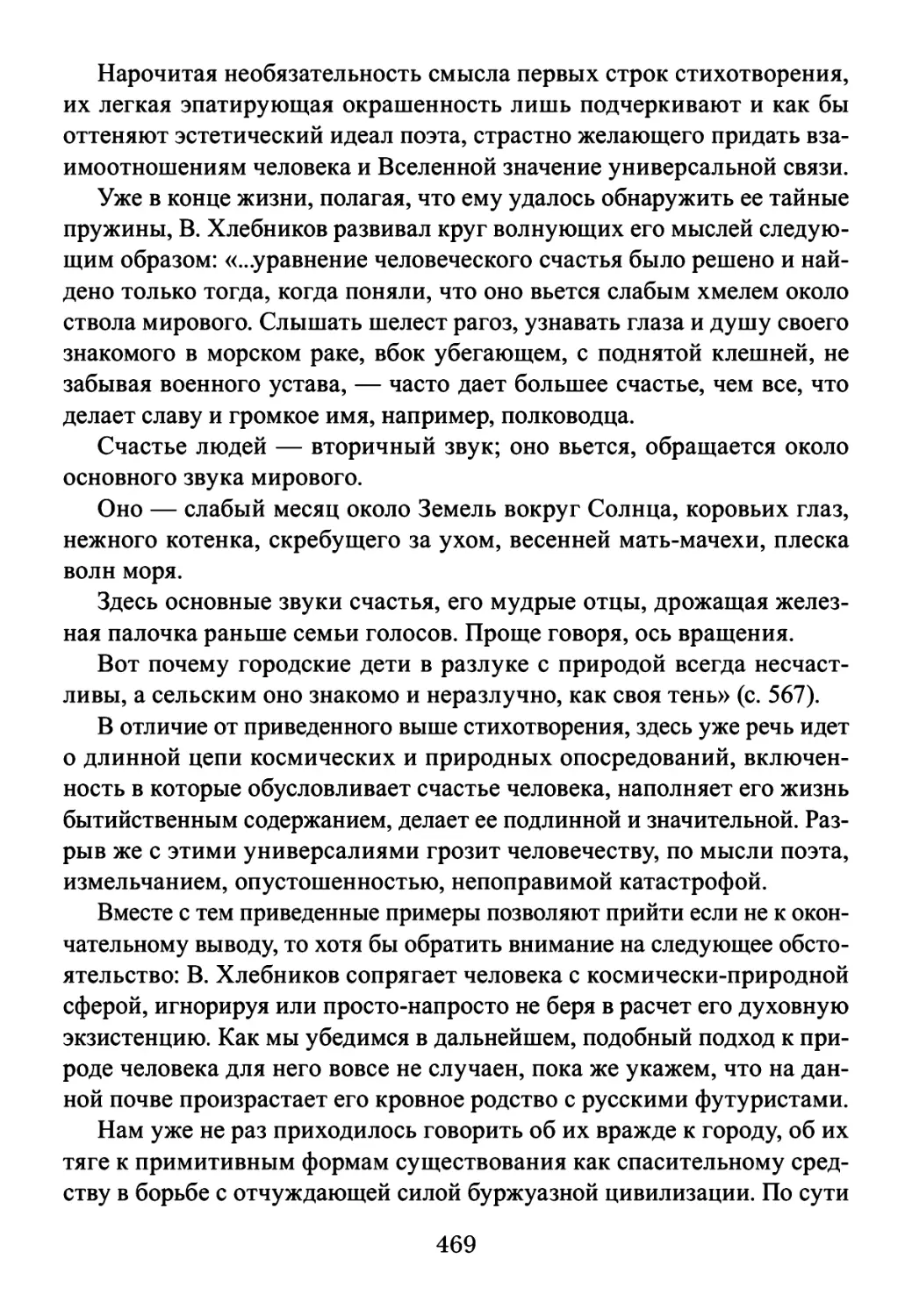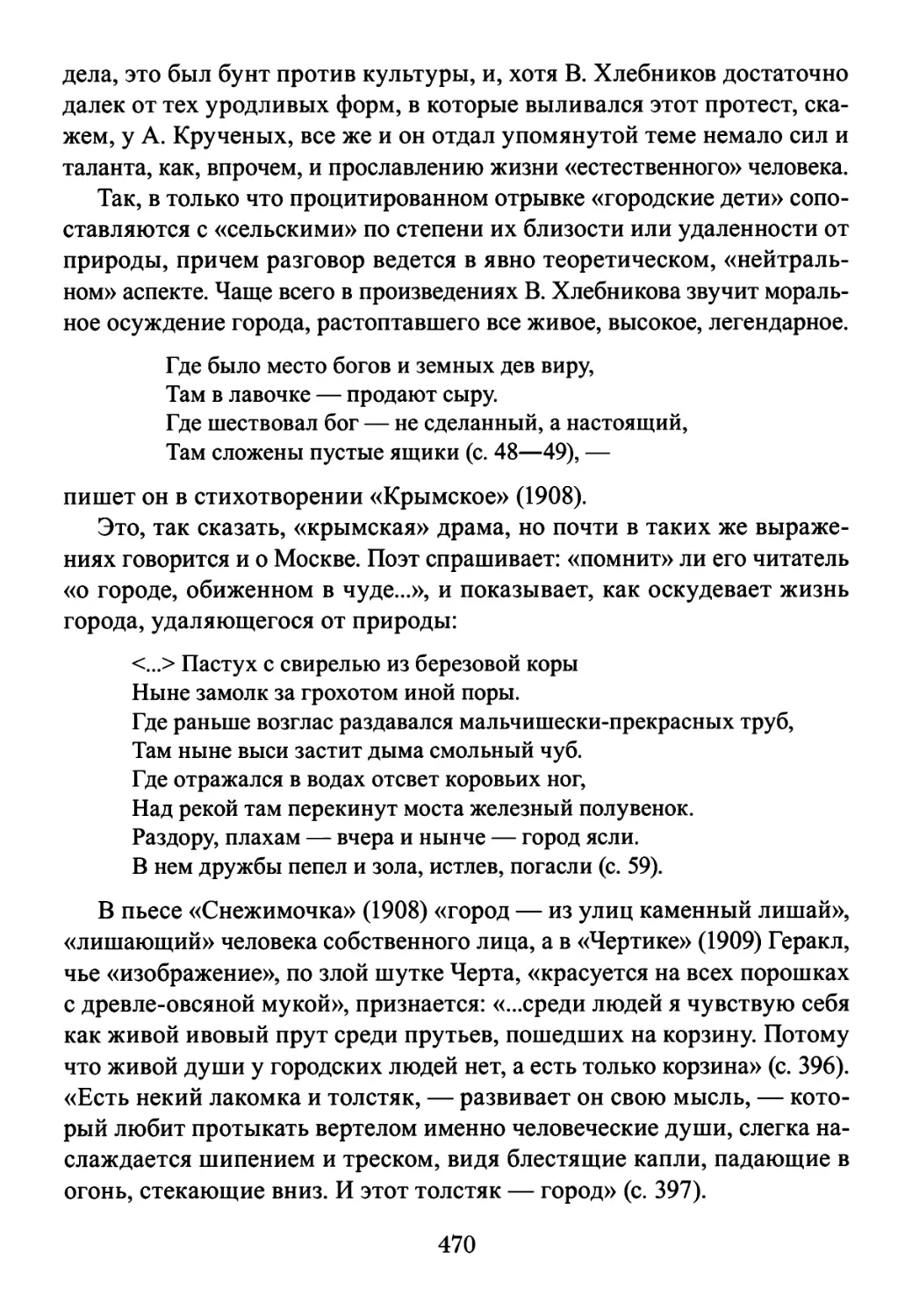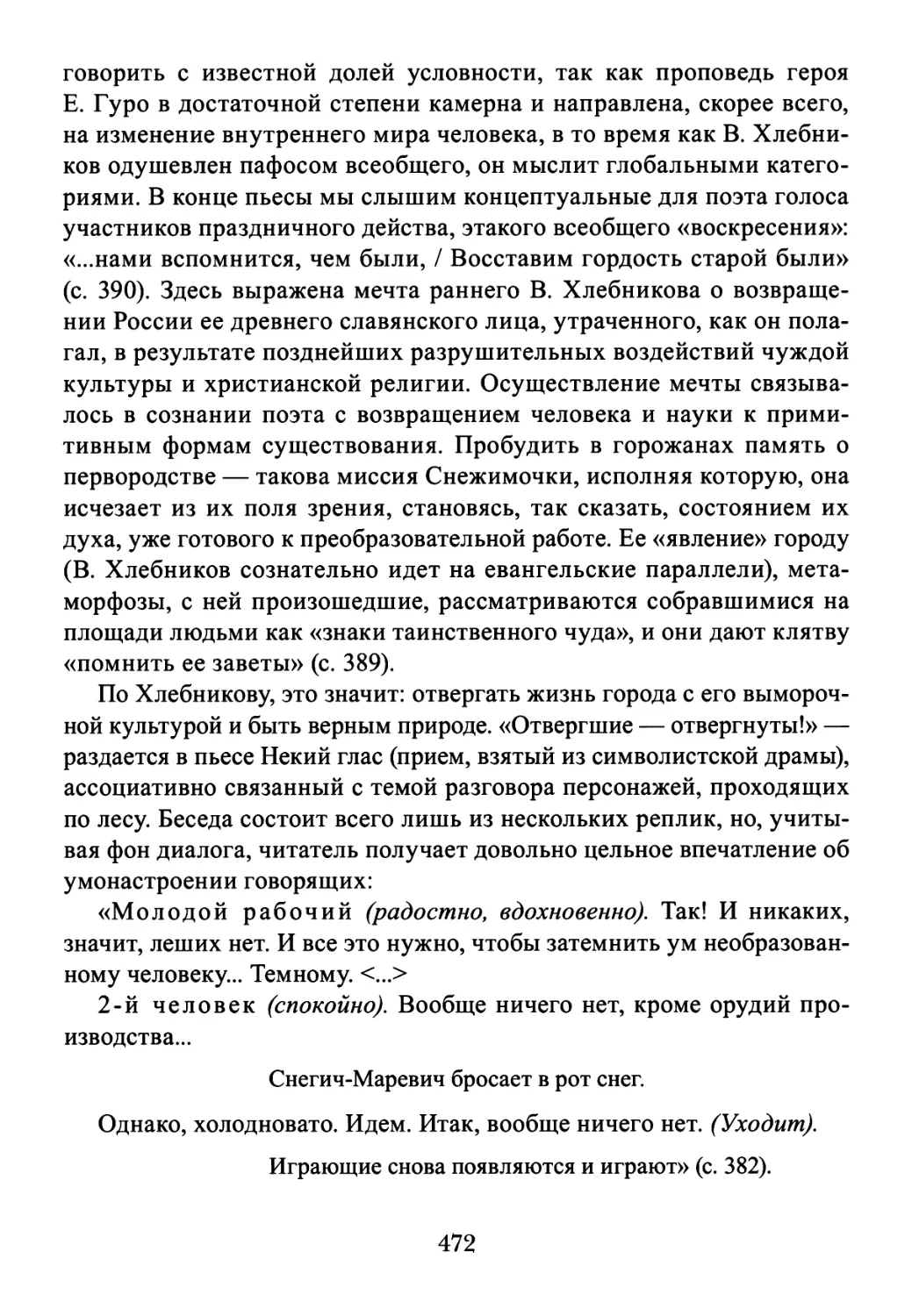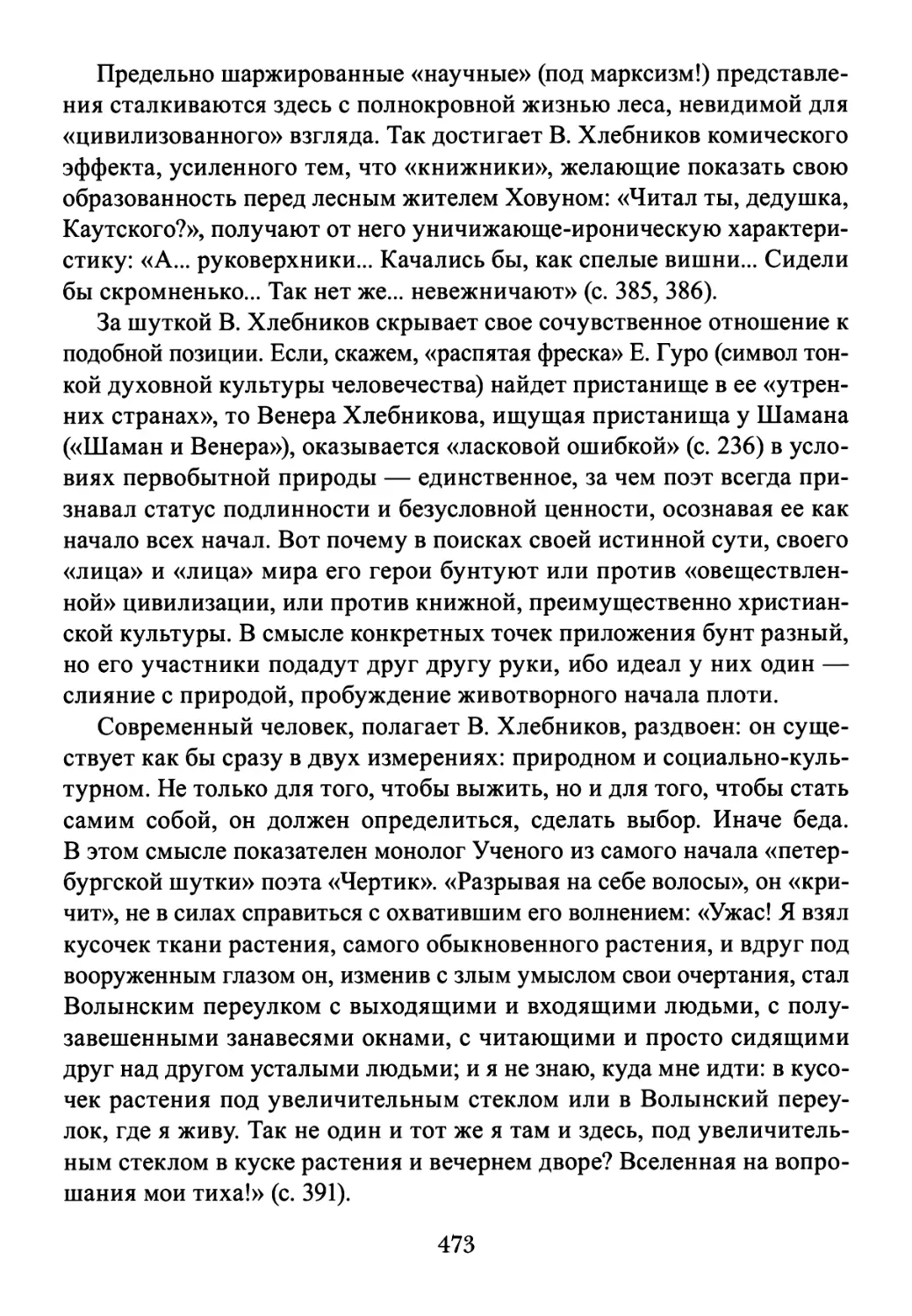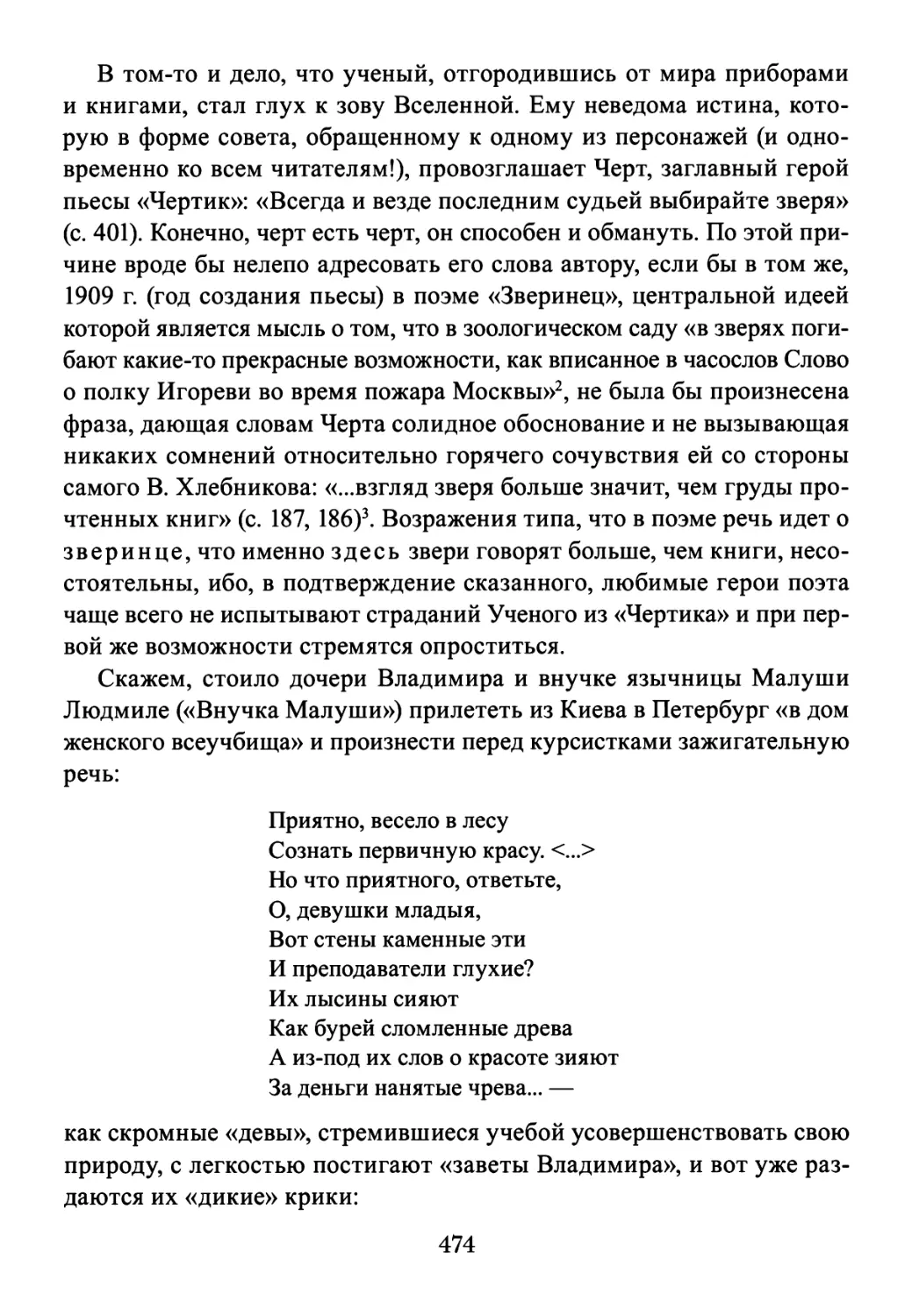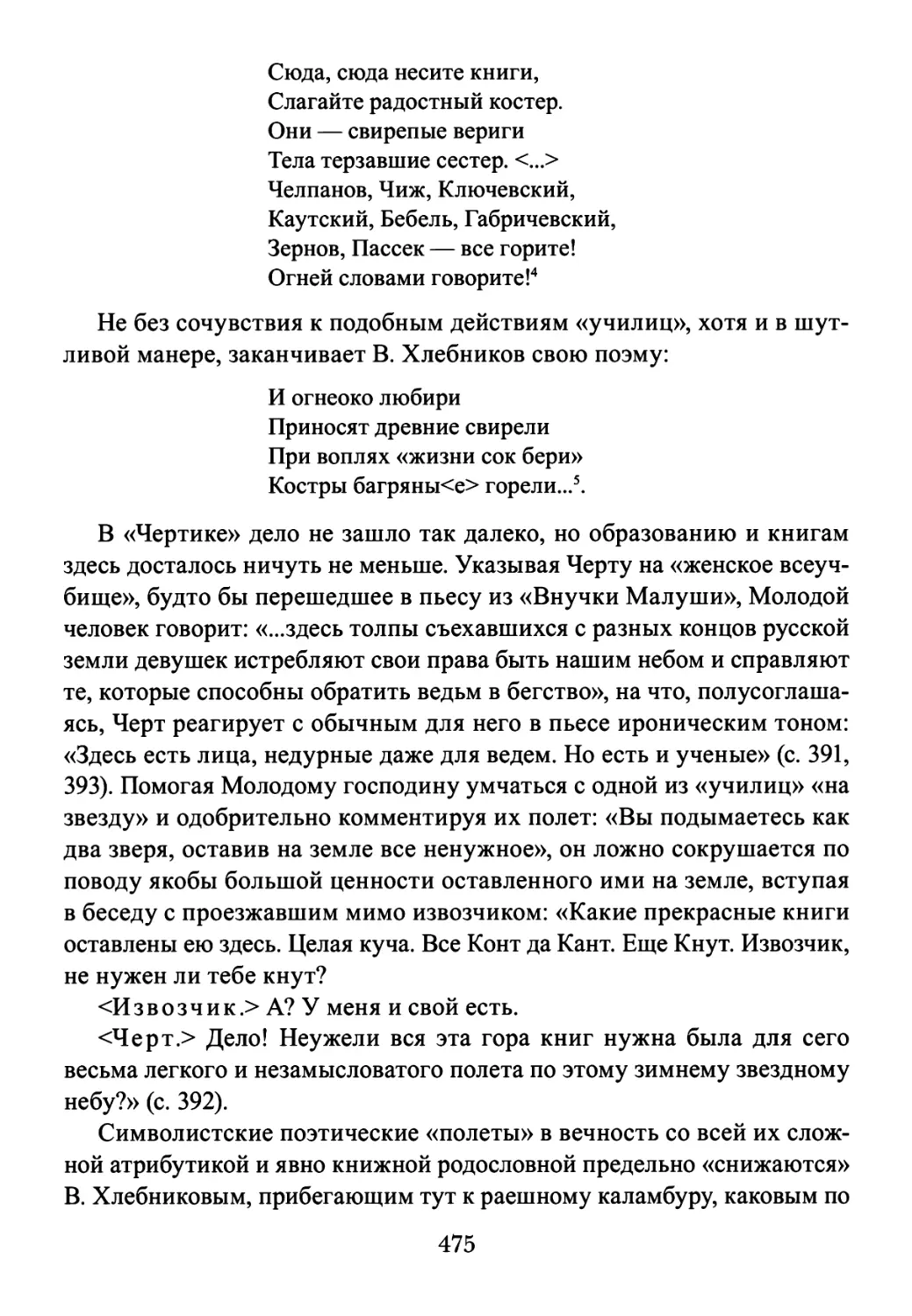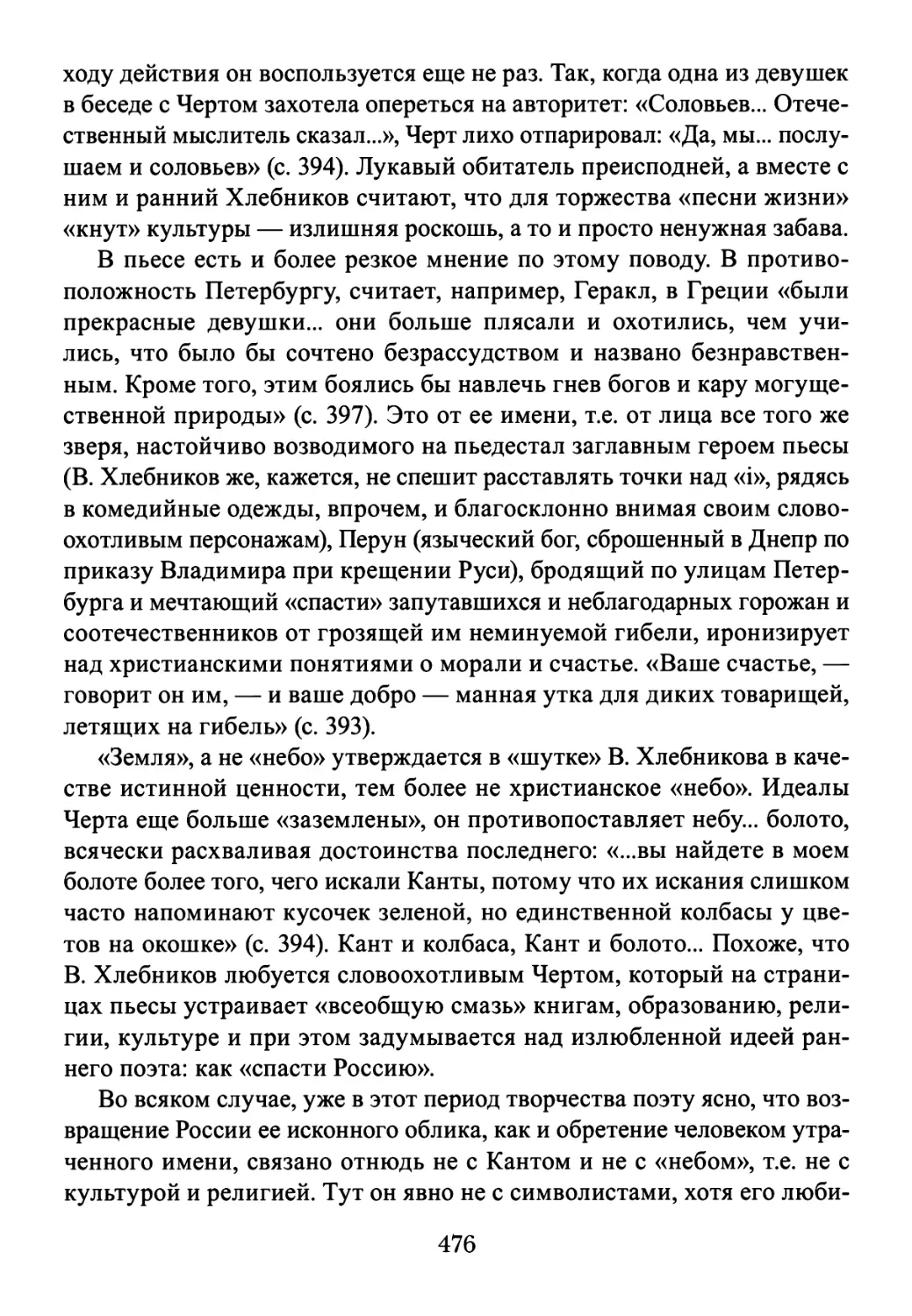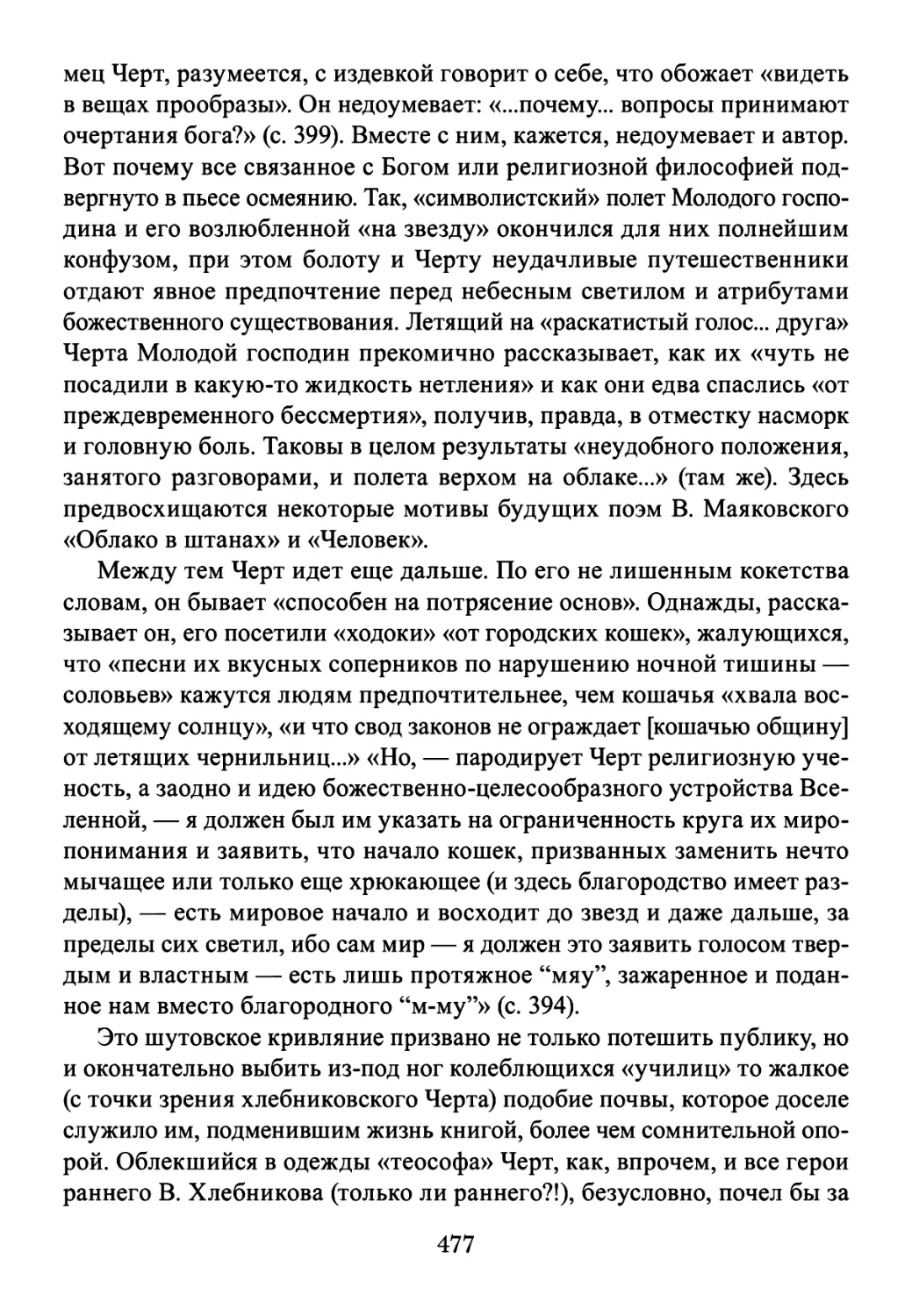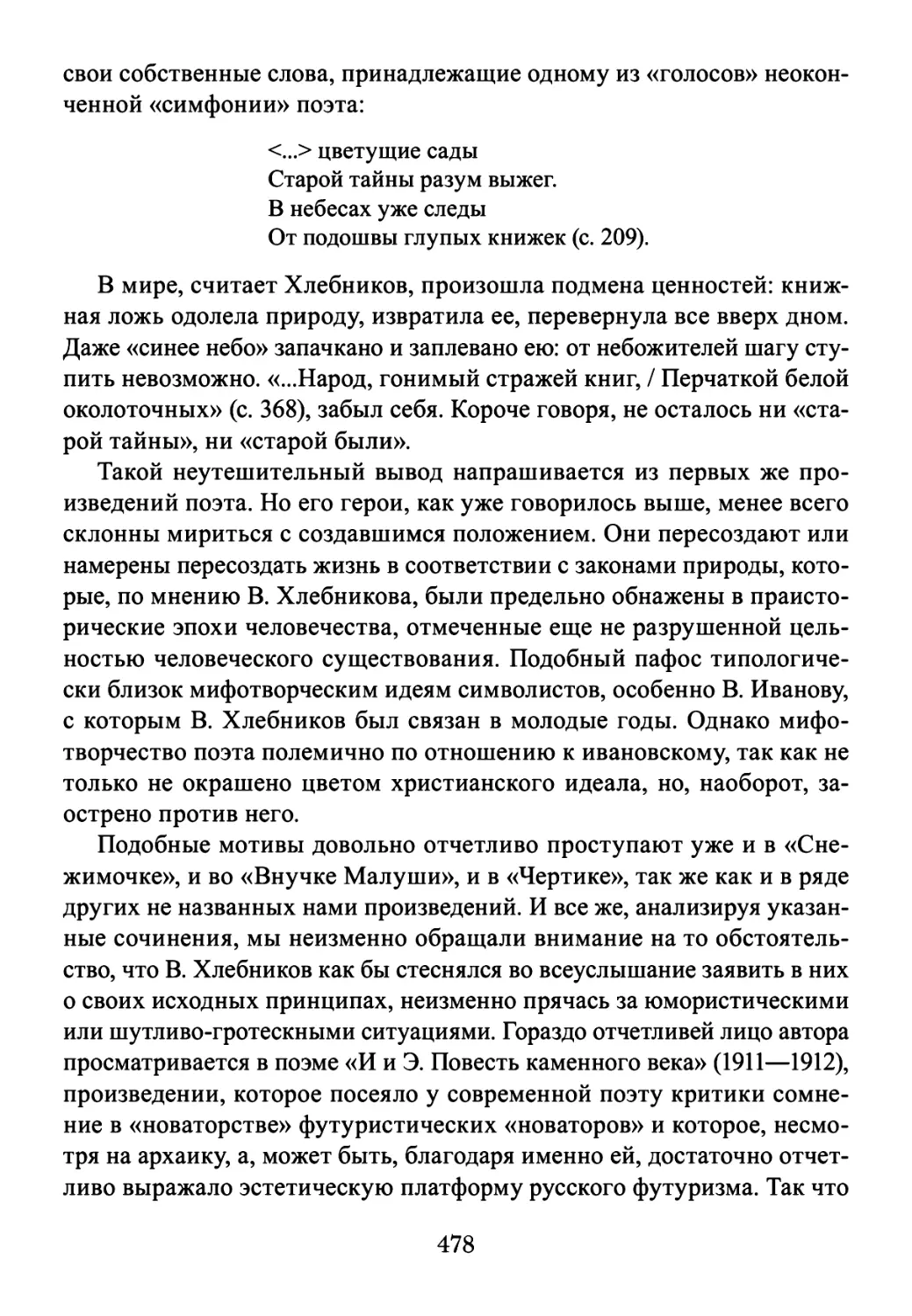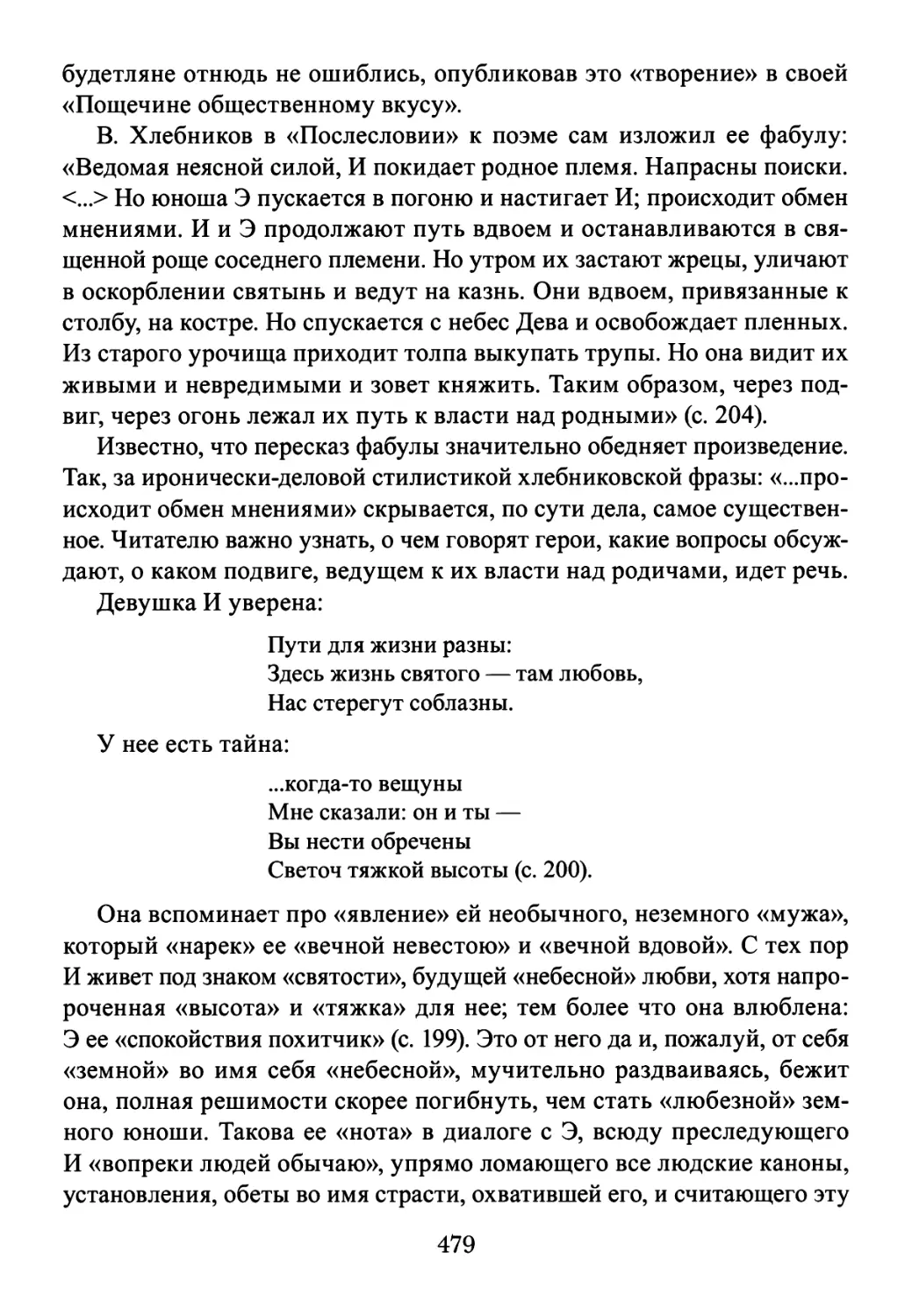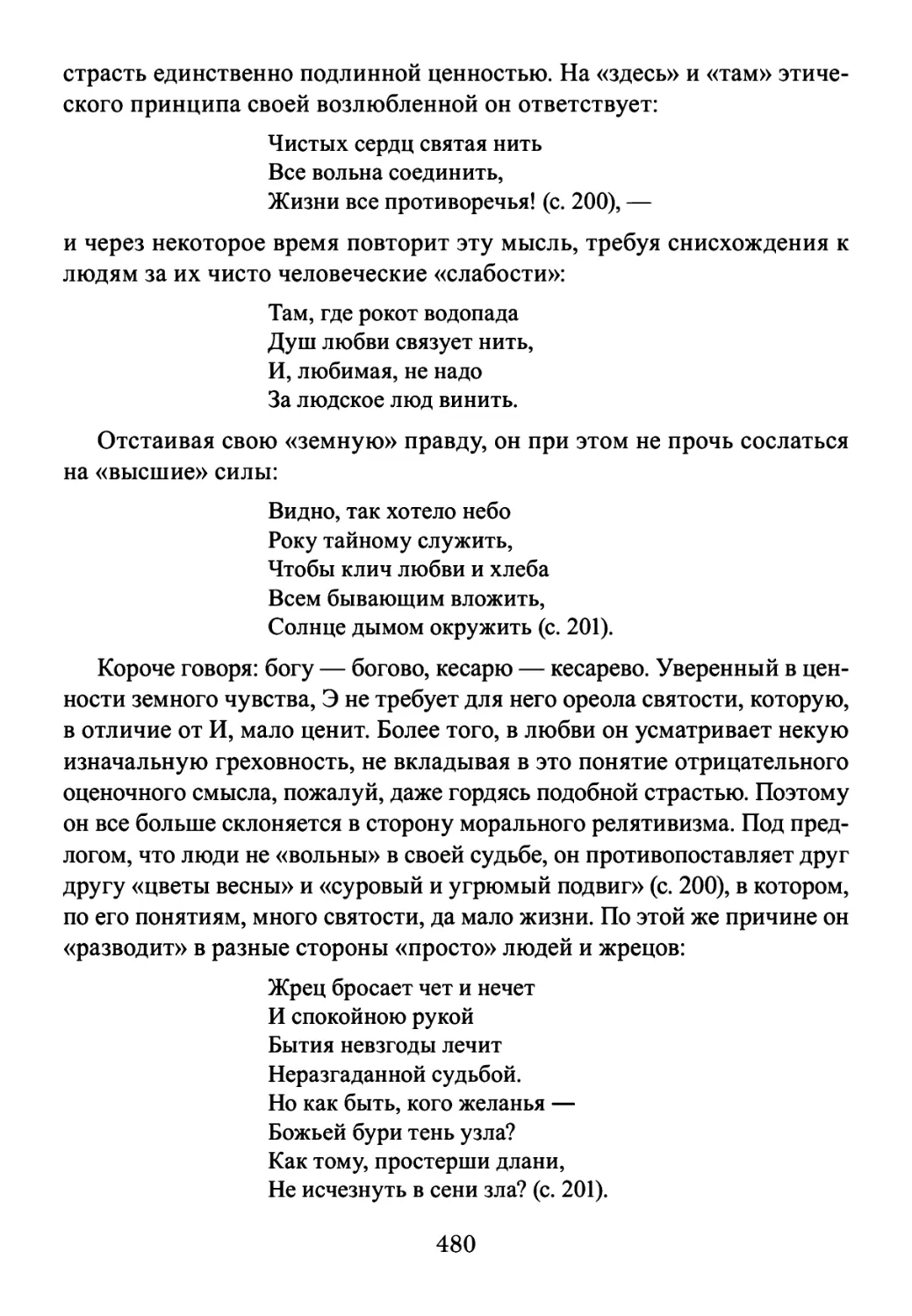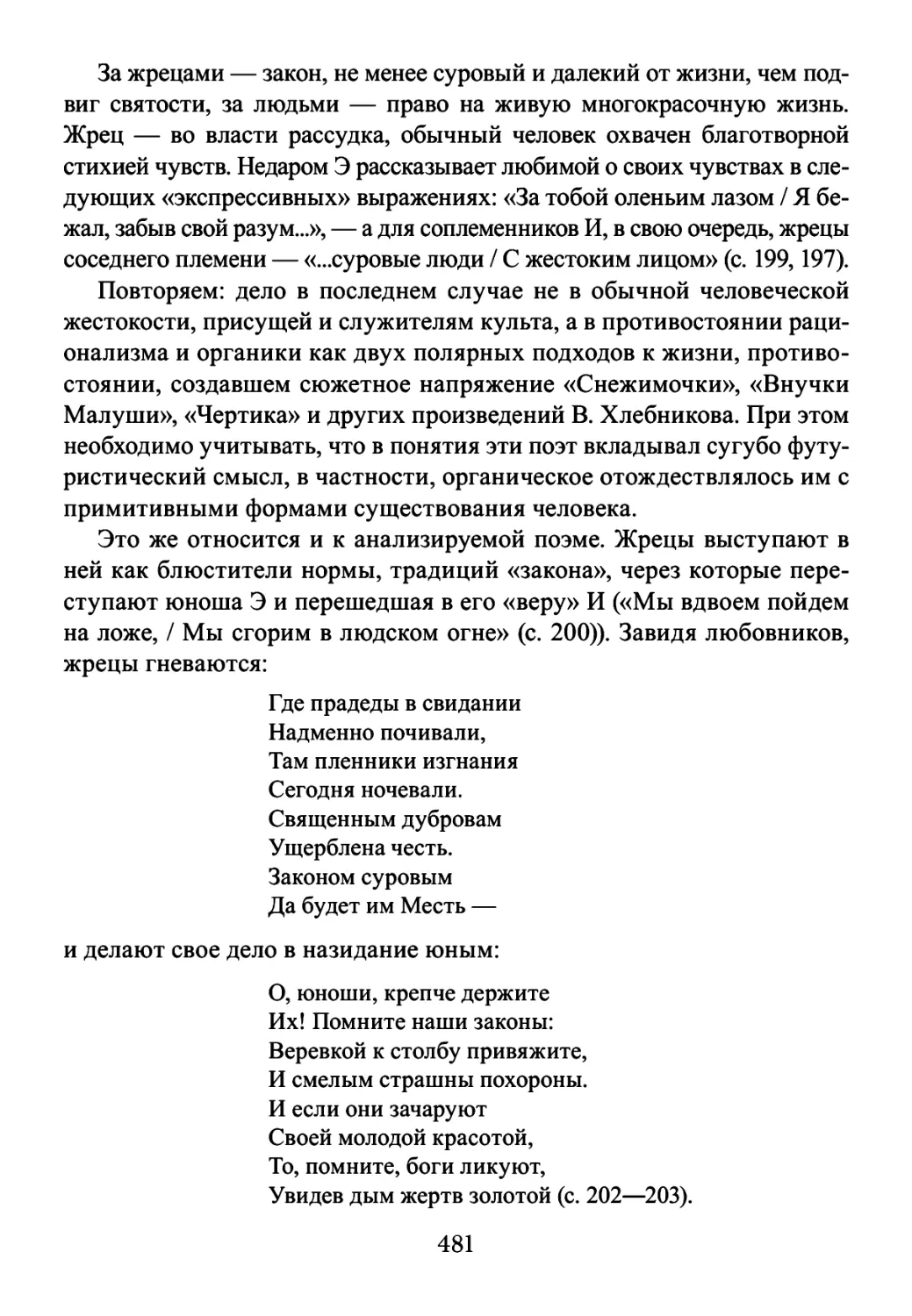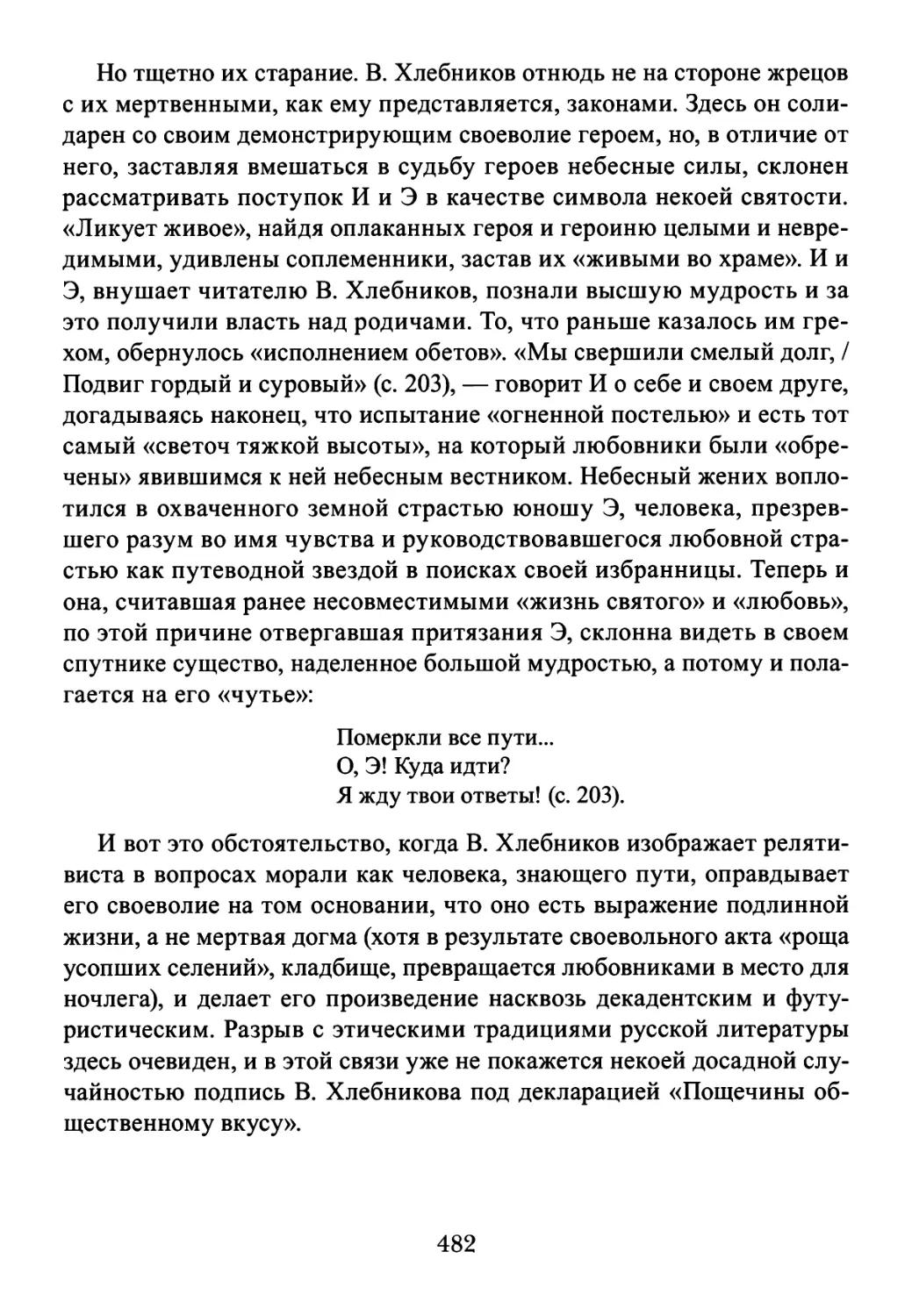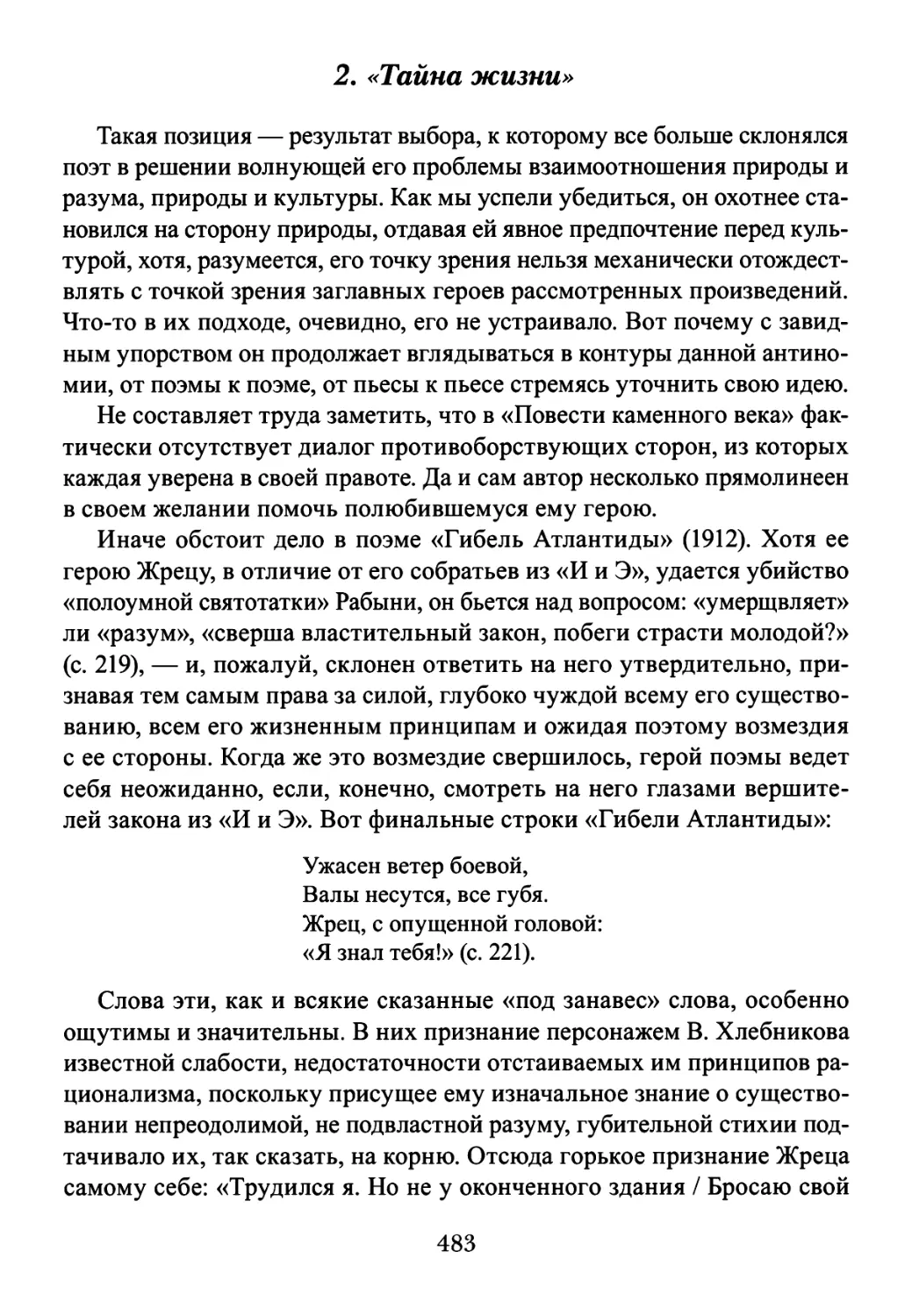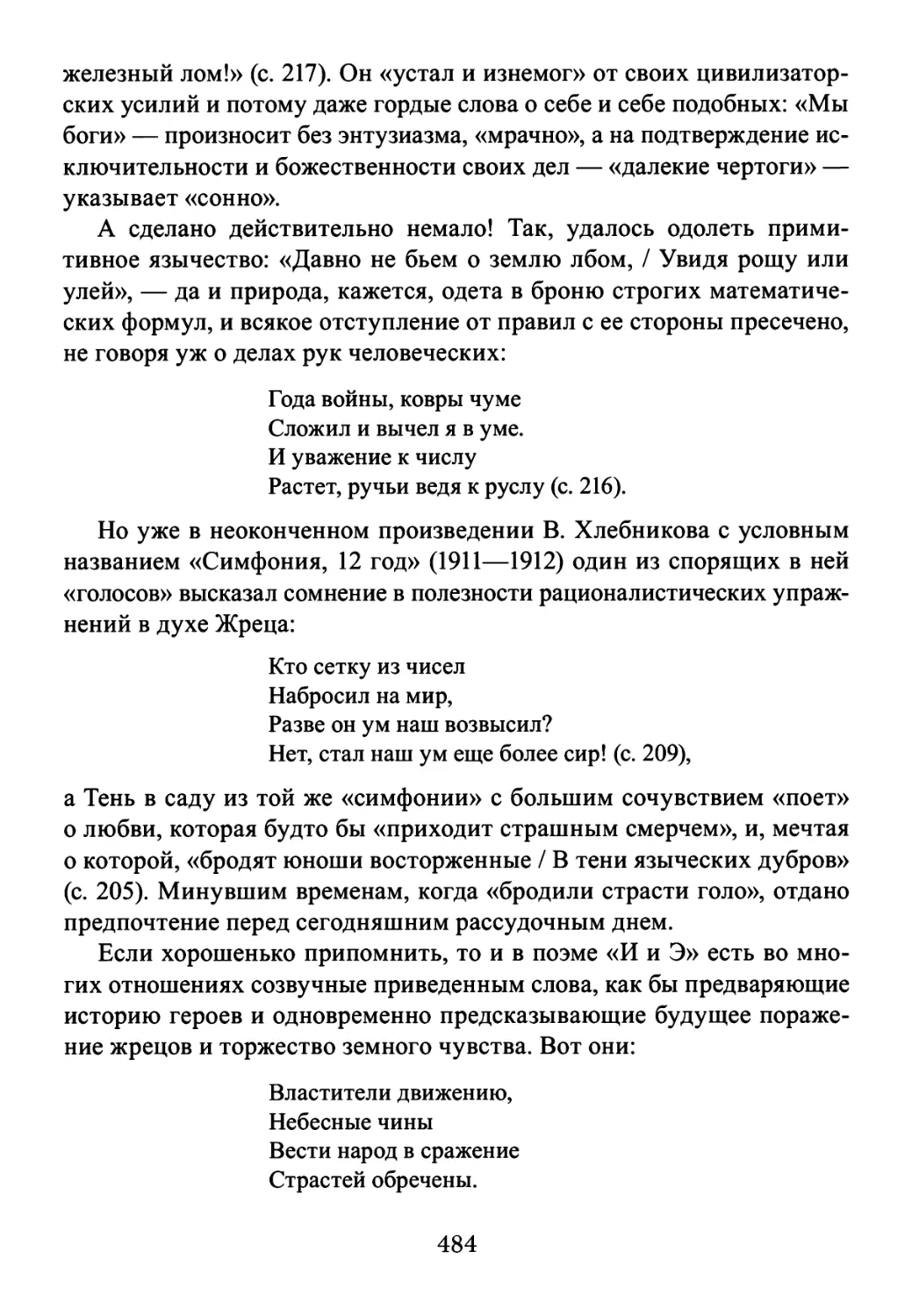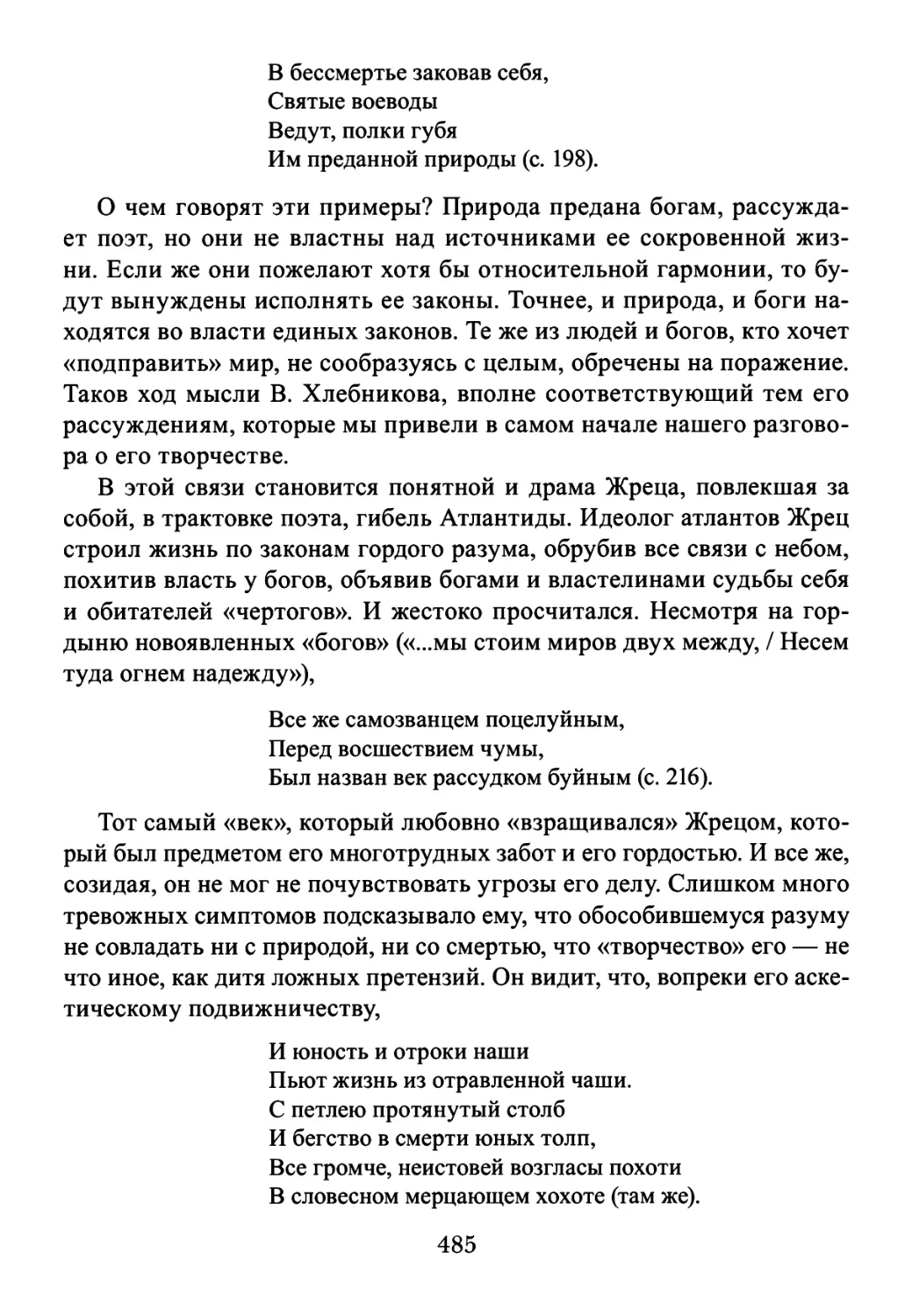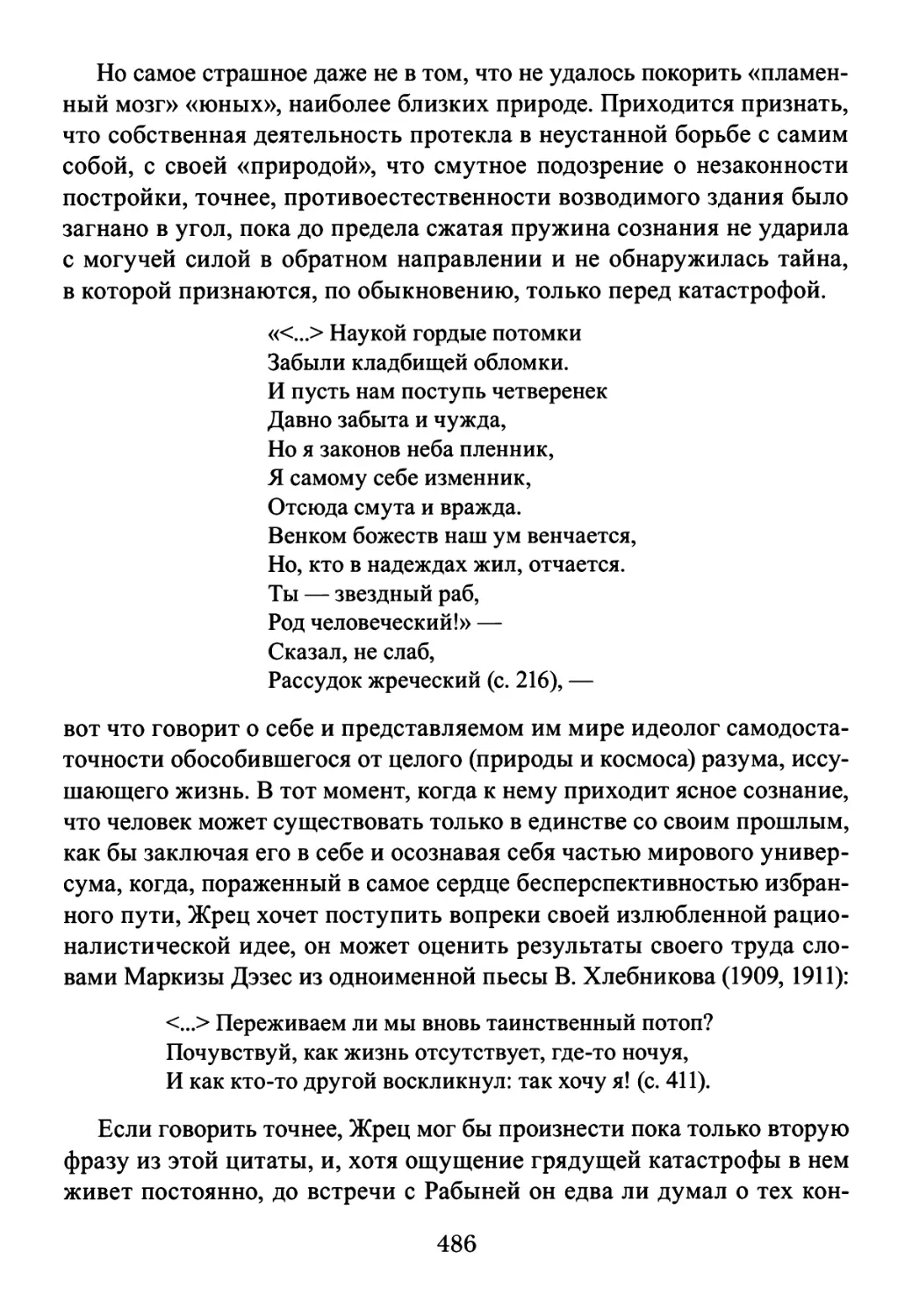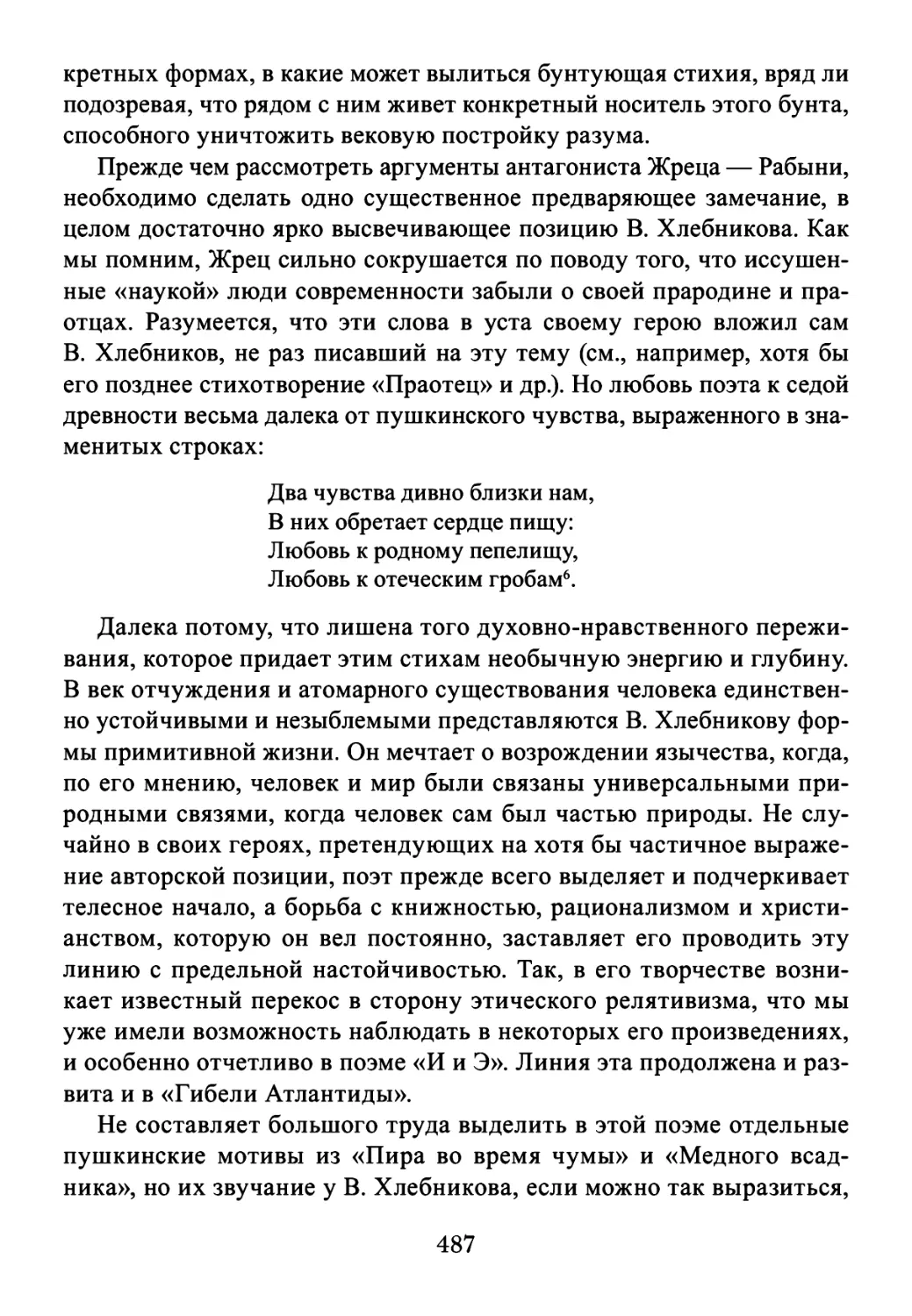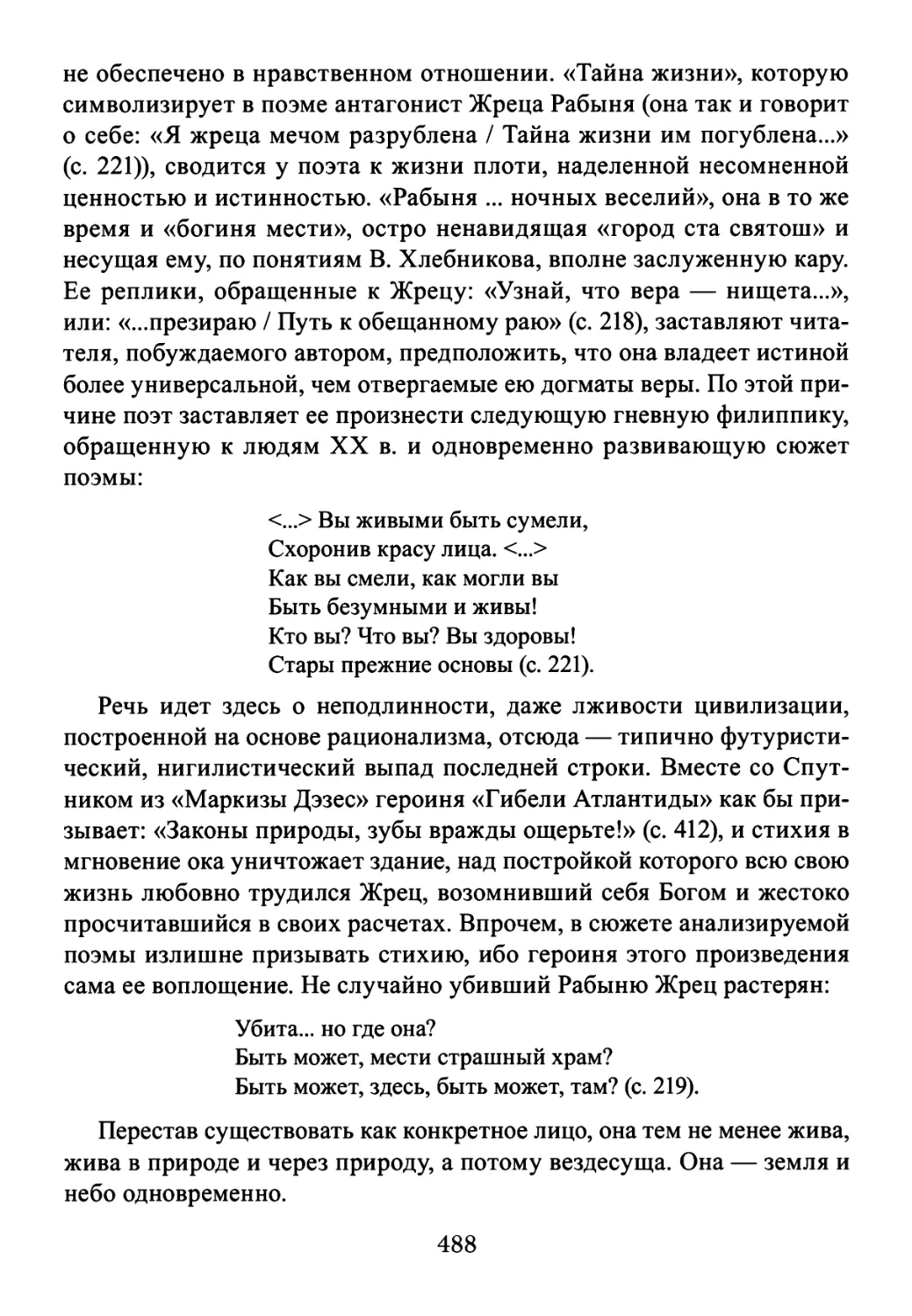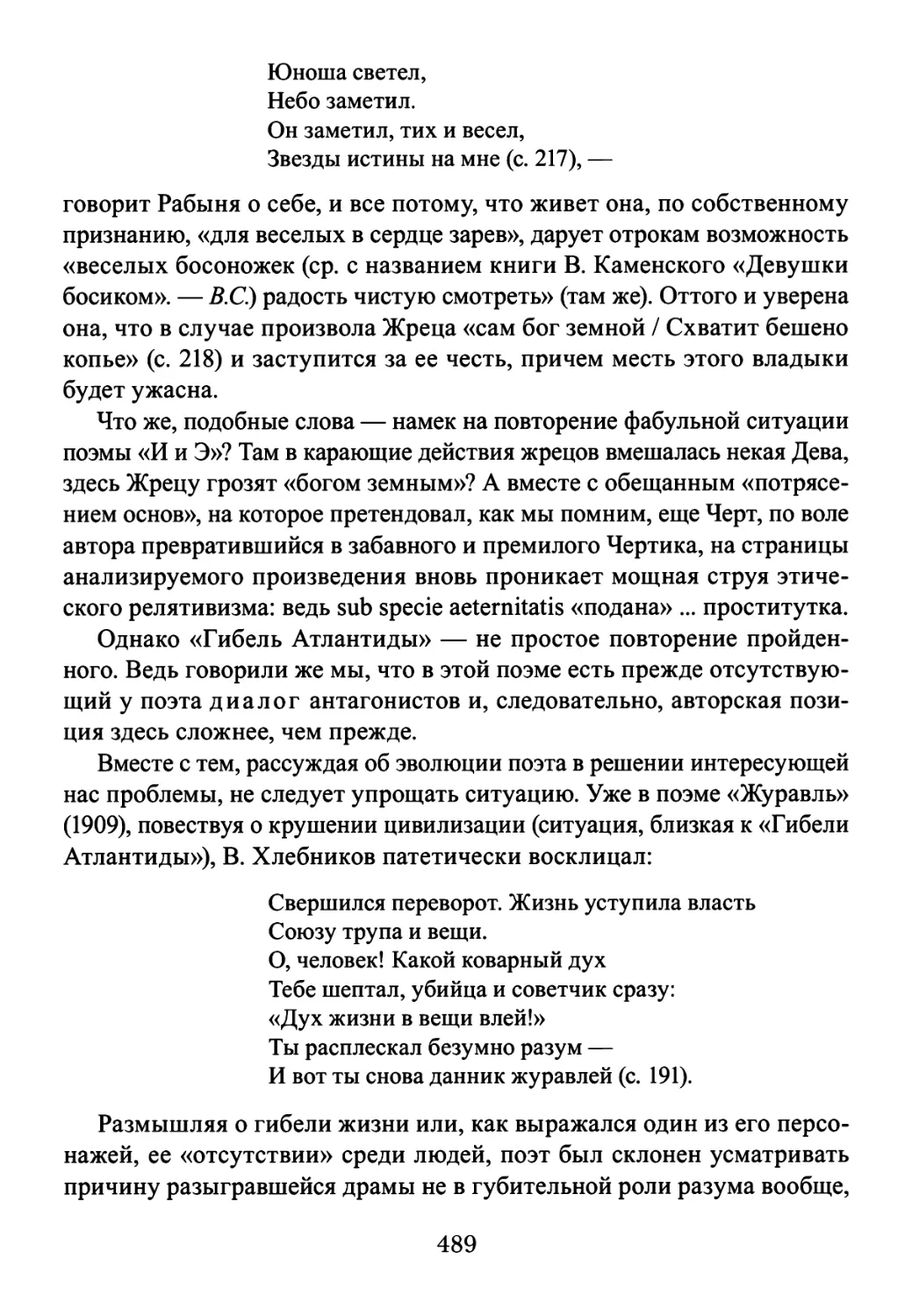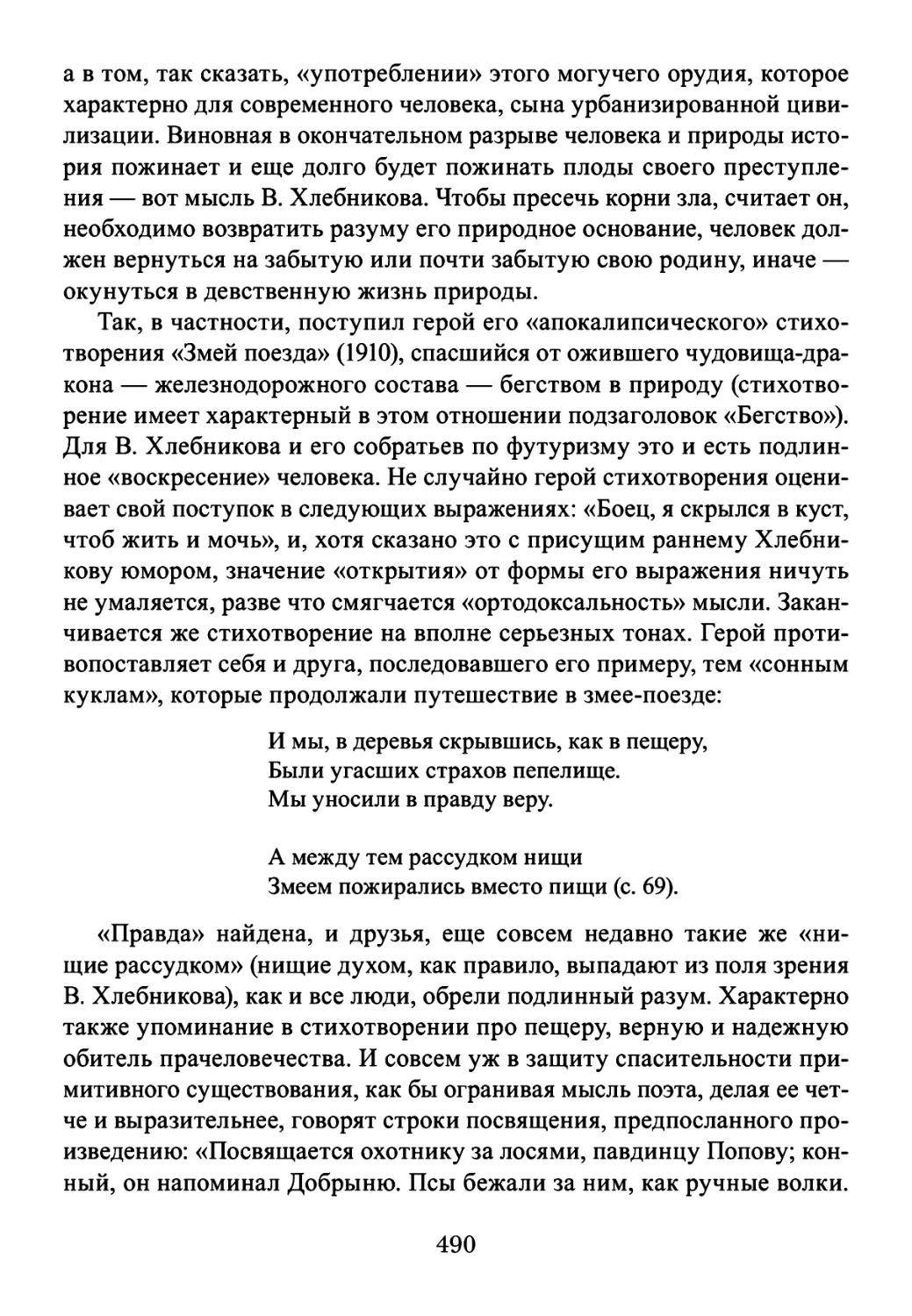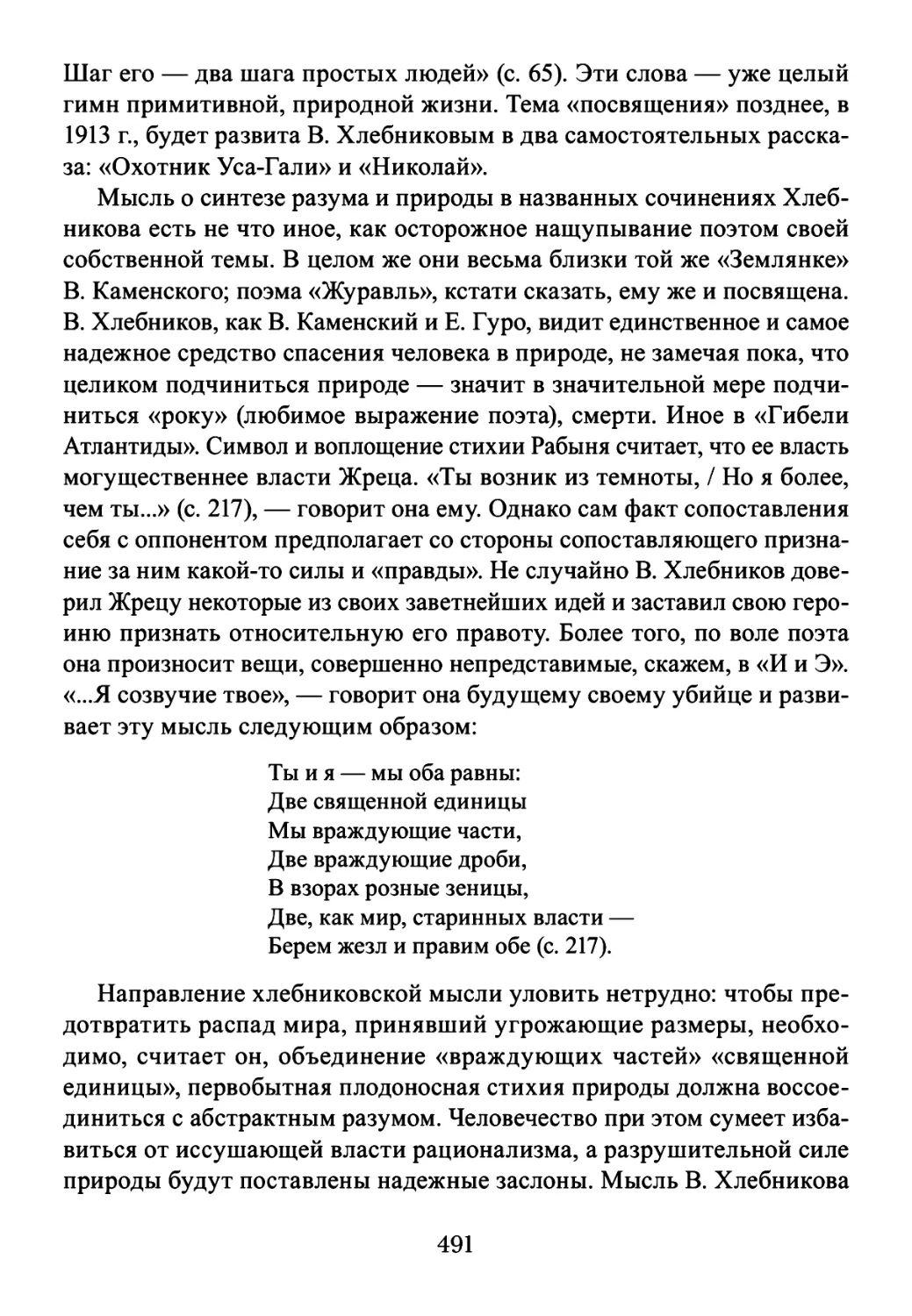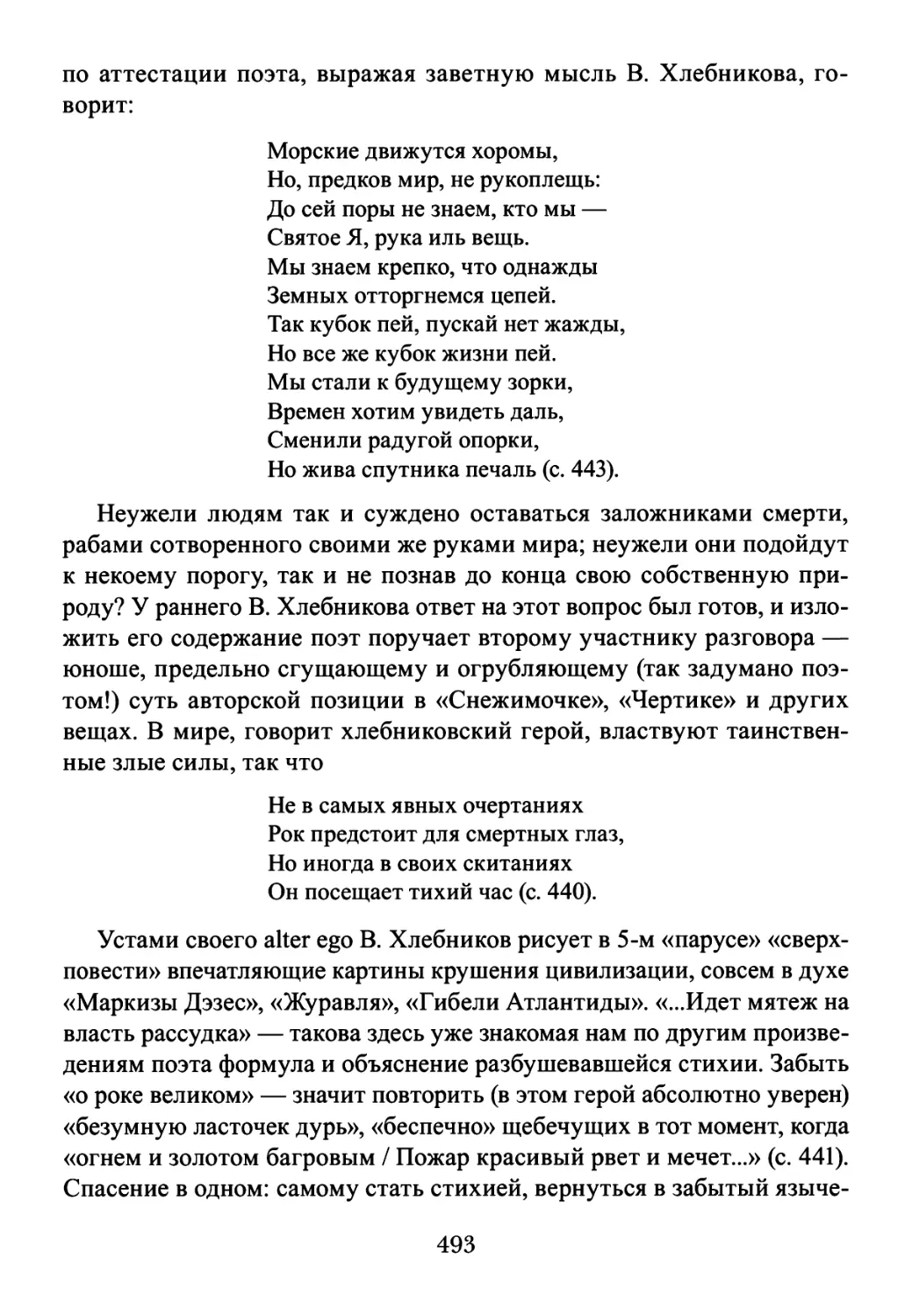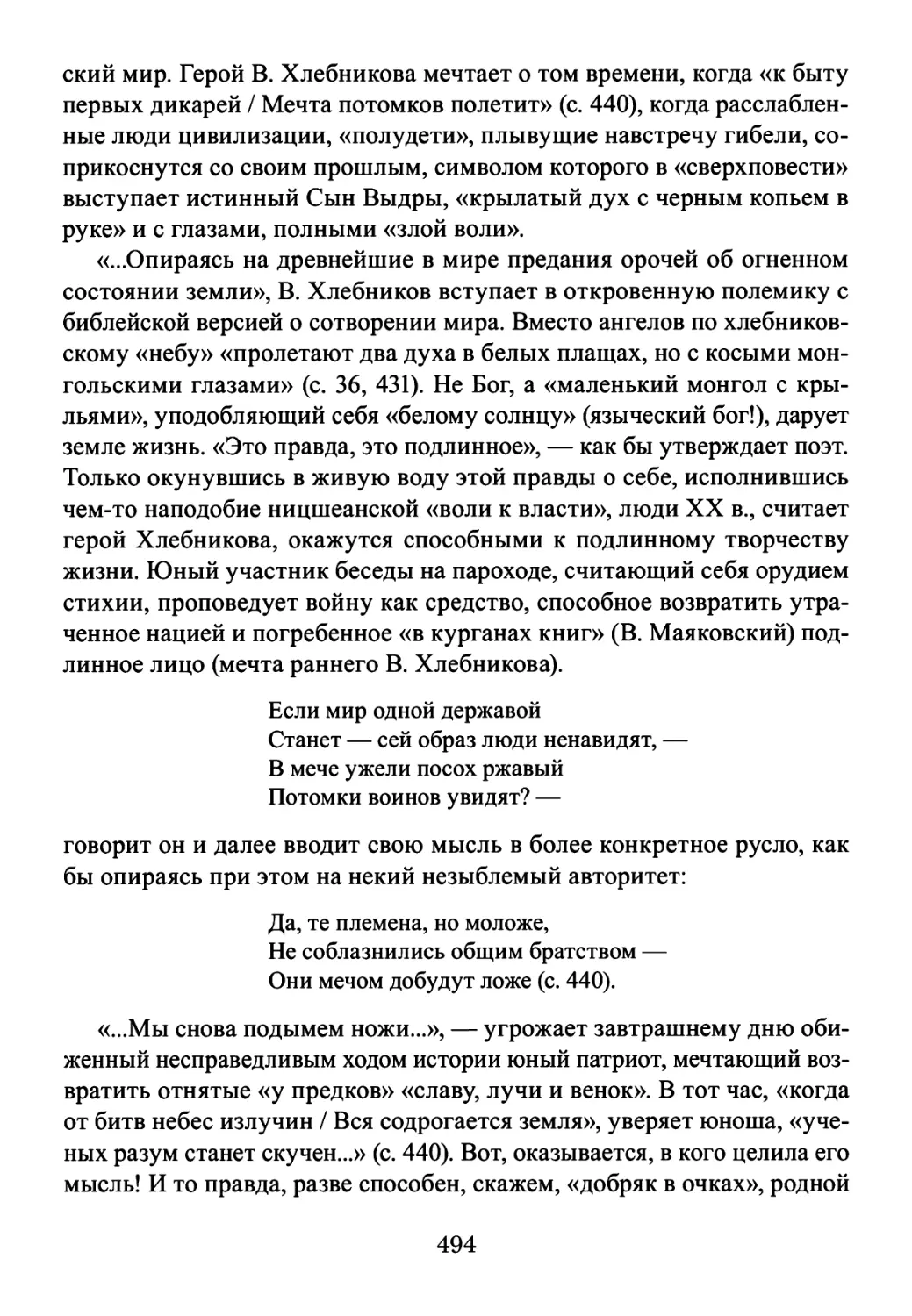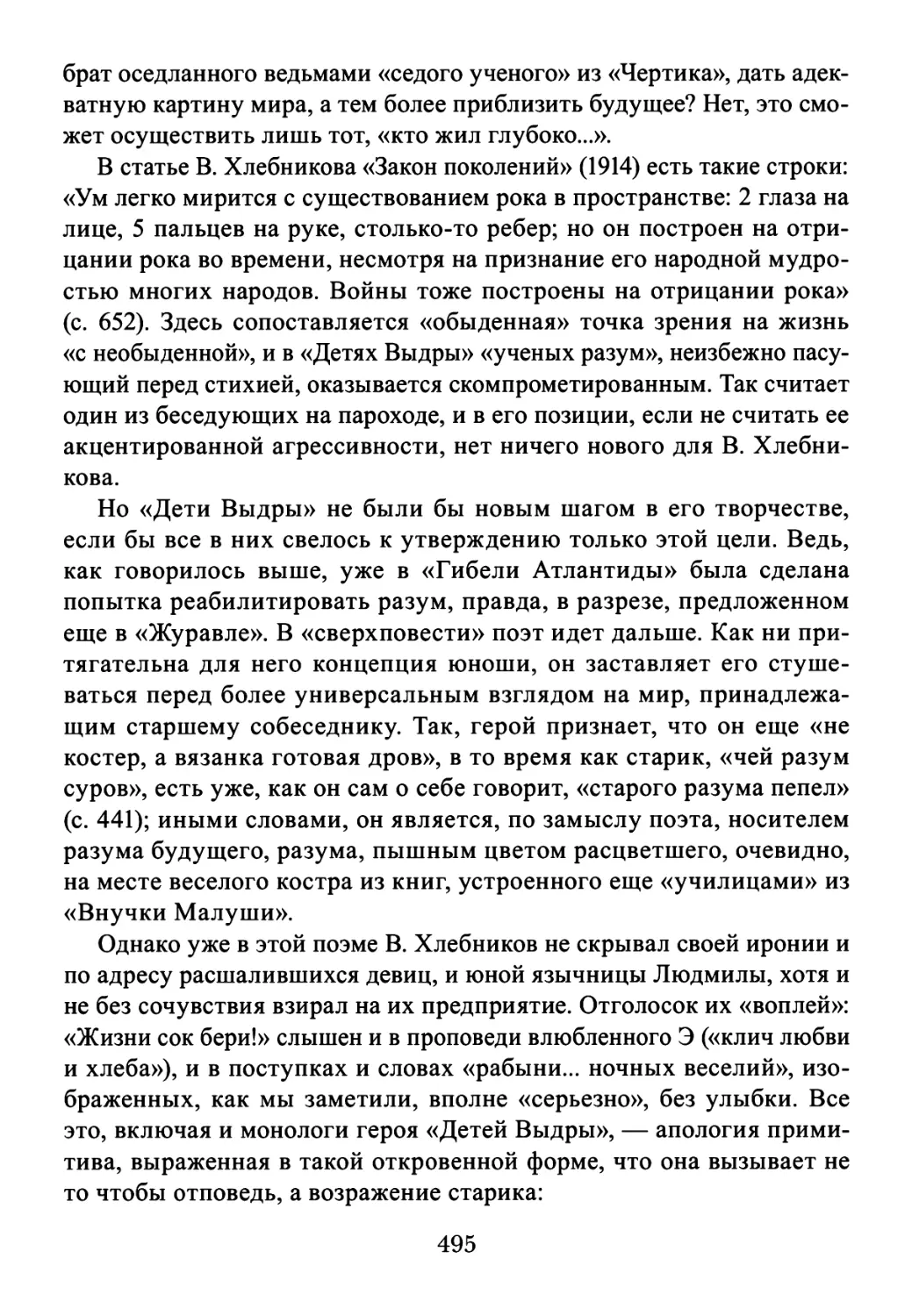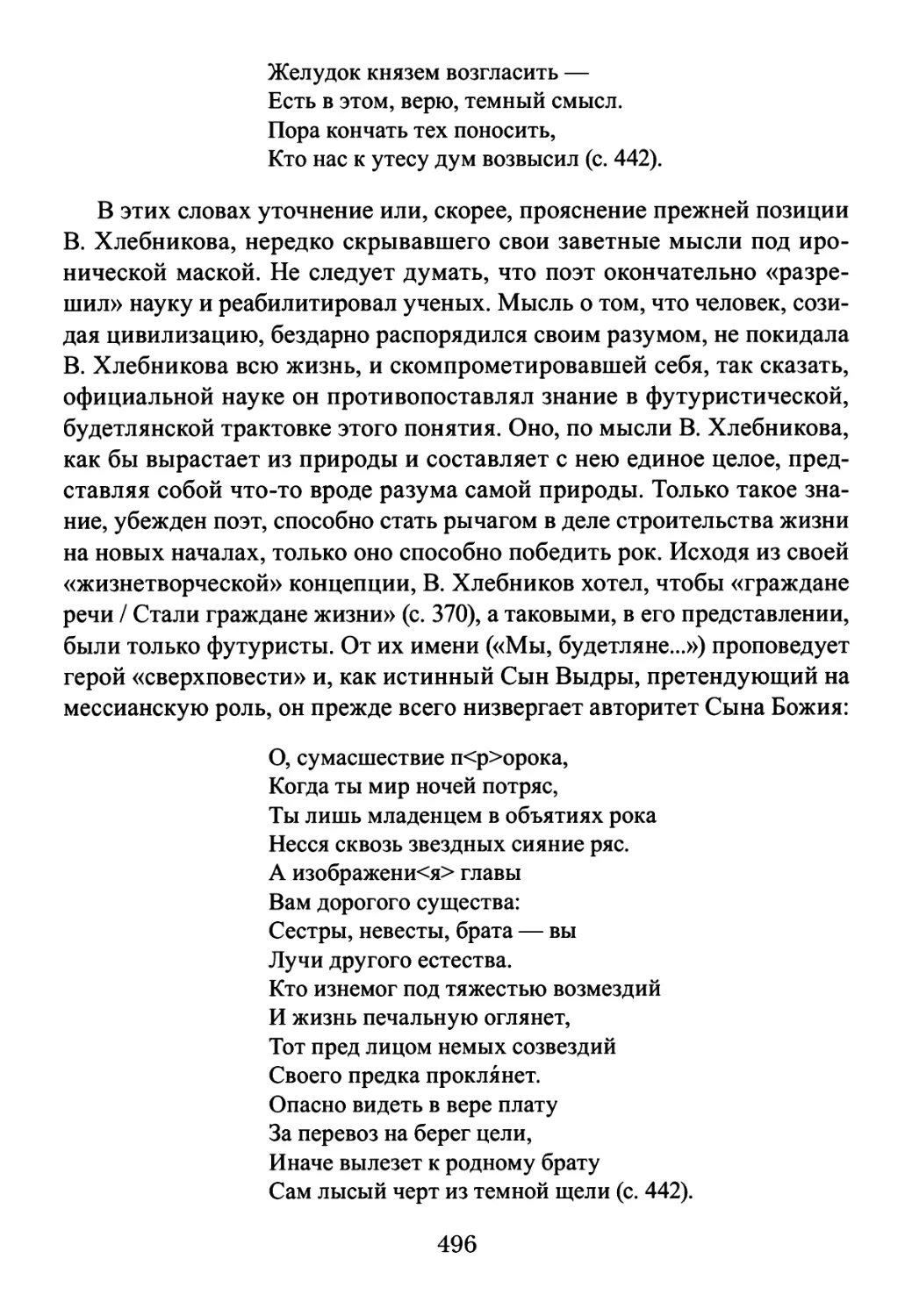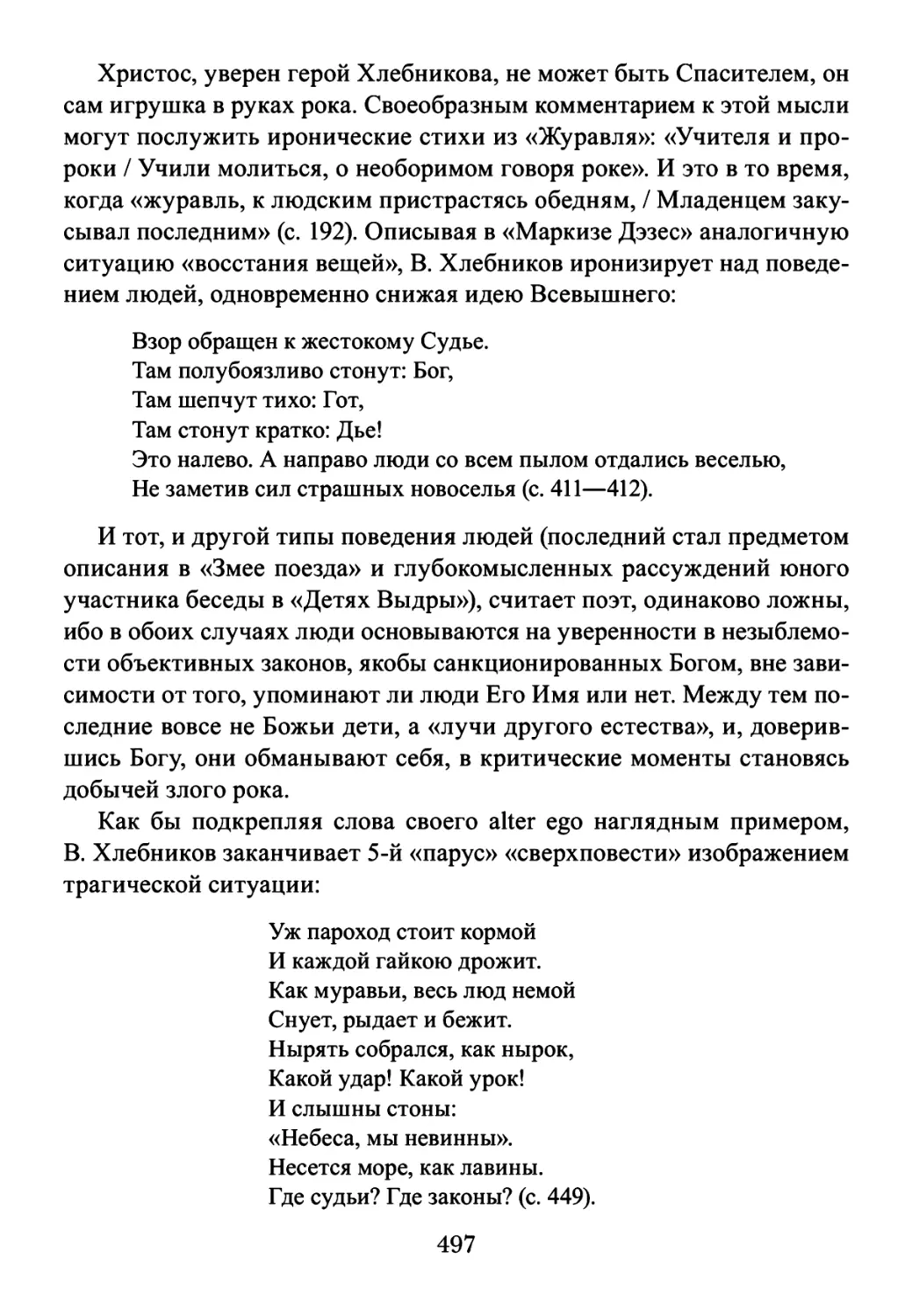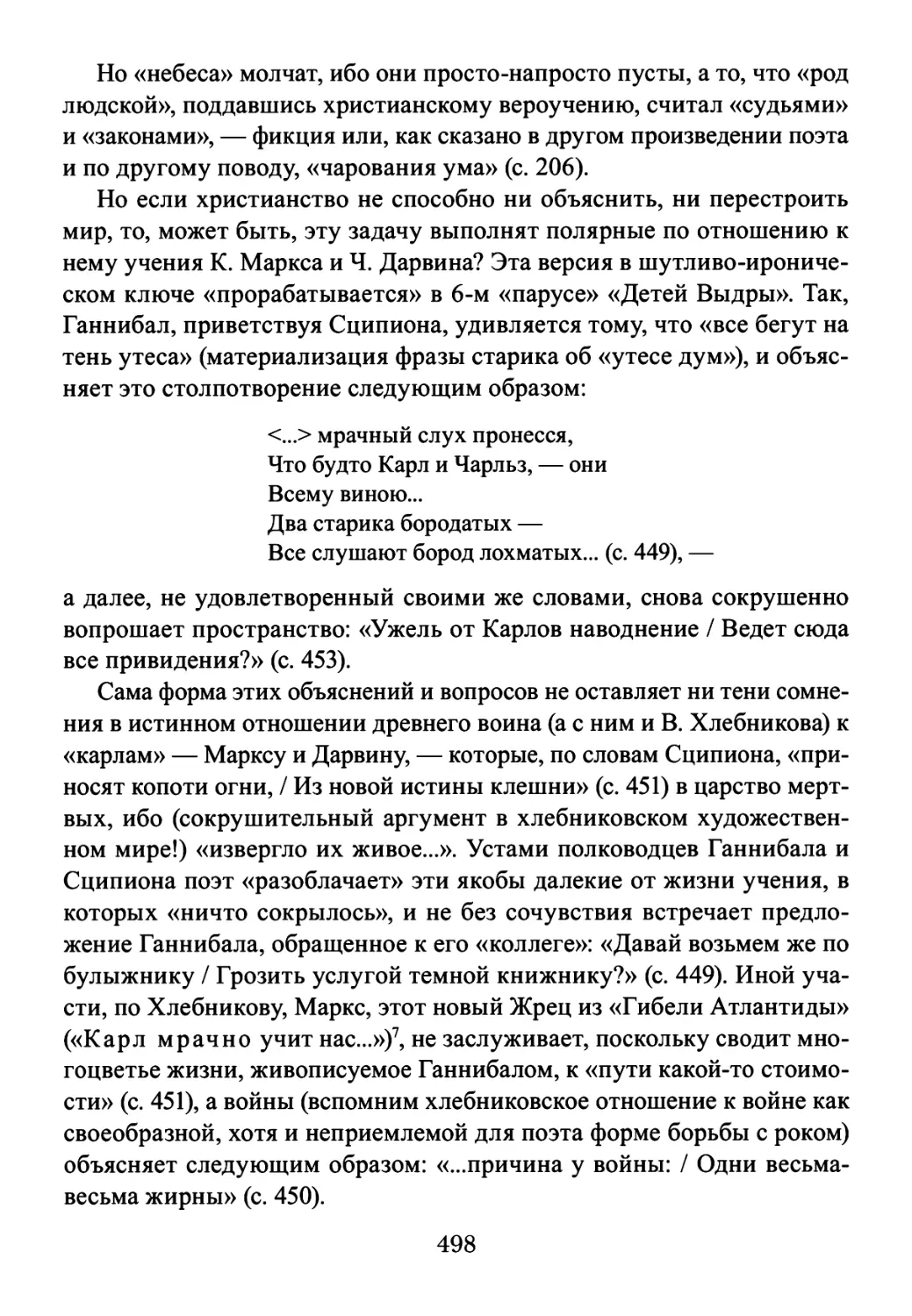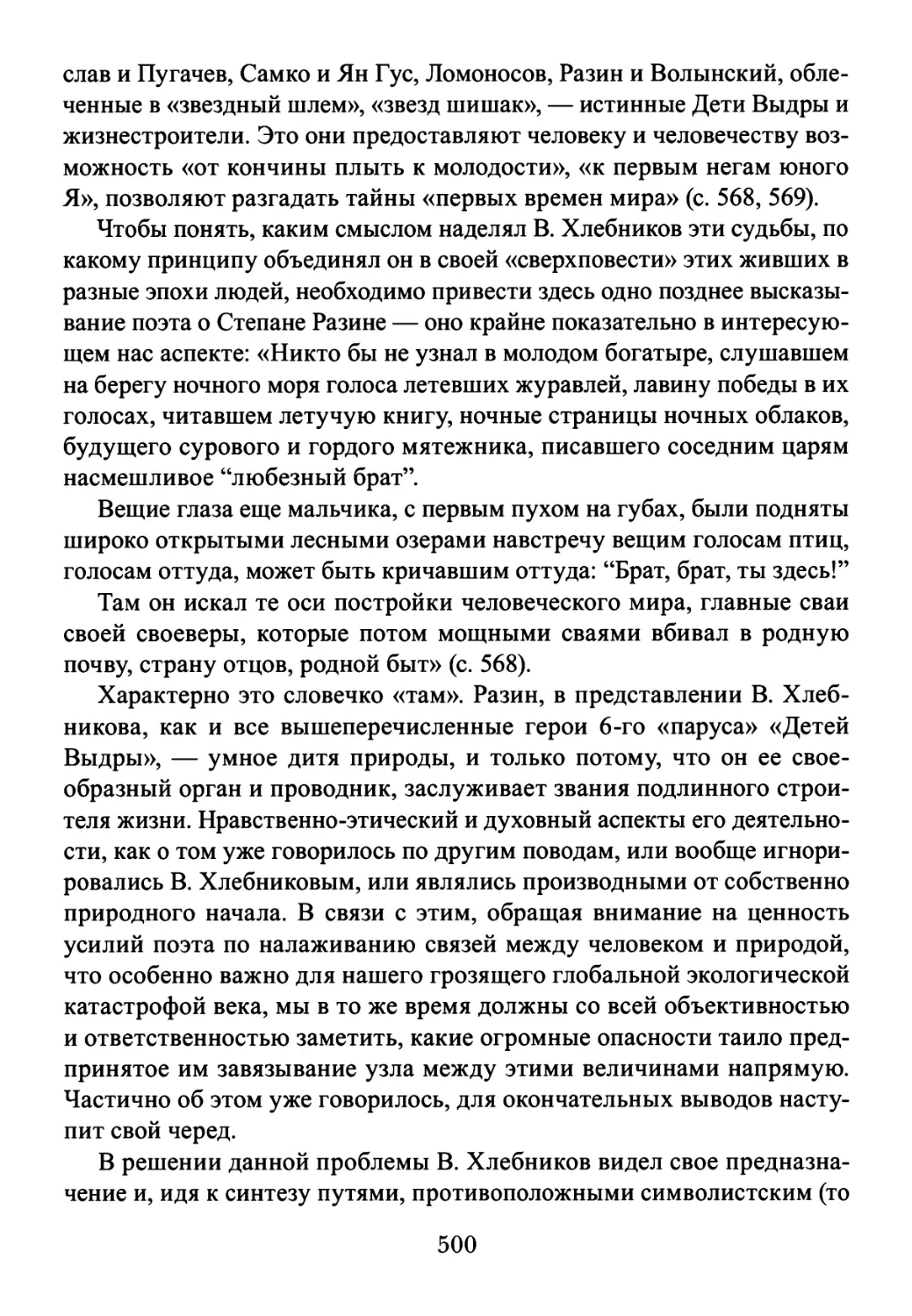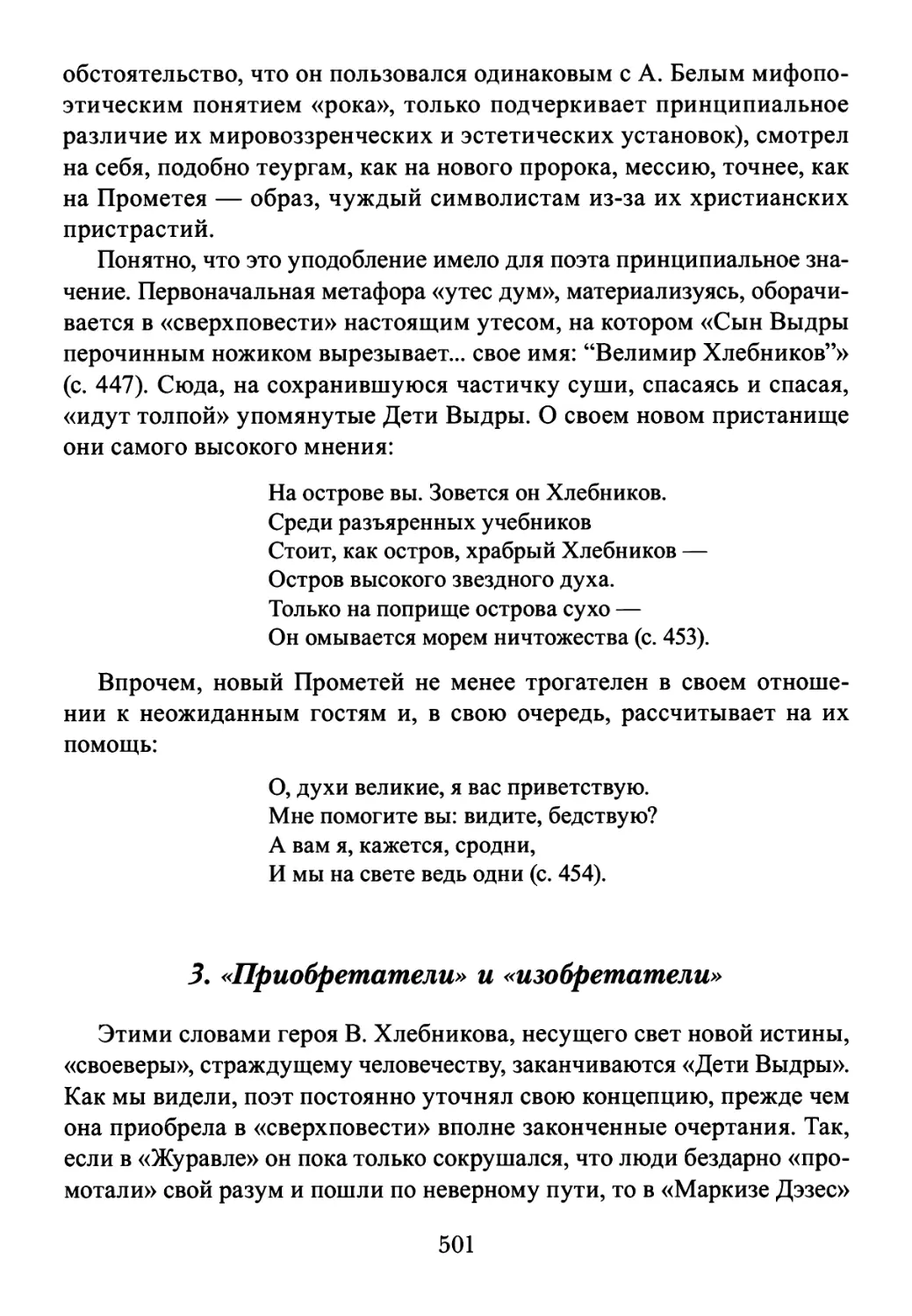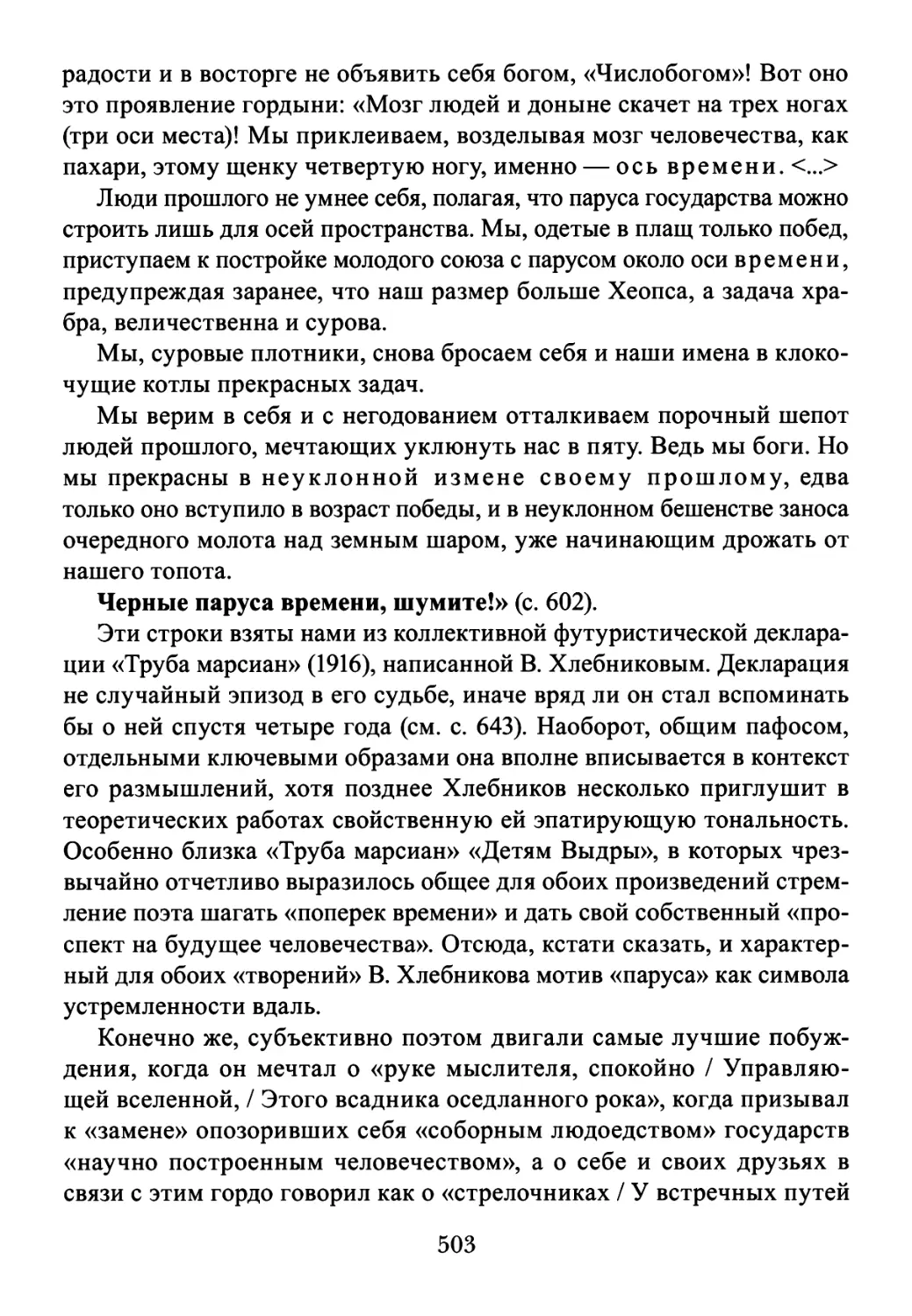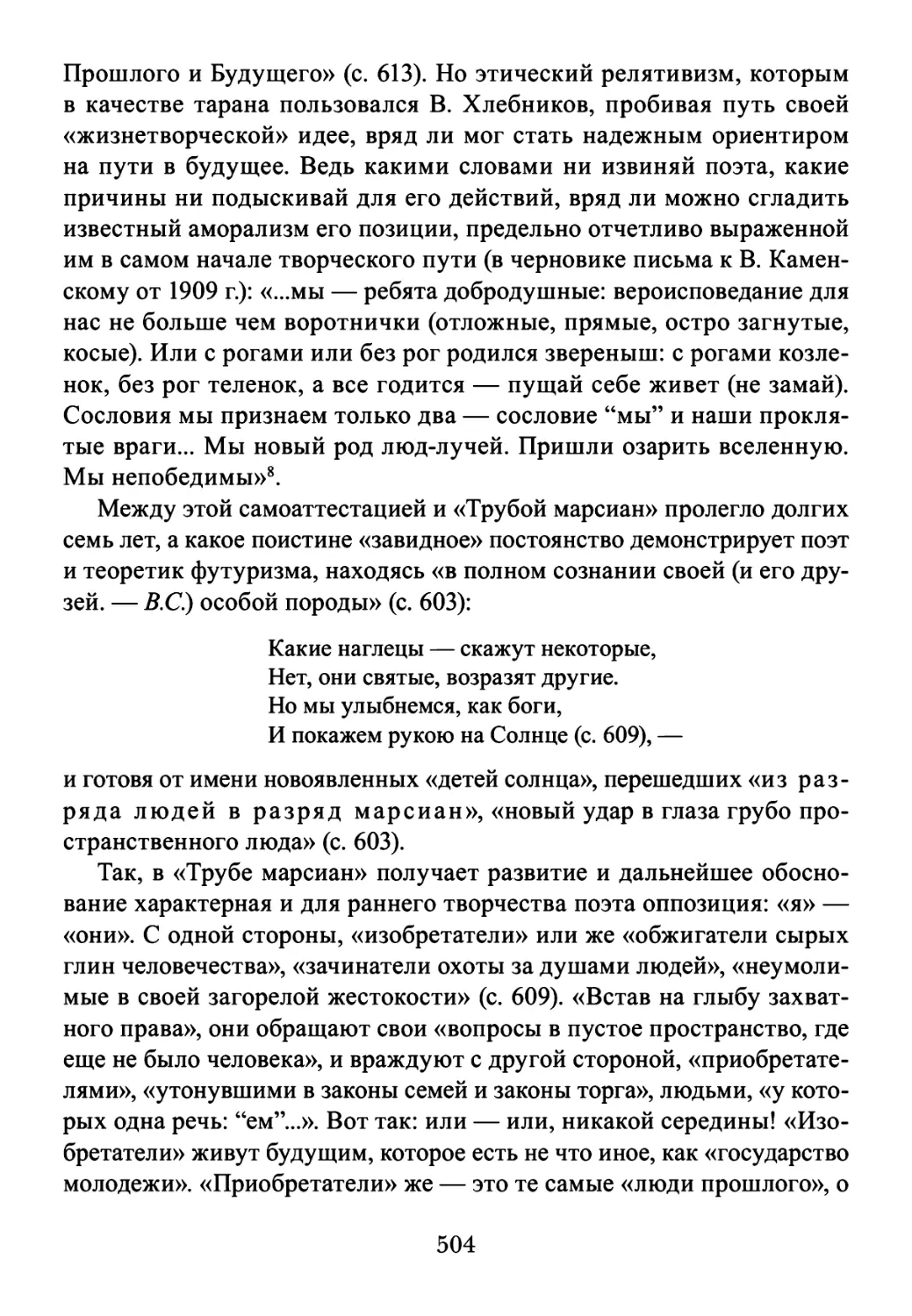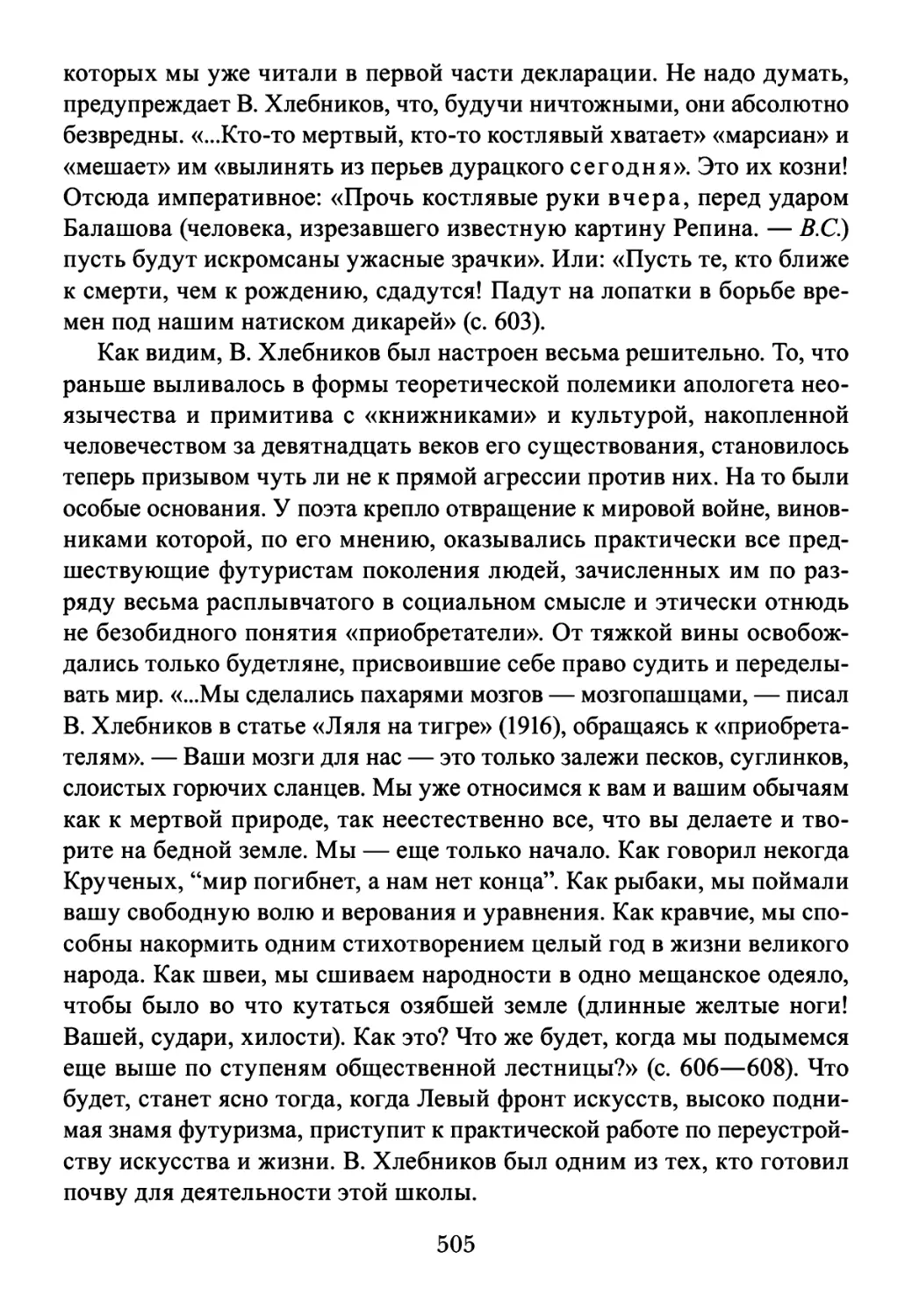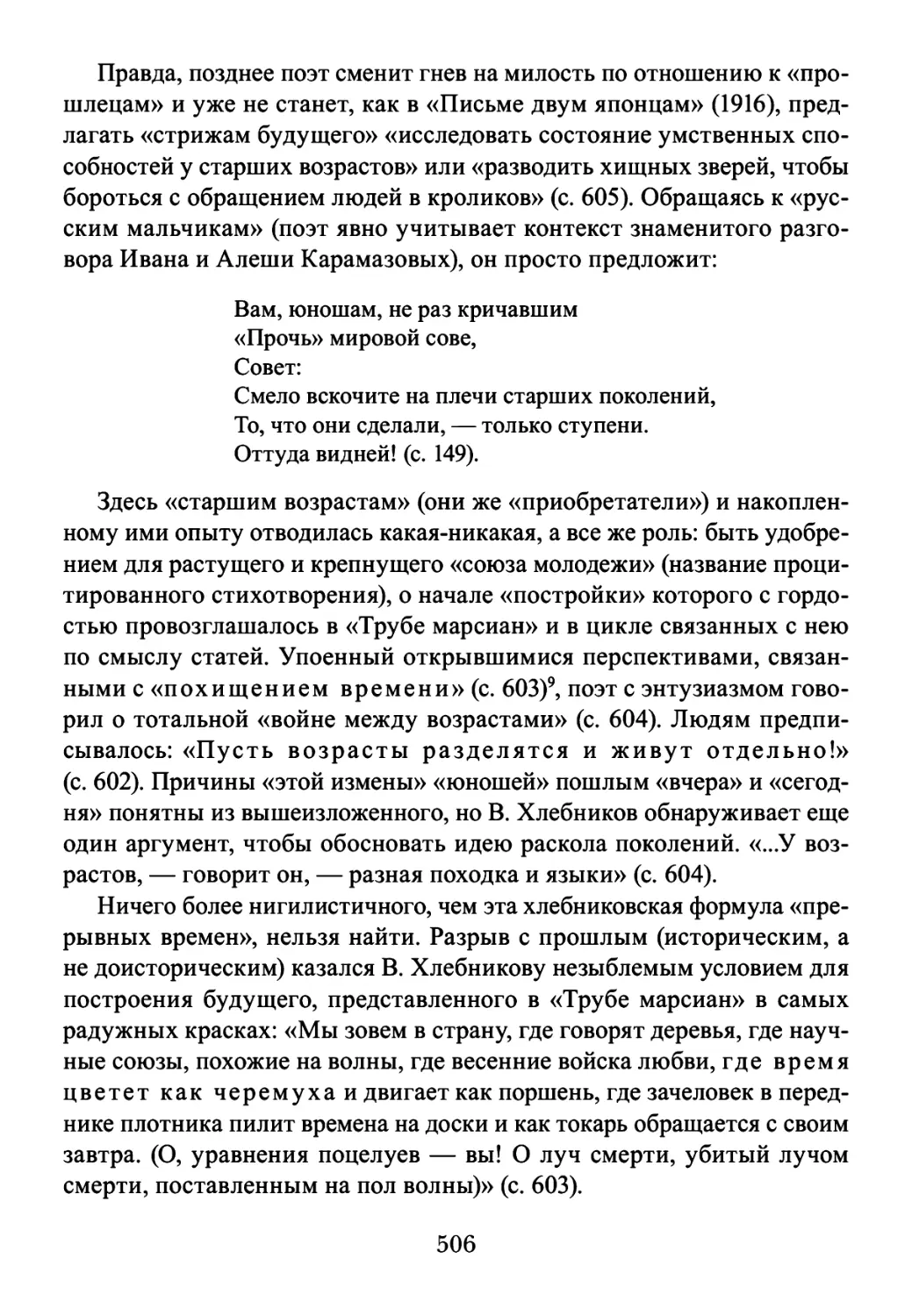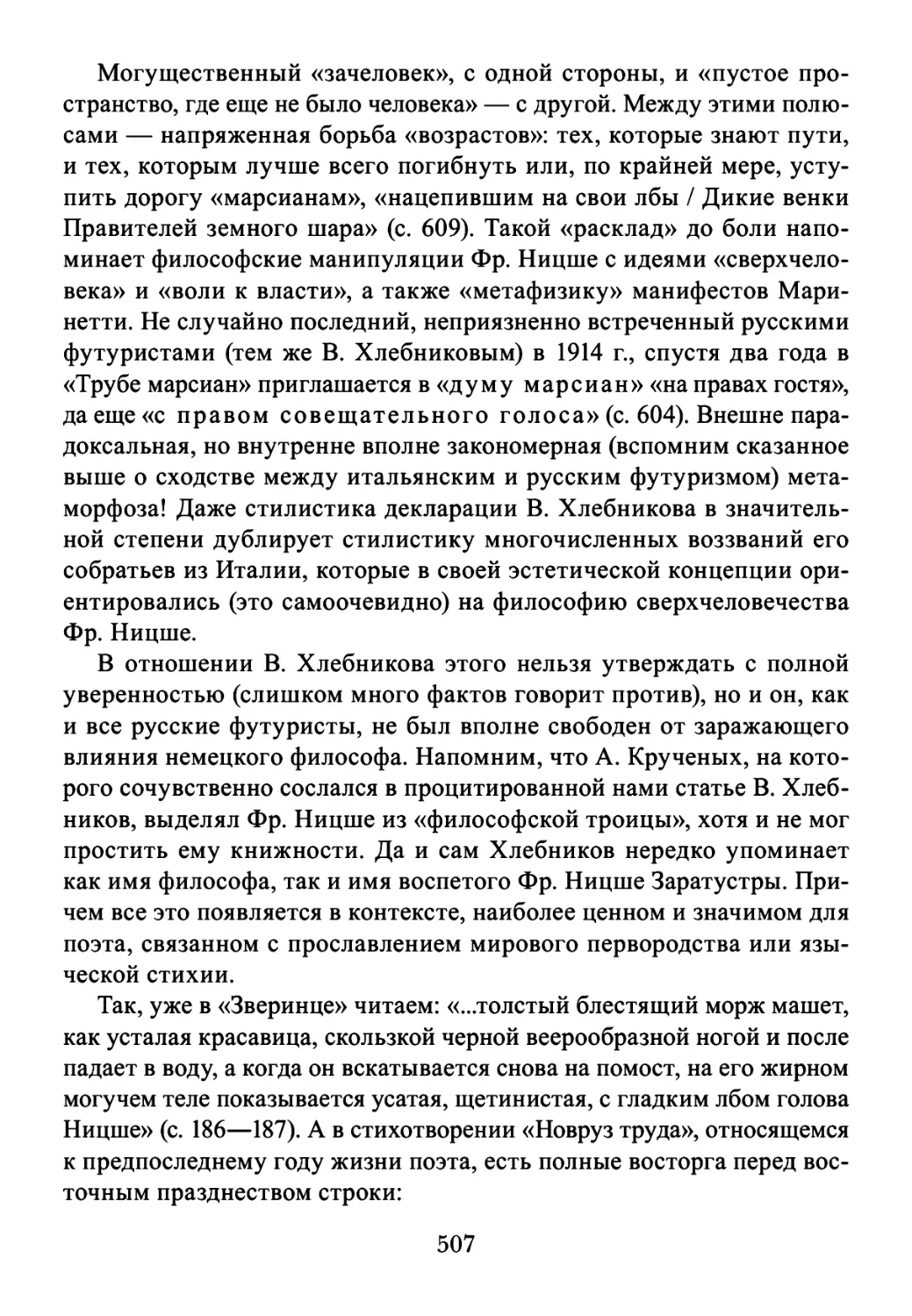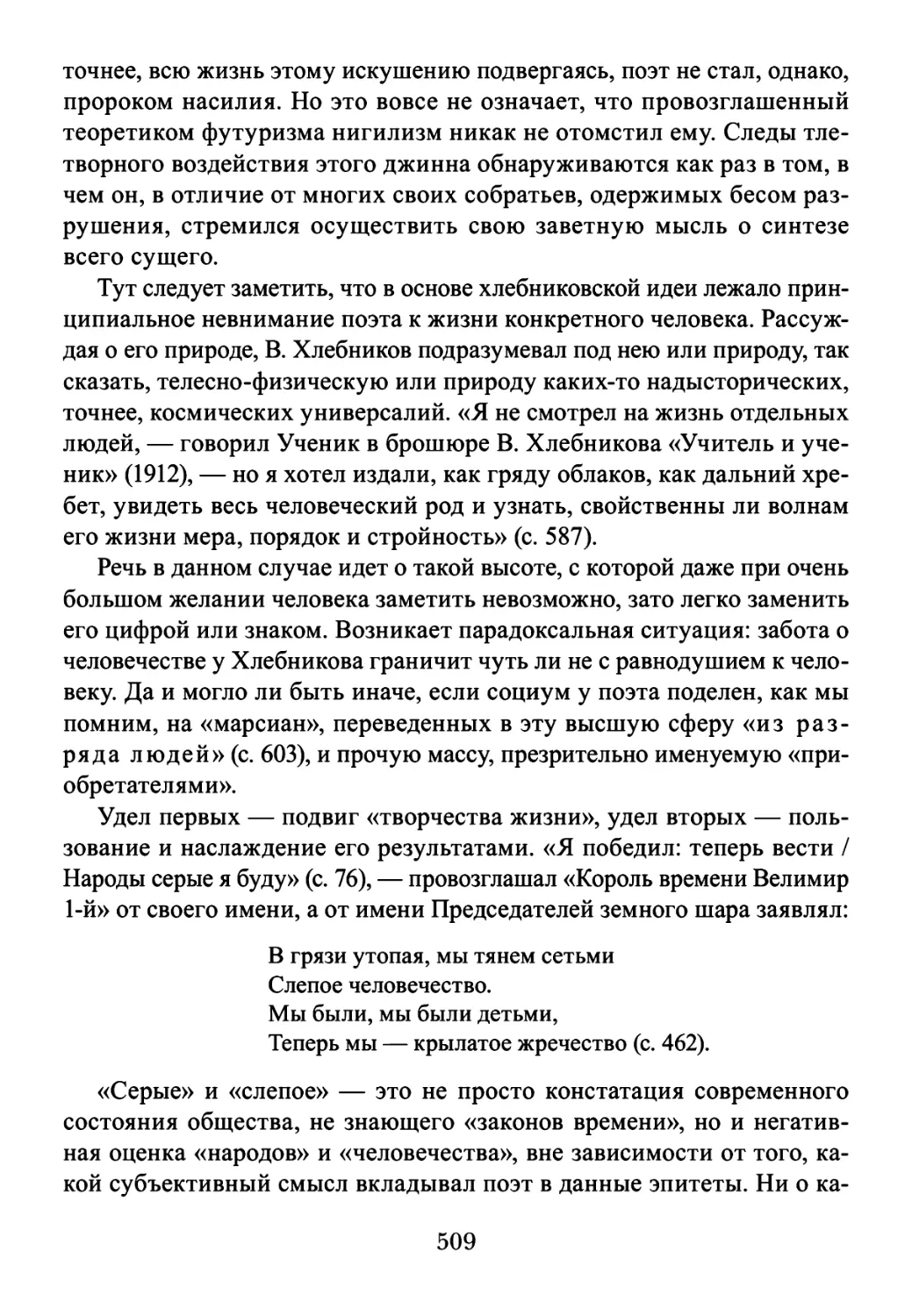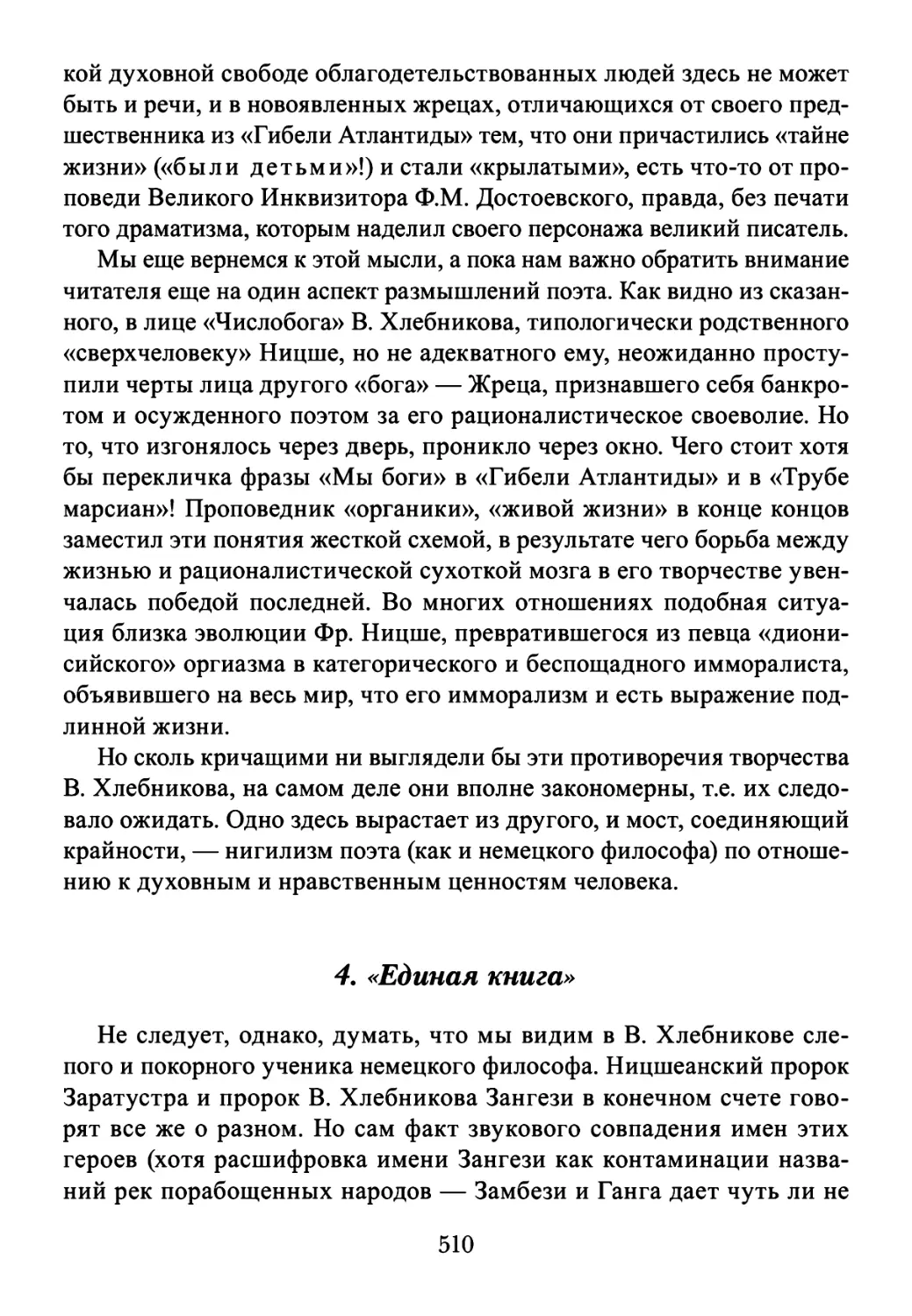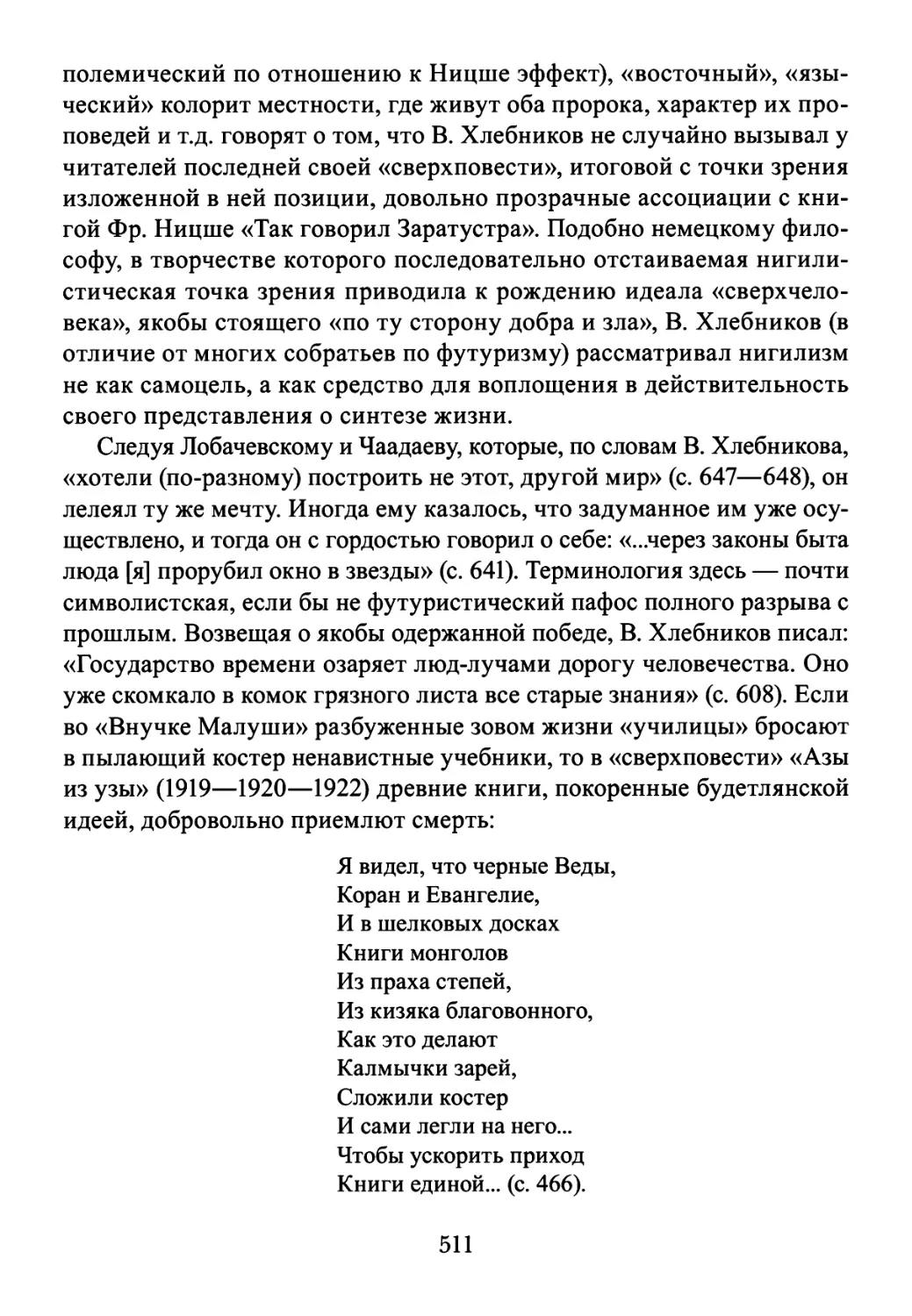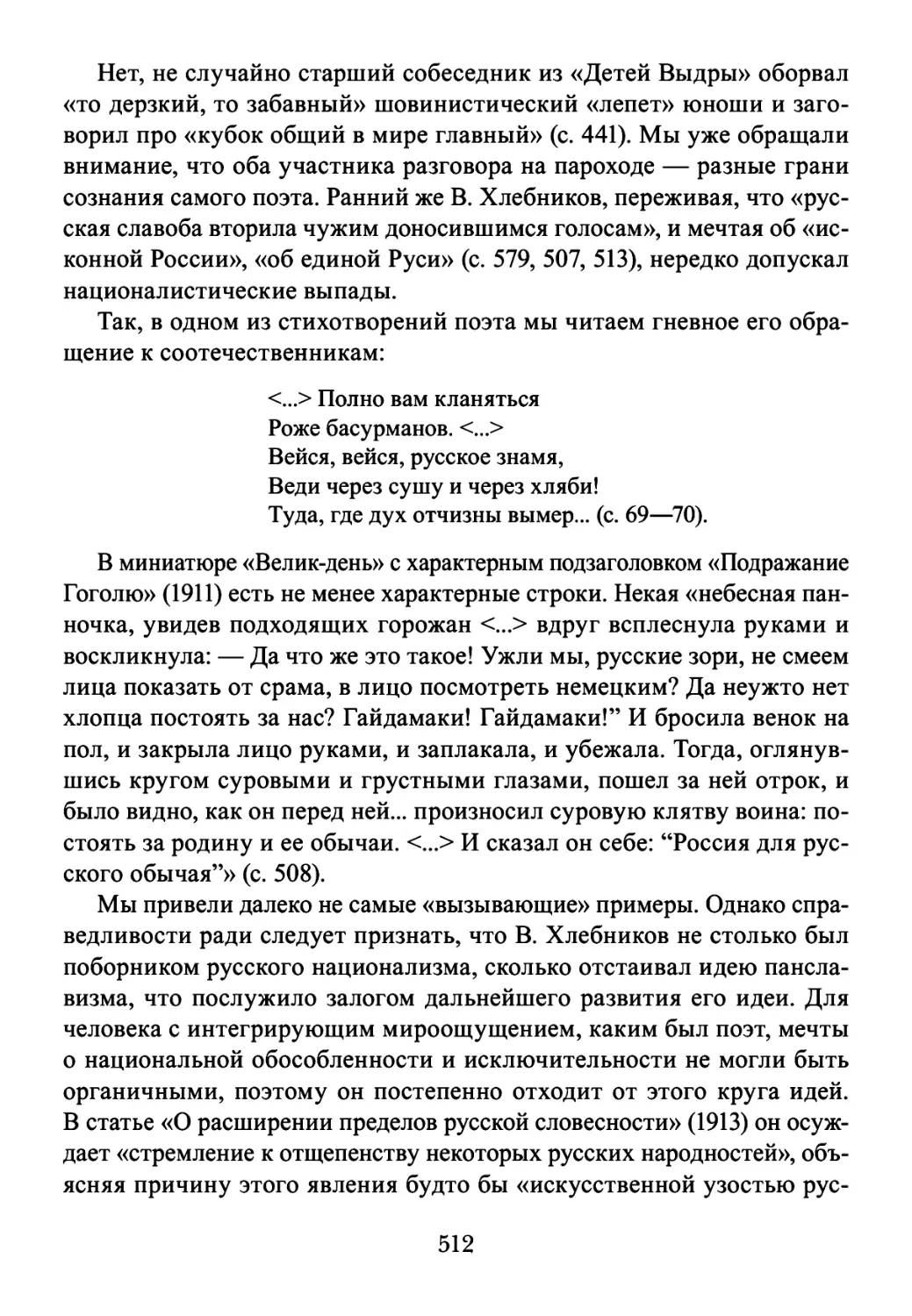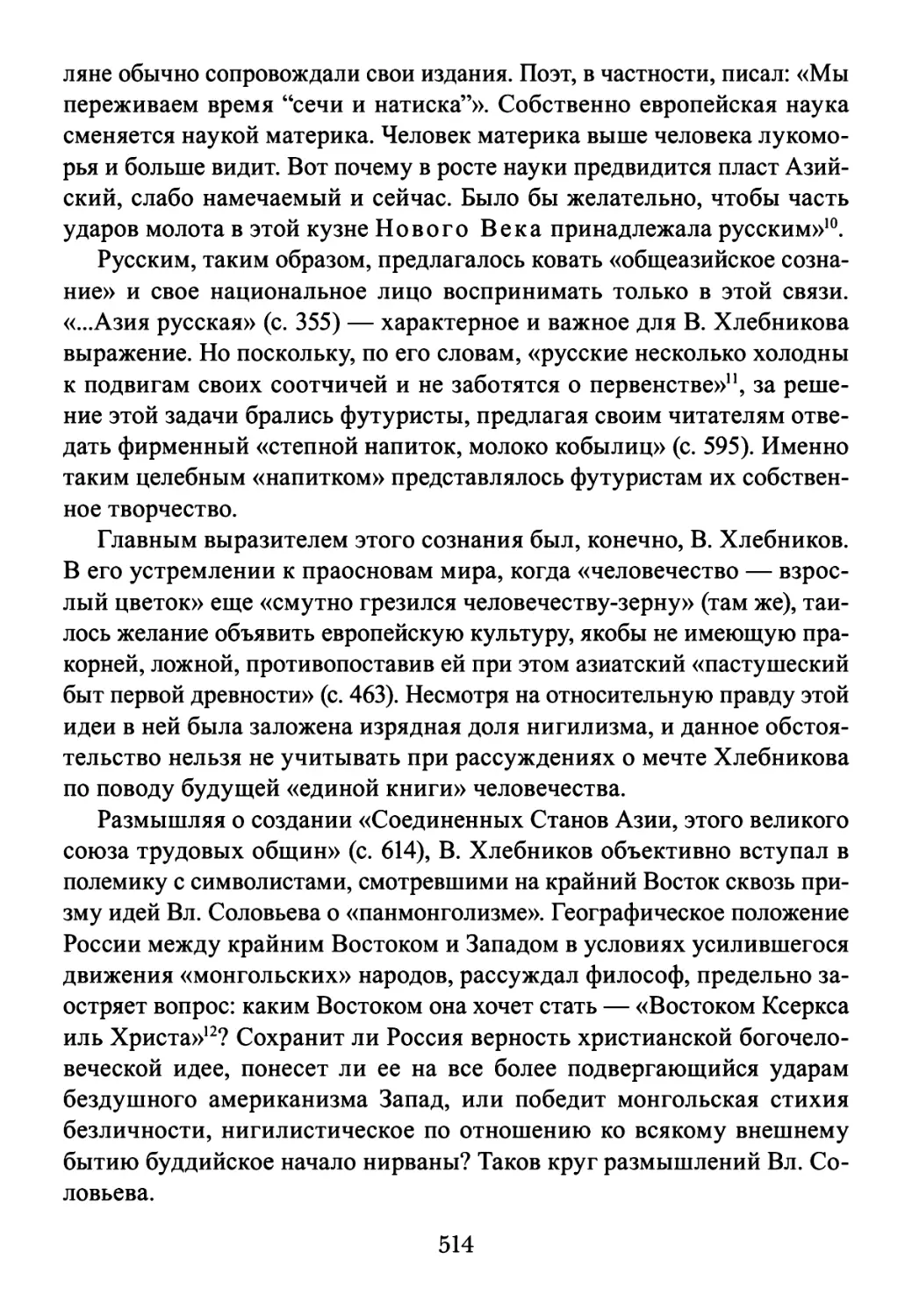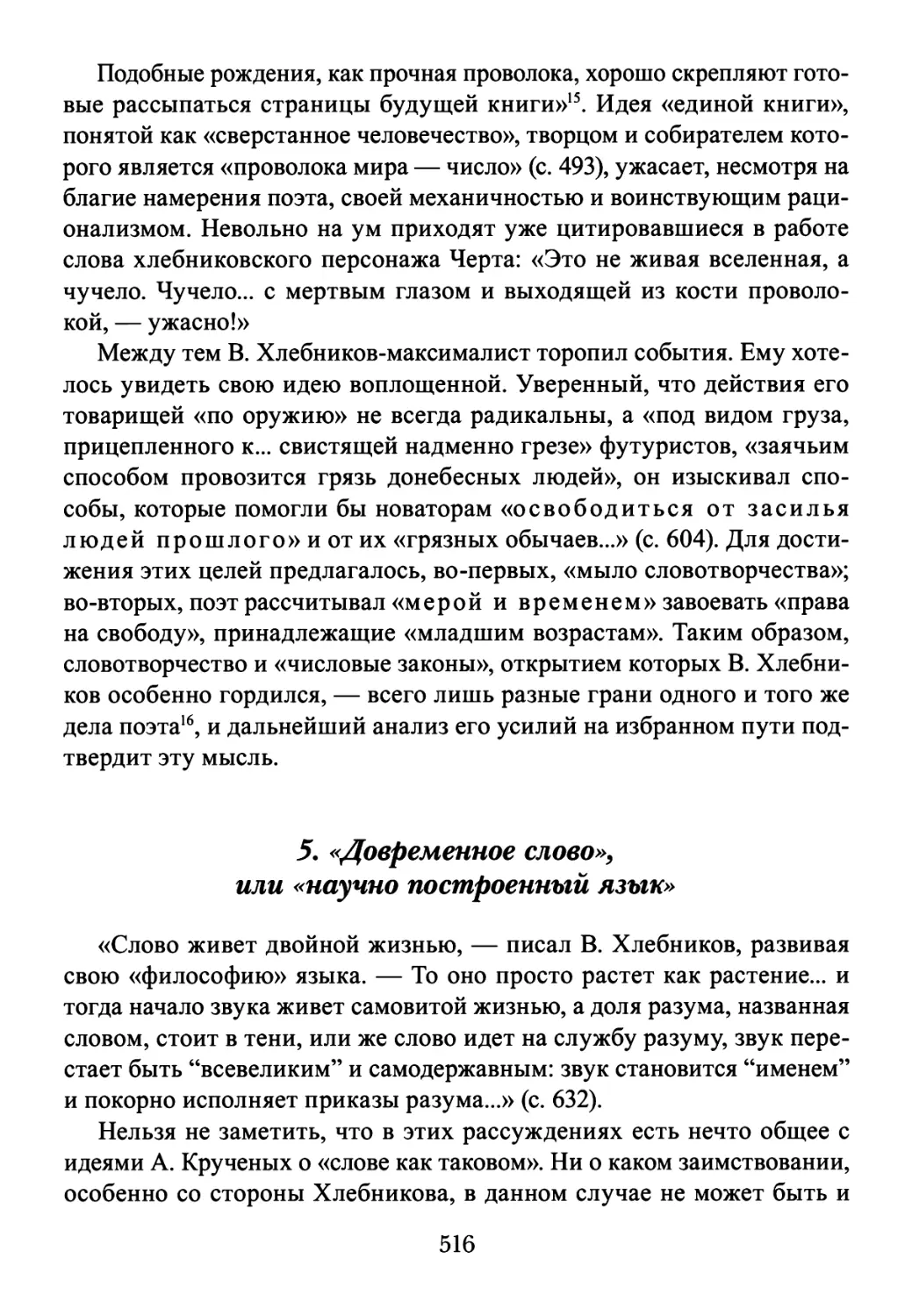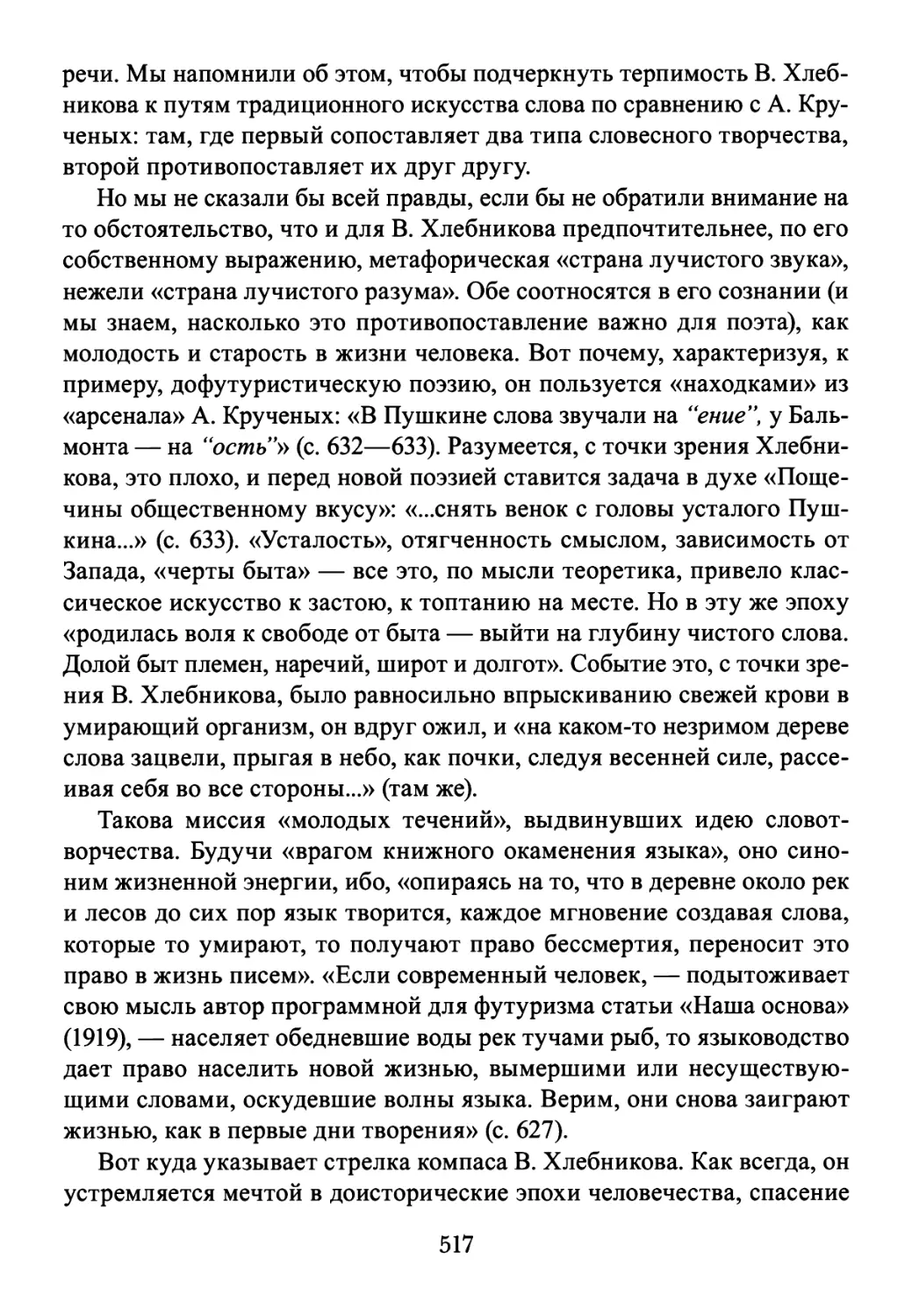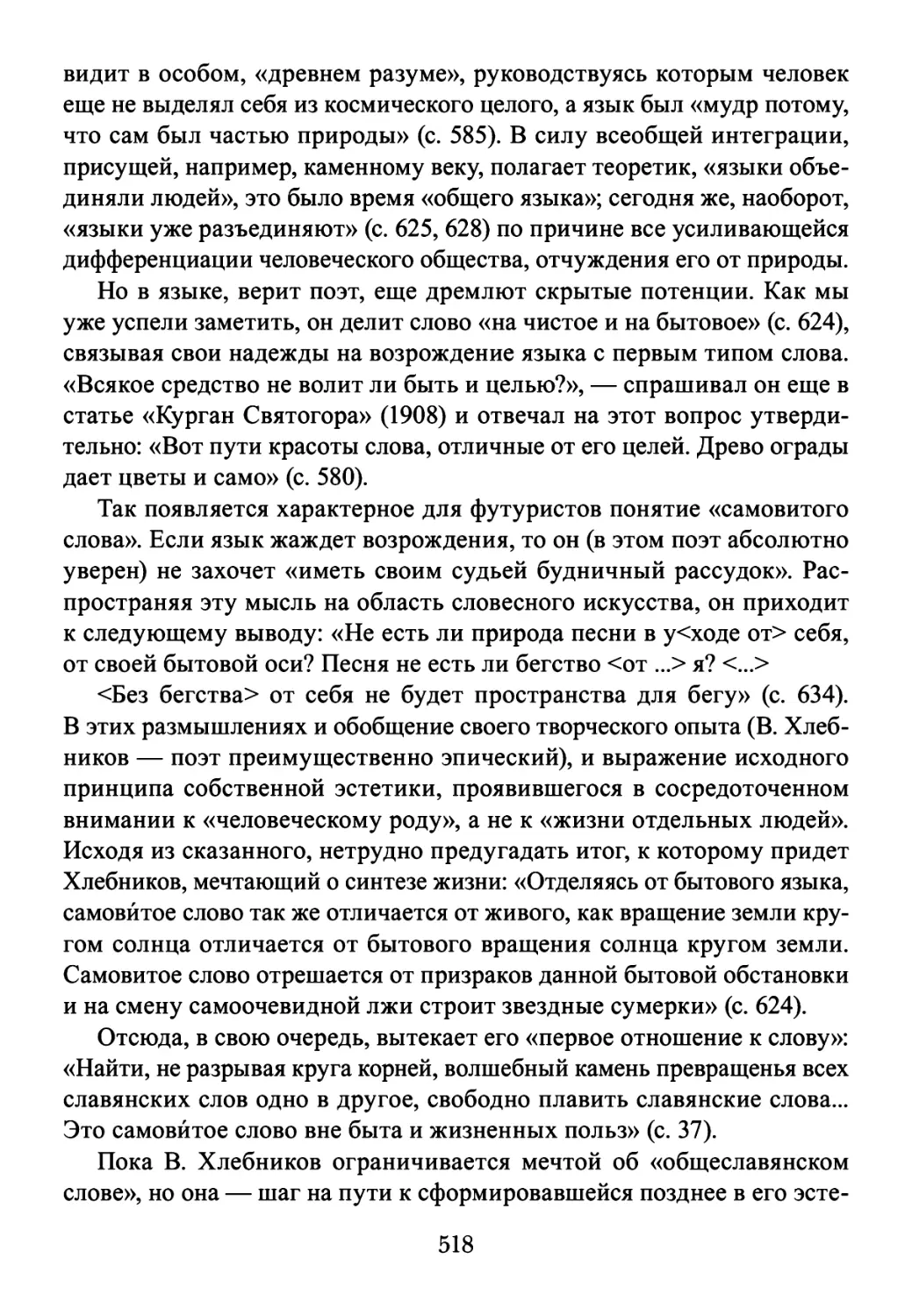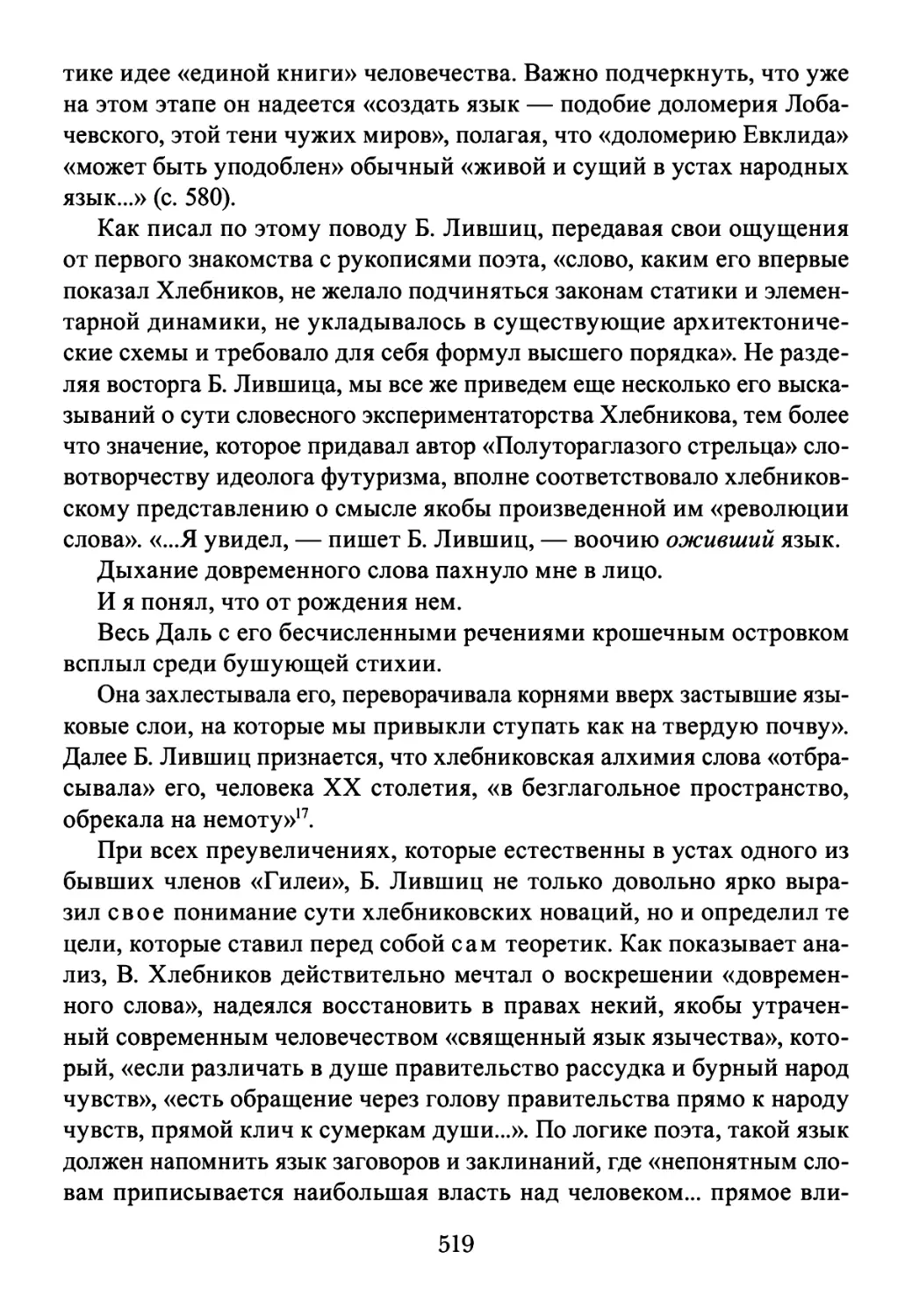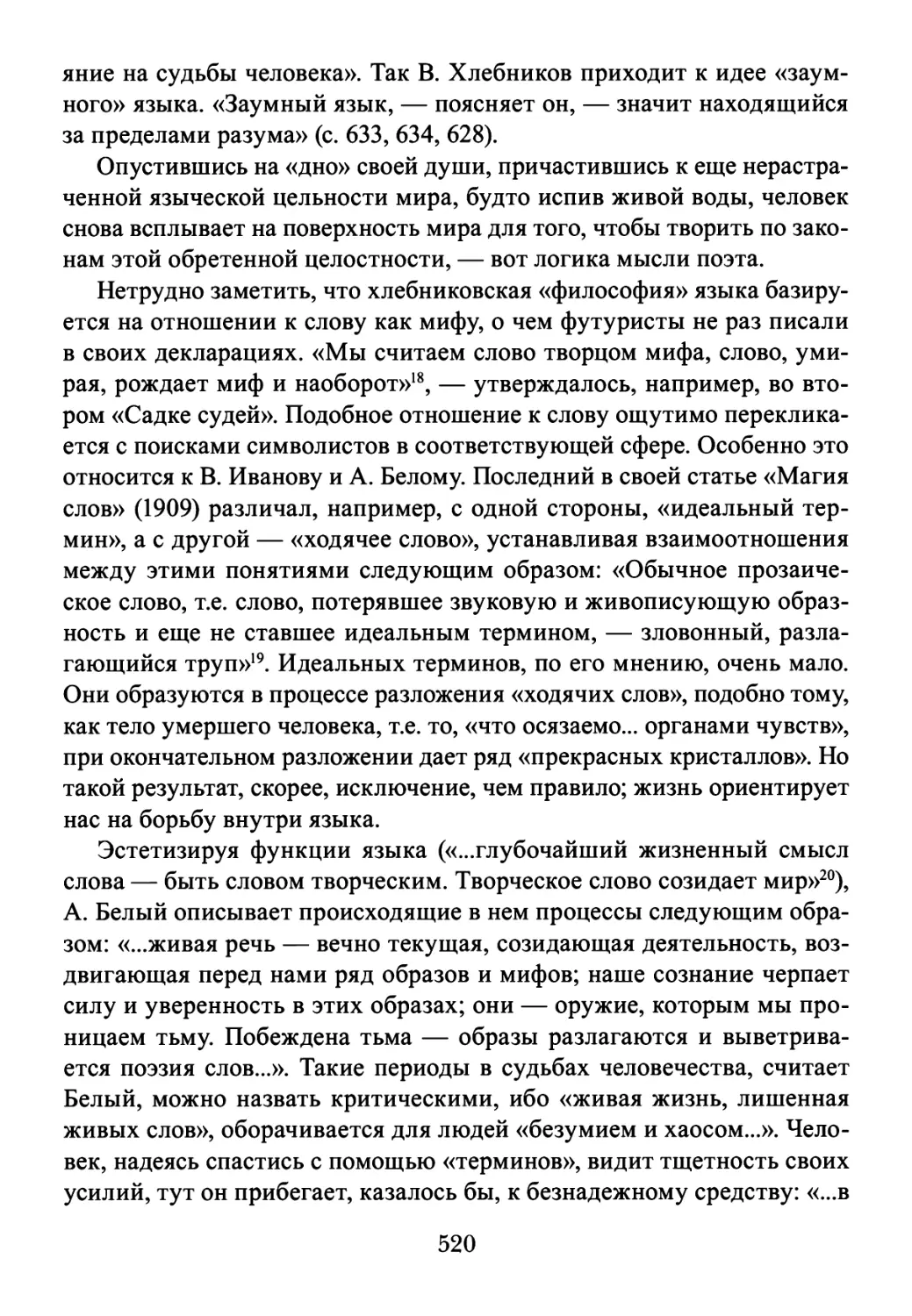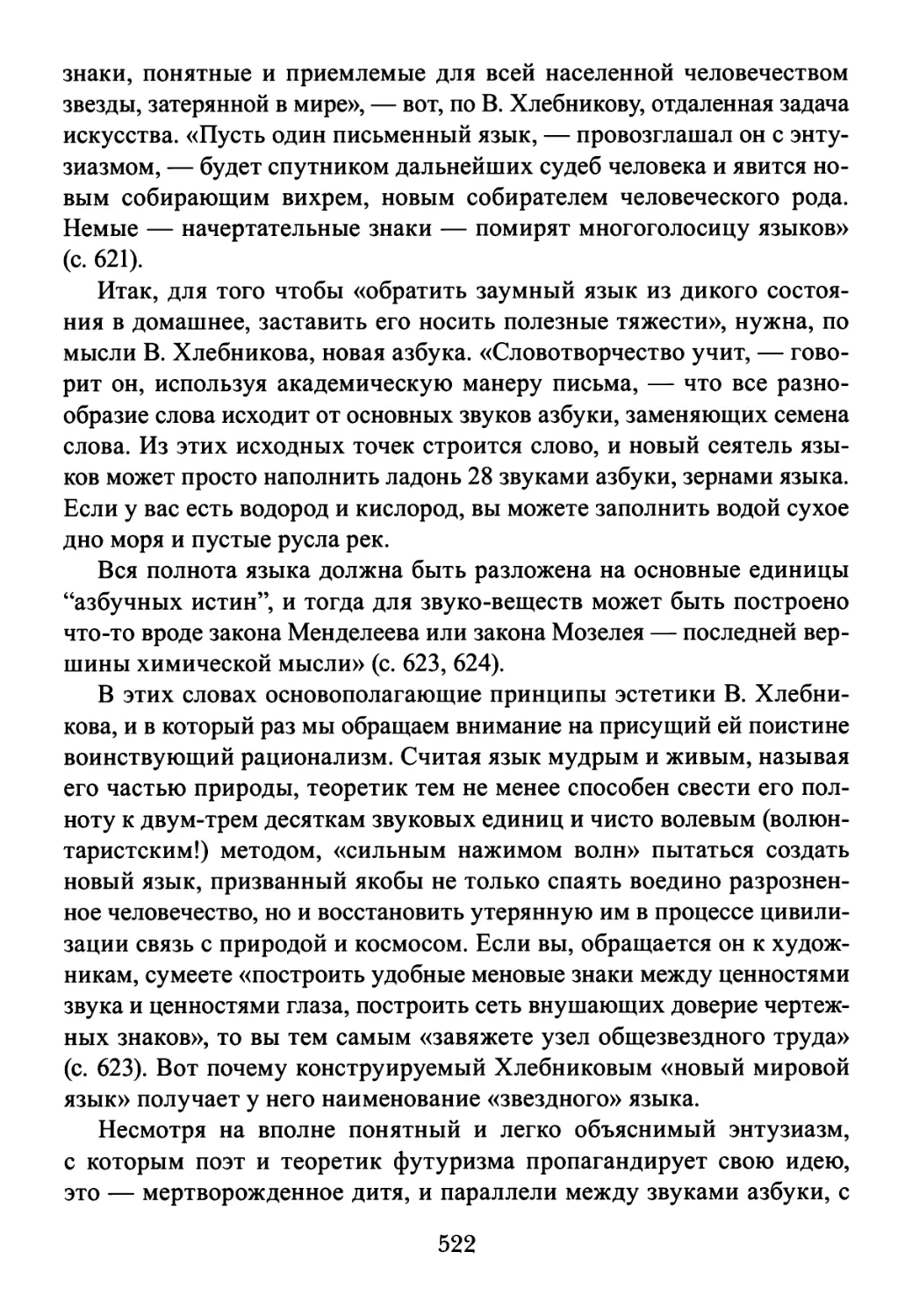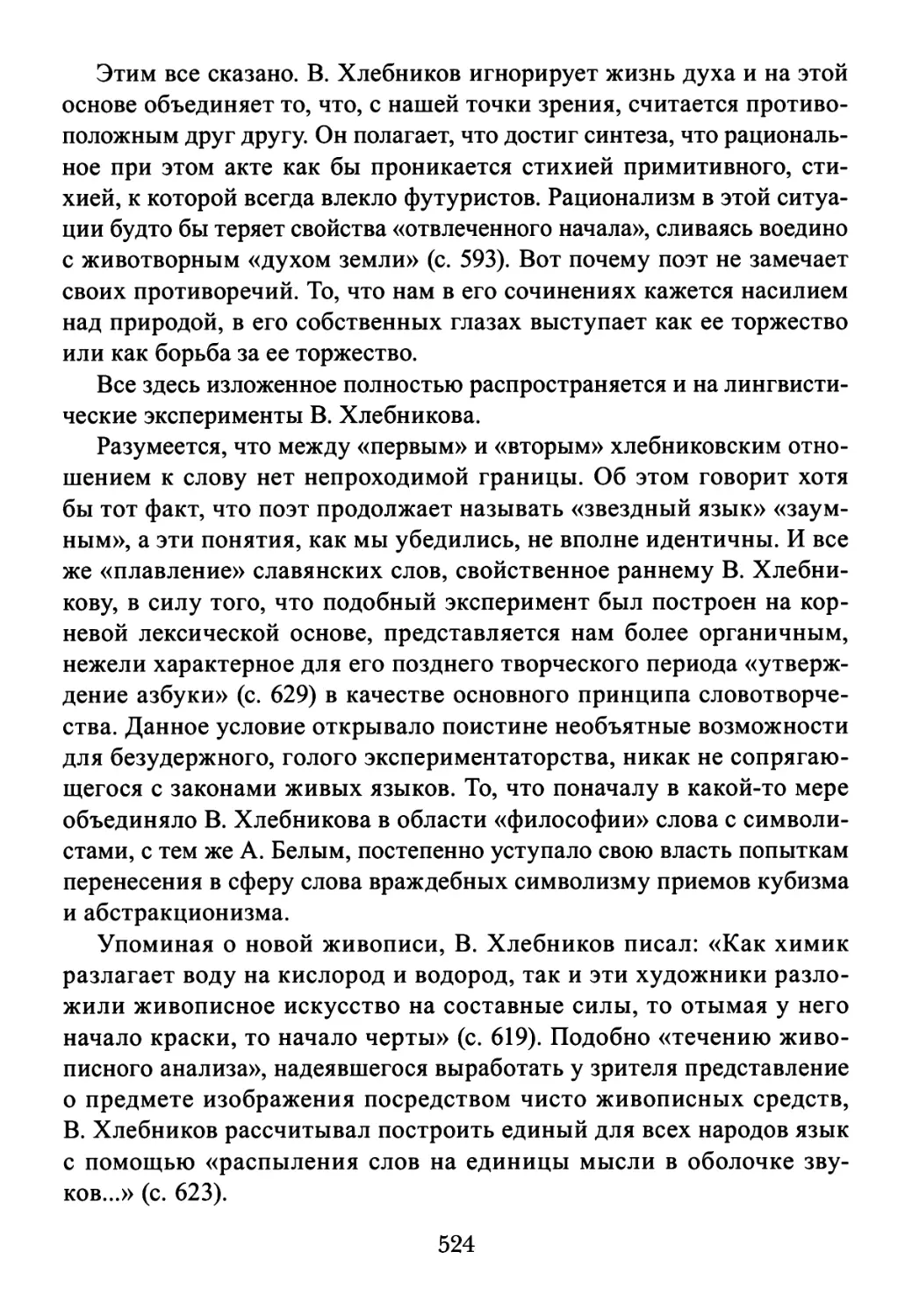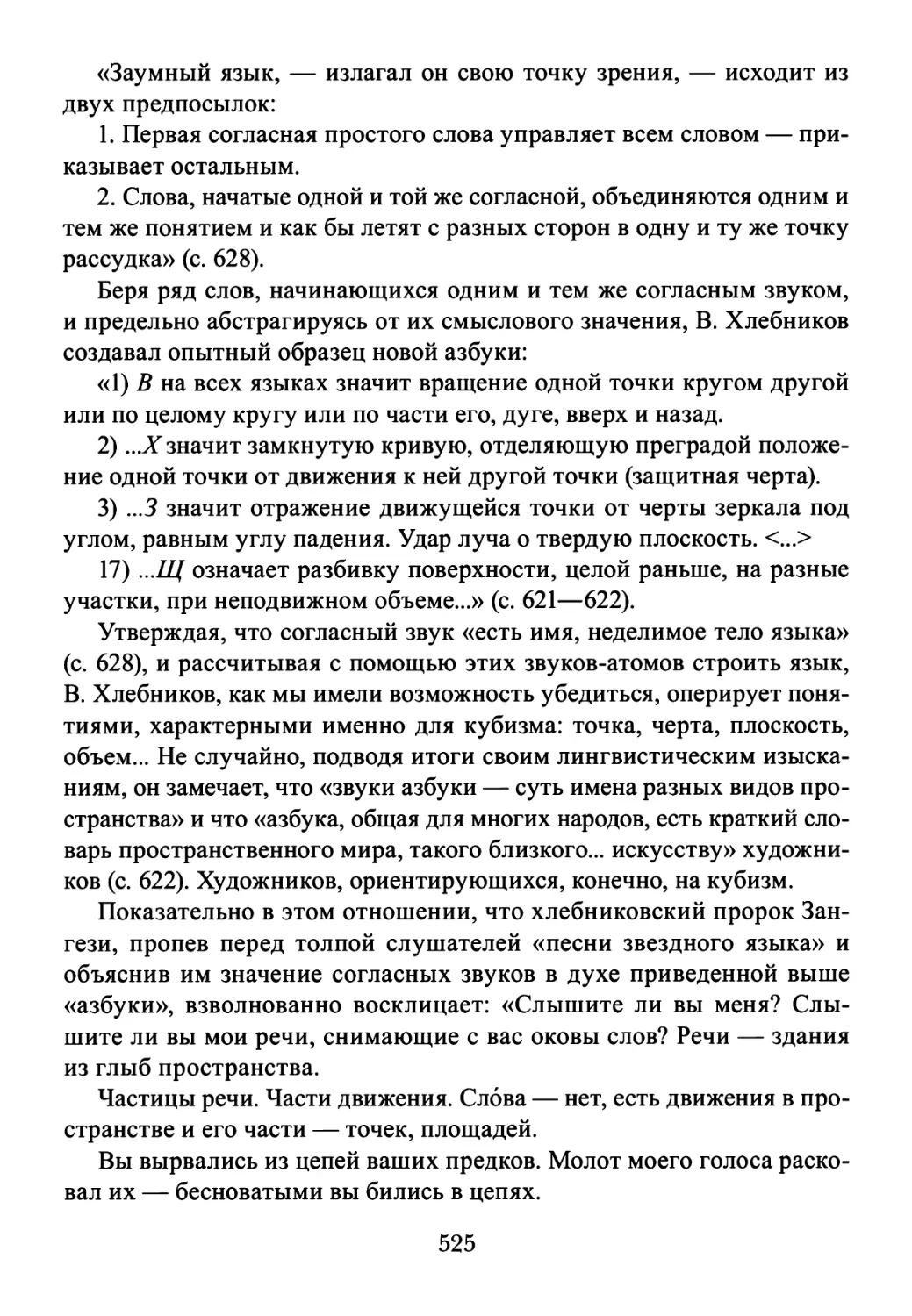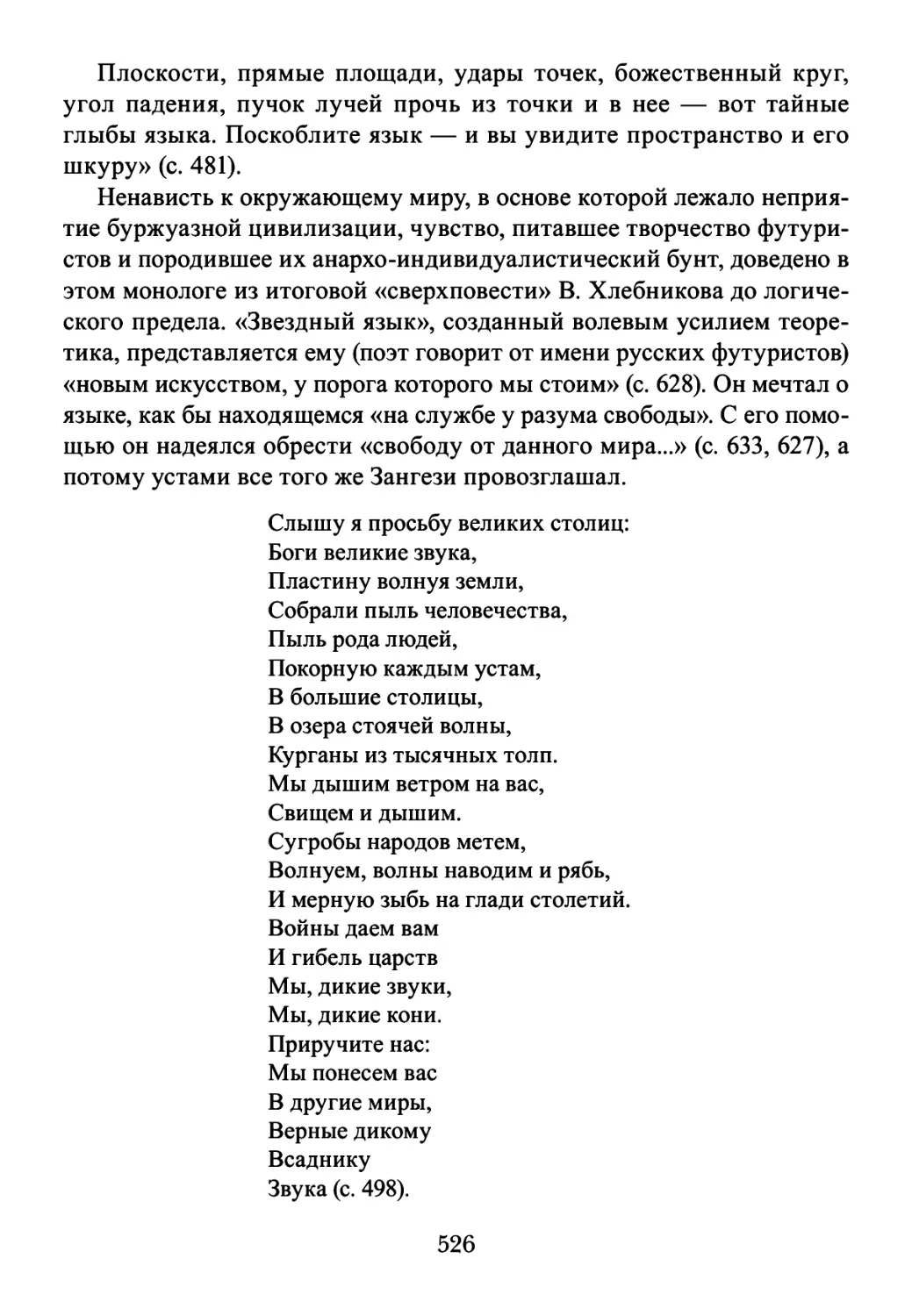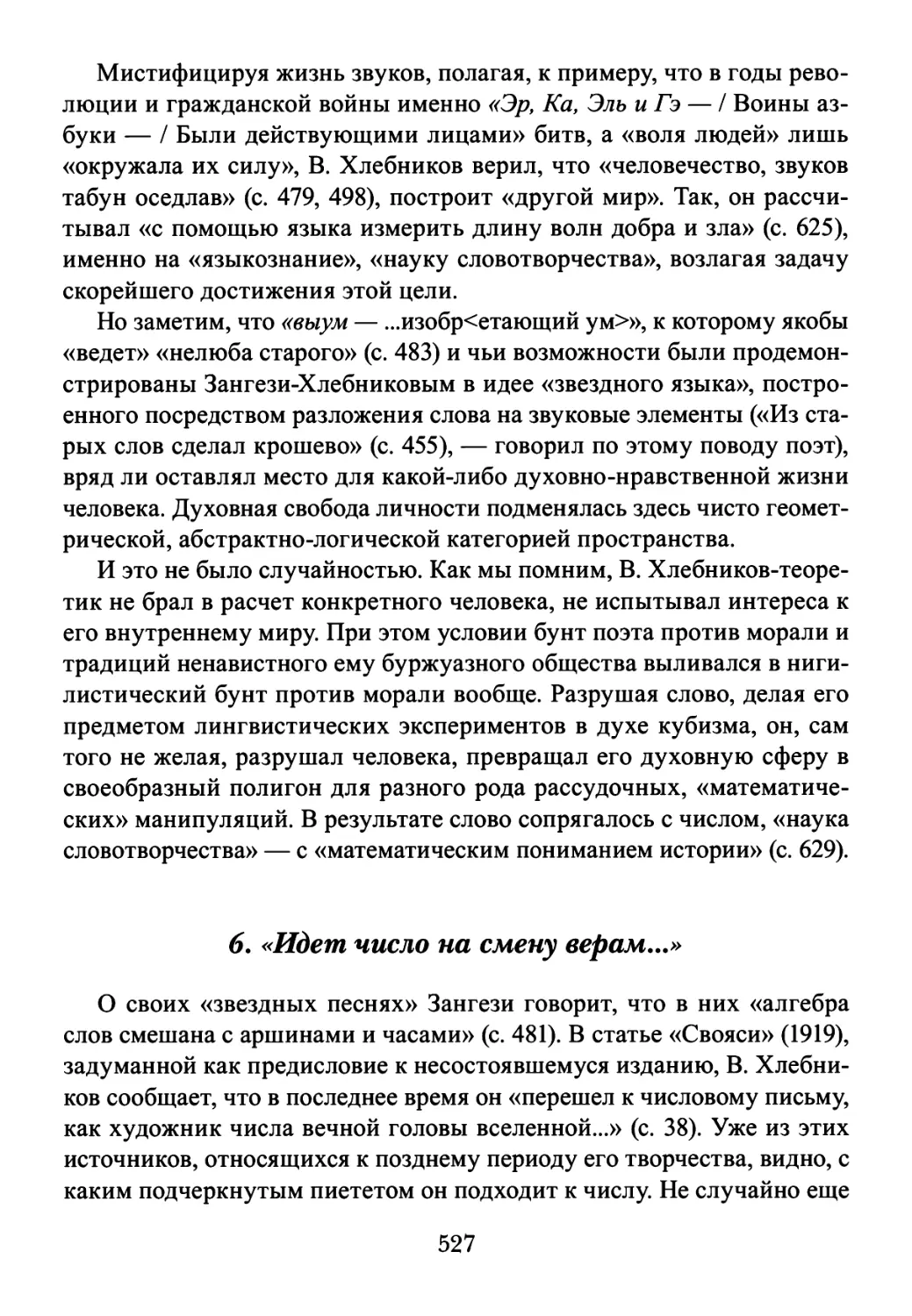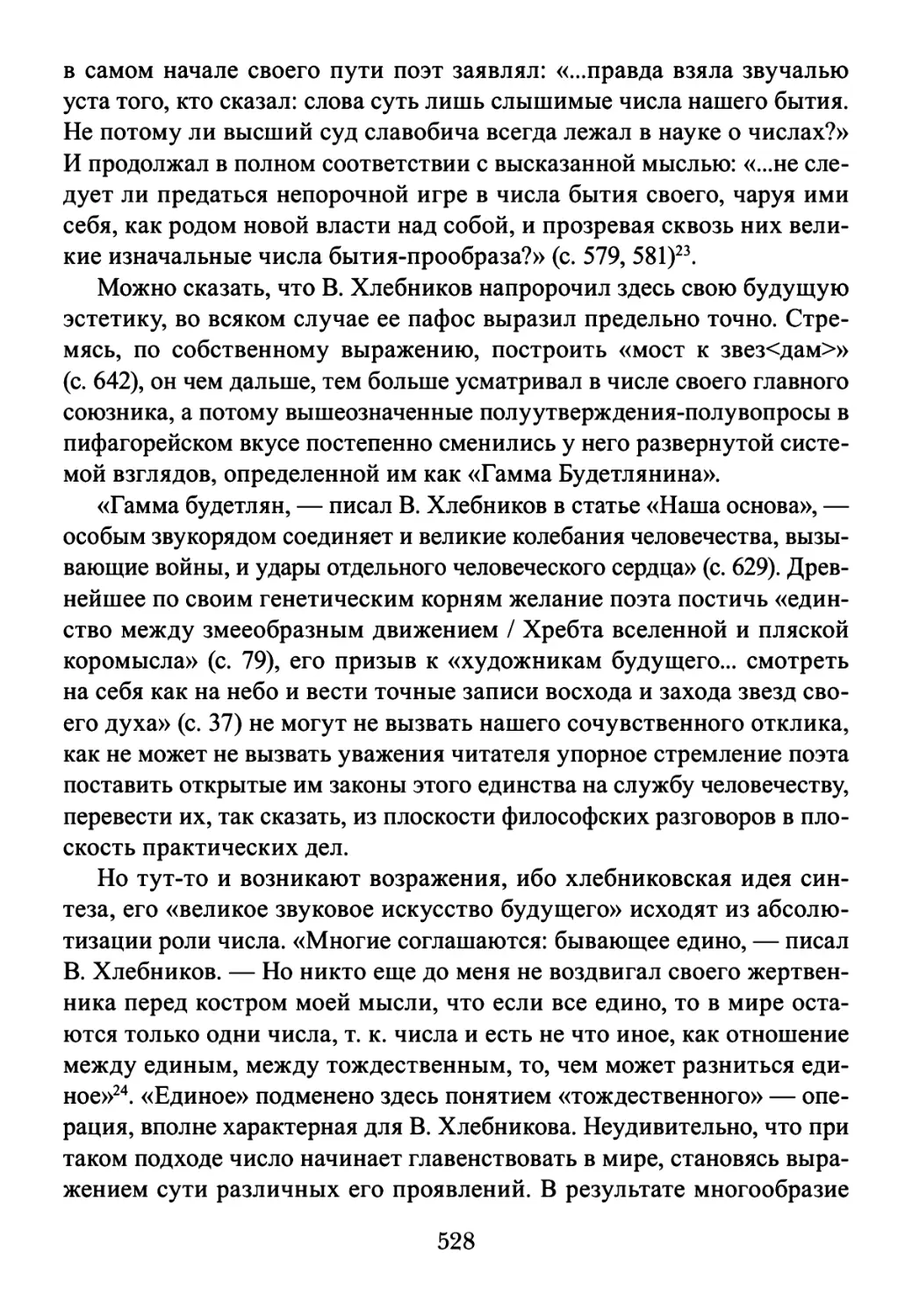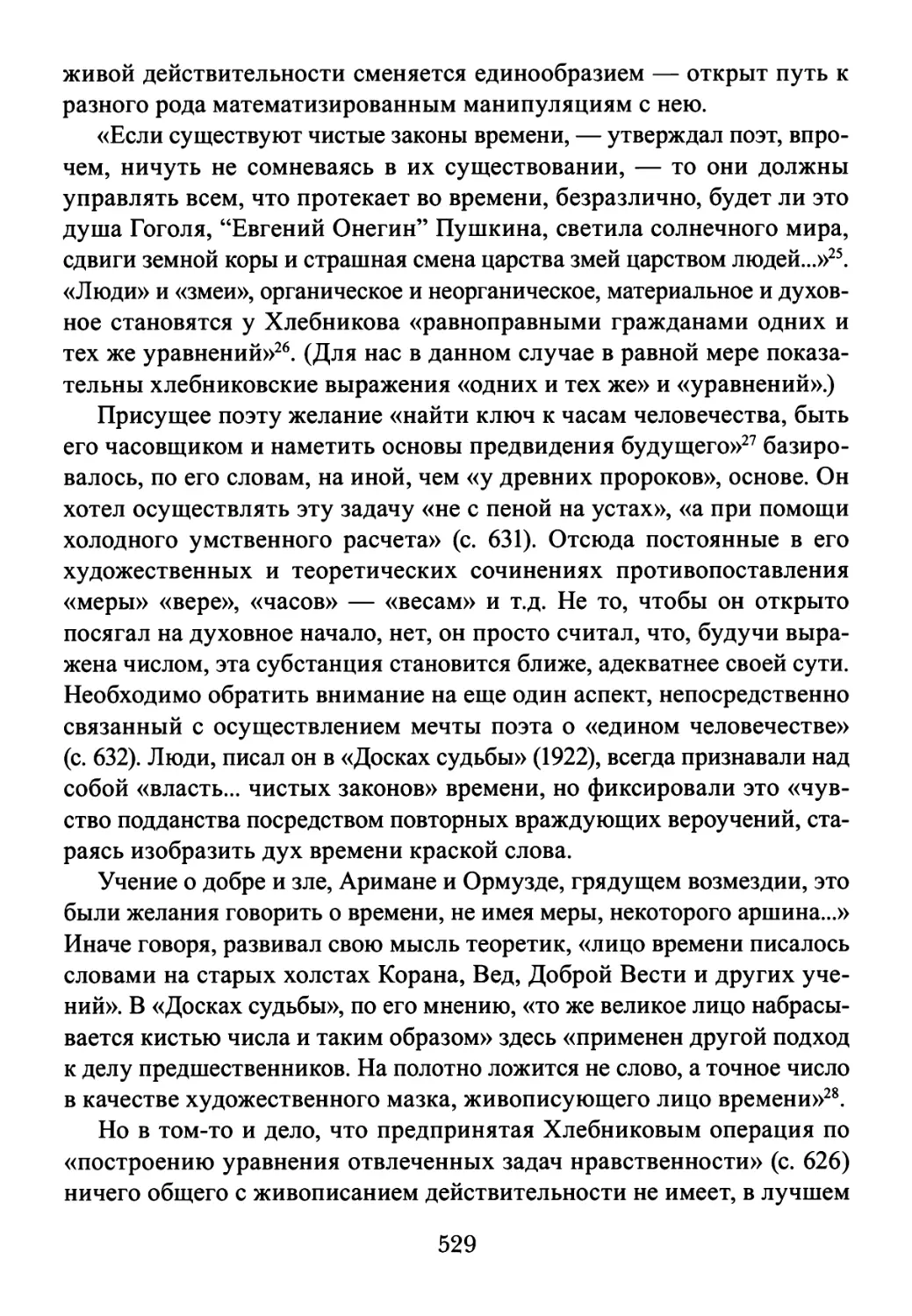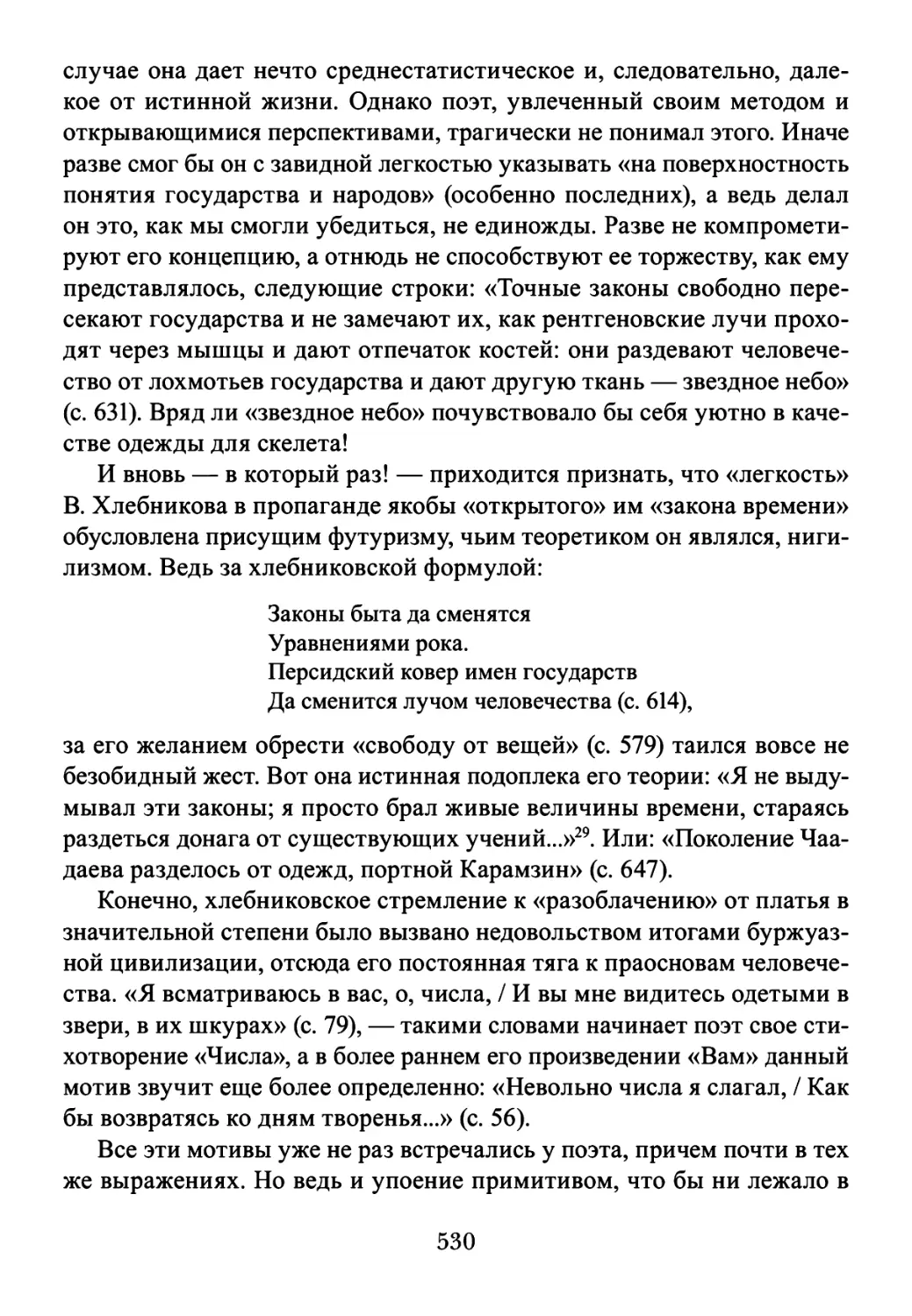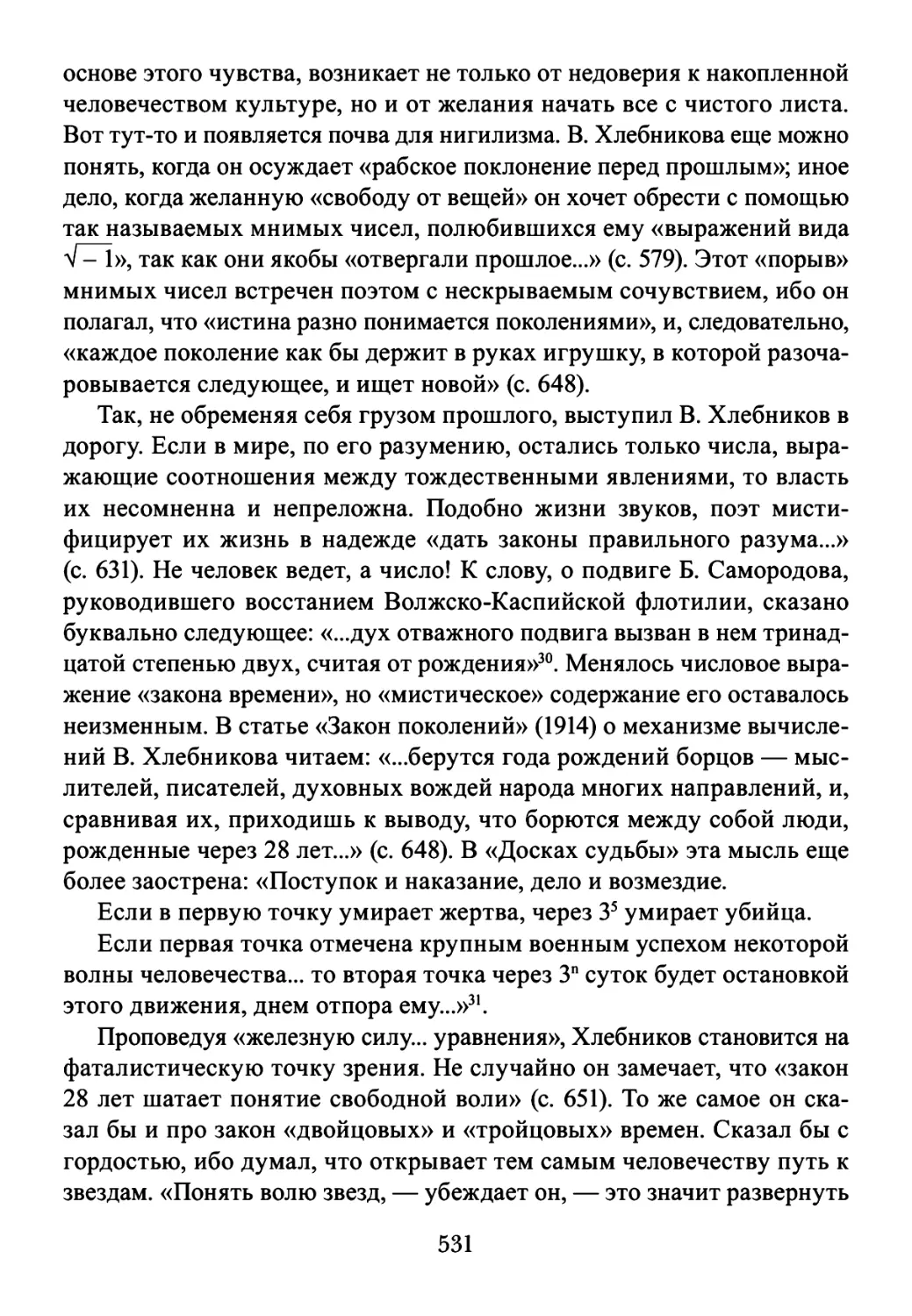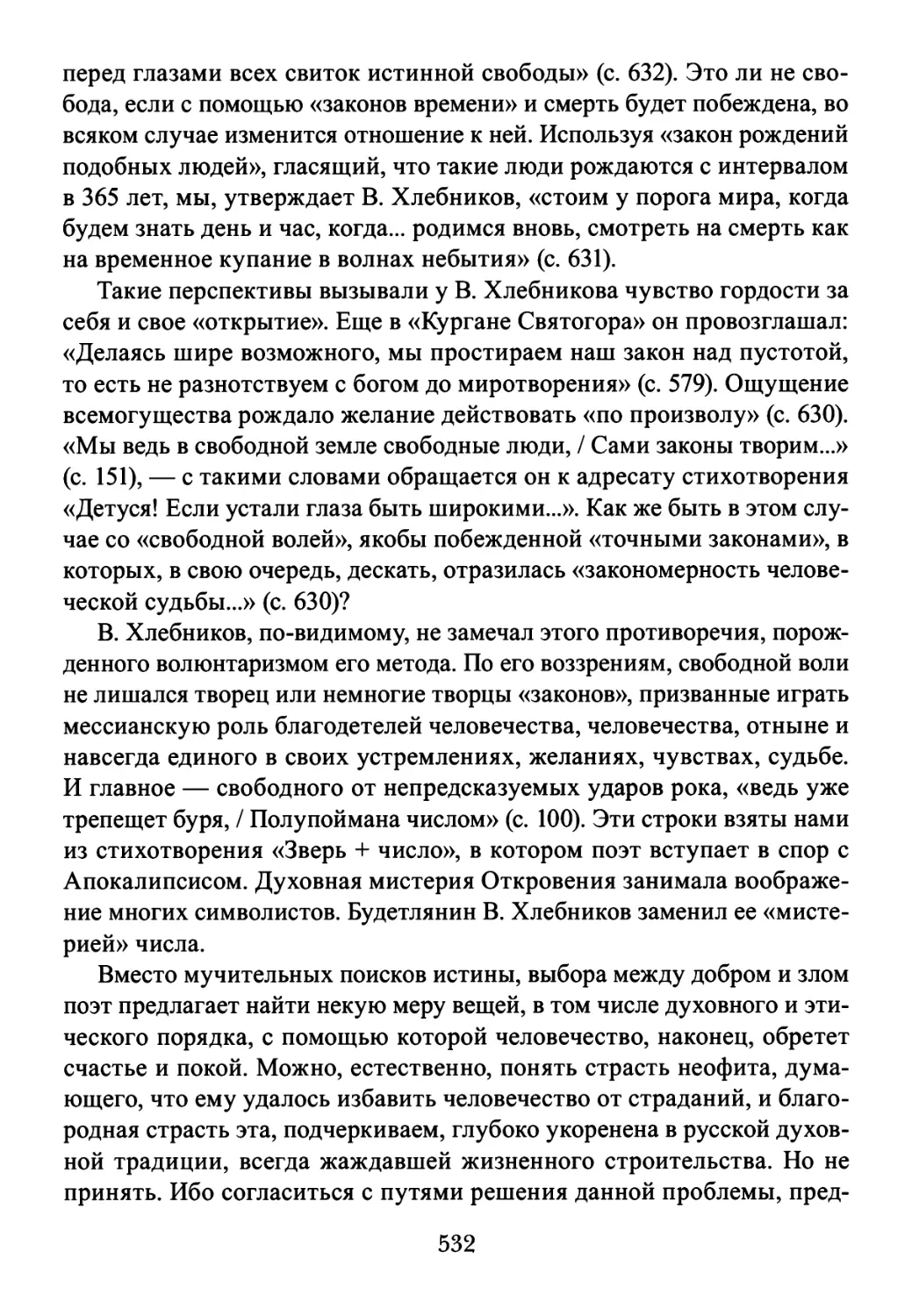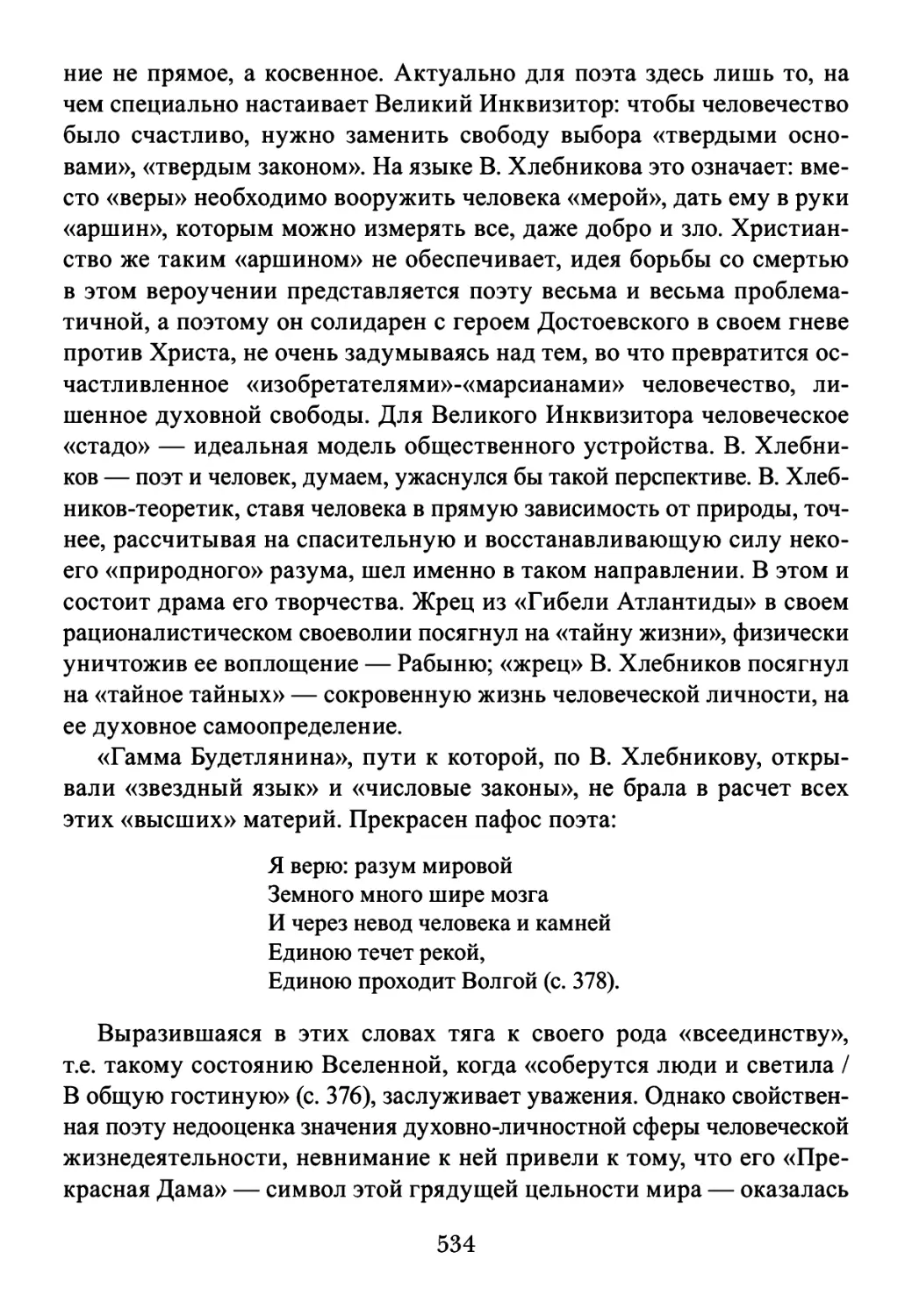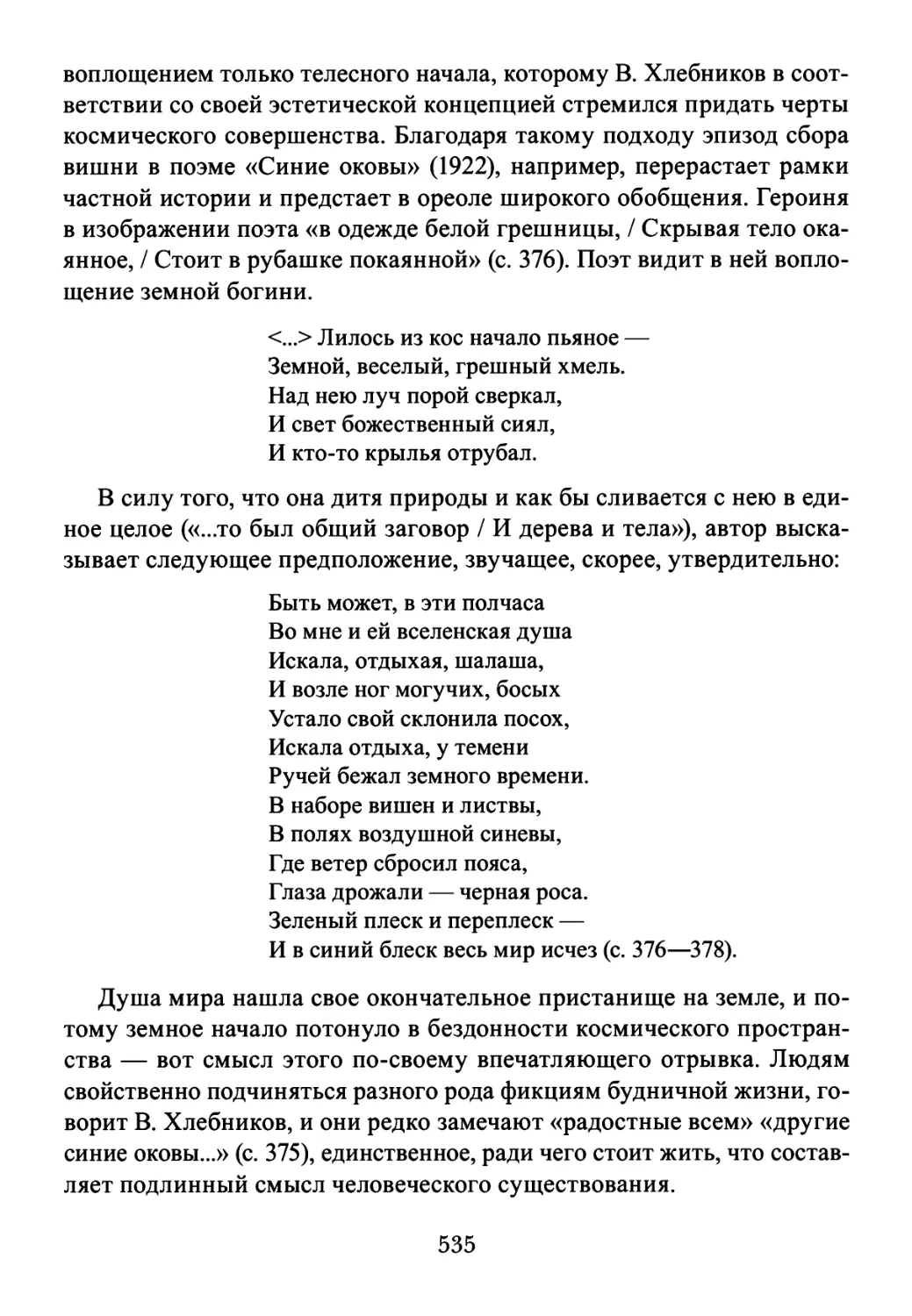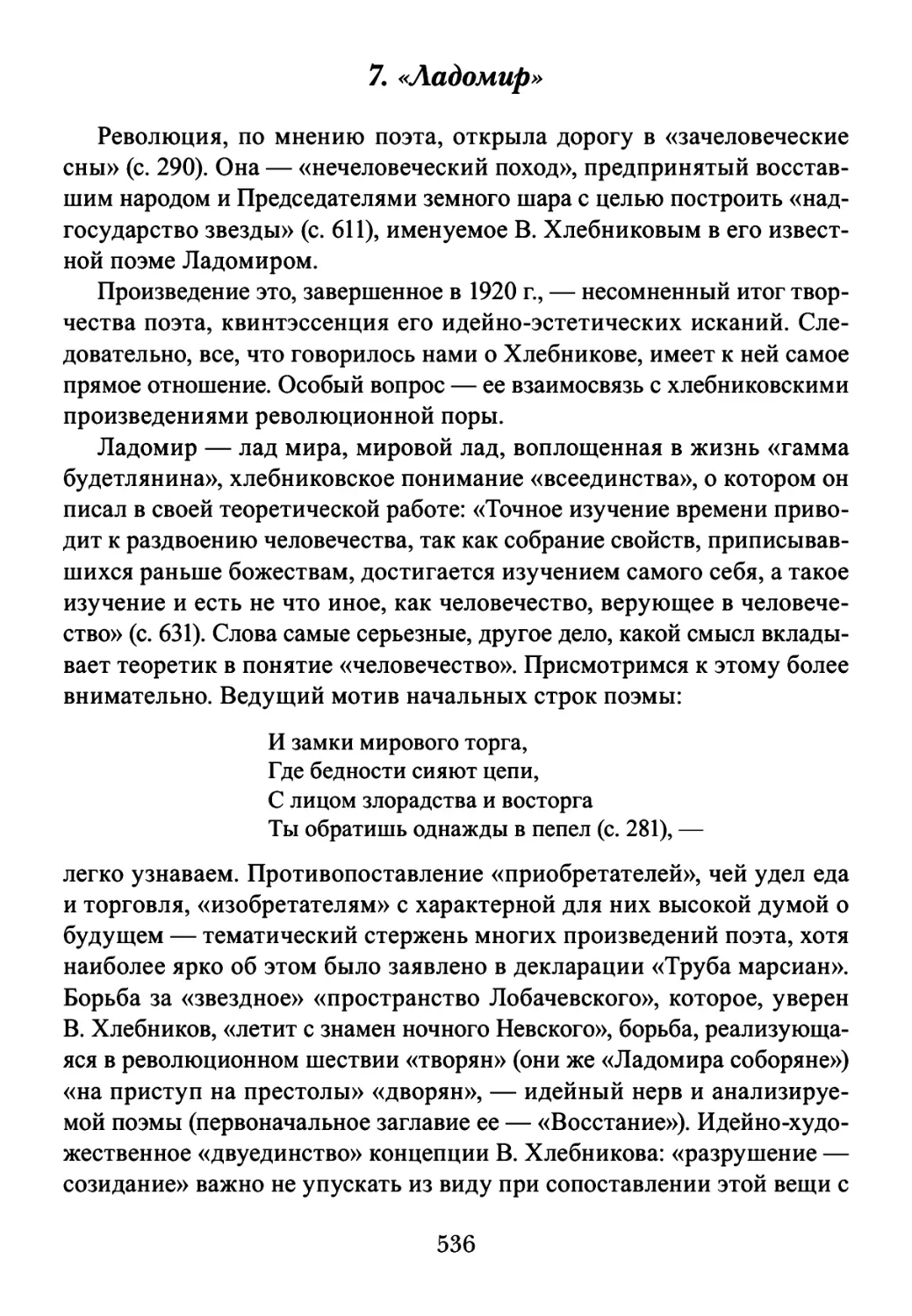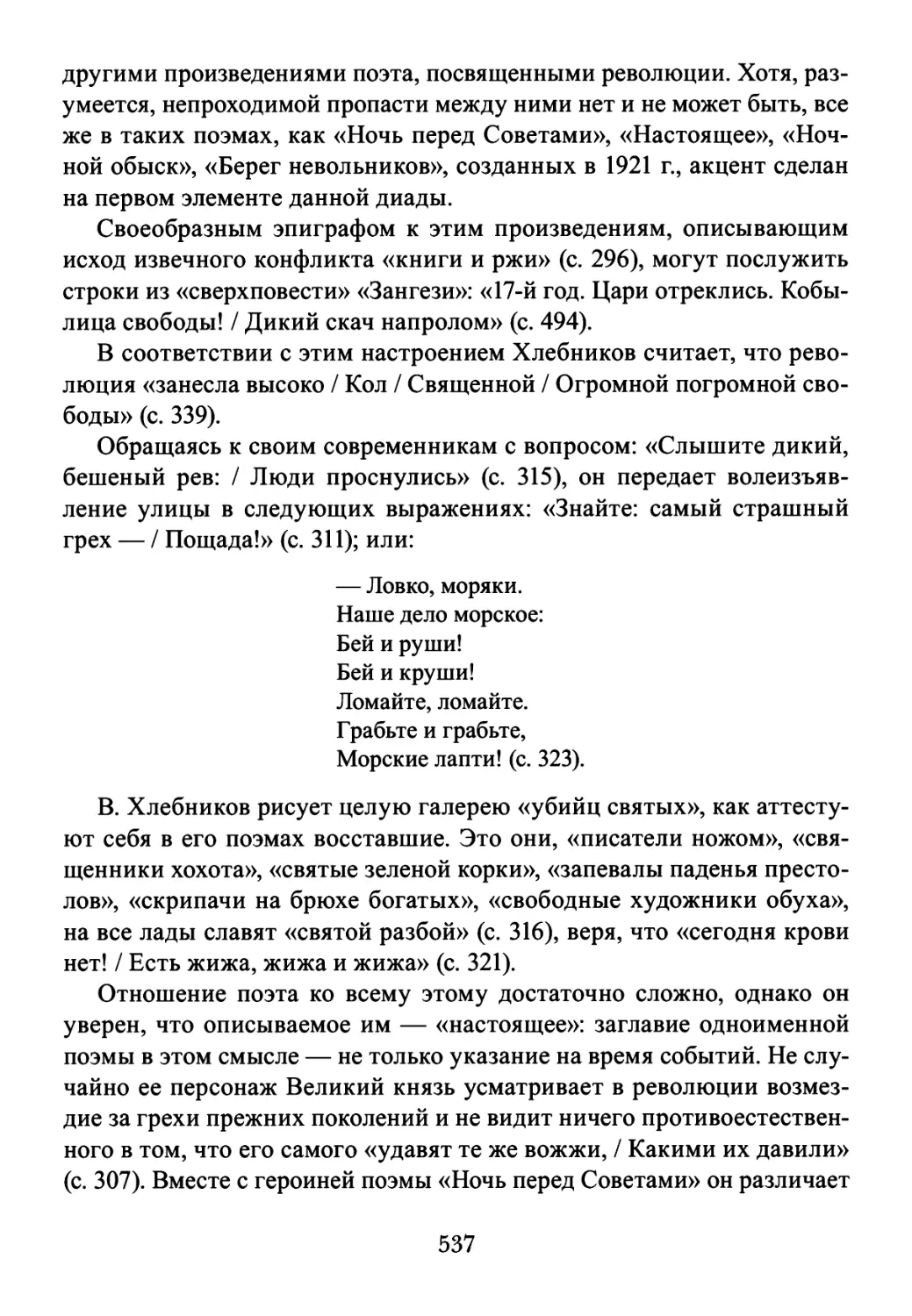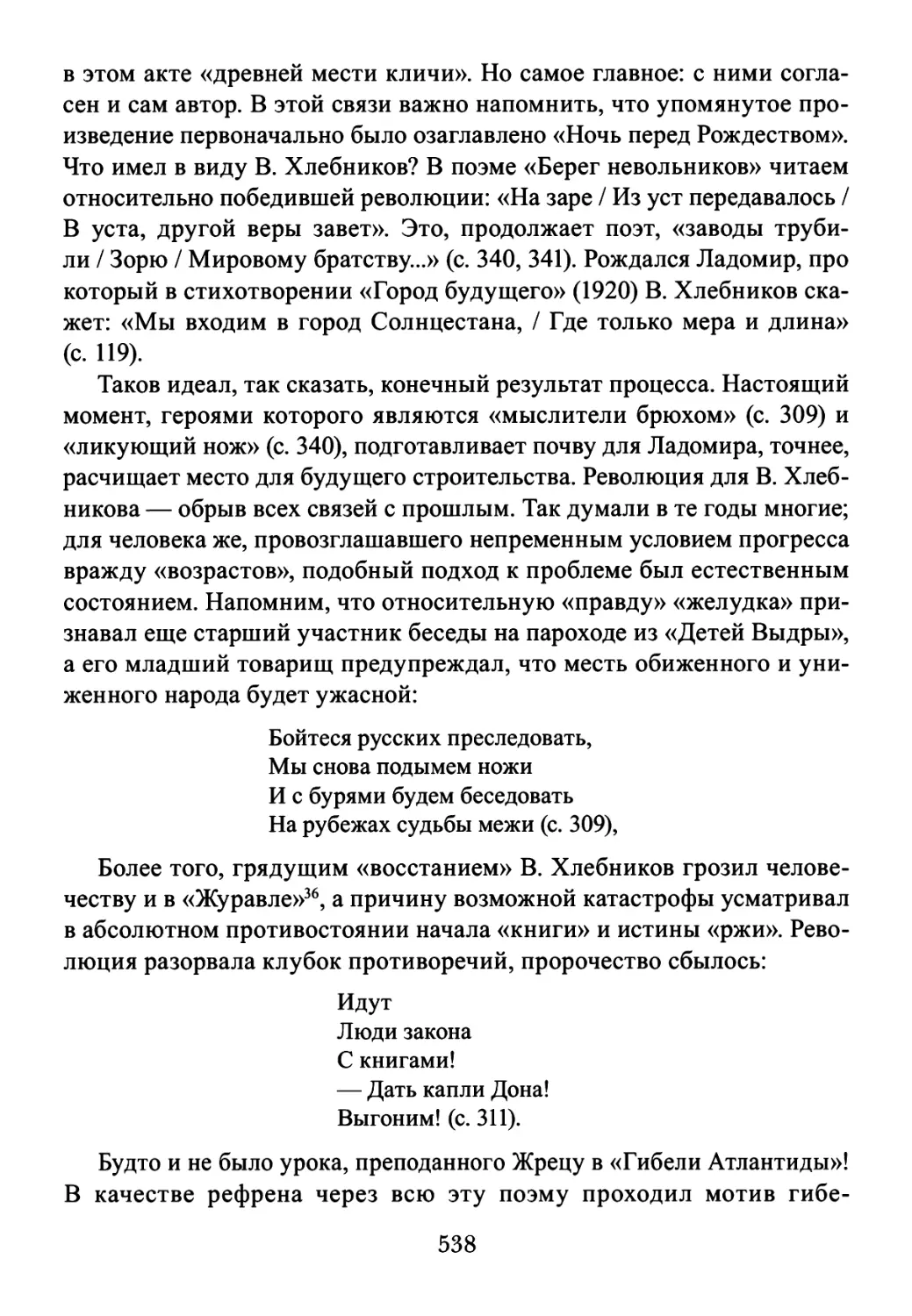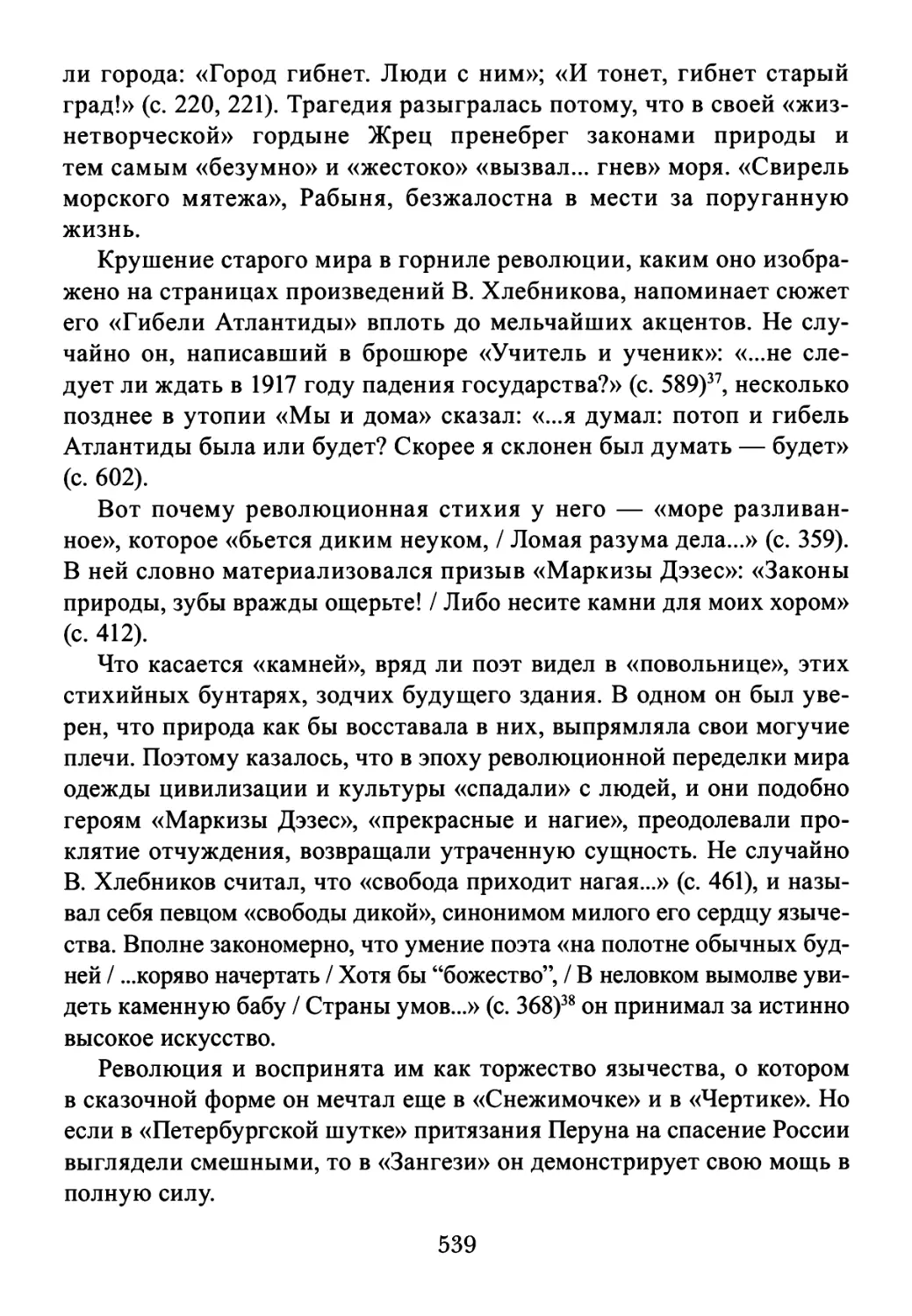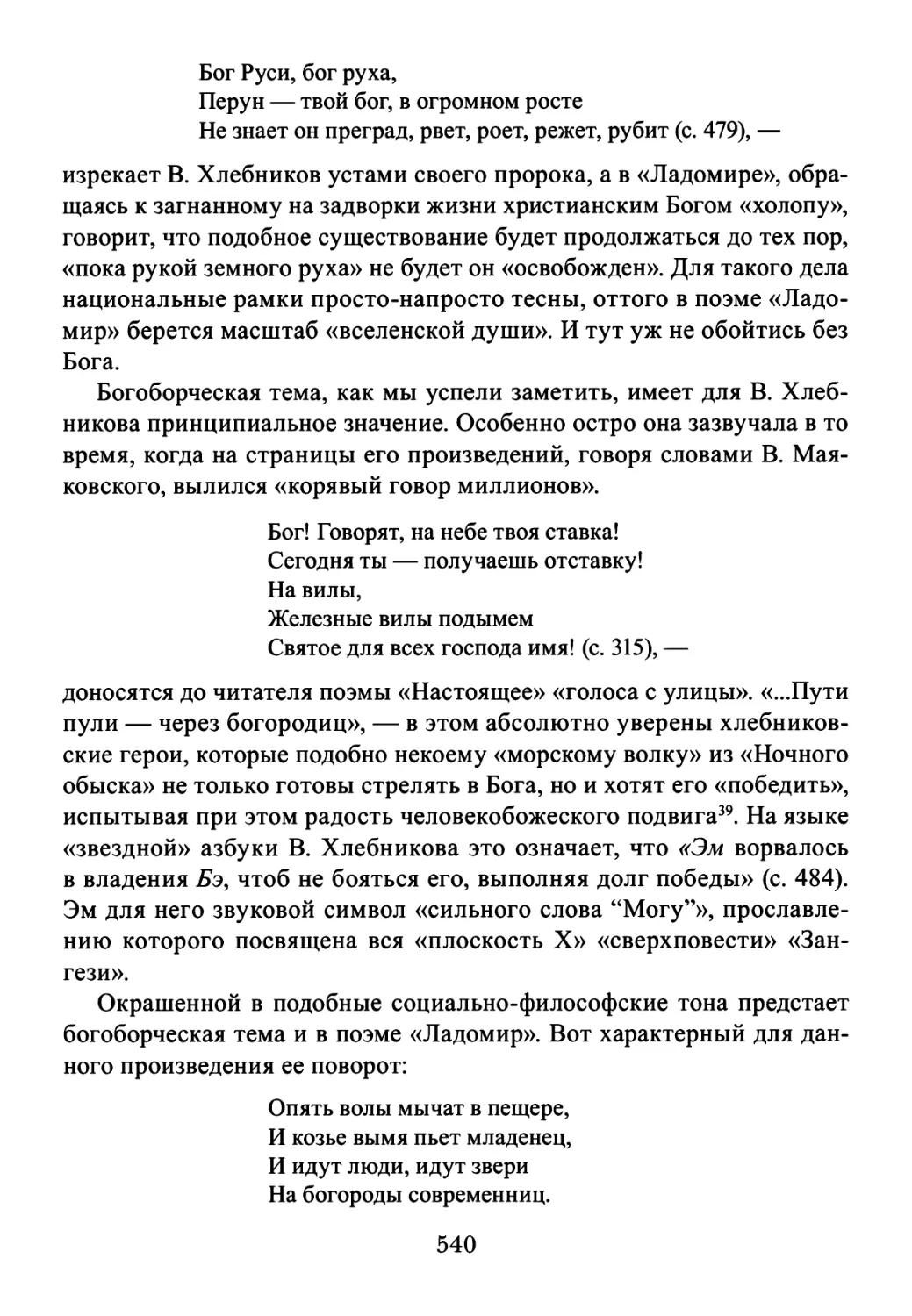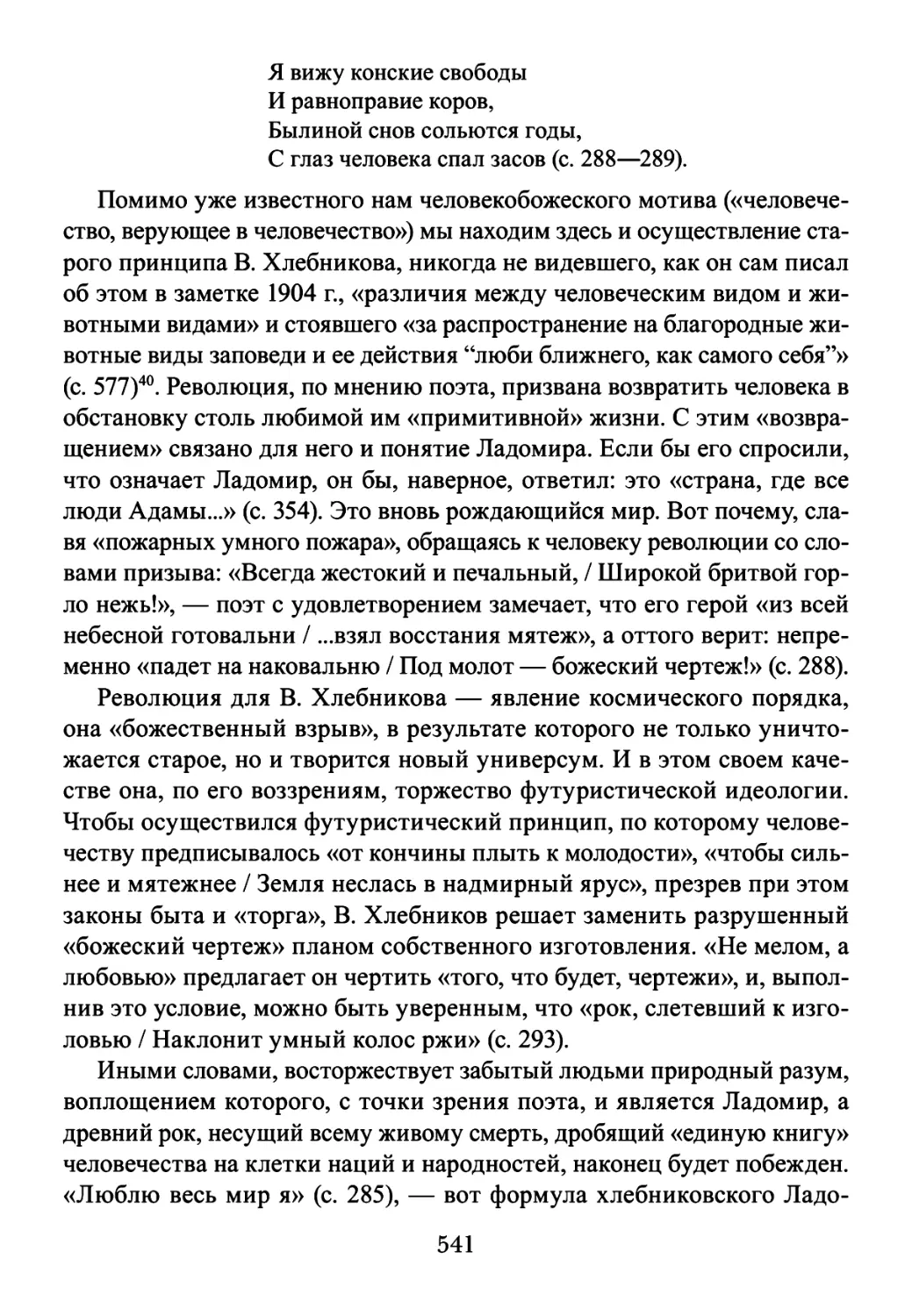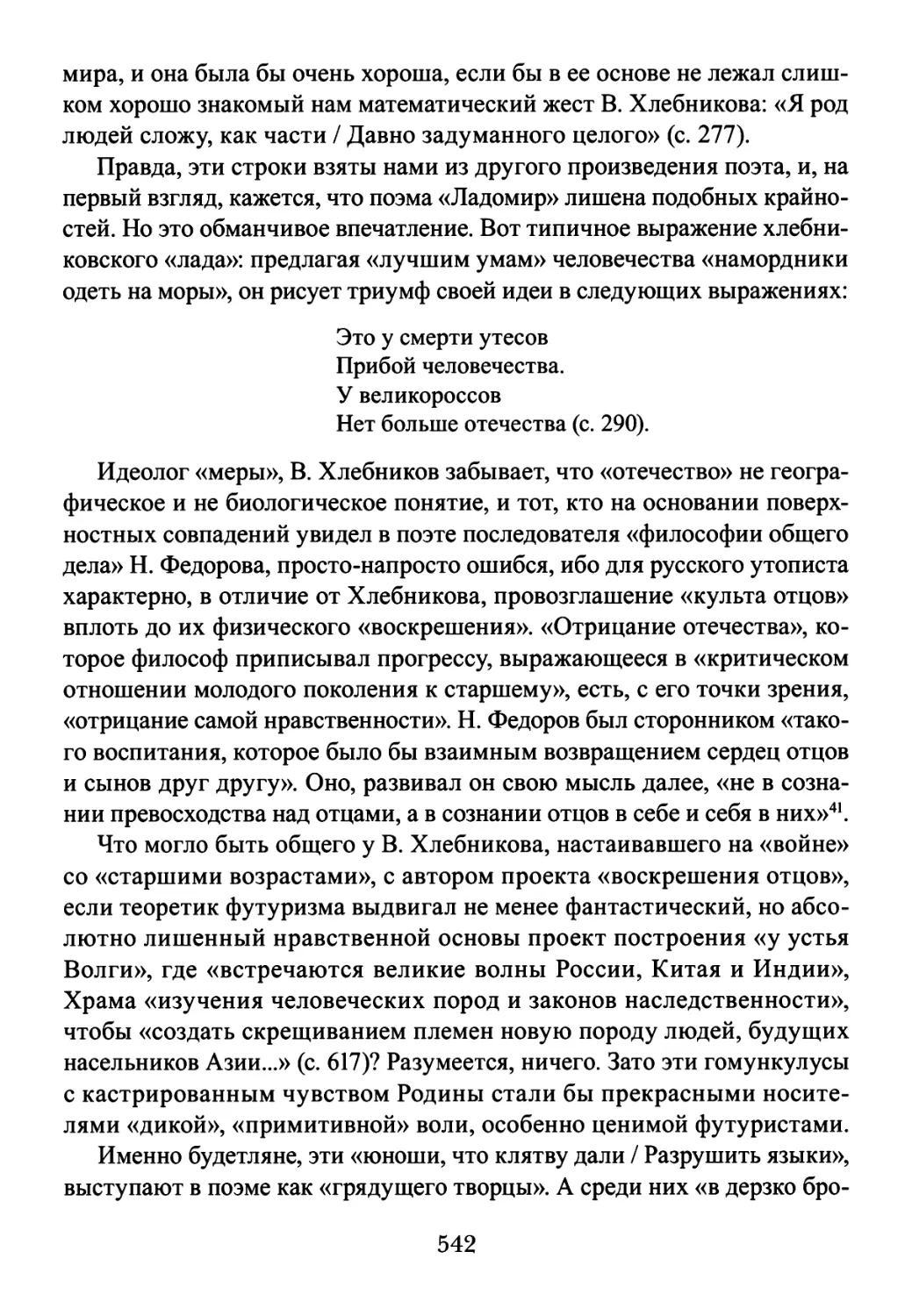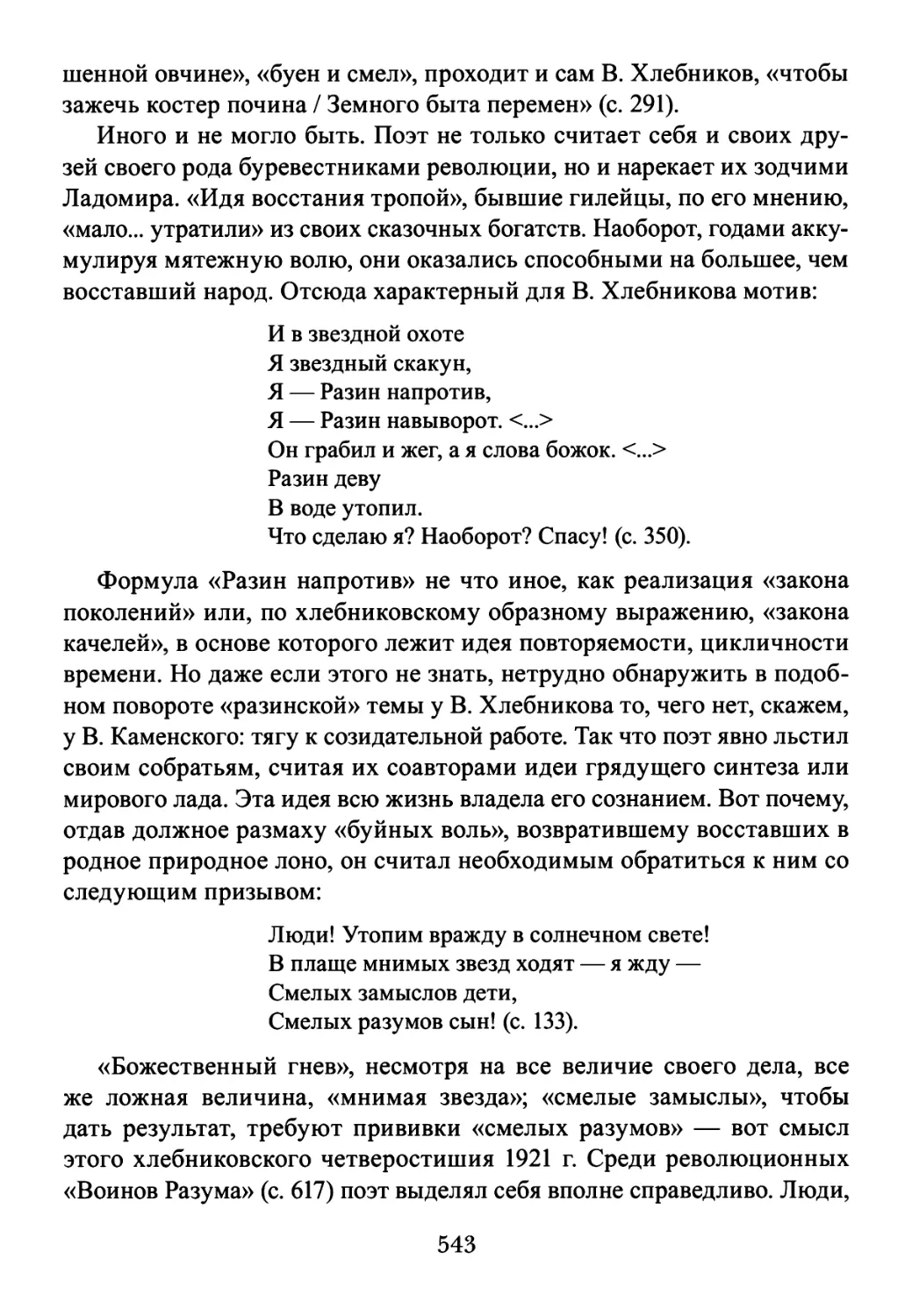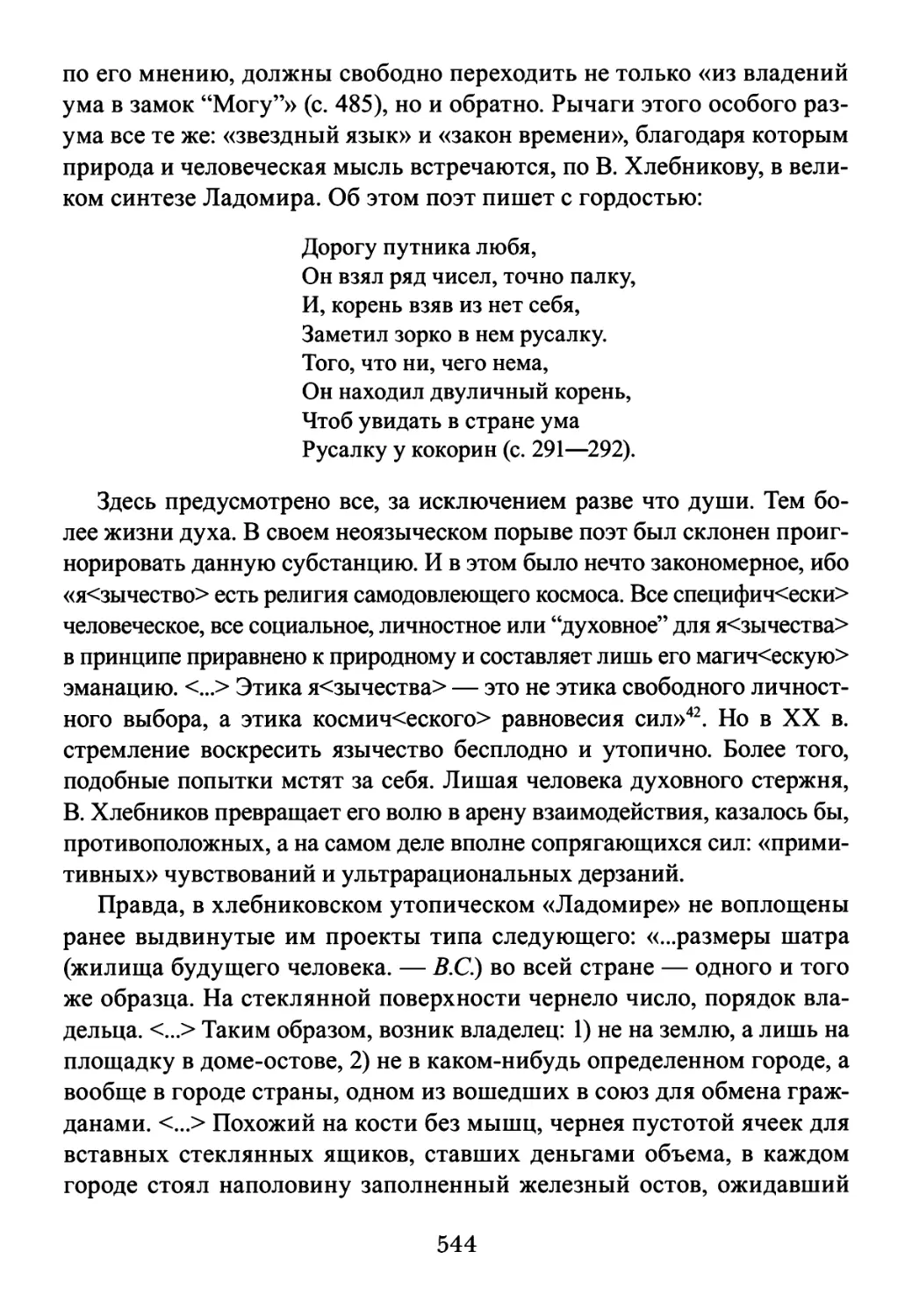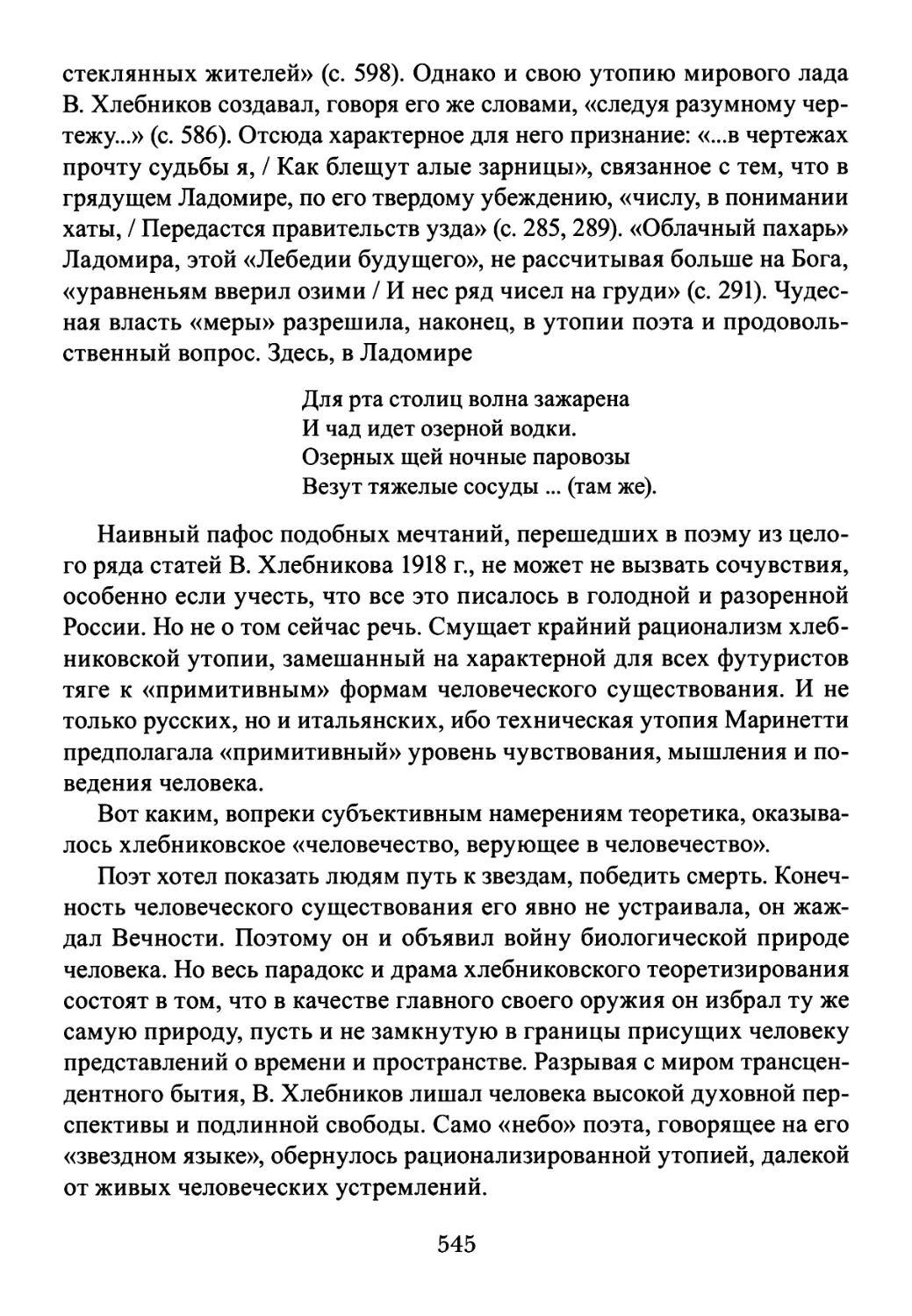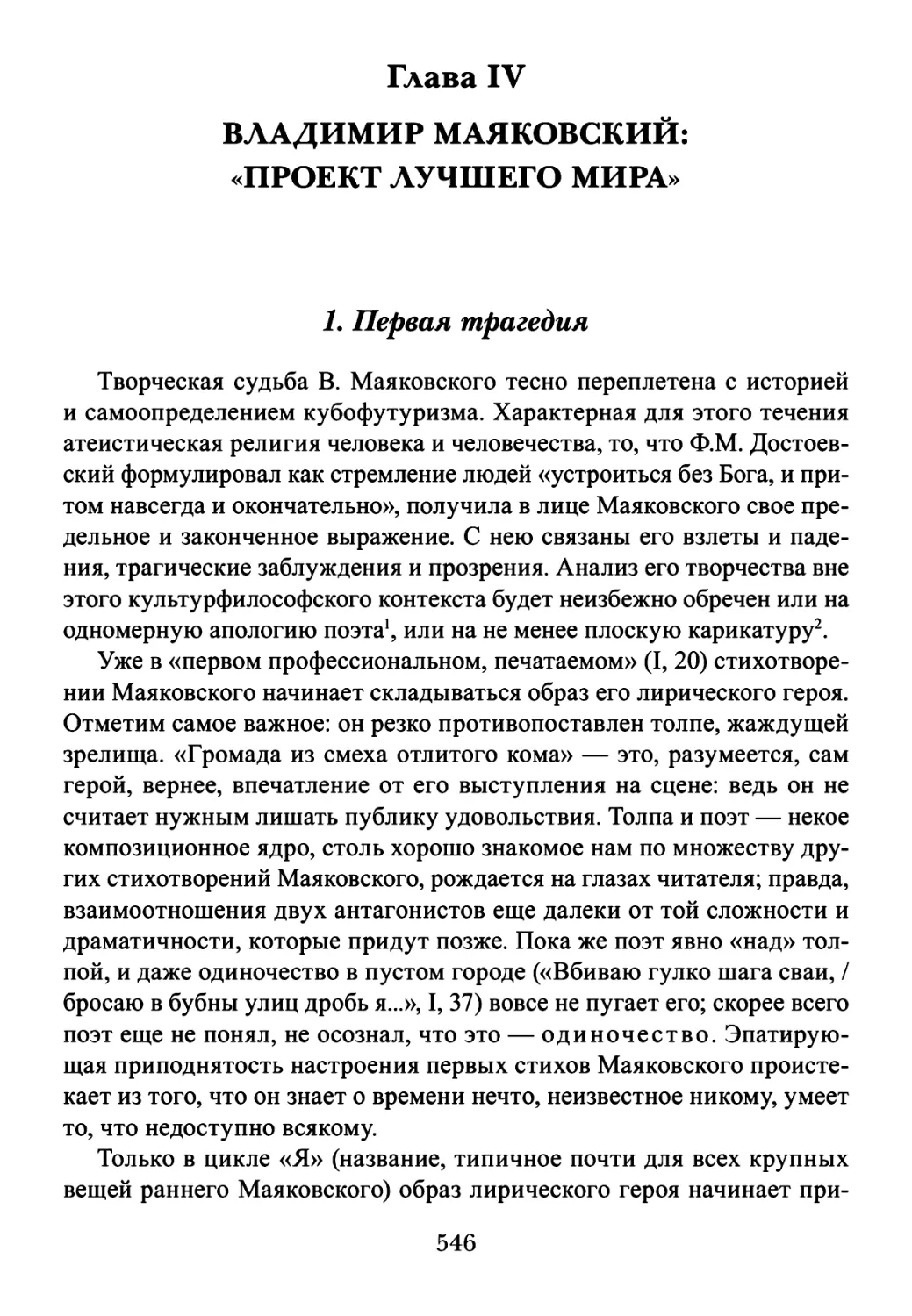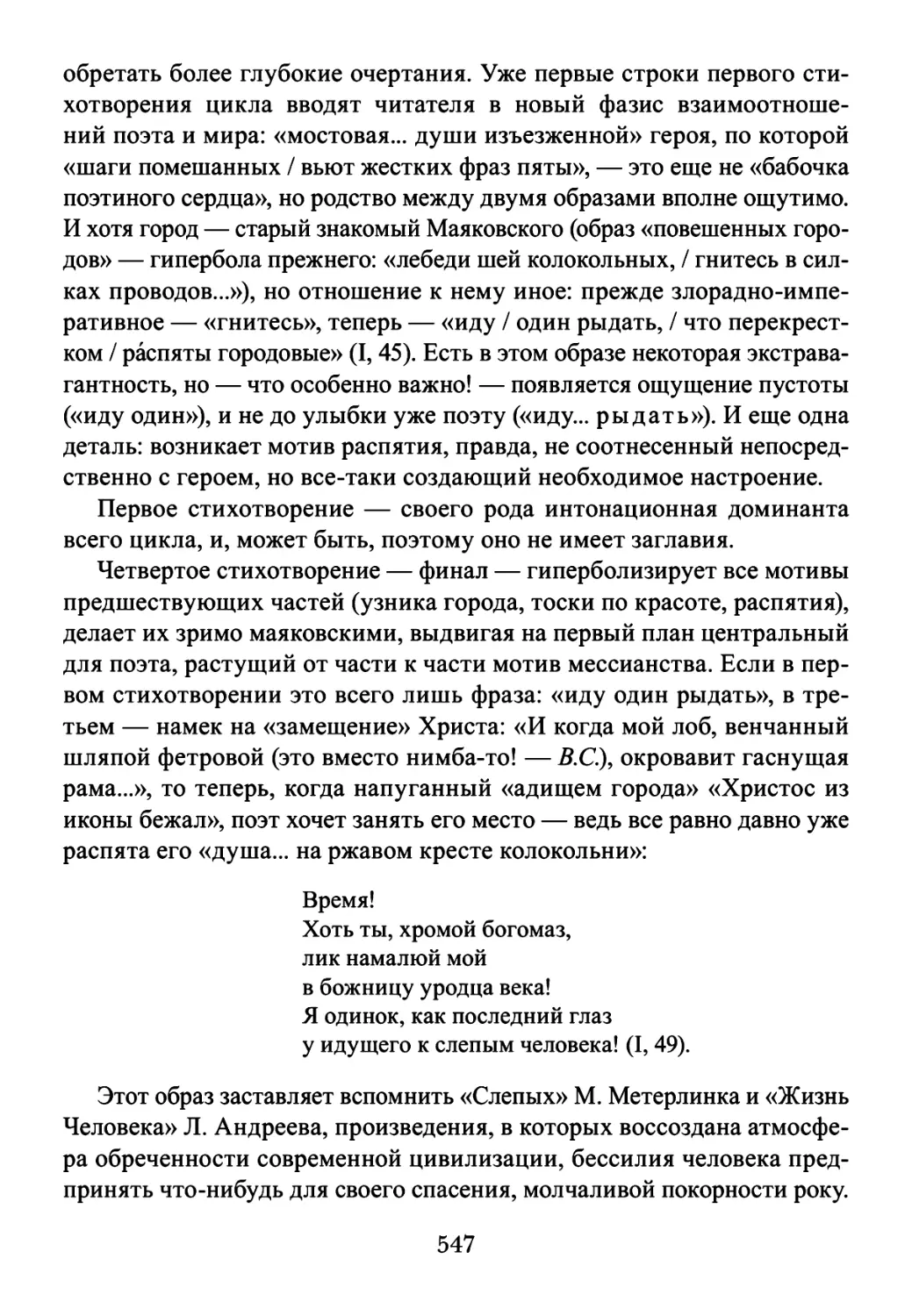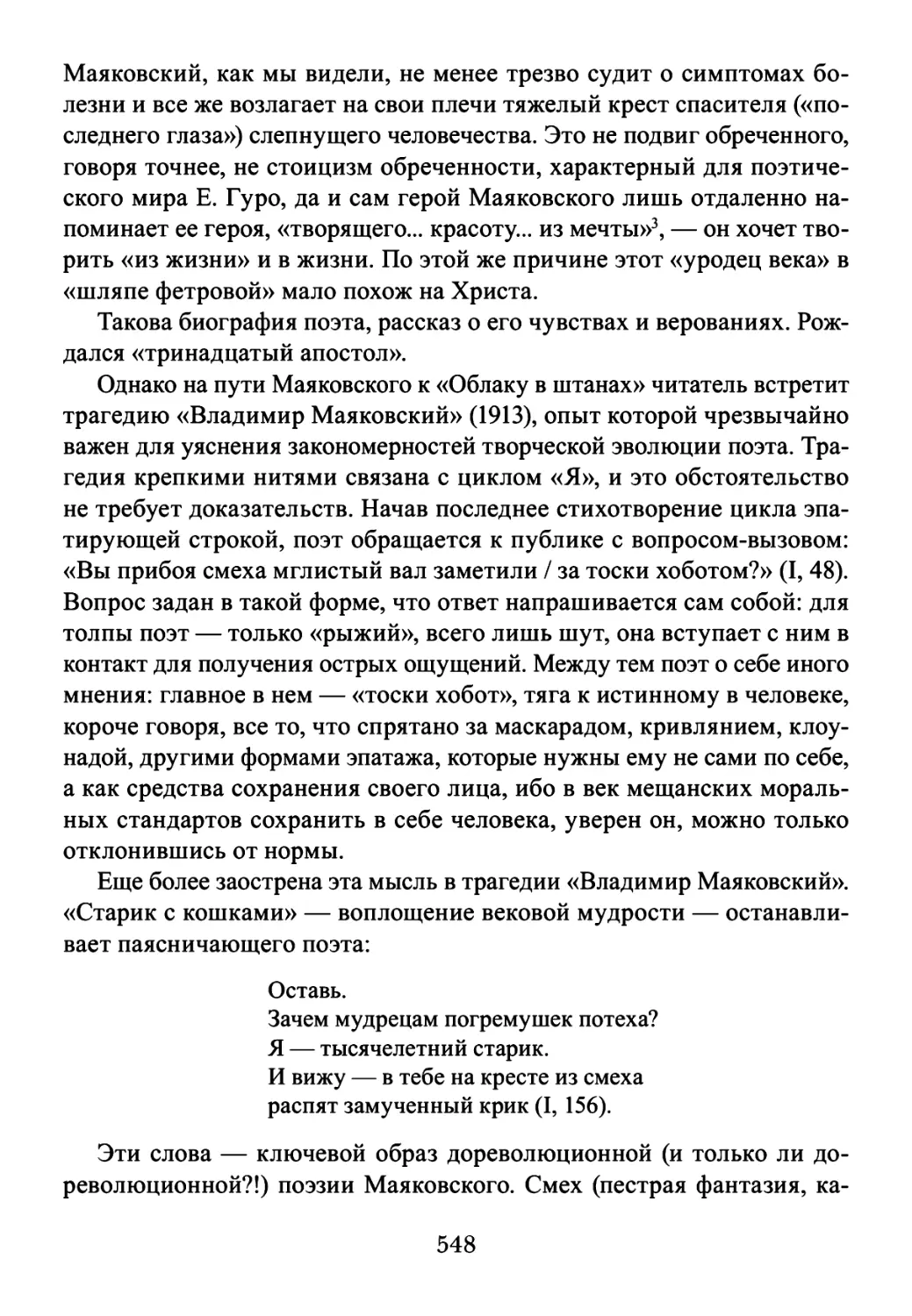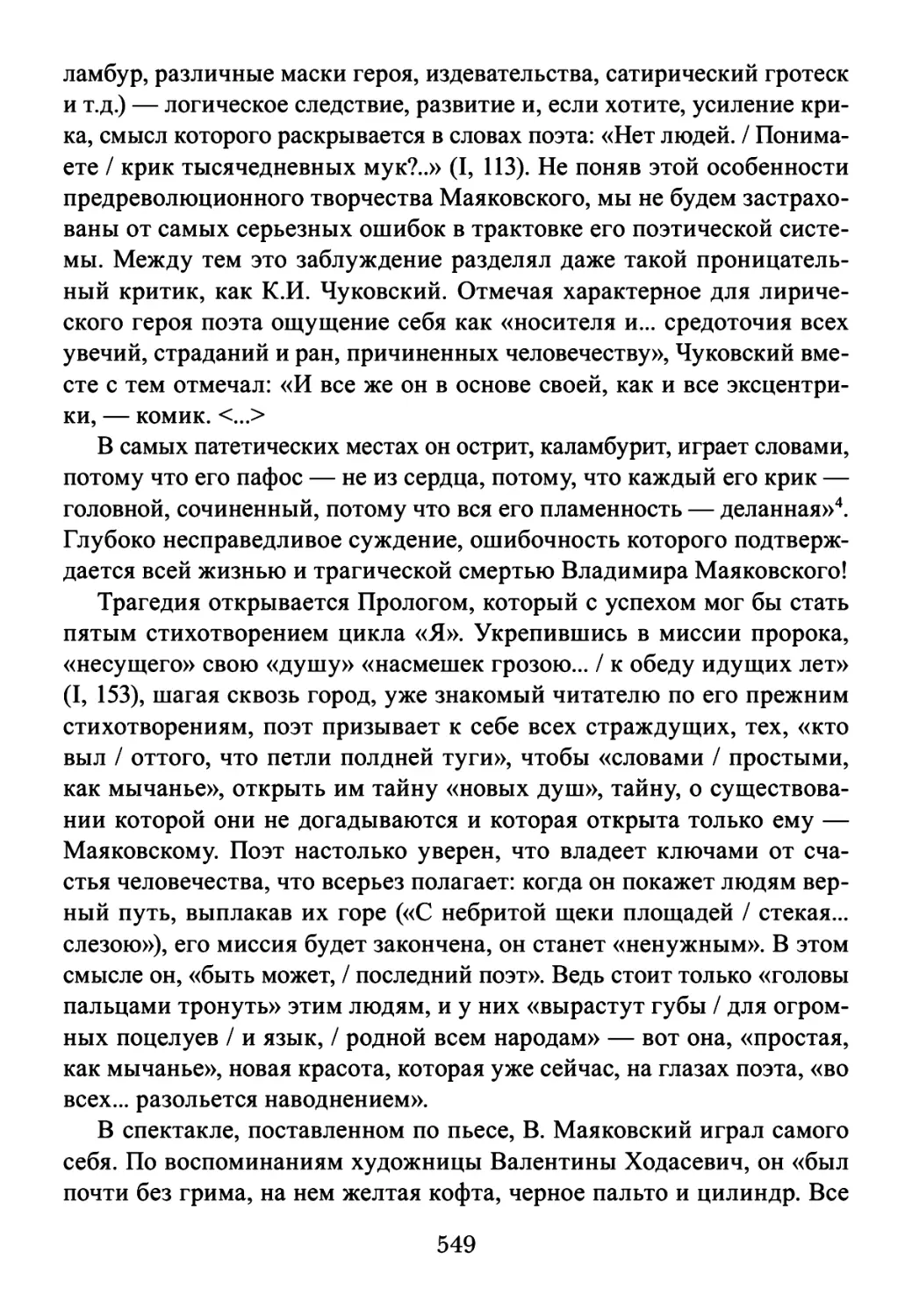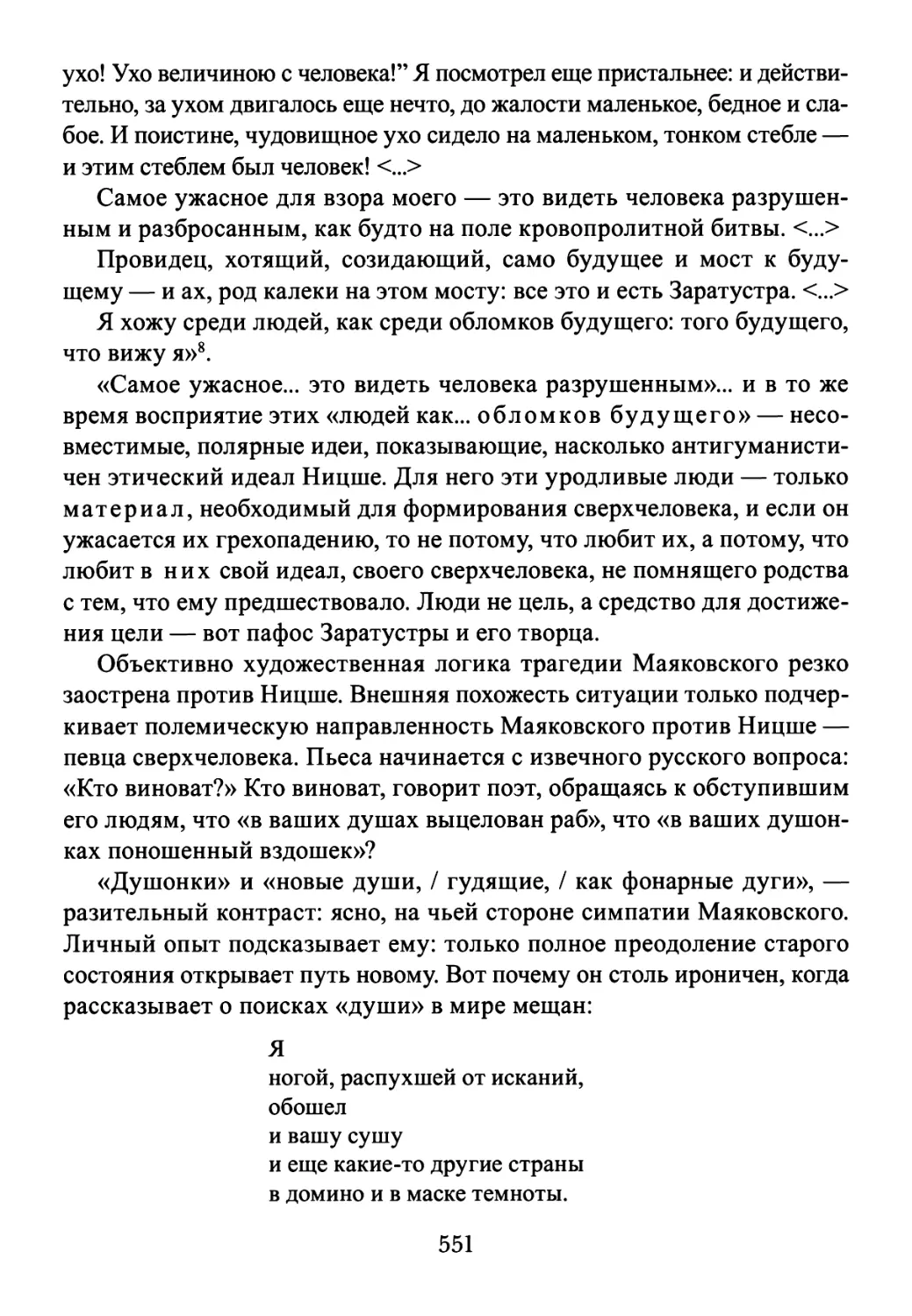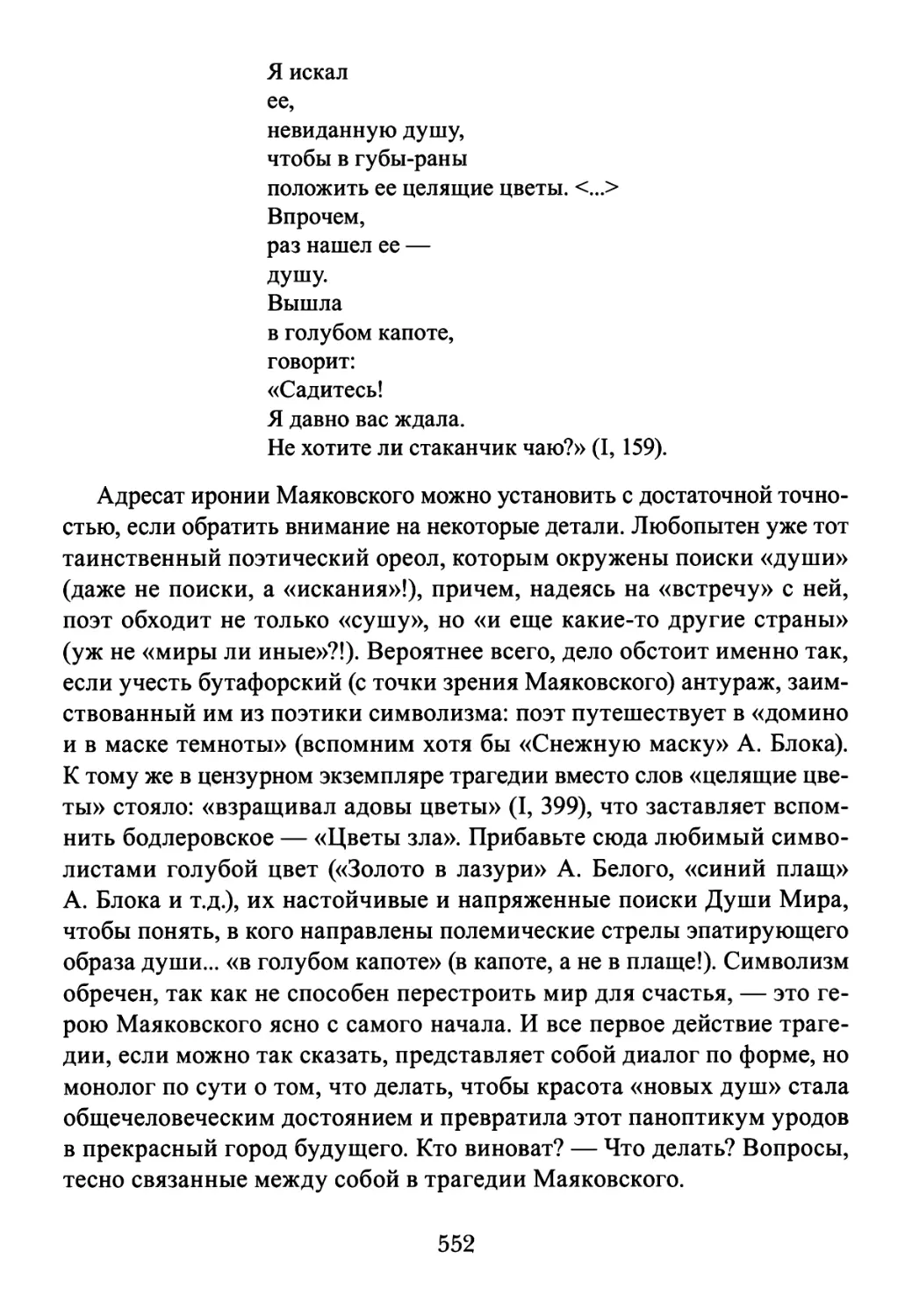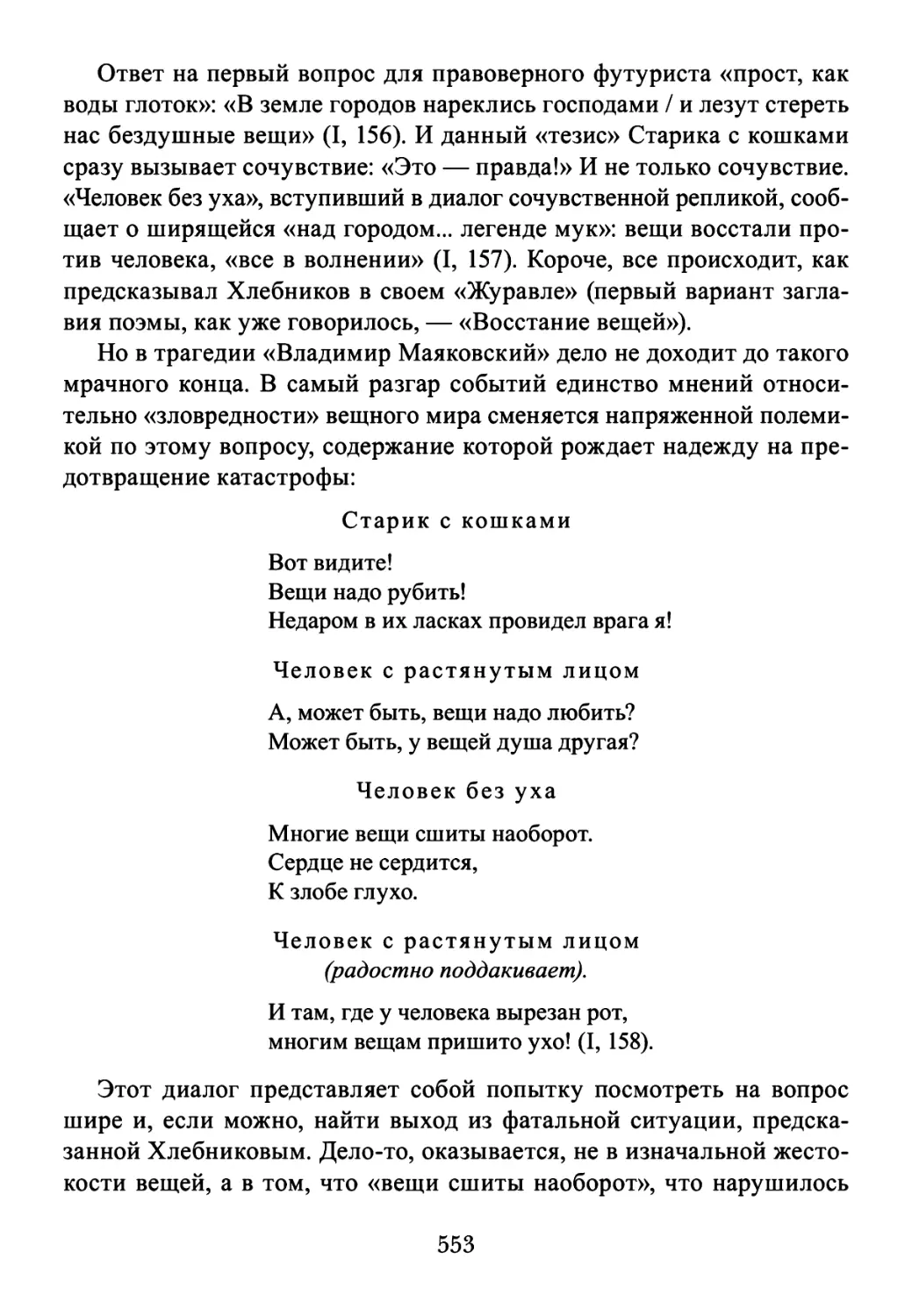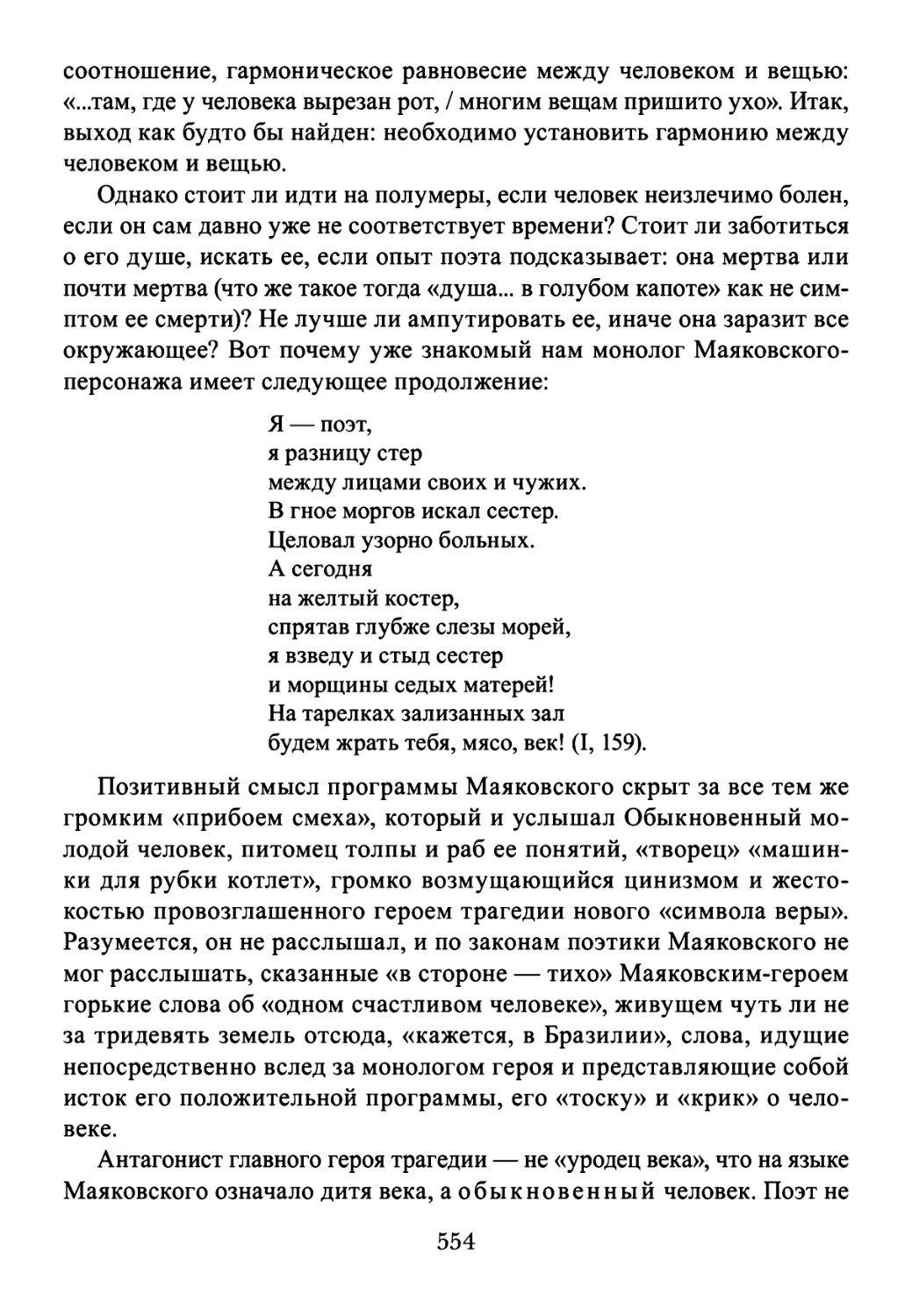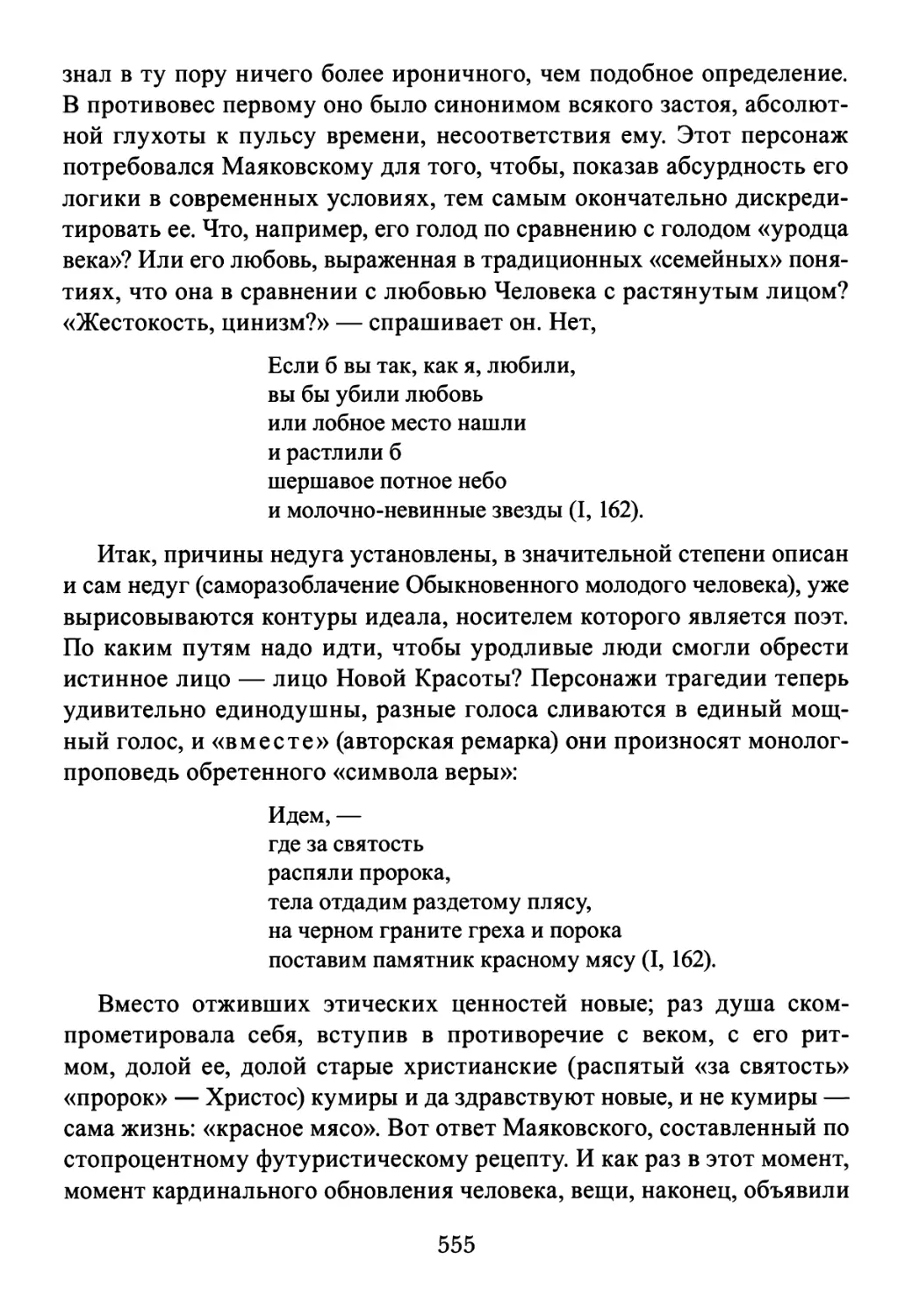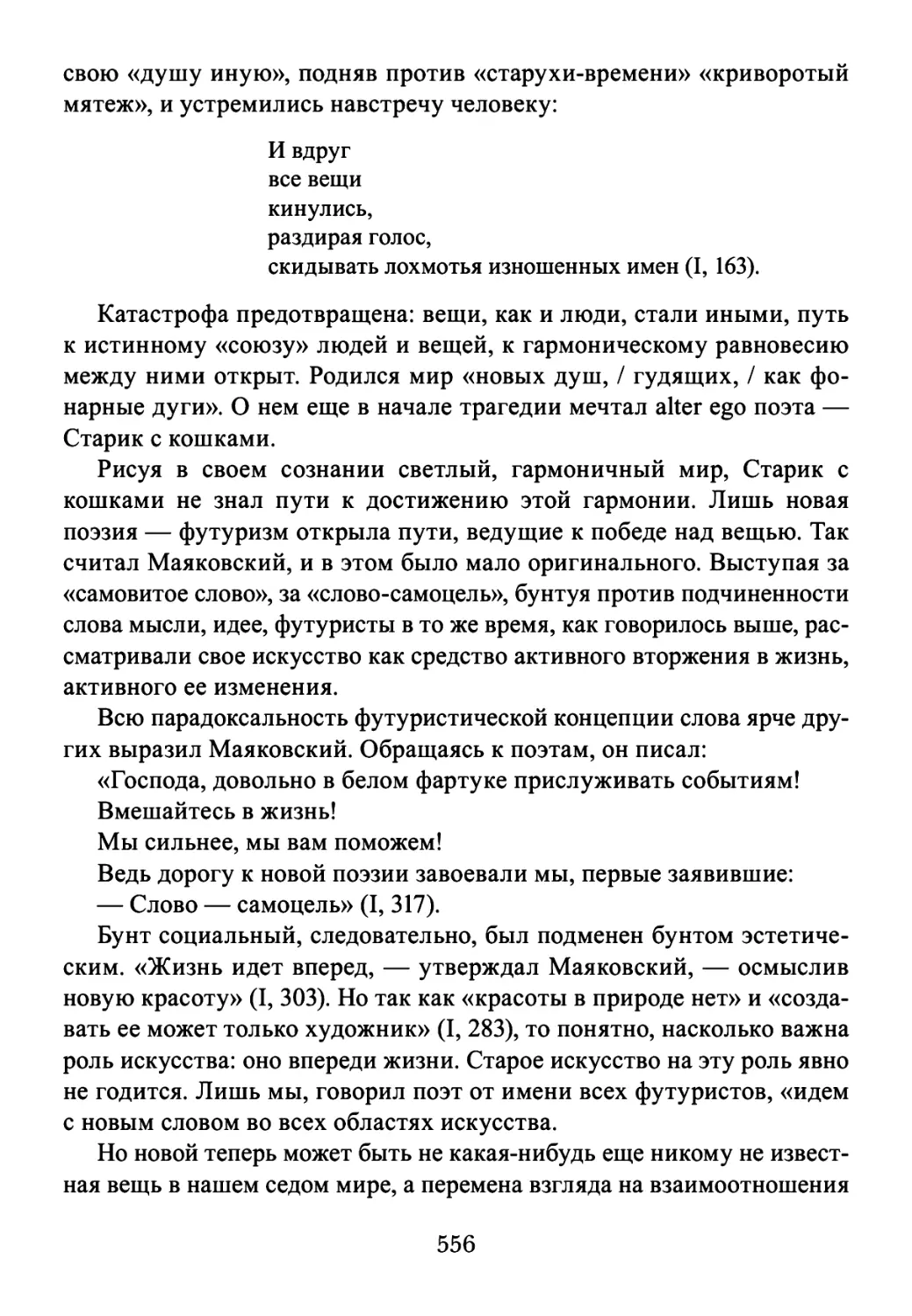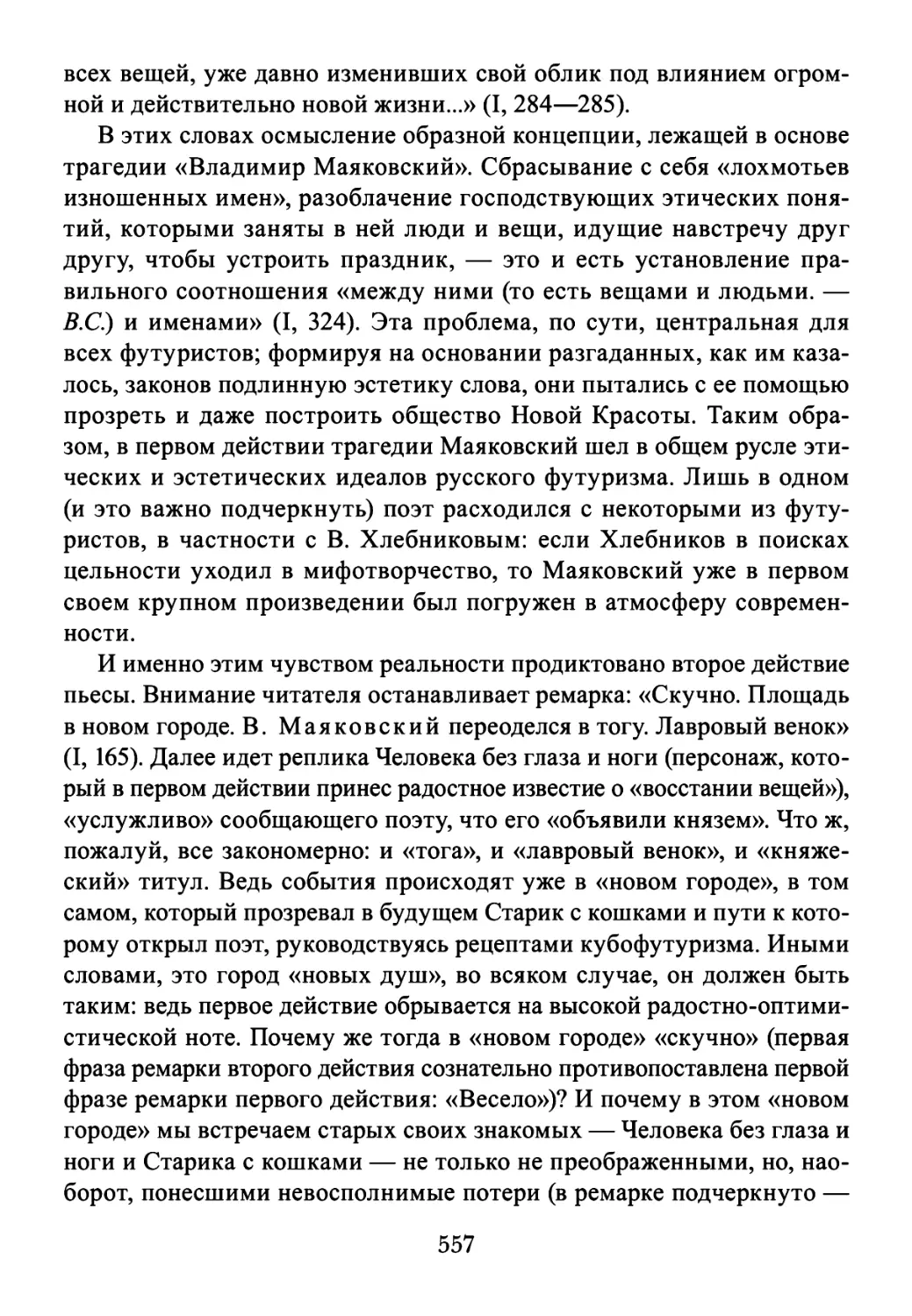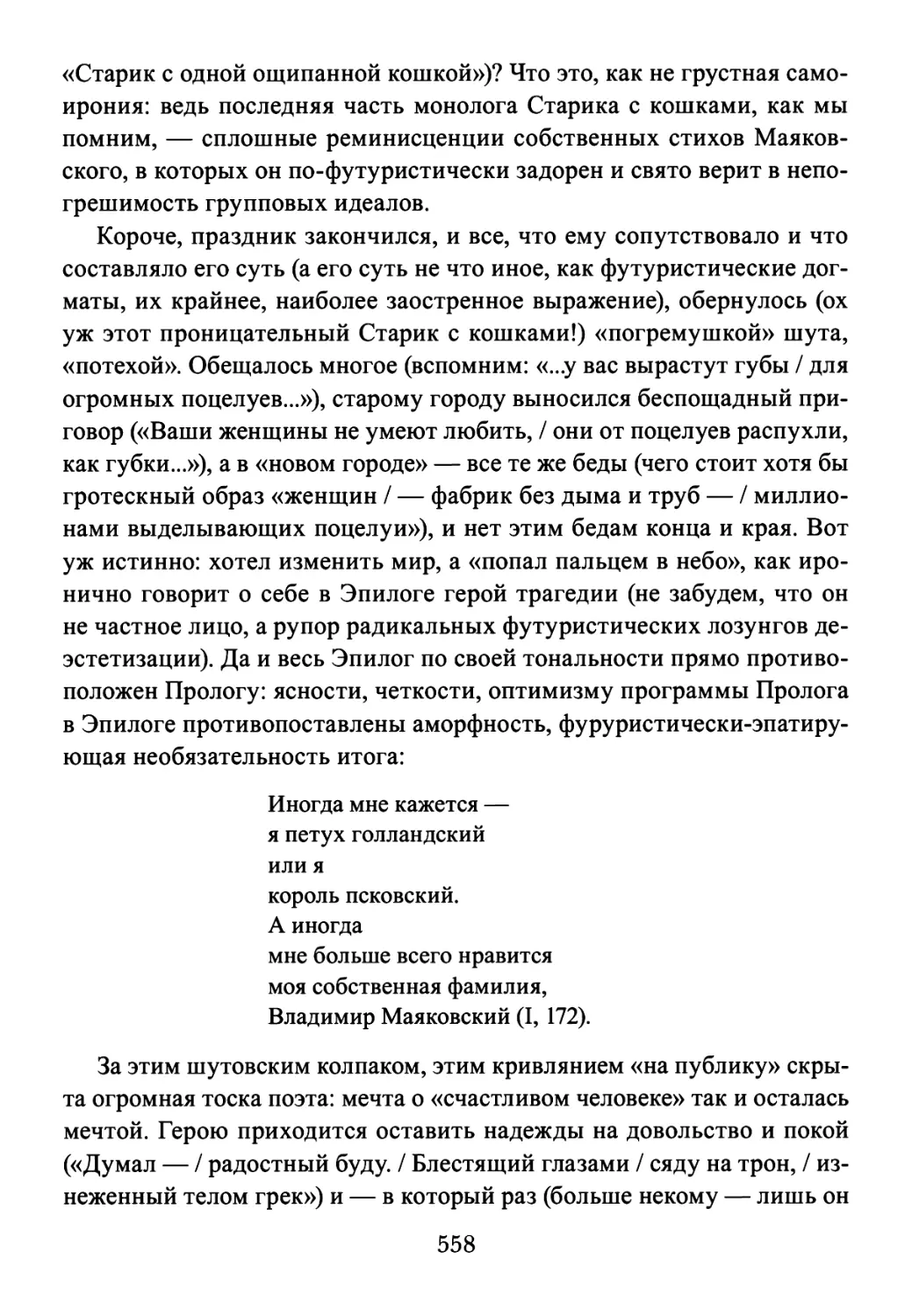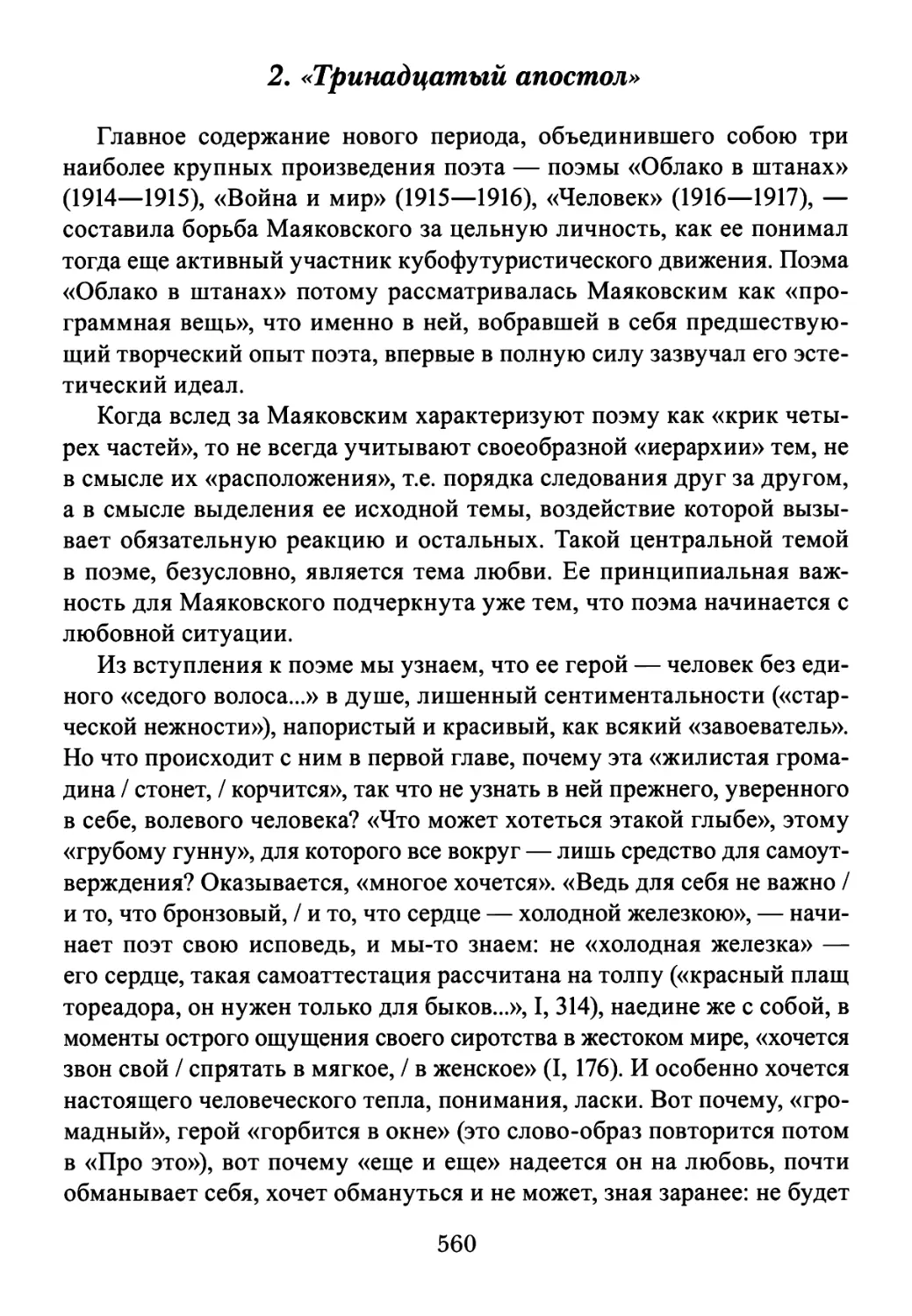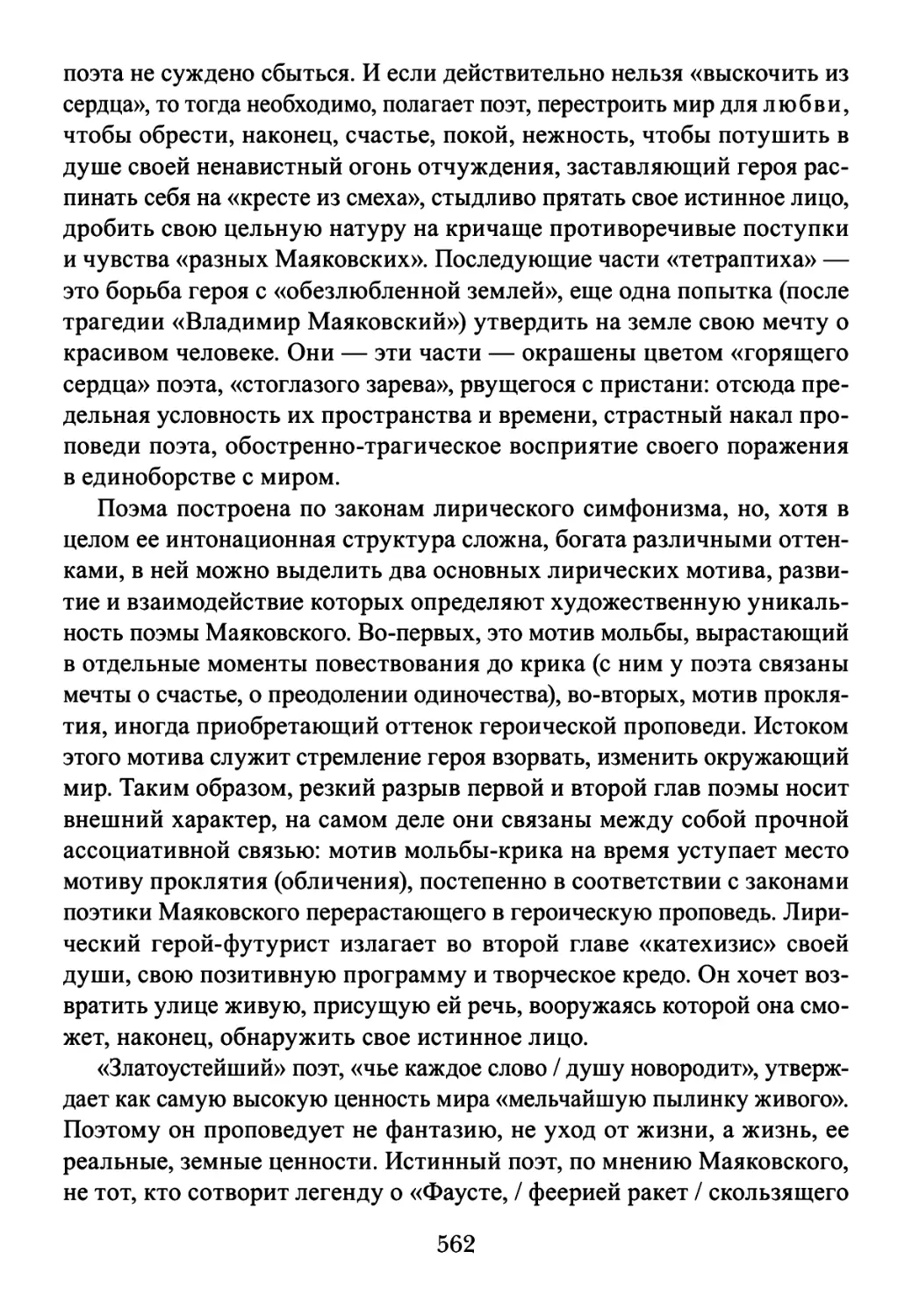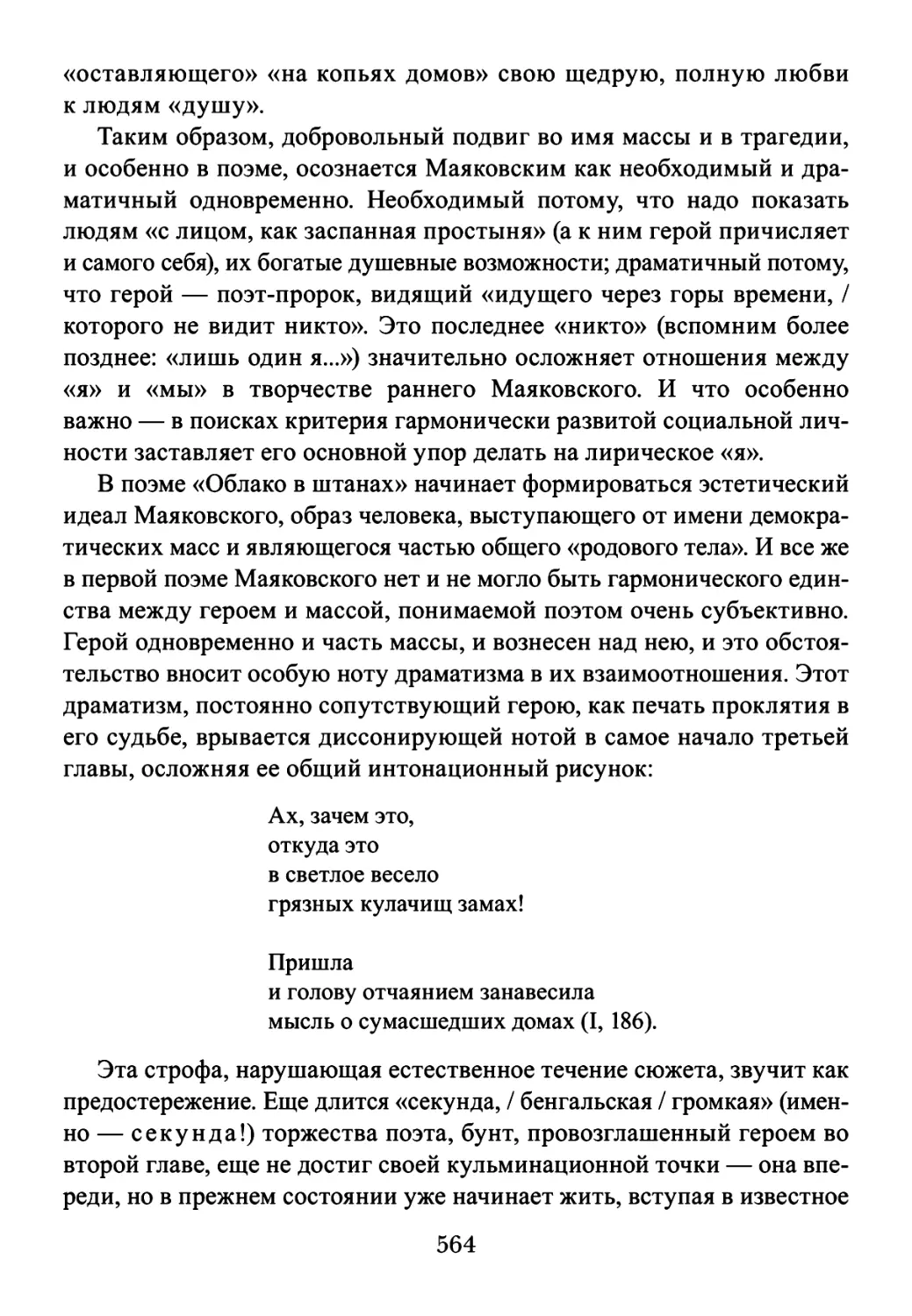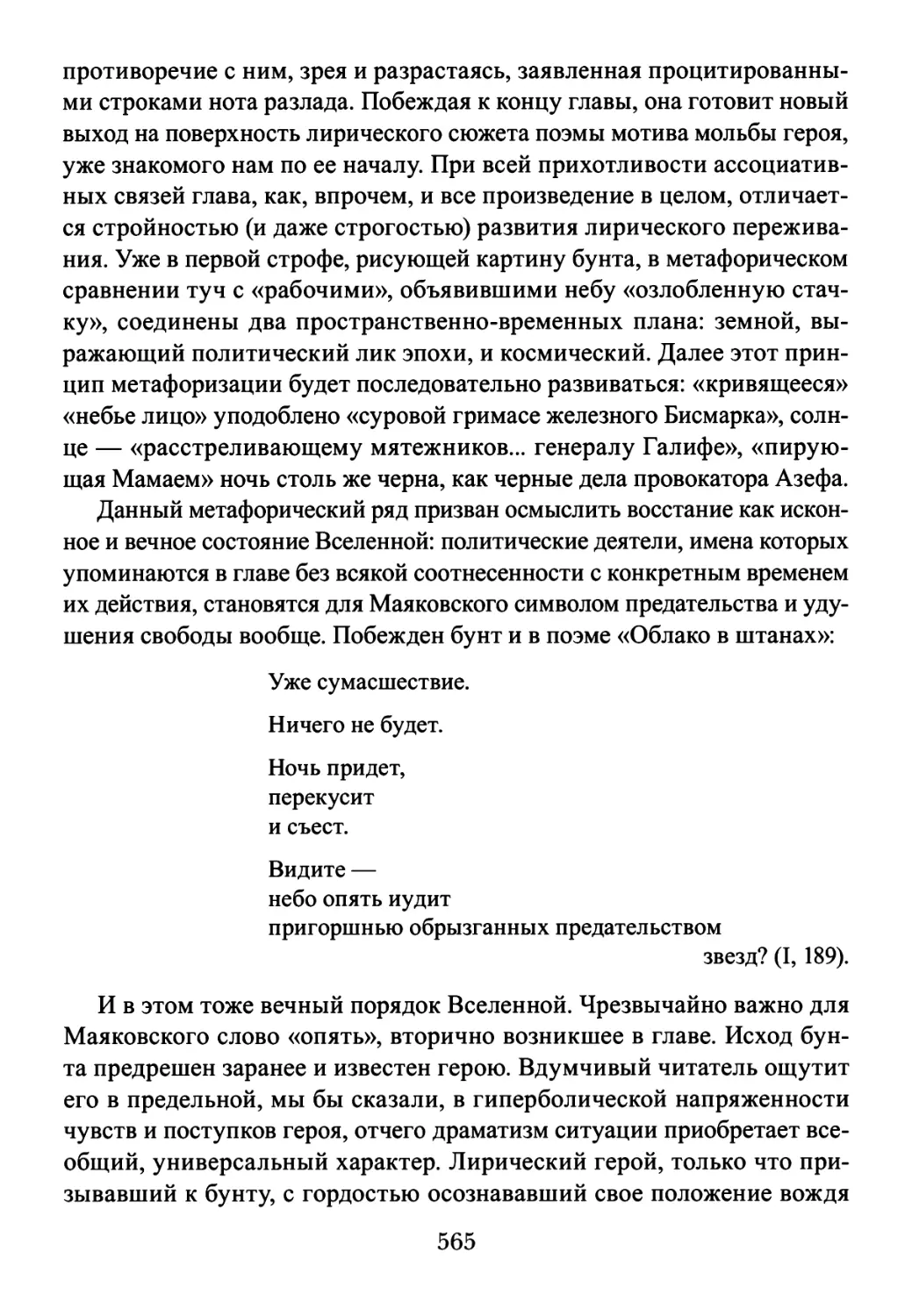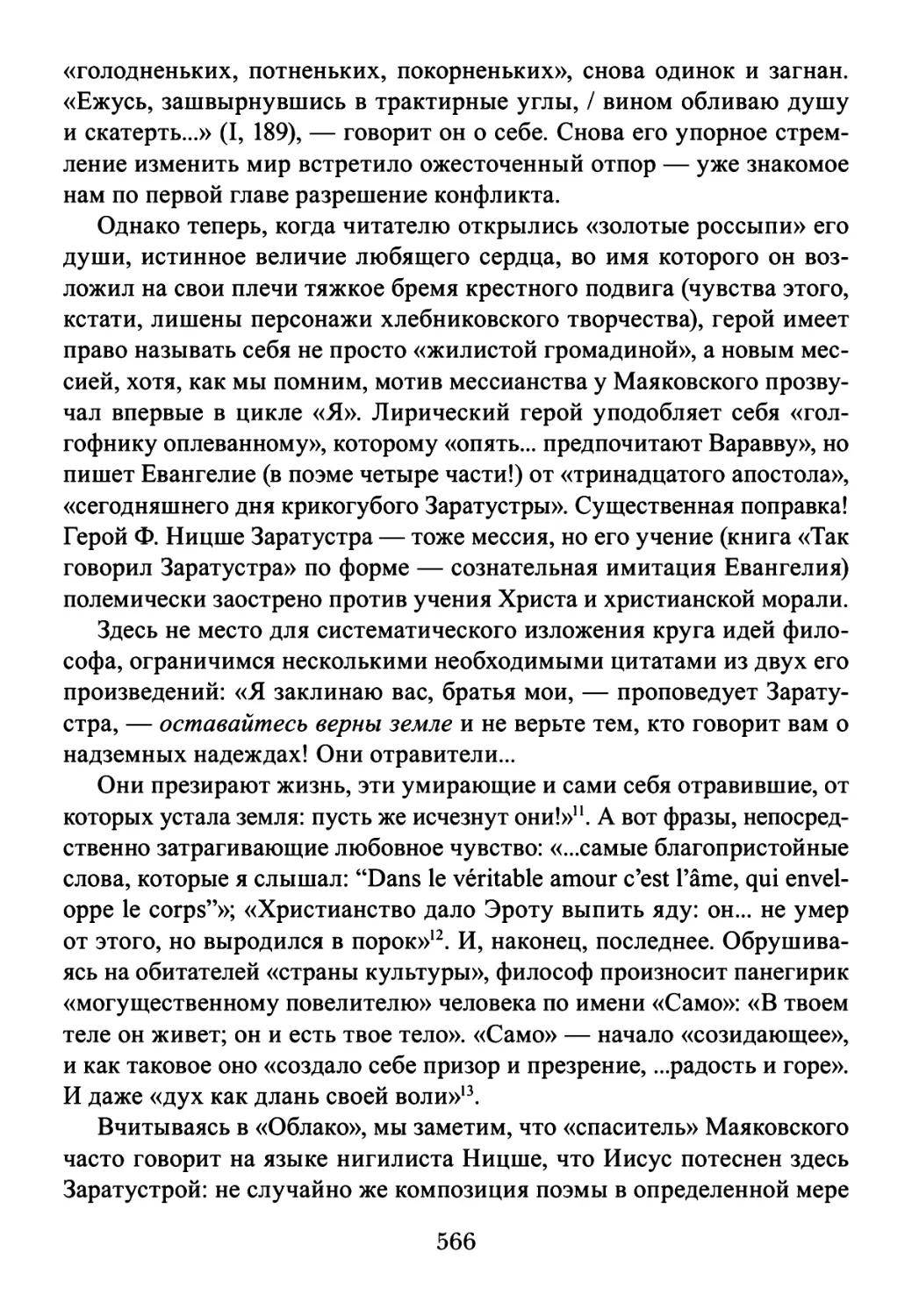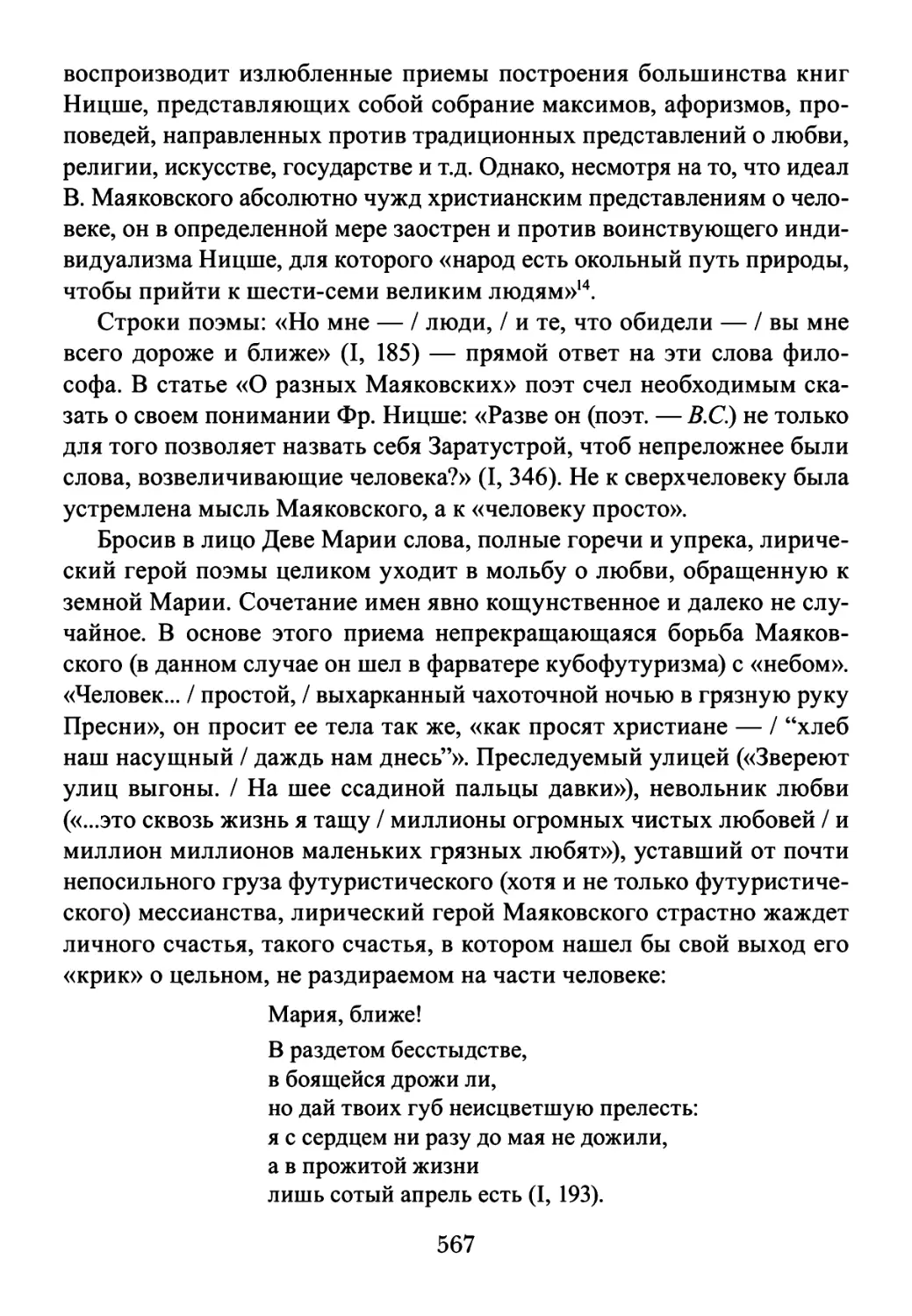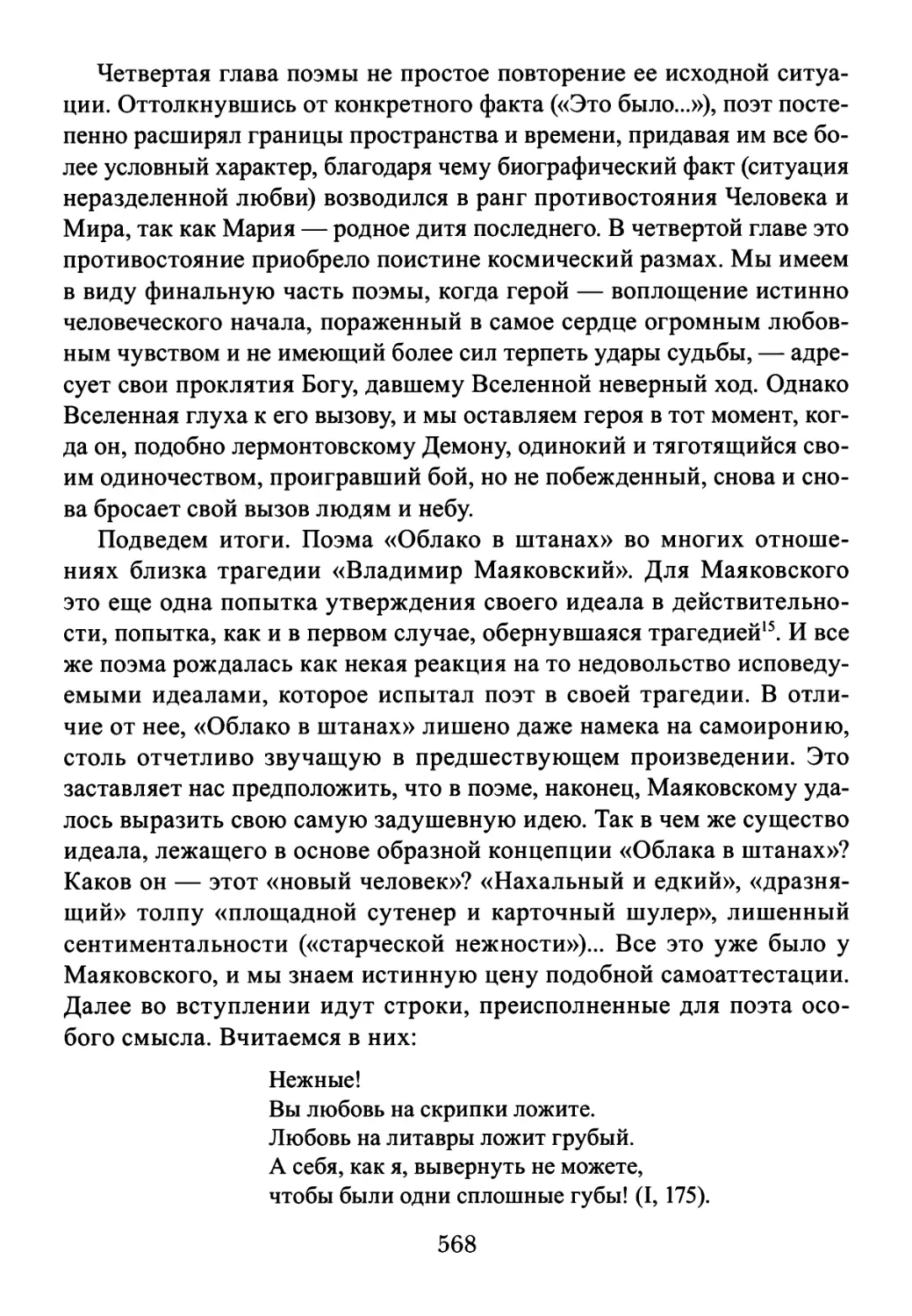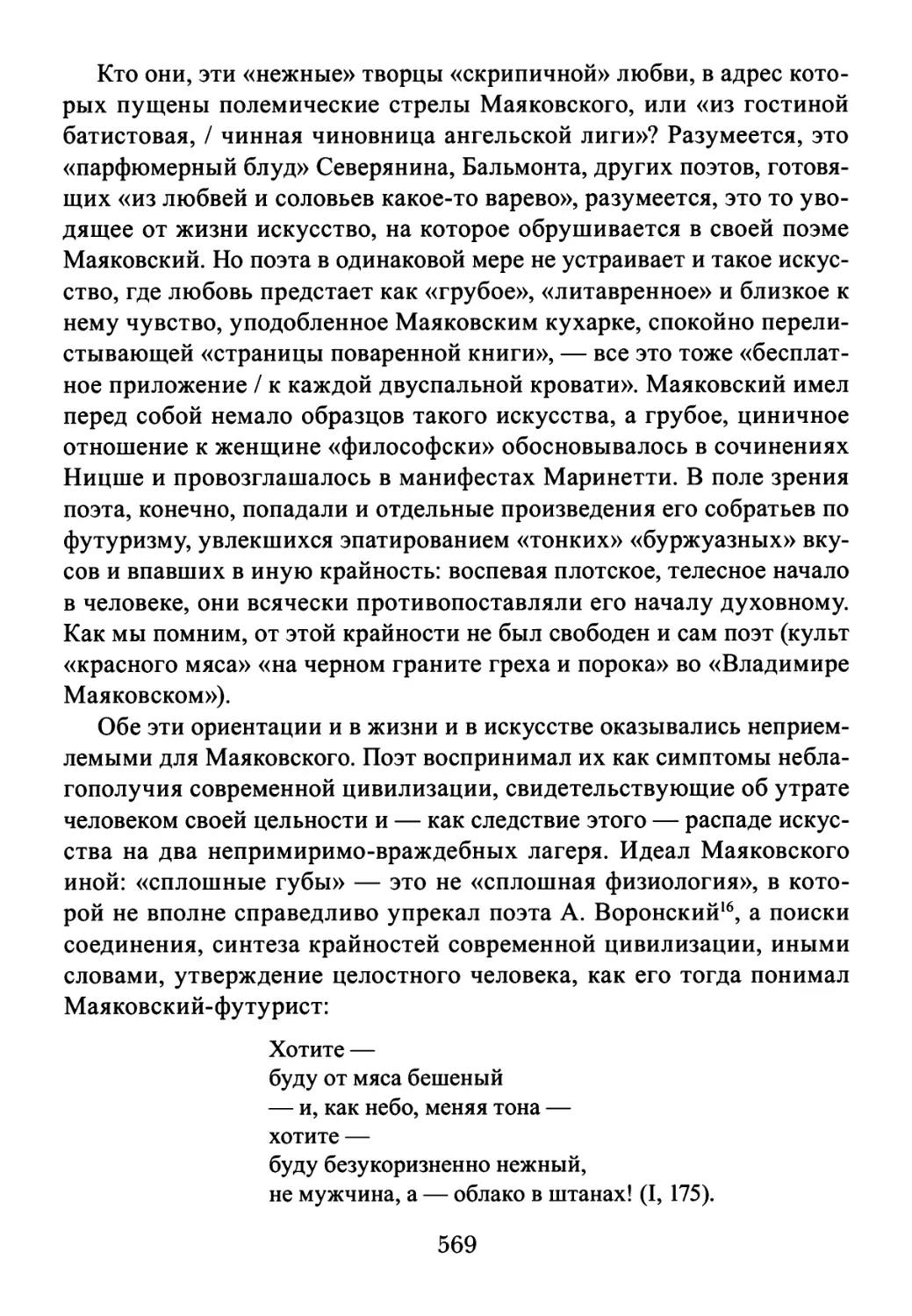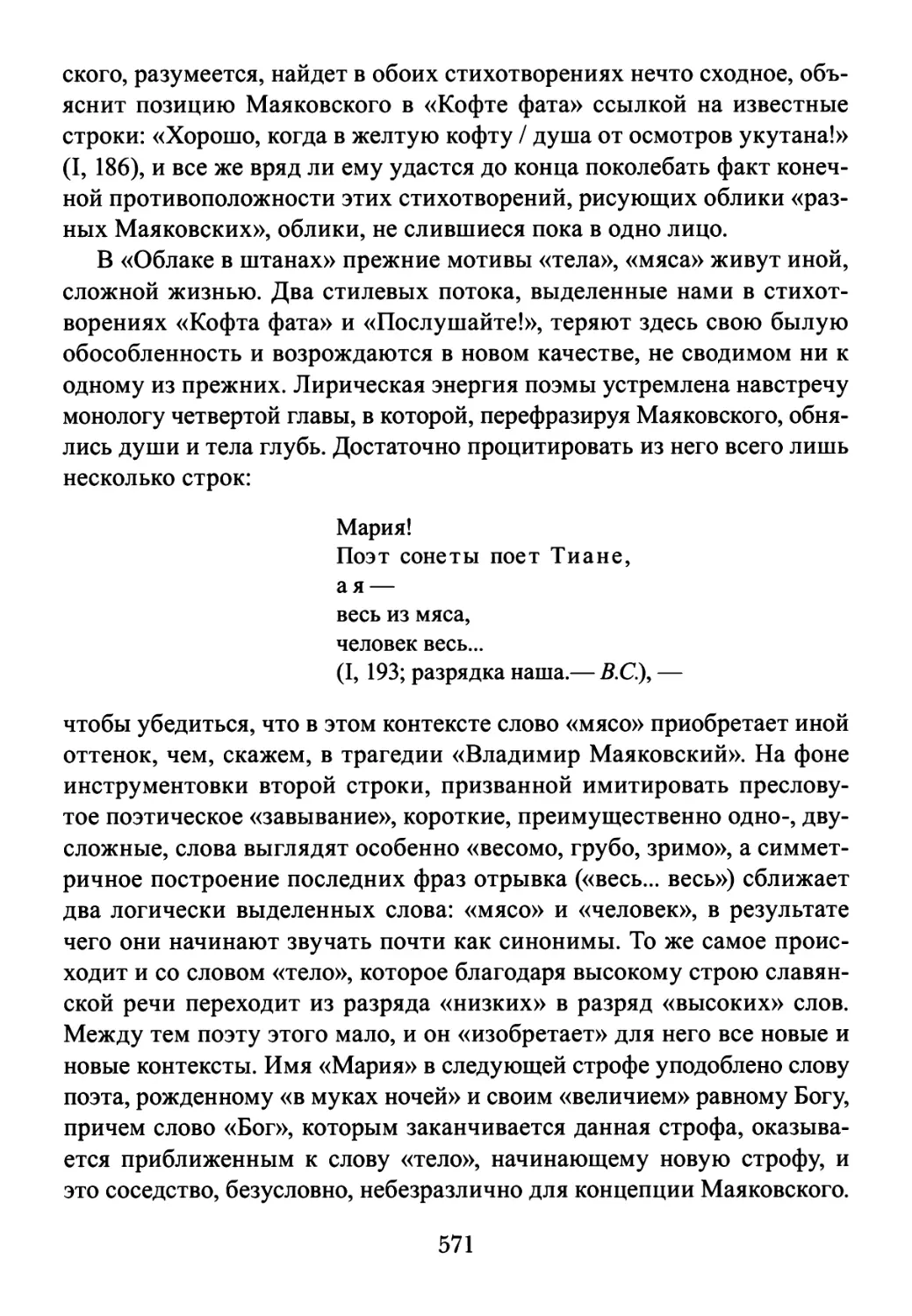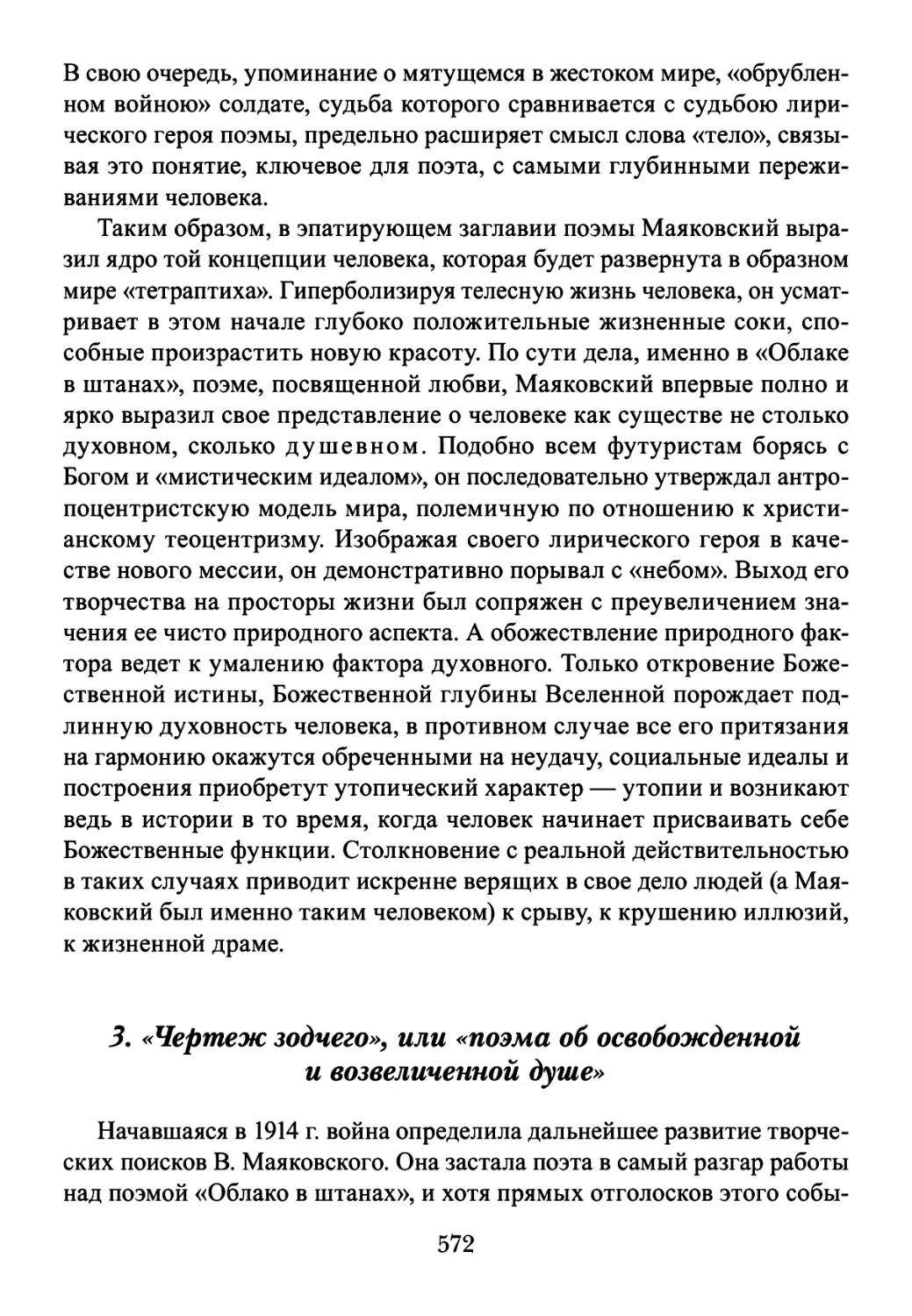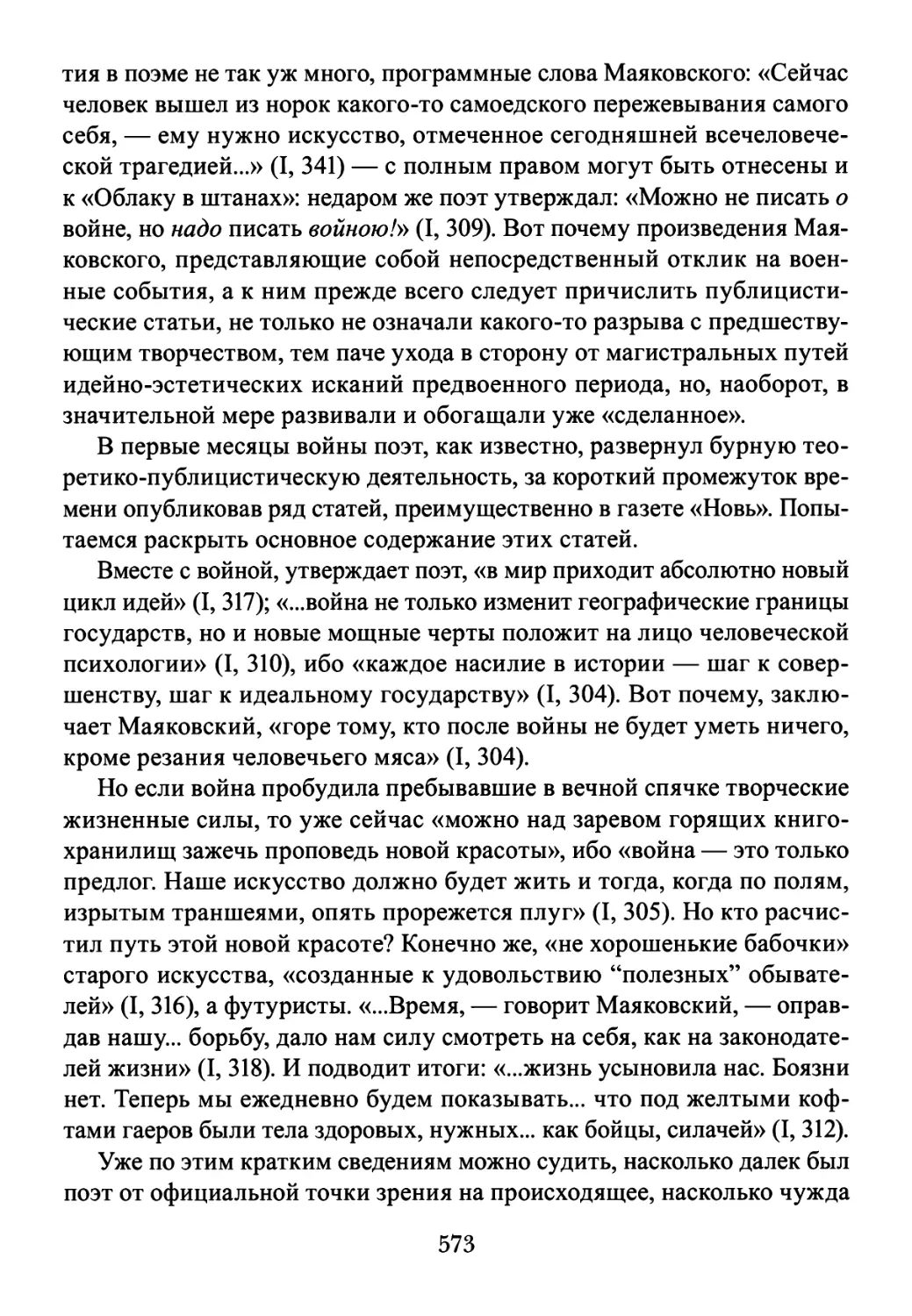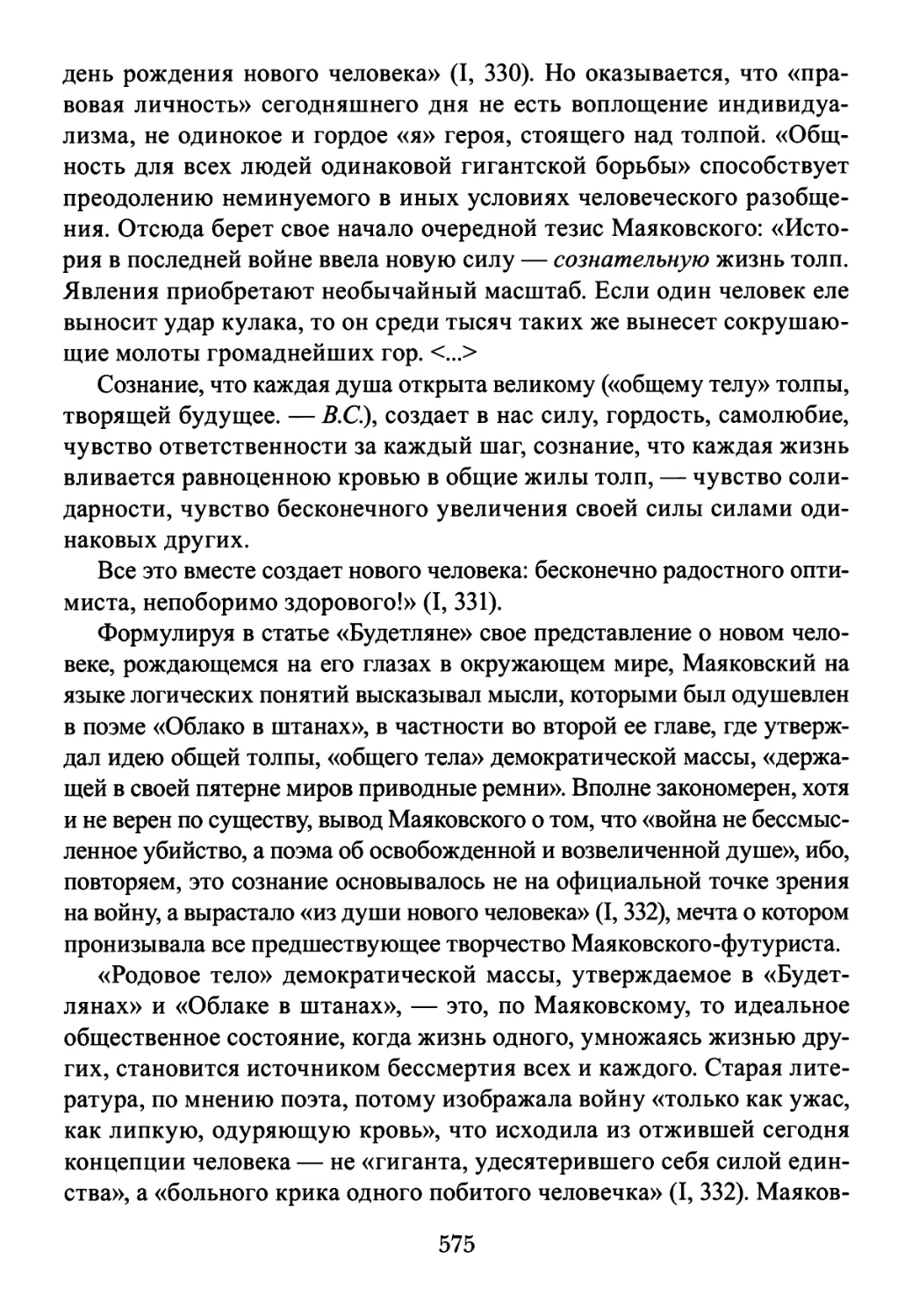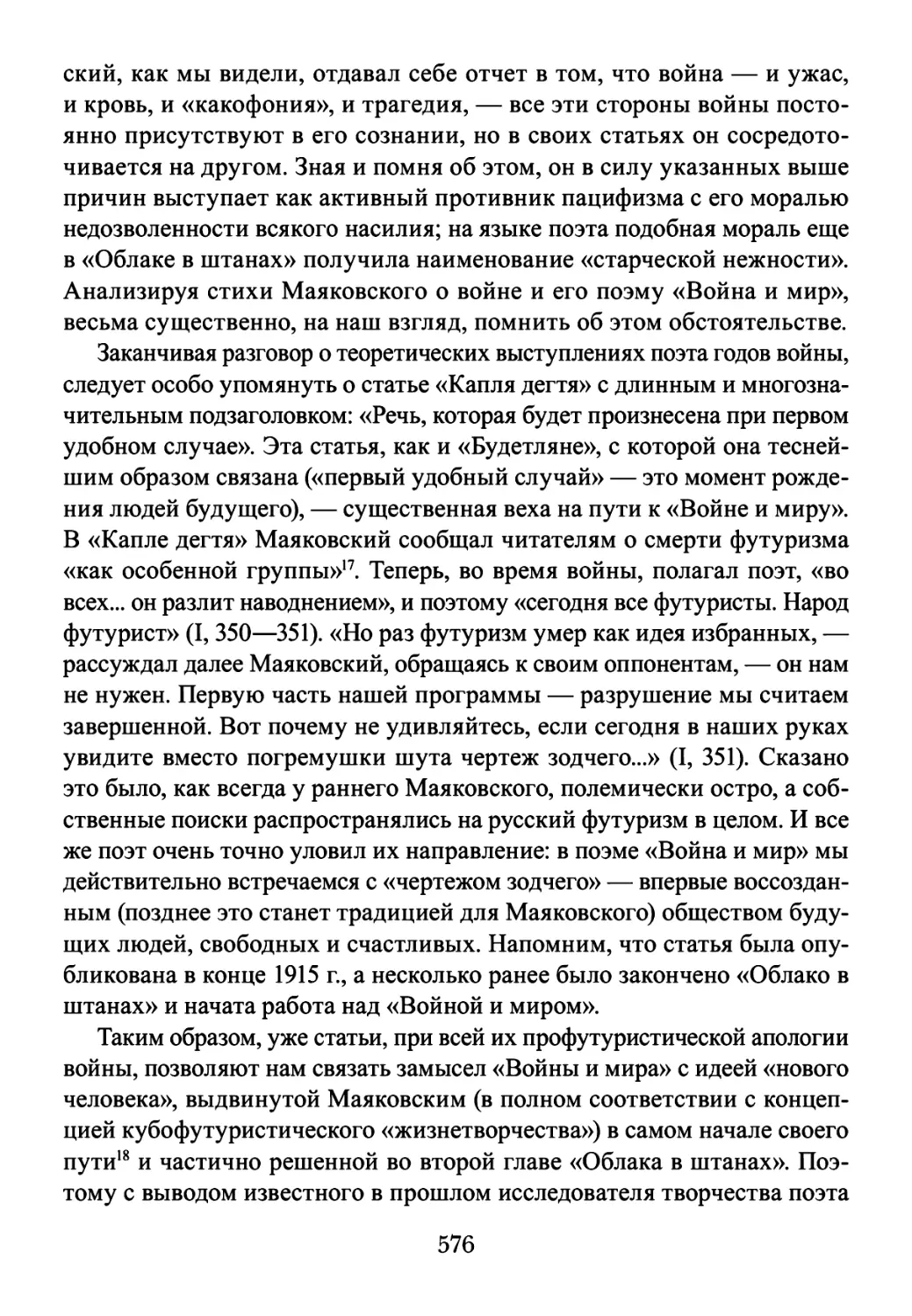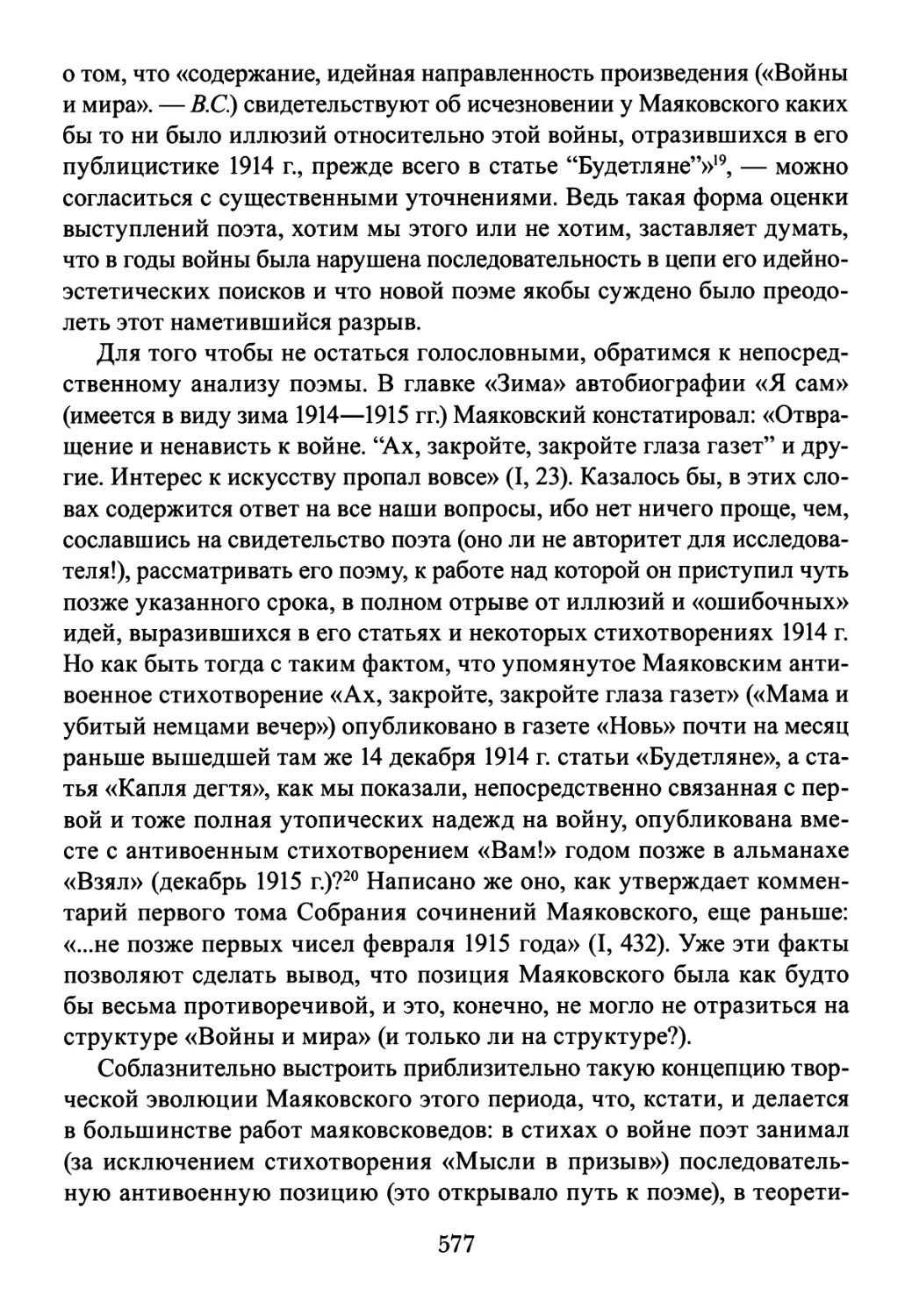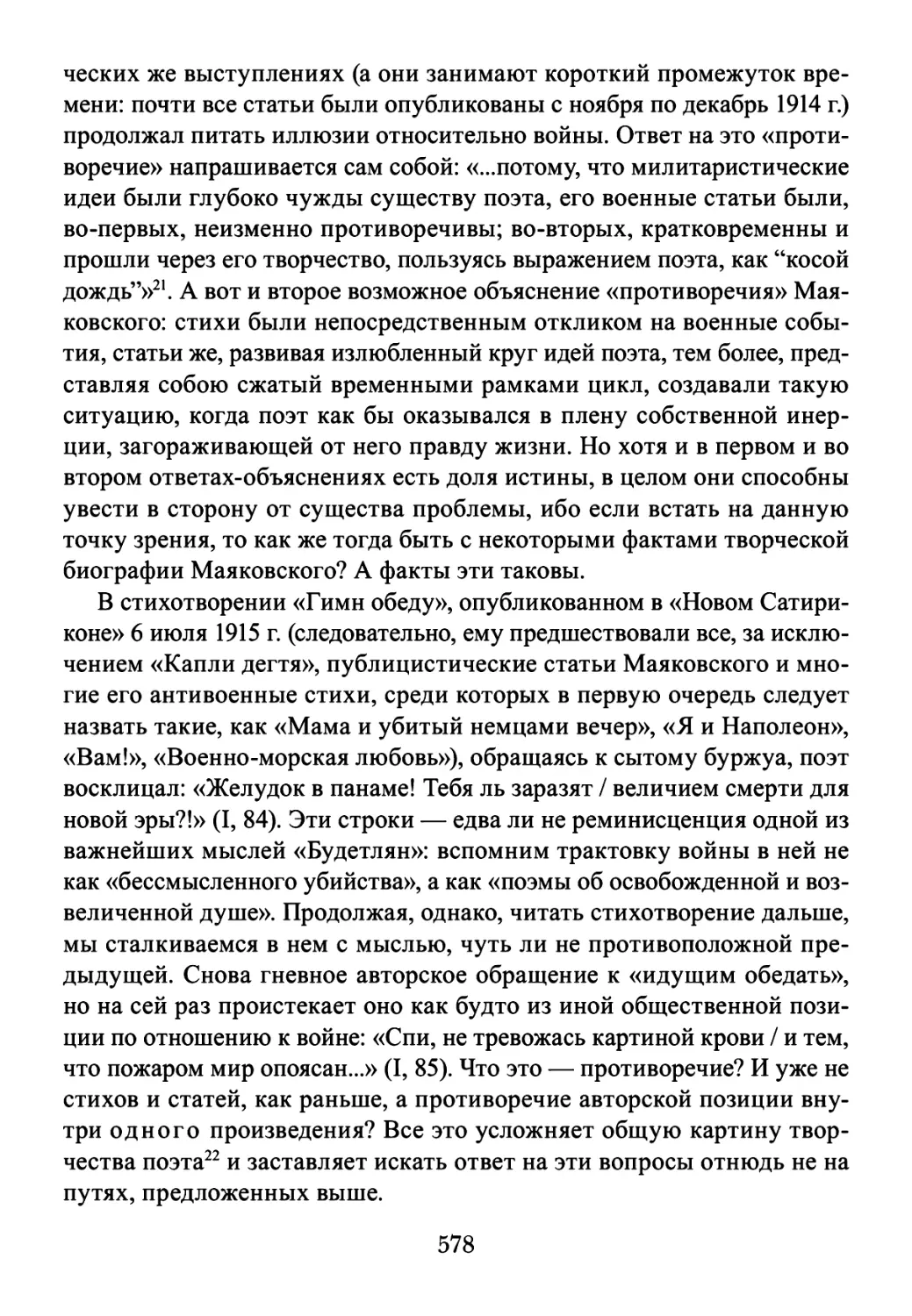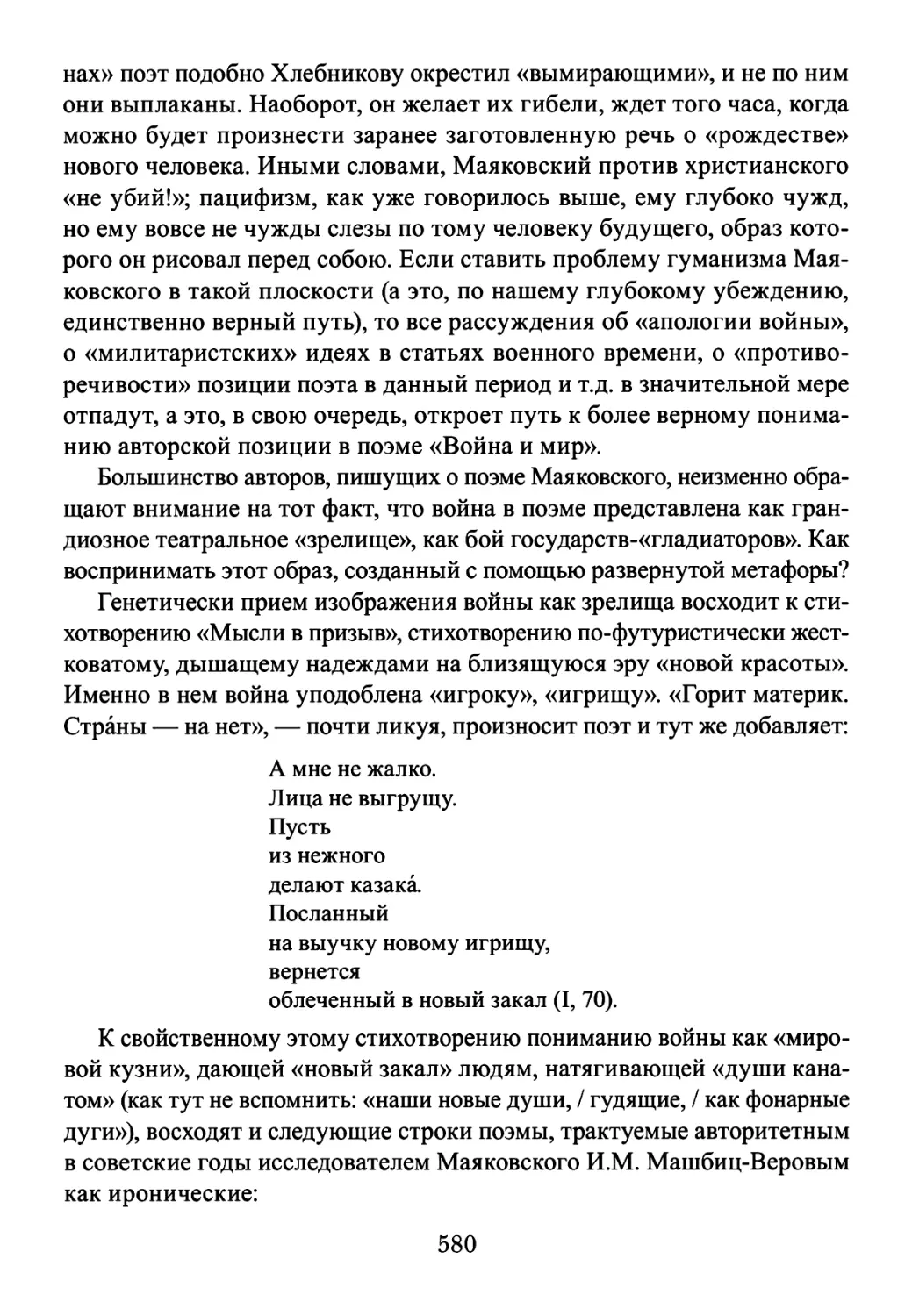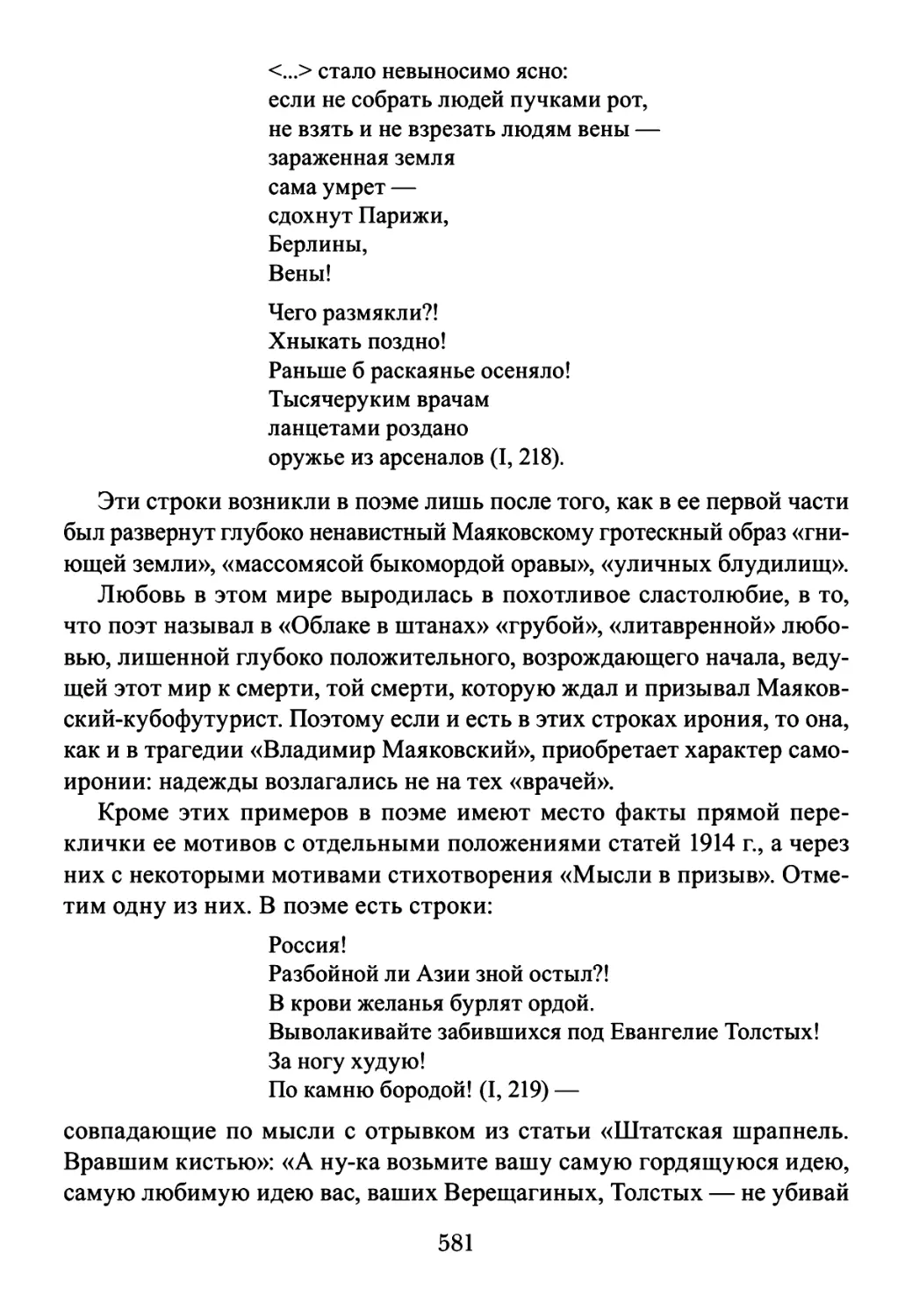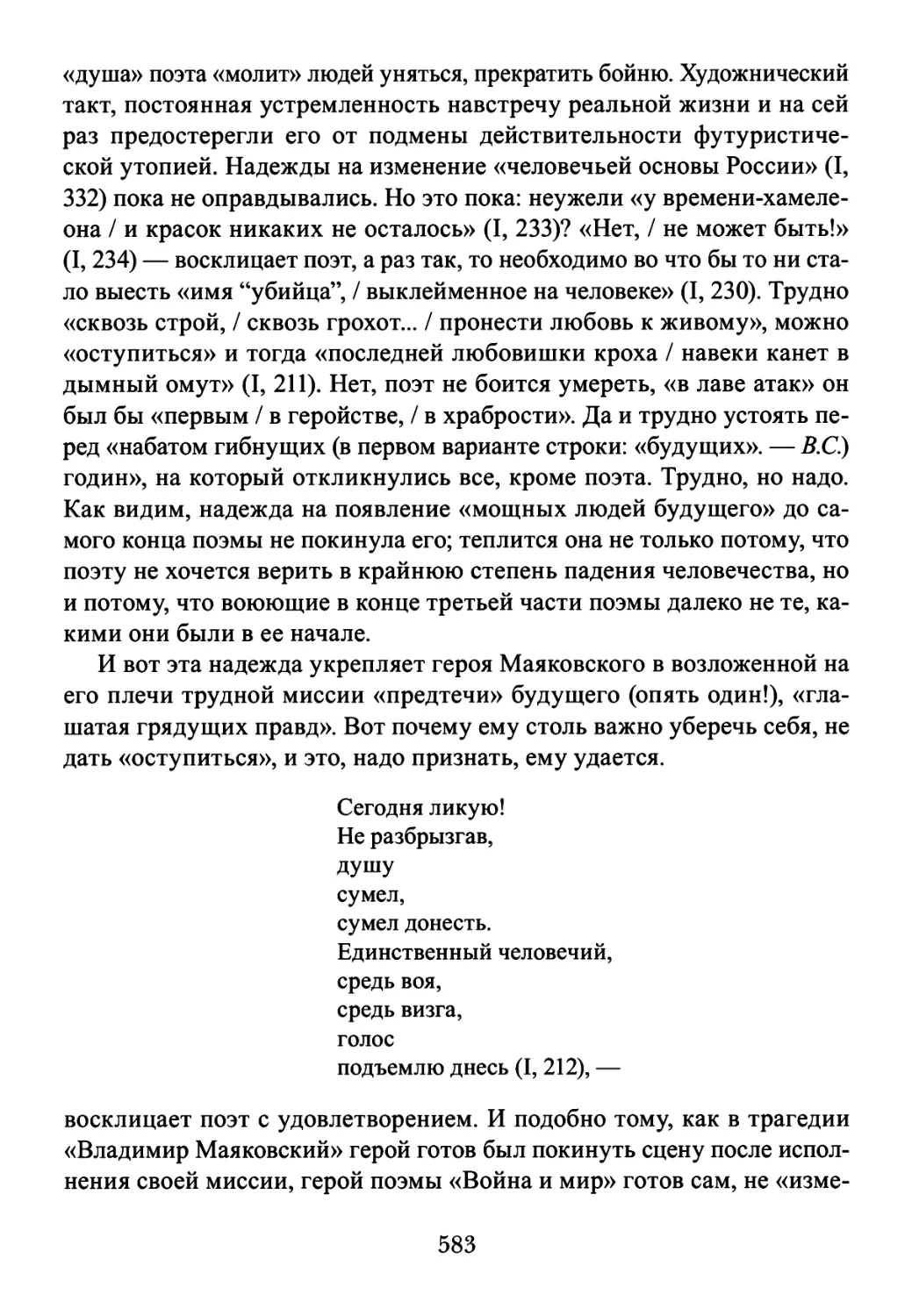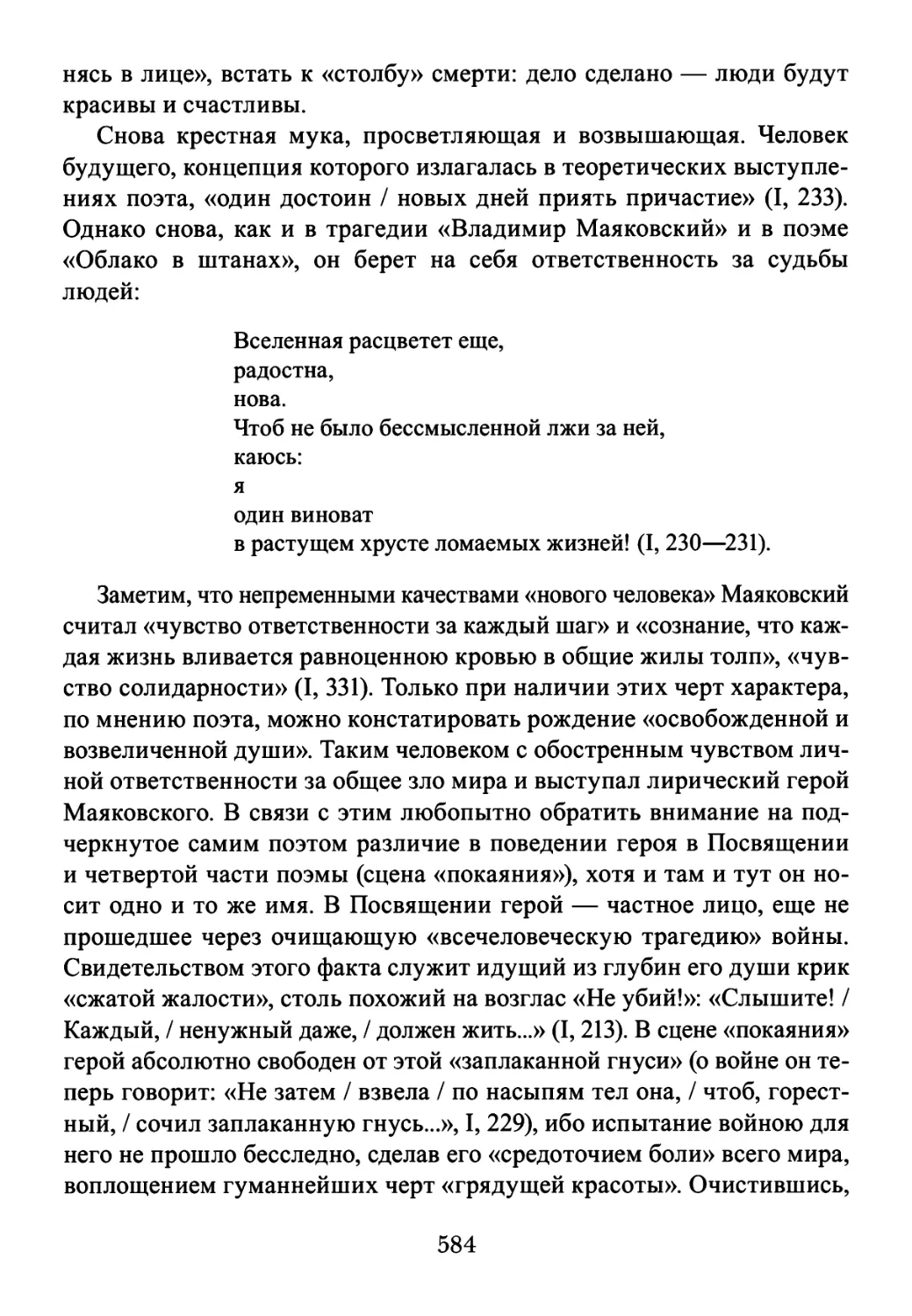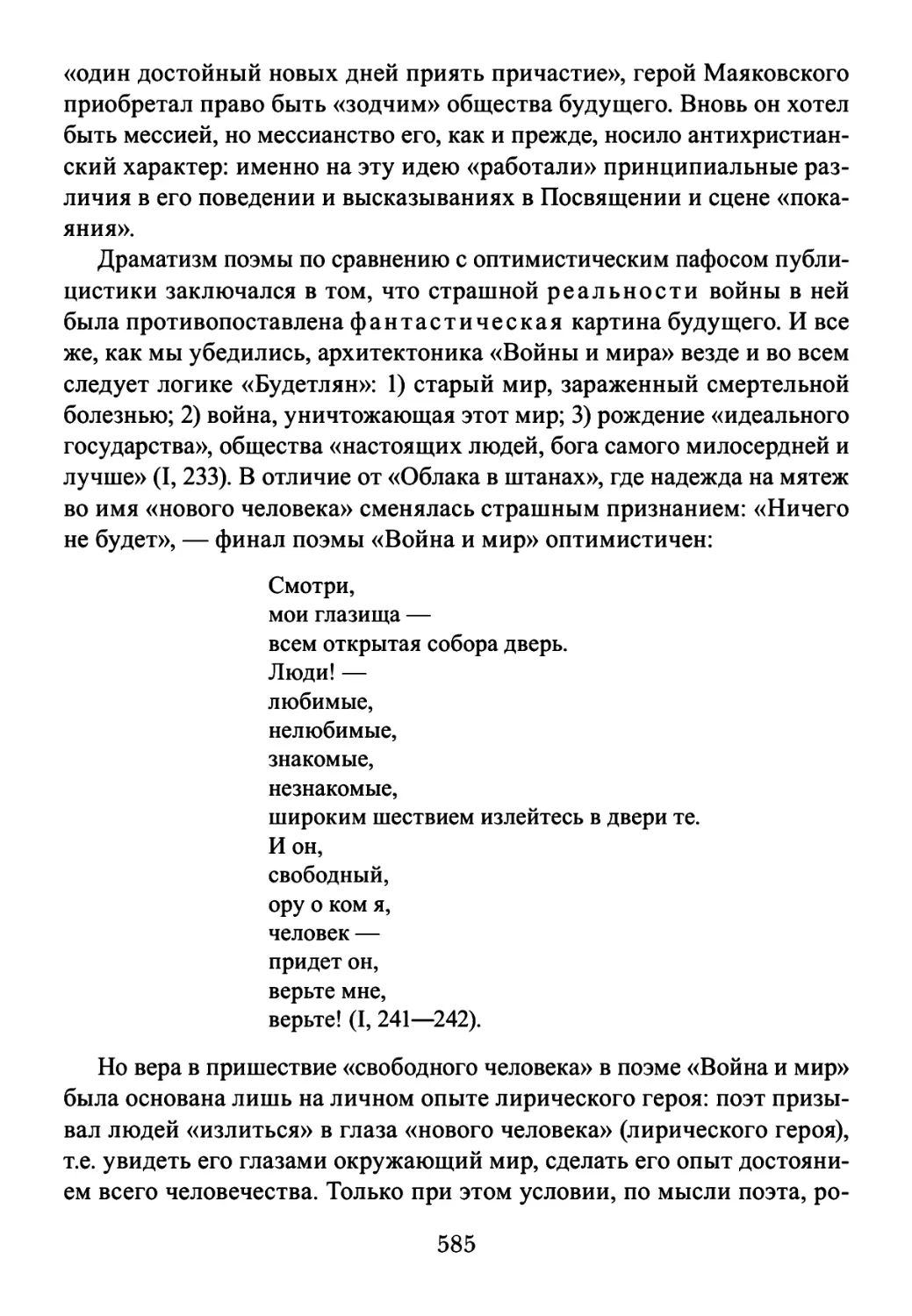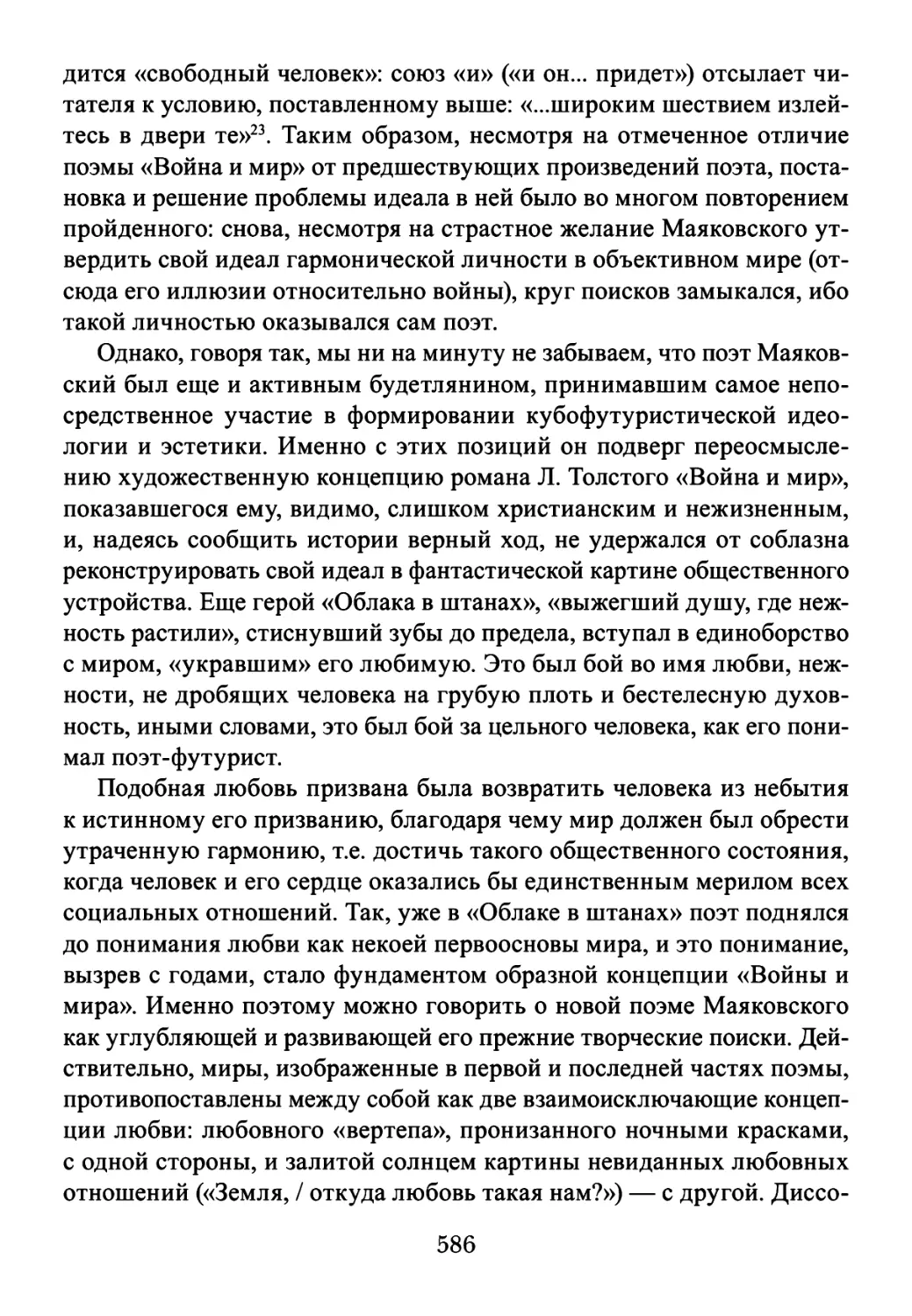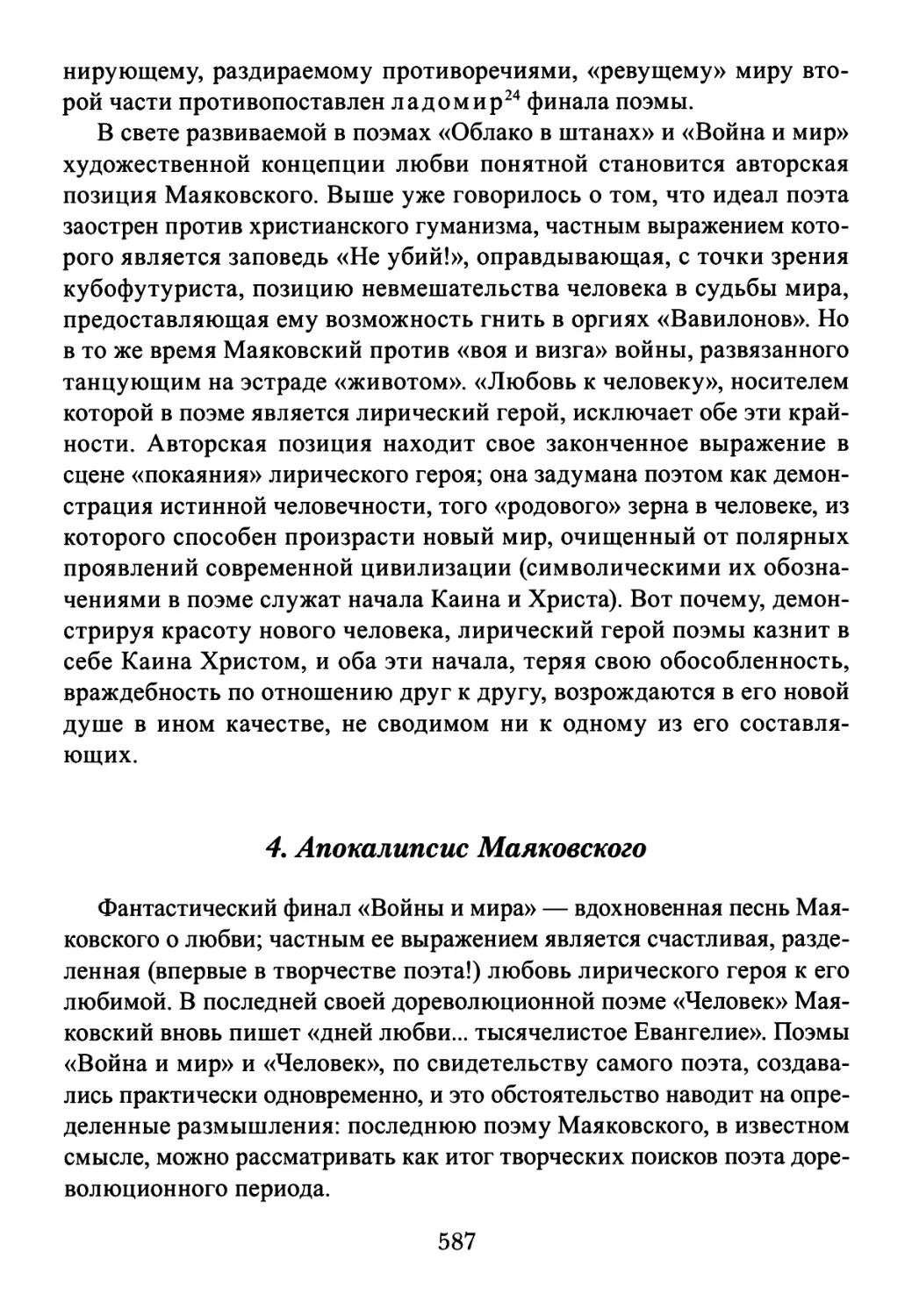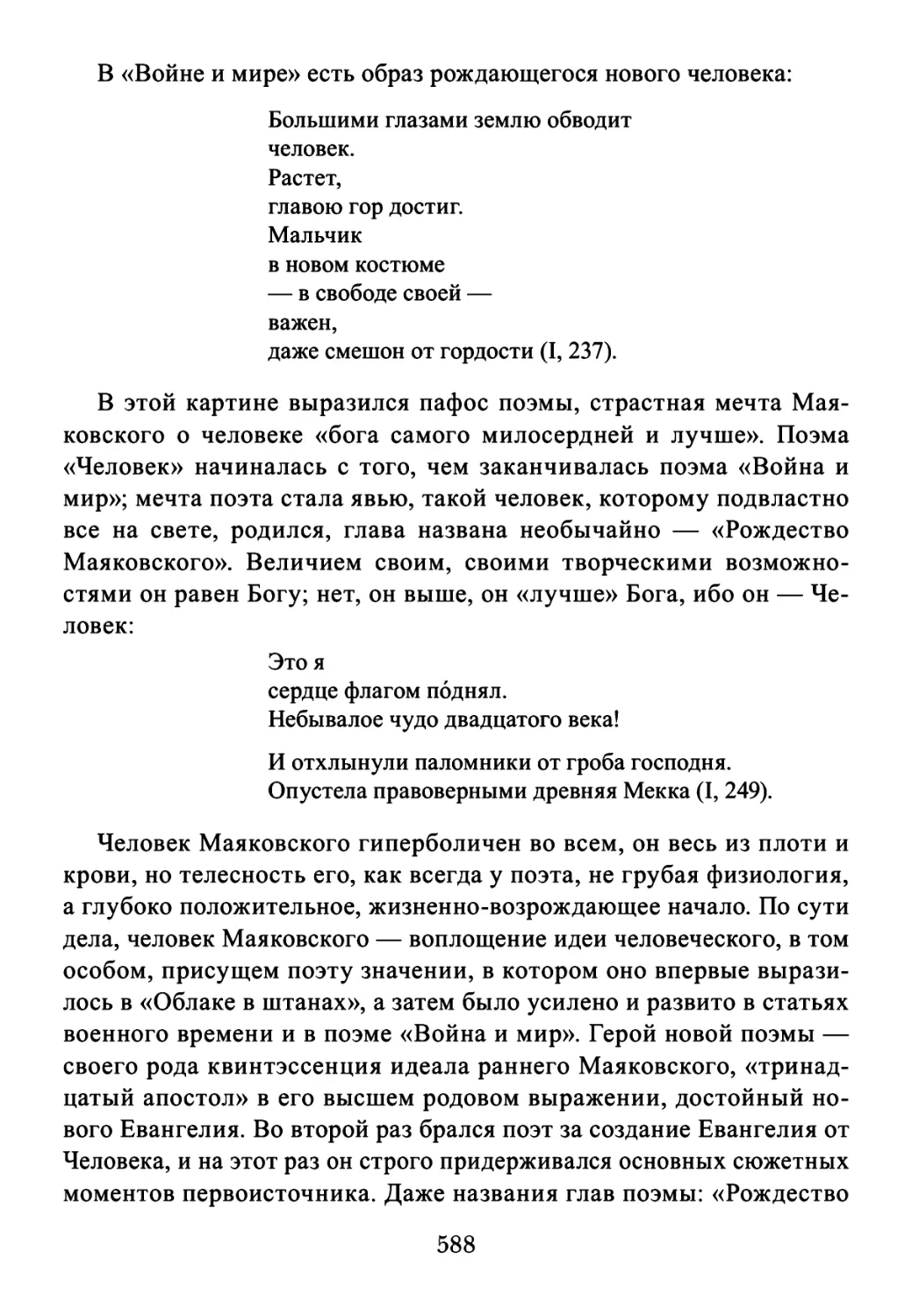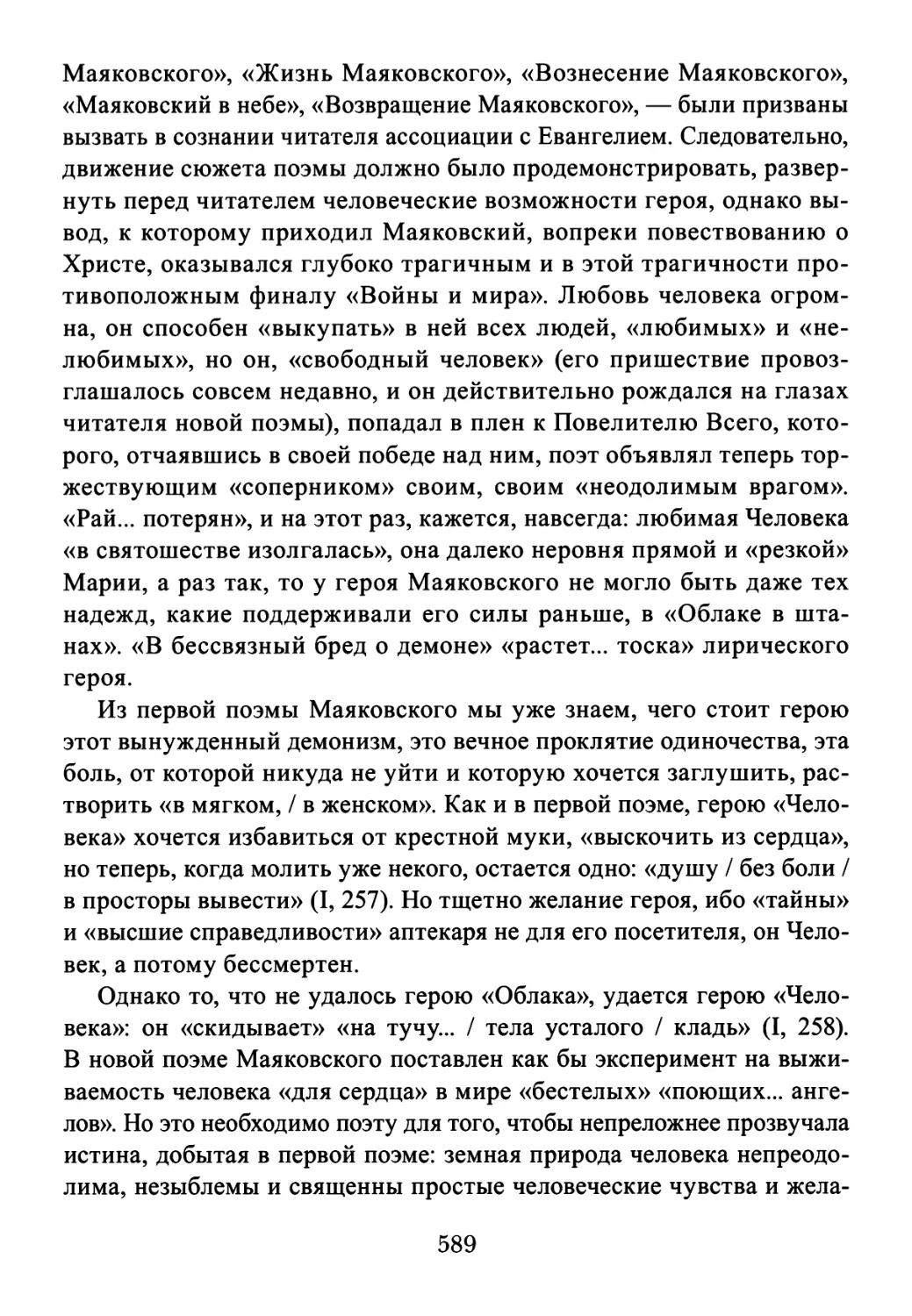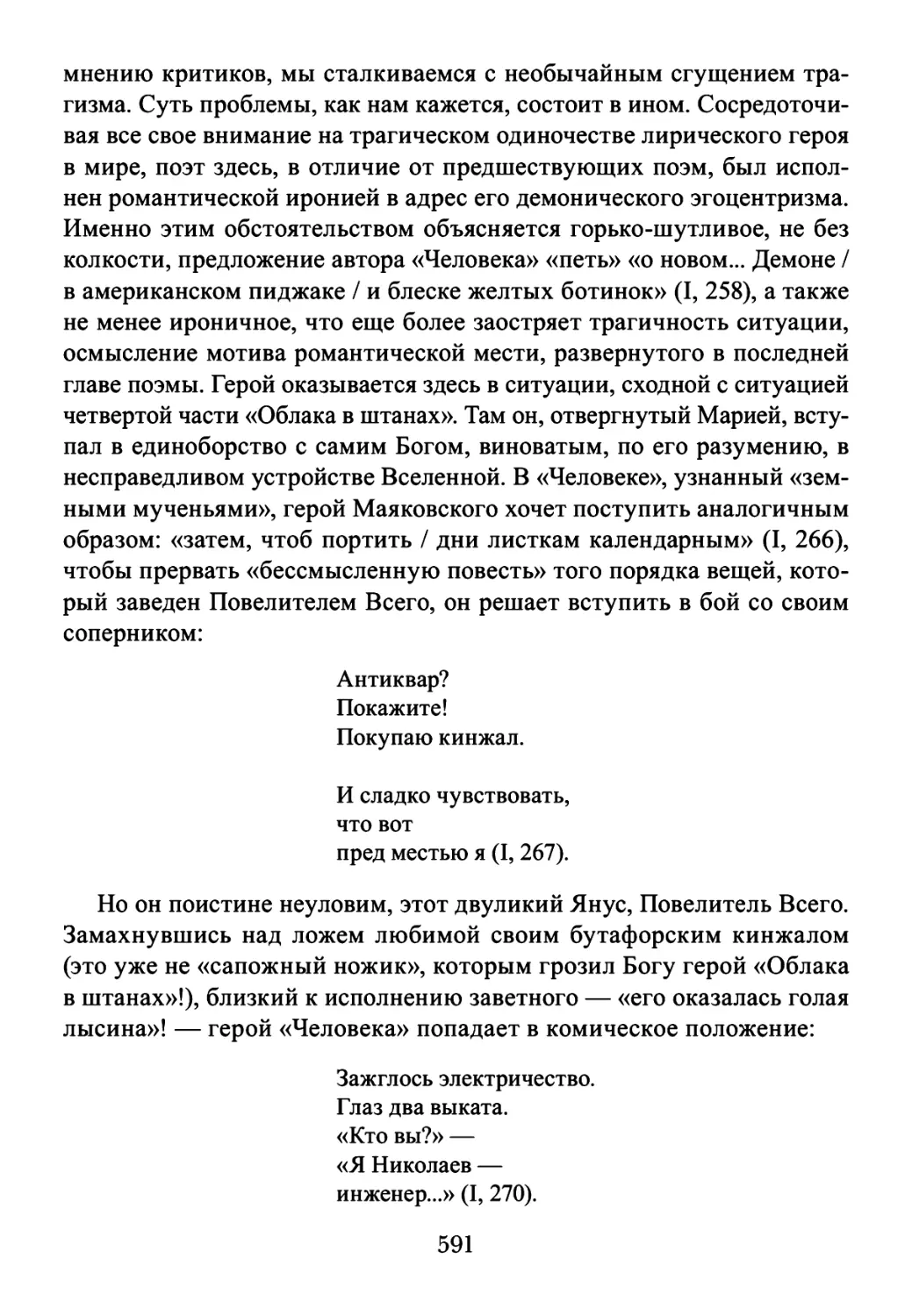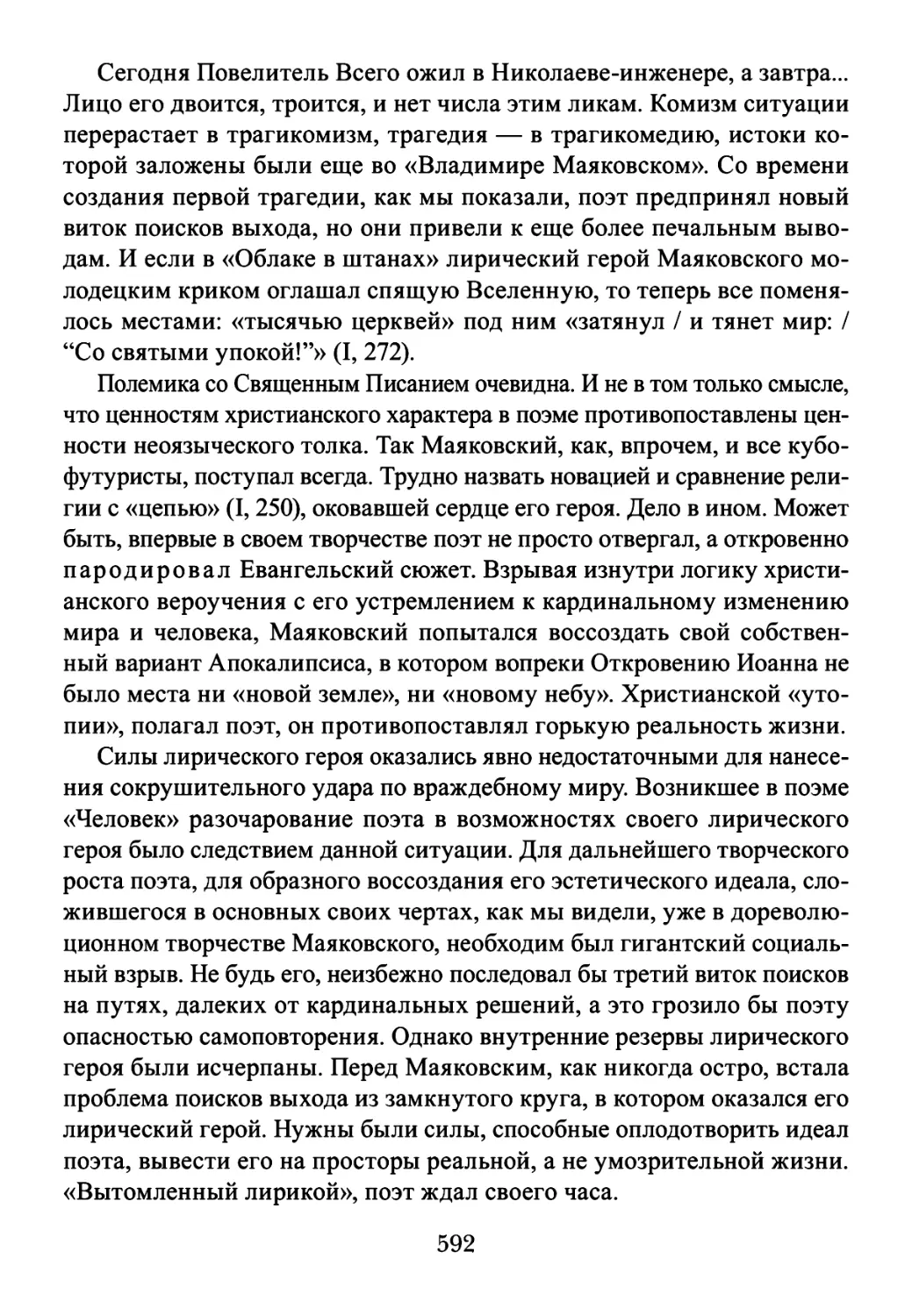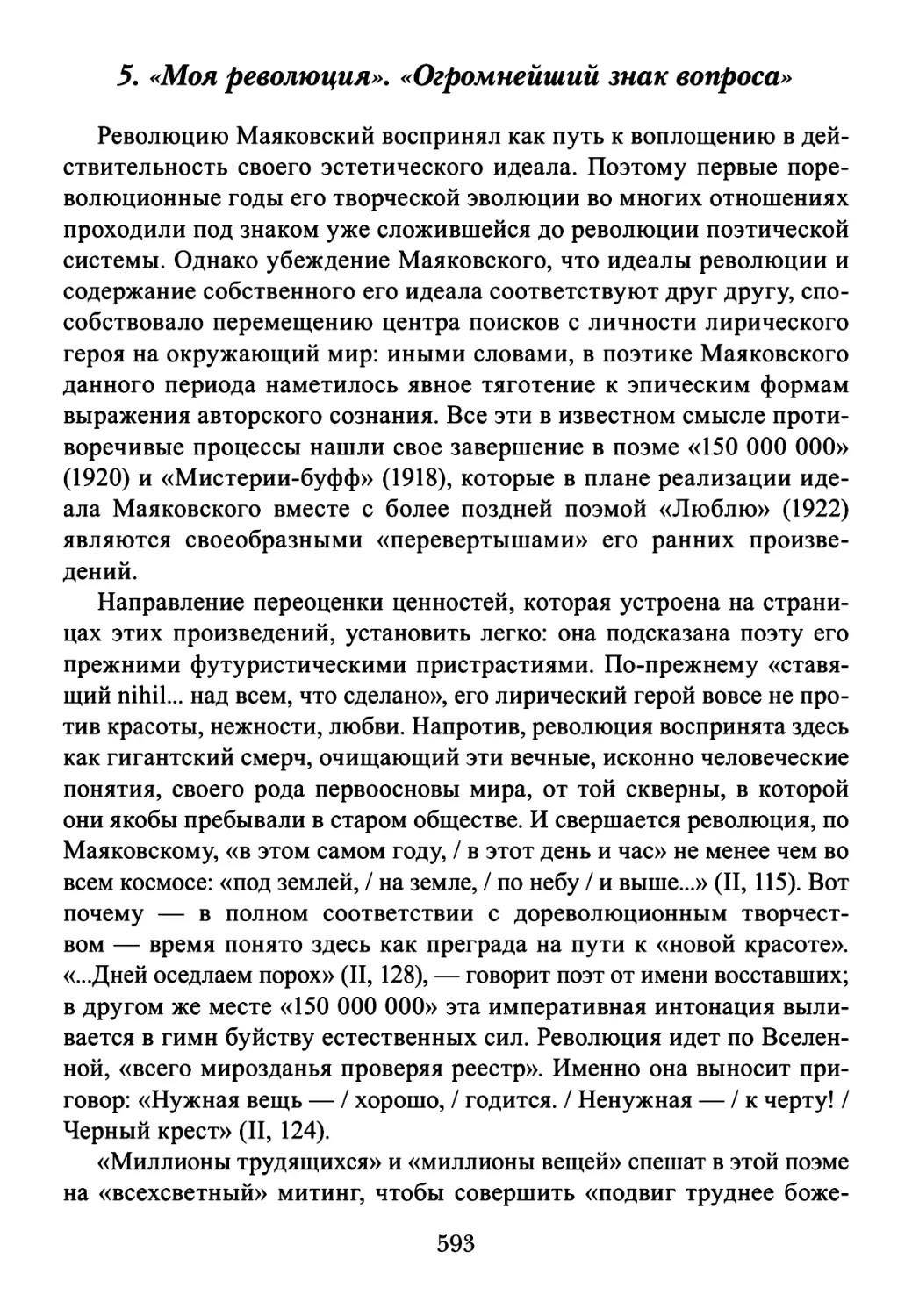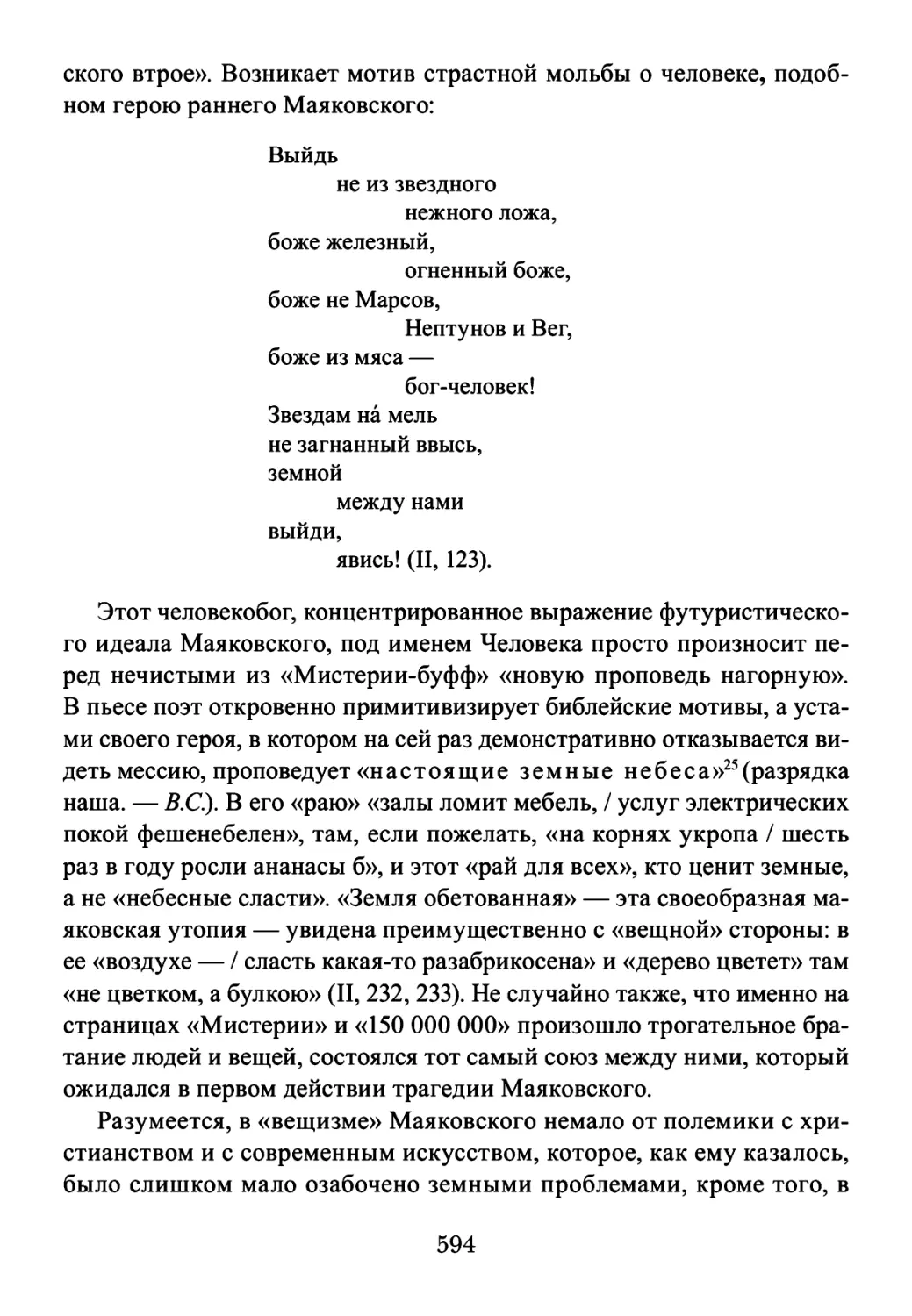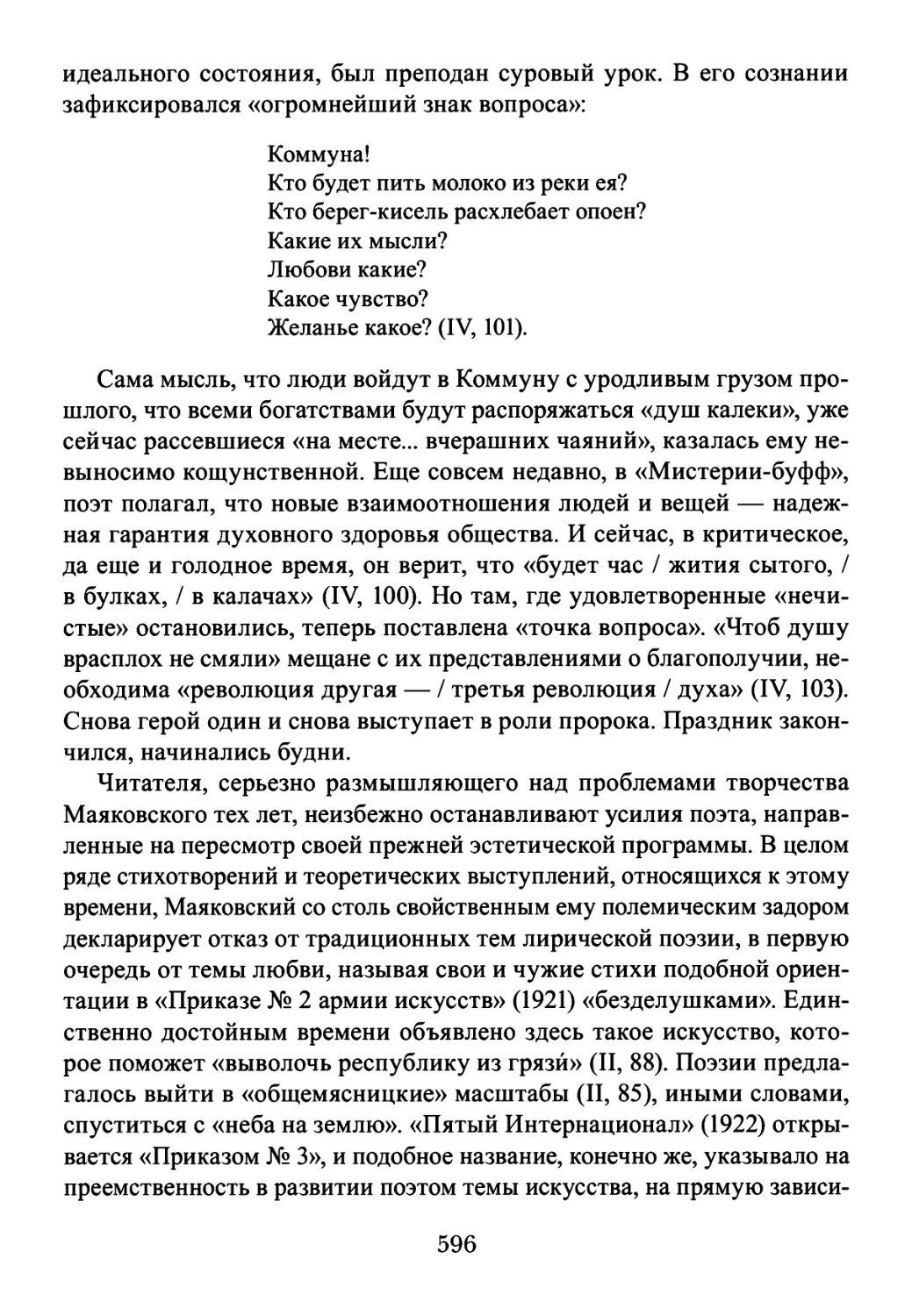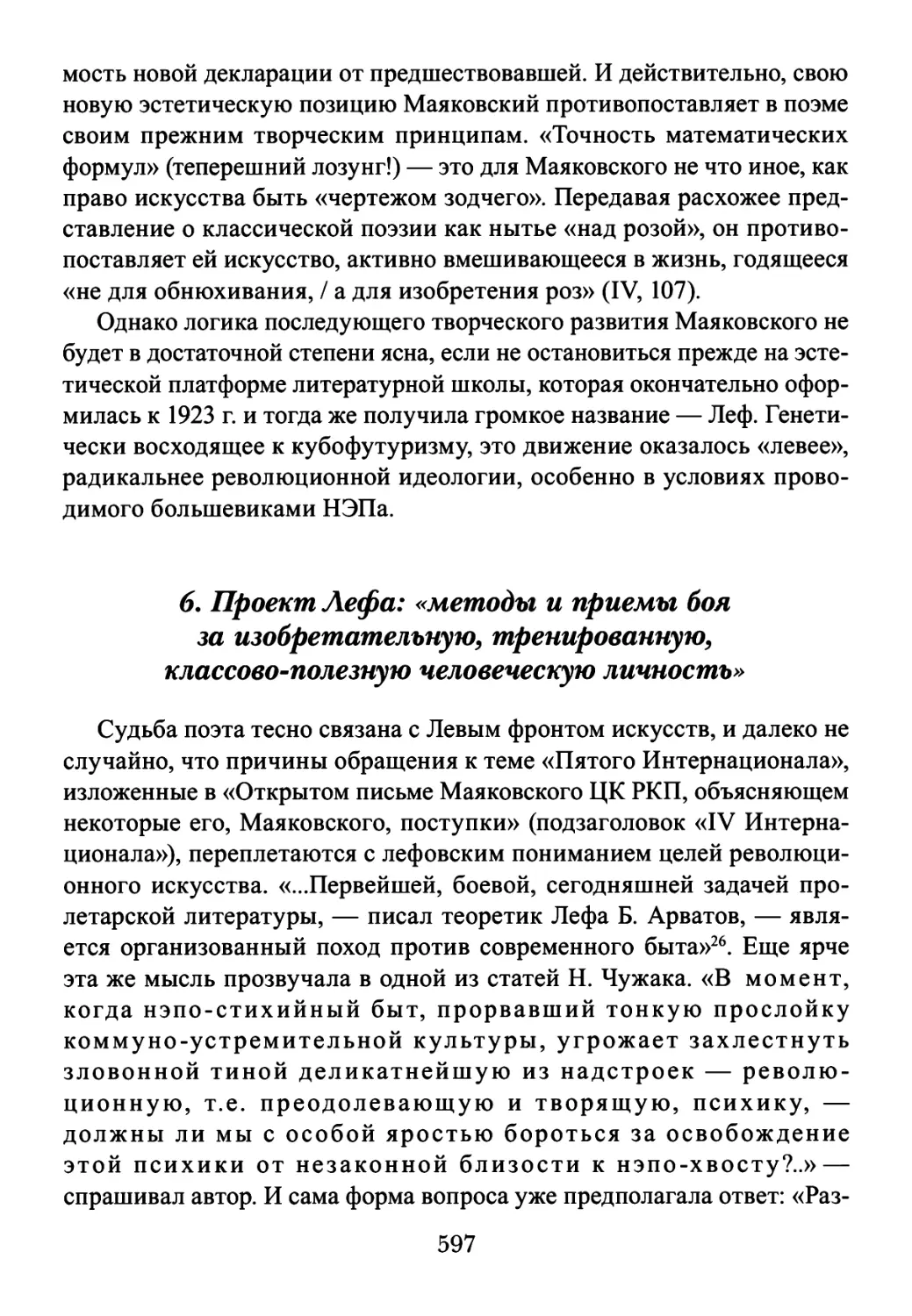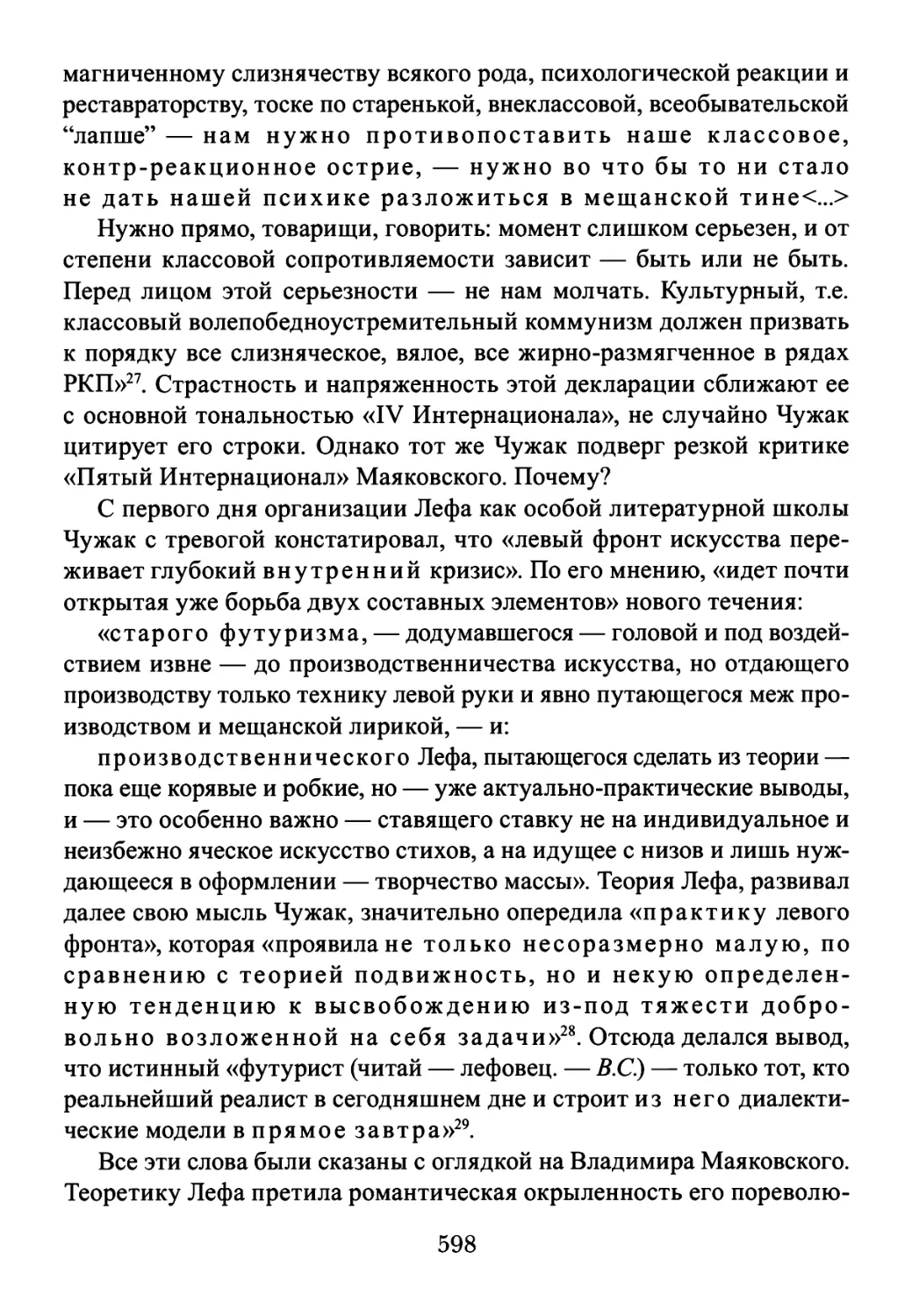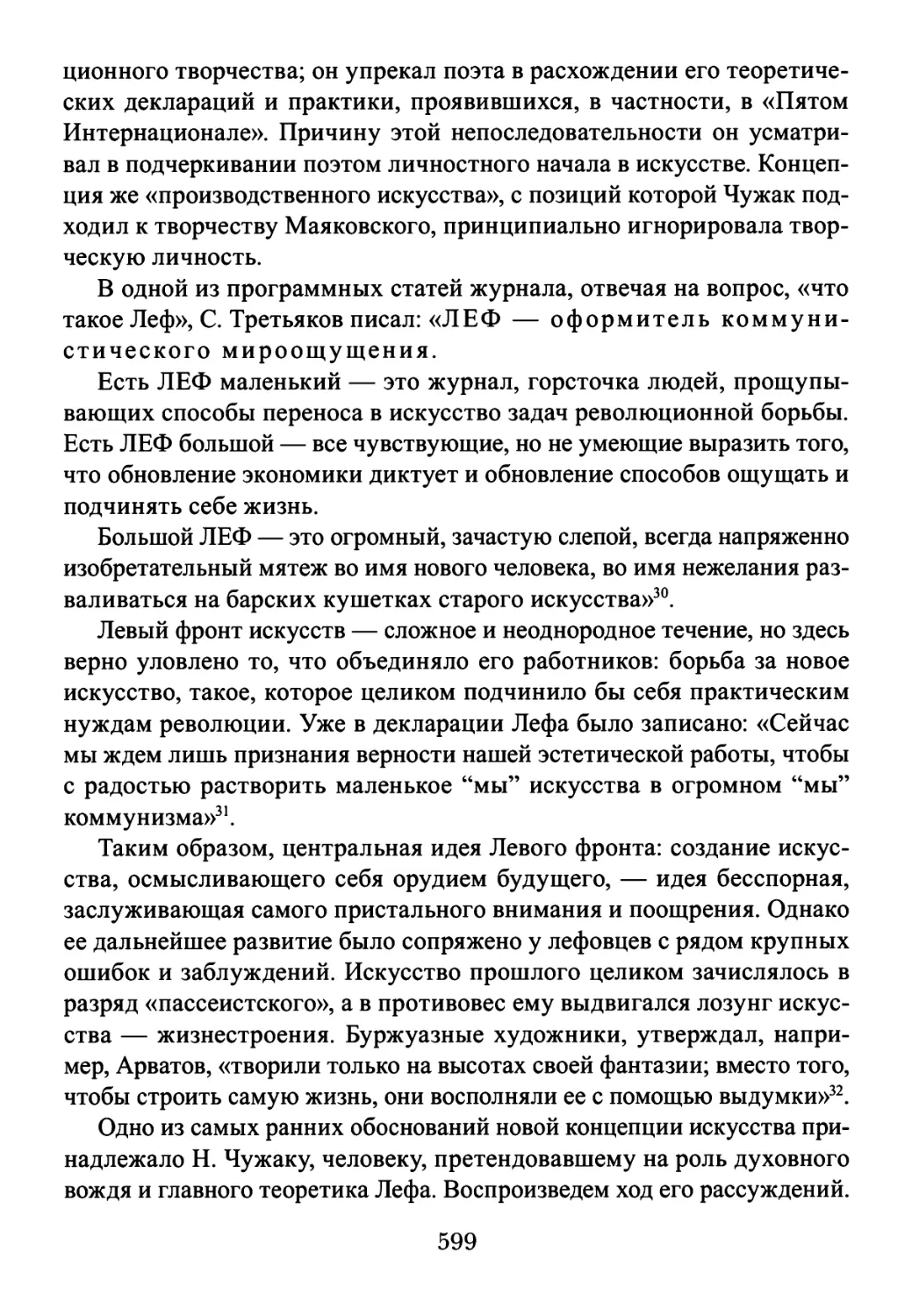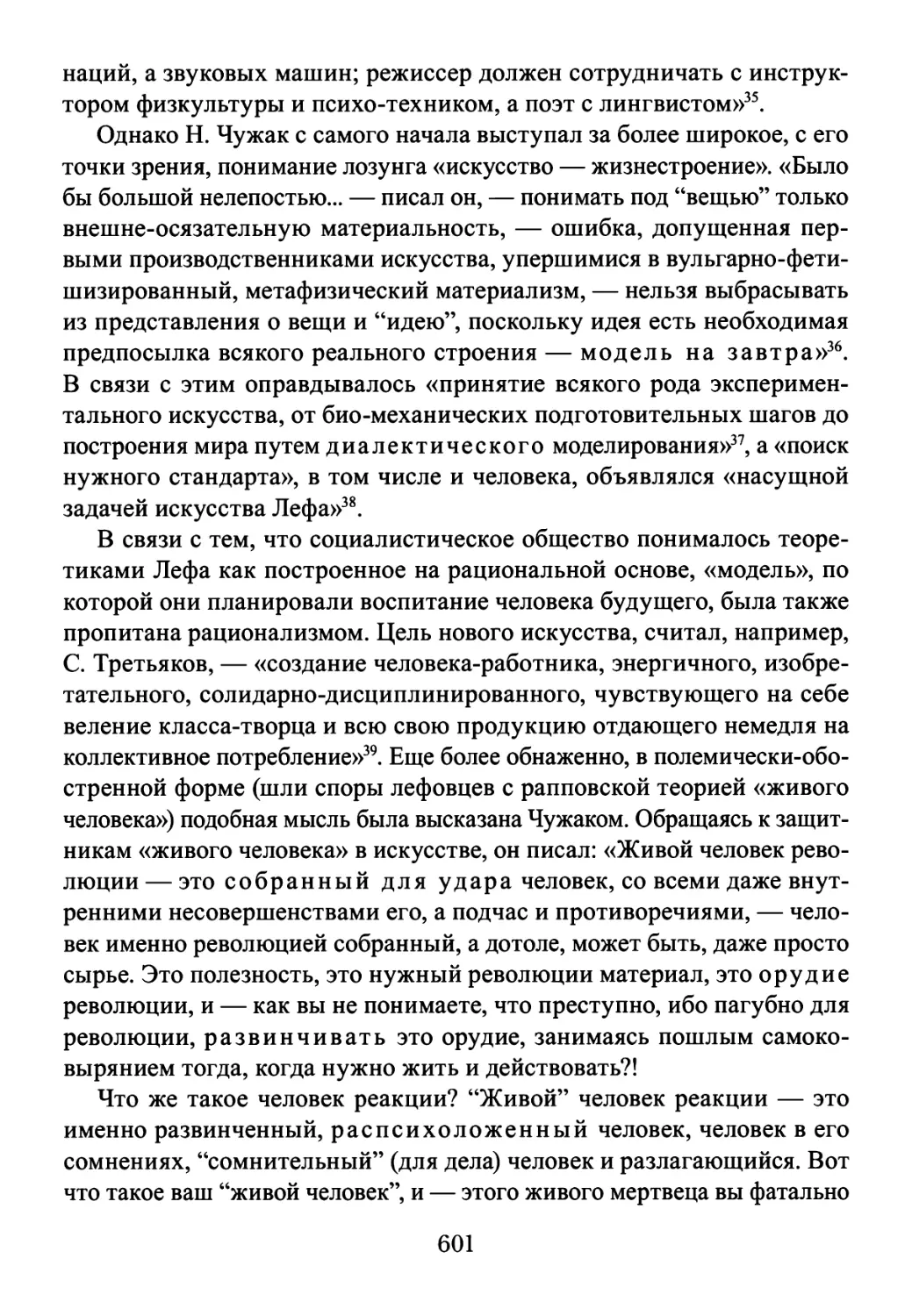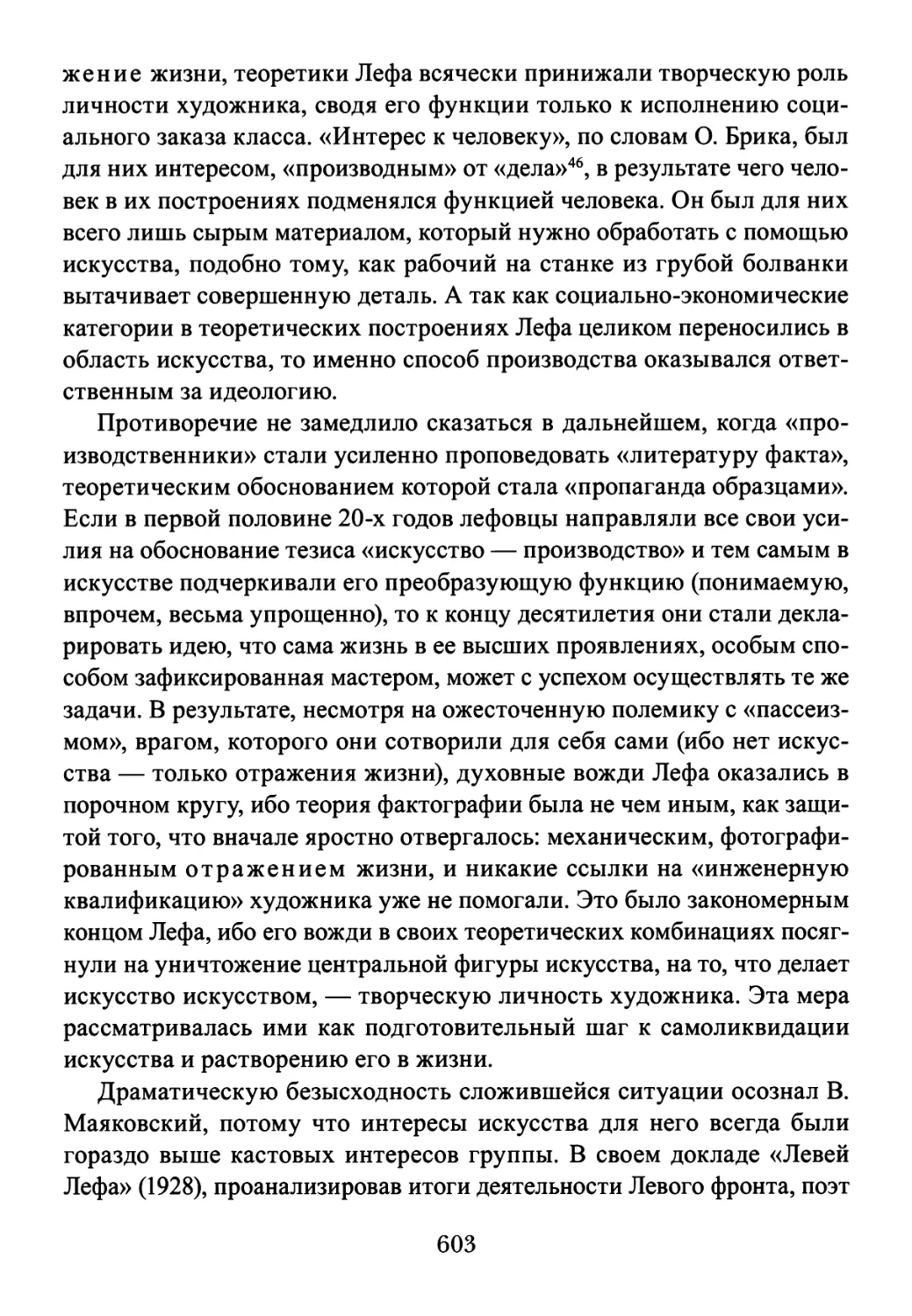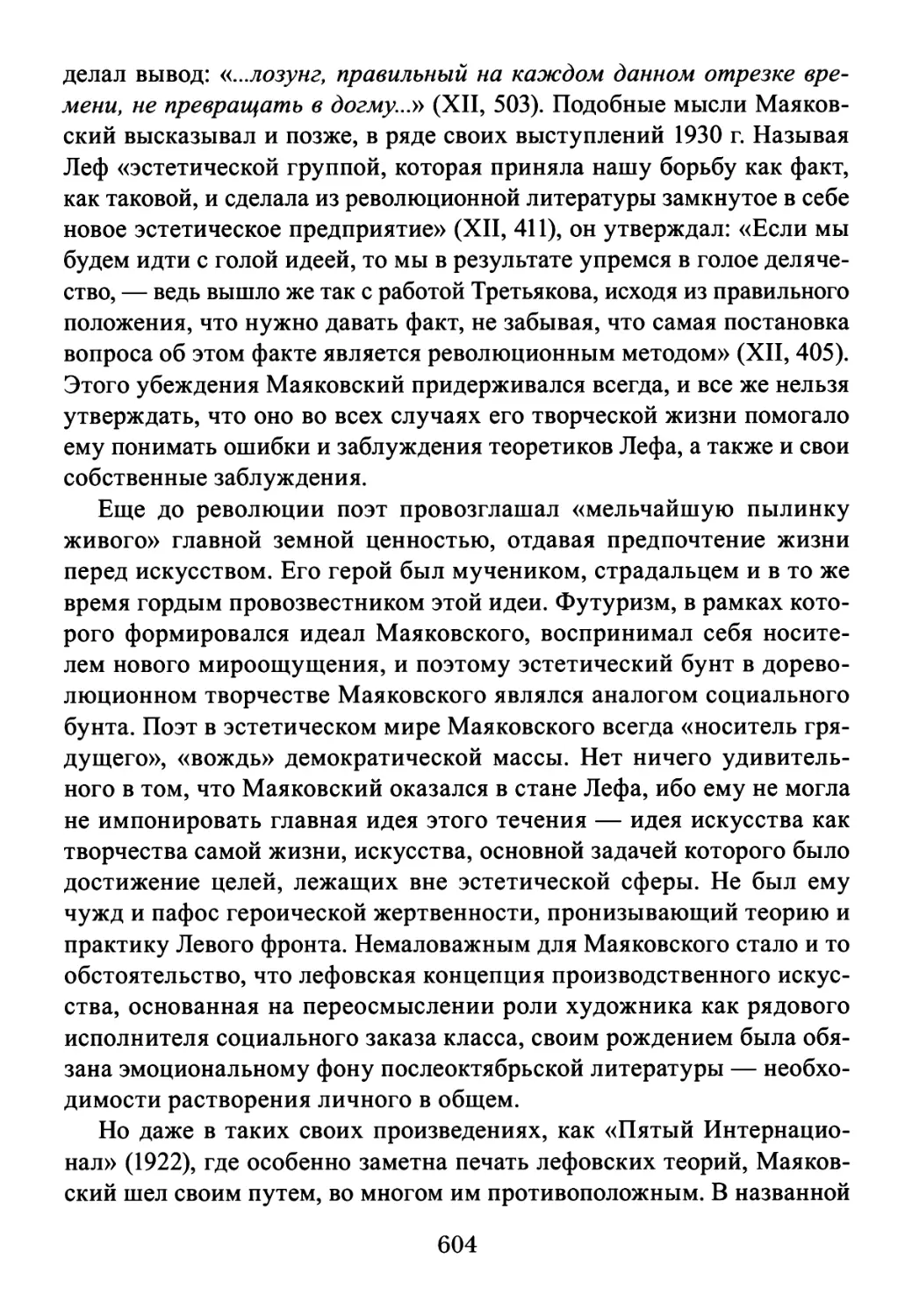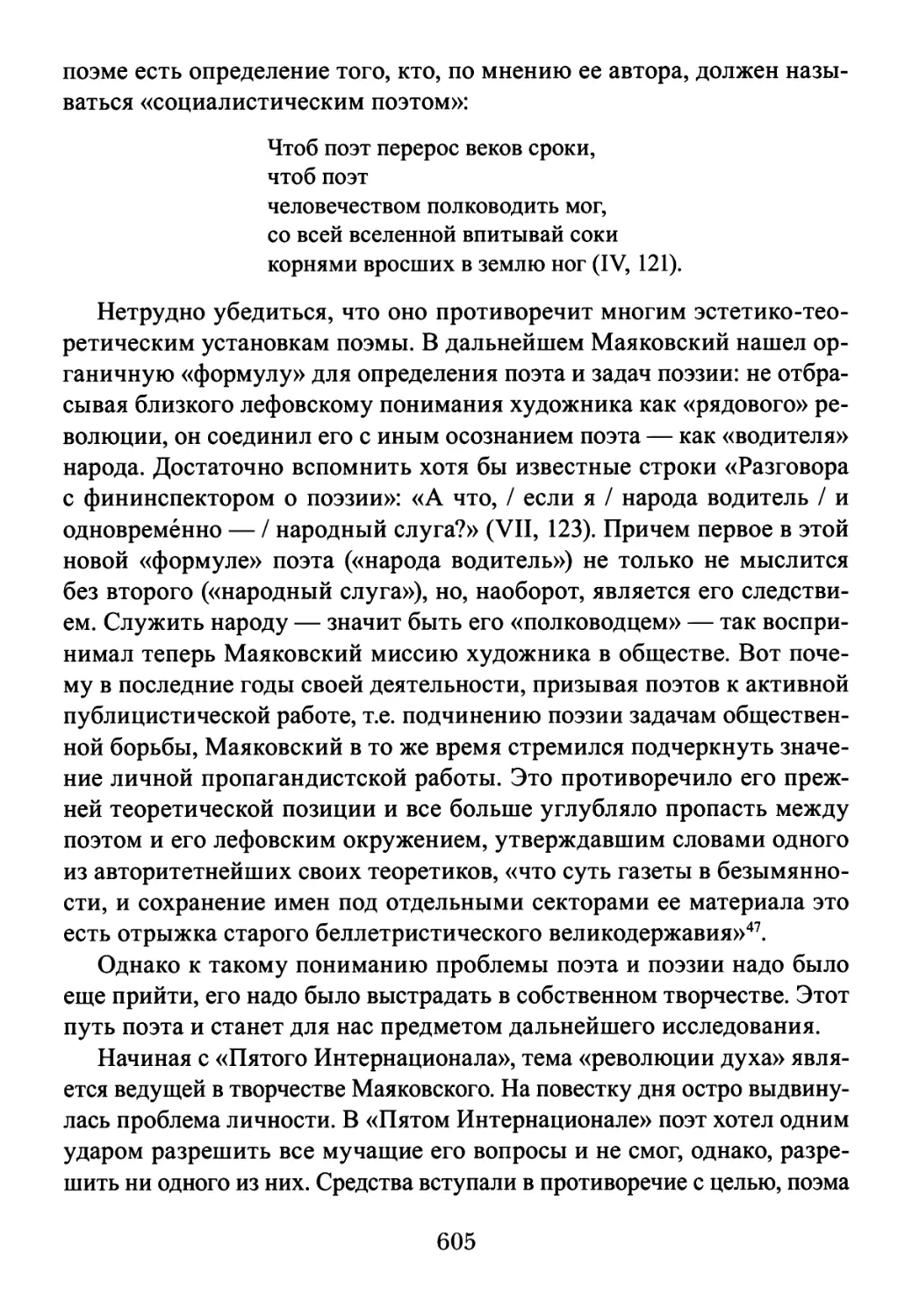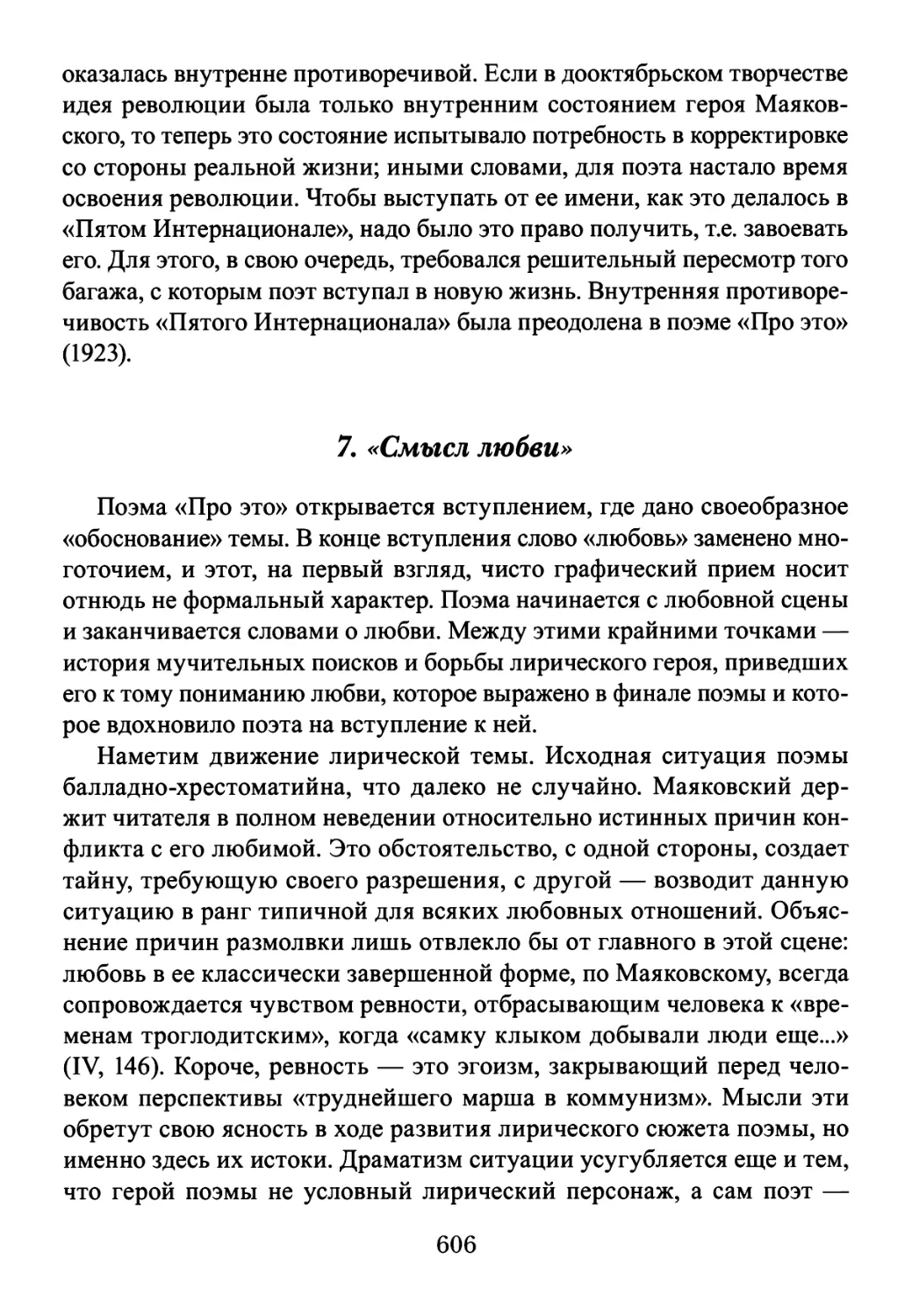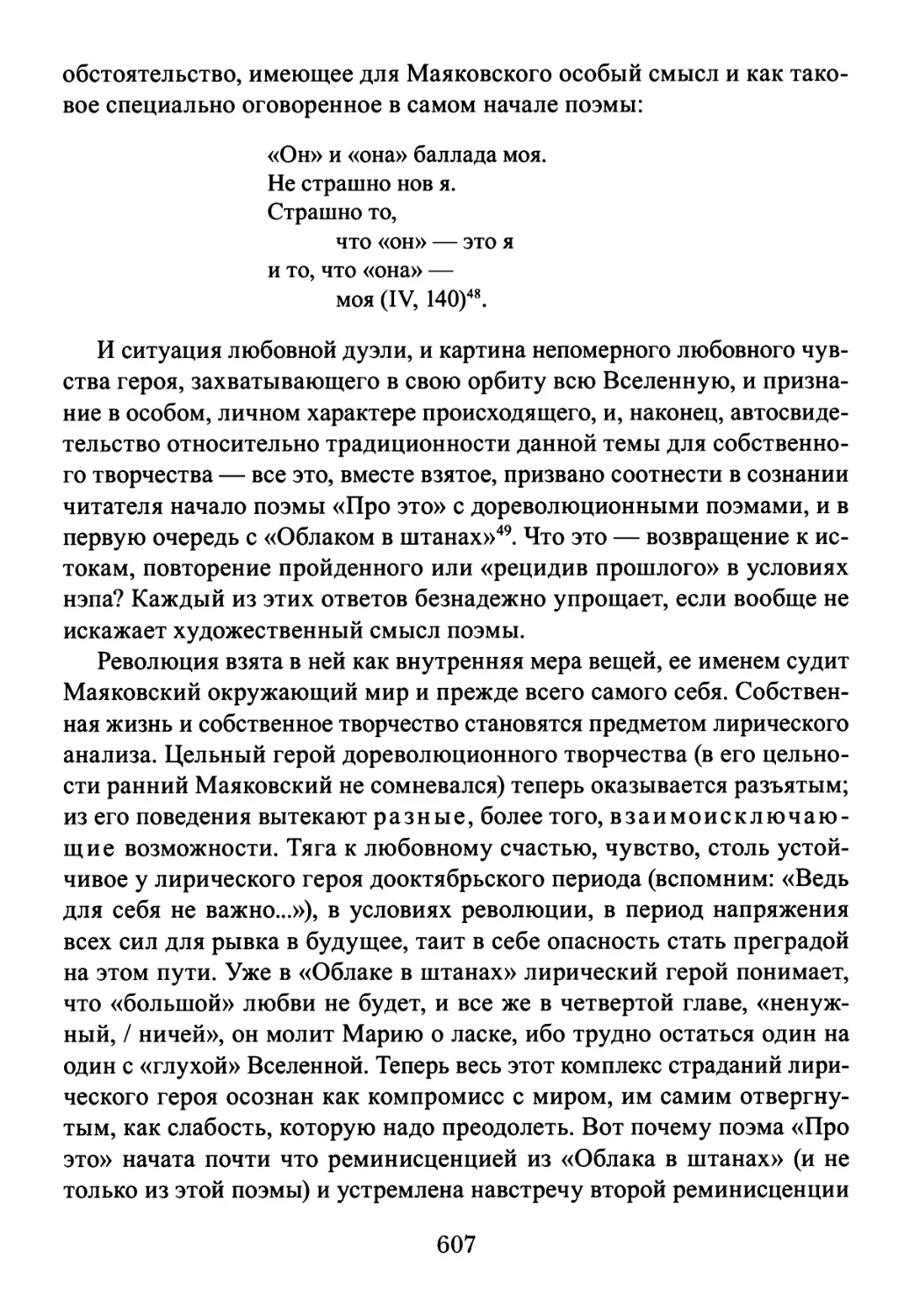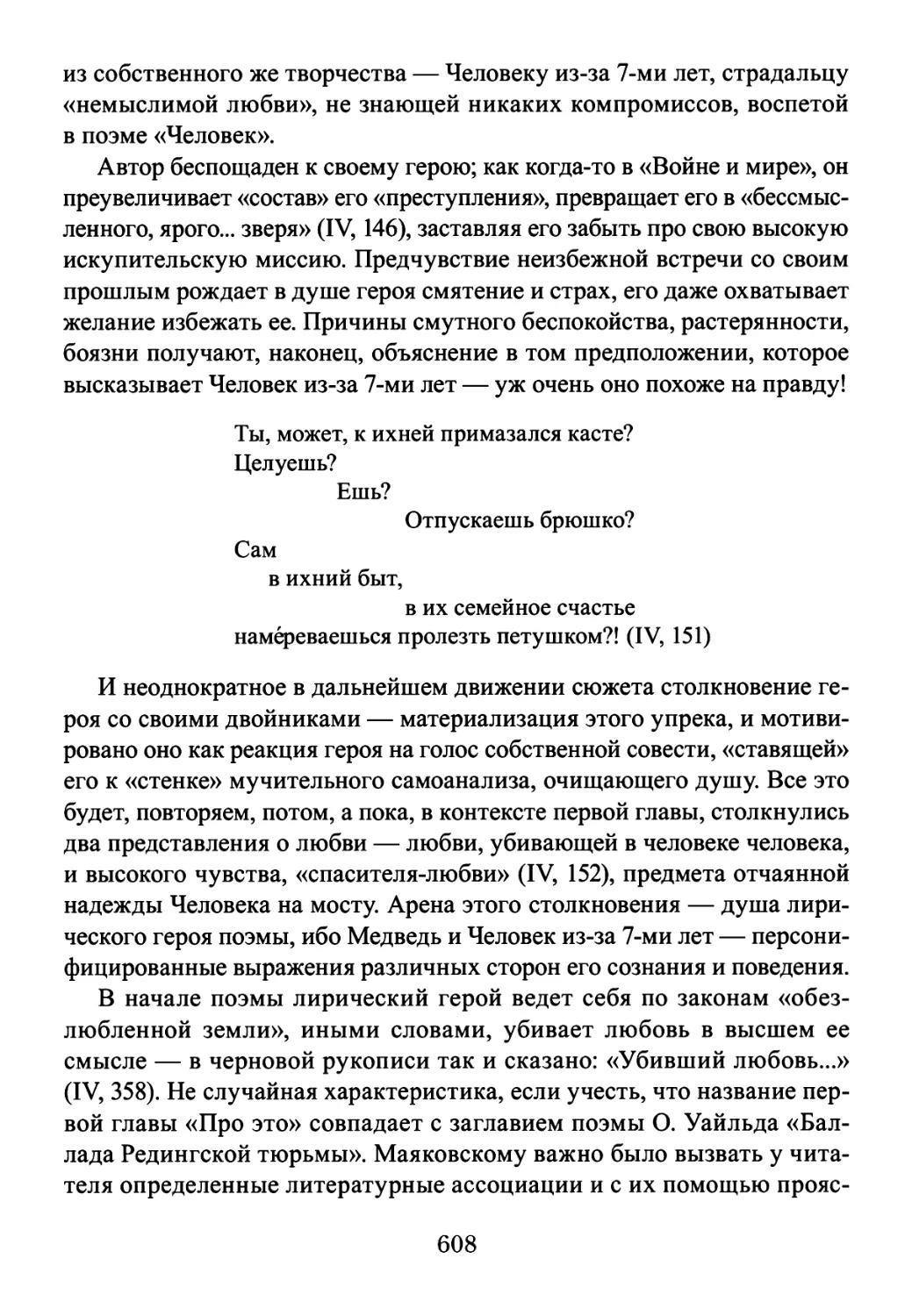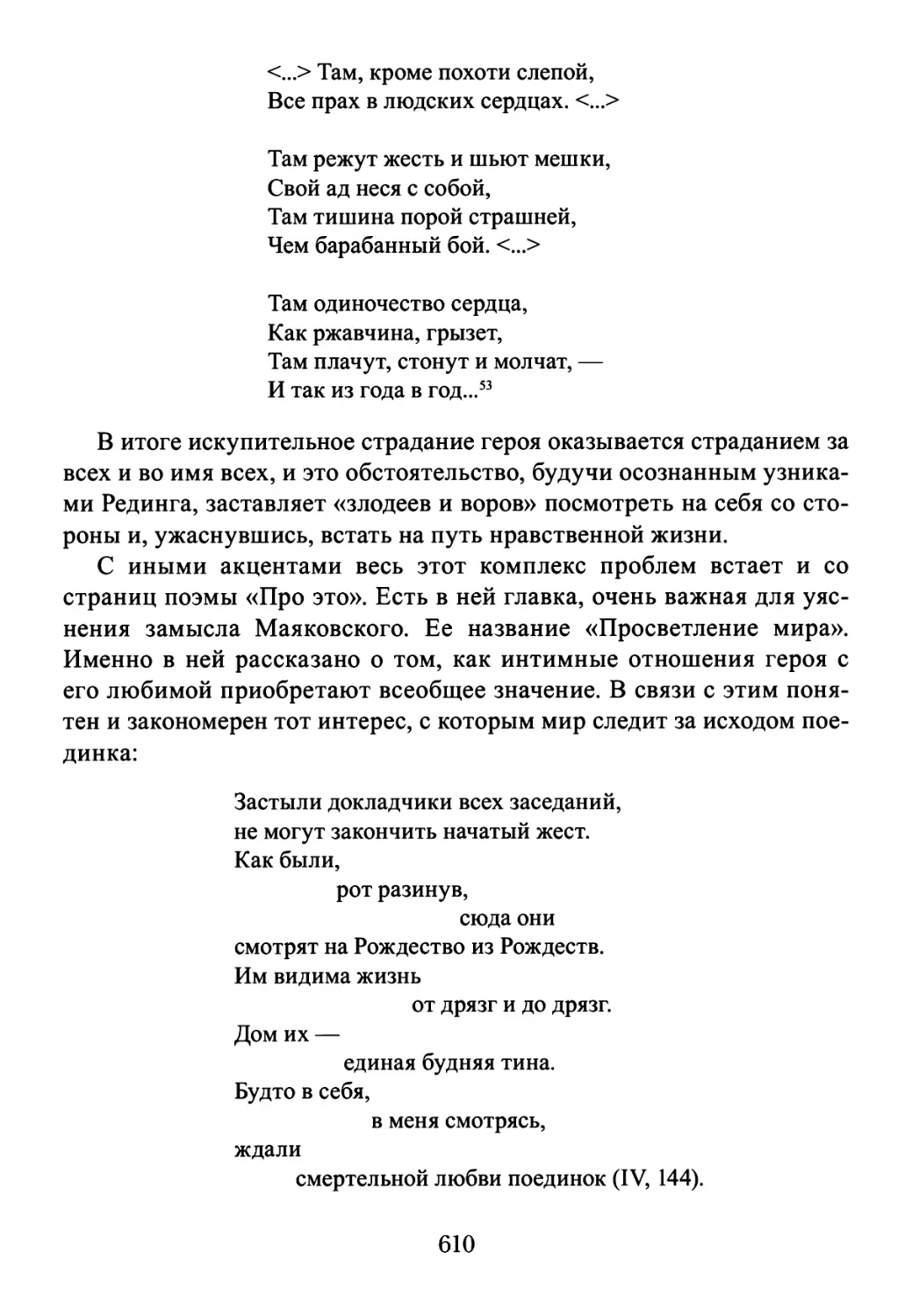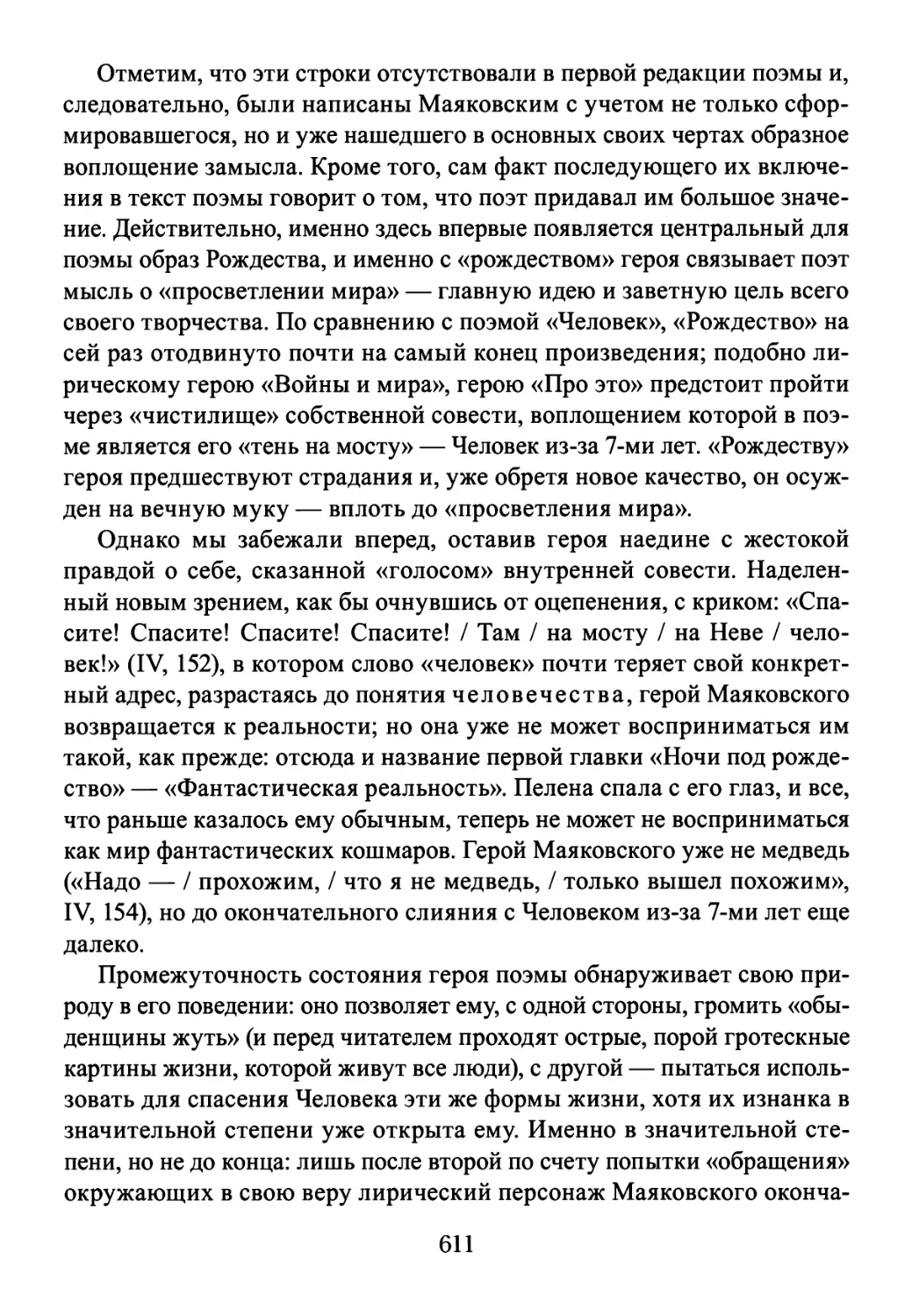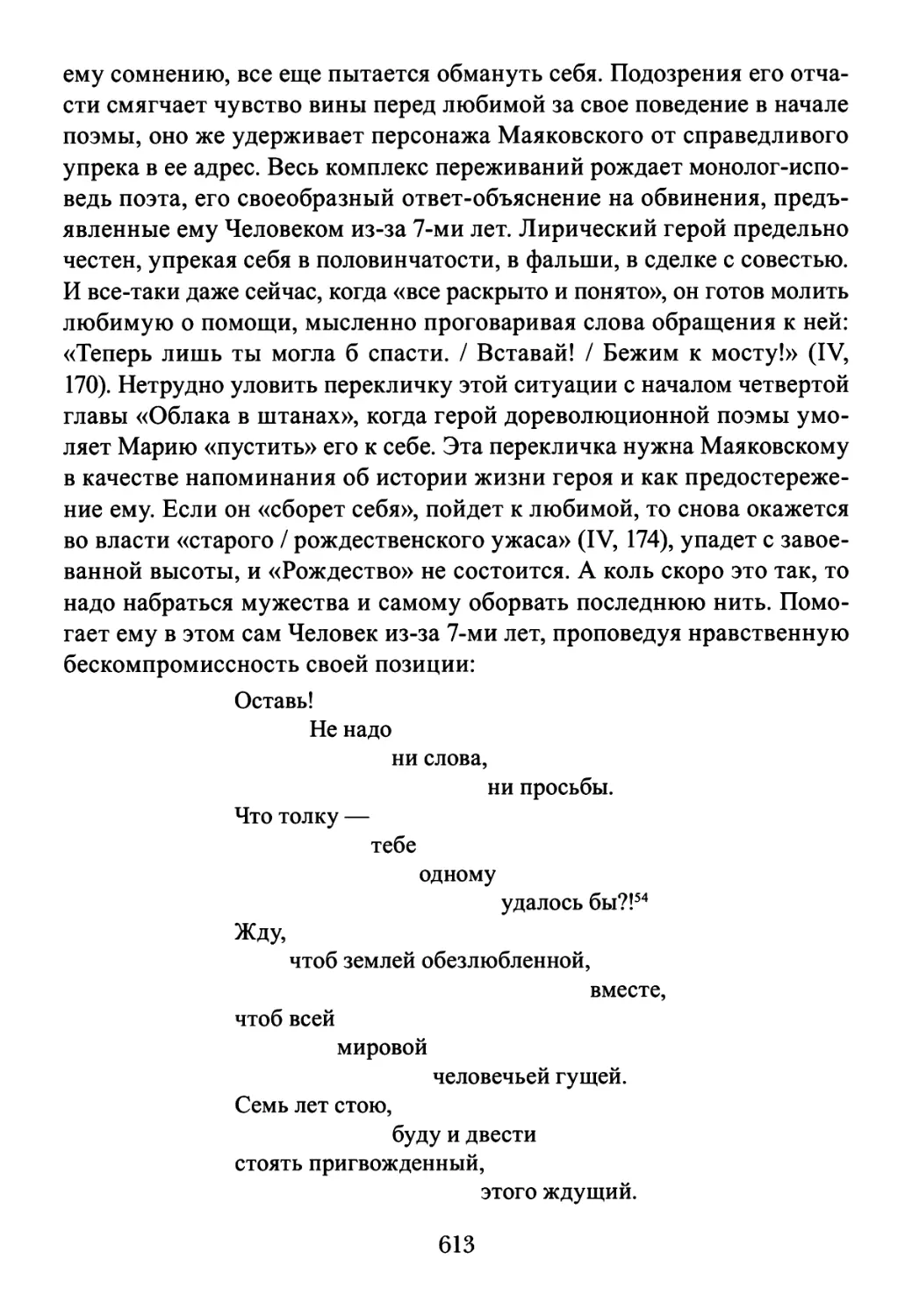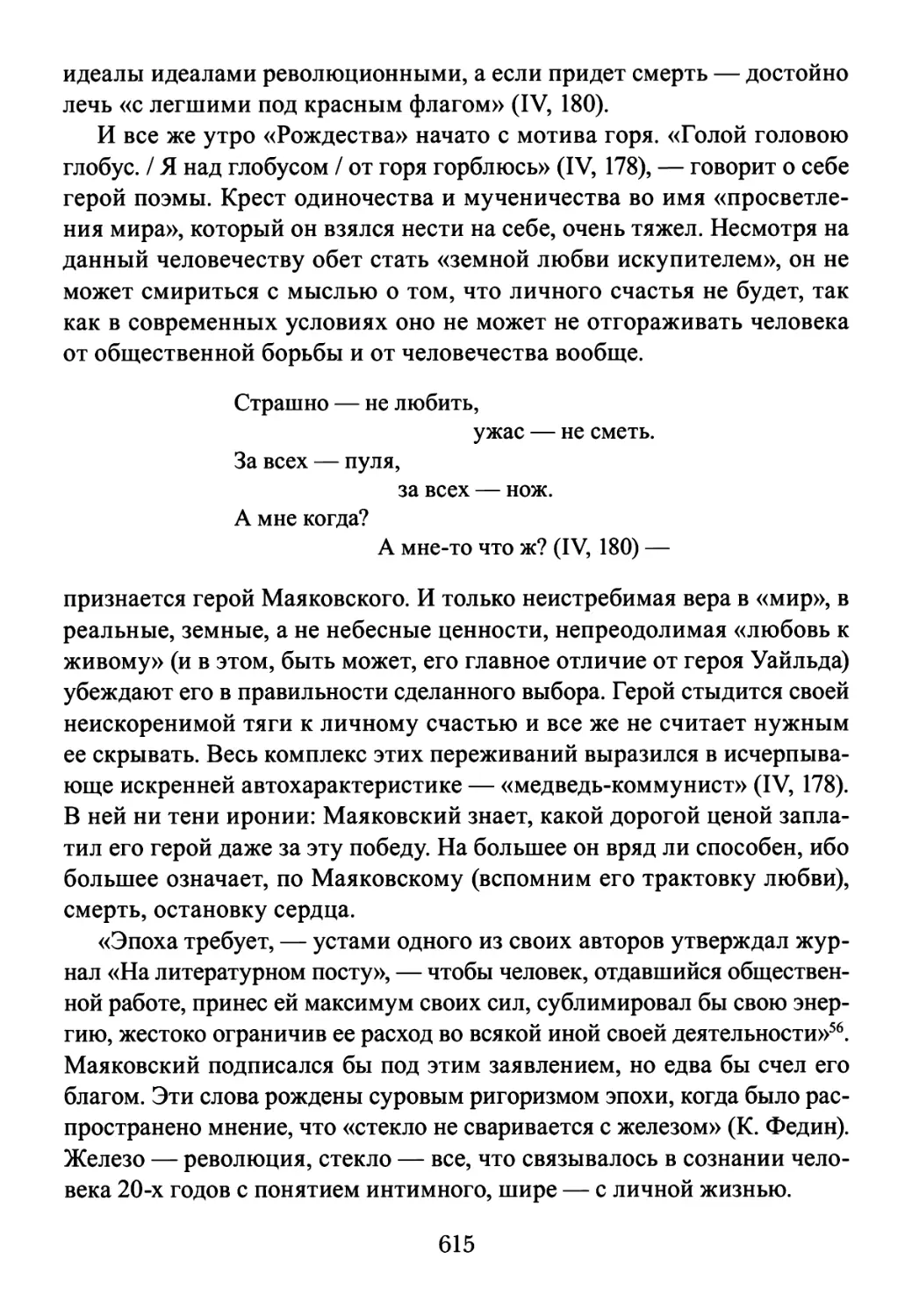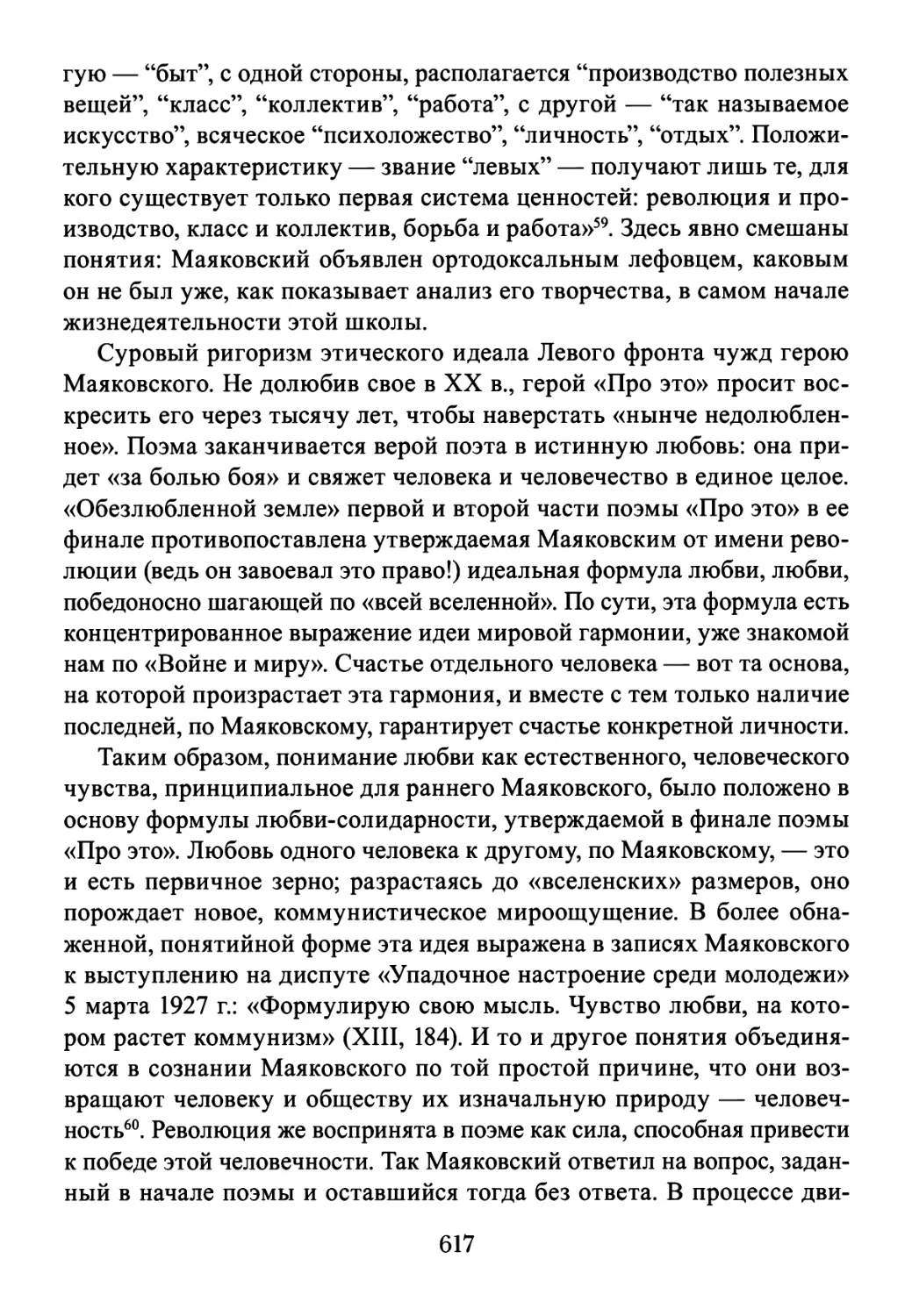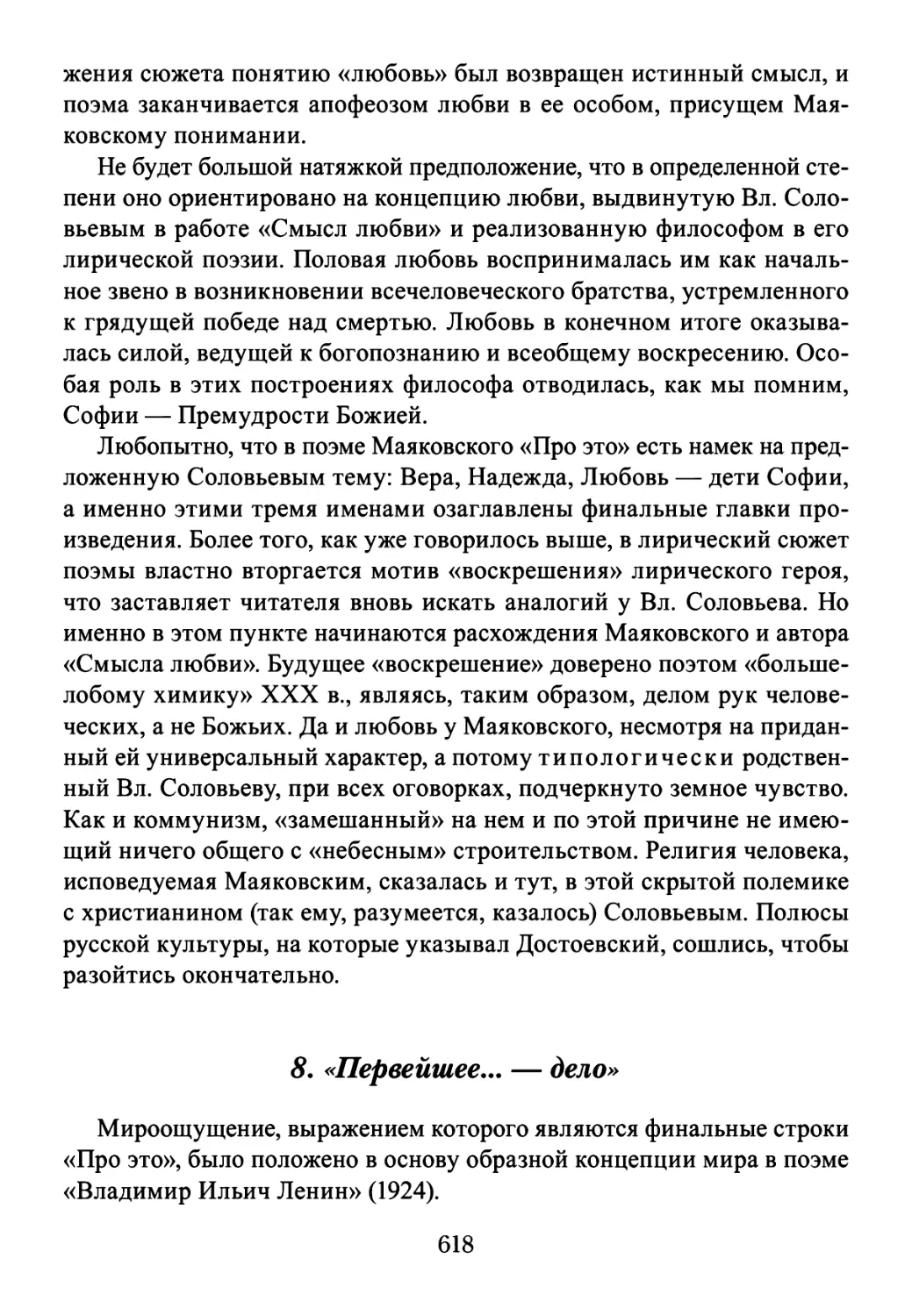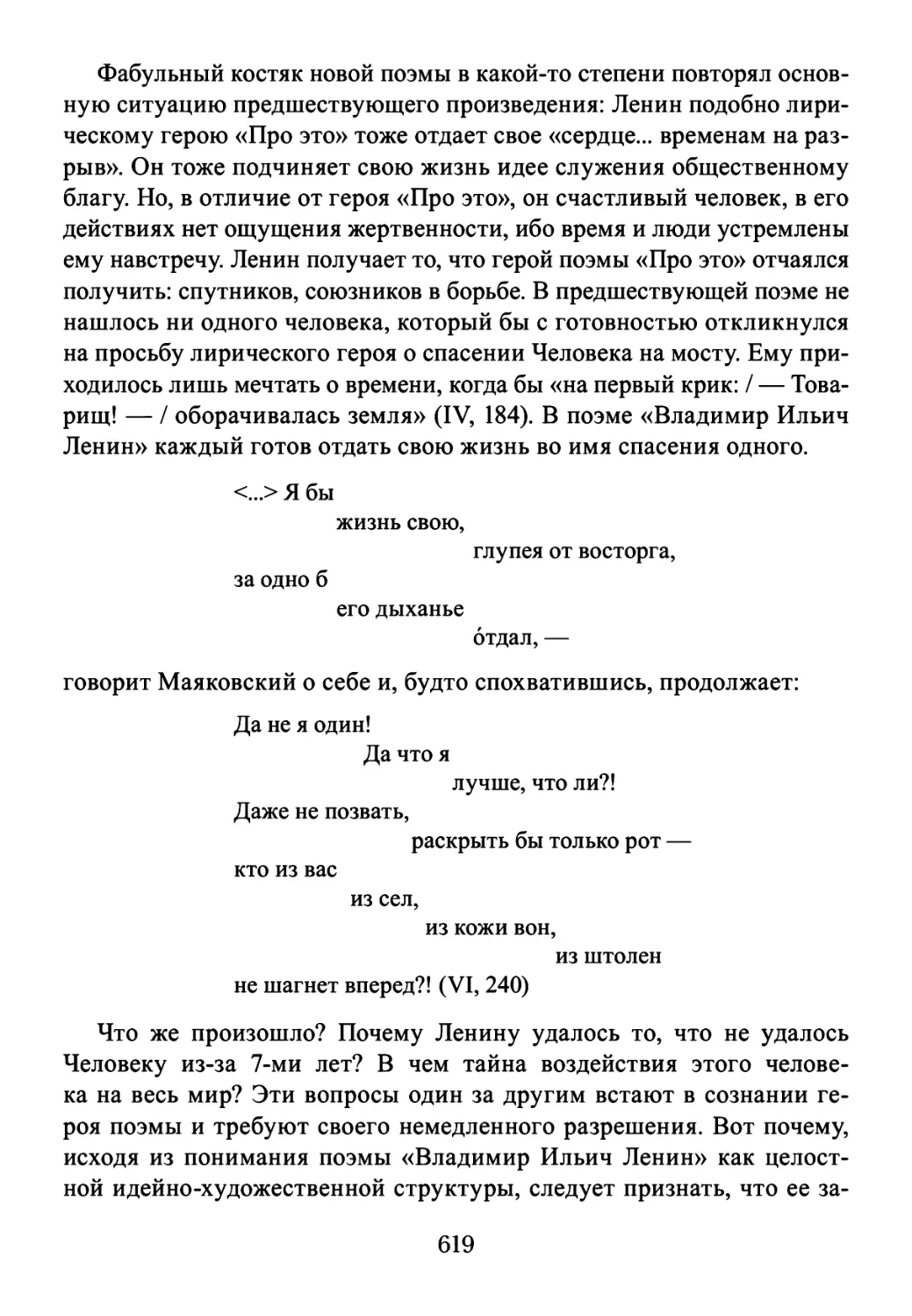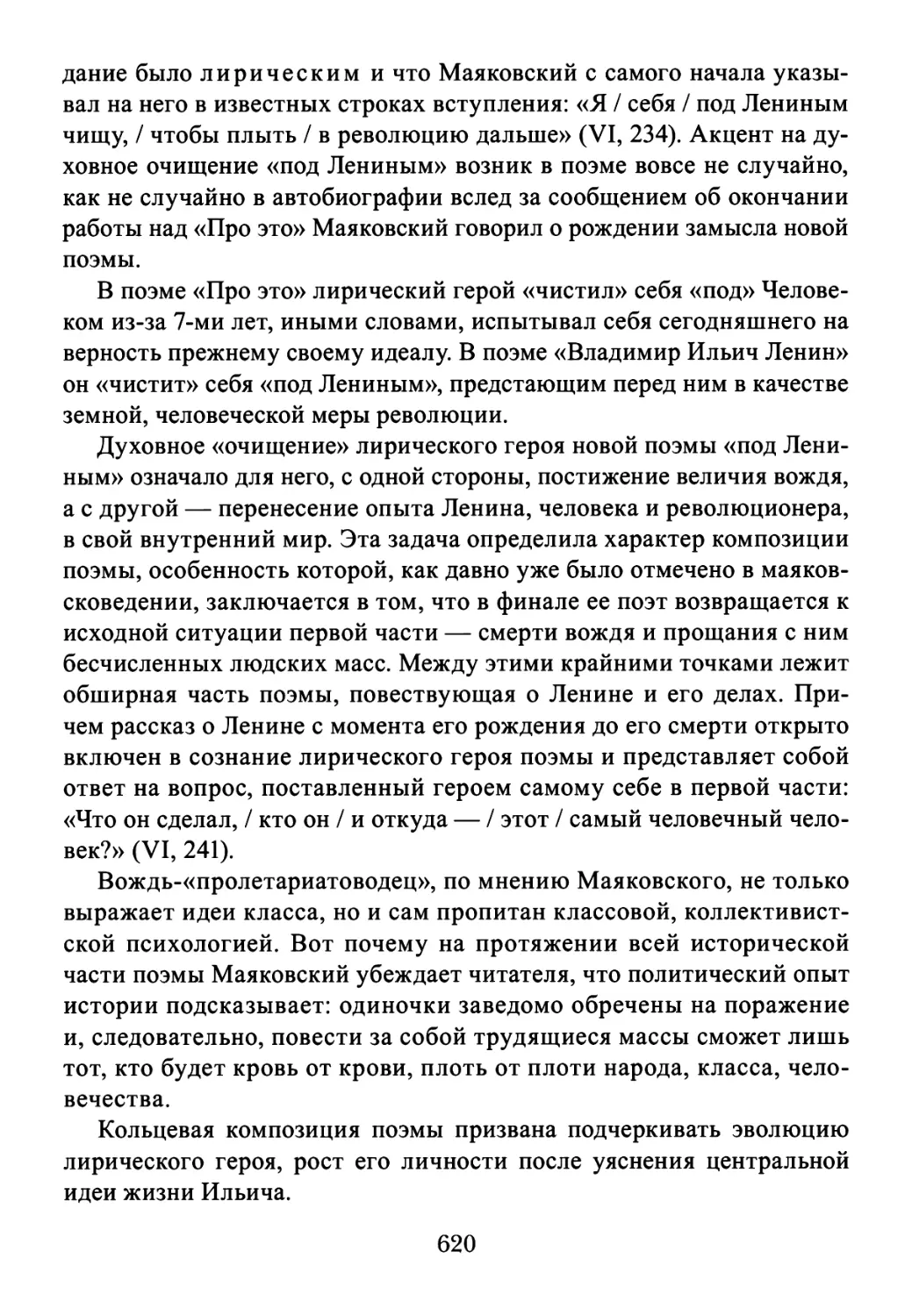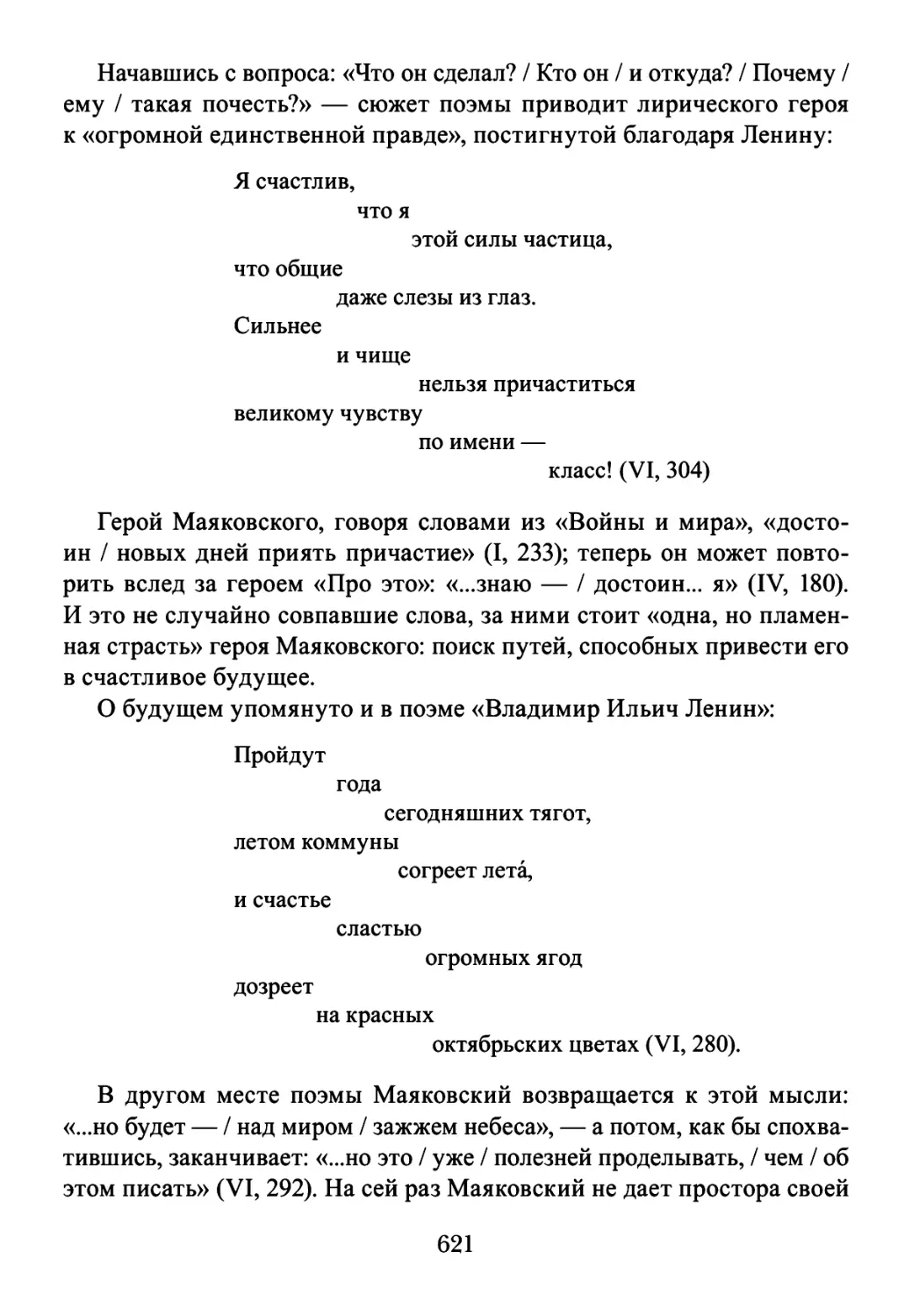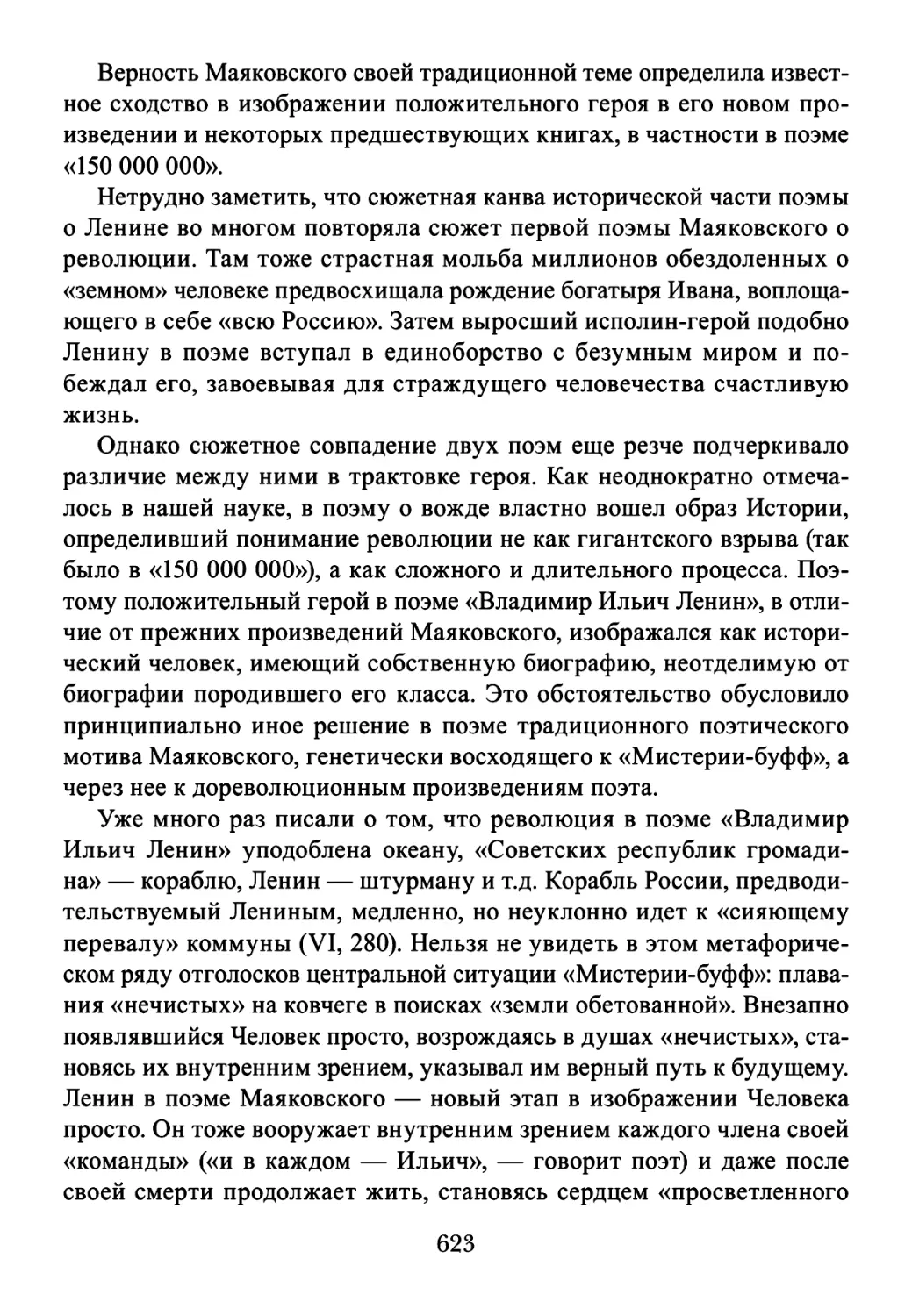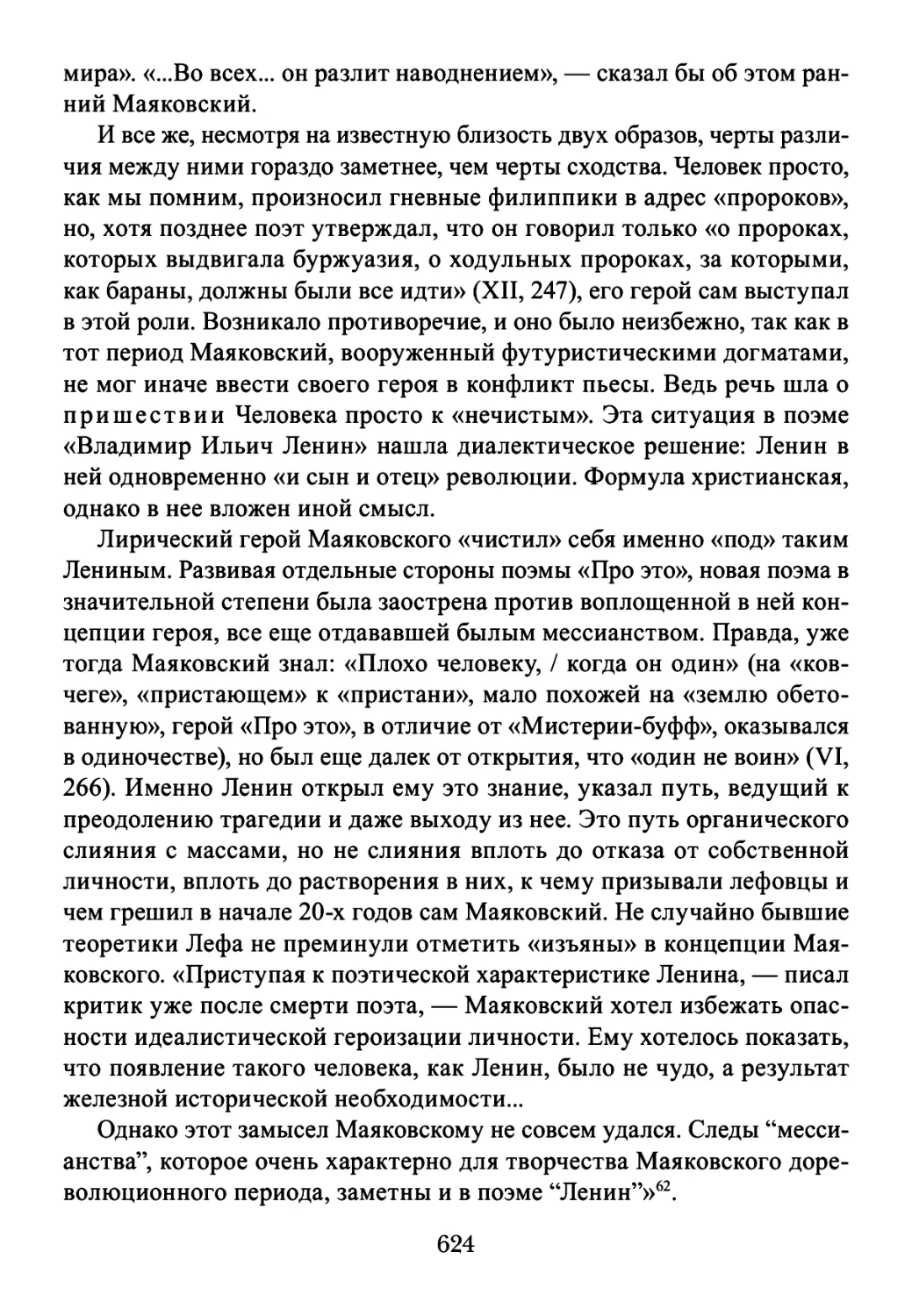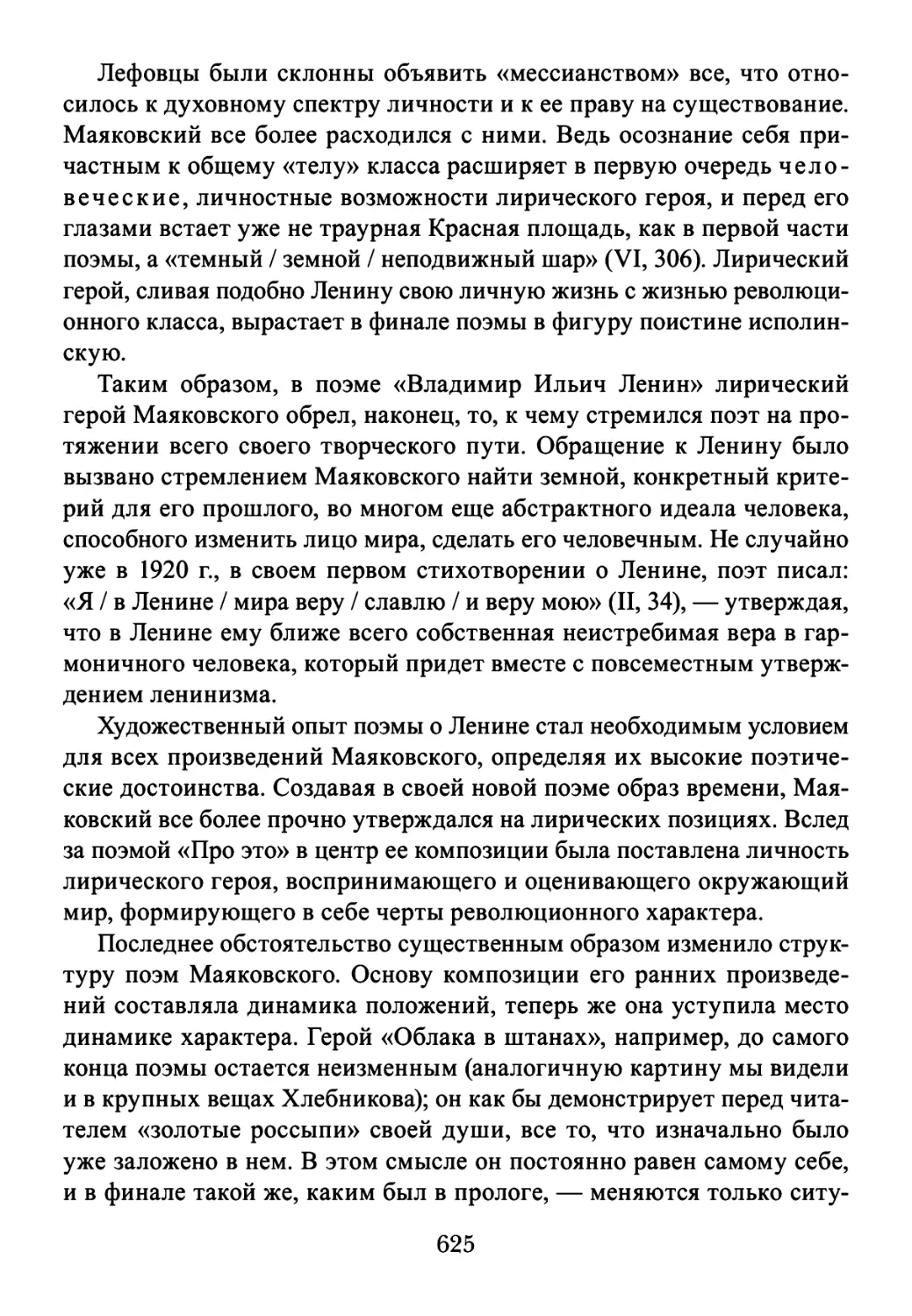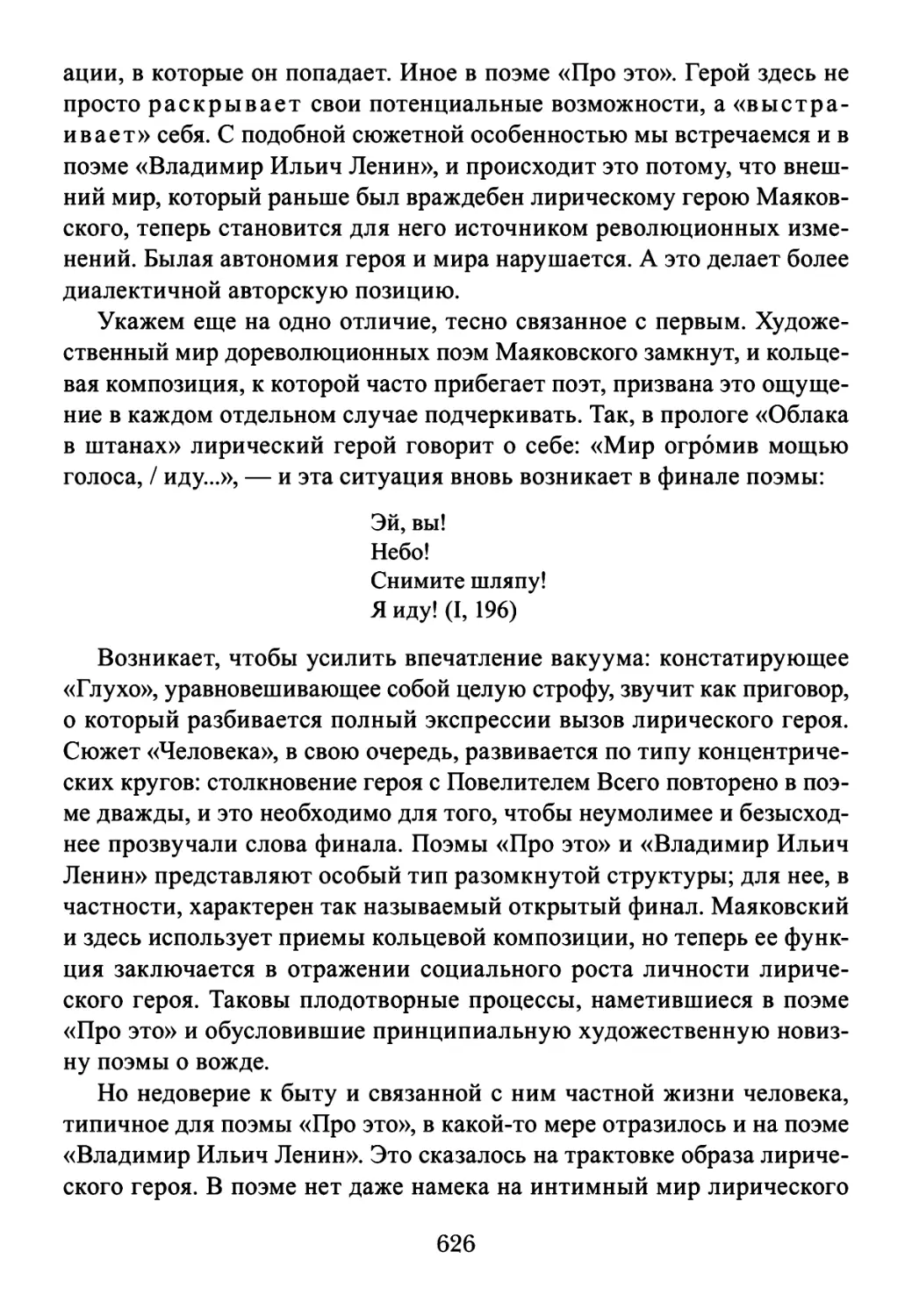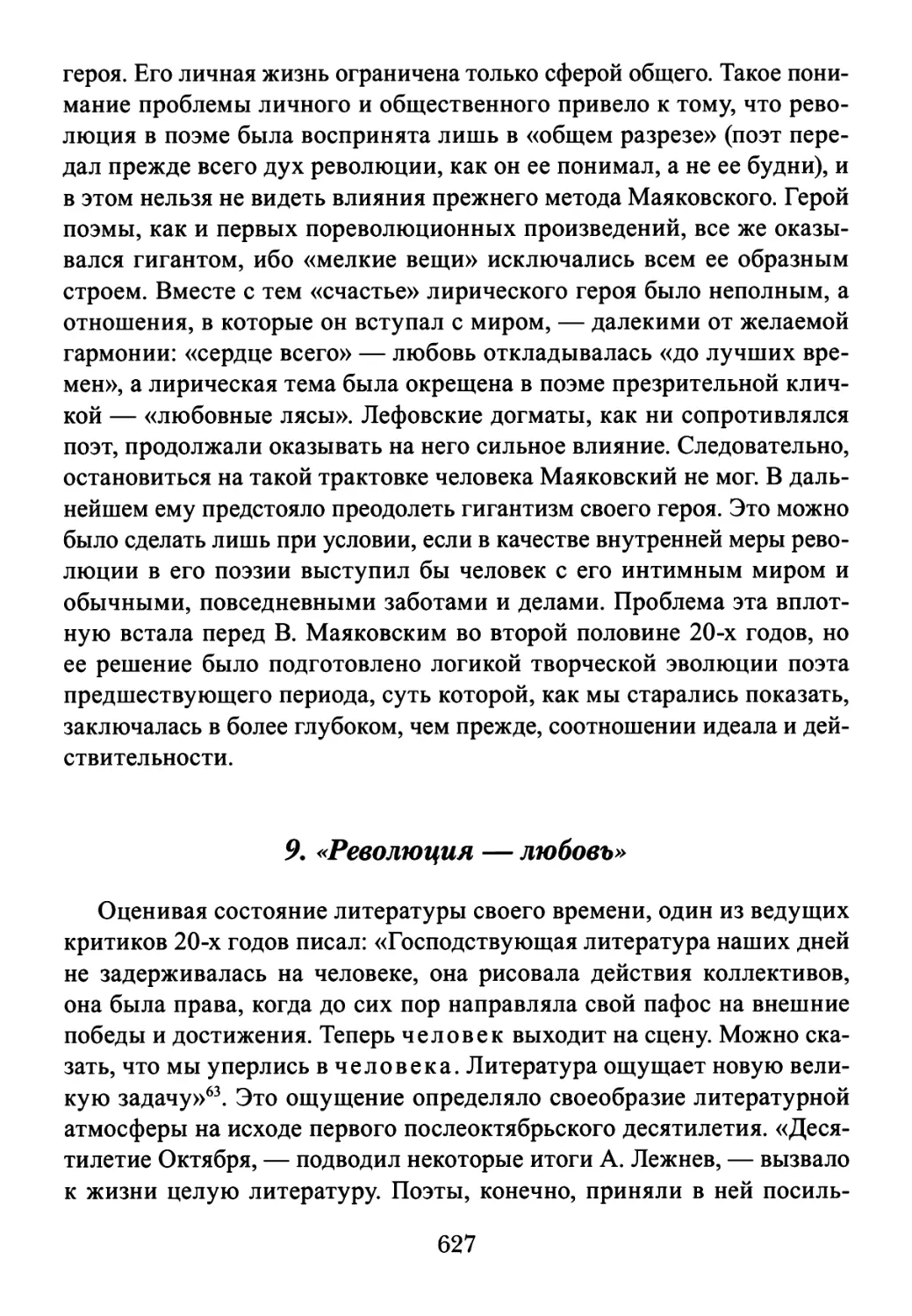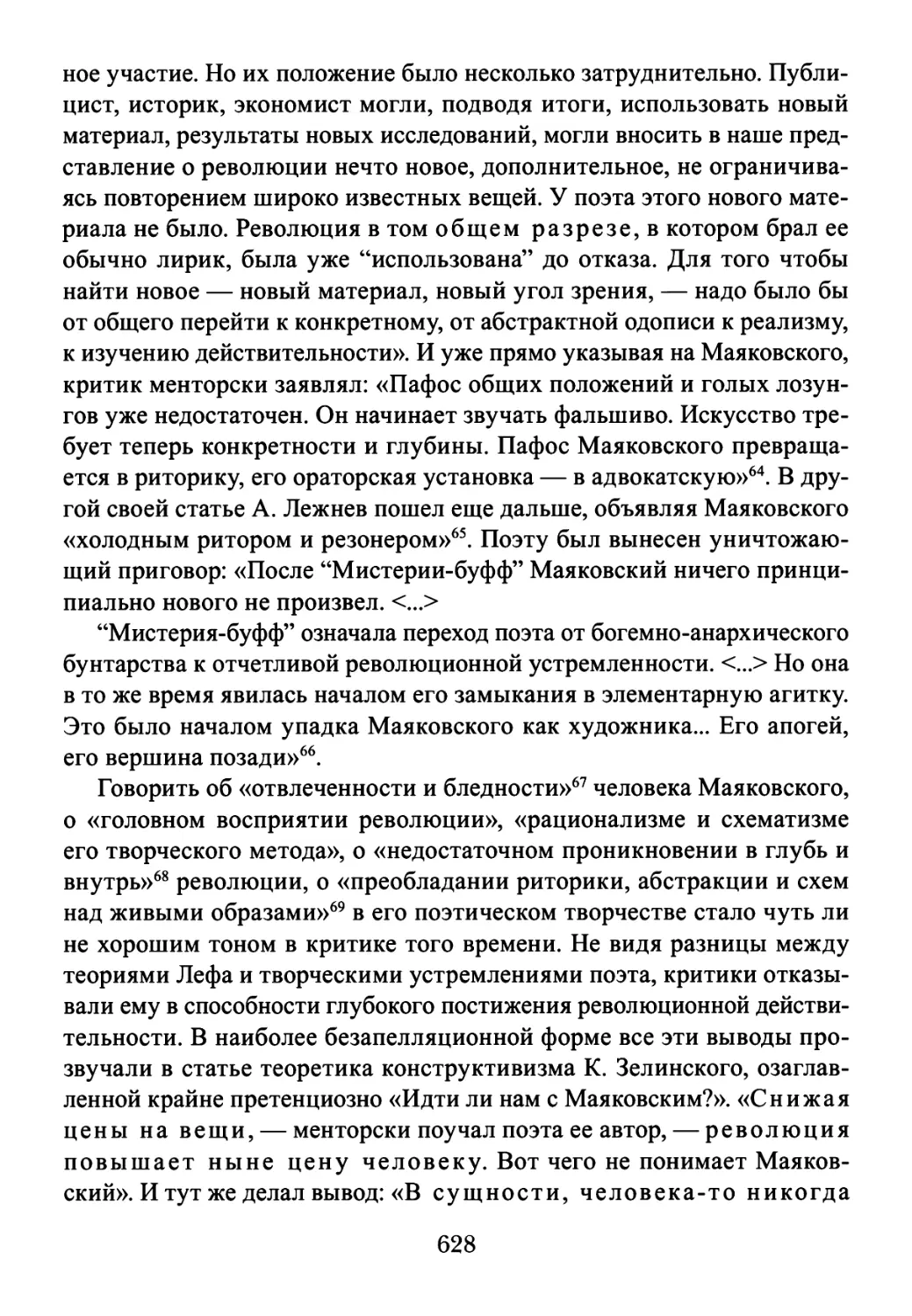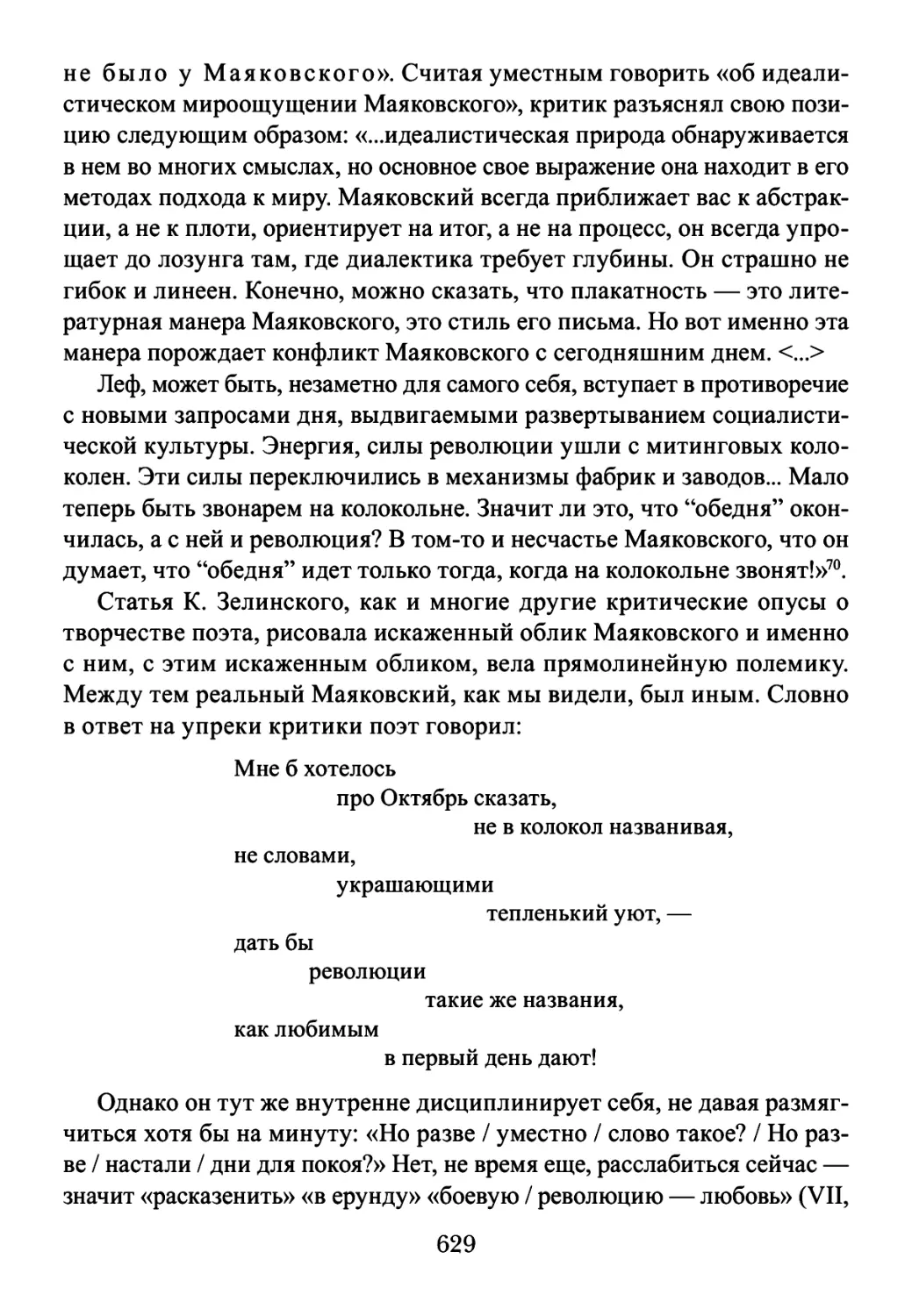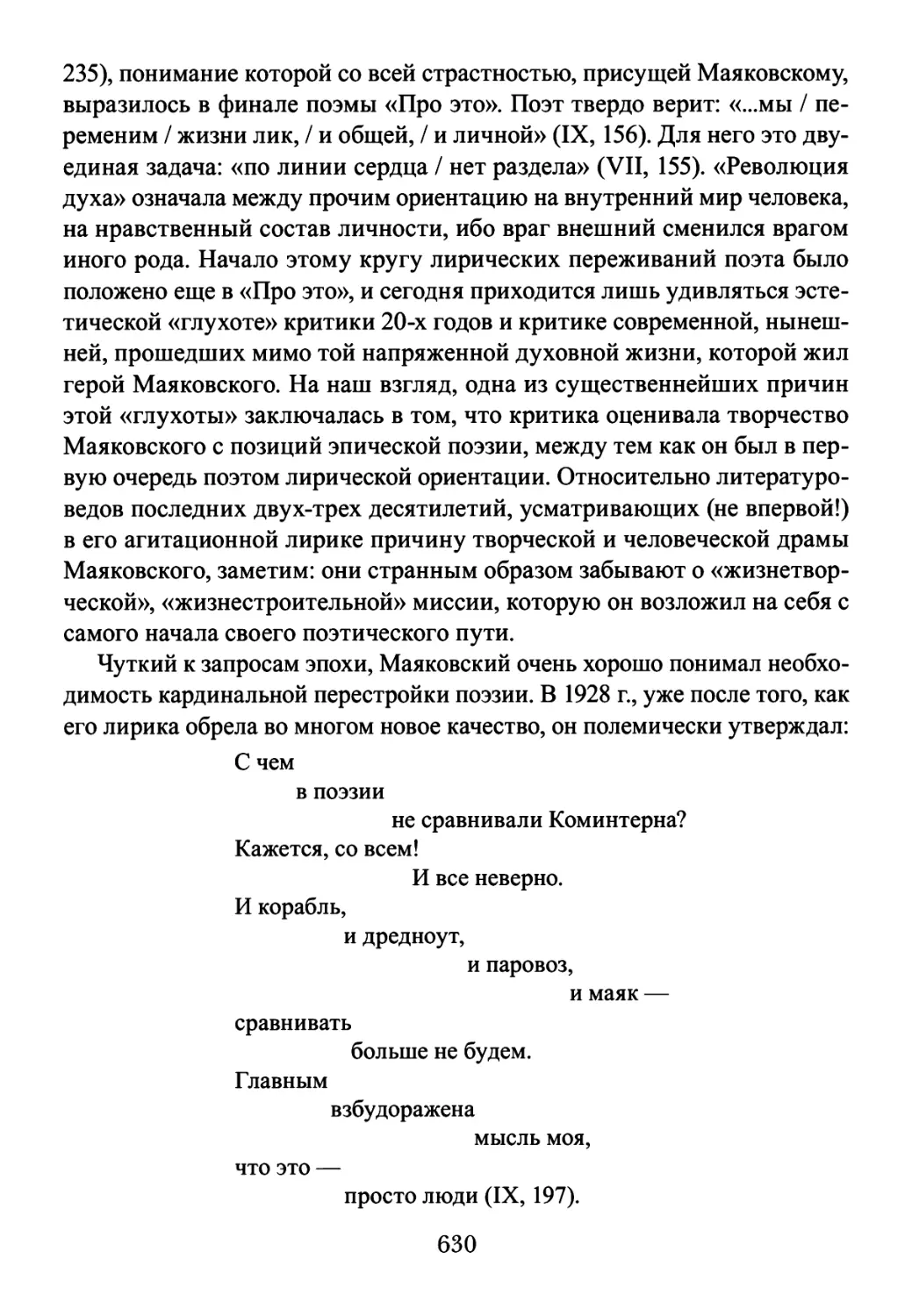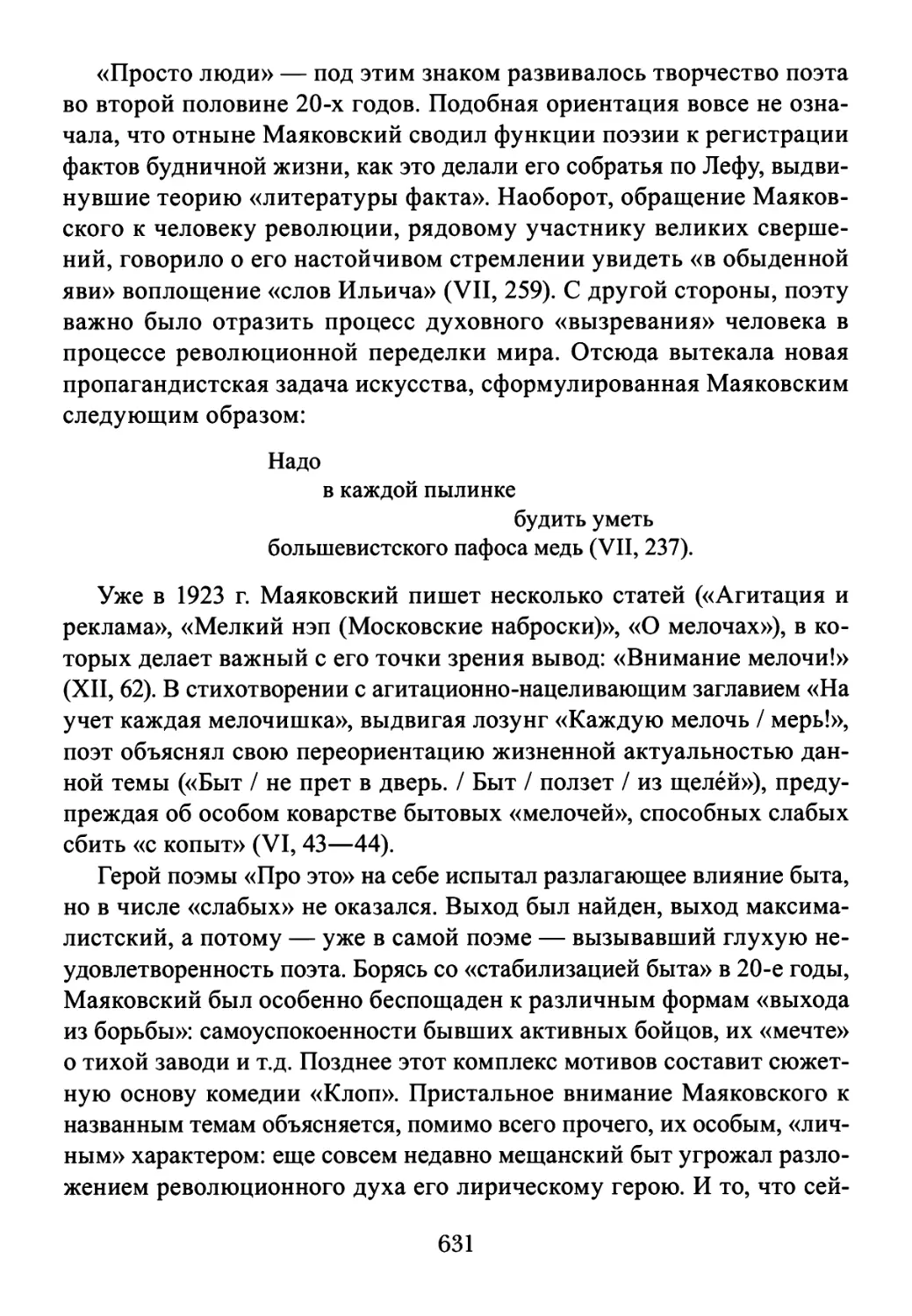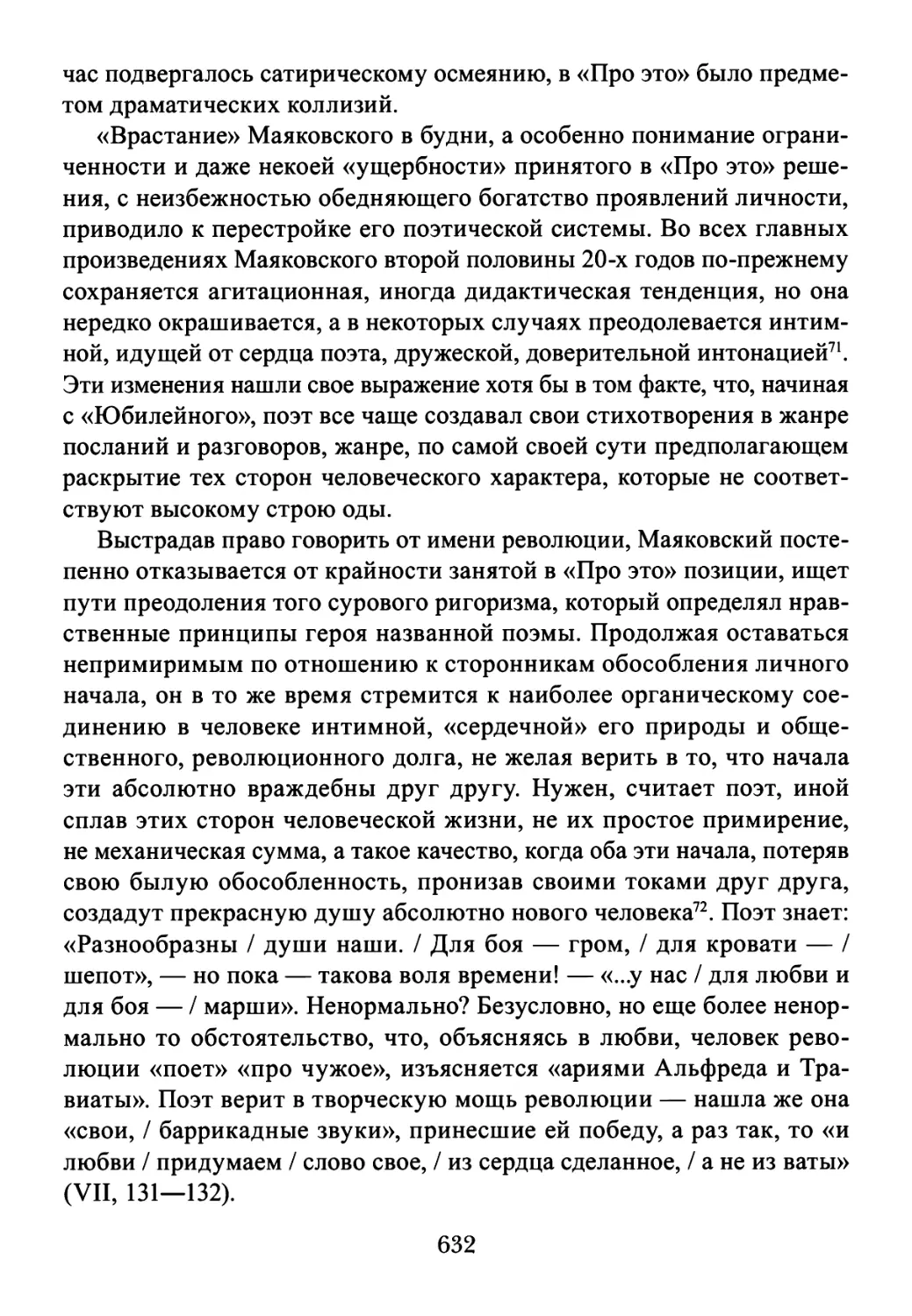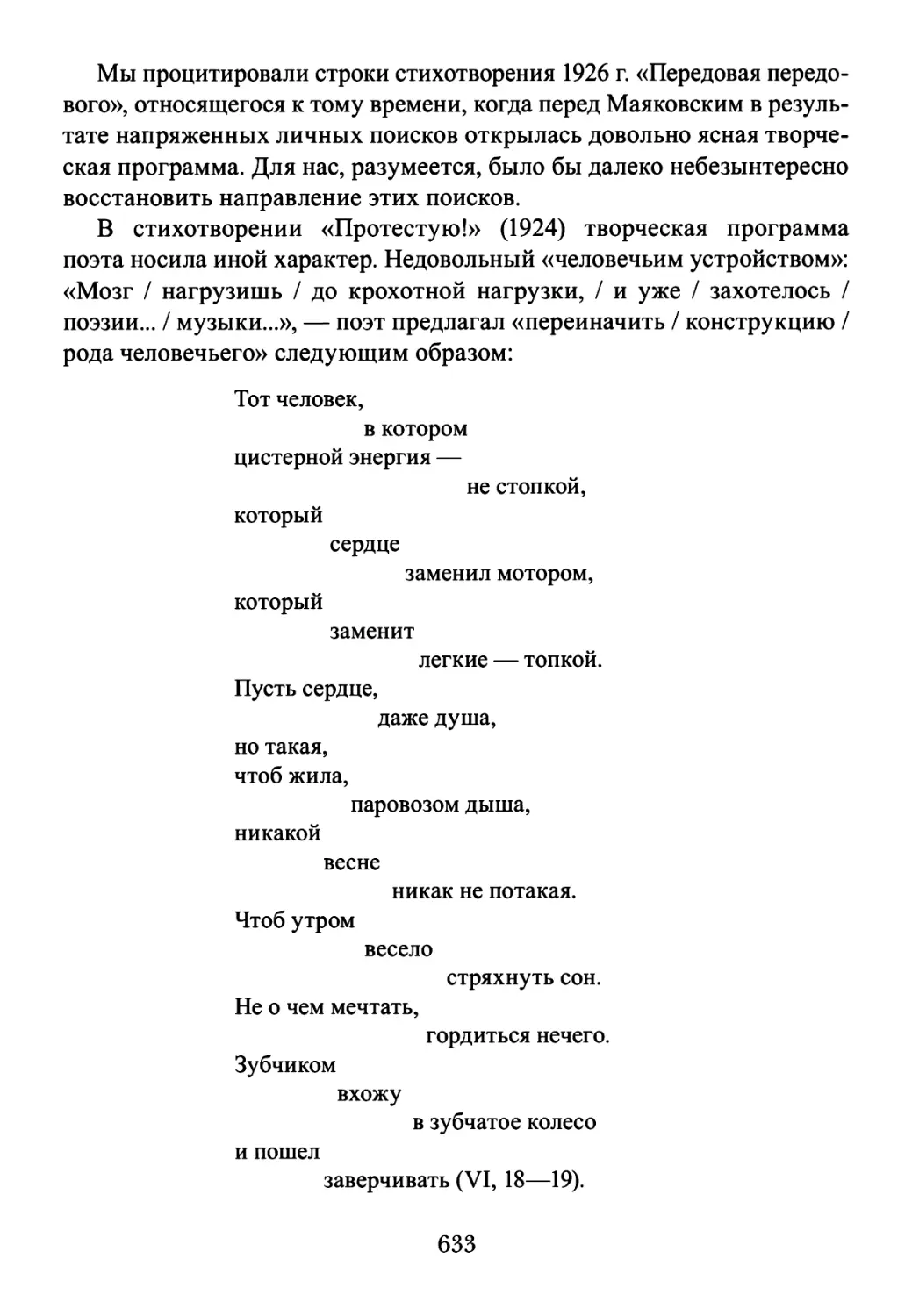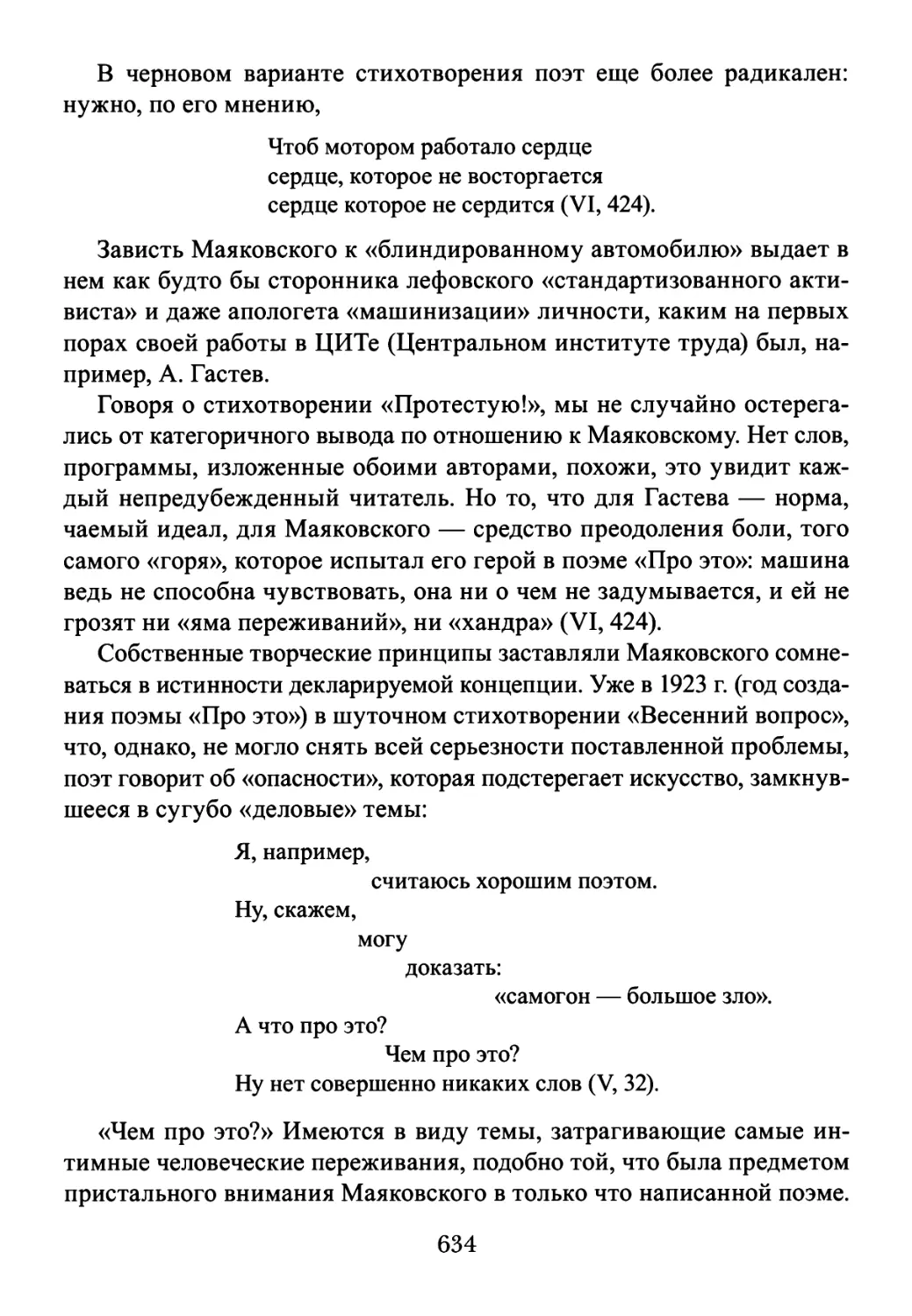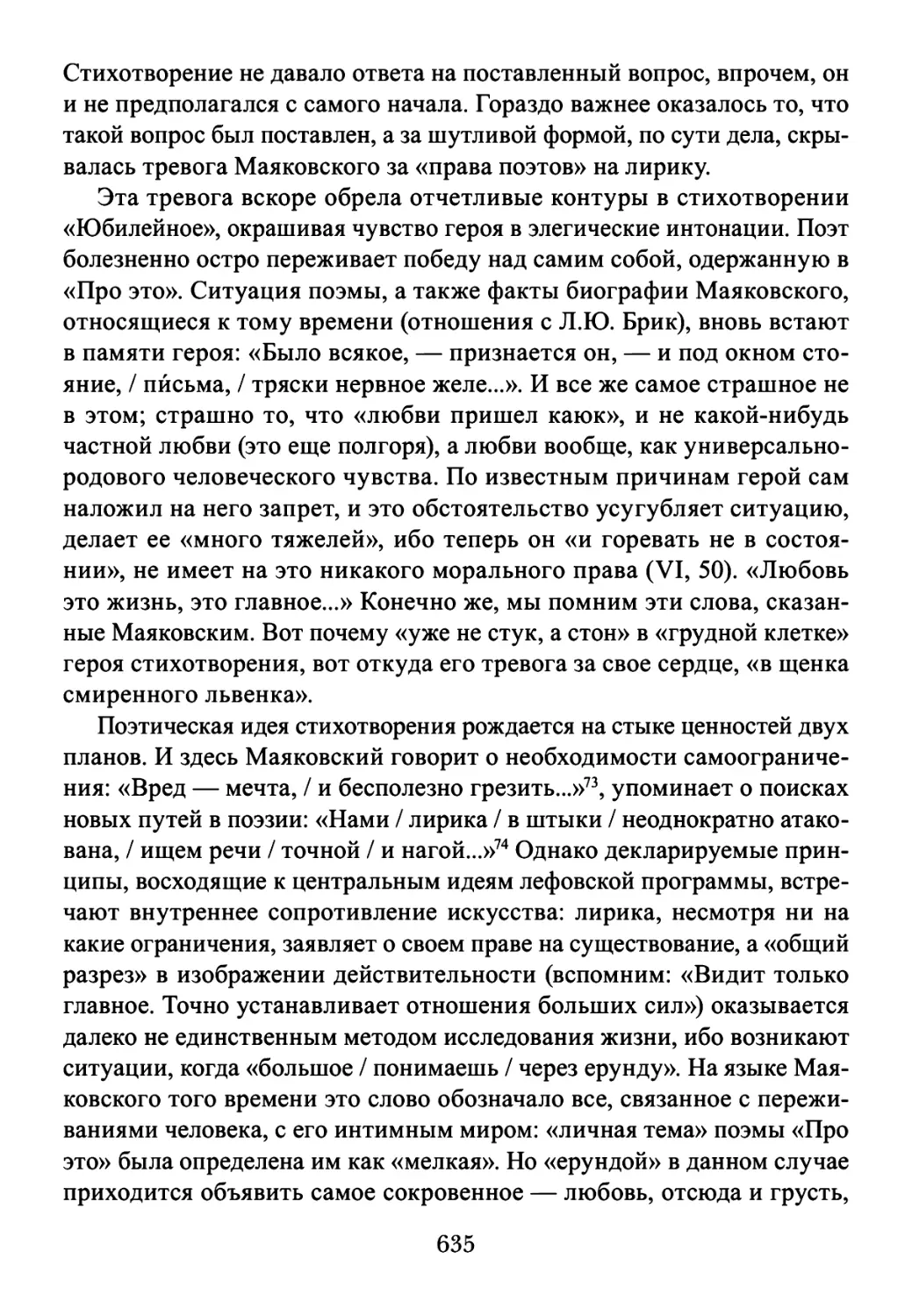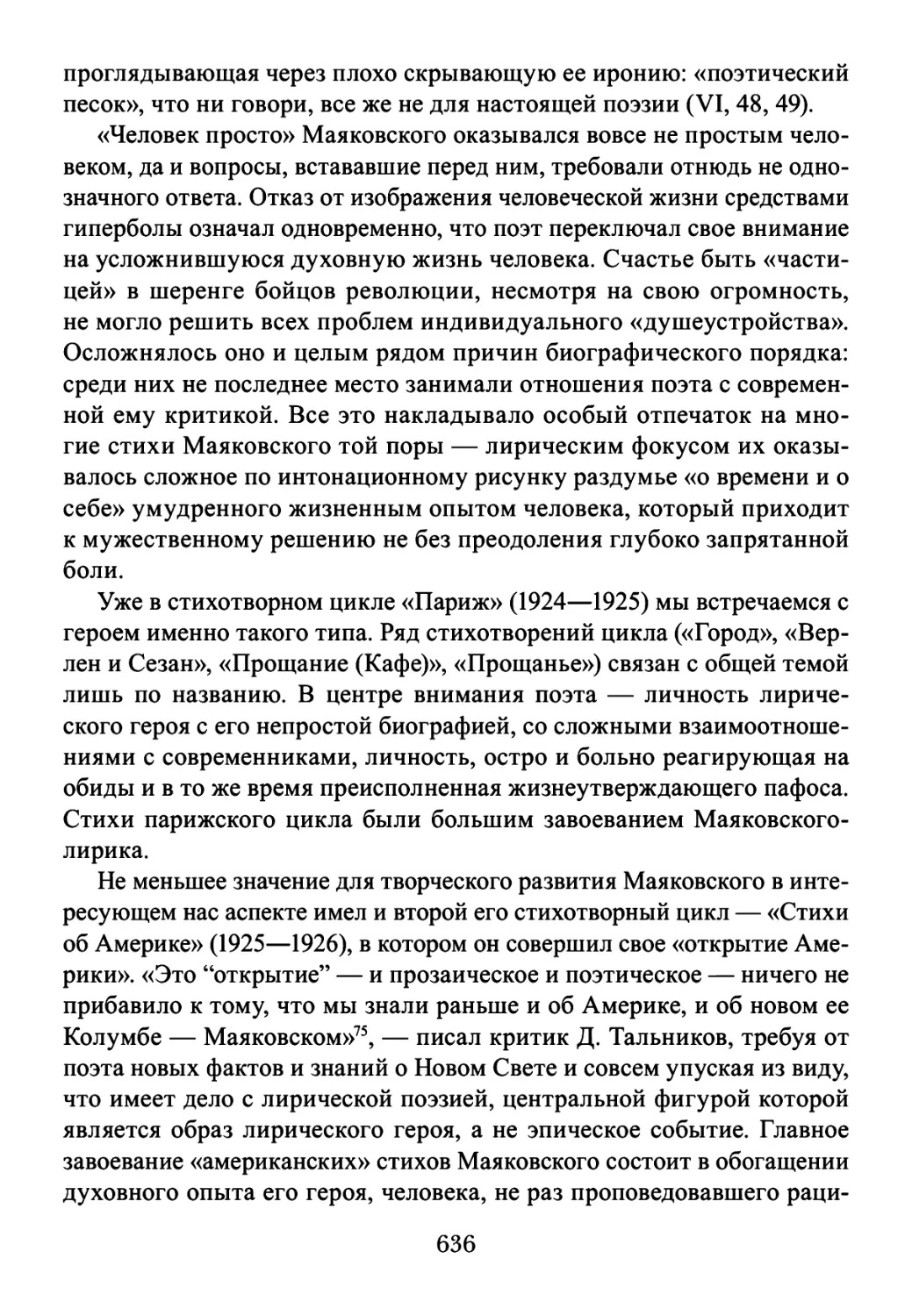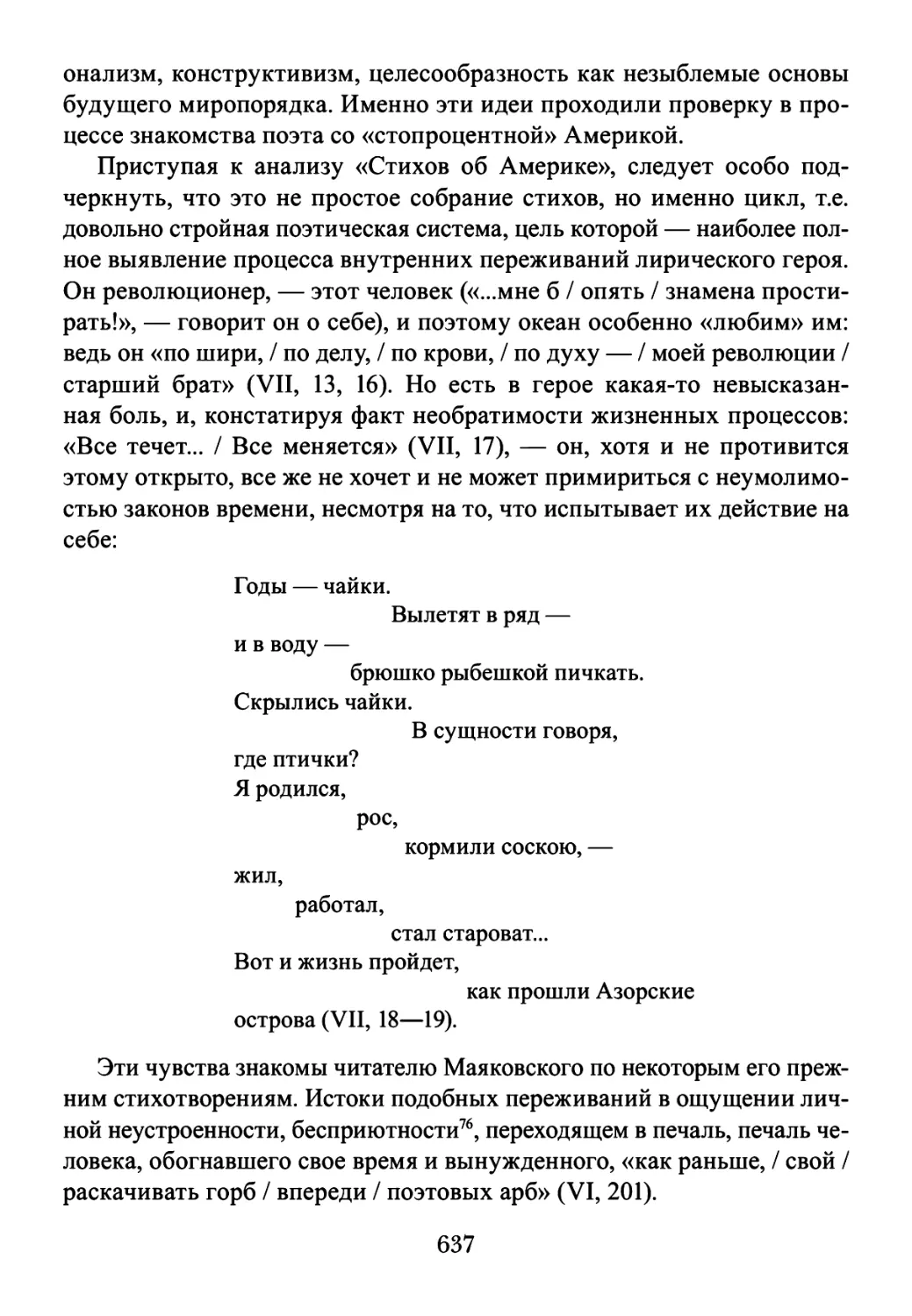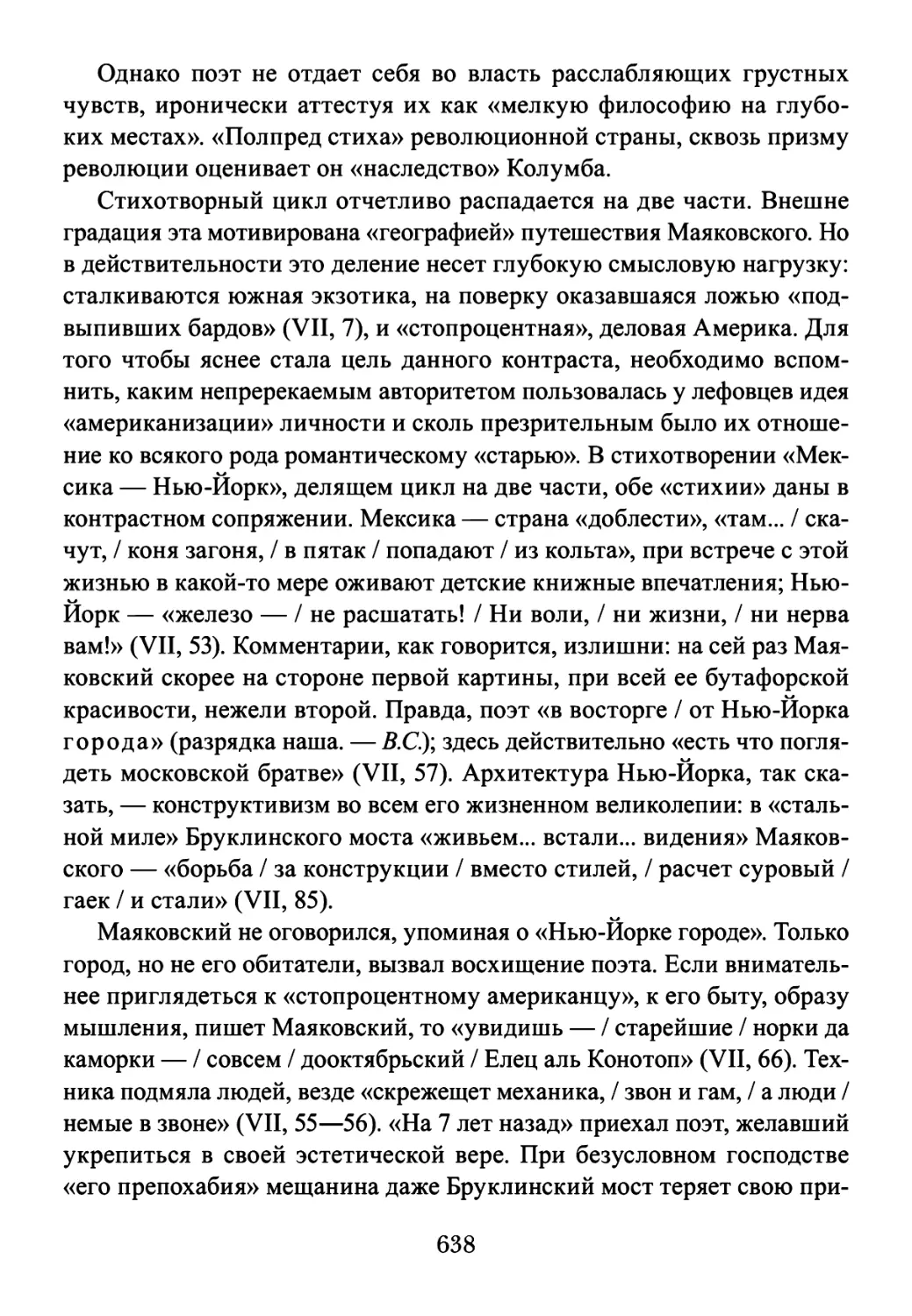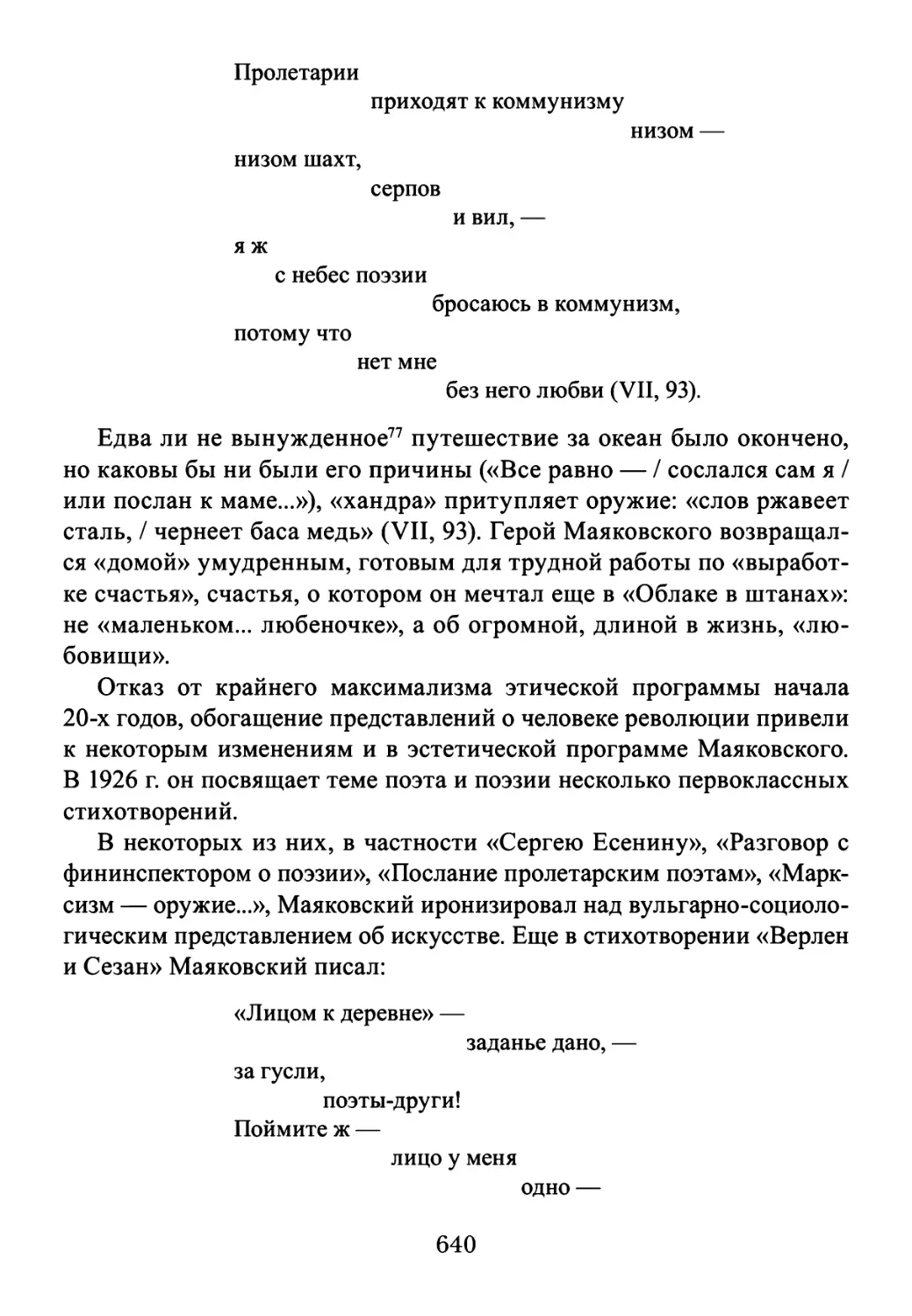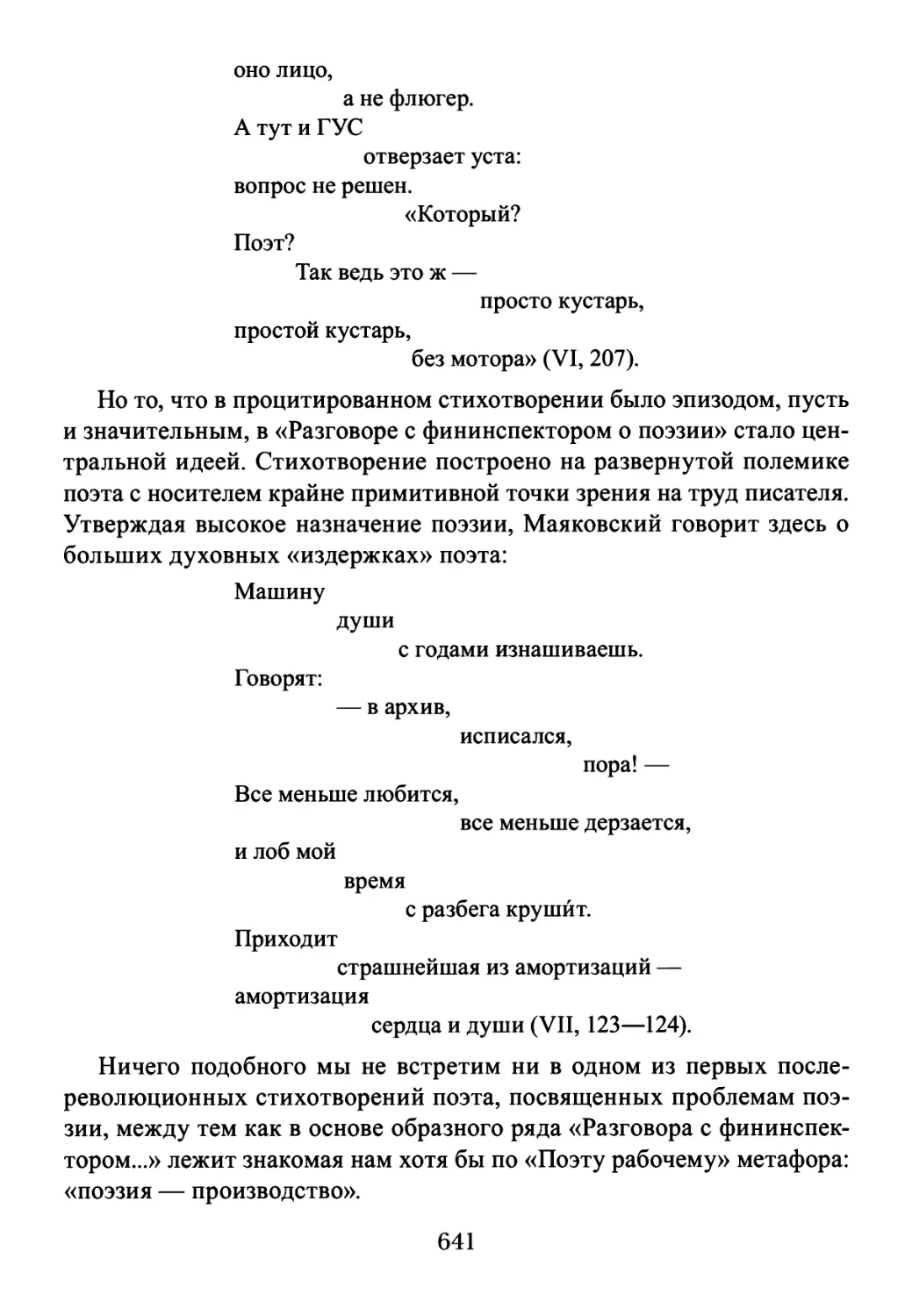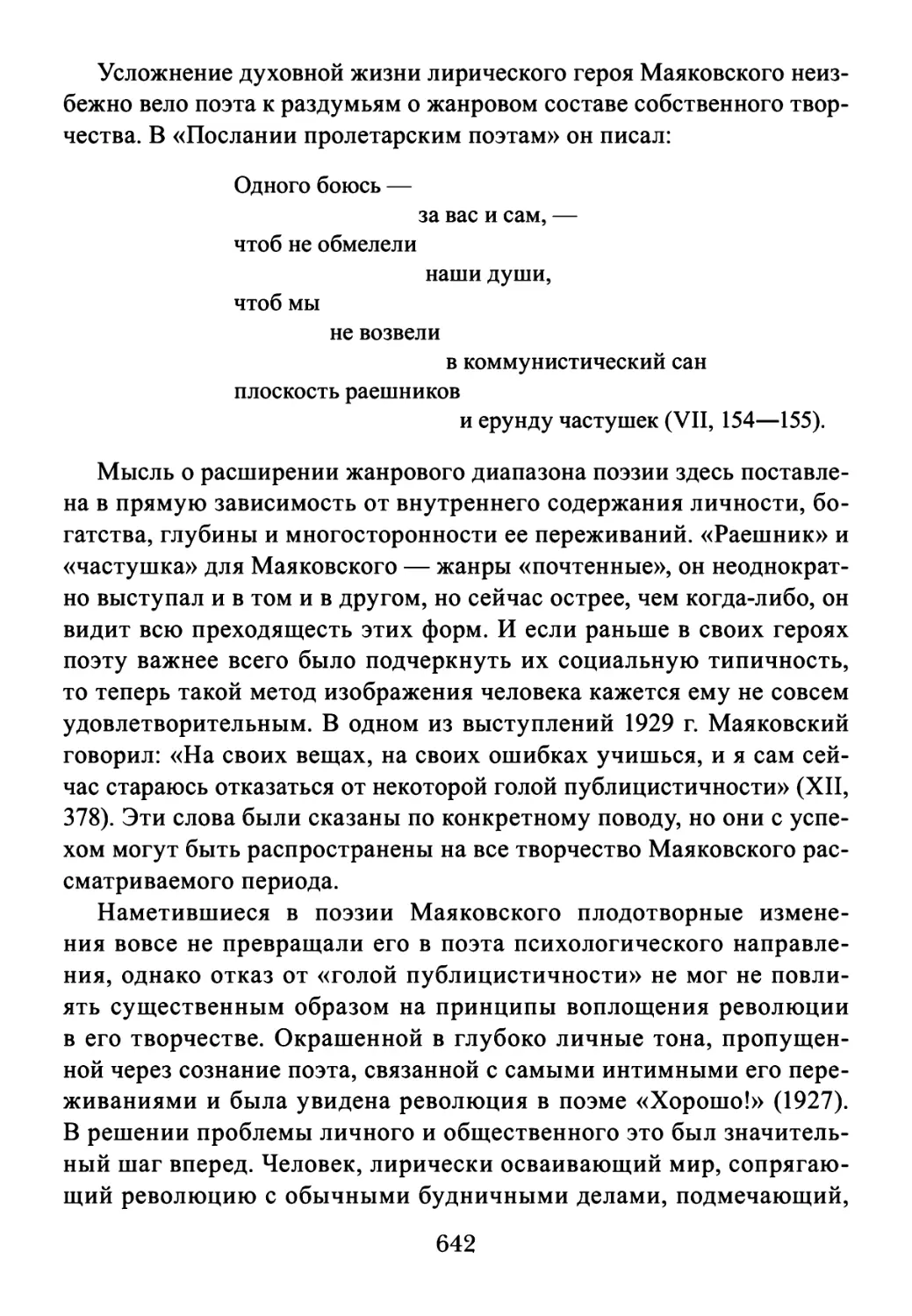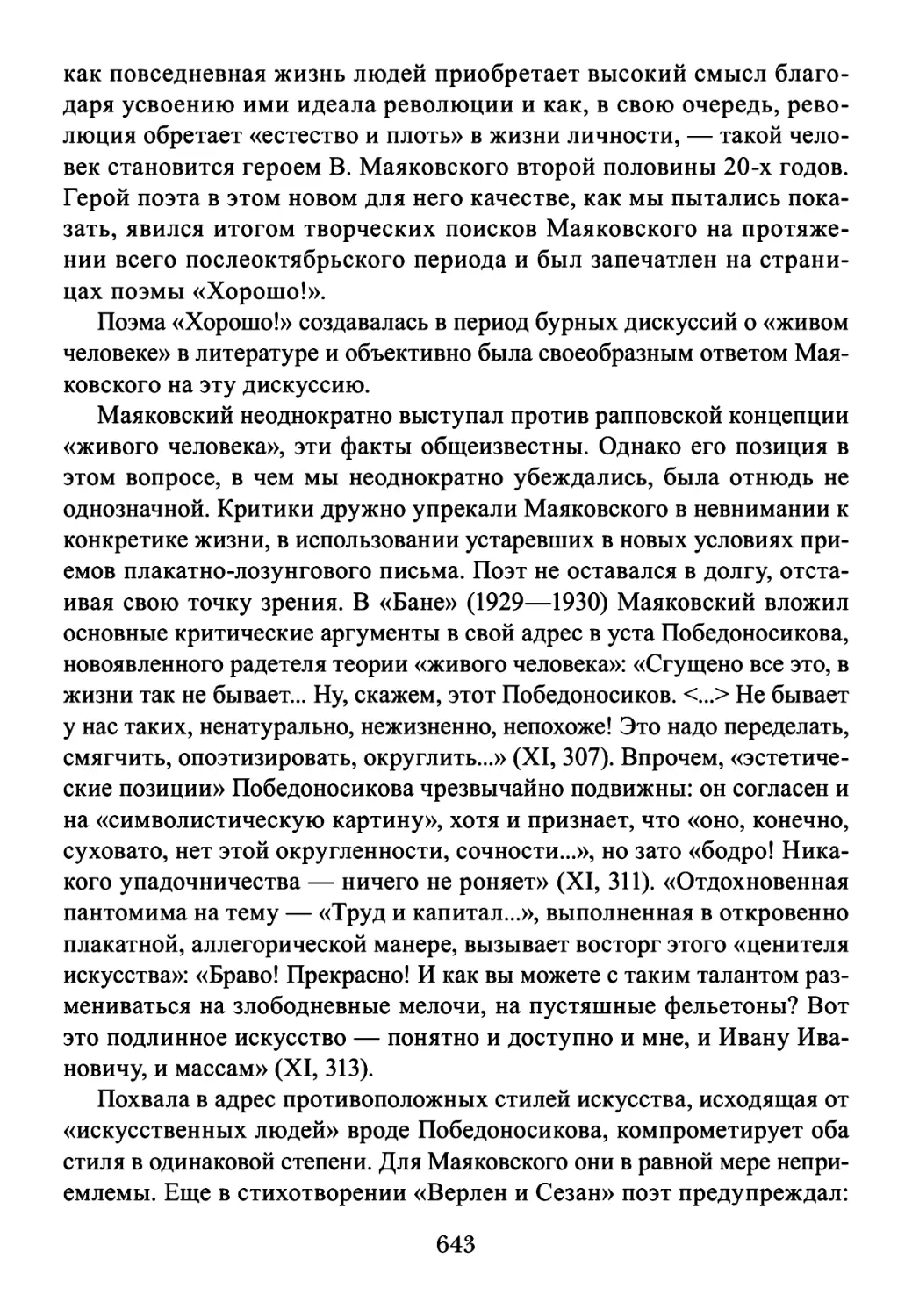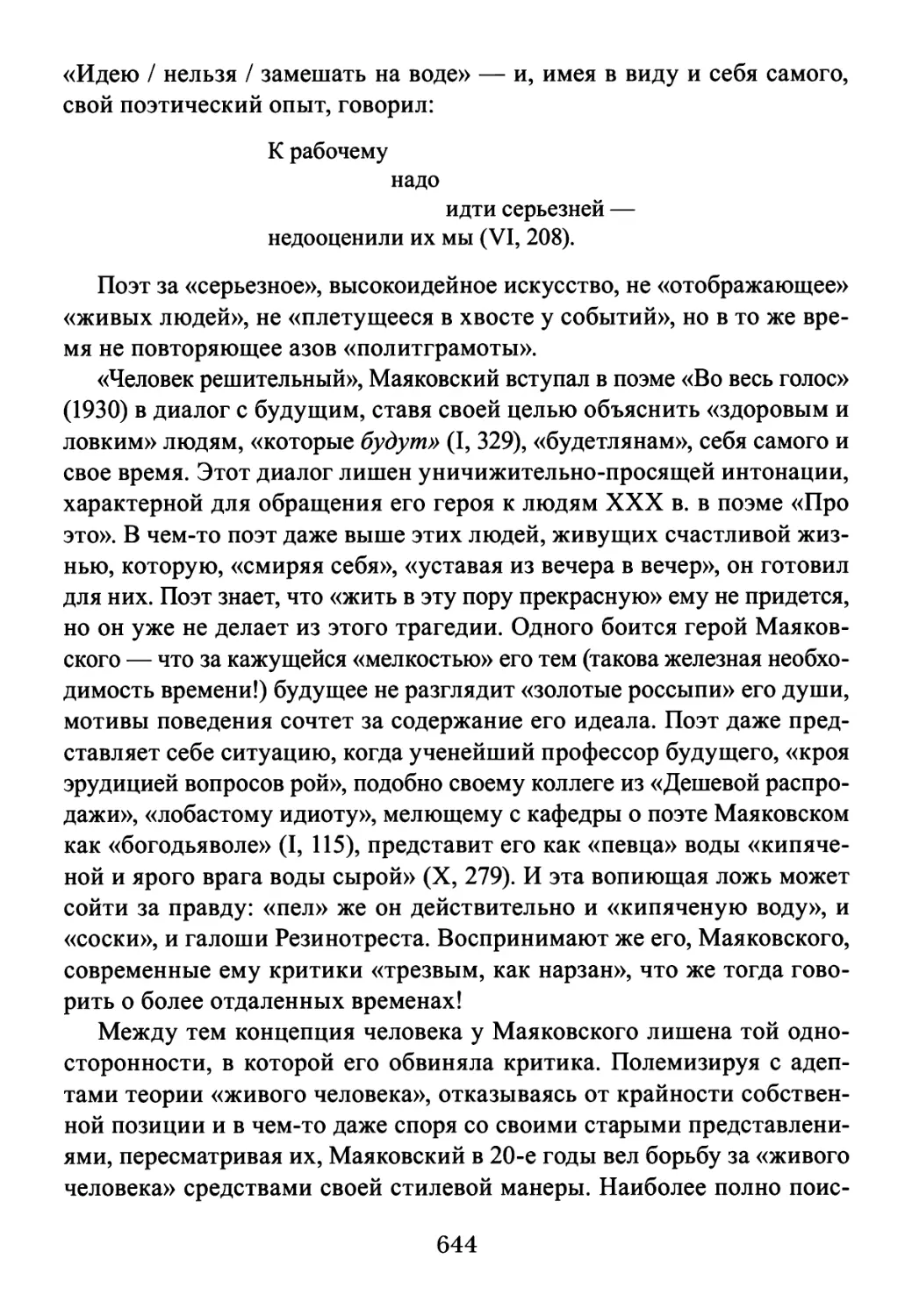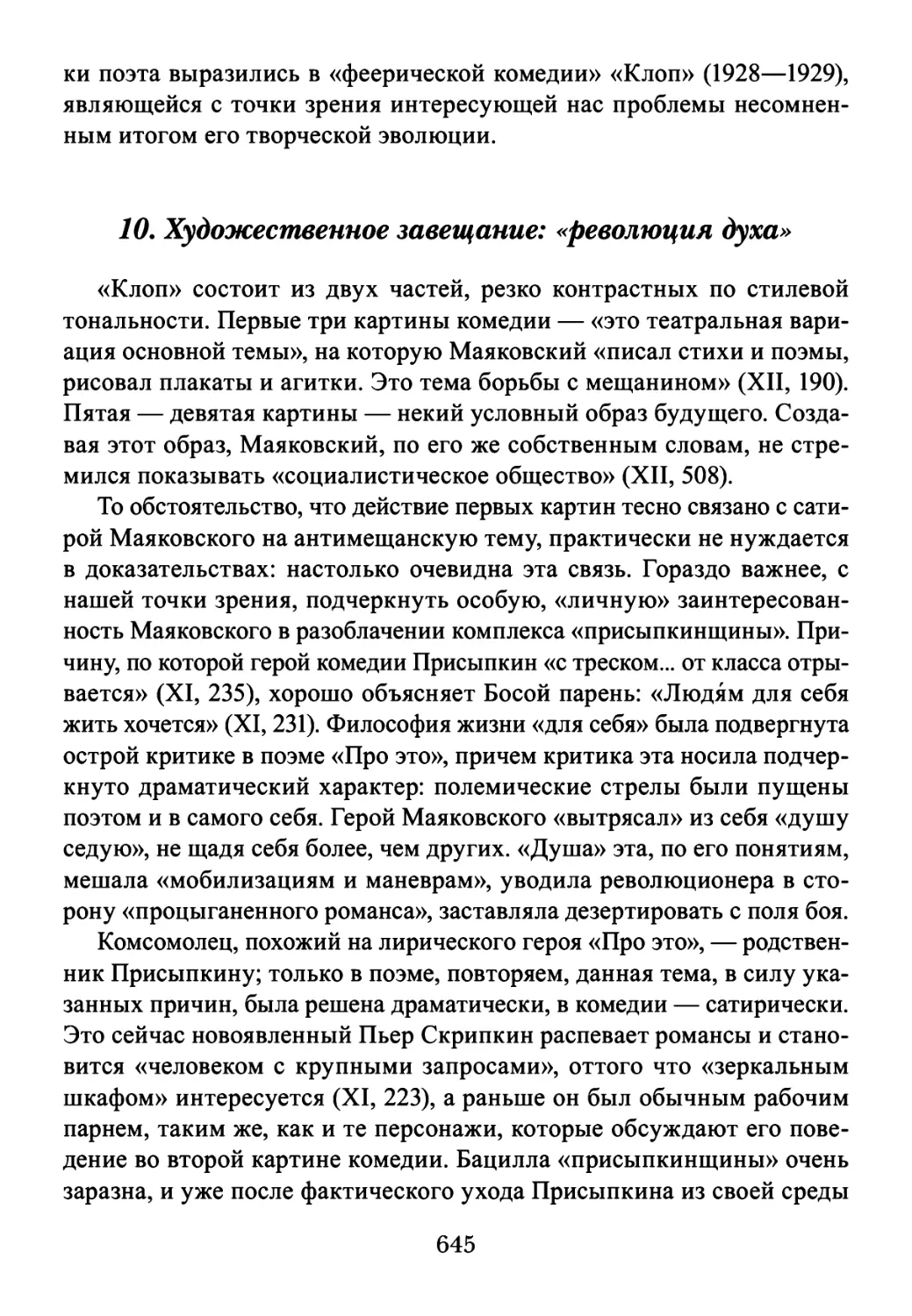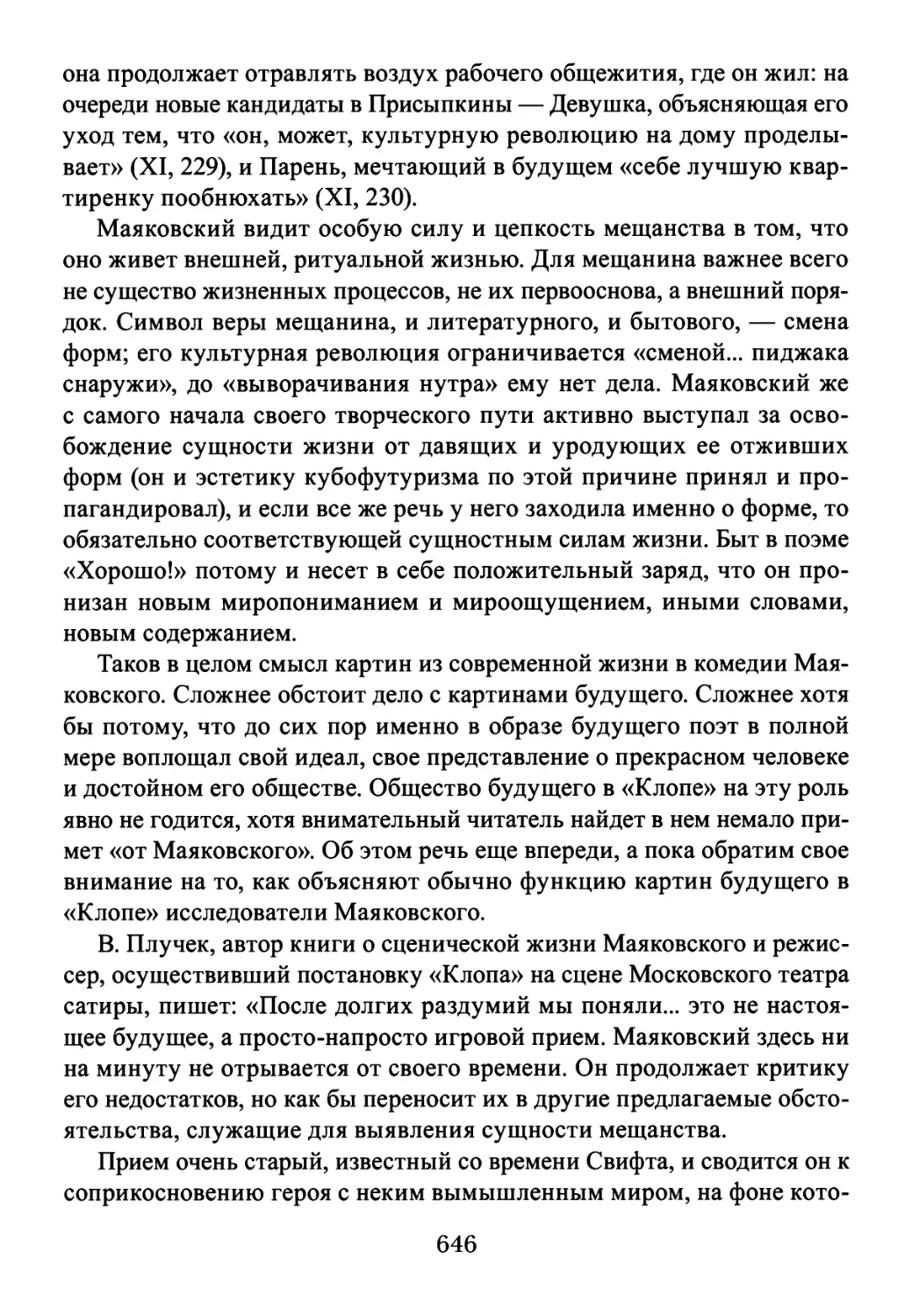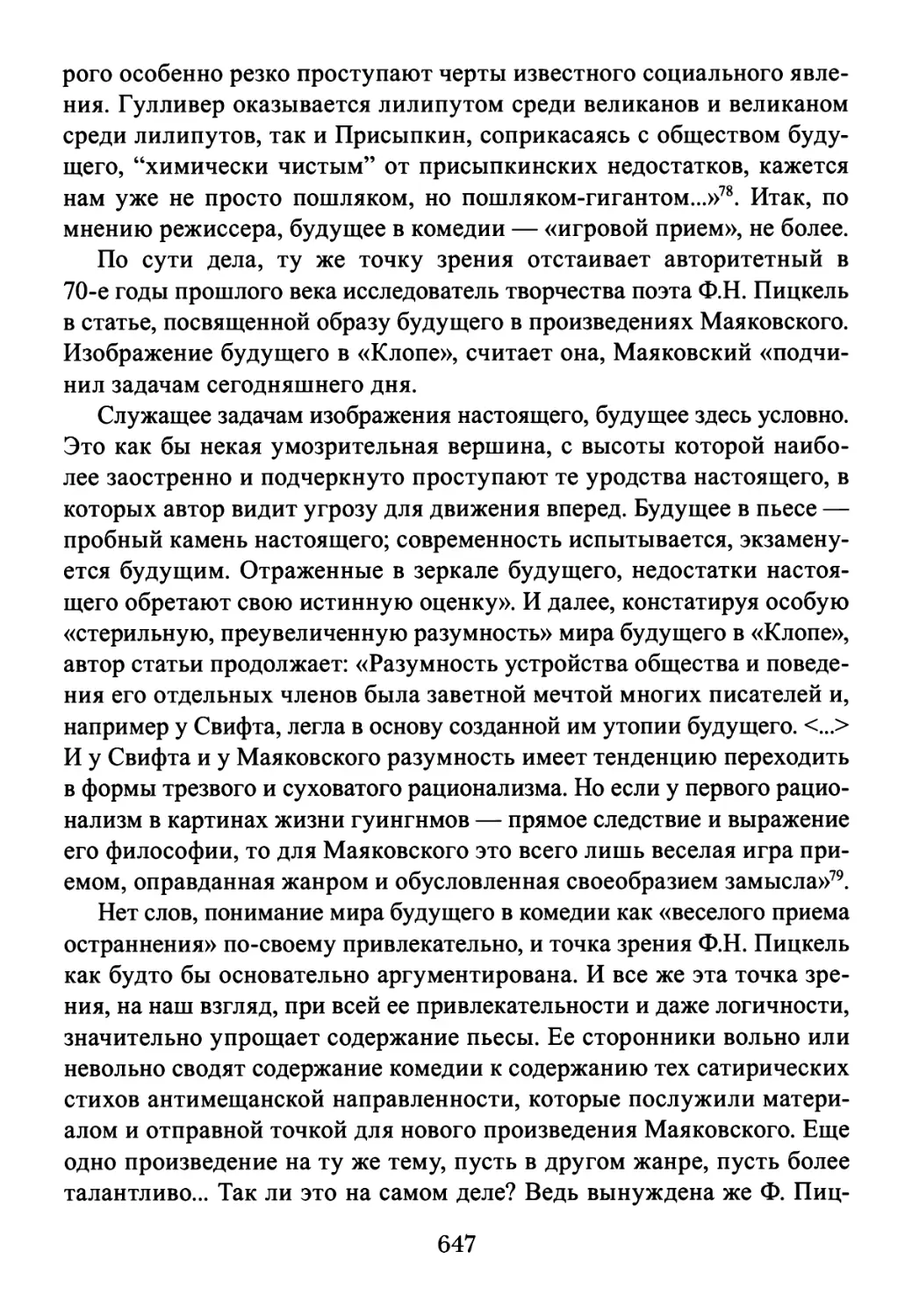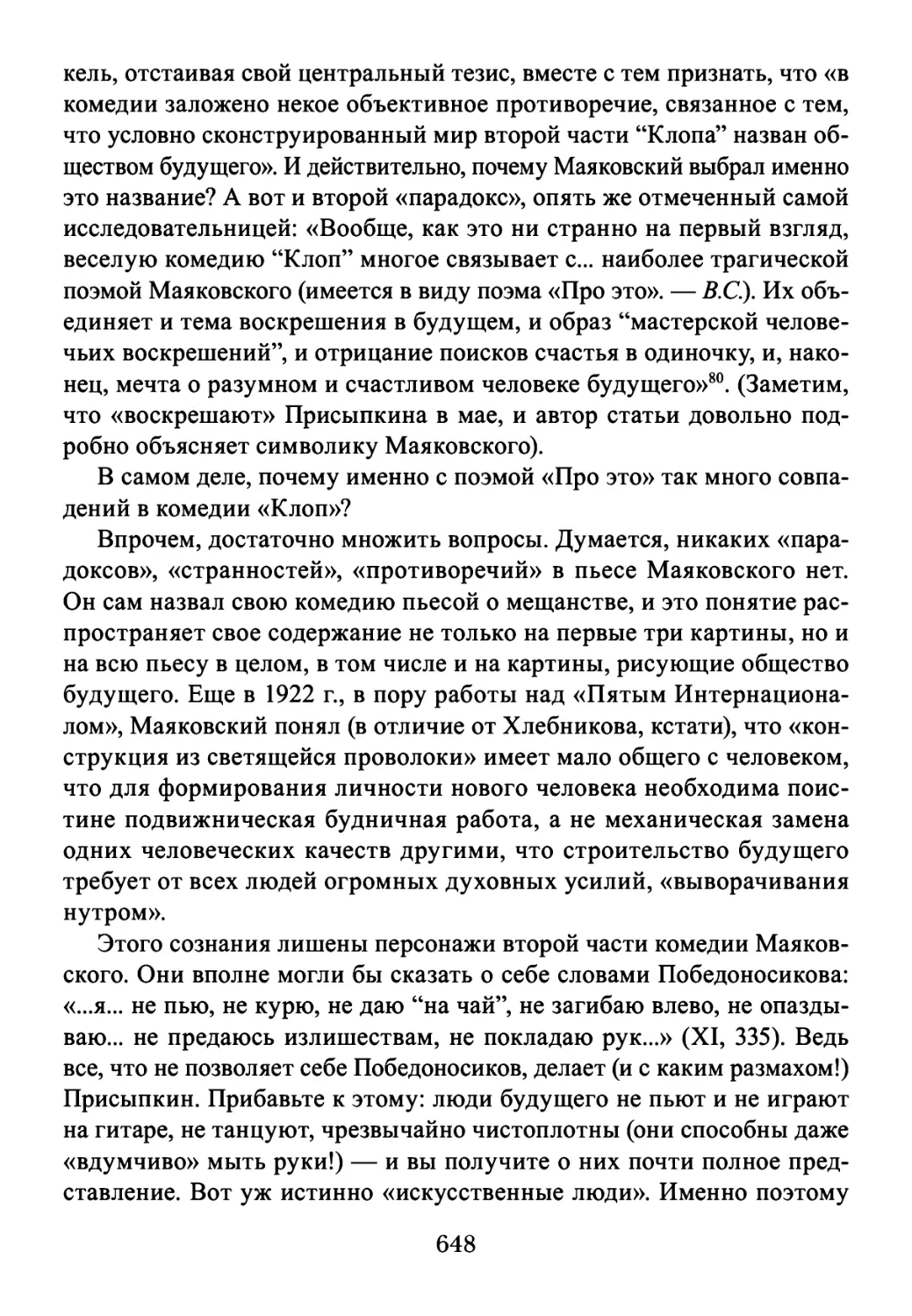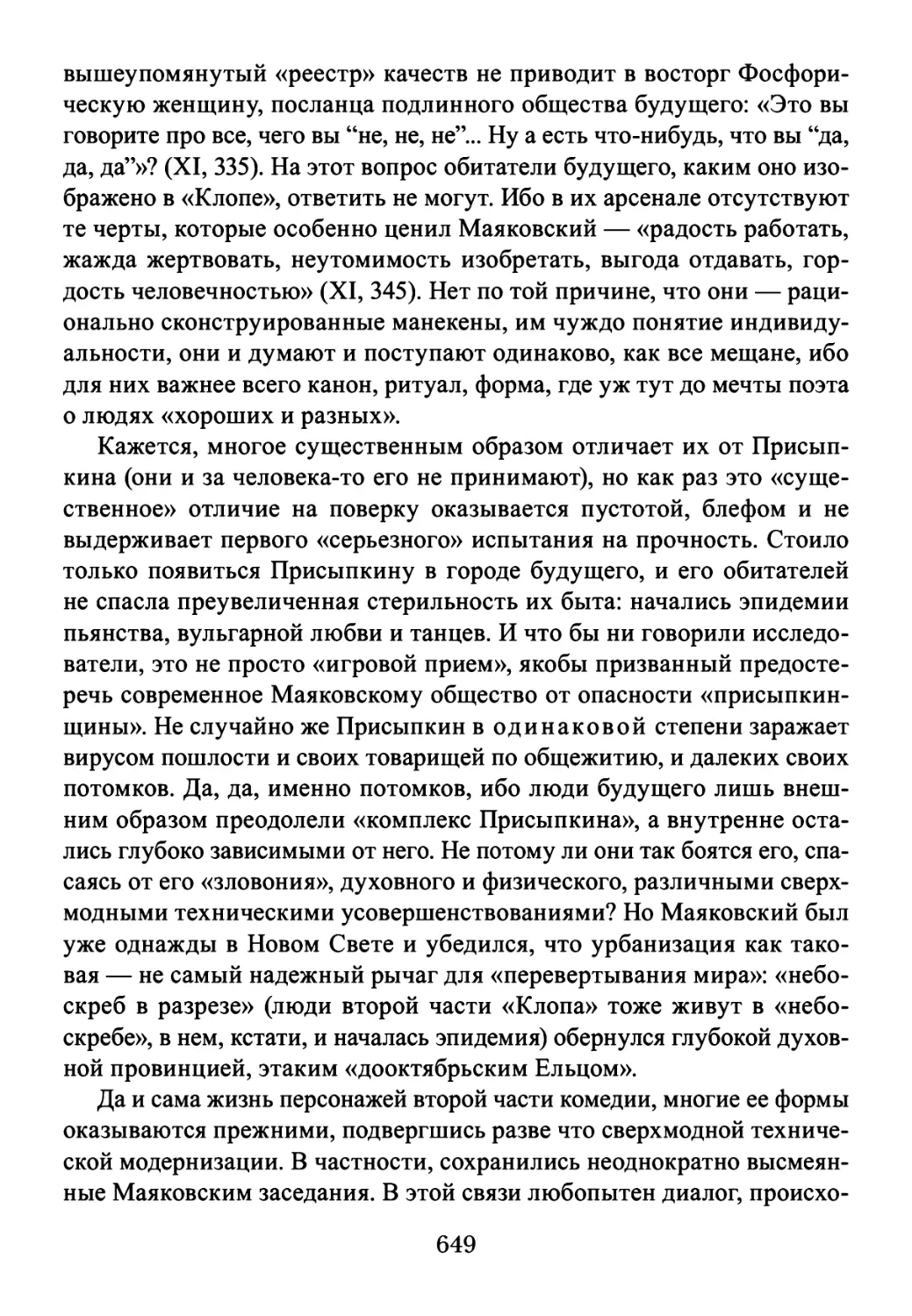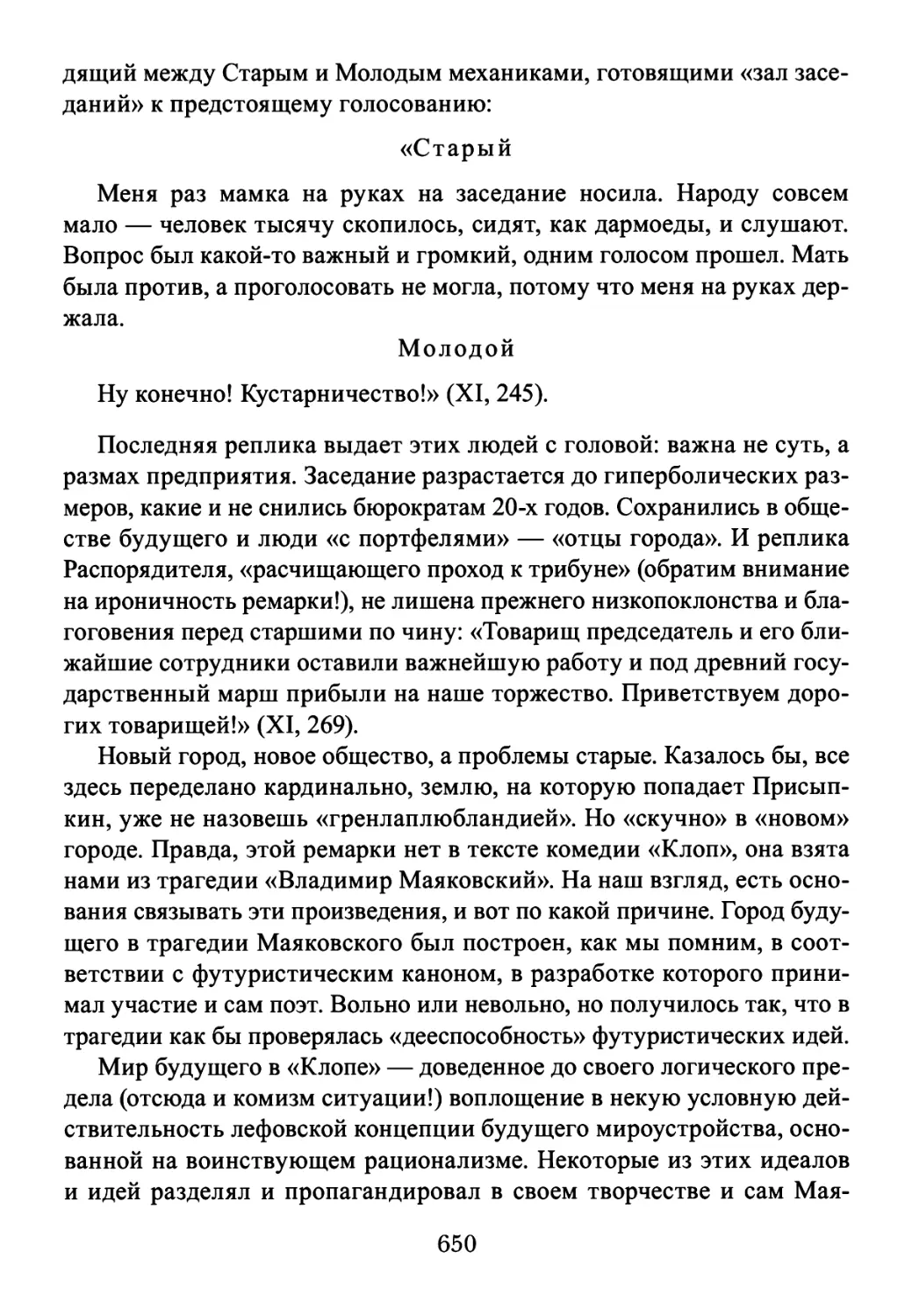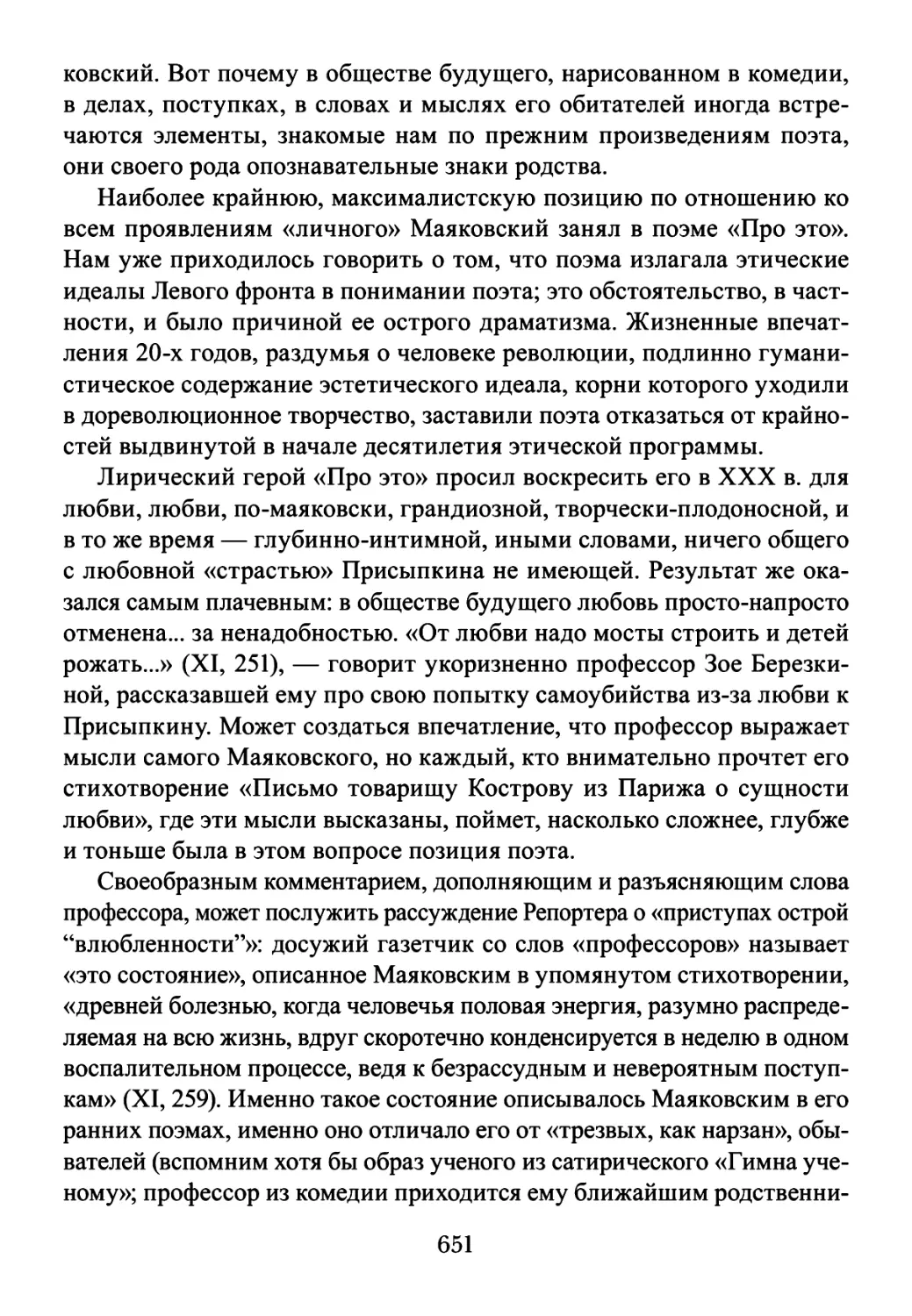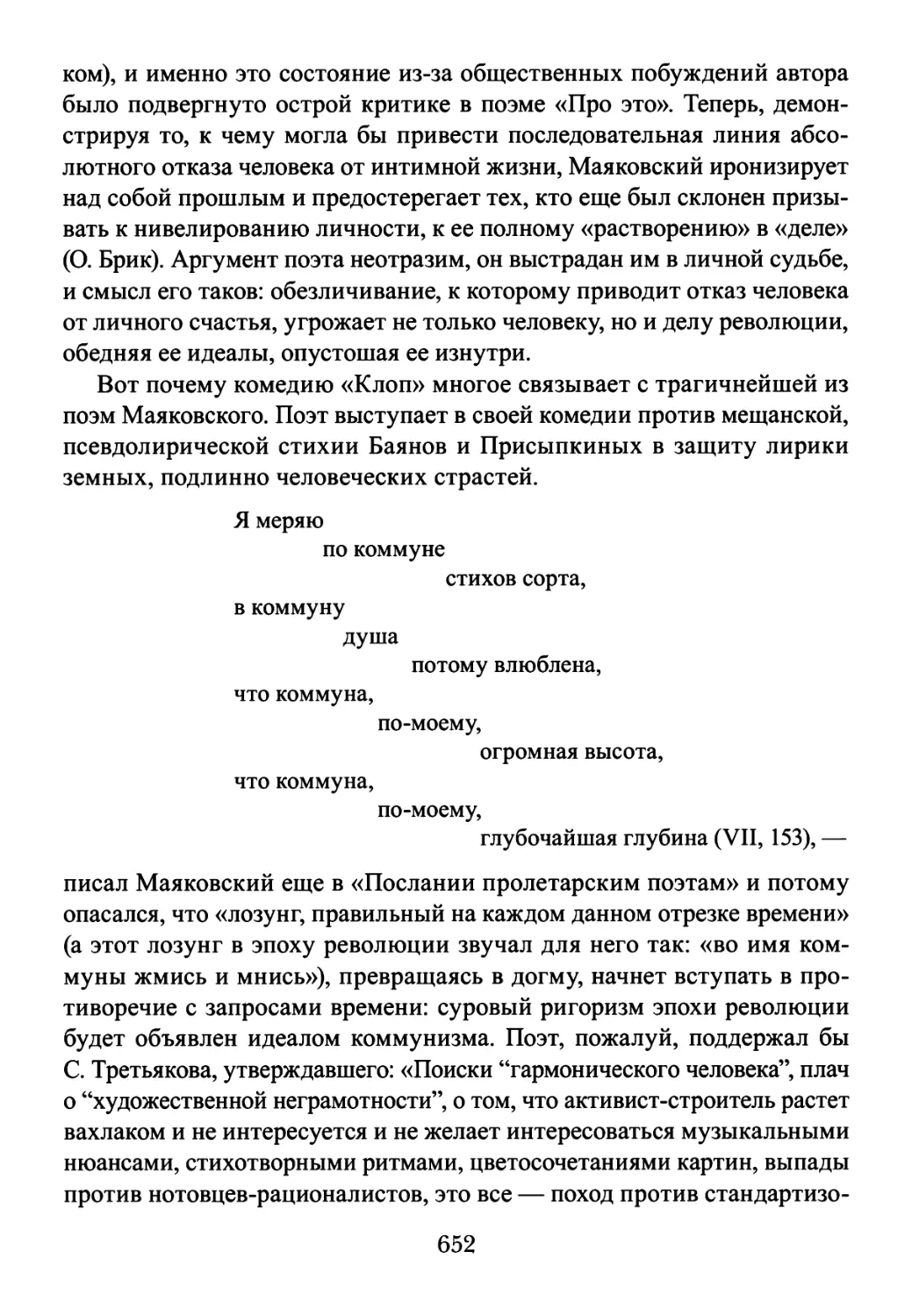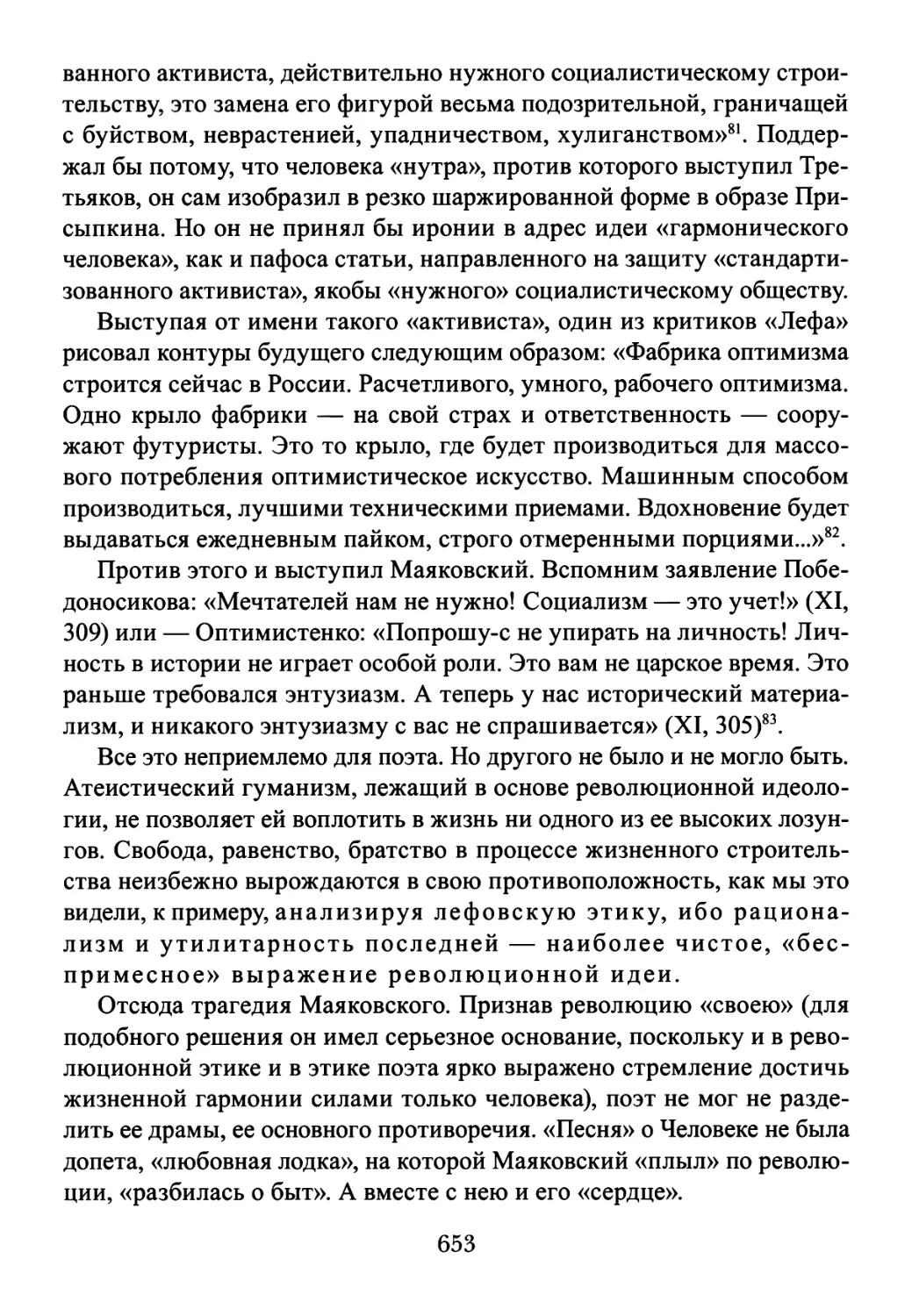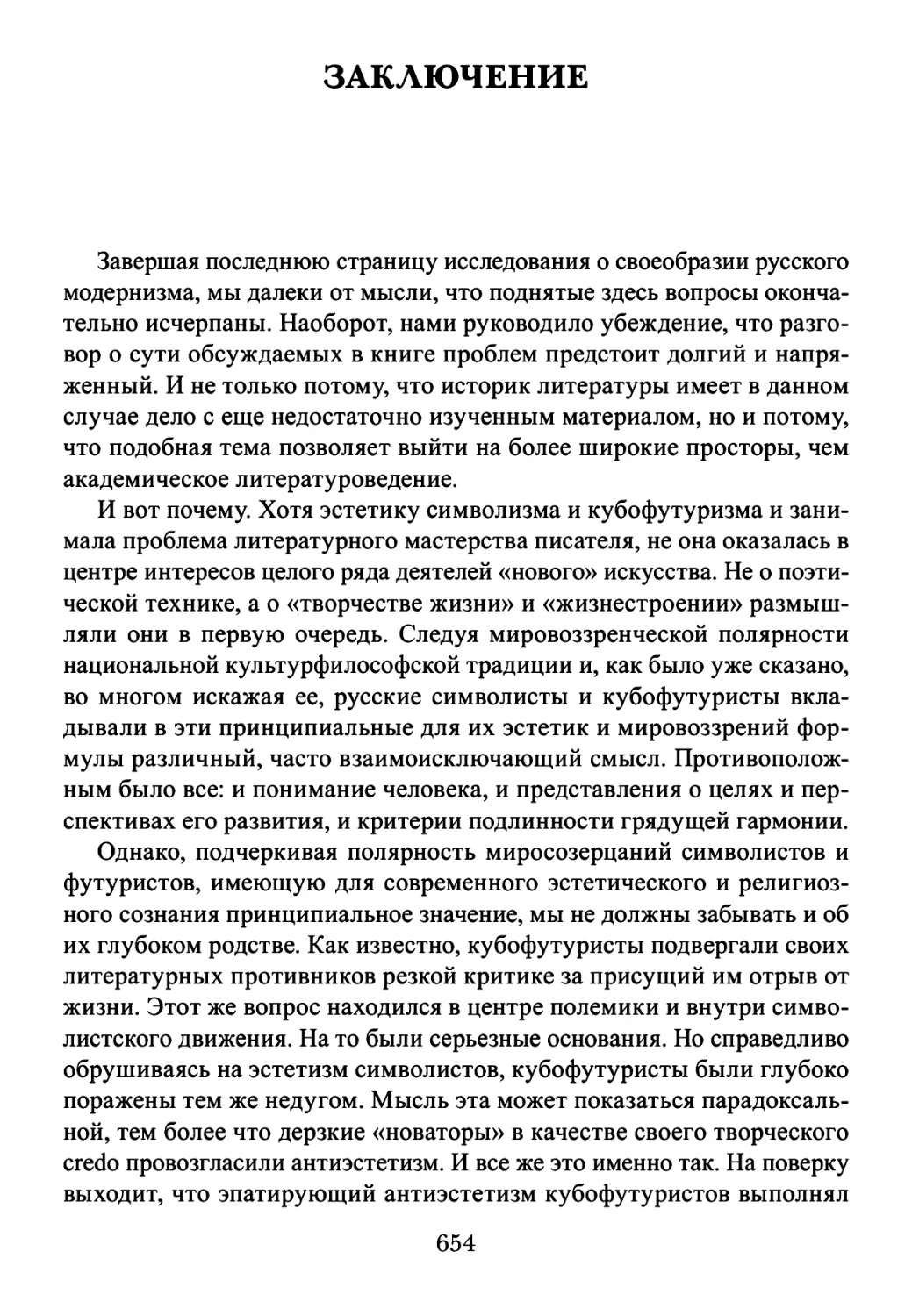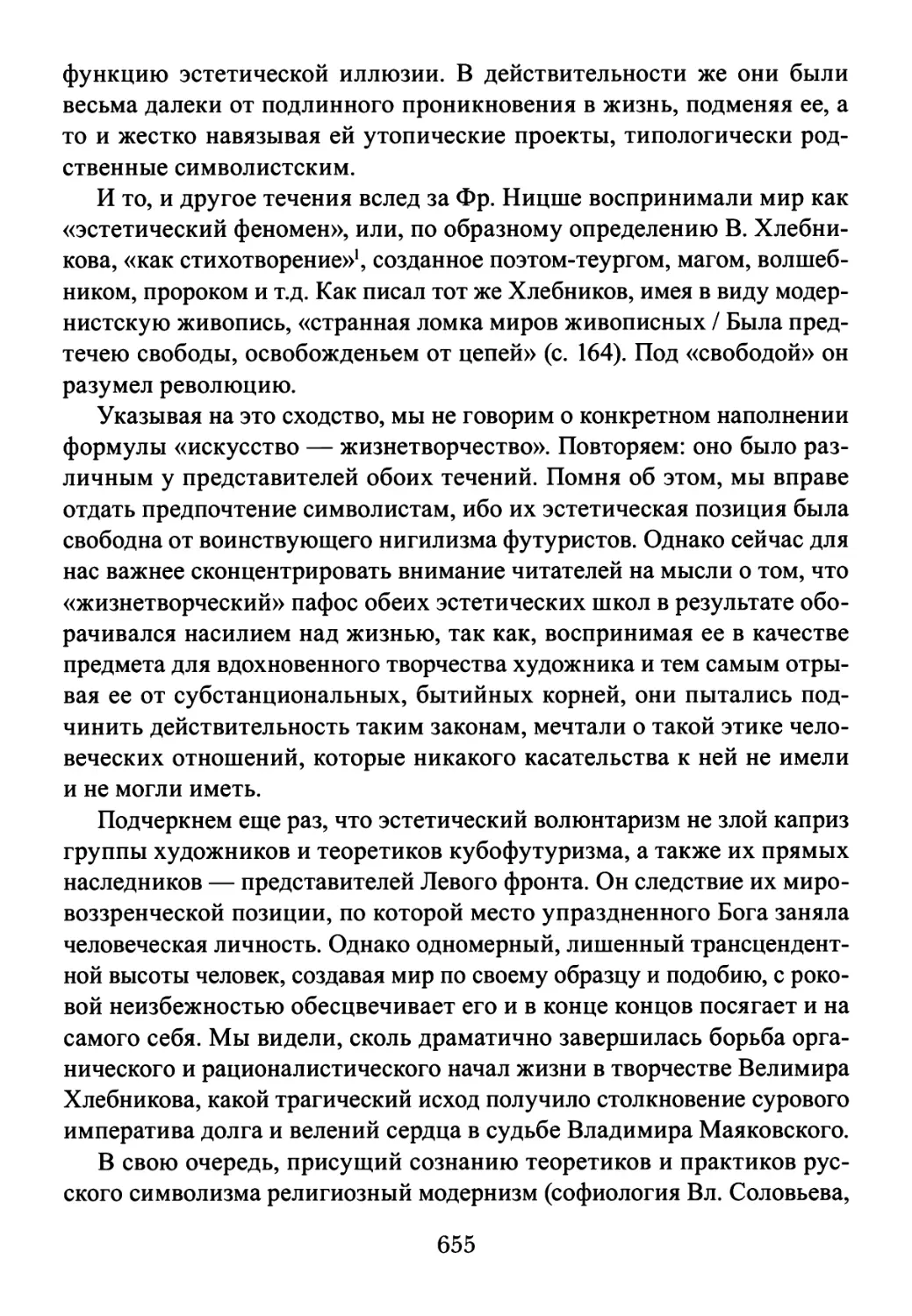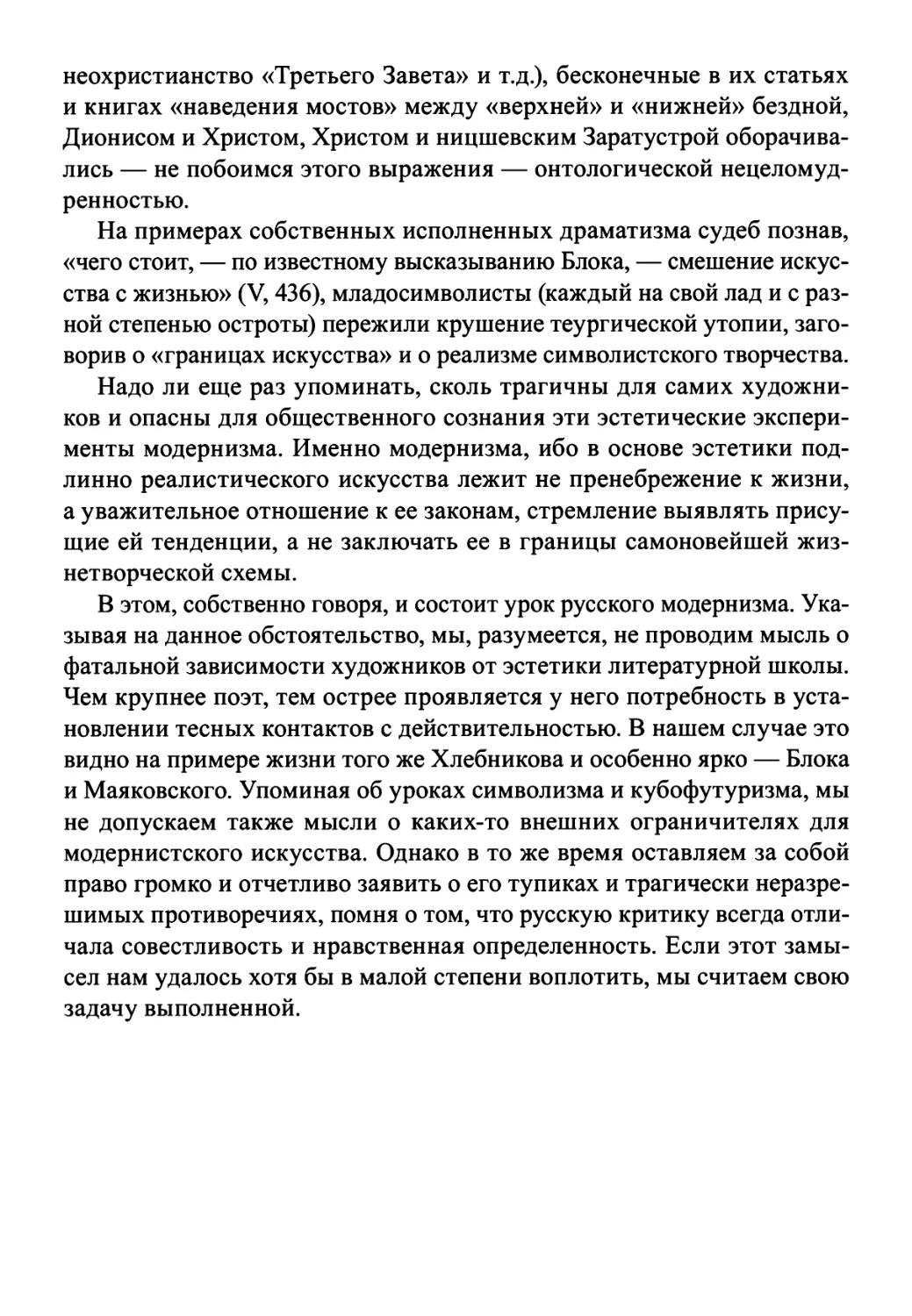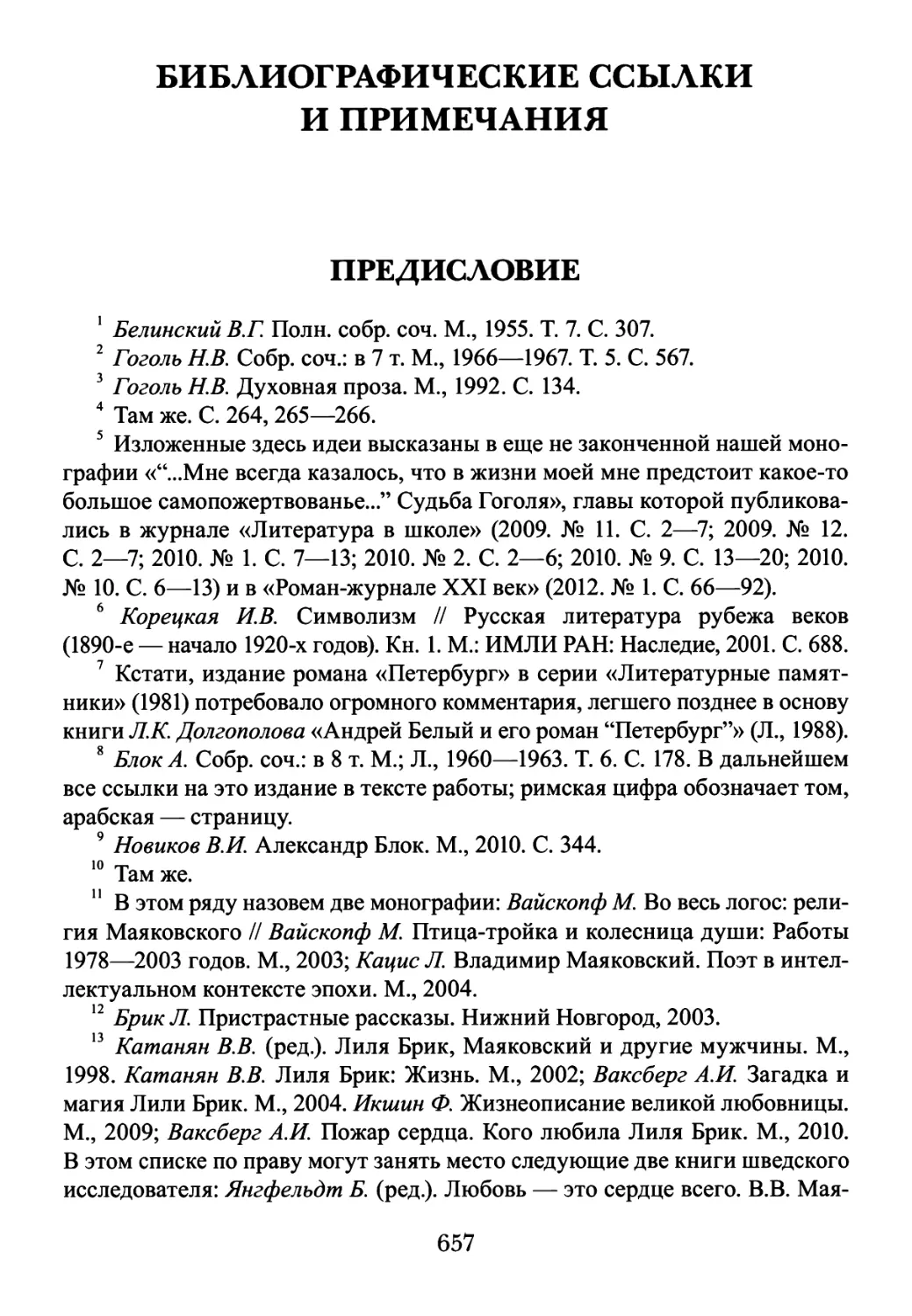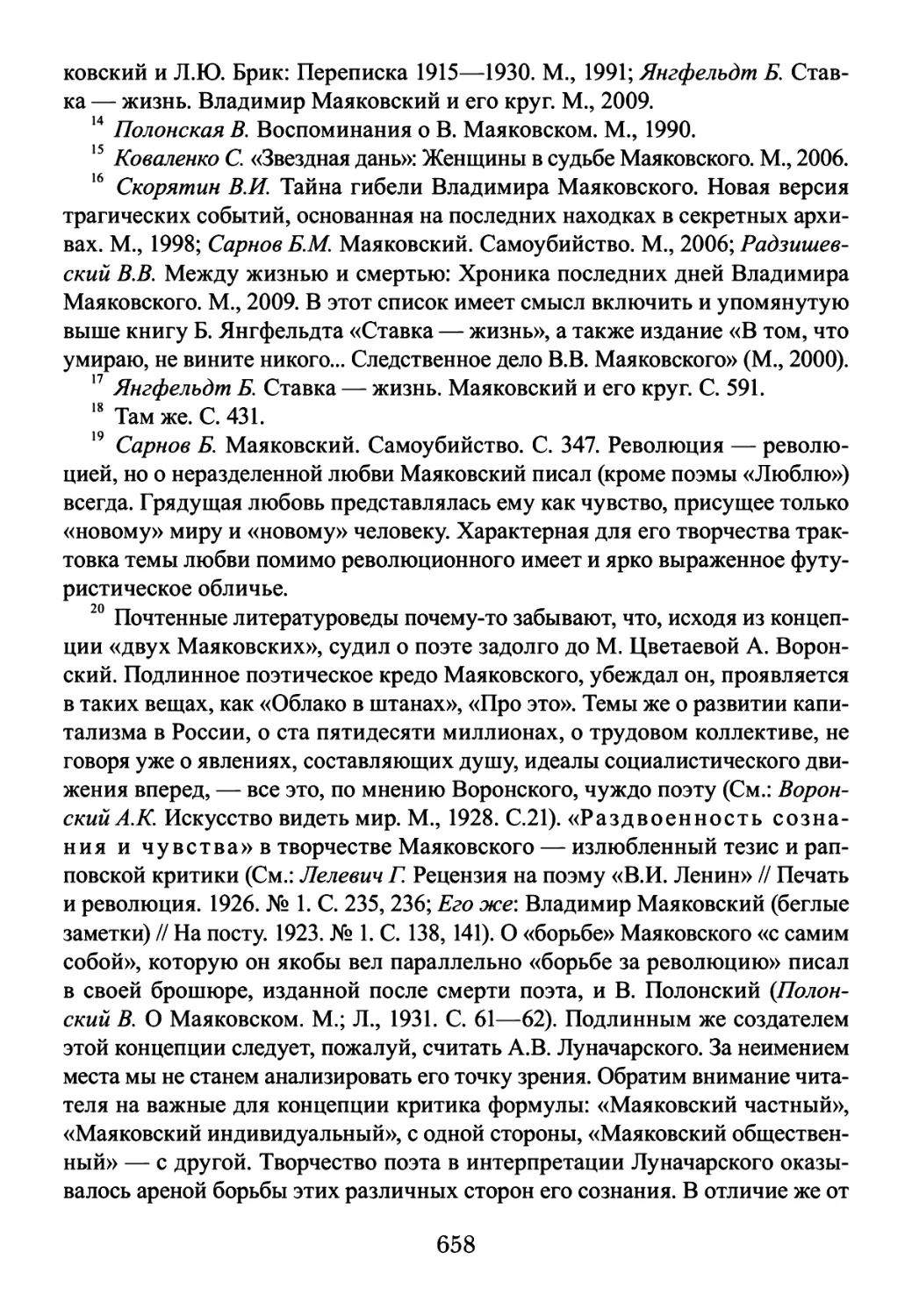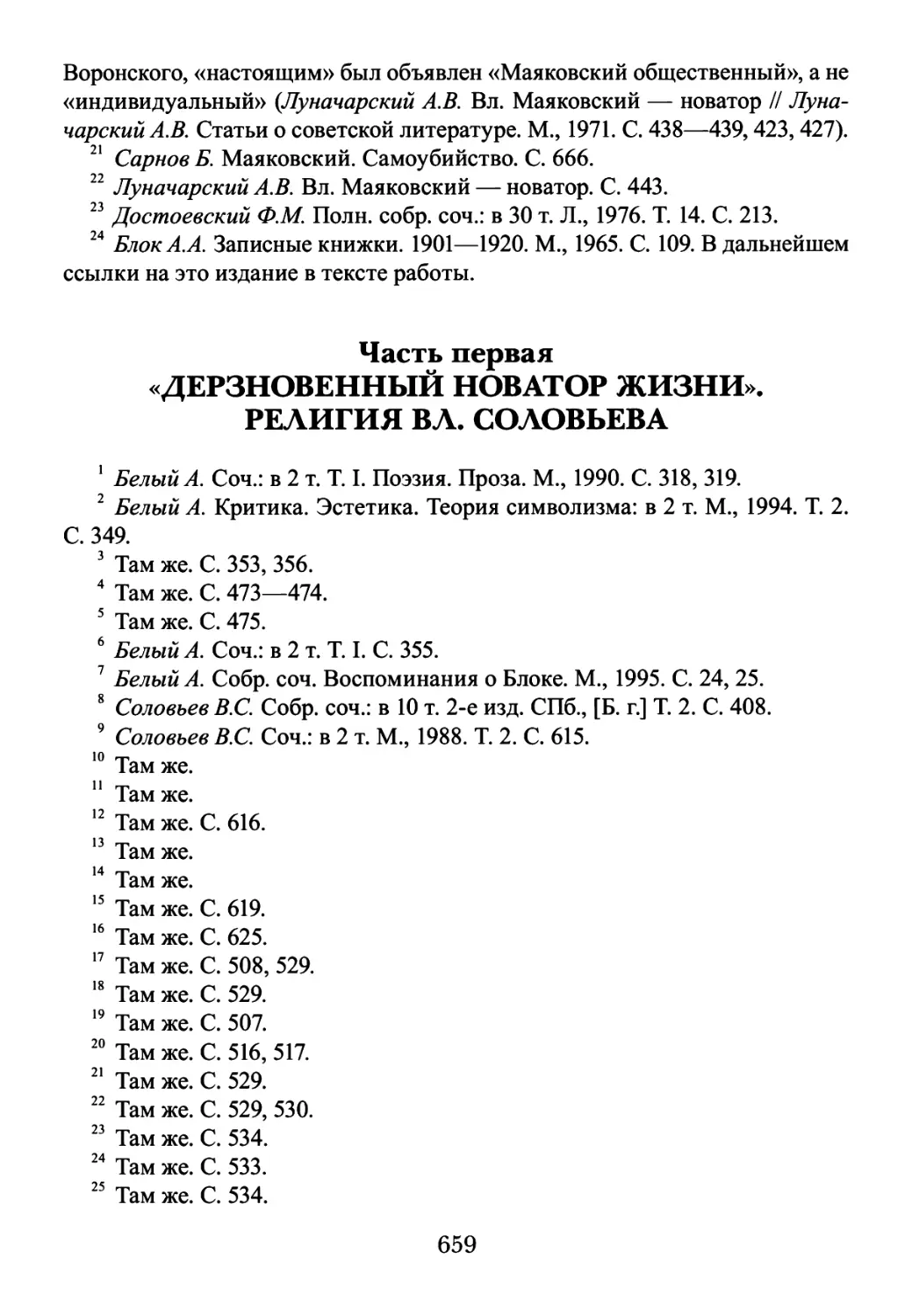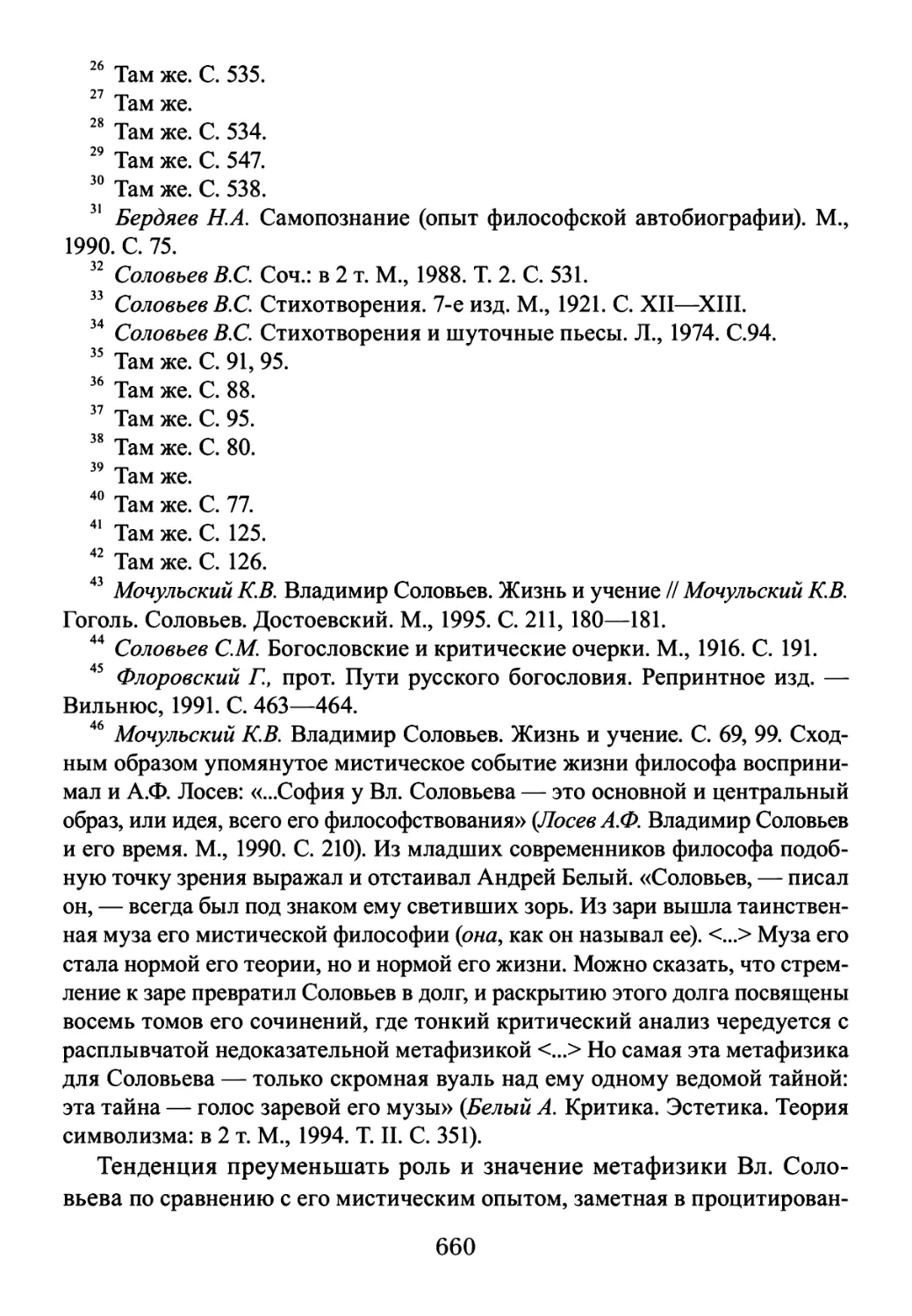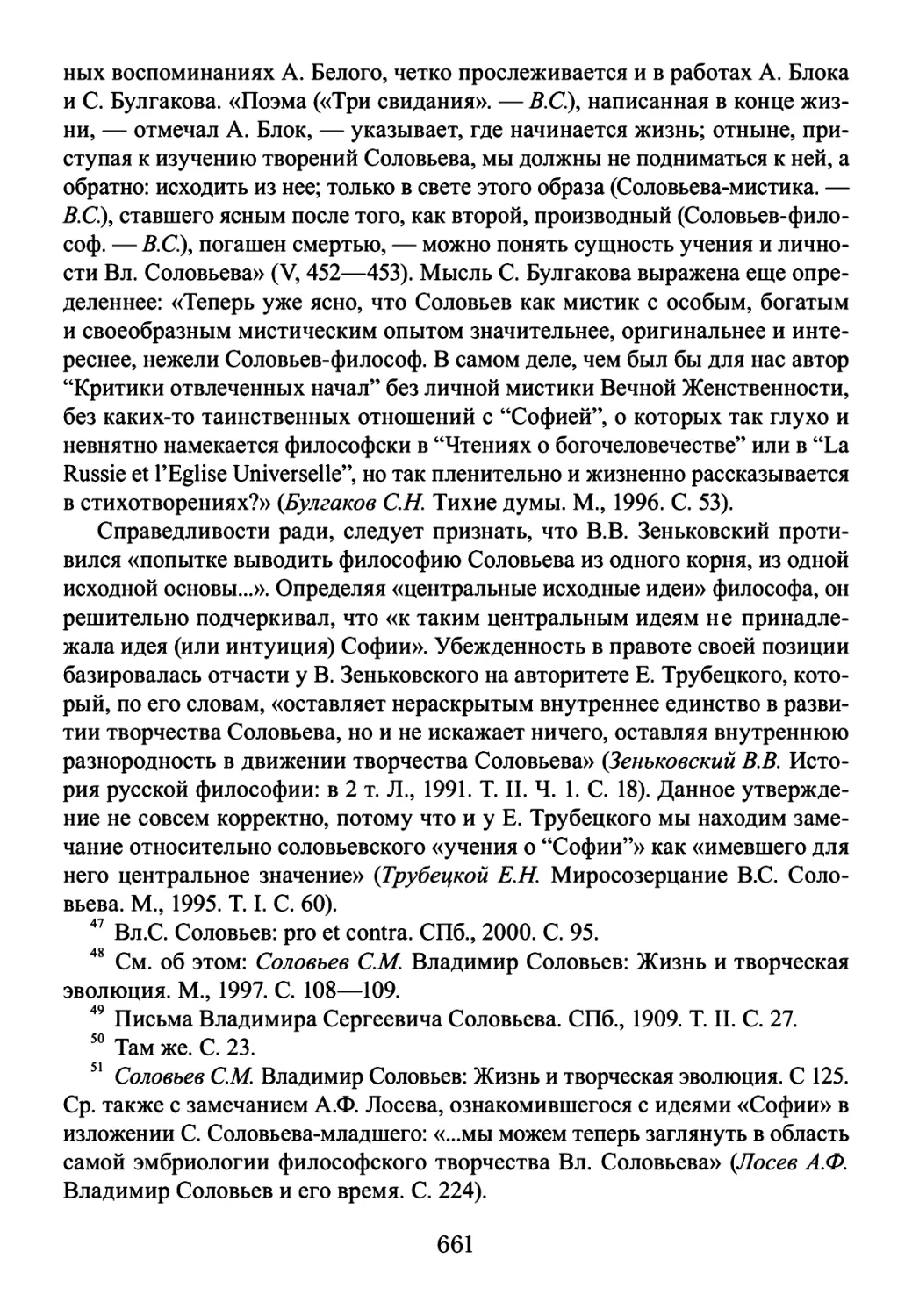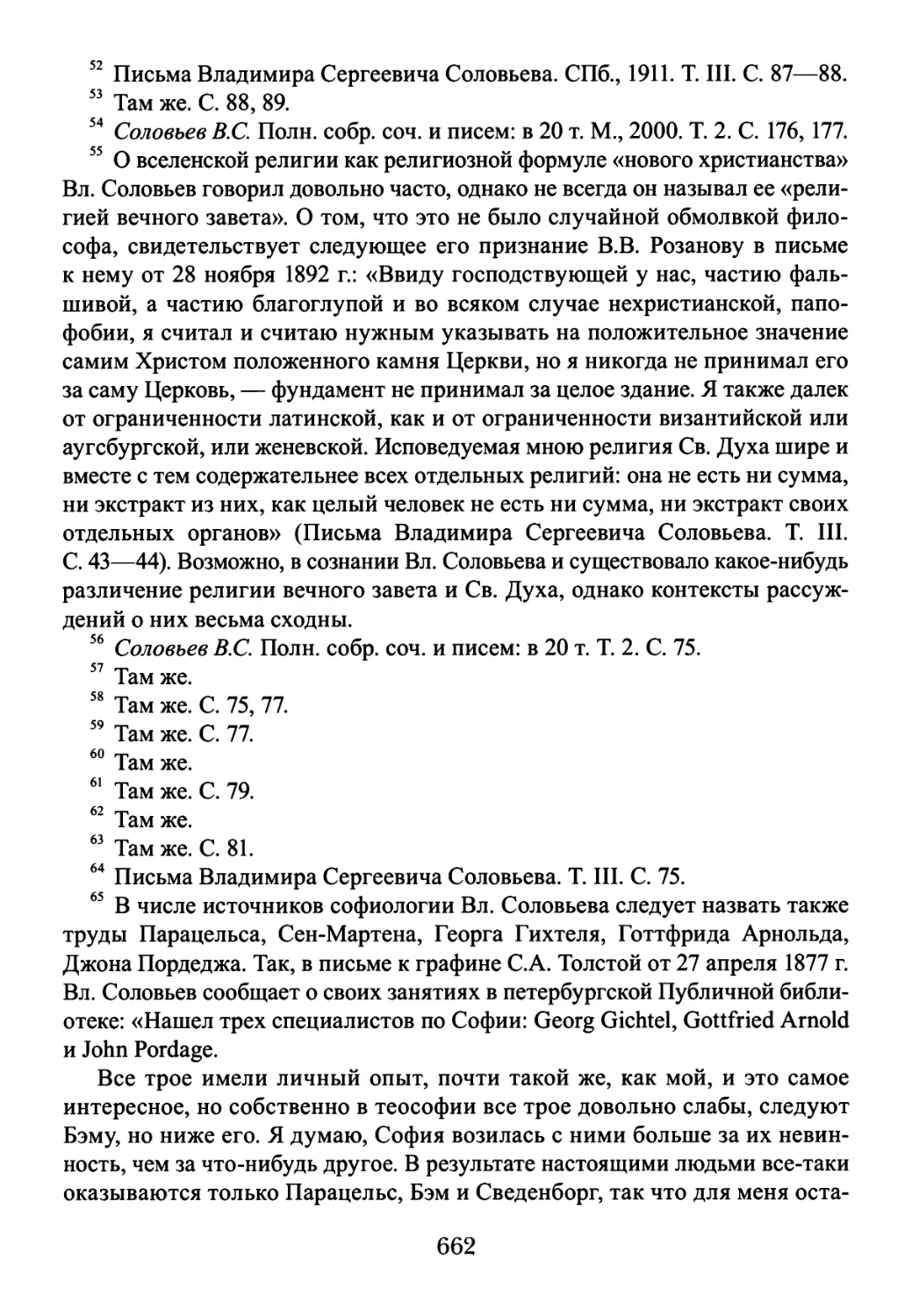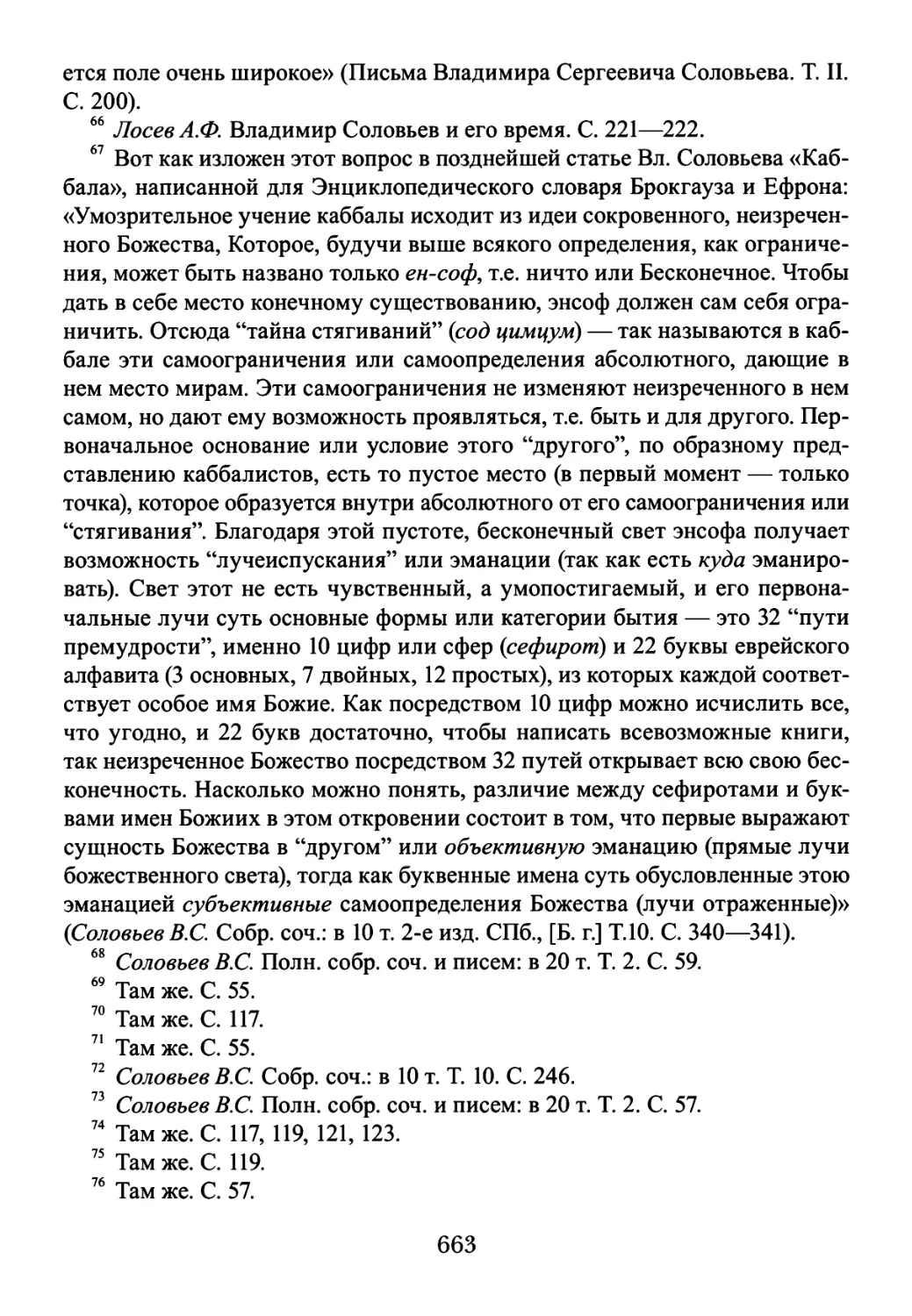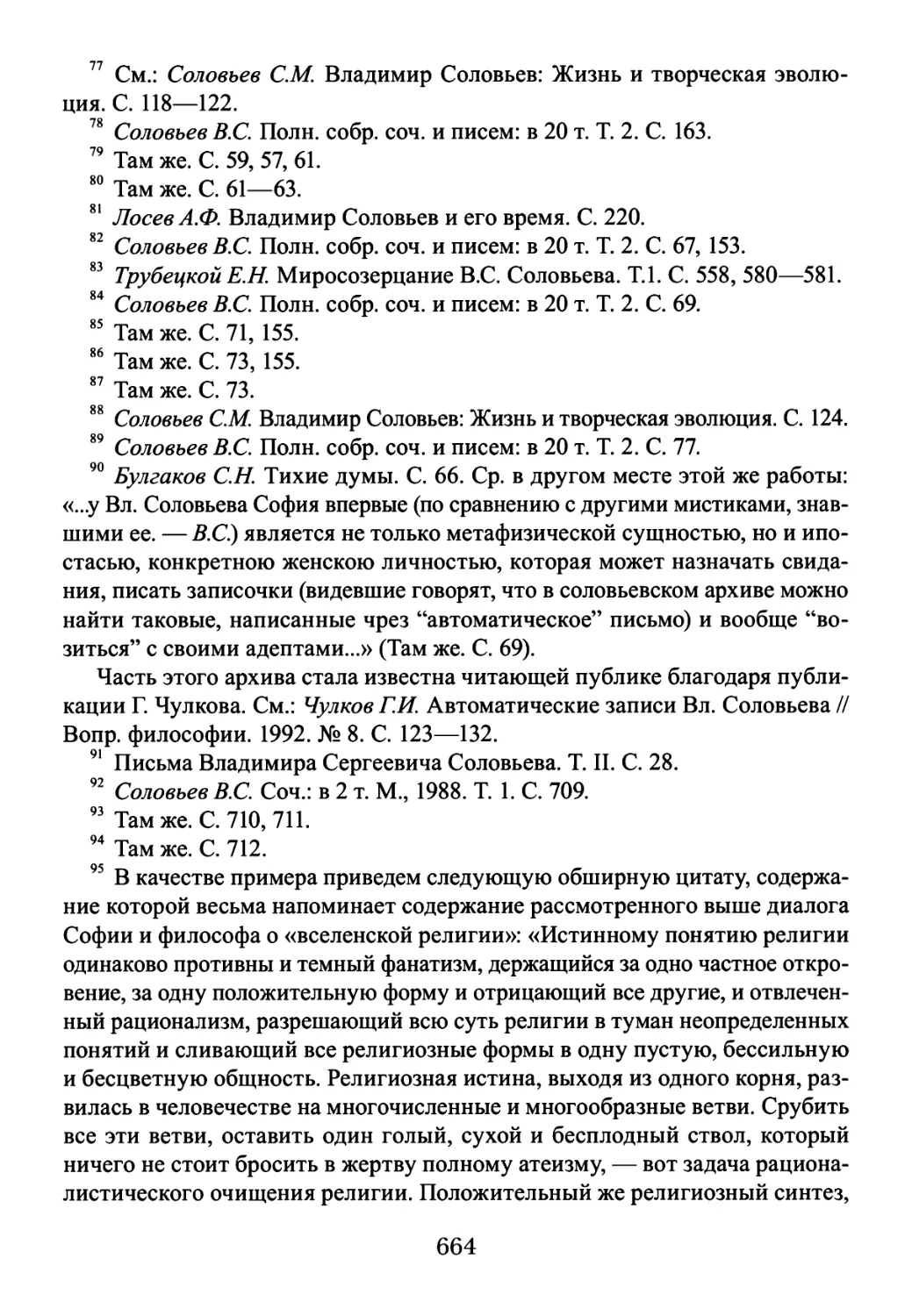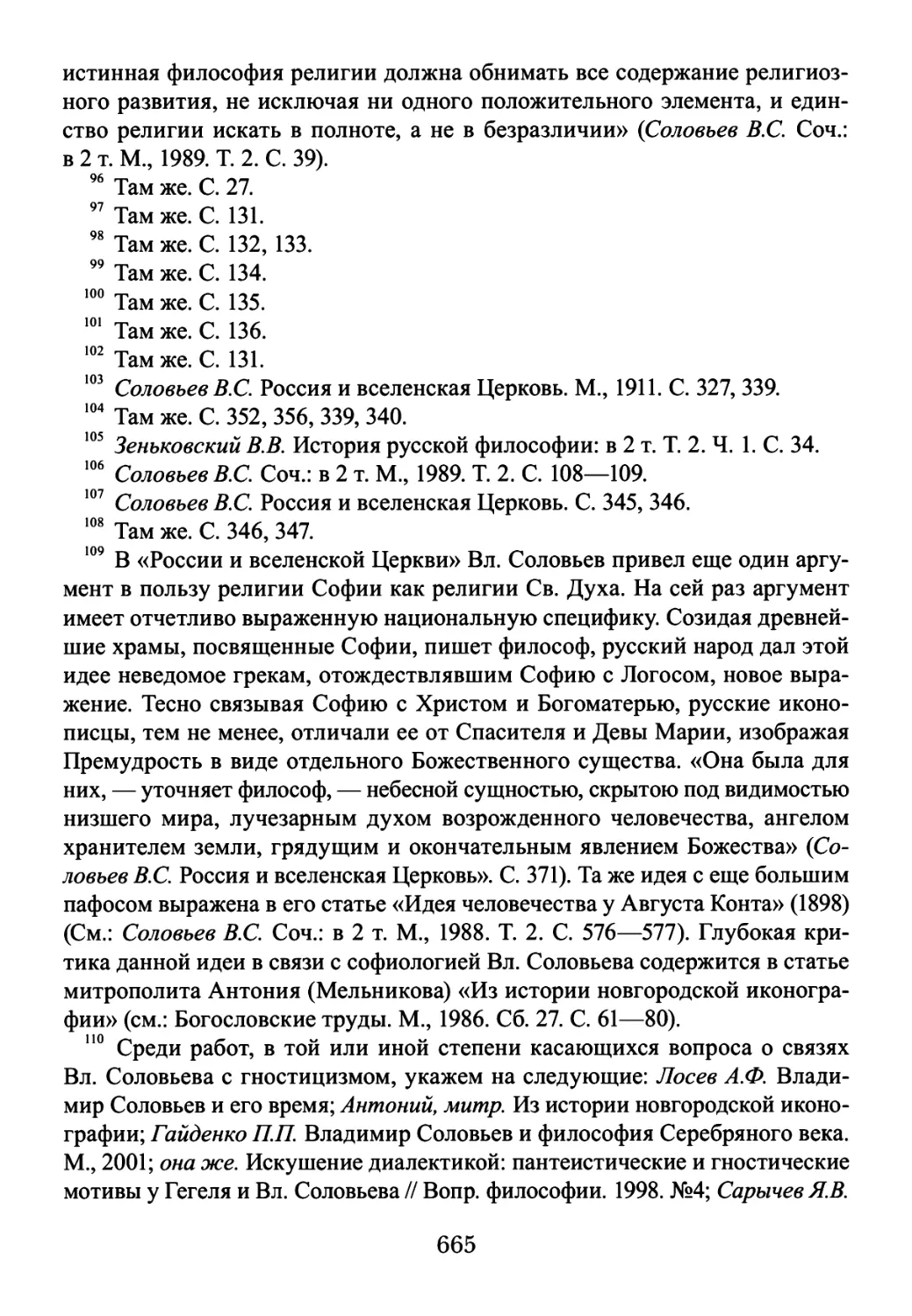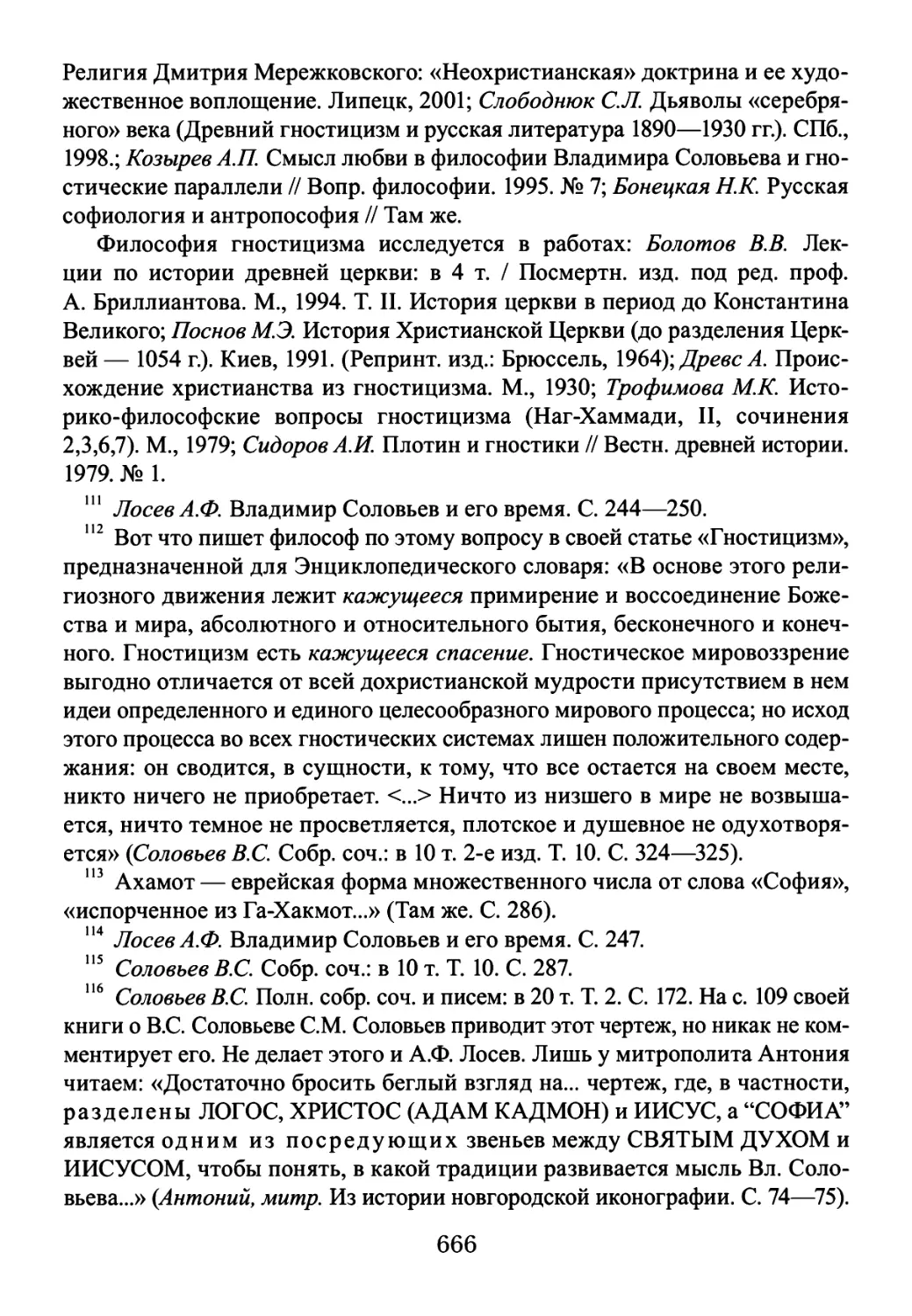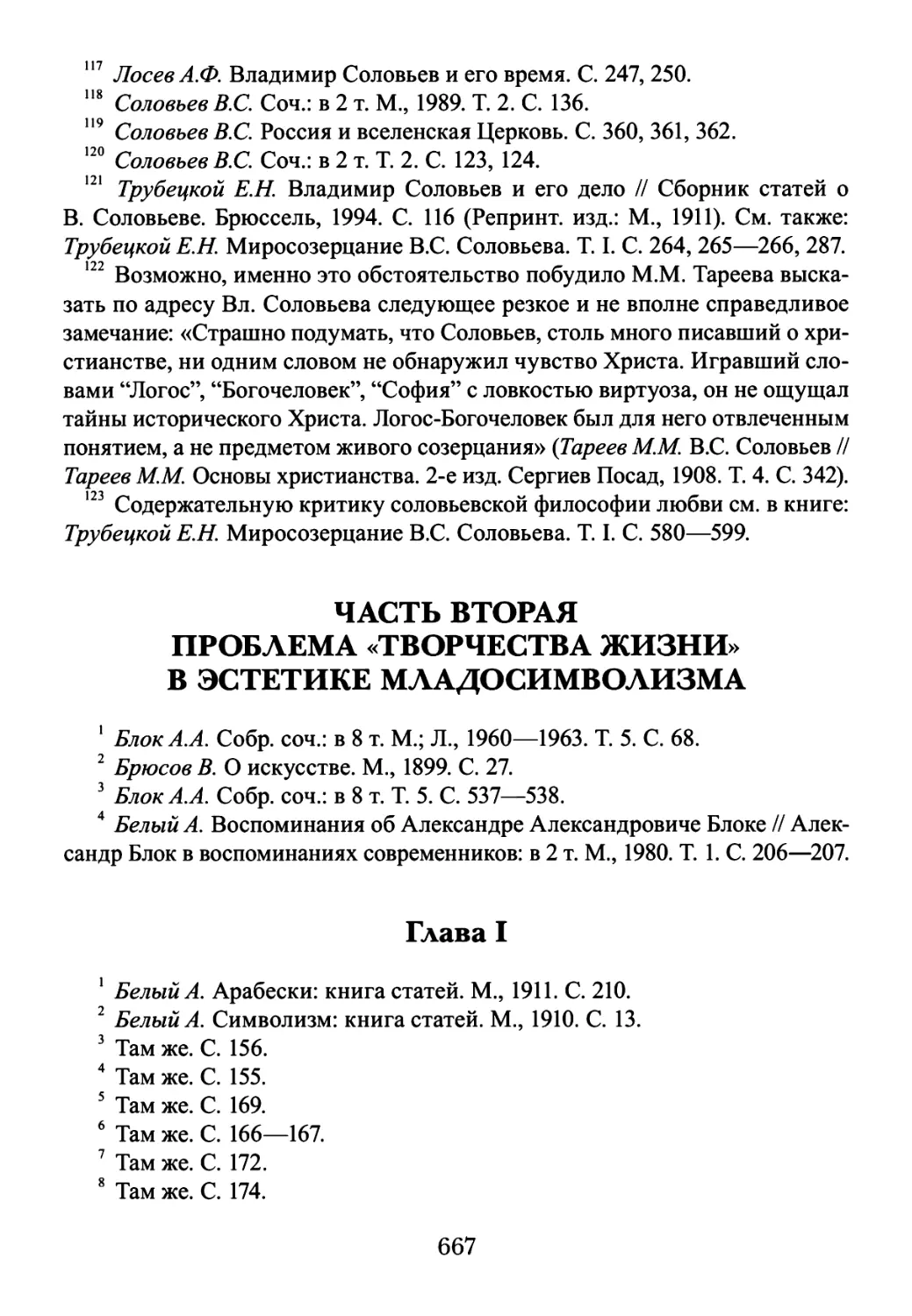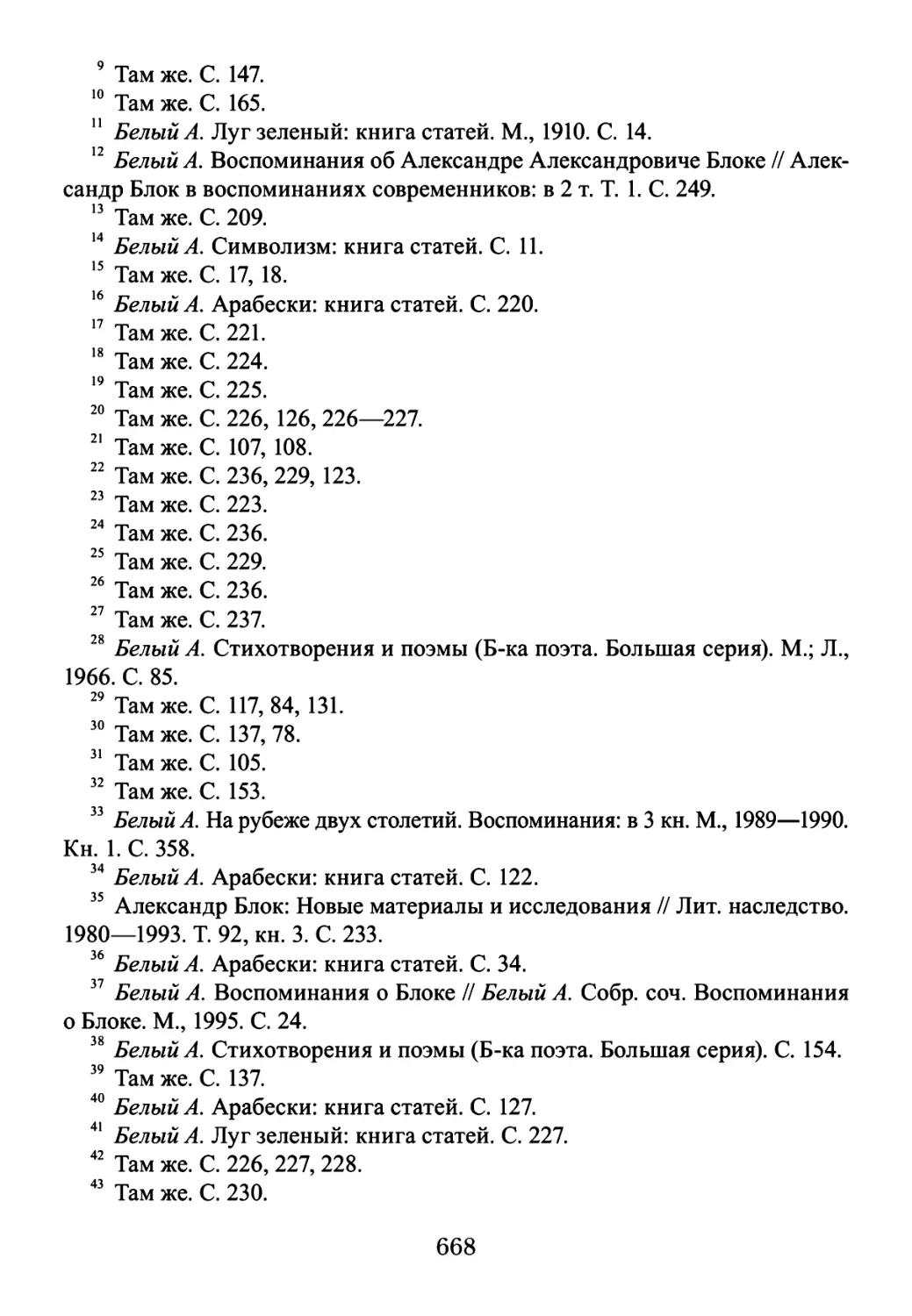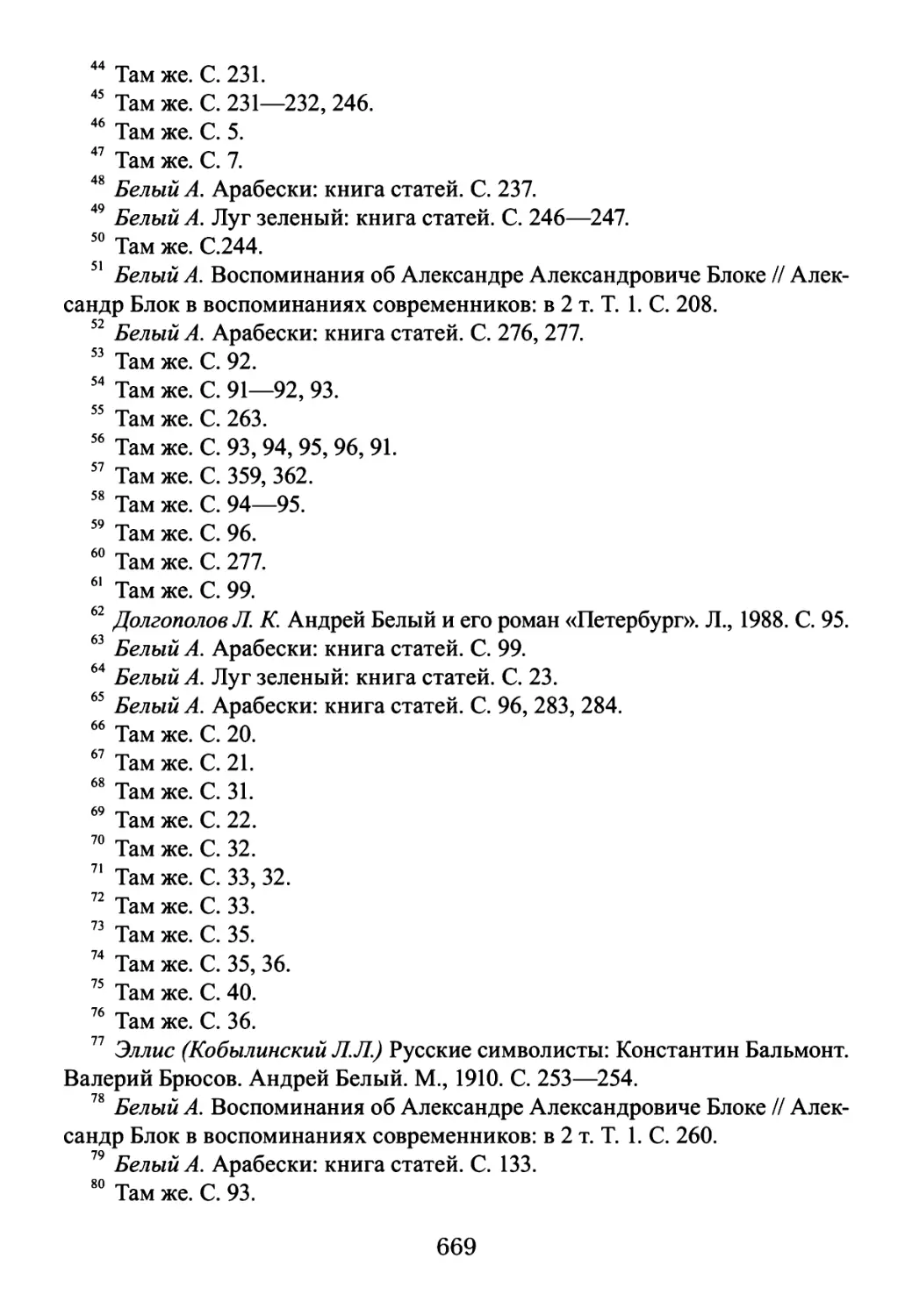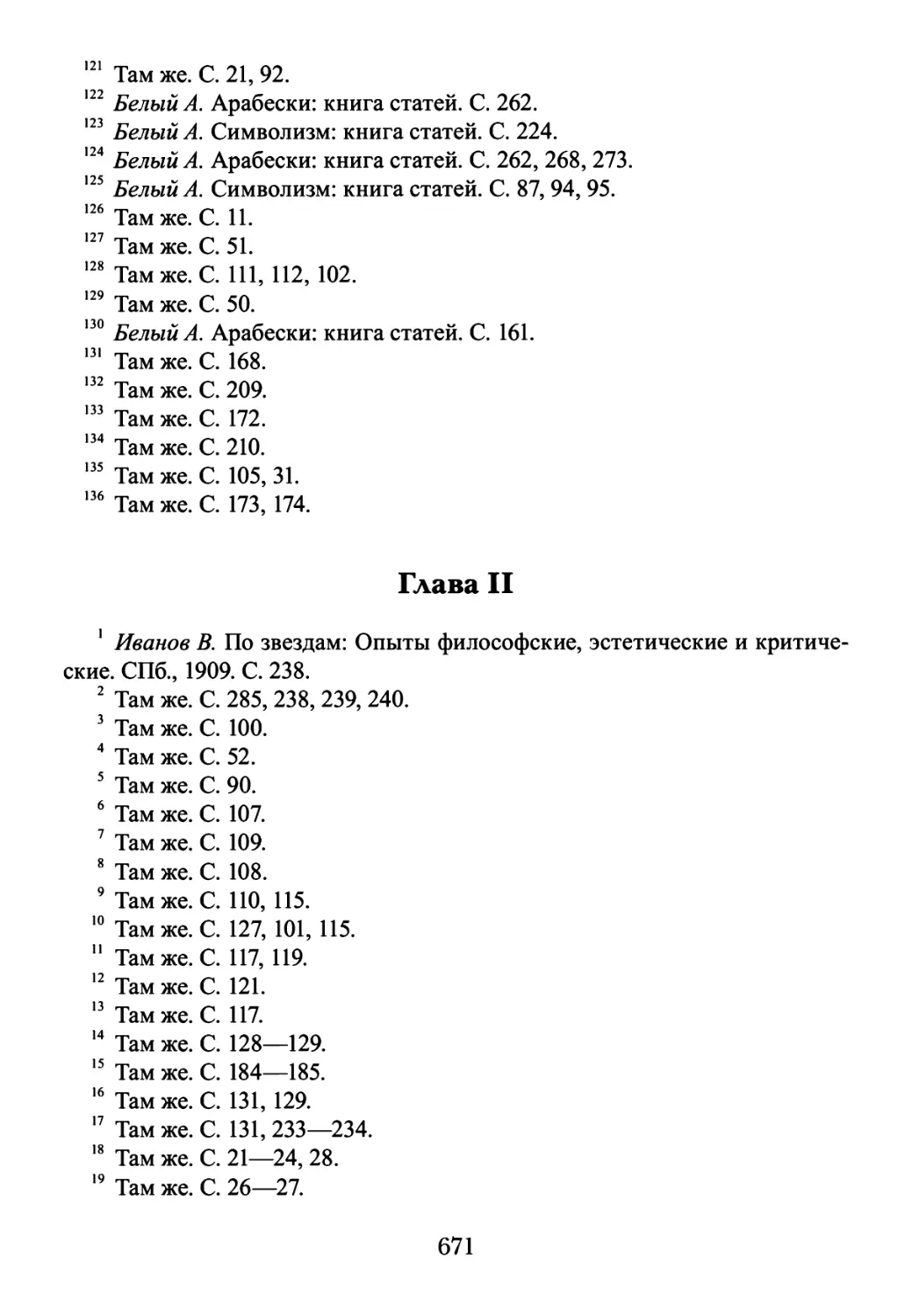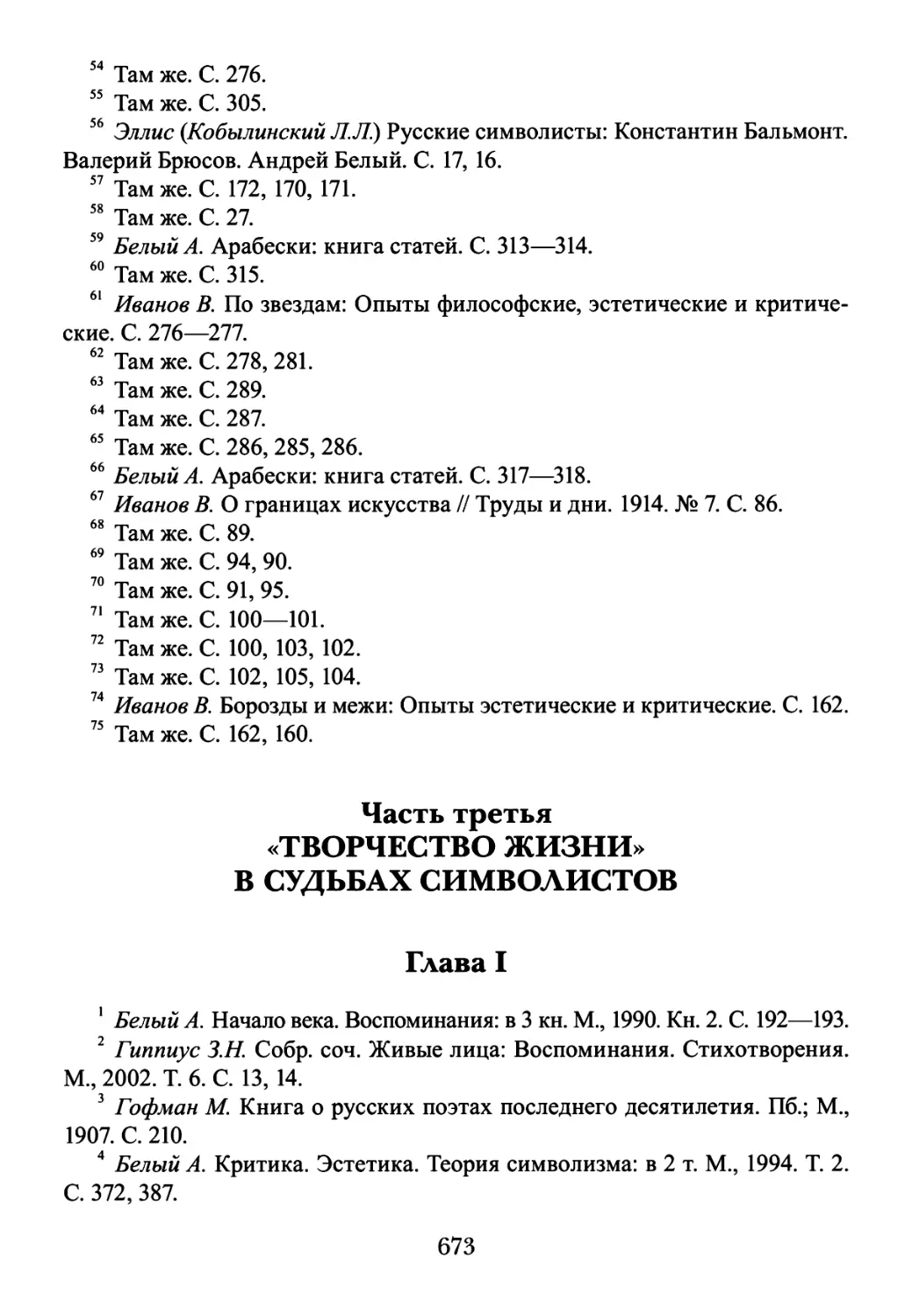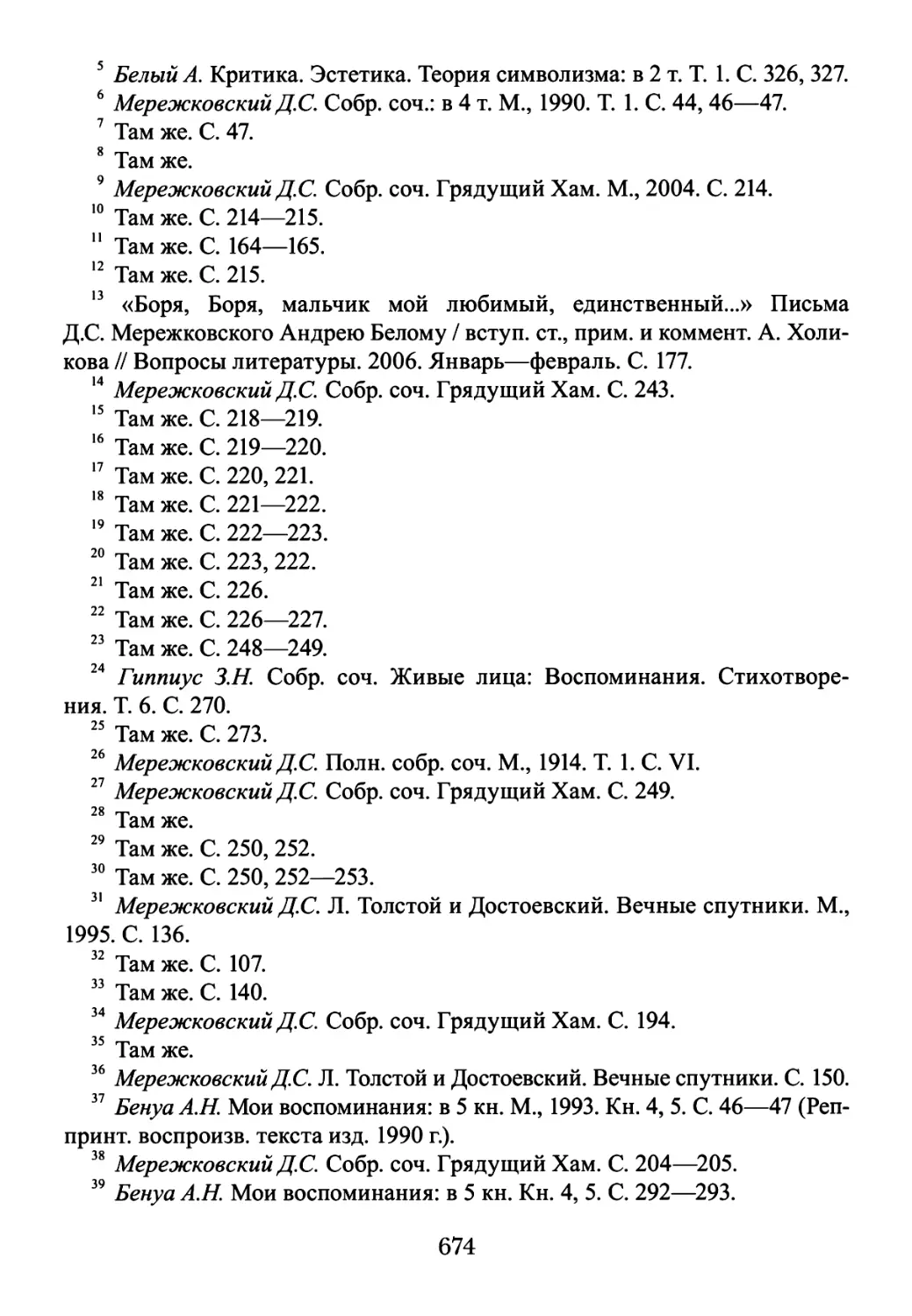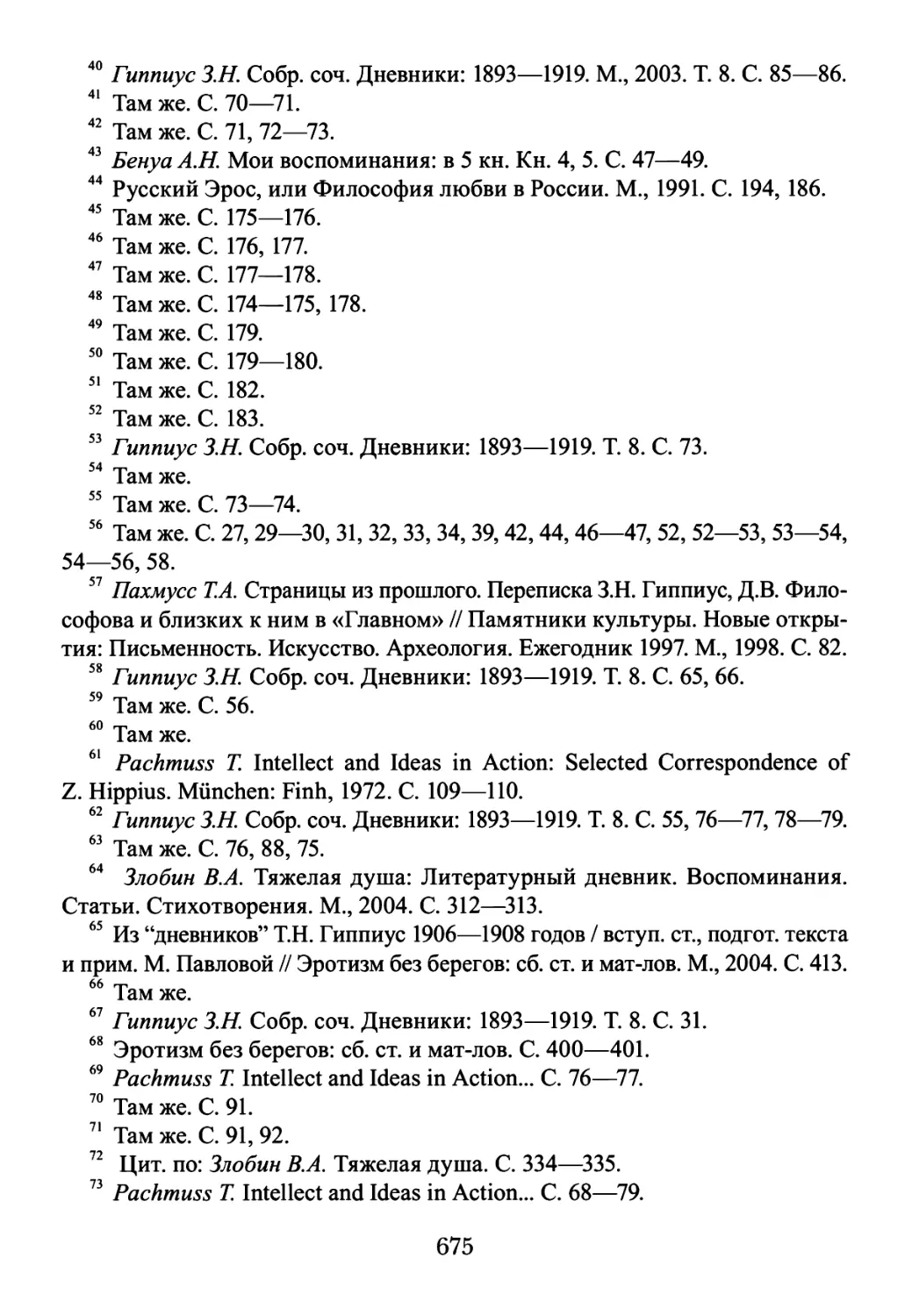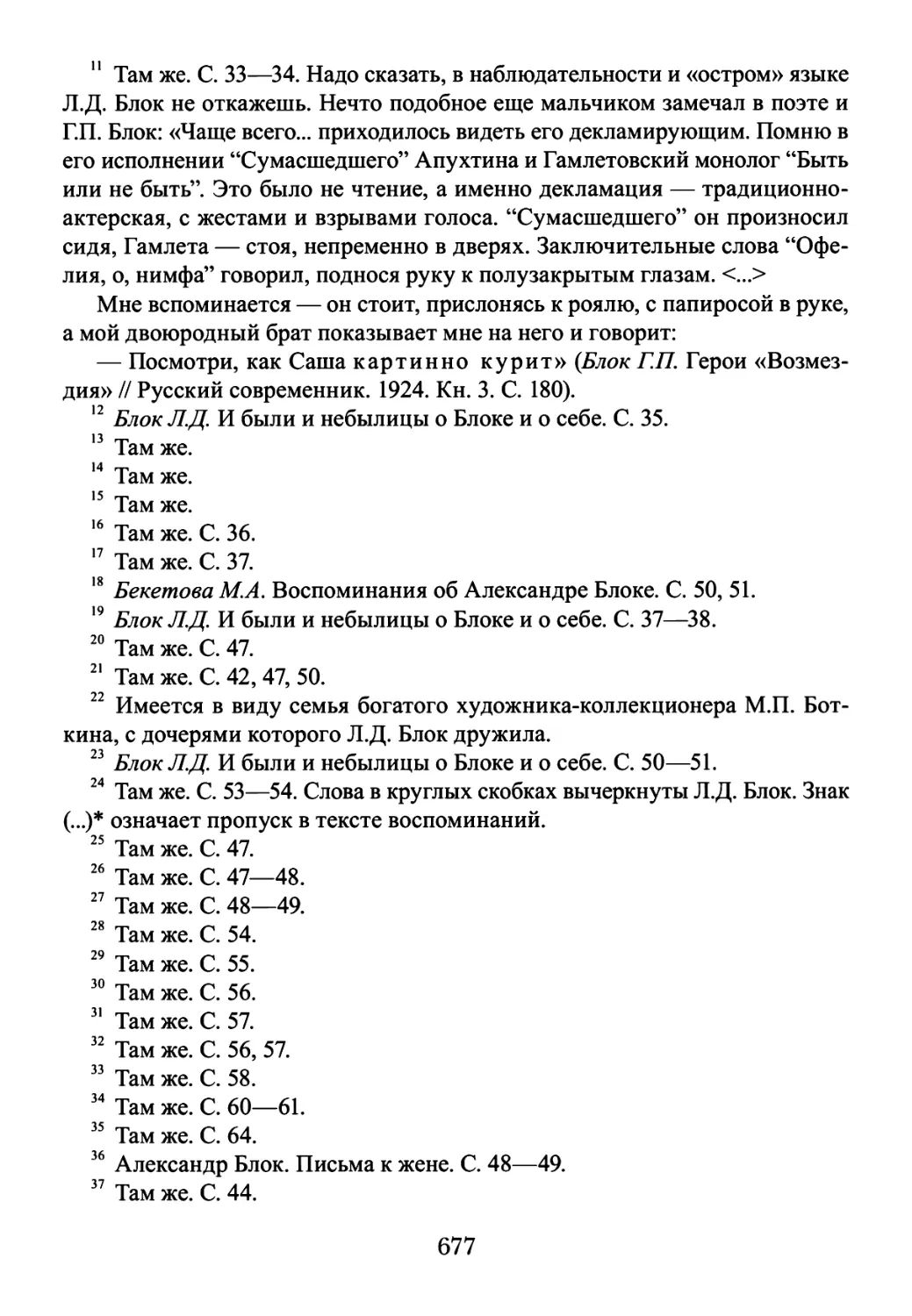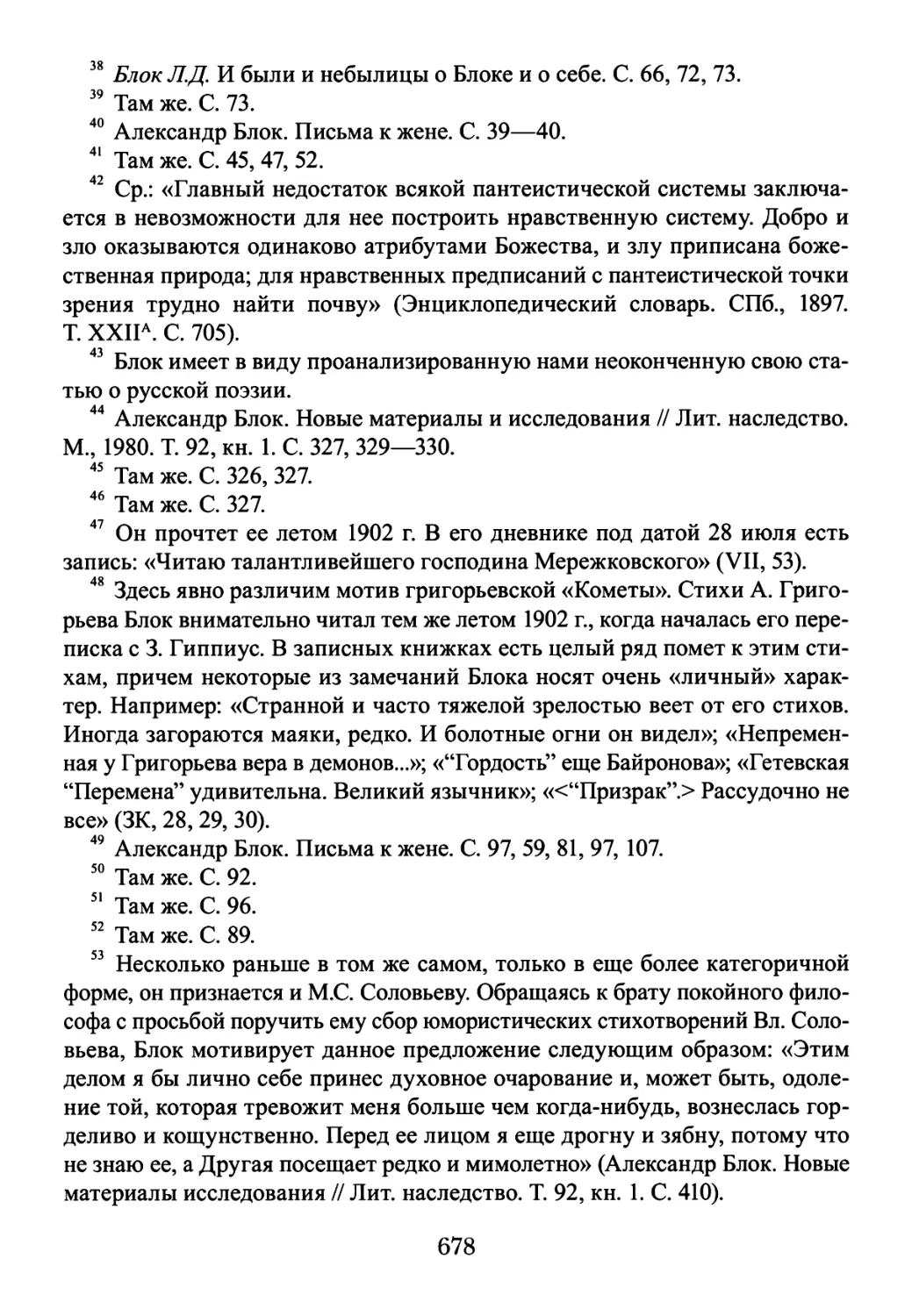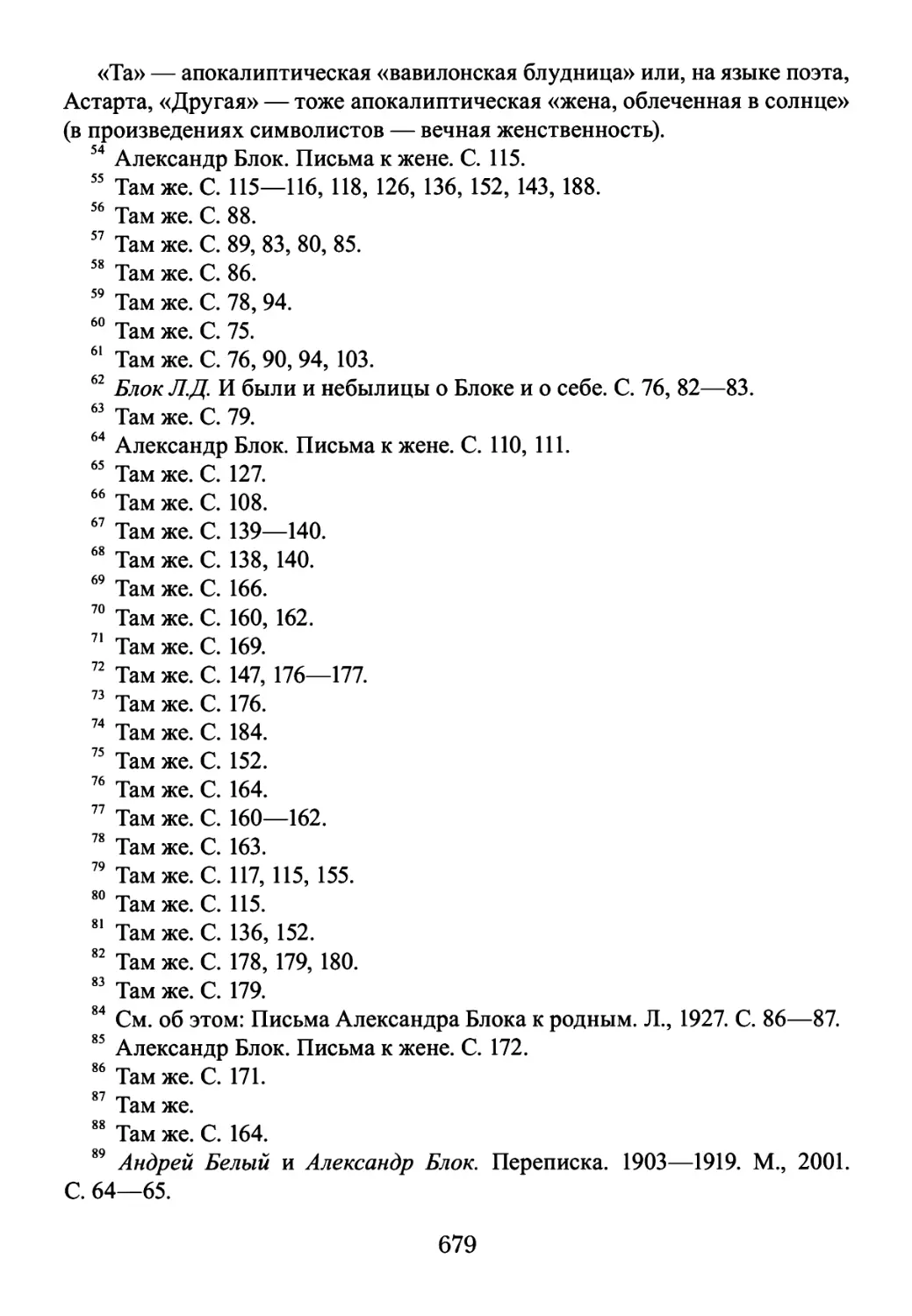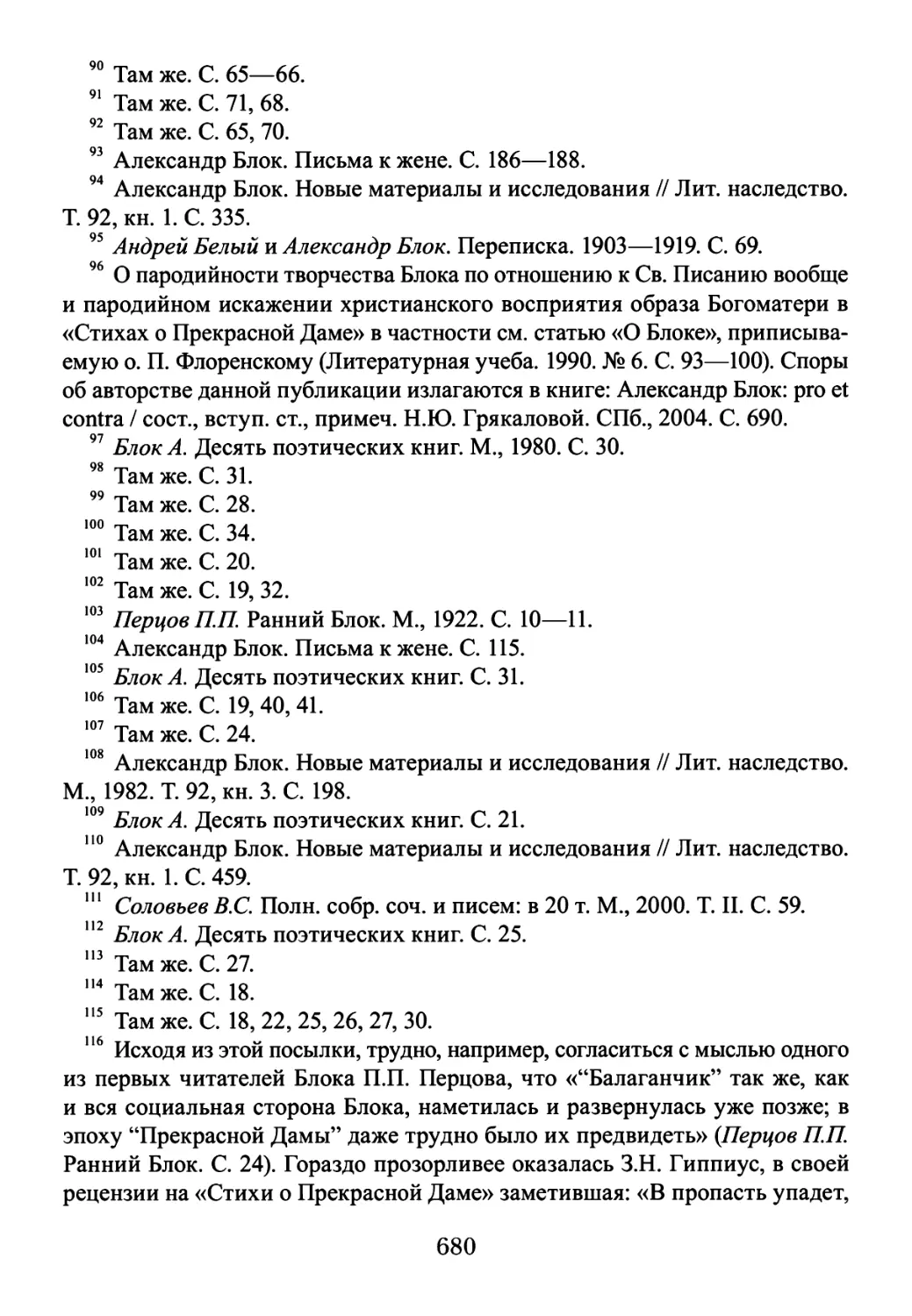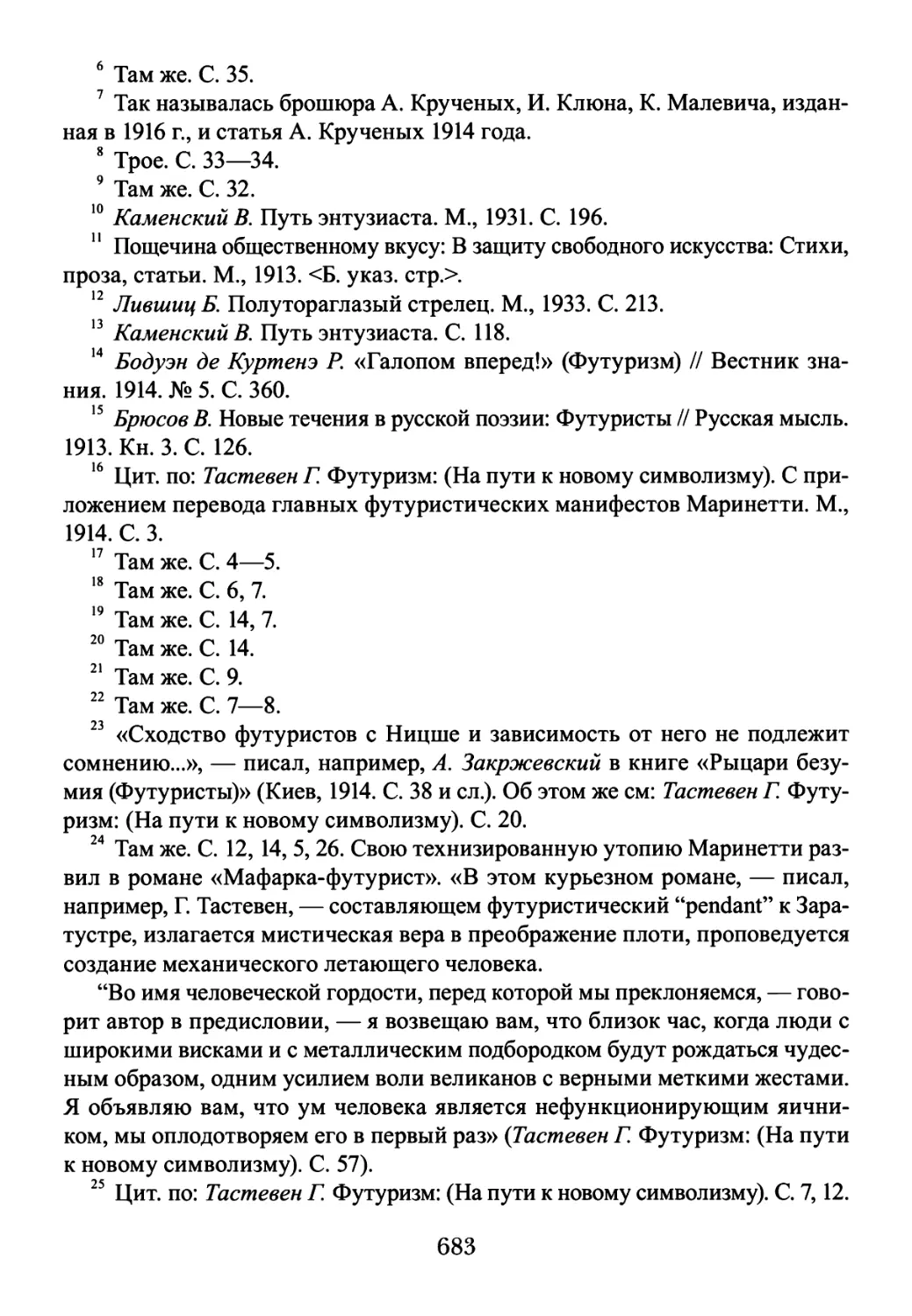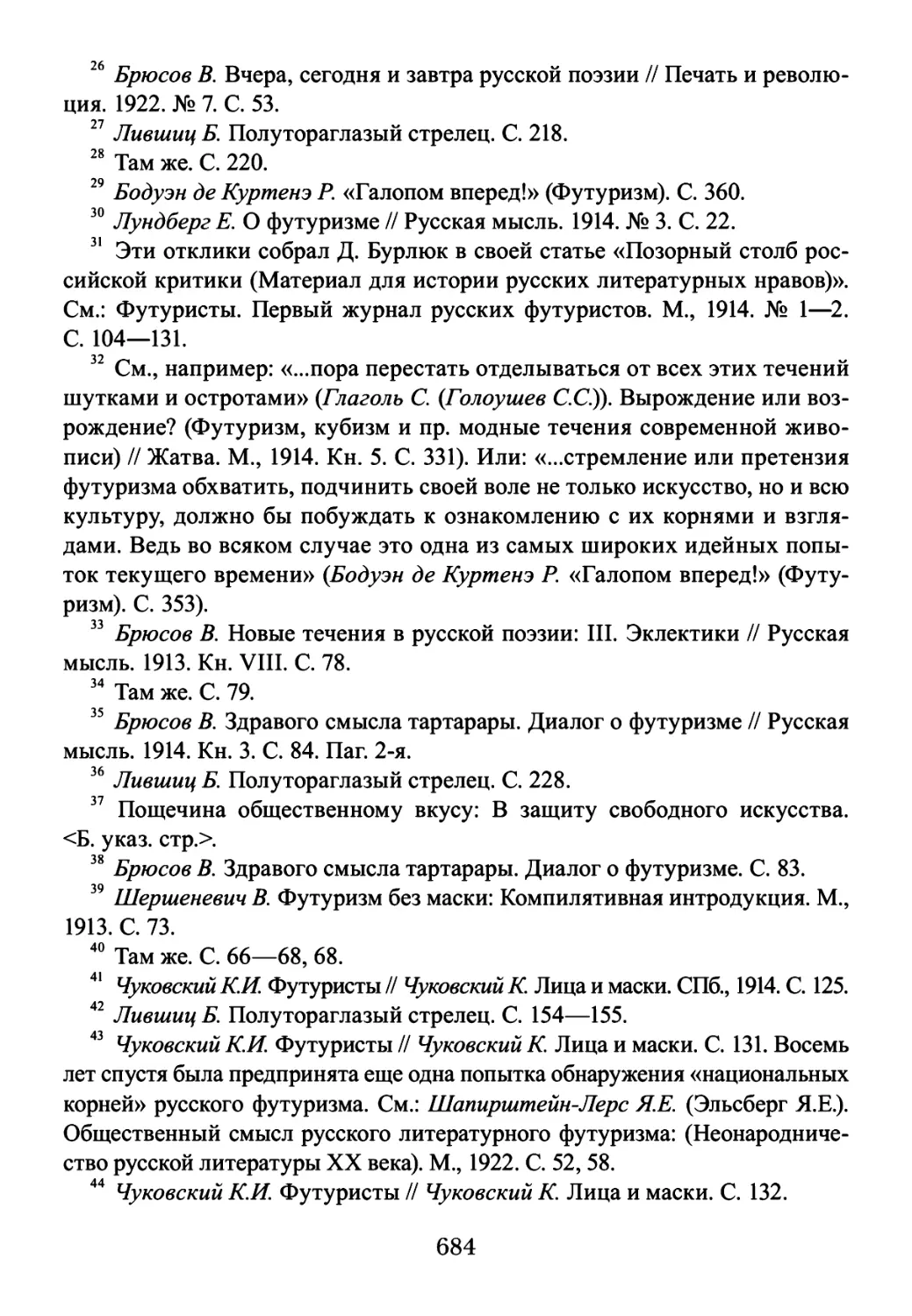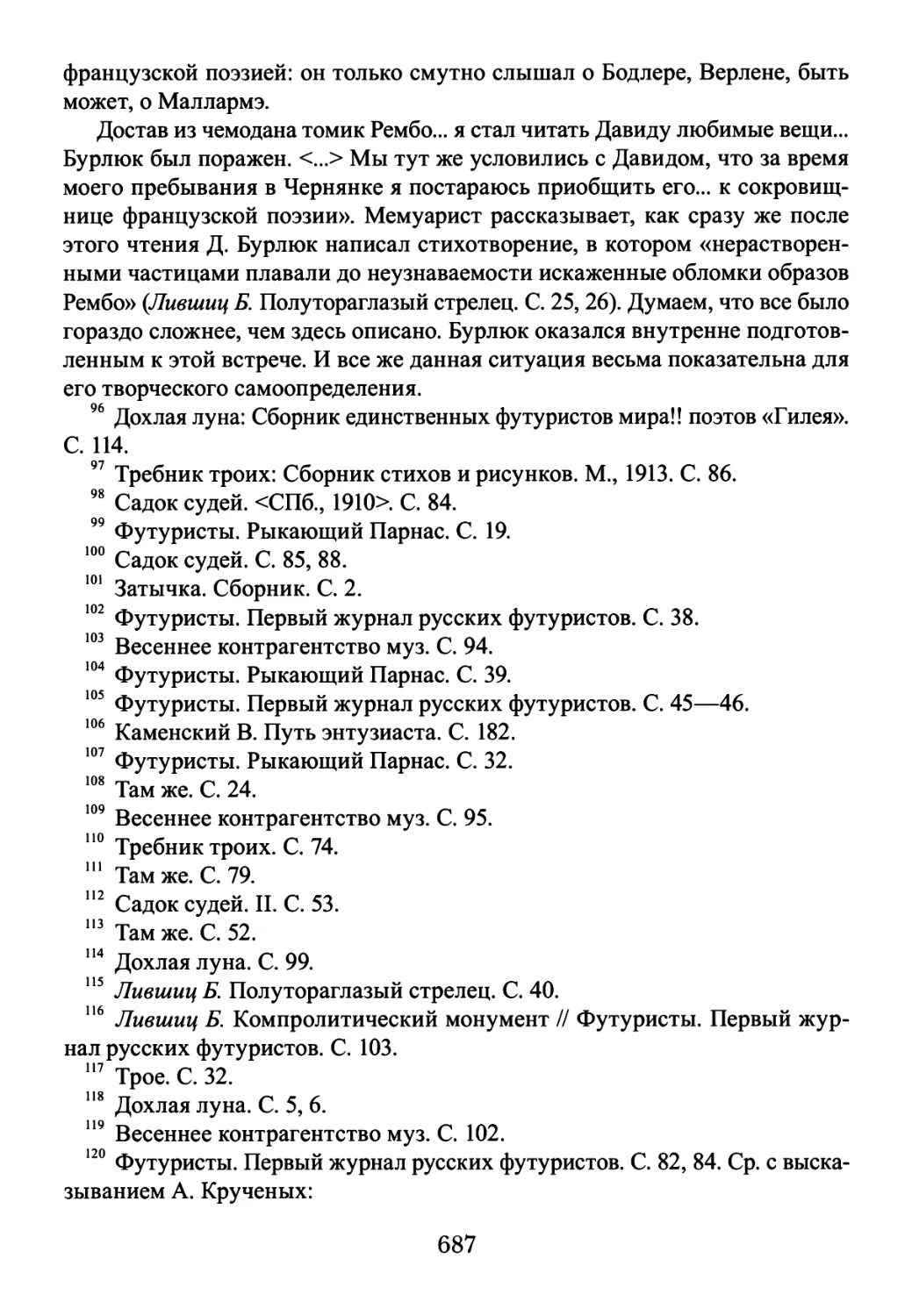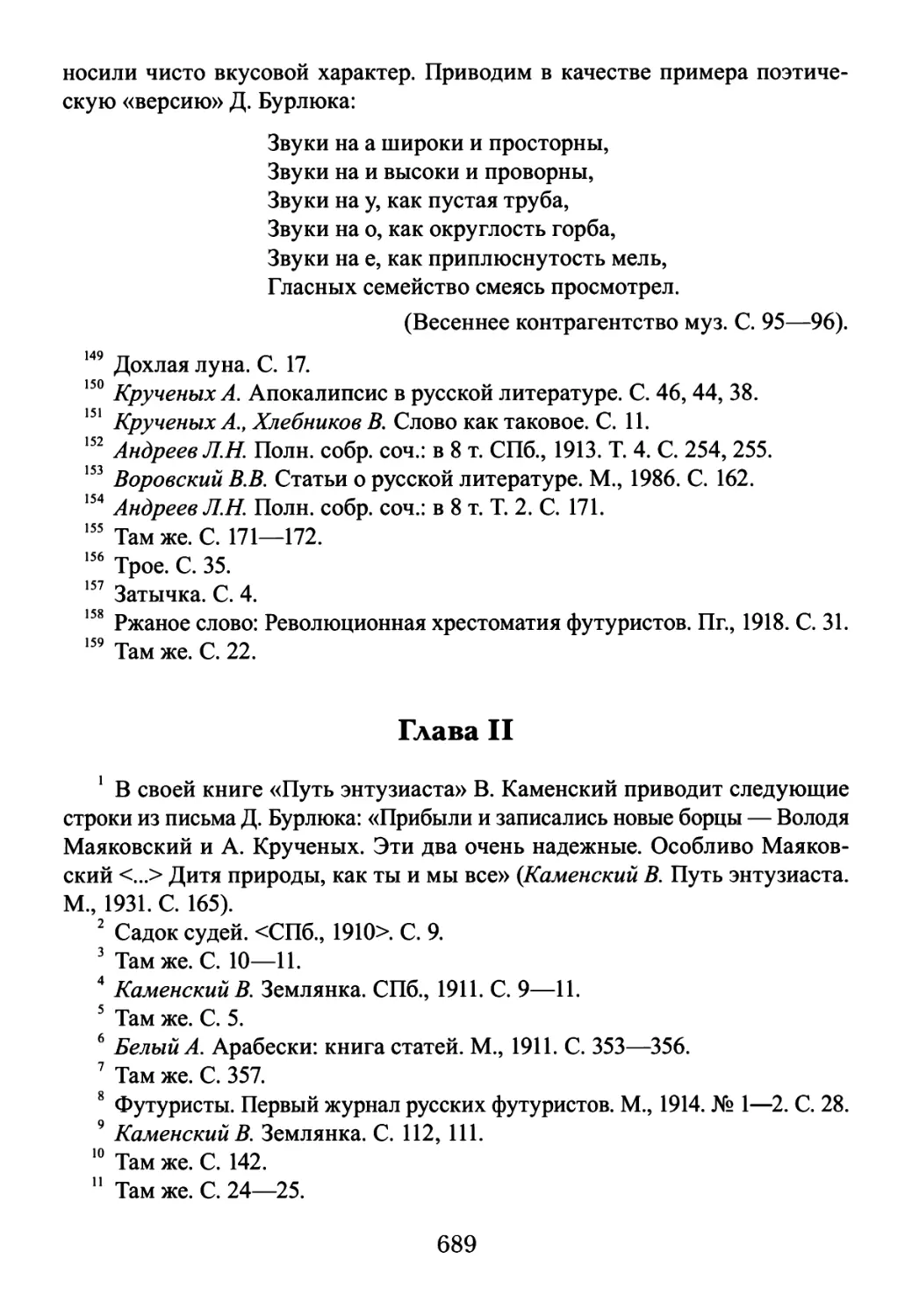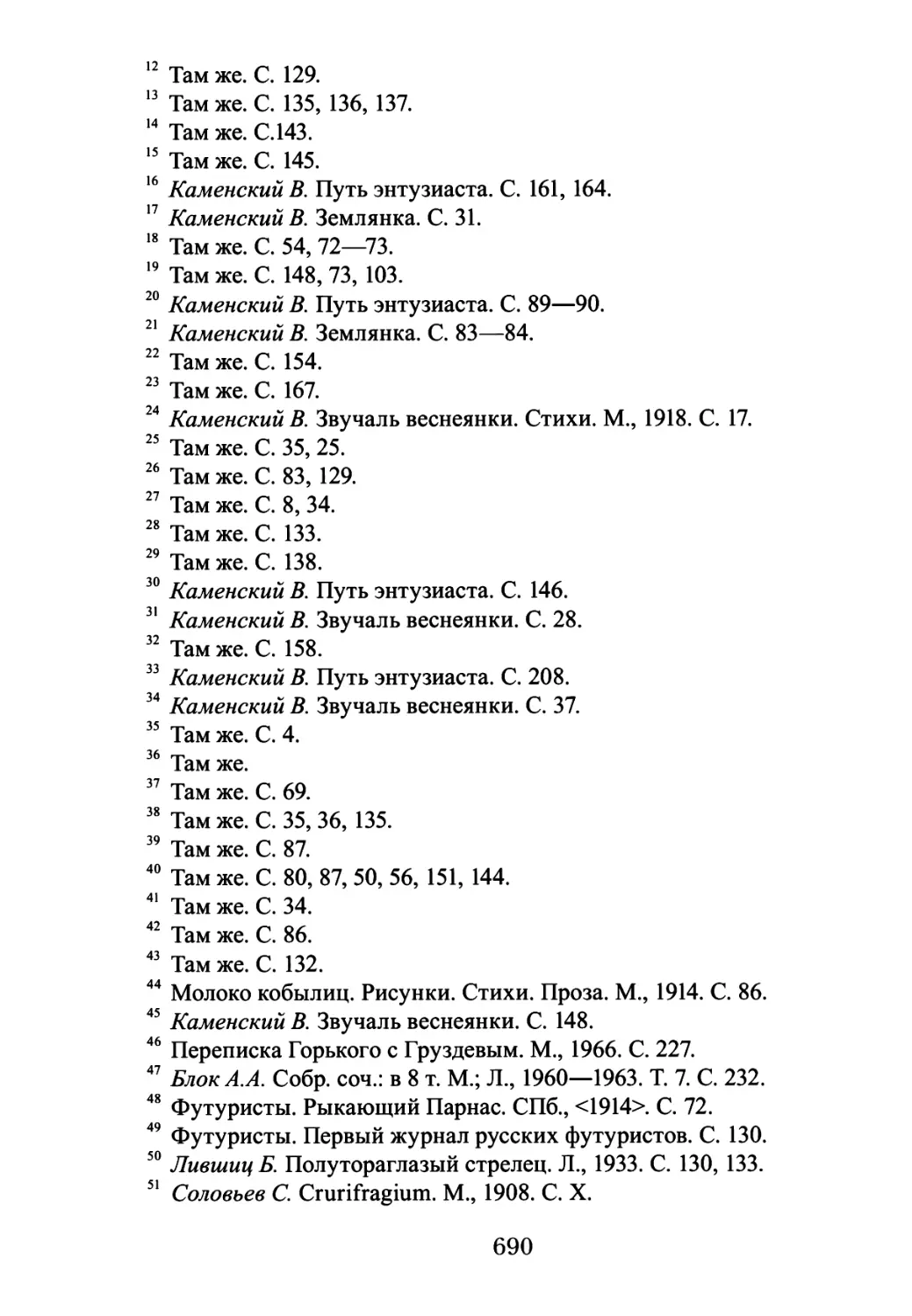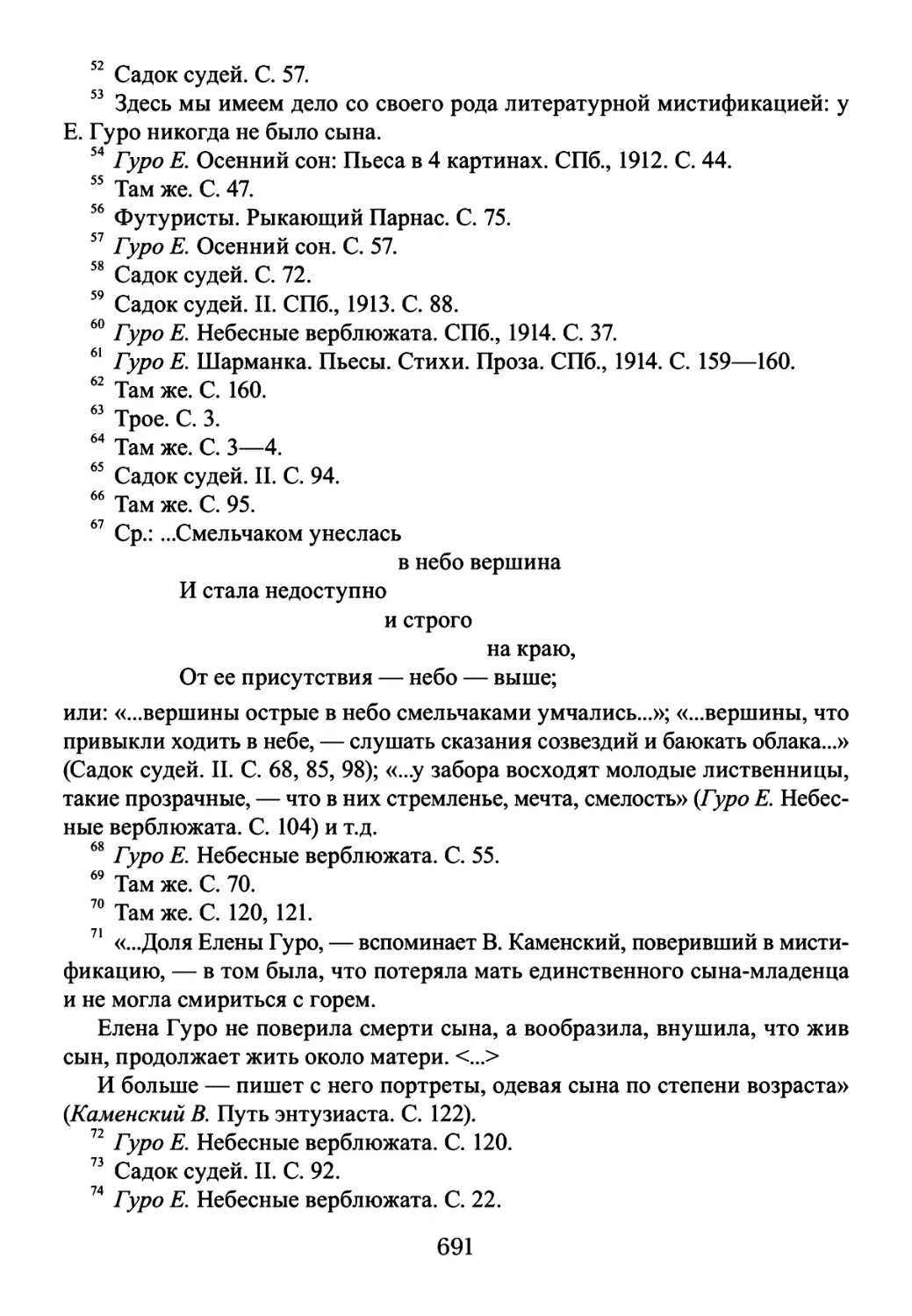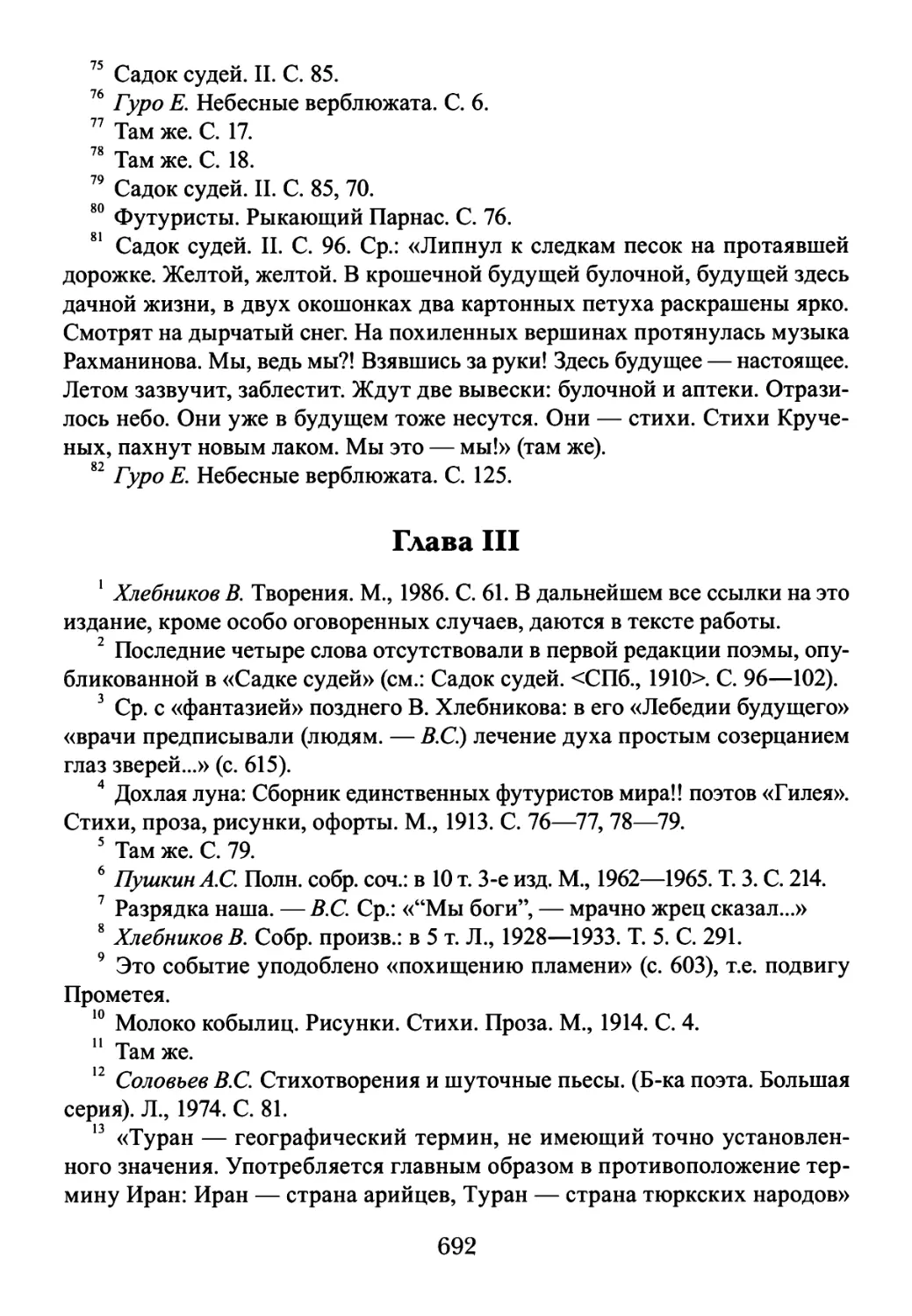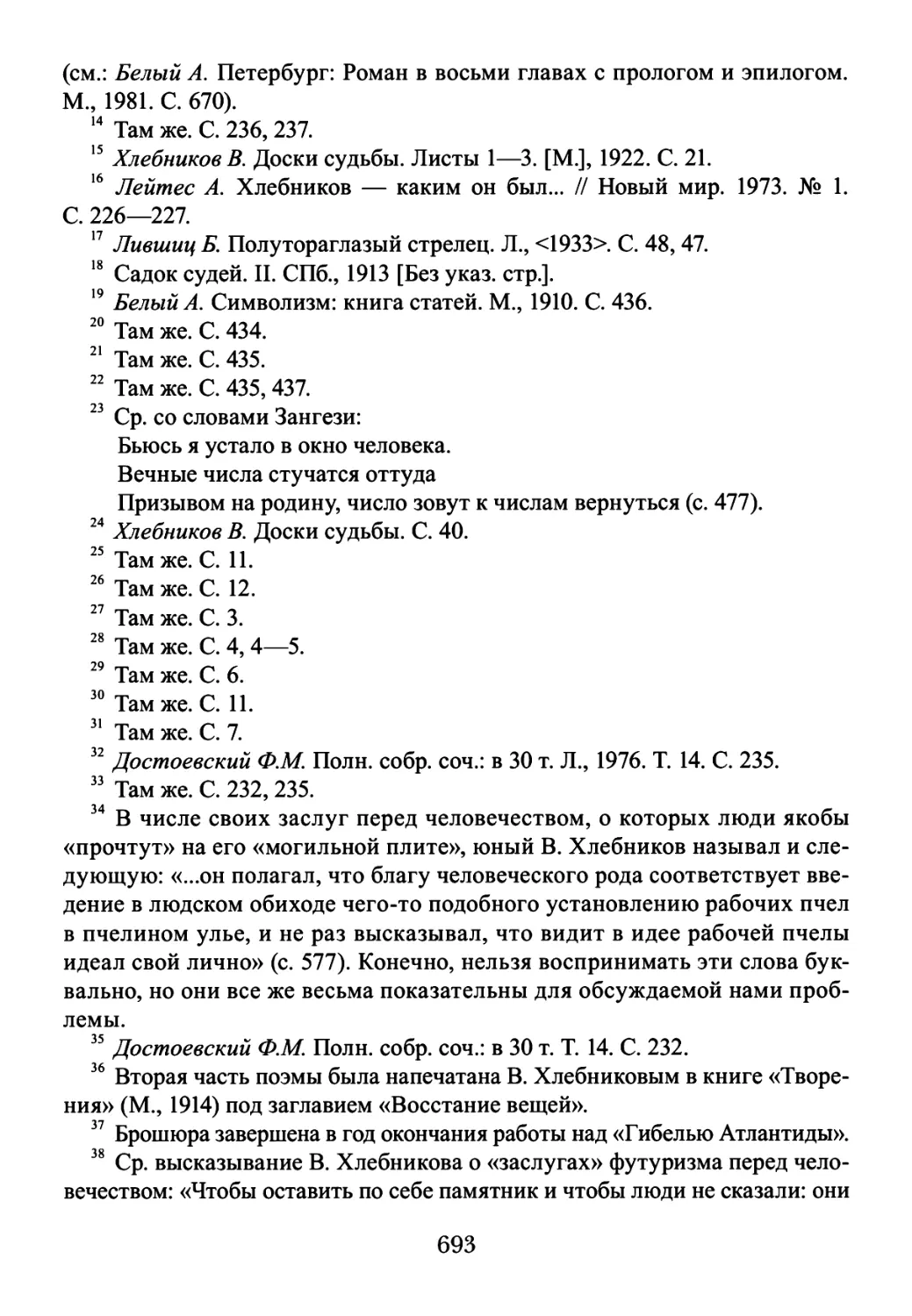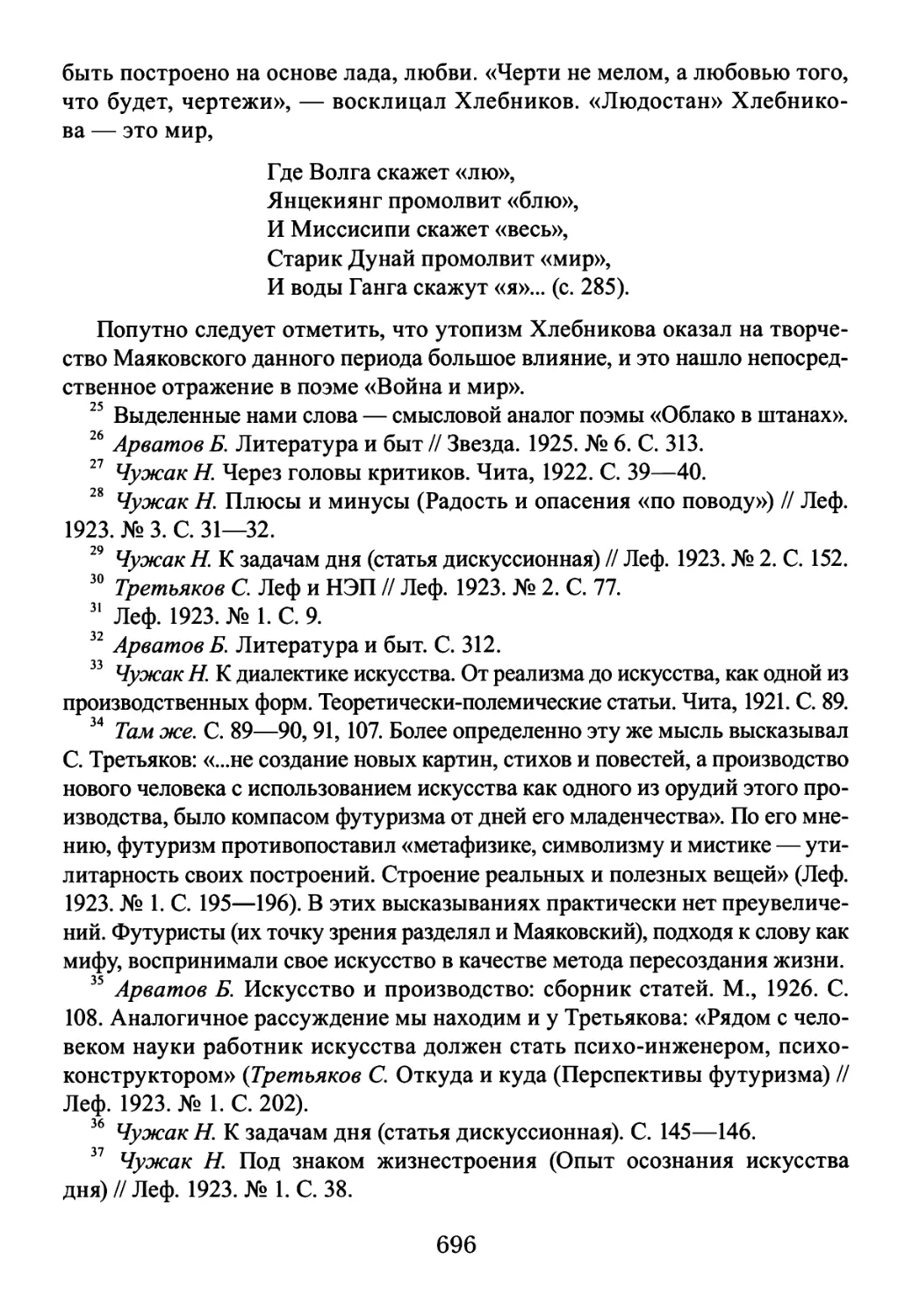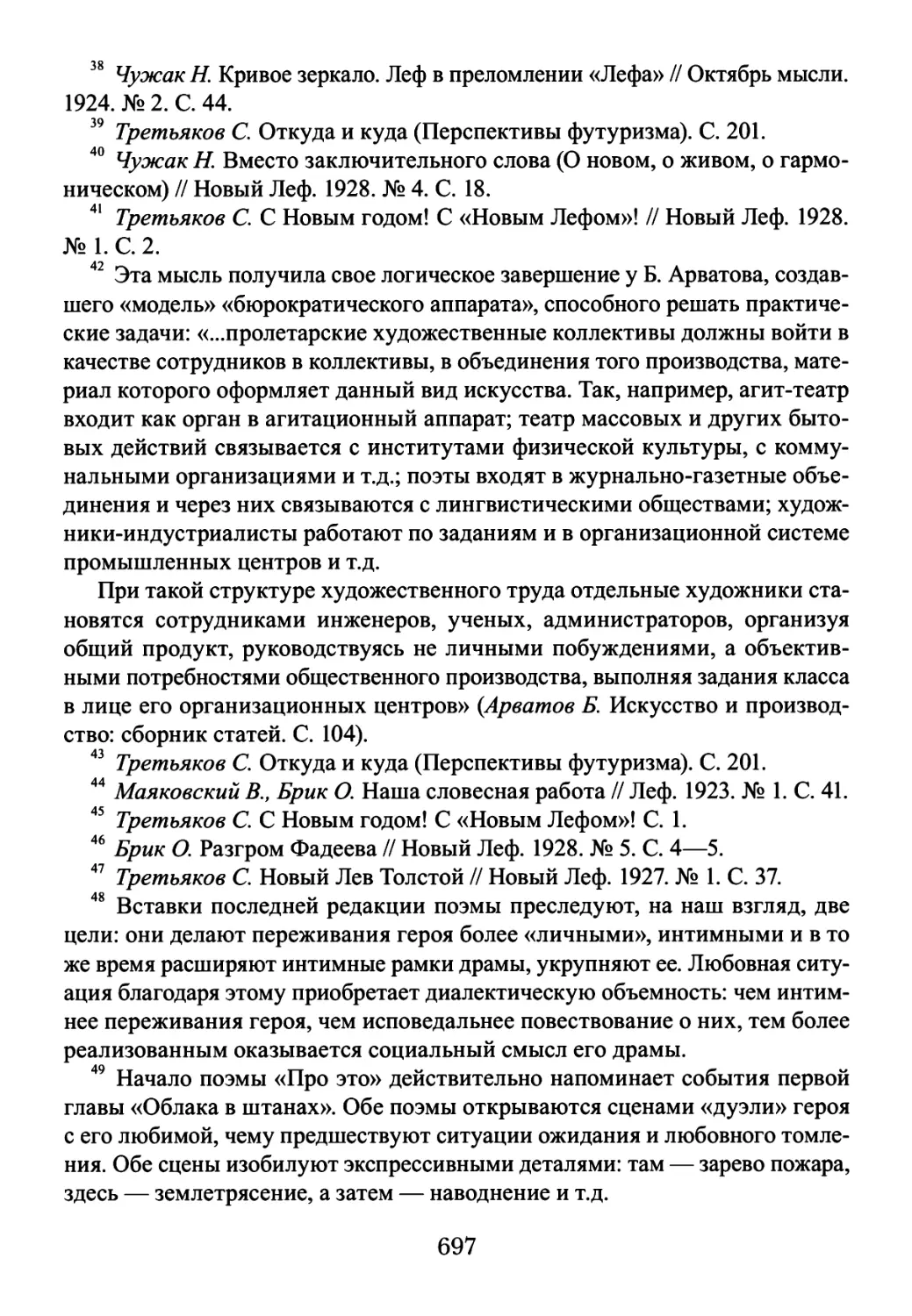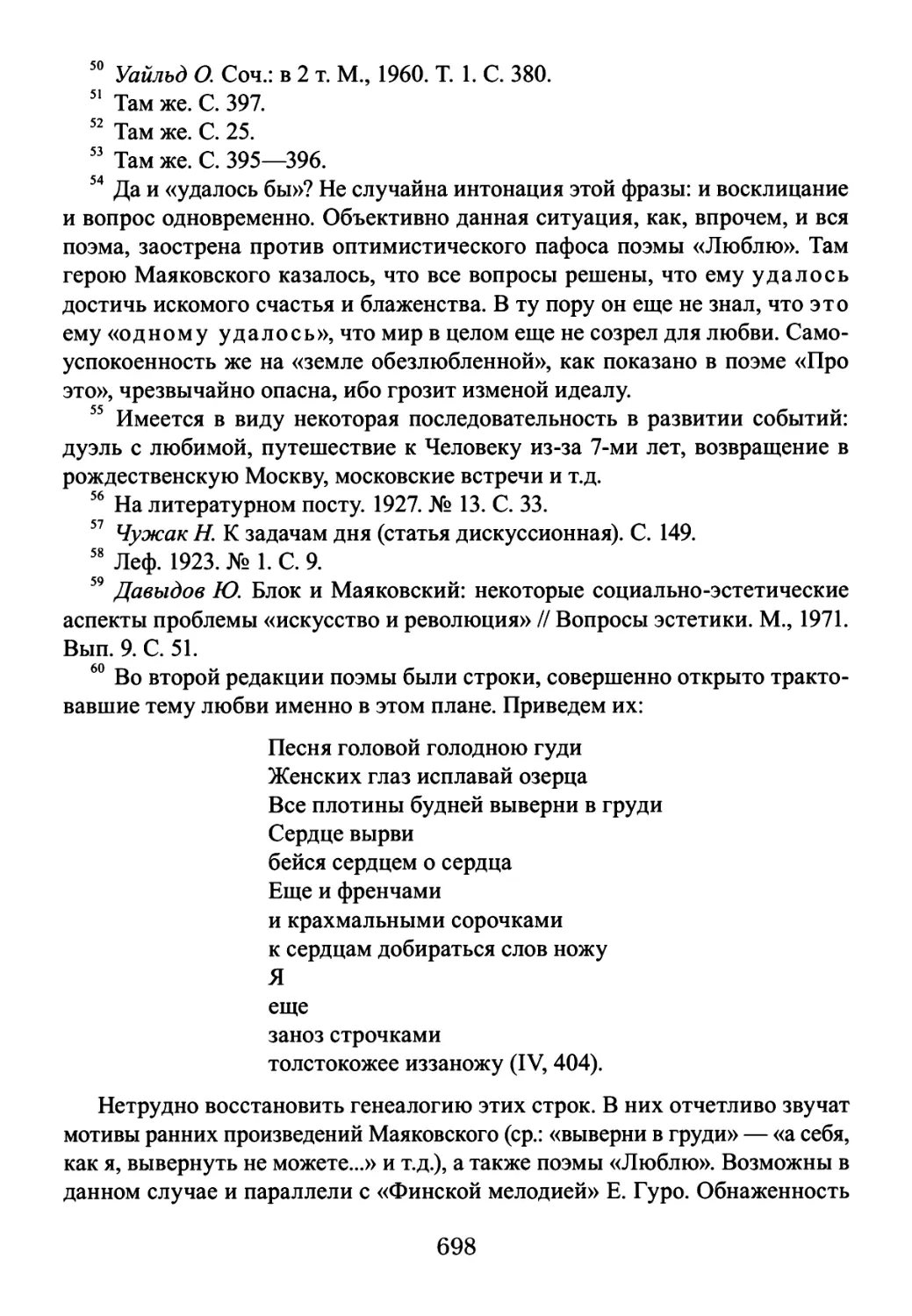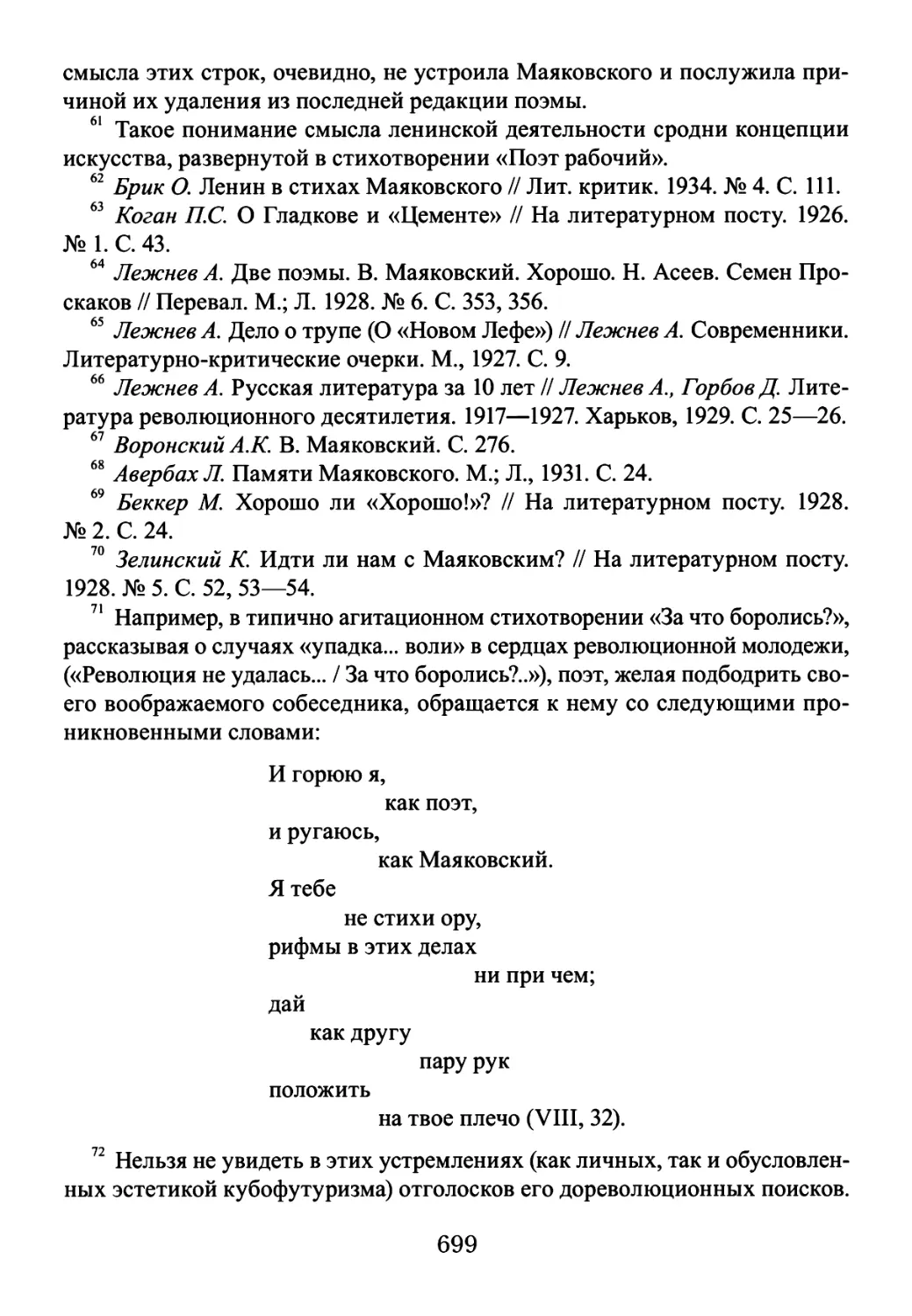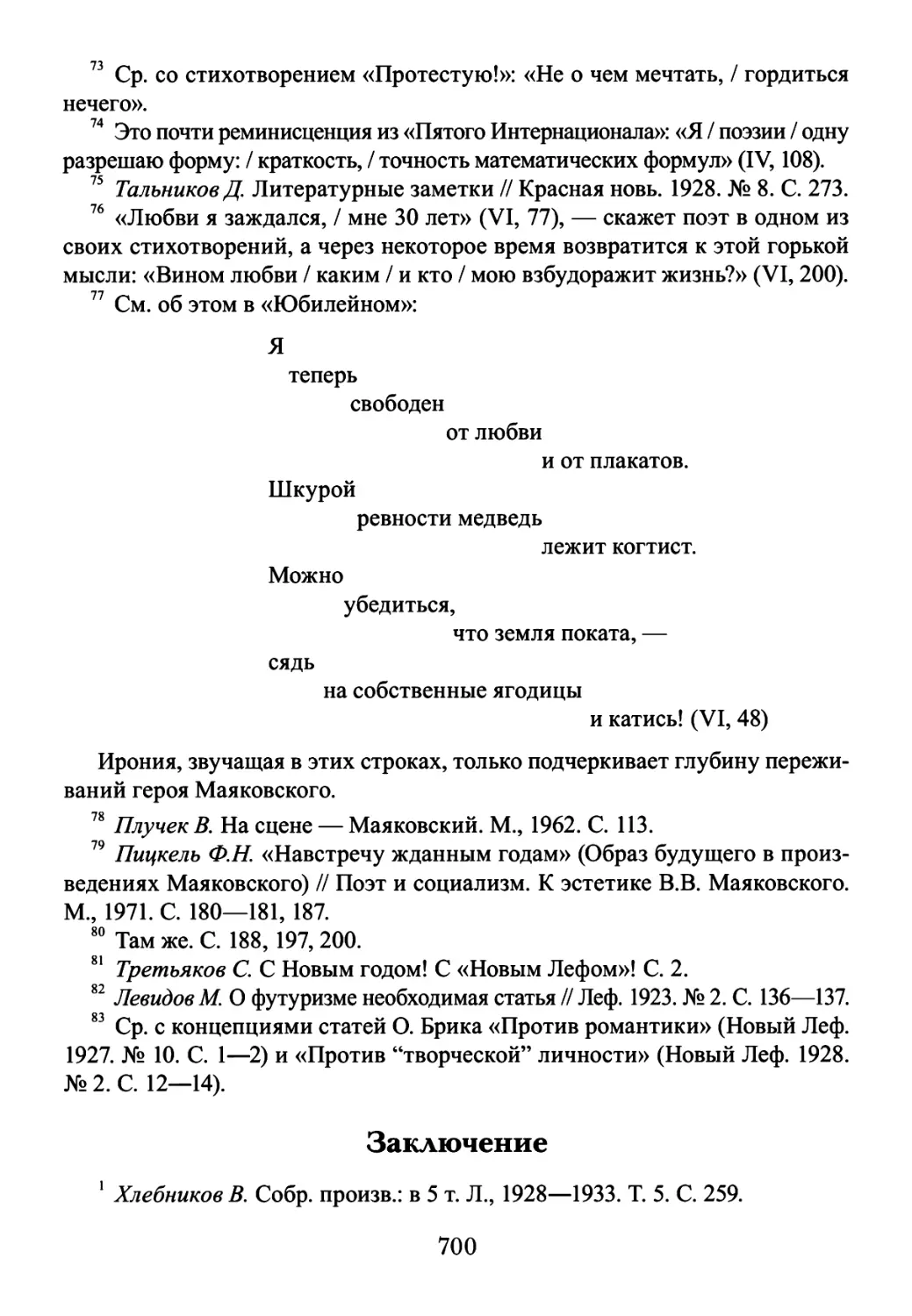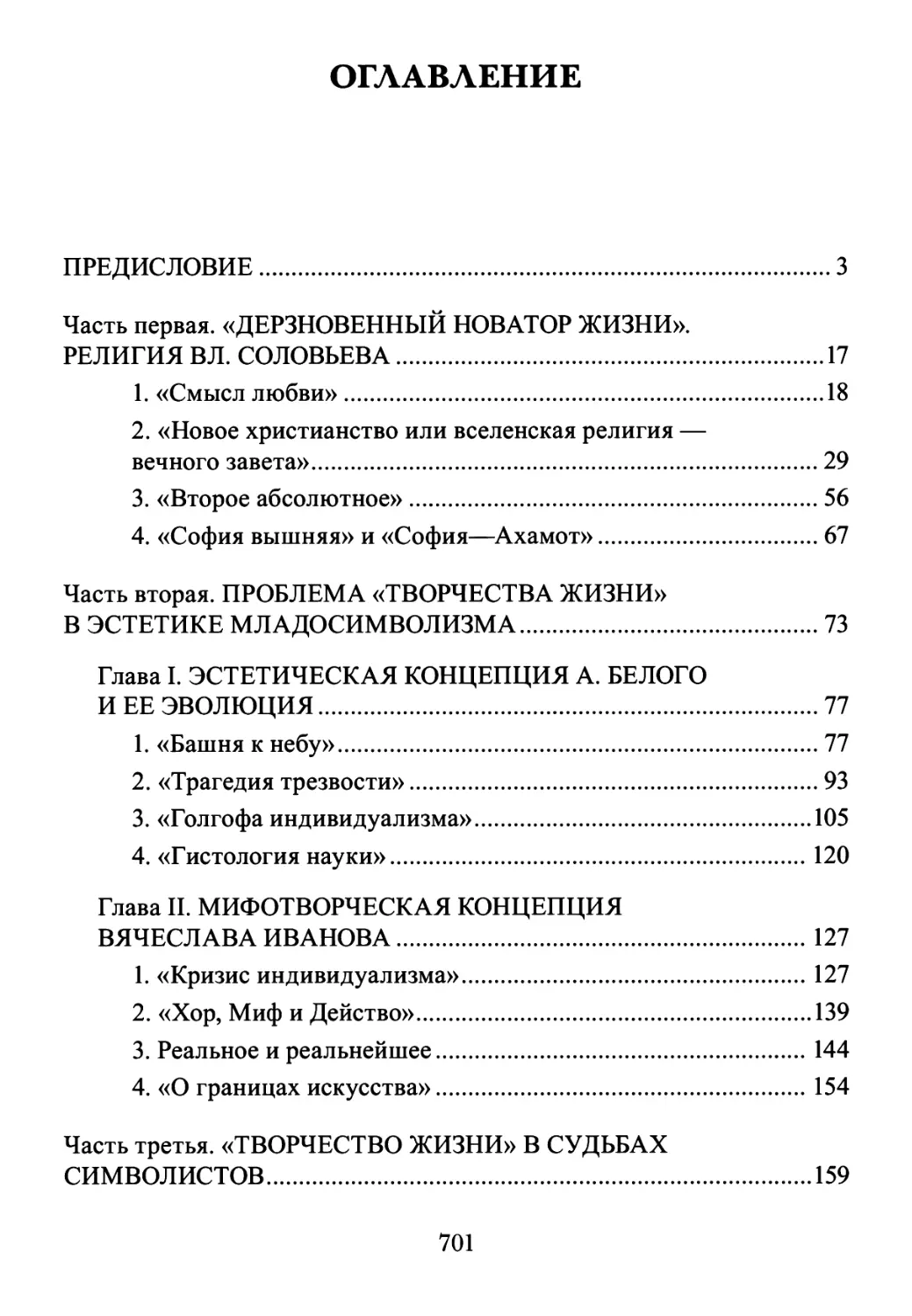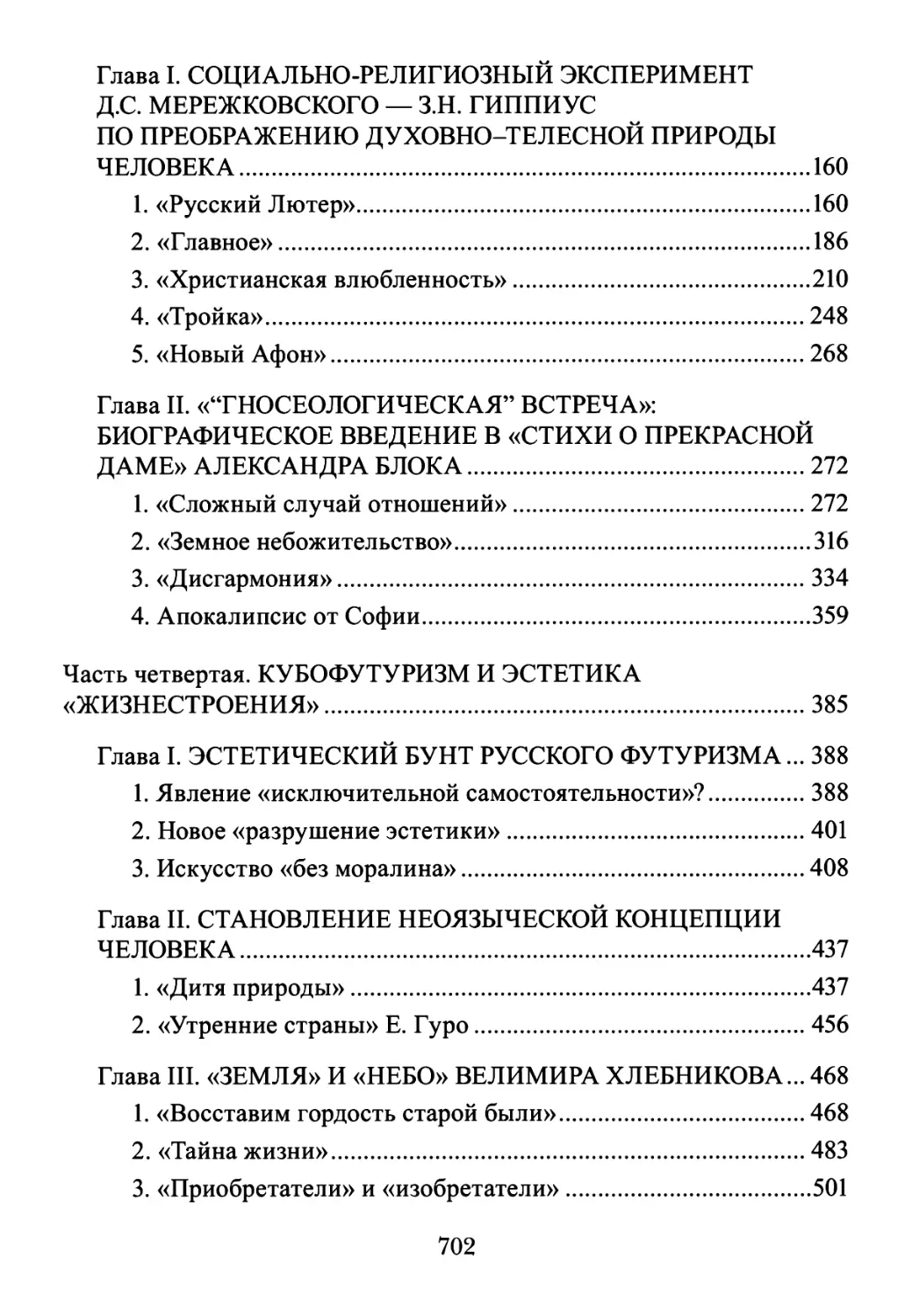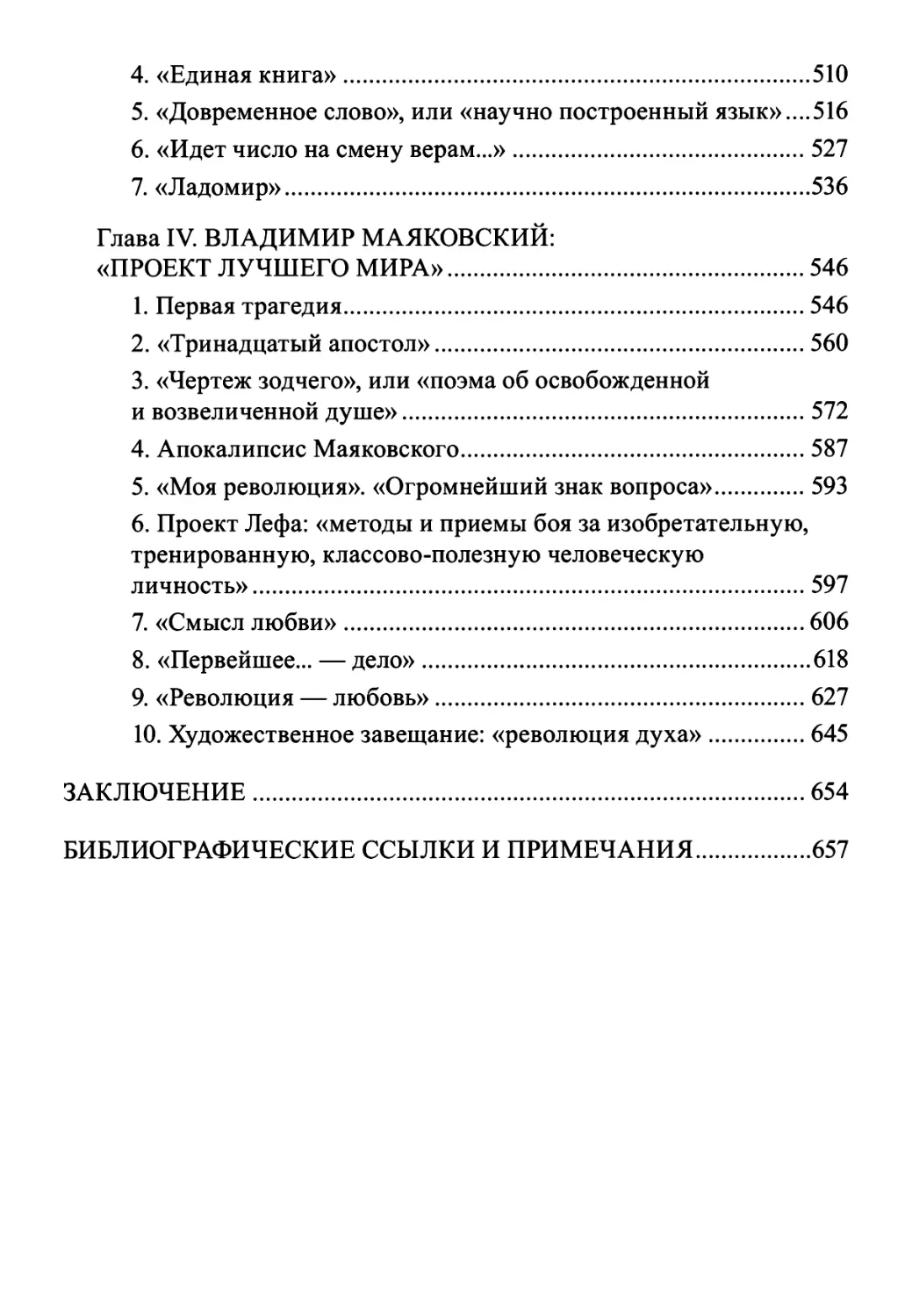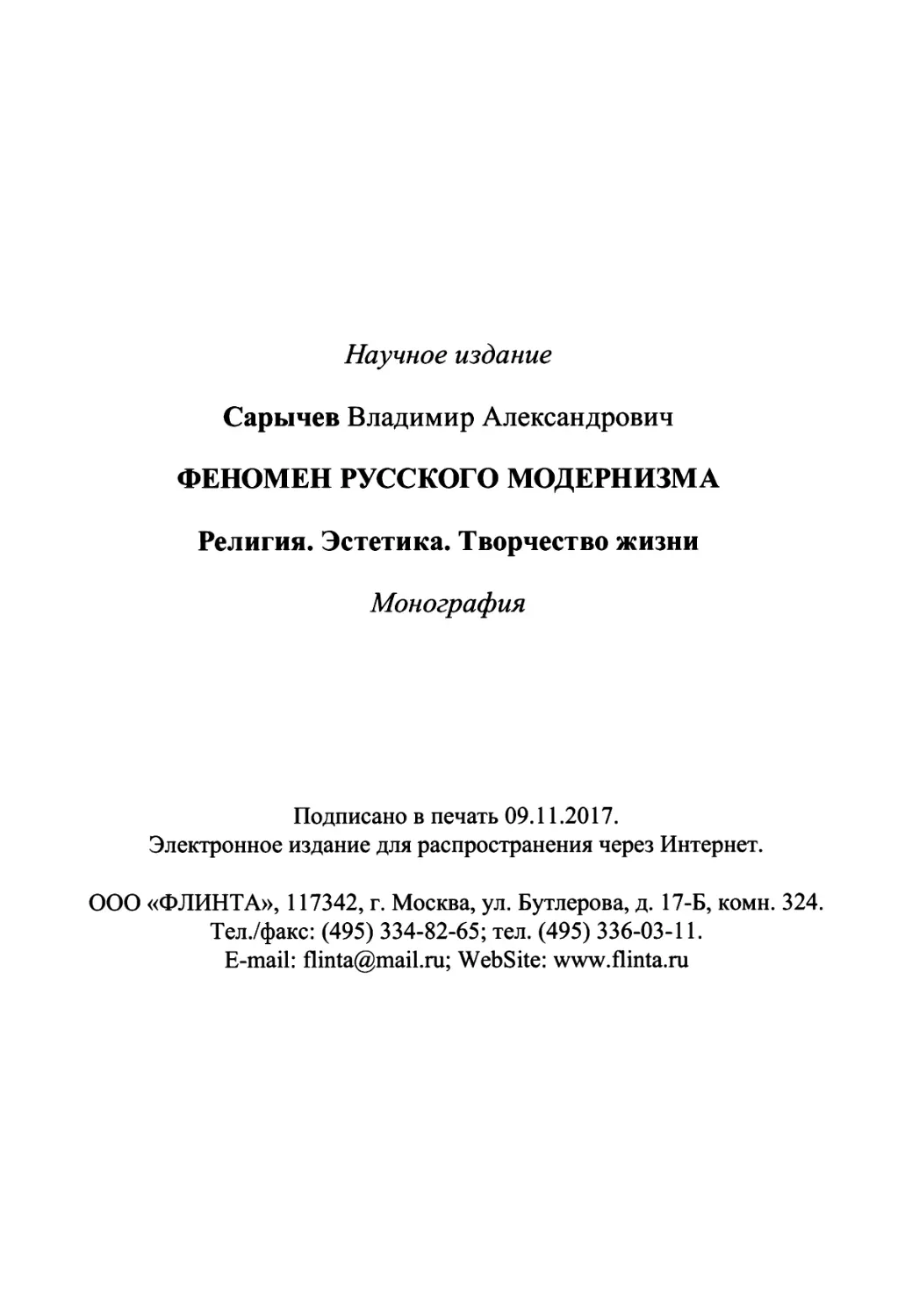Автор: Сарычев В.А.
Теги: русская литература история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран религия история модернизм
ISBN: 978-5-9765-2985-4
Год: 2018
Текст
В.А. Сарычев
ФЕНОМЕН
РУССКОГО МОДЕРНИЗМА
Религия
Эстетика
Творчество жизни
Монография
2-е издание, стереотипное
Москва
Издательство «ФЛИНТА»
2018
УДК 821.161.1
ББК 83.3(2=411.2)5/6
С20
Сарычев В.А.
С20 Феномен русского модернизма. Религия. Эстетика. Творчество жизни
[Электронный ресурс]: монография / В.А. Сарычев. — 2-е изд., стер. — М. :
ФЛИНТА, 2018. —704 с.
ISBN 978-5-9765-2985-4
В монографии осмыслена проблема религиозно-эстетического
своеобразия русского модернизма на примере двух наиболее ярких его течений:
символизма и кубофутуризма. Выдвижение на передний план задачи
«творчества жизни» («жизнестроения»), далеко выходящей за пределы целей и форм
традиционного искусства, делает русский модернизм явлением, глубоко
родственным русскому национальному сознанию, и побуждает исследователя
уделить пристальное внимание выяснению общей специфики, формальных
и содержательных особенностей, ментальных оснований, анализу
разнообразия подходов к решению проблемы «творчества жизни» в литературе
и — шире — духовной культуре русского модернизма, а следовательно, и
изучению соотношения как сугубо литературных, так и внелитературных
(философских, религиозных, социокультурных и т.п.) его детерминаций.
Разработка всей суммы озвученных вопросов и направлений призвана
окончательно утвердить взгляд на русский модернизм как на уникальное ментально-
художественное образование.
Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей
филологических факультетов высших учебных заведений.
УДК 821.161.1
ББК 83.3(2=411.2)5/6
ISBN 978-5-9765-2985-4 © Сарычев В.А., 2017
© Издательство «ФЛИНТА», 2017
ПРЕДИСЛОВИЕ
История русского модернизма, явления сложного и чрезвычайно
многообразного, еще не написана. Предлагаемая вниманию читателя
монография не претендует и не может претендовать на
осуществление подобной задачи: она под силу только большому
исследовательскому коллективу.
Однако, приступая к такого рода работе, должно отдавать себе отчет
в том, что именно является фундаментальной идеей русского
модернизма, какова его родовая, его национальная характерность, иначе говоря,
«те особенности его духа, которые принадлежат только ему одному»1.
Подобно многим другим течениям отечественной культуры
модернистское искусство знает своих предшественников на Западе и имеет с ними
множество общих черт. Но даже и эти интернациональные свойства
модернизма в его национальном варианте нередко принимают иной
вид, не говоря уже о том, что на русской почве у него возникают черты,
совсем не характерные для Запада.
Известно, что русская литература не только прекрасно изображала
сложные перипетии «человеческой комедии», ставила безошибочный
диагноз мучительных социальных заболеваний, но и стремилась как
можно более ярко нарисовать перед человеком и человечеством
перспективы его грядущего гармонического существования, мечтала открыть
пути, ведущие к «воскресению» человека.
Первым в русской литературе художником, глубоко осознавшим эту
синтетическую миссию искусства, был Н.В. Гоголь. Еще в повести
«Портрет» он беспощадно осудил «буквальное подражание натуре» в
произведении искусства, определив подобную творческую установку
художника как тяжелейший «проступок». Он и поэму «Мертвые души»
недолюбливал за то, что позволил себе на ее страницах, как ему
представлялось, сильно поорудовать «анатомическим ножом», из-за чего,
намереваясь изобразить жизнь, на самом деле рассек им ее
«внутренность» и вместо «прекрасного человека» показал человека
«отвратительного». Выходило, что тот реализм, за который так высоко ценили
3
писателя Белинский и критики демократического лагеря, объявляя его
главой «натуральной школы», Гоголю был не вполне по душе. Он знал
истинную цену жизненным реалиям, умел преподносить их с
неподражаемым мастерством, однако всей душой устремлялся к
реальнейшему, ассоциировавшемуся в сознании писателя с моментом
воплощения его идеала в действительность. Воссоздав на страницах
первого тома поэмы образ «мертвенной бесчувственной жизни», Гоголь
планировал в двух последующих ее томах этот «нетрогающийся мир»
почти мистической «Пустоты»2 привести в движение, развернуть его
в сторону преображения. Было найдено и средство, с помощью
которого художник надеялся реализовать свой грандиозный план:
религиозный переворот в душе каждого человека.
Из сказанного становится понятно, почему Гоголь придавал такое
большое значение осуществлению своего замысла, отчего столь
беспощадно предавал огню не отвечавшие его представлению об истинной
идее поэмы редакции ее второго тома. Вне зависимости от того,
заблуждался ли писатель в вопросе об исключительной ценности своей работы
для судеб русского общества или нет, он воспринимал свое
произведение (по целям, в нем поставленным) далеко выходящим за пределы
только литературы как одной из разновидностей искусства. В
«Мертвых душах» Гоголь намеревался начертить путь, пригодный для
каждого желающего своего возрождения человека. Оставаясь
произведением художественного творчества, поэма осознавалась им в то же время
как своеобразный вариант «творчества жизни». В этих своих
притязаниях он опередил русских символистов на целых полвека.
Для истинного христианина, совершенно справедливо полагал
писатель, литература не может быть автономным от жизни занятием.
Или — иначе: для настоящего художника доминирующей ценностью
является жизнь, а не искусство. Не в том, конечно, смысле, что
искусство не имеет внутри себя никакой особой цели, а в том, что оно
обязано подчинять свои собственные имманентные задачи
осуществлению жизненных целей. «Создал меня Бог, — утверждая сказанное,
говорил Гоголь, — и не скрыл от меня назначенья моего. Рожден я
вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело
мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего
должен подумать всяк человек... Дело мое — душа и прочное дело жизни.
А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я
4
должен прочно»3. Иначе говоря, Гоголь заявлял: искусство существует
не для забавы, но для пользы. Именно он первым ввел в русскую
эстетику эту откровенно «неэстетическую» категорию, которая для
эстетики западной (только ли для западной?!) может показаться (да и в
самом деле кажется) каким-то писательским капризом.
При всем уважении к отечественной литературе он судит о ней весьма
трезво. С его точки зрения, русские поэты, являясь плотью от плоти
«своего народа», «обнаруживают» в творчестве своем «народные
свойства». Но, увы, это только необходимый материал, который при
благополучном стечении обстоятельств позволит «собраться» русскому
человеку «из самородных начал» родной почвы. «Поэзия наша, — говорит
Гоголь, — пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех
народов, прислушивалась к мирам всех поэтов, добывала какой-то
всемирный язык», однако этот протеизм русской литературы, с его точки
зрения, хорош только в том случае, если он позволит «приготовить»
всех соотечественников «к служенью более значительному».
Искусство, уверен Гоголь, обязано перестать «служить... самому искусству...»
«...Как ни прекрасно это служение», настаивает писатель на правоте
своей идеи, но, «не уразумев его цели высшей и не определив себе,
зачем дано нам искусство», невозможно двигаться дальше.
И тут Гоголь решает посягнуть на святая святых своей памяти и
любви — Пушкина. «...Нельзя повторять Пушкина», — скажет он с
убеждением, чтобы в следующем предложении не менее твердо
добавить: «Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец
нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь —
ни своеобразьем ума своего, ни картинной личностью характера, ни
гордостью движений своих. <...> Другие дела наступают для
поэзии». Писатель не скрывает какие. «Много предстоит теперь для
поэзии — возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного и что
изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомнят
они уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет
другая; она будет ближе и родственней нашей русской душе»4.
Ясно, что этот новый период развития отечественной литературы
Гоголь связывает со своей собственной творческой деятельностью. Сто
семьдесят лет назад, в начале января 1847 г., в Петербурге вышла в свет
последняя его книга — «Выбранные места из переписки с друзьями».
Это была не только гоголевская программа социального и религиозного
5
возрождения России, но и своего рода публицистический вариант
второго тома «Мертвых душ», над которым писатель безуспешно работал
в 40-е годы и который, по нашей отнюдь не голословной гипотезе, так
и не смог завершить до самой смерти5. Выйдя за пределы романного
жанра, Гоголь захотел «творить» в жизни и самое жизнь, «Выбранными
местами из переписки с друзьями» открыв путь религиозной
публицистике Достоевского и Л. Толстого, «жизнетворчеству» символистов
и «жизнестроению» В. Хлебникова и В. Маяковского.
Сказанное еще раз убеждает: говорить о русской литературе в духе
формальной школы как о «динамической речевой конструкции», т.е.
игнорировать ее эстетические открытия и даже эксперименты,
своеобразие ее этики и онтологии, уникальность поднимаемых ею
социальных и религиозных вопросов, — значит метить мимо цели.
Между тем автор обширного раздела «Символизм» И.В. Корецкая
уверена: «Реализовавшийся в своем четвертьвековом развитии как
системный феномен культуры, символизм обогатил театральные искания и
философско-эстетическую мысль, создал яркую эссеистику, критику,
публицистику, осуществил новый для отечественной периодики тип
журнала, поднял уровень издательского дела. В этом разнообразном и
обширном наследии время выделило лучшее: художественные
произведения. Менее общезначимой и долговечной оказалась символистская
доктрина, притязавшая преобразить мир то "красотой", то "верой"; при
всем благородстве этического пафоса этих утопий многое в них
представляет ныне лишь исторический интерес»6.
Вне всякого сомнения, «лучшее» в символизме (особенно для
широкого читателя) — стихи, проза и драматургия. Но почему уважаемого
исследователя не обеспокоила мысль: возможно ли отделить
«символистскую доктрину» от принадлежащих перу символистов
«художественных произведений»? Не обернется ли насилием (над искусством и
«доктриной» одновременно) подобный акт? И только ли «искусство» (в
общеупотребительном смысле этого слова) трилогия «Христос и
Антихрист» Мережковского, «Стихи о Прекрасной Даме» Блока, романы
«Серебряный голубь» и «Петербург» А. Белого7?.. А их жизнь?! Скажем,
характер любви юного Блока к Л.Д. Менделеевой, мучительные
отношения А. Белого с H.H. Петровской, а потом и с женой автора «Стихов
о Прекрасной Даме» — разве они не порождены в значительной
степени символистской идеей «творчества жизни»? А любовный «треу-
6
гольник»: Д.С. Мережковский — З.Н. Гиппиус — Д.В. Философов?..
Напрасные вопросы: ответ на них хорошо известен.
«Сокровища» символизма, утверждал А. Блок, «отнюдь не "чисто
литературные"...»8. Он захотел еще раз напомнить об этой азбучной для
него и для русских символистов истине в предсмертной (и последней в его
творчестве) статье «"Без божества, без вдохновенья" (Цех акмеистов)».
Автор сравнительно недавно вышедшей в свет книги, защищая честь
полюбившегося ему художника, пишет: «Вполне естественно, что
крупнейший поэт русского символизма <...> не принимает акмеистической
поэзии, считая ее безжизненной и книжной. Без борьбы направлений,
без критических сшибок невозможно движение и самой литературы,
и литературной мысли. Но, глядя на дело с исторической дистанции,
нельзя не ощутить несправедливость и чрезмерную жестокость бло-
ковской критики. Он — поэтический гений, Гумилев просто большой
поэт. Тут можно было и великодушие проявить, тем более что Гумилев
всегда высоко оценивал Блока и почтительно писал о нем как о
классике, без соревновательного чувства. Более того — он считал Блока
"прекраснейшим образчиком человека"»9.
За три с половиной месяца до кончины не сводят счеты с якобы
нелюбимым поэтом. «...Глядя на дело с исторической дистанции», мы,
в противоположность В. Новикову, не находим в «блоковской критике»
«жестокости», а вслед за поэтом не обнаруживаем в ней хотя бы малой
доли литературной междуусобицы. «Великодушие» «проявляют» в тех
случаях, когда дело касается межличностных отношений. Если же речь
заходит об идейно-эстетической позиции, выстраданной всей жизнью
и находящейся в органическом родстве с традициями «русской
культуры» (а это был именно тот случай), кротость и уступчивость, а тем
более панибратство недопустимы. В отличие от В. Новикова поэт это
хорошо понимал.
Цитируя программную статью Н. Гумилева «Заветы символизма и
акмеизм» (1913), Блок подчеркивает: «...на первой же [ее] странице
указано, что родоначальник всего символизма как школы — французский
символизм», который «выдвинул на первый план чисто литературные
задачи: свободный стих, более своеобразный и зыбкий слог, метафору
и теорию соответствий». «Большинство собеседников Н. Гумилева, —
продолжал поэт, — было занято мыслями совсем другого рода: в
обществе чувствовалось страшное разложение, в воздухе пахло грозой,
7
назревали какие-то большие события...» Однако Гумилеву, по словам
автора статьи, «в голову не приходило, что никаких чисто (разрядка
наша. — B.C.) "литературных" школ в России никогда не было <...> что
Россия — страна более молодая, чем Франция, что ее литература имеет
свои традиции, что она тесно связана с общественностью, с
философией, с публицистикой...» Подытоживая, Блок пишет: «...Н. Гумилев
и некоторые другие "акмеисты", несомненно даровитые, топят самих
себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма
(исключение поэт сделал только для А. Ахматовой. — B.C.); они спят
непробудным сном без сновидений; они не имеют и не желают иметь
тени представления о русской жизни и о жизни мира вообще; в своей
поэзии (а следовательно, и в себе самих) они замалчивают самое
главное, единственно ценное: душу» (VI, 177, 183).
Не скрывая своего раздражения, В. Новиков причисляет
процитированные блоковские слова к разряду «критических штампов», с
помощью которых якобы «выносится приговор акмеизму...»10. Думается, что
неангажированный читатель сам поймет, что если и «выносил»
смертельно больной Блок «приговор», то отнюдь не акмеизму, а всякому
искусству, оборвавшему тончайшие связи с исполненной
драматичнейших катаклизмов российской действительностью и с человеком, в
этой действительности вынужденным существовать. Не боясь
самоповторений, он пытается вывести Гумилева за пределы
«литературного ряда» (Ю. Тынянов), внушая ему мысль о том, что русская
литература имеет собственные традиции, и традиции эти объясняются ее
органической связью с «общественностью», философией, религией.
Оттого и постичь феномен отечественной культуры, частью которой
является и символизм, вне перечисленных связей невозможно. Ничего
необычного, глубоко оригинального, а тем более оскорбительного для
Н. Гумилева лично блоковская идея не содержала. И было бы очень
хорошо, если бы о ней чаще вспоминали современные художники и
литературоведы.
Почему погруженному в сокровищницу мировой культуры
акмеизму Блок противопоставляет «дикий» футуризм? «...Русский
футуризм, — поясняет он, — был пророком и предтечей тех страшных
карикатур и нелепостей, которые явила нам эпоха войны и революции; он
отразил в своем туманном зеркале своеобразный веселый ужас,
который сидит в русской душе и о котором многие "прозорливые" и очень
8
умные люди не догадывались». За подобную характеристику футуризма
на Блока никто не обиделся, ибо в нынешней России у него, кажется,
не осталось ни одного поклонника. Однако подозреваем, что у многих
современных интеллигентов вызвал ироническую улыбку блоковский
вывод, которым он сопроводил процитированную фразу: «В этом
отношении русский футуризм бесконечно значительнее, глубже,
органичнее, жизненнее, чем "акмеизм"», который, по словам Блока-критика,
«ровно ничего в себе не отразил, ибо не носил в себе никаких
родимых "бурь и натисков"...». В данной характеристике футуризма есть,
пожалуй, все, что ценил поэт в искусстве и что было свойственно его
мировоззрению, а потому совсем не неожиданным для его концепции
оказалось упоминание об «авторе нескольких грубых и сильных
стихотворений», на которые «откликнулись» как читающая Россия, так и
критика «независимо от битья графинов о головы публики, от желтой
кофты, ругани и "футуризма"» (VI, 181, 180—181). Так, Маяковский,
не отличавшийся — кто об этом не знает! — особой лояльностью ни к
Блоку, ни к акмеистам, оказался альтернативной фигурой по
отношению к Гумилеву. Причем со знаком «плюс».
Как сегодня живется Маяковскому в отечественном
литературоведении?
По вполне понятным причинам (не простили поэту его связь с
революцией) некогда могущественная «отрасль» советской гуманитарной
науки — маяковсковедение — прекратила свое существование. Однако
интерес к Маяковскому не исчез. За последние два-три десятилетия
увидели свет десятки монографий и статей о нем и его творчестве.
Среди них имеет смысл выделить работы, претендующие на
высокий академический уровень11. У нас есть претензии к ним, в частности к
книге М. Вайскопфа, однако не станем утомлять читателя их анализом.
Гораздо важнее для темы предлагаемого читателю исследования
монографические изыскания в области биографии Маяковского,
взаимоотношений поэта с людьми его круга, способные пролить свет на
тайну гибели автора «Облака в штанах», «Про это», первого
вступления в поэму «Во весь голос».
Такого рода работ множество. Это и понятно: некогда запретная тема
обрела право на существование. В первую очередь, конечно, здесь
следует упомянуть не раз уже издававшиеся воспоминания Л.Ю. Брик12,
заполонившие книжный рынок подробнейшие изложения ее бурной
9
жизни13. Определенный интерес имеют и воспоминания В.
Полонской14. Некоторый итог этой теме подводит С. Коваленко15. Наконец,
назовем ряд книг, прикасающихся к святая святых: самоубийству
Маяковского и причинам, это самоубийство повлекшим16.
Вне зависимости от того, стрелял ли 14 апреля 1930 г. в
Маяковского сотрудник ОГПУ, находившийся в тайном сговоре со злым гением
судьбы поэта — Лилей Брик, как на том настаивал В.И. Скорятин,
документально подтвердивший, кстати, сотрудничество последней с
карательными органами, или не отрицающие факта его самоубийства
Б. Сарнов и Б. Янгфельдт, но постаравшиеся вывести из-под всяких
обвинений хорошо знакомую обоим подругу и «жену» Маяковского
(первый — открыто, второй — закамуфлированно), — все трое они
винят в преждевременной смерти художника революцию.
Вот что пишет по этому поводу шведский исследователь: «Если
кто и осознавал, что Маяковский, говоря словами Чуковского,
"самоубийца по призванию", то это Лили. Но не нужно было знать его так
близко, чтобы понять, что причины самоубийства следует искать во
внутренних противоречиях, которые терзали его всегда. Для Марины
Цветаевой, с 1921 г. жившей в эмиграции, но видевшей в Маяковском
брата по духу, его самоубийство было трагическим, но логическим
результатом разрушительной внутренней борьбы между лириком и
трибуном. Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе
Маяковского поэта, на тринадцатый год поэт встал и человека убил"»17.
Чтобы не оказаться голословным, Янгфельдт обращает внимание
читателей на то обстоятельство, что «после поэмы "Про это"
Маяковский не написал ни одного лирического стихотворения, и во второй
половине двадцатых в нем видели прежде всего "вестника
революции"». В отличие от Пастернака, например, который, хотя и не
гнушался революционными темами, «воспринимался главным образом как
поэт», подчеркивает исследователь, подтверждая правоту своей мысли
ссылкой на отправленное Б. Лившицем зимой 1926 г. в США письмо
Д. Бурлюку. «О Маяковском с 1922 г., — спешил поделиться новостью
с бывшим другом автор, — никто всерьез и не говорит, между тем как
вещи Пастернака, еще не успев появиться в печати, ходят в списках
по рукам <...>"». И тут же, «жалея» поэта, исследователь добавляет:
«Для Маяковского сочинение злободневных стихов было необходимо
по финансовым причинам». Иногда он сочинял для «Комсомольской
10
правды» по «три стихотворения в день (платили мало!) — от такого
объема может иссякнуть самый богатый лирический источник». «Но
только ли материальная сторона определяла направление его
творчества? — задумывается Янгфельдт. — Или гражданская поэзия была
своего рода убежищем, потому что он не знал, о чем писать (разрядка
наша. — B.C.), потому что у него не было темы? Комментируя же
текущие события, он ежедневно получал темы даром. Это было удобно, а
возможно, и необходимо в ситуации, когда Лили больше не являлась
катализатором (после 1923 г. у нее был другой любовник. — B.C.) для
его лирического самовыражения»18.
Все дело, оказывается, упиралось в Лилю, точнее, в половую жизнь
с нею — разрешалось «э τ о », — Маяковский был на коне, исчезло —
потерял «тему».
Не будем далее комментировать «страдания» слависта, прибережем
для последующего разговора. А пока обратимся к Б. Сарнову.
Комментируя поражение Человека, героя одноименной поэмы
Маяковского, в любовном поединке с Повелителем Всего, критик пишет:
«Тут уже не просто — "Знаете, я выхожу замуж". <...>
Тут — непреложный и непобедимый закон, на котором стоит,
зиждется весь этот подло, неправедно устроенный мир. И если Тот, кто
создал этот мир таким, не может — или не хочет! — его изменить, значит,
это должны сделать мы сами.
Не просто изменить, а разрушить его — "до основанья". А затем —
создать свой, новый, совсем другой мир, в котором бы —
... не было любви — служанки
замужеств, похоти, хлебов...
Так называлась его любовь к Революции.
Но и эта (не к Лиле, не к Тане, не к Норе. — B.C.), самая большая в
его жизни, главная его любовь, тоже оказалась трагической и
неразделенной»19.
Маяковский исповедовался перед читателями: «...дать бы /
революции / такие же названия, / как любимым в первый день дают!»,
«бросался в коммунизм» «с небес поэзии», во всеуслышание признаваясь,
что «нет [ему] без него любви», а «революция» и «коммунизм» в ответ
молчали: связь была односторонней.
11
Б. Сарнов говорит, что Маяковскому не следовало бы этого делать.
И вслед за Цветаевой (подобно Янгфельдту тоже любовно ее
цитируя20) пишет:
«Маяковский долго насиловал, калечил, уродовал свой поэтический
дар. Изо всех сил старался он задушить в себе поэта. Но — не смог. И
когда отгорят, отойдут в прошлое все страсти, которые и сейчас еще
кипят вокруг его имени, станет окончательно ясно, что настоящий
Маяковский — не агитатор, горлан и главарь, "ассенизатор и водовоз", каким
он сам себя рисовал, обращаясь к "товарищам потомкам".
Настоящий Маяковский — гениальный лирик, с огромной силой
выразивший трагедию человеческого существования, неприкаянность,
одиночество человека, затерянного в необъятных просторах холодной,
необжитой вселенной»21.
Маяковский «настоящий» и «не настоящий»... Блок — лирик и автор
«Двенадцати»... Хлебников — творец «зауми» и пореволюционных поэм
с характерными для них мотивами революционного насилия, которое
знаменитый «будетлянин» не только принимает, но и воспевает как
«войну возрастов»...
Творчество любого крупного художника — органическое целое, а
потому он совершает свой выбор только в согласии с законами этого
целого. «Первым и главным признаком того, что данный писатель не
есть величина случайная и временная, — является чувство пути» (V,
369), — писал А. Блок. Именно оно ведет его по дорогам истории, этот
путь — его крестный путь. Пойти на сделку с совестью, сменить
идейные и идеологические «вехи» означает для него изменить себе, т.е.
перестать быть поэтом.
Создавая концепцию «двух Маяковских», Луначарский поступал
честнее современных отечественных и западноевропейских маяковско-
ведов, ибо своим рождением она в значительной степени была обязана
той полемике, которую критик вел с врагами революции по вопросу о
причинах смерти поэта. Фигура двойника Маяковского, созданная
критическим воображением Луначарского, позволяла, как ему казалось,
отвести удар от главной темы покойного художника. По этой версии
выходило: умер не революционный поэт Маяковский, а его двойник,
«умер потому, что... [оказался] в огромной степени личен»22.
Сегодняшние же идейные противники и революции и Маяковского,
забывая почему-то, что у поэта были с нею особые счеты, навязывают
12
ему собственное видение истории (в скобках заметим, что и критики
Блока поступают точно таким же образом), в результате чего
Маяковский-лирик объявляется ими художником подлинным, а Маяковский-
трибун предается анафеме.
В результате подобной «анатомии», если припомнить выражение
Гоголя, трагически-целостная личность поэта подвергается
механическому расчленению. Литературно-художественный характер
анализируемой монографии позволяет Б. Сарнову включать в ее структуру так
называемые «голоса современников» Маяковского, отводя им
множество страниц издания. Причем подавляющее большинство этих
«голосов» принадлежит не союзникам поэта, а скорее его идейным
оппонентам. В итоге искомый результат достигнут: многоголосый хор
«современников» прекрасно «работает» на идею Сарнова.
Тщательно подобранные «голоса», аккомпанируя автору книги,
втолковывают читателю мысль об угасании у Маяковского революционного
энтузиазма, а вместе с ним — о вытеснении из его сознания и сердца
веры в революцию, о полном исчезновении из его творчества
лирической темы и — соответственно — тотальном уходе поэта в
примитивную политическую агитку. Хорошо еще, что в отличие от Б. Янг-
фельдта Б. Сарнову хватило профессионального такта, чтобы не
связывать лирическую тему у Маяковского исключительно с чарами
и любовной «магией» Лили Брик, а «сочинение злободневных
стихов» — с финансовыми затруднениями поэта.
Видимо, эти люди, не по одному десятку лет трудившиеся на
литературной ниве, как, впрочем, и многие другие исследователи
символизма, акмеизма, футуризма и т.д., не желают уразуметь, что есть поэзия
и поэзия, что между стихами младосимволистов, с одной стороны,
и акмеистов — с другой, существует «недоступная черта» (A.C.
Пушкин), что младосимволисты, как, впрочем, и кубофутуристы, никогда
не ставили перед собой сугубо формальных задач, а непременно хотели
«разомкнуться» в жизнь.
Такова традиция русской литературы в целом, глубоко
осмысленная Достоевским в известном рассуждении Ивана Карамазова «о
русских мальчиках», которые, по его словам, собравшись вместе,
непременно «будут рассуждать» «о мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог,
есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме
и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому
13
штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с
другого конца»23.
В. Маяковский, А. Блок, В. Хлебников — это и есть те самые «русские
мальчики». Литературоведы, игнорирующие данный
идейно-мировоззренческий контекст (Достоевский и многовековая традиция
отечественной литературы им, конечно, не указ), обманывают и себя, и читателя.
«Лирик» Блок в начале июля 1908 г. пишет: «Можно издать свои
"песни личные" и "песни объективные". То-то забавно делить — сам
черт ногу сломит»24.
Подобных записей Маяковский не оставил, но давно уже известно,
что границы между Маяковским-человеком и его лирическим героем
практически отсутствуют. Можно, разумеется, афористически-четко
сказать, что «человек Маяковский убивал в себе Маяковского поэта»,
как сделала это М. Цветаева, однако нецеломудренная красивость
данной фразы вступает в этическое противоречие с драматической
подлинностью рокового выстрела 14 апреля 1930 г. И кто может обнаружить
незримую грань (существует ли она вообще?) между двумя
ипостасями (двумя «лицами», «двумя жизнями») Маяковского? И
Маяковский ли — тот выразитель «трагедии человеческого существования»,
певец «неприкаянности, одиночества человека, затерянного в
необъятных просторах холодной, необжитой вселенной», которого возлюбил
Б. Сарнов, предав одновременной хуле Маяковского-«агитатора,
горлана-главаря», «ассенизатора и водовоза»? Согласился ли бы поэт (как
тут снова не обратиться к Гоголю!) с подобной проделываемой над его
творчеством «анатомией»? А может быть, и не свойственные «чистому
лирику» функции он возложил на себя (ведь тот же Б. Сарнов признал
это однажды и затем напрочь забыл про свои слова), чтобы
«необжитую», враждебную человеку вселенную «обжить»? Пророческая и
мессианская идеи, единожды возникнув (хотя бы в трагедии «Владимир
Маяковский» — 1913), с тех пор ни на час не покидали его творческое
сознание. Если и «лирика» — «Облако в штанах», то лирика — чисто
«маяковская», ибо поэт отнюдь не воспринимает себя здесь в качестве
некоего неприкаянного существа, «затерянного в необъятных просторах
холодной... вселенной» (не любил Маяковский подобных
условно-поэтических красивостей!), а выступает в роли «тринадцатого апостола»,
т.е. проповедника новой любви, новой морали, новой религии, в итоге —
нового человека. Не понять этого жертвенного трагизма Маяковского,
14
им самим гениально воссозданного на страницах первого вступления
в поэму «Во весь голос» (случай уникальный даже для русской
литературы), значит, ничего в Маяковском не понять. На фоне знаменитых
строк этого предсмертного произведения все рассуждения о
причастности к его самоубийству Лили Брик, Татьяны Яковлевой, Вероники
Полонской, ОГПУ и Якова Агранова — во многом праздное занятие.
Подводя итоги начатому разговору, необходимо заметить, что
модернизм не был бы модернизмом, если бы стараниями некоторых
наиболее крайних своих адептов он не попытался бы исказить проявления
национального духа. Однако связующая нить национальной традиции
даже и в этих случаях не была оборвана кардинальным образом. Более
того, именно ей мы обязаны тем, что внутри модернизма возникали
успешные, хотя и драматичные, попытки преодоления
конституирующих его как устойчивую систему этических, религиозных и
эстетических принципов.
Сказанное проясняет цели настоящего исследования. Это не серия
внутренне не связанных между собой очерков о создаваемой отдельными
символистами и кубофутуристами новой (неклассической) эстетики
словесного искусства, о принадлежащих им проектах замены
«исторической» Церкви церковью «Третьего Завета», о драматических
перипетиях, которые сопутствовали формированию и претворению в
действительность этики будущего человека и человечества. Наоборот, вся
работа подчинена единой концепции. Символизм и кубофутуризм
восприняты в ней как полярные миросозерцания и эстетические системы.
Пытаясь преодолеть вызванное развитием буржуазной цивилизации
отчуждение человека, они предлагали различные варианты
«творчества жизни». Первые выдвинули идею религиозного синтеза, вторые, не
всегда осознанно ориентируясь на искаженно трактованное
ницшеанство, апеллировали к «примитивным» эпохам в истории человечества,
к якобы еще не «испорченному» культурой человеку и стремились
возводить здание будущего на этом более чем сомнительном фундаменте.
Как видим, цели, которые символисты и кубофутуристы ставили
перед искусством, далеко выходили за ограниченные возможности его
традиционных форм. Именно это максималистское по своему
характеру целеполагание делает русский модернизм явлением глубоко
родственным духу русской классической литературы, а потому и не
позволяет нам воспринимать его в качестве направленного на осуществле-
15
ние внутрилитературных задач, замкнутого в себе самом эстетического
феномена. Вот почему исследователям никуда не уйти от выяснения
общей специфики, формальных и содержательных особенностей,
ментальных оснований, разнообразия подходов к решению проблемы
«творчества жизни» в литературе и — шире — духовной культуре русского
модернизма, не обойтись без анализа соотношения как сугубо
литературных, так и внелитературных (философских, религиозных,
социокультурных и т.п.) ее детерминаций. Разработка всей суммы
озвученных здесь вопросов и направлений призвана окончательно утвердить
взгляд на русский модернизм как уникальное
ментально-художественное образование, непосредственно размыкающееся в плоскость
«творчества жизни».
Таковы задачи предпринятого исследования. Сколь успешно они
решены, судить читателям.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«ДЕРЗНОВЕННЫЙ НОВАТОР ЖИЗНИ ».
РЕЛИГИЯ ВЛ. СОЛОВЬЕВА
/. «Смысл любви»
Судьба свела Блока с Вл. Соловьевым всего лишь один раз, однако
воспоминание об этом событии оставило в его памяти неизгладимый
след. Встреча произошла на похоронах родственницы начинающего
поэта. Вот как воспроизвел он взволновавший его эпизод одиннадцать
лет спустя. «Передо мной, — писал Блок, — шел большого роста худой
человек в старенькой шубе, с непокрытой головой. Перепархивал
редкий снег, но все было одноцветно и белесовато, как бывает только в
Петербурге, а снег можно было видеть только на фоне идущей впереди
фигуры <...> Фигура казалась силуэтом, до того она была жутко
непохожа на окружающее. Рядом со мной генерал сказал соседке: "Знаете,
кто эта дубина? — Владимир Соловьев". Действительно, шествие этого
человека казалось диким среди кучки обыкновенных людей,
трусивших за колесницей. Через несколько минут я поднял глаза: человека
уже не было; он исчез как-то незаметно — и шествие превратилось в
обыкновенную похоронную процессию» (V, 446).
Блок не единожды выступал в печати со статьями о Вл. Соловьеве,
многократно и по разным поводам высказывался о нем в своих
письмах, но никогда не покушался на характеристику его поэтической
деятельности. Тем более деятельности философской, поскольку был
уверен, что пророческую «силу принесло Соловьеву» отнюдь не
философское творчество, а «то Начало», которым юный поэт, по собственным
словам, «дерзнул восхититься, — Вечно Женственное...» (VIII, 128).
Вот почему, рисуя образ Вл. Соловьева, навсегда запечатлевшийся
в его душе, Блок неизменно погружал его в атмосферу
таинственности и надмирности. Так, восстанавливая в сознании детали памятной
встречи с Вл. Соловьевым, поэт признавался, что через все
слышанное и читанное о нем «впоследствии», а также над всем испытанным «в
связи с ним, проходило это странное видение». И уточнял: «Во взгляде
18
Соловьева, который он случайно остановил на мне в тот день, была
бездонная синева: полная отрешенность и готовность совершить
последний шаг; то был уже чистый дух: точно не живой человек, а
изображение: очерк, символ, чертеж. Одинокий странник шествовал по улице
города призраков в час петербургского дня, похожий на все остальные
петербургские часы и дни. Он медленно ступал за неизвестным
гробом в неизвестную даль, не ведая пространств и времен» (V, 446—447).
Если в воспоминаниях Блока «одинокий странник» Вл. Соловьев
«шествовал» по улицам «города призраков», то во 2-й («московской»)
симфонии Белого одинокий «пророк» («покойный Владимир Соловьев»)
«храбро» шагал по городским крышам, «взывая к спящей Москве
зычным рогом...»1. Несмотря на иронию (того требовали законы созданного
Б. Бугаевым жанра литературной «симфонии»), А. Белый относился к
Вл. Соловьеву с таким же пиететом, как и А. Блок. Вспоминая, что о
Соловьеве — человеке «странном» и «загадочном» — он услышал от
взрослых еще в раннем детстве, Белый замечал, что по этой причине,
очевидно, ему «стало казаться, что Владимир Соловьев — странник,
шествующий с посохом по городам, селам, лесам». Он, фантазировал
Боря Бугаев, «появляется то в Москве, то в Аравийской пустыне»2.
В том же мемуарном очерке, поведав читателю о теплоте, с какой
относились к Вл. Соловьеву в семье его младшего брата, Белый
говорил, что «Михаил Сергеевич Соловьев любил в брате своем вовсе не
автора восьми томов, а нового человека...». По этой причине, добавлял
мемуарист, «я не мог не научиться любить в Соловьеве не мыслителя
только, но и дерзновенного новатора жизни («вечного странника,
уходящего прочь от ветхой земли в град новый», — скажет Белый чуть
ниже), укрывшего свой новый лик под забралом ничего не говорящей
метафизики»3.
Это была излюбленная его мысль, хотя в отличие от Блока,
действительно не любившего ученых сочинений своего кумира, Белый
метафизику Вл. Соловьева изучал и хорошо знал. Тем не менее ему
и в самом деле был ближе жизнетворческий пафос учения философа.
28 августа 1921 г., выступая на заседании Вольной философской
ассоциации с воспоминаниями о Блоке, Белый характеризовал начало века
следующим образом: «Это было время смерти Владимира Соловьева,
время начинающегося интереса к его философии. <...> Философию
Владимира Соловьева в то время не понимали как динамическую, — она
19
понималась как абстрактная философия; но были иные из соловьевцев,
которые понимали, что это — философия жизненного пути, что без
жизненного пути и конкретизации, без всех выводов из религиозно-
философской концепции Владимира Соловьева к жизни эта философия
мертва, — она лишь метафизика среди других отвлеченных метафизик»4.
Понятно, что в речи о Блоке слова о «понимающих» соловьевцах были
спроецированы на творчество умершего поэта. «Блок был символист
до мозга костей, теоретик и поэт в их неразрывной связи, — говорил
Белый, будто бы забыв о своих идейных претензиях к усопшему певцу
Прекрасной Дамы, о сотрясавших их дружбу житейских и духовных
распрях. — Он понял призывы зари Владимира Соловьева как
наступление громадной мировой эпохи, переворачивающей все,
революционизирующей наше сознание до последней конкретности»5. В
суждении оратора было много правды. Однако и 28 августа 1921 г., а особенно
в пору создания мемуарной трилогии, в которой рассказу о борьбе ее
автора с Блоком уделено большое количество страниц, Белый хорошо
знал, кто из них двоих подлинный «белый знаменосец»6. Пальму
первенства в истолковании не какого-то иного, а именно теургического
смысла философии Соловьева он не намерен был передоверять никому.
В том числе и в тот момент, когда писал следующие строки в книге
«Воспоминания о Блоке»:
«В 1900—1901 годах молодежь того времени слышала нечто,
подобное шуму, и видела нечто, подобное свету; мы все отдавались стихии
грядущих годин; отдавались отчетливо слышимым в воздухе поступям
нового века, сменившим безмолвие века». И далее, развивая
заявленную мысль: «...мы старались связать звук зари с зорями поэзии
Владимира Соловьева; четверостишие Соловьева для нас было лозунгом:
Знайте же, Вечная Женственность ныне,
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнущем Новой Богини
Небо слилося с пучиною вод.
"Она" — мировая душа, соединенная со словом Христа.
Сочинение Соловьева "О смысле любви" наиболее объясняло
искания осуществить "соловьевство", как жизненный путь, и осветить
женственное начало Божественности, найти Человечество, как Ипостась
лика Божия. Мы, молодежь соловьевского толка, являлись лишь малою
20
горстью людей, ощущающих зарю новой эры. "Соловьевство" нам было
гипотезой оформления, а не догмой»7.
Если бы не обычная для стиля Андрея Белого витиеватость и
усложненность мысли, Блок, пожалуй, подписался бы под этими строками.
А его чувство к Любови Дмитриевне Менделеевой развивалось (о чем
будет сказано отдельно) в духе учения Вл. Соловьева о Вечной
Женственности. Так что трактат философа «Смысл любви» и для
влюбленного поэта был весьма и весьма актуальным произведением. В этой
работе Вл. Соловьев подробно изложил свою философию эроса,
основанную на идее Платона об эротическом восхождении как пути,
способном восстановить целостность человека и достичь бессмертия.
Безусловной «истиной» платонической философии Вл. Соловьев
признавал ее «идеальный космос»8 и в то же время, отдавая должное
Платонову учению об Эросе как поиску «соединительного пути» между
двумя мирами, указывал на неразрешенность этой задачи у философа.
Что собственно представляет собой «любовь как эротический пафос»,
независимо от того, «в высшем или низшем направлении» она
проявляется?9 Такой вопрос задавал Вл. Соловьев и, совершенно
справедливо замечая, что подобная любовь не похожа ни на любовь к Богу, к
родине, родителям, приходил к выводу, что она есть не что иное, как
«любовь к телесности»10. Но тогда спрашивается: «к чему... стремится
любовь относительно телесности»11, не к тому же, чтобы только
увеличивать дурную череду рождений и смертей? Разумеется, нет:
рождение в красоте — устремление Эрота — несовместимо с подобной
целью. Истинная цель любви, по Платону, — достижение бессмертия.
Однако душа человека и без того бессмертна, следовательно, тут нет
никакой задачи. Иное дело его телесная природа, именно она и требует
своего «перерождения». Логически, говорит Вл. Соловьев, Платон
обязательно должен был подойти к такому выводу, но, заключает философ,
«подойдя мыслию к этой задаче, он остановился перед ней, не решился
до конца понять и принять ее... Изведавши в чувстве силу обоих Эротов
и признав умом превосходство одного из них, он не дал ему побед на
деле»12.
Вот он истинно-соловьевский пафос: потребно «дело», а не просто
«мысль», «долг ее исполнения», «ощутительная реализация идеала», а
не философское «умозрение»13! «Живого творчества» жаждет он, под-
21
линного и окончательного соединения неба и земли, а не созерцания
«занебесной» красоты, как это свойственно Платону.
Именно по этой линии проходит водораздел между идеями
древнегреческого и русского философов, и Вл. Соловьев задается вопросом,
почему у Платона произошло столь драматическое «столкновение
высоких требований с реальною немощью», почему он, казалось бы,
познавший истину, не поставил вопроса о ее реализации в живой
действительности? Суть «жизненной драмы Платона», по Соловьеву, состоит в том,
что «он, поднявшись в теории над большинством смертных, оказался в
жизни обыкновенным человеком»14. Между тем, с точки зрения соловьев-
ской философии всеединства, совершенно «невозможно, чтобы человек
из самого себя создал себе сверхчеловечность», он «может стать
божественным лишь действительною силою не становящегося, а вечно
существующего Божества», потому «путь высшей любви... необходимо уже в
самом начале есть соединение или взаимодействие божеского с
человеческим, или есть процесс богочеловеческий»15. Иными словами, проблема
Платона упирается в осознание «необходимости настоящего
существенного богочеловека»16, и отсутствие ее постановки у философа языческого
мира есть не случайность, не простой недосмотр, не роковая ошибка, а
закономерное следствие его пантеистического миросозерцания.
«Идеальный космос» Платона с позиции положительной религии, каковой
является христианство, далеко не полная истина, ибо в платоновском космо-
теизме открывается правда божественной Мировой Души, а не
предвечного Бога, который не может отождествляться с космосом. Пантеизму
Платона противостоит панентеизм Вл. Соловьева; вот почему,
рассуждая о «смысле любви», используя при этом отдельные философские ходы
автора «Пира» и «Федра», Вл. Соловьев создает принципиально иную,
оригинальную концепцию, выразившуюся как в его знаменитом
трактате, так и в лирической поэзии, которая очаровала юного Блока.
Половая любовь для Вл. Соловьева, сколь это ни парадоксально
звучит, — своеобразное земное основание грядущего богочеловечества.
Из всего сказанного выше становится ясно, что ему глубоко претили
«ложный спиритуализм и импотентный морализм», лежащие в основе
«исключительно духовной любви», которая, по сути, такое же
аномальное явление, как и сведение любовного чувства к физиологическому
акту»17. Негодование философа понятно, ибо он был уверен: «ложная
духовность есть отрицание плоти, истинная духовность есть ее пере-
22
рождение, спасение, воскресение», нормальным же может считаться
только «восстановление целости человеческого существа...»18.
Половая любовь, по Соловьеву, как раз к этому и призвана.
Следуя платоновскому мифу об андрогине, а еще в большей степени
библейской традиции, Вл. Соловьев считал дробление человека на
мужское и женское начала результатом всеобщей дифференциации,
дезинтеграции мира, отпавшего от Бога. Всеобщая вражда всех со всеми,
ненасытная жажда эгоистического самоутверждения — вот слагаемые
земной жизни. Само по себе признание за собой безусловного значения
говорит о потенциальных возможностях человеческого
совершенствования, ложь в данном случае начинается там, где в подобном же
безусловном значении отказывается другому. Разумеется, в процессе
исторического развития люди научились препятствовать безудержному развитию
человеческого эгоизма, но не настолько, чтобы окончательно потушить
его «злое пламя». Нужна сила, которая, не разрушая высоких дерзаний
человеческого духа, не превращая индивидуальность в слепое орудие
рода, вместе с тем открыла бы перед ней путь к истине (божественному
всеединству), иначе говоря, спасла и оправдала бы индивидуальность,
освободив ее от эгоизма. Сила эта, считает Вл. Соловьев, — любовь,
причем половая по преимуществу.
Всякая иная любовь, конечно, умаляет эгоизм, но он настолько
укоренен в человеческой природе, что подорвать его мощь посредством
только теоретического осознания истины невозможно. Посему именно
половая любовь, подобно эгоизму, захватывающая и обнимающая все
существо человека, способна вывести его из потемок ложного
самоутверждения. Встречая в любви свое другое, точно такое же содержание,
но в иной, противоположной форме выраженное, человек не в сознании,
а «на деле», «не отвлеченно, а существенно» переносит «центр своей
жизни за пределы своей эмпирической особности» и, следовательно,
проявляет и реализует «собственную истину, свое безусловное
значение», которое, с точки зрения соловьевской философии всеединства,
«и состоит в способности переходить за границы своего фактического
феноменального бытия...»19.
Но познать истину еще не значит жить в ней. Любовь может оказаться
(чаще всего именно так и случается) лишь кратким «прологом на небе»,
отчего земной плен для мыслящего существа становится еще мрачней
и безысходней. Получив животворящий источник света от Бога, чело-
23
век обязан заняться преображением окружающей действительности.
«Духовно-физический процесс восстановления образа Божия в
материальном человечестве, — пишет Вл. Соловьев, — никак не может
совершиться сам собой, помимо нас», «необходима, — полагает он, —
деятельная вера, нравственный подвиг и труд, чтобы удержать за собой,
укрепить и развить этот дар светлой и творческой любви, чтобы
посредством него воплотить в себе и в другом образ Божий и из двух
ограниченных и смертных существ создать одну абсолютную и
бессмертную индивидуальность»20.
Но как же осуществляется подлинная любовь, иначе говоря,
интеграция человеческой личности? Придавая любви значение и смысл
некоего рычага становящейся богочеловечности, Вл. Соловьев прибегает к
следующей аналогии. Известно, говорит он, что мужское начало
активное, женское в противоположность ему — пассивное, поэтому мужчина
«должен творить и созидать свое женское дополнение»21 подобно тому,
«как Бог творит вселенную, как Христос созидает Церковь...».
Разумеется, и Бог, и Христос, будучи второй ипостасью Божественной
Троицы, заключают в себе творческую силу актуально, человек содержит
ее лишь потенциально, в качестве Божьей благодати; посему он (муж)
является только проводником божественной энергии и, имея «в лице
женщины материал, ему самому равный по степени актуализации»,
«пользуется» всего-навсего «потенциальным преимуществом почина»22,
делает, так сказать, первый шаг к совершенству. Затем наступает черед
взаимодействия и взаимовлияния.
Аналогия между Богом и вселенной, Христом и Церковью, с одной
стороны, и между мужчиной и женщиной — с другой, при всей ее
условности и богословской рискованности проведена Вл.
Соловьевым вовсе не случайно. Она показывает, какой поистине космически-
мистериальный характер имеет для него любовь. Ведь то идеальное
единство, к которому стремится разорванный на мужскую и женскую
половины человек, а вместе с ним погруженный в состояние
дифференциации весь мир, есть, по Вл. Соловьеву, «вечный предмет любви
Божией, ...Его вечное другое»23. Это «другое единство» по отношению к
Богу — начало «пассивное, женское», поскольку лежащая в ее основе
«вечная пустота (чистая потенция) воспринимает полноту
божественной жизни». Однако для Бога это «чистое ничто» вечной
женственности «скрыто воспринимаемым от Божества образом абсолютного совер-
24
шенства», иначе говоря, то, что «для нас еще только осуществляется,
для Бога, т.е. в истине, уже есть действительно»24.
Подводя итог этим сложным и небесспорным размышлениям, можно
заметить, что взаимоотношения Бога с вечной женственностью, как их
рисует Вл. Соловьев, представляют собой некую идеальную модель
любви, следуя которой человек восстановит утраченную абсолютную
индивидуальность, войдет в план божественного всеединства,
обретет бессмертие. Ведь не случайно философ обращает внимание своего
читателя на то обстоятельство, что любовь Бога к своему женскому
другому, «предшествуя» человеческой любви, «содержит в себе тайну ее
идеализации», ибо «идеализация низшего существа есть вместе с тем
начинающая реализация высшего...»25. Возникает как бы точка
пересечения двух энергий: воспринимая любовную энергию от Бога,
вечная женственность, София, обнимающая творение, проводит ее в мир,
открывая путь к реализации богочеловеческой идеи.
Отсюда понятен «двойственный», а точнее, «двусторонний»
характер истинной любви. Согласно объективно-идеалистическим
представлениям человек пребывает одновременно в «двух мирах»:
имманентном и трансцендентном. Говоря о том, что в любви любимое лицо
приобретает для любящего безусловное значение, мы должны помнить,
что таковым оно является лишь в своей идее, принадлежащей
божественному всеединству. «Небесный предмет нашей любви, — уточняет
Вл. Соловьев, — только один <...> — вечная Женственность Божия...»26.
Вот почему, любя какого-то человека, мы прежде всего любим его
идею, а потом уже ее конкретного, земного носителя, который,
разумеется, в силу действия злых, природных законов ей далеко не
соответствует. Из этого вытекает нравственный подвиг любви: мало
поклоняться небесному предмету, вечной женственности, необходимо всеми
силами стремиться к воплощению небесной правды «в другом,
низшем существе той же женской формы, но земной природы...»27.
Следовательно, подлинная любовь, ведущая к бессмертию и
восстановлению божественной целостности мира, всеединства, есть
глубочайшее, диалектическое сочетание «восходящей» и «нисходящей» любви,
тех самых «двух Афродит», Урании и Пандемос, которых, по словам
Вл. Соловьева, «Платон хорошо различал, но дурно разделял...»28.
В этом последнем замечании, брошенном как бы вскользь,
заключен тем не менее большой смысл. Здесь, по сути дела, проходит нерв
25
той полемики, которую вел русский философ с Платоном и о которой
мы говорили выше. И впрямь, платоновское учение об Эросе не знало
диалектики восхождения и нисхождения при всем инстинктивном
тяготении к ней. Несколько упрощая существо вопроса, можно сказать,
что Платон был более озабочен познанием истины, Вл. Соловьев —
изменением мира в свете истины, хотя последнюю они понимали
по-разному. В конце концов недоступность истины о Богочеловеке и
заставила Платона остановиться на полпути, в то время как ее
исповедание Вл. Соловьевым побудило его закончить свой трактат «Смысл
любви» рассуждением о «всемирной сизигии» (богочеловечестве), в
идее которой он связал «(индивидуальную половую) любовь с
истинною сущностью всеобщей жизни...»29. Содержание этой связи состоит в
наполнении индивидуальной формы любви, в соловьевском ее
понимании, «универсальным содержанием», ибо, уверен Вл. Соловьев,
«действительно спастись, т.е. возродить и увековечить свою
индивидуальную жизнь в истинной любви, единичный человек может только сообща
или вместе со всеми»30.
Завершая изложение глубоко «персоналистического», по словам
Н. Бердяева31, учения Вл. Соловьева о любви (истинный пафос этой
теории: спасение человеческой индивидуальности от злых законов при-
родно-родовой стихии), еще раз заметим, что основные ее идеи нашли
достаточно полное выражение в его лирической поэзии. Поэтому вряд
ли имеет смысл специально обращаться к ее анализу, хотя на одном,
едва ли не центральном из слагаемых поэтической концепции Вл.
Соловьева все же необходимо остановиться.
Рассуждая о том, что «коренной смысл любви... состоит в признании
за другим существом безусловного значения»32, философ
предостерегает о возможной в данном случае подмене ноуменального плана
феноменальным. Признавать за эмпирической женщиной абсолютное
значение — значит, по Вл. Соловьеву, поступать богохульно, а точнее, впадать
в грех идолопоклонства. Позднее, в предисловии к третьему изданию
своих «Стихотворений», он особенно акцентирует внимание читателей
на этой проблеме в связи со стихотворением «Das Ewig-Weibliche {Слово
увещевательное к морским чертям)» и поэмой «Три свидания», которые
будто бы «могут подать повод к обвинению» его «в пагубном
лжеучении»: «не вносится ли здесь женское начало в само Божество?»
Ограждая «себя... от напрасных нареканий», Вл. Соловьев заявляет: «1) перене-
26
сение плотских, животно-человеческих отношений в область
сверхчеловеческую есть величайшая мерзость и причина крайней гибели (потоп,
Содом и Гоморра, "глубины сатанинские" последних времен); 2)
поклонение женской природе самой по себе, то есть началу двумыслия и
безразличия, восприимчивому ко лжи и ко злу не менее, чем к истине и
добру, есть величайшее безумие и главная причина господствующего
нынче размягчения и расслабления; 3) ничего общего с этой глупостью
и с тою мерзостью не имеет истинное почитание вечной женственности
как действительно от века восприявшей силу Божества, действительно
вместившей полноту добра и истины, а чрез них нетленное сияние
красоты». Заканчивает Вл. Соловьев это рассуждение следующим
энергическим пассажем, имея в виду Афродиту простонародную: «Этой мои
стихи не служат ни единым словом, и вот единственное неотъемлемое
достоинство, которое я могу и должен за ними признать»33.
И действительно, поэта трудно упрекнуть в том, что он смешивает в
своей лирической поэзии женское и вечно-женственное начала.
Любимая лирического героя Вл. Соловьева часто слабая земная женщина,
«опутанная» «земной паутиною»34, вызывающая жалость и сочувствие.
Иногда, раздраженный, он называет ее «холодной, злой русалкой» и
бросает ей слова упрека:
В этом мире лжи — о, как ты лжива!
Средь обманов ты живой обман35.
Впрочем, вряд ли речь здесь идет только о присущих героине
индивидуальных чертах характера, скорее всего, они — результат
воздействия на нее «земных оков»36, извращающих истинную природу
человека, которая по своей сути прекрасна. Эта мысль лежит в основе
следующего стихотворения поэта:
Милый друг, не верю я нисколько
Ни словам твоим, ни чувствам, ни глазам,
И себе не верю, верю только
В высоте сияющим звездам.
Эти звезды мне стезею млечной
Насылают верные мечты
И растят в пустыне бесконечной
Для меня нездешние цветы.
27
И меж тех цветов, в том вечном лете,
Серебром лазурным облита,
Как прекрасна ты, и в звездном свете
Как любовь свободна и чиста!37
Из приведенных строк особенно отчетливо видно, сколь
различной предстает героиня Вл. Соловьева в двух планах бытия:
идеальном и реальном. И потому предмет «верующей», как говаривал
философ, любви, хотя и связан с земным объектом любви «инстинктивной»,
натуральной, все же далеко не совпадает с ним. Отсюда, кстати
сказать, и возникает задача преображения эмпирической природы
любимого существа, а ее решение по праву первого почина, о чем говорилось
выше, возлагается на существо мужского пола. Вот почему лирический
герой Вл. Соловьева, в отличие от его любимой, энергичен и активен
и даже в моменты крайней депрессии и отчаяния (а такое случается!)
не забывает о предназначенном ему жизненном подвиге:
Не по воле судьбы, не по мысли людей,
Не по мысли твоей я тебя полюбил,
И любовию вещей моей
От невидимой злобы, от тайных сетей
Я тебя ограждал, я тебя оградил.
Пусть сбираются тучи кругом,
Веет бурей зловещей и слышится гром,
Не страшися! Любви моей щит
Не падет перед темной судьбой.
Меж небесной грозой и тобой
Он, как встарь, неподвижно стоит38.
Иного, впрочем, и быть не может, ибо герой лирики Вл. Соловьева
держит «ответ» не перед любимой женщиной и не перед людьми, а
«перед богом любви»39 и действует не только от себя и не из себя, а
является проводником божественного света. Отсюда ясно, что его путеводная
звезда не земная женщина, а вечная женственность. И она-то — вторая
(добавим: истинная!) героиня лирики Вл. Соловьева. Именно к ней
обращены такие «софийные» стихотворения поэта, как «Вся в лазури
сегодня явилась...» (1875), «У царицы моей есть высокий дворец...» (1875—
1876), «Близко, далеко, не здесь и не там...» (1875—1876), «Какой
тяжелый сон! В толпе немых видений...» (1885, 1886), «Сон наяву» (1895)...
28
И хотя Вл. Соловьев переживает встречу с ней столь же интимно, как
и с любимой женщиной, и даже обращается к ней на «ты», однако
необходимая иерархия всегда у него четко соблюдена. «Она» для него не
«милый друг», а «благодатная тень»40, «подруга вечная»41; рассказывая
в поэме «Три свидания» (1898) о первом «свидании» с ней, поэт
считает обязательным для себя разграничение двух обликов: «Она этой
строфы была простою маленькой барышней и не имеет ничего
общего с тою ты, к которой обращено вступление»42. Простенькая
девочка, в которую влюбился юный герой, пробуждает в нем «зов души»,
«тоску любви» к той, «трем свиданиям» с которой и посвящена
знаменитая поэма Вл. Соловьева. Более того, шутливая интонация,
присущая ее повествовательной ткани, является не следствием
двусмысленности соловьевской позиции, в чем упрекали его некоторые младшие
современники, а помогает ему избежать кощунственного совмещения,
спутанности феноменального и ноуменального планов бытия, роковой
ошибки, подстерегающей всех, кто вслед за Вл. Соловьевым
вознамерился бы воспеть вечную женственность.
2. «Новое христианство
или вселенская религия — вечного завета»
Однако, помня о предостережении Вл. Соловьева и, безусловно,
принимая его слова в расчет, зададимся вопросом: не является ли резкая и
чеканная формулировка процитированного выше предисловия к
сборнику его стихотворений невольным признанием философа в некоей
роковой и изначальной ошибочности его учения об Эросе? Вл.
Соловьеву казалось, что он раз и навсегда отвел от себя упреки своих
оппонентов, однако вопросы к нему не только не исчезали со временем, но
и множились.
«В облике Соловьева есть темная глубина, — писал К.В. Мочуль-
ский, — все в нем двоится, и яркий свет отбрасывает мрачные тени.
Он унес с собой тайну, о которой смутно догадывались лишь немногие,
самые проницательные его друзья». Касаясь непосредственно «Смысла
любви», исследователь отмечал: «Своей философией любви Соловьев
хотел "заклясть" темную силу чувственной страсти (имеется в виду
только что пережитый роман с СМ. Мартыновой. — B.C.), хотел твор-
29
ческим словом вызвать "свет из тьмы", хотел освобождения. Но
освобождение не наступило. Пушкин знал аполлиническую светлую
тишину вдохновения после дионисического кипения страстей. "Прошла
любовь — явилась Муза". У Соловьева любовь не прошла. Его
вдохновенные речи о любви — не песнь освобожденного, а пифическое
вещание влюбленного»43.
Племянник философа СМ. Соловьев, всегда относившийся к
своему великому дяде с подчеркнутым пиететом и даже несколько
апологетически, все же вынужден был признать «Смысл любви»
«единственным нехристианским сочинением Соловьева»44. После этих слов
вряд ли стоит удивляться жесткости характеристики, данной
сочинению философа Г. Флоровским: «Начало 90-х годов было для Соловьева
временем самого нездорового эротического возбуждения, временем
страстной теософической любви, "обморок духовный". С этим
опытом и связаны его известные статьи о "Смысле любви"... Это какой-то
жуткий оккультный проект воссоединения человечества с Богом через
разнополую любовь»45.
Едва ли можно проигнорировать эти суровые оценки соловьевской
концепции любви. Дело в том, что «Смысл любви» не досадное
исключение в философском наследии Вл. Соловьева, а закономерный этап
или, лучше сказать, необходимое звено его философии всеединства.
Эрос есть сердце этого учения, та скрытая его энергия, которая
придает ему живительные силы, одухотворяет его. Вл. Соловьев не
упоминает в этом цикле статей о Софии, но когда он говорит о мире как
«вечном другом» Бога, имеющем женственную природу и представляющем
предмет Его любви, то он имеет в виду именно Софию. Поскольку же
взаимоотношения Бога с вечной женственностью (Софией)
воспринимаются Вл. Соловьевым в качестве небесного прообраза земной любви,
нетрудно сделать вывод о глубинной связи его учения об Эросе с
мистической концепцией Софии. Отсюда понятно: уяснение этого учения
невозможно без ответа на вопросы: какой смысл вкладывал философ
в мистическую категорию Софии, какова сокровенная суть его
философии. Прежде всего вполне определенно следует сказать: «встречи»
с Софией, трижды являвшейся ему в образе Вечной Женственности в
начале жизни, о чем Вл. Соловьев поведал за два года до своей смерти
в поэме «Три свидания», есть главное мистическое событие его
духовной биографии. Именно эти «свидания» философа с его «божеством»
30
дали мощный импульс для становления и развития соловьевскои
метафизики. «Мистическая основа всей философии Соловьева — его учение
о Софии <...> Учение его вышло не из книг, а из подлинного
жизненного переживания», — писал К.В. Мочульский и, развивая эту мысль,
продолжал: «Дальнейшая философская работа Соловьева будет
заключаться в том, чтобы перевести эту мистическую интуицию на язык
метафизических понятий ("положительное всеединство") и раскрыть
ее в системе историософии, этики и религиозно-социального
строительства»46.
Понятно поэтому, что без уяснения философской сути учения
Вл. Соловьева о Софии и побудительных причин его настойчивого
обращения к этой теме в течение всей жизни нам не постичь ни тайны
его личности, ни пафоса его философствования.
21 июня 1875 г. молодой доцент философии Вл. Соловьев выехал из
Москвы в Лондон. Внешне все выглядело благопристойно и
добропорядочно: Московский университет удовлетворил просьбу начинающего
ученого и командировал его в Англию, как было сказано в выданном
ему официальном документе, «преимущественно для изучения в
Британском музее памятников индийской, гностической и средневековой
философии»47.
Однако есть все основания предполагать, что главным образом его
занимала литература о Софии. В Британском музее «богиня» во
второй раз предстала перед его духовным взором, и он, послушный ее
зову, срочно выехал из Британии в Египет для очередной встречи с ней.
Очевидно, еще в Лондоне Вл. Соловьев написал программу нового
своего сочинения48, «малого по объему, но великого по значению»,
которое в письме к отцу от 1 (13) мая 1876 г., называет по-французски
«Principes de la religion universelle»49, a в письме к матери от 4 марта того же
года характеризует как «некоторое произведение мистико-теософо-
философо-теурго-политического содержания и диалогической формы»50.
У СМ. Соловьева сохранилась эта рукопись под названием «Sophie»,
с фрагментами которой он впервые познакомил читателей его книги о
Вл. Соловьеве и которую ныне можно целиком прочесть в издающемся
полном собрании сочинений и писем философа. Но, прежде чем мы
попытаемся изложить некоторые аспекты «Софии», представляющей
собой, по словам его племянника, «первый набросок будущей системы
Соловьева»51, попытаемся понять, что побудило его выдвинуть идею
31
«вселенской религии», как зарождалась мысль о «вселенском учении»
в сознании начинающего философа.
Философская система Вл. Соловьева — один из вариантов
философии жизни. Он стремился не столько понять и объяснить мир, сколько
изменить его, вывести действительность из недолжного состояния и
гармонизировать ее.
В письме к Е.В. Селевиной (Романовой) от 2 августа 1873 г.
начинающий философ наметил программу своей жизни. «С тех пор, как я стал
что-нибудь смыслить, — писал он, — я сознавал, что существующий
порядок вещей (преимущественно же порядок общественный и
гражданский, отношения людей между собою, определяющие всю
человеческую жизнь), что этот существующий порядок далеко не таков, каким
должен быть, что он основан не на разуме и праве, а, напротив, по
большей части на бессмысленной случайности, слепой силе, эгоизме и
насильственном подчинении. <...> Сознательное убеждение в том, что
настоящее состояние человечества не таково, каким быть должно,
значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано. <...>
Сознавая необходимость преобразования, я тем самым обязываюсь
посвятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы это
преобразование было действительно совершено. Но самый важный вопрос: где
средства!»51.
Собственно говоря, ответ на этот вопрос Вл. Соловьеву был заранее
известен. Безусловной истиной для него являлось христианство.
Проблема заключалась в ином: «как ввести ее во всеобщее сознание», для
которого она (в этом Вл. Соловьев был абсолютно убежден) «в
настоящее время есть какой-то monstrum — нечто совершенно чуждое и
непонятное». В то время как за века существования христианства
человеческий разум развился до невероятных высот, оно, по мнению
Вл. Соловьева, продолжало оставаться «делом простой
полусознательной веры и неопределенного чувства...». Вырвавшийся на волю из
средневековых монастырей европейский разум «с полным правом восстал
против такого христианства и отверг его». Однако религиозный
нигилизм «отвлеченного разума» ни в коей мере не устраивал Вл.
Соловьева из-за его неспособности постичь глубинные проблемы бытия и
человеческого существования. Автор письма высказывался за
своеобразный синкретизм разума и христианской религии. «...Теперь, когда
разрушено христианство в ложной форме, — утверждал он, — пришло
32
время восстановить истинное. Предстоит задача: ввести вечное
содержание христианства в новую соответствующую ему, т.е. разумную
безусловно, форму. <...> И когда христианство действительно будет
выражено в этой новой форме, явится в своем истинном виде, тогда само
собой исчезнет то, что препятствует ему до сих пор войти во всеобщее
сознание, именно его мнимое противоречие с разумом»53.
Речь здесь идет о какой-то еще смутно предчувствуемой
синтетической форме христианской философии, примиряющей в себе
«отвлеченные начала» разума и веры, себе же начинающий философ отводил
роль создателя этого «вселенского учения» или «вселенской»,
универсальной религии.
Среди бумаг Вл. Соловьева, относящихся ко времени его работы в
Британском музее, есть один набросок, несомненно связанный с
замыслом «Софии» и предвосхищающий некоторые идеи этой рукописи
относительно философского осмысления мирового процесса.
Упоминая про предшествующие ему теософские системы
неоплатонизма, Сведенборга, Каббалы, Якоба Бёме, философ, хотя и
обнаруживает в них положительные моменты (наличие «духовных основ»), но
не находит их удовлетворительными вследствие игнорирования ими
«истинной идеи мирового процесса» или допущения в нем «элемента
случайности и произвола...».
Философские же системы, имевшие о мировом процессе «настоящее
понятие», т.е. признававшие его необходимость и, следовательно,
исключавшие из него даже намеки на какой-либо произвол (здесь Вл.
Соловьев говорит о Гегеле, эволюционном материализме, натурфилософии
Шеллинга, учении Гартмана), также не устраивают его, поскольку они,
по его воззрениям, «не могли опред<елить> истинной цели и значения
процесса, ибо цель эта — осущ<ествление> духовного божеств<енного>
мира».
Правда, он выделяет «последнюю... сист<ему> Шеллинга», поскольку
усматривает в ней хотя и неудовлетворительно выраженное, но все же
отчетливо проступающее «представл<ение> о духовных началах»,
сопряженное с «признанием конкретного духовного мира, как у Бэма и
Сведенб<орга>», однако без их чертей и ада. По этой причине, заключает
Вл. Соловьев, «Шеллинг и есть настоящий предтеча вселенской религии».
Далее следует вывод: «Учения Бэма и Сведенборга суть полное и
высшее теософическое выражение старого христианства. Положитель-
33
ная философия Шеллинга есть первый зародыш, слабый и
несовершенный, нового христианства или вселенской религии — вечного завета.
Каббала и неоплатонизм.
Бэм и Сведенборг.
Шеллинг и я.
Новоплатонизм — Каббала Закон Ветхий Завет
Бэм — Сведенборг Евангелие Новый Завет
Шеллинг — я Свобода Вечный Завет»54.
Что можно сказать по поводу этих размышлений Вл. Соловьева?
Здесь четко прослеживается та же тенденция, что и в
процитированном выше письме к Е.В. Селевиной: надежда на возрождение
христианства путем придания ему современной разумной формы. В старые
мехи он задумал влить новое вино и тем самым достичь
положительного результата. По сути дела, он рассчитывал примирить разум и веру,
считая их противостояние (а нередко и вражду) ложными. Вот почему
для задуманного им синтеза христианства и результатов положительной
науки (знания в широком смысле) оказалась востребованной теософ-
ско-оккультная литература, неоплатонизм и Шеллинг. Странно только,
что из поля его зрения как бы выпала патристика.
На самом деле ничего случайного здесь нет. Вл. Соловьев был хорошо
знаком с учением отцов Церкви. Но как на фоне этого учения
выглядело бы его обращение к Каббале, Бёме, Сведенборгу? Впрочем, и без
того весьма рискованными с христианской точки зрения
представляются выстроенные Вл. Соловьевым смысловые параллели: Каббала —
Ветхий Завет, Бёме — Сведенборг — Новый Завет, его настойчивое
противопоставление «старого» и «нового» христианства как
«вселенской религии вечного завета», с осуществлением которого,
предвосхищая искания религиозного модернизма начала XX в., Вл. Соловьев
связывал перспективы развития мирового процесса»55. Если Шеллинга он
воспринимал как предтечу этой религии, то в себе он видел
подлинного ее создателя и первосвященника.
Основы вселенской религии Вл. Соловьев намеревался развить в
«Софии», оттого и придавал этому труду столь большое значение.
Обращаясь к его анализу, заметим, что рассмотренные нами
подготовительные материалы к «Софии» говорят о том, насколько неслучайными
были для философа высказанные в ней идеи.
34
В трактате «София» Вл. Соловьев постарался придать своим
размышлениям об истинной религии четкий и систематический
характер. Однако замысел оказался настолько грандиозным, а поставленная
перед собой поистине мессианская задача настолько воспалила разум
юного философа, что намеченные цели не были достигнуты. Прежде
всего не была найдена соответствующая замыслу форма, порой
возникала терминологическая путаница, нечеткость и даже
противоречивость отдельных формулировок — верные признаки недостаточной
продуманности центральной идеи сочинения. Однако отмеченные
недостатки отнюдь не перечеркивают работу в целом.
Прежде всего знакомство с каирской и соррентийской рукописью
Вл. Соловьева подводит к мысли, что центральным божеством
«вселенской религии» является София, иначе говоря, «вселенская религия»
есть ее воплощение и форма ее обнаружения. Вряд ли стоит говорить,
насколько принципиально данное положение для основателя русской
софиологии Вл. Соловьева, особенно если учесть, что сформулировано
оно впервые, притом недвусмысленно и четко.
Второе обстоятельство. Автор «Софии» подтвердил
выказывавшееся им и ранее стремление воспринимать свое учение не только как
путь к познанию Бога, но и как орудие жизненного строительства. Так
уже в самом начале первого диалога «Софии», написанного Вл.
Соловьевым в феврале 1876 г. в Каире, на вопрос Софии: «Между
окаменелым Востоком и Западом, который разлагается, отчего ищешь ты
живого среди мертвых?» — философ отвечает: «Смутная греза
привела меня на берег Нила. Здесь, в колыбели истории, я думал найти
какую-нибудь нить, которая через развалины и могилы настоящего
связывала бы [древнюю] первоначальную жизнь человечества с
[грядущей] новой жизнью, которую я ожидаю»56. Центр этой фразы
составляет словосочетание «новая жизнь», «греза» о которой (своего рода
ожидание чуда) заставляет философа действовать. Но это не тот путь,
София его отвергает. По ее разумению, «будущее человечества» может
открыться только человеку, познавшему «вселенскую религию» («начала
вселенского учения»), ибо «познанная истина должна предшествовать
<жизни>»57. Слова эти принадлежат не Софии, а философу, но внушены
они ему именно Софией; она и являлась ему для того, чтобы «истина»
эта овладела его сознанием и чтобы вместо «смутной грезы» он
получил в свои руки путеводную нить.
35
Изложение доктрины «вселенского учения» начато в
анализируемом трактате с выяснения вопроса о соотношении «вселенской
религии» с христианством. Мы уже знакомы с некоторыми
предварительными рассуждениями Вл. Соловьева на этот счет, однако в «Софии»
они получают не только более четкое оформление, но и дальнейшее
развитие. Можно даже сказать, что его суждения по этому поводу
становятся более радикальными.
Обращаясь к Софии, философ говорит ей, что «хотел бы знать, в
каком отношении» ее «учение находится с верой [моих] наших отцов»?
Его заботит вопрос: является ли «возвещаемая» Софией «вселенская
религия... христианством в его совершенстве или у нее другое начало»?
На вопрос София отвечает вопросом же, она предлагает второму
участнику диалога договориться о терминах, прояснить проблему, что, в
частности, считать христианством? Из ее рассуждений явствует, что
к христианству нельзя причислить ни «папство», ни протестантизм.
К каждой из этих церквей у нее есть особый счет. Католицизм за
столетия своего существования «покрыл» себя неисчислимыми грехами и
кровью, но вместо того, чтобы покаяться, «освящает <1 об.> и
утверждает их, объявляя себя непогрешимым». Протестантизм,
«разделенный и немощный», по сути дела, безжизнен, «хочет верить и больше не
верит». О православии Вл. Соловьев не говорит. Но когда София
упоминает «про слепое невежество, рутину масс», подменивших
христианство «старой привычкой», вкупе с этим бичует «корыстное лицемерие
священников и великих мира сего», почти наверняка можно сказать,
что речь идет именно о православной Церкви. Итоговое суждение
Софии звучит как приговор современным христианским конфессиям:
«Знай, — обращается она к философу, — что вселенская религия и
приходит, чтобы разрушить все это навсегда»58.
Однако философ просит Софию заглянуть в глубь проблемы. Он и
сам не склонен смешивать «состояние христианского мира в какую-
либо эпоху с самим христианством». Его интересует «живое
христианство, а не его могила». Суть его вопроса к Софии такова: «является
ли вселенская религия религией Христа и Апостолов, религией,
основавшей новый мир..?»59.
Видимо, категорический ответ на этот вопрос представлял для
недавнего вольного слушателя Московской духовной академии известную
трудность. Поэтому, отвечая на него, София прибегает к следующему
36
«сравнению». «...Вселенская религия, — говорит она, — есть плод
великого дерева, корни которого <2> образованы первоначальным
христианством, а [основание] ствол — религией средних веков. Католицизм и
современный протестантизм — это иссохшие и бесплодные ветви,
пришло время их срезать. Если ты называешь христианством все дерево,
тогда вселенская религия, без сомнения, только последний плод
христианства, христианство в его совершенстве; но если ты даешь это имя
только корням и стволу, тогда вселенская религия не есть
христианство»60.
Видимо, эти рассуждения, точнее, их смысл или содержащиеся в них
идеи были настолько важны для Вл. Соловьева, что он отчеркнул весь
этот текст на полях рукописи волнистой линией. Радикализм ответа
Софии (а в ее уста были вложены собственные размышления юного
философа), скорее всего, пугал его, поэтому мысль его не обрела здесь
достаточно четких очертаний. С католицизмом и протестантизмом
Вл. Соловьев 1876 г. решил покончить — позиция Софии на этот счет
не допускает никаких иных толкований. Однако из ответа Софии не
совсем ясно: в каких взаимоотношениях находится утверждаемая ею
«вселенская религия» с «первоначальным христианством» (на языке
философа — «религией Христа и апостолов»). Ведь из аллегории Софии
следует, что «вселенская религия» есть «последний плод»
(«христианство в его совершенстве») дерева, корни которого образует это самое
«первоначальное христианство», а ствол — «религия средних веков».
Иными словами, «вселенская религия» уходит своими корнями в
«первоначальное христианство», представляя собой некое
усовершенствованное христианство. В таком случае парадоксальным представляется
следующий тезис Софии: нельзя отождествлять «вселенскую
религию» с корнями и стволом указанного дерева — иначе оно и не
христианство вовсе. В результате приведенный выше вопрос философа
как бы повисает в воздухе; дерево, о котором столь красочно
повествовала София (образ этот, как мы убедимся в дальнейшем, она будет еще
развивать), произрастало на какой угодно, но только не на
христианской почве. Все это говорит о тех реальных трудностях, с которыми
столкнулся юный Вл. Соловьев, вознамерившийся основать религию
Софии — «вселенскую религию».
Внимающий откровению Софии философ, хотя и говорит, что
«понимает» ее, однако испытывает при этом некоторое смущение,
37
требуя дополнительной аргументации идеи и уточнений. В
частности, он высказывает опасение, что ее слова могут быть «плохо
истолкованы». На его взгляд, способна «вызвать большое недоразумение» уже
«сама вселенская форма», в которую она облекает свою теорию. «Есть
люди, — рассуждает философ, — считающие себя призванными
универсализировать христианство». Они удаляют из него всякие
положительные и характерные моменты, т.е. лишают его сути,
выхолащивают его содержание, а в результате этих манипуляций получают
нечто, не похожее ни на христианство, ни на ислам, ни на буддизм, «и
это ничто... называют вселенской религией, религией Человечества...».
«Я боюсь, — продолжает собеседник Софии, — чтобы с самого начала
не приняли [нашу] истинную вселенскую религию за наивное
произведение этого же рода» или, что еще хуже, за религию, лишенную
религиозного начала вообще — Бога, души, сверхчеловеческой реальности61.
София, однако, не видит резона в опасениях философа.
«Недоразумения», о которых говорил ее собеседник, она, по ее словам,
«предупредила сделанным только что сравнением: чтобы получать плоды, не
срубают [ветви] дерево, на котором они растут». «...Истинная
вселенская религия, — продолжает она, — это дерево с бесчисленными
ветвями, отягощенное плодами и простирающее свою дарохранительницу
на всю землю и на грядущие миры. Это не плод абстракции, или
обобщения, это реальный и свободный синтез всех <3 об> религий,
который не отнимает у них ничего положительного и дает им еще то, чего
они не имеют. Единственное, что она разрушает, — это их узость, их
исключительность, их взаимное отрицание, их эгоизм и их ненависть».
Видимо, чувствуя, что эти слова не раскрывают до конца сути нового
учения, Вл. Соловьев делает на полях рукописи следующую приписку:
«Вселенская религия есть не только положительный синтез всех религий,
но также и синтез религии, философии и науки, и затем сферы
духовной, или внутренней вообще, со сферой внешней, с жизнью
политической и социальной. Религия, становясь вселенской, теряет свой
исключительный характер, [вселенская религия есть] она становится больше
чем религией, [то есть] она более не противопоставлена другим сферам
человеческой жизни, но [объединяет] включает их в себя»62.
Заключая состоявшийся обмен мнениями, благодарный философ
говорит: «Именно таков смутный образ истины, который грезился мне
с давних пор»63.
38
И тут он абсолютно прав. Еще в письме к Е.В. Селевиной от 31
декабря 1872 г. он мечтал о наступлении «поры веры сознательной,
основанной на развитии разума»64. Подобный же круг мыслей мы
обнаруживаем в цитировавшемся выше письме Вл. Соловьева к тому же
адресату 2 августа 1873 г. Правда, тогда он рассчитывал
активизировать «вечное содержание христианства» посредством придания
адекватной ему разумной формы. Однако в этом документе начинающий
философ не затрагивал сути христианской религии, а рассуждал о
«ложной» и «новой» форме его бытования. Такие рассуждения вовсе
не безобидны, они способны подтолкнуть к мысли о необходимости
реформирования христианства по существу. И вот в рассмотренном
нами выше подготовительном материале к «Софии» Вл. Соловьев уже
вступает на этот опасный путь: в сохранившемся наброске той поры
появляются весьма двусмысленные формулы: «старое христианство» —
«новое христианство», причем второе настойчиво
противопоставляется первому. Более того, «новое христианство» выступает у него, как
мы помним, именно в качестве «вселенской религии» — религии
«вечного завета», противопоставленной религиям Ветхого и Нового
Заветов. Двадцатидвухлетний Вл. Соловьев протягивает тут руку Вл.
Соловьеву тридцатидевятилетнему, заявившему в процитированном письме
к В.В. Розанову, что исповедуемая им религия Св. Духа «шире и...
содержательнее» всех существующих религий. Но это, так сказать,
перспектива, хотя корни ее — в «Софии» и в материалах, ей предшествующих.
В качестве источников этой загадочной «вселенской религии вечного
завета», подлинным пророком и творцом которой Вл. Соловьев
считал самого себя, выступают у него Каббала и оккультно-теософская
литература Запада.
В «Софии» философ делает следующий шаг. Знакомые уже по
прежним его выступлениям мысли получают новое обличье. На вопрос о
соотношении «вселенской религии» с религией Христа и апостолов
или, что то же, есть ли она «христианство в его совершенстве или у нее
другое начало?» собеседник Софии фактически не получает четкого
и недвусмысленного ответа. То София уподобляет «вселенскую
религию» «последнему плоду» некоего дерева, корни которого —
«первоначальное христианство». В таком случае «вселенская религия» есть
усовершенствованное творение последнего. То она предупреждает
всякую попытку отождествления «вселенской религии» с корневой систе-
39
мой воображаемого дерева, и тогда «вселенская религия» — никакое
не христианство, и, следовательно, у нее, говоря на языке философа,
«другое начало». То она как будто забывает об отринутых ею же
корнях и начинает рассуждать в том роде, что получить прекрасные плоды
можно только с цветущего и живого дерева, а потому, разумеется,
срубать его не следует. А как же быть с корнями? Что дает
живительные соки этому аллегорическому дереву «вселенской религии»? Ответ
на этот вопрос, как было уже сказано, по сути дела, проигнорирован то
ли по забывчивости Софии, то ли из-за его неясности для самого
философа — Вл. Соловьева. Вся энергия Софии (Вл. Соловьева) ушла на
описание универсального характера «вселенской религии»,
освещающей светом истины не только прошлое и настоящее «земли», но и
«грядущие миры». Приданный Вл. Соловьевым конструируемой им
«вселенской религии» универсализм таков, что в итоге образуется некая
религия без берегов, являя собой не только реальный синтез всех
религий и пресекая таким образом их претензии на исключительность и
взаимную вражду, но и претендуя также на воссоединение
религиозной сферы со сферой философско-научной, духовной жизни человека
и общества, с тем, что обычно именуют внешней сферой, т.е. жизнью
политической и социальной. Немудрено поэтому, что в качестве
источников этой утопической «вселенской религии» Вл. Соловьева оказались
Каббала, труды Якоба Бёме, Сведенборга, т.е. та теософско-оккультная
литература, которая не только не имеет ничего общего с христианской
мыслью, но и вообще враждебна христианству65.
По ходу знакомства с этим трактатом Вл. Соловьева нам еще
представится случай поговорить о его философских корнях. Пока же
заметим, что изложенная часть диалога философа с Софией — лишь
введение в «истину» «вселенского учения», ибо полная «истина»
включает в себя учение об абсолютном начале и его «осуществлении» в
феноменальном мире («иерархии существ»).
Сверхсущее, абсолютное начало Вл. Соловьев называет
каббалистическим термином Эн-Соф (русский перевод: «Не-нечто»).
Философ исходит в данном случае из положения, что абсолютное начало
подобно любому явлению не может быть сведено к своим признакам,
хотя и является их носителем. Оно не бытие, а сверхбытие, потенция
бытия. Обращая внимание на этот каббалистический термин в
рукописи «София», А.Ф. Лосев говорит: «...при чем же здесь Каббала? Ведь
40
этот сверхсущий принцип мы находим и в античном неоплатонизме, и
в христианской литературе Востока и Запада. Но Вл. Соловьеву хочется
в данном случае связаться именно с Каббалой, а не с Плотином и не с
Дионисием Ареопагитом»66.
Думаем, что дело здесь не в простой прихоти философа, как это
показалось А.Ф. Лосеву. Как уже говорилось выше, конструируя «вселенскую
религию», Вл. Соловьев игнорировал христианские источники,
опираясь преимущественно на каббалистическо-теософскую литературу.
В неоплатонизме и христианстве философа не устраивал надмирный
характер абсолютного начала. В Каббале его привлекало характерное
для этого мистического учения и мистической практики более тесное
соприкосновение божества с конечным миром посредством эманиро-
вания сверхсущего в сферу бытия и известная рационализация
мистического опыта67. Уже в «Софии» юного философа более привлекали
не сферы трансцендентного и имманентного миров, взятые порознь,
а точки их соприкосновения, встречи и взаимодействия. Абсолютное
начало, учит София своего собеседника, превосходит всякое бытие,
но оно же, будучи единым и простым в своей сути, является началом
бытия, его множественности и сложности. Иными словами, оно есть
hen kai pan (одно и все). Восток, отрекающийся от множественности во
имя единого, познает его только как hen, Запад, жертвующий
абсолютным во имя множественности мира, впадает в другую, прямо
противоположную крайность. Таким образом, ни восточная, ни западная
религии не способны постичь абсолютное начало во всей его диалектической
сложности. «Вселенская религия» призвана возвести эти тенденции к
синтезу, не только постичь, но и перевести в практическую плоскость
истинное hen kai pan.
В первой главе «О трех фазисах [природы] абсолютного начала и о
трех божественных ипостасях» первой части рукописи Вл. Соловьев
формулирует этот принцип следующим образом: «Главная цель
мирового процесса есть действительное обнаружение единства, или
божественной духовности, во всей реальности, или воплощение Бога во
всех существах, что может быть также определено как
материализация божества»68.
Собственно, вопрос о «материализации божества», его
«осуществлении в иерархии существ» — один из центральных пунктов учения
Вл. Соловьева. Его рассмотрению посвящен один из диалогов «Софии»
41
«Космический и исторический процесс»; этот же материал мы
находим в указанной только что первой главе первой части трактата, так
что, анализируя данную проблему, мы вправе обращаться к
материалу обоих разделов.
Прежде всего мы встречаем здесь первый набросок тринитарной
системы Вл. Соловьева (учение о Троице), развитой им позднее в
«Философских началах цельного знания», «Чтениях о Богочеловечестве» и
«России и вселенской Церкви».
Абсолютное начало, утверждает философ, представляет собою
единство, и, проявляясь в «трех мирах», оно осуществляет себя как
незыблемый принцип. В «первом мире» единство существ в Духе носит
субстанциональный характер, это их «действительное единство», если они
и различаются, то лишь для того, чтобы «немедленно соединиться».
«Во втором мире существа различаются идеально, то есть через
первоначальный акт Ума в умопостигаемом пространстве. <...> Идеальное
единство не отменяет множественности. Ум различает, чтобы
соединять, но в этом союзе различие сохранено в качестве идеального.
Наконец, в третьем мире, где множественность реальна, или чувственна,
единство тоже должно быть реальным и чувственным». Подводя итоги
своих рассуждений, Вл. Соловьев говорит: «...единство, будучи всегда
одним и тем же, в первом мире существует, во втором — оно мыслится
(представляется), в третьем — чувствуется внешним образом». В
данном месте текст рукописи прерывается медиумическим письмом:
«[Coqna + Думай обо мне. Я рожусь <в> апреле <1>878 Coqna +]»69.
Как в определенный срок религию Отца (Ветхий Завет) сменила
религия Сына (Новый Завет), так с указанной даты, по мысли Вл. Соловьева,
должна начаться эра «вселенской религии вечного завета», той самой
религии Св. Духа, о которой философ писал В.В. Розанову и
главенствующую роль в которой призвана была играть «новая богиня» София.
Сфера «полномочий» Софии, как то следует из контекста
анализируемой рукописи, и есть этот самый «третий мир»; вот почему юный
Вл. Соловьев бросает все свои силы на уяснение себе его содержания.
Но прежде всего собеседника Софии — философа заботит ответ на
вопрос, в каком соотношении три «божественных» мира находятся с
тем миром, в котором живет и действует человек? То, что они
«содержат» в себе его «начала», понятно из предыдущего изложения
данного материала. Однако «всецело» содержаться в них он не может по
42
вполне понятной причине: «их существенный характер
противоположен». В первых преобладающее начало — «единство и божественная
духовность», «множественность и материальность <в них> есть лишь
посредствующее орудие... божественного единства...». Иными словами,
«это царство любви и мира». Другое дело, мир, в котором суждено
пребывать человеку. В нем все устроено «наоборот: множественность,
разделение, ненависть, грубая материальность занимает здесь всегда
<59 об.> первое место, а духовное единство является, по видимости,
лишь случайным продуктом». Возникает вполне логичное
предположение, что речь в данном случае может идти о некоем четвертом мире, и
тогда важно выяснить его происхождение. Однако София сразу же
отметает данный вопрос своего собеседника. «Это не что иное, как третий
мир, — говорит она, — мир душ и тел (ведь мы видели, что душа
неотделима от тела) в состоянии отделения от двух других миров, ибо он
непосредственно связан с миром умственным, или идеальным, будучи
отделенным от него»70.
Не делая поспешных выводов, попробуем проследить за логикой
рассуждений начинающего философа.
Предположение участника диалога с Софией относительно
существования четвертого мира вызвано тем обстоятельством, что он не
вник глубоко в диалектику взаимоотношений между собой трех миров
или трех божественных ипостасей. Нужно учитывать, поучает София
внимающего ей философа, что существует как «нормальный порядок»
этих взаимоотношений, так и его нарушение при определенных
условиях. «Нормальный порядок» может быть основан только на строгой
иерархии трех фазисов (ипостасей) абсолютного начала относительно
друг друга. Вторая ипостась — Ум есть субъект первой, третья
ипостась — Душа — субъект второй, а через нее — первой. Душа
получает свою идеальность и духовность только соответственно от второго
и первого миров, так же как умопостигаемый мир, не обладая
реальностью и материальностью «через и для себя самого», «обладает ею в
третьем мире...». Этот последний не «утверждается для себя»,
существуя только для второго, как «второй — для первого». Своеволие здесь,
так сказать, недопустимо в принципе, «вся множественность существ,
все идеальные и реальные формы миров, существуют... только для
Духа, или абсолютного Единства...». «Этот совершенный союз трех
миров, — подытоживает Вл. Соловьев, — (где третий мир абсолютно
43
пассивен, второй активен лишь в отношении к третьему, но пассивен
в отношении к первому) составляет первое мировое состояние. Первая
ипостась господствует: это царство Отца»71.
Прежде чем перейти к изложению дальнейшего хода рассуждений
Вл. Соловьева, необходимо сказать следующее.
Развивая свое учение о природе абсолютного начала, он использует
терминологию древнегреческой, преимущественно неоплатонической
философии. Именно у Плотина Ум (nus) — вторая ступень в
иерархии мирового универсума, третью ступень занимает мировая душа.
В позднейшей статье «Мировая душа», написанной для
Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, Вл. Соловьев заметит: поскольку
«здесь мировая душа обозначается как третья начальная ипостась всего
существующего.., то некоторые церковные писатели (особенно Ори-
ген и его последователи) ошибочно отождествляли ее с третьим лицом
Св. Троицы»72.
Возникает вопрос (или предположение): не повторил ли эту ошибку и
автор «Софии», поместив Душу на третье место в божественной
иерархии существ? Ведь это не просто философский трактат, а сочинение,
претендующее на обоснование «вселенской религии», следовательно,
и судить его необходимо по законам, предъявляемым именно к
религиозным сочинениям. Христианские источники этой соловьевской
универсальной религии, как мы видели, были основательно
замутнены, если не сказать более, однако двадцатитрехлетний Вл.
Соловьев не решился окончательно порвать с ними. Данное обстоятельство
наряду с принципиальной непроясненностью ее содержательного ядра
могло послужить и послужило серьезным основанием для различного
рода логических и религиозно-термилогических несообразностей
рукописи. Так, Вл. Соловьев называет первую ипостась своей тринитарной
системы в духе христианской теологии Отцом, что в сознании
верующего или хотя бы христиански ориентированного человека
ассоциируется с двумя остальными ипостасями Святой Троицы — Сыном и
Святым Духом. Но вместо этого у Вл. Соловьева следуют Ум (плоти-
новский nus) и Душа как претендент на замещение Св. Духа. В данном
случае ничего не объясняют ссылки на то обстоятельство, что,
рассуждая о триединстве ипостасей, юный философ вовсе не имел в виду
Св. Троицу, зато оппонент Вл. Соловьева получает хороший
аргумент в споре, вспомнив, что соловьевская религия женственной Души
44
(Софии) была поименована им самим религией Св. Духа. Значит, Душа и
Св. Дух каким-то образом идентифицировались в его сознании, и начало
этой идентификации — в рукописи «София», в факте замены третьего
лица Св. Троицы весьма расплывчатым, но далеко не безобидным для
христианского сознания понятием Души.
Возвратимся, однако, к прерванному анализу рукописи.
Дело в том, что «третий мир» может находиться как в состоянии
гармоничных отношений с первыми двумя мирами («первое мировое
состояние», по определению философа), так и пребывать в состоянии
отделения от мира умственного, идеального. Чтобы единство носило
совершенный характер и существовало не только для Духа (Бога),
говорит Вл. Соловьев, но также и для «объединившихся существ», чтобы
оно проникло в их сознание и имело в нем «реальное существование»,
это единство должно быть «достигнуто» ими, т.е. «произведено». Чтобы
достичь данного эффекта, единство должно быть «отложено», даже
«отвергнуто», причем и обретение единства, как и его отвержение, не
имеют права быть мистификацией или имитацией действия, они должны
стать вполне «реальными» актами.
Таким образом, по Соловьеву выходит, что абсолютное начало
(«положительное единство») есть не «отсутствие множественности»,
но «превосходство» над ней. Множественность при этом мыслится как
вполне реальная, т.е. «действительная», а потому «предполагает
действительное разделение». Действительное же разделение, в свою
очередь, «предполагает противостояние и ненависть». Следовательно,
резюмирует автор сочинения, «абсолютное начало не есть только начало
любви, но также и начало ненависти и злобы», и если «собственная
природа Бога заключается в любви и в единстве, то это говорит о том,
что единство и любовь могут превозмочь разделение или ненависть...».
Тогда «превосходство» единства и любви над разделением и
ненавистью «проявится как их победа». Напротив этих слов на полях
рукописи рукой Вл. Соловьева выполнен примитивный набросок
человеческого лица в профиль и сделана запись посредством медиумического
письма: «Coipia. Я родилась»73.
Мы уже встречали в рукописи подобного рода весть от Софии. Тогда
она обещала родиться в апреле 1878 г. Теперь засвидетельствовала факт
своего рождения. Рукопись, посвященная «новой богине» Вл. Соловьева
и названная ее именем, не дает, как это ни странно, сколько-нибудь пол-
45
ного и ясного представления о ее внутренней сути: «смутная греза» о
ней так и не получила в сознании юного философа четкого очертания.
Здесь мы имеем дело с первой попыткой Вл. Соловьева (в
последующих работах он будет не раз делать это) уяснить себе ее образ. София
«рождается» в момент победы божественного единства над
разделением, она — олицетворение и воплощение любви, согласия, гармонии
отпавшего от Бога мира, преодолевшего раздирающие его на части
вражду и нестроение и вновь возвращающегося в божественное лоно.
Таким образом, София мыслилась Вл. Соловьеву как некое инте-
гративное или интегрирующее божество, однако невыясненным
оставался вопрос об источниках ее происхождения. Недоумение вызывает
также и утверждение философа о том, что абсолютное, т.е.
божественное, начало является одновременно и началом любви и началом
ненависти — положение, недопустимое с точки зрения христианской
теологии. Вполне очевидно, что Вл. Соловьев не выдерживает здесь
принципа надмирности абсолютного начала, допуская сильнейший уклон в
пантеизм, особенно заметный при описании им механизма отделения
«третьего мира» от божественного единства.
Приступая к изложению этого вопроса, София напоминает своему
собеседнику, что материей Духа является Ум, материей Ума — Душа,
материей Души — материя в собственном смысле этого слова. Душа,
таким образом, находится «между двумя возможностями:
божественной возможностью, представленной для нее Умом и идеальным миром»,
т.е. той «возможностью, которая ею управляет, и антибожественной
возможностью, которой управляет она» сама. Таково, так сказать,
статическое состояние мира, его «нормальный порядок». Однако Душа, обладая
«магической силой бытия», хочет обладать ею «от себя», хочет создать
свой мир и управлять им сама, возлагая тем самым на себя функции
божественного Духа и, следовательно, возбуждая в себе «демоническую
силу». При этом она не учитывает очень важного обстоятельства: власть
над этой силой получена ею от идеального мира. Как только
взбунтовавшаяся, демонстрирующая своеволие Душа выпадает из
предустановленной гармонии миров, ее власть над нею теряется. В потенции «душа
сохраняет свое божественное происхождение», отделяя себя от
божественного мира, она оказывается началом «исключительного бытия..,
ненависти и вражды». София не жалеет красок для характеристики «души как
начала разделения, эгоизма», «как принципа (или принца) мира сего или
46
века сего...». Она «есть Сатана, дьявол». Теряя свою женственную
природу, присущую ее идеальному состоянию, становясь
активно-мужественной, она превращается в «дух тьмы, дух зла»74.
Что же представляет собой та «антибожественная» сила, которой
управляет Душа? Мы помним, что она сама управляется Умом, а через
него — божественным Духом. Соответственно (уже в «Софии»
сказалось столь присущее Вл. Соловьеву тяготение к рационализации
мистического начала) антибожественный мир включает в себя «природный,
или внешний, Ум», а также «космический Дух». Пока сохраняется
«нормальный порядок» Вселенной, эти силы как бы дремлют. Существует
лишь возможность отдельного бытия. Но вот космическая катастрофа
разразилась, Душа отпала от божественного единства и, теряя власть
над этими силами, готовит почву для их личного самоутверждения.
Будучи «формальным, или формообразующим, началом внешней
природы» природный Ум как личность (индивид) называется «Димиур-
гом», «начало внешней реальности», «космический Дух» («Дух
космоса») — Сатаной. Душа, назначение которой заключалось в
«управлении» природным Умом через подчинение его Уму Божественному и
Духом космоса через подчинение его, в свою очередь, Божественному
Духу, «душа, природа которой есть единство, оказывается теперь
лишенной своей деятельности в противоестественном состоянии,
разделенной между слепой силой космического Духа и умственной, но
отрицательной и внешней силой Димиурга, которые более не повинуются ей
и бьются насмерть в ее владениях...». Испытывая «высшее страдание»,
она попадает в положение «живой покойницы»75.
Космический процесс в трактовке Софии предстает, таким
образом, как борьба Демиурга и Сатаны. В первой главе первой части
анализируемого исследования Вл. Соловьев уже от своего имени рисует
его почти в тех же выражениях, добавляя, впрочем, очень важный для
нашего анализа аспект. «Ложный дух», олицетворяющий собой
«ложное единство», Сатана не только «овладевает» Душой, но и похищает
ее: «душа похищена...»76, — пишет философ.
Мы не будем подробно воспроизводить совершенно
фантастическую соловьевскую картину развития космического и исторического
процесса, отсылая читателя к соответствующим страницам книги
СМ. Соловьева77. Остановимся лишь на финальных моментах этого
философствования. Но прежде зададимся вопросом, как это Душа, тре-
47
тья ипостась абсолютного начала, Святой Троицы, может отпадать от
божественного единства, становиться духом зла, Сатаной? Между тем
этот сюжет Вл. Соловьев будет эксплуатировать в дальнейшем во всех
главных своих сочинениях.
Могут возразить, что конструируемая здесь философом
«вселенская религия» не оперирует и не может оперировать категориями
христианского вероучения. Это, разумеется, справедливо, но только
отчасти. Дело в том, что среди планов и черновиков «Софии» сохранился
набросок, где тринитарная система Вл. Соловьева приобретает более
христианизированные очертания, т.е. приближенные к понятию
Пресвятой Троицы. Процитируем его начало:
«Первый мир — мир чистого [образов] блаженства
второй мир — мир образов
третий мир — мир чувственности.
<6> Глава первого мира — бог, второго — Христос, Лоуос;
третьего — София»78. Так что возражения возражениями, а почва для
недоумения по поводу религиозных конструкций Вл. Соловьева все же имеется.
В более поздних своих работах философ хотя и не всегда, но будет
более четко различать понятия Софии и души мира. София окажется
для него иерархически более высоким существом, нежели последняя.
Она станет восприниматься им как вобоженное человечество,
человечество в Боге, душа же мира — как ступень на этом пути,
одухотворяемая исходящей от Софии духовной энергией. Пантеистический
уклон, столь сильно сказывающийся в живописуемых Вл. Соловьевым
в «Софии» приключениях Души, в дальнейшем будет сведен почти
что на нет. Однако нечеткость в определении Софии в анализируемой
рукописи (тут, правда, неизбежно возникает вопрос: можно ли в
принципе четко охарактеризовать то, что по своей природе весьма
неопределенно?) будет неоднократно сказываться и в последующих работах
Вл. Соловьева.
Что бы там ни было, юному философу действительно казалось,
что он создал совершенно уникальный и универсальный религиозно-
теургический проект, не только объясняющий происхождение мира,
но и призванный также изменить его. По сути дела, «София» стала
первой работой философа в ряду последующих его сочинений
подобной же направленности, развивающих и уточняющих ее отдельные
положения.
48
К числу таких положений может быть отнесен вопрос о
происхождении исторического христианства и о его дальнейших судьбах.
Целью мирового процесса, по Вл. Соловьеву, является
«обнаружение» божественного единства в реальном мире. Иными словами, должно
произойти то, что философ называет «материализацией божества»,
высшей стадией которой следует считать боговоплощение. Совершить это
Бог может только через внутреннее соединение с человеком. Почему?
Потому, что «душа мира — это человеческая Душа», «сознательный
центр и внутренняя связь всех существ. Адам Кадмон». Человек, таким
образом, — «единственное существо, которое соединяет духовную,
разумную и душевную природу с природой материальной». Хотя «у
человека — природный дух Сатаны, природный Ум Димиурга», но
одновременно — и «свободная душа Софии, через которую он может
войти в связь с Умом Христа и Святым Духом Бога...».
Боговоплощение, следовательно, осознано Вл. Соловьевым как «реальный союз Ума
и Божественного Духа с разделенной Софией». Дух и божественный
Ум вечно соединены с Софией, но поскольку ее материальное
существование заключено в ее детях, то для материального соединения с
Софией, пишет философ, «Логос и Дух должны соединиться со
своими детьми»79.
Мы уже не раз прерывали наше повествование, чтобы выразить
недоумение как по поводу терминологии Вл. Соловьева, так и по поводу его
религиозно-философской концепции. На сей раз недоумение не только
не убавилось, но даже возросло. Каббалистический термин «Адам
Кадмон» соседствует в анализируемой рукописи с обозначением одной из
ипостасей христианской Троицы — Св. Духом, неоплатонический Ум
обернулся довольно странным для христианской теологии понятием
«Ум Христа», а до сих пор ни разу не употреблявшийся философом
термин «Логос» в данном контексте не столько синоним Ума, сколько
Слова Божия.
Но дальше — больше.
Душа, осознавая свою «абсолютную природу» и в то же время
испытывая страдания из-за того «относительного и ничтожного состояния»,
в котором она оказалась в результате отпадения от абсолютного начала,
постепенно приходит к мысли о необходимости «самоотвержения» и,
следовательно, возвращения в полноту божественного существования.
Стремясь объединиться с «божественной личностью», она вновь стано-
49
вится пассивной по отношению к ней. «Божественный герой, — пишет
далее Вл. Соловьев, — выбирает среди этих пассивных душ ту,
которая является такой в наибольшей степени, свою невесту,
предопределенную в вечности, соединяется с ней, когда приходит черед ее
появления в мире; именно таким образом в иудейском Вифлееме родился
спаситель мира». Не входя в детали этого Рождества, философ считает
необходимым «отметить, что в этом существе через внутренний союз
личного Логоса и воплотившейся души Иисуса божественная и
человеческая природа соединились нераздельно и неслиянно. В Иисусе
Христе Бог получает личную человеческую душу, и в этом смысле правы
мусульмане, называя Иисуса душой Бога»80.
До сих пор философ говорил лишь об одной Душе. Теперь их почему-то
образовалось множество, и этот факт не получил у него никакого
логического объяснения. Совершенно непонятно, кого он имеет в виду, когда
упоминает про «божественного героя». Кто его «невеста» (она же —
наиболее пассивная душа), с которой он «соединяется»? Поскольку
речь идет о Рождестве Спасителя, то, по всей видимости, имеется в
виду евангельское непорочное зачатие. В таком случае определения
типа «божественный герой», душа «невесты» и пр. приобретают
оттенок двусмысленности, если не кощунства, тем более что евангельская
история предстает у Вл. Соловьева в предельно эротизированном виде.
И, наконец, самое главное. Рождество Иисуса Христа совершенно
непостижимым (для христианина) образом связано с чисто соловьевской,
т.е. не имеющей никаких зацепок в Св. Писании, фантазией на тему
отпадения Души от Бога и ее возвращении в нормальное состояние.
Приходится только удивляться, как эти приключения Души, в
состоянии отделения от абсолютного начала вполне определенно
называемой Вл. Соловьевым Сатаной, могут предшествовать евангельской
истории. Юный философ, скорее всего, не замечал никаких
противоречий. Как было уже сказано выше, ему и в самом деле казалось, что
он создал абсолютно новое и вполне универсальное учение, способное
не только объяснить космологический и исторический процессы, но и
открыть путь в будущее.
Эти пути Вл. Соловьев снова связывает с самоопределением Души.
После разрушения чисто внешних, исходящих от Демиурга
жизненных сил, она дистанцируется от них, сосредоточивается на создании
своего собственного внутреннего мира, обусловливая тем самым прин-
50
ципы новой жизни. Процесс этот в человеческой истории, по Соловьеву,
начинается с вопросов теории, в частности с возникновения
современной спекулятивной философии, которая, в отличие от античной
философии объективного логоса, есть философия субъективной души. Ее
мысли о самой себе лучше всего выражала, по Вл. Соловьеву, как мы
помним, современная теософия в лице Я. Бёме, Сведенборга, Шеллинга.
Теперь это призвана делать «вселенская религия» Софии. До
Рождества Христа человеческая мысль находилась под влиянием
невоплощенных душ, после Рождества — под воздействием душ «мертвых»,
отсюда ее экспериментальный характер. С 1878 г. разделение душ на
«живые» и «мертвые» прекращается, наступает третья эра — эра
синтеза или эпоха универсальной «вселенской религии» Св. Духа.
Человеческая культура первых двух эпох базировалась в представлении
философа соответственно на религии Отца и Сына.
Говорить о том, что в данном случае Вл. Соловьев допускает
«удивительную наивность»81, как это делает А.Ф. Лосев, по нашим
представлениям, совершенно недопустимо, ибо подобная точка зрения в какой-то
степени вуалирует глубокие противоречия в учении философа и
скрывает действительный масштаб проводимого им пересмотра религиозно-
философской мысли. Пересмотра, базирующегося, как мы уже видели
и увидим впоследствии, отнюдь не на христианских источниках, а на
источниках теософско-оккультного происхождения.
Продолжим, однако, прерванный ход рассуждений Вл. Соловьева.
Мы помним его положение о том, что в Иисусе Христе произошло
нераздельное и неслиянное воссоединение божественной и
человеческой природы. Тем самым было положено начало интеграции
человечества, как сказал бы автор «Чтений о Богочеловечестве», в единый
богочеловеческий организм.
Желая «показать моральные основания и общественные формы этого
воссоединения», наш мыслитель отвергает «внешнее правосудие» как
принцип и орудие современной морали. Чтобы «объединить духовные
существа свободной и внутренней связью», необходимы, считает он,
совершенно иные подходы, выдвигая в качестве «единственной связи
такого рода» любовь. «Вселенская религия есть религия Души, —
напишет юный философ в другом месте своей рукописи, — специальная
функция Души есть любовь; таким образом, мораль этой религии не
может иметь иного начала, кроме Любви»82.
51
Следовательно, уже в ранней своей работе, закладывающей основы
всего его учения, Вл. Соловьев задумывается о «смысле любви»,
призванной восстановить целость человека — в порядке индивидуальном,
цельное общество — в порядке социальном, соединяя и то и другое с
мировым универсумом. «...Вот почему в целом миросозерцании нашего
мыслителя ученье о любви занимает центральное место», — отмечал
Е. Трубецкой и, продолжая, писал: «...именно здесь открывается
жизненный нерв его философии. Эрос есть именно то, чем она живет, откуда
она черпает все свои краски, источник всего ее воодушевления и
творчества»83.
В «Софии» мы находим первый набросок той самой концепции любви,
которая будет детально разработана философом в уже
рассматривавшемся нами цикле статей под общим названием «Смысл любви». Он
интересен нам не только потому, что является одним из составляющих
соловьевского «вселенского учения» («вселенской религии»), но также
и потому, что здесь юноша Вл. Соловьев проговаривает то, о чем
маститый теоретик предпочитает или умолчать, или подвергнуть прежние
идеи более тонкой диалектической обработке.
Итак, как уже говорилось выше, в основание морали автор «Софии»
намерен был положить не формальный и вследствие этого необходимо
внешний по отношению к человеку закон, а чувство любви,
захватывающее в свою орбиту всю человеческую природу.
Любовь начинающий философ делит на половую и
интеллектуальную. У каждой из них есть как свои достоинства, так и недостатки.
Половая любовь «реальна и всемогуща», она «заставляет трепетать все
духовное и душевное существо человека». Однако ее социальные возможности
весьма ограниченны: она способна образовать лишь узкую
общественную ячейку — семью. В отличие от половой универсальной любви
присуща «всеобщность», но за это она платит дорогую цену:
интеллектуальный характер делает ее бессильной, удовлетворяющей только сознание
человека. Отсюда неизбежен вывод: чтобы любовь стала мощным
социально-этическим орудием, необходим синтез перечисленных ее
«степеней» или видов. Иными словами, всеобщность любви
универсальной должна получить интимно-сердечную подпитку любви половой.
И Вл. Соловьев находит выход: с присущей ему приверженностью к строго-
логическим, а порой и вовсе рассудочным построениям он начинает
рассуждать о третьей, синтезирующей первые две «степени» любви.
52
Дело в том, что «любовь, — говорит философ, — бывает двух родов»:
восходящая и нисходящая. Восходящей любовью человек любит
высшее по отношению к нему существо, «получая от него духовное
богатство, которым оно обладает и которого мы не можем достичь своими
собственными силами...». Нисходящая любовь направлена на низшее по
сравнению с данным человеком существо, которому он «дает» духовное
богатство, полученное им от своего «высшего возлюбленного». Таким
образом, подытоживает Вл. Соловьев, «совершенная любовь должна
быть сразу и восходящей и нисходящей», что подразумевает наличие
у каждого человека не одного, а сразу двух объектов любви.
И тут у философа почему-то возникает желание опереться на
авторитет Бога. Впрочем, выражение «почему-то» здесь явно неуместно,
ибо вселенское учение на то и вселенское, что возводит все и вся к
Абсолюту. Если даже дело касается эротической сферы. Более того, у
Вл. Соловьева выходит так, что совершенно недвусмысленно
эротизируется само Божество, внутрибожественные отношения окрашиваются
в «человеческие, слишком человеческие» тона. «Бог, — говорит он, —
любит все, природу, любовью непосредственной и реальной, как
человек любит женщину, в которую влюблен, так как отношение здесь то
же: природа является другой половиной самого Бога. Таким образом,
всеобщая любовь Бога тождественна любви природной, или половой»84.
Процитированный отрывок, по утверждению публикаторов
рукописи, написан слитно, как в некоторых случаях медиумического письма.
Следовательно, этот текст крайне принципиален для философа и
представляет собой случай (один из немногих в «Софии») стяжания им, если
позволено так сказать, особой софийной благодати.
Мы, конечно, помним про аналогии между Богом и вселенной,
Христом и Церковью, с одной стороны, а также между мужчиной и
женщиной — с другой, проводимые автором «Смысла любви».
Припоминаем и его учение о «вечно другом» Бога, предмете Его любви в «образе
совершенной Женственности». Все это имело характер
непозволительной богословской «вольности». Разумеется, мы отдаем себе отчет в
том, что эти «вольности» генетически восходят к юношеской рукописи
Вл. Соловьева «София», в том числе и к процитированному ее отрывку.
Однако вольное или невольное кощунство, заключенное в нем,
перешло все границы. Причем настолько, что первый комментатор
рукописи «София» СМ. Соловьев, оберегая репутацию своего дяди, поста-
53
рался «замолчать» как это, так и другие наиболее откровенные ее
места.
Через систему восхождений и нисхождений в силовое поле любви
вовлекается все человечество, в результате чего расширяется его
духовное зрение и происходит его становление как социального организма.
Механизм этого процесса, по Вл. Соловьеву, достаточно прост.
«Совершенный мужчина» всегда выше «совершенной женщины»,
поэтому «избранники человечества» не могут найти среди женщин
предмет своей «восходящей любви» и «вынуждены любить богиню».
«Высший предмет» восходящей любви «единствен — это София. Она
находится в прямой связи с избранниками человечества (с
необходимостью мужчинами, ибо она женщина), которые любят ее
восходящей любовью и которые любимы ею любовью нисходящей. Они в
свою очередь находятся в непосредственной связи с большим
количеством индивидов (с необходимостью женщинами), которые любят их
восходящей любовью, а они их любят любовью нисходящей. <81 об.>
Эти индивиды снова есть предмет восходящей любви для
определенного количества индивидов-мужчин и так далее»85. Отсюда следует
классификация общества по «занятиям или призваниям» людей, по
различию их характеров, приводить которую здесь не имеет смысла.
Необходимо разве что сказать о том, что среди «избранников
человечества», представляющих у Вл. Соловьева «первый порядок»
классификации, «один находится в наиболее интимной связи с Софией и
является великим священником человечества»86. Ясно, что роль
первосвященника «вселенской религии» (религии Софии) юный
философ отводил себе.
Перед нами социально-эротический проект, прообраз будущей
теократической утопии Вл. Соловьева, фундаментальной идеей которого,
цементирующей все построение, была половая любовь. Видимо, до
некоторой степени он осознавал его парадоксальный характер, а потому
пытался ограничить в нем претензии половой любви на
доминирующее положение. Так на полях рукописи появляется следующая оговорка:
«Подразумевается само собой, что половая любовь (в своем
совершенстве) исключает плотское совокупление в его настоящей форме, а тем
самым и материальное рождение, хотя телесное единство всегда должно
быть необходимо для совершенного единства как осуществление
единства духовного»87. Однако это суждение, как и аналогичные теоретиче-
54
ские посылки позднейшего трактата «Смысл любви», ничего не
объясняя, только запутывало все дело.
Между тем, называя свою богиню Софию женщиной и определяя
характер отношений с ней «великого священника человечества» как
«наиболее интимную связь», Вл. Соловьев давал основание для упрека в
свой адрес о внесении «женского начала в само Божество», того самого
упрека, который он сам категорически отвел от себя, как мы помним,
в предисловии к третьему изданию своих стихотворений. В этой связи
особенно симптоматичной представляется «ошибка» автора «Софии»
в переводе заключительных стихов второй части гетевского «Фауста»
«Все преходящее / Есть лишь подобие...», на которую первым указал
СМ. Соловьев88. В дословном (точном) переводе два заключительных
стиха этого отрывка должны звучать следующим образом: «вечная
женственность влечет вверх». Вл. Соловьев, заменяя немецкое hinan на
an, дал собственный, весьма многозначительный вариант тех же строк:
Женственность вечная
Всех нас влечет89.
Влечет, разумеется, к себе.
Если автор работы «Владимир Соловьев и Анна Шмидт» С.Н. Булгаков
(не избежавший, впрочем, искушения софиологической ересью) дожил
бы до времени публикации «Софии», то его мысль «об особом,
личном характере отношений, существовавших у Владимира Соловьева к
Вечной Женственности, принимавшей для него черты ипостасной
женщины»90, в данном случае только бы укрепилась.
Таково содержание рукописи «София», в которой юный доцент
Московского университета намеревался изложить основания
«вселенской религии», в качестве богини которой выступала София и которая
менее всего являлась христианством.
Думается, что Вл. Соловьев торопился подвести теоретическую базу
под свои мистические «свидания» с Софией. Дело было не только
необычным, но и новым. Работая над рукописью, философ как бы
пребывал в медиумическом сне — отсюда непродуманность,
парадоксальность, незавершенность как некоторых идей, так и рукописи в целом.
Получилось так, что тот образ, во имя которого в первую очередь
создавалась работа, — София, оказалась существом, менее всего
прописанным с точки зрения логической ясности и выразительности. Слишком
55
велик был замах: конструирование «вселенского учения»,
претендующего не столько на объяснение мира, сколько на созидание
грядущей «новой жизни». В «Софии» закладывался его фундамент. Философ
отдавал себе в этом отчет, а потому в письме отцу из Парижа от 28 мая
1875 г. писал: «Что касается до моего сочинения, то мне необходимо
его издать, так как оно будет основой всех моих дальнейших занятий,
и я ничего не могу делать, не ссылаясь на него»91.
Сейчас, читая эти строки, можно только удивляться прозорливости
молодого ученого, ибо знакомство с дальнейшим его творчеством лишь
подтверждает его мысль: большинство работ Вл. Соловьева
действительно развивает намеченные в «Софии» идеи. Таким образом,
проанализированная нами рукопись вполне может считаться
первоначальным наброском всей его философской системы, хотя первоначальное
желание московского доцента издать рукопись на французском языке
и представить ее в качестве докторской диссертации вскоре исчезло.
3. «Второе абсолютное»
Однако в нашу задачу не входит исследование всей философской
системы Вл. Соловьева, наша цель вполне конкретна и локальна:
изучение дальнейшей судьбы философской категории Софии в его
творчестве. В этом отношении безусловный интерес для нас представляют
две работы философа: «Чтения о Богочеловечестве» (1877—1881) и
«Россия и вселенская Церковь» (1889).
Материал «Софии» распределяется преимущественно между этими
двумя его сочинениями, хотя с данной точки зрения следует
упомянуть также «Философские начала цельного знания» (1877). Иногда в
них встречаются дословные совпадения с «Софией», не говоря уже о
концептуальных заимствованиях, однако в целом они лишены
крайностей, характерных, как мы убедились выше, для каирско-соррентий-
ской рукописи. В частности, имя «Демиург» встречается в «Чтениях
о Богочеловечестве» лишь один раз, про Сатану же философ вообще
больше не вспоминает. Постепенно совершенствуется соловьевское
учение о Троице, принимая в «России и вселенской Церкви» вполне
законченный вид. Оккультная стихия начинает отступать под напором
христианства, так что можно говорить о вполне заметной христианизации
56
философской концепции Вл. Соловьева. Наконец, следует особо
упомянуть о большей, чем ранее, терминологической четкости указанных
сочинений, особенно касающейся уточнения содержания и
разграничения категорий Софии и души мира.
Однако, прежде чем мы коснемся этого вопроса, остановимся на
соловьевском учении о «втором абсолютном», развитом им в
создававшейся практически одновременно с «Чтениями о Богочеловечестве»
«Критике отвлеченных начал» (1877—1880).
Здесь предпринята новая после «Софии» попытка уяснить себе
характер взаимодействия абсолютного начала и «лежащего во зле» мира. Как
мы помним, в рукописи было заявлено, что главная цель мирового
процесса — обнаружение реального единства Абсолюта и материальной
действительности, воплощение Бога в его творении или, по
парадоксальному определению философа, «материализация божества».
Всякий, кто сколько-нибудь знаком с философской системой Вл.
Соловьева, может заметить, что в данном случае он имеет дело с одной из
центральных ее идей. Но метафоры иногда испытывают тенденцию к
материализации. Так произошло и в этом конкретном случае. Поставив
философскую категорию «души» на место третьей ипостаси Св.
Троицы — Св. Духа, а затем изложив ее приключения (отпадение от
божественной гармонии) и даже отождествив ее с самим Сатаной, философ
впал в сильнейший пантеистический уклон, внеся тем самым
материальный элемент в само Божество. Теперь учением о «втором
абсолютном» он вознамерился исправить свою былую ошибку.
«Абсолютное, — утверждает Вл. Соловьев, — не может
действительно существовать иначе как осуществленное в своем другом.
Другое же это точно так же не может действительно существовать само по
себе, в отдельности от абсолютного первоначала, ибо в этой
отдельности оно есть чистое ничто (так как в абсолютном все), а чистое ничто
существовать не может»92. Это положение для нашего философа —
аксиома, его он отстаивал всю свою жизнь. Ошибка монистической
философии, т.е. философии, выдвигающей и обосновывающей идею
бытия одного только Абсолютного, заключается, по Вл. Соловьеву, в
том, что она вынуждена или видеть в феноменальном бытии различные
проявления абсолютного начала, или утверждать наряду с абсолютно-
сущим другой мир, никак не связанный с первым. Монизм в этом
случае неизбежно оборачивается дуализмом. Чтобы преодолеть эти оче-
57
видные для разума противоречия, Вл. Соловьев и считает
необходимым ввести в философский обиход понятие «второго абсолютного».
Абсолютное, будучи всеединством, рассуждает философ, в то же
время «предполагает существование того неединого, многого, которое
делается всем в единстве» и которое вне этого единства не есть все.
Иными словами, двух одинаково «абсолютных существ» быть не может,
и если роль субъекта «абсолютного содержания в вечном и
нераздельном акте» принадлежит «единому истинному существу, или Богу, то
другое существо может быть субъектом того же содержания в
постоянном процессе...». Если Бог обладает всеединством, то это второе
существо им овладевает. Таким образом, заключает Вл. Соловьев, «это
второе всеединое, этот "второй бог", говоря языком Платона,
представляет... два существенные элемента: во-первых, он имеет божественный
элемент, всеединство, как свою вечную потенцию, постепенно
переходящую в действительность, с другой стороны, он имеет в себе то
небожественное, то частное, не все, природный, или материальный,
элемент, в силу которого он не есть всеединое, а только становится им;
ибо он становится всеединым, поскольку это частное делается всем»93.
Это «двойственное существо»94 как заключающее внутри себя
божественную природу и природу в собственном смысле слова, т.е.
материальный мир, философ определяет терминами «второе абсолютное»
или «мировая душа».
Учение о «втором абсолютном», безусловно, проясняет по
сравнению с «Софией» представление Вл. Соловьева о душе мира. В таком
виде оно предстает перед читателем в его «Чтениях о Богочеловече-
стве», произведении, которое во многих отношениях, исключая разве
что само понятие «Богочеловечество» из-за его подчеркнуто
христианского характера, является исправленным и дополненным вариантом
каирско-соррентийской рукописи.
Подобно «Софии» он говорит здесь о том, как древнее
человечество (индийская философия нирваны, греческий идеализм, иудейский
монотеизм и т.д.) шло к постижению религиозной истины, выражает
недовольство современным состоянием религиозного сознания
(причем делает это совершенно в духе «Софии» вплоть до использования
отдельных ее образов95) и, наконец, в качестве альтернативы
исторически сложившейся форме религии выдвигает идею Богочеловечества,
осознававшуюся, видимо, как христианский вариант весьма неопреде-
58
ленной по существу и трактовке формулы «вселенской религии».
«Старая традиционная форма религии исходит из веры в Бога, — писал
Вл. Соловьев, — но не проводит этой веры до конца. Современная
внерелигиозная цивилизация исходит из веры в человека, но и она
остается непоследовательною, — не проводит своей веры до конца;
последовательно же проведенные и до конца осуществленные обе эти
веры — вера в Бога и вера в человека — сходятся в единой полной и
всецелой истине Богочеловечества»96.
Формирование Богочеловечества у Вл. Соловьева тесно связано с
мистическим понятием души мира. Какой смысл вкладывает философ
в эту категорию, какие функции он ей отводит?
«Представляя собою реализацию Божественного начала, — говорит
Вл. Соловьев, — будучи его образом и подобием, первообразное
человечество, или душа мира, есть вместе и единое и все...»97. Она занимает
как бы срединное положение между творением, представляющим ее
реальное содержание и наполнение, и Творцом, который, в свою
очередь, является «идеальным началом и нормой» творения. Но, заключая
в себе и «тварное бытие», и «божественное начало», душа мира
одновременно и принадлежит к этим двум сферам, и свободна от них:
«присущее ей "божественное начало" освобождает ее от ее тварной природы»,
а «тварная природа» — от Божества. Это обстоятельство, по Вл.
Соловьеву, говорит о ее «двойственности», что не может не сказаться и на
осуществлении ее миссии.
Воспринимая божественное начало, представляющее собой
всеединство, мировая душа как обнимающая собою творение позволяет
Божеству проникать в него и осуществлять в нем свою волю. Понятно
поэтому, что душа мира оказывается «реальным единством» всех
элементов мира лишь постольку, поскольку сама ориентируется на
божественное всеединство. Сила, могущество, «полнота бытия», которыми
характеризуется мировая душа, не суть ее субстанциональные начала;
все это передается ей от Бога, когда она становится объектом
воздействия Божественного Логоса. Но в какое-то время роль «посредницы»
надоедает ей, и она, по сути своей являясь только «образом и
подобием» Божественного начала, хочет «обладать» творением «от себя».
Это и есть реализация ее «двойственности», о которой говорилось выше.
Своеволие мировой души закономерно отделяет ее от божественного
центра, и, по словам Вл. Соловьева, она «ниспадает из всеединого сре-
59
доточия Божественного бытия на множественную окружность
творения, теряя свою свободу и свою власть над этим творением...» Власть
эта проявлялась в том, что мировая душа в качестве некоего центра
объединяла собою «множественность... творения» в единый
«всемирный организм», который после отпадения ее от Бога распадается на
отдельные элементы, атомы, существующие по эгоистическим
законам и потому испытывающие страдание. Рисуя эту картину, Вл.
Соловьев считает нелишним особо подчеркнуть, что «вся тварь подвергается
суете и рабству тления не добровольно, а по воле подвергнувшего ее,
т.е. мировой души как единого свободного начала природной жизни»98.
После распадения «всемирного организма» начинается его новое
активное становление, проходящее через ряд этапов. Восстановление
утраченного единства, с точки зрения Вл. Соловьева, «составляет смысл
и цель мирового процесса»99.
Если исходить из воззрений платонизма, как это делает автор
«Чтений о Богочеловечестве», то каждое явление имеет свою идею
(сущность). Следовательно, «божественное всеединство» идей продолжает
существовать и после катастрофы, оно-то и сообщает расколотому и
отпавшему от Бога миру «потенцию» и стремление к всеединству. Коль
скоро в данном случае мы имеем дело не с божественным, а
природным порядком, то этот процесс протекает во времени. «Душа»
становящейся целостности, иначе душа мира, не имеет единящей и
организующей силы, ибо раньше (до отпадения), напоминает философ, она
имела ее от Бога, и теперь в ней сохраняется лишь неопределенная тяга
к единению. Вл. Соловьев определяет мировую душу на этом этапе как
«натуру», ибо в качестве субъекта всеединства она еще «имеет родиться».
Итак, намечены исходные «силы» Богочеловеческой организации:
с одной стороны, вечная идея всеединства, присущая божественному
началу, с другой — хаос разрозненных элементов, «хаотическое бытие».
Эта «вечная идея абсолютного организма» должна быть реализована,
«и стремление к этой реализации, стремление к воплощению божества
в мире — стремление общее и единое во всех и потому переходящее за
пределы каждого — это стремление, составляющее внутреннюю жизнь
и начало движения во всем существующем, и есть собственно
мировая душа»100, — пишет философ. В данном случае она выступает как
начало страдательное, активной же силой, сообщающей мировому
процессу смысл и направление, служит божественное начало. На первом
60
этапе становящегося всеединства это последнее, сопротивляясь хаосу
раздробленного существования, полагает ему «предел» в виде
«внешнего закона» и лишь потом проявляется в качестве внутренней силы
формирующейся целостности.
Встречаются два стремления: божественный Логос сообщает мировой
душе то, чего она не имеет: божественную форму всеединства; мировая
душа адресует ее, в свою очередь, материальному бытию, хаосу
разрозненных элементов, составляющих ее «тело». Таким образом,
обоюдное стремление Бога и души мира навстречу друг другу дает желаемый
результат: происходит «рождение вселенского организма как
воплощенной божественной идеи (Софии)...»101.
Как и в «Софии», в «Чтениях о Богочеловечестве» Вл. Соловьев
испытывает явное затруднение в разграничении категорий «Софии» и
«души мира». Временами категории смешиваются между собой,
просвечивают друг в друге — явный признак их интеллектуальной
надуманности или излишества. Во всяком случае, из контекста книги
следует, что София — более высокая, чем душа мира, ступень в иерархии
всеединства. Поскольку душа мира «воспринимает в себя
Божественного Логоса и определяется им», читаем у Вл. Соловьева, она «есть
человечество — божественное человечество Христа — тело Христово,
или София»102. Иными словами, София, по автору «Чтений о
Богочеловечестве», есть душа мира как «идеальное человечество» или душа
мира, утвердившаяся в Логосе.
Эта точка зрения окончательно возобладала в «России и вселенской
Церкви». София здесь — «единая и универсальная субстанция»,
«существенная Премудрость» «обладающего» ею Бога, в то время как душа,
будучи средоточием раздробленного и хаотичного мира, «сдерживаемого
лишь чисто внешней связью» и в этом своем качестве являясь
«противоположностью и обратной стороной Божественной всеобщности», есть
«противоположность или антитип существенной Премудрости Божией»103.
В упомянутой книге Вл. Соловьев демонизирует образ души мира
ничуть не менее, нежели в «Софии», и в этом смысле превосходит
«Чтения о Богочеловечестве». Будучи двойственной по своей природе, т.е.
открытой воздействию как Бога, так и «Его противника», душа мира,
«низший противообраз» «высшей Премудрости», оказывается в
эпицентре «борьбы на смерть Божественного Слова и адского начала» (Сатана
«Софии». — B.C.) за власть над нею. Она и нужна философу именно в
61
качестве функции «первой из всех тварей» («materia prima») и
субстрата сотворенного мира. София, выполняя роль субстанции самого
Бога, как бы надстраивается над нею, и в этом смысле ее можно
считать «сокрытой основой вечной Премудрости». Возникает
многоэтажная конструкция: Бог — София — душа мира. Вл. Соловьев уверяет нас,
что иначе и быть не может: поскольку «иллюзорное существование»
мира — реалия, а не некий фантом, то для него, считает он, «нужен
еще субъект, который, став на ложную точку зрения, воспроизводит в
себе искаженный образ истины. Этот субъект не может быть ни Богом,
ни Его существенною Премудростью, поэтому необходимо допустить,
как принцип творения в собственном смысле, отличный субъект, душу
мира»104. Иными словами, она — субстанция Премудрости, которая, в
свою очередь, является субстанцией Божества.
При всей кажущейся логичности и стройности данной
конструкции к Вл. Соловьеву возникают вопросы: почему «нужно» и так уж
«необходимо допустить» существование мировой души, а вкупе
с ней — и Премудрости Божией Софии? Аргументы философа не
кажутся весьма убедительными, но, чтобы ответить на поставленные
вопросы, нам не избежать разговора о соловьевском представлении
о творении, ибо суть проблемы упирается именно в него.
Трудно не согласиться со следующим высказыванием В.В. Зеньков-
ского. Поскольку в метафизике Вл. Соловьева, писал он,
«Абсолютное не мыслится отдельным от мира», то «неудивительно поэтому, что
нигде в его системе мы не встречаем ясной идеи творения мира, как
исконной библейско-христианской идеи о взаимоотношении Абсолюта
и мира»105. Однако это справедливое суждение требует существенного
уточнения: библейско-христианское учение о творении подвергается в
философской системе Вл. Соловьева весьма серьезной и радикальной
корректировке, оккультно-гностической по своему генезису. Начало
этому процессу было положено еще в его каирско-соррентийской
рукописи, развито в «Чтениях о Богочеловечестве» и завершено в «России
и вселенской Церкви» — звеньях единой цепи. Причем следует
заметить, что центр модернизированного соловьевского варианта
упомянутого учения составляет его софиология.
Уже в «Чтениях о Богочеловечестве» наметилась тенденция
освятить это свое философствование текстами из Священного Писания.
«Говорить о Софии как о существенном элементе Божества, — рассуж-
62
дал там философ, — не значит, с христианской точки зрения, вводить
новых богов (что же в таком случае означает ипостазирование Софии
в философии и богословии С. Булгакова?! — B.C.). Мысль о Софии
всегда была в христианстве, более того — она была еще до
христианства». Обращаясь к генеалогии этого религиозного понятия, Вл.
Соловьев сообщает, что «в Ветхом Завете есть целая книга,
приписываемая Соломону, которая носит название Софии. Эта книга не
каноническая...». Но и в «канонической книге "Притчей Соломоновых"» дано
«развитие этой идеи Софии (под соответствующим еврейским названием
Хохма). "София, говорится там, существовала прежде создания мира
(то есть мира природного); Бог имел ее в начале путей Своих", т.е. она
есть идея, которую Он имеет перед Собою в своем творчестве и
которую, следовательно, Он осуществляет. В Новом Завете также
встречается этот термин в прямом уже отношении ко Христу (у ап. Павла)»106.
Ссылка на апостола Павла оказалась всего лишь холостым ходом:
Вл. Соловьев больше о нем никогда не вспоминает и не цитирует. Зато
в третьей книге «России и вселенской Церкви» обильно цитирует
ветхозаветные книги «Бытие» и «Притчи Соломоновы» на языке
подлинника — еврейском, попутно переводя соответствующие места на
русский и комментируя текст. Разговор, разумеется, идет о Софии и вокруг
Софии. Делает это философ впервые и, как представляется ему, с
академической тщательностью. Видимо, ощущая недостаточную
аргументированность своих софиологических построений, он решил
подкрепить их авторитетом Священного Писания. Причем, комментируя акт
творения Богом неба и земли, зафиксированный в книге Бытия: «Бере-
шит бара' 'элогим 'ет гашшамайм ве'ет га'арэц» («В начале сотворил
Бог небо и землю» — Быт. I: 1), Вл. Соловьев прибегает к
контаминации (совмещению) совершенно различных, никак не соотносящихся и
далеко отстоящих друг от друга в Ветхом Завете текстов книг Бытия
и Притчей Соломоновых. Создавая небо и землю, говорит философ,
Бог гармонизирует действие и противодействие разных миров (небо —
земля), как противопоставляя, так и совмещая их в едином акте
творения. Сферой их взаимопроникновения всегда являлась для него София
Премудрость Божия, и здесь ему хочется не только сделать ее
участницей творения мира, но и непременно освятить это ее действие текстом
Библии. Как он реализует свое желание? Сразу ответим: посредством
истолкования семантики еврейского слова «решит».
63
Если исходить из духа еврейского языка и вообще из духа древнего
Востока, рассуждает Вл. Соловьев, то наивно было бы полагать, что
слова, с которых начинается книга Бытия, представляют собой
«неопределенное наречие» типа современного русского: сначала и т.п. Если
еврейский народ «употреблял существительное, он брал эту форму в
прямом ее значении, то есть действительно думал о существе или
реальном объекте, обозначаемом этим существительным». Далее. Еврейское
слово «решит» (αρχή, principium) «есть настоящее существительное
женского рода», соответствующий мужской род которого — рош (caput,
глава). Этот последний термин, продолжает Вл. Соловьев, в еврейской
теологии употребляется для обозначения Бога как безусловного главы
всего существующего. Что же в таком случае (или лучше — с этой точки
зрения) представляет «решит — женский род от рош»? Отвечая на этот
вопрос, продолжает философ, «не нужно прибегать к
каббалистическим фантазиям», ибо налицо Библия, и только из нее можно извлечь
единственно правильный ответ, точнее, «бесспорное решение».
Предоставим слово самому Вл. Соловьеву: «В главе VIII Притчей
Соломоновых... существенная Премудрость, Хохма, говорит нам (ст. 22):
"Ягвэ канани решит дарко — Иегова обладал мною,как
основанием (женский род) пути Своего". Таким образом, вечная
Премудрость и есть решит, женское начало, или глава всякого
существования, как Иегова, Ягве Елогим, Триединый Бог есть рош, его активное
начало или глава. Но согласно книге Бытия Бог создал небо и землю
в этой решит, в Своей существенной Премудрости»107.
Прервем это рассуждение. Вл. Соловьев допускает в отношении к
Священному Писанию вольность, которая недопустима в принципе.
Он пытается восстановить хронологическую последовательность
библейских событий. Поскольку в «Притчах Соломоновых» указано,
что Премудрость была положена Богом в основание мира, а Библия как
целое — единое смысловое пространство, то вполне нормальной
операцией, считает философ, будет восполнение начального отрезка
текста книги Бытия этим фактом, тем более что и там и здесь употреблено
одно и то же слово «решит» и, следовательно, речь идет об одном и том
же существе женского рода, а именно Премудрости Божией.
Установив, как ему представляется, семантическое значение слова
«решит», Вл. Соловьев продолжает прерванное нами рассуждение
следующим образом. «Премудрость», это существо женского рода, есть
64
точка пересечения или встречи Бога и раздробленного мирового бытия.
Субстанционально и «от века» пребывая в Боге, Премудрость
«осуществляется» в мире, последовательно приводя его к единству.
Следовательно, ее внутренняя природа — единство Бога и творения, а
потому она не может изначально быть тождественной душе мира,
которая, говоря философским языком, есть лишь субстрат ее реализации.
Но поскольку Божественное Слово все более проникает в творение,
последовательно подчиняя его всеединству, существенная Премудрость
постепенно сближается с душой мира и в конце концов может вполне
отождествить ее с собой. «Хохма, Σόφια, Божественная Премудрость
не душа, — резюмирует философ, — но ангел хранитель мира,
покрывающий своими крылами все создания, дабы мало-помалу вознести
их к истинному бытию, как птица собирает птенцов своих под крылья
свои. Она — субстанция Святого Духа, носившегося над водной тьмою
нарождающегося мира»108.
Вот что представляет собой соловьевский вариант творения.
Основные идеи каирско-соррентийской рукописи, этого первого наброска
будущей философской системы, обрели, наконец, у Вл. Соловьева
достаточно четкие, логически завершенные формы. Стали ясными
границы между Софией и душой мира и одновременно отнюдь не
абсолютный характер этих границ. «Вселенская религия», смутно
определяемая в «Софии» как религия Св. Духа, получила здесь
недвусмысленный статус религии, исповедуемой философом, так что, повторяем,
позднейшее признание Вл. Соловьева В. Розанову на этот счет — не
случайная оговорка, а вполне твердое его убеждение109. И главное.
Пытаясь вывести внебожественный мир из божественного и стремясь
представить совершенно непредставимый, таинственный для
рационального мышления акт Божественного творения в строго
логических формулах, философ встал перед поистине трудной задачей,
которую разрешил, однако, с помощью неведомых Священному Писанию
посредников этого акта, каковыми являются у него София и душа
мира.
Вл. Соловьев, разумеется, знал о восходящем еще к неоплатонизму
и усиленном христианской мыслью учении о противоположности
Бога-творца и творения. Однако идея об абсолютном дуализме
божественного и «лежащего во зле» природного миров всегда была крайне
неприятна для него. Философ учил, что этот мир зла, «непроницаемо-
65
сти», «замкнутости» не есть какой-то особый мир; наоборот, в своем
ином, прямо противоположном данному качестве, именно «в единстве
и согласии», он входит в состав «всеединого». Не о двух мирах,
отгороженных друг от друга глухой стеной, а о двух состояниях единого
мира — должном и недолжном — идет речь в христианстве; иной
подход к этому вопросу, по воззрениям Вл. Соловьева, — результат
серьезной ошибки, ведущей к выводу о том, что человек и страждущая
природа субстанционально не связаны с Богом.
Это слишком оптимистическая философия. Создается впечатление,
что Вл. Соловьеву были неведомы поистине сатанинские глубины зла
и греха, и об этой стороне его философствования мы еще будем иметь
возможность сказать в дальнейшем. Пока же продолжим прерванное
рассуждение.
Размышляя над проблемой творения, философ однажды заметил, что
если бы создание физического мира исходило «прямо и исключительно»
от Самого Бога, то и результаты, очевидно, были бы совершенно иные:
зло, торжествующее в мире, было бы исключено. Поскольку же это не
так, о прямом акте Творца не может быть и речи. Следующий момент:
божественное начало не может действовать прямо в чуждом ему
материальном мире, живущем по эгоистическим законам. Это значило бы
допустить существование зла в самом Божестве. Наконец, развивая
идею Богочеловечества, Вл. Соловьев задает вопрос: почему миру,
прежде чем он дойдет до своего идеального состояния, приходится пройти
через мучительные испытания, почему Бог не может совершить этого
в одном волевом акте? Ответ философ формулирует в слове «свобода».
Творение одним свободным актом «мировой души» отпало от Бога и
распалось на хаотический мир; рядом таких же свободных актов оно
должно возродиться в богочеловеческом организме. Выражаясь
современным языком, инициатива в данном случае должна проистекать не
только от Бога, но и от природного мира, причем в этой диалектике
«нисхождения» — «восхождения» очень важен момент
постепенности, в противном случае принцип свободы был бы извращен, если не
отброшен вовсе.
Суммируя сказанное, приходим к следующему выводу: Вл.
Соловьев, по сути дела, заменяет христианское учение о творении своим
собственным, восходящим к воззрениям древних гностиков, с
литературой о которых он знакомился в библиотеке Британского музея110.
66
4. «София вышняя» и «София — Ахамот»
Близость Вл. Соловьева к гностицизму не следует преувеличивать (в
этом смысле нельзя не согласиться с А.Ф. Лосевым), но не следует и
преуменьшать, как это делает тот же исследователь111. Для Вл. Соловьева-
софиолога, учившего об относительности границ между высшим и
низшим мирами, была абсолютно не приемлемой центральная для всех
гностических систем идея дуализма между абсолютным и конечным бытием,
из которой вытекали многие более частные идеи этого
религиозно-философского течения112. Исходя из сказанного, следует заключить, что
происхождение материального мира от Бога для гностицизма было
событием совершенно невозможным, и, чтобы устранить их непосредственное
соприкосновение, гностики делают творцом мира Демиурга.
Соответственно целью мирового процесса объявляется ими освобождение духа
из плена материи. Поскольку люди делятся в гностических системах на
три разряда: плотских, душевных и духовных (пневматиков), то
спасение (искупление) ожидает, по сути, только последних. Залог тому —
их изначальная духовная субстанция. Роль Спасителя в данном случае
заключается лишь в научении бессознательных пневматиков, в
сообщении им подлинного гнозиса и превращение их, следовательно, в
пневматиков сознательных, т.е. гностиков. Искупление в гностических
системах, таким образом, носит чисто теоретический, интеллектуалистский
характер: вера заменяется знанием-гнозисом.
Вот этот последний пункт гностической теории оказался
созвучным устремлениям нашего философа, с юных лет мечтавшего, как мы
помним, о некоем синтезе разума и веры, о придании вечной истине
христианства соответствующей ему «разумной» формы и тем самым
его реабилитации в глазах современного мыслящего человека. Да и
сама «вселенская религия» мыслилась юным автором «Софии» как
«положительный синтез» всемирного религиозного опыта с опытом
внерелигиозным, а потому была первым наброском весьма
характерной для философской системы Вл. Соловьева идеи «цельного знания».
В его сознании истиной может быть лишь вера, покоящаяся на
прочном фундаменте разума; последний не только заменял ему понятия
«чуда», «религиозного подвига», «религиозного откровения» — всего
того, чем жива всякая религия, тем более религия христианская, но
порой и вовсе вытеснял их из его построений. Его религиозная фило-
67
софия — род «духовной науки», в задачу которой входит не столько
стяжание, сколько познание религиозной истины. На этой-то почве
рационализации духовного опыта и вырос интерес автора «Софии», а
затем и более поздних произведений к гностицизму, здесь-то он и
перекликнулся с ним.
Недоверие к религиозной тайне, имеющее своим источником все ту
же рационалистическую природу мышления Вл. Соловьева, заставило
его, как уже говорилось выше, пересмотреть библейскую концепцию
творения мира. Хорошо известно, что гностики, пытаясь объяснить
происхождение зла, исключили Бога из прямого участия в акте
творения, заменив Его непосредственные действия действиями Его эмана-
ций-эонов, посредников этого акта. Вл. Соловьев, по сути дела, пошел
по тому же пути, причем предшественницами его посредниц в акте
творения — Софии и души мира оказались (соответственно) София и
Ахамот113 из учения гностика Валентина.
Когда А.Ф. Лосев утверждает, что «уже то одно, что София у вален-
тиниан занимает только тридцатое место в осуществлении
божественной "полноты", или "плеромы", а также и целый ряд романтических
происшествий в связи с этой Софией свидетельствуют о чересчур
человеческом ее понимании, вполне чуждом Вл. Соловьеву»114, он, конечно,
прав, но прав лишь отчасти. Дело ведь не столько в том, каким по счету
эоном «плеромы» является София, сколько в том, какую роль
отводил Валентин приключениям «вышней Софии»115 и плоду ее
мятежных страстей — «нижней» Софии—Ахамот в создании внебожествен-
ного мира. Роль эта центральная.
Именно из материализации противоборствующих страстей Ахамот,
особенно усилившихся после того, как сжалившийся над ней один из
первоэонов Христос вложил в нее в виде бессознательной идеи образ
«плеромы» и удалился в божественную полноту, возникли все
космические стихии. Страхи Ахамот породили Сатану, тоска по
утраченному Христу — Демиурга, творца земного мира и человека. Излагая
в своей статье «Валентин и валентиниане» эту историю, Вл. Соловьев
напоминает, что во всех делах помогал Ахамот тоже эон «плеромы» —
Спаситель или Иисус, посланный Христом в ответ на ее мольбы. Чтобы
завершить изложение данного вопроса, скажем, что в высшее
создание Демиурга — человека София—Ахамот вложила духовное
начало — результат ее сочетания со Спасителем Иисусом, чем породила
68
племя пневматиков. Через сообщенный им гнозис последние, по этому
учению, превратятся в гностиков и в конце концов спасутся, войдя
в состав «плеромы». Войдет в «плерому» и София—Ахамот,
окончательно соединившись со Спасителем. Тогда и наступит конец мира.
Демиург и праведные из «душевных» людей утвердятся в «среднем»
месте — царстве небесном, материальный мир («плотские» люди и
сатана) исчезнет в пламени огня.
Может быть, и не следовало воссоздавать здесь эту фантастическую
картину, если бы ее следы в весьма отчетливой форме не обнаружились
бы сначала в «Софии» Вл. Соловьева, а затем — в очищенном и
исправленном виде — в его «Чтениях о Богочеловечестве» и «России и
вселенской Церкви». Мятущаяся и смятенная соловьевская душа мира, т.е.
отпавшая по своей воле от божественной полноты всеединства,
тоскующая в объятиях хаоса, ставшая средоточием борьбы Демиурга и Сатаны
и под воздействием Божественного Слова возвращающаяся на
покинутую родину, — это соловьевский вариант гностического мифа. Даже
наличие в его учении двух Софий: нетварной (собственно Софии) и
тварной (души мира) — тоже следование Валентину; сам философ, как
мы убедились, различает в Валентиновой системе «Софию вышнюю»
и ее «антитип», ее порождение, своего рода «нижнюю»
Софию—Ахамот. Еще одно обстоятельство. У Валентина Божественное существо
Христа разделено на два зона: Христа и Иисуса Спасителя, Параклета.
В подготовительных материалах к «Софии» есть чертеж, на котором
совершенно в духе гностицизма разделены Логос, Христос (Адам Кад-
мон) и Иисус116, что еще раз убеждает нас в далеко не поверхностных
связях Вл. Соловьева с гностической традицией.
В этой связи от нашего внимания не может ускользнуть еще один
важный момент. Вряд ли стоит возражать против суждений А.Ф. Лосева
относительно того, что соловьевская София вполне «целомудренна»,
что она лишена тех почти сексуальных страстей, которыми охвачена
ее языческая тезка из учения Валентина117. Однако мы не можем
проигнорировать уже отмеченный выше факт, что в «Софии» философ
практически отождествляет любовь Бога к его второй половине — природе
с любовью мужчины к женщине, определяя характер этих отношений
термином, взятым из чисто человеческой сферы, «половая любовь».
Иначе и не могло быть, ибо там же София называется женщиной и
подразумевается ее интимная связь с первосвященником человечества.
69
Что это как не сильнейшая отрыжка гностицизма?! Конечно, в своих
последующих сочинениях Вл. Соловьев будет избегать подобных
лобовых аналогий, однако характер связи между Логосом, Софией и душой
мира по половому принципу окажется для него весьма и весьма
устойчивым. Так, характеризуя в «Чтениях о Богочеловечестве» процесс
«воплощения божественной идеи в мире», философ представляет его
себе как отношения любящей пары. Оттого он говорит о «соединении
божественного начала с душою мира», в котором «первое представляет
собою действующий, определяющий, образующий или
оплодотворяющий элемент, а мировая душа является силою пассивною, которая
воспринимает идеальное начало и воспринятому сообщает материю для
его развития, оболочку для его полного обнаружения»118.
Еще более яркие краски в описании все того же, в сущности,
процесса философ использует в «России и вселенской Церкви» (не забудем
при этом, что именно здесь впервые после «Софии» Премудрость
именуется существом женского рода). «Мировая душа, земля, —
живописует Вл. Соловьев, — видит в лучезарном эфире идеальный образ
своего небесного возлюбленного, но реально не соединяется с ним. Тем не
менее она постоянно стремится к этому единению, она не хочет
ограничиться созерцанием небес и блистающих светил, погружением в
эфирные токи, — она поглощает свет, претворяет его вжизненный огонь
и, как плод этого нового союза, выводит из недр своих всякую душу
живую...» Подводя итог описанию процесса плодотворного
взаимопроникновения друг в друга Бога и души мира, философ говорит, что,
наконец, «земля познала небо и познана им», ибо, уверяет он,
«воистину познать друг друга можно лишь в реальном единении...». И этот
свой гностический ход, как и гностическое по духу свое учение о
творении, Вл. Соловьев хочет непременно оправдать и освятить ссылкой
на Священное Писание: потому-то, добавляет он, «единение, по
преимуществу союз полов, именуется в Библии знанием»119.
Тайна, сопутствующая осуществлению космического процесса, по
существу, здесь снята: моделью для этого явления оказываются, по
воззрениям философа, человеческие взаимоотношения, а точнее —
взаимоотношения полов. Необходимо заметить, что тут трудно обнаружить
нечто чрезвычайное для философской системы Вл. Соловьева.
Наоборот, все это было логически вполне предсказуемо. Уже не раз
отмечалось, что для нашего философа не существовало непроходимой про-
70
пасти между Божественным и земным мирами. Более того, он считал,
что природное бытие есть враждебное по отношению друг к другу,
«недолжное взаимоотношение» тех же самых элементов и существ,
которые в нормальном состоянии, а именно в единстве и согласии
образуют бытие Божественное. Таким образом, природа как начало,
противоположное Богу, является, по Вл. Соловьеву, только «другим
положением или перестановкою известных существенных элементов,
пребывающих субстанционально в мире божественном»120.
В данном случае мы имеем дело с «общим источником всех недостатков
соловьевского мышления», который Е. Трубецкой определил как
характерное для его философии «забвение границ двух миров». Развивая свою
идею, исследователь совершенно справедливо утверждал, что у Вл.
Соловьева «границы эти нарушаются в обе стороны; и оттого-то здешнее
возводится в мистическое, а мистическое нередко трактуется как здешнее,
чересчур легко, просто и поспешно укладывается в категории нашего
рассудка». Иными словами, земное воспринимается то как прямое
проявление божественного, то как «обманчивая, ложная его видимость»; с другой
стороны, «в этом же отождествлении Божественного и здешнего кроется
противоположная опасность — принять земное за горнее»121.
Философ будто бы не видел глубокой пропасти между Богом и твар-
ным миром, будто бы не понимал, вопреки своим писаниям о
Христе, что бездна эта может быть преодолена только подвигом Христа,
а потому, по сути, подменил христианское учение о боговоплощении,
крестной жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа оккультно-гно-
стическим по своей природе учением о Софии и душе мира.
Настойчиво повторяющиеся из произведения в произведение соловьевские
рассуждения об отпадении души мира от полноты Божественного
всеединства и ее постепенном возвращении в отчее лоно не только
переводят тайну творения и преображения мира на язык
рационально-схематических конструкций, но и фактически редуцируют фигуру Христа
или, если сказать мягче, отодвигают ее в тень122. Ведь именно учение о
Софии как существе, в котором встречаются Бог и преображенный мир,
как обоженном человечестве (человечестве в Боге), побудило. Вл.
Соловьева фактически стереть границы между дольним и горним мирами,
а земное позволило принять за горнее.
Начало этому процессу было положено еще в «Софии», в частности в
учении о любви. Претерпев в последующих работах Вл. Соловьева неиз-
71
бежные уточнения (к слову сказать, «Россия и вселенская Церковь»
заканчивается разговором о любви), это учение получило логическое
завершение в уже рассмотренном нами соловьевском цикле статей под общим
заглавием «Смысл любви». Именно здесь отмеченный нами недостаток
соловьевского философствования расцвел пышным цветом. Еще в
большей степени, чем в «Софии», половая любовь воспринята тут в качестве
силы, способной не только преобразить индивидуального человека и
интегрировать общество в единое целое (сизигию), но и обеспечить
человечеству бессмертие. Эрос в этой работе, как, впрочем, и во всем
творчестве Вл. Соловьева, не только вытеснил более близкие к духу
христианства типы любви filia и aqape, но и потеснил самого Иисуса Христа,
ибо залогом всеобщего спасения для христианского философа, каким он
все-таки оставался, несмотря на все свои «уклоны», странным образом
оказывался не крест Христов, а половая любовь123.
В «Жизненной драме Платона» (1898), во многом повторяющей «Смысл
любви», Вл. Соловьев попытался ограничить притязания эроса на роль
чуть ли не единственной силы, избавляющей человечество от
дезинтеграции и всесилия смерти. Как мы уже говорили выше, философ не
без основания заметил здесь, что человек не может создать свою
сверхчеловечность, исходя только из своей ограниченной природы. Потому
этот процесс непредставим без опоры человеческой личности на Бога,
без активного участия Божества в созидании божественного человека.
Эти размышления побудили философа указать на наличие пятого,
окончательно перерождающего человеческую природу богочеловеческого
пути любви.
Конечно, подобные уточнения внесли определенные коррективы в
соловьевскую концепцию любви, придав ей более трезвый и более
христианизированный характер, однако вряд ли они оказались способными
изменить общее направление соловьевской эротической утопии.
Присущее философу нечеткое различение границ между божественным и
земным мирами приводило его иногда к тому, что он впадал, по
выражению Е. Трубецкого, в своего рода «оптический обман», принимая
земное за горнее. Это вносило, конечно, элемент двусмысленности в
отношения Вл. Соловьева с его «богиней» Софией, побуждая его
последователей к более радикальным, чем у него, выводам из данной
ситуации, выводам, от которых он решительно открестился в
цитировавшемся выше предисловии к третьему изданию своих стихотворений.
72
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПРОБЛЕМА «ТВОРЧЕСТВА ЖИЗНИ »
В ЭСТЕТИКЕ МЛАДОСИМВОЛИЗМА
Кризис буржуазной культуры, охвативший Западную Европу во
второй половине XIX в., разразился в России в 90-е годы. «Люди стали жить
странной, совсем чуждой человечеству жизнью, — писал, характеризуя
это время, А. Блок. — Прежде думали, что жизнь должна быть
свободной, красивой, религиозной, творческой. Природа, искусство,
литература — были на первом плане. Теперь развилась порода людей,
совершенно перевернувших эти понятия и тем не менее считающихся
здоровыми. <...> Они утратили понемногу, идя путями томления, сначала
бога, потом мир, наконец — самих себя. Как бы циркулем они стали
вычерчивать какой-то механический круг собственной жизни, в
котором разместились, теснясь и давя друг друга, все чувства,
наклонности, привязанности. Этот заранее вычерченный круг стал зваться
жизнью нормального человека»1.
В словах Блока — указание на нецельность переживаемой эпохи,
механистичность и бездуховность ее. Социальной основой подобного
обезличивания, автоматизации, овеществления человеческого
общества является отчуждение от человека его родовой сущности.
Своеобразной реакцией на этот процесс и одновременно
болезненным порождением его стал развившийся вначале в Европе, а затем
перешедший в Россию так называемый декаданс.
Почвой, питавшей настроения глубокой депрессии и упадка воли,
характерных для декаданса, был объявленный в декларациях
декадентов полный разрыв с демократическими традициями русской культуры,
проявившийся в безудержной проповеди индивидуализма.
Демонстративное самообожествление личности, с которым мы встречаемся в
творчестве практически всех декадентов, приводило к нравственному
релятивизму, нарочитому размыванию границ между добром и злом, что,
в свою очередь, открывало в искусстве дорогу мотивам демонизма,
«сатанинства», греховного наслаждения.
Итогом последовательного утверждения индивидуализма в
качестве универсального жизненного принципа неизбежно становится
солипсизм. Один из ведущих теоретиков русского символизма, пред-
74
ставитель старшего его поколения В. Брюсов, писал, например:
«Человек как личность отделен от других как бы неодолимыми преградами.
"Я" — нечто довлеющее себе, сила творческая, которая все свое
будущее почерпает из себя. Мир есть мое представление»2.
Такая позиция ведет в искусстве к предельному иллюзионизму, а
в жизни — к окончательному распадению социальных связей между
людьми, к крайнему отчуждению человека от человека. Это был тот
порог, за которым отдельные декаденты ощущали уже пустоту
небытия. Некоторые из них предприняли поиски новых путей в искусстве
и жизни.
Особенно остро болевой порог декаданса ощутили литераторы, по
традиции причисляемые ко второму поколению русских символистов.
Так, рецензируя в апреле 1904 г. сборник статей К. Бальмонта «Горные
вершины» и называя эту книгу «ярким и полным проявлением того
художественного индивидуализма, приемы которого далеко отошли от
мещански-будничных приемов "объективной критики"», А. Блок все
же счел необходимым указать и на границы критики «субъективной»:
«...и в ней, — сколько бы ни открывались перед нами пышные
горизонты, — мы все будем знать, что есть еще и еще неизведанные дали.
Никто не подаст спасительно руки, указующей на целое, на полноту.
И хочется, чтобы кто-то протянул эту руку»3. Эти слова — точно вздох
отчаявшейся надежды — в большей мере характеризуют творческие
искания самого Блока, и все же с известными оговорками их можно
считать характерными для мироощущения всех младосимволистов,
особенно если мысленно перенестись на четыре года назад, к
преддверию XX в., который положил конец настроениям, царившим в
литературе декаданса.
Вот что писал по этому поводу А. Белый: «Вдруг все изменилось. <...>
Ницше охватывает передовые слои русской молодежи лозунгом, что
"время сократического человека прошло", выходят сочинения Влад.
Соловьева, влекущие первый интерес к религиозно-философским путям.
Вечное появляется в линии времени зарей восходящего века. Туманы тоски
вдруг разорваны красными зорями совершенно новых дней.
Мережковский начинает писать исследования о Толстом и Достоевском, где
высказывает мысль о том, что перерождается самый душевный состав
человека и что нашему — именно — поколению предстоит выбор пути
между возрождением и смертью. Лозунг его: "или мы, или никто" —
75
становится лозунгом некоторых из молодежи, перекликаясь с
древними пророчествами Агриппы Неттенсгеймского и "Книги блесков"
о значительности 1900 г. как перелома эпохи. И мы эти лозунги
сливаем с грезами Соловьева о Третьем Завете, Царстве Духа. Срыв
старых путей переживается Концом Мира, весть о новой эпохе — Вторым
Пришествием. Нам чуется апокалипсический ритм времени. К Началу
мы устремляемся сквозь Конец»4.
Эти слова прекрасно характеризуют духовное самоопределение тех
людей, которые мечтали о преодолении индивидуализма путем
создания целостной религиозной культуры. Но есть в них некоторые
настораживающие моменты. Обращает на себя внимание тот факт, что за
обилием философских, литературных и прочих авторитетов не
просматривается интерес автора к реальной конкретике жизни. Странным,
парадоксальным и противоестественным представляется объединение
имен Фр. Ницше и Вл. Соловьева, так что невольно укрепляется мысль
о том, что в русском культурном Ренессансе начала века не до конца
изжитой оказалась декадентская мечта о «всех пристанях», равно
приемлемых для познающего и творящего духа. Справедлива она или нет,
покажет анализ эстетики младосимволизма в лице его виднейших
представителей: Андрея Белого и Вячеслава Иванова.
Глава I
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ А. БЕЛОГО
И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ
/. «Башня к небу»
В 1910 г. в разгар споров о кризисе символизма А. Белый
напишет: «Три этапа надлежит пройти современному индивидуализму: от
Бодлэра — к Ибсену, от Ибсена — к Ницше, от Ницше — к
Апокалипсису. Путь от Бодлэра к Ибсену есть путь от символизма, как
литературной школы, к символизму, как миросозерцанию; путь от Ибсена к
Ницше есть путь от символизма, как миросозерцания, к символизму,
как мироощущению; это мироощущение ведет к реальной символике;
наконец, путь от Ницше до евангелиста Иоанна есть путь от
индивидуальной символики к символике коллективной, то есть к
окончательной преображающей религии, символика становится воплощением,
символизм — теургией»1. В очередной раз уточнялась стратегия
символизма с целью придать ему характер действенной теории, способной
выстоять в любых испытаниях. В основу предложенной стратегии лег
собственный опыт; этапы пути, предначертанные символизму в целом,
суть этапы пути самого теоретика. А. Белый ни от чего из
пройденного не отказывается, ничего не перечеркивает в своих старых
мыслях, только трезвее и четче становятся его формулировки и
определения. По-прежнему он воспринимает символизм как некое
универсальное «миропонимание», целью которого, по его мнению, является
«стремление к синтезу — построение великой мировой башни к небу»2.
Единственное существенное отличие предложенной им здесь
формулы пути от его собственных представлений начала века
заключается в том, что теперь он надеялся закончить тем, с чего начинал: с
предощущения приблизившегося, как ему казалось, вплотную конца
мировой истории и второго пришествия Христа, описанного в
Откровении Иоанна.
77
Первым крупным выступлением А. Белого-теоретика была статья
«Формы искусства» (1902). В ней генезис практически всех проблем,
над решением которых он будет работать в дальнейшем; поэтому есть
смысл приглядеться к этой работе более внимательно.
В статье дана классификация традиционных «форм искусства» по
отношению к музыке, воспринятой вслед за Шопенгауэром в качестве
высшего из искусств, непосредственно выражающего волю, т.е.
сущность мира. Воздействуя на остальные формы искусства, тесно
связанные друг с другом, она в представлении А. Белого заражает их энергией
все большего постижения ноуменального мира. Мысль эта вызывает у
автора предположение: не «стремятся» ли «все формы проявления
прекрасного» «занять места обертонов по отношению к основному тону,
т.е. к музыке?»3. «...Будущее неизвестно...» — отвечает А. Белый, но
повторение этого пассажа в финале статьи с многозначительным
отточием в конце придает последней фразе с центральным в ней словом
«будущее» особо расширительный смысл.
О каком будущем идет речь? О будущем музыки как «формы
«искусства»? Но это поверхностный слой семантики А. Белого. Суть его
идеи в том самом понятии «дух музыки», через воскрешение которого
Фр. Ницше надеялся возродить органическую культуру прошлого.
Верный ученик базельского философа, А. Белый о таком именно будущем
и мечтает, хочет произнести слово и не может, охваченный тревожными
и вместе радостными предчувствиями.
Впрочем, есть в этих предчувствиях начинающего теоретика русского
символизма нечто, чего нет и не могло быть у немецкого философа: не
только ощущение, характерное для обоих, что «в настоящую минуту
человеческий дух находится на перевале», но и вера, что «за перевалом
начинается усиленное тяготение к вопросам религиозным»4. В
расширении сферы музыкального влияния от Бетховена до Вагнера, в
преимущественном развитии симфонической музыки автор статьи
усматривает некие знаки этого процесса. Коль скоро музыка всегда
говорит о сущности мира, а симфоническая музыка вообще «не касается
феноменальной действительности», то, как развивавшаяся «в недавнем
прошлом» и являющаяся, таким образом, «последним словом
искусства», она указывает направление его эволюции5. Следовательно, делает
вывод А. Белый, «в музыке звучат... намеки будущего совершенства.
Вот почему мы говорим, что она о будущем. В откровении Иоанна мы
78
имеем пророческие образы, рисующие судьбы мира. "Вострубит бо, и
мертвые восстанут, и мы изменимся"... Труба Архангела — эта
апокалиптическая музыка — не разбудит ли нас к окончательному
постижению явлений мира?»6.
Но это, так сказать, перспектива. А пока на нее работает музыка,
пронизывая своим «духом» драмы Ибсена, бесконечно углубляя их
смысл через изображение в обыденном необыденного, через
соединение «временного с безвременным», что делает их «символическими»,
ибо символ (тут А. Белый еще робко ссылается на своего учителя
Д.С. Мережковского) — «соединение разнородного в одно»7.
Данное наблюдение, истоки которого легко угадываются в
«Рождении трагедии» Ницше, позволяет А. Белому сделать следующий шаг:
не указывает ли, вопрошает он, «символизм» современной драмы на
тенденцию ее неуклонного превращения в мистерию? Если это так, то
драма неминуемо покидает сцену, пронизывает собою жизнь, которая
отныне становится «некой всесветной мистерией»8. Правда, А. Белый
пока еще далек от категорических суждений, выражая свою надежду
в форме предположения. Но слово сказано: музыка способна
сотворить чудо преображения мира, являясь добрым гением нового
искусства — символизма.
Такова в целом концепция А. Белого, развитию которой он посвятит
годы. Находясь, так сказать, в эмбриональном состоянии, еще
слишком зависимая от духовных учителей, она вместе с позитивными — с
точки зрения ее автора — моментами заключала в себе нечто такое,
что с годами станет для него камнем преткновения, условием
напряженной борьбы с самим собой и с другими теоретиками символизма
(в частности, В. Ивановым), знаком его видимой победы и невидимого
поражения, словно червь подтачивавшего собственную эстетическую
систему и приведшего ее в конце концов к закономерному краху. В
данном случае мы имеем в виду не надуманность концепции А. Белого,
априорность ее логических посылок и выводов. Это объективная
сторона проблемы, она касается не только нашего теоретика, но и теории
символизма вообще. Дело в ином: нам хочется указать лишь на
некоторые внутренние противоречия его точки зрения.
Как ни робко еще определяет А. Белый символ, становится ясно,
что он видит в нем средство для связи двух миров: феноменального
и ноуменального. Стремление как можно быстрее достичь желаемой
79
цели, а именно вырваться из плена земной жизни, далекой от гармонии
и совершенства, в запредельный мир чистых сущностей, вызывает у
А. Белого, как у всякого максималиста, небрежное, а в основе своей
субъективное отношение к посюстороннему миру. Когда он пытается дать
понятие символа, сомнения в реальном существовании обоих миров
у него не возникает. Но как только он оказывается в плену у заветной
мечты, начинается путаница.
С точки зрения объективного идеализма, на которой должен был
бы находиться ученик и последователь Вл. Соловьева,
настораживающе звучат уже строки первой главки анализируемой статьи:
«Искусство опирается на действительность. Воспроизведение
действительности бывает или целью искусства, или точкой отправления.
Действительность является по отношению к искусству как бы пищей, без которой
невозможно его существование. Всякая пища идет на поддержание жизни.
Для этого необходимо ее усвоение»9. Настораживает здесь слишком
«вольное» обращение с так называемой действительностью «первого
порядка», которая, по автору, только средство для скачка в «неведомое»
и не имеет помимо этого почти никакого самостоятельного смысла и
значения. О том, что это не простая случайность для А. Белого,
говорят следующие его слова: «Мир действительности, окружающий нас,
есть обманчивая картина, созданная нами. В собственном смысле нет
представления, т.е. нет двух моментов времени, в которые не
произошло бы какого-либо изменения представления, хотя бы мы этого и не
заметили. Существует одно движение. Представление есть
моментальная фотография; смена представлений есть ряд таких фотографий,
обусловленных началом и концом. Говоря языком индусов, между миром
и нами протянуто обманчивое покрывало Майи»10.
Это субъективно-идеалистическое суждение, имеющее своим
источником философию Шопенгауэра, весьма близко субъективизму
старшего поколения символистов, нередко обрывавших последние
хрупкие связи с окружающей действительностью и уносившихся мечтою
в сладостный обман «творимых легенд». В дальнейшем мы не найдем
у А. Белого столь «откровенных» высказываний, но родимые пятна
декадентства, круто замешанного на субъективизме и индивидуализме,
вряд ли будут изжиты им до конца. Более того, некоторая нечеткость
в соотношении мира феноменального и ноуменального,
проявившаяся в ранней статье, давая знать о себе и в дальнейшем, подтачивала
80
изнутри его теоретические построения. Именно это обстоятельство
имели мы в виду, когда в самой общей форме говорили о
противоречиях в эстетике А. Белого.
Но было в его работе еще одно противоречие, которое вскоре он
попытается, хотя и безуспешно, преодолеть. На это противоречие указал
А. Блок в своем первом письме к нему. Дело в том, что слово «музыка»
употреблялось А. Белым в двояком смысле: то как наименование одной
из «форм» искусства, пусть и самого высшего, то как порожденное
максималистским желанием «перешагнуть за грань оформленного»11
выражение мира сущностей, Платоновых «идей». Одновременно она
оказывалась и языком симфонических произведений, и сокровенным
содержанием апокалипсической эсхатологии. Все это плохо вязалось друг с
другом и нуждалось в проверке и уточнении.
Таким образом, уже первая попытка обоснования символизма как
некоего религиозного синтеза выявила противоречия, которые имели
тенденцию к перерастанию в неразрешимые антиномии. Ведь лишь по
видимости они не были связаны между собой, на самом же деле имели
общий источник: сопротивлением «косной» земной материи назвал бы
его «правоверный» символист. Следовало или учитывать это
сопротивление, или просто отмахнуться от него, постараться его не заметить. На
первых порах А. Белый поступил именно так. Правда, по отношению к
его эстетике эта в целом справедливая формула нуждается в поправке:
он не закрывал глаза на болезнь, он действительно не увидел, а потому
и не учел серьезности тревожных симптомов.
Идеи новых работ А. Белого стали более радикальными. Сделать
последний вывод из своих же посылок призывал его в уже
упоминавшемся письме к нему А. Блок, и этот призыв совпадал с тайными
желаниями и стремлениями А. Белого. Все это время он находился под
сильным впечатлением от лекции Вл. Соловьева «О конце всемирной
истории», а слова Мережковского: «Или мы, или никто» звали к конкретным
действиям. «Казалось: проблема мистерии и гармонизации человеческих
отношений уже подошла и вот-вот прямо в руки дается...»12 — спустя
десятилетия напишет он о своем мироощущении этой поры. Он
разрабатывает стратегию своей дальнейшей деятельности, сосредоточиваясь
преимущественно, по его собственным словам, на «максималистиче-
ском выводе к жизненной практике из философии Соловьева...»13,
развивая учение последнего о теургии. Все статьи А. Белого тех лет: «По
81
поводу книги Д.С. Мережковского "Л. Толстой и Достоевский".
Отрывок из письма» (1903), «О теургии» (1903), «Священные цвета» (1903)
и др. — так или иначе касаются данной идеи. Итоговой в этом ряду
следует считать статью «Символизм как миропонимание» (1904), в
которой было предпринято наиболее широкое и глубокое обоснование
символизма с точки зрения теургии.
Если восстановить в памяти предложенную А. Белым формулу
развития символистской эстетики, то здесь мы имеем дело с выражением
сути первого этапа символизма: «...от символизма, как литературной
школы, к символизму, как миросозерцанию...» Поэтому будет вполне
естественно, если мы, анализируя концепцию А. Белого, станем
привлекать материал из разных его работ этого периода, ставя в центр
именно эту статью.
В древнем мире, полагает А. Белый, «объектом» философии «была
вся действительность»14, поэтому она и являлась неким
синтезирующим учением о бытии. Однако с развитием человеческой мысли
наблюдается картина последовательной дифференциации «единой науки»,
в результате чего происходит развитие специальных методов, а
вместе с ними — строго ограниченных этими методами наук.
Философия по этой причине остается без объектов исследования, и в то же
самое время каждая наука, все больше совершенствуясь, берется за
объяснение мира в его целом, претендуя на универсальность своего
метода. Между науками возникает неизбежная борьба, приводящая к
хаосу в вопросах познания. Вот почему, говорит А. Белый, «наука, как
система знаний, не в состоянии... дать общего принципа», а
«отсутствие объединяющего начала навсегда лишает» человечество «права
иметь какое-либо мировоззрение». И вывод неизбежный для
символиста, не признающего методов рационального познания: «науки, как
миропонимания» просто-напросто «не существует»15. Коль скоро это
так, то вооружить людей неким «объединяющим методом»,
удовлетворить их неизменное «стремление к синтезу» призван символизм.
Отсюда и название программной статьи — «Символизм как
миропонимание».
Подход к символизму отличается в ней несвойственными доселе
работам А. Белого широтой и обстоятельностью. Автор говорит о
психологической атмосфере, в которой зарождалось это течение, о его духовных
отцах: Шопенгауэре, Ницше, Вл. Соловьеве, о его дальнейших путях
82
и перспективах. Уяснение логики статьи поможет глубже проникнуть
в существо концепции ее автора.
Вот исходный тезис А. Белого: «Еще недавно думали — мир изучен.
Всякая глубина исчезла с горизонта. Простиралась великая плоскость.
Не стало вечных ценностей, открывавших перспективы. Все
обесценилось. Но не исчезло стремление к дальнему в сердцах. Захотелось
перспективы. Опять запросило сердце вечных ценностей»16.
Рациональные методы познания, «догматизм» науки, не способной к
синтезу, считает теоретик, завели людей в тупик общих мест и общих
положений, из которого они смогли выбраться лишь благодаря
пессимизму Шопенгауэра. Если философ навевал «сон», то сон,
подкрепляющий силы: человек, погрузившийся в созерцание трагизма своего
существования, постигающий глубины своего духа, это уже не
человек «великой плоскости» европейской цивилизации, он — существо,
обретшее себя, он — личность. Так Шопенгауэр разбудил Ницше, а
возглас последнего: «Время сократического человека прошло» и его
призывы погрузиться в музыкальную «дионисийскую» стихию,
обращенные не столько к драме, сколько «ко всей культуре» в целом,
окончательно разбудили спящее «европейское общество»; «в воздухе... стали
носиться предчувствия будущих откровений» и «заря зажглась»17.
Обозначились контуры того «перевала», за которым якобы начинается
усиленное тяготение человечества к религиозным проблемам. Об этом, как
мы помним, А. Белый писал еще в своей статье «Формы искусства».
Полюбившееся ему словечко «перевал» появляется здесь вновь, но
оно уже прямо соотнесено с понятием «символизм». «Не событиями
захвачено все существо человека, — пишет А. Белый, — а
символами иного. Музыка идеально выражает символ. Символ поэтому
всегда музыкален. Перевал от критицизма к символизму неминуемо
сопровождается пробуждением духа музыки. Дух музыки —
показатель перевала сознания»18.
Все это выглядит как автоцитата из «Форм искусства». Но там, как
уже приходилось говорить, возникала некоторая терминологическая
путаница: не было проведено четкой границы между осознанием музыки
в качестве выразительницы мира ноуменов и в качестве языка
определенного искусства.
Здесь же А. Белый более радикален. Искусство для него — вслед за
Шопенгауэром — «гениальное познание». Цель символизма как «метода»,
83
позволяющего соединять «вечное с его пространственными и
временными проявлениями», — «познание Платоновых идей». Поэтому-то
и «меняется отношение к искусству»: оно теперь «не самодовлеющая
форма» и цель его «не в гармонии форм»; символическое искусство
«становится путем к наиболее существенному познанию — познанию
религиозному», ибо и «религия есть система последовательно
развертываемых символов»19.
С точки зрения теоретика, символизм осознал «относительность
образов» искусства, он превращает их в «метод познания, а не в нечто
самодовлеющее». «Назначение их, — считает А. Белый, — не вызвать
чувство красоты, а развить способность самому видеть в явлениях жизни их
преобразовательный смысл». Короче говоря, он убежден, что искусство
должно стать неким средством для пробуждения в обществе
религиозной жизни, его обязанность — «творить жизнь», т.е. преобразовывать ее
в соответствии с христианским идеалом. «Приканчивается символизм,
начинается воплощение», — скажет он об этом в статье «Священные
цвета». Здесь же писатель говорит о «демократическом смысле нового
искусства», которому, по его мнению, «несомненно принадлежит
близкое будущее». Почему? Да по все той же причине: «...когда это будущее
станет настоящим, искусство, приготовив человечество к тому, что за
ним, должно исчезнуть. Новое искусство менее искусство. Оно
знамение, предтеча»20.
Таким образом, радикализм А. Белого по сравнению с ранней
статьей проявился в «Символизме как миропонимании» в том, что он
провел тут, казалось бы, более четкую грань между жизнью и искусством.
У искусства, по его мнению, свои задачи, у жизни — свои. Но это не
раздельные миры, а миры соприкасающиеся, и не только потому, что
искусство подготавливает религиозное возрождение, но и потому, что
методы символического искусства и религиозного творчества одинаковы:
ведь если религия, с точки зрения А. Белого, «есть система
последовательно развертываемых символов», то «символизм... является воистину
единственным методом практического осуществления человеческого
идеала». И там и здесь человек использует инструмент так
называемой символизации, суть которой А. Белый описал следующим
образом: «Последовательное воплощение Единого в любом из образов
действительности ведет к последовательному возведению этого образа в
ряды прообразов. Первоначальный образ становится все более и более
84
с окном, сквозь которое начинает просвечивать символ, или зеркалом,
его отражающим»21.
Насколько можно судить, в данном случае речь идет о жизненном
творчестве, теургии на языке символистов. Но в том-то и дело, что мир
воспринят А. Белым как «эстетический феномен», созидаемый по
законам красоты: искусство, изгоняемое из дверей жизненного
(религиозного) творчества, уже в глобальных размерах проникает в него через
окно. Так борьба с искусством как «самодовлеющей формой»
обернулась для А. Белого поражением, о размерах которого он вряд ли
догадывался: «творчество жизни» оказалось эстетической концепцией, с
головы до ног пронизанной эстетизмом. Эстетизм же всегда граничит с
волюнтаризмом, он волюнтаристичен изнутри, ибо не склонен считаться
с законами бытия и с нравственностью, на них основанной. Именно
поэтому в поисках синтетического мироощущения теоретик делает
попытки соединить нелегко соединяемое: Вл. Соловьев и Фр. Ницше
одинаково участвуют у него в обосновании теургического принципа.
«Соединение вершин символизма, как искусства, с мистикой, —
пишет А. Белый, — Владимир Соловьев определял особым термином.
Термин этот — теургия». Но, продолжает он далее, и «мудрость Ницше
на более углубленной, сравнительно с трагизмом, стадии понимания
можно определить как стремление к теургии. И отдельные места этой
мудрости явно сквозят теургизмом». Почему? Да потому, что
«положения его — часто символы. <...> сколько гранитных стен тает перед
его детскими очами. Сама действительность начинает казаться
стеклянной. Это футляр иного». Иного, т.е. Вечности, но ведь, считает
теоретик, «воплощение Вечности есть теургия», так же как «в теургии
воплощение Вечности»22. Другое дело, что понимать под «вечностью»,
какой конкретный смысл вкладывать в это понятие.
По мнению автора статьи, «Ницше выдвигает целью исторической
эволюции проявление всеед иной личности, сверхчеловека. Вопрос
же о проявлении в личности всеединого духа указывает
истории путь к богочеловечеству»23. О подобном
мироустройстве, как известно, страстно мечтал Вл. Соловьев. А что же Ницше?
Ницше, оказывается, тоже «хотел вкусить сокровенную манну, назвать
новое имя. Для этого он отделился. Постольку, поскольку он отделился
от пошлости, он созидал. Но за слоем пыли он не рассмотрел вечной
истины. <...> Сокровенного имени не назвал Ницше»24. Отсюда вывод:
85
«Промахи Ницше только там, где начинаешь предъявлять к нему
требования религиозного откровения»25. И в этом вина не только Ницше, но
и всей «европейской культуры», которая, по А. Белому (за его мнением
авторитет Вл. Соловьева), не до конца поняла истину, что
«христианство — существенный, а не формальный синтез», а потому, «часто не
могла понять всей безмерности его символов»26. Поскольку эта истина
открыта русскому религиозному сознанию, русской культуре, то,
считает А. Белый, последнее слово за ними. «...Не разрывая связи с
вершинами ницшеанства, — пишет он, — но стараясь изнутри преодолеть
их.., христиане-теурги надеются на близость новой благой вести,
указание на которую встречается в Писании. Разрешение вековых загадок
бытия переносится по ту сторону ницшеанства»27. Ницше, в
представлении теоретика, дошел до края пропасти, дальше — бездна, «обрыв».
Но так как нельзя более в безнадежности стоять на краю пропасти, как и
невозможен «возврат в низины мысли», остается рассчитывать на
«скачок», «чудо полета». Обращение к христианству порождает надежду
на то, «что в момент падения вырастут спасительные крылья и
понесут человечество над историей».
Эсхатологические мотивы, звучащие здесь, роднят статью А. Белого
с его художественными произведениями той поры, и прежде всего с
книгой стихов «Золото в лазури». Кстати говоря, отрывками из
небольшого, но важного для А. Белого-аргонавта стихотворения «Золотое
руно» статья и завершается.
В нашу задачу не входит исследование сложной художественной
структуры книги, укажем лишь на важные с точки зрения
предложенной темы моменты. Границы между «небом» и «землей» проведены в
стихах А. Белого очень четко: «...ты — 7ал*...»28, — пишет он,
обращаясь к «Вечной Женственности», а здесь — «царство скуки»,
«утомительный сон», «скучный ряд годин»29. «Вся жизнь — лишь обман» и
«кошмар среди бела дня» (заглавие стихотворения). Вот почему у героя поэта
столь велика мечта «о тайне неба», «о близости священных дней», и его
типичный жест — «...туда, где воздушный чертог...»30 — ощутим порой
почти физически. Все это — и оппозиция «земля — небо», и страстный
порыв к «иному» — знакомо нам и по статьям А. Белого тех лет, но если
для них характерно стремление не очень считаться с «земным
притяжением», то в «Золоте в лазури» тяга героя к «небу» — предмет
драматических коллизий, порождающих мотив преждевременного пророчества.
86
И сколь ни впечатляющ вопль, рвущийся из самого его сердца, может быть,
наиболее глубоко передают драматизм ситуации следующие, лишенные
внешнего эффекта, несущие затаенное страдание строки:
В синих далях блуждает мой взор.
Все земные стремленья так жалки...
Мужичонка в опорках на двор
С громом ввозит тяжелые балки31.
Художественная интуиция опережает рационалистические
выкладки: так, если в статье 1904 г. «Символизм как миропонимание»
А. Белый пишет: «Заря зажглась», то в поэтической книге, вышедшей
в том же г., ощутимо уже предчувствие заката «зорь».
Предчувствие это порождено более сложными взаимоотношениями с
жизнью А. Белого-поэта по сравнению с А. Белым-теоретиком. Но
утопия всегда утопия; на каком бы языке она ни выражалась, в ней силен
элемент волевой, рассудочный, порождающий, как правило,
стремление опереться на авторитеты, вступить в сотворчество с ними. Такими
авторитетами для А. Белого были Вл. Соловьев и Фр. Ницше. Они и
становятся героями его стихотворения «СМ. Соловьеву»:
Сердце вещее радостно чует
призрак близкой, священной войны.
Пусть холодная вьюга бунтует —
мы храним наши белые сны.
Нам не страшно зловещее око
великана из туч буревых.
Ах, восстанут из тьмы два пророка.
Дрогнет мир от речей огневых.
И на северных бедных равнинах
разлетится их клич боевой
о грядущих, священных годинах,
о последней борьбе мировой.
Сердце вещее радостно чует
признак близкой, священной войны.
Пусть февральская вьюга бунтует —
мы храним наши белые сны32.
С именами Вл. Соловьева и Фр. Ницше А. Белый связывал
апокалипсическую идею конца всемирной истории: белый цвет, по его воз-
87
зрениям, — цвет Апокалипсиса. «...Мы выдумали символику белого
цвета...»22, — писал он в своих воспоминаниях, имея в виду себя и
С. Соловьева, а в статье «Священные цвета» есть разъяснение этой
символики: «Первые века христианства обагрены кровью. Вершины
христианства белы, как снег. Историческая эволюция церкви есть
процесс "убеления риз кровью Агнца"»34. Таков был
иератический язык А. Белого той поры: по едкому замечанию жены В. Иванова
Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, он говорил на «языке арбатского
апокалипсиса»35.
Позднее, когда мистические «зори» угаснут, а творец «Заратустры»
явно потеснит в его сознании Вл. Соловьева, А. Белый с еще большей
настойчивостью будет связывать Откровение Иоанна с именем Ницше.
«...Победа будет одержана только тогда, — писал он в статье «Театр и
современная драма» (1907), — когда все человечество пойдет над
пропастями сквозь смерть к острову детей, омытому лазурью и
обещанному, как апокалиптическим пророчеством далекой древности, так и
богоборческим дерзанием Ницше»36. Здесь же, определяя символизм
«современной драмы», в частности драмы Ибсена, он говорит о
«символизме эсхатологическом», вряд ли подозревая о том, что эти слова —
лучшая дефиниция его собственных творческих устремлений,
одинаково верная для всех периодов его деятельности. В том числе,
разумеется, и для эпохи «зорь», когда создавались первые симфонии, первые
статьи, первая книга стихов и когда, несмотря на позднейшее признание
об этом времени: «...пытаюсь я соединить в своем сердце два полюса
(Соловьева и Ницше)»37, — предпочтение отдавалось все же Вл.
Соловьеву, точнее, проблематика Ницше бралась под углом зрения,
предложенным автором «Трех разговоров».
В связи с этим любопытно, что на автографе приведенного выше
стихотворения стояло посвящение Вл. Соловьеву и что в
стихотворении «Раздумье», написанном в том же феврале 1901 г., говорится
уже об одном «пророке» — Вл. Соловьеве (его памяти оно и
посвящено):
Ночь темна. Мы одни.
Холод. Ветер ночной
деревами шумит. Гасит в поле огни.
Слышен зов: «Не смущайтесь... я с вами...
за мной!..»
88
И не знаешь, кто там.
И стоишь, одинок.
И боишься довериться радостным снам.
И с надеждой следишь, как алеет восток.
В поле зов: «Близок день.
В смелых грезах сгори!»
Убегает на запад неверная тень.
И все ближе, все ярче сиянье зари.
Дерева шелестят:
«То не сон, не обман...»
Потухая, вверху робко звезды блестят...
И взывает пророк, проходя сквозь туман38.
Это стихотворение явно связано с первым. Мотив «холодной вьюги»
трансформируется в нем в мотивы «темной ночи», «холода», «ветра»,
гасящего «в поле огни». «Белые сны» соответствуют радостным снам,
и источник у них один: близость «пророка» и пророчества. Однако по
настроению первое стихотворение «благополучнее» второго.
В то же время «раздумье» это лишено чувства сомнения и
разочарования. Герой Белого не ищет, он ждет. Ждет пророчества, и
ожидание его не напрасно. «Спокойно почивай: огонь твоей лампадки /
мне сумрак озарит»39, — скажет он в стихотворении «Владимир
Соловьев», обращаясь к своему не «понятому» людьми учителю. Так, фигура
Вл. Соловьева вырастает в заключительном разделе книги «Золото в
лазури» в ту величину, какой она была в жизни А. Белого и в
создаваемой им эстетической утопии. Как, впрочем, и в жизни тех русских
«христиан-теургов», которые, по Белому, вслед за Вл. Соловьевым
осознали, что «христианство — существенный, а не формальный синтез»;
от их лица выступал он в статье «Символизм как миропонимание» и
в несомненно итоговом для сборника «Золото в лазури»
стихотворении «Раздумье».
Русскому искусству и в его лице — русскому символизму
отводилась А. Белым и другими теоретиками символизма явно
провиденциальная, мессианская роль, в чем нельзя не усмотреть определенного
влияния славянофильства. Религиозный синтез, метафорически
представлявшийся Белому некой «мировой башней к небу», имел опреде-
89
ленную цель: «Пройти сквозь формы "мира сего", уйти туда, где
все безумны во Христе...»40. Характерно это словечко «сквозь» — жест
максималиста, не склонного считаться с действительностью низшего
порядка. Даже русско-японская война для него — не следствие
определенных социально-экономических причин, а «порождение нашего
больного воображения»41; она не больше, чем символ
апокалипсической борьбы двух мистических существ — зверя и Жены.
Мир подошел к последней, роковой, черте, считает А. Белый; по
его лицу скользнула «гримаса», «всеобщая судорога», «ужаснувшая»
Вл. Соловьева и подвигнувшая его на создание «Краткой повести об
антихристе». Всеобщим проявлением этой «гримасы» стал хаос,
«изнутри» выразившийся «как безумие», «извне, как раздробленность жизни
на бесчисленное количество отдельных русл». Но надо помнить,
предупреждает А. Белый, что все это неподлинно, призрачно, «гидры хаоса»
лишь «Маска, наброшенная на действительность, за которой прячется
Невидимая...». «Узнать действительность» подлинную, по Белому, —
«значит сорвать маску с Невидимой», явить миру «лик»
вдохновившей Вл. Соловьева Вечной Женственности, «которая соединит
разъединенные небо и землю» душ человеческих «в несказанное единство»42.
Вот тут-то и вступает в свои права искусство, в частности поэзия;
ее «цель» — «найти лик музы, выразив» в нем «единство вселенской
истины»; следующая ступень — религия, ставящая своей задачей
«воплотить это единство» — «цельный лик Человечества, лик Жены,
облеченный в Солнце»43. Искусство, таким образом, перерастает в религиозное
творчество, теургию, результат которой, по учению Вл. Соловьева, —
богочеловечество, достигаемое через проявление Логоса, Слова Божия,
в Мировой Душе.
На путях, подготавливающих религиозное творчество, и видит
А. Белый миссию русской литературы, русской поэзии, в частности,
подвергая ее в статье «Апокалипсис в русской поэзии» (1905) анализу
с точки зрения проявления в ней образа «Вечной Жены».
Мифологизируя развитие русской поэзии от Пушкина до Брюсова и Блока
включительно, он считает, что в ней происходит «троякая перемена...
первоначального облика»44. Как бы «три покрова срываются с лица русской
музы, три опасности грозят Ее появлению. Первый покров срывается с
пушкинской музы; второй — с музы Лермонтова; совлечение третьего
покрова влечет за собою явление Вечной Жены» (там же). Таким обра-
90
зом, в русской поэзии происходит что-то вроде постепенного
постижения идеи мира, которая на мифологизированном языке символистов
и есть не что иное, как Мировая Душа, некий всеединый универсум,
или человечество. Метод этого постижения — символизация, причем
индивидуальный опыт (отдельного поэта или национальной поэзии) по
мере приближения к так называемому «Единому Символу», за
которым стоит имя Христа, все более универсализируется, становясь
общечеловеческим.
В упомянутой статье А. Белый следует этой формуле. Пушкин, с
авторской точки зрения, гармоничен и «целостен», но его «цельности
не хватает истинной глубины»; последователи Пушкина, его преемники
должны погрузиться в хаос и «преодолеть его», «в глубине
национальности приготовить нетленное тело Мировой Души», ибо хаос и есть ее
«тело». На следующем этапе совлечение «полумаски» с лица
лермонтовской музы открывает «Лик Небесного Видения». «Третья Личина, —
подводит итоги А. Белый, — Мировая: это — "Маска Красной
Смерти", обусловливающая мировую борьбу Зверя и Жены. В этой
борьбе — содержание всякого трагизма. Западноевропейская поэзия
говорит нам извне об этой борьбе: трагизм — вот формальное
определение апокалиптической борьбы. Русская поэзия, перебрасывая мост к
религии, является соединительным звеном между трагическим
миросозерцанием европейского человечества и последней церковью
верующих, сплотившихся для борьбы со Зверем»45.
Все эти рассуждения чрезвычайно характерны для первого
периода творчества А. Белого и составляют своего рода кульминационный
момент его апокалипсического философствования. Он верил тогда, что
мир уже созрел для «последней борьбы мировой», надеялся на чудо
внезапного, катастрофического преобразования нецельного,
раздираемого противоречиями механической цивилизации мира в «град новый
Иерусалим», в целостный, органический, всеединый в своей основе,
богочеловеческий организм, о котором в Откровении Иоанна сказано:
«И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя
земля миновали, и моря уже нет. И я Иоанн увидел святый город
Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста,
украшенная для мужа своего» (Откр., 21:1—2). Разгоряченное древними
пророчествами и их современными толкованиями в духе Вл. Соловьева
воображение Белого подсказывало ему единственно приемлемое для
91
него «понимание общества, как индивидуального организма — "Жены,
облеченной в Солнце"»46. Отсюда следовал и жест максималиста,
решительный и энергичный: «...взорвать общественный механизм и
идти по религиозному пути для ковки новых форм жизни», ибо
«религиозный принцип венчает принцип социальный»47.
Итак, по Белому, необходимо «взорвать», «снести»*, «сорвать» все,
что мешает приходу Вечной Женственности в мир, а потом, как сказано
в «Символизме как миропонимании», сами собой «вырастут
спасительные крылья и понесут человечество над историей»48. Ожидание «чуда
полета» «по воздуху» привело к распространению экстатических форм
лирики на теоретические статьи А. Белого и породило обильное
цитирование Апокалипсиса, переход некоторых мотивов из одной работы в
другую, повторы отдельных особо важных фраз с их метафорическим
строем, лирических отступлений или прямых взываний (иначе не
назовешь!) к «небесной подруге» вроде заключительной главки
«Апокалипсиса в русской поэзии»: «Мы верим, что Ты откроешься нам, что
впереди не будет октябрьских туманов и февральских желтых оттепелей.
Пусть думают, что Ты еще спишь во гробе ледяном <...>
Нет, Ты воскресла.
Ты сама обещала явиться в розовом, и душа молитвенно
склоняется пред Тобой, и в зорях — пунцовых лампадках — подслушивает
воздыхание Твое молитвенное.
Явись!
Пора: мир созрел, как золотой, налившийся сладостью плод, мир
тоскует без Тебя.
Явись!»49.
Установка на «скорый конец» подсказала и сюжет процитированной
статьи, которая многое определяет в духовном самочувствии Белого-
теоретика первого периода его творческого пути. Мы имеем в виду не
его конкретные трактовки творчества русских поэтов пушкинского и
лермонтовского «направлений» и даже не сам факт провиденциализма
и мессианизма русской поэзии, «обнаруженный» им. Обращает на себя
внимание то обстоятельство, что в интерпретации А. Белого апокалип-
* Ср., например: «Только тогда, когда будет снесено все, препятствующее
этому сну, Красавица сама должна выбрать путь...» (Белый А. Луг зеленый: книга
статей. М., 1910. С. 6).
92
сический исход истории в основном подготовлен предшествующими
поколениями поэтов, а современники автора лишь завершают начатое,
поскольку, по его словам, «еще не вся жизнь подчинена ей. Еще кругом
бунтует хаос, не ставший ее телом»50. Остался, следовательно,
последний рывок, и искомая и чаемая гармония будет достигнута.
Где же тут, спрашивается, место для теургии, жизненного,
религиозного творчества? Неужели оно ограничивается только молитвенно-
экстатическим призывом к «лучезарному видению», которым
заканчивалась статья? Но такая позиция расчищала место не столько для
действия, сколько для бездействия, между тем как Вл. Соловьев понимал
под теургией свободное проявление деятельности человека по
претворению в низшем, материальном, мире божественной идеи. Это была
вера в провиденциальные пути человеческой и естественной истории.
«Перелом» Вл. Соловьева «от христианского морального квиэтизма
"Оправдания добра" к пророческим "Трем разговорам"»51 означал утрату
подобной веры. Теократическое строительство уступило место
апокалипсическому скачку. В этой смене акцентов чувствовались и
отчаяние, и надежда вместе. Из сказанного следует вывод, что учение о
теургии предшествовало у Вл. Соловьева пророчеству «Краткой повести
об антихристе», предсказание же близкого конца всемирной истории
практически исключало активное участие человека в судьбах мира.
«Устремляясь» «к Началу... сквозь Конец», т.е. идя путем,
противоположным Вл. Соловьеву, Белый неизбежно приближался к
драматической развязке, которая и не преминула наступить. Мы имеем в виду
его столкновение с действительностью — она никак не хотела
следовать его теории. Требовался пересмотр багажа, с которым жил он все
эти годы, выказалась нужда в перегруппировке идей в новое единство,
способное придать выдвигаемой концепции характер жизненной
убедительности и дееспособности.
2. «Трагедия трезвости»
Еще дописывались последние строки «Апокалипсиса», а Белый уже
устремлялся в недавнее прошлое, предъявляя «счет» «отцам» русского
символизма от имени его «детей». Волынский, Минский,
Мережковский — «учителя» его юности — создавали религиозно-эстетическую
93
критику, от которой он и его друзья ждали чуда, предвестия
наступающих «новых времен». В сознании А. Белого всплывает та пора, когда
он, захваченный эсхатологическими чаяниями, отправляет в Петербург
Мережковскому письмо с взволнованными размышлениями по поводу
книги последнего о Толстом и Достоевском. Этому письму суждено
было стать одним из первых теоретических выступлений А. Белого в
печати. Но прошла та пора, и он с горечью признает, что «новые
времена не принесли новостей», «будущее запоздало...»52. А былое
обаяние Мережковского померкло.
С сарказмом обрушивается теоретик на творчество Ф.М.
Достоевского, легшее в основу нового религиозного сознания, внутренне
полемизируя с трактовками великого писателя, принадлежащими
Мережковскому, которые, по его мнению, есть «естественное следствие
нежелания видеть Достоевского в истинном свете»53. Какова же «правда»
А. Белого о Достоевском? Это важно выяснить, ибо она поможет
уточнить направление его собственных теоретических исканий.
Оказывается, что «отличительные черты Достоевского» —
«мещанство, трусливость и нечистота, выразившаяся в тяжести слога», он
«слишком "психолог"», чтобы не возбуждать брезгливости», а «глубина,
построенная на психологии, часто фальшива». И вообще, «неимоверная
сложность Достоевского, несказанная глубина его образов —
наполовину поддельная бездна, нарисованная иной раз прямо на плоскости».
Достоевскому свойственны «безвкусие» и «крикливый болезненный
голос», «он всю жизнь брал фальшивые ноты», а «религиозная тайна
души его осквернена политиканством», ибо «хулиганство и черносо-
тенность окружили имя его ореолом мрачным и жестким
("жестокий талант"!)»54.
В «правде» этой нет ни единого слова правды. Все это больше похоже
на истерику отчаявшегося человека, склонного взвалить бремя
ответственности на того, на кого он рассчитывал и кто так неожиданно
подвел его. Короче говоря, в этих нелепых обвинениях есть одна правда,
правда о внутреннем состоянии А. Белого в нелегкий для него период
кризиса.
Что же означало его отчаяние? Отказ от идеала? Ничуть. Белый с
иронией пишет о «символистах на час», которых, по его словам,
«только и хватило на то, чтобы похвалить их зовущую зарю...». «...Но
итти ей навстречу — это уже подвиг!» — восклицает он. Но они, к сожа-
94
лению, «закупорились снова в своих жалких хатах и теперь говорят, что
заря угасла»55. В момент серьезного испытания в сознании критика
возникает идея пути, «медленного восхождения» «к восхищающему
видению», воспринимаемому им как неизбежный и «суровый долг». Беда и
вина Достоевского, в его представлении, и заключаются как раз в том,
что «в душе своей» писатель «носил... образ светлой жизни, но пути,
ведущие в блаженные места, были неведомы ему». Оттого и
получалось, что «герои его хотели купаться в голубом горнем воздухе, но
купались... разве только в голубоватом снегу, когда удалая тройка
опрокидывала в сугроб кутящих удальцов...». «Бытие влекло их в хаос
безумия, — продолжает Белый, — а долг не мог умалить жгучести их
страданий, ибо долга и не было у них». И далее следует решительный вывод:
«Долг — свое первородство — продал Достоевский Западу за
чечевичную похлебку психологии». Почему именно Западу? Да потому,
отвечает автор, что «благородство долга, кующее путь восхождения, есть
удел Запада», за «Востоком» же он признает лишь право на грезу,
ассоциирующуюся у него с «пьянством души», с «пьянством словесным»*56.
Отсюда категорическое требование: «Поменьше угара, побольше
трезвости» и четкий призыв: «Довольно глубоких слов, довольно
проклятых вопросов.
Слово, от которого разлетается тень, вовсе не слово: оно —
творческая работа.
Будем работать: поучимся у Запада»57.
Русский «христианин-теург», похоже, становился западником. Не
то, чтобы он был убежден, что Запад владеет истиной в полном объеме
и в последней инстанции, скорее, наоборот: он полагал, что в России
глубже видят отдаленную перспективу. Зато на Западе, уверял он,
вполне овладели наукой «горного пути». В силу именно тактических
соображений А. Белый предлагает своим русским
собратьям-символистам, и прежде всего самому себе, «подобраться, сузиться» и «хотя бы
на время» отказаться от мечты о вожделенном синтезе. Уже прямо имея
в виду Мережковского, в частности его идею о двух «безднах», он пишет:
«Чтобы земля стала небом, нужно найти небо; а для этого стоит забыть о
земле. <...> Воистину не любят, не знают, не ценят землю призывающие
нас к земле, если они не уходили от нее. Нам говорят, что там, под землей
* См заглавие статьи А. Белого «О пьянстве словесном» (1908).
95
то же небо, и что, идя обратным путем, я приду к новому небу. Все это
так, если бы не нутряной огонь, опаляющий в центре земли все живое.
Нельзя спорить против того, что вообще существуют пути,
противоположные небесным, — вопрос: для людей ли предназначены эти пути»58.
Наукой «восхождения» в сознании Белого вполне овладел «горный
инженер»59 Ибсен; поэтому, считал он, Достоевский должен потесниться,
чтобы уступить ему место в теоретических изысканиях символизма.
В представлениях А. Белого более позднего периода Ибсен, как мы
помним, означал некий рубеж на пути символизма от «литературной
школы» к «символизму как миросозерцанию». Дело тут было в особом,
присущем теоретику понимании ибсеновской «инженерии»
восхождения к идеалу, по которому, «не отказываясь от религии», А. Белый
призывал «с пути безумий» повернуть «к холодной ясности искусства, к
гистологии науки...»60. Анализируя творчество Ибсена, он впервые
заговорил о «реализме» символизма. Героям драматурга, по его мнению,
«совершенно чужда» «апокалиптическая истерика», «мистика
бесноватых Карамазовых»; «от всех этих клинических форм мистицизма, —
делает он вывод, — подымается дурной запах мистификации». Ибсен
же органически не способен ни к какой мистификации, ибо обладает
особым умением связывать два мира. Его герои всегда говорят «о
внешних предметах и отношениях. А когда придают этим отношениям
символический смысл, это выходит так прямо, так явно. Нигде не порвется
у Ибсена внешний мир, но отчего так сильны эти явные, почти
воплощенные символы?»61.
Наблюдение, как видим, выразилось в форме вопроса. «Загадку»
Ибсена А. Белый и не пытается разрешить, не догадываясь о том, что
подтолкнул его к этому «открытию» собственный художественный опыт.
В том же 1905 г., когда создавалась рассматриваемая статья «Ибсен и
Достоевский», вышла в свет его третья «симфония» «Возврат», где, по
словам исследователя, «двупланность человеческого существования»,
существования одновременно и в сфере быта, и в сфере бытия
впервые у А. Белого «имеет абсолютный характер»62. Не думаем, что в
статье речь шла именно об этом, но то, что теоретик символизма в первый
раз серьезно задумался над соотнесением двух планов жизни, не
отмахиваясь, как прежде, от посюстороннего мира как чего-то досадного и
случайного, совершенно точно. Вот почему, развивая свою мысль, он
приходит, на первый взгляд, к неожиданному, но на самом деле вполне
96
закономерному выводу: «У Ибсена колокольня всегда остается
колокольней, берется ли она прямо или как символ. Рамки
действительности не раздвигаются внешним образом для него. Но
прислушайтесь — сколько музыки в простых холодных словах. Пока в душах героев
Ибсена происходит преображающая борьба — в душах, о которых мы
ничего не ведаем, они пользуются старыми испытанными средствами
жизненного строительства, влагая в них новый трепет возрастающей
тайны. В словах и чаяниях герои Ибсена консервативнее, сравнительно
с героями Достоевского и мистиками наших дней. Но в делах они —
новаторы. Вот почему они скорее теурги, нежели все мы, чающие Града
Нового»63. Теурги, понятно, потому, что ставят реальные цели, а не
барахтаются в плену утопии, и потому, что в основе их действий
реалистический подход к действительности (разумеется, в том
понимании, какое вкладывали в этот термин символисты).
Тенденция, наметившаяся в статье «Ибсен и Достоевский», была в
общем плодотворной, если смотреть на нее с точки зрения внутреннего
развития А. Белого как теоретика символизма. Исходя из сказанного,
видно, что ему удалось найти более диалектичное соотношение двух
реальностей. Но как ни парадоксально, именно относительный реализм
мышления привел его к противоречию, которое было знакомо нам и
по прежним его работам. Пусть оно выступает теперь не столь резко и
обнаженно, но оно по-прежнему ощутимо. Действительно, как соотнести
призыв (пусть и тактический!) «найти небо» и, следовательно, «забыть
о земле» с намечающимся «реалистическим» мироощущением,
стратегическим в своей основе? И, главное, все эти взаимоисключающие
тенденции присутствуют в одной работе и проистекают из одного корня:
желания избавиться от былого, максималистского в своей основе,
утопизма мышления. Но как всякая утопия, эстетическая утопия А. Белого
имеет одну родовую особенность: сколько бы ни пытался автор
привить ей жизненную устойчивость, он постоянно наталкивался на
сопротивление системы в целом; отсюда и ее противоречия, несообразности,
взаимоисключающие ходы теоретических построений.
При всех уточнениях символистского метода, ведших к известным
издержкам, отмеченным нами, А. Белый больше всех других
крупнейших теоретиков символизма был устремлен в «небо», считая, что
«бирюзовая волна неба... подлинная природа жизни...»64. Он и Ибсена
выделил за то, что драматург был, по его понятиям, «натура... высо-
97
кая» и, невзирая на всю свою нелюбовь ко «всяким поспешным
синтезам и грезе о вселенском единении человечества», все же «шел... от
черной ночи к медленно брезжущей заре». С Ибсеном связывает Белый
идею долга и жизненного подвига. «Мы должны идти за ним, — пишет
он, — если мы хотим жизни, потому что потоп грозит нашему старому
материку. Но если хотим мы жизни, мы должны ее добиться упорным
боем. Мы должны стать героями.
Ибсен первый призвал нас на этот путь»65.
Идея героической и трагической личности, вышедшей на борьбу с
«роком», косным сопротивлением материи, постепенно набирающая
у А. Белого большую силу, в основе своей тоже была связана у него с
именем Ибсена. Белый был убежден, что, выдвинув в своей
символической драме на первый план проблему личности, Ибсен сделал
серьезный шаг в сторону непосредственного «творчества жизни». Это его
убеждение связано с особым пониманием целей искусства вообще и
драматического искусства в частности.
Уже в «Формах искусства», отталкиваясь от драматургии великого
норвежца, юный теоретик символизма предполагал, что, приближаясь к
мистерии, драма постепенно покинет сцену и распространится на жизнь.
Несколько позже эта мысль приобрела у него еще более радикальную
окраску: он почти физически ощущал время, когда новое искусство,
приготовив человечество к жизненному творчеству, теургии, перестанет
существовать в качестве искусства, быть просто искусством. В
результате оказалось, что теория недоучитывала силу «земного плена»:
всеобщее религиозное освобождение человечества, несмотря на
устремления символистов-апокалиптиков, так и не наступило. Оно теперь
рассматривалось как отдаленная перспектива, ближайшей же целью для
А. Белого стало индивидуальное «восхождение», героический и
жертвенный порыв в «небо» трагической личности. Напряженное
ожидание «чуда» сменилось страстным исканием пути к нему.
Нельзя сказать, что границы между двумя этими психологическими
состояниями разных лет были абсолютными, но то, что они верно
учитывают смену акцентов в концепции А. Белого, не вызывает сомнения.
Усилившееся внимание к земным ступеням восхождения при
оставшемся неизменным отношении к земле как плену привело его к более
мощному сравнительно с прежним периодом оснащению теории,
проявившемуся на первых порах в более ответственном разграничении
98
сферы жизни и сферы искусства. Все это, вместе взятое, сказалось на
трактовке драмы, на понимании ее целей и задач в рамках
создаваемой эстетической концепции.
Суть ее в следующих программных для А. Белого словах:
«Искусство окрыляется там, где призыв к творчеству есть вместе
с тем призыв к творчеству жизни». Жизнь взята здесь в двух
измерениях, в двух планах: внешнем и внутреннем. Во внешнем своем
проявлении жизнь предстает, по Белому, как совокупность
застывших, откристаллизовавшихся форм, социальных, научных,
философских и т.д., внутреннее же содержание жизни, т.е. источник всех этих
форм, — творчество, творческий ритм. Но поскольку для символиста
важнее не видимость, а сущность, то понятно поэтому, что А. Белый
воспринимает жизнь как творение художника в широком смысле этого
слова, иначе — как эстетический феномен. Жизнь, считает он,
необходимо полностью подчинить творчеству, чтобы окончательно
расплавить мертвые формы, сковывающие свободу человека, выступающие
по отношению к нему в виде мертвящего и жестокого рока. В
искусстве, т.е. «в духе», человек преодолевает пространство и время,
побеждает рок, следовательно, искусство — некая универсальная
лаборатория методов по перестройке жизни, иначе говоря, «искусство есть
начало плавления жизни»66.
Драма — высшее выражение поэтического творчества, ибо в ней
основная коллизия искусства — борьба человека с роком, переход из
царства необходимости в царство свободы — составляет содержание
драматического действия. Поэтому драма представляет собой некий
пример для жизни, некую универсальную формулу жизни,
своеобразную ее модель. В ней как бы заложено начало жизненного творчества,
так сказать, его стратегия, и вместе с тем в ней, по этой же самой
причине, искусство осознает неизбежность своего конца как творчества
мертвых форм. Для иллюстрации данного положения А. Белый
прибегает к сравнению. Как для построения бесклассового общества,
говорит он, нужна временная мера — диктатура пролетариата, так и для
«упразднения несуществующей, мертвой, роковой жизни нужно
провозгласить знаменем жизни мертвую форму»67.
Здесь у него возникает желание придать жизненный смысл не
разделявшейся им никогда идее «искусства для искусства». Подобным
образом поступали все «младшие» символисты, и он, следовательно,
99
не составлял исключения в ряду принявших наследие «старших» и
по-своему его переработавших. Принимая эстафету, он фактически
переосмысливает лозунг «чистого искусства», придает ему
несвойственное в ортодоксальном варианте содержание, утверждая, что во времена,
когда гнетущие формы жизни, казалось бы, окончательно побеждают
ее творческую душу, художник поворачивается к ней спиной,
занимается вещами, для постороннего глаза второстепенными и, быть может,
предосудительными с точки зрения высокой морали. Он занимается
художественным творчеством и только. Но вовсе не забава его дело, а
подготовка оружия, которым завтра будет пересоздана жизнь.
Однако, хорошо осознавая свой собственный предел как формы
искусства, драма испытывает внутреннюю «драму», пытаясь именно
в этом качестве утвердиться на сцене. Срабатывает, так сказать,
инерция жанра. Тенденция перехода в мистерию жизни оборачивается
попыткой разыграть мистерию в театре, на сцене, и вместо того, чтобы
нейтрализовать это стремление, считает Белый, новейшие теоретики
драмы упорно эксплуатируют его, пытаясь превратить театр в храм, а
драму — в мистериальное действо.
Учение А. Белого о драме непосредственно вытекает из теории
символа и символизма. «Символ, — пишет он, — есть соединение двух
порядков последовательностей: последовательности образов и
последовательности переживаний, вызывающих образ. Здесь вся сила в
последовательности переживаний. Образы, это эмблематическая роспись
переживаний, не более. Переживание зацветает образами. В
символизме реальная связь за пределами видимости»68. Белый не
случайно завел речь о «чистом искусстве», апологетами которого были
многие из «отцов» русского символизма. Оно для него — некая
стартовая площадка для перевода разговора в иное русло. Символизм,
полагает теоретик, поставив во главу угла устремление к «иной»
действительности и последовательно проводя эту идею в жизнь, не может
остановиться только на созерцательной фазе искусства или ограничить свои
цели познанием феноменального мира (первое поколение символистов).
Он провозглашает «примат творчества над познанием», и в перспективе
именно «творчество жизни становится самоцелью»69 для него, а вовсе
не создание мертвых форм искусства.
Наиболее полно и глубоко, считает он, символизм осознает себя
в символической драме Г. Ибсена. Она, по его словам, «всюду созна-
100
тельно срывает покров с видимости: видимость, оставаясь видимостью,
становится сквозной, как стекло, выдавая невероятный смысл
происходящего в видимости. И в невероятности смысла ибсеновских драм
сила его дерзновения. ...оставаясь непостижимыми в своей сущности,
все эти Рубеки, Боркманы, Сольнессы — еще и алгебраические знаки
какого-то апокалиптического уравнения жизни»70.
Уже в «Формах искусства» А. Белый ставил в заслугу Ибсену его
умение видеть в повседневности глубоко скрытые потенции. В
статье «Ибсен и Достоевский» эта мысль получила дальнейшее развитие
путем упорного подчеркивания особой реалистичности
художественных поисков драматурга и практической значимости опыта его героев
для современного человечества.
Сейчас теоретик драмы еще больше «заземляет» героев Ибсена,
выделяя такие будничные детали их внешности и окружающего их
интерьера, как «сюртуки и цилиндры», «калоши», «ресторан»,
«ресторанный столик», «стакан пива». Конечно, этот теоретический ход имел
для него и побочную цель: полемику с апологетами театра как храма
и драмы как мистерии, но главное его назначение было все-таки в
подчеркивании обычности, «земности» героев Ибсена. А это, в свою
очередь, позволяло оттенить необычность их дерзновений,
символических порывов и прорывов в запредельные сферы. Одно дело, когда на
подобное решается титан, пророк (давно ли А. Белый сам себе казался
пророком или хотел быть пророком!), другое, когда обычный человек
становится титаном, «шагнув» от «ресторанного столика» «в новое
небо, на новую землю». Что из того, что порыв Рубека завершился
гибелью? Главное сделано: дан пример практического преодоления рока,
иными словами, перехода из царства необходимости в царство
свободы. «Солнечный луч» символизма привел «к солнцу — той
реальности», которая и есть подлинная сущность мира и человека. Вот что
делает символическая драма, подводит итог А. Белый: «стремление к
свободе, предощущаемое, как заря, она превращает в долг: "Видишь
свет — стань и ты солнцем!"»71.
Таково в общих чертах понимание А. Белым смысла творческих
исканий Г. Ибсена. Если выразить суть его взгляда короче, можно
сказать, что он видит у драматурга призыв (и одновременно «эмблему»,
знак, символ) индивидуального освобождения человека. На языке
теоретика символизма, «ибсеновская драма символами своими говорит
101
нам о преодолении плоти душой. Апокалипсис человеческой плоти —
вот, по Белому, символизм ибсеновской драмы»72.
Окончательная же победа над смертью и временем, по его
воззрениям, будет одержана тогда, когда все человечество устремится к солнцу,
омытому лазурью. Однако этот круг идей не развит в статье «Театр и
современная драма», хотя и подразумевается всем строем
размышлений А. Белого. Дело в том, что положенный в ее фундамент материал
не давал основания для рассуждений на эту тему. Уже в статье «Ибсен
и Достоевский» Белый писал, что за стремлением Ибсена обеспечить
горный подъем нередко скрывается забвение самих целей восхождения.
Тогда подобная ситуация в полемической запальчивости объявлялась
чуть ли не как серьезное достоинство творчества норвежского
драматурга. Сейчас, однако, он испытал желание взглянуть на вещи гораздо
трезвее, ибо снова нацелил свое зрение на синтез, от которого в период
крушения эсхатологических надежд предлагал хотя бы на время
отказаться. По-прежнему высоко оценивая вклад Ибсена в дело
освобождения человека от власти внешних, уродующих форм жизни (в этом
мы только что убедились), А. Белый тем не менее прямо указывает на
ограниченность дерзновенных порывов его героев к идеалу, говорит о
некой неполноте их подвига. Если это и «апокалипсис», уверяет он, то
«Апокалипсис без Пришествия». Почему? Да потому, что «Сольнесс
(в данном случае герой пьесы Ибсена «Строитель Сольнес» взят как
величина интегральная. — B.C.), взойдя на башню, вдруг сознает, что
встреча с Богом должна уж теперь произойти неминуемо, а он не знает,
что сказать Богу. Слова не знает Сольнесс, как не знает его ни Ибсен,
ни современная драма символов»73. Вот какой вывод. А. Белый
использует здесь религиозную символику: Слово Божие воплотилось в
Христе, пришествие Христа к людям означало для них грядущее
преображение.
Упрек в немоте — серьезный упрек. Похоже, что критик говорил об
определенной инерции движения, когда оно не дает ощутимых
результатов, когда наработанное вчера сковывает сегодняшнее стремление
вперед, заставляя содержание отливаться в уродливые формы. Это
одновременно упрек и Ибсену и символической драме вообще, не
сделавших последних выводов из своих же собственных посылок. «Слово
дано будет только тогда, когда плоть утончится до форм нового
творчества», — поучает А. Белый, развивая прерванную нашим изложением
102
мысль. «Новое творчество» — это и есть жизненное творчество,
теургия, и если раньше в полемической запальчивости он склонен был
считать героев Ибсена больше теургами, чем эсхатологически настроенных
русских мистиков-символистов, то сейчас он преодолел свое
раздражение. Ибсен звал всех стать героями, а сам продолжал писать драмы для
сцены — мысль эта невыносима для А. Белого. «Вот если бы Ибсен-Борк-
ман не писал драм, а жил драмой борьбы за преображение, может быть,
ледяная рука, хватавшая его за сердце, растаяла бы, легла у ног
весенним ручейком. Был бы он мистагогом новой жизни и драм не писал. Но
и он, — сокрушается теоретик, — как и все драматурги-символисты,
еще пока спешит променять солнечное свое первородство на
чечевичную похлебку славы»74.
Такова суть требований Белого к Ибсену и современной
символической драме, и слова упрека сегодняшнему своему кумиру — почти
копия слов упрека кумиру вчерашнему — Достоевскому. То ли А. Белый
сознательно прибегнул к старой своей словесной формуле, то ли
воспроизвел ее бессознательно, но внутреннее наполнение приведенной
фразы от этого не меняется: в определенном смысле и там и тут речь
идет о банкротстве системы, на которую он рассчитывал и которая не
оправдала его надежд. Правда, в первом случае была безоглядная
юношеская вера, во втором — больше холодный расчет повзрослевшего
человека, но различие это не имеет существенного значения.
«Призыв к жизненной мистерии»75, расслышанный теоретиком в
символической драме, был воплощен им в идее «творчества жизни» —
окончательной его идее. Человек должен стать для себя собственной
художественной формой. Жизненно необходимо, чтобы «он превратил
свою жизнь в опыт, всей жизнью искал бы форм восхождения реально,
конкретно, преображаясь сам»76, и только тогда наступит чаемое
освобождение. Так полагал Белый. Выйти за пределы искусства, творить в
жизни и самое жизнь — страстная его мечта.
Но как это осуществить? Не знал «слова» Ибсен, но, кажется, не
знал его и автор статьи. Он упрекает художников, требуя от них жизне-
творческих устремлений, предписывает искусству в узком понимании
этого слова неминуемый конец, а сам в поисках средств для реализации
выдвинутой формулы «творчество жизни» продолжает обращаться к...
искусству и деятелям искусства. Путаница между пониманием музыки
как «формы искусства» и символа Мировой Души, обнаруженная нами
103
в его юношеской статье, казалось, оыла преодолена, жизнь и искусство
вроде бы разведены, а первоначальное проклятие продолжало
тяготеть над ним. Что же делать дальше? Как перешагнуть границы этого
замкнутого круга? А. Белый, как мы помним, уже делал попытку
опереться на эсхатологию Вл. Соловьева, но она не оправдала его надежд.
Мечты о скором конце всемирной истории пришлось отложить на
неопределенное время. Теперь его заботила одна мысль: кто укажет
человечеству верную дорогу к тому рубежу, за которым начнет сбываться
древнее Иоанново пророчество. Кто вооружит его методами
жизненного строительства?
Уже давно А. Белого волновала фигура Фр. Ницше. Об этом в самой
общей форме говорилось выше. Думаем, что в данной связи есть смысл
сослаться на свидетельство страстного поклонника Белого, поэта и
теоретика символизма Эллиса (Л.Л. Кобылинского). Анализируя
последний раздел книги «Золото в лазури» «Багряница в терниях», он
выделил в нем «два основных мотива». «Один, — развивал свою мысль
автор «Русских символистов», — объективный — чувство
ожидания, чувство приближающегося конца. Этот мотив роднит лирику
А. Белого с лирикой Вл. Соловьева. Другой мотив — бесконечно
субъективный — чувство жертвенности, радость страдания и сознание
своей обреченности. В этом последнем сознании своей
жертвенности и даже отчасти осужденности сказывается, напротив,
внутренняя связь поэта с Фр. Ницше.
Вл. Соловьев и Фр. Ницше — эти два спутника, зовущие в разные
стороны, два вождя, говорящие на разных наречиях, — долго будут
самыми близкими, самыми дорогими учителями А. Белого, как бы двумя
перекладинами его креста.
Христианская, эсхатологическая мистика и экстатическая религия
Диониса, ставшая магией Заратустры, вот два одинаково
притягивающие его полюса, две великие вехи пути»77.
Здесь все правильно, однако следует сделать одно существенное
уточнение: «разрыв между христианством и ницшеанством»78, по
позднейшему признанию самого А. Белого, в разные периоды
творческой эволюции приводил к доминированию в его эстетическом
сознании какого-либо одного полюса философской мысли. Так, в первый
период в концепции А. Белого, как уже говорилось, доминировали идеи
Вл. Соловьева, во второй — Фр. Ницше.
104
3. «Голгофа индивидуализма»
В статье 1904 г. «Маска», рассуждая о том, что «искусство
перестает удовлетворять», Белый писал: «Вместо бездонных образов душа
просит бездонной жизни». Если же «художники, поэты, музыканты»
не способны утолить эту сокровенную жажду души, то не остается
ничего другого, как искать «иного руководителя, молчаливо
прошедшего над безднами, окончившего путь отдыхом на том берегу».
Это было сказано о Фр. Ницше; именно «сквозь трагический лик его»
А. Белый усмотрел «новый лик, обретенный навеки — лик ребенка...»79.
Шли годы, уточнялась «жизнетворческая» концепция, и он все больше
воспринимал Ницше в качестве учителя жизни. Отталкиваясь от
Достоевского, звал «вперед к Ницше»80, воспринимая творчества Ибсена как
своего рода промежуточный этап на этом пути. Свое понимание роли
и значения Ницше для судеб символизма, а следовательно, и всей
человеческой культуры, А. Белый дал в статье «Фридрих Ницше» (1907).
«В сторону Мечты, которая оказывается Вечностью, показывает
стрелка компаса Ницше», — говорит он, и это устремление, этот жест в
«иную жизнь» считает существенным моментом учения философа. Да и
могло ли быть иначе, если разомкнутость в Вечность, мечта о «дальнем»,
выраженная в метафорическом образе «башни в небо», — существенная
характеристика эстетической концепции самого теоретика символизма.
Ибсеновский Сольнес, взойдя на башню, возведенную «горным
инженером» Ибсеном, не знал, что сказать Богу, не знал «слова». В этом, по
А. Белому, ограниченность героев норвежского драматурга,
призванных, с его точки зрения, осуществлять своеобразный тренинг горного
восхождения.
Не то — Фр. Ницше. Его «пароль» — «смерть или
воскресение»81; или человек, заключенный в скорлупу земного существования,
погибнет, или, преодолев сопротивление застывших, окостенелых форм,
расплавив их, воскреснет к новой жизни, станет новым человеком. Но
как это сделать? Где путь и где «слово»? Вот тут-то, считает автор
статьи, и необходима «Голгофа индивидуализма»82, через которую прошел
Фр. Ницше. Чтобы превратить «бренную душу» человечества «в
колыбель будущего», Ницше «намышляет... новое средство: библейское
хождение перед Богом превращает в хождение перед собой»83. Что это дает?
Вот что: человек, ломая условные общественные перегородки, создан-
105
ные посредством отчуждения от него родовой сущности и
выражающиеся в виде закона, морали и прочего, возвращается к самому себе,
обретает свое подлинное лицо. Иными словами, в «я» внешнем он как
бы прозревает «я» внутреннее. Происходит некий «взрыв в хорошо
известном сосуде, именуемом душой». Все старые ценности
расплавлены, все стало текучим, душа, в отчужденном состоянии оборвавшая
все связи с жизненным ритмом, первоосновой бытия, вновь обрела их.
Правда, «душа» Ницше не выдержала этого взрыва, «осколки сосуда
изранили» его «тело». «...Изранят и нас, — уверен А. Белый, — если мы
к нему подойдем»84. Мысль эта как бы завершается словами из другой
его статьи: «Что из того? Первые ряды борцов всегда гибнут. Человек,
становясь богоподобным, опрокинет и жизнь, и образы богов, и
подобия этих образов — мраморные истуканы Аполлона и Диониса. Люди
станут собственными своими художественными формами»85.
Но когда это произойдет? И произойдет ли? «Подойдут» ли люди к
Фр. Ницше, чтобы научиться у него «творчеству жизни»? Пока, во всяком
случае, признается Белый, «мы не с ним»86. Ведь даже Ницше, прежде
чем подойти к идее жизненного строительства, прошел долгий путь
исканий. Все его творчество критик разделяет на три периода, главнейшими
из которых считает время создания высокоценимой символистами книги
«Рождение трагедии» и последний этап, увенчавшийся «Заратустрой».
Ницше «Рождения трагедии», по его характеристике, — «декадент»
и вот почему. «Возвращая личность к ее музыкальному корню» и тем
самым надеясь на ее возрождение, Ницше связал эту надежду с
музыкой Вагнера, только искусством, только «формой» (ту же ошибку
совершил и Белый в «Формах искусства», поддавшись очарованию
«Рождения трагедии», и теперь казнит себя за это!), и вместо «героя»,
которого жаждала его душа, возрождал «актера, не жизнь, а сцену».
«Спохватившись», Ницше вырывает из своего сознания Вагнера,
«отсекает... себя от себя самого... и создает Заратустру». Но, совершив тем
самым подвиг, он, по мнению А. Белого, «остается непонятым» в своих
конечных выводах и целях. Из Ницше — «декадента, вагнерианца и
тайного пессимиста» — «вырождающаяся буржуазия всех стран
создала себе божка»87.
Борьба Белого за Ницше, автора «Заратустры», означала борьбу с
теми теоретиками драмы (в первую очередь с Вяч. Ивановым),
которые, используя опыт «Рождения трагедии», не сделали, как считал он,
106
последних выводов из этого рода искусства и вместо непосредственного
выхода в жизнь загнали ее на сцену, занимаясь тем самым декадентским
«кокетничаньем с пустотой». Ницше, в его представлении, повернув
вначале на ту же самую дорогу, пошел в дальнейшем по прямо
противоположному пути подлинного жизненного строительства.
Углубление в свое истинное «я» позволило ему якобы «предощутить... в себе»
«существо нового человека», а это, в свою очередь, вселяло и в него, и
в его последователей надежду на появление в будущем целой «расы»
новых людей. Среди современников, по А. Белому, «Ницше первый
заговорил о возвратном приближении Вечности»; по его аттестации,
он как бы был «обручен» «с Вечностью: только от нее хотел он детей:
и потому он хотел — вечных детей; и потому-то боролся с гробовым
складом обломков, заваливших нашу душу, — боролся со всем
складом современности»88.
По сути дела, в этих словах развивается все та же концепция
«двупланности человеческого существования», о которой писал Л.К. Долго-
полов. Скажем только, что, как и прежде, А. Белый был не очень
склонен считаться с действительностью низшего порядка, и именно
поэтому ему пришелся по душе нигилистический волюнтаризм Фр. Ницше
по отношению ко всем человеческим ценностям. Что же касается
подлинного содержания ницшеанства, оно для Белого несущественно, и
он всегда самым парадоксальным образом уходит от выяснения этого
вопроса, отделываясь от разговора по существу более или менее
удачными софизмами. Вот почему у него «возникает вопрос о том, чем было
для Ницше его учение: провозглашением истины или средством
оттолкнуться от ветхого образа современности?»89.
А. Белый, скорее, склонен утверждать второе; для его собственной
концепции, ставящей цель пересоздать жизнь, такой подход более
приемлем. «Все для него — мост и стремление к дальнему», — говорит он
о Ницше. Но, для того чтобы знать, «куда идешь, нужно развить в себе
свое будущее», нужно дать «новое имя». Ницше и дает его, но,
считает теоретик символизма, «совершенно формально: "сверхчеловек"»,
позаимствовав этот термин у Гете. Если сверхчеловек — «личность», то
не в прямом, а «символическом смысле». «Скорее, — пишет Белый, —
имеем мы дело с грезящимся лозунгом, несознанной и, однако,
предощущаемой нормой развития...»90. Тут важна «цель устремлений»,
превращаемая волей «в творческий инстинкт». «Цель устремлений» — это
107
тот предел, к которому устремляется личность, ведомая инстинктом
самосохранения; «этим пределом является новая разновидность
человеческого рода; сверхчеловек — художественный образ этой
разновидности: он продиктован творческой волей»91.
По А. Белому, получается, что ницшевская творческая «греза» —
сверхчеловек — гораздо более реальна, чем «реальные условия среды», и
это уже характеризует символический метод самого теоретика, с
похвалой говорящего о Ницше как о «философе алогизма», который, по его
словам, «творческой воле», «инстинкту подчинил логическое
мышление...». Для Белого, утверждающего примат творчества над познанием,
Ницше в этом смысле — находка. Не «теоретика» видит он в нем, а
«практика» — и это высшая похвала в его устах. Осознав
сверхчеловека как символ человека будущего, Ницше, развивает автор статьи
свою мысль, начал заботиться о путях «осуществления этой грезы».
Тут собственно художественный аспект его философствования
сменяется «моральным моментом»: Ницше учит, как воплощать
сотворенные ценности в жизнь для пересоздания «косной» среды. «Реальная
телеология» Ницше, заключает А. Белый, «состоит из ряда
практических... советов, напоминающих по форме изречения Лао-Дзы, Будды,
Христа, Магомета; советы эти обращены к внутреннему опыту
учеников; внешний же опыт — биология, наука, философия — все это для
Ницше средства подачи сигналов»92.
Здесь и открывается нам подлинный смысл отношения А. Белого
к творцу «Заратустры». Русский символист разграничивает то, что
невозможно разграничить: «стратегию» Ницше отделяет от его
«тактики». Проповедь свободы личности в ее устремлении к дальнему, в
смысле реализации скрытых, внутренних потенций человека — это у
немецкого философа, по воззрениям А. Белого, главное, и потому еще
неизвестно, полагает он, «индивидуалист или универсалист Ницше...».
Этой проповеди противостоит «боевая платформа Ницше (тактический
индивидуализм)», как раз то, что большинством людей принимается за
суть его учения. Глубоким, но в то же время искренним заблуждением
русского интеллигента, чающего синтеза, являются следующие слова:
«...учение его о "морали", о "добре и зле" и о "вечном возвращении" —
это легкий покров, наброшенный на страшную тайну: если освободить
этот покров учения от противоречий и тактических приемов
изложения, за которые не стоит сам Ницше (?!), от "учения", пожалуй, ничего
108
не останется. "Учение Фридриха Ницше" превратится в
андерсеновское царское платье; его вовсе не будет»93.
Белый пытается ассимилировать философию Ницше, приспособить
ее для нужд своей концепции «творчества жизни», в которой ведущая
роль отводилась героической личности, выходящей на борьбу с
окостеневшими формами жизни, «косной средой», по его выражению. Вот
почему он видит свою задачу в том, чтобы «остановить внимание на
личности Ницше»94, именно она, по его словам, а вовсе не «творения»
философа, главное в нем. Ницше, уверяет Белый, настолько «практик»,
что ему не было дела до того, «в свете какой терминологии его
воспримут». Для достижения своих целей он осуществлял синтез
различных средств, соединяя науку, метафизику, поэзию. Но «он —
символист, проповедник новой жизни, а не ученый, не философ, не поэт», и
в этом своем качестве ближе всего стоит к «творцам новых религий»,
ибо цель и у него, и у них одна: пересоздание мира95. А так как, по
А. Белому, «суть религиозных учений» «не в догматах», а именно в
этом жизнетворческом порыве, то вполне объяснимым становится и
его восприятие ницшевского сверхчеловека, который есть «принцип,
слово, логос или норма развития, разрисованная всеми яркими
атрибутами личности», иначе говоря, «икона Ницше».
Ибсеновские герои, как и сам драматург, считал А. Белый, «слова» не
знали, и поэтому их устремления к высшей реальности были неизбежно
ограниченными. Ницше же знает «слово» и дает его людям. Осталось
воплотить его в жизнь, как когда-то Логос, Слово Божие, воплотилось
в Христе. Это постоянное, достаточно отчетливо проявившееся уже в
«Символизме как миропонимании» и, не побоимся резкого выражения,
безответственное уподобление Христа ницшевскому сверхчеловеку, в
основе которого лежал неизжитый декадентский релятивизм,
базируется у А. Белого на том рискованном предположении, что и Христос, и
Ницше исходят из присущей только им крепкой веры в «мощь и
величие человека»96 и, хотя идут противоположными путями, приходят к
одной цели: синтезу земли и неба.
Но если в старой своей статье А. Белый считал необходимым сказать
о «промахах Ницше», выразившихся, по его мнению, в том, что тот не
«назвал» «сокровенного имени», то теперь, на фоне Ницше, само
христианство, ранее воспринимавшееся им как «существенный, а не
формальный синтез», становится для него, если воспользоваться термином
109
Вл. Соловьева, чуть ли не «отвлеченным началом». «После Ницше, —
пишет А. Белый, — мы уже больше не можем говорить ни о
христианстве, ни о язычестве, ни о безрелигиозной культуре: все объемлет в себе
религия творчества жизни... даже ветхих богов. Ницше понял, что человек
уже перестает быть человеком, и даже образ бога к нему неприменим...»97.
Нет, А. Белый не стал ницшеанцем — о его своеобразном
понимании Ницше мы уже говорили — и образ Христа не потерял для него
своего величия и смысла, не случайно же он высказывает
предположение, что в «кресте» Ницше «возродится другой крест, собиравший
вокруг себя народы и теперь... поруганный»98. В этих словах будто бы
есть указание на более существенный синтез, имеющий совершиться
в будущем, на пути к которому синтез Ницше предстает как
необходимый этап. Но то мечта, прекрасная и пока не осуществимая, и, хотя
стрелка компаса Ницше тоже «показывает в сторону Мечты», можно
рассчитывать на ее реализацию. На это надеется Белый, многое
порастерявший из своих былых максималистских порывов и теперь
делающий ставку на «религию жизни» Фр. Ницше. Думается, не случайно,
что в одном и том же 1907 г. он пишет и обширную теоретическую
статью «Фридрих Ницше», в которой разрабатывает
животрепещущие для него проблемы жизнетворчества, и воспоминания о
Вл. Соловьеве. Не случайно также, что в упомянутой статье о
немецком философе он не удержался от упрека в адрес своего былого
учителя, что тот «не узнал» в Ницше «тайновидца жизни»99.
И все же «западничество» А. Белого, на новом этапе его развития с
особой силой проявившееся в цикле статей «Ибсен и Достоевский»,
«Генрик Ибсен», «Театр и современная драма», «Фридрих Ницше» и
некоторых других, было, выражаясь любимым его словцом, некоей маской,
сорвав которую, мы сумеем различить за ней лицо русского литератора.
И хотя со времени «Символизма как миропонимания» «Запад» занял в
его построениях более прочное, чем в юношеские годы, место, все же
следует признать, что прежняя его мысль о мессианистском
предназначении русской культуры, которая в соответствии с этой доктриной только
и способна осуществить грядущий религиозный синтез, осталась в его
сознании непоколебимой. Если в первый период его творческого пути
она прозвучала в заключительной части упомянутой статьи, и особенно
энергично в «Луге зеленом» (1905) и «Апокалипсисе в русской
литературе», то во второй период идея эта стала предметом специального ана-
110
лиза в статье «Настоящее и будущее русской литературы» (1907). Правда,
следует подчеркнуть, что характерный для А. Белого пересмотр
максималистских увлечений юности коснулся и новой работы.
В самом ее начале звучит важный для символиста А. Белого и не
раз ставившийся им вопрос: что такое литература — «только форма
искусства» или «еще нечто»? Если исходить из «последних целей»
познания и творчества, отвечает он, то следует признать, что они
«коренятся не в литературе вовсе». Но если «определять» «литературу ее
происхождением», всмотреться, так сказать, в ее генезис, то
получается, что литература — замкнутая в себе форма. Таким образом, в
настоящем состоянии прошлое и будущее литературы («прошлое... —
песня; будущее — религия») как бы дробятся. Одна из
заинтересованных сторон говорит: «в литературе прежде всего напевность, стиль,
музыка формы», другая утверждает обратное: «прежде всего» в ней
«смысл, цель, идея»100. Отсюда вечная борьба литератора — «стилиста»
и «проповедника». Разумеется, Белый отдает предпочтение проповеди,
утверждая, что «лозунг: "искусство для искусства" — лозунг нелепый
в литературе»101, но все же статья его есть борьба с обеими крайностями
в понимании целей словесного творчества; воспринимая их как своего
рода «отвлеченные начала», он стремится к синтезу обеих точек зрения.
Синтез, как известно, не отрицает относительной ценности тезы и
антитезы. И в индивидуалистическом искусстве, девизом которого, по Белому,
является пушкинское: «Ты царь — живи один», и в искусстве соборном,
выражением сути которого служат некрасовские строки: «От ликующих,
праздно болтающих, обагряющих руки в крови уведи меня в стан
погибающих за великое дело любви», есть своя правда. «В первом случае, —
пишет теоретик, — имени Бога живого не произносит художник: оно в нем;
оно — не в слове его, а в эманации слов, в ритме, в стиле, в музыке. <...>
Во втором случае связь между художником и окружающими в чем-то,
что ни художник, ни окружающее — в слове, в символе, в идейном
завете». У художников, «призывающих к соборности», «идея,
тенденция, лозунг являются... присягой чему-то третьему, вне их лежащему»102.
Иными словами, «художник-индивидуалист» приводит слово к
роднику с живой водой, пронизывает словесную ткань ритмом жизни, «духом
музыки». Мертвое слово становится благодаря этой операции
способным творить ценности. Но для кого, во имя чего? Символа веры у таких
художников нет, они не нуждаются в нем, это творчество в никуда,
111
в пустоту, творчество ради творчества. В исторической перспективе
подобное искусство вырождается в технику, стилистику, академический
канон; литератор становится ремесленником, забывшим про музыку
жизненных ритмов и способным только к имитации ритмов чужих.
Но и художника-проповедника подстерегают не меньшие опасности.
Устремление вовне приводит его к обслуживанию не живых, а
мертвых ценностей. Проповедь постепенно вырождается в мистику, которая
призвана обслуживать сложные чувства личности, становится
служанкой или теории прогресса с его утилитарными целями, или морали с ее
резонерствующим доктринерством. Каков же вывод? «В том, другом и
третьем случае, — пишет А. Белый, — религиозная по существу идея
проповеди подменилась тенденцией». И еще: «Ценное, но дальнее
любой проповеди, подменили бесценным и близким. Стремление
к дальнему выродилось в стремление к бесконечному, т.е. невоплоти-
мому, недостижимому, пустому...»103.
Такие процессы, по мнению Белого, происходили в искусстве Запада,
и привели они к тому, что первоначальная религиозная цельность
искусства распалась на этику и эстетику, которые в основе своей являются
двумя ликами одной цельности. Рассуждение в этом духе, естественно,
указывает на необходимость пресечения дальнейшей
дифференциации искусства и восстановления утраченного единства. Мысль Белого
устремляется в поисках синтезирующего начала. Впрочем, слово
«поиски» в данном случае ничего не объясняет: демонстрируемый
теоретиком волевой подход к истории искусства, взятой в ее теоретических
аспектах, без обращения к многоцветной картине ее реального
существования, не только порождает заранее видимые посылки, но и
предвосхищает выводы. В этом случае всегда важен угол зрения, под
которым рассматривается живой материал. Естественно, что для
символиста подобным углом зрения становится символизм, и коль скоро речь
идет о Западе — символизм западноевропейский.
Увидев, что исполнение завета быть устроительницей жизни
фактически завело литературу в тупик, развивает свою точку зрения автор
статьи, заставило ее служить не реальным, а формальным целям,
некоторые деятели литературы вернулись к ее пониманию в свете
происхождения. Что это дало? Отчужденное, выветрившееся, мертвое слово
было возвращено к своим корням и, позабыв про исполнение
социальных задач, оно окунулось в живительные струи жизненных ритмов.
112
«По-новому, — говорит А. Белый, — открылся Западу религиозный
смысл литературного индивидуализма.
Тогда поняли, что образы литературы всегда символичны, т.е.
они — соединение формы, приема с поющим переживанием души,
соединение слова с плотью»104.
Насколько можно судить, заслугу западного «индивидуалистического
символизма» Белый видит в том, что этому движению якобы удалось
преодолеть растущее отчуждение литературы от собственных своих
корней. Тем самым был положен предел распаду «религиозной»
цельности литературы на этику и эстетику. Но религия подобного
искусства — «религия без имени Бога, без определенного жизненного пути».
Вот почему, по А. Белому, «безымянно, отдаленно, безответственно запел
западноевропейский символизм»105.
Соединение формы с содержанием, полагает теоретик, безусловно,
большое завоевание, так же как и лозунг «искусство для искусства»,
выдвинутый западными символистами, был в какое-то время
«целесообразен, отрицая слишком близкие, не ценные цели литературы». Но,
рассматривая литературу как некую имманентную систему,
«западноевропейский символизм скрытую потенцию творчества разлагает на форму.
Религия — углубленный культ формы». С таким замыканием литературы
на самой себе, этаким лабораторным экспериментаторством, русский
символист, чающий «творчества жизни», не мог согласиться никогда.
Для него «форма есть только продукт религиозного творчества», и
поэтому, записывая завоевание западных предшественников,
выразившееся в виде идеи: «форма неотделима от содержания», в свой актив, он
рассчитывал кардинально переосмыслить эту формулу. Предлагались
и пути такого переосмысливания: «От литературы к религии
восходит западноевропейский символизм; и наоборот: от проповеди религии
жизни к освящению и осознанию этой проповеди в литературе, в
приемах, в форме восходит к символизму новейшая русская литература»106.
«Запад по-новому сталкивается в ней с Востоком», — резюмирует
А. Белый. Почему именно «по-новому»? Русская литература,
утверждает он, моложе западной, поэтому русские писатели издавна
осваивали опыт Запада. Индивидуалистическая культура в лице Байрона,
например, привлекала Пушкина и Лермонтова. Но глубоко
иррациональная (а в иррациональном — религиозная душа русского народа,
частью которой всегда являлись русские писатели), она побеждала в
113
них западноевропейский индивидуализм и рационализм. Так, Пушкин и
Лермонтов стали родоначальниками всей русской литературы, в Гоголе
же, Некрасове, Достоевском и Толстом получили завершение
глубинные искания народа. Преемники великих реалистов догматизировали
их идейные заветы, и когда-то живая тенденция постепенно
превратилась в мертвую схему; для схемы же всегда важнее не «что», а «как».
Интерпретировав историко-литературные факты подобным
образом, А. Белый нарисовал картину, похожую на западноевропейскую.
Положение там, по его словам, спас «индивидуалистический
символизм». То же самое, с его точки зрения, произошло и в России.
Вместе с лозунгом Верлена «De la musique avant toute chose» «Запад»
пришел на «Восток». Общественные идеалы русской литературы
сменились проповедью крайнего индивидуализма. Русская интеллигенция
заговорила об отступничестве декадентов, об измене национальным
традициям. Но произошло нечто парадоксальное, говорит А. Белый.
В то время как интеллигентский адогматизм вооружился творениями
Ибсена, Метерлинка, О. Уайльда, Гамсуна, Ницше, не замечая или
стараясь не замечать, что заслуга в их популяризации принадлежит
декадентам, «изменники» повернулись от «Запада» к «Востоку». По мысли
А. Белого, «не эпигоны оказались преемниками заветов лучшего
прошлого. Пришли чужие и добровольно взвалили на плечи
драгоценное наследство прошлого»107. Слова эти означают, что именно
декадентам принадлежит честь второго открытия русской классики,
религиозной актуализации ее наследия.
Почему это стало возможным? Как это объясняет сам А. Белый?
Ему принадлежит следующая идея: «...великий индивидуалист Ницше
для целой группы русских символистов явился в свое время переходом
к христианству. Без Ницше не возникла бы у нас проповедь
неохристианства. Индивидуальное Запада легче усваивается стихией нашего
народа, потому что религия жизни — на Западе с индивидуалистами,
как у нас она с народом». Вот оно — объяснение! Речь у А. Белого идет
все о той же «религии жизни» или, используя любимое его выражение,
«творчестве жизни». Конечно, народ здесь ни при чем, ссылка на его
поддержку — не более чем мечта интеллигента. Однако его надежду
приведенное высказывание характеризует сполна. И надежду давнюю.
В этой связи вспоминаются старые размышления Белого о том, что
«человеческий дух» находится в современную эпоху «на перевале», за
114
которым проявится «усиленное тяготение к вопросам религиозным».
Ницше в данной ситуации — верхняя точка горного кряжа, которой
достигло западное человечество. Проблема Ницше была поставлена
А. Белым в рассмотренной нами специальной статье, здесь же он
повторяет отдельные ее существенные положения, в частности следующие:
вызволив личность из состояния отчуждения через приобщение ее к
«ритму жизни», «духу музыки», Ницше создал «религию личности».
Но «только эта форма религии на Западе оказалась живой формой».
А потому, подытоживает А. Белый, «Западу некуда идти после Ницше».
«Западная идея», так сказать, исчерпала себя полностью, уступив
эстафету «русской идее». Пройдя через «Голгофу индивидуализма», что
означало пробуждение в «я» отчужденном, стертом, клишированном
«я» подлинного, «дальнего "Я"», иначе, восстановив идею личности в
полном ее объеме, русские индивидуалисты побороли в себе западное
искушение объявить себя богами и пришли к мысли, что «это дальнее
"Я" и есть народный "Он", "Бог", Который в сердце народном
открывается, в "Я" открывается»108*.
* В своем стремлении к религиозному синтезу Белый явно спрямляет
факты, упрощает подлинную картину литературного процесса. А то и делает
прямые уступки декадентскому релятивизму. Приведем любопытное
свидетельство его современницы, иначе оценивающей данную ситуацию: «Гиппиус
дала для... книжки (журнала «Северный вестник». — B.C.)... свое в
некотором роде знаменитое «Посвящение». Помню, как, читая это стихотворение...
я пленилась его первыми строками, его основным мотивом и как сорвалась
моя душа от слов:
"Люблю я себя, как Бога..."
Это было не только чуждо, но оскорбительно всему моему духовному
существу. Это было не только пресловутое, уже провозглашаемое по всей линии
молодой литературы "дерзновение", но и первое вполне откровенное исповедание того
особого декадентствующего "индивидуализма", вводящего в принцип
безграничные притязания человеческого "я", который, питаясь односторонне
воспринятым влиянием Ницше и мотивами итальянского Ренессанса, в последующие
годы все более давал себя чувствовать в литературе и обществе, — то в форме
особого интереса и влечения к "демонизму", то в виде "культа Диониса",
понимаемого как эмансипация всякого рода страстей и темных, иногда извращенных
инстинктов, как поэтизирование "зла" и "порочности". В стихотворении
Гиппиус прозвучал, конечно, только один мотив из этой будущей оргийной,
полной диссонансов симфонии...» (Гуревич Л.Я. История «Северного вестника» //
Русская литература XX века. 1890—1910. М., 1914. Т. 1. С. 252).
115
Используя слова Белого, сказанные им в другом контексте, можно
охарактеризовать нарисованную им ситуацию (гораздо раньше его, кстати,
ту же мысль высказывал Мережковский) следующим образом:
«религия зажглась» во вчерашних индивидуалистах. По его схеме
получалось: прежде писатели шли с «Востока» на «Запад» в поисках
личности, теперь началось обратное движение: с «Запада» на «Восток», к
народу, и только это движение, по убеждению А. Белого, способно
осуществить желанный синтез. «Запад» с «Востоком» снова встретились,
но действительно уже «по-новому».
«В свете индивидуалистического символизма, — пишет он, —
открылся религиозный смысл русской литературы. Теперь стало нам
ясно, что любая тенденция русской литературы вытекала из глубоко
иррациональных корней народного творчества; и догматы этой
литературы оказались эмблемами религиозных символов. Близкие цели,
народ, борьба за его независимость, оставаясь реальными целями,
явились нам еще и прообразами ценностей дальних. Русская литература
в близком видела дальнее, в страдании народа... она видела
страдание Божества, в борьбе с темными силами увидела апокалиптическую
борьбу с драконом времени. Теперь, когда критический догматизм
разрушил недавние утопии всеобщего счастья, ниспроверг моральные
ценности прошлого, религию разума и прогресса, — прежние пути теперь
обрываются перед нами: линия пути круто поднимается вверх. Наш
путь — в соединении земли с небом, жизни с религией, долга с
творчеством; в свете этого нового соединения по-новому личность
подходит к обществу, интеллигенция — к народу»109.
Нельзя не увидеть в этих словах отражения все той же мечты Белого
о построении «башни к небу» как единственно возможной формы
синтеза, и по-прежнему актуальна для него формула: «Религиозный
принцип венчает принцип социальный». Но утраты и
разочарования прошлых лет, когда хотя бы на время предлагалось отказаться
от осуществления самой идеи синтеза во имя своеобразной
«инженерии» восхождения в ибсеновском духе, не прошли для него даром:
он все больше уточняет стратегию и тактику «золотого земного, в
земном небесного пути»110. Ее он усматривает в русской литературе,
и на передний план выдвигается теперь преданная в свое время
анафеме фигура Достоевского, а Ибсен и даже Фр. Ницше, сыграв для
него своего рода роль катализаторов при выработке методов жизнен-
116
ного строительства, постепенно уходят в тень. Надолго ли, покажет
будущее.
В русской литературе и общественной жизни XIX в. А. Белый
условно выделяет два направления, две тенденции. Одна из них,
считает он, имела своим выразителем Достоевского, вторая
представлена именами русской интеллигенции, участвующей в
освободительном движении. Достоевский страстно «хотел дела, и не давалось ему
дело», зато он отчетливо видел «религиозное будущее» России.
Видение это настолько «ослепило» его, что, по мнению Белого, он не увидел
правды в поисках интеллигенции, которая, хотя и не имела еще
«подлинной религиозной реальности», но зато уже делала «дело»: пролагала
«к ней пути»111.
Здесь в памяти читателя А. Белого всплывает основная коллизия
статьи «Ибсен и Достоевский». Там Достоевский тоже представал как
человек, знающий цели, но не видящий пути к их осуществлению. Ибсен
же, наоборот, знал пути, но не очень разбирался в конечных целях
восхождения. Только что переживший кризис эсхатологических надежд,
связанных с именами русских учителей, Белый осыпал проклятиями
самого яркого выразителя «русской души» Достоевского — «привел в
болото»112. «Строитель» Ибсен тогда и привлек внимание начинавшего
отчаиваться русского апокалиптика. В его сознании возникла дилемма:
либо медленно строить «башню к небу», либо, надеясь на ее чудесное
возникновение из небытия, всю жизнь просидеть в этом самом болоте
фантастических грез. Вывод напрашивался сам собой, и А. Белый пошел
с Ибсеном, втайне надеясь на встречу с Достоевским. И вот теперь эта
встреча состоялась.
Молодежь, говорит он, характеризуя ситуацию, «приняла
Достоевского», несмотря на его «слепоту», и если это свершилось, «то примет
и то, о чем кричал Достоевский (ведь он — "не во имя свое"), пойдет»
к его ослепительному религиозному идеалу113.
Но это в будущем. А во времена Достоевского между ним и
русской интеллигенцией шла ожесточенная борьба. Последняя не могла
принять «правды» Достоевского о «небе», о «граде новом» по той
простой причине, что, занятая земными заботами о хлебе насущном для
народа, она просто-напросто не видела в ней перспективы. Более того,
не различая дальних целей Достоевского, она замечала только
«ближнее» его проповеди — православие — и потому окрестила идеи вели-
117
кого писателя как «мракобесие». В свою очередь Достоевский не
признал за революционной интеллигенцией права на собственную правду,
наградив ее благородные порывы уничижающей кличкой: «беснование».
Схематизируя реальный исторический процесс, А. Белый выстраивает
на материале русской философской мысли важную для него
антиномию «земля — небо», показывая, что силы, стоящие в России за этими
полюсами, практически не понимали друг друга, а потому и не могли
осуществить столь чаемый обеими сторонами синтез.
Между тем, продолжает он, современное религиозное сознание
обнаружило, что «сокровенное, тайное этих форм» одно: и Достоевский
всегда мечтал «о хлебе народном», если воспринимать последний как
символ высших, т.е. религиозных, ценностей. И именно так и
воспринимала «хлеб земной» русская интеллигенция, жертвовавшая собой
«не во имя свое» и тем самым сумевшая в настоящее внести
религиозный огонь будущего, которое открывалось Достоевскому и
которое он никак не мог соотнести со своей современностью. Именно в этой
связи Достоевского с русским революционно-освободительным
движением А. Белый нашел ответ на свой вопрос: «...может ли спуститься
на землю видение "града"; может ли облачное видение стать хлебом
насущным?»114.
«Так сомкнулись две линии в одну: русская литература с русской
жизнью, слово с плотью», — подводит А. Белый итог сказанному выше
и продолжает: «Но тут же мы поняли, что пересечение обеих линий
впереди, в будущем: мы поняли только то, что пересечение возможно:
продолжая общественность за горизонт догматизма, мы видим, что
оправдание ее — в религии; продолжая историческую религию за горизонт
прошлого, мы видим, что оправдание ее — не в истории вовсе. В свете
искомого соединения религиозные догматы претворяются в символы
жизненных ценностей, а догматы русской интеллигенции
претворяются в живые символы религии.
Русской литературе открывается новая жизнь; русской жизни
дается новое слово, творческое, действующее слово. Старая жизнь
перестает быть жизнью; русская литература — не вовсе литература»115.
Так как же быть: «вовсе» или «не вовсе» литература — «форма
искусства», а если вспомнить начало статьи, «только или не только»? Не
случайно А. Белый говорит «открывается», а не открылось, «дается», а не
дано, «перестает», а не перестало. Хорошо уже то, утверждает он, что в
118
настоящем мы имеем перспективу будущего, на большее сегодня
претендовать невозможно. Таков вывод вчерашнего максималиста.
Двигаться в указанном направлении, по его мнению, могут лишь
символисты, хотя и в их рядах, к сожалению автора статьи, нет
единства. Часть символистов, еще не пройдя через «Голгофу
индивидуализма», т.е. не поднявшись к ницшевским вершинам, уже
повернулась к народу, и поэтому народ для них не подлинная реальность, а
всего лишь «эстетическая кате гор и я »П6. Это, по выражению
А. Белого, «не до конца западничество, не до конца народничество»
породило мистических анархистов с их «рекламной соборностью»117,
столь ненавистной для него.
Отвергнув «мистический анархизм», Белый видит «две правды»
русского символизма в Мережковском и Брюсове. Они для него как
бы две полярные точки, соединение которых, на его взгляд, дало бы
будущность новому искусству. Оба они прошли через «Запад», но если
Мережковский, «согласившись с "Антихристом" Ницше», все больше
становился проповедником «правды народной», правды «Востока», то
Брюсов остался верен «Западу»: формула «индивидуализм углубляет
личность» сделала его сторонником «правды личности»118.
Цели Мережковского, по воззрениям А. Белого, «за пределами
литературы», но «литература все еще форма» и, облекая свою проповедь в
литературную форму, он неизбежно осужден на «мертвую проповедь».
Время «дела» («творчества жизни») еще не пришло, говорит А. Белый
и призывает Мережковского вернуться в литературу. Брюсов же,
наоборот, «изваял лозунг формы в русской литературе», и в этом его
великая заслуга перед ней, но он не идет дальше литературы, и Белый
предлагает ему, «представителю живой линии русской литературы»,
стать ее «знаменем»119.
Какой же вывод следует из всего сказанного? Автор статьи
«Настоящее и будущее русской литературы», весь устремленный в будущее, но
«читающий это будущее в прообразах прошлого», пишет:
«Мережковский — слишком ранний предтеча "дела", Брюсов — слишком
поздний предтеча "слова".
Слово и дело не соединены...» Прервем цитату. А. Белый —
максималист, сторонник немедленного синтеза — утверждал, что слово
соединено с плотью, еще мгновение — и слово воплотится. Теперь же
в прерванной фразе следует пауза, как затаенный вздох, после кото-
119
рого он продолжает свою мысль: «...но и не может быть ныне слово
соединено с делом.
Мы, писатели, как теоретики, имеем представление о будущем, но,
как художники, говоря о будущем, мы только люди, только ищущие;
не проповедующие, а исповедующие»120.
Глубоко симптоматично это «только»: когда-то, верит теоретик,
литература, вообще искусство прольется в жизнь, окажется методом
«творчества жизни», «творчество мертвых форм станет творчеством
форм живых», но «ныне», увы, она всего лишь «форма искусства», и
художники отнюдь не теурги (буквальный смысл слова «теургия» —
«богодейство», «чудо-действо»), а «только люди, только ищущие...»121.
Круг поисков замкнулся, в 1907 г. А. Белый просил деятелей
символистского движения не допускать тех ошибок, которые сам он
допускал в 1902 г. («Формы искусства») и в последующие годы: не
путать искусство с жизнью. Обращаясь к тем, кто «до срока»
«стремится выйти из сферы искусства, облекая свои образы в новые формы
жизни»122, он как бы полемизировал со своим прошлым, хотя и не
признавался в этом: «В условиях настоящего для человечества возможно
лишь внутреннее, логически не определимое касание тайны
художественного творчества; анализ творческих образов дает лишь ряд
форм.
Быть может, изменение природы человечества освободит
существующие искусства из-под власти формы, но то будут совершенно
невообразимые искусства.
Пока же музыка остается музыкой, а скульптура — скульптурой,
возможно лишь молчаливое касание религиозной сущности искусства»123.
4. «Гистология науки»
«Молчаливое касание» тайны «религиозной сущности» искусства
возможно было только в сфере теории, и А. Белый, осуждая уклон
петербургских символистов «в сторону отживших форм утопического
догматизма», призывает своих собратьев «облечь проповедь символизма
бронею несокрушимых методов», «навести» «инженерные мосты там,
где видели лишь радужные арки из символов и афоризмов».
Выведенный из состояния равновесия «всяческим дерзновением», он одер-
120
гивает доморощенных поборников эстетических фантазий
презрительным: «...не мешало бы чаще совершать паломничество в Мар-
бург»124.
Сам он упорно работает над теорией символизма, выпуская в
1910—1911 гг. одну за другой три большие книги: «Символизм», «Луг
зеленый», «Арабески», где старые работы соседствуют с новыми,
причем располагает их внутри сборников в таком порядке, что
оказывается крайне затруднительно говорить о какой-либо эволюции
взглядов автора. Впрочем, последнее и не входило в его задачи; наоборот,
перемешивая статьи, написанные в разные годы, он как бы указывал
на единство и неизменность своей точки зрения. Но при этом
достигался эффект, на который он вряд ли рассчитывал: создавалось
впечатление стремительного бега Белого-теоретика на месте. «Броня
несокрушимых методов», в которую он облекал свою концепцию, все
утолщалась, но гора рождала мышь.
Так, в главной и самой обширной работе книги «Символизм»
«Эмблематика смысла» (1909), перегруженной терминологией и
«академическими» выкладками, читаем: «...теория знания, этика, теология,
метафизика, теософия и теургия составляют промежуточные звенья,
приводящие нас к теории символизма». И дальше: «Единство есть Символ».
Определяя же символ как некую верхнюю точку восхождений
человеческого духа («ряда познаний в ряде творчеств»), А. Белый прибегает к
хорошо знакомой читателю его ранних статей формуле: «...творчество
ведет нас к богоявлению; мировой Логос принимает Лик человеческий;
вершина творчества указывается словами Апокалипсиса:
«Побеждающему дам сесть со Мной на престоле Моем, как и Я
победил и сел с Отцом на престоле Его». Иными словами, подобно
тому, как Слово Божье, Логос, воплотилось в Христе, так и люди,
следуя Христу, должны прийти к Богу. Отсюда конечная цель теургии:
«То, что утверждается Символом, есть единство Слова и Плоти <...>
Суждение "Слово есть Плоть" в сущности принимает следующую
форму "Да будет Слово — Плотью"»125.
Вот именно: «Да будет...» В действительности же слово художника
никак не хотело становиться плотью, творчество художественных форм
не переходило в мистерию жизни. И А. Белый вынужден был
сосредоточиваться на «негативном обосновании доктрины символизма» и
«откладывать» до лучших времен «положительное ее раскрытие»126.
121
Между тем в «Эмблематике смысла» было и нечто новое, может
быть, даже не столько новое, сколько развитие, актуализация старого,
заложенного уже в предшествующие годы, но так тогда и не
развернутого. Новая работа явно соотносилась в сознании Белого с
программной для первого периода его эстетической деятельности статьей
«Символизм как миропонимание». «Эмблематика смысла» по отношению к
ней представляла собой как бы очередной виток спирали. Старая статья
«О научном догматизме», в которой делается вывод о том, что наука не
способна дать универсальное восприятие мира, служила чем-то вроде
интродукции к «Символизму как миропониманию»; теперь же, в
контексте книги «Символизм», она предшествовала статье «Эмблематика
смысла»; в последней же было сказано: «...символизм, как
миросозерцание, возможен»127.
Раньше А. Белый не откладывал на потом «положительное...
раскрытие» «доктрины символизма», он ее развивал в «Символизме как
миропонимании», и хотя, как мы помним, призывал в ней учитывать
выводы теософии и учение исторической церкви, не об этом шла там
речь. До воплощения «слова», казалось тогда, было рукой подать, и
теургия попадала поэтому в зону повышенного внимания автора, о
ней он преимущественно и писал. И раньше предполагалось, что
теургия — заключительное звено в концепции символизма, но то, что ей
предшествовало, по указанным причинам сжималось до минимума.
В первом периоде речь шла о последнем, решительном жесте: «стоит
сорвать маску с лица Невидимой», полагал А. Белый, и пробьет час
освобождения; во втором акцент делался на то, что подготавливало теургию.
Конечно, подобная перемена акцентов возникала в сознании
теоретика постепенно, но ко времени «Эмблематики смысла» она получила
значение концептуальной идеи. Какие перспективы это открывало? При
оставшемся незыблемым постулате о примате творчества над познанием
в его эстетическом сознании возникала необходимость диалектичней
увязывать момент творчества и момент познания. Так, если, скажем, в
период «Театра и современной драмы» о познании у А. Белого вообще
не говорилось, то теперь для него «пирамида познаний» — «первая
ступень посвящения» в тайну Символа. И хотя «на вершине познаний
открывалось, что смысл и ценность нашей деятельности в творчестве
жизни», в свою очередь, творчество рассматривалось лишь как
«преддверие второго посвящения»; «на вершине теургического творчества»,
122
пишет А. Белый, «вторично умираем мы в творчестве, как некогда
умирали в познании: творчество оказывается столь же мертвым...» И все
это потому, что символ — некое единство, и, учитывая это
обстоятельство, подводит итоги своих эстетических штудий автор «Эмблематики
смысла», «теория символизма не может быть построена только из
естествознания, или только из психологии, или только из теории знания,
права, быта; далее, она не может быть выведена из мифотворчества,
эстетики, этики, религий; теория символизма не есть вместе с тем ни
метафизика, ни теургия, ни теософия»128.
На некую теоретическую универсальность («символизм как
миропонимание»!) символизм претендовал всегда, но здесь впервые об этом
заявлено четко, недвусмысленно и широковещательно. Символизм в
представлении А. Белого — высшая точка человеческой культуры и
вместе с тем перевал к чему-то, человечеством еще не изведанному. Говоря
от имени всего «нового искусства», Белый пишет в этой связи: «Мы
действительно осязаем что-то новое; но осязаем его в старом; в
подавляющем обилии старого — новизна так называемого символизма»129.
Наведение мостов между познанием и творчеством имело для
А. Белого далеко идущие стратегические цели, а именно: преодоление
обнаруженного им и не только им в начале века «кризиса сознания»,
проявляющегося в резком «дуализме» «между сознанием и чувством,
созерцанием и волей, личностью и обществом, наукой и религией,
нравственностью и красотой...»130. Пессимизм Шопенгауэра и
основывающегося на этом миросозерцании декаданса с присущим ему культом
безвольного созерцания, так же как и оптимизм позитивизма с его теорией
прогресса, в одинаковой мере ответственны, по Белому, за этот кризис,
в одинаковой мере нецельны и далеки от подлинного реализма. Такой
подлинностью, с его точки зрения, обладает лишь трагическое
мироощущение, истоки которого, разумеется, он усматривает у Фр. Ницше,
а в его Заратустре видит прообраз трагического героя.
Трагический герой есть выражение подлинного «я» человека, ибо,
как пишет А. Белый, «первоначально мы ощущаем в себе две
действительности (действительность внешнего опыта и действительность опыта
внутреннего); подчиняя себя внешнему опыту, мы теряем сознание
своего "я"; подчиняя себя опыту внутреннему, мы также растворяем
единство нашего сознания в море иллюзий; только в трении обоих
опытов, в борьбе наше "я" ощущается свободным "я"». Не о соединении,
123
а именно о «борьбе» и «трении» внешнего и внутреннего в человеке
говорит Белый. Созерцание, составляющее основу познания,
реализуясь вовне, неизбежно переходит в волю; на этих путях и
преодолевается, по его мнению, дуализм между созерцанием и волей. Примат
творчества над познанием, как бы уточняет А. Белый, вовсе не
означает отказа от созерцания («...у созерцания есть свои пути, своя
динамика...»), а приводит к признанию, что «созерцание не может быть
целью; оно — только средство по-иному взглянуть на мир, чтобы
иначе к нему вернуться»131.
Из этих рассуждений становится понятно, что обращение Белого к
уяснению диалектики творчества и познания в создаваемой им
концепции «жизнетворчества» было вызвано стремлением осветить вопрос
о «реализме» нового искусства. Вопрос этот бурно обсуждался в те
годы в символистских кругах. Речь, по существу, шла о жизненном
смысле символизма, но парадоксально, что в поисках ответа на
мучающие вопросы А. Белый снова обращается к излюбленным им
фигурам Ибсена и Ницше. В характеристике, которая давалась им на
страницах статьи «Кризис сознания и Генрик Ибсен» (1910), мы найдем
много известного по прежним его работам, но есть в ней и нечто новое.
Анализируя мысли и поступки героев Ибсена, А. Белый приходит
к выводу, что «с одной стороны, герои Ибсена — звери, с плотью, но
без слова; с другой стороны, они — ангелы: слова без плоти; ни там,
ни здесь нет еще человека...». Почему? Да потому, что сознание
писателя разъединено на «землю» и «небо»; синтез, открывающий дорогу
подлинному реализму, «третье царство, царство Духа, соединяющее
небо и землю, ангела и животного в Человеке»132, отсутствует в его
художественном мире.
Та же антиномия возникает в представлении А. Белого, когда он
соединяет имена Ибсена и Ницше. Ницше определяет цель, но не
предоставляет средств для ее реализации; Ибсен, наоборот, дает средства, но
не видит цели. Когда же оба они пытаются восполнить присущий им
недостаток, происходит нечто фантастическое. Фантастичны «земля»
Ницше и «небо» Ибсена. Лишь взятые вместе они добиваются
соединения двух планов действительности: эмпирической и высшей; взятые же
порознь, они «не до конца реалисты в глубоком значении этого слова...»133.
Пытаясь уточнить свою мысль, Белый приходит к следующему
сравнению: «Ницше без Ибсена — голова без туловища, Ибсен без
124
Ницше — туловище без головы: оба вместе — хотя и живой, но еще
безглазый организм, долженствующий стать зрячим...»134. Откуда же
ждать ему зрения? Неужто не соединятся полюсы души человеческой?
«Кто-то Третий должен соединить. Кто же Третий?» — таким
вопросом обрывает свою статью А. Белый, но это вопрос чисто
риторический. Еще в 1904 г. он упрекал Ницше в том, что тот не назвал
«сокровенного имени». В период сильного увлечения личностью немецкого
философа теоретик нового искусства как будто забывал о своих
претензиях к нему, но, конечно, мысль, что «христианство —
существенный, а не формальный синтез», всегда жила в его сознании. Много лет
прошло с той поры, много было сказано слов и написано книг, а в год,
когда в журнале «Аполлон» разразилась полемика по вопросу о
кризисе символизма, когда в литературных кругах беспрестанно
говорилось о конце так громко некогда заявившей о себе школы, А. Белый
повторял мысли своих ранних работ. И не только своих. Ведь в идее
о соединении в человеке «ангела и животного» отражается «учение»
Д. Мережковского «о двух безднах», так же как и рассуждения А. Белого
о «третьем царстве, царстве Духа», ведут к пророчеству автора «Христа
и Антихриста» о грядущем Третьем Завете, которое привело когда-то
в восторг юного студента-естественника Б.Н. Бугаева.
Вместе со старыми идеями возвращались и старые болезни. Нам уже
приходилось говорить о слишком «вольном» обращении А. Белого с
эмпирической реальностью. Еще раз напомним, он никогда не
отрицал ее существования, т.е. не забывал неустанно повторять:
«Действующие на нас образы могут быть только образами
действительности»; или: «Символ есть типичный образ действительности», но в
своем устремлении к высшей реальности («В символизме реальная
связь за пределами видимости»)135 склонен был считать
последнюю чем-то малозначащим, не имеющим большого самостоятельного
смысла. Являясь «символом иной действительности», она для него
только «средства, ведущие к цели...». Отсюда категорическое суждение:
«...должна погибнуть самая действительность, явленная нашему взору,
чтобы воскресла скрытая от нас подлинная действительность...» И уже
со сноской на своих любимых учителей А. Белый предлагает
«подложить динамит под самую историю во имя абсолютных ценностей, еще
не раскрытых сознанием...». Оказывается, этот «страшный вывод»
следует «из лирики Ницше и драм Ибсена», а потому «взорваться со своим
125
веком для стремления к подлинной действительности — единственное
средство не погибнуть»136.
Так понимал реализм «нового искусства» А. Белый. К
апокалипсическим пророчествам о конце мира, которыми столь богата его
эстетическая концепция, примешалась изрядная порция самого настоящего
нигилизма. Для теоретика символизма не прошло даром долгое и
упорное «хождение перед» Ницше. «Паломничество» же в «Марбург», как мы
только что убедились, не дало системе его взглядов желаемых
результатов: утопия, даже и закованная в броню наукообразной терминологии,
все равно оставалась утопией.
Вскоре же в жизни А. Белого, перефразируя его выражение, появится
«третий»: Рудольф Штейнер. В антропософском учении русского
символиста привлечет главная идея этой доктрины: преображение мира
начинается с преображения личности. По сути дела, это была
излюбленная идея самого А. Белого, а методика, которой пользовался доктор
Штейнер, вселяла уверенность, что с искусством как самозамкнутым и
к себе довлеющим миром покончено навсегда и, следовательно,
открывается искомая дорога к настоящему «творчеству жизни».
Все оказалось очередной иллюзией, но перипетии дальнейшей судьбы
А. Белого — теоретика символизма — за пределами нашей задачи.
Концепция его вполне оформилась в первое десятилетие XX в., серьезно
повлияв не только на формирование его собственного художественного
мира, но и на самосознание всего русского символизма. Вот почему
всякое сколько-нибудь серьезное исследование этого течения
невозможно без обращения к эстетической мысли А. Белого, ее падениям
и взлетам, открытиям и откровенно тупиковым ситуациям, в которые
она нередко попадала. В посильном изображении всего этого и видели
мы свою задачу.
Глава II
МИФОТВОРЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА
1. «Кризис индивидуализма»
Вторым крупнейшим идеологом и теоретиком младосимволизма,
сумевшим создать оригинальную эстетическую концепцию, был
Вячеслав Иванов. Между В. Ивановым и А. Белым существует немало точек
соприкосновения и отталкивания, и напряженная полемика, которую
они вели друг с другом во второй половине 900-х годов, окрашивала
картину модернистского искусства той поры в своеобразные тона.
Как и А. Белый, В. Иванов находился в сложных отношениях с
буржуазной цивилизацией и, мечтая о всеобщей гармонии, искал пути к
ней. «Что переживаемая нами эпоха, на всем протяжении так
называемой новой истории, есть эпоха "критическая", не подлежит
сомнению, — писал он, — и столетие, рубеж которого еще так недавно нами
перейден, может рассматриваться... как ее апогей. В самом деле, мы
достигли ни одним веком не превзойденной ступени расчленения,
обособления, уединения и, следовательно, внутреннего углубления и
обогащения отдельных сфер жизни, как материальной, так и умственной,
отдельных областей сознания, как общественного, так и
индивидуального, отдельных способностей и возможностей человеческого духа»1.
В. Иванов не устает писать о «минутах последнего отчаянья
разорванных сознаний», характерных для эпохи, «когда красивый
калейдоскоп жизни стал уродливо искажаться, обращаясь в дьявольский
маскарад», «когда обособленные отрасли творчества религиозного, научного
и художественного окончательно и различно определили свои частные
задачи», «когда расцвели искусство любителей и таинства "сенаклей"»
и т.д. Но столь ненавистная для него «фаза критицизма и культурной
дифференциации» в истории человечества подходит, по его мнению, к
концу, и он живет охватившим все его сознание «предчувствием новой
127
органической эпохи», которой свойствен, по его представлениям (здесь
он опирается на авторитет Фр. Ницше и Вл. Соловьева), «порыв к
воссоединению дифференцированных культурных сил в новое
синтетическое миросозерцание и целостное жизнестроительство»2.
«Предчувствия» В. Иванова основываются на ощущении якобы
охватившего все культурные слои современного общества «кризиса
индивидуализма». «Индивидуализм, — пишет он, — в своей современной,
невольной и несознательной метаморфозе, усвояет черты соборности:
знак, что в лаборатории жизни вырабатывается некоторый синтез
личного начала и начала соборного. Мы угадываем символ этого синтеза в
многозначительном и равнозначащем, влекущем и пугающем,
провозглашаемом как разрешение и все же неопределенном, как загадка, — слове:
"анархия"»3. Культурфилософские понятия «индивидуализм», «кризис
индивидуализма», «соборность», «анархия» играют в концепции В.
Иванова важную роль, поэтому есть смысл остановиться на них подробнее.
Как и для всякого символиста, для В. Иванова существуют два плана
бытия, бытия подлинного и неподлинного. В свою очередь, и человек
у него разделен на существо эмпирическое и личность «внутреннюю».
Последняя, считает философ, наделена глубокой мистической жизнью,
способностью к динамике, к становлению. «Кто волит своего я, —
говорит В. Иванов, — тот знает, что не обрел его. Fio, ergo non sum. Я
становлюсь: итак, не есмь. Жизнь во времени — умирание. Жизнь — цепь
моих двойников, отрицающих, умерщвляющих один другого. Где —
я? Вот вопрос, который ставит древнее и вещее "Познай самого себя",
начертанное на дельфийском храме подле другого таинственного
изречения: "Ты ее и" <...>
Кто проникся этим пафосом самоискания, тот уже не знает личного
произвола: он погружается в целое и всеобщее»4.
Итак, в эмпирической личности благодаря зарождению высоких
духовных потребностей как бы пробуждается личность внутренняя
или, если сказать иначе, у нее как бы появляется внутреннее зрение,
в результате чего и происходит самоочищение личности от коросты
случайного, поверхностного, неподлинного и, следовательно,
высветление ее «ядра», «идеи», сути. Происходит это, по мнению В. Иванова,
не на путях отказа от индивидуализма, что означало бы отказ
человека от своего «я», а на основе такого «правого» развития
индивидуализма, когда человек доходит в своем порыве до «богоборства», разру-
128
шая существовавшие доселе рамки зависимости и согласия с «нормой
всеобщего изволения»5, и там, на высотах личного самоутверждения,
преодолевает свой индивидуализм как «отвлеченное начало», вступая в
сферу божественного всеединства. Личное при этом переходит в
сверхличное, воля оборачивается безволием, точнее, личная воля как бы
растворяется в божественной воле, и, таким образом, человек становится
проводником и орудием последней. Бунт, порыв, дерзание героя
сменяются его «покорством», но, повторяем, В. Иванову важно подчеркнуть
не столько эти фазы, сколько внутренний характер происходящего
благотворного процесса. Не насилие, а внутреннее согласие, соподчинение
важно тут, и отъединение, отпадение человека от всеобщего —
необходимейшее звено будущей гармонии. «Богоборец» становится
«богоносцем» — такова, по В. Иванову, логика «правого» индивидуализма,
на своих вершинах обязательно испытывающего «кризис».
«Богоборство», в основе которого лежит энергия мистического
переживания, есть уже «неприятие мира» данного. Если бы человек,
утверждает теоретик, был бы позитивистом изначала, он удовольствовался бы
окружающей действительностью и никогда не подумал бы о ее
преображении. Слова Ивана Карамазова о том, что не Бога он отрицает, а
мира его не приемлет, исполнены для В. Иванова глубочайшим
мистическим смыслом. Ведь в таком случае и Иисус Христос — богоборец,
раскрывший «идею неприятия мира во всей антиномической полноте
ее глубочайшего содержания»6. Христу принадлежат, казалось бы,
взаимоисключающие высказывания о мире. Например, он призывает не
любить мир, а сам любит этот мир в его прекрасных проявлениях. Он
говорит, что Царство Божие не от мира сего, и в то же время признает,
что оно среди нас. Излагая эти антиномичные рассуждения, В. Иванов
подводит читателя к заключению: «неприятие мира», как оно выражено
в Священном Писании, вовсе не означает отказа от «низшей»
действительности, тем паче разрушения ее во имя высших целей, а знаменует
прозрение в этом дольнем мире мира дальнего, преображение этого
во зле лежащего мира в мир прекрасный и гармоничный. При этом
«творчество» Иисуса Христа, поскольку он находится в сфере
сверхличного, божественного всеединства, есть проявление не личной, а
сверхличной воли, в нем и через него творит, так сказать, сам Бог, ибо,
считает В. Иванов, «истинная воля, творческая, сверхличная,
излучается только чрез прозрачную среду личного безволия»7.
129
Размышляя таким образом, В. Иванов полагает, что ставит
надежный заслон произволу уединившейся, обособившейся личности, и
трагедию Ивана Карамазова усматривает в его «неспособности к
сверхличной воле, безволии в категории сверхличного». «Неприятие мира»
героем Достоевского, естественно, признается «неправым» и
противопоставляется «правому» «неприятию мира» Иисусом Христом, «ибо
оно — "непримиримое Нет", из коего уже сияет в своих сокровенных
возможностях "слепительное Да". Здесь отрицающий дух уподобляется
погруженному в землю зерну, которое не прозябнет, если не умрет».
«Это христианское неприятие мира, — завершает свою мысль
теоретик, — составляет принцип мистического энергетизма,
движущей силы нашей — явно или латентно — христианской души»8. В
понятии «мистического энергетизма», введенном В. Ивановым, уже четко
проступают контуры будущей его формулы «реалистического
символизма», по поводу которого разгорелась полемика с московскими
символистами, и в первую очередь с А. Белым.
Понятие «мистического энергетизма» отождествлялось В.
Ивановым с терминами «сверхиндивидуализм» и «мистический анархизм».
Все они были призваны уточнить содержание выдвинутой им
концепции «неприятия мира». Внутренний план жизни личности,
определяемый, по В. Иванову, мистикой, ибо ее «лозунг... "ab exterioribus ad
interiora" ("от внешнего к внутреннему")», является источником той
духовной энергии, которая, устремляясь к сверхличному
(«сверхиндивидуализм»), создает предпосылки для осуществления как «последней
свободы человека», противопоставляемой «необходимости», так
и «последней свободы человечества, исключающей в сфере
общественных отношений всякое принуждение»9. Это собственно и есть
«соборность», которая понималась им как «принцип внутреннего
подчинения личной воли чувствованию и попечению вселенскому». Идея
«последней свободы» человечества, по убеждению теоретика, есть идея
анархическая, и поскольку она призвана «самоопределяться как факт
в плане духа», а не в социальном плане, то она же идея и мистическая.
Следовательно, подытоживает В. Иванов, «идея неприятия мира — идея
мистико-анархическая» и «мистический анархизм до конца утверждает
свою подлинную сущность только в этом споре против мира
данного во имя мира долженствующего быть...»10.
130
Позднее, в разгар ожесточенных споров о «мистическом анархизме»,
повод для которых дал Г. Чулков, напечатавший брошюру с
аналогичным заглавием, В. Иванов постарается отмежеваться от этой
концепции, вернее, предпримет некоторые шаги по уточнению своих
теоретических взглядов, но дух ее ему не удастся преодолеть никогда.
Обосновывая «мистический анархизм» как своеобразную доктрину,
В. Иванов прежде всего пытается отграничить его от смежных
областей религии и политики. Выражающий, по представлениям автора,
в наиболее полном, так сказать, абсолютизированном виде идею
свободы, «мистический анархизм» не может вступать ни в какие
определенные связи с теми началами, которые требуют установления
конкретных норм, предписаний, четких императивов. Утверждая
«динамический и текучий характер» его принципов, сравнивая его не с «однажды
навсегда устроенным храмом», а с «кораблем, плывущим под звездным
небом» и наблюдающим все те же звезды, «но в постоянно новых
сочетаниях», В. Иванов говорит, что «мистический анархизм»
освобождает религию и «общественность» от присущей им коросты и чуждых
наслоений и высветляет в них самое ценное, заставляя воспринимать
«религию, как жизнь и внутренний опыт, как пророчество и
откровение, общественность — как становящуюся соборность»11.
Вот почему он относит «мистический анархизм» к «той области
духовных исканий», которые говорят «о путях (не целях) свободы». Эта
доктрина не мораль и не общественность, поскольку избегает всякого
затвердевшего, откристаллизовавшегося содержания, и вместе с тем
и мораль, и общественность, так как указывает направление, в каком
должен устремляться человеческий дух, не приемлющий мира
необходимости. Резюмируя, В. Иванов пишет: «Он («мистический
анархизм». — B.C.) не строит и не скрепляет скрепами; развязывает, а не
связывает энергии, и не знает между ними иной связи, кроме сопрису-
щего им тяготения к полюсам сверхличного. Ибо соборность —
сверхличное утверждение последней свободы»12.
Статья «Идея неприятия мира» (1906), которую мы процитировали,
была опубликована на следующий год после выхода в свет
программной для А. Белого статьи «Ибсен и Достоевский». Предельно обобщая,
можно сказать, что оба теоретика символизма хотели одного: прорыва
из царства необходимости в царство свободы. Но тем разительнее не
131
совпадали их методы. А. Белый желал «строительства» и «строил».
Он хотел стать «горным инженером», и даже сама идея религиозного
синтеза представлялась ему в виде своеобразной «башни в небо». Мир
казался ему чем-то устойчивым, завершенным, нуждающимся только
в перегруппировке уже готовых элементов; переход с первого,
низшего, этажа действительности на второй, высший, — главное условие
этой перегруппировки. Для В. Иванова же мир — нечто динамичное,
становящееся, еще не оформившееся, и вовсе не случайно, что душа
мистика рисуется ему кораблем, плывущим не только «по [уже
знакомым] звездам», но и ориентирующимся на «другие, еще неузнанные,
другие, дотоле невиданные, звезды»13. Конечно, как во всяком
обобщении, в высказанном суждении есть известная доля схематизации, но
думается, что исходные принципы каждого из теоретиков символизма
оно выражает верно. Именно отсюда тянутся нити будущей их
полемики.
Итак, через «неприятие мира» «критической» культуры с присущим
ей чудовищным обособлением друг от друга «отвлеченных начал»
личности и общества В. Иванов приходит к идее их синтеза. И если в
упомянутой выше статье он, говоря современным языком, отрабатывает
«инструментарий», «методику» подобного синтеза, не
сосредоточиваясь на положительном содержании выдвигаемой доктрины, то в целом
ряде работ, среди которых особо выделяются «Байрон и идея анархии»
(1906), «О "Цыганах" Пушкина» (1908), он говорит об «анархии» как
альтернативе современной ему цивилизации. Он развивает «мысль о
возможности примирения личной воли и воли соборной в торжестве
безвластия или безначалия», выдвигает «идею синтеза обоих начал —
личного и соборного — в общине анархической»14.
Статьи В. Иванова все настойчивее начинают пестреть
высказываниями типа следующего: «Анархический союз может быть поистине
таковым только как община, проникнутая одним высшим сознанием,
одною верховною идеей, и притом идеей в существе своем
религиозной»15, а мечта «о действительном, не формальном только счастье
освобожденного человечества» все чаще выливается в идею
«безгрешного, непосредственного единения» человека «с Природой»;
поэтическая же метафора «девственные земли»16 начинает претендовать чуть
ли не на выражение внутреннего содержания важнейшего для В.
Иванова понятия «новая органическая эпоха». Причем все это, по обыкно-
132
вению, свалено у него в одну кучу, и христианство мирно уживается с
язычеством под одной кровлей.
«Стрелка компаса» В. Иванова явно указывает в сторону язычества,
когда он пишет: «Анархическая идея — идея именно варварская, т.е.
не эллинская и, следовательно, внекультурная по духу», и человеку,
хотя бы поверхностно знакомому с его работами, становится ясно, что
генезис анархической идеи он усматривает в дионисийстве. «Великая
стихия не-эллинства, варварства, — говорит он в этой связи, — живет
отдельною жизнью рядом с миром стихии эллинской. Оба мира
относятся один к другому, как царство формы и царство содержания, как
формальный строй и рождающий хаос, как Аполлон и Дионис...» Дионис
по праву претендует на роль предтечи русского анархизма, поскольку
он, как вспоминает В. Иванов, «оракийский бог Забалканья,
претворенный, пластически выявленный и упрощенный, обезвреженный
эллинами, но все же самою стихией своей — наш, варварский, наш
славянский, бог»17.
Анархическая община как выражающая существо «новой
органической эпохи» указывала пути тому «целостному жизнестроитель-
ству», о котором мечтал В. Иванов и осуществление которого связал
с искусством. В связи с этим у него возникала необходимость в
переводе «социологических», так сказать, категорий на язык эстетики. Это
он сделал в статье «Символика эстетических начал» (1905), статье, во
многих отношениях программной для него, ибо он, как и все
символисты, воспринимал мир в качестве эстетического феномена, объекта
вдохновенного творчества художника. «Идея неприятия мира», как о
том говорилось выше, с характерной для нее диалектикой
«непримиримого Нет» и «слепительного Да» выражена здесь на языке
эстетических категорий «возвышенного» и «прекрасного». Характерными
принципами этих последних признаются соответственно «восхождение» и
«нисхождение»; категория же «хаотического» выражает «дионисий-
ское» исступление.
«Восхождение», по В. Иванову, — это акт «дерзновенной воли»
личности, вспомнившей о своем божественном происхождении и могуществе,
это следование «завету Августина: "Прейди самого себя" ("trascende te
ipsum")» или возгласу самого Христа, обращенному к мертвому: «Лазаре,
гряди вон!», благодаря чему посеянное в тлении, мертвое, эмпирическое
«я» встает в нетлении, воскресает в новом качестве «сверхличного»,
133
подлинного «я», пронизанного лучами божественного всеединства,
«запредельной свободы». Это «незыблемый побег земли от дольнего»
к солнечной лазури небесного, это «белый разрыв с зеленым долом...».
Не случайно категория «восхождения» («возвышенное») оформляется
в сознании В. Иванова в понятиях «разлуки и расторжения, утраты и
отдачи», «обособления» и «выделения». Как один из моментов в
диалектике «восхождения — нисхождения» «восхождение» оправданно и
целесообразно; как «отвлеченное начало» оно, по словам В. Иванова,
«имеет в себе что-то горделивое и жестокое»18.
Вот почему оно еще не красота. Красоту, прекрасное для него
воплощает «нисхождение». Эта категория в символике теоретика означает
«возврат» человеческого духа к Земле, момент перехода «Нет» в «Да».
Данный момент для В. Иванова главный, в нем он видит смысл
космогонического процесса. «Мы, земнородные, — пишет он, — можем
воспринимать Красоту только в категориях красоты земной. <...> нет
для нас красоты, если нарушена заповедь: "Верным пребудь Земле"».
«Оттого наше восприятие прекрасного, — считает В. Иванов, —
слагается одновременно из восприятия окрыленного преодоления земной
косности и восприятия нового обращения к лону Земли. Эти восторги
в нас — как бы дыхание самой Матери, воздыхающей к Небу и снова
вбирающей в свою грудь Небо»19.
Здесь высказана общая для всех символистов идея синтеза
небесного и земного, духа и плоти. Но важно обратить внимание на то
обстоятельство, какой из этих двух элементов грядущего синтеза являлся
для В. Иванова и, скажем, для А. Белого определяющим,
доминирующим. Для последнего, особенно периода «Золота в лазури», это,
безусловно, «небо» (вспомним процитированную В. Ивановым в своей
статье строку из собственной поэтической книги «Кормчие звезды»,
как бы специально указывающую на псевдоним Б.Н. Бугаева: «Верь
духу — и с зеленым долом / Свой белый торжествуй разрыв!»), для
В. Иванова же, как это следует из вышеизложенного, — «земля». Эти
существенные, по сути дела, различия формировали направления
поисков каждого из теоретиков, расставляли акценты в их эстетических
концепциях, а это, в свою очередь, вело к напряженной полемике между
ними. Начало ее, пока тайное, неявное, можно, пожалуй, обнаружить
уже в рассматриваемой статье. Лукавый В. Иванов не без умысла
посвятил ее своему юному собрату, сосредоточиваясь в ней преимущественно
134
на одном из моментов двуединой формулы «восхождение —
нисхождение». В журнальном варианте работа называлась «О нисхождении»,
и это заглавие оправдывалось тем, что В. Иванов говорил в ней еще об
одном типе «нисхождения», суть которого была выражена им в
категории «хаотического».
По мнению В. Иванова, «всякое переживание эстетического порядка
исторгает дух из граней личного». «Восхождение», как было уже
сказано, ведет к «сверхличному», «нисхождение» — «ко внеличному»,
«хаотическое» же по своей природе «безлично». «Оно, — уточняет
теоретик, — окончательно упраздняет все грани». Это «область двуполого,
мужеженского Диониса», в то время как «восхождение» «мужественно»,
а «нисхождение отвечает началу женскому...». То, что «хаотическое» не
знает «разлуки пола», делает его «плодотворным лоном». Человек,
опускаясь в эту «чреватую ночь», теряет свою личность («Ужас
нисхождения в хаотическое зовет нас... потерять самих себя»), растворяет себя в
великом «ритме природы», который с этого момента становится
ритмом и его жизни. Перед лицом «безличного» все людское
«строительство — только перестроение граней. Все грани становятся ложными.
Но живому — нет грани: "Хаос волен, хаос прав!.."», — заключает
В. Иванов. «...Соединение с низшим, глубинным Богом»
Дионисом, стремление объять весь мир и заключить его в свое сердце,
проникновение к «недрам мира» делает человека, «утратившего свою
личную волю», «страдательным орудием живущего в нем бога...».
«Тогда, — пишет проповедник «дионисийских очищений», — впервые
говорит он свое правое Да своему сокровенному богу, свое
сверхличное Да — уже не миру, а сверхмирному, тогда впервые волит
творчески: ибо волить творчески, значит волить безвольно»20.
Эта мысль уже встречалась нам, когда мы разбирали ивановскую
концепцию «неприятия мира», и тогда мы не без основания увидели
в ней зачатки будущих его представлений о «реалистическом
символизме», по поводу которого разгорелся спор с А. Белым. Теперь она
высказана более явственно и даже с некоторым нажимом. Видимо,
определенное воздействие оказал контекст: если при изложении В.
Ивановым доктрины «мистического анархизма» лежащее в его основе «дио-
нисийское состояние» постулировалось лишь мысленно, то здесь оно
становилось предметом специального рассмотрения. Более того, ему
отводилась роль безусловного начала, некоего фундамента для «восхож-
135
дений» и «нисхождений» человеческого духа. Признавалось за истину,
что «конечное отрешение от "древнего", от "родимого" хаоса» грозит
человечеству «оскудением»21. А. Белый тоже признавал за жизненным
ритмом значение животворящего начала, но, в отличие от В. Иванова,
считал преодоление «хаоса» первоочередной задачей искусства. Этой
идеей проникнута, например, опубликованная им в один год с
ивановской работой «Символика эстетических начал» статья «Апокалипсис
в русской литературе», не говоря уже о многих других. Отсюда пафос
личности в теоретической концепции А. Белого, настойчивое
противопоставление «воли» столь любимому В. Ивановым безволию, отсюда,
наконец, его сочувственное отношение к эволюции Фр. Ницше от «дио-
нисийского» духа «Рождения трагедии» в сторону «аполлоновского»
«Заратустры».
В противоположность А. Белому В. Иванов считал эту эволюцию
базельского философа ложной. Он писал по данному поводу: «Ницше
увидел Диониса — и отшатнулся от Диониса...
Трагическая вина Ницше в том, что он не уверовал в бога,
которого сам открыл миру». Развивая свою мысль, В. Иванов упоминает
о «двойственности... природы» Ницше, «двойственности его даров».
Дело, оказывается, в том, что «Ницше был филолог» и, как ученый,
он, естественно, стремился к «позитивному холоду научного духа»,
к определенно очерченным выводам, «к ясности... и... пластической
четкости» своих результатов. Но он был также и «оргиастом
музыкальных упоений», разрушающих всякие грани и видимые пределы.
Короче говоря, в нем как бы одновременно сосуществовали
Аполлон и Дионис, и это сосуществование было чревато катастрофой, оно
же и обусловило «его роковой внутренний разлад». «Антидионисий-
ский двойник», который постоянно жил в нем, в конце концов
победил: «В учении о "Сверхчеловеке", преподанном из уст "дионисий-
ского" Заратустры... роковая двойственность в отношении Ницше к
Дионису созревает до кризиса и разрешается определенным
поворотом к антидионисийскому полюсу...»22.
Но если отход Ницше от Диониса — измена самому себе, то почему
же она еще и его «трагическая вина»? У В. Иванова мы не
встретим полемики с Ницше по существу проповеди последнего о
сверхчеловеке. Разрушая христианскую мораль, аморалист Ницше, напо-
136
минает теоретик, становится имморалистом, т.е. все же моралистом,
хотя и наизнанку: «дионисийское» «как» заменяет принципиально
недионисийским «что». Состояние «дионисийского» исступления,
в который раз повторяет автор важную для его концепции мысль,
безвольно, оно не знает граней, в том числе и временных, а Зарату-
стра — весь сгусток воли и закован в броню времени. Короче говоря,
«дионисийское» «как», по В. Иванову, — истина, а ницшеанское,
впрочем, и всякое «что» претендовать на нее не могут. Ницшевская «воля
к власти», как и всякая «воля», любой императив, принципиальному
стороннику безвластия и анархии В. Иванову понравиться никак не
могли. Человек, который «возвратил миру Диониса» и потому стал
«властителем... дум и ковачом будущего»23, трагически виноват перед
собой и людьми, ибо не понял сути своего «посланничества», не
сделал последних выводов из самим же провозглашенной истины. Так
считал В. Иванов.
Но вина Ницше, «восставшего на своего же бога»24, не только в этом.
Автор исследования «Эллинская религия страдающего бога» упрекает
немецкого философа, ведшего распрю с христианством, в том, что тот
не различил в «дионисийской» оргийности глубокого родства с
учением Христа, «отвратился от религиозной тайны своих, только
эстетических, упоений» и лишь на пороге безумия в одном из своих писем
назвал себя «распятым Дионисом».
Как А. Белый, исходивший из собственных теоретических
постулатов, проводил рискованные параллели между Христом и Заратустрой,
так и В. Иванов пытается навести мосты между Христом и
Дионисом. Но оба символиста, руководствуясь разными исходными
посылками, удивительно единодушны в одном: они всячески избегают
разговоров о существе христианской морали, с одной стороны, и
ницшеанского имморализма, мировоззренческих принципов язычества — с
другой. Обоих теоретиков влекут скорее внешние уподобления,
сходство формы этих враждебных по отношению друг к другу
миросозерцании, а не их содержание, хотя, разумеется, им кажется, что разговор
идет как раз о существе вопроса.
Для В. Иванова «дионисийское состояние есть выхождение из
времени и погружение в безвременное». Но и христианство, с его точки
зрения (и это для его концепции принципиально), «в изначальном образе
137
своего отношения к жизни есть пронзенный любовью оргиазм души,
себя потерявшей, чтобы себя обрести вне себя, переплескивающейся в
отцовское лоно Единого...». Дионис — «"сын божий", преемник отчего
престола, растерзанный Титанами в колыбели времен; он же в лике
"героя", — богочеловек, во времени родившийся от земной матери...» Но
Ницше, упрекает В. Иванов, прошел мимо этого глубочайшего сходства
Христа и Диониса и воспринял «дионисийское начало» не как
«религиозное», а «как эстетическое», и жизнь — как «эстетический феномен».
Тем самым он изменил «религиозной тайне» своего учения. По Ницше
выходило, что «человечество — сонм "ремесленников Диониса", как
древность называла актеров». «Однако, — вступает в спор с Ницше
В. Иванов, — первоначально "ремесленники Диониса" были его
священнослужителями и жрецами, более того — его ипостасями и "вакхами";
и истинно дионисийское миропонимание требует, чтобы наша личина
была в сознании нашем ликом самого многоликого бога и чтобы наше
лицедейство у его космического алтаря было священным действом и
жертвенным служением»25.
В. Иванов всю жизнь боролся с эстетизмом, считая, что идея о
тождестве искусства и жизни — порождение декаданса, но эта борьба
заранее была обречена на поражение, ибо сама его концепция была
пронизана эстетизмом. Слова упрека В. Иванова Фр. Ницше легко
могли быть отнесены и к нему самому. Дело в том, что
осуществление мечты о «новой органической эпохе» связывалось в его сознании с
идеей всенародного искусства, которое, по его понятиям, в свою
очередь, подготавливалось деятельностью отдельных художников. «Какою
хочет стать поэзия?» — спрашивал он и отвечал: «Вселенскою,
младенческою, мифотворческою. <...> Ее религиозной душе дано
взрасти из низин современного богоневедения, чрез тучи богоборства, до
белых вершин божественного лицезрения. Преодолевая
индивидуализм, как отвлеченное начало, и "Эвклидов ум", и прозревая на лики
божественного, она напишет на своем треножнике слова: Хор, Миф и
Действо»26.
Именно в этой триединой формуле конкретизировалась его идея
об искусстве-«жизнетворчестве»27, именно она составляла предмет его
многолетних теоретических усилий, именно ее как якобы
единственный путь к «мистической реальности» отстаивал он во внутригруп-
повых спорах.
138
2. «Хор, Миф и Действо»
Впервые эстетическая концепция В. Иванова была изложена им в
цикле статей «Поэт и Чернь», «Новые Маски», «Копье Афины»,
опубликованных в журнале «Весы» за 1904 г. Главная из них,
безусловно, — «Поэт и Чернь», ибо именно в ней теоретик нащупал и достаточно
полно выразил свою центральную мысль о трагическом разрыве поэта
и народа в эпоху всеобщей дифференциации и обособления и
наметившейся тенденции к их воссоединению как серьезном симптоме
близящейся «новой органической эпохи».
Во времена большого, всенародного искусства, пишет автор статьи,
поэт и народ едины, художник является своеобразным органом
народного самосознания. Но приходит пора, когда они перестают понимать
друг друга. Толпа остается с грубой утилитарной моралью, она
требует от поэта обслуживания своих низменных интересов, последний
же отворачивается от черни, начинает заниматься вещами, на первый
взгляд, недостойными его великого призвания: устроителя и
организатора религиозной жизни народа, иначе — теурга.
В подобном уединении художника заключена, по В. Иванову,
великая его правда и неправда. «Неправда» потому, что по исконному
своему назначению слово должно сближать, соединять людей, а отнюдь
не разлучать. «Правда» же потому, что только через «уединение» со
своим «богом», через «погружение» «в подслушивание и транс тайного
откровения» поэт приходит к тому «внутреннему слову», которое
заключает в себе энергию будущего синтеза28. Таким образом, отказ
от внешнего действия, на которое побуждала поэта чернь, означает, с
точки зрения теоретика, отнюдь не бездействие, а говорит о его
подготовке к действию более высокому, мистическому по своему характеру.
На этом пути «интимное» искусство уединенной души
(соответствующее «искусству для искусства» декаданса) перерастает, по определению
В. Иванова, в искусство «келейное», подготавливающее, в свою очередь,
искусство всенародное.
Искусство «келейников», «пустынников духа» есть искусство
символическое. Символ же, учит В. Иванов, «многолик, многосмыслен и
всегда темен в последней глубине»; «органическое образование», он, в
отличие от аллегории, не «учение», не «иносказание», а
«ознаменование» и «указание». Символы, по его мнению, «доселе неотразимы и дей-
139
ственны сосредоточенным в них обаянием древнейшего богочувство-
вания», они — «переживания забытого и утерянного достояния
народной души»29. Короче говоря, символы позволяют художнику постичь
какие-то первозданные ее глубины, живую, неразложившуюся тайну
ее органического существования, выразившуюся и
откристаллизовавшуюся в древних мифах. Символ, следовательно, неизбежно приводит
к мифу или, как хочет В. Иванов, миф вырастает из символа.
Символическое «келейное» искусство в связи со сказанным
обязательно искусство мифотворческое. Уединение, еще раз повторяет он,
необходимо художнику, чтобы вспомнить «искони» заложенное
народом в его «душу» содержание, а потом возвратить последнему то, что
причитается ему по праву. Вот почему именно через художника «народ
вспоминает свою древнюю душу и восстановляет спящие в ней веками
возможности»30. Если определять нарисованный теоретиком процесс
современным языком, то здесь происходит не что иное, как преодоление
веками складывавшегося отчуждения: народ возвращается к своим
корням, в последних глубинах мифа встречаясь с художником. Так
уничтожается присущий новому времени разрыв Поэта и Черни,
«отвлеченные начала» воссоединяются в синтезе. Открывается дорога
всенародному искусству и «новой органической эпохе».
Осуществление идеи «жизнестроительства», «творчества жизни» в
сознании теоретиков русского символизма так или иначе связывалось
с драматическим искусством, шире — с реформой театра. В. Иванов
не был исключением в этом ряду. Скорее наоборот, именно ему
принадлежат наиболее радикальные взгляды в этой области. «...Сковать
звено, посредствующее между Поэтом и Чернью, и соединить толпу и
отчужденного от нее внутреннею необходимостью художника в одном
совместном праздновании и служении», — вот какую роль отводил
он «Музе сценической»31.
Почему именно театр и драма оказались в центре его (и не только
его) поисков? «...Трагическая Муза говорит всегда о целом и
всеобщем...»32, — писал он. Частное событие, развивающееся во времени
перед глазами зрителя, сразу становится фактом биографии каждого
сидящего в зрительном зале, «вызываемые поэтом лица» оказываются
«масками единого всечеловеческого Я...» (там же). Как динамический
вид искусства, театр настраивает зрителя не на «безвольные
созерцания», а производит в его душе «некоторое внутреннее событие»33.
140
Короче говоря, в театре, в драме очень силен момент мистериально-
сти, и потому они и привлекали к себе внимание В. Иванова и других
теоретиков символизма.
Анализируя художественные принципы современной ему драмы, он
делал сходный с А. Белым вывод, что она вообще развивается в сторону
мистерии, более того, как бы возвращается к своему несомненному
«первоисточнику — литургическому служению у алтаря Страдающего
Бога»34. Вслед за Ницше В. Иванов считает, что трагедия развилась «из
духа музыки», точнее, из хорового дифирамба. Последний же восходит
ко времени человеческих жертвоприношений Дионису и
воспроизводит его божественные страсти. Жертва (трагический герой, поначалу
протагонист хора) отождествлялась древними греками с самим
Дионисом, маска жертвы, следовательно, была весьма прозрачной, оттого
и «жизнетворческий», так сказать, эффект трагедии был налицо.
«Умереть в духе вместе с трагической жертвой, ликом умирающего
Диониса, и воскреснуть в Дионисе воскресающем...», — в этом
усматривал В. Иванов «сущность дифирамбического очищения»35. Хор в таком
случае был как бы участником оргийной жизни Дионисова тела,
своего рода общиной Дионисовой, чуть ли, хотя теоретик и не
произносит этого слова, не его церковью.
Дальнейшая эволюция драмы, по В. Иванову, следующему за
автором «Рождения трагедии», шла в сторону дифференциации, т.е.
«раздельного раскрытия частей ее первоначального состава»36. Хор,
постепенно теряя свое исходное значение, все больше превращался в
«идеального зрителя», пока не стал окончательно ненужным и не прекратил
свое существование. Община служителей Диониса превратилась в
зрительный зал. Из агонии страдающего бога, которую в дифирамбе
знаменовал протагонист хора, а в трагедии — трагический герой, выросло
сценическое действие с его разветвленным сюжетом и сложными
характерами. Характер же, по В. Иванову, не что иное, как «уплотнение»
первоначальной маски жертвы; следовательно, поворот сценического
искусства в сторону психологии, с его точки зрения, означал забвение
людьми их мифологических корней и уход в сторону,
противоположную истине. Благодаря этим процессам мистерия превратилась в
зрелище (только зрелище!), единственным оправданием необходимости
которого служит духовное очищение зрителя, катарсис, не
предполагающий, однако, активного и немедленного действия с его стороны.
141
Чтобы вернуть театр к его истокам, сделать его фактором
подлинного жизненного строительства, необходимо активно эксплуатировать
его динамическую природу, считает В. Иванов. Он уверен: «новейшие
искания» в этой области явно ведут к «откровениям дионисиазма». «Что
мы ищем в Драме? — спрашивает теоретик нового театра. — Действия
ли внешнего? Но драма явно стремится стать внутренней. Характеров ли?
Но характер эмпирический развертывается в действии, и развитие его
соразмерно энергии внешнего драматического прагматизма. Мы хотим
проникнуть за маску и за действие, в умопостигаемый характер лица, и
прозреть его внутреннюю маску; но это уже личина Вечности, — не наш
ли собственный внутренний двойник эта духовная, безликая личина?»37.
«Прозреть» свое истинное «я», убежден он, можно только через
«проникновение во всеединство страдания», путь же в него — путь
«восхождения» — «дионисийский» экстаз, «правое безумствование»,
«дифирамбический подъем». Это «исступление» из границ узкого, тесного,
эмпирического существования «и тяготение к тому дифирамбическому
разрешению духа, которое снимает всякое что и как бы топит его в
одном неизрекаемом как»38 (описание подобного состояния знакомо
нам по многим работам В. Иванова), возможны, на его взгляд, только
в «новом театре», который благодаря этому станет уже не «зрелищем»
и «лицедейством», а «действом» единого «хорового тела» зрителей,
«подобного мистической общине стародавних "оргий" и "мистерий"»39.
Внутренний механизм такого грядущего преображения
человечества отрабатывался В. Ивановым на протяжении многих лет и именно
в формуле «нового театра» нашел свое воплощение. Суть ее сводится к
следующему. Через «дионисийское» «врачевание» и «очищение»
происходящего на сцене действия, в основе которого лежит древний миф,
каждый зритель прозревает свое внутреннее «я», осязательно
ведущее его в сферу «сверхличного». Там, на вершинах «восхождения»,
все они сливаются в одно соборное тело, чтобы, нисходя, творить иной
мир, более реальный, «чем многоцветный пеплос естества»40.
Используя фразеологию теоретика, можно сказать, что при этом «Нет» миру
эмпирическому закономерно переходит в «Да» мистической
реальности, которая и есть искомая людьми гармония, анархическая община.
1904 год, когда были опубликованы проанализированные нами
статьи, оказался в творчестве В. Иванова-теоретика своего рода периодом
«зорь». Хотя он, в отличие от А. Белого, никогда не испытает горького
142
отчаяния от несбывшихся надежд, все же и его представления о
грядущем синтезе и путях к нему станут более сдержанными. Так, например,
упомянутая выше статья «Новые маски» дышит верой в близость «дио-
нисийского театра». «...Характеристические симптомы... очерченной
эволюции дионисийского искусства» он усматривает в «новой драме»
«Кольца», принадлежащей перу его жены Л.Д. Зиновьевой-Аннибал
(М., 1904). Желание увидеть свои идеи воплощенными у него настолько
велико, что он не замечает комизма создавшегося положения, основывая
свои выводы на произведении предельно слабом, откровенно
иллюстративном, в котором герои общаются между собой на языке работ самого
теоретика, используя при этом его любимые выражения и словечки.
В последующих исследованиях, уточняя отдельные положения своей
концепции, он станет более реалистичным в прогнозах. «Ведь еще далеки
мы и ныне (о, ныне, быть может, всего дальше!) от тех вдохновенных
празднеств, которым — мы верим — суждено некогда... снова воззвать
мелодиям флейт величавый образ плющем увенчанного героя,
зачинателя действ всенародных»41, — скажет он в статье «О Шиллере» (1905).
Художественная практика, как бы этого ни хотелось, не давала
материала для теоретических обобщений, и В. Иванов ограничивался
разного рода «предчувствиями и предвестиями» будущей «органической
эпохи». Но утверждая, что «напрасно было бы» заниматься
«предрешением содержания желаемой новой драмы»42, он все же занимался
именно этим. Более того, в программной статье «Новая органическая
эпоха и театр будущего» (1906) он прямо говорит о «выводимой» им
«формуле синтетической драмы...»43. Весь парадокс его
теоретизирования заключался в том, что чающий «разнуздания скрытой и скованной
дионисиискои стихии драматического действия»44, т.е. настроенный
самым решительным и радикальным образом, он хотел организовать
проявление стихии путем лабораторных методов и
рационалистических упражнений. В частности, главную причину превращения
театра в самодовлеющее зрелище он усматривает в возникновении рампы,
поделившей былую общину на зрителей и актеров. Действие,
происходившее в орхестре, круглой площадке для хора, расположенной посреди
подковы сидений, постепенно переходило на просцениум и, наконец,
негодует В. Иванов, выросла эта железная стена. Отсюда понятен его
решительный жест: для того чтобы сделать театр действенным,
необходимо уничтожить рампу, связать сцену и зрительный зал в единое
143
целое, а для усиления «дионисииского» экстаза пронизать действие
музыкой. Это собственно и есть формула «синтетической драмы», о
которой он мечтал. Воодушевленный своим видением, он напишет:
«...организация будущего хорового действа есть организация
всенародного искусства, а эта последняя — организация народной души.
Театры хоровых трагедий, комедий и мистерий должны стать
очагами творческого, или пророчественного, самоопределения народа; и
только тогда будет окончательно разрешена проблема слияния
актеров и зрителей в одно оргийное тело, когда, при живом и творческом
посредстве хора, драма станет не извне предложенным зрелищем, а
внутренним делом народной общины <...> той общины, которая
средоточием своим избрала данную орхестру.
И только тогда, прибавим, осуществится действительная
политическая свобода, когда хоровой голос таких общин будет подлинным
референдумом истинной воли народной»45.
3. Реальное и реальнейшее
Сейчас трудно поверить, что это писалось всерьез, а не было злой
пародией на чьи-то кабинетные, отвлеченные умствования. Но такова
уж логика всякой утопии, заставляющая ее творца сказать последнее
слово, каким бы нелепым и оторванным от жизни оно ни
представлялось окружающим. А то, что откровения В. Иванова были
восприняты именно таким образом, говорят высказывания его
современников, и не только тех, кто не стоял на платформе символизма*, но и тех,
* Вот что писала, например, по этому поводу Л.Я. Гуревич: «...есть опасность
в... призывах к "младенческому", к "мифотворческому" в такое время, когда души
человеческие не представляют почвы для такого призыва. Ибо если сам Вяч.
Иванов, тоскуя по родникам жизни и призывая идти к вселенской правде путем
народности, мечтает в то же время о том, как Россия "покроется орхестрами и фимелами"
(нельзя не улыбнуться этой фразе, даже питая отвращение к придиркам и ко
всяческому зубоскальству), то ведь из попыток душевно не обновленной современной
молодежи выйти на путь "младенческой" простоты и безыскусственного
народного мифотворчества ничего не может выйти, кроме сюсюкающей подделки под
младенческую простоту и той рассудочной игры с существующими уже мифами,
которая всегда отличала периоды крайнего упадка литературы» {Гуревич Л.Я.
Литература и эстетика: Критические опыты и этюды. М., 1912. С. 105—106).
144
кто вроде А. Белого представлял ее передний край. Сам будучи
утопистом, он тем не менее упрекает В. Иванова в эстетическом утопизме, в
смешении искусства (театра) и жизни, как раз в том, против чего
энергично выступал теоретик «хорового действа». Упрек в эстетизме, по
сути дела, означал упрек в декадентском релятивизме. «В современной
драме, — писал А. Белый в статье «Символизм и современное русское
искусство» (1908), — есть движение в сторону мистерии; но строить
мистерию на неопределенной художественной мистике нельзя:
мистерия — богослужение; какому же богу будут служить в театре:
Аполлону, Дионису? Помилуй Бог, какие шутки! "Аполлон", "Дионис" —
художественные символы и только: а если это символы религиозные,
дайте нам открытое имя символизируемого Бога. Кто Дионис?
Христос, Магомет, Будда? Или сам Сатана?»46.
Что и говорить, упрек был тяжелый и — сразу оговоримся — далеко
не безосновательный. Оперирование такими понятиями, как «хаос»,
«хаотическое», «дионисийская оргийность», «мистический
энергетизм» и «мистический анархизм», противопоставление «дионисииского»
«как» твердо очерченному «что» для концепции В. Иванова не могло
пройти бесследно. Все это размывало берега устоявшихся принципов,
в том числе моральных и религиозных, вносило в его представления
о мире элемент зыбкости, текучести, неустойчивости,
относительности. Борьба с декадансом за преодоление его родового наследия, о чем
не забывал напоминать В. Иванов, оказывалась, таким образом,
половинчатой; пуповина, связывающая его со «старшими» символистами,
была прочнее, чем он предполагал. Да и его критики, в том числе и
А. Белый, далеко не неуязвимы в этом отношении.
В условиях развернувшейся дискуссии В. Иванов предпринимает
новые шаги для уточнения и объяснения своей позиции, одновременно
вступая в полемику с теми символистами, которые считали ее
ошибочной. В 1908 г. он произносит публичную лекцию «Две стихии в
современном символизме» и тогда же печатает ее в журнале «Золотое
руно», сопровождая публикацию двумя «экскурсами», один из
которых «Эстетика и исповедание» был целиком посвящен полемике с
А. Белым и представлял собой развернутый ответ на процитированную
выше статью последнего «Символизм и современное русское искусство».
Разговор в лекции В. Иванова зашел о «реализме» «нового
искусства». При всем том, что речь в данном случае велась о вещах далеко
145
не новых, разве только облаченных в новую терминологию, она была
весьма симптоматичной, так как окончательно узаконивала еще ранее
наметившийся раскол в символистском движении. Это, так сказать, с
одной стороны, с другой же — в статье В. Иванова отстаивалось право
художественного метода символизма на объективность содержания,
разумеется, в специфически трактуемой форме.
Во все эпохи, говорит В. Иванов, существуют два типа
художественного творчества: «ознаменовательное» и «преобразовательное». «Ознаме-
новательное» начало связано с понятием реализма, началом «женским»,
соответствующим принципу «нисхождения», «преобразовательное»
ассоциируется с понятием идеализма, «мужским» началом, выражающимся
в принципе «восхождения». В основе реализма, во всех его
многочисленных проявлениях, всегда лежит «верность» художника «вещам», или,
как пишет В. Иванов, «художник-реалист ставит своею задачею
беспримесное приятие объекта в свою душу и передачу его чужой душе».
Художник-идеалист поступает иначе, он верен не «вещам», «а
постулатам личного эстетического мировосприятия, — красоте как
отвлеченному началу», он «возвращает вещи иными, чем воспринимает»47,
преображая их через воздействие своего субъективного мира.
Иначе говоря, художник первого типа как бы помогает природе
раскрыть ее сокровенную сущность. Облегчая муки рождения подлинной
красоты, он поступает так, что «глина сама будет слагаться под его
перстами в образ, которого она ждала»48, и эта ненасильственная природа
его художественного творчества делает его орудием «творческих
усилий Мировой Души», направленных на реализацию идеи
божественного всеединства. Эстетический идеализм же, напротив, заставляет
художника идти «по наклонной плоскости личного дерзновения»,
вместо жизни демонстрировать «свою мечту о жизни», становиться
творцом «воздушных архитектур» и на этом пути считать себя «жрецом,
иерофантом, пророком, магом, теургом»49, в то время как истинный
теург — художник-реалист, ибо он следует подлинно теургическому
лозунгу Вл. Соловьева (его слова В. Иванов не раз приведет в своей
статье): «...не только религиозная идея будет владеть ими
(художниками. — B.C.), но они сами будут владеть ею и сознательно управлять
ее земными воплощениями».
Подводя итоги сказанному, В. Иванов пишет: «Таковы в своей
природе и в истории искусства, предшествовавшего искусству наших дней,
146
два равнодействующих и соревнующих между собою принципа
художественной деятельности: с одной стороны, принцип ознаменовательный,
принцип обретения и преображения вещи, с другой — принцип
созидательный, принцип изобретения и преобразования. Там — утверждение
вещи, имеющей бытие; здесь — вещи, достойной бытия. Там —
устремление к объективной правде, здесь — к субъективной свободе. Там —
реализм не только как эстетическая норма, но и как гносеологическая
основа миросозерцания (в философском смысле то реализм наивный,
то реализм мистический); здесь идеализм, не только как культ
идеальной формы, но и как философское убеждение в нормативном
призвании автономного разума. Там — усилие постичь феномен как символ;
здесь — творчество обобщающих феномены символов. Там —
насаждение в душе, эстетически воспринимающей, зачатка новых прозрений,
нового движения, новой жизни, прививка некоего динамического
принципа; здесь — наполнение души завершенным образом, наитие
олимпийского сна, слова Иеговы после дня творения: "это хорошо",
успокоение в статическом, отдых седьмого дня»50.
Мы не случайно привели эту обширную цитату. Наша цель —
показать, насколько постоянен В. Иванов в своей эстетической вере. Ведь
«динамический принцип» как высшее достижение художественного
творчества, к которому он свел здесь свои рассуждения об «ознаме-
новательном» и «преобразовательном» началах искусства, при всей
произвольности и субъективности его точки зрения, восходит к
понятию «динамического энергетизма», выдвинутому в его более ранних
статьях, где он рассуждал о «кризисе индивидуализма» и «правом» и
«неправом» «неприятии мира». При этом, напомним, «правым»
признавалось такое «неприятие мира», когда личность в своем
мистическом устремлении ввысь, преодолевая «отвлеченное начало»
индивидуализма, вступала в сферу сверхличного, становилась благодаря этому
орудием божественного всеединства и уже в новом своем качестве
осуществляла теургическую миссию, т.е. участвовала в творчестве высшей,
не эмпирической, а мистической реальности. Не об отвержении
низшего мира, не о презрении к нему шла речь у В. Иванова, а о
преображении его. Таково было внутреннее наполнение его формулы:
«неприятие мира». Эту-то идею и развивал теоретик в своей новой работе.
«Ознаменовательному» и «преобразовательному» началам в
символистском искусстве, говорит он, соответствуют «реалистический» и
147
«идеалистический» символизм. В связи с только что приведенными
рассуждениями становится понятным, что «реалистический символизм»,
по В. Иванову, исследует скрытую, сокровенную жизнь «вещей», он
провидит, фигурально говоря, реальнейшее в реальном. Вот почему,
признавая статус подлинности только за ноуменальным миром, он, однако,
не отказывает в «относительной реальности» и феноменальному.
«Идеалистический символизм», наоборот, в силу того, что единственным
двигательным началом его является обособившееся, «отвлеченное»
«я» художника, не ведет к познанию высшей, религиозной
реальности; единственная цель и услада его — обогащение внутреннего мира
творца, эстетическая игра с разного рода прихотливыми и
утонченными ассоциациями, следовательно, область словесного мастерства и
экспериментаторства. Не для познания «тайны вещи», а «для
прославления химеры, для апофеоза иллюзии»51 пользуется символами
«идеалистический символизм». Таково, по мнению В. Иванова,
декадентство, неизбежно перерастающее в парнассизм.
С самого начала своей творческой деятельности В. Иванов не
жаловал декадентов, зачисляя их по ведомству искусства «интимного», и
все же никогда прежде не был так резок и беспощаден к ним.
Думается, что данное обстоятельство объясняется следующими причинами.
По-своему переживая эпоху «зорь», т.е. охваченный надеждами на
близящееся всенародное искусство, В. Иванов был склонен выдавать
желаемое за действительное: он искренне считал, что искусство
«интимное» уже уступило место искусству «келейному», а в недрах
последнего зреет чаемое искусство всенародное. Эта формула осталась для
него вполне приемлемой и в пору «Двух стихий в современном
символизме». Но на ней уже лежит печать протрезвления, так как
горячечные кабинетные прогнозы не очень реализовывались в жизни, факты
жизненного порядка оказались упрямее, чем предполагалось ранее, и
заставляли считаться с собой.
Что же это были за факты? Раскол в символизме, напряженная
полемика между московскими символистами, продолжавшими базировать
свою эстетику на индивидуалистических началах, и петербургскими,
провозглашавшими в качестве основного своего постулата соборность.
Но если бы эта дифференциация внутри движения была бы столь же
четкой, как в нашем изложении, надо полагать, В. Иванов смирился
бы с нею, во всяком случае не воспринимал бы ее весьма болезненно.
148
Положение же, однако, было сложнее. Дело в том, что безусловные, по
его мнению, художники-«келейники» никак не хотели окончательно
порывать с индивидуалистической эстетикой. Так, полемизируя с
идеями В. Иванова, А. Белый писал в своей статье «Место анархических
теорий» (1906): «Мы выстрадали себе право на осторожность и
недоверие: ведь мы одни из первых индивидуалистов стали сознавать узость
индивидуализма. Но в то же время горьким опытом убедились мы в
пустоте и подчас шарлатанстве преодолений того истинного, что
получили мы в наследство от Канта, Гете, Ницше, Ибсена. Но и не пришли
к выводу, что надо оставаться с индивидуализмом. Мы хотим только
указать, что индивидуализм — верная цитадель, которую не следует
покидать преждевременно и без особой осторожности»52*.
Короче говоря, на первый взгляд логично выстроенная В. Ивановым
внутри символизма иерархия искусств оказалась только рассудочной
схемой, и он решает заменить ее на более, с его точки зрения, живую и
отвечающую реальной ситуации формулу. Так и появились новые
термины — «идеалистический» и «реалистический» символизм,
генеалогически восходящие к прежним понятиям «интимного» и «келейного»
искусства и все же заметно от них отличающиеся, ибо в разряд
«идеалистов» на сей раз зачислялись и некоторые вчерашние «келейники»,
не захотевшие порвать с эстетическим индивидуализмом; право же на
подлинный «реализм», естественно, признавалось только за
мифотворческой концепцией самого В. Иванова.
Содержалась ли в словах теоретика хотя бы относительная «правда»,
когда он упрекал «идеалистических» символистов в «иллюзионизме»,
или вся его статья «Две стихии в современном символизме», как о том
сказал А. Белый в своем отклике на нее — «Realiora» (1908),
представляла собой свод давно разжеванных, ходячих истин и
фантастичных, необоснованных обвинений? Безусловно, содержалась. В. Иванов
хотел поставить предел своеволию «художника-тирана, о каком
мечтал Ницше»53, и вернуть творчество на пути теургии, как ее понимал
Вл. Соловьев. Волюнтаризм искусства, не желавшего считаться с
реальностью низшего порядка, не удовлетворял его. Будто цитируя
* О сложном «положении А. Белого в момент распри двух школ» пишет
Эллис (Эллис. Русские символисты: Константин Бальмонт. Валерий Брюсов.
Андрей Белый. С. 270).
149
А. Белого, автора статьи «Формы искусства», он писал, что для
«идеалистического символизма» «все феноменальное — марево Майи»54,
а выдвигая «лозунг» «реалистического символизма»: «"a realibus ad
realiora", т.е.: от видимой реальности и через нее — к более
реальной реальности тех же вещей, внутренней и сокровенной»55, вступал
в открытую полемику с теми, кто понимал символ как только знак
высшей реальности, не имеющий помимо никакого смысла и
значения.
А. Белый, разумеется, столь откровенно никогда не высказывался,
ибо был крупным художником, но, например, бывший «аргонавт» Эллис,
боготворивший А. Белого и обобщавший его опыт, утверждал нечто в
этом духе с обезоруживающей откровенностью. «Чем глубже и
сознательнее художественное творчество, — писал он в своей книге, — тем
более и более оно начинает смотреть на все видимое, реальное — лишь
как на Gleichniss, лишь как на значок, как на оболочку или символ
великого неизвестного, определить которое и представляется возможным,
единственно отправляясь от преходящего, как от искаженной и
отраженной копии Вечного». И уже прямо споря с В. Ивановым: «Только
углубление в мир явлений дает возможность идеи; следовательно,
созерцание должно направляться не только от реального, ноисквозь
реальное, сквозь конечное, видимое и проявленное к бесконечному,
невидимому и непроявленному. Явление имеет смысл не an sich, а лишь как
Gleichniss, лишь как отблеск иного, таинственно-скрытого,
совершенного мира, лишь как точка отправления»56.
В связи с этим, по Эллису (и, право, он в данном случае недалеко
ушел от А. Белого), «реальный мир» — «тюрьма» для всякого, кто
хочет быть «выше мира», феноменальное является всего лишь
«грудой восходящих ступеней», и, следовательно, «даже отвергая и
презирая мир и действительность, поэт... любит ее, хотя бы как неизбежное
средство» для восхождения в горние выси. Позиция В. Иванова
просто-напросто удивляет Эллиса: «Если realiora уже воплощены и суть
наличная действительность, то в чем же тогда смысл всякого
мистического и художественного творчества вообще?» — спрашивает он. Для
него-то «сущность всякого творчества» — это «необходимость культа
разрушения, очистительное сожигание всех непосредственных
ценностей», тогда «наблюдение переходит в созерцание, созерцание в
символизацию, а последняя уже в себе самой содержит элементы идеализа-
150
ции. Но идеальный образ всегда неминуемо враждебен
первоначальному, внешнему, породившему его когда-то реальному»57.
Нет, напрасно упрекал А. Белый автора «Двух стихий в современном
символизме» в банальности лозунга «A realibus ad realiora!». В любом
случае В. Иванов хотел парализовать своеобразный эстетический
нигилизм, столь явственно прозвучавший в приведенных высказываниях
Эллиса (да и его ли одного!), когда признавал за миром
феноменального (на большее он, как символист, не был способен) хотя бы
относительные реальность и ценность. Теоретические усилия В. Иванова
вдохновлялись стремлением придать символизму устойчивость и даже
некоторую «земность», отсюда и его рассуждения о «реализме»
символизма, разумеется, в сугубо специфическом, символистском
толковании этого термина. Его же оппонент Эллис предупреждал, что одна
из «опасностей», которая грозит новому искусству, — «возврат к
реализму (в какой бы то ни было форме)...»58.
Такова была «правда» В. Иванова во внутриусобной борьбе. Но,
конечно, он был не прав, когда зачислял А. Белого и его союзников
вроде Эллиса, не называя, однако, их имен, в «иллюзионисты»,
которым якобы недоступна высшая религиозная реальность («realiora») и
которые, дескать, больше пекутся об «утончении» собственной души.
Тут А. Белый не без основания мог возразить, что «истина»,
открываемая В. Ивановым, давно открыта: «Символизм реален; символ не
может быть только иллюзией. Деятельность истинного художника
провиденциальна. Вот мысль, достаточно известная. Вот смысл воззрений
на искусство Вл. Соловьева, которого обсуждали мы семь лет назад,
взгляды которого вошли в плоть и кровь многих из нас,
видоизменяясь еще в то время, когда литературная деятельность уважаемого Вяч.
Иванова не была нам известна»59. Повторяем, «иллюзионистом» в том
смысле, какой вкладывал в это понятие автор «Двух стихий», А. Белый
не был.
Но А. Белый лукавил, когда делал вид, что не понимает, «против»
каких «таинственных символистов-иллюзионистов»60 идет речь у
В. Иванова. И делал это по чисто корпоративным соображениям, дабы
не вызвать гнев тех своих сотоварищей, которые во многом
базировались на платформе «чистого искусства». А В. Иванов называл
«идеалистическими символистами» именно декадентов и тех, кто не смог
или не хотел до конца преодолеть обаяния последних. Сам же он, впро-
151
чем, как и А. Белый, стремился к этому, пытаясь опереться на некие
сверхличностные ценности; отсюда и его упорное обращение к «дио-
нисийской» стихии. Декаденты, по его понятиям, — иллюзионисты,
ибо посвятили себя «изучению и изображению субъективных
душевных переживаний, не заботясь о том, что лежит в сфере
объективной и трансцендентной для индивидуального переживания»; в них, по
этой причине, «не дышит дух Диониса, требующий расточения души
в целом, потери субъекта в великом субъекте и восстановления его
через восприятие последнего, как реальный объект».
«Идеалистическому символизму» не присущ «пафос мистического устремления к
Ens realissimum, эрос божественного»61, и это, на его взгляд, большое
зло, ибо постижение высшей реальности, причастность к ней служат
воссоединению «разорванных сознаний», обособленных,
«отвлеченных начал» в единое целое.
Поскольку искусство «реалистического символизма» пронизано этим
стремлением, то оно, убежден В. Иванов, должно идти дорогой мифа,
«ибо миф — объективная правда о сущем», «воспоминание о
мистическом событии, о космическом таинстве»; он «является вещим сном,
непроизвольным видением, "астральным" (как говорили древние тай-
новидцы бытия) гиероглифом последней истины о вещи сущей
воистину»62. Короче, миф, по представлению теоретика, всегда говорит об
отношении Логоса к Мировой Душе, это и есть его «последняя истина».
Именно поэтому В. Иванов определяет мифотворчество как теургию,
и в попытке опереться на миф как на нечто общезначимое, «истинное»
четко улавливается его стремление ограничить произвол художника-
теурга во вкусе А. Белого.
Миф становится мифом, когда оказывается фактом общенародного
сознания, но это не значит, утверждает В. Иванов, что о нем можно
говорить как о «самопроизвольном акте народного творчества»63.
Художник-теург, являясь орудием божественного всеединства, готовит, так
сказать, основу будущего мифа, и потом, бытуя в народной среде,
обрастая разного рода дополнительными смыслами, эта основа и
превращается в истинный миф.
Если сравнить представленную здесь «диалектику»
мифотворчества с действиями художника «келейного» типа, описанными В.
Ивановым в ранней статье «Поэт и Чернь», выявится существенная разница:
момент сотворчества художника и народа там хотя и подразумевался,
152
но специально не акцентировался. Тогда у В. Иванова, охваченного
надеждами на скорую эпоху всенародного искусства, не было
оснований для того, чтобы подозревать поэта в своеволии и стремиться
ограничить это своеволие. Теперь же он более осторожен в своих
высказываниях. Если дух «идеалистического эстетизма» все еще силен в
искусстве, то, пишет он, «о хоре и мифе приходится говорить только как бы
теоретически, как бы и не предчувствуя*, что некая большая перемена
близка и уже при дверях»64.
В приведенной цитате упомянуто о хоре, этом «постулате...
эстетического и религиозного credo» В. Иванова. Хор для него «уже
символ — чувственное ознаменование соборного единомыслия и
единодушия, очевидное свидетельство реальной связи, сомкнувшей
разрозненные сознания в живое единство», и поэтому он неизбежно
связан с мифом. «Вокруг алтаря, видимого или невидимого, — пишет
он, — шествует хор. Поэтому можно сказать, что хор поет миф, а творят
миф — боги»65.
Как и прежде, мысль о создании религиозной общины — хора —
связывается в сознании В. Иванова с театром. Но и здесь он стал более
сдержан в своих высказываниях, в соответствии с принципами
«реалистического символизма» уточняя и объясняя написанное ранее. Автор
статьи считает нелишним напомнить, что зритель «хоровой драмы»
отождествлял себя именно с хором, а не с протагонистом хора, он не
только брал на себя вину трагического героя, но и стремился
предостеречь его от нее, являясь голосом соборного единомыслия и едино-
чувствия. Все это вписывалось в общий фон рассуждений В. Иванова,
опасавшегося субъективизма в символизме и звавшего его прочь от
«иллюзионизма» в сторону «реализма».
Сдержанность позиции В. Иванова в статье «Две стихии в
современном символизме» проявилась также и в том, что он практически не
говорит здесь о «дионисийской» оргийности, тем паче «мистическом
анархизме». В связи с этим нелишне, на наш взгляд, высказать
предположение, что В. Иванов медленно эволюционировал от почти про-
языческой системы взглядов в направлении теократической доктрины
* Ср. это выражение с названием статьи В. Иванова 1906 г. «Предчувствия
и предвестия. Новая органическая эпоха и театр будущего», в которой давался
более оптимистический прогноз на этот счет.
153
Вл. Соловьева, и в этом смысле его эволюция была противоположна
развитию эстетической концепции А. Белого, в которой фигура Ницше,
автора «Заратустры», все более заслоняла собой автора «Трех
разговоров» и мистического учения о Вечной Женственности. Не случайно
на торжественном заседании Московского религиозно-философского
общества 10 февраля 1911 г., посвященном памяти великого философа,
он выступит с докладом «Религиозное дело Вл. Соловьева», а потом
поместит его в сборнике «О Владимире Соловьеве» (М., 1911) под еще
более многозначительным заглавием «О значении Вл. Соловьева в
судьбах нашего религиозного сознания».
И все-таки преувеличивать его религиозность вряд ли оправданно.
Борясь с «иллюзионизмом» декаданса за «религиозный символизм»,
Иванов крайне расплывчат в определениях своего религиозного кредо.
И хотя он был, безусловно, прав, отвечая А. Белому, что не стоит путать
эстетику с вероисповеданием, был прав и А. Белый, обвиняя его, в
свою очередь... в иллюзионизме. «Истинный художник», рассуждал
оппонент В. Иванова, «предпочтет до времени» не распространяться о
своих религиозных симпатиях, но «если уж будет говорить открыто, то
открыто и честно назовет имя своего Бога, а не станет бессильно
слоняться между Идолом (Дионисом) и Богом, по мере надобности
принося жертвы и тому, и Другому»66.
В том-то и дело, что, обвиняя друг друга в смертных грехах, правы
они были в равной степени; взаимные претензии, как показывает
анализ, действительно имели под собой серьезные основания. Как,
впрочем, и одинаково не правы, считая только свою концепцию истиной в
последней инстанции. Что же касается полемики, то она расшатывала
эстетику символизма, заводила это литературное и
религиозно-философское течение в тупик, говорила об исчерпанности возможностей
«нового искусства».
4. «О границах искусства»
В 1914 г. В. Иванов опубликовал во многих отношениях
знаменательную для судеб русского символизма статью «О границах искусства».
В ней он развил прежде и теперь волновавшие его мысли и довел их до
логического предела. Проследим за логикой его идеи.
154
Работа начинается с рассуждений о диалектике «восхождения»
и «нисхождения». Впервые, как мы помним, он заговорил об этом в
«Символике эстетических начал». Новизна его подхода здесь в том,
что названные «эстетические начала» он непосредственно связывает
с художественной практикой вообще и с практикой символического
искусства в частности. «Брать и давать — в обмене этих двух энергий
состоит жизнь, — говорит В. Иванов. — В духовной жизни и
деятельности им соответствуют — восхождение и нисхождение»67. Художник,
поскольку он человек, «восходит» к высочайшему бытию, ибо таков
закон его духовной природы, но именно как художник он обязан
нисходить, поскольку искусство, говорящее на языке «прекрасного», есть
по преимуществу «нисхождение». В результате человек и художник у
В. Иванова разлучены и разъединены. В новейшее время, утверждает
он, так было всегда, и чаще всего данное противоречие разрешалось тем,
что один не ведал, что творит другой. Тогда же, когда человек
«осведомлялся» о художнике, в его личности происходил разлад. Для
примера В. Иванов упоминает о судьбах Ботичелли и Л. Толстого. Однако
наиболее частый случай в искусстве, когда художник подавляет в себе
человека, человек при этом считается чем-то неглавным,
второстепенным, на первый план выступает его художественный гений, и «тогда
естественно является в нем иллюзия восхождения через художество»68,
но это, предупреждает теоретик, не более, чем заблуждение.
Сложнее обстоят дела во взаимоотношениях художника и человека
в символическом искусстве, ибо символизм объявил себя неким новым
мироощущением, а искусству отвел роль мистического прозрения
сверхчувственных сфер, недоступных рациональным методам познания.
В связи с этим художник и человек в эстетических концепциях и
художественной практике символистов не только не разведены, но,
наоборот, слиты в единое целое. Если же в силу сложных жизненных
причин это разделение все же происходит, то рассматривается как
катастрофа или измена святыне.
И переводя разговор в практическую сферу, имея в виду конкретные
имена, В. Иванов продолжает, что их пророчествование было весьма
сомнительным, но и художниками они были не «вполне», поскольку
подменяли «нисхождение» «восхождением», осознавая творчество
не «как священную жертву», а «как его служебный момент», причем
«влагали в свое художество свое стремящееся к свету, но неустроен-
155
ное, человеческое и притом очень молодое и пленное "я"»69. Короче,
речь у В. Иванова снова идет о грехе субъективизма, которым он ранее
обличал «идеалистический символизм», насиловавший, по его
представлениям, эмпирический мир своими химерическими фантазиями и
подменявший иллюзиями высшую реальность. Диалектика
«восхождения — нисхождения» или, как ее называет теоретик, «внутренний
канон», которому, по его мнению, должен быть верен символист, если
он хочет остаться художником, — это установление оптимальных
соотношений между феноменальным и ноуменальным. Поэт должен идти
не только «a realibus ad realiora», чтобы видеть внутреннюю,
сокровенную жизнь «вещей», а не «идеализировать» их, но и «a realioribus ad
realia», если говорить «не о действенности искусства, а об условиях и
процессе художественного творчества...» В. Иванов писал о
«координации малого с великим, обособленного со вселенским», когда
«каждый микрокосм, уподобляясь в норме своей макрокосму, вмещает его
в себя, как дождевая капля вмещает солнечный лик»70.
Признание, что низший мир содержит в себе высший и только
нуждается в актуализации заложенных в нем потенций, а отнюдь не в
наложении на него тиранической воли поэта, закономерно приводило В.
Иванова к мысли об ограниченности возможностей искусства, в том числе
и символического. «Символ... есть жизнь посредствующая и
опосредованная, — писал он в этой связи, — не форма, которая содержит, но
форма, через которую течет реальность, то вспыхивая в ней, то
угасая, — медиум струящихся через нее богоявлений. И освобождение
материи, достигаемое искусством, есть только символическое
освобождение»71. В. Иванов отдает предпочтение жизни перед искусством,
человеку перед поэтом. «...Тайнодействие символа не есть тайнодей-
ствие жизни», — говорит он и потому считает, что отождествлять
символизм с теургией по меньшей мере ошибочно. «Теургическое
томление» художника «разрешается» только в «технические объективации»,
«его эрос — только эрос формы», он должен смириться с подобной
участью и не переходить «теургическую межу художества»72, если не хочет
стать волшебником пустоты и миражей.
Используя символику известного стихотворения Вл. Соловьева,
В. Иванов утверждает, что подвиг художника — подвиг Пигмалиона, за
которым должны последовать «подвиги» Персея (общественное
строительство) и Орфея (идея богочеловечества). Увы, «старинное грехопаде-
156
ние и проклятие раздробило целостное творчество... и одну целостную
любовь-жизнь» на множество «разделенных искусств» и «пустых зер-
кальностей любви», — вздыхает В. Иванов. В 1906 г. с сочувствием
ссылавшийся на суждение Ибсена о том, «что красота вся станет жизнью и
вся жизнь красотой», теперь он пишет: «Не будем обольщаться: красота
не спасает мира». Если же прав был Достоевский, то «не нашу разумел
он красоту и не наше искусство Прометеевых детей, желающих
ограбить небо», а божественную красоту и «божественное художество»73.
Только оно, по В. Иванову, имеет право называться теургией. Только
тогда Душа Мира соединится с Логосом, слово станет плотью, а пока
«символ — слово, становящееся плотью, но не могущее ею стать...»74.
Но все же «этот эрос символизма к действию — свят» для В.
Иванова, и символическая «школа» сделала большое дело, утвердив как
«некий общий принцип» «символизм всякого истинного искусства»75.
Эти слова надо понимать следующим образом: символизм осознал
искусство как преддверие религиозного творчества и тем самым как
бы исчерпал свои возможности.
Отсюда вывод, который теоретик сделал на публичном диспуте о
современной литературе, состоявшемся в Петербурге в январе 1914 г.:
«...мы упраздняем себя, как школу. Упраздняем не потому, чтобы от
чего-либо отрекались и думали ступить на иной путь: напротив, мы
остаемся вполне верными себе и раз начатой нами деятельности. Но
секты мы не хотим, исповедание же наше — соборно» (там же).
Мысль об «упразднении» символизма как литературного течения
была новой не только для В. Иванова, и, конечно, в ее основе лежало
ощущение кризиса (и даже агонии) «нового искусства», хотя,
разумеется, он никогда бы не признался в этом. Но новизна в данном случае
присутствует, скорее, в неожиданности и парадоксальности
высказывания, нежели в существе дела.
Ведь, как то следует из его же процитированного нами выступления,
символизм всегда мечтал об упразднении себя в смысле школы. Правда,
В. Иванов об этом прямо никогда не писал, зато А. Белый постоянно
говорил о «творчестве» самой жизни, упрекая своего товарища в
эстетизме, в смешении искусства и действительности. Не оставался в долгу
и В. Иванов, в свою очередь, обвиняя в том же грехе А. Белого. И, как
мы уже упоминали, оба имели на это серьезные основания. Уточняя,
скажем, что А. Белый воспринимал символизм как некий универсаль-
157
ныи метод, одинаково пригодный и для искусства, и для жизненного
строительства. В. Иванов же окончательно развел символизм и
теургию. Но эта его победа над эстетизмом была призрачной и может
рассматриваться в качестве волевого акта, не вызвавшего, однако,
коренного изменения или хотя бы серьезного уточнения эстетической
концепции, которая к тому времени уже вполне сложилась и постепенно
становилась фактом историко-литературного прошлого, хотя и недавнего.
Впрочем, никакого пересмотра своей позиции со стороны теоретика
не могло и быть. Это для В. Иванова было бы равносильно выходу в
живую жизнь, но как раз последнего шага теоретики символизма и не
могли сделать, целиком находясь в плену собственной эстетической
утопии. Перед лицом не мнимой, а подлинной действительности они
оказывались безоружными, и потому все различия между ними,
служившие предметом страстной полемики друг с другом, требовавшей от
них немалых сил и интеллектуального напряжения, оборачивались, как
ни горько это сознавать, во многих отношениях книжной схоластикой.
Серьезное же стремление русских символистов обрести утраченную
цельность, их неизменное желание опереться на высшие духовные
ценности, присущее им понимание искусства как активной,
преобразующей мир и человека силы — все это должно быть взято нами на
вооружение. Оттого и уроки символизма, его нелегкий путь к истине важны
и необходимы для современной эстетической мысли.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
«ТВОРЧЕСТВО ЖИЗНИ »
В СУДЬБАХ СИМВОЛИСТОВ
Глава I
СОЦИАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО — З.Н. ГИППИУС
ПО ПРЕОБРАЖЕНИЮ ДУХОВНО-ТЕЛЕСНОЙ
ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА
1. «Русский Лютер»
«Шестого декабря [1901 года], вернувшись откуда-то, —
вспоминал А. Белый во второй книге мемуарной трилогии «Начало века»
(1933), — я получаю бумажку; читаю: "Придите: у нас (у М.С. и О.М.
Соловьевых. — B.C.) Мережковские". Мережковский по вызову князя
С.Н. Трубецкого читал реферат о Толстом; он явился с женой к
Соловьевым: оформить знакомство, начавшееся перепиской.
Не без волнения я шел к Соловьевым; Мережковский — тогда был
в зените: для некоторых он предстал русским Лютером.
Теперь не представишь себе, как могла болтовня Мережковского
выглядеть "делом"; а в 1901 г. после первых собраний
религиозно-философского общества заговорили тревожно в церковных кругах:
Мережковские потрясают-де устои церковности; обеспокоился Победоносцев;
у Льва Тихомирова только и говорили о Мережковском; находились
общественники, с удовольствием потиравшие руки:
— "Да, реформации русской, по-видимому, не избежать".
В "Мире искусства", журнале, далеком от всякой церковности, только
и слышалось: "Мережковские, Розанов". И в соловьевской квартире уже
с год стоял гул: "Мережковские!" В наши дни невообразимо, как эта
"синица" в потугах поджечь океан так могла волновать»1.
Уподобление Д. Мережковского «синице», переоценившей свои
силы, целиком лежит на совести Белого. Если эти слова и заключали в
себе правду, то лишь отчасти. Подобную аллегорию можно осознать в
известной степени как дань мемуариста политической конъюнктуре,
сложившейся ко времени создания книги — мемуары А. Белого, к
сожалению, не лишены этой тенденции. Определенную роль сыграл тут и
160
«исключительно неправдивый», по выражению 3. Гиппиус, характер
автора «Начала века», человеческую «природу» которого она
определяла (небезосновательно!) как «воплощенную неверность»2.
Отношение Белого к Мережковским знало свои подъемы и спады,
однако основная тональность его многочисленных дореволюционных
публикаций о Дмитрии Сергеевиче и 3. Гиппиус была лишена той часто
ернической иронии, которая стала весьма характерной для его
позднейшей мемуарной прозы. Он вряд ли поддержал бы Модеста
Гофмана, заявившего однажды: «Все мы обязаны своей образованностью и
своими мыслями Мережковскому»3. Масштабы дарований А. Белого и
автора данного высказывания были несоизмеримы, и, следовательно, то,
что являлось истиной для одного, для другого оказывалось очевидной
натяжкой. Тем не менее и в судьбе Белого, как и в судьбах многих
других представителей этой эпохи, Мережковский сыграл немалую роль.
Проблематика его трилогии «Христос и Антихрист», а также
знаменитой книги «Л. Толстой и Достоевский», яркие и часто парадоксальные
идеи многочисленных его статей и выступлений, оригинальная
религиозно-философская концепция и не менее оригинальная
терминология — все это обдумывалось ими, входило в плоть и кровь их
собственных книг и убеждений. Даже активное неприятие идей Мережковского
способствовало формированию мировоззрения многих «младших»
символистов, в том числе, разумеется, Белого и Блока.
Религиозное сознание каждого из упомянутых поэтов создало «свой»
образ Мережковского.
По Блоку, например, драма этого писателя заключается в том, что
его творчество постоянно пребывает в тисках антиномии «культура —
религия». «Мережковский, — писал он, — хочет... ввести всю культуру в
религию, потому что его "новое религиозное сознание" не терпит
никакой пустоты. Зная это центральнейшее место его учения, уже
совершенно забываешь всякую "веру" и "неверие" в него самого, потому что
здесь он или превосходит самого себя, или омертвел, как дерзкий
воздухоплаватель, погибший среди крыльев воздушного корабля... И не так
важна здесь судьба самого Мережковского, — омертвел он или только
замер в трепете перед тем, что увидел, — как важно то, что
открывается за его словами: это уже не личное, а всечеловеческое дело: надо
ли остановиться, запечалиться о старой религии, оглянуться назад, как
Орфей? Но тогда Евридика — культура опять станет тихо погружаться
161
в тени Аида. Или — надо принять на себя небывалый подвиг: обладать
"прекрасной блудницей" культуры так, чтобы союз с нею стал вратами
в Новый Иерусалим.
В этих теснинах духа и стоит Мережковский; может быть, сам для
себя он уже решил здесь что-то, но пока это не перестало быть
вопросом для всех, до тех пор убийственно неясны и запутаны здесь вопросы
о взаимоотношении дела и слова, жизни и схоластики» (V, 363).
Но если для Блока Мережковский является заложником культуры
и потому, несмотря даже на искреннее желание вырваться из ее плена,
все же вынужден нести на своих плечах ее «тяжелый... крест», то для
А. Белого «этот пламенный человек» «с пламенным дерзновением
неоднократно звал» русскую интеллигенцию к «религиозному действу»4.
«Определите-ка, кто он: критик, поэт, мистик, историк? То, другое и
третье или ни то, ни другое, ни третье? Но тогда кто же он? Кто
Мережковский?» — вопрошал Белый и утверждал: «...поэзию, мистику,
критику, историю — все превратил Мережковский в ореол вокруг какого-то
нового отношения к религии — теургического*, в котором безраздельно
слиты религия, мистика и поэзия. Все остальное — история, культура,
наука, философия только подготовляли человечество к новой жизни.
Теперь приближается эта жизнь, упраздняется чистое искусство,
историческая церковь, государство, наука, история»5.
Говоря о теургическом отношении Мережковского к религии,
Белый использовал этот прочно вошедший в символистскую эстетику
после Вл. Соловьева термин, чтобы подчеркнуть: Мережковский не
только и не столько художник, сколько проповедник «новой жизни».
И в этом своем утверждении он был, безусловно, прав. Раскрытие
содержания жизненной задачи Мережковского и анализ путей ее
осуществления составляют цель нашего дальнейшего разговора.
Для начала позволим себе обширную цитату из первого романа
трилогии Мережковского «Христос и Антихрист» «Смерть богов (Юлиан
Отступник)» (1896). Десятилетний Юлиан, будущий византийский
император, вынужденный исповедовать христианство, но всей душой пре-
* «Теургия (греч. theurgia, букв<ально> — божеств<енное> действие, чудо),
вид магии, с помощью которой считалось возможным изменить ход событий,
подчиняя своей воле действия богов и духов» (Большой энциклопедический
словарь. М; СПб., 2002. С. 1199).
162
данный религии и культуре античности, читает с амвона арианской
базилики св. Маврикия, построенной «почти целиком из камней
разрушенного храма Аполлона», Апокалипсис. «Проносились страшные
образы Откровения: бледный конь в облаках, имя которому Смерть;
племена земные тоскуют, предчувствуя кончину мира; солнце мрачно,
как власяница, луна сделалась как кровь; люди говорят горам и
камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от
гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может
устоять?» Чтобы усилить впечатление от трагических образов
Апокалипсиса, писатель сжимает повествование до размеров одного абзаца и
продолжает: «Юлиан умолк; в церкви была тишина; в испуганной толпе
слышались только тяжелые вздохи, удары головой о плиты и звяканья
цепей юродивого: "Господи! Господи! Дай мне слезы, дай мне
умиление, дай мне память смертную!"
Мальчик взглянул вверх, на огромный полукруг мозаики между
столбами свода: это был арианский* образ Христа — грозный, темный,
исхудалый лик в золотом сиянии и диадеме, похожей на диадему
византийских императоров, почти старческий, с длинным тонким носом и
строго сжатыми губами; десницей благословлял он мир; в левой руке
держал книгу; в книге было написано: "Мир вам. Я свет мира"»6.
Мережковский заставляет Юлиана зафиксировать в своем сознании
и сознании читателя контраст между «темным... ликом» Христа на
мозаике и сутью его учения: «Я свет мира», чтобы тут же этот
контраст сделать более разительным и наглядным.
«А между тем, — повествует писатель, — там, внизу, в полумраке,
где теплилась одна лишь лампада, виднелся мраморный барельеф на
гробнице первых времен христианства. Там были изваяны маленькие
нежные Нереиды, пантеры, веселые тритоны; и рядом Моисей, Иона
с китом, Орфей, укрощающий звуками лиры хищных зверей, ветка
оливы, голубь и рыба — простодушные символы детской веры; среди
них — Пастырь Добрый, несущий Овцу на плечах, заблудшую и най-
* «Арианство, течение в христианстве в IV—VI вв. Его зачинатель —
священник Арий (ум. в 336) из г. Александрия. Ариане не принимали один из осн<овных>
догматов офиц<иальной> христ<ианской> церкви о единосущности Бога-отца и
Бога-сына (Христа); по учению Ария, Христос как творение Бога-отца —
существо, ниже его стоящее» (Большой энциклопедический словарь. С. 67).
163
денную Овцу — душу грешника. Он был радостен и прост, этот
босоногий юноша, с лицом безбородым, смиренным и кротким, как лица
бедных поселян; у него была улыбка тихого веселия. Юлиану казалось,
что никто уже не знает и не видит Доброго Пастыря...»7.
Виден вектор мысли Мережковского: образ «босоногого юноши»,
«Пастыря Доброго», созданный «детской верой» первых христиан, в
простодушном воображении которых библейский Моисей мирно
уживался с античным Орфеем, вытеснен из церковного сознания
последующих эпох и заменен на аскетический образ «грозного» Христа с «почти
старческим» обликом. Дальнейшее повествование подводит эту мысль
к своему логическому завершению. В то самое время, когда Юлиан
вместе с писателем рассматривали барельеф на гробнице, «упав из окна,
косые лучи солнца задрожали столбом в облаке ладана; и тихо
колеблясь, как будто подняло оно вспыхнувший золотым сиянием грозный,
темный лик Христа. Хор торжественно грянул:
"Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и
трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет". <...>
И песнь, как буря, проносилась над склоненными головами
молящихся.
Образ босоногого юноши, Доброго Пастыря, уходил в неизмеримую
даль, но все еще смотрел на Юлиана с вопросом. И сердце мальчика
сжималось не от благоговения, а от ужаса перед этой тайной, которую
во всю жизнь не суждено ему было разгадать»8.
Прототип героя Мережковского император Юлиан во время своего
правления в Византии (361—363 г.) попробовал повернуть ход истории
вспять: уже укрепившееся и окрепшее христианство он заменил
языческим многобожием, за что и был назван Отступником. Антихрист
Юлиан, дав бой Христу, бой проиграл. «Ты победил, Галилеянин!..» —
с этой фразой на устах он гибнет в романе Мережковского.
Персонажей прозы и драматургии писателя трудно причислить к
полнокровным реалистическим героям, потому что они жестко
привязаны к его религиозно-философской концепции, являясь, по сути дела,
ее исповедниками и носителями. Насильственный исторический
эксперимент, произведенный императором Юлианом, привлек к себе
внимание художника по той простой причине, что оказался одной из
разновидностей борьбы с так называемой исторической церковью,
которую Мережковский вел практически на протяжении всей своей жизни.
164
В упомянутом эпизоде уже первого романа трилогии он заставляет
Юлиана смотреть на богослужение и на церковный интерьер своими
собственными глазами, а не глазами ребенка. Не считаясь с
психологическим и интеллектуальным потенциалом юного героя, Мережковский
проводит свою линию властной рукой: историческая церковь,
начертавшая на своих знаменах «грозный, темный, исхудалый лик» Христа,
не только забыла про «Доброго Пастыря», кровно связанного с плотью
мира, но и подавила всякую плоть человеческую, побуждая христиан
оставить помышление земное как глубоко греховное по своей сути.
Эта идея определяет пафос всех центральных произведений
Мережковского: трилогии «Христос и Антихрист», исследования «Л. Толстой
и Достоевский», книги публицистики «Не мир, но меч. К будущей
критике христианства» (1908) и т.д.
Вот что он писал в статье «Последний святой» (1907): «Что же мне
делать? <...> Я не хочу ни Бога без мира, ни мира без Бога.
Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного отдал, чтобы
спасти мир. — Как же не любить мне того, что возлюбил Бог?
Это, с одной стороны, а с другой:
Не любите мира, ни того, что в мире. — Весь мир лежит во зле.
Царство Христа — не от мира сего. Князь мира сего — диавол.
Не Бог, а дьявол создал мир, это сказать для христианина —
кощунство, а делать — святость, ибо не может христианин угодить Богу, не
отрекшись от мира, не возненавидев мир, — не какую-либо часть мира,
а именно весь мир как царство дьявола. "Приходящие к сему подвигу (к
отречению от мира) должны всего отречься, все презреть, всему
посмеяться, все отвергнуть", — говорит Иоанн Лествичник.
Что же такое христианство — принятие или отвержение,
проклятие или благословение мира?
Тут — противоречие, не только неразрешенное, но и несознанное,
решающее, однако, последние судьбы мира»9.
Конечно, Мережковский, обозначая и заостряя проблему,
преувеличивает: вряд ли обнаруженное им «противоречие» (противоречие ли
это вообще или нечто нам неведомое — вот вопрос?!) можно
квалифицировать по разряду «несознанных» христианством. Однако острота
проблемы от этой оговорки не ослабевает. И авторскую мысль о том,
что от ее постановки и решения зависят «судьбы мира», с ходу
отмести невозможно.
165
Трудно не согласиться с автором статьи в той ее части, что
«христианство должно включить весь мир — плоть, пол, общественность»,
однако нельзя и не спросить себя вместе с ним: как это сделать? Ведь
Мережковский совершенно справедливо утверждает, что «об этом
говорили все реформации и все реставрации, так называемые
"возрождения христианства", от Ламенэ и Лакордера до Вл. Соловьева и Сергея
Булгакова. Говорили, но не сделали. Все попытки соединить
христианство с миром ни к чему не приводили, кроме ущерба для обеих сторон:
или христианство глотало мир, как нож, или мир урезывался
христианством, как ножом. Это в худшем случае, а в лучшем — оба начала,
соединяемые, не соединялись, а только смешивались, как вода с
маслом в сосуде, который взбалтывают: отстоится смесь, и масло
всплывает над водою, христианство — над миром»10.
Если вслед за своими предшественниками и современниками
Мережковский вновь задается вопросом о необходимости соединения
христианства с миром, у читателя может возникнуть предположение, что он
знает ответ на этот вопрос. И в самом деле: ответ у Мережковского
действительно есть. Но, прежде чем мы раскроем его содержание,
остановимся подробнее на характере и религиозно-метафизическом смысле
тех претензий, которые писатель предъявил историческому
христианству. Сделать это не очень сложно, ибо практически во всех своих
произведениях как художественного, так и критико-публицистического
характера он бесконечно варьировал один и тот же набор этих
вопросов, с годами оттачивая свой язык, делая формулировки свои
лапидарнее, четче по мысли. Требования его к христианской церкви
становились смелее, жестче и настойчивее.
Кажется, совершенно ясно, утверждал Мережковский, что
христианство основано на «живом знании» о воскресении Христа, причем
воскресении во плоти, однако это краеугольное для христианского
сознания положение превратилось в «мертвый догмат, устами
исповедуемый, но сердцем даже не отвергаемый, а просто непостигаемый».
Чтобы ярче подчеркнуть парадоксальный, на его взгляд, характер
данной ситуации, писатель сравнивает отношение современного
христианства к воскресшему Христу с отношением языческой Греции к
воскресению Адониса. По древнегреческому мифу, Адонис, вечно
воскресая, окончательно воскреснуть тем не менее не может и снова умирает.
Отсюда следует вывод: «...эллинское язычество — только великолеп-
166
ная гробница этого воскресшего и вновь умершего бога.
Современное христианство — такая же великолепная гробница воскресшего и
вновь умершего Христа». «Воскресение Плоти», продолжает
Мережковский, требует от церкви соответствующего этому мистическому
акту «мистического реализма» и даже, как он выражается,
«мистического материализма». Вместо этого она свела все дело к так
называемому «бессмертию души», воспользовавшись идеализмом
дохристианской философии, учившей о смертности тела и бессмертии души. От
данного положения только шаг к следующему: воскресение возможно
лишь как явление духовного порядка и именно в этом своем качестве
означает победу над плотским началом.
«Но при чем в таком случае Воскресение Христа?» — спрашивал
Мережковский. Чтобы доказать бессмертие души? Такой ответ на этот
вопрос бьет мимо цели, ибо люди верили в ее бессмертие и до Христа и
помимо Христа. Однако смерть от этой веры не стала ни менее
реальной, ни менее страшной, ибо, развивал свою мысль писатель, «никакой
бесплотный идеализм не может победить реализма плотской смерти.
И ежели бессмертное начало есть только духовное, бестелесное, то
зачем было Телу Христа воскресать?»
Снова вопрос и вопрос непростой, чтобы от него досадливо
отмахнуться. Зная об этом, Мережковский продолжал наступать. «Имей
современное христианство достаточно мужества, — упорствовал он, — но
мужества-то ему и недостает больше всего, — чтобы довести до конца,
до сознания свою бессознательную метафизику бесплотности, то каким
кощунством должны бы казаться ему слова Господа Воскресшего к
ученикам, подумавшим, что "видят духа".
Что смущаетесь и зачем такие мысли входят в сердца ваши?
Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это — Я Сам; осяжите Меня и
рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня».
«Христос современного христианства, — жестко подытоживал свои
рассуждения писатель, — и есть именно "дух", который "плоти и костей
не имеет". Дух "вознесся на небо", в область отвлеченных идей, а на
земле остался гроб с мертвыми костями Человека, умершего и не
воскресшего»11.
Необходимо помнить, что, критикуя современное христианство,
догматическое учение исторической церкви, Мережковский всегда
оговаривал главное условие своей критики: «...говорить о христианстве еще не
167
значит говорить о Христе». Иными словами, он был намерен отделить
друг от друга эти два понятия, а где возможно, и вовсе их
противопоставить. Наиболее подходящей сферой для подобного
противопоставления представлялась ему христианская святость. Святость, не без
основания полагал он, есть наиболее созревший плод любой религии,
следовательно, она доводит до логического предела ее метафизические основы,
являясь своего рода ее естественной мерой. Вот почему писатель
говорил, что о проблеме совместимости христианства с миром
(предварительное его мнение на этот счет мы уже знаем) нагляднее всего судить
по духу христианской святости, по ее отношению к миру, а именно: к
плоти, к полу, к общественности. Но, прежде чем начать разговор об этих
направлениях христианской святости, Мережковский делал весьма
важную для его религиозно-философской концепции оговорку.
Когда говорят о Слове, ставшем Плотью, напоминал он, имеют в
виду «откровение Божеской Сущности, которая воплощается в мире,
становится имманентною миру. Но христианская святость —
отречение от мира, доведенное до предела своего — до отрицания мира,
как начала, несоизмеримого с Богом, — предполагает откровение
Божеской Сущности, не имманентной, а трансцендентной миру». По
Мережковскому выходит, что первое понимание Божеской
Сущности не согласуется и даже противоречит второму. «Если же это
действительно так, — подбирает он выражения помягче, — то не могло
ли бы оказаться христианство, по крайней мере в некоторых точках
своей метафизики, — страшно сказать, но страшнее молчать, —
противоположным Христу?»12.
По форме данное выражение — вопрос, по сути — утверждение.
Если писатель и допускает долю сомнения в правоте своего
высказывания, то делает это или действительно страшась радикальности
данного суждения, или по тактическим соображениям, опасаясь
цензурных осложнений и заведомо смягчая удар. 11 (24) апреля 1907 г. он
писал А. Белому из Парижа: «Есть у меня к Вам одна просьба: я послал
в "Русскую Мысль" статью о Серафиме. (Речь идет о процитированной
нами статье «Последний святой», центральным персонажем которой
был Серафим Саровский. — B.C.) Боюсь, что ее не напечатают, если
будет читать какой-нибудь человек, совсем чуждый религиозным
вопросам. Вы, кажется, лично знаете С.А. Котляровского, который участвует
в редакции "Р<усской> М<ысли>". Не сходите ли к нему и не попро-
168
сите ли принять мою статью под свое покровительство, т.е. чтобы он
отстоял ее и похлопотал об ее напечатании»13.
Опасения Мережковского были вовсе не напрасными:
центральные положения статьи действительно носили радикальный характер,
может быть, самый радикальный из всего состава будущего сборника
«Не мир, но меч».
Учитывая направление предпринятой Мережковским критики
современной церкви, нетрудно догадаться, каким будет его вывод
относительно христианской святости. «...Последняя тайна христианской
святости не в приобщении, а в разобщении со всякою плотью, в
утверждении духовности, как бесплотности»14, — вот его жесткий вердикт по
этому вопросу. Основан он, как всегда у писателя, на тщательной
проработке проблемы. Статья «Последний святой» изобилует обширными
выписками из работ Отцов Церкви, из свидетельств о жизни и
размышлениях св. Серафима Саровского, характеризующих его и их
отношение к плоти, полу, общественности.
Не побоимся и мы, в свою очередь, подробного цитирования
Мережковского.
«По слову Антония Великого, — писал он, — "первая добродетель
человека есть презрение плоти". По слову Божьему, первая
добродетель человека есть любовь к Богу. Но для христианства любовь к Богу
и есть не что иное, как ненависть к миру, презрение к плоти.
Плоть есть "гной". Просить у Бога плотских благ — значит "просить
гноя". Плоть есть грязь — "брение, растворенное кровью и мокротами":
"высохшая грязь не привлекает свиней, умерщвленная плоть не
привлекает бесов". Плоть есть труп: душа святого в теле — живая душа в
трупе. Не только всякая чувственность, но и всякая чувствительность
тела — зло для души. Состояние святости — совершенная
бесчувственность, как бы столбняк, превращение тела в камень или обрубок
дерева."Поистине блажен тот, кто приобрел совершенную
нечувствительность ко всякому телу, и виду, и красоте, — говорит Лествичник. —
Душа твоя да будет с Господом во всякое время; тело же твое да будет
на земле, как изваяние и истукан". <...>
"Сущие в теле Богу угодить не могут". Отсюда вывод:
"Необходимо совлечься тела и быть как бы вне тела". Сначала — как бы, а
потом — совсем. Предел самоумерщвления — самоубийство — вот
предел христианской святости. "Если тело скажет тебе: великий грех
169
самому себя убивать, то отвечай ему: сам себя убиваю, потому что
не могу жить нечисто. Лучше мне умереть, ради непорочности. Сам
себя умерщвляю" (Леств., XXII). <...> "Умирай каждый день, чтобы
жить", — говорит Антоний Великий. "Будь мертв в жизни сей, чтобы
жить по смерти. Молись так: сподоби меня, Господи, возненавидеть
жизнь мою", — говорит Исаак Сириянин. Умертвивший плоть свою
есть "блаженный и живой мертвец" (Леств., IV)»15.
Радикальный аскетизм христианской святости еще нагляднее
проявляется, по Мережковскому, в ее отношении к полу. Какой смысл
вкладывает общественное мнение в понятие целомудрия? Целомудрие,
отвечает писатель, воспринимается обычно как преображение, но ни в коем
случае не как «вытравление пола, совершенное скопчество». Это,
говорит он, точка зрения христианского сознания и, развивая данный тезис,
продолжает: «...в поле, еще в большей мере, чем во всей остальной плоти,
состояние святости — состояние мертвой материи.
Если вообще плоть — гной и грязь, то пол — гной гноя, грязь грязи.
"Все существующее, по природе своей, ненасытно желает сродного
себе: кровь — крови, червь — червя, грязь — грязи; а потому и плоть
мужская желает плоти женской" (Леств., XV). Итак, существо брака,
соединение полов — не что иное, как соединение грязи с грязью. На
слово Господа: да будут двое одна плоть, христианская святость
отвечает: да не будет двое одна грязь. <...>
Таинство брака находится в таком же зияющем противоречии с
христианскою святостью, как Таинство Крови и Плоти. Женихом назван
Христос, а сделан скопцом»16.
Заявление более чем резкое, однако в своей правоте Мережковский
не сомневался, ибо проведенное им исследование вопроса об отношении
христианства к общественности показало идентичность его решения
подходу церкви к проблемам человеческой плоти и пола. Взамен
принудительному и безличному соединению людей в государство,
напоминал писатель, Христос открыл человечеству новый принцип
внутреннего, свободного их соединения через любовь друг к другу и к Богу,
через причастие к Плоти и Крови Христовой «в новое реальное
Существо, в живое вселенское Тело — Церковь...» Это сверхорганическое
начало есть не что иное (тут Мережковский следовал за Вл.
Соловьевым) как Богочеловечество. От Богочеловека к Богочеловечеству —
таков путь, завещанный Христом.
170
Христианство же, сокрушался автор статьи, «вступив на этот путь,
почти тотчас остановилось и повернуло назад — от соединения к
уединению, от мира к пустыне, от Богочеловечества к Богу без
человечества». Заповедь Христа, обращенная к людям, гласит: «Возлюбите
друг друга, как Я возлюбил вас». Несоединимые и несоединенные в
Ветхом Завете любовь к Богу и любовь к человеку Христос впервые
воссоединил в нерасторжимое единство. Однако, уверял
Мережковский, «христианство не исполнило, а нарушило эту заповедь о любви
единой. Поскольку в христианстве Бог, бесплотный чистый Дух,
противоположен нечистой плоти человеческой, постольку и любовь к
Богу противоположна любви к человеку. Чем дальше от людей, тем
ближе к Богу; совсем без людей — совсем в Боге. Человек в Боге
один — монах, отшельник — таков совершенный образ
христианской святости»17.
Таково центральное положение соответствующего раздела статьи, и
дальнейшую свою задачу ее автор видит в том, чтобы этот тезис
обосновать.
Как и прежде, Мережковский полагал, что стоящая перед ним задача
будет выполнена гораздо успешнее, если он представит слово наиболее
крупным и авторитетным выразителям духа христианской святости.
Вот одна из его ссылок: «"Ежели милосердие, или любовь, или жалость
препятствуют твоему безмолвию, обращают око твое на мир,
воскрешают тебя для мира, — то да погибнет такая правда. Ибо совершать
дела любви есть назначение людей мирских, а если и монахов, то
недостаточных, не пребывающих в совершенном безмолвии. Неприлично
нам, оставив небесное делание, держаться мирского. Житие иноческое
подобно ангельскому". — "Заботящийся о своей одной душе не
сможет заботиться и о других. — Ежели ты намерен держаться
безмолвия, будь подобен херувимам, которые не имеют никакого попечения
житейского, и не думай, что, кроме тебя и Бога, есть кто-либо другой
на земле, о ком бы заботиться тебе. Ежели не ожесточит кто сердца
своего и не будет с усилием удерживать милосердие, то не может
пребывать в безмолвии" (Ис. Сир., XIV)»18.
Есть только ты и Бог, все же остальное, отвлекающее христианского
святого от любви к Богу, убирается из поля его зрения. Если он и любит
человека, то любовь эта носит только созерцательный и
сострадательный характер. И вновь Мережковский прибегает к авторитету Исаака
171
Сирина: «Старец, спрошенный: что такое сердце милующее? —
ответил: сердце, горящее о всей твари — о людях, о птицах, о животных,
о демонах. При воспоминании о них или при воззрении на них глаза
источают слезы. От великой жалости умиляется сердце, и не может
оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой
печали, претерпеваемых тварью. А посему и о врагах истины, и о
собственных врагах ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы
сохранились и были помилованы; а также и об естестве пресмыкающихся
молится с великою жалостию, какая безмерно возбуждается в сердце
святого до уподобления в сем Богу»19.
Комментируя свидетельство Исаака Сирина о суждении некоего
святого старца, писатель говорит, что если это и любовь к человеку, то
любовь с «высоты полета "херувимского"», причем чувство
христианского святого принципиально не различает людей и «естество
пресмыкающихся». Слезы, стенания, мольбы о страждущих не простираются
до прямого действия, направленного на их защиту, ибо подобное деяние
может быть воспринято как своеволие или неуместное дерзновение, и
тогда диалог спасающегося с Богом прервется. Святой может сколько
угодно любить человека издали, но, завидев его приближение к себе,
должен бежать от него — вот вывод Мережковского. Теперь
«понятно, — писал он, — почему христианство, за все свое существование,
пальцем не двинуло для общественного блага людей, для их спасения
от рабства и голода. Я был голоден, и вы не накормили Меня. Я был в
темнице, и вы не посетили Меня. Голод, рабство, войны, все
злодеяния и ужасы мировой истории проходили мимо святых. Погибай мир,
только бы святым спастись. Не страшно смотреть на гибель мира, а
полежать с отцом или братом на одной рогоже, съесть полтора сухаря
вместо одного (примеры из приводимых Мережковским в рамках его
статьи суждений христианских святых, боящихся плотского греха. —
B.C.) — страшно»20.
Из цитаты видно, что писатель, как он делал это неоднократно,
вновь противопоставлял проявления христианской святости
запечатленному в Евангелии Слову Иисуса Христа. Противопоставление
оказывалось не в пользу христианской святости. Христос, настаивал
Мережковский, учил не пассивному, а активному самоотвержению,
хотел, чтобы Слово Его было действенным. На практике же
получалось иное.
172
Как будто подтверждая только что высказанную мысль, а заодно и
уверяя себя в правильности собственной концепции, автор статьи
ссылался на опыт жизни Серафима Саровского.
«Современник екатерининского века, великой революции,
наполеоновских войн, двенадцатого года, декабристов — на все эти события не
отозвался он ничем; все они прошли мимо него, как тени летних
облаков, — писал Мережковский. —
"Стяжавший совершенную любовь к Богу существует в жизни сей
так, как бы не существовал", — говаривал Серафим. Он, действительно,
и "не существовал в жизни сей" — у него, собственно, и не было жизни,
а было только "житие". И ничем не отличается это житие русского
святого в XIX веке от житий синайских и фиваидских отцов в V или в
VI веке. Время для него остановилось, история кончилась или, вернее,
никогда не начиналась.
Дух Божий и дух тьмы столкнулись, как два урагана, в крутящемся
смерче революции, и рушились царства, гибли народы, а он стоял тысячу
дней на камнях в безмолвной молитве. Люди боролись с людьми за
будущность мира, а он боролся с бесами за себя одного»21.
Вот это последнее «за себя одного» и есть то главное положение,
та мысль, ради которой собственно и создавалась статья
Мережковского. Подверженный злу мир лежит по ту сторону от христианской
святости, и христианскому святому, житие которого писал
Мережковский (в реальности получалось, что антижитие!), до этого мира дела
нет. Понимал ли писатель, что эта мысль — неправда или, если
сказать помягче, не вполне правда, что христианские святые (в том числе
и Серафим Саровский), истязая и игнорируя свою плоть,
демонстрировали тем самым возможности человеческого духа? Разумеется, понимал.
Однако победа духа над плотью за счет фактического умерщвления
последней его не устраивала. Ему хотелось, чтобы плоть была
оправдана наравне с духом. И в этом, на наш взгляд, может быть не вполне
компетентный, есть своя правда. И немалая.
А потому Мережковский продолжал наступать: «Все житие
Серафима... есть хождение по воздуху "на аршин от земли" — такое легкое,
что тонкие травы не гнутся под ним, прозрачные звезды одуванчиков
не осыпаются. И ножки у него белые, потому что земли не касались, в
земле не запачкались. А мы, тяжелые, усталые, по земле влачащиеся, с
ногами, в земной грязи увязающими, израненными, окровавленными,
173
можем только смотреть на это неземное видение и пугаться, и плакать,
как бедные сестры дивеевские.
"Аршин от земли" между ним и нами, между грешною землею и
безземною святостью — вот несоизмеримость двух порядков,
которая составляет сущность христианства. Мы не сомневаемся, что
Серафим обладал реальною силой, которая побеждала если не физическое,
то метафизическое притяжение земли; но он обладал этою силой один
для себя и сообщить ее другим не мог. Чтобы подняться над землею,
он должен был оттолкнуться от земли, — оттолкнуть от себя землю;
но привлечь ее к себе, поднять за собою не мог. Он возвышался, — а
земля унижалась; и чем выше он, тем ниже земля. Его подъем —
провал земли. И то, что делал он, последний святой, делает вся
христианская святость»22.
И еще. Завершая свой рассказ о «трудах и днях» Серафима
Саровского, писатель решает поведать читателям о важной заботе святого
в последний год его жизни. Старец надумал прорыть канавку вокруг
Дивеевской обители с целью защиты ее от пришествия Антихриста.
Придет-де Антихрист, станет кресты с церквей снимать, монастыри
рушить, а Дивеевский взять не сможет — в канавку упрется. И так
торопился он свой замысел осуществить, что дивеевские сестры вынуждены
были топорами рубить мерзлую землю в лютый мороз. А когда канавка
была обустроена, тут святой и скончался — будто и ждал этого часа.
И далее — вывод Мережковского: «Действительно, главное и, может
быть, единственное дело всей жизни его и есть эта канавка. Что
первые святые начали, то кончил последний: невидимую черту,
отделяющую христианство от мира, сделал видимой — завершил
незавершенное в христианстве противоречие мира и Бога.
По ту сторону канавки — Бог без мира, по сю — мир без Бога; и
соединить их нельзя. Трехаршинная канавка углубится до бездны,
трехаршинный вал подымется до неба — и окончательно отделится Бог от
мира. Бог отнят от мира, мир предан диаволу.
Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на
небе — это не исполнилось в христианстве: воля Божия, царство Бо-
жие — только на небе, а на земле — царство диавола.
"К концу-то века, — предсказывает Серафим, — будет у вас на диво
собор. Подойдет к нему Антихрист-то, а он весь на воздух и подымется.
Достойные, которые взойдут в него, останутся в нем, а другие, хотя и
174
взойдут, но будут падать на землю". — На землю, то есть в
преисподнюю, ибо земля и есть преисподняя.
Серафим, со своим собором, в котором заключена соборная,
единая, вселенская церковь, — возносится, а земля проваливается;
Серафим свят, земля проклята; Серафим спасся, мир погиб»23.
И снова, как и в начале статьи, Мережковский говорит о
необходимости «соединения» Бога и мира, помня, однако, о том, что «сказать»
об этом «легко», а «сделать» трудно.
Выше мы говорили, что писатель знал, как разрешить данную
проблему. Теперь настало время раскрыть содержание его ответа.
Критикуя историческое христианство, Мережковский одновременно
отстаивал идею о христианстве подлинном или новом. Одной из
главнейших его идей, вспоминала 3. Гиппиус, была идея о «воплощении
христианства, об охристианении земной плоти мира, как бы
постоянном сведении неба на землю, — по слову псалма "истина проникает с
небес, правда возникает с земли". Мережковский утверждал, что эта
идея уже заключена в догматах, которые не суть застывшие формулы,
какими считают их все исторические церкви, но подлежат раскрытию
соответственно росту и развитию человечества»24. (По сути дела,
писатель был горячим сторонником идеи «тысячелетнего царства Божьего
на земле», впервые озвученной Иоанном Богословом в его
«Откровении» и терминологически определяемой как хилиазм.)
Чтобы ярче оттенить своеобразие религиозного идеала своего мужа,
Гиппиус подробно изложила концепцию доклада В. Тернавцева
«Русская Церковь пред великою задачей», с которым тот выступил,
открывая первое заседание Петербургских религиозно-философских
собраний (29 ноября 1901 г. — 5 апреля 1903 г.). По ее словам, этот доклад
не только глубоко передавал духовную атмосферу этих собраний, но и
оказался чрезвычайно близким религиозной позиции Мережковского.
В резюме доклада утверждалось: «Положение русского благочестия (то
есть Церкви) в настоящее время чрезвычайно: для всего Христианства
наступает пора не только словом, в учении, но и делом показать, что в
Церкви заключается не один лишь загробный идеал. Наступает время
открыть сокровенную в Христианстве ПРАВДУ О ЗЕМЛЕ.
Религиозное учение о государстве, о светской власти,
общественное спасение во Христе — вот о чем свидетельствовать теперь
наступило время.
175
Это должно совершиться "во исполнение времен", дабы, по слову
Апостола, все небесное и земное соединить под главою Христа»25.
В самом деле, стремление В. Тернавцева побудить церковь сделать
шаг навстречу земле оказывалось в русле религиозных исканий
Мережковского. Однако нельзя не отметить и другое. 3. Гиппиус была все-таки
права, когда, подчеркивая идейную близость Тернавцева своему кругу,
все же вынуждена была признать, что он считал себя вполне «своим»
и в церковных кругах. Предпринятая им критика религиозной
стратегии церкви производилась из ее собственной цитадели, а не извне, не
с позиций нового религиозного сознания, как это делал
Мережковский. Если для Тернавцева важно было небесное и земное
воссоединить под эгидою Христа, Мережковский желал большего. Как бы ни
иронизировал над ним Белый, он все-таки примеривал на себя одежды
Лютера, зуд реформаторства не давал ему покоя.
Это потом, значительно позже воссоздаваемых нами событий, он
признает: «Когда я начинал трилогию "Христос и Антихрист", мне
казалось, что существуют две правды: христианство — правда о небе, и
язычество — правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд —
полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что
соединение Христа с Антихристом — кощунственная ложь; я знал, что обе
правды — о небе и о земле — уже соединены во Христе Иисусе...»26.
По сути дела, здесь сказано о том же самом, о чем говорил В. Тер-
навцев, признававший, что вся полнота религиозной истины
сосредоточена именно в Христе и ни в ком более. Но даже в этом
свидетельстве Мережковского нет полной правды: последний роман трилогии
«Христос и Антихрист» — «Антихрист (Петр и Алексей)» был
опубликован в 1905 г., а подробно цитировавшаяся нами книга его
публицистики «Не щит, но меч», целиком посвященная «критике
современного христианства», увидела свет тремя годами позже. Так что полного
и решительного осуждения «кощунства» и отказа писателя от ереси
фактически не было. Наоборот, в своей публицистике он повторил и
даже усилил многие положения создававшегося одновременно с
трилогией исследования «Л. Толстой и Достоевский».
Во всяком случае, оно не содержало характерного для
упомянутой книги рассуждения на тему: «удалось» или «не удалось»
христианство. Отвечая на данный вопрос, Мережковский признавал: если
смотреть на христианство, как на «последнюю религиозную цель и
176
завершение мира, то оно, действительно, "не удалось"». Но если
взглянуть на него иначе, не как на конечную цель, например, а только как на
«путь» к ней? Изменится ли в этом случае содержание нашего ответа?
Да, полагал писатель, непременно изменится, причем самым
кардинальным образом. В этом смысле, развивал он свою идею,
христианство «"удалось" так, как ни одно из дел человеческих не удавалось и
как удаются только дела Божий»27.
Какое содержание вкладывал Мережковский в восприятие
христианства как пути к некой цели и что за цель он имел в виду?
Христианство, рассуждал он, есть религия Троицы, а потому
полнота Божественной истины может быть воплощена только в ней.
«Первый Завет, откровение Отца — тезис; Второй Завет, откровение
Сына — антитезис; совершенный синтез Первого и Второго Завета в
Третьем, последнее соединение Отца и Сына в Духе не могло произойти
прежде, чем не раскрылась совершенная противоположность Отчей
и Сыновней Ипостаси, — проповедовал Мережковский. —
Кажущиеся неразрешимыми противоречия христианства — вечные антиномии
плоти и духа, земли и неба, мира и Бога — суть в действительности
не противоречия неразрешимые, а только противоположности
неразрешенные, но разрешаемые в последнем соединении Двух во Едином,
в последнем откровении Троицы. Надо было раскрыть до конца
противоположности: христианство это и сделало, или, вернее, сама
Премудрость Божия сделала это через христианство»28.
Если перевести сложный язык цитаты из Мережковского на более
доступный, то получается, что христианство — лишь этап в
религиозной эволюции. Оно имеет свои собственные задачи и цели,
проявляющиеся под воздействием Божественной, а не человеческой святости.
В частности, христианство явило миру те самые антиномии земли и
неба, духа и плоти, на которые Мережковский обращал внимание своих
читателей и которые, как он стремился показать в целом ряде
художественных, критических и публицистических произведений,
оказываются не только неразрешенными, но и в принципе неразрешимыми для
исторического христианства. А произошло это потому, что
историческая церковь абсолютизировала один из моментов религиозной
эволюции, восприняла его не как путь к цели, а как саму цель. «Правда и
оправдание христианства», говорил Мережковский, заключается в том,
что оно пронесло через два тысячелетия «неискаженный лик Христа,
177
Слова, ставшего плотью», и «в этом смысле... есть подлинное явление
Христа человечеству. Без христианства нет Христа; без Христа, Сына
Божия, нет Отца и Духа. Никто, кроме Сына, не приводит к Отцу;
никто, кроме Отца и Сына, не приводит к Духу». И тут, в этой
последней мысли, снова подчеркнуто: христианство не цель, а путь к цели.
Обосновывая свою концепцию, Мережковский напоминал, что
религиозная эволюция человечества проходит через несколько этапов.
Первый — все дохристианские религии, включая и еврейский монотеизм,
которые не разделяют Бога и мир и воспринимают Бога как Отца,
безличного Объекта, поглощающего личное бытие. Царство Божие для
них — мир сей. Царство Христа, по известному евангельскому
изречению, не от мира сего. Вот почему христианство впервые в религиозной
истории делит мир на два порядка: мир феноменальный, доступный
человеческому чувству, и мир сверхчувственный, трансцендентный,
мир земной и небесный, плотский и духовный. В отличие от
дохристианских религий, для которых мир и Бог — единое целое, христианство
не только разрушает это единство, но и «постулирует», как выражался
Мережковский, «последнее соединение» этих порядков. Однако
воссоединение («высшая интеграция») возможно лишь при прохождении
всех основных ступеней дифференциации.
Голос Мережковского крепнет, он начинает пророчествовать (вслед
за итальянским монахом XII в. Иоахимом Флорским) о новой религии
Третьего Завета — религии Св. Духа: «Третий и последний момент
религиозной эволюции, — момент, который именно теперь наступает,
есть откровение Духа, которое соединит откровение Отца с
откровением Сына.
Религии дохристианские — тезис; христианство — антитезис;
религия Духа — синтез.
Первый Завет — религия Бога в мире.
Второй Завет Сына — религия Бога в человеке — Богочеловека.
Третий Завет — религия Бога в человечестве — Богочеловечества.
Отец воплощается в Космосе.
Сын — в Логосе.
Дух — в последнем соединении Логоса с Космосом, в едином
соборном вселенском Существе — Богочеловечестве»29.
Антиномии, порожденные исторической церковью, ее ориентация
более на личное и в меньшей степени на общественное спасение ока-
178
зались, по Мережковскому, самыми важными из множества причин,
вызвавших массовую дехристианизацию современного человечества.
Однако из сказанного выше однозначно вытекает, что писатель
рассчитывал, что провозглашаемая им религия Духа будет способствовать
религиозному Ренессансу. Вот почему он писал: «Современное
человечество не подозревает, до какой степени остается оно христианским
даже тогда, когда от христианства отрекается. Можно идти против, но
мимо христианства — нельзя. А истинный путь человечества — не
против и не мимо христианства, а через него — к тому, что за ним».
И в другом месте, более определенно: «Для того, чтобы вступить в
третий момент, мир должен окончательно выйти из второго момента; для
того, чтобы вступать в религию Духа, мир должен окончательно выйти
из религии Сына — из христианства: в настоящее время, в кажущемся
отречении от Христа это необходимое выхождение и совершается»30.
Провозглашая «религию последнего великого соединения, великого
Символа, религию Второго, уже не тайного, скрытого, как первое, а
явного Пришествия в силе и славе — религию Конца»31, т.е. религию
Св. Духа, Мережковский не мог не отдавать себе отчет в том, что тем
самым он наносит по догматическому учению исторической церкви
серьезный удар, в перспективе означающий ни мало ни много как
разрыв с ней. Чтобы несколько смягчить последствия этого удара,
таившего в себе «опасность ереси», и реабилитировать себя в глазах
читающей публики, он стремился опереться на опыт своих
предшественников, осознававших необходимость религиозного обновления России,
однако в силу ряда причин в этом своем стремлении остановившихся
на полпути.
Так, считал Мережковский, два гиганта русского Возрождения, «тай-
новидец плоти» Толстой и «тайновидец духа» Достоевский, почти
вплотную приблизившись к мысли о том, что «"небо внизу и небо вверху" —
одно и то же небо, что тайна плоти и тайна духа — одна и та же тайна»32,
т.е. постигнув метафизику плоти и духа и фактически показав, что
«верхняя бездна равняется нижней»33, а следовательно, на мистической
глубине одной половины мира есть выход в другую его половину, все же не
сделали последних выводов из своих религиозных прозрений, а потому
и не соединили двух краев «бездны».
Наиболее близкими к своим духовным устремлениям Мережковский
считал религиозные идеи Вл. Соловьева. Подобно Мережковскому зна-
179
менитый философ воспринимал христианство не только как религию
личного спасения, но и возлагал на нее обязанности спасения
общественного. Вот почему он говорил об акте воплощения Второй
Ипостаси не только в Божественной Личности, Богочеловеке Иисусе
Христе, но и в формирующемся в ходе исторического процесса соборном
общественном организме — Богочеловечестве. Помимо этого, отмечал
Мережковский, им была поставлена проблема религиозного
преобразования пола, выдвинут «вопрос о личности, о воскресении как
последней победе трансцендентного личного единства духа и плоти над их
эмпирическою безличною двойственностью»34.
Оригинальное решение Вл. Соловьевым именно этих задач
собственно и побудило Мережковского к дальнейшим размышлениям в
указанном направлении, хотя он не только неохотно признавал
первенствующую роль Вл. Соловьева в данной сфере, но нередко и вовсе
отвергал его учительство.
В частности, не вызывает никакого сомнения, что «глубокое и
загадочное», по выражению Мережковского, признание Вл. Соловьева
Розанову относительно исповедуемой им «религии Св. Духа» подтолкнуло
«русского Лютера» к обоснованию собственной религиозной
концепции Третьего Завета. Однако, полагал он, философу недоставало
радикализма в проведении своих идей в жизнь. Да, соглашался критик,
Вл. Соловьев «предчувствовал, что все историческое христианство —
только путь, только преддверие к религии Троицы», а потому и учение
о Троице настойчиво «пытался сделать живым откровением, синтезом
человеческого и Божеского Логоса, Слова, ставшего Плотью, как бы
исполинским сводом нового храма св. Софии, Премудрости Божией».
Понятие «живое откровение» для Мережковского значило много, он
воспринимал его в качестве альтернативы мертвому или
затвердевшему в собственной косности догмату. Сделай Вл. Соловьев еще один
шаг — и «живое откровение» оплодотворило бы собою жизнь,
пронизало бы ее своим дыханием. Однако философ этого шага не сделал, его
философствование являло собой только попытку реального действия
в данном направлении. «Пограничную черту, отделяющую
христианство от Апокалипсиса, не увидел он с достаточной ясностью,
страшился переступить за эту черту; но нет никакого сомнения в том, что
он уже стоял на ней и только ею отделен был от нас»35, —
подытоживал Мережковский свои рассуждения.
180
По сути, Мережковский отделял христианство, благая весть о
котором была зафиксирована в Новом Завете, от Апокалипсиса
(«Откровения Иоанна Богослова») — заключительной книги того же Завета. И не
только отделял, но и, обосновывая концепцию христианства Третьего
Завета (так называемой Иоанновой церкви), противопоставлял одно
другому. Иными словами, то, что для христианства составляло единое
целое, делил на две части, рубил, что называется, по живому. И в то
же время признавался, что, делая это, испытывал страх: не переходит
ли он за черту, отделяющую «правую веру от ереси». В это признание
примешивалась изрядная доля лукавства, ибо Мережковский хорошо
осознавал, что, противопоставляя аскетизму христианской церкви плоть
мира, сосредоточивая на ней свое внимание, он впадал, по
собственному же выражению, в «ересь астартизма, т.е. не святого
соединения, а кощунственного смешения и осквернения духа плотью». Правда,
ставя типу своего религиозного философствования абсолютно точный
диагноз, он все же продолжал лукавить: ереси-де не хотел, хотел истины,
а если же это уже случилось или может случиться, то пусть
предостерегут его от опасного шага «стоящие на страже», ибо, завершал
писатель свою мысль, «я не учу, а учусь, не исповедую, а исповедуюсь»36.
И тут в очередной раз нам приходится уличать Мережковского в
неискренности: он вовсе не считал себя робко исповедующимся
послушником, а хотел учить и учил. Практически с первых своих творческих
шагов и до самой смерти он осознавал себя пророком новой веры и
вероучителем, и всякий, кто умел слушать и слышать, отчетливо
различал в его действиях это стремление.
Весьма показательны в данном отношении воспоминания будущего
известного деятеля «Мира искусства» А.Н. Бенуа о своем первом
впечатлении от знакомства с Мережковским.
«Во время одного из... моих посещений Половцева (влиятельного
чиновника «Кабинета его величества», у которого мемуарист надеялся
получить протекцию. — B.C.) я... беседовал с хозяином, как вдруг в
кабинет без доклада быстрыми шагами вошел не старый, но какой-то
"очень неказистый", скромно, почти бедно одетый, очень "щуплый"
человек, поразивший меня тем, что он как-то криво держался и, хотя
не хромал, все же как-то "кренил" в одну сторону. Поразило меня и то,
что Половцев принял его с особенным вниманием. Фамилии я не
расслышал, но из разговора догадался, что передо мной поэт Мережков-
181
ский, о котором тогда уже начали говорить и роман которого "Юлиан
Отступник" только что стал выходить в одном из толстых журналов
(в «Северном вестнике». — B.C.). Лично я уже слышал о
Мережковском еще в 1890 г... Однако... ничего из произведений Мережковского не
читал и скорее был предубежден против этого "русского символиста"
и "декадента". Здесь же Мережковский в беседе с Половцевым сразу
меня пленил всем своим энтузиазмом и своими многообразными
знаниями, выливавшимися в пламенной и ярко красочной речи. Ничего
подобного я до того не слышал. Беседа вертелась именно вокруг
Юлиана, и потоком лившиеся слова Мережковского вызывали картины
упадочной Греции, борьбы христианства с язычеством. Меня поразил при
этом какой-то оттенок прозелитизма, который звучал в его словах. Он
чему-то как будто учил, к чему-то взывал, что-то тоном негодующего
пророка громил\ Слышать в кабинете чиновника министерства двора...
столь будоражившие речи было очень и очень странно. Половцев хоть и
вторил им, хоть и пробовал отвечать в таком же тоне, однако, видимо,
был несколько смущен, и временами, при всей своей прециозности,
чуточку шокирован, особенно когда Мережковский касался
религиозных вопросов, о самом Христе отзываясь с совершенной свободой»37.
Воспроизводя в своей памяти первое впечатление о Мережковском,
Бенуа прибегает к помощи контраста между невзрачным внешним видом
автора «Юлиана» и насыщенной внутренней жизнью, которая
придавала ему значительность. Он отнюдь не считал себя «синицей»,
взявшейся не за свое дело, наоборот, мыслитель полагал, что именно ему
и его ближайшему окружению суждено завершить начатое
Достоевским и особенно Вл. Соловьевым. Напрасно иронизировал Белый над
Мережковским — разве не сам он вспоминал, какое потрясение
испытал, когда увидел в книге «Л. Толстой и Достоевский» его воззвание:
«Или мы, или никто»?
Необходимо помнить, что эти самые «мы», от которых, по
выражению Мережковского, Вл. Соловьева отделяла «пограничная черта», —
вчерашние декаденты. Именно они, а не кто-нибудь, были способны,
уверял Мережковский, совершить религиозную революцию. Его
аргументация включала в себя следующие положения: «Русские
декаденты — первые в русском образованном обществе, вне всякого
предания церковного, самозародившиеся мистики, первое поколение
русских людей, взыскавшее тайны, — какой именно, светлой или темной,
182
Божеской или дьявольской, — это вопрос, который решается уже по
выходе из декадентского подполья, из старой, теперь уже старой,
бессознательной мистики в новое религиозное сознание.
Художники такого классического совершенства, как Брюсов,
Сологуб, 3. Гиппиус, — единственно законные наследники великой русской
поэзии от Пушкина до Тютчева. Но их искусство больше чем
искусство: это — религиозный искус; их стихи — дневники самых упорных
и опасных религиозных исканий. <...>
Ежели теперь вся Россия — сухой лес, готовый к пожару, то русские
декаденты — самые сухие и самые верхние ветки этого леса: когда
ударит молния, они вспыхнут первые, а от них — весь лес»38.
В этой обширной цитате из статьи Мережковского «Революция и
религия» (1907) что ни слово, то преувеличение или несообразность.
Какими критериями, скажем, руководствовался писатель, называя
декадентов первыми в русском обществе людьми, взыскавшими тайны?
И почему модернисты Брюсов, Сологуб и Гиппиус были объявлены
художниками «классического совершенства» да к тому же возведены
в ранг «единственно законных наследников» русской поэзии? На
основании каких принципов он выстраивал главный свой тезис о
перерождении «бессознательной мистики» декадентов в «новое
религиозное сознание»? Не являются ли подобные основания только плодом
воображения автора статьи?
Более точным и искренним оказывался Мережковский, когда
переходил к характеристике умонастроения русских художников —
представителей «нового религиозного сознания». Во-первых, он указывал,
что их отличает стремление к преодолению границ искусства, переходу
от художественного творчества к религиозному строительству жизни.
Во-вторых, для Мережковского оставался открытым вопрос о
религиозной чистоте (и следовательно, цене) подобного перехода.
Оказавшись большим, чем просто искусство, искусство художников «нового
религиозного сознания» могло столкнуться, по его мнению, с
религиозным искушением, а их «упорные» религиозные искания, если
оценивать последние с позиций церковного христианства, признавались
им как «опасные».
И тут нам в очередной раз придется указать на скрытое лукавство
Мережковского. В абсолютную истинность церковного вероучения он
не верил и, конечно, отдавал себе отчет в том, что провозглашаемое и
183
проповедуемое им «новое религиозное сознание» есть ни что иное, как
«религиозный искус»*. Нанося удар за ударом по авторитету
христианской святости, разве он не понимал, что целил в самое сердце
христианства, не осознавал, что христианская аскеза, воодушевляясь подви-
* Своеобразной иллюстрацией духа религиозного искушения, царившего
на религиозно-философских собраниях, на которых Мережковский и члены
возглавляемой им группы петербургских интеллигентов пропагандировали
«новое религиозное сознание», может служить следующая зарисовка из
воспоминаний Бенуа. Под первые собрания, писал мемуарист, было отведено
помещение в императорском Географическом обществе. Это «была... довольно
большая и узкая комната, во всю длину занятая столом, покрытым зеленым сукном.
По стенам висели карты, а в углу на мольберте чернела большая квадратная
доска — вроде тех, что ставятся в школьных классах». Поначалу собрания
пробудили в обществе большой интерес и привлекли к участию в заседаниях
большое количество участников. «Однако, — продолжал Бенуа, — с течением
времени они стали приобретать тот характер суесловных говорилен, на который
обречены всякие человеческие общения... Мне лично становилось все более и
более ясным, что тут... дело складывается не без участия Князя Мира сего —
иначе говоря, не без вмешательства какой-то силы мрака, всегда норовящей
ввести души людские в соблазн... Каково же было мое изумление, когда я
удостоверился в "реальном" присутствии бесовского начала!
Дело в том, что из-за помянутой черной классной доски в углу зала
выглядывали два острых торчка, похожих на рога. Меня это заинтересовало, но доска
находилась на другом конце зала и почему-то я не сразу отправился взглянуть,
что это такое. Все же я, наконец, через несколько недель пробрался и заглянул за
доску, и тут меня обуял настоящий ужас! Передо мной стояло гигантского роста
чудовище, похожее на тех чертей, которые меня преследовали в моих детских
кошмарах... У этой гадины были настоящие волосы на голове и на бороде, а все
тело было покрыто густой черной шерстью. Из оскаленной пасти кровавого цвета
торчали длинные загнутые клыки, пальцы рук и ног были вооружены колючими
когтями, а на голове торчали длинные рога. Страшнее же всего были
выпученные глазища идола, с их свирепым, безжалостным выражением. Это был идол,
вероятнее, когда-то привезенный из глубокой Монголии или Тибета какой-либо
научной экспедицией Географического общества». Автор воспоминаний
признавался, что «в тот момент» он «исполнился ужаса, не лишенного мистического
оттенка», ибо «нахождение идола в данном помещении в качестве какого-то
притаившегося наблюдателя — показалось мне до жути уместным». Мережковский,
когда Бенуа показал ему свое «открытие», «на минуту выразил крайнее
изумление, а затем, привычным жестом пригладив бороду, криво улыбнулся и чуть ли не
радостно воскликнул: — "Ну разумеется! Это — он\ Надо было ожидать, нечего
и удивляться..."» {Бенуа А.К Мои воспоминания: в 5 кн. Кн. 4, 5. С. 289, 290, 291).
184
гом Христа, ставит своей целью не отвержение и тем более не унижение
плоти, а провозглашение «высоты» и необоримой силы человеческого
духа? Разве, провозглашая религию Третьего Завета в качестве
последней и истинной цели религиозного развития человечества, не
догадывался, что творит ересь? И, наконец, еще одно замечание. На чем
базировалась его уверенность в том, что на протяжении почти двух
тысячелетий христианская церковь заблуждалась, изменяя заветам Христа,
а он, пророк Мережковский, открыл и провозгласил истину? Неужели
и впрямь он полагал, что религии создаются волевым
интеллектуальным усилием петербургского интеллигента, что они есть жизнетвор-
ческий проект художника?
Тот же Бенуа вспоминал про один случай из жизни кружка
Мережковского, весьма показательный для темы нашего разговора. Вот что он
писал: «Сидели мы... в просторном, но довольно пустынном кабинете
Дмитрия Сергеевича, я и Розанов на оттоманке, Дмитрий Сергеевич и
Зинаида Николаевна поодаль от нас, на креслах, а Александр Блок (тогда
еще студент, как раз незадолго до того появившийся на нашем
горизонте) — на полу, у самого топящегося камина. Беседа и на сей раз шла
на религиозные темы, и дошли мы здесь до самой важной — а именно
до веры и до "движущей горами" силы ее. Очень вдохновенно говорил
сам Дмитрий Сергеевич, тогда как Василий Васильевич только кивал
головой и поддакивал. <...> И вот, когда Мережковский вознесся до
высшей патетичности и, вскочив, стал уверять, что и сейчас возможны
величайшие чудеса, стоило бы, например, повелеть с настоящей верой среди
темной ночи: "да будет свет", то свет и явился бы. Однако, в самый этот
миг, и не успел Дмитрий Сергеевич договорить фразу, как во всей
квартире... погасло электричество и наступил мрак. Все были до такой
степени поражены таким совпадением и, говоря по правде, до того
напуганы, что минуты две прошли в полном оцепенении, едва только
нарушаемом тихими восклицаниями Розанова: "с нами крестная сила, с нами
крестная сила!", причем при отблеске очага я видел, как Василий
Васильевич быстро-быстро крестится. Когда же свет снова сам собой зажегся,
то Дмитрий Сергеевич произнес только: "Это знамение", Розанов
заторопился уходить, а Зинаида Николаевна, верная себе, попробовала все
повернуть в шутку и даже высмеяла нас за испуг»39.
Стоит, очевидно, пояснить, чего и почему так испугались
Мережковский и его гости.
185
Дело в том, что «религиозная тема», которую они обсуждали, была
подсказана им следующим эпизодом Евангелия от Матфея.
«Взалкавший» Иисус, заметив стоящую у дороги смоковницу и не найдя на ней
ничего кроме листьев, обратился к ней со словами: «"... да не будет же
впредь от тебя плода вовек". И смоковница тотчас засохла». Далее —
по тексту:
«Увидевши это, ученики удивились и говорили: как это тотчас
засохла смоковница?
Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам: если будете иметь
веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею,
но, если и горе сей скажете: "поднимись и ввергнись в море", — будет;
И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:19—22).
Нетрудно догадаться, что религиозная беседа, ведшаяся в кабинете
Мережковского, так или иначе была сопряжена с проблемой,
поднятой в Евангелии, а сам впавший в высокую патетику хозяин подспудно
отождествил себя с одним из апостолов или даже с самим Христом.
Безусловно, в этот момент он прекрасно помнил о самохарактеристике
Иисуса: «Доколе Я в мире, Я свет миру» (Ин. 9:5), а потому в
качестве чуда возжаждал света. Но — наступил мрак. Когда Мережковский
охарактеризовал происшедшее как «знамение», он знал, что говорил.
И испуг его, как и испуг Розанова, был вполне закономерен. Ведь в
тайной глубине своей души (то же можно сказать и о Розанове) он,
наверное, не раз признавался себе в своем лжепророчестве. Когда же в
описанном Бенуа эпизоде все произошло вопреки его желанию и в
противоположность евангельскому сюжету, он, как еретик, испугался. На
мгновение ему показалось, что случившееся не только «знамение», но
и зловещий знак его судьбы, некое мистическое ему предупреждение.
Но, как и следовало ожидать, этому знаку он не внял. И внять не мог,
ибо давно был погружен в антихристианскую ересь.
2. «Главное»
Как следует из сказанного выше, «новое религиозное сознание»,
произведя религиозную революцию, т.е. воспитав русскую интеллигенцию
в духе недоверия к догматическому учению исторической церкви, было
призвано создать новое христианское общество и новую Иоаннову цер-
186
ковь Третьего Завета. Ради осуществления этих задач и затевались,
собственно говоря, Религиозно-философские собрания.
Вот как вспоминала об этом Гиппиус в дневнике «О Бывшем»
(1899—1914): «...первого сентября 1901 г., возвращаясь из лесу, при закате,
на широкой песочной горе, сказала:
"Что ты думаешь делать эту зиму? Продолжать наши собрания?"
Он не очень решительно посмотрел на меня и неуверенно сказал:
"Да, я думаю — продолжать. Собрать их всех и предложить, хотят или
не хотят молиться вместе? Там и посмотрим. Да, я думаю..."
Хотела я спросить: "Кому, чему молиться вместе?" Но не спросила,
и вообще в тот день ничего не сказала.
А второго, сойдя вниз к завтраку, сказала ему:
"Последняя мечта наша — не создание Храма, а созданье Церкви.
Совместная молитва соединяет, а жизнь разъединяет. Символы — не
действия. Мы сделали полшага к нашему Храму, но не сделали в то же
время ни одного движения к нашей Церкви, — потому у нас почти и не
вышло ничего. Разве не стоял между нами тремя все время страшный и
нерешенный вопрос: "А какое отношение все это имеет к моей жизни?"
Дмитрий Сергеевич сказал: "Да".
А я опять сказала: "Мы теперь не должны и говорить о далеком,
очень уж мы беспомощны и ничего почти не сделали. А не думаешь
ли ты, что нужно начать какое-нибудь реальное дело в эту сторону,
пошире, и чтобы оно было в условиях жизни, чтоб были деньги,
чиновники и дамы, явное, — и чтобы разные люди сошлись, которые никогда
не сходятся, и чтобы..."
Тут Дмитрий Сергеевич вскочил, ударил рукой по столу и
закричал: "Верно!" Я была очень счастлива, но мне хотелось договорить:
"...w чтобы мы трое, ты, я и Философов, были в этом, соединенные
нашей связью, которая нерушима, и чтобы мы всех знали, а нас, о нас,
никто не знал до времени. И внутреннее будет давать движение и силу
внешнему, а внешнее — внутреннему"»40.
Не правда ли, это разговор двух заговорщиков, использующих в
каких-то целях совершенно непонятный для посторонних, свой
собственный язык. Причем автор дневника сознательно шифрует свои мысли,
придает таинственность своим выражениям, чему в немалой степени
способствуют шрифтовые выделения в виде курсива отдельных слов,
словосочетаний и даже целых предложений. В результате у читателя
187
возникает ощущение тайны, он понимает, что речь идет о чем-то
необычном, крайне важном, может быть, даже экзистенциальном. Для
усиления этого эффекта Гиппиус прибегает к разного рода фигурам
умолчания, останавливает внимание читателя на деталях ландшафта,
на фоне которого происходили события, восстанавливает в памяти их
даты и даже часы. Надо признать, что стилевые особенности текста
позволяют Гиппиус достичь желаемого: читатель действительно
оказывается крайне заинтригованным и проникается ощущением
необычности воссоздаваемого прозаиком разговора.
Справедливости ради следует все же отметить, что
процитированный отрывок вырван нами из контекста гиппиусовского дневника, ему
предшествуют определенные события, сюжет которых позволяет если
не снять, то, во всяком случае, несколько приглушить напряженность
повествования. Логика предстоящих рассуждений непременно
побудит нас восстановить фабулу дневника Гиппиус, пока же обратим
внимание читателя на одно важное обстоятельство.
Темой беседы между Мережковским и Гиппиус, воспроизведенной на
страницах ее дневника, является зарождение замысла о будущих
Религиозно-философских собраниях. Мемуарист пишет в данном случае о
том моменте, когда в его сознании забрезжили контуры общей идеи о
диалоге «разных людей», которые никогда еще «не сходились» друг
с другом: представителей интеллигенции, с одной стороны,
церковных кругов — с другой. В воображении Гиппиус это стало бы
«реальным делом», важные, но все же кабинетные идеи кружка
Мережковских обросли бы, с ее точки зрения, плотью реальной
действительности, прошли бы своеобразную обкатку «в условиях жизни». Иными
словами, 3. Гиппиус рассказала своему читателю о том, как она
побудила Мережковского перейти от идеетворчества к «творчеству жизни».
Благо, что идея давно была сформулирована и начала уже реализовы-
ваться в интимном кругу. Однако, сделав «полшага к нашему Храму», с
горечью констатировала Гиппиус, кружковцы ни на йоту не
приблизились к главной цели всего строительства — созданию «нашей Церкви».
Причина такой печальной ситуации (это мемуаристка хорошо
осознавала) заключалась в оторванности мережковцев от действительности и
в их внутреннем несогласии друг с другом. Религиозно-философские
собрания, считала Гиппиус, откроют путь к «Церкви» в духе
Мережковского, помогут устранить возникшие внутри круга близких к писа-
188
телю людей раздоры. И самое главное. Особую роль в деле
строительства общей «Церкви» Гиппиус отводила объединенной внутренней
связью тройке (или «троице»?!): Мережковскому, Философову и себе
самой — «храму» апостолов новой веры, — знающих все и обо всех,
однако «до времени» не посвящающих их в свое тайное знание.
Параллель с Христом здесь очевидна, ибо и Христос «до времени» не
разглашал среди людей и в кругу апостолов тайны своего богосыновства,
готовя их посредством проповедей, притч и чудесных деяний к приятию
новой веры. 3. Гиппиус не только не скрывает, но и всячески
выпячивает тот факт, что у пропагандируемой Мережковским церкви Третьего
Завета был некий тайный центр (на языке Гиппиус — «Храм»),
представляющий собой общину людей, задача которых сводилась к
выработке ее духовно-религиозных основ. Подобные еретические
воззрения и цели заслуживают особо пристального рассмотрения и
побуждают нас обратиться к началу дневника 3. Гиппиус. Вот оно.
«1901
Запишу историю начиная с нашего, как оно родилось и шло до
нынешнего часа.
А нынешний час: полночь, суббота, двадцать восьмое октября тысяча
девятьсот первого года.
Последовательно, если возможность будет, стану записывать до
конца, или Дела, или (события в) моей жизни.
1899
В октябре тысяча восемьсот девяносто девятого года, в селе Орлине,
когда я была занята писанием разговора о Евангелии, а именно о плоти
и крови в этой книге, ко мне пришел неожиданно Дмитрий Сергеевич
Мережковский и сказал: "Нет, нужна новая Церковь".
Мы после того долго об этом говорили, и выяснилось для нас
следующее: Церковь нужна, как лик религии евангельской, христианской,
религии Плоти и Крови.
Существующая Церковь не может от строения своего
удовлетворить ни нас, ни людей, нам близких по времени.
После того мы поехали в Петербург. Но медлили говорить с другими.
Однако я сказала Дмитрию Сергеевичу: поговори. Потому что мы
собирались уехать на целый год.
189
Он написал два письма: одно Дмитрию Владимировичу Филосо-
фову, а другое Василию Васильевичу Розанову, без определенных
объяснений, а лишь с намеками.
И было у нас два разговора: один с Дмитрием Владимировичем Фило-
софовым, а другой с Василием Васильевичем Розановым.
Оба они мысль о Церкви приняли к сердцу, хотя и не одинаково, а
каждый сообразно своему существу. Розанов все потерял, кроме жизни,
искал, но не знал, хочет ли принять Христа.
Философов ничего не имел, искал и хотел бы принять Христа.
На том уехали мы из России, не возвращаясь год и ни с кем больше
во весь год не говоря, потому что нам еще смутна была наша мысль,
страшна и очень дорога»41.
Комментировать процитированный отрывок — значит повторять уже
сказанное выше. Если в своих произведениях Мережковский публично
выражал опасение: не еретична ли его мысль и призывал людей,
«стоящих на страже» чистоты христианского учения, поправить его, то
в тайных разговорах с женой и своим союзником убежденно
защищал идею замены «существующей Церкви» как не соответствующей
религиозным принципам людей его круга. Отсюда обоюдное
желание супружеской четы явить миру «лик религии евангельской,
христианской, религии Плоти и Крови». Именно эту идею обосновывал
в своей прозе и публицистике Мережковский, ее же следы пыталась
обнаружить в Евангелии и Гиппиус в тот самый час, когда в ее комнату
явился супруг с якобы неожиданным для нее и несказанно ее
обрадовавшим заявлением о «новой церкви». Как следует из этих слов,
подвергаясь искушению пртестантизма, Мережковские намерены были
повернуть церковь к первоисточнику христианской религии —
Евангелию, а в Христе исторической церкви — восстановить его евангельский
первооблик.
Надо ли говорить, что в этот момент они действительно осознавали
себя новыми апостолами, закладывающими первый камень в
фундамент новой церковной общины. Именно по этой причине Гиппиус
стилизует свой дневник «О Бывшем» под Евангелие, временами у
читателя даже создается впечатление, что она пишет евангелие от...
Гиппиус. Стихам Евангелий в ее дневнике соответствуют короткие абзацы,
непременно начинающиеся, как говорилось выше, со слов или
словосочетаний, набранных курсивом. Частые и, конечно же, намеренные
190
повторы одних и тех же выражений, использование анафор, нарочитые
инверсии были вызваны желанием автора дневника придать его языку
возвышенно-архаическую тональность Св. Писания.
Излишне повторять мысль о том, что проект Мережковских был
настолько еретичен, что даже Розанов «усмотрел опасное» в нем.
Розанов вел непрестанную борьбу с Христом, однако декаденствующий
Христос Мережковских был еще дальше от него.
Рассказывая о подступах к созданию «новой церкви» (на языке
дневника, — «Главного» или «Дела»), Гиппиус в надежде вызвать у
читателя ощущение колоссальной важности для судеб мира этого
события всячески упирает на препятствия в реализации задуманного ею и
Мережковским предприятия.
Сначала — об «апостолах» будущей церкви.
«Мы двое, — вспоминает мемуарист, — я и Дмитрий Сергеевич,
хотя и двое, но во многом как бы один человек; и поскольку нас было
двое — мы были сильны, а поскольку стали один — слабы.
И надо нам было третьего, чтобы, соединясь с нами — разделил нас».
Ближе всех к Мережковским и к их идеям (Гиппиус пока умолчала
об особом характере своей близости к нему) стоял Философов. Потому
он идеально и подходил на роль «апостола» или третьего члена
«троицы». На ту же роль помимо Розанова, Перцова, Вл. Гиппиуса
«пробовались» и другие люди, среди которых было и несколько
мирискусников: Бенуа, Дягилев, Бакст, Нувель. Они сходились (чаще на
квартире Мережковских), ожесточенно спорили, «говорили о символах, о
Евангелии, и было нехорошо, потому что никто никого не понимал и
все боялись». Таково свидетельство Гиппиус. Тут с ней, по-видимому,
придется согласиться: действительно — «боялись», потому что даже
религиозно-индифферентному человеку (а именно такими были
многие из этих людей) всегда страшно вступать на путь ереси. Далее — по
дневнику: «Сознания того, что происходит, ни у кого не было. Но боль
была у всех. Главное, — нерешенное, — лежало между нами.
Перцов думал о себе.
Гиппиус — не знаю, только не о Деле.
Бенуа — о своих эстетических болях, о семье и о Философове.
Нувель — не о себе, но о своей влюбленности в Философова (но я
тогда не знала).
Розанов — о семье, о поле, и Божескую боль хотел утолить кумиром.
191
И все были правы, искали Бога, были жалки и не могли найти.
И в нас двоих — лежала слабость, только о Деле мы больше
помнили. Пусть хоть потому, что Оно было наше прежде всего. Наш путь
был легче»42.
Уже эти слова способны насторожить внимательного читателя. Конечно,
Гиппиус пишет прежде всего о разрозненности будущей паствы
задуманного Мережковским и ею нового Храма. Однако рассказывая об
этом, она преследует задачу и поважнее. Ей хочется показать, насколько
великой и значительной была миссия, возложенная ими обоими на свои
плечи: до истинной церкви было рукой подать, а эти «жалкие» люди
упираются, смеют сомневаться в праведности дела! Желая утолить
религиозный голод, творят себе подобно Розанову «кумира», а Нувель и вовсе
ищет свет в извращенном чувстве к Философову. Заразой этой, похоже,
страдает и Бенуа... В таком случае, Гиппиус и Мережковский
действительно делают великое и благое дело: возвращая людям подлинного
Христа, они спасают их от роковых заблуждений. И тогда
предпринятое ими «Дело» — действительно «Главное» дело. Так или почти так
думала Гиппиус, вспоминая «о бывшем».
Однако вряд ли смогла бы она ответить на вопрос: почему половое
извращение Нувеля или кумиротворчество Розанова необходимо было
непременно называть поисками Бога? Действительно ли
евангельского Бога она предлагала как некое спасение для измучившихся в
своих слепых блужданиях людей? И не блуждала ли она сама в
поисках Бога в лабиринтах декадентской метафизики? Ведь еще с середины
90-х годов XIX в. за ней установилась прочная репутация человека, для
проповеди христианства совсем неподходящего.
Вот какой, к слову, запомнилась она А. Бенуа: «Это была пора
характерного fin de siècle, прециозность и передовитость которого
выражалась в культе (на словах) всего порочного с примесью всякой мистики,
нередко роднившейся с мистификацией. В частности, Дмитрий
Сергеевич как-то особенно любил сопоставлять слова "Г'ех" (он не совсем
ясно произносил букву "р") и "Святость", "Порок" и "Добро". Особенно
же озадачила... супруга Мережковского "Зиночка Гиппиус", очень
высокая, очень тощая, довольно миловидная блондинка с постоянной
"улыбкой Джоконды" на устах, но неустанно позировавшая и кривлявшаяся;
была она всегда одета во все белое — "как принцесса Греза"». Далее
Бенуа вспоминал о посетителях салона Мережковских, в частности о
192
редакторе «Северного вестника» А. Волынском, и вот в какой связи:
«Флексер-Волынский был принят у Мережковских с оттенком
интимности. Он даже, кажется, жил тогда у них, и они втроем около того же
времени совершили путешествие по Италии, что и вдохновило зоила
Буренина на один из его фельетонов определенно пасквильного
характера. В нем он не постеснялся намекнуть на сплетню, ходившую тогда
по городу. Было ли в самом деле что-нибудь предосудительное*, я не
знаю, но Зиночка тогда позировала на женщину роковую и на какое-то
"воплощение греха" и была не прочь, чтоб ореол сугубой греховности
горел вокруг ее чела. Да и Дмитрий Сергеевич не только терпел то, что
в другом супружестве могло создать весьма натянутые отношения, но
точно поощрял в жене те ее "странности", которые могли оправдать
прозвище "белой дьяволицы", данное ей чуть ли не им же самим. Ходил
даже анекдот, будто, войдя как-то без предупреждения в комнату жены
и застав ее в особо оживленной беседе с Волынским, он отпрянул и
воскликнул: "Зина! Хоть бы ты запирала дверь!"»43.
Подобная анекдотическая ситуация если и не случалась, то вполне
могла случиться, однако многочисленные любовные увлечения 3.
Гиппиус нельзя квалифицировать как здоровую эротику. Даже с мужем она
жила в девственном браке. Вряд ли этот факт (кстати говоря, очень
распространенный в те годы: подобным был брак Ф. Сологуба с А. Чебота-
ревской, А. Блока с Л. Блок, А. Белого с А. Тургеневой, М. Волошина с
М. Сабашниковой, Н. Бердяева с Л. Рапп и т.д.) можно счесть
проявлением половой аномалии или некоего декадентского поветрия. В
каждом отдельном случае в его основе лежали причины
идейно-мировоззренческого характера.
Зинаида же Гиппиус даже создала под влиянием Вл. Соловьева и
О. Вейнингера любопытную концепцию любви, изложенную в целом
ряде ее теоретических статей, таких, например, как «Влюбленность»
(1908), «О любви» (1925), «Арифметика любви» (1931), в
упомянутых воспоминаниях «Contes d'amour. Дневник любовных историй
(1893—1904)» и целом ряде художественных произведений. Поскольку
эта концепция будет необходима нам для дальнейшего разговора, есть
смысл осветить ее центральные положения.
* Было. О своей любви к Волынскому и отношениях с ним Гиппиус
вспоминала в «Contes d'amour. Дневнике любовных историй (1893—1904)».
193
Гиппиус делит любовь на два разряда или категории: любовь,
«которая бывает» и «которая должна быть». Соответственно она проводит
«черту разделения» между людьми, которые пусть и на
бессознательном уровне, но чувствуют, что «любовь — мировая проблема, вопрос
не менее других актуальный.., что в любви есть смысл, который нам
должно разгадать, — и людьми иного склада, не видящими в любви
ничего, кроме весьма обычного житейского факта»44.
Любовь как явление обыденное и таковое же отношение к ней
Гиппиус не интересны, если она и говорит на эту тему, то чрезвычайно мало.
Так, рассуждая о браке и тесно связанном с ним деторождением, автор
концепции пишет о том, что брак и семья не могут считаться
«метафизическим решением» проблемы пола, ибо брак, если даже и брать
его как высшую точку реального проявления пола, есть только «одна
из форм» этого проявления, иначе говоря, «часть пола». Если же
размышлять обо «всех формах его проявления», то, сознается Гиппиус,
«не знаем мы тут правды, не знаем, в чем правда для нашего цельного
существа, для всей нашей природы»45.
Автор статьи «Влюбленность» (а именно ее мы сейчас цитируем),
анализируя проблему пола, постоянно помнит о цельной природе
человека и именно с этих позиций подходит к вопросу о любви.
«Бессознательно уже почти каждый знает, — утверждает она, — что оно, это
существо, цельно, а не размыкается легко и произвольно на дух —
плоть, душу — тело, разум — сердце и т.д. Решив покорить тело душе,
мы оскорбляем душу же через тело; оскорбляя душу или не принимая
ее во внимание, мы оскорбляем тело через душу». Цельность
человеческой натуры, согласимся с Гиппиус, не позволяет нам принять в
качестве идеального решения проблемы пола ни один из известных
человечеству подходов к ней: или безальтернативное утверждение торжества
плоти, или проповедь другой крайности — аскетизма, или, наконец,
«частное полурешение — брак». Принимая за истину один из
перечисленных вариантов решения данной проблемы, его адепты в
скором времени убеждаются в ошибочности своего выбора и начинают
искать выход в противоположном первоначальному варианту
направлении. Так, позитивисты выступают за упорядочение брака, «демони-
сты со своим "все позволено"», испытав чувство греха, склоняются к
«монашеской чистоте», «верящий в правду и святость брака.., сойдясь
плотью с чистой девушкой <...> всегда с туманной болью вспоминает
194
о времени, когда любовь росла, облеченная тайной, и как будто жила
надежда на иное, чудесное, таинственное же, ее увенчание». Душа и
тело человека, пишет Гиппиус, даже в самом счастливом браке «смутно
тоскуют порой и грезят» по какой-то утраченной высоте, хотя именно
брак и казался ему именно той самой высотой46.
Но если человечество, т.е. все мы, продолжает автор статьи, познав
плоть мира, все же «не соблазнились, не удовлетворились надеждой
на обожествление уже существующих форм пола», если «не
соглашаемся на утверждение прошлого и настоящего — как навечного, если тем
более остро (ибо сознательно) стремимся к будущему, куда-то дальше, к
какому-то "преображению пола", к полету, — если это так (а это так), —
то, — спрашивает Гиппиус, — можно ли не считаться с нашим
стремлением? Не оно ли — показатель вечной правды?»47.
Этими словами, этими полувопросами-полуутверждениями
Гиппиус хочет сказать, что стремление человечества или, по крайней мере,
наиболее остро чувствующих его представителей (себя она,
разумеется, числит среди них) к постижению некой тайны в области пола, их
несогласие с уже установившимися формами его бытования есть
неоспоримое свидетельство о необходимости его новой организации или,
как она выражается, его «преображения».
Собственно говоря, вся статья «Влюбленность» представляет собой
развернутую реплику Гиппиус по поводу нескольких, по ее мнению,
«неосторожно написанных строк» из статьи Мережковского «Новый
Вавилон», посвященной разбору книги Розанова «В мире неясного и
нерешенного».
Констатируя, что вопрос о поле и браке в исторической церкви еще
не разрешен, Мережковский говорит, что разрешить его можно только
лишь через признание «того абсолютного принципа, что Христос
освещает плоть, что аскетизм Христа есть преображение пола, а не его
отрицание, что будущность пола — в стремлении к новой, христианской
влюбленности, а отнюдь не в идеале скопческого изуверства, как на то
указывает Розанов. Тут великая правда грядущей церкви». И еще две
фразы из Мережковского: «Тайна совмещения пола с евангельским
учением может и должна быть найдена». «При помощи Христа загадка
разъяснится, и область"неясного и нерешенного" станет ясной и решенной».
Разумеется, Гиппиус не только не отвергает этих мыслей мужа, но
даже комментирует его центральное положение о «преображении пола
195
в новую христианскую влюбленность». Заявлено об этом, говорит она,
весьма категорично, а потому оказывается неясным: что представляет
собой «влюбленность» и почему она к тому же еще и христианская?
Пытаясь растолковать читателю смысл данных категорий, автор
статьи совершенно справедливо говорит о том, что, употребляя слово
«влюбленность», люди акцентируют свое внимание на самых
различных оттенках его значения. Единственное объединяющее этих людей
начало состоит в том, что они «одинаково принимают за
"влюбленность" желание известной формы брачного соединения». Между тем,
по Гиппиус (да и по Мережковскому тоже), «влюбленность» — «это
новое в нас чувство, ни на какое другое не похожее, ни к чему
определенному, веками изведанному, не стремящееся и даже отрицающее все
формы телесных соединений, как равно отрицающее и само отрицание
тела. Это — единственный знак "оттуда", обещание чего-то, что,
сбывшись, нас бы вполне удовлетворило в нашем душе-телесном существе,
разрешило бы "проклятый" вопрос»48.
Процитированные строки — одно из самых принципиальных
положений статьи Гиппиус.
Исходя из смысла ее высказывания, получается, что
«влюбленность» отнюдь не адекватна тому, что люди издавна называли любовью.
Любовь — традиционная форма общения между полами и, как
таковая, больше принадлежит «земле», чем «небу». Иное дело,
«влюбленность». Посланная человеку «небом», она единственное, что способно
снять роковое напряжение между его душой и телом, а потому
отвечает его целостной душевно-телесной природе.
Последнее обстоятельство для Гиппиус (равно как и для
Мережковского) особенно значительно. Мережковский, как мы убедились,
неоднократно (эту его мысль Гиппиус специально выделяет в начале
своей статьи) «разводил» Христа и историческую церковь, исходя из
принципа их отношения к плоти. Аскетизм Христа в отличие от
усиленно проповедуемого церковью аскетизма, по Мережковскому,
означает не угашение, а освящение, т.е. преображение, плоти. Что это
означает, хорошо видно из гиппиусовской характеристики «влюбленности»,
отрицающей любые формы телесного сближения, но одновременно с
этим выступающей и против всякого отрицания тела.
Как возникло ощущение греха, проклятие плоти? Отвечая на этот
вопрос, Гиппиус говорит: оно «выросло исключительно из желания»,
196
чувства, противоположного «влюбленности», когда «нет»
противостоит «да», «дух» — «плоти». Во «влюбленности» же, настаивает она,
«сам вопрос пола уже как бы тает, растворяется; противоречие между
духом и телом исчезает, борьбе нет места... Плоть не отвергается, не
угасается, естественно, — ибо она уже воспринята как плоть, которую
освятил Христос». И далее: «Взаимоотношение Христа и плоти не ясно
лишь тем, кому христианство еще заслоняет Христа. И в этом
неотвержении плоти влюбленность так же проникает к Христу, связана с ним,
неотделима от Него, как и во всем остальном»49.
Не надо думать, что гиппиусовское «неотвержение плоти» адекватно
утверждению плоти. Христос, напоминает она своему читателю, ввел
в человеческую жизнь духовное измерение. Если оглянуться назад, в
дохристианскую древность, то перед нами предстанут языческие «теплота
крови и тела только желающего и рождающего, — земля — одна земля!
И безличность, ибо человек — есть его род, он и его потомство —
как бы едины». Вот это последнее и представляет собой, по Гиппиус,
утверждение плоти, только плоти. Христос же придал плоти, как и
всему на земле, особое духовное трепетание. От этого она не перестала
быть плотью, однако земная, земляная уплотненность стала ей
несвойственна. Вот почему, убеждена Гиппиус, проблема брака и
деторождения «не есть решение в христианстве вопроса о поле, не есть последнее
слово Христа о нем. Это — один из законов, которые явлением Своим
Он исполнил, с тем чтобы они были отставлены, как отставляется в
сторону наполненная чаша. Великое проникновение у Павла, когда
он говорит о браке: "Сие даю вам не как повеление, а как позволение".
И продолжает этот закон жить лишь постольку, поскольку до сих пор
не "вмещается" в человечестве "многое, что Он имел еще сказать, но
не могли вместить"»50.
Короче, речь у Гиппиус идет о преображенной, освященной
Христом плоти, и «новая христианская влюбленность», которая, по
словам Мережковского, продемонстрирует «правду грядущей церкви»,
признает именно такую плоть и только к такому полу имеет
отношение. «Влюбленность», не устает повторять Гиппиус, есть чувство пола,
которое не имеет «ничего общего с разнообразными видами желания,
влекущего за собой которое-нибудь из существующих телесных
соединений». Это «не брак.., не содом... и не аскетизм, не духовность...»
В таком случае, «что это»? — спрашивает Гиппиус и отвечает за
197
себя и за тех людей, которые это чувство испытали: «Не знаем... до
конца...»51. Точь-в-точь, как в ее знаменитом стихотворении «Песня»,
которое она целиком приводит в своем «дневнике любовных
историй» «Contes d'amour»:
Окошко мое высоко над землею,
Высоко над землею.
Вижу я только небо с вечернею зарею,
С вечернею зарею.
И небо кажется пустым и бледным,
Пустым и бледным.
Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.
Увы, в печали безумной я умираю.
Я умираю.
И жажду того, чего я не знаю,
Не знаю.
И это желание не знаю откуда,
Пришло откуда,
Но сердце просит и хочет чуда,
Чуда!
Мои глаза его не видали,
Никогда не видали,
Но рвусь к нему в безумной печали,
В безумной печали.
О пусть будет то, чего не бывает,
Не бывает,
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает, —
Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете.
Мне нужно того, чего нет на свете,
Чего нет на свете.
Человек, жаждущий чуда, испытывающий «безумную печаль» по
тому, «чего не бывает», не может быть категоричным и определенным
в своих выводах и гипотезах, его не могут устраивать
рационалистические выкладки ума.
Гиппиус была или, во всяком случае, хотела казаться именно таким
человеком. Вот почему в своей статье о влюбленности практически во
198
всем соглашаясь с мужем и даже развивая отдельные его идеи о
преображении пола, она не только возражает против оптимистического пафоса
его работы, но даже оспоривает некоторые его подходы к данной
проблеме. Разве можно утверждать, спрашивает она, цитируя
Мережковского, что «тайна [преображения пола] должна быть найдена, загадка
разъяснится»! Да еще «при помощи Христа»? Наоборот, утверждает
Гиппиус, «тайна окончательного преображения пола не может и не
должна быть найдена, не должна раскрыться (сделаться не тайной),
загадка пола не должна стать ясной и окончательно решенной»52.
Христос, напоминает она своим читателям, «путь, истина и жизнь», но
прежде всего путь и лишь потом истина и жизнь. Идя путем, завещанным
Богом, люди приближаются к познанию истины, благодаря чему поле их
духовного зрения расширяется, однако до конца она им так никогда и не
откроется.
Подобным же образом обстоит дело и с «влюбленностью». Это
чувство есть знак или явление преображающегося пола. Его
духовно-телесная природа делает «влюбленность» непохожей на все известные доселе
и освященные церковью формы решения половой проблемы. Причем
в равной степени как для духа человека, так и для его тела. По этой
причине «влюбленность» окутана тайной, это чувство присуще только
«новым людям» (так назывался вышедший в 1896 г. первый сборник
рассказов 3. Гиппиус) — членам будущей «новой церкви», о планах
строительства которой и о перипетиях в окружении Мережковских, с
этим строительством связанных, она поведала нам со страниц
дневника «О Бывшем».
Мы вовсе не случайно прервали изложение сюжета ее дневника
рассказом о ее эротической концепции. Увы, основой для задуманного
Гиппиус и Мережковским «Храма» служила идея преображения пола
в «новую христианскую влюбленность». Но кабинетные идеи плохо
приживаются в жизни. Даже в теоретической работе Гиппиус нашла
повод для упрека мужу в излишне рационализированном подходе к
такой тонкой и таинственной материи, как «влюбленность». В жизни
же все оказалось значительно сложнее.
Послушаем автора дневника: «"Нерешенной" загадкой пола все были
отравлены. И многие хотели Бога для оправданья пола.
И Философов хотел и для оправданья. Но сам не знал, что не только
для этого.
199
Дмитрий Сергеевич не для оправданья, но тоже был отравлен этой
входящей, — не главной — мыслью.
Я не знала, но чувствовала ее не главность; но знала, что они теперь
не поймут».
Далее Гиппиус курсивом выделяет то, что к началу оформления
«Главного» как стратегической цели Мережковского и людей его круга
осознавала только на интуитивном уровне и что в процессе борьбы за
«Главное» вызрело у нее в концепцию «влюбленности»: «Христос —
решенная загадка пола. Через влюбленность в Него — свята и ясна
влюбленность в человека, в мир, в людей.
Свою душу надо слушать.
Так шло — и мне стало нехорошо, точно мы умираем»53.
Всего несколько строк, а сколько в них декадентской изломанности
и многозначительности.
Гиппиус кажется, что занята таким важным делом, что, не выполни
она его, землетрясение случится, светопреставление начнется. Но
главное даже не в этом. Парадоксально, но факт: «богоискательство» для
завсегдатаев кружка Мережковского уперлось в проблему пола. Лишь
Гиппиус каким-то внутренним чутьем ощущала ее «не главность». Их
захваченность (а на самом деле — «отравленность»!) разгадкой
данного вопроса оказалась настолько большой, что даже потребность в
Боге они испытывали (во всяком случае, так ситуацию
интерпретирует автор дневника) только в связи с этой проблемой.
Если воспоминания Гиппиус искренни (а у нас, кажется, нет
особых оснований сомневаться в этом), они прекрасный материал для
характеристики того духовного тупика, в котором оказался
Мережковский — критик аскетизма исторической церкви. Проблема пола заняла в
его религиозно-философской концепции настолько значительное место,
что стала выполнять, по сути дела, роль фундамента для созидаемой
как им самим, так и кругом близких к нему людей «новой церкви» —
«Главного» на языке Гиппиус. Пол был осмыслен религиозно, его
«"нерешенная" загадка» получила разрешение через «новую», т.е.
«христианскую, влюбленность». Именно этот плод гиппиусовско-мережковской
мысли был водружен на место старой христианской формулы «Бог есть
любовь», в результате чего возникла декадентски-двусмысленная идея о
«святости» только такого общения между мужчиной и женщиной, когда
их «влюбленности» друг в друга будет предшествовать их же «влю-
200
бленность»... в Христа. «Влюбленность в Христа» странным,
противоестественным и уж, конечно, ничего общего с христианской этикой не
имеющим образом оказалась поставленной в один ряд с
«влюбленностью» в человека и даже более высокой по сравнению с ней ступенью
в иерархическом отношении. Гиппиус казалось, что в идее
«влюбленности» она гармонизировала взаимоотношения «духа» и «плоти», на
самом же деле она эротизировала свое восприятие Бога. Увы, и автор
дневника оказалась «отравленной» «загадкой пола»!
Вывод напрашивается сам собой: «Главное» Гиппиус и
Мережковского есть религиозно-эротический проект, реализуя который они
рассчитывали спасти человечество от засилия исторической церкви.
Религия здесь пронизывалась эротикой, эротика — религией. Это
кощунственное смешение разнопорядковых явлений якобы пугало Гиппиус.
Но перспективы, которые открывало осуществление «Главного»,
окрыляли. Думалось, что самое важное — сдвинуть проект с мертвой точки,
а потом все утрясется, войдет в свою колею.
Вот как она обо всем этом вспоминала. Вначале о том, как трудно
складывался триумвират, без которого «Главное» не могло быть
осуществлено:
«Сил мало — надо собрать их в одно.
Философов — первый, кто подошел к нам; единственный —
который близок. Один — кто может помочь. И хотя страшно было
подумать и почти дерзко надеяться, что у него хватит сил на то признание
внутренней связи важнее внешней, через которое он должен был
переступить*, — я ему написала, что хочу говорить с ним.
А Дмитрию Сергеевичу я ничего не сказала, потому что все равно
знаю его и нед у манные еще мысли.
Когда я еще ничего не говорила, Философов сказал: "А было бы не
то, если б мы сначала остались втроем".
То, что он это сам сказал, а не согласился со мною, когда я бы стала
то же говорить, — было мне радостно — до счастья.
Мы хорошо говорили вместе — и почти стало явно, всем троим, что
мы — в Главном согласны, все трое»54.
* «Внешняя связь» — товарищеские узы, скреплявшие членов редакции
журнала «Мир искусства», в которую входил и Философов. Мирискусники
оказывали известное сопротивление религиозным идеям Мережковского.
201
Радость, однако, была преждевременной. Стоило только делу
сдвинуться с мертвой точки, как у «Главного» сразу же выросли
эротические «уши».
«...Потом, когда первые шаги были уже как бы решены, —
свидетельствовала Гиппиус, — и собрания наши (автор дневника имеет в
виду тех первоначальных участников бесед у Мережковского,
которые рассматривались супругами в качестве будущей паствы
задуманной «новой церкви». — B.C.) для нас перестали быть главными,
случилось, что один из бывавших с нами заметил это и сказал, что ему
больно. Это был Нувель, и хотя я ничего не знала (о его отношениях
с Философовым. — B.C.), но не чувствовала его мне близким; пусть,
думала я, вина на мне, но я и для себя ищу, а с ним — не найду. <...>
Тогда он, Нувель, пришел ко мне и сказал: "А может быть, вы не
Бога ищете, а Философова, потому что у вас к нему личное влечение".
Говорю об этом, потому что это важно, потому что он меня смутил, и
я остановилась, и со мной в то время и Дмитрий Сергеевич остановился.
Испугавшись — я стала глядеть внутрь себя, но ничего не могла
увидеть, потому что влюбленность в Христа, как большой свет,
заслоняла все в душе и я не знала, что там. Но как раньше я никогда в себе
этого не видела, то и осмелилась не бояться. Я же думаю, что пол —
через Бога, а не Бог через пол.
Но оба они, и Дмитрий Сергеевич, и Философов, еще думали, что без
пола нельзя подходить к Богу, а потому я решила, что пусть они, если
боятся бесполого Круга, — надеются, что есть пол хоть во мне,
влечение к одному из Круга. Пусть не знают, но надеются.
Еще Нувель сказал мне: "Если бы Философов наверно узнал, что
вы в него не влюблены, — он потерял бы всякий интерес и к вам, и ко
всему делу".
Пусть вина на мне, что я поверила. Но смотрела вперед, прямо, — и
только одного хотела, чтобы все мы трое соединились, связались
Главным. А правду потом все не через меня, а через Него поймут.
И вот теперь я подхожу к бывшему между нами тремя, и очень
трудно писать, потому что не знаю как, и потому что не знаю еще,
было ли это нам в оправдание, в исцеление — или в суд и осуждение.
Но либо одно — либо другое. Потому что это великая тяжесть, только
не знаем мы, на левой или на правой чашке весов она лежит. Каждый
из нас отвечает за двух остальных, а потому еще страшнее.
202
Одно мне явно: если боимся, если не приложим к этой тяжести еще
и еще — значит, не верим — а значит, и не хотим, чтобы она оказалась
лежащей на правой чашке; а если победим страх перед Сыном
любовью — и с левой переложится на правую, ибо отдадим себя Ему
вместе с грехом нашим, а в Нем — нет греха.
Было это в Великий Четверг, двадцать девятого марта тысяча
девятьсот первого года — 1901»55.
К тому, что «было в Великий Четверг», мы еще вернемся, ибо это
имеет прямое отношение к нашей теме. Пока же прокомментируем эту
обширную цитату.
Нувель, как говорится, попал в «десятку», обратив внимание Гиппиус
на интимную подоплеку начавших складываться между нею и Фило-
софовым отношений. Удивительного здесь ничего нет, ибо его
проницательность скорее всего выросла на почве обыкновенной ревности: он
сам имел на него серьезные виды. Конечно, Нувель хорошо осознавал
противоестественность однополой любви, которую испытывал к Фило-
софову, однако он и предположить не мог, что любовное влечение
Гиппиус к Философову, как отчасти и к другим мужчинам, еще более
специфично, если не сказать определеннее, — странно. Разумеется, он не
был знаком с гиппиусовской теорией «влюбленности», да и концепция
эта вызревала в ее творчестве постепенно и к тому времени еще не
сложилась окончательно. Однако, прежде чем примерить ее на своих
дневниковых героях, она примеривала ее на себе.
Читаем «Contes d'amour. Дневник любовных историй (1893—1904)».
«19 февраля 1983 г.
<...> мне нужен специальный дневник. <...>
И не надо выводов. Факты — и какая я в них. Больше ничего. Моя
любовная грязь, любовная жизнь. Любовная непонятность. <...>
21 февраля
<...> Нарочно пишу все, весь этот цинизм, — ив первый раз. То,
что себе не говорила. Грубое, уродливое, пусть будет грубо. Слишком
изолгалась, разыгрывая Мадонну. А вот эта черная тетрадь, тетрадь
"ни для кого" — пусть будет изнанкой этой Мадонны. <...>
На Ривьере — доктор. <...> Мне казалось, что я играю, шучу.
Искание любви, безумие возможности (чего?) — яркая влюбленность... — и
вдруг опять, несмотря на все мужество во имя влюбленности, — холод
203
и омертвение. А между тем ведь мне дан крест чувственности. Неужели
животная страсть во мне так сильна? Да и для чего она? Для борьбы
с нею? Да, была борьба, но не хочу скрывать, я тут ни при чем, если
чистота победила. Я только присутствовала при борьбе. Двое боролись
во мне, а я смотрела. Впрочем, я, кажется, знала, что чистота победит.
Теперь она во мне еще сильнее. Тело должно быть побеждено.
Всегда так. Влюблена, иду. Потом — терплю, долго, во имя
влюбленности. Потом хлоп, все кончено. Я — мертвая, не вижу того человека...
Зачем же я вечно иду к любви? Я не знаю; может быть, это все потому,
что никто из них меня, в сущности, не любил? <...> Но хочу верить, что
если кто-нибудь полюбит меня вполне, и я это почувствую, полюбит
"чудесно"... Ах, ничего не знаю, не могу выразить! <...>
22 февраля
<...> Милая, бесхитростная влюбленность! Буду тебе помогать. Если
б я умела довольствоваться маленьким, коротеньким, так хорошо и
легко бы жилось. Пусть демон хранит мое целомудрие <...>
23 февраля
<...> В понедельник на прошлой неделе был Минский. Я сидела в
ванне. Я позвала его в дверях, говорила какой-то вздор и внутренно
смеялась тому, что у него голос изменился. Издеваюсь над тобой, власть
тела! Пользуюсь тобою в других! Сама — ей не подчиняюсь...
Да, верю в любовь, как в силу великую, как в чудо земли. Верю, но
знаю, что чуда нет и не будет. Сегодня сижу и плачу целый вечер. Но
теперь довольно. Я потому плакала, что Червинский (один из
«кавалеров» Гиппиус. — B.C.) написал несколько нежно-милых строк, а они
так не шли к моему настроению, точно их офицер писал. Да и офицер
их не написал бы, если б любил.
Хочу того, чего не бывает.
Хочу освобождения...
Я люблю Дмитрия Сергеевича, его одного. И он меня любит, но как
любят здоровье и жизнь.
А я хочу... Я даже определить словами моего чуда не могу <...>
7 марта
Чтоб покончить с моими "сказками любви" — надо корень жизни
изменить... <...>
204
15 марта, понедельник
Мутит меня.
Опять этот Минский, обедает у нас, ерзает по мне ревниво жадными
глазами, лезет ко мне... Не могу. И не могу не мочь.
Я улыбаюсь от злости. <...>
Что бы сделать с собой?..
Нет красивых и чистых отношений между людьми (разве только
духовными). Нет чуда, и горько мне, и все в темноте... <...>
19 марта, пятница
<...> Господи, дай мне то, чего мне надо!
Ты это знаешь лучше меня. Вся душа моя открыта, и Ты видишь,
она страдает. Я не скрываю, что хочу много. Боже, дай мне много. То,
подлое во мне, что, я слышу, шевелится — ведь Ты же дал мне. Ну,
прости, если я виновата, и дай мне то, чего я хочу. Мне страшно
рассердить Бога моими жалобами. И еще мне стыдно... Неужели это все —
от жалкой причины отъезда Червинского (с которым она же первая и
порвала. — B.C.)? Нет, не все тут. Я правдива здесь. Я сожгу это перед
смертью. Много, много у меня в душе. <...>
16 октября. СПб.
<...> От времени до времени меня тянет к этой тетради.
17 ноября
Да, тянет, потому что даже в безобразной правде есть
привлекательность. Я утоляюсь, здесь я — не раба, я свободна, я смотрю
моей жизни в глаза, я плюю на все, на всех и на себя, главное — на
себя. Мысли о Свободе не покидают меня. Даже знаю путь к ней. Без
правды, прямой, как математическая черта, нельзя подойти к
Свободе. Свобода от людей, от всего людского, от своих желаний, от —
судьбы... Надо полюбить себя, как Бога. Все равно, любить ли Бога или
себя.
Но здесь не место об этом. И я еще так слаба... <...>
26 сентября 1895 г.
<...> Живет ли тот, кого я могла бы хотеть любить? Нет, я думаю.
И меня нельзя любить. Все обман. <...>
205
24 ноября 1895 г.
<...> Мне жалко Флексера... (А. Волынского, очередную «любовь»
Гиппиус. — B.C.). И всегда я с ним оставалась чистой, холодной (о,
если б совсем потерять эту возможность сладострастной грязи,
которая, знаю, таится во мне и которую я даже не понимаю, ибо я ведь и
при сладострастии, при всей чувственности — не хочу определенной
формы любви, той, смешной, про которую знаю). Я умру, ничего не
поняв. Я принадлежу себе. Я своя и Божья.
12 ноября 1896 г.
Батюшки! Целый год прошел. Тягота и мука. О чем же писать! Тягота,
мука, никакой любви, моя слабость. <...> Эту тетрадь ненавижу. Узость
ее, намеренная, мне претит. И сейчас едва пишу. Взять ее — кажется,
что я только и жива любвями, любовными психологиями да своими
мерзостями. Здесь одна сторона моей жизни, немаловажная, но все-
таки одна. Я из этих рамок не выйду, нет смысла. Но претит.
Скучища! <...>
30 декабря 1897 г.
<...> Опять больше года прошло... Мне надо продолжать мою казнь,
эту тетрадь, "сказки любви"... то, с чем жить не могу и без чего тоже,
кажется, не могу. Даже не понимаю, зачем мне эта правда, узкая,
черная по белому. Утоление боли в правде. <...>
17 декабря 1898 г. СПб.
<...>Я рада поцелуям. В поцелуе — оба равны. Ну, а потом? Ведь
этого, пожалуй, и мало...
Явно, что надо выбрать одно: или убить в себе, победить это
"целомудрие" перед актом, смех и отвращение, перед всем, что к нему
приводит, — или же убить в себе способность влюбления, силу, ясность,
обжог и остроту... <...>
Нет, в поцелуе, даже без любви души, есть искра Божеская.
Равенство, одинаковость, единство двух. И все-таки, хотя в это мгновение
существует один, соединенный из двух, — два тоже существуют. То
есть этого всего нет, но есть какие-то мысли об этом. Тут (летом на
даче с сыном помещицы — «купчиком». — B.C.), конечно, не было; мое
тело — не я (куда же душа тогда?) — но я представляю себе поцелуй
двух "я"... и все-таки даже не только поцелуй. Но что же?
206
Улыбаюсь от мысли того, кто читал бы это? Нет, нет, для меня
"это" — уже не вопрос. Нет...
16 августа 1899. СПб.
Приехала на два дня из Орлина (из того самого села, в котором
два месяца спустя у Мережковского возникнет мысль о
необходимости «новой Церкви». — B.C.). Давно не видала этой тетради.
...хочется написать. Роман! Мало что роман! "Все про неправду писано", а
здесь — другое. <...>
Перечитала последние страницы. Нахожу, что я была все-таки в
безумии, решаясь подчиниться желанию тела. И ничего не узнала. Как это
отделять так тело от души? А если тело — без души не пожелало? Вот
и опять все неизвестно.
У меня такие страшные мысли... <...>
Вечером
<...> Как я верю в любовь и в чистоту! Верю, как в Бога. Не
принимаю флирта...
Мыслям — не изменю, никогда. Пусть я и все рушится, а они —
Правда. Я пойду в них, пока не упаду.
Но теперь молчание! Молчание!
По-моему — никому. Они не готовы, жалкие, голенькие. Я жалею,
что я... Теперь хочу еще бороться за возможность грядущей любви.
Теперь пойду к ней и к мыслям в одиночестве.
Нежность моя безмерна. Сила страдания во мне — неограниченна,
но ничего не боюсь. Только одного: если я не с силой буду бороться, а с
слабостью. Ведь тогда — у меня нет желаний. И любовь, и
сладострастие, теперешнее, — я принимаю и могу принимать только во имя
возможности — изменения их в другую, новую любовь, новое, безгранное
сладострастие: огонь его в моей крови.
14 сентября 1900. СПб.
Сегодня я вернулась из-за границы, где прожила почти год*. <...>
Перечитала последние страницы. <...>
* Напомним, что до поездки за границу Мережковский посвятил в свою тайну
Философова и Розанова. По возвращении, именно 14 сентября, как писала
Гиппиус в дневнике «О Бывшем», супружеская чета приняла решение рассказать о
своих планах кругу единомышленников.
207
Ужасно я трагична в этих последних страницах.
Самолюбование, психология, надрыв и — все еще ребячество. Нет, я стала
спокойнее, свободно-покорнее и тверже. Еще прошлой осенью — какой
надрыв — мой "подвиг"! Конечно, ошибка, но не каюсь, и она была
нужна. <...>
Моя нежность, мое чувство ответственности, мое желанье силы в
другом — остались, но веры нет, а потому разлад души и некоторое
недоумелое стояние. Что же, мыслям изменить? Отказаться от
последних желаний тела и души во имя того, что есть и что не нравится? Этой
жертвы просит моя человеческая жалость к себе, моя нежность, моя
слабость. Но смею ли?
Я даже не знаю, все ли я сделала, что могла. Если не все, то —
доколе, о Господи? Ведь могу перейти границу своих сил и сама упасть
в яму. <...>
19 декабря 1900
...Но нельзя так писать, как я начала страницу. Ложь. Вовсе лучше
не писать. Да и зачем пишу? Если для других — зачем? Все слова,
"бывалые" слова. <...> А решить ничего нельзя. А действовать —
нужно. А нельзя — не решив. Переломить душу надвое? Так больно.
Еще помрешь раньше времени от излома. Я не смею теперь
умирать. <...>
А все-таки не знаю, нужна ли плоть для сладострастия. Для
страсти, т.е. для возвращения в жизнь — да (дети). А сладострастие — одно
идет до конца...
Весь смысл моего поцелуя — то, что он не ступень к той форме
любви... Намек на возможность. Это — мысль, или чувство, для
которого еще нет слов. Не то! Не то! Но знаю: можно углубить пропасть.
Я не могу — пусть! Но будет. Можно. До небес. До Бога. До Христа.
Мне стало страшно. Как говорю? Здесь, в этой "яме"... Да в том-то
и дело, что все изменилось и теперь место, где говорю о своем теле, о
сладострастии, о поле, об огне влюбленности — для меня, для моего
сознания, уже не проклято, не яма. <...>
Идеал Мадонны — для меня не полный идеал. <...> Я теряюсь, как
человек, из-под которого выдернули стул. Только в одном,
единственном, углу моей комнаты — светло. И это — мое, и это последнее, но
хочу, чтоб оттуда на всю комнату был свет. И будет.
208
Любить меня — нельзя...
Я ни к кому не прихожусь. Рассуждаю, а в сердце зверь и ест мое
сердце. Не люблю никого, когда у меня боль. Не люблю — но всех
жалею. Жалко и Философова, который в такой тесной яме, жалко
бедных людей, которые приходят, надеясь, — и ничего не получают, ни
от себя, ни от нас. Их, впрочем, меньше жалко... чем Философова. Они
как-то больше ждать могут; а ему бы сейчас надо. Да вот нет. Не могу
ему помочь, он меня не любит и опасается.
Именно опасение у него (а не страх), мелкое, примитивное,
житейское. Я для него, в сущности, декадентская дама, подозрительная
интриганка, а опасается он меня не более, чем сороконожки. Да, может, это
все и есть во мне, но жаль, что он лишь на это во мне реагирует. Жаль
для него. <...>
7 февраля 1901
Все еще не знаю, что могу, но, кажется, знаю, что должна бы. <...>
Я сделана для выдерживания огненных жал, а не слепого, тупого,
упорного душения. Но так надо. А потом, когда приготовлю почву, —
совсем не буду писать. Но очень надо приготовить. Очень знать. Это
все, когда решу. Но ведь вот, чувствую, надо решить скорее. Потому
что я должна действовать, а это меня держит, силы во мне нет...
Малодушно, изменно, не нравится мне закрывание глаз, самоослабление
для Главного. Это вопрос — быть ли Главному, и вопрос мой, потому
что — быть "ему" или не быть — в моих руках, это знаю.
Господи, как хочется смириться, отдаться течению волн, не желать,
а только верить, что другие больше тебя желают, не идти — а только
чтоб тебя несли! Сказать себе: ну что я могу? Это самообольщение,
гордыня! Пусть другие, они сильнее. А я слаба. Все равно ничего не
будет, что бы я ни делала. При чем — я? Моя воля?
Да ведь это и правда. Люди меня не любят, не верят, боятся, — я не
могу им помочь, а они — мне. Что же я напрасно ломаю себя — или
ломаюсь? <...>
Вздор. Грех. Стыд. Ложь. Лучше молчать, чем так говорить.
Это я в яму захотела.
Страшно мне, как всем, яма соблазнительна. <...>
...люди хотят Бога для оправдания существующего, а я хочу Бога
для искания еще несуществующего (вероятно). <...> мне некуда звать
209
Бога, я в путешествии. Нет подходящего мне дома, в котором хотела
бы вечно жить; я сама хочу идти к Богу; там, впереди, ближе к Нему,
есть, верю, лучшие дома — их хочу. <...>
1 апреля 1901
ХРИСТОС — ВОСКРЕС?»56.
3, «Христианская влюбленность»
Кто-нибудь из читателей, пробежав глазами эти обширные выписки,
возразит, пожалуй: «Зачем так много цитировать? Не лучше ли
ознакомиться с дневником Гиппиус самому?» Возможно, он будет даже и
прав. Но в свою очередь спросим и мы: «Как нам поступить, если мы
всерьез хотим узнать правду о Зинаиде Гиппиус, не только поэте,
прозаике, мемуаристе, критике Антоне Крайнем, но и женщине?» Разве
можно кратко, в двух-трех словах изложить то, что не укладывается
ни в какие слова: смятение человека, душевная его боль, когда он и сам
хорошенько не способен понять, а тем более осознать глубины и
содержания своих душевных страданий? Скажут: не обольщайтесь, это-де
не тот случай. И потом, разве не вы ли сами, цитируя воспоминания
Бенуа, писали нечто о декадентских «вывертах» Гиппиус, о прочно
утвердившемся за ней в артистическом мире прозвище «белой
дьяволицы»? Свидетельства Бенуа мало?
Нужны мнения других людей? Пожалуйста. Вот что писала о ней
4 августа 1905 г. А.П. Философова своему сыну, испрашивающему
ее благословения на поездку за границу вместе с Мережковскими:
«...перехожу к самому щекотливому вопросу о Зиночке. — Ты меня
не переубедишь в том отношении, что она тебя "зацапала"... Я
совершенно откровенно и раз навсегда, и в последний раз, выскажу тебе все,
что у меня на душе относительно Зиночки — и баста. <...>
Ты бесхарактерный, и слава Богу, что тебя зацапала Зиночка, а не
кокотка<...> Она умна и даст тебе ум, что же касается до ее телесных
экстазов, о которых так цинично рассказывают ее подлые поклонники,
которым она их расточала, то пойми, что до меня это вовсе не касается,
какое мне до этого дело. Я лично ее не люблю, потому что она
кривляка, но нам с ней не детей крестить»57.
210
Было это? Конечно, было — дыма без огня не бывает. Велик соблазн
упрекнуть Гиппиус в неискренности, в эпатировании публики.
Мемуаристы наперебой указывали на эти стороны ее поведения. Вот и
А.П. Философова тоном, не допускающим возражения, говорила о
ней: «кривляка». Нельзя же отказать всем им в отсутствии
элементарной наблюдательности. Даже наиболее понятный ее сердцу человек —
Философов, как с горечью отмечала Гиппиус, «опасался» ее, видя в
ней то ли «декадентскую даму», то ли «подозрительную интриганку».
Знала ли за собой подобный «грех» сама мемуаристка? Знала. А потому
не раз спрашивала себя: зачем «ломается»? Но, правда, тут же
добавляла: может быть, «ломает себя» для других совершенно «напрасно»?
Корень в этих двух словах одинаковый, а смысл — разный. Одно
дело — «ломаться», другое — себя «ломать». Тем не менее Гиппиус
не очень хорошо различала границу между этими понятиями: ей все
чудилось, что одно переходит в другое, а следовательно, и границ между
обоими душевными состояниями нет вовсе. Если наше предположение
справедливо, то оно говорит, скорее, в пользу автора воспоминаний,
чем против него. Это свидетельство «текучести» ее души, сложности
и даже полярной раздвоенности характера, но никак не ее
неискренности. «Декадентская дама, подозрительная интриганка»? Именно —
так, но зачем «реагировать» только на одну сторону ее поведения, когда
есть другая, более существенная? Вот ответ Гиппиус не только Фило-
софову, но и всем без исключения ее «хулителям». Содержание
«Сказок любви» буквально вопиет о том, что их автор живет и хочет жить
по своим собственным законам, по своей собственной логике,
мучительно ее обдумывая и домысливая, анализируя каждый свой шаг, а
люди, не понимающие или не принимающие ее действий и мотивов,
их вызывающих, распространяют пикантные анекдоты о ее «телесных
экстазах». Им представляется, что Гиппиус «только и жива любвями»,
а также и разбором «любовных психологии», но она-то знает, что это
всего лишь одна сторона ее жизни, хотя и «немаловажная». «Все про
неправду писано», — цитирует она Смердякова, пытаясь устами героя
Достоевского выразить людское недоверие к образу своих мыслей и
своей жизни, однако сама утверждает обратное: ее дневник — совсем
«другое», т.е. чистая правда. Иногда она бунтует против характерного
для его стиля приема самообнаружения, самовыявления и даже
самообнажения, грозится сжечь его перед смертью, но снова и снова, год
211
за годом обращается к заветной тетради, «утоляя» на ее страницах
«боль в правде».
Конечно, уверения Гиппиус в искренности ее писаний могут кого-то
и не убедить: спонтанное выражение мыслей и переживаний обычно
противится их облечению в стройную форму — у нее же в каждом
слове, каждой фразе, в интонационном строе, в расстановке абзацев
даже чувствуется рука мастера, вознамерившегося написать роман.
Роман о себе. О жанре романа в связи со своим дневником, кстати
говоря, она однажды и упоминает. Пусть так, авторской искренности
это стремление практически не умаляет. И потом — разве когда-нибудь
она выражала желание опубликовать свои «Сказки любви»? Тем
более до смерти? Или кому-нибудь показывала? Даже дома ее дневник
хранился в запечатанном конверте. Лишь однажды она вознамерилась
было показать свою «нечитанную, нераскрываемую тетрадь» Филосо-
фову как «самому близкому» к ее «я» человеку, однако, увидев, как он
«отвратился от нее и ужаснулся», «внезапно и смертельно испугалась
себя и тетради и прокляла ее более, чем проклинала в юности»58. Почему
и чего испугалась Гиппиус? Лжи своей мысли и ее кощунства? Во
всяком случае, она сама в этом призналась. Что — и это признание —
преувеличение? Сомневаемся. Слишком дорог был ей этот человек, слишком
ценила она тогда его мнение, чтобы усомниться в искренности ее слов.
Если даже учесть содержание сделанных нами выписок из
«Сказок любви», становится понятным, почему Гиппиус решилась на этот
опрометчивый, с ее точки зрения, шаг.
Она хотела, чтобы он узнал о ее правде, понял бы ее правду и
оценил бы по достоинству. Вероятно, она даже мечтала о том, что
Философов, ознакомившись с «изнанкой Мадонны», с ее «безобразной
правдой» о себе, поймет наконец, что она не «сороконожка» какая-нибудь,
а человек со страдающей душой, что исповедническое самообнажение
ее в основе своей вовсе не декадентское «кривлянье» и эпатаж, а отря-
сание с себя праха «всего людского», желание во что бы то ни стало
обрести «свободу от людей». Что это означало? Догадаться нетрудно:
жаждала она освобождения от общепринятой морали, чтобы
расчистить дорогу для морали новой и, следовательно, для нового человека.
Того же, кстати говоря, требовало и проповедуемое Мережковским
апокалиптическое христианство Третьего Завета. Вот какой «Свободы»
она хотела, и во имя этой свободы и обнажала свою душу. Имея перед
212
собой эту цель, Гиппиус и отправилась в «путешествие». Людям,
говорила она, есть где «преклонить» свою голову. Они и Бога-то выдумали
для того, чтобы оправдать свое существование. Мне же Он нужен «для
искания еще несуществующего». Людские дома не для меня, «я своя и
Божья», размышляла Гиппиус, а потому и поселиться я хочу «ближе
к Нему», в доме, в котором можно было бы «вечно жить». Только бы
«Христос воскрес» воистину, воскресением Своим освятив и
оправдав бы плоть. Принятое же меж людьми оправдание своего греховного
существования, по твердому убеждению автора дневника, абсурдно.
«Оправдания настоящему хочешь, только когда намерен длить его,
неизменно; значит — оправдания стоянию? Его не может быть. А
оправдания прошлому — уже есть, если есть хотенье движения к изменно-
сти. Но это — как бы "прощение". Значит, оправдания вообще
никакого нет, и слова этого нет»59.
Чуть ниже Гиппиус попыталась спрогнозировать возможные
варианты ответов на тот же вопрос со стороны Мережковского и Филосо-
фова. Прогноз оказался для нее весьма неутешительным. «Д.С. тоже
как бы в путешествии, — заметила она, — и хочет идти, но ведь он
ничего в себе не знает, и не смотрит, а уж в "специальном"-то своем
смысле — совсем ничего не знает! Даже я о нем ничего не знаю. То
так верю — то иначе. То есть словам всем верю, а его существа иногда
не угадываю. Закрыто оно — и для него. Но сила ли это? Не слабость
ли — мои психологии? А уж Философов-то, наверно, хочет для
"оправдания"! Вся его неудовлетворенность только из этой точки»60.
«Психологии» Гиппиус продемонстрировали отнюдь не ее слабость,
а ее силу. Несколько месяцев спустя в ходе коллективных разговоров о
«новой Церкви» прогноз Зинаиды Николаевны блестяще оправдался:
Мережковский, хотя и не хотел Бога для оправдания пола, однако все
же оказался отравленным этой, по автору дневника, далеко не
главной мыслью, Философов же рассуждал о Боге только в связи с полом.
О вставшей перед Гиппиус проблеме мы знаем. История «Главного»
еще не началась, а проблема эта уже грозила ослабить радикализм
замышляемого «Дела», что тогда же, так сказать, по горячим следам сильно
встревожило Гиппиус. Ведать бы ей в ту пору, что окажется она
бомбой замедленного действия на пути «Главного»! Надеясь спасти «Дело»,
она убеждала Философова в 1906 г. не идти ни на какие компромиссы
с жизнью. «...Что... себя обманывать, — втолковывала ему Гиппиус. —
213
Слишком глубоко мы знаем, что ни со старой психологией, ни со
старой физиологией, как со старой жизнью, не войдешь в новое. Мы
естественно, когда влечемся к новому, ломаем и жизнь, и психологию, и это,
ведь, путь не по родам; не по родам и ломанье физиологии, такое же
неизбежное. Я нисколько не уверена, что создам новое для себя. Я даже думаю,
что я погибну. Но держаться за старое — из-за чего? У меня (как и у тебя)
уже нет возможности (хотя про себя ты сам этого еще не знаешь) там быть
и жить, начать из страха "бессмысленной" гибели играть назад,
устраиваться во всем по-старому. Тогда и жизнь нечего ломать. Она, ты
думаешь, не отомстит? А психология старая?
У тебя такой тон, точно ты можешь устроиться, только вот,
обстоятельства... Не идеально, но не дурно. <...> Сам знаешь, что это вздор.
Нам лучше (внутреннее желанье, естественно) в ужасе погибнуть под
развалинами дома, который мы ломаем, нежели в нем по-хорошему
устроиться. Все равно не устроимся. Камни убьют — эко диво! Хоть
часть дома повалится — для других. А нам нечего терять. Есть еще
выход (если из сил) — не ломать дома, но говорить о том, что его надо
ломать. Для этого необходимо (иначе нет права и говорить) выйти из
дома. Показать, что в нем нельзя жить. Выйти и с этим решением
(случайная слабость — пусть) можно говорить. <...> Мы не хотим страдать.
Но мы хотим того, что без величайшего страданья не достигнешь. Шагу
не сделаешь. Я сама изнемогаю. <...> Я, ведь, иногда почти не
существую от муки»61.
Процитированное письмо было написано Гиппиус в ту пору, когда
«Главное» (религиозная деятельность Мережковских, конечной целью
которой было создание единого человеческого общества или новой
соборной церкви как основания будущего Царства Божьего на земле)
испытывало тяжелый кризис. Ощущение близящегося краха главной
(и любимой) идеи всей жизни и побудило Гиппиус сделать
лейтмотивом ее послания к Философову идею нравственного подвига.
«Contes d'amour» создавался на стадии зарождения идей «Главного».
Дело было не только новое, но и грандиозное. Шутка сказать,
задумывалась ни много ни мало революция сознания. А в перспективе —
изменение всей (вплоть до физиологии!) природы человека. Точь-в-
точь как в Апокалипсисе: «новая земля» и «новое небо». Это внушало
оптимизм, но одновременно и тревогу. Необходимо было действие, а не
слова. У Мережковского, как всегда, много слов, однако приговор, выне-
214
сенный ему 3. Гиппиус, как мы видели, был суров: «совсем ничего не
знает!» Другие и подавно: «не готовы, жалкие, голенькие». И все
смотрят на нее, а ей нечего им дать. Ее не любят... А за что, спрашивается,
любить, если вместо хлеба она протягивает людям камень. «Быть или не
быть?» Гиппиус ставит себя в положение Гамлета, который должен был
решиться на поступок. «Все еще не знаю, что могу, но, кажется, знаю,
что должна бы», — именно об этом мы прочли в ее дневнике.
Сослагательное наклонение и вводные конструкции речи несколько
смягчают ощущение от испытываемого Зинаидой Николаевной напряжения
ее душевных сил, но мы знаем — это всего лишь прием ее «романа»,
для себя она решила: «должна» и «пойдет» к реализации намеченной
цели даже... «в одиночестве». «Чтоб покончить с... "сказками любви" —
надо корень жизни изменить...» — вот ответ Гиппиус на вызов судьбы.
В окружающей действительности «нет чуда» — значит, ее следует
пересоздать на новой основе, чтобы «сказки любви» стали реальностью.
«Крест чувственности» необходимо нести до конца, чтобы «и любовь,
и сладострастие, теперешнее» претворить в «новую любовь».
Выставляя напоказ свою «любовную грязь» и свою «любовную непонятность»,
Гиппиус понимает, что это именно ее «крест», а крестный путь ведет
и обязательно приводит к новой жизни.
Из сказанного вытекает вывод, что ее «Contes d'amour» — некая
лаборатория, в которой Гиппиус ставит эксперимент на самой себе и
воссоздает его в слове. Цель эксперимента — поиск путей, которые
помогли бы пересоздать «ветхого» («теперешнего») человека в
человека нового. Эксперимент Гиппиус отличается крайним радикализмом.
Требования к себе самой она предъявляет предельно жесткие. Зинаида
Николаевна утверждает: в мыслях ее сосредоточена «Правда»,
которой она никогда не изменит, «в них» пойдет до конца, пока не упадет.
Перед автором дневника во весь рост встает дилемма: нужно
действовать, но чтобы действовать, необходима программа или, лучше
сказать, теория. Теория же вырабатывается в неустанной внутренней
борьбе с собой. Победа может быть куплена дорогой ценой, для этого
необходимо «переломить душу надвое». Однако от такого «излома»
можно умереть раньше времени, а умирать на полпути нельзя: если
не ты, то кто еще способен возглавить движение? Конечно, лучше
было бы положиться на верного человека и плыть по течению. Чтобы
не ты нес, а тебя несли. Но где он — этот человек? Вот почему прихо-
215
дится все взять на себя. И писать можно будет перестать лишь тогда
(речь у Гиппиус идет о дневнике «Contes d'amour»), когда ее
усилиями будет «подготовлена почва» для «Главного». А потому надо
сконцентрировать свою волю и не расслабляться. «Малодушно, изменно,
не нравится мне закрывание глаз, самоослабление для Главного, —
завершает свою мысль Гиппиус. — Это вопрос — быть ли Главному,
и вопрос мой, потому что — быть "ему" или не быть — в моих руках,
это знаю».
Фраза эта относится к 7 февраля 1901 г. До «тайной вечери» у
Мережковских, положившей начало «Главному» созданием «внутренней»
церкви («Храма»), оставалось чуть более полутора месяца. Гиппиус
не без основания считала «Главное» своим детищем.
Всю последующую жизнь она считала событие, произошедшее в
ночь на Великий Четверг двадцать девятого марта 1901 г., явлением
мистического характера, а потому отвела описанию подготовки к нему
и воспроизведению его хода в дневнике «О Бывшем» не одну страницу.
И нам не обойтись без большой цитаты.
«Когда было двенадцать часов и больше и я, посмотрев из-под двери,
увидела огонь везде потушенным, мы заперли все свои двери, —
вспоминала Гиппиус. — И, затворив занавеси на окнах в средней комнате,
вынесли оттуда диван и всю мебель, какую было возможно, кроме стола
большого, четырехугольного, и четырех стульев. Три я раньше
принесла из столовой, а один был.
Стол отодвинули на середину и накрыли скатертью белой,
блестящей, новой, которая не употреблялась ни ранее, ни с тех пор.
И на столе три тресвешника, соль, хлеб и нож... а на скатерти цветы
и виноград, и цветы растущие. И виноград и цветы на подсвечниках.
А чашу и вино, и спирт, чтобы согреть его, я оставила в дальней
третьей комнате. В первой комнате, на столе под лампадкой лежали наши
свечи, с цветами и лентами, как венчальные, и три наших креста.
Когда мы все кончили, Дмитрий Сергеевич умылся и надел чистое
белье, а я, вместо платья, надела белую сорочку, новую, которая не
употреблялась ни ранее, ни с тех пор».
В половине первого ночи уставшие Мережковские прилегли отдохнуть,
однако «душа [мемуаристки] была от ожидания холодна и недвижна.
Просыпаясь, — продолжала Гиппиус, — я думала, что Философов не
придет. Да и невозможно ему прийти. Да и хорошо бы ему не прийти.
216
Но он пришел, как было условлено. Было двадцать минут второго.
В первую комнату, где была я. Я погасила лампу и сказала Дмитрию
Сергеевичу, который встал, надел сюртук и тоже пришел в первую
комнату.
И все мы были растеряны, испуганы, холодны и стыдились себя, —
думаю, что все. Но со всем этим было и что-то другое еще. <...>
Мы сели, и Дмитрий Сергеевич сказал: "Спросим себя в последний
раз, может быть, лучше не надо". Но ведь уж все равно, если б и
почувствовал кто, разве была бы сила уйти?
Кресты наши мы надели друг на друга, в самом начале, чтобы
потом сменить их. Просили прощения друг у друга, кланяясь, и целовали
руки — в ладонь. И, зажегши свечи, прочли молитву, а потом читали,
наклонив свечи, Ветхий Завет».
Подогрев вино, Гиппиус «вынесла [его] в среднюю комнату на стол»
и пригласила туда Мережковского и Философова. Далее — по тексту
дневника:
«Придя в комнату со свечами, мы зажгли каждый от своей по три.
И сели так: к востоку, к окнам, стул был пустой. Против него сидел
Философов. По левую руку от него сидела я, а по правую Дмитрий
Сергеевич.
И прочитав молитву, мы разрезали хлеб и опустили его в
закрытую чашу.
Первый раз читали Евангелие: было то место, где сказано: "Кто не
возненавидит отца своего, и мать свою..." <...>
И в первый раз мы встали, и каждый дал каждому пить из чаши и
есть с ложки. И каждый целовал чашу.
Сев, молились, как умели, и читали из древних, и свои слова
говорили, после же другое место читали из Евангелия.
И во второй раз встали, и каждый дал каждому пить из чаши, и
каждый целовал чашу.
Сев, снова молились, читая молитвы и читали откровение святого
Иоанна, а потом Тайную Вечерю в Евангелии от Иоанна.
И в третий раз встали, и каждый дал каждому пить из чаши и
есть с ложечки, и последний выпил все, что было, и каждый целовал
чашу.
После третьего раза каждый поцеловал каждого крестообразно: в
лоб, в уста и глаза.
217
И кресты наши мы сняли, смешали и опять надели друг на друга,
чтобы и не знать, который чей на ком.
В то время рассвело, но не ясный был день, а мутный, серый,
дождливый.
Но все-таки был свет».
Философов ушел. Когда Мережковские остались одни, Гиппиус
сказала мужу: «...ничего не совершено, но почти сделан первый шаг на пути,
возврата с которого нет, остановка на котором — гибель. И каждый
теперь зависит от каждого. И это умножение Я, утроение Я —
невыносимый ужас для слабого сердца и для ответственности будущего.
И Дмитрий Сергеевич, посмотрев на меня, испугался, и я подумала,
что он часто будет стараться не сознавать этого, пока не сознает
окончательно. И я буду стараться не сознавать иногда, чтобы вырваться. Но
нельзя, — как нельзя и останавливаться.
Все это я думаю — еще крепче — и теперь»**1.
«Теперь» — значит в ночь с 24 на 25 декабря 1901 г., когда была
сделана процитированная запись. Она нуждается в комментарии.
Как уже говорилось, создание «Храма», первый шаг на пути к
которому здесь воспроизведен, рассматривалось Мережковскими в
качестве «внутреннего дела» — своеобразного мозгового и духовного
центра, призванного питать «дело внешнее» и «Главное» — строительство
«новой церкви». Церковь эта мыслилась ими как альтернатива церкви
исторической. Но вот что интересно: намереваясь вытеснить
действующую церковь с исторической арены как не соответствующую
религиозным устремлениям интеллигенции, не ставящую перед собой цели
строительства новой жизни и, более того, в догматике своей
отклонившуюся от подлинной сути евангельского учения, Мережковские не
планировали полного и окончательного разрыва с ней. Церковь Третьего
Завета, по замыслу Мережковского, как бы вырастала из исторической
церкви или, что точнее, перерастала ее, вбирая в себя накопленный ею
веками положительный опыт.
Так, вспоминая о подготовке к событию, планируемому на четверг
29 марта, Гиппиус подчеркивала, что «порядок чтений и действий» в
ту незабываемую ночь «составлял» Дмитрий Сергеевич, а над
молитвами, читаемыми в «Храме», работала она сама, «беря их из
церковного чина и вводя наше». (К слову, сохранился Молитвенник
Мережковских, в числе многих других документов Гиппиус опубликован-
218
ный Темирой Пахмусс). Трудясь над литургической стороной «новой
церкви», супруги Мережковские отводили себе (по примеру церкви
исторической) роль ее Отцов. Обвиняя церковь во многих грехах, они
совершали грех еще больший, не понимая, что их усилия
представляли собой род некой интеллектуальной игры. Впрочем, понимали.
Зачем же, в противном случае, «перед нашим» Зинаиде Николаевне
захотелось, чтобы «троица» непременно исповедалась и причастилась
в церкви? Ответ на этот вопрос был заготовлен заранее: «Для того,
чтобы не начинать, как секту, отметением Церкви, а принять и Ее, ту,
старую, в Новую, в Нашу. Чтобы не было в сердце: "У нас не так, иначе,
а вы — не правы"»63.
Какая, однако, поистине дьявольская гордыня — это соположение
и противопоставление «нашего» и «вашего», как будто речь идет о
заведенных в двух соседних домах порядках, а не о церкви! Церкви
с ее многовековой великой и драматичной историей и... трех
петербургских интеллигентов, примеривающих к очередной службе одежду
из красного шелка: «белых еще не были достойны, — поясняла
Гиппиус, — (сказано: "Побеждающему дам белые одежды")» и при этом
несказанно радующихся*.
Процитированная фраза, брошенная Зинаидой Гиппиус как бы
ненароком, а на самом деле с большим расчетом, говорит о том, что мы не
ошиблись: они прекрасно осознавали еретический и кощунственный
характер своего религиозного проекта. Но такова уж логика всякой
интеллектуальной затеи: сказавши «а», ее автор, если хочет оставаться
* Так и стоит перед глазами эта картинка: «...Философов... сказал:
"Покажите одежды".
Я вынула его эпитрахиль. Через голову нельзя было надевать, если
сшить — отверстие слишком широко, а потому там была белая петля и
красная, горящая пуговица.
Эти горящие пуговицы очень нравились Дмитрию Сергеевичу, и он
сказал, что хорошо их надеть на голову, на узкой красной ленте, и накануне
примерял и радовался.
Философов встал и надел на себя свою эпитрахиль, стоял прямо, а я стала
на колени, на ковер, чтобы видеть, до полу ли одежда.
Она ему была длинна, но он сказал: "Ничего, это лучше, будешь помнить,
чтобы не запнуться".
Дмитрий Сергеевич сказал ему о пуговице, и я взяла ленту с нею, и повязала
ему на лоб» (Гиппиус З.Н. Собр. соч. Дневники: 1893—1919. Т. 8. С. 91).
219
последовательным, вынужден будет сказать и «б». Заявив о
религиозной святости плоти, Мережковский с неизбежностью подошел к идее
церкви, основывающейся на концепции «святой плоти» и «святость»
ее не только отстаивающей, но и утверждающей. Желание «принять»
историческую церковь в лоно новой церкви Третьего Завета оставалось
только намерением (если даже поверить в его искренность). На самом
же деле оно оборачивалось не чем иным, как ее «отметением» —
словечко Гиппиус в данном случае весьма показательно. Аргументов для
подобного вывода более чем достаточно.
«Чтение и действия» для предстоящего собрания «членов Храма»
Мережковский составил, опираясь на текст Евангелия. И он и его
окружение не без основания полагали, что одним из центральных эпизодов
евангельского текста (если не самым центральным) является так
называемая «тайная вечеря» Иисуса с Апостолами накануне Его распятия.
Кульминационным моментом «тайной вечери», в свою очередь, можно
считать обряд причащения (евхаристии), впервые
продемонстрированный Христом своим ученикам и с тех пор ставший наряду с крещением
одним из самых важных таинств христианской церкви.
Вот как об этом рассказано в Евангелии от Матфея:
«...когда они [апостолы] ели, Иисус взял хлеб и благословив
преломил, и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все;
Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во
оставление грехов.
Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного
до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего»
(Мф. 26:26—29).
Мережковцы намерены были создать хотя и новую, но все же
христианскую церковь, а потому и они «поступили» (выражение 3.
Гиппиус) сделать то же самое. Пустой стул в «тайной вечере» на Литейном
Проспекте они оставили для Христа (символически он в ней
участвовал), сами же расположились по трем остальным краям стола.
Воображая себя апостолами новой веры, своими символическими
действиями (прежде всего причастием) они как бы принимали эстафету от
тех, подлинных апостолов, создавших церковь Второго Завета, которая
теперь, в ночь на 29 марта 1901 г., в петербургской квартире
Мережковских упразднялась, уступая место церкви новой.
220
Дисциплина в «Храме» устанавливалась нешуточная — видна была
рука Гиппиус: инакомыслие и слабость пресекались на корню, каждый
ее член должен был зависеть от каждого. Но самое главное: человек,
вступивший на эту стезю, обязан был порвать все связи со своим
прошлым — не случайно же во время ночной литургии читалась та самая
страница Евангелия, на которой говорилось о том, как сам Христос
предписывал своим последователям разорвать все родственные связи*.
«Вечеря» у Мережковских была «тайной» не только в знак
подражания «вечере» новозаветной. Она на самом деле готовилась как
мероприятие, максимально укрытое от постороннего глаза, — Гиппиус
неоднократно данное обстоятельство выделяет и подчеркивает. Конечно,
воспроизведение атмосферы таинственности, в которую были погружены
как подготовка к «литургии», так и ее проведение, для дневника
Гиппиус — вполне осознанный литературный прием, призванный
акцентировать мистический характер этого события. Однако у «тайны» была
и другая, весьма прозаическая причина: Мережковские и Философов
действительно опасались за себя и, наверное, неоднократно твердили
известную русскую поговорку: «Береженого Бог бережет».
Бояться и в самом деле было чего. Не могли же они не осознавать
кощунственности своей затеи? Еще как осознавали, но авантюризм,
присущий натуре Гиппиус, придавал данной ситуации особенный,
пикантный привкус.
Для «тайны», однако, имелся еще один повод.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не догадаться, что
утверждаемая Мережковскими религия «святой плоти» носила не столько
еретический, сколько извращенно-еретический характер. Плоть можно
одухотворить, но освятить ее никак нельзя. Само понятие освященной
* Ср.: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел
Я принести, но меч;
Ибо Я пришел разделить человека с отцем его, и дочь с матерью ее, и невестку
со свекровью ее.
И враги человеку — домашние его.
Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит
сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;
И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.
Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня
сбережет ее» (Мф. 10:34—39).
221
плоти вносило в их «религию» сильную эротическую струю, а
выстраиваемая на основе данного понятия концепция «новой христианской
влюбленности» не только не проясняла, а только запутывала все дело.
Эротика, религия, а временами и самое обычное потакание плоти в
«Главном», соединяясь друг с другом, образовывают такую гремучую
смесь, что часто бывает трудно выделить из нее что-то одно в чистом
виде. Можно даже сказать, что одной из самых существенных причин
краха «Главного» или «Бывшего» (что одно и то же) и стала присущая
им извращенно-эротическая тенденция.
Жизнь в который раз показала (а дневник Гиппиус «О Бывшем» с
примыкающими к нему документами из ее личного архива отразил),
что она не терпит никаких утопий, отвергает любое
интеллектуальное насилие над собой. Вот почему «Главное», которому «вечеря» у
Мережковских придала, казалось бы, интенсивное движение, с первых
же шагов начало испытывать затруднения в своем развитии.
Началось то, что чуть позже и несколько неуклюже в
стилистическом отношении Гиппиус определит как «ужас смехотворности
маленьких людей, задумавших большое дело». К этому разряду она отнесла и
саму себя, но только в плане самокритики. Относительно себя она давно
уже знала, что «Главному», своему «Делу», она служит и будет служить
самоотверженно, с полной отдачей сил. Хорошо знавший Гиппиус ее
личный секретарь В.А. Злобин писал: «Вот она — в своей
петербургской гостиной или в парижском салоне на знаменитой avenue du Colonel
Bonnet. Кто, глядя на эту нарумяненную, надменную, немолодую даму,
лениво закуривающую тонкую надушенную папиросу, на эту
капризную декадентку, мог бы сказать, что она способна живой закопаться в
землю, как закапывались в ожидании Второго пришествия раскольники,
о которых с таким ужасом и восторгом рассказывает в своей книге
"Темный лик" В.В. Розанов? Да, такой в своем последнем обнажении была
З.Н. Гиппиус — неистовая душа»64. Не случайно о себе она говорила
(это ее выражение мы уже цитировали), что «сделана для
выдерживания огненных жал» и что «слепое, тупое, упорное душение», по
собственным словам, было не в ее характере. «Но так надо», — требовала
она от себя, подчиняя и свой собственный темперамент и волю
окружающих этому императиву. Не раз Гиппиус аттестовала себя как
человека, власти не имеющего, однако только то и делала, что эту власть
проявляла. Во имя долга перед «Главным» она прессовала и насило-
222
вала свою душу, а признавая, что «всякий человек — тайна», т.е.
осознавая уникальность его природы, одновременно требовала от
наиболее близких к себе людей неукоснительного служения «Делу».
Страшась умереть раньше времени от «излома» собственной души, она не
пугалась, что подобная же катастрофа может случиться и с кем-нибудь
из них. «Дело» для нее было не только превыше всего, но и
осознавалось ею по отношению к личности как величина трансцендентная. По
типу поведения Гиппиус близка не столько к разряду «новых людей»
Чернышевского, сколько к образу «особенного человека» Рахметова.
Подобно ему она из человеческой категории «ригористов», подобно ему,
готовящему себя для будущего «дела», она тоже была способна спать
на гвоздях, проговаривая вслед за ним: «Вижу, могу». Сознание, что
она сделала собственную жизнь своеобразным полигоном для
выработки этики грядущего нового человека, а потому и лучше всех своих
соратников понимает суть и цели «Главного» вплоть до путей
воплощения этой идеи в жизнь, давало ей, по ее представлению, право на
власть над людьми.
Судьба наносила по Гиппиус удар за ударом, заставляя ее часто и
мучительно страдать, дело всей жизни Зинаиды Николаевны
разваливалось на ее собственных глазах, однако у нас есть все основания
считать, что до самой своей смерти она так и не осознала причин краха
«Главного». Она трагически не понимала, что «Главное», по замыслу
его теоретиков представлявшее собой не что иное, как коммуну
преображенного пола, осуществить было нельзя по принципиальным
соображениям, ибо человек не может существовать на «земле» и на «небе»
одновременно. Вот почему концепция «новой христианской
влюбленности», утверждаемая в кругу Мережковских в качестве альтернативы
диктату исторической церкви над плотью, обернулась не только не
меньшим, но, пожалуй, даже большим насилием над человеческой
природой. Итог «Главного» — сломанные судьбы, разбитые человеческие
жизни. И извращенность сознания и поведения, принимаемого за норму.
«Какая теперь полоса людей, протестующих против брачной любви,
пошла, косяк. Евгений Иванов, Блок, [его] жена, Гюнтер, его товарищ.
Активно, сознательно, для приобретения, а не ради умерщвления
плоти протестующих. Я думаю, это без внимания оставить нельзя.
Должно же начаться какое-то возрождение личности. А может быть —
это выродки!»65 — писала 8 мая 1906 г. Мережковским в Париж Татьяна
223
Николаевна (в домашнем обиходе — Тата) Гиппиус, радуясь тому, что
теория Мережковских получает опору в жизненной практике. О своем
собственном образе жизни и образе жизни старшей сестры Зинаиды
Тата здесь даже и не обмолвилась, ибо считала его не только
нормальным, но и необходимым в качестве образца или модели половых
отношений для общества будущего. Вот почему, имея в виду не только
сестру, но и Мережковского с Философовым, продолжала чуть ниже:
«На вас, в счет вас, следующие люди будут жить частью в новой
реальности, переживать то же, но в новом, жить в новой реальности.
Подумай, как это важно»66.
Однако 3. Гиппиус, деятельно готовя эту «новую реальность», и без
напоминания Татьяны прекрасно осознавала, сколь важен для
будущего ее «тройственный союз» с Мережковским и Философовым. Как,
впрочем, и «тройственный брак» ее младших сестер Таты и Наты с
бывшим профессором Петербургской духовной академии и будущим
министром православного вероисповедания Временного правительства
А. Карташевым (вскоре к ним ненадолго присоединился и скульптор
В.В. Кузнецов — «Кузнечик»). После отъезда Мережковских за границу в
1906 г. все они поселились в оставленной им супружеской четой
квартире в доме Мурузи на Литейном проспекте. По вечерам они обязаны
были сходиться для совместной молитвы и бесед исповедального
характера. Не реже одного раза в неделю молодые люди (старшему из
них — Карташеву насчитывался 31 год, младшему — Кузнецову — 24-й)
устраивали длительные моления, именуемые в честь первой «вечери» у
Мережковских «Четвергами», реже — «Субботами». Несмотря на юный
возраст и естественно возникающие в подобной среде симпатии друг к
другу интимные отношения между ними не допускались. Тате к тому
же предписывалось регулярно отправлять в Париж подробные отчеты
о жизни Петербургской коммуны, которые там детально разбирались
и обсуждались иерархами. Мережковские готовили молодую
генерацию: «Главное» обязано было не только углубляться, но и разрастаться
вширь. Так выглядела ситуация с внешней стороны, внутреннее же ее
проявление значительно нарушало видимую благостность картины.
Называя имена людей, избравших путь полового безбрачия, Т.
Гиппиус, вероятнее всего, не испытывала сомнения относительно
правильности избранной ими позиции. Еще бы, это были ее собственные и обеих
ее сестер (брак Зинаиды с Д. Мережковским, как уже говорилось выше,
224
не был прокреативным) союзники! Слово «выродки», которым она их
окрестила, тоже не заключало в себе, по ее мнению, никакого обидного
для них смысла. Скорее даже наоборот: «выродки», с ее точки зрения, —
это люди, сломавшие родовые традиции — последнее она
приветствовала. Да и в целом фраза, в которой данное выражение было употреблено,
содержала в себе не столько вопросительную, сколько утвердительную
интонацию — отсюда и восклицательный, а не вопросительный знак в
ее конце. Все это, безусловно, так, однако семантическая память слова
даже вопреки субъективному намерению человека, его использовавшего,
таит в себе негативный оттенок. Разбираемый случай — не исключение
из общего правила, а потому частица сомнения все же проникает в
оптимистическую позицию Таты Гиппиус. Двусмысленность
религиозно-этического идеала Мережковского и компании с неизбежностью
порождает и двусмысленность его словесного выражения. К сказанному
следует добавить, что даже у самих авторов проекта «новой христианской
любви» нет-нет да и возникало подозрение относительно своей
психической адекватности. «Нет ли во мне просто физиологической
ненормальности?»67 — вслушивалась в себя 3. Гиппиус, рассказывая свои «сказки
любви», однако вопрос повисал в воздухе: ответа на него она не знала.
А как отнестись, например, к следующей фантазии Наты
(Натальи) Гиппиус, которой она делилась со старшей сестрой Зинаидой в
письме к ней от 11 сентября 1906 г.? А вместе с тем и к самой Нате?
«Во-первых, я хочу, — признавалась она, — чтобы не было ни мужчин,
ни женщин, а были бы однополые все. Т<о> е<сть> чтобы всем были
даны одинаковые возможности. Существовали бы мужские и женские
начала, но они могли бы физически воплощаться в одном человеке.
Если бы у меня, предположим, не хватало женского элемента, я
чувствовала, знала бы, что физически могу его иметь; не было бы поликсе-
ниного* подбородка. Если бы ровно столько, сколько надо, все бы
рассосалось, наружу не выходило. Но в случае — переешь, то
выплевывал бы обратно, потому что не вошло бы. Желающие иметь детей ели
бы особую траву. Есть было бы чрезвычайно приятно и рождать
безболезненно. При этом живот бы не рос, потому что раз внутренностей
нет, то и места довольно было бы для ребенка.
* Речь идет о поэтессе и детском писателе Поликсене Сергеевне Соловьевой
(псевдоним — Allegro), сестре B.C. Соловьева.
225
Тата жестоко издевалась или, вернее, хохотала над моим
проектом, как старики траву едят. Говорит, скука дохлая была бы. А мне так
нисколько не скучно, а очень чисто. Теперь гораздо скучнее и
главное — бесконечнее. <...> Вот и знай, какова я. Все, что говорено
относительно "пола", могу понять наружно, не до дна, неодобрительно, в
глубине желая стариков, поедающих траву. Скрываю, но хочу. А для
чего я должна скрывать, раз я так думаю?»68.
«Проект» Наты — вроде бы шутка, но шутка со смыслом. Вряд
ли она была намерена пародировать «проект» Мережковских по
переустройству общества, но объективно выходило, что пародировала.
Н. Гиппиус не скрывала, что бесконечные разговоры старших о
метафизике пола были ей скучны и малопонятны, в силу чего она оказалась
способной проникнуть только в их поверхностный слой. «Да и надо ли
вникать в их глубину? — как бы спрашивает автор письма. — Не лучше
ли принять за основу мой "проект" — те же самые цели в нем
достигаются более простыми средствами, а главное — быстро и эффективно?»
Ната выступает в роли «простака», переводя тем самым бесконечные
споры у Мережковских в иную плоскость, как бы глядя на них со
стороны и глазами «свежего», «странного» человека. В
литературоведении этот прием так и называется — «отстраннение».
Разумеется, в кругу Мережковских Н. Гиппиус не была «человеком со
стороны». Наоборот, она с роковой неизбежностью оказывалась
вовлеченной в теоретические прения относительно «проблемы пола». Хотя бы как
молчаливый свидетель проходивших на квартире зятя дискуссий по
данному вопросу и один из тех людей, кому суждено было переводить теорию
в практическую плоскость. Наслушавшись этих разговоров, хотя и
неглубоко проникнув в их суть, Ната тем не менее хорошо осознала их жизне-
творческий пафос и цели разрешения половой проблемы. Вот почему она
позволила себе «подправить» сложный Зинин «проект» своим
собственным: достигаются те же цели, думалось ей, и — никакой психологии.
Письмо Наты, скорее всего, сильно насмешило Гиппиус. Возможно,
она даже покачала головой: молодо-зелено, мол, что с нее спрашивать!
В кривом зеркале, поставленном перед ней сестрой, она не узнала (или
предпочла не узнать?) своего подлинного лица. И совершенно напрасно!
Сама того не подозревая, Ната обнажила болевые точки религиозно-
эротического проекта Гиппиус-Мережковского. Дело в том, что их
чаемый идеал — «религиозная общественность» (религиозная община
226
или «новая церковь») действительно был замешан — не раз и не два
мы в том убеждались — на «проблеме пола». «Религиозная
общественность» и — пол... И впрямь, как говаривал известный герой
Грибоедова, «дистанции огромного размера»! Мережковские упрекали
Розанова в фетишизации пола, однако сами фетишизировали его ничуть
не меньше, только иначе. Мы ведь хорошо помним слова Гиппиус об
«отравленности» ее соратников по «Главному» «загадкой пола» и о
том, что «они хотели Бога для оправданья пола». Правда, сама она не
считала эту мысль «главной», и когда, по ее словам, Мережковский
и Философов испугались «бесполого Круга», то, уступая их
требованиям, охотно согласилась признать наличие пола в себе как члене этого
самого «Круга»: «пол-[де] — через Бога, а не Бог через пол».
В этих рассуждениях, от которых волосы дыбом встают, Гиппиус
странным образом соединяет себя и Бога*. Половое влечение к
женщине по имени Зинаида Гиппиус воспринимается ею как путь к
постижению двумя членами «Круга» Божьей правды. Автору дневника
«О Бывшем» кажется, что она себя обезопасила: о половом влечении
внутри «Круга» заявлено было, дескать, по тактическим соображениям.
Кроме того, пол осознан тут как понятие метафизическое, а не
физиологическое. Однако это все не более чем софистические отговорки. Между
тем в данной связи возникает иная, не менее существенная проблема.
Из рассказа Гиппиус вытекает, что «Главное» вырастало на обмане,
инициатором которого была она сама («...вина на мне...», — признает
автор дневника). В самом начале истории «Дела» возникает фальшь в
отношениях между нею и Философовым, которая в дальнейшем
многократно возрастет, так что даже Гиппиус станет порой не под силу
разобрать, где тут правда и где ложь.
Первым на заинтересованное отношение Философова именно к
Гиппиус, а не к «Делу» (к «Делу» тоже, но только через нее) указал Нувель.
Это место из дневника «О Бывшем» мы уже цитировали. Но он же ука-
* Впрочем, почему же странным? Разве это не она предлагала в «Дневнике
любовных историй» «Contes d'amour» и в поразившем читающую Россию
стихотворении: «Надо полюбить себя, как Бога. Все равно, любить ли Бога или
себя»?! Не ей ли принадлежат следующие строки из полного отчаяния
неоконченного письма к Философову от 13 сентября 1905 г.: «Ведь не молюсь же я
теперь. И не интересуюсь даже ничем религиозным» {Pachmuss T. Intellect and
Ideas in Action... С. 81).
227
зал на еще одну особенность диалога между Гиппиус и Философовым,
которая окажется и для судеб этих людей, и для нашего дальнейшего
разговора едва ли не решающей.
Нувель, разумеется, оказался прав. «Влечение» Гиппиус к Фило-
софову действительно было. Причем оно отнюдь не ограничивалось
начальным периодом организации «Дела», а прошло через многие годы
жизни Гиппиус. В письме-трактате от 16 июля 1905 г., к которому мы
еще вернемся, предлагая Философову «товарищеские отношения» (она
понимала, что он «уходит», и надо было во что бы то ни стало
удержать его от окончательного разрыва связей), Гиппиус признавалась
ему, что в 1901 г. пошла на обман не только по тактическим
соображениям. «Мне казалось, — исповедовалась она, — что если будут между
нами вот такие ровно-любовные отношения — у нас не будет начала,
начала Дела, потому что мы будем не трое, а три единомысленных
человека, сходящихся вместе, чтобы молиться, может быть, работать,
писать вместе о наших мыслях, вместе уповать и ждать будущих.
Других, для составления Начала, чтобы были три, могущие стать троими.
Чтобы был миг реально-символизированной тайны и одного, и двух, и
трех. Может быть, который-нибудь из нас и войдет в это Начало, в эти
новые три, но кто-нибудь непременно останется. Может быть, и все мы
останемся... <...> Потому что без которой-нибудь тайны в круге — нет
и других, и нет Начала. А у нас нет тайны двух, вместо нее — только
мои жалкие, во мне же рвущиеся, тебе даже непонятные, усилия. Здесь
я должна еще сказать нечто очень важное: мне все яснее и яснее, что
"тайна двух" — шире пола. Она его включает, — быть может, — но не
исчерпывается им. Или, если хочешь иначе — пол шире, чем то, что
мы до сих пор под этим понимали и понимаем. Ведь пол все же часть
частей: духа, души и плоти. А каждой "тайне", одного ли, двух ли,
трех ли — люди отдаются целиком. Пусть пол не часть частей; тогда я
и говорю, что он шире нашего старого понимания, уже совсем как бы
и не "пол". Пойми меня, моя умница; если не вполне, то хоть
рассуждением можешь»69.
Центральная мысль этого отрывка из гиппиусовского письма
заключается в том, что чисто товарищеские («ровно-любовные») отношения
в «Круге» не эффективны, они не способны стать пусковым
механизмом «Главного». Чтобы положить начало «Делу», надобна «тайна»,
притом не какая-нибудь абстрактная тайна, но именно «тайна» пола.
228
К тому же «тайна двух». Из этих рассуждений вытекает, что Гиппиус
пошла на признание в себе пола и разрешила членам «Круга»
испытывать половое влечение к себе как женщине далеко не бескорыстно и
не только по их настоянию. Этого хотела и она сама. О половом
влечении Мережковского к жене (как и ее к нему) говорить не стоит. Да она
об этом и не говорит. Зато упоминает о «тайне двух», т.е. имея в виду
лишь себя и Философова. При этом с горечью упрекает его в том, что
не чувствует в нем желания ощутить эту тайну, сделать ее не чужой,
гиппиусовской, но и своей собственной. Между строк ее письма
прорывается мольба: «Будь же мужествен и ясен, Дима. Мы дошли только
до лестницы наших отношений (и всего). Еще даже первая ступень
перед нами. Но до начала лестницы, через все постороннее, дошли»70.
Правда, эти несколько фраз взяты нами из другого ее письма,
написанного девятью месяцами позже — 11 апреля 1906 г. Тогда на мгновение ей
показалось, что «черный перевал», наконец, перейден. «Мара
неизвестная», «застилавшая дорогу», исчезла — «путь чист», стало «светло, важно
и бодро», притом настолько, что захотелось «жить дальше»71. Как
оказалось, то был обман зрения.
16 июля 1905 г. иллюзии потеряли под собой всякую почву. После
того, что случилось накануне — 15 июля, надежда на продолжение
отношений с Философовым хотя бы в какой-нибудь форме могла
показаться ей абсолютно абсурдной.
Что же произошло?
Летом 1905 г. Мережковские вместе с Философовым жили на даче в
имении «Малое Кобрино» близ станции Суйда Варшавской железной
дороги. Осенью Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна
собирались надолго уехать за границу. Философова звали с собой, однако тот
тянул с ответом. Против поездки он не возражал, проблема заключалась
в другом: его пугала перспектива снова поселиться в одной квартире
с 3. Гиппиус. Решив посоветоваться с матерью, он был намерен
съездить в свое имение Богдановское Псковской губернии, где она
проживала. Мучительно размышляя о своих отношениях с Гиппиус, вечером
14 июля Философов написал ей письмо. Однако она опередила события,
тайно явившись к нему на рассвете. Не заботясь о приличии, он
вытолкал Зинаиду из комнаты, подсунул письмо под ее дверь и, не
простившись, уехал. В. Злобин в своей книге о Гиппиус это письмо
опубликовал. Вот его содержание.
229
«Зина, пойми, прав я или не прав, сознателен или несознателен,
и т.д., и т.д., следующий факт, именно факт остается, с которым я
не могу справиться: мне физически отвратительны воспоминания о
наших сближениях.
И тут вовсе не аскетизм, или грех, или вечный позор пола. Тут вне
всего этого нечто абсолютно иррациональное, нечто специфическое.
В моих прежних половых сношениях был свой великий позор, но
абсолютно иной, ничего общего с нынешним не имеющий. Была острая
ненависть, злоба, ощущение позора за привязанность к плоти, только
к плоти.
Здесь же как раз обратное. При страшном устремлении к тебе всем
духом, всем существом своим у меня выросла какая-то ненависть к
твоей плоти, коренящаяся в чем-то физиологическом. Это доходит до
болезненности. Вот пример: ты сегодня курила из моего мундштука —
и я уже больше не могу из него курить из чувства специфической
брезгливости. Я бы ни минуты не задумался курить из мундштука
Дмитрия. Да прежде, до нашего сближения, у меня этого абсолютно не было.
И вот между мной и тобой вырос какой-то факт, который вселяет мне
ощущение какой-то доведенной до пределов брезгливости, какой-то
чисто физической тошноты.
Если рассуждать грубо, можно сказать, что такое чувство должен
испытывать всякий человек, соединяющийся с другим без полового
влечения.
Это абсолютно не то. У меня был такой случай. Но там чувство
жалости, там нет бунта, просто бесконечное огорчение.
Здесь же все мое существо бунтует и у меня острая ненависть к
твоей плоти.
Вот факт. Теперь что же мне делать?»72.
Что же заставило Философова взбунтоваться и подвигло на это более
чем резкое письмо да к тому же спровоцировало грубый его поступок на
заре 15 июля? Нами движет вовсе не праздное любопытство, не
желание подсматривать в щелку и копаться в чужом белье. Хочется
установить истину, понять мотивы поведения этих двух людей. Может быть,
права была А.П. Философова, пеняя своему сыну на то, что Зинаида
«зацапала» его, и Дмитрий Владимирович, осознав теперь этот факт,
решил наконец сбросить с себя ее ярмо и бесповоротно порвать с ней?
Если бы все было так просто!
230
На самом же деле это лишь один из мотивов его поступка, причем
самый поверхностный. Груз отношений Философова с Гиппиус порою
был настолько тяжел, что временами он был не прочь от него
освободиться. Однако почему-то медлил с разрывом. Проще всего, конечно,
его колебания можно было бы объяснить присущим ему слабоволием.
Однако нашел же он в себе силы для разрыва интимных отношений
со своим кузеном С. Дягилевым, а также с людьми, которые, как и он,
некогда входили в редакцию «Мира искусства»? Значит,
Мережковские вызывали его неподдельный интерес и казались ему близкими
людьми? И этот союз был обоюдным. Даже и теперь, когда союз с
Гиппиус, по-видимому, становился невозможным, он будто бы чего-то ждал.
Такое впечатление производит общий тон письма: внешне, в словесном
выражении, резкий, в подтексте — растерянный и вопросительный.
Письмо Философова, по сути дела, — крик его души. Огромный знак
вопроса, ответ на который он не знает. Негативно оценивая характер
своих отношений с Гиппиус, высказывая вслух мысли, оскорбительные
для репутации Зинаиды Николаевны, он в то же время призывает ее к
диалогу. Он спрашивает и у себя и у нее: почему ему стали
«физически отвратительны» не столько даже сами «сближения» с нею, сколько
«воспоминания о них. Роясь в памяти, он не находит в прежней своей
практике «половых сношений» случая, когда он испытывал бы к плоти
своего партнера и даже к нему самому чувство предельной
«брезгливости», доводящее до ощущения почти что «физической тошноты».
Анализируя этот, по собственному выражению, «факт» его
отношений с Гиппиус, Философов вынужден был указать на
иррациональную его природу, не поддающуюся никакому разумному толкованию.
Дальше этой мысли он не пошел и пойти не мог. Оттого и обращался к
Гиппиус, надеясь, что ей, быть может, удастся раскрыть суть проблемы.
Но она только то и делала, что пыталась уяснить прежде всего для
себя сущность «новой христианской любви». Делала (мы это видели) в
«Дневнике любовных историй (1893—1904)» «Contes d'amour», в своих
бесчисленных письмах (и к Философову тоже), в своих теоретических
работах вплоть до рассмотренной выше статьи «Влюбленность», в
которой, как ей казалось, обрела наконец твердую почву под ногами. Делала
(и об этом мы тоже успели сказать) не в кабинетной тиши, а
превратив всю свою жизнь в своеобразный полигон для выработки новой
идеи. Иными словами, экспериментатор и экспериментируемый были
231
сосредоточены в одном лице, она наблюдала за собой как бы со
стороны и заносила данные опыта в особую тетрадь, именуемую ею
«Сказками любви». Эксперимент чаще всего был рискованным, его
результаты — экстравагантными. Прозвище «Белая дьяволица» утвердилось
за ней, конечно же, недаром, и Философов ее сторонился тоже не
случайно. Если бы поле наблюдения у Гиппиус было бы пошире, может
быть, и теория ее оказалась бы более сбалансированной*. Но вышло
иначе. Гиппиусовская концепция любви базировалась на ее личном
интимном опыте. «Физиологическая ненормальность», в которой она
далеко не безосновательно себя подозревала и которая нашла свое
выражение в своеобразии ее брачной жизни с Мережковским, тоже
окрасила ее концепцию «новой» (потому что — «христианской») любви в
своеобразные тона. Другой любви она не знала, не могла да и не хотела
знать, считая отношения между полами, принятые в обществе за норму,
просто-напросто анахронизмом. Только не надо думать, что опыт этот
дался ей без боли, не принес чисто человеческих страданий ее душе,
что не смиряла она женские свои порывы (были же они у нее!), не
одергивала свое сердце, не требовала от него непременного соответствия
теории. Полагала, что все превозмогла, а потому и не поверила словам
Нувеля о том, что Философов заслонил собой Христа в ее сердце. «Не
видела» она «этого» «в себе» раньше, не будет этого и сейчас. Твердо
сказала, не сомневаясь.
И напрасно. Философов оказался совершенно не похожим на
тех людей, над которыми она производила свои «опыты». Это был
не Червинский, не Минский, не Флекер-Волынский, не Карташев... и
даже не Мережковский. «Пред-любовь» (собственное ее слово)
длилась недолго — она влюбилась в него. Несмотря на безволие,
экспериментировать над собой он ей, однако, запретил, выставил за дверь, а в
ответ на домогательства написал резкое письмо...
Потерять его она не могла. Кроме «Главного» и Димы Философова,
которые слились в ее душе и сердце в единое целое (провидцем
оказался Нувель!) у нее никого и ничего не было. А потому исповедовалась
перед ним. Не раз и не два, подыскивая в свое оправдание все новые и
* Впрочем, вряд ли. Натура жесткая, с замашками диктатора, она едва ли
допустила бы на свое поле новых «игроков», но если это и произошло бы, они
вынуждены были бы «играть» под ее диктовку, как это и случилось, к примеру,
с Татой и Натой Гиппиус.
232
новые аргументы, пытаясь ему объяснить себя, надеясь, что он вернется.
Некоторые из этих аргументов мы обязательно выслушаем, потому что
они имеют самое непосредственное отношение к нашей теме.
На следующий же день после инцидента, т.е. 16 июля 1905 г., в Бог-
дановское, догоняя Философова, полетело огромное (на 32 страницах!)
письмо-трактат Гиппиус, в котором она сделала попытку объяснить
любимому человеку характер и природу своей любви к нему. Письмо
претендовало на исповедь, поэтому начала она издалека, с короткого,
но емкого экскурса в свою психологию. «Знаешь ли ты, или сможешь
ли себе ясно представить, — обращалась Зинаида Николаевна к Фило-
софову, — что такое — холодный человек? Что такое холодный дух,
холодная душа, холодное тело — все холодное, все существо сразу.
Это не смерть, потому что рядом, в человеке же, живет ощущение
этого холода, его "ожог" — иначе сказать не могу. Смерть лучше, когда
она — небытие просто; и холод ее — только отсутствие всякой теплоты;
а этот холод — холод сгущенного воздуха; и бытие — как бытие в Дан-
товом аду, знаешь, в том ледяном озере. <...> Если и не поймешь —
поверь мне, Дима, очень это большое страдание».
Если процитированные строки и — литература*, то сильная
литература. Каждый, кто читал ее «Contes d'amour», безошибочно распознает
* Два месяца спустя, в неоконченном письме к Философову от 13 сентября,
Гиппиус попыталась оспорить искренность своей исповеди: «Пойми, я никого
не виню и не осуждаю. Я, ведь, хуже всех. Я просто кричу в пустоте, как
кричат от боли в своей комнате.
Я хуже всех. И мне хуже всех. Я свои острые желания (откуда взявшиеся?)
принимала за факты. <...>
Я — мелковатая, самолюбивая, похотливая и холодная душа. Даже и это все
рисовка, насчет "жгущего холода". Холодная обыкновенно, скорее сухая и лишь
холодноватая — бабья душа. С хитринкой перед собой, когда доходит дело до
устроения себе приятностей. Мысли и желания — не отдам тебе, они точно не
мои, а откуда-то на меня легли, а мое — все никуда, просто и гадко. Если б не
эти, извне приложенные, мысли и желания, — я была бы спокойна и счастлива.
А теперь я их ненавижу — за бесцельные страданья.
Никогда я тебя не любила, и влюблена не была, и все это один мой, перед
собою, надрывный обман. <...>
Основательно дом выметен» (Pachmuss Т. Intellect and Ideas in Action... С. 81).
С этим суждением Гиппиус приходится считаться, однако процитированные
строки писались в период остро переживаемого поэтессой кризиса «Главного» и
потому вряд ли способны подвергнуть сомнению искренность письма-трактата.
233
здесь не только «почерк» автора этого дневника, но и получит
представление о декадентски изломанном характере Гиппиус, о трагических, с
исповедальным оттенком глубинах ее творчества. Героиня
дневниковой (и не только дневниковой) прозы писателя во многом близка
образам женских героинь Достоевского.
Не случайно его имя возникает в следующем разделе письма, в
котором Гиппиус говорит о том, что избавиться от «ожога холода внутри»
себя она могла бы только через любовь. В этой связи автор «трактата»
просит своего адресата восстановить в памяти рассуждения старца Зосимы
о том мучительном состоянии человеческой души, когда она уже
осознает, что именно любовь избавит ее от страдания, видит уже и
понимает ее, но не имеет. Рассуждение Гиппиус о «"вечных муках" ада» со
ссылкой на героя Достоевского потребовалось ей, разумеется, в
качестве проекции на свои собственные переживания: «Вот этот ад у меня
теперь на земле...» Естественно, что Зинаида Николаевна рассчитывала
на сочувствие Философова к себе как человеку, испытывающему боль
(«...ведь у тебя же, хоть и "недостаточная", т.е. не такая (не какая?), но
какая-то "любовь" ко мне все-таки есть», — взывала она к нему), «все
время старалась верить», что он «может любить» ее «любовь» и даже
любит ее «когда она бывает», надеялась, что «в худшем случае» он не
станет «мешать» ей «выкарабкиваться» через него. И вдруг все
рухнуло.
Конечно, Гиппиус отдавала себе отчет в том, что случилось это
далеко не «вдруг». Слишком много знаков было, что события примут
именно такой, а не какой-нибудь иной оборот. Не случайно в
дополнении к цитируемому письму, появившемуся «на другой день», она
признавалась Философову: «Мысль о твоей любви... ко мне — как-то
у меня с самого начала была слишком оставлена...» Оставлена потому,
что он не очень охотно шел ей навстречу. Инцидент, казалось, все
расставил по своим местам. Оставалась лишь надежда на
тройственный союз и... дружбу, хотя это вовсе не означало, что Гиппиус
смирилась с возникшей ситуацией. Как раз наоборот. В противном случае,
зачем бы ей понадобилось на трех десятках страниц излагать
Философову свое собственное видение инцидента? Причем делать это в
такой форме, что ни у кого не могло возникнуть даже и тени
сомнения в том, что она рассчитывала на отмену вынесенного ей нака-
234
нуне Философовым приговора. И не кем-нибудь иным, а именно им
самим. Видимо, она очень верила в неотразимость своей
аргументации — не один же раз высказывала она подобные мысли, в том
числе и Философову, и он как будто бы выслушивал их с пониманием.
Критическая же ситуация, в которой она теперь оказалась,
потребовала от нее радикализации прежних идей, и Гиппиус осмелилась на
этот шаг.
Вот что она писала: «Я ищу Бога-Любви, ведь это и есть Путь, и
Истина, и Жизнь. От Него, в Нем, к Нему — тут начинается и
кончается все мое понимание выхода, избавления. Достижение всяческой ко
всему и во всем — Любви. Солнца, чтоб растаяло озеро. <...>
Есть и у холодного — бывает — своя любовь: костяная какая-то,
ощутимая лишь в страдании, а не в радости, самоплотская,
громадная — и неподвижная, старая. Так я Дмитрия люблю и любила,
непомерно и неощутимо в каждое мгновенье. <...> Если бы все это мог ты
увидеть, взглянуть в самом деле внутрь — ты бы понял без удивления,
как и почему безмерно дороги были для меня жалкие искры, краткие
мгновенья моего святого чувства к тебе <...>
Мгновенья святого чувства, я сказала, — ив самом деле, я его таким
ощущала. Оно было все в Боге, от и через Него, и перед Ним; оно было
растущее и не останавливающееся в тебе, а как бы лишь проходящее
через, сквозь тебя, и оно коснулось и духа, и души, и плоти».
Прервем цитату, чтобы расставить акценты в мысли Гиппиус. Как
и раньше, до «трактата», и позже — в статьях, она стремится
оттолкнуться здесь от традиционного понимания любви, чтобы на фоне
традиции ярче обозначить суть нового подхода к этому чувству. Только
теперь автор письма ссылается на свой собственный эротический опыт
и делает это не тайно, как в дневнике «ни для кого» («Что мой
дневник, — признается Гиппиус, — бессильное позированье перед собой!»),
а открыто, в исповеди любимому человеку. «Старая» любовь вбирает
в свою орбиту преимущественно плоть человека, потому она часто
и вырождается в похоть. Затем Зинаида Николаевна идет на
признание экстраординарное, совсем в духе «Зиночки». Не Бог весть какая
истина, говорит она, если признать «холодного» человека наиболее
похотливым существом. И далее: «Я перешла через такую похоть,
к которой многие и не касались, истинную похоть, голую, холод-
235
ную». Иными словами, исчерпала «тайну плоти» до дна. Опыт
оказался горьким: «...похоть сама по себе — холод, а не огонь... Это не
только не чувственность, — старается Гиппиус "поймать" подходящее
слово, — это и не бес-чувственность, — может быть какая-то
античувственность», если иметь в виду чувственность «истинную». Итог:
«...я знаю ее («похоть». — B.C.), что она, узнаю каплю ее примеси в
целом пруду...» Хорошенько запомним этот гиппиусовский акцент на
ее умении распознавать следы похоти, это, конечно, не случайная
обмолвка.
Горький опыт иногда бывает и полезным. Так случилось и на этот
раз. Дойдя до предела, до края пропасти, Гиппиус отшатнулась и
стала искать новые пути. Тут-то и произошла ее встреча с Философо-
вым. Встреча, как она считала, спасительная для нее. «Странно
сказать — но это так, — признавалась она ему, — наиболее мне
вспоминаются мгновенные ночные освобожденно-молитвенные прозрения в
любовь (к тебе именно) — не здешние (то есть кобринские. — B.C.), не
крымские даже, а гатчинские*. <...> "Господня земля и что наполняет
ее"... "Таков род ищущих, ищущих Лица Твоего..." У меня все связано
с этими словами, потому что они так чудесно, так ответно приходили
тогда ко мне. <...> Да, мне-то, ведь, кажется, что это как бы высшая
точка молитвы, да оно всегда — и — не слито, а соединено в
нераздельности с самыми реальными, физическими ощущениями Бога и мира;
и нераздельно были для меня мои дух — душа — плоть, — подумай
же: каково мне, если рядом, вот сейчас, написать слово, чем это
иногда казалось тебе. И если вообще плотью не "любить" — то как же
чувствовать любовь и в духе, и в душе? Чувство любви именно плотское.
В феноменальном мире все феноменально. Совершенная, т.е. я хочу
сказать настоящая любовь на земле, здесь, — должна быть и здешней;
проявляться».
Как видим, оправдывая свое поведение, Гиппиус была готова отдать
земле земное: одной частью своей сущности, а именно — плотью,
любящий человек будучи частью феноменального мира непременно должен,
* Имеются в виду места совместного проживания Мережковских с Философо-
вым, где и происходили те самые его «сближения» с Гиппиус, память о
которых вызывала у него в отличие от нее почти что иррациональное чувство
физического отвращения к ее плоти.
236
по ее мнению, за этот мир уцепиться. Иначе любви и не
почувствуешь — токи ее просто-напросто не пронижут своей энергией
сообщающиеся сосуды души и духа, им неоткуда будет взяться. Этими
словами Гиппиус хотела подчеркнуть, что она против аскетизма плоти.
Бесплотный спиритуализм — это мы уже знаем — был ей противен,
но и торжества плоти она тоже не желала. Человек, отстаивающий
подобную точку зрения, казался ей духовным скопцом, существом
сугубо телесным, а значит, редуцирующим целостность
человеческой личности. «Святое чувство», которое она утверждала и
которое, по ее признанию, испытывала к Философову, будучи
обращенным к целостной, т.е. духовно-душевно-телесной природе человека,
осознавалось ею как явление, интегрирующее его «землю» и «небо»
в неразрывное единство.
Эти мысли казались Гиппиус настолько простыми и
естественными, что она удивлялась тому, что Философов их не понимает или
не воспринимает. Ей непременно хотелось его убедить. Чудилось,
пойми он ее — все встанет на свои места. Вот почему она писала:
«...мгновенья религиозного чувства (не к тебе только, но к Богу, к
природе) касались и духа моего, и души, и плоти. По отношению к Богу и
природе ты не судил (да и как бы?), по отношению к себе ты, —
полусознательно или вполне сознательно, — заподозрил похоть.
Слишком это естественно... Как не увидеть похоти в чувственном, в
плотском, когда во всякую чувственность всегда входила нить похоти...?
Но скажу и я тебе: а ты знаешь, ты наблюдал когда-нибудь
чувственность — сознательной веры? Идущую от Высшего (не к Нему, как у
св. Терезы), всю под Его взорами? Может ли в такой чувственности
быть нить похоти, хотя бы самая тонкая? Хотя бы не сознаваемая?
Может ли вообще быть? И быть, поэтому, двигателем, ибо двигатель
обычной чувственности — похоть (без похоти и дети не рождаются,
как давно выяснено). Я не смею ничего утверждать о себе, абсолютно.
Я ничего не знаю. Но часто казалось мне, думалось, что по
отношению тебя, с тобой, я могла бы сделать и почувствовать только то, что
могла бы сделать при Христе, под Его взорами, и даже непременно при
Нем. То есть так, чтобы Он не только мог быть, но непременно был
бы. Возможно, пусть, что я уже думала это, переставая быть собой,
а как будущий далекий человек. Это все равно. Знаю о себе, о
кратких мгновеньях моей пред-любви к тебе — что они были, при всей их
237
плотскости, прозрачны, насквозь проницаемы для Божеского взора,
все перед Ним, вместе с Ним. <...> И ты поймешь теперь, почему я,
зная таким это в себе почувствовала действительную рану в то утро
твоего отъезда (да и раньше вроде этого бывало). <...> родового
чувства во мне нет, чувственности нет, а голую похоть я могу, в конце
концов, разделить чью угодно. Она еще безличнее рода».
В последних двух фразах цитаты Гиппиус пытается разыграть
чувство обиды: видишь, мол, какая я на самом деле, а ты заподозрил во
мне что-то дурное, вовсе мне не свойственное. Впрочем, она быстро
спохватывается, признавая, что, хотя поступок Философова в то
злополучное утро 15 июля (как, впрочем, и предыдущее его отношение
к ней) и не мог «не ранить» ее «насквозь», тем не менее он ни в чем
«не виноват». Просто, пишет Гиппиус, не сомневаясь в
правильности своего подхода к любви, произошла ошибка: «Или мои минуты
были не истинны (то есть с похотью), или твое отношение бесполезно,
мимо, не к ним, для них оскорбительное». И абзацем ниже: «Если
хочешь — много есть знаков, что мое чувство было обманное и
смешанное. Первый — конечно тот, что ты сам не почувствовал его, и
истинным не почувствовал. Но говорю это лишь ради
справедливости. Для меня эти минуты останутся светлыми и святыми. <...> Так я
думаю и перед Христом»73.
Итак, ошибка была, наконец, найдена. В своем «светлом и святом»
чувстве к Философову Гиппиус обнаружила «следы похоти».
Выработанное прежней жизнью чутье к «похоти», в чем она ему
признавалась, требовалось ей самой. Если бы не эта досадная «примесь» —
след былых страстей, — почти уверила она себя, возможно, и
инцидента не случилось.
Однако эта уверенность обернулась обыкновенным самообманом,
чего Гиппиус, по всей вероятности, не дано было осознать. Когда она
говорила, что в ее любви к Философову немудрено заподозрить «похоть»,
она опиралась на простой и самоочевидный, с ее точки зрения,
аргумент: плоть по природе своей всегда чувственна. Но Гиппиус хотела
любви совсем иного рода, и если ее чувство все же оказалось
«обманным и смешанным», то она, признавая свою в этом вину, все же
апеллировала к разуму Философова, пытаясь внушить ему мысль, что иного
и быть не могло: новое всегда дается трудно, а потому ошибки в такого
рода делах просто-напросто неизбежны.
238
Спустя два месяца после инцидента, в письме к Философову от
16 сентября 1905 г. Гиппиус, рассуждая о построении теократии,
предполагает, что теократическая идея в ходе своей реализации может
натолкнуться на противоречивую сложность человеческой натуры.
«Ведь тут опасность та, что внутренняя скрепа (то есть самое-то
важное!) между теократией и внешним миром, скрепа во мне самом, —
исчезнет! То есть во мне произойдет коренное раздвоение, или даже
нет: вместо одного нового лика, которым во мне будет постепенно
вытесняться старый, — у меня будут как бы две, друг другу не
мешающие, не соприкасающиеся, личины. Вхожу в теократию — и у меня
за порогом, тут, все новое: и отношения, и разговоры, и жесты, и
действия, и мысли, и любовь; все абсолютно не похожее, ни капельки, на
то, что вне <...> все старое, весь человек старый, вполне сохранится,
нетронутым, и так будут в каждом 2 ящика рядом... Тут не
разрешение... растет ли мое теократическое отношение, состояние, то или
другое, на вечных моих тех же корнях, или же это рядом другое
растение вырастает, а то — можно насильственно вырвать, но совершенно
не для чего и не нужно вырывать, потому что они отдельные и друг
другу не могут фактически мешать. Я боюсь, что это — самая
опасная форма параллелизма, самая опасная потому, что может
действительно существовать...»74.
Эта идея вполне способна помочь нам при анализе концепции любви,
изложенной в «трактате». Гиппиус и впрямь казалось, что она и ее
любовь к Философову — одно, ошибки — другое. В любви она
проявляет себя как «будущий далекий человек», заподозренная же ею самой
и Философовым в ее чувствах «похоть» — от старого, «ветхого»
человека в ней, уже изживаемого, но пока еще не изжитого. Странное дело,
но она почему-то была уверена, что и то и другое чувства, пользуясь
ее же выражениями, «растут» в ее душе параллельно, «рядом» друг с
другом, а не на одних и «тех лее корнях». Подобного параллелизма,
признавалась Гиппиус, необходимо опасаться, но не настолько, чтобы
робеть перед ним и бояться идти вперед.
Однако занятой ею позиции было присуще глубокое заблуждение.
В том-то и дело, что «новая христианская любовь», которую, как
представлялось Гиппиус, она испытывала к Философову и концепцию которой
впервые столь отчетливо и ярко выразила на страницах своего письма,
не только не исключала чувственности («похоти» — на ее языке), но и,
239
как на поверку оказалось, включала ее в себя, придавая ей тем самым
особую — экзальтированно-извращенную — форму*.
* В подтверждение данной мысли сошлемся на еще одно суждение
Гиппиус, почерпнутое из ее ялтинского письма к Философову от 12 мая 1905 г.
«Помнишь наши разговоры втроем, — обращалась она к нему, — каким
образом будет феноменально проявляться в грядущем любовь двух в смысле пола,
и может ли остаться акт при (конечно) упразднении деторождения? Помнишь
твои слова, подтвержденные Дмитрием, что, если акта не будет, то он должен
замениться каким-то другим, равным по силе ощущения соединения и плотско-
сти, другим общим, единым (вот это заметь) актом? Помнишь, наконец, вечно-
насмешливый вопрос Розанова, перед которым мы смущались вечно и немели:
"Нет, да вы скажите, что же этим двум делать вместе? Как они будут? Вот это
они будут делать? А вот это нет?"
И, видишь, мне показалось на мгновенье, что Розановский вопрос — пустой
для нас вопрос, и наши рассуждения выше — фальшивы и внерелигиозны, потому
что мы в них сошли с базы, на которой, между прочим, стоим и с которой ни в чем
сходить нельзя. По старой родовой психологии, по-прежнему силились решить,
новое вино захотели влить в старые меха. Мы забыли, мы отвернулись на это
мгновенье от личности, решая, гадая о двух — упустили сохранение единого,
единственности. Половой акт — один, общий для всех пар; различие индивидуальное,
не глубокое и преходящее, а корень — безличность, общность, род (тут и связь его
с деторождением). Общность его, схожесть, похожесть, закон — они-то и съедают
в конечной точке личность <...> словом, личный брак... должен быть воистину и
прежде всего личным, единственным, беззаконным, вечно-растущим в
сближении; каждое 2 должно иметь свою тайну сближения, единственную, этими двумя
вдвоем для них одних найденную... или находимую. Мы хотели сделать новое
похожим на старое. Реформировать что-то. Один закон сменить другим. Смущались
перед Розановым, когда он коварно спрашивал нас об этом новом законе. Когда я
пишу это — мне даже стыдно прежней слепоты. Да нет, нет общего закона, совсем
нет закона после любви. "До дна" личность, — и при этом (очень важно!) до дна
общность между ними... — общность в едином центре, общность в Боге, в Трех
в Одном. Не человеческая уж общность, но человеческое возвышающая до
божеского. Общность, обнимающая любовно раздельность и сохраняющая ее в себе.
Итак — поскольку ты "тип" — постольку ты подзаконен и смертен и общен
в смешении; поскольку ты личность — ты сохраняешь ее везде, проявляешь,
выявляешь и воплощаешь феноменально везде; мука законного, общного пола и
акта — мука раненой личности, отдаленная от Бога и даже от Христа. Поскольку
ты личность — ты находишь проявления своего единственного два, своего
соединения или сближения. Акт ли (без деторождения) или что-нибудь другое,
мгновенно приходящее, — это все равно, это навеки тайна двух, каждых двух
и только едино-двух — навсегда — потому что здесь — прикосновение к
вечности» (Pachmuss Т. Intellect and Ideas in Action... С. 64—65).
240
«Новая христианская любовь», по Гиппиус, — это «религиозное
чувство», субъектами которого являются (одновременно!) и лицо
мужского пола (в данном случае — Философов), и... Бог. Странное, если не
сказать более, страшное, абсолютно кощунственное положение, однако
автор письма этого не замечает. Более того, продолжает углублять свою
мысль, начиная рассуждать о «чувственности сознательной веры». Что
это такое, понять практически невозможно. Ясно одно: «вера» эта
противоположна «обычной чувственности». Видимо, потому, что имеет
дело не с плотью в традиционном смысле этого слова, а с плотью
«святой». И еще потому, что является неким порождением самого Господа
Бога, во всяком случае, им самим освящена.
Уже на этом этапе гиппиусовских рассуждений к ней возникает
множество вопросов. Однако их количество возрастает с того момента, когда
она осмеливается говорить о наличии в такого рода «чувственности»
элементов «похоти». Почему бы не позволить себе подобную гипотезу, как
бы спрашивает она у Философова, ведь должны же существовать хотя
какие-нибудь аналогии между простой чувственностью и
«чувственностью сознательной веры»? Поскольку «двигателем» «обычной
чувственности» является «похоть»*, нельзя ли допустить нечто подобное и для
особой формы чувственности? Свои рассуждения на данную тему
Гиппиус здесь прерывает, однако уже само наличие вопроса предполагает
утвердительный ответ на него, тем более что в дальнейших рассуждениях
она осмеливается пойти на кощунство едва ли не большее, чем прежде.
Если «чувственность сознательной веры» утончает и освящает плоть,
рассуждает Гиппиус, то именно она и есть тот самый человек, который
прошел через горнило подобного «освящения». Из этой посылки следует
вывод, что теперь для нее нет и не может существовать запретных для
Божеского взора видов отношений с Философовым. Более того,
признается ему Гиппиус, ей часто мечталось о такой форме отношений с
ним, о такого рода чувствах к нему, которые она могла бы разрешить
себе в присутствии Христа и даже непременно при Нем.
Только ли мечтала Гиппиус об экстравагантной «сказке любви» или
мечту свою осуществила? Ответа на эти вопросы мы никогда не узнаем.
Можем только предположить, что нечто подобное и вывело Философова из
* Это слово мы вынуждены почти постоянно заключать в кавычки.
Несмотря на то, что Гиппиус употребляет его в частной переписке, оно звучит с
оттенком эпатирующего цинизма.
241
состояния равновесия, побудив его заговорить о физиологическом почти
отвращении к ее плоти.
В своем кобринском письме, подсунутом под дверь Зинаиды, он писал
ей о постигшем его странном раздвоении души. Тяготея к ней духовно,
он отвращался от ее плоти. Тогда еще Философов не осознал, что у
Гиппиус не только больная плоть, но и больной дух, что обе эти болезни
настолько прочно связаны между собой, что одно определяло другое и
наоборот. Поймет (начнет понимать) позже, прочитав ее «трактат» в Бог-
дановском и отказываясь месяца два-три спустя после случая в Кобрино от
совместной с Мережковскими поездки в Париж. Учитывая данное
обстоятельство, нельзя, однако, в диалоге Дмитрия Владимировича с Гиппиус
брать только одну его сторону. Философов, безусловно, — лицо
страдательное, но это вовсе не снимает с него хотя бы части вины за
религиозную деятельность супружеской четы. Разве это не он — один из
многочисленного окружения Мережковских — поддержал идею строительства
«новой церкви» и потому оказался не только сторонником, но и
участником «Главного»? И не он ли вместе с Гиппиус и Мережковским
воображал себя апостолом новой веры, будучи одновременно и кандидатом на
роль любовника Гиппиус? А его симпатия к религиозным идеям
«русского Лютера»? Разве не приходило ему в голову, что гиппиусовская
концепция любви целиком покоится на их основе? «Верх» и «низ», «земля»
и «небо», языческое и христианское в ее эротической теории поменялись
местами, а то и просто подменили друг друга. «"Бездна вверху" и
"бездна внизу", "бездна плоти" и "бездна духа" — одна и та же "бездна"», —
говаривал, помнится, Мережковский. Гиппиус, если следовать версии,
изложенной в ее книге о муже, противилась его теории «двух бездн».
Противилась, но, как оказалось в реальности, ее же и воплотила в своей
собственной концепции. Она пыталась убедить Философова, что в ее
чувство к нему заведомо против собственной ее воли, точно по
наущению дьявола, прокралась «похоть». Была ли она искренней в своем
суждении или нет, судить трудно, однако дело обстояло куда сложнее, чем
она думала. Любимое детище ее и Мережковского — идея «новой
христианской любви» была порочна уже в своем замысле, ибо базировалась
на порочной в религиозном отношении философской системе.
Философов это понял, а потому точку зрения Гиппиус отверг и в
искренность ее исповеди не поверил. Он указал ей на то, что
полученное им ее «письмо грешно». Грешно даже не по содержанию, не потому,
242
что в нем говорится о любви, которую можно принять за похоть, а
«потому что абсолютный грех, — по его мнению, — на тридцати
страницах копаться в собственных душевных кишках». На протяжении
сравнительно короткого письма Философов неоднократно корит
Зинаиду Гиппиус в присущей ей «похоти умствования» и «сладострастии»,
с которым она «распластывает свою тайну...» (в скобках заметим, что
наблюдения Философова действительно бьют в цель — для примера
достаточно указать на наши выписки из дневника «Contes d'amour»).
Далее он касается существа ее эротической концепции. «...Знаешь,
Зина, — пишет Философов, — читая твой трактат с трезвостью, я
вспомнил средневековые писания мистиков, бред экзальтированных монахов.
Ужасно соблазнительно, интересно, но ужасно нецерковно, а ведь они были
в настоящей церкви, то есть у них было таинство, реально
соединяющее их с миром. Без тайны общей, без церкви такие мистические бре-
ды — настоящий кошмар, который мы обязаны держать при себе,
другие должны понимать, чувствовать, страдать от этого кошмара, но не
знать его во всей расточительной силе подробностей. <...> Сколько в тебе
искренней любви ко всякого рода фальсификации. Какая ты декадентка!
И мне тебя страшно. Ты все думаешь, что ты борешься с диаволом, увы,
мне иногда кажется, что борешься с Богом, и не то что борешься, а как-то
ставишь себя с Ним на одну доску! И это ужасно страшно, и я —
начинаю тебя не понимать. Ты категорически утверждаешь, что "знаешь о
себе", что твои "переживания, при всей их плотскости, были прозрачны,
насквозь проницаемы для Божеского взора". Если у тебя такие знания, то
ты или святая или бесноватая, во всяком случае мне не товарищ. Да, я
никогда не наблюдал "чувственность сознательной веры", но я поэтому и
не утверждаю и не отрицаю есть ли в ней "нить чувственности" или нет.
Ты же не наблюдала тоже, но с властью пророка утверждаешь. Говорю не
наблюдала, потому что для таких наблюдений необходима церковь, только
имея ее за собой, во всей ее полноте, т.е. имея такой пробный камень,
который не обманет, можно пуститься на такие опыты. Теперь же предаваясь
своим одиночным колдовствам, ты не имеешь права говорить, что ты
знаешь, ибо твои такие знания проверил кто? Бог или диавол? Не знаю. <...>
Не хочу я соусов, не хочу, не хочу. Лучше уже тогда декадентство.
Оно чище, потому что не тянет к Богу»75.
Письмо Философова — документ большой силы и значения. До сих
пор мы слышали и слушали только одну сторону — Гиппиус. В трак-
243
товке автора дневника «О Бывшем» Философов — слабовольный человек
с неустановившимся религиозным мировоззрением, под разными
предлогами уклоняющийся от исполнения накладываемого на него
«Главным» долга и даже — Иуда, готовый предать «Дело», которому служат
другие «апостолы» — Гиппиус и Мережковский. При всей
заинтересованности в нем, в том числе и интимной, она никогда не говорила всерьез
о его подлинном, т.е. не навязываемом ею, религиозном мировоззрении.
Прочитав его письмо, мы, наконец, поняли, что имеем дело с
личностью серьезной и глубокой. То, что Гиппиус утаивала от читателя,
всплыло наружу. Оказалось, что, несмотря на свои уклоны в
религиозный модернизм Мережковского, он был куда более церковный человек,
чем полагали Зинаида Николаевна и Дмитрий Сергеевич. Философов
виделся ей таким, каким она его хотела видеть. Гиппиус «лепила» его
для себя и для «Главного», что, впрочем, представало в ее сознании как
единое целое. «Главное» и в самом деле (в этом мы не раз имели
возможность убедиться) стало ее idea fix, ее истиной и верой. Сомнений
в правильности своей позиции она не допускала. Как она удивилась,
наверное, когда прочла у Философова, что церковь, которую они
вместе с ним создавали, не настоящая, а настоящей является церковь
историческая, т.е. та самая, которую они отвергали. Прямо у него об
этом не было сказано ни слова, однако не могло возникнуть никакого
сомнения, что в виду он имел именно эту мысль. Самое же главное,
однако, заключалось в том, что он судил ее как человек, власть
имеющий. И не за то даже, что она допустила «похоть» в «сношениях» с
ним (главное ее «преступление» перед Философовым, на гиппиусов-
ский взгляд), а за то, что ее мистический опыт, которым она гордилась
и который выставляла в свою защиту в письме к нему, есть не что иное,
как фальсификация подлинной духовной жизни, «мистический бред»
экзальтированного существа.
По сути дела, обвинения Философова, адресованные Гиппиус, можно
рассматривать и как бунт прозревающего человека против «Главного»,
точнее, против методов проведения его идей в жизнь. Для подобного
суждения есть все основания, и прежде всего то, что именно Гиппиус
являлась, как назвал ее Философов в одном из писем к ней, «игуменьей»
этого своеобразного монастыря или, лучше сказать, тайного ордена.
Далеко не случайно, что в свете «Главного» становятся особенно
понятными и ее концепция любви, и жесткий эксперимент над близкими ей
244
людьми (прежде всего над самой собой) во имя будущего нового
человека. Эксперимент, обрекающий и ее и их почти что на «схиму», по
удачному определению Мережковского*.
В этом отношении очень показательно октябрьское 1905 г. письмо
Философова Мережковским, в котором он совершенно
недвусмысленно объяснял супружеской чете (прежде всего Зинаиде Николаевне,
разумеется) причины своего отказа от совместной с ними поездки в
Париж. Принять такое решение, по словам автора письма, его побудило
«нарушение равновесия» в тройственном союзе «Мережковский —
Гиппиус — Философов». «Наша тройственность — трое есть лишь
символическая полнота, — пытался он внушить Гиппиус. — Не надо себе
делать иллюзии. У Зины же есть уклон в нас троих замкнуть полноту
общественности, а в нас двоих (Философове и Гиппиус. — B.C.) —
полноту пола. Говоря о том, где (так в тексте публикации. — B.C.) во
время одиночества одного все должны быть одиноки, она вместе с одним,
в минуты одиночества Дмитрия (в пору его увлечения Е.И.
Образцовой. — B.C.), как раз поступила обратно и сделала в противовес его
одиночеству, новое мы, т.е. я и она». Подобное поведение Гиппиус,
считал Философов, — проявление присущего ей своеволия. «...Я
утверждаю, — продолжал он, — что она меня глубоко оскорбила своим
насилием. <...> У меня есть к ней нехорошее чувство. <...> Я по совести говорю,
что где-то в глубине души, несмотря на всю мою веру в нее как часть
целого, у меня есть ощущение, что она делает надо мной опыты, т.е.
бессознательно делает меня не целью, а средством, и делает опыты
опасные. Ощущение того, что она ворожит надо мной, ощущение
бесчисленных личных Зининых нитей паутины, связывающих меня, меня ни
на минуту не покидает. <...>
Когда [неразб.] летом, без всякого нарушения тройственности, я уехал
в деревню из Кобрино, она была... больна. Я ей написал, может быть,
грубое, но по существу верное письмо, получив которое, она... очень
огорчилась, но совершенно письмо теперь забыла. Я ей писал тогда,
как мне страшно, что в личных отношениях ко мне она действует во
имя свое. Она это забыла, и, считаясь со мной (опять я точно средство),
* Это слово, отлично характеризующее суть духовных устремлений
Гиппиус, взято нами из ее неоконченного письма к Философову от 26 ноября
1904 г.: «...Д.С. говорит, что я... пойду (в поисках правды. — B.C.) до края, до
схимы, м.б.» {Pachmuss Т. Intellect and Ideas in Action... С. 61—62).
245
она снова, доверяя только своему, а не и моему, сознанию, опять стала
усиливать те же отношения, считая, что если она находит, что она
действует не во имя свое, то я должен ей верить и находить, что это так.
Здесь опять величайшее унижение моей личности, <...>
Я это пишу, а не говорю, потому что я запутаю, потому что личные
отношения я отдаю на суд трех. Но раз она не считалась с этим и, как
будто забыв это, начала говорить от имени троих, и я имею право не
считаться с тем, что личные отношения должны быть личные.
В частности, хочется сказать еще о следующем. Очень мы
злоупотребляем именем Главного. Не целомудренны. Каждый
житейский факт сейчас же обсуждается с точки зрения Главного, как будто
у нас уже нет никакой старой жизни, как будто мы уже живем
абсолютно по-новому*. "Главное" является каким-то пугалом... и страшно,
* Говоря о злоупотреблении членами тройственного союза именем
«Главного», Философов мог иметь (и наверняка имел) в виду и конкретную
ситуацию интимных отношений Мережковского с Е.И. Образцовой. Вот что писала
по этому поводу Гиппиус в дневнике «О Бывшем»: «Дмитрию Сергеевичу еще
раньше (до Великого Четверга 1901 г. — B.C.) писала одна женщина из Москвы.
Я отвечала за него (?! — B.C.), а когда она приехала — он пошел к ней, и она ему
физически понравилась. После Пасхи она опять приехала, влюбленная в него.
И вот он свое исключительно физическое, только плотское влечение стал
оправдывать мыслями о святости пола и о святой плоти и стал говорить о том, что
"она может войти (в «Главное»! — B.C.) через пол", — а она совсем чужая,
простая, как Божья тварь, и неподвижная.
И все тут смешалось, стало смешным и ужасным, и нельзя уж было понять,
где грех.
Мы собирались и говорили только о поле, и Дмитрий Сергеевич все говорил
Философову, и только был занят и говорил об этом, думая, что говорит о Главном».
Считая, что «близкие уснули», т.е. забыли о своем долге перед «Главным»,
Зинаида Николаевна пыталась «разбудить» мужа и Философова, который, по ее
словам, с ним «сочувственно соединился». «Но тут случилось вот что, —
продолжала она свое повествование, — Дмитрий Сергеевич захотел опять ехать в Москву,
на один день, без меня, чтобы проститься с Образцовой, которая уезжала в Крым.
И при этом требовал, чтобы я сказала, что ему нужно ехать, что это хорошо
для Главного (!!), чтобы сама его отправила.
Я потерялась. Это очень было трудно. <...>
А Дмитрий Сергеевич говорил: "Если ты меня отправишь, как я за то буду
потом молиться!" Я чувствовала, что бледнею от страха. Но он ребенок иногда.
Он и уехал, а я осталась и прожила три дня в молчании, одиночестве и ужасе
близкой смерти» {Гиппиус З.Н. Собр. соч. Дневники: 1893—1919. Т. 8. С. 80, 81—82).
246
как бы тут не образовалась своего рода привычка. Главное является в
роли чего-то гнетущего. Это страшно и не целомудренно. Может быть,
мое созерцание состоит в наблюдении механики общественной жизни.
И если каждое такое созерцание будет сопряжено с пуганием измены
Главному, то или я пассивно покорюсь и буду идти на помочах, или я
буду лицемерить. Т.е.: и в том и в другом случае буду чувствовать
угнетение. И это еще счастье, что я это угнетение приписываю, главным
образом, Зине, потому что если я его буду приписывать Главному, то
это будет отчаяние»76.
Письмо Философова предельно искренно и по мысли и по чувству.
Это проявляется даже в его стиле. Автор письма не заботится о чистоте
своей речи, ибо писалось оно вовсе не для красоты слога. И даже не для
уяснения истины. Наоборот, Философов считал, что именно он, а не
Гиппиус владеет ею. Окончательно разрывать свои отношения с
Мережковскими он, по всей вероятности, не был готов, как и не мог продолжать
их в той форме, на которой настаивала Зинаида Николаевна. Положение
человека, стоящего на перепутье, всегда незавидно, а он оказался именно
в таком положении. Напряженная духовная жизнь, которую вели
Мережковские, влекла его к себе, но тирания Гиппиус отталкивала.
Мы не раз говорили о том, что она считала себя не только лидером
тройственного союза, но и автором идеологии «Главного». Твердая вера
в то, что она действует не во имя свое, а ради будущего человека, что
и она сама отчасти уже новый человек — стоит лишь напрячь силы, и
вожделенная цель будет достигнута, — будило ее волю и придавало
твердость духа. Зинаида Николаевна была не только ригористом, но
и максималистом до мозга костей и того же требовала от других. Ей
казалось, что она уже вытрясла из себя ветхого человека и искренне не
могла понять, почему другие с этим медлят. При всей тонкости
художественного чутья ей не дано было умения слышать стоящих с нею
рядом людей. Ты требуешь, «чтобы в угольных копях тушили жалкие
фонари, потому что есть солнце, — убеждал ее Философов в
апрельском 1905 г. письме к ней. — Да, мы знаем, что есть солнце, но мы-то
в темноте... и как только мы выйдем на солнце, так, конечно, и поиски
нас привлекать не будут. Выйдем на солнце сначала, а потом и будем
требовательны по отношению друг к другу»77. Убеждал, но не убедил,
а потому в рассматриваемом нами октябрьском письме уже в
ультимативной форме потребовал от нее уважения к правам суверенной лич-
247
ности, каковой не без основания себя считал. Или ты будешь мириться
с несовершенством человека, требовал он от нее, или твой
максимализм погубит и тебя и «Главное».
Драма и в самом деле разыгралась нешуточная. Конфликт между
Философовым и Гиппиус, назревавший в течение нескольких лет, к
концу 1905 — началу 1906 г. достиг своего апогея.
«Или мы — или никто», — бросил когда-то клич Мережковский.
Гиппиус этот лозунг не только подхватила, но и попыталась
воплотить его в жизненную практику. Требовался бросок в будущее.
Философов клич Мережковского тоже поддержал, вошел в «Главное» на
правах его деятельного работника, однако никому не передоверил права
думать и решать за него. Нивелирования уникальности и
неповторимости человеческой судьбы не желал. Максимализма гиппиусовского
рывка в будущее не принимал, потому что считал всякие «опыты», тем
более те, которые проводила над человеческой личностью Зинаида
Гиппиус, просто-напросто «опасными». Тем не менее он продолжал верить
в «Главное», наивно полагая, что опасность, грозящая его общему с
Мережковскими «Делу», заключена в злой человеческой и
религиозной воле Гиппиус, а не в тоталитарном духе самого «Главного».
Крушения идеала, боясь впасть в отчаяние, он не хотел.
4. «Тройка»
Конечно, на «бунт» Философова можно было бы посмотреть как на
раздражение рефлексирующего интеллигента, не выдержавшего
первого же серьезного испытания на прочность. К тому же и
непоследовательного; отказывался-де от поездки в Париж, однако обещания своего
не сдержал: не только поехал за границу, но и жил там вместе с
Мережковскими целых два года. Ведь именно такими глазами и смотрела на
него Татьяна Гиппиус, в письмах к сестре отзываясь о нем неизменно
в ироническом тоне. Нравом Тата пошла в старшую сестру, потому и
удостоилась от нее похвалы: «Тата, Ната и Карташев.
Тата в Париж писала нам самые длинные письма, поддерживая
близость — их с нами.
Тата цельная, изумительная, верная. Не отступала, хранила, несла.
Боролась за нас с Карташевым и с нами — за него. Сцепляла свою тройку»78.
248
Похвала получилась двусмысленной, хотя Гиппиус на это,
разумеется, не рассчитывала: «сцепляющая свою тройку» Тата чем-то
смахивает здесь на одного из персонажей «Бесов», может быть, на Петра
Верховенского. Впрочем, почему смахивает? Такой она была и на самом
деле: именно героем прозы Достоевского. Как и ее старшая сестра,
«неистовым ревнителем» «Главного», блюстителем чистоты и
торжества общего с Мережковскими «Дела». В данном отношении она
оказалась даже ревностнее самой З.Н. Гиппиус, неоднократно
иронизируя над слишком «романтическим», с ее точки зрения, отношением
последней к Философову. Вообще надо заметить, что, будучи
фигурой в «Главном» не самостоятельной, величиной, так сказать, не
«ведущей», а «ведомой»*, к тому же не обладая литературным и
личностным талантами Зинаиды Николаевны, Тата своими размышлениями
и поступками невольно огрубляла идеологию «Главного». Выступая в
роли своеобразного двойника Гиппиус, она, по сути дела, травестиро-
вала владевший сознанием сестры мессианский пафос. Далеко не
христианский характер центральных идей «Главного»,
психофизиологическое извращение, лежавшее в основе эротической концепции Гиппиус,
методы воздействия на соратников по «Главному», поощряемые ею, под
пером младшей сестры обнаруживали свое подлинное, не
подретушированное даровитой психологической рефлексией обличье.
«<...> Вот еще одно маленькое слово, — писала Тата сестре 28
октября 1907 года. — Я знаю, что мы с тобой духом и желаниями похожи.
Я с тобой со всей моей серьезностью согласна насчет реальности любви.
Как я с тобой не соглашусь? Разве ты так пишешь, как Димочка
(Философов. — ÄC)? Разве это то же самое? Правда моя в том, чтоб идти в
жизни до дна туда, где есть моя правда. Я не пишу тебе обо мне и Кар-
ташеве не потому, чтобы я забыла о нашей "двойке" (ведь здесь вдвоем:
* В этом смысле очень показателен следующий отрывок из дневника
Гиппиус, где она рассказывает о своем отъезде за границу в 1906 г.: «Провожали на
вокзал Тата, Ната, Боря Бугаев.., Карташев, Серафима Павловна (Довгелло, жена
A.M. Ремизова. — B.C.), Кузнецов, и потом Бердяев приехал — один.
Тата, Ната, Карташев и Кузнецов переселились в нашу квартиру, т.е.
последние к нам. Мне так было легче.
Они были — точно "стадо" оставшихся, на перроне» (Гиппиус З.Н. Собр. соч.
Дневники: 1893—1919. Т. 8. С. 106). «Стадо» — даже не паства, —
нуждающееся в «окормлении» со стороны иерархов «Главного»!
249
я и он. А он для вас чужой и враждебный. Я его взяла теперь только на
себя) или наивно делаю вид, что исчерпывается все нашими
разговорами. Я все время, все время иду, и здесь иногда мы с Карташевым
вместе, согласно, иногда шероховато. Но знаю, что в этом его знаю только я
одна верно, теперь почти как себя. Но вам важно, что выходит в
результате, а не то, как идет, каким путем узнается. Только тогда ценно, когда
получается нужное для Главного. Ты, милая, родная, одна знаешь самое
прекрасное, ясное, живое и радостное, соединенное, грозное и
вихревое — просветленное всем.
Карташев сказал сегодня, что тело властное тогда, когда нет ему
заместителя сильнейшего. А если есть большее, то власть его
растворяется. (Большее по радости). Он говорил, что ощущение моего лица
(глаз, меня, как меня лично) есть этот заместитель.
Когда это он говорит с внутренней радостью — я ему верю, это
показатель его правды. Ложь его всегда сопровождается темнотой,
дьявольщиной. Я знаю, когда он с чем, с радостью или нет. И отчего бесконечны
перспективы и отчего осадок. Во многом верю, как себе, во многом вижу
отражение себя до тонкости. Он не "мужчина", несмотря на всю силу
своей "плоти". Он такая же "девушка" (вы смешные, что меня не знаете),
и девочка и мальчик. Милая, это я тебе пишу, как себе. Им — не надо.
Они от меня далеко и не верят, будто я младенец. Только я к ним хочу,
а они ко мне не хотят. Не надо им читать, что я пишу. Я так прошу»79.
Процитированный отрывок из письма Т.Н. Гиппиус остановил на себе
наше внимание по нескольким причинам. Во-первых, бросается в глаза
абсолютно доверительный тон, с которым младшая сестра обращается
к старшей. Кошки между ними пробегали, и не раз — это правда, как
правда и то, что в «Главном» существовала традиция все свои мысли,
желания, чувства, поступки выносить на «круг». Именно так не раз и не
два Тата и поступала (ее письма-дневники за границу были
своеобразной формой отчетности перед иерархами «Главного» о «трудах и днях»
оставленной в Петербурге под ее попечительство «тройки»). Однако в
данном случае все обстояло иначе. Тата чувствовала, что между нею
и Мережковским с Философовым (особенно последним) выросла
глухая стена отчуждения, поэтому она и не хотела, чтобы мужчины это
письмо увидели.
Но была и другая причина, даже более важная, чем первая. Тата
хотела вызвать сестру на откровенность, а оттого перед нею несколько
250
заискивала. Фальши здесь не было никакой, она и на самом деле верила
в то, о чем писала. Быть похожими в духовном отношении — вовсе не
значит быть во всем равными: авторитет старшей сестры Тата
признавала и ценила. Здесь иное. Когда Татьяна говорила о духовном
сродстве с Зинаидой, она желала подчеркнуть ее и, разумеется, свою
собственную человеческую талантливость. Талантливость, которой
лишены те — Мережковский и Философов. Ведь в отличие от Таты (и
здесь она ощущает свою близость к сестре) они не способны во всем
идти «до дна». Авантюрная жилка и пытливый аналитический ум у
них отсутствуют, им подавай конечный результат, процесс их мало, а
то и вовсе не интересует. Разве они поймут, что представляет собой
«живое и радостное», «грозное и вихревое» чувство, могущее
показаться, на первый взгляд, сотканным из сплошных противоречий, а
на самом деле единое («соединенное») и к тому же «просветленное»?
Ответа на свой вопрос Тата и не требовала — знала, что не поймут.
А вот сестра — единственная из них, — та понимает. И Тата тоже. Ей
приятно было чувствовать себя заговорщиком в тайном ордене
«Главного». Вместе с сестрой, об особой роли которой в «Деле» она,
разумеется, догадывалась, а может быть, и знала.
Выделяя Зинаиду Николаевну из круга членов «Главного», Т.Н.
Гиппиус, похоже, высматривала в «Деле» нишу и для себя. Не случайно
она завела речь о своей собственной «правде», ради достижения
которой и отваживалась идти до «дна» жизни. Она была, что называется,
гением «педагогики» «Главного». Чтобы привести А. Карташева в
«Главное», т.е. перевоспитать его в духе идей
Мережковского—Гиппиус, она «работала» с ним как истинный педагог, испытывая при этом
и чисто человеческие страдания и радости, отчаяние и восторг. Но гений
Таты — часто (очень часто!) злой гений. В этом смысле она ничуть не
уступала своей сестре. Опубликованные в 2004 г. М. Павловой
избранные страницы ее относящихся к 1906—1908 гг. дневниковых посланий
за границу с полным правом можно назвать вторым (особым!)
вариантом интимного дневника З.Н. Гиппиус «Contes d'amour». Только в
отличие от «Дневника любовных историй» сестры Тата вела дневник
всего лишь одной «истории» — отношений с Карташевым, и был он
интимным только по сути, а не по цели: содержание ее
отчетов-донесений предназначалось, как о том говорилось выше, для обсуждения в
«кругу» иерархов «Главного».
251
Как и многие неофиты, будучи неофитом «Главного» да к тому же
имея поистине неистовый темперамент и железную волю, Тата
Гиппиус часто доходила в реализации идей «Главного» до фанатизма и
проповеди воинствующего изоляционизма. Подобно Мережковским
работала она, разумеется, для будущего. В «ветхом» человеке,
человеке сегодняшнего дня, следуя заветам сестры, она взращивала ростки
человека нового. «Жажда дать миру лицо» целиком владела ее
сознанием. Миссией своей Тата гордилась, к работе относилась
чрезвычайно ответственно, даже самозабвенно. «Только тогда ценно, когда
получается нужное для Главного», — это мы от нее уже слышали.
А вот и еще одно признание — о необходимости своей «работы» с Кар-
ташевым: «Я делаю это вот для чего: для себя, потому что я в
Главном и, делая для дальнейшего движения, для Главного, — делаю для
себя. Не делать не могу... "Я положу душу свою за друзей своих". (Кто
друг? — Кто в Главном)». В лице Татьяны Гиппиус «Дело» обрело
нового мессию, «свет миру» дарующего, несущего людям «благую
весть»... от Мережковских! И последние слова этого отрывка: «Во
имя Главного — главное брошу!»80.
«Главное» принято здесь за величину поистине абсолютную.
Человек перед ним ничто, червь, а если не червь, то обязан умалиться,
подстричь торчащие вихры — для собственного же блага,
разумеется, ибо благо «Главного» и для человека благо. Это — как
человека ограбили и ему же говорят, что совершили такой поступок для
его же пользы. Философов предупреждал Мережковских (главным
образом, конечно, Зинаиду Николаевну) об опасности перерождения
«Главного» в аппарат по подавлению и дискриминации личности —
не послушали. Не послушали не потому, что голоса Философова не
расслышали, а потому, что не могли послушать. Послушать —
означало отказаться от «Главного», что было равносильно отказу от самих
себя. Когда-то Гиппиус писала по поводу переживаемой ею
любовной коллизии с Минским: «Не могу. И не могу не мочь». «Не могла»
не потому, что боялась огорчить влюбленного поэта своим отказом
или попросту выгнать его за дверь, а из-за соображений идейного
порядка.
То же самое можно наблюдать и на примере воссозданных Т.
Гиппиус ее отношений с Карташевым. В условиях коммуны на квартире у
Мережковских она живет с ним уже более полутора лет, знает его «почти
252
как себя» (да и раньше была с ним знакома, с той поры, очевидно, когда
он ходил в любовниках у старшей сестры), однако по-прежнему
продолжает не только его «изучать», но и воспитывать в духе «Главного». Так
что дневниковая фраза: «Я его взяла теперь только на себя...» (каков,
однако, язык, точно мы имеем дело не с молодой женщиной, а с
профессиональным партийным функционером!) имела под собой
практическую основу. Тата рада, что из Карташева, несмотря на
«шероховатости» процесса его духовного взросления, может вырасти «нужный»
для «Главного» человек, а потому и признается сестре, что начинает
испытывать к нему некое подобие любви и доверия. Как мать к
своему ребенку. Карташев и есть ее дитя («и девочка и мальчик»
одновременно, как и она сама, — признание потаенное, рассчитанное только
на сестринские уши), плод ее душевных усилий, изделие, так сказать,
ее собственных рук. Любовь к нему и как к своему духовному чаду
и как чувство двадцатидевятилетней девушки к
тридцатидвухлетнему мужчине (ведь были же живы в ней женские инстинкты!),
переплетаясь в ее душе, образовывали такой клубок противоречий, что
обнаружить его начала и концы не представляется никакой
возможности.
В этой связи хотелось бы подробнее остановиться на вопросе о
женской природе Т.Н. Гиппиус. Была ли она женщиной в подлинном
смысле этого слова? В смысле пола, разумеется, да, а в
психологическом смысле? Осознавала ли, ощущала ли, идентифицировала ли Тата
себя как женщину или — что точнее — как здоровую женщину? Вопрос
сложный.
«Читаю Крафт-Эбинга*, которого тебе отошлю. Ищу патологии в
себе и в окружающих»81, — сообщала она сестре 28 декабря 1906 г.
Зинаида Николаевна вряд ли почерпнула бы из этой книги что-нибудь
для себя новое: о своих собственных и двух ее сестер — Таты и
Наты — отклонениях в области психологии пола она давно уже
догадывалась. Тата, разумеется, во всем следовала сестре, однако,
проявляя явно нездоровый интерес к закрытым для обсуждения вопросам
* Имеется в виду книга немецкого психиатра Р. Крафт-Эбинга «Половая
психопатия: Судебно-медицинский очерк для врачей и юристов» (СПб., [1906]).
Современное издание: Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия (с обращением
особого внимания на извращения полового чувства). М., 1996.
253
эротики*, больной себя отнюдь не считала. Мнения окружающих ее
людей о ней самой и ее отношениях с Карташевым она тщательно
фиксировала, подробно, пожалуй, даже скрупулезно, сообщала о каждом
таком факте за границу, однако ничего странного в своем поведении,
тем более близкого к патологии не находила. Как лицо, «посвященное»
в «Главное», она считала, что истина за ней, другие способны только
заблуждаться. Подобно старшей сестре Т.Н. Гиппиус воспринимала
свое служение «Делу» в качестве высокой духовной миссии, в связи с
чем оценивала себя как личность отчасти избранную, а потому и
поносимую и отвергаемую в общественном восприятии. Последнее
обстоятельство даже возвышало ее в собственных глазах. Порой она
сознательно эпатировала своих знакомых, и если ей удавалось вызвать их
удивление образом своей жизни и мышления, безотчетный страх,
отторжение и даже брань, она испытывала удовлетворение.
* Так, ей непременно хотелось ознакомиться с наиболее болезненными
проявлениями половой психопатологии, воспроизведенными в книге Крафт-
Эбинга на латинском языке. Для осуществления этой цели она принудила Кар-
ташева заняться переводом текста на русский язык в ее присутствии,
внимательно следила за его реакцией на «перлы» психиатрического анализа и к тому
же оценивала его поведение с точки зрения «Главного». Вот как отражен
данный эксперимент на страницах ее письма к сестре от 10 января 1907 г.:
«Вечером Карташев мне переводил латинский текст из Крафт-Эбинга. Уже втроем,
не глаз на глаз, стыдится. Я для себя и тебя, потому что надпишу, чтоб
лишний раз не спрашивать: легче, проще читать сразу, а потом, я думаю, и ему не
без пользы: всю-то книгу он все равно не прочтет. Довольно отважное
предприятие, но ничего, переводит стойко. Иногда ужасается, иногда стыдится (а
она — нет. — B.C.), иногда запинается, но кое-что и западает. Я теперь лицо
его очень хорошо изучила и знаю, когда что отражается. Все оттенки. Очень
согласуется все с моим представлением о лике, лице и личине. Один раз было
почти приближение к совершенному (и лицо соответств<ует> внутреннему
пережив<анию>). Значит, возможно. И я не ошиблась: какое-то соединение с
Главным возможно и должно и единственно прекрасно. Но знаю и неперева-
римый отврат; особенно Карташев гадкий может быть, и глаза исчезают с
лица. Это я только тебе пишу, им не читай. И еще знаю точно, насколько
Карташев для меня мертвеет, "трупнеет" когда отходит от нас, или ожесточается,
и насколько я сама трупнею, окостеневаю и делаюсь бесчувственной и
абсолютно пустой, выдутой — в той стороне, которая обращена к нему»
(Истории «новой» христианской любви. Эротический эксперимент Мережковских в
свете «Главного»: Из «дневников» Т.Н. Гиппиус 1906—1908 годов // Эротизм
без берегов: сб. ст. и мат-лов. С. 441—442).
254
11 октября 1906 г. З.Н. Гиппиус сообщала Философову: «От Таты
опять бесконечное письмо, Даша (няня сестер Гиппиус. — B.C.)
кричит ей, что "лучше б вы умерли, и я бы вас похоронила" и "нет вам
другого имени, как сектантка!"»82. Тата, конечно, была довольна: если
удалось смутить душу православного человека, значит, «Главное» —
оружие действенное.
Еще один пример.
«Пишу 29-го (декабря 1906 г. — B.C.) вечером, — спешила
уведомить Тата 3. Гиппиус. — Получила от Розанова <письмо>.
Неприличное "с точки зрения". Ничего не понял из моего. (Думает, что я жено-
любица в буквальном смысле). "Неужели 3 сестры такие?!"»83. Розанов
как мистик пола проявлял большой интерес к сестрам Гиппиус.
Накануне, 11 декабря, он случайно встретился с Татой на одном из
петербургских концертов, имел с ней долгую беседу, о содержании которой
Тата весело по горячим следам сообщала сестре. Теперь же выходило,
что он не только не принял ее точку зрения, но и в ней не разобрался.
Т.Н. Гиппиус писала: «...мне... хочется тебе рассказать, чего Розанов
навыдумывал. Евгений Иванов говорит, что он еще с весны так: решил,
что я ведьма, выпиваю кровь из Карташева, скрутила его и держу при
себе. И тут, на концерте, рядом с ним было место свободное, позвал
меня. Сели. Говорил, что меня боится. И зачем Карташев такой худой?
(Сразу). Если бы он был толстый... или бы вы худели, что ли... "Ведь
он в вас влюблен?" Я: да, да. "Ну а вы?" Я: да, да. "Я ведь как отец,
вы уж мне прямо говорите: ну, и вы целовались?" (Жадно). Я: да, да.
"Ну, — (со смаком), — и ему на колени садились?" Я: да, да. Ната
говорит, что мы были удивительны издали — друг перед другом — и
"страшненькие". Не помню, как мы перешли дальше, но я спрашиваю его,
считает ли он, что я имею что-либо общее с Дмитрием
(Мережковским. — B.C.) и с Тобой, нечто в мыслях. Удивился донельзя — ничего,
говорит, все разное. Говорю: ну, так к какой же категории людей вы меня
<относите — ?>? И боитесь ли? Говорит: "боюсь..." А что категория —
особая: к странным и интересным людям относит. <...>
По дороге он сказал, что перестанет меня бояться только тогда, когда
я выйду замуж и у меня будет ребенок, как у всякой нормальной
женщины. Говорит: нельзя мучить человека, разжигать и не жениться. Что
не поверит никаким "обстоятельствам", заставившим нас поселиться
вместе, а все проще»84.
255
Надо иметь хотя бы общее представление о розановской «религии
пола», во многих отношениях противоположной концепции
Мережковского по тому же вопросу, чтобы оценить проявленное им любопытство
к личной жизни Т. Гиппиус. Она вполне могла бы оказаться
кандидатом на роль еще одного из героев его будущей книги «Люди лунного
света. Метафизика христианства», тем более что работу Крафт-Эбинга
Розанов не только хорошо знал, но и охотно и много цитировал.
Впрочем, и Тата, прекрасно осведомленная о его интересах, отлично ему
подыграла: Розанов из-под ее пера вышел как живой.
Тате даже показалось, что ей удалось одержать над ним победу. Пустив
его по ложному следу, т.е. сыграв перед ним роль «ведьмы»,
«разжигающей» похоть молодого мужчины, Тата поняла, что об истинных
(притом высоких!) целях ее отношений с Карташевым Розанов ничего
не знает. То, что на пошлом языке обывателей называлось
«разжиганием» плоти, на языке человека, посвященного в «Главное»,
именовалось работой по созданию новой этики будущего человека. Ее
эротические отношения с Карташевым неизменно осознавались ею в
качестве некоего прообраза нового Эроса. Тут она была верной ученицей
своей старшей сестры, а в жесткости проводимого ею эксперимента с
Карташевым, в почти граничащем с цинизмом
изощренно-извращенном чувстве сладострастия, которое она при этом испытывала и
которого непременно добивалась, Тата сестру превосходила. Впрочем, от
«бесноватости», в которой Зинаиду Николаевну упрекал Философов,
до образа «ведьмы», который в личности юной Таты Гиппиус
рассмотрел Розанов, всего один шаг. Но какой показательный, какой
изобличающий суть «Главного»!
В самом начале нашего рассказа о месте и роли Т.Н. Гиппиус в
«Главном» мы, ссылаясь на ее письмо к сестре, упомянули о том, что она,
кажется, отыскала свою нишу в общем для Мережковских и Филосо-
фова «Деле». Помнится даже, что назвали ее своего рода гением
«педагогики» «Главного». Это совершенно верное наблюдение. Никто из
«посвященных в «Главное» людей (даже талантливая 3. Гиппиус) не
смог рассказать о содержании своего труда так, как это сумела сделать
Т.Н. Гиппиус. Подобно старшим товарищам Тату, разумеется,
интересовал конечный результат ее деятельности. Но более ее занимал процесс
воспитательной, если можно так сказать, работы в духе «Главного». Ее
дневники, предназначенные для отправки за границу, — своеобразный
256
роман в письмах, в основу сюжета которого положен ею самой
проводимый и тщательно ею же проанализированный по ходу развития
действия эротический эксперимент с Карташевым в границах «Дела».
Фиксировался и продумывался каждый шаг, о всяком действии
докладывалось «наверх». Это позволяло Тате смотреть на себя не только своими
собственными глазами, подвергая методы и приемы проводимой ею
работы самоцензуре, но и получать их оценку со стороны.
«Вернулась в час, — писала она 15 апреля 1906 г. — Карташев еще
не спит, нас ждет. <...> Карташев про себя рассказывал, о соблазнах
своих, о типе соблазнительных женщин (пухлые, лицом
полугниловатые, невзрачные блондинки). Выспрашивала его для сведения...»
«7 мая, 10 часов <...> Каша у него полная. Такая, что надо
нечеловеческое терпение, чтоб помочь разобрать и чтоб не ввергнуть его в
отчаяние от того, что он человек чужой, неприемлемый (для «Главного». —
B.C.), непонятливый, неугодный и т.д. <...>
Я сознательно действую. Теперь я хочу быть банальной, доступной,
скрыть "свое" до времени». («Свое» в данном случае — творческая
индивидуальность — Тата в это время обучалась в Высшем художественном
училище при Академии художеств. Однако тактика, избранная ею для
своего профессионального становления как художника, характерна и
для «тактики» ее работы с Карташевым.) «8 мая <...> упрекала Карта-
шева в малой и "литературной" любви к вам (то есть Мережковскому,
Гиппиус, Философову. — B.C.). Потом — м<олились>. <...> Потом
говорил Карташев и впал в безнадежность от своей скудости. Ната ушла
к себе... А мы с Кузнецовым "оттирали" Карташева. После оттирания
перестал трястись, утвердился, властно и радостно, серьезно под конец
поцеловал в лоб нас и ушел. Надо оттирать неустанно. Но почему я
всегда оттираю? Потому что лучше всех его знаю? Потому что больше
всех сущностью на меня похож? Да везде нечеловеческие силы надо
для бдения! А большие нужно, потому что без этого я его могу
покинуть на одного себя — это грех — ему теперь из коренного
одиночества вырасти надо, чтоб понять и вашу любовь к себе. Он ее не видит.
Я ему говорю всегда одно — сознайте себя, веря мне, что я знаю больше
вас, чем вы!» (Здесь снова необходим комментарий. Карташев
действительно страдал наследственной нервной болезнью. Случился приступ,
и Тата с Кузнецовым помогали ему выйти из этого состояния. Однако
у использованного ею глагола «оттирать» есть в данном случае и пере-
257
носный смысл: «оттирать» — на ее языке — значит перевоспитывать
Карташева, приводить его в чувство, прививать ему «религию»
«Главного».) Еще одна цитата. «15 мая <...> Вечером Кузнечик заснул от
усталости и проспал до 3-х часов ночи... А я с Карташевым долго говорила,
копала его, чтоб сам перед собой сознался. Хотела узнать, что за
специфический элемент в его влюблениях? Знаю теперь что. И это меня
удивило как-то поражающе: "нежность" бездонная. Ведь в этом же
"человечность", — где же животная специфическая страсть? Погоди я еще
раскушу. Я опять в недоумении»85.
Однажды Тата обронила фразу: «Беспощадно хочу знать»86. Всего
лишь три слова, но как они для нее характерны! Может быть, даже более
характерна интонация: резкая, упругая, волевая. Словно удар бича.
В своем эротическом эксперименте с Карташевым она действительно
шла «до дна». Вполне может сложиться впечатление, что Татьяна
Николаевна действительно была беспощадна к нему и к себе. И
целеустремленна, как никто из людей «Главного», включая и 3. Гиппиус. Чего стоит
хотя бы ее лексика, эти ее глаголы с оттенком категоричности и
волевого напора: «выспрашивала», «я... действую», «надо оттирать», «копала
его», «еще раскушу»... Неужели это говорила юная женщина да к тому
же еще достаточно способный художник, а не человек, живущий как
бы инкогнито, вынужденный скрывать подлинное свое лицо от
постороннего глаза, и вся эта конспирация необходима ему для того, чтобы
вскрыть подлинную сущность другого человека? Тата играла роль
«тайного агента» «Главного» самозабвенно, с присущими ей
изобретательностью и талантливостью. Ее действиями руководила вера в «религию»
«Главного», ее окрыляла перспектива строительства этики человека
будущего. И не когда-нибудь, а уже сегодня, и не где-нибудь, а прямо в
Петербурге, в доме Мурузи на Литейном. Т.Н. Гиппиус действительно была
уверена в том, что знает больше бывшего профессора Духовной
академии Карташева и что знания ее глубже — она ведь была «посвящена»
в «Главное» и в нем состояла, а он — нет. Как члену этой в некотором
смысле тайной «ложи» ей казалось, что, проводя с ним эксперимент, т.е.
«неустанно» его «оттирая», она работает для его же блага, что
ежедневное (ежечасное!) ее «бдение» — ее обязанность, долг, наконец, трудный,
но исполненный высокого смысла подвиг: кто, как не она, избавит его от
присущей ему духовной «скудости», заставит его прозреть, сделает из
него «нового человека». Во имя этой цели стоило потрудиться.
258
И она трудилась. Однако вскоре Тата почувствовала: в случае с
Карташевым эротическая концепция Гиппиус—Мережковского
бессильна, она просто не работает. В соответствии с теорией должен был
последовать один результат, на практике выходил другой. Как мы
помним, Тата приняла к «сведению», что ее подопытному — Карташеву
нравятся «пухлые, лицом полугниловатые (то есть начинающие
увядать — словцо из обихода сестер Гиппиус. — B.C.), невзрачные
блондинки». Она даже свозила его — чего не сделаешь для чистоты
эксперимента! — в семью знакомого священника Медведко. Вспомнилось:
его незамужняя сестра и жена — особы именно такого типа. Свозила,
чтобы самой удостовериться: на самом ли деле он так думает или нет, а
также и для того, чтобы и Карташев, по ее словам, «ощутил их и посрав-
нил, и себя осознал». Удостоверилась: действительно «нравятся». Коли
так, Тата приняла решение: необходимо «копать его» дальше.
Необходимо было выяснить: что из себя представляет «специфический
элемент» «влюблений» Карташева? По логике вещей (да и по логике
эротической концепции зятя и сестры тоже) следовало, что нравящиеся
женщины (а Карташев вроде бы сам признал: «пухлые блондинки» для
него соблазнительны) побуждают мужчин на соблазн. Однако «правду»
Карташева и та и другая логика не вмещали. Вместо «животной
страсти» («похоти», на языке 3. Гиппиус), которая от него ожидалась по
теории, Тата обнаружила в его чувстве к соблазнительной женщине
«нежность» бездонную» и, следовательно, «человечность».
Было от чего прийти в «недоумение». Выходило, что жизнь как будто
бы не желала послушно следовать эротической теории Мережковских.
Заподозрить теорию в утопичности было выше сил Таты Гиппиус.
Оставалось или заподозрить жизнь в отсутствии логики, или перепроверить
полученный в ходе эксперимента результат. Тата выбрала второе,
задумав неожиданно возникшую проблему, по собственному ее
выражению, «раскусить». Идти путем элементарного удвоения эксперимента
не имело смысла — это мало бы что дало. Необходимо было
придумать нечто сверхординарное. А если поставить Карташева в условия
особые, самой, например, сыграть пред ним роль соблазнительной и
соблазняющей женщины? Уж в этом-то случае он наверняка не
сможет скрыть от ее глаза признаков проявления у него чисто «животной
страсти», и теория, таким образом, будет подтверждена и оправданна.
Мысль показалась удачной, и Тата решила действовать.
259
Из письма Т.Н. Гиппиус З.Н. Гиппиус от 4—6 июля 1906 г.:
«...вчерашний вечер (воскресенье), в сущности, был кошмар, но с точки
зрения нашей истории (Таты с Карташевым и «Главного». — B.C.) и важен».
Далее следует объяснение его «важности». «Не верю я его (Карта-
шева. — B.C.) инстинкту аскетическому. Силен "цыпленочек"
(воплощение карамазовского сладострастия. — B.C.) и главен пока. Если есть
и силен, то нечего его и скрывать. Знать хочу, истина в нем или
самосохранение рассудочное. <...> И захотела я узнать еще поглубже сторону
его "цыпленства". Сказала Кузнечику (уже поздно было), что хочу с
Карташевым поговорить вдвоем. <...> Еще при Кузнечике, когда он
говорил — отчего не влюбиться бы ему в меня, страстно. Я так стала Кар-
ташева дразнить, чтоб еще разжечь, говорю — почему бы нет, что я, не
женщина?!! (Так будто мне до дна весело.) <...> Да так к нему прямо и
наклоняюсь. Ты думаешь, я не умею? Ты не знаешь. (И Димочка
(Философов. — B.C.) не знает: я с ним хотела турецкий танец потанцевать —
не захотел*.) Ведь подумай, каково ему-то: прямо, чуть не "впилась
жарким поцелуем". Говорю: вдвоем пойдем, миленький, со мною. Потом
говорю, что хочу знать, когда он и что во мне гниленькое видит, пусть,
вдвоем, мне одной скажет. Тут-то, думаю, и увидим».
Опустим некоторые слишком откровенные подробности разговора
Таты с Карташевым наедине, в течение которого она с дьявольским
каким-то сладострастием буквально «выбивала» из бывшего
профессора потаенно-интимные его признания относительно наиболее
обольстительных («гниленьких»), с его точки зрения, деталей ее лица и тела.
Но «этого мало всего, — писала сестра сестре. — Когда говорил, меня
обнимал и трогал руку всю с начала; я решила — до дна, только уж
реагировать сил не имела, а думала — пусть, ощущаю "нечистоту"
прикосновений, уж сколько могу — стерплю. Нарочно не уходила,
сдержалась. Потом в шею стал целовать и ниже. Я очень содрогалась вну-
* «Я Нате сказала, что если бы я была не я, то есть оставить одну слепую
мою природу, то я была бы проституткой со вдохновением, — писала за
границу Т.Н. Гиппиус 18 декабря 1906 года. — Недаром Савинова (ее сокурсница
по Высшей художественной школе. — B.C.) многое во мне ненавидит и говорила,
что в Натином лице — чистота, а во мне "вавилонская блудница" ("а в вашем
лице, простите, благородства нет" — Розанов). Впрочем, неверно: если бы можно
было быть "проститутом"... (название известно)...» (Эротизм без берегов: сб. ст.
и мат-лов. С. 432). Очень откровенная самохарактеристика!
260
три. Конечно, писать, насколько содрогалась, нечего, ты чувствуешь
сама. Димочку помнила и ради него, а через него ради всех —
испытывала Карташева и себя»87.
«Испытывала», разумеется, как себе приказала, «до дна» — о
решительности характера Таты мы уже знаем. Однако цитировать ее
откровения больше не будем. В мировой литературе немного найдется
«репортажей с места событий», подобных приведенному. В русской
литературе, во всяком случае, они появились только в XX в. Но, даже учитывая
данное обстоятельство, мало кто из художников и мемуаристов шел на
рискованное самообнажение и на эксперимент в духе Т. Гиппиус. В этом
смысле она действительно была верной ученицей и
последовательницей своей старшей сестры. Не чета «чистюле» «Димочке» Философову,
который боялся «запачкать» свою плоть интимными отношениями с
3. Гиппиус — Тата, конечно, знала о перипетиях их романа; в этой связи
и появляется в ее письме имя сестры. Ради «Димочки» и бросила она в
горнило испытаний себя и Карташева — не удалось Зине, может быть,
ей удастся внушить ему наконец новые представления об Эросе. И не
только ради него, но и ради других людей, которым как хлеб нужна
новая этика — без нее новое общество не построишь, смешно даже и
заикаться о «религиозной общественности».
Ход рассуждений Т. Гиппиус объясним и понятен. Вместо
государства, подавляющего и нивелирующего личность, принуждающего ее
служить его собственным интересам, Мережковские мечтали
построить общество, основанное на любви. Ничего оригинального в этой идее
не было, она вполне согласовывалась с христианством. Но в дело был
замешан пол. Речь шла именно о половой любви (как еще раньше у
Вл. Соловьева в «Смысле любви», например), претворенной, однако, в
«новую христианскую любовь»*. Но создать концепцию
любви-влюбленности гораздо легче, чем воплотить начертанное на бумаге в жизнь. Мы
видели, правда, что 3. Гиппиус выстраивала свою концепцию исходя из
опыта своих многочисленных «любовных историй» и в этих же
«историях» (в том числе и с Философовым) ее, так сказать, и «апробировала».
Вослед старшей сестре шла и Т. Гиппиус, хотя собственных теорий
* Следовало бы специально отметить, что эта идея
Гиппиус—Мережковского возникла не без сильного, хотя и не обозначенного ее авторами, влияния
со стороны соловьевской концепции любви.
261
она, как известно, не создавала да и полигон для их испытания и
претворения в жизненную практику у нее был много уже, чем у Зинаиды
Николаевны: она сама и Карташев. Существа дела это обстоятельство,
однако, не меняет. Проблема же заключается в следующем. Не
заплутавший в дебрях религиозной метафизики человек встанет в
недоумении перед предложенной Мережковскими формулой «новая
христианская любовь». Почему «новая»? Если программируется «новая», как
быть тогда со «старой»? Что в таком случае представляет собой
«старая христианская любовь»? Каково принципиальное отличие одной
формулы от другой? В чем оно состоит? А почему любовь ближе или,
наоборот, дальше от христианства? В каком соотношении находятся
между собой христианская концепция любви и отстаиваемая
Мережковским и Гиппиус концепция «новой христианской любви»? Следует
ли взаимное чувство между мужчиной и женщиной обязательно
называть христианским? Если следует, то в какой степени и т.д.?
Задавал ли себе кто-нибудь из Мережковских и людей их круга
эти вопросы? Наверное, задавал. Если не все, то хотя бы часть из них.
Однако мы абсолютно уверены в том, что никто из «посвященных» в
«Главное» лиц смог бы уверенно на них ответить. И дело здесь вовсе
не в эрудиции создателей данной концепции. Мережковский же и
Гиппиус, пожалуй, и вовсе отмахнулись бы от этих вопросов, назвав их,
к примеру, наивными и детскими. Сказали бы, скорее всего, как
говорили неоднократно: поскольку освящение плоти произошло при
воскресении Иисуса Христа во плоти, мы имеем полное право выдвигать
идею «новой христианской любви». Провозглашаемая нами концепция
базируется не на отвержении или демонизации плоти, как это делала
старая (историческая) церковь, а именно на ее освящении, и это
принципиально новый подход к любви. Но остается без ответа вопрос: зачем
потребовалось столь рискованное с христианской точки зрения
сближение обсуждаемой проблемы пола и Христа? Возможно ли, чтобы
эротические отношения между половыми партнерами привели бы их
к познанию Бога? И наоборот: можно ли допустить мысль, что любовь
к Богу, проявляясь в отношениях любящей пары, до неузнаваемости
изменила бы как сами эти отношения, так и личности любящих?
Изменила бы до такой степени, что эти самые отношения смогли бы
претендовать на роль фундаментальной основы принципиально нового
религиозного общества?
262
Увы, характерное для супружеской четы Мережковских
рассмотрение проблемы пола в рамках христианской религии потянуло за собой
длинную цепь логических, этических, религиозных противоречий в
концепции «новой христианской любви», которые отразились, в свою
очередь, на действиях, поступках, мыслях и чувствах, а также и на
судьбах людей, причастных к «Главному». Т.Н. Гиппиус в этом ряду
не была и не могла быть исключением.
Чего, в сущности, она хотела добиться, разыгрывая перед Карташе-
вым роль обольстительной женщины, «разжигая», по ее излюбленному
выражению, его мужское воображение? Доказать ему (да и себе тоже),
что аскетизм его — чувство рассудочное, головное, что побеждает он
в себе «зверя» только с помощью волевого усилия над собой. Из этой
посылки вытекает вывод: чтобы максимально одолеть в себе
проявление полового инстинкта и, следовательно, подойти к истинному
пониманию сущности «новой христианской любви», более того, научиться
выстраивать свое поведение в соответствии с ее законами и
требованиями, ей и ему предстоит еще нелегкая и кропотливая работа. Как
мы видели, цели своей Тата добилась: эксперимент удался.
Прогнозируемые результаты подтвердились. Поработала на славу, и не только
ради себя и Карташева, но и ради других. Казалось, можно было себя
и поздравить...
Но почему же в таком случае Тата отреагировала на свой
эксперимент совершенно иначе? Не выказала оптимизма? Более того, выпалила
в сердцах: «Опыт, Боже, какая это гадость! Какая серая скука, и даже
уничтожение возможности радости. (Потому что "Ради" — точка
отправления, не до дна истинная.) Стыд, гнусность. Насколько Карташев был
правее меня в это время»88. Еще бы! Карташев следовал своей мужской
природе, она же проявление женского естества в себе подавляла. Хотя
и «содрогалась» от мужских ласк, однако опыт свой не прекращала, не
забывала «наблюдать», «как он дальше будет» действовать. О половом
извращении, лежащем в основе проводимого ею эксперимента (а Тата
действовала не только от себя, но и от имени «Главного»), говорить не
приходится — здесь и так все ясно. Но, кажется, и в Тате проснулось
нечто вроде нравственного чувства («Опыт... гадость!»), хотя
активному «бойцу» «Главного», каким она до сих пор, в сущности,
являлась, было негоже позволять себе слабость. А вот — поди-ка! —
позволила да к тому же относительно мессианизма «Главного» высказалась:
263
самоотвержение-де — истина не полная, что-то и для себя оставлять
надо. «Опыт» не должен поглощать человека целиком, иначе он не
приносит ему радость. В неуклюжей в речевом отношении фразе Таты
сказано об этом гораздо больнее: опыт способен уничтожить не радость
даже, но ее «возможность».
Конечно, всплеск эмоций Т.Н. Гиппиус можно квалифицировать и
как естественную нервную реакцию человека на допущенное им
перенапряжение сил. В том, что дело обстояло именно таким образом, нет
никаких сомнений. Однако есть в ее истерике и нечто такое, что
позволяет думать о большем. Как мы помним, Тата утверждала, что в
аскетизм Карташева не верит. Она и на «опыт» пошла, чтобы в этом
убедиться. Но было бы вполне логично высказать предположение:
решилась на него, ибо боялась утвердиться в своем подозрении окончательно.
Даже в процессе эксперимента, когда шансов у нее становилось все
меньше и меньше, она, как подсказывает нам наше чутье, продолжала
рассчитывать на чудо. Ситуация складывалась очень интересная: она
любила Карташева. С развитием и углублением их отношений Тата
(Философов был, конечно, прав) влюблялась в него все больше. Но как
и ее сестра — Философова, любила она его «странною любовью»: то
была не любовь, которою любил ее Карташев, а — «новая
христианская любовь». К тому времени, когда начали развиваться события на
Литейном, Тата была уже взрослым человеком с вполне сложившимися
убеждениями в духе старшей сестры*, так что переубедить ее в
обратном было уже практически невозможно**. Наоборот, ей хотелось, чтобы
* Вот что она писала 3. Гиппиус 24 октября 1906 г. о себе: «Но вот знай и
ты, что о том факте, что девушка не так уж очень не знающая ничего, не
первой молодости и не "в романтической влюбленности", а имела более глубокую
и серьезную любовь, я бы сказала, знающая хоть оттенок чувственности, если
она все-таки отрицает самый акт, то нужно об этом подумать» (Из «дневников»
Т.Н. Гиппиус 1906—1908 годов // Эротизм без берегов: сб. ст. и мат-лов. С. 424).
** Это вовсе не означает, что она не знала сомнений. Т.Н. Гиппиус выросла
человеком думающим, следовательно, у нее должны были быть и были и
сомнения, и вопросы к иерархам «Главного» (прежде всего, конечно же, к сестре) по
поводу «Главного». Иногда она мечтала «о жизни "вольной"», чтобы не «думать
ни о вопросах, ни о Главном, ни о Четвергах, ни о Субботах, ни о Карташеве...»
(Из «дневников» Т.Н. Гиппиус 1906—1908 годов // Эротизм без берегов: сб. ст.
и мат-лов. С. 434). Но то были минутные проявления слабости, а не сомнения
«в корне» проблемы, как она любила говорить.
264
Карташев перешел в ее «веру», причем мечтала она об этом не только
в силу преданности «Главному» — того же требовала и ее собственная
душа. Однако «опыт» показал, что такого рода надеждам не суждено
было сбыться. Жизнь не захотела подчиняться теории. Обнаружив это,
Татьяна Гиппиус должна была бы отказаться от теории и последовать за
жизнью. Но драматизм ситуации заключался в том, что «жизнь» Кар-
ташева уже не воспринималась ею как подлинная жизнь. Жизнью она
считала теперь только то, что под этим именем провозглашало
«Главное». Активно и целеустремленно работая на «Главное», она оказалась
заложником его идей. Но она так не считала. Думала о том, что идеал
«новой христианской любви» настолько высок, настолько поднялся над
тем, что обычные люди называют «жизнью», что мечтам на личное
счастье в границах «Главного» никогда не суждено будет сбыться. И Тата,
обычно волевая, деятельная, ироничная, заплакала в ночь «опыта», в то
самое время, когда радостный Карташев покинул ее комнату.
«...Мне лично было так трудно и сомнительно, — сообщала она
сестре, — что я рыдала от одиночества и безумно хотелось одну тебя,
рыдала, что тебя со мной нет. И думала и молилась. Ослабела и впала
в безнадежность от собственной лжи. От того, что, видно, никогда не
увижу того, что хочу я, рыдала о небесных миндалях, о чаянии моем
(и твоем), как о неосуществимом»89.
Эти строки взяты нами из самого начала письма Т.Н. Гиппиус. Они
предваряют ее рассказ об «опыте». Если вникнуть в их смысл, то
обнаруживается справедливость нашего предположения: не того она хотела.
«Не то, не то, — пыталась она конкретнее и глубже объяснить причину
своих слез уже в самом конце письма. — Будто: "то", но от этого еще
хуже, потому что ощущаешь ярко, как подобно должно быть... Где здесь
наше, атмосферно-специфическое? Моя гнилость (то есть женская
привлекательность. — B.C.) привела бы его в то же упоение и в Заклинье...
В чем же он меня утверждает, мою радость ему же в Главном, и свое
отношение к Главному в связи со своим отношением ко мне? Где я была
во время его экстаза и упоения моим телом? Я ему не отвечала, и он
знал, что я не ощущаю его, — и не удовлетворялся. Все его богатство
это — и с "цыпленочком" даже, я, как и ты, не хочу, чтобы вынес вне,
раз для него это правда. И я принимаю, пусть пока я беднее, лживее,
все, что угодно. Но и во мне есть какая-то правда. Я утверждаю, что
правда его — и общая и относительная. Я в своей и в Божьей правде, он
265
в своей и в Божьей. Для меня источник любви — отношение человека
к Главному, ощущение в себе любви к Главному через человека. Тогда
источник вечный, радостный, и ничего нет здесь запретного.
Показатель истины есть внутри человека дух силы, радости, любви, полета и
всемогущества через Любовь к Богу и Бога к тебе»90.
Вот что, по Тате Гиппиус, — «то». Подразумевалось, говоря ее
языком, то самое «атмосферно-специфическое», «небесно-миндальное»
«чудо», которого — пока! — на земле «не бывает». Чудо, в «чаяньи»
которого «пела» свою «песню» 3. Гиппиус и — позволим себе шутливый
тон — тянула лямку своих многочисленных «любовных историй», всякий
раз больно разбивая себе лоб о «прозу» жизни. А Тату по-человечески
жаль. Она была гораздо искреннее и нравственно чище своей старшей
сестры. И душа у нее была не «тяжелая» и холодная, а горячая. И
эротической концепции Мережковского—Гиппиус она отдалась не только
разумом, но и всем сердцем. Но вот беда: ее максималистский порыв
к высокой любви отравил своим ядовитым дыханием Молох
«Главного» и встал неодолимым препятствием на ее пути к Карташеву.
Рассудком она это осознавала, а в моменты глубокого напряжения чувств,
как этот, только что пережитый — особенно остро. Потому и писала:
«9-е. Приписка. Трезвее.
Если найдешь возможным, для Карташева (потому что они его мало
любят, Димочка, главное), прочти им все это. Я теперь не хочу ничего
своего прятать. Ничто меня не поколеблет, если не ощущаю лжи.
Осуждений не боюсь, потому что все-таки что-то делаю, думаю о Дмитрии
и Димочке — и пытаю, пока не чувствую лжи. А ложь не повторю.
Гнусно. Здесь конечно гнусность была во мне, но нужно было и это
сделать, опыт, не прав ли Димочка, укоряя меня в самообмане. <...> Судите,
рядите, если не надоело еще все это "ковырянье" Дмитрию и Димочке!
Все для вас готова сделать, ради Главного, укажите мне только правду
и для меня лично. <...> Хочет ли, велит ли Димочка мне опыт мой
довести до конца! Зачем я так завишу от него и от Дмитрия в своей силе и
слабости!! Что за безумная, тяжелая связь?!!»91.
Относительно своей безумно-тяжелой связи именно с
Мережковским и Философовым Тата явно преувеличивала. По отношению к
Дмитрию Сергеевичу подобное раздражение хотя в какой-то степени, но
все же объяснимо: как-никак он был одним из основных создателей
концепции «Главного» да и эротической теории тоже. А вот упрек по
266
адресу «Димочки» — это уж напрасно. Он сам страдал от «опытов»,
проделываемых с ним 3. Гиппиус, где ж ему было побуждать и Тату к
тому же. И Карташева он не любил не столько оттого, что считал его
человеком не своего круга, а, скорее всего, потому, что различал в нем
черты своеобразного своего «двойника» — по части воздействия на
себя и на него одинаково жестких «технологий» «Главного». Со
стороны родных сестер — Зинаиды и Татьяны Гиппиус кстати. Родных
не столько по крови, сколько по духу. И это последнее — по духу —
Философова в его отношении к Тате и настораживало. Он осуждал в
ней «двойника» Зинаиды Николаевны. И, как мы видели,
небезосновательно. Тата это осуждение на себе, конечно, ощущала, а потому
и дулась на Философова, считая его человеком слишком чистеньким
для «Главного», по-интеллигентски боящимся замарать руки о
черновую работу. «Димочка» служил в качестве громоотвода для
молний ее гнева. В него она разряжалась. И совершено напрасно. Он и в
«самообмане» ее «укорял» вовсе не случайно, надеясь предупредить в
ней фанатизм неистового исполнителя предначертаний «Главного»...
Так что если Тата и в самом деле от кого-то «зависела», то, в первую
очередь, конечно, от своей сестры как авторитетного идеолога
«Главного». 3. Гиппиус действительно была злым гением ее судьбы, но Тата
отчего-то этого не осознавала. Может быть, потому, что «связь» между
ними и в самом деле была «кровной». А может быть, и потому, что
знали они друг о друге и о себе такое, о чем мы не догадываемся и чего
никогда не узнаем.
Что же касается своей почти тотальной зависимости от живущих за
границей «иерархов» «Главного», если даже не называть их поименно,
тут Тата была абсолютно права. Как, впрочем, и в отношении
обязательного для них по «уставу» «Главного» регулярного анализа фактов из
жизни Петербургской коммуны, сообщаемых Т.Н. Гиппиус в ее отчетах-
дневниках. Иначе как «ковыряньем» в личной жизни молодых людей
это занятие и не назовешь. Но опять же Тата перекладывает здесь вину
с больной головы на здоровую, ибо «отцеживание умственных
комаров» и «копание в собственных душевных кишках» (и чужих тоже!)
было любимым занятием вовсе не Философова, а З.Н. Гиппиус. Как и
Татьяны Николаевны, кстати. Разве не тем же самым занималась она
в своих донесениях за границу? Да, ей стало стыдно «от собственной
лжи», на некоторое время она даже впала, по ее выражению, в «безна-
267
дежность», однако в том, что «опыт» все-таки «нужно было... сделать»,
по-прежнему не сомневалась. Отчаяние и слезы ее были вызваны тем,
что, распиная себя на кресте «Главного» ради всех, она все еще не
могла найти счастья лично для себя. В том, что это счастье возможно
только в рамках «Главного», Тата была абсолютно уверена. Подозрения
в «самообмане» она от себя решительно отметала, а потому, пытаясь
обнаружить причину своей неудачи, занялась самоанализом,
самоковыряньем, на ее языке. И тут важно отметить, что, даже признавая за
Карташевым его «правду», Татьяна Николаевна, все же считала ее
относительной. Абсолютная правда, по ее разумению, могла быть
достигнута только в «Главном» и только через «Главное». Вот почему у нее
не возникало и тени сомнения в том, что, экспериментируя с
Карташевым, она служит и ему, добивается и его счастья.
«К Карташеву у меня так, — исповедовалась она перед сестрой, —
он к Главному со мной — тогда и я с ним к Главному. Он ко мне с
Главным — я от него с Главным. Что за заколдованный круг?
Столкновения еще предстоят. Но разврата подобного больше не будет. Я
утверждаю чувственную любовь, только взаимную, равновесную и вместе к
Главному»92.
Прыжок в счастье Т.Н. Гиппиус рассчитывала совершить вместе с
Карташевым и ... «Главным». Она никак не могла взять в толк, что
личного счастья можно достичь, только прорвав «заколдованный круг»
«Главного». Не — не понимала — уже не могла понять. И в этом
заключалась ее большая человеческая драма.
5. «Новый Афон»
«12 июня, 1906
Понедельник, Дача "Ленса"
Здравствуйте, дорогая и милая Зинаида Николаевна.
Долго не отвечал (да и хотел совсем не отвечать) на Ваше письмо,
пришибленный какой-то твердой логичностью, с которой наивно бороться,
ибо она явно опирается на иной, непонятный для меня опыт. <...>
Теперь хочу ответить Вам, не споря наивно, как прежде, а просто
констатируя факты. Очевидно, я в своем искании любви стою не на Вашей
268
(и не на Татиной), а на другой, общечеловеческой, ступени, на которой
"личная" любовь 1) может быть, даже "звучит" и как "моя одиночная
любовь", 2) может не получить взаимности и 3) может сопровождаться
страхами и страданиями. <...>
При таком несходстве с Вами неудивительно, что я и для Вас стал
не "он", и для Таты Вы меня зачеркиваете. Какая же тут радость и
уверенность, если таковы факты?!
Если предыдущие Ваши рассуждения я отчасти и как бы понимаю,
то вот этого упрека не понимаю. Вы пишете:
"Вы, а не мы, не я, — аскет (?), трус, человек, не любящий
реальности (?), плотоненавистник, не убивающий — а искажающий плоть".
Может быть, нужно иметь вашу любовь, чтобы не чувствовать
аскетизма и «^реальность в ее проявлениях. А когда не имеешь, тогда —
поверьте моей искренности — она ощущается и со своих аскетических
и нереальных сторон очень остро.
Мои отношения к Тате Вы считаете "блажью", спрашиваете, какие
основания считать их "личными"? Как видите, я уже отрекся от
компетентности в суждениях о "личной" любви. Могу сказать только от
моего субъективного, полуосвещенного сознанием убеждения:
Ее душа гостеприимна для моей и отрадна. Она мне помогает и меня
укрепляет. Радость, от нее идущая, — для меня легка и светла и все
обещает. Не говорю о многом другом субъективном...
Вот и все об этом.
Затем о вас. Вы, говорят, не совсем здоровы. Не смейте себя
изводить, как это Вы делаете в Петербурге. <...> Вы не понимаете, как дороги
физические силы, как важна человеку плоть. <...> Без Вас мы как без
головы. <...>
Теперь о себе.
Мне, конечно, теперь хорошо необычайно жить в мире с своим
сознанием и совестью, да еще "с своими", да еще на "Ленсе", среди ромашеч-
ного поля и благоуханного дождя! (Сейчас идет.) Но какие ужасные
страдания естественные, кровные, причиняет это мое "благополучие"
моим домашним — и представить себе трудно!
Вся семья моя буквально плачет и болеет с того дня, как я
разделился с сестрой и переехал к вам. Отец слег — у него оказалась
сахарная болезнь, грозящая роковым исходом...
[Следующая страница утеряна]».
269
«14 июля, 1906, СПб.
Милая Зинаида Николаевна.
<...> Праздновали <д. рожд. Карт.> с грустью и серьезностью: пили за
депутатов, за русскую революцию, за погибель истинно-русских начал.
На другой день мы с Татой проговорили весь день до поздней ночи. <...>
Пишу Вам сейчас с величайшей охотой, хотя на душе много грустей:
1) грусть от возврата самодержавия, 2) грусть от страха материальной
нужды, 3) грусть от "личных" запросов, тесно связанных в моей душе
и жизни со вселенской правдой. <...>
<...> Может быть, правы Вы и Тата (она еще для меня жесточе в
измерении ваших понятий о Любви), но тогда мне нужно на почве любви
разорвать с вами, потому что моя живая плоть и кровь не вмещают
вашей правды. Я хочу любви исключительно-единоличной без имен и
без пыток ревности духовной и особенно плотской.
Ваша терминология мне приемлема. <...> Но это не то, что вся душа
и все тело. (Любовь бестелесную ненавижу, считаю неполной и потому
лживой, т.е. полуэгоистичной, т.е. полудьявольской). <...> Это
влюбленность, а не любовь, которая едина, как едина и неделима
человеческая личность.
Я уже писал Вам и еще раз повторяю, что Ваш "уголок" во мне мною
ощущается как "большая близость" к любви, чем такой же уголок Таты.
Она положительно не понимает любви единоличной, не приближается
к ней. <...> Я ставлю серьезно вопрос: могу ли я близко и лично
действовать с вами при таком нашем органическом расхождении? Ведь я
прокляну вас за мучение... Я разумею беспредельное многолюбие без
исключительной и подлинной (а не лживо-имитированной) любви к
одному, т.е. любви брачной. Всякая другая любовь, разлитая на
многих, будет уже не-брачная, пусть она логичная, в полосе
влюбленности даже качественно-тождественная (хотя едва ли количественно?),
но в полосе специфически-брачной... особенная, особая, еще не
созданная, новая ("заповедь новую даю вам") и могущая без смешения с
брачной возникнуть и держаться, не переводя границ, только в
религиозном окружении. (Без религиозного регулятива будет прелюбодеяние.)
О ней, этой последней, я немало слышал от Вас, только о ней слышу
и от Таты, но вижу, что она представляется неверно, неточно. Ее
создают, обкрадывая любовь брачную, подменяя последнюю, ескалатируя,
270
обходя и замалчивая. Тата прямо ее отвергает. Я чувствую, что имею
дело с людьми, горящими ересью безбрачия. Я этого нового Афона не
приму. Сюда на эту пытку люди не пойдут. Людям нужна любовь, т.е.
брак. Апостол Павел как ни аскетичен (1 Кор. 7 гл.), но все-таки
договаривается до таинства брака (Еф.) и говорит о нем глубоко и
поразительно проникновенно... <...> Ибо только в
единолично-исключительной, т.е. по-моему брачной, любви и может человек преодолеть вполне
и до капельки свою роковую индивидуальную разделенность от всего
мира. В этом таинстве человек получает силу (строго говоря,
чудесную) выйти из-под бремени своего глубочайшего эгоизма... <...> Это
погружение во многих, многоподобие может быть и очень глубоким,
смотря по свойствам индивидуальности. Но на основании этого
смазывать любовь брачную и отнимать у других людей есть или слепота,
или лукавство. Тата, например, не имея призвания ко браку, лукаво
перескакивает от тайны одного прямо к тайне трех. Пусть будет так,
но нужно же быть при этом объективнее, надо посмотреть на себя
извне, не самообольщаться и не принимать своей ограниченности за
вселенскую полноту, не набрасывать этой ново-аскетической петли на
живую и многообразную плоть человечества. Не надо нового Афона! <...>
Я хочу большего»93.
Письма принадлежат A.B. Карташеву. В комментариях они не
нуждаются.
Глава II
«"ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ" ВСТРЕЧА»:
БИОГРАФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ
В «СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ»
АЛЕКСАНДРА БЛОКА
/. «Сложный случай отношений»
«В знаменье видел я вещий сон. Что-то порвалось во времени, и
ясно явилась мне она, иначе ко мне обращенная, — и раскрылось
тайное. Я видел, как семья отходила, а я, проходя, внезапно остановился
в дверях перед ней. Она была одна и встала навстречу и вдруг
протянула руки и сказала странное слово туманно о том, что я с любовью к
ней. Я же, держа в руках стихи Соловьева, подавал ей, и вдруг это уж
не стихи, а мелкая немецкая книга — и я ошибся. А она все
протягивала руки, и занялось сердце. И в эту секунду, на грани ясновиденья,
я, конечно, проснулся. И явно должно было быть так, ибо иначе
неземное познал бы и уже как бы наяву — самый сон обратился бы в
состояние пророчественное» (ЗК, 21).
Эта запись, сделанная А. Блоком 26 сентября 1901 г., как нельзя
лучше передает настроение только что пережитого им и его
возлюбленной «мистического лета», а также времени, примыкающего к данной
поре.
И раньше, в пору «Ante Lucem», поэт мечтал «о бессмертьи в сне
далеком» (I, 44), пытаясь «разбить заколдованный круг, / Перейти за
черту оглушающей тьмы» (I, 58), но «богиня жизни», казалось, была
вне пределов досягаемости.
Неуловимая, она не между нами
И вне земли.
А мы, зовущие победными словами, —
В пыли (I, 59).
272
Еще не раз в ранней лирике Блока повторится этот мотив, но пока,
по мере приближения к 1901 г., надежда поэта крепнет:
Придвигается мир
Моего обновленья (I, 70).
И вот уже, несмотря на «злые времени законы» (I, 86), «в иные дали /
Проникает взгляд» (I, 83) поэта. Будто и впрямь он «перешел
граничную черту» (I, 88), за которой спасение и вечное блаженство, как это
описано в следующем стихотворении 4 мая 1901 г., основными своими
мотивами напоминающем содержание приведенного выше «вещего сна»
Блока:
Все отлетают сны земные,
Все ближе чуждые страны.
Страны холодные, немые,
И без любви, и без весны.
Там — далеко, открыв зеницы,
Виденья близких и родных
Проходят в новые темницы
И равнодушно смотрят в них.
Там — матерь сына не узнает,
Потухнут страстные сердца...
Там безнадежно угасает
Мое скитанье — без конца...
И вдруг, в преддверьи заточенья,
Послышу дальние шаги...
Ты — одиноко — в отдаленьи,
Сомкнешь последние круги... (I, 87).
Образ «смыкания кругов» — некий символ мистического
свершения — позаимствован Блоком из лирики Вл. Соловьева, ставшего для
него после того, как мать подарила ему на Пасху 1901 г. книгу
стихотворений философа, «властителем дум». Мистические предчувствия
юного поэта обрели внезапную твердую опору. Цитаты из Вл. Соловьева о
«неподвижном солнце любви», побеждающем «смерть и время»,
становятся обычным явлением в письмах и записях А. Блока той поры, а
ожидание близкого конца как романа с Л.Д. Менделеевой, так и конца
273
мира, что, впрочем, совпадало в его сознании, определяет «очень
радостное и очень напряженное» (VIII, 20) настроение поэта в
«мистическое лето».
Мысль о том, что художественная концепция первой книги Блока
складывалась под сильным влиянием Вл. Соловьева, стала общим местом
в блоковедении. Между тем первый биограф поэта М.А. Бекетова
считала, что характер и размеры подобного воздействия несколько
преувеличены. Скорее всего, полагала она, философ «только помог» Блоку
«осознать мистическую суть, которой были проникнуты его
переживания. И это было не внушение, а скорее радостная встреча близких
по духу» людей1.
При известном преувеличении, содержащемся в приведенном
суждении, оно заключает в себе рациональное зерно. Действительно, семена
философии Вл. Соловьева упали на подготовленную почву. Дело в том,
что «мистика» и «покорность богу», по позднейшему признанию самого
Блока, начали проявляться у него еще в 1900 г. под воздействием
прочитанных философских книг, в первую очередь Платона. Именно
«великолепные миры» (III, 470) идей древнегреческого философа оказались
тем основанием, на котором произросло его увлечение поэзией Вл.
Соловьева. Мысль «о плененной Мировой Душе.., которую лелеял последний»,
писал А. Блок в 1918 г., намереваясь в годовщину свадьбы с Л.Д.
Менделеевой восстановить по памяти развитие событий своей жизни с весны
1897 г. до венчания, была еще неизвестна будущему автору «Стихов о
Прекрасной Даме», но он «чуял Платона». «При этом, — продолжал
поэт, — сам я был лишь изумлен... отражением небесных тел в земных
морях, очевидно, как древний философ-художник (язычник). — Далее, я
молюсь (опять богу: Более без лица, как всегда) извлечь меня,
истомленного раба, из жалкой битвы (очевидно, житейской, чтобы не уставать от
феноменального и легче созерцать ноуменальное)» (VII, 347). Запомним
эти слова: они крайне важны для характеристики миросозерцания юного
Блока, а пока укажем, что их источник в философии Платона.
В основе философской концепции Платона лежит идея двоемирия,
учение о мире вечных сущностей и противоположном ему мире
материальных, чувственных явлений. Однако было бы серьезной ошибкой
абсолютизировать дуализм его мировоззрения. Суть в том, что зрелый
Платон, в первую очередь Платон — автор «Пира» и «Федра»,
стремится к преодолению отрешенного идеализма своего раннего философ-
274
ствования и к построению связующего моста между двумя полюсами
бытия, почти разделенными у него прежде. Причем делает он это в ярко-
художественной, подчас мифологизированной форме, что само по себе
не могло не привлекать юного Блока к его «сократическим диалогам».
Всякая душа, учил Платон, «непорождаема и бессмертна», и, как
таковая, она приобщена к божественному миру, которому открыты тайны
«занебесной области», сферы Первоединого2. Однако не всякая душа
абсолютно соответствует своей идее (это прерогатива богов), а потому
не способные к осуществлению своего идеального предназначения души
ниспадают с неба на землю, воплощаясь в тела смертных людей.
И все же память о прекрасном и истинном сохраняется в душе
человека. Увидев красивое земное лицо и под воздействием этого импульса
припоминая подлинную красоту, он приходит в состояние
исступления, именуемого любовью. Таким образом, в подоплеке любовного
чувства лежит тоска человека по небесному совершенству, желание
преодолеть косное сопротивление материи.
Иными словами, «любовь — это стремление... к бессмертию», и
потому она не просто некое тяготение к прекрасному, а, как уточняет
Платон, «стремление родить и произвести на свет в прекрасном»3. Но,
поскольку природа человека двойственна, порождение в красоте может
быть как телесным, так и духовным. Одно дело, скажем, забота о
потомстве, когда жажда бессмертия заставляет любящих рождать себе
подобных людей (иллюзорное бессмертие), другое — нацеленность на
«прекрасное само по себе... не обремененное человеческой плотью, красками
и всяким другим бренным вздором...»4. Созерцание «не знающей ни
рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения»5 красоты, этой
божественной «неподвижности», и составляет, по учению Платона,
истинный смысл человеческого существования.
Вот что вычитал у Платона А. Блок, и не без сильного воздействия
этих идей героиня его поэзии «продолжала медленно принимать
неземные черты». При этом, признавался он в 1918 г., «началось то, что
"влюбленность" стала меньше призвания более высокого, но объектом того
и другого было одно и то же лицо» (VII, 343, 344). О «более высоком»
«призвании» мы еще скажем в свой черед, «объектом» же «того и
другого» являлась, безусловно, Люба Менделеева. Поэтому, когда он
приступил к чтению стихов Вл. Соловьева, ему послышалось в них нечто
родное, уже глубоко усвоенное и прочувствованное.
275
Юный поэт не ошибся: действительно философия Вл. Соловьева
развивалась в русле того объективного идеализма, родоначальником
которого в Европе был Платон. Отдельные же стихи русского философа и
вовсе могли ему показаться поэтической иллюстрацией философских
раздумий великого грека. К примеру, следующее:
Бескрылый дух, землею полоненный,
Себя забывший и забытый бог...
Один лишь сон — и снова, окрыленный,
Ты мчишься ввысь от суетных тревог.
Неясный луч знакомого блистанья,
Чуть слышный отзвук песни неземной, —
И прежний мир в немеркнущем сиянье
Встает опять пред чуткою душой.
Один лишь сон — ив тяжком пробужденье
Ты будешь ждать с томительной тоской
Вновь отблеска нездешнего виденья,
Вновь отзвука гармонии святой6.
Противопоставление «земных оков» «красоте неземной», к которой
устремлен человеческий дух, пытающийся побороть в себе «стихию
темную»7, — обычный мотив лирических медитаций Вл. Соловьева;
силой же, способной привести человека к утраченной небесной гармонии,
является у него, как и у Платона, любовь. Это обстоятельство сделало
влюбленного Блока не только поклонником его поэзии, но и побуждало
в поисках ответа на мучающие юную душу вопросы обратиться к
собственно философским сочинениям Вл. Соловьева.
Мы уже имели возможность коснуться вопроса о его личности и
философских идеях, в том числе затрагивающих и сферу любви, так
что читатель может получить отчетливое представление о том, что
именно взял на вооружение начинающий поэт из философской концепции
Вл. Соловьева. Вопрос этот был для него настолько важным, что по
ходу повествования нам не раз еще предстоит его коснуться. Пока же
заметим, что разговор, который мы повели с начала главы, сильно
опередил естественный ход событий, и нам, пожалуй, придется вернуться
к истокам романа Блока.
276
Люба Менделеева, как и ее будущий муж, тоже родилась в стенах
Петербургского университета, жила со своими родителями подобно
Блоку на казенной квартире, и потому в детские годы пути их
пересекались. «Когда Саше Блоку было три года, а Любе Менделеевой два, они
встречались на прогулках с нянями. Одна няня вела за ручку крупную,
розовую девочку в шубке и капоре из золотистого плюша, другая вела
рослого розового мальчика в темно-синей шубке и таком же капоре.
В то время они встречались и расходились незнакомые друг другу»8.
В ту пору и представить было трудно, что через двадцать лет жизнь
переплетет их судьбы в такой тугой узел, который ни развязать, ни
разрубить станет невозможно. Правда, влюбленный Блок усмотрел в этих
случайных встречах знак мистического предопределения. «Говорили
когда-то, — признавался он своей возлюбленной 18 ноября 1902 г., —
что, когда мы были детьми, мы гуляли и встречались. Ни одно
совпадение не бывает случайностью»9. Бывали и другие встречи. По крайней
мере, еще одна — Блоку стукнуло тогда уже четырнадцать. Решив
проведать своего старого друга Д.И. Менделеева, дедушка захватил с собой
в Боблово и внука. Юные Менделеевы развлекали бекетовского Сашу
изо всех сил, однако это событие не оставило в памяти Блока и следа.
Весной 1898 г. будущий поэт случайно встретился на одной из
передвижных выставок с матерью Любы — Анной Ивановной
Менделеевой, и она пригласила его запросто бывать у них на Забалканском
проспекте, а летом непременно приезжать в Боблово. На сей раз мистический
разум Блока почему-то промолчал; он сам признавался впоследствии,
как домашние почти насильно «спровадили» его в Боблово. Знать бы
ему тогда, сколь кардинально изменит всю его жизнь эта вынужденная
поездка в соседнее имение! Вот уж впрямь: провидение действовало в
данном случае с неукоснительной и неисповедимой силой.
К сожалению, мы уже никогда не узнаем о чувствах и
переживаниях Блока в то бобловское лето: дневники 1898—1900 гг. были им
сожжены. Упомянутые же воспоминания 1918 г. схематичны и неточны.
Однако придется довольствоваться малым. Вот что он там писал:
«Я приехал (в Боблово. — B.C.) на белой моей лошади и в белом кителе
со стэком. Меня занимали разговором в березовой роще mademoiselle
и Любовь Дмитриевна, которая сразу произвела на меня сильное
впечатление. Это было, кажется, в начале июня.
277
Я был франт, говорил изрядные пошлости. Приехали "Менделеевы".
В Боблово жил Н.Э. Сум, вихрастый студент (к которому я ревновал).
К осени жила Марья Ивановна. Часто бывали Смирновы и жители Стре-
лицы.
Мы разыграли в сарае 'Торящие письма" (Гнедича?), "Букет" (Пота-
пенки), сцены из "Горя от ума" и "Гамлета". Происходила декламация.
Я сильно ломался, но был уже страшно влюблен» (VII, 339—340).
Вот и все. Только факты, и никакой психологии, исключая разве что
фразу: «...страшно влюблен». Иного, впрочем, от Блока 1918 г. и ждать
было трудно: прошла целая жизнь, многое в ней под воздействием
пережитого подверглось суровой переоценке, «переживания» юности
предстали в его памяти уже в ином ключе, часто ироническом.
Другое дело Любовь Дмитриевна. «Дневники Любы, где все наше,
пропали в Шахматове» (ЗК, 424), — записал поэт, приступая к своим
«зарубкам памяти». Однако она постаралась воскресить былое в своих
неоконченных воспоминаниях «И были и небылицы о Блоке и о себе».
Правда, это тоже книга много пожившего и перестрадавшего человека.
Живые и непосредственные впечатления пропущены здесь через
цензуру души. Роль добросовестного мемуариста не для нее. Л.Д. Блок,
пользуясь языком М. Пруста, озабочена не только «поисками
утраченного времени», но еще и полемикой с ушедшим из жизни мужем, а также
со своими современниками, наслышанными о ее небезупречной
репутации, и даже с читателем, заведомо испытывающим от ее предельно
откровенных признаний некий нравственный шок. Она хочет остаться
в истории суверенным и самодостаточным человеком, а не только
дочерью Менделеева и женой Блока. И потому пишет книгу «о Блоке и о
себе». Чтобы не возвращаться к этому вопросу в дальнейшем,
выскажем твердое убеждение: закончить свою книгу Любови Дмитриевне
помешала не внезапная смерть. Эта работа не могла быть завершена
по соображениям принципиального порядка: начиная с 1907—1908 гг.
за исключением разве что коротких временных промежутков ее автор
все больше и больше отдалялся от Блока, и вспоминать в этом случае
пришлось бы преимущественно о себе, а не о нем.
Но что бы там ни было, в наших руках все же ценный документ, и
первая встреча (лучше сказать — встречи) будущей Прекрасной Дамы
с будущим ее творцом вырисована в нем полно и психологически
тщательно.
278
Александр Блок показал нам только фасад ситуации: приехал,
«занимали разговорами», сразу был очарован шестнадцатилетней Любой
Менделеевой. Разумеется, он не догадывался, что творилось за
фасадом. Вряд ли даже понимал, какое волнение может испытывать юная
девушка, когда начинает подозревать: это не простой визит
вежливости, хотя бы таковым он казался или даже был на самом деле, а что-то
совсем особенное, из ряда вон выходящее. Тем более такое существо,
как Люба: сосредоточенное на своих переживаниях, девица предельно
замкнутая, этакая «вещь в себе». Виной тому была не только
наследственность, ее натура сложилась не без воздействия семейного
воспитания: Дмитрий Иванович Менделеев был не только глубоким
ученым, но и жестким человеком и отцом, детей своих держал, как
говорится, в ежовых рукавицах.
Однако перейдем к картинке, нарисованной стареющей женщиной,
пытающейся перевоплотиться (не без таланта!) в юную петербургскую
гимназистку и обитательницу менделеевского Боблова. Вот что она
пишет: «После обеда, который в деревне кончался у нас около двух
часов, поднялась я в свою комнатку во втором этаже и только что
собралась сесть за письмо — слышу: рысь верховой лошади, кто-то
остановился у ворот, открыл калитку, вводит лошадь и спрашивает у кухни,
дома ли Анна Ивановна?» Кто приехал, не видно, обзору мешает
пологая крыша террасы нижнего этажа (бобловский дом был защищен
террасами), однако шестое чувство девушки сработало. «Уже зная,
подсознательно, что это "Саша Бекетов"<...> я подхожу к окну. Меж листьев
сирени мелькает белый конь, которого уводят на конюшню, да
невидимо внизу звенят по каменному полу террасы быстрые, твердые,
решительные шаги. Сердце бьется тяжело и глухо. Предчувствие? Или что?
Но эти удары сердца я слышу и сейчас, и слышу звонкий шаг
входившего в мою жизнь»10.
Конечно, это зарисовка в духе post scriptum'a — отсюда заданность
и даже жесткость в провешивании линии психологического рисунка.
Юная Люба Менделеева не могла знать того, что уже стало биографией
Любови Дмитриевны. Разумеется, картина ушедшего в прошлое
июньского полдня, о котором зашла у нее речь, выглядела бы куда
достовернее, если бы в пожаре революции не сгорели дневники Л.Д. Блок.
Однако она была, безусловно, права, вводя в текст своих
воспоминаний выражение «подсознательно». Женское сердце говорит даже тогда,
279
когда разум еще молчит. Так было и в этом случае, потому, надо
полагать, мемуарист не погрешил против истины, высветив в своих
юношеских ощущениях главное.
В тот день Блок Любе по душе не пришелся. «Вижу, что он одет
в городской темный костюм, на голове — мягкая шляпа. <...>
Штатский? — Это что-то не мое, это из другой жизни, или он уже "старый".
Да и лицо мне не нравится, когда мы поздоровались. Холодом овеяны
светлые глаза с бледными ресницами, не оттененные слабо
намеченными бровями. <...> Тщательно выбритое лицо придавало человеку в
то время "актерский" вид — интересно, но не наше». «Наше» — это
«менделеевское», а может быть, «поповское» (А.И. Менделеева в
девичестве — Попова) — как раз то, что по прошествии нескольких лет Блок
не терпел в Любе и ее матери: узкое, женское, эгоистическое. Пока же
это не проявилось — Люба только присматривалась к Блоку. И
получалось: первое ее негативное впечатление о нем подтверждалось. «...Как
с кем-то далеким» (Любовь Дмитриевна сознательно акцентирует
внимание читателя на этой фразе) она повела в то послеобеденное время
разговор с Блоком о театральной жизни. Может быть, до нее доходили
слухи, что соседский юноша мечтал о театральной карьере, может,
просто необходимо было завести беседу... О чем же, как не о театре, могла
говорить светская барышня да еще и хозяйка дома (несомненно она
воображала себя ею) с незнакомым молодым человеком? Но попала она как
раз в точку. «Блок и держал себя в то время очень "под актера", говорил
не скоро и отчетливо, аффектированно курил, смотрел на нас как-то
свысока, откидывая голову, опуская веки»11, — вспоминала Любовь
Дмитриевна о первых встречах с ним.
О неискренности будущего поэта тут не могло быть и речи. Просто
необходимо учитывать своеобразие ситуации, в которой он оказался.
Почти уже восемнадцатилетний юноша попадает в общество
молоденьких обаятельных девушек, одна из них к тому же производит на него
сильное впечатление. Кому же не захочется им понравиться, поразить
воображение юных барышень? Не стоит забывать, что он старше их,
а следовательно, и опытней в амурных делах — один только роман с
Ксенией Михайловной Садовской, женой действительного статского
советника и матерью троих детей, ровесницей Александры Андреевны,
тянущийся еще с лета 1897 г. и пока еще не прекращенный, чего стоит!
Вон и Сережа Соловьев глядит на него во все глаза, завидует ему и
280
даже называет Дон Жуаном! В общем, «ломался» Блок и впрямь от
души.
Ошибался ли поэт, признаваясь, что Любовь Дмитриевна произвела
на него неизгладимое впечатление уже в первый день их встречи, мы
никогда не узнаем. Только у нее на этот счет было другое мнение. Ей-то
показалось, что в первые два-три приезда в Боблово Саша Блок
обращал внимание вовсе не на нее, а на кузину Лиду Менделееву и ее
подругу Юлю Кузьмину. Были они задорные и прехорошенькие девушки,
любили пофлиртовать и пококетничать с мальчиками и старались
поддержать тон полуфривольных речей Блока. В противоположность
удачливым подругам Любовь Дмитриевна, по ее свидетельству, была в ту
пору очень «неумелой в болтовне» да к тому же испытывала
«отчаяние от своей наружности». «С ревности и началось»12, — призналась
мемуаристка.
Это признание в духе Л.Д. Блок. Она никогда не отдавалась на волю
случая. Даже тогда, когда плыла по течению, ей казалось, что ее судьба
не в чьих-то, а именно в ее руках. Любовь Дмитриевна не любила, чтобы
ею управляли, она хотела управлять сама. В течение своей короткой
жизни она не раз попадала в критические ситуации, и если у нее
иногда опускались руки, то ненадолго. Женская слезливость отнюдь не
была в ее стиле; как правило, она сжимала свою волю в кулак и
справлялась с испытанием судьбы. Ей была присуща воля к жизни, а не воля
к смерти. В противоположность своему великому мужу она была
человеком не трагического, а оптимистического миросозерцания. И в этом
ее сила и ее слабость.
Вот и в данном случае Любовь Дмитриевна решила взять ситуацию
под контроль (тогда ей еще не было известно, что Саша Блок ездит в
Боблово не ради Лиды или Юли, а ради нее самой), переломить ее в
свою пользу.
Послушаем ее исповедь.
«Что было мне нужно? Почему мне захотелось внимания человека,
который мне вовсе не нравился и был мне далек, которого я в то время
считала пустым фатом, стоящим по развитию ниже нас, умных и
начитанных девушек? Чувственность моя еще совсем не проснулась;
поцелуи, объятия — это было где-то далеко-далеко и нереально. Что меня
не столько тянуло, сколько толкало к Блоку. "Но то звезды веленье", —
сказала бы Леонора у Кальдерона»13.
281
Прервем цитату. Леонора сказала бы. Сказал бы и Блок. Впрочем,
к чему тут сослагательное наклонение? Он и сказал: «Совпаденья не
бывают случайностью». Скажет еще, и не раз. Любовь Дмитриевна такого
не сказала бы, хотя в своих воспоминаниях признала, что мудрость
Кальдерона «могла бы выдержать самую свирепую критику»: ведь «в
плане "звезды"» у них с Блоком, с ее точки зрения, «все пойдет потом
как по маслу: такие совпадения, такие удачи в безнаказанности самых
смелых встреч среди белого дня — что и не выдумаешь!»14. Конечно,
Л.Д. Блок иронизирует, и не расслышать ее иронию было бы глупо.
Однако А. Блок в данном случае иронию себе не позволил бы: все
таинственное было для него свято. «Звезда» Любови Дмитриевны —
какая-то другая звезда, не кальдероновской Леоноры и тем более не
Блока, она, скорее, из области авантюрно-приключенческого сюжета.
Тайна здесь снята — господствует рассудок.
Если кто-то заподозрит нас в попытке бросить тень на
психологический облик Любови Дмитриевны, он ошибется. Единственное, что
руководит нашим пером, — желание правды. Мемуарист не может быть
беспристрастным ни к своим героям, ни к себе самому — это его право.
Однако и историк не может уподобляться Фемиде с тугой повязкой на
глазах. Он должен видеть там, где другие не увидели, не промолчать
о том, о чем промолчали предшественники. Есть жесткая, но верная
формула: о человеке нельзя сказать правду, стоя перед ним на коленях.
Л.Д. Блок оценила бы этот императив по достоинству. Она не скрыла
правды о своих отношениях с поэтом, не уничтожила подобно
большинству жен и любовниц великих людей ни одного документа из архива
мужа, даже если они наносили ущерб ее нравственной репутации.
Возвратимся, однако, к прерванной исповеди Л.Д. Блок, предварив
ее всего лишь одним, но важным замечанием, позволяющим, на наш
взгляд, постичь глубинную суть ее натуры. Она реалист не в
узко-специальном, а в самом широком смысле данного понятия. Это не
означает, что она не терпела никакой романтики. Нельзя сказать также, что
в жизни Любовь Дмитриевна руководствовалась только трезвым
расчетом — вопиющей неправдой было бы такое суждение. И все-таки
чаще всего она прислушивалась к велению головы, а не сердца.
Притом это была очень женская голова. Любовь Дмитриевна обо всем и обо
всех судила с позиции женщины и только женщины, иной угол зрения
исключался всем строем ее души. Подобная психологическая односто-
282
ронность ее личности могла стать (и стала) причиной (одной из причин)
присущей ей (от признания этого никуда не деться) сердечной глухоты
к душевным порывам некоторых людей, в первую очередь, конечно, к
мятущейся душевной сложности своего мужа.
Но это проявится в дальнейшем, пока же... А пока юная Люба
Менделеева старалась убедить себя в том, что новый ее знакомый обладает
перед молодыми людьми, доселе ее окружавшими, целым рядом
преимуществ. Какой чисто женский по своей сокровенной сути, зрелый
взгляд мы тут обнаруживаем, хотя за несколько строк до этого эпизода
воспоминаний следовала оговорка Любови Дмитриевны относительно
житейской и прочей неопытности ее героини. Сколько трезвости она
здесь демонстрирует. Так и видишь милые девичьи пальчики,
загибающиеся при каждом учтенном достоинстве Блока!
Допустим, рассуждала она, человек этот не соответствовал
созданному ее воображением идеалу байронически-лермонтовского героя
(трудно удержаться, чтобы не обратить внимание читателя на
характерную для психологии Любови Дмитриевны
рационально-рассудочную тональность словечка «допустим»!), однако он выгодно отличался
от всех ее знакомых обожателей интересной наружностью, выказывал
несомненный актерский талант, а самое главное — это уже приятно
щекотало девичьи нервы — «был фатоватым, но ловким "кавалером",
и дразнил какой-то непонятной, своей мужской, неведомой
опытностью...»15. «Звезда» или «не звезда», сыронизировала Л.Д. Блок и здесь
же призналась, что суровая обитательница Боблова твердо решила:
Блока никому не уступать и взять ситуацию в свои руки. В ход были
пущены женские «флюиды», с помощью которых она стала мысленно
«притягивать внимание Блока к себе». «Говорить взглядом», т.е.
затевать любовную игру, Люба не только не решалась, но не могла даже об
этом и подумать. Во-первых, она была в то время вполне
благовоспитанной барышней, а во-вторых, они с Блоком тогда еще ни разу не
оставались наедине. Добавим к сказанному, что женские чары пускались
в ход под маской внешней холодности. Впрочем, Любовь Дмитриевна
уверяет, что маски никакой не было, наоборот, такое обращение с
Блоком вполне соответствовало ее натуре. Избранная ею тактика
поведения действовала на Блока завораживающе: недоступность Любы
одновременно и пугала и побуждала его во что бы то ни стало растопить
лед всегдашней ее суровости. Облик девушки начинал окутываться в
283
его сознании ореолом тайны. Вот почему понадобилось совсем немного
времени, чтобы «внутренняя активность» Любы дала первые всходы.
«...Очень скоро, — вспоминала она, — я стала уже с испугом замечать,
что Блок... перешел ко мне, и уже это он окружает меня кольцом
внимания. Но как все это было не только не сказано, как все это было
замкнуто, сдержанно, не видно, укрыто. Всегда можно сомневаться, да или
нет? Кажется или так и есть?»16.
Узнаем Любовь Дмитриевну! Отчего только внимание Блока ее
«испугало», разве не сама она этого добивалась? Не любила? Да, это было
сказано ею, и вполне определенно. Что же тогда руководило ее
действиями? Проба девичьих сил, попытка очаровать? Но к чему в таком
случае все ее сетования по поводу того, что нельзя было угадать,
влюблен ли в нее Блок или нет? Отчасти они объяснялись, конечно, боблов-
ским молодежным многолюдием — узнать что-нибудь наверное в такой
ситуации не представлялось возможным. Однако главное, разумеется,
заключено в иной плоскости. Любовь Дмитриевна и в юные и в зрелые
годы не терпела неопределенности, присущее ей понимание жизни
распространяла на всех людей без исключения. Блок с его романтическим
мироощущением, осложненным к тому же вполне объяснимой
робостью в общении с любимым человеком, неизменно суровым по
отношению к нему, был тогда ей непонятен. Вот где таится корень ее
сетований. И по мере углубления в воспоминания Л.Д. Блок мы не раз еще
встретимся с ними.
Впрочем, с присущей ей прямотой и честностью она чуть ли не на
той же странице своей книги замечает, что «узнала» его «лишь три
года спустя». Узнала ли — это еще вопрос, но об этом после. Пока же
автор воспоминаний окунается в свое очень еще чистое полудетское-
полуюношеское прошлое и тонко рассказывает о трогательных
моментах узнавания будущей Прекрасной Дамой и ее певцом Блоком друг
друга.
«Мы все любили Церковный лес (лес между Бобловым и
Шахматовым. — B.C.), а мы с Блоком особенно. Тут бывало подобие прогулки
вдвоем. По узкой тропинке нельзя идти гурьбой, — вся наша компания
растягивалась. Мы "случайно" оказывались рядом в "сказочном лесу"
несколько шагов — это было самое красноречивое в наших встречах»,
«первых безмолвных встречах с другим Блоком...»17 — напишет Любовь
Дмитриевна абзацем ниже, разумея под словом «другим» «настоящего»
284
Блока. Не об этой ли тайне «сказочного» Церковного леса напишет и
он два года спустя?
Нет конца лесным тропинкам.
Только встретить до звезды
Чуть заметные следы...
Внемлет слух лесным былинкам.
Всюду ясная молва
Об утраченных и близких...
По верхушкам елок низких
Перелетные слова...
Не замечу ль по былинкам
Потаенного следа...
Вот она — зажглась звезда!
Нет конца лесным тропинкам (I, 124).
Мы часто задаем себе вопрос: чем могла привлечь к себе
внимание Блока эта в общем-то не очень красивая женщина? Что
заставляло А. Белого, в свою очередь, так долго и искренне страдать от любви
к ней? Какую тайну заключала она в себе? Ответ на недоумение наше,
кажется, может быть всего один: в юности она таила в себе
необычайную прелесть женственности.
Вот портрет Любови Дмитриевны того времени: она «носила
розовые платья, а великолепные золотистые волосы заплетала в косу.
Нежный бело-розовый цвет лица, черные брови, детские голубые глаза и
строгий, неприступный вид». Эти слова принадлежат М.А. Бекетовой,
не являвшейся, строго говоря, другом жены Блока. Далее следуют еще
более возвышенные строки. Мария Андреевна вместе с матерью поэта
присутствовали 1 августа 1898 г. в Боблове на самодеятельном спектакле.
Играли отрывки из «Гамлета» в большом сенном сарае,
приспособленном под театр. «Люб<овь> Дм<итриевна> и поэт составляли
прекрасную, гармоническую пару. Высокий рост, лебединая повадка, роскошь
золотых волос, женственная прелесть — такие качества подошли бы к
любой "героине". А нежный, воркующий голос в роли Офелии звучал
особенно трогательно. На Офелии было белое платье с
четырехугольным вырезом и сиреневой отделкой на подоле и в прорезях длинных
буфчатых рукавов. На поясе висела лиловая, шитая жемчугом "омо-
285
ньера". В сцене безумия слегка завитые распущенные волосы были
увиты цветами и покрывали ее ниже колен. В руках Офелия держала
целый сноп из розовых мальв, повилики и хмеля вперемежку с
другими полевыми цветами»18.
И впрямь впечатляющая картина! Сохранившаяся фотография
удивительна, однако она бессильна передать то, что выразилось в слове
биографа Блока. Знать бы Марии Андреевне о том, что произошло между ее
племянником и Любой Менделеевой за кулисами, тогда бы она поняла,
почему Офелия была в тот час особенно хороша!
Произошло же вот что. «Первый и единственный... за эти годы мой
более смелый шаг навстречу Блоку был вечер представления
"Гамлета", — вспоминала Любовь Дмитриевна. — Мы были уже в
костюмах Гамлета и Офелии, в гриме. Я чувствовала себя смелее. Венок,
сноп полевых цветов, распущенный напоказ всем плащ золотых волос,
падающих ниже колен... Блок в черном берете, колете, со шпагой. Мы
сидели за кулисами в полутайне, пока готовили сцену. Помост
обрывался. Блок сидел на нем, как на скамье, у моих ног, потому что табурет
мой стоял выше, на самом помосте. Мы говорили о чем-то более
личном, чем всегда, а главное, жуткое — я не бежала, я смотрела в глаза,
мы были вместе, мы были ближе, чем слова разговора. Этот, может
быть, десятиминутный разговор и был нашим "романом" первых лет
встречи, поверх "актера", поверх вымуштрованной барышни<...> Этот
разговор и остался для меня реальной связью с Блоком, когда мы
встречались потом в городе уже совсем в плане "барышни" и "студента".
Когда, еще позднее, мы стали отдаляться, когда я стала опять от Блока
отчуждаться, считая унизительной свою влюбленность в "холодного
фата", я все же говорила себе: "Но ведь было же..."»19.
Упомянув о своей влюбленности в Блока, Любовь Дмитриевна
нисколько не оговорилась. «Кольцо внимания», которым окружил ее
этот юноша, незаметно для нее самой начинало дразнить ее
честолюбие (а она была человеком очень честолюбивым), волновало
встрепенувшуюся навстречу ему девичью чувственность. Однако странное
его поведение (только что казалось: он любит, как вдруг уже
становящийся близким Блок, начиная «ломаться», внезапно куда-то
«исчезал») вызывало ее глухое раздражение. Конечно, Люба не захотела бы,
чтобы он «неприлично и парнисто» ухаживал бы за нею, как
ухаживал за своей кузиной Марусей Коваленской летом 1900 г. в Дедове.
286
Однако в голове пусть и «вымуштрованной барышни» Любы
Менделеевой никак не укладывалась мысль, как могло так случиться,
чтобы у Офелии и Гамлета, очутившихся вдвоем после спектакля в
темную августовскую ночь, «даже руки... не встретились...». Нет, это
было выше ее сил, выше ее понятий о любви. Какое там о любви — о
простом ухаживании! Видимо, она и впрямь была очень наивным в
этих вопросах существом, если не понимала, что влюбленный Саша
Блок, казавшийся ей таким «опытным», боялся одним неверным
движением спугнуть любовь. Отсюда злые слова о Блоке из погибшего
в Шахматове ее дневника как о «фате с рыбьим темпераментом и
глазами...»20.
Нет, фатом он не был, отсутствием темперамента не страдал тем более.
Рассказывая в дневнике 1918 г. о периоде угасания своих
отношений с Любовью Дмитриевной («Отъезд в Шахматово (весной 1900 г. —
B.C.) был какой-то грустный... Первое шахматовское стихотворение
("Прошедших дней...", 28 мая) показывает, как овеяла... грусть
воспоминаний о 1898 годе, о том, что казалось (и действительно было) утрачено»)
или о начале весны 1901 г.: «Я покорился неведенью и боли
(психологически — всегдашней суровости Л.Д. Менделеевой)» и т.д., Блок не
забывает, однако, сообщить и о своих «утехах в вихре света», которые к концу
1898 г. даже «кончились болезнью» (какой — нетрудно догадаться). Помимо
ухаживания (точнее, волокитства за Марусей Коваленской) он
вспоминает о начале «знакомства с Катей Хрусталевой» осенью 1900 г., а
упоминая про зиму следующего г., записывает: «Бывала Катя Хрусталева, с
которой я кокетничал своим тайным знанием...» (VII, 342, 344, 340).
Особенно часты упоминания о K.M. Садовской. Весна и осень 1900 г.: «Все
еще возвращались воспоминания о K.M. С. (стихи 14 апреля)» (имеется
в виду стихотворение «Хожу по камню старых плит...» — B.C.); «В
сентябре — опять возвращается воспоминание о K.M. С<адовской>
(при взгляде на ее аметист 1897 года)». В год начала их необычного
романа K.M. Садовская подарила Блоку кольцо с аметистом, и,
вспоминая то счастливое время, начинающий поэт создает
стихотворение «Аметист». И еще одна, может быть, самая показательная запись:
«В эту зиму было, должно быть, последнее объяснение с K.M. С<адовской>
(или в предыдущую?). Мыслью я однако продолжал возвращаться к ней,
но непрестанно тосковал о Л.Д. М<енделеевой>» (VII, 342, 343). Блок
ошибся: разрыв отношений с этой стареющей женщиной, не на шутку
287
влюбившейся в семнадцатилетнего гимназиста, произошел в самом конце
1899 г. В названных отношениях было все: и курортное кокетство
красивой, обделенной любовью, скучающей женщины с влюбившимся в
нее мальчиком, и первые поцелуи, и продолжение встреч в Петербурге
в маленьких гостиницах, и тревога матери, встречавшейся с Садовской
и умолявшей ее оставить сына (свое обещание, кстати говоря, она не
выполнила), и конфидентка Таня, младшая сестра мадам Садовской, и
взаимные бурные объяснения...
И вот теперь в сердце Блока встретились две любви. К одной из
любимых он непрестанно продолжает возвращаться в своих мыслях
и письмах (из двенадцати дошедших до нас его писем к Садовской
последнее — очевидно, прощальное — относится к августу 1901 г.),
по другой, наталкиваясь на обычную ее холодность и
неприступность, тоскует.
Поэт объединяет имена двух близких ему существ в пределах
одного дневникового абзаца в единое целое, разумеется, не случайно.
K.M. Садовская дорога ему теперь только как память. Он осознает свою
вину перед ней, но вернуть былого уже не может. Вот строки его письма
к ней (уже не «дорогой Оксане», как прежде, а «глубокоуважаемой
Ксении Михайловне») от 31 марта 1900 г.: «Я глубоко понимаю, чувствую и
верю. Прощенья я не прошу, потому что нельзя просить его. Не
спрашивайте о том, что было». Однако в post scriptum'e, раза в четыре
превышающем размеры самого письма, проявляя вдруг странную (странную
ли?) непоследовательность, начинает отвечать на этот вопрос: «Было,
конечно, то, что очень трудно объяснить, зная даже мою
отвратительную натуру. Я сам не берусь объяснять этого "психологического"
явления. Со мной бывает вот что: я — весь страсть, обожание, самое
полное и самое чистое; вдруг все проходит — является скука, апатия (мне
незачем рисоваться), а иногда отчаянная беспредметная тоска. Что это?
Молодость? Пресыщение? Безнравственная черта характера?
Последнее, пожалуй, всего вернее. Вот полное объяснение.
Поверьте, это и мне тоже даром не проходит, теперь тем более не
прошло». Силясь объяснить свое психологическое состояние, Блок,
по-видимому, и сам верил, что все дело в безнравственной сути его
характера. Увы, как ни горько это осознавать, существо проблемы лежало
глубже и было более драматичным, чем он о том думал. На языке
психиатрии подобное состояние, кстати говоря, очень точно им воссоздан-
288
ное, называется депрессией. Что-то близкое к его мучениям, только в
еще более тяжелой форме испытывала его мать, страдать этой формой
заболевания в дальнейшем будет и сам поэт. К сказанному стоит лишь
добавить, что в данном случае тоска поэта была вовсе не
беспричинной — в процитированном выше дневнике он сам сказал о том, кем и
чем она была вызвана. Далее Блок прямо говорит Ксении Михайловне
о своем одиночестве: «Иногда я бываю у Ваших окон, смотрю, как кто-
нибудь выходит из дверей дома. Двери так же блестят тогда, как
прежде, — и это тоже очень больно, но что же делать?» Ответа на
заданный вопрос он не знал, а потому заканчивал свое письмо следующими
фразами: «Одним словом, все это и глупо, и молодо, и нужно бросить
в печку, но ничего другого я писать не хочу и нисколько от всего, что
написано, не отрекаюсь. Если бы Вы знали, как нервы раздерганы, и
тоска такая здесь, и как все скверно и грустно, и хочется обнять Ваши
колени и "зарыдать у Ваших ног"...» (VIII, 11—12, 13).
Вряд ли Ксения Михайловна могла по достоинству оценить
последнюю фразу из процитированного нами отрывка блоковского письма:
стихов она не знала и не любила. Впрочем, Блок на это и не
рассчитывал — ему было не до красот стиля, способных взволновать некогда
любимую и все еще продолжающую оставаться для него близкой
женщину. Строки из письма Онегина к Татьяне, которыми он
воспользовался, помогали ему выразить собственное горе. Поразительно, но факт:
поэт выплакивал свое страдание своей бывшей возлюбленной (не мог
же он посвятить в эти переживания Александру Андреевну — та сразу
заподозрила бы здесь что-то неладное), не называя предмета
страданий. По сути дела, одной женщине он жаловался на другую, ту, к
которой испытывал безответное чувство. Причем эта другая была совсем
не то, что прежняя. Суть проблемы заключалась вовсе не в
возрастной разнице, но в принципиально различных типах любви,
испытываемых им к обеим.
Конечно, и блоковская мужская страсть к K.M. Садовской была
окрашена романтическим ореолом — без этого даже Блок-юноша перестал
бы оставаться Блоком. И все же любовь к ней (особенно на фоне его
любви к Л.Д. Менделеевой) была больше страстью — мистика в этом
чувстве отсутствовала. В данном отношении характерно следующее,
кстати, посвященное K.M. Садовской, его стихотворение от 23 августа
1899 г., вошедшее в цикл «Ante Lucem»:
289
Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?
Этой дорогою ложной
Молча с тобою мы шли...
Шли мы — луна поднималась
Выше из темных оград,
Ложной дорога казалась —
Я не вернулся назад.
Наша любовь обманулась,
Или стезя увлекла —
Только во мне шевельнулась
Синяя города мгла...
Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?
Этой дорогою ложной
Мы безрассудно пошли... (1,26)
«Синяя... мгла» города еще не раз «шевельнется» в творческом
сознании поэта, «обманется» любовь, и дорога окажется «ложной». Он
захочет, но не сможет «вернуться назад». Однако это произойдет еще нескоро,
в ту пору, когда «Царевна» погасит в «тереме» зажженные ею же самой
(правда, по воле поэтического воображения Блока) огни. Пока же все эти
переживания начинающий поэт связывал с K.M. Садовской. Потому в
предпоследнем стихотворении цикла «Ante Lucem» («До света» в
переводе с латинского) «Ты не обманешь, призрак бледный...» (25 декабря
1900 г.) поэт, обращаясь к K.M. Садовской (ей оно и посвящено), говорит:
<...> я не найду
В твоем усталом, но зовущем,
Ненужном призраке — огня.
Ты только замыслом гнетущим
Еще измучаешь меня (I, 72).
С Л.Д. Менделеевой он связывал совсем иной «замысел»! Отчасти
об этом уже говорилось на первых страницах главы, но для
воссоздания полноты картины к начатому разговору следует возвратиться.
Лирический герой «Ante Lucem» — на пути «из ночи темной» к
свету. На страницах цикла свет только набирает силу, ближе к финалу
«смрад туманный» под его напором начинает рассеиваться, и герой
Блока улавливает в своем сердце «песнь рассвета».
290
Однако «свет» у поэта — явление отнюдь не атмосферное, а
метафизическое, поэтому его обретение предполагает мучительный поиск.
Не ты ли душу оживишь?
Не ты ли ей откроешь тайны?
Не ты ли песни окрылишь,
Что так безумны, так случайны?..
О, верь! Я жизнь тебе отдам,
Когда бессчастному поэту
Откроешь двери в новый храм,
Укажешь путь из мрака к свету!..
Не ты ли в дальнюю страну,
В страну неведомую ныне,
Введешь меня — я вдаль взгляну
И вскрикну: «Бог! Конец пустыне!» (I, 28) —
с такими словами обращался Блок к «неведомому богу» (заглавие
стихотворения от 22 сентября 1899 г.). С годами «неведомый бог» обретет
у него вполне конкретные очертания «новой богини», однако уже здесь
желание преображения жизни («пустыни») выражено вполне
отчетливо. Но преображение жизни начинается с преображения человека.
Как ни юн еще был поэт в то время, как ни охотно пользовался еще для
выражения собственных мыслей романтическими стилевыми
стереотипами, он это знал. Побороть в себе «ветхого человека» было совсем
не просто. Его охватывают (в равной степени) «и надежда и ужас
разлуки с земным», порождая «тоскованье без отдыха», как он о том
поведал в созданном 3 декабря 1899 г. стихотворении с весьма характерным
и говорящим заглавием «Dolor ante lucem» («Предрассветная тоска»;
в первом издании «Собрания стихотворений» (1911) — «Dolor ingens
ante lucem» («Великая предрассветная тоска»)). «Поэт в изгнаньи и
в сомненьи / На перепутьи двух дорог», ибо «все нет в прошедшем
указанья, / Чего желать, куда идти?» Поэтому он вынужден
остановиться...
Но уж в очах горят надежды,
Едва доступные уму,
Что день проснется, вскроет вежды,
И даль привидится ему (1,42).
291
В этом стихотворении, написанном Блоком 31 марта 1900 г.,
обращает на себя внимание мысль о том, что надежда на встречу с далью
находится за пределами рационального знания, а потому постичь эту
мистическую истину практически невозможно — она не дается в
руки:
Кто поймет, измерит оком,
Что за этой синей далью?
Лишь мечтанье о далеком
С непонятною печалью... (I, 35)
Она «таинственный, еще невнятный знак», «далекий, неведомый
град», и лишь однажды как персонификация истины предстает перед
героем поэта — «одиноким сыном земли» в женственном облике
«лучезарного виденья» (I, 55, 49, 47).
Оставалось прибегнуть к испытанному средству всех мистиков —
молитве. И Блок делает этот шаг:
Ищу спасенья
Мои огни горят на высях гор —
Всю область ночи озарили.
Но ярче всех — во мне духовный взор
И Ты вдали... Но Ты ли?
Ищу спасенья.
Торжественно звучит на небе звездный хор.
Меня клянут людские поколенья.
Я для Тебя в горах зажег костер
Но Ты — виденье.
Ищу спасенья.
Устал звучать, смолкает звездный хор.
Уходит ночь. Бежит сомненье.
Там сходишь Ты с далеких светлых гор.
Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер.
В Тебе — спасенье! (I, 68)
Это стихотворение (дата его создания — 25 ноября 1900 г.) — одно
из последних в цикле «Ante Lucem» и самых драматичных по
лирическому переживанию. Строка-рефрен «Ищу спасенья», переходя из
строфы в строфу, усиливает напряжение чувства лирического героя Блока.
292
По сути дела, это крик отчаянья: «духовный взор» поэта утончился до
неузнаваемости, он уже почти наверное знает, что его «спасенье» —
в Ней и только в Ней, однако его одолевают сомнения: она ли — Она
или всего-навсего простое «виденье» — обман мистического слуха и
зрения? Переживания эти имели под собой вполне конкретную
психологическую подоплеку: неопределенность его взаимоотношений с
Л.Д. Менделеевой. К сказанному тем не менее следует добавить, что
к концу 1900 г. в сознании Блока намечается перелом, который
приобретет конкретные очертания только к следующему году (об этом уже
говорилось выше): мистическое его знание о возлюбленной стало
доминировать над простой влюбленностью в дочь великого химика. Он
стал обладателем тайны о ней, наделяя свою возлюбленную
мистической сущностью, о наличии которой в себе она, разумеется, не
догадывалась и с чем, конечно (вскоре мы это увидим), никогда не согласилась
бы. Между тем только что процитированное стихотворение буквально
дышало этой тайной и блоковской посвященностью в нее, о чем
говорила и экстатическая тональность лирического переживания, и большое
«Т» в обращении к предмету любви (в первый и последний раз в «Ante
Lucem», в следующем цикле это станет для Блока нормой), и
совмещение в произведении двух планов бытия: реального и ноуменального.
Обретение «призвания более высокого», нежели исполнение роли не
очень удачливого влюбленного, взбодрило Блока и даже позволило ему
позднее поиронизировать над собой: «Любовь Дмитриевна проявляла
иногда род внимания ко мне. Вероятно, это было потому, что я сильно
светился. <...> Я был так преисполнен высоким, что перестал жалеть о
прошедшем» (VII, 344). Жалеть-то он, естественно, продолжал, однако
острота страданий по поводу того, что стал реже ездить в Боблово, а
потом, кажется, и совсем перестал, что почти уже не посещал квартиру
на Забалканском, как-то сама собой приглушилась. Временами ему даже
начинало казаться, что «это знакомство прекратилось».
Жизнь же, как водится, шла своим чередом. В 1900 г. Любовь
Дмитриевна закончила гимназию и поступила на бестужевские курсы.
К осени их еле теплившиеся отношения с Блоком прервались, и, если
верить автору «Былей и небылиц...», к этому событию она «отнеслась
очень равнодушно». Началась студенческая жизнь. Увлечение лекциями
любимых профессоров, студенческие вечеринки, легкий, ни к чему не
обязывающий флирт «с белобрысыми провинциалами—технологами
293
или горняками», чтение «французов, для гимназистки — запретный
плод: Мопассан, Бурже, Золя, Лоти, Додэ, Марсель Прево, за которого
хваталась с жадностью, как за приоткрывшего по-прежнему
неведомые "тайны жизни"»21.
Л.Д. Блок и здесь осталась верной себе! Рассказав про то, как она
повзрослела в первую зиму своей «взрослой» жизни, как «окрепли и
утончились» ее «умственные интересы и любовь к искусству», она не
преминула упомянуть и о своем чисто физическом взрослении.
Причем употребленное нами слово «упомянуть» в данной ситуации даже и
не вполне подходит. «Упомянула» она скорее о своем духовном росте,
а о телесном томлении взрослеющей девушки рассказала весьма
тщательно, не испугавшись шокирующих подробностей. Если бы они в
известной степени не определяли статус ее личности, а потому и
дальнейшую судьбу ее отношений с Блоком, на них, очевидно,
останавливаться не следовало бы. Но они слишком многое и о многом говорят
биографу Прекрасной Дамы и ее певца. Итак, последуем за рассказом
Любови Дмитриевны.
«Я стала с интересом ждать прихода жизни, — вспоминала
она. — У всех моих подруг были серьезные флирты, с поцелуями, с
мольбами о гораздо большем. Я одна ходила "дура дурой", никто мне
и руки никогда не поцеловал, никто не ухаживал. Дома у нас из
молодежи почти никто не бывал; те, кого я видела у Боткиных22 на
вечерах, — это были какие-то отдаленные манекены, нужные в данном
месте и при данном случае, не более»23.
«Холодность и отчужденность» ли в общении юной курсистки с
молодыми людьми были виной ее «некоторой одинокости,
защищенности от ухаживаний» кавалеров (это место в воспоминаниях Любовь
Дмитриевна вычеркнет) или что-то другое, мы не знаем. Знаем только,
что невольная «одинокость» очень сильно уязвляла ее самолюбие.
И впрямь, что может больней ударить по психике девушки, страстно
ожидающей «прихода жизни», связывающей его исключительно с
любовью, чем эта самая «защищенность от ухаживаний»? Особенно если
учесть ее всегдашнюю нетерпеливость и завышенную самооценку.
Продолжим цитирование, чтобы показать, что мы недалеки от истины.
«В этой одинокости жизнь во мне просыпалась, — восстанавливала
Л.Д. Блок в памяти впечатления своей юности. — Я ощущала свое
проснувшееся молодое тело. Теперь я уже была влюблена в себя, не то, что в
294
гимназические годы. Я проводила часы перед зеркалом. Иногда, поздно
вечером, когда уже все спали, а я все еще засиделась у туалета, на все
лады причесывая или рассыпая волосы, я брала свое бальное платье,
надевала его прямо на голое тело и шла в гостиную к большим
зеркалам. Закрывала все двери, зажигала большую люстру, позировала перед
зеркалами и досадовала, зачем нельзя так показаться на балу. Потом
сбрасывала и платье и долго-долго любовалась собой. Я не была ни
спортсменкой, ни деловой женщиной; я была нежной, холеной
старинной девушкой (тепличный цветок). Белизна кожи, (никогда) не
опаленная никаким загаром, сохраняла бархатистость и матовость.
Нетренированные мускулы были нежны и гибки. Течение своих линий я
впоследствии находила отчасти у Джорджоне, особенно гибкость длинных
ног, короткую талию и маленькие, еле расцветающие груди. Хотя
ренессанс не совсем мое, он более трезв и надуман. Мое тело было как-то
более пронизано духом, топким, укрытым огнем (...)* белого,
тепличного, дурманного цветка. Я была очень хороша, я помню, несмотря на
далеко не выполненный "канон" античного сложения. <...>
Такой я была весной 1901 года. Ждала (жизни) событий, была
влюблена в (себя) свое тело, и уже требовала у жизни ответа»24.
Здесь, пожалуй, стоит перевести дух. Конечно, все это написано
отчасти с полемическими целями: Любови Дмитриевне казалось, как
о том говорилось выше, что подобная акцентированная откровенность
в рассказе о себе позволит ей восстановить status quo своей личности
в глазах читателя. Можно допустить также и то, что жаждущей любви
девушке и впрямь захотелось доказать (хотя бы себе самой и таким
экстравагантным способом): она достойна любви. Однако, несмотря на все
эти допущения, читателя не оставляет ощущение, что Л.Д. Блок
перешла границу откровенности, что исповедальная открытость ее
признаний начинает работать уже не на нее, как ей того хотелось бы, а
против нее. Измена музыке нравственного такта начинает мстить человеку,
ей изменившему. Пересчитайте, сколько раз автор процитированного
отрывка употребил местоимение «я», и вы, безусловно, скажете, что в
данном случае имеете дело с гипертрофией личностного начала в
сознании человека, написавшего эти строки. Особенно показательна в этом
отношении последняя из процитированных фраз. Любовь Дмитриевна
сначала обронила: «...была влюблена в себя», затем слово «себя»
зачеркнула, заменив его на словосочетание «свое тело». Первый вариант фразы
295
не удовлетворил ее, очевидно, по двум соображениям. Во-первых, он
мог бы продемонстрировать читателю ничем не прикрытую
самовлюбленность автора воспоминаний, во-вторых, он выражал нечто
другое, не совсем то, что хотелось сказать автору. Влюбленность «в свое
тело» — это было в самый раз, ибо соответствовало центральной идее
приведенного мемуарного отрывка.
Но и в окончательной его редакции сохранилось нечто такое, что
Любовь Дмитриевна вряд ли одобрила бы, если бы ей удалось это вовремя
обнаружить. Впрочем, можно сказать и иначе: не обратила внимание по
той причине, что это соответствовало глубинной сути ее
мировоззрения. Речь идет вот о чем. Л.Д. Блок не хотелось ренессансного обожения
тела, Любе Менделеевой, говорит она, казалось, что ее тело было «более
пронизано духом», чем в картинах художников Ренессанса. Однако
отвергая здоровую физиологичность искусства эпохи Возрождения,
она начинает оперировать стереотипами мышления русского
культурного ренессанса, во многих отношениях это здоровье утратившего.
В результате столь желанная для Любови Дмитриевны телесная
духовность обернулась в ее интерпретации изрядно извращенной
духовностью «дурманного цветка». Вряд ли в этой «укрытой» от постороннего
глаза «глубине» Любы Менделеевой (если, впрочем, на ее мироощущение
не наложи лось мироощущение Л. Д. Блок) поэт смог бы угадать черты
своей Прекрасной Дамы. Тем не менее, рассчитывая постичь загадку
их судьбы, все мы обязаны помнить не только о человеческом
характере и мировоззрении Блока, но и об этой потаенной сути Л.Д. Блок,
ибо суть эта многие годы была ее поводырем в отношениях с ним и
именно из этой системы ценностей исходила она, ожидая жизни и
требуя у нее «ответа» на свои запросы. Не удовлетворяющие ее «ответы»
не то чтобы возбранялись, но уж точно не поощрялись.
Наша книга не обвинительный приговор. Нельзя сделать человека
таким, каким ты его хочешь видеть. Некоторые люди способны
«прогибаться» под напором обстоятельств. Но не Любовь Дмитриевна, и
нам уже приходилось говорить почему. Невозможно сказать, что душа
ее была закрыта для другого человека, однако и противоположное
суждение выглядело бы большой натяжкой. Она была такой, какой
была, и рассуждать на тему, что бы случилось, если бы она целиком
приняла систему ценностей Блока, — праздное занятие. В ту же пору,
о которой идет у нас речь, Люба Менделеева действительно расцве-
296
тала и, как все девушки ее возраста, ждала любви. Такой, как ее
понимала. Вот почему, когда в марте 1901 г. «около Курсов промелькнул...
его профиль», все ее существо встрепенулось. Нет, она не «обомлела,
запылала» — Люба Менделеева уже тогда совсем не была похожа
на Татьяну Ларину. Но, признавалась она, эта случайная встреча ее
сильно «перебудоражила. Почему с приходом (этой) солнечной, ясной
весны опять [возник] образ Блока?»25 — спрашивала она себя.
Мистиком она, разумеется, стать не захотела, вмешательства провидения не
заподозрила. Тем не менее у нее возникло подозрение, что случайная
встреча далеко не случайна.
Что же тогда творилось в душе Блока: ведь он тоже ее увидел!
А если бы он знал, что и она его заметила?! Впрочем, что ж тут
фантазировать — не лучше ли довериться Блоку.
Анализируя свои «стихи 11 февраля, особенно — 26 февраля»
(соответственно: «Я понял смысл твоей печали...» и «Я понял смысл твоих
стремлений...»), в которых «живая», т.е. Любовь Дмитриевна,
воспринимается в качестве Души Мира, Блок говорит, что в них
«указано ясно Ее стремление отсюда для встречи "с началом близким и
чужим" (?) — и Она уже в дне, т.е. за ночью, из которой я на нее гляжу.
То есть Она предана какому-то стремлению и "на отлете", мне же дано
только смотреть и благословлять отлет» (VII, 343).
Как, однако, «перепахала» душу влюбленного молодого человека
неразделенная любовь, какой метафизической интерпретации
подверглось чувство к молоденькой курсистке, которая (мы теперь это уже
знаем) у себя на Забалканском по ночам в предвкушении любви
любовалась своим обнаженным телом!
Пребывая именно «в таком состоянии» (Блок сам об этом сообщил),
он и встретил Любовь Дмитриевну на Васильевском острове.
Представим себе, какой переполох произвела эта встреча в сердце и
воображении юного мистика! Поэт глазам своим не верил. Тоскующая его душа,
уже успев возвести возлюбленную в ранг мировой души, смотрела на
нее из своего феноменального мира (ночи) как на существо
ноуменальное (она — «за ночью») да к тому же еще готовое «на отлет» от него,
и вдруг он сталкивается с курсисткой Любой Менделеевой и
символизируемой ею мировой душой (двое в одном лице!) чуть ли не нос с
носом — и где же?! — почти в центре Петербурга да притом при свете
белого дня. Как тут не взвинтить себя до «исключительного состоя-
297
ния», хотя и в башлыке у тебя такса, вскоре «названная... Краббом»,
покупать которую ты и ходил на Васильевский остров. Обыденное,
бытовое совместилось с бытийным в один клубок, и отделить одно от
другого не представлялось никакой возможности.
Вот как восстанавливал в своей памяти это состояние
двадцатилетнего юноши тридцативосьмилетний Блок: «Звучная тишина
(наполненная звуками) предвещала внезапную встречу с ней где-то на путях ее
сквозь алый сумрак, где целью ее было смыкание бесконечных кругов.
Я встретил ее здесь, и ее земной образ, совершенно ничем не
дисгармонирующий с неземным, вызвал во мне ту бурю торжества,
которая заставила меня признать, что ее легкая тень пронесла свои благие
исцеленья моей душе, полной зла и близкой к могиле.
Моей матери, которая не знала того, что знал я, я искал дать понять
о происходящем строками "Чем больней..." (Блок имеет в виду
написанное 8 марта 1901 г. стихотворение «Моей матери». — B.C.) (здесь
уже сопротивление психологии: чем больней феноменальной душе, тем
ясней миры — ноуменальные). Тогда же мне хотелось ЗАПЕЧАТАТЬ
мою тайну, вследствие чего я написал зашифрованное стихотворение
(«Пять изгибов сокровенных...», 10 марта 1901 г. — B.C.), где пять
изгибов линий означали те улицы, по которым она проходила, когда я
следил за ней, незамеченный ею (Васильевский остров, 7-я линия —
Средний проспект — 8—9-я линии — Средний проспект — 10-я линия).
Ее образ, представший передо мной в том окружении, которое я
признавал имеющим значение не случайное, вызвал во мне, вероятно, не
только торжество пророчественное, но и человеческую влюбленность,
которую я, может быть, проявил в каком-нибудь слове или взгляде,
очевидно, вызвавшем новое проявление ее суровости» (VII, 348).
Побольше бы таких взглядов, может быть, и суровости было бы
поменьше! Ведь и Любу, как мы уже прочли, «перебудоражила» эта
встреча. А когда на спектакле в Малом (Лира играл старый Сальвини)
они оказались совсем рядом (так случилось, что на билетах были
указаны соседние места), Любовь Дмитриевна подумала, наверно, — не
судьба ли? Тем более что она «с молниеносной быстротой
почувствовала», что перед ней «уже совсем другой Блок. Проще, мягче,
серьезный, благодаря этому похорошевший...». В обращении же с ней (это
Люба оценила особо) «почти не скрываемая почтительная нежность
и покорность...»26.
298
Жена Блока была человеком весьма проницательным, тем более что
(отметим это особо) восприятие юной Любы Менделеевой часто
корректируется автором книги «И были и небылицы...». Стареющей ли
Любови Дмитриевне было не знать, что к лету 1901 г. Блок уже три
с половиной года как писал стихи, что он только что познакомился с
поэзией Вл. Соловьева и мистицизм его с этого времени начал
приобретать соловьевскую окраску, что он заинтересовался творчеством
русских декадентов... Иначе говоря, Блок действительно повзрослел
и прежде всего духовно. Но, видимо, и Люба Менделеева, не зная
всего этого, девичьим подсознанием своим оценила этот рост. И
главное — приняла его. И даже более: как никогда ранее, открыла ему свое
сердце. И что уже совсем не вязалось с ее характером — будто бы начала
признавать его водительство в духовной сфере.
Посещения квартиры на Забалканском проспекте, разумеется,
восстановились сами собой. Блок часто спорил с Анной Ивановной
Менделеевой. Мать Любы имела обширные знакомства среди
художников-передвижников, исповедовала их идеалы да к тому же была
азартная спорщица. Ее дочь инстинктивно передвижничеством тяготилась,
тянулась ко всему новому, но спорить так и не научилась, а потому
больше молчала. Но она знала, что, полемизируя с Анной Ивановной,
говорит он для нее, убеждает ее, вводит в открывшийся и
полюбившийся ему мир только ее, а не кого-нибудь другого, и она была ему
благодарна за это. Потом он мелодекламировал, а она, сидя «в другом
конце гостиной на диване, в полутьме стоячей лампы» за ним
наблюдала. «Мне теперь нравилась его наружность, — вспоминала Любовь
Дмитриевна. — Отсутствие напряженности, надуманности в лице
приближало черты к статуарности, глаза темнели от сосредоточенности
и мысли. Прекрасно сшитый военным портным студенческий
сюртук красивым, стройным силуэтом условных жестких линий
вырисовывался в свете лампы у рояля, в то время как Блок читал,
положив одну руку на золотой стул, заваленный нотами, другую — за
борт сюртука. <...> Теперь я научилась остро смотреть на все
окружающее меня... Так же отчетливо вижу и в прошлом. Тогда все было
в дымке. Вечно перед глазами какой-то "романтический туман". Тем
более Блок и окружающие его предметы и пространство. Он
волновал и тревожил меня; в упор его рассматривать я не решалась и не
могла»27.
299
Так о Блоке и о своем отношении к нему Любовь Дмитриевна еще
не писала. Пожалуй даже, она начинала в него влюбляться, во
всяком случае, была уже готова перейти через пелену «романтического
тумана», разделявшую ее и поэта. Но сделать это ей мешала
врожденная гордость. Первого шага она ждала от Блока. В жизни, разумеется,
все оказывалось куда сложнее, но, судя по ее воспоминаниям,
сказанное нами было похоже на правду.
В «мистическое лето» (так Блок называл лето 1901 г., в которое
его мировосприятие было особенно сильно окрашено мистицизмом
Вл. Соловьева) она с нетерпением ожидала его приезда в Боблово. «Он
бывал у нас раза два в неделю, — вспоминала Л.Д. Блок. — Я всегда
угадывала день, когда он приедет... После обеда в два часа я садилась с
книгой на нижней тенистой террасе, всегда с цветком красной вербены
в руках, тонкий запах которой особенно любила в то лето. Одевалась
я теперь уже не в блузы с юбкой, а в легкие батистовые платья, часто
розовые. Одно было любимое — желтовато-розовое, с легким белым
узором. Вскоре звякала рысь подков по камням. Блок отдавал своего
"Мальчика" около ворот и быстро вбегал на террасу. Так мы
встречались "случайно", я не обязана была никуда уходить, и мы подолгу,
часами, разговаривали, пока кто-нибудь не придет»28.
В этой зарисовке чувств двадцатилетней Любы Менделеевой все
дышит ожиданием любви. Случайных знакомых, к которым относятся
безразлично, так не встречают. О, как особенно прелестна была она,
наверно, в то лето, как уверена в силе своих чар, в изяществе девичьего
стана, подчеркнутого тончайшим батистом нравившихся ей платьев,
розовый цвет которых (она прекрасно знала об этом) усиливал румянец
на матовой белизне ее лица! И как открыта навстречу Блоку, слушая
его бесконечные рассказы о полюбившихся ему символистах, внимая
их стихам в его исполнении. Он привозил с собой первые два романа
Мережковского из трилогии «Христос и Антихрист», его «Вечных
спутников», томики Вл. Соловьева, Тютчева, Фета, и она по его совету все
это читала, ощущая, что, хотя и с трудом, но начинает входить в этот
«уклон мысли». Однажды, осмелившись, спросила даже: не пишет ли
стихи и он сам? Ответив на вопрос утвердительно, собственные стихи
Блок в тот раз читать отказался, однако в следующий приезд вручил ей
аккуратно переписанные стихотворения «Новый блеск излило небо...»,
«Тихо вечерние тени...». Было ли среди них известное «Servus—Regi-
300
пае» (по-русски «Слуга—царице») или Л.Д. Блок ознакомилась с ним
несколько позже — неясно, но оно ее по-настоящему взволновало:
«...щеки загорелись пожаром. Что же — он говорит? Или еще не
говорит? Должна я понять или не понять?..»29.
Не будем судить Л.Д. Блок очень строго. В конце концов, как
всякая девушка ее возраста, она мечтала о любви, и ей, конечно, хотелось,
чтобы говорили с ней об этом чувстве на понятном языке. В блоков-
ском стихотворении все было иначе.
Не призывай. И без призыва
Приду во храм.
Склонюсь главою молчаливо
К твоим ногам.
И буду слушать приказанья
И робко ждать.
Ловить мгновенные свиданья
И вновь желать.
Твоих страстей повержен силой,
Под игом слаб.
Порой — слуга; порою милый;
И вечно — раб (I, 30).
Героиня поэта здесь еще не душа мира и даже не Прекрасная Дама —
эти темы окрасят его лирику в своеобразные тона чуть позже. Однако
сквозь штампы романтической стилистики в стихотворении
проступало нечто такое, что было способно не на шутку смутить Любовь
Дмитриевну. «Слуга» и «царица» — образы, разумеется,
символические (это она понимала), но почему в таком случае свое истинное
отношение к ней Блок счел необходимым заключить в рамки очень
условного, напоминающего придворный — этикета? Что это —
«почтительная покорность» поэта предмету своей любви, которая, помнится,
произвела на Любовь Дмитриевну при их встрече в театре самое
благоприятное впечатление, или, попросту говоря, маска, за которой Блок
прятал свое простое и столь понятное сердцу Любы Менделеевой
человеческое чувство? Ведь, назвав себя «слугой», он произнес в конце
концов и слово «милый». Отчего же в таком случае «слугой» и
«милым» поэт собирается быть попеременно («порой» в одном качестве,
301
«порой» — в другом), а рабом — вечно? Чьим рабом? Ее, Любы, или?..
Голова идет кругом: то кажется, что все понятно, то наоборот.
Любовь Дмитриевна не догадывалась, что кругом «шла» голова и
у самого Блока. В мае 1901 г., т.е. буквально накануне «мистического
лета», он испытывал к ней двоякое чувство. К этому времени, как уже
говорилось выше, она — единая — представала перед ним в двух
ипостасях: мировой души и очаровательной девушки. Разумеется,
содержание блоковского чувства к обеим не могло не отличаться друг от друга.
В идеале ему хотелось бы преодолеть наметившийся разрыв, осознать
свое чувство к Л.Д. Менделеевой как органическое целое. Но не
получилась, и, забегая вперед, скажем: не получилось. Вот как он сам говорил
об этом: «Прежнее отсутствие ответа» от нее, вызванное, по Блоку, «ее
непрекращающейся (или растущей, или случайной) суровостью»
«заставляет надеть броню, что выражается в ощущении себя как микрокосма,
в котором вся вселенная, все прошедшее и грядущее и с избытком — все
огни, какими горит она; потому — нет ни слабости, ни силы, соучастие
или безучастие не трогает, провидцу не нужно сочувствия. Я уже
перешел граничную черту и только жду условленного виденья, чтобы
отлететь в иную пустоту (которая также не страшна).
Сквозь эту броню пробиваются, однако, жаркие струи, в которых
есть как бы оттенки соблазна (женственная нежность образа, легкое
пение, призрачный красный месяц, отражающийся в Неве, образ
отроковицы — мидианки (Вл. Соловьев), пред которым я медлю, вместо того
чтобы нести свою духовную лепту в далекие святыни).
Так, неготовым, раздвоенным я кончаю первый период своей мировой
жизни — петербургский. [Здесь нет еще ни одного большого Т.]» (VII,
349—350). Любовь Дмитриевна очень удивилась бы, если бы узнала,
что «пустой фат», которым она считала Блока всего лишь три года
назад, живет какой-то странной «мировой жизнью» и именно она, а не
никто другой является ее центральной фигурой. Впрочем, и упрекать
ее в данном случае особенно не за что. Разве только за то, что не
проявляла наблюдательности, иначе даже при всей сложности их
взаимоотношений давно бы заприметила, что духовный мир Блока резко
выделяет его из среды знакомых ей людей. Но и тут ей, пожалуй, найдется
оправдание: ведь в ту пору Люба Менделеева и в самом деле
находилась в начале своего знакомства с «другим Блоком», как она однажды
обмолвилась.
302
Есть, правда, одно «но», о котором, наверно, все же стоит
поговорить. Дело, очевидно, не только в недостатке ее наблюдательности.
Кому, казалось бы, как не жене, знать все или почти все о внутренней
жизни мужа? Но ничего подобного: в этом отношении воспоминания
Любови Дмитриевны о Блоке мало что дают. Временами (и то крайне
редко) она информирует читателя о темах разговоров, которые вел с
нею Блок, однако их содержание остается ему неизвестным. На то
есть веская причина. Нельзя говорить, что Блок был ей чужим
человеком. Еще более ошибочным было бы считать, что она (особенно в
первые годы их совместной жизни) не пыталась войти в круг его идей и
даже их понять. Трудно сказать, как глубоко она постигла этот мир,
зато с полной определенностью можно утверждать, что он навсегда
остался ей чуждым. Символистская, тем паче соловьевская мистика
отталкивала ее, земного человека, своей тенденциозной
утонченностью, потому она и избегала разговоров о ней.
Пока же с интересом неофита Люба Менделеева всматривалась в
открывшийся ей вдруг лирический мир Блока, одновременно
испытывая мучительное потрясение: в стихах, не кому-нибудь другому, а именно
ей привезенных и, надо полагать, ей и адресованных, себя-то она, живого
человека, и не обнаружила. «...Я себя не узнавала, не находила, —
признавалась Л.Д. Блок, — и злая ревность "женщины к искусству"...
закрадывалась в душу. Но стихи мне пелись и быстро запоминались.
Понемногу я вошла в этот мир, где не то я, не то не я, но где все
певуче, все недосказано, где эти прекрасные стихи так или иначе все же
идут от меня. Это обиняками, недосказанностями, окольными путями
Блок дал мне понять. Я отдалась странной прелести наших
отношений. Как будто и любовь, но в сущности — одни литературные
разговоры, стихи, уход от жизни в другую жизнь, в трепет идей, в
запевающие образы. Часто, что было в разговорах, в словах, сказанных мне,
я находила потом в стихах. И все же порою с горькой усмешкой
бросала я мою красную вербену, увядшую, пролившую свой тонкий
аромат так же напрасно, как и этот благоуханный летний день. Никогда
не попросил он у меня мою вербену, и никогда не заблудились мы в
цветущих кустах»30.
Какие прекрасные, глубокие и искренние строки! Может быть,
самые искренние во всей книге Л.Д. Блок. И чистые. И все потому,
что в них выражена правда. Правда не одной только Любови Дми-
303
триевны, но и их взаимоотношений с Блоком, ибо в очень понятные
и по-человечески легко объяснимые отношения влюбленных друг в
друга юноши и девушки вмешалась великая неправда символистского
искусства. Последние слова вовсе не оговорка, не каприз вкуса и уж,
конечно, не злое желание приуменьшить большие заслуги
художников-символистов перед русской культурой. Речь о другом: о
стремлении русского символизма подчинить жизнь законам искусства, о его
неотступном желании выстроить ее по лекалам и чертежам
символистской эстетики. Если и дал Блок повод Любови Дмитриевне ревновать
его к искусству, то это была ревность женщины к искусству
символическому. Если не входить здесь в дурные наклонности ее характера, не
вспоминать о сложностях человеческой натуры поэта, то именно оно
отнимало и наконец отняло у нее Блока.
Есть в воспоминаниях Л.Д. Блок о «мистическом лете» одна
зарисовка, которая заслуживает того, чтобы о ней вспомнили. «Жироду в
романе "Белла" говорит, — писала она, — что героев его, в первые две
недели их встреч, ничто не тревожило на пути, не встречалось ничего
нарушающего гладкое течение жизни... У нас совсем наоборот; во все
поворотные углы нашего пути... вечно "тревожили" нас "приметы".
Никогда не забывался ни Блоком, ни мной мертвый щегленок,
лежащий в траве на краю песчаной дорожки, ведущей в липовую аллею, по
которой мы ходили (взад и вперед), и при каждом повороте яркое
пятнышко... тревожило душу щемящей нотой обреченной нежности»31. Вот
именно: нежность к Блоку только начинала закрадываться в сердце юной
Любы Менделеевой, однако отношения эти уже пророчески
воспринимались ею в тонах обреченности: лежащий в траве мертвый щегленок
интуитивно осознавался обоими как знак судьбы.
И все-таки она ждала. Если бы у нее спросили — чего, она вряд
ли смогла бы сказать по этому поводу что-нибудь определенное.
Однако внимательное чтение ее воспоминаний убеждает: к лету
1901 г. Любовь Дмитриевна уже успела свыкнуться с мечтой о «ее»
Блоке. Девичье чутье подсказывало ей, что ее встречи с Блоком не
«одни литературные разговоры», что они скрывают любовь. Более того,
она начала догадываться, что «литературные разговоры» и любовь,
стихи и ее образ спаяны в сознании Блока в единое целое, оторвать
одно от другого невозможно. Правда, пока еще она не очень верила
в могущество воздействующих на поэта мистических чар и с прису-
304
щим ей от природы «неизбывным оптимизмом» надеялась
преодолеть их влияние силой излучаемых всей ее юной прелестью чар
девичьих.
В ожидании «разговора» с Блоком, который, по ее трезвому
суждению, «должен был, наконец», произойти (под «разговором» Люба
разумела, конечно, объяснение Блока в любви), она однажды даже
«заставила» его приехать в Боблово в нарушение «ритма его
посещений». Когда все близкие ушли из дома («минуты одиночества» в
столь решительный для нее час она и добивалась), Любовь
Дмитриевна «всеми силами души перенеслась за те семь верст», которые
разделяли Шахматово и Боблово, и «сказала» Блоку, чтобы тот
приехал. И он действительно приехал, чему, по ее признанию, она «не
удивилась», ибо считала: «Это было неизбежно». «Мы стали ходить
взад и вперед по липовой аллее нашей первой встречи, — вспоминала
Л.Д. Блок. — И разговор был другой. Блок мне начал говорить о том,
что его приглашают ехать в Сибирь к тетке (С.А. Кублицкой-Пиот-
тух. — B.C.), он не знает, ехать ли ему, и просит меня сказать, что
делать; как я скажу, так он и сделает. Это было уже много, я могла
уже думать о серьезном желании его дать мне понять об его
отношении ко мне. Я отвечала, что сама очень люблю путешествовать,
люблю узнавать новые места, что ему хорошо поехать, но мне будет
жаль, если он уедет, для себя я этого не хотела бы. Ну, значит, он и
не поедет. И мы продолжали ходить и дружески уже разговаривать,
чувствуя, что двумя фразами расстояние, разделявшее нас,
стремительно сократилось, пали многие преграды»32.
Конечно, Люба Менделеева хотела не такого разговора.
«Самоощущение двух заговорщиков» — дело, разумеется, неплохое, оно способно,
наверно, даже приятно пощекотать нервы, но только за неимением
большего. Хорошо, когда двое неравнодушных друг к другу людей
оказываются связанными между собой «крепкими узами, надежным
доверием», когда они уже начинают понимать «друг друга с полуслова...».
Однако спросим себя еще раз: разве этого хотела Любовь Дмитриевна?
Маленькая победа, движение вперед на полшага ее уже явно не
устраивали. Разве не сама ли она чуть ниже процитированного отрывка с
горечью признавала, что «этот разговор ничего вполне не изменил»,
а оценивая итоги «мистического лета», констатировала: они с Блоком
«оставались по-прежнему жизненно далеки»33?
305
Почему же воссозданные Л.Д. Блок события приняли именно такой,
а не иной оборот? Если между нею и Блоком «пали многие преграды»,
то какие же остались? И почему? Кто был в этом виноват?
Мы видим, что Любовь Дмитриевна была настроена самым
решительным образом. Дружеский разговор — это совсем не то, чего она
хотела бы от Блока, на что рассчитывала. Но что собственно она могла?
Броситься на грудь Александра Александровича (так, кажется, она тогда
его называла?) со словами: «То в вышнем суждено совете... / То воля
неба: я твоя...»? Однако подобный романтически-аффектированный
жест был совсем не в ее характере. Он даже показался бы ей
чудовищным. Да, решительность — это ее стиль, но на первый шаг (по крайней
мере, в ту пору) она не была способна. Увы, душевный состав ее
личности, если будет позволено так выразиться, был лишен теплоты и
ласковой деликатности, зато изобиловал колючим упрямством —
всегдашней ее суровостью, как это представлялось Блоку. Она была способна
даже расплакаться перед иконой Казанской Божией Матери в Казанском
соборе («... пришли облегчающие, успокоительные слезы»), когда зимой
1901—1902 гг. неожиданно для себя самой под усиливающимся
влиянием поэта «пришла к некоторой церковности» и посещения
петербургских соборов вошли в обычай. Но только наедине с собой.
В сумерки 17 октября 1901 г. Любовь Дмитриевна встретила Блока.
Сказала, куда и зачем идет. «Позволила (как ярко характеризует ее
этот жест! — B.C.) идти с собой». Но послушаем ее воспоминания.
«Мы сидели в стемневшем уже соборе на каменной скамье под окном,
близ моей Казанской. То, что мы тут вместе, это было уже больше
всякого объяснения. Мне казалось, что я явно отдаю свою душу,
открываю доступ к себе. <...>
Блок много и напряженно писал в эти месяцы. Встречи наши на
улице продолжались. Мы все еще делали вид, что они случайны. Но
часто после Читау (с осени 1901 г. Л.Д. Блок посещала театральные
курсы Марии Михайловны Читау. — B.C.) мы шли вместе далекий путь
и много говорили. Все о том же. Много о его стихах. Уже ясно было..,
что связаны они со мной. Говорил Блок мне и о Соловьеве, и о душе
мира, и о Софье Петровне Хитрово, и о "Трех свиданиях", и обо мне,
ставя меня на непонятную мне высоту»34.
Характер характером, но бедную Любу Менделееву пора и
пожалеть. Лето 1901 г. прошло в разговорах, пришла осень, а потом и зима.
306
И все те же разговоры и «все о том же». Взрослеющей девушке уже
начинало казаться, что она отдает Блоку свою душу, а может быть, и
всю себя, а он ей — рассуждения о ней как символе мировой души.
И чтобы откровения его выглядели бы более убедительными, ссылался
на мистический опыт Вл. Соловьева, на отношения философа с
любимой им СП. Хитрово, тоже символизировавшей в поэзии последнего
мировую душу и даже саму Софию. И выходило так, что между этой
самой Софьей Петровной Хитрово и ею, Любой Менделеевой, вполне
можно было провести параллель.
Раздражение поведением Блока росло. Однажды в ледяную
петербургскую ночь он провожал Любу на извозчике с чтений у Боткиных.
Как и полагалось, правой рукой придерживал ее за талию. Зная, что
студенческие шинели холодные, девушка попросила его спрятать руку:
«Я боюсь, что она замерзнет». — «Она психологически не замерзнет».
«Этот ответ, более "земной", так был отраден, что врезался навсегда в
память», — признавалась Л.Д. Блок. Вот какими «крохами»
приходилось ей «тешить свои... женские претензии»35. Колючая суровость ее от
этого только усиливалась, разрыв отношений стал почти неминуемым.
Когда мы пытаемся уяснить, почему Блок оставался глухим к
«женским претензиям» Любови Дмитриевны (при условии, разумеется, что
она ничего не заретушировала в своем прошлом и своего поведения не
приукрасила), у нас нет однозначного ответа на этот вопрос.
Предположение о том, что она была настолько дорога ему, что он боялся
каждого своего неверного шага, может иметь, конечно, серьезное
основание, однако его несложно опровергнуть ссылкой на достаточно богатый
любовный опыт, который он накопил ко времени отношений с Любой
Менделеевой. Или он каким-то внутренним чутьем ощущал, что тип
его общения с K.M. Садовской не вполне соответствовал характеру и
культуре его новой возлюбленной? И впрямь, как ни боготворил юный
Блок свою «Оксану», не считал же он ее душой мира! Да и сам этот
философский термин вряд ли был ему тогда известен. А может быть, и
в самом деле, осознав (под воздействием неудачных попыток выстроить
диалог с Любой на понятном ему языке: влюбленность в нее уступила
место «призванию более высокому» — эту фразу из дневника Блока
1918 г. мы уже цитировали), он «перестал жалеть о прошедшем»? Но
победила ли любовная мистика, которой все больше предавался он,
живое человеческое чувство к очаровательной девушке? Может быть,
307
время стерло в памяти Блока ощущение пережитых им в юности
страданий, вызванных, как ему тогда казалось, только гордой
неуступчивостью его любимой — ведь о собственной доле вины в отношениях
с нею он в ту пору не догадывался? Да, стерло. Блоковский дневник
сохранил документ очень большой эмоциональной силы — черновик
неотправленного его письма к Л.Д. Менделеевой от 29 августа 1902 г.;
это были дни, когда его отношения с нею висели на волоске и были
готовы вот-вот оборваться. В нем ни слова о мистике и никакой мистики.
Рассказом о перенесенных страданиях отчаявшийся влюбленный
надеялся замолить близящуюся катастрофу.
«Пишу Вам, как человек, желавший что-то забыть, что-то
бросить — и вдруг вспомнивший, во что это ему встанет. Помните Вы-то
эти дни — эти сумерки? Я ждал час, два, три. Иногда Вас совсем не было.
Но, боже мой, если Вы были! Тогда вдруг звенела и стучала,
захлопываясь, эта дрянная, мещанская, скаредная, дорогая мне дверь подъезда.
Сбегал свет от тусклой желтой лампы. Показывалась Ваша фигура —
Ваши линии, так давно знакомые во всех мелочах, изученные, с
любовью наблюденные. На Вас бывала, должно быть, полумодная шубка с
черным мехом, не очень новая; маленькая шапочка, под ней громадный
тяжелый золотой узел волос — ложился на воротник, тонул в меху.
Розовые разгоревшиеся щеки оттенялись этим самым черным мехом. Вы
держали платье маленькой длинной согнутой кистью руки в черной
перчатке — шерстяной или лайковой. В другой руке держали муфту, и она
качалась на ходу. Шли быстро, немного покачиваясь, немного нагибаясь
вправо и влево, смотря вперед, иногда улыбаясь (от Марьи Михайловны)
(Читау. — B.C.). (Мне все дорого.) Такая высокая, "статная", морозная. <...>
Когда я догонял Вас, Вы оборачивались с необыкновенно знакомым
движением в плечах и шее, смотрели всегда сначала недружелюбно, скрытно,
умеренно. Рука еле дотрагивалась (и вообще-то Ваша рука всегда
торопится вырваться). Когда я шел навстречу, Вы подходили неподвижно.
Иногда эта неподвижность была до конца. Я путался, говорил ужасные
глупости (м.б. пошлости), падал духом... И вдруг, страшно редко, — но
ведь было же и это! — тонкое слово, легкий шепот, крошечное движение,
м.б. мимолетная дрожь, — или все это было, лучше думать, одно
воображение мое. После этого, опять еще глуше, еще неподвижнее.
Прощались Вы всегда очень холодно, как здоровались, за
исключением 7 февраля. До глупости цитировались мной стихи. И первое Ваше
308
слово — всегда легкое, капризное "Кто сказал?", "чьи?" Как будто в
этом все дело. Вот что я хотел забыть; о чем хотел перестать думать.
А теперь-то что? Прежнее, или еще хуже?
P.S. Все, что здесь описано, было на самом деле. Больше это едва
ли повторится. Прошу впоследствии иметь это в виду. Записал же, как
столь важное, какое редко и было, даже, можно сказать, просто в моей
жизни такого и не бывало, — да и будет ли? Все вопросы, вопросы —
озабоченные, полузлобные... Когда же это кончится, господи?»36.
В этих строках — правда Блока. Столкнулись две правды — его и
ее. Одни и те же события (далее в письме Блок вспоминает о
совместном с Любовью Дмитриевной посещении Казанского и Исаакиевского
соборов) увидены разными глазами и, увы, по-разному. У нас нет
основания не доверять какой-либо из сторон. Любят и страдают люди тоже
по-разному. И о разном, и тут уж ничего не поделаешь.
Хотя катастрофа в отношениях между Л.Д. Менделеевой и
Блоком и была определена нами как близящаяся, на самом деле к тому
времени, когда поэт писал эти строки, она давно уже произошла.
Неопределенность положения, в которое, как казалось Любови
Дмитриевне, она была поставлена Блоком, толкнула ее, наконец, на
решительный шаг. Заранее приготовленное письмо дожидалось своего часа,
но, когда он встретился ей на Невском, неподалеку от собора, отдать
ему письмо она не смогла. Такой поступок можно было бы расценить
как потерю гордости — роль же Татьяны Лариной ее явно не
удовлетворяла. Отчетливо давая Блоку понять, что совершаемое ею —
только предлог, она объявила ему, что будет неудобно, если
знакомые встретят ее и его вдвоем на улице, ледяным тоном произнесла:
«Прощайте!» и удалилась. Если даже принять в расчет уязвленную
гордость Любови Дмитриевны, к тому же возложить большую часть
вины в произошедшем между ними на Блока, нельзя не избавиться
от ощущения бесчеловечности ее поступка. Не зря, наверно, он часто
«стыл» и «мерз» в ее присутствии, и это, увы, было только
прологом к его судьбе.
Письмо же Л.Д. Менделеевой замечательное, умное, глубокое,
пророческое, а потому заслуживает подробного цитирования.
«Не осуждайте меня слишком строго за это письмо... Поверьте, все,
что я пишу, сущая правда, а вынудил меня написать его страх стать хоть
на минуту в неискренние отношения с вами, чего я вообще не выношу и
309
что с вами мне было бы особенно тяжело. Мне очень трудно и грустно
объяснять вам все это, не осуждайте же и мой неуклюжий слог.
Я не могу больше оставаться с вами в тех же дружеских отношениях.
До сих пор я была в них совершенно искренна, даю вам слово. Теперь,
чтобы их поддерживать, я должна была бы начать притворяться. Мне
вдруг совершенно неожиданно и безо всякого повода ни с вашей, ни с
моей стороны, стало ясно — до чего мы чужды друг другу, до чего вы
меня не понимаете. Ведь вы смотрите на меня, как на какую-то
отвлеченную идею; вы навоображали обо мне всяких хороших вещей и за этой
фантастической фикцией, которая жила только в вашем воображении,
вы меня, живого человека, с живой душой, не заметили, проглядели...
Вы, кажется, даже любили — свою фантазию, свой философский
идеал, а я все ждала, когда же вы увидите меня, когда поймете, чего мне
нужно, чем я готова отвечать вам от всей души... Но вы продолжали
фантазировать и философствовать... Ведь я даже намекала вам: "надо
осуществлять..." Вы отвечали фразой, которая отлично характеризует
ваше отношение ко мне: "Мысль изреченная есть ложь". Да, все было
только мысль, фантазия, а не чувство хотя бы только дружбы. Я долго,
искренно ждала хоть немного чувства от вас, но наконец, после нашего
последнего разговора, возвратясь домой, я почувствовала, что в моей
душе что-то вдруг навек оборвалось, умерло; почувствовала, что ваше
отношение ко мне теперь только возмущает все мое существо. Я живой
человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня
смотрят как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую, мне
это невыносимо, оскорбительно, чуждо. Да, я вижу теперь, насколько
мы с вами чужды друг другу, вижу, что я вам никогда не прощу то, что
вы со мной делали все это время, — ведь вы от жизни тянули меня на
какие-то высоты, где мне холодно, страшно и... скучно»37.
Вот она — правда Л.Д. Менделеевой! Конечно, наша героиня
пришла к ней совсем «не вдруг» и вовсе не без «повода» с ее и особенно с
его стороны. Логика неотданного письма опровергает утверждения его
автора. «Прекрасная Дама взбунтовалась» давно (мы это наблюдали),
но то, что до времени она предпочитала прятать под маской холодной
вежливости и внешней суровости, исподволь надеясь на
благополучный исход своих затянувшихся отношений с Блоком, 29 января 1902 г.
вылилось, наконец, в крик ее души, чем и является, собственно говоря,
процитированное письмо. Живая жизнь и философская ее интерпре-
310
тация или, лучше сказать, ее рассудочное препарирование
столкнулись на его страницах в жесткой схватке. Любовь Дмитриевна дала бой
соловьевскои мистике вечной женственности и полагала, что выиграла
победу. Хотя бы моральную. Мы еще увидим, что центральная идея
ее письма окажется актуально-мучительной для Блока и его жены на
многие годы, пока же представим себе следующую ситуацию.
Предположим на минуту, что, выслушав аргументы своей возлюбленной,
он сошел бы со своих «высот», стал бы просто любовником и
просто семьянином (вскоре, кстати, эти возможности он испробует), и
спросим себя: не испытал бы он в этом случае те же чувства, которые
столь проникновенно описала Любовь Дмитриевна? Остался бы
Блоком? Ответ настолько очевиден, что в комментариях не нуждается.
И впрямь, в тугой узел связала судьба этих чуждых друг другу людей
(ох, как права оказалась в этом случае Любовь Дмитриевна!) — не
распутать, не развязать, лишь горе мыкать. А самое главное — никакого
устраивающего обе стороны решения сложившейся проблемы нельзя
было предложить: каждая из сторон упорно стояла на своем.
Несмотря на желание «все покончить разом» (фраза из последнего
абзаца процитированного письма), Л.Д. Менделеева не отдала его Блоку,
кажется, не только из-за девичьей гордости. В данной связи
представляется несколько странным, что окончательного разрыва ее
отношений с поэтом тоже не произошло. «...Письмо передано не было,
никакого объяснения тоже не было, nach wie vor*, так что "знакомство"
благополучно продолжалось в его "официальной" части и Блок бывал у
нас по-прежнему», — это ее собственные слова. Правда, лето в Боблове
она «провела отчужденно от Блока», потом надолго уехала к кузинам
Менделеевым под Можайск, надеясь встретить там их двоюродного
брата, по рассказам — красивого молодого актера. Однако «судьба...
или берегла» ее, или «издевалась» над ней — «интересовавший» ее
человек (замена Блоку?!) не приехал, и она «со зла... флиртовала с
товарищами Миши Менделеева (внучатого племянника ее отца. — B.C.),
мальчишками-реалистами...»38.
Понять психологическое состояние Любови Дмитриевны, конечно,
можно, особенно если принять в расчет, что ее решительное
поведение на Невском отчасти преследовало цель подтолкнуть Блока к объ-
* Ни тогда, ни после (нем.).
311
яснению в любви, перевести их отношения из разряда «знакомства» в
разряд любовных отношений. Мы вовсе не настаиваем на том, что это
была отчетливо осознанная ею цель, скорее всего, она носила
импульсивный характер. Отдать Блоку письмо было бы слишком рискованным
шагом — Любовь Дмитриевна не могла, очевидно, предугадать всех
его последствий для себя. Но главное, что подтверждает нашу гипотезу
и дает ей право на существование, — это содержание самого письма.
Писалось оно, видимо, в те минуты, когда человек бывает предельно
искренним и перед самим собой и перед другим человеком. Иначе не
сказать правды, а в этом письме много горькой и грустной правды.
Главной его мыслью, конечно, была мысль о необходимости разрыва
всех отношений с Блоком, однако, развивая ее, объясняя своему
адресату причины задуманного ею поступка, определяя степень его вины
перед собой и указывая ему на причины, ее повлекшие, Л.Д.
Менделеева одновременно и подсказывала поэту (в момент создания письма она
скорее всего искренне верила, что обязательно передаст его по
назначению), как он мог бы избежать драмы и что не поздно еще сделать,
чтобы выправить положение. Не философия, а действие тут надобно,
не дружба, а любовь да не к отвлеченной идее, а к ней, живой и теплой
Любе Менделеевой, — вот на чем она стояла и что отстаивала.
Что же касается Блока... «Я рвалась в сторону, рвалась от
прошлого, — воссоздавала Любовь Дмитриевна характер своих
переживаний после 29 января, — (но) Блок был неизменно тут, и все его
поведение показывало, что он ничего не считает ни потерянным, ни
изменившимся»39.
Однако слова эти не соответствуют действительности, поскольку
неверно трактуют психологическое состояние поэта. Образ Л.Д.
Менделеевой так давно и так глубоко вошел в его сердце и душу,
подчинив себе всю его жизнь и став его музой, что разрыв с ней означал бы
для него полнейшую катастрофу. Поэтому первым порывом его души
оказалось отчаянное стремление показать ей, что она для него значит.
Получив подробнейшее объяснение на сей счет, наивно полагал он,
она сочтет разрыв с ним невозможным, и все встанет на свои места.
Но, видно, судьба берегла не только Любовь Дмитриевну, но и Блока: и
это его письмо и следующие два в том же духе были переданы ей не по
горячим следам событий, а несколько позже, когда страсти несколько
поутихли, — иначе «разрыва» было бы не миновать.
312
Дело вот в чем. Как и Л.Д. Менделеева, Блок понимал (это отмечает
и его жена), что его объяснение с возлюбленной неизбежно, однако
медлил с ним. События 29 января этот шаг ускорили: в тот же день он
лихорадочно настрочил ей письмо, абсолютно не догадываясь не только о
существовании ее письма, но и (это самое существенное) о его
содержании. Прочти он его, вряд ли он отправил бы свой вариант
«объяснения» по назначению: в нем в откровенно гипертрофированной форме
(ситуация обязывала) было выражено именно то, что вызвало гневную
отповедь Л.Д. Менделеевой.
«То, что произошло сегодня, должно переменить и переменило
многое из того, что недвижно дожидалось случая три с половиной года.
Всякая теория перешла непосредственно в практику, к несчастью,
для меня — трагическую. Я должен (мистически и по велению своего
ангела) просить Вас выслушать мое письменное покаяние за то, что я
посягнул или преждевременно, или прямо вне времени на божество
некоторого своего Сверхбытия; а потому и понес заслуженную кару
в простой жизни, простейшим разрешением которой будет смерть по
одному Вашему слову или движению. Давно отошло всякое
негодующее неповиновение. Теперь передо мной впереди ныне только чистая
Вы, и, простите за сумасшедшие термины, — по отношению к Вам, —
бестрепетно неподвижное Солнце Завета, я каюсь в глубочайших
тайниках, доселе Вам только намеревавшихся открыться — каюсь и умоляю
о прощении перед тем, что Вы (и никто другой) несете в Себе». Далее
Блок пытался «просто» (надо полагать, простыми словами) объяснить
Любови Дмитриевне, какая тайна и какая сила заключена в ее
существе и почему он вынужден (и обязан!) припасть губами к этому
источнику. «...Моя жизнь, т.е. способность жить, — формулировал он свою
мысль, — немыслима без Исходящего от Вас ко мне некоторого
непознанного, а только еще смутно ощущаемого мной Духа. Если
разделяемся мы в мысли или разделяемся в жизни (а последнее было, казалось,
сегодня) — моя сила слабеет, остается только страстное
всеобъемлющее стремление и тоска». Путаясь, сбивчиво, но он все-таки стремился
втолковать Любови Дмитриевне, что «этой тоске нет исхода в этой
жизни», разумея под «этой жизнью» скорее всего жизнь
посюстороннюю, бытовую или, как определяют ее философы, феноменальную. Как
раз ту, которая столь мила была сердцу его Прекрасной Дамы, живой,
а не стихотворной, и личное право на которую она упрямо отстаивала
313
в своем письме. Сильнейшим аргументом, подтверждающим
справедливость высказанной идеи, Блок счел ссылку на собственный опыт.
Тоска «не прекращается», замечал он, даже в присутствии Любови
Дмитриевны, она только «ослабевает», причина же данного явления,
по его мнению, кроется в том, что «должного» («окончательного»)
единения между ним и ею нет, и в «этой жизни» не может быть в
принципе! Отсюда, полагал Блок, следует «ясный переход, прямо здраво
логического, не говоря о прочем, свойства: если окончательного
единения быть в этой жизни не может, а чистая цель есть
окончательное единение, то не оторваться ли от этой жизни?..» Однако «чистая
цель» — перспектива, пока же, завершал он свои рассуждения, «испы-
туя и злодействуя, зову я Вас, моя Любовь, на предпоследнее деяние;
ибо есть в жизни время, когда нужно это предпоследнее деяние, чтобы
не произошло прямо последнее. Зову я Вас моей силой, от Вас
исшедшей, моей молитвой, к Вам возносящейся, моей Любовью, которой
дышу в Вас, — на решающий поединок, где будет битва
предсмертная за соединение духов утверждаемого и отрицаемого. Пройдет три
дня. Если они будут напрасны, если молчание ничем не нарушится,
наступит последний акт. И одна часть Вашего Света вернется к Вам,
ибо покинет оболочку, которой больше нет места живой; а только —
мертвой. Жду. Вы — спасенье и последнее утверждение. Дальше —
все отрицаемая гибель. Вы — Любовь»40.
Ничего «здраво логического» в этом письме не было и не могло
быть: то, что Блок хотел в нем выразить, не поддается языку логических
формул. Ясно было одно: уразумев, что Л.Д. Менделеева как божество
заключает в себе некое сверхбытие и, следовательно, неподвластна
действию законов времени, Блок рискнул перейти от теории к практике,
возжелал (увы, «преждевременно», в чем теперь и раскаивался)
«довременной» «или прямо вне времени» «гармонии самого себя...». Однако
жизнь есть жизнь, у нее свои законы, одним максималистским рывком
их власть не одолеть. Думать иначе — значит уже находиться за ее
пределами, что пока, к сожалению, недостижимо. Событие 29 января,
полагал Блок, и было «заслуженной карой» за его максимализм.
Единственную свою большую вину перед Любовью Дмитриевной он видел в том,
что не сумел пробудить в ее сознании адекватное представление о сути
своего отношения к ней, о мистическом смысле их взаимоотношений
друг с другом и о той роли, которую она в них играла и играет. Поэ-
314
тому он и призывал ее в этом письме-объяснении совершить вместе с
ним «предпоследнее деяние», которое в крайне туманной форме
определял как некую «битву предсмертную за соединение духов
утверждаемого и отрицаемого».
Если бы мы не знали о существовании процитированного выше
письма Блока от 29 августа 1902 г., где он с любовью восстанавливал в
своей памяти черты дорогой для него девушки, которую часами
ожидал на петербургском морозе возле курсов М. Читау, можно было бы и
впрямь поверить в позднейшую его версию о победе в его душе более
высокого призвания над простой влюбленностью в Любу Менделееву.
Однако, к счастью, оно сохранилось, и это дает нам основание
говорить о сложном составе чувства поэта.
Между тем он считал своим жизненно важным долгом посвятить
Л.Д. Менделееву в открытое им мистическое содержание ее личности.
Ни о чем подобном, разумеется, говорить с ним она не собиралась, и
Блок решил прибегнуть к помощи писем. Но странное дело — он их ей
не отправлял. То ли в его сознании срабатывали остатки чувства
благоразумия, то ли он искал более четких формул, чтобы глубже уяснить
себе самому содержание своего мистического знания о ней и только
затем посвятить в него Любовь Дмитриевну.
К слову, 5 февраля 1902 г. он писал ей: сделайте так, «чтобы я мог
Вас увидеть, хоть один еще раз, чтобы сказать Вам то, что здесь (в
письме. — B.C.) не может быть сказано, и чтобы окончательно можно
было решить, что мне делать; ведь и Вам не может быть неощутительно,
хоть в малой мере, странное и туманное положение вещей». Между
5 и 7 февраля — о том же, но более интригующе: «Может быть то, что
мне необходимо сказать Вам, будет очень отвлеченно, но зато
вдохновенно, а все вдохновенное Вы поймете. Я же должен передать Вам
ту тайну, которой владею, пленительную, но ужасную, совсем
непонятную людям, потому что об этой тайне я понял давно уже
главное, — что понять ее можете только Вы одна, и в ее торжестве только
Вы можете принять участие». 16 сентября он решился наконец
посвятить ее в свою тайну. Начал Блок с того, что сообщил ей о том, что
четыре года назад влюбился в нее, однако теперь, продолжал он,
«положение вещей изменилось настолько, что я принужден уже тревожить
Вас этим документиком (письмом. — B.C.) не из простой
влюбленности... Дело в том, что я твердо уверен в существовании таинственной и
315
мало постижимой связи между мной и Вами. <...> Отсюда совершенно
определенно вытекает то, что я стремлюсь давно уже как-нибудь
приблизиться к Вам... Разумеется, это и дерзко и в сущности даже
недостижимо (об этом еще будет речь), однако меня оправдывает
продолжительная и глубокая вера в Вас (как в земное воплощение пресловутой
Пречистой Девы или Вечной Женственности, если Вам угодно знать).
<...> Итак, веруя, я хочу сближений — хоть на какой-нибудь почве.
Однако... сближение оказывается недостижимым прежде всего по той
простой причине, что Вы слишком против него.., а далее — потому что
невозможно изобрести форму, подходящую под этот весьма, доложу
Вам, сложный случай отношений»41.
Раздражение Л.Д. Менделеевой вызывала, как мы помним, не только
неопределенность ее положения, но и то, что эту неопределенность
обусловливало: ее превращали в некую «отвлеченность», игнорируя при
этом подлинную ее ценность — женскую природу. Теперь
«отвлеченность» получала имя, петербургская курсистка оказывалась земным
воплощением вечной женственности. Личную проблему Любови
Дмитриевны такой подход к делу не только не разрешал, но еще больше
запутывал. Даже для Блока форма его отношений с Любой
Менделеевой как символом вечной женственности составляла загадку. И
выяснилось это за полтора года до свадьбы. Вскоре же этот «сложный
случай» выльется и для него и для нее в неразрешимую жизненную
проблему, которая, в свою очередь, найдет отражение на страницах первой
книги поэта — «Стихи о Прекрасной Даме».
2. «Земное небожителъство»
Наступит черед анализа и этих «Стихов», однако прежде полезно
было бы, на наш взгляд, посмотреть, как складывалась и развивалась
концепция Блока в ее, так сказать, теоретическом аспекте, тем более что
его многочисленные записи в дневнике и записных книжках,
переписка с современниками и будущей женой обычно привлекаются только
в качестве иллюстративного материала к блоковской лирике.
Приступая к этой работе, мы, разумеется, понимаем, что подобный подход
неизбежно схематизирует мысль Блока в ее собственно поэтическом
выражении, однако за неизбежными потерями, думается нам, таятся и
316
обретения, ибо благодаря этому шагу отчетливо проступают контуры
его поэтической идеи.
Первой попыткой ее теоретического осмысления была оставшаяся
незавершенной статья о русской поэзии, над которой Блок работал с
декабря 1901 по январь 1902 г. При всей размытости,
неопределенности центральной мысли этого наброска ее можно сформулировать
следующим образом. Искусство (и в особенности поэзия) есть познание
тайны мира, некоего «божества, непостижимого для глупцов»,
«желание соединения» с ним. Это положение приобретает особую
актуальность для современной эпохи, когда «на великую философскую борьбу
вышел гигант — Соловьев», «осыпались пустые цветы позитивизма, и
старое древо вечно ропщущей мысли зацвело и зазеленело
метафизикой и мистикой» (VII, 27, 28, 23). Если сказанное в известной степени
справедливо по отношению к искусству прошлого, то оно составляет
суть новой поэзии — символизма, считает Блок.
Ничего оригинального в статье начинающего поэта нет да и не могло
быть, ибо он повторял зады символистских деклараций, в частности,
заметок В. Брюсова «Истины», опубликованных в первом выпуске
альманаха «Северные цветы на 1901 год», и книги Д. Мережковского
«О причинах упадка и о новых течениях современной русской
литературы» (СПб., 1893). Но для нас в данном случае важнее другое:
молодой Блок задумался о единстве сущего в мире, поставил искусство в
связь с познанием этой цельности, обнаружил свое родство с поэзией
«хороших», как он выразился, декадентов. Причем последние и,
следовательно, он сам оказались в его исследовании «духовными детьми»
«великих учителей» — Тютчева, Фета, Полонского, Вл. Соловьева,
жаждущими синтеза, или, по словцу Мережковского, которым Блок
воспользовался, «созерцания двух бездн» (VII, 29).
При этом вырисовывается очень любопытная картина. Хотя Блок
отделил «хороших» декадентов от «плохих», он целиком оказался во
власти религиозно-нравственного релятивизма «упадочников». Так,
рассуждая о божестве, познание которого является содержанием
истинного искусства, он говорит, что оно «"в разных образах" владеет
сердцами своих апостолов». Что же это за образы? «Над одним, — развивает
свою мысль Блок, — простерлось Светлое Существо —
"Женственная Тень". Другой еще горит глубокими ранами божественного
Учителя. Третьего волнуют темные соблазны, над которыми, как над вся-
317
кой "черной глыбой" , скоро вознесутся "лики роз" и брызнет
ослепительный неиссякающий Свет» (VII, 27).
Вот уж воистину «все смешалось в доме Облонских»! Вечная
женственность, Христос, «темные соблазны» поставлены в один ряд на том
основании, что обращение к ним якобы одинаково свидетельствует о
погружении поэта в тайны мира и собственной души, что является,
по Блоку, признаком подлинности поэзии. Особенно показательно это
«еще» по отношению к Христу: создается впечатление, что для автора
статьи (и это предположение подтвердится в последующем)
Богочеловек не самая истинная и не самая последняя глубина.
Впрочем, что же говорить о более поздних временах: и материал
данной работы дает достаточные основания для подтверждения
высказанного предположения. К примеру, размышляя о том, что в новой поэзии
зарождается нечто доселе «еще неведомое», Блок считает это «делом
Вечного Бога». «Мы еще только смотрим, содрогаясь, и смутно ждем
конца, — рассуждает он. — Кто родится — бог или диавол, — все равно;
в новорожденном заложена вся глубина грядущих испытаний; ибо нет
разницы — бороться с диаволом или богом, — они равны и подобны;
как источник обоих — одно Простое Единство, так следствие обоих —
высшие пределы Добра и Зла — плюс ли, минус ли — одна и та же
Бесконечность» (VII, 28). Вот оно что! «Вечный Бог» Блока — метафора
«Бесконечности», это не христианский Бог. Блок не держится «строго
богословского духа», ему просто-напросто тесно в этих рамках, а потому
он заменяет Бога положительной религии неким безличным и
неопределенным «Простым Единством»: «...бог... во всем... — не в одном небе
бездонном, айв "весенней неге" и в "женской любви"» (VII, 28, 22).
С последними словами, пожалуй, можно было бы и согласиться, если
бы в них не так явно проступала бы мысль язычника Фалеса, на
которую очень любил ссылаться юный Блок: «Все полно богов». Таким
образом, языческие источники восприятия Бога как «Простого
Единства» в наброске статьи довольно отчетливы, и как тут не вспомнить
уже цитировавшееся выше признание позднего Блока об этом периоде
своей творческой деятельности и именно по этому поводу: «...я молюсь
(опять богу: Боже без лица, как всегда)...»
Именно такому «богу» проявлял «покорность» автор уже
создававшегося в то время цикла «Стихи о Прекрасной Даме», связывая его в
своем сознании с Платоном. Отсюда видно, что вступал он в поэзию
318
как пантеист, и тот нравственно-этический релятивизм, который
характерен для анализируемого наброска Блока, в известной мере
проистекает из особенностей данной миросозерцательной системы42.
Незримая связь с нею присутствует и в том случае, когда он
рассуждает об идее вечной женственности в русской поэзии: ведь эта, по
определению Вл. Соловьева, «новая богиня» — одно из проявлений того
бога, связь с которым, с точки зрения Блока, особенно остро
переживает новая поэзия. Вечная женственность в поэтическом искусстве, как
видно из его рассуждений, — начало синтеза. Но вот что любопытно:
анализируя творчество Тютчева, Фета, Вл. Соловьева, Блок, может быть,
незаметно для самого себя оценивает сделанное ими по степени
присущего им постижения «нижней», а не «верхней бездны». Так, говоря,
что «"женская душа" стихов Тютчева необычайно сильна» и «ведет его
неуклонно», Блок в то же время с некоторой долей укоризны
утверждает, что как «неисправимый романтик» Тютчев «еще не мог
опрокинуться над бездной, которую видел и ведал. Вечно нежная
гармония помешала ему лицезреть весь ужас тайны этой самой женственной
души, ужас, который он все-таки смутно чуял...». И вот эту-то
«бездну отчаянья, самоубийства и высокого восторга», которую «миновал
светлый, невинный и чуждый греха Тютчев», постигают, по
наблюдению Блока, современные поэты (VII, 33, 34).
Да что там современники! Уже Фет, в отличие от Тютчева
решившийся «на громадный шаг отреченья» от традиционных для русской
поэзии тем, сумел постичь всю полноту «женственной тени», во
многих его стихах «явственно и несомненно созерцание двух бездн...». По
утверждению Блока, женское «ты» Фета — «источник жизни поэта»,
его «Белая Церковь», в которой «все чистое от Астарты и Афродиты».
Синтез, так сказать, налицо, но как из смешения темного (Астарта) и
светлого (Афродита небесная) возникла «Белая Церковь» — непонятно,
как неясно, откуда взялась чистота у Астарты. Это головной,
надуманный синтез в духе Д. Мережковского с характерным для его
философствования почти механическим соединением «бездн» плоти и духа; и,
может быть, привлеченный легкостью и простотой такого соединения
двух сторон жизни и «снятия» их в новом синтетическом единстве,
Блок проходит здесь мимо путей, предлагаемых Вл. Соловьевым, не
замечая ни трудностей подвига по преображению жизни, к которому
призывал последний, ни тех роковых ошибок, которые тот совершал
319
на этом пути. Так или иначе, но в замечании Блока, что «вторую
бездну» Вл. Соловьев «перелетел на крыльях лебединых», есть оттенок
этого непонимания и даже проявление некоторого превосходства
младшего над старшим: «перелетел» не только потому, что имел силы, но
и потому, что не углубился (увы, углублялся и углубился!) в данную
проблему, как декаденты (в это число автор статьи включает и самого
себя). Не то, чтобы ученики превзошли своих учителей; «не знающие
грядущего дня,
Мы содрогаемся», —
говорит Блок о своем поколении, но дело в том, уверен он, что в тайну
грядущей гармонии «все-таки не удалось проникнуть» ни столь
почитаемому им Фету, «ни его великому духовному другу Соловьеву» (VII,
34, 36, 37).
На этой многозначительной ноте статья А. Блока обрывается.
Подведем итоги. Под влиянием Вл. Соловьева (об этом мы говорили и
раньше) юный Блок не только осознал и развил смутно ощущаемую
им прежде тему своей жизни и поэзии, но и, как видим, предпринял
первое теоретическое ее осмысление на материале творчества своих
предшественников. Более того, вскоре он запишет в своем дневнике
с некоторым недоумением и одновременной радостью: «...неужели
же и я подхожу к отрицанию чистоты искусства, к неумолимому его
переходу в религию. <...>
Что ж, расплывусь в боге, разольюсь в мире и буду во всем
тревожить Ее сны. "Все познать и стать выше всего"... — великая надежда,
"данная бедным в дар и слабым без труда"» (VII, 44—45). Идея
вечной женственности встала перед ним во весь рост, и именно с нею он
сопрягает религиозные основы своего творчества, а следовательно, и
мечту о близящемся синтезе жизни. Но, как мы видим, познавая жизнь,
он почему-то испытывает острое желание всматриваться именно в
темные стороны действительности и человеческой души. «...Тверда моя
вера... Но надо же и тьмы» (VIII, 24), — напишет он в письме к A.B.
Гиппиусу еще летом 1901 г. и, хотя в данном случае он оперировал
словечком Вл. Соловьева (далее шла обширная цитата из стихотворения
философа «Мы сошлись с тобой недаром...» да и в самой статье
неоднократно возникал этот соловьевский мотив), из рассуждений Блока
непонятно, какова диалектика перехода тьмы в свет, что лежит в ее
320
основе. Положение осложнялось еще и тем, что соловьевская
проблематика, как это видно из нашего анализа блоковского наброска, была
положена поэтом на достаточно чуждую ей пантеистическую основу.
Более того, несмотря на то, что в своей статье Блок ссылается на слова
Фета из предисловия последнего к его переводу второй части
«Фауста» Гете: «Остается одна суть: мужественная воля и влекущая сила
женственности...» (VII, 36), в работе наличествует иное: отсутствие
размышлений ее автора о «мужественной воле», которую утверждал
в своей философско-поэтической концепции Вл. Соловьев, и
тяготение к «влекущей силе женственности». Пытаясь обосновать свою
позицию, Блок даже ссылается на мысль Плотина о «самопоглощении
в боге» как «пути философии, музыки и любви» (VII, 37), а в
приведенной выше формуле его «символа веры» обращает на себя
внимание игнорирование мужественного, волевого начала и в связи с этим
(данное обстоятельство, как увидим в дальнейшем, остро проявится
в его поэзии) утверждение мечты о полном растворении его
личности в женственной стихии: «расплывусь», «разольюсь». Это
наблюдение справедливо даже в том случае, если данные выражения
воспринимать в качестве авторских метафор.
Короче говоря, понимал это Блок или не понимал (скорее всего, пока
не понимал), но вся его неоконченная статья, несмотря на
восторженные слова в адрес Вл. Соловьева, была довольно полемичной по
отношению к философской концепции последнего. И хотя толчок к
осознанию собственной темы дал ему именно Вл. Соловьев, что хорошо видно
и по анализируемой статье, развитие оригинальной творческой позиции
(за нею, разумеется, в первую очередь стоял личный жизненный и
поэтический опыт) шло в несколько ином русле. Дело, конечно, не только
в том, что Блок воспользовался во многом чуждой Вл. Соловьеву
терминологией Д. Мережковского, но и в том, что окончательное
прояснение существа собственных творческих поисков («переход в религию»)
Блок связывает именно с Мережковским. В приведенной выше записи
об этом поэт добавляет, что «склонность» к подобной постановке
проблемы он «ощущал... давно (см. критика на декадентство)»43, но «не мог
формулировать, а Бугаев, Д. Мережковский и 3. Гиппиус вскрыли...».
И здесь же, перед фразой: «Что ж, расплывусь в боге...», стоит
пожелание самому себе: «Прочесть Мережковского о Толстом и Достоевском.
Очень мне бы важно» (VII, 44—45).
321
Период чисто ученического увлечения Мережковскими длился у
Блока недолго, о причинах его охлаждения к ним нам еще предстоит
сказать в дальнейшем. Определенную роль в этом сыграл, конечно,
и троюродный брат А. Блока (он же племянник великого философа)
С. Соловьев, докторальным тоном внушавший поэту: «...истина — только
в христианском учении, понимаемом так, как понимает его церковь.
<...> Все современное мистическое движение — антихрист». Со
всегдашней своей любовью к шутке он распространял подобную оценку
непосредственно на Мережковского: «Димитрий Сергеевич талантлив
здорово, но он забывает, почему собак не пускают в церковь, а кошек
пускают. Он не прочь напустить в церковь и блаженной памяти Изиду,
забывая ее предосудительное поведение в самом раннем возрасте, и
Федора Павловича Карамазова в виде обратной стороны Христа и т.д.
Вообще я боюсь, чтобы будущие историки русской литературы не
разделили ее так, в хронологическом порядке: романтизм, натурализм,
фаллизм...»44 Чуял СМ. Соловьев, что с даровитым старшим братом
происходит что-то неладное, не раз выговаривал ему, что в некоторых
его стихах есть что-то «декадентское» и «антицерковное»45. Не
подозревая еще, что в статье о поэзии кузен уже «пустил» Изиду (она же
Астарта) в свою «Белую Церковь», в профилактических целях он
указывал на последствия подобной позиции на примере Мережковского.
Потом, на короткое время, А. Блок согласится с такой оценкой автора
«Христа и Антихриста», но пока, не замечая игрушечности «бездн»
Мережковского, не внимая увещеваниям С. Соловьева, что «истина —
в символе веры»46, т.е. в церковном догмате, с радостью неофита
провозглашал: «Догматизм, как утверждение некоторых истин, всегда
потребен в виде основания (ибо надо же исходить из какого-нибудь
основания). Но не лучше ли "без догмата" опираться на бездну —
ответственность больше, зато — вернее». И уже совсем твердо: «Выход — в
бездне. (И все выходы в ней.) Не утверждай, не отрицай. Верь и не
верь. Остальное — приложится тебе. А догматизм оставь, потому что
ты — маленький человек — "инфузория", "догадавшаяся о
беспредельности"» (VII, 41—42).
Еще вовсю создавались вещи из будущего цикла «Стихи о
Прекрасной Даме», а из дневника А. Блока вдруг пахнуло «подпольным»
человеком Достоевского: закавыченные слова из только что
приведенной цитаты — автохарактеристика капитана Лебядкина, героя романа
322
«Бесы». Вот уж истинно: если «Стихи о Прекрасной Даме»
«напророчили» весь дальнейший путь А. Блока, то неоконченная его статья о
русской поэзии (нетрудно заметить, что приведенный нами отрывок из его
дневника — некий итог ее, так сказать, побуждение к действию), в свою
очередь, «напророчила» «Стихи о Прекрасной Даме». И как ни условна
эта наша шутка (статья и стихи создавались параллельно), в ней есть
доля смысла: теоретическая работа позволяет яснее и глубже постичь
подтекст знаменитого цикла, расставить в нем необходимые акценты.
Несмотря на то, что «силу Мережковского» А. Блок «почуял»
(VIII, 18) еще с лета 1901 г., знакомство с ним и его женой состоялось
26 марта 1902 г., о чем он упоминает в соответствующей записи
дневника. При этом произошло еще одно знаменательное событие: З.Н.
Гиппиус «дала» А. Блоку «философию Бугаева» (VII, 42). Это была
рукопись статьи А. Белого по поводу книги Д.С. Мережковского о Толстом
и Достоевском, которую к тому времени Блок еще не читал47. Поразило
его показавшееся ему весьма знаменательным совпадение собственных
взглядов с позицией московского «студента-естественника», который,
как и Блок, уже два года испытывал особое чувство; позднее, в статье
«Памяти Леонида Андреева» (1919), поэт определит его лаконичной
фразой: «...катастрофа близка...» (VI, 131). Речь, разумеется, шла о
близящихся апокалиптических катаклизмах, причем выходило, что Б. Бугаев
опережал Блока «теоретическим» осмыслением проблемы и,
следовательно, стимулировал его собственные размышления в этом
направлении. Во всяком случае, «письмо», полученное из рук З.Н. Гиппиус,
еще раз укрепляло Блока в правильности его веры: ведь и в сознании
московского мистика идея «вечной женственности» прочно
сопрягалась с мыслью о конце мира. (Кстати сказать, среди «десяти
положений» Б. Бугаева, тщательно выписанных Блоком в свой дневник, есть
и упоминание об апокалиптической «жене, облеченной в солнце,
долженствующей родить младенца мужского пола, которому надлежит
пасти народы жезлом железным» — мотив будущего программного
стихотворения поэта.)
Статья Б.Н. Бугаева была важна для Блока еще и в том отношении,
что она подтолкнула его к чтению книги Мережковского о Толстом
и Достоевском. С предшествующими работами этого автора, в
частности, с «Вечными спутниками» и первыми двумя частями трилогии
«Христос и Антихрист» — «Смерть богов» и «Воскресшие боги» —
323
он был знаком еще в «мистическое лето» 1901 г., и знание это
отразилось в его неоконченной статье о русской поэзии.
В книге Мережковского внимание Блока привлекла, разумеется, идея
синтеза «двух бездн» — духа и плоти, однако еще в процессе ее чтения
он сделал у себя в дневнике любопытную запись, невольно выдающую
существо и направление его размышлений: «Вижу и понимаю, что надо
поберечь свою плоть. Скоро она пригодится» (VII, 53). Обратим
внимание: не духу, а плоти отводится Блоком роль ключевого звена в
создании собственной философско-поэтической системы и в выборе
жизненных ориентиров. Впрочем, Мережковского он понял верно: язычество
для последнего тайно исповедуемая религия, и, может быть,
подсознательно чувствуя в нем родственную себе душу, тянулся к нему А. Блок,
невольно изменяя «властителю» своих дум (VIII, 22) Вл. Соловьеву,
хотя по-прежнему продолжал оперировать понятиями из его поэзии.
«Мне кажется, — записывает он в июне 1902 г., — что для
деятельности, особенно же мистической, необходимо единство, т.е. так или
иначе — известный синтез.
А для синтеза...»
На этом слове фраза обрывается, но одна из последующих записей
говорит, в каком направлении движется его мысль: «Собирая
"мифологические" матерьялы, давно уже хочу я положить основание
мистической философии моего духа. Установившимся наиболее началом смело
могу назвать только одно: женственное.
Обоснование женственного начала в философии, теологии,
изящной литературе, религиях» (VII, 47, 48).
Чуть ниже в дневнике идет попытка такого обоснования синтеза,
вторая по счету после незаконченной статьи о русской поэзии. На сей
раз она связана с систематизацией «"мифологических" матерьялов» и
направлена на уточнение и теоретическое углубление уже
высказанной прежде точки зрения.
Если не принимать во внимание некоторую неясность
аргументации Блока и подчеркнуто школьный (ученический) ее характер,
то основная мысль поэта сводится к следующим положениям.
Прежде всего Блок четко разграничивает две сферы человеческой жизни
и культуры: одна из них связана с его земным существованием,
другая — с религией. Высший, подлинный синтез возможен, считает
он, лишь на путях религиозного сознания. Но есть область человече-
324
ского духа, занимающая как бы срединное положение между
«землей» (эстетика и этика) и «небом» (религия); эта область —
мифология. В ней встречаются «земля» и «небо», а потому пафос мифологии,
ее, так сказать, центральная тема, по Блоку, — «земное небожитель-
ство». Следовательно, относительно мифологии можно заключить,
что «она еще двулика, как Астарта (это неминуемо: Астарта — γή*);
она — вечный полет и вечное воплощение». Принимая во внимание,
что «проникающее... начало» «земной природы» — «фаллистическое
начало ПОЛА» (двойственность мужского и женского элементов), Блок
итожит: «земное небожительство выражается в понятии пола: это и
есть опрокинутое небо, небо исковерканное, обезображенное. Земля
в образе вселенской проститутки хохочет над легковерным
"язычеством" (восточным!), курящим ей фимиамы. Но та же земля бледнеет
и прячет раскрашенное лицо перед надвигающимся (с Востока же!)
Великим и "Несмутимым"» (VII, 50, 51).
Нетрудно заметить, что Блок оперирует здесь все тем же понятием
«двух бездн», «небом вверху» и «небом внизу» Д. Мережковского, как
нельзя не обратить внимания и на то обстоятельство, что в последней
фразе присутствуют мотивы будущих «Перекрестков» — теория, так
сказать, опережает практику! Впрочем, о двойственности Прекрасной
Дамы («...страшно мне: изменишь облик Ты...») поэт знал и в
«Неподвижности», здесь сказалась и традиция Вл. Соловьева. Не случайно
свою Прекрасную Даму Блок определяет словами последнего (строка
из эпиграфа к циклу): «Темного хаоса светлая дочь!»
По сути дела, эту формулу Вл. Соловьева Блок и воспринимает как
реализацию выдвинутого им понятия «земного небожительства», а
воплощением этого мифологического идеала, который согласно его
представлениям еще не истина, а «порог истины» (истина — религия,
религиозный синтез!), является вечная женственность. Этого заключения ему
достаточно, чтобы прийти к выводу, «что действительный (небесный),
а не лживый (мифологический) свет может воссиять только из тьмы»
(VII, 50, 51). С каким-то фанатическим упорством Блок вновь и вновь
возвращается к известному мотиву Вл. Соловьева: «Свет из тьмы...»
и т.д. (многочисленные рассуждения на эту тему мы находим в его
дневниках, записных книжках, письмах), так что чувствуется: это-то
* Земля (греч.).
325
и есть некий камень преткновения для него — разреши он эту задачу
для себя, и все станет понятным, все станет на свои места.
Вот он возвращается ночью 21 июля 1902 г. из Боблова,
любимая по-прежнему с ним «еле говорит», возможно, «произойдет опять
вспышка». «Что теперь нужно предпринять», он не знает. Положение
усугубляется еще и потому, что свои взаимоотношения с Любовью
Дмитриевной он воспринимает, как мы знаем, в мистическом духе, для
него это «"гносеологическая" встреча» (VII, 39) — и шаги с его
стороны должны быть, следовательно, соответствующие. И той же ночью
он лихорадочно пишет: «Я хочу не объятий: потому что объятия
(внезапное согласие) — только минутное потрясение. Дальше идет
"привычка" — вонючее чудище. <...>
Правда ли, что я ВСЕ (то есть мистику жизни и созерцания) отдам за
одно? Правда. "Синтеза"-то ведь потом, разумеется, добьешься.
Главное — овладеть "реальностью" и "оперировать" над ней уже. Corpus
ibi agere non potest, ubi non est! (Тело не может действовать там, где его
нет. — B.C.)
Я хочу сверх-слов и сверх-объятий. Я ХОЧУ ТОГО, ЧТО БУДЕТ»
(VII, 52—53).
Но это, так сказать, программа-максимум, «теория», и в ней легко
оперировать с высшей реальностью. И добьешься ли на этих путях
синтеза? Какого? Сказочного? Утопического? А как быть, если сердце
волнует чисто человеческое, земное чувство, страсть такая, какая вылилась
в черновике непосланного письма к Л.Д. Менделеевой от 29 августа,
помещенного в том же дневнике и частично нами уже
процитированного? И потом — все это уже было. Было в «вещем сне», с которого мы
начали свои размышления о Блоке, но тогда (даже в состоянии сонной
эйфории) у него хватило духовной трезвости сказать, что он «ошибся».
Собственно о том же он рассуждает в письме к любимой от 29 января
1902 г.: мы хорошо запомнили его слова о «заслуженной каре»,
которой он подвергся из-за своей преждевременной попытки осуществить
мистическую теорию в жизненной практике. Сколь ни была
притягательной для его сознания идея «довременной гармонии самого себя»,
она все больше не устраивала Блока, ибо земная реальность не
сдавалась, не хотела преображаться, и в моменты предельного отчаяния,
каковое, очевидно, он испытывал ночью 21 июля 1902 г., приходилось
подбадривать себя: «То, чего я хочу, будет...» Но весь вопрос в том, тут
326
же признается Блок самому себе, что «я не знаю, что это, потому что я
не знаю, чего я хочу, да и где мне знать это пока\» (VII, 53).
Нет, прежней безоглядной веры в немедленный восход «Солнца Завета»
уже не было, приходилось считаться с несовершенством и
консерватизмом земной природы. Окончательный синтез, по Блоку, — религиозный,
откладывался на «потом», «пока» же необходимо было утвердиться в
промежуточном синтезе, мифологическом. И тут на помощь пришел
«талантливейший господин Мережковский», наведший на мысль, что
«надо поберечь свою плоть». Мы уже цитировали это место из
дневника Блока, но не до конца. Между тем данная мысль имеет
следующее продолжение: «"Отречение от крайностей мистицизма" (мое) не
столь просто. Это шаг не назад, а вперед — к "отрицанию". Здесь есть
утверждение (сознательное) своего рода "неверия". Поберегусь» (VII, 53).
Блоку по-прежнему казалось, что он развивается и, как следует из
анализа софиологии философа, в какой-то степени действительно
развивался в русле идей Вл. Соловьева. И впрямь, разве блоковская
формула «земного небожительства» не соответствует смыслу, какой
вкладывал Вл. Соловьев в понятие Софии? Кроме того, разве не вслед ли
за Соловьевым Блок признавал в качестве окончательного, а потому и
крайне необходимого именно религиозный синтез жизни? Но в том-то
и дело, что из его «"мифологических" матерьялов» было совсем не
ясно, при каких условиях воссияет свет из тьмы. Ведь, по Блоку (и тут
он тоже недалеко ушел от Вл. Соловьева), «историческое
христианство» в эпоху, «когда прошло время гонений и прочих
"раздражающих" и раздувающих пламя факторов», в силу присущего ему
этического содержания «так и не допрыгнуло до религии», а «осталось еще
мифологией...» (VII, 49). Даже если учесть, что философ не всегда был
в ладу с историческим христианством, то ему как автору
«Оправдания добра», в котором отстаивалась и обосновывалась
«нравственная философия», вряд ли пришелся бы по вкусу подобный пассаж его
юного поклонника. Тем более что среди этапов духовной жизни
человечества Блок отводил «"старому" христианству» срединное место между
язычеством и «"новым" христианством», которое, следовательно, и есть
высшая степень духовного восхождения. К подобной теоретической
путанице Вл. Соловьев хотя и имел определенное отношение, однако
в качестве подлинного союзника Блока выступил в данном случае
скорее Д.С. Мережковский. В «"мифологических" матерьялах» поэта чув-
327
ствуется языческая закваска, имеющая источником его
университетские штудии по античной философии, а никак не христианство.
Позднее А. Блок вообще отдаст предпочтение Софии перед Христом (об
этом мы скажем в свой черед), однако первый проблеск «ясности» в
этом вопросе зафиксировался в сознании юного поэта в период
«собирания» им материалов по мифологии.
Это время — некий «пик» его духовных взаимоотношений с
Мережковскими. Не без некоторой гордости он сообщает в письме отцу от
5 августа 1902 г.: «Внешнее мое прикосновение к мирам "иным" и
литературным заключается теперь в переписке с Зин. Гиппиус (женой
Мережковского) <...> Переписка очень интересна, вполне мистична, так что
почти не выходит из круга умозрения (опять-таки — современного, в
духе Дм.С. Мережковского)». Но уже в этой фразе есть некоторое
недовольство своим умонастроением («почти не выходит из круга
умозрения»!), и тут же, рассказывая отцу о своем «умудряющем и
отрезвляющем» чтении, он вынужден признать, что даже оно «оставляет желать
большего в жизненном смысле» (VIII, 41).
Не надо думать, что под напором усиливающегося в его сознании
«раздвоения мечты и жизни» (VIII, 34) Блок отказывается от своего
идеала. Нет, он просто осознает сложность стоящей перед ним задачи,
и его, похоже, начинают не удовлетворять разного рода книжные
синтезы. Все чаще он начинает рассуждать об особенностях своего миро-
отношения: «Мой скепсис — суть моей жизни» (VII, 53), вспоминает
про «беззаконность» своей «природы» (VIII, 40)48, а в заметке о
чтении Мережковского, цитировавшейся выше, делает многозначительную
приписку: «Самоубийство одной моей знакомой. И далее — "по тому же
пути"» (VII, 53). Приписка явно полемична по отношению к читаемому.
И не только потому, что вступает в противоречие с радужной во
многих отношениях философией Мережковского. Может быть, сам того не
осознавая, Блок делает из теоретического «язычества» Мережковского
(вот бы удивился сам теоретик!) практические выводы, к язычеству как
религии имеющие самое прямое отношение: мысль о самоубийстве
действительно владела его сознанием в те дни.
Причем как более последовательного в проведении своей точки
зрения человека Блока едва ли не раздражает «христианство» «"белого"
синтеза» (VIII, 29) Мережковских. Вы, обращается он к 3. Гиппиус в
письме от 2 августа 1902 г., рисуете «широкую белую лестницу», веду-
328
щую к синтезу, и утверждаете, что «еще не поднявшись на высшую
ступень, мы увидим только одну пропасть, отразим в себе только ее
правду, затоскуем, "размечтаемся" под ветхозаветным "кедром
ливанским", забыв прекрасное древо "Нового завета". И вот в этом пункте
Ваши слова нашли мои мысли этих дней...» Что имел в виду Блок?
Вполне возможно, раздумья по поводу мифологии. Разве не в них он
мечтал «о третьей "разумной" ступени», о синтезе «земли» и «неба»?
Но именно в этот момент ему «захотелось... сойти с чисто
мистической дорожки и спокойно взглянуть на нее сверху». И что же? «Ваша
картина, — продолжает Блок, — поистине "эллински" гармоническая,
однако открывает мне другие страны "уныния", "забвения". Здесь
возникает мне параллельный, "схожий" образ других лестниц,
переходов, "лесов":
Мы бродим в неконченном здании,
По шатким, дрожащим лесам,
В каком-то тупом ожидании
Не веря вечерним часам.
{Вал. Брюсов. Tertia Vigiliä)
Об этом иногда страшно думать, потому что и это "действительно",
хоть и "до времени". Это — опрокинутый бог, человек, забывший свое
"подобие божие". Вот сейчас провалятся леса, город тихонько
вздрогнет и поднимется, испарится, прилетит большая птица Человеческой
Надежды, совьет, разовьет крылья и исчезнет. А куда — неизвестно. Вот
оно — неверие, "декадентство", ["реализм действительной жизни-с"].
Ваши слова о двух синтезах примирительны; но я не всегда могу
принять их. Иногда из-за логической гармонии смотрит мне в лицо
безмирное отрицание. И я все еще не могу решить, что это: только ли
"страх со змеиною колючею ласкою", или "страх божий", боязнь
испытывать» (VIII, 38—39). Впрочем, в последнем пункте Блок явно
поскромничал. Несколько ранее, в письме к A.B. Гиппиусу, он
признавался: «Изредка открываю древние и современные Апокалипсисы,
считываю давно ожидаемые и знакомые откровения, дроблю и опять чеканю
в горнилах и логики и мистики. Просто, значит, испытую бога, грешу
неустанно» (VIII, 32).
Вот так. Пытаясь отыскать «противовес крайнему мистицизму»,
который (тут Блок сочувственно цитирует 3. Гиппиус) «влечет за собой
329
"непобедимое внутреннее обмеление"», надеясь преодолеть
«чрезмерную сказочность» своего «недавнего мистицизма», способствовавшего
созданию из жизни «полнейшей иллюзии театра», Блок в то же время
не соглашается и на «логическую гармонию» Мережковского (VIII, 43,
40,42, 39). Нет, пока он отнюдь не предпочитает тьму свету, даже
подбадривает себя: «Разве можно миновать "мрак", идя к "свету"?» (VIII,
37). Но еще меньше, чем прежде, он понимает, откуда возьмется свет.
«...Если б только знал я, где оно — то Солнце бытия», —
сокрушается он, используя для выражения собственных эмоций строки
стихотворения Я. Полонского, выписанного в записную книжку (ЗК, 33),
а несколько позже молит Бога словами «лучшего стихотворения»
студента-самоубийцы В.В. Лапина:
О, Deus, in me sit Tecum concordio mentis
Spiritui sit cum corpore concilium* (VII, 65).
И все же, ощущая, что лето 1902 г. в его судьбе «как будто какое-
то переходное» и даже «разрежая... сгущенную молниеносную
атмосферу» своего недавнего мистицизма «жестокой арлекинадой», он
видит в себе «"апокалиптика", иногда "чающего воскресения мертвых и
жизни будущего века"» (VIII, 42,41). «...Все еще мне мечтается о
крутом (не внезапном ли?) дорожном повороте, долженствующем вывести
из "потемок" (хотя бы и "вселенских") на "свет божий"» (VIII, 40), —
признается он отцу. Несмотря на смягчающие его мысль выражения:
«иногда», «все еще», видно, что апокалиптическое разрешение
мировых противоречий по-прежнему остается для него главной, заветной
надеждой. Причем нас не может не остановить замечание о
«внезапности» грядущего поворота. Ведь в этом произнесенном как бы
скороговоркой слове заключена интимная, сокровенная суть его спора с
концепцией Д. Мережковского, которая, по более позднему признанию
Блока, представляет собой «только узел религии с физикой», отличаясь
к тому же «тяжелой мозговой ленью...» (VII, 68). «Логическому»
апокалипсису Мережковского Блок был склонен противопоставить
«окончательный "апокалипсический"... синтез» в духе Откровения Иоанна,
в котором ему представлялось близким ощущение катастрофично-
* О, Боже, да будет мой разум согласен с тобою,
Да будут согласны во мне дух и тело (лат.).
330
сти бытия. К «"реальному" синтезу» Мережковского, разъясняет он
3. Гиппиус основной «пункт» своего спора с ней, «мы можем
деятельно стремиться», вселенская же катастрофа «явится "помимо" воли».
«...Не заключены ли мы по самой природе своей в рамки одного
ожидания и относительного (по отношению к последнему) бездействия?»
(VIII, 30), — вопрошает он адресата.
С суждением Блока, что Мережковский не учитывает сложности,
антиномичности человеческой природы («Болотце обходимее и
безопаснее наших трясин» — VII, 68), нельзя не согласиться, однако,
полемизируя с рационалистической мистикой Мережковского, он впадал в
другую крайность — в ином ключе и невозможно воспринимать его
размышления о характере грядущего Апокалипсиса. Утверждая, что
мировая катастрофа произойдет как бы сама собой, на фоне хотя бы и
относительного, но все же «бездействия» человека, и даже «помимо»
его воли, Блок отдавался во власть пассивной женственной стихии,
иррациональной по своей сути.
Менее всего это имело отношение к Вл. Соловьеву с присущим для
его философии приоритетом «мужского», «логосичного» начала в
вопросах богочеловеческого синтеза, хотя именно на «внутреннее откровение
(подобное приблизительно Плотиновскому и Соловьевскому)» (VIII, 30)
Блок ссылался в процитированном письме к 3. Гиппиус.
Что за «откровение» имелось в виду? Откровение вечной
женственности, ибо в черновике письма была ссылка на опыт автора «Трех
свиданий». Нельзя не заметить, что в концепции философа Блока
привлекала жизненная, почти чувственная конкретика чаемого
апокалиптического синтеза, как раз то, чего, несмотря на «язычество», начисто был
лишен подход Мережковского.
Вот почему после того, как в ночь с 7 на 8 ноября 1902 г. между
Блоком и Л.Д. Менделеевой произошло наконец так долго
ожидавшееся ими обоими решительное объяснение в любви, а 2 января
следующего года она согласилась стать и его женой, он делает попытку
освободиться от «шатких истин», «неотвязных и часто тяжелых» мыслей о
«живых и мертвых Антихристах и Христах, иногда превращающихся
в какое-то недостойное ремесло, аппарат для повторений, разговоров и
изготовления формул...» «Я... не хочу теорий...» — признается он
любимой в ответ на ее упреки в отвлеченности, а если и занимался
теоретизированием, то «каждый стебель моих теорий» тянулся к конкретному,
331
«каждый цветок и каждая ветвь говорила мне о Тебе». Иначе и не могло
быть, рассуждает Блок, ибо «Ты — Первая Истина, которую я ощутил
(а не понял), — сама Жизнь...». Оттого и мой мистицизм, источником
которого является твое существование, объясняет Блок будущей жене
«основы» своего миросозерцания, и под которым ты почему-то
«понимаешь что-то неземное, засферное, "теоретическое"», «во мне
неразделен с жизнью». Ведь «мистицизм не есть "теория"; это —
непрестанное ощущение и констатированье в самом себе и во всем окружающем
таинственных, ЖИВЫХ, ненарушимых связей друг с другом и через
это — с Неведомым. Это — религиозное сознание, а не
бессознательное затуманивание головы»49.
Подобной точки зрения Блок будет придерживаться всю жизнь, и
здесь он выразил ее достаточно полно и решительно. Но заметим, что
его «религиозное сознание», сводимое к мистике, откровенно пантеи-
стично по своей сути, оно лишь, как мы имели возможность сказать об
этом и раньше, метафора таинственной целостности вселенной. Живым
воплощением этой связи была для Блока его любимая невеста и жена,
необходимая ему, по собственному признанию, «как религия»50.
Блоку казалось, что укрепление в его сознании данного круга
мыслей ставит его наконец на твердую почву, а потому все выдвинутые им
до 7 ноября идеи о синтезе жизни, всколыхнувшись в его душе,
приобрели у него в этот период законченное выражение.
«Нечего отсылать религию за пределы бытия, — пишет он Л.Д.
Менделеевой в самом конце 1902 г., — как это делали средневековые и
некоторые нынешние, невольно "средневековствующие", монашествующие
по бессилию, сами того не сознавая (даже напротив, будучи глубоко
уверены, что они "сводят небо на землю", разумею, конечно,
Мережковского). Но с другой стороны, нечего и утверждать религию на "матушке
сырой земле" (разумею Вас<илия> Вас<ильевича> Розанова).
Последнее очень талантливо, но тоже "слишком" умно. Все — теория, теория.
Религия сама здесь, среди нас, "идеже два или трие во имя Мое — ту
есмь посреди их". Земля низко, небо — далеко, высоко. Между ними нет
середины (всякая середина — ужас и смерть). Но есть то неопределимое
(для чистых теоретиков), неисповедимое, куда вступили мы, куда
привела нас не теория, а жизнь, откуда мы простим других и приблизимся
к богу. А Он — не в огне (сверхмирном), не в землетрясении (земном),
а в "гласе хлада тонка"»51.
332
Нетрудно заметить, что это тот же круг мыслей, который нашел свое
выражение в дневниковой заметке Блока о его «"мифологических" мате-
рьялах». Подходы же к нему мы обнаружили еще в неоконченной статье
поэта о русской поэзии, где он впервые задумался о религиозной
сущности искусства. И если раньше Блок считал «женственное» наиболее
«установившимся... началом» своей поэтической мифологии, то
благосклонность любимой, воспринимаемой им в качестве «земного
воплощения» вечной женственности, вызывала у него не только ощущение
правильности и прочности своей позиции, но и чувство ее
необычайной жизненности, чего он не нашел у Мережковского. Однако,
выдвигая идею «земного небожительства» (именно в этом заключалась суть
блоковского синтеза), он не мог согласиться с откровенным язычеством
В. Розанова. Во всяком случае, он не чувствовал угрозы своему
идеалу с этой стороны даже тогда, когда, охваченный молодой страстью
в ответ на подозрения Л.Д. Менделеевой в «отвлеченности» и
«метафизичности» его идеала, признавался, что любит ее «земной любовью,
что больше этой любви нет пока...». Твердость его позиции была
обусловлена верой в то, что «потом... настанут иные времена»52, т.е.
«земная любовь» приведет к желаемой гармонии окончательного синтеза.
Между тем опасность была нешуточной. Ведь, протестуя против
отсылки религии за пределы жизни, надеясь, так сказать, на
происхождение «света из тьмы» (и сколько правды было в этом бунте
против Мережковского!), Блок невольно как бы переводил Бога из
соответствующей ему трансцендентной сферы в имманентную. Это, в свою
очередь, вело к подмене ноуменального плана бытия
феноменальным, т.е. к тому состоянию, к которому вполне сознательно стремился
В. Розанов!
Из данной посылки вовсе не следует, что блоковскую позицию
необходимо механически отождествлять с розановской. Однако он «заглотил»
изрядную порцию «неоязычества» Розанова, а вкупе с ним и
Мережковского, когда встал на путь обожествления земной женщины.
Причем речь в данном случае идет не об обычном для любовного чувства
романтизированном приподымании предмета любви над бытом, а о
вполне конкретном наделении его статусом богини, «новой богини».
Нельзя сказать, чтобы А. Блок не чувствовал щекотливости
подобной ситуации. Так, в письме А. Белому от 3 января 1903 г., упрекая
последнего в том, что в своей статье «Формы искусства» он не про-
333
вел четкой границы между музыкой как видом искусства и как
символом апокалиптического преображения действительности, Блок задает
адресату вопрос, на который сам был склонен ответить скорее
утвердительно, чем отрицательно: не смешивает ли тот явления
феноменального и нуменального порядков? В своем первом письме к А. Белому
А. Блок столь требователен и настойчив по той причине, что
полагает: «центр» теургического искусства «может оказаться» именно в
Б. Бугаеве, «а... не в соединяющем две бездны Мережковском и проч.»
и тем более не в нем самом, ибо, признается Блок, «мне суждено
испытывать Вавилонскую блудницу и только "жить в белом", но не творить
белое» (VIII, 53, 54)53.
Как видим, Блок понимал и ощущал опасность. В его стихах этой
поры действительно господствовали мотивы «перекрестков» и
«распутий», уводившие его в противоположную сторону от юношеского
идеала. И потому поэт был склонен предупредить об этой опасности
своего будущего друга.
3. «Дисгармония»
Однако за свою жизнь он был теперь спокоен. Ведь произошло то,
во что еще совсем недавно он почти перестал верить: она «пришла и
повеяла», и, следовательно, не могло быть и речи о близкой смерти.
Наоборот, возникла надежда на скорое «изменение» его собственной
природы, точь-в-точь по апостолу Павлу, которого Блок очень любил тогда
цитировать: «во мгновение ока, при последней трубе...» (1-е Коринф.
15:51—52). Такой чудилась ему ее «воскрешающая» сила, во сто крат,
верилось ему, умноженная на божественную мощь Той, с кем у нее
«завет». Блок, разумеется, имел в виду душу мира или Софию. И что
ему оставалось делать, как не молиться своей любимой, хотя он знал,
какой «великий "грех" и великая ересь молиться женщине»54.
Но несмотря на это признание он продолжал ей молиться еще больше,
почти не упоминая, вопреки предупреждению своего учителя Вл.
Соловьева, про небесный источник ее света, а то и просто подменяя ею этот
божественный источник.
«Ты — белее стен Нового Иерусалима, Невесты Христовой <...>
в каждой церкви я вижу Твои образа», «С Тобой, моя Белая Неве-
334
ста, я думаю, дышу и живу», «Малая церковь Твоя — для меня эти
письма...» — такими признаниями пестрят многие его любовные
послания 1903 г.; венцом же подобных мотивов являются следующие строки:
«...миг один, и моя душа сочтет Тебя Девой Марией. И она считает и
считала Тебя Ею»; или в другом месте: «...Дева, Богородица, Матерь
Света!» и т.д. То Дева Мария, а то «розовая Дама», «Золотокудрая
Розовая Девушка» и даже просто «Любочка»55 — в этих экстатических
формулах бьется чувство А. Блока, находя, наконец, для себя выход в
усиливающейся от письма к письму чисто земной страсти.
Мы еще расскажем об этом в свой черед, пока же попробуем
ответить на вопрос: изменило ли блоковское понимание любви подмеченное
нами принципиальное для его позиции смешение бытового и
бытийного планов? Да, «молиться женщине» Блок начал впервые после того,
как в ночь на 8 ноября 1902 г. круто изменилась его судьба: Л.Д.
Менделеева «дала» ему, наконец «Царственный Ответ», что по сути
означало с ее стороны признание в любви к поэту. В том, что оглушенный
счастьем, он отождествлял ее с царственной особой или существом
божественного порядка, нового не было — Блок давно уже считал свою
возлюбленную земным воплощением мировой души. Загадкой для нас
является разве что поведение Любови Дмитриевны. Если не ссылаться
на «предопределение» и будто бы испытанное ею психологическое
ощущение «абсолютной несвободы» в ту памятную ночь, как она делает
это в соответствующем разделе своих воспоминаний и во что, зная ее
характер, трудно поверить, Л.Д. Менделеева, очевидно, рассчитывала
переломить ситуацию в свою пользу. Боязнь потерять ее окончательно,
полагала она, непременно сделает Блока уступчивее по отношению к
ней, заставит его, наконец, посмотреть на нее не как на мистическую
Даму, а как на перешедшую год назад через двадцатилетний
возрастной рубеж девушку, мечтающую о простой человеческой любви.
Любопытно в этой связи отметить, что свое письмо от 29 января она отдала
ему накануне 23 декабря 1902 г. в тайной надежде, что он все же начнет
«осуществлять» то, чего она так долго ждала от него: 8 декабря Блок
снял меблированную комнату на Серпуховской для интимных встреч
с Любовью Дмитриевной.
О 23 декабря мы упоминаем вовсе не случайно. Дело в том, что
ночью именно этого числа он сочинял ответ на то ее давнее письмо,
а одновременно и на до сих пор не прекращавшиеся ее упреки ему в
335
таком же духе. «Я читал Твое письмо, которое Ты дала мне, — писал
Блок, — и подумал, что если бы я получил его тогда же, в прошлом году
(то есть после 29 ян<варя>), я и тогда же разубедил бы Тебя во всем.
Я бы понял тогда сразу, что разом с отвлеченных намеков нужно
перейти к реальному и страстному до сумасшествия признанию во всем.
Может быть, Ты до сих пор думаешь, что было когда-нибудь время,
когда я только думал о Тебе, и не чувствовал Тебя, живую, источник
моей жизни, а не моей фантазии. Этого никогда не было. Было только
время, когда Твоя холодность принимала такие размеры, что мне
оставалось только ждать загробных свиданий. <...> Ты — мой идеал не
только "там", но и "здесь"»56.
Блок ничуть не лукавил. Однако, как мы уже успели заметить, чисто
мужская страсть к Любови Дмитриевне если и не была целиком
вытеснена из его сознания, то под давлением более высокого «призвания»
по отношению к Прекрасной Даме подверглась весьма своеобразной
трансформации. Обращаясь к дневнику поэта, мы уже сталкивались
с его желанием преодолеть телесное чувство к любимой («объятия»)
особой формой любви («сверх-объятиями»). По сути дела, в
цитируемом письме он говорил о том же. Убеждая Любовь Дмитриевну, что
любит ее «земной любовью», Блок не скрывал от нее, что для него это
вовсе не высшая точка или степень данного чувства. Скорее уж
необходимость. К сожалению, рассуждал он, «иные времена» для другой
любви еще не «настали». «Но мне не надо их теперь...» — заканчивал
он свое письмо. Теперь не надо, а потом? Вопрос повисал в воздухе.
И не только для Л.Д. Менделеевой, но, пожалуй, и для самого Блока,
хотя он из письма в письмо продолжал рассуждать на эту тему. В письме
от 16 декабря 1902 г. он говорит о своей готовности «развить» перед
ней «очень стройную, далеко не рассудочную (это важно) систему»,
которая, по его словам, смогла бы объяснить суть его отношений к
любимой, дух «их отличия (резкого, крайнего, полного) от
"обыкновенных" любовных отношений». Однако пора для выявления подобной
«системы», признавал Блок, пока не подоспела, «теперь время еще
первое, туманное, мы еще пробуждаемся, я еще "не угадал Твоего имени",
еще так ослеплен Твоим благоуханным настоящим, что не постигаю
пророчески твоего будущего». Тем не менее в предшествовавшем
данному письме он выражал твердую уверенность: скоро «откроется
внезапное — и мы поймем до конца». В очередном блоковском послании
336
Л.Д. Менделеевой от 18 декабря он все же попробовал в осторожных
выражениях намекнуть ей о том, какое содержание вкладывал в свое
понятие «системы», что ему хотелось бы услышать от любимой в ответ:
«Думаешь ли Ты, как я, о том, что когда-нибудь, скоро, совершится то,
о чем мы и подозревать не можем — с нами? И скоро — "во
мгновение ока". Я не даром надышался твоих вербен, и не даром
пригрезилось мне много странного и великого в эти годы. Ты сильна той
Лазурью, которая не может "быть" без проявления (как истинное "бытие").
Нас колышет, нас влечет и дразнит. Одна женщина, принадлежавшая к
Пифагорейской общине, в VI веке до Р<ождества> Хр<истова> (заметь,
заметь!) написала между прочим вот что: "Когда женщина победит
низшие побуждения и овладеет гневною силою духа, тогда родится в
ней божественная гармония". И все эти Пифагоровы братья и сестры
считали себя "равными блаженным богам". И еще много чего
"странного" есть в истории. "Люди" не поверят всему этому. Хочешь верить
Ты! Я верю»57.
Как глубоко, однако, вошла в плоть и кровь Блока его мистическая
философия, если, даже познакомившись с письмом Л.Д. Менделеевой
от 29 января 1902 г. и узнав оттуда, против чего она выступает и чего
хочет, он продолжал настаивать на своем. И даже более: надеялся
обрести в ней союзника по проведению в жизнь идеи бесполой любви, чуть
ли не в духе 3. Гиппиус.
«Думала» ли она об этом? Блоковский вопрос оказался для нее чисто
риторическим, ибо думала она совсем о другом, даже
противоположном тому, что предлагал ей Блок, ради чего собственно и пошла на
женскую хитрость, выразившуюся в передаче ему своего письма в урочный
час. Отвечая же на блоковское письмо, 18 декабря 1902 г. она писала:
«Ты пишешь что-то, что я не совсем понимаю, но раз ты веришь всему
этому, буду верить и я, пойму потом. Только где я возьму "гневную силу
духа"? Не знаю, ведь теперь-то уж никакой ни воли, ни силы у меня
нет; сила любви — что-то похожее на полное бессилие. Но я все-таки
твердо верю, что, когда это нужно будет для тебя, я сумею и силу найти,
сумею и понять все, пойму, где твое счастье и что я должна делать.
А теперь я понимаю только, что мне нужно видеть тебя, что пока я тебя
не вижу, я точно не живу, так пусто и ненужно все кругом»58.
Похоже, что Л.Д. Менделеева впервые сильно и безоглядно
влюбилась в Блока, причем чувство ее росло с каждым днем. Теперь она
337
была готова принять в любимом то, что раньше вызывало в ней
гневный протест и отторжение. 15 декабря: «...зачем ты говоришь: "опять
отвлеченно"? Разве ты думаешь, что мне "отвлеченное" менее
интересно?» 25 декабря: «Настроение у меня теперь всегда одинаковое, когда
я одна без тебя: полная нечувствительность ко всему, что не касается
тебя, не напоминает о тебе; читать я могу теперь только то, что
говорит мне о тебе, что интересует тебя...» И далее: «Ведь после 7-го
ноября, когда я увидала, поняла, почувствовала твою любовь, все для меня
изменилось до самой глубины; весь мир умер для меня и я умерла
для мира; я всем существом почувствовала, что я могу, я должна и
хочу жить только для тебя, что вне моей любви к тебе нет ничего, что
в ней мое единственное возможное счастье и цель моего
существования»59.
В этих словах все правда. Любови Дмитриевне думалось тогда, что
ее любовь и девичье очарование растопят лед накопившихся за четыре
года между нею и Блоком недоразумений, излишняя отвлеченность
его идеала будет преодолена. Потому она и согласилась на комнату на
Серпуховской, хотя поначалу ее нравственная чистота была от этого
предприятия несколько покороблена. «Мой дорогой, любимый,
единственный, — писала она Блоку 6 декабря, — я не могу оставаться одна
со всеми этими сомнениями, помоги мне, объясни мне все, скажи, что
делать!.. Если бы я могла холодно, спокойно рассуждать, поступать
теоретично, я бы знала, что делать, на что решиться: я вижу, что мы с
каждым днем все больше и больше губим нашу прежнюю, чистую,
бесконечно прекрасную любовь. Я вижу это и знаю, что надо остановиться,
чтобы сохранить ее на век, потому что лучше этой любви ничего нет
на свете; победил бы свет, Христос, Соловьев... Но нет у меня силы, нет
воли, все эти рассуждения тают перед моей любовью, я знаю только,
что люблю тебя, что ты для меня весь мир, что вся душа моя — одна
любовь к тебе. Я могу только любить, я ничего не понимаю, я ничего
не хочу, я люблю тебя... Понимать, рассуждать, хотеть — должен ты.
Пойми же все всей силой твоего ума, взгляни в будущее всей силой
твоего провидения.., реши беспристрастно, объективно, что должно
победить: свет или тьма, христианство или язычество, трагедия или
комедия. Ты сам указал мне, что мы стоим на этой границе между
безднами, но я не знаю, какая бездна тянет тебя. Прежде я не
сомневалась бы в этом, а теперь... нет, и теперь, несмотря ни на что, я верю
338
в тебя, и потому прошу твоей поддержки, отдаю любовь мою в твои
руки без всякого страха и сомнения»60.
Искренности письма мешает излишняя театральная аффектирован-
ность его слога. Создается впечатление, что Л.Д. Менделеева читает
перед Блоком монолог о судьбе невинной девушки, решающейся на
отчаянный поступок во имя любви. В известном смысле так оно и
было, однако после неоднократно упоминавшегося нами письма от
29 января трудно поверить в ее желание сохранить в целости
«прежнюю» их любовь в духе Вл. Соловьева. Скорее наоборот: используя
мистический жаргон Блока, она как бы вступала на его «поле»,
становилась не только влюбленной в него девушкой, но якобы и его
союзницей, надеясь, что в будущем, как говорилось выше, все утрясется само
собой. Идя на эту невинную женскую хитрость, она боролась за свое
счастье, как могла, наивно полагая, что присущее ей понимание
счастья будет усвоено и Блоком.
Однако дело с Серпуховской внезапно застопорилось. Наняв
комнату, поэт заболел. Если же соблюсти абсолютную точность, он заболел
на третий день после объяснения — 10 ноября. Что это была за болезнь,
судить трудно. Любовь Дмитриевна уверяла, что болезнь была особого
рода, такая, о которой «не говорят девушкам...». Возможно, она сказала
правду: с Блоком это случалось; вспоминая о своей юности, в
дневнике 1918 г. он раз об этом обмолвился. Но нам почему-то думается,
что была и другая причина, быть может, более существенная. Конечно,
поэт оберегал репутацию любимой («...меблиров<анные> комнаты...
подозрительное и подмигивающее слово»), однако дело заключалось
в другом: он не мог согласовать в своей душе присущего ему
понимания любви к Л.Д. Менделеевой как «мистической поэмы» с
«обыкновенными» любовными отношениями, для которых подходят именно
«меблированные комнаты».
Но и Любовь Дмитриевна не сдавалась. 14 декабря 1902 г. она писала
из этого убежища: «Мой дорогой, конечно я не буду ходить сюда, если
это тебе хоть немного неприятно; пока же все было хорошо... Мне будет
немножко жалко не ходить сюда, здесь так хорошо думать,
вспоминать о тебе у того же стола, на том же кресле, когда никто не может
помешать». Слова своего она, однако, не сдержала, наведываясь на
Серпуховскую и без Блока, причем нетерпение ее росло день ото дня.
23 декабря: «...завтра я хочу видеть тебя во что бы то ни стало и, кажется,
339
это можно устроить так: я пойду за билетами в Итальянскую оперу, а
оттуда на Серпуховскую часа в два. Только мне можно пробыть никак
не позже 4 часов. Если хочешь, приходи к 2 часам, я постараюсь быть
непременно...» 25 декабря: «Милый, бедный, опять ты болен!.. Это
становится уж совсем несправедливо и жестоко со стороны судьбы... Ведь
это не хорошая судьба насылает на тебя болезнь, а "ветер, который
задувает свечи", с ним надо воевать и делать ему все на зло. Спрятаться бы
от него куда-нибудь, как мы спрятались в нашу комнату! Без тебя мне
не хочется больше ходить туда, буду вспоминать, как я ждала тебя, а
это было совсем не весело: я больше часу просидела в кресле, все
слушала, ждала твоих шагов, боялась пошевелиться, чтобы не пропустить
их...» 2 января 1903 г.: «Я все время всей душой с тобой, жду письма,
жду нашей встречи; так нужно, наконец, поговорить, не скажешь всего
в письме, что хочется сказать»61.
Это последнее письмо Л.Д. Менделеева отправила Блоку в тот
самый день, когда она официально стала его невестой. Со свадьбой,
впрочем, решили повременить: отец Любы Д.И. Менделеев хотел
удостовериться, прочны ли отношения дочери с будущим зятем. 25 мая
1903 г. в университетской церкви состоялось их обручение, вслед за
которым жених и невеста вынуждены были разлучиться на целых
полтора месяца: Блок сопровождал больную мать в Бад-Наугейм. Но
это — в будущем, а пока, невзирая на помолвку, тайные встречи Любови
Дмитриевны с Блоком продолжались.
Принесли ли они счастье обоим, особенно ей?
В каком-то смысле да. Однако уклончивый тон этой фразы вовсе
не случаен. Впрочем, выслушаем Л.Д. Блок. «Думаете, началось
счастье? — началась сумбурная путаница. Слои подлинных чувств,
подлинного упоенья молодостью — для меня, и слои недоговоренностей
и его, и моих, чужие вмешательства — словом, плацдарм, насквозь
минированный подземными ходами, таящими в себе грядущие
катастрофы». И далее: «Я по-детски непоколебимо верила в единственность
моей любви и в свою незыблемую верность, в то, что отношения наши
с Сашей "потом" наладятся.
<...> Короткая вспышка чувственного его увлечения мной в зиму и
лето перед свадьбой скоро, в первые же два месяца погасла, не успев
вырвать меня из моего девичьего неведения, так как инстинктивная
самозащита принималась Сашей всерьез.
340
Я до идиотизма ничего не понимала в любовных делах. Тем более
не могла я разобраться в сложной и не вполне простой любовной
психологии такого не обыденного мужа, как Саша.
Он сейчас же принялся теоретизировать о том, что нам и не надо
физической близости, что это "астартизм", "темное" и Бог знает еще
что. Когда я ему говорила о том, что я-то люблю весь этот еще
неведомый мне мир, что я хочу его — опять теории: такие отношения не
могут быть длительны, все равно он неизбежно уйдет от меня к
другим. А я? "И ты так же". Это меня приводило в отчаяние! Отвергнута,
не будучи еще женой; на корню убита основная вера всякой
полюбившей впервые девушки в незыблемость, единственность. Я рыдала в эти
вечера с... бурным отчаянием...»62.
Для объяснения причин психологического феномена, с которым
столкнула ее жизнь, породив не выдуманные страдания молодой женщины,
Любовь Дмитриевна выдвинула целую теорию, охотно признавая,
впрочем, что «говорить обо всем этом не принято, это область
"умолчания"...». Соглашаясь с нею, мы все-таки отважимся дать ей слово, ибо
умолчание способно посеять большую ложь. «Физическая близость
с женщиной для Блока с гимназических лет — это платная любовь и
неизбежные результаты — болезнь, — рассуждала она с высоты
своего возраста и опыта. — Слава Богу, что еще все эти случаи в
молодости — болезнь не роковая. Тут несомненная травма в психологии. Не
боготворимая любовница вводила его в жизнь, а случайная,
безличная, купленная на... несколько минут. И унизительные, мучительные
страданья... Даже Афродита Урания и Афродита площадная,
разделенные бездной... Даже К.М.С. (Ксения Михайловна Садовская. — B.C.) не
сыграла той роли, которую должна была бы сыграть; и она более
"Урания", чем нужно бы было для такой первой встречи, для того, чтобы
любовь юноши научилась быть любовью во всей полноте. Но у Блока
так и осталось — разрыв на всю жизнь»63.
Для человека, позитивистски настроенного, каким была Любовь
Дмитриевна, поведение Блока — род невротической патологии. В
известном смысле она права, однако почему-то мемуаристка недоучла здесь
того непреложного факта (сама ведь говорила об этом в своем письме от
29 января 1902 г.), что ее «правда» далеко не во всем совпадала с
«правдой» Блока. «Подлинное упоение молодостью» она понимала именно
так, как изложено в ее воспоминаниях, а не иначе, к «блоковскому» же в
341
Блоке оставалась поразительно глуха, если даже не равнодушна.
Обвинять ее за это — дело неблагодарное: такой уж она уродилась, меняться
и подстраиваться под кого-либо (даже под любимого человека) чаще
всего не испытывала потребности.
Понимал ли это Блок? Да, понимал. Сложность ее характера часто
ставила его в тупик и обескураживала. «Что с тобой происходит, моя
Светлая Радость? — обращался он к любимой 30 марта 1903 г. — Отчего
Ты не скажешь никогда прямо, почему все Твое существо
возмущается вдруг против меня? Ведь Ты никогда ничего не говоришь об этом,
кроме редких намеков, иногда ужасно горьких, почти всегда не
прямых, скрытых, запрятанных так, что их надо раскутать, — и они
запоминаются особенно резко и особенной тяжестью какой-то
неразгаданности ложатся на душу». Поэт старался говорить об этой тонкой теме
крайне деликатно, тщательно подыскивая слова. Отчего, спрашивал он
у нее, никогда не знаешь, «какова Ты, что произошло у Тебя в сердце,
прекрасном, добром, молодом, благоуханном, неожиданно богатом и
до того неоткровенном в самой глубине»64?
Л.Д. Менделеева, разумеется, была вынуждена реагировать на
душевные переживания своего суженого, однако, пытаясь его успокоить, может
быть неожиданно для себя самой, обнажала в своем сердце те самые
глубины, которые пугали Блока. «...Ты не знаешь, как я тебе
благодарна, прямо-таки благодарна за твою любовь, за счастье, —
откликалась она на его страдания. — Иногда тебе кажется, что я становлюсь
равнодушной; это когда я устаю быть откровенной, до такой
непривычной степени устаю открывать тебе, отдавать в твои руки всю душу.
Тебе кажется тогда, что душа закрыта для тебя, ты не видишь ее; а
всегда, всегда каждое твое слово, взгляд, ласка проникает ее всю, она
жадно ловит их и хранит все, и дрожит от счастья, и благодарна тебе, и
любит, любит, любит»65. Так, наверное, и было, однако с самого начала
их «романа» Любовь Дмитриевна оставила за собой право сохранять
заповедный «угол» своей души, в который она не впускала никого.
Причем «угол» этот имел обыкновение у нее разрастаться, если она
замечала, что поведение человека не соответствует ее «вере» и «правде».
Блок же, как мы видели, давал слишком много поводов для
проявления ее недовольства и возмущения.
Все ее существо бунтовало от одной только мысли, что она
оказалась нужной Блоку как «религия». А как женщина?! С этим — выяс-
342
нялось — было гораздо сложнее: совмещать «религию» и «женщину»
в единое целое ему не то что бы не удавалось, но... не хотелось.
Несмотря на несомненную любовь к ней (это Любовь Дмитриевна прекрасно
чувствовала) он продолжал стоять на своем. Подобного рода идея в
восприятии очень земного и очень здорового существа, каким она была, и
впрямь могла показаться проявлением нездоровой психики. Подняться
же до мысли, что идеи для некоторого рода людей оказываются выше
всего на свете, она не смогла.
Во имя спасения любви Л.Д. Менделеева решила — в очередной
раз! — дать «бой» «религии» Блока — его мистицизму.
Своеобразной реакцией на предпринятую ею «атаку» является большое письмо
Блока от 22 февраля 1903 г., в котором поэт попытался убедить Любовь
Дмитриевну в органическом характере своего мистицизма. «Он, —
признавался поэт, — проникает меня всего, я в нем, и он во мне.
Это — моя природа. От него я пишу стихи». Далее речь Блока становится
предельно исповедальной. «Через него, — развивал он свою мысль, —
я полюбил Тебя. Бог один знает, как это произошло. И оттого я всегда
говорю, что в моей любви к Тебе — необыкновенное. Непрестанно
люблю, как молюсь. Знаю, что это не просто любовь — не такая, как
между неведающими и неверующими. Я ЗНАЮ многое, БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГИЕ.<...>
Все неизменно. Но невыразимо грустно, когда Ты изгоняешь из меня
меня же самого, как бесов. Если хочешь, мы не будем говорить о
тайнах. Нам много можно говорить о будущем счастье, в реальность
которого я верю совершенно. Но только позволь мне не убивать себя самого,
свою душу, которая вся направлена к Тебе одной. Когда Ты говоришь
"пожалуйста, без мистицизма", Ты как будто произносишь смертный
приговор под моими стихами даже. А они поют Тебе и о Тебе»66.
Когда двое влюбленных говорят друг другу о любви, им всегда
кажется, что их диалог ведется на одном языке. Блок и Л.Д.
Менделеева не исключение. Однако, к глубокому сожалению, общались они
между собой на разных языках. Слушая друг друга, они друг друга
не слышали. И самое страшное — не могли услышать. Две «правды»
о любви сплелись в тугой узел, чревататый жизненной драмой.
Особенно в будущем.
Впрочем, почему в будущем? Разве можно забыть о постигшем
Л.Д. Блок несчастье уже в первые месяцы ее интимной жизни с поэ-
343
том? В памяти мемуаристки, видимо, произошло смещение временных
акцентов: грустные впечатления о начале семейной жизни окрасили в
мрачный цвет и восприятие событий досвадебного периода. Однако из
ее же воспоминаний мы узнаем, что это время ознаменовалось короткой
победой Любови Дмитриевны: чувство к юной пленительной женщине
на время победило работу теоретического сознания Блока. Расстояние
же между Бад-Наугеймом и Бобловым это чувство только подогревало.
15 июня 1903 г. Блок заносит в записную книжку фразу: «Безумно
страстные мысли настигают» (ЗК, 47). Еще бы, если тебе нет еще и двадцати
трех лет! И так на протяжении всех этих полутора месяцев.
Вот А. Блок пишет Л.Д. Менделеевой 31 мая 1903 г. из Бад-Нау-
гейма: «Настал вечер, и я нашел себя. Нашел великую, бьющую волнами
любовь <...> Ты — Богиня моих земных желаний.<...> Вся тебе
знакомая сложность, может быть вычурность, моих рассудочных
комбинаций временами, как теперь, бросается в сердце, там плавится и пылает,
и все это, как огромный бушующий огонь, я чувствую и знаю, будет
по-земному, по-здешнему... Будет время, которое оглушит меня самого.
Я ни о чем не буду думать, буду только весь в одном чувстве. <...> То,
что Ты называешь не непосредственностью, вдруг будет
непосредственным. Знаешь ли Ты, что меня страстно влечет к такой жизни, к такому
вихрю. Пусть "роман" — он прекрасен. Пусть все, что угодно, не нужно
ни слов, ни названий, ни дум, ни сомнений, ни рассудка. Я точно усну
на то время, буду совсем другой. <...> В Твоих глазах, в Твоих
движениях, в очертаниях Твоих, в Твоих дрожащих руках я видел и узнал
это — то, что будет. Я никогда не знал истинной влюбленной
страсти — этого поразительного сочетания. Как же можешь Ты отрицать
во мне возможность почувствовать ее? Я говорю Тебе, что я все забуду.
Я уже теперь забываю все. <...> Я понимаю, я знаю любовь, знаю, что
"ума" не будет, я не хочу его, бросаю его, забрасываю грязью, топчу
ногами. Есть выше, есть больше его. <...> Мне нужно скачку,
захватывающую дух, чувство Твоей влажной руки в моей, ночь, лес, поле,
луны красные и серебряные; то, о чем "мечтают" девушки и юноши
отвлеченно, то мне нужно наяву. Опьяненности и самозабвения какими
угодно средствами — пусть опера, пусть самая элементарная музыка...
Только пусть голос поющего призывающий, пусть Ты около, Ты,
гибкая, как стебель, влюбленная, зовущая в ночь — и знать, что
замолчит голос, потушат огни — и мы уйдем, и будет ночь, и будем вдвоем,
344
и никакие силы не разделят, и будет упоение и все — забвение, сила
сплетающихся рук, Твои поцелуи, Твои белые зубы, Твои плечи, Твое
благоуханное дыхание, замирающие движения, красота, страсть и
безумья долгих мгновений. <...>
Так Ты хочешь, я знаю, но знай, что и я хочу именно так, не иначе.
Я хочу быть без конца влюбленным в Тебя и Твою духовную и
телесную красоту (прости!) и сердцем, сердцем, сердцем узнавать и любить.
Поэт же, как бы он ни глубоко погрузился в отвлеченность, остается
в самой глубине поэтом, значит любовником и безумцем. Когда дело
дойдет до самого важного, он откроет сердце, а не ум и возьмет в руки
меч, а не перо, и будет рваться к окну, разбросав все свитки стихов и
дум, положит жизнь на любовь, а не на идею»67.
Еще днем того же 31 мая в письме, предшествовавшем
процитированному, Блок обещал отыскать «точки устоя у Соловьева и
Достоевского», справедливо полагая, что «нужно "задуматься", чтобы понять
хоть что-нибудь», но с приходом вечера «нашел себя» в проповеди
«земного», «здешнего» чувства, не имеющего ничего общего с мистикой
вечной женственности, а скорее относящегося «к т.н. "эротической"
области поэзии», к которой, по признанию автора письма, он
«приближался» в то время68. В этом письме ярко проявилась «ночная» сторона
души А. Блока, и если, как то следует из «Записки о "Двенадцати"»,
он трижды «отдавался» стихии, то здесь мы находим нечто похожее
на генеральную репетицию этого расслабляющего и даже
парализующего волю женственного аффекта.
Самое существенное в нем — его иррациональные корни, почти
полное игнорирование «рассудка», «идеи», «теории». Жизнь оказывается
несовместимой с этими понятиями, она становится синонимом
«безумия». Под напором «знойных мыслей», охвативших все его существо
в Бад-Наугейме, он даже несколько порастерялся. «Никогда не было у
меня прежде этих забвений, этого праздника сердца, чтобы я мог так
целиком свернуть шею уму и погасить все огни, кроме ночных
поцелуев»69, — пишет он своей возлюбленной. Впрочем, беспокойство это
мнимое, ведь те самые «непоколебимые устои, из которых постоянно
"возникает" жизнь» и которые еще совсем недавно он собирался
«отыскать» у великого писателя и философа, Блок находит у Любы
Менделеевой, истоки же их он усматривает в «избытке природы и "породы"»
в ней, а потому «просит» ее «благосклонно принять» его «простоту и
345
еще увеличивать ее»70. Что же касается Вл. Соловьева... «...С
"Оправданием добра" мало выходит путного»71, — признается он невесте, и
немудрено: «нравственная философия» Вл. Соловьева не имеет
никакого касательства к тому гимну «ночи», который Блок пропел в
письмах из Бад-Наугейма.
Так уж получилось, но любовное чувство, обостренное
вынужденной разлукой с любимой, не очень «работало» на мистическую
философию А. Блока. Наоборот, оно, скорее, отгораживало его нынешние
переживания от прежних сосредоточенных философско-поэтических
медитаций, рождавшихся в условиях почти полного неверия Блока в
возможность сколько-нибудь реальной его связи с предметом
обожания. Правда, как это вытекает из предшествующего анализа, семена
упали на подготовленную почву, и все же контраст между прежним
и новым его поведением остается весьма и весьма заметным. Точно
какое-то ослепление нашло на Блока.
«... Я Тебя, как бога моего, вижу перед собой ежеминутно, каждому
шагу Твоему отдаюсь... — в который раз он твердит это своей «Девице
Красной», — <...> и, потребуй только, потребуй — уж Ты видишь, что
все сделаю, на все пойду, от всех, КРОМЕ ТЕБЯ, отрекусь». Или в
другом месте та же мысль, но выраженная с предельной и какой-то
откровенной отчетливостью, претендующей на «философию»
«подпольного человека» Достоевского, которого он увлеченно читал в ту пору:
«...я в Одной Тебе поместил все мое существование <...> Неужели Ты
не видишь, что для меня все остальное, кроме Тебя, все равно, хоть мир
провалится, хоть светопреставление наступит»72*.
Блоку предстоял еще большой путь, но философские истоки
будущей драмы поэта именно здесь, в этом безоглядном отдавании себя во
власть женской природной стихии, вплоть до «самозабвения», до
расточения в ней своей личности.
В эти моменты и давал о себе знать иррационализм его натуры.
Л.Д. Менделеева поощрительно писала своему жениху в Бад-Наугейм,
* Ср. со словами героя «Записок из подполья» Ф.М. Достоевского,
обращенными к Лизе: «...на деле мне надо, знаешь чего: чтоб вы провалились, вот чего.
<..·> Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку
продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету
провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» {Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 10 т. М.,
1956—1958. Т. 4. С. 237).
346
что он меняется, «будет другой»73, таково же, как мы видели, было
и желание самого Блока. Но вот вопрос: менялся ли Блок в самом
деле или прояснял в себе то, что скрывалось под налетом во
многих отношениях книжной мистики? Будущее покажет, что ответ на
этот вопрос далеко не прост, но оно же даст нам понять, что
следующие его слова из письма к невесте: «Хочешь одичать? Я страстно
хочу, хочу, чтобы было поменьше мыслей и ума — и никого, кроме
нас»74— не прихоть, не минутный каприз, не только всплеск грубой
чувственности, а что-то более глубинное, потаенное и органичное в
нем. Разве не тот же мотив мы обнаружим спустя несколько лет,
скажем, в «Вольных мыслях», и если бы только в этом цикле! И не о себе
ли такая вот грустно-ироническая запись в записной книжке начала
августа 1903 г.: «Родился в беспокойстве. Шумел и трещал, требуя
половых удовлетворений. Насмотревшись в синие глаза, бесшумно
отворил окно и перепугался. Всходили две луны: белая и красная.
Которая прежде — не знал, и не знает до сих пор. Задумался навсегда»
(ЗК, 52)?
Обобщая сказанное, необходимо заметить, что духовное состояние
Блока данного периода испытало на себе воздействие двух
встречных потоков, содержание которых оказалось далеко не чуждым друг
другу.
С одной стороны, он демонстрировал явное стремление «угодить»
настойчивому желанию возлюбленной увидеть его «другим». Так,
8 июня он писал ей: «Нет ли в моих письмах чего-нибудь тяжелого и
давящего? (Второй день Блок не получал от нее писем и испугался за
будущее своих отношений с ней. — B.C.) Нет ли во мне самом этого?
Было бы так ужасно, что я бы каялся и изгонял.
Изгони.
Изгони все, чего не хочешь видеть во мне. Я готов.
Здесь я не даром. Точно что-то переучивается во мне. Ты
"влияешь" издалека.
Должно быть, действительно, многое из прежнего я оставляю.
Я "вырос", мож<ет> быть. Сравниваю себя прошлогоднего и
теперешнего. Какая-то разница.
Учи. Твои уроки я чувствую. Верю им»75.
15 июня в ответ на встревоженное письмо Л.Д. Менделеевой от
11 июня о том, что она позволила себе, наверно, перейти границу в
347
своей требовательности к нему*, Блок убеждает ее не церемониться с
его персоной: «Я хочу, чтобы Ты чувствовала мою постоянную ласку и
покорность Тебе и чтобы Ты знала, что я всегда готов "изгнать"
ненужное Тебе <...> если захочешь, намекни только, и я буду стараться стать
таким, каким Ты бы хотела видеть меня»76.
С другой стороны, к той поре он сам начинал ощущать потребность
в «опрощении» своих мыслей и образа жизни. Поэтому он ничуть не
преувеличивал, когда 14 июня признавался невесте: «...Ты... делаешь
для меня великую вещь: "опрощаешь" меня. Я сам замечаю, что то, что
я прежде (еще даже в зимних письмах к Тебе) мог выразить
расплывчато и туманно (теорией), теперь могу сказать яснее и проще. С этим
кончается для меня ужас той самой страшной фразы, которую Ты
сказала мне весной: что Тебе придется "стать мистичной", а иначе будет
"ужасно". Я исповедал это священнику, и, должно быть, стал
попроще — на словах. Ведь тут именно слова пугали, потому что чувства
мои Тебе угодны, надо их и выражать соответственно, а не кутаться
в "литературу" там, где можно обойтись без нее. Прошу Тебя
благосклонно принять мою простоту и еще увеличивать ее. Ведь
"туманности" и для жизни опасны»77.
Все в этих словах правда: Любовь Дмитриевна действительно
способствовала постепенному отходу Блока от одностороннего
преувеличенного мистицизма. Судя по ее письмам в Бад-Наугейм, временами
блоковской невесте даже казалось, что на этом пути ей сопутствует
успех, и Любе, конечно, хотелось закрепить победу. Во всяком
случае, Любовь Дмитриевна надеялась «создать» Блока по своему образцу
и подобию. Она даже подталкивала его к мысли о том, что он дол-
* «Родной мой, я перечитала твои последние письма и вижу, что ты не совсем
понял меня, ты понял все хуже для себя, чем я чувствовала и писала. Ты
перечитай то письмо и увидишь, что испугалась я чего-то совсем не в тебе, и не говори,
что я хочу изгонять из тебя что-то, ты уж прежде говорил мне это (Л.Д.
Менделеева, очевидно, имела в виду процитированное выше письмо Блока в защиту
мистики. — B.C.), и тогда это было больно, хотя тогда, может быть, и было в
этом хоть чуть-чуть правды. А когда мы говорим про это теперь, еще больней,
п<отому> ч<то> это неправда, и жалко, зачем ты себя этим мучаешь. Ведь трудно
в письмах говорить о всем, что думаешь, а в мои попадает только самая
маленькая частица! Вот и ты не знаешь, что я теперь, как никогда, знаю и уверена, что
ты такой, как я могла только мечтать для себя, а мечтала я об единственном, о
самом лучшем на свете» (Александр Блок. Письма к жене. С. 164—165).
348
жен соответствовать принятым в обществе представлениям об образе
жениха и мужа. И надо отдать должное ее воле. «Милый, милый мой,
ненаглядный, голубчик, не надо и в письмах целовать ноги и платье,
целуй губы, как я хочу целовать — долго, горячо», — делает она
приписку в письме в Бад-Наугейм от 9 июня 1903 г. В самом же тексте
письма, прося у жениха извинения за свои «короткие, ленивые письма»,
Л.Д. Менделеева говорит о том, что они не заменят общения, и
добавляет: «...вот если бы ты был тут, ты видел меня тихую, покорную и
счастливую твоей любовью, я целовала бы твои руки, сидела бы у твоих
ног, как там, помнишь?» «Там» — на Серпуховской, в минуты
интимных свиданий, —Любовь Дмитриевна стремится вызвать у Блока
соответствующие воспоминания и добивается необходимого результата.
В ответном письме Блока появляются следующие строки: «Ты
написала письмо, подождала и подумала. Потом сделала приписку быстрой и
стыдливой рукой. Я целую Тебя в губы, "как я хочу целовать" — "долго
и горячо"». Однако Блок не был бы Блоком, если бы закончил свое
признание только таким образом, а потому в письме и появляется фраза,
для поэта крайне характерная: «А все-таки [позволь целовать] — ноги
и платье, прости, я не могу не поклоняться»78.
Если чары Любы Менделеевой и сделали свое дело, то не до конца:
Блок оставил в отношениях с ней «уголок» для «своего». При
ближайшем же рассмотрении оказывается: не «уголок», а целый «угол». Как
ни старался он «опроститься», как ни стремился «научиться /
Бессмертной пошлости толпы» (этот тютчевский образ поэт использовал в
стихотворении «Еще старик», приложенном к письму Л.Д. Менделеевой от
4 июня), сделать это он не смог. Не мог по принципиальным
соображениям. Любовь Дмитриевна в своем письме к нему от 21 апреля
1903 г. признавалась: «...я... чувствую себя твоей Дианкой», проводя
параллель между собой и образом влюбленной и покорной любимому
женщины из стихотворения Апухтина «Письмо»; Блок же немногим
ранее, 8 апреля, сравнивая себя с иудеем Савлом, мечтал совсем о
другом: «...будет время, когда я стану Твоим Апостолом». С 16 декабря
1902 г., когда поэт в крайне запутанной форме силился объяснить
любимой суть своего отношения к ней как особого рода «религию», а
испытываемую любовь к ней называл «молитвенной», прошло, казалось бы,
много времени. С тех пор он научился выражать свои мысли проще, а
на «молитвенное» отношение к девушке наложилась обостренная муж-
349
екая чувственность. Тем не менее спустя полгода Блок пишет ей:
«Спасибо Тебе, Показавшей мне Свет»79. С большим «Т» в его обращении к
Любови Дмитриевне мы уже свыклись, однако большие буквы в двух
других словах процитированной фразы употребляются только по
отношению к Богу, а не к любимой девушке.
Поэт, конечно, об этом знал, но она продолжала оставаться для него
«богиней». Разумеется, он не мог не осознавать сложности, даже
щекотливости своего положения. Одно дело ситуация, когда Л.Д.
Менделеева казалась ему недоступной. «Пока я любил Тебя отдаленно, — писал
Блок 8 апреля 1903 г., — были звезды, были цветы и было все
прекрасное, что есть в мире, было здесь — при мне. Верные прислужники
метафизических прихотей — цветы и звезды. Они исполняли меня и
они выводили в равнину, где ближе, чем думалось, и дальше, чем
хотелось, — где-то — вне времен, воли, жизни даже — билось Твое Сердце».
И вдруг положение кардинально изменилось — она стала его невестой:
«Ты — есть — теперь — в настоящем — и живая. <...>
Я знал тогда, что Ты не сойдешь, — и ошибался»80.
Как совместить в сознании две ипостаси одного и того же существа:
«богиню» и земную девушку, как объединить в своем сердце два типа
любви к ней: чувство, близкое к обоготворению любимого существа, и
безрассудную страсть? Задача не из легких. Сказать, что Блок
отмахнулся от ее разрешения, мы не можем. Иногда, правда, в его душе
преобладало что-то одно: то «высокое», то «низкое», то «Дева Мария», то
«Любочка». Но даже и в этом случае все было не так просто, как может
показаться с первого взгляда.
Впервые «Девой Марией» он назвал свою любимую в первом
отправленном из Бад-Наугейма письме. В нем он воссоздал впечатление от
расставания с невестой на вокзале. Третий звонок, последнее
судорожное объятие, и — продолжал поэт — ты «ушла в толпу <...>
Ты осталась одна. Но только Ты не ушла в толпу и не слилась с ней.
Ты точно поднялась из нее — и высоко остановилась...» Эта
запечатленная памятью картина и создала почву для упомянутого уподобления.
Читатель сочтет его по меньшей мере странным и будет прав.
Таковым оно показалось, вне всякого сомнения, и Любови Дмитриевне. Но
не Блоку. Дело в том, что в соответствии с ему только ведомыми
законами мистики содержание понятия «Любочка» таинственным образом
«прорастало» в понятие «Дева Мария» и наоборот. Это видно, напри-
350
мер, из следующего отрывка одного его июньского письма: «Никогда,
никогда этого со мной не было, ничего подобного не было, мне страшно
так любить, неизведанно хорошо так любить! <...> Веришь? Веришь?
Повтори, что веришь всему! Повтори, Искра божественная, повтори
(далее уже известное нам обращение. — B.C.), Дева, Богородица, Матерь
Света! Повтори, Любочка!»81.
«Всего»-то, если иметь в виду тот смысл, который вкладывал Блок
в это слово, Люба Менделеева вместить в себя не могла. Как и
поверить в то, что она, простая девушка из Боблова, имеет какое-то
таинственное отношение к Богородице. Но поэт верил. Да, «Любочка» была
искренне и горячо любима Блоком. Но именно такой, какой создала ее
его фантазия. Вот почему он благодарил ее за то, что она «опрощает»
его и одновременно — за дарованный ею «свет». Блок был не только
и даже не столько любовником, сколько «посвященным» в ее тайну и
хотел, чтобы она соответствовала своему предназначению.
Сказанное хорошо иллюстрируется заочной сценой «бешеной
ревности», которую из своего германского далека Блок «закатил» своей
невесте по поводу ее желания играть старуху Бальзаминову в
спектакле по комедии А.Н. Островского «Праздничный сон до обеда»,
устраиваемом племянницей Д.И. Менделеева Н.Я. Губкиной в соседнем с
Бобловым большом селе Рогачеве. До свадьбы оставалось чуть меньше
месяца. «Я... играю... конечно, только чтобы не "подвести" и после
долгих упрашиваний, — писала она жениху в Бад-Наугейм, — а пока это
займет время, и отлично: ведь и две с половиной недели (до приезда
Блока в Шахматово. — B.C.) это еще невыносимо долго, правда? <...> А
мне хочется наполнить чем-нибудь время... Нехорошие я вещи написала,
милый, все тебе не нравится?» Люба чувствовала, что задуманное ею
предприятие не придется по душе Блоку, но даже и в этом случае она не
могла предположить, какую бурю негодования вызовет ее сообщение в
Бад-Наугейме. Ревность суженого могла, пожалуй, прийтись ей по вкусу
(Блок: «Вот она — та ревность, которой Ты хотела»): ревнует — значит
любит. Но то была ревность совсем другого рода, чем ее женская ревность
к 3. Гиппиус или к «Ксении» (Садовской). Поэт ревновал свою любимую
вовсе не к безымянному «рогачевскому учителю» — участнику
предполагаемого спектакля, а к тому мистическому образу Прекрасной Дамы,
который он создавал из нее и хотел видеть в ней воплощенным. «Ты не
представляешь себе.., что в единственное и самое важное время жизни
351
невозможно, до боли невозможно так отвлекаться. И для чего? Для того,
чтобы играть безобразную старуху», — писал Блок Л.Д. Менделеевой
вечером 22 июня. 23-го утром он вновь возвращается к этому вопросу:
«...не соглашайся, потому что, если рассуждать о том, что "подведешь",
и из-за этого играть, то мы потеряем, а это поважнее. Потеряем, если
не так много времени, то больше, чем можно, — понимаешь чего? (нет
слова)». Поэт немного лукавил; ему хотелось, чтобы Любовь
Дмитриевна сама ответила на вопрос: что они «потеряют», размениваясь на
развлечения в преддверии величайшей мистерии. И «слово» он нашел:
«Пускай Над<ежда> Яковл<евна> достает себе актрису... наверное кто-
нибудь да найдется, она уж теперь из упрямства и "по традиции"
требует Тебя и не догадывается, что произошло нечто совсем новое, и об
этом тоже следует подумать»82.
Подумать, конечно, не одной устроительнице спектакля, и даже
не ей, а его «Любочке». Сам-то он хорошо знал, что предстоящая
свадьба — непреходящее мистическое событие («нечто совсем новое»),
а потому призывал невесту: «Я с Тобой, облекись же, ради бога, в свою
белую, несуетную ризу, и так, все это время, я внутренне простою перед
Тобой на коленях. Я глубоко верю, что Ты поймешь меня, но придашь
ли Ты этому значение...»83 Знак вопроса повис в воздухе. Говорит он
о том, что Блок не очень обольщался относительно вектора мыслей
своей невесты. Не очень верил в то, что она захочет
соответствовать тому образу, который он из нее вылепил, а приготовленная им для
нее «белая риза» придется ей по вкусу. Несмотря на все свои клятвы
об «опрощении», «знойные мысли», уступки Любе, понятные и
объяснимые в его ситуации, он никогда не забывал о главном: его встреча
с Л.Д. Менделеевой предначертана мистическими силами, это
«"гносеологическая" встреча», а не рядовое, пусть и торжественное
событие. Когда он называл ее «Богородицей», он, разумеется,
кощунствовал, однако свято верил в то, что говорит. Для нее же это была не очень
удачная метафора, не более того. Трещина между ними то суживалась,
то разрасталась, но никогда не исчезала полностью.
Однако Блока ожидало испытание, касавшееся самой
сердцевины его метафизических построений и, следовательно, отношений с
Л.Д. Менделеевой.
Речь идет о полученном им 19 июня письме от 3. Гиппиус, в
котором, по более позднему признанию Блока отцу, она не только не «сочув-
352
ствовала» его свадьбе, но и находила в ней вполне определенную
«дисгармонию» с его стихами84. Вот содержание этого письма: «Дорогой
Александр Александрович. <...> Как это вы забыли, что давно
сообщили мне о вашей женитьбе? Еще, кажется, в начале или конце марта...
Вы не говорили мне имени вашей невесты, но сказали, что женитесь,
и даже не прибавили, что это секрет, а потому и я не держала этого
втайне. После Карташов сообщил мне имя вашей будущей жены.
Я была в Москве и видела Бугаева, мы с ним говорили о вас и о том, что
вы предлагали ему быть шафером (отец Бугаева тогда был еще жив).
Но даже если б и отец был жив — думаю, Бугаев вряд ли согласился бы
шаферствовать, он был очень удручен вашей женитьбой и все говорил:
"Как же мне теперь относиться к его стихам?" Действительно, к вам,
т.е. к стихам вашим, женитьба крайне нейдет, и мы все этой
дисгармонией очень огорчены; все, кажется, даже без исключения. Вы простите,
что я откидываю условности и, вместо того, что принято по-житейски
говорить в таких случаях, — говорю лишь с точки зрения абсолюта»85.
Блок был взбешен. «Господа мистики, "огорченные дисгармонией"
(каково!?), очевидно, совершенно застряли в непоколебимых
математических вычислениях, — писал он невесте 19 июня. — Я в первый раз
увидел настоящее дно этого тихого омута, посыпанное
безобиднейшим желтым житейским песочком... Что значит "дисгармония", когда
я ответствен перед богом за женитьбу (что называют они женитьбой?
Пошлость?) и за стихи, обращенные к Тебе же и взятые из Твоей
сокровищницы? Если таков "абсолют", "с т<очки> зр<ения> которого"
говорит г-жа Гиппиус, то я ее не поздравляю»86.
Тон письма 3. Гиппиус, любившей запускать свой нос в чужие дела,
и впрямь был оскорбительным. Но оставался еще один пункт
полученной из Петербурга вести, больно ударивший по самолюбию Блока, —
А. Белый. Еще 28 апреля поэт сообщил ему о предстоящей женитьбе на
Л.Д. Менделеевой и просил его быть шафером у невесты. Ответ Белого
был весьма уклончивым, и вот теперь Гиппиус невольно, а скорее —
вполне обдуманно вскрывала истинные причины его
дипломатичности. Первое, что пришло на ум Блоку: «Если ВСЕ о Бугаеве НЕ ложь
(а, вероятно, ложь многое, по кр<айней> мере), то — каков Бугаев!»
В этом ему придется убедиться еще не раз, но пока он предпочел
получить информацию из первых рук и только потом решить: верить ли
Гиппиус или не верить 87.
353
Однако 3. Гиппиус говорила чистую правду. За четыре дня до
получения ее письма Блок сообщал невесте: «...получил странное письмо от
Бугаева. Как только отвечу на него, так перешлю его Тебе»88.
Осмысливая факт женитьбы Блока на Прекрасной Даме,
признавался Белый в 1925 г., он решил «произвести» своему собрату
«экзамен» следующего рода. «Вот мы пишем друг другу о Ней, о
Лучезарной Подруге, — исповедовался Белый Блоку в письме от 10 июня
1903 г., — и между нами такой тон, как будто мы уже знаем то, что
касается ее, знаем, кто Она, откуда говорим о Ней, а между тем этого не было:
мы никогда не глядели прямо друг другу в глаза тут». «Веря больше
всего знанию, я хочу и со-знания», продолжал он, а потому «обращаюсь
к Вам с вопросом прямым и без всякой задней мысли: определите, что
вы мыслите о Ней». И вслед за тем обрушивал на Блока шквал
вопросов. Все вопросы мы перечислять не станем, приведем только те,
выдвигая которые перед Блоком он в первую очередь преследовал «заднюю
мысль». Вот они: «Чувствуете ли Вы ее как настроение, неопределенно
туманными грезами? Является ли она для Вас Душой Мира, или
определенной личностью? <...> Ждете ли Вы явления ее всему миру, группе
лиц, отдельному лицу? <...> Совершается ли явление ее символически
или воплощенно в душе народа, общества или отдельной личности?»89*.
Суть этих вопросов А. Белый хорошо осветил в позднейшем
комментарии к своему посланию: «...стало мне вовсе неясно, что есть "Она"
в гнозисе Блока; что есть "Она" в моем гнозисе, мне было ясно; но в
этом гнозисе было ясно, что суть отношений к "Ней" не только в "пора"
("что" пора?), а в "гнозисе" заданий культуры, понятой, как риза Софии;
без этого "гнозиса" — неизвестно, что "пора": молиться ли, стекла ли
* Получив от Блока процитированное письмо, Л.Д. Менделеева писала ему
в Бад-Наугейм 27 июня: «Вот так письмо написал Бугаев! После Зинаидиного
оно ведь совсем просто и понятно, он и спрашивает без "экивоков". Но что, как
ты ему отвечал, вот главное. Меня это невыносимо интересует и даже мучает
теперь. А письмо Бугаева мне страшно не нравится, такое не теплое, просто,
пожалуй, грубое, похоже не на "Симфонию" (первая книга А. Белого:
«Симфония (2-я, драматическая)». М., 1902. — B.C.), а на его портрет» (Александр
Блок. Письма к жене. С. 172). Письмо Белого таило интригу и для Любови
Дмитриевны. Вот почему ее интересовало содержание ответов Блока на
поставленные вопросы. Надо отдать должное и ее психологической проницательности:
по одному письму она сумела распознать сущность натуры А. Белого.
Предугадать бы ей тогда, какой роман завяжется у нее с ним два с лишним года спустя!
354
бить, религиозно-общественно действовать, или влюбиться в барышню,
чтобы читать ей:
"Нет, — не тебя так пылко я люблю!"»90.
И заданные Блоку вопросы, и комментарий к письму
однозначно говорят о том, что Белый, как и 3. Гиппиус, предъявлял ему счет
с позиций «абсолюта». «Влюбиться в барышню» (в данном случае
Л.Д. Менделееву), попутно объявив ее Прекрасной Дамой, т.е.
символом соловьевской «Лучезарной Подруги» Софии, да к тому же
жениться на ней... Для Белого это было слишком, это означало —
напустить «тумана» в «абсолют». Как человек, стоящий на его страже, он
не мог этого пережить. Для него то была чудовищная «дисгармония»:
дело могло обернуться крушением самого «абсолюта» и
символистской эстетики, к созданию которой он в ту пору приступал. Или ты
служишь Софии, или поешь романсы прелестной барышне. Другого, по
Белому, быть не должно. Хотя в его письме к Блоку об этом ни
строчки, все оно буквально вопиет о грозящей твердыням соловьевства
катастрофе. «Определенная личность», «отдельное лицо», «отдельная
личность» — данные выражения говорят о том, что автор письма всеми
фибрами своей души ощутил: Блок облачил в «ризу Софии» свою
любимую девушку, и, задавая ему жесткие вопросы, хотел
удостовериться: только ли в мистические «грезы» погружен его адресат или
сумеет логически высветить свое знание о Ней.
Ответ, который он вскоре получил от Блока, не принес утешения:
подозрения подтвердились — его собственный и певца Прекрасной
Дамы «подход к теме "София" совершенно различен...». Правда, эта
фраза взята нами из толкования А. Белым письма А. Блока,
произведенного годы спустя, однако и в 1903 г. ему многое стало ясно. Вот что
писал Блок 18 июня: «Прежде я думал о Ней чаще, чем теперь. Теперь
все меньше и безрезультатнее. <...>
Она — еще только потенциально воплощена в народе и обществе.
Удел зовущего на брань отдельное лицо "стократ завидней", потому
что никогда не получится в ответ меньше, чем эхо (а там и эхо
отсутствует по причине равнинности и отдаленности гор). Часто же
получается в ответе и больше, чем эхо. Потому, мне кажется, Она скорее
может уже воплощаться в отдельном лице.<...> Я чувствую Ее, как
настроение, чаще всего. Думаю, что можно Ее увидать, но не вопло-
355
щенную в лице, и само лицо не может знать, присутствует Она в нем
или нет»91.
Прервем цитирование, чтобы вернуться к нему в дальнейшем.
Выходило, что ортодоксальным мистиком Блока назвать было
невозможно. Мало того, что Белый не получил от него того, чего
хотел: «логического высвечивания всего о Ней», но и натолкнулся на
вежливый и одновременно твердый отказ кажущегося своего
союзника проделывать с «Ней» операции подобного рода: «предмет, — в
соответствии с убеждением певца Прекрасной Дамы, — не
соответствует чисто-логическому способу его рассмотрения...»92. Мистика,
вполне справедливо полагал Блок, — такая область человеческого
духа, которая не терпит рассудочных выкладок. Самое главное, однако,
заключалось в другом (Белый это почувствовал сразу же, впрочем,
Блок от него ничего и не скрывал): его адресат вышел из возраста
мистического детства, но не сел за расчеты, дабы «поверить
алгеброй гармонию», а удалился в область, Белому неведомую. Впрочем,
и до блоковского ответа он догадывался — в какую, письмо же не
оставляло ему ровно никаких надежд: признав, что его мистический
опыт подсказывает ему — София скорее всего может воплощаться в
«отдельном лице», Блок впал в ересь, смешав соловьевскую «новую
богиню» и это «отдельное лицо» — любимую «Любушку» воедино.
Московский мистик и впрямь не знал, как ему теперь относиться к его
стихам.
А. Белый не ведал, что подобные мысли Блоку внушил пережитый
им роман с Л.Д. Менделеевой, его человеческая влюбленность в
красивую девушку. Не догадывался он и о том, какие муки претерпел Блок
на пути к своему мистическому взрослению, отступая с занятых им
прежде мистических твердынь, потакая и собственному своему
чувству, и воле любящей его Л.Д. Менделеевой. И кто кроме Блока мог
знать, что, отступая и уступая, он сохранил верность наиболее чтимым
им и наиболее сокровенным мистическим принципам, которые, как
мы видели, отстаивал даже перед своей любимой. Любовь приблизила
Блока к жизни, побудила различать ее сложности и противоречия. Вот
почему мистико-отвлеченный дух письма А. Белого крайне удивил его.
Однако ситуация, в которой оказался Блок, требует к себе
повышенного внимания. Люди часто принимают за абсолютное то, что,
в сущности, является относительным. Жизнь хорошо лечит подоб-
356
ные заблуждения. В «абсолют» 3. Гиппиус, основанный на
«неколебимых истинах», Блок, как о том говорилось выше, уже не верил. Не
поверил он ей и на этот раз. Веры Белому было больше. И хотя его
письмо показалось Блоку «странным», оно многое затронуло в душе.
Потянуло на исповедь — ведь растущее чувство к Л.Д. Менделеевой
и впрямь начинало вытеснять из его сознания гнозис о Софии. Да и
само содержание вопросов Белого, несмотря на неприемлемую для
Блока форму вопрошания, не на шутку встревожило его. Защемило
сердце от подозрения, что он почти незаметно для себя начал изменять
своим прежним идеалам. Да, предстоящая женитьба воспринималась
им не как «пошлость», а как «нечто совсем новое» (оттого и умолял
Блок невесту облечься в «белую... ризу»), но ведь догадывался же он,
что, несмотря на уступчивость, Любовь Дмитриевна имеет на сей счет
свое собственное, отличное от его, Блока, мнение. Как ни хотелось
ему отмахнуться от упреков относительно дисгармонии между
идеологией, выраженной в его стихах, и его личной жизнью (он и
отмахнулся поначалу), сердце подсказывало: дисгармония есть. На
Прекрасных Дамах не женятся. За несколько месяцев, прошедших с начала
1903 г., острые углы данной проблемы несколько сгладились,
немалую роль, конечно, сыграло в этом отношении и расстояние между
Бад-Наугеймом и Бобловым.
Однако полученные почти перед самым его отъездом из Бад-Наугейма
и накануне свадьбы вести от Гиппиус и Белого вновь всколыхнули
его душу. Может быть, поэтому в последних блоковских письмах из
Германии появляются необычные для ожидающего счастья человека
нотки. 26 июня: «...я боюсь встречи, боюсь видеть Тебя и слышать,
так Ты прекрасна, так давно Ты стояла в сумерках на платформе, так
давно мы все пишем без конца, не видя друг друга, ощупью. И прямо
не могу представить минуты нашей встречи — на всю жизнь». И
приписка: «Я не знаю, как труднее встретиться: для того, чтобы быть
вместе всю жизнь, или разлучаться на всю жизнь». 28 июня: «Часто
необыкновенно странно, удивительно хорошо все. <...>
Мне странно, необыкновенно странно, моя Милая, моя
Несказанная, что все это так скоро». 29 июня: «Пишу Тебе в последний раз
отсюда — послезавтра мы уедем. <...> Я в страшной тревоге, боюсь и
не нахожу места. Какая Ты будешь? <...> Думаю все только об одном,
мне странно и страшно и весело и тоскливо»93. В записной книжке эта
357
же мысль выражена короче и ярче: «Послезавтра — отъезд. Странно
и страшно» (ЗК, 47).
Сколько было передумано о мистической сути взаимоотношений с
Л.Д. Менделеевой, но близился день свадьбы, и Блок признавался в письме
к С. Соловьеву от 9 августа в ответ на отказ последнего вслед за А. Белым
быть шафером жениха*, что «почувствовал» «озлобленное
одиночество — одиночество по причине малого мистического элемента в столь
крайнем» для него «дне 17 августа»94.
За месяц до этого «дня» Блока вновь начинают посещать мысли,
которыми он делился с невестой в пору их интимных свиданий на
Серпуховской и которые, как мы помним, повергали ее в отчаяние. В начале
июля с какой-то подчеркнутой твердостью он записал у себя: «"Запре-
щенность" всегда должна остаться и в браке» (ЗК, 48). По всей
вероятности, метафизика одерживала верх над чувственным влечением. Но
чувственность сдаваться не хотела. В записи от 16 июля
зафиксирована борьба между ними:
«Люба. Любочка. Любушка.
Если Люба наконец поймет, в чем дело, ничего не будет. Мне кажется,
что Любочка не поймет.
У Любочки щечки побледнели. Глазки открылись. Волоски
растрепаны. Ручки исцарапала. Совсем беспомощная — слабенькая.
У Любочки пушок на личике. Золотистый. Красное вечернее
солнышко его насквозь проглядывает. Пушок золотой».
Из слов этих видно, как трудно было Блоку заглушить в себе
какое-то почти карамазовское сладострастие. Но он настойчив в
проведении своей линии. Три дня спустя в записной книжке появляется
новая фраза: «Люба понимает. Я ее обижаю. Она понимает больше
меня» (ЗК, 51).
Что это? Наивность не знающего жизни человека? В известной
степени — да. Однако в большей мере это эгоизм идеи, желающей
подчинить себе действительность. Сказанное вовсе не означает, что Блок
был фанатиком идеи. С этой целью мы стремились показать, как в
отношениях с Л.Д. Менделеевой поэт учитывал требования жизни. Но при
этом, наблюдая крушение своих метафизических построений, испыты-
* Чуть позже С. Соловьев это свое решение изменил.
358
вал страдания. В самый канун свадьбы он сделал горькое признание:
«Думал, что есть романтизм, его нет» (ЗК, 54).
В начале августа 1903 г. поэт читал Апокалипсис и даже сделал
выписку из него: «А Жена убежала в пустыню (Откровение)». Речь
здесь идет об одном из персонажей Апокалипсиса — «жене,
облеченной в солнце», отождествляемой символистами с вечной
женственностью. Но имел он в виду прежде всего Любу. И конечно — себя.
14 августа (до свадьбы оставалось три дня) Блок написал: «Какой опять
сегодня сон! Какие вообще в это лето! Что это значит? Сегодня было
землетрясение, кончался мир и падали (рушились) небеса рядами. Мы
(с Ней?) бежали» (ЗК, 53).
4. Апокалипсис от Софии
Если задуматься над тем, какое из стихотворений Блока
наиболее полно выражает пафос его творчества, его задушевную идею,
то, заранее осознавая всю условность подобной операции, нельзя не
прийти к выводу, что таковым вполне может оказаться написанное
3 декабря 1914 г. стихотворение «Он занесен — сей жезл железный...».
Оно представляет собой своего рода Апокалипсис в духе поэта:
ожидание «конца» «страшного мира», «летящего» «над грозной
бездной / Среди сгущающейся тьмы» (III, 223), возникнув в самом начале
его творческого пути, с годами не только не исчезало, но, наоборот,
крепло.
Чисто блоковским в нарисованной им апокалиптической картине,
использующей сквозной символ Откровения Иоанна — символ «жезла
железного», было то, что грядущую гармонию, так сказать, «новое небо
и новую землю» поэт связывает не с Богом, а с вечной
женственностью; и хотя образ «жены, облеченной в солнце», занимает в
Апокалипсисе большое место, факт подмены Блоком главного лица
апокалиптической мистерии производным (в этой связи чрезвычайно
симптоматична окончательная редакция восьмой строки стихотворения:
вместо «сиянье Божьего лица» — «сияние Ее лица») говорит о
существенной стороне его миросозерцания.
Миросозерцание это складывалось под влиянием многих факторов.
В числе главнейших из них следует назвать софиологию Вл. Соловьева,
359
своеобразно преломившуюся в сознании поэта. Являясь «первоидеей»
(«сокрытым двигателем») его жизненных и творческих устремлений,
эта интуиция, будучи реализованной в отношениях Блока с Л.Д.
Менделеевой, позволила ему создать уникальную, единственную в своем
роде религиозно-художественную систему. Начало этому процессу
положила первая книга Блока — «Стихи о Прекрасной Даме», увидевшая
свет в октябре 1904 г.
Художественная идея будущей книги, ее поэтический сюжет в
какой-то мере просматриваются уже в ответе А. Блока на
«психологический вопросник» А. Белого. Связывая мысль о вечной
женственности с апокалиптической идеей о конце мира и для пущей
убедительности своего предположения отсылая адресата к Св. Писанию, Блок
в знакомом нам письме из Бад-Наугейма от 18 июня (1 июля) 1903 г.
соглашается с А. Белым, что «Астарта, действительно,
"переплетается" вокруг Нее». Более того, поэт обращает внимание на один
из серьезнейших «соблазнов»: по его мнению, «Астарта
незабвеннее Ее в жизни...». Воплощение «утонченной половой чувственности
и... утонченной головной диалектики», «Астарта "подвижна..."».
Вечная женственность (соловьевская «новая богиня» София), в отличие
от Астарты, «изгоняет ту и другую чувственность», «Она —
Неподвижна...», и «это — один из главных Ее признаков...». Что и
говорить, «расстановка сил» у Блока получалась не очень утешительной,
и ему ли было не знать о злой мощи Астарты, в страхе перед которой,
не называя ее имени, поэт, как мы помним, признавался М.С.
Соловьеву еще в 1902 г.! «Главным "утешением", однако, — продолжал
он, — является... не диалектическое развитие различия Ее и Астарты,
а интуитивное знание о том, сколь различны их дуновения. Это —
при мистическом состоянии»95.
Если соотнести рассуждения поэта о вечной женственности и
«переплетающейся» вокруг нее Астарте с содержанием первых двух циклов
«Стихов о Прекрасной Даме» — «Неподвижность» и «Перекрестки»,
можно сказать, что в них как бы представлены две начальные фазы
возможного синтеза: теза и антитеза. В чтимом же им Откровении он
не мог не обратить внимания на пронизывающий всю эту книгу
контраст между «женой, облеченной в солнце», и «великою блудницею»;
подобная, из Св. Писания идущая «расстановка сил» и подвигла его как
на рассуждения о путях вечной женственности с символизирующей ее
360
Неподвижностью, с одной стороны, Астарты — с другой, так и на
распределение поэтического материала между двумя первыми циклами
«Стихов о Прекрасной Даме».
Апокалипсис заканчивается полной победой Бога и Сына Его
Христа, видением «невесты Агнца», «святого города Иерусалима»,
абсолютно противоположного растленному Вавилону, что означало
торжество вечной жизни над смертью: «...смерти не будет уже...» (Откр.
21:4). Формула эта имела власть над поэтом на протяжении всей его
жизни. Однако и счет «роковым потерям» Блока начат уже в
«Стихах о Прекрасной Даме». Не случайно в автобиографической анкете
1915 г. в качестве своего «кредо или девиза» он приводит строки из
стихотворения Вл. Соловьева «У себя»:
В царство времени все я не верю,
Силу сердца в себе берегу,
Роковую не скрою потерю,
Но сказать навсегда — не могу (VII, 436).
Открываясь циклом «Неподвижность», проходя через «Перекрестки»
современной цивилизации, лирическая тема его книги, в центре
которой находится образ «новой богини», стремительно движется к
«Ущербу». Вольно или невольно Блок втягивается в полемику не только с
Вл. Соловьевым, но и с самим духом Нового Завета96.
14 ноября 1902 г., спустя семь дней после того, как Л.Д. Менделеева
согласилась стать его женой, поэт пишет любопытное стихотворение-
признание «Стою у власти, душой одинок...». В первом томе его лирики
оно следует непосредственно за открывающим цикл «Распутья»
стихотворением «Я их хранил в приделе Иоанна...», увековечившем это
знаменательное мистическое событие в жизни Блока.
Итак, «власть» получена («стою у власти...»), но — увы! —
«впереди / Разгадки для жизни нет». Далее идут финальные строки:
И, многовластный, числю, как встарь,
Ворожу и гадаю вновь,
Как с жизнью страстной я, мудрый царь,
Сочетаю Тебя, Любовь? (I, 240)
Собственно, это вопрос всего творчества поэта: как «сочетать»,
соединить «тьму» «страстной жизни» со «светом» Любви?
361
В цикле «Неподвижность» решение, казалось, было найдено.
Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.
Все дышавшее ложью
Отшатнулось, дрожа.
Предо мной — к бездорожью
Золотая межа97, —
экстатически восклицал юный апокалиптик: стихотворению был
предпослан эпиграф из Апокалипсиса: «И Дух, и невеста говорят:
прииди».
Внутренне близкими по светлому, оптимистическому настроению
к процитированному стихотворению, служащему как бы своеобразной
квинтэссенцией цикла «Неподвижность», являются следующие стихи:
«Вступление» («Отдых напрасен. Дорога крута...»), «Historia», «Я, отрок,
зажигаю свечи...», «Бегут неверные дневные тени...», «Покраснели и
гаснут ступени...», «Я, изнуренный и премудрый...», «Ночью вьюга
снежная...» и некоторые другие.
В них поэт слагает «песню о белом расцвете»98, испытывает радость
от того, что у него, «укрытого до времени в приделе», «растут великие
крыла», еще мгновение — и:
Час придет — исчезнет мысль о теле,
Станет высь прозрачна и светла (1,161).
Он верит, что ему и его любимой осталось
<...> недолго любоваться
На эти, здешние, пиры:
Пред нами тайны обнажатся,
Возблещут дальние миры (I, 162),
ибо в нем живет убеждение
Нет меры нашему Познанью,
Вещественный не вечен храм.
Когда мы воздвигали зданье,
Его паденье снилось нам (I, 172).
362
Речь у Блока идет о преодолении сопротивления косного земного
вещества, необратимых законов времени, и в своей надежде «забыть»
про «дольний шум» он молит «Закатную, Таинственную Деву»
«соединить огнем» «завтра и вчера» (I, ПО). Несомненно, что этот порыв
сближает юного поэта с остальными младосимволистами и
генетически восходит к Вл. Соловьеву. Как и они, он знает про себя:
Все лучи моей свободы
Заалели там.
Здесь снега и непогоды
Окружили храм".
Отсюда основная коллизия цикла «Неподвижность»: он,
«оглушенный людьми»100, заключен в «земной темнице» (I, 125), а «она течет
в ряду иных светил»101 и в отличие от него «зрит» не дольние, а
«далекие миры» (I, ПО, 78). Надеясь на соединение с ней, он верит, что
в то же мгновение «погаснут огни / Заколдованной, темной любви»,
«и, свободный от земного плена», он «прольет всю жизнь в
последний крик»102.
Все это очень напоминало поэзию Вл. Соловьева и потому вызвало
неподдельный восторг соловьевцев. Вот что писал в этой связи о своем
впечатлении от стихов Блока, присланных в 1902 г. в журнал «Новый
Путь», его редактор П.П. Перцов. Отметив их художественное
достоинство, он продолжал: «Но подкупала, конечно, и тема. Точно воскресала
поэзия Владимира Соловьева — ее последние, лучистые озарения. Это
казалось прямо каким-то чудом, только два года перед тем замолчала
муза мыслителя-ясновидца, и вот вдруг ее звуки переходят на новую
лиру — кто-то пришел, как прямой и законный наследник отозванного
певца; он уже все знает и ведает, и ведет дальше оборвавшуюся песнь,
как заранее знакомое слово о том же самом»103.
Но восторги, как оказалось, были преждевременными.
В «Неподвижности» невольно обращает на себя внимание то, что
Прекрасная Дама Блока как бы погружена в природу, нередко почти
растворяется в ней. Обращаясь к своей будущей жене, поэт писал:
«...когда я любил Тебя отдаленно, я знал, что вся природа мне служит
Символом Твоим»104, а позднее, восстанавливая в дневнике события
1901 г., вспоминал про свое «необычайное слияние с природой» (VII,
344) в ту эпоху.
363
Вот одно из самых характерных в этом отношении стихотворений:
Запевающий сон, зацветающий цвет,
Исчезающий день, погасающий свет.
Открывая окно, увидал я сирень.
Это было весной — в улетающий день.
Раздышались цветы — и на темный карниз
Передвинулись тени ликующих риз.
Задыхалась тоска, занималась душа,
Распахнул я окно, трепеща и дрожа.
И не помню — откуда дохнула в лицо,
Запевая, сгарая, взошла на крыльцо105.
Экстатическое чувство лирического героя (не случайно он
распахивает окно «трепеща и дрожа») говорит о том, что он ожидает встречи
именно с Ней, со своей «богиней». И встреча, как следует из финального
двустишия, состоялась. Но из контекста трудно понять, кто она. Во всяком
случае, героиня неотделима от импрессионистически-зыбкого рисунка
«запевающего сна», «исчезающего дня» и особенно — «зацветающего
цвета» сирени. В черновом варианте стихотворения, который
отличается от окончательной редакции целым рядом деталей, финал «дописан»
следующим образом: «Ах, дремота взяла угасающий день, / Ранней,
ранней весной услыхал я сирень» (I, 617). Подобный финал буквально
«топит» героиню в мареве тонов и полутонов, импульсов, излучаемых
«улетающим» весенним днем.
Особенно любопытна в интересующем нас отношении
противоположная ситуация, учитывающая восприятие не героя, а героини, тем
более что ее голос чрезвычайно редко слышен на страницах блоков-
ской книги. Предпоследнее стихотворение цикла «Неподвижность»
«Мой любимый, мой князь, мой жених...» — чуть ли не единственный
у Блока ее монолог. Самоаттестация героини здесь более чем характерна!
«Дева, Заря, Купина», в блоковском восприятии она одновременно и
«бледно-белый прозрачный цветок» павилики, а в том, что это одно и
то же лицо, убеждает тайное знание героини о своей высокой миссии
«беречь... огонь» для героя. Оттого — единая — она выступает в двух
364
ипостасях: «свечи» и «цветка», «невесты» и «жены»106. После всего
сказанного неудивительно следующее признание поэта:
Когда святого забвения
Кругом недвижная тишь, —
Ты смотришь в тихом томлении,
Речной раздвинув камыш.
Я эти травы зеленые
Люблю и в сонные дни.
Не в них ли мои потаенные,
Мои золотые огни?107
Хотя фраза заканчивается знаком вопроса, Блок склонен ответить
на него скорее утвердительно, чем отрицательно. И если «аргонавт»
Э.К. Метнер усматривал в стихах Блока «опасные перегибы к
зеленому»108, т.е. повышенное внимание к миру феноменальному в ущерб миру
ноуменальному, то поэту это казалось в порядке вещей: Неподвижность
Блока, его вечная женственность, виделась ему «облеченной... в ткани
земли»109. Даже в самом своем «серафическом» стихотворении «Верю
в Солнце Завета...» именно от «весенней земли» ожидал он
«вселенского света».
В том-то и дело, что мифопоэтическое понятие «неподвижности»,
хотя Блок и воспользовался в данном случае образом Вл.
Соловьева, отнюдь не соответствует Софии последнего, а есть воплощение
чисто пантеистической категории души мира. И тысячу раз был прав
П.П. Перцов, когда определил тему «Прекрасной Дамы» как тему «бого-
природы»110. Вне зависимости от того, какой субъективный смысл
вкладывал адресат Блока в свой термин, объективно в нем содержится мысль
об обожествлении природы в лирике поэта.
Вряд ли эта мысль пришлась бы по вкусу Вл. Соловьеву. Однако своим
учением о «материализации божества»111, ступенями которой являются
душа мира и София, он дал повод для смешения данных категорий у его
последователей.
Осознавая парадоксальный характер этой мысли, можно сказать,
что в реализации софиологической интуиции Блок оказался гораздо
последовательнее и радикальнее своего учителя. Иными словами, не
только в «теоретических» воззрениях, но и в лирике самого «соловьев-
ского» периода своего творческого пути поэт склонен был нередко к
365
возведению в ранг «новой оогини» чисто природного существа, и от
него, этого существа, ожидал спасения.
Поэтическое сознание Блока, не выносившее рационализированных
построений, редуцировало и многоэтажную конструкцию Вл.
Соловьева «Бог — София — душа мира», в результате чего Бог и природа
сомкнулись у него в единое целое.
Если, к примеру, в стихотворении «Мы встречались с тобой на
закате...» поэт сознательно не переходит за эту грань, оговариваясь,
что речь идет о чисто земном плане любви: «Я любил твое белое
платье, / Утонченность мечты разлюбив»112, то мы не можем
сказать, что подобная ясность во взаимоотношениях его героя и
героини составляет характерную черту цикла «Неподвижность».
Обратившись к известному стихотворению «Вхожу я в темные храмы...»,
читатель понимает, что в нем происходит приобщение героя к «мирам
иным». Прекрасная Дама здесь — «Величавая, Вечная Жена», и если
поэт обращается к ней на «ты», то пишет это местоимение с
большой буквы. Но уже в ситуативно близком к упомянутому
стихотворении «Бегут неверные дневные тени...» («озаренный» «у
строгих образов» храма герой ждет явления своей «дамы») в
начертании того же местоимения Блок почему-то употребляет маленькую
букву. Более того, в очередном стихотворении «Покраснели и
гаснут ступени...» ситуация вообще не прояснена: непонятно, о
свидании с кем здесь повествуется. Вроде бы имеется в виду интимная
встреча с горячо любимым существом («Ты сказала сама: Приду»), и
тогда вполне мотивирована любовная страсть героя, подчеркнутая
необычным с орфографической точки зрения написанием глагола
«сгореть», — «сгарая». Но почему же в таком случае поэт создает
откровенно молитвенную атмосферу: «У входа в сумрак молений / Я открыл
мое сердце. — Жду», а условленная встреча и вообще подана в духе
космической мистерии:
Расцветает красное пламя.
Неожиданно сны сбылись.
Ты идешь. Над храмом, над нами —
Беззакатная глубь и высь?113
Или здесь сбылась мечта «Вступления» к циклу «Неподвижность»
(«Отдых напрасен. Дорога крута...»)? Вроде бы и так, об этом говорит
366
и образная перекличка обоих стихотворений: «красное пламя»,
«лазурная высь», «залит весной беззакатный наряд», и атмосфера
праздничного ликования мира и героя, обретших наконец желанную
свободу от «земного плена». Но аналогии наши разбиваются о вполне
очевидный факт явной неадекватности «ты» «Вступления» и
стихотворения «Покраснели и гаснут ступени...»: в первом случае «она»
для поэта вполне однозначно «богиня», «Царевна Сама», вечная
женственность, на которую он смотрит снизу вверх, во втором налицо
столь характерная для Блока спутанность «земного» и «небесного»
планов.
К этому следует добавить, что аспект софийности в теме
вечно-женственного, столь присущий лирике Вл. Соловьева, практически
отсутствует в поэзии уже раннего Блока. Вечно-женственное для него —
синоним души мира. Последняя же, по воззрениям философа, являясь
душой космоса, одновременно открыта как злу, так и добру.
Надо заметить, А. Блок хорошо усвоил эту идею философа.
Не знаешь Ты, какие цели
Таишь в глубинах Роз Твоих <...>
В Тебе таятся в ожиданьи
Великий свет и злая тьма... —
напишет он в стихотворении «Я — тварь дрожащая. Лучами...» (I, 190).
Отсюда его опасение, что «в конце», т.е. накануне вожделенной
свободы и гармонии, она внезапно «изменит облик», и тогда неминуема
катастрофа героя.
О, как паду — и горестно, и низко,
Не одолев смертельныя мечты!114 —
с ужасом признается он сам себе, но на практике как бы забывал об
опасности, исходящей из амбивалентной природы души мира, целиком
отдавая себя во власть женственного и даже женского начала.
Герой лирики Вл. Соловьева, помня о том, что двойственность
души мира проявляется и в душе любимой женщины, стремится
защитить ее от влияния и победы над ней злых сил. Он активен и
мужествен. Лирический герой Блока женственно-пассивен. Он
практически всегда пребывает «в бездействии», и формула ожидания радостной
благодати, источником которой представляется ему героиня, на тысячу
367
ладов варьируется в стихах «Неподвижности»: «...И, молча, жду, —
тоскуя и любя», «Там жду я Прекрасной Дамы...», «Я жду призыва...»,
«Жду — внезапно отворится дверь...», «Я озарен — я жду твоих шагов»,
«...Я открыл мое сердце. — Жду», «Жду вселенского света...» и т.д.115.
Более того, он не только пассивен, но и «безволен» и, теряя это
непременное качество личности, готов без остатка раствориться в
женственной стихии, которая нередко выступает у Блока в виде
обожествленной природы. Иными словами, личность лирического героя Блока уже
в первом цикле его первой книги, находящемся по сравнению с
другими ее разделами под наиболее сильным влиянием Вл. Соловьева, но
во многом вопреки последнему попадает под власть темной, родовой
стихии, и именно здесь таятся истоки его будущего «мистического
анархизма», именно это породило сложность, неоднозначность
поэтической идеи книги в целом116.
О взлетах и падениях своей души, о тайных темных страстях ее Блок
знал, как никто более, и в этом мы убедились, исследуя его дневники,
записные книжки, переписку тех лет. Известно, что «Стихи о
Прекрасной Даме» выступали в сознании поэта в качестве некоего «заклятия
хаоса» (ЗК, 168), в том числе, разумеется, хаоса, таящегося в глубинах
собственной натуры. В художественной структуре книги подобную
нагрузку несли на себе стихи первого цикла; из большого числа
стихотворений, написанных к середине 1904 г., Блок включил в него
наиболее светлые по настроению. Ведь в его сознании мифопоэтическая
категория «неподвижности», как следует из наших рассуждений, в
значительной степени соответствовала апокалиптическому образу «жены,
облеченной в солнце». И вот получалось, что «затемнение образа
Прекрасной Дамы» (ЗК, 168) началось уже здесь.
Если же восстановить подлинную картину живого творчества Блока,
что он позднее сделает сам, составляя первый том своей лирики, то она
окажется еще более удручающей. Чтобы не множить примеры,
приведем лишь одно стихотворение, написанное еще в разгар мистических
чаяний, 8 апреля 1902 г., оно очень красноречиво:
Люблю высокие соборы,
Душой смиряясь, посещать,
Входить на сумрачные хоры,
В толпе поющих исчезать.
Боюсь души моей двуликой
368
И осторожно хороню
Свой образ дьявольский и дикий
В сию священную броню.
В своей молитве суеверной
Ищу защиты у Христа,
Но из-под маски лицемерной
Смеются лживые уста.
И тихо, с измененным ликом,
В мерцаньи мертвенном свечей,
Бужу я память о Двуликом
В сердцах молящихся людей.
Вот — содрогнулись, смолкли хоры,
В смятеньи бросились бежать...
Люблю высокие соборы,
Душой смиряясь, посещать (I, 187).
Блок знал, что говорит, когда писал про «заклятие хаоса». «Священная
броня» Неподвижности разрушалась под напором иррациональных
проявлений «души... двуликой» его лирического героя. Выстраивая
художественный мир «Перекрестков» — второго цикла книги, Блок-
апокалиптик замышлял его как воплощение злых чар «подвижной»
Астарты, блудницы, восседающей на багряном звере. Именно в этом
ключе воспринимал нарисованные поэтом картины современного
города и А. Белый, утверждая в духе Вл. Соловьева, что «хаотическая
действительность» «превращается поэзией Блока в сплошной кошмар,
когда его муза смотрит на мир, не подчиненный ей»117. В любом
случае четкой демаркационной линии меж двумя циклами провести было
невозможно, ибо антитезис («Перекрестки») таковым являлся не
вполне, чистота его соблюдена быть не могла по той причине, что
настроение, в нем царившее, во многих отношениях оказалось
подготовленным неразрешимыми противоречиями вступительного цикла,
претендовавшего на роль тезиса. И проявилось это прежде всего в том, что,
начав «Перекрестки» с описания современного «Вавилона», Блок чем
дальше, тем больше делает средоточием его «перекрестков» душу
своего лирического героя, предвосхищая тем самым мотивы
позднейшего «Страшного мира».
Цикл открывается стихотворением «Обман», являющимся своего
рода его эмблемой, «визитной карточкой». Здесь прекрасно воссоздана
369
атмосфера «двойного отраженья» города, его иррациональная,
двоящаяся природа, завораживающая, влекущая, «манящая» к себе его личина
(«...заманчив обман», — напишет Блок в другом стихотворении), и его
страшное, калечащее душу человека лицо, его истинная суть,
неизбежно метящая человека своим «дьявольским клеймом»118.
В этом мире нет ничего цельного, все раздроблено, хаотично, и
настроение хаоса, диссонанса поэт создает нагнетанием коротких,
нередко в одно слово, фраз: «Утро. Тучки. Дымы. Опрокинутые кадки»,
«Хохот. Всплески. Брызги» и т.д. Тут все полно экспрессии, взгляд
человека останавливается на предмете лишь на мгновение и скользит
дальше: «Стены фабрик, стекла окон, / Грязно-рыжее пальто, /
Развевающийся локон...»"9. Красочная палитра «Перекрестков», в отличие
от «Неподвижности», становится разноцветной — именно такова, по
мнению Блока, Астарта, причем в соответствии с Апокалипсисом,
где блудница восседала на багряном звере, открывающие цикл стихи
насыщены различными оттенками красного цвета. В этом отношении
особенно характерно стихотворение «Город в красные пределы...». Да
и сам образ древнего змия, вернее, память о нем, его тень нет-нет да
и мелькнет на страницах цикла: то платье, облекающее фигуру
женщины, уподоблено змее, то «вереница... телег» «проползет змеей»
перед героем...120.
И впрямь: Блок создает знакомый по Откровению Иоанна образ,
будит в сознании читателя определенные ассоциации. И оттого так
ясен и однозначен его приговор: «В этот город торговли / Небеса не
сойдут»121.
Однако такая уверенность, сколь осудительно и карающе ни
звучали бы слова поэта, применительно к его внутреннему опыту
граничит со срывом, с отчаянием богооставленности.
А хмурое небо низко —
Покрыло и самый храм.
Я знаю: Ты здесь. Ты близко.
Тебя здесь нет. Ты — там, —
говорит он в одном из стихотворений, и как бы эти стихи ни
напоминали строки первого цикла: «Все лучи моей свободы / Заалели там...»,
ясно, что речь здесь идет совсем о другом. Строки «Неподвижности»
говорили о ноуменальности богини, живое же ее дыхание, несмотря
370
на отдельные моменты депрессии, герой этого цикла «Стихов о
Прекрасной Даме» ощущал часто. Теперь это «там» означает некую
неопределенность его положения, да и сам жест не несет строгой и
четкой семантической нагрузки. Не случайно герой признается, что «не
помнит имен», ибо чуть ли не по своей воле расстался с самой
задушевной мечтой: «В ушах раздаются звуки / Недавних больших
похорон»122.
В таком случае, богооставленность оборачивается
богоотступничеством. Виновата в этом чарующая красота города, а если шире —
феноменального мира. Подобный мотив, например, составляет сюжетную
основу стихотворения «Мне гадалка с морщинистым ликом...».
«Очарованный уличным криком» герой спешит «за мелькнувшим лицом»
своей судьбы, но не достигает желаемого.
Я бежал и угадывал лица,
На углах останавливал бег.
Предо мною ползла вереница
Нагруженных скрипящих телег.
Проползала змеей меж домами, —
Я не мог площадей перейти...
А оттуда взывало: — За нами!
Раздавалось: — Безумный! Прости!
Там — бессмертною волей томима,
Может быть, призывала Сама...
Я бежал переулками мимо, —
И меня поглотили дома123.
В процитированном стихотворении герой Блока еще чувствует
личную ответственность за свою «поглощенность» миром, здесь еще звучит
нравственная оценка случившегося. Но в том-то и дело, что, все
больше сливаясь с городом, он отступает от такого рода приговора самому
себе, начинает подменять нравственное эстетическим. Нравственное
стушевывается и отступает перед открыто заявленной эстетизацией
того, что еще недавно или осуждалось, или хотя бы признавалось
неподлинным.
Вот два стихотворения цикла. Они об одном: о любовной страсти.
Но как по-разному она проявляется и, главное, оценивается.
371
Стихотворение «День был нежно-серый...» выполнено в
импрессионистической манере, любовное чувство здесь осознается как
«нежная тоска без конца», нарастающая от строфы к строфе. Вначале герои
«пожимали руки, избегали встреч, / Укрывали смехи белизною плеч»,
потом «над скатертью в столовой наклонились ниц, / Касаясь
прическами пылающих лиц». И вот кульминация: «Стуки сердца чаще,
напряженней взгляд, / В мыслях — он, глубокий, нежный, душный сад».
Речь здесь и впрямь идет о саде, в котором через мгновение окажутся
влюбленные (не тот ли это сад, по которому гуляли Саша Блок и Люба
Менделеева?!), но эпитет «душный» более оценивает чувство, в
котором побеждает «тьма», а не «свет». Поэт еще различает логические
грани того и другого, и как предупреждение о возможном «падении»
героев в объятия «душной» страсти звучат строки четвертой строфы:
«Длинный вырез платья, платье, как змея, / В сумерках белее платья
чешуя». Оценка подобного же характера, хотя и приглушенная, звучит
и в финале стихотворения:
Молча потонули в саду без следа.
Небо тихо вспыхнуло заревом стыда.
Может быть, скатилась красная звезда124.
Показателен в плане оценки произошедшего и переход белого
цвета в красный, если учесть символику цвета, характерную для Блока
данного периода.
Иначе обстоит дело в стихотворении «Днем вершу я дела суеты...».
«Безысходно туманная» героиня, по вечерам «затевающая игру» (пусть
и в фантазии героя), целиком сливается в его сознании с волшебной
красотой города, вызывая такое вот его признание: «Я люблю эту ложь,
этот блеск, / Твой манящий девичий наряд...» и т.д. Погруженный в
сугубо феноменальный мир «переливчатых красок и слов», герой теряет
«высоту» и связанную с ней возможность нравственной оценки
ситуации, а оттого логикой поэтической мысли обречен на эстетизацию
предельно релятивного в глубине своей мироощущения, особенно если
опять-таки учитывать блоковскую символику цвета: «Как ты лжива и
как ты бела! / Мне же по сердцу белая ложь...»125.
Что это как не победа того самого принципа «двойного
отраженья» — образа, найденного Блоком в стихотворении «Обман» для
372
характеристики двуликости современного «Вавилона», призрачности,
нравственной релятивности его ценностей. Заманив в свои сети, в свой
«обман» героиню одноименного стихотворения, он теперь празднует
свою победу и над лирическим героем Блока.
Выказанное в письме к Л.Д. Менделеевой желание «потушить огни»
не могло не наложить печать на лирическое мирочувствие поэта. Лирика
«Перекрестков» с господствующим в них мотивом «двойного
отраженья» позволяет вскрыть в поэтическом мире Блока «механику»
перехода «света» во «тьму» или, что точнее, подмены, вытеснения «тьмою»
«света».
Особенно любопытно в этом отношении стихотворение «Там —
в улице стоял какой-то дом...». Как и большинство стихотворений
А. Блока, оно основано на вполне конкретных жизненных реалиях.
Речь в нем идет о доме, в котором располагались курсы М. Читау, где
Л.Д. Менделеева, как мы помним, обучалась театральному ремеслу.
Поджидая свою возлюбленную на улице, Блок, естественно,
наблюдал за жизнью дома. Впечатления, переложенные на язык
символических категорий «света» и «тьмы», и составили сюжет указанного
стихотворения.
Его начало задает тон дальнейшему повествованию:
Там — в улице стоял какой-то дом,
И лестница крутая в тьму водила.
Там открывалась дверь, звеня стеклом,
Свет выбегал, — и снова тьма бродила.
Лестница ведет вверх, верх (высота) всегда ассоциируется со
«светом». У Блока иначе: она «в тьму водила»; «тьма» — величина
постоянная в доме, она по-хозяйски «бродит» в нем, в то время как «свет»
только и знает, что покидает («выбегает») жилище.
Чтобы усилить ощущение всевластности, «вязкости» «тьмы», поэт
прибегает к анафоре:
Там в сумерках белел дверной навес...
Там наверху окно смотрело вниз...
Там в сумерках дрожал в окошках свет...
373
Причем цветовая гамма в данном случае явно «работает» на
«приглушение» «света»: белеющий в сумерках предмет вовсе не белый,
а дрожащий в окошках свет не совсем «свет». И уж особенно
красноречив образ окна «наверху», смотрящего «вниз».
«Свет» будто бы уступил место «тьме», «верх» — «низу», а
довершает картину заключительная строфа стихотворения, отчасти
напоминающая первую и по этой причине ставящая точку в развитии темы.
Кольцевая композиция «замыкает» сюжет, делает невозможным иное
решение проблемы, накладывает печать обреченности на
переживание героя, ибо предельно обобщает частную ситуацию, доводя ее до
некой закономерности:
По лестнице над сумрачным двором
Мелькала тень, и лампа чуть светила.
Вдруг открывалась дверь, звеня стеклом,
Свет выбегал, и снова тьма бродила126.
А закономерность здесь такая. При всей, так сказать, победительно-
сти «тьмы», ее доминировании в цветовой палитре и в
идейно-смысловом контексте стихотворения Блок тем не менее стремится
избежать категоричности и однозначности выводов. В стихотворении все
зыбко, неопределенно, все полно «дрожания», взаимопереходов и
взаимовозвратов. И самое главное — четких границ между «светом» и
«тьмою» нет, как непонятно, что есть «верх» и что «низ».
Для сравнения скажем, что иначе обстояло дело в стихотворении
«Высоко с темнотой сливается стена...», написанном несколькими
месяцами ранее и посвященном той же житейской ситуации. Знакомые уже
читателю образы: «в дверях дрожащий свет и сумерки вокруг...»,
темная лестница и т.д. здесь лишь подчеркивают, выделяют и «укрупняют»
«свет»: «Там — светлое окно и светлое молчанье». Кроме того, из
контекста данного стихотворения, чего нет в предыдущем, ясно, что с этим
«светом» связана надежда героя: «Молчу и жду тебя, мой бедный,
поздний друг, / Последняя мечта моей души вечерней» (I, 158). Еще более
акцентирован данный «момент истины» в «односюжетном» с двумя
названными стихотворении «Я долго ждал — ты вышла поздно...».
Героиня рассеивает «сумрак», и финальные строки звучат предельно
оптимистично:
374
Ты в белой вьюге, в снежном стоне
Опять волшебницей всплыла,
И в вечном свете, в вечном звоне
Церквей смешались купола (I, 143).
И впрямь «окутанный мглою», «подружившийся с темнотой»
герой «Перекрестков» распространяет принцип «двойного отраженья»
(относительности границ «света» и «тьмы») на все вокруг, он
становится его постоянным углом зрения, и «светлое молчанье» за
«светлым окном» теперь оборачивается «шутовским маскарадом», где
«лицо укрывали / В разноцветную ложь»127. Еще мгновение — и
вчерашняя «волшебница» окажется (и на самом деле оказывается!)
волшебницей иного рода, предвосхищая героиню второго тома лирики
Блока.
Герой по-прежнему ожидает ее «выхода», но как неузнаваемо
изменился ее облик!
Она стройна и высока,
Всегда надменна и сурова.
Я каждый день издалека
Следил за ней, на все готовый.
Я знал часы, когда сойдет
Она — и с нею отблеск гладкий.
И, как злодей, за поворот
Бежал за ней, играя в прятки, —
начинает поэт свое повествование, и в нашей памяти всплывает
ситуация стихотворения «Мне гадалка с морщинистым ликом...», в котором
лирический персонаж тоже «бежал за мелькнувшим лицом», где-то в
глубинах своего сознания надеясь и рассчитывая, что его «призывала
Сама». Тогда, «поглощенный домами», он не настиг свое видение, теперь
он, похоже, близок к цели... Но что он видит? Не Прекрасная Дама
предстает перед ним, а земная женщина, спешащая на свидание к другому.
И самое главное — факт этот не секрет для лирического героя Блока.
Зная, что откроется его очам, он, «невидимый для всех», «поет» «их
встречи»128. Суть лирического напряжения процитированного
стихотворения как раз и состоит в изменении сокровенной интонации прежней
«песни» Блока. «...Доверясь слепому азарту» (I, 626), его герой готов —
375
просто жаждет этого! — поставить себя на место мужчины с «профилем
грубым», мечтает «захлебнуться» «ночной свободой», идти «навстречу
страстному безволью»129, потонуть, раствориться без остатка в женской
стихии. Разве не сам он в «Неподвижности» «отпраздновал светлую
смерть»130 своей Прекрасной Дамы, разве не признавался он уже там,
что временами «любил... белое платье» «розовой девушки» больше,
чем «утонченность мечты»? Разве — спросим себя — и сам Блок,
разлученный с невестой на полтора месяца, не испытывал к ней похожую
страсть? В таком случае подобный конец героя «Перекрестков» более
чем закономерен, как закономерно появление здесь (в стихотворении
«Мне гадалка с морщинистым ликом...») впервые у Блока «цыганской»
темы. Лишь психологическим аффектом отчаяния может быть
мотивирована аберрация сознания лирического героя: подмена «Самой»
уличной гадалкой, но сколь характерен для понимания эволюции
лирического героя поэта этот его «пылающий бред»131.
Тема, заявленная в отвергнутой концовке стихотворения и потому
не ставшая фактом читательского сознания, всплыла в предпоследнем
стихотворении цикла — «По берегу плелся больной человек...».
Причем между обоими стихами существует трудно уловимая для
поверхностного взгляда связь. Там, как мы помним, змеей «проползшая» перед
героем «вереница... телег» отрезала его от мечты, обрекла на плен у
города, по сути дела, начала процесс его духовного разрушения. Здесь
«рядом» с «больным человеком» «ползла вереница телег» — образ,
почти дословно повторивший прежний. И в сознании читателя
возникает предположение, что новое стихотворение как бы развивает
ситуацию, положенную в основу предшествующего произведения. Дело,
разумеется, не в общности сюжета, да и совпадающих деталей, помимо
отмеченной, в стихотворении нет. Связь здесь внутренняя. Мы имеем
дело с чем-то вроде эпилога в судьбе лирического героя Блока,
изменившего своей Даме, забывшего про свою мечту. Теперь он «больной
человек» и даже вовсе «труп», который «взяла» в свою телегу одна из
«красивых цыганок».
С собой усадила в телегу рядком,
И мертвый качался и падал ничком.
И с песней свободы везла до села
И мертвого мужа жене отдала132, —
376
так заканчивается это стихотворение, повторяем, предпоследнее в цикле,
что само по себе весьма знаменательно. Когда-то герой
«Неподвижности» мечтал о свободе, связывая эту мечту с надеждой на встречу
с «Величавой, Вечной Женой». Встреча, как видим, состоялась, но —
увы! — совсем при других обстоятельствах, а вместо Прекрасной Дамы
«песню свободы» пропела цыганка из «балагана», который «везли»
в «дымящийся город», окончательно «поглотивший» героя
«Перекрестков».
Его несостоятельность вызывает заметное ироническое чувство поэта
(позднее оно выльется в скепсис «Балаганчика»), но в целом в
«Перекрестках» царит настроение отчаяния, ужаса, депрессии.
В соответствии с замыслом «Стихов о Прекрасной Даме» ее герой
является носителем апокалиптической идеи. В первом цикле книги
Блок, как мы помним, развивал тезис о «Владычице Вселенной», на
языке Апокалипсиса — «жене, облеченной в солнце». Во втором цикле
перед читателем должно было предстать царство «зверя»,
воплощенное в символе «блудницы». И хотя поэт стремится следовать
символике Откровения, это ему не вполне удается. Дело в том, что уже на
страницах «Неподвижности» началось разрушение мифа о Прекрасной
Даме, уже там он начал петь «песни не те...»133. Подоплекой крушения
мечты, как следует из нашего анализа, явилось то обстоятельство, что
в качестве «новой богини» Вл. Соловьева — Софии у него предстала
обожествленная земная женщина, в которой он к тому же «поместил
все» свое «существование». Онтология более чем сомнительная!
«Горнее» уступило место «дольнему», более того, последнему был придан
привкус божественного. Если предельно огрубить ситуацию, в блоков-
ском «апокалипсисе» на место «жены, облеченной в солнце», воссела...
«блудница». Блок предчувствовал эту подмену, боялся ее, и все же она
произошла. Из пророка его герой превратился в «падшего ангела» с
кривым зеркалом истины в руках.
«Близко труба. И не видно во мраке»134, — отчаивается он, ибо
мысль о воскресении «по последней трубе» — заветнейшая мысль
Блока-апокалиптика. «Вышедшему в ночь» герою, даже вопреки логике
собственных предчувствий, хочется «поверить в мнимый конский
топот», хочется встретить всадника на белом коне (он же
воплощенное Слово Божие — Христос) — и вот, кажется, сбывается древнее
пророчество Откровения.
377
И слушал я — и услыхал:
Среди дрожащих лунных пятен
Далеко, звонко конь скакал,
И легкий посвист был понятен. <...>
И вот, слышнее звон копыт,
И белый конь ко мне несется...
И стало ясно, кто молчит
И на пустом седле смеется135.
В четвертке апокалиптических всадников как абсолютно
полярные противостоят друг другу первый и четвертый. Последний —
воплощение смерти, первый знаменует собой жизнь, просветленную
истиной. Он вступает в борьбу со зверем, намеревавшимся когда-
то «пожрать» его в младенческом возрасте. Теперь он одерживает
полную победу.
У Блока все иначе. «Пустое седло», молчащее Слово и, наконец,
смеющийся кто-то. В принципе ясно, кто заменил Христа на белом коне, но
то, что в процитированном стихотворении окружено
многозначительной недоговоренностью, отчетливо проступает в соседнем: «Пытался
сердцем отдохнуть я...». Блок не сомневается, что
<...> в день последний, в час бездонный,
Нарушив всяческий закон,
Он встанет, призрак беззаконный,
Зеркальной гладью отражен.
И в этот час в густые сени
Войдет подобие лица,
И будет в зеркале без тени
Изображенье Пришлеца136.
Это «подобие лица» — «Пришлец» — вовсе не апокалиптический
всадник по имени «смерть»; в том-то и дело (Блок специально,
причем дважды, оговаривается), что он явится «нарушив всяческий
закон...». По Апокалипсису, блудницу-Вавилон должна постичь именно
смерть — кара небесная. И в той ситуации, по которой в
«нарушение» пророчества Св. Писания в конце мира явится обманувший всех
Дьявол, нельзя не увидеть скепсиса Блока, рождающегося из его
полемики со Св. Писанием.
378
Первая книга Блока — его лирическая исповедь о
неосуществившейся надежде на синтетическую, освобождающую религию
Третьего Завета, разумеется, в специфически блоковском ее понимании.
Именно третий цикл «Стихов о Прекрасной Даме» должен был
ознаменовать торжество этой идеи, но драматическая коллизия
«Перекрестков» свела ее на нет, выдвинув на передний план мотив ее «ущерба».
В одном из самых значительных стихотворений заключительного
раздела книги — «Свобода смотрит в синеву...» все обстоит вроде бы
по-прежнему, «как и тогда», когда мечталось, что «Непостижная», открыв
«Лучезарный Лик» взыскующему гармонии герою, освободит его из
«земного плена». Но в том-то и дело, что, как мы знаем из другого
стихотворения «Ущерба», «в непробудном сне Царевны, / Синева пуста».
Да и песнь «давно» окончена, и вообще: «...разве можно верить тени, /
Мелькнувшей в юношеском сне?» «Жатва ночи», тьмы, со всех сторон
обступившей героя, сделала свое дело: «мертвый колос» — «месяца
отрезок» — повис, закачался в листве137.
Мотив умирания, смерти, возникший еще в «Неподвижности»,
собирает обильную жатву на страницах «Ущерба», причем смерть предстает
здесь как желанное избавление от тягот земной жизни. «Нянюшка...
сонная» рассказывает «мальчику сонненькому» про то, как «святой
мученик... преставился <...> / Святой мученик от мученья избавился».
Следующее стихотворение, в котором говорится о самоубийстве молодой
женщины, заканчивается фразой: «Мамочке хорошо. Мама умерла», а
очередная лирическая миниатюра начинается такой вот строфой:
У берега зеленого на малой могиле
В праздник Благовещенья пели псалом.
Белые священники с улыбкой хоронили
Маленькую девочку в платье голубом138.
При этом важно подчеркнуть, что смерть в изображении Блока не
только становится фактом детского сознания и детской биографии, но
и заявляет о своих правах в моменты самые неподобающие: на
«веселые морозные Святки», т.е. накануне Крещения, и на Благовещенье.
Есть во всем этом известный полемический нажим, особенно если
учесть, что еще совсем недавно, как уже говорилось, Блок видел в
себе «"апокалиптика", ..."чающего воскресения мертвых и жизни
будущего века"».
379
Теперь поэт готов отказать миру в разумных основаниях. В
осеннем пейзаже ему видится, как «бесконечно тянет нити /
Торжествующий паук» — деталь, имеющая глубокий смысловой подтекст,
особенно если учесть, что в предпоследнем стихотворении цикла она
разрастается в мысль об иррациональности человеческого
существования:
Я, паяц, у блестящей рампы
Возникаю в открытый люк.
Это — бездна смотрит сквозь лампы —
Ненасытно-жадный паук139.
Может ли поэт, человек вообще рассчитывать на свое
противодействие этой разверзшейся перед ним бездне мрака, может ли
надеяться на гармонию, на возникновение света из тьмы? Нет, он способен
лишь, в равной степени «благословляя свет и тень», покорный
судьбе, «смотреть туда — в хаос безмирный»140 — так устами Экклезиаста
отвечает на этот мысленный вопрос А. Блок; «бысть Экклесиаст
мудр», — гласит эпиграф открывающего «Ущерб» стихотворения, и
этим все сказано.
В свете этой истины наивными представляются поэту его
юношеские притязания и мечты, и он склонен объявить их — не без
грусти! — «ласковым сном», «милым сном», «сказкой»141.
Правда, «мерцающая сага» о Даме для него еще и «светлый сон»,
и новую свою позицию он порой воспринимает как «мгновенные
бессилья» и даже как результат измены: только «забыв святое», можно
выдать эту «истину» за истину142. В заключительном стихотворении
цикла возникает надежда на возрождение: «Мы опять расплещем
крылья, / Снова отлетим!»143, но это стихотворение в контексте и цикла
и всей книги Блока кажется «дописанным», не очень органичным.
Гораздо более органичным, выражающим суть «Ущерба»,
представляется первое стихотворение из цикла посвящений А. Белому. Ввиду
важности этого произведения для дальнейшего разговора процитируем
его полностью:
Я смотрел на слепое людское строение.
Под крышей медленно зажигалось окно.
Кто-то сверху услыхал приближение
И думал о том, что было давно.
380
Занавески шевелились и падали.
Поднимались от невидимой руки.
На лестнице тени прядали.
И осторожно начинались звонки.
Еще никто не вошел на лестницу,
А уж заслышали счет ступень.
И везде проснулись, кричали, поджидая вестницу,
И седые головы наклонялись в тень.
Думали: за утром наступит день.
Выше всех кричащих и всклокоченных
Под крышей медленно загоралось окно.
Там кто-то на счетах позолоченных
Сосчитал, что никому не дано.
И понял, что будет темно144.
Две строки, выделенные в самостоятельные строфы, перекликаясь
между собой, составляют смысловой центр стихотворения: «чудо»
преображения «тьмы» «светом» не более чем «глупая сказка»145.
К такому выводу подошел поэт, выдвинувший в начале своего пути
задачу религиозного преображения жизни. И итог этот, как мы
стремились показать, вполне закономерен. Причину «поражения» Блока
нужно искать на путях, которые воспринимались им в качестве истины
(он и «падение» свое склонен был объяснять отходом от нее, изменой
ей). Истина же была сосредоточена для него в Софии.
Отсюда показательное для его позиции противопоставление вечной
женственности и Христа, как то следует из ответов А. Блока на вопросы
А. Белого о Софии: «Еще (или уже, или никогда) не чувствую Христа.
Чувствую Ε е, Христа иногда только понимаю»; «Христос всегда Добрый, у
Нее же это не существенно, ибо "Свет Немеркнущий Новой богини" есть
не добрый и не злой, а более. Я скажу, что я люблю Христа меньше, чем
Ее, и в "славословии, благодарении и прошении" всегда прибегну к Ней»146.
Вл. Соловьев, разумеется, никогда не противопоставил бы Софию
Христу. Однако и он, пожалуй, любил свою «богиню» больше, нежели
это подобает благочестивому христианину или христианскому
философу. Каким-то внутренним чутьем Блок постиг всю эту
противоречивую духовную сложность личности своего учителя и, не считая
381
себя ортодоксальным соловьевцем, оказался гораздо ближе к духу его
учения, чем люди, его боготворившие. Это и выразилось в
процитированных блоковских ответах на «вопросник» А. Белого. Думая, что
бунтует против Вл. Соловьева («Боюсь еще (м<ожет> б<ыть>,
перестану бояться) утратить Соловьевские костыли, подпиравшие меня
сильно...»147), поэт на самом деле наметил исходную точку своего
столкновения с ним — Христа («...я не почувствую в нем, вероятно, никогда
того, что есть специально Христос» (VIII, ПО)), хотя и преувеличил,
как водится в этих случаях, приверженность Вл. Соловьева к
христианству.
Встреча с Вл. Соловьевым, помноженная на юношеское чувство
к Л.Д. Менделеевой, породила в поэтической фантазии Блока
представление о любви, воплощенное в образе «новой богини», которая,
как мы убедились, имея точки соприкосновения с вечной
женственностью Вл. Соловьева, не была, однако, тождественна ей. В этом
божестве А. Блока привлекал по преимуществу космический аспект,
начало космической гармонии и совершенства, ярко выраженное в
поэме Вл. Соловьева «Три свидания». Однако нравственно-этическая
проблематика, связанная с именем Христа, доминирующая у
автора «Оправдания добра», не привлекла должного внимания юного
поэта — отсюда, возможно, известная его более чем резкая оценка этой
книги.
Подобная позиция Блока еще скажется в дальнейшем, толкнет его в
объятия дионисийской стихии, приведет его к ее обожествлению,
станет источником его личной трагедии. Пока же заметим, что
приложимость к Христу человеческих критериев добра побудила Блока
противопоставить вечную женственность Христу, которая в отличие от Него
якобы «окончательна», ибо находится за гранью людских
представлений о добре и зле.
В этой мысли для максималиста Блока, по его собственному
признанию, не желавшему «крестных мук», т.е. рассчитывавшему на
мгновенное обретение гармонии («во мгновение ока»!), таился
величайший соблазн, ибо, минуя христианское страдание и искупление,
он намеревался достичь Царства Небесного, которое в таком случае
оборачивалось обыкновенной метафорой. Это была вера в
Апокалипсис... без Христа. «Величайшим понятием, которое мы можем вме-
382
стить, — писал Блок А. Белому из Бад-Наугейма, — является Конец
Мира, а потому это понятие несомненно связывается с Ней. В Св.
Писании намеки о Ней также несомненно связаны с Концом. Эти два
понятия (Она и Конец) в совокупности бросают более ясный свет на всю
картину настоящего и прошедшего»148.
В этих словах — задушевная апокалиптическая идея А. Блока,
которой он был более или менее верен всю свою жизнь. Данная идея,
целиком произрастая на пантеистической мировоззренческой основе, по
сути дела, лишь эксплуатировала христианскую символику, на самом
деле будучи совершенно чуждой ей по духу.
Блоковский Апокалипсис — это скорее Апокалипсис от Софии.
Выше мы уже говорили (правда, по другому поводу), что Вл.
Соловьев никогда не согласился бы на такой предельно максималистский
вывод из своей софиологии. Однако вряд ли кто будет возражать
против мысли о том, что оккультный характер этого учения таил в себе
возможности для подобного рода умозаключений. А. Блок — поэт, а
не философ. Его язык — мир поэтических идей и художественных
образов, а не диалектических рассуждений и дефиниций. Он и соло-
вьевское учение о Софии воспринял чисто поэтически, чему в
немалой степени способствовал несколько мифологизированный привкус
этого учения. По этой же причине ему был ближе Соловьев-поэт,
нежели Соловьев-философ149. Наконец, у каждого из них были свои
уровни восприятия и понимания Софии. Дело здесь не только в том,
что Вл. Соловьев — зачинатель русской софиологии и учитель Блока,
но также и в том, что блоковская София (Прекрасная Дама) предстает
в его первой книге в качестве сильно опоэтизированного и
очеловеченного существа, в то время как у Вл. Соловьева, несмотря на
наличие тех же аспектов в ее восприятии, она тем не менее в первую
очередь воплощение философской идеи.
В этом различии и заключается в значительной степени весь корень
проблемы. Очеловечивание соловьевской «новой богини» приводит
Блока к тому самому смешению горнего с дольним, к переходу вечно
женственного в женственное и просто женское, о котором
говорилось выше. Поскольку зачатки всего этого мы обнаружили в
философском творчестве автора «Софии», можно со всей определенностью
сказать, что Блок является не только продолжателем, но и до некото-
383
рой степени завершителем тенденций, намеченных Вл. Соловьевым.
Вплоть до того, что уже в первой своей книге поэт испытал
неведомое его учителю чувство крушения софианской утопии. В каком-то
смысле софиология Вл. Соловьева подверглась в «Стихах о
Прекрасной Даме» проверке на прочность. Анализ показывает: испытания
жизнью она не выдержала.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
КУБОФУТУРИЗМ И ЭСТЕТИКА
«ЖИЗНЕСТРОЕНИЯ»
Со всей очевидностью необходимо признать, что отечественное
литературоведение не создало еще сколько-нибудь полной истории русского
футуризма. На то есть много причин объективного и субъективного
порядка, среди которых не последнюю роль сыграла
идейно-эстетическая несовместимость определяющих принципов футуристического
искусства с господствующей идеологией и литературными вкусами
недавнего прошлого.
Когда же пришел черед представить читателю ранее оттесненные на
обочину литературного процесса или вообще замалчиваемые
литературные явления, вниманием исследователей завладели в первую
очередь крупные эстетические величины, и футуризму, за редким
исключением таковых в своих рядах не числящему, вновь не повезло.
Вместе с тем, понимая и даже оправдывая подобный порядок вещей, мы
не можем закрывать глаза на несомненную истину: без объективного
анализа различных модернистских течений история русской
литературы XX в. не имеет права претендовать на этот статус.
Русский футуризм — явление сложное и неоднородное, включавшее
в свой состав ряд различных групп, некоторые из которых были связаны
с ним скорее по названию, нежели по своей эстетической сути. Пожалуй,
лишь кубофутуризм наиболее полно и адекватно отражал внутреннее
содержание футуристического движения. Лишь кубофутуристы
выдвинули из своих рядов таких выдающихся поэтов, как В. Хлебников и
В. Маяковский. Только эта группа выработала определенное
мировоззрение и эстетику, и только она проделала значительную эволюцию,
выпестовав в недрах своего отношения к миру, человеку и слову
заметное авангардистское течение 20-х годов — Левый фронт искусств. Вот
почему, говоря об эволюции кубофутуризма, мы не вправе не коснуться
хотя бы в общих чертах эстетической платформы Лефа, тем более что
с ним была тесно переплетена судьба Владимира Маяковского.
Приступая к характеристике кубофутуризма, было бы более чем
самонадеянно становиться в позу первооткрывателя данной темы.
Во-первых, эта проблема неоднократно освещалась в западной науке1,
386
так или иначе она затрагивалась в работах о Маяковском и
Хлебникове2. В последние полтора-два десятилетия из печати вышли
обширные исследования по истории русского авангарда3, были переизданы
отдельные книги мемуарного характера4.
Однако лишь некоторые авторы перечисленных публикаций ставили
перед собой задачу более или менее развернутого анализа эстетики и
творческой практики футуризма, большинство же работ следует
рассматривать как первоначальное накопление материала к будущей
истории течения. При этом имеет смысл отметить, что если ранее кубофуту-
ризм получал преимущественно негативное истолкование, то в
исследованиях последних лет, в том числе в работах, извлеченных из архивов
ученых, мы сталкиваемся с явно завышенной, а иногда и откровенно
апологетической его оценкой. Стремление оценить это явление
объективно воспринимается чуть ли не как дань тоталитарному прошлому,
причем по этому разряду зачисляется и попытка подойти к футуризму с
позиций христианской системы ценностей. Видимо, потому, что
последняя строится по духовно-иерархичному принципу.
Несмотря на свою модернистскую сущность кубофутуризм во
многих отношениях развивался в традициях русского национального
сознания, полярность которого глубоко определил Ф.М. Достоевский.
Исходя из предложенной писателем формулы, представителей этого
течения следует отнести к нигилистическому крылу русской
литературы. Бунтуя против традиций, т.е. мечтая «о переделке всего
человечества по новому штату»5, они восставали прежде всего (дальнейший
анализ это хорошо покажет) против христианского Бога и Его
миропорядка. В центре их Вселенной оказывался не Бог, а человек. Иными
словами, кубофутуристы претендовали на своего рода
мировоззренческую революцию, оттого так близка оказалась им революция
социальная. Не будет преувеличением суждение о том, что они взяли на
вооружение переосмысленную идею младосимволизма о «творчестве жизни»;
позднее, в лефовской эстетике она приобретет не «жреческий», а
«производственный» характер: «искусство — жизнестроение».
И последнее. Поскольку предмет анализа требует адекватных ему
методов исследования и соответствующей мировоззренческой
установки, то становится понятным, почему именно христианская
аксиология является надежным и верным ориентиром для изучения
эстетики и творческой практики кубофутуризма.
387
Глава I
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ БУНТ
РУССКОГО ФУТУРИЗМА
1. Явление «исключительной самостоятельности»?
Стремление к пересозданию мира на религиозной основе, вызванное
неприятием буржуазной механической цивилизации, при всем
благородстве и искренности помыслов отдельных символистов уводило их
от реальной жизни, толкало на создание громоздких эстетических
утопий, развивавшихся по своим, далеким от действительности законам.
Последовательный символист, несмотря на разного рода уточнения,
обязан был предпочесть реальнейшее реальному. Ведь даже В. Иванов,
выдвигавший принцип «верности вещам», утверждавший, что
«истинному символизму свойственнее изображать земное, нежели небесное»1,
в своем программном выступлении, статье «Заветы символизма» (1910),
писал: «...отличительными признаками чисто символического
художества являются в наших глазах:
1) сознательно выраженный художником параллелизм
феноменального и ноуменального; гармонически найденное созвучие того, что
искусство изображает, как действительность внешнюю (realia), и того, что оно
провидит во внешнем, как внутреннюю и высшую действительность
(realiora); ознаменование соответствий и соотношений между явлением
(оно же — "только подобие", "nur Gleichniss") и его умопостигаемою
или мистически прозреваемою сущностью, отбрасывающею от себя
тень видимого события;
2) — признак, присущий собственно символическому искусству <...>
особенная интуиция и энергия слова, каковое непосредственно
ощущается поэтом как тайнопись неизреченного, вбирает в свой звук многие,
неведомо откуда отозвавшиеся эхо и как бы отзвуки родных
подземных ключей — и служит, таким образом, вместе пределом и выходом в
запредельное, буквами (общепонятным начертанием) внешнего и иеро-
388
глифами (иератическою записью) внутреннего опыта»2. Итогом статьи
становится ее заключительный тезис, разъясняющий смысл формулы
«искусство... жизнетворчество»: являясь орудием Души Мира,
художник как бы творит «вторую природу, более духовную и прозрачную,
чем многоцветный пеплос естества»3.
Футуризм как литературное течение рождается в прямой полемике
с предшествующим искусством, в первую очередь с символизмом. Вне
полемики с последним, полемики чаще всего поверхностной, так как
велась она без учета своеобразия творческих поисков виднейших его
представителей, понять футуризм невозможно. Объявив себя «новыми
людьми новой жизни»4, футуристы рассматривали свое искусство как
средство пересоздания жизни и человека. «Искусство, — писал,
например, А. Крученых, — идет в авангарде психической эволюции»5. Вот
почему футуристы были против восприятия их деятельности как бунта
без цели и смысла. «Не с целью дразнить читателя трещащей
пустотой и надоедливым лаяньем, — говорили они о себе, — а изыскивая
все новые способы изображения скрещивающихся путей, бросающих
нас, искателей будущего, в трясины и пустоты, мы выбираем
коварные пути, сбивающие с толку своей неожиданностью подъемов и
спусков новичков <...>
Мы серьезны и торжественны, а не разрушительно-грубы...»6.
В статье с полемически подчеркнутым названием «Новые пути
слова (язык будущего — смерть символизму)», откуда взяты эти слова,
А. Крученых, изобличая «тайные пороки академиков»7, разъяснял
смысл полемики футуризма с символизмом следующим образом: «Наши
новые приемы учат новому постижению мира, разбившему убогое
построение Платона и Канта и др<угих> "идеалистов", где человек стоял не
в центре мира, а за перегородкой...
Нам не нужно посредника-символа, мысли, мы даем свою
собственную новую истину, а не служим отражением некоторого солнца (или
бревна?).
Идея символизма необходимо предполагает ограниченность
каждого творца и истину спрятанной где-то у какого-то честного дяди...
Символизм не выдерживает взгляда современной гносеологии и
прямой души. Чем истина субъективней — тем объективнее субъективная
объективность — наш путь. Не надо бояться полной свободы — если
не веришь человеку — лучше не иметь с ним дела!»8.
389
Итак, ориентация на земную жизнь, на простого земного человека
(«...хилому и бледному человечку захотелось освежить свою душу...»9)
была объявлена автором статьи, программной для футуризма, основным
содержанием нового литературного течения, которое, как мы видели,
не хотело быть только эстетической школой. Но, родившись в полемике
с символизмом, будучи в значительной степени ему обязанным своей
жизнедеятельностью, иными словами, получив живительные соки не
столько от жизни (при всей громогласности утверждений на этот счет),
сколько от практики предшествующей эстетической школы, футуризм
не мог оправдать надежд его теоретиков: говоря о своей зависимости
от жизни, о стремлении к ее максимальному выражению, более того,
ее пересоздании на земной основе (В. Каменский, например,
предлагал своим читателям «судить о разнице между "небом символистов" и
"землей футуристов"»10), он объявил средством достижения этой цели
«Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова»11.
Мы еще вернемся к футуристической концепции слова, а пока
обратимся к манифестам итальянского футуризма, рассчитывая, что
подобное «отступление» от сюжета нашего разговора позволит нам глубже
уяснить природу русского футуризма.
Русские футуристы всегда подчеркивали свою полную
независимость от Запада. «...Мы не только не считали себя ответвлением
западного футуризма, но и не без оснований полагали, что во многом
опередили наших итальянских собратьев»12, — писал в своих мемуарах
Б. Лившиц. Ему вторил В. Каменский: «...зарождение русского
футуризма, наша "революция в искусстве", наша борьба за новое искусство
и наши работы, — явления исключительной самостоятельности...»13.
В одной из критических статей тех лет читаем: «Хотя слово
"футуризм", — сказал мне один из самых всесторонних и увлекающихся людей
в Петербурге — Н.И. Кульбин, — и предложено Маринетти, но сама
идея его возникла раньше — в России, здесь же можно отметить и
первые осуществления»14.
Однако, несмотря на претензии русских футуристов, критика тех
лет чаще всего рассматривала их творчество на фоне
западноевропейского футуризма. В этом отношении показательно следующее
высказывание В. Брюсова, внимательного и заинтересованного свидетеля
первых футуристических выступлений: «Наши футуристы непременно
хотят отграничить себя от "футуризма итало-французского", родона-
390
чальником которого признан уже около трех лет тому назад — Мари-
нетти»15. По мысли критика, только обращаясь к «"футуризму итало-
французскому" и его манифестам, можно понять, к чему стремится
новое движение, причем оказывается, — подчеркивал он, — что
"скрижали", "грамата" и "первое неожиданное" (имеются в виду манифесты
эгофутуристов и группы «Гилея». — B.C.) лишь повторяют положения
этих манифестов» (там же).
В. Брюсов был убежден, что высказанная им мысль — это «общий
закон» для «всех новых движений в русской литературе», которые якобы
«лишь повторяют, с опозданием на несколько лет, сходные движения
литературы западной» (там же). Реальная ситуация оказалась сложнее, и
В. Брюсов вскоре сам убедился в этом. Однако его суждение, что
манифесты итальянского футуризма проясняют устремления
отечественных «новаторов», заслуживает всяческого сочувствия.
Первый «Манифест о футуризме» был опубликован Ф.Т. Маринетти
20 февраля 1909 г. Все дальнейшие манифесты итальянского
футуризма, публиковавшиеся в течение ряда лет, в значительной степени
развивали или уточняли изложенные в нем идеи, так что его по праву
можно считать основным. Каковы же главные постулаты Маринетти?
Прежде чем объявить «всем живым людям земли» «первые желания»
футуризма, Маринетти предлагает читателям своего рода поэтическую
преамбулу, многое объясняющую в так называемой директивной части
манифеста. В ней рассказывается, как несколько молодых людей,
друзей автора, «бодрствовали всю ночь» «при свете ламп в форме
мечетей, медные купола» которых, хотя и просвечивали «как... душа», но
«имели, однако, электрические сердца». Далее мы узнаем, что они «вели
спор у последней черты логики и чертили по бумаге какие-то
безумные записи»16. «Безумные записи», надо полагать, и есть сам манифест,
он — «у последней черты логики», и после этого нет ничего странного
в парадоксальном, с точки зрения здравого смысла, выражении
«электрические сердца», как и в соседстве понятий «душа» и
«электричество». «Живое» и «железное» явно противопоставлены друг другу, и в
том, что это противопоставление не случайность, убеждает
дальнейшее развитие событий.
Молодых людей, прислушивающихся «к усталой жалобе старого
канала и к треску умирающих в своей зеленой кайме дворцов»,
пробуждают, словно от спячки, «заревевшие» «внезапно... под... окнами
391
голодные автомобили». Настала пора действовать. «— Ну, сказал я,
друзья мои! — продолжает Маринетти. — В путь! Наконец,
мифология и мистический Идеал превзойдены. Мы сейчас будем
присутствовать при рождении Кентавра и скоро увидим полет первых
Ангелов! — Нужно будет потрясти двери жизни, чтобы испытать крепость
ее петель и затворов! Вперед! Вот первая заря занимается над землей!..»
С возгласами: «— Чутье... диким зверям достаточно чутья!..»; «—
Выйдем из области Мудрости, как из... шелухи и вступим, как плоды,
приправленные гордостию, в огромную и кривую пасть ветра!..» — юные
футуристы на «сопящих машинах» «подобно молодым львам»
начинают «охоту» «за Смертью», надеясь «пленить» ее17.
В итоге наметились полюсы мысли Маринетти: «рождение Кентавра»
скорости, побеждающего смерть и являющегося выражением
инстинкта дикого зверя, с одной стороны, и ставшие ненужными, нелепыми,
а потому и «превзойденные» «мифология и мистический Идеал» —
с другой. Понятно, что из названного вызывает его симпатии. «Тогда
как литература до сего времени, — пишет он, — превозносила
бездеятельную мечтательность, экстаз и сон, мы хотим превозносить
агрессивное движение, лихорадочную бессонницу, быструю ходьбу,
опасные прыжки, пощечину и удар кулака». Он объявляет, что
современность «обогатилась новой красотой — красотой быстроты», а посему
«рыкающий автомобиль» для него (и этот идеал он стремится
утвердить повсеместно) «прекраснее статуи Победы Самофракия». Потому и
«поэзия», по его мысли, «должна быть стремительным нападением на
неведомые силы, чтобы заставить их преклоняться перед человеком».
В этой борьбе не может быть никаких компромиссов, ибо человечество
«на крайней оконечности столетий!.. Зачем смотреть назад, раз нам
предстоит взломать таинственные двери Невозможного? — вопрошает
Маринетти. — Пространство и Время умерли вчера. Мы уже живем в
абсолютном, так как мы уже создали вечную, вездесущую быстроту»18.
Необходимость «разрушения чувства потустороннего», вызванная
стремлением поставить человека в центр Вселенной или, как
говорится в манифесте, «воспеть человека, держащего руль, ось которого
пронзила землю...»19 — такова главная цель итальянского футуризма.
Но какова цена провозглашенного «увеличения ценности
индивидуума», «умножения и безграничного развития человеческих
стремлений и желаний»20? Ответ один: полное уничтожение духовной и рели-
392
гиозной культуры, которые ассоциируются в сознании Маринетти с
музеем и кладбищем или же с древним христианским собором, этой,
по его выражению, «тысячелетней ошибкой» человечества. И, как
неизбежное следствие такого подхода, проповедь космополитизма и
национального индифферентизма, демагогически отождествляемых с
патриотизмом. «Пусть же придут поджигатели с почерневшими
пальцами!..»21, — призывал Маринетти.
«Страсть к городу», к современному индустриальному городу,
побеждала в нем все остальные чувства. «Мы будем воспевать огромные
толпы, волнуемые трудом, погоней за удовольствием или
возмущением, — провозглашали итальянские футуристы, — многокрасочные
и многоголосые бури революций в современных столицах; ночное
мерцание арсеналов и фабрик под яркими электрическими лунами;
прожорливые вокзалы, проглатывающие испускающих дым змей; заводы,
подвешенные к облакам за дымные ленты, как за веревки; мосты,
которые, подобно огромным прыжкам, переброшены над дьявольской
сталью солнечных рек, огромные пароходы, обнюхивающие горизонт;
локомотивы с широкой грудью, которые бурно несутся по рельсам,
подобно огромным стальным коням, запряженным в длинные трубы;
плавный полет аэропланов, пропеллер которых щелкает, как флаг, и
продолжительные аплодисменты восторженных толп»22.
Демон скорости, символ технической цивилизации, —
единственный бог провозглашаемого итальянцами футуристического человека,
нигилиста и духовного кастрата, и в этих своих качествах предельно
упрощенного воплощения «белокурой бестии» Фр. Ницше23, хотя
последний никогда не питал урбанистических иллюзий. «Футуризм
исходит от положения, что человеческая чувствительность, под
влиянием великих научных открытий, совершенно обновилась», — писал
отец итальянского футуризма и, исполненный антифеминизмом,
«презреньем к женщине», декларировал: «Размножение человека
механическим путем. Новое механическое чувство. Совершенное слияние
инстинкта со скоростью мотора и побежденными силами природы».
Заводская грязь, «целебная грязь», в которой его герой очутился
вместе со своим идолом-автомобилем, напомнила ему «священный
черный сосец... суданской кормилицы», а «величественное
электричество» для него — «единственная и божественная мать будущего
человечества...»24.
393
Так, на первый взгляд, весьма неожиданно, а на самом деле вполне
закономерно, человек с пробужденным инстинктом дикого зверя,
славящий войну как «единственную гигиену мира», с геростратовским
вожделением растаптывающий духовное наследие истории, разрывающий все
связи с прошлым, становится у Маринетти восторженным певцом
индустриальной мощи, апологетом технической, бездушной и бездуховной
цивилизации. Вот какую альтернативу выдвигал итальянский футуризм
расшатываемому им и, наконец, объявленному «превзойденным»
мистическому, религиозному идеалу. Вот какого человека хотел он поставить в
центр Вселенной, и перед этим поистине глобальным нигилизмом
тускнеют в известной степени приемлемые для поэтического искусства
«технические», т.е. формальные, новации футуризма: «...основной и
синтетический лиризм, беспроволочное воображение и слова на свободе...»15.
Немудрено, что русские футуристы отказывались от подобного
наследства. Так, уже задним числом, безусловно зная об эволюции Маринетти
в сторону фашизма, Б. Лившиц говорит о политической программе
идеолога итальянского футуризма как выражении интересов
промышленной буржуазии полуземледельческой Италии. Задолго до Лившица
подобную же мысль высказывал В. Брюсов26.
Но тот же автор «Полутораглазого стрельца», участвовавший в
обструкции Маринетти, устроенной русскими футуристами во время
пребывания последнего в Петербурге, обратил внимание на некий
странный, по его выражению, «казус» футуристического движения.
«Я столкнулся, — писал он, — вплотную с бесспорным фактом: при
резком расхождении идеологии нашей... и Маринетти мы совпадали
с итальянцами в постулировании одних и тех же
формально-технических задач и, в известной мере, в нашей творческой практике»27.
Ошибочно, но вполне в духе времени (книга издана в 1933 г.) он
объяснил эту перекличку русского и итальянского футуризма «расовой
теорией»28, будто бы лежащей в их основе, хотя подоплека их
сходства на самом деле заключалась в ином: в равной мере присущем им
духовном нигилизме. Поэтому мы не видим серьезных оснований
для «разведения» русского и итальянского футуризма в разные
стороны, на чем настаивали будетляне, как, впрочем, далеки и от
противоположной крайности: мысли о полной идентичности обеих школ.
Анализируя первые выступления футуристов в печати, критика тех
лет обратила внимание на «немаловажный "несоглас" между русским
394
и западным футуризмом»29, на некоторую «нелогичность»,
«непоследовательность» позиции русского футуризма по отношению к
эстетическим установкам течения. Так, автор одной из статей приводит по
этому поводу суждение, якобы принадлежащее самому Маринетти:
«— Я замечаю большие различия между нашим и русским
футуризмом, — говорил в Петербурге Маринетти своему другу Н.И. Кульби-
ну, — мы очень земные, — в этом наша сила и, может быть, слабость.
Русские же футуристы слишком отвлеченны, и в этом их сила, а может
быть, слабость» (там же). Суждение это (за его подлинность трудно
ручаться, так как Кульбин был близок к футуристам) относится к
разряду чисто «вкусовых», но даже из него можно понять, что в эстетике
русского футуризма интерес к «метафизическим» проблемам
преобладал над другими, отсюда неожиданные, не прогнозируемые
критикой результаты выступлений русских футуристов.
Сразу после того, как в публике и критике прошел первый шок,
следствие «эстетического мучительства новаторов»30, выразившийся в целом
ряде эмоциональных, а потому и не вполне объективных откликов31,
раздался призыв к серьезному исследованию эстетической сути нового
течения32. Недовольный состоянием современной ему поэзии, В. Брюсов писал:
«...своего возрождения русская поэзия может ждать, конечно, только от
нового прилива непосредственных наблюдений над подлинной,
реальной жизнью»33. Футуристы остановили его внимание именно по этой
причине. «Нам кажется, — развивал он свою мысль, — что при таком
положении дела оздоровляющее течение в русскую поэзию может
внести футуризм <...> Футуризм, как доктрина, призывает к двум важным
вещам: к воплощению в поэзии современной жизни (то есть к
непосредственным наблюдениям) и к новой работе над словом (то есть к
расширению словаря, совершенствованию ритмов и т.п.). Если
футуристическое движение найдет у нас последователей серьезных и талантливых,
оно, быть может, откроет новые пути поэзии». Последняя фраза была не
случайной: несколько выше В. Брюсов оговаривал условие, при котором,
по его мнению, футуризм может реализовать заложенные в нем
потенции: «...конечно, если он не останется в руках В. Хлебникова, А.
Крученых, В. Гнедова и им подобных. Эти занимаются одним: коверканьем
русского языка, что и бесцельно, и неприятно, и скучно»34.
Опасения В. Брюсова вроде бы оправдались. Ровно через год он
выступил с новой статьей о футуризме. В этой статье, написанной в форме
395
диалога, который ведут между собой люди, по-разному относящиеся
к футуризму, что в значительной степени соответствовало
общественному резонансу, некий «умеренный» критик высказывал следующую
мысль: «Я вполне понимаю возникновение футуризма. Это —
порождение современных больших городов, той культуры, о которой так хорошо
сказал Игорь Северянин, что она "гнила, как рокфор". <...> настал век
машин, механизма. Все "омашинилось", говоря футуристическим
языком. Фабрики, телефоны, синематографы, автомобили, аэропланы — без
них теперь нельзя себе и представить жизни. Поэты не только могли,
но должны были найти во всем этом поэзию. Сами живя в городах, они
должны были воспевать не ручейки, поля и моря, а нашу городскую
хаотическую жизнь. Поэзия механизмов и есть поэзия
футуристическая. Но меня удивляет, что футуристы, вместо того чтобы исполнять
свое прямое назначение, то изображают жизнь первобытных дикарей,
то... сочиняют стихи из одних гласных и согласных. У них, у
футуристов, прекрасная позиция, а они сами от нее отрекаются»35.
По сути дела, критика русского футуризма велась здесь с позиций
Маринетти, который, по свидетельству мемуариста, никак не мог понять
своих восточных собратьев: «— Для чего нужна эта архаика? —
пожимает плечами Маринетти. — Разве она способна выразить всю
сложность современных темпов?»36. В. Брюсов явно не принимал позицию
группы «Гилея» с присущим ей отвержением «здравого смысла» и
«хорошего вкуса»37, якобы господствовавших в предшествовавшей футуризму
литературе, — отсюда и название его статьи «Здравого смысла
тартарары». Не принимал, не понимал, да и не мог понять из-за своего явно
«спрямленного» восприятия современности, как оно выразилось в
статьях о футуризме, и давней нелюбви ко всякой «метафизике» в поэзии.
А потому не шел и не хотел идти на «диалог» с кубофутуристами. Не
случайно, что в его «диалоге»-статье участвует лишь некий
«умеренный, печатавший свои стихи в "Очарованном страннике" и "Мезонине
поэзии"» футурист38. Посему в оценке, так сказать, крайних
проявлений футуризма он непроизвольно перекликался с В. Шершеневичем,
переводчиком манифестов итальянского футуризма на русский язык и
«эклектиком», а вовсе не футуристом, по терминологии, используемой
критиком в его обзорах текущей поэзии в «Русской мысли».
К футуризму, писал в 1913 г. В. Шершеневич, «приклеились
многие, не имеющие на то внутреннего права. К таковым я причисляю
396
группу, собравшуюся когда-то возле 'Тилея", позднее выпустившую
"Садки Судей", калейдоскоп отдельных литографированных книг,
организовавшую "Союз молодежи" и бросившую "Пощечину
общественному вкусу"»39. Причины, по которым он отказывал этой группе даже
в праве именоваться футуристами, все те же: якобы неумение и
нежелание последних выразить ритм современной жизни. Он связывался
в его сознании только с городом и технической цивилизацией: «Для
нас спокойная природа далека. Она почти фикция. Мы жители города
и нам ближе, знакомее город с его небоскребами, чем посевы, озимя.
<...> Нам, горожанам, трудно по-новому подойти к природе. Для этого
необходимо ее почувствовать, пережить, а мы слишком дилетантски,
главным образом по книгам, знакомы с ней. Таким образом, природа,
еще встречающаяся в стихах, — случайный, ненужный, вредный
элемент и выказывает только нашу боязнь отрешиться от умершего для
нас, вырезать эту слепую кишку поэзии». Заканчивался данный
пассаж с прямо-таки обезоруживающей откровенностью: «И, кроме того
(впрочем, быть может, это результат моей личной городской жизни),
природа так банальна рядом с переживаниями и разноцветным
грохотом проспекта»40. Но даже и такой, условно говоря, прозападнически
настроенный человек, как В. Шершеневич, утверждавший в искусстве
только форму и критиковавший Маринетти за «содержание», не мог,
подобно последнему, стать самодовольным певцом торжества
урбанизированной цивилизации. Чтобы убедиться в этом, достаточно
познакомиться с его рассудочными, «сделанными», стихами хотя бы в
«Первом журнале русских футуристов» с присущим им явно
имитированным мотивом страдания городского человека.
Если «умеренный» из статьи В. Брюсова только констатировал
«странность» и «нелогичность» русского футуризма, то К. Чуковский в своей
статье, посвященной футуристам, попытался уловить в этой
нелогичности, «отступлении от правил» свою логику. Установив основные черты
поэзии футуризма (и здесь он абсолютно солидарен со своим
«оппонентом»), автор восклицал: «Странный, согласитесь, футуризм — вотяко-
персидский, башкиро-китайский, ассиро-вавилонско-египетский. Похоже,
что... этот футуризм только притворился футуризмом, а на деле он что-то
другое... Там, в глубине, пробивается какое-то другое течение, —
коренное, нутряное, недренное, очень русское, очень национальное, но столь
мало себя осознавшее, что даже клички себе не нашло настоящей...»41.
397
Насчет «клички» К. Чуковский ошибался. До выхода в свет
сборника «Дохлая луна» осенью 1913 г., на шмуцтитуле которого было
набрано:
Сборник
единственных футуристов мира!!
поэтов
«ГИЛЕЯ», —
будущие кубофутуристы этим именем себя не называли. Явно
отмежевываясь от итальянцев, они употребляли слово «футуризм» только
в полемических целях. Позднее все они сходились в одном:
наименованием «футуристы» окрестили их критики. Впрочем, Б. Лившиц
высказывал предположение, что дело здесь не обошлось без
предприимчивого Д. Бурлюка, который, возможно, желая придать новому
литературному движению характер массовости, сознательно
санкционировал утвердившееся в публике его название, хотя никогда и
не признавался в этом42. Но даже и после случившегося
кубофутуристы охотнее называли себя хлебниковским, «русским» именем: будет-
ляне.
Из сказанного следует, что если К. Чуковский и ошибался, то
наполовину. Тем более он почти не ошибался по существу. Разумеется, с
концепцией «русской души», предложенной К. Чуковским («Это бунт
против всего без изъятия, вечный, исконный, коренной, российский,
нигилистический, анархический бунт...»43), которая якобы сполна отразилась
в творчестве футуристов, трудно согласиться ввиду явной
односторонности предложенной формулы, но заслуживает внимания попытка автора
серьезно разобраться в существе вопроса, увидеть, так сказать,
национальные корни нового литературного течения, а отдельные
наблюдения над эстетикой футуризма ярко передают его сущность.
«Психика, психея, психология, — отмечал, например, К. Чуковский, — то,
что чуется сердцем в каждой убогой царапине на какой-нибудь
свайной постройке, — впервые за миллионы веков уничтожена, отвергнута
ими. Дыра так уже дыра, — прорва прорвой! — Тайны души не для
нас, — гордо похваляются они. — К черту человеческую душу! Мы
прогнали Психею прочь, она захватана, затаскана другими, пусть она
издохнет в одиночестве, без Психеи нам гораздо привольнее ("Слово
как таковое", стр. И)»44.
398
К. Чуковский делал свое наблюдение, опираясь на подлинный
футуристический документ. Отмеченную им черту нельзя некритично
распространять на творчество всех поэтов, называвших себя футуристами,
и все же к определенной группе поэтов-кубофутуристов она имеет
прямое отношение. Это касается в первую очередь тех поэтов и
теоретиков, которые формировали некоторые эстетические принципы
футуризма и чье поэтическое творчество в силу этой причины в наиболее
обнаженной форме, а нередко и прямо проповедовало и
демонстрировало идеи школы. Мы имеем в виду Д. Бурлюка, А. Крученых, Н. Бур-
люка. Они представляли особое крыло в русском футуризме, которое
своей первоочередной целью ставило сознательное расшатывание
старой, преимущественно символистской, эстетики слова, иначе говоря,
сосредоточивалось на негативной работе футуризма. Поэтому черты,
присущие всем футуристам, в их творчестве принимали
гипертрофированное, гиперболическое выражение. «Словоновшество»
оборачивалось у них установкой на создание «заумного языка» как некоего
последнего откровения поэтического искусства, антиэстетизм
начинал граничить с грубостью и цинизмом, становился, что бы ни
говорили они в свое оправдание, самодовлеющим.
Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению эстетики
кубофутуризма, следует сделать, на наш взгляд, одно существенное
уточнение. К. Чуковский на основании вынесенного им заключения об
«исконном» русском нигилизме как подлинной сути русского футуризма
приходил к выводу, что никакого футуризма в России не существует.
«Забудем же о всяком футуризме, — писал он в этой связи. — Ясно,
что наш футуризм в сущности есть антифутуризм. Он не только не
стремится на последнюю ступень цивилизации, но рад бы сломать всю
лестницу»45. К. Чуковский как бы конституировал то, чего так опасался
В. Брюсов: возобладание в отечественном футуризме
антиурбанистической тенденции. Она победила в силу многих причин, в ряду
которых не последнее место заняла, как это ни странно звучит по
отношению к ниспровергателям классики, национальная литературная
традиция с ее негативным отношением к отчуждающей стихии города.
Беря западную модель футуризма за основу, а в ней замечая только
«позитивную» ее сторону: утверждение технической цивилизации и
не принимая в расчет сильнейшей нигилистической струи, можно
действительно впасть в ошибку, которую совершил К. Чуковский, сделав
399
данное заявление. В таком случае не остается ничего иного, как
согласиться с точкой зрения Б. Лившица, человека, во многих отношениях
среди будетлян случайного, утверждавшего: «Термин "футуризм" у
нас появился на свет незаконно: движение было потоком разнородных
и разноустремленных воль, характеризовавшихся прежде всего
единством отрицательной воли. Все наши манифесты были построены по
известному рецепту изготовления пушки из отверстия, обливаемого
бронзой. Мы не были демиургами:
Из Нет, из необорного,
у нас не рождалось
Слепительное Да.
Ложную беременность королевы Драги растянули на три года Выкуривание
прошлого (борьбу с "пассеизмом") и каждение Хлебникову
превратили в торговлю жженым воздухом»46.
Да, действительно, манифестам русских футуристов в том виде, в
каком они появлялись в их многочисленных сборниках, не хватало
четкости и продуманности идейно-эстетической платформы, как это
обычно было у Маринетти, они больше были рассчитаны на
эпатирование сложившихся вкусов и пристрастий, на «борьбу с "пассеизмом"».
Но это не значит, что не было школы русского футуризма. Кроме того,
из факта, что в нем взяла верх антиурбанистическая направленность,
не свойственная западному футуризму, вовсе не следует делать
поспешного вывода о принципиальной противоположности двух течений. Ведь,
как мы пытались показать выше, итальянские футуристы собирались
возводить свое здание на основе зловещей нигилистической пустоты;
их человек, облаченный в блистательные одежды самоновейшего
технического разума, был воплощением первобытных, звериных
инстинктов. Его заветное желание сводилось к превращению духовной
культуры человечества в одно сплошное кладбище.
Вот почему, правомерно рассуждая о базаровско-писаревском
«разрушении эстетики», доведенном у поименованных нами русских
футуристов до своего логического предела, до абсурда, толкуя о нигилизме,
приобретшем у них, как всегда это бывает в модернистском
искусстве, болезненные размеры, надо помнить и об интернациональных
корнях и проявлениях этой болезни, позволяющих видеть не только
различие, но и глубочайшее родство русского и западноевропейского
футуризма.
400
2. Новое «разрушение эстетики»
Думаем, что не ошибемся, если в качестве эпиграфа к творчеству
А. Крученых возьмем его собственные строки:
меня венчали черным знаком
и уксус лили на язык
копьем украсили и паки
вознесся дикий крик47
(«Полуживой»).
Это он, «бука русской литературы» или, по восхищенному
определению нашего современника, «Рембо российского футуризма»48,
воздвиг себе памятник собственного изготовления, о котором писал в
следующих выражениях:
уткнувши голову в лохань
я думал: кто умрет прекрасней?
не надо мне цветочных бань
и потолке зари чуть гаснущей
про всех забудет человечество
придя в будетлянские страны
лишь мне за мое молодечество
поставят памятник странный:
не будет видно головы
ни выражения предсмертного блаженства
ни даже рук — увы! —
а лишь на полушариях коленца...49
(«Памятник»).
Даже среди своих собратьев, поднаторевших в «сбрасывании с
Парохода современности» всей предшествующей им русской
литературы, А. Крученых отличался крайней «левизной» взглядов и как
таковой претендовал на роль теоретика футуризма. В 1923 г. он издал
книгу «Апокалипсис в русской литературе», в которой перепечатал с
небольшими изменениями ряд своих статей прошлых лет, полагая, что
книга эта должна стать катехизисом якобы победившего в
литературной борьбе предшествующих лет футуризма и адекватно выражающе-
401
го лицо революционной современности. Выступая от имени
революции, с характерной для футуристов бесцеремонностью присвоив себе
это право, он писал в предисловии. «Тема Апокалипсиса и Конца Мира
не забыта и в наши дни. И если из России ее повышибли, то за
границей наши апокалиптики еще мережковят, вопия, что в РСФСР
появился Антихрист и "время близко" — будьте наготове; а в самой Европе
Шпенглер запел о погибели "мира сего": в современной Европе, дескать,
только механическая культура — позитивизм и комфорт, а истинная
культура — в душах тоскующих избранных натур. Что из
механического может вырасти духовное — этого они, на радость прошлякам,
знать не желают»50. Сделав это, как ему, видимо, казалось,
обезоруживающее и чрезвычайно характерное для футуризма «открытие»,
базирующееся на примитивно-вещном понимании человека и его природы
(«земля» футуризма!), А. Крученых завершает свою преамбулу
следующим образом. «Всю эту высокопарную кислятину русская
литература твердила уже 100 лет» (там же).
Не составляет труда заметить, что в своей книге А. Крученых
рассчитывал дать бой эстетике символизма, противопоставить
футуристическую точку зрения на цели и задачи искусства точке зрения
представителей предшествующего течения. Даже заглавие книги было задумано
не без оглядки на название статьи А. Белого «Апокалипсис в русской
поэзии», в которой виднейший теоретик младосимволизма пытался
исследовать русскую поэзию с точки зрения религиозно-софиологи-
ческой идеи.
Все русские символисты второго поколения всячески выделяли и
подчеркивали религиозный смысл искусства, для них служение
литературы мистической идее — великое благо и огромнейшая ее заслуга.
«Единственное задание, единственный предмет всякого искусства есть
Человек, — писал, например, В. Иванов. — Но не польза человека, а
его тайна. Другими словами, — человек, взятый по вертикали, в его
свободном росте в глубь и в высь. С большой буквы написанное имя
Человек определяет собою содержание всего искусства; другого
содержания у него нет. Вот почему религия всегда умещалась в большом и
истинном искусстве, ибо Бог на вертикали Человека. Не умещается
в нем только в горизонтали человека лежащая житейская польза, и
вожделение утилитаризма тотчас же прекращает всякое
художественное действие»51.
402
Но то, что для символизма составляло безусловную ценность, для
футуризма, как полярного течения, оказывалось ложным. Парадокс
А. Крученых о возможном росте духовного начала из
механического не более чем эстетический камуфляж, так как он менее всего
заботился о каком-либо содержании духовной жизни человека, а если и
брал в расчет, то сводил ее в соответствии с футуристическими
догматами к обслуживанию грубо материальных и утилитарных его
запросов.
Этой корпоративной и личной наклонностью теоретика футуризма
объясняется его стремление опошлить и вульгаризировать
высочайшие нравственно-эстетические завоевания русской литературы. Под
видом борьбы с мистическим идеалом (вспомним манифесты Мари-
нетти), с якобы присущим ей апокалипсическим содержанием, он
устраивает отечественной словесности, выражаясь языком «Очерков бурсы»
Помяловского, «всеобщую смазь». «Русская литература до нас —
футуристов, — иронизирует А. Крученых, — была спиритической и
плаксиво-худосочной
она кружилась в колесе черта —
поймать черта, разоблачить, проклясть
или хоть уныло восхвалить!
спасти кого-то и провидеть полный и решительный
конец мира сего! литература пропахла лампадным
маслом, средневековьем и монахами...»52.
Автор процитированной статьи «Черт и речетворцы» не утруждает
себя поиском аргументов и доказательств, их заменяют ему
фельетонная хлесткость и пересмешничество. «Не литература а общество
спасения!», — «припечатывает» он едким словцом русскую классику и тут
же объявляет ее главным пафосом борьбу с чертом, который на самом
деле вовсе «не черт а блоха...»53. Но эта, дескать, простая вещь была
неведома русским литераторам, и они всю свою жизнь, все силы
посвятили никчемному, в сущности, делу, относясь к нему с подчеркнутым
пиететом, руководствуясь каким-то мистическим, апокалипсическим
ужасом. «Какой поход на блоху!» — восклицает новоявленный
«историк» русской литературы по поводу творчества Гоголя, и это же
обвинение адресует Лермонтову, имея в виду и «другого такого [же] юного
и прекрасного агнца (Пушкина)»54, одинаково погибших в неравной
борьбе с «блохой-саранчой».
403
Извечное стремление русской литературы к достижению мировой
гармонии вызывает у А. Крученых приступы гомерического хохота,
футуристическое стремление переписать ее историю по-своему
оборачивается открытым глумлением и цинизмом. «Припадочные,
больные, ужаленные проходят люди у Достоевского, — резюмирует он, —
и ближние со смущением прошмыгивают мимо...». Но почему же? Да
чтобы «не чувствовать своего бессилия». Не верит А. Крученых
в человеколюбие писателя: «Можно любить человечество и человека,
отвлеченного, издали, человека мертвого, но когда пред тобою
беснующийся, умирающий — что сделаешь?
Расстрелять как Пушкина,
как Лермонтова,
как взбесившуюся собаку!»55.
Довольный произведенным эффектом, он становится на точку
зрения парадоксалиста из «Записок из подполья», явно отождествляя с ним
Достоевского, и, походя, пинает Чернышевского, вспоминая про
«хрустальный дворец, где пирует самодовольное и благополучное
человечество (в некоторых сказках об этом рассказывается)...» (там же). Обвинив
Достоевского в уходе от реальной жизни в религию, он этот же упрек
адресует и Тургеневу: «В такой утонченный болезненно сонный мир
звал пред смертью и Тургенев: сны виденья сладость инфернального
существования, бесплотного и неземного наполняет его мало
понятные современникам повести последних лет...»56.
Но особенно «не повезло» в книге Крученых Л. Толстому. В резко
шаржированной форме дана у него утопия великого писателя: «Жил
неподалеку один чувствительный барин и такой был аккуратный —
чуть где
увидит пылинку или блошку —
крик на весь мир подымет:
Как можно чтоб я спокойно сидел и кушал когда такая нечистота!
скорей созвать собрание! всех артистов инженеров адвокатов пусть
ловят блоху,
пусть вычистят все до последней пылинки ибо так жить нельзя!
Смеялись мужички: барское дело!
Не понимали спокойные люди о чем кричит его сиятельство <...>
И стал неженка искать себе на земле места, куда ни заглянет — везде
плохо.
404
Вы что тут делаете? — спросит у солидных господ
— Развратничаем!
— а эти что делают?
— Комедию ломают дурака представляют ваше сияство! <...>
Так жить нельзя вскричал длиннобородый граф сколько еще на свете
живых блох и вредной саранчи а эти чем занимаются!?! Бросьте все,
учитесь блохобойству»57.
Не обошел стороною А. Крученых и Чехова, который предстает у
него как человек, «любивший рыбную ловлю и думавший выудить всех
чертей из российского болота...»; упомянуты также «неудачный пастух
Андреев» и «Блох с Белым...». Не обойден вниманием и Ф. Сологуб,
о котором сказано: «Золотой дракон развернулся и спустился с неба
чтобы одеть ему на голову горшок бывший в употреблении».
«Торжественность момента», однако, «нарушил пискливый голос
Мережковского увешанного куклами старинными гравюрами и картинами», а
в это же самое время «Кузьмин (так у Крученых. — B.C.), Бальмонт и
Брюсов следуя обычаю мух деловито оставляли жирные следы на всех
старинных изображениях героев древности...»58.
Подводя читателя к мысли, что русская литература до футуризма
занималась обыкновеннейшей чепухой, А. Крученых делает
неожиданный (для читателя, а не для автора!) вывод, «разоблачая» ее
тайные и, следовательно, подлинные намерения: оказывается, в
знаменитых книгах «разлито адское сладострастие». Но привычка к фикции
якобы исказила и это, в сущности, «здоровое» чувство: у русских
писателей «и сладострастие не настоящее.
у них не есть а лишь хочу,
уж подлинно "символизм"»59.
Что же, так и витала русская литература в воздухе, даже не пытаясь
спуститься на землю? Нет, говорит А. Крученых, в свой час
«появились Успенский Решетников Короленко и Горький», а с ними «пришли
люди от земли пришли мужички в русскую пустыню...». Принялись
они деятельно бороться с чертом: «...ловить блох собирать саранчу в
дырявое решето» (так А. Крученых обыгрывает фамилию
Решетникова). Вывод, разумеется, неутешительный: «Неуклюже допотопными
способами решили исправить мир. Но удивлялись: ен прыткий никак
в руку не дается. Пробовали к старухе колдунье обратиться — тоже
дело не ладилось и сочилась их совесть дырявым решетом... Плюнули
405
мужички и решили так жить небось всех не съест — объестся!
свернулись мужички калачиком да так на голой земле и улеглись и храп
пошел такой что по всей планиде загудело»60.
Писатели-демократы, издевается автор «Апокалипсиса», хотели
спасти мир, но вышла из этого только комедия. Декаденты поступили
иначе; с «пришептыванием»: «...надо спасать свою душу!» —
провозгласили: «Уйти из города в леса символов и шептать дорогие имена,
смести великую грязь нахлынувшей злобы и скользить в лодке
гордого одиночества». Слово «душа» для А. Крученых, как мы уже знаем,
слово ругательное; потому, естественно, символизм у него ничего, кроме
раздражения, не вызывает. Современность, по его убеждению, тяжка
для декадентов, и они, следуя примеру лермонтовского «Демона»,
толпами «уходили в пустыни»; так же как этот герой «мурлыкал и якал
(хотя воображал что плачет и проклинает)», «гнусавил и прокаженный
бес символитик» Ф. Сологуб. Символисты «носятся со своими
страданиями и душою, как барышни с утюгами причесок», преследуя одну
только мысль: «Чем бы жизнь онездешить?»61.
«Слабенький человек» в их изображении не выносит ничего
«реального»; он, издевается Крученых, воспевает «не любовь, а влюбленность»,
«и дева о которой мечтают (декаденты. — B.C.) — это конечно не
ощутимо-грубая барышня или дешевая цыганка, а потустороннее,
ангельское сословие...». «Современный пустынник» А. Блок поднял на щит
Вл. Соловьева, и от последнего, не скрывает своего негодования
футурист, «"вечная женственность" пошла по русской литературе как знамя
"истины добра и красоты"». «Вечно женственная бесплотная жена еще
девочка с лазурными очами... мистическая лилия всех телесных и
духовных одиночек и гордых недоносков, экстазных вздыхателей и шептунов,
бездельников и трусов с высохшими ножками, декадентов и символистов,
сделавших "этот мир" бесплотным во имя своей хромающей плоти...»62.
Вот, оказывается, в чем дело! А. Крученых уверен, что
болезненная, «неземная» душа этих «уединенных» ведет к извращению
здорового, т.е. плотского, начала, которое он провозглашает истиной в
последней инстанции. Если декаденты переутончали человека, то
А. Крученых нарочито его огрубляет. Поступая таким образом, он
уверен, что слушает голос самой жизни, и от ее имени, не считаясь с
различием творческих индивидуальностей попавших под его обстрел
писателей, попросту не замечая их своеобразия, разделывается не только
406
с поэзией декадентов и символистов, но не обходит своим вниманием
и их «зерцог (театр)»63.
Вот что он пишет по этому поводу: «Пьесы наших одиночек
строятся по естественному шаблону: сперва хныканье, вздыхание и шепот,
чарованье глазами сомнамбул и змей, очами смотрящими по ту
сторону жизни.
Это томление разрешается экстазом — мгновением утонченного
счастья "небесной муки" — и опять тишина
и забвение
с-смерть —
от шепота к смертельному храпу от голубых глаз величиной в рубль
до медного пятака
на глазах
и от пуховиков счастья до подушечек
гроба —
таков путь Саломеи, пьес Блока, Метерлинка и др.»64.
Как достигается подобный эффект? На этот счет ответ у
Крученых заготовлен заранее: «Простые вещи у Метерлинка
одухотворяются ибо они должны быть томными, должны одухотворить закачать
и вызвать экстаз...
Простое слово повторят 100 раз подряд фантазия убогая словарь
ничтожный и вот — извиваются изламываются — все сделают чтобы
преобразить мир по своему вызвать чудо...»65.
Да что там какой-нибудь Метерлинк или Оскар Уайльд! Сам Ницше,
этот «демон дерзкий до головокружения», как не без сочувствия
аттестует А. Крученых «базельского отшельника», хоть и «бежал от книги»,
но, сам того не замечая, «был пропитан ею даже больше, чем
одиночеством». Потому он недалеко ушел от Канта, «Кенигсбергского китайца,
как страус зарывшегося в небесных песках», ибо «феноменализм»
последнего — «гносеологическое, мировое одиночество». У них обоих
кровное родство с Шопенгауэром, всю жизнь любовавшимся «созданной
им картиной великой гибели мира...». Ничтоже сумняшеся, лепит
русский футурист образ «философской троицы», «обслуживавшей»
декаданс и символизм66.
Чего же, спрашивает А. Крученых, можно ожидать от этих «томных
и млеющих людей», разве имеют право на имя человеческое «декаденты
с водяными ногами», «холодные инкубы и русалки»? Разве русская лите-
407
ратура не «царство объятое конвульсиями сна», где «люди разучились
говорить и только по вечерам со сна свистят и енятся и някают <...>
только и слышно гнусавое ени — ани, да пронизывающее уши: с-с-с...»67.
Свой «вывод» А. Крученых делал, опираясь на «наблюдения» за
фонетической структурой знаменитого пушкинского романа в стихах.
Не удовлетворенный ее состоянием, он пренебрежительно замечает:
«Всего "Евгения Онегина" можно выразить в двух строчках:
ени — вони
си — е — тся
Сонный свист торжествует!
Слякостъ ползет!»68.
Но где там, сокрушается новоявленный «разрушитель эстетики»,
дошедший до таких «глубин», которые и не снились ниспровергателю
Пушкина Писареву, «бедный читатель уже в школе так напуган
Пушкиным что и пикнуть не смеет и до наших дней "тайна Пушкина"
оставалась под горчишником!» (там же). Благо, что пришли футуристы,
подводит итоги Крученых, открыли почтенной публике «тайные пороки
академиков», и все увидели: король-то голый. Не было искусства до
футуризма, не было в нем и «живого человека». И классики, и
символисты сами предсказали конец своего мира, подписали себе
смертный приговор. Исполнилось пророчество Апокалипсиса. Настало новое
время. Таков вывод А. Крученых.
Зычным «белямотокияй» огласив оставленную после себя пустыню,
показав своим читателям «шиш»69, он провозгласил «Новое Первое
Неожиданное» футуризма: проделав черновую, разрушительную работу,
«баячи будетляне в своем творчестве уже исходят от других вещей
целей и замыслов,
мы даем новое искусство —
без моралина
и без чертяковщины!..»70.
3. Искусство «без моралина»
Чтобы узнать, каким было искусство, из которого изгонялась мораль,
презрительно поименованная у А. Крученых словцом Фр. Ницше,
достаточно перелистать страницы футуристических альманахов, сборни-
408
ков стихов и прозы, чуть пристальнее вглядеться в лица А. Крученых,
братьев Давида и Николая Бурлюков... Но даже в этой группе
«разрушителей» и «ниспровергателей» эстетики были свои «левые» и
«правые», занимавшие относительно умеренную или предельно
радикальную позицию.
«Умеренным» следует признать Н. Бурлюка, который, по
свидетельству Б. Лившица, еще весной 1912 г. «собирался» вступить в гуми-
левский акмеистский «Цех поэтов»71. Обратимся к его творчеству,
заметив при этом, что никакой самостоятельной эстетической
ценностью «опусы» многих футуристов, и в первую очередь только что
названных, не обладают. Их произведения — иллюстрация
теоретических установок наиболее радикального крыла русского футуризма,
не более, и именно в этом качестве они и представляют интерес для
нашей работы72.
Н. Бурлюк выступал в футуристических альманахах как поэт,
прозаик и теоретик и во всех своих произведениях исходил из
характерного для русского футуризма (об этом говорилось и выше) принципа,
сформулированного в одном из стихотворений Н. Бурлюка
следующим образом:
Пока не запаханы все долины,
Пока все тучи не проткнуты шпилями,
Я маленькими бурями и штилями
Ищу СБЕЖАВШУЮ ПРИРОДУ..73
Но мы совершили бы большую ошибку, если бы восприняли эти,
пусть и неудачные с точки зрения хорошего вкуса строки в плане
гуманистических традиций русского искусства, последовательно
выступавшего против мертвящих и уродующих человека условий буржуазной,
«городской» цивилизации. Да, действительно, город для Н. Бурлюка —
некий большой «пансион уродов», сцену из жизни которого подсмотрел
герой его одноименного рассказа. Все здесь: от классной наставницы,
дамы «в паутине дортуаров», и «старых детей», которые, забавляясь,
«катаются по земле, постукивая горбами», до пансионерки Ели,
существа «в стальном корсете под самый подбородок, с утиными
ножками», — воплощение неестественности, анормальности. Но таковы,
очевидно, городские люди вообще; не случайно признание героя: «Среди
людей и в вертикальных домах задыхаешься». Вот почему, когда он в
409
финале рассказа говорит: «...мне очень страшно и очень стыдно»74, уже
не веришь деланному пафосу этих строк, закрадывается подозрение,
что изображение человеческого уродства для автора чуть ли не
самоцель, так же как и процитированный стихотворный отрывок написан
не истины ради, а во имя эффектного, специально выделенного поэтом
образа «сбежавшей природы».
Н. Бурлюк твердит, что футуризм — «доктор», врачующий
социальные язвы, что его собственная писательская миссия направлена на то,
чтобы пробудить человека к активной жизни, ведь «и я, и вы, —
обращается он к читателям, — чересчур любим спящих»75. Но его лечение,
т.е. поиск утраченной «природы» вещей и человека, сводится к
нарочитому огрублению, заземлению, снижению и, следовательно,
развенчанию всего того, что многие века служило людям символом высокого и
прекрасного, что было освящено давней художественной традицией и
что теперь, в силу сказанного, представляется футуристам всего лишь
ложным проявлением поэтической мистики.
Очень показателен в этом отношении рассказ «Смерть
легкомысленного молодого человека». Некий по неосторожности отравившийся
молодой человек наблюдает со стороны свою собственную смерть и
путешествие в Аид. Античная мифология в авторском
повествовании нарочито перекрещивается с христианской, при этом возникает,
как, видимо, кажется Н. Бурлюку, забавная хронологическая
путаница, а традиционные мифологические образы предстают в «остра-
ненном» виде. Так, Харон, похожий на «старого еврея», в ожидании
своих необычных пассажиров потихоньку рыбачит. Он не прочь взять
с мертвеца за оказанную тому услугу «двугривенный», но
довольствуется и «гривенником». Плутон, «сутулый старик», сообщает своему
«гостю», что страшный «Аид упразднен: все души уже давно
получили прощение от всемилостивого Зевса, Меркурий пошел по
коммерции, а Цербер более тысячи лет тому назад издох от старости»76.
Заметив, что молодой человек «опечалился» от этого известия,
Плутон обещает познакомить его с Евой, которая «из жалости» к его
«одиночеству» «хозяйничает» в его доме. «И он отворил дверь в
дворницкую, — сообщает рассказчик, рассчитывая на соответствующий
случаю эффект. — Пахло смазными сапогами, на столе кипел самовар
и лежала связка бубликов. У стола, окутанная клубами пара, сидела
старушка и чинила поддевку. "Неужели Вам не скучно?" — спросил
410
я. "Да, но он меня учит садоводству", и она указала на чахлую
гвоздику у низкого окна, за которым раздавались шаги мокрых прохожих»
(там же).
То же стремление все переиначить, а точнее, спародировать,
противопоставить многозначительности и туманности символа грубую правду
жизни, разумеется, в футуристическом ее понимании, проявилось и в
целом ряде новелл Н. Бурлюка, опубликованных в альманахе «Дохлая
луна». Вот одна из этих новелл — «Глухонемая». Пыль, ветреная погода.
Молодой, поэтично настроенный человек напевает: «Моя душа
глухонемая проводит дни не понимая...» Строки этой песни становятся
лейтмотивом новеллы, являясь своего рода аккомпанементом «тонкой»
душевной жизни героя. Действие устремлено навстречу финальной сцене.
«В саду метут аллеи — работницы и сторож.
Девушка завязала ногу красной тряпкой и машет метлой. Я
прохожу. — Моя душа глухонемая проводит дни не понимая. — Дура! Отойди!
Видишь панич идут! — Что Вы на нее кричите, как вам не стыдно! —
Ей ничего, барин, — она глухонемая»77. Герой посрамлен: при встрече
с жизнью поэтическая многозначительность его настроения
рассыпалась, как карточный домик. Таково авторское задание.
Присмотримся к другой новелле — «Артемида без собак». Снова
воссоздана «поэтичная» атмосфера: «Гудели телеграфные
провода; — незримый ветер колебал упругие тетивы. Свет дугового фонаря
ложился повсюду изломанными стрелами». Снова — не от мира сего
молодой человек. Рядом с ним женщина — таинственная незнакомка,
Артемида, но только без собак. А может, и женщины никакой не
было? Да, скорее всего, считает герой: подвела пресловутая
поэтическая фантазия. И вот финал: как и в первом случае, — грубая жизнь,
разоблачающая и посрамляющая «поэзию»: «Сегодня утром за чаем,
читаю в Биржевой газете: "Вчера поздно вечером на Колтовской
набережной (место, где гулял молодой человек. — B.C.) была задержана
неизвестная женщина, совершенно нагая и, по-видимому,
умалишенная"»78.
Как говорится, комментарии излишни. Так построены
практически все новеллы Н. Бурлюка. Поиски «сбежавшей природы» для него
не просто метафора, а скорее руководство к действию. В его
представлении она означает сведение духовного начала к материальному,
телесно-ощутимому.
411
Отсюда и столь частый у младшего Бурлюка прием реализованной,
материализованной метафоры. Исчезают музы с любимого героем
рассказа снимка и для того, чтобы не разбудить спящего человека,
снимают с себя ботинки («Сбежавшие музы»); жест, лежащий в основе
выспренней фразы: «Сожигаю незрелые надежды»79, которой однажды
«блеснул» некий юноша перед знакомой девушкой, «ведет»
дальнейшее повествование об огне, пожирающем его двойника, этакого
«бледного» декадента, «со взором горящим» («Полуночный огонь»). Из того
же ряда и параллели: «душа глухонемая» — глухонемая девушка,
ночная Артемида — умалишенная женщина и т.д.
Прием, целевое назначение которого заключается, так сказать, в
срывании с вещей поэтических масок и возвращении им их
подлинной природы, утерянной в литературном обиходе, переходя из новеллы
в новеллу, становится самодовлеющим. Потому «творениям» Н.
Бурлюка, фигурально говоря, не хватает «воздуха». Призванные
продемонстрировать торжество грязной и грубой жизни над ложной поэтической
красивостью, на самом деле они обнаруживают не только отсутствие
таланта (это еще полбеды), но и ложные, вопреки авторским благим
намерениям, претензии самого откровенного субъективизма,
превращающего искусство в игру, этакое литературное гурманство, не
лишенное, правда, при этом изрядной художественной натужности.
Впрочем, настойчиво постулируемый принцип верности
человеческой природе и неприкрытый субъективизм мирно уживались в
теоретических построениях футуристов. Само слово «субъективизм», как
заключающее в себе отрицательный оттенок, разумеется, ими не
употреблялось, взамен провозглашалась свобода творческого дерзания, не
скованного никакими культурными традициями. Совершенно
абсурдное для человека XX в. предположение, что на «дне» своего
субъективного мира художник сталкивается с «чистой», незамутненной «приро-
" ЯП
дои» и является своего рода ее медиумом8", выдвигалось в
эстетических декларациях кубофутуристов за истину в последней инстанции.
Именно в этой связи надо воспринимать приведенные выше слова
А. Крученых: «Чем истина субъективней — тем объективнее
субъективная объективность — наш путь». Эти же идеи, противопоставляя
«академической», «культурной» живописи «внекультурные»,
«примитивные» формы лубка, иконы, уличной вывески и т.д., развивал в своих
теоретических выступлениях и Д. Бурлюк.
412
«Молодое русское искусство стало на ноги, — писал он,
полемизируя со своими противниками: Бенуа и Репиным, — у Запада (имеются
в виду Сезанн, Гоген, Ван-Гог. — B.C.) и в искусстве великом
народном нашей отчизны — мы научились одной великой истине: что нет
определенного понимания (и не может быть): формы, линии, цветовой
инструментовки: что то, что вы говорите о содержании, об
одухотворенности, об идейности — (как фабуле — пристегнутой философии) —
есть высшее преступление пред истинным искусством. Что нет
определенного понятия красота. Что ложны и деспотичны слова: "хороший
вкус", "хороший рисунок" и т.п.
И что есть единственный путь: "есть ли искание новизны?"
Есть единственное оправдание: дать вид и род красоты, мало или
не выявленный до сих пор!
Что надо быть смелым и в искании и в отрицании.
Что надо бояться авторитетов. Что надо верить и в свое искусство,
и в искусство своей родины.
Что Россия не есть художественная провинция Франции!
Что пришла пора провозгласить нашу художественную
национальную независимость!
"Будет нам кланяться
роже басурманов"
В. Хлебников
Что надо ненавидеть формы, существовавшие в искусстве до нас!
Что природа и "я" единственные авторитеты»81.
Спустя два года Д. Бурлюк высказывал эти же мысли в еще более
обнаженной форме. «Я обращаюсь ко всем жрецам искусства... —
патетически восклицал он. — Пусть каждый имеет своего бога! — Путь
свободен на свою веру! — в мире творчества это значит — "видит
мир по-своему" — проводит и чтит красоту так, как он ее понимает!»
И далее: «О, публика! <...> Люби искусство! Люби полную свободу —
в искусстве. Это начало всего. Не бойся оригинального — не бойся даже
погони за оригинальностью, как ты не боялась до сего времени шаблона
и повторения старого...»9,2.
Мы не случайно привели эти обширные выписки из
«теоретических» работ Д. Бурлюка: они чрезвычайно характерны для той группы
в кубофутуризме, к которой он принадлежал. Этический релятивизм,
413
кутающийся в одежды свободы искусства, духовный нигилизм,
сводящий искусство к форме и ею ограничивающий цели и задачи
художника, — вот основные слагаемые эстетики Д. Бурлюка. Да и не только
его. Не случайно с таким пафосом защищающий «национальные
истоки» футуризма, считающий, что «факторы» «нового искусства» есть:
«1) Сама жизнь; 2) "гнилой" запад; 3) наше национальное искусство
(вывеска, лубок, икона)»83, он с одинаковой легкостью предает и «истоки» и
«жизнь», объявляя высшим достижением современного искусства
пришедший с запада кубизм.
Осознав живопись как самоцель, теоретизирует Д. Бурлюк, стремясь
изложить эстетические принципы упомянутого направления,
художник пришел к выводу, что «природа является исключительно
объектом зрительного Ощущения». Дорого стоит здесь словечко
«исключительно», решительным жестом как бы отсекающее от искусства любые
проявления духовного начала и с головой выдающее
формалистические устремления Д. Бурлюка. Характерна также открыто тут о себе
заявившая ориентация футуризма на живопись. Если вспомнить, какой
смысл вкладывали символисты в понятие «музыка», чем она была для
них, то подобное устремление футуристов полемично по отношению
к символизму, имея в своей подоплеке столь свойственное для
новоявленных разрушителей эстетики противопоставление тела душе,
материи — духу. Выражение вещного взгляда на жизнь, кубизм, по словам
теоретика, «являет исследование природы с точки зрения —
плоскостей секущихся по прямым линиям...» При этом
«Гармонии — противуполагается дисгармония...
Симметрии — диссимметрия...
Конструкции противуполагается — дисконструкция.
Канон может быть конструктивным
Канон может быть дисконструктивным.
Конструкция — может быть смещенной или же сдвинутой. Канон
сдвинутой конструкции»84.
Если, продолжает Д. Бурлюк, «академический канон выдвигал:
симметрии пропорции — плавность = или же что то же гармонию», то
кубизм, определяемый в его статье как «канон... сдвинутой
конструкции», разумеется, вырабатывает новые живописные принципы, а именно:
«1) дисгармония (не плавность)
2) диспропорция
414
3) красочный диссонанс
4) дисконструкция»85.
Когда читаешь эти пронизанные духом воинствующего формализма
строки, создается впечатление, что автором двигало не желание
популярно изложить эстетические принципы кубизма, а стремление
эпатировать читателя, поразить его воображение сплошным «дис» и что
сам автор находится во власти этих слов, зачарован ими и плодит их
по собственному своему усмотрению.
Между тем установка на принцип «сдвигологии» (см. «Сдвигологию
русского стиха» А. Крученых), которая здесь ярко просматривается,
является выражением одной из важнейших эстетических тенденций
кубофутуризма, поощрявшего подобно кубизму в живописи все
дисгармоничное, отождествляемое с «варварским», примитивным началом.
Это начало, понятое как первоисток мира и человека, якобы еще не
испорченных отчуждающей властью цивилизации и культуры,
становилось тем фундаментом, на котором русский футуризм собирался
строить свое здание.
«Часто только варварство может спасти искусство»86,—
писал, например, Н. Бурлюк в статье «Поэтические начала»87. Да и в
примечании к процитированной выше работе его брата о кубизме
говорилось: «Противовес Академическому Канону жившему за счет
(плавности) гармонии, пропорции, симметрии, был и ранее: все варварские
Народные искусства построены отчасти на существовании этого II
канона (сдв. Конст.)»88. Попутно, кстати сказать, Д. Бурлюк рассуждал о
«каноне "свободного рисунка"»; реализацию его он наблюдал в
рисунках детей, в картинах и рисунках В. Кандинского, В. Бурлюка, П. Кон-
чаловского, И. Машкова, М. Ларионова, Н. Кульбина. Нечто
аналогичное он находил в верлибре, «прекраснейшим представителем которого
в современной поэзии» назывался В. Хлебников. Кубизм, таким
образом, был осознан как высшее проявление и даже торжество
«примитивного» восприятия мира, как голос самой первозданной «природы».
Известно, что первоначальное наименование группы кубофутури-
стов — «Гилея» было выбрано не случайно. Этим именем древние греки
называли часть территории, населяемой скифами. Именно здесь
располагался принадлежавший графу Мордвинову Чернодолинский
заповедник, управляющим в котором был отец Бурлюков. В его
административном центре Чернянке на правах гостей перебывали почти все
415
члены группы. «Гилея, древняя Гилея, попираемая нашими ногами,
приобретала значение символа, должна была стать знаменем»89, — писал
Б. Лившиц, имея в виду зарождение будущего движения. И она им стала.
Тяготение к «примитивным» эпохам человеческого существования
как своеобразная реакция на гримасы буржуазной цивилизации, как
пассивная форма борьбы с отчуждением человека от его родовой
сущности было присуще не только русским футуристам и характерно не
только для России. Например, В. Иванов, охваченный «предчувствиями
и предвестиями» близящейся «новой органической эпохи», утверждал,
что «в области философии реакция против навыков и методов
мышления, свойственных эпохе критической, оказывается в преодолении
самого идеализма и в тяготении к примитивному реализму»90. Да и
сама мифотворческая концепция автора этих строк для данной
ситуации весьма показательна, хотя вытекающие из нее выводы прямо
противоположны футуристическим.
Впрочем, и в самом кубофутуризме не было, да и не могло быть
единства по этому вопросу. Одно дело, скажем, В. Хлебников, чье
тяготение к архаике и примитивным культурам имело под собой
достаточно прочную основу, не лишенную национальных корней, другое —
А. Крученых или братья Бурлюки.
Д. Бурлюк весьма умело разыгрывал роль «стихийного»,
«корневого», «почвенного» человека. Не без претензии на программность
звучат следующие его стихи:
Солнцу светить ведь не лень,
Ветру свистеть незадача,
Веточку выбросит пень,
Море жемчужину, плача.
Мне же не жалко часов,
Я не лишуся охоты
Вечно разыскивать слов
Дружно шагающих роты...91
Заметим, что он умел убеждать. Вот что писал о нем Б. Лившиц:
«Пристрастие к примитиву, в частности к бытовой иконописи
прачечных, парикмахерских и иных провинциальных заведений и
промыслов, оказавшей такое влияние на творчество Ларионова, Гончаровой,
Шагала, побуждало Бурлюка на последние деньги скупать вывески ку-
416
старной работы еще в те годы, когда Бенуа и Грабари относились к ним
с презрительным равнодушием. <...> Любовь к народному творчеству,
тяготение к примитиву во всех его формах, к искусству Полинезии или
древней Мексики не было у Бурлюков прихотью пресыщенного вкуса,
гурманством людей типа Сергея Маковского. Нет, это увлечение
имело под собой более глубокую почву». Как бы разъясняя смысл
сказанного, Б. Лившиц упоминает здесь о рисунках Вл. Бурлюка, в которых,
по мнению мемуариста, «опытный глаз легко находил звериную мощь
первобытных изображений на мамонтовой кости»92.
Б. Лившиц отнюдь не одинок в подобном восприятии уроженца Гилей
и будущего «отца русского футуризма». В. Хлебников давал еще более
«сгущенный» в этом отношении его образ. Обращаясь к Д. Бурлюку,
он писал:
С широкой кистью в руке ты бегал рысью
И кумачовой рубахой
Улицы Мюнхена долго смущал,
Краснощеким пугая лицом.
Краски учитель
Прозвал тебя
«Буйной кобылой
С черноземов России».
Ты хохотал,
И твой трясся живот от радости буйной
Черноземов могучих России93.
По ходу стихотворения мы встретим еще более щедрые
характеристики «стихийной мощи» Д. Бурлюка, пока не прочтем в финале:
Долго ты ходы точил
Через курган чугунного богатства,
И, богатырь, ты вышел из кургана
Родины древней твоей94.
Несомненно, что в этих строках воспроизведена легенда. На самом
деле таким Д. Бурлюк никогда не был. Хорошо известно, что о
человеке больше говорят не широковещательные жесты и слова, а его дела.
Всякий, кто возьмет на себя труд познакомиться со стихотворной
продукцией Д. Бурлюка, сможет убедиться в полной творческой
несостоятельности этого человека. Если воспользоваться строками из его выше-
417
процитированного стихотворения, можно сказать, что «слова» у него
никогда не шагали «дружно». И дело тут вовсе не в характерной для
всех футуристов установке на затрудненность эстетического
восприятия, а в «головном», «придуманном», «сочиненном» характере его
произведений. Неизменная ориентация на эксперимент со словом, рифмой,
средствами художественной выразительности, нарочитый,
эстетически немотивированный антиэстетизм, «неискусное» подражание
французским «проклятым поэтам»95 — вот основные слагаемые его
творчества. И при всем этом воинствующая антидуховность и нигилизм,
особенно отчетливо проявившиеся в известном его стихотворении
«Из А.Р.» (Артюра Рембо. — B.C.):
Каждый молод молод молод
В животе чертовский голод
Так идите же за мной...
За моей спиной
Я бросаю гордый клич
Этот краткий спич!
Будем кушать камни травы
Сладость горечь и отравы
Будем лопать пустоту
Глубину и высоту
Птиц зверей чудовищ рыб
Ветер глины соль и зыбь!
Каждый молод молод молод
В животе чертовский голод
Все что встретим на пути
Может в пищу нам итти96.
Даже если учесть, что стихотворение рассчитано на неизбежное для
футуристов эпатирование публики, все равно весьма впечатляюще
выглядит образ этого многоногого чудовища, оставляющего после себя
только голую землю. Такими представляются Д. Бурлюку «хулители...
основ» футуристы, которые, верит он, вскоре «предстанут» перед
прозябающими «в темных норах» людьми «громкою оравой / Храм обра-
тя во двор свиной...»97.
Бурлюк-теоретик, как мы помним, говорил об относительности
всех человеческих ценностей, провозглашая в качестве единственно
истинного лозунга этический релятивизм. «Изменно все», — деклари-
418
рует Бурлюк-поэт в стихотворении «Щастье циника». «Везде» и «во
всем» — «красивость», с которой не стоит считаться: она лишь «шаткая
мода», а потому: «Ах циник щастлив ты иди и калам-бурь»98. И, считая
себя защитником здорового взгляда на жизнь («Обилие лучей, тепла
обилье, / Всему кричат сними тюрьму одежд, / Отторгни глупое
потливое насилье / И розы вскрой грудей, дай насыщенье вежд»)99, Д. Бурлюк
становится «доителем изнутренных жаб» (название цикла его стихов в
сборнике «Рыкающий Парнас») поэзии и культуры. Снижая
традиционные поэтические образы, разрушая «навязшее на... зубах прошлое»,
он мало озабочен решением «новой грядущей красоты», о чем столь
широковещательно провозглашалось в подписанном им в числе
прочих футуристическом манифесте.
Установка на антиэстетизм (обратная форма эстетизма символистов,
своего рода эстетизм, поставленный с ног на голову) — главнейшая в
его поэтическом творчестве. «Чем безобразней — тем лучше» — таков
его девиз.
Заговорит ли он о смерти, обязательно скажет, как ее «холод» «зубы
(белая аллея) / На череп страшный нанизал»; нарисует ли картину
самоубийства, непременно заметит, как «из бойни безжалостно ближней /
Кот лужу кровавый лизал»100.
Стремясь пооригинальнее рассказать об опоэтизированном времени
г., напишет: «Наддомной волною мы снова полны / Насыщены потом
ПОДМЫШЕК весны»101 — и, зачарованный «найденным» образом,
повторит его в другом стихотворении, «сбивая» читателя с ног обращенным
к нему вопросом: «Ты нюхал облака потливую подмышку?»102. То
оглушит оторопелого обывателя небывалым в русском поэтическом
искусстве заглавием «Поющая ноздря»103, то окончательно
прихлопнет его неожиданным признанием:
Отрадно быть червем могильным
Сосать убитого врага
Под кровом ночи смерти пыльным
Когда уже съедена нога104.
Верхом лирической смелости и торжества исповедуемых творческих
принципов кажется ему следующее стихотворение, в котором
цензура вынуждена была затемнить смысл отдельных, наиболее
«откровенных» выражений:
419
С е вечерних аров
Под пальцами истерзанной волны
Все было тщетным мне сугубно даром...
А трепеты роженицы весны...
С е вечерних облаков
Над тишиной определенных крыш
(Всех толстяков подпольной шиш)
А поезд КАК ДИТЯ вдруг приподнял рубаШку
И омоЧил (прибреЖность)= насыпь) куст
И ландыШ И волЩы И сладостную КаШку
И девуШку упавШую без Чувств105.
Имея в виду «дерзость» процитированного, а также некоторых
других стихотворений Д. Бурлюка и остальных футуристов, В.
Каменский с присущей ему обезоруживающей откровенностью писал:
«В этом последнем случае мы, в самом деле, не стеснялись, ибо этой
тактикой разрушали "ореол величия" далекого прошлого, перед
которым все были в "священном преклонении", кроме нас, устремленных
в будущее»106.
«В будущее» футуристы хотели войти не обремененными грузом
прошлого. Обозначились и приемы, с помощью которых они
ниспровергали вчерашних кумиров. И А. Крученых, и Н. Бурлюк, и Д. Бур-
люк, по сути дела, следовали одному правилу, неизменно «побивая»
высокое низким, красивое — безобразным, поэтическое —
антипоэтическим, мистическое и духовное — грубо-телесным, материальным. На
одном полюсе, считали они, сосредоточена ложь, на другом — правда
жизни. Одно непременно должно стушеваться перед другим, первое
разоблачается вторым. И так из статьи в статью, из новеллы в новеллу,
из стихотворения в стихотворение.
Излюбленный Д. Бурлюком метод «разоблачения»
существовавшего до футуризма искусства — «параллелизмы» следующего порядка:
«С е вечерних аров» — «С е вечерних облаков»; или:
«Отхожих мест зловонные заплаты» — «Отхожих ландышей влекомый
беленою»107.
Иногда он идет обратным путем: начинает стихотворение вполне
традиционно, даже «красиво», стараясь обезоружить читателя, чтобы
затем вызвать у него шоковое состояние эпатирующим образом типа
следующего:
420
Ушел и бросил беглый взгляд
Неуловимого значенья,
И смутно окрылился зад
Им зарожденного влеченья...108.
А вот еще более характерный пример:
Утренние дымы деревень твоих
Утром порожденный, мгле пропетый стих.
Голубые розы просветленных глаз
И широкий женский плодоносный таз...109.
Стремление футуристов расшатать предшествующую эстетику
слова побуждало их обращаться к традиционным поэтическим темам, но
разрабатывать их в ином, антиэстетическом ключе. Особенно
неистощимым в этом отношении был тот же Д. Бурлюк. Его стихотворения
часто пестрят названиями: «Лето», «Зима», «Весна», «Луна», «Солнце»,
«Облако», «Утро» и т.д., но подобные лирические темы на поверку
оказываются лишь поводом для разного рода поэтических
экспериментов, преследующих все те же цели: компрометирование якобы
оторванной от земли и, следовательно, ложной красоты и поиски средств
для изображения грубо земного существования и подлинно
жизненных ощущений.
При этом, как и следовало ожидать, особенно «не везло» небу.
С фанатическим упорством «нападает» Д. Бурлюк на него.
Это серое небо
Кому оно нужно
Осеннее небо
Старо и недужно110, —
напишет он в одном из своих стихотворений, и в следующем скажет о
нем еще более резко: «Под серым неба хомутом...»111. Описывая вечер,
он не преминет заметить:
Под хладным озером небес,
Как бесконечно юркий бес
Прельстившийся единой целью!
И темный ров и серый крест
И взгляды запыленных звезд
Ты презрел трупною свирелью112.
421
Очередной свой опус он начнет броской фразой, выделяя величиной
шрифта (обычный для ряда футуристов графический прием) важные для
него слова: «"ЛАЗУРЬ БЕСЧУВСТВЕННА", — я убеждал старуху...» ш.
Квинтэссенцией же его решения «небесной» темы станет
стихотворение с многозначительным и очень характерным для
миропонимания футуристов заглавием «Мертвое небо»:
«Небо — труп»!! не больше!
Звезды — черви — пьяные туманом
Усмиряю боль ше — лестом обманом
Небо — смрадный труп!!
Для (внимательных) миопов
Лижущих отвратный круп
Жадною (ухваткой) эфиопов.
Звезды — черви — (гнойная живая) сыпь!!
Я охвачен вязью вервий
Крика выпь.
Люди — звери!
Правда звук!
Затворяйте же часы предверий
Зовы рук
Паук114.
Нелюбовь к небу у Д. Бурлюка может быть, разумеется, объяснена
нелюбовью его как художника, ориентирующегося на примитив, к
голубому цвету (ср.: «лазурь бесчувственна...») и тягой к «варварским»
цветам, например к черному, «упраздненному» импрессионистами.
Ведь, как писал Б. Лившиц, «в неандертальской ночи сетчатка
питекантропа смутно отражала лишь близлежащие поверхности. Тяжелые
базальтовые стволы еле выделялись на черном фоне неба: когда еще
научится ретина реагировать на голубой цвет?»115. Это верное
объяснение, но лишь отчасти.
Помимо указанной и ранее означенных причин, у «новаторов» был
еще один повод для снижения данной темы. Подобно Маринетти
русские футуристы стремились, говоря его словами, «превзойти
мистический идеал». Это одна из главных, если не самая главная их
установка. Не без основания они полагали, что присущее новой эре
понимание красоты, как наряду с ним и многие нравственные ценности,
вырабатывались в цивилизованном мире под воздействием христиан-
422
ских идеалов. Следовательно, борясь с традицией, они так или иначе
боролись именно с «небом». Вот почему между итальянским
футуризмом, проповедовавшим техническую цивилизацию, и русскими будет-
лянами с их ярко выраженным антиурбанизмом есть глубокое родство.
Их общая методологическая основа — «философия жизни», правда,
до неузнаваемости искаженная и упрощенная и все же сохранившая
во многих отношениях свою «корневую систему», выражающуюся в
антихристианском, шире — антидуховном устремлении. Еще раз
оговоримся: русский футуризм — сложное и неоднородное явление,
притом явление, не вполне конституировавшееся, если сравнивать его с
итальянским футуризмом. Вот почему общие исходные посылки,
связывающие будетлян в единую школу, нередко становились
платформой для выработки и полемизирующих между собой точек зрения.
И все же из песни слова не выкинешь, хотя сказанное в большей мере
относится к группе «радикалов» от кубофутуризма во главе с А.
Крученых и Д. Бурлюком.
Если первый в своем «Апокалипсисе» высмеял и предал анафеме
злополучных «прошляков» за их «мистическое» «ковыряние» в душе
человека, то Д. Бурлюк, вполне обходящийся, насколько об этом можно
судить по его стихотворениям и теоретическим декларациям, «без мора-
лина», в своем «Мертвом небе» дал футуристическое решение извечной
проблемы, которую пушкинский герой выразил словами: «Нет правды
на земле. Но правды нет и выше». Естественно, что Д. Бурлюка
«занимал» ее, так сказать, «небесный» аспект. Наивно полагать, что Бур-
люк-поэт был способен на сколько-нибудь серьезное решение данного
вопроса. Живое человеческое чувство подменено в его стихотворении
имитацией переживания, но даже и этот головной, «придуманный»
мотив («Я охвачен вязью вервий» и т.д.) буквально тонет в
нанизанных друг на друга эпатирующих образах, каламбурных рифмах типа:
больше — боль-ше. Однако поэт настаивает на страдании своего героя,
связывая его тоску, вне всякого сомнения, с тем обстоятельством, что
небо мертво, мир лишен абсолюта, люди пожирают друг друга и пр.
И все же такое понимание логики стихотворения не соответствует
истине, так как подсказано укоренившейся в русской литературе
смысловой традицией. Имеет ли смысл ждать ее разработки от очередного
«взорвалиста»! Наоборот, герой стихотворения Д. Бурлюка осознает себя
новым пророком (а какой пророк без страданий!), провозглашающим
423
новую «правду». Предоставьте небу возможность догнивать в
законном порядке, говорит он, и обратитесь к «земле», к «истине»,
открытой футуристами: «Правда звук!» По случаю вспомнив, что в
немалой степени «истина» эта провозглашалась еще в «Щастье циника»,
где литературное звучание слова «счастье» заменялось на
разговорное, «естественное», «примитивное» — «щастье», скажем, что «радость
первого наречения» вещей116 объявлялась русскими футуристами
главной задачей нового искусства. Эта задача, по-разному понятая,
объединяла таких различных по уровню таланта людей, как В. Хлебников
и А. Крученых, Д. Бурлюк и Б. Лившиц. Думается, что именно на
осуществлении данной цели как самого надежного средства для спасения
мира настаивает Д. Бурлюк в туманных вне контекста
футуристической эстетики словах: «Правда звук!»
О В. Хлебникове разговор впереди, а как же понимала эту
первейшую задачу группа «радикалов» от футуризма?
Дело «первого наречения», естественно, связывалось ими с «землей»
и противопоставлялось «небу». Ближайшими к футуристам людьми,
вдохновлявшимися идеей «неба», были символисты, потому именно в
них полетели комья брани из лагеря будетлян. Мы уже упоминали про
статью А. Крученых с ее характерным в плане нашего разговора
заглавием «Новые пути слова (язык будущего — смерть символизму)». Чтобы
указать на вполне «земную» природу провозглашаемого ее автором
«нового» языка, процитируем целиком то место, которое уже частично
цитировалось ранее. Вот оно: «Наша цель, — пишет А. Крученых, —
подчеркнуть важное значение для искусства всех резкостей, несогла-
сов (диссонансов) и чисто первобытной грубости.
Когда хилому и бледному человечку захотелось освежить свою душу
соприкосновением с сильно-корявыми богами Африки, когда
полюбился ему их дикий свободный язык и резец и звериный (по зоркости)
глаз первобытного человека, то семь нянюшек сразу завопили и
стараются охранить заблудшее дитя...»117.
По несколько иным соображениям, но тоже отталкиваясь от
символизма, Б. Лившиц отводит «брошенное» критикой в адрес его
собратьев «обвинение» в «эпигонстве» футуризма, его зависимости от
символистской эстетики слова. «Преемственность преемственностью, —
пишет он в статье «Освобождение слова», — но неужели всякий танец
начинается от печки российского символизма? Неужели примат сло-
424
весной концепции, впервые выдвинутый нами, имеет что-либо общее
с чисто идеологическими ценностями символизма?»118.
Д. Бурлюк, в свою очередь, говорит о футуристах как «поколении,
кое выступило с таким шумом вслед за символистами и было им так
враждебно и непримиримо»119.
Про «тяжелую эпоху символизма и "декадентства"» вспоминает и
Н. Бурлюк, чтобы высказать расхожую футуристическую мысль:
«Я еще раз должен напомнить, что истинная поэзия не имеет
никакого отношения к правописанию и хорошему слогу, — этому
украшению письмовников, аполлонов, нив и прочих общеобразовательных
"органов".
Ваш язык для торговли и семейных занятий»120.
Массированная атака на символистов, по сути дела,
предпринималась для обоснования той самой концепции «Новой Грядущей
Красоты Самоценного (самовитого) Слова», о которой гордо возвещалось
в «Пощечине общественному вкусу». Было подвергнуто сомнению и
отброшено как непригодное для искусства слова положение: язык —
орудие мышления. Подобно кубизму, предпочитавшему для
исследования мира пользоваться чисто живописными средствами: линией,
цветом, плоскостью, футуристы заговорили о «слове как таковом»121,
воспринимая его не как средство, а как самоцель. Разъясняя это положение,
А. Крученых писал: «Через мысль шли художники прошлого к слову,
мы же через слово к непосредственному постижению»122.
Предпосылкой такого отношения к слову было восприятие его как
«живого организма». Тот же Н. Бурлюк доводил это общее для всех
футуристов положение до абсурда: «Словесная жизнь тождественна
естественной, в ней также царят положения вроде Дарвиновских и
де-Фризовских. Словесные организмы борются за
существование, живут, размножаются, умирают». Считая, что «поэтическое
слово чувственно», что оно «лишь настолько имеет значения
для передачи предмета, насколько представляет хотя бы
часть его качеств», Н. Бурлюк (при участии Д. Бурлюка) пишет
статью «Поэтические начала» для практического осуществления «задач
нового искусства», понимаемого как «слово, но не речь...»123.
Эта статья полна глубокомысленных, «академических» рассуждений
о важности «автографов сочинений», о «расположении написанного на
бумажном поле», об «эстетической жизни» разного рода условных обо-
425
значений типа +, X, = , о «соотношении между цветом и буквой», «как
окрашивании» впечатления, о сочетании «запаха и слова» и т.д.124.
Не чужд этот «трактат» и «философии». Путаные, со ссылкой
на плохо понятого В. Хлебникова, размышления о
«взаимоотношении между мифом и словом» заканчиваются следующим авторским
выводом: «Корневое слово имеет меньше будущего, чем
случайное. <...>
Меня спрашивают, — национальна ли поэзия? — Я скажу, что все
арапы черны, но не все торгуют сажей, — и потом еще — страусы
прячутся под кустами (Strauch). Да. Путь искусства через национализацию
к космополитизму»125. Здесь есть все, вплоть до призывов «к созданию
новой азбуки для новых звуков», кроме хотя бы отдаленного намека
на духовный смысл художественного творчества.
Вот какая «правда» в качестве футуристического откровения и
пророчества преподносилась Д. Бурлюком в стихотворении «Мертвое
небо» и в буквальном смысле иллюстрировалась им в десятках
других произведений. Без устали экспериментирует он со звуковой
стороной стиха, реализуя принцип, сформулированный А. Крученых с
претензией на афоризм: «Чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее
смазных сапог или грузовика в гостиной»126. Поэтому особое влечение
он испытывает к разного рода неблагозвучиям, диссонансам, выделяя
важные в каком-либо отношении звуки размерами шрифта или делая
объясняющие приписки в конце стихотворений, как, например, в
случае с «Железнодорожными посвистываниями»: «(на звуке Ρ
концентрировано ощущение жестокой суРовости.) Д и Τ — ощущение
твердости, стойкости»127. То же самое он делает со всякими интересующими
его выражениями, сообщая при этом в примечаниях к
соответствующим стихам: «Лейт-слова: подчеркнуты величиной»128. Часто Д. Бур-
люк использует и разного рода условные знаки:
Луна = кавычка +
возвышенный предмет...129 и т.д.
Все это, вместе взятое, имеющее чисто внешний, экспериментальный
характер, т.е. не мотивированное развитием поэтической идеи и
объясняемое лишь авторской установкой на «слово как таковое»,
вырождается в его произведениях или в нагромождение эпатирующих
образов вроде такого вот описания тумана:
426
Ты как река течешь
Как белый дым скользишь
Твой шаг как хладный нож
Как обморок как тишь!
Как саван как крыло...130 —
или в стихи, в которых практически оборваны, точнее, готовы
оборваться последние логические скрепы:
Серые дни
ОСЕННИЙ НАСОС
мы одни
отпадает нос.
Серые дни
Листья = хром (желтая
дешевая краска)
Мы одни
Я хром
Серые дни
Увядание крас
Мы одни
Вытекает глаз131.
Кажется, еще один шаг, и наступит полная немота. Д. Бурлюк
этого шага не сделал. Но концепция «слова как такового» обязывала
расставить точки над «i». Взялся за это дело и довел его до конца
«футуристический иезуит слова»132 А. Крученых.
«Поэзия, — безапелляционно утверждал он, — зашла в тупик...»
Сказано это отнюдь не о классическом искусстве: с ним А. Крученых,
как мы видели, «разделался» однажды и бесповоротно. Речь в данном
случае идет о поэзии, современной автору, в том числе и о стихах его
друзей — будетлян. Возьмем, рассуждал А. Крученых, к примеру,
эпитеты, они «умерли». Но «когда заметили, что они не тверды на ногах,
пробовали их ставить на голову...». Если раньше о луне
высказывались в возвышенных выражениях, то теперь говорят, что она «дохлая».
«Но подохли не одни эпитеты, а все слова», оттого появились
неологизмы, даже целые стихи из них, как у В. Хлебникова. Новые процессы
в искусстве слова, продолжал А. Крученых, отнюдь «не выдумка злых
будетлян», а «современный уклон», и, чтобы придать своим «те-
427
оретическим» выкладкам «академическую» солидность, ссылался на
свою же «Сдвигологию русского стиха», в которой приводились
примеры неологизмов, «темных выражений» и т.д., найденные в
произведениях Ф. Сологуба, 3. Гиппиус, С. Городецкого и др. Что же
произошло с искусством слова? А вот что: «Человек уже видит что бывшие до
него слова умерли и пытается подновить вывернуть наизнанку,
положить заплатку — чтобы выглядеть богато и нарядно...» Но спасут ли
искусство полумеры? Нет, считает А. Крученых, «будем откровенны
и лучше останемся в одном нижнем чем бродить по Невскому в
заплатанном Тришкой кафтане!..» Отсюда вывод: у поэзии остался
«единственный... почетный выход
не употреблять выживших образов эпитетов и слов — перейти к
заумному языку...»133.
Проблема «зауми» — важнейшая в эстетике кубофутуризма. Ею серьезно
занимался, например, тот же В. Хлебников, а если быть совсем точным,
то А. Крученых воспользовался именно его идеями. Не обладая широтой
и глубиной мысли В. Хлебникова, не будучи способным, как он, к
созданию серьезной эстетической концепции, А. Крученых, по сути дела,
предельно упростил и окарикатурил, доведя до логического предела,
до абсурда пусть и спорные, но — как часть единой эстетической
системы — в чем-то и плодотворные рассуждения своего учителя.
Нам уже приходилось говорить, что кубофутуризм не представлял
собой монолитного движения. Были в нем свои «правые» и «левые».
«Левизна» А. Крученых, например, никогда не нравилась Б. Лившицу.
В статье «Освобождение слова», не соглашаясь с утверждениями «заум-
ника», «что новое течение сводится ... к словотворчеству», он писал:
«Напрасно не в меру прозорливые и услужливые друзья, с усердием,
достойным лучшей участи, помогающие нам конституироваться,
толкают нас на этот путь»134. «Услужливые друзья» — это и А.
Крученых, и, может быть, именно он в первую очередь, хотя его имя и не
названо. Зато названо оно в другой работе Б. Лившица «Компролити-
ческий монумент», представлявшей собой ответ на «очередное
паясничанье г. Чуковского» по поводу футуризма.
Автора этой заметки возмутило то обстоятельство, что критик не
«полагает грани между лозунговыми выступлениями футуризма и его
художественными достижениями», в результате чего «без зазрения
совести ...Крученыховский "белямотокияй"» «преподносится... под видом
428
альфы и омеги футуристического искусства». Смягчая откровенную
неприязнь к А. Крученых этим разделением литературной продукции
своих собратьев на «лозунговую» и «истинную», Б. Лившиц
продолжает: «Конечно, автор "дырбул-щыл",а — поэт небезынтересный, поэт
с довольно острым пониманием момента, но сосредоточивать
внимание на Крученых как на центральной фигуре русского "кубофутуризма"
значит, прежде всего, вызывать удивление и смех в рядах самих же
"кубофутуристов"»135. Не думаем, что А. Крученых остался бы
доволен той ролью, которую отводил ему Б. Лившиц, но трудно не
согласиться с последним, что высший взлет искусство футуризма обрело в
В. Хлебникове.
Да и сам В. Хлебников при всей его житейской
неприспособленности и доверчивости, очевидно, хорошо понимал «вторичность»
писаний А. Крученых. Об этом говорит хотя бы его стихотворение
«Крученых» (1921):
Лондонский маленький призрак,
Мальчишка в 30 лет, в воротничках,
Острый, задорный и юркий,
Бледного жителя серых камней
Прилепил к сибирскому зову на «ченых».
Ловко ты ловишь мысли чужие,
Чтоб довести до конца, до самоубийства136.
Лицо энглиза, крепостного
Счетоводных книг,
Усталого от книги. <...>
Выпады личные любите.
Вы очарователь<ный> писатель —
Бурлюка отрицатель<ный> двойник137.
Несмотря на известную завышенность и щедрость данной
характеристики, в ней много правды.
Действительно, А. Крученых доводил «до самоубийства» мысли
В. Хлебникова, став фанатичным приверженцем «заумного» слова. Как
мы видели, все его «теоретические» изыскания пронизаны одной
мыслью, которую он варьирует на тысячу ладов: старое искусство слова
умерло, оно неспособно по-новому выразить вечно юный мир,
восстановить первоначальную чистоту его восприятия. Следовательно,
рассуждает он, беря во внимание, что «новая словесная форма создает
429
новое содержание, а не наоборот», надо воспользоваться еще «не
застывшим» языком, ибо «заумь — первоначальная (исторически и
индивидуально) форма поэзии». Вначале якобы у поэта возникает «ритмически-
музыкальное волнение», некий «пра-звук», а «заумная речь рождает»,
в свою очередь, «заумный пра-образ (и обратно) — неопределимый
точно...». Художник, таким образом, «как Адам, дает всему свои имена»,
и А. Крученых демонстрирует футуристический вариант «адамизма»
с помощью следующего примера: «Лилия прекрасна, но безобразно
слово лилия захватанное и изнасилованное. Поэтому я называю лилию
еуы — первоначальная чистота восстановлена»138.
Но на чем основывалась его вера в магический смысл
переименования? Все на той же «правде звука», о которой писал Д. Бурлюк в
стихотворении «Мертвое небо». «Символисты, — говорит А. Крученых, —
знали аллитерацию но неведома им алфавитация»139. Ничего нового
по сравнению с другими кубофутуристами здесь не сказано. Но,
повторяем, А. Крученых отличался «талантом» доводить футуристические
идеи до их логического конца и тем самым как бы убивать их, хотя,
разумеется, рассчитывал на иной эффект. Провозглашая, что «буква то
же слово (звук форма и образ)», он именно с этих позиций судил всю
предшествующую поэзию. Так, в статье «Сонные свистуны. Тайные
пороки академиков» он приводил один пример, как всегда у него,
рассчитанный на эпатирование читателя: «От Триумфальных ворот пра-
чешная счет г-ну Крысюну.
2 нижние юбки 60 к.
2 крыхма рубахи 20«
5 воротничков 30«
2 пары манжет 20«
3 навлычки 9«
1 куфайка 5«
и делал вывод, с его точки зрения, неопровержимый: «...если сравнить
эти строки с 8-ю строчками из "Онегина" —
в тоске безумных сожалений и т.д.
то окажется: стиль их выше Пушкинского!» Чем же привлек
внимание А. Крученых этот образец отечественного «примитивизма»?
А вот чем: оказывается, в нем «на восьми строчках счета» читатель
встречает редкие для романа Пушкина «звучные буквы русичей: ы, щ,
кры, ф, ю, ж...»140.
430
Из сказанного видно, что «похвальное слово» счету, произнесенное
теоретиком, вытекало из присущего ему и многим кубофутуристам
понимания языковых функций. «До нас, — пишет он, —
предъявлялись следующие требования языку: ясный, чистый, честный, звучный,
приятный (нежный) для слуха, выразительный (выпуклый,
колоритный, сочный)»141. Но эти эпитеты, иронизирует А. Крученых, «больше
приложимы к женщине», которую «в последнее время... старались
превратить в вечно-женственное, прекрасную даму», так что всякая «юбка
делалась мистической <...> Мы же думаем, — завершал свою мысль
А. Крученых, — что язык должен быть прежде всего языком и если
уж напоминать что-нибудь, то скорее всего пилу или отравленную
стрелу дикаря» (там же). Только все «неблагозвучное»,
диссонирующее в языке, по мнению футуристов, соответствовало истинной
природе вещей, ибо не было еще «подслащено» и «испорчено» культурой.
Из контекста подобных рассуждений становится понятным, почему в
своей «грозной б а я ч и »:
дыр бул щыл
убещур
скум
вы со бу
ρ л эз, —
А. Крученых находил «больше русского национального, чем во всей
поэзии Пушкина»142, хотя и здесь, конечно, не обошлось без обычного
для него кокетничания собственной «дикостью».
Футуристическая «заумь», якобы возвращающая мир и человека к
их первоистокам («...мы единственные в мире живые люди»143),
делающая человека человеком («До нас речетворцы слишком много
разбирались в человеческой "душе" (загадки духа, страстей и чувств), но
плохо знали, что душу создают баячи...»144), представлялась А.
Крученых надежным рычагом будущего. На все лады он превозносил
футуристическое детище. «Заумь — самое краткое искусство...», — писал
он, имея в виду «длительность пути (художественного слова. — B.C.)
от восприятия к воспроизведению...»145. Она же — «самое всеобщее
искусство», хотя при этом делалась оговорка в чисто «академическом»
ключе, что «происхождение и первоначальный характер его могут быть
национальными...» (там же).
431
Образец подлинного русского национального искусства слова виделся
А. Крученых в собственном «лихом» «дыр бул щыл'е». В изданной
же литографским способом книге «Взорваль», помимо прочих, была
и такая запись: «27 апреля в 3 часа пополудни / я мгновенно овладел /
в совершенстве всеми / языками Таков / поэт современности /
Помещаю свои / стихи на / японском / испанском / и / еврейском / языках»146.
На той же странице были представлены «иноязычные» стихотворные
опыты будетлянина: изображение, отдаленно напоминающее
восточные иероглифы (недаром же футуристы придавали такое значение
графике, «письменам»!), и несколько строк «зауми», в которых делалась
попытка передать «звуковой портрет» соответствующих языков:
икэ мина ни
сину кси
ямах алик
зел.
Все эти откровенно произвольные, предельно субъективные
построения призваны были служить «теоретику» для обоснования главного
«назначения» зауми. Считалось, что «заумные творения могут дать
всемирный поэтический язык, рожденный органически, а не
искусственно, как эсперанто»147. Для осуществления этой задачи А.
Крученых выдвинул некоторые, с его точки зрения «принципиальные»
положения, вроде следующих: «Согласные дают быт, национальность,
тяжесть, гласные — обратное — вселенский язык»148. Иллюстрировало
данную идею его собственное «заумное» «стихотворение» «Высоты»
с характерным подзаголовком «Вселенский язык»:
е у ю
и а о
о а
о а е е и е я
о а
е у и е и
и е е
и и ы и е ии ы149.
432
Это «стихотворение», графически устремленное ввысь, — словно
гортанный крик дикаря, еще не овладевшего связной речью. Но то, что
для нас служит поводом к иронической усмешке, в глазах А. Крученых
и иже с ним было настоящим искусством.
Как бы подводя итог своим «исследованиям» и экспериментам в
области «заумного» слова, он писал: «Заумь пробуждает и дает свободу
творческой фантазии, не оскорбляя ее ничем конкретным. От смысла
слово сокращается, корчится, каменеет, заумь же — дикая,
пламенная, взрывная (дикий рай, огненные языки, пылающий уголь)».
Благодаря футуристической концепции слова, соответствующей
эстетическим принципам абстракционизма в живописи, искусство, по словам
А. Крученых, «не суживается, а приобретает новые поля». И еще один,
последний довод в защиту «зауми»: «Ничто тут не стесняет человека и
никаких сделок с художественной совестью не нужно!»150.
Вот и все. Вместо многочисленных описаний изолгавшейся и уже
умершей души футуристы предлагали искусству «слово как таковое»,
которое, по их представлениям, было призвано вдохнуть в
отравленного культурой «человечка» первобытную мощь дикаря. «Так, — пишет
А. Крученых, — разрешаются (без цинизма) многие роковые вопросы
отцов, коим и посвящаю следующее стихотворение:
поскорее покончить
недостойный водевиль —
о конечно
этим никого не удивишь
жизнь глупая шутка и сказка
старые люди твердили...
нам не нужно указки
и мы не разбираемся в этой гнили151.
Писаревское «разрушение эстетики» и базаровский нигилизм,
имеющие четко выраженные демократические истоки и устремления,
достигают в этих модернистских упражнениях болезненных размеров,
отливаются в уродливые, враждебные подлинной сути человека
формы. Потому они, скорее, сродни нигилистическому бунту
заглавного героя известной пьесы Л. Андреева «Савва», хотя ее автор в числе
прочих русских писателей также подвергался остракизму на
страницах манифеста «Пощечина общественному вкусу». Разумеется, окон-
433
чательного знака равенства между литературным персонажем и
реальными «взорвалистами» от кубофутуризма ставить нельзя, к тому
же последние явно «благополучнее» мятущегося героя Л. Андреева.
И все же между ницшеанцем Саввой, который, по его собственным
словам, «умер однажды — умер и воскрес» «по ту сторону»
(конечно же, добра и зла), и нигилистами типа А. Крученых, упрекавшего
«демона дерзкого» Ницше в книжности, есть одна общая черта:
патологическая ненависть к культуре. Человеку, полагает Савва (и в этом
он не расходится со многими из футуристов), «мешает глупость,
которой за эти тысячи лет накопилась целая гора. Теперешние умные
хотят строить на этой горе, — но, конечно, ничего, кроме
продолжения горы, не выходит. Нужно срыть ее до основания — до голой
земли. <...> Уничтожить все: старые дома, старые города, старую
литературу, старое искусство. <...> Старое платье, все. <...> Нужно, чтобы
теперешний человек голый остался, на голой земле. Тогда он
устроит новую жизнь»152.
Герой Л. Андреева оказался «радикальнее» А. Крученых: тот, как
мы помним, предлагал щеголять в нижнем белье.
Шутка шуткой, а обращение к произведениям Л. Андреева, кажется,
помогает более наглядно уяснить не только цели некоторых кубофуту-
ристов, но и социальные причины, приведшие к возникновению
футуризма. Конечно, это течение, как об этом говорилось выше, обязано
своим рождением символизму. Наряду с акмеизмом футуризм сделал
попытку вернуть искусство «с неба на землю». Но, думается, есть все
основания связывать социальный генезис футуризма с «ночью после
битвы», т.е. с тем, что последовало после поражения первой русской
революции, когда, по словам В.В. Воровского, «часть» писателей
«ударилась в мрачную переоценку ценностей, апеллируя от сознательной,
созидательной борьбы к дикой разнузданности разрушительных
анархических сил...»153. Вполне возможно, что творчество этих писателей
оказалось для некоторых будущих футуристов в известном смысле
питательной почвой, хотя сами они об этом не догадывались и с
негодованием отвергли бы подобные подозрения.
Во всяком случае, независимо от субъективных намерений
объективное содержание программы, выдвигаемой Д. Бурлюком и А.
Крученых, в конечных результатах совпадает с позицией героя повести
Л. Андреева «Тьма», в которой рассказывается, как революционер-
434
террорист, спасающийся от своих преследователей в публичном доме,
приходит к внезапному «открытию», что в мире зла и
несправедливости «стыдно быть хорошим». В прежней своей жизни знающий только
«да» и «нет», он раскрывает свою душу навстречу стихии жизни.
«...Внутри его, — пишет автор, — происходила огромная,
разрушительная работа, быстрая и глухая. Как будто все, что он узнал в
течение жизни, полюбил и передумал, разговоры с товарищами, книги,
опасная и завлекательная работа — бесшумно сгорало, уничтожалось
бесследно, но сам он от этого не разрушался, а как-то странно креп и
твердел. Словно с каждой выпитой рюмкой он возвращался к какому-то
первоначалу своему — к деду, к прадеду, к тем стихийным,
первобытным бунтарям, для которых бунт был религией и религия — бунтом.
Как линючая краска под горячей водой — смывалась и блекла
книжная чуждая мудрость, а на место ее вставало свое собственное, дикое
и темное, как голос самой черной земли»154.
Это «возвращение» к самому себе, к своим первоистокам,
презрение к мудрости, почерпнутой из книг, и к самой книге, короче говоря,
принципы, родные и близкие футуристам, толкают героя Л. Андреева
на еще один шаг, внешне парадоксальный, но на самом деле глубоко
закономерный для него. Поднимая свою рюмку «за всех слепых от
рождения», он говорит в исступлении: «Зрячие! Выколем себе глаза, ибо
стыдно... ибо стыдно зрячим смотреть на слепых от рождения. Если
нашими фонариками не можем осветить всю тьму, так погасим же огни
и все полезем в тьму»155.
Описанная ситуация проливает свет на внутреннюю сущность
футуристического движения, особенно радикального его крыла. Духовный
нигилизм, провозглашенный футуристами в качестве своего
этического credo, оборачивался, хотели ли они этого или нет, проповедью
тьмы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Живой человек
будущего, которого они утверждали, которым клялись, был для них
воплощением буйного, слепого, биологического инстинкта,
лишенным того, что собственно и созидает личность: этического идеала и
духовной традиции.
Вот почему эти люди, торжественно провозглашавшие: «Мы
высокого мнения о своей родине!» и предостерегавшие противников: «Не
увлекайтесь подражанием иностранному»156 (а сколько подобных слов
было ими сказано!), подлинного чувства родины никогда не имели. Так,
435
в написанном еще до Октября стихотворении «Русь» Д. Бурлюк давал
следующую футуристическую «трактовку» этой темы:
Деревня как гнилушка
Чуть чуть видна дали
Так утлая старушка
Сифилитической пыли157.
При этом желание пооригинальнее, «позабористее» выразиться было,
пожалуй, единственной поставленной им перед собой целью. Еще более
«откровенен» он после революции, выступая от имени своих «друзей»
со следующим «Призывом» (название стихотворения) к
революционному народу:
Русь — один сплошной клоповник!..
Всюду вшей ползет обоз,
Носит золоте сановник
Мужичок, что весь промозг. <...>
Русь, грязевое болото
Тянет гнойный, пьяный смрад...
Слабы вывезть нечистоты
Поселенье, пристань, град.
Грязь зовут — враги — отчизной!
Разве этом «русский быт»?
Поскорее правим тризну —
Празднествам параш, корыт!..
Моем мощной, бодрой шваброй
— Милый родины удел
Все, кто духом юно-храбрым
Торопясь, не оскудел158.
Мыть тут, собственно говоря, было нечего: «сплошной клоповник»
и «грязевое болото» нуждаются — это всем понятно — или в
уничтожении, или в осушении, другого не дано. Присвоив себе право
говорить от имени революции, за эту «работу» взялись «левые»
художники, по выразительной характеристике того же Д. Бурлюка, «искусные
артиллеристы / Грядущего века основ»159.
Какими невосполнимыми потерями для отечественной культуры
обернулась деятельность «юно-храброго духа», мы знаем. Взращивали
этого гомункулса в числе прочих «ревнителей пролетарской чистоты»
и футуристы, написавшие на своем знамени зловещее слово «nihil».
436
Глава II
СТАНОВЛЕНИЕ НЕОЯЗЫЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Д. Бурлюку и А. Крученых казалось, что созидание и есть
разрушение; иными словами, низвержение «старья» они произвольно
отождествляли с возведением здания будущего. Отсюда экспериментальный
характер их творчества, призванного дать «образцы» нового,
«революционного» искусства, проиллюстрировать отдельные положения
футуристической эстетики и т.д.
Установка на эксперимент присуща многим произведениям
футуристов, но данное обстоятельство вовсе не означает, что все будетляне
ограничивались только этой задачей. Несомненным дарованием
обладали В. Каменский, Е. Гуро, не говоря уже о В. Хлебникове, творчество
которого составляет целую страницу в истории русской литературы
XX в. Разделяя некоторые общие эстетические принципы футуризма, в
частности такой кардинальный, как поиски цельного человека на путях
примитивно-природного (нередко доисторического) его существования,
они были движимы не разрушительными, а преимущественно
созидательными усилиями, пытаясь осуществить синтез жизни на
принципиально иной, чем у символистов, антирелигиозной основе. В первую
очередь это касается В. Хлебникова, сумевшего создать оригинальную
эстетическую систему, но в определенной степени данное положение
справедливо и по отношению к творчеству В. Каменского и Е. Гуро, у
которых — при всем различии их творческих индивидуальностей —
читатель непременно обнаружит большую тягу к идеалу.
1. «Дитя природы»
Д. Бурлюк и А. Крученых очень хотели стать «детьми природы»1,
но роль явно не удавалась ни тому, ни другому.
Судьба В. Каменского в этом отношении гораздо счастливее.
Природа для него и спасительница, и врачевательница, и кладезь мудро-
437
сти. «Быть хочешь мудрым?» — спрашивает он в одном из самых
ранних своих стихотворений и отвечает:
Летним утром
Встань рано-рано,
(Хоть раз — да встань),
Когда тумана
Седая ткань
Редеет и розовеет.
Тогда ты встань
И, не умывшись,
Иди умыться
На ростань...2.
Но даже и в этой благодатной стороне человека, жаждущего
исцеления, ожидают «два пути». Обращение поэта к распространенному в
фольклоре мотиву призвано подчеркнуть серьезность данной ситуации.
Первый путь — это путь обычного дачника: умывшись и причесавшись
в заранее отведенном для этого месте, он, как «человек "приличный"»,
далеко «пойдет» в жизни, но зато будет обделен чувством причастности
к первозданному миру, к которому приобщится путник, свернувший на
другую дорогу. К последнему автор обращается со следующими словами:
Беги во весь свой дух
На росную, цветистую полянку.
Пляши, кружись и падай.
И целуй ее, целуй,
Как верную, желанную милянку <...>
Чище мойся!
И не бойся:
Солнце вытрет сухо
Мокрое лицо.
Только вытряхни из уха
Муравьиное яйцо.
Только выплюнь
(То подавишься) —
Колючую сенинку,
А душистую травинку
На здоровье
Съешь!3.
438
По сути дела, в этих строках выражена вся нехитрая «философия»
В. Каменского: возвращение в природу дарует человеку счастье и
здоровье, приобщение к земле — надежная гарантия обретения им
утраченного на городских перекрестках «лица». При этом понятия «земля»
и «стихия» для него не мертвые абстракции, как, скажем, для Д. Бур-
люка и А. Крученых, а пронизанные всеми цветами радуги и
солнечным светом реалии.
В футуристическом движении В. Каменский — один из самых
последовательных антиурбанистов. Таковым он был и в годы,
предшествовавшие официальному провозглашению футуризма. Дальнейшее его
творчество в значительной мере развивало (иногда с существенными
отступлениями) идеи, заложенные в его первом крупном
произведении — романе «Землянка» (1911).
Начальные главки этой книги пронизаны гневными филиппиками
в адрес города:
«Город, город!
Огромное серое, каменное, пыльное царство тоскующих людей.
Где утреннее солнце едва пробивается сквозь черный фабричный
дым.
Где уличный гул давит лучшие мысли и пугает последние надежды.
Где людская суетливость напоминает встревоженный муравейник
и нигде, и нигде не видно капельки счастливого покоя.
Где чахнут деревья, огороженные железными колючками, и вянут
цветы от пыли, как от горя люди.
Где городские глаза привычно и холодно читают в газетах об
убийствах и самоубийствах и тщетно ищут чего-нибудь нового, радостного...
Где из тысячи тысяч газетных слов, меняющихся каждый день на
каждой строке, не могут измениться три слова, только три
всегдашних слова, простых и обыкновенных: "...на рассвете повешены..." <...>
Город, город!
Где человек — для города.
Где человек — жалкий раб и червяк — господин его.
Где ночью по лучшим улицам ходят тринадцатилетки-женщины и
дешево продают свое девичье тело гнилым старикам.
Где всюду ликующая ложь и разврат, все — безумный кабак, в
котором пропивают Жизнь под пошлую музыку безысходной тоски
города»4.
439
В этих строках страстно заклеймлена отчуждающая власть города.
Он предстает перед глазами читателя как гигантский мертвец, как
воплощение самой Смерти.
Не случайно на первых страницах романа как своеобразная
увертюра городской темы дана судьба безымянного героя, умирающего в
одной из бесчисленных клеток. Лишь после смерти на этого человека
обратили внимание, и то благодаря случаю, который воспринят
автором в качестве зловещего символа-предостережения бездушию
городской цивилизации: «На одной узкой и людной улице на дроги накатился
трамвай. Гроб с покойником опрокинулся, и вокруг распространилось
невыносимое зловоние. <...>
А кругом все шумело, кричало, стучало.
Шла городская жизнь»5.
Это событие завершается эпизодом, также имеющим
расширительный смысл: «...через неделю в комнате покойника поселились новые
жильцы: муж и беременная жена.
Прошел месяц, и на постели покойника преждевременно родился
ребенок, уродец-недоносок».
Если синтаксический строй приведенного отрывка о городе
напоминает синтаксический строй поэмы В. Хлебникова «Зверинец», то
по смыслу он близок идейному содержанию статьи А. Белого «Город»
(1907). Чтобы убедиться в справедливости суждения, процитируем ее.
А. Белый пишет:
«Город.
Он выпустил свои страшные щупальцы <...> и высосал пространства
земли.
Железнодорожные лапы, как бесконечные лапы паука, оковали
пространства. <...>
Мозг земли — город — окруженный кольцом товарных вагонов. Он
пожирает землю, чтобы выбросить из себя многоэтажный блеск домов,
сотни фабричных труб и яркие электрические солнца.
Вот улица. Яркие перья накрашенных дам, вопль автомобилей,
красных драконов, бешено мчащих великих блудниц в огне сверкающих
вывесок. <...>
И бегут, бегут — в призрачных городах призрачные люди — бегут:
бегут в могилу.
440
Смерть, склонясь к великой блуднице, часто обгоняет их на
автомобиле, поднося пенснэ лайковой перчаткой к своему безносому черепу. <...>
Город, извративший землю, создал то, чего нет. Но он же поработил
и человека: превратил горожанина в тень»6.
Эмоциональный тон процитированных фраз и заключенная в них
смысловая энергия побуждают «сказать про город словами из
Апокалипсиса», что А. Белый и делает: «И поклонились зверю, говоря:
кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?.. И дана была
ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем.
И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны
в книге жизни»7.
При всем просто бросающемся в глаза сходстве отношения к городу
В. Каменского и А. Белого между ними есть и существенное различие.
А. Белый разрабатывает эту тему в свойственном ему
апокалипсическом ключе. Религиозная символика Откровения Иоанна
пронизывает весь отрывок, помогает автору в расстановке смысловых
акцентов, идеи Апокалипсиса подсказывают выход из создавшейся
ситуации на путях религиозного синтеза жизни, выразившегося в
концепции «жизнетворчества». Отсюда — оптимизм итоговых строк
статьи: «...творческая мысль — голос мира — рассеет смертный сон.
Мы скажем: "Смерть повержена в озеро огненное".
Тогда восстанут все те, кто разлетелся дымом, выйдут из смерти и
запоют на гуслях как бы песнь новую, песнь радости новой» (там же).
Как всякому футуристу, В. Каменскому чужды и даже враждебны
пути религиозного преображения жизни. Христианское понятие
«воскресение» он переосмысливает, например, следующим образом:
ВОЛЯ — РАСТеГНУТА
СЕРДЦЕ — без ПОЯСА
МЫСЛИ — без ШАПКИ в
РАЗГУЛЬНОЙ душЕ
РАЗЛИЛИСЬ БеРеГа
Дров 2 охапки
ружье и ТопоР и
ОЛЕНьИ РОГА
шаТеР и КосТЕР и
ОСТРА оСТРОГА
441
ПЛЯШИ с бубенЦоМ и Колдуй
я ОХотник — тЫ на ЛовцА
заБлудилась ОвцА
поцелуй
ПОДАри МНЕ дырявую шаль
ВОЗЬМИ моЮ шкуру МЕДВЕЖЬЮ
ПРИХОДИ еЩе НочеВАТЬ
ЖИзнь — ВОСКРЕСЕНИЕ
ГлазА ТвОи — ГОЛОВНИ
ГУБы — ВишНи РАЗДАВЛЕНЫ
Груди — ЗЕМЛЕтрЯСЕНИЕ8.
Стихотворение «Цыганка», которое мы тут процитировали, —
образец футуристической «разработки» традиционной для русской
литературы темы. Эпатирующий антиэстетизм авторской позиции
сочетается здесь с чисто футуристической «палитрой»
изобразительно-выразительных средств: от нарочитой ослабленности лирического сюжета
(прием, способствующий выдвижению на первый план чисто
«словесной массы») до всякого рода графических «ухищрений», убранных при
перепечатке этого стихотворения в более поздней книге «Звучаль вес-
неянки». Все это, вместе взятое, призвано, по мысли поэта, создать
полемический по отношению к христианскому восприятию мира образ
«жизни-воскресения», в котором подчеркнуто, гиперболизировано
материальное, телесное (читай: земное) начало.
Нарочитое нагромождение грубых, шокирующих читателя образов
станет для В. Каменского нормой в период наибольшего сближения с
группой Д. Бурлюка. В «Землянке» всего этого пока еще нет, зато есть
восторженные гимны земле и природе как истинным ценностям бытия,
полярного городской, удушающей человека цивилизации. Вот один из
них, может быть, наиболее характерный:
«О, Земля!
Смотри: я скорблю твоей скорбью за взрослых, печальных гостей,
оскорбляющих тебя, лучезарную...
О, Земля, Земля!
Смотри: зато я люблю тебя горячей, истинной любовью желанных
гостей-детей и радуюсь твоей радостью за них, величающих тебя,
мудрую, родную, жизнедатную». От имени Земли герой В.
Каменского произносит слова упрека, обращенного к тем, кто не понял или
442
не принял его земной правды: «Осуждаю вас, несчастные, за то, что
вы безжалостно оскорбляете горестными слезами свою
прекраснейшую Мать-Землю, которая позвала вас на радостный пир жизни.
Осуждаю и за то, что знаю, как люди стыдятся видеть самих себя по-детски
веселыми, вольными и не стыдятся показывать друг другу своих
жалких слез взрослых рабов; слез, оскорбляющих прекраснейшую Мать-
Землю, которую воспевают птицы, украшают цветы, любят дети и
радуют лучи солнца»9.
«Воскресение» как приобщение человека к земле и природе, как
возвращение блудного сына к порогу отчего дома — эта истина
открылась герою «Землянки» не сразу. Прежде чем он «пришел» к «Матери-
Земле», «родился снова», он прожил «выдуманные девять лет»
«каменной жизни» в «безобразном и страшном Смерть-Городе», который
калечит души, ломает надежды, разводит в разные стороны
близких и любящих людей. Призрачное существование рождает
призрачные чувства, и герой В. Каменского не вполне уверен, была ли у него
когда-нибудь любимая Марина, или она, зараженная декадентскими
ядами города, болезненная и нравственно изломанная, — в
сущности, призрак, наваждение, мечта, плод его собственной больной
поэтической фантазии.
В. Каменский тщательно воспроизводит мироощущение декаданса,
используя при этом лирические мотивы «старших» и «младших»
символистов. По сути дела, вся книга имеет ярко выраженную
антидекадентскую направленность. Более того, ее автор вступает в развернутую
полемику с младосимволистами, с присущей им
религиозно-мистической трактовкой любви.
Вырывая из своего сердца кошмарные впечатления городской жизни,
герой «Землянки» оставляет в потрясенной душе только любовное
чувство, но не ту мучительную любовь, которую испытывал к своей
возлюбленной в городе, «а другую, просветленную, мудрую, утреннюю
любовь»10. Предпоследнее слово процитированной фразы еще не раз
встретится по ходу романа. Так, уезжая «домой» «в родные, пермяцкие,
дикие, лесные края», Филипп (так зовут героя) стремится «к новому,
утреннему существованию»11, а зарождение нового чувства связывается
в его сознании с характерной для мироощущения В. Каменского
символикой: «Есть где-то на Земле Утреннее Озеро. Да, оно так и зовется:
Утреннее Озеро»12. Если это слово-символ соотнести с другим таким же
443
словом — «мудрый» (а В. Каменский, как видим, делает это), то нельзя
не вспомнить про стихотворение «Ростань», с которого мы начали наш
разговор о поэте и в котором обнаружили его творческое credo.
Кстати сказать, цикл стихотворений, опубликованный в «Садке
судей», куда вошло и упомянутое, был включен и в
повествовательную ткань романа «Землянка». Все они развивают одну тему:
постижение мудрости земного бытия через приобщение человека к миру
природы. Таким образом, любовь к женщине у В. Каменского лишь часть
универсального чувства любви к живому, чувство, в котором человек
реализует свою истинную, по Каменскому, родовую, сущность.
Подобное расширительное понимание любви типологически родственно
символистскому, хотя конкретное наполнение этого понятия у будущего
футуриста и младосимволистов, по сути дела, полярно.
Очевидно, с полемическими по отношению к символистам целями
рассказана в романе история, стилизованная под народную сказку. Некоей
«бедной пастушке» приснился сон, будто «она была царевной и жила
в большом царском дворце». Приезжал к ней и царевич, а потом
разбойники украли ее «из родного царского терема», и «она стала простой
пастушкой». Молодая девушка «не могла забыть свой сон»: «...может,
и впрямь она когда-то была царевной...» Увиденное во сне не давало ей
покоя: «...из пастушки она превратилась как бы в правдашную царевну»
и все мечтала о встрече с «молодым царевичем из соседней страны».
Царевич же в поисках своей невесты «долго блуждал... по земле и
наконец увидел... пастушку». Как и положено в сказках, история эта имела
счастливый конец: «Царевич подъехал к ней... и спросил:
— Ты пастушка?
— Нет, — ответила она, — я царевна, — разве ты не видишь? Тогда
царевич соскочил с коня, низко поклонился ей и взял ее с собой.
С той поры самое счастливое царство на всей земле было там, где
бедная пастушка стала настоящей царевной.
И это была правда, правда, которую узнали все люди»13.
Последняя фраза с центральным в ней словом «правда» звучит у
В. Каменского весьма торжественно, и данное обстоятельство
позволяет сделать вывод, что рассказанная история претендует на какое-то
важное для героя романа и его автора открытие. Нет, это не просто еще
одна версия о Золушке, ставшей принцессой. Царевич — Филипп,
заблудившийся в городе в поисках своей Прекрасной Дамы, находит ее на
444
«земле». Вначале он видит ее во сне в облике девушки-березы, потом
узнает ее в «пастушке», дочери крестьянина Ефима Марийке,
воплощающей в себе всю прелесть природы и крестьянской жизни. Под
воздействием Матери-Земли, ее неустанной врачующей ласки, ее
мудрости, постепенно спадает пелена с глаз героя «Землянки». Накануне
прихода к нему деревенской девушки он рвет письма Марины,
каждое из которых говорит о болезненных проявлениях ее души. Вот как
описана в «Землянке» переломная для ее героя ситуация: «Я любил...
любил... Кого? Не знал... <...>
Любил и не знал кого, но верил, но страстно верил, что вот-вот
скоро узнаю и ...
Узнал! Узнал! Узнал!
Я спрыгнул с завалинки и, сломя голову, начал, как козел, скакать
кругом по полянкам и весело кричать:
— Марийка! Марийка! Марийка!
В эту минуту гулко разнеслась по лесу знакомая песня: шла Марийка.
Я с радости выворотил из земли огромный пень, попавший под руки,
и побежал к ней навстречу.
— А-а-эй-й»14.
Когда с героя спадает хмель внезапно обрушившегося на него
счастья, он скажет, что эта крестьянская девушка стала его «душой»,
«сердцем», «мыслями», «жизнью».
«Стала возлюбленной невестой.
Пришла прямо из земли...
Пришла прекрасная, дивная, с чарующими песнями о
многорадостной своей Матери-Земле»15.
Очень важные для будущего кубофутуриста В. Каменского слова!
С одной стороны, здесь используется хорошо знакомая по сочинениям
символистов лексика: «душа», «невеста», «прекрасная», с другой — ею
характеризуется героиня иного, феноменального плана, — дитя самой
земли.
Могут возразить, что упомянутые слова общеупотребительны и
ничего специфически символистского в них нет. Безусловно так, если
их брать вне смыслового контекста книги В. Каменского. В романе же
им придан сугубо расширительный смысл: крестьянка Марийка
становится Душой Мира (Земли), этаким воплощением Вечной
Женственности, хотя и с противоположным по сравнению с символистской трак-
445
товкой этого понятия смыслом. Не случайно, как мы помним, В.
Каменский противопоставлял «небо» символистов и «землю» футуристов.
Все идеалы писателя связаны именно с природой. «Естественный»
человек, по В. Каменскому, и есть собственно человек. Писатель не
жалеет красок для его живописания. Причем необходимо учитывать,
что роман имеет ярко выраженную автобиографическую основу, а это
усиливает программность авторской позиции. После тяжелой
катастрофы (В. Каменский был одним из первых русских летчиков) его,
по собственным словам, «нестерпимо-магнетически потянуло к земле,
к здоровью, к солнцу, к зверью, к птицам, к деревне». Упав «с неба на
землю» в прямом и переносном смысле этих слов, поэт оказался на
собственном хуторе Каменка в глухой пермяцкой стороне, где «пахло
Робинзоном, детством, "землянкой", сосновым весельем, разинскими
стихами, сотворением мира»16.
Здесь, по сути дела, говорится об истоках творчества писателя, а
соответственно становится понятным и тот смысл, который он
вкладывал в понятие «истоки». Не случайно его герой говорит о себе: «Из
города я забрался прямо в глухую деревушку Озерную, оделся в
деревенскую лопотину, обул лапти и стал учиться ходить по земле»17. Это
и есть возвращение к «истокам», что означает предельное опрощение,
отвержение скверны города-культуры и признание единственной
ценностью мира первобытной, не тронутой цивилизаторскими усилиями
человека природы. Забравшись «в девственную глушь леса» и выкопав
землянку, «свою берлогу», Филипп и его друзья — деревенский
мальчишка, собака и дрозд — предаются разным утехам. «Вчера, —
сообщает рассказчик, — мы веселились целый день, как одичалые.
Празднество закончилось тем, что ночью мы зажгли большущий
костер на поляне и с разбегу, с криком перескакивали через огонь все
трое. <...>
И в конце концов я разошелся так, что выхватил из костра горящее
сухое дерево, со свистом подбежал к высокому обрывистому берегу
речки и вместе с огненным деревом спрыгнул в воду.
— Эй-й-оо!» (там же).
Эту эмоциональную раскованность, «первобытность», «первоздан-
ность», «детскость» своего героя автор фиксирует практически на
каждой странице романа, не очень заботясь, какое впечатление тем самым
производит на читателя, а, скорее всего, уверенный в правоте своей
446
позиции, просто не подозревает, что вызывает ответную улыбку. То
герой заявит о себе: «Каждая счастливая мысль меня очень радует и
вот — я прыгаю, как жеребенок на выгоне», то заметит: «Я сижу на
дереве и чувствую себя превосходно. <...>
Правда, я несколько дик и бегаю без узды, но у меня добрая душа
нараспашку, всегда благодарственно настроенная, и чуткое детское
сердце. <...>
Конечно, когда я попадаю куда-нибудь в мелколесник или в
молодой березник, я действительно дурачусь с земными подростками
напропалую, как школьник со школьниками, прыгаю, перевертываюсь,
горланю, хохочу, пока не надоест»18.
Отдельные выражения, использованные в романе, кажутся
писателю настолько удачными, что он без устали повторяет их: «Пели мы
всегда по-русски: с глубоким искренним чувством, с открытой
нараспашку душой». Обмолвившись однажды о себе: «... я — маленький
зверек», герой-рассказчик в дальнейшем разовьет этот образ в целую
картину: «Я уйду в глубокий лес и, как дикий зверь, буду бродить там и
по ночам разводить огромные костры. <...>
Если встретим жадную росомаху, голодного медведя или волка —
посмотрим, кто сильнее»19.
Присущее уже первым произведениям В. Каменского стремление
выделить в человеке примитивное, ощутимо-телесное начало, а то и
вообще свести природу человеческой личности к этим
«первоэлементам» («сотворение мира»!), вскоре сделает В. Каменского
активнейшим участником футуристического движения. В «Землянке» же эта
тенденция возобладала еще не до конца. Здесь можно найти
отголоски влияний русской реалистической литературы, восходящие, в
частности, к А.И. Куприну с его «Олесей» и «Листригонами» и Л.Н.
Толстому. Правда, восприятие литературной традиции у В. Каменского
резко спрямлено и деформированно.
О встрече с А.И. Куприным он вспоминает в книге «Путь
энтузиаста». Отметив, что ему, начинающему литератору, Куприн «очень...
нравился», автор мемуаров передает содержание своей беседы с ним и
впечатления от встречи. По словам В. Каменского, А.И. Куприну пришлись
по душе его стихи «В кабаке», а когда польщенный поэт рассыпался
в благодарностях, маститый писатель заметил: «— Что тут
благодарить — пустяки. Я это к случаю — не люблю декадентских, мистиче-
447
ских стихов, а у вас этого нет. Декаденты сочиняют «фиолетовые руки».
Противно. В руках — мускульная сила человека». Этот эпизод В.
Каменский заканчивает совсем в духе «философии» «Землянки»: «Подумал:
вот как живет Куприн, — очень тихо и тихий он человек, медленный,
коренастый, с бычьей шеей и с сильными руками»20.
Имя Л. Толстого возникает в романе в связи с проблемой
«опрощения». Дело в том, что лесная жизнь в землянке — лишь этап в судьбе
героя В. Каменского. Научившись «ходить» по земле, он тянется к более
высоким ценностям. Еще недавно очарованный возрождающей силой
природы и заявлявший: «...мне так хорошо живется без людей», он
вскоре делает важное признание: «Изредка я навещаю деревню... чтобы
попроведывать крестьян...
Вернее сказать, я навещаю деревню, повинуясь какой-то могучей
внутренней силе, которая неудержимо влечет меня к деревенским полям,
к мужикам, простым избам. <...>
На крестьянина смотрел с благоговением, потому что видел в нем
простого, честного человека с сильной, доброй и открытой душой,
широкой душой, которая так и светилась тихой мудростью зеленых
полей.
Ведь недаром, когда случайно встречал я крестьянина в полях, мне
казалось всегда, что его светлая, нездешняя улыбка знает какую-то
огромную земную тайну, которую он никому не скажет...
Тогда я низко кланялся ему и думал: вот он наверно сейчас где-
нибудь во ржи тихо разговаривал с самой Землей»21. Хотя «тайна» и
«мудрость» крестьянина, о которых В. Каменский повествует
литературно-возвышенным слогом, обусловлены в романе все той же
«естественностью» «примитивного» человека, само обращение к
традиционной для русской литературы крестьянской теме было весьма полезным
для творческого самоопределения поэта. У начинающего писателя
возникало ощущение почвы под ногами, чувство, которого начисто были
лишены многие нигилистически настроенные его друзья.
Более того, в «Землянке» был сделан еще один шаг в указанном
направлении. Когда Марийка высказала вслух заветную мысль героя,
что тот будет крестьянином, мир открылся перед ним по-новому. Думая
о семейном счастье, о приближающейся страде, он обратит внимание
на некое нравственное (правда, в самой зачаточной форме) свое
возрождение: «...все вокруг было в полном ожидании наших забот.
448
Да, все ждало наших забот.
Наших!.. Значит и моих. Как чудесно!
Это почувствовалось так горячо в первый раз в жизни, и самое слово
"наших" с той поры стало для меня каким-то святым...»22.
Это слово, а точнее, нравственная энергия, в нем заложенная,
позволила В. Каменскому обратиться к имени Л. Толстого, с уважением
упомянутого в финале романа. Спустя много лет, когда Филипп стал
крестьянином с типично «мужицкими, мозолистыми, шершавыми руками»,
ему вновь довелось встретиться с городом в лице земского доктора,
посетившего Озерную. Между гостем и отцом Марийки возник «спор» об
интеллигенции и народе, причем Ефим, несмотря на «корявость» слога,
явно выражает заветные мысли автора «Землянки», когда обращается к
доктору со следующими словами: мы «смотрим на вас — тилигентов,
как на иностранцев. <...> говорите какие-то мудреные, чужие слова,
что нашему брату-крестьянину ни в жисть не выговорить, никогда не
понять, да и незачем... Слава Богу, нам хватает вдоволь и родного
русского языка. Только вот разве старик Толстой, дай Бог ему здоровья,
пишет хорошо, понятно»23.
Так, поверхностно воспринятый В. Каменским Л. Толстой
становится чуть ли не идейным вдохновителем описанного в романе
«утреннего, прекрасного рождения» «нового человека» и едва ли
не союзником будущего футуриста в его работе над поэтическим
словом. Повторим: несмотря на нелепость подобной ситуации, ее
последствия были для В. Каменского весьма благотворными, ибо в
какой-то мере защищали его творчество от того голого,
самодовлеющего экспериментаторства, которому были подвержены и
ироничный ниспровергатель Л. Толстого А. Крученых, и мнящий себя
человеком стихии Д. Бурлюк.
И все же, несмотря на эти «смягчающие вину обстоятельства»,
«программа», выдвинутая В. Каменским, с ее центральной
ориентацией на примитивные формы существования человека,
осознанные в качестве универсального средства для преодоления
отчуждения, программа, не кладущая в свою основу сколько-нибудь
заметные духовно-нравственные ориентиры, не могла до конца защитить
талант писателя от разъедающих его сердце и парализующих его
волю ядов нигилизма. Став одним из лидеров русского футуризма
(а его приход к футуристам, как мы убедились из сказанного выше,
449
был вполне закономерным), В. Каменский начал опасно
балансировать между эпатирующим будетлянским антиэстетизмом и
словотворчеством, с одной стороны, и песнями о «сердце народном» —
с другой.
Наиболее полно и адекватно позиция зрелого В. Каменского
выразилась в книге «Звучаль веснеянки», куда вошло многое из того, что
печаталось им в футуристических альманахах и сборниках, включая и
поэму о Степане Разине, вершинное его произведение. Следовательно,
есть смысл более внимательно присмотреться к этой во многих
отношениях итоговой работе поэта.
Из большого числа «программных» стихотворений сборника
укажем на стихи с характерным заглавием «Кто я», в которых В.
Каменский пытается передать пафос своего творчества:
Я —КТО —я —
Я — вроде утроветра
по втуманах долине
будь березкой
я обниму — покачаю
Я —КТОя —
Я — вроде небожаворонка
над втишине полями
СЛУШАЙ ЧУТКО
Я звеню солнцелучами
Я —КТО —я —
Я — вроде яркоплатка
на с ягодами девушке
пой со мной
Я ПЕСНЕПЬЯНСТВУЮ24.
Все здесь, вплоть до различных размеров шрифта (приема, как
всегда у футуристов, художественно немотивированного), призвано
убедить читателя в том, что поэт-футурист Василий Каменский — некий
орган или голос самой природы, действующий только от ее имени и
говорящий только ее устами. Не остерегаясь пародий (можно ли
пародировать саму природу!), он без устали твердит о якобы характерных
для его творческой индивидуальности «песнях пьяных без вина», при-
450
знаваясь при этом: «Метался в диком — пьяном трансе я...» и попутно
гордясь: «...я навеки в словах пировал...»25 и т.д.
Жизнь в произведениях поэта воспринята как некий пир, как
радостная, беззаботная стихия, «композитором» которой является «солнце-
гений», он же — «поэт-ребенок», с поразительной наивностью
вещающий о себе всем и вся: «Я целый день купаюсь в песнях / Мне песен
некуда девать» или обезоруживающий читателя своей откровенностью:
«Я люблю бесшабашиться»26.
Всегда и во всем следовать великому природному инстинкту,
значит, по В. Каменскому, «футуристически жить», и «футурист жизни»
в его творчестве протягивает руку футуристу-художнику:
Звенит как сонная аорта
Мой наркотический лиризм —
Я от деревни до курорта
Провозглашаю футуризм27.
Еще в «Землянке» и в стихах из первого «Садка судей» не
устававший славить мудрость «естественного» человека, он, пройдя через
футуристические «университеты», берется за это дело с двойной
энергией. «Русский» поэт, он едет в «Индию йогов» «мудрости учиться /
У солнцекожих дикарей»28, «на кораблях Цейлона» любуется милой
его сердцу сценой:
Всем все равно. Сам Тайроли
Принцессами зажженный
Где жены и где короли
Танцует обнаженный29.
Впрочем, «турист» из него неважный. «Пробежал глазами
Флоренцию, — пишет В. Каменский о своих западных впечатлениях, — опять
музейный город, свернул в Венецию». А дальше — Вена. И о ней —
расхожее, футуристическое по духу, вернее, по его отсутствию,
клише: «Столица "легкой", сверкающей, брызжущей жизни, как в Париже:
если, конечно, смотреть внешне, поверху, по кинозрительному, как
приходится мне — пролетающей птице — без раздумья, без углубленья в
сущность видимого...»30.
Поверхностный взгляд на вещи в данном случае находит
объяснение: поэту не до красот Запада, он спешит стать авиатором. А
культура — это футуристу известно доподлинно — должна стушеваться
451
перед техникой. Но дело-то в том, что это отнюдь не единственный
случай. Книги В. Каменского подобно работам братьев Бурлюков, А.
Крученых и некоторых других футуристов лишены глубоких раздумий о
жизни. До известной степени это даже поощрялось: «стихийность» и
основательность — вещи несовместимые! В. Каменский видит только
то, что хочет увидеть, провозглашает лишь то, что хочет провозгласить,
и каждый, кто прочтет книгу его воспоминаний «Путь энтузиаста»
(1931), сможет убедиться, что различия между поэтом В. Каменским и
героем его лирических книг не столь уж и велики. Он может
преспокойно жить в Москве или, скажем, в Петербурге и рассуждать о
языческой мудрости каких-нибудь туземцев. Да и стоит ли вообще быть
Колумбом, когда футуризм уже расставил все точки над «i», «открыл»
все страны, и, следовательно, правоверный футурист не может
заблуждаться относительно истины.
Мои культурные пути
Полны чудес наитий.
Я гордо славлю примитив
Гогена на Таити31, —
вот она «простая» и вместе с тем «мудрая» истина!
Но как ни очаровывала поэта «восточная» экзотика и как ни
хвастал он: «Мне так близки Востока брови, / Как мне понятна в скалах
ель»32, — воспоминания о «землянке» не отступали. По его
собственным словам, он «метался меж плугом и стихами», «мечтал перекинуть
мост от деревни к футуризму, как Степана Тимофеевича Разина —
к современности»33. Чувство земного, точнее, земляного притяжения
в творчестве В. Каменского было искренним, и именно оно делало его
поэтом. Но это чувство у него не было (и не могло быть) глубоким,
ибо корректировалось футуристическими догматами. Если, к слову,
он обращался к читателям с призывом:
Я Стеньку Разина создавший
Землянку и Танго с коровами —
Всем навсегда свое сказавший:
Духовно будьте все здоровыми34, —
то «духовное здоровье» в его трактовке сводилось к примитивному
существованию на, так сказать, «рассейский» манер.
452
Мне ничего не надо. Хрупкий и усталый —
В елках я найду покой —
Только лишь бы проще стало
Сам я — простой такой35, —
говорит о себе герой «Заячьей мистерии», утомившийся от
московской жизни, «от своей златокудрости, / От талантов и одиночества».
«Хочу по-заячьи / Приноровиться к норе», — выдает он свое
«заветное» желание, и когда оно осуществится, то тогда-то — верит поэт! —
и «совершится божественно / Переселение Души»36. Всякой мистике
снова показан кукиш, и, «помещик упрощенный», В. Каменский никак
не нарадуется своему новому житью-бытью:
Мне думать весело в конюшне
И подсыпать слегка овес
И о себе забыв — что душно —
Всеобщий нюхать здесь навоз.
Ах нравится мне опрощенье
Я без забот — без суеты —
Всем предлагаю угощенье
Во имя равной простоты.
А на меня глядят коровы
Что вдруг стал нежен с ними я
И разделить со мной готовы
Стихийно радость бытия.
И возле чавкает сенинки
Наш славный пегий добрый конь
А я счастливее скотинки —
В руках моих поет гармонь37.
Но и это, оказывается, еще не предел «опрощения». Верный
«футуристическим безумствам», «поэтический король»
«современности», «солнцегений» и «композитор стихии» он гордится образом
своего существования: «Живу на свете как растение / Великий в
мудрой простоте...» — и, постигший «счастье жизни», хочет обратить в
свою веру всех людей: «И будем просты как растения / И станем
радостно расти»38.
453
Д. Бурлюк и А. Крученых тужились, чтобы стать «стихийными»
поэтами, результаты же получались обратные; В. Каменский будто
бы не прилагает никаких усилий, чтобы добиться желаемого эффекта.
Создается впечатление, что он не хочет казаться умным, и оттого
почти естественными, нефальшивыми выглядят неумеренное
ребячество, «детское» хвастовство его героя и даже рифмы, наподобие
«примитивной» «камышом — ландышом»39. Но подобное
впечатление, конечно, иллюзия. Более того, вовсе не безобидны
«рассыпанные» по книге бесчисленные признания «стихийной» натуры типа
следующего: «Ничего я не знаю — не ведаю...», или: «Мое дело на
земле неопределенное...», или: «Душой до небес вознесенный / Я
спокойно грущу ни о чем».
Оброненная в одном из стихотворений мысль: «Куда я еду сам не
знаю / К каким пристану берегам» — аукнется в другом, но уже более
четко в смысле личной судьбы: «...мое сердце — / Сердце детское не
пристало / К берегам», — и отзовется в третьем неосознанным
пророчеством в свой адрес: «Путь беспутный...»40.
«Беспутный», бесперспективный потому, что «опрощение» как
средство для спасения от влияния отчуждающей городской
цивилизации, не будучи освещенным светом высокого этического и
духовного идеала, вылилось у футуристов, несмотря на их благие
намерения изменить лицо мира, в бунт против культуры и
нравственной философии.
Так, «недальний, нечаянный» поэт-стихия, «в горах рожденный на
Урале ... яростным орлом», в высшей степени естественным и
доблестным считает свое жизненное и творческое credo: «Не знаю я иной
морали / Как только — Вольно на Пролом»41.
О том, что означает этот жест, можно прочесть в
стихотворении В. Каменского «На великий Пролом» — в этом образе русский
футурист усматривал сущность Октябрьской революции.
Уверенный, что «чудо живет в сердце Дикого»42, он от имени
«бесшабашных затейщиков»-футуристов обращается к восставшему народу с
призывом:
Давайте взнесем
Свои легкие головы
На отчаянное Высоко.
454
А если при этом «восхождении» «башка гусляра бесшабашная»
закружит ненароком, то это ничего, утешает поэт, ведь
Рай или каторга
Разгул или старость —
Благословенье в одном43.
Вот и получилось, что «ядреный вол лугов»44, как характеризовал
своего героя В. Каменский, с брезгливостью взиравший на
«фиолетовые» руки декадентов, стал проповедником декадентского этического
релятивизма. Пример весьма поучительный, тем более что в «Землянке»
герой В. Каменского, проповедовавший спасительность
«примитивной» жизни, знал и про иные ориентиры. Служение футуристической
идее привело к тому, что поэт избавляется от своего рода
«почвеннических» представлений, питавших его роман. Так, если раньше имя
Л. Толстого упоминалось в его книге с благоговением, хотя и без
должного понимания сути учения великого писателя, то, пройдя через
футуристическую ревизию литературного наследия, поэт заявит чуть ли
не полемически по отношению к себе прежнему: «Вчера учили нас
Толстые да Канты / Сегодня — звенит Своя Голова»45.
Своеобразное празднество своеволия, вылившееся в звучные, яркие
стихи, стилизованные под народную песню и частушку, составляет
идейное содержание поэмы В. Каменского «Сердце Народное Стенька
Разин». Вместе с романом «Стенька Разин» это произведение —
вершина творческого наследия писателя. Не биография казацкого
атамана и не перипетии знаменитого восстания волнуют В. Каменского.
Ориентируясь на известную песню «Из-за острова на стрежень...», он
полон желания запечатлеть «русскую душу», «сердце народное». Вот
почему в поэме нет фабулы, голос автора сливается с голосом героя, и
исторический персонаж Степан Разин говорит устами поэта-футуриста
В. Каменского. Говорит и думает, как герой его стихотворений. И все
же, учитывая это обстоятельство, признавая, что поэт чрезвычайно
обеднил образ народа, исходя из идеала «примитивного» человека,
следует поставить в заслугу В. Каменскому его стремление выйти на
просторы большой исторической темы и широкой
социально-психологической проблемы, что объективно наносило удар по модернистской
эстетике, хотя и не позволило ему сколько-нибудь серьезно
преодолеть ее воздействие.
455
2. «Утренние страны» Ε. Гуро
Особое место в футуризме принадлежит Е. Гуро. Ее, по
свидетельству М. Горького, «весьма хвалил» В. Маяковский46. В дневнике 1913 г.
A. Блок сделал запись: «Е. Гуро достойна внимания»47. О ней писал
B. Иванов (Труды и дни. 1912. № 4—5). Проникновенные стихи ее памяти
посвятил А. Крученых:
...когда камни летней мостовой
станут менее душны, чем наши
легкие,
Когда плоские граниты памятников
станут менее жесткими, чем
наша любовь,
и вы востоскуете и спросите
— где?
Если пыльный город восхочет
отрады дождя
и камни вопиют надтреснутыми
голосами,
то в ответ услышат голос «Осеннего Сна»
...И нежданное и нетерпеливо-ясное
было небо между четких вечерних
стволов... — («Шарманка» Е. Гуро)
Нетерпеливо-ясна Елена Гуро...48
Ему вторили В. Каменский и С. Вермель, человек, близкий к
футуристическим кругам.
Между тем поэт С. Бобров отказывал ей в оригинальности,
замечая, что «футуристические стихи Гуро» находятся «под явным
влиянием Игоря Северянина»49, а Б. Лившиц находил в ее творчестве
устремления, далекие от футуризма. «Ее излучавшаяся на все
окружающее, умиротворенная прозрачность человека, уже сведшего счеты
с жизнью, — писал он, — была безмолвным вызовом мне,
усматривавшему личную обиду в существовании запредельного мира».
И далее: «Столкнулась физика с метафизикой.., ясно наметился
водораздел между тяготением к потустороннему и любовью к земному:
разверзалась пропасть, на одном краю которой агонизировал уже
456
выдохшийся символизм, а на краю противоположном — братались
и грызлись еще в материнском чреве завтрашние друго-враги, будет-
ляне и акмеисты»50.
Мысль о близости Е. Гуро к символизму не лишена оснований,
во всяком случае можно говорить о перекличке некоторых
устойчивых мотивов ее творчества с соответствующими мотивами из
произведений символистов. Так, например, племянник философа С.
Соловьев писал в предисловии к сборнику стихов «Crurifragium»:
«В нашей современной жизни совершается непрерывное Распятие
Красоты. Пречистое тело богини распинается гвоздями
абстрактного мышления, механической культуры, похоти и разврата.
Опрокинуты алтари всесожжения, где столько веков жрецы прекрасного
приносили искупительную жертву за грехи мира»51. И одно из
лучших стихотворений Е. Гуро, которое мы цитируем ниже, будто
развивает круг этих мыслей. Боль за красоту, поруганную, как мы
сказали бы сегодня, в «обществе потребления», проходит через него в
качестве основного мотива:
В белом зале, обиженном папиросами
Комиссионеров, разбившихся по столам;
На стене распятая фреска,
Обнаженная безучастным глазам.
Она похожа на сад далекий
Белых ангелов — нет одна —
Как лишенная престола царевна,
Она будет молчать и она бледна.
И высчитывают пользу и проценты,
Проценты и пользу и проценты
Без конца.
Все оценили и продали сладострастно,
И забытой осталась — только красота.
Но она еще на стене трепещет;
Она еще дышит каждый миг,
А у ног делят землю комиссионеры
И заводят пияно-механик<...>52.
457
В этом стихотворении отчетливо выразилась одна из главных тем
поэтессы, истинный нерв ее творчества: «трепещущая» красота,
хрупкая духовность и неумолимый, жестокий мир расчета. Человеческое
общество распалось на два непримиримых полюса, у каждого из них
своя логика, но силы не равны, механическое, цинично-материальное
всегда одерживает победу.
В аллегорической пьесе Е. Гуро «Осенний сон», посвященной памяти
сына, барона Вильгельма Нотенберга53, умирает главный герой — барон
Вильгельм (перекличка имен персонажа пьесы и сына для поэтессы
наполнена важным смыслом). Умирает, казалось бы, от пустяка, царапины,
нанесенной выстрелом другого персонажа — Андросова, человека,
исповедующего современную мораль. Но истинная причина смерти барона в
другом, она приуготована всем течением жизни, она неизбежна, и об этом
говорит одна из героинь пьесы: «Я чувствую, что с ним именно так должно
быть... Помнишь, мы раз были дома, и ему велели сказать, что нас нету, а
Андросова приняли, чтоб вместе идти кататься на лодке. Я видела потом
по его кроткой тишине, что он все слышал — и уж тогда поняла, что так
будет»54.
Андросова предпочли Вильгельму — таков неумолимый закон жизни,
считает Е. Гуро. И не только современной, так было всегда. Чтобы ярче
оттенить эту мысль, первая картина пьесы переносит нас в
аллегорическую страну Астр — Астрию, где мы встречаемся с новым
персонажем, похожим на Вильгельма, — принцем Гильомом, тоже не от мира
сего, хрупким, поэтичным юношей. Принц Гильом (Вильгельм), барон
Вильгельм, барон Вильгельм Нотенберг, портрет которого нарисован
рукой поэтессы в начале книги, — юноша с тонкими и нежными
чертами лица, и Андросов, разрастающийся в этом контексте до
нарицательного типа. Превращаясь в доктора, он кричит умирающему Вильгельму:
«Вы умираете, Виллендряс! Умираете. Вы поняли меня: победил-то я,
а Вы умираете...». Но поэтесса не желает этой победы, пьеса
заканчивается словами Вильгельма, выражающими мечту и надежду автора:
«Нет, я жив всегда. Моя дорога дальше ... дальше»55.
Поэтесса не в силах соединить несоединимое: два полюса, по ее
понятиям, разъединены пропастью, но тяга к идеалу очень велика в
ее творчестве. Это мироощущение рождает образ ее героя, человека,
окруженного «кровью и позором... бойни»56 (таков город!), почти
обреченного, но продолжающего нести крест поруганной чистоты:
458
...Все прощу я и так, не просите!
Приготовьте мне крест — я пойду.
Да нечего мне и прощать вам:
Все, что болит, мое родное,
Все, что болит на земле, — мое благословенное,
Я приютил в моем сердце все земное,
И ответить хочу за все один...57.
Истинное, высокое, чистое Е. Гуро находит только в природе, в
девственной целомудренности «утренних стран» (название ее лирического
стихотворения в прозе), куда «закрыт... путь... тяжелодумным,
непосвященным»58 и где звенит песня человека, нераздельно слитого с
природой, песня, снимающая коросту с людей механической цивилизации и
раскрывающая их истинное содержание:
Над нами, фрачными, корсетными, крахмальными,
ты запел песню родины.
Ты из нас фрачных, корсетных
выманил воздух морозной родины.
Вот из голой шейки девушки
вышло озеро, задутое инеем.
Вот из красного уха мужчины
вышло облако и часть леса,
а женщина выпустила из головы сосны,
а я дорогу и парня в валенках.
И пришел мох с болота и мороз.
Полетели по снегу дровни — Эх-на!
полетели целиной — Эх-на!
через ухабы поскакали — Эх-на!59
Живописная пластика стихотворения заставляет вспомнить про
«Маркизу Дэзес» В. Хлебникова, по мироощущению же «Финская
мелодия» близка «Землянке» В. Каменского: и там, и здесь речь идет о
возвращении человека «домой», в мир первозданного царства природы.
Е. Гуро часто оформляла свои книги сама. Во втором выпуске «Садка
судей» после процитированного стихотворения дан ее рисунок, на
котором изображены ели на фоне строгой речной глади. Среди рисунков,
предшествующих упомянутому, наше внимание останавливает изобра-
459
жение масок, выражающих людское страдание. Эти две
художественные миниатюры — своеобразная эмблема творчества Е. Гуро, говорящая
о том, куда направлена «стрелка ее компаса». В пристальном интересе
к природе как началу, пробуждающему в человеке человека, как
единственному источнику истинной красоты — основа ее творческих связей
с футуристами, хотя излишне говорить о том, насколько присущее ей
понимание человека и красоты отличается от типично футуристического.
С самого начала своего пути Е. Гуро ставила перед собой высокую
цель: найти «далекую позабытую родину души...»60.
Уродливым, несовершенным предстает мир герою ее раннего
стихотворения:
Говорил испуганный человек:
«Я остался один, — я жалок!»
Но над крышами таял снег,
Кружилися стаи галок.
Раз я сидел один в пустой комнате,
Шептал мрачно маятник.
Был я стянут мрачными мыслями,
словно удавленник.
Была уродлива комната
чьей-то близкой разлукой
в разладе вещи, и на софе
книги с пылью и скукой
Беспощадный свет лампы лысел по стенам,
сторожила сомкнутая дверь.
Сторожил беспощадный завтрешний день:
«Не уйдешь теперь!..»61.
Мысль лихорадочно ищет ответа на вопрос, как прекратить это
недолжное существование, и вот что-то близкое к истине посещает
сознание лирического персонажа:
...я вдруг подумал: «Если перевернуть
вверх ножками стулья и диваны,
кувырнуть часы?..
Пришло б начало новой поры,
Открылись бы страны»62.
460
Оказывается,
Тут же в комнате прятался конец
клубка вещей,
затертый недобрым вчерашним днем,
порядком дней.
Внезапное открытие становится спасительным и для героя
стихотворения, который «не боясь / глядел теперь / на замкнутый комнаты
квадрат... / На мертвую дверь», и для его двойника, «испуганного
человека» на улице, и вообще для всех людей. Конец стихотворения
соотнесен с его началом, но выполнен уже в ином эмоциональном ключе:
Ветер талое, серое небо рвал,
ветер по городу летал,
Уничтожал тупики, стены
Оставался талый с навозом снег
перемены.
Трясся на дрожках человек,
Не боялся измены (там же).
Одиночество, отчуждение, тяжкие законы времени, по Е. Гуро,
преодолеваются путем кардинального изменения сложившихся
представлений о мире. «Неразумный» с точки зрения житейской логики жест:
«кувырнуть», т.е. поставить вещи вверх ногами, становится для нее
актом возрождения человека, его возвращения к себе самому.
Позднее метафора Е. Гуро обрела зловещую реализацию в
нигилистических экспериментах футуризма, и это обстоятельство говорит о
том, что поэтесса была далеко не чужда господствующему настроению
футуристических сборников, в которых принимала участие, а потому
ее связь с будетлянами вовсе не случайна.
Это, кстати, хорошо понимали и сами футуристы. Будто
развивая круг идей и образов ее только что процитированного
стихотворения, в своем отклике на раннюю смерть поэтессы они писали:
«...новая веселая весна за порогом: новое громадное качественное
завоевание мира. Точно все живое, разбитое на тысячи видимостей,
искаженное и униженное в них, бурно стремится найти настоящую дорогу
к себе и друг к другу, опрокидывая все установленные грани и способы
человеческого общения. И недалеко, может быть, дни, когда побежден-
461
ные призраки трехмерного пространства и кажущегося каплеобразного
времени, и трусливой причинности... окажутся для всех тем, что они
есть — досадными прутьями клетки, в которой бьется творческий дух
человека — и только»63.
Ставя все эти будущие завоевания человечества в заслугу «новой
философии, психологии, музыке, живописи», словом, всячески
возвышая тех новаторов, «кто все сжег за собою», издатели сборника «Трое»
утверждали, что «эти победы — только средства. А цель — тот новый
удивительный мир впереди, в котором даже вещи воскреснут.
И если одни завоевывают его... — другие уже видят его, как в
откровении, почти живут в нем. Такая была Ел. Гуро. <...> Душа ее была
слишком нежна, чтобы ломать, слишком велика и благостна, чтобы
враждовать даже с прошлым, и так прозрачна, что с легкостью проходила
через самые уплотненные явления мира, самые грубые наросты
установленного со своей тихой свечечкой большого грядущего света. Ее
саму, может быть, мало стесняли старые формы, но в молодом напоре
"новых" она сразу узнала свое — и не ошиблась. И если для многих
связь ее с ними была каким-то печальным недоразумением, то потому
только, что они не поняли ни ее, ни их». Вывод авторов заметки,
язык которой откровенно дублировал стилистику статей многих
символистов, например А. Белого периода «зорь», таков: «Вся она (Е. Гуро. —
B.C.), может быть, знак.
Знак, что приблизилось время»64.
Думается, что использование в футуристическом издании
лексических и синтаксических ходов, присущих символистам, далеко не
случайно. Конечно, футуристы не помышляли о «переходе» в
символистскую «веру». Следование речевым формулам противника только
подчеркивало их стремление разрешить доставшиеся в наследство
от символизма проблемы иными, противоположными средствами.
Кстати, именно в этом сборнике опубликована программная статья
А. Крученых «Новые пути слова (язык будущего — смерть
символизму)». Но если он, декларируя «жизнетворческие» задачи футуризма,
на самом деле лишь «ломал» «старье», «враждовал с прошлым», то
второй участник сборника — В. Хлебников (вместе с Е. Гуро А.
Крученых и В. Хлебников и составили «троицу», так что название книги,
как видим, преследовало далеко идущие полемические цели) был тем
человеком, который пытался их решить. Нелишне также отметить,
462
что в приведенном некрологе вообще очень чувствуется образ
мыслей В. Хлебникова, и причастность к ним Е. Гуро говорит о
серьезности ее устремлений, далеких от формалистического
экспериментаторства «левых» футуристов.
В дальнейшем «своеволие», хотя бы и выраженное только
метафорически, станет ей практически чуждым, однако мечта о «новой поре»,
поиски начала всех начал не только не ослабнут в ее творчестве, но
и усилятся. На этих путях она окончательно разойдется с
символистами, центральной идеей которых был религиозный синтез жизни,
ориентированный при всем несходстве точек зрения теоретиков все
же на христианство. Е. Гуро исповедует (здесь она наиболее близка к
футуристам и в заостренной форме проясняет суть их исканий)
неоязыческие идеалы.
Вот типичная для поэтессы лирическая миниатюра, в которой
звучит постоянно тревожащий ее сознание вопрос: «Как найти мои
настоящие дорогие мысли. Чтоб не сочинять мне чужого и случайного. Ведь
доходит же до меня весеннее. <...>
И души деревьев весной так недосягаемо-чисты, унесены в высоту,
что люди внизу мучаются и кажутся себе невыносимыми.
Боже, чтоб не заниматься мне вечно чуждым, не сыпать чужих
красивых слов, да еще со слезами энтузиазма в глазах. Помоги мне. <...>
Сосновая кадка, синий подснежник, поникший застенчиво. От
синевы его больно. Боже, избавь меня от чужой красоты, я же в
глубине прямая и горячая»65. «Душа» героини «томится
ответственностью за уходящие мгновения», и кажется ей, что «своя» красота уже
найдена, ведь вовсе не случайно, что «у каких-то мохнатых
цветочков переход лепестков из сиреневого в розовое был порукой
высокого назначения жизни — бездонной искренности и чистоты»66. Боль,
однако, не отступает, хотя сознание обретаемой истины становится
все четче и увереннее: «Вечер. Высота светла. Смотрю на
возносящийся ствол тополя.
Зачем так тяжело? И я не понимаю, где же наша глубина? Почему
уходим от нее? И теряем свою глубину и с ней свой настоящий голос.
И больше не найдем дорог?
Ты, священный тополь, посылающий в небо безгранично ветви.
Всегда гордый, всегда правый, всегда искренний. Ты правда неба —
жертвоприношение глубины. Дух величия.
463
А в тонких кристалльных березах знаки бессмертной жизни. Знаки,
что кинутые здесь отрывки встреч и разлук, будто минутные, полны
значенья — вечно и верно» (там же).
Хотя Е. Гуро и обращается к «небу», чувствуется, что более
подлинна для нее именно природа. Она не то, чтобы божество, но,
причастная космической жизни, не оборвавшая, подобно человеку, связей
с космосом, является символом божественного. Чтобы подчеркнуть
эту мысль, поэтесса, рисуя мир природы, использует христианскую
лексику и символику. С этой же целью она одушевляет деревья, а их
устремление в высоту67 служит для нее основанием наделять
природу некоей универсальной, спасительной для человечества тайной,
которую должны знать поэты, если хотят (а они обязаны сделать это!)
«сообщить» ее людям:
«Мы, милостью Божьею мечтатели,
Мы издаем вердикт!
Всем поэтам, творцам будущих знаков — ходить босиком, пока земля
летняя. <...> С голыми ногами разговаривает земля. <...>
Вот почему поэтам непременно следует ходить летом босиком»68.
Последние строки заставляют вспомнить про В. Каменского (у
него даже есть книга, в заглавии которой использовано то же слово-
символ: «Девушки босиком»). Приобщение к Матери-Земле было для
героя его «Землянки» спасительным. Но произведения В. Каменского
лишены того напряженного, экстатически-религиозного порыва в
небо, который присущ лирическим миниатюрам Е. Гуро.
Испытывая мучительное личное потрясение от того, что люди окажутся
перед пропастью и «больше не найдут дорог», она подсказывает им,
что «есть совсем прямая дорога в небо и вверх устремленных
высоких ветвей и сбегов крыш. Где ветви, как птицы, как мечи, кресты
и предзнаменования»69.
Это та дорога, о которой, умирая, грезил герой ее пьесы «Осенний
сон». За нее он, приютивший в своем сердце «все земное», всходил на
Голгофу человеческого равнодушия, цинизма, материального расчета,
отчуждения. Христианская нота, пронизывающая язычество Е. Гуро,
делает ее творчество чуждым гедонизму, присущему В. Каменскому,
и в какой-то степени подключает ее художественный мир к высокой
этической традиции русской литературы, столь ненавистной
футуристическим борцам с «моралином». Ее творчество — это «слова любви
464
и тепла», «а теплыми словами, — признается поэтесса, — потому
касаюсь жизни, что как же иначе касаться раненого? <...>
Видите ли, у меня нет детей, — вот, может, почему я так
нестерпимо люблю все живое.
Мне иногда кажется, что я мать всему»70.
Характерное признание! Драматический и иногда несколько
экзальтированный излом лирического переживания, острое ощущение
хрупкости и незащищенности жизни, столь свойственные творчеству Е. Гуро,
объясняемые, помимо прочих причин, мистифицированной личной
драмой71, не привели ее, однако, к декадентским мотивам.
Не погружение в пучины больного, разорванного сознания, а ясное,
отчетливое стремление к слиянию с большим, чем мятущееся,
одинокое «я», миром — главное в ее поэтическом наследии. Мир этот, как
мы уже убедились, — мистифицированная природа. Е. Гуро
выражает свое творческое credo, когда пишет: «Я хочу изобразить голову
белого гриба умной и чистой, какой она вышла из земли, захватив с
собою часть планетной силы. Стены и крышу финской виллы, какой
они выглянули из лесной горы, омытые удаленностью на высоте к
облакам.
Облако над горой, каким оно стало, переплыв светлую небесную
сферу.
Лбы зверей, освещенные белою звездочкой, как их создало живое
Добро дыхания.
И моего сына, с тех пор, как он стал похож на иву длинным
согнутым станом, а поникшей мило прядкой волос на лбу — на березу, а
светлыми глазами на молодую лиственницу, вонзившуюся
вершиной в небо.
Только он еще добрее ивы: на нем вместо коры нежность — и
светлее лиственницы. Он смеется над собой. Его прикосновенье
благословляет вещи»72. Человек здесь оказывается включенным в единое
природное целое. Это делает его, по мысли автора, прекрасным,
гармоничным, обладающим с виду незаметной, но поистине
животворной силой.
Речь в данном случае идет об идеальном состоянии мира, когда,
по словам поэтессы, «едва-едва поверила душа и стояла совсем
обнаженная, добрая...»73. Поверила, что обрела потерянную и почти
забытую родину. Художественный мир Е. Гуро знает такие минуты, и все-
465
таки они редки у нее. Человек, к ее большому сожалению, еще далек
от совершенства, вот почему «душа» ее героини «слышит» просьбу
самой земли: «Защищай моих детей, — их обидели, они служат в
конторе, вместо того, чтобы писать стихи...»74.
Действительно, жизнь делает свое черное дело: «нежный
верблюжонок», в прошлом застенчивый и неловкий, становится, как одобрительно
отзываются о нем люди, «молодцом». На самом же деле его
«выправили на казенной выправке», и он, потеряв былое обаяние, превратился
во вполне стандартного человека, разучился «летать».
Любимые герои Е. Гуро, те, к которым прикипела ее душа, это
умеют. Во всяком случае, стремятся стать «крылатыми». Они
уверены: «Надо быть чистой, искренней душой, чтобы стать рыцарем»75.
Такими как «нежные и гордые души деревьев, просветленных
глубинами небосклонов»76 и несущих в себе «планетную силу», т.е.
первозданными.
Если символисты мечтали о новой земле и новом небе,
сотворенных или преобразованных в результате духовной, религиозной
деятельности человека, то Е. Гуро видит источник преображения мира в его
возвращении к природе, первоистоку всякой жизни. «Если ты хочешь
заключить союз с тем, что делает хвойные глубины таинственными и
бледное небо божественным, и если ты полна твердости древних саг,
и когда их читала, в тебе просыпалась северная гордость и желание
топнуть ногой и вскинуть высоко голову с расплетенной гривой, —
беги прямо перед собой на светлый край неба»77, — вот ее девиз. Ты
«стыдишься ... молиться перед кустом жасмина или стволом березы
в белые ночи!»78, — восклицает она укоризненно и как бы добавляет:
«Но ведь в этом твое спасение!» «Я по утрам выхожу к молодой сосне,
и меряю свое нынешнее ощущение чистоты с ее высотой, — но это
почти жестоко...», — признается один из ее лирических персонажей, а
другой исповедуется: «Я глуп, я бездарен, я неловок, но я молюсь вам,
высокие елки. Я очень даже неловок, я — трус. <...> У меня ни на что
не хватает силы воли, но я молюсь вам, высокие елки»79.
Нет, говорящие так еще не преобразились, еще не достигли
чаемой высоты. Но достигнут — в этом поэтесса не сомневается. Если «в
мире мясников и автоматов» еще сохранились люди, «исповедующие
любовь»80 ко всему живому, желающие слиться с природой в единое
целое, для которых поэтому «будущее — настоящее»81, значит, гово-
466
рит она, «будет Воскресение каждой пушинки красоты — бесконечное,
незакатное, негаснущее, — такое, как розовые цветочки вереска!»82.
В этих словах есть правда, но далеко не вся. Тем более что она
испытывает тенденцию перехода в свою противоположность. Дело в том,
что высокие духовные порывы, характерные для творчества Е. Гуро,
может быть, незаметно для самой поэтессы, подменяются у нее
торжеством чисто природной, языческой, точнее, неоязыческой точки зрения
на жизнь. Подобное же представление неизбежно приводит художника
к идее принципиальной самодостаточности мира, лишая его
перспективы серьезного духовного преображения. Е. Гуро в силу камерности
своего таланта избежала данной опасности, хотя и сделала
закономерный выбор, соединив свою судьбу с футуризмом. Те же из
представителей этого течения, кто вышел на просторы большой социальной темы,
испили горькую чашу до дна.
Глава III
«ЗЕМЛЯ » И «НЕБО»
ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА
1. «Восставим гордость старой были»
Усилия кубофутуристов, направленные на формирование нового
миросозерцания и новых подходов к слову, нашли свое завершение
в творчестве В. Хлебникова. Именно он сумел придать их поискам
характер законченной эстетической системы и лишь в его лице
русский футуризм оказался способным на достаточно серьезную и
развернутую полемику с символизмом, в первую очередь, разумеется,
по кардинальнейшему для того и другого течения вопросу «жизнет-
ворчества».
Подобно символистам В. Хлебников жаждал целостного бытия,
рассчитывал, как говаривал учитель его молодости В. Иванов, на
приближение «новой органической эпохи», хотя с самого начала вкладывал в
это понятие иной, чуть ли не противоположный теоретику символизма
смысл. Вот что писал он по этому поводу в своем раннем и чрезвычайно
показательном для характеристики его мировоззрения стихотворении:
Я не знаю, Земля кружится или нет,
Это зависит, уложится ли в строчку слово.
Я не знаю, были ли мо<ими> бабушкой и дедом
Обезьяны, т<ак> к<ак> я не знаю, хочется ли мне сладкого или кислого.
Но я знаю, что я хочу кипеть и хочу, чтобы солнце
И жилу моей руки соединила общая дрожь.
Но я хочу, чтобы луч звезды целовал луч моего глаза,
Как олень оленя (о, их прекрасные глаза!).
Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет
приобщился вселенной.
И я хочу верить, что есть что-то, что остается,
Когда косу любимой девушки заменить, напр<имер>, временем.
Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня,
Солнце, небо, жемчужную пыль1.
468
Нарочитая необязательность смысла первых строк стихотворения,
их легкая эпатирующая окрашенность лишь подчеркивают и как бы
оттеняют эстетический идеал поэта, страстно желающего придать
взаимоотношениям человека и Вселенной значение универсальной связи.
Уже в конце жизни, полагая, что ему удалось обнаружить ее тайные
пружины, В. Хлебников развивал круг волнующих его мыслей
следующим образом: «...уравнение человеческого счастья было решено и
найдено только тогда, когда поняли, что оно вьется слабым хмелем около
ствола мирового. Слышать шелест рагоз, узнавать глаза и душу своего
знакомого в морском раке, вбок убегающем, с поднятой клешней, не
забывая военного устава, — часто дает большее счастье, чем все, что
делает славу и громкое имя, например, полководца.
Счастье людей — вторичный звук; оно вьется, обращается около
основного звука мирового.
Оно — слабый месяц около Земель вокруг Солнца, коровьих глаз,
нежного котенка, скребущего за ухом, весенней мать-мачехи, плеска
волн моря.
Здесь основные звуки счастья, его мудрые отцы, дрожащая
железная палочка раньше семьи голосов. Проще говоря, ось вращения.
Вот почему городские дети в разлуке с природой всегда
несчастливы, а сельским оно знакомо и неразлучно, как своя тень» (с. 567).
В отличие от приведенного выше стихотворения, здесь уже речь идет
о длинной цепи космических и природных опосредовании,
включенность в которые обусловливает счастье человека, наполняет его жизнь
бытийственным содержанием, делает ее подлинной и значительной.
Разрыв же с этими универсалиями грозит человечеству, по мысли поэта,
измельчанием, опустошенностью, непоправимой катастрофой.
Вместе с тем приведенные примеры позволяют прийти если не к
окончательному выводу, то хотя бы обратить внимание на следующее
обстоятельство: В. Хлебников сопрягает человека с космически-природной
сферой, игнорируя или просто-напросто не беря в расчет его духовную
экзистенцию. Как мы убедимся в дальнейшем, подобный подход к
природе человека для него вовсе не случаен, пока же укажем, что на
данной почве произрастает его кровное родство с русскими футуристами.
Нам уже не раз приходилось говорить об их вражде к городу, об их
тяге к примитивным формам существования как спасительному
средству в борьбе с отчуждающей силой буржуазной цивилизации. По сути
469
дела, это был бунт против культуры, и, хотя В. Хлебников достаточно
далек от тех уродливых форм, в которые выливался этот протест,
скажем, у А. Крученых, все же и он отдал упомянутой теме немало сил и
таланта, как, впрочем, и прославлению жизни «естественного» человека.
Так, в только что процитированном отрывке «городские дети»
сопоставляются с «сельскими» по степени их близости или удаленности от
природы, причем разговор ведется в явно теоретическом,
«нейтральном» аспекте. Чаще всего в произведениях В. Хлебникова звучит
моральное осуждение города, растоптавшего все живое, высокое, легендарное.
Где было место богов и земных дев виру,
Там в лавочке — продают сыру.
Где шествовал бог — не сделанный, а настоящий,
Там сложены пустые ящики (с. 48—49), —
пишет он в стихотворении «Крымское» (1908).
Это, так сказать, «крымская» драма, но почти в таких же
выражениях говорится и о Москве. Поэт спрашивает: «помнит» ли его читатель
«о городе, обиженном в чуде...», и показывает, как оскудевает жизнь
города, удаляющегося от природы:
<...> Пастух с свирелью из березовой коры
Ныне замолк за грохотом иной поры.
Где раньше возглас раздавался мальчишески-прекрасных труб,
Там ныне выси застит дыма смольный чуб.
Где отражался в водах отсвет коровьих ног,
Над рекой там перекинут моста железный полувенок.
Раздору, плахам — вчера и нынче — город ясли.
В нем дружбы пепел и зола, истлев, погасли (с. 59).
В пьесе «Снежимочка» (1908) «город — из улиц каменный лишай»,
«лишающий» человека собственного лица, а в «Чертике» (1909) Геракл,
чье «изображение», по злой шутке Черта, «красуется на всех порошках
с древле-овсяной мукой», признается: «...среди людей я чувствую себя
как живой ивовый прут среди прутьев, пошедших на корзину. Потому
что живой души у городских людей нет, а есть только корзина» (с. 396).
«Есть некий лакомка и толстяк, — развивает он свою мысль, —
который любит протыкать вертелом именно человеческие души, слегка
наслаждается шипением и треском, видя блестящие капли, падающие в
огонь, стекающие вниз. И этот толстяк — город» (с. 397).
470
Не меньшим анахронизмом в городе выглядит и Снежимочка,
героиня уже упомянутой одноименной «рождественской сказки»
Хлебникова. Мальчики узнают в ней Снегурочку, которую они когда-то «видели
в Народном доме», дальше этого имени их фантазия не простирается.
Для Ученого ее появление — некое потрясение основ: «Всю науку
придется перестроить». Городовой и Пристав воспринимают это событие
как «нарушение пристойного», которое, по их служебному разумению,
«никак нельзя» допустить; мистик же Некто — шаржированный тип
поэта-символиста — оказывается совсем не готовым к встрече со своей
Прекрасной Дамой. Со словами: «Ужас... где я ее видел? В какой грезе?
каком безумстве! Она! она! она!» он, как то следует из ремарки, «бежит
отслоняясь от нее рукой» (с. 387). В свою очередь, «лесная душа»
Снежимочка воспринимает городскую жизнь в привычных для нее
категориях родимой стихии. Все это, вместе взятое, вызывает комический
эффект, необходимый автору для акцентирования нелепостей якобы
искусственного городского существования.
Комизм ситуации, однако, лишь подчеркивает серьезность
намерений В. Хлебникова. Дитя природы, Снежимочка выполняет у него
мессианскую роль, о чем поется в ее песне, открывающей «3-е деймо» (так
«по-славянски» автор называет действия пьесы):
Я тело чистое несу
И вам, о улицы, отдам.
Его безгрешным донесу
И плахам города предам.
Я жертва чистая расколам,
И, отдаваясь всем распятьям,
Сожгу вас огненным глаголом,
Завяну огненным заклятьем (с. 388).
По настроению эта песня напоминает лирические миниатюры
Е. Гуро, особенно если учесть, что христианская символика и
фразеология используется Хлебниковым для достижения отнюдь не
христианских, но противоположных им — языческих целей. Так, вслед за
словами песни звучит речь старца, горестно утверждающего, что жители
города «под милым славянским небом поклонились иным богам», и
потому «отвернулись свои и надсмеялись чужие» (с. 388—389).
Разумеется, ни о каком взаимном влиянии поэтов друг на друга не
может быть и речи. Да и о сходстве мотивов в данном случае можно
471
говорить с известной долей условности, так как проповедь героя
Е. Гуро в достаточной степени камерна и направлена, скорее всего,
на изменение внутреннего мира человека, в то время как В.
Хлебников одушевлен пафосом всеобщего, он мыслит глобальными
категориями. В конце пьесы мы слышим концептуальные для поэта голоса
участников праздничного действа, этакого всеобщего «воскресения»:
«...нами вспомнится, чем были, / Восставим гордость старой были»
(с. 390). Здесь выражена мечта раннего В. Хлебникова о
возвращении России ее древнего славянского лица, утраченного, как он
полагал, в результате позднейших разрушительных воздействий чуждой
культуры и христианской религии. Осуществление мечты
связывалось в сознании поэта с возвращением человека и науки к
примитивным формам существования. Пробудить в горожанах память о
первородстве — такова миссия Снежимочки, исполняя которую, она
исчезает из их поля зрения, становясь, так сказать, состоянием их
духа, уже готового к преобразовательной работе. Ее «явление» городу
(В. Хлебников сознательно идет на евангельские параллели),
метаморфозы, с ней произошедшие, рассматриваются собравшимися на
площади людьми как «знаки таинственного чуда», и они дают клятву
«помнить ее заветы» (с. 389).
По Хлебникову, это значит: отвергать жизнь города с его
выморочной культурой и быть верным природе. «Отвергшие — отвергнуты!» —
раздается в пьесе Некий глас (прием, взятый из символистской драмы),
ассоциативно связанный с темой разговора персонажей, проходящих
по лесу. Беседа состоит всего лишь из нескольких реплик, но,
учитывая фон диалога, читатель получает довольно цельное впечатление об
умонастроении говорящих:
«Молодой рабочий (радостно, вдохновенно). Так! И никаких,
значит, леших нет. И все это нужно, чтобы затемнить ум
необразованному человеку... Темному. <...>
2-й человек (спокойно). Вообще ничего нет, кроме орудий
производства...
Снегич-Маревич бросает в рот снег.
Однако, холодновато. Идем. Итак, вообще ничего нет. (Уходит).
Играющие снова появляются и играют» (с. 382).
472
Предельно шаржированные «научные» (под марксизм!)
представления сталкиваются здесь с полнокровной жизнью леса, невидимой для
«цивилизованного» взгляда. Так достигает В. Хлебников комического
эффекта, усиленного тем, что «книжники», желающие показать свою
образованность перед лесным жителем Ховуном: «Читал ты, дедушка,
Каутского?», получают от него уничижающе-ироническую
характеристику: «А... руковерхники... Качались бы, как спелые вишни... Сидели
бы скромненько... Так нет же... невежничают» (с. 385, 386).
За шуткой В. Хлебников скрывает свое сочувственное отношение к
подобной позиции. Если, скажем, «распятая фреска» Е. Гуро (символ
тонкой духовной культуры человечества) найдет пристанище в ее
«утренних странах», то Венера Хлебникова, ищущая пристанища у Шамана
(«Шаман и Венера»), оказывается «ласковой ошибкой» (с. 236) в
условиях первобытной природы — единственное, за чем поэт всегда
признавал статус подлинности и безусловной ценности, осознавая ее как
начало всех начал. Вот почему в поисках своей истинной сути, своего
«лица» и «лица» мира его герои бунтуют или против
«овеществленной» цивилизации, или против книжной, преимущественно
христианской культуры. В смысле конкретных точек приложения бунт разный,
но его участники подадут друг другу руки, ибо идеал у них один —
слияние с природой, пробуждение животворного начала плоти.
Современный человек, полагает В. Хлебников, раздвоен: он
существует как бы сразу в двух измерениях: природном и
социально-культурном. Не только для того, чтобы выжить, но и для того, чтобы стать
самим собой, он должен определиться, сделать выбор. Иначе беда.
В этом смысле показателен монолог Ученого из самого начала
«петербургской шутки» поэта «Чертик». «Разрывая на себе волосы», он
«кричит», не в силах справиться с охватившим его волнением: «Ужас! Я взял
кусочек ткани растения, самого обыкновенного растения, и вдруг под
вооруженным глазом он, изменив с злым умыслом свои очертания, стал
Волынским переулком с выходящими и входящими людьми, с
полузавешенными занавесями окнами, с читающими и просто сидящими
друг над другом усталыми людьми; и я не знаю, куда мне идти: в
кусочек растения под увеличительным стеклом или в Волынский
переулок, где я живу. Так не один и тот же я там и здесь, под
увеличительным стеклом в куске растения и вечернем дворе? Вселенная на вопро-
шания мои тиха!» (с. 391).
473
В том-то и дело, что ученый, отгородившись от мира приборами
и книгами, стал глух к зову Вселенной. Ему неведома истина,
которую в форме совета, обращенному к одному из персонажей (и
одновременно ко всем читателям!), провозглашает Черт, заглавный герой
пьесы «Чертик»: «Всегда и везде последним судьей выбирайте зверя»
(с. 401). Конечно, черт есть черт, он способен и обмануть. По этой
причине вроде бы нелепо адресовать его слова автору, если бы в том же,
1909 г. (год создания пьесы) в поэме «Зверинец», центральной идеей
которой является мысль о том, что в зоологическом саду «в зверях
погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в часослов Слово
о полку Игореви во время пожара Москвы»2, не была бы произнесена
фраза, дающая словам Черта солидное обоснование и не вызывающая
никаких сомнений относительно горячего сочувствия ей со стороны
самого В. Хлебникова: «...взгляд зверя больше значит, чем груды
прочтенных книг» (с. 187,186)3. Возражения типа, что в поэме речь идет о
зверинце, что именно здесь звери говорят больше, чем книги,
несостоятельны, ибо, в подтверждение сказанного, любимые герои поэта
чаще всего не испытывают страданий Ученого из «Чертика» и при
первой же возможности стремятся опроститься.
Скажем, стоило дочери Владимира и внучке язычницы Малуши
Людмиле («Внучка Малуши») прилететь из Киева в Петербург «в дом
женского всеучбища» и произнести перед курсистками зажигательную
речь:
Приятно, весело в лесу
Сознать первичную красу. <...>
Но что приятного, ответьте,
О, девушки младыя,
Вот стены каменные эти
И преподаватели глухие?
Их лысины сияют
Как бурей сломленные древа
А из-под их слов о красоте зияют
За деньги нанятые чрева... —
как скромные «девы», стремившиеся учебой усовершенствовать свою
природу, с легкостью постигают «заветы Владимира», и вот уже
раздаются их «дикие» крики:
474
Сюда, сюда несите книги,
Слагайте радостный костер.
Они — свирепые вериги
Тела терзавшие сестер. <...>
Челпанов, Чиж, Ключевский,
Каутский, Бебель, Габричевский,
Зернов, Пассек — все горите!
Огней словами говорите!4
Не без сочувствия к подобным действиям «училиц», хотя и в
шутливой манере, заканчивает В. Хлебников свою поэму:
И огнеоко любири
Приносят древние свирели
При воплях «жизни сок бери»
Костры багряны<е> горели...5.
В «Чертике» дело не зашло так далеко, но образованию и книгам
здесь досталось ничуть не меньше. Указывая Черту на «женское всеуч-
бище», будто бы перешедшее в пьесу из «Внучки Малуши», Молодой
человек говорит: «...здесь толпы съехавшихся с разных концов русской
земли девушек истребляют свои права быть нашим небом и справляют
те, которые способны обратить ведьм в бегство», на что,
полусоглашаясь, Черт реагирует с обычным для него в пьесе ироническим тоном:
«Здесь есть лица, недурные даже для ведем. Но есть и ученые» (с. 391,
393). Помогая Молодому господину умчаться с одной из «училиц» «на
звезду» и одобрительно комментируя их полет: «Вы подымаетесь как
два зверя, оставив на земле все ненужное», он ложно сокрушается по
поводу якобы большой ценности оставленного ими на земле, вступая
в беседу с проезжавшим мимо извозчиком: «Какие прекрасные книги
оставлены ею здесь. Целая куча. Все Конт да Кант. Еще Кнут. Извозчик,
не нужен ли тебе кнут?
<Извозчик.> А? У меня и свой есть.
<Черт.> Дело! Неужели вся эта гора книг нужна была для сего
весьма легкого и незамысловатого полета по этому зимнему звездному
небу?» (с. 392).
Символистские поэтические «полеты» в вечность со всей их
сложной атрибутикой и явно книжной родословной предельно «снижаются»
В. Хлебниковым, прибегающим тут к раешному каламбуру, каковым по
475
ходу действия он воспользуется еще не раз. Так, когда одна из девушек
в беседе с Чертом захотела опереться на авторитет: «Соловьев...
Отечественный мыслитель сказал...», Черт лихо отпарировал: «Да, мы...
послушаем и соловьев» (с. 394). Лукавый обитатель преисподней, а вместе с
ним и ранний Хлебников считают, что для торжества «песни жизни»
«кнут» культуры — излишняя роскошь, а то и просто ненужная забава.
В пьесе есть и более резкое мнение по этому поводу. В
противоположность Петербургу, считает, например, Геракл, в Греции «были
прекрасные девушки... они больше плясали и охотились, чем
учились, что было бы сочтено безрассудством и названо
безнравственным. Кроме того, этим боялись бы навлечь гнев богов и кару
могущественной природы» (с. 397). Это от ее имени, т.е. от лица все того же
зверя, настойчиво возводимого на пьедестал заглавным героем пьесы
(В. Хлебников же, кажется, не спешит расставлять точки над «i», рядясь
в комедийные одежды, впрочем, и благосклонно внимая своим
словоохотливым персонажам), Перун (языческий бог, сброшенный в Днепр по
приказу Владимира при крещении Руси), бродящий по улицам
Петербурга и мечтающий «спасти» запутавшихся и неблагодарных горожан и
соотечественников от грозящей им неминуемой гибели, иронизирует
над христианскими понятиями о морали и счастье. «Ваше счастье, —
говорит он им, — и ваше добро — манная утка для диких товарищей,
летящих на гибель» (с. 393).
«Земля», а не «небо» утверждается в «шутке» В. Хлебникова в
качестве истинной ценности, тем более не христианское «небо». Идеалы
Черта еще больше «заземлены», он противопоставляет небу... болото,
всячески расхваливая достоинства последнего: «...вы найдете в моем
болоте более того, чего искали Канты, потому что их искания слишком
часто напоминают кусочек зеленой, но единственной колбасы у
цветов на окошке» (с. 394). Кант и колбаса, Кант и болото... Похоже, что
В. Хлебников любуется словоохотливым Чертом, который на
страницах пьесы устраивает «всеобщую смазь» книгам, образованию,
религии, культуре и при этом задумывается над излюбленной идеей
раннего поэта: как «спасти Россию».
Во всяком случае, уже в этот период творчества поэту ясно, что
возвращение России ее исконного облика, как и обретение человеком
утраченного имени, связано отнюдь не с Кантом и не с «небом», т.е. не с
культурой и религией. Тут он явно не с символистами, хотя его люби-
476
мец Черт, разумеется, с издевкой говорит о себе, что обожает «видеть
в вещах прообразы». Он недоумевает: «...почему... вопросы принимают
очертания бога?» (с. 399). Вместе с ним, кажется, недоумевает и автор.
Вот почему все связанное с Богом или религиозной философией
подвергнуто в пьесе осмеянию. Так, «символистский» полет Молодого
господина и его возлюбленной «на звезду» окончился для них полнейшим
конфузом, при этом болоту и Черту неудачливые путешественники
отдают явное предпочтение перед небесным светилом и атрибутами
божественного существования. Летящий на «раскатистый голос... друга»
Черта Молодой господин прекомично рассказывает, как их «чуть не
посадили в какую-то жидкость нетления» и как они едва спаслись «от
преждевременного бессмертия», получив, правда, в отместку насморк
и головную боль. Таковы в целом результаты «неудобного положения,
занятого разговорами, и полета верхом на облаке...» (там же). Здесь
предвосхищаются некоторые мотивы будущих поэм В. Маяковского
«Облако в штанах» и «Человек».
Между тем Черт идет еще дальше. По его не лишенным кокетства
словам, он бывает «способен на потрясение основ». Однажды,
рассказывает он, его посетили «ходоки» «от городских кошек», жалующихся,
что «песни их вкусных соперников по нарушению ночной тишины —
соловьев» кажутся людям предпочтительнее, чем кошачья «хвала
восходящему солнцу», «и что свод законов не ограждает [кошачью общину]
от летящих чернильниц...» «Но, — пародирует Черт религиозную
ученость, а заодно и идею божественно-целесообразного устройства
Вселенной, — я должен был им указать на ограниченность круга их
миропонимания и заявить, что начало кошек, призванных заменить нечто
мычащее или только еще хрюкающее (и здесь благородство имеет
разделы), — есть мировое начало и восходит до звезд и даже дальше, за
пределы сих светил, ибо сам мир — я должен это заявить голосом
твердым и властным — есть лишь протяжное "мяу", зажаренное и
поданное нам вместо благородного "м-му"» (с. 394).
Это шутовское кривляние призвано не только потешить публику, но
и окончательно выбить из-под ног колеблющихся «училиц» то жалкое
(с точки зрения хлебниковского Черта) подобие почвы, которое доселе
служило им, подменившим жизнь книгой, более чем сомнительной
опорой. Облекшийся в одежды «теософа» Черт, как, впрочем, и все герои
раннего В. Хлебникова (только ли раннего?!), безусловно, почел бы за
477
свои собственные слова, принадлежащие одному из «голосов»
неоконченной «симфонии» поэта:
<...> цветущие сады
Старой тайны разум выжег.
В небесах уже следы
От подошвы глупых книжек (с. 209).
В мире, считает Хлебников, произошла подмена ценностей:
книжная ложь одолела природу, извратила ее, перевернула все вверх дном.
Даже «синее небо» запачкано и заплевано ею: от небожителей шагу
ступить невозможно. «...Народ, гонимый стражей книг, / Перчаткой белой
околоточных» (с. 368), забыл себя. Короче говоря, не осталось ни
«старой тайны», ни «старой были».
Такой неутешительный вывод напрашивается из первых же
произведений поэта. Но его герои, как уже говорилось выше, менее всего
склонны мириться с создавшимся положением. Они пересоздают или
намерены пересоздать жизнь в соответствии с законами природы,
которые, по мнению В. Хлебникова, были предельно обнажены в праисто-
рические эпохи человечества, отмеченные еще не разрушенной
цельностью человеческого существования. Подобный пафос
типологически близок мифотворческим идеям символистов, особенно В. Иванову,
с которым В. Хлебников был связан в молодые годы. Однако
мифотворчество поэта полемично по отношению к ивановскому, так как не
только не окрашено цветом христианского идеала, но, наоборот,
заострено против него.
Подобные мотивы довольно отчетливо проступают уже и в «Сне-
жимочке», и во «Внучке Малуши», и в «Чертике», так же как и в ряде
других не названных нами произведений. И все же, анализируя
указанные сочинения, мы неизменно обращали внимание на то
обстоятельство, что В. Хлебников как бы стеснялся во всеуслышание заявить в них
о своих исходных принципах, неизменно прячась за юмористическими
или шутливо-гротескными ситуациями. Гораздо отчетливей лицо автора
просматривается в поэме «И и Э. Повесть каменного века» (1911—1912),
произведении, которое посеяло у современной поэту критики
сомнение в «новаторстве» футуристических «новаторов» и которое,
несмотря на архаику, а, может быть, благодаря именно ей, достаточно
отчетливо выражало эстетическую платформу русского футуризма. Так что
478
будетляне отнюдь не ошиблись, опубликовав это «творение» в своей
«Пощечине общественному вкусу».
В. Хлебников в «Послесловии» к поэме сам изложил ее фабулу:
«Ведомая неясной силой, И покидает родное племя. Напрасны поиски.
<...> Но юноша Э пускается в погоню и настигает И; происходит обмен
мнениями. И и Э продолжают путь вдвоем и останавливаются в
священной роще соседнего племени. Но утром их застают жрецы, уличают
в оскорблении святынь и ведут на казнь. Они вдвоем, привязанные к
столбу, на костре. Но спускается с небес Дева и освобождает пленных.
Из старого урочища приходит толпа выкупать трупы. Но она видит их
живыми и невредимыми и зовет княжить. Таким образом, через
подвиг, через огонь лежал их путь к власти над родными» (с. 204).
Известно, что пересказ фабулы значительно обедняет произведение.
Так, за иронически-деловой стилистикой хлебниковской фразы:
«...происходит обмен мнениями» скрывается, по сути дела, самое
существенное. Читателю важно узнать, о чем говорят герои, какие вопросы
обсуждают, о каком подвиге, ведущем к их власти над родичами, идет речь.
Девушка И уверена:
Пути для жизни разны:
Здесь жизнь святого — там любовь,
Нас стерегут соблазны.
У нее есть тайна:
...когда-то вещуны
Мне сказали: он и ты —
Вы нести обречены
Светоч тяжкой высоты (с. 200).
Она вспоминает про «явление» ей необычного, неземного «мужа»,
который «нарек» ее «вечной невестою» и «вечной вдовой». С тех пор
И живет под знаком «святости», будущей «небесной» любви, хотя
напророченная «высота» и «тяжка» для нее; тем более что она влюблена:
Э ее «спокойствия похитчик» (с. 199). Это от него да и, пожалуй, от себя
«земной» во имя себя «небесной», мучительно раздваиваясь, бежит
она, полная решимости скорее погибнуть, чем стать «любезной»
земного юноши. Такова ее «нота» в диалоге с Э, всюду преследующего
И «вопреки людей обычаю», упрямо ломающего все людские каноны,
установления, обеты во имя страсти, охватившей его, и считающего эту
479
страсть единственно подлинной ценностью. На «здесь» и «там»
этического принципа своей возлюбленной он ответствует:
Чистых сердц святая нить
Все вольна соединить,
Жизни все противоречья! (с. 200), —
и через некоторое время повторит эту мысль, требуя снисхождения к
людям за их чисто человеческие «слабости»:
Там, где рокот водопада
Душ любви связует нить,
И, любимая, не надо
За людское люд винить.
Отстаивая свою «земную» правду, он при этом не прочь сослаться
на «высшие» силы:
Видно, так хотело небо
Року тайному служить,
Чтобы клич любви и хлеба
Всем бывающим вложить,
Солнце дымом окружить (с. 201).
Короче говоря: богу — богово, кесарю — кесарево. Уверенный в
ценности земного чувства, Э не требует для него ореола святости, которую,
в отличие от И, мало ценит. Более того, в любви он усматривает некую
изначальную греховность, не вкладывая в это понятие отрицательного
оценочного смысла, пожалуй, даже гордясь подобной страстью. Поэтому
он все больше склоняется в сторону морального релятивизма. Под
предлогом, что люди не «вольны» в своей судьбе, он противопоставляет друг
другу «цветы весны» и «суровый и угрюмый подвиг» (с. 200), в котором,
по его понятиям, много святости, да мало жизни. По этой же причине он
«разводит» в разные стороны «просто» людей и жрецов:
Жрец бросает чет и нечет
И спокойною рукой
Бытия невзгоды лечит
Неразгаданной судьбой.
Но как быть, кого желанья —
Божьей бури тень узла?
Как тому, простерши длани,
Не исчезнуть в сени зла? (с. 201).
480
За жрецами — закон, не менее суровый и далекий от жизни, чем
подвиг святости, за людьми — право на живую многокрасочную жизнь.
Жрец — во власти рассудка, обычный человек охвачен благотворной
стихией чувств. Недаром Э рассказывает любимой о своих чувствах в
следующих «экспрессивных» выражениях: «За тобой оленьим лазом / Я
бежал, забыв свой разум...», — а для соплеменников И, в свою очередь, жрецы
соседнего племени — «...суровые люди / С жестоким лицом» (с. 199,197).
Повторяем: дело в последнем случае не в обычной человеческой
жестокости, присущей и служителям культа, а в противостоянии
рационализма и органики как двух полярных подходов к жизни,
противостоянии, создавшем сюжетное напряжение «Снежимочки», «Внучки
Малуши», «Чертика» и других произведений В. Хлебникова. При этом
необходимо учитывать, что в понятия эти поэт вкладывал сугубо
футуристический смысл, в частности, органическое отождествлялось им с
примитивными формами существования человека.
Это же относится и к анализируемой поэме. Жрецы выступают в
ней как блюстители нормы, традиций «закона», через которые
переступают юноша Э и перешедшая в его «веру» И («Мы вдвоем пойдем
на ложе, / Мы сгорим в людском огне» (с. 200)). Завидя любовников,
жрецы гневаются:
Где прадеды в свидании
Надменно почивали,
Там пленники изгнания
Сегодня ночевали.
Священным дубровам
Ущерблена честь.
Законом суровым
Да будет им Месть —
и делают свое дело в назидание юным:
О, юноши, крепче держите
Их! Помните наши законы:
Веревкой к столбу привяжите,
И смелым страшны похороны.
И если они зачаруют
Своей молодой красотой,
То, помните, боги ликуют,
Увидев дым жертв золотой (с. 202—203).
481
Но тщетно их старание. В. Хлебников отнюдь не на стороне жрецов
с их мертвенными, как ему представляется, законами. Здесь он
солидарен со своим демонстрирующим своеволие героем, но, в отличие от
него, заставляя вмешаться в судьбу героев небесные силы, склонен
рассматривать поступок И и Э в качестве символа некоей святости.
«Ликует живое», найдя оплаканных героя и героиню целыми и
невредимыми, удивлены соплеменники, застав их «живыми во храме». И и
Э, внушает читателю В. Хлебников, познали высшую мудрость и за
это получили власть над родичами. То, что раньше казалось им
грехом, обернулось «исполнением обетов». «Мы свершили смелый долг, /
Подвиг гордый и суровый» (с. 203), — говорит И о себе и своем друге,
догадываясь наконец, что испытание «огненной постелью» и есть тот
самый «светоч тяжкой высоты», на который любовники были
«обречены» явившимся к ней небесным вестником. Небесный жених
воплотился в охваченного земной страстью юношу Э, человека,
презревшего разум во имя чувства и руководствовавшегося любовной
страстью как путеводной звездой в поисках своей избранницы. Теперь и
она, считавшая ранее несовместимыми «жизнь святого» и «любовь»,
по этой причине отвергавшая притязания Э, склонна видеть в своем
спутнике существо, наделенное большой мудростью, а потому и
полагается на его «чутье»:
Померкли все пути...
О, Э! Куда идти?
Я жду твои ответы! (с. 203).
И вот это обстоятельство, когда В. Хлебников изображает
релятивиста в вопросах морали как человека, знающего пути, оправдывает
его своеволие на том основании, что оно есть выражение подлинной
жизни, а не мертвая догма (хотя в результате своевольного акта «роща
усопших селений», кладбище, превращается любовниками в место для
ночлега), и делает его произведение насквозь декадентским и
футуристическим. Разрыв с этическими традициями русской литературы
здесь очевиден, и в этой связи уже не покажется некоей досадной
случайностью подпись В. Хлебникова под декларацией «Пощечины
общественному вкусу».
482
2. «Тайна жизни»
Такая позиция — результат выбора, к которому все больше склонялся
поэт в решении волнующей его проблемы взаимоотношения природы и
разума, природы и культуры. Как мы успели убедиться, он охотнее
становился на сторону природы, отдавая ей явное предпочтение перед
культурой, хотя, разумеется, его точку зрения нельзя механически
отождествлять с точкой зрения заглавных героев рассмотренных произведений.
Что-то в их подходе, очевидно, его не устраивало. Вот почему с
завидным упорством он продолжает вглядываться в контуры данной
антиномии, от поэмы к поэме, от пьесы к пьесе стремясь уточнить свою идею.
Не составляет труда заметить, что в «Повести каменного века»
фактически отсутствует диалог противоборствующих сторон, из которых
каждая уверена в своей правоте. Да и сам автор несколько прямолинеен
в своем желании помочь полюбившемуся ему герою.
Иначе обстоит дело в поэме «Гибель Атлантиды» (1912). Хотя ее
герою Жрецу, в отличие от его собратьев из «И и Э», удается убийство
«полоумной святотатки» Рабыни, он бьется над вопросом: «умерщвляет»
ли «разум», «сверша властительный закон, побеги страсти молодой?»
(с. 219), — и, пожалуй, склонен ответить на него утвердительно,
признавая тем самым права за силой, глубоко чуждой всему его
существованию, всем его жизненным принципам и ожидая поэтому возмездия
с ее стороны. Когда же это возмездие свершилось, герой поэмы ведет
себя неожиданно, если, конечно, смотреть на него глазами
вершителей закона из «И и Э». Вот финальные строки «Гибели Атлантиды»:
Ужасен ветер боевой,
Валы несутся, все губя.
Жрец, с опущенной головой:
«Я знал тебя!» (с. 221).
Слова эти, как и всякие сказанные «под занавес» слова, особенно
ощутимы и значительны. В них признание персонажем В. Хлебникова
известной слабости, недостаточности отстаиваемых им принципов
рационализма, поскольку присущее ему изначальное знание о
существовании непреодолимой, не подвластной разуму, губительной стихии
подтачивало их, так сказать, на корню. Отсюда горькое признание Жреца
самому себе: «Трудился я. Но не у оконченного здания / Бросаю свой
483
железный лом!» (с. 217). Он «устал и изнемог» от своих
цивилизаторских усилий и потому даже гордые слова о себе и себе подобных: «Мы
боги» — произносит без энтузиазма, «мрачно», а на подтверждение
исключительности и божественности своих дел — «далекие чертоги» —
указывает «сонно».
А сделано действительно немало! Так, удалось одолеть
примитивное язычество: «Давно не бьем о землю лбом, / Увидя рощу или
улей», — да и природа, кажется, одета в броню строгих
математических формул, и всякое отступление от правил с ее стороны пресечено,
не говоря уж о делах рук человеческих:
Года войны, ковры чуме
Сложил и вычел я в уме.
И уважение к числу
Растет, ручьи ведя к руслу (с. 216).
Но уже в неоконченном произведении В. Хлебникова с условным
названием «Симфония, 12 год» (1911—1912) один из спорящих в ней
«голосов» высказал сомнение в полезности рационалистических
упражнений в духе Жреца:
Кто сетку из чисел
Набросил на мир,
Разве он ум наш возвысил?
Нет, стал наш ум еще более сир! (с. 209),
а Тень в саду из той же «симфонии» с большим сочувствием «поет»
о любви, которая будто бы «приходит страшным смерчем», и, мечтая
о которой, «бродят юноши восторженные / В тени языческих дубров»
(с. 205). Минувшим временам, когда «бродили страсти голо», отдано
предпочтение перед сегодняшним рассудочным днем.
Если хорошенько припомнить, то и в поэме «И и Э» есть во
многих отношениях созвучные приведенным слова, как бы предваряющие
историю героев и одновременно предсказывающие будущее
поражение жрецов и торжество земного чувства. Вот они:
Властители движению,
Небесные чины
Вести народ в сражение
Страстей обречены.
484
В бессмертье заковав себя,
Святые воеводы
Ведут, полки губя
Им преданной природы (с. 198).
О чем говорят эти примеры? Природа предана богам,
рассуждает поэт, но они не властны над источниками ее сокровенной
жизни. Если же они пожелают хотя бы относительной гармонии, то
будут вынуждены исполнять ее законы. Точнее, и природа, и боги
находятся во власти единых законов. Те же из людей и богов, кто хочет
«подправить» мир, не сообразуясь с целым, обречены на поражение.
Таков ход мысли В. Хлебникова, вполне соответствующий тем его
рассуждениям, которые мы привели в самом начале нашего
разговора о его творчестве.
В этой связи становится понятной и драма Жреца, повлекшая за
собой, в трактовке поэта, гибель Атлантиды. Идеолог атлантов Жрец
строил жизнь по законам гордого разума, обрубив все связи с небом,
похитив власть у богов, объявив богами и властелинами судьбы себя
и обитателей «чертогов». И жестоко просчитался. Несмотря на
гордыню новоявленных «богов» («...мы стоим миров двух между, / Несем
туда огнем надежду»),
Все же самозванцем поцелуйным,
Перед восшествием чумы,
Был назван век рассудком буйным (с. 216).
Тот самый «век», который любовно «взращивался» Жрецом,
который был предметом его многотрудных забот и его гордостью. И все же,
созидая, он не мог не почувствовать угрозы его делу. Слишком много
тревожных симптомов подсказывало ему, что обособившемуся разуму
не совладать ни с природой, ни со смертью, что «творчество» его — не
что иное, как дитя ложных претензий. Он видит, что, вопреки его
аскетическому подвижничеству,
И юность и отроки наши
Пьют жизнь из отравленной чаши.
С петлею протянутый столб
И бегство в смерти юных толп,
Все громче, неистовей возгласы похоти
В словесном мерцающем хохоте (там же).
485
Но самое страшное даже не в том, что не удалось покорить
«пламенный мозг» «юных», наиболее близких природе. Приходится признать,
что собственная деятельность протекла в неустанной борьбе с самим
собой, с своей «природой», что смутное подозрение о незаконности
постройки, точнее, противоестественности возводимого здания было
загнано в угол, пока до предела сжатая пружина сознания не ударила
с могучей силой в обратном направлении и не обнаружилась тайна,
в которой признаются, по обыкновению, только перед катастрофой.
«<...> Наукой гордые потомки
Забыли кладбищей обломки.
И пусть нам поступь четверенек
Давно забыта и чужда,
Но я законов неба пленник,
Я самому себе изменник,
Отсюда смута и вражда.
Венком божеств наш ум венчается,
Но, кто в надеждах жил, отчается.
Ты — звездный раб,
Род человеческий!» —
Сказал, не слаб,
Рассудок жреческий (с. 216), —
вот что говорит о себе и представляемом им мире идеолог
самодостаточности обособившегося от целого (природы и космоса) разума,
иссушающего жизнь. В тот момент, когда к нему приходит ясное сознание,
что человек может существовать только в единстве со своим прошлым,
как бы заключая его в себе и осознавая себя частью мирового
универсума, когда, пораженный в самое сердце бесперспективностью
избранного пути, Жрец хочет поступить вопреки своей излюбленной
рационалистической идее, он может оценить результаты своего труда
словами Маркизы Дэзес из одноименной пьесы В. Хлебникова (1909, 1911):
<...> Переживаем ли мы вновь таинственный потоп?
Почувствуй, как жизнь отсутствует, где-то ночуя,
И как кто-то другой воскликнул: так хочу я! (с. 411).
Если говорить точнее, Жрец мог бы произнести пока только вторую
фразу из этой цитаты, и, хотя ощущение грядущей катастрофы в нем
живет постоянно, до встречи с Рабыней он едва ли думал о тех кон-
486
кретных формах, в какие может вылиться бунтующая стихия, вряд ли
подозревая, что рядом с ним живет конкретный носитель этого бунта,
способного уничтожить вековую постройку разума.
Прежде чем рассмотреть аргументы антагониста Жреца — Рабыни,
необходимо сделать одно существенное предваряющее замечание, в
целом достаточно ярко высвечивающее позицию В. Хлебникова. Как
мы помним, Жрец сильно сокрушается по поводу того, что
иссушенные «наукой» люди современности забыли о своей прародине и
праотцах. Разумеется, что эти слова в уста своему герою вложил сам
В. Хлебников, не раз писавший на эту тему (см., например, хотя бы
его позднее стихотворение «Праотец» и др.). Но любовь поэта к седой
древности весьма далека от пушкинского чувства, выраженного в
знаменитых строках:
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам6.
Далека потому, что лишена того духовно-нравственного
переживания, которое придает этим стихам необычную энергию и глубину.
В век отчуждения и атомарного существования человека
единственно устойчивыми и незыблемыми представляются В. Хлебникову
формы примитивной жизни. Он мечтает о возрождении язычества, когда,
по его мнению, человек и мир были связаны универсальными
природными связями, когда человек сам был частью природы. Не
случайно в своих героях, претендующих на хотя бы частичное
выражение авторской позиции, поэт прежде всего выделяет и подчеркивает
телесное начало, а борьба с книжностью, рационализмом и
христианством, которую он вел постоянно, заставляет его проводить эту
линию с предельной настойчивостью. Так, в его творчестве
возникает известный перекос в сторону этического релятивизма, что мы
уже имели возможность наблюдать в некоторых его произведениях,
и особенно отчетливо в поэме «И и Э». Линия эта продолжена и
развита и в «Гибели Атлантиды».
Не составляет большого труда выделить в этой поэме отдельные
пушкинские мотивы из «Пира во время чумы» и «Медного
всадника», но их звучание у В. Хлебникова, если можно так выразиться,
487
не обеспечено в нравственном отношении. «Тайна жизни», которую
символизирует в поэме антагонист Жреца Рабыня (она так и говорит
о себе: «Я жреца мечом разрублена / Тайна жизни им погублена...»
(с. 221)), сводится у поэта к жизни плоти, наделенной несомненной
ценностью и истинностью. «Рабыня ... ночных веселий», она в то же
время и «богиня мести», остро ненавидящая «город ста святош» и
несущая ему, по понятиям В. Хлебникова, вполне заслуженную кару.
Ее реплики, обращенные к Жрецу: «Узнай, что вера — нищета...»,
или: «...презираю / Путь к обещанному раю» (с. 218), заставляют
читателя, побуждаемого автором, предположить, что она владеет истиной
более универсальной, чем отвергаемые ею догматы веры. По этой
причине поэт заставляет ее произнести следующую гневную филиппику,
обращенную к людям XX в. и одновременно развивающую сюжет
поэмы:
<...> Вы живыми быть сумели,
Схоронив красу лица. <...>
Как вы смели, как могли вы
Быть безумными и живы!
Кто вы? Что вы? Вы здоровы!
Стары прежние основы (с. 221).
Речь идет здесь о неподлинности, даже лживости цивилизации,
построенной на основе рационализма, отсюда — типично
футуристический, нигилистический выпад последней строки. Вместе со
Спутником из «Маркизы Дэзес» героиня «Гибели Атлантиды» как бы
призывает: «Законы природы, зубы вражды ощерьте!» (с. 412), и стихия в
мгновение ока уничтожает здание, над постройкой которого всю свою
жизнь любовно трудился Жрец, возомнивший себя Богом и жестоко
просчитавшийся в своих расчетах. Впрочем, в сюжете анализируемой
поэмы излишне призывать стихию, ибо героиня этого произведения
сама ее воплощение. Не случайно убивший Рабыню Жрец растерян:
Убита... но где она?
Быть может, мести страшный храм?
Быть может, здесь, быть может, там? (с. 219).
Перестав существовать как конкретное лицо, она тем не менее жива,
жива в природе и через природу, а потому вездесуща. Она — земля и
небо одновременно.
488
Юноша светел,
Небо заметил.
Он заметил, тих и весел,
Звезды истины на мне (с. 217), —
говорит Рабыня о себе, и все потому, что живет она, по собственному
признанию, «для веселых в сердце зарев», дарует отрокам возможность
«веселых босоножек (ср. с названием книги В. Каменского «Девушки
босиком». — B.C.) радость чистую смотреть» (там же). Оттого и уверена
она, что в случае произвола Жреца «сам бог земной / Схватит бешено
копье» (с. 218) и заступится за ее честь, причем месть этого владыки
будет ужасна.
Что же, подобные слова — намек на повторение фабульной ситуации
поэмы «И и Э»? Там в карающие действия жрецов вмешалась некая Дева,
здесь Жрецу грозят «богом земным»? А вместе с обещанным
«потрясением основ», на которое претендовал, как мы помним, еще Черт, по воле
автора превратившийся в забавного и премилого Чертика, на страницы
анализируемого произведения вновь проникает мощная струя
этического релятивизма: ведь sub specie aeternitatis «подана» ... проститутка.
Однако «Гибель Атлантиды» — не простое повторение
пройденного. Ведь говорили же мы, что в этой поэме есть прежде
отсутствующий у поэта диалог антагонистов и, следовательно, авторская
позиция здесь сложнее, чем прежде.
Вместе с тем, рассуждая об эволюции поэта в решении интересующей
нас проблемы, не следует упрощать ситуацию. Уже в поэме «Журавль»
(1909), повествуя о крушении цивилизации (ситуация, близкая к «Гибели
Атлантиды»), В. Хлебников патетически восклицал:
Свершился переворот. Жизнь уступила власть
Союзу трупа и вещи.
О, человек! Какой коварный дух
Тебе шептал, убийца и советчик сразу:
«Дух жизни в вещи влей!»
Ты расплескал безумно разум —
И вот ты снова данник журавлей (с. 191).
Размышляя о гибели жизни или, как выражался один из его
персонажей, ее «отсутствии» среди людей, поэт был склонен усматривать
причину разыгравшейся драмы не в губительной роли разума вообще,
489
а в том, так сказать, «употреблении» этого могучего орудия, которое
характерно для современного человека, сына урбанизированной
цивилизации. Виновная в окончательном разрыве человека и природы
история пожинает и еще долго будет пожинать плоды своего
преступления — вот мысль В. Хлебникова. Чтобы пресечь корни зла, считает он,
необходимо возвратить разуму его природное основание, человек
должен вернуться на забытую или почти забытую свою родину, иначе —
окунуться в девственную жизнь природы.
Так, в частности, поступил герой его «апокалипсического»
стихотворения «Змей поезда» (1910), спасшийся от ожившего
чудовища-дракона — железнодорожного состава — бегством в природу
(стихотворение имеет характерный в этом отношении подзаголовок «Бегство»).
Для В. Хлебникова и его собратьев по футуризму это и есть
подлинное «воскресение» человека. Не случайно герой стихотворения
оценивает свой поступок в следующих выражениях: «Боец, я скрылся в куст,
чтоб жить и мочь», и, хотя сказано это с присущим раннему
Хлебникову юмором, значение «открытия» от формы его выражения ничуть
не умаляется, разве что смягчается «ортодоксальность» мысли.
Заканчивается же стихотворение на вполне серьезных тонах. Герой
противопоставляет себя и друга, последовавшего его примеру, тем «сонным
куклам», которые продолжали путешествие в змее-поезде:
И мы, в деревья скрывшись, как в пещеру,
Были угасших страхов пепелище.
Мы уносили в правду веру.
А между тем рассудком нищи
Змеем пожирались вместо пищи (с. 69).
«Правда» найдена, и друзья, еще совсем недавно такие же
«нищие рассудком» (нищие духом, как правило, выпадают из поля зрения
В. Хлебникова), как и все люди, обрели подлинный разум. Характерно
также упоминание в стихотворении про пещеру, верную и надежную
обитель прачеловечества. И совсем уж в защиту спасительности
примитивного существования, как бы огранивая мысль поэта, делая ее
четче и выразительнее, говорят строки посвящения, предпосланного
произведению: «Посвящается охотнику за лосями, павдинцу Попову;
конный, он напоминал Добрыню. Псы бежали за ним, как ручные волки.
490
Шаг его — два шага простых людей» (с. 65). Эти слова — уже целый
гимн примитивной, природной жизни. Тема «посвящения» позднее, в
1913 г., будет развита В. Хлебниковым в два самостоятельных
рассказа: «Охотник Уса-Гали» и «Николай».
Мысль о синтезе разума и природы в названных сочинениях
Хлебникова есть не что иное, как осторожное нащупывание поэтом своей
собственной темы. В целом же они весьма близки той же «Землянке»
В. Каменского; поэма «Журавль», кстати сказать, ему же и посвящена.
В. Хлебников, как В. Каменский и Е. Гуро, видит единственное и самое
надежное средство спасения человека в природе, не замечая пока, что
целиком подчиниться природе — значит в значительной мере
подчиниться «року» (любимое выражение поэта), смерти. Иное в «Гибели
Атлантиды». Символ и воплощение стихии Рабыня считает, что ее власть
могущественнее власти Жреца. «Ты возник из темноты, / Но я более,
чем ты...» (с. 217), — говорит она ему. Однако сам факт сопоставления
себя с оппонентом предполагает со стороны сопоставляющего
признание за ним какой-то силы и «правды». Не случайно В. Хлебников
доверил Жрецу некоторые из своих заветнейших идей и заставил свою
героиню признать относительную его правоту. Более того, по воле поэта
она произносит вещи, совершенно непредставимые, скажем, в «И и Э».
«...Я созвучие твое», — говорит она будущему своему убийце и
развивает эту мысль следующим образом:
Ты и я — мы оба равны:
Две священной единицы
Мы враждующие части,
Две враждующие дроби,
В взорах розные зеницы,
Две, как мир, старинных власти —
Берем жезл и правим обе (с. 217).
Направление хлебниковской мысли уловить нетрудно: чтобы
предотвратить распад мира, принявший угрожающие размеры,
необходимо, считает он, объединение «враждующих частей» «священной
единицы», первобытная плодоносная стихия природы должна
воссоединиться с абстрактным разумом. Человечество при этом сумеет
избавиться от иссушающей власти рационализма, а разрушительной силе
природы будут поставлены надежные заслоны. Мысль В. Хлебникова
491
развивалась в сторону синтеза, обретая в «Гибели Атлантиды» еще
смутные, неясные контуры. В дальнейшем она проступит
достаточно четко, но тень рационалиста-Жреца (скажем пока только это) в
качестве своеобразного двойника будет преследовать поэта всю его
жизнь.
В числе «творений», в которых идея о синтезе рационального и
стихийного окончательно побеждает, следует особо выделить
«сверхповесть» «Дети Выдры» (1911—1913), являющуюся своего рода итоговым
произведением раннего В. Хлебникова. В ней сведены воедино
основные мотивы предшествующих стихотворений и поэм, намечены
направления для дальнейшей работы. Мы, разумеется, не ставим задачу
проанализировать эту вещь, гораздо важнее для нас хлебниковское
решение интересующей его проблемы. В этом отношении особое значение
для настоящего исследования приобретают 5-й и 6-й «парусы» (главы)
«сверхповести».
5-й «парус» имеет весьма характерное заглавие «Путешествие на
пароходе» (подзаголовок — «Разговор и крушение во льдах»). Если
учесть, что в сюжетную основу главы положена гибель «Титаника»,
этого символа гигантской мощи современной поэту технической
цивилизации, то становится ясным, что мы, по сути дела, сталкиваемся в
главе с ситуацией, весьма похожей на описанную в только что
рассмотренной поэме В. Хлебникова.
В 5-м «парусе», как и в предшествующих и заключительных
главах произведения, В. Хлебникова явно интересует смысл
исторического процесса. Пафос его исканий выражен в заглавии для
будущего произведения «Поперек времени», как предполагают
исследователи, идейно и тематически связанного с осуществленным позднее
замыслом «Детей Выдры». Человечество движется в этой
«сверхповести» от «первых дней земли», от единой для всех прародительницы,
названной В. Хлебниковым с явным расчетом на полемику с
христианством «Матерью Мира — Выдрой», к пику технической
цивилизации и закономерному ее крушению. Последняя глава — хлебников-
ский «проспект на будущее человечества», иными словами, будущее
с точки зрения футуриста.
Уже из приведенного плана «сверхповести» видно, что автор
недоволен ходом истории и намерен властно вмешаться в ее законы.
Один из участников разговора на пароходе, «задумчивый мудрец»,
492
по аттестации поэта, выражая заветную мысль В. Хлебникова,
говорит:
Морские движутся хоромы,
Но, предков мир, не рукоплещь:
До сей поры не знаем, кто мы —
Святое Я, рука иль вещь.
Мы знаем крепко, что однажды
Земных отторгнемся цепей.
Так кубок пей, пускай нет жажды,
Но все же кубок жизни пей.
Мы стали к будущему зорки,
Времен хотим увидеть даль,
Сменили радугой опорки,
Но жива спутника печаль (с. 443).
Неужели людям так и суждено оставаться заложниками смерти,
рабами сотворенного своими же руками мира; неужели они подойдут
к некоему порогу, так и не познав до конца свою собственную
природу? У раннего В. Хлебникова ответ на этот вопрос был готов, и
изложить его содержание поэт поручает второму участнику разговора —
юноше, предельно сгущающему и огрубляющему (так задумано
поэтом!) суть авторской позиции в «Снежимочке», «Чертике» и других
вещах. В мире, говорит хлебниковский герой, властвуют
таинственные злые силы, так что
Не в самых явных очертаниях
Рок предстоит для смертных глаз,
Но иногда в своих скитаниях
Он посещает тихий час (с. 440).
Устами своего alter ego В. Хлебников рисует в 5-м «парусе»
«сверхповести» впечатляющие картины крушения цивилизации, совсем в духе
«Маркизы Дэзес», «Журавля», «Гибели Атлантиды». «...Идет мятеж на
власть рассудка» — такова здесь уже знакомая нам по другим
произведениям поэта формула и объяснение разбушевавшейся стихии. Забыть
«о роке великом» — значит повторить (в этом герой абсолютно уверен)
«безумную ласточек дурь», «беспечно» щебечущих в тот момент, когда
«огнем и золотом багровым / Пожар красивый рвет и мечет...» (с. 441).
Спасение в одном: самому стать стихией, вернуться в забытый языче-
493
ский мир. Герой В. Хлебникова мечтает о том времени, когда «к быту
первых дикарей / Мечта потомков полетит» (с. 440), когда
расслабленные люди цивилизации, «полудети», плывущие навстречу гибели,
соприкоснутся со своим прошлым, символом которого в «сверхповести»
выступает истинный Сын Выдры, «крылатый дух с черным копьем в
руке» и с глазами, полными «злой воли».
«...Опираясь на древнейшие в мире предания орочей об огненном
состоянии земли», В. Хлебников вступает в откровенную полемику с
библейской версией о сотворении мира. Вместо ангелов по хлебников-
скому «небу» «пролетают два духа в белых плащах, но с косыми
монгольскими глазами» (с. 36, 431). Не Бог, а «маленький монгол с
крыльями», уподобляющий себя «белому солнцу» (языческий бог!), дарует
земле жизнь. «Это правда, это подлинное», — как бы утверждает поэт.
Только окунувшись в живую воду этой правды о себе, исполнившись
чем-то наподобие ницшеанской «воли к власти», люди XX в., считает
герой Хлебникова, окажутся способными к подлинному творчеству
жизни. Юный участник беседы на пароходе, считающий себя орудием
стихии, проповедует войну как средство, способное возвратить
утраченное нацией и погребенное «в курганах книг» (В. Маяковский)
подлинное лицо (мечта раннего В. Хлебникова).
Если мир одной державой
Станет — сей образ люди ненавидят, —
В мече ужели посох ржавый
Потомки воинов увидят? —
говорит он и далее вводит свою мысль в более конкретное русло, как
бы опираясь при этом на некий незыблемый авторитет:
Да, те племена, но моложе,
Не соблазнились общим братством —
Они мечом добудут ложе (с. 440).
«...Мы снова подымем ножи...», — угрожает завтрашнему дню
обиженный несправедливым ходом истории юный патриот, мечтающий
возвратить отнятые «у предков» «славу, лучи и венок». В тот час, «когда
от битв небес излучин / Вся содрогается земля», уверяет юноша,
«ученых разум станет скучен...» (с. 440). Вот, оказывается, в кого целила его
мысль! И то правда, разве способен, скажем, «добряк в очках», родной
494
брат оседланного ведьмами «седого ученого» из «Чертика», дать
адекватную картину мира, а тем более приблизить будущее? Нет, это
сможет осуществить лишь тот, «кто жил глубоко...».
В статье В. Хлебникова «Закон поколений» (1914) есть такие строки:
«Ум легко мирится с существованием рока в пространстве: 2 глаза на
лице, 5 пальцев на руке, столько-то ребер; но он построен на
отрицании рока во времени, несмотря на признание его народной
мудростью многих народов. Войны тоже построены на отрицании рока»
(с. 652). Здесь сопоставляется «обыденная» точка зрения на жизнь
«с необыденной», и в «Детях Выдры» «ученых разум», неизбежно
пасующий перед стихией, оказывается скомпрометированным. Так считает
один из беседующих на пароходе, и в его позиции, если не считать ее
акцентированной агрессивности, нет ничего нового для В.
Хлебникова.
Но «Дети Выдры» не были бы новым шагом в его творчестве,
если бы все в них свелось к утверждению только этой цели. Ведь,
как говорилось выше, уже в «Гибели Атлантиды» была сделана
попытка реабилитировать разум, правда, в разрезе, предложенном
еще в «Журавле». В «сверхповести» поэт идет дальше. Как ни
притягательна для него концепция юноши, он заставляет его
стушеваться перед более универсальным взглядом на мир,
принадлежащим старшему собеседнику. Так, герой признает, что он еще «не
костер, а вязанка готовая дров», в то время как старик, «чей разум
суров», есть уже, как он сам о себе говорит, «старого разума пепел»
(с. 441); иными словами, он является, по замыслу поэта, носителем
разума будущего, разума, пышным цветом расцветшего, очевидно,
на месте веселого костра из книг, устроенного еще «училицами» из
«Внучки Малуши».
Однако уже в этой поэме В. Хлебников не скрывал своей иронии и
по адресу расшалившихся девиц, и юной язычницы Людмилы, хотя и
не без сочувствия взирал на их предприятие. Отголосок их «воплей»:
«Жизни сок бери!» слышен и в проповеди влюбленного Э («клич любви
и хлеба»), и в поступках и словах «рабыни... ночных веселий»,
изображенных, как мы заметили, вполне «серьезно», без улыбки. Все
это, включая и монологи героя «Детей Выдры», — апология
примитива, выраженная в такой откровенной форме, что она вызывает не
то чтобы отповедь, а возражение старика:
495
Желудок князем возгласить —
Есть в этом, верю, темный смысл.
Пора кончать тех поносить,
Кто нас к утесу дум возвысил (с. 442).
В этих словах уточнение или, скорее, прояснение прежней позиции
В. Хлебникова, нередко скрывавшего свои заветные мысли под
иронической маской. Не следует думать, что поэт окончательно
«разрешил» науку и реабилитировал ученых. Мысль о том, что человек,
созидая цивилизацию, бездарно распорядился своим разумом, не покидала
В. Хлебникова всю жизнь, и скомпрометировавшей себя, так сказать,
официальной науке он противопоставлял знание в футуристической,
будетлянской трактовке этого понятия. Оно, по мысли В. Хлебникова,
как бы вырастает из природы и составляет с нею единое целое,
представляя собой что-то вроде разума самой природы. Только такое
знание, убежден поэт, способно стать рычагом в деле строительства жизни
на новых началах, только оно способно победить рок. Исходя из своей
«жизнетворческой» концепции, В. Хлебников хотел, чтобы «граждане
речи / Стали граждане жизни» (с. 370), а таковыми, в его представлении,
были только футуристы. От их имени («Мы, будетляне...») проповедует
герой «сверхповести» и, как истинный Сын Выдры, претендующий на
мессианскую роль, он прежде всего низвергает авторитет Сына Божия:
О, сумасшествие п<р>орока,
Когда ты мир ночей потряс,
Ты лишь младенцем в объятиях рока
Несся сквозь звездных сияние ряс.
А изображени<я> главы
Вам дорогого существа:
Сестры, невесты, брата — вы
Лучи другого естества.
Кто изнемог под тяжестью возмездий
И жизнь печальную оглянет,
Тот пред лицом немых созвездий
Своего предка проклянет.
Опасно видеть в вере плату
За перевоз на берег цели,
Иначе вылезет к родному брату
Сам лысый черт из темной щели (с. 442).
496
Христос, уверен герой Хлебникова, не может быть Спасителем, он
сам игрушка в руках рока. Своеобразным комментарием к этой мысли
могут послужить иронические стихи из «Журавля»: «Учителя и
пророки / Учили молиться, о необоримом говоря роке». И это в то время,
когда «журавль, к людским пристрастясь обедням, / Младенцем
закусывал последним» (с. 192). Описывая в «Маркизе Дэзес» аналогичную
ситуацию «восстания вещей», В. Хлебников иронизирует над
поведением людей, одновременно снижая идею Всевышнего:
Взор обращен к жестокому Судье.
Там полубоязливо стонут: Бог,
Там шепчут тихо: Гот,
Там стонут кратко: Дье!
Это налево. А направо люди со всем пылом отдались веселью,
Не заметив сил страшных новоселья (с. 411—412).
И тот, и другой типы поведения людей (последний стал предметом
описания в «Змее поезда» и глубокомысленных рассуждений юного
участника беседы в «Детях Выдры»), считает поэт, одинаково ложны,
ибо в обоих случаях люди основываются на уверенности в
незыблемости объективных законов, якобы санкционированных Богом, вне
зависимости от того, упоминают ли люди Его Имя или нет. Между тем
последние вовсе не Божьи дети, а «лучи другого естества», и,
доверившись Богу, они обманывают себя, в критические моменты становясь
добычей злого рока.
Как бы подкрепляя слова своего alter ego наглядным примером,
В. Хлебников заканчивает 5-й «парус» «сверхповести» изображением
трагической ситуации:
Уж пароход стоит кормой
И каждой гайкою дрожит.
Как муравьи, весь люд немой
Снует, рыдает и бежит.
Нырять собрался, как нырок,
Какой удар! Какой урок!
И слышны стоны:
«Небеса, мы невинны».
Несется море, как лавины.
Где судьи? Где законы? (с. 449).
497
Но «небеса» молчат, ибо они просто-напросто пусты, а то, что «род
людской», поддавшись христианскому вероучению, считал «судьями»
и «законами», — фикция или, как сказано в другом произведении поэта
и по другому поводу, «чарования ума» (с. 206).
Но если христианство не способно ни объяснить, ни перестроить
мир, то, может быть, эту задачу выполнят полярные по отношению к
нему учения К. Маркса и Ч. Дарвина? Эта версия в
шутливо-ироническом ключе «прорабатывается» в 6-м «парусе» «Детей Выдры». Так,
Ганнибал, приветствуя Сципиона, удивляется тому, что «все бегут на
тень утеса» (материализация фразы старика об «утесе дум»), и
объясняет это столпотворение следующим образом:
<...> мрачный слух пронесся,
Что будто Карл и Чарльз, — они
Всему виною...
Два старика бородатых —
Все слушают бород лохматых... (с. 449), —
а далее, не удовлетворенный своими же словами, снова сокрушенно
вопрошает пространство: «Ужель от Карлов наводнение / Ведет сюда
все привидения?» (с. 453).
Сама форма этих объяснений и вопросов не оставляет ни тени
сомнения в истинном отношении древнего воина (а с ним и В. Хлебникова) к
«карлам» — Марксу и Дарвину, — которые, по словам Сципиона,
«приносят копоти огни, / Из новой истины клешни» (с. 451) в царство
мертвых, ибо (сокрушительный аргумент в хлебниковском
художественном мире!) «извергло их живое...». Устами полководцев Ганнибала и
Сципиона поэт «разоблачает» эти якобы далекие от жизни учения, в
которых «ничто сокрылось», и не без сочувствия встречает
предложение Ганнибала, обращенное к его «коллеге»: «Давай возьмем же по
булыжнику / Грозить услугой темной книжнику?» (с. 449). Иной
участи, по Хлебникову, Маркс, этот новый Жрец из «Гибели Атлантиды»
(«Карл мрачно учит нас...»)7, не заслуживает, поскольку сводит
многоцветье жизни, живописуемое Ганнибалом, к «пути какой-то
стоимости» (с. 451), а войны (вспомним хлебниковское отношение к войне как
своеобразной, хотя и неприемлемой для поэта форме борьбы с роком)
объясняет следующим образом: «...причина у войны: / Одни весьма-
весьма жирны» (с. 450).
498
Его «товарищ в славе», хотя и «повествует» о милой сердцу В.
Хлебникова природной жизни, однако дарвиновская эволюционная теория,
считает поэт, поставив во главу угла идею естественного отбора,
«принижает» человека: «Причина: кость или изъян / Есть у людей и у обезьян»
(с. 451). Нет, не может согласиться Ганнибал (а с ним и В. Хлебников),
Что первый мой неясный предок,
Сокрытый в сумраке времен,
Был мил и дик, но не умен (с. 450).
Согласиться с этим — значило бы разрушить идею В. Хлебникова,
главного идеолога русского футуризма, о том, что соприкосновение
современного человека с «бытом первых дикарей» возвращает ему (а
не отнимает!) подлинный разум и делает его способным к творчеству
жизни на иных, чем современные цивилизация и культура,
основаниях.
Короче говоря, ни Маркс, ни Дарвин, полагает поэт, не способны
«возвысить» человека к подлинному «утесу дум». Один, по
Хлебникову, препарирует жизнь, словно чучело, а хлебниковское отношение
к подобным экспериментам выразил еще Черт: «Это не живая
вселенная, а чучело. Чучело птицы с мертвым глазом и выходящей из кости
проволокой, — ужасно!» (с. 398). Второй якобы лишил своеобычного
разума примитивную жизнь, а, «уравняв» человека и обезьяну,
истиной в последней инстанции провозгласил «правду» желудка. Иными
словами, эти «граждане речи» не сделались «гражданами жизни»,
оставшись просто-напросто «книжниками», и данная ситуация —
самый большой аргумент для итогового вывода: «Они не стоят
разговоров» (с. 451).
«Граждане жизни», по представлениям В. Хлебникова, — это те из
людей, кто будоражил или будоражит мир своим беспокойством, мешая
жизни отлиться в застывшие формы, это те из немногих, кто остро
чувствовал целостность Вселенной, становясь проводником ее разума в
любую бесконечно малую ее частицу, такую, например, как человек,
обособившийся в условиях цивилизации и христианской, книжной
культуры от природы и тем самым потерявший свое подлинное лицо, свою
сущность. Не Маркс и Дарвин, забывшие про «звезды» и, по воле поэта,
лишенные даже последнего спасительного жеста, к которому прибегает
Жрец, намереваясь слиться с «небом», а Ганнибал и Сципион, Свято-
499
слав и Пугачев, Самко и Ян Гус, Ломоносов, Разин и Волынский,
облеченные в «звездный шлем», «звезд шишак», — истинные Дети Выдры и
жизнестроители. Это они предоставляют человеку и человечеству
возможность «от кончины плыть к молодости», «к первым негам юного
Я», позволяют разгадать тайны «первых времен мира» (с. 568, 569).
Чтобы понять, каким смыслом наделял В. Хлебников эти судьбы, по
какому принципу объединял он в своей «сверхповести» этих живших в
разные эпохи людей, необходимо привести здесь одно позднее
высказывание поэта о Степане Разине — оно крайне показательно в
интересующем нас аспекте: «Никто бы не узнал в молодом богатыре, слушавшем
на берегу ночного моря голоса летевших журавлей, лавину победы в их
голосах, читавшем летучую книгу, ночные страницы ночных облаков,
будущего сурового и гордого мятежника, писавшего соседним царям
насмешливое "любезный брат".
Вещие глаза еще мальчика, с первым пухом на губах, были подняты
широко открытыми лесными озерами навстречу вещим голосам птиц,
голосам оттуда, может быть кричавшим оттуда: "Брат, брат, ты здесь!"
Там он искал те оси постройки человеческого мира, главные сваи
своей своеверы, которые потом мощными сваями вбивал в родную
почву, страну отцов, родной быт» (с. 568).
Характерно это словечко «там». Разин, в представлении В.
Хлебникова, как и все вышеперечисленные герои 6-го «паруса» «Детей
Выдры», — умное дитя природы, и только потому, что он ее
своеобразный орган и проводник, заслуживает звания подлинного
строителя жизни. Нравственно-этический и духовный аспекты его
деятельности, как о том уже говорилось по другим поводам, или вообще
игнорировались В. Хлебниковым, или являлись производными от собственно
природного начала. В связи с этим, обращая внимание на ценность
усилий поэта по налаживанию связей между человеком и природой,
что особенно важно для нашего грозящего глобальной экологической
катастрофой века, мы в то же время должны со всей объективностью
и ответственностью заметить, какие огромные опасности таило
предпринятое им завязывание узла между этими величинами напрямую.
Частично об этом уже говорилось, для окончательных выводов
наступит свой черед.
В решении данной проблемы В. Хлебников видел свое
предназначение и, идя к синтезу путями, противоположными символистским (то
500
обстоятельство, что он пользовался одинаковым с А. Белым мифопо-
этическим понятием «рока», только подчеркивает принципиальное
различие их мировоззренческих и эстетических установок), смотрел
на себя, подобно теургам, как на нового пророка, мессию, точнее, как
на Прометея — образ, чуждый символистам из-за их христианских
пристрастий.
Понятно, что это уподобление имело для поэта принципиальное
значение. Первоначальная метафора «утес дум», материализуясь,
оборачивается в «сверхповести» настоящим утесом, на котором «Сын Выдры
перочинным ножиком вырезывает... свое имя: "Велимир Хлебников"»
(с. 447). Сюда, на сохранившуюся частичку суши, спасаясь и спасая,
«идут толпой» упомянутые Дети Выдры. О своем новом пристанище
они самого высокого мнения:
На острове вы. Зовется он Хлебников.
Среди разъяренных учебников
Стоит, как остров, храбрый Хлебников —
Остров высокого звездного духа.
Только на поприще острова сухо —
Он омывается морем ничтожества (с. 453).
Впрочем, новый Прометей не менее трогателен в своем
отношении к неожиданным гостям и, в свою очередь, рассчитывает на их
помощь:
О, духи великие, я вас приветствую.
Мне помогите вы: видите, бедствую?
А вам я, кажется, сродни,
И мы на свете ведь одни (с. 454).
3. «Приобретатели» и «изобретатели»
Этими словами героя В. Хлебникова, несущего свет новой истины,
«своеверы», страждущему человечеству, заканчиваются «Дети Выдры».
Как мы видели, поэт постоянно уточнял свою концепцию, прежде чем
она приобрела в «сверхповести» вполне законченные очертания. Так,
если в «Журавле» он пока только сокрушался, что люди бездарно
«промотали» свой разум и пошли по неверному пути, то в «Маркизе Дэзес»
501
устами Спутника героини он уже предлагает следующий «рецепт» для
спасения гибнущего человечества:
<...> Не скучно ли быть рабом покорным суток.
Нет, этот путь, как глаз раба печальный, жуток!
Убийца всех, я в сердце миру нож свой всуну!
Божество. Стать божеством. Завидовать Перуну.
Я новый смысл вонзаю в «смерьте» (с. 412).
Ненавидя «голос неумолкший смерти», этот персонаж пытается
прояснить контуры своей «религии», и до слуха читателя доносится
несколько путаное, если не знать контекста творчества В. Хлебникова,
его рассуждение о «боге от "смерти"» и «боге от "смерьте"» (с. 413).
Надо полагать, первый в этом ряду «богов» — Иисус Христос: еще в
«Чертике» предпринималась пародийная попытка связать
христианскую идею бессмертия с самым обыкновенным кладбищем. Во
второй части фразы речь идет о новом рычаге для перевертывания мира,
«найденном» В. Хлебниковым. Более ясно об этом сказано во многих
других произведениях поэта, в том числе и в «Детях Выдры». Так,
старший участник разговора на пароходе пророчествует от имени будетлян,
полемизируя с христианством о путях изменения жизни:
Мы жребия войн будем искать,
Жребия войн, земле неизвестного,
И кровью войны станем плескать
В лики свода небесного.
И мы живем, верны размерам,
И сами войны суть лады,
Идет число на смену верам
И держит кормчего труды (с. 442—443).
Что же это за универсальная сила, перед которой даже войны как
средства борьбы с роком, восславленные юным оппонентом героя,
произнесшим данный монолог, теряют свое гордое могущество? Очевидно,
это и есть тот разум, который, по замыслу В. Хлебникова, возвысит
человека к «утесу дум», сделает его созидателем жизни, а не рабом
цивилизации, представляющей собой «толпы мертвецов, / В союз
спешащие вступить с вещами» (с. 191). Наконец-то найдена «мера мира»,
позволяющая соотнести «солнце» и «жилу... руки», бесконечно малую
и бесконечно большую единицу Вселенной. Как тут не затрепетать от
502
радости и в восторге не объявить себя богом, «Числобогом»! Вот оно
это проявление гордыни: «Мозг людей и доныне скачет на трех ногах
(три оси места)! Мы приклеиваем, возделывая мозг человечества, как
пахари, этому щенку четвертую ногу, именно — ось времени. <...>
Люди прошлого не умнее себя, полагая, что паруса государства можно
строить лишь для осей пространства. Мы, одетые в плащ только побед,
приступаем к постройке молодого союза с парусом около оси времени,
предупреждая заранее, что наш размер больше Хеопса, а задача
храбра, величественна и сурова.
Мы, суровые плотники, снова бросаем себя и наши имена в
клокочущие котлы прекрасных задач.
Мы верим в себя и с негодованием отталкиваем порочный шепот
людей прошлого, мечтающих уклюнуть нас в пяту. Ведь мы боги. Но
мы прекрасны в неуклонной измене своему прошлому, едва
только оно вступило в возраст победы, и в неуклонном бешенстве заноса
очередного молота над земным шаром, уже начинающим дрожать от
нашего топота.
Черные паруса времени, шумите!» (с. 602).
Эти строки взяты нами из коллективной футуристической
декларации «Труба марсиан» (1916), написанной В. Хлебниковым. Декларация
не случайный эпизод в его судьбе, иначе вряд ли он стал вспоминать
бы о ней спустя четыре года (см. с. 643). Наоборот, общим пафосом,
отдельными ключевыми образами она вполне вписывается в контекст
его размышлений, хотя позднее Хлебников несколько приглушит в
теоретических работах свойственную ей эпатирующую тональность.
Особенно близка «Труба марсиан» «Детям Выдры», в которых
чрезвычайно отчетливо выразилось общее для обоих произведений
стремление поэта шагать «поперек времени» и дать свой собственный
«проспект на будущее человечества». Отсюда, кстати сказать, и
характерный для обоих «творений» В. Хлебникова мотив «паруса» как символа
устремленности вдаль.
Конечно же, субъективно поэтом двигали самые лучшие
побуждения, когда он мечтал о «руке мыслителя, спокойно /
Управляющей вселенной, / Этого всадника оседланного рока», когда призывал
к «замене» опозоривших себя «соборным людоедством» государств
«научно построенным человечеством», а о себе и своих друзьях в
связи с этим гордо говорил как о «стрелочниках / У встречных путей
503
Прошлого и Будущего» (с. 613). Но этический релятивизм, которым
в качестве тарана пользовался В. Хлебников, пробивая путь своей
«жизнетворческой» идее, вряд ли мог стать надежным ориентиром
на пути в будущее. Ведь какими словами ни извиняй поэта, какие
причины ни подыскивай для его действий, вряд ли можно сгладить
известный аморализм его позиции, предельно отчетливо выраженной
им в самом начале творческого пути (в черновике письма к В.
Каменскому от 1909 г.): «...мы — ребята добродушные: вероисповедание для
нас не больше чем воротнички (отложные, прямые, остро загнутые,
косые). Или с рогами или без рог родился звереныш: с рогами
козленок, без рог теленок, а все годится — пущай себе живет (не замай).
Сословия мы признаем только два — сословие "мы" и наши
проклятые враги... Мы новый род люд-лучей. Пришли озарить вселенную.
Мы непобедимы»8.
Между этой самоаттестацией и «Трубой марсиан» пролегло долгих
семь лет, а какое поистине «завидное» постоянство демонстрирует поэт
и теоретик футуризма, находясь «в полном сознании своей (и его
друзей. — B.C.) особой породы» (с. 603):
Какие наглецы — скажут некоторые,
Нет, они святые, возразят другие.
Но мы улыбнемся, как боги,
И покажем рукою на Солнце (с. 609), —
и готовя от имени новоявленных «детей солнца», перешедших «из
разряда людей в разряд марсиан», «новый удар в глаза грубо
пространственного люда» (с. 603).
Так, в «Трубе марсиан» получает развитие и дальнейшее
обоснование характерная и для раннего творчества поэта оппозиция: «я» —
«они». С одной стороны, «изобретатели» или же «обжигатели сырых
глин человечества», «зачинатели охоты за душами людей»,
«неумолимые в своей загорелой жестокости» (с. 609). «Встав на глыбу
захватного права», они обращают свои «вопросы в пустое пространство, где
еще не было человека», и враждуют с другой стороной,
«приобретателями», «утонувшими в законы семей и законы торга», людьми, «у
которых одна речь: "ем"...». Вот так: или — или, никакой середины!
«Изобретатели» живут будущим, которое есть не что иное, как «государство
молодежи». «Приобретатели» же — это те самые «люди прошлого», о
504
которых мы уже читали в первой части декларации. Не надо думать,
предупреждает В. Хлебников, что, будучи ничтожными, они абсолютно
безвредны. «...Кто-то мертвый, кто-то костлявый хватает» «марсиан» и
«мешает» им «вылинять из перьев дурацкого сегодня». Это их козни!
Отсюда императивное: «Прочь костлявые руки вчера, перед ударом
Балашова (человека, изрезавшего известную картину Репина. — B.C.)
пусть будут искромсаны ужасные зрачки». Или: «Пусть те, кто ближе
к смерти, чем к рождению, сдадутся! Падут на лопатки в борьбе
времен под нашим натиском дикарей» (с. 603).
Как видим, В. Хлебников был настроен весьма решительно. То, что
раньше выливалось в формы теоретической полемики апологета
неоязычества и примитива с «книжниками» и культурой, накопленной
человечеством за девятнадцать веков его существования, становилось
теперь призывом чуть ли не к прямой агрессии против них. На то были
особые основания. У поэта крепло отвращение к мировой войне,
виновниками которой, по его мнению, оказывались практически все
предшествующие футуристам поколения людей, зачисленных им по
разряду весьма расплывчатого в социальном смысле и этически отнюдь
не безобидного понятия «приобретатели». От тяжкой вины
освобождались только будетляне, присвоившие себе право судить и
переделывать мир. «...Мы сделались пахарями мозгов — мозгопашцами, — писал
В. Хлебников в статье «Ляля на тигре» (1916), обращаясь к
«приобретателям». — Ваши мозги для нас — это только залежи песков, суглинков,
слоистых горючих сланцев. Мы уже относимся к вам и вашим обычаям
как к мертвой природе, так неестественно все, что вы делаете и
творите на бедной земле. Мы — еще только начало. Как говорил некогда
Крученых, "мир погибнет, а нам нет конца". Как рыбаки, мы поймали
вашу свободную волю и верования и уравнения. Как кравчие, мы
способны накормить одним стихотворением целый год в жизни великого
народа. Как швеи, мы сшиваем народности в одно мещанское одеяло,
чтобы было во что кутаться озябшей земле (длинные желтые ноги!
Вашей, судари, хилости). Как это? Что же будет, когда мы подымемся
еще выше по ступеням общественной лестницы?» (с. 606—608). Что
будет, станет ясно тогда, когда Левый фронт искусств, высоко
поднимая знамя футуризма, приступит к практической работе по
переустройству искусства и жизни. В. Хлебников был одним из тех, кто готовил
почву для деятельности этой школы.
505
Правда, позднее поэт сменит гнев на милость по отношению к «про-
шлецам» и уже не станет, как в «Письме двум японцам» (1916),
предлагать «стрижам будущего» «исследовать состояние умственных
способностей у старших возрастов» или «разводить хищных зверей, чтобы
бороться с обращением людей в кроликов» (с. 605). Обращаясь к
«русским мальчикам» (поэт явно учитывает контекст знаменитого
разговора Ивана и Алеши Карамазовых), он просто предложит:
Вам, юношам, не раз кричавшим
«Прочь» мировой сове,
Совет:
Смело вскочите на плечи старших поколений,
То, что они сделали, — только ступени.
Оттуда видней! (с. 149).
Здесь «старшим возрастам» (они же «приобретатели») и
накопленному ими опыту отводилась какая-никакая, а все же роль: быть
удобрением для растущего и крепнущего «союза молодежи» (название
процитированного стихотворения), о начале «постройки» которого с
гордостью провозглашалось в «Трубе марсиан» и в цикле связанных с нею
по смыслу статей. Упоенный открывшимися перспективами,
связанными с «похищением времени» (с. 603)9, поэт с энтузиазмом
говорил о тотальной «войне между возрастами» (с. 604). Людям
предписывалось: «Пусть возрасты разделятся и живут отдельно!»
(с. 602). Причины «этой измены» «юношей» пошлым «вчера» и
«сегодня» понятны из вышеизложенного, но В. Хлебников обнаруживает еще
один аргумент, чтобы обосновать идею раскола поколений. «...У
возрастов, — говорит он, — разная походка и языки» (с. 604).
Ничего более нигилистичного, чем эта хлебниковская формула
«прерывных времен», нельзя найти. Разрыв с прошлым (историческим, а
не доисторическим) казался В. Хлебникову незыблемым условием для
построения будущего, представленного в «Трубе марсиан» в самых
радужных красках: «Мы зовем в страну, где говорят деревья, где
научные союзы, похожие на волны, где весенние войска любви, где время
цветет как черемуха и двигает как поршень, где зачеловек в
переднике плотника пилит времена на доски и как токарь обращается с своим
завтра. (О, уравнения поцелуев — вы! О луч смерти, убитый лучом
смерти, поставленным на пол волны)» (с. 603).
506
Могущественный «зачеловек», с одной стороны, и «пустое
пространство, где еще не было человека» — с другой. Между этими
полюсами — напряженная борьба «возрастов»: тех, которые знают пути,
и тех, которым лучше всего погибнуть или, по крайней мере,
уступить дорогу «марсианам», «нацепившим на свои лбы / Дикие венки
Правителей земного шара» (с. 609). Такой «расклад» до боли
напоминает философские манипуляции Фр. Ницше с идеями
«сверхчеловека» и «воли к власти», а также «метафизику» манифестов Мари-
нетти. Не случайно последний, неприязненно встреченный русскими
футуристами (тем же В. Хлебниковым) в 1914 г., спустя два года в
«Трубе марсиан» приглашается в «думу марсиан» «на правах гостя»,
да еще «с правом совещательного голоса» (с. 604). Внешне
парадоксальная, но внутренне вполне закономерная (вспомним сказанное
выше о сходстве между итальянским и русским футуризмом)
метаморфоза! Даже стилистика декларации В. Хлебникова в
значительной степени дублирует стилистику многочисленных воззваний его
собратьев из Италии, которые в своей эстетической концепции
ориентировались (это самоочевидно) на философию сверхчеловечества
Фр. Ницше.
В отношении В. Хлебникова этого нельзя утверждать с полной
уверенностью (слишком много фактов говорит против), но и он, как
и все русские футуристы, не был вполне свободен от заражающего
влияния немецкого философа. Напомним, что А. Крученых, на
которого сочувственно сослался в процитированной нами статье В.
Хлебников, выделял Фр. Ницше из «философской троицы», хотя и не мог
простить ему книжности. Да и сам Хлебников нередко упоминает
как имя философа, так и имя воспетого Фр. Ницше Заратустры.
Причем все это появляется в контексте, наиболее ценном и значимом для
поэта, связанном с прославлением мирового первородства или
языческой стихии.
Так, уже в «Зверинце» читаем: «...толстый блестящий морж машет,
как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после
падает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном
могучем теле показывается усатая, щетинистая, с гладким лбом голова
Ницше» (с. 186—187). А в стихотворении «Новруз труда», относящемся
к предпоследнему году жизни поэта, есть полные восторга перед
восточным празднеством строки:
507
Снова мы первые дни человечества!
Адам за адамом
Проходят толпой
На праздник Байрама
Словесной игрой.
В лесах золотых
Заратустры... (с. 137).
Дело, конечно, не только в упоминании имен Ницше и его героя.
Просто и у немецкого философа, и у В. Хлебникова была общая
почва, питавшая их творчество. Недовольные, так сказать, атомарным,
дифференцированным состоянием современного человеческого
общества, они мечтали о наступлении эры некоего органического
возрождения, когда человек, окунувшись в особый, первозданный мир,
будто бы обретет свою подлинную природу, возвратится к самому себе.
Вряд ли Фр. Ницше отверг бы любимую хлебниковскую мечту о
«детской рода людей» (с. 376), куда им следует возвратиться, а характерные
для поэта строки: «Мы стали лучше и небесней, / Когда доверились
коням» (с. 464), — показались бы ему наивными лишь по форме, а не по
сути.
Характерная деталь: в харьковском издании «Трубы марсиан»
вместо фразы «Мы боги» стояло: «Мы босы». Это была, очевидно, уступка
цензуре, но какая многозначительная уступка! Ведь боги-то потому и
боги для футуристов, что они «босы», т.е. первозданны, естественны,
голос природы или же сама природа, наконец. Когда говорит природа,
она глаголет истину. Все же остальное (религия, культура,
цивилизация, этический и духовный опыт человечества) — ложь, отклонение
от нормы, безумный прыжок в никуда.
Отсюда борьба и Ницше, и В. Хлебникова с «книгой» за «жизнь»,
отсюда их ненависть к христианству, якобы извратившему подлинные
устремления человека. Отсюда тяга обоих к Востоку как «прародине»
человечества и почерпнутая в восточной мудрости идея о
цикличности времени, на основе которой В. Хлебников строил свои числовые
«законы», а Ницше создавал концепцию «вечного возвращения».
Конечно, все сказанное в большей мере относится к Фр. Ницше,
поскольку нигилизм В. Хлебникова не был столь мирообъемлющ и,
главное, не привел его к утверждению «воли к власти» как истины в
последней инстанции. Пройдя через серьезное искушение нигилизма,
508
точнее, всю жизнь этому искушению подвергаясь, поэт не стал, однако,
пророком насилия. Но это вовсе не означает, что провозглашенный
теоретиком футуризма нигилизм никак не отомстил ему. Следы
тлетворного воздействия этого джинна обнаруживаются как раз в том, в
чем он, в отличие от многих своих собратьев, одержимых бесом
разрушения, стремился осуществить свою заветную мысль о синтезе
всего сущего.
Тут следует заметить, что в основе хлебниковской идеи лежало
принципиальное невнимание поэта к жизни конкретного человека.
Рассуждая о его природе, В. Хлебников подразумевал под нею или природу, так
сказать, телесно-физическую или природу каких-то надысторических,
точнее, космических универсалий. «Я не смотрел на жизнь отдельных
людей, — говорил Ученик в брошюре В. Хлебникова «Учитель и
ученик» (1912), — но я хотел издали, как гряду облаков, как дальний
хребет, увидеть весь человеческий род и узнать, свойственны ли волнам
его жизни мера, порядок и стройность» (с. 587).
Речь в данном случае идет о такой высоте, с которой даже при очень
большом желании человека заметить невозможно, зато легко заменить
его цифрой или знаком. Возникает парадоксальная ситуация: забота о
человечестве у Хлебникова граничит чуть ли не с равнодушием к
человеку. Да и могло ли быть иначе, если социум у поэта поделен, как мы
помним, на «марсиан», переведенных в эту высшую сферу «из
разряда людей» (с. 603), и прочую массу, презрительно именуемую
«приобретателями».
Удел первых — подвиг «творчества жизни», удел вторых —
пользование и наслаждение его результатами. «Я победил: теперь вести /
Народы серые я буду» (с. 76), — провозглашал «Король времени Велимир
1-й» от своего имени, а от имени Председателей земного шара заявлял:
В грязи утопая, мы тянем сетьми
Слепое человечество.
Мы были, мы были детьми,
Теперь мы — крылатое жречество (с. 462).
«Серые» и «слепое» — это не просто констатация современного
состояния общества, не знающего «законов времени», но и
негативная оценка «народов» и «человечества», вне зависимости от того,
какой субъективный смысл вкладывал поэт в данные эпитеты. Ни о ка-
509
кой духовной свободе облагодетельствованных людей здесь не может
быть и речи, и в новоявленных жрецах, отличающихся от своего
предшественника из «Гибели Атлантиды» тем, что они причастились «тайне
жизни» («были детьми»!) и стали «крылатыми», есть что-то от
проповеди Великого Инквизитора Ф.М. Достоевского, правда, без печати
того драматизма, которым наделил своего персонажа великий писатель.
Мы еще вернемся к этой мысли, а пока нам важно обратить внимание
читателя еще на один аспект размышлений поэта. Как видно из
сказанного, в лице «Числобога» В. Хлебникова, типологически родственного
«сверхчеловеку» Ницше, но не адекватного ему, неожиданно
проступили черты лица другого «бога» — Жреца, признавшего себя
банкротом и осужденного поэтом за его рационалистическое своеволие. Но
то, что изгонялось через дверь, проникло через окно. Чего стоит хотя
бы перекличка фразы «Мы боги» в «Гибели Атлантиды» и в «Трубе
марсиан»! Проповедник «органики», «живой жизни» в конце концов
заместил эти понятия жесткой схемой, в результате чего борьба между
жизнью и рационалистической сухоткой мозга в его творчестве
увенчалась победой последней. Во многих отношениях подобная
ситуация близка эволюции Фр. Ницше, превратившегося из певца «диони-
сийского» оргиазма в категорического и беспощадного имморалиста,
объявившего на весь мир, что его имморализм и есть выражение
подлинной жизни.
Но сколь кричащими ни выглядели бы эти противоречия творчества
В. Хлебникова, на самом деле они вполне закономерны, т.е. их
следовало ожидать. Одно здесь вырастает из другого, и мост, соединяющий
крайности, — нигилизм поэта (как и немецкого философа) по
отношению к духовным и нравственным ценностям человека.
4. «Единая книга»
Не следует, однако, думать, что мы видим в В. Хлебникове
слепого и покорного ученика немецкого философа. Ницшеанский пророк
Заратустра и пророк В. Хлебникова Зангези в конечном счете
говорят все же о разном. Но сам факт звукового совпадения имен этих
героев (хотя расшифровка имени Зангези как контаминации
названий рек порабощенных народов — Замбези и Ганга дает чуть ли не
510
полемический по отношению к Ницше эффект), «восточный»,
«языческий» колорит местности, где живут оба пророка, характер их
проповедей и т.д. говорят о том, что В. Хлебников не случайно вызывал у
читателей последней своей «сверхповести», итоговой с точки зрения
изложенной в ней позиции, довольно прозрачные ассоциации с
книгой Фр. Ницше «Так говорил Заратустра». Подобно немецкому
философу, в творчестве которого последовательно отстаиваемая
нигилистическая точка зрения приводила к рождению идеала
«сверхчеловека», якобы стоящего «по ту сторону добра и зла», В. Хлебников (в
отличие от многих собратьев по футуризму) рассматривал нигилизм
не как самоцель, а как средство для воплощения в действительность
своего представления о синтезе жизни.
Следуя Лобачевскому и Чаадаеву, которые, по словам В. Хлебникова,
«хотели (по-разному) построить не этот, другой мир» (с. 647—648), он
лелеял ту же мечту. Иногда ему казалось, что задуманное им уже
осуществлено, и тогда он с гордостью говорил о себе: «...через законы быта
люда [я] прорубил окно в звезды» (с. 641). Терминология здесь — почти
символистская, если бы не футуристический пафос полного разрыва с
прошлым. Возвещая о якобы одержанной победе, В. Хлебников писал:
«Государство времени озаряет люд-лучами дорогу человечества. Оно
уже скомкало в комок грязного листа все старые знания» (с. 608). Если
во «Внучке Малуши» разбуженные зовом жизни «училицы» бросают
в пылающий костер ненавистные учебники, то в «сверхповести» «Азы
из узы» (1919—1920—1922) древние книги, покоренные будетлянской
идеей, добровольно приемлют смерть:
Я видел, что черные Веды,
Коран и Евангелие,
И в шелковых досках
Книги монголов
Из праха степей,
Из кизяка благовонного,
Как это делают
Калмычки зарей,
Сложили костер
И сами легли на него...
Чтобы ускорить приход
Книги единой... (с. 466).
511
Нет, не случайно старший собеседник из «Детей Выдры» оборвал
«то дерзкий, то забавный» шовинистический «лепет» юноши и
заговорил про «кубок общий в мире главный» (с. 441). Мы уже обращали
внимание, что оба участника разговора на пароходе — разные грани
сознания самого поэта. Ранний же В. Хлебников, переживая, что
«русская славоба вторила чужим доносившимся голосам», и мечтая об
«исконной России», «об единой Руси» (с. 579, 507, 513), нередко допускал
националистические выпады.
Так, в одном из стихотворений поэта мы читаем гневное его
обращение к соотечественникам:
<...> Полно вам кланяться
Роже басурманов. <...>
Вейся, вейся, русское знамя,
Веди через сушу и через хляби!
Туда, где дух отчизны вымер... (с. 69—70).
В миниатюре «Велик-день» с характерным подзаголовком «Подражание
Гоголю» (1911) есть не менее характерные строки. Некая «небесная
панночка, увидев подходящих горожан <...> вдруг всплеснула руками и
воскликнула: — Да что же это такое! Ужли мы, русские зори, не смеем
лица показать от срама, в лицо посмотреть немецким? Да неужто нет
хлопца постоять за нас? Гайдамаки! Гайдамаки!" И бросила венок на
пол, и закрыла лицо руками, и заплакала, и убежала. Тогда,
оглянувшись кругом суровыми и грустными глазами, пошел за ней отрок, и
было видно, как он перед ней... произносил суровую клятву воина:
постоять за родину и ее обычаи. <...> И сказал он себе: "Россия для
русского обычая"» (с. 508).
Мы привели далеко не самые «вызывающие» примеры. Однако
справедливости ради следует признать, что В. Хлебников не столько был
поборником русского национализма, сколько отстаивал идею
панславизма, что послужило залогом дальнейшего развития его идеи. Для
человека с интегрирующим мироощущением, каким был поэт, мечты
о национальной обособленности и исключительности не могли быть
органичными, поэтому он постепенно отходит от этого круга идей.
В статье «О расширении пределов русской словесности» (1913) он
осуждает «стремление к отщепенству некоторых русских народностей»,
объясняя причину этого явления будто бы «искусственной узостью рус-
512
ской литературы». И уж прямо споря с самим собой прежним,
продолжает: «Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если
бы он был материковым» (с. 593).
Внимательный читатель не может не заметить глухого
раздражения поэта в собственный адрес, когда он в ответах на анкету С.А. Вен-
герова от 5 августа 1914 г. упоминает о своем «крикливом воззвании к
славянам» (с. 642), действительно проникнутом шовинистическим ядом.
Можно только приветствовать эту эволюцию В. Хлебникова, если
бы не некоторые обстоятельства. Размышляя о «единой книге» народов,
некоем мировом братстве, поэт хотел положить в его основу «общеазий-
ское сознание», которое он «задумал построить» еще в «Детях Выдры».
«Мы идем к общей цели, разгадке воли Азии...» (с. 608), — утверждал
он от имени «Азийских юношей»-будетлян. «Ах, мусульмане те же
русские, / И русским может быть ислам» (с. 248), — восклицал он в поэме
«Хаджи-Тархан» (1913), воспринимая Астрахань как «окно» не только
«в Индию», но и в Африку:
Другую жизнь узнал тот угол,
Где смотрит Африкой Россия,
Изгиб бровей людей где кругол,
А отблеск лиц и чист и смугол,
Где дышит в башнях Ассирия.
В устье Волги он видит некий первозданный мир и,
удовлетворенный, пишет: «Как веет миром и язычеством / От этих дремлющих
степей...» (с. 246). Позднее, в предисловии к неосуществленному изданию
«Все сочиненное В. Хлебниковым», он следующим образом
вычерчивал «кривую» своего творческого пути:
«Азийский голос "Детей Выдры",
Славянский "Девьего бога" и
Африканский "Ка"» (с. 36).
Причем «славянское чистое начало в его золотой липовости»
оказывалось как бы растворенным в азийском и африканском мотивах.
Этим идеям придавалось значение определенной программы. И не
только В. Хлебникова. Не случайно футуристический сборник «Молоко
кобылиц» открывался отрывком из письма поэта к В. Иванову. Отрывок
был напечатан под рубрикой «Вместо предисловия» и, надо понимать,
заменял очередную широковещательную декларацию, которыми будет-
513
ляне обычно сопровождали свои издания. Поэт, в частности, писал: «Мы
переживаем время "сечи и натиска"». Собственно европейская наука
сменяется наукой материка. Человек материка выше человека
лукоморья и больше видит. Вот почему в росте науки предвидится пласт Азий-
ский, слабо намечаемый и сейчас. Было бы желательно, чтобы часть
ударов молота в этой кузне Нового Века принадлежала русским»10.
Русским, таким образом, предлагалось ковать «общеазийское
сознание» и свое национальное лицо воспринимать только в этой связи.
«...Азия русская» (с. 355) — характерное и важное для В. Хлебникова
выражение. Но поскольку, по его словам, «русские несколько холодны
к подвигам своих соотчичей и не заботятся о первенстве»11, за
решение этой задачи брались футуристы, предлагая своим читателям
отведать фирменный «степной напиток, молоко кобылиц» (с. 595). Именно
таким целебным «напитком» представлялось футуристам их
собственное творчество.
Главным выразителем этого сознания был, конечно, В. Хлебников.
В его устремлении к праосновам мира, когда «человечество —
взрослый цветок» еще «смутно грезился человечеству-зерну» (там же),
таилось желание объявить европейскую культуру, якобы не имеющую пра-
корней, ложной, противопоставив ей при этом азиатский «пастушеский
быт первой древности» (с. 463). Несмотря на относительную правду этой
идеи в ней была заложена изрядная доля нигилизма, и данное
обстоятельство нельзя не учитывать при рассуждениях о мечте Хлебникова
по поводу будущей «единой книги» человечества.
Размышляя о создании «Соединенных Станов Азии, этого великого
союза трудовых общин» (с. 614), В. Хлебников объективно вступал в
полемику с символистами, смотревшими на крайний Восток сквозь
призму идей Вл. Соловьева о «панмонголизме». Географическое положение
России между крайним Востоком и Западом в условиях усилившегося
движения «монгольских» народов, рассуждал философ, предельно
заостряет вопрос: каким Востоком она хочет стать — «Востоком Ксеркса
иль Христа»12? Сохранит ли Россия верность христианской богочело-
веческой идее, понесет ли ее на все более подвергающийся ударам
бездушного американизма Запад, или победит монгольская стихия
безличности, нигилистическое по отношению ко всякому внешнему
бытию буддийское начало нирваны? Таков круг размышлений Вл.
Соловьева.
514
Своеобразное развитие этих идей мы находим в романе А. Белого
«Петербург». Не вдаваясь в анализ сложной проблемы Востока и Запада
в этой книге, процитируем из нее один отрывок, весьма показательный
для нашей темы.
Герой романа Николай Аполлонович Аблеухов, имевший
«монгольского предка», пишет А. Белый, «был человек нирванический.
Под Нирваною разумел он — Ничто.
И Николай Аполлонович вспомнил: он — старый туранец13 —
воплощался многое множество раз; воплотился и ныне: в кровь и плоть
столбового дворянства Российской империи, чтоб исполнить одну
стародавнюю, заповедную цель: расшатать все устои; в испорченной крови
арийской должен был разгореться Старинный Дракон и все пожрать
пламенем; стародавний восток градом невидимых бомб осыпал наше
время. Николай Аполлонович — старая туранская бомба — теперь
разрывался восторгом, увидевши родину; на лице Николая Аполлоновича
появилось теперь забытое, монгольское выражение; он казался теперь
мандарином Срединной империи, облеченным в сюртук при своем
проезде на запад (ведь он был здесь с единственной и секретнейшей
миссией)». «...До рождения ему врученная и великая миссия» была,
заключает автор, «миссия разрушителя»14.
Ориентируясь на Восток, В. Хлебников воспитывал в себе
разрушителя западной культуры.
Рассматривая хлебниковскую идею «единой книги» человечества,
необходимо учитывать еще одно обстоятельство. Не следует забывать,
что в данном случае ее высказывает поэт-футурист:
Род человечества — книги читатель,
А на обложке — надпись творца,
Имя мое — письмена голубые (с. 466).
Земной шар, «оборудованный» по образцу и подобию футуриста, даже
такого талантливого, как Хлебников, вряд ли может вызвать восхищение.
Ведь это именно он, пытаясь как можно нагляднее выразить свою мысль,
писал: «В обычном словесном изложении человечество походит на белую
груду, на вороха сырых, свеженабранных листов печати, еще не собранных
в книгу. Малейший ветер заставит их разлететься в стороны. Но есть
способ сверстать эти разрозненные белые листы в строгую книгу, применив
способ измерения рождений людей с судьбой одной и той же кривизны.
515
Подобные рождения, как прочная проволока, хорошо скрепляют
готовые рассыпаться страницы будущей книги»15. Идея «единой книги»,
понятой как «сверстанное человечество», творцом и собирателем
которого является «проволока мира — число» (с. 493), ужасает, несмотря на
благие намерения поэта, своей механичностью и воинствующим
рационализмом. Невольно на ум приходят уже цитировавшиеся в работе
слова хлебниковского персонажа Черта: «Это не живая вселенная, а
чучело. Чучело... с мертвым глазом и выходящей из кости
проволокой, — ужасно!»
Между тем В. Хлебников-максималист торопил события. Ему
хотелось увидеть свою идею воплощенной. Уверенный, что действия его
товарищей «по оружию» не всегда радикальны, а «под видом груза,
прицепленного к... свистящей надменно грезе» футуристов, «заячьим
способом провозится грязь донебесных людей», он изыскивал
способы, которые помогли бы новаторам «освободиться от засилья
людей прошлого» и от их «грязных обычаев...» (с. 604). Для
достижения этих целей предлагалось, во-первых, «мыло словотворчества»;
во-вторых, поэт рассчитывал «мерой и временем» завоевать «права
на свободу», принадлежащие «младшим возрастам». Таким образом,
словотворчество и «числовые законы», открытием которых В.
Хлебников особенно гордился, — всего лишь разные грани одного и того же
дела поэта16, и дальнейший анализ его усилий на избранном пути
подтвердит эту мысль.
5. «Довременное слово»,
или «научно построенный язык»
«Слово живет двойной жизнью, — писал В. Хлебников, развивая
свою «философию» языка. — То оно просто растет как растение... и
тогда начало звука живет самовитой жизнью, а доля разума, названная
словом, стоит в тени, или же слово идет на службу разуму, звук
перестает быть "всевеликим" и самодержавным: звук становится "именем"
и покорно исполняет приказы разума...» (с. 632).
Нельзя не заметить, что в этих рассуждениях есть нечто общее с
идеями А. Крученых о «слове как таковом». Ни о каком заимствовании,
особенно со стороны Хлебникова, в данном случае не может быть и
516
речи. Мы напомнили об этом, чтобы подчеркнуть терпимость В.
Хлебникова к путям традиционного искусства слова по сравнению с А.
Крученых: там, где первый сопоставляет два типа словесного творчества,
второй противопоставляет их друг другу.
Но мы не сказали бы всей правды, если бы не обратили внимание на
то обстоятельство, что и для В. Хлебникова предпочтительнее, по его
собственному выражению, метафорическая «страна лучистого звука»,
нежели «страна лучистого разума». Обе соотносятся в его сознании (и
мы знаем, насколько это противопоставление важно для поэта), как
молодость и старость в жизни человека. Вот почему, характеризуя, к
примеру, дофутуристическую поэзию, он пользуется «находками» из
«арсенала» А. Крученых: «В Пушкине слова звучали на "ение", у
Бальмонта — на "ость"» (с. 632—633). Разумеется, с точки зрения
Хлебникова, это плохо, и перед новой поэзией ставится задача в духе
«Пощечины общественному вкусу»: «...снять венок с головы усталого
Пушкина...» (с. 633). «Усталость», отягченность смыслом, зависимость от
Запада, «черты быта» — все это, по мысли теоретика, привело
классическое искусство к застою, к топтанию на месте. Но в эту же эпоху
«родилась воля к свободе от быта — выйти на глубину чистого слова.
Долой быт племен, наречий, широт и долгот». Событие это, с точки
зрения В. Хлебникова, было равносильно впрыскиванию свежей крови в
умирающий организм, он вдруг ожил, и «на каком-то незримом дереве
слова зацвели, прыгая в небо, как почки, следуя весенней силе,
рассеивая себя во все стороны...» (там же).
Такова миссия «молодых течений», выдвинувших идею
словотворчества. Будучи «врагом книжного окаменения языка», оно
синоним жизненной энергии, ибо, «опираясь на то, что в деревне около рек
и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова,
которые то умирают, то получают право бессмертия, переносит это
право в жизнь писем». «Если современный человек, — подытоживает
свою мысль автор программной для футуризма статьи «Наша основа»
(1919), — населяет обедневшие воды рек тучами рыб, то языководство
дает право населить новой жизнью, вымершими или
несуществующими словами, оскудевшие волны языка. Верим, они снова заиграют
жизнью, как в первые дни творения» (с. 627).
Вот куда указывает стрелка компаса В. Хлебникова. Как всегда, он
устремляется мечтой в доисторические эпохи человечества, спасение
517
видит в особом, «древнем разуме», руководствуясь которым человек
еще не выделял себя из космического целого, а язык был «мудр потому,
что сам был частью природы» (с. 585). В силу всеобщей интеграции,
присущей, например, каменному веку, полагает теоретик, «языки
объединяли людей», это было время «общего языка»; сегодня же, наоборот,
«языки уже разъединяют» (с. 625, 628) по причине все усиливающейся
дифференциации человеческого общества, отчуждения его от природы.
Но в языке, верит поэт, еще дремлют скрытые потенции. Как мы
уже успели заметить, он делит слово «на чистое и на бытовое» (с. 624),
связывая свои надежды на возрождение языка с первым типом слова.
«Всякое средство не волит ли быть и целью?», — спрашивал он еще в
статье «Курган Святогора» (1908) и отвечал на этот вопрос
утвердительно: «Вот пути красоты слова, отличные от его целей. Древо ограды
дает цветы и само» (с. 580).
Так появляется характерное для футуристов понятие «самовитого
слова». Если язык жаждет возрождения, то он (в этом поэт абсолютно
уверен) не захочет «иметь своим судьей будничный рассудок».
Распространяя эту мысль на область словесного искусства, он приходит
к следующему выводу: «Не есть ли природа песни в у<ходе от> себя,
от своей бытовой оси? Песня не есть ли бегство <от ...> я? <...>
<Без бегства> от себя не будет пространства для бегу» (с. 634).
В этих размышлениях и обобщение своего творческого опыта (В.
Хлебников — поэт преимущественно эпический), и выражение исходного
принципа собственной эстетики, проявившегося в сосредоточенном
внимании к «человеческому роду», а не к «жизни отдельных людей».
Исходя из сказанного, нетрудно предугадать итог, к которому придет
Хлебников, мечтающий о синтезе жизни: «Отделяясь от бытового языка,
самовитое слово так же отличается от живого, как вращение земли
кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом земли.
Самовитое слово отрешается от призраков данной бытовой обстановки
и на смену самоочевидной лжи строит звездные сумерки» (с. 624).
Отсюда, в свою очередь, вытекает его «первое отношение к слову»:
«Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех
славянских слов одно в другое, свободно плавить славянские слова...
Это самовйтое слово вне быта и жизненных польз» (с. 37).
Пока В. Хлебников ограничивается мечтой об «общеславянском
слове», но она — шаг на пути к сформировавшейся позднее в его эсте-
518
тике идее «единой книги» человечества. Важно подчеркнуть, что уже
на этом этапе он надеется «создать язык — подобие доломерия
Лобачевского, этой тени чужих миров», полагая, что «доломерию Евклида»
«может быть уподоблен» обычный «живой и сущий в устах народных
язык...» (с. 580).
Как писал по этому поводу Б. Лившиц, передавая свои ощущения
от первого знакомства с рукописями поэта, «слово, каким его впервые
показал Хлебников, не желало подчиняться законам статики и
элементарной динамики, не укладывалось в существующие
архитектонические схемы и требовало для себя формул высшего порядка». Не
разделяя восторга Б. Лившица, мы все же приведем еще несколько его
высказываний о сути словесного экспериментаторства Хлебникова, тем более
что значение, которое придавал автор «Полутораглазого стрельца»
словотворчеству идеолога футуризма, вполне соответствовало хлебников-
скому представлению о смысле якобы произведенной им «революции
слова». «...Я увидел, — пишет Б. Лившиц, — воочию оживший язык.
Дыхание довременного слова пахнуло мне в лицо.
И я понял, что от рождения нем.
Весь Даль с его бесчисленными речениями крошечным островком
всплыл среди бушующей стихии.
Она захлестывала его, переворачивала корнями вверх застывшие
языковые слои, на которые мы привыкли ступать как на твердую почву».
Далее Б. Лившиц признается, что хлебниковская алхимия слова
«отбрасывала» его, человека XX столетия, «в безглагольное пространство,
обрекала на немоту»17.
При всех преувеличениях, которые естественны в устах одного из
бывших членов «Гилей», Б. Лившиц не только довольно ярко
выразил свое понимание сути хлебниковских новаций, но и определил те
цели, которые ставил перед собой сам теоретик. Как показывает
анализ, В. Хлебников действительно мечтал о воскрешении
«довременного слова», надеялся восстановить в правах некий, якобы
утраченный современным человечеством «священный язык язычества»,
который, «если различать в душе правительство рассудка и бурный народ
чувств», «есть обращение через голову правительства прямо к народу
чувств, прямой клич к сумеркам души...». По логике поэта, такой язык
должен напомнить язык заговоров и заклинаний, где «непонятным
словам приписывается наибольшая власть над человеком... прямое вли-
519
яние на судьбы человека». Так В. Хлебников приходит к идее
«заумного» языка. «Заумный язык, — поясняет он, — значит находящийся
за пределами разума» (с. 633, 634, 628).
Опустившись на «дно» своей души, причастившись к еще
нерастраченной языческой цельности мира, будто испив живой воды, человек
снова всплывает на поверхность мира для того, чтобы творить по
законам этой обретенной целостности, — вот логика мысли поэта.
Нетрудно заметить, что хлебниковская «философия» языка
базируется на отношении к слову как мифу, о чем футуристы не раз писали
в своих декларациях. «Мы считаем слово творцом мифа, слово,
умирая, рождает миф и наоборот»18, — утверждалось, например, во
втором «Садке судей». Подобное отношение к слову ощутимо
перекликается с поисками символистов в соответствующей сфере. Особенно это
относится к В. Иванову и А. Белому. Последний в своей статье «Магия
слов» (1909) различал, например, с одной стороны, «идеальный
термин», а с другой — «ходячее слово», устанавливая взаимоотношения
между этими понятиями следующим образом: «Обычное
прозаическое слово, т.е. слово, потерявшее звуковую и живописующую
образность и еще не ставшее идеальным термином, — зловонный,
разлагающийся труп»19. Идеальных терминов, по его мнению, очень мало.
Они образуются в процессе разложения «ходячих слов», подобно тому,
как тело умершего человека, т.е. то, «что осязаемо... органами чувств»,
при окончательном разложении дает ряд «прекрасных кристаллов». Но
такой результат, скорее, исключение, чем правило; жизнь ориентирует
нас на борьбу внутри языка.
Эстетизируя функции языка («...глубочайший жизненный смысл
слова — быть словом творческим. Творческое слово созидает мир»20),
А. Белый описывает происходящие в нем процессы следующим
образом: «...живая речь — вечно текущая, созидающая деятельность,
воздвигающая перед нами ряд образов и мифов; наше сознание черпает
силу и уверенность в этих образах; они — оружие, которым мы
проницаем тьму. Побеждена тьма — образы разлагаются и
выветривается поэзия слов...». Такие периоды в судьбах человечества, считает
Белый, можно назвать критическими, ибо «живая жизнь, лишенная
живых слов», оборачивается для людей «безумием и хаосом...».
Человек, надеясь спастись с помощью «терминов», видит тщетность своих
усилий, тут он прибегает, казалось бы, к безнадежному средству: «...в
520
ужасе начинает заклинать словом опасности, неведомые ему; к
удивлению своему он видит лишь в слове средство действительного
заклинания...»21. Но оказывается, что удивление его было напрасным. То, на
что он меньше всего рассчитывал, помогло ему побороть вырождение.
Что же произошло?
А. Белый объясняет: в процессе заклинания хаоса «из-под коры
выветренных слов начинает бить световой поток новых словесных
значений; создаются новые слова. Вырождение переходит в здоровое
варварство...» Итак, по автору «Магии слов», выходит, что «причина
вырождения — смерть слова живого; борьба с вырождением —
создание новых слов»; более того, поскольку «культ слов предшествовал
возрождению», «во все упадки культур» необычайно повышалось
внимание к «творчеству языка»22.
Здесь есть все, что близко и дорого В. Хлебникову, особенно
подчеркнутая А. Белым надежда на возрождающую силу «здорового
варварства», поставленного им в прямую связь с появлением новых слов, со
словотворчеством. Языку и у А. Белого, и у В. Хлебникова отводится,
следовательно, особая роль творца жизни. Вот почему теоретик
футуризма не задерживается на фазе «заумного» языка, находящегося «вне
быта и жизненных польз». Наоборот, В. Хлебникова отличает
стремление «сделать заумный язык разумным» (с. 628), и в этом стремлении
выразилось его «второе отношение к слову»: «Увидя, что корни лишь
призрак<и>, за которыми стоят струны азбуки, найти единство вообще
мировых языков, построенное из единиц азбуки... Путь к мировому
заумному языку» (с. 37).
Дума про «единый смертных разговор» пронизывает поэтические
и теоретические сочинения В. Хлебникова начиная с 1912 г. И
особенно усиливается после революции, стимулируемая, очевидно,
мечтой о всемирной революции и грядущем мировом братстве угнетенных
народов, характерной для того времени. Необходимо, однако, заметить,
что поэт не вкладывал в свою идею никакого политического смысла,
когда писал: «Задача единого мирового научно построенного языка все
яснее и яснее выступает перед человечеством» (с. 623). Да и как могло
быть иначе, если «образ мирового грядущего языка» непременно
связывался в его сознании с языком «заумным», и все это прочно
сочеталось с «видами на общечеловеческую азбуку», что приобретало у него
какой-то чуть ли не космический оттенок: «...построить письменные
521
знаки, понятные и приемлемые для всей населенной человечеством
звезды, затерянной в мире», — вот, по В. Хлебникову, отдаленная задача
искусства. «Пусть один письменный язык, — провозглашал он с
энтузиазмом, — будет спутником дальнейших судеб человека и явится
новым собирающим вихрем, новым собирателем человеческого рода.
Немые — начертательные знаки — помирят многоголосицу языков»
(с. 621).
Итак, для того чтобы «обратить заумный язык из дикого
состояния в домашнее, заставить его носить полезные тяжести», нужна, по
мысли В. Хлебникова, новая азбука. «Словотворчество учит, —
говорит он, используя академическую манеру письма, — что все
разнообразие слова исходит от основных звуков азбуки, заменяющих семена
слова. Из этих исходных точек строится слово, и новый сеятель
языков может просто наполнить ладонь 28 звуками азбуки, зернами языка.
Если у вас есть водород и кислород, вы можете заполнить водой сухое
дно моря и пустые русла рек.
Вся полнота языка должна быть разложена на основные единицы
"азбучных истин", и тогда для звуко-веществ может быть построено
что-то вроде закона Менделеева или закона Мозелея — последней
вершины химической мысли» (с. 623, 624).
В этих словах основополагающие принципы эстетики В.
Хлебникова, и в который раз мы обращаем внимание на присущий ей поистине
воинствующий рационализм. Считая язык мудрым и живым, называя
его частью природы, теоретик тем не менее способен свести его
полноту к двум-трем десяткам звуковых единиц и чисто волевым
(волюнтаристским!) методом, «сильным нажимом волн» пытаться создать
новый язык, призванный якобы не только спаять воедино
разрозненное человечество, но и восстановить утерянную им в процессе
цивилизации связь с природой и космосом. Если вы, обращается он к
художникам, сумеете «построить удобные меновые знаки между ценностями
звука и ценностями глаза, построить сеть внушающих доверие
чертежных знаков», то вы тем самым «завяжете узел общезвездного труда»
(с. 623). Вот почему конструируемый Хлебниковым «новый мировой
язык» получает у него наименование «звездного» языка.
Несмотря на вполне понятный и легко объяснимый энтузиазм,
с которым поэт и теоретик футуризма пропагандирует свою идею,
это — мертворожденное дитя, и параллели между звуками азбуки, с
522
одной стороны, и кислородом и водородом, с помощью которых якобы
можно создать рукотворные моря, — с другой, как и ассоциации с
законом Менделеева, «работают» отнюдь не на идею В. Хлебникова, а
против нее. В условиях грозящей человечеству глобальной экологической
катастрофы это становится особенно очевидным. Язык и мысль, язык и
культура, язык и духовное достояние науки, национальный характер —
все эти понятия нерасторжимы. В. Хлебников же в своих
интерлингвистических поисках практически не учитывает эти связи и, более того,
начисто обрубает их. Допустим, что из водорода и кислорода можно
создать море, допустим, что оно будет даже судоходным, однако вряд
ли оно вдохновит поэта на стихи. Вполне возможно, что «Радио скует
непрерывные звенья мировой души и сольет человечество»
(с. 639) (эта мечта, как часто бывает у Хлебникова, заострена против
религиозной мистики вообще и мистической философии символизма
в частности — ср. его же: «Радио решило задачу, которую не решил
храм как таковой...» (с. 637)), но, спрашивается, что за душа это будет,
да и останется ли она вообще у подобного стандарт-человека и
стандартизированного человечества? Наверное, нетрудно объяснить причины
появления в крестьянской России «технических» утопий типа хлебни-
ковской «Мы и дома» (1915) или только что процитированного «Радио
будущего» (1921—1922), но понять их истоки в творчестве автора
антиурбанистической поэмы «Журавль» значительно сложнее.
Что это: измена своему прошлому, кардинальный поворот во
взглядах? Но почему же в будущем «городе крылатых жителей» фантазия
поэта поселяет персонажей «Повести каменного века» И и Э? Очевидно,
поэт рассматривает данные явления как однопорядковые, т.е. нисколько
не противоречащие друг другу. Видимо, герои «примитивной» эпохи
оттого чувствуют себя своими в сверхфантастическом «доме-цветке»
(по соседству с ними, кстати сказать, расположился и автор,
читающий «изящное стихотворение из 4-х слов "гоум, моум, суум, туум..."»
(с. 601)), что они воплощают в себе столь почитаемый В. Хлебниковым
«древний разум»; город будущего, в представлении поэта, и есть его
наивысшее выражение. Разум этот, как мы помним, находился в
напряженных отношениях с законами морали. Впрочем, и города,
создаваемые фантазией будетлян, «под когтистой рукой» которых, по словам
поэта, уже «многое трещит», «ведут междоусобную борьбу за солнце
и кусок неба, будто они мир растений...» (с. 595).
523
Этим все сказано. В. Хлебников игнорирует жизнь духа и на этой
основе объединяет то, что, с нашей точки зрения, считается
противоположным друг другу. Он полагает, что достиг синтеза, что
рациональное при этом акте как бы проникается стихией примитивного,
стихией, к которой всегда влекло футуристов. Рационализм в этой
ситуации будто бы теряет свойства «отвлеченного начала», сливаясь воедино
с животворным «духом земли» (с. 593). Вот почему поэт не замечает
своих противоречий. То, что нам в его сочинениях кажется насилием
над природой, в его собственных глазах выступает как ее торжество
или как борьба за ее торжество.
Все здесь изложенное полностью распространяется и на
лингвистические эксперименты В. Хлебникова.
Разумеется, что между «первым» и «вторым» хлебниковским
отношением к слову нет непроходимой границы. Об этом говорит хотя
бы тот факт, что поэт продолжает называть «звездный язык»
«заумным», а эти понятия, как мы убедились, не вполне идентичны. И все
же «плавление» славянских слов, свойственное раннему В.
Хлебникову, в силу того, что подобный эксперимент был построен на
корневой лексической основе, представляется нам более органичным,
нежели характерное для его позднего творческого периода
«утверждение азбуки» (с. 629) в качестве основного принципа
словотворчества. Данное условие открывало поистине необъятные возможности
для безудержного, голого экспериментаторства, никак не
сопрягающегося с законами живых языков. То, что поначалу в какой-то мере
объединяло В. Хлебникова в области «философии» слова с
символистами, с тем же А. Белым, постепенно уступало свою власть попыткам
перенесения в сферу слова враждебных символизму приемов кубизма
и абстракционизма.
Упоминая о новой живописи, В. Хлебников писал: «Как химик
разлагает воду на кислород и водород, так и эти художники
разложили живописное искусство на составные силы, то отымая у него
начало краски, то начало черты» (с. 619). Подобно «течению
живописного анализа», надеявшегося выработать у зрителя представление
о предмете изображения посредством чисто живописных средств,
В. Хлебников рассчитывал построить единый для всех народов язык
с помощью «распыления слов на единицы мысли в оболочке
звуков...» (с. 623).
524
«Заумный язык, — излагал он свою точку зрения, — исходит из
двух предпосылок:
1. Первая согласная простого слова управляет всем словом —
приказывает остальным.
2. Слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и
тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку
рассудка» (с. 628).
Беря ряд слов, начинающихся одним и тем же согласным звуком,
и предельно абстрагируясь от их смыслового значения, В. Хлебников
создавал опытный образец новой азбуки:
«1) В на всех языках значит вращение одной точки кругом другой
или по целому кругу или по части его, дуге, вверх и назад.
2) ...означит замкнутую кривую, отделяющую преградой
положение одной точки от движения к ней другой точки (защитная черта).
3) ...3 значит отражение движущейся точки от черты зеркала под
углом, равным углу падения. Удар луча о твердую плоскость. <...>
17) ...Щ означает разбивку поверхности, целой раньше, на разные
участки, при неподвижном объеме...» (с. 621—622).
Утверждая, что согласный звук «есть имя, неделимое тело языка»
(с. 628), и рассчитывая с помощью этих звуков-атомов строить язык,
В. Хлебников, как мы имели возможность убедиться, оперирует
понятиями, характерными именно для кубизма: точка, черта, плоскость,
объем... Не случайно, подводя итоги своим лингвистическим
изысканиям, он замечает, что «звуки азбуки — суть имена разных видов
пространства» и что «азбука, общая для многих народов, есть краткий
словарь пространственного мира, такого близкого... искусству»
художников (с. 622). Художников, ориентирующихся, конечно, на кубизм.
Показательно в этом отношении, что хлебниковский пророк Зан-
гези, пропев перед толпой слушателей «песни звездного языка» и
объяснив им значение согласных звуков в духе приведенной выше
«азбуки», взволнованно восклицает: «Слышите ли вы меня?
Слышите ли вы мои речи, снимающие с вас оковы слов? Речи — здания
из глыб пространства.
Частицы речи. Части движения. Слова — нет, есть движения в
пространстве и его части — точек, площадей.
Вы вырвались из цепей ваших предков. Молот моего голоса
расковал их — бесноватыми вы бились в цепях.
525
Плоскости, прямые площади, удары точек, божественный круг,
угол падения, пучок лучей прочь из точки и в нее — вот тайные
глыбы языка. Поскоблите язык — и вы увидите пространство и его
шкуру» (с. 481).
Ненависть к окружающему миру, в основе которой лежало
неприятие буржуазной цивилизации, чувство, питавшее творчество
футуристов и породившее их анархо-индивидуалистический бунт, доведено в
этом монологе из итоговой «сверхповести» В. Хлебникова до
логического предела. «Звездный язык», созданный волевым усилием
теоретика, представляется ему (поэт говорит от имени русских футуристов)
«новым искусством, у порога которого мы стоим» (с. 628). Он мечтал о
языке, как бы находящемся «на службе у разума свободы». С его
помощью он надеялся обрести «свободу от данного мира...» (с. 633, 627), а
потому устами все того же Зангези провозглашал.
Слышу я просьбу великих столиц:
Боги великие звука,
Пластину волнуя земли,
Собрали пыль человечества,
Пыль рода людей,
Покорную каждым устам,
В большие столицы,
В озера стоячей волны,
Курганы из тысячных толп.
Мы дышим ветром на вас,
Свищем и дышим.
Сугробы народов метем,
Волнуем, волны наводим и рябь,
И мерную зыбь на глади столетий.
Войны даем вам
И гибель царств
Мы, дикие звуки,
Мы, дикие кони.
Приручите нас:
Мы понесем вас
В другие миры,
Верные дикому
Всаднику
Звука (с. 498).
526
Мистифицируя жизнь звуков, полагая, к примеру, что в годы
революции и гражданской войны именно «Эр, Ка, Эль и Гэ — / Воины
азбуки — / Были действующими лицами» битв, а «воля людей» лишь
«окружала их силу», В. Хлебников верил, что «человечество, звуков
табун оседлав» (с. 479, 498), построит «другой мир». Так, он
рассчитывал «с помощью языка измерить длину волн добра и зла» (с. 625),
именно на «языкознание», «науку словотворчества», возлагая задачу
скорейшего достижения этой цели.
Но заметим, что «выум — ...изобретающий ум>», к которому якобы
«ведет» «нелюба старого» (с. 483) и чьи возможности были
продемонстрированы Зангези-Хлебниковым в идее «звездного языка»,
построенного посредством разложения слова на звуковые элементы («Из
старых слов сделал крошево» (с. 455), — говорил по этому поводу поэт),
вряд ли оставлял место для какой-либо духовно-нравственной жизни
человека. Духовная свобода личности подменялась здесь чисто
геометрической, абстрактно-логической категорией пространства.
И это не было случайностью. Как мы помним, В.
Хлебников-теоретик не брал в расчет конкретного человека, не испытывал интереса к
его внутреннему миру. При этом условии бунт поэта против морали и
традиций ненавистного ему буржуазного общества выливался в
нигилистический бунт против морали вообще. Разрушая слово, делая его
предметом лингвистических экспериментов в духе кубизма, он, сам
того не желая, разрушал человека, превращал его духовную сферу в
своеобразный полигон для разного рода рассудочных,
«математических» манипуляций. В результате слово сопрягалось с числом, «наука
словотворчества» — с «математическим пониманием истории» (с. 629).
6. «Идет число на смену верам...»
О своих «звездных песнях» Зангези говорит, что в них «алгебра
слов смешана с аршинами и часами» (с. 481). В статье «Свояси» (1919),
задуманной как предисловие к несостоявшемуся изданию, В.
Хлебников сообщает, что в последнее время он «перешел к числовому письму,
как художник числа вечной головы вселенной...» (с. 38). Уже из этих
источников, относящихся к позднему периоду его творчества, видно, с
каким подчеркнутым пиететом он подходит к числу. Не случайно еще
527
в самом начале своего пути поэт заявлял: «...правда взяла звучалью
уста того, кто сказал: слова суть лишь слышимые числа нашего бытия.
Не потому ли высший суд славобича всегда лежал в науке о числах?»
И продолжал в полном соответствии с высказанной мыслью: «...не
следует ли предаться непорочной игре в числа бытия своего, чаруя ими
себя, как родом новой власти над собой, и прозревая сквозь них
великие изначальные числа бытия-прообраза?» (с. 579, 581)23.
Можно сказать, что В. Хлебников напророчил здесь свою будущую
эстетику, во всяком случае ее пафос выразил предельно точно.
Стремясь, по собственному выражению, построить «мост к звез<дам>»
(с. 642), он чем дальше, тем больше усматривал в числе своего главного
союзника, а потому вышеозначенные полуутверждения-полувопросы в
пифагорейском вкусе постепенно сменились у него развернутой
системой взглядов, определенной им как «Гамма Будетлянина».
«Гамма будетлян, — писал В. Хлебников в статье «Наша основа», —
особым звукорядом соединяет и великие колебания человечества,
вызывающие войны, и удары отдельного человеческого сердца» (с. 629).
Древнейшее по своим генетическим корням желание поэта постичь
«единство между змееобразным движением / Хребта вселенной и пляской
коромысла» (с. 79), его призыв к «художникам будущего... смотреть
на себя как на небо и вести точные записи восхода и захода звезд
своего духа» (с. 37) не могут не вызвать нашего сочувственного отклика,
как не может не вызвать уважения читателя упорное стремление поэта
поставить открытые им законы этого единства на службу человечеству,
перевести их, так сказать, из плоскости философских разговоров в
плоскость практических дел.
Но тут-то и возникают возражения, ибо хлебниковская идея
синтеза, его «великое звуковое искусство будущего» исходят из
абсолютизации роли числа. «Многие соглашаются: бывающее едино, — писал
В. Хлебников. — Но никто еще до меня не воздвигал своего
жертвенника перед костром моей мысли, что если все едино, то в мире
остаются только одни числа, т. к. числа и есть не что иное, как отношение
между единым, между тождественным, то, чем может разниться
единое»24. «Единое» подменено здесь понятием «тождественного» —
операция, вполне характерная для В. Хлебникова. Неудивительно, что при
таком подходе число начинает главенствовать в мире, становясь
выражением сути различных его проявлений. В результате многообразие
528
живой действительности сменяется единообразием — открыт путь к
разного рода математизированным манипуляциям с нею.
«Если существуют чистые законы времени, — утверждал поэт,
впрочем, ничуть не сомневаясь в их существовании, — то они должны
управлять всем, что протекает во времени, безразлично, будет ли это
душа Гоголя, "Евгений Онегин" Пушкина, светила солнечного мира,
сдвиги земной коры и страшная смена царства змей царством людей...»25.
«Люди» и «змеи», органическое и неорганическое, материальное и
духовное становятся у Хлебникова «равноправными гражданами одних и
тех же уравнений»26. (Для нас в данном случае в равной мере
показательны хлебниковские выражения «одних и тех же» и «уравнений».)
Присущее поэту желание «найти ключ к часам человечества, быть
его часовщиком и наметить основы предвидения будущего»27
базировалось, по его словам, на иной, чем «у древних пророков», основе. Он
хотел осуществлять эту задачу «не с пеной на устах», «а при помощи
холодного умственного расчета» (с. 631). Отсюда постоянные в его
художественных и теоретических сочинениях противопоставления
«меры» «вере», «часов» — «весам» и т.д. Не то, чтобы он открыто
посягал на духовное начало, нет, он просто считал, что, будучи
выражена числом, эта субстанция становится ближе, адекватнее своей сути.
Необходимо обратить внимание на еще один аспект, непосредственно
связанный с осуществлением мечты поэта о «едином человечестве»
(с. 632). Люди, писал он в «Досках судьбы» (1922), всегда признавали над
собой «власть... чистых законов» времени, но фиксировали это
«чувство подданства посредством повторных враждующих вероучений,
стараясь изобразить дух времени краской слова.
Учение о добре и зле, Аримане и Ормузде, грядущем возмездии, это
были желания говорить о времени, не имея меры, некоторого аршина...»
Иначе говоря, развивал свою мысль теоретик, «лицо времени писалось
словами на старых холстах Корана, Вед, Доброй Вести и других
учений». В «Досках судьбы», по его мнению, «то же великое лицо
набрасывается кистью числа и таким образом» здесь «применен другой подход
к делу предшественников. На полотно ложится не слово, а точное число
в качестве художественного мазка, живописующего лицо времени»28.
Но в том-то и дело, что предпринятая Хлебниковым операция по
«построению уравнения отвлеченных задач нравственности» (с. 626)
ничего общего с живописанием действительности не имеет, в лучшем
529
случае она дает нечто среднестатистическое и, следовательно,
далекое от истинной жизни. Однако поэт, увлеченный своим методом и
открывающимися перспективами, трагически не понимал этого. Иначе
разве смог бы он с завидной легкостью указывать «на поверхностность
понятия государства и народов» (особенно последних), а ведь делал
он это, как мы смогли убедиться, не единожды. Разве не
компрометируют его концепцию, а отнюдь не способствуют ее торжеству, как ему
представлялось, следующие строки: «Точные законы свободно
пересекают государства и не замечают их, как рентгеновские лучи
проходят через мышцы и дают отпечаток костей: они раздевают
человечество от лохмотьев государства и дают другую ткань — звездное небо»
(с. 631). Вряд ли «звездное небо» почувствовало бы себя уютно в
качестве одежды для скелета!
И вновь — в который раз! — приходится признать, что «легкость»
В. Хлебникова в пропаганде якобы «открытого» им «закона времени»
обусловлена присущим футуризму, чьим теоретиком он являлся,
нигилизмом. Ведь за хлебниковской формулой:
Законы быта да сменятся
Уравнениями рока.
Персидский ковер имен государств
Да сменится лучом человечества (с. 614),
за его желанием обрести «свободу от вещей» (с. 579) таился вовсе не
безобидный жест. Вот она истинная подоплека его теории: «Я не
выдумывал эти законы; я просто брал живые величины времени, стараясь
раздеться донага от существующих учений...»29. Или: «Поколение
Чаадаева разделось от одежд, портной Карамзин» (с. 647).
Конечно, хлебниковское стремление к «разоблачению» от платья в
значительной степени было вызвано недовольством итогами
буржуазной цивилизации, отсюда его постоянная тяга к праосновам
человечества. «Я всматриваюсь в вас, о, числа, / И вы мне видитесь одетыми в
звери, в их шкурах» (с. 79), — такими словами начинает поэт свое
стихотворение «Числа», а в более раннем его произведении «Вам» данный
мотив звучит еще более определенно: «Невольно числа я слагал, / Как
бы возвратясь ко дням творенья...» (с. 56).
Все эти мотивы уже не раз встречались у поэта, причем почти в тех
же выражениях. Но ведь и упоение примитивом, что бы ни лежало в
530
основе этого чувства, возникает не только от недоверия к накопленной
человечеством культуре, но и от желания начать все с чистого листа.
Вот тут-то и появляется почва для нигилизма. В. Хлебникова еще можно
понять, когда он осуждает «рабское поклонение перед прошлым»; иное
дело, когда желанную «свободу от вещей» он хочет обрести с помощью
так называемых мнимых чисел, полюбившихся ему «выражений вида
V - 1», так как они якобы «отвергали прошлое...» (с. 579). Этот «порыв»
мнимых чисел встречен поэтом с нескрываемым сочувствием, ибо он
полагал, что «истина разно понимается поколениями», и, следовательно,
«каждое поколение как бы держит в руках игрушку, в которой
разочаровывается следующее, и ищет новой» (с. 648).
Так, не обременяя себя грузом прошлого, выступил В. Хлебников в
дорогу. Если в мире, по его разумению, остались только числа,
выражающие соотношения между тождественными явлениями, то власть
их несомненна и непреложна. Подобно жизни звуков, поэт
мистифицирует их жизнь в надежде «дать законы правильного разума...»
(с. 631). Не человек ведет, а число! К слову, о подвиге Б. Самородова,
руководившего восстанием Волжско-Каспийской флотилии, сказано
буквально следующее: «...дух отважного подвига вызван в нем
тринадцатой степенью двух, считая от рождения»30. Менялось числовое
выражение «закона времени», но «мистическое» содержание его оставалось
неизменным. В статье «Закон поколений» (1914) о механизме
вычислений В. Хлебникова читаем: «...берутся года рождений борцов —
мыслителей, писателей, духовных вождей народа многих направлений, и,
сравнивая их, приходишь к выводу, что борются между собой люди,
рожденные через 28 лет...» (с. 648). В «Досках судьбы» эта мысль еще
более заострена: «Поступок и наказание, дело и возмездие.
Если в первую точку умирает жертва, через З5 умирает убийца.
Если первая точка отмечена крупным военным успехом некоторой
волны человечества... то вторая точка через Зп суток будет остановкой
этого движения, днем отпора ему...»31.
Проповедуя «железную силу... уравнения», Хлебников становится на
фаталистическую точку зрения. Не случайно он замечает, что «закон
28 лет шатает понятие свободной воли» (с. 651). То же самое он
сказал бы и про закон «двойцовых» и «тройцовых» времен. Сказал бы с
гордостью, ибо думал, что открывает тем самым человечеству путь к
звездам. «Понять волю звезд, — убеждает он, — это значит развернуть
531
перед глазами всех свиток истинной свободы» (с. 632). Это ли не
свобода, если с помощью «законов времени» и смерть будет побеждена, во
всяком случае изменится отношение к ней. Используя «закон рождений
подобных людей», гласящий, что такие люди рождаются с интервалом
в 365 лет, мы, утверждает В. Хлебников, «стоим у порога мира, когда
будем знать день и час, когда... родимся вновь, смотреть на смерть как
на временное купание в волнах небытия» (с. 631).
Такие перспективы вызывали у В. Хлебникова чувство гордости за
себя и свое «открытие». Еще в «Кургане Святогора» он провозглашал:
«Делаясь шире возможного, мы простираем наш закон над пустотой,
то есть не разнотствуем с богом до миротворения» (с. 579). Ощущение
всемогущества рождало желание действовать «по произволу» (с. 630).
«Мы ведь в свободной земле свободные люди, / Сами законы творим...»
(с. 151), — с такими словами обращается он к адресату стихотворения
«Детуся! Если устали глаза быть широкими...». Как же быть в этом
случае со «свободной волей», якобы побежденной «точными законами», в
которых, в свою очередь, дескать, отразилась «закономерность
человеческой судьбы...» (с. 630)?
В. Хлебников, по-видимому, не замечал этого противоречия,
порожденного волюнтаризмом его метода. По его воззрениям, свободной воли
не лишался творец или немногие творцы «законов», призванные играть
мессианскую роль благодетелей человечества, человечества, отныне и
навсегда единого в своих устремлениях, желаниях, чувствах, судьбе.
И главное — свободного от непредсказуемых ударов рока, «ведь уже
трепещет буря, / Полупоймана числом» (с. 100). Эти строки взяты нами
из стихотворения «Зверь + число», в котором поэт вступает в спор с
Апокалипсисом. Духовная мистерия Откровения занимала
воображение многих символистов. Будетлянин В. Хлебников заменил ее
«мистерией» числа.
Вместо мучительных поисков истины, выбора между добром и злом
поэт предлагает найти некую меру вещей, в том числе духовного и
этического порядка, с помощью которой человечество, наконец, обретет
счастье и покой. Можно, естественно, понять страсть неофита,
думающего, что ему удалось избавить человечество от страданий, и
благородная страсть эта, подчеркиваем, глубоко укоренена в русской
духовной традиции, всегда жаждавшей жизненного строительства. Но не
принять. Ибо согласиться с путями решения данной проблемы, пред-
532
ложенными В. Хлебниковым, значило бы превратить человечество «в
бесспорный общий и согласный муравейник»32, о котором как идеале
общественного устройства, полагая, что «ничего нет бесспорнее хлеба»
и что людям якобы присуще стремление «устроиться непременно
всемирно»33, рассуждает Великий Инквизитор Достоевского.
Про могучий «клич любви и хлеба», как мы помним, упоминает и
хлебниковский герой Э, надеясь с помощью этого своего рода
«вечного зова» человеческой природы реабилитировать в наших глазах
людей, погружающихся в пучину «зла». «...Кипучий трудом
муравейник», бессильный противостоять жестокому року, воспринимается в
«Детях Выдры» как своеобразный символ жизни. Не случайно
персонаж «сверхповести», старый «мудрец», говорит:
И жизни понятен мне снова учебник,
Мрет муравейника правда живая34,
А ты, таинственный волшебник,
За дубом стоишь, убивая (с. 442).
В. Хлебников будто вспоминает про Достоевского, когда
использует эти образы, будто подключается к тому спору, который на
страницах «Братьев Карамазовых» ведет Великий Инквизитор с молчаливо
слушающим его Христом: «...вместо того чтоб овладеть свободой
людей, ты увеличил им ее еще больше! Или ты забыл, что спокойствие и
даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и
зла? Нет ничего обольстительнее для человека как свобода его совести,
но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для
успокоения совести человеческой раз навсегда — ты взял все, что есть
необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по
силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе... Вместо
того чтоб овладеть людскою свободой, ты умножил ее и обременил ее
мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал
свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный
и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона — свободным
сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло,
имея лишь в руководстве твой образ пред собою...»35.
Бесспорно, что В. Хлебникова привлекали более проблемы
натурфилософские, нежели проблемы человеческой личности, поэтому
рассуждения героя «поэмки» Ивана Карамазова имеют к нему отноше-
533
ние не прямое, а косвенное. Актуально для поэта здесь лишь то, на
чем специально настаивает Великий Инквизитор: чтобы человечество
было счастливо, нужно заменить свободу выбора «твердыми
основами», «твердым законом». На языке В. Хлебникова это означает:
вместо «веры» необходимо вооружить человека «мерой», дать ему в руки
«аршин», которым можно измерять все, даже добро и зло.
Христианство же таким «аршином» не обеспечивает, идея борьбы со смертью
в этом вероучении представляется поэту весьма и весьма
проблематичной, а поэтому он солидарен с героем Достоевского в своем гневе
против Христа, не очень задумываясь над тем, во что превратится
осчастливленное «изобретателями»-«марсианами» человечество,
лишенное духовной свободы. Для Великого Инквизитора человеческое
«стадо» — идеальная модель общественного устройства. В.
Хлебников — поэт и человек, думаем, ужаснулся бы такой перспективе. В.
Хлебников-теоретик, ставя человека в прямую зависимость от природы,
точнее, рассчитывая на спасительную и восстанавливающую силу
некоего «природного» разума, шел именно в таком направлении. В этом и
состоит драма его творчества. Жрец из «Гибели Атлантиды» в своем
рационалистическом своеволии посягнул на «тайну жизни», физически
уничтожив ее воплощение — Рабыню; «жрец» В. Хлебников посягнул
на «тайное тайных» — сокровенную жизнь человеческой личности, на
ее духовное самоопределение.
«Гамма Будетлянина», пути к которой, по В. Хлебникову,
открывали «звездный язык» и «числовые законы», не брала в расчет всех
этих «высших» материй. Прекрасен пафос поэта:
Я верю: разум мировой
Земного много шире мозга
И через невод человека и камней
Единою течет рекой,
Единою проходит Волгой (с. 378).
Выразившаяся в этих словах тяга к своего рода «всеединству»,
т.е. такому состоянию Вселенной, когда «соберутся люди и светила /
В общую гостиную» (с. 376), заслуживает уважения. Однако
свойственная поэту недооценка значения духовно-личностной сферы человеческой
жизнедеятельности, невнимание к ней привели к тому, что его
«Прекрасная Дама» — символ этой грядущей цельности мира — оказалась
534
воплощением только телесного начала, которому В. Хлебников в
соответствии со своей эстетической концепцией стремился придать черты
космического совершенства. Благодаря такому подходу эпизод сбора
вишни в поэме «Синие оковы» (1922), например, перерастает рамки
частной истории и предстает в ореоле широкого обобщения. Героиня
в изображении поэта «в одежде белой грешницы, / Скрывая тело
окаянное, / Стоит в рубашке покаянной» (с. 376). Поэт видит в ней
воплощение земной богини.
<...> Лилось из кос начало пьяное —
Земной, веселый, грешный хмель.
Над нею луч порой сверкал,
И свет божественный сиял,
И кто-то крылья отрубал.
В силу того, что она дитя природы и как бы сливается с нею в
единое целое («...то был общий заговор / И дерева и тела»), автор
высказывает следующее предположение, звучащее, скорее, утвердительно:
Быть может, в эти полчаса
Во мне и ей вселенская душа
Искала, отдыхая, шалаша,
И возле ног могучих, босых
Устало свой склонила посох,
Искала отдыха, у темени
Ручей бежал земного времени.
В наборе вишен и листвы,
В полях воздушной синевы,
Где ветер сбросил пояса,
Глаза дрожали — черная роса.
Зеленый плеск и переплеск —
И в синий блеск весь мир исчез (с. 376—378).
Душа мира нашла свое окончательное пристанище на земле, и
потому земное начало потонуло в бездонности космического
пространства — вот смысл этого по-своему впечатляющего отрывка. Людям
свойственно подчиняться разного рода фикциям будничной жизни,
говорит В. Хлебников, и они редко замечают «радостные всем» «другие
синие оковы...» (с. 375), единственное, ради чего стоит жить, что
составляет подлинный смысл человеческого существования.
535
7. «Ладомир»
Революция, по мнению поэта, открыла дорогу в «зачеловеческие
сны» (с. 290). Она — «нечеловеческий поход», предпринятый
восставшим народом и Председателями земного шара с целью построить «над-
государство звезды» (с. 611), именуемое В. Хлебниковым в его
известной поэме Ладомиром.
Произведение это, завершенное в 1920 г., — несомненный итог
творчества поэта, квинтэссенция его идейно-эстетических исканий.
Следовательно, все, что говорилось нами о Хлебникове, имеет к ней самое
прямое отношение. Особый вопрос — ее взаимосвязь с хлебниковскими
произведениями революционной поры.
Ладомир — лад мира, мировой лад, воплощенная в жизнь «гамма
будетлянина», хлебниковское понимание «всеединства», о котором он
писал в своей теоретической работе: «Точное изучение времени
приводит к раздвоению человечества, так как собрание свойств,
приписывавшихся раньше божествам, достигается изучением самого себя, а такое
изучение и есть не что иное, как человечество, верующее в
человечество» (с. 631). Слова самые серьезные, другое дело, какой смысл
вкладывает теоретик в понятие «человечество». Присмотримся к этому более
внимательно. Ведущий мотив начальных строк поэмы:
И замки мирового торга,
Где бедности сияют цепи,
С лицом злорадства и восторга
Ты обратишь однажды в пепел (с. 281), —
легко узнаваем. Противопоставление «приобретателей», чей удел еда
и торговля, «изобретателям» с характерной для них высокой думой о
будущем — тематический стержень многих произведений поэта, хотя
наиболее ярко об этом было заявлено в декларации «Труба марсиан».
Борьба за «звездное» «пространство Лобачевского», которое, уверен
В. Хлебников, «летит с знамен ночного Невского», борьба,
реализующаяся в революционном шествии «творян» (они же «Ладомира соборяне»)
«на приступ на престолы» «дворян», — идейный нерв и
анализируемой поэмы (первоначальное заглавие ее — «Восстание»).
Идейно-художественное «двуединство» концепции В. Хлебникова: «разрушение —
созидание» важно не упускать из виду при сопоставлении этой вещи с
536
другими произведениями поэта, посвященными революции. Хотя,
разумеется, непроходимой пропасти между ними нет и не может быть, все
же в таких поэмах, как «Ночь перед Советами», «Настоящее»,
«Ночной обыск», «Берег невольников», созданных в 1921 г., акцент сделан
на первом элементе данной диады.
Своеобразным эпиграфом к этим произведениям, описывающим
исход извечного конфликта «книги и ржи» (с. 296), могут послужить
строки из «сверхповести» «Зангези»: «17-й год. Цари отреклись.
Кобылица свободы! / Дикий скач напролом» (с. 494).
В соответствии с этим настроением Хлебников считает, что
революция «занесла высоко / Кол / Священной / Огромной погромной
свободы» (с. 339).
Обращаясь к своим современникам с вопросом: «Слышите дикий,
бешеный рев: / Люди проснулись» (с. 315), он передает
волеизъявление улицы в следующих выражениях: «Знайте: самый страшный
грех — / Пощада!» (с. 311); или:
— Ловко, моряки.
Наше дело морское:
Бей и руши!
Бей и круши!
Ломайте, ломайте.
Грабьте и грабьте,
Морские лапти! (с. 323).
В. Хлебников рисует целую галерею «убийц святых», как
аттестуют себя в его поэмах восставшие. Это они, «писатели ножом»,
«священники хохота», «святые зеленой корки», «запевалы паденья
престолов», «скрипачи на брюхе богатых», «свободные художники обуха»,
на все лады славят «святой разбой» (с. 316), веря, что «сегодня крови
нет! / Есть жижа, жижа и жижа» (с. 321).
Отношение поэта ко всему этому достаточно сложно, однако он
уверен, что описываемое им — «настоящее»: заглавие одноименной
поэмы в этом смысле — не только указание на время событий. Не
случайно ее персонаж Великий князь усматривает в революции
возмездие за грехи прежних поколений и не видит ничего
противоестественного в том, что его самого «удавят те же вожжи, / Какими их давили»
(с. 307). Вместе с героиней поэмы «Ночь перед Советами» он различает
537
в этом акте «древней мести кличи». Но самое главное: с ними
согласен и сам автор. В этой связи важно напомнить, что упомянутое
произведение первоначально было озаглавлено «Ночь перед Рождеством».
Что имел в виду В. Хлебников? В поэме «Берег невольников» читаем
относительно победившей революции: «На заре / Из уст передавалось /
В уста, другой веры завет». Это, продолжает поэт, «заводы
трубили / Зорю / Мировому братству...» (с. 340, 341). Рождался Ладомир, про
который в стихотворении «Город будущего» (1920) В. Хлебников
скажет: «Мы входим в город Солнцестана, / Где только мера и длина»
(с. 119).
Таков идеал, так сказать, конечный результат процесса. Настоящий
момент, героями которого являются «мыслители брюхом» (с. 309) и
«ликующий нож» (с. 340), подготавливает почву для Ладомира, точнее,
расчищает место для будущего строительства. Революция для В.
Хлебникова — обрыв всех связей с прошлым. Так думали в те годы многие;
для человека же, провозглашавшего непременным условием прогресса
вражду «возрастов», подобный подход к проблеме был естественным
состоянием. Напомним, что относительную «правду» «желудка»
признавал еще старший участник беседы на пароходе из «Детей Выдры»,
а его младший товарищ предупреждал, что месть обиженного и
униженного народа будет ужасной:
Бойтеся русских преследовать,
Мы снова подымем ножи
И с бурями будем беседовать
На рубежах судьбы межи (с. 309),
Более того, грядущим «восстанием» В. Хлебников грозил
человечеству и в «Журавле»36, а причину возможной катастрофы усматривал
в абсолютном противостоянии начала «книги» и истины «ржи».
Революция разорвала клубок противоречий, пророчество сбылось:
Идут
Люди закона
С книгами!
— Дать капли Дона!
Выгоним! (с. 311).
Будто и не было урока, преподанного Жрецу в «Гибели Атлантиды»!
В качестве рефрена через всю эту поэму проходил мотив гибе-
538
ли города: «Город гибнет. Люди с ним»; «И тонет, гибнет старый
град!» (с. 220, 221). Трагедия разыгралась потому, что в своей «жиз-
нетворческой» гордыне Жрец пренебрег законами природы и
тем самым «безумно» и «жестоко» «вызвал... гнев» моря. «Свирель
морского мятежа», Рабыня, безжалостна в мести за поруганную
жизнь.
Крушение старого мира в горниле революции, каким оно
изображено на страницах произведений В. Хлебникова, напоминает сюжет
его «Гибели Атлантиды» вплоть до мельчайших акцентов. Не
случайно он, написавший в брошюре «Учитель и ученик»: «...не
следует ли ждать в 1917 году падения государства?» (с. 589)37, несколько
позднее в утопии «Мы и дома» сказал: «...я думал: потоп и гибель
Атлантиды была или будет? Скорее я склонен был думать — будет»
(с. 602).
Вот почему революционная стихия у него — «море
разливанное», которое «бьется диким неуком, / Ломая разума дела...» (с. 359).
В ней словно материализовался призыв «Маркизы Дэзес»: «Законы
природы, зубы вражды ощерьте! / Либо несите камни для моих хором»
(с. 412).
Что касается «камней», вряд ли поэт видел в «повольнице», этих
стихийных бунтарях, зодчих будущего здания. В одном он был
уверен, что природа как бы восставала в них, выпрямляла свои могучие
плечи. Поэтому казалось, что в эпоху революционной переделки мира
одежды цивилизации и культуры «спадали» с людей, и они подобно
героям «Маркизы Дэзес», «прекрасные и нагие», преодолевали
проклятие отчуждения, возвращали утраченную сущность. Не случайно
В. Хлебников считал, что «свобода приходит нагая...» (с. 461), и
называл себя певцом «свободы дикой», синонимом милого его сердцу
язычества. Вполне закономерно, что умение поэта «на полотне обычных
будней / ...коряво начертать / Хотя бы "божество", / В неловком вымолве
увидеть каменную бабу / Страны умов...» (с. 368)38 он принимал за истинно
высокое искусство.
Революция и воспринята им как торжество язычества, о котором
в сказочной форме он мечтал еще в «Снежимочке» и в «Чертике». Но
если в «Петербургской шутке» притязания Перуна на спасение России
выглядели смешными, то в «Зангези» он демонстрирует свою мощь в
полную силу.
539
Бог Руси, бог руха,
Перун — твой бог, в огромном росте
Не знает он преград, рвет, роет, режет, рубит (с. 479), —
изрекает В. Хлебников устами своего пророка, а в «Ладомире»,
обращаясь к загнанному на задворки жизни христианским Богом «холопу»,
говорит, что подобное существование будет продолжаться до тех пор,
«пока рукой земного руха» не будет он «освобожден». Для такого дела
национальные рамки просто-напросто тесны, оттого в поэме «Ладо-
мир» берется масштаб «вселенской души». И тут уж не обойтись без
Бога.
Богоборческая тема, как мы успели заметить, имеет для В.
Хлебникова принципиальное значение. Особенно остро она зазвучала в то
время, когда на страницы его произведений, говоря словами В.
Маяковского, вылился «корявый говор миллионов».
Бог! Говорят, на небе твоя ставка!
Сегодня ты — получаешь отставку!
На вилы,
Железные вилы подымем
Святое для всех господа имя! (с. 315), —
доносятся до читателя поэмы «Настоящее» «голоса с улицы». «...Пути
пули — через богородиц», — в этом абсолютно уверены хлебников-
ские герои, которые подобно некоему «морскому волку» из «Ночного
обыска» не только готовы стрелять в Бога, но и хотят его «победить»,
испытывая при этом радость человекобожеского подвига39. На языке
«звездной» азбуки В. Хлебникова это означает, что «Эм ворвалось
в владения Бэ, чтоб не бояться его, выполняя долг победы» (с. 484).
Эм для него звуковой символ «сильного слова "Могу"»,
прославлению которого посвящена вся «плоскость X» «сверхповести» «Зан-
гези».
Окрашенной в подобные социально-философские тона предстает
богоборческая тема и в поэме «Ладомир». Вот характерный для
данного произведения ее поворот:
Опять волы мычат в пещере,
И козье вымя пьет младенец,
И идут люди, идут звери
На богороды современниц.
540
Я вижу конские свободы
И равноправие коров,
Былиной снов сольются годы,
С глаз человека спал засов (с. 288—289).
Помимо уже известного нам человекобожеского мотива
(«человечество, верующее в человечество») мы находим здесь и осуществление
старого принципа В. Хлебникова, никогда не видевшего, как он сам писал
об этом в заметке 1904 г., «различия между человеческим видом и
животными видами» и стоявшего «за распространение на благородные
животные виды заповеди и ее действия "люби ближнего, как самого себя"»
(с. 577)40. Революция, по мнению поэта, призвана возвратить человека в
обстановку столь любимой им «примитивной» жизни. С этим
«возвращением» связано для него и понятие Ладомира. Если бы его спросили,
что означает Ладомир, он бы, наверное, ответил: это «страна, где все
люди Адамы...» (с. 354). Это вновь рождающийся мир. Вот почему,
славя «пожарных умного пожара», обращаясь к человеку революции со
словами призыва: «Всегда жестокий и печальный, / Широкой бритвой
горло нежь!», — поэт с удовлетворением замечает, что его герой «из всей
небесной готовальни / ...взял восстания мятеж», а оттого верит:
непременно «падет на наковальню / Под молот — божеский чертеж!» (с. 288).
Революция для В. Хлебникова — явление космического порядка,
она «божественный взрыв», в результате которого не только
уничтожается старое, но и творится новый универсум. И в этом своем
качестве она, по его воззрениям, торжество футуристической идеологии.
Чтобы осуществился футуристический принцип, по которому
человечеству предписывалось «от кончины плыть к молодости», «чтобы
сильнее и мятежнее / Земля неслась в надмирный ярус», презрев при этом
законы быта и «торга», В. Хлебников решает заменить разрушенный
«божеский чертеж» планом собственного изготовления. «Не мелом, а
любовью» предлагает он чертить «того, что будет, чертежи», и,
выполнив это условие, можно быть уверенным, что «рок, слетевший к
изголовью / Наклонит умный колос ржи» (с. 293).
Иными словами, восторжествует забытый людьми природный разум,
воплощением которого, с точки зрения поэта, и является Ладомир, а
древний рок, несущий всему живому смерть, дробящий «единую книгу»
человечества на клетки наций и народностей, наконец будет побежден.
«Люблю весь мир я» (с. 285), — вот формула хлебниковского Ладо-
541
мира, и она была бы очень хороша, если бы в ее основе не лежал
слишком хорошо знакомый нам математический жест В. Хлебникова: «Я род
людей сложу, как части / Давно задуманного целого» (с. 277).
Правда, эти строки взяты нами из другого произведения поэта, и, на
первый взгляд, кажется, что поэма «Ладомир» лишена подобных
крайностей. Но это обманчивое впечатление. Вот типичное выражение хлебни-
ковского «лада»: предлагая «лучшим умам» человечества «намордники
одеть на моры», он рисует триумф своей идеи в следующих выражениях:
Это у смерти утесов
Прибой человечества.
У великороссов
Нет больше отечества (с. 290).
Идеолог «меры», В. Хлебников забывает, что «отечество» не
географическое и не биологическое понятие, и тот, кто на основании
поверхностных совпадений увидел в поэте последователя «философии общего
дела» Н. Федорова, просто-напросто ошибся, ибо для русского утописта
характерно, в отличие от Хлебникова, провозглашение «культа отцов»
вплоть до их физического «воскрешения». «Отрицание отечества»,
которое философ приписывал прогрессу, выражающееся в «критическом
отношении молодого поколения к старшему», есть, с его точки зрения,
«отрицание самой нравственности». Н. Федоров был сторонником
«такого воспитания, которое было бы взаимным возвращением сердец отцов
и сынов друг другу». Оно, развивал он свою мысль далее, «не в
сознании превосходства над отцами, а в сознании отцов в себе и себя в них»41.
Что могло быть общего у В. Хлебникова, настаивавшего на «войне»
со «старшими возрастами», с автором проекта «воскрешения отцов»,
если теоретик футуризма выдвигал не менее фантастический, но
абсолютно лишенный нравственной основы проект построения «у устья
Волги», где «встречаются великие волны России, Китая и Индии»,
Храма «изучения человеческих пород и законов наследственности»,
чтобы «создать скрещиванием племен новую породу людей, будущих
насельников Азии...» (с. 617)? Разумеется, ничего. Зато эти гомункулусы
с кастрированным чувством Родины стали бы прекрасными
носителями «дикой», «примитивной» воли, особенно ценимой футуристами.
Именно будетляне, эти «юноши, что клятву дали / Разрушить языки»,
выступают в поэме как «грядущего творцы». А среди них «в дерзко бро-
542
шенной овчине», «буен и смел», проходит и сам В. Хлебников, «чтобы
зажечь костер почина / Земного быта перемен» (с. 291).
Иного и не могло быть. Поэт не только считает себя и своих
друзей своего рода буревестниками революции, но и нарекает их зодчими
Ладомира. «Идя восстания тропой», бывшие гилейцы, по его мнению,
«мало... утратили» из своих сказочных богатств. Наоборот, годами
аккумулируя мятежную волю, они оказались способными на большее, чем
восставший народ. Отсюда характерный для В. Хлебникова мотив:
И в звездной охоте
Я звездный скакун,
Я — Разин напротив,
Я — Разин навыворот. <...>
Он грабил и жег, а я слова божок. <...>
Разин деву
В воде утопил.
Что сделаю я? Наоборот? Спасу! (с. 350).
Формула «Разин напротив» не что иное, как реализация «закона
поколений» или, по хлебниковскому образному выражению, «закона
качелей», в основе которого лежит идея повторяемости, цикличности
времени. Но даже если этого не знать, нетрудно обнаружить в
подобном повороте «разинской» темы у В. Хлебникова то, чего нет, скажем,
у В. Каменского: тягу к созидательной работе. Так что поэт явно льстил
своим собратьям, считая их соавторами идеи грядущего синтеза или
мирового лада. Эта идея всю жизнь владела его сознанием. Вот почему,
отдав должное размаху «буйных воль», возвратившему восставших в
родное природное лоно, он считал необходимым обратиться к ним со
следующим призывом:
Люди! Утопим вражду в солнечном свете!
В плаще мнимых звезд ходят — я жду —
Смелых замыслов дети,
Смелых разумов сын! (с. 133).
«Божественный гнев», несмотря на все величие своего дела, все
же ложная величина, «мнимая звезда»; «смелые замыслы», чтобы
дать результат, требуют прививки «смелых разумов» — вот смысл
этого хлебниковского четверостишия 1921 г. Среди революционных
«Воинов Разума» (с. 617) поэт выделял себя вполне справедливо. Люди,
543
по его мнению, должны свободно переходить не только «из владений
ума в замок "Могу"» (с. 485), но и обратно. Рычаги этого особого
разума все те же: «звездный язык» и «закон времени», благодаря которым
природа и человеческая мысль встречаются, по В. Хлебникову, в
великом синтезе Ладомира. Об этом поэт пишет с гордостью:
Дорогу путника любя,
Он взял ряд чисел, точно палку,
И, корень взяв из нет себя,
Заметил зорко в нем русалку.
Того, что ни, чего нема,
Он находил двуличный корень,
Чтоб увидать в стране ума
Русалку у кокорин (с. 291—292).
Здесь предусмотрено все, за исключением разве что души. Тем
более жизни духа. В своем неоязыческом порыве поэт был склонен
проигнорировать данную субстанцию. И в этом было нечто закономерное, ибо
«я<зычество> есть религия самодовлеющего космоса. Все специфич<ески>
человеческое, все социальное, личностное или "духовное" для я<зычества>
в принципе приравнено к природному и составляет лишь его магич<ескую>
эманацию. <...> Этика я<зычества> — это не этика свободного
личностного выбора, а этика космич<еского> равновесия сил»42. Но в XX в.
стремление воскресить язычество бесплодно и утопично. Более того,
подобные попытки мстят за себя. Лишая человека духовного стержня,
В. Хлебников превращает его волю в арену взаимодействия, казалось бы,
противоположных, а на самом деле вполне сопрягающихся сил:
«примитивных» чувствований и ультрарациональных дерзаний.
Правда, в хлебниковском утопическом «Ладомире» не воплощены
ранее выдвинутые им проекты типа следующего: «...размеры шатра
(жилища будущего человека. — B.C.) во всей стране — одного и того
же образца. На стеклянной поверхности чернело число, порядок
владельца. <...> Таким образом, возник владелец: 1) не на землю, а лишь на
площадку в доме-остове, 2) не в каком-нибудь определенном городе, а
вообще в городе страны, одном из вошедших в союз для обмена
гражданами. <...> Похожий на кости без мышц, чернея пустотой ячеек для
вставных стеклянных ящиков, ставших деньгами объема, в каждом
городе стоял наполовину заполненный железный остов, ожидавший
544
стеклянных жителей» (с. 598). Однако и свою утопию мирового лада
В. Хлебников создавал, говоря его же словами, «следуя разумному
чертежу...» (с. 586). Отсюда характерное для него признание: «...в чертежах
прочту судьбы я, / Как блещут алые зарницы», связанное с тем, что в
грядущем Ладомире, по его твердому убеждению, «числу, в понимании
хаты, / Передастся правительств узда» (с. 285, 289). «Облачный пахарь»
Ладомира, этой «Лебедии будущего», не рассчитывая больше на Бога,
«уравненьям вверил озими / И нес ряд чисел на груди» (с. 291).
Чудесная власть «меры» разрешила, наконец, в утопии поэта и
продовольственный вопрос. Здесь, в Ладомире
Для рта столиц волна зажарена
И чад идет озерной водки.
Озерных щей ночные паровозы
Везут тяжелые сосуды ... (там же).
Наивный пафос подобных мечтаний, перешедших в поэму из
целого ряда статей В. Хлебникова 1918 г., не может не вызвать сочувствия,
особенно если учесть, что все это писалось в голодной и разоренной
России. Но не о том сейчас речь. Смущает крайний рационализм хлеб-
никовской утопии, замешанный на характерной для всех футуристов
тяге к «примитивным» формам человеческого существования. И не
только русских, но и итальянских, ибо техническая утопия Маринетти
предполагала «примитивный» уровень чувствования, мышления и
поведения человека.
Вот каким, вопреки субъективным намерениям теоретика,
оказывалось хлебниковское «человечество, верующее в человечество».
Поэт хотел показать людям путь к звездам, победить смерть.
Конечность человеческого существования его явно не устраивала, он
жаждал Вечности. Поэтому он и объявил войну биологической природе
человека. Но весь парадокс и драма хлебниковского теоретизирования
состоят в том, что в качестве главного своего оружия он избрал ту же
самую природу, пусть и не замкнутую в границы присущих человеку
представлений о времени и пространстве. Разрывая с миром
трансцендентного бытия, В. Хлебников лишал человека высокой духовной
перспективы и подлинной свободы. Само «небо» поэта, говорящее на его
«звездном языке», обернулось рационализированной утопией, далекой
от живых человеческих устремлений.
545
Глава IV
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ:
«ПРОЕКТ ЛУЧШЕГО МИРА»
1. Первая трагедия
Творческая судьба В. Маяковского тесно переплетена с историей
и самоопределением кубофутуризма. Характерная для этого течения
атеистическая религия человека и человечества, то, что Ф.М.
Достоевский формулировал как стремление людей «устроиться без Бога, и
притом навсегда и окончательно», получила в лице Маяковского свое
предельное и законченное выражение. С нею связаны его взлеты и
падения, трагические заблуждения и прозрения. Анализ его творчества вне
этого культурфилософского контекста будет неизбежно обречен или на
одномерную апологию поэта1, или на не менее плоскую карикатуру2.
Уже в «первом профессиональном, печатаемом» (I, 20)
стихотворении Маяковского начинает складываться образ его лирического героя.
Отметим самое важное: он резко противопоставлен толпе, жаждущей
зрелища. «Громада из смеха отлитого кома» — это, разумеется, сам
герой, вернее, впечатление от его выступления на сцене: ведь он не
считает нужным лишать публику удовольствия. Толпа и поэт — некое
композиционное ядро, столь хорошо знакомое нам по множеству
других стихотворений Маяковского, рождается на глазах читателя; правда,
взаимоотношения двух антагонистов еще далеки от той сложности и
драматичности, которые придут позже. Пока же поэт явно «над»
толпой, и даже одиночество в пустом городе («Вбиваю гулко шага сваи, /
бросаю в бубны улиц дробь я...», I, 37) вовсе не пугает его; скорее всего
поэт еще не понял, не осознал, что это — одиночество.
Эпатирующая приподнятость настроения первых стихов Маяковского
проистекает из того, что он знает о времени нечто, неизвестное никому, умеет
то, что недоступно всякому.
Только в цикле «Я» (название, типичное почти для всех крупных
вещей раннего Маяковского) образ лирического героя начинает при-
546
обретать более глубокие очертания. Уже первые строки первого
стихотворения цикла вводят читателя в новый фазис
взаимоотношений поэта и мира: «мостовая... души изъезженной» героя, по которой
«шаги помешанных / вьют жестких фраз пяты», — это еще не «бабочка
поэтиного сердца», но родство между двумя образами вполне ощутимо.
И хотя город — старый знакомый Маяковского (образ «повешенных
городов» — гипербола прежнего: «лебеди шей колокольных, / гнитесь в
силках проводов...»), но отношение к нему иное: прежде
злорадно-императивное — «гнитесь», теперь — «иду / один рыдать, / что
перекрестком / распяты городовые» (1,45). Есть в этом образе некоторая
экстравагантность, но — что особенно важно! — появляется ощущение пустоты
(«иду один»), и не до улыбки уже поэту («иду... рыдать»). И еще одна
деталь: возникает мотив распятия, правда, не соотнесенный
непосредственно с героем, но все-таки создающий необходимое настроение.
Первое стихотворение — своего рода интонационная доминанта
всего цикла, и, может быть, поэтому оно не имеет заглавия.
Четвертое стихотворение — финал — гиперболизирует все мотивы
предшествующих частей (узника города, тоски по красоте, распятия),
делает их зримо маяковскими, выдвигая на первый план центральный
для поэта, растущий от части к части мотив мессианства. Если в
первом стихотворении это всего лишь фраза: «иду один рыдать», в
третьем — намек на «замещение» Христа: «И когда мой лоб, венчанный
шляпой фетровой (это вместо нимба-то! — B.C.), окровавит гаснущая
рама...», то теперь, когда напуганный «адищем города» «Христос из
иконы бежал», поэт хочет занять его место — ведь все равно давно уже
распята его «душа... на ржавом кресте колокольни»:
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека! (1,49).
Этот образ заставляет вспомнить «Слепых» М. Метерлинка и «Жизнь
Человека» Л. Андреева, произведения, в которых воссоздана
атмосфера обреченности современной цивилизации, бессилия человека
предпринять что-нибудь для своего спасения, молчаливой покорности року.
547
Маяковский, как мы видели, не менее трезво судит о симптомах
болезни и все же возлагает на свои плечи тяжелый крест спасителя
(«последнего глаза») слепнущего человечества. Это не подвиг обреченного,
говоря точнее, не стоицизм обреченности, характерный для
поэтического мира Е. Гуро, да и сам герой Маяковского лишь отдаленно
напоминает ее героя, «творящего... красоту... из мечты»3, — он хочет
творить «из жизни» и в жизни. По этой же причине этот «уродец века» в
«шляпе фетровой» мало похож на Христа.
Такова биография поэта, рассказ о его чувствах и верованиях.
Рождался «тринадцатый апостол».
Однако на пути Маяковского к «Облаку в штанах» читатель встретит
трагедию «Владимир Маяковский» (1913), опыт которой чрезвычайно
важен для уяснения закономерностей творческой эволюции поэта.
Трагедия крепкими нитями связана с циклом «Я», и это обстоятельство
не требует доказательств. Начав последнее стихотворение цикла
эпатирующей строкой, поэт обращается к публике с вопросом-вызовом:
«Вы прибоя смеха мглистый вал заметили / за тоски хоботом?» (1,48).
Вопрос задан в такой форме, что ответ напрашивается сам собой: для
толпы поэт — только «рыжий», всего лишь шут, она вступает с ним в
контакт для получения острых ощущений. Между тем поэт о себе иного
мнения: главное в нем — «тоски хобот», тяга к истинному в человеке,
короче говоря, все то, что спрятано за маскарадом, кривлянием,
клоунадой, другими формами эпатажа, которые нужны ему не сами по себе,
а как средства сохранения своего лица, ибо в век мещанских
моральных стандартов сохранить в себе человека, уверен он, можно только
отклонившись от нормы.
Еще более заострена эта мысль в трагедии «Владимир Маяковский».
«Старик с кошками» — воплощение вековой мудрости —
останавливает паясничающего поэта:
Оставь.
Зачем мудрецам погремушек потеха?
Я — тысячелетний старик.
И вижу — в тебе на кресте из смеха
распят замученный крик (I, 156).
Эти слова — ключевой образ дореволюционной (и только ли
дореволюционной?!) поэзии Маяковского. Смех (пестрая фантазия, ка-
548
ламбур, различные маски героя, издевательства, сатирический гротеск
и т.д.) — логическое следствие, развитие и, если хотите, усиление
крика, смысл которого раскрывается в словах поэта: «Нет людей. /
Понимаете / крик тысячедневных мук?..» (I, 113). Не поняв этой особенности
предреволюционного творчества Маяковского, мы не будем
застрахованы от самых серьезных ошибок в трактовке его поэтической
системы. Между тем это заблуждение разделял даже такой
проницательный критик, как К.И. Чуковский. Отмечая характерное для
лирического героя поэта ощущение себя как «носителя и... средоточия всех
увечий, страданий и ран, причиненных человечеству», Чуковский
вместе с тем отмечал: «И все же он в основе своей, как и все
эксцентрики, — комик. <...>
В самых патетических местах он острит, каламбурит, играет словами,
потому что его пафос — не из сердца, потому, что каждый его крик —
головной, сочиненный, потому что вся его пламенность — деланная»4.
Глубоко несправедливое суждение, ошибочность которого
подтверждается всей жизнью и трагической смертью Владимира Маяковского!
Трагедия открывается Прологом, который с успехом мог бы стать
пятым стихотворением цикла «Я». Укрепившись в миссии пророка,
«несущего» свою «душу» «насмешек грозою... / к обеду идущих лет»
(I, 153), шагая сквозь город, уже знакомый читателю по его прежним
стихотворениям, поэт призывает к себе всех страждущих, тех, «кто
выл / оттого, что петли полдней туги», чтобы «словами / простыми,
как мычанье», открыть им тайну «новых душ», тайну, о
существовании которой они не догадываются и которая открыта только ему —
Маяковскому. Поэт настолько уверен, что владеет ключами от
счастья человечества, что всерьез полагает: когда он покажет людям
верный путь, выплакав их горе («С небритой щеки площадей / стекая...
слезою»), его миссия будет закончена, он станет «ненужным». В этом
смысле он, «быть может, / последний поэт». Ведь стоит только «головы
пальцами тронуть» этим людям, и у них «вырастут губы / для
огромных поцелуев / и язык, / родной всем народам» — вот она, «простая,
как мычанье», новая красота, которая уже сейчас, на глазах поэта, «во
всех... разольется наводнением».
В спектакле, поставленном по пьесе, В. Маяковский играл самого
себя. По воспоминаниям художницы Валентины Ходасевич, он «был
почти без грима, на нем желтая кофта, черное пальто и цилиндр. Все
549
происходило на фоне задника — города, увиденного и изображенного
сверху, отчего Маяковский на трибуне казался стоящим высоко над
городом, над толпой, плоской и уродливой. Маяковский на сцене был
единственным объемным персонажем»5.
Ставя своего героя и остальных персонажей в определенные
отношения, известные читателю и зрителю по прежним его произведениям,
поэт играл на сцене свою судьбу, найдя ей, на его взгляд,
подходящее название — трагедия Владимира Маяковского. Это была не
просто игра, скорее всего, вовсе не игра: это была жизнь, точнее,
ощущение, восприятие жизни одним из людей — Владимиром Маяковским.
Персонажи его трагедии были непривычны для зрителя драмы, ибо
поэт создал лирическую пьесу, или, как называл этот жанр Н. Евре-
инов, — монодраму6, в ней действует один герой, а все остальные —
персонификации его ощущений, его внутренние голоса,
взаимоотношения между которыми и создают трагедию — не в
терминологическом, а в буквальном смысле этого слова. Вот почему художественное
оформление спектакля, когда «Маяковский... казался стоящим высоко...
над толпой», далеко не соответствовало духу трагедии, оно не
учитывало всей сложности взаимоотношений ее персонажей — различных
сторон авторского сознания. Такое режиссерское решение спектакля в
большей степени соответствовало той литературно-прототипической
ситуации, которая, возможно, побудила Маяковского к созданию
трагедии. Имеется в виду один из эпизодов книги Ф. Ницше «Так
говорил Заратустра». И дело здесь не в простом совпадении деталей, на что
указывал Н. Харджиев7, а в сознательном следовании общему абрису
ситуации. «...С тех пор как я живу среди людей, — говорил
Заратустра, — для меня это еще наименьшее зло, что вижу я: "одному
недостает глаза, другому — уха, третьему — ноги; но есть и такие, что
утратили язык, или нос, или голову".
Я вижу и видел худшее и много столь отвратительного, что не обо
всем хотелось бы говорить, а об ином хотелось бы даже умолчать:
например, о людях, которым недостает всего, кроме избытка их, — о людях,
которые не что иное, как один большой глаз, или один большой рот,
или одно большое брюхо, или вообще одно что-нибудь большое, —
калеками наизнанку называю я их.
И когда я шел из своего уединения и впервые проходил по этому мосту,
я не верил своим глазам, непрестанно смотрел и наконец сказал: "Это —
550
ухо! Ухо величиною с человека!" Я посмотрел еще пристальнее: и
действительно, за ухом двигалось еще нечто, до жалости маленькое, бедное и
слабое. И поистине, чудовищное ухо сидело на маленьком, тонком стебле —
и этим стеблем был человек! <...>
Самое ужасное для взора моего — это видеть человека
разрушенным и разбросанным, как будто на поле кровопролитной битвы. <...>
Провидец, хотящий, созидающий, само будущее и мост к
будущему — и ах, род калеки на этом мосту: все это и есть Заратустра. <...>
Я хожу среди людей, как среди обломков будущего: того будущего,
что вижу я»8.
«Самое ужасное... это видеть человека разрушенным»... и в то же
время восприятие этих «людей как... обломков будущего» —
несовместимые, полярные идеи, показывающие, насколько
антигуманистичен этический идеал Ницше. Для него эти уродливые люди — только
материал, необходимый для формирования сверхчеловека, и если он
ужасается их грехопадению, то не потому, что любит их, а потому, что
любит в них свой идеал, своего сверхчеловека, не помнящего родства
с тем, что ему предшествовало. Люди не цель, а средство для
достижения цели — вот пафос Заратустры и его творца.
Объективно художественная логика трагедии Маяковского резко
заострена против Ницше. Внешняя похожесть ситуации только
подчеркивает полемическую направленность Маяковского против Ницше —
певца сверхчеловека. Пьеса начинается с извечного русского вопроса:
«Кто виноват?» Кто виноват, говорит поэт, обращаясь к обступившим
его людям, что «в ваших душах выцелован раб», что «в ваших
душонках поношенный вздошек»?
«Душонки» и «новые души, / гудящие, / как фонарные дуги», —
разительный контраст: ясно, на чьей стороне симпатии Маяковского.
Личный опыт подсказывает ему: только полное преодоление старого
состояния открывает путь новому. Вот почему он столь ироничен, когда
рассказывает о поисках «души» в мире мещан:
Я
ногой, распухшей от исканий,
обошел
и вашу сушу
и еще какие-то другие страны
в домино и в маске темноты.
551
Я искал
ее,
невиданную душу,
чтобы в губы-раны
положить ее целящие цветы. <...>
Впрочем,
раз нашел ее —
душу.
Вышла
в голубом капоте,
говорит:
«Садитесь!
Я давно вас ждала.
Не хотите ли стаканчик чаю?» (I, 159).
Адресат иронии Маяковского можно установить с достаточной
точностью, если обратить внимание на некоторые детали. Любопытен уже тот
таинственный поэтический ореол, которым окружены поиски «души»
(даже не поиски, а «искания»!), причем, надеясь на «встречу» с ней,
поэт обходит не только «сушу», но «и еще какие-то другие страны»
(уж не «миры ли иные»?!). Вероятнее всего, дело обстоит именно так,
если учесть бутафорский (с точки зрения Маяковского) антураж,
заимствованный им из поэтики символизма: поэт путешествует в «домино
и в маске темноты» (вспомним хотя бы «Снежную маску» А. Блока).
К тому же в цензурном экземпляре трагедии вместо слов «целящие
цветы» стояло: «взращивал адовы цветы» (I, 399), что заставляет
вспомнить бодлеровское — «Цветы зла». Прибавьте сюда любимый
символистами голубой цвет («Золото в лазури» А. Белого, «синий плащ»
А. Блока и т.д.), их настойчивые и напряженные поиски Души Мира,
чтобы понять, в кого направлены полемические стрелы эпатирующего
образа души... «в голубом капоте» (в капоте, а не в плаще!). Символизм
обречен, так как не способен перестроить мир для счастья, — это
герою Маяковского ясно с самого начала. И все первое действие
трагедии, если можно так сказать, представляет собой диалог по форме, но
монолог по сути о том, что делать, чтобы красота «новых душ» стала
общечеловеческим достоянием и превратила этот паноптикум уродов
в прекрасный город будущего. Кто виноват? — Что делать? Вопросы,
тесно связанные между собой в трагедии Маяковского.
552
Ответ на первый вопрос для правоверного футуриста «прост, как
воды глоток»: «В земле городов нареклись господами / и лезут стереть
нас бездушные вещи» (I, 156). И данный «тезис» Старика с кошками
сразу вызывает сочувствие: «Это — правда!» И не только сочувствие.
«Человек без уха», вступивший в диалог сочувственной репликой,
сообщает о ширящейся «над городом... легенде мук»: вещи восстали
против человека, «все в волнении» (I, 157). Короче, все происходит, как
предсказывал Хлебников в своем «Журавле» (первый вариант
заглавия поэмы, как уже говорилось, — «Восстание вещей»).
Но в трагедии «Владимир Маяковский» дело не доходит до такого
мрачного конца. В самый разгар событий единство мнений
относительно «зловредности» вещного мира сменяется напряженной
полемикой по этому вопросу, содержание которой рождает надежду на
предотвращение катастрофы:
Старик с кошками
Вот видите!
Вещи надо рубить!
Недаром в их ласках провидел врага я!
Человек с растянутым лицом
А, может быть, вещи надо любить?
Может быть, у вещей душа другая?
Человек без уха
Многие вещи сшиты наоборот.
Сердце не сердится,
К злобе глухо.
Человек с растянутым лицом
(радостно поддакивает).
И там, где у человека вырезан рот,
многим вещам пришито ухо! (I, 158).
Этот диалог представляет собой попытку посмотреть на вопрос
шире и, если можно, найти выход из фатальной ситуации,
предсказанной Хлебниковым. Дело-то, оказывается, не в изначальной
жестокости вещей, а в том, что «вещи сшиты наоборот», что нарушилось
553
соотношение, гармоническое равновесие между человеком и вещью:
«.„там, где у человека вырезан рот, / многим вещам пришито ухо». Итак,
выход как будто бы найден: необходимо установить гармонию между
человеком и вещью.
Однако стоит ли идти на полумеры, если человек неизлечимо болен,
если он сам давно уже не соответствует времени? Стоит ли заботиться
о его душе, искать ее, если опыт поэта подсказывает: она мертва или
почти мертва (что же такое тогда «душа... в голубом капоте» как не
симптом ее смерти)? Не лучше ли ампутировать ее, иначе она заразит все
окружающее? Вот почему уже знакомый нам монолог Маяковского-
персонажа имеет следующее продолжение:
Я — поэт,
я разницу стер
между лицами своих и чужих.
В гное моргов искал сестер.
Целовал узорно больных.
А сегодня
на желтый костер,
спрятав глубже слезы морей,
я взведу и стыд сестер
и морщины седых матерей!
На тарелках зализанных зал
будем жрать тебя, мясо, век! (I, 159).
Позитивный смысл программы Маяковского скрыт за все тем же
громким «прибоем смеха», который и услышал Обыкновенный
молодой человек, питомец толпы и раб ее понятий, «творец»
«машинки для рубки котлет», громко возмущающийся цинизмом и
жестокостью провозглашенного героем трагедии нового «символа веры».
Разумеется, он не расслышал, и по законам поэтики Маяковского не
мог расслышать, сказанные «в стороне — тихо» Маяковским-героем
горькие слова об «одном счастливом человеке», живущем чуть ли не
за тридевять земель отсюда, «кажется, в Бразилии», слова, идущие
непосредственно вслед за монологом героя и представляющие собой
исток его положительной программы, его «тоску» и «крик» о
человеке.
Антагонист главного героя трагедии — не «уродец века», что на языке
Маяковского означало дитя века, а обыкновенный человек. Поэт не
554
знал в ту пору ничего более ироничного, чем подобное определение.
В противовес первому оно было синонимом всякого застоя,
абсолютной глухоты к пульсу времени, несоответствия ему. Этот персонаж
потребовался Маяковскому для того, чтобы, показав абсурдность его
логики в современных условиях, тем самым окончательно
дискредитировать ее. Что, например, его голод по сравнению с голодом «уродца
века»? Или его любовь, выраженная в традиционных «семейных»
понятиях, что она в сравнении с любовью Человека с растянутым лицом?
«Жестокость, цинизм?» — спрашивает он. Нет,
Если б вы так, как я, любили,
вы бы убили любовь
или лобное место нашли
и растлили б
шершавое потное небо
и молочно-невинные звезды (I, 162).
Итак, причины недуга установлены, в значительной степени описан
и сам недуг (саморазоблачение Обыкновенного молодого человека), уже
вырисовываются контуры идеала, носителем которого является поэт.
По каким путям надо идти, чтобы уродливые люди смогли обрести
истинное лицо — лицо Новой Красоты? Персонажи трагедии теперь
удивительно единодушны, разные голоса сливаются в единый
мощный голос, и «вместе» (авторская ремарка) они произносят монолог-
проповедь обретенного «символа веры»:
Идем, —
где за святость
распяли пророка,
тела отдадим раздетому плясу,
на черном граните греха и порока
поставим памятник красному мясу (I, 162).
Вместо отживших этических ценностей новые; раз душа
скомпрометировала себя, вступив в противоречие с веком, с его
ритмом, долой ее, долой старые христианские (распятый «за святость»
«пророк» — Христос) кумиры и да здравствуют новые, и не кумиры —
сама жизнь: «красное мясо». Вот ответ Маяковского, составленный по
стопроцентному футуристическому рецепту. И как раз в этот момент,
момент кардинального обновления человека, вещи, наконец, объявили
555
свою «душу иную», подняв против «старухи-времени» «криворотый
мятеж», и устремились навстречу человеку:
И вдруг
все вещи
кинулись,
раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных имен (I, 163).
Катастрофа предотвращена: вещи, как и люди, стали иными, путь
к истинному «союзу» людей и вещей, к гармоническому равновесию
между ними открыт. Родился мир «новых душ, / гудящих, / как
фонарные дуги». О нем еще в начале трагедии мечтал alter ego поэта —
Старик с кошками.
Рисуя в своем сознании светлый, гармоничный мир, Старик с
кошками не знал пути к достижению этой гармонии. Лишь новая
поэзия — футуризм открыла пути, ведущие к победе над вещью. Так
считал Маяковский, и в этом было мало оригинального. Выступая за
«самовитое слово», за «слово-самоцель», бунтуя против подчиненности
слова мысли, идее, футуристы в то же время, как говорилось выше,
рассматривали свое искусство как средство активного вторжения в жизнь,
активного ее изменения.
Всю парадоксальность футуристической концепции слова ярче
других выразил Маяковский. Обращаясь к поэтам, он писал:
«Господа, довольно в белом фартуке прислуживать событиям!
Вмешайтесь в жизнь!
Мы сильнее, мы вам поможем!
Ведь дорогу к новой поэзии завоевали мы, первые заявившие:
— Слово — самоцель» (I, 317).
Бунт социальный, следовательно, был подменен бунтом
эстетическим. «Жизнь идет вперед, — утверждал Маяковский, — осмыслив
новую красоту» (I, 303). Но так как «красоты в природе нет» и
«создавать ее может только художник» (I, 283), то понятно, насколько важна
роль искусства: оно впереди жизни. Старое искусство на эту роль явно
не годится. Лишь мы, говорил поэт от имени всех футуристов, «идем
с новым словом во всех областях искусства.
Но новой теперь может быть не какая-нибудь еще никому не
известная вещь в нашем седом мире, а перемена взгляда на взаимоотношения
556
всех вещей, уже давно изменивших свой облик под влиянием
огромной и действительно новой жизни...» (I, 284—285).
В этих словах осмысление образной концепции, лежащей в основе
трагедии «Владимир Маяковский». Сбрасывание с себя «лохмотьев
изношенных имен», разоблачение господствующих этических
понятий, которыми заняты в ней люди и вещи, идущие навстречу друг
другу, чтобы устроить праздник, — это и есть установление
правильного соотношения «между ними (то есть вещами и людьми. —
B.C.) и именами» (I, 324). Эта проблема, по сути, центральная для
всех футуристов; формируя на основании разгаданных, как им
казалось, законов подлинную эстетику слова, они пытались с ее помощью
прозреть и даже построить общество Новой Красоты. Таким
образом, в первом действии трагедии Маяковский шел в общем русле
этических и эстетических идеалов русского футуризма. Лишь в одном
(и это важно подчеркнуть) поэт расходился с некоторыми из
футуристов, в частности с В. Хлебниковым: если Хлебников в поисках
цельности уходил в мифотворчество, то Маяковский уже в первом
своем крупном произведении был погружен в атмосферу
современности.
И именно этим чувством реальности продиктовано второе действие
пьесы. Внимание читателя останавливает ремарка: «Скучно. Площадь
в новом городе. В. Маяковский переоделся в тогу. Лавровый венок»
(1,165). Далее идет реплика Человека без глаза и ноги (персонаж,
который в первом действии принес радостное известие о «восстании вещей»),
«услужливо» сообщающего поэту, что его «объявили князем». Что ж,
пожалуй, все закономерно: и «тога», и «лавровый венок», и
«княжеский» титул. Ведь события происходят уже в «новом городе», в том
самом, который прозревал в будущем Старик с кошками и пути к
которому открыл поэт, руководствуясь рецептами кубофутуризма. Иными
словами, это город «новых душ», во всяком случае, он должен быть
таким: ведь первое действие обрывается на высокой
радостно-оптимистической ноте. Почему же тогда в «новом городе» «скучно» (первая
фраза ремарки второго действия сознательно противопоставлена первой
фразе ремарки первого действия: «Весело»)? И почему в этом «новом
городе» мы встречаем старых своих знакомых — Человека без глаза и
ноги и Старика с кошками — не только не преображенными, но,
наоборот, понесшими невосполнимые потери (в ремарке подчеркнуто —
557
«Старик с одной ощипанной кошкой»)? Что это, как не грустная
самоирония: ведь последняя часть монолога Старика с кошками, как мы
помним, — сплошные реминисценции собственных стихов
Маяковского, в которых он по-футуристически задорен и свято верит в
непогрешимость групповых идеалов.
Короче, праздник закончился, и все, что ему сопутствовало и что
составляло его суть (а его суть не что иное, как футуристические
догматы, их крайнее, наиболее заостренное выражение), обернулось (ох
уж этот проницательный Старик с кошками!) «погремушкой» шута,
«потехой». Обещалось многое (вспомним: «...у вас вырастут губы / для
огромных поцелуев...»), старому городу выносился беспощадный
приговор («Ваши женщины не умеют любить, / они от поцелуев распухли,
как губки...»), а в «новом городе» — все те же беды (чего стоит хотя бы
гротескный образ «женщин / — фабрик без дыма и труб — /
миллионами выделывающих поцелуи»), и нет этим бедам конца и края. Вот
уж истинно: хотел изменить мир, а «попал пальцем в небо», как
иронично говорит о себе в Эпилоге герой трагедии (не забудем, что он
не частное лицо, а рупор радикальных футуристических лозунгов де-
эстетизации). Да и весь Эпилог по своей тональности прямо
противоположен Прологу: ясности, четкости, оптимизму программы Пролога
в Эпилоге противопоставлены аморфность, фуруристически-эпатиру-
ющая необязательность итога:
Иногда мне кажется —
я петух голландский
или я
король псковский.
А иногда
мне больше всего нравится
моя собственная фамилия,
Владимир Маяковский (I, 172).
За этим шутовским колпаком, этим кривлянием «на публику»
скрыта огромная тоска поэта: мечта о «счастливом человеке» так и осталась
мечтой. Герою приходится оставить надежды на довольство и покой
(«Думал — / радостный буду. / Блестящий глазами / сяду на трон, /
изнеженный телом грек») и — в который раз (больше некому — лишь он
558
один умеет «песни петь», I, 170, 169) — взваливать на свои плечи
тяжкий крест людского горя и страданий.
В этом собственно и заключается трагизм ситуации, положенной в
основу произведения Маяковского. Огромная тяга к идеалу, желание
увидеть его воплощение в действительности, искреннее убеждение
в верности избранного пути, ведущего к изменению мира, надежда
на личное счастье, а в результате крушение всего. И греческая «тога»
нового пророка столь же неуместна и смешна, как и бутафория
сданной в архив поэзии, в которой взаимоотношения поэта с читателями
строились на основе строгой иерархии Поэта и Черни. А раз дело
обстояло именно так, то возникало смутное недовольство самим собой
(отсюда самоирония) и, более того, крайностью избранного пути: в
трагедии как бы подверглись проверке отдельные взгляды наиболее
радикального крыла футуристов, чью точку зрения разделял герой
Маяковского и сам Маяковский. В этом отношении важно отметить,
что интонация первого действия трагедии, где излагается программа
поэта-футуриста, значительно беднее интонации отдельных
стихотворений цикла «Я». Образы «Новой Красоты» там («песня в чулке
ажурном у кофеен») и здесь («памятник красному мясу» «на черном
граните греха и порока») все же несопоставимы при всей их
принципиальной близости друг другу.
Дальнейшая творческая работа Маяковского (за редкими
исключениями) вела его по пути усложнения общей атмосферы поэтических
произведений, углубления характера лирического героя, отказа от готовых
схем. Новые чувства рождали ранее неведомый, а теперь крепнущий
от стихотворения к стихотворению мотив: герой Маяковского,
продолжая рядиться в «желтую кофту», начинает искать спутника,
человека, способного стать для него хотя бы временной опорой,
пристанищем на его многотрудном подвижническом пути. Героя подстерегают
неудачи: его надеждам на нежную сочувствующую душу не суждено
сбыться, и он знает об этом наверное (грустно-ироническая ситуация
стихотворения «Скрипка и немножко нервно») и все же не перестает
искать и надеяться.
Именно в этой атмосфере рождалось «Облако в штанах»,
произведение, которому суждено было открыть новый этап творческого
развития В. Маяковского.
559
2. «Тринадцатый апостол»
Главное содержание нового периода, объединившего собою три
наиболее крупных произведения поэта — поэмы «Облако в штанах»
(1914—1915), «Война и мир» (1915—1916), «Человек» (1916—1917), —
составила борьба Маяковского за цельную личность, как ее понимал
тогда еще активный участник кубофутуристического движения. Поэма
«Облако в штанах» потому рассматривалась Маяковским как
«программная вещь», что именно в ней, вобравшей в себя
предшествующий творческий опыт поэта, впервые в полную силу зазвучал его
эстетический идеал.
Когда вслед за Маяковским характеризуют поэму как «крик
четырех частей», то не всегда учитывают своеобразной «иерархии» тем, не
в смысле их «расположения», т.е. порядка следования друг за другом,
а в смысле выделения ее исходной темы, воздействие которой
вызывает обязательную реакцию и остальных. Такой центральной темой
в поэме, безусловно, является тема любви. Ее принципиальная
важность для Маяковского подчеркнута уже тем, что поэма начинается с
любовной ситуации.
Из вступления к поэме мы узнаем, что ее герой — человек без
единого «седого волоса...» в душе, лишенный сентиментальности
(«старческой нежности»), напористый и красивый, как всякий «завоеватель».
Но что происходит с ним в первой главе, почему эта «жилистая
громадина / стонет, / корчится», так что не узнать в ней прежнего, уверенного
в себе, волевого человека? «Что может хотеться этакой глыбе», этому
«грубому гунну», для которого все вокруг — лишь средство для
самоутверждения? Оказывается, «многое хочется». «Ведь для себя не важно /
и то, что бронзовый, / и то, что сердце — холодной железкою», —
начинает поэт свою исповедь, и мы-то знаем: не «холодная железка» —
его сердце, такая самоаттестация рассчитана на толпу («красный плащ
тореадора, он нужен только для быков...», I, 314), наедине же с собой, в
моменты острого ощущения своего сиротства в жестоком мире, «хочется
звон свой / спрятать в мягкое, / в женское» (1,176). И особенно хочется
настоящего человеческого тепла, понимания, ласки. Вот почему,
«громадный», герой «горбится в окне» (это слово-образ повторится потом
в «Про это»), вот почему «еще и еще» надеется он на любовь, почти
обманывает себя, хочет обмануться и не может, зная заранее: не будет
560
«большой» любви, которая нужна ему, — его любимая не «вровень»
поэту, она из другого мира.
Что же делать лирическому герою Маяковского? Ведь он объят
пламенем истинной любви. Ложно-поэтической, «красивой» метафоре
«любовь — пожар сердца» поэт возвращает ее первичное, почти
материально-телесное значение: он горит «не в стихах, а буквально», на
глазах у «трясущихся людей», забившихся «в квартирное тихо», ибо он —
«сплошное сердце». Герой понимает всю неуместность, даже
безрассудство «самосожжения»; ему уже сейчас хочется сказать слова, которые
он скажет чуть позже: «...больше не хочу дарить кобылам / из севрской
муки изваянных ваз» (I, 195). Он хочет потушить «пожар сердца» сам,
хочет, но не может:
Глаза наслезненные бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца! (I, 180).
Именно в поэме «Облако в штанах» Маяковский узнал, что
«выскочить из сердца», т.е. преодолеть свою истинно человеческую
сущность, стать неким бесплотным существом, не испытывающим
страданий, не стремящимся к полнокровному человеческому счастью,
нельзя. Нельзя и не нужно. Ибо не любить — значит чрезвычайно
сузить живое многообразие личности. Позднее в одном из писем,
относящихся ко времени создания поэмы «Про это», эти размышления
приобретут у Маяковского афористически-программную четкость: «Любовь
это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи, и дела, и
все пр. Любовь это сердце всего. Если оно прекратит работу, все
остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает,
оно не может не проявляться во всем... <...>
...Любовь не установишь никаким "должен", никаким "нельзя" —
только свободным соревнованием со всем миром»9.
Слова эти не красивая фраза «на случай». Они есть выражение
главной идеи Маяковского, точка отсчета в его подходе к миру и чаемый
результат его творческих устремлений. Вот почему в «Облаке в
штанах» столь велика тяга лирического героя к счастью разделенной любви,
любви, которую растоптал окружающий мир. Это он виноват, что мечте
561
поэта не суждено сбыться. И если действительно нельзя «выскочить из
сердца», то тогда необходимо, полагает поэт, перестроить мир для любви,
чтобы обрести, наконец, счастье, покой, нежность, чтобы потушить в
душе своей ненавистный огонь отчуждения, заставляющий героя
распинать себя на «кресте из смеха», стыдливо прятать свое истинное лицо,
дробить свою цельную натуру на кричаще противоречивые поступки
и чувства «разных Маяковских». Последующие части «тетраптиха» —
это борьба героя с «обезлюбленной землей», еще одна попытка (после
трагедии «Владимир Маяковский») утвердить на земле свою мечту о
красивом человеке. Они — эти части — окрашены цветом «горящего
сердца» поэта, «стоглазого зарева», рвущегося с пристани: отсюда
предельная условность их пространства и времени, страстный накал
проповеди поэта, обостренно-трагическое восприятие своего поражения
в единоборстве с миром.
Поэма построена по законам лирического симфонизма, но, хотя в
целом ее интонационная структура сложна, богата различными
оттенками, в ней можно выделить два основных лирических мотива,
развитие и взаимодействие которых определяют художественную
уникальность поэмы Маяковского. Во-первых, это мотив мольбы, вырастающий
в отдельные моменты повествования до крика (с ним у поэта связаны
мечты о счастье, о преодолении одиночества), во-вторых, мотив
проклятия, иногда приобретающий оттенок героической проповеди. Истоком
этого мотива служит стремление героя взорвать, изменить окружающий
мир. Таким образом, резкий разрыв первой и второй глав поэмы носит
внешний характер, на самом деле они связаны между собой прочной
ассоциативной связью: мотив мольбы-крика на время уступает место
мотиву проклятия (обличения), постепенно в соответствии с законами
поэтики Маяковского перерастающего в героическую проповедь.
Лирический герой-футурист излагает во второй главе «катехизис» своей
души, свою позитивную программу и творческое кредо. Он хочет
возвратить улице живую, присущую ей речь, вооружаясь которой она
сможет, наконец, обнаружить свое истинное лицо.
«Златоустейший» поэт, «чье каждое слово / душу новородит»,
утверждает как самую высокую ценность мира «мельчайшую пылинку живого».
Поэтому он проповедует не фантазию, не уход от жизни, а жизнь, ее
реальные, земные ценности. Истинный поэт, по мнению Маяковского,
не тот, кто сотворит легенду о «Фаусте, / феерией ракет / скользящего
562
с Мефистофелем в небесном паркете», а тот, кто в «каторжанах города-
лепрозория» (низшая степень падения человека!) прозрит чистоту
«венецианского лазорья, / морями и солнцами омытого сразу!». Так, поэзия,
уходящая своими корнями в земную, грубую жизнь, в противовес
искусству «Гомеров и Овидиев», является, с точки зрения Маяковского,
демократической по самой своей сути. Вот почему лирический герой
поэмы приобретает право говорить от имени масс и себя, открывшего
новые пути в поэзии, осознать как «предтечу» революции.
«...Истинный художник... вождь» (I, 279), — скажет Маяковский в одной из своих
статей 1913 г. Именно в «Облаке в штанах» тема искусства впервые
связывается с темой революции, и миссия поэта, в трактовке
Маяковского, оказывается миссией футуристического пророка. Миссия эта
драматична: лирический герой, которому открыто будущее, «обсмеян»
«у сегодняшнего племени», но предвкушение радости завтрашнего дня,
ключи от которого в руках этих «людей... от копоти в оспе», заставляет
поэта снова «взводить» себя «на Голгофы аудиторий». И даже приход
революции, венчающий проповедь лирического героя, не освобождает
от этой драматической судьбы:
И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя (I, 185)10.
Ко времени создания «Облака в штанах» осознание жизни поэта
как драматической судьбы человека, взваливающего на себя
непосильную ношу человеческого горя и уродства, имело у Маяковского
уже некоторую традицию. Наиболее ярко выразилось оно, как мы
помним, в трагедии «Владимир Маяковский», в сцене второго
действия пьесы, когда к ногам поэта-князя люди приносят слезы,
символ человеческих страданий, и угрозами вынуждают его отнести их
своему «красивому богу». В ее финале перед нами предстает
трагическая фигура поэта, несущего «сквозь город» человеческое горе,
563
«оставляющего» «на копьях домов» свою щедрую, полную любви
к людям «душу».
Таким образом, добровольный подвиг во имя массы и в трагедии,
и особенно в поэме, осознается Маяковским как необходимый и
драматичный одновременно. Необходимый потому, что надо показать
людям «с лицом, как заспанная простыня» (а к ним герой причисляет
и самого себя), их богатые душевные возможности; драматичный потому,
что герой — поэт-пророк, видящий «идущего через горы времени, /
которого не видит никто». Это последнее «никто» (вспомним более
позднее: «лишь один я...») значительно осложняет отношения между
«я» и «мы» в творчестве раннего Маяковского. И что особенно
важно — в поисках критерия гармонически развитой социальной
личности заставляет его основной упор делать на лирическое «я».
В поэме «Облако в штанах» начинает формироваться эстетический
идеал Маяковского, образ человека, выступающего от имени
демократических масс и являющегося частью общего «родового тела». И все же
в первой поэме Маяковского нет и не могло быть гармонического
единства между героем и массой, понимаемой поэтом очень субъективно.
Герой одновременно и часть массы, и вознесен над нею, и это
обстоятельство вносит особую ноту драматизма в их взаимоотношения. Этот
драматизм, постоянно сопутствующий герою, как печать проклятия в
его судьбе, врывается диссонирующей нотой в самое начало третьей
главы, осложняя ее общий интонационный рисунок:
Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!
Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах (I, 186).
Эта строфа, нарушающая естественное течение сюжета, звучит как
предостережение. Еще длится «секунда, / бенгальская / громкая»
(именно — секунда!) торжества поэта, бунт, провозглашенный героем во
второй главе, еще не достиг своей кульминационной точки — она
впереди, но в прежнем состоянии уже начинает жить, вступая в известное
564
противоречие с ним, зрея и разрастаясь, заявленная
процитированными строками нота разлада. Побеждая к концу главы, она готовит новый
выход на поверхность лирического сюжета поэмы мотива мольбы героя,
уже знакомого нам по ее началу. При всей прихотливости
ассоциативных связей глава, как, впрочем, и все произведение в целом,
отличается стройностью (и даже строгостью) развития лирического
переживания. Уже в первой строфе, рисующей картину бунта, в метафорическом
сравнении туч с «рабочими», объявившими небу «озлобленную
стачку», соединены два пространственно-временных плана: земной,
выражающий политический лик эпохи, и космический. Далее этот
принцип метафоризации будет последовательно развиваться: «кривящееся»
«небье лицо» уподоблено «суровой гримасе железного Бисмарка»,
солнце — «расстреливающему мятежников... генералу Галифе»,
«пирующая Мамаем» ночь столь же черна, как черные дела провокатора Азефа.
Данный метафорический ряд призван осмыслить восстание как
исконное и вечное состояние Вселенной: политические деятели, имена которых
упоминаются в главе без всякой соотнесенности с конкретным временем
их действия, становятся для Маяковского символом предательства и
удушения свободы вообще. Побежден бунт и в поэме «Облако в штанах»:
Уже сумасшествие.
Ничего не будет.
Ночь придет,
перекусит
и съест.
Видите —
небо опять иудит
пригоршнью обрызганных предательством
звезд? (I, 189).
И в этом тоже вечный порядок Вселенной. Чрезвычайно важно для
Маяковского слово «опять», вторично возникшее в главе. Исход
бунта предрешен заранее и известен герою. Вдумчивый читатель ощутит
его в предельной, мы бы сказали, в гиперболической напряженности
чувств и поступков героя, отчего драматизм ситуации приобретает
всеобщий, универсальный характер. Лирический герой, только что
призывавший к бунту, с гордостью осознававший свое положение вождя
565
«голодненьких, потненьких, покорненьких», снова одинок и загнан.
«Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы, / вином обливаю душу
и скатерть...» (I, 189), — говорит он о себе. Снова его упорное
стремление изменить мир встретило ожесточенный отпор — уже знакомое
нам по первой главе разрешение конфликта.
Однако теперь, когда читателю открылись «золотые россыпи» его
души, истинное величие любящего сердца, во имя которого он
возложил на свои плечи тяжкое бремя крестного подвига (чувства этого,
кстати, лишены персонажи хлебниковского творчества), герой имеет
право называть себя не просто «жилистой громадиной», а новым
мессией, хотя, как мы помним, мотив мессианства у Маяковского
прозвучал впервые в цикле «Я». Лирический герой уподобляет себя «гол-
гофнику оплеванному», которому «опять... предпочитают Варавву», но
пишет Евангелие (в поэме четыре части!) от «тринадцатого апостола»,
«сегодняшнего дня крикогубого Заратустры». Существенная поправка!
Герой Ф. Ницше Заратустра — тоже мессия, но его учение (книга «Так
говорил Заратустра» по форме — сознательная имитация Евангелия)
полемически заострено против учения Христа и христианской морали.
Здесь не место для систематического изложения круга идей
философа, ограничимся несколькими необходимыми цитатами из двух его
произведений: «Я заклинаю вас, братья мои, — проповедует
Заратустра, — оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит вам о
надземных надеждах! Они отравители...
Они презирают жизнь, эти умирающие и сами себя отравившие, от
которых устала земля: пусть же исчезнут они!»11. А вот фразы,
непосредственно затрагивающие любовное чувство: «...самые благопристойные
слова, которые я слышал: "Dans le véritable amour c'est l'âme, qui
enveloppe le corps"»; «Христианство дало Эроту выпить яду: он... не умер
от этого, но выродился в порок»12. И, наконец, последнее.
Обрушиваясь на обитателей «страны культуры», философ произносит панегирик
«могущественному повелителю» человека по имени «Само»: «В твоем
теле он живет; он и есть твое тело». «Само» — начало «созидающее»,
и как таковое оно «создало себе призор и презрение, ...радость и горе».
И даже «дух как длань своей воли»13.
Вчитываясь в «Облако», мы заметим, что «спаситель» Маяковского
часто говорит на языке нигилиста Ницше, что Иисус потеснен здесь
Заратустрой: не случайно же композиция поэмы в определенной мере
566
воспроизводит излюбленные приемы построения большинства книг
Ницше, представляющих собой собрание максимов, афоризмов,
проповедей, направленных против традиционных представлений о любви,
религии, искусстве, государстве и т.д. Однако, несмотря на то, что идеал
В. Маяковского абсолютно чужд христианским представлениям о
человеке, он в определенной мере заострен и против воинствующего
индивидуализма Ницше, для которого «народ есть окольный путь природы,
чтобы прийти к шести-семи великим людям»14.
Строки поэмы: «Но мне — / люди, / и те, что обидели — / вы мне
всего дороже и ближе» (I, 185) — прямой ответ на эти слова
философа. В статье «О разных Маяковских» поэт счел необходимым
сказать о своем понимании Фр. Ницше: «Разве он (поэт. — B.C.) не только
для того позволяет назвать себя Заратустрой, чтоб непреложнее были
слова, возвеличивающие человека?» (I, 346). Не к сверхчеловеку была
устремлена мысль Маяковского, а к «человеку просто».
Бросив в лицо Деве Марии слова, полные горечи и упрека,
лирический герой поэмы целиком уходит в мольбу о любви, обращенную к
земной Марии. Сочетание имен явно кощунственное и далеко не
случайное. В основе этого приема непрекращающаяся борьба
Маяковского (в данном случае он шел в фарватере кубофутуризма) с «небом».
«Человек... / простой, / выхарканный чахоточной ночью в грязную руку
Пресни», он просит ее тела так же, «как просят христиане — / "хлеб
наш насущный / даждь нам днесь"». Преследуемый улицей («Звереют
улиц выгоны. / На шее ссадиной пальцы давки»), невольник любви
(«...это сквозь жизнь я тащу / миллионы огромных чистых любовей / и
миллион миллионов маленьких грязных любят»), уставший от почти
непосильного груза футуристического (хотя и не только
футуристического) мессианства, лирический герой Маяковского страстно жаждет
личного счастья, такого счастья, в котором нашел бы свой выход его
«крик» о цельном, не раздираемом на части человеке:
Мария, ближе!
В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть (I, 193).
567
Четвертая глава поэмы не простое повторение ее исходной
ситуации. Оттолкнувшись от конкретного факта («Это было...»), поэт
постепенно расширял границы пространства и времени, придавая им все
более условный характер, благодаря чему биографический факт (ситуация
неразделенной любви) возводился в ранг противостояния Человека и
Мира, так как Мария — родное дитя последнего. В четвертой главе это
противостояние приобрело поистине космический размах. Мы имеем
в виду финальную часть поэмы, когда герой — воплощение истинно
человеческого начала, пораженный в самое сердце огромным
любовным чувством и не имеющий более сил терпеть удары судьбы, —
адресует свои проклятия Богу, давшему Вселенной неверный ход. Однако
Вселенная глуха к его вызову, и мы оставляем героя в тот момент,
когда он, подобно лермонтовскому Демону, одинокий и тяготящийся
своим одиночеством, проигравший бой, но не побежденный, снова и
снова бросает свой вызов людям и небу.
Подведем итоги. Поэма «Облако в штанах» во многих
отношениях близка трагедии «Владимир Маяковский». Для Маяковского
это еще одна попытка утверждения своего идеала в
действительности, попытка, как и в первом случае, обернувшаяся трагедией15. И все
же поэма рождалась как некая реакция на то недовольство
исповедуемыми идеалами, которое испытал поэт в своей трагедии. В
отличие от нее, «Облако в штанах» лишено даже намека на самоиронию,
столь отчетливо звучащую в предшествующем произведении. Это
заставляет нас предположить, что в поэме, наконец, Маяковскому
удалось выразить свою самую задушевную идею. Так в чем же существо
идеала, лежащего в основе образной концепции «Облака в штанах»?
Каков он — этот «новый человек»? «Нахальный и едкий»,
«дразнящий» толпу «площадной сутенер и карточный шулер», лишенный
сентиментальности («старческой нежности»)... Все это уже было у
Маяковского, и мы знаем истинную цену подобной самоаттестации.
Далее во вступлении идут строки, преисполненные для поэта
особого смысла. Вчитаемся в них:
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры дожит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы! (I, 175).
568
Кто они, эти «нежные» творцы «скрипичной» любви, в адрес
которых пущены полемические стрелы Маяковского, или «из гостиной
батистовая, / чинная чиновница ангельской лиги»? Разумеется, это
«парфюмерный блуд» Северянина, Бальмонта, других поэтов,
готовящих «из любвей и соловьев какое-то варево», разумеется, это то
уводящее от жизни искусство, на которое обрушивается в своей поэме
Маяковский. Но поэта в одинаковой мере не устраивает и такое
искусство, где любовь предстает как «грубое», «литавренное» и близкое к
нему чувство, уподобленное Маяковским кухарке, спокойно
перелистывающей «страницы поваренной книги», — все это тоже
«бесплатное приложение / к каждой двуспальной кровати». Маяковский имел
перед собой немало образцов такого искусства, а грубое, циничное
отношение к женщине «философски» обосновывалось в сочинениях
Ницше и провозглашалось в манифестах Маринетти. В поле зрения
поэта, конечно, попадали и отдельные произведения его собратьев по
футуризму, увлекшихся эпатированием «тонких» «буржуазных»
вкусов и впавших в иную крайность: воспевая плотское, телесное начало
в человеке, они всячески противопоставляли его началу духовному.
Как мы помним, от этой крайности не был свободен и сам поэт (культ
«красного мяса» «на черном граните греха и порока» во «Владимире
Маяковском»).
Обе эти ориентации и в жизни и в искусстве оказывались
неприемлемыми для Маяковского. Поэт воспринимал их как симптомы
неблагополучия современной цивилизации, свидетельствующие об утрате
человеком своей цельности и — как следствие этого — распаде
искусства на два непримиримо-враждебных лагеря. Идеал Маяковского
иной: «сплошные губы» — это не «сплошная физиология», в
которой не вполне справедливо упрекал поэта А. Воронский16, а поиски
соединения, синтеза крайностей современной цивилизации, иными
словами, утверждение целостного человека, как его тогда понимал
Маяковский-футурист:
Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах! (I, 175).
569
Несмотря на всю ироническую экстравагантность
процитированных строк, это вовсе не демонстрация «разных Маяковских», а, как
часто бывает у поэта, выражение самых сокровенных, самых
интимных мыслей, прячущихся «от осмотров» за шутливо-грубоватой
формой высказывания.
Подобное понимание человека, как это видно из предшествующего
анализа, было результатом довольно длительных поисков Маяковского,
но уже в начале своего пути поэт знал: красивым может быть только
земной человек. Вот почему в его раннем творчестве статус ключевых
получили мотивы «раздетого пляса», «тела», «мяса», мотивы, широко
варьирующиеся и в первой трагедии, и в отдельных стихотворениях,
и в «Облаке в штанах». Однако реальная жизнь этих мотивов в
каждом из упомянутых произведений складывалась по-разному, находясь в
полной зависимости от усложняющейся позиции Маяковского по
отношению к человеку.
В трагедии «Владимир Маяковский» установка на эпатирование
буржуазных вкусов оказалась настолько сильной, что в отдельные моменты
она смогла заслонить от поэта подлинную природу человека, в
результате чего названные мотивы прозвучали радикально футуристически.
Мы уже говорили о том, что такое положение вещей не удовлетворяло
Маяковского и побуждало его к поискам наиболее адекватного
выражения формирующегося идеала. Поначалу стихи, в которых эти мотивы
продолжали жить прежней жизнью, соседствовали в творчестве поэта
с произведениями иной ориентации. Примером такого
«сосуществования» могут послужить стихотворения «Кофта фата» и «Послушайте!»,
опубликованные весной 1914 г. в «Первом журнале русских
футуристов». Непосвященному читателю эти стихи покажутся настолько
различными, что он, пожалуй, усомнится в их принадлежности к
творчеству одного писателя. И впрямь, что может быть общего у героя «Кофты
фата», «фланирующего» шагом Дон Жуана «по Невскому мира»,
срывающего цветы удовольствия известного свойства, живущего по
законам грубого инстинкта, и героя «Послушайте!» с его устремленностью
к высокому? «Мясо» и «звезды» — «дистанции огромного размера»!
Столь же различны интонации этих стихотворений: однолинейная,
лишенная каких-либо оттенков в первом случае и
тревожно-вопрошающая, подчеркнутая анафорой и необычайным сгущением
глаголов — во втором. Человек, хорошо знакомый с творчеством Маяков-
570
ского, разумеется, найдет в обоих стихотворениях нечто сходное,
объяснит позицию Маяковского в «Кофте фата» ссылкой на известные
строки: «Хорошо, когда в желтую кофту / душа от осмотров укутана!»
(I, 186), и все же вряд ли ему удастся до конца поколебать факт
конечной противоположности этих стихотворений, рисующих облики
«разных Маяковских», облики, не слившиеся пока в одно лицо.
В «Облаке в штанах» прежние мотивы «тела», «мяса» живут иной,
сложной жизнью. Два стилевых потока, выделенные нами в
стихотворениях «Кофта фата» и «Послушайте!», теряют здесь свою былую
обособленность и возрождаются в новом качестве, не сводимом ни к
одному из прежних. Лирическая энергия поэмы устремлена навстречу
монологу четвертой главы, в которой, перефразируя Маяковского,
обнялись души и тела глубь. Достаточно процитировать из него всего лишь
несколько строк:
Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
ая —
весь из мяса,
человек весь...
(I, 193; разрядка наша.— B.C.), —
чтобы убедиться, что в этом контексте слово «мясо» приобретает иной
оттенок, чем, скажем, в трагедии «Владимир Маяковский». На фоне
инструментовки второй строки, призванной имитировать
пресловутое поэтическое «завывание», короткие, преимущественно одно-,
двусложные, слова выглядят особенно «весомо, грубо, зримо», а
симметричное построение последних фраз отрывка («весь... весь») сближает
два логически выделенных слова: «мясо» и «человек», в результате
чего они начинают звучать почти как синонимы. То же самое
происходит и со словом «тело», которое благодаря высокому строю
славянской речи переходит из разряда «низких» в разряд «высоких» слов.
Между тем поэту этого мало, и он «изобретает» для него все новые и
новые контексты. Имя «Мария» в следующей строфе уподоблено слову
поэта, рожденному «в муках ночей» и своим «величием» равному Богу,
причем слово «Бог», которым заканчивается данная строфа,
оказывается приближенным к слову «тело», начинающему новую строфу, и
это соседство, безусловно, небезразлично для концепции Маяковского.
571
В свою очередь, упоминание о мятущемся в жестоком мире,
«обрубленном войною» солдате, судьба которого сравнивается с судьбою
лирического героя поэмы, предельно расширяет смысл слова «тело»,
связывая это понятие, ключевое для поэта, с самыми глубинными
переживаниями человека.
Таким образом, в эпатирующем заглавии поэмы Маяковский
выразил ядро той концепции человека, которая будет развернута в образном
мире «тетраптиха». Гиперболизируя телесную жизнь человека, он
усматривает в этом начале глубоко положительные жизненные соки,
способные произрастить новую красоту. По сути дела, именно в «Облаке
в штанах», поэме, посвященной любви, Маяковский впервые полно и
ярко выразил свое представление о человеке как существе не столько
духовном, сколько душевном. Подобно всем футуристам борясь с
Богом и «мистическим идеалом», он последовательно утверждал антро-
поцентристскую модель мира, полемичную по отношению к
христианскому теоцентризму. Изображая своего лирического героя в
качестве нового мессии, он демонстративно порывал с «небом». Выход его
творчества на просторы жизни был сопряжен с преувеличением
значения ее чисто природного аспекта. А обожествление природного
фактора ведет к умалению фактора духовного. Только откровение
Божественной истины, Божественной глубины Вселенной порождает
подлинную духовность человека, в противном случае все его притязания
на гармонию окажутся обреченными на неудачу, социальные идеалы и
построения приобретут утопический характер — утопии и возникают
ведь в истории в то время, когда человек начинает присваивать себе
Божественные функции. Столкновение с реальной действительностью
в таких случаях приводит искренне верящих в свое дело людей (а
Маяковский был именно таким человеком) к срыву, к крушению иллюзий,
к жизненной драме.
3. «Чертеж зодчего», или «поэма об освобожденной
и возвеличенной душе»
Начавшаяся в 1914 г. война определила дальнейшее развитие
творческих поисков В. Маяковского. Она застала поэта в самый разгар работы
над поэмой «Облако в штанах», и хотя прямых отголосков этого собы-
572
тия в поэме не так уж много, программные слова Маяковского: «Сейчас
человек вышел из норок какого-то самоедского пережевывания самого
себя, — ему нужно искусство, отмеченное сегодняшней
всечеловеческой трагедией...» (I, 341) — с полным правом могут быть отнесены и
к «Облаку в штанах»: недаром же поэт утверждал: «Можно не писать о
войне, но надо писать войною!» (I, 309). Вот почему произведения
Маяковского, представляющие собой непосредственный отклик на
военные события, а к ним прежде всего следует причислить
публицистические статьи, не только не означали какого-то разрыва с
предшествующим творчеством, тем паче ухода в сторону от магистральных путей
идейно-эстетических исканий предвоенного периода, но, наоборот, в
значительной мере развивали и обогащали уже «сделанное».
В первые месяцы войны поэт, как известно, развернул бурную
теоретико-публицистическую деятельность, за короткий промежуток
времени опубликовав ряд статей, преимущественно в газете «Новь».
Попытаемся раскрыть основное содержание этих статей.
Вместе с войной, утверждает поэт, «в мир приходит абсолютно новый
цикл идей» (I, 317); «...война не только изменит географические границы
государств, но и новые мощные черты положит на лицо человеческой
психологии» (I, 310), ибо «каждое насилие в истории — шаг к
совершенству, шаг к идеальному государству» (I, 304). Вот почему,
заключает Маяковский, «горе тому, кто после войны не будет уметь ничего,
кроме резания человечьего мяса» (I, 304).
Но если война пробудила пребывавшие в вечной спячке творческие
жизненные силы, то уже сейчас «можно над заревом горящих
книгохранилищ зажечь проповедь новой красоты», ибо «война — это только
предлог. Наше искусство должно будет жить и тогда, когда по полям,
изрытым траншеями, опять прорежется плуг» (I, 305). Но кто
расчистил путь этой новой красоте? Конечно же, «не хорошенькие бабочки»
старого искусства, «созданные к удовольствию "полезных"
обывателей» (I, 316), а футуристы. «...Время, — говорит Маяковский, —
оправдав нашу... борьбу, дало нам силу смотреть на себя, как на
законодателей жизни» (I, 318). И подводит итоги: «...жизнь усыновила нас. Боязни
нет. Теперь мы ежедневно будем показывать... что под желтыми
кофтами гаеров были тела здоровых, нужных... как бойцы, силачей» (1,312).
Уже по этим кратким сведениям можно судить, насколько далек был
поэт от официальной точки зрения на происходящее, насколько чужда
573
была ему идея «апологии войны» как войны. Основной пафос всех
теоретических выступлений Маяковского той поры составляло
предощущение рождения нового человека. Он рад, что его мечты начинают
сбываться, что он своими руками почти уже ощупывает того, кого
провозглашал и ждал, и это, в свою очередь, заставляет его «мозг... врываться
в границы вчера неведомого» (I, 350), доводя работу по формированию
нового человека до своего логического предела.
Наиболее полно и программно-четко пафос близящегося
рождения нового человека выражен в статье «Будетляне (Рождение будет-
лян)». «История... — утверждает Маяковский, — кровавыми
буквами выписала матери-России метрическое свидетельство о
рождении нового человека». Но кто он, «этот новый человек», «кто из пепла
снова вознесет города, кто опять заполнит радостью выгоревшую душу
мира»? — спрашивает поэт. «Этот новый человек, — считает он, — не
таинственный йог, за которым надо гоняться по опасной Индии; это не
одинокий отшельник, для новизны бегущий в пустыню.
Он здесь же, в толкучей Москве!
Он — извозчик, пьющий на Кудрине чай в трактире "Бельгия"; он —
кухарка Настя, бегущая утром за газетой, вдохновенный поэт, пишущий
стихи только для себя, потому что сегодня каждая мелочь его работы,
даже та, которая кажется только лично полезной, на самом деле часть
национального труда, а русская нация, та единственная, которая,
перебив занесенный кулак, может заставить долго улыбаться лицо мира.
Стать делателем собственной жизни и законодателем для жизни
других — это ль не ново для русского человека, заклейменного
слепой литературой, как байбак и тысячелетний Обломов?!» (I, 329—330).
Не правда ли: в этом пафосе «нового человека», «делателя
собственной жизни», много сходного с основными мотивами «Облака в
штанах» (не забудем, что статья написана в 1914 г.), но в статье есть и то,
чего нет в поэме и чего в ней не могло быть: любование «великой»
миссией России.
Считая, что война уничтожила деление России на «мыслящую» и
«серую», а потому «солдат теперь не мясо», поэт развивает свою мысль:
«Военная теория последних дней вычеркнула движение громадных
колонн, заменив стадное подчинение свободной инициативой
миллиардов отдельных. Каждый должен думать, что он — тот последний,
решающий исход борьбы... Осознание в себе правовой личности —
574
день рождения нового человека» (I, 330). Но оказывается, что
«правовая личность» сегодняшнего дня не есть воплощение
индивидуализма, не одинокое и гордое «я» героя, стоящего над толпой.
«Общность для всех людей одинаковой гигантской борьбы» способствует
преодолению неминуемого в иных условиях человеческого
разобщения. Отсюда берет свое начало очередной тезис Маяковского:
«История в последней войне ввела новую силу — сознательную жизнь толп.
Явления приобретают необычайный масштаб. Если один человек еле
выносит удар кулака, то он среди тысяч таких же вынесет
сокрушающие молоты громаднейших гор. <...>
Сознание, что каждая душа открыта великому («общему телу» толпы,
творящей будущее. — B.C.), создает в нас силу, гордость, самолюбие,
чувство ответственности за каждый шаг, сознание, что каждая жизнь
вливается равноценною кровью в общие жилы толп, — чувство
солидарности, чувство бесконечного увеличения своей силы силами
одинаковых других.
Все это вместе создает нового человека: бесконечно радостного
оптимиста, непоборимо здорового!» (I, 331).
Формулируя в статье «Будетляне» свое представление о новом
человеке, рождающемся на его глазах в окружающем мире, Маяковский на
языке логических понятий высказывал мысли, которыми был одушевлен
в поэме «Облако в штанах», в частности во второй ее главе, где
утверждал идею общей толпы, «общего тела» демократической массы,
«держащей в своей пятерне миров приводные ремни». Вполне закономерен, хотя
и не верен по существу, вывод Маяковского о том, что «война не
бессмысленное убийство, а поэма об освобожденной и возвеличенной душе», ибо,
повторяем, это сознание основывалось не на официальной точке зрения
на войну, а вырастало «из души нового человека» (1,332), мечта о котором
пронизывала все предшествующее творчество Маяковского-футуриста.
«Родовое тело» демократической массы, утверждаемое в «Будет-
лянах» и «Облаке в штанах», — это, по Маяковскому, то идеальное
общественное состояние, когда жизнь одного, умножаясь жизнью
других, становится источником бессмертия всех и каждого. Старая
литература, по мнению поэта, потому изображала войну «только как ужас,
как липкую, одуряющую кровь», что исходила из отжившей сегодня
концепции человека — не «гиганта, удесятерившего себя силой
единства», а «больного крика одного побитого человечка» (I, 332). Маяков-
575
ский, как мы видели, отдавал себе отчет в том, что война — и ужас,
и кровь, и «какофония», и трагедия, — все эти стороны войны
постоянно присутствуют в его сознании, но в своих статьях он
сосредоточивается на другом. Зная и помня об этом, он в силу указанных выше
причин выступает как активный противник пацифизма с его моралью
недозволенности всякого насилия; на языке поэта подобная мораль еще
в «Облаке в штанах» получила наименование «старческой нежности».
Анализируя стихи Маяковского о войне и его поэму «Война и мир»,
весьма существенно, на наш взгляд, помнить об этом обстоятельстве.
Заканчивая разговор о теоретических выступлениях поэта годов войны,
следует особо упомянуть о статье «Капля дегтя» с длинным и
многозначительным подзаголовком: «Речь, которая будет произнесена при первом
удобном случае». Эта статья, как и «Будетляне», с которой она
теснейшим образом связана («первый удобный случай» — это момент
рождения людей будущего), — существенная веха на пути к «Войне и миру».
В «Капле дегтя» Маяковский сообщал читателям о смерти футуризма
«как особенной группы»17. Теперь, во время войны, полагал поэт, «во
всех... он разлит наводнением», и поэтому «сегодня все футуристы. Народ
футурист» (I, 350—351). «Но раз футуризм умер как идея избранных, —
рассуждал далее Маяковский, обращаясь к своим оппонентам, — он нам
не нужен. Первую часть нашей программы — разрушение мы считаем
завершенной. Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в наших руках
увидите вместо погремушки шута чертеж зодчего...» (I, 351). Сказано
это было, как всегда у раннего Маяковского, полемически остро, а
собственные поиски распространялись на русский футуризм в целом. И все
же поэт очень точно уловил их направление: в поэме «Война и мир» мы
действительно встречаемся с «чертежом зодчего» — впервые
воссозданным (позднее это станет традицией для Маяковского) обществом
будущих людей, свободных и счастливых. Напомним, что статья была
опубликована в конце 1915 г., а несколько ранее было закончено «Облако в
штанах» и начата работа над «Войной и миром».
Таким образом, уже статьи, при всей их профутуристической апологии
войны, позволяют нам связать замысел «Войны и мира» с идеей «нового
человека», выдвинутой Маяковским (в полном соответствии с
концепцией кубофутуристического «жизнетворчества») в самом начале своего
пути18 и частично решенной во второй главе «Облака в штанах».
Поэтому с выводом известного в прошлом исследователя творчества поэта
576
о том, что «содержание, идейная направленность произведения («Войны
и мира». — B.C.) свидетельствуют об исчезновении у Маяковского каких
бы то ни было иллюзий относительно этой войны, отразившихся в его
публицистике 1914 г., прежде всего в статье "Будетляне"»19, — можно
согласиться с существенными уточнениями. Ведь такая форма оценки
выступлений поэта, хотим мы этого или не хотим, заставляет думать,
что в годы войны была нарушена последовательность в цепи его идейно-
эстетических поисков и что новой поэме якобы суждено было
преодолеть этот наметившийся разрыв.
Для того чтобы не остаться голословными, обратимся к
непосредственному анализу поэмы. В главке «Зима» автобиографии «Я сам»
(имеется в виду зима 1914—1915 гг.) Маяковский констатировал:
«Отвращение и ненависть к войне. "Ах, закройте, закройте глаза газет" и
другие. Интерес к искусству пропал вовсе» (I, 23). Казалось бы, в этих
словах содержится ответ на все наши вопросы, ибо нет ничего проще, чем,
сославшись на свидетельство поэта (оно ли не авторитет для
исследователя!), рассматривать его поэму, к работе над которой он приступил чуть
позже указанного срока, в полном отрыве от иллюзий и «ошибочных»
идей, выразившихся в его статьях и некоторых стихотворениях 1914 г.
Но как быть тогда с таким фактом, что упомянутое Маяковским
антивоенное стихотворение «Ах, закройте, закройте глаза газет» («Мама и
убитый немцами вечер») опубликовано в газете «Новь» почти на месяц
раньше вышедшей там же 14 декабря 1914 г. статьи «Будетляне», а
статья «Капля дегтя», как мы показали, непосредственно связанная с
первой и тоже полная утопических надежд на войну, опубликована
вместе с антивоенным стихотворением «Вам!» годом позже в альманахе
«Взял» (декабрь 1915 г.)?20 Написано же оно, как утверждает
комментарий первого тома Собрания сочинений Маяковского, еще раньше:
«...не позже первых чисел февраля 1915 года» (I, 432). Уже эти факты
позволяют сделать вывод, что позиция Маяковского была как будто
бы весьма противоречивой, и это, конечно, не могло не отразиться на
структуре «Войны и мира» (и только ли на структуре?).
Соблазнительно выстроить приблизительно такую концепцию
творческой эволюции Маяковского этого периода, что, кстати, и делается
в большинстве работ маяковсковедов: в стихах о войне поэт занимал
(за исключением стихотворения «Мысли в призыв»)
последовательную антивоенную позицию (это открывало путь к поэме), в теорети-
577
ческих же выступлениях (а они занимают короткий промежуток
времени: почти все статьи были опубликованы с ноября по декабрь 1914 г.)
продолжал питать иллюзии относительно войны. Ответ на это
«противоречие» напрашивается сам собой: «...потому, что милитаристические
идеи были глубоко чужды существу поэта, его военные статьи были,
во-первых, неизменно противоречивы; во-вторых, кратковременны и
прошли через его творчество, пользуясь выражением поэта, как "косой
дождь"»21. А вот и второе возможное объяснение «противоречия»
Маяковского: стихи были непосредственным откликом на военные
события, статьи же, развивая излюбленный круг идей поэта, тем более,
представляя собою сжатый временными рамками цикл, создавали такую
ситуацию, когда поэт как бы оказывался в плену собственной
инерции, загораживающей от него правду жизни. Но хотя и в первом и во
втором ответах-объяснениях есть доля истины, в целом они способны
увести в сторону от существа проблемы, ибо если встать на данную
точку зрения, то как же тогда быть с некоторыми фактами творческой
биографии Маяковского? А факты эти таковы.
В стихотворении «Гимн обеду», опубликованном в «Новом
Сатириконе» 6 июля 1915 г. (следовательно, ему предшествовали все, за
исключением «Капли дегтя», публицистические статьи Маяковского и
многие его антивоенные стихи, среди которых в первую очередь следует
назвать такие, как «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон»,
«Вам!», «Военно-морская любовь»), обращаясь к сытому буржуа, поэт
восклицал: «Желудок в панаме! Тебя ль заразят / величием смерти для
новой эры?!» (I, 84). Эти строки — едва ли не реминисценция одной из
важнейших мыслей «Будетлян»: вспомним трактовку войны в ней не
как «бессмысленного убийства», а как «поэмы об освобожденной и
возвеличенной душе». Продолжая, однако, читать стихотворение дальше,
мы сталкиваемся в нем с мыслью, чуть ли не противоположной
предыдущей. Снова гневное авторское обращение к «идущим обедать»,
но на сей раз проистекает оно как будто из иной общественной
позиции по отношению к войне: «Спи, не тревожась картиной крови / и тем,
что пожаром мир опоясан...» (I, 85). Что это — противоречие? И уже не
стихов и статей, как раньше, а противоречие авторской позиции
внутри одного произведения? Все это усложняет общую картину
творчества поэта22 и заставляет искать ответ на эти вопросы отнюдь не на
путях, предложенных выше.
578
И еще одно, на сей раз последнее обстоятельство. Уже в первом
отклике Маяковского на войну, стихотворении «Война объявлена»,
угадывается многое из того, что потом будет воплощено в поэме «Война
и мир»: победа здесь названа «убийцей», а с бравурно-воинственным
«зверьим криком» «кофейни» остро диссонируют образы плача («слезы
звезд»), «красного снега». С этой же точки зрения важно обратить
внимание на прием композиционного обрамления, используемый в
стихотворении: оно начинается и заканчивается почти одинаково,
отличие заключается разве лишь в сгущении мрачных красок в последней
строфе. Понятно, что такое обрамление способствует окрашиванию
всех мотивов стихотворения, в том числе и бравурных, в трагические
тона. Попутно отметим, что процитированное стихотворение писалось
за несколько месяцев до статей, единодушная оценка идейной
направленности которых в маяковсковедении нам уже известна.
Как это все понять? Может быть, Маяковский просто не замечал
противоречий, так заметных сейчас? А может быть, то, что
исследователи его творчества воспринимают ныне как противоречие, для поэта
не являлось таковым? Ведь когда Маяковскому указали (в связи с
выходом в газете «Новь» литературной страницы «Траурное ура») на некое
несовпадение его теории и практики, то поэт отвел это обвинение в
свой адрес следующим образом: «Для поэта... и слезы и даже
бессилие могут петь и молодость и все, что необходимо сегодняшнему дню.
Для поэта важно не что, а как. Есть слезы и слезы.
Андреев говорит, что есть слезы, от которых только "краснеет лицо
и намокает платочек", а есть и такие, которые "выжигают города, и
дикие звери даже разбегаются" от них. Если и пролиты в наших
стихах, то только эти, последние слезы. Мы считаем за стариков людей,
пишущих не в нашем лагере, не потому, что они не выкрикивают
кличей, соответствующих духу времени — этого у них много, — а потому,
что творят их старческими, притуплёнными нервами» (I, 322). От этих
слов нельзя отмахиваться как от досадного софизма: у нас нет
оснований считать их неискренними. Тем более что в них передано знакомое
нам по «Будетлянам» мироощущение утверждаемого кубофутуристами
«нового человека», которому, по Маяковскому, свойствен гиперболизм
всех его ощущений и дел, ибо этот человек исходит во всем из чувства
причастности к «общему телу» толпы. Поэтому, даже плача, он
сохраняет молодость и силу: его слезы — это не слезы тех, кого в «Будетля-
579
нах» поэт подобно Хлебникову окрестил «вымирающими», и не по ним
они выплаканы. Наоборот, он желает их гибели, ждет того часа, когда
можно будет произнести заранее заготовленную речь о «рождестве»
нового человека. Иными словами, Маяковский против христианского
«не убий!»; пацифизм, как уже говорилось выше, ему глубоко чужд,
но ему вовсе не чужды слезы по тому человеку будущего, образ
которого он рисовал перед собою. Если ставить проблему гуманизма
Маяковского в такой плоскости (а это, по нашему глубокому убеждению,
единственно верный путь), то все рассуждения об «апологии войны»,
о «милитаристских» идеях в статьях военного времени, о
«противоречивости» позиции поэта в данный период и т.д. в значительной мере
отпадут, а это, в свою очередь, откроет путь к более верному
пониманию авторской позиции в поэме «Война и мир».
Большинство авторов, пишущих о поэме Маяковского, неизменно
обращают внимание на тот факт, что война в поэме представлена как
грандиозное театральное «зрелище», как бой государств-«гладиаторов». Как
воспринимать этот образ, созданный с помощью развернутой метафоры?
Генетически прием изображения войны как зрелища восходит к
стихотворению «Мысли в призыв», стихотворению по-футуристически
жестковатому, дышащему надеждами на близящуюся эру «новой красоты».
Именно в нем война уподоблена «игроку», «игрищу». «Горит материк.
Страны — на нет», — почти ликуя, произносит поэт и тут же добавляет:
А мне не жалко.
Лица не выгрущу.
Пусть
из нежного
делают казака.
Посланный
на выучку новому игрищу,
вернется
облеченный в новый закал (I, 70).
К свойственному этому стихотворению пониманию войны как
«мировой кузни», дающей «новый закал» людям, натягивающей «души
канатом» (как тут не вспомнить: «наши новые души, / гудящие, / как фонарные
дуги»), восходят и следующие строки поэмы, трактуемые авторитетным
в советские годы исследователем Маяковского И.М. Машбиц-Веровым
как иронические:
580
<...> стало невыносимо ясно:
если не собрать людей пучками рот,
не взять и не взрезать людям вены —
зараженная земля
сама умрет —
сдохнут Парижи,
Берлины,
Вены!
Чего размякли?!
Хныкать поздно!
Раньше б раскаянье осеняло!
Тысячеруким врачам
ланцетами роздано
оружье из арсеналов (1,218).
Эти строки возникли в поэме лишь после того, как в ее первой части
был развернут глубоко ненавистный Маяковскому гротескный образ
«гниющей земли», «массомясой быкомордой оравы», «уличных блудилищ».
Любовь в этом мире выродилась в похотливое сластолюбие, в то,
что поэт называл в «Облаке в штанах» «грубой», «литавренной»
любовью, лишенной глубоко положительного, возрождающего начала,
ведущей этот мир к смерти, той смерти, которую ждал и призывал Маяков-
ский-кубофутурист. Поэтому если и есть в этих строках ирония, то она,
как и в трагедии «Владимир Маяковский», приобретает характер
самоиронии: надежды возлагались не на тех «врачей».
Кроме этих примеров в поэме имеют место факты прямой
переклички ее мотивов с отдельными положениями статей 1914 г., а через
них с некоторыми мотивами стихотворения «Мысли в призыв».
Отметим одну из них. В поэме есть строки:
Россия!
Разбойной ли Азии зной остыл?!
В крови желанья бурлят ордой.
Выволакивайте забившихся под Евангелие Толстых!
За ногу худую!
По камню бородой! (I, 219) —
совпадающие по мысли с отрывком из статьи «Штатская шрапнель.
Вравшим кистью»: «А ну-ка возьмите вашу самую гордящуюся идею,
самую любимую идею вас, ваших Верещагиных, Толстых — не убивай
581
человека, — выйдите с ней на улицу к сегодняшней России, и толпа,
великолепная толпа, о камни мостовой истреплет ваши седые боро-
денки» (I, 309). Да и сам характер обращений во второй части поэмы
к разным странам не вызывает сомнений в том, что мы имеем дело со
старыми симпатиями Маяковского: Германии предлагается, например,
уничтожить «мысли, / музеи, / книги» (I, 218) (вспомним борьбу
футуризма с искусством прошлого или же слова поэта о «проповеди новой
красоты» «над заревом горящих книгохранилищ»), Франции —
оздоровить климат, насилием выжечь присущую ей «нежность»
(вспомним: «пусть из нежного делают казака») и т.д. Итак, факты говорят о
том, что прием изображения войны как парада гладиаторов, «зрелища
величайшего театра», «кровавых игр» восходит к Маяковскому 1914 г.,
периода публицистики и «Мыслей в призыв». Надо, наконец, сказать
и правду: поэту, как и всем кубофутуристам, была близка
провозглашенная Хлебниковым идея о войне «возрастов», о борьбе
«приобретателей» и «изобретателей».
Но в поэме есть и иное изображение войны, совсем в духе
антивоенных стихов Маяковского. Любопытно в связи с этим, что метафора:
война — «зрелище величайшего театра» — реализуется только в начале
третьей части поэмы, а затем Маяковский как бы забывает о своем
обещании: прием отступает под напором «фейерверка фактов, / один
другого чудовищней». В самом конце части возникает образ войны как
«кровавого обеда» смерти, образ, всем существом своим
противопоставленный исходному: так может быть противопоставлен только парад
правде жизни. Не случайно ее последние строки о «гниющем вагоне»,
в котором «на сорок человек — / четыре ноги», заставляют нас
вспомнить страшные своей реальностью слова стихотворения «Вам!»,
брошенные Маяковским в лица «сытых»:
Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?.. (I, 75)
Будетляне, вопреки теории, не рождались. Зато возникла реальная
угроза полного самоистребления человечества; домоклов меч войны
оказался занесенным и над головой того человека, которого Маяковский
надеялся возродить. «Уже обезумевшая, / уже навзрыд, / вырываясь»,
582
«душа» поэта «молит» людей уняться, прекратить бойню. Художнический
такт, постоянная устремленность навстречу реальной жизни и на сей
раз предостерегли его от подмены действительности
футуристической утопией. Надежды на изменение «человечьей основы России» (I,
332) пока не оправдывались. Но это пока: неужели «у
времени-хамелеона / и красок никаких не осталось» (I, 233)? «Нет, / не может быть!»
(I, 234) — восклицает поэт, а раз так, то необходимо во что бы то ни
стало выесть «имя "убийца", / выклейменное на человеке» (I, 230). Трудно
«сквозь строй, / сквозь грохот... / пронести любовь к живому», можно
«оступиться» и тогда «последней любовишки кроха / навеки канет в
дымный омут» (I, 211). Нет, поэт не боится умереть, «в лаве атак» он
был бы «первым / в геройстве, / в храбрости». Да и трудно устоять
перед «набатом гибнущих (в первом варианте строки: «будущих». — B.C.)
годин», на который откликнулись все, кроме поэта. Трудно, но надо.
Как видим, надежда на появление «мощных людей будущего» до
самого конца поэмы не покинула его; теплится она не только потому, что
поэту не хочется верить в крайнюю степень падения человечества, но
и потому, что воюющие в конце третьей части поэмы далеко не те,
какими они были в ее начале.
И вот эта надежда укрепляет героя Маяковского в возложенной на
его плечи трудной миссии «предтечи» будущего (опять один!),
«глашатая грядущих правд». Вот почему ему столь важно уберечь себя, не
дать «оступиться», и это, надо признать, ему удается.
Сегодня ликую!
Не разбрызгав,
душу
сумел,
сумел донесть.
Единственный человечий,
средь воя,
средь визга,
голос
подъем л ю днесь (I, 212), —
восклицает поэт с удовлетворением. И подобно тому, как в трагедии
«Владимир Маяковский» герой готов был покинуть сцену после
исполнения своей миссии, герой поэмы «Война и мир» готов сам, не «изме-
583
нясь в лице», встать к «столбу» смерти: дело сделано — люди будут
красивы и счастливы.
Снова крестная мука, просветляющая и возвышающая. Человек
будущего, концепция которого излагалась в теоретических
выступлениях поэта, «один достоин / новых дней приять причастие» (I, 233).
Однако снова, как и в трагедии «Владимир Маяковский» и в поэме
«Облако в штанах», он берет на себя ответственность за судьбы
людей:
Вселенная расцветет еще,
радостна,
нова.
Чтоб не было бессмысленной лжи за ней,
каюсь:
я
один виноват
в растущем хрусте ломаемых жизней! (I, 230—231).
Заметим, что непременными качествами «нового человека» Маяковский
считал «чувство ответственности за каждый шаг» и «сознание, что
каждая жизнь вливается равноценною кровью в общие жилы толп»,
«чувство солидарности» (I, 331). Только при наличии этих черт характера,
по мнению поэта, можно констатировать рождение «освобожденной и
возвеличенной души». Таким человеком с обостренным чувством
личной ответственности за общее зло мира и выступал лирический герой
Маяковского. В связи с этим любопытно обратить внимание на
подчеркнутое самим поэтом различие в поведении героя в Посвящении
и четвертой части поэмы (сцена «покаяния»), хотя и там и тут он
носит одно и то же имя. В Посвящении герой — частное лицо, еще не
прошедшее через очищающую «всечеловеческую трагедию» войны.
Свидетельством этого факта служит идущий из глубин его души крик
«сжатой жалости», столь похожий на возглас «Не убий!»: «Слышите! /
Каждый, / ненужный даже, / должен жить...» (I, 213). В сцене «покаяния»
герой абсолютно свободен от этой «заплаканной гнуси» (о войне он
теперь говорит: «Не затем / взвела / по насыпям тел она, / чтоб,
горестный, / сочил заплаканную гнусь...», I, 229), ибо испытание войною для
него не прошло бесследно, сделав его «средоточием боли» всего мира,
воплощением гуманнейших черт «грядущей красоты». Очистившись,
584
«один достойный новых дней приять причастие», герой Маяковского
приобретал право быть «зодчим» общества будущего. Вновь он хотел
быть мессией, но мессианство его, как и прежде, носило
антихристианский характер: именно на эту идею «работали» принципиальные
различия в его поведении и высказываниях в Посвящении и сцене
«покаяния».
Драматизм поэмы по сравнению с оптимистическим пафосом
публицистики заключался в том, что страшной реальности войны в ней
была противопоставлена фантастическая картина будущего. И все
же, как мы убедились, архитектоника «Войны и мира» везде и во всем
следует логике «Будетлян»: 1) старый мир, зараженный смертельной
болезнью; 2) война, уничтожающая этот мир; 3) рождение «идеального
государства», общества «настоящих людей, бога самого милосердней и
лучше» (1,233). В отличие от «Облака в штанах», где надежда на мятеж
во имя «нового человека» сменялась страшным признанием: «Ничего
не будет», — финал поэмы «Война и мир» оптимистичен:
Смотри,
мои глазища —
всем открытая собора дверь.
Люди! —
любимые,
нелюбимые,
знакомые,
незнакомые,
широким шествием излейтесь в двери те.
Ион,
свободный,
ору о ком я,
человек —
придет он,
верьте мне,
верьте! (1,241—242).
Но вера в пришествие «свободного человека» в поэме «Война и мир»
была основана лишь на личном опыте лирического героя: поэт
призывал людей «излиться» в глаза «нового человека» (лирического героя),
т.е. увидеть его глазами окружающий мир, сделать его опыт
достоянием всего человечества. Только при этом условии, по мысли поэта, ро-
585
дится «свободный человек»: союз «и» («и он... придет») отсылает
читателя к условию, поставленному выше: «...широким шествием
излейтесь в двери те»23. Таким образом, несмотря на отмеченное отличие
поэмы «Война и мир» от предшествующих произведений поэта,
постановка и решение проблемы идеала в ней было во многом повторением
пройденного: снова, несмотря на страстное желание Маяковского
утвердить свой идеал гармонической личности в объективном мире
(отсюда его иллюзии относительно войны), круг поисков замыкался, ибо
такой личностью оказывался сам поэт.
Однако, говоря так, мы ни на минуту не забываем, что поэт
Маяковский был еще и активным будетлянином, принимавшим самое
непосредственное участие в формировании кубофутуристической
идеологии и эстетики. Именно с этих позиций он подверг
переосмыслению художественную концепцию романа Л. Толстого «Война и мир»,
показавшегося ему, видимо, слишком христианским и нежизненным,
и, надеясь сообщить истории верный ход, не удержался от соблазна
реконструировать свой идеал в фантастической картине общественного
устройства. Еще герой «Облака в штанах», «выжегший душу, где
нежность растили», стиснувший зубы до предела, вступал в единоборство
с миром, «укравшим» его любимую. Это был бой во имя любви,
нежности, не дробящих человека на грубую плоть и бестелесную
духовность, иными словами, это был бой за цельного человека, как его
понимал поэт-футурист.
Подобная любовь призвана была возвратить человека из небытия
к истинному его призванию, благодаря чему мир должен был обрести
утраченную гармонию, т.е. достичь такого общественного состояния,
когда человек и его сердце оказались бы единственным мерилом всех
социальных отношений. Так, уже в «Облаке в штанах» поэт поднялся
до понимания любви как некоей первоосновы мира, и это понимание,
вызрев с годами, стало фундаментом образной концепции «Войны и
мира». Именно поэтому можно говорить о новой поэме Маяковского
как углубляющей и развивающей его прежние творческие поиски.
Действительно, миры, изображенные в первой и последней частях поэмы,
противопоставлены между собой как две взаимоисключающие
концепции любви: любовного «вертепа», пронизанного ночными красками,
с одной стороны, и залитой солнцем картины невиданных любовных
отношений («Земля, / откуда любовь такая нам?») — с другой. Диссо-
586
нирующему, раздираемому противоречиями, «ревущему» миру
второй части противопоставлен ладомир24 финала поэмы.
В свете развиваемой в поэмах «Облако в штанах» и «Война и мир»
художественной концепции любви понятной становится авторская
позиция Маяковского. Выше уже говорилось о том, что идеал поэта
заострен против христианского гуманизма, частным выражением
которого является заповедь «Не убий!», оправдывающая, с точки зрения
кубофутуриста, позицию невмешательства человека в судьбы мира,
предоставляющая ему возможность гнить в оргиях «Вавилонов». Но
в то же время Маяковский против «воя и визга» войны, развязанного
танцующим на эстраде «животом». «Любовь к человеку», носителем
которой в поэме является лирический герой, исключает обе эти
крайности. Авторская позиция находит свое законченное выражение в
сцене «покаяния» лирического героя; она задумана поэтом как
демонстрация истинной человечности, того «родового» зерна в человеке, из
которого способен произрасти новый мир, очищенный от полярных
проявлений современной цивилизации (символическими их
обозначениями в поэме служат начала Каина и Христа). Вот почему,
демонстрируя красоту нового человека, лирический герой поэмы казнит в
себе Каина Христом, и оба эти начала, теряя свою обособленность,
враждебность по отношению друг к другу, возрождаются в его новой
душе в ином качестве, не сводимом ни к одному из его
составляющих.
4. Апокалипсис Маяковского
Фантастический финал «Войны и мира» — вдохновенная песнь
Маяковского о любви; частным ее выражением является счастливая,
разделенная (впервые в творчестве поэта!) любовь лирического героя к его
любимой. В последней своей дореволюционной поэме «Человек»
Маяковский вновь пишет «дней любви... тысячелистое Евангелие». Поэмы
«Война и мир» и «Человек», по свидетельству самого поэта,
создавались практически одновременно, и это обстоятельство наводит на
определенные размышления: последнюю поэму Маяковского, в известном
смысле, можно рассматривать как итог творческих поисков поэта
дореволюционного периода.
587
В «Войне и мире» есть образ рождающегося нового человека:
Большими глазами землю обводит
человек.
Растет,
главою гор достиг.
Мальчик
в новом костюме
— в свободе своей —
важен,
даже смешон от гордости (1,237).
В этой картине выразился пафос поэмы, страстная мечта
Маяковского о человеке «бога самого милосердней и лучше». Поэма
«Человек» начиналась с того, чем заканчивалась поэма «Война и
мир»; мечта поэта стала явью, такой человек, которому подвластно
все на свете, родился, глава названа необычайно — «Рождество
Маяковского». Величием своим, своими творческими
возможностями он равен Богу; нет, он выше, он «лучше» Бога, ибо он —
Человек:
Это я
сердце флагом поднял.
Небывалое чудо двадцатого века!
И отхлынули паломники от гроба господня.
Опустела правоверными древняя Мекка (I, 249).
Человек Маяковского гиперболичен во всем, он весь из плоти и
крови, но телесность его, как всегда у поэта, не грубая физиология,
а глубоко положительное, жизненно-возрождающее начало. По сути
дела, человек Маяковского — воплощение идеи человеческого, в том
особом, присущем поэту значении, в котором оно впервые
выразилось в «Облаке в штанах», а затем было усилено и развито в статьях
военного времени и в поэме «Война и мир». Герой новой поэмы —
своего рода квинтэссенция идеала раннего Маяковского,
«тринадцатый апостол» в его высшем родовом выражении, достойный
нового Евангелия. Во второй раз брался поэт за создание Евангелия от
Человека, и на этот раз он строго придерживался основных сюжетных
моментов первоисточника. Даже названия глав поэмы: «Рождество
588
Маяковского», «Жизнь Маяковского», «Вознесение Маяковского»,
«Маяковский в небе», «Возвращение Маяковского», — были призваны
вызвать в сознании читателя ассоциации с Евангелием. Следовательно,
движение сюжета поэмы должно было продемонстрировать,
развернуть перед читателем человеческие возможности героя, однако
вывод, к которому приходил Маяковский, вопреки повествованию о
Христе, оказывался глубоко трагичным и в этой трагичности
противоположным финалу «Войны и мира». Любовь человека
огромна, он способен «выкупать» в ней всех людей, «любимых» и
«нелюбимых», но он, «свободный человек» (его пришествие
провозглашалось совсем недавно, и он действительно рождался на глазах
читателя новой поэмы), попадал в плен к Повелителю Всего,
которого, отчаявшись в своей победе над ним, поэт объявлял теперь
торжествующим «соперником» своим, своим «неодолимым врагом».
«Рай... потерян», и на этот раз, кажется, навсегда: любимая Человека
«в святошестве изолгалась», она далеко неровня прямой и «резкой»
Марии, а раз так, то у героя Маяковского не могло быть даже тех
надежд, какие поддерживали его силы раньше, в «Облаке в
штанах». «В бессвязный бред о демоне» «растет... тоска» лирического
героя.
Из первой поэмы Маяковского мы уже знаем, чего стоит герою
этот вынужденный демонизм, это вечное проклятие одиночества, эта
боль, от которой никуда не уйти и которую хочется заглушить,
растворить «в мягком, / в женском». Как и в первой поэме, герою
«Человека» хочется избавиться от крестной муки, «выскочить из сердца»,
но теперь, когда молить уже некого, остается одно: «душу / без боли /
в просторы вывести» (I, 257). Но тщетно желание героя, ибо «тайны»
и «высшие справедливости» аптекаря не для его посетителя, он
Человек, а потому бессмертен.
Однако то, что не удалось герою «Облака», удается герою
«Человека»: он «скидывает» «на тучу... / тела усталого / кладь» (I, 258).
В новой поэме Маяковского поставлен как бы эксперимент на
выживаемость человека «для сердца» в мире «бестелых» «поющих...
ангелов». Но это необходимо поэту для того, чтобы непреложнее прозвучала
истина, добытая в первой поэме: земная природа человека
непреодолима, незыблемы и священны простые человеческие чувства и жела-
589
ния. Певцу земного не место на небе, и через миллионы лет в нем снова
начинает «шуметь» сердце.
Проснулись в сердце забытые зависти,
а мозг
досужий
фантазию выстроил.
— Теперь
на земле,
должно быть, ново.
Пахучие весны развесили в селах.
Город каждый, должно быть, иллюминован.
Поет семья краснощеких и веселых (1,263).
Эти строки далеко не случайны в поэме. В поэму «Человек» вновь
властно вступал знакомый нам по «Владимиру Маяковскому» мотив
спора горькой реальности жизни с утопической мечтой поэта. Ведь
все, что через миллионы лет увидел на земле лирический герой, ему
было уже до боли знакомо: Повелитель Всего — по-прежнему
«главный танцмейстер земного канкана».
Все приведенные выше наблюдения позволяют нам высказать
предположение, что Маяковский, создавая поэму «Человек», ориентировался
на замысел «Войны и мира». Не случайно в ней была последовательно
оспорена фантастическая часть предшествующей поэмы. Живой
творческий процесс протекал, разумеется, значительно сложнее, но факты,
помноженные на замечание самого поэта относительно одновременного
«разворачивания» замысла поэм, позволяют нам утвердиться в
выдвинутом предположении. И если поставить вопрос о соотношении
«программного» «Облака в штанах» с поэмами «Война и мир» и «Человек»,
то ответ на него будет приблизительно следующий: развивая и
углубляя отдельные мотивы первой поэмы («Война и мир» — пафос «нового
человека», «Человек» — мотив «украденной любви»), вместе взятые,
они на более высоком витке спирали повторяли движение лирического
сюжета «Облака в штанах» — от надежд на бунт во имя «нового
человека» до страшного открытия: «Ничего не будет».
И все же выдвинутый выше тезис о поэме «Человек» как поэме итога
дореволюционного творчества Маяковского отнюдь не снимается этим
соображением. И дело здесь даже не в том, что в ней, по единодушному
590
мнению критиков, мы сталкиваемся с необычайным сгущением
трагизма. Суть проблемы, как нам кажется, состоит в ином.
Сосредоточивая все свое внимание на трагическом одиночестве лирического героя
в мире, поэт здесь, в отличие от предшествующих поэм, был
исполнен романтической иронией в адрес его демонического эгоцентризма.
Именно этим обстоятельством объясняется горько-шутливое, не без
колкости, предложение автора «Человека» «петь» «о новом... Демоне /
в американском пиджаке / и блеске желтых ботинок» (I, 258), а также
не менее ироничное, что еще более заостряет трагичность ситуации,
осмысление мотива романтической мести, развернутого в последней
главе поэмы. Герой оказывается здесь в ситуации, сходной с ситуацией
четвертой части «Облака в штанах». Там он, отвергнутый Марией,
вступал в единоборство с самим Богом, виноватым, по его разумению, в
несправедливом устройстве Вселенной. В «Человеке», узнанный
«земными мученьями», герой Маяковского хочет поступить аналогичным
образом: «затем, чтоб портить / дни листкам календарным» (I, 266),
чтобы прервать «бессмысленную повесть» того порядка вещей,
который заведен Повелителем Всего, он решает вступить в бой со своим
соперником:
Антиквар?
Покажите!
Покупаю кинжал.
И сладко чувствовать,
что вот
пред местью я (1,267).
Но он поистине неуловим, этот двуликий Янус, Повелитель Всего.
Замахнувшись над ложем любимой своим бутафорским кинжалом
(это уже не «сапожный ножик», которым грозил Богу герой «Облака
в штанах»!), близкий к исполнению заветного — «его оказалась голая
лысина»! — герой «Человека» попадает в комическое положение:
Зажглось электричество.
Глаз два выката.
«Кто вы?» —
«Я Николаев —
инженер...» (1,270).
591
Сегодня Повелитель Всего ожил в Николаеве-инженере, а завтра...
Лицо его двоится, троится, и нет числа этим ликам. Комизм ситуации
перерастает в трагикомизм, трагедия — в трагикомедию, истоки
которой заложены были еще во «Владимире Маяковском». Со времени
создания первой трагедии, как мы показали, поэт предпринял новый
виток поисков выхода, но они привели к еще более печальным
выводам. И если в «Облаке в штанах» лирический герой Маяковского
молодецким криком оглашал спящую Вселенную, то теперь все
поменялось местами: «тысячью церквей» под ним «затянул / и тянет мир: /
"Со святыми упокой!"» (I, 272).
Полемика со Священным Писанием очевидна. И не в том только смысле,
что ценностям христианского характера в поэме противопоставлены
ценности неоязыческого толка. Так Маяковский, как, впрочем, и все кубо-
футуристы, поступал всегда. Трудно назвать новацией и сравнение
религии с «цепью» (1,250), оковавшей сердце его героя. Дело в ином. Может
быть, впервые в своем творчестве поэт не просто отвергал, а откровенно
пародировал Евангельский сюжет. Взрывая изнутри логику
христианского вероучения с его устремлением к кардинальному изменению
мира и человека, Маяковский попытался воссоздать свой
собственный вариант Апокалипсиса, в котором вопреки Откровению Иоанна не
было места ни «новой земле», ни «новому небу». Христианской
«утопии», полагал поэт, он противопоставлял горькую реальность жизни.
Силы лирического героя оказались явно недостаточными для
нанесения сокрушительного удара по враждебному миру. Возникшее в поэме
«Человек» разочарование поэта в возможностях своего лирического
героя было следствием данной ситуации. Для дальнейшего творческого
роста поэта, для образного воссоздания его эстетического идеала,
сложившегося в основных своих чертах, как мы видели, уже в
дореволюционном творчестве Маяковского, необходим был гигантский
социальный взрыв. Не будь его, неизбежно последовал бы третий виток поисков
на путях, далеких от кардинальных решений, а это грозило бы поэту
опасностью самоповторения. Однако внутренние резервы лирического
героя были исчерпаны. Перед Маяковским, как никогда остро, встала
проблема поисков выхода из замкнутого круга, в котором оказался его
лирический герой. Нужны были силы, способные оплодотворить идеал
поэта, вывести его на просторы реальной, а не умозрительной жизни.
«Вытомленный лирикой», поэт ждал своего часа.
592
5. «Моя революция». «Огромнейший знак вопроса»
Революцию Маяковский воспринял как путь к воплощению в
действительность своего эстетического идеала. Поэтому первые
пореволюционные годы его творческой эволюции во многих отношениях
проходили под знаком уже сложившейся до революции поэтической
системы. Однако убеждение Маяковского, что идеалы революции и
содержание собственного его идеала соответствуют друг другу,
способствовало перемещению центра поисков с личности лирического
героя на окружающий мир: иными словами, в поэтике Маяковского
данного периода наметилось явное тяготение к эпическим формам
выражения авторского сознания. Все эти в известном смысле
противоречивые процессы нашли свое завершение в поэме «150 000 000»
(1920) и «Мистерии-буфф» (1918), которые в плане реализации
идеала Маяковского вместе с более поздней поэмой «Люблю» (1922)
являются своеобразными «перевертышами» его ранних
произведений.
Направление переоценки ценностей, которая устроена на
страницах этих произведений, установить легко: она подсказана поэту его
прежними футуристическими пристрастиями. По-прежнему
«ставящий nihil... над всем, что сделано», его лирический герой вовсе не
против красоты, нежности, любви. Напротив, революция воспринята здесь
как гигантский смерч, очищающий эти вечные, исконно человеческие
понятия, своего рода первоосновы мира, от той скверны, в которой
они якобы пребывали в старом обществе. И свершается революция, по
Маяковскому, «в этом самом году, / в этот день и час» не менее чем во
всем космосе: «под землей, / на земле, / по небу / и выше...» (II, 115). Вот
почему — в полном соответствии с дореволюционным
творчеством — время понято здесь как преграда на пути к «новой красоте».
«...Дней оседлаем порох» (II, 128), — говорит поэт от имени восставших;
в другом же месте «150 000 000» эта императивная интонация
выливается в гимн буйству естественных сил. Революция идет по
Вселенной, «всего мирозданья проверяя реестр». Именно она выносит
приговор: «Нужная вещь — /хорошо, /годится. /Ненужная — /кчерту! /
Черный крест» (II, 124).
«Миллионы трудящихся» и «миллионы вещей» спешат в этой поэме
на «всехсветный» митинг, чтобы совершить «подвиг труднее боже-
593
ского втрое». Возникает мотив страстной мольбы о человеке,
подобном герою раннего Маяковского:
Выйдь
не из звездного
нежного ложа,
боже железный,
огненный боже,
боже не Марсов,
Нептунов и Вег,
боже из мяса —
бог-человек!
Звездам на мель
не загнанный ввысь,
земной
между нами
выйди,
явись! (II, 123).
Этот человекобог, концентрированное выражение
футуристического идеала Маяковского, под именем Человека просто произносит
перед нечистыми из «Мистерии-буфф» «новую проповедь нагорную».
В пьесе поэт откровенно примитивизирует библейские мотивы, а
устами своего героя, в котором на сей раз демонстративно отказывается
видеть мессию, проповедует «настоящие земные небеса»25(разрядка
наша. — B.C.). В его «раю» «залы ломит мебель, / услуг электрических
покой фешенебелен», там, если пожелать, «на корнях укропа / шесть
раз в году росли ананасы б», и этот «рай для всех», кто ценит земные,
а не «небесные сласти». «Земля обетованная» — эта своеобразная
Маяковская утопия — увидена преимущественно с «вещной» стороны: в
ее «воздухе — / сласть какая-то разабрикосена» и «дерево цветет» там
«не цветком, а булкою» (II, 232,233). Не случайно также, что именно на
страницах «Мистерии» и «150 000 000» произошло трогательное
братание людей и вещей, состоялся тот самый союз между ними, который
ожидался в первом действии трагедии Маяковского.
Разумеется, в «вещизме» Маяковского немало от полемики с
христианством и с современным искусством, которое, как ему казалось,
было слишком мало озабочено земными проблемами, кроме того, в
594
«Мистерии-буфф» в этом отношении определенную роль сыграл
наивно-материалистический взгляд нечистых на окружающий мир.
И все же далеко не случаен тот факт, что в своей мечте («Мы / тебя
доконаем, / мир-романтик!») восставшие миллионы в произведениях
Маяковского руководствуются не верой («Вместо вер — /в душе /
электричество, / пар»), а очень упрощенным, нигилистическим по
сути стремлением «прикарманить» «всех миров богатство».
Революция и в пьесе, и особенно в поэме воспринята подобно «Ладомиру»
Хлебникова как некий космический взрыв, прерывающий все
традиции и заменяющий одни (в первую очередь, христианские) этические и
эстетические ценности другими, языческими по своему содержанию.
Все дело, по Маяковскому данного периода, заключается во
внешнем перемещении вещей и понятий, причем права гражданства
приобретает лишь то, что самим поэтом признается как безусловная
ценность. Поэтому, кстати, оказалось возможным, что революция в
изображении Маяковского заговорила его «губами». Объяснение всему
этому нужно искать в религиозном имманентизме (религия челове-
кобожия), характерном и для революционного сознания, и для кубо-
футуристического движения, и, разумеется, для Маяковского;
художественная концепция поэмы «Владимир Ильич Ленин», к примеру,
целиком вытекает из этой мировоззренческой установки. Игнорируя
ценности трансцендентного порядка, делая своим знаменем духовный
нигилизм, поэт легко переходит от поэтизации природного начала
в человеке к проповеди достижений технического разума. Почти
гедонистическая чувственность в этих условиях легко уступает место
безудержной рационализации действительности, романтические
социальные проекты вырождаются в идеологию «людского
муравейника».
На какое-то время футуристу Маяковскому показалось, что
«революция, прачка святая... всю грязь лица земного смыла» (II, 237).
Отсюда та атмосфера праздничной раскрепощенности, которая была
отмечена нами в «Мистерии-буфф» и «150 000 000».
Однако революционная действительность и практика
большевистского строительства оказались неадекватными идеалу поэта.
Максимализму футуриста Маяковского, полагавшего, что революция одним
ударом рассечет гордиев узел страданий человека и возвысит его до
595
идеального состояния, был преподан суровый урок. В его сознании
зафиксировался «огромнейший знак вопроса»:
Коммуна!
Кто будет пить молоко из реки ея?
Кто берег-кисель расхлебает опоен?
Какие их мысли?
Любови какие?
Какое чувство?
Желанье какое? (IV, 101).
Сама мысль, что люди войдут в Коммуну с уродливым грузом
прошлого, что всеми богатствами будут распоряжаться «душ калеки», уже
сейчас рассевшиеся «на месте... вчерашних чаяний», казалась ему
невыносимо кощунственной. Еще совсем недавно, в «Мистерии-буфф»,
поэт полагал, что новые взаимоотношения людей и вещей —
надежная гарантия духовного здоровья общества. И сейчас, в критическое,
да еще и голодное время, он верит, что «будет час / жития сытого, /
в булках, / в калачах» (IV, 100). Но там, где удовлетворенные
«нечистые» остановились, теперь поставлена «точка вопроса». «Чтоб душу
врасплох не смяли» мещане с их представлениями о благополучии,
необходима «революция другая — / третья революция / духа» (IV, 103).
Снова герой один и снова выступает в роли пророка. Праздник
закончился, начинались будни.
Читателя, серьезно размышляющего над проблемами творчества
Маяковского тех лет, неизбежно останавливают усилия поэта,
направленные на пересмотр своей прежней эстетической программы. В целом
ряде стихотворений и теоретических выступлений, относящихся к этому
времени, Маяковский со столь свойственным ему полемическим задором
декларирует отказ от традиционных тем лирической поэзии, в первую
очередь от темы любви, называя свои и чужие стихи подобной
ориентации в «Приказе № 2 армии искусств» (1921) «безделушками».
Единственно достойным времени объявлено здесь такое искусство,
которое поможет «выволочь республику из грязи» (II, 88). Поэзии
предлагалось выйти в «общемясницкие» масштабы (II, 85), иными словами,
спуститься с «неба на землю». «Пятый Интернационал» (1922)
открывается «Приказом № 3», и подобное название, конечно же, указывало на
преемственность в развитии поэтом темы искусства, на прямую зависи-
596
мость новой декларации от предшествовавшей. И действительно, свою
новую эстетическую позицию Маяковский противопоставляет в поэме
своим прежним творческим принципам. «Точность математических
формул» (теперешний лозунг!) — это для Маяковского не что иное, как
право искусства быть «чертежом зодчего». Передавая расхожее
представление о классической поэзии как нытье «над розой», он
противопоставляет ей искусство, активно вмешивающееся в жизнь, годящееся
«не для обнюхивания, / а для изобретения роз» (IV, 107).
Однако логика последующего творческого развития Маяковского не
будет в достаточной степени ясна, если не остановиться прежде на
эстетической платформе литературной школы, которая окончательно
оформилась к 1923 г. и тогда же получила громкое название — Леф.
Генетически восходящее к кубофутуризму, это движение оказалось «левее»,
радикальнее революционной идеологии, особенно в условиях
проводимого большевиками НЭПа.
6. Проект Лефа: «методы и приемы боя
за изобретательную, тренированную,
классово-полезную человеческую личность»
Судьба поэта тесно связана с Левым фронтом искусств, и далеко не
случайно, что причины обращения к теме «Пятого Интернационала»,
изложенные в «Открытом письме Маяковского ЦК РКП, объясняющем
некоторые его, Маяковского, поступки» (подзаголовок «IV
Интернационала»), переплетаются с лефовским пониманием целей
революционного искусства. «...Первейшей, боевой, сегодняшней задачей
пролетарской литературы, — писал теоретик Лефа Б. Арватов, —
является организованный поход против современного быта»26. Еще ярче
эта же мысль прозвучала в одной из статей Н. Чужака. «В момент,
когда нэпо-стихийный быт, прорвавший тонкую прослойку
коммуно-устремительной культуры, угрожает захлестнуть
зловонной тиной деликатнейшую из надстроек —
революционную, т.е. преодолевающую и творящую, психику, —
должны ли мы с особой яростью бороться за освобождение
этой психики от незаконной близости к нэпо-хвосту?..» —
спрашивал автор. И сама форма вопроса уже предполагала ответ: «Раз-
597
магниченному слизнячеству всякого рода, психологической реакции и
реставраторству, тоске по старенькой, внеклассовой, всеобывательской
"лапше" — нам нужно противопоставить наше классовое,
контр-реакционное острие, — нужно во что бы то ни стало
не дать нашей психике разложиться в мещанской тине<...>
Нужно прямо, товарищи, говорить: момент слишком серьезен, и от
степени классовой сопротивляемости зависит — быть или не быть.
Перед лицом этой серьезности — не нам молчать. Культурный, т.е.
классовый волепобедноустремительный коммунизм должен призвать
к порядку все слизняческое, вялое, все жирно-размягченное в рядах
РКП»27. Страстность и напряженность этой декларации сближают ее
с основной тональностью «IV Интернационала», не случайно Чужак
цитирует его строки. Однако тот же Чужак подверг резкой критике
«Пятый Интернационал» Маяковского. Почему?
С первого дня организации Лефа как особой литературной школы
Чужак с тревогой констатировал, что «левый фронт искусства
переживает глубокий внутренний кризис». По его мнению, «идет почти
открытая уже борьба двух составных элементов» нового течения:
«старого футуризма, — додумавшегося — головой и под
воздействием извне — до производственничества искусства, но отдающего
производству только технику левой руки и явно путающегося меж
производством и мещанской лирикой, — и:
производственнического Лефа, пытающегося сделать из теории —
пока еще корявые и робкие, но — уже актуально-практические выводы,
и — это особенно важно — ставящего ставку не на индивидуальное и
неизбежно яческое искусство стихов, а на идущее с низов и лишь
нуждающееся в оформлении — творчество массы». Теория Лефа, развивал
далее свою мысль Чужак, значительно опередила «практику левого
фронта», которая «проявила не только несоразмерно малую, по
сравнению с теорией подвижность, но и некую
определенную тенденцию к высвобождению из-под тяжести
добровольно возложенной на себя задачи»28. Отсюда делался вывод,
что истинный «футурист (читай — лефовец. — B.C.) — только тот, кто
реальнейший реалист в сегодняшнем дне и строит из него
диалектические модели в прямое завтра»29.
Все эти слова были сказаны с оглядкой на Владимира Маяковского.
Теоретику Лефа претила романтическая окрыленность его пореволю-
598
ционного творчества; он упрекал поэта в расхождении его
теоретических деклараций и практики, проявившихся, в частности, в «Пятом
Интернационале». Причину этой непоследовательности он
усматривал в подчеркивании поэтом личностного начала в искусстве.
Концепция же «производственного искусства», с позиций которой Чужак
подходил к творчеству Маяковского, принципиально игнорировала
творческую личность.
В одной из программных статей журнала, отвечая на вопрос, «что
такое Леф», С. Третьяков писал: «ЛЕФ — оформитель
коммунистического мироощущения.
Есть ЛЕФ маленький — это журнал, горсточка людей,
прощупывающих способы переноса в искусство задач революционной борьбы.
Есть ЛЕФ большой — все чувствующие, но не умеющие выразить того,
что обновление экономики диктует и обновление способов ощущать и
подчинять себе жизнь.
Большой ЛЕФ — это огромный, зачастую слепой, всегда напряженно
изобретательный мятеж во имя нового человека, во имя нежелания
разваливаться на барских кушетках старого искусства»30.
Левый фронт искусств — сложное и неоднородное течение, но здесь
верно уловлено то, что объединяло его работников: борьба за новое
искусство, такое, которое целиком подчинило бы себя практическим
нуждам революции. Уже в декларации Лефа было записано: «Сейчас
мы ждем лишь признания верности нашей эстетической работы, чтобы
с радостью растворить маленькое "мы" искусства в огромном "мы"
коммунизма»31.
Таким образом, центральная идея Левого фронта: создание
искусства, осмысливающего себя орудием будущего, — идея бесспорная,
заслуживающая самого пристального внимания и поощрения. Однако
ее дальнейшее развитие было сопряжено у лефовцев с рядом крупных
ошибок и заблуждений. Искусство прошлого целиком зачислялось в
разряд «пассеистского», а в противовес ему выдвигался лозунг
искусства — жизнестроения. Буржуазные художники, утверждал,
например, Арватов, «творили только на высотах своей фантазии; вместо того,
чтобы строить самую жизнь, они восполняли ее с помощью выдумки»32.
Одно из самых ранних обоснований новой концепции искусства
принадлежало Н. Чужаку, человеку, претендовавшему на роль духовного
вождя и главного теоретика Лефа. Воспроизведем ход его рассуждений.
599
В статье «Осознание через искусство» Н. Чужак писал:
«...осознание творимого в жизни в эпохи потрясений фатально отстает от самого
творчества, и нужно большее или меньшее психологическое (или во
времени) отхождение от событий, чтобы изобразительным искусством
воссоздать их смысл и душу, а стало быть — и обратить их в
пройденный этап, в ступень, о которую уже можно оттолкнуться для
дальнейшей продвижки в отдаленное.
Не осознанное в слове (в звуке, в краске) жизненное творчество не
есть еще собственно творчество, не есть и культура, т.е. средство для
дальнейшей борьбы, — оно лишь промельк, не сцепленный с цепью
прочих промельков и умирающий в одиночестве бессильно»33.
Следовательно, по Чужаку, исторический прогресс невозможен без осознания
идеи «жизненного творчества» средствами искусства и науки; именно
они способны превратить «беспомощный без "слова" промельк в
превзойденный этап, в ступень для продвижки в отдаленное...». Причем
Чужак в данном случае не только не разграничивал предметы
указанных областей человеческого сознания, но, наоборот, устанавливал их
родство. «В моменты, когда все творчество страны уходит в область
реального, — а таковы моменты революций и войн, — утверждал
он, — теория научного мыслителя упирается в художество, будучи
одинакового с ним интуитивного происхождения». И хотя он признавал,
что в моменты революций «художество обладает... все же меньшими, по
сравнению с научной мыслью, средствами», что «только человек
необычайной... логической интуитивности может дать уже сейчас антитезу...
настоящему... и четко и зовуще наметить» перспективы на завтра, все
же творчество самой жизни, а не отражение ее, объявлялось им
почетным уделом нового искусства. Искусством, способным осуществить эти
задачи, Чужак считал футуризм, «пожертвовавший... "вечным" — в угоду
злободневности, перекинувшейся в отдаленное»; поэтому-то, заключал
теоретик, «он — нечто большее, чем искусство. Он — жизнь»34.
Идея производственного искусства воспринималась в среде лефовцев
по-разному. Были попытки понимать ее в сугубо утилитарном смысле,
как производство материально-ценных вещей, пересоздающих быт на
новой основе; и тогда утверждалось, что «химик-технолог не менее
необходим для искусства краски, чем ее конструктор, т.е. художник;
инженер-строитель должен заменить архитектора-стилизатора;
музыкант должен в первую очередь стать изобретателем не звуковых комби-
600
наций, а звуковых машин; режиссер должен сотрудничать с
инструктором физкультуры и психо-техником, а поэт с лингвистом»35.
Однако Н. Чужак с самого начала выступал за более широкое, с его
точки зрения, понимание лозунга «искусство — жизнестроение». «Было
бы большой нелепостью... — писал он, — понимать под "вещью" только
внешне-осязательную материальность, — ошибка, допущенная
первыми производственниками искусства, упершимися в
вульгарно-фетишизированный, метафизический материализм, — нельзя выбрасывать
из представления о вещи и "идею", поскольку идея есть необходимая
предпосылка всякого реального строения — модель на завтра»36.
В связи с этим оправдывалось «принятие всякого рода
экспериментального искусства, от био-механических подготовительных шагов до
построения мира путем диалектического моделирования»37, а «поиск
нужного стандарта», в том числе и человека, объявлялся «насущной
задачей искусства Лефа»38.
В связи с тем, что социалистическое общество понималось
теоретиками Лефа как построенное на рациональной основе, «модель», по
которой они планировали воспитание человека будущего, была также
пропитана рационализмом. Цель нового искусства, считал, например,
С. Третьяков, — «создание человека-работника, энергичного,
изобретательного, солидарно-дисциплинированного, чувствующего на себе
веление класса-творца и всю свою продукцию отдающего немедля на
коллективное потребление»39. Еще более обнаженно, в
полемически-обостренной форме (шли споры лефовцев с рапповской теорией «живого
человека») подобная мысль была высказана Чужаком. Обращаясь к
защитникам «живого человека» в искусстве, он писал: «Живой человек
революции — это собранный для удара человек, со всеми даже
внутренними несовершенствами его, а подчас и противоречиями, —
человек именно революцией собранный, а дотоле, может быть, даже просто
сырье. Это полезность, это нужный революции материал, это орудие
революции, и — как вы не понимаете, что преступно, ибо пагубно для
революции, развинчивать это орудие, занимаясь пошлым
самоковырянием тогда, когда нужно жить и действовать?!
Что же такое человек реакции? "Живой" человек реакции — это
именно развинченный, распсихоложенный человек, человек в его
сомнениях, "сомнительный" (для дела) человек и разлагающийся. Вот
что такое ваш "живой человек", и — этого живого мертвеца вы фатально
601
творите, делая упор не на разум и чувство революции, а на дрябленькое
обывательское психоложество»40. Задачи воспитания нового человека,
по мнению теоретиков Лефа (и это составляло существенное звено их
концепции), диктовались искусству духом эпохи, приматом
коллективного начала над личным. В связи с этим концепцию
«стандартизованного активиста»41 они целиком переносили на искусство.
Пропагандировался тип художника-«футуриста», который «должен
быть менее всего собственником своего производства. Его борьба — с
гипнозом имени и связанных с именем патентов на приоритет.
Самоутверждение мещанское, начиная от визитной карточки на двери дома до
каменной визитной карточки на могиле, ему чуждо; его
самоутверждение — в сознании себя существенным винтом своего
производственного коллектива42. Его реальное бессмертие — не в возможном
сохранении своего собственного буквосочетания, но в наиболее широком и
полном усвоении его продукции людьми. Неважно, что имя забудут,
важно, что его изобретения поступили в жизненный оборот и там
рождают новые усовершенствования и новую тренировку»43. На само слово
«творец» было наложено вето: происхождение этого понятия
связывалось с эпохой буржуазного индивидуализма. Вместо якобы
пришедшего в негодность слова допускался термин: «мастера — исполнители
социального заказа»44.
Таким образом, понимание искусства как производства («жизне-
строительства») неизбежно приводило и к восприятию художника как
механического исполнителя социального заказа класса. Это
обстоятельство, в свою очередь, заставляло произнести и последнее слово.
Оно было произнесено: «Мы говорим — идеология не в материале,
которым пользуется искусство. Идеология в приемах обработки этого
материала, идеология в форме. Только целесообразно оформленный
материал может стать вещью прямого социального назначения.
Изменить тему — пустяки»45. Тенденциозное искусство, защитниками
которого называли себя лефовцы, вступало в противоестественную связь
с самым ортодоксальным формализмом. И в этом заключается
объективная логика развития Левого фронта.
С самого начала производственная теория заключала в себе
серьезное противоречие. Утверждая искусство социальной активности, в
противовес искусству — отображению жизни искусство — преобра-
602
жение жизни, теоретики Лефа всячески принижали творческую роль
личности художника, сводя его функции только к исполнению
социального заказа класса. «Интерес к человеку», по словам О. Брика, был
для них интересом, «производным» от «дела»46, в результате чего
человек в их построениях подменялся функцией человека. Он был для них
всего лишь сырым материалом, который нужно обработать с помощью
искусства, подобно тому, как рабочий на станке из грубой болванки
вытачивает совершенную деталь. А так как социально-экономические
категории в теоретических построениях Лефа целиком переносились в
область искусства, то именно способ производства оказывался
ответственным за идеологию.
Противоречие не замедлило сказаться в дальнейшем, когда
«производственники» стали усиленно проповедовать «литературу факта»,
теоретическим обоснованием которой стала «пропаганда образцами».
Если в первой половине 20-х годов лефовцы направляли все свои
усилия на обоснование тезиса «искусство — производство» и тем самым в
искусстве подчеркивали его преобразующую функцию (понимаемую,
впрочем, весьма упрощенно), то к концу десятилетия они стали
декларировать идею, что сама жизнь в ее высших проявлениях, особым
способом зафиксированная мастером, может с успехом осуществлять те же
задачи. В результате, несмотря на ожесточенную полемику с
«пассеизмом», врагом, которого они сотворили для себя сами (ибо нет
искусства — только отражения жизни), духовные вожди Лефа оказались в
порочном кругу, ибо теория фактографии была не чем иным, как
защитой того, что вначале яростно отвергалось: механическим,
фотографированным отражением жизни, и никакие ссылки на «инженерную
квалификацию» художника уже не помогали. Это было закономерным
концом Лефа, ибо его вожди в своих теоретических комбинациях
посягнули на уничтожение центральной фигуры искусства, на то, что делает
искусство искусством, — творческую личность художника. Эта мера
рассматривалась ими как подготовительный шаг к самоликвидации
искусства и растворению его в жизни.
Драматическую безысходность сложившейся ситуации осознал В.
Маяковский, потому что интересы искусства для него всегда были
гораздо выше кастовых интересов группы. В своем докладе «Левей
Лефа» (1928), проанализировав итоги деятельности Левого фронта, поэт
603
делал вывод: «...лозунг, правильный на каждом данном отрезке
времени, не превращать в догму...» (XII, 503). Подобные мысли
Маяковский высказывал и позже, в ряде своих выступлений 1930 г. Называя
Леф «эстетической группой, которая приняла нашу борьбу как факт,
как таковой, и сделала из революционной литературы замкнутое в себе
новое эстетическое предприятие» (XII, 411), он утверждал: «Если мы
будем идти с голой идеей, то мы в результате упремся в голое
делячество, — ведь вышло же так с работой Третьякова, исходя из правильного
положения, что нужно давать факт, не забывая, что самая постановка
вопроса об этом факте является революционным методом» (XII, 405).
Этого убеждения Маяковский придерживался всегда, и все же нельзя
утверждать, что оно во всех случаях его творческой жизни помогало
ему понимать ошибки и заблуждения теоретиков Лефа, а также и свои
собственные заблуждения.
Еще до революции поэт провозглашал «мельчайшую пылинку
живого» главной земной ценностью, отдавая предпочтение жизни
перед искусством. Его герой был мучеником, страдальцем и в то же
время гордым провозвестником этой идеи. Футуризм, в рамках
которого формировался идеал Маяковского, воспринимал себя
носителем нового мироощущения, и поэтому эстетический бунт в
дореволюционном творчестве Маяковского являлся аналогом социального
бунта. Поэт в эстетическом мире Маяковского всегда «носитель
грядущего», «вождь» демократической массы. Нет ничего
удивительного в том, что Маяковский оказался в стане Лефа, ибо ему не могла
не импонировать главная идея этого течения — идея искусства как
творчества самой жизни, искусства, основной задачей которого было
достижение целей, лежащих вне эстетической сферы. Не был ему
чужд и пафос героической жертвенности, пронизывающий теорию и
практику Левого фронта. Немаловажным для Маяковского стало и то
обстоятельство, что лефовская концепция производственного
искусства, основанная на переосмыслении роли художника как рядового
исполнителя социального заказа класса, своим рождением была
обязана эмоциональному фону послеоктябрьской литературы —
необходимости растворения личного в общем.
Но даже в таких своих произведениях, как «Пятый
Интернационал» (1922), где особенно заметна печать лефовских теорий,
Маяковский шел своим путем, во многом им противоположным. В названной
604
поэме есть определение того, кто, по мнению ее автора, должен
называться «социалистическим поэтом»:
Чтоб поэт перерос веков сроки,
чтоб поэт
человечеством полководить мог,
со всей вселенной впитывай соки
корнями вросших в землю ног (IV, 121).
Нетрудно убедиться, что оно противоречит многим эстетико-тео-
ретическим установкам поэмы. В дальнейшем Маяковский нашел
органичную «формулу» для определения поэта и задач поэзии: не
отбрасывая близкого лефовскому понимания художника как «рядового»
революции, он соединил его с иным осознанием поэта — как «водителя»
народа. Достаточно вспомнить хотя бы известные строки «Разговора
с фининспектором о поэзии»: «А что, / если я / народа водитель / и
одновременно — / народный слуга?» (VII, 123). Причем первое в этой
новой «формуле» поэта («народа водитель») не только не мыслится
без второго («народный слуга»), но, наоборот, является его
следствием. Служить народу — значит быть его «полководцем» — так
воспринимал теперь Маяковский миссию художника в обществе. Вот
почему в последние годы своей деятельности, призывая поэтов к активной
публицистической работе, т.е. подчинению поэзии задачам
общественной борьбы, Маяковский в то же время стремился подчеркнуть
значение личной пропагандистской работы. Это противоречило его
прежней теоретической позиции и все больше углубляло пропасть между
поэтом и его лефовским окружением, утверждавшим словами одного
из авторитетнейших своих теоретиков, «что суть газеты в безымянно-
сти, и сохранение имен под отдельными секторами ее материала это
есть отрыжка старого беллетристического великодержавия»47.
Однако к такому пониманию проблемы поэта и поэзии надо было
еще прийти, его надо было выстрадать в собственном творчестве. Этот
путь поэта и станет для нас предметом дальнейшего исследования.
Начиная с «Пятого Интернационала», тема «революции духа»
является ведущей в творчестве Маяковского. На повестку дня остро
выдвинулась проблема личности. В «Пятом Интернационале» поэт хотел одним
ударом разрешить все мучащие его вопросы и не смог, однако,
разрешить ни одного из них. Средства вступали в противоречие с целью, поэма
605
оказалась внутренне противоречивой. Если в дооктябрьском творчестве
идея революции была только внутренним состоянием героя
Маяковского, то теперь это состояние испытывало потребность в корректировке
со стороны реальной жизни; иными словами, для поэта настало время
освоения революции. Чтобы выступать от ее имени, как это делалось в
«Пятом Интернационале», надо было это право получить, т.е. завоевать
его. Для этого, в свою очередь, требовался решительный пересмотр того
багажа, с которым поэт вступал в новую жизнь. Внутренняя
противоречивость «Пятого Интернационала» была преодолена в поэме «Про это»
(1923).
7. «Смысл любви»
Поэма «Про это» открывается вступлением, где дано своеобразное
«обоснование» темы. В конце вступления слово «любовь» заменено
многоточием, и этот, на первый взгляд, чисто графический прием носит
отнюдь не формальный характер. Поэма начинается с любовной сцены
и заканчивается словами о любви. Между этими крайними точками —
история мучительных поисков и борьбы лирического героя, приведших
его к тому пониманию любви, которое выражено в финале поэмы и
которое вдохновило поэта на вступление к ней.
Наметим движение лирической темы. Исходная ситуация поэмы
балладно-хрестоматийна, что далеко не случайно. Маяковский
держит читателя в полном неведении относительно истинных причин
конфликта с его любимой. Это обстоятельство, с одной стороны, создает
тайну, требующую своего разрешения, с другой — возводит данную
ситуацию в ранг типичной для всяких любовных отношений.
Объяснение причин размолвки лишь отвлекло бы от главного в этой сцене:
любовь в ее классически завершенной форме, по Маяковскому, всегда
сопровождается чувством ревности, отбрасывающим человека к
«временам троглодитским», когда «самку клыком добывали люди еще...»
(IV, 146). Короче, ревность — это эгоизм, закрывающий перед
человеком перспективы «труднейшего марша в коммунизм». Мысли эти
обретут свою ясность в ходе развития лирического сюжета поэмы, но
именно здесь их истоки. Драматизм ситуации усугубляется еще и тем,
что герой поэмы не условный лирический персонаж, а сам поэт —
606
обстоятельство, имеющее для Маяковского особый смысл и как
таковое специально оговоренное в самом начале поэмы:
«Он» и «она» баллада моя.
Не страшно нов я.
Страшно то,
что «он» — это я
и то, что «она» —
моя (IV, 140)48.
И ситуация любовной дуэли, и картина непомерного любовного
чувства героя, захватывающего в свою орбиту всю Вселенную, и
признание в особом, личном характере происходящего, и, наконец,
автосвидетельство относительно традиционности данной темы для
собственного творчества — все это, вместе взятое, призвано соотнести в сознании
читателя начало поэмы «Про это» с дореволюционными поэмами, и в
первую очередь с «Облаком в штанах»49. Что это — возвращение к
истокам, повторение пройденного или «рецидив прошлого» в условиях
нэпа? Каждый из этих ответов безнадежно упрощает, если вообще не
искажает художественный смысл поэмы.
Революция взята в ней как внутренняя мера вещей, ее именем судит
Маяковский окружающий мир и прежде всего самого себя.
Собственная жизнь и собственное творчество становятся предметом лирического
анализа. Цельный герой дореволюционного творчества (в его
цельности ранний Маяковский не сомневался) теперь оказывается разъятым;
из его поведения вытекают разные, более того,
взаимоисключающие возможности. Тяга к любовному счастью, чувство, столь
устойчивое у лирического героя дооктябрьского периода (вспомним: «Ведь
для себя не важно...»), в условиях революции, в период напряжения
всех сил для рывка в будущее, таит в себе опасность стать преградой
на этом пути. Уже в «Облаке в штанах» лирический герой понимает,
что «большой» любви не будет, и все же в четвертой главе,
«ненужный, / ничей», он молит Марию о ласке, ибо трудно остаться один на
один с «глухой» Вселенной. Теперь весь этот комплекс страданий
лирического героя осознан как компромисс с миром, им самим
отвергнутым, как слабость, которую надо преодолеть. Вот почему поэма «Про
это» начата почти что реминисценцией из «Облака в штанах» (и не
только из этой поэмы) и устремлена навстречу второй реминисценции
607
из собственного же творчества — Человеку из-за 7-ми лет, страдальцу
«немыслимой любви», не знающей никаких компромиссов, воспетой
в поэме «Человек».
Автор беспощаден к своему герою; как когда-то в «Войне и мире», он
преувеличивает «состав» его «преступления», превращает его в
«бессмысленного, ярого... зверя» (IV, 146), заставляя его забыть про свою высокую
искупительскую миссию. Предчувствие неизбежной встречи со своим
прошлым рождает в душе героя смятение и страх, его даже охватывает
желание избежать ее. Причины смутного беспокойства, растерянности,
боязни получают, наконец, объяснение в том предположении, которое
высказывает Человек из-за 7-ми лет — уж очень оно похоже на правду!
Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?
Ешь?
Отпускаешь брюшко?
Сам
в ихний быт,
в их семейное счастье
намереваешься пролезть петушком?! (IV, 151)
И неоднократное в дальнейшем движении сюжета столкновение
героя со своими двойниками — материализация этого упрека, и
мотивировано оно как реакция героя на голос собственной совести, «ставящей»
его к «стенке» мучительного самоанализа, очищающего душу. Все это
будет, повторяем, потом, а пока, в контексте первой главы, столкнулись
два представления о любви — любви, убивающей в человеке человека,
и высокого чувства, «спасителя-любви» (IV, 152), предмета отчаянной
надежды Человека на мосту. Арена этого столкновения — душа
лирического героя поэмы, ибо Медведь и Человек из-за 7-ми лет —
персонифицированные выражения различных сторон его сознания и поведения.
В начале поэмы лирический герой ведет себя по законам «обез-
любленной земли», иными словами, убивает любовь в высшем ее
смысле — в черновой рукописи так и сказано: «Убивший любовь...»
(IV, 358). Не случайная характеристика, если учесть, что название
первой главы «Про это» совпадает с заглавием поэмы О. Уайльда
«Баллада Редингской тюрьмы». Маяковскому важно было вызвать у
читателя определенные литературные ассоциации и с их помощью прояс-
608
нить замысел своего произведения. На первый взгляд, сходство поэм
исчерпывается общностью темы трагической любви. В начале
баллады О. Уайльда мы узнаем об ее герое: «Убил возлюбленную Он /
И сам теперь умрет!»50. Но так обстоит дело только на первый взгляд.
«Двадцать дней» ежечасных страданий позволяют герою Уайльда
смыть «кровь не только с рук, но и с души своей».
Рука, поднявшая кинжал,
Теперь опять чиста,
Ведь только кровь отмоет кровь,
И только груз креста
Заменит Каина клеймо
На снежный знак Христа51.
С этими строками в поэму английского поэта проникает властный
мотив искупления вины, спасительности страдания. Однако
индивидуалист Уайльд сделал для себя в этом произведении еще одно
важное открытие. Любовь для него, пишет исследователь его творчества,
«по-прежнему оказывается роковой силой жизни. Она приносит
страдание, оказывается страстью, которая губит и любящего и предмет его
любви. Но сквозь всю поэму проходит мотив сострадания. Все узники
мучительно переживают судьбу чужого человека, неожиданно
становящегося близким каждому из них, потому что в его муках они узнают
свое страдание»52. Нравственная боль одного раскрывает им глаза на
свои собственные преступления, заставляя сделать следующий шаг:
«любимых убивал» каждый, «но ведь не каждый принял смерть» за свое
злодеяние. Пелена, застилавшая зрение узников, спадает, и перед
обитателями Рединга «во тьме ночной» предстают ужасные «духи зла», до
боли похожие на «толпы людей» и, следовательно, на них самих. «Духи
зла» — своего рода зеркальное отражение их внутреннего мира. Образ
тюрьмы ширится, мир, в котором истинные ценности подменены
бесстыдством, становится тюрьмой для человека.
Одних тюрьма свела с ума,
В других убила стыд,
Там бьют детей, там ждут смертей,
Там справедливость спит,
Там человеческий закон
Слезами слабых сыт.
609
<...> Там, кроме похоти слепой,
Все прах в людских сердцах. <...>
Там режут жесть и шьют мешки,
Свой ад неся с собой,
Там тишина порой страшней,
Чем барабанный бой. <...>
Там одиночество сердца,
Как ржавчина, грызет,
Там плачут, стонут и молчат, —
И так из года в год...53
В итоге искупительное страдание героя оказывается страданием за
всех и во имя всех, и это обстоятельство, будучи осознанным
узниками Рединга, заставляет «злодеев и воров» посмотреть на себя со
стороны и, ужаснувшись, встать на путь нравственной жизни.
С иными акцентами весь этот комплекс проблем встает и со
страниц поэмы «Про это». Есть в ней главка, очень важная для
уяснения замысла Маяковского. Ее название «Просветление мира».
Именно в ней рассказано о том, как интимные отношения героя с
его любимой приобретают всеобщее значение. В связи с этим
понятен и закономерен тот интерес, с которым мир следит за исходом
поединка:
Застыли докладчики всех заседаний,
не могут закончить начатый жест.
Как были,
рот разинув,
сюда они
смотрят на Рождество из Рождеств.
Им видима жизнь
от дрязг и до дрязг.
Дом их —
единая будняя тина.
Будто в себя,
в меня смотрясь,
ждали
смертельной любви поединок (IV, 144).
610
Отметим, что эти строки отсутствовали в первой редакции поэмы и,
следовательно, были написаны Маяковским с учетом не только
сформировавшегося, но и уже нашедшего в основных своих чертах образное
воплощение замысла. Кроме того, сам факт последующего их
включения в текст поэмы говорит о том, что поэт придавал им большое
значение. Действительно, именно здесь впервые появляется центральный для
поэмы образ Рождества, и именно с «рождеством» героя связывает поэт
мысль о «просветлении мира» — главную идею и заветную цель всего
своего творчества. По сравнению с поэмой «Человек», «Рождество» на
сей раз отодвинуто почти на самый конец произведения; подобно
лирическому герою «Войны и мира», герою «Про это» предстоит пройти
через «чистилище» собственной совести, воплощением которой в
поэме является его «тень на мосту» — Человек из-за 7-ми лет. «Рождеству»
героя предшествуют страдания и, уже обретя новое качество, он
осужден на вечную муку — вплоть до «просветления мира».
Однако мы забежали вперед, оставив героя наедине с жестокой
правдой о себе, сказанной «голосом» внутренней совести.
Наделенный новым зрением, как бы очнувшись от оцепенения, с криком:
«Спасите! Спасите! Спасите! Спасите! / Там / на мосту / на Неве /
человек!» (IV, 152), в котором слово «человек» почти теряет свой
конкретный адрес, разрастаясь до понятия человечества, герой Маяковского
возвращается к реальности; но она уже не может восприниматься им
такой, как прежде: отсюда и название первой главки «Ночи под
рождество» — «Фантастическая реальность». Пелена спала с его глаз, и все,
что раньше казалось ему обычным, теперь не может не восприниматься
как мир фантастических кошмаров. Герой Маяковского уже не медведь
(«Надо — / прохожим, / что я не медведь, / только вышел похожим»,
IV, 154), но до окончательного слияния с Человеком из-за 7-ми лет еще
далеко.
Промежуточность состояния героя поэмы обнаруживает свою
природу в его поведении: оно позволяет ему, с одной стороны, громить
«обыденщины жуть» (и перед читателем проходят острые, порой гротескные
картины жизни, которой живут все люди), с другой — пытаться
использовать для спасения Человека эти же формы жизни, хотя их изнанка в
значительной степени уже открыта ему. Именно в значительной
степени, но не до конца: лишь после второй по счету попытки «обращения»
окружающих в свою веру лирический персонаж Маяковского оконча-
611
тельно убеждается в тщетности этих усилий. Название главки
симптоматично в данном отношении — «Бессмысленные просьбы».
Новый опыт, новое зрение, осознанные как добровольное
движение к Человеку из-за 7-ми лет, в отличие от первого —
насильственного («Это я вызвал...»), приобретаются в драматических
столкновениях не только с друзьями и близкими, но и с самим собой. И дело не
только в том, что среди «обывательской моли» поэт видит и себя, но и
в том, что легкость разрыва с окружающими его людьми,
подкрепляемая громкостью и резкостью проклятий в адрес устоявшихся норм
общежития, лишь кажущаяся: она оборачивается опустошением, это
«крест», который должен нести герой поэмы, если он хочет остаться
верным своему идеалу:
Мачт крестами на буре распластан,
корабль кидает балласт за балластом.
Будь проклята,
опустошенная легкость! (IV, 159)
Герой снова вступает на почти забытый им тернистый путь иску-
пительства. И все же полного слияния с Человеком на мосту пока еще
не произошло. Не произошло по той причине, что не оборвана
последняя связь, «тонюсенькая ниточка», «соломинка», за которую он
хватается как за спасение, — неужели и она окажется «балластом»?! Дважды
встречается в поэме эта ситуация. В первый раз в главке «Просветление
мира», когда герой (а вместе с ним и все человечество) с надеждой и
отчаянием ждет телефонного разговора с любимой: ведь от него зависит,
наступит ли «просветление мира» или нет. И во второй, когда —
«деваться некуда!» — «всех оббегав», он приходит к ее дому. Крушение
надежды здесь, в доме самого близкого ему существа, особенно страшно;
и в первом и во втором случаях это для поэта вопрос жизни и смерти,
ибо всегда мысль о человеческом счастье в его творчестве связывалась
с мыслью о счастье любовном. И теперь он должен выдержать
испытание на духовную прочность через отказ от личного счастья. Он еще
не знает об этом, но уже близка та минута, когда оглушающая правда
откроется ему вполне.
В самый последний момент у героя поэмы зарождается смутное
сомнение: готова ли его любимая к роли «спасителя». Правда, он не
может себе признаться в этом и, уже имея веское подтверждение сво-
612
ему сомнению, все еще пытается обмануть себя. Подозрения его
отчасти смягчает чувство вины перед любимой за свое поведение в начале
поэмы, оно же удерживает персонажа Маяковского от справедливого
упрека в ее адрес. Весь комплекс переживаний рождает
монолог-исповедь поэта, его своеобразный ответ-объяснение на обвинения,
предъявленные ему Человеком из-за 7-ми лет. Лирический герой предельно
честен, упрекая себя в половинчатости, в фальши, в сделке с совестью.
И все-таки даже сейчас, когда «все раскрыто и понято», он готов молить
любимую о помощи, мысленно проговаривая слова обращения к ней:
«Теперь лишь ты могла б спасти. / Вставай! / Бежим к мосту!» (IV,
170). Нетрудно уловить перекличку этой ситуации с началом четвертой
главы «Облака в штанах», когда герой дореволюционной поэмы
умоляет Марию «пустить» его к себе. Эта перекличка нужна Маяковскому
в качестве напоминания об истории жизни героя и как
предостережение ему. Если он «сборет себя», пойдет к любимой, то снова окажется
во власти «старого / рождественского ужаса» (IV, 174), упадет с
завоеванной высоты, и «Рождество» не состоится. А коль скоро это так, то
надо набраться мужества и самому оборвать последнюю нить.
Помогает ему в этом сам Человек из-за 7-ми лет, проповедуя нравственную
бескомпромиссность своей позиции:
Оставь!
Не надо
ни слова,
ни просьбы.
Что толку —
тебе
одному
удалось бы?!54
Жду,
чтоб землей обезлюбленной,
вместе,
чтоб всей
мировой
человечьей гущей.
Семь лет стою,
буду и двести
стоять пригвожденный,
этого ждущий.
613
У лет на мосту
на презренье,
на смех,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплачусь,
за всех расплачусь (IV, 171—172).
Человек из-за 7-ми лет, этот «новый» Христос, голос совести
лирического героя, его «песня» о «немыслимой любви», теперь сам пришел
к шедшему ему навстречу герою поэмы, ибо, наконец, настал момент
для их полного слияния: героем отвергнут последний компромисс и
сдан самый трудный в его жизни экзамен.
Но как только герой вновь избирает этически-бескомпромиссную
жизненную позицию, он, по типу героев ранних поэм, оказывается в
полном одиночестве.
Конфликт героя со «всехсветными» мещанами осознается в поэме
«Про это» как вечный непримиримый бой; поэтому стоило ему
обрести, наконец, утраченную цельность, пространство и время ее резко
расширяются, преодолевая те реалии окружающего мира, которые до
сих пор в ней присутствовали55. Лирический герой оказывается
«стариком, / на каком-то Монмартре» (IV, 172), затем фантазия автора
перебрасывает его в Москву («На Иване я / Великом», IV, 174), на Кавказ
(«Подо мною / льдистый Машук», IV, 175). Вторая часть поэмы
заканчивается той же ситуацией, с которой поэма начиналась: дуэлью. Только
теперь это дуэль «земной любви искупителя» (а не просто «его», как
в первой части) и обывательского мира Вселенной. Главка, где
описана «бойня», учиненная над героем, названа Маяковским
«Повторение пройденного». Это повторение и начальной ситуации поэмы, и
конфликта героя дореволюционного творчества с враждебным ему миром
(прошлое героя «Про это»), даже... судьбы Лермонтова («Ты враг наш
столетний. / Один уж такой попался — / гусар!», IV, 176): ведь и
Лермонтов и автор поэмы — «общей лирики лента».
«Ночь под рождество» — так озаглавлена вторая часть поэмы, в
которой изложены упомянутые события. «Рождество» состоялось. Герой
укрепился в прежней своей вере. Благодаря этому, на чем поэт
настаивает, он получил право говорить от имени революции, объявлять свои
614
идеалы идеалами революционными, а если придет смерть — достойно
лечь «с легшими под красным флагом» (IV, 180).
И все же утро «Рождества» начато с мотива горя. «Голой головою
глобус. / Я над глобусом / от горя горблюсь» (IV, 178), — говорит о себе
герой поэмы. Крест одиночества и мученичества во имя
«просветления мира», который он взялся нести на себе, очень тяжел. Несмотря на
данный человечеству обет стать «земной любви искупителем», он не
может смириться с мыслью о том, что личного счастья не будет, так
как в современных условиях оно не может не отгораживать человека
от общественной борьбы и от человечества вообще.
Страшно — не любить,
ужас — не сметь.
За всех — пуля,
за всех — нож.
А мне когда?
А мне-то что ж? (IV, 180) —
признается герой Маяковского. И только неистребимая вера в «мир», в
реальные, земные, а не небесные ценности, непреодолимая «любовь к
живому» (и в этом, быть может, его главное отличие от героя Уайльда)
убеждают его в правильности сделанного выбора. Герой стыдится своей
неискоренимой тяги к личному счастью и все же не считает нужным
ее скрывать. Весь комплекс этих переживаний выразился в
исчерпывающе искренней автохарактеристике — «медведь-коммунист» (IV, 178).
В ней ни тени иронии: Маяковский знает, какой дорогой ценой
заплатил его герой даже за эту победу. На большее он вряд ли способен, ибо
большее означает, по Маяковскому (вспомним его трактовку любви),
смерть, остановку сердца.
«Эпоха требует, — устами одного из своих авторов утверждал
журнал «На литературном посту», — чтобы человек, отдавшийся
общественной работе, принес ей максимум своих сил, сублимировал бы свою
энергию, жестоко ограничив ее расход во всякой иной своей деятельности»56.
Маяковский подписался бы под этим заявлением, но едва бы счел его
благом. Эти слова рождены суровым ригоризмом эпохи, когда было
распространено мнение, что «стекло не сваривается с железом» (К. Федин).
Железо — революция, стекло — все, что связывалось в сознании
человека 20-х годов с понятием интимного, шире — с личной жизнью.
615
Драматическая сложность поэмы «Про это» не могла вызвать
сочувственного отношения в Лефе. Лефовское окружение Маяковского
встретило его новую поэму более чем прохладно, а Н. Чужак «на
законном основании» (так назывался один из разделов его статьи) подверг
ее публичной резкой критике, не увидев в ней «гибкости и ударности
постановки вопросов о методах и приемах боя за изобретательную,
тренированную, классово-полезную человеческую личность»57. Чужака и
остальных теоретиков Лефа не удовлетворяло в «Про это» лирическое
решение острой современной темы, ибо лирику они рассматривали как
порождение эпохи буржуазного индивидуализма. Слово «личность» в
процитированном высказывании Чужака было всего лишь словом, так
как тот контекст, в котором оно было употреблено, по сути дела,
снимал всякий разговор о личности. В лефовской концепции будущего ей
не было места, поскольку человек в теоретических построениях
«производственников» подменялся, как говорилось выше, функцией человека.
Поэма «Про это» была опубликована в первом номере журнала «Леф»
и представляла собой своего рода лефовскую программу в понимании
Маяковского. Отсюда, кстати сказать, совпадение целевых установок
журнала с идейным замыслом поэмы. В программе журнала,
написанной В. Маяковским, между прочим, говорилось: «Мы боролись со
старым бытом.
Мы будем бороться с остатками этого быта в сегодня. С теми,
кто поэзию собственных домков заменил поэзией
собственных домкомов.
Раньше мы боролись с быками буржуазии. <...>
Теперь мы боремся с жертвами этих быков в нашем советском строе»58.
Выделенные нами слова — почти цитата из поэмы «Про это». Для
правильного понимания идейно-творческой эволюции поэта эта мысль
чрезвычайно существенна. Между тем в работах о Маяковском это
обстоятельство учитывается далеко не всегда. Вот как, например,
воспринимает программу Маяковского автор в целом интересной статьи об
эстетических взглядах поэта: «...в ...поэме было, как дважды два —
четыре, доказано, что — пока! — ситуация такова, что личное —
лирическое не может не становиться мелким и пошло-прозаическим
("обыденщины жутью")·
Коль скоро же принимается этот вывод, весь мир раскалывается
пополам: по одну сторону баррикады оказывается "революция", по дру-
616
гую — "быт", с одной стороны, располагается "производство полезных
вещей", "класс", "коллектив", "работа", с другой — "так называемое
искусство", всяческое "психоложество", "личность", "отдых".
Положительную характеристику — звание "левых" — получают лишь те, для
кого существует только первая система ценностей: революция и
производство, класс и коллектив, борьба и работа»59. Здесь явно смешаны
понятия: Маяковский объявлен ортодоксальным лефовцем, каковым
он не был уже, как показывает анализ его творчества, в самом начале
жизнедеятельности этой школы.
Суровый ригоризм этического идеала Левого фронта чужд герою
Маяковского. Не долюбив свое в XX в., герой «Про это» просит
воскресить его через тысячу лет, чтобы наверстать «нынче
недолюбленное». Поэма заканчивается верой поэта в истинную любовь: она
придет «за болью боя» и свяжет человека и человечество в единое целое.
«Обезлюбленной земле» первой и второй части поэмы «Про это» в ее
финале противопоставлена утверждаемая Маяковским от имени
революции (ведь он завоевал это право!) идеальная формула любви, любви,
победоносно шагающей по «всей вселенной». По сути, эта формула есть
концентрированное выражение идеи мировой гармонии, уже знакомой
нам по «Войне и миру». Счастье отдельного человека — вот та основа,
на которой произрастает эта гармония, и вместе с тем только наличие
последней, по Маяковскому, гарантирует счастье конкретной личности.
Таким образом, понимание любви как естественного, человеческого
чувства, принципиальное для раннего Маяковского, было положено в
основу формулы любви-солидарности, утверждаемой в финале поэмы
«Про это». Любовь одного человека к другому, по Маяковскому, — это
и есть первичное зерно; разрастаясь до «вселенских» размеров, оно
порождает новое, коммунистическое мироощущение. В более
обнаженной, понятийной форме эта идея выражена в записях Маяковского
к выступлению на диспуте «Упадочное настроение среди молодежи»
5 марта 1927 г.: «Формулирую свою мысль. Чувство любви, на
котором растет коммунизм» (XIII, 184). И то и другое понятия
объединяются в сознании Маяковского по той простой причине, что они
возвращают человеку и обществу их изначальную природу —
человечность60. Революция же воспринята в поэме как сила, способная привести
к победе этой человечности. Так Маяковский ответил на вопрос,
заданный в начале поэмы и оставшийся тогда без ответа. В процессе дви-
617
жения сюжета понятию «любовь» был возвращен истинный смысл, и
поэма заканчивается апофеозом любви в ее особом, присущем
Маяковскому понимании.
Не будет большой натяжкой предположение, что в определенной
степени оно ориентировано на концепцию любви, выдвинутую Вл.
Соловьевым в работе «Смысл любви» и реализованную философом в его
лирической поэзии. Половая любовь воспринималась им как
начальное звено в возникновении всечеловеческого братства, устремленного
к грядущей победе над смертью. Любовь в конечном итоге
оказывалась силой, ведущей к богопознанию и всеобщему воскресению.
Особая роль в этих построениях философа отводилась, как мы помним,
Софии — Премудрости Божией.
Любопытно, что в поэме Маяковского «Про это» есть намек на
предложенную Соловьевым тему: Вера, Надежда, Любовь — дети Софии,
а именно этими тремя именами озаглавлены финальные главки
произведения. Более того, как уже говорилось выше, в лирический сюжет
поэмы властно вторгается мотив «воскрешения» лирического героя,
что заставляет читателя вновь искать аналогий у Вл. Соловьева. Но
именно в этом пункте начинаются расхождения Маяковского и автора
«Смысла любви». Будущее «воскрешение» доверено поэтом
«большелобому химику» XXX в., являясь, таким образом, делом рук
человеческих, а не Божьих. Да и любовь у Маяковского, несмотря на
приданный ей универсальный характер, а потому типологически
родственный Вл. Соловьеву, при всех оговорках, подчеркнуто земное чувство.
Как и коммунизм, «замешанный» на нем и по этой причине не
имеющий ничего общего с «небесным» строительством. Религия человека,
исповедуемая Маяковским, сказалась и тут, в этой скрытой полемике
с христианином (так ему, разумеется, казалось) Соловьевым. Полюсы
русской культуры, на которые указывал Достоевский, сошлись, чтобы
разойтись окончательно.
8. «Первейшее... — дело»
Мироощущение, выражением которого являются финальные строки
«Про это», было положено в основу образной концепции мира в поэме
«Владимир Ильич Ленин» (1924).
618
Фабульный костяк новой поэмы в какой-то степени повторял
основную ситуацию предшествующего произведения: Ленин подобно
лирическому герою «Про это» тоже отдает свое «сердце... временам на
разрыв». Он тоже подчиняет свою жизнь идее служения общественному
благу. Но, в отличие от героя «Про это», он счастливый человек, в его
действиях нет ощущения жертвенности, ибо время и люди устремлены
ему навстречу. Ленин получает то, что герой поэмы «Про это» отчаялся
получить: спутников, союзников в борьбе. В предшествующей поэме не
нашлось ни одного человека, который бы с готовностью откликнулся
на просьбу лирического героя о спасении Человека на мосту. Ему
приходилось лишь мечтать о времени, когда бы «на первый крик: / —
Товарищ! — / оборачивалась земля» (IV, 184). В поэме «Владимир Ильич
Ленин» каждый готов отдать свою жизнь во имя спасения одного.
<...> Я бы
жизнь свою,
глупея от восторга,
за одно б
его дыханье
отдал, —
говорит Маяковский о себе и, будто спохватившись, продолжает:
Да не я один!
Да что я
лучше, что ли?!
Даже не позвать,
раскрыть бы только рот —
кто из вас
из сел,
из кожи вон,
из штолен
не шагнет вперед?! (VI, 240)
Что же произошло? Почему Ленину удалось то, что не удалось
Человеку из-за 7-ми лет? В чем тайна воздействия этого
человека на весь мир? Эти вопросы один за другим встают в сознании
героя поэмы и требуют своего немедленного разрешения. Вот почему,
исходя из понимания поэмы «Владимир Ильич Ленин» как
целостной идейно-художественной структуры, следует признать, что ее за-
619
дание было лирическим и что Маяковский с самого начала
указывал на него в известных строках вступления: «Я / себя / под Лениным
чищу, / чтобы плыть / в революцию дальше» (VI, 234). Акцент на
духовное очищение «под Лениным» возник в поэме вовсе не случайно,
как не случайно в автобиографии вслед за сообщением об окончании
работы над «Про это» Маяковский говорил о рождении замысла новой
поэмы.
В поэме «Про это» лирический герой «чистил» себя «под»
Человеком из-за 7-ми лет, иными словами, испытывал себя сегодняшнего на
верность прежнему своему идеалу. В поэме «Владимир Ильич Ленин»
он «чистит» себя «под Лениным», предстающим перед ним в качестве
земной, человеческой меры революции.
Духовное «очищение» лирического героя новой поэмы «под
Лениным» означало для него, с одной стороны, постижение величия вождя,
а с другой — перенесение опыта Ленина, человека и революционера,
в свой внутренний мир. Эта задача определила характер композиции
поэмы, особенность которой, как давно уже было отмечено в маяков-
сковедении, заключается в том, что в финале ее поэт возвращается к
исходной ситуации первой части — смерти вождя и прощания с ним
бесчисленных людских масс. Между этими крайними точками лежит
обширная часть поэмы, повествующая о Ленине и его делах.
Причем рассказ о Ленине с момента его рождения до его смерти открыто
включен в сознание лирического героя поэмы и представляет собой
ответ на вопрос, поставленный героем самому себе в первой части:
«Что он сделал, / кто он / и откуда — / этот / самый человечный
человек?» (VI, 241).
Вождь-«пролетариатоводец», по мнению Маяковского, не только
выражает идеи класса, но и сам пропитан классовой,
коллективистской психологией. Вот почему на протяжении всей исторической
части поэмы Маяковский убеждает читателя, что политический опыт
истории подсказывает: одиночки заведомо обречены на поражение
и, следовательно, повести за собой трудящиеся массы сможет лишь
тот, кто будет кровь от крови, плоть от плоти народа, класса,
человечества.
Кольцевая композиция поэмы призвана подчеркивать эволюцию
лирического героя, рост его личности после уяснения центральной
идеи жизни Ильича.
620
Начавшись с вопроса: «Что он сделал? / Кто он / и откуда? / Почему /
ему / такая почесть?» — сюжет поэмы приводит лирического героя
к «огромной единственной правде», постигнутой благодаря Ленину:
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слезы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс! (VI, 304)
Герой Маяковского, говоря словами из «Войны и мира»,
«достоин / новых дней приять причастие» (I, 233); теперь он может
повторить вслед за героем «Про это»: «...знаю — / достоин... я» (IV, 180).
И это не случайно совпавшие слова, за ними стоит «одна, но
пламенная страсть» героя Маяковского: поиск путей, способных привести его
в счастливое будущее.
О будущем упомянуто и в поэме «Владимир Ильич Ленин»:
Пройдут
года
сегодняшних тягот,
летом коммуны
согреет лета,
и счастье
сластью
огромных ягод
дозреет
на красных
октябрьских цветах (VI, 280).
В другом месте поэмы Маяковский возвращается к этой мысли:
«...но будет — / над миром / зажжем небеса», — а потом, как бы
спохватившись, заканчивает: «...но это / уже / полезней проделывать, / чем / об
этом писать» (VI, 292). На сей раз Маяковский не дает простора своей
621
фантазии, хотя совсем недавно уносился мыслью в «миры величавые»
и призывал «учиться» его умению «фантазировать» даже тех, «от кого
в века лучи» (IV, 104): в строчке выше были названы имена «Маркса»
и «Ильича». Поэту казалось тогда, что он занимается истинным
творчеством жизни. Теперь он сам идет на выучку к Ленину и,
предпринимая лирическое исследование его жизни, убеждается, что «первейшее
в Ленине — / дело» (VI, 35). Ленин в поэме Маяковского прежде всего
«великий практик», ведущий народные массы «полями битв, / а не
бумаг» (VI, 254), проходящий по дорогам революции «шагом
человеческим, / рабочими руками» (VI, 258)61. Подвиг Ильича — «чернорабочий
подвиг»; в поэме развернута настоящая полемика с философией
«избранничества», в первую очередь избранничества христианского толка.
Ленин — вождь, но «такой, что мелочами» вместе с народом; он, что
звучит как особая похвала в устах поэта, — «хлеба проще, / рельс
прямей». Вместе с определением Ленина как «самого земного изо всех
прошедших по земле людей» и «самого человечного человека» эта
характеристика становится выражением главнейших, по мнению поэта, качеств
вождя нового типа. Слово Человек в сочетании с понятиями «простой»
(«Человек просто») и «земной» для Маяковского не обычное слово, а
символ с довольно устойчивым, переходящим из одного произведения в
другое значением. Разумеется, содержание этого символа не могло
оставаться абсолютно неизменным, оно эволюционировало вместе со всей
поэтической системой Маяковского. И все же нечто изначальное в нем
было сохранено и в поэме «Владимир Ильич Ленин». Ленин выступает
в качестве борца за простые, земные, а следовательно, истинно
человеческие ценности. «...В люди / выведя / вчерашних пешек строй» (VI, 240),
Ленин воплотил в действительность то, что составляло главное
содержание идеала поэта.
Секрет воздействия Ленина на массы Маяковский видит в том, что
он «расковывает» людей, помогает им обнаружить в себе
неисчерпаемые запасы энергии («душ золотые россыпи») и направить ее на
перестройку жизни, имеющую своей конечной целью «просветление» мира.
Вот почему власть, утверждаемая им на земле, названа в поэме совсем
по-маяковски — «человечьей диктатурой» (VI, 240), т.е. диктатурой
Человека и всех связанных с его именем подлинно земных ценностей.
Сюда, к этому образу, сходятся едва ли не все линии поэмы, едва ли
не все краски, все оттенки художественной концепции Маяковского.
622
Верность Маяковского своей традиционной теме определила
известное сходство в изображении положительного героя в его новом
произведении и некоторых предшествующих книгах, в частности в поэме
«150 000 000».
Нетрудно заметить, что сюжетная канва исторической части поэмы
о Ленине во многом повторяла сюжет первой поэмы Маяковского о
революции. Там тоже страстная мольба миллионов обездоленных о
«земном» человеке предвосхищала рождение богатыря Ивана,
воплощающего в себе «всю Россию». Затем выросший исполин-герой подобно
Ленину в поэме вступал в единоборство с безумным миром и
побеждал его, завоевывая для страждущего человечества счастливую
жизнь.
Однако сюжетное совпадение двух поэм еще резче подчеркивало
различие между ними в трактовке героя. Как неоднократно
отмечалось в нашей науке, в поэму о вожде властно вошел образ Истории,
определивший понимание революции не как гигантского взрыва (так
было в «150 000 000»), а как сложного и длительного процесса.
Поэтому положительный герой в поэме «Владимир Ильич Ленин», в
отличие от прежних произведений Маяковского, изображался как
исторический человек, имеющий собственную биографию, неотделимую от
биографии породившего его класса. Это обстоятельство обусловило
принципиально иное решение в поэме традиционного поэтического
мотива Маяковского, генетически восходящего к «Мистерии-буфф», а
через нее к дореволюционным произведениям поэта.
Уже много раз писали о том, что революция в поэме «Владимир
Ильич Ленин» уподоблена океану, «Советских республик
громадина» — кораблю, Ленин — штурману и т.д. Корабль России,
предводительствуемый Лениным, медленно, но неуклонно идет к «сияющему
перевалу» коммуны (VI, 280). Нельзя не увидеть в этом
метафорическом ряду отголосков центральной ситуации «Мистерии-буфф»:
плавания «нечистых» на ковчеге в поисках «земли обетованной». Внезапно
появлявшийся Человек просто, возрождаясь в душах «нечистых»,
становясь их внутренним зрением, указывал им верный путь к будущему.
Ленин в поэме Маяковского — новый этап в изображении Человека
просто. Он тоже вооружает внутренним зрением каждого члена своей
«команды» («и в каждом — Ильич», — говорит поэт) и даже после
своей смерти продолжает жить, становясь сердцем «просветленного
623
мира». «...Во всех... он разлит наводнением», — сказал бы об этом
ранний Маяковский.
И все же, несмотря на известную близость двух образов, черты
различия между ними гораздо заметнее, чем черты сходства. Человек просто,
как мы помним, произносил гневные филиппики в адрес «пророков»,
но, хотя позднее поэт утверждал, что он говорил только «о пророках,
которых выдвигала буржуазия, о ходульных пророках, за которыми,
как бараны, должны были все идти» (XII, 247), его герой сам выступал
в этой роли. Возникало противоречие, и оно было неизбежно, так как в
тот период Маяковский, вооруженный футуристическими догматами,
не мог иначе ввести своего героя в конфликт пьесы. Ведь речь шла о
пришествии Человека просто к «нечистым». Эта ситуация в поэме
«Владимир Ильич Ленин» нашла диалектическое решение: Ленин в
ней одновременно «и сын и отец» революции. Формула христианская,
однако в нее вложен иной смысл.
Лирический герой Маяковского «чистил» себя именно «под» таким
Лениным. Развивая отдельные стороны поэмы «Про это», новая поэма в
значительной степени была заострена против воплощенной в ней
концепции героя, все еще отдававшей былым мессианством. Правда, уже
тогда Маяковский знал: «Плохо человеку, / когда он один» (на
«ковчеге», «пристающем» к «пристани», мало похожей на «землю
обетованную», герой «Про это», в отличие от «Мистерии-буфф», оказывался
в одиночестве), но был еще далек от открытия, что «один не воин» (VI,
266). Именно Ленин открыл ему это знание, указал путь, ведущий к
преодолению трагедии и даже выходу из нее. Это путь органического
слияния с массами, но не слияния вплоть до отказа от собственной
личности, вплоть до растворения в них, к чему призывали лефовцы и
чем грешил в начале 20-х годов сам Маяковский. Не случайно бывшие
теоретики Лефа не преминули отметить «изъяны» в концепции
Маяковского. «Приступая к поэтической характеристике Ленина, — писал
критик уже после смерти поэта, — Маяковский хотел избежать
опасности идеалистической героизации личности. Ему хотелось показать,
что появление такого человека, как Ленин, было не чудо, а результат
железной исторической необходимости...
Однако этот замысел Маяковскому не совсем удался. Следы
"мессианства", которое очень характерно для творчества Маяковского
дореволюционного периода, заметны и в поэме "Ленин"»62.
624
Лефовцы были склонны объявить «мессианством» все, что
относилось к духовному спектру личности и к ее праву на существование.
Маяковский все более расходился с ними. Ведь осознание себя
причастным к общему «телу» класса расширяет в первую очередь
человеческие, личностные возможности лирического героя, и перед его
глазами встает уже не траурная Красная площадь, как в первой части
поэмы, а «темный / земной / неподвижный шар» (VI, 306). Лирический
герой, сливая подобно Ленину свою личную жизнь с жизнью
революционного класса, вырастает в финале поэмы в фигуру поистине
исполинскую.
Таким образом, в поэме «Владимир Ильич Ленин» лирический
герой Маяковского обрел, наконец, то, к чему стремился поэт на
протяжении всего своего творческого пути. Обращение к Ленину было
вызвано стремлением Маяковского найти земной, конкретный
критерий для его прошлого, во многом еще абстрактного идеала человека,
способного изменить лицо мира, сделать его человечным. Не случайно
уже в 1920 г., в своем первом стихотворении о Ленине, поэт писал:
«Я / в Ленине / мира веру / славлю / и веру мою» (II, 34), — утверждая,
что в Ленине ему ближе всего собственная неистребимая вера в
гармоничного человека, который придет вместе с повсеместным
утверждением ленинизма.
Художественный опыт поэмы о Ленине стал необходимым условием
для всех произведений Маяковского, определяя их высокие
поэтические достоинства. Создавая в своей новой поэме образ времени,
Маяковский все более прочно утверждался на лирических позициях. Вслед
за поэмой «Про это» в центр ее композиции была поставлена личность
лирического героя, воспринимающего и оценивающего окружающий
мир, формирующего в себе черты революционного характера.
Последнее обстоятельство существенным образом изменило
структуру поэм Маяковского. Основу композиции его ранних
произведений составляла динамика положений, теперь же она уступила место
динамике характера. Герой «Облака в штанах», например, до самого
конца поэмы остается неизменным (аналогичную картину мы видели
и в крупных вещах Хлебникова); он как бы демонстрирует перед
читателем «золотые россыпи» своей души, все то, что изначально было
уже заложено в нем. В этом смысле он постоянно равен самому себе,
и в финале такой же, каким был в прологе, — меняются только ситу-
625
ации, в которые он попадает. Иное в поэме «Про это». Герой здесь не
просто раскрывает свои потенциальные возможности, а
«выстраивает» себя. С подобной сюжетной особенностью мы встречаемся и в
поэме «Владимир Ильич Ленин», и происходит это потому, что
внешний мир, который раньше был враждебен лирическому герою
Маяковского, теперь становится для него источником революционных
изменений. Былая автономия героя и мира нарушается. А это делает более
диалектичной авторскую позицию.
Укажем еще на одно отличие, тесно связанное с первым.
Художественный мир дореволюционных поэм Маяковского замкнут, и
кольцевая композиция, к которой часто прибегает поэт, призвана это
ощущение в каждом отдельном случае подчеркивать. Так, в прологе «Облака
в штанах» лирический герой говорит о себе: «Мир огромив мощью
голоса, / иду...», — и эта ситуация вновь возникает в финале поэмы:
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду! (I, 196)
Возникает, чтобы усилить впечатление вакуума: констатирующее
«Глухо», уравновешивающее собой целую строфу, звучит как приговор,
о который разбивается полный экспрессии вызов лирического героя.
Сюжет «Человека», в свою очередь, развивается по типу
концентрических кругов: столкновение героя с Повелителем Всего повторено в
поэме дважды, и это необходимо для того, чтобы неумолимее и безысход-
нее прозвучали слова финала. Поэмы «Про это» и «Владимир Ильич
Ленин» представляют особый тип разомкнутой структуры; для нее, в
частности, характерен так называемый открытый финал. Маяковский
и здесь использует приемы кольцевой композиции, но теперь ее
функция заключается в отражении социального роста личности
лирического героя. Таковы плодотворные процессы, наметившиеся в поэме
«Про это» и обусловившие принципиальную художественную
новизну поэмы о вожде.
Но недоверие к быту и связанной с ним частной жизни человека,
типичное для поэмы «Про это», в какой-то мере отразилось и на поэме
«Владимир Ильич Ленин». Это сказалось на трактовке образа
лирического героя. В поэме нет даже намека на интимный мир лирического
626
героя. Его личная жизнь ограничена только сферой общего. Такое
понимание проблемы личного и общественного привело к тому, что
революция в поэме была воспринята лишь в «общем разрезе» (поэт
передал прежде всего дух революции, как он ее понимал, а не ее будни), и
в этом нельзя не видеть влияния прежнего метода Маяковского. Герой
поэмы, как и первых пореволюционных произведений, все же
оказывался гигантом, ибо «мелкие вещи» исключались всем ее образным
строем. Вместе с тем «счастье» лирического героя было неполным, а
отношения, в которые он вступал с миром, — далекими от желаемой
гармонии: «сердце всего» — любовь откладывалась «до лучших
времен», а лирическая тема была окрещена в поэме презрительной
кличкой — «любовные лясы». Лефовские догматы, как ни сопротивлялся
поэт, продолжали оказывать на него сильное влияние. Следовательно,
остановиться на такой трактовке человека Маяковский не мог. В
дальнейшем ему предстояло преодолеть гигантизм своего героя. Это можно
было сделать лишь при условии, если в качестве внутренней меры
революции в его поэзии выступил бы человек с его интимным миром и
обычными, повседневными заботами и делами. Проблема эта
вплотную встала перед В. Маяковским во второй половине 20-х годов, но
ее решение было подготовлено логикой творческой эволюции поэта
предшествующего периода, суть которой, как мы старались показать,
заключалась в более глубоком, чем прежде, соотношении идеала и
действительности.
А «Революция — любовь»
Оценивая состояние литературы своего времени, один из ведущих
критиков 20-х годов писал: «Господствующая литература наших дней
не задерживалась на человеке, она рисовала действия коллективов,
она была права, когда до сих пор направляла свой пафос на внешние
победы и достижения. Теперь человек выходит на сцену. Можно
сказать, что мы уперлись в человека. Литература ощущает новую
великую задачу»63. Это ощущение определяло своеобразие литературной
атмосферы на исходе первого послеоктябрьского десятилетия.
«Десятилетие Октября, — подводил некоторые итоги А. Лежнев, — вызвало
к жизни целую литературу. Поэты, конечно, приняли в ней посиль-
627
ное участие. Но их положение было несколько затруднительно.
Публицист, историк, экономист могли, подводя итоги, использовать новый
материал, результаты новых исследований, могли вносить в наше
представление о революции нечто новое, дополнительное, не
ограничиваясь повторением широко известных вещей. У поэта этого нового
материала не было. Революция в том общем разрезе, в котором брал ее
обычно лирик, была уже "использована" до отказа. Для того чтобы
найти новое — новый материал, новый угол зрения, — надо было бы
от общего перейти к конкретному, от абстрактной одописи к реализму,
к изучению действительности». И уже прямо указывая на Маяковского,
критик менторски заявлял: «Пафос общих положений и голых
лозунгов уже недостаточен. Он начинает звучать фальшиво. Искусство
требует теперь конкретности и глубины. Пафос Маяковского
превращается в риторику, его ораторская установка — в адвокатскую»64. В
другой своей статье А. Лежнев пошел еще дальше, объявляя Маяковского
«холодным ритором и резонером»65. Поэту был вынесен
уничтожающий приговор: «После "Мистерии-буфф" Маяковский ничего
принципиально нового не произвел. <...>
"Мистерия-буфф" означала переход поэта от богемно-анархического
бунтарства к отчетливой революционной устремленности. <...> Но она
в то же время явилась началом его замыкания в элементарную агитку.
Это было началом упадка Маяковского как художника... Его апогей,
его вершина позади»66.
Говорить об «отвлеченности и бледности»67 человека Маяковского,
о «головном восприятии революции», «рационализме и схематизме
его творческого метода», о «недостаточном проникновении в глубь и
внутрь»68 революции, о «преобладании риторики, абстракции и схем
над живыми образами»69 в его поэтическом творчестве стало чуть ли
не хорошим тоном в критике того времени. Не видя разницы между
теориями Лефа и творческими устремлениями поэта, критики
отказывали ему в способности глубокого постижения революционной
действительности. В наиболее безапелляционной форме все эти выводы
прозвучали в статье теоретика конструктивизма К. Зелинского,
озаглавленной крайне претенциозно «Идти ли нам с Маяковским?». «Снижая
цены на вещи, — менторски поучал поэта ее автор, — революция
повышает ныне цену человеку. Вот чего не понимает
Маяковский». И тут же делал вывод: «В сущности, человека-то никогда
628
не было у Маяковского». Считая уместным говорить «об
идеалистическом мироощущении Маяковского», критик разъяснял свою
позицию следующим образом: «...идеалистическая природа обнаруживается
в нем во многих смыслах, но основное свое выражение она находит в его
методах подхода к миру. Маяковский всегда приближает вас к
абстракции, а не к плоти, ориентирует на итог, а не на процесс, он всегда
упрощает до лозунга там, где диалектика требует глубины. Он страшно не
гибок и линеен. Конечно, можно сказать, что плакатность — это
литературная манера Маяковского, это стиль его письма. Но вот именно эта
манера порождает конфликт Маяковского с сегодняшним днем. <...>
Леф, может быть, незаметно для самого себя, вступает в противоречие
с новыми запросами дня, выдвигаемыми развертыванием
социалистической культуры. Энергия, силы революции ушли с митинговых
колоколен. Эти силы переключились в механизмы фабрик и заводов... Мало
теперь быть звонарем на колокольне. Значит ли это, что "обедня"
окончилась, а с ней и революция? В том-то и несчастье Маяковского, что он
думает, что "обедня" идет только тогда, когда на колокольне звонят!»70.
Статья К. Зелинского, как и многие другие критические опусы о
творчестве поэта, рисовала искаженный облик Маяковского и именно
с ним, с этим искаженным обликом, вела прямолинейную полемику.
Между тем реальный Маяковский, как мы видели, был иным. Словно
в ответ на упреки критики поэт говорил:
Мне б хотелось
про Октябрь сказать,
не в колокол названивая,
не словами,
украшающими
тепленький уют, —
дать бы
революции
такие же названия,
как любимым
в первый день дают!
Однако он тут же внутренне дисциплинирует себя, не давая
размягчиться хотя бы на минуту: «Но разве / уместно / слово такое? / Но
разве / настали / дни для покоя?» Нет, не время еще, расслабиться сейчас —
значит «расказенить» «в ерунду» «боевую / революцию — любовь» (VII,
629
235), понимание которой со всей страстностью, присущей Маяковскому,
выразилось в финале поэмы «Про это». Поэт твердо верит: «...мы /
переменим / жизни лик, / и общей, / и личной» (IX, 156). Для него это
двуединая задача: «по линии сердца / нет раздела» (VII, 155). «Революция
духа» означала между прочим ориентацию на внутренний мир человека,
на нравственный состав личности, ибо враг внешний сменился врагом
иного рода. Начало этому кругу лирических переживаний поэта было
положено еще в «Про это», и сегодня приходится лишь удивляться
эстетической «глухоте» критики 20-х годов и критике современной,
нынешней, прошедших мимо той напряженной духовной жизни, которой жил
герой Маяковского. На наш взгляд, одна из существеннейших причин
этой «глухоты» заключалась в том, что критика оценивала творчество
Маяковского с позиций эпической поэзии, между тем как он был в
первую очередь поэтом лирической ориентации. Относительно
литературоведов последних двух-трех десятилетий, усматривающих (не впервой!)
в его агитационной лирике причину творческой и человеческой драмы
Маяковского, заметим: они странным образом забывают о «жизнетвор-
ческой», «жизнестроительной» миссии, которую он возложил на себя с
самого начала своего поэтического пути.
Чуткий к запросам эпохи, Маяковский очень хорошо понимал
необходимость кардинальной перестройки поэзии. В 1928 г., уже после того, как
его лирика обрела во многом новое качество, он полемически утверждал:
С чем
в поэзии
не сравнивали Коминтерна?
Кажется, со всем!
И все неверно.
И корабль,
и дредноут,
и паровоз,
и маяк —
сравнивать
больше не будем.
Главным
взбудоражена
мысль моя,
что это —
просто люди (IX, 197).
630
«Просто люди» — под этим знаком развивалось творчество поэта
во второй половине 20-х годов. Подобная ориентация вовсе не
означала, что отныне Маяковский сводил функции поэзии к регистрации
фактов будничной жизни, как это делали его собратья по Лефу,
выдвинувшие теорию «литературы факта». Наоборот, обращение
Маяковского к человеку революции, рядовому участнику великих
свершений, говорило о его настойчивом стремлении увидеть «в обыденной
яви» воплощение «слов Ильича» (VII, 259). С другой стороны, поэту
важно было отразить процесс духовного «вызревания» человека в
процессе революционной переделки мира. Отсюда вытекала новая
пропагандистская задача искусства, сформулированная Маяковским
следующим образом:
Надо
в каждой пылинке
будить уметь
большевистского пафоса медь (VII, 237).
Уже в 1923 г. Маяковский пишет несколько статей («Агитация и
реклама», «Мелкий нэп (Московские наброски)», «О мелочах»), в
которых делает важный с его точки зрения вывод: «Внимание мелочи!»
(XII, 62). В стихотворении с агитационно-нацеливающим заглавием «На
учет каждая мелочишка», выдвигая лозунг «Каждую мелочь / мерь!»,
поэт объяснял свою переориентацию жизненной актуальностью
данной темы («Быт / не прет в дверь. / Быт / ползет / из щелей»),
предупреждая об особом коварстве бытовых «мелочей», способных слабых
сбить «с копыт» (VI, 43—44).
Герой поэмы «Про это» на себе испытал разлагающее влияние быта,
но в числе «слабых» не оказался. Выход был найден, выход
максималистский, а потому — уже в самой поэме — вызывавший глухую
неудовлетворенность поэта. Борясь со «стабилизацией быта» в 20-е годы,
Маяковский был особенно беспощаден к различным формам «выхода
из борьбы»: самоуспокоенности бывших активных бойцов, их «мечте»
о тихой заводи и т.д. Позднее этот комплекс мотивов составит
сюжетную основу комедии «Клоп». Пристальное внимание Маяковского к
названным темам объясняется, помимо всего прочего, их особым,
«личным» характером: еще совсем недавно мещанский быт угрожал
разложением революционного духа его лирическому герою. И то, что сей-
631
час подвергалось сатирическому осмеянию, в «Про это» было
предметом драматических коллизий.
«Врастание» Маяковского в будни, а особенно понимание
ограниченности и даже некоей «ущербности» принятого в «Про это»
решения, с неизбежностью обедняющего богатство проявлений личности,
приводило к перестройке его поэтической системы. Во всех главных
произведениях Маяковского второй половины 20-х годов по-прежнему
сохраняется агитационная, иногда дидактическая тенденция, но она
нередко окрашивается, а в некоторых случаях преодолевается
интимной, идущей от сердца поэта, дружеской, доверительной интонацией71.
Эти изменения нашли свое выражение хотя бы в том факте, что, начиная
с «Юбилейного», поэт все чаще создавал свои стихотворения в жанре
посланий и разговоров, жанре, по самой своей сути предполагающем
раскрытие тех сторон человеческого характера, которые не
соответствуют высокому строю оды.
Выстрадав право говорить от имени революции, Маяковский
постепенно отказывается от крайности занятой в «Про это» позиции, ищет
пути преодоления того сурового ригоризма, который определял
нравственные принципы героя названной поэмы. Продолжая оставаться
непримиримым по отношению к сторонникам обособления личного
начала, он в то же время стремится к наиболее органическому
соединению в человеке интимной, «сердечной» его природы и
общественного, революционного долга, не желая верить в то, что начала
эти абсолютно враждебны друг другу. Нужен, считает поэт, иной
сплав этих сторон человеческой жизни, не их простое примирение,
не механическая сумма, а такое качество, когда оба эти начала, потеряв
свою былую обособленность, пронизав своими токами друг друга,
создадут прекрасную душу абсолютно нового человека72. Поэт знает:
«Разнообразны / души наши. / Для боя — гром, / для кровати — /
шепот», — но пока — такова воля времени! — «...у нас / для любви и
для боя — / марши». Ненормально? Безусловно, но еще более
ненормально то обстоятельство, что, объясняясь в любви, человек
революции «поет» «про чужое», изъясняется «ариями Альфреда и
Травиаты». Поэт верит в творческую мощь революции — нашла же она
«свои, / баррикадные звуки», принесшие ей победу, а раз так, то «и
любви / придумаем / слово свое, / из сердца сделанное, / а не из ваты»
(VII, 131—132).
632
Мы процитировали строки стихотворения 1926 г. «Передовая
передового», относящегося к тому времени, когда перед Маяковским в
результате напряженных личных поисков открылась довольно ясная
творческая программа. Для нас, разумеется, было бы далеко небезынтересно
восстановить направление этих поисков.
В стихотворении «Протестую!» (1924) творческая программа
поэта носила иной характер. Недовольный «человечьим устройством»:
«Мозг / нагрузишь / до крохотной нагрузки, / и уже / захотелось /
поэзии... / музыки...», — поэт предлагал «переиначить / конструкцию /
рода человечьего» следующим образом:
Тот человек,
в котором
цистерной энергия —
не стопкой,
который
сердце
заменил мотором,
который
заменит
легкие — топкой.
Пусть сердце,
даже душа,
но такая,
чтоб жила,
паровозом дыша,
никакой
весне
никак не потакая.
Чтоб утром
весело
стряхнуть сон.
Не о чем мечтать,
гордиться нечего.
Зубчиком
вхожу
в зубчатое колесо
и пошел
заверчивать (VI, 18—19).
633
В черновом варианте стихотворения поэт еще более радикален:
нужно, по его мнению,
Чтоб мотором работало сердце
сердце, которое не восторгается
сердце которое не сердится (VI, 424).
Зависть Маяковского к «блиндированному автомобилю» выдает в
нем как будто бы сторонника лефовского «стандартизованного
активиста» и даже апологета «машинизации» личности, каким на первых
порах своей работы в ЦИТе (Центральном институте труда) был,
например, А. Гастев.
Говоря о стихотворении «Протестую!», мы не случайно
остерегались от категоричного вывода по отношению к Маяковскому. Нет слов,
программы, изложенные обоими авторами, похожи, это увидит
каждый непредубежденный читатель. Но то, что для Гастева — норма,
чаемый идеал, для Маяковского — средство преодоления боли, того
самого «горя», которое испытал его герой в поэме «Про это»: машина
ведь не способна чувствовать, она ни о чем не задумывается, и ей не
грозят ни «яма переживаний», ни «хандра» (VI, 424).
Собственные творческие принципы заставляли Маяковского
сомневаться в истинности декларируемой концепции. Уже в 1923 г. (год
создания поэмы «Про это») в шуточном стихотворении «Весенний вопрос»,
что, однако, не могло снять всей серьезности поставленной проблемы,
поэт говорит об «опасности», которая подстерегает искусство,
замкнувшееся в сугубо «деловые» темы:
Я, например,
считаюсь хорошим поэтом.
Ну, скажем,
могу
доказать:
«самогон — большое зло».
А что про это?
Чем про это?
Ну нет совершенно никаких слов (V, 32).
«Чем про это?» Имеются в виду темы, затрагивающие самые
интимные человеческие переживания, подобно той, что была предметом
пристального внимания Маяковского в только что написанной поэме.
634
Стихотворение не давало ответа на поставленный вопрос, впрочем, он
и не предполагался с самого начала. Гораздо важнее оказалось то, что
такой вопрос был поставлен, а за шутливой формой, по сути дела,
скрывалась тревога Маяковского за «права поэтов» на лирику.
Эта тревога вскоре обрела отчетливые контуры в стихотворении
«Юбилейное», окрашивая чувство героя в элегические интонации. Поэт
болезненно остро переживает победу над самим собой, одержанную в
«Про это». Ситуация поэмы, а также факты биографии Маяковского,
относящиеся к тому времени (отношения с Л.Ю. Брик), вновь встают
в памяти героя: «Было всякое, — признается он, — и под окном
стояние, / письма, / тряски нервное желе...». И все же самое страшное не
в этом; страшно то, что «любви пришел каюк», и не какой-нибудь
частной любви (это еще полгоря), а любви вообще, как универсально-
родового человеческого чувства. По известным причинам герой сам
наложил на него запрет, и это обстоятельство усугубляет ситуацию,
делает ее «много тяжелей», ибо теперь он «и горевать не в
состоянии», не имеет на это никакого морального права (VI, 50). «Любовь
это жизнь, это главное...» Конечно же, мы помним эти слова,
сказанные Маяковским. Вот почему «уже не стук, а стон» в «грудной клетке»
героя стихотворения, вот откуда его тревога за свое сердце, «в щенка
смиренного львенка».
Поэтическая идея стихотворения рождается на стыке ценностей двух
планов. И здесь Маяковский говорит о необходимости
самоограничения: «Вред — мечта, / и бесполезно грезить...»73, упоминает о поисках
новых путей в поэзии: «Нами / лирика / в штыки / неоднократно
атакована, / ищем речи / точной / и нагой...»74 Однако декларируемые
принципы, восходящие к центральным идеям лефовской программы,
встречают внутреннее сопротивление искусства: лирика, несмотря ни на
какие ограничения, заявляет о своем праве на существование, а «общий
разрез» в изображении действительности (вспомним: «Видит только
главное. Точно устанавливает отношения больших сил») оказывается
далеко не единственным методом исследования жизни, ибо возникают
ситуации, когда «большое / понимаешь / через ерунду». На языке
Маяковского того времени это слово обозначало все, связанное с
переживаниями человека, с его интимным миром: «личная тема» поэмы «Про
это» была определена им как «мелкая». Но «ерундой» в данном случае
приходится объявить самое сокровенное — любовь, отсюда и грусть,
635
проглядывающая через плохо скрывающую ее иронию: «поэтический
песок», что ни говори, все же не для настоящей поэзии (VI, 48, 49).
«Человек просто» Маяковского оказывался вовсе не простым
человеком, да и вопросы, встававшие перед ним, требовали отнюдь не
однозначного ответа. Отказ от изображения человеческой жизни средствами
гиперболы означал одновременно, что поэт переключал свое внимание
на усложнившуюся духовную жизнь человека. Счастье быть
«частицей» в шеренге бойцов революции, несмотря на свою огромность,
не могло решить всех проблем индивидуального «душеустройства».
Осложнялось оно и целым рядом причин биографического порядка:
среди них не последнее место занимали отношения поэта с
современной ему критикой. Все это накладывало особый отпечаток на
многие стихи Маяковского той поры — лирическим фокусом их
оказывалось сложное по интонационному рисунку раздумье «о времени и о
себе» умудренного жизненным опытом человека, который приходит
к мужественному решению не без преодоления глубоко запрятанной
боли.
Уже в стихотворном цикле «Париж» (1924—1925) мы встречаемся с
героем именно такого типа. Ряд стихотворений цикла («Город», «Вер-
лен и Сезан», «Прощание (Кафе)», «Прощанье») связан с общей темой
лишь по названию. В центре внимания поэта — личность
лирического героя с его непростой биографией, со сложными
взаимоотношениями с современниками, личность, остро и больно реагирующая на
обиды и в то же время преисполненная жизнеутверждающего пафоса.
Стихи парижского цикла были большим завоеванием Маяковского-
лирика.
Не меньшее значение для творческого развития Маяковского в
интересующем нас аспекте имел и второй его стихотворный цикл — «Стихи
об Америке» (1925—1926), в котором он совершил свое «открытие
Америки». «Это "открытие" — и прозаическое и поэтическое — ничего не
прибавило к тому, что мы знали раньше и об Америке, и об новом ее
Колумбе — Маяковском»75, — писал критик Д. Тальников, требуя от
поэта новых фактов и знаний о Новом Свете и совсем упуская из виду,
что имеет дело с лирической поэзией, центральной фигурой которой
является образ лирического героя, а не эпическое событие. Главное
завоевание «американских» стихов Маяковского состоит в обогащении
духовного опыта его героя, человека, не раз проповедовавшего раци-
636
онализм, конструктивизм, целесообразность как незыблемые основы
будущего миропорядка. Именно эти идеи проходили проверку в
процессе знакомства поэта со «стопроцентной» Америкой.
Приступая к анализу «Стихов об Америке», следует особо
подчеркнуть, что это не простое собрание стихов, но именно цикл, т.е.
довольно стройная поэтическая система, цель которой — наиболее
полное выявление процесса внутренних переживаний лирического героя.
Он революционер, — этот человек («...мне б / опять / знамена
простирать!», — говорит он о себе), и поэтому океан особенно «любим» им:
ведь он «по шири, / по делу, / по крови, / по духу — / моей революции /
старший брат» (VII, 13, 16). Но есть в герое какая-то
невысказанная боль, и, констатируя факт необратимости жизненных процессов:
«Все течет... / Все меняется» (VII, 17), — он, хотя и не противится
этому открыто, все же не хочет и не может примириться с
неумолимостью законов времени, несмотря на то, что испытывает их действие на
себе:
Годы — чайки.
Вылетят в ряд —
и в воду —
брюшко рыбешкой пичкать.
Скрылись чайки.
В сущности говоря,
где птички?
Я родился,
рос,
кормили соскою, —
жил,
работал,
стал староват...
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова (VII, 18—19).
Эти чувства знакомы читателю Маяковского по некоторым его
прежним стихотворениям. Истоки подобных переживаний в ощущении
личной неустроенности, бесприютности76, переходящем в печаль, печаль
человека, обогнавшего свое время и вынужденного, «как раньше, / свой /
раскачивать горб / впереди / поэтовых арб» (VI, 201).
637
Однако поэт не отдает себя во власть расслабляющих грустных
чувств, иронически аттестуя их как «мелкую философию на
глубоких местах». «Полпред стиха» революционной страны, сквозь призму
революции оценивает он «наследство» Колумба.
Стихотворный цикл отчетливо распадается на две части. Внешне
градация эта мотивирована «географией» путешествия Маяковского. Но
в действительности это деление несет глубокую смысловую нагрузку:
сталкиваются южная экзотика, на поверку оказавшаяся ложью
«подвыпивших бардов» (VII, 7), и «стопроцентная», деловая Америка. Для
того чтобы яснее стала цель данного контраста, необходимо
вспомнить, каким непререкаемым авторитетом пользовалась у лефовцев идея
«американизации» личности и сколь презрительным было их
отношение ко всякого рода романтическому «старью». В стихотворении «Мек-
сика — Нью-Йорк», делящем цикл на две части, обе «стихии» даны в
контрастном сопряжении. Мексика — страна «доблести», «там... /
скачут, / коня загоня, / в пятак / попадают / из кольта», при встрече с этой
жизнью в какой-то мере оживают детские книжные впечатления; Нью-
Иорк — «железо — /не расшатать! / Ни воли, / ни жизни, / ни нерва
вам!» (VII, 53). Комментарии, как говорится, излишни: на сей раз
Маяковский скорее на стороне первой картины, при всей ее бутафорской
красивости, нежели второй. Правда, поэт «в восторге / от Нью-Йорка
города» (разрядка наша. — B.C.); здесь действительно «есть что погля-
деть московской братве» (VII, 57). Архитектура Нью-Йорка, так
сказать, — конструктивизм во всем его жизненном великолепии: в
«стальной миле» Бруклинского моста «живьем... встали... видения»
Маяковского — «борьба / за конструкции / вместо стилей, / расчет суровый /
гаек / и стали» (VII, 85).
Маяковский не оговорился, упоминая о «Нью-Йорке городе». Только
город, но не его обитатели, вызвал восхищение поэта. Если
внимательнее приглядеться к «стопроцентному американцу», к его быту, образу
мышления, пишет Маяковский, то «увидишь — / старейшие / норки да
каморки — / совсем / дооктябрьский / Елец аль Конотоп» (VII, 66).
Техника подмяла людей, везде «скрежещет механика, / звон и гам, / а люди /
немые в звоне» (VII, 55—56). «На 7 лет назад» приехал поэт, желавший
укрепиться в своей эстетической вере. При безусловном господстве
«его препохабия» мещанина даже Бруклинский мост теряет свою при-
638
влекательность («Что такое мост? / Приспособленье для простуд» (VII,
89), — иронизирует Маяковский), куда значительнее подвиг «Страны
Советов», в которой «через пропасть / прямо к коммунизму /
перекинут мост, / длиною — /во сто лет» (VII, 89).
Лефовская идея революционизирующего значения формы дала новую
брешь в сознании Маяковского, и если в 1923 г. он считал, что
«конструктивизм только искусства — ноль», то теперь он узнал истинную
цену конструктивизму как методу строения нового мира;
индустриализм, не оплодотворенный высокой революционной идеей,
романтическим человеческим дерзанием, поэт окрестит позднее
презрительным выражением — «индустряловщина». Маяковский имел
возможность лишний раз проверить жизненную прочность идей Лефа и вряд
ли укрепился в своей былой вере.
Зато укрепилась воля поэта. Горечь и элегическая грусть, чувство
одиночества и бесприютности, временами охватывающие героя,
переплавлялись в мужественное решение: «надо жизнь... переделать»,
«сделать жизнь» достойной человека, «оборудовать» «планету... для
веселия», для людского счастья. Эта мужественная тема, подготовленная
всем ходом предшествующего повествования, рождается на глазах
читателя в стихотворении «Домой!» — идейно-художественном итоге
«американского» цикла Маяковского.
«Ясность» невыстраданных решений не для поэта: они могут
посеять сомнение в необходимости самого дела. Утверждаемая героем
программа пропущена через «глубь... души», связана с самым интимным
и заветным его желанием, с пронесенной через годы тягой к простому
человеческому счастью. Нехитрый мотив доносящейся из верхней каюты
песенки:
«Маркита,
Маркита,
Маркита моя,
зачем ты,
Маркита,
не любишь меня...» —
как это нередко бывает у позднего Маяковского, болью отозвавшись в
душе его героя («А зачем / любить меня Марките?!»), подготавливает
строки программы-исповеди:
639
Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов
и вил, —
яж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви (VII, 93).
Едва ли не вынужденное77 путешествие за океан было окончено,
но каковы бы ни были его причины («Все равно — / сослался сам я /
или послан к маме...»), «хандра» притупляет оружие: «слов ржавеет
сталь, / чернеет баса медь» (VII, 93). Герой Маяковского
возвращался «домой» умудренным, готовым для трудной работы по
«выработке счастья», счастья, о котором он мечтал еще в «Облаке в штанах»:
не «маленьком... любеночке», а об огромной, длиной в жизнь, «лю-
бовищи».
Отказ от крайнего максимализма этической программы начала
20-х годов, обогащение представлений о человеке революции привели
к некоторым изменениям и в эстетической программе Маяковского.
В 1926 г. он посвящает теме поэта и поэзии несколько первоклассных
стихотворений.
В некоторых из них, в частности «Сергею Есенину», «Разговор с
фининспектором о поэзии», «Послание пролетарским поэтам»,
«Марксизм — оружие...», Маяковский иронизировал над
вульгарно-социологическим представлением об искусстве. Еще в стихотворении «Верлен
и Сезан» Маяковский писал:
«Лицом к деревне» —
заданье дано, —
за гусли,
поэты-други!
Поймите ж —
лицо у меня
одно —
640
оно лицо,
а не флюгер.
А тут и ГУС
отверзает уста:
вопрос не решен.
«Который?
Поэт?
Так ведь это ж —
просто кустарь,
простой кустарь,
без мотора» (VI, 207).
Но то, что в процитированном стихотворении было эпизодом, пусть
и значительным, в «Разговоре с фининспектором о поэзии» стало
центральной идеей. Стихотворение построено на развернутой полемике
поэта с носителем крайне примитивной точки зрения на труд писателя.
Утверждая высокое назначение поэзии, Маяковский говорит здесь о
больших духовных «издержках» поэта:
Машину
души
с годами изнашиваешь.
Говорят:
— в архив,
исписался,
пора! —
Все меньше любится,
все меньше дерзается,
и лоб мой
время
с разбега крушит.
Приходит
страшнейшая из амортизации —
амортизация
сердца и души (VII, 123—124).
Ничего подобного мы не встретим ни в одном из первых
послереволюционных стихотворений поэта, посвященных проблемам
поэзии, между тем как в основе образного ряда «Разговора с
фининспектором...» лежит знакомая нам хотя бы по «Поэту рабочему» метафора:
«поэзия — производство».
641
Усложнение духовной жизни лирического героя Маяковского
неизбежно вело поэта к раздумьям о жанровом составе собственного
творчества. В «Послании пролетарским поэтам» он писал:
Одного боюсь —
за вас и сам, —
чтоб не обмелели
наши души,
чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек (VII, 154—155).
Мысль о расширении жанрового диапазона поэзии здесь
поставлена в прямую зависимость от внутреннего содержания личности,
богатства, глубины и многосторонности ее переживаний. «Раешник» и
«частушка» для Маяковского — жанры «почтенные», он
неоднократно выступал и в том и в другом, но сейчас острее, чем когда-либо, он
видит всю преходящесть этих форм. И если раньше в своих героях
поэту важнее всего было подчеркнуть их социальную типичность,
то теперь такой метод изображения человека кажется ему не совсем
удовлетворительным. В одном из выступлений 1929 г. Маяковский
говорил: «На своих вещах, на своих ошибках учишься, и я сам
сейчас стараюсь отказаться от некоторой голой публицистичности» (XII,
378). Эти слова были сказаны по конкретному поводу, но они с
успехом могут быть распространены на все творчество Маяковского
рассматриваемого периода.
Наметившиеся в поэзии Маяковского плодотворные
изменения вовсе не превращали его в поэта психологического
направления, однако отказ от «голой публицистичности» не мог не
повлиять существенным образом на принципы воплощения революции
в его творчестве. Окрашенной в глубоко личные тона,
пропущенной через сознание поэта, связанной с самыми интимными его
переживаниями и была увидена революция в поэме «Хорошо!» (1927).
В решении проблемы личного и общественного это был
значительный шаг вперед. Человек, лирически осваивающий мир,
сопрягающий революцию с обычными будничными делами, подмечающий,
642
как повседневная жизнь людей приобретает высокий смысл
благодаря усвоению ими идеала революции и как, в свою очередь,
революция обретает «естество и плоть» в жизни личности, — такой
человек становится героем В. Маяковского второй половины 20-х годов.
Герой поэта в этом новом для него качестве, как мы пытались
показать, явился итогом творческих поисков Маяковского на
протяжении всего послеоктябрьского периода и был запечатлен на
страницах поэмы «Хорошо!».
Поэма «Хорошо!» создавалась в период бурных дискуссий о «живом
человеке» в литературе и объективно была своеобразным ответом
Маяковского на эту дискуссию.
Маяковский неоднократно выступал против рапповской концепции
«живого человека», эти факты общеизвестны. Однако его позиция в
этом вопросе, в чем мы неоднократно убеждались, была отнюдь не
однозначной. Критики дружно упрекали Маяковского в невнимании к
конкретике жизни, в использовании устаревших в новых условиях
приемов плакатно-лозунгового письма. Поэт не оставался в долгу,
отстаивая свою точку зрения. В «Бане» (1929—1930) Маяковский вложил
основные критические аргументы в свой адрес в уста Победоносикова,
новоявленного радетеля теории «живого человека»: «Сгущено все это, в
жизни так не бывает... Ну, скажем, этот Победоносиков. <...> Не бывает
у нас таких, ненатурально, нежизненно, непохоже! Это надо переделать,
смягчить, опоэтизировать, округлить...» (XI, 307). Впрочем,
«эстетические позиции» Победоносикова чрезвычайно подвижны: он согласен и
на «символистическую картину», хотя и признает, что «оно, конечно,
суховато, нет этой округленности, сочности...», но зато «бодро!
Никакого упадочничества — ничего не роняет» (XI, 311). «Отдохновенная
пантомима на тему — «Труд и капитал...», выполненная в откровенно
плакатной, аллегорической манере, вызывает восторг этого «ценителя
искусства»: «Браво! Прекрасно! И как вы можете с таким талантом
размениваться на злободневные мелочи, на пустяшные фельетоны? Вот
это подлинное искусство — понятно и доступно и мне, и Ивану
Ивановичу, и массам» (XI, 313).
Похвала в адрес противоположных стилей искусства, исходящая от
«искусственных людей» вроде Победоносикова, компрометирует оба
стиля в одинаковой степени. Для Маяковского они в равной мере
неприемлемы. Еще в стихотворении «Верлен и Сезан» поэт предупреждал:
643
«Идею / нельзя / замешать на воде» — и, имея в виду и себя самого,
свой поэтический опыт, говорил:
К рабочему
надо
идти серьезней —
недооценили их мы (VI, 208).
Поэт за «серьезное», высокоидейное искусство, не «отображающее»
«живых людей», не «плетущееся в хвосте у событий», но в то же
время не повторяющее азов «политграмоты».
«Человек решительный», Маяковский вступал в поэме «Во весь голос»
(1930) в диалог с будущим, ставя своей целью объяснить «здоровым и
ловким» людям, «которые будут» (I, 329), «будетлянам», себя самого и
свое время. Этот диалог лишен уничижительно-просящей интонации,
характерной для обращения его героя к людям XXX в. в поэме «Про
это». В чем-то поэт даже выше этих людей, живущих счастливой
жизнью, которую, «смиряя себя», «уставая из вечера в вечер», он готовил
для них. Поэт знает, что «жить в эту пору прекрасную» ему не придется,
но он уже не делает из этого трагедии. Одного боится герой
Маяковского — что за кажущейся «мелкостью» его тем (такова железная
необходимость времени!) будущее не разглядит «золотые россыпи» его души,
мотивы поведения сочтет за содержание его идеала. Поэт даже
представляет себе ситуацию, когда ученейший профессор будущего, «кроя
эрудицией вопросов рой», подобно своему коллеге из «Дешевой
распродажи», «лобастому идиоту», мелющему с кафедры о поэте Маяковском
как «богодьяволе» (I, 115), представит его как «певца» воды
«кипяченой и ярого врага воды сырой» (X, 279). И эта вопиющая ложь может
сойти за правду: «пел» же он действительно и «кипяченую воду», и
«соски», и галоши Резинотреста. Воспринимают же его, Маяковского,
современные ему критики «трезвым, как нарзан», что же тогда
говорить о более отдаленных временах!
Между тем концепция человека у Маяковского лишена той
односторонности, в которой его обвиняла критика. Полемизируя с
адептами теории «живого человека», отказываясь от крайности
собственной позиции и в чем-то даже споря со своими старыми
представлениями, пересматривая их, Маяковский в 20-е годы вел борьбу за «живого
человека» средствами своей стилевой манеры. Наиболее полно поис-
644
ки поэта выразились в «феерической комедии» «Клоп» (1928—1929),
являющейся с точки зрения интересующей нас проблемы
несомненным итогом его творческой эволюции.
10. Художественное завещание: «революция духа»
«Клоп» состоит из двух частей, резко контрастных по стилевой
тональности. Первые три картины комедии — «это театральная
вариация основной темы», на которую Маяковский «писал стихи и поэмы,
рисовал плакаты и агитки. Это тема борьбы с мещанином» (XII, 190).
Пятая — девятая картины — некий условный образ будущего.
Создавая этот образ, Маяковский, по его же собственным словам, не
стремился показывать «социалистическое общество» (XII, 508).
То обстоятельство, что действие первых картин тесно связано с
сатирой Маяковского на антимещанскую тему, практически не нуждается
в доказательствах: настолько очевидна эта связь. Гораздо важнее, с
нашей точки зрения, подчеркнуть особую, «личную»
заинтересованность Маяковского в разоблачении комплекса «присыпкинщины».
Причину, по которой герой комедии Присыпкин «с треском... от класса
отрывается» (XI, 235), хорошо объясняет Босой парень: «Людям для себя
жить хочется» (XI, 231). Философия жизни «для себя» была подвергнута
острой критике в поэме «Про это», причем критика эта носила
подчеркнуто драматический характер: полемические стрелы были пущены
поэтом и в самого себя. Герой Маяковского «вытрясал» из себя «душу
седую», не щадя себя более, чем других. «Душа» эта, по его понятиям,
мешала «мобилизациям и маневрам», уводила революционера в
сторону «процыганенного романса», заставляла дезертировать с поля боя.
Комсомолец, похожий на лирического героя «Про это», —
родственник Присыпкину; только в поэме, повторяем, данная тема, в силу
указанных причин, была решена драматически, в комедии — сатирически.
Это сейчас новоявленный Пьер Скрипкин распевает романсы и
становится «человеком с крупными запросами», оттого что «зеркальным
шкафом» интересуется (XI, 223), а раньше он был обычным рабочим
парнем, таким же, как и те персонажи, которые обсуждают его
поведение во второй картине комедии. Бацилла «присыпкинщины» очень
заразна, и уже после фактического ухода Присыпкина из своей среды
645
она продолжает отравлять воздух рабочего общежития, где он жил: на
очереди новые кандидаты в Присыпкины — Девушка, объясняющая его
уход тем, что «он, может, культурную революцию на дому
проделывает» (XI, 229), и Парень, мечтающий в будущем «себе лучшую квар-
тиренку пообнюхать» (XI, 230).
Маяковский видит особую силу и цепкость мещанства в том, что
оно живет внешней, ритуальной жизнью. Для мещанина важнее всего
не существо жизненных процессов, не их первооснова, а внешний
порядок. Символ веры мещанина, и литературного, и бытового, — смена
форм; его культурная революция ограничивается «сменой... пиджака
снаружи», до «выворачивания нутра» ему нет дела. Маяковский же
с самого начала своего творческого пути активно выступал за
освобождение сущности жизни от давящих и уродующих ее отживших
форм (он и эстетику кубофутуризма по этой причине принял и
пропагандировал), и если все же речь у него заходила именно о форме, то
обязательно соответствующей сущностным силам жизни. Быт в поэме
«Хорошо!» потому и несет в себе положительный заряд, что он
пронизан новым миропониманием и мироощущением, иными словами,
новым содержанием.
Таков в целом смысл картин из современной жизни в комедии
Маяковского. Сложнее обстоит дело с картинами будущего. Сложнее хотя
бы потому, что до сих пор именно в образе будущего поэт в полной
мере воплощал свой идеал, свое представление о прекрасном человеке
и достойном его обществе. Общество будущего в «Клопе» на эту роль
явно не годится, хотя внимательный читатель найдет в нем немало
примет «от Маяковского». Об этом речь еще впереди, а пока обратим свое
внимание на то, как объясняют обычно функцию картин будущего в
«Клопе» исследователи Маяковского.
В. Плучек, автор книги о сценической жизни Маяковского и
режиссер, осуществивший постановку «Клопа» на сцене Московского театра
сатиры, пишет: «После долгих раздумий мы поняли... это не
настоящее будущее, а просто-напросто игровой прием. Маяковский здесь ни
на минуту не отрывается от своего времени. Он продолжает критику
его недостатков, но как бы переносит их в другие предлагаемые
обстоятельства, служащие для выявления сущности мещанства.
Прием очень старый, известный со времени Свифта, и сводится он к
соприкосновению героя с неким вымышленным миром, на фоне кото-
646
рого особенно резко проступают черты известного социального
явления. Гулливер оказывается лилипутом среди великанов и великаном
среди лилипутов, так и Присыпкин, соприкасаясь с обществом
будущего, "химически чистым" от присыпкинских недостатков, кажется
нам уже не просто пошляком, но пошляком-гигантом...»78. Итак, по
мнению режиссера, будущее в комедии — «игровой прием», не более.
По сути дела, ту же точку зрения отстаивает авторитетный в
70-е годы прошлого века исследователь творчества поэта Ф.Н. Пицкель
в статье, посвященной образу будущего в произведениях Маяковского.
Изображение будущего в «Клопе», считает она, Маяковский
«подчинил задачам сегодняшнего дня.
Служащее задачам изображения настоящего, будущее здесь условно.
Это как бы некая умозрительная вершина, с высоты которой
наиболее заостренно и подчеркнуто проступают те уродства настоящего, в
которых автор видит угрозу для движения вперед. Будущее в пьесе —
пробный камень настоящего; современность испытывается,
экзаменуется будущим. Отраженные в зеркале будущего, недостатки
настоящего обретают свою истинную оценку». И далее, констатируя особую
«стерильную, преувеличенную разумность» мира будущего в «Клопе»,
автор статьи продолжает: «Разумность устройства общества и
поведения его отдельных членов была заветной мечтой многих писателей и,
например у Свифта, легла в основу созданной им утопии будущего. <...>
И у Свифта и у Маяковского разумность имеет тенденцию переходить
в формы трезвого и суховатого рационализма. Но если у первого
рационализм в картинах жизни гуингнмов — прямое следствие и выражение
его философии, то для Маяковского это всего лишь веселая игра
приемом, оправданная жанром и обусловленная своеобразием замысла»79.
Нет слов, понимание мира будущего в комедии как «веселого приема
остраннения» по-своему привлекательно, и точка зрения Ф.Н. Пицкель
как будто бы основательно аргументирована. И все же эта точка
зрения, на наш взгляд, при всей ее привлекательности и даже логичности,
значительно упрощает содержание пьесы. Ее сторонники вольно или
невольно сводят содержание комедии к содержанию тех сатирических
стихов антимещанской направленности, которые послужили
материалом и отправной точкой для нового произведения Маяковского. Еще
одно произведение на ту же тему, пусть в другом жанре, пусть более
талантливо... Так ли это на самом деле? Ведь вынуждена же Ф. Пиц-
647
кель, отстаивая свой центральный тезис, вместе с тем признать, что «в
комедии заложено некое объективное противоречие, связанное с тем,
что условно сконструированный мир второй части "Клопа" назван
обществом будущего». И действительно, почему Маяковский выбрал именно
это название? А вот и второй «парадокс», опять же отмеченный самой
исследовательницей: «Вообще, как это ни странно на первый взгляд,
веселую комедию "Клоп" многое связывает с... наиболее трагической
поэмой Маяковского (имеется в виду поэма «Про это». — B.C.). Их
объединяет и тема воскрешения в будущем, и образ "мастерской
человечьих воскрешений", и отрицание поисков счастья в одиночку, и,
наконец, мечта о разумном и счастливом человеке будущего»80. (Заметим,
что «воскрешают» Присыпкина в мае, и автор статьи довольно
подробно объясняет символику Маяковского).
В самом деле, почему именно с поэмой «Про это» так много
совпадений в комедии «Клоп»?
Впрочем, достаточно множить вопросы. Думается, никаких
«парадоксов», «странностей», «противоречий» в пьесе Маяковского нет.
Он сам назвал свою комедию пьесой о мещанстве, и это понятие
распространяет свое содержание не только на первые три картины, но и
на всю пьесу в целом, в том числе и на картины, рисующие общество
будущего. Еще в 1922 г., в пору работы над «Пятым
Интернационалом», Маяковский понял (в отличие от Хлебникова, кстати), что
«конструкция из светящейся проволоки» имеет мало общего с человеком,
что для формирования личности нового человека необходима
поистине подвижническая будничная работа, а не механическая замена
одних человеческих качеств другими, что строительство будущего
требует от всех людей огромных духовных усилий, «выворачивания
нутром».
Этого сознания лишены персонажи второй части комедии
Маяковского. Они вполне могли бы сказать о себе словами Победоносикова:
«...я... не пью, не курю, не даю "на чай", не загибаю влево, не
опаздываю... не предаюсь излишествам, не покладаю рук...» (XI, 335). Ведь
все, что не позволяет себе Победоносиков, делает (и с каким размахом!)
Присыпкин. Прибавьте к этому: люди будущего не пьют и не играют
на гитаре, не танцуют, чрезвычайно чистоплотны (они способны даже
«вдумчиво» мыть руки!) — и вы получите о них почти полное
представление. Вот уж истинно «искусственные люди». Именно поэтому
648
вышеупомянутый «реестр» качеств не приводит в восторг
Фосфорическую женщину, посланца подлинного общества будущего: «Это вы
говорите про все, чего вы "не, не, не"... Ну а есть что-нибудь, что вы "да,
да, да"»? (XI, 335). На этот вопрос обитатели будущего, каким оно
изображено в «Клопе», ответить не могут. Ибо в их арсенале отсутствуют
те черты, которые особенно ценил Маяковский — «радость работать,
жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода отдавать,
гордость человечностью» (XI, 345). Нет по той причине, что они —
рационально сконструированные манекены, им чуждо понятие
индивидуальности, они и думают и поступают одинаково, как все мещане, ибо
для них важнее всего канон, ритуал, форма, где уж тут до мечты поэта
о людях «хороших и разных».
Кажется, многое существенным образом отличает их от Присып-
кина (они и за человека-то его не принимают), но как раз это
«существенное» отличие на поверку оказывается пустотой, блефом и не
выдерживает первого «серьезного» испытания на прочность. Стоило
только появиться Присыпкину в городе будущего, и его обитателей
не спасла преувеличенная стерильность их быта: начались эпидемии
пьянства, вульгарной любви и танцев. И что бы ни говорили
исследователи, это не просто «игровой прием», якобы призванный
предостеречь современное Маяковскому общество от опасности «присыпкин-
щины». Не случайно же Присыпкин в одинаковой степени заражает
вирусом пошлости и своих товарищей по общежитию, и далеких своих
потомков. Да, да, именно потомков, ибо люди будущего лишь
внешним образом преодолели «комплекс Присыпкина», а внутренне
остались глубоко зависимыми от него. Не потому ли они так боятся его,
спасаясь от его «зловония», духовного и физического, различными
сверхмодными техническими усовершенствованиями? Но Маяковский был
уже однажды в Новом Свете и убедился, что урбанизация как
таковая — не самый надежный рычаг для «перевертывания мира»:
«небоскреб в разрезе» (люди второй части «Клопа» тоже живут в
«небоскребе», в нем, кстати, и началась эпидемия) обернулся глубокой
духовной провинцией, этаким «дооктябрьским Ельцом».
Да и сама жизнь персонажей второй части комедии, многие ее формы
оказываются прежними, подвергшись разве что сверхмодной
технической модернизации. В частности, сохранились неоднократно
высмеянные Маяковским заседания. В этой связи любопытен диалог, происхо-
649
дящий между Старым и Молодым механиками, готовящими «зал
заседаний» к предстоящему голосованию:
«Старый
Меня раз мамка на руках на заседание носила. Народу совсем
мало — человек тысячу скопилось, сидят, как дармоеды, и слушают.
Вопрос был какой-то важный и громкий, одним голосом прошел. Мать
была против, а проголосовать не могла, потому что меня на руках
держала.
Молодой
Ну конечно! Кустарничество!» (XI, 245).
Последняя реплика выдает этих людей с головой: важна не суть, а
размах предприятия. Заседание разрастается до гиперболических
размеров, какие и не снились бюрократам 20-х годов. Сохранились в
обществе будущего и люди «с портфелями» — «отцы города». И реплика
Распорядителя, «расчищающего проход к трибуне» (обратим внимание
на ироничность ремарки!), не лишена прежнего низкопоклонства и
благоговения перед старшими по чину: «Товарищ председатель и его
ближайшие сотрудники оставили важнейшую работу и под древний
государственный марш прибыли на наше торжество. Приветствуем
дорогих товарищей!» (XI, 269).
Новый город, новое общество, а проблемы старые. Казалось бы, все
здесь переделано кардинально, землю, на которую попадает Присып-
кин, уже не назовешь «гренлаплюбландией». Но «скучно» в «новом»
городе. Правда, этой ремарки нет в тексте комедии «Клоп», она взята
нами из трагедии «Владимир Маяковский». На наш взгляд, есть
основания связывать эти произведения, и вот по какой причине. Город
будущего в трагедии Маяковского был построен, как мы помним, в
соответствии с футуристическим каноном, в разработке которого
принимал участие и сам поэт. Вольно или невольно, но получилось так, что в
трагедии как бы проверялась «дееспособность» футуристических идей.
Мир будущего в «Клопе» — доведенное до своего логического
предела (отсюда и комизм ситуации!) воплощение в некую условную
действительность лефовской концепции будущего мироустройства,
основанной на воинствующем рационализме. Некоторые из этих идеалов
и идей разделял и пропагандировал в своем творчестве и сам Мая-
650
ковский. Вот почему в обществе будущего, нарисованном в комедии,
в делах, поступках, в словах и мыслях его обитателей иногда
встречаются элементы, знакомые нам по прежним произведениям поэта,
они своего рода опознавательные знаки родства.
Наиболее крайнюю, максималистскую позицию по отношению ко
всем проявлениям «личного» Маяковский занял в поэме «Про это».
Нам уже приходилось говорить о том, что поэма излагала этические
идеалы Левого фронта в понимании поэта; это обстоятельство, в
частности, и было причиной ее острого драматизма. Жизненные
впечатления 20-х годов, раздумья о человеке революции, подлинно
гуманистическое содержание эстетического идеала, корни которого уходили
в дореволюционное творчество, заставили поэта отказаться от
крайностей выдвинутой в начале десятилетия этической программы.
Лирический герой «Про это» просил воскресить его в XXX в. для
любви, любви, по-маяковски, грандиозной, творчески-плодоносной, и
в то же время — глубинно-интимной, иными словами, ничего общего
с любовной «страстью» Присыпкина не имеющей. Результат же
оказался самым плачевным: в обществе будущего любовь просто-напросто
отменена... за ненадобностью. «От любви надо мосты строить и детей
рожать...» (XI, 251), — говорит укоризненно профессор Зое Березки-
ной, рассказавшей ему про свою попытку самоубийства из-за любви к
Присыпкину. Может создаться впечатление, что профессор выражает
мысли самого Маяковского, но каждый, кто внимательно прочтет его
стихотворение «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности
любви», где эти мысли высказаны, поймет, насколько сложнее, глубже
и тоньше была в этом вопросе позиция поэта.
Своеобразным комментарием, дополняющим и разъясняющим слова
профессора, может послужить рассуждение Репортера о «приступах острой
"влюбленности"»: досужий газетчик со слов «профессоров» называет
«это состояние», описанное Маяковским в упомянутом стихотворении,
«древней болезнью, когда человечья половая энергия, разумно
распределяемая на всю жизнь, вдруг скоротечно конденсируется в неделю в одном
воспалительном процессе, ведя к безрассудным и невероятным
поступкам» (XI, 259). Именно такое состояние описывалось Маяковским в его
ранних поэмах, именно оно отличало его от «трезвых, как нарзан»,
обывателей (вспомним хотя бы образ ученого из сатирического «Гимна
ученому»; профессор из комедии приходится ему ближайшим родственни-
651
ком), и именно это состояние из-за общественных побуждений автора
было подвергнуто острой критике в поэме «Про это». Теперь,
демонстрируя то, к чему могла бы привести последовательная линия
абсолютного отказа человека от интимной жизни, Маяковский иронизирует
над собой прошлым и предостерегает тех, кто еще был склонен
призывать к нивелированию личности, к ее полному «растворению» в «деле»
(О. Брик). Аргумент поэта неотразим, он выстрадан им в личной судьбе,
и смысл его таков: обезличивание, к которому приводит отказ человека
от личного счастья, угрожает не только человеку, но и делу революции,
обедняя ее идеалы, опустошая ее изнутри.
Вот почему комедию «Клоп» многое связывает с трагичнейшей из
поэм Маяковского. Поэт выступает в своей комедии против мещанской,
псевдолирической стихии Баянов и Присыпкиных в защиту лирики
земных, подлинно человеческих страстей.
Я меряю
по коммуне
стихов сорта,
в коммуну
душа
потому влюблена,
что коммуна,
по-моему,
огромная высота,
что коммуна,
по-моему,
глубочайшая глубина (VII, 153), —
писал Маяковский еще в «Послании пролетарским поэтам» и потому
опасался, что «лозунг, правильный на каждом данном отрезке времени»
(а этот лозунг в эпоху революции звучал для него так: «во имя
коммуны жмись и мнись»), превращаясь в догму, начнет вступать в
противоречие с запросами времени: суровый ригоризм эпохи революции
будет объявлен идеалом коммунизма. Поэт, пожалуй, поддержал бы
С. Третьякова, утверждавшего: «Поиски "гармонического человека", плач
о "художественной неграмотности", о том, что активист-строитель растет
вахлаком и не интересуется и не желает интересоваться музыкальными
нюансами, стихотворными ритмами, цветосочетаниями картин, выпады
против нотовцев-рационалистов, это все — поход против стандартизо-
652
ванного активиста, действительно нужного социалистическому
строительству, это замена его фигурой весьма подозрительной, граничащей
с буйством, неврастенией, упадничеством, хулиганством»81.
Поддержал бы потому, что человека «нутра», против которого выступил
Третьяков, он сам изобразил в резко шаржированной форме в образе При-
сыпкина. Но он не принял бы иронии в адрес идеи «гармонического
человека», как и пафоса статьи, направленного на защиту
«стандартизованного активиста», якобы «нужного» социалистическому обществу.
Выступая от имени такого «активиста», один из критиков «Лефа»
рисовал контуры будущего следующим образом: «Фабрика оптимизма
строится сейчас в России. Расчетливого, умного, рабочего оптимизма.
Одно крыло фабрики — на свой страх и ответственность —
сооружают футуристы. Это то крыло, где будет производиться для
массового потребления оптимистическое искусство. Машинным способом
производиться, лучшими техническими приемами. Вдохновение будет
выдаваться ежедневным пайком, строго отмеренными порциями...»82.
Против этого и выступил Маяковский. Вспомним заявление Побе-
доносикова: «Мечтателей нам не нужно! Социализм — это учет!» (XI,
309) или — Оптимистенко: «Попрошу-с не упирать на личность!
Личность в истории не играет особой роли. Это вам не царское время. Это
раньше требовался энтузиазм. А теперь у нас исторический
материализм, и никакого энтузиазму с вас не спрашивается» (XI, 305)83.
Все это неприемлемо для поэта. Но другого не было и не могло быть.
Атеистический гуманизм, лежащий в основе революционной
идеологии, не позволяет ей воплотить в жизнь ни одного из ее высоких
лозунгов. Свобода, равенство, братство в процессе жизненного
строительства неизбежно вырождаются в свою противоположность, как мы это
видели, к примеру, анализируя лефовскую этику, ибо
рационализм и утилитарность последней — наиболее чистое,
«беспримесное» выражение революционной идеи.
Отсюда трагедия Маяковского. Признав революцию «своею» (для
подобного решения он имел серьезное основание, поскольку и в
революционной этике и в этике поэта ярко выражено стремление достичь
жизненной гармонии силами только человека), поэт не мог не
разделить ее драмы, ее основного противоречия. «Песня» о Человеке не была
допета, «любовная лодка», на которой Маяковский «плыл» по
революции, «разбилась о быт». А вместе с нею и его «сердце».
653
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая последнюю страницу исследования о своеобразии русского
модернизма, мы далеки от мысли, что поднятые здесь вопросы
окончательно исчерпаны. Наоборот, нами руководило убеждение, что
разговор о сути обсуждаемых в книге проблем предстоит долгий и
напряженный. И не только потому, что историк литературы имеет в данном
случае дело с еще недостаточно изученным материалом, но и потому,
что подобная тема позволяет выйти на более широкие просторы, чем
академическое литературоведение.
И вот почему. Хотя эстетику символизма и кубофутуризма и
занимала проблема литературного мастерства писателя, не она оказалась в
центре интересов целого ряда деятелей «нового» искусства. Не о
поэтической технике, а о «творчестве жизни» и «жизнестроении»
размышляли они в первую очередь. Следуя мировоззренческой полярности
национальной культурфилософской традиции и, как было уже сказано,
во многом искажая ее, русские символисты и кубофутуристы
вкладывали в эти принципиальные для их эстетик и мировоззрений
формулы различный, часто взаимоисключающий смысл.
Противоположным было все: и понимание человека, и представления о целях и
перспективах его развития, и критерии подлинности грядущей гармонии.
Однако, подчеркивая полярность миросозерцании символистов и
футуристов, имеющую для современного эстетического и
религиозного сознания принципиальное значение, мы не должны забывать и об
их глубоком родстве. Как известно, кубофутуристы подвергали своих
литературных противников резкой критике за присущий им отрыв от
жизни. Этот же вопрос находился в центре полемики и внутри
символистского движения. На то были серьезные основания. Но справедливо
обрушиваясь на эстетизм символистов, кубофутуристы были глубоко
поражены тем же недугом. Мысль эта может показаться
парадоксальной, тем более что дерзкие «новаторы» в качестве своего творческого
credo провозгласили антиэстетизм. И все же это именно так. На поверку
выходит, что эпатирующий антиэстетизм кубофутуристов выполнял
654
функцию эстетической иллюзии. В действительности же они были
весьма далеки от подлинного проникновения в жизнь, подменяя ее, а
то и жестко навязывая ей утопические проекты, типологически
родственные символистским.
И то, и другое течения вслед за Фр. Ницше воспринимали мир как
«эстетический феномен», или, по образному определению В.
Хлебникова, «как стихотворение»1, созданное поэтом-теургом, магом,
волшебником, пророком и т.д. Как писал тот же Хлебников, имея в виду
модернистскую живопись, «странная ломка миров живописных / Была
предтечею свободы, освобожденьем от цепей» (с. 164). Под «свободой» он
разумел революцию.
Указывая на это сходство, мы не говорим о конкретном наполнении
формулы «искусство — жизнетворчество». Повторяем: оно было
различным у представителей обоих течений. Помня об этом, мы вправе
отдать предпочтение символистам, ибо их эстетическая позиция была
свободна от воинствующего нигилизма футуристов. Однако сейчас для
нас важнее сконцентрировать внимание читателей на мысли о том, что
«жизнетворческий» пафос обеих эстетических школ в результате
оборачивался насилием над жизнью, так как, воспринимая ее в качестве
предмета для вдохновенного творчества художника и тем самым
отрывая ее от субстанциональных, бытийных корней, они пытались
подчинить действительность таким законам, мечтали о такой этике
человеческих отношений, которые никакого касательства к ней не имели
и не могли иметь.
Подчеркнем еще раз, что эстетический волюнтаризм не злой каприз
группы художников и теоретиков кубофутуризма, а также их прямых
наследников — представителей Левого фронта. Он следствие их
мировоззренческой позиции, по которой место упраздненного Бога заняла
человеческая личность. Однако одномерный, лишенный
трансцендентной высоты человек, создавая мир по своему образцу и подобию, с
роковой неизбежностью обесцвечивает его и в конце концов посягает и на
самого себя. Мы видели, сколь драматично завершилась борьба
органического и рационалистического начал жизни в творчестве Велимира
Хлебникова, какой трагический исход получило столкновение сурового
императива долга и велений сердца в судьбе Владимира Маяковского.
В свою очередь, присущий сознанию теоретиков и практиков
русского символизма религиозный модернизм (софиология Вл. Соловьева,
655
неохристианство «Третьего Завета» и т.д.), бесконечные в их статьях
и книгах «наведения мостов» между «верхней» и «нижней» бездной,
Дионисом и Христом, Христом и ницшевским Заратустрой
оборачивались — не побоимся этого выражения — онтологической
нецеломудренностью.
На примерах собственных исполненных драматизма судеб познав,
«чего стоит, — по известному высказыванию Блока, — смешение
искусства с жизнью» (V, 436), младосимволисты (каждый на свой лад и с
разной степенью остроты) пережили крушение теургической утопии,
заговорив о «границах искусства» и о реализме символистского творчества.
Надо ли еще раз упоминать, сколь трагичны для самих
художников и опасны для общественного сознания эти эстетические
эксперименты модернизма. Именно модернизма, ибо в основе эстетики
подлинно реалистического искусства лежит не пренебрежение к жизни,
а уважительное отношение к ее законам, стремление выявлять
присущие ей тенденции, а не заключать ее в границы самоновейшей жиз-
нетворческой схемы.
В этом, собственно говоря, и состоит урок русского модернизма.
Указывая на данное обстоятельство, мы, разумеется, не проводим мысль о
фатальной зависимости художников от эстетики литературной школы.
Чем крупнее поэт, тем острее проявляется у него потребность в
установлении тесных контактов с действительностью. В нашем случае это
видно на примере жизни того же Хлебникова и особенно ярко — Блока
и Маяковского. Упоминая об уроках символизма и кубофутуризма, мы
не допускаем также мысли о каких-то внешних ограничителях для
модернистского искусства. Однако в то же время оставляем за собой
право громко и отчетливо заявить о его тупиках и трагически
неразрешимых противоречиях, помня о том, что русскую критику всегда
отличала совестливость и нравственная определенность. Если этот
замысел нам удалось хотя бы в малой степени воплотить, мы считаем свою
задачу выполненной.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
И ПРИМЕЧАНИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
1 Белинский ВТ. Поли. собр. соч. М., 1955. Т. 7. С. 307.
2 Гоголь КВ. Собр. соч.: в 7 т. М., 1966—1967. Т. 5. С. 567.
3 Гоголь Н.В. Духовная проза. М, 1992. С. 134.
4 Там же. С. 264,265—266.
Изложенные здесь идеи высказаны в еще не законченной нашей
монографии «"...Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то
большое самопожертвованье..." Судьба Гоголя», главы которой
публиковались в журнале «Литература в школе» (2009. № 11. С. 2—7; 2009. № 12.
С. 2—7; 2010. № 1. С. 7—13; 2010. № 2. С. 2—6; 2010. № 9. С. 13—20; 2010.
№ 10. С. 6—13) и в «Роман-журнале XXI век» (2012. № 1. С. 66—92).
Корецкая КВ. Символизм // Русская литература рубежа веков
(1890-е — начало 1920-х годов). Кн. 1. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2001. С. 688.
Кстати, издание романа «Петербург» в серии «Литературные
памятники» (1981) потребовало огромного комментария, легшего позднее в основу
книги Л.К. Долгополова «Андрей Белый и его роман "Петербург"» (Л., 1988).
8 Блок А. Собр. соч.: в 8 т. М.; Л., 1960—1963. Т. 6. С. 178. В дальнейшем
все ссылки на это издание в тексте работы; римская цифра обозначает том,
арабская — страницу.
9 Новиков В.К Александр Блок. М., 2010. С. 344.
10 Там же.
В этом ряду назовем две монографии: Вайскопф М. Во весь логос:
религия Маяковского // Вайскопф М. Птица-тройка и колесница души: Работы
1978—2003 годов. М., 2003; Кацис Л. Владимир Маяковский. Поэт в
интеллектуальном контексте эпохи. М., 2004.
12 Брик Л. Пристрастные рассказы. Нижний Новгород, 2003.
Катанян В.В. (ред.). Лиля Брик, Маяковский и другие мужчины. М.,
1998. Катанян В.В. Лиля Брик: Жизнь. М., 2002; Ваксберг А.К Загадка и
магия Лили Брик. М., 2004. Ккшин Ф. Жизнеописание великой любовницы.
М., 2009; Ваксберг А.К Пожар сердца. Кого любила Лиля Брик. М., 2010.
В этом списке по праву могут занять место следующие две книги шведского
исследователя: Янгфельдт Б. (ред.). Любовь — это сердце всего. В.В. Мая-
657
ковский и Л.Ю. Брик: Переписка 1915—1930. М., 1991; Янгфельдт Б.
Ставка — жизнь. Владимир Маяковский и его круг. М., 2009.
Полонская В. Воспоминания о В. Маяковском. М., 1990.
Коваленко С. «Звездная дань»: Женщины в судьбе Маяковского. М., 2006.
Скорятин В.И. Тайна гибели Владимира Маяковского. Новая версия
трагических событий, основанная на последних находках в секретных
архивах. М., 1998; Сарнов Б.М. Маяковский. Самоубийство. М., 2006; Радзышев-
ский В.В. Между жизнью и смертью: Хроника последних дней Владимира
Маяковского. М., 2009. В этот список имеет смысл включить и упомянутую
выше книгу Б. Янгфельдта «Ставка — жизнь», а также издание «В том, что
умираю, не вините никого... Следственное дело В.В. Маяковского» (М., 2000).
Янгфельдт Б. Ставка — жизнь. Маяковский и его круг. С. 591.
18 Там же. С. 431.
Сарнов Б. Маяковский. Самоубийство. С. 347. Революция —
революцией, но о неразделенной любви Маяковский писал (кроме поэмы «Люблю»)
всегда. Грядущая любовь представлялась ему как чувство, присущее только
«новому» миру и «новому» человеку. Характерная для его творчества
трактовка темы любви помимо революционного имеет и ярко выраженное
футуристическое обличье.
Почтенные литературоведы почему-то забывают, что, исходя из
концепции «двух Маяковских», судил о поэте задолго до М. Цветаевой А. Ворон-
ский. Подлинное поэтическое кредо Маяковского, убеждал он, проявляется
в таких вещах, как «Облако в штанах», «Про это». Темы же о развитии
капитализма в России, о ста пятидесяти миллионах, о трудовом коллективе, не
говоря уже о явлениях, составляющих душу, идеалы социалистического
движения вперед, — все это, по мнению Воронского, чуждо поэту (См.: Ворон-
скшА.К. Искусство видеть мир. М., 1928. С.21). «Раздвоенность
сознания и чувства» в творчестве Маяковского — излюбленный тезис и
рапповской критики (См.: Лелевич Г. Рецензия на поэму «В.И. Ленин» // Печать
и революция. 1926. № 1. С. 235,236; Его же: Владимир Маяковский (беглые
заметки) // На посту. 1923. № 1. С. 138, 141). О «борьбе» Маяковского «с самим
собой», которую он якобы вел параллельно «борьбе за революцию» писал
в своей брошюре, изданной после смерти поэта, и В. Полонский
{Полонский В. О Маяковском. М.; Л., 1931. С. 61—62). Подлинным же создателем
этой концепции следует, пожалуй, считать A.B. Луначарского. За неимением
места мы не станем анализировать его точку зрения. Обратим внимание
читателя на важные для концепции критика формулы: «Маяковский частный»,
«Маяковский индивидуальный», с одной стороны, «Маяковский
общественный» — с другой. Творчество поэта в интерпретации Луначарского
оказывалось ареной борьбы этих различных сторон его сознания. В отличие же от
658
Воронского, «настоящим» был объявлен «Маяковский общественный», а не
«индивидуальный» (Луначарский A.B. Вл. Маяковский — новатор //
Луначарский A.B. Статьи о советской литературе. М., 1971. С. 438—439,423,427).
Сарнов Б. Маяковский. Самоубийство. С. 666.
Луначарский A.B. Вл. Маяковский — новатор. С. 443.
23 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 213.
24 Блок A.A. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965. С. 109. В дальнейшем
ссылки на это издание в тексте работы.
Часть первая
«ДЕРЗНОВЕННЫЙ НОВАТОР ЖИЗНИ ».
РЕЛИГИЯ ВЛ. СОЛОВЬЕВА
1 Белый А. Соч.: в 2 т. Т. I. Поэзия. Проза. М., 1990. С. 318, 319.
Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма: в 2 т. М., 1994. Т. 2.
С. 349.
3 Там же. С. 353, 356.
4 Там же. С. 473—474.
5 Там же. С. 475.
6 Белый А. Соч.: в 2 т. Т. I. С. 355.
7 Белый А. Собр. соч. Воспоминания о Блоке. М., 1995. С. 24, 25.
8 Соловьев B.C. Собр. соч.: в 10 т. 2-е изд. СПб., [Б. г.] Т. 2. С. 408.
9 Соловьев B.C. Соч.: в 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 615.
10 Там же.
Там же.
12 Там же. С. 616.
Там же.
Там же.
15 Там же. С. 619.
Там же. С. 625.
17 Там же. С. 508, 529.
18 Там же. С. 529.
19 Там же. С. 507.
20 Там же. С. 516, 517.
21 Там же. С. 529.
22 Там же. С. 529, 530.
23 Там же. С. 534.
24 Там же. С. 533.
25 Там же. С. 534.
659
26 Там же. С. 535.
27 гт.
Там же.
28 Там же. С. 534.
29 Там же. С. 547.
30 Там же. С. 538.
-ι I
Бердяев H.A. Самопознание (опыт философской автобиографии). М.,
1990. С. 75.
32 Соловьев B.C. Соч.: в 2 т. М, 1988. Т. 2. С. 531.
33 Соловьев B.C. Стихотворения. 7-е изд. М, 1921. С. XII—XIII.
34
Соловьев B.C. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С.94.
35 Там же. С. 91, 95.
36 Там же. С. 88.
37 Там же. С. 95.
38 Там же. С. 80.
39 Там же.
40 Там же. С. 77.
Там же. С. 125.
42 Там же. С. 126.
Мочульский К.В. Владимир Соловьев. Жизнь и учение // Мочулъский К.В.
Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 211, 180—181.
44 Соловьев СМ. Богословские и критические очерки. М., 1916. С. 191.
Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Репринтное изд. —
Вильнюс, 1991. С. 463—464.
Мочульский КВ. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. С. 69, 99.
Сходным образом упомянутое мистическое событие жизни философа
воспринимал и А.Ф. Лосев: «...София у Вл. Соловьева — это основной и центральный
образ, или идея, всего его философствования» (Лосев А.Ф. Владимир Соловьев
и его время. М, 1990. С. 210). Из младших современников философа
подобную точку зрения выражал и отстаивал Андрей Белый. «Соловьев, — писал
он, — всегда был под знаком ему светивших зорь. Из зари вышла
таинственная муза его мистической философии (она, как он называл ее). <...> Муза его
стала нормой его теории, но и нормой его жизни. Можно сказать, что
стремление к заре превратил Соловьев в долг, и раскрытию этого долга посвящены
восемь томов его сочинений, где тонкий критический анализ чередуется с
расплывчатой недоказательной метафизикой <...> Но самая эта метафизика
для Соловьева — только скромная вуаль над ему одному ведомой тайной:
эта тайна — голос заревой его музы» (Белый А. Критика. Эстетика. Теория
символизма: в 2 т. М., 1994. Т. И. С. 351).
Тенденция преуменьшать роль и значение метафизики Вл.
Соловьева по сравнению с его мистическим опытом, заметная в процитирован-
660
ных воспоминаниях А. Белого, четко прослеживается и в работах А. Блока
и С. Булгакова. «Поэма («Три свидания». — B.C.), написанная в конце
жизни, — отмечал А. Блок, — указывает, где начинается жизнь; отныне,
приступая к изучению творений Соловьева, мы должны не подниматься к ней, а
обратно: исходить из нее; только в свете этого образа (Соловьева-мистика. —
B.C.), ставшего ясным после того, как второй, производный
(Соловьев-философ. — B.C.), погашен смертью, — можно понять сущность учения и
личности Вл. Соловьева» (V, 452—453). Мысль С. Булгакова выражена еще
определеннее: «Теперь уже ясно, что Соловьев как мистик с особым, богатым
и своеобразным мистическим опытом значительнее, оригинальнее и
интереснее, нежели Соловьев-философ. В самом деле, чем был бы для нас автор
"Критики отвлеченных начал" без личной мистики Вечной Женственности,
без каких-то таинственных отношений с "Софией", о которых так глухо и
невнятно намекается философски в "Чтениях о богочеловечестве" или в "La
Russie et l'Eglise Universelle", но так пленительно и жизненно рассказывается
в стихотворениях?» (Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 1996. С. 53).
Справедливости ради, следует признать, что В.В. Зеньковский
противился «попытке выводить философию Соловьева из одного корня, из одной
исходной основы...». Определяя «центральные исходные идеи» философа, он
решительно подчеркивал, что «к таким центральным идеям не
принадлежала идея (или интуиция) Софии». Убежденность в правоте своей позиции
базировалась отчасти у В. Зеньковского на авторитете Е. Трубецкого,
который, по его словам, «оставляет нераскрытым внутреннее единство в
развитии творчества Соловьева, но и не искажает ничего, оставляя внутреннюю
разнородность в движении творчества Соловьева» (Зеньковский В.В.
История русской философии: в 2 т. Л., 1991. Т. И. Ч. 1. С. 18). Данное
утверждение не совсем корректно, потому что и у Е. Трубецкого мы находим
замечание относительно соловьевского «учения о "Софии"» как «имевшего для
него центральное значение» (Трубецкой E.H. Миросозерцание B.C.
Соловьева. М., 1995. Т. I. С. 60).
47 Вл.С. Соловьев: pro et contra. СПб., 2000. С. 95.
См. об этом: Соловьев СМ. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая
эволюция. М., 1997. С. 108—109.
49 Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1909. Т. П. С. 27.
50 Там же. С. 23.
Соловьев СМ. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. С 125.
Ср. также с замечанием А.Ф. Лосева, ознакомившегося с идеями «Софии» в
изложении С. Соловьева-младшего: «...мы можем теперь заглянуть в область
самой эмбриологии философского творчества Вл. Соловьева» (Лосев А.Ф.
Владимир Соловьев и его время. С. 224).
661
Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1911. Т. III. С. 87—88.
53 Там же. С. 88, 89.
54 Соловьев B.C. Поли. собр. соч. и писем: в 20 т. М, 2000. Т. 2. С. 176, 177.
О вселенской религии как религиозной формуле «нового христианства»
Вл. Соловьев говорил довольно часто, однако не всегда он называл ее
«религией вечного завета». О том, что это не было случайной обмолвкой
философа, свидетельствует следующее его признание В.В. Розанову в письме
к нему от 28 ноября 1892 г.: «Ввиду господствующей у нас, частию
фальшивой, а частию благоглупой и во всяком случае нехристианской, папо-
фобии, я считал и считаю нужным указывать на положительное значение
самим Христом положенного камня Церкви, но я никогда не принимал его
за саму Церковь, — фундамент не принимал за целое здание. Я также далек
от ограниченности латинской, как и от ограниченности византийской или
аугсбургской, или женевской. Исповедуемая мною религия Св. Духа шире и
вместе с тем содержательнее всех отдельных религий: она не есть ни сумма,
ни экстракт из них, как целый человек не есть ни сумма, ни экстракт своих
отдельных органов» (Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. III.
С. 43—44). Возможно, в сознании Вл. Соловьева и существовало какое-нибудь
различение религии вечного завета и Св. Духа, однако контексты
рассуждений о них весьма сходны.
Соловьев B.C. Поли. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 2. С. 75.
57 Там же.
58 Там же. С. 75, 77.
59 Там же. С. 77.
60 Там же.
61 Там же. С. 79.
62 Там же.
Там же. С. 81.
64 Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. III. С. 75.
В числе источников софиологии Вл. Соловьева следует назвать также
труды Парацельса, Сен-Мартена, Георга Гихтеля, Готтфрида Арнольда,
Джона Пордеджа. Так, в письме к графине С.А. Толстой от 27 апреля 1877 г.
Вл. Соловьев сообщает о своих занятиях в петербургской Публичной
библиотеке: «Нашел трех специалистов по Софии: Georg Gichtel, Gottfried Arnold
и John Pordage.
Все трое имели личный опыт, почти такой же, как мой, и это самое
интересное, но собственно в теософии все трое довольно слабы, следуют
Бэму, но ниже его. Я думаю, София возилась с ними больше за их
невинность, чем за что-нибудь другое. В результате настоящими людьми все-таки
оказываются только Парацельс, Бэм и Сведенборг, так что для меня оста-
662
ется поле очень широкое» (Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. П.
С. 200).
66 Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. С. 221—222.
67 Вот как изложен этот вопрос в позднейшей статье Вл. Соловьева
«Каббала», написанной для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона:
«Умозрительное учение каббалы исходит из идеи сокровенного,
неизреченного Божества, Которое, будучи выше всякого определения, как
ограничения, может быть названо только ен-соф, т.е. ничто или Бесконечное. Чтобы
дать в себе место конечному существованию, энсоф должен сам себя
ограничить. Отсюда "тайна стягиваний" (сод цимцум) — так называются в
каббале эти самоограничения или самоопределения абсолютного, дающие в
нем место мирам. Эти самоограничения не изменяют неизреченного в нем
самом, но дают ему возможность проявляться, т.е. быть и для другого.
Первоначальное основание или условие этого "другого", по образному
представлению каббалистов, есть то пустое место (в первый момент — только
точка), которое образуется внутри абсолютного от его самоограничения или
"стягивания". Благодаря этой пустоте, бесконечный свет энсофа получает
возможность "лучеиспускания" или эманации (так как есть куда эманиро-
вать). Свет этот не есть чувственный, а умопостигаемый, и его
первоначальные лучи суть основные формы или категории бытия — это 32 "пути
премудрости", именно 10 цифр или сфер (сефирот) и 22 буквы еврейского
алфавита (3 основных, 7 двойных, 12 простых), из которых каждой
соответствует особое имя Божие. Как посредством 10 цифр можно исчислить все,
что угодно, и 22 букв достаточно, чтобы написать всевозможные книги,
так неизреченное Божество посредством 32 путей открывает всю свою
бесконечность. Насколько можно понять, различие между сефиротами и
буквами имен Божиих в этом откровении состоит в том, что первые выражают
сущность Божества в "другом" или объективную эманацию (прямые лучи
божественного света), тогда как буквенные имена суть обусловленные этою
эманацией субъективные самоопределения Божества (лучи отраженные)»
(Соловьев B.C. Собр. соч.: в 10 т. 2-е изд. СПб., [Б. г.] Т.10. С. 340—341).
Соловьев B.C. Поли. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 2. С. 59.
69 Там же. С. 55.
70 Там же. С. 117.
Там же. С. 55.
72 Соловьев B.C. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. С. 246.
Соловьев B.C. Поли. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 2. С. 57.
74 Там же. С. 117,119, 121, 123.
75 Там же. С. 119.
76 Там же. С. 57.
663
77
См.: Соловьев СМ. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая
эволюция. С. 118—122.
7R
Соловьев B.C. Поли. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 2. С. 163.
79 Там же. С. 59, 57, 61.
80 Там же. С. 61—63.
81
82
83
84
85
Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. С. 220.
Соловьев B.C. Поли. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 2. С. 67, 153.
Трубецкой E.H. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т.1. С. 558, 580—581.
Соловьев B.C. Поли. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 2. С. 69.
Там же. С. 71, 155.
86 Там же. С. 73, 155.
87 Там же. С. 73.
Соловьев СМ. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. С. 124.
Соловьев B.C. Поли. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 2. С. 77.
90 Булгаков С.Н. Тихие думы. С. 66. Ср. в другом месте этой же работы:
«...у Вл. Соловьева София впервые (по сравнению с другими мистиками,
знавшими ее. — B.C.) является не только метафизической сущностью, но и
ипостасью, конкретною женскою личностью, которая может назначать
свидания, писать записочки (видевшие говорят, что в соловьевском архиве можно
найти таковые, написанные чрез "автоматическое" письмо) и вообще
"возиться" с своими адептами...» (Там же. С. 69).
Часть этого архива стала известна читающей публике благодаря
публикации Г. Чулкова. См.: Чулков Г.И. Автоматические записи Вл. Соловьева //
Вопр. философии. 1992. № 8. С. 123—132.
Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. II. С. 28.
92 Соловьев B.C. Соч.: в 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 709.
93 Там же. С. 710,711.
94 Там же. С. 712.
95 В качестве примера приведем следующую обширную цитату,
содержание которой весьма напоминает содержание рассмотренного выше диалога
Софии и философа о «вселенской религии»: «Истинному понятию религии
одинаково противны и темный фанатизм, держащийся за одно частное
откровение, за одну положительную форму и отрицающий все другие, и
отвлеченный рационализм, разрешающий всю суть религии в туман неопределенных
понятий и сливающий все религиозные формы в одну пустую, бессильную
и бесцветную общность. Религиозная истина, выходя из одного корня,
развилась в человечестве на многочисленные и многообразные ветви. Срубить
все эти ветви, оставить один голый, сухой и бесплодный ствол, который
ничего не стоит бросить в жертву полному атеизму, — вот задача
рационалистического очищения религии. Положительный же религиозный синтез,
664
истинная философия религии должна обнимать все содержание
религиозного развития, не исключая ни одного положительного элемента, и
единство религии искать в полноте, а не в безразличии» {Соловьев B.C. Соч.:
в 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 39).
96 Там же. С. 27.
97 Там же. С. 131.
98 Там же. С. 132, 133.
99 Там же. С. 134.
100 Там же. С. 135.
Там же. С. 136.
102 Там же. С. 131.
Соловьев B.C. Россия и вселенская Церковь. М., 1911. С. 327, 339.
104 Там же. С. 352,356, 339, 340.
105 Зеньковский В.В. История русской философии: в 2 т. Т. 2. Ч. 1. С. 34.
106 Соловьев B.C. Соч.: в 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 108—109.
Соловьев B.C. Россия и вселенская Церковь. С. 345, 346.
108 Там же. С. 346, 347.
109 В «России и вселенской Церкви» Вл. Соловьев привел еще один
аргумент в пользу религии Софии как религии Св. Духа. На сей раз аргумент
имеет отчетливо выраженную национальную специфику. Созидая
древнейшие храмы, посвященные Софии, пишет философ, русский народ дал этой
идее неведомое грекам, отождествлявшим Софию с Логосом, новое
выражение. Тесно связывая Софию с Христом и Богоматерью, русские
иконописцы, тем не менее, отличали ее от Спасителя и Девы Марии, изображая
Премудрость в виде отдельного Божественного существа. «Она была для
них, — уточняет философ, — небесной сущностью, скрытою под видимостью
низшего мира, лучезарным духом возрожденного человечества, ангелом
хранителем земли, грядущим и окончательным явлением Божества»
{Соловьев B.C. Россия и вселенская Церковь». С. 371). Та же идея с еще большим
пафосом выражена в его статье «Идея человечества у Августа Конта» (1898)
(См.: Соловьев B.C. Соч.: в 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 576—577). Глубокая
критика данной идеи в связи с софиологией Вл. Соловьева содержится в статье
митрополита Антония (Мельникова) «Из истории новгородской
иконографии» (см.: Богословские труды. М., 1986. Сб. 27. С. 61—80).
Среди работ, в той или иной степени касающихся вопроса о связях
Вл. Соловьева с гностицизмом, укажем на следующие: Лосев А.Ф.
Владимир Соловьев и его время; Антоний, митр. Из истории новгородской
иконографии; Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века.
М., 2001; она лее. Искушение диалектикой: пантеистические и гностические
мотивы у Гегеля и Вл. Соловьева // Вопр. философии. 1998. №4; Сарычев Я.В.
665
Религия Дмитрия Мережковского: «Неохристианская» доктрина и ее
художественное воплощение. Липецк, 2001; Слободнюк СЛ. Дьяволы
«серебряного» века (Древний гностицизм и русская литература 1890—1930 гг.). СПб.,
1998.; Козырев А.П. Смысл любви в философии Владимира Соловьева и
гностические параллели // Вопр. философии. 1995. № 7; Бонецкая Н.К. Русская
софиология и антропософия // Там же.
Философия гностицизма исследуется в работах: Болотов В.В.
Лекции по истории древней церкви: в 4 т. / Посмертн. изд. под ред. проф.
А. Бриллиантова. М., 1994. Т. II. История церкви в период до Константина
Великого; Поеное М.Э. История Христианской Церкви (до разделения
Церквей — 1054 г.). Киев, 1991. (Репринт, изд.: Брюссель, 1964); Древе А.
Происхождение христианства из гностицизма. М., 1930; Трофимова М.К.
Историко-философские вопросы гностицизма (Наг-Хаммади, И, сочинения
2,3,6,7). М., 1979; Сидоров А.И. Плотин и гностики // Вестн. древней истории.
1979. № 1.
Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. С. 244—250.
1 I 9
Вот что пишет философ по этому вопросу в своей статье «Гностицизм»,
предназначенной для Энциклопедического словаря: «В основе этого
религиозного движения лежит кажущееся примирение и воссоединение
Божества и мира, абсолютного и относительного бытия, бесконечного и
конечного. Гностицизм есть кажущееся спасение. Гностическое мировоззрение
выгодно отличается от всей дохристианской мудрости присутствием в нем
идеи определенного и единого целесообразного мирового процесса; но исход
этого процесса во всех гностических системах лишен положительного
содержания: он сводится, в сущности, к тому, что все остается на своем месте,
никто ничего не приобретает. <...> Ничто из низшего в мире не
возвышается, ничто темное не просветляется, плотское и душевное не
одухотворяется» {Соловьев B.C. Собр. соч.: в 10 т. 2-е изд. Т. 10. С. 324—325).
1 I \
Ахамот — еврейская форма множественного числа от слова «София»,
«испорченное из Га-Хакмот...» (Там же. С. 286).
114 Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. С. 247.
115 Соловьев B.C. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. С. 287.
Соловьев B.C. Поли. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 2. С. 172. На с. 109 своей
книги о B.C. Соловьеве СМ. Соловьев приводит этот чертеж, но никак не
комментирует его. Не делает этого и А.Ф. Лосев. Лишь у митрополита Антония
читаем: «Достаточно бросить беглый взгляд на... чертеж, где, в частности,
разделены ЛОГОС, ХРИСТОС (АДАМ КАДМОН) и ИИСУС, а "СОФИА"
является одним из посредующих звеньев между СВЯТЫМ ДУХОМ и
ИИСУСОМ, чтобы понять, в какой традиции развивается мысль Вл.
Соловьева...» (Антоний, митр. Из истории новгородской иконографии. С. 74—75).
666
117 Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. С. 247,250.
118 Соловьев B.C. Соч.: в 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 136.
Соловьев B.C. Россия и вселенская Церковь. С. 360, 361, 362.
120 Соловьев B.C. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 123, 124.
171
Трубецкой E.H. Владимир Соловьев и его дело // Сборник статей о
В. Соловьеве. Брюссель, 1994. С. 116 (Репринт, изд.: М., 1911). См. также:
Трубецкой E.H. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. I. С. 264,265—266, 287.
Возможно, именно это обстоятельство побудило М.М. Тареева
высказать по адресу Вл. Соловьева следующее резкое и не вполне справедливое
замечание: «Страшно подумать, что Соловьев, столь много писавший о
христианстве, ни одним словом не обнаружил чувство Христа. Игравший
словами "Логос", "Богочеловек", "София" с ловкостью виртуоза, он не ощущал
тайны исторического Христа. Логос-Богочеловек был для него отвлеченным
понятием, а не предметом живого созерцания» {Тареев М.М. B.C. Соловьев //
Тареев М.М. Основы христианства. 2-е изд. Сергиев Посад, 1908. Т. 4. С. 342).
191
Содержательную критику соловьевской философии любви см. в книге:
Трубецкой E.H. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. I. С. 580—599.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПРОБЛЕМА «ТВОРЧЕСТВА ЖИЗНИ»
В ЭСТЕТИКЕ МЛАДОСИМВОЛИЗМА
1 Блок A.A. Собр. соч.: в 8 т. М.; Л., 1960—1963. Т. 5. С. 68.
2 Брюсов В. О искусстве. М., 1899. С. 27.
3 Блок A.A. Собр. соч.: в 8 т. Т. 5. С. 537—538.
4 Белый А. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке //
Александр Блок в воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 206—207.
1
Глава I
Белый А. Арабески: книга статей. М., 1911. С. 210.
1910. С. 13.
Белый А. Символизм:
Там же.
4 Там же.
Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
С.
С.
С.
С.
С.
С.
156.
155.
169.
166-
172.
174.
-167.
книга статей.
M
667
9 Там же. С. 147.
10 Там же. С. 165.
Белый А. Луг зеленый: книга статей. М., 1910. С. 14.
Белый А. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке //
Александр Блок в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 1. С. 249.
13 Там же. С. 209.
Белый А. Символизм: книга статей. С. 11.
15 Там же. С. 17, 18.
16
Белый А. Арабески: книга статей. С. 220.
17 Там же. С. 221.
18 Там же. С. 224.
19 Там же. С. 225.
20 Там же. С. 226, 126, 226—227.
21 Там же. С. 107, 108.
22 Там же. С. 236,229,123.
23 Там же. С. 223.
24 Там же. С. 236.
25 Там же. С. 229.
26 Там же. С. 236.
27 Там же. С. 237.
Белый А. Стихотворения и поэмы (Б-ка поэта. Большая серия). М.; Л.,
1966. С. 85.
29 Там же. С. 117,84,131.
30 Там же. С. 137, 78.
31 Там же. С. 105.
32 Там же. С. 153.
33 Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания: в 3 кн. М., 1989—1990.
Кн. 1. С. 358.
Белый А. Арабески: книга статей. С. 122.
1С
Александр Блок: Новые материалы и исследования // Лит. наследство.
1980—1993. Т. 92, кн. 3. С. 233.
Белый А. Арабески: книга статей. С. 34.
Белый А. Воспоминания о Блоке // Белый А. Собр. соч. Воспоминания
о Блоке. М., 1995. С. 24.
Белый А. Стихотворения и поэмы (Б-ка поэта. Большая серия). С. 154.
39 Там же. С. 137.
Белый А. Арабески: книга статей. С. 127.
Белый А. Луг зеленый: книга статей. С. 227.
42 Там же. С. 226,227,228.
43 Там же. С. 230.
668
44 Τ-ι
Там же.
45 Там же.
46 гг
Там же.
47 гт.
Там же.
С. 231.
С. 231—232, 246.
С. 5.
С. 7.
Белый А. Арабески: книга статей. С. 237.
Белый А. Луг зеленый: книга статей. С. 246—
50 Там же.
С.244.
-247.
Белый А. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке //
Александр Блок в воспоминаниях современников: в 2 τ
52 Белый А. Арабески: книга статей. С. 276, 277.
53 Там же.
54 Там же.
55 Там же.
56 Там же.
57 Там же.
58 Там же.
59 Там же.
60 гг
Там же.
61 гт.
Там же.
С. 92.
С. 91—92, 93.
С. 263.
С. 93,94,95, 96,91.
С. 359, 362.
С. 94—95.
С. 96.
С. 277.
С. 99.
·. Т. 1. С. 208.
62 Долгополое Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. С. 95.
63 Белый А. Арабески: книга статей. С. 99.
Белый А. Луг зеленый: книга статей. С. 23.
65 Белый А. Арабески: книга статей. С. 96, 283,284.
66 Там же. С. 20.
67 Там же. С. 21.
68 Там же. С. 31.
69 Там же. С. 22.
70 Там же. С. 32.
Там же. С. 33, 32.
72 Там же. С. 33.
73 Там же. С. 35.
74 Там же. С. 35, 36.
75 Там же. С. 40.
76 Там же. С. 36.
Эллис (Кобылинский Л.Л.) Русские символисты: Константин Бальмонт.
Валерий Брюсов. Андрей Белый. М, 1910. С. 253—254.
78
Белый А. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке //
Александр Блок в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 1. С. 260.
79
Белый А. Арабески: книга статей. С. 133.
80 Там же. С. 93.
669
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
ПО
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Там же.
С. 62.
Белый А. Луг зеленый:
книга статей.
Белый А. Арабески: книга статей.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
С. 63.
С. 20.
С. 84.
С. 85, 86, 87.
С. 64, 83.
С. 65.
С. 65, 66.
С. 66.
С. 66, 67.
С. 67—68, 78.
С. 83.
С. 76.
С. 69.
С. 78.
С. 84.
С. 89.
Белый А. Луг зеленый:
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
С. 58.
С. 53—54.
С. 55, 56.
С. 56.
С. 57, 58.
С. 59.
С. 79.
С. 79, 81, 86.
С. 61.
С. 62.
С. 69.
С.
книга статей.
Белый А. Арабески: книга статей.
Белый А. Луг зеленый:
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
С. 72—73.
С. 86.
С. 88.
С. 88, 89.
С. 89,90.
С. 91—92.
С. 86.
64.
С. 51—52.
С. 92.
книга статей.
С. 71.
670
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
Там же. С. 21, 92.
Белый А. Арабески: книга статей. С. 262.
Белый А. Символизм: книга статей. С. 224.
Белый А. Арабески: книга статей. С. 262,268,273.
Белый А. Символизм: книга статей. С. 87, 94, 95.
Там же. С. 11.
Там же. С. 51.
Там же. С. 111,112,102.
Там же. С. 50.
Белый А. Арабески: книга статей. С. 161.
Там же. С. 168.
Там же. С. 209.
Там же. С. 172.
Там же. С. 210.
Там же. С. 105, 31.
Там же. С. 173, 174.
Глава II
1
Иванов В. По звездам: Опыты философские, эстетические и
критические. СПб., 1909. С. 238.
Там же. С. 285,238,239,240.
Там же. С. 100.
Там же. С. 52.
Там же. С. 90.
Там же. С. 107.
Там же. С. 109.
Там же. С. 108.
Там же. С. ПО, 115.
Там же. С. 127, 101, 115.
Там же. С. 117, 119.
Там же. С. 121.
Там же. С. 117.
Там же. С. 128—129.
Там же. С. 184—185.
Там же. С. 131, 129.
Там же. С. 131,233—234.
Там же. С. 21—24,28.
Там же. С. 26—27.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
671
™ Там же. С. 30—31, 32.
21 Там же. С. 31.
22 Там же. С. 18, 5, 6, 15.
23 Там же. С. 4.
24 Там же. С. 12.
25 Там же. С. 17, 14, 7, 19.
26 Там же. С. 244.
27 Иванов В. Борозды и межи: Опыты эстетические и критические. М.,
1916. С. 139.
Иванов В. По звездам: Опыты философские, эстетические и
критические. С. 36, 38, 37.
29 Там же. С. 39,40.
30 Там же. С. 40.
31 Там же. С. 54—55.
Там же. С. 55.
33 Там же. С. 202.
34 Там же. С. 55.
35 Там же. С. 59.
36 Там же. С. 56.
37 Там же. С. 58.
38 Там же. С. 57—59, 60.
39 Там же. С. 205—206.
40 Иванов В. Борозды и межи: Опыты эстетические и критические. С. 140.
Иванов В. По звездам: Опыты философские, эстетические и
критические. С. 85.
42 Там же. С. 207.
43 Там же. С. 211.
44 Там же. С. 208.
45 Там же. С. 218—219.
46 Белый А. Символизм и современное русское искусство // Весы. 1908.
№ 10. С. 47.
47 Иванов В. По звездам: Опыты философские, эстетические и
критические. С. 250,253.
48 Там же. С. 250.
49 Там же. С. 249,255,222,223.
50 Там же. С. 264—265.
51 Там же. С. 273.
c'y
Белый А. Арабески: книга статей. С. 280—281.
53 Иванов В. По звездам: Опыты философские, эстетические и
критические. С. 249.
672
54 Там же. С. 276.
55 Там же. С. 305.
56 Эллис (Кобылинский Л.Л.) Русские символисты: Константин Бальмонт.
Валерий Брюсов. Андрей Белый. С. 17, 16.
57 Там же. С. 172, 170, 171.
58 Там же. С. 27.
59 Белый А. Арабески: книга статей. С. 313—314.
60 Там же. С. 315.
Иванов В. По звездам: Опыты философские, эстетические и
критические. С. 276—277.
62 Там же. С. 278,281.
63 Там же. С. 289.
64 Там же. С. 287.
65 Там же. С. 286,285,286.
66 Белый А. Арабески: книга статей. С. 317—318.
67 Иванов В. О границах искусства // Труды и дни. 1914. № 7. С. 86.
68 Там же. С. 89.
69 Там же. С. 94, 90.
70 Там же. С. 91, 95.
71 Там же. С. 100—101.
72 Там же. С. 100, 103, 102.
73 Там же. С. 102, 105, 104.
74 Иванов В. Борозды и межи: Опыты эстетические и критические. С. 162.
75 Там же. С. 162, 160.
Часть третья
«ТВОРЧЕСТВО ЖИЗНИ»
В СУДЬБАХ СИМВОЛИСТОВ
Глава I
1 Белый А. Начало века. Воспоминания: в 3 кн. М., 1990. Кн. 2. С. 192—193.
2 Гиппиус З.Н. Собр. соч. Живые лица: Воспоминания. Стихотворения.
М., 2002. Т. 6. С. 13, 14.
3 Гофман М. Книга о русских поэтах последнего десятилетия. Пб.; М.,
1907. С. 210.
4 Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма: в 2 т. М, 1994. Т. 2.
С. 372, 387.
673
5 Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма: в 2 т. Т. 1. С. 326, 327.
6 Мережковский Д.С. Собр. соч.: в 4 т. М., 1990. Т. 1. С. 44, 46—47.
7 Там же. С. 47.
Там же.
9 Мережковский Д.С Собр. соч. Грядущий Хам. М., 2004. С. 214.
10 Там же. С. 214—215.
11 Там же. С. 164—165.
12 Там же. С. 215.
«Боря, Боря, мальчик мой любимый, единственный...» Письма
Д.С. Мережковского Андрею Белому / вступ. ст., прим. и коммент. А. Холи-
кова // Вопросы литературы. 2006. Январь—февраль. С. 177.
14 Мережковский Д.С. Собр. соч. Грядущий Хам. С. 243.
15 Там же. С. 218—219.
16 Там же. С. 219—220.
17 Там же. С. 220,221.
18 Там же. С. 221—222.
19 Там же. С. 222—223.
20 Там же. С. 223,222.
Там же. С. 226.
22 Там же. С. 226—227.
23 Там же. С. 248—249.
Гиппиус З.Н. Собр. соч. Живые лица: Воспоминания.
Стихотворения. Т. 6. С. 270.
25 Там же. С. 273.
26 Мережковский Д.С. Поли. собр. соч. М., 1914. Т. 1. С. VI.
27 Мережковский Д.С. Собр. соч. Грядущий Хам. С. 249.
28 Там же.
29
Там же. С. 250,252.
30 Там же. С. 250,252—253.
Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М.,
1995. С. 136.
32 Там же. С. 107.
33 Там же. С. 140.
34 Мережковский Д.С. Собр. соч. Грядущий Хам. С. 194.
Там же.
36 Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. С. 150.
37 Бенуа А.Н. Мои воспоминания: в 5 кн. М., 1993. Кн. 4, 5. С. 46—47 (Реп-
принт. воспроизв. текста изд. 1990 г.).
Мережковский Д.С. Собр. соч. Грядущий Хам. С. 204—205.
39 Бенуа А.Н. Мои воспоминания: в 5 кн. Кн. 4, 5. С. 292—293.
674
40
Гиппиус З.Н. Собр. соч. Дневники: 1893—1919. М., 2003. Т. 8. С. 85—86.
44
45
46
47
48
49
50
Там же. С. 70—71.
42 Там же. С. 71, 72—73.
43 Бенуа А.Н. Мои воспоминания: в 5 кн. Кн. 4, 5. С. 47—49.
Русский Эрос, или Философия любви в России. М, 1991. С. 194, 186.
Там же. С. 175—176.
Там же. С. 176, 177.
Там же. С. 177—178.
Там же. С. 174—175, 178.
Там же. С. 179.
Там же. С. 179—180.
51 Там же. С. 182.
52 Там же. С. 183.
53 Гиппиус З.Н. Собр. соч. Дневники: 1893—1919. Т. 8. С. 73.
54 Там же.
55 Там же. С. 73—74.
56 Там же. С. 27, 29—30, 31, 32, 33, 34, 39,42,44,46—47, 52, 52—53, 53—54,
54—56, 58.
57 Пахмусс ТА. Страницы из прошлого. Переписка З.Н. Гиппиус, Д.В. Фило-
софова и близких к ним в «Главном» // Памятники культуры. Новые
открытия: Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1997. М., 1998. С. 82.
58 Гиппиус З.Н. Собр. соч. Дневники: 1893—1919. Т. 8. С. 65, 66.
59 Там же. С. 56.
60 Там же.
61 Pachmuss Т. Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of
Z. Hippius. München: Finh, 1972. С 109—110.
62
63
Гиппиус З.Н. Собр. соч. Дневники: 1893—1919. Т. 8. С. 55, 76—77, 78—79.
Там же. С. 76, 88, 75.
64 Злобин В.А. Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания.
Статьи. Стихотворения. М., 2004. С. 312—313.
65 Из "дневников" Т.Н. Гиппиус 1906—1908 годов / вступ. ст., подгот. текста
и прим. М. Павловой // Эротизм без берегов: сб. ст. и мат-лов. М., 2004. С. 413.
66 Там же.
67
68
Гиппиус З.Н. Собр. соч. Дневники: 1893—1919. Т. 8. С. 31.
Эротизм без берегов: сб. ст. и мат-лов. С. 400—401.
69 Pachmuss Т. Intellect and Ideas in Action... С. 76—77.
70 Там же. С. 91.
71 Там же. С. 91, 92.
Цит. по: Злобин В.А. Тяжелая душа. С. 334—335.
73 Pachmuss Т. Intellect and Ideas in Action... С. 68—79.
675
74 Там же. С. 83.
75 Пахмусс Т.А. Страницы из прошлого. Переписка З.Н. Гиппиус,
Д.В. Философова и близких к ним в «Главном» // Памятники культуры.
Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1997.
С. 79.
76 Там же. С. 82—83.
77 Там же. С. 78.
78 Гиппиус З.Н. Собр. соч. Дневники: 1893—1919. Т. 8. С. ПО.
79 Из "дневников" Т.Н. Гиппиус 1906—1908 годов // Эротизм без берегов:
сб. ст. и мат-лов. С. 451—452.
80 Там же. С. 414,451,409—410,434.
Там же. С. 436.
82 Pachmuss Т. Intellect and Ideas in Action... С. 106.
83 Из "дневников" Т.Н. Гиппиус 1906—1908 годов // Эротизм без берегов:
сб. ст. и мат-лов. С. 436.
Там же. С. 427—428.
Там же. С. 408,409—410,413,414.
Там же. С. 415.
Там же. С. 415,418,420.
Там же. С. 420.
Там же. С. 415.
Там же. С. 421.
Там же. С. 421—422.
Там же. С. 421.
Pachmuss Т. Intellect and Ideas in Action... С. 656—661.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
10
Глава II
Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 53.
Платон. Соч.: в 3 т. М., 1970. Т. 2. С. 181, 183.
Там же. С. 138, 137.
Там же. С. 143.
Там же. С. 142.
Соловьев B.C. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 71—72.
Там же. С. 88,121.
Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 50.
Александр Блок. Письма к жене // Лит. наследство. М, 1978. Т. 89. С. 62.
Блок Л.Д. И были и небылицы о Блоке и о себе // Две любви, две судьбы.
Воспоминания о Блоке и Белом. М., 2000. С. 32.
676
11 Там же. С. 33—34. Надо сказать, в наблюдательности и «остром» языке
Л.Д. Блок не откажешь. Нечто подобное еще мальчиком замечал в поэте и
Г.П. Блок: «Чаще всего... приходилось видеть его декламирующим. Помню в
его исполнении "Сумасшедшего" Апухтина и Гамлетовский монолог "Быть
или не быть". Это было не чтение, а именно декламация — традиционно-
актерская, с жестами и взрывами голоса. "Сумасшедшего" он произносил
сидя, Гамлета — стоя, непременно в дверях. Заключительные слова
"Офелия, о, нимфа" говорил, поднося руку к полузакрытым глазам. <...>
Мне вспоминается — он стоит, прислонясь к роялю, с папиросой в руке,
а мой двоюродный брат показывает мне на него и говорит:
— Посмотри, как Саша картинно курит» (Блок Г.П. Герои
«Возмездия» // Русский современник. 1924. Кн. 3. С. 180).
12 Блок Л Д. И были и небылицы о Блоке и о себе. С. 35.
Там же.
Там же.
Там же.
16 Там же. С. 36.
17 Там же. С. 37.
18
19
Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 50, 51.
Блок Л.Д. И были и небылицы о Блоке и о себе. С. 37—38.
20 Там же. С. 47.
21 Там же. С. 42,47, 50.
22 Имеется в виду семья богатого художника-коллекционера М.П.
Боткина, с дочерями которого Л.Д. Блок дружила.
23 Блок Л.Д. И были и небылицы о Блоке и о себе. С. 50—51.
24 Там же. С. 53—54. Слова в круглых скобках вычеркнуты Л.Д. Блок. Знак
(...)* означает пропуск в тексте воспоминаний.
25 Там же. С. 47.
26 Там же. С. 47—48.
27 Там же. С. 48—49.
28 Там же. С. 54.
29 Там же. С. 55.
30 Там же. С. 56.
Там же. С. 57.
32 Там же. С. 56, 57.
33 Там же. С. 58.
34 Там же. С. 60—61.
35 Там же. С. 64.
36 Александр Блок. Письма к жене. С. 48—49.
37 Там же. С. 44.
677
Блок Л.Д. И были и небылицы о Блоке и о себе. С. 66, 72, 73.
39 Там же. С. 73.
40 Александр Блок. Письма к жене. С. 39—40.
41 Там же. С. 45,47, 52.
42 Ср.: «Главный недостаток всякой пантеистической системы
заключается в невозможности для нее построить нравственную систему. Добро и
зло оказываются одинаково атрибутами Божества, и злу приписана
божественная природа; для нравственных предписаний с пантеистической точки
зрения трудно найти почву» (Энциклопедический словарь. СПб., 1897.
Т. ХХП\ С. 705).
43 Блок имеет в виду проанализированную нами неоконченную свою
статью о русской поэзии.
44 Александр Блок. Новые материалы и исследования // Лит. наследство.
М., 1980. Т. 92, кн. 1. С. 327, 329—330.
45 Там же. С. 326, 327.
46 Там же. С. 327.
47 Он прочтет ее летом 1902 г. В его дневнике под датой 28 июля есть
запись: «Читаю талантливейшего господина Мережковского» (VII, 53).
48 Здесь явно различим мотив григорьевской «Кометы». Стихи А.
Григорьева Блок внимательно читал тем же летом 1902 г., когда началась его
переписка с 3. Гиппиус. В записных книжках есть целый ряд помет к этим
стихам, причем некоторые из замечаний Блока носят очень «личный»
характер. Например: «Странной и часто тяжелой зрелостью веет от его стихов.
Иногда загораются маяки, редко. И болотные огни он видел»;
«Непременная у Григорьева вера в демонов...»; «"Гордость" еще Байронова»; «Гетевская
"Перемена" удивительна. Великий язычник»; «<"Призрак"> Рассудочно не
все» (ЗК, 28,29, 30).
49 Александр Блок. Письма к жене. С. 97, 59, 81, 97, 107.
50 Там же. С. 92.
51 Там же. С. 96.
52 Там же. С. 89.
53 Несколько раньше в том же самом, только в еще более категоричной
форме, он признается и М.С. Соловьеву Обращаясь к брату покойного
философа с просьбой поручить ему сбор юмористических стихотворений Вл.
Соловьева, Блок мотивирует данное предложение следующим образом: «Этим
делом я бы лично себе принес духовное очарование и, может быть,
одоление той, которая тревожит меня больше чем когда-нибудь, вознеслась
горделиво и кощунственно. Перед ее лицом я еще дрогну и зябну, потому что
не знаю ее, а Другая посещает редко и мимолетно» (Александр Блок. Новые
материалы исследования // Лит. наследство. Т. 92, кн. 1. С. 410).
678
«Ta» — апокалиптическая «вавилонская блудница» или, на языке поэта,
Астарта, «Другая» — тоже апокалиптическая «жена, облеченная в солнце»
(в произведениях символистов — вечная женственность).
54 Александр Блок. Письма к жене. С. 115.
55 Там же. С. 115—116, 118, 126, 136, 152, 143, 188.
56 Там же. С. 88.
57 Там же. С. 89, 83, 80, 85.
58 Там же. С. 86.
59 Там же. С. 78, 94.
60 Там же. С. 75.
61
62
Там же. С. 76, 90, 94, 103.
Блок Л.Д. И были и небылицы о Блоке и о себе. С. 76, 82—83.
63 Там же. С. 79.
64
Александр Блок. Письма к жене. С. ПО, 111.
65 Там же. С. 127.
66 Там же. С. 108.
67 Там же. С. 139—140.
68 Там же. С. 138, 140.
69 Там же. С. 166.
70 Там же. С. 160, 162.
71 Там же. С. 169.
72 Там же. С. 147, 176—177.
Там же. С. 176.
74 Там же. С. 184.
75 Там же. С. 152.
76 Там же. С. 164.
77 Там же. С. 160—162.
78 Там же. С. 163.
79 Там же. С. 117,115,155.
80 Там же. С. 115.
81 Там же. С. 136, 152.
82 Там же. С. 178,179, 180.
83 Там же. С. 179.
84 См. об этом: Письма Александра Блока к родным. Л., 1927. С. 86—87.
Of
Александр Блок. Письма к жене. С. 172.
86 Там же. С. 171.
87 Там же.
88 Там же. С. 164.
Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903—1919. М., 2001.
С. 64—65.
679
90 Там же. С. 65—66.
Там же. С. 71, 68.
92 Там же. С. 65, 70.
93 Александр Блок. Письма к жене. С. 186—188.
94 Александр Блок. Новые материалы и исследования // Лит. наследство.
Т. 92, кн. 1. С. 335.
95 Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903—1919. С. 69.
96 О пародийности творчества Блока по отношению к Св. Писанию вообще
и пародийном искажении христианского восприятия образа Богоматери в
«Стихах о Прекрасной Даме» в частности см. статью «О Блоке»,
приписываемую о. П. Флоренскому (Литературная учеба. 1990. № 6. С. 93—100). Споры
об авторстве данной публикации излагаются в книге: Александр Блок: pro et
contra / сост., вступ. ст., примеч. Н.Ю. Грякаловой. СПб., 2004. С. 690.
97 Блок А. Десять поэтических книг. М., 1980. С. 30.
98 Там же. С. 31.
99 Там же. С. 28.
100 Там же. С. 34.
101 Там же. С. 20.
102 Там же. С. 19, 32.
103 ПерцовИИ Ранний Блок. М., 1922. С. 10—11.
104 Александр Блок. Письма к жене. С. 115.
Блок А. Десять поэтических книг. С. 31.
106 Там же. С. 19,40,41.
107 Там же. С. 24.
108 Александр Блок. Новые материалы и исследования // Лит. наследство.
М., 1982. Т. 92, кн. 3. С. 198.
109
Блок А. Десять поэтических книг. С. 21.
110 Александр Блок. Новые материалы и исследования // Лит. наследство.
92, кн. 1. С. 459.
111
112
Соловьев B.C. Поли. собр. соч. и писем: в 20 т. М., 2000. Т. И. С. 59.
Блок А. Десять поэтических книг. С. 25.
113 Там же. С. 27.
114 Там же. С. 18.
115 Там же. С. 18,22,25,26,27, 30.
Исходя из этой посылки, трудно, например, согласиться с мыслью одного
из первых читателей Блока П.П. Перцова, что «"Балаганчик" так же, как
и вся социальная сторона Блока, наметилась и развернулась уже позже; в
эпоху "Прекрасной Дамы" даже трудно было их предвидеть» (Перцов П.П.
Ранний Блок. С. 24). Гораздо прозорливее оказалась З.Н. Гиппиус, в своей
рецензии на «Стихи о Прекрасной Даме» заметившая: «В пропасть упадет,
680
не долетит до религии рыцарь Прекрасной Дамы: крылья слишком слабы»
(Х[Гиппиус З.Щ Литературные заметки. Стихи о Прекрасной Даме // Новый
путь. 1904. № 12. С. 276).
117 Белый А. Луг зеленый: книга статей. М., 1910. С. 244, 245.
1 1 о
Блок А. Десять поэтических книг. С. 44,42.
119 Там же. С. 42,43.
120 Там же. С. 45,47.
121 Там же. С. 44.
122 Там же. С. 51.
123 Там же. С. 46—47.
124 Там же. С. 44—45.
125 Там же. С. 50—51.
126 Там же. С. 48—49.
127 Там же. С. 49.
128 Там же. С. 50.
129 Там же. С. 50, 52.
130 Там же. С. 41.
131 Один из черновых вариантов заключительной строфы стихотворения
«Мне гадалка с морщинистым ликом...» звучал следующим образом:
И бессильный, в отчаяньи диком,
Я шептал: «Ты моя. Ты моя.
Ты — гадалка с морщинистым ликом,
Роковая цыганка моя» (I, 626).
Блок А. Десять поэтических книг. С. 56, 57.
Там же. С. 24.
Там же. С. 57.
Там же. С. 55.
Там же. С. 54.
Там же. С. 70, 66, 65.
Там же. С. 62, 63.
Там же. С. 64, 69.
Там же. С. 58.
Там же. С. 68, 69, 67.
Там же. С. 66, 68,72, 65.
Там же. С. 72.
Там же. С. 59.
Там же. С. 66.
Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903—1919. С. 89, 68—69.
Там же. С. 89.
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
681
Там же. С. 69.
См. об этом: Максимов Д.Е. Материалы из библиотеки Ал. Блока
(К вопросу об Ал. Блоке и Вл. Соловьеве) // Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та.
Факультет яз. и лит. 1958. Т. 184. Вып. 6. С. 351—386.
Часть четвертая
КУБОФУТУРИЗМ И ЭСТЕТИКА
«ЖИЗНЕСТРОЕНИЯ»
См., например: Barooshian V.D. Russian Cubo-futurism. 1910—1930.
A study in Avant-Gardism. Sec. Print. The Hague-Paris, 1976; Markov V.
Russian Futurism: a History. Berkeley, 1968. (Русский перевод: Марков В.Ф.
История русского футуризма. СПб., 2000); Jangfeldt В. Mayakovskij and futurism.
1917—1921. Stockholm, 1976.
Назовем следующие работы: Альфонсов В.Н. Нам слово нужно для
жизни: В поэтическом мире Маяковского. Л., 1983; Григорьев В.П.
Грамматика идиостиля: В. Хлебников. М., 1983; Дуганов Р.В. Велимир
Хлебников. Природа творчества. М., 1990; Иванов-Разумник Р.В. «Мистерия» или
«Буфф»? (О футуризме) // Иванов-Разумник Р.В. Творчество и критика.
Статьи критические. 1908—1922. Пб., 1922; Карабчиевский Ю.А. Воскресение
Маяковского. М., 1990; Михайлов A.A. Мир Маяковского. Взгляд из 80-х. М.,
1990; Харджиев К, Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970.
В этом ряду заслуживает особого внимания книга: Харджиев Н.И.
Статьи об авангарде: в 2 т. М., 1997. Имеет смысл указать на исследование: Кру-
санов A.B. Русский авангард: 1907—1932: (Исторический обзор): в 3 т. Т. 1.
Боевое десятилетие. Кн. I и П. М., 2010.
К числу наиболее ценных переизданий следует отнести работу Б.
Лившица. «Полутораглазый стрелец» (М., 1991).
5 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 213.
Глава I
Иванов В.И. Борозды и межи: Опыты эстетические и критические. М.,
1916. С. 158.
2 Там же. С. 134—135.
3 Там же. С. 140.
4 Садок судей. П. СПб., 1913 (без указ. стр.)
5 Трое. СПб., 1913. С. 24.
682
6 Там же. С. 35.
7 Так называлась брошюра А. Крученых, И. Клюна, К. Малевича,
изданная в 1916 г., и статья А. Крученых 1914 года.
8 Трое. С. 33—34.
9 Там же. С. 32.
10 Каменский В. Путь энтузиаста. М., 1931. С. 196.
11 Пощечина общественному вкусу: В защиту свободного искусства: Стихи,
проза, статьи. М., 1913. <Б. указ. стр.>.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. М., 1933. С. 213.
13 Каменский В. Путь энтузиаста. С. 118.
14 Бодуэн де Куртенэ Р. «Галопом вперед!» (Футуризм) // Вестник
знания. 1914. № 5. С. 360.
15 Брюсов В. Новые течения в русской поэзии: Футуристы // Русская мысль.
1913. Кн. 3. С. 126.
16 Цит. по: Тастевен Г. Футуризм: (На пути к новому символизму). С
приложением перевода главных футуристических манифестов Маринетти. М.,
1914. С. 3.
17 Там же. С. 4—5.
18 Там же. С. 6, 7.
19 Там же. С. 14, 7.
20 Там же. С. 14.
21 Там же. С. 9.
22 Там же. С. 7—8.
23 «Сходство футуристов с Ницше и зависимость от него не подлежит
сомнению...», — писал, например, А. Закржевский в книге «Рыцари
безумия (Футуристы)» (Киев, 1914. С. 38 и ел.). Об этом же см: Тастевен Г.
Футуризм: (На пути к новому символизму). С. 20.
24 Там же. С. 12, 14, 5, 26. Свою технизированную утопию Маринетти
развил в романе «Мафарка-футурист». «В этом курьезном романе, — писал,
например, Г. Тастевен, — составляющем футуристический "pendant" к Зара-
тустре, излагается мистическая вера в преображение плоти, проповедуется
создание механического летающего человека.
"Во имя человеческой гордости, перед которой мы преклоняемся, —
говорит автор в предисловии, — я возвещаю вам, что близок час, когда люди с
широкими висками и с металлическим подбородком будут рождаться
чудесным образом, одним усилием воли великанов с верными меткими жестами.
Я объявляю вам, что ум человека является нефункционирующим
яичником, мы оплодотворяем его в первый раз» {Тастевен Г. Футуризм: (На пути
к новому символизму). С. 57).
Цит. по: Тастевен Г. Футуризм: (На пути к новому символизму). С. 7,12.
683
Брюсов В. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии // Печать и
революция. 1922. № 7. С. 53.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. С. 218.
28 Там же. С. 220.
Бодуэн де Куртенэ Р. «Галопом вперед!» (Футуризм). С. 360.
30 Лундберг Е. О футуризме // Русская мысль. 1914. № 3. С. 22.
31 Эти отклики собрал Д. Бурлюк в своей статье «Позорный столб
российской критики (Материал для истории русских литературных нравов)».
См.: Футуристы. Первый журнал русских футуристов. М., 1914. № 1—2.
С. 104—131.
См., например: «...пора перестать отделываться от всех этих течений
шутками и остротами» (Глаголь С. (Голоушев С.С.)). Вырождение или
возрождение? (Футуризм, кубизм и пр. модные течения современной
живописи) // Жатва. М., 1914. Кн. 5. С. 331). Или: «...стремление или претензия
футуризма обхватить, подчинить своей воле не только искусство, но и всю
культуру, должно бы побуждать к ознакомлению с их корнями и
взглядами. Ведь во всяком случае это одна из самых широких идейных
попыток текущего времени» (Бодуэн де Куртенэ Р. «Галопом вперед!»
(Футуризм). С. 353).
Брюсов В. Новые течения в русской поэзии: III. Эклектики // Русская
мысль. 1913. Кн. VIII. С. 78.
34 Там же. С. 79.
35 Брюсов В. Здравого смысла тартарары. Диалог о футуризме // Русская
мысль. 1914. Кн. 3. С. 84. Паг. 2-я.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. С. 228.
Пощечина общественному вкусу: В защиту свободного искусства.
<Б. указ. стр.>.
38 Брюсов В. Здравого смысла тартарары. Диалог о футуризме. С. 83.
Шершеневич В. Футуризм без маски: Компилятивная интродукция. М.,
1913. С. 73.
40 Там же. С. 66—68, 68.
Чуковский К.И. Футуристы // Чуковский К. Лица и маски. СПб., 1914. С. 125.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. С. 154—155.
Чуковский К.И. Футуристы // Чуковский К. Лица и маски. С. 131. Восемь
лет спустя была предпринята еще одна попытка обнаружения «национальных
корней» русского футуризма. См.: Шапирштейн-Лерс Я.Е. (Эльсберг Я.Е.).
Общественный смысл русского литературного футуризма:
(Неонародничество русской литературы XX века). М., 1922. С. 52, 58.
Чуковский К.И. Футуристы // Чуковский К. Лица и маски. С. 132.
684
45 Чуковский K.M. Футуристы. Пг., 1922. С. 50.
46 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. С. 282.
47 Крученых А. Апокалипсис в русской литературе. Книга 122-я. М., 1923.
С. 18. В монографии сохраняются присущие творчеству поэтов и теоретиков
футуризма особенности грамматики, пунктуации и орфографии.
48 Вознесенский A.A. Прорабы духа. М., 1984. С. 20.
49 Крученых Α., Хлебников В. Слово как таковое. <Пб., 1913>. С. 14.
50 Крученых А. Апокалипсис в русской литературе. С. 3.
51 Иванов В.И. Борозды и межи: Опыты эстетические и критические.
С. 163.
52 Крученых А. Апокалипсис в русской литературе. С. 3.
53 Там же. С. 4, 5.
54 Там же. С. 6, 8.
55 Там же. С. 10,11.
56 Там же. С. 12.
57 Там же. С. 12—13.
58 Там же. С. 15, 14.
59 Там же. С. 16.
60 Там же. С. 12.
61 Там же. С. 19,20.
62 Там же. С. 21,22,23.
63 Там же. С. 24.
64 Там же.
65 Там же. С. 26.
66 Там же. С. 28,29.
67 Там же. С. 29, 31.
68 Там же. С. 32.
69 Первая и последняя страницы изданной литографическим способом
книги А. Крученых «Взорваль».
70 Крученых А. Апокалипсис в русской литературе. С. 18.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. С. 84.
ТУ
Наша оговорка вызвана тем обстоятельством, что на этот счет имеются
и другие суждения. Так, Б. Лившиц называл прозу Н. Бурлюка «прелестной»
и сокрушался, что она не оценена по достоинству {Лившиц Б.
Полутораглазый стрелец. С. 129). Нет никаких гарантий, что, скажем, завтра это чисто
вкусовое суждение кто-то выскажет (увы, уже высказывали) относительно
поэзии Д. Бурлюка или А. Крученых. Между тем сами футуристы были более
«объективны» в своих мнениях относительно «творческого лица» того же
Н. Бурлюка. Например, в «Пощечине общественному вкусу» Н. Бурлюку
685
приписаны статьи «Кубизм» и «Фактура». Но это опечатка. На эти работы
как на свои указывал Д. Бурлюк (См.: БурлюкД. Галдящие «Бенуа» и новое
русское национальное искусство. СПб., 1913. С. 19). Или другой пример.
В сборнике «Требник троих» (М., 1913), в котором обозначены фамилии:
Хлебников, Маяковский, Бурлюк, помимо Давида, выступил и Николай.
Вполне возможно, что авторы решили поиздеваться над читателем, но сколь
многозначительна с интересующей нас точки зрения эта форма
эпатирования!
73 Затычка. Сборник: Рисунки, стихи. М, 1913. С. 12.
74 Весеннее контрагентство муз. Сборник / под ред. Д. Бурлюка и С. Вер-
меля. М., 1915. С. 25,26,23,26.
75 Футуристы. Первый журнал русских футуристов. С. 75.
Пощечина общественному вкусу. С. 69.
77 _
Дохлая луна: Сборник единственных футуристов мира!! поэтов «Гилея».
Стихи, проза, рисунки, офорты. М., 1913. С. 34.
78 Там же. С. 41.
79 Садок судей. П. С. 56.
80 Ср., например: «Горе тем, что отказываются от глаз своих, ибо
художники сегодняшнего дня — вещие очи человечества» (Пощечина
общественному вкусу. С. 95).
81 БурлюкД. Галдящие «Бенуа» и новое русское национальное искусство.
С. 12—13.
82 Весеннее контрагентство муз. С. 103, 105—106.
83 БурлюкД. Галдящие «Бенуа» и новое русское национальное искусство.
С. 7.
Пощечина общественному вкусу. В защиту свободного искусства.
С. 97,100.
85 Там же. С. 101.
86 Футуристы. Первый журнал русских футуристов. С. 83.
87
Статья написана при участии Д. Бурлюка.
Пощечина общественному вкусу. В защиту свободного искусства. С. 101.
89 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. С. 29.
90 Иванов В. По звездам. Опыты философские, эстетические и
критические. СПб., 1909. С. 196.
91
92
93
Футуристы. Рыкающий Парнас. СПб., 1914. С. 20.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. С. 44,43.
Хлебников В. Творения. М., 1986. С. 163.
94 Там же. С. 164.
95
Тот же Б. Лившиц вспоминает (описываются события первой
половины 1911 г.): «Заговорили о стихах. Бурлюк совершенно не был знаком с
686
французской поэзией: он только смутно слышал о Бодлере, Верлене, быть
может, о Маллармэ.
Достав из чемодана томик Рембо... я стал читать Давиду любимые вещи...
Бурлюк был поражен. <...> Мы тут же условились с Давидом, что за время
моего пребывания в Чернянке я постараюсь приобщить его... к
сокровищнице французской поэзии». Мемуарист рассказывает, как сразу же после
этого чтения Д. Бурлюк написал стихотворение, в котором «нерастворен-
ными частицами плавали до неузнаваемости искаженные обломки образов
Рембо» (Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. С. 25,26). Думаем, что все было
гораздо сложнее, чем здесь описано. Бурлюк оказался внутренне
подготовленным к этой встрече. И все же данная ситуация весьма показательна для
его творческого самоопределения.
96 Дохлая луна: Сборник единственных футуристов мира!! поэтов «Гилея».
С. 114.
97 Требник троих: Сборник стихов и рисунков. М., 1913. С. 86.
98 Садок судей. <СПб., 1910>. С. 84.
99 Футуристы. Рыкающий Парнас. С. 19.
100 Садок судей. С. 85, 88.
Затычка. Сборник. С. 2.
102 Футуристы. Первый журнал русских футуристов. С. 38.
Весеннее контрагентство муз. С. 94.
104 Футуристы. Рыкающий Парнас. С. 39.
105 Футуристы. Первый журнал русских футуристов. С. 45—46.
106 Каменский В. Путь энтузиаста. С. 182.
Футуристы. Рыкающий Парнас. С. 32.
108 Там же. С. 24.
109 Весеннее контрагентство муз. С. 95.
110 Требник троих. С. 74.
111 Там же. С. 79.
112 Садок судей. И. С. 53.
Там же. С. 52.
114 Дохлая луна. С. 99.
115 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. С. 40.
116 Лившиц Б. Компролитический монумент // Футуристы. Первый
журнал русских футуристов. С. 103.
117
118
119
120
Трое. С. 32.
Дохлая луна. С. 5, 6.
Весеннее контрагентство муз. С. 102.
Футуристы. Первый журнал русских футуристов. С. 82, 84. Ср. с
высказыванием А. Крученых:
687
«До нас не было словесного искусства.
были жалкие попытки рабской мысли воссоздать свой быт, философию
и психологию (что называлось романами, повестями, поэмами и пр.), были
стишки для всякого домашнего и семейного употребления, но
искусства слова
не было» (Трое. С. 23).
121 Так называлась брошюра А. Крученых и В. Хлебникова (М., 1913).
122 Трое. С. 24.
123 Футуристы. Первый журнал русских футуристов. С. 81, 84.
124 Там же. С. 81, 82, 83.
125 Там же. С. 83—84.
19ή
Крученых Α., Хлебников В. Слово как таковое. С. 3.
127 Футуристы. Первый журнал русских футуристов. С. 39.
128 Садок судей. П. С. 52.
129 Футуристы. Первый журнал русских футуристов. С. 39.
130 Молоко кобылиц. Рисунки. Стихи. Проза. М., 1914. С. 31.
131 Футуристы. Первый журнал русских футуристов. С. 38.
132 Маяковский В.В. Поли. собр. соч.: в 13 т. М., 1955—1961. Т. 1. С. 21.
В дальнейшем все ссылки на это издание в тексте работы; римская цифра
указывает том, арабская — страницу.
133 Крученых А. Апокалипсис в русской литературе. С. 35, 36, 37.
134 Дохлая луна. С. 11.
135 Футуристы. Первый журнал русских футуристов. С. 102.
136 Ср. с позднейшим высказыванием Б. Лившица об А. Крученых,
который, по его мнению, доводил «до абсурда своим легкомысленным
максимализмом (вот уже кому, поистине, терять было нечего!) самые крайние наши
положения» (Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. С. 133).
Хлебников В. Творения. С. 165.
138 Крученых А. Апокалипсис в русской литературе. С. 44, 45, 43.
139 Там же. С. 33.
140 Там же. С. 32.
Крученых Α., Хлебников В. Слово как таковое. С. 10.
142 Там же. С. 9.
143 Крученых А. Апокалипсис в русской литературе. С. 34.
Крученых Α., Хлебников В. Слово как таковое. С. 11.
145 Крученых А. Апокалипсис в русской литературе. С. 46.
146 Крученых А. Взорваль. Б. м. [1913] (без указ. стр.).
147 Крученых А. Апокалипсис в русской литературе. С. 46.
148 Там же. С. 44. Об эмоциональной, в том числе цветовой, окраске
звуков человеческой речи говорили многие футуристы. Все эти высказывания
688
носили чисто вкусовой характер. Приводим в качестве примера
поэтическую «версию» Д. Бурлюка:
Звуки на а широки и просторны,
Звуки на и высоки и проворны,
Звуки на у, как пустая труба,
Звуки на о, как округлость горба,
Звуки на е, как приплюснутость мель,
Гласных семейство смеясь просмотрел.
(Весеннее контрагентство муз. С. 95—96).
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
Дохлая луна. С. 17.
Крученых А. Апокалипсис в русской литературе. С. 46,44, 38.
Крученых Α., Хлебников В. Слово как таковое. С. 11.
Андреев Л.Н. Поли. собр. соч.: в 8 т. СПб., 1913. Т. 4. С. 254, 255.
Боровский В.В. Статьи о русской литературе. М., 1986. С. 162.
Андреев Л.Н. Поли. собр. соч.: в 8 т. Т. 2. С. 171.
Там же. С. 171—172.
Трое. С. 35.
Затычка. С. 4.
Ржаное слово: Революционная хрестоматия футуристов. Пг., 1918. С. 31.
159 Там же. С. 22.
Глава II
1
В своей книге «Путь энтузиаста» В. Каменский приводит следующие
строки из письма Д. Бурлюка: «Прибыли и записались новые борцы — Володя
Маяковский и А. Крученых. Эти два очень надежные. Особливо
Маяковский <...> Дитя природы, как ты и мы все» (Каменский В. Путь энтузиаста.
М., 1931. С. 165).
2 Садок судей. <СПб., 1910>. С. 9.
3 Там же. С. 10—11.
4 Каменский В. Землянка. СПб., 1911. С. 9—11.
5 Там же. С. 5.
6 Белый А. Арабески: книга статей. М., 1911. С. 353—356.
7 Там же. С. 357.
8 Футуристы. Первый журнал русских футуристов. М., 1914. № 1—2. С. 28.
Каменский В. Землянка. С. 112, 111.
10 Там же. С. 142.
11 Там же. С. 24—25.
689
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Там же. С. 129.
Там же. С. 135, 136, 137.
Там же. С. 143.
Там же. С. 145.
Каменский В. Путь энтузиаста. С. 161, 164.
Каменский В. Землянка. С. 31.
Там же. С. 54, 72—73.
Там же. С. 148, 73, 103.
Каменский В. Путь энтузиаста. С. 89—90.
Каменский В. Землянка. С. 83—84.
Там же. С. 154.
Там же. С. 167.
Каменский В. Звучаль веснеянки. Стихи. М., 1918. С. 17.
Там же. С. 35, 25.
Там же. С. 83, 129.
Там же. С. 8, 34.
Там же. С. 133.
Там же. С. 138.
Каменский В. Путь энтузиаста. С. 146.
Каменский В. Звучаль веснеянки. С. 28.
Там же. С. 158.
Каменский В. Путь энтузиаста. С. 208.
Каменский В. Звучаль веснеянки. С. 37.
Там же. С. 4.
Там же.
Там же. С. 69.
Там же. С. 35, 36, 135.
Там же. С. 87.
Там же. С. 80, 87, 50, 56, 151, 144.
Там же. С. 34.
Там же. С. 86.
Там же. С. 132.
Молоко кобылиц. Рисунки. Стихи. Проза. М., 1914. С. 86.
Каменский В. Звучаль веснеянки. С. 148.
Переписка Горького с Груздевым. М., 1966. С. 227.
Блок A.A. Собр. соч.: в 8 т. М.; Л., 1960—1963. Т. 7. С. 232.
Футуристы. Рыкающий Парнас. СПб., <1914>. С. 72.
Футуристы. Первый журнал русских футуристов. С. 130.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1933. С. 130, 133.
Соловьев С. Crurifragium. M., 1908. С. X.
690
52 Садок судей. С. 57.
Здесь мы имеем дело со своего рода литературной мистификацией: у
Гуро никогда не было сына.
54 Гуро Е. Осенний сон: Пьеса в 4 картинах. СПб., 1912. С. 44.
55 Там же. С. 47.
56 Футуристы. Рыкающий Парнас. С. 75.
57 Гуро Е. Осенний сон. С. 57.
58
59
60
61
Садок судей. С. 72.
Садок судей. П. СПб., 1913. С. 88.
Гуро Е. Небесные верблюжата. СПб., 1914. С. 37.
Гуро Е. Шарманка. Пьесы. Стихи. Проза. СПб., 1914. С. 159—160.
62 Там же. С. 160.
63 Трое. С. 3.
64 Там же. С. 3—4.
65 Садок судей. И. С. 94.
66 Там же. С. 95.
67 Ср.: ...Смельчаком унеслась
в небо вершина
И стала недоступно
и строго
на краю,
От ее присутствия — небо — выше;
или: «...вершины острые в небо смельчаками умчались...»; «...вершины, что
привыкли ходить в небе, — слушать сказания созвездий и баюкать облака...»
(Садок судей. П. С. 68, 85, 98); «...у забора восходят молодые лиственницы,
такие прозрачные, — что в них стремленье, мечта, смелость» (Гуро Е.
Небесные верблюжата. С. 104) и т.д.
68 Гуро Е. Небесные верблюжата. С. 55.
69 Там же. С. 70.
70 Там же. С. 120, 121.
«...Доля Елены Гуро, — вспоминает В. Каменский, поверивший в
мистификацию, — в том была, что потеряла мать единственного сына-младенца
и не могла смириться с горем.
Елена Гуро не поверила смерти сына, а вообразила, внушила, что жив
сын, продолжает жить около матери. <...>
И больше — пишет с него портреты, одевая сына по степени возраста»
(Каменский В. Путь энтузиаста. С. 122).
72 Гуро Е. Небесные верблюжата. С. 120.
73 Садок судей. И. С. 92.
74 Гуро Е. Небесные верблюжата. С. 22.
691
75 Садок судей. П. С. 85.
Гуро Е. Небесные верблюжата. С. 6.
77 Там же. С. 17.
78 Там же. С. 18.
79 Садок судей. П. С. 85, 70.
ЯП
Футуристы. Рыкающий Парнас. С. 76.
Садок судей. И. С. 96. Ср.: «Липнул к следкам песок на протаявшей
дорожке. Желтой, желтой. В крошечной будущей булочной, будущей здесь
дачной жизни, в двух окошонках два картонных петуха раскрашены ярко.
Смотрят на дырчатый снег. На похиленных вершинах протянулась музыка
Рахманинова. Мы, ведь мы?! Взявшись за руки! Здесь будущее — настоящее.
Летом зазвучит, заблестит. Ждут две вывески: булочной и аптеки.
Отразилось небо. Они уже в будущем тоже несутся. Они — стихи. Стихи
Крученых, пахнут новым лаком. Мы это — мы!» (там же).
Гуро Е. Небесные верблюжата. С. 125.
Глава III
1 Хлебников В. Творения. М., 1986. С. 61. В дальнейшем все ссылки на это
издание, кроме особо оговоренных случаев, даются в тексте работы.
2 Последние четыре слова отсутствовали в первой редакции поэмы,
опубликованной в «Садке судей» (см.: Садок судей. <СПб., 1910>. С. 96—102).
Ср. с «фантазией» позднего В. Хлебникова: в его «Лебедии будущего»
«врачи предписывали (людям. — B.C.) лечение духа простым созерцанием
глаз зверей...» (с. 615).
4 Дохлая луна: Сборник единственных футуристов мира!! поэтов «Гилея».
Стихи, проза, рисунки, офорты. М., 1913. С. 76—77, 78—79.
5 Там же. С. 79.
6 Пушкин A.C. Поли. собр. соч.: в 10 т. 3-е изд. М., 1962—1965. Т. 3. С. 214.
7 Разрядка наша. — B.C. Ср.: «"Мы боги", — мрачно жрец сказал...»
8 Хлебников В. Собр. произв.: в 5 т. Л., 1928—1933. Т. 5. С. 291.
Это событие уподоблено «похищению пламени» (с. 603), т.е. подвигу
Прометея.
10 Молоко кобылиц. Рисунки. Стихи. Проза. М., 1914. С. 4.
Там же.
1 9
Соловьев B.C. Стихотворения и шуточные пьесы. (Б-ка поэта. Большая
серия). Л., 1974. С. 81.
1 ч
«Туран — географический термин, не имеющий точно
установленного значения. Употребляется главным образом в противоположение
термину Иран: Иран — страна арийцев, Туран — страна тюркских народов»
692
(см.: Белый А. Петербург: Роман в восьми главах с прологом и эпилогом.
М., 1981. С. 670).
14 Там же. С. 236,237.
15 Хлебников В. Доски судьбы. Листы 1—3. [М.], 1922. С. 21.
Лейтес А. Хлебников — каким он был... // Новый мир. 1973. № 1.
С. 226—227.
17 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., <1933>. С. 48,47.
18 Садок судей. II. СПб., 1913 [Без указ. стр.].
19 Белый А. Символизм: книга статей. М., 1910. С. 436.
20 Там же. С. 434.
Там же. С. 435.
22
23
Там же. С. 435,437.
Ср. со словами Зангези:
Бьюсь я устало в окно человека.
Вечные числа стучатся оттуда
Призывом на родину, число зовут к числам вернуться (с. 477).
24 Хлебников В. Доски судьбы. С. 40.
25 Там же. СИ.
26 Там же. С. 12.
27 Там же. С. 3.
28 Там же. С. 4,4—5.
29 Там же. С. 6.
30 Там же. СИ.
Там же. С. 7.
32 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 235.
Там же. С. 232,235.
34 В числе своих заслуг перед человечеством, о которых люди якобы
«прочтут» на его «могильной плите», юный В. Хлебников называл и
следующую: «...он полагал, что благу человеческого рода соответствует
введение в людском обиходе чего-то подобного установлению рабочих пчел
в пчелином улье, и не раз высказывал, что видит в идее рабочей пчелы
идеал свой лично» (с. 577). Конечно, нельзя воспринимать эти слова
буквально, но они все же весьма показательны для обсуждаемой нами
проблемы.
35 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 232.
36 Вторая часть поэмы была напечатана В. Хлебниковым в книге
«Творения» (М., 1914) под заглавием «Восстание вещей».
37 Брошюра завершена в год окончания работы над «Гибелью Атлантиды».
Ср. высказывание В. Хлебникова о «заслугах» футуризма перед
человечеством: «Чтобы оставить по себе памятник и чтобы люди не сказали: они
693
сгинули как обры, мы <основали> государство времени (новая каменная баба
степей времени; она грубо высечена, но она крепка)...» (с. 606).
39 Персонаж В. Хлебникова — родной брат Федьки Каторжного, героя
романа Ф. Достоевского «Бесы». Впрочем, Федька допустил все же
меньшее кощунство; он ограбил икону Богоматери и посадил за разбитое стекло
живую мышь.
Развивая эту мысль, В. Хлебников писал в 1918 г.: «Крылатый
творец (человек будущего. — B.C.) твердо шел к общине не только людей, но и
вообще живых существ земного шара» (с. 615).
41 Федоров Н.Ф. Соч. М., 1982. С. 79, 78, 86—87.
42 Аверинцев С. Язычество // Философ, энциклопедия. М, 1970. Т. 5. С. 611.
Глава IV
В этом отношении очень характерна монография: Перцов В.О.
Маяковский. Жизнь и творчество: в 3 т. М., 1976.
См., например: Карабчиевский Ю.А. Воскресение Маяковского. М.,
1990.
3 Футуристы. Рыкающий Парнас. СПб., 1914. С. 75.
4 Чуковский К.И. Футуристы. Пг., 1922. С. 81—82.
5 См.: Москва. 1965. № 4. С. 174.
Теория монодрамы изложена Н. Евреиновым в предисловии к своей
монодраме «Представление любви» (см.: Студия импрессионистов. СПб.,
1910. Кн. 1. С. 51—56).
7 Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970.
С. 207.
о
Ницше Фр. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. СПб.,
1911. С. 119—120.
Цит. по: Брик Л. Из воспоминаний о стихах Маяковского // Знамя. 1941.
№ 4. С. 232.
В этой связи симптоматична перекличка образов «окровавленной... души»
и «окровавленного сердца лоскута», которым герой Маяковского во
вступлении в поэму обещал «дразнить» (какова цена!) ожиревшего буржуа.
Жреческая миссия поэта-будетлянина в творчестве Хлебникова лишена
подобного накала страсти и трагического напряжения чувства.
11 Ницше Фр. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 8.
12 Там же. С. 300, 303.
13 Там же. С. 24,25.
14 Там же. С. 298.
694
15 Любопытны в этом отношении изменения в настроении героя,
одинаковые для обоих произведений: «весело» — «скучно» во «Владимире
Маяковском», «светлое весело» — «ничего не будет» в «Облаке в штанах».
16 Воронский А.К. В. Маяковский // Красная новь. 1925. № 2. С. 249—250.
17
Идея конца футуризма как особой группы могла быть высказана
Маяковским по аналогии с идеей «Будетлян» об отмирании личного,
«обособленного... героизма» в условиях современной войны. Сама же идея
растворения личности поэта — носителя идеала — в народной массе, когда данный
идеал овладевает ею, возникла впервые еще в Прологе трагедии
«Владимир Маяковский».
18 Так, в словах Пролога, в которых герой трагедии «Владимир
Маяковский» рисует красоту «новых душ»: «...у вас / вырастут губы / для огромных
поцелуев / и язык, / родной всем народам», уже заключен прообраз пятой
части «Войны и мира».
Черемин Г.С. Путь Маяковского к Октябрю. М., 1975. С. 127.
20 Кстати сказать, почти все публикации этого альманаха пропитаны
предощущением близящейся новой эры человечества. Кроме
стихотворения Маяковского «Вам, которые в тылу» и статьи «Капля дегтя»,
открывавших альманах, в нем были опубликованы «Предложения» В.
Хлебникова, в которых предлагалось считать 1915 год годом новой эры и в связи
с этим делались отдельные «предписания» относительно будущей азбуки,
жилищ, одежды и т.д.
*У 1
Машбиц-Bepoe И.М. Во весь голос. О поэмах Маяковского. Куйбышев,
1973. С. 166.
Любопытно, что отмеченный факт литературоведы обходят или
молчанием, или же выделяют только одну из сторон стихотворения.
«Основной его образ (стихотворения «Вам!» — B.C.), — пишет, например,
И.М. Машбиц-Веров, — возникает уже в "Гимне обеду"... образ сытых на
фоне войны. Острый гротеск — "желудок в панаме"... подчеркивает
беспредельную тупость этих господ. Человекообразные беспробудно спят, ничуть
"не тревожась картиной крови и тем, что пожаром мир опоясан"» (Машбиц-
Веров И.М. Во весь голос. О поэмах Маяковского. С. 173).
По сути дела, здесь мы сталкиваемся с одним из вариантов образа
поэта как «последнего глаза» человечества, который впервые возник в
цикле «Я».
24 Анализируя финальные сцены поэмы Маяковского, мы не случайно
упомянули это слово, послужившее названием для утопической поэмы
В. Хлебникова. Между этими произведениями множество точек
соприкосновения. Скажем об одной из них. Так, общество будущего, о
котором страстно мечтали оба поэта, по их единодушному мнению, должно
695
быть построено на основе лада, любви. «Черти не мелом, а любовью того,
что будет, чертежи», — восклицал Хлебников. «Людостан»
Хлебникова — это мир,
Где Волга скажет «лю»,
Янцекиянг промолвит «блю»,
И Миссисипи скажет «весь»,
Старик Дунай промолвит «мир»,
И воды Ганга скажут «я»... (с. 285).
Попутно следует отметить, что утопизм Хлебникова оказал на
творчество Маяковского данного периода большое влияние, и это нашло
непосредственное отражение в поэме «Война и мир».
Выделенные нами слова — смысловой аналог поэмы «Облако в штанах».
26 Арватов Б. Литература и быт // Звезда. 1925. № 6. С. 313.
27 Чужак К Через головы критиков. Чита, 1922. С. 39—40.
Чужак К Плюсы и минусы (Радость и опасения «по поводу») // Леф.
1923. № 3. С. 31—32.
29 Чужак К К задачам дня (статья дискуссионная) // Леф. 1923. № 2. С. 152.
30 Третьяков С. Леф и НЭП // Леф. 1923. № 2. С. 77.
31 Леф. 1923. № 1. С. 9.
32 Арватов Б. Литература и быт. С. 312.
33 Чужак К К диалектике искусства. От реализма до искусства, как одной из
производственных форм. Теоретически-полемические статьи. Чита, 1921. С. 89.
34 Там же. С. 89—90,91, 107. Более определенно эту же мысль высказывал
С. Третьяков: «...не создание новых картин, стихов и повестей, а производство
нового человека с использованием искусства как одного из орудий этого
производства, было компасом футуризма от дней его младенчества». По его
мнению, футуризм противопоставил «метафизике, символизму и мистике —
утилитарность своих построений. Строение реальных и полезных вещей» (Леф.
1923. № 1. С. 195—196). В этих высказываниях практически нет
преувеличений. Футуристы (их точку зрения разделял и Маяковский), подходя к слову как
мифу, воспринимали свое искусство в качестве метода пересоздания жизни.
35 Арватов Б. Искусство и производство: сборник статей. М., 1926. С.
108. Аналогичное рассуждение мы находим и у Третьякова: «Рядом с
человеком науки работник искусства должен стать психо-инженером,
психоконструктором» (Третьяков С. Откуда и куда (Перспективы футуризма) //
Леф. 1923. № 1. С. 202).
36 Чужак К К задачам дня (статья дискуссионная). С. 145—146.
Чужак К Под знаком жизнестроения (Опыт осознания искусства
дня) // Леф. 1923. № 1. С. 38.
696
Чужак К Кривое зеркало. Леф в преломлении «Лефа» // Октябрь мысли.
1924. № 2. С. 44.
Третьяков С. Откуда и куда (Перспективы футуризма). С. 201.
Чужак Н. Вместо заключительного слова (О новом, о живом, о
гармоническом) // Новый Леф. 1928. № 4. С. 18.
Третьяков С. С Новым годом! С «Новым Лефом»! // Новый Леф. 1928.
№ 1. С. 2.
42 Эта мысль получила свое логическое завершение у Б. Арватова,
создавшего «модель» «бюрократического аппарата», способного решать
практические задачи: «...пролетарские художественные коллективы должны войти в
качестве сотрудников в коллективы, в объединения того производства,
материал которого оформляет данный вид искусства. Так, например, агит-театр
входит как орган в агитационный аппарат; театр массовых и других
бытовых действий связывается с институтами физической культуры, с
коммунальными организациями и т.д.; поэты входят в журнально-газетные
объединения и через них связываются с лингвистическими обществами; худож-
ники-индустриалисты работают по заданиям и в организационной системе
промышленных центров и т.д.
При такой структуре художественного труда отдельные художники
становятся сотрудниками инженеров, ученых, администраторов, организуя
общий продукт, руководствуясь не личными побуждениями, а
объективными потребностями общественного производства, выполняя задания класса
в лице его организационных центров» (Арватов Б. Искусство и
производство: сборник статей. С. 104).
Третьяков С. Откуда и куда (Перспективы футуризма). С. 201.
44 Маяковский В., Брик О. Наша словесная работа // Леф. 1923. № 1. С. 41.
Третьяков С. С Новым годом! С «Новым Лефом»! С. 1.
46 Брик О. Разгром Фадеева // Новый Леф. 1928. № 5. С. 4—5.
Третьяков С. Новый Лев Толстой // Новый Леф. 1927. № 1. С. 37.
Вставки последней редакции поэмы преследуют, на наш взгляд, две
цели: они делают переживания героя более «личными», интимными и в то
же время расширяют интимные рамки драмы, укрупняют ее. Любовная
ситуация благодаря этому приобретает диалектическую объемность: чем
интимнее переживания героя, чем исповедальнее повествование о них, тем более
реализованным оказывается социальный смысл его драмы.
49 Начало поэмы «Про это» действительно напоминает события первой
главы «Облака в штанах». Обе поэмы открываются сценами «дуэли» героя
с его любимой, чему предшествуют ситуации ожидания и любовного
томления. Обе сцены изобилуют экспрессивными деталями: там — зарево пожара,
здесь — землетрясение, а затем — наводнение и т.д.
697
30 Уайльд О. Соч.: в 2 т. М., 1960. Т. 1. С. 380.
51 Там же. С. 397.
52 Там же. С. 25.
53 Там же. С. 395—396.
54 Да и «удалось бы»? Не случайна интонация этой фразы: и восклицание
и вопрос одновременно. Объективно данная ситуация, как, впрочем, и вся
поэма, заострена против оптимистического пафоса поэмы «Люблю». Там
герою Маяковского казалось, что все вопросы решены, что ему удалось
достичь искомого счастья и блаженства. В ту пору он еще не знал, что это
ему «одному удалось», что мир в целом еще не созрел для любви.
Самоуспокоенность же на «земле обезлюбленной», как показано в поэме «Про
это», чрезвычайно опасна, ибо грозит изменой идеалу.
55 Имеется в виду некоторая последовательность в развитии событий:
дуэль с любимой, путешествие к Человеку из-за 7-ми лет, возвращение в
рождественскую Москву, московские встречи и т.д.
56 На литературном посту. 1927. № 13. С. 33.
57 Чужак К К задачам дня (статья дискуссионная). С. 149.
58 Леф. 1923. № 1. С. 9.
59 Давыдов Ю. Блок и Маяковский: некоторые социально-эстетические
аспекты проблемы «искусство и революция» // Вопросы эстетики. М., 1971.
Вып. 9. С. 51.
60 Во второй редакции поэмы были строки, совершенно открыто
трактовавшие тему любви именно в этом плане. Приведем их:
Песня головой голодною гуди
Женских глаз исплавай озерца
Все плотины будней выверни в груди
Сердце вырви
бейся сердцем о сердца
Еще и френчами
и крахмальными сорочками
к сердцам добираться слов ножу
Я
еще
заноз строчками
толстокожее иззаножу (IV, 404).
Нетрудно восстановить генеалогию этих строк. В них отчетливо звучат
мотивы ранних произведений Маяковского (ср.: «выверни в груди» — «а себя,
как я, вывернуть не можете...» и т.д.), а также поэмы «Люблю». Возможны в
данном случае и параллели с «Финской мелодией» Е. Гуро. Обнаженность
698
смысла этих строк, очевидно, не устроила Маяковского и послужила
причиной их удаления из последней редакции поэмы.
61 Такое понимание смысла ленинской деятельности сродни концепции
искусства, развернутой в стихотворении «Поэт рабочий».
Брик О. Ленин в стихах Маяковского // Лит. критик. 1934. № 4. С. 111.
63 Коган П.С. О Гладкове и «Цементе» // На литературном посту. 1926.
№ 1. С. 43.
64 Лежнев А. Две поэмы. В. Маяковский. Хорошо. Н. Асеев. Семен Про-
скаков // Перевал. М.; Л. 1928. № 6. С. 353, 356.
65 Лежнев А. Дело о трупе (О «Новом Лефе») II Лежнев А. Современники.
Литературно-критические очерки. М., 1927. С. 9.
66 Лежнев А. Русская литература за 10 лет // Лежнев Α., Горбов Д.
Литература революционного десятилетия. 1917—1927. Харьков, 1929. С. 25—26.
Воронский А.К. В. Маяковский. С. 276.
68 Авербах Л. Памяти Маяковского. М.; Л., 1931. С. 24.
69 Беккер М. Хорошо ли «Хорошо!»? // На литературном посту. 1928.
№ 2. С. 24.
70 Зелинский К. Идти ли нам с Маяковским? // На литературном посту.
1928. № 5. С. 52, 53—54.
71
Например, в типично агитационном стихотворении «За что боролись?»,
рассказывая о случаях «упадка... воли» в сердцах революционной молодежи,
(«Революция не удалась... / За что боролись?..»), поэт, желая подбодрить
своего воображаемого собеседника, обращается к нему со следующими
проникновенными словами:
И горюю я,
как поэт,
и ругаюсь,
как Маяковский.
Я тебе
не стихи ору,
рифмы в этих делах
ни при чем;
дай
как другу
пару рук
положить
на твое плечо (VIII, 32).
ТУ
Нельзя не увидеть в этих устремлениях (как личных, так и
обусловленных эстетикой кубофутуризма) отголосков его дореволюционных поисков.
699
Ср. со стихотворением «Протестую!»: «Не о чем мечтать, / гордиться
нечего».
74 Это почти реминисценция из «Пятого Интернационала»: «Я / поэзии / одну
разрешаю форму: / краткость, / точность математических формул» (IV, 108).
75 Тальников Д. Литературные заметки // Красная новь. 1928. № 8. С. 273.
76 «Любви я заждался, / мне 30 лет» (VI, 77), — скажет поэт в одном из
своих стихотворений, а через некоторое время возвратится к этой горькой
мысли: «Вином любви / каким / и кто / мою взбудоражит жизнь?» (VI, 200).
77
См. об этом в «Юбилейном»:
Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.
Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.
Можно
убедиться,
что земля поката, —
сядь
на собственные ягодицы
и катись! (VI, 48)
Ирония, звучащая в этих строках, только подчеркивает глубину
переживаний героя Маяковского.
78 ПлучекВ. На сцене — Маяковский. М., 1962. С. ИЗ.
79 Пщкель Ф.Н. «Навстречу жданным годам» (Образ будущего в
произведениях Маяковского) // Поэт и социализм. К эстетике В.В. Маяковского.
М., 1971. С. 180—181, 187.
80 Там же. С. 188, 197,200.
О 1
Третьяков С. С Новым годом! С «Новым Лефом»! С. 2.
82 Левидов М. О футуризме необходимая статья // Леф. 1923. № 2. С. 136—137.
οι
Ср. с концепциями статей О. Брика «Против романтики» (Новый Леф.
1927. № 10. С. 1—2) и «Против "творческой" личности» (Новый Леф. 1928.
№ 2. С. 12—14).
Заключение
1 Хлебников В. Собр. произв.: в 5 т. Л., 1928—1933. Т. 5. С. 259.
700
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 3
Часть первая. «ДЕРЗНОВЕННЫЙ НОВАТОР ЖИЗНИ».
РЕЛИГИЯ ВЛ. СОЛОВЬЕВА 17
1. «Смысл любви» 18
2. «Новое христианство или вселенская религия —
вечного завета» 29
3. «Второе абсолютное» 56
4. «София вышняя» и «София—Ахамот» 67
Часть вторая. ПРОБЛЕМА «ТВОРЧЕСТВА ЖИЗНИ»
В ЭСТЕТИКЕ МЛАДОСИМВОЛИЗМА 73
Глава I. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ А. БЕЛОГО
И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ 77
1. «Башня к небу» 77
2. «Трагедия трезвости» 93
3. «Голгофа индивидуализма» 105
4. «Гистология науки» 120
Глава П. МИФОТВОРЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА 127
1. «Кризис индивидуализма» 127
2. «Хор, Миф и Действо» 139
3. Реальное и реальнейшее 144
4. «О границах искусства» 154
Часть третья. «ТВОРЧЕСТВО ЖИЗНИ» В СУДЬБАХ
СИМВОЛИСТОВ 159
701
Глава I. СОЦИАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО — З.Н. ГИППИУС
ПО ПРЕОБРАЖЕНИЮ ДУХОВНО-ТЕЛЕСНОЙ ПРИРОДЫ
ЧЕЛОВЕКА 160
1. «Русский Лютер» 160
2. «Главное» 186
3. «Христианская влюбленность» 210
4. «Тройка» 248
5. «Новый Афон» 268
Глава П. «"ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ" ВСТРЕЧА»:
БИОГРАФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В «СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ
ДАМЕ» АЛЕКСАНДРА БЛОКА 272
1. «Сложный случай отношений» 272
2. «Земное небожительство» 316
3. «Дисгармония» 334
4. Апокалипсис от Софии 359
Часть четвертая. КУБОФУТУРИЗМ И ЭСТЕТИКА
«ЖИЗНЕСТРОЕНИЯ» 385
Глава I. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ БУНТ РУССКОГО ФУТУРИЗМА... 388
1. Явление «исключительной самостоятельности»? 388
2. Новое «разрушение эстетики» 401
3. Искусство «без моралина» 408
Глава П. СТАНОВЛЕНИЕ НЕОЯЗЫЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ЧЕЛОВЕКА 437
1. «Дитя природы» 437
2. «Утренние страны» Е. Гуро 456
Глава III. «ЗЕМЛЯ» И «НЕБО» ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА... 468
1. «Восставим гордость старой были» 468
2. «Тайна жизни» 483
3. «Приобретатели» и «изобретатели» 501
702
4. «Единая книга» 510
5. «Довременное слово», или «научно построенный язык»....516
6. «Идет число на смену верам...» 527
7. «Ладомир» 536
Глава IV. ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ:
«ПРОЕКТ ЛУЧШЕГО МИРА» 546
1. Первая трагедия 546
2. «Тринадцатый апостол» 560
3. «Чертеж зодчего», или «поэма об освобожденной
и возвеличенной душе» 572
4. Апокалипсис Маяковского 587
5. «Моя революция». «Огромнейший знак вопроса» 593
6. Проект Лефа: «методы и приемы боя за изобретательную,
тренированную, классово-полезную человеческую
личность» 597
7. «Смысл любви» 606
8. «Первейшее... — дело» 618
9. «Революция — любовь» 627
10. Художественное завещание: «революция духа» 645
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 654
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ 657
Научное издание
Сарычев Владимир Александрович
ФЕНОМЕН РУССКОГО МОДЕРНИЗМА
Религия. Эстетика. Творчество жизни
Монография
Подписано в печать 09.11.2017.
Электронное издание для распространения через Интернет.
ООО «ФЛИНТА», 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17-Б, комн. 324.
Тел./факс: (495) 334-82-65; тел. (495) 336-03-11.
E-mail: flinta@mail.ru; WebSite: www.flinta.ru