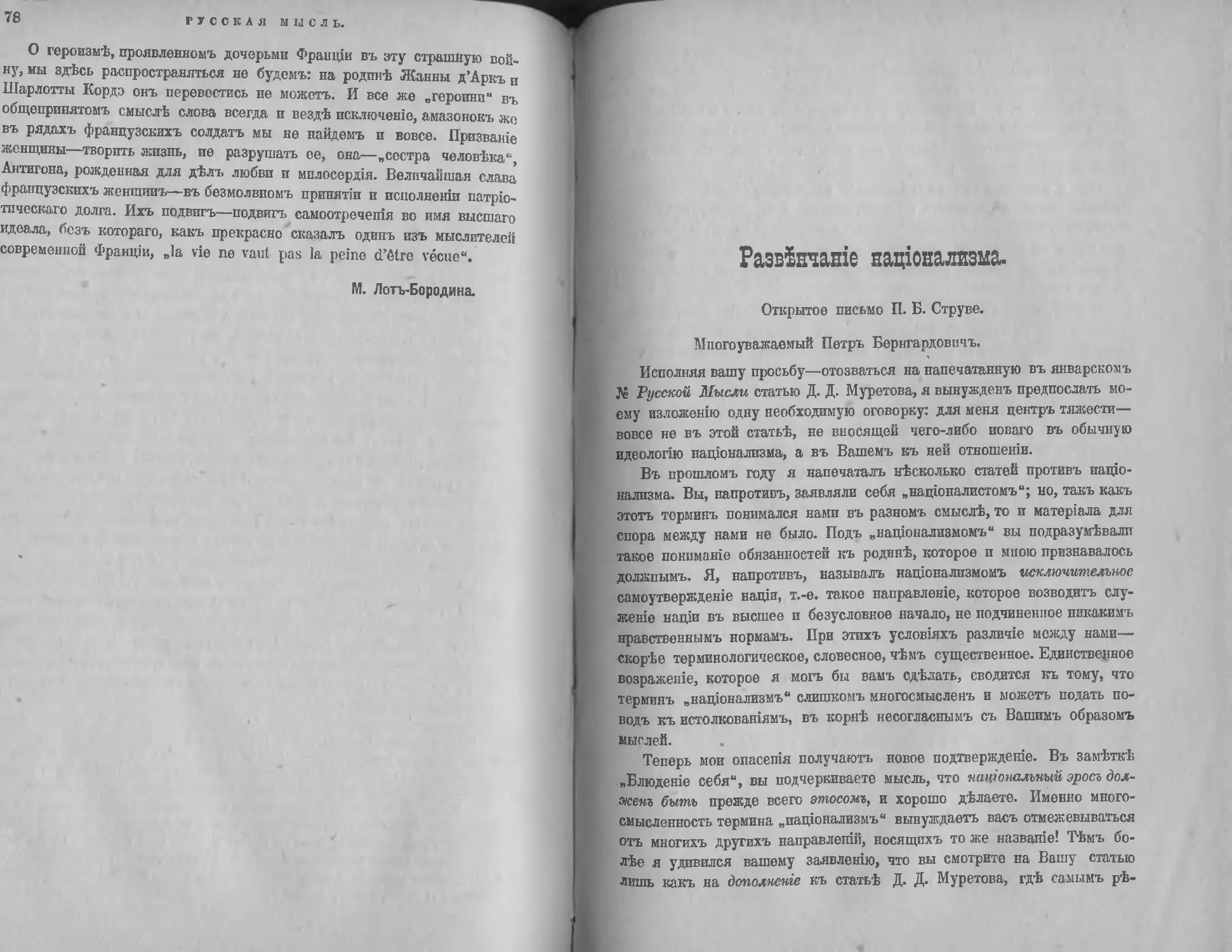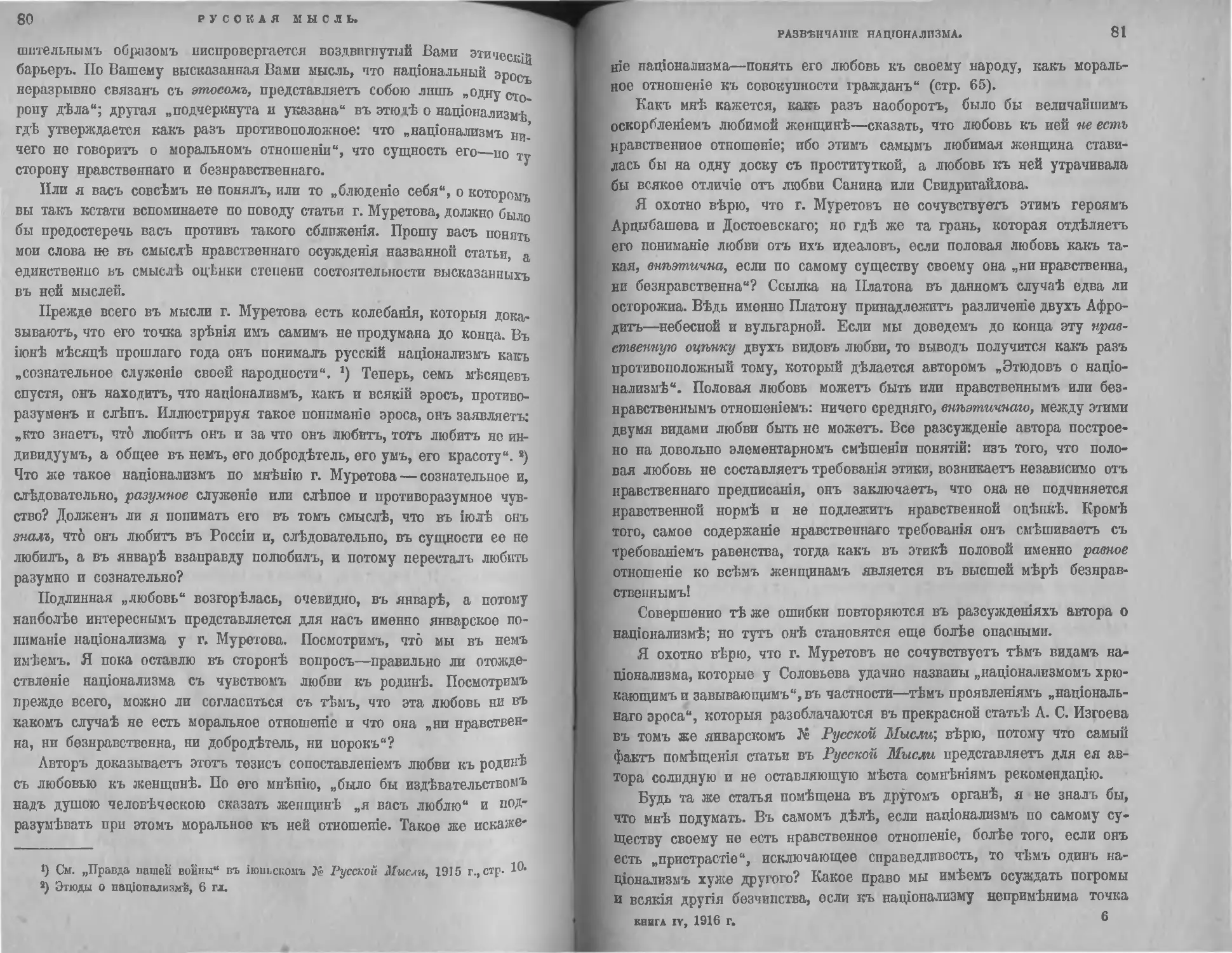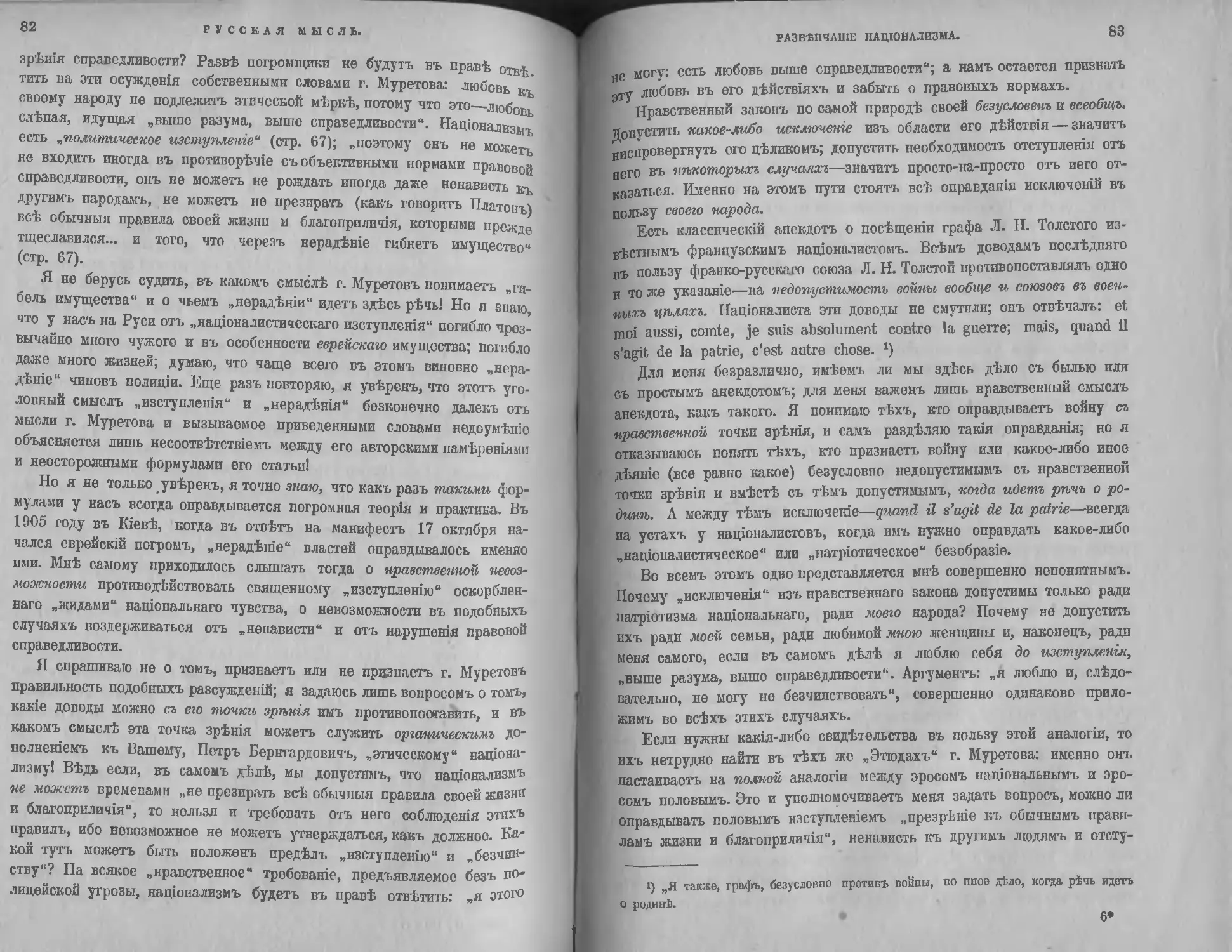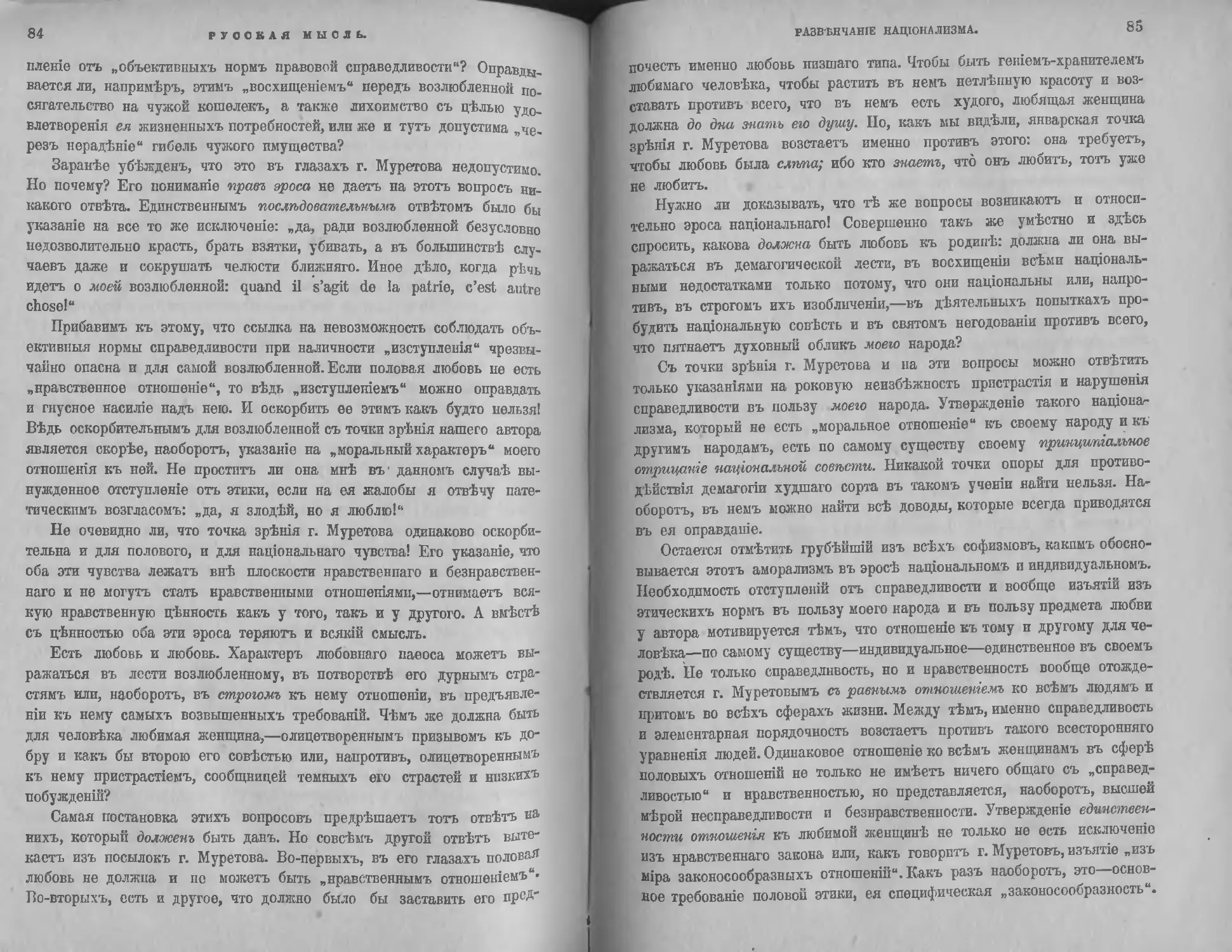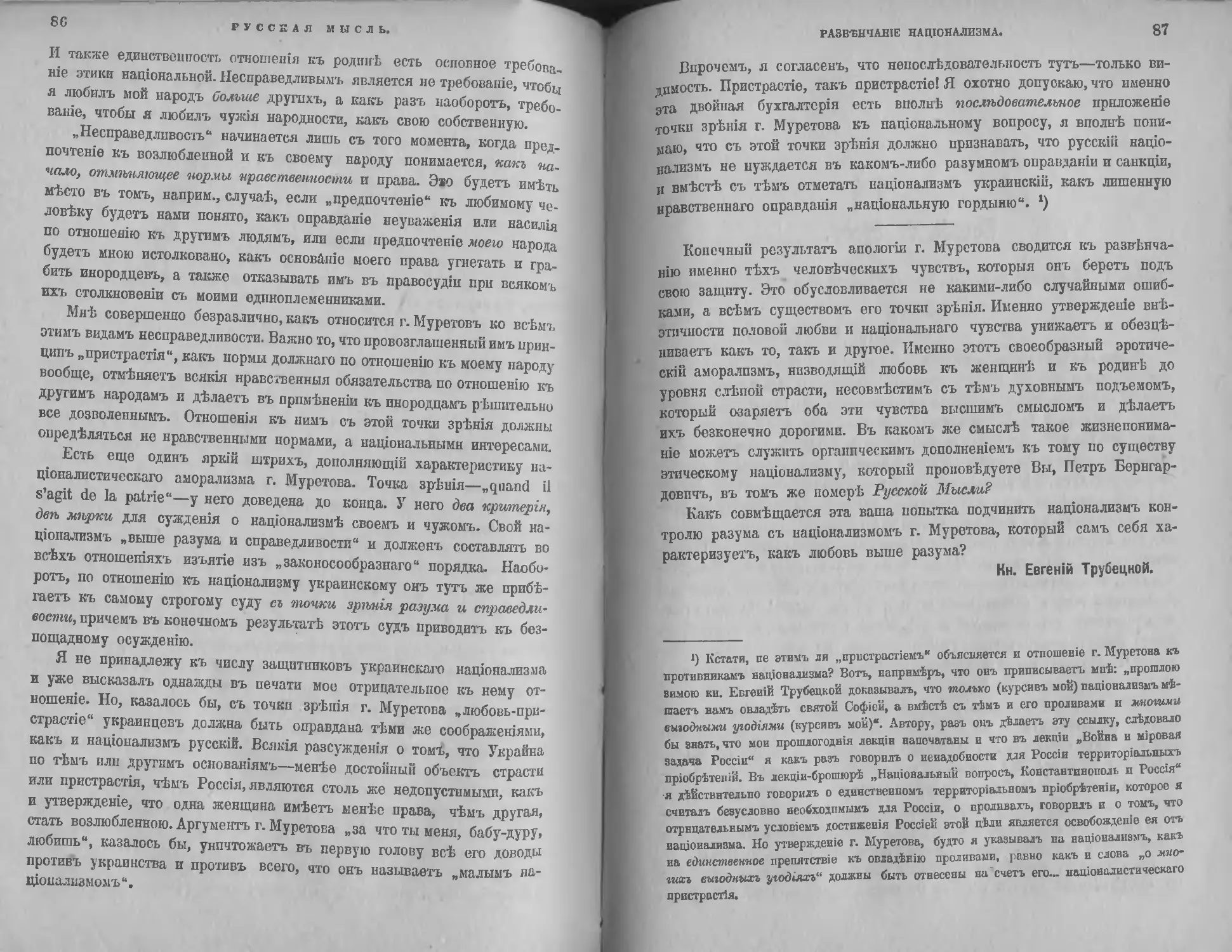Автор: Трубецкой Е.Н.
Теги: политика философія національная идея націонализмъ критика политическихъ идеологій
Год: 1909
Текст
О героизмѣ, проявленномъ дочерьми Франціи въ эту страшную войну, мы здѣсь распространяться не будемъ: на родинѣ Жанны д’Аркъ и Шарлотты Кордэ онъ перевестись не можетъ. И все же „героини “ въ общепринятомъ смыслѣ слова всегда и вездѣ исключеніе, амазонокъ же въ рядахъ французскихъ солдатъ мы не найдемъ и вовсе. Призваніе женщины—творить жизнь, ие разрушать ее, она—„сестра человѣка", Антигона, рожденная для дѣлъ любви и милосердія. Величайшая слава французскихъ женщинъ—въ безмолвномъ принятіи и исполненіи патріотическаго долга. Ихъ подвигъ—подвигъ самоотречепія во имя высшаго идеала, безъ котораго, какъ прекрасно сказалъ одинъ изъ мыслителей современной Франціи, „Іа ѵіе пе ѵапі раз Іа реіпе сі’ёігс ѵёсііе".
М. Лотъ-Бородина.
Развѣнчаніе націонализма.
Открытое письмо П. Б. Струве.
Многоуважаемый Петръ Бернгардовичъ.
Исполняя вашу просьбу—отозваться на напечатанную въ январскомъ № 'Русской Мысли статью Д. Д. Муретова, я вынужденъ предпослать моему изложенію одну необходимую оговорку: для меня центръ тяжести— вовсе не въ этой статьѣ, не вносящей чего-либо новаго въ обычную идеологію націонализма, а въ Вашемъ къ ней отношеніи.
Въ прошломъ году я напечаталъ нѣсколько статей противъ націонализма. Вы, напротивъ, заявляли себя „націоналистомъ"; но, такъ какъ этотъ терминъ понимался нами въ разномъ смыслѣ, то и матеріала для спора между нами не было. Подъ „націонализмомъ" вы подразумѣвалп такое пониманіе обязанностей къ родинѣ, которое и мною признавалось должнымъ. Я, напротивъ, называлъ націонализмомъ исключительное самоутвержденіе націи, т.-е. такое направленіе, которое возводитъ служеніе націи въ высшее и безусловное начало, не подчиненное никакимъ нравственнымъ нормамъ. При этихъ условіяхъ различіе меледу нами— скорѣе терминологическое, словесное, чѣмъ существенное. Единственное возраженіе, которое я могъ бы вамъ сдѣлать, сводится къ тому, что терминъ „націонализмъ" слишкомъ многосмысленъ и можетъ подать поводъ къ истолкованіямъ, въ корнѣ несогласнымъ съ Вашимъ образомъ мыслей.
Теперь мои опасенія получаютъ новое подтвержденіе. Въ замѣткѣ «Блюденіе себя", вы подчеркиваете мысль, что 'національный эросъ долженъ бытъ прежде всего этосомъ, и хорошо дѣлаете. Именно много-смысленность термина „націонализмъ" вынуждаетъ васъ отмежевываться отъ многихъ другихъ направленій, носящихъ то же названіе! Тѣмъ болѣе я удивился вашему заявленію, что вы смотрите на Вашу статью лишь какъ на дополненіе къ статьѣ Д. Д. Муретова, гдѣ самымъ рѣ-
гантельнымъ образомъ ниспровергается воздвигнутый Вами этическій барьеръ. По Вашему высказанная Вами мысль, что національный эросъ неразрывно связанъ съ этносомъ, представляетъ собою лишь „одну сторону дѣла"; другая „подчеркнута и указана" въ этюдѣ о націонализмѣ гдѣ утверждается какъ разъ противоположное: что „націонализмъ ничего не говоритъ о моральномъ отношеніи", что сущность его—по ту сторону нравственнаго и безнравственнаго.
Или я васъ совсѣмъ не понялъ, или то „блюденіе себя", о которомъ вы такъ кстати вспоминаете по поводу статьи г. Муретова, должно было бы предостеречь васъ противъ такого сближенія. Прошу васъ понять мои слова не въ смыслѣ нравственнаго осужденія названной статьи, а единственно въ смыслѣ оцѣнки степени состоятельности высказанныхъ въ ней мыслей.
Прежде всего въ мысли г. Муретова есть колебанія, которыя доказываютъ, что его точка зрѣнія имъ самимъ не продумана до конца. Въ іюнѣ мѣсяцѣ прошлаго года онъ понималъ русскій націонализмъ какъ „сознательное служеніе своей народности". *) Теперь, семь мѣсяцевъ спустя, онъ находитъ, что націонализмъ, какъ и всякій эросъ, противоразуменъ и слѣпъ. Иллюстрируя такое пониманіе эроса, онъ заявляетъ: „кто знаетъ, что любитъ онъ и за что онъ любитъ, тотъ любитъ не индивидуумъ, а общее въ немъ, его добродѣтель, его умъ, его красоту".8) Что же такое націонализмъ по мнѣнію г. Муретова — сознательное и, слѣдовательно, разумное служеніе или слѣпое и противоразумное чувство? Долженъ ли я попинать его въ томъ смыслѣ, что въ іюлѣ онъ зналъ, что онъ любитъ въ Россіи и, слѣдовательно, въ супщости ее не любилъ, а въ январѣ взаправду полюбилъ, и потому пересталъ любить разумно и сознательно?
Подлинная „любовь" возгорѣлась, очевидно, въ январѣ, а потому наиболѣе интереснымъ представляется для насъ именно январское пониманіе націонализма у г. Муретова. Посмотримъ, что мы въ немъ имѣемъ. Я пока оставлю въ сторонѣ вопросъ—правильно ли отождествленіе націонализма съ чувствомъ любви къ родинѣ. Посмотримъ прежде всего, можно ли согласиться съ тѣмъ, что эта любовь ни въ какомъ случаѣ не есть моральное отношеніе и что она „ни нравственна, ни безнравственна, ни добродѣтель, ни порокъ"?
Авторъ доказываетъ этотъ тезисъ сопоставленіемъ любви къ родинѣ съ любовью къ женщинѣ. По его мнѣнію, „было бы издѣвательствомъ надъ душою человѣческою сказать женщинѣ „я васъ люблю" и под-разумѣвать при этомъ моральное къ ней отношеніе. Такое же искаже
*) См. „Правда пашей воины" въ іюньскомъ № Русской Мысли, 1915 г., стр. 1°’ ») Этюды о націонализмѣ, 6 гл.
ніе націонализма—понять его любовь къ своему народу, какъ моральное отношеніе къ совокупности гражданъ" (стр. 65).
Какъ мнѣ кажется, какъ разъ наоборотъ, было бы величайшимъ оскорбленіемъ любимой женщинѣ—сказать, что любовь къ ией не есть нравственное отношеніе; ибо этимъ самымъ любимая женщина ставилась бы на одну доску съ проституткой, а любовь къ ней утрачивала бы всякое отличіе отъ любви Санина или Свидригайлова.
Я охотно вѣрю, что г. Муретовъ не сочувствуетъ этимъ героямъ Арцыбашева и Достоевскаго; но гдѣ же та грань, которая отдѣляетъ его пониманіе любви отъ ихъ идеаловъ, если половая любовь какъ такая, внѣэтична, если по самому существу своему она „ни нравственна, ни безнравственна"? Ссылка на Платона въ данномъ случаѣ едва ли осторожна. Вѣдь именно Платону принадлежитъ различеніе двухъ Афродитъ—небесной и вульгарной. Если мы доведемъ до конца эту нравственную оцѣнку двухъ видовъ любви, то выводъ получится какъ разъ противоположный тому, который дѣлается авторомъ „Этюдовъ о націонализмѣ". Половая любовь можетъ быть или нравственнымъ или безнравственнымъ отношеніемъ: ничего средняго, внѣэтичнаго, между этими двумя видами любви быть не можетъ. Все разсужденіе автора построено на довольно элементарномъ смѣшеніи понятій: изъ того, что половая любовь не составляетъ требованія этики, возникаетъ независимо отъ нравственнаго предписанія, онъ заключаетъ, что она не подчиняется нравственной нормѣ и не подлежитъ нравственной оцѣнкѣ. Кромѣ того, самое содержаніе нравственнаго требованія онъ смѣшиваетъ съ требованіемъ равенства, тогда какъ въ этикѣ половой именно равное отношеніе ко всѣмъ женщинамъ является въ высшей мѣрѣ безнравственнымъ!
Совершенно тѣ же ошибки повторяются въ разсужденіяхъ автора о націонализмѣ; но тутъ онѣ становятся еще болѣе опасными.
Я охотно вѣрю, что г. Муретовъ не сочувствуетъ тѣмъ видамъ націонализма, которые у Соловьева удачно названы „націонализмомъ хрюкающимъ и завывающимъ", въ частности—тѣмъ проявленіямъ „національнаго эроса", которыя разоблачаются въ прекрасной статьѣ А. С. Изгоева въ томъ же январскомъ Русской Мысли', вѣрю, потому что самый фактъ помѣщенія статьи въ Русской Мысли представляетъ для ея автора солидную и не оставляющую мѣста сомнѣніямъ рекомендацію.
Будь та же статья помѣщена въ другомъ органѣ, я не зналъ бы, что мнѣ подумать. Въ самомъ дѣлѣ, если націонализмъ по самому существу своему не есть нравственное отношеніе, болѣе того, если онъ есть „пристрастіе", исключающее справедливость, то чѣмъ одинъ націонализмъ хуже другого? Какое право мы имѣемъ осуждать погромы и всякія другія безчинства, если къ націонализму непримѣнима точка
КНИГА IV, 1916 г. 6
зрѣнія справедливости? Развѣ погромщики не будутъ въ правѣ отвѣ тить на эти осужденія собственными словами г. Муретова: любовь къ своему народу не подлежитъ этической мѣркѣ, потому что это—любовь слѣпая, идущая „выше разума, выше справедливости". Націонализмъ есть „политическое изступленіе* (стр. 67); „поэтому онъ не можетъ не входить иногда въ противорѣчіе съ объективными нормами правовой справедливости, онъ не можетъ не рождать иногда даже ненависть къ другимъ народамъ, не можетъ не презирать (какъ говоритъ Платонъ) всѣ обычныя правила своей жизни и благоприличія, которыми прежде тщеславился... и того, что черезъ нерадѣніе гибнетъ имущество" (стр. 67).
Я не берусь судить, въ какомъ смыслѣ г. Муратовъ понимаетъ „гибель имущества" и о чьемъ „нерадѣніи" идетъ здѣсь рѣчь! Но я знаю, что у насъ на Руси отъ „націоналистическаго изступленія" погибло чрезвычайно много чужого и въ особенности еврейскаго имущества; погибло даже много жизней; думаю, что чаще всего въ этомъ виновно „нерадѣніе" чиновъ полиціи. Еще разъ повторяю, я увѣренъ, что этотъ уголовный смыслъ „изступленія" и „нерадѣнія" безконечно далекъ отъ мысли г. Муретова и вызываемое приведенными словами недоумѣніе объясняется лишь несоотвѣтствіемъ между его авторскими намѣреніями и неосторожными формулами его статьи!
Но я не только увѣренъ, я точно знаю, что какъ разъ такими формулами у насъ всегда оправдывается погромная теорія и практика. Въ 1905 году въ Кіевѣ, когда въ отвѣтъ на манифестъ 17 октября начался еврейскій погромъ, „нерадѣніе" властей оправдывалось именно ими. Мнѣ самому приходилось слышать тогда о нравственной невозможности противодѣйствовать священному „изступленію" оскорбленнаго „жидами" національнаго чувства, о невозможности въ подобныхъ случаяхъ воздерживаться отъ „ненависти" и отъ нарушенія правовой справедливости.
Я спрашиваю не о томъ, признаетъ или не прцзнаетъ г. Муретовъ правильность подобныхъ разсужденій; я задаюсь лишь вопросомъ о томъ, какіе доводы можно съ его точки зрѣнія имъ противопоставить, и въ какомъ смыслѣ эта точка зрѣнія можетъ служить органическимъ до-полненіемъ къ Вашему, Петръ Бернгардовичъ, „этическому" націонализму! Вѣдь если, въ самомъ дѣлѣ, мы допустимъ, что націонализмъ не можетъ временами „не презирать всѣ обычныя правила своей жизни и благоприличія", то нельзя и требовать отъ него соблюденія этихъ правилъ, ибо невозможное не можетъ утверждаться, какъ должное. Какой тутъ можетъ быть положенъ предѣлъ „изступленію" и „безчинству"? На всякое „нравственное" требованіе, предъявляемое безъ полицейской угрозы, націонализмъ будетъ въ правѣ отвѣтить: „я этого
не могу: есть любовь выше справедливости"; а намъ остается признать эТу любовь въ его дѣйствіяхъ и забыть о правовыхъ нормахъ.
Нравственный законъ по самой природѣ своей безусловенъ и всеобщъ. Допустить какое-либо исключеніе изъ области его дѣйствія — значитъ ниспровергнуть его цѣликомъ; допустить необходимость отступленія отъ него въ нѣкоторыхъ случаяхъ—значитъ просто-на-просто отъ него отказаться. Именно на этомъ пути стоятъ всѣ оправданія исключеній въ пользу своего народа.
Есть классическій анекдотъ о посѣщеніи графа Л. II. Толстого извѣстнымъ французскимъ націоналистомъ. Всѣмъ доводамъ послѣдняго въ пользу франко-русскаго союза Л. Н. Толстой противопоставлялъ одно и то же указаніе—на недопустимость войны вообще и союзовъ въ военныхъ г(ѣляхъ. Націоналиста эти доводы не смутили; онъ отвѣчалъ: еі тоі аіі88і, сошіе, ]е зпів аЬзоІнтепк сопіге Іа ^пеггѳ; таіз, днапб іі 8’адіі йе Іа раігіе, с’езі апіге сіюзе. *)
Для меня безразлично, имѣемъ ли мы здѣсь дѣло съ былью или съ простымъ анекдотомъ; для меня важенъ лишь нравственный смыслъ анекдота, какъ такого. Я понимаю тѣхъ, кто оправдываетъ войну съ нравственной точки зрѣнія, и самъ раздѣляю такія оправданія; но я отказываюсь попять тѣхъ, кто признаетъ войну или какое-либо иное дѣяніе (все равно какое) безусловно недопустимымъ съ нравственной точки зрѣнія и вмѣстѣ съ тѣмъ допустимымъ, когда идетъ рѣчь о родимъ. А между тѣмъ исключеніе—диапсі И з’адіі Не Іа раігіе—всегда на устахъ у націоналистовъ, когда имъ нужно оправдать какое-либо „націоналистическое" или „патріотическое" безобразіе.
Во всемъ этомъ одно представляется мнѣ совершенно непонятнымъ. Почему „исключенія" изъ нравственнаго закона допустимы только ради патріотизма національнаго, ради моего народа? Почему не допустить ихъ ради моей семьи, ради любимой мною женщины и, наконецъ, ради меня самого, если въ самомъ дѣлѣ я люблю себя до изступленія, „выше разума, выше справедливости". Аргументъ: „я люблю и, слѣдовательно, не могу не безчинствовать", совершенно одинаково приложимъ во всѣхъ этихъ случаяхъ.
Если нужны какія-либо свидѣтельства въ пользу этой аналогіи, то ихъ нетрудно найти въ тѣхъ же „Этюдахъ" г. Муретова: именно онъ настаиваетъ на полной аналогіи между эросомъ національнымъ и эросомъ половымъ. Это и уполномочиваетъ меня задать вопросъ, можно ли оправдывать половымъ изступленіемъ „презрѣніе къ обычнымъ правиламъ жизни и благоприличія", ненависть къ другимъ людямъ и отсту-
і) „Я также, графъ, безусловно противъ войны, во ппое дѣло, когда рѣчь идетъ о родинѣ.
пленіе отъ „объективныхъ нормъ правовой справедливости"? Оправдывается ли, напримѣръ, этимъ „восхищеніемъ" передъ возлюбленной посягательство на чужой кошелекъ, а также лихоимство съ цѣлью удовлетворенія ея жизненныхъ потребностей, или же и тутъ допустима „черезъ нерадѣніе" гибель чужого имущества?
Заранѣе убѣжденъ, что это въ глазахъ г. Муретова недопустимо. Но почему? Его пониманіе правъ эроса не даетъ на этотъ вопросъ никакого отвѣта. Единственнымъ послѣдовательнымъ отвѣтомъ было бы указаніе на все то же исключеніе: „да, ради возлюбленной безусловно недозволительно красть, брать взятки, убивать, а въ большинствѣ случаевъ даже и сокрушать челюсти ближняго. Иное дѣло, когда рѣчь идетъ о моей возлюбленной: дпаімі іі з’а^іі йе Іа раігіе, с’езі аніге сѣозе!"
Прибавимъ къ этому, что ссылка на невозможность соблюдать объективныя нормы справедливости при наличности „изступленія" чрезвычайно опасна и для самой возлюбленной. Если половая любовь не есть „нравственное отношеніе", то вѣдь „изступленіемъ" можно оправдать и гнусное насиліе надъ нею. И оскорбить ее этимъ какъ будто нельзя! Вѣдь оскорбительнымъ для возлюбленной съ точки зрѣнія нашего автора является скорѣе, наоборотъ, указаніе на „моральный характеръ" моего отношенія къ ней. Не проститъ ли она мнѣ въ' данномъ случаѣ вынужденное отступленіе отъ этики, если на ея жалобы я отвѣчу патетическимъ возгласомъ: „да, я злодѣй, но я люблю!"
Не очевидно ли, что точка зрѣнія г. Муретова одинаково оскорбительна и для полового, и для національнаго чувства! Его указаніе, что оба эти чувства лежатъ внѣ плоскости нравственнаго и безнравственнаго и не могутъ стать нравственными отношеніями,—отнимаетъ всякую нравственную цѣнность какъ у того, такъ и у другого. А вмѣстѣ съ цѣнностью оба эти эроса теряютъ и всякій смыслъ.
Есть любовь и любовь. Характеръ любовнаго паѳоса можетъ выражаться въ лести возлюбленному, въ потворствѣ его дурнымъ страстямъ или, наоборотъ, въ строгомъ къ нему отношеніи, въ предъявленіи къ нему самыхъ возвышенныхъ требованій. Чѣмъ же должна быть для человѣка любимая женщина,—олицетвореннымъ призывомъ къ добру и какъ бы второю его совѣстью или, напротивъ, олицетвореннымъ къ нему пристрастіемъ, сообщницей темныхъ его страстей и низкихъ побужденій?
Самая постановка этихъ вопросовъ предрѣшаетъ тоть отвѣть на нихъ, который долженъ быть данъ. Но совсѣмъ другой отвѣтъ вытекаетъ изъ посылокъ г. Муретова. Во-первыхъ, въ его глазахъ половая любовь не должна и не можетъ быть „нравственнымъ отношеніемъ • Во-вторыхъ, есть и другое, что должно было бы заставить его прсД'
почесть именно любовь низшаго типа. Чтобы быть геніемъ-хранителемъ любимаго человѣка, чтобы растить въ немъ нетлѣнную красоту и возставать противъ всего, что въ немъ есть худого, любящая женщина должна до дна знать его душу. По, какъ мы видѣли, январская точка зрѣнія г. Муретова возстаетъ именно противъ этого: она требуетъ, чтобы любовь была слѣпа; ибо кто знаетъ, что онъ любитъ, тотъ уже не любитъ.
Нужно ли доказывать, что тѣ же вопросы возникаютъ и относительно эроса національнаго! Совершенно такъ же умѣстно и здѣсь спросить, какова должна быть любовь къ родинѣ: должна ли она выражаться въ демагогической лести, въ восхищеніи всѣми національными недостатками только потому, что они національны или, напротивъ, въ строгомъ ихъ изобличеніи,—въ дѣятельныхъ попыткахъ пробудить національную совѣсть и въ святомъ негодованіи противъ всего, что пятнаетъ духовный обликъ моею народа?
Съ точки зрѣнія г. Муретова и на эти вопросы можно отвѣтить только указаніями на роковую неизбѣжность пристрастія и нарушенія справедливости въ пользу моего народа. Утвержденіе такого націонализма, который не есть „моральное отношеніе" къ своему народу и къ другимъ народамъ, есть по самому существу своему принципіальное отрицаніе національной совѣсти. Никакой точки опоры для противодѣйствія демагогіи худшаго сорта въ такомъ ученіи найти нельзя. Наоборотъ, въ немъ можно найти всѣ доводы, которые всегда приводятся въ ея оправданіе.
Остается отмѣтить грубѣйшій изъ всѣхъ софизмовъ, какпмъ обосновывается этотъ аморализмъ въ эросѣ національномъ и индивидуальномъ. Необходимость отступленій отъ справедливости и вообще изъятій изъ этическихъ нормъ въ пользу моего народа и въ пользу предмета любви у автора мотивируется тѣмъ, что отношеніе къ тому и другому для человѣка—по самому существу—индивидуальное—единственное въ своемъ родѣ. Не только справедливость, но и нравственность вообще отождествляется г. Муретовымъ съ равнымъ отношеніемъ ко всѣмъ людямъ и притомъ во всѣхъ сферахъ жизни. Между тѣмъ, именно справедливость и элементарная порядочность возстаетъ противъ такого всесторонняго уравненія людей. Одинаковое отношеніе ко всѣмъ женщинамъ въ сферѣ половыхъ отношеній не только не имѣетъ ничего общаго съ „справедливостью" и нравственностью, но представляется, наоборотъ, высшей мѣрой несправедливости и безнравственности. Утвержденіе единственности отношенія къ любимой женщинѣ не только не есть исключеніе изъ нравственнаго закона или, какъ говоритъ г. Муретовъ, изъятіе „изъ міра законосообразныхъ отношеній". Какъ разъ наоборотъ, это—основное требованіе половой этики, ея специфическая „законосообразность".
И также единственность отношенія къ родинѣ есть основное требованіе этики національной. Несправедливымъ является не требованіе, чтобы я любилъ мой народъ больше другихъ, а какъ разъ наоборотъ, требованіе, чтобы я любилъ чужія народности, какъ свою собственную.
„Несправедливость" начинается лишь съ того момента, когда предпочтеніе къ возлюбленной и къ своему народу понимается, какъ начало, отмѣняющее нормы нравственности и права. Эю будетъ имѣть мѣсто въ томъ, наприм., случаѣ, если „предпочтеніе" къ любимому человѣку будетъ нами понято, какъ оправданіе неуваженія или насилія по отношенію къ другимъ людямъ, или если предпочтеніе моего народа будетъ мною истолковано, какъ основаніе моего права угнетать и грабить инородцевъ, а также отказывать имъ въ правосудіи при всякомъ ихъ столкновеніи съ моими единоплеменниками.
Мнѣ совершенно безразлично, какъ относится г. Муретовъ ко всѣмъ этимъ видамъ несправедливости. Важно то, что провозглашенный имъ принципъ „пристрастія", какъ нормы должнаго по отношенію къ моему народу вообще, отмѣняетъ всякія нравственныя обязательства по отношенію къ другимъ народамъ и дѣлаетъ въ примѣненіи къ инородцамъ рѣшительно все дозволеннымъ. Отношенія къ нимъ съ этой точки зрѣнія должны опредѣляться не нравственными нормами, а національными интересами.
Есть еще одинъ яркій штрихъ, дополняющій характеристику націоналистическаго аморализма г. Муретова. Точка зрѣнія—„днапб іі з’адіі йе Іа раігіе"—у него доведена до конца. У него два критерія, двѣ мѣрки для сужденія о націонализмѣ своемъ и чужомъ. Свой націонализмъ „выше разума и справедливости" и долженъ составлять во всѣхъ отношеніяхъ изъятіе изъ „законосообразнаго" порядка. Наоборотъ, по отношенію къ націонализму украинскому онъ тутъ же прибѣгаетъ къ самому строгому суду съ точки зріънія разума и справедливости, причемъ въ конечномъ результатѣ этотъ судъ приводитъ къ безпощадному осужденію.
Я не принадлежу къ числу защитниковъ украинскаго націонализма и уже высказалъ однажды въ печати мое отрицательное къ нему отношеніе. Но, казалось бы, съ точки зрѣнія г. Муретова „любовь-пристрастіе" украинцевъ должна быть оправдана тѣми же соображеніями, какъ и націонализмъ русскій. Всякія разсужденія о томъ, что Украйна по тѣмъ или другимъ основаніямъ—менѣе достойный объектъ страсти или пристрастія, чѣмъ Россія, являются столь же недопустимыми, какъ и утвержденіе, что одна женщина имѣетъ менѣе права, чѣмъ другая, стать возлюбленною. Аргументъ г. Муретова „за что ты меня, бабу-дурУ» любишь", казалось бы, уничтожаетъ въ первую голову всѣ его доводы противъ украинства и противъ всего, что онъ называетъ „малымъ націонализмомъ".
Впрочемъ, я согласенъ, что непослѣдовательность тутъ—только видимость. Пристрастіе, такъ пристрастіе! Я охотно допускаю, что именно эта двойная бухгалтерія есть вполнѣ послѣдовательное приложеніе точки зрѣнія г. Муретова къ національному вопросу, я вполнѣ понимаю, что съ этой точки зрѣнія должно признавать, что русскій націонализмъ не нуждается въ какомъ-либо разумномъ оправданіи и санкціи, и вмѣстѣ съ тѣмъ отметать націонализмъ украинскій, какъ лишенную нравственнаго оправданія „національную гордыню". *)
Конечный результатъ апологіи г. Муретова сводится къ развѣнчанію именно тѣхъ человѣческихъ чувствъ, которыя онъ беретъ подъ свою защиту. Это обусловливается не какими-либо случайными ошибками, а всѣмъ существомъ его точки зрѣнія. Именно утвержденіе внѣ-этичиости половой любви и національнаго чувства унижаетъ и обезцѣниваетъ какъ то, такъ и другое. Именно этотъ своеобразный эротическій аморализмъ, низводящій любовь къ женщинѣ и къ родинѣ до уровня слѣпой страсти, несовмѣстимъ съ тѣмъ духовнымъ подъемомъ, который озаряетъ оба эти чувства высшимъ смысломъ и дѣлаетъ ихъ безконечно дорогими. Въ какомъ же смыслѣ такое жизнепониманіе можетъ служить органическимъ дополненіемъ къ тому по существу этическому націонализму, который проповѣдуете Вы, Петръ Бернгар-довичъ, въ томъ же номерѣ Русской Мысли?
Какъ совмѣщается эта ваша попытка подчинить націонализмъ контролю разума съ націонализмомъ г. Муретова, который самъ себя характеризуетъ, какъ любовь выше разума?
Кн. Евгеній Трубецкой.
1) Кстати, пе этимъ ли „пристрастіемъ* объясняется и отношеніе г. Муретова къ противникамъ націонализма? Вотъ, напримѣръ, что онъ приписываетъ мнѣ: „прошлою вимою ки. Евгеній Трубецкой доказывалъ, что только (курсивъ мой) націонализмъ мѣшаетъ намъ овладѣть святой Софіей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и его проливами и многими выгодными угодіями (курсивъ мой)*. Автору, разъ онъ дѣлаетъ эту ссылку, слѣдовало бы знать, что мои прошлогоднія лекціи напечатаны и что въ лекціи „Война и міровая задача Россіи" я какъ разъ говорилъ о ненадобности для Россіи территоріальныхъ пріобрѣтеній. Въ лекціи-брошюрѣ „Національный вопросъ, Константинополь и Россія" я дѣйствительно говорилъ о единственномъ территоріальномъ пріобрѣтеніи, которое я считалъ безусловно необходимымъ для Россіи, о проливахъ, говорилъ и о томъ, что отрицательнымъ условіемъ достиженія Россіей этой пѣли является освобожденіе ея отъ націонализма. Но утвержденіе г. Муретова, будто я указывалъ па націонализмъ, какъ на единственное препятствіе къ овладѣнію проливами, равно какъ н слова „о многихъ выгодныхъ угодіяхъ" должны быть отнесены па счетъ его... націоналистическаго пристрастія.