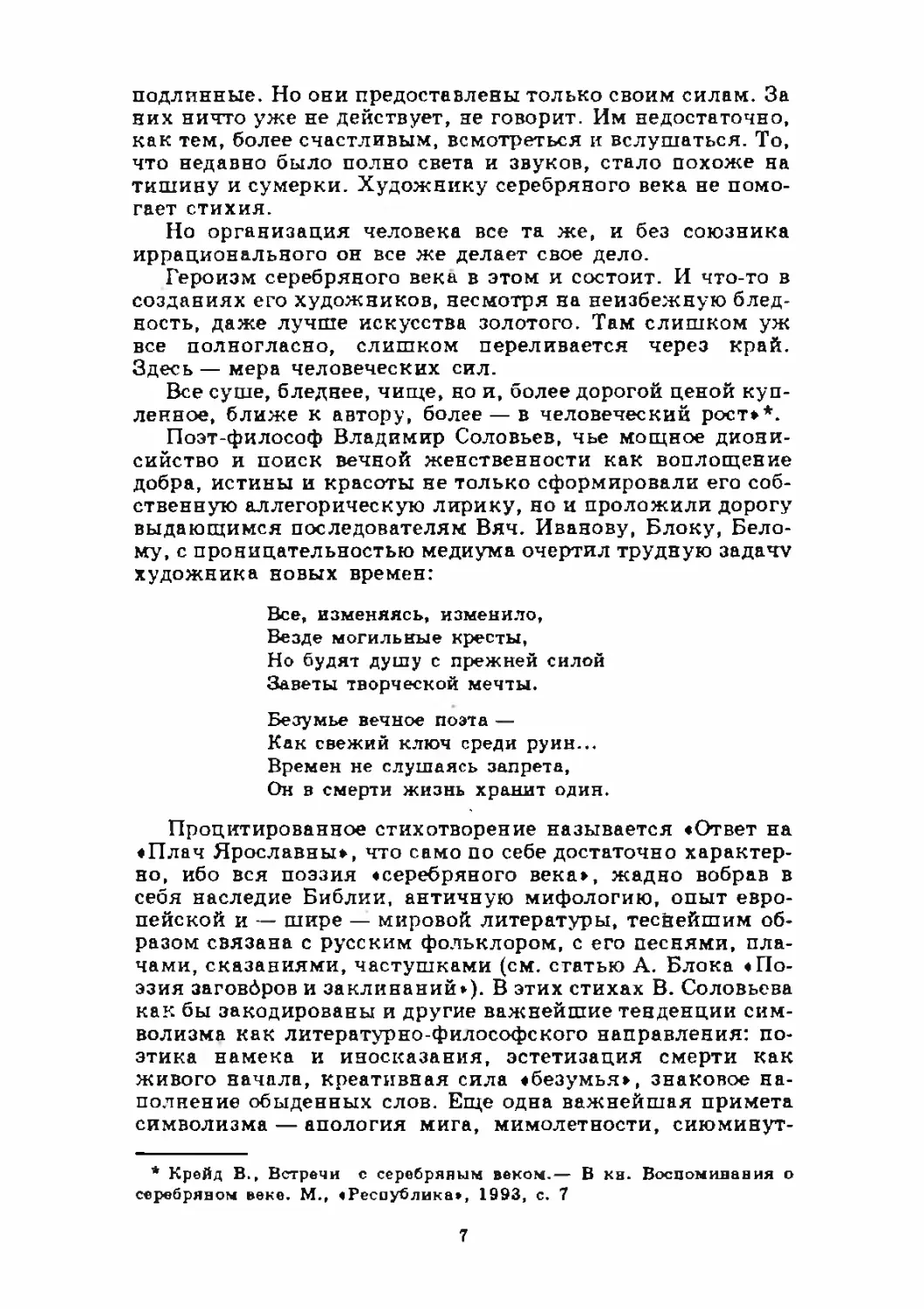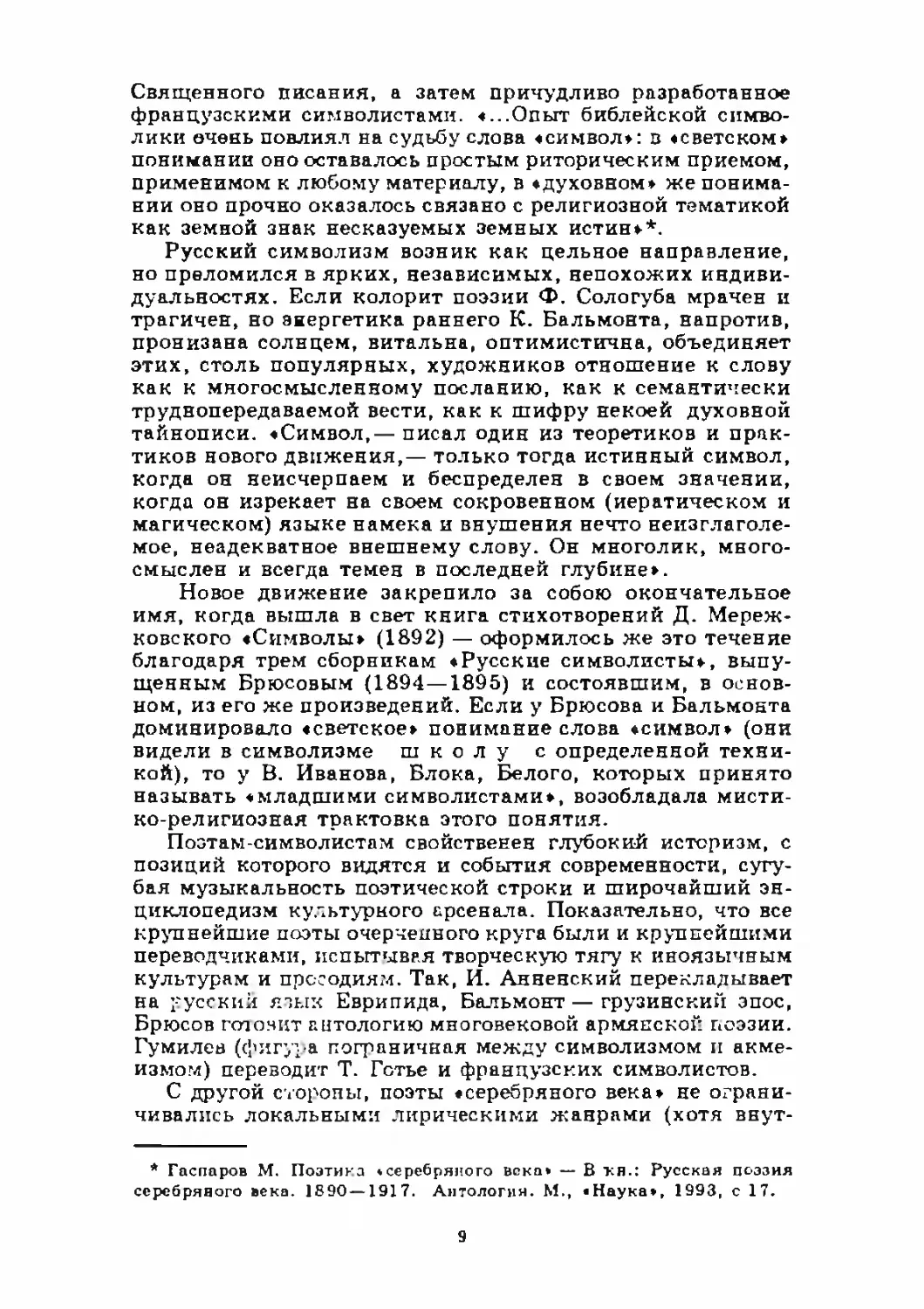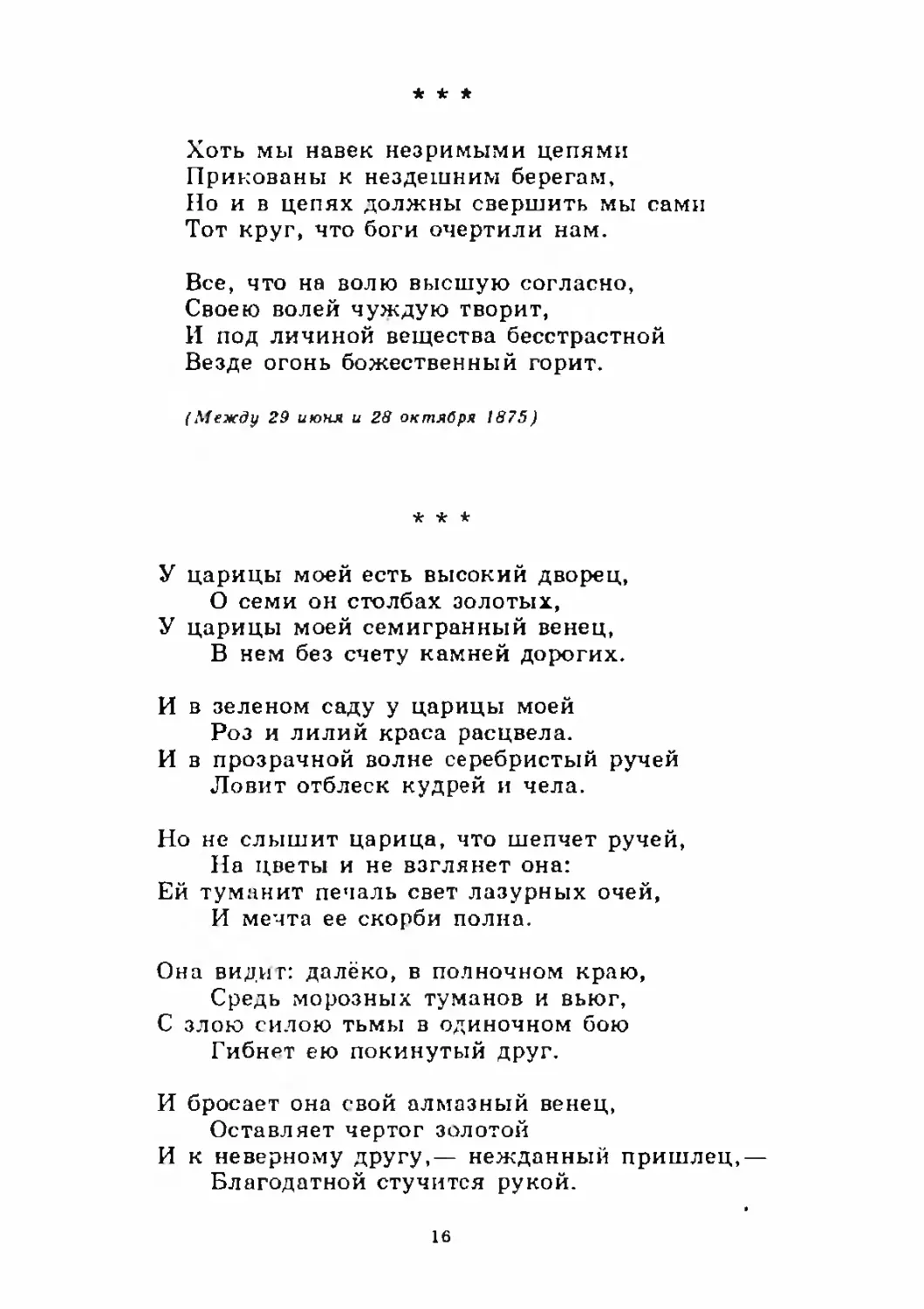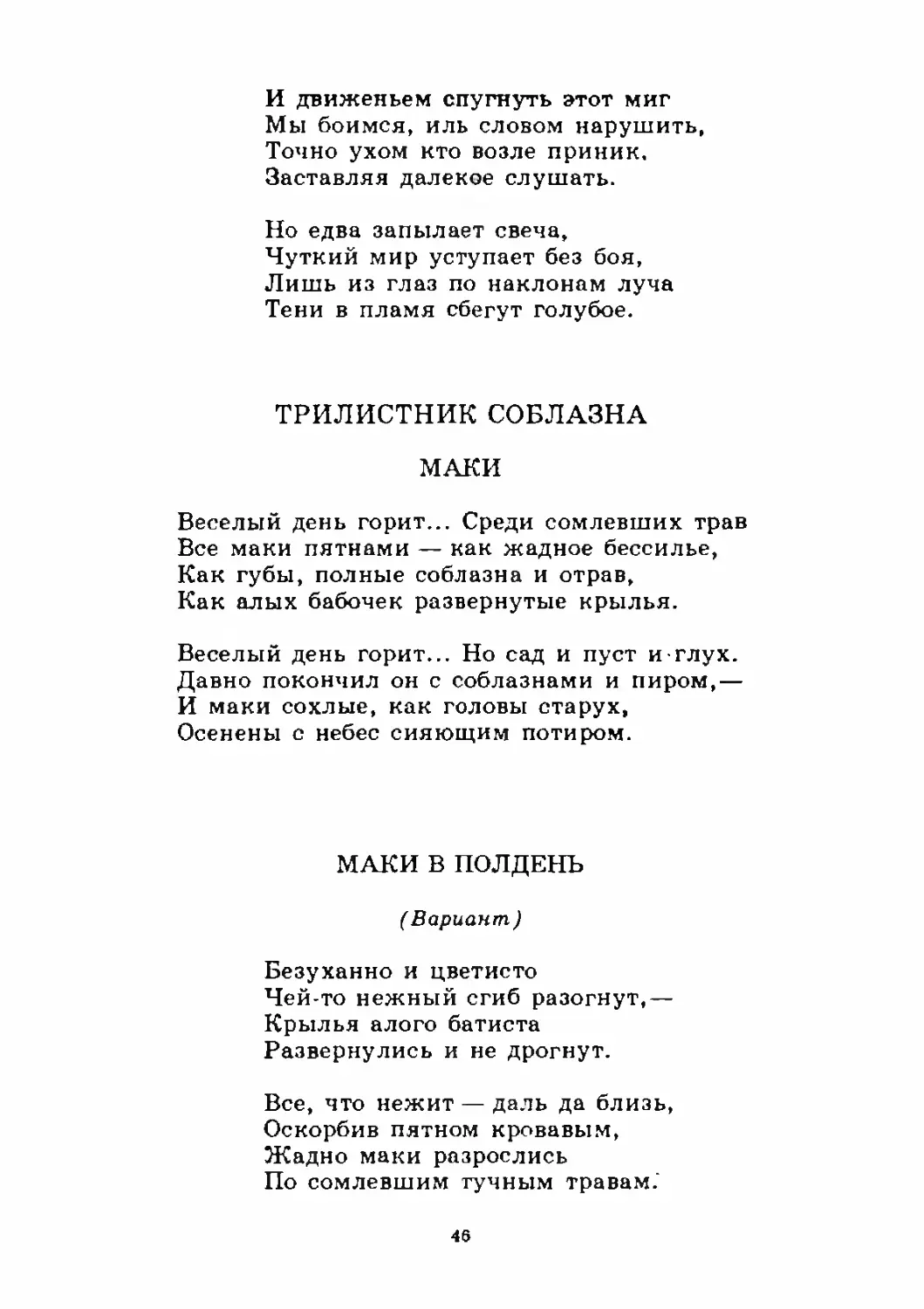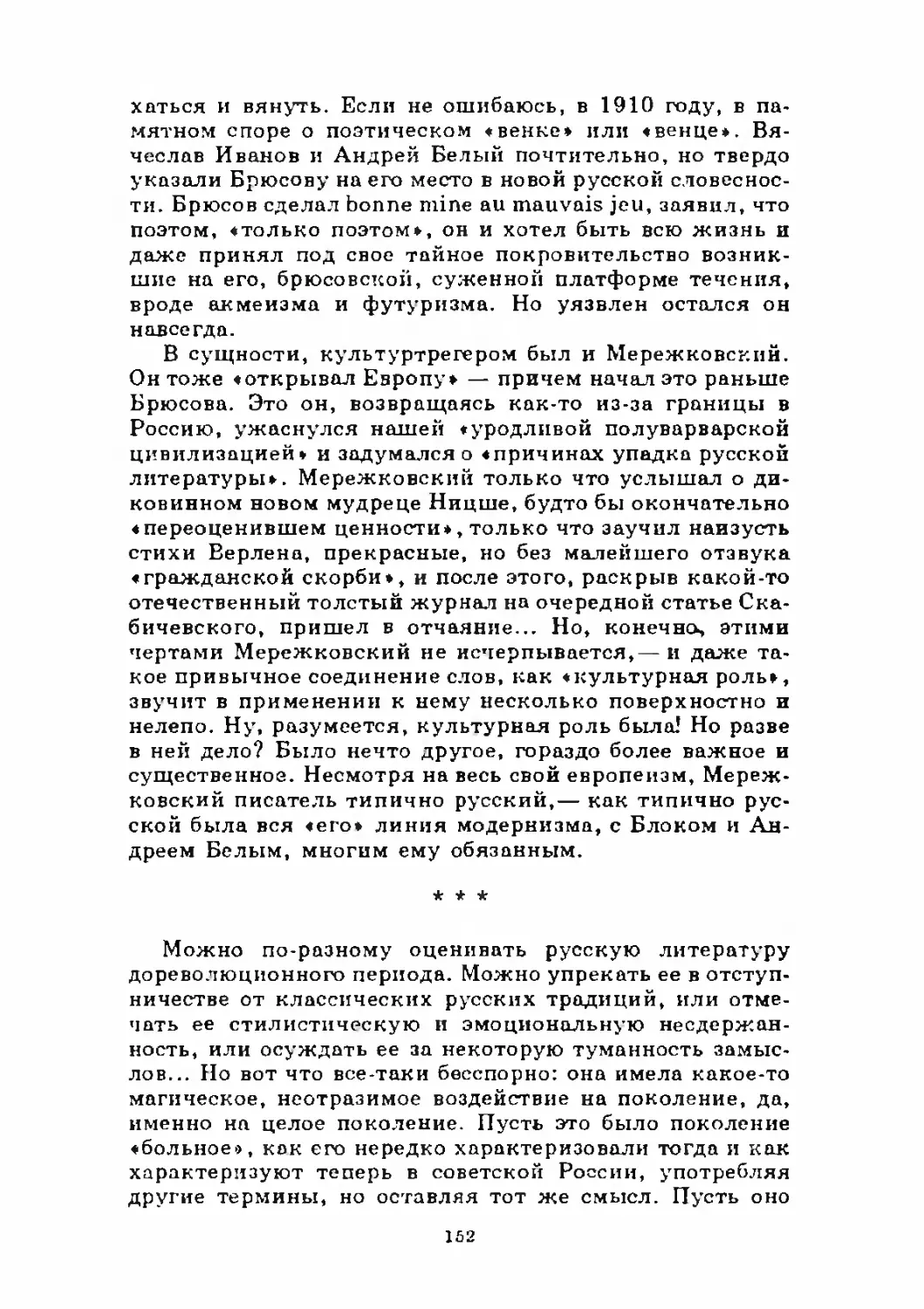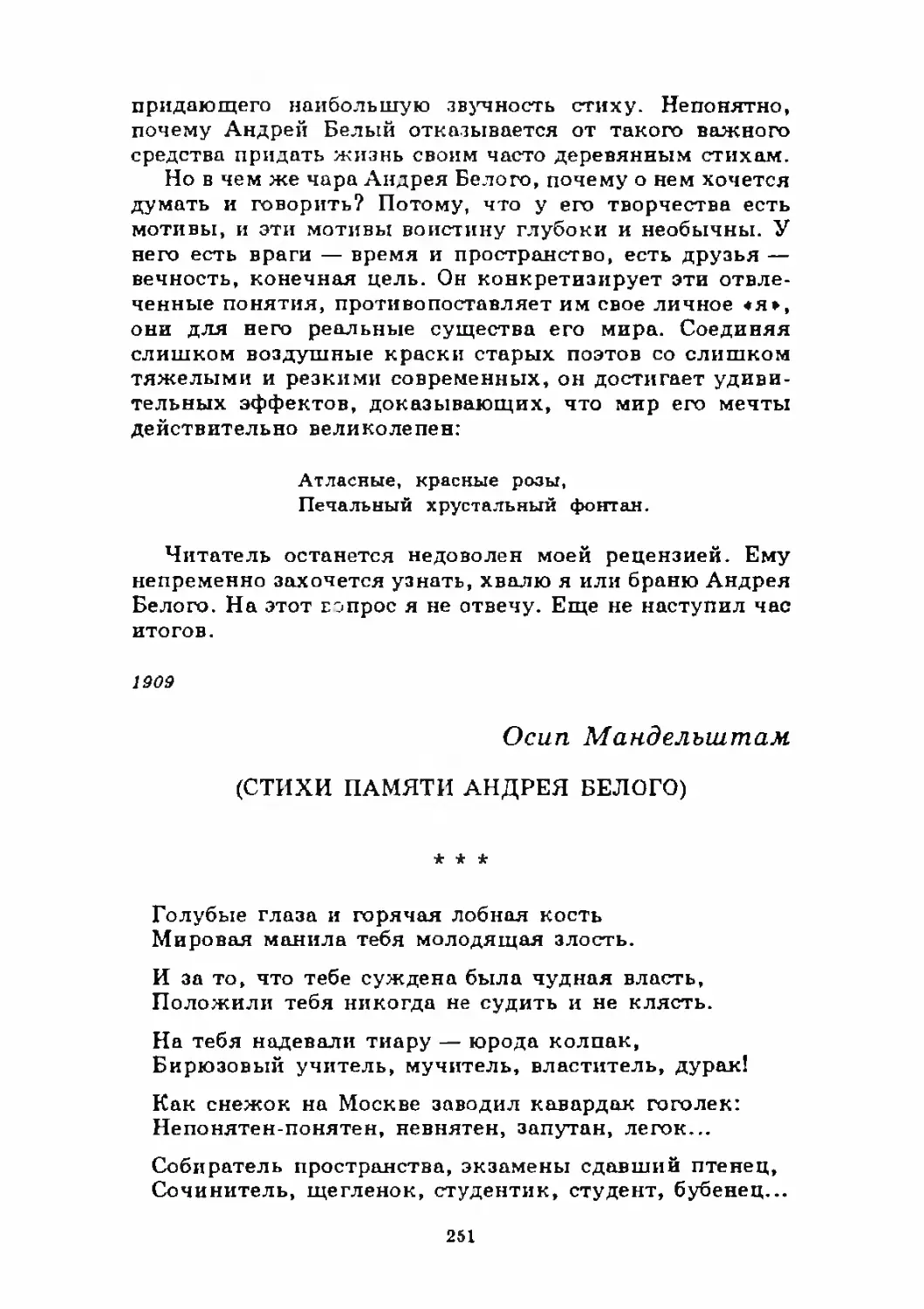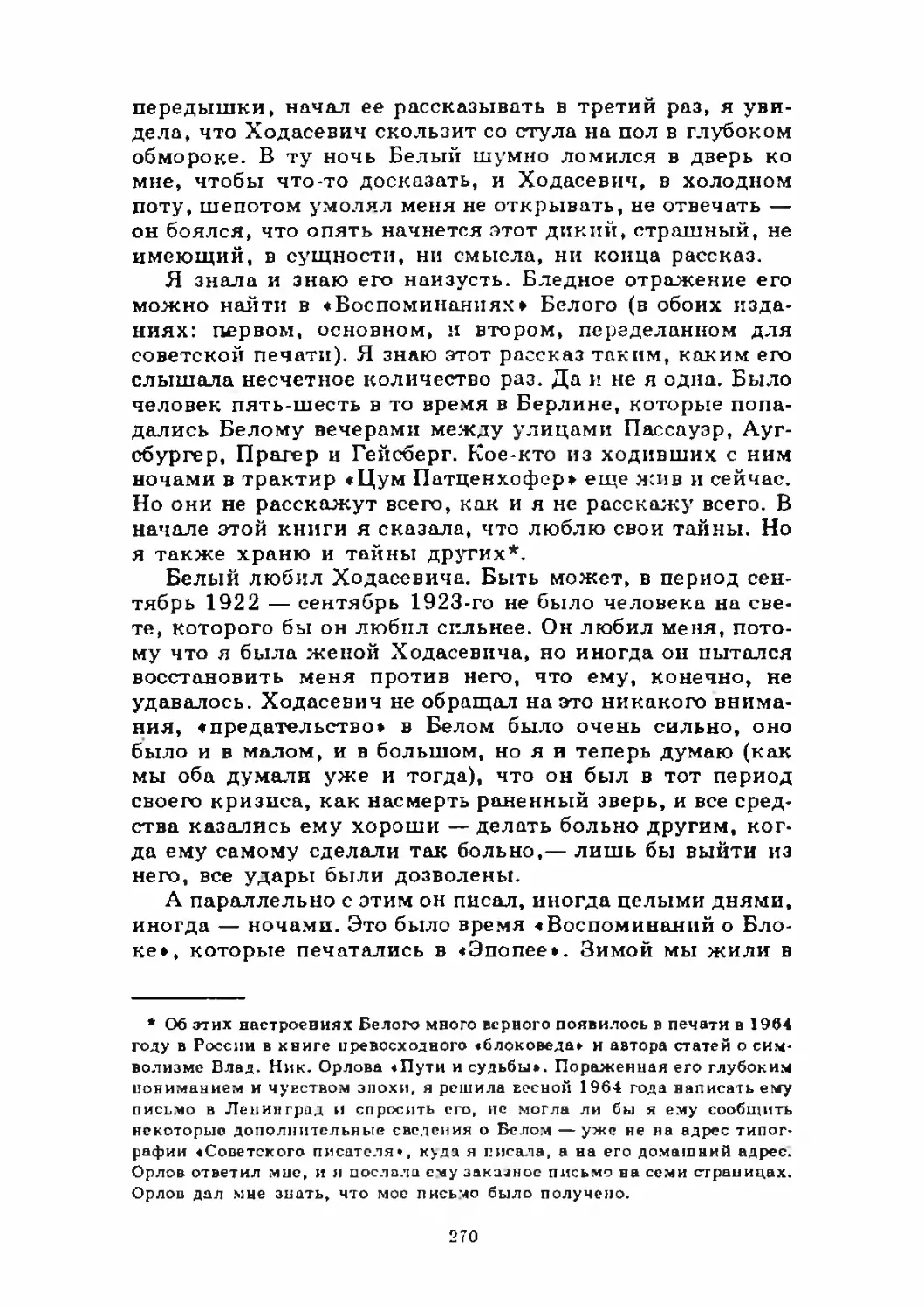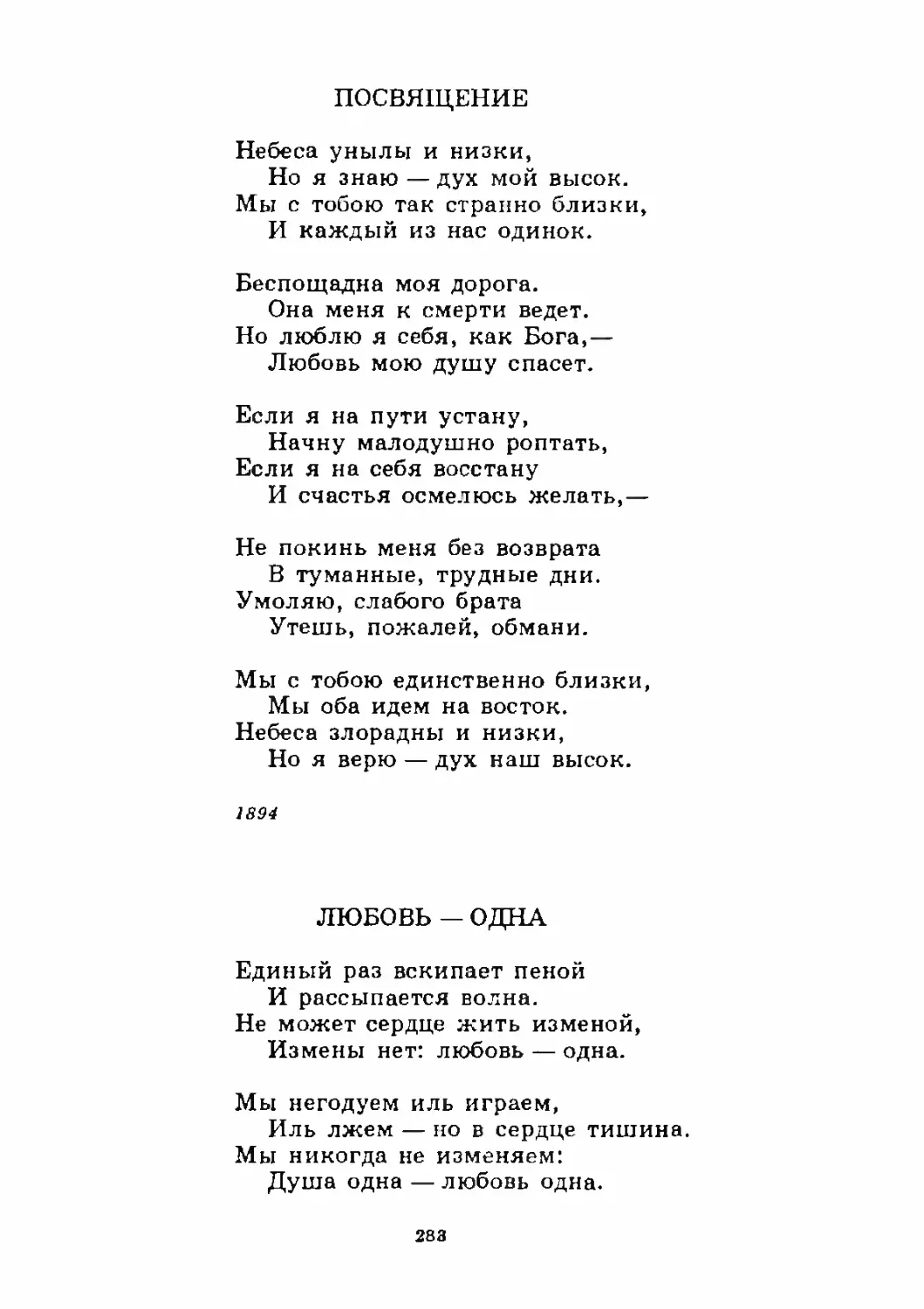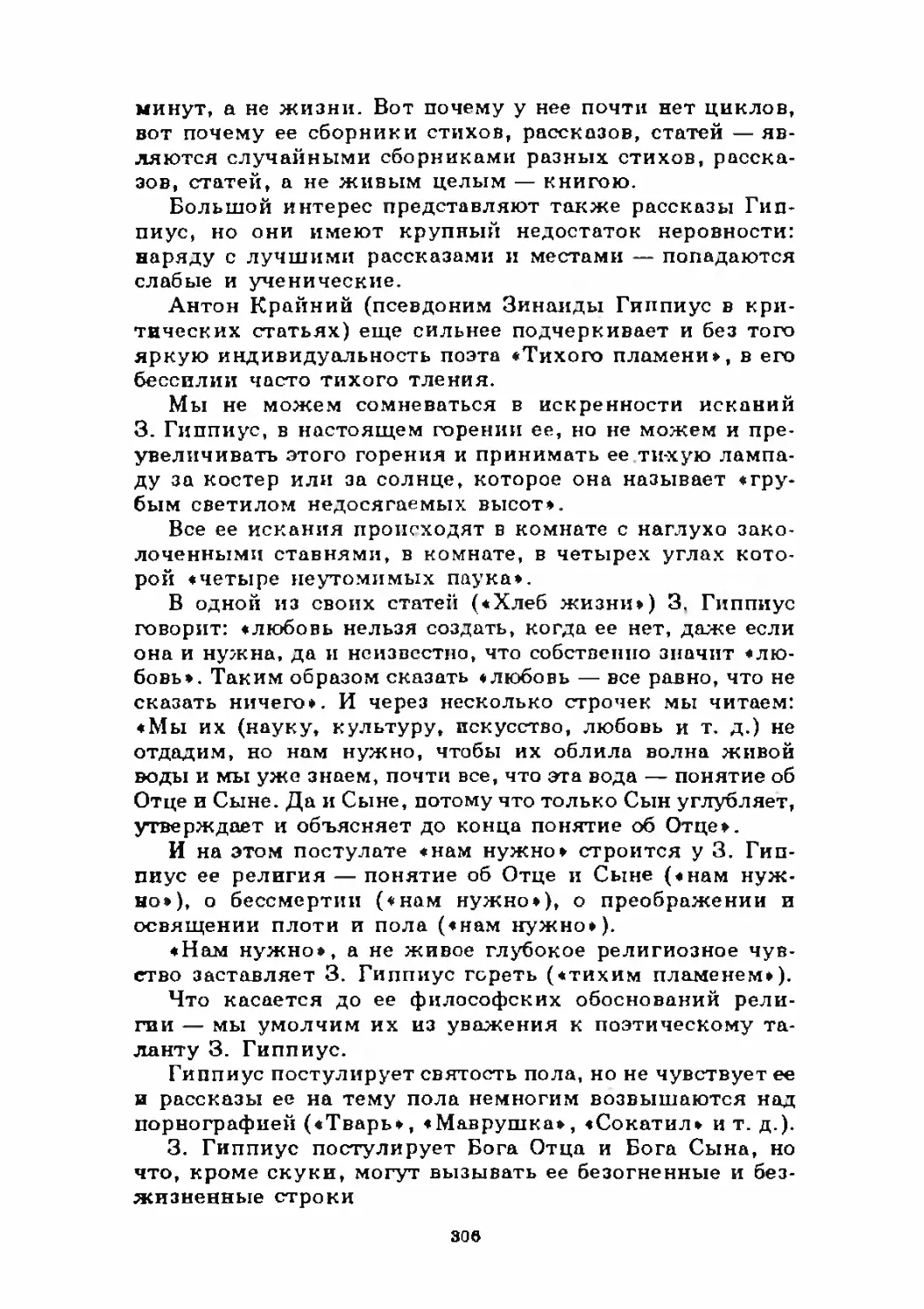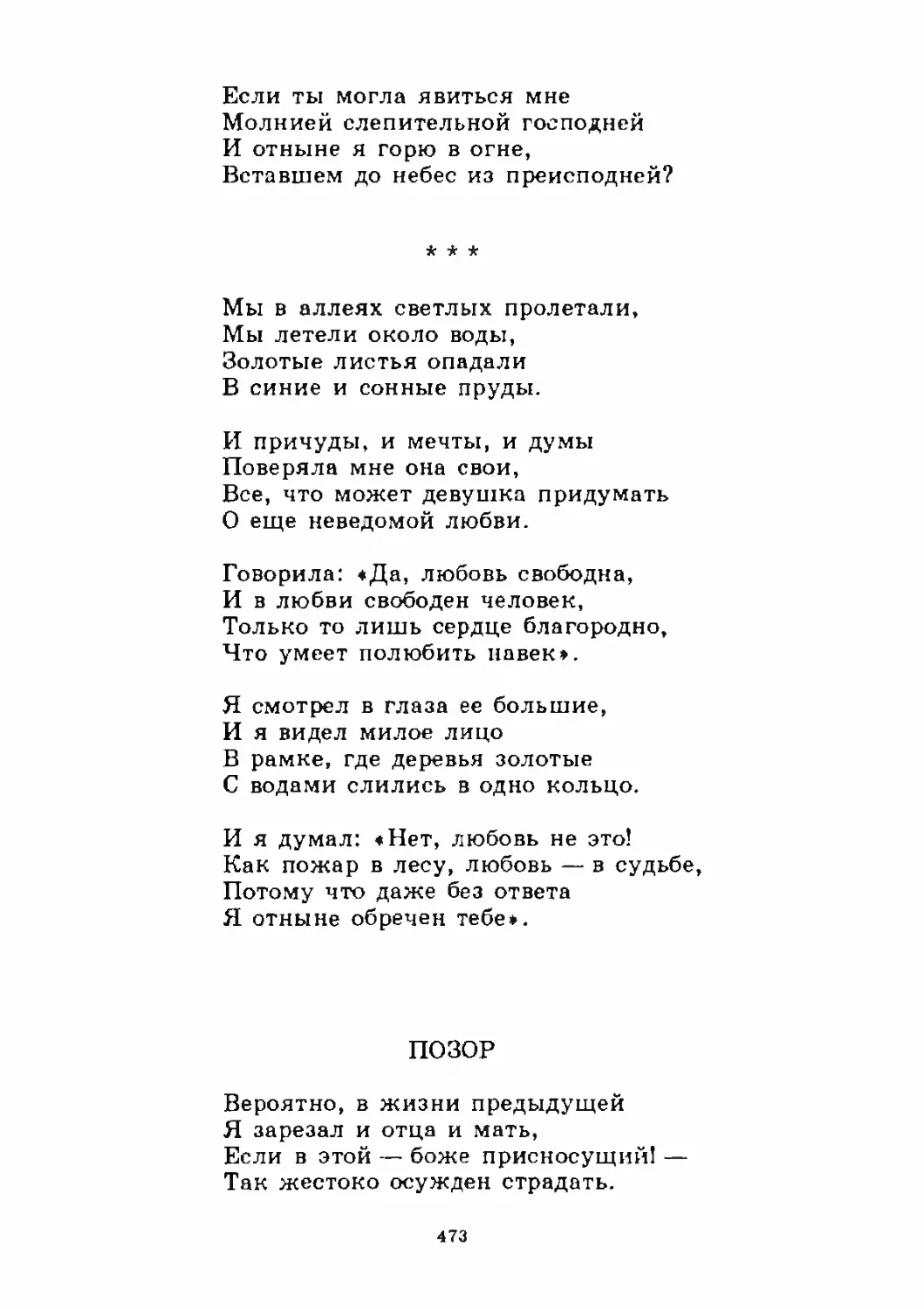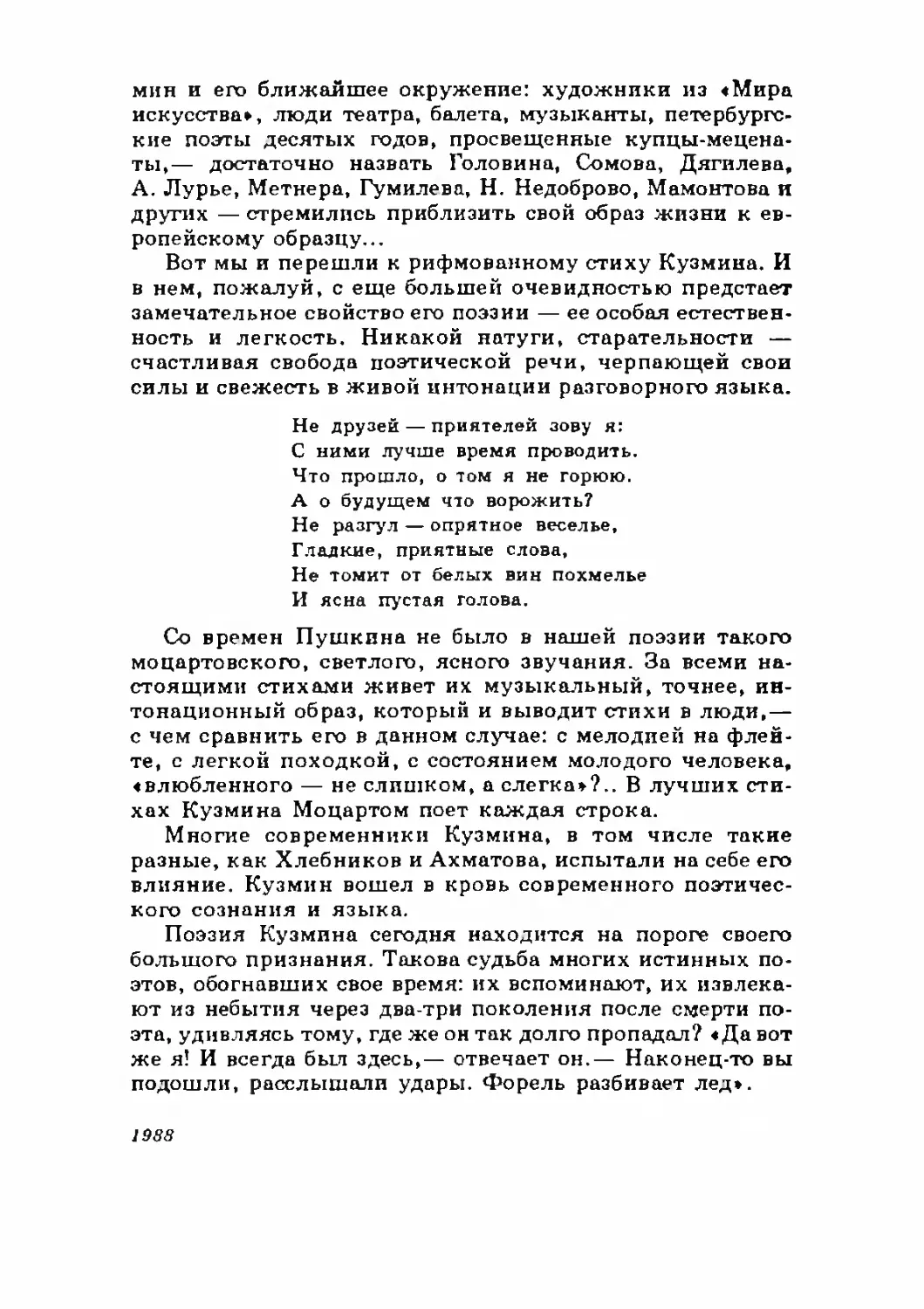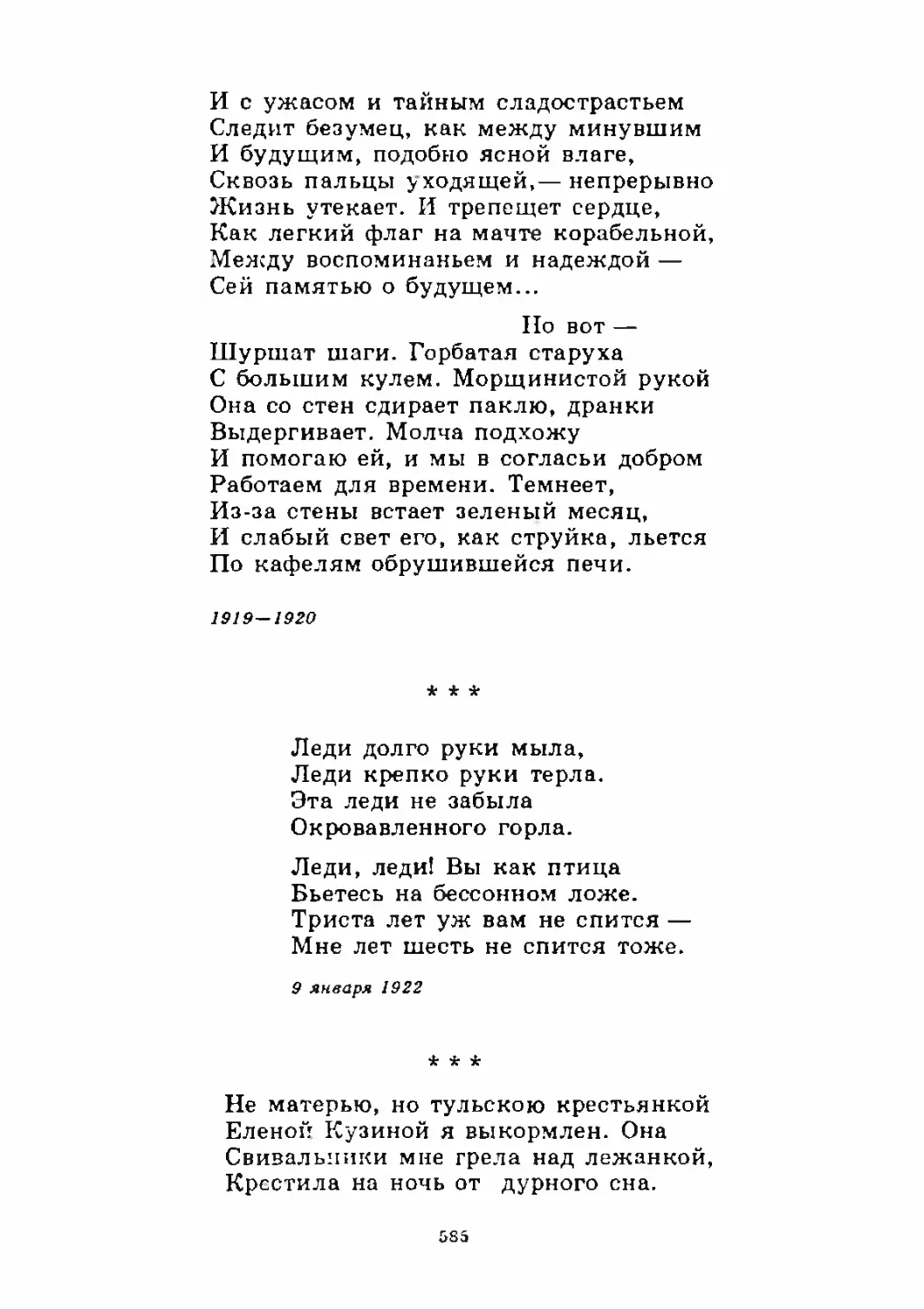Автор: Бек Т.А.
Теги: язык языкознание лингвистика литература художественная литература
ISBN: 5-7390-0346-6
Год: 1999
Текст
КНИГА
СЕРЕБРЯНЫЙ век
КРИТИКА
И КОММЕНТАРИИ
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
поэзия
темы и РАЗВЕРНУТЫЕ
Т/АНЫ СОЧИНЕНИЙ
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ подготовки
к УРОКУ
ШКОЛА
КЛАССИКИ
КНИГА ДЛЯ УЧЕНИКА
И УЧИТЕЛЯ
Книги
серии « Школа классики»
• посвящаются писателям, чье творчество
изучается в общеобразовательных шко¬
лах, гимназиях и лицеях;
• содержат произведения, включенные как
в базовую, так и в углубленную програм¬
мы курса литературы;
• отличаются от обычных изданий клас¬
сики тем, что предоставляют учителям
богатый -справочный и методический
материал;
• помогают учащимся расширить пред¬
ставление о месте и роли писателя в
литературном процессе (вступительная
статья высказывания критиков, ком¬
ментарии, библиография, темы сочине¬
ний, развернутые планы некоторых из
них и т. п.)
Книги серии «Школа классики» незаме¬
нимы также для выпускников и абиту¬
риентов.
ШКОЛА
КЛАССИКИ
СЕРЕБРЯНЫЙ век
поэзия
МОСКВА
ACT
ОЛИМП
1999
УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)1 —5
С 32
Серия «Школа классики» — ученику и учителю
Редактор-составитель Т. А. Бек
С32 Серебряный век. Поэзия — М.: Олимп; ООО «Фирма
«Издательство АСТ», 1999. — 672 с. — (Школа клас¬
сики).
ISBN 5-7390-0346-6 (обш.)
ISBN 5-7390-0326-1 (“Олимп”)
ISBN 5-237-00186-6 ("ACT”)
В сборнике кроме произведений поэтов «серебряного века*,
изучаемых по школьной программе публикуется много дополни¬
тельных материалов, призванных помочь в первую очередь уча¬
щимся при изучении интереснейшего периода в истории русской
литературы. Среди них: комментарии, краткие биографии поэ¬
тов «серебряного века*, воспоминания современников, высказы¬
вания литературных критиков, темы школьных сочинений, за¬
дания для самостоятельной работы, материалы для проведения
тематического литературного вечера и др.
Книга адресована учащимся одиннадцатых классов и абиту¬
риентов.
ББК 84(2Рос-Рус)1— 5
© Серия, состав, комментарии,
справочные материалы. “Олимп", 1У98
© Оформление.
ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998
СИЛУЭТ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»
Вместо предисловия
Русский поэтический «серебряный век», традиционно
вписываемый в начало XX столетия, на самом деле исто¬
ком своим имеет столетие XIX и всеми корнями уходит в
«век золотой», в творчество Пушкина, в наследие пушкин¬
ской плеяды, в тютчевскую философичность, в импресси¬
онистичную лирику Фета, в некрасовские прозаизмы, в
порубежные, полные трагического психологизма и смут¬
ных предчувствий строки Константина Случевского... Как
справедливо пишет один из исследователей русского по¬
этического «серебра»: «Девяностые годы начинали листать
черновики книг, составивших вскоре библиотеку двадца¬
того века... С девяностых годов начался литературный
посев, принесший всходы»*.
Сам термин «серебряный век» является весьма услов¬
ным и охватывает собою явление со спорными очертания¬
ми и неравномерным рельефом. Впервые это название
было предложено философом Н. Бердяевым, но четко оно
закрепилось за русской поэзией модернизма после появле¬
ния в свет статьи Николая Оруна «Серебряный век» рус¬
ской поэзии» (1933), а вслед за изданием книги Сергея
Маковского «На Парнасе серебряного века» (1962) вошло
в литературный оборот окончательно. Если исходная гра¬
ница «серебряного века» дискуссионной не является (она
более или менее совпадает с хронологическим рубежом
столетий), то финал интересующего нас явления раз¬
ными исследователями прочерчивается по-разному и, бу¬
дучи прочерчен, зачастую болезненно рассекает нерав¬
номерно длящиеся живые пути отдельных поэтов. Так,
Ин. Анненский ушел из жизни в 1909 году, а И. Бунин —
в 1953-м, притом, что и тот, и другой не могут быть изъ¬
яты из общего контекста «серебряного века». Мы солидар¬
ны с Вадимом Крейдом, трактующим конечную границу
явления в историческом плане: «Все кончилось после
* Осетров Е. Лики русской музы (стихи и поэты серебряного века).—
В кн.: Поэзия серебряного века. М., «Художественная литература»,
1991, с. 4
б
1917 года, с началом гражданской войны. Никакого сереб¬
ряного века после этого не было, как бы нас ни хотели уве¬
рить. В двадцатые годы еще продолжалась инерция, ибо
такая широкая и могучая волна, каким был наш серебря¬
ный век, не могла не двигаться некоторое время, прежде чем
обрушиться или разбиться. Еще живы были большинство
поэтов, критики, философы, художники, режиссеры, ком¬
позиторы, индивидуальным творчеством и общим трудом
которых создан был серебряный век, но сама эпоха кончи¬
лась. Каждый ее активный участник понимал, что, хотя,
люди и остались, характерная атмосфера эпохи, в которой
таланты росли, как грибы после грибного дождя, сошла на
нет. Остался холодный лунный пейзаж без атмосферы — и
творческие индивидуальности — каждый в отдельной замк¬
нутой келье своего творчества. По инерции продолжались
еще некоторые объединения... но и этот постскриптум сереб¬
ряного века оборвался на полуслове, когда прозвучал выст¬
рел, сразивший Гумилева»*.
Однако вернемся вспять, к истокам. Нельзя не согла¬
ситься с Н. Оцупом, утверждавшим, что если важнейшие
характеристики «золотого века» (воплотившегося с макси¬
мальной полнотой в творчестве Пушкина) — это широта и
грандиозность поставленных задач, высокий трагизм и
пророческое предназначение художника, неподражаемое
совершенство формы, то «серебряный век» характеризует¬
ся в первую очередь мистицизмом, ницшеанством и кри¬
зисом веры, духовности, совести. Поэзия в начале XX века
становится сублимацией душевного недуга, психической
дисгармонии, внутреннего хаоса и смятения. Едва ли не
каждый из представителей русского поэтического «сереб¬
ряного века» мог бы повторить вслед за Ин. Анненским:
Но я люблю стихи — и чувства нет святей:
Так любит только мать и лишь больных детей.
Сравнивая два величайших по своему наполнению пе¬
риода русской поэзии, Н. Оцуп приходит к важному выво¬
ду: «Есть золотой и есть серебряный век искусства. И в
тот, и в другой — люди друг друга стоят. Вряд ли первые
другой природы, чем вторые.
Равновесие нарушается стихией.
Стихия Ренессанса, как бы выбирая углубления, замед¬
ляется и собирается в больших артистах своего времени.
Они и сами замечательны, но стихия делает их великими.
Но вот стихия схлынула, выговорилась.
На смену тем артистам пришли другие, вряд ли менее
* Оцуп Н., «Серебряный век» русской поэзии.— В кн.: Оцуп Н., Оке¬
ан времени» Стихотворения. Дневник в стихах. Статьи и воспоминания
о писателях. C.-П., Logos, 1994, с. ббб.
6
подлинные. Но они предоставлены только своим силам. За
них ничто уже не действует, не говорит. Им недостаточно,
как тем, более счастливым, всмотреться и вслушаться. То,
что недавно было полно света и звуков, стало похоже на
тишину и сумерки. Художнику серебряного века не помо¬
гает стихия.
Но организация человека все та же, и без союзника
иррационального он все же делает свое дело.
Героизм серебряного века в этом и состоит. И что-то в
созданиях его художников, несмотря на неизбежную блед¬
ность, даже лучше искусства золотого. Там слишком уж
все полногласно, слишком переливается через край.
Здесь — мера человеческих сил.
Все суше, бледнее, чище, но и, более дорогой ценой куп¬
ленное, ближе к автору, более — в человеческий рост»*.
Поэт-философ Владимир Соловьев, чье мощное диони-
сийство и поиск вечной женственности как воплощение
добра, истины и красоты не только сформировали его соб¬
ственную аллегорическую лирику, но и проложили дорогу
выдающимся последователям Вяч. Иванову, Блоку, Бело¬
му, с проницательностью медиума очертил трудную задачу
художника новых времен:
Все, изменяясь, изменило,
Везде могильные кресты,
Но будят душу с прежней силой
Заветы творческой мечты.
Безумье вечное поэта —
Как свежий ключ среди руин...
Времен не слушаясь запрета,
Он в смерти жизнь хранит один.
Процитированное стихотворение называется «Ответ на
♦ Плач Ярославны», что само по себе достаточно характер¬
но, ибо вся поэзия «серебряного века», жадно вобрав в
себя наследие Библии, античную мифологию, опыт евро¬
пейской и — шире — мировой литературы, теснейшим об¬
разом связана с русским фольклором, с его песнями, пла¬
чами, сказаниями, частушками (см. статью А. Блока «По¬
эзия заговдров и заклинаний»). В этих стихах В. Соловьева
как бы закодированы и другие важнейшие тенденции сим¬
волизма как литературно-философского направления: по¬
этика намека и иносказания, эстетизация смерти как
живого начала, креативная сила «безумья», знаковое на¬
полнение обыденных слов. Еще одна важнейшая примета
символизма — апология мига, мимолетности, сиюминут-
* Крейд В., Встречи с серебряным веком.— В кн. Воспоминания о
серебряном веке. М., «Республика», 1993, с. 7
7
ности, в которых отражается Вечность,— отчетливо зву
чит в следующих соловьевских строках:
Подвиг сердца женского,
Тень мужского зла,
Солнца блеск вселенского
И земная мгла...
Что разрывом тягостным
Мучит каждый миг —
Все ты чувством благостным
В красоте постиг.
Владимир Соловьев стоял у истоков русского «серебря¬
ного века» как старт для духовного взлета целой культур¬
ной общности творцов, как создатель новаторской филосо¬
фии всеединства и родоначальник экуменизма, как насле-
дователь и, одновременно, предтеча.
Ин. Анненский в программной для «серебряного века»
статье «О современном лиризме» (1909) наметил важней¬
шие тенденции своего поэтического окружения: «Совре¬
менная поэзия чужда крупных замыслов, и в ней редко
чувствуется задушевность и очарование лирики поэтов
пушкинской школы.
Но зато она более точно и разнообразно, чем наша клас¬
сическая, умеет передавать настроение. Это зависит от
гибкости, которую приобрели в ней ритмы, а также от
стремления большинства поэтов придать своим стихам
своеобразную колоритность. Сказалось, конечно, и стрем¬
ление к новизне.
На нашем лиризме отражается усложняющая жизнь
большого города. В результате более быстрого темпа этой
жизни и других условий недавнего времени — современ¬
ная лирика кажется иногда или неврастеничной, или уг¬
нетенной.
Среди модернистов заметно сильное влияние француз¬
ской поэзии — за последнее время особенно Верхарна и
Эредиа.
Изредка возникают попытки'и славянско-византийской
стилизации, причудливый возврат к старине»*.
Поэтам «серебряного века» дороги и близки все явле¬
ния живой природы, культуры, Космоса вне их привыч¬
ной иерархии. «Славлю в равной мере [Капельку и
море»,— пишет один символист, а другой откликается: «И
Господа, и Дьявола] Хочу прославить я...»
Новое мировоззрение потребовало от новой поэтической
генерации нового приема. Таковым стал символ —
многозначное иносказание, сформировавшее еще поэтику
* Алпепский Ип. Книги отражений. М., «Наука», 1979, с. 382.
8
Священного писания, а затем причудливо разработанное
французскими символистами. «...Опыт библейской симво¬
лики очень повлиял на судьбу слова «символ*: в «светском*
понимании оно оставалось простым риторическим приемом,
применимом к любому материалу, в «духовном» же понима¬
нии оно прочно оказалось связано с религиозной тематикой
как земной знак несказуемых земных истин»*.
Русский символизм возник как цельное направление,
но преломился в ярких, независимых, непохожих индиви¬
дуальностях. Если колорит поэзии Ф. Сологуба мрачен и
трагичен, но энергетика раннего К. Бальмонта, напротив,
пронизана солнцем, витальна, оптимистична, объединяет
этих, столь популярных, художников отношение к слову
как к многосмысленному посланию, как к семантически
труднопередаваемой вести, как к шифру некоей духовной
тайнописи. «Символ,— писал один из теоретиков и прак¬
тиков нового движения,— только тогда истинный символ,
когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении,
когда он изрекает на своем сокровенном (иератическом и
магическом) языке намека и внушения нечто неизглаголе-
мое, неадекватное внешнему слову. Он многолик, много-
смыслен и всегда темен в последней глубине».
Новое движение закрепило за собою окончательное
имя, когда вышла в свет книга стихотворений Д. Мереж¬
ковского «Символы» (1892) — оформилось же это течение
благодаря трем сборникам «Русские символисты», выпу¬
щенным Брюсовым (1894—1895) и состоявшим, в основ¬
ном, из его же произведений. Если у Брюсова и Бальмонта
доминировало «светское» понимание слова «символ» (они
видели в символизме школу с определенной техни¬
кой), то у В. Иванова, Блока, Белого, которых принято
называть «младшими символистами», возобладала мисти¬
ко-религиозная трактовка этого понятия.
Поэтам-символистам свойственен глубокий историзм, с
позиций которого видятся и события современности, сугу¬
бая музыкальность поэтической строки и широчайший эн¬
циклопедизм культурного арсенала. Показательно, что все
крупнейшие поэты очерченного круга были и крупнейшими
переводчиками, испытывая творческую тягу к иноязычным
культурам и просодиям. Так, И. Анненский перекладывает
на русский язык Еврипида, Бальмонт — грузинский эпос,
Брюсов готовит антологию многовековой армянской поэзии.
Гумилев (фигура пограничная между символизмом и акме¬
измом) переводит Т. Готье и французских символистов.
С другой стороны, поэты «серебряного века» не ограни¬
чивались локальными лирическими жанрами (хотя внут-
* Гаспаров М. Поэтика «серебряного века» — В ■кн.: Русская поэзия
серебряного века. 1890 —1917. Антология. М., «Наука», 1993, с 17.
9
рижанровое разнообразие формы было невероятное: балла ¬
ды, триолеты, венки сонетов, лирические миниатюры, пес¬
ни, поэмы) — они внесли существенный вклад в развитие
русской эссеистики, критики, литературоведения. Искусст¬
во XX века не может быть понято без «Книг отражений»
Ин. Анненского, без статей, рецензий, заметок Брюсова и
Блока, без «Писем о русской поэзии» Н. Гумилева, без ме¬
муарного «Некрополя» В. Ходасевича. Но, пожалуй, с мак¬
симальной силой литературный кругозор и универсализм
выразился в потрясающей прозе Ф. Сологуба и А. Белого,
без чьих романов «Мелкий бес» и «Петербург» невозможно
представить себе пути не только отечественной, но и миро¬
вой прозы. Почему? «Во-первых, потому что и Ф. Сологуб и
А. Белый были активнейшими сторонниками «нового ис¬
кусства», точнее символизма, ставившего своей целью пре¬
образовать литературу. Во-вторых, «Мелкий бес» и «Петер¬
бург» — это проза поэтов, а следовательно, проза особенная.
В-третьих, сначала роман Сологуба, а затем роман Белого
оказали и сегодня до конца неосознанное мощное влияние
на ход литературного развития»*. Иррациональное непри¬
ятие обыденной жизни, цитатность и реминисцентность,
ритмическая организованность, поющая звукопись фразы,
сюжетная фрагментарность и свобода — все это роднит про¬
зу поэтов и создает ее неповторимое очарование.
Общность столь разных художественных индивидуаль¬
ностей закреплялась не только в сходном отношении к
слову, образу, ритму — в отношении новаторском, изобре¬
тательном, ориентированном на ритмико-интонационную
ломку (а версификационная форма стиха в «серебряном
веке» подверглась решительному пересмотру, была воис¬
тину взорвана: были введены новые размеры, воца¬
рилась длинная строка, узаконились перепады метра и то
неточные, то каламбурные рифмы). Поэты начала XX века
более, чем их предшественники, склонны к манифестам,
программам, декларациям с выражением эстетических
вкусов, симпатий и отталкиваний, одна из этих программ
преподана в ставших хрестоматийнами строчках Брюсова:
Юноша бледный со взором горящим!
Ныне даю я тебе три завета.
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.
Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.
* Клинг О. О романах двух поэтов.— В кн.: Ф. Сологуб. Мелкий бес;
А. Белый. Петербург, Ставропольское книжное издательство, 1988, с. 67
10
Заветы модернизма сформулированы здесь в заос¬
тренно эгоцентрическом виде, однако именно беззаветное
поклонение искусству сближает поэтов, так или иначе
относящихся к «серебряному веку».
Литературная жизнь Петербурга кипела и концентриро¬
валась на «башне» Вяч. Иванова и в салоне Гиппиус-Мереж¬
ковского: индивидуальности развивались, переплетались и
отталкивались в горячих литературных дискуссиях, фило¬
софских диспутах, импровизированных уроках и лекциях.
Именно в процессе этих живых взаимопересечений от сим¬
волизма отошли новые течения и школы — акмеизм, главой
которого стал Н. Гумилев, и эгофутуризм, представленный
в нашей антологии фигурой неутомимого словотВорца И.
Северянина. Впрочем, и то, и другое движение могут быть
названы дочерними ветвями того же символизма, из
недр которого они произросли, сохранив при всей полемич¬
ности свой генезис. «Уже в самом символизме — особенно
конца 1900-х годов — было заложено два начала: ориен¬
тация на неоклассицизм»... и авангард, точнее предав-
ангард...»*.
Акмеизм, предвестниками которого были прежде всего
И. Анненский и М. Кузьмин (его статья «О прекрасной
ясности» содержит в себе основные постулаты нового тече¬
ния, от которого он лишь формально отрещивался) был ори¬
ентирован на земное, ясное, предметное начало мира. Эго¬
футуризм же был пронизан антибуржуазным протестом, па¬
фосом эпатажа, напряженным интересом к «самовитому
слову», к неологизму, к игровому началу.
На смену неопределенным, «красивым», возвышенным
символам, на смену недосказанности и недовыраженности
приходят простые предметы, карикатурные композиции, ос¬
трые, резкие, вещные знаки мира. Поэты-новаторы ощуща¬
ют себя рукодельцами свежих слов и не столько пророками,
сколько мастерами в «рабочей комнате поэзии» (выражение
Ин. Анненского). Недаром объединившаяся вокруг акмеи¬
стов общность назвала себя именно Цехом поэтов:
указание на земную подоснову творчества, на возможность
коллективного вдохновенного усилия в поэтическом ис¬
кусстве. И недаром одно из важнейших футуристических
изданий самоопределилось как пощечина обществен¬
ному вкусу: указание на конфликтность и полемичность
по отношению к предшественникам.
Поэзия «серебряного века» с трудом поддается четкой
классификации и как бы сопротивляется рациональному
делению на периоды, направления, школы. Повторяем, за¬
чатки акмеизма как «парнасской» школы и футуризма
* Клинг О. Стилевое становление акмеизма: Н. Гумилев и симво¬
лизм.— «Вопросы литературы», 1995, № б, с. 108.
11
как целеустремленной поэтики будущего таятся в
глубинных слоях символизма, а внутри отдельного поэти¬
ческого мира (скажем, гумилевского) подчас сосуществуют
теоретически далекие друг от друга музыкально-философс¬
кие стихии. Есть в рамках «серебряного века» фигуры и
вовсе сопротивляющиеся прикреплению к той или иной
группе: так, герметичны и обособленны Бунин и Ходасе¬
вич, без которых при этом картина литературной эпохи
была бы неполноценной*.
И вообще,необходимо учесть, что все вошедшие в насто¬
ящую антологию авторы творили не только стихи,
баллады, или поэзы, но с колоссальным напряжением и эк¬
зистенциальным риском лепили и собственную судьбу:
интенсивное жизнестроение, отношение к собственной био¬
графии как к выстраиваемому мифу, гибельный и сладкий
«восторг бытия» в большой мере свойственен именно поэтам
предреволюционной эпохи. Когда думаешь об этом, то сухие
академические мерки и рамки представляются, очевидно,
тесными и потому неприемлемыми. Неслучайно крупней¬
ший поэт эпохи Александр Блок так определенно сопротив¬
лялся начетничеству и нивелировке, не желая «стать досто¬
янием доцента» и неизменно видя собственную жизнь в
литературе как мучительно живой путь. Именно с этим
самоощущением связано, кстати, совершенно новое отноше¬
ние поэтов «серебряного века» к книге стихотворений как к
единой целостности со сквозным лирическим сюжетом, во¬
площающим эту самую идею пути и «попутно» образующим
единые циклы, тождественные жизненным вехам.
Поэтика «серебряного века» требует исключительного
читательского соучастия. «Искусство чтения становится
не менее важным, чем искусство писания»,— отмечает
выдающийся специалист по стиховой культуре XX века
М. Гаспаров**.
На ваше, на читательское, сотворчество и рассчитана
настоящая антология.
ТАТЬЯНА БЕК
* О стилевой полифонии внутри поэтики «серебряного века» см.: Се¬
ребряный век в России. Избранные страницы. М., Радикс, 1993; Корец¬
кая И. Над страницами русской поэзии и прозы начала века. М., Радикс,
1995
** Гаспаров М. Там же, с. 42.
ВЛАДИМИР
СОЛОВЬЕВ
1853—1900
Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900) — выдающийся рус¬
ский религиозный философ, поэт, публицист и критик. Сын из¬
вестного историка Сергея Михайловича Соловьева Окончил Мос¬
ковский университет (историко-филологический факультет) и за¬
щитил магистерскую, а затем докторскую диссертации. В 1881
году публично выступил против смертной казни — в связи с судом
над народовольцами, убившими Александра II,— и вынужден был
оставить преподавательскую работу, целиком посвятив себя науч¬
ной и литературной деятельности. Был вольнодумцем: выступал
за свободу совести и против национализма.
Огромную роль в формировании Соловьева-философа и поэта
сыграло состоявшееся в конце 70-х годов близкое знакомство с
Достоевским. Они вместе ездили в Оптину пустынь к старцу Амвро¬
сию. Достоевскому Соловьев послужил одним из прототипов Алеши
и Ивана при написании романа «Братья Карамазовы».
Христианско-платоническое миросозерцание Соловьева имело
под собой глубокую мистико-поэтическую основу. Идеальную цель
исторического и — шире — космического процесса Соловьев видел
в «положительном всеединстве», при котором разъединенность ис¬
чезает на всех уровнях бытия и сознания. Облик «всеединства»
виделся Соловьеву как воплощение вечной женственности, «дей¬
ствительно вместившей полноту добра и истины, а через них не¬
тленное сияние красоты». В рамках его философии (и здесь он
перекликается с Достоевским) красота — это реальная движущая
сила, просветляющая человеческий мир.
Поэзия Соловьева, насыщенная символикой, неотделима от его
философской мысли. Развивая традиции Тютчева, Фета и
А. К. Толстого, Соловьев строил собственную — напряженную и
самобытную — лирическую исповедь. Духовность его поэзии при¬
чудливо переплеталась со склонностью к юмору, к гротеску, к
пародии, к иронии.
В поэтике Соловьева много тайнописи и аллегорий. Он оказал
сильнейшее влияние на «младших» символистов, благодарно и
творчески развивших его основные мотивы — вечной женственно¬
сти, мировой души, катастрофических предчувствий, его учение о
«теургической» и пророческой миссии искусства.
Изд.: Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974
(«Библиотека поэта», Большая серия).
14
к 'к ±
Природа с красоты своей
Покрова снять не позволяет,
И ты машинами не вынудишь у ней
Чего твой дух не угадает.
<1872>
* * *
В сне земном мы тени, тени...
Жизнь — игра теней,
Ряд далеких отражений
Вечно светлых дней.
Но сливаются уж тени,
Прежние черты
Прежних ярких сновидений
Не узнаешь ты.
Серый сумрак предрассветный
Землю всю одел;
Сердцем вещим уж приветный
Трепет овладел.
Голос вещий не обманет.
Верь, проходит тень,—
Не скорби же: скоро встанет
Новый вечный день.
9 июня 1875
15
* * *
Хоть мы навек незримыми цепями
Прикованы к нездешним берегам,
Но и в цепях должны свершить мы сами
Тот круг, что боги очертили нам.
Все, что на волю высшую согласно,
Своею волей чуждую творит,
И под личиной вещества бесстрастной
Везде огонь божественный горит.
(Между 29 июня и 28 октября 1875)
•к * *
У царицы моей есть высокий дворец,
О семи он столбах золотых,
У царицы моей семигранный венец,
В нем без счету камней дорогих.
И в зеленом саду у царицы моей
Роз и лилий краса расцвела.
И в прозрачной волне серебристый ручей
Ловит отблеск кудрей и чела.
Но не слышит царица, что шепчет ручей,
На цветы и не взглянет она:
Ей туманит печаль свет лазурных очей,
И мечта ее скорби полна.
Она видит: далёко, в полночном краю,
Средь морозных туманов и вьюг,
С злою силою тьмы в одиночном бою
Гибнет ею покинутый друг.
И бросает она свой алмазный венец,
Оставляет чертог золотой
И к неверному другу,— нежданный пришлец,—
Благодатной стучится рукой.
16
И над мрачной зимой молодая весна —
Вся сияя, склонилась над ним
И покрыла его, тихой ласки полна,
Лучезарным покровом своим.
И незринуты темные силы во прах,
Чистым планемем весь он горит,
И с любовию вечной в лазурных очах
Тихо другу она говорит:
♦ Знаю, воля твоя волн морских не верней:
Ты мне верность клялся сохранить,
Клятве ты изменил,— но изменой своей
Мог ли сердце мое изменить?»
<Между концом ноября 1875 и 6 марта 1876> Каир
ТРИ ПОДВИГА
Когда резцу послушный камень
Предстанет в ясной красоте
И вдохновенья мощный пламень
Даст жизнь и плоть твоей мечте,
У заповедного предела
Не мни, что подвиг совершен,
И от божественного тела
Не жди любви, Пигмалион!
Нужна ей новая победа:
Скала над бездною висит,
Зовет в смятенье Андромеда
Тебя, Персей, тебя, Алкид!
Крылатый конь к пучине прянул,
И щит зеркальный вознесен,
И опрокинут — в бездну канул
Себя увидевший дракон.
17
Но незримый враг восстанет,
В рог победный не зови —
Скоро, скоро тризной станет
Праздник счастья и любви.
Гаснут радостные клики,
Скорбь и мрак и слезы вновь...
Эвридики, Эвридики
Не спасла твоя любовь.
Но воспрянь! Душой недужной
Беззащитный, безоружный,
Смерть зови на смертный бой!
И на сумрачном пороге,
В сонме плачущих теней
Очарованные боги
Узнают тебя, Орфей!
Волны песни всепобедной
Потрясли Аида свод,
И владыка смерти бледной
Эвридику отдает.
1882
EX ORIETNTE LUX*
♦ С Востока свет, с Востока силы!»
И, к вседержительству готов,
Ирана царь под Фермопилы
Нагнал стада своих рабов.
Но не напрасно Прометея
Небесный дар Элладе дан.
Толпы рабов бегут, бледнея,
Пред горстью доблестных граждан.
* Свет с Востока (лат.).
18
И кто ж до Инда и до Ганга
Стезею славною прошел?
То македонская фаланга,
То Рима царственный орел.
И силой разума и права —
Всечеловеческих начал —
Воздвиглась Запада держава,
И миру Рим единство дал.
Чего ж еще недоставало?
Зачем весь мир опять в крови?
Душа вселенной тосковала
О духе веры и любви!
И слово вещее — не ложно,
И свет с Востока засиял,
И то, что было невозможно,
Он возвестил и обещал.
И разливался широко,
Исполнен знамений и сил,
Тот свет, исшедший от Востока,
С Востоком Запад примирил.
О Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?
1890
КУМИР НЕБУКАДНЕЦАРА
(Посвящается К. П. П <обедоносцеву>)
Он кликнул клич: «Мои народы!
Вы все рабы, я — господин,
И пусть отсель из рода в роды
Над вами будет бог один.
19
В равнину Дуры* вас зову я.
Бросайте всяк богов своих
И поклоняйтесь, торжествуя,
Сему созданью рук моих».
Толпы несметные кишели;
Был слышен мусикийский гром;
Жрецы послушно гимны пели,
Склонясь пред новым алтарем.
И от Египта до Памира
На зов сошлись князья земли,
И рукотворного Кумира
Владыкой Жизни нарекли.
Он был велик, тяжел и страшен,
С лица как бык, спиной — дракон,
Над грудой жертвенною брашен
Кадильным дымом окружен.
И перед идолом на троне,
Держа в руке священный шар
И в семиярусной короне,
Явился Небукаднецар.
Он говорил: «Мои народы!
Я царь царей, я бог земной.
Везде топтал я стяг свободы,—
Земля умолкла предо мной.
Но видел я, что дерзновенно
Другим молились вы богам,
Забыв, что только царь вселенной
Мог дать богов своим рабам.
Теперь вам бог дается новый!
Его святил мой царский меч,
А для ослушников готовы
Кресты и пламенная печь».
*Или Днепр, по неправильной греческой транскрипции,— равнина в
Халдее близ Вавилона. (Примеч. В. Соловьева.)
20
И по равнине диким стоном
Пронесся клич: «Ты бог богов!»,
Сливаясь с мусикийским звоном
И с гласом трепетных жрецов.
В сей день безумья и позора
Я крепко к господу воззвал,
И громче мерзостного хора
Мой голос в небе прозвучал.
И от высот Нахараима
Дохнуло бурною зимой,
Как пламя жертвенника, зрима,
Твердь расступилась надо мной.
И белоснежные метели,
Мешаясь с градом и дождем,
Корою льдистою одели
Равнину Дурскую кругом.
Он пал в падении великом
И опрокинутый лежал,
А от него в смятенье диком
Народ испуганный бежал.
/
Где жил вчера владыка мира,
Я ныне видел пастухов:
Они творца того кумира
Пасли среди его скотов.
<Начало ноября 1891>
* * *
Три дня тебя не видел, ангел милый,—
Три вечности томленья впереди!
Вселенная мне кажется могилой,
И гаснет жизнь в измученной груди,
21
А я, безумец, пел, что горе пережито,
Что поздняя любовь несет одни цветы...
Поникло разом все в душе моей убитой,
И крылья вырваны у радужной мечты.
О милая! Все гордое сознанье,
Все гордые слова твой друг отдать готов
За мимолетный миг хоть одного свиданья,
За звук один возлюбленных шагов.
31 января 1892
к -к *
Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?
Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?
1892
к к к
В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны — и, схваченная снами,
Душа молилася неведомым богам.
22
В холодный белый день дорогой одинокой
Как прежде, я иду в неведомой стране
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь, и как еще далёко.
Далёко все, что грезилося мне.
И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами
Весь пламенеющий победными огнями
Меня дождется мой заветный храм.
<1884>
* * *
Земля-владычица! К тебе чело склонил я,
И сквозь покров благоуханный твой
Родного сердца пламень ощутил я,
Услышал трепет жизни мировой.
В полуденных лучах такою негой жгучей
Сходила благодать сияющих небес,
И блеску тихому несли привет певучий
И вольная река, и многошумный лес.
И в явном таинстве вновь вижу сочетанье
Земной души со светом неземным,
И от огня любви житейское страданье
Уносится, как мимолетный дым.
Май 1886
В АЛЬПАХ
Мыслей без речи и чувств без названия
Радостно-мощный прибой.
Зыбкую насыпь надежд и желания
Смыло волной голубой.
23
Синие горы кругом надвигаются,
Синее море вдали.
Крылья души над землей поднимаются
Но не покинут земли.
В берег надежды и в берег желания
Плещет жемчужной волной
Мыслей без речи и чувств без названия
Радостно-мощный прибой.
Август 1886
* * *
Бедный друг, истомил тебя путь,
Темен взор, и венок твой измят,
Ты войди же ко мне отдохнуть.
Потускнел, догорая, закат.
Где была и откуда идешь,
Бедный друг, не спрошу я, любя;
Только имя мое назовешь —
Молча к сердцу прижму я тебя.
Смерть и Время царят на земле,—
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.
18 сентября 1887
24
ПРИВЕТ МИНИСТРАМ
Горемыкин веселеющий
И Делянов молодеющий,
Бедоносцев* хорошеющий,
Муравьев-жених
Собралися снова вместе, и
Порешили эти бестии,
Что вся сила — в них.
Врете, курицыны дети!
Вот ужо за речи эти
Быть, мерзавцы, вам в ответе,
Будет вам допрос!
И синклиту безволосому,
Да и Ю<льи>чу безносому**
Уж натянут нос!
Ждет засуха семилетняя...
Что и зимняя, и летняя...
Хоть солому жрать, да нет ее!
Тут-то вам и мат.
С голодухи люди кроткие
Разевают свои глотки и
Черт им сам не брат.
Тут сюда-туда вы кинетесь,
Либералами прикинетесь,
Вверх ногами опрокинетесь,
Подожмете хвост.
Но дела все ваши взвешены,
Да и сами вы повешены,—
Вот конец и прост!
Начало сентября 1891
* Бедоносцев — К. П. Победоносцев.
** ...Ю<льи>чу безносому...— намек на внешность С. Ю. Витте.
25
* * *
Там, где семьей столпились ивы
И пробивается ручей,
По дну оврага торопливо,
Запел последний соловей.
Что это? Радость обновленья,
Иль безнадежное прости?..
А вдалеке неслось движенье
И гул железного пути.
И небо высилось ночное
С невозмутимостью святой
И над любовию земною,
И над земною суетой...
16 июня 1892
* * *
Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?
Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?
1892
29
ПАНМОНГОЛИЗМ
Панмонголизм! Хоть слово дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предвестием великой
Судьбины божией полно.
Когда в растленной Византии
Остыл божественный алтарь
И отреклися от Мессии
Иерей и князь, народ и царь,—
Тогда он поднял от Востока
Народ безвестный и чужой,
И под орудьем тяжким рока
Во прах склонился Рим второй.
Судьбою павшей Визании
Мы научиться не хотим,
И все твердят льстецы России:
Ты — третий Рим, ты — третий Рим.
Пусть так! Орудий божьей кары
Запас еще не истощен.
Готовит новые удары
Рой пробудившихся племен.
От вод малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков.
Как саранча, неисчислимы
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы,
Идут на север племена.
О Русь! забудь былую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.
27
Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.
1 октября 1894
НА САЙМЕ ЗИМОЙ
Вся ты закуталась шубой пушистой,
В сне безмятежном, затихнув, лежишь.
Веет не смертью здесь воздух лучистый,
Эта прозрачная, белая тишь.
В невозмутимом покое глубоком,
Нет, не напрасно тебя я искал.
Образ твой тот же пред внутренним оком,
Фея — владычица сосен и скал!
Ты непорочна, как снег за горами,
Ты многодумна, как зимняя ночь,
Вся ты в лучах, как полярное пламя,
Темного хаоса светлая дочь!
Декабрь 1894
* * *
Шум далекий водопада
Раздается через лес,
Веет тихая отрада
Из-за сумрачных небес.
Только белый свод воздушный,
Только белый сон земли...
Сердце смолкнуло послушно,
Все тревоги отошли.
28
Неподвижная отрада,
Все слилось как бы во сне...
Шум далекий водопада
Раздается в тишине.
<Конец декабря 1894>
ОТШЕДШИМ
Едва покинул я житейское волненье,
Отшедшие друзья уж собрались толпой,
И прошлых смутных лет далекие виденья
Яснее и ясней выходят предо мной.
Весь свет земного дня вдруг гаснет и бледнеет,
Печалью сладкою душа упоена,
Еще незримая — уже звучит и веет
Дыханьем вечности грядущая весна.
Я знаю: это вы к земле свой взор склонили,
Вы подняли меня над тяжкой суетой
И память вечного свиданья оживили,
Едва не смытую житейскою волной.
Еще не вижу вас, но в час предназначенья,
Когда злой жизни дань всю до конца отдам,
Вы въявь откроете обитель примиренья
И путь укажете к немеркнущим звездам.
<Середина января 1895>
* * *
Я озарен осеннею улыбкой —
Она милей, чем яркий смех небес.
Из-за толпы бесформенной и зыбкой
Мелькает луч,— и вдруг опять исчез.
29
Плачь, осень, плачь,— твои отрадны слезы!
Дрожащий лес, рыданья к небу шли!
Реви, о буря, все свои угрозы,
Чтоб истощить их на груди земли!
Владычица земли, небес и моря!
Ты мне слышна сквозь этот мрачный стон,
И вот твой взор, с враждебной мглою споря,
Вдруг озарил прозревший небосклон.
26 августа 1897
ОТВЕТ НА «ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ»
К. К. Случевскому
Все, изменяясь, изменило,
Везде могильные кресты,
Но будят душу с прежней силой
Заветы творческой мечты.
Безумье вечное поэта —
Как свежий ключ среди руин...
Времен не слушаясь запрета,
Он в смерти жизнь хранит один.
Пускай Пергам давно во прахе,
Пусть мирно дремлет тихий Дон:
Все тот же ропот Андромахи,
И над Путивлем тот же стон.
Све уж не вернется снова,
Немеют близкие слова,—
Но память дальнего былого
Слезой прозрачною жива.
19 июня 1898
30
НА СМЕРТЬ Я. П. ПОЛОНСКОГО
Света бледно-нежного
Догоревший луч,
Ветра вздох прибрежного,
Край далеких туч...
Подвиг сердца женского,
Тень мужского зла,
Солнца блеск вселенского
И земная мгла...
Что разрывом тягостным
Мучит каждый миг —
Все ты чувством благостным
В красоте постиг.
Новый путь протянется
Ныне пред тобой,
Сердце все ж оглянется —
С тихою тоской*.
19 октября 1898
ДВЕ СЕСТРЫ
Из исландской саги
Посвящается А. А. Луговому
Плещет Обида крылами
Там, на пустынных скалах...
Черная туча над нами,
В сердце — тревога и страх.
* Стихи Полонского:
Но боюсь, если путь мой протянется
Из родимых полей в край чужой,
Одинокое сердце оглянется
И забьется знакомой тоской. (Примеч. В. Соловьева.)
31
Стонет скорбящая дева.
Тих ее стон на земле,—
Голос грозящего гнева
Вторит ей сверху во мгле.
Стон, повторенный громами,
К звездам далеким идет.
Где меж землей и богами
Вечная Кара живет.
Там, где полночных сияний
Яркие блещут столбы,—
Там она, дева желаний,
Дева последней судьбы.
Чаша пред ней золотая;
В чашу, как пар от земли,
Крупной росой упадая,
Слезы Обиды легли.
Тихо могучая дева —
Тихо, безмолвно сидит,
В чашу грозящего гнева
Взор неподвижный глядит.
Черная туча над нами,
В сердце — тревога и страх...
Плещет Обида крылами
Там, на пустынных скалах.
3 апреля 1899
32
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Александр Блок
РЫЦАРЬ-МОНАХ
Одно воспоминание для меня неизгладимо. Лет две¬
надцать назад, в бесцветный петербургский день, я
провожал гроб умершей. Передо мной шел большого
роста худой человек в старенькой шубе, с непокрытой
головой. Перепархивал редкий снег, но все было одно¬
цветно и белесовато, как бывает только в Петербурге, а
снег можно было видеть только на фоне идущей впереди
фигуры; на буром воротнике шубы лежали длинные
серо-стальные пряди волос. Фигура казалась силуэтом,
до того она была жутко непохожа на окружающее.
Рядом со мной генерал сказал соседке: «Знаете, кто эта
дубина?—Владимир Соловьев». Действительно, шест¬
вие этого человека казалось диким среди кучки обык¬
новенных людей, трусивших за колесницей. Через не¬
сколько минут я поднял глаза: человека уже не было;
он исчез как-то незаметно — и шествие превратилось в
обыкновенную похоронную процессию.
Ни до, ни после этого дня я не видал Вл. Соловьева; но
через Bde, что я о нем читал и слышал впоследствии, и над
всем, что испытал в связи с ним, проходило это странное
видение. Во взгляде Соловьева, который он случайно ос¬
тановил на мне в тот день, была бездонная синева: полная
отрешенность и готовность совершить последний шаг; то
был уже чистый дух: точно не живой человек, а изобра¬
жение: очерк, символ, чертеж. Одинокий странник шес¬
твовал по улице города призраков в час петербургского
дня, похожий на все остальные петербургские часы и дни.
Он медленно ступал за неизвестным гробом в неизвестную
даль, не ведая пространств и времен.
В то время около Соловьева шумела уже настоящая
2 Серебряный век
33
с лава, не только русская, но и европейская. Слава до¬
летела до Петербурга, как всегда, в виде волны грязных
лакейских сплетен и какой-то особой ненависти. В то
время в некоторых кругах имени Соловьева не могли
слышать равнодушно; то был синоним опасного и вред¬
ного чудака. Когда спустя некоторое время он пророче¬
ствовал о панмонголизме в зале городской думы, один
известный мистик счел остроумным упасть со стула.
Впрочем, и это было еще безобидным глумлением ря¬
дом с той ненавистью, с которой среднее петербургское
общество как бы выпирало его из жизни, окончательно
возмутившись неприличием его поведения. Он же про¬
ходил тогда уже в очевидном для зрячих ином образе,
врезаясь в сердца своим острым, четким, нечеловечес¬
ким силуэтом. В это последнее трехлетие своей земной
жизни он, кажется, определенно знал про себя поло¬
женные ему сроки; к внешнему обаянию и блеску при¬
бавилось нечто, что его озаряло и стерегло. Исполнялся
древний закон, по которому мудрая, хотя бы и обесси¬
ленная падениями и изменами жизнь,— старости воз¬
вращает юность. Издали светящаяся точка этой юнос¬
ти, как avapvqci^*, как воспоминание о стране, из
которой прибыл, которую забывал в пустыне жизни,—-
знаменует близость смыкания круга, близость конца,
но не гибели, успения, но не смерти. Зрелые, деловые
люди уважают смерть и готовы выразить свое сожале¬
ние о гибели; но успение и конец ненавистны им, пото¬
му что они освещают всю жизнь иным светом, в кото¬
ром земные дела становятся подозрительны. Многие
готовы сто раз твердить одно и то же о гениальности
«Войны и мира», только бы замолчать успение и конец
самого Толстого.
Ничего нового в этом, конечно, нет. Возражают на
это обыкновенно, что нельзя заподозривать какие бы то
ни было дела, когда дел вообще слишком мало. Это —
возражение от слабости, но не от силы. Вл. Соловьев
поистине делал великие дела в то время, когда казался
деловым людям бездельником. Это и вызывало нена¬
висть. Ненависть, как всегда, вызывала поклонение. За
шумом ненависти и поклонения не слышны были дру¬
гие голоса, той и другому одинаково чуждые. Тогда
шумно низвергали живого Соловьева и шумно идоло-
* Воспоминание (греч.).
34
поклонствовали перед живым. Прошло десять лет, и
обозначился новый век. Неужели и сегодня мы будем
идолопоклонствовать перед усопшим, шумно забывая
то, что стояло за ним?
Есть жуткое в юбилейных днях. Здесь легко торже¬
ствовать пошлости, имя которой—только забвение.
Слишком соблазнительно сияние юбилейного савана,
под которым спит многими любимый, многим совре¬
менный человек: и слишком приятны те картины его
жизни и деятельности, которые сменяются перед нами
поочередно, как бы на экране волшебного фонаря.
Это — как бы флаги, маленькие знамена, на которые
всякому нравится поглядеть в обычный воскресный
день, в день забвения, размена великого на малое. На
флагах написано: «Мы счастливы тем, что у нас был
великий человек. Нам жаль, что его. унесло беспощад¬
ное время». А вверху, над временем, праздно веет и
шелестит незримое знамя с непонятной надписью. Все
скажут: это — ночное небо, а на нем —«обыкновенные
звезды».
Особенно блестящ и разносторонен образ покойного
Вл. Соловьева. Оттого особенно ярки картины на экра¬
не волшебного фонаря. Но некоторые из нас сегодня
устают и прячутся от юбилейного света. Они ревниво
скрывают, даже друг от друга, что-то свое. Слова наши
звучат в разреженном воздухе, они похожи на стук
молотка по крышке пустого гроба; почему так? Отвер¬
ните край савана, поднимите крышку; в гробу никого
нет — могила пуста.
Мы не найдем в этом гробу останков деятеля и че¬
ловека, одинаково блестящего и дорогого для всех. Те¬
перь, как десять лет назад, все признают большой
талант, но многие остановятся в недоумении перед ка¬
кой-нибудь стороной его деятельности.— Известная фи¬
лософская школа подвергнет сомнению систему мисти¬
ческой философии Вл. Соловьева по отсутствию в ней
законченной теории познания.— Ни один стан публи¬
цистов не примет Соловьева без оговорок, уже по тому
одному, что Соловьев утверждал «священную войну» во
имя «священной любви»; одни из нас, хотя и признают
войну, но отнюдь не священную, а гуманную, отрица¬
ющую всякую войну в принципе.— Вл.-Соловьев — кри¬
тик? Он не заметил Ницше, он односторонне оценил
Пушкина и Лермонтова.— Вл. Соловьев — поэт? И
здесь приходится уделить ему небольшое место, если
2»
35
смотреть на него как на «чистого» художника.—Оста¬
ется Вл. Соловьев — человек. Тут — непомерное разно¬
образие картин; воспоминания и анекдоты до сих пор
не сходят со страниц журналов. Какой же вывод можно
сделать из этих противоречивых анекдотов о «стран¬
ных» поступках и словах, особенно—о «странном», а
для некоторых — страшном, хохоте, который все вспо¬
минают особенно охотно. Один вывод: Вл. Соловьев был
очень симпатичный и оригинальный человек, однако с
большими странностями, не совсем приятными, а иног¬
да и неприличными; но так как все друзья его были
тоже очень милые люди,— то они прощали этому ро¬
мантическому чудаку его дикие выходки.
Я делал выбор из худшего, что говорят и думают о
Вл. Соловьеве. Образ крупного мыслителя и блестящего
человека от этого не померкнет. Я хочу только пока¬
зать, что у Соловьева — философа, публициста, крити¬
ка, поэта и человека всегда были и будут и враги и
поклонники, то есть единодушного признания за ним
этих качеств в полной мере — не было и не будет. Зна¬
чит, празднование его земной памяти всегда легко мо¬
жет обратиться в обыкновенный юбилей, то есть в день
забвения. Когда же пройдут еще десятилетия и над
горизонтом философии и науки взойдут новые звезды,—
«Вл. Соловьев» утратит свою жизненную ценность и
станет архивным материалом для диссертаций истори¬
ков философии. Так, по всей вероятности, думают мно¬
гие; но если мы разорвем юбилейный саван и потушим
юбилейный свет,— мы увидим иное.
Вл. Соловьев вёе еще двоится перед нами. Он сам был
раздвоен в свое время — этого требовало его служение.
С первого шага он жестоко скомпрометировал себя пе¬
ред своим веком; век прощает все грехи вплоть до греха
против духа святого,— он никому не прощает одного:
измены духу времени. Вл. Соловьев слишком хорошо
знал это ласковое чудовище — льстивое и страшное
время. Он воспитал в себе две силы, два качества, не¬
обходимые для того, чтобы нападать на врага разом, с
двух сторон. Один Соловьев — здешний — разил врага
его же оружием: он научился забывать время; он толь¬
ко усмирял его, набрасывая на косматую шерсть чудо¬
вища легкую серебристую фату смеха; вот почему этот
смех был иногда и странен и страшен. Если бы суще¬
ствовал только этот Вл. Соловьев,— мы отдали бы хо¬
лодную дань уважения метафизическому маккиавелиз-
36
му — и только; но мы хотим помнить, что этот был
лишь умным слугою другого. Другой — нездешний —
не презирал и не усмирял. Это был «честный воин Хри¬
стов». Он занес над врагом золотой меч. Все мы видели
сияние, но забыли или приняли его за другое. Мы
имели «слишком человеческое» право недоумевать пе¬
ред двоящимся Вл. Соловьевым, ведая, что тот добрый
человек, который писал умные книги и хохотал, был в
тайном союзе с другим, занесшим золотой меч над вре¬
менем.
Забудем на минуту глубокого философа, замечатель¬
ного критика и публициста, благодарного ученика фе¬
товской поэзии и странного человека. Мы должны
вспомнить сегодня того, к кому не идут ни юбилеи, ни
ученые заслуги, ни анекдоты. Для этого необходимо
устранить двойственность, забыть здешнего Соловьева,
погасить огни, которыми ярко блистал его ум, и обо¬
рвать цветы, которыми нежно цвета его душа. Все
живое — пусть разместится по-новому — под лучами
иного, неземного света. Ведь волшебный фонарь жизни
действительно потушен смертью и временем.
Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови.
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.
Пока на юбилейном экране не пестреет больше бога¬
тая жизнь,— мы можем видеть встающий из тьмы но¬
вый, ничем не заслоненный образ. Здесь бледным све¬
том мерцает панцирь, круг щита и лезвие меча под
складками черной рясы. Тот же взгляд, углубленный
мыслью, твердо устремленный вперед. Те же стальные
волосы и худоба, которой не может скрыть одежда.
Новый образ смутно напоминает тот, живой и блестя¬
щий, с которым мы расстались недавно. Здесь те же
атрибуты, но все расположилось иначе: все преобрази¬
лось, стало иным, неподвижным; перед нами уже не
здешний Соловьев. Это — рыцарь-монах.
Что такое огромный книжный труд Соловьева на
этой картине? Только щит и меч — в руках рыцаря,
добрые дела — в жизни монаха. Что щит и меч, добрые
дела и земная диалектика для того, кто «сгорел ду¬
шою»? Только средство: для рыцаря — бороться с дра-
37
коном, для монаха — с хаосом, для философа — с безу¬
мием и изменчивостью жизни. Это — одно земное дело:
дело освобождения пленной Царевны, Мировой Души,
страстно тоскующей в объятиях Хаоса и пребывающей
в тайном союзе с «космическим умом». Весь земной
романтизм, странное чудачество — только благоухан¬
ный цветок на этой картине. «Бедный рыцарь» от из¬
бытка земной влюбленности кладет его к ногам пленен¬
ной Царевны.
Этот новый образ и есть невнятно шелестящее знамя,
чью надпись нам не прочесть в воскресный, пестрящий
флагами, день. Простая надпись свидетельствует нам,
что образ — не мечта, а действительность. Рыцарь-мо¬
нах имел действительные видения.
Если мы прочтем внимательно поэму Вл. Соловьева
«Три свидания», откинув шутливый тон и намеренную
небрежность формы, вызванные' условиями века и ок¬
ружающей среды, откинув их так же, как откинули всю
земную «прелесть» Вл. Соловьева,— мы встанем лицом
к лицу с непреложным свидетельством. Здесь описано
с хронологической и географической точностью «самое
значительное из того, что случилось с Соловьевым в
жизни». Поэма, напечатанная в томике стихов, издан¬
ном со всем демократизмом современности, ничем не
отличается, по существу, от надписей прошедших сто¬
летий; сначала по-латыни, потом — на национальных
языках, они свидетельствуют торжественно и кратко
обо всем, что было истинно ценного в жизни мира. Их
можно встретить на алтарях, на храмах, на знаменах,
на мавзолеях, даже — на камнях в поле.
Я вспоминаю сейчас одну надпись — на гробнице
среди базилики св. Аполлинария в окрестностях Равен¬
ны; эта надпись гласит: «Sanctus Romualdus Ravennus
ad altare hoc noctu orans beato martyre Apollinare bis
viso ad sacru<m> ordine<m> monasticum vocatus est
anno DCCCCXXVII» — «Святой Ромуальд, уроженец
Равенны, молившийся ночью у этого алтаря и дважды
видевший блаженного мученика Аполлинария, был
призван в святой монашеский орден в 927 году».
Поэма Вл. Соловьева, обращенная от его лица непос¬
редственно к Той, Которую он здесь называет Вечной
Подругой, гласит: «Я, Владимир Соловьев, уроженец
Москвы, призывал Тебя и видел Тебя трижды: в Москве
в 1862 году, за воскресной обедней, будучи девятилет¬
ним мальчиком; в Лондоне, в Британском музее, осенью
38
1875 года, будучи магистром философии и доцентом
Московского университета; в пустыне близ Каира, в
начале 1876 года:
Еще невольник суетному миру,
Под грубою корою вещества
Так я прозрел нетленную порфиру
И ощутил сиянье божества».
Вот какую надпись читаем мы над изображением
рыцаря-монаха. Подобно средневековым надписям, она
служит не истолкованием, но утверждением всей кар¬
тины: мало одного чертежа — нужно еще закрепляю¬
щее слово; и слово произнесено. Поэма, написанная в
конце жизни, указывает, где начинается жизнь: отны¬
не, приступая к изучению творений Соловьева, мы дол¬
жны не подниматься к ней, а обратно: исходить из нее;
только в свете этого образа, ставшего ясным после того,
как второй, производный, погашен смертью,— можно
понять сущность учения и личности Вл. Соловьева. Этот
образ дан самой жизнью, он — не аллегория ни в каком
смысле; пусть будет он предметом научного исследова¬
ния, самое существо его наразложимо; он излучает
невещественный золотой свет. Золотом и киноварью
писались слова, исходящие из уст Гавриила: «Ave, gra-
tiae plena»*. В периодической системе элементов — этот
основной, простейший элемент должен быть отмечен
золотом и киноварью.
Современники Вл. Соловьева утратили секрет пони¬
мания простейшего. Девятнадцатый век отличался нео¬
быкновенной скрытностью: подвергая своих сынов
уравнению, загромождая их умы производным и зас¬
тавляя их забывать о сущем, этот хитрый век выкинул
на улицу лозунги позитивизма и натурализма, а сам, в
тишине философских и ученых келий, готовил то, сви¬
детелями и участниками чего суждено быть нам. Глаза
многих уже раскрываются. Как Соловьев открыл ис¬
тинное лицо «отца позитивизма», определив идею чело¬
вечества, как св. Софии Премудрости божией — у
О. Конта, так мы уже не можем не видеть истинного
лица «отца натурализма» — Э. Золя. У нас за плеча¬
ми — великие тени Толстого и Ницше, Вагнера и Досто-
* «Радуйся, благодатная» (лат.).— Ред.
39
евского. Все изменяется; мы стоим перед лицом нового
и всемирного. Недаром в промежутке от смерти Вл.
Соловьева до сегодняшнего дня мы пережили то, что
другим удается пережить в сто лет; недаром мы видели,
как в громах и молниях стихий земных и подземных
новый век бросал в землю свои семена; в этом грозовом
свете нам промечтались и умудрили нас поздней муд¬
ростью — все века. Те из нас, кого не смыла и не иска¬
лечила страшная волна истекшего десятилетия,— с
полным правом и с ясной надеждой ждут нового света
от нового века.
Лучшее, что мы можем сделать в честь и память Вл.
Соловьева,— это радостно вспомнить, что сущность
мира — от века вневременна и внепространственна; что
можно родиться второй раз и сбросить с себя цепи и
пыль. Пожелаем друг другу, чтобы каждый из нас был
верен древнему мифу о Персее и Андромеде; все мы,
насколько хватит сил, должны принять участие в осво¬
бождении плененной Хаосом Царевны — Мировой и
своей души. Наши души — причастны'Мировой. Сегод¬
ня многие из нас пребывают в усталости и самоубий¬
ственном отчаянии; новый мир уже стоит при дверях;
завтра мы вспомним золотой свет, сверкнувший на гра¬
нице двух, столь несхожих, веков. Девятнадцатый зас¬
тавил нас забыть самые имена святых; двадцатый, быть
может, увидит их воочию. Это знамение явил нам, рус¬
ским, еще неразгаданный и двоящийся перед нами —
Владимир Соловьев.
И в этот миг незримого свиданья
Нездешний свет вновь озарит тебя,
И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
13 декабря 1910
Лидия Гинзбург
ИЗ КНИГИ «О ЛИРИКЕ»
На поприще поэзии Вл. Соловьев — ученик Фета, и
стихи его внешне похожи — интонацией, романтичес¬
ким словарем, мотивами любви, природы, мечты, спа-
40
сающей от жизни. В то же время от Фета Соловьев
оставил только романтические иносказания, для Фета
важные, но звучавшие по-фетовски лишь в сложном
единстве его многопланных стихов.
И вдруг посыпались зарей вечерней розы,
Душа почуяла два легкие крыла,
И в новую страну неистощимой грезы
Любовь-волшебница меня перенесла.
Поляна чистая луною серебрится,
Деревья стройные недвижимо стоят.
И нежных эльфов рой мелькает и кружится,
И феи бледные задумчиво скользят.
Фетовский это пейзаж? Слова похожи, интонация
сходная, тема как будто тоже. Но вместо живой преле¬
сти увиденных Фетом чувств и вещей — холодные обо¬
лочки иносказаний. Однако и в абстрагированном виде
стихия фетовского лиризма затопила Соловьева с его
незначительным поэтическим дарованием. Философс¬
кая мысль не сумела стать поэтической мыслью (в этом
плане есть аналогия между Вл. Соловьевым и поэтами-
любомудрами). Для тех, кто не владел шифром, разго¬
вор о Мировой душе оборачивался лирикой запоздалого
романтизма. Шифром владели молодые символисты.
В статье «Материалы из библиотеки Ал. Блока»
Д. Е. Максимов приводит маргиналии и пометки Блока
на экземпляре стихотворений Владимира Соловьева.
Можно проследить, как подчеркиваниями и различны¬
ми пометками Блок высвобождает из фетовской инер¬
ции отдельные строки и слова, особенно важные для
концепции Соловьева. Вот пример:
Зачем слова? В безбрежности лазурной
Эфирных волн созвучные струи
Несут к тебе желаний пламень бурный
И тайный вздох немеющей любви...
И в этом миг незримого свиданья
Нездешний свет вновь озарит тебя,
И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
41
Блок подчеркнул два последних стиха, как бы сигна¬
лизируя о том, что это стихотворение «фетовской шко¬
лы» (отмеченное сильнейшей инерцией ее навыков)
может быть иначе прочитано. Для этого нужен был
ключ философской концепции Соловьева.
Как бы то ни было, поэтический опыт Владимира
Соловьева важен для раннего Блока.
1974
ИННОКЕНТИЙ
АННЕНСКИЙ
1855—1909
Иннокентий Федорович Анненский (1855—1909) родился в Ом¬
ске, где служил в ту пору его отец. Вскоре семья переехала в Пе¬
тербург. Сам. поэт отмечал в автобиографии, что «с тех пор, как себя
помнит, любил заниматься историей и словесностью и чувствовал
антипатию ко всему элементарному и банально-ясному».
Окончил историко-филологический факультет Петербургского
университета по отделению сравнительного языкознания с правом
преподавать древние языки. До конца жизни служил по ведом¬
ству Министерства народного просвещения. В 1896—1905 годах —
директор Николаевской гимназии в Царском Селе, где среди его
учеников был и Н. Гумилев.
Первый сборник стихотворений и переводов И. Ф. Анненского
«Тихие песни» вышел в свет в 1904 году под каламбурным псев¬
донимом «Ник. Т-о». В 1906 году увидел свет 1-й том трагедий
Еврипида в его переводах и с его же комментариями.
Литературно-критические статьи Анненского составили две
«Книги отражений», отмеченные единством эстетического и эти¬
ческого подхода и смелостью психологических трактовок.
Весной 1909 года Анненский участвует в организации журнала
«Аполлон» и поначалу был одним из его фактических редакторов.
В первых трех номерах «Аполлона» он опубликовал программную
статью «О современном лиризме», написанную как вдохновенная
импровизация. Перенапряжение в работе и болезненные пережи¬
вания (руководство журнала сняло подборку его стихотворений)
привели к резкому обострению сердечной болезни: Анненский
скоропостижно скончался в подъезде Царскосельского вокзала.
Уже после смерти вышла в свет главная книга поэта — «Кипари¬
совый ларец» (М., 1910).
Поэтика Анненского вобрала в себя и причудливо синтезиро¬
вала традиции лирики XIX века — прежде всего Пушкина и Тют¬
чева, а также русской психологической прозы: «Это наш Чехов в
стихах»,— отмечала современная ему критика. Символика поэта
неожиданна и ассоциативна — параллелизм психического и пред¬
метно-физического мира порождает в его стихах, новаторски са¬
мобытные, разом бытовые и иносказательные образы. Отвергая
ложный романтический пафос и патетику, повысил в правах сти¬
хотворный прозаизм, предварив тем самым поэтику акмеизма. «Он
был преддверьем, предзнаменованьем/ Всего, что с нами позже
совершилось...» — писала Анна Ахматова.
Изд.: Стихотворения и трагедии. Л., 1959; Книги отражений
М., 1979; Избранное. Стихотворения. Критическая проза. Письмя
М., 1987.
ТОСКА МИМОЛЕТНОСТИ
Бесследно канул день. Желтея, на балкон
Глядит туманный диск луны, еще бестенной,
И в безнадежности распахнутых окон,
Уже незрячие, тоскливо-белы стены.
Сейчас наступит ночь. Так черны облака...
Мне жаль последнего вечернего мгновенья:
Там все, что прожито,— желанье и тоска,
Там все, что близится,— унылость и забвенье.
Здесь вечер как мечта: и робок и летуч,
Но сердцу, где ни струн, ни слез, ни ароматов,
И где разорвано и слито столько туч...
Он как-то ближе розовых закатов.
Лето 1904
Ялта
СВЕЧКУ ВНЕСЛИ
Не мерещится ль вам иногда,
Когда сумерки ходят по дому,
Тут же возле иная среда,
Где живем мы совсем по-другому?
С тенью тень там так мягко слилась,
Там бывает такая минута,
Что лучами незримыми глаз
Мы уходим друг в друга как будто.
45
И движеньем спугнуть этот миг
Мы боимся, иль словом нарушить,
Точно ухом кто возле приник.
Заставляя далекое слушать.
Но едва запылает свеча,
Чуткий мир уступает без боя,
Лишь из глаз по наклонам луча
Тени в пламя сбегут голубое.
ТРИЛИСТНИК СОБЛАЗНА
МАКИ
Веселый день горит... Среди сомлевших трав
Все маки пятнами — как жадное бессилье,
Как губы, полные соблазна и отрав,
Как алых бабочек развернутые крылья.
Веселый день горит... Но сад и пуст и глух.
Давно покончил он с соблазнами и пиром,—
И маки сохлые, как головы старух,
Осенены с небес сияющим потиром.
МАКИ В ПОЛДЕНЬ
(Вариант )
Безуханно и цветисто
Чей-то нежный сгиб разогнут,—
Крылья алого батиста
Развернулись и не дрогнут.
Все, что нежит — даль да близь,
Оскорбив пятном кровавым,
Жадно маки разрослись
По сомлевшим тучным травам.'
46
И не в радость даже день им,
Темны пятна маков в небе,
И тяжелым сном осенним
Истомлен их яркий жребий.
Сном о том, что пуст и глух
Будет сад, а в нем, как в храме,
Тяжки головы старух...
Осененные Дарами. *
СМЫЧОК И СТРУНЫ
Какой тяжелый, темный бред!
Как эти выси мутно-лунны!
Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струны!
Кому ж нас надо? Кто зажег
Два желтых лика, два унылых...
И вдруг почувствовал смычок,
Что кто-то взял и кто-то слил их.
«О, как давно! Сквозь эту тьму
Скажи одно: ты та ли, та ли?»
И струны ластились к нему,
Звеня, но, ластясь, трепетали.
«Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? довольно?..»
И скрипка отвечала да,
Но сердцу скрипки было больно.
Смычок все понял, он затих,
А в скрипке эхо все держалось...
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.
Но человек не погасил
До утра свеч... И струны пели...
Лишь солнце их нашло без сил
На черном бархате постели.
47
В МАРТЕ
Позабудь соловья на душистых цветах,
Только утро любви не забудь!
Да ожившей земли в неоживших листах
Ярко-черную грудь!
Меж лохмотьев рубашки своей снеговой
Только раз и желала она,—
Только раз напоил ее март огневой,
Да пьянее вина!
Только раз оторвать от разбухшей земли
Не могли мы завистливых глаз,
Только раз мы холодные руки сплели
И, дрожа, поскорее из сада ушли...
Только раз... в этот раз...
ТРИЛИСТНИК СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
ОДУВАНЧИКИ
Захлопоталась девочка
В зеленом кушаке,
Два желтые обсевочка
Сажая на песке.
Не держатся и на-поди:
Песок ли им не рад?..
А солнце уж на западе
И золотится сад.
За ручкой ручку белую
Малютка отряхнет:
«Чуть ямочку проделаю,
Ее и заметет...
48
Противные, упрямые!»
— Молчи, малютка дочь,
Коль неприятны ямы им,
Мы стебельки им прочь.
Вот видишь ли: все к лучшему —
Дитя, развеселись,
По холмику зыбучему
Две звездочки зажглись.
Мохнатые, шафранные
Звездинки из цветов...
Ну вот, моя желанная,
И садик твой готов.
Отпрыгаются ноженьки,
Весь высыплется смех,
А ночь придет — у боженьки
Постельки есть для всех...
Заснешь ты, ангел-девочка,
В пуху, на локотке...
А желтых два обсевочка
Распластаны в песке.
26 июня 1909
Куоккала
СТАРАЯ ШАРМАНКА
Небо нас совсем свело с ума:
То огнем, то снегом нас слепило,
И, ощерясь, зверем отступила
За апрель упрямая зима.
Чуть на миг сомлеет в забытьи —
Уж опять на брови шлем надвинут,
И под наст ушедшие ручьи,
Не допев, умолкнут и застынут.
49
Но забыто прошлое давно,
Шумен сад, а камень бел и гулок,
И глядит раскрытое окно,
Как трава одела закоулок.
Лишь шарманку старую знобит,
И она в закатном мленьи мая
Все никак не смелет злых обид,
Цепкий вал кружа и нажимая.
И никак, цепляясь, не поймет
Этот вал, что не к чему работа,
Что обида старости растет
На-шипах от муки поворота.
Но когда б и понял старый вал,
Что такая им с шарманкой участь,
Разве б петь, кружась, он перестал
Оттого, что петь нельзя, не мучась?..
ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ
В. П. Хмара Барщевскому
В желтый сумрак мертвого апреля,
Попрощавшись с звездною пустыней,
Уплывала Вербная неделя
На последней, на погиблой снежной льдине;
Уплывала в дымах благовонных,
В замираньи звонов похоронных,
От икон с глубокими глазами
И от Лазарей, забытых в черной яме.
Стал высоко белый месяц на ущербе,
И за всех, чья жизнь невозвратима,
Плыли жаркие слезы по вербе
На румяные щеки херувима.
14 апреля 1907
Царское Село
50
ТРИЛИСТНИК ОСЕННИЙ
ты опять со мной
Ты опять со мной, подруга осень,
Но сквозь сеть нагих твоих ветвей
Никогда бледней не стыла просинь,
И снегов не помню я мертвей.
Я твоих печальнее отребий
И черней твоих не видел вод,
На твоем линяло-ветхом небе
Желтых туч томит меня развод.
До конца все видеть, цепенея...
О, как этот воздух странно нов...
Знаешь что... я думал, что больнее
Увидать пустыми тайны слов...
АВГУСТ
Еще горят лучи под сводами дорог,
Но там, между ветвей, все глуше и немее:
Так улыбается бледнеющий игрок,
Ударов жребия считать уже не смея.
Уж день за сторами. С туманом по земле
Влекутся медленно унылые призывы...
А с ним все душный пир, дробится в хрустале
Еще вчерашний блеск, и только астры живы...
Иль это — шествие белеет сквозь листы?
И там огни дрожат под матовой короной,
Дрожат и говорят: «А ты? Когда же ты?»
На медном языке истомы похоронной...
Игру ли кончили, гробница ль уплыла,
Но проясняются на сердце впечатленья;
О, как я понял вас: и вкрадчивость тепла,
И роскошь цветников, где проступает тленье...
51
ТО БЫЛО НА ВАЛЛЕН-КОСКИ
То было на Валлен-Коски.
Шел дождик из дымных туч,
И желтые мокрые доски
Сбегали с печальных круч.
Мы с ночи холодной зевали,
И слезы просились из глаз;
В утеху нам куклу бросали
В то утро в четвертый раз.
Разбухшая кукла ныряла
Послушно в седой водопад,
И долго кружилась сначала,
Все будто рвалася назад.
Но даром лизала пена
Суставы прижатых рук,—
Спасенье ее неизменно
Для новых и новых мук.
Гляди, уж поток бурливый
Желтеет, покорен и вял;
Чухонец-то был справедливый,
За дело полтину взял.
И вот уж кукла на камне,
И дальше идет река...
Комедия эта была мне
В то серое утро тяжка.
Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей.
Как листья тогда мы чутки:
Нам камень седой, ожив,
Стал другом, а голос друга,
Как детская скрипка, фальшив.
62
И в сердце сознанье глубоко,
Что с ним родился только страх,
Что в мире оно одиноко,
Как старая кукла в волнах...
ТРИЛИСТНИК ОБРЕЧЕННОСТИ
БУДИЛЬНИК
Обручена рассвету
Печаль ее рулад...
Как я игрушку эту
Не слушать был бы рад...
Пусть завтра будет та же
Она, что и вчера...
Сперва хоть громче, глаже
Идет ее игра.
Но вот, уж не читая
Давно постылых нот,
Гребенка золотая
Звенит, а не поет...
Цепляясь за гвоздочки,
Весь из бессвязных фраз,
Напрасно ищет точки
Томительный рассказ,
О чьем-то недоборе
Косноязычный бред...
Докучный лепет горя
Ненаступивших лет,
Где нет ни слез разлуки,
Ни стылости небес,
Где сердце — счетчик муки,
Машинка для чудес...
53
И скучно разминая
Пружину полчаса,
Где прячется смешная
И лишняя Краса.
СТАЛЬНАЯ ЦИКАДА
Я знал, что она вернется
И будет со мной — Тоска.
Звякнет и запахнется
С дверью часовщика...
Сердца стального трепет
Со стрекотаньем крыл
Сцепит и вновь расцепит
Тот, кто ей дверь открыл...
Жадным крылом цикады
Нетерепеливо бьют:
Счастью ль, что близко, рады,
Муки ль конец зовут?..
Столько сказать им надо,
Так далеко уйти...
Розно, увы! цикада,
Наши лежат пути.
Здесь мы с тобой лишь чудо,
Жить нам с тобою теперь
Только минуту — покуда
Не распахнулась дверь...
Звякнет и запахнется,
И будешь ты так далека...
Молча сейчас вернется
И будет со мной — Тоска.
54
ТРИЛИСТНИК КОШМАРНЫЙ
КОШМАРЫ
«Вы ждете? Вы в волненьи? Это бред.
Вы отворять ему идете? Нет!
Поймите: к вам стучится сумасшедший,
Бог знает где и с кем всю ночь проведший,
Оборванный, и речь его дика,
И камешков полна его рука;
Того гляди — другую опростает,
Вас листьями сухими закидает,
Иь целовть задумает, и слез
Останутся следы в смятеньи кос,
Коли от губ удастся скрыть лицо вам,
Смущенным и мучительно пунцовым.
Послушайте!.. Я только вас пугал:
Тот далеко, он умер... Я солгал.
И жалобы, и шепоты, и стуки —
Все это «шелест крови», голос муки...
Которую мы терпим, я ли, вы ли...
Иль вихри в плен попались и завыли?
Да нет же! Вы спокойны... Лишь у губ
Змеится что-то бледное... Я глуп...
Свиданье здесь назначено другому...
Все понял я теперь: испуг, истому
И влажный блеск таимых вами глаз».
Стучат? Идут? Она приподнялась.
Гляжу — фитиль у фонаря спустила,
Он розовый.. Вот косы отпустила.
Взвились и пали косы... Вот ко мне
Идет... И мы в огне, в одном огне...
55
Вот руки обвились и увлекают,
А волосы и колют, и ласкают...
Так вот он ум мужчины, тот гордец,
Не стоящий ни трепетных сердец,
Ни влажного и розового зноя!
И вдруг я весь стал существо иное...
Постель... Свеча горит. На грустный тон
Лепечет дождь... Я спал и видел сон.
КИЕВСКИЕ ПЕЩЕРЫ
Тают зеленые свечи,
Тускло мерцает кадило,
Что-то по самые плечи
В землю сейчас уходило,
Чьи-то беззвучно уста
Молят дыханья у плит,
Кто-то, нагнувшись, «с креста»
Желтой водой их поит...
«Скоро ль?» —Терпение, скоро...
Звоном напонились уши,
А чернота коридора
Все безответней и глуше...
Нет, не хочу, не хочу!
Как? Ни людей, ни пути?
Гасит дыханье свечу?
Тише... Ты должен ползти...
бб
то и это
Ночь не тает. Ночь как камень.
Плача тает только лед,
И струит по телу пламень
Свой причудливый полет.
Но лопочут, даром тая,
Ледышки на голове:
Не запомнить им, считая,
Что подушек только две.
ТРОЕ
Ее факел был огнен и ал,
Он был талый и сумрачный снег:
Он глядел на нее и сгорал,
И сгорал от непознанных нег.
Лоно смерти открылось черно —
Он не слышал призыва: «Живи»,
И осталось в эфире одно
Безнадежное пламя любви.
Да на ложе глубокого рва,
Пенной ризой покрыта до пят,
Одинокая грезит вдова —
И холодные воды кипят...
ПРОБУЖДЕНИЕ
Кончилась яркая чара,
Сердце очнулось пустым:
В сердце, как после пожара,
Ходит удушливый дым.
57
Кончилась? Жалкое слово, .
Жалкого слова не трусь:
Скоро в остатках былого
Я и сквозь дым разберусь.
Что не хотело обмана —
Все остается за мной...
Солнце за гарью тумана
Желто, как вставший больной.
Жребий, о сердце, твой понят —
Старого пепла не тронь...
Больше проклятый огонь
Стен твоих черных не тронет!
ТРИЛИСТНИК ТРАУРНЫЙ
ПЕРЕД ПАНИХИДОЙ
Сонет
Два дня здесь шепчут: прям и нем
Все тот же гость в дому,
И вянут космы хризантем
В удушливом дыму.
Гляжу и мыслю: мир ему,
Но нам-то, нам-то всем,
Иль люк в ту смрадную тюрьму
Захлопнулся совсем?
«Ах! Что мертвец! Но дочь, вдова...»
Слова, слова, слова.
Лишь Ужас в белых зеркалах
Здесь молит и поет
И с поясным поклоном Страх
Нам свечи раздает.
58
ТОСКА ПРИПОМИНАНИЯ
Мне всегда открывается та же
Залитая чернилом страница.
Я уйду от людей, но куда же,
От ночей мне куда схорониться?
Все живые так стали далеки,
Все небытное стало так внятно,
И слились позабытые строки
До зари в мутно-черные пятна.
Весь я там в невозможном ответе,
Где миражные буквы маячут...
...Я люблю, когда в доме есть дети
И когда по ночам они плачут.
ТОСКА БЕЛОГО КАМНЯ
Камни млеют в истоме,
Люди залиты светом,
Есть ли города летом
Вид постыло-знакомей?
В трафарете готовом
Он —узор на посуде...
И не все ли равно вам:
Камни там или люди?
Сбита в белые камни
Нищетой бледнолицей,
Эта одурь была мне
Колыбелью-темницей.
Коль она не мелькает
Безотрадно и чадно,
Так, давя вас, смыкает,
И уходишь так жадно
69
В лиловатость отсветов
С высей бледно-безбрежных
На две цепи букетов
Возле плит белоснежных.
Так, устав от узора,
Я мечтой замираю
В белом глянце фарфора
С ободочком по краю.
1904
Симферополь
СНЕГ
Полюбил бы я зиму,
Да обуза тяжка...
От нее даже дыму
Не уйти в облака.
Эта резанность линий,
Этот грузный полет,
Этот нищенски синий
И заплаканный лед!
Но люблю ослабелый
От заоблачных нег —
То сверкающе белый,
То сиреневый снег...
И особенно талый,
Когда, выси открыв,
Он ложится усталый
На скользящий обрыв,
Точно стада в тумане
Непорочные сны —
На томительной грани
Всесожженья весны.
во
ДОЧЬ ИАИРА
Нежны травы, белы плиты,
И звонит победно медь:
«Голубые льды разбиты,
И они должны сгореть!»
Точно кружит солнце, зимний
Долгий плен свой позабыв;
Только мне в пасхальном гимне
Смерти слышится призыв.
Вед под снегом сердце билось,
Там тянулась жизни нить:
Ту алмазную застылость
Надо было разбудить...
Для чего ж с контуров нежной,
Непорочной красоты
Грубо сорван саван снежный,
Жечь зачем ее цветы?
Для чего так сине пламя,
Раскаленность так бела,
И, гудя, с колоколами
Слили звон колокола?
Тот, грехи подъявший мира,
Осушавший реки слез,
Так ли дочерь Иаира
Поднял некогда Христос?
Не мигнул фитиль горящий,
Не зазыбил ветер ткань...
Подошел спаситель к спящей
И сказал ей тихо: «Встань».
61
ТРИЛИСТНИК БАЛАГАННЫЙ
СЕРЕБРЯНЫЙ ПОЛДЕНЬ
Серебряным блеском туман
К полудню еще не развеян,
К полудню от солнечных ран
Стал даже желтее туман,
Стал даже желтей и мертвей он,
А полдень горит так суров,
Что мне в этот час неприятны
Лиловых и алых шаров
Меж клочьями мертвых паров
В глаза замелькавшие пятна.
И что ей тут надо скакать,
Безумной и радостной своре,
Все солнце лвить и искать?
И солнцу с чего ж их ласкать,
Воздушных на мертвом просторе!
Подумать, что помпа бюро,
Огней и парчи серебро,
Должна потускнеть в фимиаме:
Пришли Арлекин и Пьеро,
О, белая помпа бюро!
И стали у гроба с свечами!
ВЕСЕННИЙ РОМАНС
Еще не царствует река,
Но синий лед она уж топит;
Еще не тают облака,
Но снежный кубок солнцем допит.
62
Через притворенную дверь
Ты сердце шелестом тревожишь...
Еще не любишь ты, но верь:
Не полюбить уже не можешь...
ОСЕННИЙ РОМАНС
Гляжу на тебя равнодушно,
А в сердце тоски не уйму...
Сегодня томительно-душно,
Но солнце таится в дыму.
Я знаю, что сон я лелею,
Но верен хоть снам я,— а ты?..
Ненужною жертвой в аллею
Падут, умирая, листы...
Судьба нас сводила слепая:
Бог знает, мы свидимся ль там...
Но знаешь?.. Не смейся, ступая
Весною по мертвым листам!
1903
СРЕДИ МИРОВ
Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, что я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.
1901
63
МИРАЖИ
То полудня пламень синий,
То рассвета пламень алый,
Я ль устал от четких линий,
Солнце ль самое устало —
Но чрез полог темнолистый
Я дождусь другого солнца
Цвета мальвы золотистой
Или розы и червонца.
Будет взорам так приятно
Утопать в сетях зеленых,
А потом на темных кленах
Зажигать цветные пятна.
Пусть миражного круженья
Через миг погаснут светы...
Пусть я — радость отраженья,
Но не то ль и вы, поэты?
ГАРМОНИЯ
В тумане волн и брызги серебра,
И стертые эмалевые краски...
Я так люблю осенние утра
За нежную невозвратимость ласки!
И пену я люблю на берегу,
Когда она белеет беспокойно...
Я жадно здесь, покуда небо знойно,
Остаток дней туманных берегу.
А где-то там мятутся средь огня
Такие ж я, без счета и названья,
И чье-то молодое за меня
Кончается в тоске существованье.
64
ВТОРОЙ МУЧИТЕЛЬНЫЙ СОНЕТ
Вихри мутного ненастья
Тайну белую хранят...
Колокольчики запястья
То умолкнут, то звенят.
Ужас краденого счастья —
Губ холодных мед и яд
Жадно пью я, весь объят
Лихорадкой сладострастья.
Этот сон, седая мгла,
Ты одна создать могла,
Снега скрип, мельканье тени,
На стекле узор курений,
И созвучье из тепла
Губ, и меха, и сиреней.
БАБОЧКА ГАЗА
Скажите, что сталось со мной?
Что сердце так жарко забилось?
Какое безумье волной
Сквозь камень привычки пробилось?
В нем сила иль мука моя,
В волненьи не чувствую сразу:
С мерцающих строк бытия
Ловлю я забытую фразу...
Фонарь свой не водит ли тать
По скопищу литер унылых?
Мне фразы нельзя не читать,
Но к ней я вернуться не в силах...
Не вспыхнуть ей было невмочь,
Но мрак она только тревожит:
Так бабочка газа всю ночь
Дрожит, а сорваться не может...
3 Серебояный век
65
ПРЕРЫВИСТЫЕ СТРОКИ
Этого быть не может,
Это — подлог,
День так тянулся и дожит,
Иль, не дожив, изнемог?..
Этого быть не может...
С самых тех пор
В горле какой-то комок...
Вздор...
Этого быть не может...
Это — подлог...
Ну-с, проводил на поезд,
Вернулся, и solo*, да!
Здесь был ее кольчатый пояс,
Брошка лежала — звезда,
Вечно открытая сумочка
Без замка,
И, так бесконечно мягка,
В прошивках красная думочка...
Зал...
Я нежное что-то сказал,
Стали прощаться,
Возле часов у стенки...
Губы не смели разжаться,
Склеены...
Оба мы были рассеянны,
Оба такие холодные...
Мы...
Пальцы ее в черной митенке
* Один (итал.).— Ред.
вб
Тоже холодные...
♦ Ну, прощай до зимы,
Только не той, и не другой,
И не еще — после другой...
Я ж, дорогой,
Ведь не свободная...»
— ♦Знаю, что ты — в застенке...»
После она
Плакала тихо у стенки,
И стала бумажно-бледна...
Кончить бы злую игру...
Что ж бы еще?
Губы хотели любить горячо,
А на ветру
Лишь улыбались тоскливо...
Что-то в них было застыло,
Даже мертво...
Господи, я и не знал, до чего
Она некрасива...
Ну, слава богу, пускают садиться...
Мокрым платком осушая лицо,
Мне отдала она это кольцо...
Слиплись еще раз холодные лица,
Как в забытьи,—
И
Поезд еще стоял —
Я убежал...
Но этого быть не может,
Это — подлог...
День или год и уж дожит,
Иль, не дожив, изнемог...
Этого быть не может...
Июнь 1909
Царское Село
3*
67
CANZONE *
Если б вдруг ожила небылица
На окно я поставлю свечу,
Приходи... Мы не будем делиться,
Все тдать тебе счастье хочу!
Ты придешь и на голос печали,
Потому что светла и нежна,
Потому что тебя обещали
Мне когда-то сирень и луна.
* * *
В ароматном краю в этот день голубой
Песня близко: и дразнит, и вьется;
Но о том не спою, что мне шепчет прибой,
Что вокруг и цветет, и смеется.
Я не трону весны — я цветы берегу,
Мотылькам сберегаю их пыль я,
Миг покоя волны на морском берегу
И ладьям их далекие крылья.
А еще потому, что в сияньи сильней
И люблю я сильнее в разлуке
Полусвет-полутьму наших северных дней,
Недосказанность песни и муки...
НА ПОЛОТНЕ
Платки измятые у глаз и губ храня,
Вдова с сиротами в потемках затаилась.
Одна старуха мать у яркого огня:
Должно быть, с кладбища, иззябнув, воротилась.
* Песня (итал.).— Ред.
68
В лице от холода сквозь тонкие мешки
Смесились сизые и пурпурные краски,
И с анкилозами на пальцах две руки
Безвольно отданы камина жгучей ласке.
Два дня тому назад средь несказанных мук
У сына сердце здесь метаться перестало,
Но мать не плачет — нет, в сведенных кистях рук
Сознанье — надо жить во что бы то ни стало.
К ПОРТРЕТУ ДОСТОЕВСКОГО
В нем Совесть сделалась пророком и поэтом,
И Карамазовы и бесы жили в нем,—
Но что для нас теперь сияет мягким светом,
То было для него мучительным огнем.
К ПОРТРЕТУ
Тоска глядеть, как сходит глянец с благ,
И знать, что все ж вконец не опротивят,
Но горе тем, кто слышит, как в словах
Заигранные клавиши фальшивят.
МАЙСКАЯ ГРОЗА
Среди полуденной истомы
Покрылась ватой бирюза...
Люблю сквозь первые симптомы
Тебя угадывать, гроза...
На пыльный путь ракиты гнутся,
Стал ярче спешный звон подков,
Нет-нет — и печи распахнутся
Средь потемневших облаков.
69
А вот и вихрь, и помутненье,
И духота, и сизый пар...
Минута — с неба наводненье,
Еще минута — там пожар.
И из угла моей кибитки
В туманной сетке дождевой
Я вижу только лоск накидки
Да черный шлык над головой.
Но вот уж тучи будто выше,
Пробились жаркие лучи,
И мягко прыгают по крыше
Златые капли, как мячи.
СИРЕНЬ НА КАМНЕ
Клубятся тучи сизоцветно.
Мой путь далек, мой путь уныл.
А даль так мутно-безответна
Из края серого могил.
Вот кем-то врезан крест замшенный
В плите надгробной и, как тень,
Сквозь камень, Лазарь воскрешенный,
Пробилась чахлая сирень.
Листы пожелкли, обгорели...
То гнет ли неба,'камня ль гнет,—
Но говорят, что и в апреле
Сирень могилы не цветет.
Да и зачем? Цветы так зыбки,
Так нежны в холоде плиты,
И лег бы тенью свет улыбки
На изможденные черты.
70
А в стражах бледного Эреба
Окаменело столько мук...
Роса, и та для них недуг,
И смерть их — голубое небо.
Уж вечер близко. И пути
Передо мной еще так много,
Но просто силы нет сойти
С завороженного порога.
И жизни ль дерзостный побег,
Плита ль пробитая жалка мне,—
Дрожат листы кустов-калек,
Темнее крест на старом камне.
ПЕТЕРБУРГ
Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале,—
Завтра станет ребячьей забавой.
71
Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.
Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознанье проклятой ошибки.
Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отрава бесплодных хотений.
СУМРАЧНЫЕ СЛОВА
За ветхой сторою мы рано затаились,
И полночь нас мечтой немножко подразнила,
Но угру мы глазами повинились,
И утро хмурое простило...
А небо дымное так низко нависало,
Все мельче сеял дождь, но глуше и туманней,
И чья-то бледная рука уже писала
Святую ложь воспоминаний.
Все, все с собой возьмем. Гляди, как стали четкй
И путь меж елями, бегущий и тоскливый,
И глянцевитый верх манящей нас пролетки,
И финн измокший, терпеливый.
Но ты, о жаркий луч! Ты опоздал. Ошибкой
Ты заглянул сюда,— иным златися людям!
Лишь сумрачным словам отныне мы улыбкой
Одною улыбаться будем!
72
СТАРЫЕ ЭСТОНКИ
Из стихов кошмарной совести
Если ночи тюремны и глухи,
Если сны паутинны и тонки,
Так и знай, что уж близко старухи,
Из-под Ревеля близко эстонки.
Вот вошли,— приседают так строго,
Не уйти мне от долгого плена,
Их одежда темна и убога,
И в котомке у каждой полено.
Знаю, завтра от тягостной жути
Буду сам на себя непохожим...
Сколько раз я просил их: «Забудьте...»
И читал их немое: «Не можем».
Как земля, эти лица не скажут,
Что в сердцах похоронено веры...
Не глядят на меня — только вяжут
Свой чулок бесконечный и серый.
Но учтивы — столпились в сторонке...
Да не бойся: присядь на кровати...
Только тут не ошибка ль, эстонки?
Есть куда же меня виноватей.
Но пришли, так давайте калякать,
Не часы ж, не умеем мы тикать.
Может быть, вы хотели б поплакать?
Так тихонько, неслышно... похныкать?
Иль от ветру глаза ваши пухлы,
Точно почки берез на могилах...
Вы молчите, печальные куклы,
Сыновей ваших... я ж не казнил их...
73
Я, напротив, я очень жалел их,
Прочитав в сердобольных газетах,
Про себя я молился за смелых,
И священных был в ярких глазетах.
Затрясли головами эстонки.
Ты жалел их... На что ж твоя жалость,
Если пальцы руки твоей тонки,
И ни разу она не сжималась?
Спите крепко, палач с палачихой!
Улыбайтесь друг другу любовней!
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,
В целом мире тебя нет виновней!
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Николай Гумилев
ИЗ ПИСЕМ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ
О недавно вышедшей книге И. Анненского уже поя¬
вился ряд рецензий модернистов, представителей старой
школы и даже нововременцев. И характерно, что все они
сходятся, оценивая «Кипарисовый ларец», как книгу
бесспорно выдающуюся, создание большого и зрелого
таланта. На это, может быть, повлиял тот факт, что
Анненский, не примыкая идейно к кружку русских сим¬
волистов, кстати сказать, не раз значительно уклоняв¬
шихся от поставленных себе целей, в то же время учился
у тех же учителей — французских поэтов, работал над
теми же проблемами, болел теми же сомнениями, хотя во
имя иного. Русские символисты взялись за тяжелую, но
высокую задачу — вывести родную поэзию из вавилон¬
ского плена идейности и предвзятости, в котором она
томилась почти полвека. Наряду с творчеством, они до¬
лжны были насаждать культуру, говорить об азбучных
истинах, с пеной у рта защищать мысли, которые на
Западе стали уже общим местом. В этом отношении Брю¬
сова можно сравнить с Петром Великим.
Анненский оставался чужд этой борьбе. Эстетизм ли
тонкой, избалованной красотами Эллады души или на¬
божное, хотя с виду и эгоистическое, стремление исполь¬
зовать свои силы наилучшим образом заставили его уеди¬
ниться духовно,— кто знает?
Но только теперь, когда поэзия завоевала право быть
живой и развиваться, искатели новых путей на своем зна¬
мени должны написать имя Анненского, как нашего «Завт¬
ра». Вот как он сам определяет свое отношение к русскому
символизму в стихотворении, озаглавленном «Другому»:
75
Твои мечты — менады по ночам,
И лунный вихрь в сверкании размаха
Им волны кос взметает по плечам...
Мой лучший сон — за тканью Андромаха.
♦
На голове ее эшафодаж,
И тот прикрыт кокетливо платочком,
Зато нигде мой строгий карандаш
Не уступал своих созвучий точкам.
Две последние строки особенно характерны для нашего
поэта. В его стихах пленяет гармоническое равновесие
между образом и формой,— равновесие, которое освобож¬
дает оба эти элемента, позволяя им стремиться дружно,
как двум братьям, к точному воплощению переживания.
Круг его идей остро нов и блещет неожиданностями,
иногда парадоксальностью. Для него в нашей эпохе ха¬
рактерна не наша вера, а наше безверье, и он борется за
свое право не верить с ожесточенностью пророка. С горя¬
щим от любопытства взором он проникает в самые тем¬
ные, самые глухие закоулки человеческой души; для него
ненавистно только позерство, и вопрос, с которым он
обращается к читателю: «а если грязь и низостЬ только
мука по где-то там сияющей красе?» — для него уже не
вопрос, а непреложная истина. «Кипарисовый ларец» —
это катехизис современной чувствительности.
Над техникой стиха и поэтическим синтаксисом
И. Анненский работал долго и упорно и сделал в этой
области большие завоевания. Относя главное подлежа¬
щее на конец фразы, он придавал ему особенную значи¬
тельность и силу, как, например, в стихах:
Я знал, что она вернется
И будет со мной — Тоска.
Причудливо перетасовывая придаточные предложе¬
ния, он достигал, подобно Маллармэ, иератической вели¬
чественности и подсказывал интонации голоса, до него
неизвестные в поэзии:
О нет, не стан, пусть он так нежно-зыбок,
Я из твоих соблазнов затаю,
Не влажный блеск малиновых улыбок,
Страдания холодную змею.
Его аллитерации не случайны, рифмы обладают могу¬
чей силой внушаемости.
Читателям «Аполлона» известно, что И. Анненский
76
скончался 30 ноября 1909 г. И теперь время сказать, что
не только Россия, но и вся Европа потеряла одного из
больших поэтов...
1910
Андрей Федоров
ИЗ СТАТЬИ «ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО»
Если в других стихотворениях затрагивающих тему
социальной несправедливости, Анненский обычно лишь
намечает ситуацию, которой читатель уже сам должен
придать обобщенный смысл, то в «Старых эстонках»
вывод подчеркнут, обобщению придана необычайная
яркость; и голос поэта, который горькие упреки обраща¬
ет к самому себе, звучит с небывалой у него страстностью.
Единственный раз у Анненского выступает здесь тема
народного гнева, возмездия:
Погоди — вот накопится петель,
Так словечко придумаем, скажем.
Сурового пафоса полно и стихотворение «Бессонные
ночи», направленное против общественных верхов, про¬
тив «высшего света» и бичующее его пустоту, лицеме¬
рие, злобность, бессовестность:
Опять там улыбались язве
И гоготали, славя злость...
Христа не распинали разве,
И то затем, что не пришлось...
Опять там каверзный вопросик
Спускали с плеч, не вороша...
И всё там было — злобность мосек
И пустодушье чинушА.
Эти строфы вызывают в памяти блоковское стихотво¬
рение «Сытые», полное глубокого осуждения по адресу
старого мира и сочувствия к революции. До вывода о
необходимости покончить со старым миром, уничтожить
его, заменить другим Анненский не доходит. Но все его
существо возмущается косностью, несправедливостью,
бессердечностью, царящими «назеркалах вощеных зал».
Правда, чувство протеста почти подавляется сознани¬
ем безвыходности, и ощущение собственного одиночест-
77
ва, как здесь, так и в других стихотворениях, становится
у поэта еще острее, сознание же своей ответственности
перед страдающими людьми делается еще более болез¬
ненным. Внешний мир превращается в фантасмагорию,
где живой человек и неодушевленная природа уже не
отграничены друг от друга, а жалость поэта распростра¬
няется в равной мере на страдающих людей и на камни,
на цветы, на куклу, бросаемую в воду,— на предметы,
одушевляемые им:
Иль я не с вами таю, дни?
Не вяну с листьями на кленах?
Иль не мои умрут огни
В слезах кристаллов растопленных?
Иль я не весь в безлюдье скал
И черном нищенстве березы?
Не весь в том белом пухе розы,
Что холод утра оковал?..
(«Когда б не смерть, а забытье.»» )
И попытка выйти к социальной теме, в мир реальных
«воздействий жизни» оказывается для поэта только бо¬
лее мучительной, вызывая в нем еще более трагические
переживания, еще более обостряя в нем сознание невоз¬
можности вырваться за пределы своего психического
мира, все равно обреченного гибели.
Тема смерти сочетается для Анненского с темой тоски
о времени, которое не вернуть, а личная жизнь того «я»,
от имени которого поэт ведет речь, становится символом
жизни вообще и осознается им как неудача, как нечто
непоправимое (стихотворения «Трактир жизни», «С че¬
тырех сторон чаши», «Далеко... далеко...», «Когда высо¬
ко под дугою...»). И еще — как обман. Эта жизнь, эта
действительность пугает и отталкивает поэта своим без¬
образием, пошлостью, нарушением неких «идеальных»
эстетических норм. И протест против действительности
временами приводит поэта к восприятию жизни, приро¬
ды, мира как чего-то призрачного, нереального. Тема
призрачности, колдовства, раздвоенности, кошмара иг¬
рает у Анненского немалую роль, сочетаясь, однако, с
четко выписанными образами реальной житейской об¬
становки, которые впечатляют именно своей жестокой
обыденностью. Яркий пример тому — стихотворение
«Квадратные окошки», где оживляемый воспоминанием
образ женщины, когда-то страстно любимой, встает как
78
манящий призрак, чтобы потом превратиться в фантас¬
тический гротеск на фоне сугубо будничных деталей.
Она... да только с рожками,
С трясучей бородой —
За чахдыми горошками,
За мертвой резедой...
Восприятию окружающего мира и жизни как обмана,
как призрачной декорации в стихах Анненского противос¬
тоит и иная тенденция, не позволяющая его поэзии, как
целому, превратиться в фантасмагорию, утратить конкрет¬
ность и наглядность. Анненский не только поэт кошмаров,
но и зоркий наблюдатель жизни, замечательный мастер
реалистического пейзажа, живых и метких деталей обста¬
новки, живой разговорной речи, элементы которой (иног¬
да в виде реплик отдельных персонажей стихотворения,
иногда в составе речи «от автора») он часто включает в
свои стихи. Нередко даже в трагических стихотворениях,
посвященных теме кошмара, бреда, галлюцинаций, точ¬
ная образность слова, четкость выражения, наглядная кон¬
кретность обстановки контрастирует с самой темой и, кон¬
трастируя, оттеняет ее, сообщает ей большую выпуклость.
Там же, где поэт смотрит на мир, на природу как на реаль¬
ную данность, не сомневаясь в ней, в описательных стихах
более спокойного и трезвого тона, становится ясна его связь
с русской лирикой XIX века, в частности — с Тютчевым.
Лучшие русские поэты начала нашего века перекли¬
кались (правда, каждый по-своему и по-разному) с рус¬
ской поэзией прошлого столетия, с различными ее пред¬
ставителями (так, например, у Блока — тяготение к по¬
эзии Лермонтова, Фета, Полонского). У Анненского
глубокая, органическая связь с русской философской
лирикой и с поэзией природы, с Тютчевым и Баратынс¬
ким. Именно тютчевское начало временами очень отчет¬
ливо дает себя чувствовать в лирике Анненского, особен¬
но в сравнениях и сообщениях, которые он дает в кон¬
цовках своих стихотворений:
От золотой его одежды
Осталась бурая кайма
Да горький чад... воспоминанья
Как обгорелого письма
Неповторимое признанье.
(«Еще один»)
79
А сердцу, может быть, милей
Высокомерие сознанья,
Милее мука, если в ней
Есть тонкий яд воспоминанья.
(«Что счастье?» )
Связь с Тютчевым дает о себе знать и в таких чисто
пейзажных стихотворениях, как «Ноябрь» или «Ветер»,
как «Солнечный сонет», и в таких, где за описанием
следует сентенция, где частное и конкретное (образ из
мира природы) становится формой выражения мысли
более общего порядка, относящейся к человеческой жиз¬
ни. Так, в «Майской грозе»:
Когда бы бури пролетали
И все так быстро и светло...
Но не умчит к лазурной дали
Грозой разбитое крыло.
Природа тоже не дает поэту желанного и полного ус¬
покоения. Противоречие между внутренней жизнью и
внешним миром остается. Страстно переживая то, что
совершается в мире неодушевленной природы, Анненс¬
кий, как об этом уже пришлось говорить, наделяет ее
прежде всего способностью страдать по-человечески.
Русский декаданс и символизм тесно связан с идеалис¬
тической философией. То ощущение разрыва между
миром внешним и внутренним миром поэта, которое так
характерно для Анненского, отличает и ряд других поэ¬
тов — его современников. Но Анненский, в отличие от
столь многих из их числа, не смотрит на свое «я» как на
нечто самодовлеющее и независимое от остального мира.
<...>
но образная по своим синтаксическим формам, то длин¬
ная, то короткая, иногда необычная по порядку слов, но
почти всегда непринужденная в своей живости фраза.
Это и роднит язык драматургии Анненского с языком
его лирики.
Как драматургии, так и лирике Анненского, при всей
их технической изощренности, чужды формальные экспе¬
рименты над стихом и словом, столь характерные для рус¬
ских декадентов и нередко заслонявшие собой, затемняв¬
шие смысл. Любопытно, что в «Кипарисовом ларце» есть
особый «Трилистник шуточный», где и сосредоточены,
именно под видом «шутки», равные трюки — метрические
80
(перенос части слова из одного стиха в другой, так что в
рифме оказывается слово усеченное) и словесные (игра на
междометиях). Это не значит, что Анненский не был нова¬
тором в поэзии. Но дело в том, что формальные особеннос¬
ти (например, новые и необычные ритмы или приемы ин¬
струментовки) всегда мотивированы у него в смысловом от¬
ношении, связаны с целым, которое представляет собой
стихотворение, и как бы отражают душевное состояние го¬
ворящего (например, в стихотворении «Прерывистые стро¬
ки» или в стихотворении «Колокольчики»).
Ритм у Анненского всегда связан со смыслом и синтак¬
сисом, а синтаксис его характеризуется повышенным
эмоциональным тоном с оттенком разговорно-речевой
эмфазы. Анненский смело вводит в свою поэзию элемен¬
ты прозаические, как в области ритма, так и в области
словаря и синтаксиса, разрушая традиционные «краси¬
вости», использует черты бытового диалога или моноло¬
га, пишет стихотворение в форме раешника («Шарики
детские»), в строки лирического стихотворения вкрапли-
вает чисто разговорные словечки:
А в сенях, поди, не жарко.
(«Трактир жизни»)
Или:
Из сердца за Иматру лет
Ничто, мол, у нас не уходит.
( «Дождик»)
Или еще:
Чухонец-то был справедливый,
За дело полтину взял.
(«То было на Валлен-Коски»/
Не боится Анненский и грубо-жестоких слов:
Дыханья, что ли, он хотел
Туда, в пустую грудь?
(«Черная весна»)
Он применяет нарочито современную прозаическую
речь в трагедии, в стихотворные монологи и диалоги ан¬
тичных персонажей вносит прозаизмы нашего современно¬
го языка. Использование прозаизма — обиходно-разговор¬
ного или книжно-делового (порою даже с канцелярским
оттенком) — давало недружелюбным критикам повод уп-
81
рекать Анненского в «тривиальности», «непоэтичности».
А критики-апологеты именно' на эту черту внимания не
обращали.
В словаре Анненского нет ни особых новшеств, ни
вообще каких-либо нарочитых сложностей. Он не прибе¬
гает к методу словотворчества, к образованию новых
слов, излюбленному русскими декадентами. Правда, в
«Тихих песнях» есть стихотворение «На пороге», где
поэт «сочиняет» эпитет «древожизненные», но это для
него — редкое исключение. Редки у него и архаизмы.
Словарное своеобразие языка, которым писал Анненс¬
кий, один из его критиков, рано умерший поэт В. Гоф¬
ман, охарактеризовал так: «...богатый, полный, живой
язык, в котором иногда — простонародная меткость и
что-то подчеркнуто и традиционно русское. Анненского
не назовешь французским декадентом, пишущим по-рус¬
ски. У него именно живой разговорный язык, а не .тот
условный, искусственно приготовленный стиль, которым
так часто пишут теперь поэты, гордящиеся тем, что их не
читают».
Анненский — мастер языка и знаток его словарных
богатств, из которых он, однако, избегает черпать какие-
либо раритеты. Чутье живой речи особенно отчетливо
приносит свои плоды в стихах, где поэт приближается к
быту, к будничной жизни, к бытовой обстановке, к реа¬
листическому пейзажу. «Простонародность», вернее на¬
родность,— основной элемент языка в таких стихотворе¬
ниях, как «Песни с декорацией», «Ванька-ключник в
тюрьме», «Шарики детские»; и это — не стилизация, не
«стильрюсс», а подлинное использование живого наро¬
дного словаря.
<>го применение разнообразнейших и даже противопо¬
ложных черт языка, всего его богатства, эта живость
речевой окраски и наглядность образов приводит к тому,
что жизненное содержание, выражаемое словами, приоб¬
ретает подлинную вещественную конкретность. То, что
видит поэт, обрисовывается ярко и четко. И так обстоит
дело у Анненского почти во всем его зрелом творчестве.
Если Анненский не сделался популярным в символис¬
тских кругах поэтом, если он даже не добился широкого
признания, если он долгое время даже не мог и рассчи¬
тывать на него, это не было следствием случайных при¬
чин, свойств личного характера — скромности или за¬
мкнутости. Это определяется прежде всего тем, что его
поэзия в своем целом пришла в известное столкновение
82
с догматами символизма. Недаром начало популярности
Анненского-лирика, подготовка почвы для издания «Ки¬
парисового ларца» и самый выход книги, уже посмерт¬
ной, совпадают по времени именно с кризисом символиз¬
ма. Самое же творчество Анненского в целом ряде отно¬
шений представляло противоречие между началом
символистическим и неуклонным стремлением поэта к
жизненной правде. Последнее и одерживало все более
решительные победы в его стихах периода зрелости. Не
случайно именно в тех стихотворениях, где он вступает
в прямое соприкосновение с правдой жизни, то есть в
стихотворениях гражданского содержания («Бессонные
ночи», «Старые эстонки», «Гармонные вздохи», «В доро¬
ге»), слова его приобретают глубоко реалистическую
выразительность.
Не только искренность, не только глубина и человеч¬
ность содержания, но и большая сила словесного мастер¬
ства определила роль Анненского для развития русской
поэзии. Напомним, что Блок — поэт столь искренний в
каждом своем отзыве и вместе с тем чуткий и взыска¬
тельный критик — в частном письме к Анненскому, ци¬
тируя строки из «Тихих песен», сказал: «Это навсегда в
памяти. Часть души осталась в этом».
Анненский для Маяковского занимал место в ряду
выдающихся лириков, хотя бы и чуждых ему по кругу
идей и эмоций. Об этом говорит одна из строчек в стихот¬
ворении «Надоело»:
Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет...
Поэтический метод Анненского, его искусство развер¬
тывания образов и мастерство смыслового построения
стихов — все это, вероятно, не прошло мимо Маяковско¬
го, а подготовило почву и для его творчества, где так
неожиданно и многогранно сочетаются разные значения
слов — и прямое и образное, где такую роль играют кон¬
трасты между «высоким» и «грубым», где лирическое и
разговорное начало так друг друга дополняют. <...>
Поиски Анненским богатых и разнообразных языко¬
вых средств не преследовали формальных целей как та¬
ковых; они были для него путем к выражению неразрыв¬
ного с ними поэтического содержания.
1959
Лидия Гинзбург
ИЗ КНИГИ «О ЛИРИКЕ»
Первый сборник оригинальных стихотворений Аннен¬
ского, «Тихие песни» (1904), только предсказывал буду¬
щий — и столь поздний — расцвет поэта. Высшее дости¬
жение Анненского — «Кипарисовый ларец», и особеннос¬
ти его поэтического метода отчетливо проявились в
самом построении этого сборника.
«Кипарисовый ларец» был издан посмертно (1910)
сыном Анненского, поэтом Валентином Кривичем. В вос¬
поминаниях о своем отце Кривич писал: «Вчерне книга
стихов эта планировалась уже не раз, но окончательное
конструирование сборника все как-то затягивалось. В тот
вечер, вернувшись из Петербурга пораньше, я собрался
вплотную заняться книгой. Некоторые стихи надо было
заново переписать, некоторые сверить, кое-что перерас¬
пределить, на ртот счет мы говорили с отцом много, и я
имел все нужные указания... Отец вернется из города с
последним поездом: может быть, уже сегодня я смогу
представить ему на санкцию книгу в готовом виде...»*
В этот самый ноябрьский вечер 1909 года Иннокентий
Анненский внезапно скончался на подъезде Царскосель¬
ского вокзала.
Итак, «Кипарисовый ларец» не имеет последней ав¬
торской редакции. Кривич мог многое внести от себя в
окончательное «перераспределение» материала; и все же
очевидно, что не Кривичу принадлежит сложная система
«трилистников» и «складней».
В отзыве — с высокой оценкой поэзии Анненского —
Брюсов писал об этой системе: «Второй, уже посмертный,
сборник стихов И. Анненского содержит сотню стихотво¬
рений, искусственно и претенциозно распределенных в
«трилистники» (по три) и «складни» (по два)»**. Постро¬
ение действительно самое условное. Двадцать пять малых
циклов — трилистников. Между включенными в них сти¬
хотворениями существует иногда прямая тематическая
* Валентин Кривич. Иннокентий Анненский по семейным воспомина¬
ниям и рукописным материалам.— «Литературная мысль», 1925, № 3.
С. 208—209.
** Брюсов В. Далекие и близкие. М., 1912. С. 159.
84
связь: например, «Трилистник вагонный» или «Трилист¬
ник тоски», в который входят «Тоскаотшумевшей грозы»,
«Тоска припоминания», «Тоска белого камня». Иногда
единство трилистника держится на связи ассоциаций.
Например, «Трилистник огненный», где от первого сти¬
хотворения «Аметисты» тянутся смысловые звенья к «мед¬
ному солнцу» второго стихотворения и к «солнечным хрус-
талям» третьего. В некоторых трилистниках принцип со¬
четания невозможно установить без натяжек.
Но дело не в том, насколько Анненскому (и Кривичу)
удалось справиться с затейливой композицией книги.
Для нас важнее другое — в основе построения «Кипари¬
сового ларца» лежит все та же идея сплошных соответ¬
ствий, подобий, взаимной сцепленности всех вещей и
явлений мира. Эту концепцию Анненский и пытался
выразить внешней связью всех стихотворений. Получи¬
лось искусственно — Брюсов прав. Но в своем отзыве
Брюсов отметил и ту особенность поэтического мышле¬
ния Анненского, которая побудила его сцепить между
собой стихотворения «Кипарисового ларца». «Он мыс¬
лил,— писал Брюсов,— по странным аналогиям, устанав¬
ливающим связь между предметами, казалось бы, вполне
разнородными ».
В лирике Блока отдельные потоки, разные по темам и
по стилистическому тону, сливаются в огромное единст¬
во. У Анненского другой масштаб — в «Кипарисовом
ларце» он хотел создать единый контекст в буквальном
смысле слова.
Несмотря на интерес к иррациональному и подсозна¬
тельному, Анненский — поэт интеллектуальный. Интел¬
лектуальность в поэзии — это видимая работа познающей
мысли, проявленная в самом сюжете стихотворения.
Этой проявленной мыслью Анненский близок к Бодлеру,
к Брюсову. У Блока познающая мысль обычно уходит в
глубь поэтической ткани произведения. Не всегда, ко¬
нечно, это не относится к «Ямбам», вообще ко многим
стихам последнего периода.
Интеллектуальность сосуществует у Анненского с
унаследованным от русской поэзии XIX века пронзитель¬
ным романсным лиризмом. Интеллектуальность обузды¬
вает эту лирическую стихию.
В лирике опосредствованной лирическое событие как
бы выходит за пределы авторского л, с тем чтобы за¬
мкнуться в сюжетной структуре исторического факта,
персонажа, нередко одного предмета (это не мешает сти-
85
хотворению быть звеном в контексте поэтических цик¬
лов). Для этого направления — в частности, у французс¬
ких поэтов — характерно обилие и сюжетность заглавий.
Тогда как лирика наиболее чистого типа часто обходится
без заглавий. Много стихов без заглавий у Фета; заглавий
почти нет в 4Стихах о Прекрасной даме».
«Кипарисовый ларец» — построение полярное лири¬
ческим дневникам, движущимся сплошным потоком.
Общий контекст этой книги складывается из закончен¬
ных структур — отдельных стихотворений. Отсюда зна¬
чение для «Кипарисового ларца» семантики заглавий. Не
только заглавия стихотворений, но и заглавия трилис¬
тников и складней задуманы как действенный элемент,
как ключ, в котором должны читаться охваченные ими
стихотворения. Этот замысел не всегда осуществляется с
равным успехом. Есть заглавия натянутые, нужные толь¬
ко для соблюдения единого принципа. Есть заглавия, так
сказать, тавтологические. Например, «Трилистник тос¬
ки», включающий три стихотворения, в заглавия кото¬
рых входит слово «тоска», или «Трилистник траурный»
со стихами о смерти и похоронах, или «Трилистник вагон¬
ный» («Тоска вокзала», «В вагоне», «Зимний поезд»). Есть
и заглавия, которые действительно дают ключ, динамизи¬
руют определенные смысловые элементы. Например, «Три¬
листник обреченности» («Будильник», «Стальная цика¬
да», «Черный силуэт») или «Трилистник соблазна», куда
входят «Маки», «Смычок и струны», «В марте». В этих
случаях заглавие выявляет связь, существующую между
стихотворениями трехчленного микроцикла.
Потребность в заглавии связана с сюжетностью. Разу¬
меется, каждое лирическое стихотворение имеет сюжет,
если понимать под сюжетом чередование и соотношение
семантических единиц. Все же мы говорим о лирической
сюжетности, обычно имея в виду повествовательное на¬
чало в лирике или опосредствующее значение персона¬
жей, предметов.
У Анненского лирическое событие не имеет повество¬
вательной оболочки. Его сюжетность — в сцеплениях и
разрывах между внешним и внутренним миром, в дина¬
мике вещей, подобной динамике отраженных в них ду¬
шевных процессов. В поэзии Анненского эти соотноше¬
ния воплощены по-разному. «Смычок и струны», «Ста¬
рая шарманка» — здесь связь явно символическая. Вещь
иносказательно замещает человека и потому наделяется
человеческими свойствами.
86
«Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? Довольно?..»
И скрипка отвечала да,
Но сердцу скрипки было больно.
То же в стихотворении «Тоска медленных капель*:
В недвижно-бессонной ночи
Их лязга не ждать не могу я:
Фитиль одинокой свечи
Мигает и пышет, тоскуя.
И мнится, я должен, таясь,
На странном присутствовать браке,
Поняв безнадежную связь
Двух тающих жизней во мраке.
В стихах этого типа символика стоит уже иногда на
грани однозначного аллегоризма.
Есть ряд стихотворений, в которых, напротив того,
вещи сохраняют свое предметное качество. Они сопровож¬
дают душевный процесс, становятся его выразительными
атрибутами. Так, например, в стихотворении «Баллада*:
Позади лишь вымершая дача...
Желтая и скользкая... С балкона
Холст повис, ненужный там... Но спешно
Оборвав, сломали георгины.
«Во блаженном...» И качнулись клячи.
Маскарад печалей их измаял...
Желтый пес у разоренной дачи
Бил хвостом по ельнику и лаял...
Это все конкретные обстоятельства душевного дейст¬
ва, в корне преобразующего их первоначальную прозаи¬
ческую суть. Но для поэтического мышления Анненского
специфичнее всего третий тип соотношения между
вещью и человеком. Предмет не сопровождает человека
и не замещает его иносказательно; оставаясь самим со¬
бой, он как бы дублирует человека. В этом ключе напи¬
саны самобытнейшие стихи Анненского, в том числе
«Стальная цикада*:
87
Я знал, что она вернется
И будет со мной — Тоска.
Звякнет и запахнется
С дверью часовщика...
Сердца стального трепет
Со стрекотаньем крыл
Сцепит и вновь расцепит
Тот, кто ей дверь открыл...
Жадным крылом цикады
Нетерпеливо бьют:
Счастью ль, что близко, рады,
Муки ль конец зовут?..
Что это — механизм отданных в починку часов или
тоскующее сердце человека? И то, и другое — двойники*.
То же в «Тоске маятника». А в стихотворении «Уми¬
рание» (о съежившемся детском шаре) принцип даже
раскрыт с какой-то рационалистической точностью:
Только б тот над головой,
Темно-алый, чуть живой,
Подождал пока над ложем
Быть таким со мною схожим...
Вещно-психологическим соответствиям у Анненского
угрожала бы схематичность, если б не острое чувство
сцепления с предметами городской цивилизации — для
поэта урбанистического века столь же естественное, как
естественна была для его предшественников связь с при¬
родой, порождавшая столько сближений, созвучий и
аналогий.
Как и большая часть русских поэтов рубежа XIX и XX
века, Анненский учился у Фета конкретности воспри¬
ятия. Но предметные подробности у Фета — это атрибу¬
ты если не самой природы, то вклинившейся в природу
усадебной жизни. Городская жизнь и все, что к ней от¬
носится,— это для Фета уже дурная, низкая жизнь, ос¬
тающаяся за гранью поэтического.
* Анненский, без сомнения, знал входящее в «Эмали и камея» стихот¬
ворение Готье об остановившихся часах («La montre»). Но трактовка
темы у Анненского совсем другая.
88
В отличие от Брюсова и подобно Блоку, Анненский
сохраняет усадебную стихию русской лирики XIX века
(у Анненского, впрочем, это часто уже загородный дом,
дача). В то же время он знает уже, что современный
человек — это городской человек. Оба начала совмеща¬
ются именно потому, что у Анненского в какой-то мере
снято старое романтическое (руссоистическое по своим
истокам) противостояние природы и цивилизации, при¬
роды и социальной жизни (несправедливо устроенной). В
системе Анненского и усадьба (с ее мартовской землей,
лунной террасой, маками в саду), и город — это конкрет¬
ные условия существования человека и потому равноп¬
равный материал для символики его душевной жизни.
Мифотворчество и поэзия искони одушевляли приро¬
ду, сливали ее с человеком, превращая в аналогию и
подобие. Теперь этот процесс распространяется на вещи
городского бытия. Они тоже становятся ландшафтом
души и ее подобием. Но для того чтобы вплотную при¬
близиться к человеку, городской мир должен был поте¬
рять свои грандиозные очертания и сократиться до от¬
дельных вещей. Урбанизм Анненского — это своеобраз¬
ный микроурбанизм. Каждое из основных стихотворений
цикла Верхарна «Города-спруты» представляет собой
большое полотно, сложное, многосоставное. В своей сово¬
купности цикл охватывает основные слагаемые бытия
большого города—«Душа города», «Соборы», «Порт»,
♦ Фабрики», «Биржа». Наряду с этим есть у Верхарна и
отдельные сцены, вырезанные из жизни города. Так,
например, в стихотворении «Les promeneuses» или «Les
spectacles». Предмет городского обихода, отдельная вещь-
для Верхарна не стала темой.
Учившийся у Верхарна Брюсов уже вступает отчасти
на путь урбанистической детализации (наряду с произве¬
дениями большого охвата— «Париж», «Конь блед»,
♦ Слава толпе») —
Когда сижу один, и в комнате темно,
И кто-то за стеной играет долго гаммы,—
Вдруг фонари зажгут, и свет, пройдя в окно,
Начертит на стене оконные две рамы...
1898
Здесь дробность, детализация городского пейзажа свя¬
зана с некоторой описательностью; лирический микро¬
косм городской жизни складывается из разных элемен-
89
тов. Анненский же сосредоточен на одном предмете или
на группе предметов, между собой сопряженных. Явно
символическая концепция вещей сужает, ограничивает
их отбор. Анненский не может и не хочет уйти от искон¬
ной символики музыкальных инструментов, часов, маят¬
ника. Но новое, урбанистическое сознание преображает
вечные символы своим техницизмом — пусть самым эле¬
ментарным техницизмом не только с нашей сегодняшней
точки зрения, но и в масштабе технических возможнос¬
тей начала XX века.
Так, вечная тема отсчитывающих время часов вопло¬
щена механизмом будильника. Как ни наивен техницизм
будильника, но именно он изнутри перестраивает тему.
Это уже не сетования о прошлом и уходящем, о неумоли¬
мом беге времени. Это страх перед будущим, которое
мыслится (одна из типических концепций урбанизма
1900-х годов) как век бесчеловечной механизации.
Цепляясь за гвоздочки,
Весь из бессвязных фраз,
Напрасно ищет точки
Томительный рассказ,
О чьем-то недоборе
Косноязычный бред...
Докучный Лепет горя
Ненаступивших лет,
Где нет ни слез разлуки,
Ни стылости небес,
Где сердце — счетчик муки,
Машинка для чудес...
И скучно разминая
Пружину полчаса,
Где прячется смешная
И лишняя Краса.
Старая шарманка — это предмет в поэзии тоже не но¬
вый. Но и в эту тему Анненский внес своего рода техни¬
цизм:
Лишь шарманку старую знобит, •
И она в закатном мленьи мая
Все никак не смелет злых обид,
Цепкий вал кружа и нажимая.
НО
И никак, цепляясь, не поймет
Этот вал, что не к чему работа,
Что обида старости растет
На шипах от муки поворота.
Изображение технического процесса и создает здесь
образ муки, всю протяженность и материальность этого
образа.
Цепляясь, вал, шипы — что это здесь такое, прозаиз-
мы? Разумеется, это нестилевые слова, прозаизмы. Но в
системе Анненского они уже лишены особой лексичес¬
кой окраски, признаков тривиальной речи.
В статьях на литературные темы Анненский широко
пользовался символистической фразеологией, но по поэ¬
тическому мировосприятию, определившему метод са¬
мых зрелых его творений, Анненский не дуалистичен.
Поэтому в его стихах, особенно поздних, прозаизм не
ощущается уже как инородный элемент — пусть эстети¬
чески действенный и необходимый. У Анненского это
уже нормальный лирический материал, поэтому не слиш¬
ком ощутимый, во всяком случае не противостоящий
самому высокому поэтическому образу.
Разве б петь, кружась, он перестал
Оттого, что петь нельзя, не мучась?..
Здесь вовсе нет игры на крутых переходах от низкого
к высокому, от высокого к низкому — столь милых ро¬
мантическому сознанию XIX века.
Меру ценности вещей — тем самым и высоты слов —
поэт ищет теперь в их символической связи с душевными
муками и радостями человека. Шипы не ниже струн,
потому что и те и другие являются знаками важных
душевных событий. И те и другие могут быть поэтичны.
1974
Борис Евсеев
ЦАРЬ СУМРАЧНОЙ ДОЛИНЫ
Фигура Иннокентия Анненского, одинокого и непри¬
знанного поэта на сломе веков,— ни с кем и ни с чем не
сравнима^ Он словно держал в руках двустороннее зерка¬
ло: часть его поэзии отразила весь русский девятнадца-
91
тый век, другая — уловила и отразила будущее русской
поэзии. А это редко кому удавалось.
По временам поэзия Анненского вызывает гнев. Иног¬
да — негодование и жалость. Но почти всегда вслед за
этими чувствами наплывает на нас блаженная, полубез¬
умная улыбка: так улыбается отравленный в краткие
минуты между принятием яда и его действием. В одной
из рецензий 1904 года об Анненском было сказано: ♦ав¬
тор очень близок к помешательству». Блок и Брюсов
говорили о нем пусть и сочувственно, но явно снисходи¬
тельно. Анненского не ловили на слух, не ухватывали
нюхом. Он умер в 1909 году, пятидесяти четырех лет,
абсолютно непонятым, умер, легкими сгустками иронии
мешая себе усомниться в своем таланте:
Вот газеты свежий нумер,
Объявленье в черной раме:
Несомненно, что я умер,
И, увы! не в мелодраме.
Он был степенным капризником, был невинен, как
девушка, и развязен, как пьяная гейша, был, по своему
же определению, «мистик», бредил в юности «религиоз¬
ным жанром Мурильо», а закончил гениальными русски¬
ми стихами о вербной неделе:
Стал высоко белый месяц на ущербе,
И за всех, чья жизнь невозвратима,
Плыли жаркие слезы по вербе
На румяные щеки херувима.
Анненский хотел быть поэтом, но не хотел, чтобы его
знали. Он не был «публичный поэт» (гейша это совсем
ведь не то, что публичная девка). И, спасаясь от других
и от самого себя, от сумрака своей растерзанной души,
заплывал в древнегреческие моря Эврипида, будучи за¬
ботливым, хоть и несчастливым семьянином, провали¬
вался в ароматизированные пороком и отдающие душ¬
ком нечистот приусадебные пруды французской поэзии.
«Трактир жизни» притягивал его, но и пугал:
Муть вина, нагие кости,
Пепел стынущих сигар,
На губах — отрава злости,
В сердце — скуки перегар...
92
♦Алкоголь или гашиш?» — это не строка вибрирует —
верещит плоть жизни поэта. И было, было от чего в
России в те годы опьяняться, было от чего потерять го¬
лову! От страха перед жизнью, в котором поэт себе при¬
знаться не хотел, рождалась тоска. От тоски — самоуни¬
чижение, от самоуничижения — одиночество. Ник. Т-о,
подписывал свои стихи Анненский. Так адресовался
Одиссей к циклопу Полифему. Так адресовался действи¬
тельный статский советник Анненский к окружавшей
его циклопически непонятной жизни.
Анненского называли декадентом и сравнивали с Че¬
ховым. И то, и другое верно лишь отчасти: прозу и по¬
эзию сравнивать бесполезно, поэзия — фрагментарна,
проза — бесконечно эпична, поэзия — древней, проза —
новей, поэзия — всегда движение к смерти, проза — всег¬
да движение к жизни. Питаться одна другой они могут.
Объяснить друг друга — никогда.
Декадентом Анненский тоже не был, его строки ♦ Я —
слабый сын больного поколенья» или <Я — римлянин
эпохи Апостата» (из Верлена), отголоски древней, все
еще Длящейся трагедии, сбиваемой с толку новейшим
упадком. А был он новатором в поэзии, вплетшим в стро¬
ку русского мелодического стиха приемы стиха интона¬
ционного, что сразу смешало все карты на ломберном
столе поэзии, привело к непониманию со стороны совре¬
менников: как это, в «тихих песнях» да вдруг слышится
гул иного века? Анненский начал век XX, а думали, что
он лишь эклектически завершает XIX.
Непонимание росло, становилось, несмотря на редкие
публикации, на полупризнание «аполлоновцев» и про¬
чее, почти всеобъемлющим. Оставалось «уничтожиться,
♦ канув / В этот омут безликий», что 30 ноября 1909 года
и произошло.
Но и за 18 дней до своей неожиданной смерти на по¬
роге Царскосельского вокзала Анненский играл все на
той же любимой струне под названием ♦Моя тоска».
Пусть травы сменятся над капищем
волненья
И восковой в гробу забудется рука,
Мне кажется, меж вас одно недоуменье
Все будет жить мое, одна моя Тоска...
Я выдумал ее — и все ж она виденье,
Я не люблю ее — и мне она близка,
93
Недоумелая, мое недоуменье,
Всегда веселая, она моя тоска.
Эту «веселую тоску*, это смешение мелодической и
интонационной линий («Прерывистые строки* —ясно
отразившийся в зеркале Анненского грядущий Маяков¬
ский) подхватили постсимволисты: Гумилев, Ахматова,
Мандельштам. Для них царь сумрачной долины стано¬
вится почти полубогом. Они поняли: Анненский это
канун новой русской, правда, лирической лишь поэзии.
Ахматова писала о нем: «Он был преддверьем, предзна¬
менованьем / Всего, что с нами позже совершилось».
Что же в русской поэзии предварял, предзнаменовал
собой Анненский?, И что он для нас теперь? Великий
дилетант? Педагог-к ласси к в целлулоидном воротничке,
поздновато загрезивший о музах? Ни то, ни другое. Во-
первых, он обновил весь русский стих. Обновил, может,
незаметно для себя. Он менял не форму стиха — наполне¬
ние. Он привел с собой сотни небывалых эпитетов, а поэта
узнают не по рифме, не по ритму, а, как льва по ког¬
тям,— по эпитету. Он сделал метафоры конкретикой, а
конкретику жизни — символом. Он изменил прихотли¬
вый внутренний ритм и рисунок русского стиха, и мы
получили: «Как на меди крепкой водкой / Проведенные
штрихи». И, наконец, он увидел весь сумрак и ужас,
который всем нам в нашем веке предстоял. Он увидел и
услышал многое, но сам, так и не сумев и грядущий этот
ужас, и грешный День своей жизни пережить, трагичес¬
ки рано смолк:
г
В луче прощальном, запыленном
Своим грехом неотмоленным
Томится день пережитой.
Как серафим у Боттичелли,
Рассыпав локон золотой...
На гриф умолкшей виолончели.
Яд его стихов выветрился, стал неопасен. Сумрак всег¬
да был сродни нашей душе. А посему стих его и сейчас
царит над нами.
1996
ВАЛЕРИЙ
БРЮСОВ
1873—1924
Валерий. Яковлевич Брюсов (1878—1924) — одна из крупней¬
ших и основополагающих фигур в русской поэтической культуре
начала XX века Вошел в историю отечественной культуры как орга¬
низатор и «мэтр» символистского движения.
Родился в купеческой семье, первоначальное образование полу¬
чил дома. Окончил историко-филологический факультет Московско¬
го университета. В начале 90-х открывает для себя французских сим¬
волистов, объявив декаденство «путеводной звездой в тумане». В
1894—1895 годах Брюсов издает три сборника «Русские символис¬
ты», куда вошли по большей части его стихи. Это была первая кол¬
лективная декларация модернизма в России. Согласно программе
Брюсова, символизм должен был стать «поэзией оттенков», проти¬
востоящей «прежней поэзии красок», «выразить тонкие, едва улови¬
мые настроения » и « как бы загипнотизировать читателя ».
Автор скандально знаменитого одностишия «О, закрой свои
бледные ноги!», Брюсов — через неприятие шокированной крити¬
ки — достиг разрушения прежних поэтических схем и табу. Свиде¬
тельством тому его первая авторская книга стихов «Chefs d’oeure»
(«Шедевры», М., 1895), пронизаная нарочитым эгоцентризмом,
эротикой и «демоническим» урбанизмом. Параллельно Брюсов ве¬
дет глубокие литературоведческие и текстологические штудии,
изучая творчество Тютчева, Баратынского, Пушкина (весомый
вклад Брюсова в пушкинистику следует отметить особо).
К концу 90-х годов Брюсов входит в круг наиболее заметных поэ¬
тов символистской ориентации; огромное значение для него приобре¬
тает близость с Бальмонтом: «.. .через Бальмонта мне открылась тай¬
на музыки стиха». Важной вехой на поэтическом пути Брюсову стал
выход книги «Tertia vigilia» («Третья стража», М., 1900), в которой
поэт со всей мощью лирического интеллекта углубится в историю и
мифологию, чтобы лучше осмыслить современность.
Впечатления и размышления, вызванные поездкой в Италию и
во Францию (1903) где он изучает культуру Возрождения, знако¬
мится с Вяч. Ивановым, отразились в поэтической книге «Urbi et
orbi» («Граду и миру», М., 1903). Сборник был выстроен как единое
композиционное целое (что стало важным принципом для практи¬
ки поэтов-символистов вообще) и отличался широтой жанрово-те¬
матического диапазона. Книга вызвала восторженный отзыв А. Бе¬
лого и А. Блока, который, в частности, отмечал, что в ней «есть
преемничество от Пушкина — и по прямой линии».
В 1904—1908 годах Брюсов издает журнал «Весы», главный
объединяющий орган русских символистов. В эти годы он выступа¬
ет как темпераментный критик-полемист, в дальнейшем пишет
новаторские работы по стиховедению и систематизации «тайн»
поэтического ремесла.
Брюсов приветствовал Октябрьскую революцию и с 1918 года
стал активнейшим участником культурной жизни страны.
В своем творчестве Брюсов воссоединил строгие заветы класси¬
ки и поиск новейших поэтических средств. Сугубый рационализм
брюсовского вдохновения мог вызывать протест у его современни¬
ков (так, Марина Цветаева назвала Брюсова «мастером без слуха»),
но представить себе серебряный век русской поэзии без этого уни¬
версального дарования невозможно.
Изд.: Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах. М., 1973—1975.
АССАРГАДОН
Ассирийская надпись
Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон.
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!
Едва я принял власть, на нас восстал Сидон.
Сидон я ниспроверг и камни бросил в море.
Египту речь моя звучала, как закон,
Элам читал судьбу в моем едином взоре,
Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон.
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!
Кто превзойдет меня? Кто будет равен мне?
Деянья всех людей — как тень в безумном сне,
Мечта о подвигах — как детская забава.
Я исчерпал до дна тебя, земняя слава!
И вот стою один, величьем упоен,
Я, вождь земных царей и царь — Ассаргадон.
17 декабря 1897
* * *
Я люблю большие дома
И узкие улицы города,—
В дни, когда не настала зима,
А осень повеяла холодом.
Пространства люблю площадей,
Стенами кругом огражденные,—
В час, когда еще нет фонарей,
А затеплились звезды смущенные.
Город и камни люблю,
Грохот его и шумы певучие,—
4 Серебряный век
97
В миг, когда песню глубоко таю,
Но в восторге слышу созвучия.
29 августа 1898
ЛЮБЛЮ ОДНО
Люблю одно: бродить без цели
По шумным улицам, один;
Люблю часы святых безделий,
Часы раздумий и картин.
Я с изумленьем, вечно новым,
Весной встречаю синеву,
И в вечер пьян огнем багровым,
И ночью сумраком живу.
Смотрю в лицо идущих мимо,
В их тайны властно увлечен,
То полон грустью нелюдимой,
То богомолен, то влюблен.
Под вольный грохот экипажей
Мечтать и думать я привык,
В теснине стен я весь на страже;
Да уловлю господень лик!
12 октября 1900
ДАНТЕ В ВЕНЕЦИИ
По улицам Венеции, в вечерний
Неверный час, блуждал я меж-толпы,
И сердце трепетало суеверней.
Каналы, как громадные тропы,
Манили в вечность; в переменах тени
Казались дивны строгие столпы,
И ряд оживших призрачных строений
Являл очам, чего уж больше нет,
Что было для минувших поколений.
98
И, словно унесенный в лунный свет,
Я упивался невозможным чудом,
Но тяжек был мне дружеский привет...
В тот вечер улицы кишели людом,
Во мгле свободно веселился грех,
И был весь город дьявольским сосудом.
Бесстыдно раздавался женский смех,
И зверские мелькали мимо лица...
И помыслы разгадывал я всех.
Но вдруг среди позорной вереницы
Угрюмый облик предо мной возник.
— Так иногда с утеса глянут птицы,—
То был суровый, опаленный лик,
Не мертвый лик, но просветленно-страстный,
Без возраста — не мальчик, не старик.
И жалким нашим нуждам непричастный,
Случайный отблеск будущих веков,
Он сквозь толпу и шум прошел, как властный.
Мгновенно замер говор голосов,
Как будто в вечность приоткрылись двери,
И я спросил, дрожа, кто он таков.
Но тотчас понял: Данте Алигьери.
18 декабря 1900
КОНЬ БЛЕД
И се конь блед и сидящий на нем, имя ему Смерть.
Откровение, VI, 8
1
Улица была — как буря. Толпы проходили,
Словно их преследовал неотвратимый Рок.
Мчались омнибусы, кебы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.
4*
99
Вывески, вертясь, сверкали переменным оком
С неба, с страшной высоты тридцатых этажей;
В гордый гимн сливались с рокотом колес и скоком
Выкрики газетчиков и щелканье бичей.
Лили свет безжалостный прикованные луны,
Луны, сотворенные владыками естеств.
В этом свете, в этом гуле — души были юны,
Души опьяневших, пьяных городом существ.
2
И внезапно — в эту бурю, в этот адский шепот,
В этот воплотившийся в земные формы бред,—
Ворвался, вонзился чуждый, несозвучный топот,
Заглушая гулы, говор, грохоты карет.
Показался с поворота всадник огнеликий,
Конь летел стремительно и стал с огнем в глазах.
В воздухе еще дрожали — отголоски, крики,
Но мгновенье было — трепет, взоры были — страх!
Был у всадника в руках развитый длинный свиток,
Огненные буквы возвещали имя: Смерть...
Полосами яркими, как пряжей Пышных ниток,
В высоте над улицей вдруг разгорелась твердь.
3
И в великом ужасе, скрывая лица,— люди
То бессмысленно взывали: «Горе! с нами бог!»,
То, упав на мостовую, бились в общей груде...
Звери морды прятали, в смятенье, между ног.
Только женщина, пришедшая сюда для сбыта
Красоты своей,— в восторге бросилась к коню,
Плача целовала лошадиные копыта,
Руки простирала к огневеющему дню.
Да еще безумный, убежавший из больницы,
Выскочил, растерзанный, пронзительно крича:
♦ Люди! Вы ль не узнаете божией десницы!
Сгибнет четверть вас — от мора, глада и меча!»
юо
4
Но восторг и ужас длились — краткое мгновенье.
Через миг в толпе смятенной не стоял никто:
Набежало с улиц смежных новое движенье,
Было все обычным светом ярко залито.
И никто не мог ответить, в буре многошумной,
Было ль то виденье свыше или сон пустой.
Только женщина из зал веселья да безумный
Все стремили руки за исчезнувшей мечтой.
Но и их решительно людские волны смыли,
Как слова ненужные из позабытых строк.
Мчались омнибусы, кебы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.
<Май, июль и декабрь 1903>
КИНЖАЛ
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок...
М. Лермонтов
Из ножен вырван он и блещет вам в глаза,
Как и в былые дни, отточенный и острый.
Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза,
И песня с бурей вечно сестры.
Когда не видел я ни дерзости, ни сил,
Когда все под ярмом клонили молча выи,
Я уходил в страну молчанья и могил,
В века, загадочно былые.
Как ненавидел я всей этой жизни строй,
Позорно-мелочный, неправый, некрасивый,
Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой,
Не веря в робкие призывы.
101
Но чуть заслышал я заветный зов трубы,
Едва раскинулись огнистые знамена,
Я — отзыв вам кричу, я — песенник борьбы,
Я вторю грому с небосклона.
Кинжал поэзии! Кровавый молний свет,
Как прежде, пробежал по этой верной стали,
И снова я с людьми,— затем, что я поэт.
Затем, что молнии сверкали.
1903
ГРЯДУЩИЕ ГУННЫ
Топчи их рай, Атилла.
Вяч. Иванов
Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам.
На нас ордой опьянелой
Рухните с темных становий —
Оживить одряхлевшее тело
Волной пылающей крови.
Поставьте, невольники воли,
Шалаши у дворцов, как бывало,
Всколосите веселое поле
На месте тронного зала.
Сложите книги кострами,
Пляшите в их радостном свете,
Творите мерзость во храме,—
Вы во всем неповинны, как дети!
А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры.
102
И что, под бурей летучей,
Под этой грозой разрушений
Сохранит играющий Случай
Из наших заветных творений?
Бесследно все сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.
<Осень 1904, \
30 июля — 10 августа 1905>
ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ
Они кричат: за нами право!
Они клянут: ты бунтовщик,
Ты поднял стяг войны кровавой,
На брата брата ты воздвиг!
Но вы, что сделали вы с Римом,
Вы, консулы, и ты, сенат!
О вашем гнете нестерпимом
И камни улиц говорят!
Вы мне твердите о народе,
Зовете охранять покой,
Когда при вас Милон и Клодий
На площадях вступают в бой!
Вы мне кричите, что не смею
С сенатской волей спорить я,
Вы, Рим предавшие Помпею
Во власть секиры и копья!
Хотя б прикрыли гроб законов
Вы лаврами далеких стран!
Но что же! Римских легионов
Значки — во храмах у парфян!
юз
Давно вас ждут в родном Эребе!
Вы — выродки былых времен!
Довольно споров. Брошен жребий.
Плыви, мой конь, чрез Рубикон!
<Август 1905>
ДОВОЛЬНЫМ
Мне стыдно ваших поздравлений,
Мне страшно ваших гордых слов!
Довольно было унижений
Пред ликом будущих веков!
Довольство ваше — радость стада,
Нашедшего клочок травы.
Быть сытым — больше вам не надо,
Есть жвачка — и блаженны вы!
Прекрасен, в мощи грозной власти,
Восточный царь Ассаргадон
И океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый трон!
Но ненавистны полумеры,
Не море, а глухой канал,
Не молния, а полдень серый,
Не агора, а общий зал.
На этих всех, довольных малым,
Вы, дети пламенного дня,
Восстаньте смерчем, смертным шквалом
Крушите жизнь — и с ней меня!
18 октября 1905
104
К МЕДНОМУ ВСАДНИКУ
В морозном тумане белеет Исакий.
На глыбе оснеженной высится Петр.
И люди проходят в дневном полумраке,
Как будто пред ним выступая на смотр.
Ты так же стоял здесь, обрызган и в пене,
Над темной равниной взмутившихся волн;
И тщетно грозил тебе бедный Евгений,
Охвачен безумием, яростью полн.
Стоял ты, когда между криков и гула
Покинутой рати ложились тела,
Чья кровь на снегах продымилась, блеснула
И полюс земной растопить не могла!
Сменяясь, шумели вокруг поколенья,
Вставали дома, как посевы твои...
Твой конь попирал с беспощадностью звенья
Бессильно под ним изогнутой змеи.
Но северный город — как призрак туманный,
Мы, люди, проходим, как тени во сне.
Лишь ты сквозь века, неизменный, венчанный,
С рукою простертой летишь на коне.
24 — 25 января 1906
Петербург
ГОРОДУ
Дифирамб
Царя властительно над долом,
Огни вонзая в небосклон,
Ты труб фабричных частоколом
Неумолимо окружен.
Стальной, кирпичный и стеклянный,
Сетями проволок обвит,
Ты — чарователь неустанный,
Ты — не слабеющий магнит.
106
Драконом, хищным и бескрылым,
Засев,— ты стережешь года,
А по твоим железным жилам
Струится газ, бежит вода.
Твоя безмерная утроба
Веков добычей не сыта,—
В ней неумолчно ропщет Злоба,
В ней грозно стонет Нищета.
Ты, хитроумный, ты, упрямый,
Дворцы из золота воздвиг,
Поставил праздничные храмы
Для женщин, для картин, для книг;
Но сам скликаешь, непокорный,
На штурм своих дворцов — орду
И шлешь вождей на митинг черный:
Безумье, Гордость и Нужду!
И в ночь, когда в хрустальных залах
Хохочет огненный Разврат
И нежно пенится в бокалах
Мгновений сладострастных яд,—
Ты гнешь рабов угрюмых спины,
Чтоб, исступленны и легки,
Ротационные машины
Ковали острые клинки.
Коварный змей с волшебным взглядом!
В порыве ярости слепой
Ты нож, с своим смертельным ядом,
Сам подымаешь над собой.
Январь 1907
106
ПО МЕЖЕ
Как ясно, как ласково небо!
Как радостно реют стрижи
Вкруг церкви Бориса и Глеба!
По горбику тесной межи
Иду и дышу ароматом
И мяты, и зреющей ржи.
За полем усатым, не сжатым
Косами стучат косари.
День медлит пред ярким закатом ..
Душа, насладись и умри!
Все это так странно знакомо,
Как сон, что ласкал до зари.
Итак, я вернулся, я — дома?
Так здравствуй, июльская тишь,
И ты, полевая истома,
Убогость соломенных крыш
И полосы желтого хлеба!
Со свистом проносится стриж
Вкруг церкви Бориса и Глеба.
1910.
Белкино
* * *
В полях забытые усадьбы
Свой давний дозирают сон.
И церкви сельские, простые
Забыли про былые свадьбы,
Про роскошь барских похорон.
Дряхлеют парки вековые
С аллеями душистых лип.
Над прудом, где гниют беседки,
В тиши, в часы вечеровые,
Лишь выпи слышен зыбкий всхлип.
107
Выходит месяц, нежит ветки
Акаций, нежит робость струй.
Он помнт прошлые затеи,
Шелк, кружева, на косах сетки,
Смех, шепот, быстрый поцелуй.
Теперь все тихо. По аллее
Лишь жаба, волочась, ползет
Да еж проходит осторожно...
И все бессильней, все грустнее
Сгибаются столбы ворот.
Лишь в бурю, осенью, тревожно
Парк стонет громко, как больной,
Стряхнуть стараясь ужас сонный...
Старик! Жить дважды невозможно:
Ты вдруг проснешься, пробужденный
Внезапно взвизгнувшей пилой!
<1910 — 1911>
ЕГИПЕТСКИЙ РАБ
Я жалкий раб царя. С восхода до заката
Среди других рабов, свершаю тяжкий труд,
И хлеба кус гнилой — единственная плата
За слезы и за пот, за тысячи минут.
Когда порой душа отчаяньем объята,
Над сгорбленной спиной свистит жестокий кнут,
И каждый новый день товарища иль брата
В могилу общую крюками волокут. ■
Я жалкий раб царя, и жребий мой безвестен;
Как утренняя тень, исчезну без следа,
Меня с лица земли века сотрут, как плесень;
Но не исчезнет след упорного труда,
И вечность простоит, близ озера Мерида,
Гробница царская, святая пирамида.
7—20 октября 1911
108
РОДНОЙ язык
Мой верный друг! мой враг коварный!
Мой царь! мой раб! родной язык!
Мои стихи — как дым алтарный!
Как вызов яростный — мой крик!
Ты дал мечте безумной крылья,
Мечту ты путами обвил,
Меня спасал в часы бессилья
И сокрушал избытком сил.
Как часто в тайне звуков странных
И в потаенном смысле слов
Я обретал напев — нежданных,
Овладевших мной стихов!
Но часто, радостью измучен
Иль тихой упоен тоской,
Я тщетно ждал, чтоб был созвучен
С душой дрожащей — отзвук твой!
Ты ждешь, подобен великану.
Я пред тобой склонен лицом.
И все ж бороться не устану
Я, как Израиль с божеством!
Нет грани моему упорству.
Ты — в вечности, я — в кратких днях,
Но все ж, как магу, мне покорствуй
Иль обрати безумца в прах!
Твои богатства, по наследству,
Я, дерзкий, требую себе.
Призыв бросаю,— ты ответствуй,
Иду,— ты будь готов к борьбе!
Но, побежден иль победитель,
Равно паду я пред тобой:
109
Ты — Мститель мой, ты — мой Спаситель,
Твой мир — навек моя обитель,
Твой голос — небо надо мной!
31 декабря 1911
* * *
О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить хочу, я жизнь люблю!
А. Пушкин
Идут года. Но с прежней страстью,
Как мальчик, я дышать готов
Любви неотвратимой властью
И властью огненной стихов.
Как прежде, детски верю счастью
И правде переменных снов!
Бывал я, с нежностью, обманут
И, с лаской, дружбой оскорблен,—
Но строфы славить не устанут
Мечты и страсти сладкий сон.
Я говорю: пусть розы вянут,
Май будет ими напоен!
Все прошлое — мне только снилось,
Разгадка жизни — впереди!
Душа искать не утомилась
И сердце — дрожью жить в груди.
Пусть все свершится,— чтоб б ни сбылось! —
Грядущий миг,— скорей приди!
Вновь, с рыбаком, надежды полный,
Тая восторженную дрожь,
В ладье гнилой, бросаюсь в волны.
Гроза бушует вкруг. Так что ж!
Не бойся, друг! пусть гибнут челны:
Ты счастье Цезаря везешь!
1911
110
ЗЕМЛЕ
Я— ваш, я ваш родич, священные гады!
Ив. Коневской.
Как отчий дом, как старый горец горы,
Люблю я землю: тень ее лесов,
И моря ропоты, и звезд узоры,
И странные строенья облаков.
К зеленым далям с детства взор приучен,
С единственной луной сжилась мечта,
Давно для слуха грохбт грома звучен,
И глаз усталый нежит темнота.
В безвестном мире, на иной планете,
Под сенью скал, под лаской алых лун,
С тоской любовной вспомню светы эти
И ровный ропот океанских струн.
Среди живых цветов, существ крылатых
Я затоскую о своей земле,
О счастье рук, в объятье тесном сжатых,
Под старым дубом, в серебристой мгле.
В Эдеме вечном, где конец исканьям,
Где нам блаженство ставит свой предел,
Мечтой перенесусь к земным страданьям,
К восторгу и томленью смертных тел.
Я брат зверью, и ящерам, и рыбам.
Мне внятен рост весной встающих трав,
Молюсь земле, к ее священным глыбам
Устами неистомными припав!
25 августа 1912
111
ПЕВЦУ «СЛОВА»
Стародавней Ярославне тихий ропот струн:
Лик твой скорбный, лик твой бледный,
как и прежде, юн.
Раным-рано ты проходишь по градской стене,
Ты заклятье шепчешь солнцу, ветру и волне,
Полететь зегзицей хочешь в даль, к реке Каял,
Где без сил, в траве кровавой, милый задремал.
Ах, о муже-господине вся твоя тоска!
И, крутясь, уносит слезы в степи Днепр-река.
Стародавней Ярославне тихий ропот струн.
Лик твой древний, лик твой светлый,
как и прежде, юн.
Иль певец безвестный, мудрый, тот, кто «Слово» спел,
Все мечты веков грядущих тайно подсмотрел?
Или русских женщин лики все в тебе слиты?
Ты — Наташа, ты — и Лиза, и Татьяна — ты!
На стене ты плачешь утром... Как светла тоска!
И, крутясь, уносит слезы песнь певца — в века!
1912
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Николай Гумилев
ИЗ ПИСЕМ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ
За последнее время Брюсову посвящались целые статьи,
о нем писали лучшие критики, и было бы странно в не¬
большой рецензии пытаться охарактеризовать его творчес¬
тво, такое сложное и в сложном единое. Зато перед рецен¬
зентом появляется другая задача: отметить хотя бы в об¬
щих чертах те особенности формы и мысли, которые
отличают второй том «Путей и перепутий» от первого. И
прежде всего бросается в глаза цельность плана и твердое
решение следовать по пути символизма, которое в первом
томе иногда ослаблялось уклонениями в сторону декаден¬
тства и импрессионизма. Брюсов оперирует только с двумя
величинами — «я» и «мир» и в строгих, лишенных всего
случайного схемах дает различные возможности их взаи¬
моотношения. Он открывает новые горизонты к выясне¬
нию вопроса о приятии мира, перенося события в высший
план мысли, где этическое мерило теряет свою силу и ус¬
тупает место мерилу эстетическому. По мановению его
руки в нашем мире снова расцветают цветы, которые опь¬
яняли взор ассирийских царей, и страсть становится бес¬
смертной, как во времена богини Астарты.
Мир опять прекрасен и с избытком искупает себя.
...И есть иль нет дорога сквозь гроба,
Я был! Я есмь! Мне вечности не надо!
Отличительная черта дум Брюсова — это их благород¬
ство.
Даже в самых враждебных ему кругах Брюсов заслу¬
жил репутацию мастера формы. Он разделяет мечты
Малларме и Рене Гиля о возвращении слову его метафи-
113
зической ценности, но не прибегает ни к неологизмам, ни
к намеренным синтаксическим трудностям. Строгим
выбором выражений, отточенной ясностью мысли и мед¬
ной музыкой фраз он достигает результатов, которые не
всегда доставались на долю его французских собратьев.
Вечно-непокоренное слово уже не борется с ним; оно
нашло своего господина.
Последнее время часто слышатся нападки на Брюсова
из самых противоположных лагерей. Его упрекают в
гордости, в самомнении, в презрении к реальной жизни.
В этом нет ничего удивительного. Уже давно люди при¬
выкли считать поэтов чиновниками литературного ве¬
домства, забыли, что духовно они ведут свой род от Ор¬
фея, Гомера и Данте. Брюсову поставлено в вину, что он
это вспомнил.
1909
Борис Пастернак
БРЮСОВУ*
Я поздравляю вас, как я отца
Поздравил бы при той же обстановке.
Жаль, что в Большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, циновки.
Жаль, что на свете принято скрести
У входа в жизнь одни подошвы; жалко,
Что прошлое смеется и грустит,
А злоба дня размахивает палкой.
Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрить в ответ обяжут.
Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
* Написана к 50-летию со дня рождения поэта.
114
Что не безделка — улыбаться, мучась?
Что сонному гражданскому стиху •
Вы первый настежь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху
И мы на перья разодрали крылья?
Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?
Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время поутру
Линейкой нас не умирать учили?
Ломиться в двери пошлых аксиом.
Где лгут слова и красноречье храмлет?..
О! весь Шекспир, быть может, только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.
Так запросто же! Дни рожденья есть.
Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?
Так легче жить. А то почти не снесть
Пережитого слышащихся жалоб,
1923
Владислав Ходасевич
ИЗ ОЧЕРКА «БРЮСОВ»
Когда я увидел его впервые, было ему года двадцать
четыре, а мне одиннадцать. Я учился в гимназии с его
младшим братом. Его вид поколебал мое представление о
«декадентах». Вместо голого лохмача с лиловыми воло¬
сами и зеленым носом (таковы были «декаденты» по
фельетонам «Новостей дня») — увидел я скромного мо¬
лодого человека с короткими усиками, с бобриком на
голове, в пиджаке обычнейшего покроя, в бумажном во¬
ротничке. Такие молодые люди торговали галантерей¬
ным товаром на Сретенке. Таким молодым человеком
изображен Брюсов на фотографии, приложенной к I тому
его сочинений в издании «Сирина».
116
Впоследствии, вспоминая молодого Брюсова, я почув¬
ствовал, что главная острота его тогдашних стихов заклю¬
чается именно в сочетании декадентской эротики с просто¬
душнейшим московским мещанством. Смесь очень пряная,
излом очень острый, диссонанс режущий, но потому-то
ранние книги Брюсова (до «Tertia Vigilia» включительно)
суть все-таки лучшие его книги: наиболее острые. Все это
тропические фантазии — на берегах Яузы, переоценка всех
ценностей — в районе сретенской части. И до сих пор куда
больше признанного Брюсова нравится мне этот «неизвес¬
тный, осмеянный, странный» автор «Chef-d’oeuvre». Мне
нравится, что этот дерзкий молодой человек, готовый
мимоходом обронить замечание:
Родину я ненавижу,—
в то же время, оказывается, способен подобрать на улице
облезлого котенка и с бесконечной заботливостью выха¬
живать его в собственном кармане, сдавая государствен¬
ные экзамены.
* * *
Дед Брюсова, по имени Кузьма, родом из крепостных,
хорошо расторговался в Москве. Был он владелец дово¬
льно крупной торговли. Товар был заморский: пробки.
От него дело перешло к сыну Авиве, а затем к внукам,
Авивовичам. Вывеска над помещением фирмы, в одном
из переулков между Ильинкой и Варваркой, была еще
цела осенью 1920 года. Почти окна в окна, наискосок от
этой торговли, помещалась нотариальная контора П. А.
Соколова. Там в начале девятисотых годов, по почину
Брюсова, устраивались спиритические сеансы. Я был на
одном из последних, в начале 1905 г. Было темно и скуч¬
но. Когда расходились, Валерий Яковлевич сказал:
— Спиритические силы со временем будут изучены и,
может быть, даже найдут себе применение в технике,
подобно пару и электричеству.
Впрочем, к этому времени его увлечение спиритизмом
остыло, и он, кажется, прекратил сотрудничество в жур¬
нале «Ребус».
Уж не знаю, почему пробочное дело Кузьмы Брюсова
перешло к одному Авиве. Почему Кузьме вздумалось в
завещании обделить второго сына, Якова Кузьмича?
Думаю, что Яков Кузьмич чем-нибудь провинился перед
116
отцом. Был он вольнодумец, лошадник, фантазер, побы¬
вал в Париже и даже писал стихи. Совершал к тому же
усердные возлияния в честь Бахуса. Я видел его уже
вполне пожилым человеком, с вихрастой седой головой,
в поношенном сюртуке. Он был женат на Матрене Алек¬
сандровне Бакулиной, женщине очень доброй, чудакова¬
той, мастерице плести кружева и играть в преферанс.
История сватовства и женитьбы Якова Кузьмича описана
его сыном в повести «Обручение Даши». Сам Валерий
Яковлевич порою подписывал свои статьи псевдонимом
«В. Бакулин». В большинстве случаев это были полеми¬
ческие статьи, о которых говаривали, что их главную
часть составляют argumenta baculina.
Не завещав Якову Кузьмичу торгового предприятия,
Кузьма Брюсов обошел его и в той части завещания,
которая касалась небольшого дома, стоявшего на Цвет¬
ном бульваре, против цирка Соломонского. Дом этот
перешел непосредственно к внукам завещателя, Валерию
и Александру Яковлевичам. Там и жила вся семья Брю¬
совых вплоть до осени 1910 г. Там и скончался Яков
Кузьмич, в январе 1908 г. Матрена Александровна пере¬
жила мужа почти на тринадцать лет.
Дом на Цветном бульваре был старый, нескладный, с
мезонинами и пристройками, с полутемными комнатами и
скрипучими деревянными лестницами. Было в нем зальце,
средняя часть которого двумя арками отделялась от боко¬
вых. Полукруглые печи примыкали к аркам. В кафелях
печей отражались лапчатые тени больших латаний и сине¬
ва окон. Эти латании, печи и окна дают реальную расшиф¬
ровку одного из ранних брюсовских стихотворений, в свое
время провозглашенного верхом бессмыслицы:
Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене...
Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне... и т. д.*
В зале, сбоку, стоял рояль. По стенам — венские
стулья. Висели две-три почерневших картины в золотых
* Подробный разбор этого стихотворения напечатан мною в 1914 г. в
журнале «София». Брюсов после того сказал мне при встрече:
117
рамках. Зала служила также столовой. Посредине ее, на
раздвижном столе, покрытом клетчатой скатертью, по¬
являлась миска: в комнате пахло щами. Яков Кузьмич
выходил из своей полутемной спальни с заветным гра¬
финчиком коньяку. Дрожащей рукой держа рюмку над
тарелкой, проливал коньяк во щи. Глубоко подцепляя
капусту ложкой, мешал в тарелке. Бормотал виновато:
— Не беда, все вместе будет.
И выпивал, чокнувшись с зятем, Б. В. Калюжным,
тоже покойным.
Валерий Яковлевич не часто являлся на родительс¬
кой половине. Была у него в том же доме своя кварти¬
ра, где жил он с женою, Иоанной Матвеевной, и со сво¬
яченицей, Брониславой Матвеевной Ру нт, одно время
состоявшей секретарем «Весов» и «Скорпиона». Обста¬
новка квартиры приближалась к стилю «модерн». Не¬
большой кабинет Брюсова был заставлен книжными
полками. Чрезвычайно внимательный к посетителям,
Брюсов, сам не куривший в ту пору, держал на пись¬
менном столе спички. Впрочем, в предупреждение рас¬
сеянности гостей, металлическая спичечница была при¬
вязана на веревочке. На стенах в кабинете и в столовой
висели картины Шестеркина, одного из первых рус¬
ских декадентов, а также рисунки Фидуса, Брунеллес¬
ки, Феофилактова и др. В живописи Валерий Яковле¬
вич разбирался неважно, однако имел пристрастия.
Всем прочим художникам Возрождения почему-то
предпочитал он Чиму да Конельяно.
Некогда в этой квартире происходили знаменитые
среды, на которых творились судьбы если не всероссий¬
ского, то, во всяком случае, московского модернизма. В
ранней юности я знал о них понаслышке, но не смел и
мечтать о проникновении в такое святилище. Лишь
осенью 1904 г., новоиспеченным студентом, получил я от
Брюсова письменное приглашение. Снимая пальто в пе¬
редней, я услышал голос хозяина:
— Вы очень интересно истолковали мои стихи. Теперь я и сам буду
объяснять их так же. До сих пор я не понимал их.
Говоря это, он смеялся и смотрел мне в глаза смеющимися, плутов¬
скими глазами: знал, что я не поверю ему, да и не хотел, чтоб я верил.
Я тоже улыбнулся, и мы разошлись. В тот же вечер он сказал кому-то,
повысив голос, чтобы я слышал:
— Вот мы сегодня с В. Ф. говорили об авгурах...
Ни о каких авгурах мы не говорили.
118
— Очень вероятно, что на каждый вопрос есть не один,
а несколько истинных ответов, может быть — восемь.
Утверждая одну истину, мы опрометчиво игнорируем
еще целых семь.
Мысль эта очень взволновала одного из гостей, краси¬
вого, голубоглазого студента с пушистыми светлыми во¬
лосами. Когда я входил в кабинет, студент летучей, тан¬
цующей походкой носился по комнате и говорил, охва¬
ченный радостным возбуждением, переходя с густого
баса к тончайшему альту, то почти приседая, то подыма¬
ясь на цыпочки. Это был Андрей Белый. Я увидел его
впервые в тот вечер. Другой гость, тоже студент, плот¬
ный, румяный брюнет, сидел в кресле, положив ногу на
ногу. Он оказался С. М. Соловьевым. Больше гостей не
было: «среды» клонились уже к упадку.
В столовой, за чаем, Белый читал (точнее будет ска¬
зать — пел) свои стихи, впоследствии в измененной ре¬
дакции вошедшие в «Пепел»: «За мною грохочущий го¬
род», «Арестанты», «Попрошайка». Было что-то необык¬
новенно обаятельное в его тогдашней манере чтения и во
всем его облике. После Белого С. М. Соловьев прочитал
полученное от Блока стихотворение «Жду я смерти близ
денницы». Брюсов строго осудил последнюю строчку.
Потом он сам прочитал два новых стихотворения: «Адам
и Ева» и «Орфей — Эвридике». Потом С. М. Соловьев
прочитал свои стихи. Брюсов тщательно разбирал то, что
ему читали. Разбор его был чисто формальный. Смысла
стихов он отнюдь не касался и даже как бы подчеркивал,
что смотрит на них, как на ученические упражнения, не
более. Это учительское отношение к таким самостоятель¬
ным поэтам, какими уже в ту пору были Белый и Блок,
меня удивило и покоробило. Однако, сколько я мог заме¬
тить, оно сохранилось у Брюсова навсегда.
Беседа за чаем продолжалась. Разбирать стихи самого
Брюсова, как я заметил, было не принято. Они должны
были приниматься, как заповеди. Наконец произошло
то, чего я опасался: Брюсов предложил и мне прочитать
«мое». Я в ужасе отказался.
к 'к "к
В девятисотых годах Брюсов был лидером модернис¬
тов. Как поэта многие ставили его ниже Бальмонта, Со¬
логуба, Блока. Но Бальмонт, Сологуб, Блок были гораздо
119
менее литераторами, чем Брюсов. К тому же никого из
них не заботил так остро вопрос о занимаемом месте в
литературе. Брюсову же хотелось создать «движение» и
стать во главе его. Поэтому создание «фаланги» и пред¬
водительство ею, тяжесть борьбы с противниками, орга¬
низационная и тактическая работа — все это ложилось
преимущественно на Брюсова. Он основал «Скорпион» и
«Весы» и самодержавно в них правил; он вел полемику,
заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъеди¬
нял, мирил и ссорил. Управляя многими явными и тай¬
ными нитями, чувствовал он себя капитаном некоего
литературного корабля и дело свое делал с великой бди¬
тельностью. К властвованию, кроме природной склоннос¬
ти, толкало его и сознание ответственности за судьбу
судна. Иногда экипаж начинал бунтовать. Брюсов сми¬
рял его властным окриком,— но иной раз принужден был
идти на уступки «конституционного» характера. Затем,
путем интриг внутри своего «парламента», умел его раз¬
валить и парализовать. От этого его самодержавие толь¬
ко укреплялось.
Чувство равенства было Брюсову совершенно чуждо.
Возможно, впрочем, что тут влияла и мещанская среда,
из которой вышел Брюсов. Мещанин не в пример легче
гнет спину, чем, например, аристократ или рабочий. Зато
и желание при случае унизить другого обуревает счас¬
тливого мещанина сильнее, чем рабочего или аристокра¬
та. «Всяк сверчок знай свой шесток», «чин чина почи¬
тай»: эти идеи заносились Брюсовым в литературные
отношения прямо с Цветного бульвара. Брюсов умел или
командовать, или подчиняться. Проявить независи¬
мость — означало раз навсегда приобрести врага в лице
Брюсова. Молодой поэт, не пошедший к Брюсову за оцен¬
кой и одобрением, мог быть уверен, что Брюсов никогда
ему этого не простит. Пример — Марина Цветаева. Сто¬
ило возникнуть дружескому издательству или журналу,
в котором главное руководство принадлежало не Брюсо¬
ву,— тотчас издавался декрет о воспрещении сотрудни¬
кам «Скорпиона» участвовать в этом издательстве или
журнале. Так, последовательно воспрещалось участие в
«Грифе», потом в «Искусстве», в «Перевале».
Власть нуждается в декорациях. Она же родит при¬
служничество. Брюсов старался окружить себя раболеп¬
ством — и, увы, находил подходящих людей. Его появле¬
ния всегда были обставлены театрально. В ответ на при¬
глашение он не отвечал ни да, ни нет, предоставляя
120
ждать и надеяться. В назначенный час его не бывало.
Затем начинали появляться лица свиты. Я хорошо пом¬
ню, как однажды, в 1905 г., в одном 4 ли тератур ном»
доме хозяева и гости часа полтора шепотом гадали: при¬
дет или нет?
Каждого новоприбывшего спрашивали:
— Вы не знаете, будет Валерий Яковлевич?
— Я видел его вчера. Он сказал, что будет.
— А мне он сегодня утром сказал, что занят.
— А мне он сегодня в четыре сказал, что будет.
— Я его видел в пять. Он не будет.
И каждый старался показать, что ему намерения Брю¬
сова известнее, чем другим, потому что он стоит ближе к
Брюсову.
Наконец Брюсов являлся. Никто с ним первый не
заговаривал: ему отвечали, если он обращался.
Его уходы были так же таинственны: он исчезал вне¬
запно. Известен случай, когда перед уходом от Андрея
Белого он внезапно погасил лампу, оставив присутствую¬
щих во мраке. Когда вновь зажгли свет, Брюсова в квар¬
тире не было. На другой день Андрей Белый получил
стихи: «Бальдеру — Локи»:
Но последний царь вселенной,
Сумрак, сумрак — за меня!
* * *
У него была примечательная манера подавать руку.
Она производила странное действие. Брюсов протягивал
человеку руку. Тот протягивал свою. В ту секунду, когда
руки должны были соприкоснуться, Брюсов стремитель¬
но отдергивал свою назад, собирал пальцы в кулак и
кулак прижимал к правому плечу, а сам, чуть-чуть ска-
лял зубы, впивался глазами в повисшую в воздухе руку
знакомого. Затем рука Брюсова так же стремительно
опускалась и хватала протянутую руку. Пожатие совер¬
шалось, но происшедшая заминка, сама по себе мгновен¬
ная, вызывала длительное чувство неловкости. Человеку
все казалось, что он как-то не вовремя сунулся со своей
рукой. Я заметил, что этим странным приемом Брюсов
пользовался только на первых порах знакомства и осо¬
бенно часто применял его, знакомясь с начинающими
121
стихотворцами, с заезжими провинциалами, с новичка¬
ми в литературе и в литературных кругах.
Вообще в нем как-то сочеталась изысканная вежли¬
вость (впрочем, формальная) с любовью к одергиванию,
обуздыванию, запугиванию. Те, кому это не нравилось,
отходили в сторону. Другие охотно составляли послуш¬
ную свиту, которой Брюсов не гнушался пользоваться
для укрепления влияния, власти и обаяния. Доходили до
анекдотического раболепства. Однажды, приблизитель¬
но в 1909 году, я сидел в кафе на Тверском бульваре с
А. И. Тиняковым, писавшим посредственные стихи под
псевдонимом «Одинокий». Собеседник мой, слегка пья¬
ный, произнес длинную речь, в конце которой восклик¬
нул буквально так:
— Мне, Владислав Фелицианович, на Господа Бога —
тьфу! (Тут он отнюдь не символически плюнул в зеленый
квадрат цветного окна.) — Был бы только Валерий Яков¬
левич, ему же слава, честь и поклонение!
Гумилев мне рассказывал, как тот Тиняков, сидя с
ним в Петербурге на «поплавке» и глядя на Неву, вскри¬
чал в порыве священного ясновидения:
— Смотрите, смотрите! Валерий Яковлевич шествует с
того берега по водам!
к к к
Он не любил людей, потому что прежде всего не ува¬
жал их. Это, во всяком случае, было так в его зрелые
годы. В юности, кажется, он любил Коневского. Неплохо
он относился к 3. Н. Гиппиус. Больше назвать некого.
Его неоднократно подчеркнутая любовь к Бальмонту
вряд ли может быть названа любовью. В лучшем случае
это было удивление Сальери перед Моцартом. Он любил
называть Бальмонта братом. М. Волошин однажды ска¬
зал, что традиция этих братских чувств восходит к глу¬
бокой древности: к самому Каину. В юности, может быть,
он любил еще Александра Добролюбова, но впоследст¬
вии, когда тот ушел в христианство и народничество,
Брюсов перестал его выносить. Добролюбов вел бродяж¬
ническую жизнь. Иногда приходил в Москву и по не¬
сколько дней жил у Брюсовых: с Надеждой Яковлевной,
сестрой Брюсова, его связывали некоторые религиозные
мысли. Он вегетарианствовал, ходил с посохом и называл
всех братьями и сестрами. Однажды я застал Брюсова в
122
литературно-художественном кружке. Было часа два
ночи. Брюсов играл в Chemin de fer. Я удивлялся.
— Ничего не поделаешь,— сказал Брюсов,— я теперь
человек бездомный: у нас Добролюбов.
Си не возвращался домой, пока Добролюбов не «ухо¬
дил» .
Борис Садовской, человек умный и хороший, за сухо¬
ватой сдержанностью прятавший очень доброе сердце,
возмущался любовной лирикой Брюсова, называя ее пос¬
тельной поэзией. Тут он был неправ. В эротике Брюсова
есть глубокий трагизм, но не онтологический, как хоте¬
лось думать самому автору,— а психологический: не
любя и не чтя людей, он ни разу не полюбил ни одной из
тех, с кем случалось ему «припадать на ложе». Женщи¬
ны брюсовских стихов похожи одна на другую как две
капли воды: это потому, что он ни одной не любил, не
отличил, не узнал. Возможно, что он действительно чтил
любовь. Но любовниц своих он не замечал.
Мы, как священнослужители,
Творим обряд,—
слова страшные, потому что если «обряд», то решитель¬
но безразлично, с кем. «Жрица любви» — излюбленное
слово Брюсова. Но ведь лицо у жрицы закрыто, челове¬
ческого лица у нее и нет. Одну жрицу можно заменить
другой — «обряд» останется тот же. И, не находя, не умея
найти человека во всех этих «жрицах», Брюсов кричит,
охваченный ужасом:
Я, дрожа, сжимаю труп!
И любовь у него всегда превращается в пытку:
Где же мы? На страстном ложе?
иль на смертном колесе?
* * *
Он любил литературу, только ее. Самого себя — тоже
только во имя ее. Воистину, он свято исполнил заветы,
данные самому себе в годы юношества: «не люби, не со¬
чувствуй, сам лишь себя обожай беспредельно» и — «пок¬
лоняйся искусству, только ему, безраздельно, бесцель-
123
но». Это бесцельное искусство было его идолом, в жертву
которому он принес нескольких живых людей и, надо
это признать,- - самого себя. Литература ему представля¬
лась безжалостным божеством, вечно требующим крови.
Она для него олицетворялась в учебнике истории литера¬
туры. Такому научному кирпичу он способен был покло¬
няться, как священному камню, олицетворению Митры.
В декабре 1903 года, в тот самый день, когда ему испол¬
нилось тридцать лет, он сказал мне буквально так:
— Я хочу, чтобы в истории всеобщей литературы обо
мне было две строчки. И они будут.
Однажды покойная поэтесса Надежда Львова сказала
ему о каких-то его стихах, что они ей не нравятся. Брю¬
сов оскалился своей, столь памятной многим, ласково¬
злой улыбкой и отвечал:
— А вот их будут учить наизусть в гимназиях, а таких
девочек, как вы, будут наказывать, если плохо выучат.
«Нерукотворного» памятника в человеческих сердцах
он не хотел. «В века», назло им, хотел врезаться: двумя
строчками в истории литературы (черным по белому),
плачем ребят, наказанных за незнание Брюсова, и —
бронзовым истуканом на родимом Цветном бульваре.
1924
Павел Антокольский
ИЗ СТАТЬИ «ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ»
В русской поэзии впервые после Пушкина возникла
такая способность к полному перевоплощению современ¬
ника в образ далекого прошлого.
Каждая новая встреча Брюсова с историей есть втор¬
жение в историю — хозяйское, не терпящее отлага¬
тельств и возражений. Он распоряжается в эпохах и стра¬
нах, как режиссер-постановщик, в духе какого-нибудь
Давида Гриффитса, планирующего на воздушном шаре
над массовыми сценами; мимо, где-то внизу, проходят
римские легионы, слоны, тяжелые бревна катапульт,—
все это крупно, рельефно, в трех измерениях, реалистич¬
но,— таким современным демиургом рисуется Валерий
Брюсов в пору своего расцвета, в лучших своих книгах,
где он переходит с мощной легкостью на ТЫ с историей
124
и разговаривает запанибрата с любым из своих вековых
кумиров:
Неустанное стремленье от судьбы к иной судьбе,
Александр Завоеватель, я — дрожа — молюсь тебе!
Так возникает Александр Македонский, «царь семнад¬
цати сатрапий». Когда-то гоголевский городничий рас¬
сказывал о бедном учителе, который при одном звуке
этого имени впадал в раж и ломал стулья. Наш поэт
выхватывает из Плутарховых жизнеописаний Александ¬
ра Македонского на случайном перекрестке его легендар¬
ной дороги, во время перебранки с войском, уставшим от
непрестанного напряженья, от «неустанного стремленья
от судьбы к иной судьбе...»
И тут же рядом — другая судьба, другая эпоха, другой
случайный перекресток в средневековой Венеции:
Но вдруг среди позорной вереницы
Угрюмый облик предо мной возник.
— Так иногда с утеса глянут птицы,—
То был суровый, опаленный лик,
Не мертвый лик, но просветленно-страстный,
Без возраста — не мальчик, не старик...
Это Данте.
Брюсов воскрешал и безымянных рабов, прикованных
к римской триреме, подслушивал их скорбные и смутные
мечты о свободе. Он воскрешал безымянную женщину,
обнаруженную при раскопках Помпеи, которая погибла,
отдаваясь возлюбленному.
Еще смелее и своеобычнее поиски Брюсова и его на¬
ходки в средних веках и Возрождении. Он пошел доро¬
гой, противоположной дороге романтиков. Не балладный
сумрак в духе Жуковского привлек его к средневековой
готике, не ужасы могильного мрака, не привидения в
замках феодалов. Археолог, книжник и рационалист,
Брюсов ухитрился в такой степени правдиво восстано¬
вить картину жизни немецкого городка, что один из
немецких критиков был поражен искусством брюсовско¬
го перевоплощения в немецкого рыцаря, от имени кото¬
рого в романе «Огненный ангел» ведется повествование,
настолько впору Брюсову пришлось мировоззрение и
наивность персонажа!
125
Азарт первооткрывателя, следопыта культуры был у
Брюсова конденсированным отражением немаловажных
характерных черт русского общества той эпохи. (...)
Валерий Брюсов действительно не формально, а по
существу стал вождем русских символистов. Е>го призна¬
ли и ближайшие к нему соратники и единомышленники
в Москве, и почти одновременно с ним не столь близкие
к нему лично молодые петербуржцы, среди них в первую
очередь и вполне безоговорочно Александр Блок, на ко¬
торого, по его собственным словам, стихи Брюсова оказа¬
ли очень большое влияние.
Но и вне этого, собственно поэтического, круга, в
разных слоях тогдашней интеллигенции — вплоть до
резко противоположной символистам демократически
революционной писательской среды, группировавшейся
около Горького и редактированных им сборников «Зна¬
ния»,— Брюсов был признан и почитаем заочно как ярко
выраженная, цельная, духовно богатая личность. С ним
можно и должно было жестоко спорить, но нельзя было
отвергнуть его, не заметить, замолчать, пройти мимо.
1973
ДМИТРИЙ
МЕРЕЖКОВСКИЙ
1866—1941
Дмитрий Сергеевич Мережковский (1366—1941) родился в
Санкт-Петербурге в семье мелкого дворцового чиновника. Пятнад¬
цатилетним гимназистом посетил вместе с отцом Достоевского,
который нашел стихи подростка слабыми и сказал ему: «Чтобы
хорошо писать,— страдать надо, страдать!» Тогда же Мережков¬
ский познакомился с Надсоном, которому на первых порах подра¬
жал в стихах и через которого вошел в литературную среду.
Учился на историко-филологических факультетах Московско¬
го и Санкт-Петербургского университетов. В 1889 году женился
на Зинаиде Гиппиус, с которой в течение дальнейшего полувека
ни на день не расставался.
В 1892 году выходит сборник стихотворений Мережковского
«Символы», давший имя новому поэтическому направлению. В
том же году в лекции « О причинах упадка и новых течениях в
современно!! русской литературе» Мережковский дает первое те¬
оретическое обоснование символизма: он утверждал, что именно
«мистическое содержание», язык символа и импрессионизм рас¬
ширят «художественную впечатлительность» современной рус¬
ской словесности.
Стихи Мережковского, отражавшие его напряженный религи¬
озный поиск, носят характер философски-отвлеченный и рассу¬
дочный. Мотивы его поэзии: осознание рокового одиночества и
раздвоенности отдельной личности, проповедь красоты, «неохри¬
стианство», утверждавшее единство духа и плоти,— характерны
для «старших символистов».
Дмитрий Мережковский — автор прозаической трилогии
«Христос и антихрист», исторических пьес и романов, многих
литературоведческих, философских, историко-религиозных иссле¬
дований и статей. Русская революция виделась Мережковскому в
образе «грядущего хама».
Будучи противником большевистского режима Мережковский
в 1919 году вместе с женой эмигрирует через Варшаву в Париж.
«Наша русская беда — только часть беды всемирной»,— писал он
в 1921 году.
Изд.: Собрание сочинений в 4-х томах. М., 1990.
128
ПАРКИ*
Будь что будет — все равно.
Парки дряхлые, прядите
Жизни спутанные нити,
Ты шуми, веретено.
Все наскучило давно
Трем богиням, вещим пряхам:
Было прахом, будет прахом,—
Ты шуми, веретено.
Нити вечные судьбы
Тянут парки из кудели,
Без начала и без цели.
Не склоняют их мольбы,
Не пленяет красота:
Головой они качают,
Правду горькую вещают
Их поблекшие уста.
Мы же лгать обречены:
Роковым узлом от века
В слабом сердце человека
Правда с ложью сплетены.
Лишь уста открою — лгу,
Я рассечь узлов не смею,
А распутать не умею,
Покориться не могу.
* Богини судьбы у древних римлян.
б Серебряный век
129
Лгу, чтоб верить, чтобы жить,
И во лжи моей тоскую.
Пусть же петлю роковую,
Жизни спутанную нить,
Цепи рабства и любви,
Все, пред чем я полон страхом,
Рассекут единым взмахом,
Парка, ножницы твои!
<1892>
ДЕТИ НОЧИ
Устремляя наши очи
На бледнеющий восток,
Дети скорби, дети ночи,
Ждем, придет ли наш пророк
И, с надеждою в сердцах,
Умирая, мы тоскуем
О несозданных мирах,
Мы неведомое чуем.
I
Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.
Погребенных воскресенье
И, среди глубокой тьмы,
Петуха ночное пенье,
Холод утра — это мы.
Мы — над бездною ступени,
Дети мрака, солнца ждем,
С\»ет увидим и, как тени,
Мы в лучах его умрем.
1893
130
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
О, Винчи, ты во всем — единый:
Ты победил старинный плен.
Какою мудростью змеиной
Твой страшный лик запечатлен!
Уже, как мы, разнообразный,
Сомненьем дерзким ты велик.
Ты в глубочайшие соблазны
Всего, что двойственно, проник.
И у тебя во мгле иконы
С улыбкой Сфинкса смотрят вдаль
Полуязыческие жены,—
И не безгрешна их печаль.
Пророк, иль демон, иль кудесник,
Загадку вечную храня,
О Леонардо, ты предвестник
Еще не ведомого дня.
Смотрите вы, больные дети
Больных и сумрачных веков:
Во мраке будущих столетий
Он, непонятен и суров,—
Ко всем земным страстям бесстрастный,
Таким останется навек —
Богов презревший, самовластный,
Богоподобный человек.
1895
МАРТ
Больной, усталый лед,
Больной и талый снег...
И все течет, течет...
Как весел вешний бег
5*
131
Могучих, мутных вод!
И плачет дряхлый снег,
И умирает лед.
А воздух полон нег,
И колокол поет.
От стрел весны падет
Тюрьма свободных рек,
Угроюмых зим оплот,—
Больной и темный лед,
Усталый, талый снег...
И колокол поет,
Что жив мой Бог вовек,
Что Смерть сама умрет!
1895
ДВОЙНАЯ БЕЗДНА
Не плачь о неземной отчизне,
И помни — более того,
Что есть в твоей мгновенной жизни,
Не будет в жизни ничего.
И жизнь, как смерть, необычайна...
Есть в мире здешнем — мир иной.
Есть ужас тот же, та же тайна —
И в свете дня, как в тьме ночной.
И смерть, и жизнь — родные бездны:
Они подобны и равны,
Друг другу чужды и любезны,
Одна в другой отражены.
Одна другую углубляет,
Как зеркало, а человек
Их съединяет, разделяет
Своею волею навек.
132
И зло, и благо — тайна гроба.
И тайна жизни — два пути —
Ведут к единой цели оба.
И все равно, куда идти.
Будь мудр — иного нет исхода.
Кто цепь последнюю расторг,
Тот знает, что в цепях свобода
И что в мучении — восторг.
Ты сам — свой Бог, ты сам свой ближний
О, будь же собственным Творцом,
Будь верхней бездной, бездной нижней.
Своим началом и концом.
1901
МОЛИТВА О КРЫЛЬЯХ
Ниц простертые, унылые
Безнадежные, бескрылые,
В покаянии, в слезах —
Мы лежим, во прахе прах,
Мы не смеем, не желаем,
И не верим, и не знаем,
И не любим ничего.
Боже, дай нам избавленья,
Дай свободы и стремленья,
Дай веселья Твоего.
О, спаси нас от бессилья,
Дай нам крылья, дай нам крылья,
Крылья духа Твоего!
1902
133
ВЕСЕЛЫЕ ДУМЫ
Без веры давно, без надежд, без любви,
О, странно веселые думы мои!
Во мраке и сырости старых садов —
Унылая яркость последних цветов.
1902
БОГ
О, Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю...
Пускай мученья мне грозят,—
Благодарю за этот миг,
За все, что сердцем я постиг,
О чем мне звезды говорят...
Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь,— в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде,
И в глубине моей души.
Я Бога жаждал — и не знал;
Еще не верил, но, любя,
Пока рассудком отрицал,
Я сердцем чувствовал Тебя.
И Ты открылся мне: Ты — мир,
Ты — все! Ты — небо и вода,
Ты — голос бури, Ты — эфир,
Ты — мысль поэта, Ты — звезда...
Пока живу — Тебе молюсь.
Тебя люблю, живу Тобой,
Когда умру — с Тобой сольюсь,
Как звезды с утренней зарей.
134
Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала,
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть — благодарю!..
ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ
Падайте, падайте, листья осенние,
Некогда в теплых лучах зеленевшие
Легкие дети весенние,
Сладко шумевшие!..
В утреннем воздухе дым,—
Пахнет пожаром лесным,
Гарью осеннею.
Молча любуюсь на вашу красу,
Поздним лучом позлащенные!
Падайте, падайте, листья осенние...
Песни поет похоронные
Ветер в лесу.
Тихих небес побледневшая твердь
Дышит бессмертною радостью
Сердце чарует мне смерть
Неизреченною сладостью.
ЧУЖБИНА-РОДИНА
Нам и родина — чужбина,
Всюду путь и всюду цель.
Нам безвестная долина —
Как родная колыбель.
Шепчут горы, лаской полны:
«Спи спокойно, кончен путь!»
Шепчут медленные волны:
«Отдохни и позабудь!»
Рад забыть, да не забуду;
135
Рад уснуть, да не усну.
Не любя, любить я буду,
И прокляв, не прокляну:
Эти бледные березы
И дождя ночные слезы,
И унылые поля...
О, проклятая, святая,
О, чужая и родная
Мать и мачеха земля!
* * *
Все кончается смертью, все кончается сном.
Буйных надежд истощил я отвагу...
Что-то устал я... Ну-ка прилягу...
Все кончается смертью, все кончается сном.
Гроб — колыбель... теперь и потом...
Было и будет, будет и было...
Сердце любило, сердце забыло...
Все кончается смертью, все кончается сном.
ДА НЕ БУДЕТ
Надежды нет, и нет боязни.
Наполнен кубок через край.
Твое прощение — хуже казни,
Судьба. Казни меня, прощай.
* * *
Всему я рад, всему покорен.
В ночи последний замер плач.
Мой путь, как ход подземный, черен —
И там, где выход, ждет палач.
130
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Валерий Брюсов
ИЗ КНИГИ «ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ»
Мережковский-поэт не отделим от Мережковского-
критика и мыслителя. Его романы, драмы, стихи говорят
о том же, о чем его исследования, статьи и фельетоны.
«Символы» развивают мысли «Вечных Спутников»,
«Юлиан» и «Леонардо» воплощают в образах идеи книги
о «Толстом и Достоевском», «Павел» и «Александр I и
декабристы» дают предпосылки к тем выводам, которые
изложены Мережковским на столбцах «Речи» и Русского
Слова». Поэзия Мережковского — не ряд разрозненных
стихотворений, подсказанных случайностями жизни,
каковы, напр., стихи его сверстника, настоящего, приро¬
жденного поэта, К. Фофанова. Поэзия Мережковского не
импровизация, а развитие в стихах определенных идей,
и ряд сборников его стихов кажутся стройными вехами
пройденного им пути.
Каждая ив четырех книг, в которых Мережковский
собирал свои стихи, очень характерна.
Начинал он («Стихотворения» 1888 г.), подобно Мин¬
скому, как ученик Надсона. Одно из характернейших сти¬
хотворений первой книги Мережковского говорит нам:
Не презирай толпы! безжалостной и гневной
Насмешкой не клейми их горестей и нужд.
Однако с самого начала Мережковский сумел взять и
самостоятельный тон. Когда вся «школа» Надсона, вслед
за учителем, долгом почитала «ныть» на безвременье и на
свою слабость, Мережковский заговорил о радости и о
силе.
137
Да, жизнь, смотри: во мгле унылой
Не отступил я пред грозой,
Еще померимся мы силой,
Еще поборемся с тобой...
Чем глубже мрак, печаль и беды,
И раны сердца моего,
Тем будет громче гимн победы,
Тем будет выше торжество!
С такой же бодростью, с такой же верой в себя произ¬
носил Мережковский ответный монолог женщине, отвер¬
гшей его любовь:
Смотри: меня зовет огромный светлый мир:
Есть у меня бессмертная природа,
И молодость, и гордая свобода,
И Рафаэль, и Данте, и Шекспир!
И думать ты могла, что я томиться буду
Или у ног твоих беспомощно рыдать!
Стихи риторичны, напыщены, но даже это характер¬
но, потому что другие соратники Надсона именно рито¬
рики боялись всего больше (хотя и пользовались ею не¬
умеренно, только в несколько ином обличии). Мережков¬
скому хотелось риторики, чтобы яркостью и звонкостью
ее порвать тот бесцветный, беззвучный туман, в который
заволочена была жизнь русского общества 80-х годов.
Вторая книга стихов Мережковского, «Символы»
(1892 г.), замечательна разносторонностью своих тем.
Пушкин и античная трагедия, Эдгар По и Бодлэр, древний
Рим и Франциск Ассизский, трагизм повседневного и по¬
эзия города, все то, что должно было, через десять-пятнад¬
цать лет, занять все умы, заполонить все книги, уже наме¬
чено в этом сборнике. То был первый дар Мережковского
на алтарь той «вселенской культуры», служителем кото¬
рой он признает себя и в самых последних своих статьях...
В то же время были Мережковским начаты «Вечные Спут¬
ники»,— «портреты из всемирной литературы».
«Символы» были книгой предчувствий. Мережковский
предугадывал в ней наступление иной эпохи, более живой.
По своему обыкновению, придавая совершающимся вокруг
него событиям титанический облик, он писал:
Грядите, новые пророки,
Грядите, вещие певцы,
Еще неведомые миру!
138
(Наше русское «возрождение» 90-х годов представля¬
лось ему чем-то вроде великого «Возрождения» XVI в.,
как позднее великий развал, последовавший за нашей
революцией, предощущал он как конец вселенной, как
близость «второго пришествия»).
Менее чувствовались в «Символах» религиозные иска¬
ния Мережковского. Правда, книга открывалась стиха¬
ми «Бог»:
Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь,— в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде
И в глубине моей души...
Но смысл этого признания был, вероятно, темен и для
самого автора...
Третий сборник стихов Мережковского «Новые сти¬
хотворения» (1896 г.), гораждо уже, по захвату, чем
«Символы», но гораздо острее. Успокоенность «Симво¬
лов» перешла здесь — в постоянную тревогу, объектив¬
ность более ранних стихов,— в напряженный лиризм. В
«Символах» Мережковский почитал себя служителем
каких-то «покинутых богов»:
Мы бесконечно одиноки,
Богов покинутых жрецы...
За годы, прошедшие до появления «Новых стихотво¬
рений», Мережковский сам покинул этих богов и гово¬
рил о себе и своих соратниках:
Дерзновенны наши речи...
Мы для новой красоты
Нарушаем все законы,
Преступаем все черты.
Дерзновенье — главный стимул поэзии Мережковско¬
го того времени. Его увлекают образы Титанов, грозящих
олимпийцам. Леонардо да Винчи, проникшего «в глубо¬
чайшие соблазны всего, что двойственно», Микель Ан¬
джело, у которого были «отчаянью подобны вдохно¬
венья», Иова, восставившего величайшие хуления на
Всевышнего, и в то же время образы отверженности, уни¬
женности, одиночества пророка «в пустыне», уничиже¬
ния мудреца среди «глупцов». Как в «Символах» были
намечены те идеи, которыми целое десятилетие жило
139
после того русское общество, так в «Новых стихотворе¬
ниях» затронуты все темы, которые пышно и полно раз¬
работала вскоре школа наших «символистов».
«Новые стихотворения» писались одновременно с рома¬
ном о Юлиане и проникнуты тем же духом — язычества. В
культе «великого веселия Олимпийцев» и в культе «без¬
грешности плоти» Мережковский видел тогда спасение от
того худосочия, которым страдало и русское общество пос¬
ледних десятилетий и вся европейская культура последне¬
го времени. Назначение «Новых стихотворений» было —
звать к радости, к силе, к наготе тела, к дерзанию духа.
Следующая четвертая книга стихов Мережковского,
«Собрание стихов» (1909 г.), появилась почти десять лет
спустя. Новых стихотворений в ней очень мало и это
скорее антология, чем новая книга. Но характерный
выбор стихов, сделанный автором, придал ей и новизну,
и современность. В свое маленькое «Собрание стихов»
Мережковский включил лишь те стихи, которые отвеча¬
ли его изменившимся взглядам. Старые стихи, в новом
расположении, приобрели новый смысл и несколько сти¬
хотворений, написанных за последние годы, озарили всю
книгу особым, ровным, но неожиданным светом.
Недавний проповедник воскресших богов, ярый враг
галилеян,— Мережковский обратился к христианству.
«Красоту», эту последнюю надежду мира, признал он бес¬
сильной; лезвие «дерзновения» —слишком ломким; ал¬
тарь «всемирной культуры» —лишенным божества. Но
«обращение» Мережковского тем отличалось от многих
других обращений, что в христианстве хотел он обрести
не последнее утешение, но новое оружие, после того как
другие оказались недостаточными. На Крест он взглянул
как на меч, озаглавил одну из своих книг евангельскими
словами: «Не мир, но меч». Христа распятого и Грядуще¬
го сделал он своим союзником в достижении тех же це¬
лей, к которым раньше стремился через кротость Будды,
через веселье Олимпийцев, через соблазны Леонардо.
Обращение Мережковского было переменой убеждений,
но не было изменой.
Лейтмотив сборника — заключительные стихи, «мо¬
литвы о крыльях»:
Дай нам крылья, дай нам крылья,
Крылья духа Твоего!
Желанием веры, более чем самою верою, проникнуты
все стихотворения книги. «Лгу, чтоб верить, чтобы
140
жить», признается в одном месте Мережковский. Но
ложь, о которой он говорит, состоит не в том, что он
верой закрывает от себя все страшное в жизни, а, наобо¬
рот, в том, что в глубине самой веры усматривает он
возможность нового сомнения. И, не без горечи, он так
говорит о тех последних обетованиях христианства, ко¬
торые так потрясали мысль Владимира Соловьева:
Не плачь о неземной отчизне,
И помни,— более того,
Что есть в твоей мгновенной жизни,
Не будет в смерти ничего!
♦ Собрание стихов» вышло в годы, перед нашей вой¬
ной и нашей революцией, когда беспросветность русской
действительности заставляла многих повторять молитву
Мережковского о мистических крыльях. То была эпоха,
когда неожиданный успех имел руководимый тем же
Мережковским «Новый Путь», когда «весь Петербург»
собирался слушать его же в зале Географического общес¬
тва на религиозно-философских собраниях, когда одну
минуту касалось, что именно в религии падет преграда,
разделяющая «народ» п «интеллигенцию». «Символы» и
«Новые стихотворения» были книгами предвестий; «Со¬
брание стихов» было книгой сегодняшнего дня... Траги¬
ческие события 1905—1906 гг. спутали и порвали все
нити прошлого...
После «Собрания стихов» Мережковский не издавал
больше стихотворных сборников. Надо желать, чтобы он
решился, наконец, соединить в более полном собрании
все написанные им стихи. Это будет единственная, в сво¬
ем роде, летопись исканий современной души, как бы
дневник всего того, что пережила наиболее чуткая часть
нашего общества за последнюю четверть века. Этот исто¬
рический интерес навсегда остается за стихами Мереж¬
ковского, как бы сурово ни приходилось их критиковать
с чисто эстетической точки зрения.
Среди современных поэтов, по преимуществу лириков-
индивидуалистов, Мережковский резко обособлен, как
поэт настроений общих. В то время как Бальмонт, Белый,
Блок, даже касаясь тем общественных, «злободневных»,
говорили прежде всего о себе, о своем к ним отношении,
Мережковский, даже, в интимнейших признаниях, выра-
жаль то, что было, или скоро должно было стать (ибо, по
большей части, он шел впереди других), всеобщим чувст¬
вом, страданием многих или надеждою многих. Подобно
141
Минскому, Мережковский — «поэт гражданский», но тог¬
да как Минский понимал это свое назначение в повторении
общих мест, принципов и максим, найденных другими
(таков, напр., его гимн «Пролетарии всех стран, соединяй¬
тесь!»)— Мережковский выполнял свое дело, страстно и
настойчиво уча в стихах тому, что почитал своей истиной.
Мережковский на поэзию смотрел как на средство, и это
его грех пред искусством; но он пользовался этим средст¬
вом с великим умением, и употреблял его на цели благо¬
родные, и в этом его оправдание.
Следовало бы еще сказать о форме стихов Мережковско¬
го... Но это как-то ненужно. Излишне риторичная в его ран¬
них стихах, щеголяющая насильственной упрощенностью
в более поздних, она становится истинно простой, ясной,
прозрачной в его последних стихотворениях. Но стихи Ме¬
режковского из тех, в которых форма не только имеет пра¬
во, но и должна быть неощутимой, незаметной. Читая его
стихотворения, надо не воспринимать их формы,— и тако¬
го впечатления Мережковский умеет достигнуть. Там же,
где он делает уступку красивости формы, где иногда стано¬
вится даже виртуозом стиха (как, напр., в стихотворении
«Леда»),— это кажется лишним и почти неприятным.
1907. 1910
А. Белый
МЕРЕЖКОВСКИЙ. СИЛУЭТ
(Из книги «Арабески»)
Если бы два года тому назад вы прошли около часу в
Летний сад в Петербурге, вы встретили бы его, малень¬
кого человека с бледным, белым лицом и большими, бро¬
шенными вдаль глазами.
День. Над Невой пурга разыгралась белыми атласами.
Протянула длинные пурга свои руки сквозь решетку
свистом; белыми опадающими цветами-снегами метет она
дорожки. А на дорожках он, маленький, прямой, как
палка, в пальто с бобровым воротником, в меховой шап¬
ке. Восковое его с густой, из щек растущей каштановой
бородкой лицо: оно ни на чем не может остановиться. Он
в думах, в пурговом хохоте, в нежном, снежном дыме.
Мимо, мимо проплывал его силуэт, силуэт задумчивого
слепца с широко раскрытыми глазами — не слепца: все
он видит, все мелочи заметит, со всего соберет мед муд-
142
рости. И во.т «Петр и Алексей», где вся сила в эпохе., в
своеобразной жизни мелочей: эти мелочи возведет он в
иное живое’, под внешней личиной быта оживит неска¬
занный трепет грядущего — все для него символы. Но и
его лицо тоже символ. Вот он проходит — подойдите к
нему, взгляните: и восковое это, холодное это лицо, мер¬
твое, просияет на мгновение печатью внутренней жиз¬
ненности, потому что и в едва уловимых морщинах во¬
круг глаз, и в изгибе рта, и в спокойных глазах — озаре¬
ние скрытым пламенем бешеных восторгов; у него два
лица: и одно, как пепел; и другое, как осиянная, духом
сгорающая свеча. Но на истинный лик его усталость
мертвенная легла трудом и заботой. Отойдите — и вот
опять маска. И нет на ней печати неуловимых восторгов,
негасимых. Идет в белоснежном кружеве кисейной пур¬
ги. Над ним сквозной омофор снеговой и тихий говор
древес облетевших. Верно, обдумывает свой новый труд,
о котором лет через пять заговорит Европа. Какое холод¬
ное мертвое лицо! Как будто та самая апокалиптическая
мертвенность современной жизни, о которой сказал он
так глубоко, так сильно легла гробовой тенью на его
лицо, но под ней сияет брачная заря новой жизни, о
которой он уже сумел сказать словами Апокалипсиса: «И
дух, и невеста говорят: прииди».
♦Прииди и пойми». Вот что говорит нам Мережковс¬
кий своим холодным лицом: «Я ношу в себе сладкое
знание, но ты сам прииди и пойми».
Если бы мы подошли к нему здесь, в Летнем саду,
посмотрел бы на нас он холодным, неприязненным взо¬
ром, поклонился бы сухо, сухо. И прошел. Метель замела
бы от нас маленького человека, сумевшего сказать такие
большие слова, что полный смысл их еще не разгадан
нашей эпохой и особенно русскими. О нем говорит Евро¬
па, им восхищается Ферстер-Ницше, видевшая страда¬
ния своего великого брата. А мы его читаем и говорим:
♦ Мережковский опять написал о Достоевском».
Да.
В метелях вставал передо мной облик Мережковского
в дни моей юности: и я его еще не знал лично. Его сочи¬
нение ♦ Толстой и Достоевский» было для меня призывом
февральской вьюги предвесенней, поющей о дне восста¬
ния из мертвых. Он сумел разгадать дикий, метельный
крик, из которого рождалась страсть Анны Карениной к
Вронскому; в предвесенний метельный крик воплотил
143
страдание Ницше; в метелях открывалась ему буря света,
и ее он назвал своей религией.
Мы познакомились близко. И я видал Мережковского
в его обычной прогулке по Летнему саду. Мы дружески
говорили, но он уходил в глубину своих мыслей. Он тогда
создавал * Петра».
Так из года в год после утренних занятий бродил он в
пустынных аллеях Летнего сада. Так же он бродит теперь
в Париже, где-нибудь в Passy. Помню, шли мы вечером
по горбатой rue Renouare мимо дикого дома, где некогда
жил Метерлинк; остановились у ниши старинного дома,
в которой когда-то стояла статуя Мадонны, о чем свиде¬
тельствовали каменные, под нишей выбитые слова. Те¬
перь в нишу вклеили рекламу с изображением Мефисто¬
феля. Это было в жанре Мережковского. Он остановился,
посмотрел на спутников: «Каково?» Нам стало страшно.
Теперь бродит он, такой же маленький и прямой, с
холодным белым лицом и вдаль брошенными глазами, в
уединенных аллеях Булонского леса. Пропыхтит автомо¬
биль. Процокает белая лошадь под статным кавалерис¬
том в изящном кепи с закрученными усами. Он бродит
тут и обдумывает своего «Павла».
Мережковский любит уединение. Это потому, что
он — большой художник. Но как Толстой, как Гоголь,
как Достоевский, говорит он свое «нет» эстетической
культуре во имя культуры религиозной. Уединяясь, тво¬
рит формулы людского единения. И тут он, как Толстой,
как Гоголь,— ходячее противоречие, потому что в жизни
он — большой художник. И художник больше, чем про¬
поведник. И нет человека более замкнутого, чем он, хотя
он и способен говорить много и долго. Но еще более любит
он тишину Летнего сада зимой, и атласный рукав мете¬
ли, лизнувший окно серебряными звездами, оборвет его
на полуслове. Он быстро пробежит в переднюю, оставив
собеседника. Его нет: он бродит в метели.
О, как знакома мне такая картина.
Большая комната, оклеенная красными обоями. Пунцо¬
вые угли камина тлеют тихо: будто золотой леопард, ис¬
пещренный серыми пятнами,— тихо потрескивают в ка¬
мине. На диване 3. Н. Мережковская в белом, с красно-
золотыми волосами, вся в отсветах огня, затянувшись
надушенной папироской, ведет долгую, всю озаренную
внутренним светом беседу с каким-нибудь новообращен¬
ным мистиком. С неженской ловкостью фехтует она диа-
144
лектикой, точно остро отточенной рапирой, и собеседник,
будь он тонко образованный философ или богослов,, нево¬
льно отступает перед сверкающим лезвием ее анализа. А
она то свертывается клубочком на диване, то ярким по¬
рывом выпрямится, выманив доказательство в свою поль¬
зу, и папироска ее опишет по воздуху огненный круг.
Собеседник побежден. Сидит у камина, опустив голову,
и щипцами размешивает яркие уголья, кипящие золо¬
тым роем искр, точно искрами шипучего шампанского.
И уж хмель беседы, вино новое религиозных исканий
ядом сладким, благодатным неотразимо входит в душу.
Вероятно, часа за два перед тем произошла вот какая
сцена. Собеседник пришел к Д. С. Мережковскому, что¬
бы потолковать с ним. Его провели в кабинет. Там над
столом, заваленным книгами, над выписками из Эккар-
тгаузена, над Дионисием Арсонагитом или над Исааком
Сириининым (может быть, над Бакуниным, Герценом,
Шеллингом или даже над арабскими сказками — он чи¬
тает все) с ароматной сигарой в руке поднялся Д. С. Ме¬
режковский и недоумевающим, холодным взором пос¬
мотрел на посетителя: посмотрел сквозь него — он всегда
смотрит сквозь человека, сквозь стены, сквозь простран¬
ство и время. Тут, казалось бы, и должен сказаться в
Мережковском проповедник, ведь пришли к нему гово¬
рить о слове жизни. Тут и должен бы выйти из заколдо¬
ванного круга словесности, из цитат, ссылок, выписок.
Но нет.
Скажет: «Что, собственно, вам угодно? Вот я сейчас...»
И быстрыми шагами уходит в комнату, где теплится ка¬
мин. «Зина, ко мне пришел какой-то человек. Поговори с
ним. Я с ним говорить не могу». И 3. Н. Мережковская,
быть может, в сотый раз принимается за свой операцйон-
ный нож диалектики, так умело ампутирующий язвы
души. Она, точно помощник виртуоза-хирурга, приготов¬
ляет условия для беседы неофита с Мережковским. Если с
ним можно вести речь о словах глубоких и важных, если
поддается свету его душа, его пригласят, пригласят еще и
еще раз. Тогда-то Д. С. Мережковский брызнет на него мол¬
ниями своей речи. Он слишком ушел в детали ему любез¬
ных тем и, как специалист, умеет брать тему во всей глуби¬
не. Б противном случае он отделывается вялыми схемами.
И потому-то люди, не умеющие подойти к этому пламенно¬
му человеку, так часто говорят с кислыми гримасами: «Ме¬
режковский — схоластик». Эго значит — в них не оказа-
145
лось истинной жизни глубинной, и Мережковский, как
мимоза, весь сжался перед ними, завернулся в схемы.
Вот почему он не любит сам подходить к человеку;
предпочитает сидеть у себя в кабинете за фолиантом или
даже лежать на софе с арабскими сказками, временами
прохаживаясь по кабинету с сигарой в руке, и слушать
вьюгу, и вторить ее плачу, что-то насвистывая своими
большими темными губами.
Потом, быть может, войдет и в комнату, где идет много¬
часовой разговор, где золотые каминные угли потухли, и в
камине груда их, прежде яркая, как огненный зверь, те¬
перь — зверь пепельный. Встанет в дверях и с застывшим
лицом, обрамленным со щек растущими волосами, обведет
собеседника скучающим взором, на его вопрос ответит не¬
впопад. Его перебьет 3. Н. Мережковская: «Дмитрий, да мы
совсем о другом». А он не слышит — идет — идет к себе, к
своим книгам, к своим думам, к своим песням. В трубе свис¬
тит вьюга, машет крыльями, и заглядывает в окна, и прили¬
пает к ним морозными, бриллиантовыми лилиями.
Это ничего.
Зато какой нежной простотой, какой отеческой лас¬
кой встретит он всякого действительного, глубокого, кто
сумеет подойти к нему. Быстро истает восковая маска
равнодушной скуки на его лице, как тающая свеча пред-
воскресной службы. Обнимет и поцелует. И бархатный,
вдруг окрепший голос его будет громко и долго разда¬
ваться в полуосвещенной комнате среди тихого плеска
золотых каменьев, жаром кипящих в камине.
Собеседник ушел. Вечер. Звонки. Это — Бердяев, или
Волжский, или кто-либо иной. И беседа. И Мережков¬
ский, маленький уютный, ласксво ходит по комнате, и
то раздается его смех, то молнией разрезает он разговор.
Как умеет прямо ставить вопросы он, совещать своим
миросозерцанием все — науку, жизнь, искусство?
И уж Бердяев, всегда спокойный, всегда грустный,
неузнаваем: глаза горят, мысли искрятся.
Тут в уютной квартирке на Литейной сколько раз
приходилось мне присутствовать при самых значитель¬
ных, утонченных прениях, наложивших отпечаток на
всю мою жизнь. Тут создавались новые мысли, расцвета¬
ли никогда не расцветавшие цветы. Проходило много
месяцев, и мысли эти начинали пестрить страницы
журналов, иногда в искаженном, превратном освещении,
без огня, без правды, и о них говорили: «Вот новое тече-
146
ние, вот эротизм, вот мистический анархизм». И Мереж¬
ковский хохотал, видя свое, так превратно понятое.
Тут, у себя, когда по вечерам приходили друзья, близ¬
кие, поклонники, Мережковский развертывался во всю
свою величину: казался большим и близким, родным, но
далеким, пронизанным лучами одному ему ведомого вос¬
торга: казался прекрасным, был своим собственным худо¬
жественным произведением. Говорил «лова глубочайшей
искренности, а если спорил, спорил без тех приемов лите¬
ратурной вежливости, которая опошляет и обесценивает
все коренные вопросы, в которых прежде всего трепет
тайны, а не трепет вежливости, не трепет условности. И
как не любили Мережковского те, кто касается святого
святых человеческого бытия и при этом не может даже в
эти минуты касаний сердец забыть условность. Здесь, у
Мережковского, воистину творили культуру, и слова, про¬
изнесенные в квартире, развозились ловкими аферистами
слова. Вокруг Мережковского образовался целый экспорт
новых течений без упоминания источника, из которого все
черпали. Все здесь когда-то учились, ловили его слова.
Теперь эти слова с переставленными ярлычками горят
скупо и тускло. Но они горят настоящим огнем у Мереж¬
ковского. И его боятся — замалчивают, заметают следы.
...Да, глубокая мудрость, соединенная с проникнове¬
нием в тайны природы, и доныне в Мережковском. И
доныне художник он, поэт тишины, из которой рожда¬
ются громы его речений. Бывало, говорит, метель снеж¬
ным в окне крылом забьет,— и он присмиреет, замолчит;
быстрыми шагами пройдет в переднюю. «А где же Дмит¬
рий Сергеевич?» Нет его: он ушел в метель.
И опять 3. Н. Мережковская одна продолжает беседу.
С надушенной папироской сидит на софе, а Бердяев, или
Философов, или я — мы сидим у камина, мешаем уголья.
В окнах хохот метелей и серебряный дым. Серебряный
дым покрывает стогны Петрограда.
А в снежном дыму, запорошенный, идет маленький чело¬
век с холодным, холодным лицом, и большие остановивши¬
еся глаза его пронизывают и метель, и город, и пространст¬
во, уплывая в иные пространства, в иные времена.
Предвесенняя метель — ив ней Мережковский. Я
думал о нем еще прежде во дни метелей. В метельный
день познакомился я с ним. И часто теперь о нем вспо¬
минаю в метелях.
1911
147
Зинаида Гиппиус
ИЗ КНИГИ «ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ»
Глядя на нас с Д. С.,— более извне, конечно,— трудно
было бы сказать, что у меня фон души (если можно так
выразиться) — темнее, у него — светлее. А это было имен¬
но так. И с годами даже подчеркнулось, хотя другим он,
с годами, казался, подчас, даже угрюмым, а я жизнерадос¬
тной. Но это кстати, вернемся к Дмитрию в 23 года.
Живой интерес ко всем религиям, к буддизму, панте¬
изму, к их истории, ко всем церквам, христианским и не
христианским равно. Полное равнодушие ко всякой об¬
рядности (отсутствие известных традиций в семье сказа¬
лось). Когда я в первую нашу Пасху захотела идти к
заутрене, он удивился: «Зачем? Интереснее поездить по
городу, в эту ночь он красив». В следующие годы мы,
однако, у заутрени неизменно бывали. Но, конечно, не
моя детская, условная и слабая вера могла на него как-
нибудь повлиять. Его, в этот же год молодости, ждало
испытанье, которое не сразу, но медленно и верно пов¬
лекло на путь, который и стал путем всей его деятельнос¬
ти. Замечу здесь еще одно, и коренное, различие наших
натур. Говорю о своей — чтобы лучше оттенить его. У
него — медленный и постоянный рост, в одном и том же
направлении, но смена как бы фаз, изменение (без изме¬
ны). У меня — остается раз данное, все равно какое, но то
же. Бутон может распуститься, но это тот же самый
цветок, к нему ничего нового не прибавляется. Росту
предела или ограничения мы не можем видеть (кроме
смерти, если дело пдет о человеке). А распускающемуся
цветку этот предел виден, знаем заранее. Раскрытие цвет¬
ка может идти быстрее, чем сменяются фазы растущего
стебля (или дерева). Но по существу все остается то же.
Однако оттого и случалось мне как бы опережагь ка¬
кую-нибудь идею Д. С. Я ее высказывала раньше, чем она
же должна была ему встретиться на его пути. В большин¬
стве случаев он ее тотчас же подхватывал (так как она, в
сущности, была его же), и у него она уже делалась сразу
махровее, принимала как бы тело, а моя роль вот этим
высказыванием ограничивалась, я тогда следовала за ним.
Потому что — это необходимо прибавить — разница
наших натур была не такого рода, при каком они друг
друга уничтожают, а, напротив, могут, и находят, между
148
собою известную гармонию. Мы оба это знали, но не
любили разбираться во взаимной психологии.
Иногда случалось, что первая идея принадлежала ему.
Если я ее не понимала и была не согласна, я редко следо¬
вала за ней, пока не убеждалась в ее правоте. Так же и он,
и тогда происходили между нами ссоры, мало похожие на
обычно-супружеские. Моя беда была в том, что я, особенно
в молодости, не умела найти нужные аргументы, чтобы
доказать неправильность его идеи в том или другом его
произведении, и оказывалась побитой. Я не понимала,
например, что идея «двойственности», которую он разви¬
вал в романе «Леонардо» («небо внизу — небо вверху»),
необходимая фаза его роста: идея казалась мне фальши¬
вой, и я (слишком для него рано) принялась ему это дока¬
зывать. Конечно, не сумела, и кончилась эта наша «сцена»
для меня, вообще никогда не плачущей,— слезами. А уж
это — каке же доказательство. Через годы он доказатель¬
ства нашел сам, и такие блестящие, до каких я бы и впос¬
ледствии, вероятно, не додумалась.
Его лекция во Флоренции в 33-м году, в Palazzo Vec¬
chio, все ее начало,— это, как раз, обвинительная речь
против идеи романа «Леонардо да Винчи», романа, ка¬
жется, самого популярного из им написанных.
Но пора вернуться к последовательному «рассказу», к
началу нашей совместной жизни, к молодому, 23-летне¬
му Мережковскому.
У него не было ни одного «друга». Вот как бывает у
многих, нашедших себе друга в университете, сохраняю¬
щих отношения и после. Иногда — реже — сохраняется
даже гимназическая дружба. Но у Д. С. никакого «дру¬
га» никогда не было. Множество дружеских отношений
и знакомств, но я говорю не об этом. Он, в сущности, был
совершенно одинок, и вся сила любви его сосредоточи¬
лась, с детства, в одной точке: мать. В «Старинных окта¬
вах» он сам рассказывает об этом лучше, чем я могу это
сделать. Он и со мной мало говорил о своей любви к
матери,— очень редко,— так целомудренно хранил эту
любовь в душе до последнего дня.
Я видела их вместе, когда она, первые месяцы, приез¬
жала к нам, привозила в наше новое (и скудное) хозяй¬
ство что-нибудь из своего, украдкой, конечно: пару ряб¬
чиков, домашние пирожки... мало ли что. Всегда заку¬
танная в салопе. У нее было измученное лицо, но очень
нежное. Черные, гладкие волосы на прямой пробор.
149
Почти не было седины, да ведь она не была и стара.
Болезненная желтизна лица, обострившиеся черты,— а
была она, видно, очень красива. Ее большой овальный
портрет, висевший в кабинете отца и потом завещанный
сыну Дмитрию,— на нем она молодая и красивая очень.
Этот портрет висел у нас до нашего бегства, конечно,—
пропал, как все у большевиков.
Нина Берберова
ИЗ КНИГИ «КУРСИВ МОЙ»
Он был агрессивен и печален. В этом контрасте была
его характерность. Он редко смеялся и даже улыбался не
часто, а когда рассказывал смешные истории (например,
как однажды в Луге у Карташева болел живот), то рас¬
сказывал их вполне серьезно. Что-то было в нем сухое и
чистое, в его физическом облике; от него приятно пахло,
какая-то телесная аккуратность и физическая легкость
были ему свойственны, чувствовалось, что все вещи — от
гребешка до карандаша — у него всегда чистые, и пе
потому, что он за ними следит, а потому, что ни к нему,
ни к ним не пристают пылинки. <...>
Сколько раз мне, как когда-то Блоку, хотелось поце¬
ловать Д. С. руку, когда я слушала его, говорящего с
эстрады, собственно, всегда на одну и ту же тему, но
трогающего, задевающего десятки вопросов и как-то осо¬
бенно тревожно, экзистенциально ищущего ответов, ко¬
нечно, никогда их не находя. Из его писаний за вре¬
мя эмиграции все умерло — от «Царства Антихриста» до
«Паскаля» (и «Лютера», который, кажется, еще и не
издан). Живо только то, что написано им было до 1920
года: «Леонардо». «Юлиан», «Петр и Алексей», «Алек¬
сандр I и декабристы», да еще литературные статьи, если
читать их в свете той эпохи, когда они были написаны
(на фоне писаний Михайловского и Плеханова). Из сти¬
хов его и десятка нельзя отобрать, и все-таки это был
человек, которого забыть невозможно. «Эстетикой» он
не интересовался, и «эстетика» отплатила ему: новое ис¬
кусство с его сложным мастерством и магией ему оказа¬
лось недоступно.
150
Георгий Адамович
ИЗ СТАТЬИ «МЕРЕЖКОВСКИЙ»
Имя Мережковского неразрывно связано с тем ум¬
ственным, душевным или просто культурным движени¬
ем, которое возникло в России в койце прошлого века. У
движения этого есть несколько названий: есть кличка,
ставшая презрительной,— «декадентство», есть уклончи¬
вое, неясное имя — «модернизм», есть определение лите¬
ратурное— «символизм». Критики не раз уже устанав¬
ливали разницу между этими понятиями и объясняли, в
чем, например, декадентство не было символично, а сим¬
волизм не был упадочен. Но разделениям этим не особен¬
но повезло. Да и сплетение между отдельными ветвями
одного и того же дерева было так тесно, что трудно было
в этих узорах разобраться. Одна, единая творческая энер¬
гия вызвала в девяностых годах литературное оживле¬
ние. Только, конечно, были среди тогдашних литерато¬
ров люди с узкой, ограниченной душой, с узким умом, и
были другие, внесшие в движение духовную серьезность,
напряжение и широту.
Узость олицетворял Брюсов. Может быть, именно
потому он был на первых порах так удачлив. Именно
потому он легко, без сопротивления с чьей бы то ни было
стороны, завладел положением «мэтра»: Брюсов был и
понятнее, и заносчивее других, и, в сущности, ограничи¬
вался культуртрегерством. «Раньше писали плохие сти¬
хи,— будем, господа, учиться поэтическому мастерству у
отвергнутых великих учителей и будем писать стихи
хорошие».— «У нас толкуют все больше о мужичках и о
земстве, а на Западе в это время творится новое искусст¬
во,— будем же и мы внимательны к этому новому искус¬
ству»... Это легко было усвоить, это сулило легкий ус¬
пех. Брюсов знал, чего хотел,— и завоевание власти ока¬
залось для него делом пустячным. Но никогда он власти
подлинной, над всем движением, не имел, и впоследст¬
вии произошел не бунт против его тирании, а просто
водворение порядка в литературных делах. Выяснилось,
что, кроме просветительной миссии, Брюсов ни на что не
вправе претендовать, что сознание его бедно, а кое в чем
и порочно, несмотря на пышные слова. Произошло это
не теперь, а лет сорок тому назад, еще в то гремя, когда
брюсовский стихотворный дар едва-едва начинал ссы-
151
хаться и вянуть. Если не ошибаюсь, в 1910 году, в па¬
мятном споре о поэтическом «венке» или «венце». Вя¬
чеслав Иванов и Андрей Белый почтительно, но твердо
указали Брюсову на его место в новой русской словеснос¬
ти. Брюсов сделал bonne mine au mauvais jeu, заявил, что
поэтом, «только поэтом», он и хотел быть всю жизнь и
даже принял под свое тайное покровительство возник¬
шие на его, брюсовской, суженной платформе течения,
вроде акмеизма и футуризма. Но уязвлен остался он
навсегда.
В сущности, культуртрегером был и Мережковский.
Он тоже «открывал Европу» — причем начал это раньше
Брюсова. Это он, возвращаясь как-то из-за границы в
Россию, ужаснулся нашей «уродливой полуварварской
цивилизацией» и задумался о «причинах упадка русской
литературы». Мережковский только что услышал о ди¬
ковинном новом мудреце Ницше, будто бы окончательно
«переоценившем ценности», только что заучил наизусть
стихи Верлена, прекрасные, но без малейшего отзвука
«гражданской скорби», и после этого, раскрыв какой-то
отечественный толстый журнал на очередной статье Ска¬
бичевского, пришел в отчаяние... Но, конечна, этими
чертами Мережковский не исчерпывается,— и даже та¬
кое привычное соединение слов, как «культурная роль»,
звучит в применении к нему несколько поверхностно и
нелепо. Ну, разумеется, культурная роль была! Но разве
в ней дело? Было нечто другое, гораздо более важное и
существенное. Несмотря на весь свой европеизм, Мереж¬
ковский писатель типично русский,— как типично рус¬
ской была вся «его» линия модернизма, с Блоком и Ан¬
дреем Белым, многим ему обязанным.
* £ •к
Можно по-разному оценивать русскую литературу
дореволюционного периода. Можно упрекать ее в отступ¬
ничестве от классических русских традиций, или отме¬
чать ее стилистическую и эмоциональную несдержан¬
ность, или осуждать ее за некоторую туманность замыс¬
лов... Но вот что все-таки бесспорно: она имела какое-то
магическое, неотразимое воздействие на поколение, да,
именно на целое поколение. Пусть это было поколение
«больное», как его нередко характеризовали тогда и как
характеризуют теперь в советской России, употребляя
другие термины, но оставляя тот же смысл. Пусть оно
162
было слишком городским и несло в себе все последствия
разрыва с природой, всегда тяжелые и губительные. Пусть
даже в самом деле можно найти объяснение его настроени¬
ям в политических и социальных условиях эпохи — пусть!
Но все-таки это было очередное русское поколение,- и едва
ли оно было настолько хуже других, чтобы о нем говорить
не стоило. Нет, вспоминая честно, без всякой рисовки, но
и без самоуничижения, то, что занимало «русских мальчи¬
ков» — по Достоевскому — в предвоенные и предреволю¬
ционные годы, хочется сказать, что сквозь иные слова,
иные образы они думали приблизительно о том же, о чем
думают все люди в шестнадцать или двадцать лет. Был и
жар, и порыв, и восторг. А с литературой была у них связь
какая-то такая кровная, страстная, жадная, что о ней те¬
перешним двадцатилетним «мальчикам» и рассказать
трудно. Вероятно, происходило это потому, что юное со¬
знание всегда ищет раскрытия жизненных тайн, ищет
объяснения мира,— а наша тогдашняя литература обеща¬
ла его, дразнила им и была вся проникнута каким-то тре¬
петом, для которого сама не находила воплощения. Нет, не
так мы раскрывали «Весы», как раскрывают какой-нибудь
журнал теперь, не для того только, чтобы прочесть «инте¬
ресную» повесть или «недурные» стихи: нет, нам казалось,
что вот-вот что-то важнейшее будет объяснено, что-то до¬
лжно измениться, и на этих страницах мы это увидим.
Даже если и знаешь теперь, что жадда утолена не была,
обиды не остается. Напротив, остается только благодар¬
ность.
Мережковский был одним из создателей этого движе¬
ния, вдохновителем этого оттенка предреволюционной
русской литературы,— и это-то и показывает, насколько
мало характерно для него поверхностно-капризное запад¬
ничество с Верленами, Уайльдами, а то даже и Пшибы-
шевским. Без Мережковского русский модернизм мог бы
оказаться декадентством в подлинном смысле слова, и
именно он с самого начала внес в него строгость, серьез¬
ность и чистоту. Книга о Толстом и Достоевском оправ¬
дывает поход на Скабичевского: ради переложения фран¬
цузских сонетов на русский лад ломать стулья, пожалуй,
не стоило, но ради этого стоило. Тут было возвращение
к величайшим темам русской литературы, к великим те¬
мам вообще. Границы расширялись не только на словах,
но и на деле, а главное, не только географически, но и
творчески. Кстати, книга эта имела огромное значение,
не исчерпанное еще и до сих пор. Она кое в чем схема-
153
тична,— особенно в части, касающейся Толстого,— но в
ней дан новый углубленный взгляд на «Войну и мир» и
«Братьев Карамазовых», взгляд, который позднее был
распространен и разработан повсюду. Многие наши кри¬
тики, да и вообще писатели, не вполне отдают себе отчет,
в какой мере они обязаны Мережковскому тем, что ка¬
жется им их собственностью: перечитать старые книги
бывает полезно.
* * *
Однако это прошлое, это — история, исторические
заслуги.
Влияние Мережковского, при всей его внешней значи¬
тельности, осталось внутренно ограниченным. Его мало
любили, мало кто за всю его долгую жизнь был и близок
к нему. Было признание, но не было порыва, влечения,
даже доверия,— в высоком, конечно, отнюдь не житей¬
ском смысле этого понятия.
Мережковский — писатель одинокий.
Трудно найти другое слово, которое отчетливее выра¬
зило бы существеннейшие его черты и положение его в
русской словесности. Было во внутреннем облике Мереж¬
ковского что-то такое печальное, холодное и, вместе с
тем, отстраняющее, что рано или поздно пустота вокруг
него должна была образоваться. Да, влияние он имел в
начале века огромное. Роль играл самую видную. Но ни
влияние, ни роль не исключили одиночества. Одиночес¬
тво было глубже. Оно могло и до старости Мережковско¬
го прекрасно уживаться с какими угодно спорами, сооб¬
ражениями, выступлениями, речами, полемиками.
Взглянешь, бывало, со стороны,— как будто активней¬
шая деятельность. Вслушаешься в тон слов, написанных
или сказанных, все равно,— и срйзу чувствуешь, как все
это прирожденно, органически непоправимо «вне»...
Нелегко определить, вне чего. Естественно было бы ска¬
зать «вне жизни», но как некогда было спрошено «что
есть истина?», так можно спросить себя: «что есть
жизнь?» Разве то, что так явно волновало Мережковско¬
го — не жизнь? Разве жизнь — это только какие-нибудь
желтые пеленки Наташи Ростовой, а все эти догадки,
намеки, воспоминания, пророчества и обещания, хотя бы
и самые отвлеченные,— нечто другое?
Нет, оставим в покое расплывчатое, все покрывающее
154
понятие о жизни. Но если случайно вспомнился Толстой,
то на примере его можно кое-что пояснить... Толстой, в
самом деле, менее, чем кто бы то ни было,— «вне». Тол¬
стой всегда и во всем — со всеми людьми. Мережковс¬
кий — единственный из больших русских писателей пос¬
леднего времени, полностью обошедшийся в своем духов¬
ном развитии без Толстого. У других — отчужденность
обманчива, поверхностна. При жизни Блока, например,
могло бы показаться парадоксальным утверждение пря¬
мой зависимости «декадентского» поэта от Толстого, и
Толстой, конечно, расхохотался бы над «Ночными часа¬
ми», как хохотал над Бодлером и Ибсеном. Но нравствен¬
ная преемственность очевидна — и уже скорее поверхнос¬
тна связь Блока с Владимиром Соловьевым. В разных
формах зависимость от Толстого можно обнаружить, при
сколько-нибудь пристальном внимании, почти у всех,
только не у Мережковского. Здесь — несомненный раз¬
рыв, и даже не разрыв, а какое-то постоянное игнориро¬
вание, переходящее в глухую вражду. Нередко, когда
читаешь Мережковского, кажется, что он именно с Тол¬
стым спорит, как бы ни был далек от него, и именно с
ним сводит какие-то давние, скрытые счеты.
Кстати: замечательный рассказ о посещении Мереж¬
ковским Ясной Поляны,— рассказ, который я слышал
несколько раз от 3. Н. Гиппиус. По-видимому, сцена эта
врезалась ей в память.
Толстой вечером, после общей беседы, поклонившись
гостям и пожелав им спокойной ночи, остановился в
дверях, и вполоборота, пристально и внимательно, свои¬
ми пронизывающими, глубоко запавшими глазами пог¬
лядел на Мережковского. «Мне даже сделалось жутко,—
вспоминала Зинаида Николаевна.— Чего это он на Дмит¬
рия так смотрит?»
Позволю себе догадку: Толстой смотрел на Мережков¬
ского с любопытством, как жадный, ненасытный худож¬
ник, встретивший что-то такое, чего до тех пор видеть
ему не приходилось. Безотчетно он, может быть, уже и
подыскивал слова, эпитеты: «Как бы его получше опи¬
сать». В гениальной своей обычности, как удесятерен¬
ный в жизненной силе средний человек, он изучал ред¬
кое исключение, чувствуя, вероятно, неодолимую, ти¬
хую, упорную в нем вражду. Не могло быть иначе, по
глубокой розни натур. Приблизительно то же изображе¬
но на какой-то старинной гравюре, где встречается день
с ночью.
165
* * *
С Мережковским можно было говорить о чем угодно.
О неизбежности войны, о последней статье Милюкова, о
большевиках или Гитлере, о том, поняли ли французские
трагические поэты греков и устарел ли Чаадаев... Беседа
неизменно находилась на известном, довольно высоком
уровне, и люди в общении с ним незаметно для самих
себя «подтягивались». Предметы же бесед бывали самые
различные.
Однако, если разговор был действительно оживлен,
если было в нем напряжение, рано или поздно сбивался
он на единую, постоянную тему Мережковского — на
смысл и значение Евангелия. Пока слово это не было еще
произнесено, спор оставался поверхностным, и собесед¬
ники чувствовали, что играют в прятки.
Мережковский, конечно, думал о Евангелии всю жизнь
и шел к «Иисусу Неизвестному» через все свои прежние
построения и увлечения, издалека глядя в него, как в за¬
вершение и цель. Иногда бывали зигзаги, со стороны не со¬
всем понятные,— нппример, один из его последних зигза¬
гов: наполеоновский,— но в сознании Мережковского они
едва ли были отклонениями. Наоборот, все должно было
внести ясность в единственно важную тему и подготовить
рассказ и размышление о том, что произошло в Палестине
девятнадцать столетий тому назад. Нет писателя, который
был бы больше однодумом, чем он. Ему не приходилось ни
обуздывать себя, ни бороться с «впечатлениями бытия»:
жизнь для него — не то, что есть, а то, что должно быть. Он
готов был бы повторить: «тем хуже для фактов», если бы
нашел что-либо не укладывающееся в его схематически-
стройные — что-то уж слишкос стройные! — исторические
догадки. Да он и видел лишь то, что к схемам его подходи¬
ло, так что недоразумений или трудностей не возникало.
Удивительно в его отношении к Евангелию, в его истол¬
ковании Евангелия то, что он лишает эту книгу ее человеч¬
ности. Не случайно, вероятно, в его «Иисусе Неизвестном»
с такой щедростью разбросаны реалистические подробнос¬
ти: это — уступка, подачка, может быть, даже хитрость.
Мережковскому нужно затушевать основные черты своего
замысла, и он вводит в рассказ житейский колорит, чтобы
не так пронзителен был идущий от всего сочинения холо¬
док. Кажется на первый взгляд, что близость к людям
сохранена, даже подчеркнута. Но Евангелие больше не за
что любить, несмотря на декоративные «одуванчики у ног»
156
и прочие украшения. Евангелие перенесено туда же, в
какое-то недоступное «вне», и даже догмат спасения про¬
возглашен с тех же высот не столько как обещание, сколь¬
ко как непреложный, обязательный приговор. Еще бы
немного, и может захотеться «вернуть билет» христианст¬
ву,— если только действительно это и есть христианство!
«Что я делал на земле? Читал Евангелие». Это одно из
тех признаний Мережковского — в «Иисусе Неизвест¬
ном» — где особенно верно и точно он выразил самого
себя, свои творческий склад и тон. <...>
* * *
В этих заметках нет претензии ни на систематичность,
ни на полноту, как нет в них и сколько-нибудь закончен¬
ной характеристики Мережковского.
Было бы, однако, ошибкой остановиться на разногла¬
сиях, поставить после них точку, не сказав ни о чем
другом, более общем, трудно поддающемся точному опре¬
делению. Должен добавить, что это «общее» сложилось в
моей памяти скорей под впечатлением от встреч и разго¬
воров с Мережковским, чем от его книг. В давних его
книгах было, конечно, много ценного, хотя и относятся
они к области «исторических заслуг». В книгах эмигран¬
тского периода ценного меньше, и самое стремление
Мережковского соединить в них науку с красотами поэ¬
зии не удовлетворит ни подлинных ученых, ни сколько-
нибудь требовательных поэтов...
Но человек он был удивительный, совершенно не по¬
хожий на других людей, внутренне обособленный, стран¬
ный до крайности,— чем, конечно, и было вызвано его
одиночество. Случалось с ним мысленно, безмолвно — не
только устно или печатно — спорить, случалось даже
негодовать на него, обещать самому себе расстаться с ним
«вечным расставаньем»... Много было на это причин,
помимо тех, которых я только что коснулся. Но потом
случалось и спохватываться, самого себя упрекать: было
все-таки в Мережковском что-то подкупающее и нельзя
было этого не чувствовать!
До старости он пронес, может быть, сберег от «дека¬
дентства», которое оттого-то и пришлось ему по вкусу,—
брезгливость к оплотнению, к «ожирению» души, ин¬
стинктивную враждебность к грубоватой житейской без¬
заботности, острый слух ко всему тому, что расплывчато,
167
в ницшевском смысле слова можно назвать музыкой. Ме¬
режковский по некоторым своим чертам был очень рус¬
ским человеком. Но был он и безотчетно непримирим к
некоторым чертам,— увы! тоже типично русским: помню,
когда-то раскрыл он книгу, стал читать вслух что-то в
таком приблизительно стиле: «Ну, батенька-с, хлопнем-ка
еще по одной... с селедочкой-то, а?» и отшвырнул книгу с
дрожью внезапного отвращения. Его «анти-батенькин»
внутренний склад был так очевиден, что наши отечествен¬
ные рубахи-парни и души нараспашку всех типов неизмен¬
но шарахались от него, как от огня. Однажды Мережков¬
ский с явным сочувствием сказал о Чаадаеве, что это был
первый русский эмигрант,— очень метко, очень глубоко!
Но эмигрантом прирожденным был-то, в сущности, и он
сам, потому что — независимо от политического строя —
было всегда ему в России как-то неуютно и страшновато,
а если где и дышалось ему легко, то лишь в Петербурге,
куда не все неискоренимо русское, в «батенькиной» духов¬
ной тональности, и доходило.
Но это-то в нем и прельщало. Блок, человек, видев¬
ший все недостатки Мережковского, но — в отличие от
Андрея Белого — человек твердый, верный, без лукавст¬
ва и готовности кого угодно высмеять,— записал в днев¬
нике, что после одного собрания ему хотелось поцеловать
Мережковскому руку: за то, что он царь «над всеми
Адриановыми». Запись эту нетрудно расшифровать,—
потому что многим из знавших Мережковского хотелось
иногда тоже поклониться ему и поблагодарить. За что? Не
только за прошлое. За пример органически музыкального
восприятия литературы и жизни. За стойкость в защите
музыки. За постоянный, безмолвный упрек обыденщине и
обывательщине, в какой бы форме они ни проявлялись. За
внимание к тому, что одно только и достойно внимания, за
интерес к тому, чем только и стоит интересоваться. За
рассеянность к пустякам, за постепенное, неизменное увя¬
дание в обществе, которое пустяками бывало занято. За
грусть, наконец, которая «чище и прекраснее веселья» и
все собой облагораживает.
Слова как будто неясные. Но то, что было в Мережков¬
ском лучшего — и что почувствовал Блок,— не вполне
ясно тоже. Формальная точность выражений могла бы
оказаться в воспоминаниях о нем обманчивой и увести от
него совсем далеко.
1955
КОНСТАНТИН
БАЛЬМОНТ
1867—1942
Константин Дмитриевич Бальмонт (1867—1942) родился в
деревне Гумнищи Владимирской губернии в семье земского деяте¬
ля и через всю жизнь пронес любовь к «печальной красоте» сред¬
нерусской природы.
В литературу Бальмонт был «рукоположен» Короленко, кото¬
рый принял участие в судьбе молодого поэта. Первый «Сборник
стихотворений» Бальмонта был выпущен на средства автора в 1890
году в Ярославле. К символизму обратился после встречи с Брю¬
совым в 1894 году, вскоре став одной из центральных фигур этого
направления. В сборниках «Под северным небом», «В безбрежно¬
сти», «Тишина» наметились основные мотивы лирики Бальмонта
(неприятие внешнего мира, меланхолическая скорбь, томление по
смерти и, одновременно, возвеличение любви, природы, естествен¬
ных основ земного бытия). Творчество Бальмонта отличает мощ¬
ная музыкальность и звуковая оркестровка стиха. Характер лири¬
ческого героя поэта изменчив, он склонен к пессимизму и культу
мимолетности. Будучи скорее преддверием, нежели воплощением
русского символизма, ранняя поэзия Бальмонта отчетливо имп¬
рессионистична. В ней царит дух импровизации и психологичес¬
кая подвижность, беглость, зыбкость.
В начале нового столетия Бальмонт испытывает огромный
творческий подъем. В 1900 году в Москве выходит его сборник
«Горящие здания. (Лирика современной души)», пронизанный
жизнеутверждающим бунтарским духом и выдержанный в ярких
мажорных красках. Сборник «Будем как Солнце (М., 1903) упро¬
чил громкую славу поэта — он до поры становится поэтическим
кумиром России. Блок назвал сборник «Будем как Солнце» —
«книгой, единственной в своем роде по безмерному богатству».
Начиная с 1906 года Бальмонт постоянно живет за границей.
Страстный путешественник, он объехал многие страны и конти¬
ненты. Впечатления от увиденного отразились в его творчестве.
Параллельно в поэзии Бальмонта обостряется национально-фоль¬
клорная тема, он увлеченно погружается в славянскую ритуально¬
магическую старину. Ему близка «первичность и самобытность»
древнего искусства не только русского народа, но и всего мирово¬
го пантеона.
В 1913 году поэт временно возвращается на родину, где, пона¬
чалу восторженно встреченный поклонниками, вскоре утрачивает
былую популярность. Не приняв Октябрьскую революцию и про¬
летарскую диктатуру, он в 1920 году покидает Россию, как ему
казалось на время, а получилось — навсегда.
Поэт с болезненной тоской переживал свою оторванность от
родины. Нищий, полузабытый и измученный душевной болезнью
Бальмонт в 1942 году умирает в приюте «Русский дом», располо¬
женном в одном из парижских пригородов.
Изд.: Стихотворения. Л., 1969; Избранное. Стихотворения.
Переводы. Статьи. М., 1980.
160
ДУХИ ЧУМЫ
Мы спешм, мы плывем
На могучей волне,
Незнакомы со сном,
Но всегда в полусне.
Слезы жен и детей
Не заметит наш глаз,
И где смерть для людей —
Та отрада для нас.
Нашей властью звучат
Панихиды в церквах,
В двери к людям стучат
Смерть, и гибель, и страх.
Между вешних листов —
Символ сгибнувших сил —
Миллионы крестов,
Миллионы могил.
Любо нежную мать
Умертвить, погубить;
Мы не можем ласкать,
Не умеем любить.
В эти дни, как и встарь,
Каждый миг, каждый час
Лучший дар на алтарь
Жизнь приносит для нас.
И спешим, и плывем
Мы в ночном тишине,
Незнакомы со сном,
Но всегда в полусне.
6 Серебрений век
161
ЧЕЛН ТОМЛЕНЬЯ
Князю А. И. Урусову
Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется
Чуждый чарам черный челн.
Чуждый чистым чарам счастья,
Челн томленья, челн тревог
Бросил берег, бьется с бурей,
Ищет светлых снов чертог.
Мчится взморьем, мчится морем,
Отдаваясь воле волн.
Месяц матовый взирает,
Месяц горькой грусти поли.
Умер ветер. Ночь чернеет.
Ропщет море. Мрак растет.
Челн томленья тьмой охвачен.
Буря воет в бездне вод.
ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ
Ландыши, лютики. Ласки любовные.
Ласточки лепет. Лобзанье лучей.
Лес зеленеющий. Луг расцветающий.
Светлый свободный журчащий ручей.
162
День догорает. Закат загорается.
Шепотом, ропотом рощи полны.
Новый восторг воскресает для жителей
Сказочной светлой свободной страны.
Ветра вечернего вздох замирающий.
Полной луны переменчивый лик.
Радость безумная. Грусть непонятная.
Миг невозможного. Счастия миг.
В СТОЛИЦЕ
Свежий запах душистого сена мне напомнил далекие
дни,
Невозвратного светлого детства предо мной загорелись
огни;
Предо мною воскресло то время, когда мир я безгрешно
любил,
Когда не был еще человеком, но когда уже богом я
был.
Мне снятся родные луга,
И звонкая песня косца,
Зеленого сена стога,
Веселье и смех без конца.
Июльского дня красота.
Зарница июльских ночей.
И детского сердца мечта
В сияньи нездешних лучей.
Протяжное пенье стрекоз,
Чуть слышные всплески реки,
Роптание лип и берез,
В полуночной тьме светляки.
И все, что в родной стороне
Меня озарило на миг,
Теперь пробудило во мне
Печали певучий родник.
в*
163
И зачем истомленною грудью я вдыхаю живой
аромат,
Вспоминая луга с их раздольем и забытый запущенный
сад?
Свежий запах душистого сена только болью терзает
меня:
Он мне душною ночью напомнил отлетевшие радости
дня.
ГРУСТЬ
Внемля ветру, тополь гнется, с неба дождь осенний
льется,
Надо мною раздается мерный стук часов стенных;
Мне никто не улыбнется, и тревожно сердце бьется,
И из уст невольно рвется монотонный грустный стих;
И как тихий дальний топот, за окном я слышу ропот,
Непонятный странный шепот — шепот капель
дождевых.
Отчего так ветру скучно? Плачет, ноет он докучно,—
И в ответ ему стозвучно капли бьются и бегут;
Я внемлю, мне так же скучно, грусть со мною
неразлучна,
Равномерно, однозвучно рифмы стройные текут;
В эту пору непогоды, под унылый плач природы,
Дни, мгновенья,' точно годы — годы медленно идут.
* * к
В поле искрилась роса,
В небесах царил покой.
Молодые голоса
Звонко пели за рекой.
Но меж тем как песни звук
Озарял немую даль,
Точно тень, бродила вкруг
Неутешная печаль.
164
И скорбя о трудном дне,
Где-то дух страдал людской,
Кто-то плакал в тишине
С бесконечною тоской.
СМЕРТЬ
Сонет
Суровый призрак, демон, дух всесильный,
Владыка всех пространств и всех времен,
Нет дня, чтоб жатвы ты не снял обильной,
Нет битвы, где бы ты не брал знамен.
Ты шлешь очам бессонным сон могильный;
Несчастному, кто к пыткам присужден,
Как вольный ветер, шепчешь в келье пыльной,
И свет даришь тому, кто тьмой стеснен.
Ты всем несешь свой дар успокоенья,
И даже тем, кто суетной душой
Исполнен дерзновенного сомненья.
К тебе, о царь, владыка, дух забвенья,
Из бездны зол несется возглас мой:
Приди. Я жду. Я жажду примиренья!
* * *
Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
166
И чем выше я шел, тем ясней рисовались,
Тем ясней рисовались очертанья вдали,
И какие-то звуки вокруг раздавались,
Вкруг меня раздавались от Небес и Земли.
Чем я выше всходил, тем светлее сверкали,
Тем светлее сверкали выси дремлющих гор,
И сияньем прощальным как будто ласкали,
Словно нежно ласкали отуманенный взор.
А внизу подо мною уж ночь наступила,
Уже ночь наступила для уснувшей Земли,
Для меня же блистало дневное светило,
Огневое светило догорало вдали.
Я узнал, как ловить уходящие тени,
Уходящие тени потускневшего дня,
И все выше я шел, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
(1894)
ЧАЙКА
Чайка, серая чайка с печальными криками носится
Над холодной пучиной морской.
И откуда примчалась? Зачем? Почему ее жалобы
Так полны безграничной тоской?
Бесконечная даль. Неприветное небо нахмурилось.
Закурчавилась пена седая на гребне волны.
Плачет северный ветер, и чайка рыдает, безумная,
Бесприютная чайка из дальней страны.
<1894>
166
ЛЕСНЫЕ ТРАВЫ
Я люблю лесные травы
Ароматные,
Поцелуи и забавы
Невозвратные.
Колокольные призывы
Отдаленные,
Над ручьем уснувшим ивы
Полусонные.
Очертанья лиц мелькнувших
Неизвестные,
Тени сказок обманувших
Бестелесные.
Все, чТо манит и обманет
Нас загадкою
И навеки сердце ранит
Тайной сладкою.
ВЛАГА
С лодки скользнуло весло.
Ласково млеет прохлада.
«Милый! Мой милый!» —Светло
Сладко от беглого взгляда.
Лебедь уплыл в полумглу,
Вдаль, под луною белея.
Ластятся волны к веслу,
Ластится к влаге лилея.
Слухом невольно ловлю
Лепет зеркального лона.
«Милый! Мой милый! Люблю!..»
Полночь глядит с небосклона.
<1899>
167
КИНЖАЛЬНЫЕ СЛОВА
I will speak daggers.
Hamlet*
Я устал от нежных слов,
От восторгов этих цельных
Гармонических пиров
И напевов колыбельных.
Я хочу порвать лазурь
Успокоенных мечтаний.
Я хочу горящих зданий,
Я хочу кричащих бурь!
Упоение покоя —
Усыпление ума.
Пусть же вспыхнет море зноя,
Пусть же в сердце дрогнет тьма.
Я хочу иных бряцаний
Для моих иных пиров.
Я хочу кинжальных слов
И предсмертных восклицаний!
<1899>
ПРОПОВЕДНИКАМ
Сонет
Есть много струй в подлунном этом мире,
Ключи поют в пещерах, где темно,
Звеня, как дух, на семиструнной лире,
О том, что духам пенье суждено.
* Я буду говорить резко (дословно: «Я буду говорить кинжалами»).—
Гамлет (англ.).
168
Нам в звонах — наслаждение одно,
Мы духи струн мирских на шумном пире,
Но вам, врагам, понять нас не дано,
Для рек в разливе надо русла шире.
Жрецы элементарных теорем,
Проповедей вы ждете от поэта?
Я проповедь скажу на благо света —
Не скукой слов, давно известных всем,
А звучной полногласностью сонета,
Не найденной пока еще никем!
<1899>
ПРИДОРОЖНЫЕ ТРАВЫ
Спите, полумертвые увядшие цветы,
Так и не узнавшие расцвета красоты,
Близ путей заезженных взращенные творцом,
Смятые невидевшим тяжелым колесом.
В час, когда все празднуют рождение весны,
В час, когда сбываются несбыточные сны,
Всем дано безумствовать, лишь вам одним нельзя,
Возле вас раскинулась заклятая стезя.
Вот, полуизломаны, лежите вы в пыли,
Вы, что в небо дальнее светло глядеть могли,
Вы, что встретить счастие могли бы, как и все,
В женственной, в нетронутой, в девической красе.
Спите же, взглянувшие на страшный, пыльный путь,
Вашим равным — царствовать, а вам — навек уснуть.
Богом обделенные на празднике мечты,
Спите, не видавшие расцвета красоты.
Май 1900.
Биарриц
169
СВЯТОЙ ГЕОРГИИ
Святой Георгий, убив Дракона,
Взглянул печально вокруг себя.
Не мог он слышать глухого стона,
Не мог быть светлым — лишь свет любя.
Он с легким сердцем, во имя Бога,
Копье наметил и поднял щит.
Но мыслей встало так много, много —
И он, сразивши, сражен, молчит.
И конь святого своим копытом
Ударил гневно о край пути.
Сюда он прибыл путем избитым.
Куда отсюда? Куда идти?
Святой Георгий, святой Георгий,
И ты изведал свой высший час!
Пред сильным Змием ты был в восторге,
Пред мертвым Змием ты вдруг погас!
<1900>
БЕЗГЛАГОЛЬНОСТЬ
Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали.
Приди на рассвете на склон косогора,—
Над зябкой рекою дымится прохлада,
Чернеет громада застывшего бора,
И сердцу так больно, и сердце не радо.
Недвижный камыш. Не трепещет осока.
Глубокая тишь. Безглагольность покоя.
Луга убегают далеко-далеко.
Во всем утомленье — глухое, немое.
170
Войди на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада,—
Деревья так сумрачно-странно-безмолвны,
И сердцу так грустно, и сердце не радо.
Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно.
И сердце простило, но сердце застыло,
И плачет, и плачет, и плачет невольно.
<1900>
* * *
Я — изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты — предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.
Я — внезапный излом,
Я — играющий гром,
Я — прозрачный ручей
Я — для всех и ничей.
Переплеск многопенный, разорванно-слитный,
Самоцветные камни земли самобытной,
Переклички лесные зеленого мая —
Все пойму, все возьму, у других отнимая.
Вечно юный, как сон,
Сильный тем, что влюблен
И в себя и в других,
Я — изысканный стих.
<1901>
171
ИЗ ЦИКЛА «ЧЕТВЕРОГЛАСИЕ СТИХИЙ»
* * *
Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце
И синий кругозор.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце
И выси гор. '
Я в этот мир пришел, чтоб видеть море
И пышный цвет долин.
Я заключил миры в едином взоре,
Я властелин.
Я победил холодное-забвенье,
Создав мечту мою.
Я каждый миг исполнен откровенья,
Всегда пою.
Мою мечту страданья пробудили,
Но я любим за то.
Кто равен мне в моей певучей силе?
Никто, никто.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце,
А если день погас,
Я буду петь... Я буду петь о солнце
В предсмертный час!
<1902>
ТИШЕ, ТИШЕ
Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды,
Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый
свет.
У развенчанных великих, как и прежде, горды вежды,
И слагатель вещих песен был поэт и есть поэт.
172
Победитель благородный с побежденным будет ровен.
С ним заносчив только низкий, с ним жесток один
дикарь.
Будь в раскате бранных кликов ясновзорен,
хладнокровен
И тогда тебе скажу я, что в тебе мудрец — и царь.
Дети Солнца, не забудьте голос меркнущего брата,
Я люблю в вас ваше утро, вашу смелость и мечты,
Но и к вам придет мгновенье охлажденья и заката,—
В первый миг и в миг последний будьте, будьте как
цветы.
Расцветайте, отцветайте многоцветно, полновластно.
Раскрывайте все богатство ваших скрытых юных сил,
Но в расцвете не забудьте, что и смерть, как жизнь,
прекрасна,
И что царственно величье холодеющих могил.
<1903>
* * *
Мои проклятия — обратный лик любви,
В них тайно слышится восторг благословенья.
И ненависть моя спешит, чрез утоленье,
Опять, приняв любовь, зажечь пожар в крови.
Я прокляну тебя за низость обмеленья,
Но радостно мне знать, что мелкая река,
Приняв мой снег и лед, вновь будет глубока,
Когда огонь весны создаст лучи и пенье.
Когда душа в цепях, в душе кричит тоска,
И сердцу хочется к безбрежному приволью.
Чтоб разбудить раба, его я раню болью,
Хоть я душой нежней речного тростника.
Чу, песня пронеслась по вольному раздолью,
Безумный плеск волны, исполненной любви,
Как будто слышен звон: «Живи! Живи! Живи!» —
То льды светло звенят, отдавшись водополью.
<1903>
173
ЧЕЛОВЕЧКИ
Человечек современный, низкорослый, слабосильный,
Мелкий собственник, законник, лицемерный
семьянин,
Весь трусливый, весь двуличный, косодушный,
щепетильный,
Вся душа его, душонка — точно из морщин.
Вечно должен и не должен, то — нельзя, а это —
можно,
Брак законный, спрос и купля, облик сонный, гроб
сердец.
Можешь карты, можешь мысли передернуть —
осторожно,
Явно грабить неразумно, но — стриги овец.
Монотонный, односложный, как напевы людоеда:
Тот упорно две-три ноты тянет-тянет без конца,
Зверь несчастный, существует от обеда до обеда,
Чтоб поесть — жену убьет он, умертвит отца.
Этот ту же песню тянет,— только он ведь
просвещенный.
Он оформит, он запишет, дверь запрет он на крючок.
Бледноумный, сыщик вольных, немочь сердца, евнух
сонный,
О, когда б ты, миллионный, вдруг исчезнуть мог!
<1904>
КАК Я ПИШУ СТИХИ
Рождается внезапная строка,
За ней встает немедленно другая,
Мелькает третья, ей издалека
Четвертая смеется, набегая.
174
И пятая, и после, и потом,
Откуда, сколько — я и сам не знаю,
Но я не размышляю над стихом
И, право, никогда — не сочиняю.
<1905>
<НА СМЕРТЬ М. А. ЛОХВИЦКОЙ>
О, какая тоска, что в предсмертной тиши
Я не слышал дыханья певучей души,
Что я не был с тобой, что я не был с тобой,
Что одна ты ушла в океан голубой.
17 сентября 1905
НАШ ЦАРЬ
Наш царь — Мукден, наш царь — Цусима,
Наш царь — кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму — темно.
Наш царь — убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь-висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет,— час расплаты ждет.
Кто начал царствовать Ходынкой,
Тот кончит, встав на эшафот.
<1906>
176
ПЕРУН
У Перуна рост могучий,
Лик приятный, ус златой,
Он владеет влажной тучей,
Словно девой молодой.
У Перуна мысли быстры,
Что захочет — так сейчас.
Сыплет искры, мечет искры
Из зрачков сверкнувших глаз.
У Перуна знойны страсти,
Но, достигнув своего,
Что любил он — рвет на части,
Тучу сжег — и нет его.
<1907>
ПРЕКРАСНЕЙ ЕГИПТА
Прекрасней Египта наш Север.
Колодец. Ведерко звенит.
Качается сладостный клевер.
Горит в высоте хризолит.
А яркий рубин сарафана
Призывнее всех пирамид.
А речка под кровлей тумана...
О, сердце! Как сердце болит!
<1911>
АЛЫЧА
Цветок тысячекратный, древо-цвет,
Без листьев сонм расцветов белоснежных,
Несчетнолепестковый бледносвет,
Рой мотыльков — застывших, лунных, нежных.
176
Под пламенем полдневного луча,
На склоне гор, увенчанных снегами,
Белеет над Курою алыча,
Всю Грузию окутала цветами.
Апрель 1914. Тифлис
* * *
Для чего звучишь ты, рог пастуший?
Или разбрелись твои стада?
Дымны дали, степи, глуби, глуши,
Бродит — ах, должна бродить! — беда.
Для чего поешь ты, заунывный?
Душу манишь, мучаешь — зачем?
Я, как ты, был звонкий и призывный,
Но в немой пустыне стал я нем.
Не сдержать травинке ветра в поле,
Не удержит бурю малый цвет.
Мы в неволе видим сон о воле,
Но на воле в вольном воли нет.
Для чего ж ты плачешь, звон свирели?
Будем верить в то, что впереди.
Нужно спать. Все птицы песню спели.
Рог пастуший, сердце не буди.
12 декабря 1917
177
ЧЕРКЕШЕНКЕ
Я тебя сравнить хотел бы с нежной ивою плакучей,
Что склоняет ветви к влаге, словно слыша звон
созвучии.
Я тебя сравнить хотел бы с юным тополем, который,
Весь смолистый, в легкой зыби к небесам уводит
взоры.
Я тебя сравнить хотел бы, видя эту поступь, дева,
С тонкой лилией, что стебель клонит вправо, клонит
влево.
Я тебя сравнить хотел бы с той индусской баядерой,
Что сейчас-сейчас запляшет, чувства меря звездной
мерой.
Я тебя сравнить хотел бы... Но игра сравнений
тленна,
Ибо слишком очевидно: ты средь женщин
несравненна...
28 июля 1919
Ново-Гиреево
ОСЕНЬ
Я кликнул в поле. Глухое поле
Перекликалось со мной на воле.
А в выси мчались, своей долиной,
Полет гусиный и журавлиный.
Там кто-то сильный, ударя в бубны,
Раскинул свисты и голос трубный.
И кто-то светлый раздвинул тучи,
Чтоб треугольник принять летучий.
178
Кричали птицы к своим пустыням,
Прощаясь с летом, серея в синем.
А я остался в осенней доле —
На сжатом, смятом, бесплодном поле.
<1923>
ЗДЕСЬ И ТАМ
Здесь гулкий Париж — и повторны погудки,
Хотя и на новый, но ведомый лад.
А там на черте бочагов — незабудки,
И в чаще — давнишний алкаемый клад.
Здесь вихри и рокоты слова и славы,
Но душами правит летучая мышь.
Там в пряном цветеньи болотные травы,
Безбрежное поле, бездонная тишь.
Здесь в близком и в точном — расчисленный разум,
Чуть глянут провалы—он шепчет: «Засыпь!»
Там стебли дурмана с их ядом и сглазом,
И стонет в болотах зловещая выпь.
Здесь вежливо холодны к Бесу и к Богу,
И путь по земным направляют звездам.
Молю тебя, Вышний, построй мне дорогу,
Чтоб быть мне хоть мертвым в желаемом Там.
<Конец 1920-х годов>
179
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Иннокентий Анненский
ИЗ СТАТЬИ «БАЛЬМОНТ-ЛИРИК»
Я остановлюсь на одном, по-моему, характерном при¬
мере нашего упорного нежелания понимать новое поэти¬
ческое слово.
В сборнике стихов К. Д. Бальмонта «Будем как солнце»
в отделе «Змеиный глаз» напечатана следующая пьеса:
Я — изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты — предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.
Я — внезапный излом,
Я — играющий гром,
Я — прозрачный ручей,
Я — для всех и ничей.
Переплеск многопенный, разорванно-слитный,
Самоцветные камни земли самобытной,
Переклички лесные зеленого мая —
Все пойму, все возьму, у других отнимая.
Вечно юный, как сон,
Сильный тем, что влюблен
И в себя и в других,
Я — изысканный стих.
Мне, кажется, не приходилось ни слышать, ни чи¬
тать, чтобы эта пьеса кому-нибудь понравилась,— я не
говорю, конечно, о представителях новой школы. Глум-
180
ление, намеки на манию величия, торжествующие улыб¬
ки по поводу уклонов, перепевности и грома, рифмую¬
щего с каким-то изломом,— все это en premier lieu*.
Между тем стихотворение ясно до прозрачности и
может показаться бредом величия разве тем людям, ко¬
торые не хотят видеть этой формы помешательства за
банальностью романтических формул.
Прежде всего объясним уклоны и перепевность. Ук¬
лон — превосходная метафора. Это значит мягкий, облег¬
ченный спуск — переход с одного плана в другой.
Перепевные, гневные, нежные звоны.
Уклон будет нарушен, если вы переставите второе и
третье слово строки.
Перепев — recantatio, чтобы не ходить за примерами
далеко.
Переплеск, перепевные звоны, переклички...
Все пойму, все возьму, у других отнимая...
Самоцветные камни земли самобытной...
Внезапный излом, т. е. молния, вполне на месте перед
играющим громом. (Заметьте символику з и р — змеис¬
тости и раската.)
Но все это детали. Читатель, который еще в школе
затвердил «Exegi monument»**, готов бы был простить
поэту его гордое желание прославиться: все мы, люди,
все мы человеки, и кто не ловил себя на мимолетной
мечте... Но тут что-то совсем другое. Господин Бальмонт
ничего не требует и все забирает... По какому же праву?
Но, позвольте, может быть, я — это вовсе не сам
К. Д. Бальмонт под маской стиха. Как не он? Да разве
уклоны и перепевы не выписаны целиком в прозе преди¬
словия к «Горящим зданиям»? А это уж, как хотите,
улика. Разве что, может быть, надо разуметь здесь Баль¬
монта не единолично, а как Пифагора, с его коллегием.
Как бы то ни было, читатель смущен. А тут еще «все
другие поэты предтечи». Что за дерзость, подумаешь!..
Пушкин, Лермонтов?.. Но всего хуже эта невыносимая
для нашего смиренства открытая самовлюбленность.
* В первую очередь (фр.).
** Я памятник воздвиг (лат.).
181
Сильный тем, что влюблен
И в себя, и в других...
Зачем в себя?
Для людей, которые видят в поэзии не пассивное са¬
моуслаждение качанья на качелях, а своеобразную фор¬
му красоты, которую надо взять ею же возбужденным и
настроенным вниманием, я господина Бальмонта не лич¬
ное й не собирательное, а прежде всего наше я, только
сознанное и выраженное Бальмонтом.
Мне решительно все равно, первый ли Бальмонт отк¬
рыл перепевы и уклоны; для меня интересны в пьесе ин¬
туиция и откровение моей же души в творческом моменте,
которым мы все обязаны прозорливости и нежной музы¬
кальности лирического я Бальмонта. Важно прежде всего
то, что поэт слил здесь свое существо со стихом и что это
вовсе не квинтилиановское украшение,— а самое существо
новой поэзии. Стих не есть созданье поэта, он даже, если
хотите, не принадлежит поэту. Стих неотделим от лири¬
ческого я, это его связь с миром, его место в природе; может
быть, его оправдание. Я поэта проявило себя при этом
лишь тем, что сделало стих изысканно-красивым. Медлен¬
ность же изысканной речи уже не вполне ей принадлежит,
так как это ритм наших рек и майских закатов в степи.
Впрочем, изысканность в я поэта тоже ограничена нацио¬
нальным элементом и, может быть, даже в большей мере,
чем бы этого хотелось поэту: она переносит нас в златовер¬
хие палаты былинного Владимира, к тем заезжим молод¬
цам, каждое движение которых ведется по-писаному и по-
ученому, к щепетливому Чуриле, к затейливым наигры¬
шам скоморохов и к белизне лица Запавы, которую не
смеет обвеять и ветер. А разве не тот же призыв к изыскан¬
ности в пушкинском лозунге «Прекрасное должно быть
величаво» или лермонтовском фонтане и его медленных
шагах по лунно-блестящему и кремнистому пути? Разве
все это не та же изысканность, только еще не названная?
Зачем Бальмонт ее называл?.. Ну хорошо,— пускай изыс¬
канность, но зачем же вычура? «Переплеск много пенный,
разорванно-слитный». Не проще ли: море-горе, волны-чел¬
ны? Катись, как с горы. Да, поэт не называет моря, он не
навязывает нам моря во всей громоздкости понтийского
впечатления. Но зато в этих четырех словах символически
звучит таинственная связь между игрою волн и нашим я.
Многопенность — это налет жизни на тайне души, пере¬
плеск — беспокойная музыка творчества', а разорванная
182
слитность — наша невозможность отделить свое я от при¬
роды и рядом с этим его непрестанное стремление к само¬
бытности.
Далее. Стих поэта может быть для вас неясен, так как
поэт не обязан справляться со степенью вашего эстети¬
ческого развития. Но стих должен быть прозрачен, раз
он текуч, как ручей.
Он — ничей, потому что он никому и ничему не служит,
потому что исконно, по самой воздушности своей природы,
стих свободен и потому еще, что он есть никому не принад¬
лежащая и всеми созидаемая мысль, но он ни от кого не
прячется — он для всех, кто захочет его читать, петь,
учить, бранить или высмеивать — все равно. Стих это —
новое яркое слово, падающее в море вечно творимых.
Новый стих силен своей влюбленностью и в себя и в
других, причем самовлюбленность является здесь как бы
на смену классической гордости поэтов своими заслугами.
Что может быть искреннее признания в самовлюблен¬
ности и законнее самого чувства, без которого не могла
бы даже возникнуть лирическая поэзия, я уже не говорю
о ее романтической стадии, на которой мы все воспита¬
лись. Но зачем, видите ли, Бальмонт, не называл моря,
как все добрые люди, наоборот, называет то, что принято
у нас замалчивать. Хотя, конечно, Виктор Гюго...
Но стих влюблен и в других, т. е. он хочет слиться со
всем, что с ним одноприродно, что текуче, светло и звон¬
ко. Он все поймет и готов даже все отнять у других.
Вечно юный, как сон, он во всех переливах, переплесках
и перепевах хранит только свою неподчиняемость и изыс¬
канность.
Это последнее значит, что стих не только ничего нам
не навязывает, но и ничего не дает, потому что красоту
его, как клад, надо открыть, отыскать. Прежде, у тех, у
предтечей нашего стиха и нашего я, природа была объ¬
ектом, любимым существом, может быть, иногда даже
идолом. Они воспевали ее, они искали у нее сочувствия
и в ней отражения своего я.
Тиха украинская ночь...
Выхожу один я на дорогу...
Наш стих, хотя он, может быть, и не открывает новой
поэтической эры, но идет уже от бесповоротно -сознанно¬
го стремления символически стать самой природою, ото¬
бражая и плавные уклоны лебединых белоснежностей, и
188
все эти переплески ее жизней и желаний, и самобытность
камней, и все, что вечно обновляется, не переставая быть
сном; наконец, все, что сильно своей влюбленностью: не
любовью, с ее жертвами, тоской, упреками и отчаяньем,
а именно веселой и безоглядной влюбленностью в себя и
во всех; и при этом поэт не навязывает природе своего я,
он не думает, что красоты природы должны группиро¬
ваться вокруг этого я, а напротив, скрывает и как бы
растворяет это я во всех впечатлениях бытия.
Пьеса Бальмонта волшебно слила все пленившие стих
подвижности и блески, и поэт сумел сделать это без еди¬
ного разобщающего сравнения.
Наконец о размере. Изящно-медлительный анапест, не
стирая, все же несколько ослабляет резкость слова я, поэт
изысканно помещает его в тезис стопы. К тому же анапес¬
ты Бальмонта совершенно лишены в пьесе сурового ха¬
рактера трагических пародов, которые смягчались у гре¬
ков танцем,— и среди пестрого и гомонящего царства
переплесков, раскатов, перекличек и самоцветных ка¬
меньев стих, как душа поэта, храня свой ритм, движется
мерно и медленно меж граней, которые он сам же себе
изысканно начертал, по четырем аллеям своего прямоу¬
гольного сада, двум длинным и двум коротким.
1904
Николай Гумилев
ИЗ ПИСЕМ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Так недавно написанная и уже историческая книга.
Это выпадает на долю или очень хороших, или очень
дурных книг, и, конечно: «Только любовь» принадлежит
к первому разряду. По моему мнению, в ней глубже всего
отразился талант Бальмонта, гордый, как мысль евро¬
пейца, красочный, как южная сказка, и задумчивый, как
славянская душа. В ней он является тем Бальмонтом-
Арионом, которого по праву называли старинным не¬
жным именем сладкозвучного поэта. И читатели послед¬
них произведений Бальмонта (много ли их?) с грустью
перечтут эту страннопрекрасную, изысканную по мыс¬
лям и чувствам книгу, в которой, быть может, уже таят¬
ся зачатки позднейшего разложения — растления дев¬
ственного русского слова во имя его богатства. Есть что-
184
то махровое в певучести и образности этих стихов, но они
еще стыдливы, как девушка в миг своего падения. Баль¬
монт говорил: «Если к пропасти приду я, заглядевшись
на звезду, / Буду падать, не жалея, что на камни упаду».
Безмерно приблизился он к звезде чистой поэзии, и те¬
перь беспощадна стремительность его падения. «Только
любовь» завершила собой блистательное утро возрожде¬
ния русской поэзии. В то время только намечались фор¬
мулы новой жизни, литературы, соединенной с филосо¬
фией и религией, поэзии, как руководительницы наших
поступков. Приходилось проходить неизведанные доро¬
ги, вскрывать в своей душе потаенные миры и учиться
смотреть на уже известное взглядом новым и восторжен¬
ным, как в первый день творения. Бальмонт был одним
из первых и ненасытнейших открывателей, но не к земле
обетованной были прикованы его думы, он наслаждался
прелестью пути. Зато ничьи руки не срывали такие осле¬
пительные цветы, ни на чьих кудрях не отдыхали такие
золотистые пчелы. Казалось, над его музой были не влас¬
тны законы притяжения. И справедливо раньше всех
других «декадентов» он добился признанья и любви.
Но когда настало время созидательной работы, мечи
были перекованы в плуги и молоты, Бальмонт оказался
всем чужим. Наступило время великого заката.
И ничего не прибавляют к его славе те растерянные
блуждания по фольклорам всех стран и народов, которы¬
ми он занялся в последнее время. Было много разговоров
о том, воскреснет ли его талант, прежняя любовь к слову
и интуитивное понимание его законов. Решения этого
вопроса мы ждем от него самого.
1909
Корней Чуковский
ИЗ СТАТЬИ «К. БАЛЬМОНТ»
На минуту влюбился. На минуту сердишься. На мину¬
ту обрадовался.
Так среди грома и сверкания улицы движется душа
горожанина.
Бальмонт весь во власти этих движений. Всю быстро¬
ту и изменчивость восприятий, всю душевную подвиж-
185
ность, всю эластичность городских душ он первый отра¬
зил с такой полнотой в торопливой и капризной своей
поэзии: Бальмонт раньше всего тороплив. Часто он сла¬
вит минуты, мгновения, миги:
Я каждой минутой — сожжен,
Я в каждой измене — живу.
Разве это не признание горожанина? Стих Бальмонта
бежит и не дает вам опомниться; вы еле поспеваете за
ним, как провинциальный дядюшка за столичным пле¬
мянником:
Я — внезапный излом.
Я — играющий гром,
Я — прозрачный ручей,
Я — для всех и ничей.
Постоянная готовность к восприятию новых и новых
впечатлений, постоянная жадность к новым и новым
ощущениям — этого не знала душа деревенского челове¬
ка до его слияния с городской толпой. Только поэт, со¬
зданный городом, может так молитвенно славить мгнове¬
ние. <...> Лишь у поэта, созданного городом, может быть
столько, как у Бальмонта, гимнов «минуте», «мигу»,
«мгновению», «мимолетностям».
Я, как мягкий ковыль, как цветочная пыль,
Каждый миг и дышу, и дрожу.
<...> И, как бы ни недоумевал человек прежней куль¬
туры,— поэт, сказавший о себе:
Только мимолетности я влагаю в стих,
— поэт-горожанин, поэт-импрессионист имеет право при¬
гвоздить к своему стиху каждое мелькнувшее, пригре¬
зившееся ощущение, которое хоть на секунду показалось
ему верным и правдивым. <...>
По форме стихи Бальмонта — замечательное явление
в русской литературе.
Теперь они кажутся деланными и однообразными. Но
недавно, когда после Надсона и Апухтина, литературные
вкусы пали, и в русской поэзии, наподобие осенних мух,
вяло бродили такие безнадежные стихослагатели, как
Аполлон Коринфский, Иван Белоусов, Леонид Афанась¬
ев и множество других, не оставивших после себя ни
186
одного стиха, ни одного небанального чувства,— когда
после них вдруг затрещали и зав^льсировали бальмон¬
товские рифмы и послышались бальмонтовские разме¬
ры — поистине произошла литературная революция.
Свои стихи Бальмонт выпускает в люди так хорошо
одетыми, с такими великолепными манерами; они так
чудесно пляшут, они так изысканно вежливы; они так
забавны, находчивы, блестящи, что, право, иной раз за¬
бываешь спросить об этих ловких стихах:
— Да, полно, умны ли они? Глубоки ли они? Интерес¬
ны ли они сами по себе, вне манер, вне вальса, вне хоро¬
шего портного?
Можно ли спрашивать обо всем этом, когда тебе в
душу свободно и легко, как светские люди в гостиную,
входят такие нарядные стихи:
Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется
Чуждый чарам черный челн.
Чуждый чистым чарам счастья,
Челн томления, челн тревог.
Бросил берег, бьется с бурей,
Ищет светлых снов чертог.
Попробовал бы старый поэт подобрать столько звуков
В для передачи ветра, столько Ч для челна, столько Б для
бури. И пробовать бы не стал. Только город требует такой
♦ мишуры». Только городские поэты умеют заменять
красивый образ изящным выражением, оригинальную
мысль — оригинальной фразой, подкупать внешностью,
наружностью, осанкой.
С течением времени открылось еще одно свойство этих
городских стихов: они поверхностны. Как и все в горо¬
де,— слова подешевели; теперь через десять лет после
Бальмонта каждый пишет, как Бальмонт, и, что хуже
всего, Бальмонт пишет, как каждый. <...>
Итак, поверхностность чувства, торопливость образов,
изменчивость, хаотичность, безумие настроений, иллю¬
зионизм, ослепительность внешности, подделка красоты
красивостью — все эти черты принадлежат отнюдь не
Бальмонту, а всей городской поэзии, первым представи¬
телем которой он был.
Если же искать в его поэзии индивидуальных черт, то
нужно раньше всего отметить ее необычайную женствен¬
ность, нежность и пассивность ее, невзирая на все ♦кин-
187
жальные слова», которыми так излишне богат Бальмонт.
И еще черта: моложавость его поэзии. Лучшие его
вещи — такие торопливые, такие капризные, такие неог-
лядчивые,— могли быть созданы только юношей: Баль¬
монт и старость две вещи несовместные.
Это станет еще заметней, если рядом с ним поставить
его поэтического брата — Валерия Брюсова. Этого поэта
иначе и не помыслишь, как стариком,— даже старцем.
Так умудрен его осторожный стих, так отчеканены са¬
мые иллюзионистские его образы. Он, в противополож¬
ность Бальмонту,— мужское начало русской современ¬
ной поэзии, недаром эпос составляет сильнейшую его
сторону, в то время, как достояние Бальмонта — жен¬
ственная лирика.
1912
Илья Эренбург
ИЗ КНИГИ «ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ»
С Бальмонтом мне не повезло. Когда я начал писать
стихи, его книги мне казались откровением; я мечтал
когда-нибудь увидеть человека, написавшего «Я в этот
мир пришел, чтоб видеть солнце». Познакомился я с
Константином Дмитриевичем два года спустя; многое в
его стихах мне уже казалось смешным — я боготворил
Блока, читал Анненского, Сологуба, Гумилева, Мандель¬
штама. Бальмонт вовремя увидел солнце, а я опоздал на
Бальмонта.
Я познакомился с Константином Дмитриевичем в 1911
году; ему тогда было сорок четыре года. Я знал, что он
живет в Париже, и, разумеется, послал ему мою первую
книгу. Бальмонт был человеком чувств, жизнь его изоби¬
ловала случайностями, порой драматическими. Он, на¬
пример, дважды оказывался эмигрантом; если применять
обычные этикетки, в первый раз красным, во второй —
белым. После разгрома революции 1905 года Бальмонт
возмутился расправами, свистом нагаек, виселицами; он
издал за границей «Песни мстителя» — книгу с весьма
благородными чувствами и с весьма плохими стихами.
Он называл Николая Второго «кровавым палачом». Хотя
книга была на редкость слабой, царь рассердился, и Баль-
188
монту пришлось перейти на положение эмигранта. Толь¬
ко в 1913 году великий князь Константин (посредствен¬
ный стихотворец, подписывавшийся К. Р.) выпросил у
Николая амнистию Бальмонту.
Константин Дмитриевич жил на улице Пасси (впос¬
ледствии в этом районе обосновалась белая эмиграция). У
него часто бывали гости — и русские парижане, и приез¬
жие из России, и французы. Он пригласил меня. В тот
вечер я был единственным гостем. Жена Константина
Дмитриевича, высокая, красивая женщина, меня приня¬
ла сердечно, я сразу перестал стесняться, забыл, что пе¬
редо мной знаменитый поэт. Никуда я в гости не ходил,
бывал только в кафе или у художников в нетопленых
грязных мастерских, а здесь я попал в русский дом, теп¬
лый, светлый; меня напоили чаем; маленькая дочка Кон¬
стантина Дмитриевича, Ниника, шалила. Все было чу¬
десно и обыденно. Все, кроме внешности хозяина: Баль¬
монт был необычаен.
Парижан трудно удивить, но я не раз видел, как на
Бальмонта оглядывались, когда он проходил по бульвару
Сен-Жермен. В Москве в 1918 году люди хмуро шли с
кошелками, некоторые тащили салазки; было холодно,
голодно, и все же прохожие дивились: посередине мосто¬
вой шествовал рыжий чудак, с головой, поднятой к серо¬
му небу.
В молодости Бальмонт пытался кончить жизнь само¬
убийством — выбросился из окна; он повредил себе ногу
и всю жизнь слегка прихрамывал; шагал он быстро, и
казалось, что скачет птица, привыкшая скорее летать,
чем ходить.
У него было лицо то чрезвычайно бледное, то цвета
меди, зеленые глаза, рыжая бородка, рыжие волосы,
которые кудрями спадали на спину. Среди экскурсантов,
приезжавших в Париж, которых я обслуживал, был один
священник: заметив, что кто-то при виде его засмеялся,
он стал стыдливо прятать свои волосы под шляпу, зака¬
лывая их шпильками. А Бальмонт кудрями гордился. Он
походил на тропическую птицу, случайно залетевшую не
на ту широту.
Он вежливо предложил мне почитать стихи, говорил
♦ хорошо... хорошо» — вероятно, хотел приласкать моло¬
дого автора. Потом он встал и начал читать свои произ¬
ведения. Стихи на меня не произвели впечатления — на¬
чиналась эпоха его поэтического заката,— но я был пора¬
жен голосом, вдохновенным и высокомерным: он читал,
189
как шаман, знающий, что его слова имеют силу если не
над злым духом, то над бедными кочевниками. Он гово¬
рил на многих языках, на всех с акцентом — не с рус¬
ским, а с бальмонтовским; особенно своеобразно он про¬
износил звук »н» —не то по-французски, не то по-поль¬
ски. В стихах было много рифм с длинными ♦ н» —
♦священный», ♦вдохновенный», ♦презренный»,— и он их
тянул с явным удовольствием.
Иногда он звал меня к себе; я встречал у него москов¬
ских меценатов, французских переводчиков, восторжен¬
ных поклонниц.
В Париж приехал из Одессы молодой поэт Марк Та-
лов, говорил, что ему пришлось оставить родину, что у
него там невеста; он бедствовал; читал свои стихи:
Здесь я постиг всю горечь одиночества,
Здесь муки начинаются мои.
Нет у меня ни имени, ни отчества,
Ни родины, ни счастья, ни семьи.
Мы посмеивались, когда он повторял нам, что невеста
ждет его возвращения. (Он вернулся в Одессу десять лет
спустя, и невеста действительно его ждала.) Талову
очень хотелось прочитать свои стихи Бальмонту; я его
взял с собой, но он от смущения сбился и вместо стула
сел на горячую железную печку. Все рассмеялись, а
Бальмонт принялся хвалить стихи, которых он так и не
услышал.
Бальмонт то молчал, рассеянно глядя по сторонам, то
оживлялся, рассказывал про Египет, Мексику, Испанию.
Все страны в его рассказах выглядели фантастическими;
он изъездил, кажется, весь мир, но увидел при этом толь¬
ко одну страну, которой нет на карте, я назову ее Баль-
мо нтией.
Чехов о нем написал: ♦Он хорошо и выразительно
говорит, только когда бывает выпивши». Я часто встре¬
чал Константина Дмитриевича в кафе. После двух-трех
рюмок коньяку он действительно становился прекрас¬
ным рассказчиком; я видел то чопорных пансионных
хозяек Оксфорда, то колдуна с Явы, то Валерия Яков¬
левича Брюсова, увлекавшегося магией. Неизменно
Бальмонт повторял какой-то старинный грузинский за¬
говор, где речь шла о черном цвете. Унять его было не¬
возможно. Он кричал своей спутнице: ♦Я хочу уйти в
ночь! Елена, не противоборствуй!» Было в его облике
190
нечто величественное и жалкое, высокомерное и ребяч¬
ливое.
Его сравнивали с Верленом: алкоголь, музыка, дет¬
скость. Но Бальмонт, в отличие от «бедного Лелиана»,
был человеком высокообразованным; он прочитал мно¬
жество книг. Он переводил поэзию различных эпох, раз¬
личных стран: Шелли и Кальдерона, Руставели и Уитме¬
на, Леопарди и Словацкого, Блека и Гейне, Эдгара По и
Уайльда. Старые песни Египта и стихи Поля Фора в
переводе Бальмонта звучали одинаково. Как в любовных
стихах он восхищался не женщинами, которым посвя¬
щал стихи, а своим чувством,— так, переводя других
поэтов, он упивался тембром своего голоса.
Он любил грандиозное: горные вершины, пропасти,
океан. Художник Брак как-то сказал, что нужно уметь
линейкой проверять вдохновение; Бальмонту такие сло¬
ва показались бы мещанством — он жил оптом. Он писал
стихи с быстротой стенографистки. Он посвящал одну и
ту же книгу целой веренице лиц от «брата моих мечта¬
ний, поэта и волхва, Валерия Брюсова» до «Люси Савиц¬
кой, с душою вольной и прозрачной, как лесной ручей».
Вот любовные стихи в книге «Будем, как солнце»; одно
следует за другим, и все с именными посвящения¬
ми: «Бэле», «мисс Нэти», «Н. К. Мазинг», «графине
Е. В. Крейц», «княжне М. С. Урусовой», «Н...», «Р...»,
♦ Уличной испанке», «Марии Финн», «О. Н. Миткевич»,
«Дагни Кристенсен», «Люсе»...
В 1917 — 1918 годах я несколько раз встречал его в
Москве. Он оставался верен себе. Революция его сердила
своей настойчивостью: он не хотел, чтобы история вме¬
шивалась в его жизнь. Не раз он страстно влюблялся и
остывал, писал об этом в стихах. Он думал, что так же
легко может распроститься с эпохой: «Этим летом я
Россию разлюбил...» Однажды я прочитал ему мои сти¬
хи: о казни Пугачева, о расплате. Константин Дмитрие¬
вич сначала недовольно морщился, потом написал в моей
записной книжке:
Я слышал варварскую речь,
Молитву-крик и песню в лике стона.
Но не хочу тебя предостеречь.
Ты хочешь срыва? Мощь сладка уклона.
Будь варваром. Когда царит пожар,
Лишь варвар юн и смел.
Не прав лишь тот, кто стар.
191
Внизу дата — 28 декабря 1917 года. Три или четыре
года спустя он уехал в Париж и там решил, что прав
только он. Его политические стихи с проклятиями ре¬
волюции столь же беспомощны, как «Песни мстителя».
Он снова оказался эмигрантом, но уже не на несколько
лет, а пожизненно; бедствовал; припадки запоя уча¬
щались.
В 1934 году я его встретил на бульваре Монпарнас. Он
шел один, постаревший, в потертом пальто; по-прежнему
висели длинные кудри, но уже не рыжие, а белые. Он
узнал меня, поздоровался. «А мне говорили, что вы в’
России...» Я ответил, что недавно вернулся из Москвы.
Он оживился: «Скажите, меня там помнят, читают?» Мне
стало жаль его, я солгал: «Конечно помнят». Он улыбнул¬
ся и пошел дальше с высоко поднятой головой, бедный
низложенный король.
Большая советская энциклопедия посвящает «поэту-
декаденту» двадцать строк — столько же, сколько Бене¬
диктову, но за последним признаются некоторые досто¬
инства, за Бальмонтом — никаких. Молодые советские
читатели вряд ли знают, что существовал такой поэт, а
в начале XX века нельзя было найти студента, незнако¬
мого если не со стихами, то по меньшей мере со славой
Бальмонта. А. Волынский писал в 1902 году: «Бальмонт
пользуется, с теми или иными оговорками, всеобщим
признанием; несмотря на непопулярность в России дека¬
дентской поэзии, публика ловит и повторяет нежные,
легкие звуки его поэтических струн». Для символистов
он был учителем, мастером: им зачитывались в школь¬
ные годы Блок и Андрей Белый. Брюсов, подводя итоги
взлетам и падениям Бальмонта, говорил: «Бальмонт по¬
казал нам, как глубоко может лирика вскрывать тайны
человеческой души». Поэзию Бальмонта ценили и писа¬
тели, далекие от символистов, например Бунин. Трудно
представить себе человека, более чуждого несдержанной,
подчас великолепной, подчас ходульной поэзии Бальмон¬
та, нежели Чехов, но Антон Павлович писал «поэту-дека¬
денту»: «Вы знаете, я люблю Ваш талант, и каждая Ваша
книжка доставляет мне немало удовольствия и волне¬
ния. Это, быть может, оттого, что я консерватор». Горь¬
кий восторженно отзывался о Бальмонте, советовал ре¬
дакторам журналов печатать его стихи. Я помню, с ка¬
ким восхищением читал вслух стихи Бальмонта А. В. Лу¬
начарский. О Бальмонте писали сотни исследований, его
книги ежегодно переиздавались; на его лекции нельзя
192
было достать билета. Стоило поэту показаться в театре
или даже на улице, как его окружали неистовые поклон¬
ницы. Неужели все это было психозом, самообманом и
признание Горьким или Брюсовым таланта Бальмонта
можно объяснить тем, что читающая Россия разделяла
его «стремление укрыться от действительности» и его
восторг перед «варварством», как утверждает статья в
энциклопедии?
Я вспомнил Бенедиктова не только потому, что он был
знаменит и быстро подвергся общему забвению. Можно
сказать, что в своих неудачных произведениях Бальмонт
напоминает Бенедиктова — крикливостью, безвкусием.
Бальмонт мог, например, написать:
Хочу быть дерзким, хочу быть смелым.
Хочу одежды с тебя сорвать!..
(М. А. Волошин уверял, что одна акушерка ему при¬
слала «Ответ Бальмонту», в котором были строки:
Хочу быть твердой, хочу быть гордой,
Хочу мужчин к себе не подпускать!..)
Да, у Бальмонта сотни дурных стихов; он писал очень
много и все написанное печатал. Но из тридцати его книг
можно составить одну хорошую — это все же не Бенедик¬
тов. Да и кому нравился Бенедиктов? Невзыскательным
женам городничих. А Бальмонт многое изменил в русской
поэзии; достаточно перечитать такие его стихотворения,
как «Я изысканность русской медлительной речи...» или
«Есть в русской природе усталая нежность...». Судьба к
нему была на редкость несправедлива: им восхищались, а
потом мстили ему за то, что он восхищал. Утверждая себя
как мятежника, как выразителя современности, Бальмонт
был не только эгоцентриком, он был потрясающим анах¬
ронизмом. Он вошел в литературу с XX веком. Уже снова¬
ли по улицам машины, уже росли корпуса заводов, уже
шли грандиозные социальные битвы, а Бальмонт оставал¬
ся трубадуром XIV века, на котором был смешок современ¬
ный пиджак.
Когда футуристы пришли на литературный вечер и
начали громить устаревшего Бальмонта, Константин
Дмитриевич, откинув голову назад, прочитал свое старое
стихотворение:
7 Серебряный век
193
Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды,
Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет...
Приближалась величайшая буря, а запоздавший тру¬
бадур обращался к первому порыву ветра с наивной про¬
сьбой — быть зефиром. Он столько книг прочитал и все-
так и не понял, что древних идолов не только быстро
раздевают, их преспокойно жгут. Пожалуй, в этом был
еще больший анахронизм, чем в локонах и в позе велас¬
кесовского идальго.
Оставался длинный и неласковый закат — запустение,
одиночество, нужда, душевное заболевание. Умер он в
1942 году.
I960 — 1965
Владимир Орлов
ИЗ СТАТЬИ «БАЛЬМОНТ. ЖИЗНЬ
И ПОЭЗИЯ»
Ранние сборники Бальмонта — это лишь преддверие
поэзии русского символизма. Творческий метод и поэти¬
ческую манеру Бальмонта гораздо ближе и точнее харак¬
теризует другое слово, а именно — импрессионизм.
Ко времени появления Бальмонта импрессионизм уже
накопил богатый опыт (особенно в области живописи)
как форма субъективистского искусства, непосредствен¬
но закрепляющего мгновенные, разрозненные и перемен¬
чивые впечатления (impressions) художника. Философс¬
кой почвой импрессионистического искусства служит
субъективный идеализм, допускающий воссоздание об¬
раза мира из сознания, ощущений и непосредственных
впечатлений самого субъекта.
Наиболее точноё теоретичекое обоснование такого типа
искусства содержится в эстетике Анри Бергсона, который
учил, что познание жизни невозможно при помощи логи¬
ческих понятий, выработанных разумом, но достигается
лишь благодаря личному, индивидуальному, отдельному
переживанию, путем интуиции и «жизненного порыва»
(elan vita), то есть внутренне присущего человеку стремле-
1 ия к жизни. Источником художественного изображения,
194
по Бергсону, может служить единственно душевное состо¬
яние художника, которое в каждом отдельном случае со¬
вершенно самобытно и неповторимо, то есть в тот или иной
данный момент было личным и только личным состоянием
данного субъекта и больше уже никогда не повторятся.
Переходя непосредственно к поэзии, Бергсон обнаруживал
ее гипнотическую силу в стихотворном ритме, посредством
которого душа человека, воспринимающего то или иное
поэтическое произведение, «убаюкиваемая и усыпляемая,
забывается словно во сне, мыслит и видит, как и сам поэт»
(в том же смысле Бергсон придавал большое значение и
рифме).
Не выяснено, знаком ли был Бальмонт с эстетикой Бер¬
гсона, но это и не суть важно. Существенно другое, а имен¬
но то, что представление об интуиции как единственном
источнике художественного творчества вполне и безуслов¬
но отвечало существу творческой работы нашего поэта, его
пониманию самого творческого процесса как явления сти¬
хийного и внерационального, как некоего наития, не кон¬
тролируемого разумом. «Рождается внезапная стро¬
ка...» — только так представлял себе Бальмонт творчест¬
во, и в представлении этом не оставалось места для
творческой мысли: «...я не размышляю над стихом».
Философия мига, внезапно возникшего и безвозвратно
промелькнувшего мгновения, лежащая в основе импрес¬
сионистического искусства, сформировала творческую
манеру Бальмонта*. В том поэтическом мире, который он
создавал, все подвижно, бегло и зыбко, все соткано из
летучих мимолетных впечатлений, безотчетных воспри¬
ятий, неотчетливых ощущений. В. Брюсов, по справед¬
ливости назвавший Бальмонта «самым субъективным
поэтом, какого только знала история нашей поэзии»,
удачно охарактеризовал его лирику как поэзию «запе¬
чатленных мгновений»: «Истинно то, что сказалось сей¬
час. Что было перед этим, уже не существует. Будущего,
* Отсюда, конечно, не следует, что на примере Бальмонта можно ре¬
шать проблему импрессионистического искусства в целом. Импрессио¬
низм в своем возникновении, развитии и судьбе — явление широкое,
сложное, многосоставное. Из импрессионизма вышли большие художни¬
ки, не только выдающиеся живописцы, но и замечательные поэты, ко¬
торые жили не одними беглыми «впечатлениями», но также глубокими
чувствами и мыслями. В данном случав речь идет лишь о типических
чертах художественного стиля, отчетливо проступающих в лирике Баль¬
монта.
7» 1^6
быть может, не будет вовсе... Вольно подчиняться смене
всех желаний — вот завет. Вместить в каждый миг всю
полноту бытия — вот цель... Он всегда говорит лишь о
том, что есть, а не о том, что было... Заглянуть в глаза
женщины — это уже стихотворение, закрыть свои гла¬
за— другое... Придорожные травы, смятые «невидев¬
шим, тяжелым колесом», могут стать многозначитель¬
ным символом всей мировой жизни».
Поэта-импрессиониста привлекает не столько самый
предмет изображения, сколько его, поэта, ощущение
данного предмета. Поэтому столь характерен для импрес¬
сионистической поэзии дух импровизации. Достаточно
мгновенного толчка сознания, вызванного мимолетным
впечатлением,— и непосредственно, стихийно рождается
образ. Жена Бальмонта (Е. А. Андреева) в своих воспоми¬
наниях о нем рассказывает, что стихотворение «В столи¬
це» сложилось под впечат^нием от проехавшего по го¬
родской улице воза с сеном, а стихотворение «Чет и не¬
чет» — от шума падающих с крыши дождевых капель.
Мимолетное впечатление, вмещенное в личное пережи¬
вание, становится единственно доступной формой отноше¬
ния к миру — для художника, демонстративно расторгнув¬
шего свои общественные связи и открывшего (как говорил
Бальмонт) «великий принцип личности»—в «отъедине¬
нии, уединенности, отделеньи от общего». В этом — смысл
знаменитой поэтической декларации Бальмонта:
Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.
Любая мимолетность могла послужить лирической
темой, воплощавшейся в зыбких и разрозненных обра¬
зах, призванных передать эффект индивидуального, не¬
обязательного «для других» впечатления. Закономернос¬
ти общего и целого при этом игнорируются: мое впечат¬
ление таково, я переживаю его так, а не иначе, а общей
«мудрости» для меня не существует. Таков высший за¬
кон художника-индивидуалиста.
Тот же Брюсов определил суть импрессионизма в поэ¬
зии как присвоенное поэтом право «все изображать не
таким, каким он это знает, но таким, каким это ему кажет¬
ся, притом кажется именно сейчас, в данный миг». Такой
подход к задаче изображения сопровождался, как прави-
196
ло, утратой вещественности, предметности изображения,
пластичности художественного образа. Как в живописи
импрессионистов предмет часто растворяется в световоз¬
душной среде, так и у поэта-импрессиониста видимый мир
тонет «в дымке нежно-золотой» (так озаглавлен один из
разделов в сборнике Бальмонта «Тишина»). Поэт-импрес¬
сионист как бы переносил на почву словесного искусства
правило, которого придерживались, импрессионисты-жи¬
вописцы: «Колорит — это все, рисунок — ничто».
Свет и воздух, колорит, атмосфера, «пленер» играют в
стихах Бальмонта неизмеримо большую роль, нежели «ри¬
сунок» — четкость очертаний, пластика языка и образов.
В его поэтической речи господствуют туманные, «размы¬
тые» образы; в ней бросается в глаза гипертрофия метафо¬
рических определений предмета за счет непосредственно
присущих ему качеств и свойств. В высокой степени ха¬
рактерны для Бальмонта случаи, когда эпитеты нагнета¬
ются во множестве, но конкретное представление о самом
предмете, о его фактуре — ускользает и теряется.
Громадную роль в импрессионистической поэзии во¬
обще, в лирике Бальмонта в частности, играет музыкаль¬
ное, мелодическое начало. <...>
Из обширной и пестрой теоретической программы
русского декадентства Бальмонт взял себе на вооружение
далеко не все. Но он воспринял главное — субъективис¬
тское отношение к жизни и искусству, отказ от объек¬
тивных критериев и ценностей и воинствующий эгоцен¬
тризм. «Принцип личности» заключается, по Бальмонту,
не в соотношении личного с общим, но в «отделеньи от
общего». Суть и назначение искусства — в «наслаждении
созерцания», благодаря которому за «очевидной внеш¬
ностью» раскрывается «незримая жизнь» — и мир стано¬
вится «фантасмагорией, созданной вами».
В статье 1900 года «Элементарные слова о символичес¬
кой поэзии» Бальмонт решал проблему искусства и в
самом деле элементарно, зато вполне категорически:
♦ Реалисты всегда являются простыми наблюдателями,
символисты — всегда мыслители. Реалисты схвачены,
как прибоем, конкретной жизнью, за которой они не
видят ничего, символисты, отрешенные от реальной дей¬
ствительности, видят в ней только свою мечту, они смот¬
рят на жизнь — из окна... Один еще в рабстве у материи,
другой ушел в сферу идеальности». Новой (символичес¬
кой) поэзии, которую Бальмонт определяет как «психо¬
логическую лирику», преемственно связанную с импрес-
197
сионизмом, совершенно чужды «дидактические задачи».
Она «говорит исполненным намеков и недомолвок не¬
жным голосом сирены или глухим голосом сибиллы,
вызывающим предчувствие». Однако, при всем том, в
поэзии должны свободно и органически сливаться «два
содержания, скрытая отвлеченность и очевидная красо¬
та». Несмотря на присутствие в нем утаенного смысла,
который надлежит разгадать, символическое произведе¬
ние заключает в себе еще и «непосредственное конкрет¬
ное содержание», «богатое оттенками» и «всегда закон¬
ченное само по себе» существующее самостоятельно.
В этом признании за произведением искусства непос¬
редственного и конкретного содержания — черта, отделя¬
ющая импрессиониста Бальмонта от символистов теурги¬
ческого толка, вроде Вяч. Иванова, для которого поэзия
служила только «тайнописью неизреченного» — и ничем
больше. Бальмонт навсегда остался чужд собственно фило¬
софским, религиозно-мистическим, теургическим интере¬
сам, объединявшим символистов «второй волны» (Вяч.
Иванов, Андрей Белый, молодой Блок): их эсхатологичес¬
кие чаяния и защищавшееся ими понимание искусства как
«творчества новой жизни» не имели для него никакой
притягательной силы. Также и «богоискательство» Ме¬
режковского, 3. Гиппиус и их присных не только оставля¬
ло Бальмонта совершенно равнодушным, но и вызывало с
его стороны самый резкий протест. Знаменательно, что не
кто иной, как именно Вяч. Иванов отказывал Бальмонту
в праве называться символистом: «...у него нет ничего об¬
щего с модернизмом, он совсем не символист, он вообще не
характерен для нового направления нашей поэзии». (...)
Излагая свое понимание «символической поэзии»,
Бальмонт видел в ней прежде всего поиски «новых соче¬
таний мыслей, красок и звуков», а в самой характеристи¬
ке ее оставался, в общем, в пределах поэтики импресси¬
онизма: символическая поэзия «говорит своим особым
языком, и этот язык богат интонациями; подобно музыке
и живописи, она возбуждает в душе сложное настрое¬
ние,— более, чем другой род поэзии, трогает наши слухо¬
вые и зрительные впечатления».
Эти общие установки были реализованы в трех цен¬
тральных и лучших книгах Бальмонта — «Горящие зда¬
ния», «Будем как солнце» и «Только любовь», вобрав¬
ших стихи, написанные в 1899 — 1903 годах.
1969
ИВАН
БУНИН
1870—1953
Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) — выдающийся русский
писатель, снискавший себе мировую слаВу прежде всего как про¬
заик. Родился в Воронеже в семье помещика. Юность провел в
Орле, где работал журналистом.
Первое стихотворение опубликовано в 1887 году, первый сти¬
хотворный сборник — в 1891-м. Лишь через десять лет самобыт¬
ное мастерство Бунина-поэта было оценено современниками: вы¬
шел его сборник «Листопад», включивший ц еебя стихи и одно¬
именную поэму (1901) и отмеченный Пушкинской премией
Академии наук.
Поэзия Бунина стилистически сдержана, чеканна, гармонич¬
на. Ее традиционность противостояла новаторским поискам сим¬
волистов и на их фоне, по определению Ю. Айхенвальда, «выде¬
лялась как хорошее старое». Бунин-поэт — продолжатель стихот¬
ворных традиций русской Музы «золотого века», прежде
всего — Пушкина, Тютчева и Фета.
С годами в бунинской лирике нарастает философское напряже¬
ние и склонность к экзотическим восточным мотивам. С 10-х годов
XX века углубляется образно-музыкальная связь поэта с русским
фольклором.
В 1920 году Бунин эмигрирует во Францию — дальнейшие
годы отмечены крупнейшими достижениями Буни на-прозаика.
Поэзия в его творчестве отходит на второй план. В 1933 году
писатель был удостоен Нобелевской премии.
Поэзия и проза Бунина выходят из общего словесно-психологи¬
ческого источника, его богатейший и исполненный неповторимой
пластики язык един вне разделения на литературные виды и жан¬
ры. В нем, по словам К. Паустовского, было слышно все «от звеня¬
щей медью торжественности до прозрачности льющейся роднико¬
вой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительной
мягкости, от легкого напева до медленных раскатов грома».
Изд.: Собрание сочинений в 9-ти томах.М., 1965—1967.
* * *
Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевший и больной.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.
Глушь стала ниже и светлее,
В кустах свалялася трава,
И, под дождем осенним тлея,
Чернеет темная листва.
А в поле ветер. День холодный
Угрюм и свеж — и целый день
Скитаюсь я в степи свободной,
Вдали от сел и деревень.
И, убаюкан шагом конным,
С отрадной грустью внемлю я,
Как ветер звоном однотонным
Гудит-поет в стволы ружья.
1889
* * *
Ту звезду, что качалася в темной воде
Под кривою ракитой в заглохшем саду,—
Огонек, до рассвета мерцавший в пруде,
Я теперь в небесах никогда не найду.
201
В то селенье, где шли молодые года,
В старый дом, где я первые песни слагал,
Где я счастья и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь никогда, никогда.
1891
* * *
Когда на темный город сходит
В глухую ночь глубокий сон,
Когда метель, кружась, заводит
На колокольнях перезвон,—
Как жутко сердце замирает!
Как заунывно в этот час,
Сквозь вопли бури, долетает
Колоколов невнятный глас!
Мир опустел... Земля остыла...
А вьюга трупы замела,
И ветром звезды загасила,
И бьет во тьме в колокола.
И на пустынном, на великом
Погосте жизни мировой
Кружится Смерть в веселье диком
И развевает саван свой!
1895
РОДИНА
Под небом мертвенно-свинцовым
Угрюмо меркнет зимний день,
И нет конца лесам сосновым,
И далеко до деревень.
202
Один туман молочно-синий,
Как чья-то кроткая печаль,
Над этой снежною пустыней
Смягчает сумрачную даль.
1896
* * *
Спокойный взор, подобный взору лани,
И все, что в нем так нежно я любил,
Я до сих пор в печали не забыл,
Но образ твой теперь уже в тумане.
А будут дни — угаснет и печаль,
И засинеет сон воспоминанья,
Где нет уже ни счастья, ни страданья,
А только всепрощающая даль.
1901
НОЧЬ
Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного. Вдали
Я вижу ночь: пески среди молчанья
И звездный свет над сумраком земли.
Как письмена, мерцают в тверди синей
Плеяды, Вега, Марс и Орион.
Люблю я их теченье над пустыней
И тайный смысл их царственных имен!
Как ныне я, мирьяды глаз следили
Их древний путь. И в глубине веков
Все, для кого они во тьме светили,
Исчезли в ней, как след среди песков:
203
Их было много, нежных и любивших,
И девушек, и юношей, и жен,
Ночей и звезд, прозрачно-серебривших
Евфрат и Нил, Мемфис и Вавилон!
Вот снова ночь. Над бледной сталью Понта
Юпитер озаряет небеса,
И в зеркае воды, до горизонта,
Столпом стеклянным светит полоса.
Прибрежья, где бродили тавро-скифы,
Уже не те,— лишь море в летний штиль
Все так же сыплет ласково на рифы
Лазурно-фосфорическую пыль.
Но есть одно, что вечной красотою
Связует нас с отжившими. Была
Такая ж ночь — и к тихому прибою
Со мной на берег девушка пришла.
И не забыть мне этой ночи звездной!
Когда весь мир любил я для одной!
Пусть я живу мечтою бесполезной,
Туманной и обманчивой мечтой,—
Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и тайного, как сон.
Люблю ее за счастие слиянья
В одном любви с любовью всех времен!
1901
ОДИНОЧЕСТВО
И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
204
За мольбертом, и дует в окно.
Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой...
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу я один — без жены...
Сегодня идут без конца
Те же тучи — гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.
Мне крикнуть хотелось вослед:
♦ Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.
<1903>
ПЕСНЯ
Я — простая девка на баштане,
Он — рыбак, веселый человек.
Тонет белый парус на Лимане,
Много видел он морей и рек.
Говорят, гречанки на Босфоре
Хороши... А я черна, худа.
Утопает белый парус в море —
Может, не вернется никогда!
205
Буду ждать в погоду, в непогоду...
Не дождусь — с баштана разочтусь,
Выйду к морю, брошу перстень в воду
И косою черной удавлюсь.
1903 — 1906
СТАМБУЛ
Облезлые худые кобели
С печальными, молящими глазами —
Потомки тех, что из степей пришли
За пыльными скрипучими возами.
Был победитель славен и богат,
И затопил он шумною ордою
Твои дворцы, твои сады, Царьград,
И предался, как с^тый лев, покою.
Но дни летят, летят быстрее птиц!
И вот уже в Скутари на погосте
Чернеет лес, и тысячи гробниц
Белеют в кипарисах, точно кости.
И прах веков упал на прах святынь,
На славный город, ныне полудикий,
И вой собак звучит тоской пустынь
Под византийской ветхой базиликой.
И пуст Сераль, и смолк его фонтан,
И высохли столетние деревья...
Стамбул, Стамбул! Последний мертвый стан
Последнего великого кочевья!
1905
206
ГРОБНИЦА РАХИЛИ
«И умерла, и схоронил Иаков
Ее в пути...» И на гробнице нет
Ни имени, ни надписей, ни знаков.
Ночной порой в ней светит слабый свет,
И купол гроба, выбеленный мелом,
Таинственною бледностью одет.
Я приближаюсь в сумраке несмело
И с трепетом целую мел и пыль
На этом камне, выпуклом и белом...
Сладчайшее из слов земных! Рахиль!
1907
СЛЕПОЙ
Вот он идет проселочной дорогой,
Без шапки, рослый, думающий, строгий,
С мешками, с палкой, в рваном армячишке,
Держась рукой за плечико мальчишки.
И звонким альтом, жалобным и страстным,
Поет, кричит мальчишка,— о прекрасном
Об Алексее, божьем человеке,
Под недовольный, мрачный бас калеки.
«Вы пожалейте,— плачет альт,— бездомных!
Вы наградите, люди, сирых, темных!»
И бас грозит: «В аду, в огне сгорите!
На пропитанье наше сотворите!»
И, угрожая, властным, мерным шагом
Идет к избушке ветхой над оврагом,
Над скудной балкой вдоль иссохшей речки,
А там одна старуха на крылечке.
207
И крестится старуха и дрожащей
Рукою ищет грошик завалящий
И жалко плачет, сморщивая брови,
Об окаянной грешнице Прасковье.
1907
ДОЛИНА ИОСАФАТА
Отрада смерти страждущим дана.
Вы побелели, странники, от пыли,
Среди врагов, в чужих краях вы были,
Но вот вам отдых, мир и тишина.
Гора полдневным солнцем сожжена,
Русло Кедрова ветры иссушили.
Но в прах отцов вы посохи сложили,
Вас обрела родимая страна.
В ней спят цари, пророки и левиты.
В блаженные обители ея
Всех, что в чужбине не были убиты,
Сбирает милосердный судия.
По жестким склонам каменные плиты
Стоят раскрытой Книгой Бытия.
20 августа 1908
МОГИЛЬНАЯ ПЛИТА
Опять знакомый дом...
Огарев
Могильная плита, железная доска,
В густой траве врастающая в землю,—
И мне печаль могил понятна и близка,
И я родным преданьям внемлю.
208
И я «люблю людей, которых больше нет»,
Любовью всепрощающей, сыновней.
Последний их побег, я не забыл их след
Под старой, обветшалою часовней.
Я молодым себя, в своем простом быту,
На бедном их погосте вспоминаю.
Последний их побег, под эту же плиту
Приду я лечь — и тихо лягу — с краю.
6 сентября 1913
БЕГСТВО В ЕГИПЕТ
По лесам бежала Божья мать,
Куньей шубкой запахнув младенца.
Стлалось в небе Божье полотенце,
Чтобы ей не сбиться, не плутать.
Холодна, морозна ночь была,
Дива дивны в эту ночь творились:
Волчьи очи зеленью дымились,
По кустам сверкали без числа.
Две седых медведицы в лугу
На дыбах боролись в ярой злобе,
Грызлись, бились и мотались обе,
Тяжело топтались на снегу.
А в дремучих зарослях, впотьмах,
Жались, табунились и дрожали,
Белым паром из ветвей дышали
Звери с бородами и в рогах.
И огнем вставал за лесом меч
Ангела, летевшего к Сиону,
К золотому Иродову трону,
Чтоб главу на Ироде отсечь.
21 октября 1915
209
АЛЕНУШКА
Аленушка в лесу жила,
Аленушка смугла была,
Глаза у ней горячие,
Блескучие, стоячие,
Мала, мала Аленушка,
А пьет с отцом — до донушка.
Пошла она в леса гулять,
Дружка искать, в кустах вилять,
Да кто ж в лесу встречается?
Одна сосна качается!
Аленушка соскучилась,
Безделием измучилась,
Зажгла она большой костер,
А в сушь огонь куда востер!
Сожгла леса Аленушка
На тыщу верст, до пёнушка,
И где сама девалася —
Доныне не узналося!
30 октября 1915
СЛОВО
Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.
7 января 1915
Москва
210
* ★ к
Просыпаюсь в полумраке.
В занесенное окно
Смуглым золотом Исакий
Смотрит дивно и темно.
Утро сумрачное снежно.
Крест ушел в густую мглу.
За окном уютно, нежно
Жмутся голуби к стеклу.
Все мне радостно и ново:
Запах кофе, люстры свет,
Мех ковра, уют алькова
И сырой мороз газет.
17 января 1915
Петербург
СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД
Наполовину вырубленный лес,
Высокие дрожащие осины
И розовая облачность небес:
Ночной порой из сумрачной лощины
Въезжаю на отлогий косогор
И вижу заалевшие вершины,
С таинственною нежностью, в упор
Далеким озаренные пожаром.
Остановясь, оглядываюсь: да,
Пожар! Но где? Опять у нас,— недаром
Вчера был сход! И крепко повода
Натягваю, слушая неясный,
На дождь похожий, лепет в вышине,
Такой дремотно-сладкий и бесстрастный
К тому, что там и что так страшно мне.
27 июня 1917
211
* * *
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
♦Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.
14 июля 1918
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Владислав Ходасевич
О ПОЭЗИИ БУНИНА
Лет двенадцать тому назад в творчестве Бунина насту¬
пил расцвет, который по справедливости можно назвать и
буйным, и пышным. После «Господина из Сан-Францис¬
ко* Бунин выдвинулся на первое место среди современных
русских прозаиков. Ныне оно принадлежит ему по праву.
Почти все эти годы совпали с эпохой эмиграции. Эмиг¬
рация сделала Бунина своим любимцем. Если не ошиба¬
юсь, М. О. Цетлин впервые заговорил о Бунине как об
очень крупном писателе. Вслед затем, на самой заре эми¬
грантской литературы, один из авторитетных ее голосов,
голос 3. Н. Гиппиус, в похвалах Бунину взял и самую
высокую ноту (я разумею статьи в бурцевском «Общем
деле*).
Однако все обстоятельные высказывания о Бунине
(так же как упомянутые статьи 3. Н. Гиппиус) были
посвящены его прозе. Со стихами Бунин выступал редко
и мало. К тому же поэзия — область несколько «специ¬
альная»; о стихах Бунина почти не писали, а что писали,
то не всегда основано было на знании предмета. Выража¬
лись больше эмоции, нежели мысли. Наблюдения усту¬
пали место восклицаниям: «Что за звуки! Какая кисть!*
и т. п. Или в еще более общей форме: «Какая поэзия!»
Так обстояло дело до недавнего выхода «Избранных
стихов» Бунина, изданных «Современными записками».
Можно бы многое возразить против того, как состав¬
лена эта книга. Мне кажется, прежде всего, что в нее не
вошли некоторые из лучших стихотворений Бунина — и
попали пьесы гораздо менее удачные; затем — разные
стороны бунинской поэзии здесь представлены вряд ли в
213
их верном соотношении. Но не будем вдаваться в подроб¬
ности на сей счет; оставим ♦методологию». Хорошо, что
как бы то ни было, книга издана. Мысленно перешагнем
за ее пределы — пусть она будет лишь поводом побеседо¬
вать о поэзии Бунина вообще. Побеседовать, разумеется,
кратко, схематически, может быть, даже — с известной
односторонностью, потому, что, увы, в газетной статье
большая литературная тема не может быть во всей пол¬
ноте ни исчерпана, ни даже поставлена. Приходится ог¬
раничиться лишь общими очертаниями, многое сокра¬
щать и, что еще досаднее, упрощать.
4
* * *
Ранние поэтические шаги Бунина совпадают с началом
того движения, которое само себя назвало символизмом
(хотя в те времена еще не явились как раз те из его учас¬
тников, к которым название символистов наиболее прило¬
жимо: Белый, Блок, Вячеслав Иванов). Не знаю, что имен¬
но сблизило молодого Бунина с этой группой, но сближе¬
ние такое — факт: его нельзя ни отрицать, ни упускать из
виду. Главной причиной был, вернее всего, просто общий
поэтический возраст. Как бы то ни было, брюсовские днев¬
ники конца девяностых годов показывают нам Бунина в
среде Бальмонта, Балтрушайтиса, самого Брюсова и др. На
первых порах, очевидно, такой союз казался естественным,
для обеих сторон. Не совсем представляю себе, что проис¬
ходило на его глубине; внешним образом он, однако же,
был отчетливо выражен тем, что первый бунинский сбор¬
ник стихов ♦ Листопад» появился в издании ^Скорпион» —
под эгидою Брюсова. Это было в 1901 году.
Разрыв, однако, последовал очень скоро. Надо заме¬
тить, что для символистов то было время ожесточенных
литературных схваток и резкого разделения всех окру¬
жающих на друзей и врагов. То, что бунинский сборник
был издан символистскою цитаделью как раз накануне
разрыва, показывает, что символисты до последней ми¬
нуты либо считали Бунина своим, либо надеялись, что
трещина не глубока и скорее должна срастись, нежели
углубиться. Следовательно, разрыва захотел прежде все¬
го сам Бунин. В те именно дни возникли скорпионовские
альманахи — Бунин в них уже не участвовал. Не симво¬
листы, а он почувствовал первый, что союз неестествен.
Это делало честь его проницательности и твердости.
214
Посмотрим теперь, каковы были причины этого раз¬
рыва (я разумею, конечно, причины литературные) и
каковы последствия.
* * *
Вероятно, молодой Бунин, один из последних питом¬
цев совсем иной, помещичьей культуры, почти сразу
почувствовал себя чужим среди московских символис¬
тов — первенцев российского урбанизма и fin de siecle’n*.
Ему, человеку гораздо более «земляному* и здоровому,
особенно резко должны были броситься в глаза те внут¬
ренние пороки, с которыми символизм родился на свет и
которые в совокупности можно бы назвать декадентскою
стороной символизма. Именно декадентство, со всеми его
бытовыми и литературными проявлениями, было для
Бунина всего очевиднее в символизме — и чем очевид¬
нее, тем несноснее. Это и привело к разрыву.
Замечательно: символизм очень скоро сам ощутил, что
декадентство есть яд, бродящий в его крови. Все после¬
довавшие гражданские войны внутри его — были не чем
иным, как борьбою здоровых, символистских начал с
больными, декадентскими. Вся беда была в том, что и
самые чистые символисты были в той или иной степени
отравлены тем же декадентством. Вполне преодолеть в
себе декадентство не удалось ни Андрею Гелому, ни Вяч.
Иванову, ни даже Блоку**.
Если бы Бунин, хотя бы на краткий срок, не прикос¬
нулся к символистскому кружку, его можно было бы
принять за поэта до-символистской поры или, с поправ¬
кой на хронологию, за поэта, прошедшего стороной,
мимо символизма. В действительности это не так — да и
не могло быть так. Появление символизма было неизбеж¬
но, и в начале девятисотых годов он стал самым деятель¬
ным и самым определяющим явлением русской поэзии.
Можно было его принять или отвергнуть, быть с ним или
* Конца века, (франц.).— Ред.
** Акмеисты, вышедшие из символизма и начертавшие на своем знаме¬
ни преодоление его, добились более отчетливых результатов. Но они
боролись именно и только с символизмом, с началом здоровым, и в конце
концов выработали из себя чистейших декадентов. В этом смысле они
всего ближе к Брюсову, который эволюционировал скорее от символизма
к декадентству, нежели наоборот.
216
против него. Остаться вне борьбы могли только существа
литературно безвольные, мертвые. Из всех крупных рус¬
ских поэтов один Бунин пошел против.
* * *
В качестве теоретика Бунин не выступал никогда. В
этом смысле он не противопоставил символизму ничего.
Однако он и не ограничился пассивным «неприятием».
Бунин не просто окопался на до-символистских позициях.
Бунинская поэтика, если в нее всмотреться, на всем своем
протяжении (после ювенилий 1886—1900 гг.) представля¬
ется последовательной и упорной борьбой с символизмом.
Эта борьба была тем более героической, что Бунин оказал¬
ся один и не побоялся глубоких ран, которые она ему
нанесла. Он вырвал (или стремился вырвать) из своего
творчества все, что могло быть в нем общего с символиз¬
мом. Но в символизме пороки срослись неразрывно с до¬
бродетелями, неправда с правдой. Раз навсегда отвергнув
неправды символизма, Бунин заодно отказался и от неко¬
торых насущных правд и возможностей, если не впервые
открытых, то все же глубоко усвоенных и декларирован¬
ных именно символизмом. Чтобы представить это во всей
полноте, понадобилось бы много страниц. Я ограничусь
лишь самым существенным и наглядным.
Для символистов действительность была покрывалом,
маской, скрывающей иную, более подлинную реальность,
разоблачение которой совершается путем преображения
действительности в творческом акте. Личность художни¬
ка признавалась единственным возможным реактивом
такого процесса. Отсюда — крайний субъективизм сим¬
волистов как положительный тезис их программы, а как
отрицательный — неприятие всякого искусства, воспро¬
изводящего действительность не преображенной.
Пейзаж — пробный камень в изображении действи¬
тельности. Именно в этой области Бунин особенно упор¬
ствует против символистов. Для символиста природа —
сырой материал, который он подвергает переработке.
Начинающий Брюсов заявляет прямо:
Создал й грезой моей
Мир идеальной природы.
О, как ничтожны пред ней
Степи, и скалы, и воды!
216
Символист — создатель своего пейзажа, который всег¬
да расположен вокруг него. Бунин смиреннее и целомуд¬
ренней: он хочет быть созерцателем. Он благоговейно
отходит в сторону, прилагая все усилия к тому, чтобы
воспроизвести боготворимую им действительность наибо¬
лее объективно. Он пуще всего боится как-нибудь нена¬
роком «пересоздать» ее. Но символист, изображая не
мир, а, в сущности, самого себя, в каждом произведении
достигает цели сразу и вполне. Суживая задание, он рас¬
ширяет свои возможности. Несомненно, что бунинский
пейзаж правдив, точен, жив и великолепен так, как ни
одному символисту не грезилось. Но от Бунина множес¬
твенность явлений требует такой же множественности
воспроизведений, что неосуществимо. Качество бунинс¬
ких воссозданий само по себе еще не приводит к цели:
оно требует подкрепления количеством, теоретически
говоря — беспредельным. Задание Бунина становится не¬
объятно, как мир, и ведет к тому, что для личности
художника места не остается. Чувство Бунина едва обре¬
тает возможность прорваться наружу; оно обозначается в
мимолетном-замечании, в намеке, чаще всего — в лири¬
ческой концовке. Но иногда не бывает и концовки. Из
своей лирики Бунин изгнал сильнейший фермент лириз¬
ма. Это и есть причина того, что Бунина называют холод¬
ным. В действительности он не холоден: он целомудрен.
Отвертываясь от тех возможностей, которые именно сим¬
волизм подносил ему в готовом, так сказать, виде, Бунин
вряд ли исходил из отвлеченных идей и осознанных
поэтических принципов. Вернее всего, что стыдливость
чувства была тут причиной.
•Лг * *
Новые задачи, поставленные символизмом, открыли
для поэзии также и новые права. Подсказаны были но¬
вые темы, была перестроена система образов, многие
условности отброшены, поэзия обрела новую свободу. Бес
декадентства, неразлучный с символизмом, спешил пре¬
вратить свободу в разнузданность, оригинальность в ори¬
гинальничанье, новизну в кривляние. Над одними сим¬
волистами он имел меньшую власть, над другими боль¬
шую. Были и одержимые им всецело. Теперь символизм
уже в прошлом, но запоздалые «странности» и «недан¬
ности», все эти ужимки и прыжки декадентских старич-
217
ков, мы порою еще наблюдаем. Мы научились к ним
относиться с усмешкою сожаления. Дело совсем иначе
обстояло лет тридцать тому назад. Декадентский соблазн
был в особенности силен. Ему подпадали не только из
моды, но и потому, что самое декадентство казалось бла¬
гом: его не умели еще отделять от символизма. Нужна
была большая проницательность, чтобы тогда понять,
как декадентство смешно и противно. Бунин понял. Его
бегство из «Скорпиона» было бегством от декадентщины
и подсказывалось, конечно, тем же все целомудрием —
стыдом и отвращением, которые в нем всегда вызывает
всякое кривляние, всякая художественная дешевка.
Но крайностям декадентов он противопоставил слиш¬
ком большую уравновешенность чувства; их прихотли¬
вости — слишком законченную последовательность мыс¬
ли; их стремлению к необычайности — нарочитую, под¬
черкнутую простоту; их парадоксам — явную неопровер¬
жимость утверждений. Чем больше субъект символистс¬
кой поэзии хочет быть исключительным, тем больше
субъект поэзии бунинской старается быть нормальным.
Весною он счастлив, ночью задумчив, на кладбище печа¬
лен и т. д. Он говорит слишком ровным голосом и словно
стремится походить на того несколько абстрактного, но
безукоризненно правильного «человека», которого изо¬
бражают в атласах. Но иногда Бунин прорывает эту стес¬
нительную оболочку — и тогда мы видим, какие спрята¬
ны под ней возможности настоящего, не деланного свое¬
образия.
■к * *
Форма неотделима от содержания. Этот закон был
равно усвоен всем символизмом, включая и декадентов.
И символисты, и декаденты одинаково поняли, что эво¬
люция содержания есть в то же время эволюция формы.
Следствием этого была напряженная формальная работа,
произведенная символизмом на всем его протяжении.
Элементы формы были приведены в движение, разрабо¬
таны и выдвинуты из тыла поэзии на ее передовые ли¬
нии. Форма перестала быть безответственной вспомога¬
тельной частью и вновь, как в золотой век русской поэ¬
зии, стала действующей, ответственной. Но именно
потому, что она неотделима от содержания, все крайнос¬
ти и пороки символизма сказались и в этой области,
218
приведя зачастую к изощренности, к неоправданным
вычурам и дешевым блесткам.
Бунин остался верен своему контрсимволизму. Он как
бы вновь отвел форму в тыл, затушевав ее, лишив само¬
стоятельной жизни и доведя ее простоту до крайности.
Задачи бунинской формы сведены к обслуживанию чис¬
той, отвлеченной от содержания эвфонии. В сравнении с
символистами Бунин как бы «ставит форму на место»: он
снижает ее роль, урезывает ее права, не дает ей стано¬
виться частью содержания. Бунин, так сказать, отводит
ей совещательную роль, тогда как символисты уравняли
ее в правах с содержанием. Бунин не верит в то, что
форма способна служить не только вместилищем мысли,
но и выражает самую мысль, и тут он лишает себя силь¬
ного и важного оружия. Его форма, конечно, безукориз¬
ненна. Больше того: она благородна и сдержанна в вы¬
сшей степени, она спасает Бунина от каких бы то ни было
дешевых эффектов, которых немало найдется у декаден¬
тов,— но нельзя не признать, что Бунин сознательно
лишил ее многих существенных возможностей. Связав
свою форму, Бунин отчасти связал себя.
•к к к
В условиях русской поэзии XX века нельзя было без¬
наказанно отвергнуть весь символизм, отбросив все его
правды вместе с неправдами. Бунин поставил перед со¬
бою ряд трудностей непреодолимых. Я был бы неоткро¬
венен, т. е. недобросовестен, если бы не указал на те
строгие и, с моей точки зрения, не всегда справедливые
ограничения, которым Бунин сознательно подверг свою
музу. Но я не могу не воздать должного тому последова¬
тельному, суровому и мужественному аскетизму, которо¬
му Бунин подчинил свою поэзию, раз навсегда отказав¬
шись от всего, что представлялось недостаточно достой¬
ным или слишком суетным. Бунин всегда шел по линии
наибольшего сопротивления. Пусть я не разделяю мно¬
гих мотивов бунинского самоограничения — все же я не
могу не признать, что во многих он оказался прав.
Но этого мало. Не разделяя принципов бунинской
поэзии (напрасно стал бы я притворяться, что их разде¬
ляю: мое притворство было бы тотчас и наиболее нагляд¬
но опровергнуто хотя бы моими собственными писания¬
ми),— я все же хочу сказать, что существует нечто, пере-
219
ступающее все принципиально-поэтические барьеры:
это — самый факт бунинской поэзии, тот прекрасный
факт, что, как всякая подлинная поэзия, она порою за¬
ставляет позабывать все «школьные» расхождения и
прислушиваться к ней просто. Вот я раскрываю «Избран¬
ные стихи» и читаю:
Льет без конца. В лесу туман.
Качают елки головою:
«Ах, Боже мой!»—Лес точно пьян,
Пресыщен влагой дождевою.
В сторожке темной, у окна,
Сидит и ложкой бьет ребенок.
Мать на печи,— все спит она,
В сырых сенях мычит теленок.
В сторожке грусть, мушиный гуд...
— Зачем в лесу звенит овсянка,
Грибы растут, цветы цветут
И травы ярки, как медянка?
— Зачем под мерный шум дождя,
Томясь всем миром и сторожкой,
Большеголовое дитя
Долбит о подоконник ложкой?
Мычит теленок, как немой,
И клонят горестные елки
Свои зеленые иголки:
«Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!»
Стихов такой сдержанной силы, такой тонкости и
такого вкуса немало у Бунина. Признаюсь, для меня
перед такими стихами куда-то вдаль отступают все «рас¬
хождения», все теории, и пропадает охота разбираться,
в чем прав Бунин и в чем не прав, потому что победите¬
лей не судят. В своей поэзии Бунин сумел сделать много
прекрасного. Как не быть ему благодарным?
1929
220
Александр Твардовский
ИЗ СТАТЬИ «О БУНИНЕ»
Бунин вошел в русскую литературу со своей музыкой
прозаического письма, которую не спутаешь ни с чьей
иной. Говорят, что так четко определиться ритмически в
прозе помогло ему то, что он еще и поэт-стихотворец, всю
жизнь писавший наравне с прозой стихи, переводивший
западную поэзию. Но это необязательное условие. У Бу¬
нина, превосходного поэта, стихи все же занимают под¬
чиненное положение. Толстой же и Чехов никогда не
писали стихов, но кто может отрицать магическую —
свою особую у того и другого — музыку их прозаической
речи?
Бунин всегда осознавал и в своих суждениях подчер¬
кивал эту музыкальную сторону прозаического письма. В
интервью «Московской газете» в 1912 году он говорит,
что вообще не принимает «деления художественной ли¬
тературы на стихи и прозу». Поэтическое единство про¬
заической и стихотворной речи он видит в сближении их
основных особенностей и взаимном обогащении: «...поэ¬
тический язык (в смысле стихотворный.— А. Т.) должен
приближаться к простоте и естественности разговорной
речи, а прозаическому слогу должна быть усвоена музы¬
кальность и гибкость стиха».
Он и чисто внешним образом подчеркивал принципи¬
альное единство этих двух родов литературы: во многих
своих сборниках и даже в «нивском» собрании сочине¬
ний он перемежал повести и рассказы стихами. Это мог¬
ло выглядеть как лишь выражение независимости от
тогдашних общепринятых установлений и традиций. Но
для самого Бунина это было и своеобразной декларацией
верности пушкинскому и лермонтовскому примеру, яв¬
лявшим гениальное совершенство в обоих основных ро¬
дах литературного творчества. И по существу бунинская
стихотворная поэзия, по крайней мере непосредственно
примыкающая к прозе тематически, близка ей и общим
настроением, и сходными средствами образного выраже¬
ния, и всей словесной фактурой.
Стихи Бунина, при их строгой традиционной форме,
густо оснащены элементами, характерными для его про¬
зы: живыми интонациями народной речи, необычными
221
для стихов того времени реалистическими деталями опи¬
саний природы, быта деревни и мелкопоместной усадь¬
бы. В них можно встретить такие немыслимые по кано¬
нам «высокой поэзии», прозаические подробности, как
тазы, подставляемые под капелью с потолка в запущен¬
ном барском доме с дырявой крышей («Дворецкий») или
«клочья шерсти и помет» на месте волчьих свадеб в зим¬
ней степи («Сапсан»).
Однако если вообще проза и стихи являются из двух
основных источников всякого настоящего художества —
из впечатлений живой жизни и опыта самого искусства,
то о стихах Бунина можно сказать, что она более нагляд¬
но, чем его проза, несут на себе отпечаток традиционной
классичекой формы. Не забудем, что Пушкин, Лермон¬
тов и другие русские поэты пришли к Бунину не через
посредство школы и даже не через посредство книги
самой по себе, а восприняты и впитаны в раннем ребячес¬
тве, может быть, еще до овладения грамотой, из поэти¬
ческой атмосферы родного дома. Они его застали в детс¬
кой, были семейными святынями, на их портреты он
«смотрел, как на фамильные». Поэзия была частью жи¬
вой действительности детства, влиявшей на душу ребен¬
ка, определявшей его склонности и дорогие на всю жизнь
эстетические пристрастия. Образы поэзии имели для него
такую же личную, интимную ценность впечатлений дет¬
ства, как и окружающая его природа и все «открытия
мира», сделанные в этом возрасте.
Только самого раннего Бунина коснулись влияния
современной ему поэзии. В дальнейшем он наглухо отго¬
раживается от всяческих модных поветрий в поэзии,
держась образцов Пушкина и Лермонтова, Баратынского
и Тютчева, а также Фета и отчасти Полонского, но оста¬
ваясь всегда самобытным.
Конечно, неверно было бы думать, что он так-таки
ничего и не воспринял в своем стихе от виднейших по¬
этов его времени, которых он всю жизнь ругательски
ругал, оценивая всех вкупе и как бы не видя разницы
между Бальмонтом и Северяниным, Брюсовым и Гиппи¬
ус, Блоком и Городецким.
В развитии русского стиха после застойно-эпигонс¬
кой поры «конца века» заслуги символистов бесспор¬
ны. Они расширили ритмические возможности стиха,
много сделали по части его музыкального оснащения,
обновления рифмы и т. п. Бунин не смог бы стать тем,
чем он стал в поэзии, если бы только буквально следо-
222
вал классическим образцам. И неверно, когда говорят,
что стихи его будто бы ритмически однообразны, одно¬
тонны. Он пользуется по преимуществу основными
классическими двусложными, реже трехсложными раз¬
мерами, но он наполняет их таким интонационным и
словарным богатством живой «прозаической» речи, что
эти «ходовые» размеры становятся его, бунинскими
размерами. Он вовсе не чужд и таким ритмическим по¬
искам, которые выходят далеко за пределы привычных
звучаний, например:
Как все спокойно и как все открыто...
Это ближе всего к уникальному в русской поэзии
ритму тютчевского «Как хорошо ты, о море ночное...».
Или белые стихи, ритмическим строем своим как бы
предсказывающие, как это ни парадоксально, Пастернака:
Набегает впотьмах
И узорною пеною светится,
И лазурным сиянием реет у скал на песке...
А какая изумительная энергия, краткость и «отруба¬
ющая» односложность выражения в балладе «Мушкет»:
Встал, жену убил,
Сонных зарубил своих малюток,
И пошел в туретчину, и был
В Цареграде через сорок суток...
Можно было бы еще указать на такие неожиданные у
Бунина ритмические образцы, как своеобразный трех¬
сложный размер «Одиночества» («И ветер, и дождик, и
мгла...»), как «Старик у хаты веял, подкидывал лопа¬
ту...» или «Мужичок» («Ельничком, березничком...»),
♦Аленушка в лесу жила...» и многие другие. Но главное,
конечно, не в них, а в том, что поэзия Бунина, долго
представлявшаяся его литературным современникам
лишь традиционной и даже «консервативной» по форме,
живет и звучит, пережив великое множество стихов,
выглядевших когда-то по сравнению с его строгой, скром¬
ной и исполненной внутреннего достоинства музой сенса¬
ционными «открытиями» и заявлявшими о себе шумно
до непристойности.
223
Наиболее жизнестойкая часть стихотворной поэзии
Бунина, как и в его прозе, это лирика родных мест,
мотивы деревенской и усадебной жизни, тонкая живо¬
пись природы.
Уже менее трогают стихи, посвященные темам экзоти¬
ческого Востока, античности, библейским мотивам или
сюжетам древних мифологий, былинно-сказочной рус¬
ской старине, хотя и здесь остается в силе редкостной
выразительности бунинский язык.
1965
8 Серебряный век
АНДРЕЙ
БЕЛЫЙ
1880—1934
Андрей Белый (1880—1934) один из ярчайших художников-
новаторов серебряного века, современному читателю известен бо¬
лее как прозаик, нежели как поэт. Его роман «Петербург» (1913 —
1914) — непревзойденная вершина этого жанра. Впрочем, провес¬
ти строгую грань между лрозой и поэзией Белого невозможно: его
романы, эссе, мемуары, «арабески» написаны прозой лирической
и причудливо ритмизованной.
Борис Николаевич Бугаев (Андрей Белый — псевдоним) родил¬
ся в семье известного математика и философа. Детство прошло в
атмосфере психологического конфликта меж отцовским и мате¬
ринским воздействием — семейная драма затем отразилась в твор¬
честве Белого. Окончил физико-математический факультет Мос¬
ковского университета, естественное отделение.
Начал творческий путь с создания прозаических «симфоний»,
строя повествование по законам музыкальной композиции,— они
были сочувственно встречены в символистском кругу. Первый
сборник стихов и лирической прозы Андрея Белого «Золото в
лазури» (М., 1904) стал итогом раннего творчества художника:
здесь он стремится от обыденности к мистическому идеалу, не
гнушаясь при этом сказочно-гротескных стилизаций и острых
зарисовок современной городской жизни.
В поэтическом сборнике «Пепел» (Спб., 1909), посвященном
памяти Некрасова и продолжающем некрасовскую традицию, от¬
четливо виден сдвиг Белого к фольклорным образам и ритмам, к
стилистике земного и народного. Социальная проблематика и
глубокое сочувствие трагическому положению России преломля¬
ются в этих стихах сквозь «магический кристалл» авторской ин¬
дивидуальности. Стихи же, вошедшие с сборник «Урна»
(М., 1909), ориентированы на философскую лирику Пушкина, Ба¬
ратынского, Тютчева.
Андрей Белый был талантливым критиком и стиховедом: его
философские, эстетические, культурологические работы вошли в
книги «Символизм» (М., 1910) и «Арабески» (М., 1911).
Он приветствовал Октябрьскую революцию, видя в ней очисти¬
тельную силу и «святое безумие», противостоящее мещанской
умеренности. В 1918 году написал поэму «Христос воскрес», со¬
звучную «Двенадцати» Блока.
Образ Андрея Белого, воссозданный в разных заметках и ме¬
муарах его современников, вошел в историю русской литературы
как средоточие творческого порыва, духовно-эстетического поис¬
ка и житейской неприспособленности. «Странным, гениальным»
назвал этого человека Блок.
Поэтический и прозаический опыт Белого оказал мощное вли¬
яние на его современников — Цветаеву, Маяковского, Есенина —
и на дальнейшие пути русской лирики XX века.
Изд.: Белый А. Стихотворения и поэмы. Л., 1966 («Библиотека
поэта». Большая серия).
ДУША МИРА
Вечной
тучкой несется,
улыбкой
беспечной,
улыбкой зыбкой,
смеется.
Грядой серебристой
летит над водою —
— лучисто —
волнистой
грядою.
Чистая,
словно мир,
вся лучистая —
золотая заря,
мировая душа.
За тобой, бежишь,
весь
горя,
как на пир,
как на пир
спеша.
Травой шелестишь:
«Я здесь
- где цветы...
Мир
вам...»
И бежишь,
как на пир,
но ты —
Там...
8*
227
Пронесясь
ветерком,
ты зелень чуть тронешь,
ты пахнешь
холодком
и, смеясь,
вмиг
в лазури утонешь,
улетишь на крыльях стрекозовых.
С гвоздик
малиновых,
с бледно-розовых
кашек —
ты рубиновых
гонишь
букашек.
1902
ЗОЛОТОЕ РУНО
Посвящено Э. К. Метнеру
1
Золотея, эфир просветится
и в восторге сгорит.
А над морем садится
ускользающий, солнечный щит.
И на море от солнца
золотые дрожат языки.
Всюду отблеск червонца
среди всплесков тоски.
Встали груди утесов
средь трепещущей солнечной ткани.
Солнце село. Рыданий
полон крик альбатросов:
228
«Дети солнца; вновь холод бесстрастья!
Закатилось оно —
золотое, старинное счастье —
золотое руно!»
Нет сиянья червонца.
Меркнут светочи дня.
Но везде вместо солнца
ослепительный пурпур огня.
<Лпрелъ 1903>
Москва
2
Пожаром склон неба объят...
И вот аргонавты нам в рог отлетаний
трубят...
Внимайте, внимайте...
Довольно страданий!
Броню надевайте
из солнечной ткани!
Зовет за собою
старик аргонавт,
взывает
трубой
золотою:
«За солнцем, за солнцем, свободу любя,
умчимся в эфир
голубой!..»
Старик аргонавт призывает на солнечный
пир,
трубя
в золотеющий мир.
Все небо в рубинах.
Шар солнца почил.
Все небо в рубинах
над нами.
229
На горных вершинах
наш Арго,
наш Арго,
готовясь лететь, золотыми крылами
забил.
Земля отлетает...
Вино
мировое
пылает
пожаром
опять:
то огненным шаром
блистать
выплывает
руно
золотое,
искрясь.
И, блеском объятый,
светило дневное,
что факелом вновь зажжено,
несясь,
настигает
наш Арго крылатый.
Опять настигает
свое золотое
руно...
<Октябръ 1903>
Москва
МАГ
В. Я. Брюсову
Я в свисте временных потоков,
мой черный плащ мятежно рвущих.
Зову людей, ищу пророков,
о тайне неба вопиющих. '
230
Иду вперед я быстрым шагом.
И вот — утес, и вы стоите
в венце из звезд упорным магом,
с улыбкой вещею глядите.
У ног веков нестройный рокот,
катясь, бунтует в вечном сне.
И голос ваш — орлиный клекот —
растет в холодной вышине.
В венце огня над царством скуки,
над временем вознесены —
застывший маг, сложивший руки,
пророк безвременной весны.
1903
СОЛНЦЕ
Автору «Будем как Солнце»
Солнцем сердце зажжено.
Солнце — к вечному стремительность;
Солнце — вечное окно
в золотую ослепительность.
Роза в золоте кудрей.
Роза нежно колыхается.
В розах золото лучей
красным жаром разливается.
В сердце бедном много зла
сожжено и перемолото.
Наши души — зеркала,
отражающие золото.
1903.
Серебряный Колодезь
231
НА ГОРАХ
Горы в брачных венцах.
Я в восторге, я молод.
У меня на горах
очистительный холод.
Вот ко мне на утес
притащился горбун седовласый.
Мне в подарок принес
из подземных теплиц ананасы.
Он в малиново-ярком плясал,
прославляя лазурь.
Бородою взметал
вихрь метельно-серебряных бурь.
Голосил
низким басом.
В небеса запустил
ананасом.
И, дугу описав,
озаряя окрестность,
ананас ниспадал, просияв,
в неизвестность,
золотую росу
излучая столбами червонца.
Говорили внизу:
♦ Это —диск пламезарного солнца...»
Низвергались, звеня,
омывали утесы
золотые фонтаны огня —
хрусталя
заалевшего росы.
Я в бокалы вина нацедил
и, подкравшися боком,
горбуна окатил
светопенным потоком.
1903. Москва
232
МЕНУЭТ
Вельможа встречает гостью.
Он рад соседке.
Вертя драгоценною тростью,
стоит у беседки.
На белом атласе сапфиры.
На дочках — кисейные шарфы.
Подули зефиры —
воздушный аккорд
Эоловой арфы.
Любезен, но горд,
готовит изящный сонет
старик.
Глядит в глубь аллеи, приставив лорнет,
надев треуголку на белый парик.
Вот... негры вдали показались —
все в красном — лакеи...
Вот... блеск этих золотом шитых кафтанов.
Идут в глубь аллеи
по старому парку.
Под шепот алмазных фонтанов
проходят под арку.
Вельможа идет для встречи.
Он снял треуголку.
Готовит любезные речи.
Шуршит от шелку.
Март 1903. Москва
ВЕСНА
Все подсохло. И почки уж есть.
Зацветут скоро ландыши, кашки.
Вот плывут облачка, как барашки.
Громче, громче весенняя весть.
233
Я встревожен назойливым писком:
Подоткнувшись, ворчливая Фекла,
нависая над улицей с риском,
протирает оконные стекла.
Тут известку счищают ножом...
Тут стаканчики с ядом... Тут вата...
Грудь апрельским восторгом объята.
Ветер пылью крутит за окном.
Окна настежь — и крик, разговоры,
и цветочный качается стебель,
и выходят на двор полотеры
босиком выколачивать мебель.
Выполз кот и сидит у корытца,
умывается бархатной лапкой.
Вот мальчишка в рубашке из ситца,
пробежав, запустил в него бабкой.
В небе свет предвечерних огней.
Чувства снова, как прежде, огнисты.
Небеса все синей и синей,
Облачка, как барашки, волнисты.
В синих далях блуждает мой взор,
Все земные стремленья так жалки...
Мужичонка в опорках на двор
с громом ввозит тяжелые балки.
1903. Москва
ПОПРОШАЙКА
Крыши. Камни. Пыль. Звучит
Под забором ругань альта.
К небу едкий жар валит
Неостывшего асфальта.
234
Стен горячих вечный груз.
Задыхается прохожий...
Оборванец снял картуз.
Смотрит палец из калоши.
«Сударь, голоден, нет сил,
Не оставьте богомольца.
На руках и я носил
Золотые кольца.
Коль алтын купец дает,
Провожу в ночлежке ночь я...»
Ветерок, дохнув, рванет
На плечах иссохших клочья.
На танцующую дрянь
Поглядел купец сурово:
«Говорят тебе, отстань,
Позову городового!..»
Стены. Жар. В зубах песок.
Люди. Тумбы. Гром пролеток.
Шелест юбок. Алость щек
Размалеванных красоток.
<1904>
ВЕСЕЛЬЕ НА РУСИ
Как несли за флягой флягу —
Пили огненную влагу.
Д’ накачался —
Я
Д’ наплясался —
Я
Дьякон, писарь,..поп, дьячок
Повалили на лужок.
236
Эх —
Людям грех!
Эх — курам смех!
Трепаком-паком размашисто пошли: —
Трепаком, душа, ходи-валяй-вали:
Трепака да на лугах,
Да на межах, да во лесах —
Да обрабатывай!
По дороге ноги-ноженьки туды-сюды-пошли,
Да по дороженьке вали-вали-вали —
Да притопатывай!
Что там думать, что там ждать:
Дунуть, плюнуть — наплевать:
Наплевать да растоптать:
Веселиться, пить да жрать.
Гомилетика, каноника —
Раздувай-дува-дувай, моя гармоника!
Дьякон пляшет —
— Дьякон, дьякон —
Рясой машет —
— Дьякон, дьякон —
Что такое, дьякон, смерть?
— «Что такое? То и это:
Носом в лужу, пяткой — в твердь...»
Раскидалась в ветре,— пляшет —
Полевая жердь: —
Веткой хлюпающей машет
Прямо в твердь.
236
Бирюзовою волною
Нежит твердь.
Над страной моей родною
Встала Смерть.
1906.
Серебряный Колодезь
ДРУЗЬЯМ
Н. И. Петровской
Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.
Не смейтесь над мертвым поэтом:
Снесите ему цветок.
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.
Цветы на нем побиты.
Образок полинял.
Тяжелые плиты.
Жду, чтоб их кто-нибудь снял.
Любил только звон колокольный
И закат.
Отчего мне так больно, больно!
Я не виноват.
Пожалейте, придите:
Навстречу венком метнусь.
О, любите меня, полюбите —
Я, быть может, не умер, быть может,
проснусь —
Вернусь!
Январь 1907. Париж
237
«ДА НЕ В СУД ИЛИ ВО ОСУЖДЕНИЕ...»*
Как пережить и как оплакать мне
Бесценных дней бесценную потерю?
Но всходит ветр в воздушной вышине.
Я знаю все. Я промолчу. Я верю.
Душа: в душе — в душе весной весна...
Весной весна,— и чем весну измерю?
Чем отзовусь, когда придет она?
Я промолчу — не отзовусь... Не верю.
Не оскорбляй моих последних лет.
Прейдя, в веках обиду я измерю.
Я промолчу. Я не скажу — нет, нет.
Суров мой суд. Ка с мне сказать: «Не верю»?
Текут века в воздушной вышине.
Весы твоих судеб вознес,— и верю.
Как пережить и как оплакать мне
Бесценных дней бесценную потерю?
1907
ИЗ ОКНА ВАГОНА
Эллису
Поезд плачется. В дали родные
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают поля росяные.
Пролетаю в поля: умереть.
Пролетаю: так пусто, так голо...
• Пролетают — вон там и вон здесь —
Пролетают — за селами села,
Пролетает — за весями весь; —
* Слова христианской молитвы.
238
И кабак, и погост, и ребенок,
Засыпающий там у грудей: —
Там — убогие стаи избенок,
Там — убогие стаи людей.
Мать Россия! Тебе мои песни,—
О немая, суровая мать! —
Здесь и глуше мне дай, и безвестней
Непутевую жизнь отрыдать.
Поезд плачется. Дали родные.
Телеграфная тянется сеть —
Там — в пространства твои ледяные
С буреломом осенним гудеть.
Август 1908. Суйда
ОТЧАЯНЬЕ
Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!
Века нищеты и безволья.
Позволь же, о родина-мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать:
Туда, на равнине горбатой,
Где стая зеленых дубов
Волнуется купой подъятой.
В косматый свинец облаков,
Где по полю Оторопь рыщет,
Восстав сухоруким кустом,
И в ветер пронзительно свищет
Ветвистым своим лоскутом,
239
Где в душу мне смотрят из ночи,
Поднявшись над сетью бугров,
Жестокие, желтые очи
Безумных твоих кабаков,—
Туда,— где смертей и болезней
Лихая прошла колея,—
Исчезни в пространстве, исчезни,
Россия, Россия моя!
<Июль 1908>
Серебряный Колодезь
ДЕРЕВНЯ
Г. А. Рачинскому
Снова в поле, обвеваем
Легким ветерком.
Злое поле жутким лаем
Всхлипнет за селом.
Плещут облаком косматым
По полям седым
Избы, роем суковатым
Изрыгая дым.
Ощетинились их спины,
Как сухая шерсть.
День и ночь струят равнины
В них седую персть.
Огоньками злых поверий
Там глядят в простор,
Как растрепанные звери
Пав на лыс-бугор.
240
Придавила их неволя,
Вы — глухие дни.
За бугром с пустого поля
Мечут головни.
И над дальним перелеском
Просверкает пыл:
Будто змей взлетает блеском
Искрометных крыл.
Журавель кривой подъемлет,
Словно палец, шест.
Сердце оторопь объемлет,
Очи темень ест.
При дороге в темень сухо
Чиркает сверчок.
За деревней тукнет глухо
Дальний колоток.
С огородов над полями
Взмоется лоскут.
Здесь встречают дни за днями:
Ничего не ждут.
Дни за днями, год за годом:
Вновь за годом год.
Недород за недородом.
Здесь — немой народ.
Пожирают их болезни,
Иссушает глаз...
Промерцает в синей бездне —
Продрожит — алмаз,
Да заря багровым краем
Над бугром стоит.
Злое поле жутким лаем
Всхлипнет, и молчит.
190S.
Серебряный Колодезь
241
АРЕСТАНТЫ
В. П. Поливанову
Много, брат, перенесли
На веку с тобою бурь мы.
Помнишь — в город нас свезли.
Под конвоем гнали в тюрьмы.
Била ливнем нас гроза:
И одежда перемокла.
Шел ты, в даль вперив глаза,
Неподвижные, как стекла.
Заковали ноги нам
В цепи.
Вспоминали по утрам
Степи.
За решеткой в голубом
Быстро ласточки скользили.
Коротал я время сном
В желтых клубах душной пыли.
Ты не раз меня будил.
Приносил нам сторож водки.
Тихий вечер золотил
Окон ржавые решетки.
Как с убийцей, с босяком,
С вором,
Распевали вечерком
Хором.
Здесь, на воле, меж степей
Вспомним душные палаты,
Неумолчный лязг цепей,
Наши серые халаты.
242
Не кручинься, брат, о том,
Что морщины лоб изрыли.
Все забудем: отдохнем —
Здесь, в волнах седой ковыли.
1904
Серебряный Колодезь
ПЕСЕНКА КОМАРИНСКАЯ
Шел калика, шел неведомой дороженькой —
Тень ползучую бросал своею ноженькой.
Протянулись страны хмурые, мордовские —
Нападали силы-прелести бесовские.
Приключилось тут с каликою мудреное:
Уж и кипнем закипала степь зеленая.
Тень возговорит калике гласом велием:
♦Отпусти меня, калика, со веселием.
Опостылело житье мне мое скромное,
Я пройдусь себе повадочкою темною».
Да и втапоры калику опрокидывала;
Кафтанишко свой по воздуху раскидывала.
Кулаками-тумаками бьет лежачего —
Вырастает выше облака ходячего.
Над расейскими широкими раздольями
Как пошла кидаться в люд хрестьянский кольями.
Мужикам, дьякам, попам она поповичам
Из-под ног встает лихим Сморчом-Сморчовичем.
А и речи ее дерзкие, бесовские:
♦ Заведу у вас порядки не таковские;
Буду водочкой опаивать-угащивать:
Свое брюхо на напаст.иях отращивать.
243
Мужичище-кулачище я почтеннейший:
Подпираюсь я дубиной здоровеннейшей!»
Темным вихорем уносит подорожного
Со пути его прямого да не ложного.
Засигает он в кабак кривой дорожкою;
Загуторит, засвистит своей гармошкою:
♦ Ты такой-сякой комаринский дурак:
Ты ходи-ходи с дороженьки в кабак.
Ай люли-люли люли-люли-люли:
Кабаки-то по всея Руси пошли!..»
А и жизнь случилась втапоры дурацкая:
Только ругань непристойная, кабацкая.
Кабаки огнем моргают ночкой долгою
Над Сибирью, да над Доном, да над Волгою.
То и свет, родимый, видеть нам прохожего —
Видеть старого калику перехожего.
Все-то он гуторит, все-то сказы сказывает,
Все-то посохом, сердешный, вдаль указывает:
На житье-бытье-де горькое да оховое
Нападало тенью чучело гороховое.
<Июнь 1907>
Петровское
РОДИНА
В. П. Свентицкому
Те же росы, откосы, туманы,
Над бурьянами рдяный восход,
Холодеющий шелест поляны,
Голодающий, бедный народ;
244
И в раздолье, на воле — неволя;
И суровый свинцовый наш край
Нам бросает с холодного поля —
Посылает нам крик: «Умирай —
Как и все умирают...» Не дышишь,
Смертоносных не слышишь угроз:
Безысходные возгласы слышишь
И рыданий, и жалоб, и слез.
Те же возгласы ветер доносит;
Те же стаи несытых смертей
Над откосами косами косят,
Над откосами косят людей.
Роковая страна, ледяная,
Проклятая железной судьбой —
Мать Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?
1908
Москва
РОДИНЕ
Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия,—
Безумствуй, сжигая меня!
В твои роковые разрухи,
В глухие твои глубины,—
Струят крылорукие духи
Свои светозарные сны.
Не плачьте: склоните колени
Туда — в ураганы огней,
В грома серафических пений,
В потоки космических дней!
245
Сухие пустыни позора,
Моря неизливные слез —
Лучом безглагольного взора
Согреет сошедший Христос.
Пусть в небе — и кольца Сатурна,
И млечных путей серебро,
Кипи фосфорически бурно,
Земли огневое ядро!
И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня!
<Август 1917>
Поворовка
ПОД окном
Взор убегает вдаль весной:
Лазоревые там высоты...
Но «Критики»* передо мной —
Их кожаные переплеты...
Вдали — иного бытия
Звездоочитые убранства...
И, вздрогнув, вспоминаю я
Об иллюзорности пространства.
1908. Москва
* Сочинение немецкого философа И. Канта.
246
НОЧЬ И УТРО
Б. А. Садовскому
Мгновеньями текут века.
Мгновеньями утонут в Лете.
И вызвездилась в ночь тоска
Мятущихся тысячелетий.
Глухобезмолвная земля,
Мне непокорная доныне,—
Отныне принимаю я
Благовестительство пустыни!
Тоскою сжатые уста
Взорвите, словеса святые,
Ты — утренняя красота,
Вы — горние край златые!
Вот там заискрились, восстав,—
Там, над дубровою поющей —
Алмазами летящих глав
В твердь убегающие кущи.
1908. Дедово
ВОСПОМИНАНИЕ
Мы — ослепленные, пока в’ душе не вскроем
Иных миров знакомое зерно.
В моей груди отражено оно.
И вот — зажгло знакомым, грозным зноем.
И вспыхнула, и осветилась мгла.
Все вспомнилось — не поднялось вопроса:
В какие-то кипящие колеса
Душа моя, расплавясь, протекла.
Май 1914. Арлесгейм
247
ПОСВЯЩЕНИЕ
Я попросил у вас хлеба — расплавленный камень мне
дали,
И, пропаленная, вмиг, смрадно дымится ладонь...
Вот и костер растрещался, и пламень танцует под
небо.
Мне говорят: «Пурпур». В него облекись на костре.
Пляшущий пурпур прилип, сдирая и кожу, и мясо:
Вмиг до ушей разорвался черный, осклабленный рот.
Тут воскликнули вы: «Он просветленно смеется...»
И густолиственный лавр страшный череп покрыл.
1915
ВОДА
Танка
А вода? Миг — ясна...
Миг — круги, ряби: рыбка...
Так и мысль!.. Вот — она...
Но она — глубина,
Заходившая зыбко.
Июнь 1916. Дорнах
АСЕ
В безгневном сне, в гнетуще-грустной неге
Растворена так странно страсть моя...
Пробьет прибой на белопенном бреге,
Плеснет в утес соленая струя.
Вот небеса, наполнясь, как слезами,
Благоуханным блеском вечеров,
Блаженными блистают бирюзами
И — марером моргающих миров.
248
И снова в ночь чернеют мне чинары.
Я прошлым сном страданье утолю:
Сицилия... И страстные гитары...
Палермо, Монреаль... Радес...
Люблю!..
Июнь 1917. Демьяново
к к к
Снег,— в вычернь севшая, слезеющая мякоть;
Куст — почкой вспухнувшей овеян, как дымком.
Как упоительно калошей лякать в слякоть,—
Сосвистнуться с весенним ветерком.
Века, а не года,— в расширенной минуте;
Восторги — в воздухом расширенной груди...
В пересерениях из мягкой, млявой мути,—
Посеребрением на нас летят дожди.
Взломалась, хлынула,— в туск, в темноту тумана —
Река, раздутая легко и широко.
Миг, и просинится разливом океана,
И щелкнет птицею... И будет —
— солнышко!
1926. Москва
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Николай Гумилев
ИЗ ПИСЕМ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Из всего поколения старших символистов Андрей Бе¬
лый наименее культурен,— не книжной культурой уче¬
ных, чем-то вроде сиамского ордена, который ценится
только за то, что его трудно получить и он мало у кого есть,
в этой культуре он силен, он и о «марбургском философе»
напишет и о «золотом треугольнике Хирама»,— а истин¬
ной культурой человечества, которая учит уважению и
самокритике, входит в плоть и кровь и кладет отпечаток
на каждую мысль, каждое движение человека. Как-то не
представляется, что он бывал в Лувре, читал Гомера... И я
сужу сейчас не по «Пеплу» и не по «Кубку мятелей», им
судья Бог, а по всей творческой деятельности Андрея Бе¬
лого, за которой я слежу давно и с интересом. Почему с
интересом, будет видно из дальнейшего.
Поэт Белый быстро усвоил все тонкости современной
стихотворной техники. Так варвар сразу принимает, что
не надо есть рыбу ножом, носить зимой цветных ворот¬
ников и писать сонетов в девятнадцать строк (как это
недавно сделал один небезызвестный поэт). Он пользует¬
ся и свободным стихом, и аллитерациями, и внутренни¬
ми рифмами. Но написать правильное стихотворение, с
четкими и выпуклыми образами и без шумихи ненуж¬
ных слов, он не может. В этом он уступает даже третье¬
степенным поэтам прошлого, вроде Бенедиктова, Мея
или К. Павловой. И сильно можно поспорить против его
понимания четырехстопного ямба, размера, которым на¬
писана почти вся «Урна». Следя за развитием ямба у
Пушкина, мы видим, что великий мэтр все больше и боль¬
ше склонялся в сторону применения четвертого пэона, как
260
придающего наибольшую звучность стиху. Непонятно,
почему Андрей Белый отказывается от такого важного
средства придать жизнь своим часто деревянным стихам.
Но в чем же чара Андрея Белого, почему о нем хочется
думать и говорить? Потому, что у его творчества есть
мотивы, и эти мотивы воистину глубоки и необычны. У
него есть враги — время и пространство, есть друзья —
вечность, конечная цель. Он конкретизирует эти отвле¬
ченные понятия, противопоставляет им свое личное «я»,
они для него реальные существа его мира. Соединяя
слишком воздушные краски старых поэтов со слишком
тяжелыми и резкими современных, он достигает удиви¬
тельных эффектов, доказывающих, что мир его мечты
действительно великолепен:
Атласные, красные розы,
Печальный хрустальный фонтан.
Читатель останется недоволен моей рецензией. Ему
непременно захочется узнать, хвалю я или браню Андрея
Белого. На этот вопрос я не отвечу. Еще не наступил час
итогов.
1909
Осип Мандельштам
(СТИХИ ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО)
* * *
Голубые глаза и горячая лобная кость
Мировая манила тебя молодящая злость.
И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.
На тебя надевали тиару — юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!
Как снежок на Москве заводил кавардак гоголек:
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок...
Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...
251
Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей.
Часто пишется казнь, а читается правильно — песнь,
Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь?
Прямизна нашей речи не только пугач для детей —
Не бумажные дести, а вести спасают людей.
Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.
На коленях держали для славных потомков листы,
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.
Меж тобой и страной ледяная рождается связь —
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.
Да не спросят тебя молодые, грядущие те,
Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте...
10—11 января 1934
Владислав Ходасевич
ИЗ ОЧЕРКА «АНДРЕЙ БЕЛЫЙ»
Меня еще и на свете не было, когда в Москве, на
Пречистенском бульваре, с гувернанткой и песиком, стал
являться необыкновенно хорошенький мальчик — Боря
Бугаев, сын профессора математики, известного Европе
учеными трудами, московским студентам — феноменаль¬
ной рассеянностью и анекдотическими чудачествами, а
первоклассникам-гимназистам — учебником арифмети¬
ки, по которому я и сам учился впоследствии. Золотые
кудри падали мальчику на плечи, а глаза у него были
синие. Золотой палочкой по золотой дорожке катил он
золотой обруч. Так вечность, «дитя играющее», катит
золотой круг солнца. С образом солнца связан младенчес¬
кий образ Белого.
Профессор Бугаев в ту пору говаривал: «Я надеюсь,
что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня». За этими
252
шутливыми словами скрывалась нешуточная семейная
драма. Профессор был не только чудак, но и сущий урод
лицом'. Однажды в концерте (уже в начале девятисотых
годов) Н. Я. Брюсова, сестра поэта, толкнув локтем Ан¬
дрея Белого, спросила его: «Смотрите, какой человек! Вы
не знаете, кто эта обезьяна?» — «Это мой папа»,— отве¬
чал Андрей Белый с тою любезнейшей, широчайшей
улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастия,
которою он любил отвечать на неприятные вопросы.
Его мать была очень хороша собой. На каком-то чес¬
твовании Тургенева возле знаменитого писателя сочли
нужным посадить первых московских красавиц: то
были Екатерина Павловна Леткова, впоследствии Сул¬
танова, сотрудница «Русского Богатства», в которую
долгие годы был безнадежно влюблен Боборыкин, и
Александра Дмитриевна Бугаева. Они сидят рядом и на
известной картине К. Е. Маковского «Боярская свадь¬
ба», где с Александры Дмитриевны писана сама моло¬
дая, а с Екатерины Павловны — одна из дружек. Отца
Белого я никогда не видел, а мать застал уже пожилою,
несколько полною женщиной со следами несомненной
красоты и с повадками записной кокетки. Однажды,
заехав с одной родственницей к портнихе, встретил я
Александру Дмитриевну. Приподымая широкую тафтя¬
ную юбку концами пальчиков, она вертелась пред зер¬
калом, приговаривая: «А право же, я ведь еще хоть
куда!» В 1912 г. я имел случай наблюдать, что сердце
ее еще не чуждо волнений.
Физическому несходству супругов отвечало расхожде¬
ние внутреннее. Ни умом, ни уровнем интересов друг
другу они не подходили. Ситуация была самая обыкно¬
венная: безобразный, неряшливый, погруженный в аб¬
стракции муж и красивая, кокетливая жена, обуревае¬
мая самыми «земными» желаниями. Отсюда — столь же
обыкновенный в таких случаях разлад, изо дня в день
проявлявшийся в бурных ссорах по всякому поводу. Боря
при них присутствовал.
Белый не раз откровенно говорил об автобиографич¬
ности «Котика Летаева». Однако, вчитываясь в позд¬
нюю прозу Белого, мы без труда открываем, что и в
«Петербурге», и в «Котике Летаеве», и в «Преступле¬
нии Николая Летаева», и в «Крещеном китайце», и в
«Московском чудаке», и в «Москве под ударом» завяз¬
кою служит один и тот же семейный конфликт. Все
это — варианты драмы, некогда разыгравшейся в семей-
253
стве Бугаевых. Не только конфигурация действующих
лиц, но и самые образы отца, матери и сына повторя¬
ются до мельчайших подробностей. Изображение на¬
именее схоже с действительностью в «Петербурге».
Зато в последующих романах оно доходит почти до
фотографической точности. Чем зрелее становился Бе¬
лый, тем упорнее он возвращался к этим воспоминани¬
ям детства, тем более значения они приобретали в его
глазах. Начиная с «Петербурга», все политические,
философские и бытовые задания беловских романов
отступают на задний план перед заданиями автобиогра¬
фическими и, в сущности, служат лишь поводом для
того, чтобы воскресить в памяти и переосознать впе¬
чатления, поразившие в младенчестве. Не только нер¬
вы, но и самое воображение Андрея Белого были раз
навсегда поражены и — смею сказать — потрясены про¬
исходившими в доме Бугаевых «житейскими грозами»,
как он выражается. Эти грозы оказали глубочайшее
влияние на характер Андрея Белого и на всю его
жизнь.
В семейных бурях он очутился листиком или песчин¬
кою: меж папой, уродом и громовержцем, окутанным
облаком черной копоти от швыряемой об пол керосино¬
вой лампы,— и мамочкой, легкомысленной и прелест¬
ной, навлекающей на себя гнев и гибель, как грешные
жители Содома и Гоморры. Первичное чувство в нем
было таково: папу он боялся и втайне ненавидел до очень
сильных степеней ненависти: недаром потенциальные
или действительные преступления против отца (вплоть
до покушения на отцеубийство) составляют фабульную
основу всех перечисленных романов. Мамочку он жалел
и ею восторгался почти до чувственного восторга. Но
чувства эти, сохраняя всю остроту, с годами осложнялись
чувствами вовсе противоположными. Ненависть к отцу,
смешиваясь с почтением к его уму, с благоговейным
изумлением перед космическими пространствами и мате¬
матическими абстракциями, которые вдруг раскрыва¬
лись через отца, оборачивалась любовью. Влюбленность
в мамочку уживалась с нелестным представлением об ее
уме и с инстинктивным отвращением к ее отчетливой,
пряной плотскости.
Каждое явление, попадая в семью Бугаевых, подверга¬
лось противоположным оценкам со стороны отца и со
стороны матери. Что принималось и одобрялось отцом,
то отвергалось и осуждалось матерью — и наоборот. «Раз-
254
дираемый», по собственному выражению, между родите¬
лями, Белый по всякому поводу переживал относитель¬
ную правоту и неправоту каждого из них. Всякое явле¬
ние оказывалось двусмысленно, раскрывалось двусторон¬
не, двузначаще. Сперва это ставило в тупик и пугало. С
годами вошло в привычку и стало модусом отношения к
людям, к событиям, к идеям. Он полюбил совместимость
несовместимого, трагизм и сложность внутренних проти¬
воречий, правду в неправде, может быть — добро в зле и
зло в добре. Сперва он привык таить от отца любовь к
матери (и ко всему «материнскому»), а от матери любовь
к отцу (и ко всему «отцовскому») — и научился пони¬
мать, что в таком притворстве нет внутренней лжи.
Потом ту же двойственность отношения стал он перено¬
сить на других людей — и это создало ему славу двулич¬
ного человека. Буду вполне откровенен: нередко он и
бывал двуличен, и извлекал из двуличия ту выгоду, ко¬
торую оно иногда может дать. Но в основе, в самой при¬
роде его двуличия не было ни хитрости, ни оппортуниз¬
ма. И то, и другое он искренно ненавидел. Но в людях,
которых любил, он искал и, разумеется, находил основа¬
ния их не любить. В тех, кого не любил или презирал, он
не боялся почуять доброе и порою бывал обезоружен до
нежности. Собираясь действовать примирительно —
вдруг вскипал и разражался бешеными филиппиками;
собираясь громить и обличать — внезапно оказывался
согласен с противником. Случалось ему спохватываться,
когда уже было поздно, когда дорогой ему человек стано¬
вился врагом, а презираемый лез с объятиями. Порой он
лгал близким и открывал душу первому встречному. Но
и во лжи нередко высказывал он только то, что казалось
ему «изнанкою правды», а в откровенностях помалкивал
«о последнем».
В сущности, своему «раздиранию» между родителями
он был обязан и будущим строем своих воззрений. Отец
хотел сделать его своим учеником и преемником — мать
боролась с этим намерением музыкой и поэзией: не пото¬
му, что любила музыку и поэзию, а потому, что уж очень
ненавидела математику. Чем дальше, тем Белому стано¬
вилось яснее, что все «позитивное», близкое отцу, близко
и ему, но что искусство и философия требуют примире¬
ния с точными знаниями — «иначе и жить нельзя». К
мистике, а затем к символизму он пришел трудным пу¬
тем примирения позитивистических тенденций девят¬
надцатого века с философией Владимира Соловьева. Не-
256
даром, прежде чем поступить на филологический фа¬
культет, он окончил математический. Всего лучше об
этом рассказано им самим. Я только хотел указать на
ранние биографические истоки его позднейших воззре¬
ний и всей его литературной судьбы.
* * *
Я познакомился с ним в эпоху его романа с Ниной
Петровской, точнее — в ту самую пору, когда совершался
между ними разрыв.
Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее,
чем принято о нем думать. Однако в этой области с осо¬
бенною наглядностью проявлялась и его двойственность,
о которой я только что говорил. Тактика у него всегда
была одна и та же: он чаровал женщин своим обаянием,
почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле,
заранее как бы исключающем всякую мысль о каких-
либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем
он внезапно давал волю этим домогательствам, и если
женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и ос¬
корбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил
в бешенство. Обратно: всякий раз, как ему удавалось до¬
биться желаемого результата, он чувствовал себя осквер¬
ненным и запятнанным и тоже приходил в бешенство.
Случалось и так, что в последнюю минуту перед ♦падени¬
ем» ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу,—
но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазни¬
ли, и за то, что все-таки недособлазнили.
Нина Петровская пострадала за то, что стала его воз¬
любленной. Он с нею порвал в самой унизительной форме.
Она сблизилась с Брюсовым, чтобы отомстить Белому — и
в тайной надежде его вернуть, возбудив его ревность.
В начале 1906 года, когда начиналось «Золотое руно»,
однажды у меня были гости. Нина и Брюсов пришли
задолго до всех. Брюсов попросил разрешения удалиться
в мою спальню, чтобы закончить начатые стихи. Через
несколько времени он вышел оттуда и попросил вина.
Нина отнесла ему бутылку коньяку. Через час или боль¬
ше, когда гости уже собрались, я заглянул в спальню и
застал Нину с Брюсовым сидящими на полу и плачущи¬
ми, бутылку допитой, а стихи конченными. Нина шепну¬
ла, чтобы за ужином я попросил Брюсова прочесть новые
стихи. Ничего не подозревая (я тогда имел очень смутное
266
понятие о том, что происходит между Ниной, Белым и
Брюсовым), я так и сделал. Брюсов сказал, обращаясь к
Белому:
— Борис Николаевич, я прочту подражание вам.
И прочел. У Белого было стихотворение «Предание»,
в котором иносказательно и эвфемистически изобража¬
лась история разрыва с Ниной. Этому «Преданию» Брю¬
сов и подражал в своих стихах, сохранив форму и стиль
Белого, но придав истории новое окончание и представив
роль Белого в самом жалком виде. Белый слушал, смотря
в тарелку. Когда Брюсов кончил читать, все были смуще¬
ны и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и
скрестив по обычаю руки, Брюсов спросил своим самым
гортанным и клекочущим голосом:
— Похоже на вас, Борис Николаевич?
Вопрос был двусмысленный: он относился разом и к
стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Бело¬
го. В крайнем смущении, притворяясь, что имеет в виду
только поэтическую сторону вопроса и не догадывается о
подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой:
— Ужасно похоже, Валерий Яковлевич!
И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов
резко прервал его:
— Тем хуже для вас!
Зная о моей дружбе с Ниной, Белый считал, что чте¬
ние было сознательно мною подстроено в соучастии с
Брюсовым. Мы с Белым встречались, но он меня сторо¬
нился. Я уже знал, в чем дело, но не оправдывался: от¬
части потому, что не знал, как начать разговор, отчасти
из самолюбия. Только спустя два года без малого мы
объяснились — при обстоятельствах столь же странных,
как все было странно в нашей тогдашней жизни.
* * *
В 1904 г. Белый познакомился с молодым поэтом,
которому суждено было стать одним из драгоценнейших
русских поэтов. Их личные и литературные судьбы ока¬
зались связаны навсегда. В своих воспоминаниях Белый
изобразил историю этой связи в двух версиях, взаимно
исключающих друг друга и одинаково неправдивых.
Будущему биографу обоих поэтов придется затратить
немало труда на восстановление истины.
Поэт приехал в Москву с молодой женой, уже знако-
9 Серебряный век
257
мой некоторым московским мистикам, друзьям Белого, и
уже окруженной их восторженным поклонением, в кото¬
ром придавленный эротизм бурлил под соблазнительным
и отчасти лицемерным покровом мистического служения
Прекрасной Даме. Белый тотчас поддался общему настро¬
ению, и жена нового друга стала предметом его присталь¬
ного внимания. Этому вниманию мистики покровитель¬
ствовали и раздували его. Потом не нужно было и разду¬
вать — оно превратилось в любовь, которая, в сущности,
и дала толчок к разрыву с Ниной Петровской. Я не бе¬
русь в точности изложить историю этой любви, проте¬
кавшую то в Москве, то в Петербурге, то в деревне, до
крайности усложненную сложными характерами дей¬
ствующих лиц, своеобразным строем символистского
быта и, наконец, многообразными событиями литератур¬
ной, философской и даже общественной жизни, на фоне
которых она протекала, с которыми порой тесно перепле¬
талась и на которые в свою очередь влияла. Скажу сум¬
марно: история этой любви сыграла важную роль в лите¬
ратурных отношениях той эпохи, в судьбе многих лиц,
непосредственно в ней даже не замешанных, и в конеч¬
ном счете — во всей истории символизма. Многое в ней
еще и теперь не ясно. Белый рассказывал мне ее неоднок¬
ратно, но в его рассказах было вдоволь противоречий,
недомолвок, вариантов, нервического воображения. Под¬
черкиваю, что его устные рассказы значительно рознились
от печатной версии, изложенной в его воспоминаниях.
По соображении всех данных, история романа пред¬
ставляется мне в таком виде. По-видимому, братские
чувства, первоначально предложенные Белым, были при¬
няты дамою благосклонно. Когда же Белый, по обыкно¬
вению, от братских чувств перешел к чувствам иного
оттенка, задача его весьма затруднилась. Быть может,
она оказалась бы вовсе неразрешимой, если бы не его
ослепительное обаяние, которому, кажется, нельзя было
не поддаться. Но в тот самый момент, когда его любовные
домогательства были близки к тому, чтобы увенчаться
успехом, неизбывная двойственность Белого, как всегда,
прорвалась наружу. Он имел безумие уверить себя само¬
го, что его неверно и «дурно» поняли,— и то же самое
объявил даме, которая, вероятно, немало выстрадала
пред тем, как ответить ему согласием. Следствие белов¬
ского отступления не трудно себе представить. Гнев и
презрение овладели той, кого он любил. И она отплатила
ему стократ обиднее и больнее, чем Нина Петровская,
258
которой она была во столько же раз выносливее и твер¬
же. Что же Белый? Можно сказать с уверенностью, что
с этого-то момента он и полюбил по-настоящему, всем
существом и, по моему глубокому убеждению, — навсег¬
да. Потом еще были в его жизни и любви, и быстрые
увлечения, но та любовь сохранилась сквозь все и поверх
всего. Только ту женщину, одну ее, любил он в самом
деле. С годами, как водится, боль притупилась, но долго
она была жгучей. Белый страдал неслыханно, переходя
от униженного смирения к бешенству и гордыне,— кри¬
чал, что отвергнуть его любовь есть кощунство. Порою
страдание подымало его на очень большие высоты духа —
порою падал он до того, что, терзаясь ревностью, литера¬
турно мстил своему сопернику, Действительному или
воображаемому. Он провел несколько месяцев за грани¬
цей — и вернулся с неутоленным страданием и «Кубком
мятелей» — слабейшею из его симфоний, потому что она
была писана в надрыве.
* * *
В августе 1907 года из-за личных горестей поехал я в
Петербург на несколько дней — и застрял надолго: не было
сил вернуться в Москву. С литераторами я виделся мало и
жил трудно. Ночами слонялся по ресторанам, игорным
домам и просто по улицам, а днем спал. Вдруг приехала
Нина Петровская, гонимая из Москвы неладами с Брюсо¬
вым и минутной, угарной любовью к одному молодому
петербургскому беллетристу, которого «стилизованные»
рассказы тогда были в моде. Брюсов за ней приезжал,
пытался вернуть в Москву — она не сразу поехала. Изред¬
ка вместе коротали мы вечера — признаться, неврастени¬
ческие. Она жила в той самой английской гостинице, где
впоследствии покончил с собой Есенин.
28 сентября того года Блок писал своей матери из
Петербурга: «Мама, я долго не пишу и мало пишу от
большого количества забот — крупных и мелких. Круп¬
ные касаются Любы*, Натальи Николаевны** и Бори.
Боря приедет ко мне скоро. Он мне все ближе и ужасно
* Любовь Дмитриевна, жена Блока. [В. X.]
** Артистка Н. Н. Волохова, которой посвящена «Снежная маска».
[В. X.]
9®
259
несчастен». Наконец Белый приехал, чтобы вновь быть
отвергнутым. Встретились мы случайно. Однажды, после
литературного сборища, на котором Бунин читал по руко¬
писи новый рассказ заболевшего Куприна (это был «Изум¬
руд»), я вышел на Невский. Возле Публичной библиотеки
пристала ко мне уличная женщина. Чтобы убить время, я
предложил угостить ее ужином. Мы зашли в ресторанчик.
На вопрос, как ее зовут, она ответила странно:
— Меня все зовут бедная Нина. Так зовите и вы.
Разговор не клеился. Бедная Нина, щупленькая брю¬
нетка с коротким носиком, устало делала глазки и гово¬
рила, что ужас кдк любит мужчин, а я подумывал, как
будет скучно от нее отделываться. Вдруг вошел Белый,
возбужденный и не совсем трезвый. Он подсел к нам, и
за бутылкою коньяку мы забыли о нашей собеседнице.
Разговорились о Москве. Белый, размягченный вином,
признался мне в своих подозрениях о моей «провокации»
в тот вечер, когда Брюсов читал у меня стихи. Мы объ¬
яснились, и прежний лед между нами был сломан. Рес¬
торан между тем закрывали, и Белый меня повез в одно
«совсем петербургское место», как он выразился. Мы
приехали куда-то в конец Измайловского проспекта. То
был низкосортный клуб. Необыкновенно почтенный
мужчина с седыми баками, которого все звали полковни¬
ком, нас встретил. Белый меня рекомендовал, и, запла¬
тив по трешнице, которая составляла вернейшую реко¬
мендацию, мы вошли в залу. Приказчики и мелкие чи¬
новники в пиджачках отплясывали кадриль с девицами,
одетыми (или раздетыми) цыганками и наядами. Потом
присуждались премии за лучшие костюмы — вышел не¬
большой скандал, кого-то обидели, кто-то ругался. Мы
спросили вина и просидели в «совсем петербургском
месте» до рыжего петербургского рассвета. Расставаясь,
условиЛись пообедать в «Вене» с Ниной Петровской.
Обед вышел мрачный и молчаливый. Я сказал:
— Нина, в вашей тарелке, кажется, больше слез, чем
супа.
Она подняла голову и ответила:
— Меня надо звать бедная Нина.
Мы с Белым переглянулись — о женщине с Невского
Нина ничего не знала. В те времена такие совпадения для
нас много значили.
Так и кончился тот обед — в тяжелом молчании. Че¬
рез несколько дней, зайдя к Белому (он жил на Василь¬
евском острове, почти у самого Николаевского моста),
260
увидел я круглую шляпную картонку. В ней лежали
атласное красное домино и черная маска. Я понял, что в
этом наряде Белый являлся в «совсем петербургском
месте». Потом домино и маска явились в его стихах, а
еще позже стали одним из центральных образов «Петер¬
бурга».
Несколько дней спустя после нашего обеда Нина уеха¬
ла в Москву, а в самом конце октября (если мне память
не изменяет) тронулись и мы с Белым. На станциях он
пил водку, а в Москве прожил дня два — и кинулся опять
в Петербург. Не мог жить ни с нею, ни без нее.
* * *
Четыре года, протекшие после того, мне помнятся
благодарно: годами, смею сказать, нашей дружбы. Белый
тогда был в кипении: сердечном и творческом. Тогда
дописывался им «Пепел», писались «Урна», «Серебря¬
ный Голубь», важнейшие статьи «Символизма». На это
же время падают и самые резкие из его полемических
статей, о тоне которых он потом жалел часто, о содержа¬
нии — никогда. Тогда же он учинял и самые фантасти¬
ческие из публичных своих скандалов,— однажды на
сцене Литературно-Художественного Кружка пришлось
опустить занавес, чтобы слова Белого не долетали до
публики. Зато в наших встречах он оборачивался другой
стороной. Приходил большею частью по утрам, и мы
иногда проводили вместе весь день, то у меня, то гуляя:
в сквере у храма Христа Спасителя, в Ново-Девичьем
монастыре; однажды ездили в Петровско-Разумовское, в
грот, связанный с убийством студента Иванова. Белый
умел быть и прост, и уютен: gemuthlich* — по любимому
его слову. Разговоры его переходили в блистательные им¬
провизации и всегда были как-то необыкновенно окры-
ляющи. Любил он и просто рассказывать: о семье Соловь¬
евых, о пророческих зорях 1900 года, о профессорской
Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в
лицах. Случалось — читал только что написанное и охот¬
но выслушивал критические возражения, причем был в
общем упрям. Лишь раз удалось мне уговорить его: вы¬
бросить первые полторы страницы «Серебряного Голу-
* Уютный, приятный (нем.).— Ред.
261
бя». То был слепок с Гоголя, написанный, очевидно,
лишь для того, чтобы разогнать перо.
Разговоры специально стихотворческие велись часто.
Нас мучил вопрос: чем, кроме инструментовки, обуслов¬
лено разнозвучание одного и того же размера? Летом
1908 года, когда я жил под Москвой, он позвонил мне по
телефону, крича со смехом:
— Если свободны, скорей приезжайте в город. Я сам
приехал сегодня утром. Я сделал открытие! Ей-Богу,
настоящее открытие, вроде Архимеда!
Я, конечно, поехал. Был душный вечер. Белый встре¬
тил меня загорелый и торжествующий, в русской рубаш¬
ке с открытым воротом. На столе лежала гигантская кипа
бумаги, разграфленной вертикальными столбиками. В
столбиках были точки, причудливо связанные прямыми
линиями. Белый хлопал по кипе тяжелой своей ладонью:
— Вот вам четырехстопный ямб. Весь тут, как на ла¬
дони. Стихи одного метра разнятся ритмом. Ритм с мет¬
ром не совпадает и определяется пропуском метрических
ударений. «Мой дядя самых честных правил» —четыре
ударения, а «И кланялся непринужденно» —два: ритмы
разные, а метр все тот же, четырехстопный ямб.
Теперь все это стало азбукой. В тот день это было откры¬
тием, действительно простым и внезапным, как Архимедо¬
во. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в
поэтике присвоено имя Андрея Белого. Это открытие в
дальнейшей разработке имеет несовершенства, о которых
впоследствии было много писано. Тогда, на первых порах,
разобраться в них было труднее. Однако у меня с Белым
тотчас начались препирательства по конкретному поводу.
Как раз в то время он готовил к печати «Пепел» и
«Урну» — и вдруг принялся коренным образом перераба¬
тывать многие стихотворения, подгоняя их ритм к недавно
открытым формулам. Разумеется, их ритмический узор,
взятый в отвлечении, стал весьма замечателен. Но в целом
стихи сплошь и рядом оказывались испорчены. Сколько
ни спорил я с Белым — ничего не помогало. Стихи вошли
в его сборники в новых редакциях, которые мне было
больно слышать. Тогда-то и начал я настаивать на необхо¬
димости изучения ритмического содержания вести не ина¬
че как в связи с содержанием смысловым. Об этом шли у
нас пререкания то с глазу на глаз, то в кружке ритмистов,
который составился при издательстве «Мусагет». Вне-
смысловая ритмика мне казалась ложным и вредным де¬
лом. Кончилось тем, что я перестал ходить на собрания.
262
Белый в ту пору был в большой моде. Дамы и барыш¬
ни его осаждали. Он с удовольствием кружил головы, но
заставлял штудировать Канта — особ, которым совсем не
того хотелось.
— Она мне цветочек, а я ей: сударыня, если вы так
интересуетесь символизмом, то посидите-ка сперва над
«Критикой чистого разума»!
Или:
— Ах, что за прелесть эта милейшая мадмуазель
Штаневич! Я от нее в восторге!
— Борис Николаевич, да ведь она Станевич, а не
Штаневич!
— Да ну, в самом деле? А я ее все зову Штаневич. Как
вы думаете, она не обиделась?
Неделю спустя опять: — Ах, мадмуазель Штаневич!
— Борис Николаевич! Станевич!
— Боже мой! Неужели? Какое несчастие!
А у самого глаза веселые и лживые.
Иногда у него на двери появлялась зайиска: «Б. Н.
Бугаев занят и просит не беспокоить».— Это я от де¬
виц,— объяснял он, но не всегда насей счет был правдив.
Мне жаловался: «Надоел Пастернак». Полагаю, что Пас¬
тернаку— «Надоел Ходасевич».
Однажды — чуть ли не в ярости: — Нет, вы подумай¬
те, вчера ночью, в метель, возвращаюсь домой, а Мари¬
этта Шагинян сидит у подъезда на тумбе, как дворник.
Надоело мне это! — А сам в то же время писал ей длин¬
нейшие философические письма, из благодарности за
которые бедная Мариэтта, конечно, готова была хоть
замерзнуть.
В 1911 г. я поселился в дервне, и мы стали реже ви¬
деться. Потом Белый женился, уехал в Африку, ненадо¬
лго вернулся в Москву и уехал опять: в Швейцарию, к
Рудольфу Штейнеру. Перед самой войной пришло от него
письмо, бодрое, успокоенное, с рассказом о мускулах,
которые он себе набил, работая резчиком по дереву при
постройке Гетеанума. Я думал, что наконец он счастлив.
& * *
В тот вечер, когда в Москве получилось по телефону
известие об убийстве Распутина, Гершензон повел меня к
Н. А. Бердяеву. Там обсуждались события. Там, после
долгой разлуки, я впервые увидел Белого. Он был без
263
жены, которую оставил в Дорнахе. С первого взгляда я
понял, что ни о каком его успокоении нечего говорить.
Физически огрубелый, с мозолистыми руками, он был в
состоянии крайнего возбуждения. Говорил мало, но гла¬
за, ставшие из синих бледно-голубыми, то бегали, то
останавливались в каком-то ужасе. Облысевшее темя с
пучками полуседых волос казалось мне медным шаром,
который заряжен миллионами вольт электричества. По¬
том он приходил ко мне — рассказывать о каких-то
шпионах, провокаторах, темных личностях, преследо¬
вавших его и в Дорнахе, и во время переезда в Россию.
За ним подглядывали, его выслеживали, его хотели сгу¬
бить в прямом смысле и еще в каких-то смыслах иных.
Эта тема, в сущности граничащая с манией преследо¬
вания, была ему всегда близка. По моему глубокому
убеждению, возникла она еще в детстве, когда казалось
ему, что какие-то темные силы хотят его погубить, тол¬
кая на преступление против отца. Чудовищ, которые
были и подстрекателями, и Эринниями потенциального
отцеубийства, Белый на самом деле носил в себе, но ин¬
стинкт самосохранения заставил его отыскивать их во¬
вне, чтобы на них сваливать вину за свои самые темные
помыслы, вожделения, импульсы. Все автобиографичес¬
кие романы, о которых говорено выше, начиная с «Пе¬
тербурга» и кончая «Москвой под ударом», полны этими
отвратительными уродами, отчасти вымышленными,
отчасти фантастически пересозданными из действитель¬
ности. Борьба с ними, т. е. с носимым в душе зародышем
предательства и отцеубийства, сделалась на всю жизнь
основной, главной центральной темой всех романов Бе¬
лого, за исключением «Серебряного Голубя». Ни с рево¬
люцией, ни с войной эта тема по существу не связана и
ни в каком историческом обрамлении не нуждается. В
«Котике Летаеве», в «Преступлении Николая Летаева» и
в «Крещеном китайце» Белый без него и обошелся. С
событиями 1905 и 1914 гг. связаны только «Петербург»,
«Московский чудак» и «Москва под ударом». Но для
всякого, кто читал последние два романа, совершенно
очевидно, что в них эта связь грубейшим образом притя¬
нута за волосы. «Московского чудака» и «Москву под
ударом» Белый писал в середине двадцатых годов, в со¬
ветской России. И в тексте, и в предисловии он изо всех
сил подчеркивал, будто главный герой обоих романов,
математик Коробкин, олицетворяет «Свободную по су¬
ществу науку», против которой ведет страшную интригу
264
капиталистический мир, избравший своим орудием Ми¬
тю, коробкинского сына. В действительности до всей этой
абсолютно неправдоподобной «концепции» Белому не
было никакого дела. Его истинной целью было — дать
очередной вариант своей излюбленной темы о преступле¬
нии против отца. Темные силы, толкающие Митю на
преступление, наряжены в маски капиталистических
демонов единственно потому, что и отвращения. У Бело¬
го к этим чувствам примешивался и даже над ними до¬
минировал ужас порядка вполне мистического. Полиция
подстрекала преступника, сама же за ним следила и сама
же его карала, то есть действовала совершенно так, как
темные силы, на которые Белый сваливал свои отцеубий¬
ственные помыслы. Единство метода наводило его мысль,
точнее сказать — его чувство, на единство источника.
Политическая провокация получала в его глазах черты
демонические в самом прямом смысле слова. За спиной
полиции, от директора департамента до простого дворни¬
ка, ему чудились инспираторы потустороннего'проис¬
хождения. Обывательский страх перед городовым, вну¬
шенный ему еще в детстве, постепенно приобретал чудо¬
вищные размеры и очертания. Полиция всех родов, всех
оттенков, всех стран повергала его в маниакальный ужас,
в припадках которого он доходил до страшных, а иногда
жалких выходок. Ненастной весенней ночью, в пустын¬
ном немецком городке Саарове, мы возвращались от
Горького к себе в гостиницу. Я освещал дорогу карман¬
ным фонариком. Единственный сааровский ночной сто¬
рож, старый инвалид, замученный мраком, дождем и
скукой, брел по дороге шагах в десяти от нас,— должно
быть, привлеченный огнем, как ночная бабочка. Вдруг
Белый его увидел:
— Кто это?
— Ночной сторож.
— Ага, значит — полиция? За нами следят?
— Да нет же, Борис Николаевич, ему просто скучно
ходить одному.
Белый ускорил шаги — сторож отстал. На нашу беду,
в гостинице, куда примчались мы чуть не рысью, при¬
шлось долго звонить. Тем временем подошел сторож. Он
стоял поодаль в своем резиновом плаще с острым куколем.
Наконец он сделал несколько шагов к нам и спросил, в чем
дело. Вместо ответа Белый изо всех сил принялся дубасить
в дверь своею дубинкой. Нам отперли. Белый стоял посре¬
ди передней, еле дыша и обливаясь потом. (...)
265
* * *
О том, как он жил в советской России, мне известно
не много. Он все-таки женился на К. Н. Васильевой,
некоторое время вел антропософскую работу. Летом 1923
года, в Крыму, гостя у Максимилиана Волошина, поми¬
рился с Брюсовым. В советских изданиях его почти не
печатали. Много времени он отдавал писанию автобиог¬
рафии.
История этой работы своеобразна. Еще перед поезд¬
кою за границу он прочел в Петербурге лекцию — свои
воспоминания о Блоке. Затем он эти воспоминания пере¬
делывал дважды, каждый раз значительно расширяя.
Вторая из этих переделок, напечатанная в берлинском
журнале «Эпопея», навела его на мысль превратить вос¬
поминания о Блоке в воспоминания обо всей эпохе сим¬
волизма. В Берлине он успел написать только первый
том, рукопись которого осталась за границей и не была
издана. В России Белый принялся за четвертую редак¬
цию своего труда. Он начал с более ранней эпохи, с рас¬
сказа о детских и юношеских годах. Этот том вышел под
заглавием «На рубеже двух столетий». За ним, под загла¬
вием «Начало века», последовал первый том мемуаров
литературных. Тут произошел в Белом психологический
сдвиг, для него характерный. Еще в Берлине он жаловал¬
ся на то, что работа, выраставшая из воспоминаний о
Блоке, выходит слишком апологетической: Блок в ней
прикрашен, «вычищен, как самовар». В Москве Белый
решился исправить этот недостаток. Но в самое это время
были опубликованы неприятные для него письма Бло¬
ка — и он сорвался: апологию Блока стал превращать в
издевательство над его памятью.
Он успел, однако же, написать еще один том, «Между
двух революций», появившийся только в конце 1937 г.,
т. е. почти через три года после его смерти. В этой книге,
окончательно очернив Блока, он еще безжалостнее рас¬
правился чуть не со всеми прочими спутниками своей
жизни. Возможно, что он отчасти исходил из того поло¬
жения, что если Блок оказался представлен в таком дур¬
ном виде, то остальные подавно стоят того же. Но, зная
хорошо Белого, я уверен, что тут действовала еще одна
своеобразная причина.
Прикосновенность к религии, к мистике, к антропосо¬
фии — все это, разумеется, ставилось ему в вину теми
людьми, среди которых он теперь жил и от которых во
266
всех смыслах зависел. В автобиографии все это надо было
отчасти затушевать, отчасти представить в ином смысле.
Уже в предыдущем томе Белый явно нащупывал такие
идейные извороты, которые дали бы ему возможность
представить весь свой духовный путь как поиски рево¬
люционного миросозерцания. Теперь, говоря об эпохе,
лежавшей «между двух революций», он не только перед
большевиками, но и перед самим собой (это и есть самое
для него характерное) стал разыгрывать давнего, упорно¬
го, сознательного не только бунтовщика, но даже мар¬
ксиста или почти марксиста, рьяного борца с «гидрой
капитализма». Между тем объективные и общеизвестные
факты его личной и писательской биографии такой кон¬
цепции не соответствовали. Любой большевик мог поста¬
вить ему на вид, что деятельным революционером он не
был и что в этом-то и заключается его смертный грех
перед пролетариатом. И вот, совершенно так, как в авто¬
биографических романах он свою сокровенную вину пе¬
ред отцом перекладывал на таинственных демонических
подстрекателей, так и теперь всю свою жизнь он принял¬
ся изображать как непрерывную борьбу с окружающи¬
ми, которые будто бы совращали его с революционного
пути. Чем ближе был ему человек, тем необходимее было
представить его тайным врагом, изменником, провокато¬
ром, наймитом и агентом капитализма. Он пощадил лишь
нескольких, ныне живущих в советской России. Будь
они за границей — и им бы несдобровать. И совершенно
так же, как он демонизировал и окарикатуривал всех,
кто окружал героя в его романах, теперь он окарикату¬
рил и представил в совершенно дьявольском виде быв¬
ших своих друзей. Его замечательный дар сказался и тут:
все вышли похожи на себя, но еще более — на персона¬
жей «Петербурга» или «Москвы под ударом». Не сомне¬
ваюсь, что он работал с увлечением истинного художни¬
ка — и сам какой-то одной стороной души верил в то, что
выходит из-под пера. Однако, если бы большевики обла¬
дали большею художественной чуткостью, они могли бы
ему сказать, что как его квазиисторические романы в
действительности суть фантастические, ибо в них нере¬
альные персонажи действуют в нереальной обстановке,
так же фантастична и его автобиография. Больше того:
они могли бы ему сказать, что он окончательно разобла¬
чил самого себя как неисправимого мистика, ибо он не
только сочинил, исказил, вывернул наизнанку факты
вместе с персонажами, но и вообще всю свою жизнь пред-
267
ставил не как реальную борьбу с наймитами капитализ¬
ма, а как потустороннюю борьбу с демонами. Автобиог¬
рафия Белого есть такая же «серия небывших событий»,
как его автобиографические романы.
Я совсем не хочу сказать, что он внутренне был чужд
революции. Но, подобно Блоку и Есенину, он ее понимал
не так, как большевики, и принимал ее — не в больше¬
визме. Это, впрочем, особая, сложная и не мемуарная
тема.
Умер он, как известно, 8 января 1934 г., от последст¬
вий солнечного удара. Потому-то он и просил перед
смертью, чтобы ему прочли его давнишние стихи:
Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел,
Слушая в последний раз эти пророческие стихи, он,
вероятно, так и не вспомнил, что некогда они были пос¬
вящены Нине Петровской.
Париж, 1934—1938
Нина Берберова
ИЗ КНИГИ «КУРСИВ МОЙ»
Андрей Белый был в тот период своей жизни —
1921 — 1923 годы — в глубоком кризисе. Будучи со дня
своего рождения «сыном своей матери», но не «сыном
своего отца», он провел всю свою молодость в поисках
отца, и отца он нашел в антропософе Рудольфе Штейне¬
ре, перед первой мировой войной. Вернувшись на Запад
в 1921 году, после голодных лет военного коммунизма,
он встал перед трагическим фактом: Штейнер отверг его,
и Белый, потрясенный раскрывшимся перед ним одино¬
чеством, возвращенный в свою исконную беззащитность,
не мог ни преодолеть их, ни вырасти из них, ни прими¬
риться с ними. Причины, по которым Штейнер отверг
его, ясны тем, кто близко знал Белого в эти годы в Гер¬
мании. Одновременно Белый, после пяти лет жизни в
России, не вернул и ту, которая — он думал — автола-
268
тически вернется и которая, после его неудачной любви
к Л. Д. Блок, казалась ему якорем спасения,— но кото¬
рая никогда не собиралась им быть. Его пьянство, его
многоречивость, его жалобы, его бессмысленное и безыс
ходное мучение делало его временами невменяемым.
Поправить можно было все только изнутри, в себе самом,
как это почти всегда (не всегда ли?) бывает в жизни. Он,
однако, жил в надежде, что переменятся обстоятельства,
что та, которая не вернулась,— каким-то образом «пой¬
мет» и вернется, и что тот, который отверг его,— вновь
примет его в лоно антропософии. Белый не видел себя, не
понимал себя, не знал («жизнь прожить не сумел»), не
умея разрешить ни этого кризиса, ни всей трагической
ситуации своей, требуя от окружающего и судьбы для
себя «сладкого кусочка», а его не могло быть, как не
может быть его у тех, кто хоть и остро смотрит вокруг,
но не знает, как смотреть в себя. Он жил в глухоте, не
слыша хода времени и полагая в своем безумии, что
«мамочку» он найдет в любой женщине, а «папочку» —
в ускользнувшем от него учителе жизни. Но люди кру¬
гом становились все безжалостнее, и это было законом
времени, а вовсе не модой, веком, а не днем. Безжалос¬
тное в людях нашего времени началось еще в 80 — 90-х
годах прошлого века, когда Стриндберг писал свою «Ис¬
поведь глупца» — там можно найти некоторые ответы на
двуострую драму Андрея Белого. «Пожалейте меня!» —
но никто уже не умел, да и не хотел жалеть. Слово «жа¬
лость» доживало свои последние годы, недаром на мно¬
гих языках это слово теперь i ;именяется только в обид¬
ном, унижающем человека смысле: с обертоном
презрения на французском языке, с обертоном досады —
на немецком, с обертоном иронй геского недоброжела¬
тельства— на английском. От «пожалейте меня!», ска¬
занного в слезах, до удара громадным кулаком по столу:
«проклинаю всех!» —он почти каждый вечер проходил
всю гамму своего отношения к людям, в полубреду, ко¬
торый он называл «перерывом сознания». Я видела его
однажды играющим на старом пианино «Карнавал»
Шумана. Никто не слушал его, все были заняты своим,
собой, то есть «свирепейшей имманенцией». На следую¬
щий дёнь он не поверил мне, когда я сказала, что он играл
Шумана, а я с удовольствием слушала его, — он ничего не
помнил. В другой вечер он два раза рассказал Ходасевичу
и мне, в мельчайших подробностях, всю драму своей люб¬
ви к Л. Д. Блок и свою ссору с А. А. Блоком, и, когда, без
269
передышки, начал ее рассказывать в третий раз, я уви¬
дела, что Ходасевич скользит со стула на пол в глубоком
обмороке. В ту ночь Белый шумно ломился в дверь ко
мне, чтобы что-то досказать, и Ходасевич, в холодном
поту, шепотом умолял меня не открывать, не отвечать —
он боялся, что опять начнется этот дикий, страшный, не
имеющий, в сущности, ни смысла, ни конца рассказ.
Я знала и знаю его наизусть. Бледное отражение его
можно найти в «Воспоминаниях» Белого (в обоих изда¬
ниях: первом, основном, и втором, переделанном для
советской печати). Я знаю этот рассказ таким, каким его
слышала несчетное количество раз. Да и не я одна. Было
человек пять-шесть в то время в Берлине, которые попа¬
дались Белому вечерами между улицами Пассауэр, Ауг-
сбургер, Прагер и Гейсберг. Кое-кто из ходивших с ним
ночами в трактир «Цум Патценхофер» еще жив и сейчас.
Но они не расскажут всего, как и я не расскажу всего. В
начале этой книги я сказала, что люблю свои тайны. Но
я также храню и тайны других*.
Белый любил Ходасевича. Быть может, в период сен¬
тябрь 1922 — сентябрь 1923-го не было человека на све¬
те, которого бы он любил сильнее. Он любил меня, пото¬
му что я была женой Ходасевича, но иногда он пытался
восстановить меня против него, что ему, конечно, не
удавалось. Ходасевич не обращал на это никакого внима¬
ния, «предательство» в Белом было очень сильно, оно
было и в малом, и в большом, но я и теперь думаю (как
мы оба думали уже и тогда), что он был в тот период
своего кризиса, как насмерть раненный зверь, и все сред¬
ства казались ему хороши — делать больно другим, ког¬
да ему самому сделали так больно,— лишь бы выйти из
него, все удары были дозволены.
А параллельно с этим он писал, иногда целыми днями,
иногда — ночами. Это было время «Воспоминаний о Бло¬
ке», которые печатались в «Эпопее». Зимой мы жили в
* Об этих настроениях Белого много верного появилось в печати в 1964
году в России в книге превосходного «блоковеда» и автора статей о сим¬
волизме Влад. Ник. Орлова «Пути и судьбы». Пораженная его глубоким
пониманием и чувством эпохи, я решила весной 1964 года написать ему
письмо в Ленинград и спросить его, не могла ли бы я ему сообщить
некоторые дополнительные сведения о Белом — уже не на адрес типог¬
рафии «Советского писателя», куда я писала, а на его домашний адрес;
Орлов ответил мне, и я послала ему заказное письмо на семи страницах.
Орлов дал мне знать, что мое письмо было получено.
270
Саарове, под Берлином, где жил и Горький с семьей.
Борис Николаевич гостил у нас часто (см. стр. 189) и
писал, а вечерами читал нам вслух написанное. Да, я
слышала в его чтении эти страницы воспоминаний о
Блоке, я имела это высокое, незабываемое счастье. Быва¬
ло, до двух часов ночи он читал нам, сидя за столом, в
своей комнате, по черновику, а мы сидели по обеим сто¬
ронам" его и слушали. И один раз я помню, как я легла
на его кровать, это было вечером 1 января, накануне была
встреча Нового года у Горького и я легла в пять часов
утра, а днем мы гуляли втроем по снежным дорожкам
Саарова. Я легла на его кровать и, пока он читал, уснула.
Мне было стыдно сказать, что я была не в силах бороться
со сном, попросить его прервать чтение, отложить на
завтра. Я заснула крепким сном и временами, сквозь сон,
слышала его голос, но не могла проснуться. Ходасевич
поблескивал очками, обхватив руками худые колени,
покачиваясь, внимательно слушал. Это были главы «На¬
чала века».
— Какое придумать название к этой части? — беспо¬
койно спрашивал нас Белый несколько дней подряд.
— «Начало века»,— как-то сказала я случайно, и так
он и сделал.
Женщины вокруг него в тот год, когда я знала его,
видели все симптомы его слабости, но не понимали ее.
Многие из них в эту эпоху бури и натиска женской ини¬
циативы во всем (и в нашей среде) часто больше интере¬
совались, как работает дизель, чем закатами солнца, и
Белый не узнавал в них жеманных, переутонченных
(сейчас — смехотворных для нас) декаденток своей мо¬
лодости. Когда из Москвы приехала К. Н. Васильева
(ставшая впоследствии его женой), он встретил в ней
частично то, что искал: «мамочку», и материнскую за¬
щиту, и силу, и поддержку своим затуманенным и заму¬
ченным антропософским мысле-чувствам, в соединении
с отсветом на ней ортодоксального, чугунного штейнери-
анства. Ее не испугало это страшное распадение в нем
душевных сил под уродливым, мучительным давлением
вполне головного идеала. Или она не понимала кризиса
и видела в Борисе Николаевиче только заблудшую овцу,
существо, не поддержанное идеей, скользящее в гибель,
ищущее защиты от судеб? Или она и в самом деле была
сильным человеком, которого он искал? Или она только
сумела притвориться сильной и тем — отчасти — спас¬
ла его?
271
Между тем, он беспрерывно носил на лице улыбку
дурака-безумца, того дурака-безумца, о котором он ког¬
да-то написал замечательные стихи: я болен! я воскрес!
(«свалили, связали, на лоб положили компресс»). Эта
улыбка была на нем, как маскарадная маска или детская
гримаса,— он не снимал ее, боялся, что будет еще хуже.
С этой улыбкой, в которой как бы отлито было его лицо,
он пытался (особенно выпив) переосмыслить косм'ос, пе¬
рекроить его смысл по новому фасону. В то же время, без
минуты передышки, все его прошлое ходило внутри него
каруселью, грохоча то музыкой, то просто шумом, мель¬
кая в круговороте то лицами, а то и просто рожами и
харями минувшего. Теперь бы остановить это инферналь¬
ное верчение в глубине себя, начать бы жить заново, но
он не мог: во-первых, потому что это было свыше его сил,
и, во-вторых, потому, что настоящее было слишком
страшно.
Тамара Хмельницкая
ИЗ СТАТЬИ «ПОЭЗИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО»
Имя Андрея Белого прочно связано с русским симво¬
лизмом. Говорить о Белом только как о лирике или про¬
заике, мемуаристе или исследователе стиха, авторе про¬
граммных философских статей или блестящем полемисте
было бы крайне односторонне. Белый — прежде всего
деятель, организатор, вдохновитель и теоретик симво¬
лизма, хотя разнообразие его человеческой одаренности
не укладывается в рамки литературной школы. Худо¬
жественная практика Белого неотделима от его теорети¬
ческих и идейных исканий.
Даже поверхностное знакомство с деятельностью Ан¬
дрея Белого опровергает традиционные представления о
символистах как о писателях, сознательно отмахнув¬
шихся от жизни, ушедших в какие-то условные над¬
мирные высоты и потерявших контакт с реальным ис¬
торическим временем. На самом деле все было значи¬
тельно сложнее и противоречивее. Интерес к самым
конкретным вопросам современности у Белого несомне¬
нен. Он горячо откликался и на последние научные от¬
крытия, и на новые философские учения, и на реаль-
272
ные исторические события: революцию 1905 года, ее
трагическое поражение, первую мировую войну, ок¬
тябрьский переворот.
Любопытно, что именно в 1905 — 1906 годах он печа¬
тает множество статей и рецензий на социально-эконо¬
мические книги. Но к вопросам политическим и соци¬
альным Белый подходил не с марксистских позиций. Он
пытался разрешить их в туманном, космическом, а под¬
час и мистическом плане. Это характерная черта русских
символистов второго поколения, стремившихся выйти за
пределы узколитературных и эстетических задач.
Глубочайшее противоречие, характерное для млад¬
ших символистов, заключалось в несовпадении и разры¬
ве между очень реальным недовольством современной
действительностью и абстрактными, откровенно идеалис¬
тическими и даже теургическими поисками выхода из
создавшегося неблагополучия. С одной стороны — мечта
о переустройстве жизни; с другой — оторванность этой
мечты от действительной жизни страны и народа. Сим¬
волисты взывают к жизнетворчеству, но в их представле¬
нии оно мыслится не как преобразование всего уклада и
строя России, а как революция духа, совершающаяся в
уединенных глубинах философского сознания. Путаная
смесь неокантианских теорий познания, эстетических
идей Шопенгауэра и Ницше и особенно мистического
учения Вл. Соловьева о «мировой душе», о гармонии
истины, добра и красоты, облеченных в символ Премуд¬
рой Софии — «вечной женственности», которая должна
спасти и возродить мир,— становится отправной точкой
философских и поэтических исканий символистов. Бе¬
лый, как и Блок, и Вячеслав Иванов, как все самые зна¬
чительные символисты «второй волны», принадлежал,
по собственному его определению, к «детям рубежа». Все
они, каждый по-своему, чувствовали приближение боль¬
ших исторических перемен. Но они предвидели их не в
социальном переустройстве мира, а в создании новой
духовной культуры, призванной изменить самую приро¬
ду отношений между людьми. Они считали себя актив¬
ными участниками в создании этой новой культуры,
очень широкой, включающей, кроме литературы, и все
другие искусства, и науку, и философию, и религиозные
искания.
Трудно представить себе фигуру более характерную и
выразительную, чем Андрей Белый, для разработки тео¬
ретических и конкретно-творческих проблем, связанных
273
с этой многогранной культурой. Он был наделен эруди¬
цией, широтой интересов, энциклопедичностью в подхо¬
де к разнообразным областям науки, философии, искус¬
ства и жизни.
Для Белого в мире не существует единичных явлений.
Все взаимосвязано, и эту живую связь он пытается твор¬
чески охватить и воспроизвести не в статическом описа¬
нии, а в диалектике движения и развития. Он ищет пер¬
вооснов и первопричин любого исследуемого им факта.
Он всегда начинает с «сотворения мира*. Эту грандиоз¬
ность охвата, богатство огромного попутно привлекаемо¬
го материала, обилие ассоциаций и сопоставлений мы
найдем во всех трудах Белого: будь ли то книга о кризисе
культуры, сознания и жизни, или поэма о звуке — «Глос-
салолия», или исследование русского четырехстопного
ямба, или филологическое объяснение слова «Россия»,
или ранние статьи о формах искусства. Во всех работах
Белого поражает сочетание блестящей импровизации,
смелого полета воображения, щедрости крайне произ¬
вольных и парадоксальных, но виртуозно аргументиро¬
ванных домыслов — с несколько тяжеловесным, науко¬
образным аппаратом. Белый обильно снабжает свои тру¬
ды алгебраическими формулами, чертежами, диаграмма¬
ми, анатомическими таблицами. В этом сосуществовании
поэтической свободы мыслей и образов с наукоподобной
фундаментальностью тоже сказывается стремление к
единству науки и искусства, философии и пророческого
откровения. Соединяя, казалось бы, несоединимое, Бе¬
лый утверждает многогранный творческий процесс, в
котором для него заключается созидание и обновление
самой жизни.
«Искусство есть начало плавления жизни»,— пишет
Белый в статье «Театр и современная драма» (1907).—
♦ ...Искусство окрыляется там, где призыв к творчеству
есть вместе с тем призыв к творчеству жизни». Худож¬
ник должен стать собственной формой: его природное
«я» должно слиться с творчеством; его жизнь — долж¬
на стать художественной. Он сам «слово, ставшее
плотью».
Таким «художником жизни» был Андрей Белый. Все,
кто видел и слышал его,— Марина Цветаева, Вадим
Андреев, Илья Эренбург, В. Пяст, А. Гладков, жена Бе¬
лого К. Н. Бугаева, его ученица Н. И. Гагенторн — в
своих воспоминаниях, устных и письменных, на редкость
единодушно и похоже передают ошеломляющее впечат-
274
ление от встреч с ним, от необыкновенной выразитель¬
ности и заразительности его речи. Это не просто оратор¬
ский дар, это стихия. Белый влетал в комнату и ослеп¬
лял, как шаровая молния. Каждое слово Белого, каждое
его высказывание было прежде всего зрелищем, дейст¬
вом. Белый не говорил — он танцевал свои и чужие сти¬
хи. Вадим Андреев рассказывает, как в Берлине в 1921
году Белый танцевал «Скифы» Блока. Марина Цветаева
в своем очерке о Белом «Пленный дух» передает, как он
в блестящей импровизации на лету разнес «ничево¬
ков»— не только словом — голосом, жестом, ритмом:
♦ ...Это не просто вдохновение словесное, это — танец...
То с перил, то с кафедры, то с зеленой ладони вместе с
ним улетавшей лужайки, всегда обступленный, всегда
свободный... в вечном сопроводительном танце сюртуч¬
ных фалд... старинный, изящный, изысканный, пти¬
чий — смесь магистра с фокусником, в двойном, трой¬
ном, четверном танце: смыслов, слов, сюртучных ласточ¬
киных фалд, ног,— о, не ног! всего тела, всей второй
души, еще — души своего тела, с отдельной жизнью
своей дирижерской спины...»
То, что Белый танцевал свои стихи и выступления,
свидетельствует не столько о неукротимости его темпера¬
мента и нервном подъеме, сколько о постоянных поисках
синкретической формы выражения, в которой слово, инто¬
нация, ритм и жест образуют нераздельное единство.
Ведь и в писаниях своих Белый никогда не ограничи¬
вался словом как немым начертанием мыслей. Он выпе¬
вал, выборматывал и даже «вытопатывал», по собствен¬
ным многочисленным признаниям, не только строки сти¬
хов, но фразы своей ритмической прозы. «Мне, говоря
попросту, пелось: я ходил заряженный художественно...
и проза и стихи одинаково выпевались мною...»
Интонация и ритм — не единственный источник сло¬
весной выразительности для Белого. Он черпает и из
других искусств. Он создает себе красочную палитру из
коктебельских камушков и альбомов засохших осенних
листьев. Н. Н. Бугаева в своих воспоминаниях свидетель¬
ствует, что эти коллекции камушков и листьев Белый
клал перед собой во время работы над романом «Москва»
и, глядя на эту своеобразную палитру, описывал интерь¬
еры, пейзажи, оттенки и цвета женских платьев. В сбор¬
нике «Как мы пишем» Белый тоже об этом упоминает,
называя коллекцию камушков «красочными транскрип¬
циями».
275
И в большом, и в малом — всюду поиски создания
единого стиля из всех многообразных форм природы,
жизни и человеческого творчества.
В этих поисках Белого сказалась характерная тенден¬
ция символизма выйти за пределы какого-либо замкнутого
вида искусства, переплавить одну область искусства в дру¬
гую — соседнюю. Так Скрябин создает «световые симфо¬
нии», Чурлёнис в своих картинах передает текучесть и
движение музыки, струистость и звучность света.
И в своих теоретических статьях о формах и границах
искусства, и в своей художественной практике Белый
старался обогатить литературу всеми выразительными
средствами других искусств.
И хотя Белый создал много работ, скрупулезно ана¬
лизирующих форму,— «Опыт характеристики русского
четырехстопного ямба», «Ритм как диалектика», «Магия
слова», хотя именно Белый один из непосредствен¬
ных предшественников будущих формалистов, он никог¬
да не ограничивался исследованием формы изолирован¬
но от замысла и всегда искал в этих новых формах фи¬
лософских обобщений, творческого раскрытия сущности
явления.
Вся деятельность Белого — излучение ищущей мыс¬
ли. Недаром в 1919 году Белый мечтал об открытии
целой «Академии исканий», которая должна была стать
центром духовной жизни страны. Правда, реализовалась
эта мечта куда более скромно: организовали Вольную
философскую ассоциацию — так называемую Вольфи-
лу — средоточие идеалистических и отчасти религиоз¬
ных концепций и теорий. Замысел Белого был гораздо
более широк и космичен.
Белый в своих бурных творческих исканиях часто
менял философские увлечения, переходил от идеалисти¬
ческих теорий Ницше и Шопенгауэра к Вл. Соловьеву,
потом к неокантианским теориям Риккерта и Когена,
потом разочаровался и развенчал их, неожиданно для
самого себя в заграничном путешествии 1910 года попал
под гипноз мистических антропософских идей Рудольфа
Штейнера. В прокрустово ложе этих произвольных тео¬
рий не укладывались реальные сложности мира истори¬
ческих катаклизмов. Этот мир Белый воплощал и в ро¬
манах («Петербург»), и в трилогии («Москва»), и в книге
философских раздумий «На перевале», и в насыщенных
путевых очерках «Офейра», «Ветер с Кавказа», и в капи¬
тальных мемуарах, охватывающих напряженную жизнь
276
эпохи,— «На рубеже двух столетий», «Начало века»,
«Между двух революций».
В. Пяст справедливо окрестил Белого «чародеем
трудоспособности». Мощным и щедрым потоком изли¬
валась его творческая мысль, часто спорная и запутан¬
ная в хаосе противоречивых впечатлений, но вместе с
тем стремящаяся к кристаллизации, к утверждению
каких-то основных закономерностей бытия. Но в не¬
прерывной и быстрой смене своих исканий и работ
Белый всегда был одержим миссией творческого пере¬
устройства мира, которое он мыслил как создание
единой духовной культуры.
В позднем письме к Тициану Табидзе (1933) он остал¬
ся верен этому делу культуры так же, как в дни своей
юности, когда писал первые теоретические статьи о сим¬
волизме. Белый просит Тициана Табидзе помочь худож¬
нику Петрову-Водкину ознакомиться с Кавказом: «Ока¬
зав ему посильную помощь, Вы окажете содействие
культуре, той культуре, которая над всеми народами,
как купол, составляющий один народ, в котором я, Вы,
Сарьян и Водкин, как Рембо, Верлен, Ницше и т. д.—
братья».
Этому братству единой духовной культуры Белый
отдал всю свою творческую жизнь, полную исканий,
опытов, находок, чудовищных заблуждений и вдохно¬
венных наитий. <...>
По характеру своей поэзии Белый — художник не
устоявшихся результатов, а творческого процесса в его
движении. Он не застывает памятником, не предлагает
раз навсегда созданных скрижалей поэтического слова.
Он и сам до конца своих дней ищет и прислушивается к
жизни современной поэзии. Поэтому можно говорить не
столько о влиянии, сколько о взаимодействии. Скажем,
начинающего Маяковского поразили словесные откры¬
тия «Золота в лазури». Но поздний Белый в поэме «Хрис¬
тос воскрес» черпал из раннего Маяковского, автора
«Облака в штанах» и «Мистерии-Буфф». Взаимовлияние
отличает и поэтическую дружбу Белого с Мариной Цве¬
таевой.
Широту замыслов Белого, его тяготение к масштабно¬
му и космическому очень проницательно почувствовал и
определил Горький в письме к Пильняку от 10 сентября
1922 года: «...Белый — человек очень тонкой, рафиниро¬
ванной культуры, это писатель на исключительную тему,
существо его — философствующее чувство. Белому нель-
277
зя подражать, не принимая его целиком со всеми его
атрибутами — как некий своеобразный мир,— как пла¬
нету, на которой свой,— своеобразный — растительный,
животный и духовный миры».
Андрей Белый существует для нас сегодня как значи¬
тельное и многогранное явление поэтической культуры
XX века.
1966
ЗИНАИДА
ГИППИУС
1869—1945
Зинаида Николаевна Гиппиус (1869—1945) в детстве и юности
систематического образования не получила в связи с частыми
переездами семьи. В автобиографии она вспоминала: «Книги — и
бесконечные собственные, почти всегда тайные писания — только
это одно меня, главным образом, занимало».
В 1888 году состоялся ее поэтический дебют. Тогда же она
знакомится с Мережковским, за которого вскоре выходит замуж.
Гиппиус стояла у истоков русского символизма и была одним из
его негласных лидеров, принадлежала к религиозному крылу
этого направления. Важнейшие вехи жизни Гиппиус в России, по
ее собственному признанию, это устройство первых Религиозно¬
философских собраний (1901—1902), издание журнала «Новый
путь» (1902—1904) и «внутреннее переживание событий 1905
года». 1906—1908 годы — совместное с Мережковским и Филосо-
фовым (близкий друг Зинаиды Гиппиус и постоянный участник ее
салона) пребывание в Париже.
Поэзия Гиппиус отмечена выразительным сочетанием интел¬
лектуальной глубины и психологической подвижности, ритмичес¬
кой изысканности и стилистического мастерства. Брюсов отмечал
исключительное умение поэтессы «писать афористически, замы¬
кать свою мысль в краткие, выразительные, легко запоминающи¬
еся формулы». В ранних стихах Гиппиус как и все «старшие сим¬
волисты», исповедовала культ одиночества и иррациональных
предчувствий, романтизировала упадок, пыталась преодолеть ду¬
ховный кризис на путях веры. В поздних стихах обратилась к
поэтической публицистике.
На протяжении всего творческого пути Зинаида Гиппиус вы¬
ступала как талантливый литературный критик (на первых по¬
рах — под псевдонимом Антон Крайний), эссеист, мемуарист. В
1919 году эмигрировав из большевистской России вместе с Мереж¬
ковским, стала одним из самых значительных литераторов рус¬
ского зарубежья.
Изд.: Сочинения: стихотворения, проза. Л.; 1991.
ПЕСНЯ
Окно мое высоко над землею,
Высоко над землею.
Я вижу только небо с вечернею зарею,—
С вечернею зарею.
И небо кажется пустым и бледным,
Таким пустым и бледным...
Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.
Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю.
Стремлюсь к тому, чего я не знаю,
Не знаю.
И это желание не знаю откуда
Пришло откуда.
Но сердце просит и хочет чуда,
Чуда!
И пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает:
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает.
Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете...
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.
1893
281
БЕССИЛИЕ
Смотрю на море жадными очами,
К земле прикованный, на берегу...
Стою над пропастью — над небесами,
И улететь к лазури не могу.
Не ведаю, восстать иль покориться,
Нет смелости ни умереть, ни жить...
Мне близок бог — но не могу молиться,
Хочу любви — и не могу любить.
Я к солнцу, к солнцу руки простираю,
Я вижу полог бледных облаков...
Мне кажется, что истину я знаю —
И только для нее не знаю слов.
1893
СОНЕТ
Не страшно мне прикосновенье стали
И острота и холод лезвия.
Но слишкм тупо кольца жизни сжали
И, медленные, душат, как змея.
Но пусть развеются мои печали,
Им не открою больше сердца я...
Они далекими отныне стали,
Как ты, любовь ненужная моя!
Пусть душит жизнь, но мне уже не душно.
Достигнута последняя ступень.
И, если смерть придет, за ней послушно
Пойду в ее безгорестную тень:
Так осенью, светло и равнодушно,
На бледном небе умирает день.
1894
282
ПОСВЯЩЕНИЕ
Небеса унылы и низки,
Но я знаю — дух мой высок.
Мы с тобою так странно близки,
И каждый из нас одинок.
Беспощадна моя дорога.
Она меня к смерти ведет.
Но люблю я себя, как Бога,—
Любовь мою душу спасет.
Если я на пути устану,
Начну малодушно роптать,
Если я на себя восстану
И счастья осмелюсь желать,—
Не покинь меня без возврата
В туманные, трудные дни.
Умоляю, слабого брата
Утешь, пожалей, обмани.
Мы с тобою единственно близки,
Мы оба идем на восток.
Небеса злорадны и низки,
Но я верю — дух наш высок.
1894
ЛЮБОВЬ — ОДНА
Единый раз вскипает пеной
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
Измены нет: любовь — одна.
Мы негодуем иль играем,
Иль лжем — но в сердце тишина.
Мы никогда не изменяем:
Душа одна — любовь одна.
283
Однообразно и пустынно,
Однообразием сильна,
Проходит жизнь... И в жизни длинной
Любовь одна, всегда одна.
НАДПИСЬ НА КНИГЕ
Мне мило отвлеченное:
Я жизнь им создаю...
Я все уединенное,
Неявное люблю.
Я — раб моих таинственных,
Необычайных снов...
Но для речей единственных
Не знаю здешних слов...
1896
УЛЫБКА
Поверьте мне, меня не соблазнит
Печалей прежних путь давно пройденный.
Увы! Душа покорная хранит
Их горький след, ничем не истребленный.
Года идут, но сердце вечно то же.
Ничто для нас не возвратится вновь.
И ныне мне всех радостей дороже
Моя неразделенная любовь.
Ни счастья в ней, ни страха, ни стыда.
Куда ведет она меня — не знаю...
И лишь в одном душа моя тверда:
Я изменяюсь,— но не изменяю.
1897
284
МГНОВЕНИЕ
Сквозь окно светится небо высокое,
Вечернее небо, тихое, ясное.
Плачет от счастия сердце мое одинокое,
Радо оно, что небо такое прекрасное.
Горит тихий, предночный свет,
От света исходит радость моя.
И в мире теперь никого нет.
В мире только Бог, небо и я.
1898
ДО ДНА
Тебя приветствую, мое поражение,
тебя и победу я люблю равно;
на дне моей гордости лежит смирение,
и радость, и боль — всегда одно.
Над водами, стихнувшими в безмятежности
вечера ясного,— все бродит туман;
в последней жестокости — есть бездонность
нежности
и в Божьей правде — Божий обман.
Люблю я отчаяние мое безмерное,
нам радость в последней капле дана.
И только одно здесь я знаю верное:
Надо всякую чашу пить до дна.
1901
286
ПАУКИ
Я в тесной келье — в этом мире.
И келья тесная низка.
А в четырех углах — четыре
Неутомимых паука.
Они ловки, жирны и грязны.
И все плетут, плетут, плетут...
И страшен их однообразный
Непрерывающийся труд.
Они четыре паутины
В одну, огромную, сплели.
Гляжу — шевелятся их спины
В зловонно-сумрачной пыли.
Мои глаза — под паутиной.
Она сера, мягка, липка.
И рады радостью звериной
Четыре толстых паука.
1903
ВСЁ КРУГОМ
Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно-застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно-лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
286
Трупно-холодное, жалко ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!
Но жалоб не надо: что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: все будет иначе.
1904. СПб.
ЕСЛИ
Если ты не любишь снег,
Если в снеге нет огня,—
Ты не любишь и меня,
Если ты не любишь снег.
Если ты не то, что я —
Не увидим мы Лицо,
Не сомкнет он нас в кольцо,
Если ты не го, что я.
Если я не то, что ты,—
В пар взлечу я без следа,
Как шумливая вода,
Если я не то, что ты.
Если мы не будем в Нем,
Вместе, свитые в одно,
В цепь одну, звено в звено,
Если мы не будем в Нем,—
Значит, рано, не дано,
Значит, нам — не суждено,
Просияв его огнем,
На земле воскреснуть в Нем...
1905
287
ВОДОСКАТ
А. А. Блоку
Душа моя угрюмая, угрозная,
Живет в оковах слов.
Я — черная вода, пенноморозная,
Меж льдяных берегов.
Ты с бедной человеческою нежностью
Не подходи ко мне.
Душа мечтает с вещей безудержностью
О снеговом огне.
И если в мглистости души, в иглистости
Не видишь своего,—
То от тебя ее кипящей льдистости
Не нужно ничего.
1905
ИЗ ЦИКЛА «ТРИ ФОРМЫ СОНЕТА»
3
Б. Б-у*
...И не мог свершить там никакого чуда...
Не знаю я, где святость, где порок,
И никого я не сужу, не меряю.4
Я лишь дрожу пред вечною потерею:
Кем не владеет Бог — владеет Рок.
Ты был на перекрестке трех дорог,—
И ты не стал лицом к Его преддверию...
Он удивился твоему неверию
И чуда над тобой свершить не мог.
*Адресат посвящения — поэт Андрей Белый (Борис Бугаев).
288
Он отошел в соседние селения...
Не поздно, близок Он, бежим, бежим!
И, если хочешь — первой перед Ним
С безумной верою склоню колени я...
Не Он один — все вместе совершим,
По вере,— чудо нашего спасения.
1907. Париж
ЖЕНСКОЕ «НЕТУ»
Где гниет седеющая ива,
где был и нынче высох ручеек,
девочка на краю обрыва
плачет, свивая венок.
Девочка, кто тебя обидел?
Скажи мне: и я, как ты, одинок.
(Втайне я девочку ненавидел,
не понимал, зачем ей венок.)
Она испугалась, что я увидел,
прошептала странный ответ:
меня Сотворивший меня обидел,
я плачу оттого, что меня нет.
Плачу, венок мой жалкий сплетая,
и не тепел мне солнца свет.
Зачем ты подходишь ко мне, зная,
что меня не будет — и теперь нет?
Я подумал: это святая,
или безумная. Спасти, спасти!
Ту, что плачет, венок сплетая,
взять, полюбить и с собой увести...
— О, зачем ты меня тревожишь?
Мне твоего не дано пути.
Ты для меня ничего не можешь:
того, кого нет,— нельзя спасти.
10 Серебряный век
289
Ты душу за меня положишь,—
а я останусь венок свой вить.
Ну скажи, что же ты можешь?
Это Бог не дал мне — быть.
Не подходи к обрыву, к краю...
Хочешь убить меня, хочешь любить?
Я ни смерти, ни любви не понимаю,
дай мне венок мой, плача, вить.
Зачем я плачу — я тоже не знаю...
Высох — но он был, ручеек...
Не подходи к страшному краю:
мое бытие — плача, вить венок.
1907. Париж
НЕЛЮБОВЬ
Как ветер мокрый, ты бьешься в ставни,
Как ветер черный, поешь: ты мой!
Я древний хаос, я друг твой давний,
Твой друг единый,— открой, открой!
Держу я ставни, открыть не смею,
Держусь за ставни и страх таю.
Храню, лелею, храню, жалею
Мой луч последний — любовь мою.
Смеется хаос, зовет безокий:
Умрешь в оковах,— порви, порви!
Ты знаешь счастье, ты одинокий,
В свободе счастье — ив Нелюбви.
Охладевая, творю молитву,
Любви молитву едва творю...
Сабеют руки, кончаю битву,
Слабеют руки... я отворю.
1907
290
КАМЕНЬ
Камень тела давит дух,
Крылья белые, шелестящие,
Думы легкие и творящие...
Давит камень тела — дух.
Камень тела душит плоть,
Радость детскую, с тайной свитую
Ласку быструю и открытую...
Душит камень тела — плоть.
Камню к камню нет путей.
Мы в одной земле — погребенные
И собой в себе — разделенные...
Нам друг к другу нет путей.
1907
ВНЕЗАПНО...
Тяжки иные тропы...
Жизнь ударяет хлестко...
Чьи-то глаза из толпы
•взглянули так жестко.
Кто ты, усталый, злой,
путник печальный?
Друг ли грядущий мой?
Враг ли мой дальний?
В общий мы замкнуты круг
боли, тоски и заботы...
Верю я, все ж ты мне друг,
хоть и не знаю,— кто ты...
1908
10*
2S1
14 ДЕКАБРЯ
Ужель прошло — и нет возврата?
В морозный день, в заветный час
Они на площади Сената
Тогда сошлися в первый раз.
Идут навстречу упованью
К ступеням Зимнего Крыльца...
Под тонкою мундирной тканью
Трепещут жадные сердца.
Своею молодой любовью
Их подвиг режуще-остер,
Но был погашен их же кровью
Освободительный костер.
Минуты, годы, годы, годы...
А мы все там, где были вы.
Смотрите, первенцы свободы:
Мороз на берегах Невы!
Мы — ваши дети, ваши внуки...
У неоправданных могил
Мы корчимся все в той же муке,
И с каждым днем все меньше сил.
И в день декабрьской годовщины
Мы тени милые зовем.
Сойдите в смертные долины,
Дыханьем вашим — оживем.
Мы, слабые,— вас не забыли,
Мы восемьдесят страшных лет
Несли, лелеяли, хранили
Ваш ослепительный завет.
292
И вашими пойдем стопами,
И ваше будем пить вино...
О, если б начатое вами
Свершить нам было суждено!
14 декабря 1909.
Петербург
БАНАЛЬНОСТЯМ
Не покидаю острой кручи я
Гранит сверкающий дроблю,
Но вас, о старые созвучия,
Неизменяемо люблю.
Люблю сады с оградой тонкою,
Где роза с грезой, сны весны
И тень с сиренью — перепонкою,
Как близнецы, сопряжены.
Влечется нежность за безбрежностью
Все рифмы-девы,— мало жен...
О как их трогательной смежностью
Мой дух стальной обворожен!
Вас гонят... Словно дети малые,
Дрожат мечта и красота...
Целую ноги их усталые,
Целую старые уста.
Создатели домов лучиночных,—
Пустых, гороховых домов,
Искатели сокровищ рыночных
Одни боятся вечных слов.
293
Я — не боюсь. На кручу сыпкую
Возьму их в каменный приют,
Прилажу зыбкую им зыбку я...
Пусть отдохнут! Пусть отдохнут!
Январь 1914.
Петербург
ЕМУ
Радостные, белые, белые цветы...
Сердце наше, Господи, сердце знаешь Ты.
В сердце наше бедное, в сердце загляни...
Близких наших, Господи, близких сохрани!
1915
СЕГОДНЯ НА ЗЕМЛЕ
Есть такое трудное,
Такое стыдное.
Почти невозможное —
Такое трудное:
Это поднять ресницы
И взглянуть в лицо матери,
У которой убили сына.
Но не надо говорить об этом.
20 сентября 1916.
Петербург
294
«ГОВОРИ О РАДОСТНОМ»
В. Злобину
Кричу — и крик звериный...
Суди меня Господь!
Меж зубьями машины
Моя скрежещет плоть.
Свое — стерпю в гордыне...
Но — все? Но если все?
Терпеть, что все в машине?
В зубчатом колесе?
Ноябрь 1916
* * *
Он принял скорбь земной дороги,
Он первый, Он один,
Склонясь, умыл усталым ноги,
Слуга — и Господин.
Он.с нами плакал,— Повелитель
И суши, и морей...
Он царь и брат нам, и Учитель,
И Он — еврей.
<1916>
СТРАШНОЕ
Страшно оттого, что не живется — спится...
И все двоится, все четверится.
В прошлом грехов так неистово-много,
Что и оглянуться страшно на Бога.
295
Да и когда замолить мне грехи мои?
Ведь я на последнем склоне круга.
А самое страшное, невыносимое,—
Это что никто не любит друг друга...
1916
ВЕСЕЛЬЕ
Блевотина войны — октябрьское веселье!
От этого зловонного вина
Как было омерзительно твое похмелье,
О бедная, о грешная страна!
Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянный сном,
Народ, безумствуя, убил свою свободу,
И даже не убил — засек кнутом?
Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты...
И скоро в старый хлев ты будешь загнан
палкой,
Народ, не уважающий святынь.
29 октября 1917
СЕЙЧАС
Как скользки улицы отвратные,
Какая стыдь!
Как в эти дни невероятные
Позорно жить!
Лежим, заплеваны и связаны
По всем углам.
Плевки матросские размазаны
У нас по лбам.
296
Столпы, радетели, водители
Давно в бегах.
И только вьются согласители
В своих Це-ках.
Мы стали псами подзаборными,
Не уползти!
Уж разобрал руками черными
Викжель* — пути.
9 ноября 1917
14 ДЕКАБРЯ 17 ГОДА
Д. Мережковскому
Простят ли чистые герои?
Мы их завет не сберегли.
Мы потеряли все святое:
И стыд души, и честь земли.
Мы были с ними, были вместе,
Когда надвинулась гроза.
Пришла Невеста. И Невесте
Солдатский штык проткнул глаза.
Мы утопили, с визгом споря,
Ее в чану Дворца, на дне,
В незабываемом позоре
И в наворованном вине.
Ночная стая свищет, рыщет,
Лед по Неве кровав и пьян...
О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян!
* Викжель — Всероссийский исполнительный комитет железнодорож¬
ного профсоюза.
297
Рылеев, Трубецкой, Голицын!
Вы далеко, в стране иной...
Как вспыхнули бы ваши лица
Перед оплеванной Невой!
И вот из рва, из терпкой муки,
Где по дну вьется рабий дым,
Дрожа протягиваем руки
Мы к вашим саванам святым.
К одежде смертной прикоснуться,
Уста сухие приложить,
Чтоб умереть — или проснуться,
Но так не жить! Но так не жить!
ТАК ЕСТЬ
Если гаснет свет — я ничего не вижу.
Если человек зверь — я его ненавижу.
Если человек хуже зверя — я его убиваю.
Если кончена моя Россия — я умираю.
Февраль 1918
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Валерий Брюсов
ИЗ КНИГИ «ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ»
Имя 3. Н. Гиппиус, как поэта, достаточно знакомо
всем, кому близки и дороги судьбы русской поэзии. Свое¬
образное, вполне самостоятельное дарование 3. Гиппиус
давно определилось и, кажется, по всем направлениям
уже коснулось своих пределов. Ее стихи всегда обдуман¬
ны, умны, в них есть острая наблюдательность, направ¬
ленная как во вне, так и в глубь души; они всегда сдела¬
ны просто, но изящно и с большим мастерством. Видно,
что, как художнику, 3. Гиппиус доступны все современ¬
ные пути поэзии, но что сознательно она не хочет полной
яркости и полной звучности, избегает слишком резких
эффектов, слишком кричащих слов. За двадцать лет
своей литературной деятельности 3. Гиппиус напечатала
стихов очень немного, и новый ее сборник — всего вто¬
рой по счету, но среди ее стихотворений почти нет совсем
неудачных, лишних; все, той или иной стороной, инте¬
ресны, имеют право жить. Несколько слабее среди новых
стихотворений 3. Гиппиус те, в которых решительно
преобладает отвлеченная мысль, которые написаны как
бы для проповеди определенных религиозных идей. Эти
стихотворения порою обращаются исключительно к со¬
знанию читателя, мало говоря его чувству и его вообра¬
жению. Но, к счастью, такие стихотворения ув новой
книге 3. Гиппиус образуют лишь незначительную груп¬
пу, тогда как в других не только ярко выступают лучшие
стороны ее дарования, но и чувствуется его полный рас¬
цвет. Особенно удачны в книге стихи, посвященные
жизни природы (как целые стихотворения, так и отдель¬
ные строки в других) и можно смело сказать, что в неко-
299
торых из них 3. Гиппиус достигает чисто тютчевской
зоркости. Как прекрасна, напр., характеристика «весен¬
него ветла»:
И разрезающе остра
Его неистовая ласка,
Его бездумная игра...
Или другая характеристика, «августа»:
Пуста пустыня дождевая,
И, обескрылев в мокрой мгле,
Тяжелый дым ползет, не тая,
И никнет, тянется к земле.
Дневная дочь! ночные дни!
Среди чисто — лирических стихотворений сборника
также есть несколько, которые надо отнести к числу пре¬
краснейших созданий 3. Гиппиус: «Ты», «К ней», «Водо¬
скат». Наконец, значительными явлениями нашей поэ¬
зии должно признать те стихи 3. Гиппиус, в которых
она, с настоящей силой и со смелой широтой замысла,
касается вопросов современности: «Петербург», «Оно»,
«Zepp’lin III», «14 декабря».
Модест Гофман
3. Н. ГИППИУС
Очерк из «Книги о русских поэтах
последнего десятилетия»
Трудно отнестись вполне объективно к творчеству
Зинаиды Гиппиус — его можно любить или не любить. И
кому чужда современность, тому всегда останется чуж¬
дою Зинаида Гиппиус. Только история может сделать
справедливую оценку ее творчества, мы же неспособны
на таковую, так как слишком близко стоим к ней и часто
наши молитвы, молитвы нашего времени встречаются с
молитвами 3. Гиппиус. И нам думается, что история
нового течения русской поэзии не может не вспомнить
имени Зинаиды Гиппиус, так как ее обособленные и «од¬
нообразные в своеструнности» стихи являются вполне
выразителями современного настроения и творчества.
Душа поэзии Гиппиус — это душа современного чело-
300
века, расколотого, часто бессильно-рефлективного, но
вечно-порывающегося, вечно-тревожного, ни с чем не
мирящегося и ни на чем не успокаивающегося.
В творчестве Зинаиды Гиппиус легко уследить следы
исторических веяний, исторических условий обстанов¬
ки. 3. Гиппиус начала свою творческую деятельность в то
время, когда живы были еще скорбные пеони и жалоб¬
ные стоны Надсона, и бессилие Надсона с оттенком сен¬
тиментальности оказало свое, и притом довольно значи¬
тельное, влияние на творческую душу Гиппиус.
Долгий путь, пройденный Гиппиус от конца восьмиде¬
сятых и до начала девятисотых годов, путь исторический
и быстрый,— сильно отразился на ее сложной, впечатли¬
тельной душе: все прошлые увлечения и симпатии,— от
которых потом 3. Гиппиус отказывалась,— как осадок,
оставались в ней, и еще более осложняли ее душу, «на¬
двое переломленную» ее волей,— и заставляли ее перехо¬
дить к новым учениям, к новой вере с болью, с надорван-
ны?л криком.
Творчество 3. Гиппиус представляет собою нередко
какое-то странное соединение искренности искания — с
изломанною искренностью бессилия и вычурностью, и
холодной, ледяной гордости и презрения ко всему — с
жалобными мотивами смиренности и своеобразным сен¬
тиментализмом. Но во всем, даже в ее видимой неискрен¬
ности, нескрываемой ею, чувствуется искренняя, слож¬
ная и надломленная душа современного человека, мечта¬
ющая о том, чего никогда не бывает, просящая не
счастья, от которого она отказывается, а истины, кото¬
рую она не способна принять по своему бессилию, и все-
таки ищущая ее, все-таки повторяющая —
О том молюсь, что выше счастья —
и отдающаяся новым созерцаньям, не жалея о пройден¬
ных ступенях неясной детской веры для отыскания но¬
вой, истинной веры — со знанием. Часто мышление, го¬
ловное перевешивает в 3. Гиппиус все остальное, но глу-
боко-чувствующая и умеющая чувствовать ее душа
сказывается и в этих головных увлечениях, и они иногда
облекаются в плоть и кровь живых не всегда ярких, но
сильных, искренних и художественных образов. Что
говорят о прославлении Дьявола, Зла Зинаидой Гиппи¬
ус! — ее двойственная душа всегда стремится к светлому
воскресению, к победе, но в изнеможении бессилия она
устает, и небо кажется ей «таким пустым и бледным» и
301
странно сердце радуют
Безмолвие и смерть.
В стихотворении «Осень» она говорит:
Приветствую смерть я
С бездумной отрадой,
И муки бессмертья
Не надо, не надо!
и в ее равнодушном отчаянии бессилия и смерть кажется
ей «такой же пустою». И Зинаида Гиппиус очень много
и красиво говорит о своем бессилии, о своей израненной
душе «в крови», как будто даже рисуется ею, гордится,
выставляя ее на показ всем, пишет порою странные дека¬
дентские строчки «с дерзанием». И от этой рисовки бес¬
силием, еще ярче оттеняется ее подлинное, истинное
бессилие, ее надорванная, изломанная современная душа.
Какая-то необычайная честность и строгость к себе
отмечают творчество Гиппиус — она все время «в себя
глядит, судит, мерит»,— и не верит в себя. Пусть бес¬
сильной и болезненной является иногда эта рефлексия,
этот порою мелкий самоанализ, похожий на самовлюб¬
ленность, но рефлексия часто удерживает 3. Гиппиус от
успокоения в найденной вере красивых слов и фраз, дает
ей сознание, что в прекрасной проповеди, решительной,
властной и собой упоенной,— может быть.
Мы так беспомощны, так жалки и смешны.
И по этой причине Гиппиус никогда не успокаивается,—
и даже тогда, когда верит в воскресение и жизнь, и когда
видит свет,— не пишет бахвальных слов о том, что «уж
больно глазам от нестерпимого света: так сверкает то, что
впереди» (Городецкий); вместо этого она и тут признает¬
ся в своем бессилии. И, как это часто бывает с слабыми
и бессильными, неимеющими силы в себе, она молится о
чуде извне, просит чуда даже у «пустых и бледных не¬
бес», ждет «от Бога чуда», и перед могильною землею
Гиппиус нервно восклицает:
Я требую чуда
Душою всесильною...
Это требование чуда часто принимает характер, близ¬
кий к требованию знамений, к заклинанию Василия
Фивейского. Удивительно ли, что она «всесильною ду¬
шою» требует чуда —
302
Но веет оттуда —
Землею могильною...
И мольба о чуде, жажда его в собственном бессилии
приводит Зинаиду Гиппиус к религиозным исканиям. Че¬
рез долгие, тяжелые пути сомнения, медленно и мучитель¬
но, приближаясь и уходя,— Гиппиус подходит к христи¬
анству. Но христианство в его исторической форме, в его
безжизненности, в проклятии мира, любви (♦Христианин»
и другие стихотворения), с его взглядом на жизнь, как на
♦бремя», с его заботливостью хранить веру и жить ♦без
возмущений и безумий», покорность христианства — не
удовлетворяют «непокорное, возмущенное сердце» Гиппи¬
ус. И через критику исторического христианства, поэт
приходит к апокалиптическому — так называемому ♦не¬
охристианству» .
В этой разъединенной, сложной, двойственной душе
странным образом, но вполне искренно, мирятся «всему
покорственный привет без битвы» — с вечными возму¬
щениями и она сама признается в том, что
На дне моей гордости лежит смирение.
Мотив самоутверждения, последняя буква алфавита —
«я» — часто повторяется в стихах Гиппиус, но невозмож¬
ность что-нибудь сделать от себя, бессилие заставляют в
конце концов признать поэта, что не «все в ее власти» и
отдать «дух несмелый и тяжесть» Иисусу; и в апокалип¬
тическом стихотворении «Белая Одежда» она говорит:
Времен и сроков я не ведаю,
В Его руке Его создание...
Но победить — Его победою
Хочу последнее страдание.
Эти две раздельные стороны своей души, два своих
лика, Гиппиус принимает за один и если ей еще в 95-м
году «мудрый соблазнитель» казался «непонятым Учите¬
лем Великой Красоты», то в 901 году «Божия правда и
Божий обман» ей кажутся уже полюсами, которые суть
одно и то же:
Небо — вверху; небо — внизу.
Звезды — вверху; звезды — внизу.
Все, что вверху, то и внизу.
Если поймешь,— благо тебе.
(Tabula Smaragdina).
303
и ей кажется (в глубоко-символическом стихотворении
«Электричестро»), что «да» и «нет» сольются, и «смерть
их будет свет». И Дьявол, как отрицательное начало, как
начало не должное, обращается теперь для Гиппиус (как
и для Мережковского) в серого черта с насморком — во¬
площение мещанской серединности, пошлости.
Впрочем, эта теория верхнего и нижнего неба, то
убеждение (очень ясно выраженное в ее рассказе «Зерка¬
ла»), что «надо всякую чашу пить — до дна», по-видимо-
му, недолго занимает воображение Гиппиус и мотив этот
больше почти не повторяется в ее поэзии. Очень сомни¬
тельная близость Гиппиус к сатанизму говорит только об
ее честности искания.
Никто из обособленных поэтов не тяготится быть может
так своею отторженностью ото всех, своим одиночеством,
как Зинаида Гиппиус. Достаточно ясно говорит об этом ее
предисловие («Необходимое о стихах») к сборнику: «совре¬
менный поэт утончился и обособился, отделился, как чело¬
век (и, естествено, как стихотворец), от человека, рядом
стоящего, ушел даже не в индивидуализм, а в тесную субъ¬
ективность. Именно обособился, перенес центр тяжести в
свою особенность, и поет о ней, потому что в ней видит
свой путь, святое своей души. Это может казаться печаль¬
ным, но тут нет ничего безнадежного или мелкого; и опе¬
чаленных пусть утешает мысль, что это современное, а все
«современное» — временно. Неизбежная одинокая дорога
быть может ведет нас, и в области поэзии, к новому, еще
более полному общению»...
Гиппиус с мучительной болью говорит о том, что «в
одиночестве зверином живет доныне человек», но наде¬
ется на то, что
Мы соберемся в скорби священной,
В дыме курений, при пламени свеч,
Чтобы смиренно и дерзновенно
В новую плоть наши мысли облечь.
Мы соберемся, чтобы хотеньем
В силу бессилие преобразить,
Веру — со знанием, мысль — с откровеньем,
Разум — с любовью соединить.
Но Гиппиус и здесь остается верной своей честности ис¬
кания и не прикрывает высокими фразами своего одиночес¬
тва, мучения и боли одиночества. И сильно, глубоко и ис¬
кренно звучат ее одинокие стихотворения об одиночестве.
304
Тяжелый долгий путь искания в неблагоприятной
обстановке «Все кругом» нередко приводит Гиппиус к
какому-то холодному, металлическому, равнодушно-ус¬
талому описыванию зла— «Пьявки», «Пауки», «Все кру¬
гом». «В гостиной»...
Серая комната. Речи не спешные,
Даже не страшные, даже не грешные.
Не умиленные, не оскорбленные,
Мертвые люди, собой утомленные...
Я им подражаю. Никого не люблю.
Ничего не знаю. Я тихо сплю.
Но и «Все кругом» оканчивается надеждой:
Но жалоб не надо, что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: все будет иначе.
И обстановка «Все кругом» измучила, обессилила тре¬
вожную творческую душу Зинаиды Гиппиус, изломала ее
и в творчестве ее нередко можно встретить слабые места,
изломанное, вычурное декадентство («Никогда», «Ты
любишь?», «Серенада», «Числа», «13» и др.) и сердце
Гиппиус по-декадентски
трепещет оно и боится,
что ожидание — может свершиться.
Кроме лирических стихотворений, часто встречаются
очень удачные и простые описания природы; эти стихот¬
ворения («Осень», «Пыль», «Вечер», «Там», «Нить»...)
по своему глубокому символизму, музыкальной напев¬
ности и выразительности, по своей художественной прав¬
де напоминают Ф. И. Тютчева и принадлежат к лучшему,
что есть в творчестве Гиппиус.
Стих Зинаиды Гиппиус всегда свободный, легкий, кра¬
сивый, напевный, очень индивидуальный, характерный,
очень гибкий; общих мест, общеупотребительных рифм в
нем почти совсем не встречается, попадаются очень инте¬
ресные и звучные тройные рифмы, в последнее же время
(«Водоскат») стих 3. Гиппиус еще более окреп и получил
известную выкованность — в «Водоскате» Гиппиус уже че¬
канит стих. Размерами Гиппиус пользуется очень свободно
и легко, и, как талантливому поэту, они ей очень удаются.
Строгая законченность, отличительное свойство
«книг» Валерия Брюсова, совершенно отсутствует в твор¬
честве 3. Гиппиус. Творчество 3. Гиппиус — творчество
306
минут, а не жизни. Вот почему у нее почти нет циклов,
вот почему ее сборники стихов, рассказов, статей — яв¬
ляются случайными сборниками разных стихов, расска¬
зов, статей, а не живым целым — книгою.
Большой интерес представляют также рассказы Гип¬
пиус, но они имеют крупный недостаток неровности:
наряду с лучшими рассказами и местами — попадаются
слабые и ученические.
Антон Крайний (псевдоним Зинаиды Гиппиус в кри¬
тических статьях) еще сильнее подчеркивает и без того
яркую индивидуальность поэта «Тихого пламени», в его
бессилии часто тихого тления.
Мы не можем сомневаться в искренности исканий
3. Гиппиус, в настоящем горении ее, но не можем и пре¬
увеличивать этого горения и принимать ее.тихую лампа¬
ду за костер или за солнце, которое она называет «гру¬
бым светилом недосягаемых высот».
Все ее искания происходят в комнате с наглухо зако¬
лоченными ставнями, в комнате, в четырех углах кото¬
рой «четыре неутомимых паука».
В одной из своих статей («Хлеб жизни») 3, Гиппиус
говорит: «любовь нельзя создать, когда ее нет, даже если
она и нужна, да и неизвестно, что собственно значит «лю¬
бовь». Таким образом сказать «любовь — все равно, что не
сказать ничего». И через несколько строчек мы читаем:
«Мы их (науку, культуру, искусство, любовь и т. д.) не
отдадим, но нам нужно, чтобы их облила волна живой
воды и мы уже знаем, почти все, что эта вода — понятие об
Отце и Сыне. Да и Сыне, потому что только Сын углубляет,
утверждает и объясняет до конца понятие об Отце».
И на этом постулате «нам нужно» строится у 3. Гип¬
пиус ее религия — понятие об Отце и Сыне («нам нуж¬
но»), о бессмертии («нам нужно»), о преображении и
освящении плоти и пола («нам нужно»).
«Нам нужно», а не живое глубокое религиозное чув¬
ство заставляет 3. Гиппиус гореть («тихим пламенем»).
Что касается до ее философских обоснований рели¬
гии — мы умолчим их из уважения к поэтическому та¬
ланту 3. Гиппиус.
Гиппиус постулирует святость пола, но не чувствует ее
и рассказы ее на тему пола немногим возвышаются над
порнографией («Тварь», «Маврушка», «Сокатил» и т. д.).
3. Гиппиус постулирует Бога Отца и Бога Сына, но
что, кроме скуки, могут вызывать ее безогненные и без¬
жизненные строки
зоб
Мое начало. Мой конец.
Тебя в ком Сын, тебя, кто в Сыне —
безначально и бесконечно.
Тихо освещает глухую комнату поэта тихое пламя
лампады и не дает ей ни одного ответа на ее искания, на
ее требования и мечется в этой комнате поэт и в злобной
неудовлетворенности своей мечет недолетающие ядови¬
тые стрелы и бумеранги, возвращающиеся на ее же голо¬
ву.— На всех, для кого солнце не является грубым свети¬
лом недосягаемых высот, на всех видевших «в ночи звез¬
дноокой с колоннами вечными храм» мечет стрелы Антон
Крайний даже тогда, когда слышит созвучные молитвы
к Богу, но исполненные живою силою жизни — и падает
с израненной душой — в крови и чуть заметно даже не
горит, а тлеет ее лампада.
Болезненная современность — главный, органический
недостаток творчества Зинаиды Гиппиус.
Много и других недостатков можно находить в твор¬
честве Зинаиды Гиппиус, но нельзя найти у этого круп¬
ного современного поэта, с ярко выраженною индивиду¬
альностью, «греха Богоубиения» — «жизни без прокля¬
тия и без молитвы».
1909
Нина Берберова
ИЗ КНИГИ «КУРСИВ МОЙ»
Я помню ярко, как они вошли: открылась дверь, рас¬
пахнулись обе половинки, и они вступили в комнату. За
ними внесли два стула, и они сели. Господину с бород¬
кой, маленького роста, было на вид лет шестьдесят,
рыжеватой даме — лет сорок пять. Но я не сразу узнала
их. Вас. Ал. Маклаков, читавший свои воспоминания о
Льве Толстом, остановился на полуфразе, выждал, пока
закрылись двери, затем продолжал. Все головы поверну¬
лись к вошедшим. Винавер (это было в большой гостиной
Винаверов) привстал, затем опять сел. По всей гостиной
прошло какое-то едва заметное движение. Кто они? —
подумала я: на несколько минут какая-то почтительность
повисла в воздухе. И вдруг что-то ударило меня ответом,
когда я еще раз взглянула на него: прежде, чем узнать ее,
307
я узнала его, меня ввело в заблуждение то, что она вы¬
глядела так молодо, а ведь ей было в то время под шесть¬
десят! Это были Мережковские.
Положив ногу на ногу и закинув голову, слегка при¬
крывая веками свои близорукие глаза (ставшие к старости
косыми), она играла лорнеткой, слушая Маклакова, кото¬
рый цветисто и уверенно продолжал свой рассказ. Она
всегда любила розовый цвет, который «не шел» к ее темно¬
рыжим волосам, но у нее были свои критерии, и то, что в
другой женщине могло бы показаться странным, у нее
делалось частью ее самой. Шелковый, полупрозрачный
шарф струился вокруг ее шеи, тяжелые волосы были уло¬
жены в сложную прическу. Худые маленькие руки с нена¬
крашенными ногтями были сухи и безличны, ноги, кото¬
рые она показывала, потому что всегда одевалась коротко,
были стройны, как ноги молодой женщины прошлых вре¬
мен. Бунин смеясь говорил, что у нее в комоде лежит сорок
пар розовых шелковых штанов и сорок розовых юбок
висит в платяном шкафу. У нее были старые драгоценнос¬
ти, цепочки и подвески, и иногда (но не в тот первый
вечер) она появлялась с длинной изумрудной слезой, ви¬
севшей на лбу на узкой цепочке между бровями. Она не¬
сомненно искусственно выработала в себе две внешние
черты: спокойствие и женственность. Внутри она не была
спокойна. И она не была женщиной. <...>
После доклада гости переходили в столовую, где их
ждал ужин. Зинаида Николаевна плохо видела и плохо
слышала, и ее смех был ее защитой — она играла лорнет¬
кой и улыбалась, иногда притворяясь более близорукой,
чем была на самом деле, более глухой, иногда переспраши¬
вая что-нибудь, прекрасно ею понятое. Между нею и внеш¬
ним миром происходила постоянная борьба-игра. Она, на¬
стоящая она, укрывалась иронией, капризами, интригами,
манерностью от настоящей жизни вокруг и в себе самой.
Они жили в своей довоенной квартире, это значит,
что, выехав из советской России в 1919 году и приехав
в Париж, они отперли дверь квартиры своим ключом и
нашли все на месте: книги, посуду, белье. У них не было
чувства бездомности, которое так остро было у Бунина и
у других. В первые годы, когда я еще их не знала, они
бывали во французских литературных кругах, встреча¬
лись с людьми своего поколения (сходившего во Фран¬
ции на нет), с Ренье, с Бурже, с Франсом.
— Потом мы им всем надоели,— говорил Дмитрий
Сергеевич,— и они нас перестали приглашать.
308
— Потому что ты так бестактно ругал большевиков,—
говорила она своим капризным скрипучим голосом,— а
им всегда так хотелось их любить.
— Да, я лез к ним со своими жалобами и пхохочествами
(он картавил), а им хотелось совсем другого: они находили,
что русская революция ужасно интересный опыт, в экзо¬
тической стране, и их не касается. И что, как сказал Ллойд
Джордж, торговать можно и с каннибалами.
Вечерами она сидела у себя на диване, под лампой, в
какой-нибудь старой, но все еще элегантной кацавейке,
куря тонкие папироски или, приблизив работу к глазам,
шила что-то (она любила шить), поблескивая наперстком
на узком пальце. Запах духов и табаку стоял в комнате.
— Где мои кусочки? — спрашивала она, роясь в лос¬
кутках.
— Где моя булочка? — спрашивала она за чаем, при¬
ближая к себе хлебную корзинку.
В. А. Злобин ставил перед ней чашку.
— Где моя чашка? — и она обводила невидящими гла¬
зами стены комнаты.
— Дорогая, она перед вами,— терпеливо говорил Зло¬
бин своим умиротворяющим, веским тоном.— А вот и
ваша булочка. Ее никто не взял. Она ваша.
Это была игра, но игра, которая продолжалась между
ними много лет (почти тридцать) и которая обоим была
необходима.
Потом открывалась дверь кабинета, и Д. С. входил в
столовую. Я никогда не слышала, чтобы он говорил о
чем-нибудь, что было бы неинтересно. 3. Н. часто спра¬
шивала, говоря о людях:
— А он интересуется интересным?
Д. С. интересовался интересным, это было ясно с перво¬
го произнесенного им слова. Он создал для себя свой мир,
там многого недоставало, но то, что ему было необходимо,
там всегда было. Его мир был основан на политической
непримиримости к Октябрьской революции, все остальное
было несущественно. Вопросы эстетики, вопросы этики,
вопросы религии, политики, науки, все было подчинено
одному: чувству утери России, угрозы России миру, горечи
изгнания, горечи сознания, что его никто не слышит в его
жалобах, проклятиях и предостережениях. Иногда все это
было только подводным течением в его речах, которое в
самом конце вечера вырывалось наружу:
— ...и вот потому-то мы тут! — Или:
— ...и вот потому-то они там!
309
Но чаще вся речь была окрашена одним цветом:
— Зина, что тебе дороже: Россия без свободы или сво¬
бода без России?
Она думала минуту.
— Свобода без России,— отвечала она,— и потому я
здесь, а не там.
— Я тоже здесь, а не там, потому что Россия без свободы
для меня невозможна. Но...— и он задумывался, ни на кого
не глядя,— на что мне, собственно, нужна свобода, если
нет России? Что мне без России делать с этой свободой?
И он замолкал, пока она искала, что бы такое сказать,
слегка ироническое, чтобы в воздухе не оставалось этой
тяжести и печали.
Время от времени она принималась расспрашивать
меня о моем петербургском детстве, о прошлом. Я не
любила говорить, я больше любила слушать. И тогда
говорила она. И какая-то смутная тайна чувствовалась в
ней, тайна, дававшая ей всю ее своеобразность, и тайна,
дававшая ей все ее страдание.
Она болезненно любила свою мать. Все четыре сестры
(братьев не было) болезненно любили свою мать. Она
единственная из сестер вышла замуж, три другие оста¬
лись в девушках, две в советской России, и за одной из
них когда-то ухаживал Карташев и собирался жениться,
но вмешался Д. С. и свадьба не состоялась. Эти две жен¬
щины оказались во время войны (в 1942 году) в Пскове
у немцев, и 3. Н. пыталась списаться с ними. Они, веро¬
ятно, погибли при немецком отступлении. Это были те
Тата-Ната, о которых Белый писал в своих воспоминани¬
ях. Третья сестра была высохшая, полоумная Анна Ни¬
колаевна, состоявшая «при соборе» на улице Дарю (автор
книги о житии Тихона Задонского), одна из тех, что
чистят образа, чинят ризы и бьют поклоны.
Анна иногда забегала к 3. Н., сидела на краю стула и
беспокойно молчала. Племянника же Д. С. и его жену я
никогда у них не видела. Это был сын старшего брата Д. С.,
Константина Сергеевича, автора книги «Земной рай», уто¬
пии 27-го века. Он родился в 1854 году, был профессором
Казанского университета, автором нескольких научных
книг, но в начале нашего столетия он был судим за совра¬
щение малолетней и сослан в Сибирь. Сын его был человек
довольно замечательный, изобретатель всевозможных ве¬
щей — от усовершенствованной мины до губного каранда¬
ша, не пачкающего салфетки. Ни он, ни жена его, видимо,
никогда у Мережковских не бывали. <...>
310
В 3. Н. тоже не чувствовалось желания разрешать в
поэзии формальные задачи, она была очень далека от
понимания роли слова в словесном искусстве, но она по
крайней мере имела некоторые критерии, имела вкус,
ценила сложность и изысканность в осуществлении фор¬
мальных целей. Русский символизм жил недолго, всего
каких-нибудь тридцать пять лет, а русские символисты
и того меньше: Бальмонт был поэтом пятнадцать лет.
Брюсов — двадцать, Блок — восемнадцать — люди ко¬
роткого цветения. В Гиппиус сейчас мне видна все та же
невозможность эволюции, какая видна была в ее совре¬
менниках, то же окаменение, глухота к динамике своего
времени, непрерывный культ собственной молодости,
которая становилась зенитом жизни, что и неестествен¬
но, и печально и говорит об омертвении человека.
Я тоже вижу сейчас, что в Гиппиус было многое, что
было и в Гертруде Стайн (в которой тоже несомненно был
гермафродитизм, но которая сумела освободиться и осу¬
ществиться в гораздо более сильной степени): та же
склонность ссориться с людьми и затем кое-как мирить¬
ся с ними и только прощать другим людям их нормаль¬
ную любовь, в душе все нормальное чуть-чуть презирая
и, конечно, вовсе нс понимая нормальной любви. Та же
черта закрывать глаза на реальность в человеке и под
микроскоп класть свои о нем домыслы или игнорировать
плохие книги расположенного к ней (и к Д. С.) человека.
Как Стайн игнорировала Джойса, так и 3. Н. не говорила
о Набокове и не слушала, когда другие говорили о нем.
Стайн принадлежит хлесткое, но несправедливое опреде¬
ление поколения «потерянного» (как бы санкционирую¬
щее эту потерянность); 3. Н. считала, что мы все (но не
она с Д. С.) попали «в щель истории», что было и невер¬
но, и вредно, и давало слабым возможность оправдания
в слабости, одновременно свидетельствуя о ее собствен¬
ной глухоте к своему веку, который не щель, а нечто как
раз обратное щели.
Было в ней сильное желание удивлять, сначала — в
молодости — белыми платьями, распущенными волоса¬
ми, босыми ногами (о чем рассказывал Горький), по¬
том — в эмиграции — такими строчками в стихах, как
«Очень нужно!» или «Все равно!», или такими рассказа¬
ми, как «Мемуары Мартынова» (которые никто не по¬
нял, когда она его прочла за чайным столом, в одно из
воскресений, кроме двух слушателей, в том числе меня.
А Ходасевич только недоуменно спросил: венерическая
311
болезнь? — о загадке в самом конце). Удивлять, пора¬
жать, то есть в известной степени быть эксгибиционист¬
кой: посмотрите на меня, какая я, ни на кого не похо¬
жая, особенная, удивительная... И смотришь на нее иног¬
да и думаешь: за это время в мире столько случилось
особенного, столько не похожего ни на что и столько
действительно удивительного, что — простите, извини¬
те,— но нам не до вас!
К ним ходили все или почти все, но лучше всего бы¬
вало мне с ней, когда никого не было, когда разливался
в воздухе некоторый лиризм, в котором я чувствовала,
что мне что-то «перепадает». Я написала однажды стихи
на эту тему о «перепадании» и напечатала их, они оба,
вероятно, прочли их, но не догадались, что стихи отно¬
сятся к ним. Вот эти стихи:
Труд былого человека,
Дедовский, отцовский труд,
Девятнадцатого века
Нескудеющий сосуд
Вы проносите пред нами,
Вы идете мимо нас,
Мы, грядущими веками,
Шумно обступили вас.
Не давайте сбросить внукам
Этой ноши с ваших плеч,
Не внимайте новым звукам:
Лжет их воровская речь.
Внуки ждут поры урочной,
Вашу влагу стерегут,
Неразумно и порочно
Расплескают ваш сосуд.
Я иду за вами тоже,
Я, с протянутой рукой,
Дай в ладонь мою, о Боже,
Капле пасть хотя б одной!
Полный вещей влаги некой,
Предо мной сейчас несут
Девятнадцатого века
Нескудеющий сосуд.
312
В 1927 году 3. Н. посвятила мне стихотворение «Веч¬
ная женственность» (рукопись с посвящением хранится
у меня, вместо названия поставлены буквы В. Ж.), оно
вошло в ее книгу «Сияния» (1938 год) без года, без пос¬
вящения и под названием «Вечноженственное». А когда
мы жили летом в Канне, в Приморских Альпах, где жили
и Мережковские, и виделись ежедневно, то еще одно —
я привожу его здесь впервые:
Чуть затянуто голубое
Облачными нитками,
Луг с пестрой козою
Блестит маргаритками.
Ветви по-летнему знойно
Сивая олива развесила,
Как в июле все беспокойно,
Ярко, ясно и весело...
Но длинны паутинные волокна
Меж колокольчиками синими...
Но закрыты высокие окна
На даче с райским именем,
И напрасно себя занять я
Стараюсь этими строчками:
Не мелькнет белое платье
С лиловыми цветочками.
Октябрь, 1927.
А еще через год я прожила у них три дня, в Торран,
над Грассом, и она подарила мне листок с тремя стихот¬
ворениями, написанными в эти дни. Эти стихи удивили
меня, они показали мне неожиданную нежность ее ко
мне и тронули меня. Два из них, под названием «Ей в
горах», вошли в книгу «Сияния», а третье напечатано не
было. На моем листке они называются «Ей в Торран».
1
Я не безвольно, не бесцельно
Хранил лиловый мой цветок,
Принес его длинностебельный
И положил у милых ног,
А ты не хочешь... Ты не рада...
Напрасно взгляд твой я ловлю,
Но пусть! Не хочешь, и не надо:
Я все равно тебя люблю.
313
2.
Новый цветок я найду в лесу,
В твою неответность не верю, не верю,
Новый лиловый я принесу
В дом твой прозрачный, с узкою дверью.
Л
Но стало мне страшно, там у ручья,
Вздымился туман из ущелья, стылый...
Только шипя проползла змея,
И я не нашел цветка для милой.
3.
В желтом закате ты — как свеча.
Опять я стою пред тобой бессловно.
Падают светлые складки плаща
К ногам любимой так нежно и ровно.
Детская радость твоя кратка,
Ты и без слов сама угадаешь,
Что приношу я вместо цветка,
И ты угадала, ты принимаешь.
Торран, 1928.
В Торран к Мережковским я поехала из Антиб на авто¬
бусе. Ходасевич болел, мы тогда жили с В. В. Вейдле и его
будущей женой на даче. Торран — место в горах, высоко¬
высоко, в Приморских Альпах, и там, в старом замке,
Мережковские снимали один этаж. В самой башне была
наскоро устроена ванная; кругом замка стояли сосны, чер¬
ные, прямые, и за ними, на высокой горе, напротив окон
столовой, видны были развалины другого замка.
— ...который был построен тогда, когда еще не был
написан «Дон Кихот»,— возвестил мне Д. С. при встрече.
Спать меня положили в узкой длинной комнате, в
квартире хозяев замка, и там стояли на полках книги
XVII и XVIII веков, на палец покрытые пылью.
Днем мы ходили гулять вдоль ручья, который шумел
и прыгал по камням, и Д. С. говорил, глядя, как водяные
пауки стараются удержаться изо всех сил, чтобы не быть
унесенными, работая ножками:
— Зина! Они против течения! Они совсем, как мы с
тобой!
314
Ручей поворачивал, успокаивался, тихонько журчал,
убегая, и Д. С. опять говорил, но уже ни к кому не об¬
ращаясь:
— Лепечет мне таинственную сагу про чудный край,
откуда мчится он,— и внезапно останавливался и начинал
вспоминать, как они когда-то жили под Лугой (где у Кар¬
ташева болел живот), так что нетрудно было догадаться,
что «чудный край» для него мог быть только один на свете.
Она сказала мне после его смерти, что они не расста¬
вались никогда и пятьдесят два года были вместе, и на
мой вопрос, есть ли у нее от него письма, ответила: Какие
же могут быть письма, если не расставались ни на один
день? Помню, как на его отпевании в русской церкви на
улице Дарю она стояла, покачиваясь от слабости на
стройных ногах, положив руку на руку Злобина, и он,
прямой и сильный и такой внимательный к ней, непод¬
вижный, как скала, стоял и потом повел ее за гробом. И
как года через полтора на деньги французского издатель¬
ства был на могиле Д. С. поставлен памятник, с над¬
писью: «Да приидет Царствие Твое!», и каждый раз,
когда я бывала на его могиле, я слышала его голос, слег¬
ка картавящий на обоих «р», восклицающий это закли¬
нание, в которое он вкладывал особый, свой смысл.
И потом пошла на убыль ее умственная сила. В 1944
году она призналась мне, что ничего не понимает в собы¬
тиях, и чувствовалось, что уже ничего не надо объяс¬
нять, все равно ничего не дойдет до нее. Она много и
часто кричала по ночам, звала его, мучилась приближе¬
нием смерти, вся высохла, стала еще хуже видеть и слы¬
шать и нянчилась со своей полупарализованной рукой. А
когда, маленькая и сморщенная, лежала в гробу, кое-кто
из пришедших на панихиду переглядывался и говорил:
— Прости Господи, злая была старушенция.
Ее гроб опустили в могилу на его гроб, и в памяти
моей они сливаются вместе, словно одно существо в двух
аспектах, словно голос, поющий длинную песню под
аккомпанемент, и то она поет, а он аккомпанирует, то
(пожалуй, чаще) он поет, а она следует за ним. В длинной
(еще, вероятно, российской) бобровой шубе и бобровой
шапочке, все меньше ростом с каждым годом, он берет ее
под руку (и кто за кого держится — неизвестно). На ней
потертая меховая шуба рыжего меха, красная или розовая
шляпа,— как она любила эти тона, от розового до кирпич¬
ного, от ярко-красного до темно-рыжего! Она осторожно
выступает на своих острых, высоких каблуках. Они идут
316
гулять в Булонский лес. Они возвращаются. В темной квар¬
тире здесь и там зажигаются лампы, старенькая мебель,
книжные полки, ее шитье, его бумаги — все на месте.
Начинается вечер. Я прихожу и сажусь подле нее на ди¬
ван. Она любит задавать мне вопросы, чтобы смутить меня,
но я не часто смущаюсь. Иногда я чувствую, что все это
только игра, умышленная, чтобы узнать у меня не ответ на
загадку, а узнать меня самое. Допрос. Она часто удивляет¬
ся мне, моей прямоте, бесстрашию, откровенности, тому,
что я так много «принимаю» в жизни, и тому, что совер¬
шенно перестала смущаться и ее, и Д. С.
Потом мне кажется, что я все получила от них, что
могла получить, что мне видно их «дно», и я на несколь¬
ко лет отхожу от них и во время войны опять возвраща¬
юсь, когда вокруг них в Париже остается так мало лю¬
дей. Но я уже не вхожу в гостиную и не сажусь с ней на
диван. Я поднимаюсь по черной лестнице, вхожу в кух¬
ню и долго смотрю, как Злобин моет посуду, скребет
кастрюли, вытирает вилки и ножи. И мы с ним тихо
разговариваем. Там, в гостиной, очень холодно, и Д. С.
лежит, укрывшись пледом, а она сидит с ним, и я боюсь
потревожить их. И у меня отчетливое впечатление, что
они оба доживают, а не живут, что они оба тают, посте¬
пенно уходят. И когда я получаю однажды телеграмму (в
утро Перл-Харбора): «Merejkovsky decede...», мне кажет¬
ся, что это плавное завершение чего-то, чему пора было
завершиться, что это естественно, а ее четыре года сущес¬
твования без него — неестественно, ненужно, мучитель¬
но и для нее, и для других.
В последние месяцы своей жизни она иногда говорила
(в 1945 году) о событиях, но всегда заканчивала одним и
тем же:
— Я ничего не понимаю.
В этом «ничего не понимаю» для меня все больше и
больше звучал отказ от жизни, безнадежная пропасть
между человеком и миром, смерть, а не жизнь.
— Я стараюсь понять, но не могу понять. Объясните...
В этом «стараюсь» и «объясните» не было содержа¬
ния: стена все росла между нею и всем остальным и в
конце концов отделила ее навеки.
316
Георгий Адамович
ИЗ СТАТЬИ «ЗИНАИДА ГИППИУС»
Несколько слов о стихах Гиппииус.
Есть в них одна бесспорная, неотъемлемая черта: их
нельзя спутать ни с какими другими. Из тысячи аноним¬
ных стихотворений разных авторов человек, сколько-ни¬
будь чувствительный к стилю, безошибочно выделит то,
которое принадлежит Гиппиус. Мало о ком из современ¬
ных поэтов можно бы с уверенностью сказать то же самое.
Было время, когда гиппиусовские стихи сравнивали со
стихами Федора Сологуба. Некоторое сходство действи¬
тельно есть, но скорей в приемах, чем в сущности. У Со¬
логуба напев свободнее и легче, шире, чем у Гиппиус.
Стихи его более непосредственны. Но сколько в них воды,
и насколько ближе их журчанье к однотонно-унылому
шуму крана, который забыли закрыть, чем к живому плес¬
ку ручья! Не говорю об отдельных созданиях Сологуба,
порой очень сильных и резких, или о его умении найти
одно слово, оживляющее ряд бледных строф (вроде слова
«никли» — «никли да цвели» —бросающего волшебный
отблеск на в сущности вялое стихотворение «Много было
весен»). Передаю лишь общее впечатление от его поэзии,
непредвиденно полинявшей с годами, оказавшейся стран¬
но бескостной и расплывчатой. Гиппиус гораздо суше. Уж
чего-чего, а «воды» у нее не найти. Бунин когда-то назвал
ее стихи «электрическими»: действительно, иногда кажет¬
ся, что они излучают синие потрескивающие огоньки и
колются, как иголки. Да и скручены, выжаты, вывернуты
они так, что сравнение с проводом возникает само собой.
К поэтам гиппиусовского склада неприменимо поня¬
тие развития. Гиппиус сразу, чуть ли не с первых «проб
пера» — вроде знаменитого «Люблю я отчаяние мое без¬
мерное» — нашла тон и ритм, в точности соответствую¬
щие ее внутреннему миру. Нет в ее стихах никакого
стремления к обольщению, к тому, чтобы «нравиться»,
столь типичного для женской поэзии. Они замкнуты в
себе, слегка высокомерны в самоограничении. В них нет
меланхолии, со времен Жуковского неизменно находя¬
щей отклик в душах. Еще меньше в них сантименталь¬
ности. Зинаиде Гиппииус чужда забота о создании «само¬
довлеющих образцов искусства», не связанных с лич¬
ностью автора, способных существовать вне авторской
биографии и судьбы. Стихи ее представляют собой нечто
317
вроде исповеди. Но это исповедь человека, который не
хочет, а может быть, и не находит сил забыться, испо¬
ведь поэта, который не доверяет восторгу, пожалуй, из
опасения, чтобы он не стал «телячьим», как у стольких
других. От всяких детских мудростей, святых наивнос:
тей или блаженных простодуший поэзия эта — за триде¬
вять земель. Чем настойчивее поэт о таких вещах толку¬
ет, тем яснее видна пропасть между ними и собой.
Взлетов у Гиппиус нет. Стихи ее извиваются в судоро¬
гах, как личинки бабочек, которым полет обещан, но
еще недоступен. Они по отношению к себе нередко на¬
смешливы, сами собой раздражены, и постоянный горь¬
кий их привкус (не грустный вовсе, а терпкий, вязкий,
разлагающий) внушен отталкиванием от мечты вместо
обычного влечения к ней.
Гиппиус — как будто в мире гость, неуживчивый, в
глубине души не очень общительный, враждебный вся¬
кого рода иллюзиям. Никаких просветлений, умилений
или озарений, в большинстве случаев объяснимых
убылью сил, не найти в ее стихах, даже написанных на
склоне лет. Изредка только мелькают среди них строки,
в которых отражено спокойствие,— сухие и ясные, без
слез, без снисхождения к себе или другим, сдержанные,
холодные и вместе с тем патетические:
Преодолеть без утешенья,
Все пережить и все принять,
И в сердце даже на забвенье
Надежды тайной не питать,
Но быть, как этот купол синий,
Как он, высокий и простой,
Склоняться любящей пустыней
Над нераскаянной землей!
Мюссе считал своим правом на бессмертье то, что ему
иногда «случалось плакать». У Гиппиус в разговоре с судь¬
бой это слово не оказалось бы доводом. Она, вероятно,
сослалась бы на другое: думала, вглядывалась, колебалась,
надеялась, верила — правда, не без оттенка — «помоги мо¬
ему неверию!» — хотела понять, где она и зачем живет.
Стихи свои она слагала не для услаждения мира, не как
гимны и элегии, а как записи в дневнике или комментарии
к снам, догадкам, сомнениям и мыслям.
1955
318
Евгений Курганов
ИЗ СТАТЬИ * ДЕКАДЕНТСКАЯ МАДОННА»
Постижение образа Зинаиды Гиппиус, необыкновенно
яркого, в высшей степени привлекательного и вместе с
тем предельно напряженного, нервного, динамичного,—
задача не просто сложная, но еще и важная и захватыва¬
юще интересная. И она неминуемо должна стать перед
исследователями в Ходе глубокого и развернутого значе¬
ния русской литературы «серебряного века», которое
фактически только начинается у нас.
Литературное наследие, оставленное Зинаидой Гиппи¬
ус, огромно и разнообразно: сеть сборников стихов, шесть
сборников рассказов, несколько романов, драмы, литера¬
турная критика и публицистика, дневники, две книги
мемуаров. И все-таки до эмиграции в сознании современ¬
ников она прежде всего существовала как поэт и литера¬
турный критик, точно так же, как в парижский период
стала известной главным образом как автор дневников и
воспоминаний. •
Сразу же стоит отметить, что поэзию Зинаиды Гиппиус,
впрочем, как и все ее творчество, отличает явная, бросаю¬
щаяся в глаза неженскость. Все в ее лирике крупно, силь¬
но, без особого внимания к деталям, частностям, мелочам.
В целом она глубоко концептуальна, свободна от ходуль¬
ности, выспренности, риторики. В стихах ее ощутима
пульсация органичной, живой, острой мысли, пронизан¬
ной токами сложных, переплетающихся друг с другом
эмоций, мысли, рвущейся в поисках духовной целостнос¬
ти, в обретении гармонического идеала. Но вместе с тем
Зинаида Гиппиус никогда безоглядно не отдается потоку
эмоциональной стихии, не подавляется ею. Все дело в том,
что в способе и характере своего бытия она не спонтанна,
не импульсивна и не пассивна. Она — демиург, ибо проду¬
манно, осознанно формирует целостную, строгую структу¬
ру своего микрокосма. Последний, однако, отнюдь не хо¬
лоден и не безжизнен, ибо согрет яркостью и необыкновен¬
ной страстностью одушевляющих его идей.
Стихотворением «Сосны» (такой мастер стиха, как
В. Я. Брюсов, называл его прекрасным!) Зинаида Гиппи¬
ус, как мне кажется, предельно точно и глубоко искрен¬
не ответила своим оппонентам на упреки в холодности.
Прозвучало это убедительно и психологически, и худо-
319
жественно. Вообще стихотворение поражает свежестью и
остротой взгляда автора на себя и на мир, своеобразной
яркостью своего построения — оно наполнено шумом со¬
сен, глухим, невнятным. Шум этот воссоздан необыкно¬
венно тщательно, тонко, живо, но, помимо своего реаль¬
ного, он существует еще в одном — символическом изме¬
рении — как своеобразный хор антагонистов Зинаиды
Гиппиус.
Качаются серые, пыльные сосны, и постепенно в их
шуме начинают пробиваться слова, злые, колючие:
Твоя душа, в мятежности,
Свершений не дала.
Твоя душа без нежности,
А сердце — как игла.
В своем ответе воображаемым оппонентам Зинаида
Гиппиус отнюдь не отвергает формулу «сердце — как
игла», но вводит эту формулу в несколько иной эмоцио¬
нальный контекст:
Любви хочу и веры я...
Но спит душа моя.
Смеются сосны серые,
Колючие — как я.
Раскрывая в приведенных строчках внутренние сти¬
мулы, глубинные импульсы своей творческой деятель¬
ности, Зинаида Гиппиус не оправдывается, но с прису¬
щей ей ясностью и силой мысли формулирует кредо сво¬
его жизненного и литературного поведения. В результате
колючесть как черта характера личности и поэзии при¬
знается, но функциональная нагрузка ее становится уже
совершенно иной, ведь формула «сердце — как игла»
осмысляется теперь не как злоба, а как пронизывающая
внутренняя сила, необыкновенно цельная устремлен¬
ность к идеалу, жесткие, бескомпромиссные поиски ис¬
тины, когда нет снисхождения ни к себе, ни к другим.
Именно сила мощно концентрированной мысли струк¬
турно и организовывает мир Зинаиды Гиппиус.
Здесь стоит вспомнить о том, что лирический герой ее
поэзии — мужчина. Это не случайная деталь, и не специ¬
фическая черта литературной маски Зинаиды Гиппиус, а
проявление определенной закономерности. Недаром
Н. Н. Берберова с присущей ей парадоксальностью под-
320
метила в своих мемуарах: «Она (3. Н. Гиппиус.— Е. К.),
несомненно, искусственно выработала в себе две внешние
черты: спокойствие и женственность. Внутри она не была
спокойна. И она не была женщиной». Сильно, конечно,
сказано. Но, как бы то ни было, уникальность мира Зи¬
наиды Гиппиус прежде всего определяется таким качес¬
твом, как глубина и мужественность мысли, умение без¬
жалостно отсекать все лишнее и твердо, жестко, страстно
строить свою выстраданную концепцию. Уже в 1913 г.
А. Закржевский в исследовании «Религия. Психологи¬
ческие параллели», рассматривая прозу Зинаиды Гиппи¬
ус и ее героев — представителей нового религиозного со¬
знания, строителей внутренней церкви,— сделал вывод,
который, как кажется, будущее целиком оправдало:
«...Такие люди, такие вестники нового, грядущего, мо¬
жет быть, невозможного царства проходят пред нами в
творчестве 3. Гиппиус — единственной, глубокой, неза¬
урядной женщины-писательницы в России... Я не на¬
прасно говорю, что она — единственная; тщетно ищу,
кого бы сравнить с ней,— и не нахожу... Здесь она со
всею своей сложностью, со своей многогранностью и глу¬
биной бездонной — как бы ненужна, как бы далекая, и
такая отдельная...»
Целый ряд русских поэтов-символистов в кризисные,
рубежные периоды, в моменты революционных потрясе¬
ний покидал удобно облюбованные башни из слоновой
кости и начинал активно и целенаправленно разрабаты¬
вать гражданскую проблематику. Сам по себе этот факт,
конечно, отраден. Но далеко не всегда переход из башни
на трибуну проходил безболезненно и завершался твор¬
ческим успехом. Насилие, пусть даже из самых лучших
побуждений, над собственной свободой как личности и
как художника делало реальной профанацию поэтичес¬
кого процесса. Революционные стихи Н. Минского, да
нередко и К. Бальмонта прямо отзывались пародией,
невольной, конечно. Даже такой маг слова, как Ф. К. Со¬
логуб, в своих политических стихах, навеянных событи¬
ями 1905 года, во многом не смог выйти за пределы лу¬
бочной плакатности. А каким страшным диссонансом,
нравственным и поэтическим падением, искусственной
деформацией интимно-лирической природы художника
показалась (и не без основания) многим современникам и
почитателям автора «Стихов о прекрасной даме» поэма
«Двенадцать»?!
Зинаида Гиппиус не знала подобных отклонений от
11 Серебряный век
321
основной линии своего жизненного и творческого пути.
Все дело в том, что уже в первых своих поэтических
опытах она предстает как лирик и как общественный
деятель, судья и пророк своего поколения.
Начинала Зинаида Гиппиус в лоне надсоновской шко¬
лы. Но вскоре, восприняв принципы зарождавшейся тогда
антипозитивистской, антирационалистической эстетики и
определив ее как модус своего человеческого и творческого
бытия, она безошибочно и точно угадала, а точнее открыла
свой собственный вариант символистского мировосприя¬
тия: краеугольным камнем творчества Зинаиды Гиппиус
стала своеобразная религиозная гражданственность.
К 80-м годам XIX столетия гражданственность в наро¬
дническом ее понимании стала все более изживать себя,
все более ощущалась пустота, выхолощенность формы
некогда живого, плодотворного, богато насыщенного
явления. Практически все старшее поколение русских
символистов (Д. Мережковский, Ф. Сологуб, Н. Минский
и др.) прошло через искус демократической граждан¬
ственности, но довольно быстро рассталось с этой ветхой
и вышедшей уже из употребления одеждой. Однако Зи¬
наида Гиппиус, осваивая новаторскую символистскую
эстетику, отнюдь не собиралась отказываться от уроков,
которые были ей преподаны эпигонами некрасовской
школы, и, главное, от глубоко общественных традиций
русской литературы. Конечно, теперь гражданствен¬
ность, существуя в рамках принципиально новой систе¬
мы, наполнилась и новым смыслом. Принцип социально¬
го переустройства был отринут. Ему было противопостав¬
лено внутреннее строительство индивидуальной челове¬
ческой судьбы. Вера, поиски своего «я», жажда макси¬
мального личностного наполнения заменили пропаганду
утилитарных знаний, примитивно понимаемое просвеще¬
ние масс, аристократически-гордую «милость к пад¬
шим». Путь к свободе был осознан не как рецепт для
всеобщего употребления, а как движение сугубо личнос¬
тное, индивидуальное.
Итак, в поэзии Зинаиды Гиппиус стала доминировать
общественно-религиозная проблематика. Причем уже в
первом своем стихотворном сборнике она начинает куль¬
тивировать молитву, как очень емкую и перспективную
литературную форму.
Молитва — общение с Богом, разговор с ним о самом
сокровенном, самом важном, о том, чего не поведаешь к
случаю или в связи с внезапно мелькнувшим воспоминани-
322
ем. Молитва — плод долгих дневных и ночных бдений, она
аккумулирует в себе духовный опыт личности. Оттого-то в
лирике Зинаиды Гиппиус молитва и в несколько строк, но
она всегда — диалог и зачастую даже спор с вечностью. И
всегда в ней решаются коренные вопросы человеческого
бытия. Фиксация жизненных впечатлений или чувств
несущественна. Но вместе с тем лирический герой поэзии
Зинаиды Гиппиус отнюдь не находится в плену абстрак¬
ций. Он страстно и яростно ищет себя, ищет то, что выше
и главнее тривиально земного представления о счастье:
Но вас — «по-Божьему» жалею я,
Кого люблю — люблю для Бога.
И будет тем светлей душа моя,
Чем ваша огненней дорога.
Я тихой пристани за вас боюсь,
Уединенья знаю власть я;
И не о счастии для вас молюсь —
О том молюсь, что выше счастья.
Глубокие, сильные, полные апокалиптической мощи
молитвы Зинаиды Гиппиус — это прорыв в вечность,
соединение с сокровенным, но они всегда о человеке, о
максимальной наполненности его бытия, о трагических
противоречиях личности, о путях приближения к идеа¬
лу, немыслимо чистому и нередко — именно в силу это¬
го — недостижимому, о свободе и совести.
По мере того, как Россию все более начинали сотря¬
сать революционные бури, поэтическая мысль Зинаиды
Гиппиус становилась все более острой и пронзительной,
стих приобретал резкость, даже жесткость — его муску¬
латура окончательно окрепла и сформировалась, приоб¬
ретая необыкновенную силу. В целом же творчество
Зинаиды Гиппиус получило ярко выраженный характер
строгого и бескомпромиссного суда над собой, современ¬
никами, эпохой. Тенденция религиозной гражданствен¬
ности поднялась до кульминационной точки, ведь поэзия
теперь уже перестала быть только поэзией, вырастая в
нечто принципиально большее, в документ историческо¬
го значения, волнующий и страшный. О совершенно
новом качестве слова Зинаиды Гиппиус, поднявшегося
до пророческой мощи, дает, как представляется, весьма
точное представление стихотворение «Веселье», которое
было написано 29 октября 1917 года:
и*
323
Блевотина войны — октябрьское веселье!
От этого зловонного вина
Как было омерзительно твое похмелье,
О бедная, о грешная страна!
Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянный сном,
Народ, безумствуя, убил свою свободу,
И даже не убил — засек кнутом?
Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты...
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь.
Эстетство, следы которого в поэзии Зинаиды Гиппиус
прежде все-таки можно было отыскать, исчезло начисто.
Символический туман рассеялся. Мысль обнажилась до
предела. Поэтическая речь превратилась в единый страс¬
тный порыв, в кипящую лаву. Произошли кое-какие
смещения и в жанровом плане. Так, приведенное стихот¬
ворение фактически представляет собой гневную инвек¬
тиву, яростную политическую оду и одновременно про¬
рочество, наполненное болью и ужасом, апокалиптичес¬
ким ощущением конца, гибели.
Тут как-то невольно вспоминается радужное XVIII
столетие. Культ оды. Апофеоз петровского дела. Тогда
исторический оптимизм был оправдан и даже по-своему
закономерен. Теперь петровская государственность раз¬
валивалась на глазах. И политическая ода оказалась
наилучшей формой для выражения исторического песси¬
мизма, для скорбно-яростного обличения времени и лю¬
дей: оно оказалось кроваво-жестоким, а они слабыми и
беззащитными, бывшими не в силах противостоять над¬
вигавшейся катастрофе.
Но не будем торопиться уходить из XVIII столетия.
Задержимся в нем еще ненадолго.
В 1743 году М. Ломоносов, В. Тредиаковский и А. Су¬
мароков решили испытать свои силы в «преложении»
143-го псалма. С этого своеобразного поэтического турни¬
ра, ставшего крупным общественным событием, и берет
начало русская политическая лирика. Тогда же во мно¬
гом и определилась ее неразрывная спаянность с пробле¬
матикой и поэтикой библейской поэзии, т. е. граждан¬
ственность сразу же и довольно прочно приобрела рели¬
гиозный колорит. Для этого были свои причины.
Мы как-то забываем, что именно библия дала один из
324
самых сильных образцов гражданской лирики, что про¬
изошло прежде всего через обращение поэтов к перело¬
жениям псалмов и книг пророков. Так, большое общес¬
твенное звучание поэзии Г. Державина невозможно по-
настоящему полно понять и осмыслить без обращения к
уникальному миру Ветхого Завета. Но почему же все-
таки гражданственность лирики сразу же стала ассоции¬
роваться с традициями псалмов и книг пророков?
В жизни русского человека псалмы всегда занимали
огромное место. С утверждением в 30-е — 40-е годы
XVIII в. русской светской поэзии эта струна не только не
заглохла, но, наоборот, зазвенела сильно и мощно. Дело
не только в том, что псалмы были близки и понятны, что
на них учились читать, гадали, что они входили в каждо¬
дневный быт. Немаловажно и то обстоятельство, что они
таили в себе огромные художественные возможности.
В псалмах человек находится наедине с Богом. Но
голос его не слаб и не бесцветен. Человек не дрожит, и
вообще он отнюдь не парализован робостью. Более того,
в псалмах он нередко поднимается на бунт, требуя вы¬
сшей справедливости. Псалмы — это вылившаяся, вы¬
плеснувшаяся напряженная внутренняя жизнь личнос¬
ти, экстатический прорыв к истине. <...>
Богоборческий аспект псалмов и книг пророков был
весьма важен и для Зинаиды Гиппиуб. Но все дело в том,
что она обратилась к религиозно-политической лирике
на совершенно ином историческом витке, и это привело
к кардинальной перестановке акцентов.
Наметившийся к 80-м — 90-м годам XIX в. кризис
народнической идеологии привел, с одной стороны, к
структурной перестройке левых сил, а именно к выходу
на арену борьбы российской социал-демократической
рабочей партии. С другой же стороны, у довольно широ¬
кого слоя интеллигенции этот кризис вызвал глобальное
разочарование в общественной деятельности, в основе
которой лежат идеи социального переустройства общес¬
тва. Так, в центре внимания символистов оказалось внут¬
реннее переустройство личности. Это и обусловило вы¬
членение в библейской поэзии того мистико-личностного
пласта, который затушевывался в предшествующие эпо¬
хи, а ведь в псалмах и книгах пророков ему принадлежит
едва ли не определяющее место. Так что новый облик
религиозно-гражданской лирики был вполне оправдан.
Произошли существенные сдвиги и в понимании образа
поэта. Он перестал быть трибуном, но остался пророком.
325
в яростной внутренней борьбе прорывающимся к свободе
духа, к свету истины. При этом получило дальнейшее и
достаточно плодотворное развитие освоение динамики и
силы библейской лирики, ее запредельности: «Греция
дала образец меры, Библия — образец безмерности; Гре¬
ции принадлежит «прекрасное», Библии — «возвышен¬
ное», то особое качество, которое в природе присуще не
обжитым местностям, но крутизнам и пучинам морей.
Тема греческой поэзии — статика формы, тема библейс¬
кой поэзии — динамика силы. Грек Протагор сказал:
♦ Человек есть мера всех вещей». Но Библия рисует бы¬
тие, как раз неподвластное человеческой мере, несоизме¬
римое с ней».
Именно «динамика силы», безмерность, яростная
энергия мысли, получившие классическое завершение в
библейской поэзии, оказались в высшей степени близки¬
ми экстатичной и в то же время глубоко интеллектуаль¬
ной натуре Зинаиды Гиппиус. Вообще то, что ее творчес¬
тво — от стихов до дневников,— являя собой своего рода
пиршество идей, было вместе с тем пронизано не просто
страстностью, но даже бешеным накалом симпатий и
антипатий, это несомненно. Налицо любопытный фено¬
мен, к которому не применимо ни понятие рационализ¬
ма, на манер брюсовского, ни понятие стихийности, по¬
добной блоковской. Проблемно-эмоциональный фокус
творчества Зинаиды Гиппиус — своеобразный экстаз
мысли, бьющая через край мощная энергия мысли. Ха¬
рактер этого феномена в целом ряде моментов сформиро¬
вался в процессе новаторского, смелого освоения тради¬
ций и форм библейской лирики. Религиозность поэзии
Гиппиус — отнюдь не внешний, формальный показатель,
а глубоко сущностный, концептуальный признак, без
учета которого трудно будет понять и осмыслить уни¬
кальный мир «декадентской мадонны», как одно из яр¬
чайших и по-своему закономерных проявлений русского
духовного самосознания начала XX столетия.
1991
АЛЕКСАНДР
БЛОК
1880—1921
Александр Александрович Блок (1889—1921) — выдающийся
поэт серебряного века «Чело века», как назовет его Андрей Бе¬
лый), в творчестве которого с гениальной самобытностью воплоти¬
лись проблемы, коллизии и противоречия эпохи.
Отец Блока — юрист, профессор Варшавского университета, из
семьи обрусевших немцев. Мать — из рода Бекетовых, в доме
которых поэт вырос, на всю жизнь унаследовав глубокую духов¬
ность и высокий идеализм, которые исповедовались в этой семье.
В 1898 году знакомится со своей будущей женой Л. Д. Менделе¬
евой, дочерью знаменитого ученого-химика, впоследствии — акт¬
рисой.
Поэтический дебют Блока состоялся в 1908 году в журнале
«Новый путь», редактируемом 3. Гиппиус и Д. Мережковским. Пер¬
вая книга «Стихи о Прекрасной Даме» — вышла в конце 1904-го;
она вдохновлена утопией Вл. Соловьева о грядущем схождении
Вечной Женственности на землю и синтезе земного с небесным. В
сборнике «Нечаянная радость» внимание Блока переносится на
современность, на картины реального города, на мистику природы
и страсти. Начиная с 1907 года Блок резко эволюционирует от
идей символизма к демократическим ориентирам. В его статьях о
народе и интеллигенции — трагические раздумья об отрыве совре¬
менной культуры от народно-национальных истоков и предчув¬
ствие великих катастроф.
В 1911—1912 годах Блок объединяет все, написанное им в по¬
эзии, в трехтомное «Собрание стихотворений», в своеобразную
лирическую трилогию, в уникальный роман в стихах о духовном
пути-становлении художника. Этим большим лирическим един¬
ством, строго организованным композиционно и пронизанным
сквозными, повторяющимися образами-символами, Блок компен¬
сировал свою тягу к недостаточно дававшимся ему крупным эпи¬
ческим формам (так, поэма «Возмездие», над которой поэт работал
более десятилетия, завершена не была).
Октябрьскую революцию Блок жринял с энтузиазмом, увидев
в ней очистительную антибуржуазную стихию. На волне этого
творческого взлета были написаны поэмы «Двенадцать» и «Ски¬
фы», а также проблемно примыкающая к-ним публицистика. В
эту пору Блок энергично включается в общественную и издатель¬
скую работу. Однако творческий энтузиазм вскоре сменяется ра¬
зочарованием, крушением иллюзий, депрессией.
7 августа 1921 года Блок скончался, замолк «трагический те¬
нор эпохи» (А. Ахматова).
Блоковское наследие многожанрово и огромно по объему. Ему
было свойственно необычайно сильное «чувство пути» и, одновре¬
менно, твердая цельность поэтического «я». Творчество Блока,
трагическое и героическое, обладает неисчерпаемым притяжени¬
ем для последующей культуры, как российской, так и мировой.
Изд.; Блок А. Собрание сочинений в 8-ми томах. М., I960—
1963.
* * *
Пусть светит месяц — ночь темна.
Пусть жизнь приносит людям счастье,—
В моей душе любви весна
Не сменит бурного ненастья.
Ночь распростерлась надо мной
И отвечает мертвым взглядом
На тусклый взор души больной,
Облитой острым, сладким ядом.
И тщетно, страсти затая,
В холодной мгле передрассветной
Среди толпы блуждаю я
С одной лишь думою заветной:
Пусть светит месяц — ночь темна.
Пусть жизнь приносит людям счастье,—
В моей душе любви весна
Не сменит бурного ненастья.
Январь 1898. С.-Петербург
к к "к
Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене,
Безумная, как страсть, спокойная, как сон,
А я, повергнутый, склонял свои колени
И думал: «Счастье там, я снова покорен!»
Но ты, Офелия, смотрела на Гамлета
Без счастья, без любви, богиня красоты,
А розы сыпались на бедного поэта
И с розами лились, лились его мечты...
329
Ты умерла, вся в розовом сияньи,
С цветами на груди, с цветами на кудрях,
А я стоял в твоем благоуханьи,
С цветами на груди, на голове, в руках...
23 декабря 1898
* * *
К. М. С.
Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?
Этой дорогою ложной
Молча с тобою мы шли...
Шли мы — луна поднималась
Выше из темных оград,
Ложной дорога казалась —
Я не вернулся назад.
Наша любовь обманулась,
Или стезя увлекла —
Только во мне шевельнулась
Синяя города мгла...
Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?
Этой дорогою ложной
Мы безрассудно пошли...
23 августа 1899
к к к
Одинокий, к тебе прихожу,
Околодован огнями любви.
Ты гадаешь.— Меня не зови.—
Я и сам уж давно ворожу.
ззо
От тяжелого бремени лет
Я спасался одной ворожбой,
И опять ворожу над тобой,
Но неясен и смутен ответ.
Ворожбой полоненные дни
Я лелею года,— не зови...
Только скоро ль погаснут огни
Заколдованной темной любви?
1 июня 1901. С. Шахматове
к к -к
И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
Вл. Соловьев
Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Все в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду,— тоскуя и любя.
Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.
О, как паду — и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты!
Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.
4 июня 1901. С. Шахматове
381
к * к
...и поздно желать.
Все минуло: и счастье и горе.
Вл. Соловьев
Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко,
Да и мне не вернуть
Этих снов золотых, этой веры глубокой...
Безнадежен мой путь.
Мыслью сонной цветя, ты блаженствуешь много.
Ты лазурью сильна.
Мне — другая и жизнь, и другая дорога,
И душе — не до сна.
Верь — несчастней моих молодых поклонений
Нет в обширной стране,
Где дышал и любил твой таинственный гений,
Безучастный ко мне.
10 июня 1901
* * *
Вечереющий день, догорая,
Отступает в ночные края.
Посещает меня, возрастая,
Неотступная Тайна моя.
Неужели и страстная дума,
Бесконечно земная волна,
Затерявшись средь здешнего шума,
Не исчерпает жизни до дна?
Неужели в холодные сферы
С неразгаданной тайной земли
Отошли и печали без меры,
И любовные сны отошли?
332
Умирают мои угнетенья,
Утоляются горести дня,
Только Ты одинокою тенью
Посети на закате меня.
11 июля 1901
* * *
Не пой ты мне и сладостно, и нежно:
Утратил я давно с юдолью связь.
Моря души — просторны и безбрежны.
Погибнет песнь, в безбрежность удалясь
Одни слова без песен сердцу ясны.
Лишь правдой их над сердцем процветешь.
А песни звук — докучливый и страстный —
Таит в себе невидимую ложь.
Мой юный пыл тобою же осмеян,
Покинут мной — туманы позади.
Объемли сны, какими я овеян,
Пойми сама, что будет впереди.
25 июля 1901
* **
Я медленно сходил с ума
У двери той, которой жажду.
Весенний день сменяла тьма
И только разжигала жажду.
Я плакал, страстью утомясь,
И стоны заглушал угрюмо.
Уже двоилась, шевелясь,
Безумная, больная дума.
ззз
И проникала в тишину
Моей души, уже безумной,
И залила мою весну
Волною черной и бесшумной.
Весенний день сменяла тьма,
Хладело сердце над могилой.
Я медленно сходил с ума,
Я думал холодно о милой.
Март 1902
* * *
Мы встречались с тобой на закате,
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твое белое платье,
Утонченность мечты разлюбив.
Были странны безмолвные встречи.
Впереди — на песчаной косе
Загорались вечерние свечи.
Кто-то думал о бледной красе.
Приближений, сближений, сгораний —
Не приемлет лазурная тишь...
Мы встречались в вечернем тумане,
Где у берега рябь и камыш.
Ни тоски, ни любви, ни обиды,
Все померкло, прошло, отошло...
Белый стан, голоса панихиды
И твое золотое весло.
13 мая 1902
334
* * *
Тебя скрывали туманы,
И самый голос был слаб.
Я помню эти обманы,
Я помню, покорный раб.
Тебя венчала корона
Еще рассветных причуд.
Я помню ступени трона
И первый твой строгий суд.
Какие бледные платья!
Какая странная тишь!
И лиий полны объятья,
И ты без мысли глядишь...
Кто знает, 1*де это было?
Куда упала Звезда?
Какие слова говорила,
Говорила ли ты тогда?
Но разве мог не узнать я
Белый речной цветок,
И эти бледные платья,
И странный, белый намек?
Май 1902
* * *
Поздно. В окошко закрытое
Горькая мудрость стучит.
Все ликованье забытое
Перелетело в зенит.
Поздно. Меня не обманешь ты
Смейся же, светлая тень!
В небе купаться устанешь ты —
Вечером сменится день.
335
Сменится мертвенной скукою —
Краски поблекнут твои...
Мудрость моя близорукая!
Темные годы мои!
Май 1902
к к к
Имеющий невесту есть жених; а
друг жениха, стоящий и внимаю¬
щий ему, радостью радуется, слыша
голос жениха.
От Иоанна, Ilf, 29
Я, отрок, зажигаю свечи,
Огонь кадильный берегу.
Она без мысли и без речи
На том смеется берегу.
Люблю вечернее моленье
У белой церкви над рекой,
Передзакатное селенье
И сумрак мутно-голубой.
Покорный ласковому взгляду,
Любуюсь тайной красоты,
И за церковную ограду
Бросаю белые цветы.
Падет туманная завеса.
Жених сойдет из алтаря.
И от вершин зубчатых леса
Забрезжит брачная заря.
7 июля 1902
336
к к к
Говорили короткие речи,
К ночи ждали странных вестей.
Никто не вышел навстречу.
Я стоял один у дверей.
Подходили многие к дому,
Крича и плача навзрыд,
Все были мне незнакомы,
И меня не трогал их вид.
Все ждали какой-то вести.
Из отрывков слов я узнал
Сумасшедший бред о невесте,
О том, что кто-то бежал.
И, всходя на холмик за садом,
Все смотрели в синюю даль.
И каждый притворным взглядом
Показать старался печаль.
Я один не ушел от двери
И не смел войти и спросить.
Было сладко знать о потере,
Но смешно о ней говорить.
Так стоял один — без тревоги.
Смотрел на горы вдали.
А там — на крутой дороге —
Уж клубилось в красной пыли.
15 июля 1902
к к *
Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.
337
В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озаренный,
Только образ, лишь сон о Ней.
О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.
О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая — Ты.
25 октября 1902
* * *
Будет день, словно миг веселья.
Мы забудем все имена.
Ты сама придешь в мою келью
И разбудишь меня от сна.
По лицу, объятому дрожью,
Угадаешь думы мои.
Но все прежнее станет ложью,
Чуть займутся Лучи Твои.
Как тогда, с безгласной улыбкой
Ты прочтешь на моем челе
О любви неверной и зыбкой,
О любви, что цвела на земле.
Но тогда — величавей и краше,
Без сомнений и дум приму.
И до дна исчерпаю чашу,
Сопричастный Дню Твоему.
31 октября 1902
338
* * *
Ей было пятнадцать лет. Но по стуку
Сердца — невестой быть мне могла.
Когда я, смеясь, предложил ей руку,
Она засмеялась и ушла.
Это было давно. С тех пор проходили
Никому не известные годы и сроки.
Мы редко встречались и мало говорили,
Но молчанья были глубоки.
И зимней ночью, верен сновиденью,
Я вышел из людских и ярких зал,
Где душные маски улыбались пенью,
Где я ее глазами жадно провожал.
И она вышла за мной, покорная,
Сама не ведая, что будет через миг.
И видела лишь ночь городская, черная,
Как прошли и скрылись: невеста и жених.
И в день морозный, солнечный, красный —
Мы встретились в храме — в глубокой тишине:
Мы поняли, что годы молчанья были ясны,
И то, что свершилось,— свершилось в вышине.
Этой повестью долгих, блаженных исканий
Полна моя душная, песенная грудь.
Из этих песен создал я зданье,
А другие песни — спою когда-нибудь.
16 июня 1903. Bad Nauheim,
РАССВЕТ
Я встал и трижды поднял руки.
Ко мне по воздуху неслись
Зари торжественные звуки,
Багрянцем одевая высь.
389
Казалось, женщина вставала,
Молилась, отходя во храм,
И розовой рукой бросала
Зерно послушным голубям.
Они белели где-то выше,
Белея, вытянулись в нить
И скоро пасмурные крыши
Крылами стали золотить.
Над позолотой их заемной,
Высоко стоя на окне,
Я вдруг увидел шар огромный,
Плывущий в красной тишине.
18 ноября 1903
ФАБРИКА
В соседнем доме окна жёлты,
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.
И глухо заперты ворота,
А на стене — а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.
Я слышу все с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.
Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в жёлтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.
24 ноября 1903
840
к к к
Мой любимый, мой князь, мой жених,
Ты печален в цветистом лугу.
Повиликой средь нив золотых
Завилась я на том берегу.
Я ловлю твои сны на лету
Бледно-белым прозрачным цветком.
Ты сомнешь меня в полном цвету
Белогрудым усталым конем.
Ах, бессмертье мое растопчи,—
Я огонь для тебя сберегу.
Робко пламя церковной свечи
У заутрени бледной зажгу.
В церкви станешь ты, бледен лицом,
И к царице небесной придешь,—
Колыхнусь восковым огоньком,
Дам почуять знакомую дрожь.
Над тобой — как свеча — я тиха,
Пред тобой — как цветок — я нежна.
Жду тебя, моего жениха,
Все невеста — и вечно жена.
26 марта 1904
* * *
Г. Чулкову
Не строй жилищ у речных излучин,
Где шумной жизни заметен рост,
Поверь, конец всегда однозвучен,
Никому не понятен и торжественно прост.
341
Твоя участь тиха, как рассказ вечерний,
И душой одинокой ему покорись.
Ты иди себе, молча, к какой хочешь вечерне,
Где душа твоя просит, там молись.
Кто придет к тебе, будь он, как ангел, светел,
Ты прими его просто, будто видел во сне,
И молчи без конца, чтоб никто не заметил,
Кто сидел на скамье, промелькнул в окне.
И никто не узнает, о чем молчанье,
И о чем спокойных дум простота.
Да. Она придет. Забелеет сиянье.
Без вины прижмет к устам уста.
Июнь 1905
* * *
Потеха! Рокочет труба,
Кривляются белые рожи,
И видит на флаге прохожий
Огромную надпись: «Судьба».
Палатка. Разброасаны карты.
Гадалка, смуглее июльского дня,
Бормочет, монетой звеня,
Слова слаще звуков Моцарта.
Кругом — возрастающий крик,
Сристки и нечистые речи,
И ярмарки гулу — далече
В полях отвечает зеленый двойник.
В палатке все шепчет и шепчет,
И скоро сливаются звуки,
И быстрые смуглые руки
Впиваются крепче и крепче...
342
Гаданье! Мгновенье! Мечта!..
И, быстро поднявшись, презрительным жестом
Встряхнула одеждой над проклятым местом,
Гадает... и шепчут уста.
И вновь завывает труба,
И в памяти пыльной взвиваются речи,
И руки... и плечи...
И быстрая надпись: «Судьба»!
Июль 1905
БАЛАГАНЧИК
Вот открыт балаганчик
Для веселых и славных детей,
Смотрят девочка и мальчик
На дам, королей и чертей.
И звучит эта адская музыка,
Завывает унылый смычок.
Страшный чорт ухватил карапузика,
И стекает клюквенный сок.
Мальчик
Он сйасется от черного гнева
Мановением белой руки.
Посмотри: огоньки
Приближаются слева...
Видишь факелы? видишь дымки?
Это, верно, сама королева...
Девочка
Ах, нет, зачем ты дразнишь меня?
Это — адская свита...
Королева — та ходит средь белого дня,
Вся гирляндами роз перевита,
И шлейф ее носит, мечами звеня,
Вздыхающих рыцарей свита.
343
Вдруг паяц перегнулся за рампу
И кричит: «Помогите!»
Истекаю я клюквенным с®ком!
Забинтован тряпицей!
На голове моей — картонный шлем!
А в руке — деревянный меч!»
Заплакали девочка и мальчик,
И закрылся веселый балаганчик.
Июль 1905
•к * *
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам,— плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.
Август 1905
344
* * *
Ты придешь и обнимешь
И в спокойной мгле
Мне лицо опрокинешь
Встречу новой земле.
В новом небе забудем
Что прошло — навсегда.
Тихо молвят люди:
«Вот еще звезда».
И, мерцая, задремлем
На туманный век,
Посылая землям
Среброзвездный снег.
На груди из рая —
Твой небесный цвет.
Я пойму, мерцая,
Твой спокойный свет.
24 января 1906
* * *
Мы подошли — и воды синие,
Как две расплеснутых стены.
И вот — вдали белеет скиния,
И дали мутные видны.
Но уж над горными провалами
На дымно блещущий утес
Ты не взбежишь, звеня кимвалами,
В венке из диких красных роз.
Так — и чудесным очарованы —
Не избежим своей судьбы,
И, в цепи новые закованы,
Бредем, печальные рабы.
25 января 1906
345
ВЕРБОЧКИ
Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.
Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.
Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня!
В Воскресенье Вербное
Завтра встану первая
Для святого дня.
1 — 10 февраля 1906
РУСЬ
Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна
И в тайне — ты почиешь, Русь.
Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна,
Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел.
Где ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах.
346
Где буйно заметает вьюга
До крыши — утлое жилье,
И девушка на злого друга
Под снегом точит лезвие.
Где все пути и все распутья
Живой клюкой измождены,
И вихрь, свистящий в голых прутьях,
Поет преданья старины...
* * *
В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву
Я искал бесконечно красивых
И бессмертно влюбленных в молву.
Были улицы пьяны от криков.
Были солнца в сверканьи витрин.
Красота этих женственных ликов!
Эти гордые взоры мужчин!
Это были цари — не скитальцы!
Я спросил старика у стены;
«Ты украсил их тонкие пальцы
Жемчугами несметной цены?
Ты им дал разноцветные шубки?
Ты зажег их снопами лучей?
Ты раскрасил пунцовые губки,
Синеватые дуги бровей?»
Но старик ничего не ответил,
Отходя за толпою мечтать,
Я остался, таинственно светел,
Эту музыку блеска впивать...
347
А они проходили все мимо,
Смутно каждая в сердце тая,
Чтоб навеки, ни с кем несравнимой,
Отлететь в голубые края.
И мелькала за парою пара...
Ждал я светлого ангела к нам,
Чтобы здесь, в ликованьи троттуара,
Он одну приобщил небесам...
А вверху — на уступе опасном —
Тихо съежившись, карлик приник,
И казался нам знаменем красным
Распластавшийся в небе язык.
А.
Декабрь 1904
* * *
Барка жизни встала
На большой мели.
Громкий крик рабочих
Слышен издали.
Песни и тревога
На пустой реке,
Входит кто-то сильный
В сером армяке.
Руль дощатый сдвинул,
Парус распустил
И багор закинул,
Грудью надав-ил.
Тихо повернулась
Красная корма,
Побежали мимо
Пестрые дома.
34Ь
Вот они далеко,
Весело плывут.
Только нас с собою,
Верно, не возьмут!
Декабрь 1904
* * *
Улица, улица...
Тени беззвучно спешащих
Тело продать,
И забвенье купить,
И опять погрузиться
В сонное озеро города — зимнего холода...
Спите. Забудьте слова лучезарных.
О, если б не было в окнах
Светов мерцающих!
Штор и пунцовых цветочков!
Лиц, наклоненных над скудной работой!
Все тихо.
Луна поднялась.
И облачных перьев ряды
Разбежались далеко.
Январь 1905
НЕЗНАКОМКА
По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух^
349
Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.
И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.
Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.
И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.
А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!»* кричат.
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
* «Истина в вине!» (лат.).— Ред. о
350
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.
И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.
В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.
24 апреля 1906. Озерки
ЗАКЛЯТИЕ ОГНЕМ И МРАКОМ
За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне.
Лермонтов
1
О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
351
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!
Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!
Принимаю пустынные веси
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабьих трудов!
И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...
Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щиТа..<
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами — хмельная мечта!
И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Все равно: принимаю тебя!
24 октября 1907
2
Приявший мир, как звонкий дар,
Как злата горсть, я стал богат.
Смотрю: растет, шумит пожар —
Глаза твои горят.
Как стало жутко и светло!
Весь город — яркий сноп огня,
Река — прозрачное стекло,
И только — нет меня...
352
Я здесь, в углу. Я там, распят.
Я пригвожден к стене — смотри!
Горят глаза твои, горят,
Как черных две зари!
Я буду здесь. Мы все сгорим:
Весь город мой, река, и я...
Крести крещеньем огневым,
О, милая моя!
26 октября 1907
3
*
Я неверную встретил у входа:
Уронила платок — и одна.
Никого. Только ночь и свобода.
Только жутко стоит тишина.
Говорил ей несвязные речи,
Открывал ей все тайны с людьми,
Никому не поведал о встрече,
Чтоб она прошептала: возьми...
Но она ускользающей птицей
Полетела в ненастье и мрак,
Где взвился огневой багряницей
Засыпающий праздничный флаг.
И у светлого дома, тревожно,
Я остался вдвоем с темнотой.
Невозможное было возможно,
Но возможное — было мечтой.
23 октября 1907
4
Перехожу от казни к казни
Широкой полосой огня.
Ты только невозможным дразнишь
Немыслимым томишь меня...
12 Серебряный век
353
И я, как темный раб, не смею
В огне и мраке потонуть.
Я только робкой тенью вею,
Не смея в небо заглянуть...
Как ветер, ты целуешь жадно,
Как осень, шлейфом шелестя,
Храня в темнице безотрадной
Меня, как бедное дитя...
Рабом безумным и покорным
До времени таюсь и жду
Под этим взором, слишком черным,
В моем пылающем бреду...
10
Работай, работай, работай:
Ты будешь с уродским горбом
За долгой и честной работой,
За долгм и честным трудом.
Под праздник — другим будет сладко,
Другой твои песни споет,
С другими лихая солдатка
Пойдет, подбочась, в хоровод.
Ты знай про себя, что не хуже
Другого плясал бы — вон как!
Что мог бы стянуть и потуже
Свой золотохМ шитый кушак!
Что ростом и ртаном ты вышел
Статнее и краше других,
Что та молодица — повыше
Других молодиц удалых!
В ней сила играющей крови,
Хоть смуглые щеки бледны,
Тонки ее черные брови,
И строгие речи хмельны...
364
Ах, сладко, как сладко, так сладко
Работать, пока рассветет,
И знать, что лихая солдатка
Ушла за село, в хоровод!
26 октября 1907
11
И я опять затих у ног —
У ног давно и тайно милой,
Заносит вьюга на порог
Пожар метели белокрылой...
Но имя тонкое твое
Твердить мне дивно, больно, сладко...
И целовать твой шлейф украдкой,
Когда метель поет, поет...
В хмельной и злой своей темнице
Заночевало, сердце, ты,
И тихие твои ресницы
Смежили снежные цветы.
Как будто, на средине бега,
Я под метелью изнемог,
И предо мной возник из снега
Холодный, неживой цветок...
И с тайной грустью, с грустью нежной,
Как снег спадает с лепестка,
Живое имя Девы Снежной
Еще слетает с языка...
8 ноября 1907
12*
355
* * *
Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите все о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту,—
Что же? Разве я обижу вас?
О, нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я — сочинитель,
Человек, называющий все по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.
Сколько ни говорите о печальном,
Сколько ни размышляйте о концах и началах
Все же я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные
Речи о земле и о небе.
Право, я буду рад за вас,
Так как — только влюбленный
Имеет право на звание человека.
6 февраля 1908
356
* * *
Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней.
Она немедленно уронила на пол
Толстый том художественного журнала,
И сейчас же стало казаться,
Что в моей большой комнате
Очень мало места.
Все это было немножко досадно
И довольно нелепо.
Впрочем, она захотела,
Чтобы я читал ей вслух Макбета.
Едва дойдя до пузырей земли,
О которых я не могу говорить без волнения
Я заметил, что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.
Оказалось, что большой пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.
Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло и Франчески.
6 февраля 1908
357
В РЕСТОРАНЕ
Никогда не забуду (он был, или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на желтой заре — фонари.
Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, аи.
Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко
Взор надменный и отдал поклон.
Обратясь к кавалеру, намеренно резко
Ты сказала: «И этот влюблен».
И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Исступленно запели смычки...
Но была ты со мной всем презрением юным,
Чуть заметным дрожаньем руки...
Ты рванулась движеньем испуганной птицы.
Ты прошла, словно сон мой легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.
Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: «Лови!..»
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви.
18 апреля 1910
358
ПЛЯСКИ СМЕРТИ
1
Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться,
Скрывая для карьеры лязг костей...
Живые спят. Мертвец встает из гроба,
И в банк идет, и в суд идет, в сенат...
Чем ночь белее, тем чернее злоба,
И перья торжествующе скрипят.
Мертвец весь день трудится над докладом.
Присутствие кончается. И вот —
Нашептывает он, виляя задом,
Сенатору скабрезный анекдот...
Уж вечер. Мелкий дождь зашлепал грязью
Прохожих, и дома, и прочий вздор...
А мертвеца — к другому безобразью
Скрежещущий несет таксомотор.
В зал многолюдный и многоколонный
Спешит мертвец. На нем — изящный фрак.
Его дарят улыбкой благосклонной
Хозяйка — дура и супруг — дурак.
Он изнемог от дня чиновной скуки,
Но лязг костей музыкой заглушон...
Он крепко жмет приятельские руки —
Живым, живым казаться должен он!
Лишь у колонны встретится очами
С подругою — она, как он, мертва.
За их условно-светскими речами
Ты слышишь настоящие слова:
359
«Усталый друг, мне странно в этом зале.
Усталый друг, могила холодна.
Уж полночь».— «Да, но вы не приглашали
На вальс NN. Она в вас влюблена...»
А там — NN уж ищет взором страстным
Его, его — с волнением в крови...
В ее лице, девически прекрасном,
Бессмысленный восторг живой любви...
Он шепчет ей незначащие речи,
Пленительные для живых слова,
И смотрит он, как розовеют плечи,
Как на плечо склонилась голова...
И острый яд привычно-светской злости
С нездешней злостью расточает он...
«Как он умен! Как он в меня влюблен!»
В ее ушах — нездешний, странный звон:
То кости лязгают о кости.
19 февраля 1912
2
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
10 октября 1912
360
* * к
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.
Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.
Летели дни, крутясь проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.
Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.
30 декабря 1908
к к к
О, я хочу безумно жить:
Все сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!
361
Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне,—
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:
Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!
5 февраля 1914
ДРУЗЬЯМ
Молчите, проклятые струны!
А. Майков
Друг другу мы тайно враждебны,
Завистливы, глухи, чужды,
А как бы и жить и работать,
Не зная извечной вражды!
Что делать! Ведь каждый старался
Свой собственный дом отравить,
Все стены пропитаны ядом,
И негде главы преклонить!
Что делать! Изверившись в счастье,
От смеху мы сходим с ума,
И, пьяные, с улицы смотрим,
Как рушатся наши дома!
Предатели в жизни и дружбе,
Пустых расточители слов,
Что делать! Мы путь расчищаем
Для наши-х далеких сынов!
362
Когда под забором в крапиве
Несчастные кости сгниют,
Какой-нибудь поздний историк
Напишет внушительный труд...
Вот только замучит, проклятый,
Ни в чем неповинных ребят
Годами рожденья и смерти
И ворохом скверных цитат...
Печальная доля — так сложно,
Так трудно и празднично жить.
И стать достояньем доцента,
И критиков новых плодить...
Зарыться бы в свежем бурьяне,
Забыться бы сном навсегда!
Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!
24 июля 1908
ПОЭТЫ
За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты,— и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.
Напрасно и день светозарный вставал
Над этим печальным болотом:
Его обитатель свой день посвящал
Вину и усердным работам.
Когда напивались, то в дружбе клялись,
Болтали цинично и пряно.
Под утро их рвало. Потом, запершись,
Работали тупо и рьяно.
363
Потом вылезали из будок, как псы,
Смотрели, как море горело.
И золотом каждой прохожей косы
Пленялись со знанием дела.
Разнежась, мечтали о веке златом,
Ругали издателей дружно.
И плакали горько над малым цветком,
Над маленькой тучкой жемчужной...
Так жили поэты. Читатель и друг!
Ты думаешь, может быть,— хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,
Твоей обывательской лужи?
Нет, милый читатель, мой критик слепой!
По крайности, есть у поэта
И косы, и тучкгг, и век золотой,
Тебе же недоступно все это!..
Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!
Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала,—
Я верю: то бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!
24 июля 1908
АННЕ АХМАТОВОЙ
«Красота страшна»,— Вам скажут —
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан — в волосах.
364
♦ Красота проста»,— Вам скажут —
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан — на полу.
Но, рассеянно внимая
Всем словам, кругом звучащим,
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:
♦ Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать; не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна».
16 декабря 1913
к к к
Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух,
Да, таким я и буду с тобой:
Не для ласковых слов я выковывал дух,
Не для дружб я боролся с судьбой.
Ты и сам был когда-то мрачней и смелей,
По звездам прочитать ты умел,
Что грядущие ночи — темней и темней,
Что ночам неизвестен предел.
Вот — свершилось. Весь мир одичал, и окрест
Ни один не мерцает маяк.
И тому, кто не понял вещания звезд,—
Нестерпим окружающий мрак.
И у тех, кто не знал, что прошедшее есть,
Что грядущего ночь не пуста,—
Затуманила сердце усталость и месть,
Отвращенье скривило уста...
365
Было время надежды и веры большой —
Был я прост и доверчив, как ты.
Шел я к людям с открытой и детской душой,
Не пугаясь людской клеветы...
А теперь — тех надежд не отыщешь следа,
Все к далеким звездам унеслось.
И к кому шел с открытой душою тогда,
От того отвернуться пришлось.
И сама та душа, что, пылая, ждала,
Треволненьям отдаться спеша,—
И враждой, и любовью она изошла,
И сгорела она, та душа.
И остались — улыбкой сведенная бровь,
Сжатый рот и печальная власть
Бунтовать ненасытную женскую кровь,
Зажигая звериную страсть...
Не стучись же напрасно у плотных дверей,
Тщетным стоном себя не томи:
Ты не встретишь участья у бедных зверей,
Называвшихся прежде людьми.
Ты — железною маской лицо закрывай,
Поклоняясь священным гробам,
Охраняя железом до времени рай,
Недоступный безумным рабам.
9 июня 1916
к к к
Превратила все в шутку сначала,
Поняла — принялась укорять,
Головою красивой качала,
Стала слезы платком вытирать.
И, зубами дразня, хохотала,
Неожиданно- все позабыв.
Вдруг припомнила все — зарыдала,
Десять шпилек на стол уронив.
366
Подурнела, пошла, обернулась,
Воротилась, чего-то ждала,
Проклинала, спиной повернулась,
И, должно быть, навеки ушла...
Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело свое.—
Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как платье твое?
29 февраля 1916
РОССИЯ
Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи...
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!
Тебя жалеть я\не умею,
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет,—
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...
Ну, что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты все та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...
367
И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..
18 октября 1908
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Марии Павловне Ивановой
Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.
Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.
Три ярких глаза набегающих —
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон...
Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.
Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блеклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...
Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотись на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною...
Скользнул — и поезд в даль умчало.
368
Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая...
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая...
Да что — давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинуто
В пустынные глаза вагонов...
Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — все больно.
14 июня 1910
к к к
Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в божий храм.
Три раза преклониться долу,
Семь — осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.
Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.
А воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.
369
И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод,
И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне...
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.
26 августа 1914
к к к
Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.
В этом поезде тысячью жизней цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда... В закатной дали
Были дымные тучи в крови.
И, садясь, запевали Варяга одни,
А другие — не в лад — Ермака,
И кричали ура, и шутили они,
И тихрнько крестилась рука.
Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
И под черною тучей веселый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.
И военною славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток
Заглушило ура без конца.
370
Уж последние скрылись во мгле буфера,
И сошла тишина до утра,
А с дождливых полей все неслось к нам ура,
В грозном клике звучало: пора!
Нет, нам не был грустно, нам не было жаль,
Несмотря на дождливую даль.
Это — ясная, твердая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?
Эта жалость — ее заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.
Грусть — ее застилает отравленный пар
С галицийских кровавых полей...
1 сентября 1914
к к к
3. Н. Гиппиус
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.
Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье,—
Те, кто достойней, боже, боже,
Да узрят царствие твое!
8 сентября 1914
371
* * *
Женщина, безумная гордячка!
Мне понятен каждый ваш намек,
Белая весенняя горячка
Всеми гневами звенящих строк!
Все слова — как ненависти жала,
Все слова — как колющая сталь!
Ядом напоенного кинжала
Лезвие целую, глядя в даль...
Но в дали я вижу — море, море,
Исполинский очерк новых стран,
Голос ваш не слышу в грозном хоре,
Где гудит и воет ураган!
Страшно, сладко, неизбежно, надо
Мне — бросаться в многопенный вал,
Вам — зеленоглазою наядой
Петь, плескаться у ирландских скал.
Высоко — над нами — над волнами,—
Как заря над черными скалами —
Веет знамя — Интернацьонал!
1 — 6 июня 1918
РУССКИЙ БРЕД
<Наброски>
Зачинайся, русский бред...
...Древний образ в темной раке,
Перед ним — подлец во фраке,
В лентах, звездах и крестах...
Воз скрипит по колее,
Поп идет по солее...
372
Есть одно, что в ней скончалось
Безвозвратно...
Но нельзя его оплакать,
И нельзя его почтить,
Потому что там и тут
В кучу сбившиеся тупо
Толстопузые мещане
Злобно чтут
Дорогую память трупа —
Там и тут,
Там и тут...
Так звени стрелой в тумане,
Гневный стих и гневный вздох.
Плач заказан, снов не свяжешь
Бредовым...
Февраль 1918 — 8 апреля 1919
НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ
»
<Для кантаты Ю. Шапорина>
1. Хор татар
Идут века...
Бежит река...
Земля тяжка, черна, пусты поля...
Шумят пиры...
Трещат костры...
Гудит вдали, кружит в пыли, дрожит земля...
И жар костров
В разгар пиров —
И дальний зов — на бой — на бой — рази врагов!
В лязге сабель, в ржанье коней, в блеске брони
За сраженным, за сметенным — в погоню, в погоню,
в погоню!
373
Мечи стрелу в ночную мглу!..
Добей врага, гони, лети, скачи!..
Рази, руби, коли, стегай, хлещи!..
2. Ария невесты
(Невеста ждет жениха)
Я живу в отдаленном скиту
В дни, когда опадают листы.
Выхожу — и стою на мосту
И смотрю на речные цветы.
И смотрю за туманы и гарь,
Как из той из туманной дали
Чередой потянулись, как встарь,
Гуси, лебеди, да журавли...
Дайте вольные крылья свои,
Гуси, лебеди, да журавли...
Ах, когда на призывы мои
Он вернется из дальней дали?
Боже, в черные ночи и дни
Ты храни Жениха моего,
Упаси ты от вражьей стрелы,
Сохрани ты от сабли его...
3—14 ноября 1919
ПУШКИНСКОМУ ДОМУ
Имя Пушкинского Дома
В Академии наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!
Это — звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.
374
Это — древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижном скакуне.
Наши страстные печали
Над таинственной Невой,
Как мы черный день встречали
Белой ночью огневой.
Что за пламенные дали
Открывала нам река!
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.
Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?
Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук —
Имя Пушкинского Дома
В Академии наук.
Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.
11 февраля 1921
375
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Иннокентий. Анненский
ИЗ СТАТЬИ «О СОВРЕМЕННОМ ЛИРИЗМЕ»
* * *
Чемпион наших молодых,— несомненно, Александр
Блок.
Это, в полном смысле слова и без малейшей иронии,—
краса подрастающей поэзии, что краса? — ее очарование.
Не только настоящий, природный символист, но он и
сам — символ. Напечатанные на карт-посталях черты
являют нам изящного Андрогина, а голос кокетливо,
намеренно бесстрастный, белый, таит, конечно, самые
нежные и самые чуткие модуляции.
Маска Андрогина — но под ней в самой поэзии ярко
выраженный мужской тип любви, которая умеет и об¬
манно пленить и, когда надо, когда того хочет женщина,
осилить, и весело оплодотворить.
Но я особенно люблю Блока вовсе не когда он говорит
в стихах о любви. Это даже как-то меньше к нему идет.
Я люблю его, когда не искусством — что искусство? — а
с диковинным волшебством он ходит около любви,
весь — один намек, один томный блеск глаз, одна чуть
слышная, но уже чарующая мелодия, где и слова-то
любви не вставить.
Кто не заучил в свое время наизусть его «Незнакомки»?
В интродукции точно притушенные звуки comet-a-piston.
По вечеРАм над рестоРАнами...
Слова точно уплыли куда-то. Их не надо, пусть звуки
говорят, что им вздумается...
376
Горячий воздух дик и глух
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.
Потом идет крендель, уже классический, котелки,
уключины... диск кривится, бутылка нюи с елисеевской
маркой (непременно елисеевский нюи — Что же вы еще
придумаете более терпкого и таинственного?), пьяницы с
глазами кроликов...
И как все это безвкусно — как все нелепо, просто до
фантастичности — латинские слова зачем-то... Шлагбау¬
мы и дамы — до дерзости некрасиво. А между тем так
ведь именно и нужно, чтобы вы почувствовали прибли¬
жение божества.
О, читайте сколько хотите раз блоковскую «Незна¬
комку», но если вы сколько-нибудь петербуржец, у вас
не может не заныть всякий раз сладко сердце, когда
Прекрасная Дама рассеет и отвеет от вас, наконец, весь
этот теперь уже точно тлетворный дух. И мигом все эти
нелепые выкрутасы точно преображаются. На минуту, но
город — хуже, дача — становится для всех единственно
ценным и прекрасным, из-за чего стоит жить. Грудь
расширяется, хочется дышать свободно, говорить А:
И медленно пройдЯ меж пьЯными,
ВсегдА без спутников, однА,
ДышА духАми и тумАнами...
(не придирайтесь, бога ради, не спрашивайте, почему
туманами — а не, например, слишком пряны ми, тумана¬
ми лучше — нельзя иначе как туманами)
ОнА сАдится у ОкнА.
Ее узкая рука — вот первое, что различил в даме поэт.
Блок — не Достоевский, чтобы первым был ее узкий
мучительный следок\ И вот широкое А уступает багетку
узким Е и У. За широким А сохранилось лишь достоин¬
ство мужских рифм?
И вЕюн дрЕвними поверьями
Ее упрУгие шЕлкА,
И шляпа с траУрными пЕрьями,
И в кольцах Узкая рУка.
О, вас не дразнит желание! Нет, нисколько. Все это
так близко, так доступно, что вам хочется, напротив,
377
создать тайну вокруг этой узкой руки и девичьего стана,
отделить их, уберечь как-нибудь от кроличьих глаз, сказ¬
кой окутать... Пусть жизнь упорно говорит вам глазами
самой дамы — «если хотите, я ваша», пусть возле вас во¬
рчит ваш приятель, «ведь просил тебя, не пей ты этого
нюи, сочинил какую-то незнакомку. Человек, что у вас
Гейдзик Монополь есть? Похолоднее. Ну где же она?: Эх,
ты... сочинитель».
Но что вам за дело до жизни и до приятеля? Мечта
расцветает так властно, так неумолимо,— что вы, право,
боитесь заплакать. Вам почти до боли жалко кого-то. И
вот шепчут только губы, одни губы, и стихи могут опи¬
раться лишь на О и У:
И перья страуса склоненные
В моЕм качаются мозгУ
(да мозгу, мозгу — тысячу раз мозгу, педанты несчаст¬
ные, лишь от печки танцующие!)
И Очи синие, бездОнные
ЦветУт на дальнем берегУ.
Я не знаю у Блока другого, более кокетливого, но и
более мужского стихотворения. Это — вовсе не эротика, но
здесь — вся стыдливая тайна крепких и нежных объятий.
1909
Николай Гумилев
ИЗ ПИСЕМ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Перед А. Блоком стоят два сфинкса, заставляющие его
«петь и плакать» своими неразрешенными загадками:
Россия и его собственная душа. Первый — некрасовский,
второй — лермонтовский. И часто, очень часто Блок по¬
казывает нам их, слитых в одно, органически-нераздель-
ных. Невозможно? Но разве не Лермонтов написал «Пес¬
ню о купце Калашникове»? Из некрасовских заветов
любить отчизну с печалью и гневом он принял только
первый. Например, в стихотворении «За гробом» он на¬
чинает сурово, обвиняюще:
378
Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец...
но тотчас же добавляет:
Но мертвец — родной душе народной:
Всякий свято чтит она конец...
Или в стихотворении «Родине», за великолепно¬
страшными строками:
За море Черное, за море Белое
В черные ночи и белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни...
непосредственно следуют строки примиряющие, уже са¬
мой ритмикой, тремя подряд стоящими прилагательными’
Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим...
Этот переход от негодования не к делу или призыву, а
к гармонии (пусть купленной ценой новой боли — боль
певуча), к шиллеровской, я сказал бы, красоте, характери¬
зует германскую струю в творчестве Блока. Перед нами не
Илья Муромец, не Алеша Попович, а другой гость, слав¬
ный витязь заморский, какой-нибудь Дюк Степанович. И
не как мать любит он Россию, а как жену, которую нахо¬
дят, когда настанет пора. В своей лоэнгриновской тоске
Блок не знает решительно ничего некрасивого, низкого,
чему он мог бы сказать, наконец, мужское: нет! А может
быть, хочет, ищет? Но миг — и даже тема о забытом полу¬
станке рыдает у него, как самая полнозвучная скрипка:
Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели,
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели...
В чисто лирических стихах и признаниях у Блока —
лермонтовское спокойствие и грусть, но и тут тоже харак¬
терное различие: вместо милой заносчивости маленького
гусара, у него благородная задумчивость Микаэля Краме¬
ра. Кроме того, в его творчестве поражает еще одна черта,
несвойственная не только Лермонтову, а и всей русской
поэзии вообще, а именно — морализм. Проявляясь в своей
первоначальной форме нежелания другому зла, этот мора-
379
лизм придает поэзии Блока впечатление какой-то особен¬
ной, опять-таки шиллеровской, человечности.
Ведь со свечой в тревоге давней
Ее не ждет у двери мать.
Ведь бедный муж за плотной ставней
Ее не будет ревновать...—
размышляет он почти в момент объятья и влюбляется в
женщину за ее «юное презрение» к его желанию.
Как никто, умеет Блок соединять в одной две темы,—
не противопоставляя их друг другу, а сливая их химичес¬
ки. В «Итальянских стихах» — величавое и светлое про¬
шлое и «некий ветер, сквозь бархат, черный поющий о
будущей жизни», в «Куликовом поле» — нашествие татар
и историю влюбленного воина русской рати. Этот прием
открывает нам безмерные горизонты в области поэзии.
Вообще, Блок является одним из чудотворцев русско¬
го стиха. Трудно подыскать аналогию ритмическому со¬
вершенству таких стихов, как «Свирель запела» или «Я
сегодня не помню». Как стилист, он не чурается обычно
красивых слов, он умеет извлекать из них первоначаль¬
ное их очарование.
Валентина, звезда, мечтанье,
Как поют твои соловьи...
И великая его заслуга перед русской поэзией в том,
что он сбросил иго точных рифм, нашел зависимость
рифмы от разбега строки, его ассонансы, вкрапленные в
сплошь рифмованные строфы, да и не только ассонансы,
но и просто неверные рифмы (плечо — ни о чем, вести —
страсти), всегда имеют в виду какой-нибудь особенно
тонкий эффект и всегда его достигают.
Обыкновенно поэт отдает людям свои творения. Блок
отдает людям самого себя.
Я хочу этим сказать, что в его стихах не только не
разрешаются, но даже не намечаются какие-нибудь об-
щие’проблемы, литературные, как у Пушкина, философ¬
ские, как у Тютчева, или социологические, как у Гюго,
и что он просто описывает свою собственную жизнь,
которая, на его счастье, так дивно богата внутренне —
борьбой, катастрофами и озареньями.
«Я не слушаю сказок, я простой человек»,— говорит
Пьеро в «Балаганчике», и эти слова хотелось бы видеть
эпиграфом ко всем трем книгам стихотворений Блока. И
380
вместе с тем он обладает чисто пушкинской способностью
в минутном дать почувствовать вечное, за каждым слу¬
чайным образом — показать тень гения, блюдущего его
судьбу. Я сказал, что это пушкинская способность, и не
отрекусь от своих слов. Разве даже «Гавриилиада» не
проникнута, пусть странным, но все же религиозным
ощущением, больше чем многие пухлые томы разных
Слов и Размышлений? Разве альбомные стихи Пушкина
не есть священный гимн о таинствах нового Эроса?
О блоковской Прекрасной Даме много гадали — хоте¬
ли видеть в ней — то Жену, облаченную в Солнце, то
Вечную Женственность, то символ России. Но если пове¬
рить, что это просто девушка, в которую впервые был
влюблен поэт, то мне кажется, ни одно стихотворение в
книге не опровергнет этого мнения, а сам образ, сделав¬
шись ближе, станет еще чудеснее и бесконечно выиграет
от этого в художественном отношении. Мы поймем, что
в этой книге, как в «Новой Жизни» Данте, «Сонетах»
Ронсара, «Вертере» Гете и «Цветах Зла» Бодлера, нам
явлен новый лик любви; любви, которая хочет ослепи¬
тельности, питается предчувствиями, верит предзнаме¬
нованиям и во всем видит единство, потому что видит
только самое себя; любви, которая лишний раз доказы¬
вает, что человек — не только усовершенствованная
обезьяна. И мы будем на стороне поэта, когда он устами
того же Пьеро крикнет обступившим его мистикам: «Вы
не обманете меня, это Коломбина, это моя невеста!» Во
второй книге Блок как будто впервые оглянулся на ок¬
ружающий его мир вещей и, оглянувшись, обрадовался
несказанно. Отсюда ее название. Но это было началом
трагедии. Доверчиво восхищенный миром поэт, забыв
разницу между ним и собой, имеющим душу живую, как-
то сразу и странно легко принял и полюбил все — и бо¬
лотного попика, бог знает чем занимающегося в болоте,
вряд ли только лечением лягушиных лап, и карлика,
удерживающего рукою маятник и тем убивающего ре¬
бенка, и чертенят, умоляющих не брать их во Святые
Места; и в глубине этого сомнительного царства, как
царицу, в шелках и перстнях Незнакомки, Истерию с ее
слугой, Алкоголем.
Незнакомка — лейтмотив всей книги. Это обманное
обещание материи — доставить совершенное счастье и
невозможность, но не чистая и безгласная, как звезды,
смысл и правда которых в том, что они недосягаемы,—
а дразнящая и зовущая, тревожащая, как луна. Это —
381
русалка города, требующая, чтобы влюбленные в нее
отреклись от своей души.
Но поэт с детским сердцем, Блок, не захотел пустить¬
ся в такие мировые авантюры. Он предпочел смерть. И
половина «Снежной ночи», та, которая раньше составля¬
ла «Землю в снегу», заключает в себе постоянную и упор¬
ную мысль о смерти, и не о загробном мире, а только о
моменте перехода в него. Снежная Маска — это та же
Незнакомка, но только отчаявшаяся в своей победе и в
раздражении хотящая гибели для ускользающего от нее
любовника. И в стихах этого периода слышен не только
истерический восторг или истерическая мука, в них уже
чувствуется торжественное приближение Духа Музыки,
побеждающего демонов. Музыка — это то, что соединяет
мир земной и мир бесплотный. Это — душа вещей и тело
мысли. В скрипках и колоколах «Ночных часов» (второй
половины «Снежной ночи») уже нет истерии,— этот пе¬
риод счастливо пройден поэтом. Все линии четки и твер¬
ды, и в то же время ни один образ не очерчен до замкну¬
тости в самом себе, все живы в полном смысле этого
слова, все трепетны, зыблются и плывут в «отчизну скри¬
пок беспредельных». Слова — как ноты, фразы — как
аккорды. И мир, облагороженный музыкой, стал по-че¬
ловечески прекрасным и чистым — весь, от могилы Дан¬
те до линялой занавески над больными геранями. В ка¬
кие формы дальше выльется поэзия Блока, я думаю,
никто не может сказать, и меньше всех он сам.
1912
Юрий Тынянов
БЛОК
1
«Литературные» выступления Блока в подлинном
смысле слова никем не зачитываются в облик Блока. Едва
ли кто-нибудь, думая о нем сейчас, вспомнит его статьи.
Здесь органическая черта. Тогда как у Андрея Белого
проза близка к стиху и даже крики его «Дневника» ли-
тературны и певучи, у Блока резко раздельны стихи и
проза: есть Блок-поэт и Блок-прозаик, публицист, даже
историк, филолог.
Итак, печалятся о поэте. Но печаль слишком просто¬
душна, настоящая личная, она затронула даже людей мало
382
причастных к литературе. Правдивее другой ответ, в глу¬
бине души решенный для всех: о человеке печалятся.
И однако же, кто знал этого человека? В Петрограде,
где жил поэт, тотчас после его смерти появились статьи-
воспоминания, в газете, посвященной вопросам искусства.
, Характерно, что не некрологи, а воспоминания, на¬
столько Блок — явление сомкнутое и готовое войти в ряд
истории русской поэзии. Но характерны и самые воспоми¬
нания: петроградские литераторы и художники вспомина¬
ют о случайных, мимолетных встречах, о скудных словах,
оброненных поэтом,, о разговорах по поводу каких-то яб¬
лок, каких-то иллюстраций; так вспоминают о деятелях
давно прошедших эпох, о Достоевском или Некрасове.
Блока мало кто знал. Как человек он остался загадкой
для широкого литературного Петрограда, не говоря уже
о всей России.
Но во всей России знают Блока как человека, твердо
верят определенности его образа, и.если случится кому
увидеть хоть раз его портрет, то уже чувствуют, что
знают его досконально.
Откуда это знание?
2
Здесь, может быть, ключ к поэзии Блока; и если сей¬
час нельзя ответить на этот вопрос, то можно, по крайней
мере, поставить его с достаточной полнотой.
Блок — самая большая лирическая тема Блока. Это
тема притягивает как тема романа еще новой, нерожден¬
ной (или неосознанной) формации. Об этом лирическом
герое и говорят сейчас.
Он был необходим, его уже окружает легенда, и не
только теперь — она окружала его с самого начала, каза¬
лось даже, что она предшествовала самой поэзии Блока,
что его поэзия только развила и дополнила постулиро¬
ванный образ.
В образ этот персонифицируют все искусство Блока;
когда говорят о его поэзии, почти всегда за поэзией,
невольно подставляют человеческое лицо — и все полюби¬
ли лицо, а не искусство.
Этому лирическому образу было тесно в пределах сим¬
волического канона. Символ, развоплощая слово Блока,
гнал его к сложным словесно-музыкальным построениям
«Снежной маски», с другой стороны, слово его не выдер¬
жало эмоциональной тяжести и предалось на волю песен-
383
ного начала (причем мелодическим материалом послу¬
жил ему и старинный романс — «О доблестях, о подви¬
гах, о славе...», и цыганский романс, и фабричная —
«гармоника, гармоника!..»), а этот лирический образ
стремился втесниться в замкнутый предел стихотворных
новелл. Новеллы эти в ряду других стихотворных новелл
Блока выделились в особый ряд; они то собраны в циклы,
то рассыпаны: Офелия и Гамлет, Царевна и Рыцарь,
Рыцарь и Дама, Кармен, Князь и, Девушка, Мать и Сын.
Здесь и возник любимый всеми образ Блока, даже
внешний:
Розовая девушка встала на пороге
И сказала мне, что я красив и высок.
Влюбленность расцвела в кудрях
И в ранней грусти глаз.
На этом образе лежит колеблющийся свет. Блок ус¬
ложнил его темой второго, двойника*. Сначала этот в то -
рой является отдельно, самостоятельно (Паяц), только
контрастируя с первым, но затем в ряде стихотворений
появляется двойником:
И жалкие крылья мои,
Крылья вороньего пугала...
В «Ночной фиалке» тема двойника сведена к любимо¬
му романтиками смутному воспоминанию о предсущес¬
твовании:
Был я нищий бродяга.
Посетитель ночных ресторанов,
А в избе собрались короли;
Но запомнилось ясно,
Что когда-то я был в их кругу
И устами касался их чаши
Где-то в скалах, на фьордах,
Где уж нет ни морей, ни земли,
Только в сумерках снежных
Чуть блестят золотые венцы
Скандинавских владык.
И, оживляя мотив Мюссе и Полонского, Блок еще раз
* Тема двойника сначала развита у Блока вне зависимости от того или
иного сдвига образов, как лирический сюжет.
384
провел его перед нами в «Седом утре» — «стареющий
юноша», который «улыбнулся нахально».
Эмоциональная сила образа именно в этом колеблю¬
щемся двойном свете: и рыцарь, несущий на острие ко¬
пья весну, и одновременно нечистый и продажный, с кру¬
гами синими у глаз — все сливается в предметно-неуло¬
вимый и вместе эмоционально законченный образ
{сумрак улиц городских).
Еще несколько лирических образов того же порядка
создал Блок («Незнакомка»), но от них отвлекли этот
двойной, в него оличили поэзию Блока.
А между тем есть (или кажется, что есть) еще один
образ.
Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще нежившим.
Забавно жить! забавно знать,
Что все пройдет, что все не ново!
Что мертвому дано рождать
Бушующее жизнью слово.
Об этом холодном образе не думают, он скрыт за ры¬
царем, матросом, бродягой. Может быть, его увидел Блок
в Гоголе:
«Едва ли встреча с Гоголем могла быть милой, при¬
ятельской встречей: в нем можно было легко почувство¬
вать старого врага; душа его гляделась в другую душу
мутными очами старого мира; отшатнуться от него было
легко».
Может быть, не случайно стихотворение, строфу из
которого я привел,— напечатано рядом с другим:
Ведь я — сочинитель,
Человек, называющий все по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.
В чем заключается, на чем основан этот закон персо¬
нифицирования, оличения искусства Блока?
Уже беглый взгляд на перечисленные лирические сю¬
жеты Блока нас убеждает: перед нами давно знакомые,
традиционные образы; некоторые же из них (Гамлет, Кар¬
мен) — стерты до степени штампов. Такие же штампы и
Арлекин, и Коломбина, и Пьеро, И Командор — любимые
персонажи лирических новелл Блока. Иногда кажется, что
13 Серебряный век
385
Блок нарочно выбирает такие эпиграфы, как «из «Кина»,
или: «Молчите, проклятые струны!»
Образы его России столь же традиционны; то пушкин¬
ские:
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..
то некрасовские:
Ты стоишь под метелицей дикой,
Роковая, родная страна.
Он иногда заимствует лирический сюжет у Толстого
(«Уж вечер светлый полосою...»). Он не избегает и цитат:
В час равнодушного свиданья
Мы вспомним грустное прости ...
(К. М. С. «Луна проснулась. Город шумный...». Цита¬
та из Полонского).
И молча жду,— тоскуя и любя.
(«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо — ...».
Слова Вл. Соловьева).
Затем, что Солнцу нет возврата.
(«Сны безотчетны, ярки краски...». Слова Купавы в
«Снегурочке» Островского).
И, вспоминая, сохранили
Те баснословные года...
(«Прошли года, но ты — все та же...». Слова Тютчева).
Теперь проходит предо мною
Твоя развенчанная тень...
(«Своими горькими слезами...». Слова Пушкина).
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.
(«Опять над полем Куликовым...». Цитата из Вл. Со¬
ловьева).
И здесь характерен не только самый факт, а и то, что
Блок графически выделяет цитаты, ссылается на авторов.
Тема и образ важны для Блока не сами по себе, они
важны только с точки зрения их эмоциональности, как
в ремесле актера:
386
Тащитесь, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!
Он предпочитает традиционные, даже стертые образы
(«ходячие истины»), так как в них хранится старая эмо¬
циональность; слегка подновленная, она сильнее и глуб¬
же, чем эмоциональность нового образа, ибо новизна
обычно отвлекает внимание от эмоциональности в сторо¬
ну предметности.
Поэтому в ряду символов Блок не избегает чисто ал¬
легорических образов, символов давно застывших, мета¬
фор уже языковых:
Прохладной влагой синей ночи
Костер волненья залила...
<...> по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельной пожар!
Мой сирый дух — твой верный пес
У ног твоих грохочет цепью...
Над кадилом мечтаний...
Блок не избегает давно стертой аллегорической оды
(«Ночь»):
В длинном черном одеяньи,
В сонме черных колесниц,
В бледно-фосфорном сияньи —
Ночь плывет путем цариц.
Он не боится такого общего, банального места в обра¬
зе, как:
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет.
Потому что в общем строе его искусства эти образы
призваны играть известную роль в эмоциональной ком¬
позиции, не выдвигаясь сами по себе.
13*
387
Поэтому новые образы (которых тоже много у Бло¬
ка) — новые также по эмоциональному признаку:
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашуршали тревожно шелка.
Подурнела, пошла, обернулась,
Воротилась, что-то ждала,
Проклинала, спиной повернулась
И, должно быть, навеки ушла...
Здесь перед нами совершенно новые слитные образы,
с точки зрения предметной не существующие (ибо рядом,
единовременно названы действия разновременных пла¬
нов, глаголы разных видов: подурнела, пошла, проклина¬
ла; вздохнули духи, задремали ресницы).
Поэтому музыкальная форма, которая является перво¬
образом лирики Блока,— романс, самая примитивная и
эмоциональная*. Блок подчеркивает эпиграфами родство с
цыганским романсом («Не уходи, побудь со мною»; «Утро
туманное, утро седое...»),— но эти эпиграфы являются
вместе с тем заданным мелодическим строем; «Дым от
костра струею сизой...» невозможно читать, не подчиняясь
этому мелодическому заданию; так же исключительно
романсно, мелодически должны мы читать стилизацию
Апухтина «Была ты всех ярче, верней и прелестней...».
Не случайно стихи Блока полны обращений — «ты»,
от которых тянутся прямые нити к читателю и слушате¬
лю,— прием, канонический для романса.
Но не только в этих крайних разновидностях эмоци¬
онального искусства встречаются у Блока черты эмоци¬
ональной интонации и мелодики. Так, он охотно вводит
эмфатическую интонацию практической речи в высокую
лирическую тему:
Я, наконец, смертельно болен,
Дышу иным, иным томлюсь,
Закатом солнечным доволен
И вечной ночи не боюсь...
Здесь вводное «наконец», привнесенное из строя обы¬
денной речи, влияет на всю интонационную окраску стро¬
фы, уподобляет ее отрывку взволнованного разговора.
* Мысль о том, что поэзия Блока является канонизацией цыганского
романса, развивает Виктор Шкловский («Блок и Розанов»).
388
И подобно тому как в наиболее эмоциональном из
родов театрального искусства — мелодраме получает
совершенно особое значение конец пьесы, ее разрешение,
так и у Блока совершенно особую роль играет конец сти¬
хотворения.
В ранних его вещах конец повторяет начало, смыка¬
ется с ним — эмоция колеблется: дан7 эмоциональный
ключ, эмоция нарастает — и на высшей точке напряже¬
ния вновь падает к началу; таким образом целое замыка¬
ется началом и как бы продолжается после конца вдаль.
Но для позднейшего Блока характерно завершение на
самой высокой точке, к которой как бы стремилось все
стихотворение. Так, стихотворение «Уже померкла яс¬
ность взора...» кончается:
Когда в гаданьи, еле зримый,
Встал предо мной, как редкий дым,
Тот призрак, тот непобедимый...
И арфы спели-, улетим.
Здесь высшее напряжение не только в последней стро¬
фе, но и высшая его степень — в последней строке, л&же
в последнем слове.
Еще виднее это на крупных произведениях. В ♦Незна¬
комке» (♦По вечерам над ресторанами...») тема рестора¬
на, проведенная в синкопических пэонах:
Заламывая котелки
Испытанные остряки,
сменяется стремительно ябмической темой Незнакомки:
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
все возрастающей к концу вследствие монотонности соче¬
тания предложений.
Так же и в ♦Двенадцати» последняя строфа высоким
лирическим строем замыкает частушечные, намеренно
площадные формы. В ней не только высший пункт сти¬
хотворения — в ней весь эмоциональный план его, и,
таким образом, самое произведение является как бы ва¬
риациями, колебаниями, уклонениями от темы конца.
Эмоциональные нити, которые идут непосредственно
от поэзии Блока, стремятся сосредоточиться, воплотить¬
ся и приводят к человеческому лицу за нею.
1921
389
Владимир Орлов
ИЗ СТАТЬИ «ПОЭЗИЯ БЛОКА»
Острая наблюдательность сочеталась в Блоке со спо¬
собностью к синтезу. Беглые и дробные житейские впе¬
чатления, как правило, служат в стихах Блока поводом
к широкому поэтическому обобщению,— и это связано с
самыми основами его миропонимания, со стремлением
постичь и запечатлеть мир в его единстве и целостности.
В 1910 г. в обществе много говорили о появлении
кометы, якобы угрожающей существованию Земли. В
записной книжке Блока есть такая заметка: «Сегодня
утром встал я из теплой постели в четвертом часу утра
посмотреть комету...» Художественным результатом
этой ранней прогулки явилось стихотворение «Комета».
Меньше всего это стихи о падучей звезде. Они .говорят о
судьбах мира; тема взята здесь в аспекте, характерном
для всей блоковской лирики: комета — образ грядущей
катастрофы «страшного мира».
Поэтический рассказ о гибели авиатора, свидетелем
которой оказался поэт, завершается строфой, которая по
своему смыслу выходит далеко за рамки данного сюжета,
говорит уже не о роковой судьбе смельчака, но о судьбах
всего мира:
Иль отравил твой мозг несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит?
Это, так сказать, простейшие случаи поэтических
обобщений в лирике Блока. Но вот пример, раскрываю¬
щий всю сложную специфику лирического стиля Блока,
показывающий, как свое ощущение стремительного хода
истории — безудержного «полета» буржуазного мира к
его неизбежному концу — поэт стремился воплотить в
самой художественной ткани своей лирики.
Модный в свое время увеселительный аттракцион —
катанье на вертящейся круглой площадке (так называе¬
мом «чертовом колесе») —вызвал к жизни одно из са¬
мых сильных и типически выразительных стихотворе¬
ний Блока— «Миры летят. Года летят...».
Уже первые строки этого стихотворения: «Миры ле-
390
тят. Года летят. Пустая вселенная глядит в нас мраком
глаз...» — вводят в блоковскую атмосферу всемирной тра¬
гедии, в атмосферу хаотического «полета» миров и времен,
в который втянут напуганный и несчастный человек.
Никто, конечно, не скажет, что в этом стихотворении го¬
ворится о популярном в свое время развлечении в одном из
увеселительных садов Петербурга,— хотя ощущения ката¬
ющегося на «чертовом колесе» и переданы в стихотворе¬
нии довольно точно. Нет, всякий скажет, что это стихи не
о катаньи на «чертовом колесе», а об иллюзорности и не¬
доступности счастья в «страшном мире».
И сказано об этом так, что мы воспринимаем «косми¬
ческую» картину круговращения миров и безостановоч¬
ного бега времени — как картину историческую, то есть
воспринимаем данное стихотворение в общем идейно¬
образном контексте поэзии Блока, говорящей о «страш¬
ном мире» накануне ожидающей его катастрофы:
...вновь безумный, неизвестный
и за сердце хватающий полет...
Вздохнул, глядишь — опасность миновала...
Но в этот самый миг — опять толчок!
Запущенный куда-то, как попало,
Летит, жужжит, торопится волчок!
И, уцепясь за край скользящий, острый,
И слушая всегда жужжащий звон,—
Не сходим ли с ума мы в смене пестрой
Придуманных причин, пространств, времен...
Когда ж конец? Назойливому звуку
Не станет сил без отдыха внимать...
Как страшно всё! Как дико! — Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять.
В этом стихотворении как бы пересекаются два плана.
«За сердце хватающий полет», толчки и назойливый,
жужжащий звон, острый, скользящий край вертящейся
площадки — это все идет от конкретного ощущения че¬
ловека, катающегося на «чертовом колесе». Но полет
вместе с тем «безумен» и «неизвестен», и «назойливый
звук» — бесконечен, и вообще от всего этого увеселения
человеку страшно и дико, и он сходит с ума «в пестрой
смене» причин, пространств и времен.
391
Наиболее существенно, что оба эти пересекающихся
плана существуют не разобщенно, а в некоем единстве.
Поскольку для лирического героя Блока переживание
любой конкретности его личного, эмпирического бытия
связано с ощущением общей «мировой» жизни, с «миро¬
вой музыкой», он в едином переживании воспринимает
и катанье на «чертовом колесе» и свое ощущение «кос¬
мического» полета времен и миров.
Здесь мы видим яркий пример художественного во¬
площения увлекавшей Блока теории «единого музыкаль¬
ного напора». С этим общим принципом художественно¬
го метода Блока, с принципом слияния частного и обще¬
го, личного и мирового, теснейшим образом связаны и
конструктивные принципы его поэтической системы,
сама структура его стиля, его поэтика и семантика.
При этом лирический стиль Блока в процессе своего
формирования претерпел разительные изменения. Укло¬
нение от прямой речи, от прямого и точного определения
понятий, отрыв слова от предметности — типическая и
характерная черта символистской поэзии в целом — от¬
личает и творчество Блока в первом томе его лирики и в
значительной части второго тома. Слово в его стихах
сплошь и рядом отрывалось от своего вещественного
значения и служило неким условным знаком — симво¬
лом; поэтический образ рождался в сопоставлении слож¬
ных и подчас не поддающихся логическому истолкова¬
нию ассоциаций, сравнений, уподоблений.
Но в зрелой лирике Блока картина существенно меня¬
ется. Здесь семантика, как правило, обращена на кон¬
кретно-общее даже при изображении частного. Поэти¬
ческая речь зрелого Блока — это прямая речь реальных
понятий и значений слова. Слово у него всегда точно,
конкретно и предметно; предметы в его стихах всегда
предметны, а не метафоричны, вещи названы прямо и
точно: «отстегнутые вороты рубах», «узкие ботинки»,
«черная роза в бокале золотого, как небо, аи», «красный
штоф полинялых диванов, пропыленные кисти портьер»,
«молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели» (о
вагонах), «и звякнул о браслет жетон» и т. д. Если рань¬
ше для Блока «ночь» была по большей части метафорой
или аллегорией (см. «Ночь»), то в лирике третьего тома
ночь—это ночь и ничего больше: «Ночь как ночь, и
улица пустынна», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «Ночь
тихо бродит по квартире» и т. п. <...> Сами по себе вещи,
явления, действия и понятия в блоковской лирике назва-
392
ны прямо, точно и конкретно, но сочетаются они, как
правило, не по принципу логики суждения, а путем чис¬
то эмоциональных сближений и аналогий. «И вздохнули
духи, задремали ресницы, зашептались тревожно шел¬
ка...» — в этой строке передано именно эмоциональное
ощущение той душевной тревоги, о которой говорится в
стихотворении «В ресторане». Суть дела здесь, конечно,
не в рассказе, не в повествовании о встрече лирического
героя с прекрасной незнакомкой, а как раз и только в
передаче ощущения, причем достигается это чисто сти¬
ховыми средствами — образами движения, интонацией,
ритмом, аллитерациями (вздохнули духи; зашептались
тревожно шелка), всей музыкой стиха.
Мы уже видели на примере стихотворения «Миры
летят. Года летят...», что «чертово колесо» вовсе не пре¬
вращается у Блока в «символ» круговращения миров и
безумного бега времени, но передает трагическое пере¬
живание поэтом катастрофизма «страшного мира», при¬
чем не какого-то отвлеченного «страшного мира», а того
именно, который реально окружал поэта и который вос¬
принимался им во всей своей исторической реальности и
конкретности.
Как художественный принцип это прослеживается
даже в самых лирически-интимных стихах Блока. Так,
например, в «Трех посланиях» речь идет о вполне орди¬
нарных и нимало не символических прогулках лиричес¬
кого героя с его возлюбленной — то в лодке, весенней
белой ночью, то на лихаче, в темную зимнюю ночь. Об¬
разная ткань в этих стихах совершенно конкретна и
опять-таки нисколько не «символична». Усталое плечо
гребца, весло, рыбачьи шхуны, черное бархатное платье
дамы, ее смуглые плечи, черный ворон, пролетающий в
сумраке снежной ночи, бег рысака — все названо точно,
конкретно, и значит только то, что значит: вещи, движе¬
ния, ощущения.
Но столь зримая, столь конкретная в деталях картина
катанья героя с дамой на петербургском лихаче поверну¬
та к читателю такой гранью, которая только и позволяет
проникнуть в истинный, глубокий смысл стихотворения,
в то, ради чего оно и было написано:
Страшный мир! Он для сердца тесен!
В нем твоих поцелуев бред,
Темный морок цыганских песен,
Торопливый полет комет!
393
Поцелуи возлюбленной и цыганские песни — с одной
стороны и безумный полет комет — с другой, для Бло¬
ка — явления одного плана, потому что то и другое вмес¬
те создает в его воображении нерасторжимо целостную
картину «страшного мира», в котором и любовь подчине¬
на общим, объективным законам, управляющим этим
миром. Отсюда — и «теснота» этого мира для живого и
измученного человеческого сердца, и «бред» поцелуев, и
«морок» цыганщины — все слова, определяющие бесче¬
ловечную сущность «страшного мира», калечащего чело¬
века и его живые страсти. Поэтому торопливый полет
комет» и в данном случае — формула не уподобления
любовного чувства полету кометы, но ощущения того,
что человек в своем частном бытии втянут в «водоворот»
общей «мировой жизни». Поэтому же и совершенно ре¬
альный «провал» (в смысле пустого пространства) под
пролетами одного из петербургских мостов превращается
в «бездонный провал в вечность» — в «космический»
вариант столь всесторонне разработанного в стихах Бло¬
ка образа исторического «провала» старой, буржуазно¬
помещичьей России эпохи реакции.
Так Блок даже в собственно лирических своих стихах
настойчиво возвращал читателей в крут широчайших ис¬
торических обобщений, которые и являются главным, если
не единственным, предметом его поэзии. В каждом отдель¬
ном случае, в каждом звене этого лирического дневника
поэт стремился показать, что его герой и в своем личном,
самом частном, глубоко интимном не отделен от общего
потока исторической жизни своей эпохи. <...>
1955
Лидия Гинзбург
ИЗ КНИГИ «О ЛИРИКЕ»
Блок заставил служить своим задачам стиль, уже раз¬
работанный современным ему русским искусством, но но¬
вый для него самого, прикрепленный к поэтическим пред¬
метам, вовсе не входившим в кругозор лирики XIX века.
Мифология болотных чертенят и мохнатых тварей
условна и стилизована, сказочность здесь субъективна,
проникнута эстетизмом. Но есть у нее все же фольклор-
394
ная первооснова, вечный источник сказочных идеалов.
Блок таким образом включается в семантическую систе¬
му, уже существующую в культурном сознании его со¬
временников, причем это система двойная. С одной сто¬
роны, ремизовско-сологубовский литературный стиль; с
другой — общезначимость подразумеваемого народного
мифотворчества.
Урбанизм для Блока — это тоже уже существующая
система идей и стиля. Зародившийся в поэзии француз¬
ских символистов, широко развернутый Верхарном, ур¬
банизм на русской почве был уже закреплен поэзией Брю¬
сова.
Как и для Брюсова, для Блока этой поры город безмер¬
но соблазнителен, прекрасен (как ландшафт сознания
современного человека) и ужасен. Он — поприще траге¬
дии одинокой души, переживающей свое уединение не в
одиночестве, а в толпе. Двойной ряд символов, закрепив¬
ший эти соотношения, вырабатывался у Блока под яв¬
ным воздействием брюсовского цикла «В стенах» (сбор¬
ник «Tertia vigilia») и в особенности таких произведений
Брюсова, как «Париж», «Конь блед», «Прохожей» и
проч.
Рядом с апокалипсическими образами — красные кар¬
лики, Невидимка, странные человечки, городская демо¬
нология, возникающая как бы по аналогии с весенними
тварями и болотными чертенятками. Но, в отличие от
сказочных героев «Пузырей земли», невидимки и крас¬
ные карлики лишены общезначимого мифологического
существования, они — плод субъективной фантазии, про¬
извольное воплощение урбанистического зла.
Блоку, как и Верхарну и Брюсов у, зло большого города
предстает уже социальным злом (не только метафизичес¬
ки). Притом в урбанистическую концепцию Блока втор¬
глись веяния первой русской революции — ее ожидание,
свершение, катастрофа. Из демократических, революци¬
онных тенденций творчества Блока (в эту пору еще неус¬
тойчивых и смутных) в городских циклах «Нечаянной
Радости» возникает еще один ряд, скрещивающийся с
другими и резко от них отличный. Это совсем другие сло¬
ва, скупые, угловатые и пронзительно прозаические.
Характерно, что демократическое начало поэзии Бло¬
ка 1900-х годов — в отличие от начала индивидуалисти-
чески-декадентского — сразу потребовало испытанных
временем классических традиций. Блок сам говорил о
чрезвычайном для него значении традиции Некрасова.
396
В статье «Александр Блок и Некрасов» В. Н. Орлов
указал на ряд стихотворений Блока, текстуально блив-
ких к некрасовским: «Ангел-хранитель», «Да. Так дик¬
тует вдохновенье...» «Грешить бесстыдно, непробуд¬
но...», «Коршун», «Перед судом» и т. д. Почти все это —
произведения периода третьей книги. Во второй книге, в
таких вещах, как «Вечность бросила в город...», «Подни¬
мались из тьмы погребов...», «Барка жизни встала...»,
«Митинг», текстуального сходства меньше. Но социаль¬
ностью, проблематикой русской революции они некра¬
совские. Некрасовские здесь те жизненные ценности,
которые сообщают поэтичность высокому прозаизму этих
стихов, их словесной обнаженности.
В 1906 году создавался цикл «Мещанское житье». Под
таким заглавием он появился в сборнике «Земля в снегу»
(1908). Обычно подчеркивается связь этого цикла с город¬
ской лирикой Некрасова, с ее бедняками и неудачниками.
Однако преемственнрсть здесь сложнее, она захватывает и
городскую лирику — в своем роде тоже демократичес¬
кую — Аполлона Григорьева. Недаром в сборнике «Земля
в снегу» циклу «Мещанское житье» предпослан был эпиг¬
раф: «О, говори хоть ты со мной, Подруга семиструнная...»
В 1902 году Блок читал сборник стихотворений
А. Григорьева 1846 года (в то время единственный). Это
чтение отразилось в его записных книжках. Знал ли Блок
журнальные публикации стихотворений Григорьева до
1914 года, когда он приступил к работе над изданием его
стихов? Стихотворение, из которого в 1908 году взят
эпиграф к «Мещанскому житью», впервые появилось в
печати в 1857 году, но текст этот бытовал в устной, пе¬
сенной традиции. Вполне, однако, возможно, что студент
филологического факультета Блок держал в руках жур¬
нал «Сын отечества» за 1857 год, где в №№ 44—49 пол¬
ностью был напечатан цикл «Борьба» — вершина лири¬
ки Аполлона Григорьева. В таком случае Блок должен
был знать и стихотворение «Вечер душен, ветер воет...»,
которое он позднее в статье «Судьба Аполлона Григорь¬
ева» назвал «прекрасным».
Близость этого стихотворения к блоковскому «На чер¬
даке» трудно объяснить только совпадением.
*
Тёмно, тёмно... Ветер воет...
Воет где-то пес...
Сердце ноет, ноет, ноет...
Хоть бы капля слез!
396
Вот теперь одни мы снова,
Не услышат нас...
От тебя дождусь ли слова
По душе хоть раз?
Нет! Навек сомкнула вежды,
Навсегда нема...
Навсегда! И нет надежды
Мне сойти с ума!
Взгляд один, одно лишь слово...
Холоднее льда!
Боязлива и сурова
Так же, как всегда!
Ап. Григорьев
Вот — я с ней лишь связан...
Вот — закрыта дверь...
А она не слышит —
Слышит—не глядит,
Тихая — не дышит,
Белая — молчит...
Уж не просит кушать...
Ветер свищет в щель,
Как мне любо слушать
Вьюжную свирель!
Слаще пой ты, вьюга,
В снежную трубу,
Чтоб спала подруга
В ледяном гробу!
Блок
Между этими стихотворениями Григорьева и Блока
есть еще одно — прозаическое звено: «Кроткая» Достоев¬
ского, появившаяся в «Дневнике писателя» за 1876 год.
Достоевский, сблизившийся с Аполлоном Григорьевым,
деятельным участником его журналов «Время» и «Эпо-
397
ха», Достоевский, который сказал о Григорьеве, что он
«бесспорный и страстный поэт»,— знал, по всей вероят¬
ности, цикл «Борьба». Вот строки из внутреннего мо¬
нолога героя «Кроткой» (после самоубийства жены):
«Мертвая, не слышит!.. О, пусть всё, только пусть бы она
открыла хоть раз глаза! На одно мгновение, только на
одно! взглянула бы на меня, вот как давеча...». Тексту¬
альные совпадения с обоими стихотворениями здесь оче¬
видны.
Вопрос о связи стихотворения Блока «На чердаке» с
циклом Аполлона Григорьева существен потому, что
связь эта выявляет лирический, интимный характер
«Мещанского житья». Герой «Мещанского житья» — во¬
все не объективно изображенный социальный тип город¬
ского бедняка и неудачника. Это — один из лирических
«двойников»; в ряду многих других воплощений автор¬
ской личности Блока — воплощение ее, свидетельствую¬
щее о том, насколько органической и личной могла быть
для Блока демократическая стихия.
О личном, «автобиографическом» смысле цикла «Ме¬
щанское житье» говорит в своей биографии Блока М. Бе¬
кетова: «...Поэт... ушел из дома и из-под крыла матери
и вместе 6 женой переселился на отдельную квартиру.
Это случилось осенью 1906 года. Квартира — «демокра¬
тическая» найдена была на Лахтинской улице в четвер¬
том этаже... Целый ряд стихов II тома вызван впечатле¬
ниями этого «демократического» обихода: «На чердаке»,
«Окна во двор», «Хожу, брожу понурый...», «Я в четы¬
рех стенах...» и т. д.»
В предисловии к «Земле в снегу», скрепляя единой
мыслью все циклы сборника, Блок включил и «Мещан¬
ское житье» в эту лирическую связь: «Не променяю
моих восторженных и черных дней, моей мещанской
лени (подчеркнуто мной.— Л. Г.), моего вечного праз¬
дника на вашу здравость и глубину, на ваши жемчуж¬
ные зори».
Открыл окно. Какая хмурая
Столица в октябре.
Забитая лошадка бурая
Гуляет на дворе.
398
Да и меня без всяких поводов
Загнали на чердак.
Никто моих не слушал доводов,
И вышел мой табак.
«В октябре»
Все здесь самое бытовое. Но быт непосредственно пе¬
реходит в мечту; по тому же принципу, что в стихотво¬
рении «Незнакомка», и с той же мотивировкой опьяне¬
ния. В стакан канула звезда —
Вот, вот, в глазах плывет манящая,
Качается в окне...
И жизнь начнется настоящая,
И крылья будут мне!
И даже все мое имущество
С собою захвачу!
Познал, познал свое могущество!..
Вот вскрикнул... и лечу!
Лечу, лечу к мальчишке малому
Средь вихря и огня...
Всё, всё по-старому, бывалому,
Да только — без меня!
Имущество, мальчишка — это следы первого, «проза¬
ического» плана. Аналогичный ход:
Хожу, брожу понурый,
Один в своей поре...
Последняя строфа стихотворения возвращает нас к
другому стилистическому строю Блока:
И что ей молвить — нежной?
Что сердце расцвело?
Что ветер веет снежный?
Что в комнате светло?
Спившийся, нищий неудачник этого цикла — не один
из городских персонажей, но вариант лирического
героя.
399
Я в четырех стенах — убитый
Земной заботой и нуждой...
Разумеется, автобиографичность этих и им подобных
стихов не следует понимать буквально. Но когда Блок
говорит о своем герое:
Я пригвожден к трактирной стойке,
Я пьян давно. Мне все — равно,
или когда он говорит:
И гибну, принц, в родном краю
Клинком отравленным заколот...—
мы ведь и это не понимаем буквально.
Блок — поэт, взявший на себя сложное наследие рус¬
ского XIX века, и он корифей «новой поэзии»; Блок
многостилен, и стили его восходят к разным источникам,
а в то же время не многих поэтов мы узнаем с такой
безошибочностью. Все темы, все традиции, все стили
охвачены целостным контекстом, единством раскрывае¬
мого сознания, очень личного и очень общего. Разные
стили Блоку нужны, чтобы показать грани этого созна¬
ния, взятого в его поступательном движении.
1974
ФЕДОР
СОЛОГУБ
1863—1927
Федор Кузьмич Сологуб (настоящая фамилия Тетерников)
(1863—1927) родился в Петербурге в бедной семье: отец — порт¬
ной, мать — крестьянка. Окончив в 1882 году учительский инсти¬
тут, 25 лет преподавал в гимназии математику.
Был одной из наиболее выразительных фигур символизма (счи¬
талось, что его поэтические славословия смерти вызвали в России
начала века волну самоубийств), его часто называли русским
Бодлером, вырастившим в своем творчестве самобытные «цветы
зла».
Поэзия Сологуба окрашена в глубоко пессимистические и ин¬
фернальные тона, в ней много мифологических образов и даже
обыденные детали приобретают символический ореол’. Индивиду¬
альное воплощение находят в творчестве Сологуба многочислен¬
ные фольклорные образы (Лихо. Недотыкомка). «Предмет его
поэзии,— писал, высоко ценя сологубовский талант, Александр
Блок,— скорее душа, преломляющая в себе мир, а не мир, прелом¬
ленный в душе».
Форма сологубовской поэзии проста и доступна читательскому
восприятию: он не экспериментировал с размерами, предпочитал
точные, непритязательные рифмы и четкую лирическую компози¬
цию. Ведущие мотивы этой поэзии — борьба мечты, «сказки», и
действительности, яви. Сологуб воспевал смерть как освободитель¬
ницу от пут пошлости и чувственную страсть как носительницу
просветляющего начала. С богоборческим пафосом прославлял он
всемогущество творческой личности.
Выступал Сологуб и как поэт-сатирик — автор злых антипра¬
вительственных эпиграмм и язвительных «политических сказо¬
чек» . Был блестящим переводчиком — прежде всего французской
поэзии. \
Корней Чуковский, написавший в 1909 году «Путеводитель по
Сологубу» ( а творчество его в ту пору вообще вызывало неверо¬
ятный полемический интерес у критики), отметил прямую связь
этого писателя с философией и эстетикой своего времени, то есть
первого десятилетия 20 века: «Недешево досталось Сологубу дра¬
гоценное право быть в нашу эпоху романтиком, Дон-Кихотом,
созидателем «творимых легенд»... Как бы ни относились к этому
странному творчеству, ясно одно: это творчество не пустая блажь
одного чудака-одноума, оно создано нашей эпохой, оно продикто¬
вано ею».
Изд.: Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1975 («Библиотека поэ¬
та», Большая серия).
* * *
Я — бог таинственного мира,
Весь мир в одних моих мечтах,
Не сотворю себе кумира
Ни на земле, ни в небесах.
Моей божественной природы
Я не открою никому.
Тружусь, как раб, а для свободы
Зову я ночь, покой и тьму.
28 октября 1896
* * *
Живы дети, только дети,—
Мы мертвы, давно мертвы.
Смерть шатается на свете
И махает, словно плетью,
Уплетенной туго сетью
Возле каждой головы.
Хоть и даст она отсрочку —
Год, неделю или ночь,
Но поставит все же точку
И укатит в черной тачке,
Сотрясая в дкой скачке,
Из земнго мира прочь.
Торопись дышать сильнее,
Жди — придет и твой черед.
Задыхайся, цепенея,
403
Леденея перед нею.
Срок пройдет — подставишь шею,—
Ночь, неделя или год.
15 апреля 1897
* * *
В поле не видно ни зги.
Кто-то зовет: «Помоги!»
Что я могу?
Сам я и беден и мал,
Сам я смертельно устал,
Как помогу?
Кто-то зовет в тишине,
♦ Брат мой, приблизься ко мне!
Легче вдвоем,
Если не сможешь идти,
Вместе умрем на пути,
Вместе умрем!»
18 мая 1897
ЗВЕЗДА МАИР
2
На Ойле далекой и прекрасной
Вся любовь и вся душа моя.
На Ойле далекой и прекрасной
Песней сладкогласной и согласной
Славит все блаженство бытия.
Там, в сияньи ясного Майра,
Все цветет, все радостно поет.
Там, в сияньи ясного Майра,
В колыханьи светлого эфира,
Мир иной таинственно живет.
404
Тихий берег синего Лигоя
Весь в цветах нездешней красоты.
Тихий берег синего Лигоя —
Вечный мир блаженства и покоя,
Вечный мир свершившейся мечты.
22 сентября 1898
к к к
Недотыкомка серая
Все вокруг меня вьется да вертится,—
То не Лихо ль со мною очертится
Во единый погибельный круг?
Недотыкомка серая
Истомила коварной улыбкою,
Истомила присядкою зыбкою,—
Помоги мне, таинственный друг!
Недотыкомку серую
Отгони ты волшебными чарами,
Или наотмашь, что ли, ударами,
Или словом заветным каким.
Недотыкомку серую
Хоть со мной умертви ты, ехидную,
Чтоб она хоть в тоску панихидную
Не ругалась над прахом моим.
1 октября 1899
* * *
В село из леса она пришла,—
Она стучала, она звала.
Ее страшила ночная тьма,
Но не пускали ее в дома.
И долго, долго брела она,
405
И темной ночью была одна,
И не пускали ее в дома,
И угрожала ночная тьма.
Когда ж, ликуя, заря взошла,
Она упала — и умерла.
25 июня 1902
* * *
В тихий вечер на распутьи двух дорог
Я колдунью молодую подстерег,
И во имя всех проклятых вражьих сил
У колдуньи талисмана я просил.
Предо мной она стояла, чуть жива.
И шептала чародейные слова,
И искала талисмана в тихой мгле,
И нашла багряный камень на земле.
И сказала: «Этот камень ты возьмешь,—
С ним не бойся,— не захочешь, не умрешь.
Этот камень все на шее ты носи
И другого талисмана не проси.
Не для счастья, иль удачи, иль венца,—
Только жить, все жить ты будешь без конца.
Станет скучно — ты веревку оборвешь.
Бросишь камень, станешь волен, и умрешь».
7 июля 1902
к к к
Когда я в бурном море плавал
И мой корабль пошел ко дну,
Я так воззвал: «Отец мой, Дьявол,
Спаси, помилуй,— я тону.
Не дай погибнуть раньше срока
Душе озлобленной моей,—
Я власти темного порока
Отдам остаток черных дней».
406
И Дьявол взял меня и бросил
В полуистлевшую ладью.
Я там нашел и пару весел,
И серый парус, и скамью.
И вынес я опять на сушу,
В больное, злое житие,
Мою отверженную душу
И тело грешное мое.
И верен я, отец мой Дьявол,
Обету, данному в злой час,
Когда я в бурном море плавал
И ты меня из бездны спас.
Тебя, отец мой, я прославлю
В укор неправедному дню,
Хулу над миром я восставлю,
И, соблазняя, соблазню.
23 июля 1902
* * *
Свободный ветер давно прошумел
И промчался надо мною,
Долина моя тиха и спокойна,—
А чуткая стрела
Над гордою башнею возвышенного дома
Все обращает свое тонкое острие
К далекой и странной области
Мечты.
Уже и самые острые,
Самые длинные
Лучи
Растаяли в мглистом безмолвии.
Туман поднимается
Над топкими берегами реки.
Усталые дети чего-то просят
И плачут.
Наступает
407
Моя последняя стража.
Дивный край недостижим, как прежде.
И Я, как прежде, только я.
19 июня 1904
* * *
Высока луна Господня,
Тяжко мне.
Истомилась я сегодня
В тишине.
Ни одна вокруг не лает
Из подруг.
Скучно, страшно, замирает
Все вокруг.
В ясных улицах так пусто,
Так мертво.
Не слыхать шагов, ни хруста,
Ничего.
Землю нюхая в тревоге,
Жду я бед.
Слабо пахнет на дороге
Чей-то след.
Никого нигде не будит
Быстрый шаг.
Жданный путник, кто ж он будет —
Друг иль враг?
Под холодною луною
Я одна.
Нет, невмочь мне,— я завою
У окна.
4U8
Высока луна Господня,
Высока.
Грусть томит меня сегодня
И тоска.
Просыпайтесь, нарушайте
Тишину.
Сестры, сестры! войте, лайте
На луну!
Февраль 1905
ВЕСЕЛАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ
(На четыре голоса)
Что вы, старцы, захудали,
Таковы невеселы,
Головы повесили?
♦Отошшали!»
Что вы, старые старухи,
Таковы невеселы,
Головы повесили?
«С голодухи!»
Что вы, парни, тихи стали,
Не играете, не скачете,
Все ревете, плачете?
«Тятьку угнали!»
Что вы, детки, приуныли,
Не играете, не скачете,
Все ревете, плачете?
♦ Мамку убили!»
4 декабря 1905
409
* * *
Я спешил к моей невесте
В беспощадный день погрома.
Всю семью застал я вместе
Дома.
Все лежали в общей груде...
Крови темные потоки...
Гвозди были вбиты в груди,
В щеки.
Что любовью пламенело,
Грубо смято темной силой...
Пронизали гвозди тело
Милой...
22 июня 1906
ЛУННАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Я не знаю много песен, знаю песенку одну.
Я спою ее младенцу, отходящему ко сну.
Колыбельку я рукою осторожною качну.
Песенку спою младенцу, отходящему ко сну.
Тихий ангел встрепенется, улыбнется, погрозится
шалуну,
И шалун ему ответит: «Ты не бойся, ты не дуйся,
я засну».
Ангел сядет к изголовью, улыбаясь шалуну,
Сказки тихие расскажет отходящему ко сну.
Он про звездочки расскажет, он расскажет про луну,
Про цветы в раю высоком, про небесную весну.
Промолчит про тех, кто плачет, кто томится в полону,
Кто закован, зачарован, кто влюбился в тишину.
410
Кто томится, не ложится, долго смотрит на луну,
Тих сидя у окошка, долго смотрит в вышину,—
Тот поникнет, и не крикнет, и не пикнет, и поникнет
в глубину,
И на речке с легким плеском круг за кругом пробежит
волна в вону.
Я не знаю много песен, знаю песенку одну,
Я спою ее младенцу, отходящему ко сну.
Я на ротик роз раскрытых росы тихие стряхну,
Глазки-светики-цветочки песней тихою сомкну.
20 марта 1907
Все было беспокойно и стройно, как всегда,
И чванилися горы, и плакала вода.
И булькал смех девичий в воздушный океан,
И басом объяснялся с мамашей грубиян.
Пищали сто песчинок под дамским башмаком,
И тысячи пылинок врывались в каждый дом.
Трава шептала сонно зеленые слова.
Лягушка уверяла, что надо квакать ква.
Кукушка повторяла, что где-то есть куку,
И этим нагоняла на барышень тоску,
И, пачкающий лапки играющих детей,
Побрызгал дождь на шапки гуляющих людей.
И красили уж небо в берлинскую лазурь,
Чтоб дети не боялись ни дождика, ни бурь,
И я, как прежде, думал, что я — большой поэт,
Что миру будет явлен мой незакатный свет.
24 марта 1907
411
ЧЕРТОВЫ КАЧЕЛИ
В тени косматой ели
Над шумною рекой
Качает черт качели
Мохнатою рукой.
Качает и смеется,
Вперед, назад,
Вперед, назад.
Доска скрипит и гнется,
О сук тяжелый трется
Натянутый канат.
Снует с протяжным скрипом
Шатучая доска,
И черт хохочет с хрипом,
Хватаясь за бока.
Держусь, томлюсь, качаюсь,
Вперед, назад,
Вперед, назад.
Хватаюсь и мотаюсь,
И отвести стараюсь
От черта томный взгляд.
Над верхом темной ели
Хохочет голубой:
♦Ппался на качели,
Качайся, черт с тобой».
В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой:
«Попался на качели,
Качайся, черт с тобой».
Я знаю, черт не бросит
Стремительной доски,
Пока меня не скосит
Грозящий взмах руки,
412
Пока не перетрется,
Крутяся, конопля,
Пока не подвернется
Ко мне моя земля.
Взлечу я выше ели,
И лбом о землю трах.
Качай же, черт, качели,
Все выше, выше... ах!
14 июня 1907
* * *
Беспредельно утомленье,
Бесконечен темный труд.
Ночь зарей полночной светит.
Где же я найду терпенье,
Чтоб до капли выпить этот
Дьявольский сосуд?
Посмотрите,— поседела
У меня уж голова.
Я, как прежде, странник нищий,
Ах, кому ж какое дело
До того, что мудрый ищет
Вечные слова!
18 июня 1910, ночь
Удриас-Корф
ИЗ ЦИКЛА «ТРИОЛЕТЫ»
21
Неживая, нежилая, полевая, лесовая, нежить горькая
и злая.
Ты 'зачем ко мне пришла, и о чем твои слова?
Липнешь, стынешь, как смола, не жива и не мертва.
413
Нежилая, вся земная, низовая, луговая, что таишь ты,
нежить злая,
Изнывая, не пылая, расточая чары мая, темной ночью
жутко лая,
Рассыпаясь, как зола, в гнусных чарах волшебства?
Неживая, нежилая, путевая, пылевая, нежить темная
и злая,
Ты зачем ко мне пришла, и о чем твои слова?
10 июня 1913
Тойла
26
Будетлянка другу расписала щеку,
Два луча лиловых и карминный лист,
И сияет счастьем кубо-футурист.
Будетлянка другу расписала щеку
И, морковь на шляпу положивши сбоку,
Повела на улицу послушать свист.
И глядят, дивясь, прохожие на щеку —
Два луча лиловых и карминный лист.
7 октября 1913.
Жлобин — Гомель. Вагон
■к * *
Пробегают грустные, но милые картины,
Сотни раз увиденный аксаковский пейзаж.
Ах, на свете все из той же самой глины,
И природа здесь всегда одна и та ж!
Может быть, скучает сердце в смене повторений,
Только что же наша скука? Пусть печалит, пусть!
Каждый день кидает солнце сети теней,
И на розовом закате тишь и грусть.
414
Вместе с жизнью всю ее докучность я приемлю,
Эти речки и проселки я навек избрал,
И ликует сердце, оттого что в землю
Солнце вновь вонзилось миллионом жал.
5 октября 1916.
Люблинская — Омск. Вагон
к к к
Я испытал превратности судеб
И видел много на земном просторе.
Трудом я добывал свой хлеб,
И весел был, и мыкал горе.
На милой, мной изведанной земле
Уже ничто теперь меня не держит,
И пусть таящийся во мгле
Меня стремительно повержет.
Но есть одно, чему всегда я рад
И с чем всегда бываю светло-молод,—
Мой труд. Иных земных наград
Не жду за здешний дикий холод.
Когда меня у входа в Парадиз
Суровый Петр, гремя ключами, спросит:
«Что сделал ты?» — меня он вниз
Железным посохом не сбросит.
Скажу: «Слагал романы и стихи,
И утешал, но и вводил в соблазны,
И вообще мои грехи,
Апостол Петр, многообразны.
Но я — поэт». И улыбнется он,
И разорвет грехов рукописанье,
И смело в рай войду, прощен,
Внимать святое ликованье.
415
Не затеряется и голос мой
В хваленьях ангельских, горящих ясно.
Земля была моей тюрьмой,
Но здесь я прожил не напрасно.
Горячий дух земных моих отрав,
Неведомых чистейшим серафимам,
В благоуханье райских трав
Вольется благовонным дымом.
8 апреля 1919
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Николай Гумилев
ИЗ ПИСЕМ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Странным свойством обладают стихи Сологуба. Их
прочтешь в журналах, в газетах, удивишься их изыскан¬
ной форме и забудешь в сутолоке дня. Но после, может
быть через несколько месяцев, когда останешься один и
печален, вдруг какая-то странная и близкая мелодия
зазвенит на струнах души, и вспоминаешь какое-нибудь
стихотворение Сологуба, один раз прочитанное, но все
целиком. И ни одно не забывается совершенно. Все они
обладают способностью звезд проявляться в тот или дру¬
гой час ночного безмолвия.
Я объясняю это тем, что Сологуб избегает случайного,
жемчуг его переживаний принесен из глубин, где все
души сливаются в одну мировую. В своем творчестве он
следует заветам Шопенгауэра: отрекается от воли ради
созерцания. Но в каждой фразе его, в каждом образе
чувствуется, как была трудна эта победа, и чуткий чита¬
тель на каждом шагу находит окаменевшие, но еще не
остывшие молнии страсти и желания. Успокоенность Со¬
логуба ранит больнее, чем мятежность других.
В «Homo Sapiens» Пшибышевского мельком говорится
о человеке, во взгляде которого чудились надломленные
крылья большой белой птицы. Несколько лет тому назад
это казалось идеалом судьбы человека. Могучий взлет,
беспощадное падение, а потом безмолвие отчаяния.
Но Сологуб не пошел по этому пути. В долине скорби
он обрел нежное, нежалящее солнце и нашел сладость в
соке горьких подземных трав. Вот призывает он людей
полюбоваться его сокровищами: окровавленным идолом
14 Серебряный век
417
полинезийских деревень, гибкими стеблями полыни и
грешной алостью рубина. Он уже не светлый и могучий,
стремящийся к Богу, он ворожащий колдун, у которого
есть свой рай на звезде Майр. Перешедшее предел огня,
где погибает все живое, его творчество живет иным бы¬
тием, оно похоже на свинцовые воды заколдованного
озера, где отражается весь мир, но отражается преобра¬
женным, и, вглядываясь в него, кажется, что все иное —
тень и бредовое безумье.
Переходя к формальной стороне творчества Сологуба,
прежде всего останавливаешься на сложном механизме
его приемов. Темы его вечно-близки и вечно-новы: ласка¬
ющая смерть, любовь без желанья, грусть и порыв к
мятежу. Но для каждой есть новый образ, слова, волну¬
ющие своей неожиданностью. Как все большие художни¬
ки, Сологуб избегает называть вещи их именами; часто
он дает только одну черту какого-нибудь события, но
настолько сильную и меткую, что она заменяет страницы
описания.
Стих его, мягкий и певучий, лишен и медной звонкос¬
ти брюсовского стиха, и неожиданных поворотов блоков¬
ского. Но зато он и менее подвергся влиянию старых
мастеров, в нем при той же пленительности чувствуется
меньше литературности.
В книге «Пламенный круг» есть стихотворения ста¬
рые и по тому одному менее сильные. Но они удачно
вплетены в общий строй книги и служат скрепами, свя¬
зующими ее отдельные моменты.
Книга издана так, как ей и следует быть изданной:
красиво и просто.
1909
Иннокентий Анненский
ИЗ СТАТЬИ «О СОВРЕМЕННОМ ЛИРИЗМЕ»
& £ &
Федор Сологуб — петербуржец.
На последней из известных мне книг его стихов напи¬
сано, что она 8-я (издана в 1908 г., 202 с. Москва. Изд-
во «Золотое Руно»).
418
Две вещи наиболее чужды поэзии Сологуба, насколь¬
ко я успел ее изучить.
Во-первых, непосредственность (хотя где же они и вооб¬
ще у нас, Франсисы Жаммы? уж не лукавый ли Блок?).
Во-вторых, неуменье или нежеланье стоять вне своих
стихов. В этом отношении это разительный контраст с
Валерием Брюсовым, который не умеет — и не знаю,
хочет ли когда,— оставаться внутри своих стихов, а так¬
же с Вячеславом Ивановым, который даже будто кичится
тем, что умеет уходить от своих созданий на какое хочет
расстояние. (Найдите, например, попробуйте, Вячеслава
Иванова в «Тантале». Нет, и не ищите лучше, он там и
не бывал никогда.)
Сологуб, как это ни странно, для меня лучше всего
характеризуется именно объединенностью этих двух от¬
рицательно формулированных свойств.
Как поэт, он может дышать только в своей атмосфе¬
ре, но самые стихи его кристаллизуются сами, он их не
строит.
Вот пример:
Мы — плененные звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.
Если сердце преданиям верно,
Утешался лаем, мы лаем.
Что в зверинце зловонно и скверно,
Мы забыли давно, мы не знаем.
К повторениям сердце привычно,—
Однозвучно и скучно кукуем.
Все в зверинце безлично, обычно.
Мы о воле давно не тоскуем.
Мы — плененные звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.
Прежде всего — слышите ли вы, видите ли вы, как я
вижу и слышу, что мелькнуло, что смутно пропело в
душе поэта, когда он впервые почувствовал возможность
основной строфы этой пьесы?
Первой обозначившейся строчкой была третья в на¬
печатанном стихотворении:
14*
419
— Глухо заперты двери.
Вы узнаете ее, конечно?
Тихо запер я двери —
Ведь это была тоже третья строчка в стихотворении
Пушкина «Пью за здравие Мэри».
Данная пьеска Корнуэлла, и по имени Мэри, и по
эпохе пушкинского вдохновения (1830), нераздельно со¬
четается для нас, и для Сологуба тоже, конечно,— с
«Пиром во время чумы» Уильсона — Пушкина. Я не
говорю уже о том, что самый «Пир» теперь для читателя
невольно приобретает именно сологубовский колорит.
Контрасты Пушкина сгладились, мы их больше не чув¬
ствуем — что же делать? Осталось нечто грубо хохочущее,
нечто по-своему добродушно-застращивающее, осталась
какая-то кладбищенская веселость, только совсем новая,
отнюдь более не-Шекспировская форма юмора.
За дверями пришли к Сологубу и звери. Но они при¬
шли неспроста. О, это — звери особенные. У них есть своя
история. Метафора? Отнюдь нет. Здесь пережитость,
даже более — здесь постулат утраченной веры в будущее.
Сложная вещь эта сологубовская метэмпсихоза. Иногда
ему хочется на нее махнуть рукою, а иногда она разва¬
лится возле в кресле (как в предисловии в «Пламенному
кругу», например): вот, мол, и у нас своя теософия,— а
вы себе там как хотите!
Помните «Собаку седого короля», эту великолепную
собаку:
Ну вот живу я паки,
Но тошен белый свет:
Во мне душа собаки,
Чутья же вовсе нет.
(«Пламенный круг» )
Вы думаете, чутья же вовсе нет — это тоже аллегория?
Ничуть не бывало. Лирический Сологуб любит принюхи¬
ваться, и это не каприз его, и не идиосинкразия — это
глубже связано с его болезненным желанием верить в пе¬
реселение душ. Сологубу подлинно, органически чужда не¬
посредственность, которая была в нем когда-то, была не в
420
нем — Сологубе, а в нем — собаке. И как давно обогатилась
наша лирика благодаря этому кошмару юродивого:
Высока луна господня.
Тяжко мне.
Истомилась я сегодня
В тишине.
Ни одна вокруг не лает
Из подруг.
Скучно, страшно замирает
Все вокруг.
В ясных улицах так пусто,
Так мертво.
Не слыхать шагов, ни хруста,
Ничего.
Землю нюхая в тревоге,
Жду я бед.
Слабо пахнет по дороге
Чей-то след.
Никого нигде не будит
Быстрый шаг.
Жданный путник, кто ж он будет,—
Друг иль враг?
Под холодною луною
Я одна.
Нет, невмочь мне,— я завою
У окна.
Высока луна господня,
Высока.
Грусть томит меня сегодня
И тоска.
Просыпайтесь, нарушайте
Тишину.
Сестры, сестры! войте, лайте
На луну!
Я не потому выписал здесь это стихотворение, что оно
должно сделаться классическим,— что Геката всегда
будет и будет всегда женщиной,— что меня и в этом не
только уверила, но доказала мне это данная пьеса. Нет,
я выписал стихи — как комментарий к первым — «отче-
421
го и когда мы голосим» и «зачем и по какому праву мы —
поэты». Здесь все ответы.
Я сказал также, что Сологуб принюхивается: да,— в
запахах для него и точно начало иных поэм:
Порой повеет запах странный.
Его причины не понять,—
Давно померкший, день туманный
Переживается опять.
и т. д.
Но никнут гробы в тьме всесильной,
Своих покойников храня,
И воздымают смрад могильный
В святыню праздничного дня.
Дышу дыханьем ранних рос,
Зарею ландышей невинных;
Вдыхаю влажный запах длинных
Русалочьих волос.
или:
И влажным запахом пустынным
Русалкиных волос.
Я, конечно, пропускаю все строки об ароматах — где
скучно было бы отличать элементы превдолирического,
риторики, или просто-напросто клише от подлинного,
нового, нутряного лиризма. Я говорю только о запахе, о
нюханье, т. е. о болезненной тоске человека, который
осмыслил в себе бывшего зверя и хочет и боится им быть,
и знает, что не может не быть. После всего сказанного вы
не ждете, конечно, что я займусь еще подыскиванием
для нашей кардинальной пьесы
Мы плененные звери
каких-нибудь аллегорий.
Хотите — пусть это будут люди, хотите — поэты, хо¬
тите — мы перед революцией. Для меня это просто звери,
и выстраданные звери.
Я говорил выше о философичности Сологуба и о невоз¬
можности для него быть непосредственным, но читатель
не заподозрит меня, я думаю, в том, чтобы я хотел навя-
422
зать его поэтической индивидуальности рассудочность,
интеллектуальность.
Напротив, Сологуб эмоционален, даже более — он сен¬
суален, только его сенсуальность осложнена и как бы
даже пригнетена его мистической мечтой — самая мечта
его лирики преступна: это Иокаста, оплодотворенная ею
же рожденным Эдипом.
Любовь Сологуба похотлива и нежна, но в ней чув¬
ствуется что-то гиенье, что-то почти карамазовское, ка¬
кая-то всегдашняя близость преступления. Где-то высоко
караулит Смерть: и все равно Ей — колыбельку или брач¬
ное ложе:
Отчетливо и тонко
Я вижу каждый волосок;
Я слышу звонкий голосок
Погибшего ребенка.
Qhq. стонала над водой,
Когда ее любовник бросил,
Ее любовник молодой
На шею камень ей повесил.
Кто с ними был хоть раз,
Тот их не станет трогать.
Сверкнет зеленый глаз,
Царапнет быстрый коготь.
Прикинется котом
Испуганная нежить,
А что она потом
Затеет? Мучить? Нежить?
Помните вы эту «Тихую колыбельную»? Вся из хореев,
усеченных на конце нежно открытой рифмой. На ли, ю,
ду, на, да, изредка динькающей — день — тень, сон —
лен или узкой шепотной — свет — нет.
Сколько в этой элегии чего-то истомленного, приду¬
шенного, еле шепчущего, жутко-невыразимо-лунного:
— Сон, ты где был? — За горой.
— Что ты видел? — Лунный свет.
— С кем ты был? — С моей сестрой.
— А сестра пришла к нам? —Нет.—
423
Я тихонечко пою:
Баю-баюшки-баю.
— Тяжело мне, я больна,
Помоги мне, милый брат.—
— Я косила целый день.
Я устала. Я больна.—
За окном шатнулась тень.
Притаилась у окна.
Я пою-пою-пою:
Баю-баюшки-баю.
Нет, я не верю материнству желания, когда оно поет
> того же Сологуба:
Я на ротик роз раскрытых росы тихие стряхну,
Глазки светики-цветочки песней тихою сомкну.
А какая страшная нежность в этой риторике, среди
лубочных волхвований —
Любовью легкою играя,
Мы обрели блаженный край.
Вкусили мы веселье рая,
Сладчайшего, чем божий рай.
И вдруг откуда-то брызнули и полились стеклянные
звоны, и чьи-то губы тянутся, дышат, улыбаются, чьи-то
розовые губы обещают в вас всю свою сладость перелить.
Разберите только, где здесь слова, а где только лилы и
качания:
Лила, лила, лила, качала
Два темно-алые стекла,
Белей лилей, алее лала
Бела была ты и ала.
А та — Желтолицая уже здесь, возле, немножко лу¬
бочная, но что из этого?..
И в звонах ласково-кристальных
Отраву сладкую тая,
Была милее дев лобзальных
Ты, смерть отрадная моя!
424
Воспреемнику Недотыкомки незачем, кажется, были
бы стихи, чтобы томить и долить нас новым страхом,
новым не только после Вия, но и после пробуждения
Раскольникова. Но лирике нашей точно нужен сологу
бовский единственный страх —
Не трогай в темноте
Того, что незнакомо,—
Быть может, это — те,
Кому привольно дома.
Куда ты ни пойдешь,
Возникнут пусторосли.
(т. е. что-то глупо-кошмарно-дико-разросшееся, вроде
назойливо не сказанных и цепких слов, из которых иной
раз напрасно ищешь выдраться в истоме ночного ужаса).
Измаешься, заснешь,
Но что же будет после?
Прозрачною щекой
Прильнет к тебе сожитель.
(неотступная близость темноты, уже привычной, странно
обыденной даже)
Он серою тоской
Твою затмит обитель.
И будет жуткий страх,—
Так близко, так знакомо,—
Стоять во всех углах
Тоскующего дома.
Мы не прочь верить иногда Сологубу, что наше общее
я было раньше и Фриной. Но нам ближе в словах его
другая Прекрасная Дама, та — нежить, которая пришла
соблазнять его в белой рубахе.
Упала белая рубаха
И предо мной, обнажена,
Дрожа от страсти и от страха,
Стоит она...
426
Только вы не разбирайте здесь слов. Я боюсь даже, что
вы найдете их сочетания банальными. А вот лучше со¬
считайте-ка, сколько здесь А и полу-А — посмотрите, как
человек воздуху набирает от того, что увидел, как у ведь¬
мы упала белая рубаха? Кто разберет, где тут соблазн?
где бессилие? где ужас?
Сологуб прихотливый поэт и капризный, хоть ни¬
сколько не педант-эрудит. В нем чаще бывает даже нечто
обнаженно-педагогически-ясное.
Но есть и у Сологуба слова-тики, и, уснащая его сти¬
хи, они придают им индивидуальный колорит вроде того,
как разные винте-ли и следовательно отмечают говорку
большинства из нас.
У Анри де Ренье недавно констатировали такие точно
тики-слова от и mort*. Сологуб злоупотребляет словами:
больной и злой. Все у него больное: дети, лилии, сны и
даже долины. Затем у Сологуба-лирика есть и странности
в восприятиях. Босые женские ноги, например, в его
стихах кажутся чем-то особенно и умилительным, и
грешным,— а главное, как-то безмерно телесным.
Иногда Сологуба тешат и звуки. Но это не Вячеслав
Иванов, этот визионер средневековья, переживший по¬
том и Возрождение, чтобы стать одним из самых чутких
наших современников. Когда Вячеслав Иванов цедит,
кромсает и прессует слова для той фаянсовой ступки, где
он будет готовить — алхимик — свое слепительное Да,
он прежде всего возбуждает в вас интеллектуальное чув¬
ство, интерес, даже трепет, пожалуй, перед его знанием
и искусством.
Не то Сологуб —
Ты поди некошною дорогою,
Ты нарви мне ересного зелия
Ты приди ко мне с шальной пошавою
Страшен навий след...
Горек омег твой...
Я перерыл бы все энциклопедии, гоняясь за Вячесла¬
вом Ивановым, если бы этот голубоглазый мистик взду¬
мал когда-нибудь прокатиться на Брокен. Но мне реши¬
тельно неинтересно знать, что там такое бормочет этот
* Золото, смерть (фр.).
426
шаман-Сологуб, молясь своей ведьме. Да знает ли еще он
это и сам, старый елкич!
«Елисавета — Елисавета»...
Целая поэма из этого звукосочетания, и какая поэма!
Она захлебывается от слез, может быть, сусальных, но не
все ли равно? — когда, читая ее, нам тоже хочется пла¬
кать:
Елисавета, Елисавета
Приди ко мне!
Я умираю, Елисавета,
Я весь в огне.
Но нет ответа, мне нет ответа
На страстный зов.
В стране далекой Елисавета,
В стране отцов
И т. д.
1909
Борис Эйхенбаум
ИЗ СТАТЬИ «ПОЭЗИЯ ФЕДОРА СОЛОГУБА»
Хочу, чтобы интимное стало всемирным.
Ф. Сологуб
1
Разные судьбы бывают у поэтов. Одни вступают в
историю бурными юношами и, бросившись в испепеляю¬
щее пламя своей эпохи, гибнут вместе с ней —привычная
для нас судьба поэта, недавно повторенная Александром
Блоком. Это путь романтического странника, путь среди
вихрей и метелей, бушующих и вокруг поэта, и в самом
сердце его. Такие поэты являются не в сумеречные эпо¬
хи, а в эпохи большого исторического напряжения, ког¬
да самое завывание вьюги кажется голосом истории. Но
есть другая судьба — другие поэты. Они начинают свой
путь среди предрассветного сумрака и тишины, идут
427
медленно и осторожно, почти ощупью,— зато сохраняют
свои силы до самого вечера жизни, который застает их
все так же спокойно идущими своей дорогой, хотя и со
старческим посохом в руке. Судьба дает им горькую ус¬
ладу — видеть молодое племя, живущее иными стремле¬
ниями, внемлющее иным песням. Но в этой встрече, та¬
ящей в себе иногда грусть, а иногда и горечь, есть нечто
поистине торжественное, достойное юбилейного обря¬
да,— нечто историческое. Такую судьбу история дарова¬
ла некогда Жуковскому, потом — Фету, теперь — Федо¬
ру Сологубу...
Перед нами — три поэта, протягивающие свои твор¬
чества на целые полвека и как бы передающие друг другу
высокое право на такой долгий путь. Традиционная ме¬
тафора творчества как пути получает у таких поэтов
новый, почти реальный смысл, и особенно у Сологуба.
Нет почти ни одного стихотворения, где бы он не изобра¬
жал себя путником, и иногда с характерными деталя¬
ми — путником, идущим в «предрассветном сумраке»:
Кто не устал, кто сердцем молод,
Тому легко перенести
Передрассветный долгий холод
В истоме раннего пути.
Но кто сжимает пыльный посох
Сухою старческой рукой,
Тому какая сладость в росах,
Завороженных тишиной.
Когда Сологуб говорит «Пути земные медленны и
пыльны», то простая метафора становится чем-то многоз¬
начительным. Наконец, в путевых триолетах она уже
совершенно реализуется, сливая образ поэта с образом
путника:
Какая радость — по дорогам
Стопами голыми идти
И сумку легкую нести!
Какая радость — по дорогам,
В смиренье благостном и строгом,
Стихи певучие плести!
Какая радость — по дорогам
Стопами голыми идти!
428
2
Сологуб начал свой путь в такие сумеречные годы,
когда трудно было ожидать нового расцвета поэзии. Ран¬
ние его стихи помечены тем самым 1883 годом, в котором
вышел первый выпуск «Вечерних огней» Фета. Всего
пять лет прошло со смерти Некрасова, нанесшего такой
сильный удар классической лирике. Казалось, что этим
прекрасным традициям уже не воскреснуть, что Фет
допевает последние стихи о любви и что никто, кроме
людей старого поколения, не внемлет им. Но историчес¬
кая динамика и диалектика сложнее, чем это обычно
кажется. На самом деле тогда уже намечался новый воз¬
врат к интимной лирике, к малой форме. Приближалось
возрождение лирической магии слова, лирического «ча¬
родейства», которое сохранило свои силы в стихах Тют¬
чева и Фета в такое время, когда его ценили немногие.
Шевырев назвал когда-то стихию, созданную Жуковс¬
ким, «музыкальной» и видел заслугу его в том, что он «с
высоты Парнаса, оглашенного гимнами, одами и сатира¬
ми, свел поэзию в нашу душу». Нечто подобное отметил
Н. Страхов и у Фета, назвав его «чародеем» и найдя в его
стихах «волшебную музыкальность»: «Ни воплей и сто¬
нов, ни крика и хохота здесь не слыхать, оттого что все
становится музыкой, все преображается в пение». К тому
же лирическому стилю, хотя и осложненному и преобра¬
зованному, принадлежит поэзия Федора Сологуба.
Его основной пафос — пафос интимности, но не той,
которая роднит человека с человеком, а другой — кото¬
рая делает человека уединенным созерцателем мира.
Отсюда — формула, данная самим Сологубом в предисло¬
вии к книге «Пламенный круг»: «Рожденный не в пер¬
вый раз и уже не первый завершая круг внешних преоб¬
ражений, я спокойно и просто открываю мою душу.
Открываю,— хочу, чтобы интимное стало всемирным».
Иных может поразить здесь слово «просто» — ведь было
время, когда Сологуб считался вычурным декадентом,
которого трудно понимать. Но Сологуб повторит еще раз:
Только будь всегда простою,
Как слова моих стихов.
И действительно — в его стихах нет ни сложных обо¬
ротов синтаксиса, ни сложных метафор. Метафор даже
вовсе нет — они как будто сознательно выброшены им из
429
поэтического обихода. Зато усилена магия отдельных
слов и фраз, часто получающих в его стихах заклина-
тельный характер. Сологуб не столько «поет», сколько
ворожит, колдует. Это достигается то воздействием зву¬
ков, то выбором и повторением слов, то, наконец, эффек¬
том медленно ползущей и свивающейся, как змея в коль¬
ца, фразы. Не играя звукоподражаниями, как Бальмонт,
и не принимая тем самым этого средства, Сологуб в на¬
иболее патетических местах иногда как бы оставляет
твердую почву смысла и погружается в стихию звука:
И два глубокие бокала
Из тонко-звонкого стекла
Ты к светлой чаше подставляла
И пену сладкую лила,
Лила, лила, лила, качала
Два тельно-алые стекла,
Белей лилей, алее лала
Бела была ты и ала.
Заклинательный характер получают и некоторые его
слова, упорно повторяемые им из стихотворения в сти¬
хотворение и обрастающие новым, иногда жутким смыс¬
лом. Недаром он любит такие слова, как «чародейный»
(«Чародейная чаша»), «ворожба», «чары», и т. д. Неда¬
ром солнце стало для него «лютым змием», люди — «пла¬
менными зверями». Недаром, наконец, он пишет насто¬
ящие заговоры и заклинания, пользуясь фольклором:
Нет словам переговора,
Нет словам недоговора,
Крепки, лепки навсегда
Приговоры — заклинанья, f
Крепче крепкого страданья,
Лепче страха и стыда.
И вне такой мотивировки фольклором стихи Сологуба
всегда имеют эту тенденцию — звучать как заклинание.
Если есть Иной
Здесь иль там,—
Ныне, в час ночной,
Явью стань очам.
430
Таков смысл его многообразных повторений, когда-то
воспринимавшихся как нечто дикое и непонятное:
Елисавета, Елисавета,
Приди ко мне!
Я умираю, Елисавета,
Я весь в огне.
Но нет ответа, мне нет ответа
На страстный зов.
В стране далекой Елисавета,
В краю отцов.
Из традиционных строфических форм Сологуб только
возлюбил триолет именно потому, что эта форма, с ее
узаконенными повторениями, легко получает характер
заклинания.
Эта основная тенденция Сологуба сообщает знакомым
лирическим темам любви и смерти патетический харак¬
тер. Традиции, идущие от Лермонтова, Баратынского,
Тютчева и Фета, связаны в какой-то новый узел. Это
достигается лирическим напряганием противоположнос¬
тей — высокого пафоса и иронии, благостного приятия
мира и злобного отвержения его. Получается тот заново
сгущенный, отравленный новым алкоголем лиризм, ко¬
торый некогда назвали «декадентством». Несоединимы¬
ми кажутся в стихах одного поэта образ недотыкомки и
звезда Майр, странными —после строк, воспевающих
ночь и луну, строки: «Обыкновенная луна Глядит на снег
довольно белый». Уже является обычный соблазн — за¬
говорить о «двойственности» поэта. Но Сологуб предуп¬
редил тех, которые прибегают к этому легкому и ничего
не означающему слову: «Великая поэзия неизбежно пред¬
ставляет сочетание лирических и иронических момен¬
тов. То или иное отношение их определяет характер
данной поэзии». Лирическое нет, приводящее поэта к
прекрасным, но односторонним вымыслам, кажется ему
банальным — он предпочитает столкнуть противополож¬
ности, дать почувствовать мир как «плоскую декора¬
цию», признать в прекрасной Дульцинее грубую Альдон-
су. «Какие бы личины ни надевались поэтами на трудо¬
любивую и дебелую Альдонсу — личины Афродиты или
Медузы, Девы Марии или Астарты, Прекрасной Дамы
или Вавилонской блудницы, доброй Лилит или лукавой
Евы, Татьяны или Земфиры, Тамары, дочери Гудала, или
царицы Тамары,— все эти внешние, ярко и пестро разма-
431
леванные личины давно и хорошо знакомы каждому
школьнику... Подойти покорно к явлениям жизни, ска¬
зать всему д а, принять и утвердить до конца все явля¬
емое — дело великой трудности».
Став на этот путь напрягания и тем самым слияния
противоположностей, Сологуб замкнул весь мир в лири¬
ческое «Я» и отказался от иных возможностей лиричес¬
кого пафоса. Русская поэзия обрела новую область выра¬
жения — интимное стало всемирным. Этот путь Сологуб
продолжает и поныне — путь сурового, закаленного труд¬
ностями странника, любовно вдыхающего запах земных
трав и в то же время повторяющего: «Пути земные мед¬
ленны и пыльны».
1924
Владислав Ходасевич
ИЗ СТАТЬИ «СОЛОГУБ»
И верен я, отец мой Дьявол,
Обету, данному в злой час,
Когда я в бурном море плавал
И Ты меня из бездны спас.
Тебя, отец мой, я прославлю
В укор неправедному дню,
Хулу над миром я восставлю
И соблазняя соблазню.
Федор Сологуб
У тебя, милосердного Бога,
Много славы, и света, и сил.
Дай мне жизни земной хоть немного,
Чтоб я новые песни сложил.
Федор Сологуб
Он был сыном портного и кухарки. Родился в 1863
году. В те времена «выйти в люди» человеку такого про¬
исхождения было не легко. Должно быть, это не легко
далось и ему. Но он выбрался, получил образование, стал
учителем. О детских и юношеских годах его мы почти
ничего не знаем. Учителя Федора Кузьмича Тетерникова,
432
автора учебника геометрии, мы тоже не видим. В нашем
поле зрения он является прямо уже писателем Федором
Сологубом, лет которому уже за тридцать, а по виду и
того много больше. Никто не видел его молодым, никто
не видел, как он старел. Точно вдруг откуда-то появил¬
ся— древний и молчаливый. «Рожденный не в первый
раз и уже не первый завершая круг внешних преображе¬
ний...» — так начинает он предисловие к лучшей, цен¬
тральной в его творчестве книге стихов. Кто-то рассказы¬
вал, как Сологуб иногда покидал многолюдное собрание
своих гостей, молча уходил в кабинет и там оставался
долго. Был радушным хозяином, но жажда одиночества
была в нем сильнее гостеприимства. Впрочем, и на людях
он порой точно отсутствовал. Слушал — и не слышал.
Молчал. Закрывал глаза. Засыпал. Витал где-то, куда нам
пути не было. Звали его колдуном, ведуном, чародеем.
Я впервые увидел его в начале 1908 года, в Москве у
одного литератора. Это был тот самый Сологуб, которого
на известном портрете так схоже изобразил Кустодиев.
Сидит мешковато на кресле, нога на ногу, слегка потира¬
ет маленькие, очень белые руки. Лысая голова, темя
слегка заостренное, крышей, вокруг лысины — седина.
Лицо чуть мучнистое, чуть одутловатое. На левой щеке,
возле носа с легкой горбинкой,— большая белая бородав¬
ка. Рыжевато-седая борода клином, небольшая, и рыже¬
вато-седые, висящие вниз усы. Пенсне на тонком шнур¬
ке, над переносицей складка, глаза полузакрыты. Когда
Сологуб их открывает, их выражение можно бы передать
вопросом:
— А вы все еще существуете?
Таким выражением глаз встретил и меня Сологуб,
когда был я ему представлен. Шел мне двадцать второй
год, и я Сологуба испугался. И этот страх никогда уже не
проходил.
А в последний раз видел я Сологуба четырнадцать лет
спустя, в Петербурге, тоже весной, после страшной смер¬
ти его жены. Постарел ли он? Нет, нисколько, все тот.
же. И молод никогда не был, и не старел.
* * *
Обычно в творчестве поэта легко проследить измене¬
ние формальных навыков. Разнятся темпы таких измене¬
ний: у некоторых поэтов медленней, у других быстрее; у
433
одного и того же поэта смены происходят в разные пери¬
оды с неодинаковой скоростью. Разнятся и направления,
в которых совершается эволюция формы: один поэт идет
от сложности к простоте, другой от простоты к сложнос¬
ти; одни расширяют словарь свой, другие суживают;
одни модернизируют свои приемы, другие архаизируют;
одни поэты становятся самостоятельны после ряда подра¬
жаний, другие (это случается совсем не так редко, как
принято думать) — напротив, утрачивают самостоятель¬
ность и делаются подражателями.— Я намечаю лишь для
примера самые основные линии творческих путей. В
действительности, конечно, их несравненно больше, и
главное — они несравненно сложнее. Каждая поэтичес¬
кая судьба представляет собою единственный и неповто¬
римый случай поэтического развития. Впрочем, все это,
разумеется, слишком общеизвестно, и я бы не стал гово¬
рить об этом, если бы не то обстоятельство, что поэзия
Сологуба мне кажется едва ли не исключительным слу¬
чаем, когда проследить эволюцию формы почти невоз¬
можно. По-видимому, она почти отсутствует.
Сейчас нам известны стихи Сологуба за сорок лет. Он
писал очень много, быть может — слишком. Число его
стихотворений выражается цифрой во всяком случае
четырехзначной. У Сологуба всегда имелся большой за¬
пас неизданных пьес, написанных в разные времена.
Собирая их в книги, он руководствовался не хроноло¬
гией, а иными, чаще всего тематическими признаками
(но иногда чисто просодическими: такова его книга, со¬
ставленная из одних триолетов). Составлял книги при¬
близительно так, как составляют буклеты; запас, о кото¬
ром сказано выше, служил ему богатой оранжереей. И
вот замечательно, что букеты оказывались очень строй¬
ными, легкими, лишенными стилистической пестроты
или разноголосицы. Стихи самых разных эпох и отдален¬
ных годов не только вполне уживались друг с другом, но
и казались написанными одновременно. Сам Сологуб
несомненно знал это свойство своих стихов. Порой, когда
это ему было нужно, он брал стихи из одной книги и
переносил их в другую. Они снова оказывались на месте,
вплетались в новые сочетания, столь же стройные, как
те-, из которых были вынуты...
Сологуб появился на литературном поприще как один
из зачинателей самой молодой по тому времени поэтичес¬
кой группы. Но вступил он в нее уже поэтически не
молодым. Среди своих литературных сверстников он
434
сразу оказался самым зрелым, сложившимся и закончен¬
ным. Его жизнь — без молодости, его поэзия — без ювени-
лий. И как в жизни, явившись старым, он больше уже не
старел, так и мастерству его не был сужден закат. Одних
своих литературных сверстников переживя физически,
других он пережил поэтически: умер в полноте творчес¬
ких сил, мастером трудолюбивым и строгим к себе.
* * *
Не раз приходилось читать, будто в последние годы
отрекся он от «сатанических» пристрастий, исцелился от
ядов, отравлявших его душу, перестал витать в мире
пороков и призраков, примирился с простою жизнью,
которую некогда проклинал, обратил благосклонный
взор к земле и полюбил родину. Высказывалось при этом,
будто благодетельную роль в «просветлении» Сологуба
сыграла тягостная судьба России, которой декадентский
поэт до тех пор как бы и не замечал и которую он увидел
и полюбил в годы ее страданий.
Не спорю: такая концепция содержит в себе чрезвы¬
чайно много приятного. Мы любим наблюдать, как поэты
перед смертью исправляются и просветляются. Предсмер¬
тная эволюция — наш конек. Открыли «эволюцию» — и
можем с чистым сердцем хвалить покойника: хоть перед
смертью, а сделался он таким же хорошим, как мы, и
каким ему давно пора было сделаться.
К сожалению, все же приходится отказаться от наблю¬
дений над эволюцией Сологуба: ее не было. Я нисколько
не собираюсь отрицать наличность у Сологуба этих «про¬
светленных» и «примиренных» мотивов, в частности —
его любви к России. Но видеть в них «эволюцию» я бес¬
силен. Эволюция была бы налицо, если бы эти мотивы
составляли характерный и исключительный признак
сологубовской поэзии последнего периода; если бы мож¬
но было наблюдать их первое появление, затем нараста¬
ние, наконец — то, как ими вытесняются прежние, с
ними несогласные. Но именно этих явлений, необходи¬
мых для того, чтобы можно было говорить об эволюции,
в наличности нет. Те мотивы, которые, в случае эволю¬
ции, должны бы исчезнуть из поэзии Сологуба, в дей¬
ствительности сохраняются до конца. Те, что должны бы
теперь явиться впервые,— на самом деле существовали
всегда или так давно, что их появление никак нельзя
435
связывать ни с российской жизнью последних лет, ни с
личным предсмертным «просветлением» Сологуба.
Я не пишу исследования, но и не хочу быть голослов¬
ным. Сологуб будто бы в эти последние свои годы скло¬
нил благосклонный взор к явлениям обыденной жизни,
полюбил землю, благословил родину и примирился с
Богом. В том-то и дело, что последние годы здесь ни при
чем. Разве простенькие стихи, обращенные к ручью,
«прогнавшему скорбные думы», не в 1884 году написа¬
ны? А разве ясное, ничем не омраченное любование реч¬
кой с купающимися ребятами не 1888 годом помечено?
Да мало ли у Сологуба таких стихов! А вот это:
Не забудем же дорог
В Божий радостный чертог,
В обиталище блаженных,
И пойдем под Божий кров
Мы в толпе Его рабов
Терпеливых и смиренных.
Разве страдания России или близость кончины приве¬
ли Сологуба к этим стихам — в 1898 году? А вот — о
земле:
Вы не умеете целовать мою землю,
Не умеете слушать Мать Землю сырую
Так, как я ей внемлю,
Так, как я ее целую.
О, приникну, приникну всем телом
К святому материнскому телу,
В озарении святом й белом
К последнему склонюсь пределу,—
Откуда вышли цветы и травы,
Откуда вышли вы, сестры и братья.
Только мои лобзанья чисты и правы,
Только мои святы объятья.
Не знаю, когда написаны эти стихи, но в 1907 году
они были уже напечатаны в «Пламенном круге».
Неверно и то, будто бы «декадент» Сологуб увидел и
полюбил Россию только после революции. В 1906 году
вышла книга его. стихов, коротко и выразительно озаг¬
лавленная «Родине». Тогда же появились и «Политичес-
436
кие сказочки», свидетельницы о том, что «певец порока
и мутной мистики» не чуждался реальнейших вопросов
своего века.
И в 1911 году он писал:
Прекрасные, чужие,—
От них в душе туман;
Но ты, моя Россия,
Прекраснее всех стран.
Нет, не предсмертному просветлению обязан Сологуб
своей любовью к России. Это не он не видел Россию, а мы
проглядели его любовь к ней.
Обратно: так ли уж он до конца, весь просветлел, так
ли бежал от своего прошлого, так ли ясно и просто обра¬
тился к Богу?
Адонаи
Взошел на престолы,
Адонаи
Требует себе поклоненья,—
И наша слабость,
Земная слабость
Алтари ему воздвигала.
Но всеблагий Люцифер с нами,
Пламенное дыхание свободы,
Пресвятой свет познанья,
Люцифер с нами,
И Адонаи,
Бог темный и мстящий,
Будет низвергнут
И развенчан
Ангелами, Люцифер, твоими,
Вельзевулом и Молохом.
Это сказано в болыпевицкой России, за несколько лет
до смерти. Правда, через несколько страниц читаем иное:
Знаю знанием последним,
Что бессильна эта тьма,
И не верю темным бредням
Суеверного ума.
Посягнуть на правду Божью —
То же, что распять Христа,
437
Заградить земною ложью
Непорочные уста.
Или:
В ясном небе — светлый Бог Отец,
Здесь со мной — Земля, святая Мать...
Но — через несколько страниц снова:
Зачем любить? Земля не стоит
Любви твоей.
Пройди над ней, как астероид,
Пройди скорей.
А пока что — восхваляя пройденный им на земле «лу¬
кавый путь веселого порока», Сологуб приглашает: «Гре¬
ши со мной».
По совести — очень далеко все это от покаяния и ис¬
правления. Нет, духовного «прогресса» мы в творчестве
Сологуба не найдем,— так же как и «регресса». Тем-то и
примечательна, между прочим, его поэзия, что она — без
какой бы то ни было эволюции. Сологуб никогда не от¬
рекался от своего прошлого и не обретал ничего, что не
было бы ему известно ранее. Конечно, к тому, что состав¬
ляет основные мотивы его поэзии, пришел он не сразу.
Но именно того, как и когда слагался Сологуб,— мы не
знаем. Застаем его сразу уже сложившимся — и таким
пребывшим до конца. Его «сложение» очень сложно; оно
как будто внутренно противоречиво, если судить по от¬
дельным стихам. Оно отливает многими переливами, но
по существу, по составу всегда неизменно. Как жизнь
Сологуба — без молодости, как поэзия — без ювенилий,
так и духовная жизнь —без эволюции...
Свою жизнь, которая кончилась 5 декабря 1927 года,
Сологуб почитал не первой и не последней. Она казалась
ему звеном в нескончаемой цепи преображений. Меняют¬
ся личины, но под ними вечно сохраняется неизменное
Я: «Ибо все и во всем — Я, и только Я, нет иного, и не
было, и не будет». «Темная земная душа человека пламе¬
неет сладкими и горькими восторгами, истончается и
восходит по нескончаемой лестнице совершенства в оби¬
тели навеки недостижимые и вовеки вожделенные». В
процессе этого нескончаемого восхождения Я созидает
миры видимые и невидимые: вещи, явления, понятия,
438
добро и зло, Бога и дьявола. И добро, и зло, и Бог, и
дьявол — только равноценные формы сладких и горьких
восторгов, пламенеющих в душе. Временная жизнь, цикл
переживаний, кончается столь же временной смертью —
переходом к новому циклу:
И все, что жило и дышало
И отцвело,
В иной стране взойдет сначала,
Свежо, светло.
То звено цепи, та жизнь, которую изживал на наших
глазах поэт Федор Сологуб, содержала для него великое
множество переживаний, «восторгов», говоря его сло¬
вом (и словом Пушкина). То были приливы страстной
любви к женщине, красоте, жизни, родине, Богу. И
очарования зла, злобы, порока, уродства, дьявола, смер¬
ти наполняли его душу тоже восторгами, иного цвета и
вкуса («горькими»).
Поскольку, однако, вся эта жизнь была лишь сту¬
пенью в «нескончаемой лестнице совершенств», она не
могла не казаться Сологубу еще слишком несовершен¬
ной,— как были, пожалуй, еще менее совершенны жиз¬
ни, им раньше пройденные. Но неверно распространен¬
ное мнение, будто бы для Сологуба жизнь абсолютно
мерзка, груба, грязна. Она и мерзка, и груба, и пошла —
только по отношению к последующим ступеням, которые
еще впереди. Сологуб умеет любить жизнь и восторгать¬
ся ею, но лишь до тех пор, пока созерцает ее безотноси¬
тельно к «лестнице совершенства». По сравнению с утра¬
ченной и вечно искомой Лилит, эта жизнь — Ева, «баби¬
ща дебелая и румяная». Это — грязная девка Альдонса,
ей бесконечно далеко до той прекрасной Дульцинеи,
которая мечтается человеку, вечному Адаму и вечному
Дон Кихоту. Но и в следующих воплощениях, на буду¬
щих ступенях, ему тоже не суждено встретить подлин¬
ную Дульцинею, которая живет в «обителях навеки не¬
достижимых и вовеки вожделенных».
Где же эти обители? Сологуб знает, что это не наша
Земля, не Марс, не Венера и никакая из существующих
планет. Эта обитель недостижима, она носит условное и
заветное имя «земля Ойле». Над той землей светит небы¬
валая звезда Майр, небывалая река ее орошает:
439
Звезда Майр сияет надо мною.
Звезда Майр,
И озарен прекрасною звездою
Далекий мир.
Земля Ойле плывет в волнах эфира,
Земля Ойле,
И ясен свет марцающий Майра
На той земле.
Река Лигой в стране любви и мира,
Река Лигой
Колеблет тихо ясный лик Майра
Своей волной.
Бряцанье лир, цветов благоуханье,
Бряцанье лир
И песни жен слились в одно дыханье,
Хваля Майр.
Был ли сам он утешен своей «лестницей»? Я не знаю.
Думаю, что самый вопрос об утешительности или неуте¬
шительности был для него несуществен. Однажды обре¬
тенной им для себя истине он смотрел в глаза мужествен¬
но, и, во всяком случае, не в его характере было пытаться
ее прикрашивать или подслащать. Кажется, «лестница»
иногда казалась ему скучноватой. Утомительна и суро¬
ва — это уж непременно:
Кто смеется? Боги,
Дети да глупцы.
Люди, будьте строги,
Будьте мудрецы,
Пусть смеются боги,
Дети да глупцы.
Сам он, впрочем, часто шутил. Но шутки его всегда
горьки и почти всегда сводятся к каламбуру, к улыбке
слов. «Нож да вилка есть, а нож-резалка есть?» «Вот и
не поймешь: ты Илия или Я Илия?» «Она Селениточ-
ка — а на селе ниточка». Смешных положений он почти
не знает, улыбок в явлениях жизни не видит. А если
видит, то страшные или злые...
1928
440
М. Дикман
ИЗ СТАТЬИ «ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
ФЕДОРА СОЛОГУБА»
Сологуб полагает, что поэзия, искусство «всегда быва¬
ет выражением наиболее общего миропостижения данно¬
го времени», «наиболее глубоких и общих дум современ¬
ности», дум, «направленных к мирозданию, к человеку,
к обществу», то есть защищает большую философскую
тему в поэзии. Он настаивает на ее интеллектуальном
содержании. «Художнику нужно не наблюдать жизнь, а
мыслить» (запись П. Н. Медведева) — в такой заострен¬
ной форме выражается крайне существенный для него
момент — момент «творчества», созидание в себе «мира,
подобного миру внешних предметов, но мира действи¬
тельного, созданного».
Что же представляет из себя такой мир?
«Живая жизнь души протекает не только в наблюде¬
нии предметов и в приурочивании им имен,— писал
Сологуб,— но и в постоянном стремлении понять их
живую связь и поставить все, являющееся нашему созна¬
нию, в некоторый всеобщий всемирный чертеж». Для
этого «все сложное представляющегося нам мира сводит¬
ся к возможно меньшему числу общих начал, и каждый
предмет постигается в его отношении к наиболее общему,
что может быть мыслимо».
В описании творческого процесса и в самом творчес¬
ком методе Сологуба проявляется специфическое для
него рационалистическое и идеалистическое мировоспри¬
ятие. «По складу своего ума и по особенностям своего
образования я гораздо более сторонник точного знания,
чем мистик»,* — подчеркивал он в интервью газете
«Биржевые ведомости». Но при этом признавал, что не¬
которые воззрения, разделяемые мистиками, близки и
ему — прежде всего ощущение единой скрытой реальнос¬
ти под оболочкой скользящих явлений. «Это во мне не
* «Если бы я начинал жизнь снова, я стал бы математиком. Матема¬
тика и теоретическая физика были бы моей специальностью»,— говорил
Сологуб в 1925 году П. Н. Медведеву. Современники вспоминают, что в
споре Сологуб использовал всегда математические выкладки.
441
дело ума, не дело убеждения, но все мое жизнеощущение
требует этой веры».
«Всеобщий всемирный чертеж» подводит к понима¬
нию Сологубом символа: в высоком искусстве всякий
образ стремится стать символом, вместить многозначное
содержание, которое раскрывается читателем в процессе
восприятия. Однако, обращаясь к классическим образам
(например, Дон-Кихот Сервантеса, Савельич Пушкина и
т. д.), Сологуб толковал их обобщенно, но однозначно, в
своем толковании приближаясь к аллегории. В отличие
от великих поэтов прошлого, символизм новых поэтов,
полагает Сологуб, сознательный: для них «образы пред¬
метного мира... суть один из способов миропостижения».
Брюсов, читая книгу «Пламенный круг», на послед¬
ней странице написал: «Картина для иллюстрации своего
мировоззрения. В историческом смысле символист. Во
всем видит символы, все превращает в символы и алле¬
горию». В этой надписи очень точно уловлен конструк¬
тивный характер сологубовской символики.
В своем понимании символа Сологуб был близок к
старшим символистам и не занимал особой позиции. На
фоне символистской поэзии его резко выделяло следова¬
ние эстетическим принципам, заявленным им в самом
начале творческого пути. Главным из них было требова¬
ние «внешней простоты», общепонятности и прозрачнос¬
ти искусства на его «зримой поверхности».
Простоту как специфическую особенность поэзии Со¬
логуба выделяли современники. «Совсем отдельно стоят
в современной литературе произведения Сологуба»,—
отмечал Блок, неоднократно подчеркивая «простоту,
строгость», «отсутствие в поэзии Сологуба какой бы то
ни было пряности и мишуры^ от которой едва ли избав¬
лен хоть один современный поэт». «В словесности его
поражали сухость и лапидарность, отделявшие его от
других модернистов»,— писал впоследствии А. Белый.
Стремление к предельной простоте сказалось и на
развертывании поэтической мысли, и на формулирова¬
нии темы, и, конечно, на поэтике и поэтическом языке
Сологуба. Во всех случаях это стремление либо утвержда¬
ло ценность простого — естественную человеческую цен¬
ность —и приводило к созданию в своем роде классичес¬
ких стихотворений, либо, переходя грань, сочетаясь с
безвкусными «поэтизмами» типа «фиал» и т. п., оборачи¬
валось примитивом, упрощенностью, вульгарностью.
«Это был самый неровный поэт из всех, каких я встречал
442
в своей жизни,—вспоминал К. Чуковский.— Наряду с
чудесными стихами, классически прекрасными по фор¬
ме, он написал целые сотни плохих... Иногда казалось,
что есть два Сологуба: один сильный и взыскательный
мастер благородного, новаторски смелого стиля, дру¬
гой — графоман и ремесленник».
Сама «точность» приобретала у Сологуба разные смыс¬
лы. Образ-символ, как считает Сологуб, должен обладать
«двойной точностью»: во-первых, он должен быть сам
точным изображением, чтобы не стать образом «случай¬
ным и праздно измышленным,— за праздными измышле¬
ниями никакой глубины не откроешь», во-вторых, он
«должен быть взят в точном отношении его с другими
предметами предметного мира, должен быть поставлен в
чертеже мира на свое надлежащее место». «Двойная точ¬
ность» раскрывала и специфику стиля и противоречия
творческого метода Сологуба.
Первое условие определило жизненность его поэзии,
ее впечатляющую силу. Например, Сологуб обращается
неоднократно к образу качелей как символу душевного
состояния («В истоме тихого заката...», «Снова покачну¬
лись томные качели...»). Параллелизм-сравнение стихот¬
ворения «Качели» («В истоме тихого заката...», 1894)
сменяется в 1907 году трагическим мифом о жизни —
«Чертовы качели». Символ здесь развернут в миф, как
бы реализующий бранную формулу «чертова жизнь»,
«черт с тобой»:
В тени косматой ели
Над шумною рекой
Качает черт качели
Мохнатою рукой
и «хохочет с хрипом, хватаясь за бока», над тем, кто
«держится, томится, качается» на этих качелях. Его
бросает из стороны в сторону, и ему некуда податься:
Хватаюсь и мотаюсь,
И отвести стараюсь
От черта томный взгляд.
Напрасно. Здесь хохочет черт, а там —
Над верхом темной ели
Хохочет голубой:
443
«Попался на качели,
Качайся, черт с тобой».
Внизу «визжат, кружась гурьбой», издеваются над
пленником жизни не то люди, не то нежити, повторяя:
«Попался на качели,
Качайся, черт с тобой».
Одинаковые рифмы подчеркивают связь четвертой и
пятой строфы с первой и последней.
Качаются качели. Повторяющиеся внутренние гла¬
гольные рифмы, повторы «вперед — назад, вперед — на¬
зад» создают ощущение непрерывности, вынужденного
тягостного, томительного качания. «Его качели — самые
настоящие качели. Это скрип, это—дерзкое перетира¬
ние конопли... А эти повторяющиеся, эти начальные, эти
стонущие рифмы»,— восхищался И. Ф. Анненский.
Но вот начинаются анафоры: «Пока... пока... пока...»,
они отмечают как бы возрастающий размах качелей и
одновременно передают нарастание страха и ужаса, и
наконец — обрыв, катастрофа: «Все выше, выше... ах!»
Так создается точный лирический рисунок, и, как след¬
ствие, символ обретает большую силу воздействия. Другое
дело — «точность» расположения образов во «всеобщем,
всемирном чертеже»: их отношение устанавливается, ут¬
верждается поэтом, оно не познается, не извлекается из
действительности, а навязывается ей, это «точность» раци¬
оналистического субъективистского восприятия мира. Вто¬
рой аспект «точности» образа-символа, отрывая его от
объективной действительности, нес в себе тенденции к
схематизму, омертвению и превращению в штамп (ср. из¬
любленный у Сологуба символ змия, дракона-солнца).
Эстетические принципы Сологуба — предельная про¬
стота и точность — естественно определили его поэтику,
прежде всего эпитет. Сологуб очень скупо пользуется
эпитетами, число их крайне ограничено. «Эпитет наитон¬
чайший,— писал Сологуб в одной из своих заметок,—
поэтому наклонность повторять эпитеты. Ибо мир для
субъекта необходимо однообразен». Соотнесенность эпи¬
тетов по «месту в чертеже мира», «точность» делает их
оценочными, они образуют две контрастные устойчивые
группы. Одна — злой, лукавый, безумный, недужный,
больной, темный, томительный, скучный, холодный;
другая — тихий, легкий, сладкий, нежный, блаженный
444
и т. п. У зрелого Сологуба цвета, краски почти совершен¬
но исчезают, остаются преимущественно противостоящие
друг другу белый — черный (темный) и серый — голу¬
бой (лазоревый).
Так, в обыденном мире тишина «холодная»:
А мне холодной тишиной
Томиться вечно за стеной?
(«В дневных лучах
и в сонной мгле...»)
В ином мире, мире мечты,— тишина «голубая» (здесь
возможна метафора — небо):
Незаметная людям,
Ты открылась лишь мне,
И встречаться мы будем
В голубой тишине.
(«Ты печально мерцала...»)
Ко мне волшебница Лилит
Стезей лазурной приходила.
(«Я был один в моем раю...» )
Брюсов в статье о Сологубе 1909 года отмечал особен¬
ность эпичтетов Сологуба: зрелый Сологуб, писал он, «в
уверенных словах являет перед нами свой отныне навек
существующий мир», и его «эпитеты, столь простые с
первого взгляда, образуют крепкую и неразрывную сис¬
тему мысли...»
У Сологуба нет эпитетов с зыбким, неустойчивым зна¬
чением, отказывается он и от'сложных изысканных эпи¬
тетов,— его эпитет всегда простой, как бы взятый из раз¬
говорного языка (подчас это логическое определение), и
четкий:
Я живу в темной пещере,
Я не знаю белых ночей...
А мой удел земной —
В томленьях и скитаньях,
И только нежный голос твой
Ко мне доносится в мечтаньях...
(«Чиста любовь моя...»)
445
Как и эпитет, рифма у Сологуба создает впечатление
безыскусственности и простоты, ее роль в стихе ослабле¬
на. Он предпочитает каноническую рифму, часто пользу¬
ется банальными, стертыми и грамматическими рифма¬
ми, причем их привычность, неяркость оказываются
художественно действенными в поэтической системе
Сологуба.
Я спал от печали
Тягостным сном.
Чайки кричали
Над моим окном.
Но в тяжелой печали
Я безрадостно спал.
О веселые дали,
Я вас не видал.
Простота рифм у Сологуба сочетается с исключитель¬
но разнообразным и изысканным строфическим построе¬
нием и подчас сложной рифмовкой, что создает богатство
композиционного построения стихов. В первом томе со¬
брания сочинений Сологуба, указывал В. Брюсов, на 177
стихотворений более 100 различных метров и построе¬
ний строф — «отношение, которое вряд ли найдется у
кого-либо другого из современных поэтов».
В композиции стихов Сологуба сказывается прежде
всего рационалистичность, свойственная его творческо¬
му методу. Его стихи «напоминают кристаллы по стро¬
гости своих линий»,— писал Г. Чулков. Четкое строфи¬
ческое членение, обычное для Сологуба, совпадает с син¬
таксическим, что придает особую выраженность теме:
каждая строфа дает какой-либо ее аспект или момент в
развитии тематического содержания.
Исключительную роль в композиции стихов Сологуба
играют сочетания явных, ощутимых повторов — темати¬
ческих, синтаксических, лексических, интонационных
(с преобладанием вопросительной интонации), метричес¬
ких и звуковых. Эти повторы, с одной стороны, создают
противопоставления и сопоставления, очень важные для
поэтики Сологуба, его «чертежа мира», усиливают выра¬
зительность, суггестивность отдельных элементов в его
стихе. С другой стороны, многообразие повторов создает
исключительную гармоничность и мелодичность, столь
значимую для его поэзии.
446
Гармоничность стиха Сологуба достигается и совпаде¬
нием стиховых и синтаксических членений, и, конечно,
богатством ритмических вариаций, поддержанных зву¬
ковой инструментовкой. Сологуб предпочитает канони¬
ческие размеры — ямб и хорей, и на их фоне разверты¬
вает многообразные ритмические модуляции. А. Белый
на основании графического и статического изучения
ритма поэтов XIX — XX веков пришел к заключению,
что из современных поэтов «исключительно богаты рит¬
мами» А. Блок и Ф. Сологуб, у них он констатирует
«подлинное ритмическое дыхание».
Устанавливая ритмическую генеалогию Сологуба в
господствующем для него размере четырехстопного
ямба, Белый писал: «Ритм Сологуба представляет со¬
бою сложное видоизменение ритмов Фета и Баратын¬
ского, с примесью некоторого влияния Лермонтова,
Пушкина и Тютчева. Но родственность напевности Со¬
логуба с напевностью Фета и Баратынского резко под¬
черкнута». Названные Белым поэты — это поэты, кото¬
рые значимы для Сологуба не только в ритмическом
отношении, следы их влияния ощущаются в его твор¬
честве, к ним он относится с неизменным уважением:
«гениальный Баратынский», «великий Лермонтов».
Тютчев, Баратынский, Фет представляют для него «вы¬
сокое искусство».
Гармония, музыка стиха у Сологуба имела первосте¬
пенное значение, и родственность его с наиболее «музы¬
кальным» поэтом Фетом не случайна. Полемизируя с
Львом Толстым о необходимости стихов в заметке «За
стихи», он выделял «особое очарование мерного и звуч¬
ного слова». В гармонии, мелодии стиха Сологуб находит
душевное освобождение, «очищение», катарсис:
Я слагал эти мерные звуки,
Чтобы голод души заглушить,
Чтоб сердечные вечные муки
В серебристых струях утопить.
И это тот эстетический катарсис, который присущ его
безысходно жестокой лирике. Гармония стиха противос¬
тоит злой, дисгармоничной действительности и художес¬
твенно преодолевает ее.
Музыка, гармония стиха — то, что привлекает Соло¬
губа и в других поэтах. Не случайно его любимые поэ¬
ты — Верлен и Блок.
447
В самом поэтическом слове Сологуб видел «средство
убеждения и очарования». В статье «Не постыдно ли
быть декадентом» он так формулировал свою цель: «Де¬
кадентство пользуется словами и сочетаниями их не как
зеркалами для повторения предметного мира, а только
как орудием для возбуждения в читателе некоторого
внутреннего процесса». Этой цели он стремится достичь
всеми средствами своей поэтики.
1978
15 Серебряный век
НИКОЛАИ
ГУМИЛЁВ
1886—1921
Николай Степанович Гумилев (1886—1921) родился в Крон¬
штадте в семье морского врача. Детство провел в Царском Селе, в
отрочестве — в связи с перемещениями отца — жил в Тифлисе,
где и были впервые опубликованы его ранние стихи.
С осени 1903 года семья окончательно обосновывается в Цар¬
ском Селе. Гумилев учится в гимназии, директором которой был
Ин. Анненский, повлиявщий на формирование вкусов и интересов
начинающего поэта. В конце 1903 года знакомится с Аней Горен¬
ко — будущей Анной Ахматовой, которая станет его женой и
которой в дальнейшем будут посвящены шедевры его любовной
лирики. В 1906 году уезжает в Париж, где слушает лекции с
Сорбонне, изучая французские литературу, живопись, театр.
Страсть к путешествиям становится для Гумилева мощным твор¬
ческим стимулом: он ездит в Египет и Абиссинию, Италию и
Африку, испытывая глубокой интерес к Востоку, к экзотике даль¬
них стран, к иным языкам и племенам.
Уже в первом сборнике стихотворений «Путь конквистадоров»
(Спб., 1905) очерчен образ лирического героя Гумилева — одино¬
кого завоевателя, путника, романтика. В 1908 году в Париже
выходит его сборник «Романтические цветы», в котором — по
точному замечанию Ин. Анненского — сквозь маскарадный экзо¬
тизм ощущается «стихийно-русское «искание муки». С каждым
новым циклом и сборником Гумилева этс/Т живой парадокс — кон¬
фликт внешней театральной декоративности и неподдельной внут¬
ренней трагедийности мужает и нарастает.
Если вначале своего литературного пути Гумилев «поверил в
символизм, как люди верят в Бога» (А. Ахматова), то осенью 1911
года он возглавляет «бунт» группы поэтов, пожелавших освобо¬
диться от опеки Вяч. Иванова и сбежать с его «башни». Был со¬
здан «Цех поэтов», из коего затем выделилась локальная группа
акмеистов, которую возглавили Гу мелев и Городецкий (их союз
просуществует недолго), написавшие манифесты новой школы.
В то же время в творчестве Гумелева грань между символистс¬
ким и акмеистическим подходом к образу представляется весьма
зыбкой и нестабильной — в его поэтическую ткань свободно входят
и мистические, и фантазийные, и сюрреалистические элементы.
В на «г ле Первой мировой войны Гумилев идет добровольцем
на фронт (награжден двумя Георгиевскими крестами). Опасность
и риск влекли его в равной степени и в жизненной практике, и в
поэзии.
В 1918 году Гумилев привлекается к активному сотрудничес¬
тву с издательством «Всемирная литература», переводит эпос о
Гильгамеше, английскую и французскую народную поэзию. Ведет
серьезную педагогическую и просветительскую работу.
Собственный лирический талант Гумилева развивается на пути
возрастания трагической ноты, углубления мужественного роман¬
тизма, причудливого синтеза патетики и иронии.
3 августа 1921 года арестован петроградской ЧК по обвинению
в контрреволюционном, антиправительственном заговоре. Приго¬
ворен к расстрелу.
Изд.: Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. Л., 1988 («Библио¬
тека поэта», Большая серия). Сочинения в 3-х томах. М., 1991.
450
к к к
Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.
Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав...
Ты плачешь? Послушай... далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
НОСОРОГ
Видишь, мчатся обезьяны
С диким криком на лианы,
Что свисают низко, низко,
Слышишь шорох многих ног?
Это значит — близко, близко
От твоей лесной поляны
Разъяренный носорог.
Видишь общее смятенье,
Слышишь тпот? Нет сомненья,
Если даже буйвол сонный
Отступает глубже в грязь.
Но, в нездешнее влюбленный,
15*
451
Не ищи себе спасенья,
Убегая и таясь.
Подними высоко руки
С песней счастья и разлуки,
Взоры в розовых туманах
Мысль далеко уведут,
И из стран обетованных
Нам незримые фелуки
За тобою приплывут.
ОЗЕРО ЧАД
На таинственном озере Чад
Посреди вековых баобабов
Вырезные фелуки стремят
На заре величавых арабов.
По лесистым его берегам
И в горах, у зеленых подножий,
Поклоняются странным богам
Девы-жрицы с эбеновой кожей.
Я была женой могучего вождя,
Дочерью властительного Чада,
Я одна во время зимнего дождя
Совершала таинство обряда.
Говорили — на сто. миль вокруг
Женщин не было меня светлее,
Я браслетов не снимала с рук.
И янтарь всегда висел на шее.
Белый воин был так строен,
Губы красны, взор спокоен,
Он был истинным вождем;
И открылась в сердце дверца,
А когда нам шепчет сердце,
Мы не боремся, не ждем.
Он сказал мне, что едва ли
И во Франции видали
Обольстительней меня
И как только день растает,
Для двоих он оседлает
Берберийского коня.
452
Муж мой гнался с верным луком,
Пробегал лесные чащи,
Перепрыгивал овраги,
Плыл по сумрачным озерам
И достался смертным мукам.
ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА
Валерию Брюсову
Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!
Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.
Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким
струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
И когда пылает запад, и когда горит восток.
Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и
вздохнуть,—
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленье
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.
Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело,
В очи глянет запоздалый, но властительный испуг.
И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью,
тело,
И невеста зарыдает, и задумается друг.
453
Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни
сокровищ!
Но я вижу — ты смеешься, эти взоры — два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза
чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью
скрипача!
КАМЕНЬ
А. И. Гумилевой
Взгляни, как злобно смотрит камень,
В нем щели странно глубоки,
Под мхом мерцает скрытый пламень;
Не думай, то не светляки!
Давно угрюмые друиды,
Сибиллы хмурых королей,
Отмстить какие-то обиды
Его призвали из морей.
Он вышел черный, вышел страшный,
И вот лежит на берегу,
А по ночам ломает башни
И мстит случайному врагу.
Летит пустынными полями,
За куст приляжет, подождет,
Сверкнет огнистыми щелями
И снова бросится вперед.
56. В ПУТИ
Кончено время игры,
Дважды цветам не цвести.
Тень от гигантской горы
Пала на нашем пути.
454
Область унынья и слез —
Скалы с обеих сторон
И оголенный утес,
Где распростерся дракон.
Острый хребет его крут,
Вздох его — огненный смерч.
Люди его назовут
Сумрачным именем «Смерть».
Что ж, обратиться нам вспять,
Вспять повернуть корабли,
Чтобы опять испытать
Древнюю скудость земли?
Нет, ни за что, ни за что!
Значит, настала пора.
Лучше слепое Ничто,
Чем золотое Вчера!
Вынем же меч-кладенец,
Дар благосклонных наяд,
Чтоб обрести наконец
Неотцветающий сад.
СЕМИРАМИДА
Светлой памяти И. Ф. Анненского
Для первых властителей завиден мой жребий,
И боги не так горды.
Столпами из мрамора в пылающем небе
Укрепились мои сады.
Там рощи с цистернами для розовой влаги.
Голубые, нежные мхи,
Рабы, и танцовщицы, и мудрые маги,
Короли четырех стихий.
455
ПОПУГАЙ
Я — попугай с Антильских островов.
Но я живу в квадратной келье мага.
Вокруг — реторты, глобусы, бумага,
И кашель старика, и бой часов.
Пусть в час заклятий, в вихре голосов
И в блеске глаз, мерцающих, как шпага,
Ерошат крылья ужас и отвага
И я сражаюсь с призраками сов...
Пусть! Но едва под этот свод унылый
Войдет гадать о картах иль о милой
Распутник в раззолоченном плаще —
Мне грезится корабль в тиши залива,
Я вспоминаю солнце... и вотще
Стремлюсь забыть, что тайна некрасива.
ЧИТАТЕЛЬ КНИГ
Читатель книг, и я хотел найти
Мой тихий рай в покорности сознанья,
Я их любил, те странные пути,
Где нет надежд и нет воспоминанья.
Неутомимо плыть ручьями строк,
В проливы глав вступать нетерпеливо
И наблюдать, как пенится поток,
И слушать гул идущего прилива!
Но вечером... О, как она страшна,
Ночная тень за шкафом, за киотом,
И маятник, недвижный, как луна,
Что светит над мерцающим болотом!
466
* * *
У меня не живут цветы,
Красотой их на миг я обманут,
Постоят день-другой и завянут,
У меня не живут цветы.
Да и птицы здесь не живут,
Только хохлятся скорбно и глухо,
А наутро — комочек из пуха...
Даже птицы здесь не живут.
Только книги в восемь рядов,
Молчаливые, грузные томы,
Сторожат вековые истомы,
Словно зубы в восемь рядов.
Мне продавший их букинист,
Помню, был и горбатым, и нищим...
...Торговал за проклятым кладбищем
Мне продавший их букинист.
ЭТО БЫЛО НЕ РАЗ
Это было не раз, это будет не раз
В нашей битве, глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной.
Но зато не дивись, мой враждующий друг,
Враг мой, схваченный темной любовью
Если стоны любви будут стонами мук,
Поцелуи — окрашены кровью.
467
жизнь
С тусклым взором, с мертвым сердцем в море броситься
со скалы,
В час, когда, как знамя, в небе дымно-розовая заря,
Иль в темнице стать свободным, как свободны
одни орлы,
Иль найти покой нежданный в дымной хижине дикаря!
Да, я понял. Символ жизни — не поэт, что творит
слова,
И не воин с твердым сердцем, не работник,
ведущий плуг,
— С иронической усмешкой царь-ребенок на
шкуре льва,
Забывающий игрушки между белых усталых рук.
ИЗ ЛОГОВА ЗМИЕВА
Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал — забавницу,
Гадал — своенравницу,
Веселую птицу-певунью.
Покликаешь — морщится,
Обнимешь — топорщится,
А выйдет луна — затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то,— и хочет топиться.
Твержу ей: «Крещеному,
С тобой по-мудреному
Возиться теперь мне не в пору.
Снеси-ка истому ты
В днепровские омуты,
На грешную Лысую гору».
458
Молчит — только ежится,
И все ей неможется.
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,
Березу подрытую
Над очастью, богом заклятою.
II
ПОСВЯЩАЕТСЯ АННЕ АХМАТОВОЙ
Я ВЕРИЛ, Я ДУМАЛ...
Сергею Маковскому
Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец:
Создав, навсегда уступил меня року создатель;
Я продан! Я больше не божий! Ушел продавец,
И с явной насмешкой глядит па меня покупатель.
Летящей горою за мною несется Вчера,
А Завтра меня впереди ожидает, как бездна,
Иду... Но когда-нибудь в Бездну сорвется Гора.
Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна.
И если я волей себе покоряю людей,
И если слетает ко мне по ночам вдохновенье,
И если я ведаю тайны — поэт, чародей,
Властитель вселенной,— тем будет страшнее паденье.
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно — колокольчик фарфоровый в желтом Китае,
На пагоде пестрой... Висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.
А тихая девушка в платье из красных шелков,
Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,
С поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов,
Внимательно слушая легкие, легкие звоны.
469
ЗМЕЙ
Ах, иначе в былые года
Колдовала земля с небесами,
Дива дивные зрелись тогда,
Чуда чудные деялись сами...
Позабыв Золотую Орду,
Пестрый грохот равнины китайской,
Змей крылатый в пустынном саду
Часто прятался полночью майской.
Только девушки видеть луну
Выходили походкою статной —
Он подхватывал быстро одну,
И взмывал, и стремился обратно.
Как сверкал, как слепил и горел
Медный панцирь под хищной луною,
Как серебряным звоном летел
Мерный клекот над Русью лесною:
«Я красавиц таких, лебедей
С белизною такою молочной,
Не встречал никогда и нигде,
Ни в заморской стране, ни в восточной.
Но еще ни одна не была
Во дворце моем пышном, в Лагоре:
Умирают в пути, и тела
Я бросаю в Каспийское море.
Спать на дне, средь чудовищ морских,
Почему им, безумным, дороже,
Чем в могучих объятьях моих
На торжественном княжеском ложе?
И порой мне завидна судьба
Парня с белой пастушечьей дудкой
На лугу, где девичья гурьба
Так довольна его прибауткой».
460
Эти крики заслыша, Вольга
Выходил и поглядывал хмуро,
Надевал тетиву на рога
Беловежского старого тура.
МУЖИК
В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,
В срубах мохнатых и темных
Странные есть мужики.
Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль,
Слушает крики Стрибожьи,
Чуя старинную быль.
С остановившимся взглядом
Здесь проходил печенег...
Сыростью пахнет и гадом
Возле мелеющих рек.
Вот уже он И с котомкой,
Путь оглашая лесной
Песней протяжной, негромкой,
Но озорной, озорной.
Путь этот — светы и мраки,
Посвист разбойный в полях,
Ссоры, кровавые драки
В страшных, как сны, кабаках.
В гордую нашу столицу
Входит он — боже, спаси! —
Обворожает царицу
Необозримой Руси
Взглядом, улыбкою детской,
Речью такой озорной,—
И на груди молодецкой
Крест просиял золотой.
461
Как не погнулись — о горе! —
Как не покинули мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакии крест?
Над потрясенной столицей
Выстрелы, крики, набат;
Город ощерился львицей,
Обороняющей львят.
«Что ж, православные, жгите
Труп мой на темном мосту,
Пепел по ветру пустите...
Кто защитит сироту?
В диком краю и убогом
Много таких мужиков.
Слышен по вашим дорогам
Радостный гул их шагов».
РАБОЧИЙ
Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.
Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.
Кончил, и глаза повеселели.
Возвращается. Блестит луна.
Дома ждет его в большой постели
Сонная и теплая жена.
462
Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.
Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.
И господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.
ШВЕЦИЯ
Страна живительной прохлады,
Лесов и гор гудящих, где
Всклокоченные водопады
Ревут, как будто быть беде;
Для нас священная навеки
Страна, ты помнишь ли, скажи,
Тот день, как из Варягов в Греки
Пошли суровые мужи?
Ответь, ужели так'и надо,
Чтоб был, свидетель злых обид,
У золотых ворот Царьграда
Забыт Олегов медный щит?
Чтобы в томительные бреды
Опять поникла, как вчера,
Для славы, силы и победы
Тобой подъятая сестра?
И неужель твой ветер свежий
Вотще нам в уши сладко выл,
К Руси славянской, печенежьей
Вотще твой Рюрик приходил?
463
НОРВЕЖСКИЕ ГОРЫ
Я ничего не понимаю, горы:
Ваш гимн поет кощунство иль псалом
И вы, смотрясь в холодные озера,
Молитвой заняты иль колдовством?
Здесь с криками чудовищных глумлений,
Как сатана на огненном коне,
Пер Гюнт летал на бешеном олене
По самой неприступной крутизне.
И, царств земных непризнанный наследник,
Единый побежденный до конца,
Не здесь ли Бранд, суровый проповедник,
Сдвигал лавины именем творца?
О ТЕБЕ
О тебе, о тебе, о тебе,
Ничего, ничего обо мне!
В человеческой темной судьбе
Ты — крылатый призыв к вышине.
Благородное сердце твое —
Словно герб отошедших времен.
Освящается им бытие
Всех земных, всех бескрылых племен.
Если звезды, ясны и горды,
Отвернутся от нашей земли,
У нее есть две лучших звезды:
Это смелые очи твои.
И когда золотой серафим
Протрубит, что исполнился срок,
Мы поднимем тогда перед ним,
Как защиту, твой белый платок.
464
Звук замрет в задрожавшей трубе,
Серафим пропадет в вышине...
...О тебе, о тебе, о тебе,
Ничего, ничего обо мне!
СОН
Застонал я от сна дурного
И проснулся, тяжко скорбя;
Снилось мне — ты любишь другого
И что он обидел тебя.
Я бежал от моей постели,
Как убийца от плахи своей,
И смотрел, как тускло блестели
Фонари глазами зверей.
Ах, наверно, таким бездомным
Не блуждал ни один человек
В эту ночь по улицам темным,
Как по руслам высохших рек.
Вот стою перед дверью твоею,
Не дано мне иного пути,
Хоть и знаю, что не посмею
Никогда в эту дверь войти.
Он обидел тебя, я знаю,
Хоть и было это лишь сном,
Но я все-таки умираю
Пред твоим закрытым окном.
ЛЕС
В том лесу белесоватые стволы
Выступали неожиданно из мглы.
Из земли за корнем корень выходил,
Точно руки обитателей могил.
465
Под покровом ярко-огненной листвы
Великаны жили, карлики и львы,
И следы в песке видали рыбаки
Шестипалой человеческой .руки.
Никогда сюда тропа не завела
Пэра Франции иль Круглого Стола,
И разбойник не гнездился здесь в кустах
И пещерки не выкапывал монах.
Только раз отсюда в вечер грозовой
Вышла женщина с кошачьей головой.
Но в короне из литого серебра,
И вздыхала и стонала до утра,
И скончалась тихой смертью на заре,
Перед тем как дал причастье ей кюре.
Это было, это было в те года,
От которых не осталось и следа,
Это было, это было, в той стране,
О которой не загрезишь и во сне.
Я придумал это, глядя на твои
Косы — кольца огневеющей змеи,
На твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.
Может быть, тот лес — душа твоя,
Может быть, тот лес — любовь моя,
Или, может быть, когда умрем,
Мы в тот лес направимся вдвоем.
466
слово
В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово это — бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.
ДУША И ТЕЛО
Над городом плывет ночная тишь
И каждый шорох делается глуше,
А ты, душа, ты все-таки молчишь,
Помилуй, боже, мраморные души.
467
И отвечала мне душа моя,
Как будто арфы дальние пропели:
«Зачем открыла я для бытия
Глаза в презренном человечьем теле?
Безумная, я бросила мой дом,
К иному устремясь великолепью.
И шар земной мне сделался ядром,
К какому каторжник прикован цепью.
Ах, я возненавидела любовь —
Болезнь, которой все у вас подвластны,
Которая туманит вновь и вновь
Мир мне чужой, но стройный и прекрасный.
И если что еще меня роднит
С былым, мерцающим в планетном хоре,
То это горе, мой надежный щит,
Холодное презрительное горе».
СЛОНЕНОК
Моя любовь к тебе сейчас — слоненок,
Родившийся в Берлине иль Париже
И топающий ватными ступнями
По комнатам хозяина зверинца.
Не предлагай ему французских булок,
Не предлагай ему кочней капустных —
Он может съесть лишь дольку мандарина,
Кусочек сахара или конфету.
Не плачь, о нежная, что в тесной клетке
Он сделается посмеяньем черни,
Чтоб в нос ему пускали дым сигары
Приказчики под хохот мидинеток.
468
Не думай, милая, что день настанет,
Когда, взбесившись, разорвет он цепи
И побежит по улицам, и будет,
Как автобус, давить людей вопящих.
Нет, пусть тебе приснится он под утро
В парче и меди, в страусовых перьях,
Как тот, Великолепный, что когда-то
Нес к трепетному Риму Ганнибала.
ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ
Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы,—
Передо мною летел трамвай.
Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.
Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.
Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трем мостам.
И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик,— конечно тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.
Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
♦ Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?»
469
Вывеска... кровью налитые буквы
Гласят: «Зеленная»,— знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.
В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне...
А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.
ЗВЕЗДНЫЙ УЖАС
Это было золотою ночью,
Золотою ночью, но безлунной,
Он бежал, бежал через равнину,
На колени падал, поднимался,
Как подстреленный метался заяц,
И горячие струились слезы
По щекам, морщинами изрытым,
По козлиной старческой бородке,
А за ним его бежали дети,
А за ним его бежали внуки,
И в шатре из небеленой ткани
Брошенная правнучка визжала.
«Возвратись,— ему кричали дети,
И ладони складывали внуки,—
Ничего худого не случилось:
Овцы не наелись молочая,
Дождь огня священного не залил,
Ни косматый лев, ни зенд жестокий
К нашему шатру не подходили».
470
Черная пред ним чернела круча.
Старый кручи в темноте не видел,
Рухнул так, что затрещали кости,
Так, что чуть души себе не вышиб.
И тогда еще ползти пытался,
Но его уже схватили дети,
За полы придерживали внуки,
И такое он им молвил слово:
«Горе! Горе! Страх, петля и яма
Для того, кто на земле родился,
Потому что сколькими очами
На него взирает с неба черный
И его высматривает тайны.
Этой ночью я заснул, как должно,
Обернувшись шкурой, носом в землю,
Снилась мне хорошая корова
С выменем отвислым и раздутым.
Под нее подполз я, поживиться
Молоком парным, как уж, я думал,
Только вдруг она меня лягнула.
Я перевернулся и проснулся:
Был без шкуры я и носом к небу.
Хорошо еще, что мне вонючка
Правый глаз поганым соком выжгла,
А не то, гляди я в оба глаза,
Мертвым бы остался я на месте.
Горе! Горе! Страх, петля и яма
Для того, кто на земле родился».
Дети взоры опустили в землю,
Внуки лица спрятали локтями.
Молчаливо ждали все, что скажет
Старший сын с седою бородою.
И такое тот промолвил слово:
«С той поры, что я живу, со мною
Ничего худого не бывало,
И мое выстукивает сердце,
Что и впредь худого мне не будет.
471
Я хочу обоими глазами
Посмотреть, кто это бродит в небе».
Вымолвил и сразу лег на землю,
Не ничком на землю лег, спиною.
Все стояли, затаив дыханье.
Слушали и ждали очень долго.
Вот старик спросил, дрожа от страха:
♦ Что ты видишь?» —но ответа не дал
Сын его с седою бородою.
И когда над ним склонились братья,
То увидели, что он не дышит,
Что лицо его, темнее меди,
Исковеркано руками смерти.
Ух, как женщины заголосили,
Как заплакали, завыли дети!
Старый бороденку дергал, хрипло
Страшные проклятья выкликая.
На ноги вскочили восемь братьев,
Крепких мужей, ухватили луки.
к к к
Много есть людей, что, полюбив,
Мудрые, дома себе возводят,
Возле их благословенных нив
Дети резвые за стадом бродят.
А другим — жестокая любовь,
Горькие ответы и вопросы,
С желчью смешана, кричит их кровь,
Слух их жалят злобным звоном осы.
А иные любят, как поют,
Как поют, и дивно торжествуют,
В сказочный скрываются приют;
А иные любят, как танцуют.
Как ты любишь, девушка, ответь,
По каким тоскуешь ты истомам?
Неужель ты можешь не гореть
Тайным пламенем, тебе знакомым?
472
Если ты могла явиться мне
Молнией слепительной господней
И отныне я горю в огне,
Вставшем до небес из преисподней?
* * *
Мы в аллеях светлых пролетали,
Мы летели около воды,
Золотые листья опадали
В синие и сонные пруды.
И причуды, и мечты, и думы
Поверяла мне она свои,
Все, что может девушка придумать
О еще неведомой любви.
Говорила: «Да, любовь свободна,
И в любви свободен человек,
Только то лишь сердце благородно,
Что умеет полюбить навек».
Я смотрел в глаза ее большие,
И я видел милое лицо
В рамке, где деревья золотые
С водами слились в одно кольцо.
И я думал: «Нет, любовь не это!
Как пожар в лесу, любовь — в судьбе
Потому что даже без ответа
Я отныне обречен тебе».
ПОЗОР
Вероятно, в жизни предыдущей
Я зарезал и отца и мать,
Если в этой — боже присносущий! —
Так жестоко осужден страдать.
473
Если б кликнул я мою собаку,
Посмотрел на моего коня,
Моему не повинуясь знаку,
Звери бы умчались от меня.
Если б подошел я к пене моря,
Так давно знакомой и родной,
Море почернело бы от горя,
Быстро отступая предо мной.
Каждый день мой, как мертвец, спокойный,
Все дела чужие, не мои,
Лишь томленье вовсе недостойной,
Вовсе платонической любви.
Пусть приходит смертное томленье,
Мне оно не помешает ждать,
Что в моем грядущем воплощенье
Сделаюсь я воином опять.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Иннокентий Анненский
ИЗ СТАТЬИ «О СОВРЕМЕННОМ ЛИРИЗМЕ»
Николай Гумилев (печатается третий сборник стихов),
кажется, чувствует краски более, чем очертания, и силь¬
нее любит изящное, чем музыкально-прекрасное. Очень
много работает над материалом для стихов и иногда до¬
стигает точности почти французской. Ритмы его изыс¬
канно тревожны.
Интересно написанное им недавно стихотворение
«Лесной пожар». Что это — жизнь или мираж?
Резкий грохот, тяжкий топот,
Вой, мычанье, стон и рев,
И зловеще-тихий ропот
Закипающих ручьев.
Вот несется слон-пустынник,
Лев стремительно бежит,
Обезьяна держит финик
И пронзительно визжит.
С вепрем стиснутый бок о бок
Легкий волк, душа ловитв,
Зубы белы, взор не робок —
Только время не для битв.
•Г
Лиризм Н. Гумилева — экзотическая тоска по красоч¬
но причудливым вырезам далекого юга. Он любит все
изысканное и странное, но верный вкус делает его стро¬
гим в подборе декораций.
1909
475
Сергей Чупринин
ИЗ СТАТЬИ «ИЗ ТВЕРДОГО КАМНЯ.
СУДЬБА И СТИХИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА»
Общепринятый — после К. Чуковского и Ю. Тыняно¬
ва о Блоке, Б. Эйхенбаума и В. Жирмунского об Ахмато¬
вой — подход к стихам как к личному дневнику поэта,
как к своего рода духовной автобиографии его лиричес¬
кого героя мало что дает для представления о творчестве
Гумилева. Лишь единожды — в позднем стихотворении
«Память» —предложивший сжатый очерк своего духов¬
ного развития, он никак не может быть назван и летопис¬
цем современной ему эпохи.
Стихов о России, о времени, в какое выпало жить, у
Гумилева действительно так мало, что это способно оза¬
дачить. Да и те, что есть («Туркестанские генералы»,
«Старые усадьбы», «Старая дева», «Почтовый чинов¬
ник», «Городок», «Змей» и, наособицу, навеянный ду¬
мой о Распутине и распутинщине, восхитивший М. Цве¬
таеву «Мужик»), при всей точности в деталях и всей
обычной для Гумилева картинности видятся скорее ле¬
гендами, «снами» о России и русских людях, русской
истории, нежели родом лирического исследования или
свидетельства очевидца.
Реальность словно бы не заботила поэта. Или — выра¬
зимся точнее — была скучна, неинтересна ему именно
как поэту.
Почему? Гумилев сам ответил на этот вопрос:
Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда,
Все, что смешит ее, надменную,
Моя единая отрада.
Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремит в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.
И корень, видимо, на самом деле в этом. В роковой
несоотносимости личных понятий поэта о правах, обя¬
занностях, призвании человека — и навязываемых, пред-
476
писываемых современностью условий и требований. В
том, что в душе Гумилева — и гимназиста, и путешес¬
твенника, и воина, и литератора — действительно гром¬
че всех прочих, действительно заглушая и шум повсед¬
невности, и то, что Блок назвал «музыкой Революции»,
гремели «слова, затерянные ныне...».
Он чужаком пришел в этот мир. Но он — так, во вся¬
ком случае, кажется — еще и культивировал, пестовал
свою чужеродность миру, свою несовместимость и с «тол¬
пою», ее интересами, нуждами, идеалами, и с «пошлой,
по еще оценке, реальностью — вне зависимости от того,
шла речь о предреволюционной рутине или о послерево¬
люционной смуте.
Эта несовместимость была такого рода, что исключала
не только похвалы реальности, но и порицание ее. Вот
почему стихи с самого начала стали для Гумилева не спо¬
собом погружения в жизнь, а способом защиты, ухода от
нее. Не средством познания действительности, а средст¬
вом компенсации, восполнения того, что действитель¬
ность не дает и в принципе дать не может. Совершенство
стиха рано было осознано Гумилевым как единственно
приемлемая альтернатива жизненным несовершенствам,
величавость и спокойствие искусства противостояли в его
глазах всяческой (политической, бытовой, окололитера¬
турной и прочей) суете, а пышная ярость и многоцветье
поэтических образов контрастировали с грязновато-се¬
ренькой обыденностью.
Гумилев не был бы Гумилевым, если бы и жизнь
свою не попытался построить на контрасте с тем, чем
удовлетворяется и что ищет большинство. Его путешес¬
твия в Африку, его заведомо обреченные на неудачу
хлопоты о «цеховой» солидарности поэтов и даже его
участие в боевых действиях на Восточном и Западном
фронтах первой мировой войны тоже, если угодно,
можно расценить как своего рода эскапизм, бегство от
предписываемой обществом линии поведения и томя¬
щей скуки. Все это, конечно, обогатило его жизнь,
обогатило и расцветило экзотическими красками его
поэзию. Но вот, казалось бы, парадокс: исключитель¬
ные по характеру и, надо думать, по силе жизненные
впечатления и тут ложились в стих не непосредствен¬
но, а предварительно трансформировались, очищались
от «сора», от резко индивидуализированных подробнос¬
тей, претворялись в легенду, в «сон» и о войне, и об
Африке...
477
Он — и это, пожалуй, решает дело — единственный в
своем роде «сновидец» и «снотворец» в русской поэзии
XX века. Недаром же реальная жизнь так часто пред¬
ставляется ему дурным сном, а огонь поэзии высекается
при столкновении «дневного» и «ночного» ликов бытия.
И недаром самый- обычный для Гумилева «жест» — это
жест перенесения себя (и читателей) в забытье, переме¬
щения в пространстве и времени, перевоплощения в кого
угодно.
Стоит только дать волю грезе —
И кажется — в мире, как прежде, есть страны,
Куда не ступала людская нога,
Где в солнечных рощах живут великаны
И светят в прозрачной воде жемчуга.
И карлики с птицами спорят за гнезда,
И нежен у девушек профиль лица...
Как будто не все пересчитаны звезды,
Как будто наш мир не открыт до конца!
Стоит только дать волю грезе — и начинается кар¬
навальная смена то ли масок, то ли жребиев: «Я кон¬
квистадор в панцире железном...», «Однажды сидел я
в порфире златой, Горел мой алмазный венец...», «...я
забытый, покинутый бог, Созидающий, в груде разва¬
лин Старых храмов, грядущий чертог», «Я — попугай
с Антильских островов...», «Древний я открыл храм
из-под песка, Именем моим названа река, И в стране
озер пять больших племен Слушались меня, чтили мой
закон»...
Так в ранних, юношеских стихах Гумилева. Но та
же воля к преображению и реальности, и самого себя,
то же искушение «многомасочностью», как сказали бы
литературоведы, лирического героя — ив поздних тво¬
рениях поэта. Разница лишь в том, что молодому Гу¬
милеву эта череда перевоплощений, вживаний в незна¬
комый и часто экзотический душевный облик достав¬
ляла одно только, кажется, чистое наслаждение, лишь
изредка, для «романтической интересности» декориру¬
емое в цвета и тона «мировой скорби». Но то, что в
юности виделось — да в известной степени и было —
игрой, в зрелости стало основой истинно трагического
мироощущения.
И трагизм этот, столь мощно покоряющий читателя
473
последних книг Гумилева, вызван, думается, не только и
не столько внутренней эволюцией поэта, сколько лавин¬
ным течением событий в обступавшей его действитель¬
ности. Или, иными словами, за эволюцией грозно угады¬
вается революция.
Гумилев — и уже в этом его исключительность — ни
полусловом не откликнулся на революцию, гражданс¬
кую войну, пореволюционное переустройство жизни, ни
полусловом не поддержал, не оспорил действия новой
власти. У него нет стихов, ни озвученных «музыкой Ре¬
волюции» (хотя он активно работал в первых советских
учреждениях культуры — в Союзе Поэтов, в издатель¬
стве «Всемирная литература» и т. п.), как у Блока,
Брюсова, Маяковского или Пастернака, ни навеянных
романтикой Белого движения (хотя убежденным монар¬
хистом он оставался, кажется, до конца), как у Цвета¬
евой, ни даже вызванных тщетной надеждой остано¬
вить братоубийство примиряющим словом, как, допус¬
тим, у Волошина.
У Гумилева вообще нет политических стихов. Он ук¬
лонился от прямого диалога с современностью. Он отка¬
зался говорить на ее языке. Он — так, во всяком случае,
кажется па первый взгляд — промолчал о том, что твори¬
лось со страной и народом в огненное пятилетие 1917 —
1921 годов. Но...
Действительность была такова, что и молчание осоз¬
навалось и истолковывалось (учениками, читателями и,
конечно же, властью) как акт гражданского выбора,
как недвусмысленная политическая позиция. У стрем¬
ления быть всего лишь вежливым «с жизнью современ¬
ною» — одна цена в 1912 году, когда писались эти стро¬
ки. И совсем иная — в дни, одним представлявшиеся
концом всемирной истории, а другим — только ее нача¬
лом. В’ «Слове», в «Памяти», в «Заблудившемся трам¬
вае», в «Шестом чувстве», в «Звездном ужасе», в
других вершинных созданиях Гумилева с явствен¬
ностью угадывалось то, что и было вложено, впрессова¬
но в них поэтом,— мужество неприятия, энергия сопро¬
тивления.
В этом смысле Гумилев — и именно Гумилев, не напи¬
савший ни строки, которая могла бы быть названа «ан¬
тисоветской», вернувшийся в Россию тогда, когда его
единомышленники уже покидали ее, не участвовавший
ни в Белом движении, ни в контрреволюционных загово¬
рах — был обречен. Его гибель, при всей ее кажущейся
479
случайности и трагической нелепости*, глубоко законо¬
мерна.
По-другому и не мог уйти из жизни поэт, сам себе
напророчивший:
И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще.
По-другому и не мог покинуть земную юдоль поэт,
вознесший над нею «огненный столп» (как выразитель¬
но, как многозначно это название предсмертной книги
Гумилева), всем своим творчеством, всей своей жизнью
доказавший собственную несовместимость с тем, ка¬
кой стала и какой обещала стать жизнь в Советской
России.
Но — перед тем как уйти — он написал стихи, его
обессмертившие, выдержавшие испытание и клеветой, и
затянувшимся едва ли не на семь десятилетий замалчи¬
ванием.
Именно прощаясь с жизнью, написал Гумилев свои
самые светлые, самые пронзительные стихи о любви.
Именно провидя свой горестный конец, научился шу¬
тить, что никак не давалось ему раньше. Именно «у гро¬
бового входа» он с ласковой улыбкой оглянулся на со¬
бственное детство, и тенью не возникавшее в прежних
его стихах.
И именно теперь Гумилев сложил едва ли не самый
величественный гимн Слову, его таинству и чудотворст¬
ву из всех, какие только знает русская поэзия. Он напом¬
нил баснословные, давно ушедшие в предания времена,
когда «Солнце останавливали словом, Словом разруша¬
ли города».
* Гумилев Николай Степанович, 33 лет, б. дворянин, филолог, поэт,
член коллегии «Изд. во Всемирная литература», беспартийный, б. офи¬
цер» (так сказано в постановлении Петроградской ГубЧК) был казнен в
августе 1921 года по обвинению в принадлежности к т. н. «таганцевско-
му заговору». Недавно обнародованные материалы свидетельствуют о
том, что это обвинение облыжно и к расстрелу поэт был приговорен лишь
за то, что не сумел поступиться «предрассудками офицерской дворянс¬
кой чести» и не донес органам советской власти, что ему предлагали
вступить в заговорщическую организации), от чего он, кстати, категори¬
чески отказался ( см. «Новый мир», 1987, № 12, с. 257—258).
480
Он возвысил Слово над «низкой жизнью». Он прекло
нил пред ним колени — как мастер, всегда готовый к
продолжению ученичества как ученик, свято верующий
в возможность научиться волшебству, стать мастером в
ряду мастеров.
Он все в себе подчинил Слову, всего себя отдал ему в
бессрочное владение.
И дальний отсвет этого Слова лег на стихи самого
Николая Гумилева, на всю его счастливую, страдальчес¬
кую, легендарную судьбу.
1989
Николай Богомолов
ИЗ СТАТЬИ «ЧИТАТЕЛЬ КНИГ»
Акмеизм Гумилева внутренне конфликтен, несводим
к описательности, пусть даже самого высокого художес¬
твенного уровня. И такая конфликтность развивается в
самых разных измерениях, начиная от собственно лите¬
ратурного, словесного, и кончая высшими сферами со¬
держательности. Осознание, освоение этого составляет
сущность творчества «зрелого» Гумилева, начиная с
♦ Чужого неба» и кончая «Огненным столпом».
В достаточно недоброжелательной рецензии М. Куз-
мин писал: «...дело в том, что в книге «Чужое небо»
Гумилев от «Жемчугов» отошел, но ни к чему определен¬
ному еще не пришел. Он «пуст/» — вот все, что можно про
небо сказать...» Не разделяя тона, к самому определению
можно присоединиться: действительно, «Чужое небо» —
книга переходная, в которой Гумилев откровенно пробу¬
ет разные манеры, как бывшие в его собственном распо¬
ряжении ранее, так и предвещающие тех авторов, кото¬
рые еще только придут в русскую поэзию в будущем.
Вслушайтесь в само звучание, в ритмическую структуру
♦У камина» — и вы услышите баллады двадцатых годов,
интонацию Н. Тихонова; «Однажды вечером» написано
совершенно в духе практически никому еще не известно¬
го Игоря Северянина; в «Маргарите» определенно пред¬
чувствуется одноименное стихотворение Пастернака из
«Тем и вариаций».
Гумилев начинает пробовать себя не в одной, заранее
16 Серебряный век
481
предызбранной манере, как то было в годы прямого уче¬
ничества, а в манерах разных, старается разрушить уже
на глазах каменеющие традиции русского символизма,
найти иные способы выражения, чем уже опробованные
ранее. И на этом пути он решительно порывает со своими
предшественниками, все более и более втягиваясь в иное,
новое движение русской поэзии.
Когда об акмеизме говорят как о стремлении к реализ¬
му, умении создать выразительную картину, сказать о
вполне определенном человеческом переживании,— его
явно преуменьшают. Уже достаточно давно выдвинута и
обоснована концепция акмеизма как «русской семанти¬
ческой поэтики», заключающейся прежде всего в том,
что стиховое слово понимается как средоточие смыслов,
ни в коей степени не сводимых к словарным толковани¬
ям. Если символисты расширяли поле своей творческой
деятельности прежде всего экстенсивно, прямо связывая
свою поэзию с силами, любой поэзии явно внеположны¬
ми,— прежде всего с религией или иными способами
сверхчувственного познания мира, то акмеисты (прежде
всего с этой точки зрения проанализирована поэзия Ах¬
матовой и Мандельштама) стремились к интенсивной
разработке слова, углублению его смысловой структуры,
втягивавшей в себя, по крайней мере потенциально, все
богатство мировой культуры. Если схематически пред¬
ставить себе поэтику символизма и акмеизма, то первую
можно определить как самораскрытие навстречу неведо¬
мому, запредельному, находящемуся не только вне от¬
дельного человека, но и вне восприятия всего человечес¬
тва,— отсюда постоянный и систематический интерес
символистов к спиритизму, оккультизму, теософии, ан¬
тропософии и прочим «тайным наукам», стремление
стать магами или теургами. Да, стремление это могло
реализовываться в форме вовсе не прямой, а косвенной,
опосредованной, могло не просматриваться в отдельно
взятом стихотворении, но, думается, почти все русские
символисты могли бы подписаться под афористичес¬
ким стихотворением-четверостишием Юргиса Балтру¬
шайтиса:
•
Сладко часу звездно цвесть!
На земле ступени есть
К неземному рубежу —
Ввысь, куда я восхожу.
482
Основное развитие поэзии акмеистов, напротив, шло в
направлении прямо противоположном. Они стремились
вобрать'в свою поэзию все богатство окружающего их
мира, овеянного при этом Божьим дыханием. Не созда¬
ние своей мифологии, на чем так настаивал Вячеслав
Иванов, а освоение мифологии извечной, соединение ее с
современной жизнью; не открытое устремление к Богу, а
уверенность в том, что Он благословляет всю жизнь,
входящую в стихи; не разработка отдельных историко-
культурных мотивов, а свободное существование в их
мире, где любая строка собственного стихотворения мо¬
жет быть развернута в целостное историко-культурное
или историософское построение, в целостную систему
мировоззрения.
Естественно, что такое движение не могло бы не быть
чрезвычайно сложным, и далеко не все, кто вошел в
число шестерых акмеистов, могут быть отнесены к числу
поэтов именно такого склада и типа. Безусловно принад¬
лежат к ним Ахматова и Мандельштам, безусловно не
имеют отношения Городецкий, Зенкевич и Нарбут (впро¬
чем, кое-что в поэзии последнего — особенно в сборниках
«Аллилуиа», «Плоть» и «Александра Павловна» —поз¬
воляет говорить о нем как о фигуре более сложной). На
их фоне Гумилев выглядит поэтом в какой-то степени
межеумочным: с одной стороны, его поэзия кажется
слишком простой, а то и элементарной, чтобы быть пос¬
тавленной рядом со зрелым творчеством Ахматовой или
Мандельштама; с другой, она явно сложнее и глубже,
чем, скажем, поэзия С. Городецкого.
Думается, что здесь мы уже вступаем в сферу индиви¬
дуального, прикасаемся к творческой личности самого
Гумилева.
Для Ахматовой и даже для Мандельштама символизм
был кратким искусом в самом начале их поэтической
биографии, и потому был преодолен довольно просто:
Ахматова вообще оставила свои стихотворения, навеян¬
ные влиянием символизма, за пределами сборников, а
Мандельштам очень рано покаялся в символической ере¬
си. Гумилев же не просто прошел искушение символиз¬
мом, а отдал ему значительную дань, собственными воле¬
выми усилиями формировал из себя символиста. И те¬
перь, когда ему открылись новые перспективы развития,
предстояло с болью отрывать символизм от себя и себя от
символизма. Потому поиски, пробы различных новых
поэтик в «Чужом небе» и прилегающих к нему стихах
1в*
483
были необходимы. И потому в «Колчане» даже самые
тонкие критики еще не могли увидеть книги целостной,
книги уверенного в себе мастера.
Действительно, «Колчан», открывающийся стихотво¬
рением «Памяти Анненского», завершается отрывками
из вполне беспомощного «Мика», которые для покойного
учителя (отношения с которым — как творческие, так и
житейские — были далеки от обычно представляемой
себе идиллии) показались бы, наверное, пародийными. И
внутри сборника голос Гумилева не выглядит основан¬
ным на внутренней уверенности в своей поэтической
правоте. Личный опыт если и врывается в стихи, то в
виде не преображенном, а «сыром», непосредственно свя¬
занном с сегодняшними переживаниями итальянских
впечатлений или войны. Остальное все уходит в стилиза¬
цию, в воспроизведение уже давно сказанного кем-то
другим. Для появления собственного, выношенного сло¬
ва Гумилеву надо было уйти от непосредственных впечат¬
лений, «остранить» их, увидеть происходящее не как
участнику, а как действующему лицу и стороннему на¬
блюдателю одновременно.
Когда разные критики и мемуаристы противопостав¬
ляют Гумилева Блоку, как Моцарту — Сальери, они,
думается, не всегда способны отказаться от собственного
отношения к личности поэта, к его литературным начи¬
наниям, штудиям всякого рода. Учитель, мэтр проециро¬
вался на поэта, и в итоге получался не тот автор, облик
которого понимался по строкам и строфам его стихов, а
некий заранее вычисленный конструктор поэтических
произведений. И здесь, думается, не лишним будет про¬
цитировать дарственную надпись, которую сделал Блок
на одной из своих книг: «Дорогому Николаю Степанови¬
чу Гумилеву — автору «Костра», читанного не только
«днем», когда я «не понимаю» стихов, но и ночью, когда
понимаю».
Для сдержанного в инскриптах Блока такая надпись
многое значила. Он увидел в авторе «Костра» не только
своего антагониста, но и в какой-то степени единомыш¬
ленника, сумел «поверх барьеров» оценить зрелую поэ¬
зию Гумилева. Конечно, не будем сбрасывать со счетов и
последнюю блоковскую статью «Без божества, без вдох¬
новенья», не будем забывать о зафиксированных разны¬
ми мемуаристами резких словах,— но все же запомним,
что для Блока позднее творчество Гумилева значило и
нечто весьма важное, близкое.
484
Было ли это важное лишь полностью открывшимися
секретами поэтического мастерства? Или, может быть,
Блок увидел в Гумилеве творца новой поэтической кос¬
мологии? Или сумел оценить натурфилософские качест¬
ва его новых стихов, где визионерство приобретает про¬
роческий характер, заставивший Ахматову уже в начале
шестидесятых годов с удовольствием фиксировать совпа¬
дение прозрений Гумилева с последними открытиями
ученых? Конечно, гадать об этом бессмысленно, но вы¬
сказать предположения, очевидно, можно.
В последние годы жизни Гумилева преобразилось его
Слово. Внешне оставаясь таким же (и потому нет резкой
границы между двумя последними сборниками и пре-ды-
дущими книгами), оно обрело новую глубину и значимость.
♦ Перевес замысла над осуществлением», ♦чрезмерность»
пропали, претворились в поэтическую реальность, откли¬
ки других, ранее сказанных слов стали не свидетельством
разрушения слова собственного, а могучим отзывом ему.
Внутреннее напряжение стихотворения перестало ощу¬
щаться в назывании предметов, кажущихся поэтически¬
ми, а отодвинулось вглубь и сразу оживило то, что прежде
могло казаться театральным, чисто внешним, излишне
красивым.
Когда-то Иннокентий Анненский писал о том, что
♦ самое страшное и властное слово, т. е. самое загадоч¬
ное,— может быть именно слово будничное*. Конечно,
к слову будничному Гумилев не пришел никогда, но в
соединении будничного с подчеркнуто высоким и экзо¬
тическим, в осознанной перекличке своего слова с чу¬
жими поэтическими системами, в умении сделать его
средоточием разных голосов, местом поэтических пере¬
кличек — он двигался по пути, определенному учите¬
лем и уже опробованному соратниками по акмеизму.
Слово, уподобленное евангельскому Логосу, станови¬
лось все более сложным, неоднозначным, не равным са¬
мому себе.
Одно из самых значимых для Гумилева поздних его
стихотворений — ♦Память» — заканчивается явлением не¬
ведомого странника с закрытым лицом:
Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо; но все пойму,
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.
486
Крикну я... но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.
Кто этот путник? Ахматова отвечала однозначно:
Смерть. Современный комментатор так же однозначен:
Христос. А можно найти и еще одну параллель — Зара¬
тустра. А можно добавить и то, что, согласно магическим
концепциям, лев и орел в животном мире соответствова¬
ли Солнцу в мире природном... Гумилев намеренно неод¬
нозначен, намеренно уходит от простой расшифровки.
«Путник» — и то, и другое, и третье, и еще нечто, и еще,
и еще. Ряд этот принципиально нескончаем, его можно
длить и длить.
И здесь его акмеизм сближается с тем направлением в
поэзии, от которого он так принципиально отрекался,
возвращается в свое родовое лоно — в символизм. На
новом этапе, по-новому осмысленные, акмеистические
образы обретают ту же бесконечно разворачиваемую во
времени смысловую структуру, что и образы символичес¬
кие. И потому можно присоединиться к Юрию Верхов¬
скому, который еще в 1925 году утверждал символистс¬
кую природу творчества Гумилева, говоря о том, что весь
его путь— «освобождение в себе самом того, что мы на¬
зываем душевно-музыкальным».
Старинный спор превращается в слияние главных,
основополагающих принципов поэтического творчества.
Видимо, в этом и заключается первостепенное значение
поэзии Гумилева для русской литературы: ему удалось
снять противопоставление символизма и постсимволиз¬
ма, непротиворечиво объединить их в рамках своего
творческого метода, сделать взаимодополняющими. Пе¬
ред трагическим своим концом он осуществил очень зна¬
чительный шаг в поэзии.
Прислушалась ли сама эта поэзия к нему? Кажется, не
очень. Были подхвачены далеко не самые сильные сторо¬
ны творчества Гумилева, подхвачены и опошлены. И
только сейчас есть надежда, что в разгар глубочайшего
поэтического кризиса, постигшего русскую литературу,
к Гумилеву снова начнут прислушиваться, искать в нем
качества, способные сегодня вызвать могучий резонанс,
на который рассчитано все его творчество.
1991
МИХАИЛ
КУЗМИН
1875—1936
Михаил Алексеевич Кузьмин (1875—1936) родился в Ярослав¬
ле в семье отставного морского офицера. Его родители были ста¬
рообрядцами, и бытовые обычаи этой традиции, впитанной с дет¬
ства, глубоко вошли в духовную эстетику будущего поэта. Затем
семья переехала в Саратов, а вскоре — в Петербург, где Кузмин
окончил гимназию. Три года проучился в консерватории — в клас¬
се композиции Римского-Корсакова, и музыка — наряду с поэ¬
зией — навсегда воцаряется в творческом мире художника.
1896—1897 годах путешествует по Египту и Италии, где пог¬
ружается в изучение церковной музыки, в литературу об иезуитах
и гностиках — последние привлекали Кузмина сочетанием хрис¬
тианских основ с их языческим истолкованием и связью с антич¬
ностью. В 1898 году Кузмин удаляется на несколько лет в мона¬
шеские, олонежские и поволжские, скиты. Эти поездки во многом
сформировали поэтику зрелого Кузмина и укрепили в нем сквоз¬
ную мистическую идею путешествия как духовного пути.
В 1906 году в журнале «Весы» напечатан цикл «Александрий¬
ские песни». Как свежее открытие была встречена свободная,
раскрепощенная от ритмико-строфических условностей форма
«песен».
В последующие годы Кузмин весьма плодотворно реализуется
как в поэзии, так и в прозе, в эссеистике, в произведениях для
театра. Творчество его энциклопедично по охвату эпох и про¬
странств: им движут, по его собственному выражению, «восторги
от всякой остроты всех стран и всех времен». Важную роль в
художественной судьбе Кузмина играет близость с Вяч. Ивано¬
вым: в течение трех лет он живет в «башне» и ведет с хозяином
дома нескончаемые диалоги об искусстве и философии.
Кузмин — и традиционалист, и новатор русского стиха: в его
поэзии слышатся отзвуки и раскольничьих песен, и итальянской
комедии, и всей старой европейской культуры, а с другой сторо¬
ны, многооттеночная интонация болтовни, вольного разговора,
словесной игры непрестанно и неожиданно расширяла лиричес¬
кие горизонты этой самобытной музы. Фигура Кузмина погранич¬
на между символизмом (В. Жирмунский назвал его «последним
русским символистом») и акмеизмом. Формально не принадлежа
этому (как и никакому иному) движению, Кузмин предвосхитил
акмеистическую программу в своей знаменитой статье «О прекрас¬
ной ясности» (1910) и в своей лирической практике. Он раскован¬
ным жестом вводил в поэзию — прозу, простые детали, обыден¬
ные подробности, поднимая их до состояния высокой одухотво¬
ренности и полета.
В послереволюционной культурной ситуации Кузмин, продол¬
жая напряженную и глубокую литературную работу, уходит в
тень: его и стихи, и проза, и эссеистика в советском контексте
явно не ко времени. Наиболее значительная из книг этой поры
«Форель разбивает лед. Стихи 1925—1928» (Л., 1929).
Умер и похоронен в Ленинграде на Волновом кладбище.
Изд.: Кузмин М. Избранные произведения. Л. 1990.
ИЗ ЦИКЛА «АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ песни»
ВСТУПЛЕНИЕ
3
Вечерний сумрак над теплым морем,
огни маяков на потемневшем небе,
запах вербены при конце пира,
свежее утро после долгих бдений,
прогулка в аллеях весеннего сада,
крики и смех купающихся женщин,
священные павлины у храма Юноны,
продавцы фиалок, гранат и лимонов,
воркуют голуби, светит солнце,
когда увижу тебя, родимый город!
<1907>
* * *
Тихие воды прудов фабричных,
Полные раны запруженных рек,
Плотно плотины прервали ваш бег,
Слышится шум машин ритмичных.
Запах известки сквозь запах серы —
Вместо покинутых рощ и трав,
Мерно вбирается яд отрав,
Ясны и просты колес размеры.
Хлынули воды, трепещут шлюзы,
Пеной и струями плещет скат!
Мимо — постройки, флигели, сад!
Вольно расторгнуты все союзы!
489
Снова прибрежности миром полны:
Шум — за горой и умолк свисток...
Кроток по-прежнему прежний ток;
Ядом отравлены,— мирны волны.
Июль 1907
к к к
Светлая горница — моя пещера,
Мысли — птицы ручные: журавли да аисты;
Песни мои — веселые акафисты;
Любовь — всегдашняя моя вера.
Приходите ко мне, кто смутен, кто весел,
Кто обрел, кто потерял кольцо обручальное,
Чтобы бремя ваше, светлое и печальное,
Я как одёжу на гвоздик повесил.
Над горем улыбнемся, над счастьем поплачем.
Не трудно акафистов легких чтение.
Само приходит отрадное излечение
В комнате, озаренной солнцем не горячим.
Высоко окошко над любовью и тлением,
Страсть и печаль, как воск от огня, смягчаются.
Новые дороги, всегда весенние, чаются,
Простясь с тяжелым, темным томлением.
<1908>
к к к
Нынче праздник, пахнет мята, все в цвету,
И трава еще не смята: все в цвету!
У ручья с волною звонкой на горе
Скдчут, резвятся козлята. Все в цвету!
Скалы сад мой ограждают, стужи нет,
А леса-то! а поля-то: все в цвету!
490
Утром вышел я из дома на крыльцо,—
Сердце трепетом объято: все в цвету!
Я не помню, отчего я полюбил,
Что случается, то свято. Все в цвету.
<1908>
к к к
Рано горлица проворковала,
Утром под окном моим пропела:
«Что не бьешься, сердце, как бывало?
Или ты во сне окаменело?
Боже упаси, не стало ль старо,
Заморожено ль какой кручиной?
Тут из печки не достанешь жара,
Теплой не согреешься овчиной».
Пташка милая, я застываю,
Погибаю в пагубной дремоте,
Глаз своих давно не открываю,
Ни костей не чувствую, ни плоти.
Лишь глубоко уголечек тлеет,
В сердце тлеет уголечек малый.
Слышу я сквозь сон: уж ветер веет,
Синий пламень раздувает в алый.
1911
СВЕТЕЛКА
В твоей светелке чистый рай:
открыты окна, видна сирень,
а через сад видна река,
а там за Волгой темны леса.
Стоят здесь пяльца с пеленой,
шитье шелками и жемчугом,
в углу божница, подручник висит;
а там за пологом видно постель,
вымытый пол так и блестит.
491
Тихонько веет в окно ветерок
и занавеску колышет слегка.
Сиренью пахнет, свечой восковой,
с Волги доносится говор и смех,
светло, привольно птицы кричат.
В твоей светелке чистый рай!
<1914>
ГУСИ
Гуси летят по вечернему небу...
Гуси, прощайте, прощайте!
Осень пройдет, зиму прозимуем,
к лету опять прилетайте!
Гуси, летите в низовые страны,
к теплому морю летите,
стая за стаей вытянитесь, гуси,
с криком в багровой заре,
да ведь от холода только уйдешь-то
а от тоски никуда.
Небо стемнело, заря побледнела,
в луже звезда отразилась;
ветер стихает, ночь наступает,
гуси все тянутся с криком.
<1914>
■к * *
Все тот же сон, живой и давний,
Стоит и не отходит прочь:
Окно закрыто плотной ставней.
За ставней — стынущая ночь.
Трещат углы, тепла лежанка,
Вдали пролает сонный пес...
Я встал сегодня спозаранку
И мирно мирный день пронес.
Беззлобный день так свято долог!
492
Все — кроткий блеск, и снег, и ширь!
Читать тут можно только Пролог
Или Давыдову псалтирь.
И зной печной в каморке белой,
И звон ночной издалека,
И при лампаде нагорелой
Такая белая рука!
Размарывает и покоит,
Любовь цветет проста, пышна,
А вьюга в поле люто воет,
Вьюны сажая у окна.
Занесена пургой пушистой,
Живи, любовь, не умирай!
Настал для нас огнисто-льдистый,
Морозно-жаркий, русский рай!
Ах, только б снег, да взор любимый,
Да краски нежные икон!
Желанный, неискоренимый,
Души моей давнишний сон!
Август 1915
к к к
Я вижу, в дворовом окошке
Склонилась к ребенку мать,
А он раскинул ножки,
Хочет их ртом поймать.
Как день ему будет долог,
Ночам — конца словно нет...
А год? это — дивный сколок
Будущих долгих лет.
Вот улыбнулся сонно
С прелестью милых котят...
Ведь каждая мать — Мадонна,
И всякий ребенок свят!
Потом настанут сурово
Труды, волненье и страсть,
И где найти тогда слово,
Что не дало бы упасть?
493
Мудры старики да дети,
Взрослым мудрости нет:
Одни еще будто в свете,
Другие уж видят свет.
Но в сумрачном бездорожьи
Утешься: сквозь страстный плен
Увидишь — мы дети Божьи,
У теплых родных колен.
1915
к к к
Мы в слепоте как будто не знаем,
Как тот родник, что бьется в нас,—
Божественно неисчерпаем,
Свежей и нежнее каждый раз.
Печалью взвившись, спадет весельем...
Глубже и чище родной исток...
Ведь каждый день — душе новоселье,
И каждый час — светлее чертог.
Из сердца пригоршней беру я радость,
К высоким брошу небесам
Беспечной бедности святую сладость
И все, что сделал, любя, я сам.
Все тоньше, тоньше в эфирном горниле
Синеют тучи над купами рощ,—
И вдруг, как благость, к земле опустили
Любовь, и радугу, и дождь.
1916
к к к
Какая-то лень недели кроет,
Замедляют заботы легкий миг,—
Но сердце молится, сердце строит:
Оно у нас плотник, не гробовщик.
494
Веселый плотник сколотит терем.
Светлый тес — не холодный гранит.
Пускай нам кажется, что мы не верим:
Оно за нас верит и нас хранит.
Оно все торопится, бьется под спудом,
А мы — будто мертвые: без мыслей, без снов...
Но вдруг проснемся пред собственным чудом:
Ведь мы все спали, а терем готов.
Но что это, Боже? Не бьется ль тише?
Со страхом к сердцу прижалась рука...
Плотник, ведь ты не достроил крыши,
Не посадил на нее конька!
1916
■к * *
Красное солнце в окно ударило,
Солнце новолетнее...
На двенадцать месяцев все состарилось...
Теперь незаметнее...
Как-то не жалко и все равно,
Только смотришь, как солнце ударяет в окно.
На полу квадраты янтарно-дынные,
Ложатся так весело.
Как прошли, не помню, дни пустынные,
Что-то их занавесило.
Как неделю, прожил полсотню недель,
А сестры-пряхи все прядут кудель.
Скоро, пожалуй, пойду я дорогою...
Не избегнут ее ни глупцы, ни гении...
На иконы смотрю не с тревогою,
А сердце в весеннем волнении.
Ну что ж? Заплачу, как тебя обниму,
Что есть в суме, с тем и пойду.
1916
496
ПЕЙЗАЖ ГОГЕНА
(Второй)
Тягостен вечер в июле,
Млеет морская медь...
Красное дно кастрюли,
Полно тебе блестеть!
Спряталась паучиха.
Облако складки мнет.
Песок золотится тихо,
Словно застывший мед.
Винно-лиловые грозди
Спустит небес лоза.
С выси мохнатые гвозди
Нам просверлят глаза.
Густо алеют губы,
Целуют, что овода.
Хриплы пастушьи трубы,
Блеют вразброд стада.
Скатилась звезда лилово...
В траве стрекозиный гром.
Все для любви готово,
Грузно качнулся паром.
1916
ХОДОВЕЦКИЙ
Наверно, нежный Ходовецкий
Гравировал мои мечты:
И этот сад полунемецкий,
И сельский дом, немного детский,
И барбарисные кусты.
Пролился дождь; воздушны мысли.
Из окон рокот ровных гамм.
Душа стремится вдаль ли? ввысь ли?
А капли на листах повисли
И по карнизу птичий гам.
496
Гроза стихает за холмами,
Ей отвечает в роще рог,
И дядя с круглыми очками
Уж наклоняет над цветами
В цветах невиданный шлафрок.
И радуга, и мост, и всадник,—
Все видится мне без конца:
Как блещет мокрый палисадник,
Как ловит на лугу лошадник
Отбившегося жеребца.
Кто приезжает? кто отбудет?
Но мальчик вышел на крыльцо.
Об ужине он позабудет,
А теплый ветер долго будет
Ласкать открытое лицо.
1916
ФАУСТИНА
Серебристым рыба махнула хвостом,
Звезда зажелтела в небе пустом —
О, Фаустина!
Все ближе маяк, темен и горд,
Все тише вода плещет об борт —
Тянется тина...
Отбившийся сел на руль мотылек...
Как день свиданья от нас далек!
Тень Палатина!
Ветром запах резеды принесло.
В розовых брызгах мое весло.
О, Фаустина!
1916
497
СТРАННИЧИЙ ВЕЧЕР
О этот странничий вечер!
Черный вечер речной
Сутулит попутные плечи
Упорной тугой волной.
Мелкий дс«ждя стеклярус
Сорвался, держаться не смог,
Бьется пальто, как парус
Меж худыми ходульками ног.
Неужели только похожа
На правду бывалая печь?
Что случилось, что случилось, Боже,
Что даже некуда лечь?
Чуть вижу в какой-то истоме:
Ветер — и струи злы —
Как грустны в покидаемом доме
Связанные узлы!
Скаредно лампы потухли,
Паутина по всем углам,
Вещи — жалкая рухлядь,
Когда-то любимый хлам.
Закрыл бы глаза на все это,
Не смотрел бы больше кругом.
Неужели не будет света?
Не найдется приютный дом?
Взгляните ж, мой друг, взгляните ж,
На время печаль отложив.
В зрачках ваших — тихий Китеж
Стеклянно и странно жив.
И мозглый пар — целебен,
И вновь я идти готов,
Когда дребезжит молебен
Невидных колоколов.
1917
ПАСХА
На полях черно и плоско,
Вновь я Божий и ничей!
Завтра Пасха, запах воска,
Запах теплых куличей.
498
Прежде жизнь моя текла так
Светлой сменой точных дней,
А теперь один остаток
Как-то радостно больней.
Ведь зима, весна и лето,
Пасха, пост и Рождество,
Если сможешь вникнуть в это,
В капле малой — Божество.
Пусть и мелко, пусть и глупо,
Пусть мы волею горды,
Но в глотке грибного супа —
Радость той же череды.
Что запомнил сердцем милым.
То забвеньем не позорь.
Слаще нам постом унылым
Сладкий яд весенних зорь.
Будут трепетны и зорки
Бегать пары по росе
И на Красной, Красной горке
Обвенчаются, как все.
Пироги на именины,
Дети, солнце... мирно жить,
Чтобы в доски домовины
Тело милое сложить.
В этой жизни Божья ласка
Словно вышивка видна,
А теперь ты, Пасха, Пасха,
Нам осталася одна.
Уж ее не позабудешь,
Как умом ты не мудри.
Сердце теплое остудишь —
Разогреют звонари.
И поют, светлы, не строги:
Дили-бом, дили-бом бом!
Ты запутался в дороге,
Так вернись в родимый дом.
<1921>
499
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Николай Гумилев
ИЗ ПИСЕМ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Поэзия М. Кузмина — «салонная» поэзия по преиму¬
ществу,— не то чтобы она была поэзией подлинной или
прекрасной, наоборот, «салонность» дана ей, как некото¬
рое добавление, делающее ее непохожей на других. Она
откликнулась на все, что за последние годы волновало
петербургские гостиные. Восемнадцатый век под сомов-
ским углом зрения, тридцатые годы, русское раскольни¬
чество и все то, что занимало литературные кружки: га-
зэллы, французские баллады, акростихи и стихи на слу¬
чай. И чувствуется, что это из первых рук, что автор не
следовал за модой, а сам принимал участие в ее творении.
Как и «Сети», первая книга М. Кузмина, «Осенние
озера» почти исключительно посвящены любви. Но вмес¬
то прежней нежной шутливости и интимности, столь
характерных для влюбленности, мы встречаем пылкое
красноречие и несколько торжественную серьезность
чувственного влечения. Костер разгорелся и из приветно¬
го стал величественным. Пусть упоминаются все знако¬
мые места — фотография Буасона, московский «Метро¬
поль»,— читателю ясно, что мечтами поэта владеет лишь
один древний образ, мифологический Амур, дивно ожив¬
ший, «голый отрок в поле ржи», мечущий золотые стре¬
лы. Его, только его угадывает поэт и в модном смокинге,
и под форменной треуголкой. Этим и объясняется столь
странное в современном стихотворении повторение слов
♦лук», «стрелы», «пронзить», «проколоть», что при
иных условиях показалось бы нестерпимой риторикой.
Один и тот же Амур с традиционным колчаном слета¬
ет к поэту в полдень из золотого облака и сидит с ним в
шумливой зале ресторана. И там, и тут — тот же «знако-
600
мый лик». Это безумие, да, но у него есть и другое назва¬
ние — поэзия.
Несколько особняком, но в глубоком внутреннем соот¬
ветствии с целым, стоит в книге отдел восточных газэл —
♦ Венок Весен» и «Духовные Стихи» с «Праздником
Пресвятой Богородицы». В первых, овеянных тенью
Гафиза, пылкое красноречие чувственности, о котором я
говорил выше, счастливо сочеталось с яркими красками
восточной природы, базаров и празднеств. М. Кузмин
прошел мимо героической поэзии бедуинов и остановил¬
ся на поэзии их городских последователей и продолжате¬
лей, к которой так идут и изысканные ритмы, и жеман¬
ная затрудненность оборотов, и пышность словаря. В его
русских стихотворениях второе лицо чувственности — ее
торжественная серьезность — стала религиозной просвет¬
ленностью, простой и мудрой вне всякой стилизации.
Словно сам поэт молился в приволжских скитах, зажи¬
гал лампады пред иконами старинного письма. Он, кото¬
рый во всем чувствует отблеск иного, будь то Бог или
Любовь, он имеет право сказать эти победные строки:
Не верю солнцу, что идет к закату,
Не верю лету, что идет на убыль,
Не верю туче, что темнит долину,
И сну не верю — обезьяне смерти,—
Не верю моря лживому отливу,
Цветку не верю, что твердит: «не любит»!
Среди современных русских поэтов М. Кузмин зани¬
мает одно из первых мест. Лишь немногим дана в удел
такая изумительная стройность целого при свободном
разнообразии частностей; затем, как выразитель взгля¬
дов и чувств целого круга людей, объединенных общей
культурой и по праву вознесенных на гребне жизни, он —
почвенный поэт, и, наконец, его техника, находящаяся в
полном развитии, никогда не заслоняет образа, а только
окрыляет его.
1912
Александр Кушнер
ИЗ СТАТЬИ «МУЗЫКА ВО ЛЬДУ»
Что отличает и выделяет М. Кузмина среди многих
славных и громких имен в русской поэзии 10—20-х годов
XX века? Скажу так: особая естественность пеэтической
601
речи, легкой, как дыхание (прошу прощения у строгой
тени прозаика, восстанавливая союз «как» между двумя
этими словами).
Лучшую свою книгу «Форель разбивает лед» Кузмин
выпустил в 1929 году. Так же называется первый (и
лучший) цикл стихов этой книги.
Можно было бы проанализировать сюжет, то есть
распутать петляющие ниточки повествования, расплести
вымысел и реальность, разгадать искусный узор, исполь¬
зовавший и английскую народную балладу, и фильмы
модного в те годы немецкого экспрессионизма («Кабинет
доктора Калигари»), и биографические подробности... но
не хочется. И не надо, потому что сам автор не придавал
всему этому большого значения.
...Толпой нахлынули воспоминанья,
Отрывки из прочитанных романов,
Покойники смешалися с живыми,
И так все перепуталось, что я
И сам не рад, что все это затеял.
Кого напоминает нам этот белый стих? Ахматову,
конечно, например, ее «Северные элегии», написанные
значительно позже, спустя лет пятнадцать. Еще кажет¬
ся, что таким послесловием она могла бы заключить свою
«Поэму без героя».
Но в отличие от Ахматовой, Кузмин и в самом деле не
ждет от читателя разгадки своей «Форели». Вот уж кому
не важно, знает читатель или не знает, кого любит автор,
перед кем он виноват и т. д. Не в этом видел Кузмин задачу,
стоящую перед стихами. Поэтическая тайна живет для
него совсем в другом — в прелести и новизне самого стиха,
то есть в том, что почти не поддается никакому анализу.
Когда-то мне казалось, что тайну эту можно объяс¬
нить; с годами все больше склоняюсь к той мысли, что
объяснить, то есть пересказывать другими словами, поэ¬
зию невозможно. На нее можно только указать: вот здесь,
смотри внимательно (смотри, значит, прежде всего, слу¬
шай), в этом месте, в этом стихе.
В цикле Кузмина всплывают те же персонажи, что
потом войдут в ахматовскую «Поэму без героя».
Художник утонувший
Топочет каблучком,
За ним гусарский мальчик
С простреленным виском...
502
А вы и не рождались,
0, мистер Дориан,—
Зачем же так свободно
Садитесь на диван?
Тем ощутимей разница между установкой Кузмина на
обновление поэтического слова и стремлением Ахмато¬
вой воссоздать в поэме картину жизни и заблуждений
творческой интеллигенции в предреволюционную эпоху.
Сюжет не волнует Кузмина, он и намечен кое-как:
Двенадцать месяцев я сохранил
И приблизительно дал погоду —
И то не плохо.
И чтобы не выглядеть в глазах читателя уж совсем
«беспомощным», добавляет:
И потом я верю,
Что лед разбить возможно для форели,
Когда она упорна. Вот и все.
Вот, собственно, и вся символика: как форель способ¬
на разбить лед, так и любовное, сердечное упорство мо¬
жет быть вознаграждено.
Это детское «вот и все» напоминает нам заключитель¬
ные строки другой поэмы.
...Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего.
Ну что ж, Пушкин и в самом деле учитель Кузмина,
а в своем «Домике в Коломне», вызвавшем такое недо¬
умение современников, он шагнул на много десятилетий
вперед и протянул руку новому поэту.
Сам Кузмин избрал «творческий путь» в самом труд¬
ном его варианте: в обновлении стиха прежде всего на
основе небывалой естественности и свободы поэтического
выражения. Ему удалось это даже в белом стихе — самом
косном из всех существующих в русской поэзии, посколь¬
ку, лишенный рифмы, он поневоле тяготеет к повество¬
вательной интонации, одной и той же для всех, кто бы
им ни пользовался с пушкинских времен. Открытие
Пушкина берется напрокат, и то и дело в белом стихе
(будь то А. К. Толстой или Ходасевич) всплывают знако-
508
мые интонационные повороты из «Каменного гостя» или
«Моцарта и Сальери».
Тем удивительней белый стих Кузмина, сдвинутый в
сторону разговорной речи, обогащенный прежде всего ее
живыми интонациями, придающими ему новое очарова¬
ние. Никакой архаики, никакой стилизации, этот белый
стих — последняя сводка о состоянии разговорного язы¬
ка на сегодняшний день.
Раз вы уехали, казалось нужным
Мне жить, как подобает жить в разлуке:
Немного скучно и гигиенично.
Или:
...Как видно,
Вы вовсе не игрок, скорей любитель,
Или, верней, искатель ощущений.
Но в сущности здесь — страшная тоска:
Однообразно и неинтересно.
Отметим и неловкие, почти детские языковые обороты,
характерные для устной речи, изгоняемые обычно из речи
литературной, но здесь, в стихах Кузмина, реабилитиро¬
ванные, празднующие свое признание и полноправие («раз
вы уехали», «но в сущности здесь — страшная тоска»), и
обилие вводных слов и словосочетаний («как видно», «вер¬
ней»), и корректные вкрапления специальных слов из
периферийных областей языка, не утративших некоторой
экзотичности («гигиенично»), и виртуозное использование
пиррихия в строке «Однообразно и неинтересно», обобрав¬
шего пятистопный стих, оставив ему только два ударения.
Однообразие повествовательной интонации белого сти¬
ха, онтологически ему присущей, снимается также резки¬
ми смысловыми скачками, ассоциативностью, пропусками
логических звеньев, быстрой сменой декораций. Это не
прямолинейное повествование, а сбивчивый рассказ, взвол¬
нованная речь; больше всего она похожа на музыкальное
сочинение, построенное на переплетении нескольких ме¬
лодий: веселая перебивает печальную, чтобы уступить
место подчеркнуто равнодушной, или чуть насмешливой,
или настойчивой, или трогательно-беззащитной.
Такова, например, сцена встречи автора в домашнем
музее в присутствии коллекционера с «близнецом», си¬
дящим «в стеклянной банке».
604
Я с ожиданием и отвращеньем
Смотрел, смотрел, не отрывая глаз...
А рыба бьет тихонько о стекло...
И легкий треск и синий звон слилися...
Американское пальто и галстук...
И кепка цветом нежной rose champagne.
Схватился за сердце и дико вскрикнул...
— Ах, боже мой, да вы уже знакомы?
И даже... может быть... не верю счастью!..
«Открой, открой зеленые глаза!
Мне все равно, каким тебя послала
Ко мне назад зеленая страна!..»
На такой эмоциональной чересполосице держатся все
белые стихи «Форели».
Интонационное своеобразие сочетается с многообрази¬
ем сюжетных мотивов, быстрым кинематографическим
чередованием планов: это и театральный зал с его сценой
и ложами, и спиритический сеанс, и барский дом в Кар¬
патах, и Гринок — не то реальный шотландский горо¬
док, в котором «безумствует шиповник, небо сине», не
то — вымышленная «зеленая страна», и русская деревня
с ее солнцепеком, мошками и стрекозами, купанием,
нырянием с обрыва в реку, и игорный дом, и мещанская
квартирка назойливого коллекционера, и петербургская
квартира автора (петербургская, а не ленинградская,
поскольку вбегают в нее «по лестнице с ковром»).
«Форель разбивает лед» написана в 1927 году, но
происходящее в ней относится к вымышленному или
прошлому: «толпой нахлынули воспоминанья, отрывки
из прочитанных романов».
Жизнь в цикле «Форель» преображена, европеизиро¬
вана, представлена такой, какой она, пожалуй, в России
и не была.
Мы этот май проводим, как в деревне:
Спустили шторы, сняли пиджаки,
В переднюю бильярд перетащили
И половину дня стучим киями
От завтрака до чая. Ранний ужин,
Вставанье на заре, купанье, лень...
Нет, почему же, была такая жизнь и в России. Мы
помним ее по романам Тургенева, мемуарам и дневникам
А. Бенуа, Головина, живописи Коровина и Грабаря. Куз-
505
мин и его ближайшее окружение: художники из «Мира
искусства», люди театра, балета, музыканты, петербургс¬
кие поэты десятых годов, просвещенные купцы-мецена¬
ты,— достаточно назвать Головина, Сомова, Дягилева,
А. Лурье, Метнера, Гумилева, Н. Недоброво, Мамонтова и
других — стремились приблизить свой образ жизни к ев¬
ропейскому образцу...
Вот мы и перешли к рифмованному стиху Кузмина. И
в нем, пожалуй, с еще большей очевидностью предстает
замечательное свойство его поэзии — ее особая естествен¬
ность и легкость. Никакой натуги, старательности —
счастливая свобода поэтической речи, черпающей свои
силы и свежесть в живой интонации разговорного языка.
Не друзей — приятелей зову я:
С ними лучше время проводить.
Что прошло, о том я не горюю.
А о будущем что ворожить?
Не разгул — опрятное веселье,
Гладкие, приятные слова,
Не томит от белых вин похмелье
И ясна пустая голова.
Со времен Пушкина не было в нашей поэзии такого
моцартовского, светлого, ясного звучания. За всеми на¬
стоящими стихами живет их музыкальный, точнее, ин¬
тонационный образ, который и выводит стихи в люди,—
с чем сравнить его в данном случае: с мелодией на флей¬
те, с легкой походкой, с состоянием молодого человека,
«влюбленного — не слишком, а слегка»?.. В лучших сти¬
хах Кузмина Моцартом поет каждая строка.
Многие современники Кузмина, в том числе такие
разные, как Хлебников и Ахматова, испытали на себе его
влияние. Кузмин вошел в кровь современного поэтичес¬
кого сознания и языка.
Поэзия Кузмина сегодня находится на пороге своего
большого признания. Такова судьба многих истинных по¬
этов, обогнавших свое время: их вспоминают, их извлека¬
ют из небытия через два-три поколения после смерти по¬
эта, удивляясь тому, где же он так долго пропадал? «Да вот
же я! И всегда был здесь,— отвечает он.— Наконец-то вы
подошли, расслышали удары. Форель разбивает лед».
1988
ИГОРЬ
СЕВЕРЯНИН
1887—1941
Игорь Васильевич Лотарев (Северянин — псевдоним) (1887—
1941) родился в Петербурге в семье офицера. По материнской
линии был потомком Карамзина и принадлежал тому же роду
Шеншиных, что и Фет. Кончил реальное училище.
Начал печататься в 1905 году, в 1908-м выпустил первый сбор¬
ник стихов «Зарницы мысли», где выступал в традициях «чистой
лирики», обнаруживая при этом феноменальную склонность к
словотворчеству и лирической иронии, которая впоследствии про¬
грессировала и обогащалась.
В 1911 году возглавил движение эгофутуристов, затем примк¬
нул к кубофутуристам, но вскоре разошелся и с ними. Сборник
Северянина «Громокипящий кубок», вышедший в 1913 году с
предисловием Ф. Сологуба (за два года книга выдержала семь
изданий), принес поэту грандиозную, не без оттенка скандальнос¬
ти славу. Следом были один за другим изданы сборники «Злато-
лира», «Ананасы в шампанском», «Victoria Regia», «Поэзоан-
тракт», которые закрепили за поэтом репутацию салонного певца
«красивостей», пренебрегающего какими бы то ни было условнос¬
тями. Огромным успехом пользовались авторские концерты Севе¬
рянина, на которых он нараспев читал свои вдохновенные «поэ-
зы». Поэт смело вводил в свой стих новые ритмы, каламбурные
неологизмы и открывал небывалые в русской словесности жанры
и формы: гирлянды триолетов, квадраты квадратов, миньонеты,
дизели и проч. Находя отсутствие у Северянина строгого вкуса и
глубоких знаний, В. Брюсов при этом отмечал, что «это — лирик,
тонко воспринимающий себя и весь мир... это — художник, кото¬
рому открылись тайны стиха...»
Весной 1918 года Северянин на вечере в Политехническом
музее был избран «королем поэтов». Северянинское эксперимен¬
таторство, сочная звукопись, игра словами и сложной рифмой раз¬
вивались параллельно с близкими явлениями в поэтике Маяков¬
ского.
Летом того же года Северянин, живший тогда в Эстонии, ока¬
зался отрезанным от родины. Там он выпустил ряд прозаических
и поэтических книг. В стихах этого времени главенствует горькая
ностальгическая нота. Умер Северянин в забвении и бедности.
Могила поэта — в Таллине.
Изд.: Северянин И. Стихотворения. Л., 1975 («Библиотека
поэта». Малая серия).
КОКТЕБЕЛЬ
Подходят ночи в сомбреро синих,
Созвездья взоров поют звезде,
Поют в пещерах, поют в пустынях,
Поют на море, поют везде.
Остынет отзвук дневного гуда,—
И вьюгу звуков вскрутит закат...
Подходят ночи — зачем? откуда? —
К моей избушке на горный скат.
Как много чувства в их взмахах теплых!
Как много тайны в их ласк волшбе!
Ведь ум — в извивах, все сердце —
в воплях...
Мечта поэта! Пою тебе...
1909
ЭТО БЫЛО У МОРЯ...
Поэма-минъонет
Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла — в башне замка — Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.
Было все очень просто, было все очень мило:
Королева просила перерезать гранат,
И дала половину, и пажа истомила,
И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.
509
А потом отдавалась, отдавалась грозово,
До восхода рабыней проспала госпожа...
Это было у моря, где волна бирюзова,
Где ажурная пена и соната пажа.
Февраль 1910
ВЕСЕННЯЯ ЯБЛОНЯ
Акварель
Перу И. И. Ясинского посвящаю
Весенней яблони, в нетающем снегу,
Без содрогания я видеть не могу:
Горбатой девушкой — прекрасной, но немой —
Трепещет дерево, туманя гений мой...
Как будто в зеркало, смотрясь в широкий плес,
Она старается смахнуть росинки слез
И ужасается, и стонет, как арба,
Вняв отражению зловещего горба.
Когда на озеро слетает сон стальной,
Бываю с яблоней, как с девушкой больной.
И, полный нежности и ласковой тоски,
Благоуханные целую лепестки.
Тогда доверчиво, не сдерживая слез,
Она касается слегка моих волос,
Потом берет меня в ветвистое кольцо,—
И я целую ей цветущее лицо.
1910
510
ИНТЕРМЕЦЦО
Сирень моей весны фимьямною лиловью
Изнежила кусты в каскетках набекрень.
Я утопал в траве, сзывая к изголовью
Весны моей сирень.
♦Весны моей сирень! — И голос мой был
звончат,
Как среброгорлый май.— Дыши в лицо
пьяней...»
О да! о, никогда любить меня не кончит
Сирень весны моей!
Моей весны сирень грузила в грезы разум,
Пила мои глаза, вплетала в брови сны,
И, мозг испепелив, офлерила экстазом
Сирень моей весны...
1910
ЯНВАРЬ
Январь, старик в державном сане,
Садится в ветровые сани,—
И устремляется олень,
Воздушней вальсовых касаний
И упоительней, чем лень.
Его разбег направлен к дебрям,
Где режет он дорогу вепрям,
Где глухо бродит пегий лось,
Где быть поэту довелось...
Чем выше кнут,— тем бег проворней,
Тем бег резвее; все узорней
Пушистых кружев серебро.
А сколько визга, сколько скрипа!
То дуб повалится, то липа —
Как обнаженное ребро.
Он любит, этот царь-гуляка,
би
С душой надменного поляка
Разгульно дикую езду...
Пусть душу грех влечет к продаже:
Всех разжигает старец; — даже
Небес полярную звезду!
1910
ТЫ КО МНЕ НЕ ВЕРНЕШЬСЯ...
Злате
Ты ко мне не вернешься даже ради Тамары,
Ради нашей дочурки, крошки вроде крола:
У тебя теперь дачи, за обедом — омары,
Ты теперь под защитой вороного крыла...
Ты ко мне не вернешься: на тебе теперь
бархат,
Он скрывает бескрылье утомленных плечей...
Ты ко мне не вернешься: предсказатель
на картах
Погасил за целковый вспышки поздних лучей!..
Ты ко мне не вернешься, даже... даже
проститься,
Но над гробом обидно ты намочишь платок...
Ты ко мне не вернешься в тихом платье
из ситца,
В платье радостно-жалком, как грошовый цветок.
Как цветок... Помнишь розы из кисейной
бумаги?
О живых ни полслова у могильной плиты!
Ты ко мне не вернешься: грезы больше
не маги,—
Я умру одиноким, понимаешь ли ты?!
1910
512
НА РЕКЕ ФОРЕЛЕВОЙ
На реке форелевой, в северной губернии,
В лодке, сизым вечером, уток не расстреливай:
Благостны осенние отблески вечерние
В северной губернии, на реке форелевой.
На реке форелевой в трепетной осиновке
Хорошо мечтается над крутыми веслами.
Вечереет, холодно. Зябко спят малиновки.
Скачет лодка скользкая камышами рослыми.
На отложье берега лен расцвел мимозами,
А форели шустрятся в речке грациозами.
Август 1911 '
ЯНТАРНАЯ ЭЛЕГИЯ
Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок.
А. Пушкин
Вы помните прелестный уголок —
Осенний парк в цвету янтарно-алом?
И мрамор урн, поставленных бокалом
На перекрестке палевых дорог?
Вы помните студеное стекло
Зеленых струй форелевой речонки?
Вы помните комичные опенки
Под кедрами, склонившими чело?
Вы помните над речкою шале,
Как я назвал трехкомнатную дачу,
Где плакал я от счастья, и заплачу
Еще не раз о ласке и тепле?
17 Серебряный век
613
Вы помните... О да! забыть нельзя
Того, что даже нечего и помнить...
Мне хочется Вас грезами исполнить
И попроситься робко к Вам в друзья...
1911
КЕНЗЕЛЬ*
В шумном платье муаровом, в шумном платье
муаровом
По аллее олуненной Вы проходите морево...
Ваше платье изысканно. Ваша тальма лазорева,
А дорожка песочная от листвы разузорена —
Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый.
Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная...
Упоенье любовное Вам судьбой предназначено...
В шумном платье муаровом, в шумнм платье
муаровом —
Вы такая эстетная. Вы такая изящная...
Но кого же в любовники! и найдется ли пара
Вам?
Ножки пледом закутайте дорогим, ягуаровым.
И, садясь комфортабельно в ландолете
бензиновом,
Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше
резиновом,
И закройте глаза ему Вашим платьем
жасминовым —
Шумным платьем муаровым, шумным платьем
муаровым!..
1911
* Стихотворение из трех пятистиший — форма, принятая во француз¬
ской поэзии.
614
КЛУБ ДАМ
Я в комфортабельной карете, на эллипсических
рессорах,
Люблю заехать в златополдень на чашку чая в
женоклуб,
Где вкусно сплетничают дамы о светских дрязгах
и о ссорах,
Где глупый вправе слыть не глупым, но умный
непременно глуп.
О фешенебельные темы! От вас тоска моя
развеется!
Трепещут губы иронично, как земляничное желе...
«Индейцы — точно ананасы, и ананасы — как
индейцы...» —
Острит креолка, вспоминая о экзотической земле.
Градоначальница зевает, облокотись на пианино,
И смотрит в окна, где истомно бредет хмелеющий
июль.
Вкруг золотеет паутина, как символ ленных
пленов сплина,
И я, сравнив себя со всеми, люблю клуб дам не
потому ль?
Июнь 1912
В ОЧАРОВАНЬЕ
Быть может оттого, что ты не молода,
Но как-то трогательно-больно моложава,
Быть может, оттого я так хочу всегда
С тобою вместе быть; когда, смеясь лукаво,
Раскроешь широко влекущие глаза
И бледное лицо подставишь под лобзанья,
Я чувствую, что ты вся — нега, вся — гроза,
Вся — молодость, вся — страсть; и чувства без
названья
Сжимают сердце мне пленительной тоской,
17*
516
И потерять тебя — боязнь моя безмерна...
И ты, меня поняв, в тревоге головой
Прекрасною своей вдруг поникаешь нервно,—
И вот другая ты: вся — осень, вся — покой...
Июнь 1912
МОРОЖЕНОЕ ИЗ СИРЕНИ
— Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо ль? не дорого —
можно без прений...
Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!
Я сливочного не имею, фисташковое все распродал...
Ах, граждане, да неужели вы требуете
крем-брюле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам
народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс
в вирелэ!
Сирень — сладострастья эмблема.
В лилово-изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый
и сладкий пушок...
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-богу,
похвалишь, дружок!
Сентябрь 1912
610
ДИССОНА
Георгию Иванову
В желтой гостиной, из серого клена, с обивкою
шелковой,
Ваше Сиятельство любит по вторникам томный
журфикс.
В дамской венгерке комичного цвета, коричнево¬
белковой,
Вы предлагаете тонкому обществу ирисный кэкс,
Нежно вдыхая сигары Эрцгерцога абрис фиалковый...
Ваше Сиятельство к тридцатилетнему — модному —
возрасту
Тело имеете универсальное... как барельеф...
Душу душистую, тщательно скрытую в шелковом
шелесте,
Очень удобную для проституток и для королев...
Впрочем, простите мне, Ваше Сиятельство, алые
шалости...
Вашим супругом, послом в Арлекинии, ярко
правительство:
Ум и талант дипломата суть высшие качества...
Но для меня, для безумца, его аристотельство,
Как и поэзы мои для него, лишь чудачество,
Самое ж лучшее в нем, это — Ваше Сиятельство!
1912
В БЛЁСТКОЙ ТЬМЕ
В смокингах, в шик опроборенные, великосветские
олухи
В княжьей гостиной наструнились, лица свои
оглупив.
Я улыбнулся натянуто, вспомнил сарказмно
о порохе:
Скуку взорвал неожиданно нео-поэзный мотив.
517
Каждая строчка — пощечина. Голос мой — сплошь
издевательство.
Рифмы слагаются в кукиши. Кажет язык ассонанс.
Я презираю вас пламенно, тусклые ваши
сиятельства,
И, презирая, рассчитываю на мировой резонанс!
Блесткая аудитория, блеском ты зло отуманена!
Скрыт от тебя, недостойная, будущего горизонт!
Тусклые ваши сиятельства! Во времена Северянина
Следует знать, что за Пушкиным были и Блок и
Бальмонт!
1913
УВЕРТЮРА
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо, остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то
испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!
Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!
Ветропросвист экспрессов! Крылолет буеров!
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!
Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!
В группе девушек нервных, в остром обществе
дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы — в Нагасаки! Из Нью-Йорка —
на Марс!
Январь 1915
518
КЛАССИЧЕСКИЕ РОЗЫ
Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
И. Мятлев. 1843 г.
В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!
Прошли лета, и всюду льются слезы...
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!
Но дни идут — уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!
1925
ЭПИЛОГ
1
Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!
От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покорил литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!
619
Я — год назад — сказал: «Я буду!»
Год отсверкал, и вот — я есть!
Среди друзей я зрил Иуду,
Но не его отверг, а — месть.
♦ Я одинок в своей задаче!» —
Прозренно я провозгласил.
Они пришли ко мне, кто зрячи,
И, дав восторг, не дали сил.
Нас стало четверо, но сила
Моя, единая, росла.
Она поддержки не просила
И не мужала от числа.
Она росла в своем единстве,
Самодержавна и горда,—
И, в чаровом самоубийстве,
Шатнулась в мой шатер орда...
От снегоскалого гипноза
Бежали двое в тлен болот;
У каждого в плече заноза,—
Зане болезнен беглых взлет.
Я их приветил: я умею
Приветить все,— божи, Привет!
Лети, голубка, смело к змею!
Змея, обвей орла в ответ!
2
Я выполнил свою задачу,
Литературу покорив.
Бросаю сильным на удачу
Завоевателя порыв.
Но, даровав толпе холопов
Значенье собственного «я»,
От пыли отряхаю обувь,
И вновь в простор — стезя моя.
620
Схожу насмешливо с престола
И, ныне светлый пилигрим,
Презрев ошеломленный Рим.
Я изнемог от льстивой свиты,
И по природе я взалкал.
Мечты с цветами перевиты,
Росой накаплен мой бокал.
Мой мозг прояснили дурманы,
Душа влечется в примитив.
Я вижу росные туманы!
Я слышу липовый мотив!
Не ученик и не учитель,
Великих друг, ничтожных блат,
Иду туда, где вдохновитель
Моих исканий — говор хат.
До долгой встречи! В беззаконце
Веротерпимость хороша.
В ненастный день взойдет, как солнце,
Моя вселенская душа!
Октябрь 1912
ДЕНЬ НА ФЕРМЕ
Из лепестков цветущих розово-белых яблонь
Чай подала на подносе девочка весен восьми.
Шли на посев крестьяне. Бегало солнце по
граблям
Псу указав на галку, баба сказала:*Возьми!»
Было кругом раздольно! было повсюду майно!
Как золотела зелень! Воздух лазурно-крылат!
Бросилась я с плотины — как-то совсем случайно,
Будто была нагая, вниз головой, в водопад!
521
И, потеряв сознанье от высоты паденья,
Я через миг очнулась и забурлила на мыс...
Я утопляла солнце! Плавала целый день я!
А на росе, на ферме, жадно пила я кумыс.
1912
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Николай Гумилев.
ИЗ ПИСЕМ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Еще в 1911 г. вышел небольшой сборник стихов и про¬
зы, ♦Садок судей». С момента появления этой книжечки
ведет свое летоисчисление русский футуризм, точнее —
московская, еще точнее — кубо-футуристическая его фрак¬
ция. Движение, известное под именем эго-футуризма, воз¬
никло несколько позднее, в Петербурге. Там Игорем Севе¬
ряниным была основана академия эго-футуризма, впослед¬
ствии им же ♦ распущенная». Выйдя из нее, Игорь Се¬
верянин отставил от себя академию, с его уходом распав¬
шуюся. С другой стороны, обе фракции футуристов, пер¬
воначально враждовавшие между собой, ныне объединя¬
ются в новом литературном органе, которому предстоит
стать ♦официозом российского футуризма».
Эстетические и иные верования обеих футуристических
фракций общеизвестны. Общеизвестно и то, что настоя¬
щая родина футуристов — Италия. Ни московский, ни пе¬
тербургский футуризм в наиболее существенных чертах
своих не могут претендовать ни на оригинальность, ни на
новизну. Проповедь крайнего индивидуализма, некогда
лежавшая в основе петербургского эго-футуризма, стара,
как индивидуализм. ♦Непреодолимая ненависть» к сущес¬
твующему языку, чем преимущественно отличаются мос¬
квичи от петербуржцев,— кроме того, что выводит их
поэзию за пределы критики,— также не нова: она целиком
заимствована у футуристов западных.
Поэтов с дарованием значительным нет среди москви¬
чей-футуристов. Недурные строчки встречаются у В. Хлеб¬
никова, В. Маяковского, Д. Бурлюка. Прочие или недо¬
ступны человеческому пониманию, ибо пишут исключи-
623
тельно на языке «дыр-был-шур», или бесконечно повто¬
ряют друг друга.
Эго-футуристы в большинстве недурно пишут стихи,
но, к сожалению, почти не выходят за пределы подража¬
ния бывшему ректору своей академии — Игорю Северя¬
нину, о котором должно говорить подробнее*.
Игорю Северянину довелось уже вынести немало напа¬
док именно за то, что если и наиболее разительно, то все
же наименее важно в его стихах: за язык, за расширение
обычного словаря. То, что считается заслугой поэтов при¬
знанных, всегда вменяется в вину начинающим. Таковы
традиции критики. Правда, в языке И. Северянина мно¬
го новых слов, но приемы словообразования у него не
новы. Такие слова, как «офиалчен», «окалошить», «онез-
дешниться», суть обычные глагольные формы, образо¬
ванные от существительных и прилагательных. Их
сколько угодно в обычной речи. Если говорят «осе¬
нять»— то почему не говорить «окалошить»? Если
«обессилеть» — то отчего не «онездешниться»? Жуковс¬
кий в «Войне мышей и лягушек» сказал: «и надолго наш
край был обезмышен». Слово «ручьиться» заимствовано
Северяниным у Державина. Совершенно «футуристичес¬
кий» глагол «перекочкать» употреблен Языковым в пос¬
лании к Гоголю.
Так же не ново соединение прилагательного с сущес¬
твительным в одно слово. И. Северянин говорит: «алогу-
бы», «златополдень». Но такие слова, как «босоножка»
и «Малороссия», произносим мы каждый день. Несколь¬
ко более резким кажется соединение в одно слово сказу¬
емого с дополнением: напр., «сенокосить». Но возму¬
щаться им могут лишь те, кто дал зарок никогда не го¬
ворить: «рукопожатие», «естествоиспытание».
Спорить о праве поэта на такие вольности не прихо¬
дится. Важно лишь то, чтобы они были удачны. Игорь
Северянин умеет благодаря им достигать значительной
выразительности. «Трижды овесеенный ребенок», «звон¬
ко, душа, освирелься», «цилиндры солнцевеют» —все
это хорошо найдено.
Неологизмы И. Северянина позволяют ему с замеча¬
тельной остротой выразить главное содержание его поэ¬
зии: чувство современности. Помимо того, что они часто
передают понятия совершенно новые по существу,— сам
* Игорь Северянин. Громокипящий кубок. Поэзы. Предисловие Федо¬
ра Сологуба. К-во «Гриф». М., 1913. Ц. 1 р.
524
этот поток непривычных слов и оборотов создает для
читателя неожиданную иллюзию: ему кажется, что акт
поэтического творчества совершается непосредственно в
его присутствии. Но здесь же таится опасность: стихи
Северянина рискуют устареть слишком быстро — в тот
день, когда его неологизмы перестанут быть таковыми.
Многое в Игоре Северянине — от дурной современнос¬
ти, той самой, в которой культура олицетворена в бипла¬
не, добродетель заменена приличием, а красота — феше¬
небельностью.
Пошловатая элегантность врывается в поэзию Северя¬
нина, как шум улицы в раскрытое окно. «О, когда бы на
♦ Блерио» поместилась кушетка!» —мечтает «тоскующая,
нарумяненная Нелли», а сам поэт задается вопросами в
таком роде:
Удастся ль душу дамы восторженно омолнить
Курортному оркестру из мелодичных цитр?
Другой точно такой же даме он предлагает:
Ножки пледом закутайте дорогим, ягуаровым,
И садясь комфортабельно в ландолете бензиновом,
Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом
И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым —
Шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым!..
Хоть и не без умиления наглядевшись на все эти
♦ изыски», поэт все же принуждает сознаться: «гнила
культура, как рокфор». Ее должно запить вином:
Шампанского в лилию! Шампанского в лилию!
Ее целомудрием святеет оно!..
Не так ли божественным целомудрием поэтической
души святеет повседневная жизнь, ее изысканный, но
гниющий рокфор, «подленький сыр»? Для души, «обож¬
женной восторгом глотка», святеет весь мир. Вот стихи,
посвященные некоей «Мисс Лиль»:
Котик милый, деточка! встань скорей на цыпочки,
Алогубы-цветики жарко протяни...
В грязной репутации хорошенько выпачкай
Имя светозарное гения в тени!..
625
Ласковая девонька! крошечная грешница!
Ты еще пикантнее от людских помой!
Верю: ты измучилась... Надо онездешниться,
Надо быть улыбчатой, тихой и немой.
Все мои товарищи (как зовешь нечаянно
Ты моих поклонников и незлых врагов...)
Как-то усмехаются и глядят отчаянно
На ночную бабочку выше облаков.
Разве верят скептики, что ночную бабочку
Любит сострадательно молодой орел!..
Честная бесчестница! белая арабочка!
Брызгай грязью чистою в славный ореол!..
Эти слова — прекраснейшее оправдание всей поэзии
Игоря Северянина. Ими он связывает себя с величайши¬
ми заветами русской литературы, являясь в ней не отще¬
пенцем, а лишь новатором.
Талант его как художника значителен и бесспорен.
Если порой изменяет ему чувство меры, если в стихах его
встречаются безвкусицы, то все это искупается неизмен¬
ною музыкальностью напева, образностью речи и всем
тем, что делает его не похожим ни на кого из других
поэтов. Он, наконец, достаточно молод, чтобы избавиться
от недостатков и явиться в том блеске, на какой дает
право его дарование. Игорь Северянин — поэт Божией
милостью.
Нужно только желать, чтобы как можно скорее разуве¬
рился он в пошловатых «изысках» современности и глуб¬
же всмотрелся в то, ч* о в ней действительно ценно и мно¬
гозначительно. Автомобили и аэропланы столь же сущес¬
твенны для нашего века, как фижмы и парики — для века
XVHI. Но XVHI век только в глазах кондитеров есть век
париков и фижм. Для поэтов он — век революции.
1914
Всеволод Рождественский
ИЗ СТАТЬИ «ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН»
Печататься он начал еще с 1905 года в провинциаль¬
ных газетах, выпускал за свой счет тоненькие брошюр¬
ки, ничем не привлекавшие внимания. Лишь немногие
стихотворения той поры включил он впоследствии в свою
626
первую книгу, изданную в столице,— «Громокипящий
кубок» (1913), сразу же принесшую ему шумную, скан¬
дального характера славу. Автор сам заботился об этой
славе, настойчиво раздувая ее саморекламными публич¬
ными выступлениями. С не лишенным артистизма темпе¬
раментом преподносил он себя публике, создавая образ
смелого и даже дерзкого обновителя обычной поэтичес¬
кой речи, поэта воинствующего гедонизма и, как каза¬
лось ему, подлинного новатора, зачинателя особого и
стилистического и тематического направления в совре¬
менной ему поэзии. В упоении, в пафосе самоутвержде¬
ния поэт ставил себя в исключительное положение и
высокомерно заявлял в «Прологе»:
Я прогремел на всю Россию,
Как оскандаленный герой!..
Литературного мессию
Во мне приветствуют порой.
Порой бранят меня площадно,
Из-за меня везде содом!
Я издеваюсь беспощадно
Над скудомысленным судом!..
А в следующем году продолжал в том же духе:
Вокруг талантливые трусы
И обнаглевшая бездарь...
(«Прощальная поэза» )
Это уже звучало как скандальный вызов всем обще¬
принятым приличиям. Немало было здесь и от авторской
саморекламы. И стихи поэта, и принятая им надменная
поза сразу же породили бесчисленное количество газет¬
ных и журнальных откликов, критических и полемичес¬
ких статей в современной печати. Они были продиктова¬
ны и наивным недоумением, и попытками разобраться в
новаторстве северянинского стиля, и неумеренными вос¬
торгами, и ядовитыми насмешками. Необычайно пестрая
панорама самых противоречивых суждений! Кто отрицал
начисто (А. Амфитеатров), кто изощрялся в фельетонном
остроумии (А. Измайлов), кто восхищался смелостью
словотворчества (С. Бобров), а кто предавался сожалени¬
ям о том, что поэт, несомненно одаренный и своеобраз¬
ный, засоряет русский язык не всегда уместными, а по¬
рою просто никчемными словесными изобретениями. По
527
существу только Валерий Брюсов в своей статье, поме¬
ченной июнем 1915 года, попытался более объективно
разобраться в поэтике Игоря Северянина на материале
первых трех сборников: ♦ Громкокипящий кубок», ♦ Зла-
толира» и ♦Victoria Regia»...
Игорь Северянин искренне считал себя новатором сти¬
хотворного языка, имея в виду вводимые им неологизмы,
которые он изобретал почти на каждом шагу. И при этом,
очевидно, не подозревал, что задолго до него, еще в XIX
веке, было немало примеров словесного изобретательст¬
ва. У Н. М. Языкова есть слово ♦чужеземие», у Е. А. Ба¬
ратынского ♦ староверец», у В. Г. Бенедиктова ♦власте-
линка», iOKaT», «утишьте», ♦присяжник», ♦громогла¬
гольный» — и, вероятно, еще не один десяток подобных
новых словообразований. Если оставить в стороне В. Бе¬
недиктова, особо пристрастного к намеренному словот¬
ворчеству, эти новшества нигде не кажутся нарочитыми
и всегда вызваны к жизни потребностью передать тот
или иной оттенок образного мышления там, где не нахо¬
дится привычного слова.
Однако сами ♦новшества» его стиля разгадываются без
особого труда. Как поэт ясно выраженного эмоционального
строя, он особенно легко чувствует себя в сфере непрерыв¬
ного движения, лирической взволнованности и потому из
всех частей речи отдает явное предпочтение глаголу. С
глаголом и происходят в основном лексические метамор¬
фозы. Внешне это выражается в том, что, широко исполь¬
зуя приставку ♦о», поэт создает все новые и новые смыс¬
ловые единицы, придавая существительному чисто гла¬
гольное обличие. Отсюда и неологизмы (по типу: колпак —
околпачить): окалошитъ, овагонить, осупружиться, оза-
мужниться, олазоритъ, окудеситъ, огимнитъ, оперлитъ,
оцариться, оэкранить, отронить.
Несколько реже существительное превращается в гла¬
гол и иными способами: взорлить, пристулитъ, бессмер-
тить, драприть, центритъ и т. д.
Таким же незамысловатым способом стало возможно
создавать и прилагательные-эпитеты: безлистная (книга),
бестронный (король), беспоповъя (свадьба), софный (бар¬
хат). С не меньшей легкостью фабриковались и состав¬
ные прилагательные. Примеры: золотогрезный (виног¬
рад), росистощебетный (сад), лилиебатистовая (блуз¬
ка), березозебренное (шале), злофейный (креп) и т. д.
К этому нужно добавить, что основным стимулом по¬
добных лингвистических опытов было у автора и настой-
528
чивое стремление привлечь внимание публики к своему
творчеству как к чему-то совершенно необычному. Отсю¬
да и его пристрастие к броским словам и деталям, ко
всему пряному, цветистому, отмеченному чрезмерной
«красивостью». И, разумеется, особая забота о звонкой и
небанальной рифмовке.
В поисках словесной оригинальности Игорь Северя¬
нин с увлечением предается и изобретению новых сущес¬
твительных: безгрезье, чернобровье, равнокровье, уг-
розье, цветочье, отстраданье, лиловь, весень, светозарь,
чарунья, всемирница, замужница, гениалец, лесофея,
озерзамок, лунополь, ветропросвист, крылолет и т. д...
1978
Адольф Урбан
ИЗ КНИГИ «ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА —
ОБРАЗ ВРЕМЕНИ»
Об Игоре Северянине знают, что он написал «Ананасы
в шампанском», что ему принадлежат слова «я, гений
Игорь Северянин», что он имел небывалый эстрадный
успех и на выборах «короля поэтов» победил даже Мая¬
ковского. Салонный лев, стихотворец дурного вкуса, са¬
модовольный гордец, мнивший себя гением,— таковы
ходячие суждения об Игоре Северянине. И они не безос¬
новательны. О стихах Игоря Северянина можно сказать
много горьких и даже возмущенных слов.
Однако в его поэзии есть и другая сторона.
Валерий Брюсов в статье «Игорь Северянин», указав
и на «мучительную пошлость», и на «отсутствие знаний»,
и на «неумение мыслить», вместе с тем писал: «Это —
лирик, тонко воспринимающий природу и весь мир и
умеющий несколькими характерными чертами заставить
видеть то, что он рисует. Это — истинный поэт, глубоко
переживающий жизнь и своими ритмами заставляющий
читателя страдать и радоваться вместе с собой. Это —
ироник, остро подмечающий вокруг себя смешное и ни¬
зкое и клеймящий это в меткой сатире. Это — художник,
которому открылись тайны стиха и который сознательно
стремится усовершенствовать свой инструмент...»
529
Первой книгой Игоря Северянина был увлечен Алек¬
сандр Блок.
Федор Сологуб, мэтр символизма, человек сухой и
язвительный, в предисловии к «Громкокипящему куб¬
ку» Игоря Северянина, однако, писал: «Появление поэта
радует, и когда возникает новый поэт, душа бывает
взволнована, как взволнована бывает она приходом вес¬
ны...
Люблю стихи Игоря Северянина...
Я люблю их за их легкое, улыбчивое, вдохновенное
происхождение ».
К. И. Чуковский вспоминает: «Несмотря... на свое
неуважение к парфюмерной тематике Игоря Северянина,
я высоко ценил его неотразимо лиричную песенность и
восхищался звуковой выразительностью многих его —
пусть и фатоватых — «поэз»».
Неоднолинейно и отношение Маяковского к Игорю
Северянину. Маяковский издевался над северянинским
«чириканьем», сравнивая его сборники с прейскурантом
ликеров. Но он хорошо знал стихи Игоря Северянина, не
сомневался в его талантливости. Когда Игорь Северянин
оказался в эмиграции, Маяковский старался помочь ему
вернуться на родину. Л. Никулин вспоминает слова Мая¬
ковского: «Поговорил с ним, с Северяниным, захотелось
взять его в охапку, проветрить мозги и привезти к нам.
Уверяю вас, он мог бы писать хорошие, полезные вещи».
А. Н. Толстой обращался к Игорю Северянину: «Ты,
Игорь, поэт божьей милостью... Ты талант самобытный.
Не верь парижским брехунам. Ты не забыт. Твое место в
Москве...»
И может быть, самое примечательное — строчки из
письма А. М. Коллонтай: «Мыс Вами, Игорь, очень, очень
разные сейчас. Подход к истории — у нас — иной, проти¬
воположный, в мировоззрении нет созвучия у нас. Но в
восприятии жизни — есть много общего. В Вас, в Вашем
отношении к любви, к переживаниям, в этом стремлении
жадно пить кубок жизни, в этом умении слышать природу
я узнавала много своего. И неожиданно, Вы — человек
другого мира. Вы мне стали совсем «не чужой»...»
Даже непримиримо расходясь с Игорем Северяниным,
В. Маяковский, А. Толстой, А. Коллонтай отдавали себе
отчет в его талантливости, не считая безнадежно потерян¬
ным, стремились всячески привлечь на свою сторону. Они
хорошо понимали, что была в книгах Игоря Северянина не
одна только поза, но и искреннее чувство, не одно фразер-
530
ство, но и острая поэтическая наблюдательность. Все это
давало повод для разных оценок — от категорически отри¬
цательных до увлеченных и взволнованных. Игорь Северя¬
нин трогал сердца не одних гимназисток.
Его головокружительный успех настолько запал в
память, что и сейчас, десятилетия спустя, люди, даже не
знающие стихов Игоря Северянина, знают нарицатель¬
ное слово «северянинщина» — знак душевого успеха,
гимназического обожания кумира, самодовольства. Сло¬
во вошло в язык. Им порой определяют поведение и
характер популярности даже некоторых наших совре¬
менников. Как бы то ни было, употребляется оно для
сугубо отрицательной оценки, означает предельную сте¬
пень заразительной пошлости.
Вот только не всякая пошлость заразительна. Сколько
отменных пошляков хотело стать Игорями Северянины¬
ми, «повсесердно» утвердиться, но лишь его имя приоб¬
рело широкую, хотя и очень сомнительную славу.
Моя двусмысленная слава
И недвусмысленный талант,—
писал о себе Игорь Северянин.
В том-то и дело, что он был ярко талантлив. Был он
еще хоть и поверхностно, но обостренно современен.
Увлечение столь разных писателей и поэтов стихами
Игоря Северянина объясняется и этим их свойством. Оно
сулило им долговечность.
Брюсов, указывая на «безвкусие», «самомнение, весь¬
ма близко подходящее... к мании величия», был тем не
менее уверен, что потомкам придется серьезно разбирать¬
ся в его поэзии: «Позднее беспристрастная история лите¬
ратуры укажет Игорю Северянину его место в родной
словесности...»
Но Игорь Северянин так и остался «без места». Не до¬
ждались его стихи и беспристрастия. Отдельные публика¬
ции, появлявшиеся в недавние годы, неизменно вызывали
строгие реплики. Попытки вспомнить о нем сопровожда¬
лись не менее вескими призывами забыть. В. Рождествен¬
ский, написавший вступительную статью к тому стихотво¬
рений Игоря Северянина, тоже был строгим.
Отдавая должное дарованию Игоря Северянина, он, в
сущности, сосредоточивается на «северянинщине», на по¬
верхностном и наивном «новаторстве», которое снискало
ему успех у невзыскательного читателя. На вычурных
631
северянинских неологизмах — всех этих «лесофеях»,
«диссонах», «эксцессерках», «грезерках», «демимонден-
ках», «фиолях», «олунениях», «чаруйностях», «грезо-
фарсах»,— на фальшивой «утонченности» и «аристокра¬
тизме», жеманной красивости выражений, нескромной
«смелости»...
Надо ли обо всем этом сейчас вспоминать? Неужели до
сих пор так и не наступила для Игоря Северянина пора
спокойной беспристрастной оценки? Где же тот, другой
Игорь Северянин, который безусловно талантлив? Тот,
который заставил обратить на себя внимание видных
современников и должен был передать самоценное на¬
следство потомкам?..
В том-то и дело, что нет и никогда не было двух Иго¬
рей Северяниных, одного — талантливого, другого —
пошлого. Он и талантлив, и пошл одновременно. Все
лучшие северянинские строфы, строчки, образы берутся
из стихотворений, служивших поводом для самых смеш¬
ных и злых пародий. Включая в том избранного лучшее,
мы неизбежно включим и худшее. Если же задаться
целью представить Игоря Северянина без пошлости,
можно было б набрать не слишком большой сборничек
безликих описательных стихотворений, в которых нет
ничего северянинского...
В одном строю с вычурными неологизмами были у него
и такие, как «сонь», «лунь», «смуть» —тут рядом С. Есе¬
нин. Бывали «дамьи», «беснованья», «взорлил» — послед¬
ний позже буквально повторил В. Маяковский. Насыщен¬
ная северянинская звукопись, сложная рифма тоже разви¬
вались в духе исканий русской поэзии начала века.
Теперь повсюду дирижабли
Летят, пропеллером ворча,
И ассонансы, точно сабли,
Рубнули рифму сгоряча!
Мы живы острым и мгновенным,—
Наш избалованный каприз:
Быть ледяным, но вдохновенным,
И что ни слово — то сюрприз.
Примечательно не только упоминание об ассонансе.
Обратите внимание на лексику. «Дирижабли», «пропел¬
лер», в других стихотворениях —»синематограф», «шос¬
сейный», «электрический», «шоффер», «шины», «мото-
532
циклет», «мотор» (в значении — автомобиль), «блерио»,
«крылолет буеров», «электрические рессоры», «ас¬
фальт», «аэроплан», «авиатор», «моторное ландо», «эк¬
спресс», «кэпи», «берэт»... Слова, будто кадры немого
кино. Стих Игоря Северянина был чувствителен к внеш¬
ней новизне, к моде, к сенсации. Это была часть его
поэтики, осознанный и, как он писал,
...явный вызов
Условностям — в моих стихах.
И ряд изысканных сюрпризов
В капризничающих словах.
Сюрпризы и капризы он обожал. В стихах готовил
пряные смеси: «Бранили за смешенье стилей, хотя в
смешенье-то и стиль!» И он отважно смешивал, обраща¬
ясь не только к гостиным, но и к площадям: «Ведь кто
живописует площадь, тот пишет кистью площадной».
Однако прочных привязанностей у него не было, кро¬
ме желания производить впечатление, нравиться. Он
действительно жил «острым и мгновенным». Острота эта
порой была эффектна и по-своему поэтична.
Сегодня ветер, беспокоясь,
Взрывается, как динамит,
И море, как товарный поезд.
Идущий тяжело, шумит.
Это было ново и точно — сравнение волнующегося
моря с тяжело идущим товарным поездом. Так пишут
еще и сегодня...
Надо заметить, что Игорь Северянин не был просто
собирателем новых слов и понятий, насильственно втис¬
киваемых в стих. Они даны в красивых, картинных со¬
четаниях, употребляя северянинское слово —»эстетны».
Во всяком случае, современный ему читатель не чувство¬
вал в их применении принуждения или фальши. Игорь
Северянин обладал для этого достаточным поэтическим
темпераментом.
Да, талант у Игоря Северянина был. Был молодой
задор и смелость. Было чувство природы, слегка жеман¬
ное и с изыском, но искреннее и неизменное. С годами
оно становилось проще и глубже.
И все же итог оказался невеселым. Место в «родной
словесности» победоносного покорителя сердец («Я про-
533
гремел на всю Россию») — очень и очень скромным. Мода
быстро изменилась, «самое время исчезло». То, что воспри¬
нималось как пряная приправа, избыточность, проститель¬
ная шалость любимца,— стало выглядеть смешным и не¬
лепым. Потребовалось содержание. А оно было скудным.
Я непосредственно сумею
Познать неясное земле...
Я в небесах надменно рею
На самодельном корабле!
Влекусь рекой, цвету сиренью,
Пылаю солнцем, льюсь луной,
Мечусь костром, беззвучу тенью
И вею бабочкой цветной.
«Гениальные» претензии не подтвердились. Вдохновен¬
но импровизированная поэтическая цельность начала на
глазах распадаться. У нее не оказалось смыслового центра.
Большинство модных северянинских неологизмов со вре¬
менем стало такой же архаикой, как открытка с целующи¬
мися голубочками. Выловленная еще В. Брюсовым гене¬
ральная мысль Игоря Северянина «живи, живое!», на раз¬
ные лады повторяемая, была слишком уж односложна...
Игорь Северянин, увидевший мировую войну, пережив¬
ший свой успех, пережил и разочарование в эгофутуризме.
Его единение с естественной жизнью, с природой искрен¬
но, но в то же время и неглубоко. Есть в нем нечто от
дачных восторгов и восклицаний, не лишенных, впрочем,
пафоса:
Благословенна грешная земля,
В своих мечтах живущая священно!
Благословенны хлебные поля,
И Человечество благословенно!
Игорь Северянин постепенно становится другим. Еще
по инерции произносятся самоуверенные заявления о со¬
бственной гениальности, а в душе — растерянность, недо¬
вольство собой, чувство заброшенности и одиночества.
Такой и сегодня является перед нами поэзия Игоря
Северянина. После отшумевшей моды осталось лишь
неуловимое «что-то» — ощущение таланта, так и не реа¬
лизовавшего свои возможности, таланта, плывшего по
течению легкого успеха...
1979
634
ВЯЧЕСЛАВ
ИВАНОВ
1866—1949
Вячеслав Иванович Иванов (1866—1949) — поэт, философ, пе¬
реводчик. Отец его был мелким чиновником. Иванов рано осиротел
и был воспитан матерью, вдохнувшей в него глубокую и страстную
веру в Бога. С ранних лет будущий поэт обнаружил феноменаль¬
ную склонность к академическим штудиям, сочетавшуюся с рево¬
люционными настроениями. В 1884 году поступает на историко-
филологический факультет Московского университета.
По окончании второго курса Вяч. Иванов оставляет универси¬
тетское занятие и уезжает за границу, где продолжает углублен¬
ную учебу в сфере истории и философии. Все мемуаристы отмеча¬
ют невероятную эрудицию Иванова и строгую структурирован¬
ность его гуманитарных знаний.
В 1883 году Вяч. Иванов встречает Л. Зиновьеву (в литерату¬
ре — Зиновьева-Аннибал), ради которой оставляет первую жену и
дочь. Их союз послужил мощным творческим импульсом для
Иванова-художника: он писал, что благодаря этой встрече в нем
«впервые раскрылся и осознал себя вольно и уверенно поэт».
Свою первую поэтическую книгу «Кормчие звезды» Иванов
вынашивал и выстраивал долго, напряженно, трудно; она вышла
в СПб в 1903 году и была благосклонно встречена критикой.
С осени 1905 года петербурский дом Иванова, фигурирующий
как «башня» (квартира на Таврической улице находилась на пос¬
леднем этаже в угловой башне), становится ярчайшим литератур¬
ным салоном, куда артистическая петербургская интеллигенция
собиралась на ивановские «среды». В «башне» формировались и
дискутировались идеи символизма^ в «башне» же произошло от¬
деление и вычленение акмеизма от символизма. Так или иначе,
Иванов оказывает огромное влияние на'литературную молодежь
того времени.
Поэзию Вяч. Иванова определило увлечение идеями Вл. Со¬
ловьева, мистически-религиозный культ красоты и ницшеанство.
Символизм был для него не литературной школой, а живым ми¬
ровоззрением и основой человеческого единения в духе. Поэзия
Иванова представляется усложненной исповедью религиозного
сознания, язык его стихотворений архаичен и высокопарен. Иде¬
алом «соборного единства» Иванов считал христианство, предте¬
чей которого была, в его трактовке, греческая религия Диониса;
дионисийству поэт и философ посвятил всю свою внутреннюю
жизнь.
В 1917—1924 гг. ведет научную и культурно-просветитель¬
скую деятельность, некоторое время живет в Баку, являясь рек¬
тором бакинского университета. В 1924 году уезжает в Италию,
где принимает католичество, преподает, продолжает писать сти¬
хи, исследует творчество Достоевского.
Вячеслав Иванов умер в Риме после Второй мировой войны,
незадолго до смерти подготовив книгу избранных стихотворений
«Свет вечерний».
Изд.: Иванов Вяч. Собрание сочинений в 6-ти томах. Брюссель,
1971—1987. Стихотворения и поэмы. Л., 1976 («Библиотека поэ¬
та», Малая серия).
ДУХ
L’Amor che muove il Sole e l’altre stelle
Dante. Parad., XXIII*
Над бездной ночи Дух, горя,
Миры водил Любви кормилом;
Мой дух, ширяясь и паря,
Летал во стретенье светилам.
И бездне — бездной отвечал;
И твердь держал безбрежным лоном;
И разгорался, и звучал
С огнеоружным легионом.
Любовь, как атом огневой,
Его в пожар миров метнула;
В нем на себя Она взглянула —
И в Ней узнал он пламень свой.
<1902>
АЛЬПИЙСКИЙ РОГ
Средь гор глухих я встретил пастуха,
Трубившего в альпийский длинный рог.
Приятно песнь его лилась; но, зычный,
Был лишь орудьем рог, дабы в горах
Пленительное эхо пробуждать.
* «Любовь, что движет Солнце и светила» — Данте. <Божественная
комедия>. Рай, XXII
637
И всякий раз, когда пережидал
Его пастух, извлекши мало звуков,
Оно носилось меж теснин таким
Неизреченно-сладостным созвучьем,
Что мнилося: незримый духов хор,
На неземных орудьях, переводит
Наречием небес язык земли.
И думал я: «О гений! как сей рог,
Петь песнь земли ты должен, чтоб в сердцах
Будить иную песнь. Блажен, кто слышит».
И из-за гор звучал отзывный глас:
«Природа — символ, как сей рог. Она
Звучит для отзвука; и отзвук — Бог.
Блажен, кто слышит песнь и слышит отзвук.
<1902>
ЛЮБОВЬ
Мы — два грозой зажженные ствола,
Два пламени полуночного бора;
Мы — два в ночи летящих метеора,
Одной судьбы двужалая стрела!
Мы — два коня, чьи держит удила
Одна рука,— одна язвит их шпора;
Два ока мы единственного взора,
Мечты одной два трепетных крыла.
Мы — двух теней скорбящая чета
Над мрамором божественного гроба,
Где древняя почиет Красота.
Единых тайн двугласные уста,
Себе самим мы — Сфинкс единый оба.
Мы — две руки единого креста.
638
КОЧЕВНИКИ КРАСОТЫ
Кочевники Красоты — вы, художники
«Пламенники»
Вам — пращуров деревья
И кладбищ теснота!
Нам вольные кочевья
Судила Красота.
Вседневная измена,
Вседневный новый стан:
Безвыходного плена
Блуждающий обман.
О, верьте далей чуду
И сказке всех завес,
Всех весен изумруду,
Всей широте небес!
Художники, пасите
Грез ваших табуны;
Минуя, всколосите —
И киньте — целины!
И с вашего раздолья
Низриньтесь вихрем орд
На нивы подневолья,
Где раб упрягом горд.
Топчи их рай, Аттила,—
И новью пустоты
Взойдут твои светила,
Твоих степей цветы!
<1904>
слоки
1
Кто скажет: «Здесь огонь» —о пепле хладном
Иль о древах сырых, сложенных в кладу?
Горит огонь; и, движась, движет сила;
И волит воля; и где воля — действо.
639
Познай себя, кто говорит: «Я— сущий»;
Познай себя — и нарекись: ♦Деянье».
Нет Человека; бытие — в покое;
И кто сказал: «Я есмь»,— покой отринул.
Познай себя. Свершается свершитель,
И делается делатель. Ты — будешь.
«Жрец» нарекись, и знаменуйся: «Жертва».
Се, действо — жертва. Все горит. Безмолвствуй.
2
Познай Рожденья таинство. Движенье
Родит движенье: что родить Покою?
Тому, что — круг, исхода нет из круга.
Алчба — зачатье; и чревато — Действо.
Познай себя, от Действия рожденный!
Огнем огонь зачат. Умрет зачавший.
Жрец отчий — ты, о жертва жертвы отчей!
Се, жертва — Семя. Все горит. Безмолвствуй.
3
И тайного познай из действий силу:
Меч жреческий — Любовь; Любовь — убийство.
«Отколе жертва?» — ТЫ и Я — отколе?
Все — жрец, и жертва. Все горит. Безмолвствуй.
<1904>
ДОЛИНА — ХРАМ
Звезда зажглась над сизой пеленой
Вечерних гор. Стран утренних вершины
Встают, в снегах, убелены луной.
Колокола поют на дне долины.
Отгулы полногласны. Мглой дыша,
Тускнеет луг. Священный сумрак веет.
И дольняя звучащая душа,
И тишина высот — благоговеет.
<1904>
640
В ЛЕПОТУ ОБЛЕЧЕСЯ
М. М. Замятниной
Как изваянная, висит во сне
С плодами ветвь в саду моем — так низко...
Деревья спят — и грезят? — при луне;
И таинство их жизни — близко, близко...
Пускай недостижимо нам оно,—
Его язык немотный все ж понятен:
Им нашей красотой сказать дано,
Что мы — одно, в кругу лучей и пятен.
И всякой жизни творческая дрожь
В прекрасном обличается обличье;
И мило нам раздельного различье
Общеньем красоты. Ее примножь! —
И будет мир, как этот сад застылый,
Где внемлет все согласной тишине:
И стебль, и цвет Земле послушны милой;
И цвет, и стебль прислушались к Луне.
<1904> ’
НИЩ И СВЕТЕЛ
Млея в сумеречной лени, бледный день
Миру томный свет оставил, отнял тень.
И зачем-то загорались огоньки;
И текли куда-то искорки реки.
И текли навстречу люди мне, текли...
Я вблизи тебя искал, ловил вдали.
Вспоминал: ты в околдованном саду...
Но твой облик был со мной, в моем бреду.
641
Но твой голос мне звенел,— манил, звеня...
Люди встречные глядели на меня.
И не знал я: потерял иль раздарил?
Словно клад свой в мире светлом растворил,—
Растворил свою жемчужину любви...
На меня посмейтесь, дальние мои!
Нищ и светел, прохожу я и пою,—
Отдаю вам светлость щедрую мою.
Осень 1906
УЛОВ
Обнищало листье златое.
Просквозило в сенях осенних
Ясной синью тихое небо.
Стала тонкоствольная роща
Иссеченной церковью из камня;
Дым повис меж белыми столпами;
Над дверьми сквозных узорочий
Завесы — что рыбарей Господних
Неводы, раз дранные ловом,—
Что твои священные лохмотья
У преддверий белого храма,
Золотая, нищая песня!
Сентябрь 1907
СФИНКСЫ НАД НЕВОЙ
Волшба ли ночи белой приманила
Вас маревом в полон полярных див,
Два зверя-дива из стовратных Фив?
Вас бледная ль Изида полонила?
642
Какая тайна вам окаменила
Жестоких уст смеющийся извив?
Полночных волн немеркнущий разлив
Вам радостней ли звезд святого Нила?
Так в час, когда томят нас две зари
И шепчутся лучами, дея чары,
И в небесах меняют янтари,—
Как два серпа, подъемля две тиары,
Друг другу в очи — девы иль цари —
Глядитесь вы, улыбчивы и яры.
<1907>
УЗЛЫ ЗМЕИ
Триста тридцать три соблазна, триста тридцать три
обряда,
Где страстная ранит разно многострастная услада,—
На два пола — знак Раскола — кто умножит, может
счесть:
Шестьдесят и шесть объятий и шестьсот приятий
есть.
Триста тридцать три соблазна, триста тридцать три
дороги,—
Слабым в гибель,— чьи алмазны светоносные сердца,
Тем на подвиг ярой пытки риши Гангеса и йоги
Развернули в длинном свитке от начала до конца.
В грозном ритме сладострастий, к чаше огненных
познаний
Припадай, браман, заране опаленным краем уст,
Чтоб с колес святых бесстрастий клик последних
заклинаний
Мог собрать в единой длани все узлы горящих узд.
<Конец 1900-х>
643
ИЗ МЕЛОПЕИ «ЧЕЛОВЕК»
<Из второй части>
Встретив брата, возгласи:
♦ Ты еси!»
Как себя его возлюбишь,—
Свой ему, с печатью ♦Аз»,
Дашь алмаз:
Сберегая клад,— погубишь.
♦ Ты еси» —звучит в ответ
Чей привет?
Кто в обмен тебе дарует
Свой, светлейший из камней?
Гименей
Несказанный нас связует.
Братья, вам не назову,
Кем живу.
Вверен всем алмаз сыновний,
Вспыхнет каждому в свой час
В том из нас,
Кто всех ближе, всех любовней.
Лишь в подвале погребен,
Темен он.
В каждом таинственно целен,
Он один в тебе навек,
Человек,
Божий сын,— и неразделен...
Видел «Алеф», виел «Бет»* —
Страшный свет! —
Я над бровью Исполина —
И не смел прочесть до «Тав».
Свиток слав
Человеческого Сына.
* Примечание автора: «Алеф и Бет суть первые, Тав — последняя
буква еврейской азбуки. Каббала учит, что на теле человеческом неви¬
димо начертан весь священный алфавит: сколько букв, столько тайн о
Человеке».
544
<Из третьей части>
<вступление>
Потерпи еще немного,
Скорбный путник, Человек!
Приведет твоя дорога
На верховья новых рек.
Линовав водораздела
Мирового перевал,
Грань, мерцающую бело,
Ты завидишь,— Дух сказал.
Стены бледные возглавят
Летопись последних дел
И над временем поставят
Беспредельному предел.
Все узнают: срок недолог,
Дни вселенной сочтены,—
И взвовьется тихий полог
С беспощадной глубины.
Но когда: «Его, живого,
Вижу, вижу! Свил он твердь!» —
Вскрикнет брат, уста другого
Проскрежещут: «вижу Смерть»...
И в старинную отчизну
Внидет сонм живых отцов,
И зажжет Обида тризну
С четырех земли концов.
<Из четвертой части>
1
♦Адаме!» —Мать-Земля стенает,
Освободитель, по тебе.
А человек не вспоминает,
В братоубийственной борьбе,
18 Серебряный век
645
О целого единой цели...
И Солнце тонет в багреце;
И бродит мысль — не о коние ли?
На бледном Каина лице.
Когда ж противники увидят
С двух берегов одной реки,
Что так друг друга ненавидят,
Как ненавидят двойники?
Что Кришна знал и Гаутама,—
По ужаснувшимся звездам
Когда ж прочтут творцы Адама,
Что в них единый жив Адам?
6
Пою: железным поколеньям
Взойдет на смену кроткий сев;
Уступит и Титана гнев
Младенческим богоявленьям.
Пою: из мертвенных борозд
Богооставленного поля
Святая всколосится воля
Упавших наземь Божьих звезд.
Пою, что тает сон сновидца,
Встречает сердце Пришлеца;
Что блудный сын обрел Отца
В себе, невинном,— и дивится.
Пою, что задремал Адам
Под пенье Змиевой загадки,
И в грезе сонной были сладки
Вкушенья первые устам.
Пою, что в нем шептала Ева
И нашептала горький сон,
И вновь один проснется он
Под сению Живого Древа.
546
9
Увы! Поныне только люди,
Мы оттого не Человек,
Что тем теснее наши груди,
Чем святотатственнее век...
Век, веледушней и щедрее,
Юнейший, приходи скорей!
Давно покинула Астрея*
Градозиждительных зверей.
♦Аз есмь». Премудрость в нас творила,
♦Еси» —Любовь. Над бездной тьмы
Град Божий Вера озарила.
Надежда шепчет: ♦Аз — есмы».
Повеет... Дрогнет сердце—льдина,
Упорнейшая горных льдин...
И как Душа Земли едина,
Так будет Человек един.
1915, 1918 — 1919
ИЗ ЦИКЛА
♦ ПЕСНИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»
Может быть, это смутное время
Очищает распутное племя;
Может быть, эти лютые дни —
Человечней пред Богом они,
Чем былое с его благочинной
И нечестья, и злобы личиной.
Землю саваном крыли сугробы;
Красовались, поваплены, гробы;
Растопилась снегов белизна,
* Примечание автора: * Астрея — богиня Правды и Мира — с концом
Золотого века ушла на небо. Ее возврат на землю — меосианическое
чаяние Вергилия».
18*
647
И размыла погосты весна;
И всплывает,— не в смутах ада ль? —
В половодье стремительном падаль.
Если ярость одержит сердца
И не видишь Христова лица
В человеке за мглой Вельзевула,—
Не весна ли в подполье пахнула?
Не Судьи ль разомкнула труба
Замурованных душ погреба?..
1917
ПРИБЛИЖЕНИЕ
На мировом стоим водоразделе.
Быть может, в ночь соседняя семья,
Заутра ты, там он, а там и я —
Похищены мы будем в этм теле
Из времени, всем общего доселе,
Дабы пребыть, от ближних затая
Недвижную Субботу бытия,
Начатком вечности в земном пределе.
Быть может, воль глухой раскол — конца
Всесветного неслышное начало;
И тихий гром гремел, и в нем Гонца
О днях иссякших слово прозвучало;
И те, чье сердце зовом отвечало,
Воскресшего встречают Пришлеца.
1918
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Александр Блок
ИЗ РЕЦЕНЗИИ НА КНИГУ ВЯЧЕСЛАВА
ИВАНОВА «ПРОЗРАЧНОСТЬ»
Книга Вячеслава Иванова предназначена для тех, кто
не только много пережил, но и много передумал. Это —
необходимая оговорка, потому что трудно найти во всей
современной русской литературе книгу менее понятную
для людей чуть-чуть «диких», удаленных от культурной
изысканности, хотя, быть может, и многое переживших.
Но есть порода людей, которой суждено все извилины
своей жизни обагрять кровью мыслей, которая привыкла
считаться со всем многоэтажным зданием человеческой
истории. Таким людям книга Вяч. Иванова доставит ис¬
тинное наслаждение — ив этом смысле она «fur wenige»*.
Она хороша как урок порою стального стиха, как плени¬
тельное подчас по смелости замысла сочетание словесных
и логических форм. В этом отношении она подобна чекан¬
ной миниатюре, в которой до того точно, с таким совер¬
шенством художника-литейщика изображено движение,
что можно иногда принять ее за живую фигуру. Но это —
только искусство мастера и обман тонкого зрения, дающе¬
го бегущее продолжение линии, которая пресеклась как
раз на необходимом для обмана зрения месте.
Такая законченность и точность отделки очень ценна.
Именно она первая бросается в глаза,— и позволяет меч¬
тать о большем и большем совершенстве стиха, о его
способности вмещать невместимое прежде. Оттого в кни¬
ге заметна прежде всего работа, потом творчество — и
последнего меньше, чем первой. Большая часть стихов
* «Для немногих» (нем.).— Ред.
549
искусно «сделана»,— и это не недостаток: хорошо, что
мы уже имеем и такие книги.
Поэзия Вяч. Иванова может быть названа «ученой» и
«философской» поэзией. По крайней мере — за исключе¬
нием немногих чисто лирических и прозрачных, как
горный хрусталь, стихотворений (например, «Лилия») —
больше всего останавливают внимание те, на которых
лежит печать глубокого проникновения в стиль антич¬
ной Греции. Некоторые стихи отличаются чересчур фи¬
лологической изысканностью: такие слова и выражения,
как «скиты скитальных скимном», «молитвенные фео-
рии», «аспекты», «харалужный», «сулица»,—только
портят впечатление и оставляют в недоумении читателя,
редко знающего, что «феория» значит «созерцание», а
«сулица» — «колчан». В других случаях, напротив, осо¬
бенно звучны бывают смелые образования от прилага¬
тельных и глаголов: «мгла среброзоркая», «неотлучимые
ключи», «луны серпчатой крутокормая ладья».
Часто поэт прибегает к искусственному усилению сти¬
ха путем аллитераций, перебоев в размере и т. п. Иногда
это удачно:
Цикады, цикады!..
Молотобойные,
Скрежетопильные,
Звонко-гремучие
Вы ковачи!
Не извечно, верь, из чаш сафирных
Боги неба пили нектар нег.
В прозрачный, сумеречно-светлый час.
В полутени сквозных ветвей,
Она являет свой лик и проходит мимо нас —
Невзначай,— и замрет соловей...
Иногда этот прием слишком груб:
Рдей, царь-рубин, рудой любовью...
Как пример особенно ярких образов в стихах Вяч.
Иванова, можно привести строки об облаках и о месяце;
это — точно специальность поэта, и здесь он достиг не¬
обычайной краткости и воздушной образности:
...глубь, где ночь пустила
Синею излукой
650
Парус крутолукий
Бледного светила.
В небе кормщик неуклонный,
Стоя, правит бледный челн...
Апрель 1904
Николай Гумилев
ИЗ ПИСЕМ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Если верно,— а это скорее всего верно,— что пламенно
творящий подвиг своей жизни есть поэт, что правдивое
повествование о подлинно пройденном мистическом пути
есть поэзия, что поэты — Конфуций и Магомет, Сократ и
Ницше, то — поэт и Вячеслав Иванов. Неизмеримая про¬
пасть отделяет его от поэтов линий и красок, Пушкина или
Брюсова, Лермонтова или Блока. Их поэзия — это озеро,
отражающее в себе небо, поэзия Вячеслава Иванова —
небо, отраженное в озере. Их герои, их пейзажи — чем
жизненнее, тем выше; совершенство образов Вячеслава
Иванова зависит от их призрачности. Лермонтовский Де¬
мон с высот совершенного знания спускается в Грузию
целовать глаза красивой девушки: герой поэмы Вячеслава
Иванова, черноногий Меламп, уходит в «бездонные без¬
дны», на Змеиную Ниву созерцать брак Змей-Причин со
Змиями-Целей.
Вот пейзаж Пушкина:
...Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи...
Вот пейзаж Вячеслава Иванова:
Ты помнишь: мачты сонные,
Как в пристанях Лорэна,
Взносились из туманности
Речной голубизны
К эфирной осиянности,
Где лунная сирена
Качала сребролонные,
Немеющие сны.
551
Как видите, полная противоположность.
Конечно, и Вячеслав Иванов говорит иногда о вещах
и явлениях, не настаивая на заключенных в них и вскры¬
тых рентгеновыми лучами его прозрения идеях, и на¬
званные выше поэты возвышали свой голос для передачи
сокровеннейших тайн,— но как тот, так и другие не
могли не чувствовать себя гостями, пусть желанными, в
чуждой им области.
Я назвал образы, даваемые Вячеславом Ивановым,
призрачными. Действительно, они так полны, все состав¬
ные части их так равномерно и напряженно ярки, что
внимание читателя, не будучи в силах охватить целое,
останавливается на подробностях, только смутно догады¬
ваясь об остальном. Это вызывает чувство неудовлетво¬
ренности, но это и заставляет перечитывать вновь и вновь
уже известные стихи.
Язык... к нему Вячеслав Иванов относится скорее как
филолог, чем как поэт. Для него все слова равны, все
обороты хороши; для него нет тайной классификации их
на «свои» и «не свои», нет глубоких, часто необъясни¬
мых симпатий и антипатий. Он не хочет знать ни их
возраста, ни их родины (рядом «в вешнем плеске клик
лесных вещуний» и «Гарпий свист в летейской зыби
лавр»). Они для него, так же, как и образы,— только
одежда идей. Но его всегда напряженное мышление,
отчетливое знание того, что он хочет сказать, делают
подбор его слов таким изумительно-разнообразным, что
мы вправе говорить о языке Вячеслава Иванова, как об
отличном от языка других поэтов.
Стих... им Вячеслав Иванов владеет в совершенстве;
кажется, нет ни одного самого сложного приема, которо¬
го бы он не знал. Но он для него не помощник, не золотая
радость, а тоже только средство. Не стих окрыляет Вя¬
чеслава Иванова,— наоборот, он сам окрыляет свой стих.
И вот почему он любит писать сонеты и газэллы, эти
трудные, ответственные, но уже готовые формы стиха.
О самом главном в поэзии Вячеслава Иванова, о той
золотой лестнице, по которой он ведет очарованного
читателя, о содержании, я буду говорить, когда выйдет
второй том Cor Ardens’а, долженствующий составить
одну книгу с первым.
Долгое время Вячеслав Иванов, как поэт, был для
меня загадкой. Что это за стихи, которые одинаково
бездоказательно одни разумно хвалят, другие бранят?
Откуда эта ухищренность и витиеватость, и в то же вре-
552
мя подлинность языка, изломанного по правилам чуть ли
не латинского синтаксиса? Как объяснить эту однообраз¬
ную напряженность, дающую чисто интеллектуальное
наслаждение и совершенно исключающую «нечаянную
радость» случайно найденного образа, мгновенного на¬
ития? Почему всегда и повсюду вместо лирического удив¬
ления поэта перед своим переживанием — «неужели это
так» — мы встречаем эпическое (быть может, даже ди¬
дактическое) всеведенное «так и должно быть»?
И только, прочтя во второй части «Сот Ardens’a» от¬
дел под названием Rosarium, я понял, в чем дело...
Наиболее чуткие иностранцы убеждены, что рус¬
ские — совсем особенный, странный народ. Таинствен¬
ность славянской души — «Гате slave» —общее место на
Западе. Но они довольствуются, описанием ее противоре¬
чий. Мы же, русские, должны идти дальше, отыскивая
истоки этих противоречий. Бесспорно, мы — не только
переход от психологии Бостока к психологии Запада или
обратно, мы уже целый и законченный организм, дока¬
зательство этому — Пушкин; но среди нас случаются, и
как норма, возвращения к чистоте одного из этих типов.
Так, Брюсов —европеец вполне и всегда, в каждой строч¬
ке своих стихотворений, в каждой своей журнальной
заметке. Мне хочется показать, что Вячеслав Иванов —
с Востока. Предание не говорит, слагал ли песни царь-
волхв Гаспар. Но если слагал,— мне кажется, они были
похожи на стихи Вячеслава Иванова. Когда ночью он
ехал на разукрашенном верблюде, видя те же пески и те
же звезды, когда даже путеводная, ведущая в Вифлеем
звезда стала привычной, повседневной, он пел песни,
странные, тягучие, по мелодии напоминающие пяти- и
шестисложные ямбы, любимый размер В. Иванова...
Как же должно относиться к Вячеславу Иванову?
Конечно, крупная самобытная индивидуальность дороже
всего. Но идти за ним другим, не обладающим его данны¬
ми, значило бы пускаться в рискованную, пожалуй, даже
гибельную авантюру. Он нам дорог, как показатель од¬
ной из крайностей, находящихся в славянской душе. Но,
защищая целостность русской идеи, мы должны, любя
эту крайность, упорно говорить ей «нет» и помнить, что
не случайно сердце России — простая Москва, а не вели¬
колепный Самарканд.
1912
553
Владислав Ходасевич
ИЗ ОБЗОРА «РУССКАЯ ПОЭЗИЯ»
Бесспорно, одна из самых значительных книг за этот
период — «Сот Ardens» Вячеслава Иванова. В 1912 г.
вышел второй том ее, завершающий собрание стихов,
писавшихся приблизительно в течение последних семи
лет, т. е. как раз в те годы, когда творчество поэта наибо¬
лее привлекало к себе внимание ценителей поэзии.
Теперь, когда все эти стихи, ранее появлявшиеся час¬
тями в альманахах и периодических изданиях, собраны
вместе, «Сог Ardens» хочется сравнить с венецианским
собором св. Марка. Не верится, что эта книга — создание
одного человека; кажется, будто она, подобно венециан¬
скому собору, слагалась веками, что каждая деталь ее
имеет свою собственную историю, совершенно обособлен¬
но протекавшую вплоть до того момента, когда воля
поэта, объединив все эти детали, заставила их образовать
одно целое...
Книга Вячеслава Иванова поражает разнообразием мо¬
тивов и сложностью построения. Она разделена на два
тома. Тома делятся на «книги». Книги — на отделы, в свою
очередь делящиеся иногда на подотделы. Некоторые из
книг, отделов и подотделов имеют самостоятельные проло¬
ги, посвящения и эпилоги. В «Сог Ardens» собрано все, что
когда-либо привлекало внимание автора — одного из са¬
мых образованных наших современников.
Богатство эрудиции позволило ему сделать свою кни¬
гу собранием поэтических ценностей, как денежное бо¬
гатство венецианцев дало им возможность превратить
свой собор в сокровищницу, накоплявшуюся столетия¬
ми. Готические и арабские колонны, мозаики X и после¬
дующих веков, обломки античных рельефов, бронзовые
кони императорского Рима и создания Сансовино — вся
эта гора золота, бронзы и мрамора составляет то, что
зовется собором св. Марка...
1914
554
Илья Эренбург
ИЗ КНИГИ «ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ»
Помню светящееся окно на Зубовском бульваре — там
жил поэт Вячеслав Иванович Иванов. Он казался мне
мудрым старцем (ему тогда было пятьдесят два года);
походил он на ибсеновского пастора; одевался по-старо-
модному; блестела золотая оправа очков. Был он челове¬
ком большой культуры; писал сложно и патетически; его
называли «Вячеславом Великолепным». Я слушал, как
он, волнуясь, будто импровизируя, читал отточенные
сонеты, и во мне боролись два чувства: благоговение и
жалость; время рванулось вперед, а где-то на Зубовском
бульваре остался чудак в сюртуке, с менадами, с Изоль¬
дой, с розами Суристана, с акафистами. В домах появи¬
лись печки, окрещенные «буржуйками», на них варили
пшенную кашу, а Вячеслав Иванович писал:
Охапку дров свалив у камелька,
Вари пшено,— и час тебе довлеет.
Ах, вечности могила глубока!..
Он хорошо говорил о древней Элладе, а когда события
заглядывали в его кабинет, терялся. Он писал Г. И. Чул¬
кову:
Да, сей костер мы поджигали,
И совесть правду говорит,
Хотя предчувствия не лгали,
Что сердце наше в нем сгорит.
Мне кажется, сердце Вячеслава Иванова в те годы не
горело, а замерзало... (Несколько лет спустя он уехал в
Италию, преподавал славистику в католическом универ¬
ситете, писал, как прежде, сонеты и умер в глубокой
старости.)
1960—1965
555
геи
инцев
ИЗ СТАТЬИ
«ПОЭЗИЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА»
Сквозной символ поэзии Блока — метель; сквозной
символ поэзии Пастернака — снежные хлопья или ли¬
вень. Явственно и ощутимо само опрокидывающееся на
нас пространство — ширь стихии, ширь стиха. Все кон¬
туры размыты — как очертания вещей, так и очертания
слов.
Вячеслав Иванов являет собой строго противопо¬
ложный тип отношения к слову. Для него драгоценнее
всего именно очертания слова как единой и недели¬
мой, целостной и отделенной от всего иного монады
смысла. Как у Лейбницевой монады, у слова в стихах
Иванова «нет окна»; оно замкнулось в себе и самовлас¬
тно держит всю полноту своего исторически сложив¬
шегося значения. Читателя надо пригласить и даже
принудить к размышлению над этой смысловой полно¬
той. Для этого его необходимо — задержать. Отсюда
первое свойство стиха Вячеслава Иванова: его медли¬
тельность, тяжелая неторопливость, «густота». Она до¬
стигается по меньшей мере двумя средствами. Первое
из них — систематическое пристрастие к сверхсхем¬
ным ударениям. Окрыленность блоковского и особенно
пастернаковского стиха, его готовность мгновенно пе¬
рейти с шага на бег или полет создается, напротив,
возведенными в систему пропусками метрических ак¬
центов, и притом не только в двухсложных, но и в
трехсложных размерах, где процент ударных слогов и
без того мал. У Пастернака мы совсем рядом встреча¬
ем такой рисунок ямба:
Новоприбывших поезда,—
и такой рисунок анапеста:
В переулке, как в каменоломне...
В противоположность всему этому у Вячеслава Ивано¬
ва трехсложные размеры скорее избегаются, между тем
556
как его ямбы и хореи уснащены преизобилием ударных
односложных слов в неударной позиции (что нормально
для английского стиха и составляет тайну его упругости,
но в русском стихе обычно воспринимается как нежела¬
тельное — стих перестает быть легким). Вот характер¬
ный для него ямб из «Кормчих звезд»:
Но к праху прах был щедр и тобр...
Второе средство к замедлению стиха — опять-таки
необычное для русской поэзии накопление согласных,
особенно на границах слов. «Меж глыб, чья вечность»,
«я вспрянул, наг, с подушек пира», «правит град, как
фивский зодчий», «бессмертных боль лучей» —таковы
типичные звукосочетания из «Кормчих звезд»; поздней¬
шее творчество Иванова удерживает эту тенденцию.’
Читатель должен резко ощутить жесткие прослойки со¬
гласных, разгораживающие слова и подчеркивающие
синтаксическое членение; в конце слова и связанной
единым смыслом группы слов («колона») нельзя не сде¬
лать паузу. В конце стиха Иванов любит комбинацию
немого или носового согласного с плавным, принуждаю¬
щую к необычно отчетливому и длительному, почти сло¬
говому выговариванию этого плавного «р» или «л»: он
рифмует «Скамандр» — «Терпандр», «урн» — «Сатурн»,
«челн» — «волн», «добр» — «чобр».
Характерно, что в обоих последних примерах рифмой
связаны пары односложных слов. К таковым Вячеслав
Иванов питает особую приязнь. В этом отношении насто¬
ящий логический предел всей поэзии Иванова — осущес¬
твленный им экспериментальный перевод «непереводи¬
мых» строк греческого поэта Терпандра, состоящих ис¬
ключительно из долгих слогов (в русском силлабо-
тоническом эквиваленте — исключительно из ударных
слогов, иначе говоря, из одних односложных слов):
Зевс, ты — всех дел верх!
Зевс, ты — всех дел вождь!
Ты будь сил слов царь;
Ты правь мой гимн, Зевс!
Как только что говорилось, обилие односложных слов
сгущает фактуру стиха и тормозит его движение; но дело
не только в этом. Именно односложное слово легче всего
657
воспринять как целостную и нечленимую монаду, как
выявление самых первозданных потенций языка. И как
часто односложные слова служат именами для столь же
первозданных реальностей! «Жизнь» и «смерть», «свет»
и «мрак», «хлеб» и «глад», «верх» и «низ», «твердь» и
«хлябь», «смех» и «скорбь», «дух», «лик» и «плоть»,
«мир» и «брань», «царь» и «раб», «злак» и «зверь»,—
этот ряд можно вести без конца.
То, что Вячеславу Иванову удавалось делать с однос¬
ложными словами, предвосхищает дальнейшие опыты
русской поэзии. Вспомним энергию строк Мандельштама:
Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть
И яростный гимн грянь —
Бунтующих тайн медь!
Маяковского:
Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролетным коням...
Наконец, поздней Цветаевой:
Где — ты? где—тот? где — сам? где — весь?
Там — слишком там, здесь — слишком здесь...
♦ Крайности сходятся» —подчас это применимо и к
поэтике, к прямо противоположным полюсам «архаиз¬
ма» и «новаторства»: сознательно затрудненная ритмика
Вячеслава Иванова, этого архаиста из архаистов,—необ¬
ходимый мост между столь же затрудненными метричес¬
кими ходами поэтов докарамзинской эпохи (наряду с
Державиным вспомним Радищева) и дерзновениями са¬
мой новаторской лирики XX века. Стих Иванова часто
называли «заржавленным»; что же, эта «заржавлен-
ность» отдаленно и неожиданно сопоставима с «раскре-
жещенностью» стиха Маяковского. Ибо в обоих случаях
задача состоит в том, чтобы нарушить инерцию беспре¬
пятственного скольжения в бесперебойном ритме по сло¬
весной поверхности; читатель должен восчувствовать
558
тяжкую, трудную весомость каждого отдельного слова.
Чтобы стать «вескими», слова становятся тяжелыми.
Недаром Андрей Белый сравнивал строки «Кормчих
звезд» с булыжниками.
Конечно, это сравнение несовершенно; до настоящей
«булыжной», «плебейской», «грубой» простоты Хлеб¬
никова, или Маяковского, или иных стихотворений
поздней Цветаевой ему очень далеко. Его слова — не
булыжники, а скорее самоцветы, редкостные и блиста¬
тельные, по большей части подлинные, реже поддель¬
ные. Образ драгоценного камня занимает в его образ¬
ной системе привилегированное место; влажная слеза
сравнивается с твердой жемчужиной («перл слезы»),
способный таять снег — с жесткими гранями алмаза
(«сверкал алмазный снег»). Кристалл мыслится как
нормальное состояние вещества, и потому льющийся
ручей назван «расплавленным». Для нас лед — застыв¬
шая вода, для Вячеслава Иванова вода — расплавлен¬
ный лед. Все легкое, зыбкое и разреженное посредст¬
вом ряда метафор последовательно подменено и вытес¬
нено тяжелым, незыблемым, плотным. Принято го¬
ворить, что стихи Иванова «отягощены» ученостью
или еще чем-либо в этом роде; но они «отягощены»
прежде всего просто тяжестью — метафорами тяжести.
Поэт озабочен тем, чтобы вернуть стершимся «ювелир¬
ным» сравнениям почти навязчивую чувственную кон¬
кретность. Для этого он часто ставит метафорический
образ камня в возможно более тесное соседство с обра¬
зом «настоящего» камня. Вот мы читаем заключитель¬
ное трехстишие сонета:
•
Но горном тлеющим, в излучине сафирной,
В уступах, на чертог нагромоздив чертог,
Все рдеет Генуи амфитеатр порфирный.
Уподобить синеву южного моря синеве камня сапфи¬
ра скорее банально, и метафора эта сама по себе не оста¬
новила бы на себе ничьего внимания; но сейчас же поэт
спешит назвать уступы горного склона, на котором ле¬
жит Генуя, а затем и «чертоги», нагроможденные друг
на друга и повторяющие жесткую ломаную линию усту¬
пов, образуя «амфитеатр порфирный»,— и вся эта сово¬
купность скал и зданий действительно отнюдь не фигу¬
рально состоит из камня! Твердые контуры «классичес-
559
кого» итальянского ландшафта, возведенные в канон
еще живописцами Возрождения, дают Вячеславу Ивано¬
ву особые возможности увидеть весь мир как сочетание
граненых каменьев; характерно в этом отношении нача¬
ло программного стихотворения «Красота»:
Вижу вас, божественные дали,
Умбрских гор синеющий кристалл!..
То же можно сказать и о мотивах греческого пейзажа
(вспомним хотя бы «ясногранный» Парнас из «Сердца
Диониса»). Но ведь не намного иным предстает в стихах
Вячеслава Иванова и русский ландшафт. Отдельные со¬
ставные части мирового целого — небо, земля и море,
грани горы и гладь долины, «синий бор» и «черная мо¬
гила» — неизменно приобретают у него отчетливость ге¬
ральдической эмблемы. Мир Иванова именно геральди-
чен: каждая вещь своим резко прочерченным контуром
и своим ярким, беспримесно чистым цветом говорит, как
египетский иероглиф, о своем «значении» —об идеаль¬
ной смысловой схеме самой себя.
В таком мире нет места ни блоковским вьюгам, ни
пастернаковским ливням.
Для чего все «зримое» дано статичным, как иерог¬
лиф? По той же самой причине, почему статичен иерог¬
лиф: потому что это знак — знак «незримого». Иначе
говоря, каждый образ обязуется в этой системе быть
символом. А какие атрибуты закреплены за понятием
символа? «Символ только тогда истинный символ,— ут¬
верждает Вячеслав Иванов,— когда он неисчерпаем и
беспределен в своем значении, когда он изрекает на своем
сокровенном (иератическом и магическом) языке намека
и внушения нечто неиз глаголе мое, неадекватное внешне¬
му слову. Он и многолик, многосмыслен и всегда темен в
последней глубине».
Нельзя сказать, чтобы констатация «неисчерпаемос¬
ти» и «многосмысленности» поэтического символа не
отражала вполне реальных черт, присущих любой, хотя
бы самой ясной и простой, поэзии. В этой констатации
Иванов шел за Гете и Шеллингом, которые в свое время
противопоставили органичность символа рассудочному
дидактизму аллегории.
Приняв «сан» верховного наставника символистов,
Иванов не мог не усвоить такую аксиому общеевропей¬
ского символизма, как тезис о необходимости для поэ-
ббО
зии равняться на музыку. «Сама душа искусства музы¬
кальна»,— декларировал он, повторяя и Рихарда Вагне¬
ра, и Ницше, и Верлена, а потому поневоле вкладывая в
слово «музыкальность» привычный смысл зыбкой, тем¬
ной, трепещущей и безбрежной стихии. «Чтобы произ¬
ведение искусства оказывало полное эстетическое дейст¬
вие, должна чувствоваться эта непостижимость и неиз¬
меримость его конечного смысла. Отсюда — устремление
к неизреченному, составляющее душу и жизнь эстети¬
ческого наслаждения: и эта воля, этот порыв — музы¬
ка». Теоретик сказал свое слово — поэт должен повино¬
ваться. Между тем едва ли не наименее органичны как
раз те стихи Вячеслава Иванова, в которых он пытается
быть в этом смысле музыкальным и говорить о «рокотах
рока». Его поэзия скорее сродни мастерству камнерезов,
создававших из многослойного агата античные камеи,
или хитроумию средневековых миниатюристов, знав¬
ших цену каждой капле растворенного золота, или осно¬
вательности старинных немецких граверов; чему она
чужда, так это «порыву» музыки, как ее понимал Блок.
Парадокс в том, что поэзия Вячеслава Иванова тем силь¬
нее, подлиннее и оригинальнее, чем рассудительнее,
даже рассудочнее; она тем напряженнее, нецеломудрен¬
нее, но притом и ближе к общедекадентским штампам,
чем больше имеет своей задачей экстаз звукового «поры¬
ва». Написать беспокойно-звучную, «музыкальную»
строчку из «Сердца Диониса»:
Ты предстал, Парнас венчальный, в день избранный,
предо мной! — мог бы, пожалуй, и Бальмонт; но отчека¬
нить из твердых, неподатливых, весомых слов описание
«Давида» Микеланджело:
Мышц мужеских узлы, рук тяжесть необорных,
И выя по главе, и крепость ног упорных...—
это было более подходящее дело для Вячеслава Иванова:
и только он один мог бы найти интонацию своих поздних
стихов о Дионисе («Первый пурпур»), в которых сама
тема исступления дана с «классической» логичностью и
точностью.
Брызнул первый пурпур дикий,
Словно в зелени живой
Бог кивнул мне, смуглоликий,
Змеекудрой головой.
661
1985
Взор обжег и разум вынул,
Ночью света ослепил
И с души-рабыни скинул
Все, чем мир ее купил.
И, в обличьи безусловном
Обнажая бытие,
Слил с отторгнутым и кровным
Сердце смертное мое.
ВЛАДИСЛАВ
ХОДАСЕВИЧ
1886—1939
Владислав Фелицианович Ходасевич (1886—1939) родился в
Москве — отец его, поляк, был художником и фотографом.
Мать — еврейка, воспитанная в культуре польского католичества.
Национальные корни были чрезвычайно важны для творческого
самосознания Ходасевича, воспевшего в своей поэзии мощь рус¬
ской речи, но никогда не забывавшего об изгойстве своих предков.
Будучи вскормлен тульскою крестьянкой, Ходасевич настаивал
на своей глубинной причастности к «чудотворному гению» рус¬
ского слова'
И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.
Учился на юридическом и историко-филологическом факуль¬
тетах Московского университета, которые не закончил. Первая
книга стихотворений «Молодость» (М., 1908), пронизанная траги¬
ческим напряжением, самим поэтом впоследствии оценивалась
как ученическая.
Более зрелой предстала перед читателями и критикой его вто¬
рая книга «Счастливый домик» (М., 1914), восходящая к пушкин¬
ской традиции.
В контексте разнообразных школ, движений и направлений
внутри поэзии серебряного века Ходасевич был фигурой абсолют¬
но одинокой и независимой. Книга «Путем зерна» (М., 1920) яви¬
ла талант поэта во всей его оригинальности и самобытности — чем
дальше, тем интенсивнее Ходасевич вводит в стихи детали обы¬
денности и расшатывает привычные ритмы, прививая, по его со¬
бственному выражению, «классическую розу к советскому дич¬
ку». Ходасевич новаторски развивал музыкальные и смысловые
возможности прозаизированного белого стиха.
В 1922 году вместе с Н. Берберовой эмигрирует в Берлин, а
затем переезжает в Париж.
Ходасевич — автор многих статей, эссе, воспоминаний о рус¬
ской классике XIX столетия и о поэтах серебряного века. Наибо¬
лее значительны его прозаические книги «Державин» (1929—
1931) и «Некрополь» (1939).
Изд.: Ходасевич Вл. Стихотворения. Л., 1989 («Библиотека
поэта». Большая серия); Колеблемый треножник. Избранное. М.,
1991.
564
SANCTUS AMOR*
Нине Петровской
И я пришел к тебе, любовь,
Вслед за людьми приволочился.
Сегодня старый посох вновь
Пучком веселых лент покрылся.
И, как юродивый счастлив,
Смотрю на пляски алых змеек,
Тебя целую в чаще слив,
Среди изрезанных скамеек.
Тенистый парк, и липы цвет,
И все — как в старых песнях пелось,
И ты, шепча «люблю» в ответ,
Как дева давних лет, зарделась...
Но миг один — и соловей
Не в силах довершить обмана!
Горька, крива среди ветвей
Улыбка мраморного Пана...
И снова ровен стук сердец;
Кивнув, исчез недолгий пламень,
И понял я, что я — мертвец,
А ты лишь мой надгробный камень.
8 октября 1906 — 8 января 1907
* Святая любовь (лат.).— Ред.
ббб
УТРО
Молчи, склони свое лицо.
Ночному страху нет ответа.
Глубинней серого рассвета
Твое жемчужное лицо.
Томлений темных письмена
Ты иссекла на камне черном.
В моем гробу, как ночь упорном,
И ты была заключена.
Теперь молчи. Склони лицо.
Не плачь у гроба и не сетуй,
Навстречу мертвому рассвету
Яви застывшее лицо!
3 июля 1907.
Лидино
* * *
Протянулись дни мои,
Без любви, без сил, без жалобы...
Если б плакать — слез не стало бы...
Протянулись дни мои.
Оглушенный тишиной,
Слышу лет мышей летучих,
Слышу шелест лап паучьих
За моей спиной.
О, какая злая боль
Замолчать меня заставила.
Долго мука сердце плавила,
И какая злая боль!
На распутьях, в кабаках
Утолял я голод волчий,
И застыла горечь желчи
На моих губах.
ббб
Я тобой смирен, молчу.
Дни мои текут без жалобы.
Если б плакать — сил не стало бы...
Я тобой смирен. Молчу.
14 мая 1907.
Лидино
РЯЖЕНЫЕ
Мы по улицам темным
Разбежимся в молчании.
Мы к заборам укромным
Припадем в ожидании.
...«Эй, прохожий! прохожий!
Видел черта рогатого,
С размалеванной рожей,
Матерого, мохнатого?»
Ветер крепок и гулок.
Снег скрипт, разметается...
Забегу в переулок —
Там другие шатаются.
В лунном отсвете синем
Страшно встретиться с ряженым!
Мы друг друга окинем
Взором чуждым, неслаженным.
Самого себя жутко.
Я — не я? Вдруг да станется?
Вдруг полночная шутка
Да навеки протянется?
1 января 1906.
Лидино
567
ГАЦАНИЕ
Гадает ветреная младость...
Пушкин
Ужели я, людьми покинутый,
Не посмотрю в лицо твое?
Я ль не проверю жребий вынутый —
Судьбы слепое острие?
И плавлю мертвенное олово.
И с тайным страхом в воду лью...
Что шлет судьба? Шута ль веселого,
Собаку, гроб или змею?
Свеча колеблет пламя красное.
Мой Рок! Лицо приблизь ко мне!
И тень бессмысленно-неясная,
Кривляясь, пляшет на стене.
1 мая 1907.
Лидино
•к -к
Все тропы проклятью преданы,
Больше некуда идти.
Словно много раз изведаны
Непройденные пути!
Словно спеты в день единственный
Песни все и все мольбы...
Гимн любви, как гимн воинственный,
Не укрылся от судьбы.
Но я знаю — песня новая
Суждена и мне на миг.
Эй, гуди, доска сосновая!
Здравствуй, пьяный гробовщик!
4 октября 1906.
Москва
668
* -к *
За окном гудит метелица,
Снег взметает на крыльцо.
Я играю — от бездельица —
В обручальное кольцо.
Старый кот, по стульям лазая,
Выгнул спину и молчит,
За стеной метель безглазая
Льдяным посохом стучит.
Ночи зимние! Кликуши вы,
В очи вам боюсь взглянуть...
Медвежонок, сын мой плюшевый,
Свесил голову на грудь.
9 февраля 1907.
Москва
КОЛЬЦА
1
Я тебя провожаю с поклоном,
Возвращаю в молчанье кольцо.
Только вечер настойчивым стоном
Вызывает тебя на крыльцо.
Ты уходишь в ночную дорогу,
Не боясь, не дрожа, не смотря.
Ты доверилась темному богу?
Не возьмешь моего фонаря?
Провожу тебя только поклоном.
Ожесточено сердце твое!..
Ах, в часовне предутренним звоном
Отмечается горе мое.
24 ноября 1907.
Москва
569
2
Велишь — молчу. Глухие дни настали!
В последний раз ко мне приходишь ты.
Но различу за складками вуали
Без милой маски — милые черты.
Иди, пляши в бесстыдствах карнавала,
Твоя рука без прежнего кольца,—
И Смерть вольна раскинуть покрывало
Над ужасом померкшего лица.
17 — 22 ноября 1907.
Петербург — Москва
PASSIVUM*
Листвой засыпаны ступени...
Луг потускнелый гладко скошен...
Бескрайним ветром в бездну вброшен,
День отлетел, как лист осенний.
Итак, лишь нитью, тонким стеблем,
Он к жизни был легко прицеплен!
В моей душе огонь затеплен,
Неугасим и неколеблем.
27 мая 1907.
Лидино
•к * *
Мои слова печально кротки.
Перебирает Тишина
Все те же медленные четки,
И облик давний, нежно-кроткий,
Опять недвижен у окна.
* Страдательный залог (лат.).— Ред.
670
Я снова тих и тайно — весел...
За дверью нашей — Тишина.
Я прожил дни, но годы взвесил,
И вот как прежде — тих и весел,
Ты — неподвижна у окна.
И если я тебя окликну,
Ответом будет Тишина,
Но я к руке твоей приникну —
И если вновь тебя окликну —
Ты улыбнешься у окна!
22 — 23 августа 190 7.
Лидино
ЗА СНЕГАМИ
Елка выросла в лесу.
Елкич с шишкой на носу.
Ф. Сологуб
Наша елка зажжена.
Здравствуй, вечер благовонный!
Ты опять бела, бледна,
Ты бледней царевны сонной.
Снова сердцу суждена
Радость мертвенная боли.
Наша елка зажжена:
Светлый знак о смертной доле.
Ты стройна, светла, бледна,
Ты убьешь рукой невинной...
Наша елка зажжена.
Здравствуй, вечер, тихий, длинный...
Хорошо в моей тиши!
Сладки снежные могилы!
Елкич, милый, попляши!
Елкич, милый, милый, милый.
16 ноября 1907.
Петербуг
671
* * *
Время легкий бисер нижет:
Час за часом, день ко дню...
Не с тобой ли сын мой прижит?
Не тебя ли хороню?
Время жалоб не услышит!
Руки вскину к синеве,—
А уже рисунок вышит
На исколотой канве.
12 декабря 1907
Москва
ЗАКАТ
В час, когда пустая площадь
Желтой пылью повита,
В час, когда бледнею скорбно
Истомленные уста,—
Это ты вдали проходишь
В круге красного зонта.
Это ты идешь, не помня
Ни о чем и ни о ком,
И уже тобой томятся
Кто знаком и не знаком,—
В час, когда зажегся купол
Тихим, теплым огоньком.
Это ты в невинный вечер
Слишком пышно завита,
На твоих щеках ложатся
Лиловатые цвета,—
Это ты качаешь нимбом
Нежно-красного зонта!
572
Знаю: ты вольна не помнить
Ни о чем и ни о ком,
Ты падешь на сердце легким,
Незаметным огоньком,—
Ты как смерть вдали проходишь
Алым, летним вечерком!
Ты одета слишком нежно,
Слишком пышно завита,
Ты вдали к земле склоняешь
Круг атласного зонта,—
Ты меня огнем целуешь
В истомленные уста!
21 мая 1908.
Москва
* * *
Увы, дитя! Душе неутоленной
Не снишься ль ты невыразимым сном?
Не тенью ли проходишь омраченной,
С букетом роз, кинжалом и вином?
Я каждый шаг твой зорко стерегу.
Ты падаешь, ты шепчешь — я рыдаю,
Но горьких слов расслышать не могу
И языка теней не понимаю.
Конец 1909
ПУТЕМ ЗЕРНА
Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.
Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.
673
И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.
Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год,—
Затем, что мудрорть нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.
23 декабря 1917
СЛЕЗЫ РАХИЛИ
Мир земле вечерней и грешной!
Блещут лужи, перила, стекла.
Под дождем я иду неспешно,
Мокры плечи, и шляпа промокла.
Нынче все мы стали бездомны,
Словно вечно бродягами были,
И поет нам дождь неуемный
Про древние слезы Рахили.
Пусть потомки с гордой любовью
Про дедов легенды сложат —
В нашем сердце грехом и кровью
Каждый день отмечен и прожит.
Горе нам, что по воле Божьей
В страшный час сей мир посетили!
На щеках у старухи прохожей —
Горючие слезы Рахили.
Не приму ни чести, ни славы,
Если вот, на прошлой неделе,
Ей прислали клочок кровавый
Заскорузлой солдатской шинели.
Ах, под нашей тяжелой ношей
Сколько б песен мы ни сложили —
Лишь один есть припев хороший:
Неутешные слезы Рахили!
5 — 30 октября 1916
674
РУЧЕЙ
Взгляни, как солнце обольщает
Пересыхающий ручей
Полдневной прелестью своей,—
А он рокочет и вздыхает
И на бегу оскудевает
Средь обнажившихся камней.
Под вечер путник молодой
Приходит, песню напевая;
Свой посох на песок слагая,
Он воду черпает рукой
И пьет — в струе, уже ночной,
Своей судьбы не узнавая.
Лето 1908. Гиреева
30 января 1916
* * *
Сладко после дождя теплая пахнет ночь.
Быстро месяц бежит в прорезях белых туч.
Где-то в сырой траве часто кричит дергач.
Вот к лукавым губам губы впервые льнут.
Вот, коснувшись тебя, руки мои дрожат...
Минуло с той поры только шестнадцать лет.
8 января 1918
БРЕНТА
Адриатические волны!
О, Брента!..
«Евгений Онегин»
Брента, рыжая речонка!
Сколько раз тебя воспели,
Сколько раз к тебе летели
676
Вдохновенные мечты —
Лишь за то, что имя звонко,
Брента, рыжая речонка,
Лживый образ красоты!
Я и сам спешил когда-то
Заглянуть в твои отливы,
Окрыленный и счастливый
Вдохновением любви.
Но горька была расплата.
Брента, я взглянул когда-то
В струи мутные твои.
С той поры люблю я, Брента,
Одинокие скитанья,
Частого дождя кропанье
Да на согнутых плечах
Плащ из мокрого брезента.
С той поры люблю я, Брента,
Прозу в жизни и в стихах.
Весна 1920, Москва
1921, Петербург
17 мая 1923.
Saarow
•к * *
Со слабых век сгоняя смутный сон,
Живу весь день, тревожим и волнуем,
И каждый вечер падаю, сражен,
Усталости последним поцелуем.
Но и во сне душе покоя нет:
Ей снится явь, тревожная, земная,
И собственный сквозь сон я слышу бред
Дневную жизнь с трудом припоминая.
30 августа 1914
676
к к к
В заботах каждого дня
Живу,— а душа под спудом
Каким-то пламенным чудом
Живет помимо меня.
И часто, спеша к трамваю
Иль над книгой лицо склоня,
Вдруг слышу ропот огня —
И глаза закрываю.
14 декабря 1916 — 7 января 1917
ПРО СЕБЯ
1
Нет, есть во мне прекрасное, но стыдно
Его назвать перед самим собой,
Перед людьми ж — подавно: с их обидной
Душа не примирится похвалой.
И вот — живу, чудесный образ мой
Скрыв под личиной низкой и ехидной...
Взгляни, мой друг: о травке золотой
Ползет паук с отметкой крестовидной.
Пред ним ребенок спрячется за мать,
И ты сама спешишь его согнать
Рукой брезгливой с шейки розоватой.
И он бежит от гнева твоего,
Стыдясь себя, не ведая того,
Что значит знак его спины мохнатой.
30 ноября 1918
19 Серебряный век
677
2
Нет, ты не прав, я не собой пленен.
Что доброго в наемнике усталом?
Своим чудесным, божеским началом,
Смотря в себя, я сладко потрясен.
Когда в стихах, в отображенье малом,
Мне подлинный мой образ обнажен,—
Все кажется, что я стою, склонен,
В вечерний час над водяным зерцалом.
И, чтоб мою к себе приблизить высь,
Гляжу я в глубь, где звезды занялись.
Упав туда, спокойно угасает
Нечистый взор моих земных очей,
Но пламенно оттуда проступает
Венок из звезд над головой моей.
1 7 января 1919
НА ХОДУ
Метель, метель... В перчатке — как чужая
Застывшая рука.
Не странно ль жить, почти что осязая,
Как ты близка?
И все-таки бреду домой с покупкой,
И все-таки живу.
Как прочно все! Нет, он совсем не хрупкий,
Сон наяву!
Еще томят земные расстоянья,
Еще болит рука,
Но все ясней, уверенней сознанье,
Что ты близка.
7 февраля 1916
678
УТРО
Нет, больше не могу смотреть я
Туда, в окно!
О, это горькое предсмертье,—
К чему оно?
Во всем одно звучит: «Разлуке
Ты обречен!»
Как нежно в нашем переулке
Желтеет клен!
Ни голоса вокруг, ни стука,
Все та же даль...
А все-таки порою жутко,
Порою жаль.
16 ноября 1916
В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ
Висел он, не качаясь,
На узком ремешке.
Свалившаяся шляпа
Чернела на песке.
В ладонь впивались ногти
На стиснутой руке.
А солнце восходило,
Стремя к полудню бег.
И, перед этим солнцем
Не опуская век,
Был высоко приподнят
На воздух человек.
И зорко, зорко, зорко
Смотрел он на восток.
Внизу столпились люди
В притихнувший кружок.
И был почти невидим
Тот узкий ремешок.
27 ноября 1916
679
СМОЛЕНСКИЙ РЫНОК
Смоленский рынок
Перехожу.
Полет снежинок
Слежу, слежу.
При свете дня
Желтеют свечи:
Все те же встречи
Гнетут меня.
Все к той же чаше
Припал — и пью...
Соседки наши
Несут кутью.
У церкви — синий
Раскрытый гроб,
Ложится иней
На мертвый лоб...
О, лёт снежинок,
Остановись!
Преобразись,
Смоленский рынок!
12 — 13 декабря 1916
ВСТРЕЧА
В час утренний у Santa Margherita
Я повстречал ее. Она стояла
На мостике, спиной к перилам. Пальцы
На сером камне, точно лепестки,
Легко лежали. Сжатые колени
Под белым платьем проступали слабо...
Она ждала. Кого? В шестнадцать лет
Кто грезится прекрасной англичанке
В Венеции? Не знаю — и не должно
Мне знать того. Не для пустых догадок
Ту девушку припомнил я сегодня.
Она стояла, залитая солнцем,
Но мягкие поля панамской шляпы
Касались плеч приподнятых — и тенью
580
Прохладною лицо покрыли. Синий
И чистый взор лился оттуда, словно
Те воды свежие, что пробегают
По каменному ложу горной речки,
Певучие и быстрые... Тогда-то
Увидел я тот взор невыразимый,
Который нам, поэтам, суждено
Увидеть раз и после помнить вечно.
На миг один является пред нами
Он на земле, божественно вселяясь
В случайные лазурные глаза.
Не плещут в нем те пламенные бури,
Но вьются в нем те голубые вихри,
Которые потом звучали мне
В сиянье солнца, в плеске черных гондол,
В летучей тени голубя и в красной
Струе вина.
И поздним вечером, когда я шел
К себе домой, о том же мне шептали
Певучие шаги венецианок,
И собственный мой шаг казался звонче,
Стремительней и легче. Ах, куда,
Куда в тот миг мое вспорхнуло сердце,
Когда тяжелый ключ с пружинным звоном
Я повернул в замке? И отчего,
Переступив порог сеней холодных,
Я в темноте у каменной цистерны
Стоял так долго? Ощупью взбираясь
По лестнице, влюбленностью назвал я
Свое волненье. Но теперь я знаю,
Что крепкого вина в тот день вкусил я —
И чувствовал еще в своих устах
Его минутный вкус. А вечный хмель
Пришел потом.
13 мая 1918
581
ОБЕЗЬЯНА
Была жара. Леса горели. Нудно
Тянулось время. На соседней даче
Кричал петух. Я вышел за калитку.
Там, прислонясь к забору, на скамейке
Дремал бродячий серб, худой и черный.
Серебряный тяжелый крест висел
На груди полуголой. Капли пота
По ней катились. Выше, на заборе,
Сидела обезьяна в красной юбке
И пыльные листы сирени
Жевала жадно. Кожаный ошейник,
Оттянутый назад тяжелой цепью,
Давил ей горло. Серб, меня заслышав,
Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я
Воды ему. Но, чуть ее пригубив, —
Не холодна ли, — блюдце на скамейку
Поставил он, и тотчас обезьяна,
Макая пальцы в воду, ухватила
Двумя руками блюдце.
Она пила, на четвереньках стоя,
Локтями опираясь на скамью.
Досок почти касался подбородок,
Над теменем лысеющим спина
Высоко выгибалась. Так, должно быть,
Стоял когда-то Дарий, припадая
К дорожной луже, в день, когда бежал он
Пред мощною фалангой Александра.
Всю воду выпив, обезьяна блюдце
Долой смахнула со скамьи, привстала
И — этот миг забуду ли когда? —
Мне черную, мозолистую руку,
Еще прохладную от влаги, протянула...
Я руки жал красавицам, поэтам,
Вождям народа — ни одна рука
Такого благородства очертаний
Не заключала! Ни одна рука
Моей руки так братски не коснулась!
И, видит бог, никто в мои глаза
Не заглянул так мудро и глубоко,
Воистину — до дна души моей.
682
Глубокой древности сладчайшие преданья
Тот нищий зверь мне в сердце оживил,
И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось — хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные, незапамятные дни.
И серб ушел, постукивая в бубен.
Присев ему на левое плечо,
Покачивалась мерно обезьяна,
Как на слоце индийский магараджа.
Огромное малиновое солнце,
Лишенное лучей,
А опаловом дыму висело. Изливался
Безгромный зной на чахлую пшеницу.
В тот день была объявлена война.
7 июня 1918, 20 февраля 1919
ДОМ
Здесь домик был. Недавно разобрали
Верх на дрова. Лишь каменного низа
Остался грубый остов. Отдыхать
Сюда по вечерам хожу я часто. Небо
И дворика зеленые деревья
Так молодо встают из-за развалин,
И ясно так рисуются пролеты
Широких окон. Рухнувшая балка
Похожа на колонну. Затхлый холод
Идет от груды мусора и щебня,
Засыпавшего комнаты, где прежде
Гнездились люди... ч
Где ссорились, мирились, где в чулке
Замызганные деньги припасались
Про черный день; где в духоте и мраке
Супруги обнимались; где потели
В жару больные; где рождались люди
И умирали скрытно, — все теперь
583
Прохожему открыто. О, блажен,
Чья вольная нога ступает бодро
На этот прах, чей посох равнодушный
В покинутые стены ударяет!
Чертоги ли великого Рамсеса,
Поденщика ль безвестного лачуга —
Для странника равны они: все той же
Он песенкою времени утешен;
Ряды ль колонн торжественных иль дыры
Дверей вчерашних — путника все так же
Из пустоты одной ведут они в другую
Такую же...
Вот лестница с узором
Поломанных перил уходит в небо,
И, обрываясь, верхняя площадка
Мне кажется трибуною высокой.
Но нет на ней оратора. А в небе
Уже горит вечерняя звезда,
Водительница гордого'раздумья.
Да, хорошо ты, время. Хорошо
Вдохнуть от твоего ужасного простора.
К чему таиться? Сердце человечье
Играет, как проснувшийся младенец,
Когда война, иль мор, или мятеж
Вдруг налетят и землю сотрясают;
И человек душой неутолимой
Бросается в желанную пучину.
Как птица в воздухе, как рыба в океане,
Как скользкий червь в сырых пластах земли,
Как саламандра в пламени — так человек
Во времени. Кочевник полудикий,
По смене лун, по очеркам созвездий
Уже он силится измерить эту бездну
И в письменах неопытных заносит
События, как острова на карте...
Но сын отца сменяет. Грады, царство,
Законы, истины — преходят. Человеку
Ломать и строить — равная услада:
Он изобрел историю — он счастлив!
584
И с ужасом и тайным сладострастьем
Следит безумец, как между минувшим
И будущим, подобно ясной влаге,
Сквозь пальцы уходящей,— непрерывно
Жизнь утекает. И трепещет сердце,
Как легкий флаг на мачте корабельной,
Между воспоминаньем и надеждой —
Сей памятью о будущем...
Но вот —
Шуршат шаги. Горбатая старуха
С большим кулем. Морщинистой рукой
Она со стен сдирает паклю, дранки
Выдергивает. Молча подхожу
И помогаю ей, и мы в согласьи добром
Работаем для времени. Темнеет,
Из-за стены встает зеленый месяц,
И слабый свет его, как струйка, льется
По кафелям обрушившейся печи.
1919—1920
к к к
Леди долго руки мыла,
Леди крепко руки терла.
Эта леди не забыла
Окровавленного горла.
Леди, леди! Вы как птица
Бьетесь на бессонном ложе.
Триста лет уж вам не спится —
Мне лет шесть не спится тоже.
9 января 1922
к к к
Не матерью, но тульскою крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.
585
Она не знала сказок и не пела,
Зато всегда хранила для меня
В заветном сундуке, обитом жестью белой,
То пряник вяземский, то мятного коня.
Она меня молитвам не учила,
Но отдала мне безраздельно все:
И материнство горькое свое,
И просто все, что дорого ей было.
Лишь раз, когда упал я из окна,
Но встал живой (как помню этот день я!),
Грошовую свечу за чудное спасенье
У Иверской поставила она.
И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.
В том честном подвиге, в том счастье песнопений,
Которому служу я в каждый миг,
Учитель мой — твой чудотворный гений,
И поприще — волшебный твой язык.
И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...
Года бегут. Грядущего не надо,
Минувшее в душе пережжено,
Но тайная жива еще отрада,
Что есть и мне прибежище одно:
Там, где на сердце, съеденном червями,
Любовь ко мне нетленно затая,
Спит рядом с царскими, ходынскими гостями
Елена Кузина, кормилица моя.
12 февраля 1917, 2 марта 1922
686
ИЗ ОКНА
2
Все жду: кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,
Зевака бедный окровавит
Торцовую сухую пыль.
И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется,
И станет горькою вода.
Прервутся сны, что душу душат
Начнется все, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром — лишнюю свечу.
И августа 1921.
Вельское Устье
В ЗАСЕДАНИИ
Грубой жизнью оглушенный,
Нестерпимо уязвленный,
Опуская веки я —
И дремлю, чтоб легче минул,
Чтобы как отлив отхлынул
Шум земного бытия.
Лучше спать, чем слушать речи
Злобной жизни человечьей,
Малых правд пустую прю.
Все я знаю, все я вижу —
Лучше сном к себе приближу
Неизвестную зарю.
687
А уж если сны приснятся,
То пускай в них повторятся
Детства давние года:
Снег на дворике московском
Иль — в Петровском-Разумовском
Пар над зеркалом пруда.
12 октября 1921 Москва
Ъ % Ъ
Ни розового сада,
Ни песенного лада
Воистину не надо —
Я падаю в себя.
На все, что людям ясно,
На все, что им прекрасно,
Вдруг стала несогласна
Взыгравшая душа.
Мне все невыносимо!
Скорей же, легче дыма,
Летите мимо, мимо,
Дурные сны земли!
19 октября 1921
СТАНСЫ
Бывало, думал: ради мига
И год, и два, и жизнь отдам...
Цены не знает прощелыга
Своим приблудным пятакам.
Теперь иные дни настали.
Лежат морщины возле губ,
Мои минуты вздорожали,
Я стал умен, суров и скуп.
588
Я много вижу, много знаю,
Моя седеет голова,
И звездный ход я примечаю,
И слышу, как растет трава.
И каждый вам неслышный шепот,
И каждый вам незримый свет
Обогащают смутный опыт
Психеи, падающей в бред.
Теперь себя я не обижу:
Старею, горблюсь — но коплю
Все, что так нежно ненавижу
И так язвительно люблю.
17 — 18 августа 1922
Misdroy
ПРОБОЧКА
Пробочка над крепким йодом!
Как ты скоро перетлела!
Так вот и душа незримо
Жжет и разъедает тело.
17 сентября 1921
Вельское Устье
ИЗ ДНЕВНИКА
Мне каждый звук терзает слух,
И каждый луч глазам несносен.
Прорезываться начал дух,
Как зуб из-под припухших десен.
Прорежется — и сбросит прочь
Изношенную оболочку.
Тысячеокий — канет в ночь,
Не в эту серенькую ночку.
589
А я останусь тут лежать —
Банкир, заколотый апашем,—
Руками рану зажимать,
Кричать и биться в мире вашем.
18 июня 1921
ЛАСТОЧКИ
Имей глаза — сквозь день увидишь ночь,
Не озаренную тем воспаленным диском.
Две ласточки напрасно рвутся прочь,
Перед окном шныряя с тонким писком.
Вон ту прозрачную, но прочную плеву
Не прободать крылом остроугольным,
Не выпорхнуть туда, за синеву,
Ни птичьим крылышком, ни сердцем
подневольным.
Пока вся кровь не выступит из пор,
Пока не выплачешь земные очи —
Не станешь духом. Жди, смотря в упор,
Как брызжет свет, не застилая ночи.
18 — 24 июня 1921
к к к
Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам затерял — теперь ищи...
Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.
Весна 1921. 11 января 1922
590
* * *
Смотрю в окно — и презираю.
Смотрю в себя — презрен я сам.
На землю громы призываю,
Не доверяя небесам.
Дневным сиянием объятый,
Один беззвездный вижу мрак...
Так вьется на гряде червяк,
Рассечен тяжкою лопатой.
21 — 25 мая 1921
АВТОМОБИЛЬ
Бредем в молчании суровом.
Сырая ночь, пустая мгла.
И вдруг — с каким певучим зовом —
Автомобиль из-за угла.
Он черным лаком отливает,
Сияя гранями стекла,
Он в сумрак ночи простирает
Два белых ангельских крыла.
И стали здания похожи
На праздничные стены зал,
И близко возле нас прохожий
Сквозь эти крылья пробежал.
А свет мелькнул и замаячил,
Колебля дождевую пыль...
Но слушай: мне являться начал
Другой, другой автомобиль...
Он пробегает в ясном свете,
Он пробегает белым днем
И два крыла на нем, как эти,
Но крылья черные на нем.
591
И все, что только попадает
Под черный сноп его лучей,
Невозвратимо исчезает
Из утлой памяти моей.
Я забываю, я теряю
Психею светлую мою,
Слепые руки простираю
И ничего не узнаю:
Здесь мир стоял, простой и целый
Но с той поры, как ездит тпотп,
В душе и в мире есть пробелы,
Как бы от пролитых кислот.
2 — 5 декабря 1921
ВЕЧЕР
Под ногами скользь и хруст.
Ветер дунул, снег пошел.
Боже мой, какая грусть!
Господи, какая боль!
Тяжек Твой подлунный мир,
Да и Ты немилосерд.
И к чему такая ширь,
Если есть на свете смерть?
И никто не объяснит,
Отчего на склоне лет
Хочется еще бродить,
Верить, коченеть и петь.
23 .чарта 1922
692
*
Странник прошел, опираясь на посох,—
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет пролетка на красных колесах —
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгут в коридоре —
Мне непременно припомнишься ты.
Что б ни случилось, на суше, на море
Или на небе,— мне вспомнишься ты.
11 (или 13) апреля 1922.
Петроград
ПОРОК И СМЕРТЬ
Порок и смерть! Какой соблазн горит
И сколько нег вздыхает в слове малом!
Порок и смерть язвят единым жалом.
И только тот их язвы убежит,
Кто тайное хранит на сердце слово —
Утешный ключ от бытия иного.
2 ноября 1921.
•к к к
Было на улице полутемно.
Стукнуло где-то под крышей окно.
Свет промелькнул, занавеска взвилась,
Быстрая тень со стены сорвалась —
Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг — а иной.
23 декабря 1922.
Saarow
593
* * *
Нет, не найду сегодня пищи я
Для утешительной мечты:
Одни шарманщики, да нищие,
Да дождь — все с той же высоты.
Тускнеет в лужах электричество,
Нисходит предвечерний мрак
На идиотское количество
Серощетинистых собак.
Та — ткнется мордою нечистою
И, повернувшись, отбежит,
Другая лапою когтистою
Скребет обшмыганный гранит.
Те — жилятся, присев на корточки,
Повесив набок языки,—
А их из самой верхней форточки
Зовут хозяйские свистки.
Все высвистано, прособачено.
Вот так и шлепай по грязи,
Пока не вздрогнет сердце, схвачено
Внезапным треском жалюзи.
23 марта — 10 июня 1923
Saarow
ДАЧНОЕ
Уродики, уродища, уроды
Весь день озерные мутили воды.
Теперь над озером ненастье, мрак,
В траве — лягушечий зеленый квак.
Огни на дачах гаснут понемногу,
Клубки червей полезли на дорогу.
А вдалеке, где все затерла мгла,
Тупая граммофонная игла
594
Шатается по рытвинам царапин
И из трубы еще рычит Шаляпин.
На мокрый мир нисходит угомон...
Лишь кое-где, топча сырой газон,
Блудливые невесты с женихами
Слипаются, накрытые зонтами.
А к ним под юбки лазит с фонарем
Полуслепой, широкоротый гном.
10 июня 1923 Saarow.
31 августа 1924. Cansway
ИЗ ДНЕВНИКА
Должно быть, жизнь и хороша,
Да что поймешь ты в ней, спеша
Между купелию и моргом,
Когда мытарится душа
То отвращеньем, то восторгом?
Непостижимостей свинец
Все толще над мечтой понурой,—
Вот и дуреешь наконец,
Как любознательный кузнец
Над просветительной брошюрой.
Пора не быть, а пребывать,
Пора не бодрствовать, а спать,
Как спит зародыш крутолобый,
И мягкой вечностью опять
Обволокнуться, как утробой.
1—2 сентября 1925.
Mendon
595
ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
Nel mezzo del cammin di nostra vita*
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах,—
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?
Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть,—
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?
Впрочем — так и всегда на средине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами,—
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.
18 — 23 июля 1924.
Париж
* На середине пути нашей жизни (итал.).— Ред.
696
ДАКТИЛИ
1
Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,
Бруни его обучал мягкою кистью водить.
Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза
загляделись,
В летнем пальтишке зимой перебегал он Неву.
А на Литву возвратясь, веселый и нищий художник,
Много он там расписал польских и русских церквей.
2
Был мой отец шестипалым. Такими родятся счастливцы.
Там, где груши стоят подле зеленой межи,
Там, где Вилия в Неман лазурные воды уносит,
В бедной, бедной семье встретил он счастье свое.
В детстве я видел в комоде фату и туфельки мамы.
Мама! Молитва, любовь, верность и смерть —
это ты!
3
Был мой отец шестипалым. Бывало, в ♦сороку-ворону»
Станем играть вечерком, сев на любимый диван.
Вот на отцовской руке старательно я загибаю
Пальцы один за другим — пять. А шестой — это я.
Шестеро было детей. И вправду: он тяжкой работой
Тех пятерых прокормил — только меня не успел.
4
Был мой отец шестипалым. Как маленький лишний
мизинец
Прятать он ловко умел в левой зажатой руке,
Так и в душе навсегда затаил незаметно, подспудно
Память о прошлом своем, скорбь о святом ремесле.
Ставши купцом по нужде — никогда ни намеком, ни
словом
Не поминал, не роптал. Только любил помолчать.
5
Был мой отец шестипалым. В сухой и красивой ладони
Сколько он красок и <?рт спрятал, зажал, затаил?
697
Мир созерцает художник — и судит, и дерзкою волей,
Демонской волей творца — свой созидает, иной.
Он же очи смежил, муштабель и кисти оставил,
Не созидал, не судил... Трудный и сладкий удел!
6
Был мой отец шестипалым. А сын? Ни смиренного
сердца,
Ни многодетной семьи, ни шестипалой руки
Не унаследовал он. Как игрок на неверную карту,
Ставит на слово, на звук — душу свою и судьбу...
Ныне, в январскую ночь, во хмелю, шестипалым
размером
И шестипалой строфой сын поминает отца.
Январь 1927 — 3 марта 1928.
Париж
ПОХОРОНЫ
Сонет
Лоб —
Мел.
Бел
Гроб.
Спел
Поп.
Сноп
Стрел —
День
Свят!
Склеп
Слеп.
Тень —
В ад!
9 марта 1928.
Париж
698
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ
И КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Нина Берберова
ИЗ КНИГИ «КУРСИВ МОЙ»
У Ходасевича были длинные волосы, прямые, черные,
подстриженные в скобку, и он сам читал «Лиду», «Вак¬
ха», «Элегию» в тот вечер. Про «Элегию» он сказал, что
она еще не совсем кончена. «Элегия» поразила меня. Я
достала его книги, «Путем зерна» и «Счастливый' до¬
мик». 23 декабря он опять был у Иды и читал «Балладу».
Не я одна была потрясена этими стихами. О них много
тогда говорили в Петербурге.
Но кто был он? По возрасту он мог принадлежать к
Цеху, к «гиперборейцам» (Гумилеву, Ахматовой, Ман¬
дельштаму), но он к ним не принадлежал. В членах Цеха,
в тех, кого я знала лично, для меня всегда было что-то
общее: их несовременность, их манерность, их проборы,
их носовые платочки, их расшаркиванья и даже их осо¬
бое русское произношение: красивий вместо красивай,
чецверк вместо читверк; грим «светских молодых лю¬
дей» (а «света»-то больше и не было!), что-то «классо¬
вое», что казалось иногда забавным, иногда довольно
приятным, а порой и печальным анахронизмом и всегда
носило печать искусственности. Ходасевич был совер¬
шенно другой породы, даже его русский язык был иным.
Кормилица Елена Кузина недаром выкормила этого по¬
луполяка. С первой минуты он производил впечатление
человека нашего времени, отчасти даже раненного на¬
шим временем — и, может быть, насмерть. Сейчас, сорок
лет спустя, «наше время» имеет другие обертоны, чем
оно имело в годы моей молодости, тогда это было: круше¬
ние старой России, военный коммунизм, нэп как уступка
революции — мещанству; в литературе — конец симво¬
лизма, напор футуризма, через футуризм —напор поли-
599
тики в искусство. Фигура Ходасевича появилась передо
мною на фоне всего этого, как бы целиком вписанная в
холод и мрак грядущих дней. <...>
Был один вечер, ясный и звездный, когда снег хрустел
и блестел, и мы оба — Ходасевич и я — торопились мимо
Михайловского театра куда-то, а в сквере почему-то ус¬
танавливали большие прожектора, в лучах которых клу¬
билось наше дыхание; перекрещивались лучи, словно
проходили сквозь нас, вдруг освещая в ночном морозном
воздухе наши счастливые лица —почему счастливые? Да,
уже тогда счастливые. Мы ловили какой-то уж очень
нахально приставший к нашим шубам луч — может
быть, кто-то заигрывал с нами с другого конца сквера?
На миг все потухло, и мы чуть не потеряли друг друга в
кромешной тьме, но опять начались сверканья, и они
проводили нас до самой Караванной.
Его окно в Доме Искусств выходило на Полицейский
мост, и в него был виден весь Невский.. Это окно и его
полукруглая комната были частью жизни Ходасевича: он
часами сидел и смотрел в окно, и большая часть стихов
♦ Тяжелой лиры» возникла именно у этого окна, из этого
вида. Разница между нами в то время была та, что он
смотрел из окна, а я смотрела в окна. Но был в этом его
окне и обратный смысл: я, уже начиная с Гостиного дво¬
ра, старалась различить его окно, светлую точку в ясном
вечернем воздухе или мутную каплю света, появлявшу¬
юся в темной дали, когда я бывала на уровне Казанского
собора. В этом окне, под лампой «в шестнадцать свечей»,
я видела его зимой, за двойными рамами, а весной — в
раме открытого окна; он видел меня далеко-далеко, ког¬
да поджидал мой приход, различая меня среди других на
широком тротуаре Невского, или следил за мной, когда
я уходила от него: поздним вечером черной точкой, ис¬
чезающей среди прохожих, глубокой ночью — тающим
силуэтом, ранним утром — делающей ему последний знак
рукой с угла Екатерининского канала.
Несмотря на свои тридцать пять лет, как он был еще
молод в тот год! Я хочу сказать, что тогда он еще по-
настоящему не знал ни вкуса пепла во рту (он говорил
потом: у меня вкус пепла во рту даже от рубленых кот¬
лет!), ни горьких лет нужды и изгнания, ни чувства стра¬
ха, который скручивает узлом все тонкие, толстые, пря¬
мые и слепые кишки человека. У него, как и у всех нас,
была еще родина, был город, была профессия, было имя.
Безнадежность только изредка, только тенью набегала на
600
душу, мелодия еще звучала внутри, намекая, что не из
всех людей хорошо делать гвозди, иные могут пригодить¬
ся в другом своем качестве. В этом другом качестве каза¬
лось возможным организовать — не Россию, не револю¬
цию, не мир, но прежде всего — самого себя. Осознана была
важность порядка внутри себя и важность смысла за фак¬
том — не в плане утешительном, не в плане оборонитель¬
ном, но в плане познавательном и экзистенциальном. И в
разговорах, которые мы вели друг с другом весь январь и
февраль, были не «вы» и «я», не случаи и не происшест¬
вия, не воспоминания и надежды, а связи мыслей, мыслен¬
ных планов и узнавания взаимных границ.
Перемена в наших отношениях связалась для меня со
встречей нового, 1922 года. После трехлетнего голода,
холода, пещерной жизни вдруг зароились фантастичес¬
кие планы — вечеров, балов, новых платьев (у кого еще
были занавески или мамины сундуки); в полумертвом
городе зазвучали слова: одна бутылка вина на четырех,
запись на ужин, пригласить тапера. Всеволод Рождес¬
твенский, с которым я дружила, предложил мне вместе
с ним пойти в Дом Литераторов вечером 31 декабря. Я
ответила согласием. Ходасевич спросил меня, где я встре¬
чаю Новый год. Я поняла, что ждала этого вопроса, и
сказала, что Рождественский пригласил меня на ужин.
Он не то огорчился, не то обрадовался и сказал, что тоже
будет там.
Рождественский, как я сказала, делил в этот год свою
комнату с Н. С. Тихоновым. Я бывала у них часто, и
однажды Рождественский показал мне кипарисовый ла¬
рец Анненского, ту шкатулку кипарисового дерева, кото¬
рую Валентин Иннокентиевич Кривич-Анненский при¬
нес ему на сохранение. В ларце лежали тетради, исписан¬
ные рукой Анненского, и мы однажды целый вечер
читали эти стихи, разбирая их, оба изнемогая от восторга
и волнения.
За столиком в столовой Дома Литераторов сидели в
тот вечер: Замятин с женой, К. И. Чуковский, М. Сло¬
нимский, Федин со своей подругой, Ходасевич, Рождес¬
твенский и я.
Честно, весело и пьяно
Ходим в мире и поем
И втроем из двух стаканов
Вечерами долго пьем.
Спросит робкая подруга:
601
Делят как тебя одну?
Только стала я косая:
На двоих зараз смотрю.
Жизнь моя береговая,
И за то благодарю!
— Что это значит «жизнь береговая»? — спросил
Ходасевич, сидевший справа от меня за ужином.
— Береговая — это которая берегом идет, дорога бере¬
говая, прогулка береговая.— Меня удивило, что он не
понимает.
— Значит, не настоящая, а так, сбоку, что ли?
— Если хотите.
— Просто для развлечения. Хочу — пойду, хочу —
дома останусь.
— Ну да. По краю. Жизнь по краю. Не всамделишная.
Выждав, когда сидевший налево от меня Рождествен¬
ский вступит в разговор с сидевшим напротив Фединым,
Ходасевич тихо сказал:
— Нет. Я не хочу быть береговым. Я хочу быть всам¬
делишным.
Николай Богомолов
ИЗ СТАТЬИ «ЖИЗНЬ И ПОЭЗИЯ
ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА»
Все направляло молодого, болезненного и оттого еще
более самоуглубленного человека к символизму, пережи¬
вавшему тогда свой расцвет: «Ведь какие времена
были! — В те дни Бальмонт писал «Будем как Солнце»,
Брюсов— «Urbi et Orbi». Мы читали и перечитывали
всеми правдами и неправдами раздобытые корректуры
скорпионовских «Северных цветов». Вот — впервые от¬
тиснутый «Художник-Дьявол», вот «Хочу быть дерз¬
ким», которому еще только предстоит сделаться пресло¬
вутым. <...> Читали украдкой и дрожали от радости.
Еще бы! Весна, солнце светит, так мало лет нам обоим,—
а в этих стихах целое откровение». В 1903 году Ходасе¬
вич «нелегально» попадает на заседание Литературно-ху¬
дожественного кружка, где Брюсов читает знаменитый
доклад о Фете. В 1904 году начинают выходить «Весы»,
ставшие центром русского символизма на бурные пять
602
лет. Гофман уже принят в среде символистов, не слиш¬
ком восторженно, но как свой. И даже по сохранившему¬
ся гимназическому сочинению Ходасевича мы чувству¬
ем, как стесняет его заранее предначертанный жизнен¬
ный путь. Сочинение это написано на тему: «Правда ли,
что стремиться лучше, чем достигать?» и посвящено
страстному утверждению: да, лучше. Именно в стремле¬
нии выявляются, по мнению юноши, лучшие стороны
человека, а достижением может удовлетвориться лишь
убогий и ограниченный. Здесь, за этим гимназическим
сочинением, уже стоит выношенная позиция, которой
Ходасевич не изменит до самого конца.
И нет сомнения, что эта позиция теснейшим образом
связана с попытками русских символистов вырваться за
пределы окружающего их мира, превратить повседнев¬
ное существование в некую форму постоянного предощу¬
щения того, что откроется в сверхчувственном опыте. На
наш, современный взгляд трезво мыслящих людей это
выглядит странно и нередко смешно. Но для литератур¬
ного поколения Ходасевича и его сверстников такое
мироощущение воспринималось как единственно достой¬
ное истинного поэта.
Ведь искушение символизмом прошли в той или иной
степени едва ли не все крупные русские поэты начала XX
века. Но для Ходасевича это влияние было обострено тем,
что он очень рано, почти в детстве, попал в атмосферу
символизма — и в то же время ощутил себя в нем, как и
в родной семье, самым младшим, последышем. Именно
поэтому «тонкие яды» символизма пронизали его душу
насквозь и сделали его тем поэтом, каким он стал, хотя
от классического символизма его отделяет очень многое.
Первым моментом движения для Ходасевича явилась
книга «Молодость» (1908), к которой он попытался вер¬
нуться в начале 20-х годов — и не смог: собственные
переживания (вернее, тот язык, которым они были опи¬
саны) оказались для самого же поэта непонятными.
В воспоминаниях о Блоке Ходасевич писал: «...пере¬
шли к раннему символизму <...> Блок признавался, что
многих тогдашних стихов своих он больше не понимает:
«Забыл, что тогда значили многие слова. А ведь казались
сакраментальными. А теперь читаю эти стихи, как чу¬
жие, и не всегда понимаю, что, собственно, хотел сказать
автор»». Слова Блока концентрируют то же самое, что
испытал и Ходасевич по отношению к своим первым
стихам, вышедшим к читателю. «Молодость» действи-
603
тельно трудно понять так, как она писалась. Сакрамен¬
тальное стало для сегодняшнего читателя манерным,
понятное с полуслова — уже забылось, знаки необыкно¬
венных страстей оказались пустыми, ничего не выража¬
ющими.
Но для более подробного разговора о «Молодости»
необходимо на некоторое время отступить в биографию,
потому что без нее невозможно осмыслить внутренний
сюжет сборника.
Окончив гимназию, Ходасевич поступил в Московс¬
кий университет — сначала, как и его братья, на юриди¬
ческий факультет, потом перевелся на историко-филоло¬
гический. Но уже тогда было ясно, что для него «стихи
навсегда», как он запишет в хронологической канве
своей биографии под 1903 годом. Университет — только
внешнее (потому-то он и не был окончен), а главное —
поэзия. И еще — любовь.
В 1905 году Ходасевич женится на одной из первых
московских красавиц — Марине Эрастовне Рындиной,
богатой и эксцентричной девушке, перипетии любви к
которой образуют глубокий подтекст большинства ран¬
них стихов Ходасевича, в том числе и «Молодости». Мы
можем только догадываться по сравнительно немногим
намекам в воспоминаниях и письмах, что отношения
между Ходасевичем и Мариной были очень непросты. Из
воспоминаний второй его жены, Анны Ивановны, мы
знаем, что осенью 1907 года Марина увлеклась поэтом и
искусствоведом С. К. Маковским, будущим издателем
«Аполлона», и в самом конце года они с Ходасевичем
расстались.
Позже, задумывая переиздать «Молодость», поэт на¬
пишет, что тогда название книги звучало для него горь¬
кой иронией: какая уж тут молодость, когда на глазах
рушится весь «простой и целый мир», в котором любовь
служила оправданием всем переживаниям поэта!
И, отбирая стихи, располагая их в книгу, Ходасевич
стремится вычленить лирический сюжет, положить его в
основу целого сборника, сделать той основной линией, на
которой задержится внимание читателя, которая позволит
ему почувствовать не только драматизм жизни поэта, но и
катастрофичность его мироощущения, где «Самая хмель¬
ная боль — Безнадежность, Самая строгая повесть — Лю¬
бовь!»...
А он сам предстает извечно, изначально трагической
фигурой, для которой «неизменно все, как было» (эту
604
формулу, взятую у Блока, Ходасевич употребляет в од¬
ном стихотворении):
О, много раз встречались вы со мной,
Но тайных слез не замечали.
(«Поэт», 1907)
Этот трагизм является главным, доминирующим чув¬
ством стихов, включенных в «Молодость». Не случайно
самое первое стихотворение в нем — «В моей стране»
(1907), где пейзаж души поэта рисуется беспощадными
красками:
В моей стране — ни зим, ни лет, ни весен,
Ни дней, ни зорь, ни голубых ночей.
Там круглый год владычествует осень,
Там — серый свет бессолнечных лучей.
Трагична жизнь природы, трагично творчество, тра¬
гична любовь, трагично само течение времени. Поэт как
бы гипнотизирует своего читателя ситуациями, внешне
различными, а на деле сводящимися только к одному —
выявлению собственного восприятия жизни как торжес¬
тва отчаяния и безнадежности. Высшего напряжения
достигает это в стихотворении, где поэт представляет
себя в виде распятого Христа, отданного на муки, за
которыми не видно ничьей направляющей руки, оправ¬
давшей бы страдания. Древняя легенда оказывается пол¬
ностью перестроенной, отрешенной от своего религиоз¬
ного смысла и даже кощунственной (представить себя в
виде Христа!). Но зато миссия поэта в этом мире стано¬
вится тем самым предельно ясной:
Ужели бешеная злость
И мне свой уксус терпкий бросит?
И снова согнутая трость
Его к устам, дрожа, подносит?
Увы, друзья, не отойду!
Средь ваших ласк — увы, не скрытых —
Еще покорней припаду
К бокалу болей неизбитых...
(«Опять во тьме. У наших ног...», 1907)
Герой стихотворения лишен даже права на смерть. Он
обречен всегда пить из «бокала болей неизбитых», пере-
605
плавляя бытийственную тоску окружающего его мира в
свое творчество. Среди «ласк и слез» он должен ощутить
и вплести в свои стихи представление о мире как о цар¬
стве обреченности на смерть...
Таким образом, «Молодость» символизирует предель¬
ную серьезность взгляда на мир, которая поглощает все
остальные эмоции поэта. Но эта серьезность не подкреп¬
лена пока что самостоятельностью взгляда на мир, она
заемна.
Заимствует Ходасевич прежде всего у тех поэтов, ко¬
торые определяли литературный вкус времен его юнос¬
ти,— у Брюсова, Блока, Андрея Белого, Сологуба. Не
случайны и эпиграфы, выбранные из стихов этих поэтов,
и посвящения стихов. Свой еще слабый голос Ходасевич
стремится сплести с голосами гораздо более сильными,
стремится подкрепить свои чувства чужим авторитетом,
чтобы доказать свое право на трагическое мировидение
тем, что оно есть уже в литературе современности, у ее
самых ярких представителей.
Конец 900-х годов был для русских символистов вре¬
менем наступившей славы, сопровождавшейся массовым
эпигонством, о чем писали как критики, символизму
посторонние («Третий сорт» К. И. Чуковского), так и
сами символисты («Вольноотпущенники» Андрея Белого
и многие другие). В этих статьях сказано много справед¬
ливого о поэтах, которые, раз ступив на дорогу предшес¬
твенников, так безоглядно по ней и пошли. Но про стихи
«Молодости» этого написать было нельзя. Не зря сочув¬
ственно цитировал «Время легкий бисер нижет...» тон¬
кий и проницательный Иннокентий Анненский; не зря
суровый к дебютантам Валерий Брюсов нашел возмож¬
ным, высказав целый ряд серьезных претензий к поэту,
все же отметить: «Эти стихи порой ударяют больно по
сердцу, как горькое признание, сказанное сквозь зубы и
с сухими глазами». Одним словом, дебют Ходасевича был
встречен символистами сочувственно, как первое выступ¬
ление, пусть еще робкое, своего сомышленника и сочув-
ственника.<...>
в помощь
УЧЕНИКУ И УЧИТЕЛЮ
КОММЕНТАРИИ
С. 17. Пигмалион — в греческой мифологии легендарный
скульптор, царь Кипра, влюбившийся в изваянную им скульптуру
Галатеи. Будучи оживлена, Галатея стала женой П. В переносном
смысле — человек, влюбленный в свое творение. Андромеда — в
греческой мифологии дочь царя Эфиопии, которую он отдал в
жертву морскому чудовищу и спасенная Персеем, героем, сыном
Зевса и Данаи. Эвридика — жеу.е. Орфея, певца, своим чудесным
пением очаровывавшего богов и укрощавшего дикие силы приро¬
ды. Аид — царство мертвых.
С. 18. Фермопилы — горный проход, соединяющий северный и
южный районы Греции. Прометей — в греческой мифологии ти¬
тан, похитивший у богов с Олимпа огонь и передавший его людям.
Эллада — название Греции. Инд и Ганг — реки в Индии. Ксеркс
(5 век до н.э.) — царь государства Ахеменидов, древнеперсидской
династии. ’
С. 25. Горемыкин И. Л. (1839—1917) и Делянов И. Д. (1818—
1897) — русские государственные деятели, реакционеры, извест¬
ные своими контрреформами, Бедоносцев — имеется в виду Побе¬
доносцев К. П. (1827—1907),— русский государственный деятель,
вошедший в историю как крайний реакционер. Да и Юльину без¬
носому... — намек на внешность Витте С. Ю., видного государ¬
ственного деятеля, проводившего политику привлечения буржуа¬
зии к сотрудничеству с царской властью.
С. 27. Мессия — см. примеч. к с. 246. Иереи — официальное
название православного священника.
С. 28. Сайма — система озер в Финляндии.
С. 30. «Плач Ярославны» — фрагмент из «Слова о полку Иго¬
реве» (см.примеч. к с.) Пергам — древний город в Малой Азии.
Андромаха — в греческой мифологии жена Гектора, символ вер¬
ной любви, Путивль — легендарный русский город, известный с
12 века, важный топоним «Слова о полку Игореве».
С. 32. Потир — литургический сосуд, чаша, как правило из
драгоценных металлов и камней, для освящения вина и принятия
причастия.
С. 50. И от Лазарей... По евангельскому преданию, Лазарь был
воскрешен Христом на четвертый день после смерти.
20 Серебряный век
609
С. 52. Вамел-Коски — водопад на реке Вуоксе.
С. 61. Дочь Наира — по евангельскому преданию, девушка,
воскрешенная Христом.
С. 62. Арлекин и Пьеро — персонажи старинной итальянской
народной комедии, которые были возрождены в русском театре
начала XX века. А.— бойкий и предприимчивый персонаж в кос¬
тюме из разноцветных лоскутьев, П. — печальный, одетый во все
белое неудачник.
С. 66. Митенка — женская перчатка без пальцев.
С. 69. Карамазовы— братья Иван, Митя, Алеша и их отец
Федор, герои романа Достоевского «Братья Карамазовы*.
С. 70. Лазарь воскрешенный — см. примеч. к с. 50.
С. 70. Гигант на скале — памятник Петру I работы Фальконе
в Петербурге («Медный всадник*).
С. 73. Ревель — старое название Таллина. Чухонки — устарев¬
шее просторечное название финнок. В ст. «Старые эстонки* име¬
ются в виду события 1905—1906 г.г, в Эстонии, в частности, ве¬
роятно, кровавая расправа над участниками массовой рабочей де¬
монстрации и митинга, состоявшихся в Ревеле 16 октября 1905 г.,
в результате которого были убиты и тяжело ранены люди.
С. 97. Ассаргадон — точнее: Асархаддон, ассирийский царь
(7 век до н.э.) В Сирии сохранилась на стене надпись о его победах.
Сидон — древний финикийский город, Ассаргадоном разрушен¬
ный. Элам — древнее государство к юго-востоку от Ассирии.
С. 99. Конь б лед — эпиграф из Апокалипсиса.
С. 102. Гунны — кочевой народ, сложившийся во 2—4 вв. в
Приуралье из тюркоязычных народов. Атилла (Аттила)— вождь
гуннов, правивший в 5 веке.
С. 103. Юлий Цезарь (100-44 гг до н.э. — 7дон.э.) — знаменитый
римский государственный деятель и полководец. После жестокого
поражения, нанесенного противниками римским войском и беспо¬
рядков в Риме, вызванных столкновениями трибунов-демагогов Ми-
лоиа и Клодия, сенат передал власть Помпею, в руках которого была
военная сила. Парфяне — иранское племя. Эреб — в греческой мифо¬
логии преисподняя. Рубикон — река на апеннинском полуострове.
С. 104. Ассаргадон — см. примеч. к с. 97. Агора — в Древней
Греции название народных собраний и площади, где они происхо¬
дили.
С. 104. Исакий — Исакиевский собор в Петербурге. Высится
Петр — памятник Петру 1 работы скульптора Фалькон, которому
посвящена поэма Пушкина «Медный всадник». Бедный Евге¬
ний — герой «Медного всадника».
С. 109. Израиль — по Библии имя, которое получил Иаков
после того как вышел непобежденный из поединка с Богом.
С. 110. Ты счастье Цезаря везешь — Юлий Цезарь во время
ею
гражданской войны переправлялся через море на маленьком суд¬
не. Испугавшись бури, кормчий хотел повернуть, назад. Цезарь же
взял его за руку и сказал: «Вперед, любезный, и смелей, не бойся
ничего: ты везешь Цезаря и его счастье».
С. 111. Эдем — в библейской мифология страна, где обитали
Адам и Ева до грехопадения; синоним pa$L
С. 112. «Слово» — имеется в виду «Слово о полку Игореве»,
анонимный памятник древнерусской литературы. Ярославна —
героиня «Слова», символизирующая женскую верность. Ната¬
ша —героиня романа Льва Толстого «Война и мир». Лиза — геро¬
иня романа Карамзина «Бедная Лиза». Татьяна — героиня рома¬
на Пушкина «Евгений Онегин».
С. 129. Парки — в римской мифологии богини судьбы.
С. 131. Леонардо да Винчи (1452—1519) — великий итальянс¬
кий художник.
С. 170. Святой Георгий (он же Великомученик, Победоно¬
сец) — один из наиболее чтимых и популярных святых христиан¬
ского пантеона. Изображается на коне — поражающим змея.
С. 175. Мукден (Шэньян) — город в Китае, где русская армия
в 1905 году по вине бездарного командования потерпела пораже¬
ние от японцев. Цусима — имеется в виду Цусимский пролив
(Япония), где в 1905 году японский флот потопил русскую эскад4-
ру. Ходынка — катастрофа, имевшая место в 1896 году в Москве
на Ходынском поле, когда во время народного гулянья по случаю
коронации Николая 11 из-за халатности властей в давке погибло
около 2000 человек.
С. 176. Перун — славянский бог грома и молнии.
С. 176. Хризолит — драгоценный камень.
С. 178. Баядера — индийская танцовщица.
С. 204. Мемфис — древнегреческий город, который во времена
Древнего Царства (111 тыс. до н. э. ) был столицей Египта. Вави¬
лон — древний город в Двуречьи (на территории современного
Ирака), столица Вавилонского царства в XIX—VI вв до н. э.
Понт — древнегреческое название Черного моря. Тавро-скифы —
древнейшее население южной части Крыма.
С. 205. Баштан — бахча, поле, на котором выращивают арбу¬
зы и дыни, Босфор — пролив в Турции.
С. 206. Царьград — древнерусское название Стамбула. Ску-
таръ —предместье Стамбула, на берегу Босфора.
С. 207. Рахиль — по библейской легенде, жена патриарха Иако¬
ва, красавица, умершая от родов по дороге в Вифлеем. * Гробница
Рахили*— кубическое строение с маленькими куполами, позднее
сооружение.
С. 208. Долина Иософата (отождествлялась с долиной Кедрон
к северо-востоку от Иерусалима) — по Библии, место будущего
20* 611
Страшного суда. Левиты — служители религиозного культа у
древних евреев.
С. 211. Исакий— см. примеч. к, с.104.
С. 228. Золотое руно — в греческой мифологии золотая шкура
волшебного барана, которая охранялась драконом у царя Колхи¬
ды. Аргонавты — герои, отправившиеся на корабле «Арго» за зо¬
лотым руном.
С. 231. *Будем как Солнце* (М.,1903) — книга стихотворений
К. Бальмонта.
С. 233. Менуэт — старинный народный французский танец,
Эолова арфа — древний музыкальный инструмент (Эол — бог вет¬
ров), струны которого приводились в колебание движением ветра.
С. 235. Алтын — старинная русская монета. Городовой — в
Российской империи низший чин городской полицейской управы.
Трепак — русский народный танец с сильным притоптыванием.
Гомилетика — часть риторики, излагающая правила построения
церковной проповеди. Каноника — книга, составляющая собрание
церковных канонов,
С. 241. Колоток — то же, что колотушка, устройство из доще¬
чек у деревенских сторожей для постукивания во время обхода
участка.
С. 243. Кипень — белая пена от кипения.
С. 246. Мессия — в христианской религии ниспосланный Бо¬
гом спаситель, который должен установить навечно свое царство.
С. 248. Танка — пятистишие, жанр японской поэзии.
С. 292. 14 декабря 1825 года — дата восстания декабристов,
русских дворян — революционеров, поднявшихся против самодер¬
жавия и крепостничества.
С. 297. Викжель — сокращенное название Всероссийского ис¬
полнительного железнодорожного профсоюза,
С. 319. Офелия смотрела на Гамлета — герои трагедии
В. Шекспира «Гамлет».
С. 345. Скиния — святилище, священное место. Кимвал —
древний музыкальный инструмент в виде двух музыкальных
тарелок.
С. 350. In vino veritas (лат.) — истина в вине.
С. 357. <Макбет* — трагедия В. Шекспира, где есть такие
строки: Земля, как и вода, содержит газы,/ И это были пузыри
земли. Паоло и Франческа — несчастные любовники, жившие в
Италии в 13 веке; об их трагической судьбе рассказывается в «Бо¬
жественной комедии» Данте.
С. 358. Аи — сорт шипучего вина.
С. 367. Шлея — часть сбруи.
С. 372. Наяда — в греческой мифологии богиня рек и ручьев.
С. 404. Звезда Майр — название образовано по аналогии с Альта-
612
ир, звездой в созвездии Орла. Земля Ойле — названа, видимо, по
имени Оле-Луко-йе, которое носят Братья, герои одноименной сказ¬
ки Андерсена, олицетворяющие сон и смерть. Река Лигой — назва¬
ние происходит, видимо, от Лиго — в латышской мифологии богиня
любви и счастья.
С. 405. Недотыкомка (облает.) — тот, до кого нельзя дотро¬
нуться. Образ Недотыкомки проходит и сквозь весь роман Ф. Со¬
логуба «Мелкий бес».
С. 413. Триолет — строфическая поэтическая форма: вось-мис-
тишие. Будетляне, кубо-футуристы — члены московской литера¬
турной группы «Гилея», в 1911 году провозгласившие своей целью
создание искусства будущего. Их анархическое бунтарст-во прояв¬
лялось, в частности, в эксцентричности одежды и внешнего вида.
Ф. Сологуб относился к ним с сочувственным вни- манием.
С. 415. Парадиз — рай. Петр — согласно Евангелию, один из
двенадцати апостолов Христа; по одной из версий, Христос вру¬
чил Петру ключи как символ церковной власти, и тот охраняет
вход в рай.
С. 451. Чад — озеро в Африке.
С. 452. Фелука — небольшое парусное судно.
С. 452. Девы-жрицы с эбеновой кожей — то есть кожей, подо¬
бной ценной древесине эбенового дерева.
С. 454. Друиды — жрицы у древних кельтов, которым припи¬
сывались колдовские способности. Сибиллы — в греческой мифо¬
логии пророчицы, зловещие прорицательницы.
С. 455. Семирамида — ассирийская царица (9 в. до н. э.), с
которой связано много древних легенд.
С. 459. Пагода — буддийское мемориальное .сооружение, хра¬
нилище реликвий.
С. 460. Золотая Орда — монголо-татарское феодальное госу¬
дарство, основанное в 13 веке ханом Батыем. Лагор — главный
город Пенджаба, Пятиречья. Вольга — герой русского былинного
эпоса, бывший сыном змея и умевший обращаться в тура.
С. 461. Стрибог — восточнославянское божество, бог воздуш¬
ных стихий: ветра, бури и проч. Печенеги — кочевое племя (8—
9 вв.) в заволжских степях.
С. 463. Рюрик — согласно древней летописи, начальник варяж¬
ского военного отряда, якобы призванный славянами княжить в
Новгороде.
С. 464. Пер Гюнт и Бранд — герои одноименных драм Г. Ибсена.
С. 466. Кюре — священник католического прихода.
С. 468. Мединетка (франц, арго) — молодая парижская работ¬
ница, чаще всего служащая в фирме модной одежды. Ганнибал
(3—2 вв до н.э.) — славный карфагенский полководец. Евы, зон¬
ды — иранские племена.
613
С. 490. Акафист — хвалебное церковное песнопение.
С. 496. Ходовецкий — немецкий график и живописец 19 века,
автор изящных гравюр.
С. 497. Палатин — один из семи холмов, на которых возник
древний Рим.
С. 498. Красная горка — первая неделя после пасхальной, ког¬
да в России принято было справлять свадьбы. Домовина — в про¬
сторечии: гроб.
С. 509. Сомбреро — испанская широкополая шляпа.
С. 511. Интермеццо — музыкальная пьеса, исполнявшаяся в
перерыве между действиями трагедии или оперы. Фимьямный —
эпитет от слова «Фимиам», благовонное куренье. Каскетка — лег¬
кая шапочка. Офлерить — глагол (неологизм И. Северянина) от
слова «флер», прозрачная дымка.
С. 513. Шале (франц.) — небольшой загородный деревянный
дом.
С. 514. Кензель — во французской поэзии форма стихотворе¬
ния из трехпятистиший. Тальма—длинная накидка. Ландо-
лет — марка легкового автомобиля.
С. 515. Креолка — представительница креолов, потомков ис¬
панских и португальских завоевателей в Латинской Америке.
Сплин (англ.) — тоска, хандра.
С. 516. Буше (франц.) — кусок, порция. Вирзле — в старофран¬
цузской поэзии шестистрочная строфа. Сбитень — горячий напи¬
ток из воды или пива с медом и пряностями.
С. 517. Диссона— от термина «диссонанс», означающего не¬
точную рифму с совпадающими согласными и несовпадающими
ударными гласными (шелесте — шалости). Журфикс (франц.) —
день недели, установленный для приема госчетк.Венгерка — гусар¬
ская куртка с нашитыми поперечными шнурами. Арлекиния —
неологизм И. Северянина от имени Арлекин: слуга-интриган в
комедии дель арте. Аристотельство — неологизм И ^Северянина
от имени Аристотель: древнегреческий философ, воплощение
мудрости и логики.
С. 518. Ассонанс — созвучие ударных гласных звуков, как пра¬
вило, в неточной рифме.
С. 518. Буер — лодка или треугольная платформа с парусом,
установленная на особых коньках для катания на льду.
С. 519. Баязет — город в Турции на границе с Россией. Порт-
Артур — бывшая русская крепость в Китае. Пилигрим — стран¬
ствующий богомолец, паломник.
С. 537. L’ amor die muove il Sole е Г altre stelle (итал.) — Лю¬
бовь, что движет солнце и светила; цитата из «Божественной ко¬
медии» Данте.
С. 539. Кочевники красоты — перекличка с «Трактатом о На-
614
рциссе» Л. Жида. Эпиграф — из неоконченного и неопубликован¬
ного романа Л .Зиновьевой-Аннибал «Пламенники». Аттила —
см. примеч. к с. 102.
С. 540 Споки — древнейший стихотворный размер, которым
написаны священные книги индусов.
С. 542. Фивы — древнеегипетский город. Изида — в египетс¬
кой мифологии богиня, супруга Озириса, которая разыскивала час¬
ти тела своего мужа, убитого и расчлененного его братом. Тиара —
головной убор, символ власти.
С. 544. Мелопея — в Древней Греции: песнопение, создание
мелодии. Гименей — в греческой и римской мифологии бог брака.
С. 546. Каин — по Библии, сын Адама и Евы, убивший иЗ за¬
висти своего брата Авеля. Кришна — бог в иудаизме. Гуатама —
Будда, основатель религии буддизма. Титаны — в греческой ми¬
фологии божества, восставшие против Зевса.
С. 548. Вельзевул — в Новом Завете имя главы демонов.
С. 566. Пан — в греческой мифологии бог стад, покровитель
пастухов, а затем всей природы.
С. 574. Рахиль — см. примеч к с. 207.
С. 576. Дергач — птица, издающая скрипучие звуки, то же, что
коростель.
С. 576. Брента — река около Венеции.
С. 587. Иверская — часовня Иверской Богоматери, находивша¬
яся в Москве у Красной площади. Ходынские гости — см. примеч.
к с. 175.
С. 589. Пря — спор, борьба, состязание. Петровско-Разумов¬
ское — дачная местность недалеко от Москвы.
С. 599. Дактиль — стихотворный трехсложный размер с уда¬
рением на первом слоге. Бруни Э.Д. (1799—1875) — русский исто¬
рический живописец. Там, где фиванские сфинксы — имеется в
виду набережная перед петербургской Академией художеств.
Муштабель — легкая деревянная палочка с шариком на конце,
служащая опорой для правой руки живописца для выполнении
мелких деталей.
ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ И РЕФЕРАТОВ
ПО ПОЭЗИИ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»
1. Психологизм поэзии И. Анненского.
2. Роль прозаизмов в поэтике И. Анненского.
3. И.Анненский и символизм.
4. И.Анненский как предтеча акмеизма.
5. Отражение революции 1905 г. в поэзии И. Анненского и
Ф. Сологуба.
6. «Вещный мир» в поэзии И. Анненского.
7. Монографический анализ одного из стихотворений И.Ан¬
ненского: «Старая шарманка», «То было на Вален-Коски», «Смы¬
чок и струны», «Старые эстонки» (по выбору учащегося).
8. Противостояние мечты и действительности в поэзии Ф.Со-
логу ба.
9. Тема России в поэзии Ф. Сологуба.
10. Монографический анализ одного из стихотворений Ф. Со¬
логуба: «Я — бог таинственного мира...». «Чертовы качели», «Ис¬
кали дочь» (по выбору учащегося).
11. Традиции А. Фета в поэзии К. Бальмонта.
12. «Я — изысканность русской медлительной речи...» (о поэти¬
ке К. Бальмонта).
13. Монографический анализ одного из стихотворений К. Баль¬
монта: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Придорожные травы»,
«Святой Георгий», «Безглагольность» (по выбору учащегося).
14. Лирический герой поэзии А. Блока.
15. Тема пути в творчестве А. Блока.
16. Жизненные реалии в стихах о «Прекрасной даме» А.Блока.
17. Мотив возмездия в поэзии А. Блока.
18. «Страшный мир» в поэзии А. Блока.
19. Образ ветра в творчестве А. Блока.
20. Тема России в творчестве А. Блока.
21. Традиции Пушкина в творчестве А. Блока.
22. Стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье...» и
стихотворение А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...».
23. Традиции Некрасова в поэзии А. Блока.
24. Продиктованная содержанием форма поэмы «Двенадцать»
А. Блока.
616
25. Значение образа Христа в поэме «Двенадцать» А. Блока.
26. Образ Христа в поэзии А. Блока.
27. Революция как стихия в поэме «Двенадцать» А. Блока.
28. Символика поэмы «Двенадцать» А. Блока.
29. Новаторство А. Блока в поэме «Двенадцать».
30. Поэма А. Блока «Двенадцать» и статья «Интеллигенция и
революция».
31. Проблематика поэмы «Соловьиный сад» А. Блока.
32. Темы, идеи и образы Достоевского в творчестве А. Блока.
33. «Сотри случайные черты — и ты увидишь: мир прекрасен»
(А. Блок о смысле искусства).
34. Монографический анализ одного из стихотворений А. Бло¬
ка: «Незнакомка», «На поле Куликовом», «Поэты», «Россия»,
«К музе», «Унижение», «Перед судом» (по выбору учащегося).
35. Тема «балаганчика» в творчестве А. Блока.
36. Маскарад и реальность в поэзии А. Блока и А. Белого.
37. Тема России в поэзии А. Белого.
88. Карнавальные образы в стихах А. Белого.
39. Новаторство А. Белого.
40. Религиозные искания и поэзия Вячеслава Иванова.
41. Роль архаизмов в поэтическом языке Вячеслава Иванова.
42. Владимир Соловьев как предтеча русского символизма.
43. Лермонтов в восприятии поэтов «серебряного века» (статьи
В. Соловьева «Лермонтов», 1901 г., Д. Мережсковский «М. Ю. Лер¬
монтов — поэт сверхчеловечества», 1907—1909 гт., А. Блока «Пе¬
дант о поэте», 1906 г.).
44. Гоголь глазами поэтов «серебряного века» (статьи Д. Ме¬
режковского «Гоголь и черт», 1906 г., А. Блока «Дитя Гоголя»,
1909 г., А. Белого «Гоголь», 1909 г.).
45. Литературный быт «серебряного века» (по воспоминаниям
современников).
46. «Поэзия заговоров и заклинаний» (А. Блок) в творчестве
Ф. Сологуба, А. Белого, К.Бальмонта.
47. Художники «Мира искусства» и поэты-символисты.
48. А. Блок и Врубель.
49. Поэты-символисты о музыке как высшей форме искусства.
50. Античная культура в творчестве поэтов «серебряного века».
51. М. Горький и А. Блок о культуре и революции.
52. Пути и судьбы поэтов «серебряного века» в эпоху войн и
революций.
53. Трагедийный мир современного города (по произведениям
В. Брюсова, А. Блока, В. Маяковского).
54. Ницше и поэты «серебряного века».
55. Религиозные искания поэтов-символистов.
56. Нравственные устои и'поэзия декаданса.
617
РАЗВЕРНУТЫЙ ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
ДОМАШНЕГО ИЛИ КЛАССНОГО
СОЧИНЕНИЯ
Одна из главных задач предлагаемого плана широко предста¬
вить тот материал (стихотворения, дневниковые записи, статьи
и высказывания Блока), на который можно опираться, раскры¬
вая тему. Все цитаты даются по изданию: Блок А.. Собр. соч. в
6-ти томах. Л., «Художественная литература», 1980—1983.
ТЕМА РОССИИ В ТВОРЧЕСТВЕ БЛОКА
Вступление
Мысли о России, ее исторической судьбе не оставляли
Блока на протяжении всей жизни, образ России прохо¬
дит через все его творчество. Он писал Станиславскому
(9 декабря 1908 г.), что к теме России подходил «давно.
С начала своей сознательной жизни»: «Ведь тема моя, я
знаю теперь твердо, без всяких сомнений — живая, ре¬
альная тема: она не только больше меня, она больше всех
нас; и она — всеобщая наша тема... Этой теме я созна¬
тельно и бесповоротно посвящаю жизнь».
Насколько важной и всеобъемлющей для Блока была
тема России, как много в себе заключала, писал Н; Гуми¬
лев в 1912 г. в рецензии на сборник стихотворения Блока
«Ночные часы»: «Перед Блоком стоят два сфинкса, за¬
ставляющие его «петь и плакать» своими неразрешенны¬
ми загадками: Россия и его собственная душа».
Основная часть
1. Действительно, для Блока Родина «неразрешенная
загадка», Россия, ее история таят в себе много таинствен¬
ного и загадочного. В 1906 г. он пишет в стихотворении
« Русь »:
618
Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне — ты почиешь, Русь.
Что она скрывает в себе, что обещает, во что верует.
Не случайны вопросы, которые звучат в каждой строфе
стихотворения «Русь моя, жизнь моя...» (1910 г.):
Знала ли что? Или в бога ты верила?
Что там услышишь из песен твоих?
Чудь начудила и Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых...
Для Европы Россия остается «Сфинксом с древнею
загадкой»,— пишет Блок в 1918 году в стихотворении
♦Скифы».
2. Блок создает символический образ России. Это не
просто государство или географическое пространство.
Для Блока «родина — это огромное, родное, дышащее
существо, подобное человеку» — так он пишет в 1910 г.
в «Ответе Мережковскому». «Чем больше чувствуешь
связь с родиной,— настаивает он,— тем реальнее и охот¬
нее представляешь ее себе как живой организм».
Россия в восприятии Блока «многолика!», как и наро¬
ды, ее населяющие. На ее образе, как и на многих других
блоковских образах, «лежит колеблющийся свет», как
сказано Ю. Тыняновым в 1921 г. в статье «Блок». В сти¬
хотворении «Русь моя, жизнь моя...» безмолвный и
страшный лик России:
За море Черное, за море Белое
В черные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни...
Россия может обернуться к миру «своею азиатской
рожей» («Скифы»). Но во многих произведениях Блока
возникает светлый и прекрасный образ родины. В 1908 г.
он пишет, что если даже выпадет России горькая судьба,
если даже какие-то злые силы увлекут ее на время на
неверный путь, она все равно сохранит черты бессмерт¬
ной красоты:
619
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет.—
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...
( «Россия» )
О «темных чарах», которыми околдована Россия, о
преследующих ее столетиями бедах и страданиях Блок
говорит в стихотворении «Коршун» (1916 г.):
Идут века, шумит война.
Встает мятеж, горят деревни,
А ты все та ж, моя страна.
В красе заплаканной и древней...
Образ России — сказочной красавицы, подпавшей под
власть злого чародея,— появляется и во второй главе поэ¬
мы «Возмездие» (1916 г.), где изображаются 80-е годы, ког¬
да «Победоносцев над Россией простер совиные крыла»:
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна:
Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице не трудно,—
И затуманилась она,
Заспав надежды, думы, страсти...
Но и под игом темных чар
Ланиты красил ей загар:
И у волшебника во власти
Она казалась полной сил...
Русь у Блока — спящая, от этого она особенно загадоч¬
на. Неясно, какие стихийные силы в ней дремлют, на что
они способны после пробуждения, что ждет ее в будущем:
Что же маячишь ты, сонное марево?
Вольным играешься духом моим?
(«Русь моя, жизнь моя...»)
«...Все на этой равнине еще спит, а когда двинется,—
все, как есть, пойдет: пойдут мужики, пойдут рощи по
620
склонам, и церкви, воплощенные Богородицы, пойдут с
холмов, и озера выступят из берегов, и реки обратятся
вспять: и пойдет все земля»,— так говорил Блок в докладе
«Стихия и культура» в декабре 1908 г. Это видение-пред¬
сказание заставляет вспомнить шекспировское: Макбет
будет править, «пока не двинется наперерез на Дунсинан-
ский холм Бирнамский лес», то есть, пока не поднимется
против него весь народ. Вопрос для Блока в том, куда, в
каком направлении у нас «пойдет вся земля»?
3. Блок стремится угадать, понять смысл и направле¬
ние исторического движения, уловить мелодию «мирово¬
го оркестра». С юных лет он прислушивался к подзем¬
ным толчкам исторических сдвигов, предчувствуя гряду¬
щие перемены, общественные потрясения:
Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Все в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду,— тоскуя и любя.
(1901 г.)
Я жду — и трепет объемлет новый,
Все ярче небо, молчанье глуше...
(«Я жду призыва, ищу ответа...», 1901 г.)
Я вышел в ночь узнать, понять
Далекий шорох, близкий топот...
(1902 г.)
Как птица Гамаюн, которая «вещает и поет», прозре¬
вая будущее («Гамаюн», 1899 г.), поэт стремится угадать,
Какие ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?..
( «Возмездие», вторая глава)
Историзм Блока в предчувствии, в предвидении гря¬
дущего, в дне сегодняшнем он открывает черты завтраш¬
него дня. Так в поэме «Возмездие» (вторая глава) Блок
показывает, что в 80-е годы, когда «в сердцах царили сон
и мгла», уже отчетливо проступал абрис будущего:
621
Но в алых струйках за кормами
Уже грядущий день сиял.
И дремлющими вымпелами
Уж ветер утренний играл.
Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой.
Грозя Девятым января...
Он проводит грядущие исторические потрясения за¬
долго до событий 1905 года, а тем более 1917. Он пишет
в первой главе поэмы «Возмездия»:
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены.
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи...
Сражение Дмитрия Донского и татарского хана Мамая
в 1380 г. в стихотворении Блока предстает не как локаль¬
ный эпизод истории. Ночная даль, озаренная кострами,—
это не реальный пейзаж, а символическая даль истории,
где Россия стремительно движется «сквозь кровь и пыль».
В цикле «На поле Куликовом», созданном в 1908 г., между
двух революций, прошлое соотносится с настоящим и со¬
провождается горестными размышлениями о будущем
(«Долго будет родина больна... Я вижу над Русью далече
широкий и тихий пожар...»). Блок прозревает надвигаю¬
щиеся тучи будущих войн и революций:
За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой.
Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!..
Это переживания и мысли древнего воина, но и голос
лирического героя Блока с его щемящей любовью к ро¬
дной земле, с готовностью разделить ее судьбу, «за святое
дело мертвым лечь», с острым чувством ответственности
за ее будущее:
Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал.— Молись!
Мысль о будущем — главная мысль поэмы «Двенад¬
цать» (1918 г.). Уже в первой главе звучит вопрос: «Что
впереди?» Будущее родины видится поэту на путях пре¬
одоления хаоса, жестокости, разрушительного бунта. Ге¬
рои этой символической поэмы идут сквозь историческое
время —
И вьюга пылит им в очи
Дни и ночи напролет...
Путь России к свету может быть еще очень долгим, но
у этого пути есть великий исторический смысл, поэто¬
му — «Впереди Иисус Христос», за ним движется отряд
красногвардейцев. «Видимо, поэт чувствовал., что имен¬
но Христос слит с жизнью и чаяниями народа, пусть не
всегда понимающего это, даже богохульствующего»,—
пишет современная исследовательница Л. Розенблюм в
статье «Да, так диктует вдохновенье...» Явление Христа
в поэме Блока «Двенадцать» («Вопросы литературы»,
1995, выпуск 6).
♦ Непременное условие писательского бытия» — уме¬
ние слушать «музыку отдаленного «оркестра» (который
и есть «мировой оркестр» души народной),— писал Блок
в 1909 г. в заметках «Душа писателя». В поэме «Двенад¬
цать» в завываниях метельной вьюги слышится тяжелая
поступь истории, звучит музыка «мирового оркестра».
6. Поэзия Блока отражает не устоявшуюся жизнь, не
итог, а движение, развитие. Для него Россия не метафи¬
зическое неподвижное понятие, а народ, изменяющийся,
непрестанно движущийся в историческом времени.
«Идут века, шумит война, встает мятеж, горят дерев¬
ни...» («Коршун». 1916 г.). Путь России в веках трагичен
и неостановим:
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...
623
И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!
( «На поле Куликовом» )
Поездка по ночному Петербургу в символическом сти¬
хотворении Блока превращается в опасный путь на краю
исторической пропасти, таящем угрозу трагических об¬
валов, страшных срывов в бездну:
Над бездонным провалом в вечность.
Задыхаясь, летит рысак.
(«Черный ворон в сумраке снежном...», 1910)
вся жизнь — «безумный, неизвестный и за сердце хвата¬
ющий полет». Движется, изменяется и пространство и
время:
Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз.
(1913)
7. В открытом письме Мережковскому (1910 г.) Блок
утверждал, что «писатель, верующий в свое призвание,
каких размеров этот писатель ни был, сопоставляет себя
со своей родиной, полагая, что болеет ее болезнями, стра¬
дает ее страданиями, сораспинается с нею». Горька и
тревожна мысль Блока «о разрыве между Россией и
интеллигенцией» («Стихи и культура», 1908 г.). Траге¬
дию русской интеллигенции Блок видит в ее отрыве от
народной жизни, замкнутости, индивидуализме, кото¬
рый болезнь «вечно бесплодного духа» («Ирония»,
1908 г.). 12 сентября 1908 г. у Блока возникает замысел
«написать доклад о единственно возможном преодолении
одиночества — приобщении к народной душе» («Запис¬
ные книжки»). Размышляя о месте интеллигенции в
жизни России, Блок писал: «..Родина... поит нас и кор¬
мит у груди, мы ей обязаны нашими силами и вдохнове¬
ниями и радостями...мы... должны играть роль точней¬
ших и главнейших органов ее чувств. Мы — не слепые ее
инстинкты» («Ответ Мережковскому»). Счастье испыты¬
вает художник, когда
624
...через край перелилась
Восторга творческого чаща.
И все уж не мое, а наше.
И с миром утвердилась связь.
(«И вновь порывы юных лет», 1912 )
Личная, частная жизнь лирического героя Блока вклю¬
чается в общую, историческую, поэтому так часто поэт
выступает от имени современников, от имени своего поко¬
ления. «Мы» у Блока означает нераздельность его собствен¬
ной судьбы и судьбы поколения, интеллигенции, народа:
И вечный бой! Покой нам только снится...
(«На поле Куликовом» )
Вселенная глядит в нас мраком глаз...
(«Миры летят. Года летят. Пустая...» )
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
(«Рожденные в года глухие...», 1914)
Он занесен — сей жезл железный —
Над нашей головой.
(1914)
И опять мы к тебе, Росиия,
Добрели из чужой земли.
(«Я не предал белое знамя...», 1914)
Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы...
( «Скифы». 1918)
8. Россию с ее «тьмой», нищетой, бедами, заблуждени¬
ями и противоречиями Блок любит горячо и самозабвенно:
Ты стоишь под метелицой дикой.
Роковая, родная страна...
(«Новая Америка». 1913 г.)
Любовь к России живет во всей поэзии Блока — от
«Гамаюна» до «Двенадцати» и «Пушкинскому дому». Это
625
пронзительное, всепроникающее чувство, интимное и
глубокое, оно не позволяет делить его лирику на любо¬
вную и гражданскую:
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!
( «Россия», 1908)
Н. Гумилев писал о Блоке: «Не как мать любит он Рос¬
сию, а как жену, которую находят, когда настанет пора»
(«Письма о русской поэзии», 1912 г.). Действительно, в
стихах Блока редко встречается традиционный образ ро¬
дины-матери («Коршун», «Возмездие»), гораздо чаще Рос¬
сия выступает у него как жена — такого уподобления нет
ни в народных песнях, ни в классической поэзии:
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
(«На поле Куликовом» )
У Блока символический образ России соединяется с
образом суженой, любимой женщины:
О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем так горько плачешь?
( «Осенний день», 1909)
Обращаясь в стихах к любимой женщине, он обраща¬
ется и к Родине:
Ты, знающая дальней цели
Путеводительный маяк.
Простишь ли мне мои метели,
Мой бред, поэзию и мрак?
Иль можешь лучше: не прощая,
Будить мои колокола,
Чтобы распутица ночная
От родины не увела?
(«Под шум и звон однообразный...», 1909)
626
В стихотворениях Блока о России сливаются многие,
нередко противоречивые чувства: любовь, нежность, боль,
тревога, сомнения, горечь. «И страсть и ненависть к отчиз¬
не»,— писал он в поэме «Возмездие». Горячая любовь
Блока к отчизне заставляет его остро ненавидеть существу¬
ющее в стране жизнеустройство. «Современная русская
государственная машина есть, конечно, гнусная, слюня¬
вая, вонючая старость...» — клеймит он в письме В. Роза¬
нову (20 февраля 1909 г.) власти, правящие страной. По¬
истине Блок «болеет болезнями» России и «страдает ее
страданиями». «Вспоминается все мрачное прошлое роди¬
ны... Чья мертвая рука управляла пистолетами Дантеса и
Мартынова?.. В каком тайном и быстросжигающем огне
сгорели Белинский и Добролюбов? Кто увел Достоевского
на Семеновский плац и в мертвый дом? И когда в России
не было реакции, того, что с нею и за нею, того, что мы,
пережившие ясные и кровавые зори 9 января, осуждены
переживать теперь каждый день?» — пишет он в статье
«Солнце над Россией» (1908 г.). Стихи его проникнуты
горячей любовью к родной своей земле, страдающей, из¬
мордованной властями:
Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав...
Запою ли про свою удачу.
Как я молодость сгубил в хмелю...
Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю...
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!
(«Осенняя воля», 1909)
Стихотворение «Я не предал белое знамя...» заканчи¬
вается строками:
И горит звезда Вифлеема
Так светло, как любовь моя.
«Подлинно — звезда горит, «как любовь», а не наобо¬
рот. Вынесенная из мрака и смуты, она светлей даже
вифлеемской звезды!» — писал в 1915 г. в журнале
«Аполлон» в рецензии на книгу Блока Георгий Иванов.
627
Заключение
Произведение Блока о России всегда освещены верой
в ее лучшее будущее, надеждой на то, что она сможет
проявить свою могучую силу:
Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль...
(«На поле Куликовом» )
И невозможное возможно.
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!...
( «Россия», 1908)
Оптимистические строки Блока о будущем России со¬
греты живым чувством, никогда не звучат риторически. Во
всем, что пишет поэт о Родине, сказывается та «тайная сво¬
бода», которой вдохновлено его последнее стихотворение:
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
( «Пушкинскому Дому». 1921)
Эта «тайная свобода», «высшая» свобода сделали «не¬
подкупный» голос Пушкина «эхом русского народа». Та
же «высшая» свобода позволила Блоку выразить ту правду
о России, которая ему открылась. Он твердо верил, что
Россия «глядит на нас из синей бездны будущего и зовет
туда» («Дитя Гоголя», 1909 г.) Он прозревал в будущем то,
что было закрыто от взора многих современников:
Пускай хоть в небе — Вера с нами.
Смотри сквозь тучи: там она —
Развернутое ветром знамя.
Обетованная весна.
(«На смерть Комиссаржевской». 1910)
Вера продолжает жить в нем и тогда, когда он видит
вокруг себя «свою родную, искалеченную, сожженную
смутой, развороченную разрухой страну». О России, на
628
которую обрушились тяжкие испытания, он говорит в
своей последней статье «Без божества, без вдохновенья»
(апрель 1921 г.). И обращение Блока в последнем стихот¬
ворении к Пушкину это и обращение к России, к душе ее:
Дай нам руку в непогоду.
Помоги в немой борьбе!
Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?
Страна и народ живы благодаря своим гениям. Гений
«на плечах своих держит и радость свою поит и питает
свою страну и свой народ»,— писал Блок в заметке «Со¬
лнце над Россией» (1908 г.). Радостью и верой своей
питает Блок сегодня и нас. Преодолевая «жизни сон
тяжелый», он умел видеть ее «прекрасные черты». И,
наверное, самая точная и глубокая характеристика поэ¬
зии Блока содержится в его собственных строках:
Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!
(«О, я хочу безумно жить...*, 1914)
ТРАДИЦИИ НЕКРАСОВА В ТВОРЧЕСТВЕ БЛОКА
Вступление
Мнение, что творчество Александра Блока — одно из
самых значительных явлений новой русской поэзии,
утвердилось в литературных кругах к концу первого
десятилетия XX века. Иннокентий Анненский в 1909 г.
писал в статье «О современном лиризме»: «Чемпион на¬
ших молодых,— несомненно, Александр Блок. Это, в
полном смысле слова и без малейшей иронии,— краса
подрастающей поэзии, что краса! — ее очарование»
(И. Анненский. Книга отражений. М., «Наука», 1976).
Незаурядное поэтическое дарование Блока признали
все. Но характеризовали своеобразие его творчества по-
629
разному. В. Жирмунский в 1921 г. в статье «Поэтика
А. Блока» подчеркивает новаторский характер блоковс¬
кой поэтики: «...В истории русского символизма поэзия
Блока обозначает высшую ступень — наиболее утончен¬
ные приемы в пользовании метафорой и символом как
староверов...его искусство... должно остаться непонят¬
ным, противологичным» (В. М. Жирмунский. Теория ли¬
тературы. Поэтика. Стилистика. Л., «Наука», 1977). В
том же году в статье «Блок» Ю. Тынянов утверждал про¬
тивоположное — поэтика Блока традиционна: «Он пред¬
почитает традиционные, даже стертые образы («ходя¬
чие» истины), так как в них хранится старая эмоцио¬
нальность; слегка подновленная, она сильнее и глубже,
чем эмоциональность нового образа, ибо новизна обычно
отвлекает внимание от эмоциональности в сторону пред¬
метности» (Ю. Тынянов. Поэтика. История литературы.
Кино. М., «Наука»,1977).
Истина, однако, есть и в том и в другом высказыва¬
нии — просто В. Жирмунский и Ю. Тынянов говорят о
разных сторонах, о разных гранях творчества Блока.
Поэзия Блока — новое слово в искусстве: все, что со¬
здано поэтом, отмечено его яркой личности и его эпо¬
хи. В то же время он, большой художник, опирается
на классические традиции, черпает в них то, что близ¬
ко ему. Однако он никому не подражает, блоковские
символы, слова, ритмы «перестраивают» те традицион¬
ные образы, о которых говорил Ю. Тынянов. Поэзия
Блока так многогранна и богата, потому что вбирает в
себя, впитывает и переплавляет многое из творчества
разных, непохожих друг на друга художников: Фета,
Аполлона Григорьева, Тютчева, Некрасова, Достоевско¬
го, Гоголя, Лермонтова, Пушкина. В 1922 г. в статье
«Барсучья нора» О. Мандельштам так характеризовал
богатство поэтической палитры Блока: «Тяжелый трех¬
дольник Некрасова был для него величав, как «Труды
и дни» Гесиода. Семиструнная гитара, подруга Аполло¬
на Григорьева, была для него не менее священна, не¬
жели классическая лира. Он подхватил цыганский ро¬
манс и сделал его языком всенародной страсти...Вся
поэтика девятнадцатого века — вот границы могущест¬
ва Блока» (О. Менделыптам. Слово и культура. М.,
«Советский писатель». 1987).
Обращение к классикам, освоение их опыта было у Бло¬
ка глубоко осознанным. Он много думал о роли литературы
прошлого в искусстве и жизни своего времени. «Наследие,
630
которое мы получаем, есть, к счастью, наследие духовное,
которое в огне не горит»,— говорил Блок в 1919 г. (выступ¬
ление «О списке русских авторов»). У Блока есть статьи,
заметки, выступления, посвященные Пушкину, Лермонто¬
ву, Гоголю, Л. Толстому, Аполлону Григорьеву.
Настоящее сочинение освящено некрасовским тради¬
циям в поэзии Блока. Но столь же правомерно рассмат¬
ривать вопрос о том, как преломляются в его творчестве
традиции Пушкина, Лермонтова, Гоголя.
Основная часть
1. На вопрос анкеты, предложенной в 1919 г. К.Чу¬
ковским: «Не оказал ли Некрасов влияние на Ваше твор¬
чество?» — Блок ответил: «Кажется, да».
В начале века, с наступлением эпохи войн и рево¬
люций, творчество Некрасова привлекает к себе не
только Блока, но и многих других поэтов. Явное влия¬
ние Некрасова испытал Андрей Белый. К. Бальмонт
посвящает поэзии Некрасова статью, в которой дает
понять, что его, Бальмонта, стихотворение «Придоро¬
жные травы» о трагической судьбе русской девушки
навеяно некрасовской «Тройкой» («Что ты жадно гля¬
дишь на дорогу...»)
В лирике Блока некрасовские мотивы начинают от¬
четливо звучать после революции 1905 г., когда опреде¬
ляется демократическая направленность его творчества,
когда обострившиеся в жизни России социальные про¬
блемы все больше и больше привлекают к себе внимание.
«Некрасовскими» можно назвать стихотворения Блока,
написанные осенью 1906 г.: «На чердаке», «В октябре»,
«Окна во двор», «Ангел-хранитель», «Хожу, брожу по¬
нурый...», «Я в четырех стенах—убитый...», «Холод¬
ный день». В них возникает знакомая читателю по сти¬
хам Некрасова картина убогой, чердачной жизни в горо¬
де, тяжелого труда и нищеты. Новый облик приобретает
в этих стихотворениях лирический герой Блока: он по¬
хож на героя некрасовского стихотворения»Еду ли
ночью по улице темной...» —это уже не отрок-монах и
не рыцарь, ожидающий «Прекрасную Даму». Это бед¬
няк, неудачник, он идет «зловонными дворами» к своему
убогому жилью «под низким потолком», он знает, как
«тяжело лежит работа на каждой согнутой спине». Он
говорит своей подруге:
631
Нет! Счастье — праздная забота,
Ведь молодость давно прошла.
Нам скоротает век работа.
Мне — молоток, тебе — игла.
Сиди, да шей, смотри в окошко,
Людей повсюду гонит труд...
(«Холодный день»)
Но труд не избавляет в этом проклятом мире человека
от нужды, от жизни впроголодь:
И злое, голодное Лихо
Упорно стучится в виски...
(«Окна во двор* )
Тяжкий, изнурительный труд калечит человека, сво¬
дит его в могилу:
Работай, работай, работай:
Ты будешь с уродским горбом...
(1907)
Не так ли говорил о себе и об окружающей его нищей
и мрачной жизни Некрасов:
Душа болит. Не в залах бальных,
Где торжествует суета.
В приютах нищеты печальных
Блуждает грустная мечта.
( «Несчастливые», 1856)
Блок помещаёт своего героя в обстановку, знакомую
читателям по городским стихотворениям Некрасова
(«Еду ли ночью по улице темной...», «Пьяница», «На
улице», «Плач детей», цикл «О погоде»). Он передает
настроение героя, его душевное состояние через некра¬
совские детали, некрасовский пейзаж:
Открыл окно. Какая хмурая
Столица в октябре!
Забитая лошадка бурая
Гуляет на дворе.
( «В октябре» )
632
И хмурая погода, и забитая лошадка — словно из не¬
красовского цикла «О погоде»: у Некрасова «день безоб¬
разный — мутный, ветреный, темный и грязный» и «спо¬
тыкавшиеся клячи», вдоль спин которых «удары кнута
полосами ложились».
2. Блок, следуя Некрасову, наполняет многие городс¬
кие стихи прозой жизни, реалиями, бытовыми и психо¬
логическими, в этих его стихах нет мистического содер¬
жания, они гораздо более тесно связаны с современной
действительностью, чем другие его произведения, напи¬
санные в то же самое время. Разговорная интонация,
прозаизмы, свойственные Некрасову (сцены из лиричес¬
кой комедии «Медвежья охота», «Балет», цикл «О пого¬
де», «Мы с тобой бестолковые люди...»), отличают и эти
стихи Блока.
Реализм, который проявляется в изображении челове¬
ческих отношений, в языке, в деталях, в дальнейшем, до
конца творческой жизни Блока, определяет его поэти¬
ку— для примера можно назвать «Грешить бесстыдно,
беспробудно...», 1914 г., «Перед судом», 1915., «Превра¬
тила все в шутку сначала...», 1916г., поэма « Возмездие ».
1917—1921 гг. Подчеркнуто прозаические — некрасовс¬
кие — подробности бросаются в глаза в стихотворении
1913 г. «Когда невзначай в воскресенье...»:
...Дворовый щенок голосил,
В воротах старуха стояла,
И дворник на чай попросил.
Когда же он медленно вышел,
Подняв воротник, из ворот,
Таращил сочувственно с крыши
Глазищи обмызганный кот.
Есть в стихотворениях Блока и жизненные ситуации,
сюжеты, близкие Некрасову: например, смерть жены
(вероятно, от холода и нищеты) в стихотворении «На
чердаке», 1906 г., напоминает рассказ о смерти ребенка
в стихотворении «Еду ли ночью по улице темной...»,
1847 г.
Эта близость мыслей, настроений, жизненных впечат¬
лений отзывается в некоторых стихотворениях Блока
сходством с ритмическими рисунками стихотворений
Некрасова.
Блок:
633
Хожу, брожу понурый,
Один в своей норе.
Придет шарманщик хмурый,
Заплачет на дворе...
(1906)
Некрасов:
Все та же хата бедная —
Становится бедней,
А мать — старуха бледная —
Еще бледней, бледней.
( «Пьяница», 1845)
Блок:
Разве дом этот — дом в самом деле?
(«Унижение», 1911)
Некрасов:
Мы с тобой бестолковые люди...
(1851)
3. Однако даже в самых «некасовских» стихотворени¬
ях Блок сохраняет свою индивидуальность, он не подра¬
жает, а по-своему претворяет Некрасова. Реалии повсед¬
невной жизни, сливаясь с романтической мечтой, преоб¬
ражаются, становятся символическими. В первых
строках стихотворения «Незнакомка», 1906 г., возника¬
ет реалистическая картина пошлой, бездуховной жизни
(«...За шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав
гуляют с дамами испытанные остряки»), затем она усту¬
пает место романтической мечте («...И очи синие бездон¬
ные цветут на дальнем берегу»). В первой строфе стихот¬
ворения «На чердаке» — «трубы, крыши дальних каба¬
ков», затем слышен трагический голос лирического
героя. И вот он уже не только бедняк-неудачник, но и
мечтатель, поэт — убогий чердачный мир исчезает, рас¬
творяется, его замещает романтическая картина, роман¬
тическая мелодия:
634
Ветер, снежный ветер.
Давний друг ты мне'
Подари ты веер
Молодой жене!..
Ты дарил мне горе,
Тучи, да снега...
Подари ей зори,
Бусы, жемчуга!..
Слаще пой ты, вьюга,
В снежную трубу,
Чтоб спала подруга
В ледяном гробу!
Реалистические подробности приобретают у Блока
символическую многозначительность, возникает обоб¬
щенная картина «страшного» мира.
4. «Творчество художника есть отзвук целого оркестра,
то есть —отзвук души народной»,— писал Блок в замет¬
ках «Душа писателя», 1909 г. Поистине отзвуком души
народной было творчество Некрасова. Он не только выра¬
жал чаяния и боли народные, но и говорил народным язы¬
ком. Органически вошли в поэзию Некрасова народные
песни, сказки, пословицы. Блока тоже привлекает наро¬
дное творчество, фольклорная основа обнаруживает себя в
его стихотворениях «В этот серый летний вечер...»,
1907 г., «Гармоника, гармоника...», 1908 г., «Как проща¬
лись, страстно клялись...», 1910 г., «На Пасхе», 1915 г.
Вот как мелодия народной песни звучит в стихотворе¬
нии «Песельник», 1907 г.:
Ой, девка, заводи в глухую топь весной!
Эй, девка, собирай лесной туман косой!
Эй, песня, веселей! Эй, сарафан, алей!
Введение в поэму «Двенадцать», 1918 г., народных
песен, фабричных частушек, уличного просторечия, ее
ритмическая свобода — все, что воспринималось как сме¬
лое новаторство, восходило, однако, к некрасовским тра¬
дициям. Полифонизм поэмы Блока опирался на некра¬
совский опыт, прежде всего на многолосье поэмы «Кому
на Руси жить хорошо».
Диссонансы ритмические и языковые в поэме Блока
отражают противоречия народного сознания, в музыке ее
стиха слышатся трагические мотивы, рожденные катак¬
лизмами революции. На вопрос анкеты К. Чуковского:
635
«Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?» —
Блок отвечал: «Оно было неподдельное и настоящее, т.е.
двойственное (любовь — вражда)». Таким же было его
народолюбие, это тоже « любовь-вражда», которая наибо¬
лее ярко проявилась в поэме «Двенадцать».
5. Некрасов утверждал в своих стихотворениях и поэ¬
мах, что носитель подлинной нравственности в России —
народ. Мысль о светлом будущем России он связывал с ос¬
вобождением народа, он верил, что народ, «исполненный
сил», проснется и «широкую, ясную грудью дорогу проло¬
жит себе». Эта мысль, эта вера близки Блоку. Он писал:
В голодной и больной неволе
В день не в день, и год не в год.
Когда же всколосится поле,
Вздохнет униженный народ?..
Народ — венец земного цвета,
Краса и радость всем цветам:
Не миновать господня лета
Благоприятного — и нам.
(1909—1914)
Блок считал, что Некрасову удалось выразить самое
существенное, самое сокровенное в народном характере.
Поэтому в свою пьесу «Песнь Судьбы», 1908 г., он вводит
некрасовского Коробейника. Появляется Коробейник в
тот момент, когда Герман, герой пьесы, очень близкий
лирическому герою Блока, потерял дорогу, перед ним
расстилается «пустая равнина, занесенная снегом... Ве¬
тер свистит и грозит метелью», и он не знает, куда идти.
«И вдруг, рядом с Германом, вырастает прохожий Коро¬
бейник», он выводит Германа на дорогу. В символической
пьесе Блока песня некрасовского Коробейника — спаси¬
тельная, путеводная. В тревожное и трудное для России
время, между двух революций, когда так драматически
встала проблема взаимоотношений интеллигенции и наро¬
да, Блок обратился к некрасовскому герою, потому что
видел в нем воплощение народного характера, с которым
связывал все свои надежды на лучшее будущее родины. Об
этом свидетельствует и предисловие Блока к сборнику
«Земля в снегу», 1908 г., в котором он писал: «...В конце
пути, исполненного падений, противоречий, горестных
восторгов и ненужной тоски, расстилается одна вечная и
бескрайняя равнина — изначальная родина, может быть,
636
сама Россия, и снега, затемняющие сияние Единой Звезды,
улягутся. И снега, застилающие землю — перед весной.
Пока же снег слепит и холод, сковывая душу, заграждает
пути, издали доносится одинокая песня Коробейника: по¬
бедно-грустный, призывный напев, разносимый вьюгой:
«Ой, полна, полна коробушка...«Только приобщение к
народной жизни, считает Блок, даст интеллигенции ощу¬
щение твердой и верной дороги.
6. Заветная мысль Некрасова о том, что «страдания
народа» — главная тема истинного поэта, что эта тема
«не стареет» («Элегия», 1874 г.), находит свой отклик в
стихотворении Блока «Да. Так диктует вдохновенье...».
1911—1941 гг.:
На неприглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Все не смела в твоей отчизне...
В своем программном стихотворении «Поэт и гражда¬
нин», 1856 г., Некрасов утверждал, что «в годину горя»
поэт должен быть с народом, что настоящая поэзия в такие
дни не может быть камерной. После революции 1905 г.
Блок не раз повторяет эту мысль, которую он выстрадал:
Пускай зовут: Забудь, поэт!
Вернись в красивые уюты!
Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой.
Уюта — нет. Покоя — нет.
(«Земное сердце стынет вновь...», 1911 — 1914)
7. В стихотворении «Рыцарь на час», 1862 г. Некра¬
сов, с горечью говоря о своих слабостях и ошибках, об¬
ращается к матери:
...Изреки только слово прощения,
Ты, чистейшей любви божество!
В этом стихотворении образ матери, самой дорогой
для Некрасова, сливается с образом родины, поэтому так
проникновенно и возвышенно звучит его покаяние, его
мольба:
...Я гибну — и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния...
637
Постоянное недовольство собой, строгое осуждение
своих слабостей и грехов — черта лирического героя
Некрасова, располагающая к нему читателей. Некрасов
винит себя в том, что «к цели шел колеблющимся ша¬
гом», что лира его издала «неверный звук». Со словами
покаяния он обращается не только к матери, но и к
«родной стороне»:
За каплю крови, общую с народом,
Мои вины, о родина! прости!..
(«Умру я скоро. Жалкое наследство...», 1867)
Это покаяние укрепляло поэта в его стремлении
идти трудным, тернистым путем, отдавать все силы
служению родине и народу.
Блок считал «Рыцарь на час» одним из лучших сти¬
хотворений Некрасова (об этом он говорил, отвечая на
вопросы анкеты К.Чуковского). Многое в этом стихотво¬
рении было созвучно его тревожным мыслям и чувствам.
Некрасовская традиция высочайшей требовательности к
себе, верности народным чаяниям была подхвачена Бло¬
ком. Для него, как для Некрасова, главное в жизни и
творчестве — не потерять цели, не сбиться с пути так,
«чтобы распутица ночная от родины не увела». Это слова
из стихотворения «Под шум и звон однообразный...»,
1909 г., которое примечательно и тем, что в нем звучит
тот же, что у Некрасова, главное в жизни и творчестве —
не потерять цели, не сбиться с пути так, «чтобы распу¬
тица ночная от родины не увела». Это слова из стихотво¬
рения «Под шум и звон однообразный...», 1909 г., кото¬
рое примечательно и тем, что в нем звучит тот же, что у
Некрасова, покаянный мотив: ,
Ты, знающая дальней цели
Путеводительный маяк,
Простишь ли мне мои метели.
Мой бред, поэзию и мрак.
8. В творчестве Некрасова чувство любви к родной
земле предстает как животворное чувство, оно укрепля¬
ет человека, дает ему силы для борьбы со всеми невзго¬
дами и несправедливостями, очищает, «врачует» его
душу:
638
Спасибо, сторона родная.
За твой врачующий простор!..
Храм божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
( «Тишина», 1856)
По-своему выражает эти чувства Блок:
Запою ли про свою удачу.
Как я молодость сгубил в хмелю...
Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю...
(«Осенняя воля», 1905)
В стихотворении «Осенний день», 1909 г., тоже пере¬
дается ощущение тишины, «врачующего простора»:
Идем по жнивью, не спеша.
С тобою, друг мой скромный,
И изливается душа,
Как в сельской церкви темной.
Заключение
Блок унаследовал от поэзии XIX века не только обра¬
зы, сюжеты, поэтический язык. Самое существенное для
него в этом наследстве — нравственная проблематика,
осознание чувства ответственности, которое накладывает
на поэта его призвание.
Об этом наследстве Блок 17 февраля 1909 г. писал
В. В. Розанову: «Ведь я, Вас, Вас., с молоком матери впи¬
тал в себя дух русского «гуманизма»... я по происхожде¬
нию и по крови «гуманист». Это признание органичес¬
кой, унаследованной от русской классики бескомпромис¬
сности нравственных критериев.
В том же письме он утверждает: «В сознании долга,
великой ответственности и связи с народом и обществом,
которое произвело его, художник находит силу ритми¬
чески идти единственно необходимым путем. Это — са¬
мый опасный, самый узкий, но и самый прямой путь».
Именно этим «тернистым» путем стремился идти вслед
за Некрасовым и другими великими гуманистами XIX
века Александр Блок.
639
ШКОЛЬНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПОЭЗИИ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»
Такой литературный вечер требует подготовки, лучше всего,
если он будет открытым занятием факультатива. В этом случае
каждый из его участников, получив или выбрав для себя поэта, о
творчестве которого будет коротко говорить и стихи которого
будет читать, самостоятельно готовит свое выступление, предва¬
рительно репетируя и отрабатывая его вместе с учителем.
Для оформления зала или классной комнаты, где будет про¬
ходить вечер, можно использовать увеличенные репродукции
обложек поэтических сборников той поры. Эти первоиздания
трудно получить в библиотеках, речь идет о библиографических
раритетах, поэтому стоит обратиться к некоторым современным
изданиям, где воспроизведены обложки этих книжек (например,
к книге В.Ходасевича «Колеблемый треножник» (М. «Советский
писатель», 1991) — в ней воспроизведены обложки книг Н. Гуми¬
лева «Чужое небо» (художник М.Добужинский), В. Брюсова
«Зеркало теней» (Д. Митрохин), В. Иванова «Кор Ардене »ХК. Со¬
мов), М. Кузмина «Осенние озера» (С. Судейкин). Б. Садовского
«Полдень» (Д. Митрохин), Копии обложек или иллюстраций сто¬
ит сделать большими (1,5—2 метра), склеив несколько листов
ватмана или использовав изнанку обоев. Их можно прикрепить
на заднике сцены, по ее бокам или развесить на стенах зала или
класса. Можно на заднике сцены развесить увеличенные фото¬
графии поэтов, которым посвящен вечер.
Для оформления сцены или стен зала могут быть также исполь¬
зованы репродукции картин художников «серебряного века» —
ведь это был период необычайного подъема в живописи и в музыке.
У поэтов, художников, композиторов, театральных деятелей того
времени было немало общего в творческих исканиях, эстетических
установках. В литературно-художественный кружок, возглавляв¬
ший В. Брюсовым, входили и художники. Кружок художников
«Мир искусства» (А. Бенуа, М. Добужинский, К. Сомов, Л. Бакст)
заявил о себе как о новом, романтическом и символическом движе¬
нии в живописи, графике и сценографии. Журнал «Золотое руно».
640
в котором печатались А. Блок, А. Белый, В. Иванов, объединил
художников П. Кузнецова, Н. Сапунова, М. Сарьяна.
Репродукции их работ вполне уместны для оформления вече¬
ра, они обогащают представление учащихся о том, что происходи¬
ло тогда в мире искусства. О «Демоне» Врубеля писал А. Блок в
статье «Памяти Врубеля». Карнавальная сторона поэзии А. Блока
и А. Белого находит параллель в картинах К. Сомова. Его Арле¬
кины и Пьеро, как и балет И. Стравинского «Петрушка», созданы
в рамках символической эстетики.
Но, может быть, для школьного вечера лучше всего, чтобы
школьники, умеющие хорошо рисовать, сами придумывали, созда¬
вали композиции по мотивам «серебряного века». Это могут быть,
например, орнаменты в стиле «Модерн», стилизованные Коломби¬
ны, Арлекины, Пьеро.
Стоит на таком вечере использовать музыку Рахманинова, Скря¬
бина, Танеева, Стравинского, составляющую органическую часть
искусства «серебряного века». По представлениям поэтов-символис¬
тов, музыка — высшая форма искусства. В статье «Взгляд Скряби¬
на на искусство» Вячеслав Иванов писал, что музыка — «непосред¬
ственная провещательница глубин сердечных». Он считал, что твор¬
чество Скрябина было решительным «разрывом со всеми
навыками... заветами прошлого... и неудержимым, неумолимым
порывом в неведомые дотоле миры духа» (статья «Скрябин и дух
революции»). На вечере могут прозвучать отрывки из 2-го концерта
Рахманинова, 1-ой части кантаты Танеева «Иоан Домаскин, «Поэ¬
мы экстаза» Скрябина, «Петрушки» Стравинского и т. д., Музыка
может звучать в начале и в конце вечера как его музыкальное об¬
рамление, может прослаивать выступления.
Так как вечер состоит из чтения стихов и исполнения роман¬
сов, предваряемых короткими характеристиками творчества поэ¬
тов, чтобы он не выглядел традиционным однообразным концер¬
том, стоит внести в сценарий вечера элементы игры, театральнос¬
ти. Можно сцену преобразить в условное «кафе» (или в такого
рода кафе превратить все помещение, рассадив и зрителей за сто¬
лики и делая их как бы участниками действа). Ведь это весьма
характерная обстановка тогдашней художественной жизни. Имен¬
но в ту пору на смену салонам пришли литературные кафе, где
читались и обсуждались стихи и доклады. Вот свидетельство со¬
временницы: «В Москве местом встреч и деятельности разных
литературно-артистических групп был Литературно-Художествен¬
ный крун^ок. Его много ругали, но все туда шли. У старой реалис¬
тической школы была «Среда», у символистов — «Общество сво¬
бодной эстетики», там самодержавно главенствовал Валерий Брю¬
сов... Публика в Литературно-Художественном кружке, кроме
писателей и артистов, была очень разная. Она состояла главным
21 Серебряный век
641
образом из поклонников литературы и искусства» (Из воспомина¬
ний Л. Рындиной в книге «Воспоминания о серебряном веке» (М.,
«Республика», 1993). В 1912 г. открылся кабачок (или кабаре, или
подвал — называли по-разному) «Бродячая собака», стены кото¬
рого были расписаны С. Судейкиным. «Бродячая собака» стала
излюбленным местом встреч петербурских поэтов, художников,
артистов. Там читали стихи Н. Гумилев. А. Ахматова, Г. Иванов,
О.Мандельштам, С. Городецкий, В. Маяковский. А. Ахматова
вспоминала впоследствии:
Да, я любила их, те сборища ночные,—
На маленьком столе стаканы ледяные.
Над черным кофием пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый, зимний жар...
Не стоит, однако, имитировать «Бродячую собаку»,—это было
бы отступлением от исторической правды: поэты, стихи которых
будут читаться на вечере, принадлежали к разным группам, раз¬
ным поколениям, некоторые из них не бывали и не могли бывать
в «Бродячей собаке». Но нечто похожее на богемное место встреч
поэтов можно воссоздать.
Каждый из участников вечера представляет стихи какого-то
одного поэта. Он поднимается из-за столика, выходит на авансце¬
ну или стоит там, где ему удобно, и читает стихи. Некоторые
могут читать стихи, не поднимаясь со своего места. Главное, что¬
бы участники вечера чувствовали себя свободно, обменивались
репликами, реагировали на только что прочитанные стихи.
Вероятно, для такого вечера не нужен ведущий, но один из
участников должен произнести короткое вступительное слово,
такого примерно содержания:
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
СТИХОВ И РОМАНСОВ ДЛЯ ВЕЧЕРА
1. И. Анненский
Романс А. Вертинского «Среди миров В мерцании светил...»;
стихи: «Смычок и струны», «Снег», «Старая шарманка», «В марте».
2. В. Брюсов
Стихи: «Творчество», «Юному поэту», «Поэту», «Кинжал»,
«Грядущие гунны».
3. К. Бальмонт'
Стихи: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Я — изыскан-
642
ность русской медлительной речи...», «Безглагольность», «Я в
этот мир пришел, чтоб видеть солнце...».
4. Ф. Сологуб
Стихи: «Чертовы качели», «Я — бог таинственного мира...»,
«Искали дочь», «Звезда Майр».
5. А. Блок
Романс А.Вертинского «Зимний ветер играет терновником...»;
стихи: «ПредчувствуюТебя...», «Россия», «Незнакомка», «Девуш¬
ка пела в церковном хоре...», «О доблестях, о подвигах, о сла¬
ве...», «Рожденные в годы глухие...», «Перед судом», «Преврати¬
ла все в шутку сначала...», «О, я хочу безумно жить...».
6. С. Есенин
Романсы на сло^а С.Есенина, стихи которого не вошли в эту
книгу, но творчество которого тоже принадлежит «серебряному
веку».
7. И. Северянин
Романс А.Вертинского «Классические розы»; стихи: «Эпилог»
(«Я, гений, Игорь Северянин...»), «Клуб дам», «В очарованье»,
«Увертюра», «Мороженое из сирени», «Весенний день».
8. Н. Гумилев
Стихи: «Капитаны», «Жираф», «Слоненок», «Из логова змие-
ва», «Заблудившийся трамвай», «Мои читатели».
9. А. Ахматова
Романсы А.Вертинского «Темнеет дорога приморского сада...»,
«Сероглазый», стихи А.Ахматовой не вошли в эту книгу, но твор¬
чество ее тоже принадлежит «серебряному веку».
10. В. Ходасевич
Стихи: «Пробочка», «Автомобиль», «Путем зерна», «Не ма¬
терью, но тульской крестьянкой...», «Леди долго руки мыла...»,
«Перед зеркалом».
11. Г. Иванов
Романс А. Вертинского «Над розовым морем», стихи Г. Ивано¬
ва не вошли в эту книгу, но принадлежат «серебряному веку».
21»
643
ГОТОВЯСЬ К УРОКУ
ОПЫТЫ АНАЛИЗА ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ
Одна из важных задач учителя-словесника: научить
учеников читать стихи, помочь им проникнуть в многоз¬
начность поэтического слова и образа, постичь породив¬
шее их переживание или мысль автора, сложную связь
их с реальной действительностью — современной и ухо¬
дящей в прошлое, с отечественной культурой и традици¬
ями предшественников, которым следует или от которых
отталкивается каждый художник. Лучше всего эту зада¬
чу можно решить, посвятив урок детальному разбору
одного стихотворения поэта. Мы предлагаем здесь не¬
сколько таких монографических исследований стихотво¬
рений разных поэтов, проделанных известными литера¬
туроведами. Эти монографические исследования могут
служить учителю примером и подспорьем для подобного
рода работы.
Ю. Лотман
О СТИХОТВОРЕНИИ «ЕЩЕ ЛИЛИИ»
И. АННЕНСКОГО.
Было бы слишком просто показать внутреннюю мно-
гоязычность текста на примерах пародийной поэзии или
же случаях открытого использования поэтом разнообраз¬
ных интонаций или противоречащих друг другу стилей.
Посмотрим, как этот принцип реализуется в творчестве,
например, такого принципиально монологического, со¬
знательно замыкающегося в пределах тщательно созда¬
ваемого поэтического мира поэта, как Иннокентий Ан¬
ненский. Рассмотрим с этой точки зрения его стихотво¬
рение «Еще лилии».
644
ЕЩЕ ЛИЛИИ
Когда под черными крылами
Склонюсь усталой головой
И молча смерть погасит пламя
В моей лампаде золотой...
Коль, улыбаясь жизни новой,
И из земного жития
Душа, порвавшая оковы,
Уносит атом бытия,—
Я не возьму воспоминаний,
Утех любви пережитых,
Ни глаз жены, ни сказок няни,
Ни снов поэзии златых,
Цветов мечты моей мятежной
Забыв минутную красу,
Одной ли леи белоснежной
Я в лучший мир перенесу
И аромат, и абрис нежный.
Стихотворение поражает единством лирического тона,
единством, ощущаемым читателем интуитивно. Однако
возникающее здесь чувство единства потому сильнее, чем,
скажем, при чтении учебника химии, что оно здесь возни¬
кает в борьбе с разносистемностью элементов текста.
Если постараться выделить общность различных сти¬
листических элементов текста, то, пожалуй, придется
указать лишь один — литературность. Текст демонстра¬
тивно, обнаженно строится на литературных ассоциаци¬
ях. И хотя в нем нет прямых цитат, он тем не менее
отсылает читателя к определенной культурно-бытовой и
литературной среде, вне контекста которой он не может
быть понят. Слова текста вторичны, они — сигналы оп¬
ределенных, вне его лежащих систем. Эта подчеркнутая
«культурность», книжность текста резко противопостав¬
ляет его произведениям, авторы которых субъективно
пытались вырваться за пределы «слов» (зрелый Лермон¬
тов, Маяковский, Цветаева).
Однако единство это более чем условно. Уже первые
два стиха влекут за собой различные литературные
ассоциации. «Черные крыла» воскрешают поэзию демо¬
низма, вернее, те ее стандарты, которые в массовом куль-
645
турном сознании связывались с Лермонтовым или байро¬
низмом (ср. монографию Н. Котляревского, зафиксиро¬
вавшую этот штамп культуры). «Усталая голова» влечет
за собой ассоциации с массовой поэзией 1880—1890-х го¬
дов, Апухтиным и Надсоном («Взгляни, как слабы мы,
взгляни, как мы устали, как мы беспомощны в мучитель¬
ной борьбе»), романсами Чайковского, лексикой интел¬
лигенции тех лет*. Не случайно «крыла даны в лексичес¬
ком варианте, обнажающем поэтизм (не крылья), а «Го¬
лова» — в контрастно бытовом. «Усталаятлава» была бы
штампом другого стиля:
Я с трепетом на лоно дружбы новой,
Устав, приник ласкающей главой...
А. Пушкин, 19 октября 1825 года.
Поэзия восьмидесятников создавалась под непосред¬
ственным воздействием некрасовской традиции и подра¬
зумевала бытовую конкретность субъекта лирики.
В контексте всей строфы «лампада золотая» воспри¬
нимается как метафора (смерть потушит лампаду), а эпи¬
тет «золотой» в структурной антитезе «черные» не вос¬
принимается в связи с конкретно-вещественными значе¬
ниями. Но дальше мы встречаем стих:
Ни снов поэзии златых.
В сопоставлении с ним «лампада золотая» (ср, антите¬
зу: «златые — золотая») обретает признаки веществен¬
ности и соотносится уже с вполне определенным предме¬
том — предыконной лампадой.
Но образ гаснущей лампады может получать два раз¬
личных значения — условно-литературное («горишь ли
ты, лампада наша», «и с именем любви божественной
угас») и ассоциации с христианско-церковной культурой:
И погас он, словно свеченька
Восковая, предыконная...
Н. Некрасов, Орина, мать солдатская.
* Ср. в стихотворении Анненского «Ego»: «Я — слабый сын больного
поколенья...»
646
Здесь — вначале первая система семантических свя¬
зей. Затем реализация лампады как предмета активизи¬
рует вторую.
Вторая строфа строится на религиозно-христианском
строе значений, хорошо знакомом читательскому созна¬
нию той эпохи. Возникает антитеза «жизни новой» (си¬
ноним «смерти» и «черных крыл» первой строфы) и «зем¬
ного жития». Образ души, с улыбкой расстающейся с
земным пленом, в этой связи был вполне закономерен.
Но последний стих неожидан. «Атом» решительно не
находил себе места в семантическом мире предшествую¬
щих стихов. Но в вызываемом им типе культурных зна¬
чений последующее «бытие» помещалось очень естес¬
твенно — возникал мир научно-философской лексики и
семантических связей.
Следующая строфа входит под знаком воспоминаний
как некоторого текстового сигнала. Разные системы по¬
этических текстов дают различное содержание понятия
«воспоминание», но самая значительность этого слова
принадлежит ему не как обозначению психологического
действия, а как культурному знаку. В строфе заключена
целая гамма типов интерпретации этого понятия. «Утехи
любви» и «сны поэзии златой» звучат как откровенные
цитаты из той пушкинской традиции, которая в куль¬
турном облике мира Анненского воспринимается не в ка¬
честве одной из разновидностей поэзии, а как сама поэ¬
зия. «Сказки няни» отсылают к двум типам внетексто¬
вых связей — к нелитературному, бытовому, к миру
детства, противопоставленному миру книжности, и од¬
новременно к литературной традиция воссоздания мира
детства. «Сказки няни» в поэзии конца XIX века — куль¬
турный знак незнакомого — детского мира. На этом фоне
«глаза жены» — это «чужое — в нелитературное — слово»,
которое воспринимается как голос жизни в полифоничес¬
ком хоре литературных ассоциаций («глаза», а не «очи»,
«жены», а не «девы»).
Три строфы стихотворения устанавливают определен¬
ную конструктивную инерцию: каждая строфа состоит
из трех, выдержанных в определенном условно-литера¬
турном стиле, стихов и одного, из этого стиля выпадаю¬
щего. Первые две строфы устанавливают и место этого
стиха — конец строфы. Далее начинаются нарушения: в
третьей строфе «разрушающий» стих перемещен на вто¬
рое от конца место. Но еще резче структурный диссонанс
в последней строфе: четыре стиха подчеркнуто литера-
647
турны. И по лексике, и по ведущей теме они должны
восприниматься на фоне всей поэтической традиции XIX
века. Не случайно в заглавии упоминаются «лилии» с
очевидным ударением на первом слоге, а в третьем стихе
последней строфы:
Одной лилеи белоснежной —
ударным оказывается второй слог — в соответствии с
нормами поэтической речи начала XIX века, Название
цветка превратилось в поэтическую ассоциацию.
И к этой строфе неожиданно, в нарушение всей рит¬
мической инерции текста, прибавлен пятый стих:
И аромат, и абрис нежный.
Стих противопоставлен всему тексту своей веществен¬
ностью, выключенностью из мира литературных ассоциа¬
ций. Таким образом, с одной стороны оказываются земной
и потусторонний миры, представленные в их литератур¬
ных обликах, а с другой — нелитературная реальность. Но
сама эта реальность — это не вещь, не предмет (в этом
отличие от «глаз жены»), а формы предмета. «Белоснеж¬
ный» в сочетании с «лилеей» — цветовая банальность,
которая еще в поэзии XVIII века насчитывалась десятка¬
ми. Но для контура найдено уникальное слово — «аб¬
рис». Реальность как совокупность абстрактных форм —
этот аристотелевский мир наиболее органичен Иннокен¬
тию Анненскому. Не случайно последний стих дает и
единственную в стихотворении аллитерацию. Соедине¬
ние «аромата» и «абриса», параллельных и ритмически,
и фонологически, в одну архисему возможно лишь в
одном значении — «форма», «энтелехия». Этим вводится
в текст голос еще одной культуры — античного класси¬
цизма в его наиболее органических, смыслообразующих
связях.
Так раскрывается напряжение в семантической струк¬
туре текста: монолог оказывается полилогом, а единство
складывается из полифонии различных голосов, говоря¬
щих на разных языках культуры. Вне поэзии такая
структура заняла бы многие страницы.
Из книги: Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста.
Структура стиха. Л., «Просвещение», 1972.
648
Е. Эткинд
О ПЕРВОМ СТИХОТВОРЕНИИ ИЗ ЦИКЛА
«КАРМЕН» А. БЛОКА
Цикл Кармен (1914) открывается восьмистишием,
которое набрано курсивом и представляет собой пролог
ко всему циклу:
Как океан меняет цвет.
Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет мигнувший ссгт,—
Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.
Как известно, Блок осенью 1913 года увидел в спек¬
такле петербургского театра Музыкальной драмы
Л. А. Дельмас, исполнявшую роль Кармен. Личное зна¬
комство, перешедшее в страстную любовь, состоялось 28
марта 1914 года; пролог к Кармен датирован 4 марта —
стихотворение, начатое еще в октябре 1913 г., окончено
Блоком за две недели до встречи. В Записных книжках
сохранилась запись от 14 февраля 1914 года: «“Кар¬
мен” — с мамой. К счастью моему, Давыдова заболела, и
пела Андреева-Дельмас — мое счастье.» Сколько волне¬
ния в этом дважды повторенном счастье! 5 марта Блок
снова записывает — задним числ« м — события 2 марта:
«Я страшно тороплюсь в «Кармен». На афише Давыдова,
но я тороплюсь, весь день — тревога...
Беру 8-й ряд. Вхожу, когда уже началось, увертюра
пропущена, уже солдаты на сцене, Хозе еще нет. Рядом
оказывается (через даму) председатель общества поэтов.
Я жду Кармен (Хозе — тот же, Микаэла — та же). Рядом
садится паршивый хам — офицер, громко разговариваю¬
щий с дамой. Выходит какая-то коротконогая и рабская
подражательница Андреевой-Дельмас. Нет Кармен...
...Свет гасят, вступление к 4-му акту, я жду. Уже
толпа, уже торреадор. Ее нет. Я решаю ждать Хозе. Вот
и Хозе, ее нет, на сцене, бездарно подражая ей, томится
Давыдова. Я ухожу».
Таков протофакт: 2 марта 1914 года А. Блок сидит в
восьмом ряду партера театра Музыкальной драмы и
649
ожидает выхода актрисы, Л. А. Дельмас, исполняющей
партию Кармен. В стихотворении нет ни партера, ни
восьмого ряда, ни «паршивого хама» — офицера с его
дамой, ни «председателя общества поэтов», сидящего
«через даму», ни Давыдовой, ни даже оркестра, уже
исполнявшего увертюру. В стихотворении — океан,
гром, молния, сердце... Оно говорит о страсти, потряса¬
ющей все существо человека. Огромность любовного пе¬
реживания выражает прежде всего слово-образ океан, от¬
крывающее стихотворение,— с океаном сопоставлено
сердце, человек. Сердце не сопровождено притяжатель¬
ным местоимением «мое», отчего стихотворение приоб¬
ретает большую обобщенность, широкий общечеловечес¬
кий смысл. Парадокс же тут в том, что Блок как бы
утверждает: это судьба всякого смертного, ожидающего
выхода Карменситы; подставим «мое» — стихотворение
в корне изменится, и вовсе не потому, что будет нарушен
размер — его ведь можно и сохранить (ср. вариант: Так
дух мой под грозой певучей...), а потому, что общечелове¬
ческое, чуть ли не космическое, уступит место индивиду¬
альному. Дико? Конечно, дико, но тут действует особая
логика,— логика поэтического искусства. Ланиты: это
церковнославянское слово не слишком-то подходит к
зрителю оперного спектакля, да и вообще человек сам о
себе едва ли скажет, что у него ланиты, а не лицо (или
«щеки»). Но Блок так сказать может — именно потому,
что он опустил притяжательное местоимение, столь, ка¬
залось бы, грамматически нужное.
Все стихотворение — одна фраза, устремленная к сво¬
ему концу: Перед явленьем. Карменситы. Явление здесь
вместо «появление»,— в этом-то и смысл вещи. Слово яв¬
ление для нас привычно в сочетании, которое послужило
названием картины Александра Иванова — «Явление
Христа народу». Вместо имени Бога у Блока—имя ис¬
панской цыганки, прославленное Мериме и Бизе и при¬
надлежащее хотя и пленительной, но очень земной, даже
вульгарной женщине. Блок создал сложную поэтическую
систему, в которой имя Карменсита (даже не «Кармен»,
а уменьшительное — испанская интимно-ласкательная
форма этого имени!) — естественно воспринимается как
имя богини. Такому восприятию способствует и гранди¬
озность сравнения сердца с океаном, меняющим цвет,
когда над ним полыхает молния, и отождествление ни¬
как не названного ожидания влюбленного — с грозой, и
высокие стерто-романтические слова и сочетания — серд-
650
це, слезы*счастья, которые настолько традиционны, что
были бы лишены образности, если бы ее не возродил
контекст (...сердце под грозой, певучей/ Меняет строй...,
слезы... душат грудь).*
В эту систему включен и синтаксис: величавая, медли¬
тельная фраза, начинающаяся с двух придаточных
(Как..., Когда...), усложненная, замедленная деепричаст¬
ным оборотом (...боясь вздохнуть) и параллельными од¬
нородными членами (И кровь..., И слезы...), движется к
своему завершению, к имени Карменсита,— пока оно не
произнесено, это имя остается загадкой для читателя,
который ожидает любого другого слова, только не это¬
го,— скажем, имени Афродиты. В систему включены и
звучанья слов. Так в трехсложном океан преобладают
открытые гласные звуки (А — А),— на него падает два
стиховых ударения и оно поддержано гласными в слове
меняет', в первом стихе получается вокалический ряд: А-
А-Е-А-Е-А-Е-Е, который дает звуковой образ безгранич¬
ного простора, а необычный эпитет нагроможденной про¬
тивоположен слову океан скоплением согласных, и к
тому же в нем запрятан гром (нагроможденный), сопро¬
вождающий вспышки молнии, о которой пойдет речь в
третьем стихе, причем и молния, не названа прямо, а
дана косвенными музыкально-словесными средствами.
Неожиданность и торжественность заключительного сти¬
ха выражена и средствами ритма: стих с четырьмя уда¬
реньями сменяется стихом иного темпа, подчеркнутым
двумя пиррихиями:
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.
Зритель слушает оперный оркестр,— может быть,
увертюру (под грозой певучей),— и ожидает выхода певи¬
цы. Таков один план стихотворения. Любовь грандиозна,
как первобытные стихии природы — океан, гроза с гро¬
мом и молнией,— и всеобъемлюща, как вера; ожидание
любимой женщины равно состоянию религиозного экста¬
за, ожиданию чуда, явления Бога простым смертным.
Сопоставление стихий природы с внутренним состояни-
* «...наследственный лирический материал мгновенно становится но-
сителем блоковских смыслов... Стертость здесь нужна именно для того,
чтобы каждый словесный образ мог без остатка заполниться содержани¬
ем трилогии [имеются в виду три тома блоковской лирики.— Е. Э.]. Стаи
ее микрокосмом» (Л.Гинзбург, ук.соч., стр. 31).
661
ем человека усилено и повторением глагола меняет, от¬
носящегося к обоим мирам, внешнему и внутреннему. А
само «изменение» выражено еще и средствами поэтичес¬
кой интонации: придаточное предложение, с которого
начинается пролог, охватывает не все четверостишие, а
лишь три стиха,— четверостишие с перекрестными риф¬
мами сломано, последняя его строка отнесена к следую¬
щей синтагме, к главному предложению: так ритмико¬
синтаксически, да еще с помощью единственного в сти¬
хотворении enjambement, выражена идея: меняет строй.
Любовь — религия. Эта мысль проходит через всю ли¬
рику Блока, начиная от Стихов о Прекрасной Даме, где
любимая женщина отождествлялась с Богом и вселенной:
Все бытие и сущее согласно
В великой, непрестанной тишине.
Смотри туда участно, безучастно,—
Мне все равно — вселенная во мне.
Я верую, и чувствую, и знаю,
Сочувствием провидца не прельстишь.
Я сам в себе с избытком заключаю
Все те огни, какими ты горишь.
Но больше нет ни слабости, ни силы.
Прошедшее, грядущее — во мне.
Все бытие и сущее застыло
В великой, неизменной тишине...
(17 мая 1901)
Вселенная во мне — это центральная формула Блока,
которая в его раннем творчестве осуществлялась с извес¬
тной абстрактностью, а в Кармен получила наиболее
полное и художественно совершенное выражение. Про¬
лог к циклу Кармен — стихотворение о том, что в душе
влюбленного живет и вся вселенная, и все духовное на¬
следие человечества; вспомним, что, согласно Блоку
...только влюбленный /Имеет право на звание человека
(Когда вы стоите на моем пути..., 1908).
Впрочем, Блок не отождествляет любовь с христиан¬
ством — он даже, скорее, спорит с ним. В потрясающем
письме к Л.А.Андреевой-Дельмас от 20 июня 1914 года
Блок писал: ♦...Из бури музыки—тишина,— нет — не
тишина; старинная женственно с тъ,— да,— и она, но за
ней — еще: какая-то глубина верности, лежащая в Вас;
опять, не знаю, то ли слово: “верность”? Земля, природа,
чистота, ЖИЗНЬ, правдивое лицо жизни, какое-то мне
662
незнакомое; все это все-таки не определяет. ВОЗМОЖ¬
НОСТЬ СЧАСТЬЯ, что ли? Словом, что-то забытое людь¬
ми, й не мной одним, но всеми христианами, которые
превыше всего ставят крестную муку; такое что-то про¬
стое, чего нельзя объяснить и разложить. Вот Ваша
сила — в этой простоте* * В этом письме повторены мо¬
тивы стихотворения Как океан меняет цвет...: «Земля,
природа, чистота, жизнь...* — такой же космический
размах любовного переживания, такое же напряженно¬
экстатическое ожидание счастья (И слезы счастья ду¬
шат грудь — Возможность счастья. Ср. то же слово в
приведенной выше дневниковой записи); наконец, такое
же сопоставление с христианской религией, но — пол¬
емическое, так что не столько со-, сколько противопос¬
тавление: христианство аскетично, оно сулит «крестную
муку» и отвергает «возможность счастья».
Сколько бы мы ни привлекали дополнительных фак¬
тов и прозаических текстов для проявления блоковских
стихов, сколько бы ни растолковывали отдельных оборо¬
тов, лексических, стилистических или ритмических осо¬
бенностей стихотворения, мы никогда не создадим смыс¬
лового эквивалента его непосредственной деятельности.
Достаточно сказать, что стихотворение посвящено ожи¬
дания чуда, и вся его структура представляет собой имен¬
но ожидание; уже говорилось о конструкции фразы-за¬
гадки, разрешение которой дано лишь в самом конце:
...слезы счастью.душат грудь — перед... Перед чем? ...пе¬
ред явлением... Явлением чего? И слово неожиданное, как
чудо, слово, несочетаемое с предыдущим, возникающее
как бы из пустоты: ...Карменситы. Структура стихотво¬
рения, конструкция фразы становится образом, то есть
непосредственной действительностью идеи.
В поэзии все — образ, все — непосредственная дей¬
ствительность чувства, содержания. В этом — главное
эстетическое своеобразие поэтического искусства, его
отличие от прозы.
Из книги: Эткинд Е. Материя стиха. Париж, 1978.
* Это не включенное в собрание сочинений Блока письмо хранится у
Н. П. Ильина.' Его впервые опубликовал со своими комментариями
А. Е. Горелов в кн. Гроза над Соловьиным Садом, Л., 1972. См. факси¬
мильное воспроизведение во 2-м издании названного соч., Л., 1973, с. 669.
663
Е. Эткинд
О СТИХОТВОРЕНИИ «ВЕСЕЛЬЕ НА РУСИ»
А. БЕЛОГО
Таковы, например, «словесные пляски» Андрея Бело¬
го: ограничимся одним характерным примером — из сти¬
хотворения Веселье на Руси (1906), где, говоря точными
и яркими словами Т. Ю. Хмельницкой, «лихая хмельная
горечь загубленных судеб проявляется в этом кружении
разудалого пьяного пляса с перебоями, словесными ко¬
ленцами, прихотливыми и неожиданными чередования¬
ми ударений, замедленными и ускоренными темпами
коротких и длинных строк».* Вслед за Державиным Бе¬
лый здесь использует столкновение стилистических пла¬
нов (у него, например, с одной стороны редкие слова из
церковного обихода: гомилетика, каноника; с другой
стороны: рифмующее с последним словом «гармоника»),
изобразительно-подражательные ритмы (словесное рит¬
мическое подражание переборам гармоники) и т.д. Это
именно «словесная пляска», а не стилизация под наро¬
дную песню.**
Трепаком-паком размашисто пошли: —
Трепаком, душа, ходи — валяй — вали:
Трепаком да на лугах,
Да на межах, да во лесах —
Да обрабатывай!
По дороге ноги-ноженьки туды-сюды пошли,
Да по дороженьке вали-вали-вали —
Да притопатываи!
Что там думать, что там ждать:
Дунуть — плюнуть — наплевать:
Наплевать да растоптать:
Веселиться, пить да жрать.
Гомилетика, каноника —
Раздувай — дува — дувай, моя гармоника!...
* Хмельницкая Т. Ю. Поэзия Андрея Белого. В кв.: Андрей Белый
Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1966, стр.31.
** См. статью А. П. Авраменко. Сборники Золото и лазури и Пепел Ан¬
дрея Белого. Журн. Филологические науки, 1969, № б, стр.26.
654
Впрочем — и это отметить особенно важно — слово у
Белого здесь не обессмысливается, превращаясь в чистый
звук (как нередко у К. Бальмонта); оно сохраняет семан¬
тическую определенность, которая то ослабевает, то сно¬
ва берет верх над звучанием. В приведенной части сти¬
хотворения звук и ритм важнее смысла, но дальше, в
концовке, стиль и смысл постепенно, если не оттесняют
звук, то, во всяком случае, становятся рядом с ним:
Дьякон пляшет —
— Дьякон, дьякон —
Рясой машет —
— Дьякон, дьякон —
Что такое, дьякон, смерть?
— <Что такое? то и это:
Носом — в лужу, пяткой — в тверди...»
Раскидалась в ветре,— пляшет —
Полевая жердь:
Веткой хлюпающей машет
Прямо в твердь.
Бирюзовою волною
Нежит твердь.
Над страной моей родною
Встала Смерть.
Веселый перепляс, озорные коленца, переборы гармо¬
ники приобретают трагическое звучание в неожиданном
вопросе: Что такое, дьякон, смерть*! Слово смерть ста¬
новится и центральным звуковым комплексом, и смыс¬
ловым средоточием концовки: оно определяет рифмен¬
ные окончания шести двустиший (смерть — твердь —
жердь — твердь — Смерть), оно как бы и цель, к которой
устремлено стихотворение, все его плясовые ритмы и
лихие переборы.
Из книги: Эткинд Е. Материя стиха. Париж, 1978.
ббб
Е. Эткинд
О СТИХОТВОРЕНИЯХ «ИМЯ ТВОЕ — ПТИЦА
В РУКЕ...» И «КТО СОЗДАН ИЗ КАМНЯ,
КТО СОЗДАН ИЗ ГЛИНЫ...»
М. ЦВЕТАЕВОЙ
Стихи к Блоку (1916—1921) — цикл из шестнадцати
стихотворений; характерно для Цветаевой, что первое из
них (1916) посвящено имени Блока, самому его звучанию:
Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке.
Одно-единственное движение губ.
Имя твое — пять букв.
Мячик, пойманный на лету.
Серебряный бубенец во рту.
Камень, кинутый в тихий пруд.
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В легком щелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок
Звонко щелкающий курок.
Имя твое — ах, нельзя! —
Имя твое — поцелуй в глаза,
3 нежную стужу недвижных век.
Имя твое — поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, глубокий глоток.
С именем твоим — сон глубок.
Три строфы, логически сменяющие друг друга: в пер¬
вой — описание фонетического и даже графического соста¬
ва слова Блок (Имя твое — пять букв — оно писалось с
твердым знаком, Блокъ); во второй — сравнение звуков
этого имени со звуками природы; в третьей — эмоциональ¬
ная ассоциация (звук поцелуя). Цветаева дает всесторон¬
нюю семантизацию слова, поясняя даже чисто фонетичес¬
кий факт билабиальности звука б (Одно-единственное дви¬
жение губ...) и характер звука л (..льдинка на языке). Три
сравнения второй строфы, поясняющие звуковой комплекс
блок, раскрывают вместе с тем и образный мир блоковской
поэзии: камень, упавший в воду пруда (усадебная атмосфе¬
ра, безмолвная природа), щелканье ночных копыт (важ¬
нейшая тема Блока: Над бездонным провалом в вечность,
Задыхаясь, летит рысак, или Вновь оснеженные колонны
656
или Вон счастие мое на тройке В серебристый дым унесе¬
но), щелканье курка (трагизм блоковского «страшного
мира»). Третья строфа, содержащая, в сущности, призна¬
ние в любви, связывает звучание имени поэта с поэтичес¬
ким миром его Снежной маски. Стихотворение завершает¬
ся словом глубок, содержащим все звуки имени поэта и
рифмующим с ним. Так осмысляется комплекс звуков
Блок, приобретающий в сознании Цветаевой глубокую за¬
кономерность.
2. Свой собственный характер, и женский, и поэтичес¬
кий, Цветаева склонна объяснять своим именем, но не
просто звучанием, как было выше, а главным образом
этимологией имени,— кстати, вполне реальной: «Мари¬
на» значит «морская».
Кто создан из камня, кто создан из глины,—
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело — измена, мне имя — Марина,
Я — бренная пена морская.
Кто создан из глины, кто создан из плоти —
Тем гроб и надгробные плиты...
— В купели морской крещена — ив полете
Своем — непрестанно разбита!
Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети
Пробьется мое своеволье.
Меня — видишь кудри беспутные эти?
Земною не сделаешь солью.
Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной — воскресаю!
Да здравствует пена — веселая пена —
Высокая пена морская!
(1920)
Стихотворение реализует смысл имени Марина', в этой
реализации участвует каждый его элемент: наподобие
волн сменяют друг друга полустишия, которые образуют
строку четырехстопного амфибрахия (Кто создан из кам¬
ня, кто создан из глины..., Кто создан из глины, кто
создан из плоти...Сквозь каждое сердце, сквозь каждые
сети..., и, наконец, Да здравствует трехстопного амфиб¬
рахия. Фактором образности оказывается противопостав¬
ление ритмико-синтаксических (интонационных) струк¬
тур: симметричных, устойчивых, еще и усиленных в
своей монументальной статической звукописью — и по-
657
рывисто-динамичных от дробности вводных предложе¬
ний и от «беззаконных» переносов:
Кто создан из глины, кто создан из плоти —
Тем гроб и надгробные плиты...
— В купели морской крещена — ив полете
Своем — непрестанно разбита!
В этой строфе сталкиваются суша и морская стихия
как неподвижность и полет; противопоставляются два
характера — не только общечеловеческих, но и социаль¬
ных. Основа же всего образного строя — во внутренней
форме имени Марина.
Тема Марины у Цветаевой проходит через ряд ее сти¬
хотворений. В одной из песен (И что тому костер осты¬
лый...— 1920) развернута та же образность; каждая вто¬
рая строфа (из восьми) оканчивается почти одинаковым
двустишием: Я [или: дщерь], выношенная во чреве /не
материнском, а морском! Предпоследняя строфа, обра¬
щенная к возлюбленному, гласит:
Когда-нибудь, морские струи
Разглядывая с корабля,
Ты скажешь: «Я любил — морскую!
Морская канула — в моря!»
Фраза Я любил морскую синонимична другой: Я лю¬
бил Марину. Эго осмысление подхватил позднее П. Ан¬
токольский, писавший в стихах, посвященных Цветае¬
вой: Тебе, Марина, вестница моряны...
3. Двойное «конфликтное» осмысление имени: возни¬
кает борьба, в итоге которой оказывается, что только
одна мотивировка правильна,— другая же с негодовани¬
ем отвергнута. В Стихах к Пушкину (1931) встречаемся
первоначально, в стихотворении 1, с возведением имени
поэта к словам, содержащим звуки уш: избушки, душ,
пушка, уши (Как из душа, как из пушки Пушкиным по
соловъям...Уши лопнули от вопля: «Перед Пушкиным во
фрунт!») — это осмысление обывателей, для которых
Пушкин выступает в роли пушкиньянца; их главный
культ выражается в механическом твержении звуков
имени (Пушкин — тога, Пушкин — схима, Пушкин —
мгра, Пушкин — грань... Пушкин, Пушкин — имя Благо¬
родное — как брань Площадную — попугаи...). В стихот¬
ворении 4 имя Пушкина осмысляется иначе — через зву¬
ки у — к, возведением к слову мускул:
658
Преодоленье
Косности русской —
Пушкинский гений?
Пушкинский мускул
На кашалотъей
Туше судьбы —
Мускул полета,
Бега,
Борьбы.
Снова возникает отрицаемое сочетание звуков уш
{туше), поддержанное аш(а) {кашалотъей), но побежда¬
ет повторенное мускул, которое уже в дальнейшем тек¬
сте займет положение монопольное, подчиняя себе отвер¬
гнутое звучание уш,— в последний раз это уш возникает
в конце, в слове несокрушимый'.
Пушкин — с монаршъих
Рук руководством.
Бившийся так же
Насмерть, как бьется
(Мощь — прибывала,
Сила — росла)
С мускулом вала
Мускул весла.
Кто-то, на фуру
Несший: «Атлета
Мускулатура,
А не поэта!»
То — серафима
Сила — была:
Несокрушимый
Мускул — крыла.
Значит, имя Пушкина объяснимо не через звуки уш,
а через ук: конфликтом обоих звукосочетаний проявля¬
ется замысел Цветаевой, которая в конечном счете возво¬
дит имя поэта к слову мускул и так истолковывает его.*
Из книги: Эткинд Е. Материя стиха. Париж, 1978.
* Ср. другие осмысления имени «Пушкин». Например, у Бальмонта
«...при звуке этого имени мне кажется, что я слушаю ветер» (Поэзия как
волшебство, стр.86) или у Блока: «Веселое имя — Пушкин».
659
Е. Эткинд
О СТИХОТВОРЕНИИ «ДОМБИ И СЫН»
О. МАНДЕЛЬШТАМА
Поставим рядом роман Диккенса «Домби и сын»
(1848) и стихотворение О. Мандельштама, которое носит
то же название (1913). Вот оно:
Когда, пронзительнее свиста,
Я слышу английский язык —
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.
У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода.
Дожди и слезы. Белокурый
И нежный мальчик Домби-сын;
Веселых клерков каламбуры
Не понимает он один.
В конторе сломанные стулья;
На шиллинги и пенсы счет;
Как пчелы, вылетев из улья,
Роятся цифры круглый год.
А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле —
И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.
На стороне врагов законы;
Ему ничем нельзя помочь.
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь.
Эти 24 строки содержат сгусток впечатления от двух¬
томного романа, они передают его атмосферу, его эмоци¬
ональное содержание. Попробуем подойти к этим стро¬
кам как к прозе. Прежде всего возникает недоумение —
660
почему в стихотворении о Домби автор начинает с героя
другой книги, Оливера Твиста? Не потому ли, что его
фамилия рифмуется со словом «Свист»? Трезвого читате¬
ля удивит, почему именно тогда, в старом Лондоне, была
«Темзы желтая вода»,— куда ж она делась с тех пор?
Ведь не изменила же вода свой цвет? А что значит мно¬
гозначительное, но загадочное сочетание «дожди и сле¬
зы»? Как эти понятия связаны между собой, и к тому же
с Домби-сыном, о котором сообщается лишь три разроз¬
ненных факта: нежность, белокурость, серьезность? Ка¬
кое отношение имеют сломанные стулья к мальчику
Полю — с одной стороны, и к цифрам, роящимся как
пчелы (странный образ!) — с другой? Что за грязные ад¬
вокаты работают каким-то жалом (одно на всех!) и отку¬
да взялся какой-то банкрот в петле? Конечно, покойнику
уже нельзя помочь, это ясно и без комментариев, но
почему автор перед лицом семейной трагедии считает
нужным выделить «клетчатые панталоны»? Ведь это —
бесчеловечное эстетство.
Да, конечно, имя Оливера Твиста появляется в рифме
к слову «свист», и это не смешно, а серьезно: в звукосо¬
четании «Твист» поэтому и слышится эта рифма, и ви¬
дится некий образ коммерческой Англии XIX века, образ
диккенсовских мальчиков, гибнущих в бесчеловечном
мире конторских книг, цифр, бумаг. Вот о неизбежной
гибели человека и написал свое стихотворение русский
поэт, выделив этот и в самом деле центральный мотив из
огромного многопланового романа. Не будем здесь пере¬
сказывать диккенсовский роман — его сложность харак¬
терна для беллетристики XIX века. В стихотворении
Мандельштама тоже есть сюжет, но он другой: обобщен¬
ное столкновение между бюрократическим миром дело¬
вой конторы и судьбой слабого живого существа. Мир
дан читателю отдельными впечатляющими штрихами:
кипы конторских книг; Темзы желтая вода; сломанные
стулья; шиллинги и пенсы; как пчелы... роятся цифры;
табачная мгла. Среди этого мира, как рыбы в воде, весе¬
лые клерки и грязные адвокаты. Образ адвокатов соеди¬
няется с окружающим их миром: цифры роятся в конто¬
ре круглый год «как пчелы, вылетев из улья»; и тотчас
вслед за этими цифрами в стихотворении возникает жало
адвокатов, по ассоциации с пчелами связанное.
На этом грязном фоне возникает фигура мальчика —
белокурого, нежного, чуждого «веселым клеркам» и
«грязным адвокатам», и облик рыдающей дочери, поте-
бв1
рявшей обанкротившегося отца. Но их отец — плоть от
плоти того мира, где смеются клерки и жалят адвокаты;
поэт сказал об этом лишь средствами стиля:
И вот, как старая мочала.
Банкрот болтается в петле.
Поэзия, которой овеян Поль Домби, не относится к
отцу,— ведь он и появляется-то в стихотворении уже как
покончивший с собой банкрот, появляется мерзко-проза¬
ическим, едва ли не комичным трупом — «как старая
мочала». Эта чуть комическая проза делового лондонско¬
го Сити позволяет в последних двух строках соединить
обе темы стихотворения: прозаическую тему мертвых
вещей и поэтическую — человеческого страдания. Погиб¬
ший торгаш был существом внешнего, показного бытия,
а его дочка испытывает подлинное человеческое горе:
И клетчатые панталоны.
Рыдая, обнимает дочь.
Если приложить к стихотворению Мандельштама про¬
заическую мерку — оно описательно-литературное, да и
к тому же невнятное, алогичное, модернистки-иррацио-
нальное. Если рассмотреть его по законам поэзии — оно
оживет и наполнится, оно воюет за человека и человечес¬
кую душу — против мира барышников и накопителей,
против торгашества.
Мы взяли краткий пример: двухтомный роман сжат в
стихотворении, содержащем примерно 75 слов, они мо¬
гут поместиться на четверти страницы. К тому же Ман¬
дельштам свободно обошелся с романом о Домби. Подчи¬
няясь законам поэтической сгущенности, он спрессовал
вместе Оливера Твиста и Домби, обострил все ситуации.
Есть и в романе «веселые клерки» —это, например, ос¬
тряк из бухгалтерии, который, когда появился мистер
Домби, «мгновенно становился таким же безгласным, как
ряд кожаных пожарных ведер, висевших за его спиною»
(ч. I, гл. XIII), или рассыльный Перч. Однако маленький
Поль Домби с ними не встречается — нет таких обстоя¬
тельств, при которых он мог бы понимать или не пони¬
мать их каламбуры. Противоположности сведены вместе
в одной строфе и обострены рифмами. В романе Диккен¬
са нет и адвокатов, «жало» которых «работает в табачной
мгле» — они остаются за кулисами изображения. Конто-
663
ра Домби действительно терпит крах, но старый Домби
не кончает с собой — он лишь намерен это сделать, пряча
за пазухой нож, который собирается вонзить себе в грудь,
но дочь Флоренс останавливает его: «Внезапно он вско¬
чил с искаженным лицом, и эта преступная рука сжала
что-то, спрятанное за пазухой. Вдруг его остановил
крик — безумный, пронзительный, громкий, страстный,
восторженный крик,— и мистер Домби увидел только
свое собственное отражение в зеркале, а у ног свою дочь»
(ч. II, гл. XXIX). Может быть, самоубийство попало в
стихотворение их другого романа Диккенса — «Николас
Никльби». Законы развития поэтического сюжета потре¬
бовали от Мандельштама иной развязки: в стихах дик¬
кенсовский идиллический happy end («счастливый ко¬
нец») оказался совсем невозможным, и поэт повернул
действие, завершив его трагически. Другое искусство,
другая художественная логика. И, повторим, другое от¬
ношение к слову — материалу искусства.
Многие страницы, рассказывающие о старом Лондоне,
дали всего двустишие; характеристика Домби-сына, кото¬
рой Диккенс посвятил столько фраз, уместилась в одной
строфе, что в романе, и совсем не те. Атмосфера диккенсов¬
ской Англии воссоздается не столько характером пласти¬
ческих образов, сколько стилистикой поэтического слова¬
ря. Уродливый мир конторы рисуется иностранными зву¬
чаниями: контора Домби, Сити, Темза, клерков ка¬
ламбуры, шиллинги, пенсы, адвокаты, банкрот, панта¬
лоны. Да еще в строках то и дело возникает —«пронзитель¬
нее свиста» — английское звучание: у Чарльза Диккенса
спросите... в старом Сити... сломанные стулья... Дело, од¬
нако, не столько в звуках, сколько в том, что читателю
раскрывается смысловое, стилистическое, ассоциативное
богатство слова. Таково сочетание «дожди и слезы», да¬
ющее и климатическую, и эмоциональную атмосферу как
торгового Лондона, так и диккенсовского романа. Или
сочетания «белокурый и нежный мальчик», эпитеты
«желтая вода», «грязные адвокаты», «старая мочала»...
Из книги: Эткинд Е. Разговор о стихах. М., «Детская
литература», 1970.
663
Ю. Лотман
О СТИХОТВОРЕНИИ «А ВЫ МОГЛИ БЫ?»
В. МАЯКОВСКОГО
А ВЫ МОГЛИ БЫ?
Я сразу смазал карту бу дня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
В. Маяковский.
Словарь стихотворения
Я
карта
косые
смазать
сразу
из
а
вы
будни
жестяная
плеснуть
на
краска
новые
показать
стакан
водосточная
прочесть
блюдо
сыграть
студень
мочь
скулы
океан
чешуя
рыба
зов
губы
ноктюрн
флейта
•
труба
Прежде всего бросается в глаза номинативный харак¬
тер словаря: мир текста определяется предметами. Вся
именная лексика стихотворения легко членится на две
группы: в одну войдут слова со значениями яркости,
необычности и необыденности (краска, океан, флейта,
664
ноктюрн); в другую — бытовая, вещная, обиходная лек¬
сика (блюдо студня, чешуя жестяной рыбы, водосточные
трубы). За каждой их этих групп стоит традиционное
осмысленное в свете литературной антитезы: «поэтичес-
кое-непоэтическое». А поскольку тексту сразу же задана
оппозиция «я — вы», то сама собой напрашивается ин¬
терпретация этого противопоставления:
я — вы
поэзия быт
яркость пошлость
Но текст Маяковского не только вызывает в памяти
такую систему организации «мира слов» этого текста, но
и опровергает ее.
Во-первых, вся система глаголов, играющая в поэти¬
ческой картине роль связок между именами-понятиями,
указывает не на отгороженность «бытового» и «поэтичес¬
кого» полей значений, а на их слитость: это глаголы
контакта: «прочесть», «показать» — или художественно¬
го действия: «сыграть». И они раскрывают для «я» поэ¬
тические значения не вне, а в толще бытовых значений.
«Океан» как символ поэзии найден в студне, а в чешуе
жестяной рыбы прочитаны «зовы новых губ» (поэтизм
«зовы» и не допускающий вещественной конкретизации
эпитет «новый» заставляют воспринимать «губы» как
обобщенно-поэтический символ).
Наконец, сам этот быт имеет характерный признак:
это не просто слова, обозначающие предметы. Это —
предметы, которые не упоминаются в традиционной по¬
эзии, но составляют обычный мир другого искусства —
живописи. Лексикон стихотворения в его бытовой час¬
ти — это инвентарь натюрморта, и даже более конкрет¬
но — натюрморта сезанновской школы. Не случайно быт
соединяется с чисто живописными глаголами: «смазать»,
«плеснуть краску». Обыденный, то есть действительный
мир,— это мир прозы, реальности и живописи, а услов¬
ный и ложный — традиционной поэзии.
Поэтическая модель мира, которую строит «я», оттал¬
киваясь от всяческих «вы»,— это семантическая систе¬
ма, к которой студень и океан — синонимы, а противо¬
поставление «поэзия» — «прозаический быт» снято.
Возникает такая схема организации смысловых еди¬
ниц текста:
ббб
я <—>
яркость
слитность поэзии
и быта
ВЫ
пошлость
противопоставленность
поэзии и быта
Таким образом, у Маяковского семантическая органи¬
зация текста на лексическом уровне строится как кон¬
фликт между системой организации смысловых единиц
в данной индивидуальной структуре текста и семанти¬
ческой структурой слов в естественном языке, с одной
стороны, и в традиционных поэтических моделях — с
другой.*
Из книги: Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста.
Структура стиха. Л., «Просвещение», 1972.
Е. Эткинд
О СТИХОТВОРЕНИИ «НОЧЬ»
Б. ПАСТЕРНАКА
Определение метафоры и ее роли в поэтическом искус¬
стве дал в одной из своих статей Борис Пастернак: «Ме
тафоризм — естественное следствие недолговечности че¬
ловека и надолго задуманной огромности его задач. При
этом несоответствии он вынужден смотреть на вещи по-
орлиному зорко и объясняться мгновенными и сразу
понятными озарениями. Это и есть поэзия. Метафо-
ризм — стенография большой личности, скоропись ее
духа». И дальше Пастернак определяет цель, которую
ставили перед собой некоторые великие живописцы и —
как следствие этой цели — характер их искусства: «Бур¬
ная живопись кисти Рембрандта. Микеланджело и Тици¬
ана не плод обдуманного выбора. При ненасытной жажде
написать по целой вселенной, которая их обуревала, у
них не было времени писать по-другому».
Значит, для Пастернака метафора — своеобразная ско¬
ропись человеческого духа, вызванная необходимостью
для поэта «написать целую вселенную», то есть восстано-
* Ср. Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М.,
1970, стр. 196—197.
666
вить в своем творчестве нарушенную целостность мира и
весь этот мир вместить в поэзию.
Ту же мысль Пастернак вложил в стихотворение
«Ночь» (1957),— здесь она и сама выражена в метафори¬
ческой форме:
Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик
Уходит в облака.
Он потонул в тумане.
Исчез в его струе.
Став крестиком на ткани
И меткой на белье.
Под ним ночные бары,
Чужие города.
Казармы, кочегары,
Вокзалы, поезда.
Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла.
Блуждают, сбившись в кучу.
Небесные тела.
И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный Путь.
В пространствах беспредельных
Горят материки.
В подвалах и котельных
Не спят истопники.
В Париже из-под крыши
Венера или Марс
Глядят, какой в афише
Объявлен новый фарс.
Кому-нибудь не спится
В прекрасном далеке
На крытом черепицей
Старинном чердаке.
667
Он смотрит на планету.
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот.
Не спи, не спи, работай.
Не прерывай труда.
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену.
Тема близка к блоковской — Пастернак тоже написал
стихотворение о летчике. Но у Блока авиатор и аэро¬
план, человек и машина — враждующие противополож¬
ности, Блок настаивает на бесчеловечности техники,
«сердце и винт» в системе его стихотворения непримири¬
мы, оба они обречены на гибель: винт остановится, и
вслед за ним — сердце.
У Пастернака, поэта другой эпохи, летчик — символ
человеческого духа. Он сопоставлен с художником, кото¬
рый тоже бодрствует, познавая мир.
В стихотворении все явления мира уравнены, как бы
они ни были различны по масштабу: самолет и метка на
белье, пространства Вселенной и котельные, планета
Венера и театральная афиша, все это — мир, до которого
человеку есть дело. Что же касается художника, то
Он смотрит на планету.
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот.
«Относится к предмету его...забот» — так можно ска¬
зать о больном, за которым надо ухаживать, о лекции,
которую надо обдумать и прочитать, о фактах повседнев¬
ной жизни. Небосвод включен в быт художника, как
любой другой предмет обихода.
В этой строфе нет прямой метафоры, но есть метафора
косвенная. Казалось бы, «небосвод» ни с чем сопостав¬
лен, а все-таки скрытое метафорическое сопоставление
тут есть, потому что сама по себе деловитость оборота
«относится к предмету его забот» предлагает какой-то
подразумеваемый бытовой предмет. И небосвод с этим
незримым предметом сопоставлен в подразумева¬
емой (косвенной) метафоре.
Метафоры Пастернака — прямые или косвенные, все
равно — служат узлом, в котором стягиваются великое и
малое, далекое и близкое, космос и домашний уют. Ска¬
жем, звезды — и стадо овец:
Блуждают, сбившись в кучу.
Небесные тела.
Авиация — и звездное небо:
И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный Путь.
Планеты — и какие-то парижские обыватели, завсег¬
датаи оперетты:
В Париже из-под крыши
Венера или Марс
Глядят, какой в афише
Объявлен новый фарс.
Великое становится малым, далекое — близким. Но и
наоборот: малое становится великим. В творчестве ху¬
дожника Время превращается в Вечность, потому что в
самой личности художника Вечность воплотилась во
Время, в Преходящее, Тленное. Пастернак предлагает
нам формулу, удивительную по художественной точнос¬
ти и смысловой емкости: поэт — это
...вечности заложник
У времени в плену.
Для полного раскрытия смысла этой формулы понадо¬
бились бы страницы и страницы. Пастернак дал метафо¬
ру, ослепительную, как вспышка магния. Вот это и зна¬
чит — «смотреть на вещи по-орлиному зорко и объяс¬
няться мгновенными и сразу понятными озарениями».
Из книги: Эткинд Е. Разговоры о стихах. М., «Детс¬
кая литература», 1970.
669
список
РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Поэтические течения в русской литературе конца XIX — начала XX
века: Хрестоматия.— М., 1988
Русская поэзия XX века: Антология русской лирики первой четверти
XX века.—М., 1991.
Русская поэзия серебряного века: 1890 — 1917: Антология.— М.,
1993.
Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий: В 2-х т.—
Л., 1991.
Белый А. На рубеже двух столетий: Воспоминания: В 3-х кн.—
М., 1989. Кн. 1.
Белый А. Новая волна. Воспоминания.— М., 1990, Кн. 2.
Белый А. Между двух революций. Воспоминания.— М., 1990,
Кн. 3.
Воспоминания о серебряном веке.— М., 1993.
Воспоминания об Андрее Белом —М., 1995.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы,
воспоминания.— М., 1989.
Николай Гумилев в воспоминаниях современников.— М., 1990.
Одоевцева И. На берегах Невы.—М., 1988.
Русские писатели: Биобиблиографический словарь: М., 1990.
Серебряный век: Мемуары.— М., 1990.
Ходасевич В. Некрополь: Воспоминания.— М., 1991.
Цветаева М. Воспоминания о поэтах//Цветаева М. Сочинения:
В 2-х т.—М., 1984. Т. 2.
Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей.— М., 1994.
Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1979.
Брюсов В. Из книги «Далекие и близкие»//Брюсов В. Собр. соч.:
В 7 т.—М., 1975. Т. 6.
Волошин М. Лики творчества.— Л., 1989.
Гинзбург Л. О лирике — Л., 1974.
Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии.— М., 1990.
Долгополов Л. К. На рубеже веков: О русской литературе кон¬
ца XIX — начала XX века.— Л., 1985.
Ермилова Е. В. Теория и образный мир русского символизма.—
М., 1989.
История русской литературы: XX век: Серебряный век.— М., 1995.
Корецкая И. В. Над страницами русской поэзии и прозы начала
века.— М., 1995.
Максимов Д. Е. Русские поэты начала века.— Л., 1986.
Э т к и н д Е. Русская поэзия XX века как единый процесс//Вопросы
литературы.— 1988. № 10.
670
СОДЕРЖАНИЕ
Татьяна Бек. Силуэт «серебряного века» 5
Владимир Соловьев 13
Из воспоминаний современников
и критических статей 33
Иннокентий Анненский 43
Из воспоминаний современников
и критических статей 75
Валерий Брюсов 95
Из воспоминаний современников
и критических статей 113
Дмитрий Мережковский 127
Из воспоминаний современников
и критических статей 137
Константин Бальмонт 159
Из воспоминаний современников
и критических статей 180
Иван Бунин 199
Из воспоминаний современников
и критических статей 213
Андрей Белый 225
Из воспоминаний современников
и критических статей 250
Зинаида Гиппиус 279
Из воспоминаний современников
и критических статей 299
Александр Блок 327
Из воспоминаний современников
и критических статей 370
Федор Сологуб 401
Из воспоминаний современников
и критических статей 417
Николай Гумилев 449
Из воспоминаний современников
и критических статей 475
Михаил Кузмин 487
Из воспоминаний современников
и критических статей 500
Игорь Северянин 507
Из воспоминаний современников
и крити 1еских статей 523
Вячеслав Иванов 535
Из воспоминаний современников
и критических статей 549
Владислав Ходасевич 503
Из воспоминаний современников
и критических статей . 599
671
В ПОМОЩЬ УЧЕНИКУ И УЧИТЕЛЮ
Комментарий 609
Темы сочинений и рефератов по поэзии
«Серебряного века» 616
Развернутые планы домашнего
или классного сочинения
Тема России в творчестве Блока 618
Традиции Некрасова в творчестве Блока 629
Школьный вечер, посвященнный поэзии
«Серебряного века» 640
Готовясь к уроку.'Опыты анализа одного
стихотворения 643
Список рекомендуемой литературы 670
Серия «Школа классики» — ученику и учителю
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
ПОЭЗИЯ
Редактор А. С. Гурова
Художественный редактор И. В. Белов
Технический редактор Н. В. Сидорова
Корректор Н. Г. Проплетина
Подписано в печать 17.11.99.
Формат 84Х 108'/з>. Гарнитура «Школьная». Усл. печ. л. 35,28.
Тираж 5 000 экз. Заказ N? 3870
Налоговая льгота - общероссийский классификатор продукции
ОК-ОО-93, том 2; 953000 - книги, брошюры
Гигиенический сертификат
№ 77.ЦС.04.952.П.01659.Т.98. от 01.09.98 г.
«Олимп». 105318, Москва, а/я 103
Изд. лиц. № 07190 от 16.10.91
ООО «Фирма «Издательство АСТ» ЛР № 066236 от 22.12.98.
366720, РФ, Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Московская, 13а
Наши электронные адреса: WWW AST.RU E-mail: astpub@aha.ru
Отпечатано с готовых диапозитивов
на Книжной фабрике № 1 Госкомпечати России.
144003, г Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.
1ЛУЧШИЕ
К
♦ Любителям крутого детектива “ романы Фридриха Незнанского, Эдуарда
Тополя, Владимира Шитова, Виктора Пронина, суперсериалы Андрея Воронина
"Комбат", "Слепой", "Му-му", "Атаман", а также классики детективного жанра -
А.Кристи и Дж.X.Чейз.
♦ Сенсационные документально-художественные произведения
Виктора Суворова; приоткрывающие завесу тайн кремлевских обитателей книги
Валентины Красковой и Ларисы Васильевой, а также уникальная серия "Всемирная
история в лицах".
♦ Для УВЛЕКАЮЩИХСЯ ТАИНСТВЕННЫМ И НЕОБЪЯСНИМЫМ - серии "Линия судьбы",
"Уроки колдовства", ГЭнциклопедия загадочного и неведомого", "Энциклопедия
тайн и сенсаций", "Великие пророки", "Необъяснимые явления"
♦ Поклонникам любовного романа “ произведения "королев" жанра Дж.Макнот,
Д.Линдсей, Б.Смолл, Дж.Коллинз, С Браун, Б.Кортленд, Дж Остен, сестер Бронте,
Д.Стил - в сериях "Шарм", "Очарование", "Страсть", "Интрига", "Обольщение",
"Рандеву".
♦ Полные СобрАНИЯ бЕСТСЕЛЛЕров Стивена Кинга и Сидни Шелдона
♦ Почитателям Фантастики ~ циклы романов Р Асприна, Р.Джордана,
А.Сапковского, Т.Гудкайнда, Г.Кука, К.Сташефа, а также самое полное собрание
произведений братьев Стругацких.
♦ ЛюбитЕЛЯМ приключенческого жлнрА ~ "Новая библиотека Приключений
и фантастики", где читатель встретится с героями произведений А.К. Дойла, А Дюма,
Г.Манна, Г.Сенкевича, Р.Желязны и Р.Шекли.
♦ Популярнейшие многотомные детские энциклопедии: "Все обо всем",
"Я познаю мир", "Всё обо всех".
♦ Уникальные издания "Современная энциклопедия для девочек", "Современная
энциклопедия для мальчиков"
♦ ЛучшиЕ серии для самых маленьких “ "Моя первая библиотека", "Русские народ¬
ные сказки", "Фигурные книжкнигрушки", а также незаменимые "Азбука" и "Букварь".
♦ Замечательные книги известных детских Авторов: Э.Успенского, А Волкова,
Н.Носова, Л.Толстого, С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто, А Линдгрен
♦ Школьникам и студентам - книги и серии "Справочник школьника", "Школа
классики", "Справочник абитуриента", "333 лучших школьных сочинения", "Все
произведения школьной программы в кратком изложении"
♦ Богатый выбор учебников, словарей, справочников по решению задач,
пособий для подготовки к экзаменам А также разнообразная энциклопедическая
и прикладная литература на любой вкус.
Все эти и многие другие издания вы можете приобргсти по почте, заказав
БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ
По Адресу: 107140, Москва, а/в 140. "Кинги по помп”.
Москвичей и гостей столицы приглашаем посетить московские фирмЕиные магазины
издательской группы "ACT" по адресам:
Клрстиый ряд, д.5/10. Тел.: 299 6584, 209 6601. Арблт, д.1 2. Тел. 291’6101.
Звездный бульвдр, д.21. Тел. 252-1905. Татарская, д.14. Тел. 95 9-2095.
Б.Факельным пер., д.5. Тел. 911-2107. Луганская, д.7 Тел. 522-2822
2-я Владимирская, д.52. Тел. 506-1898.