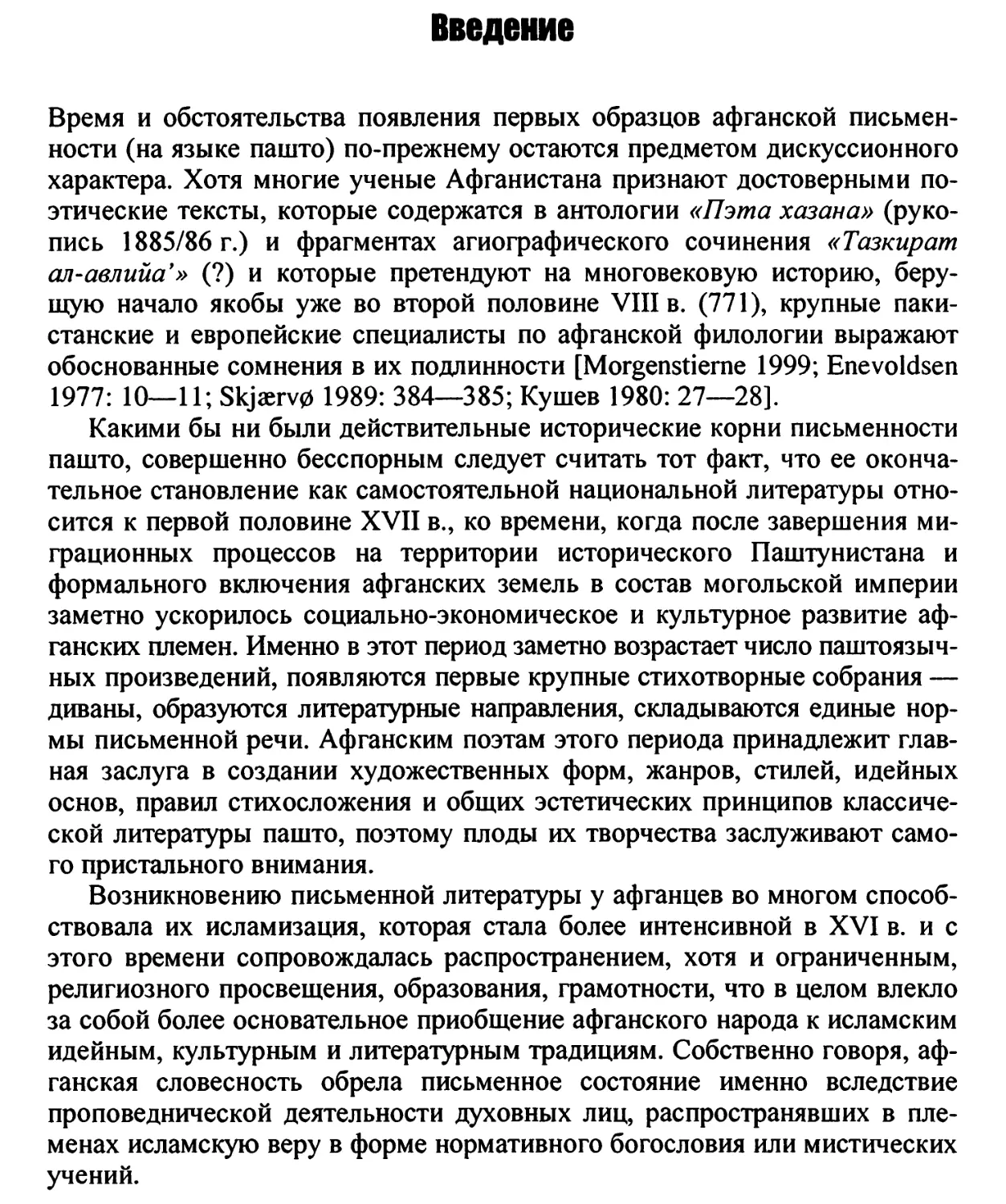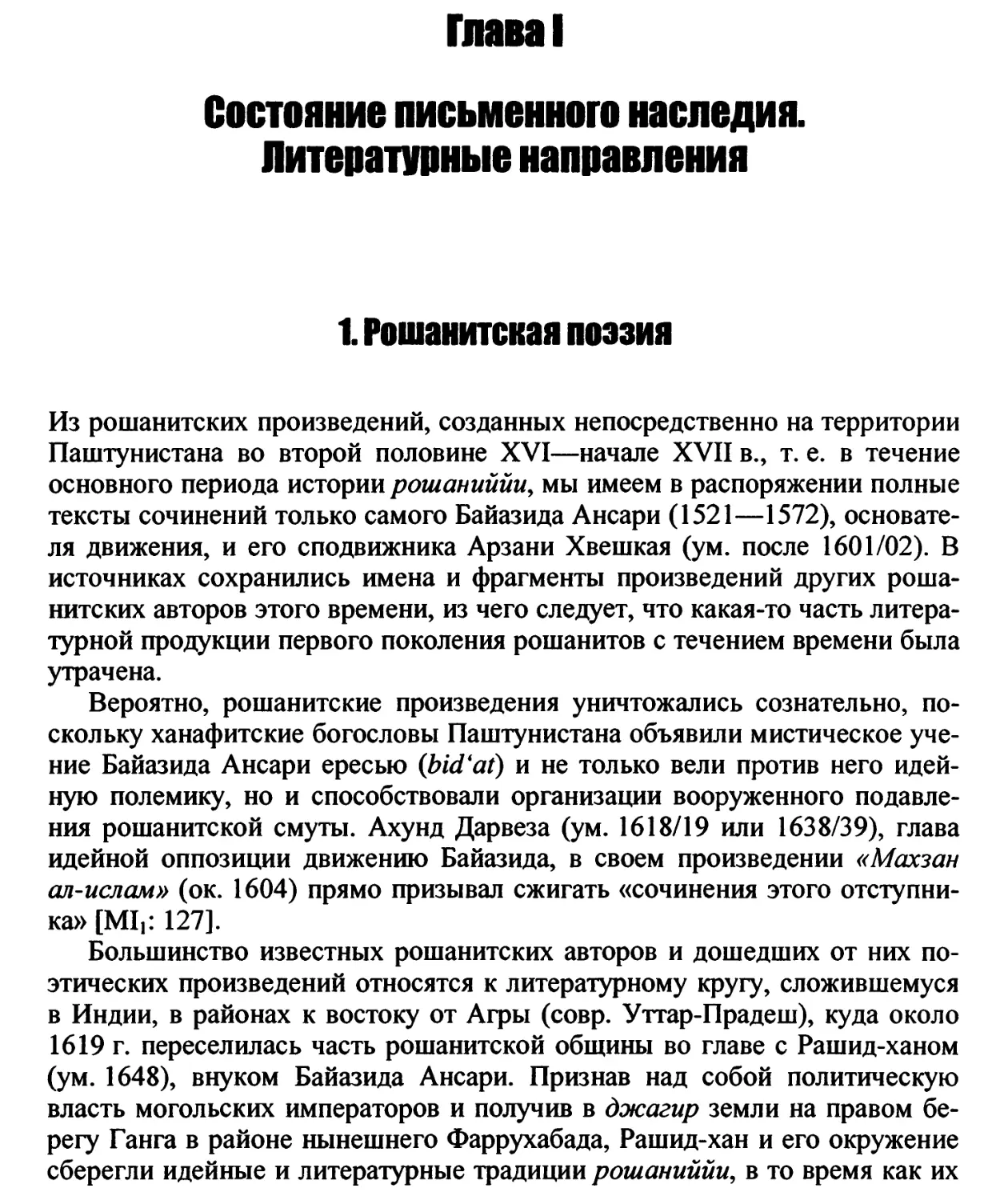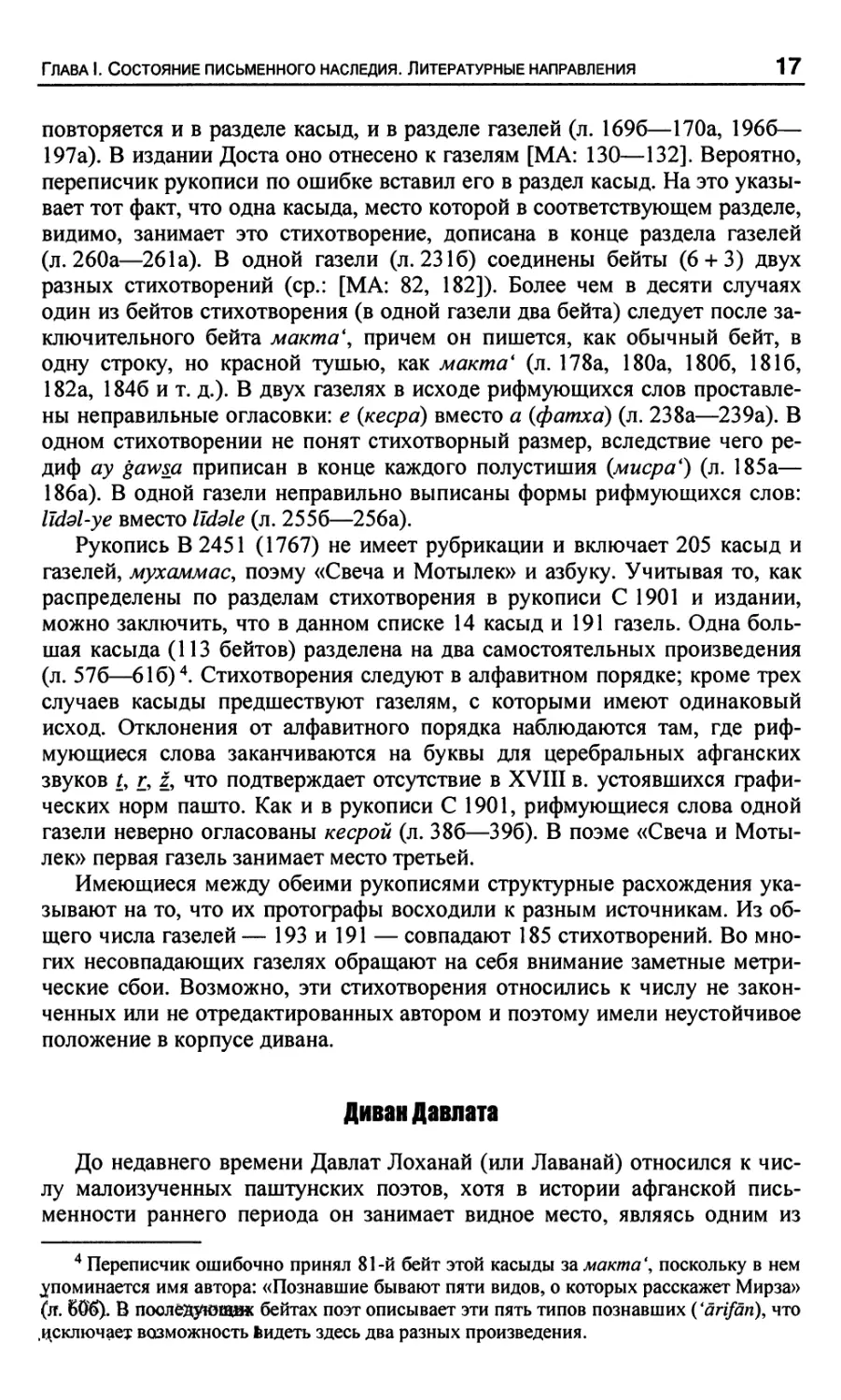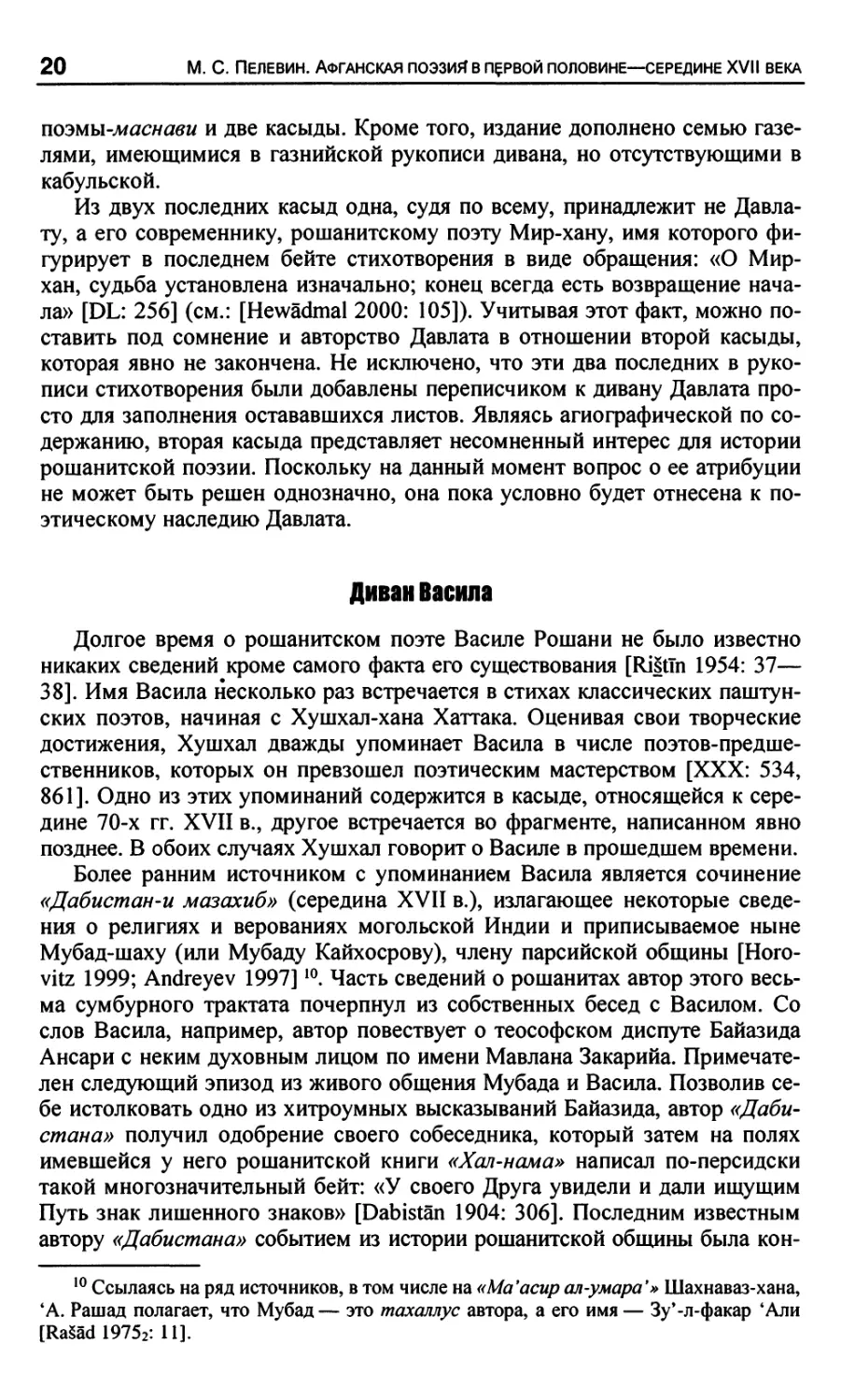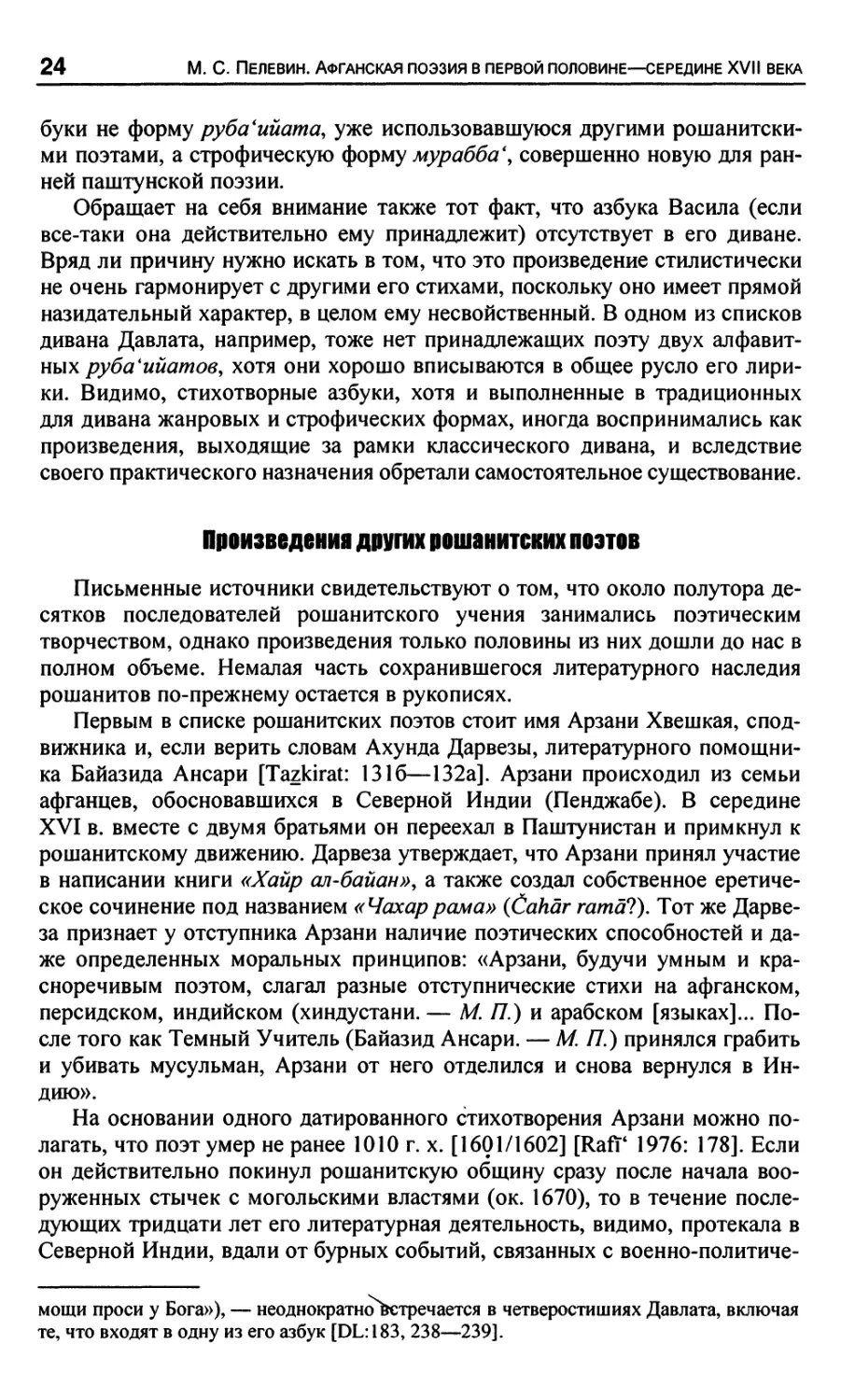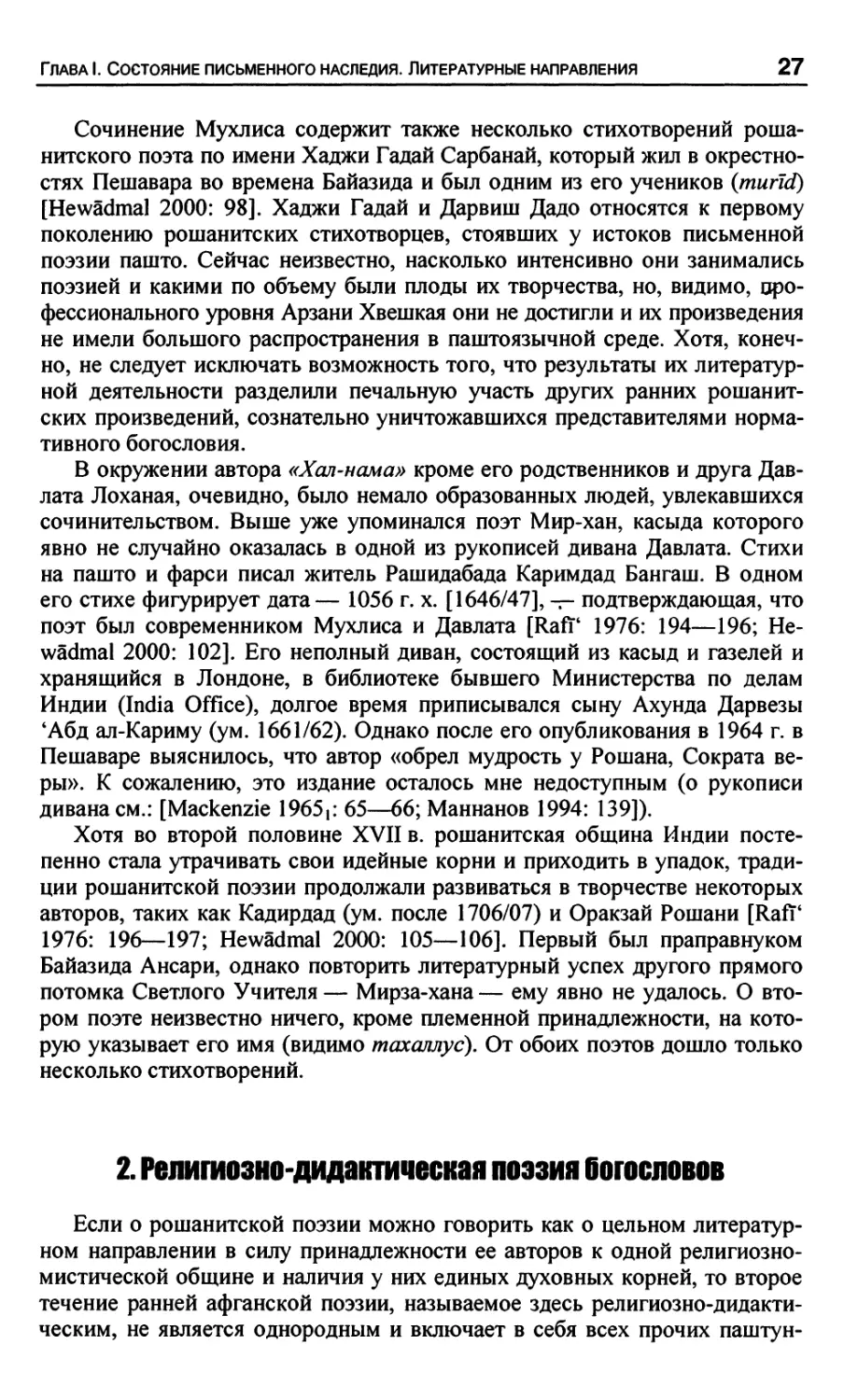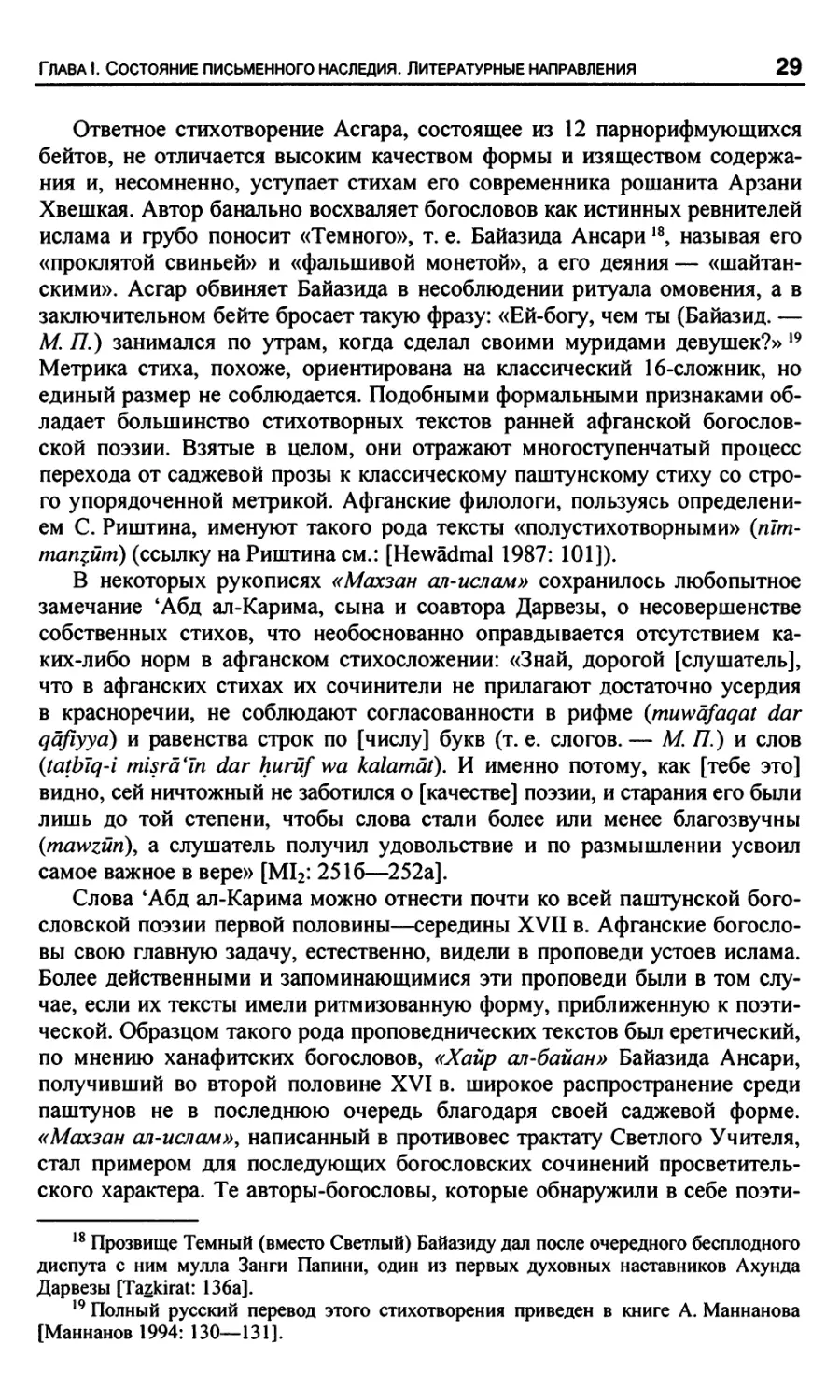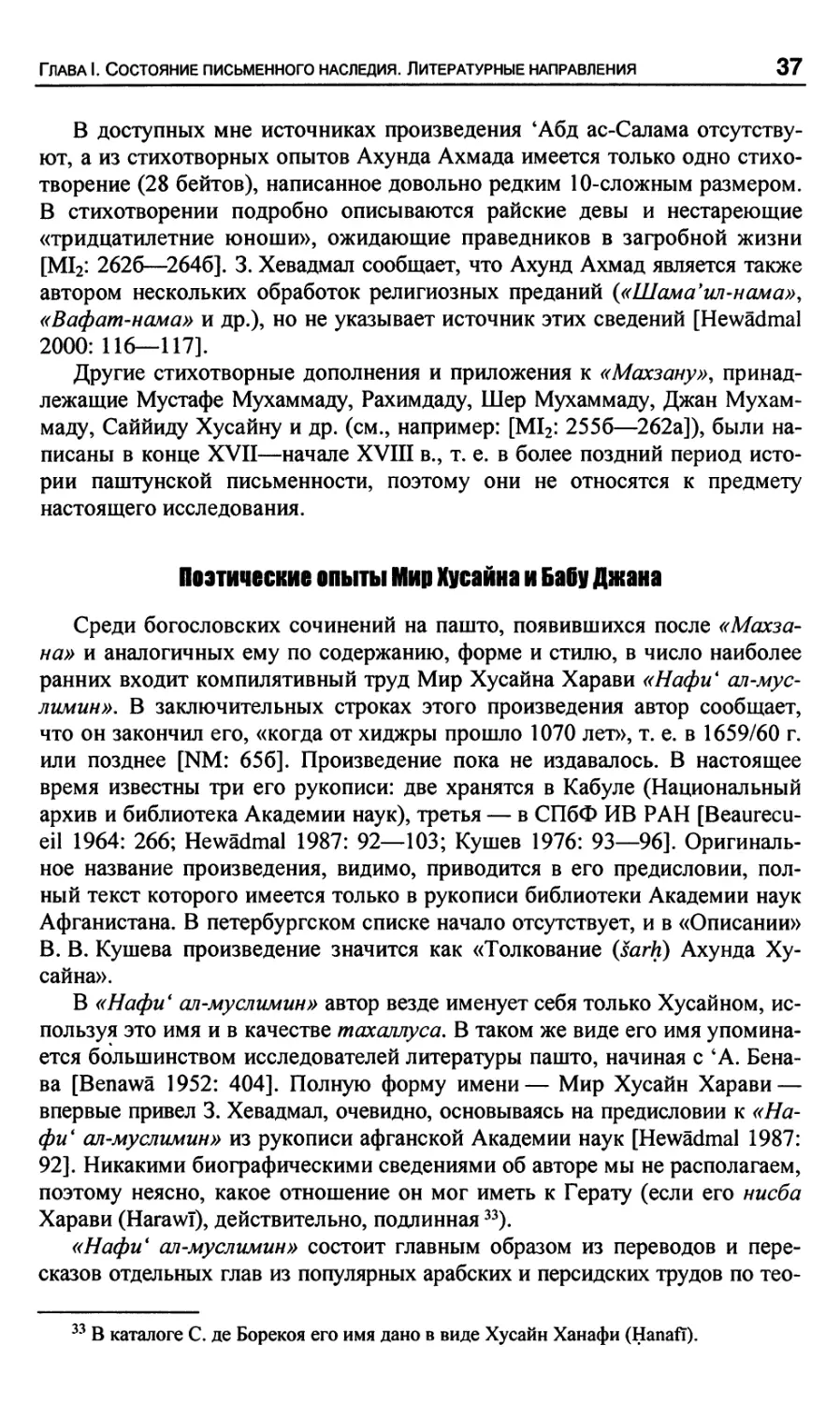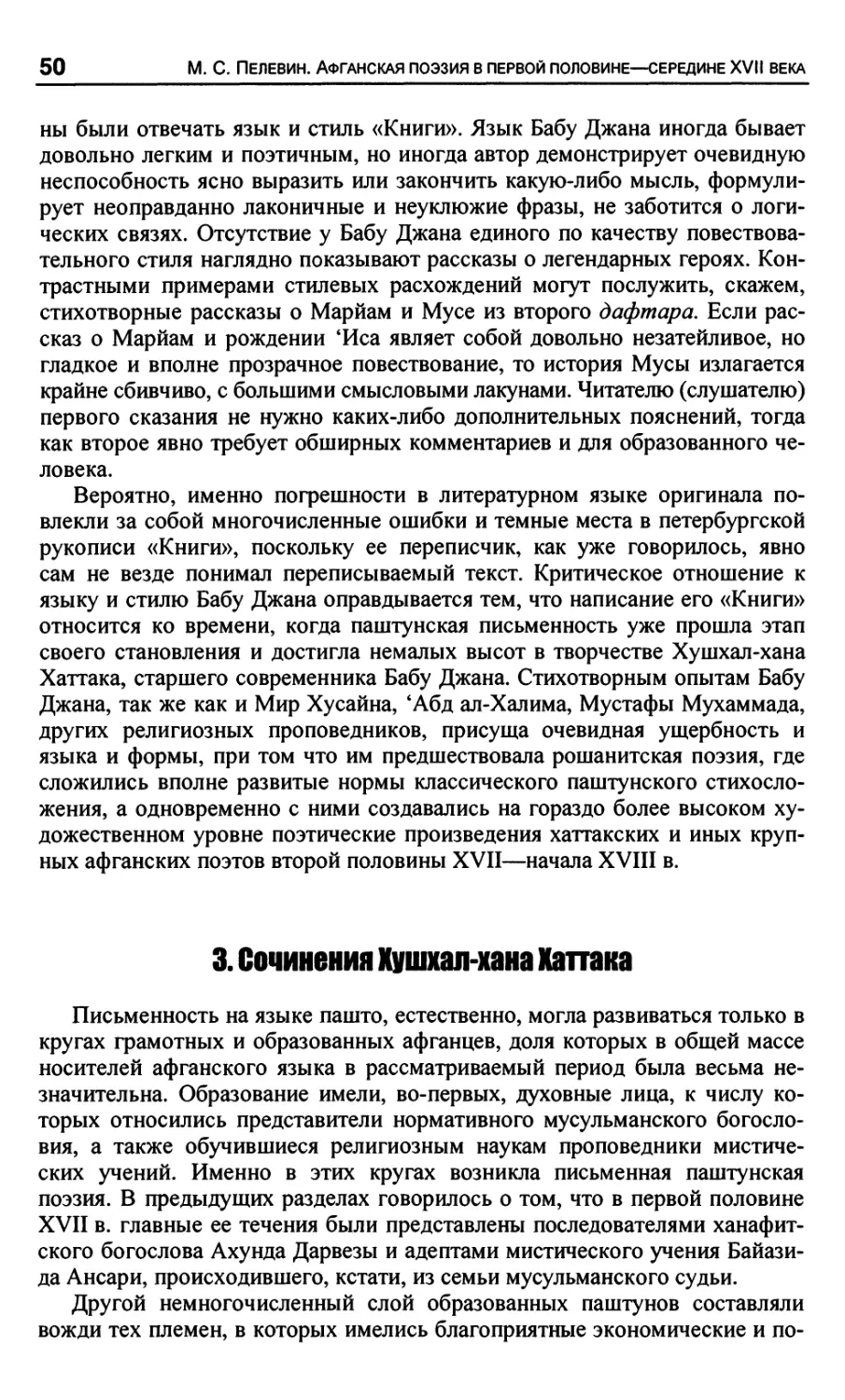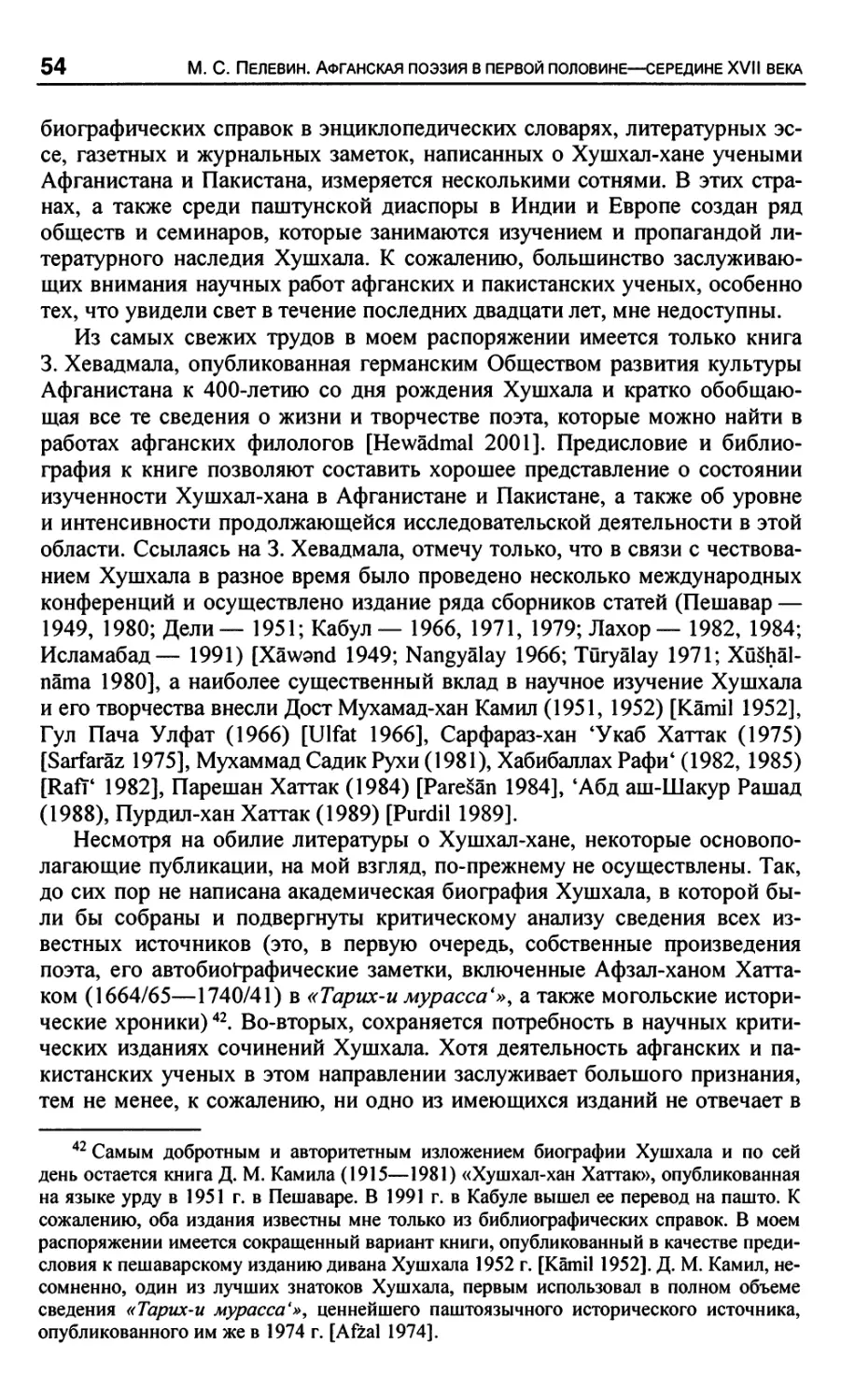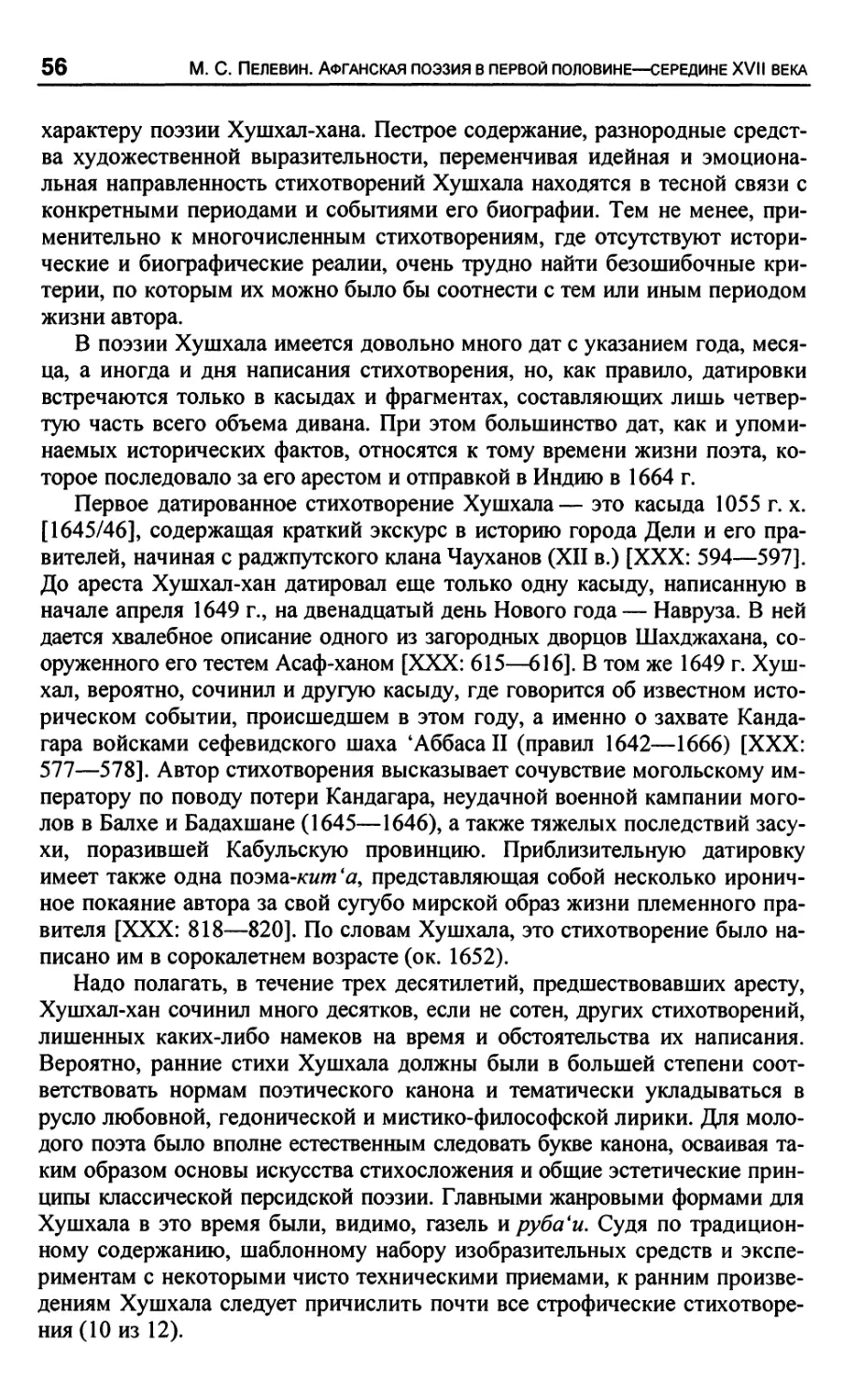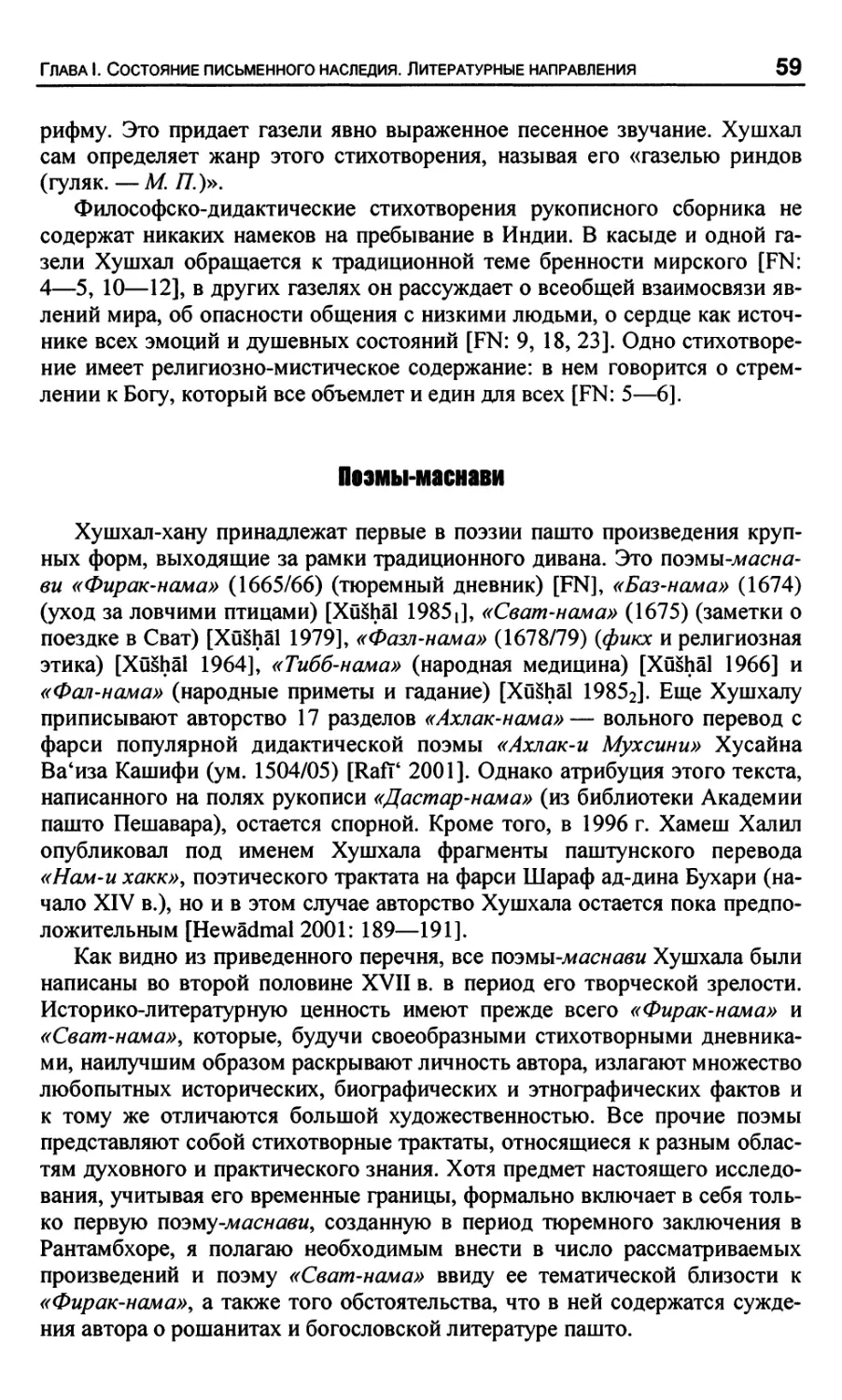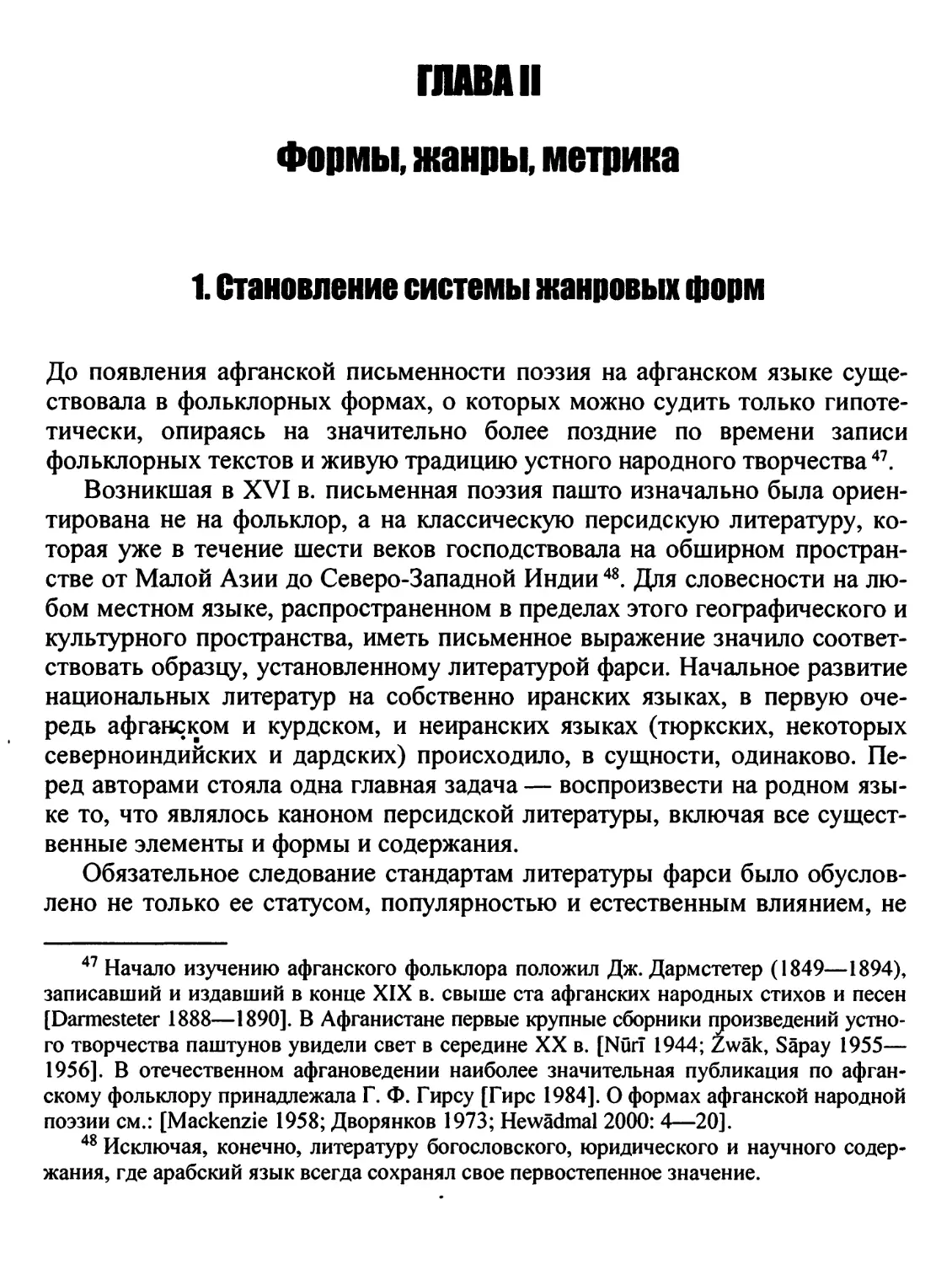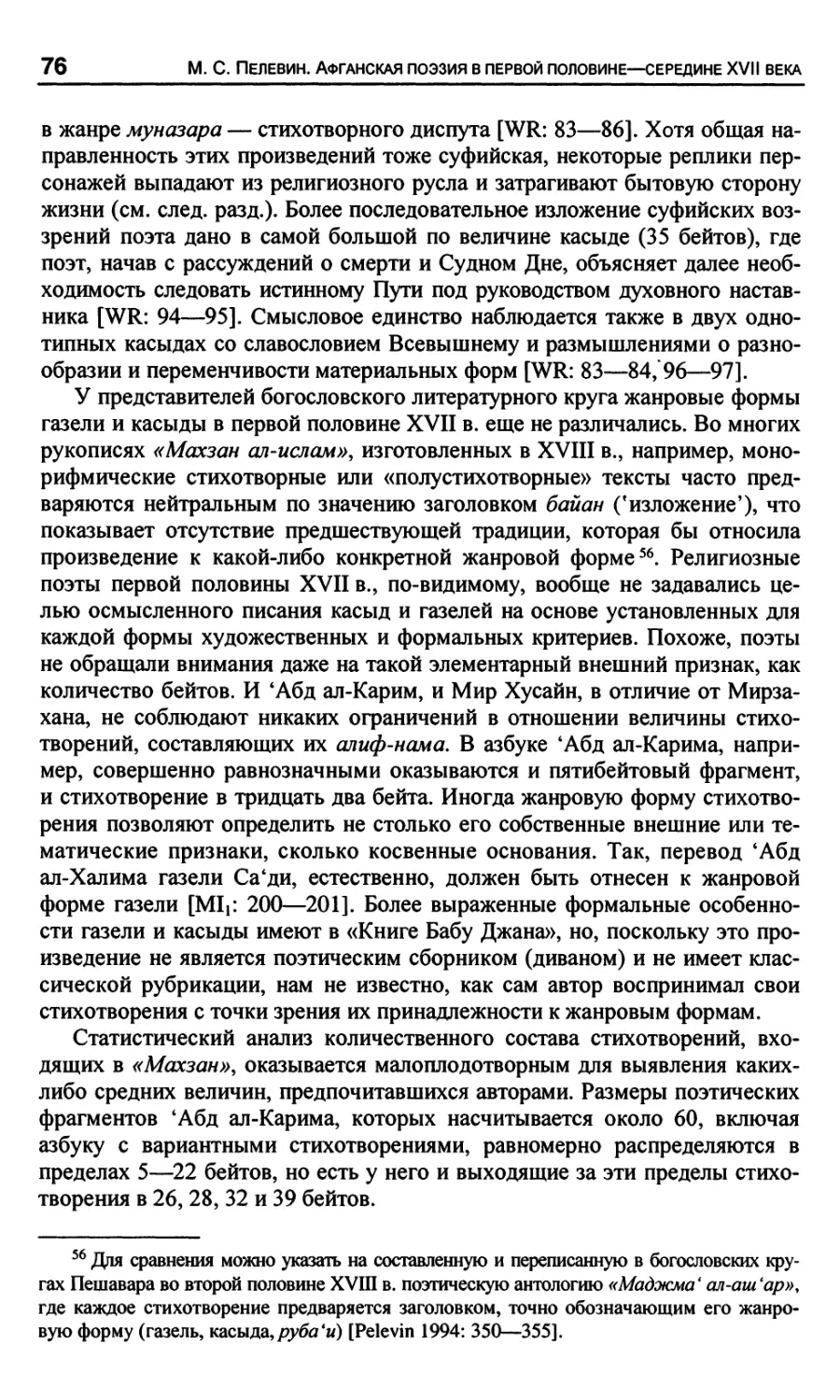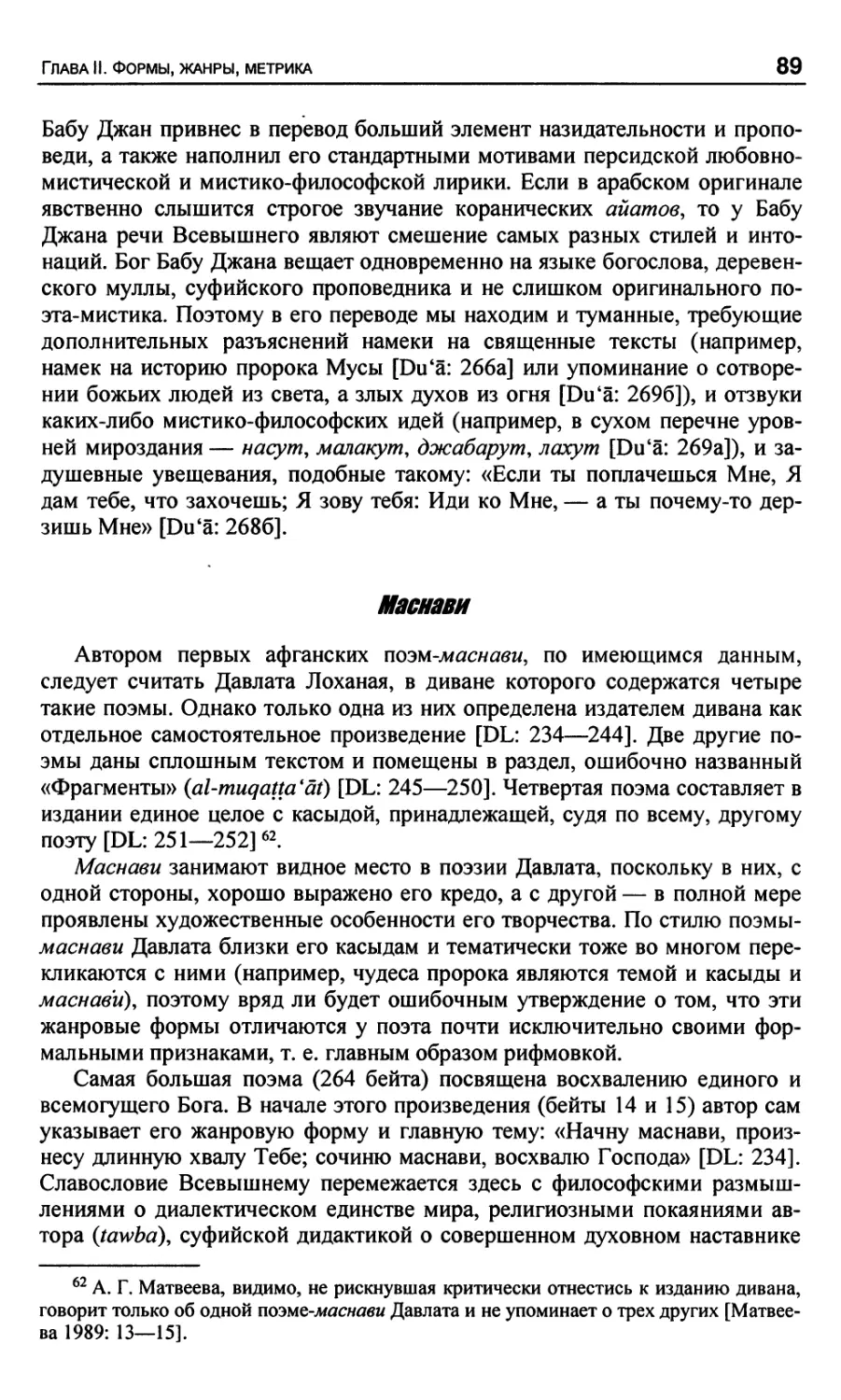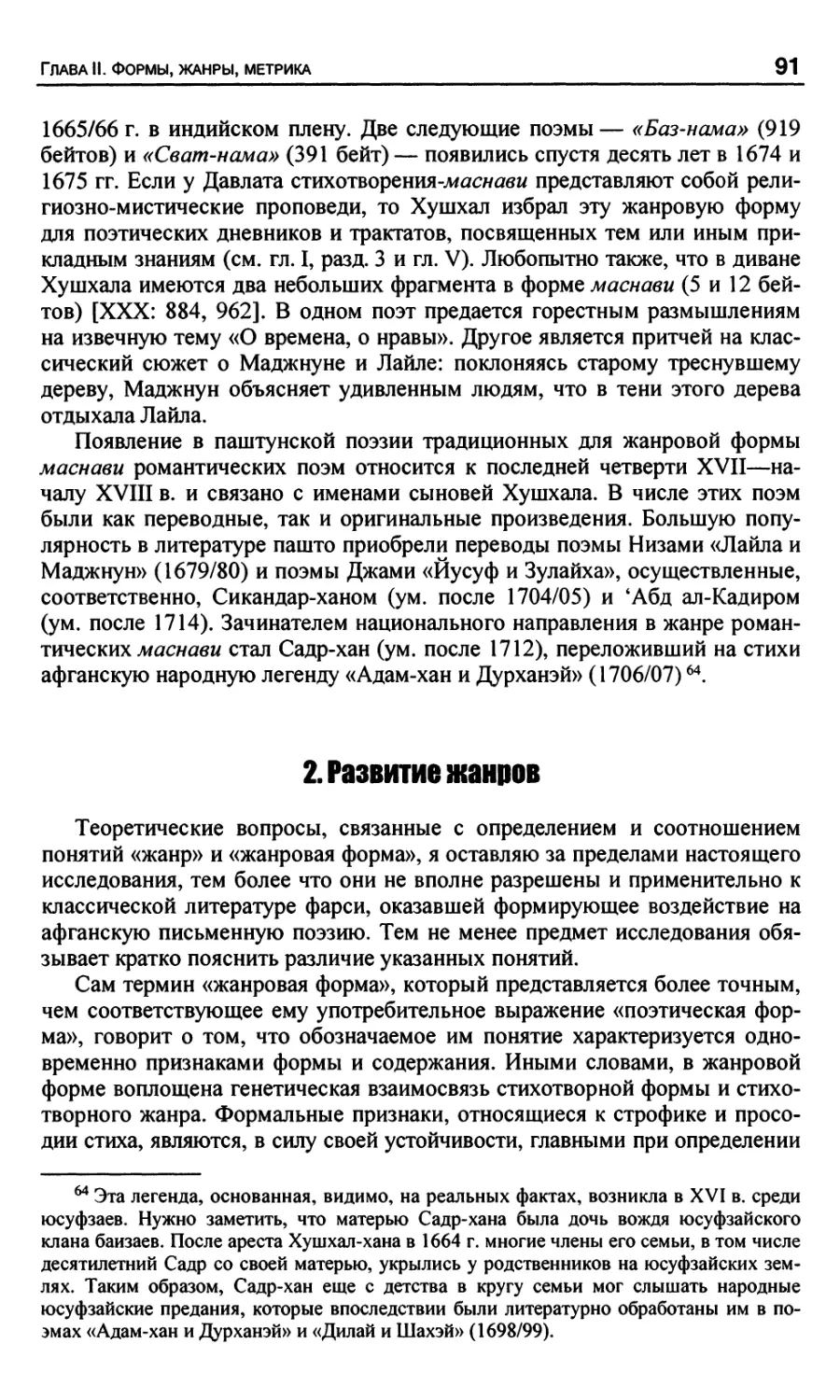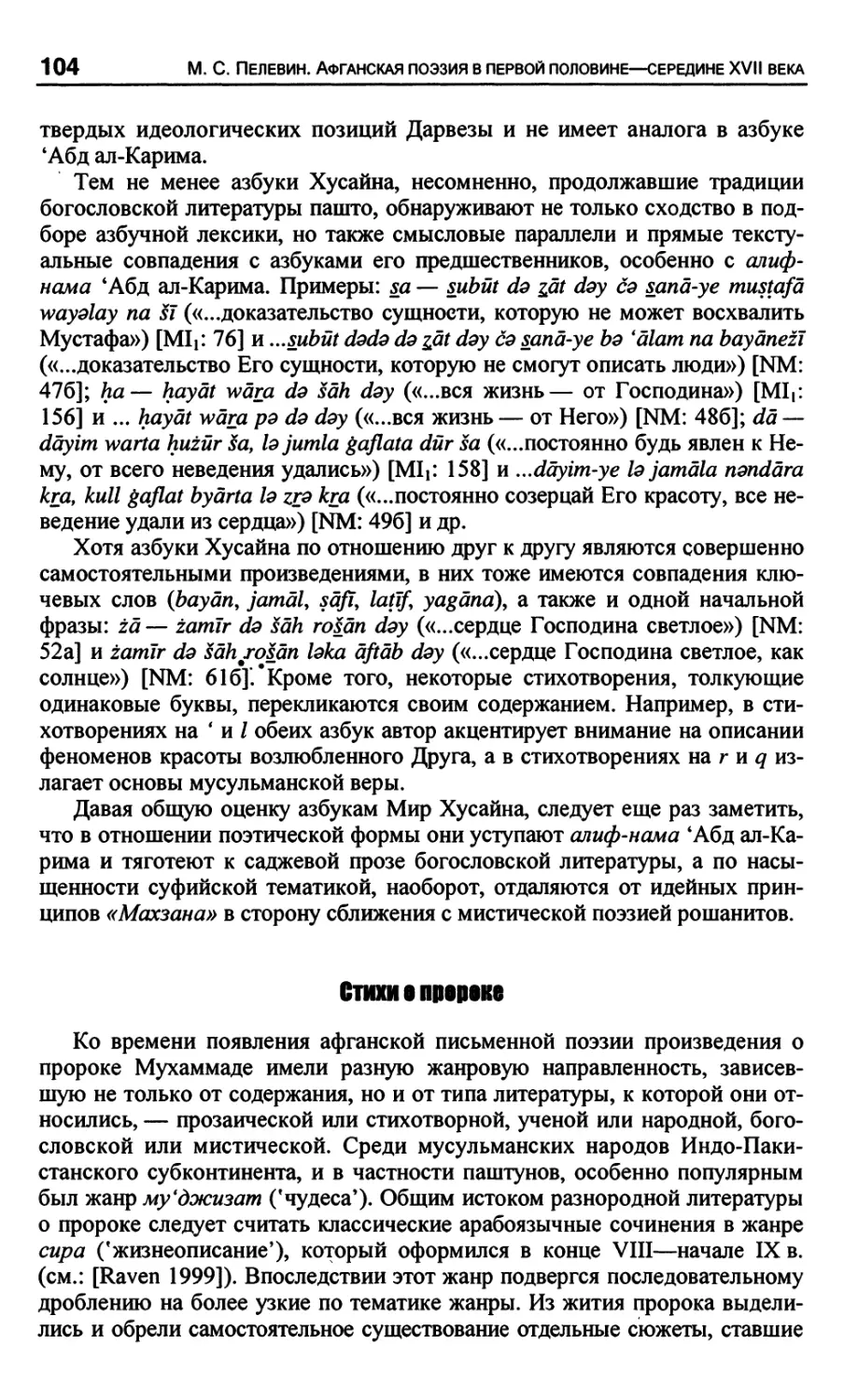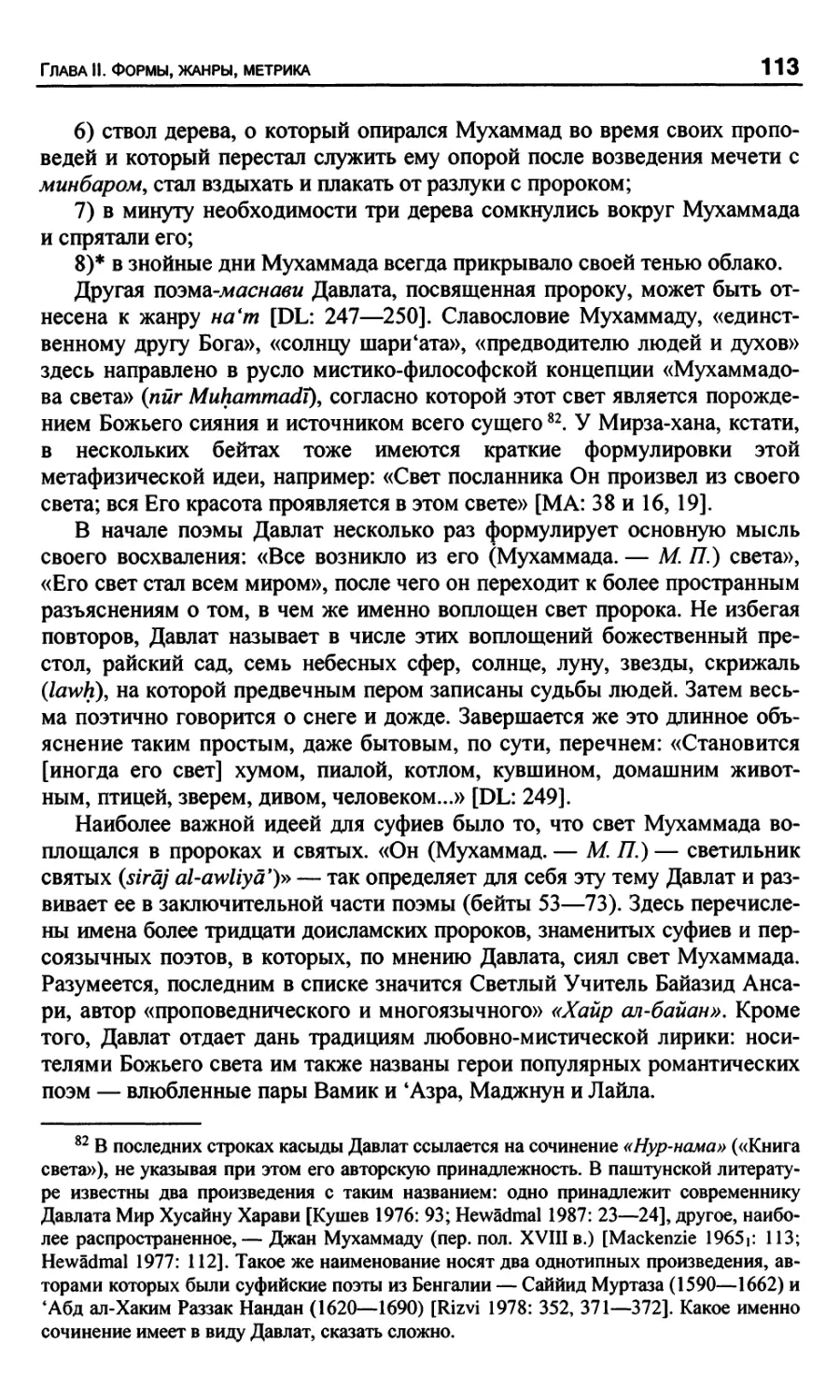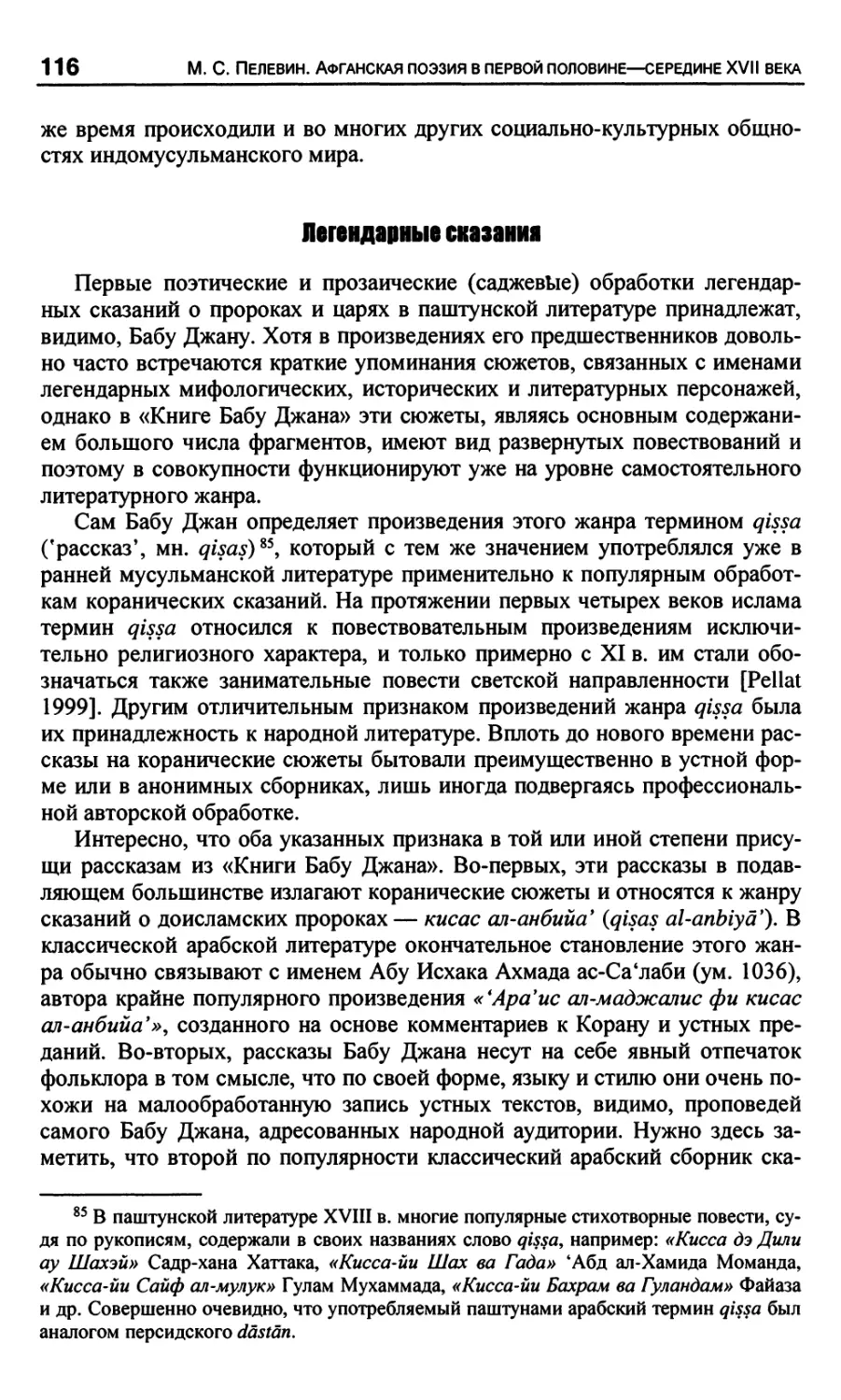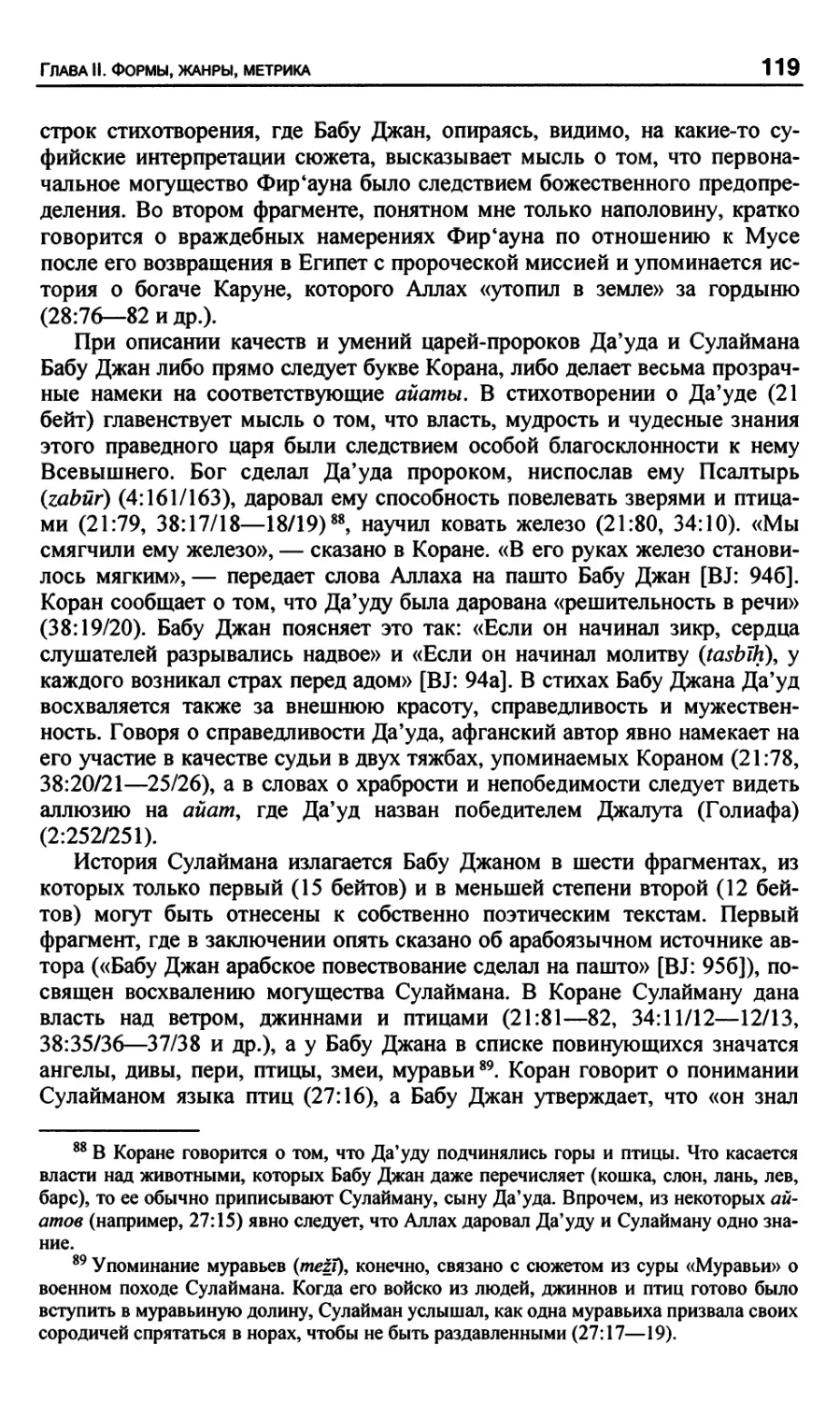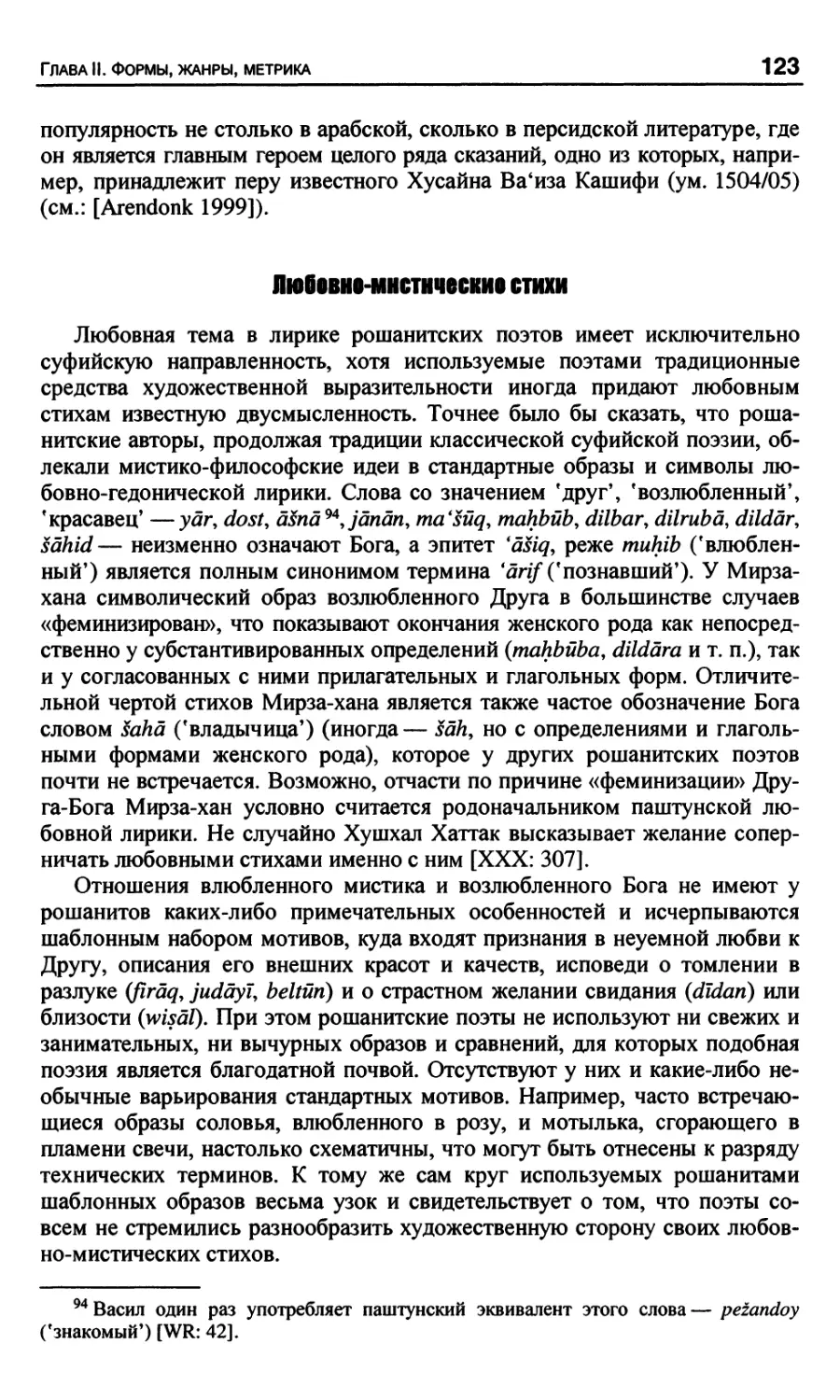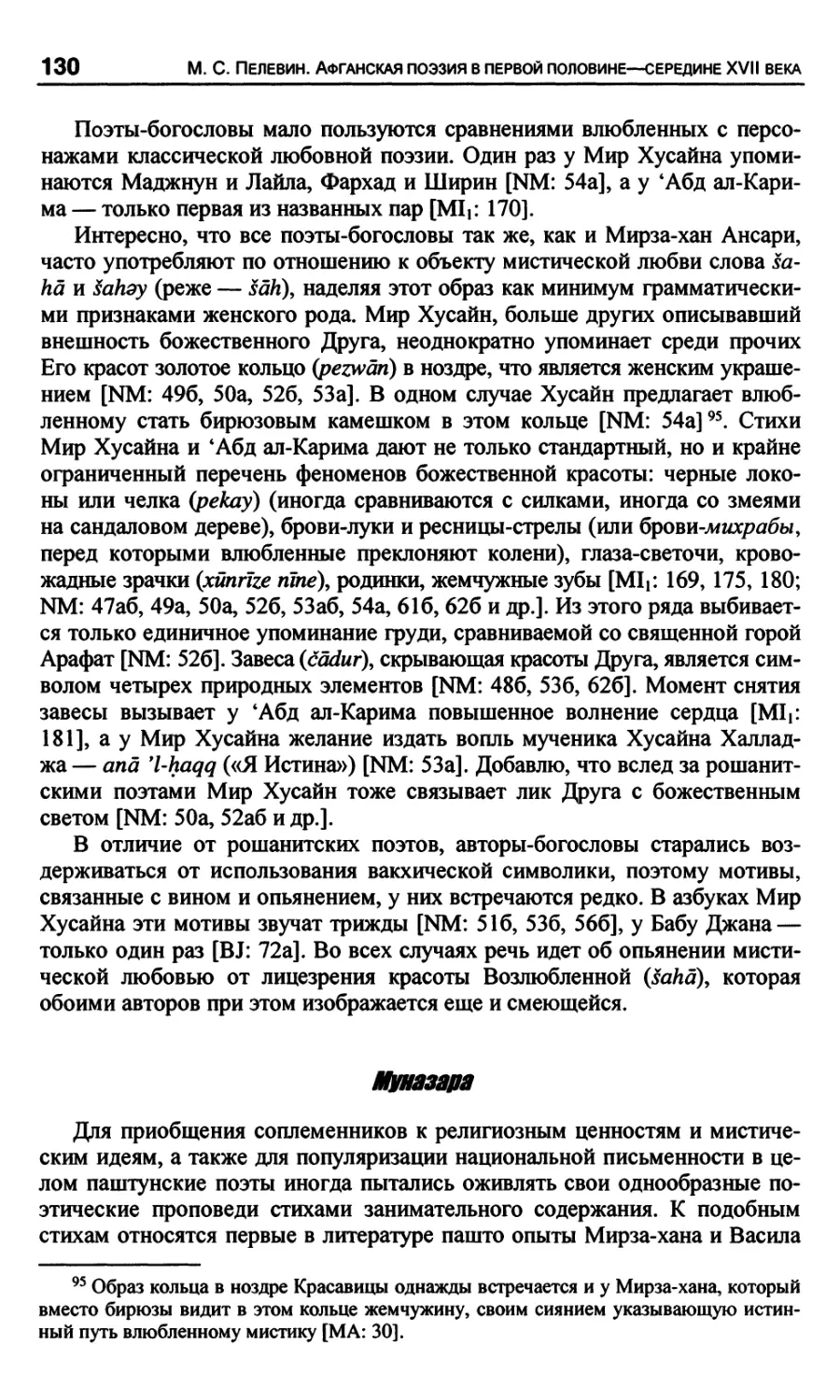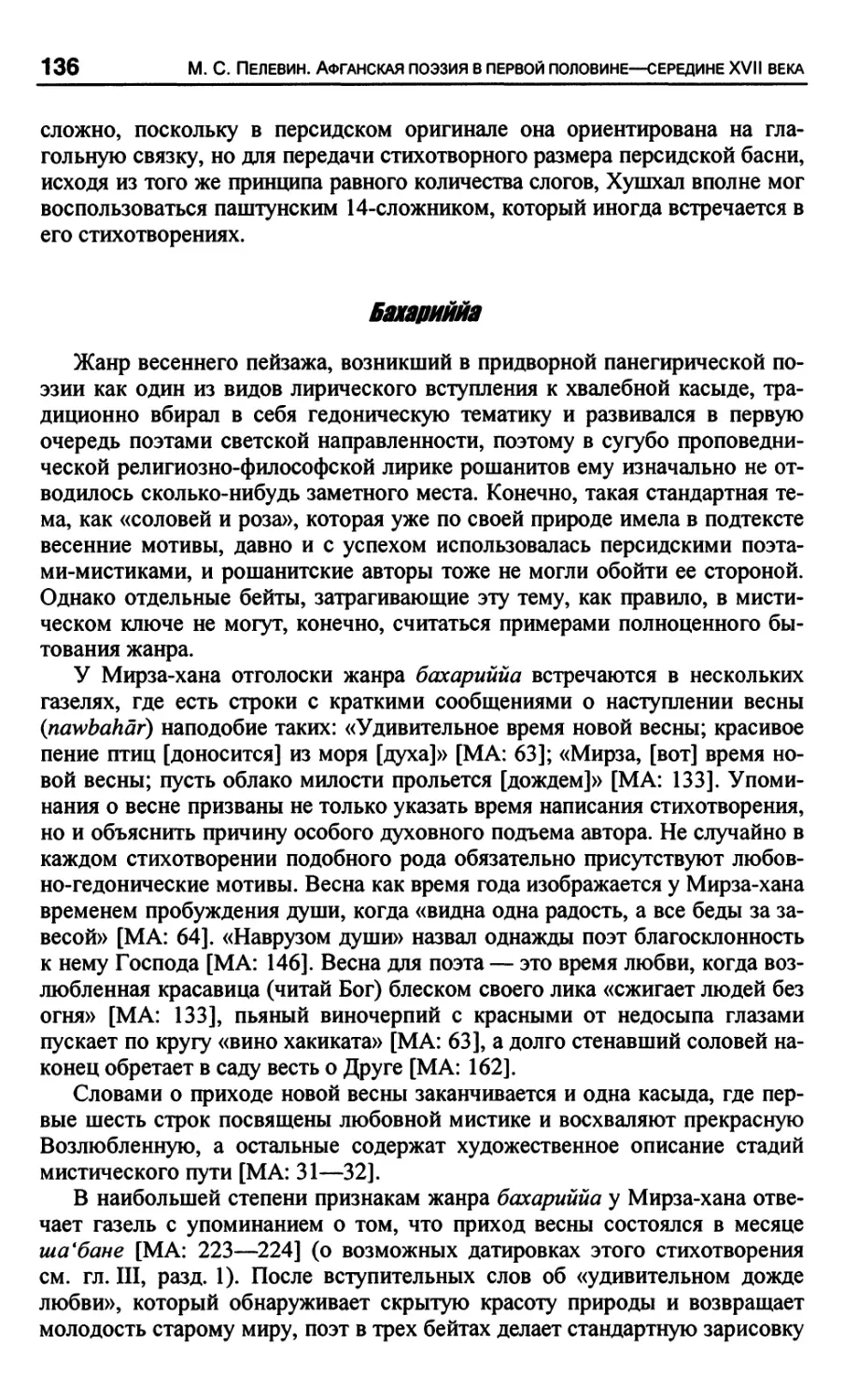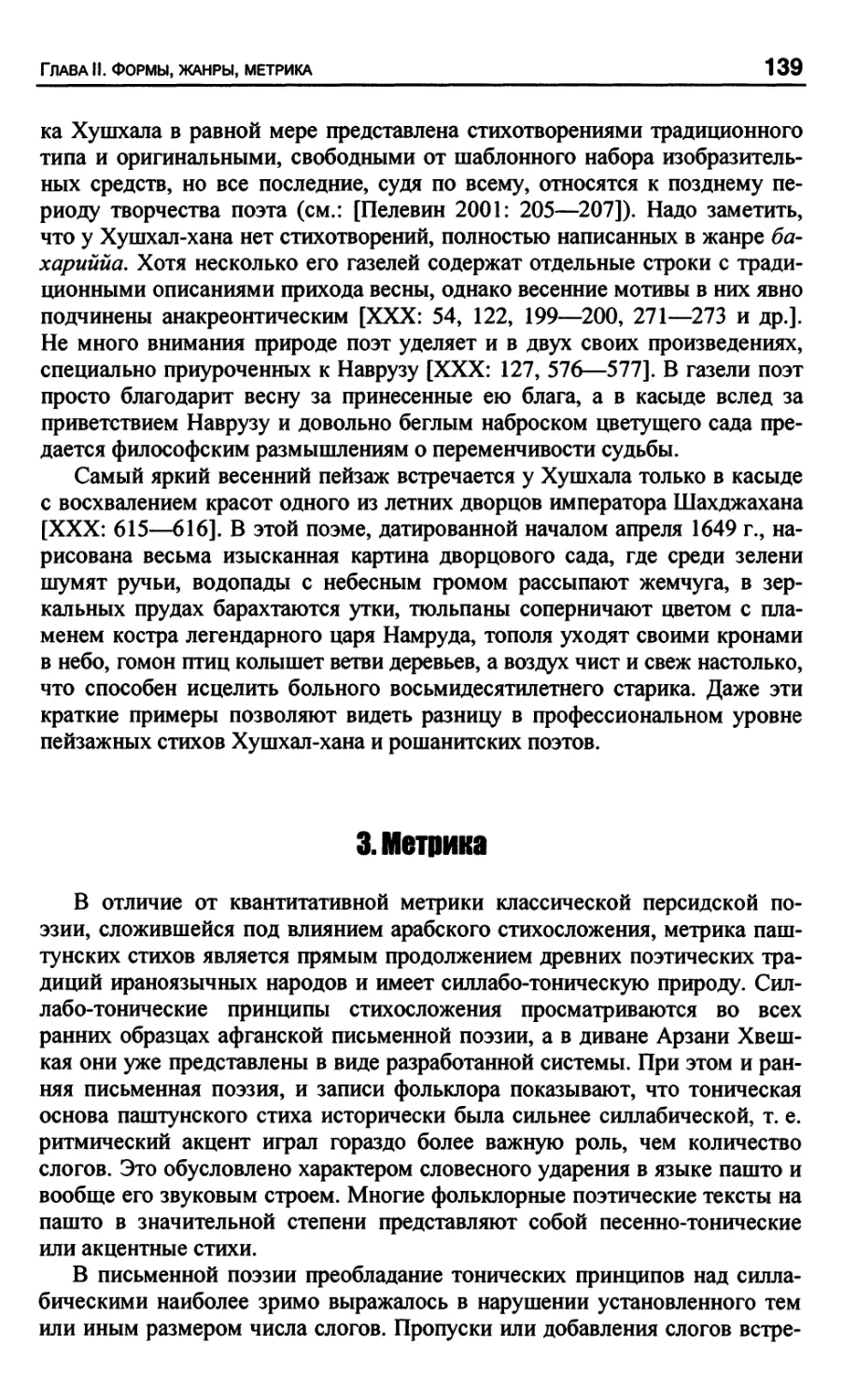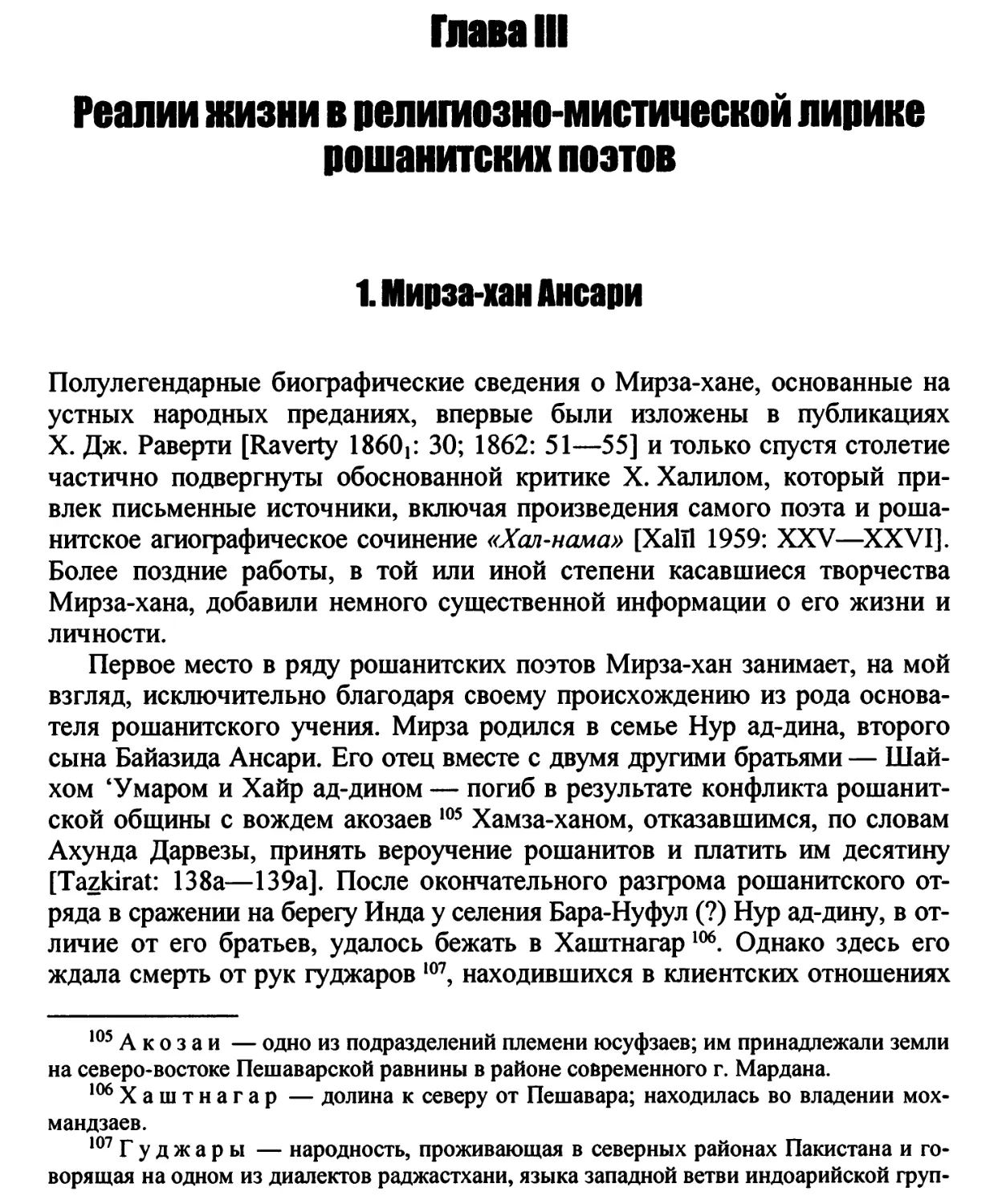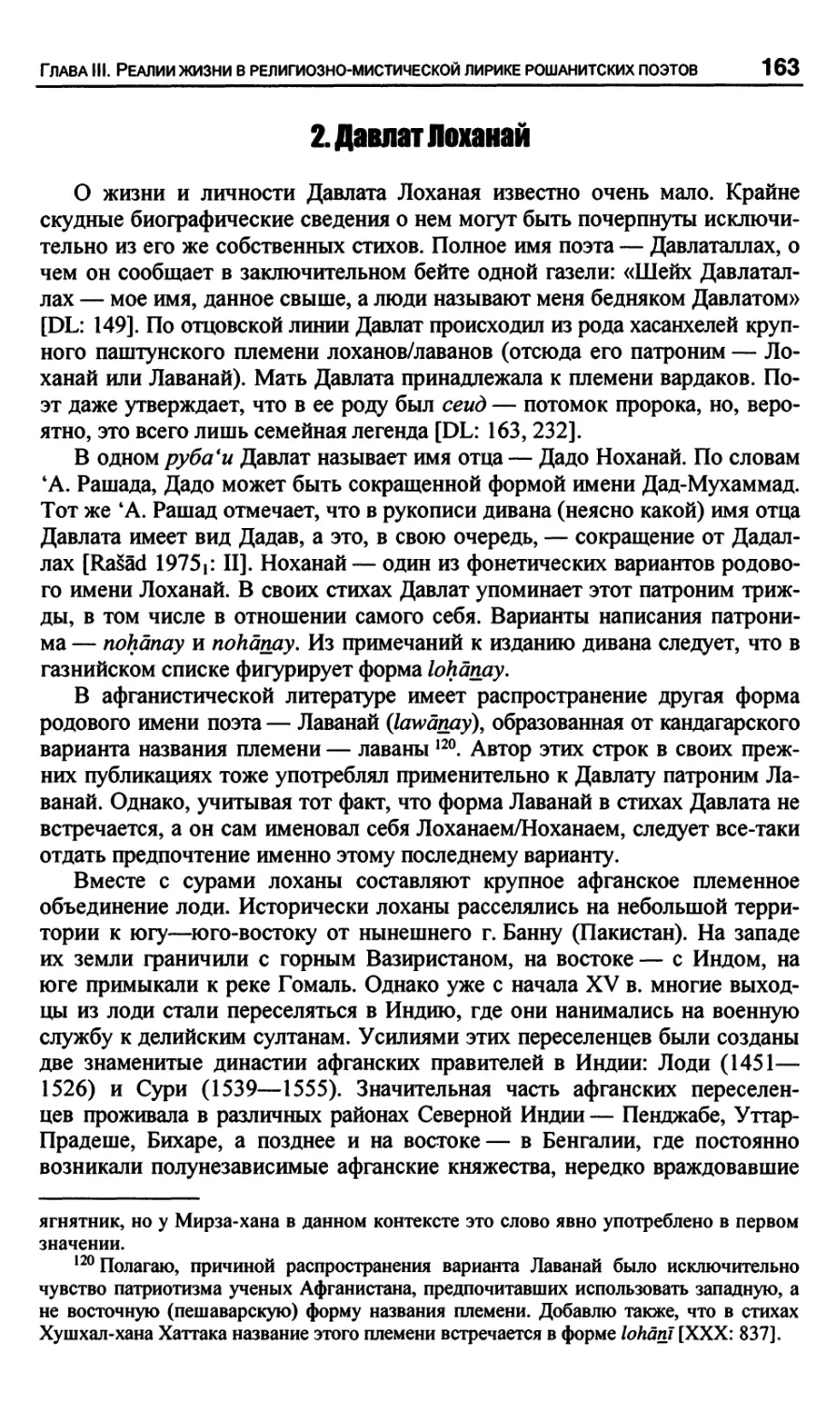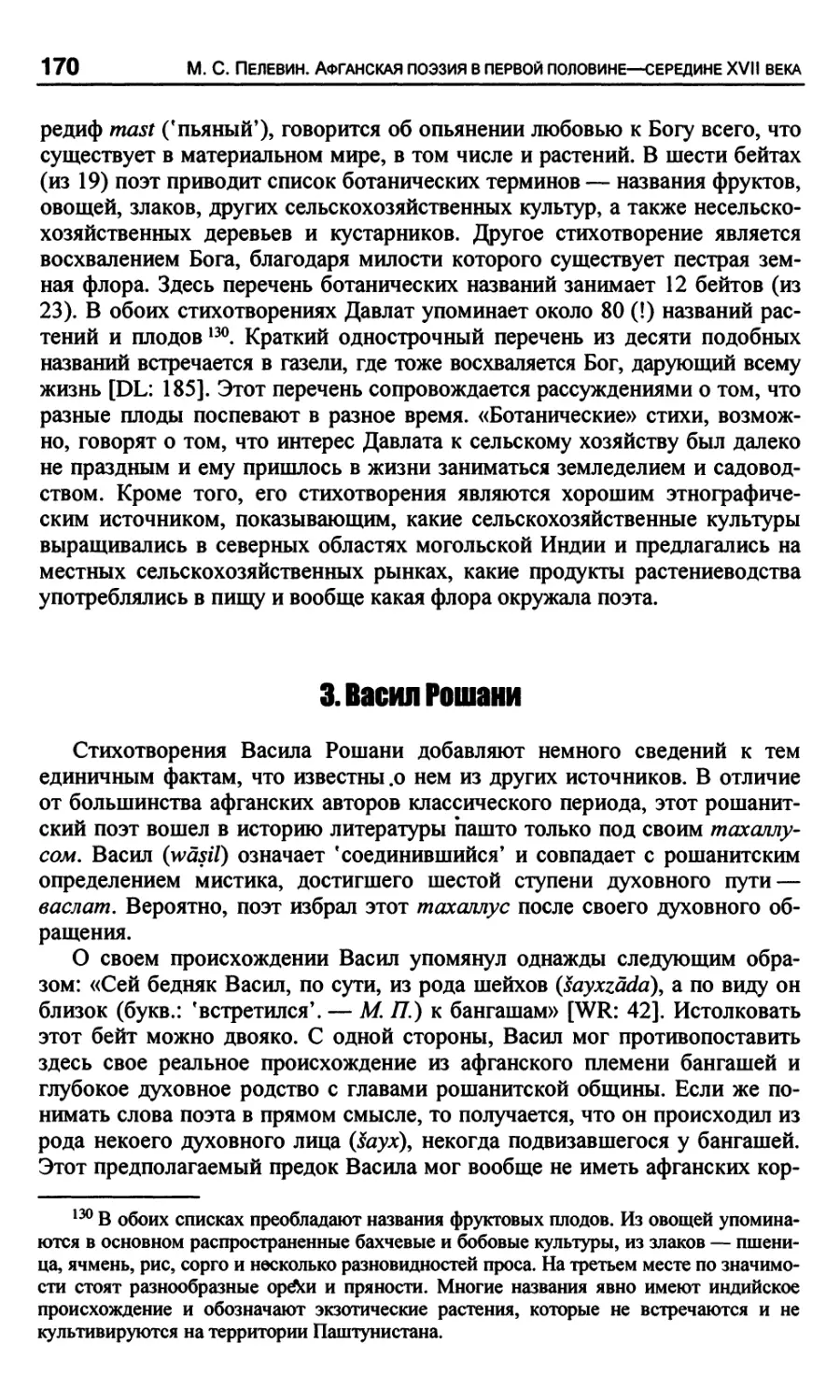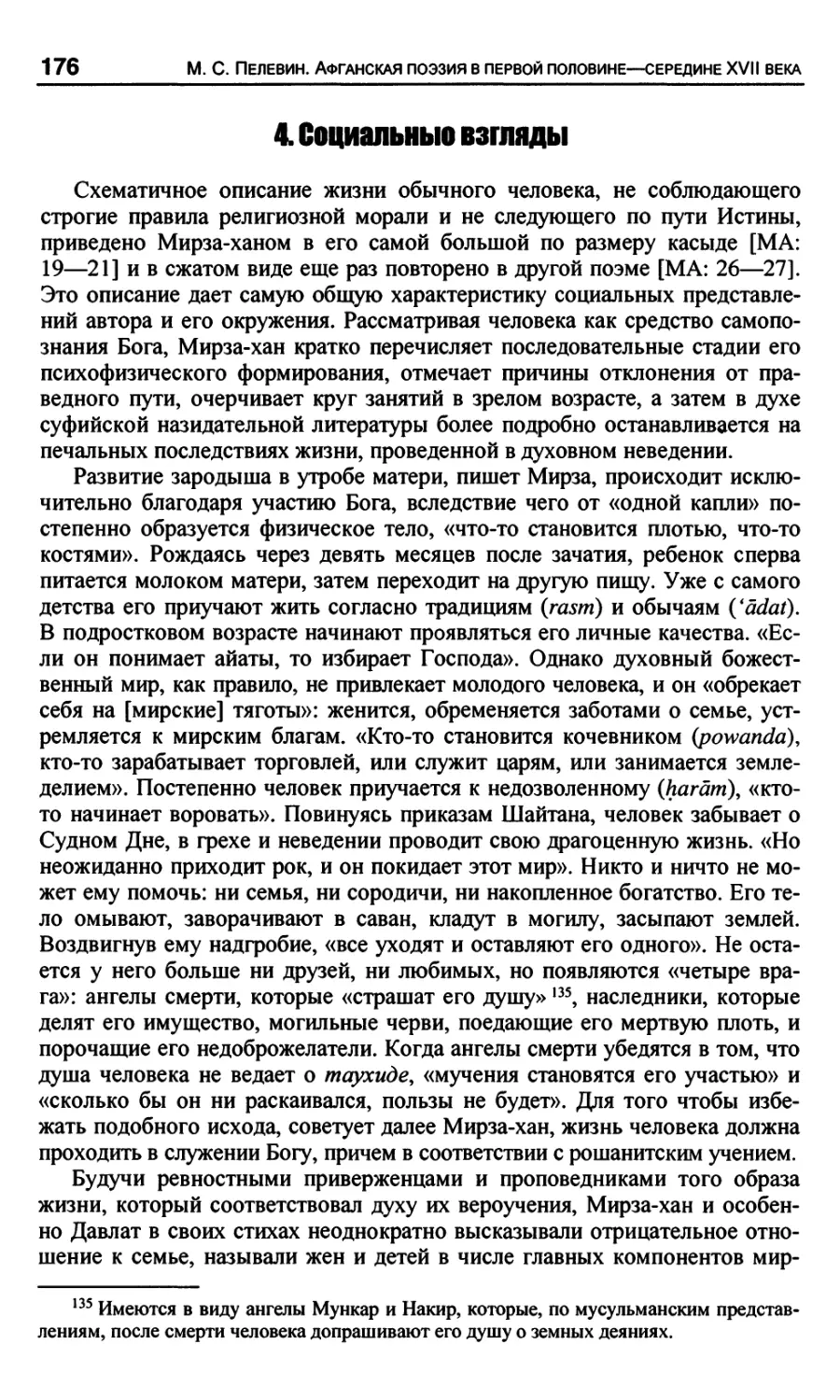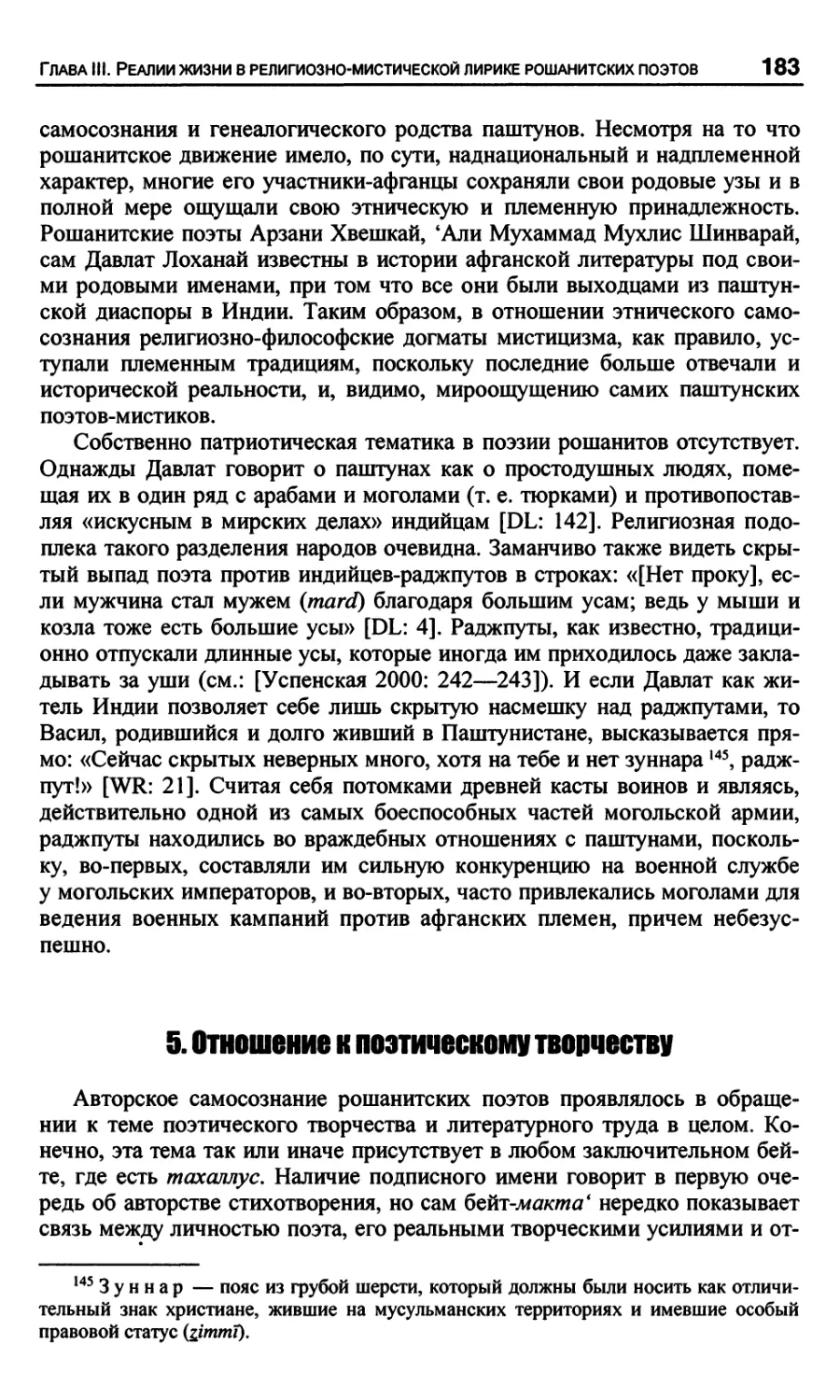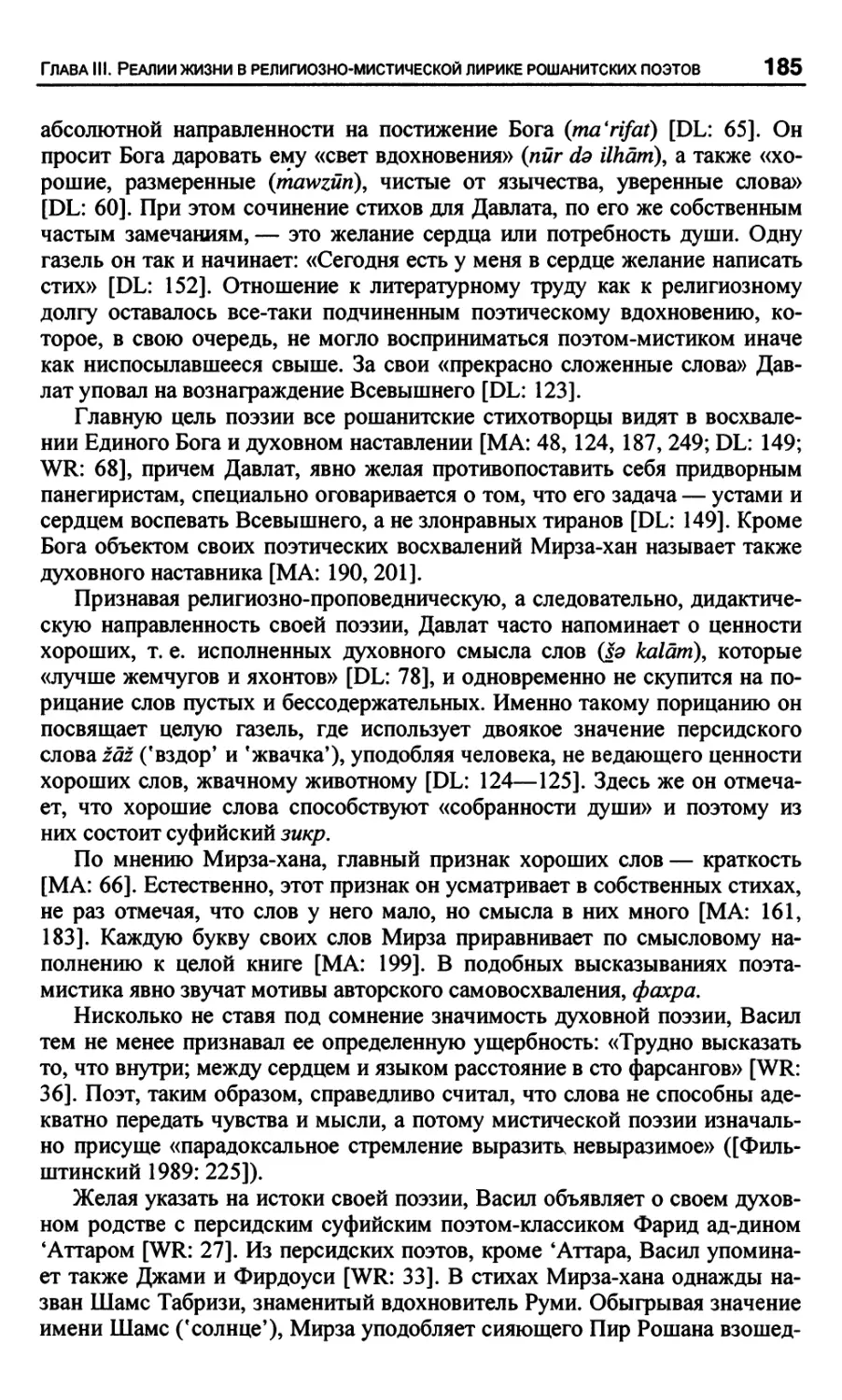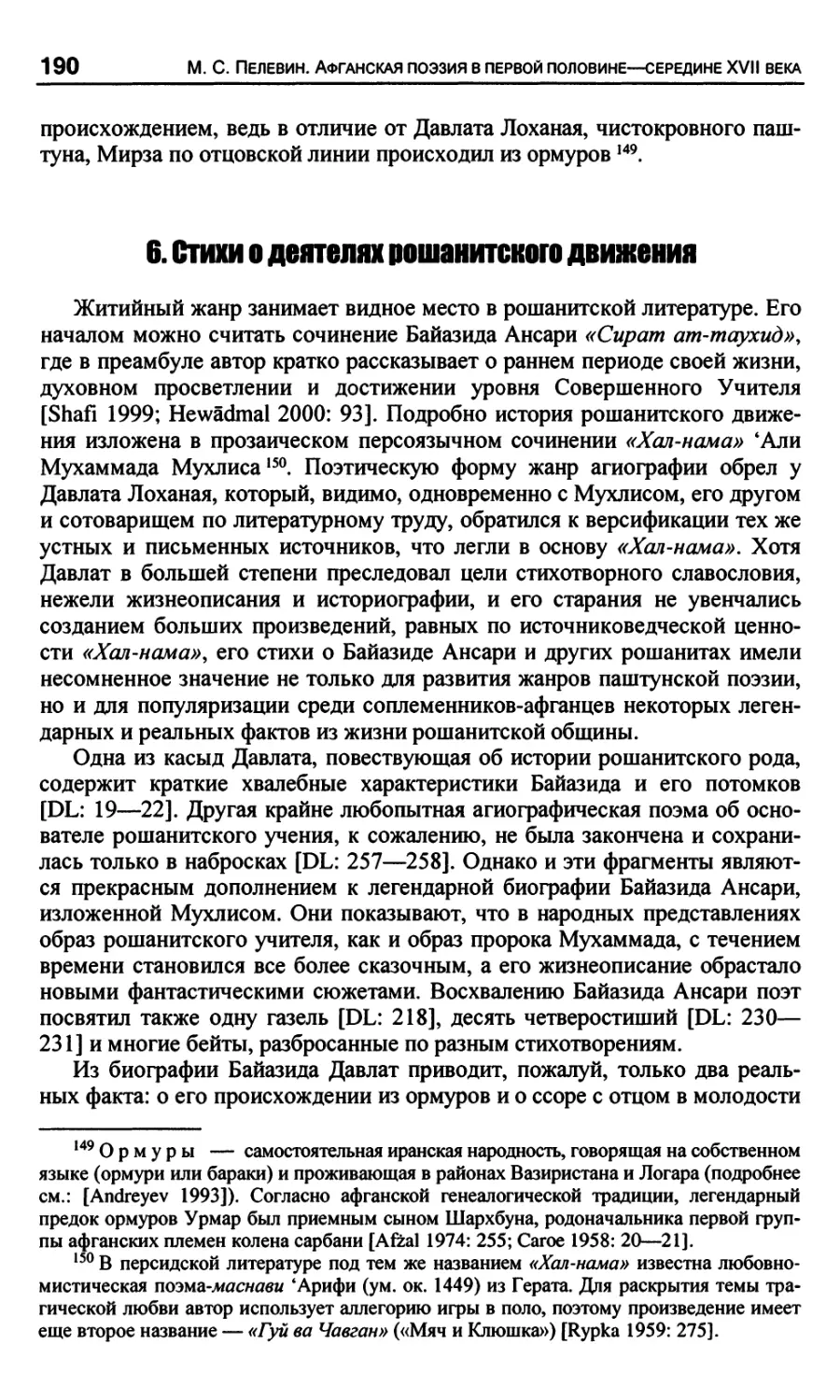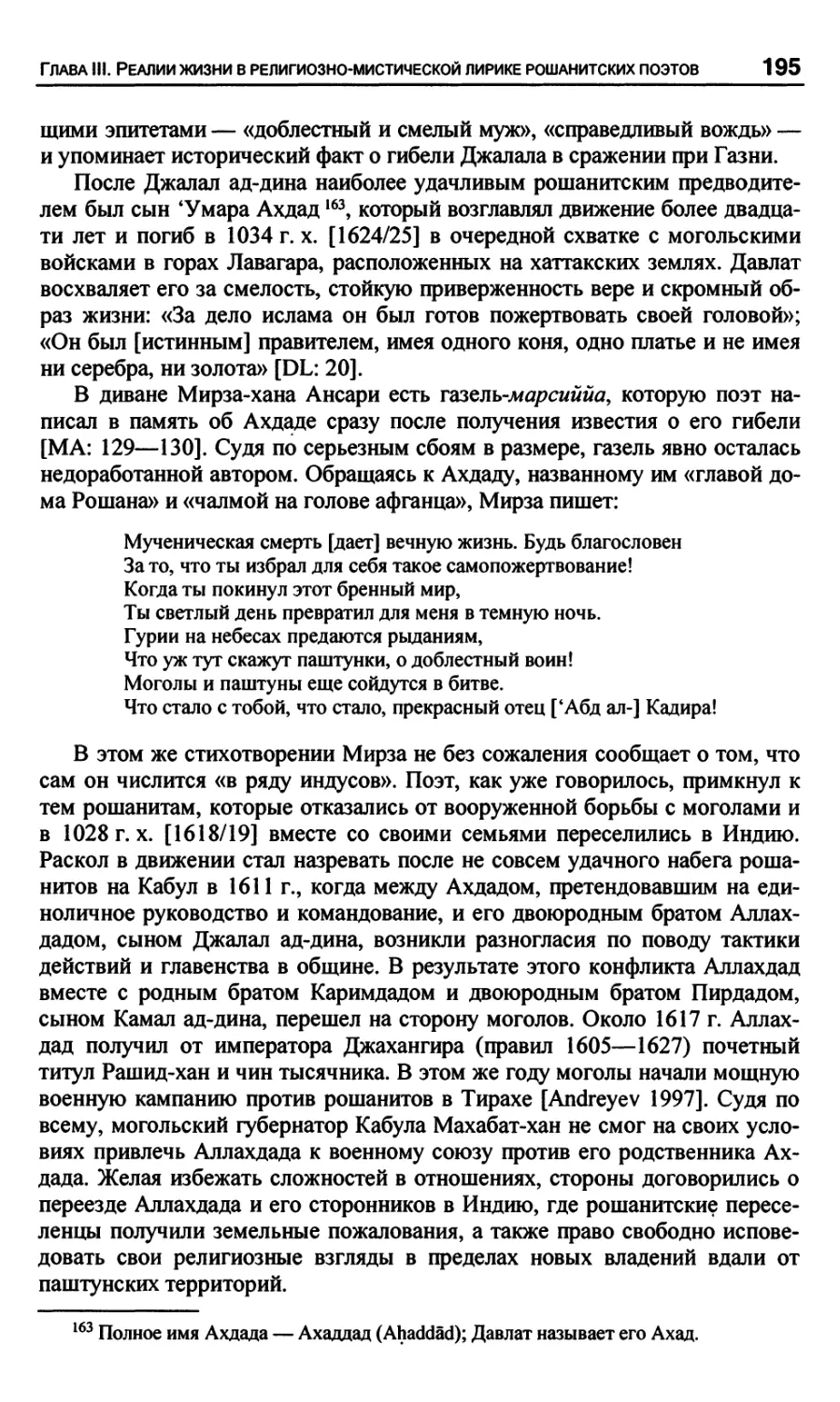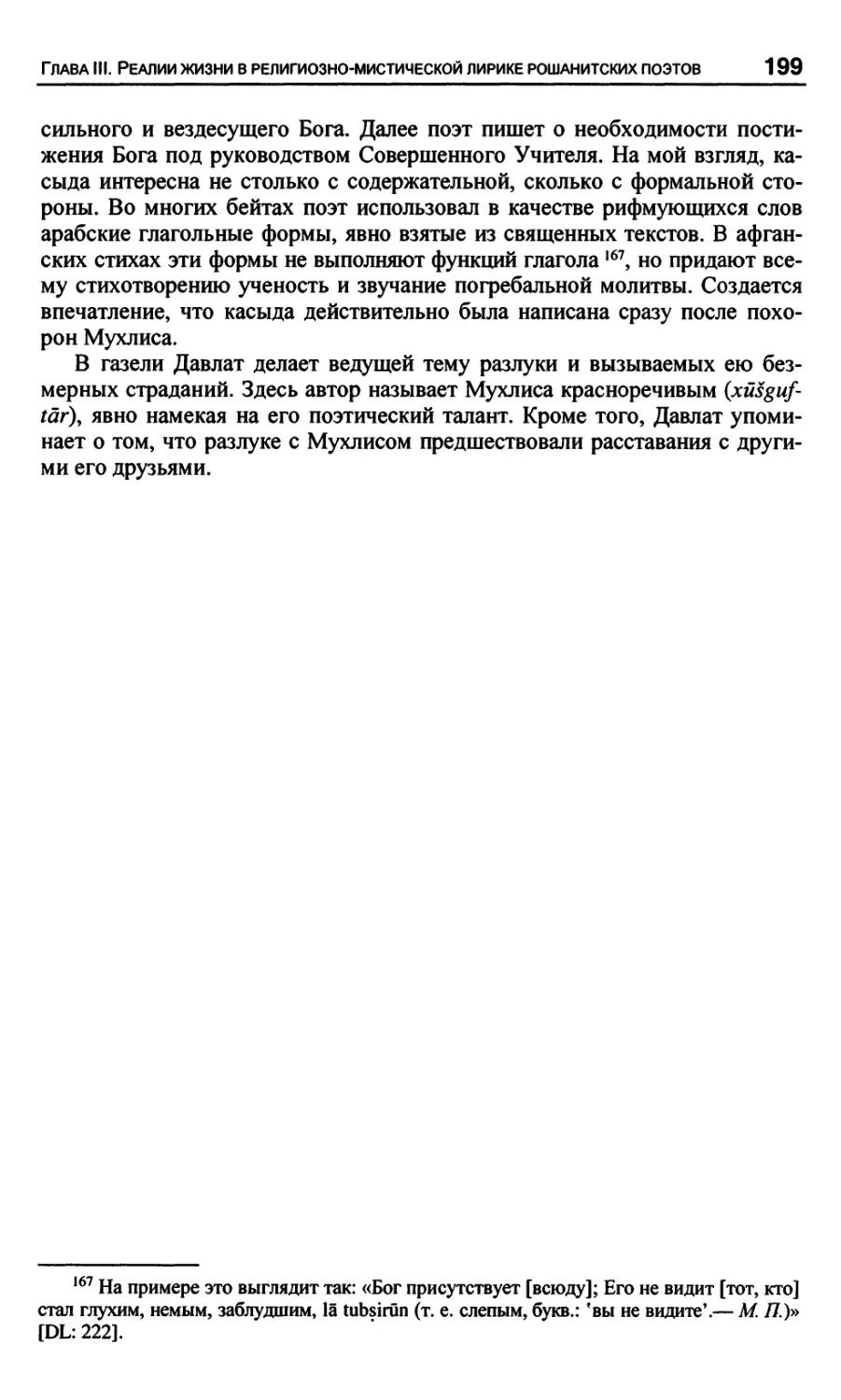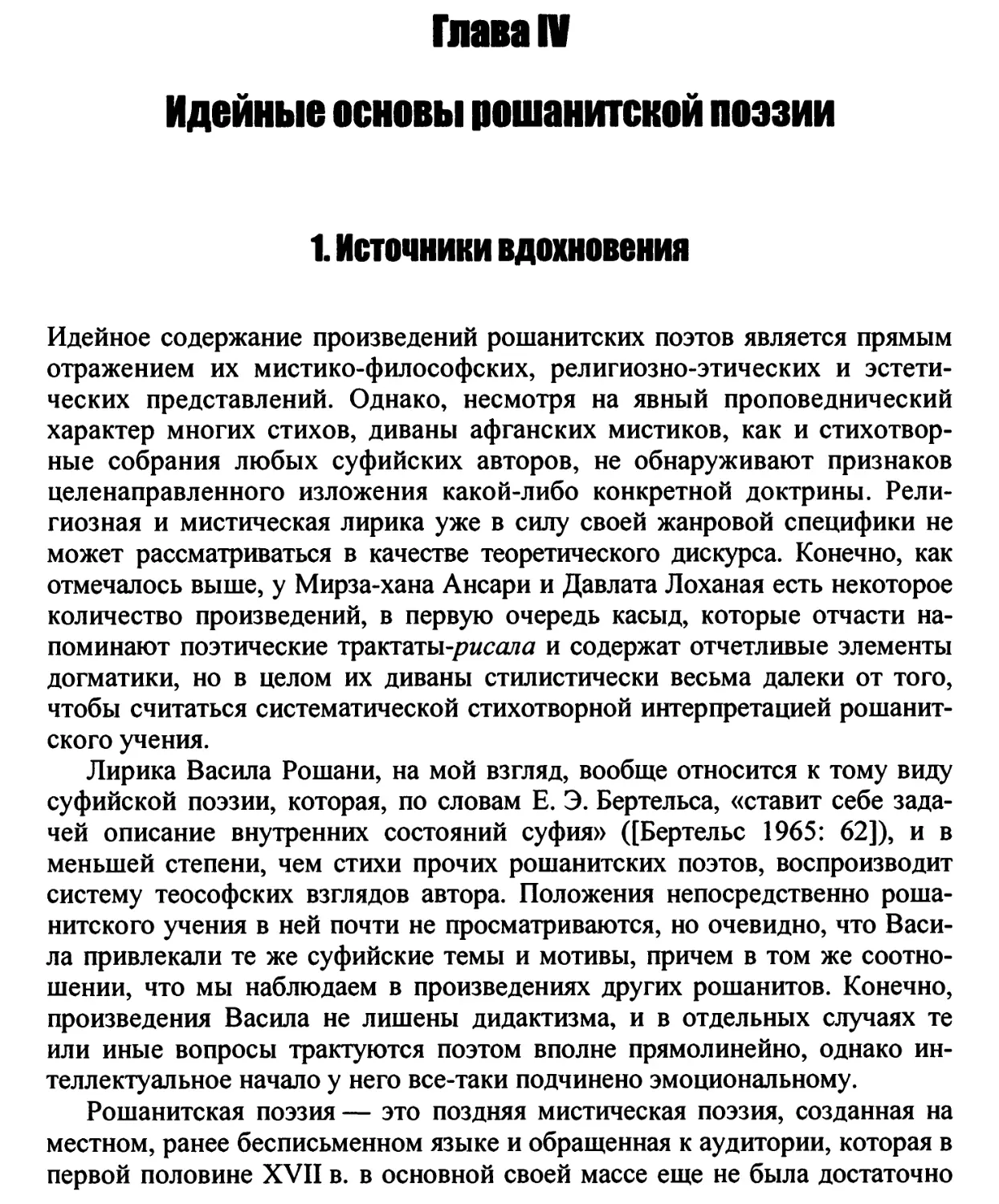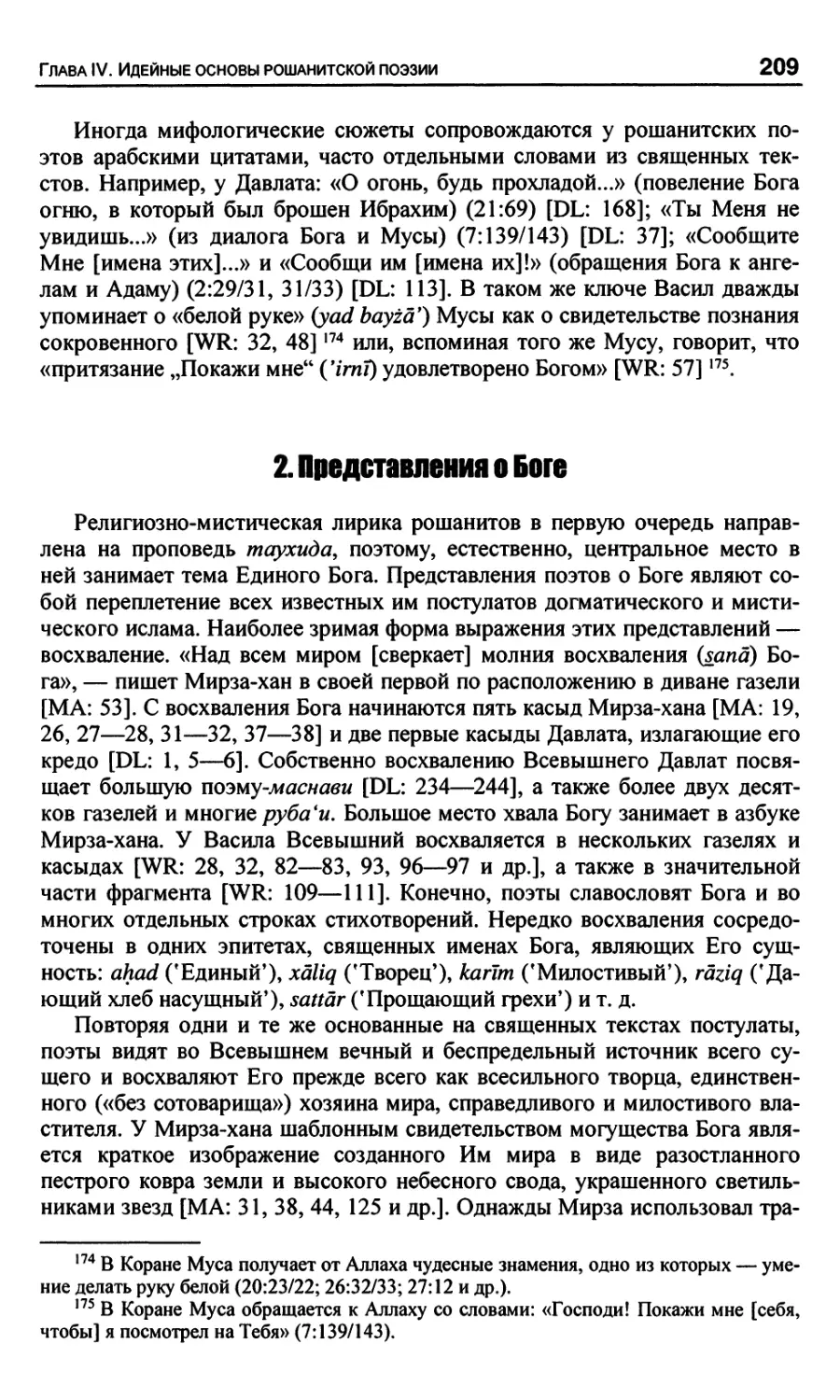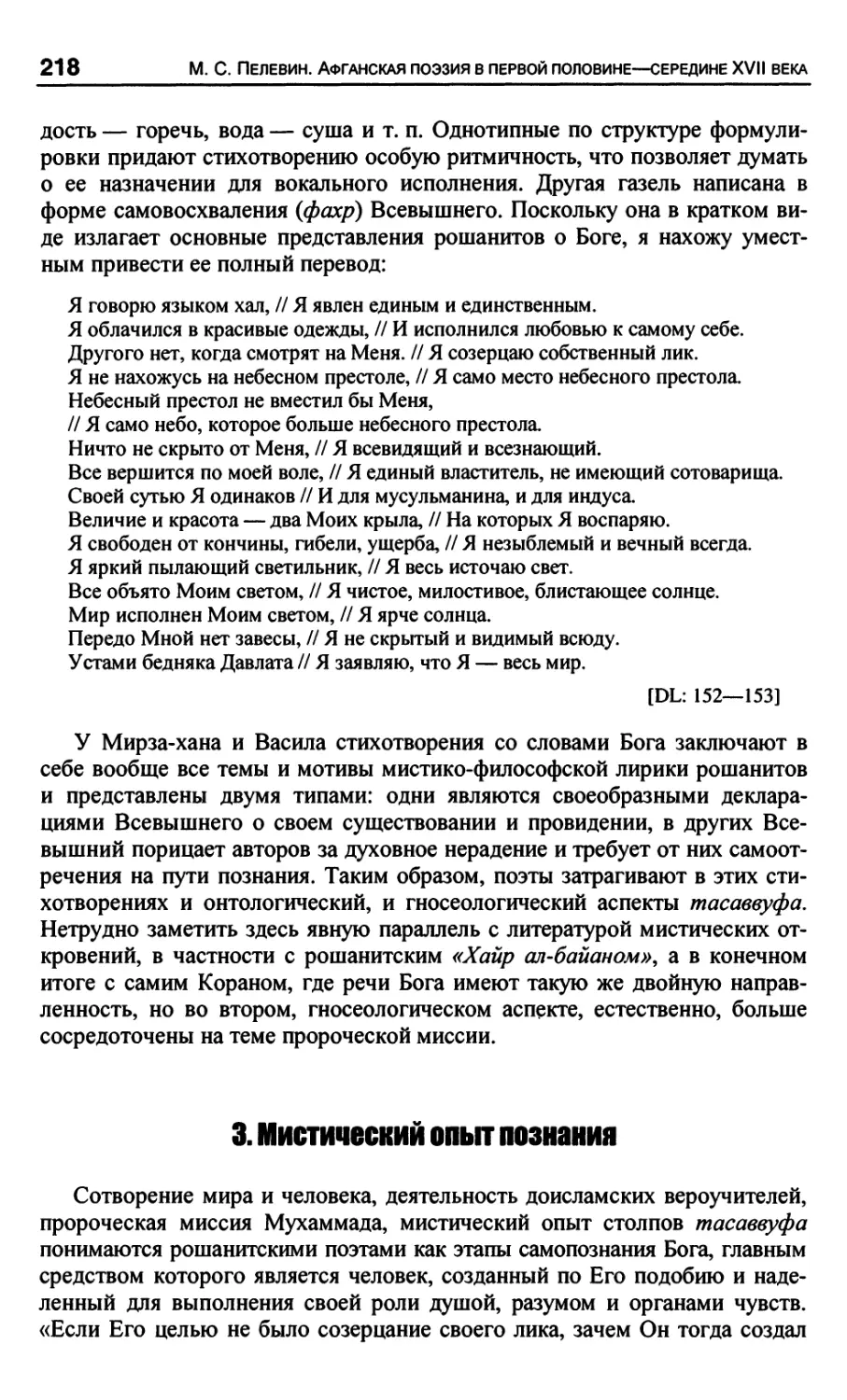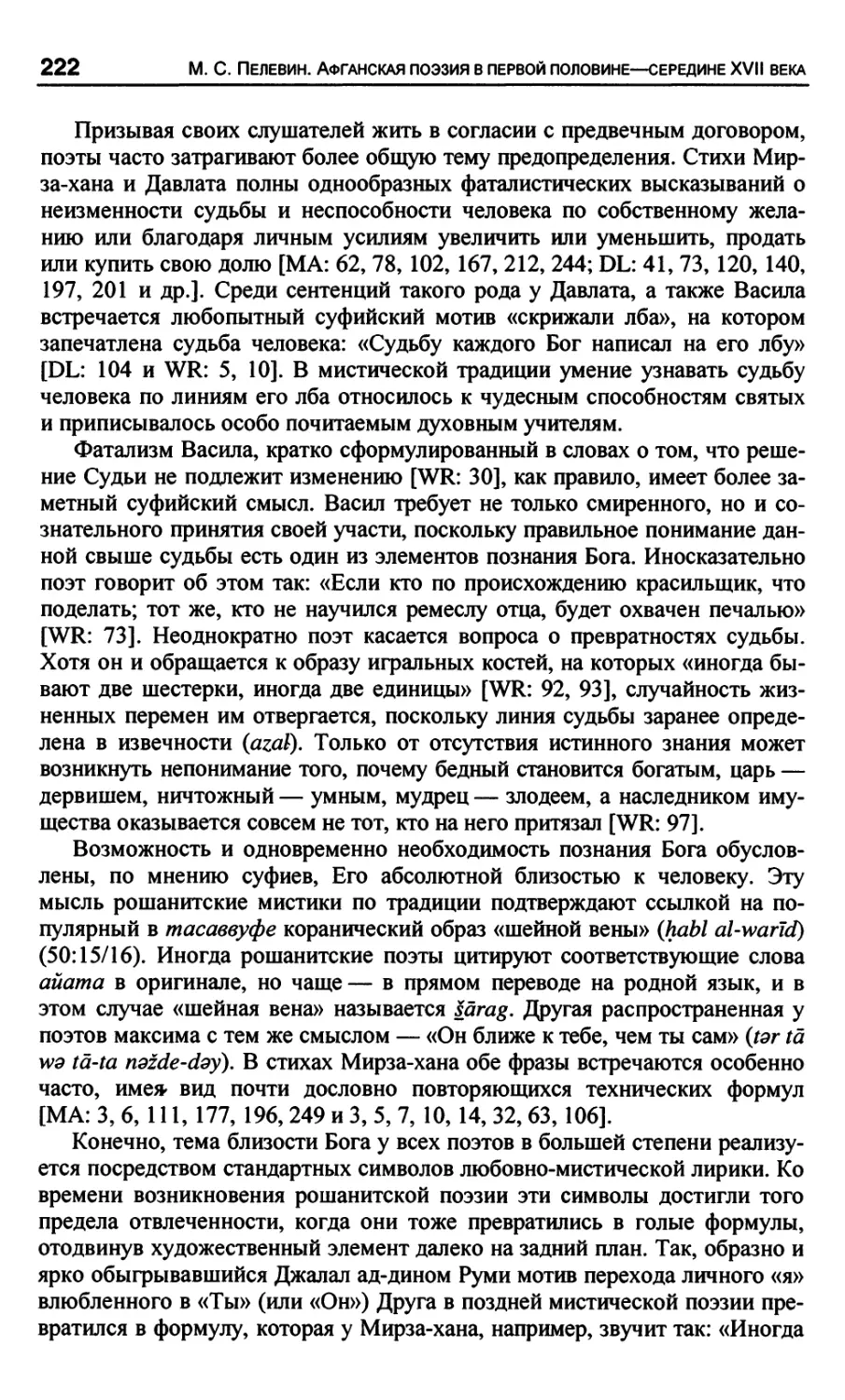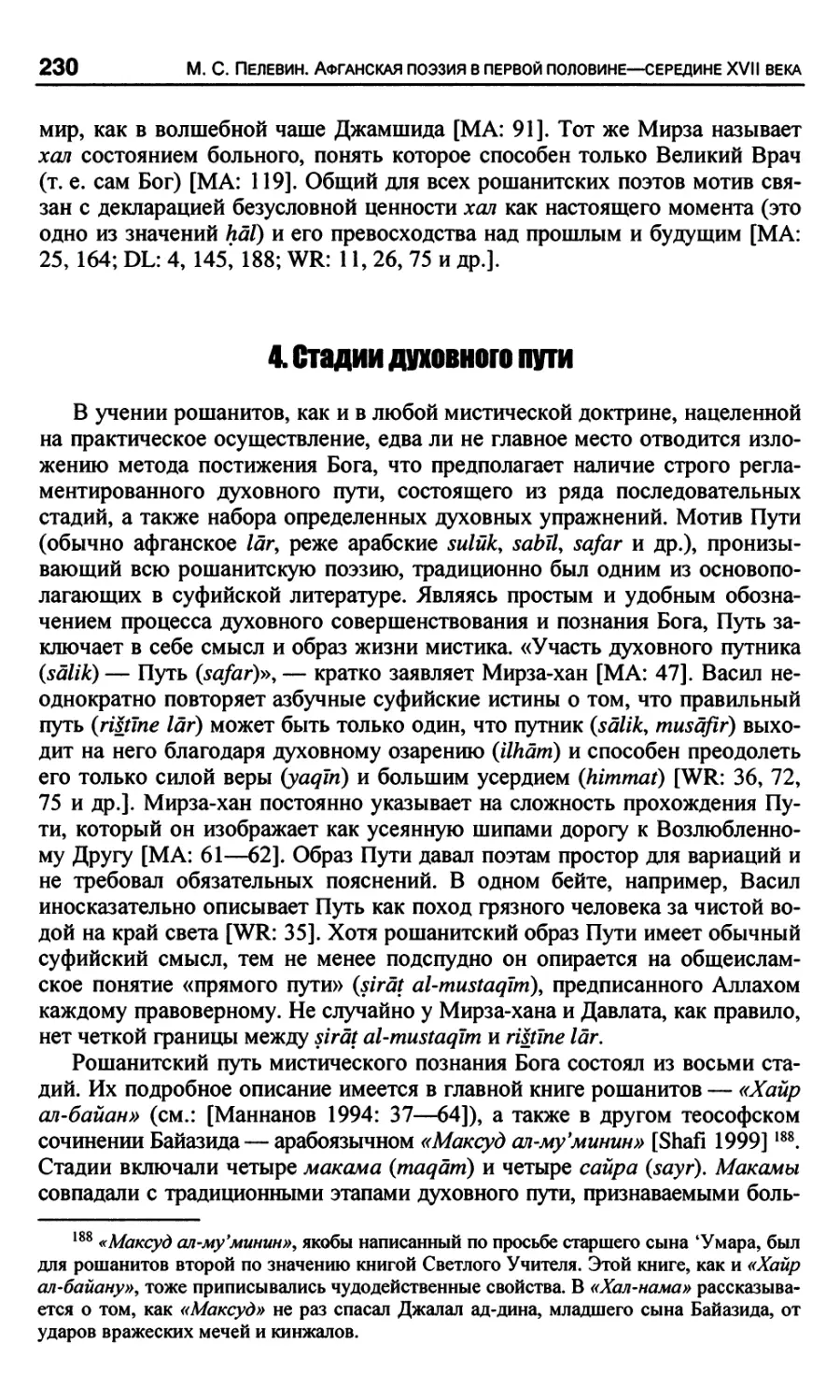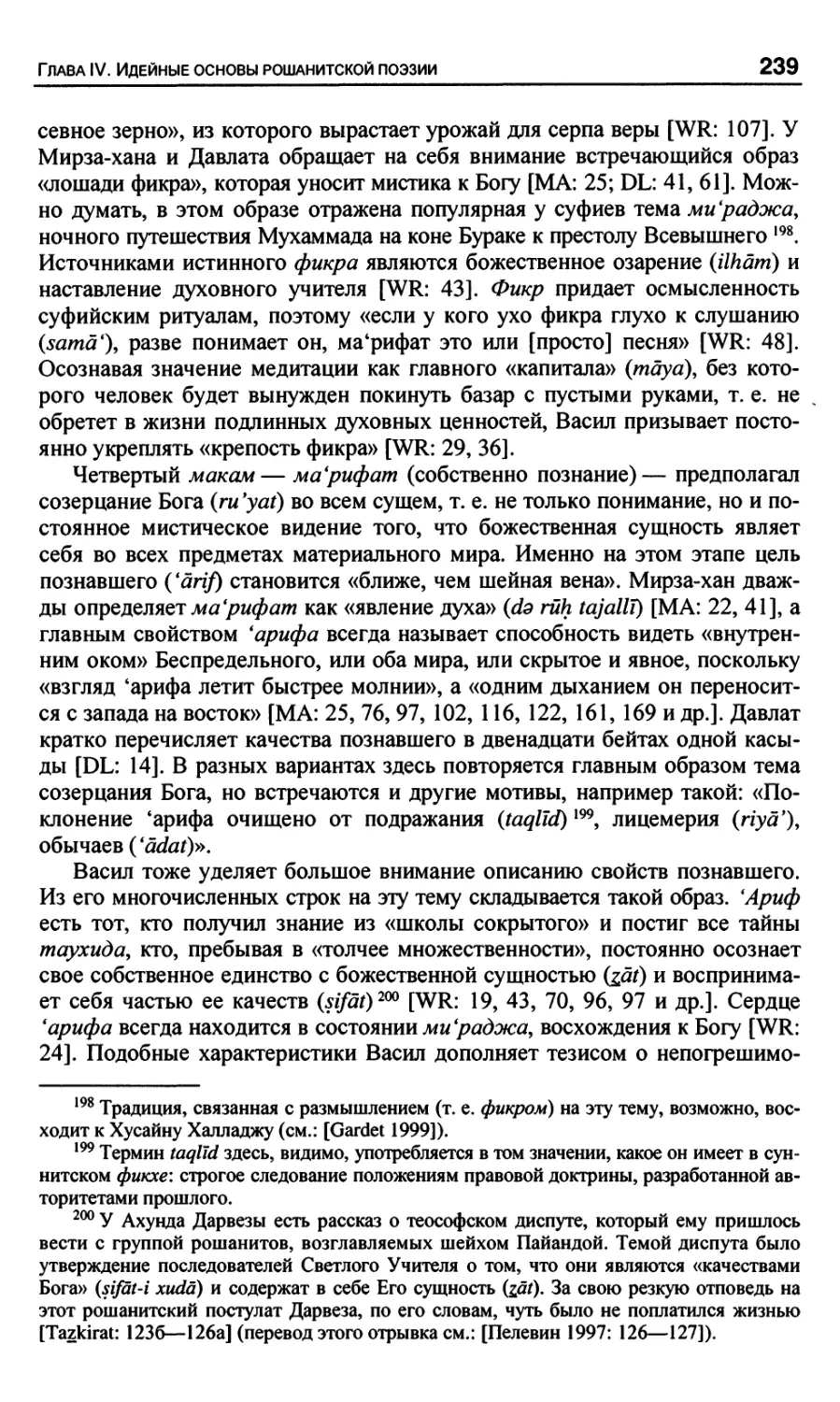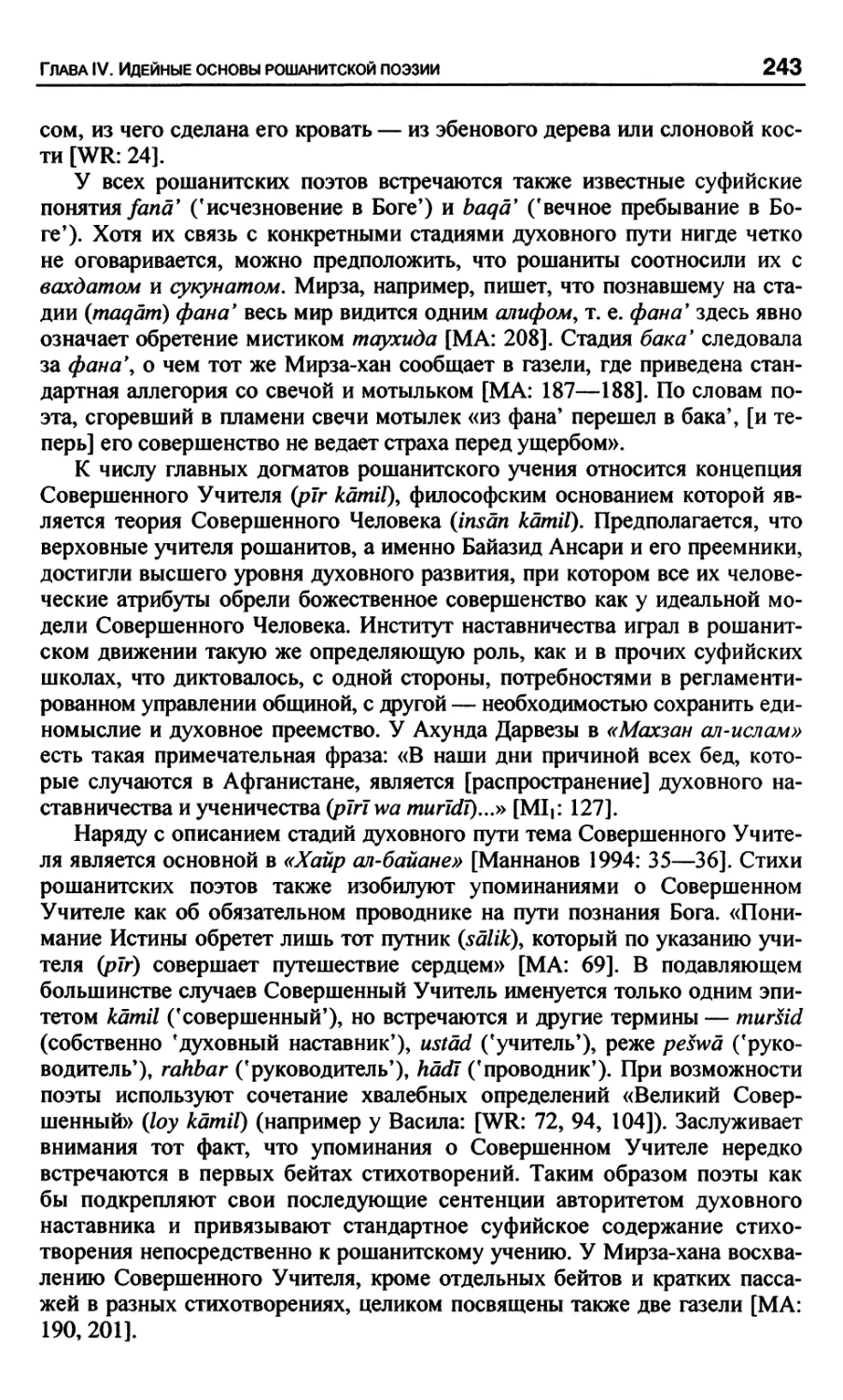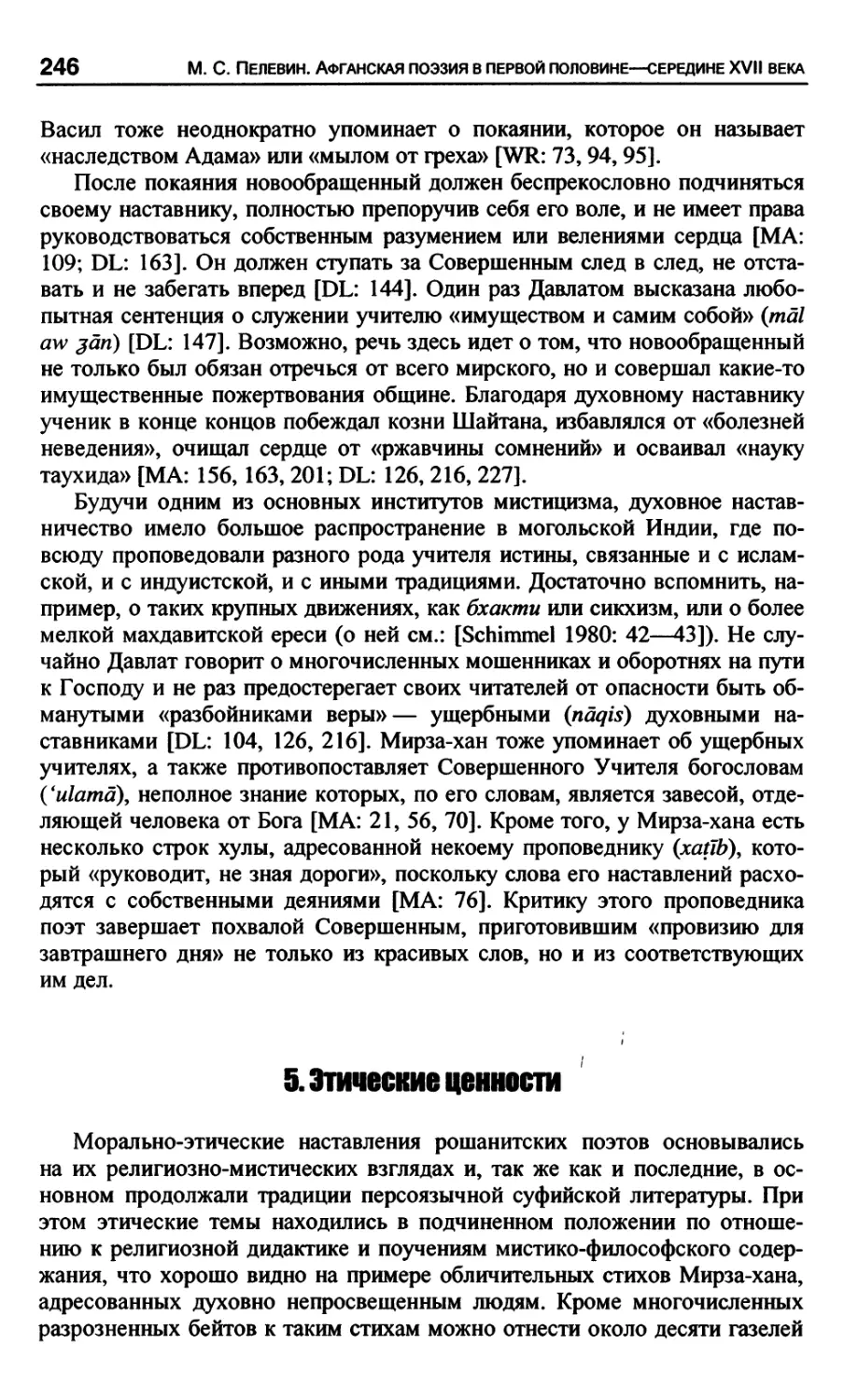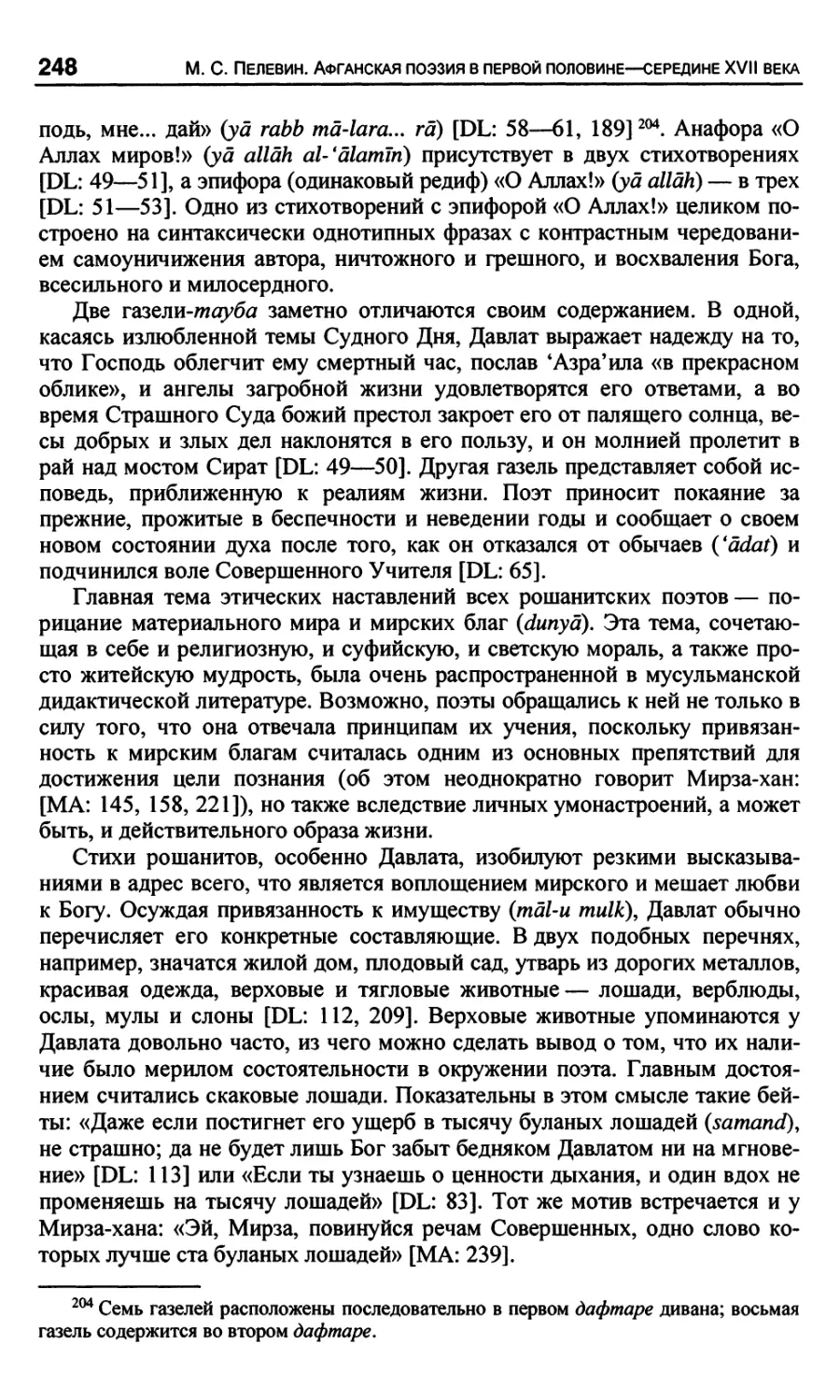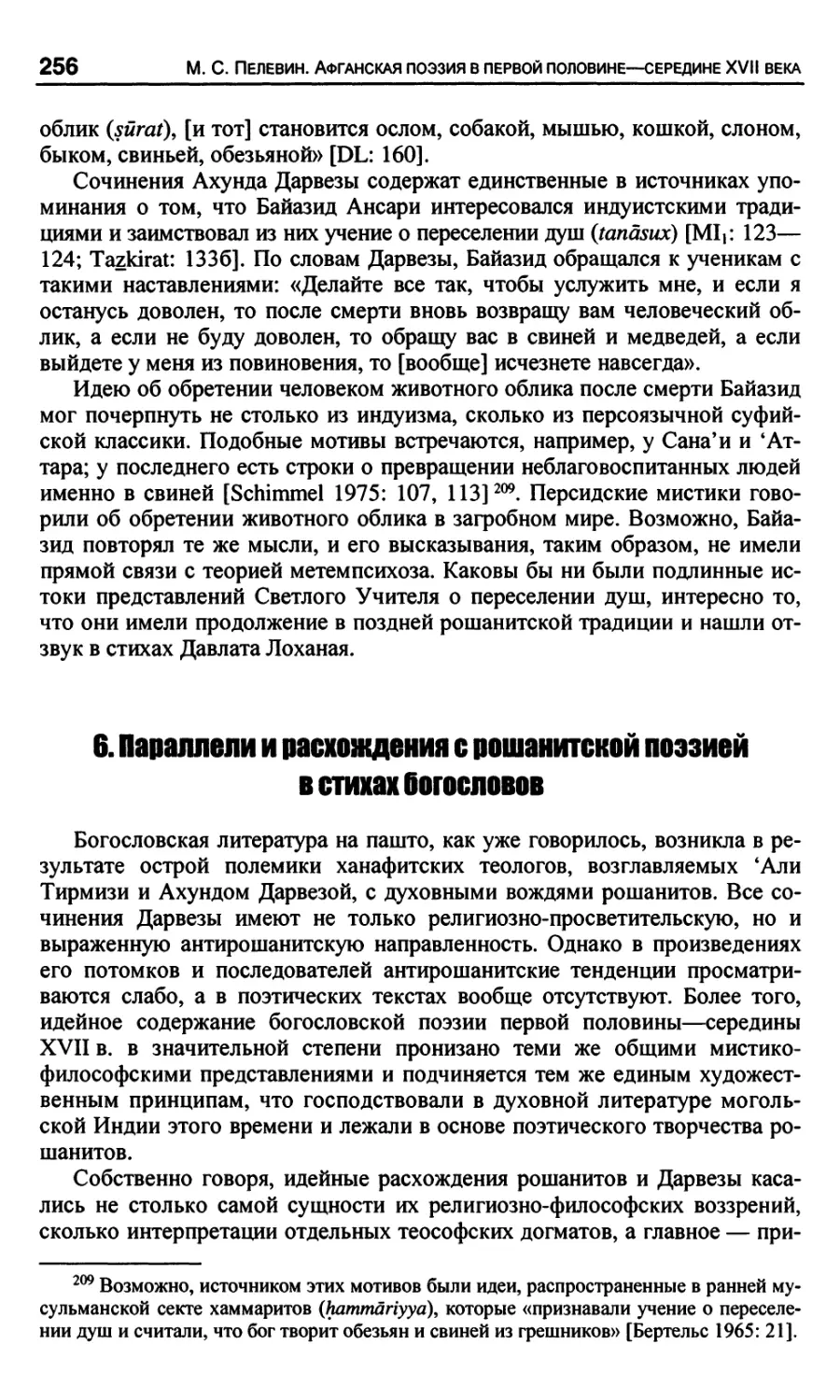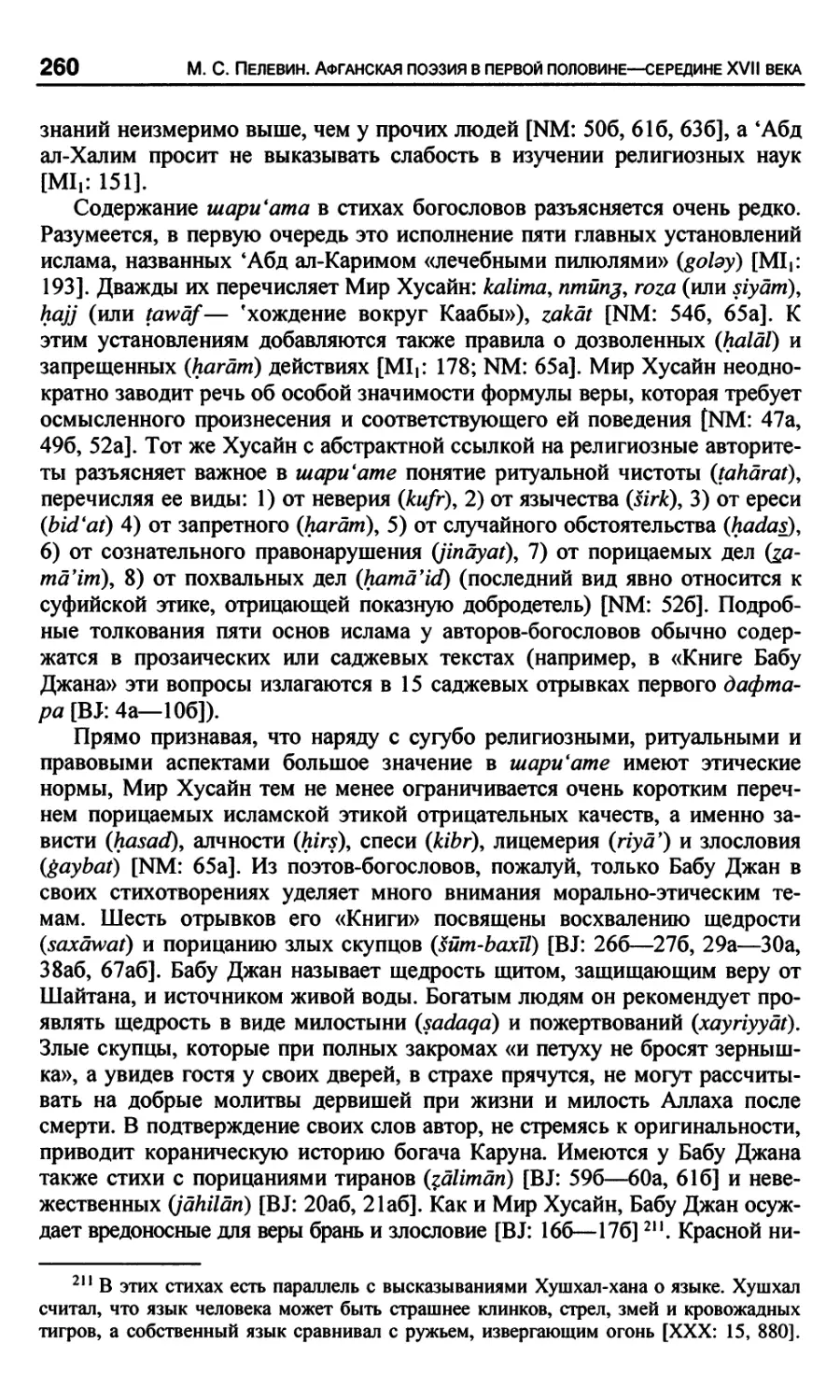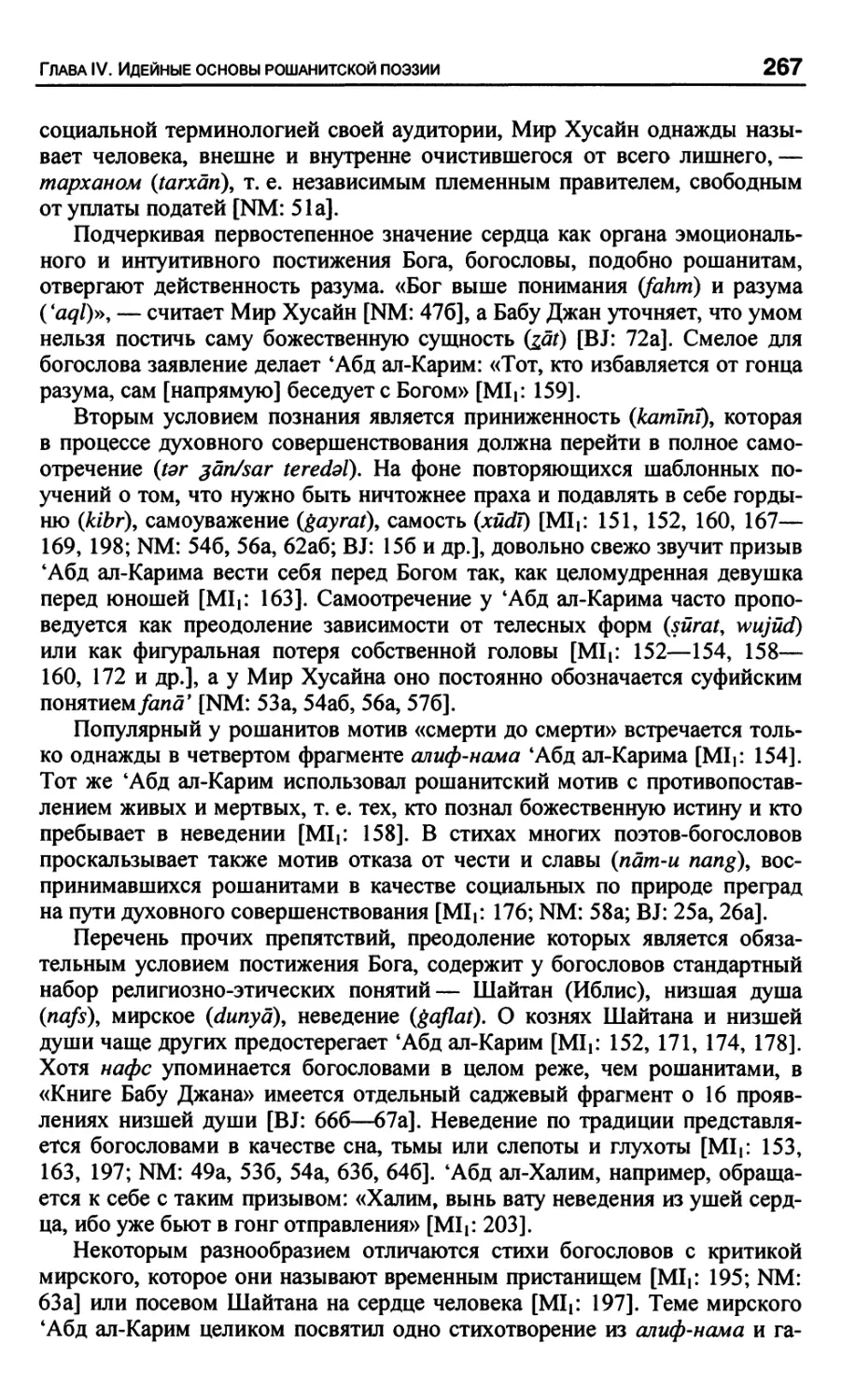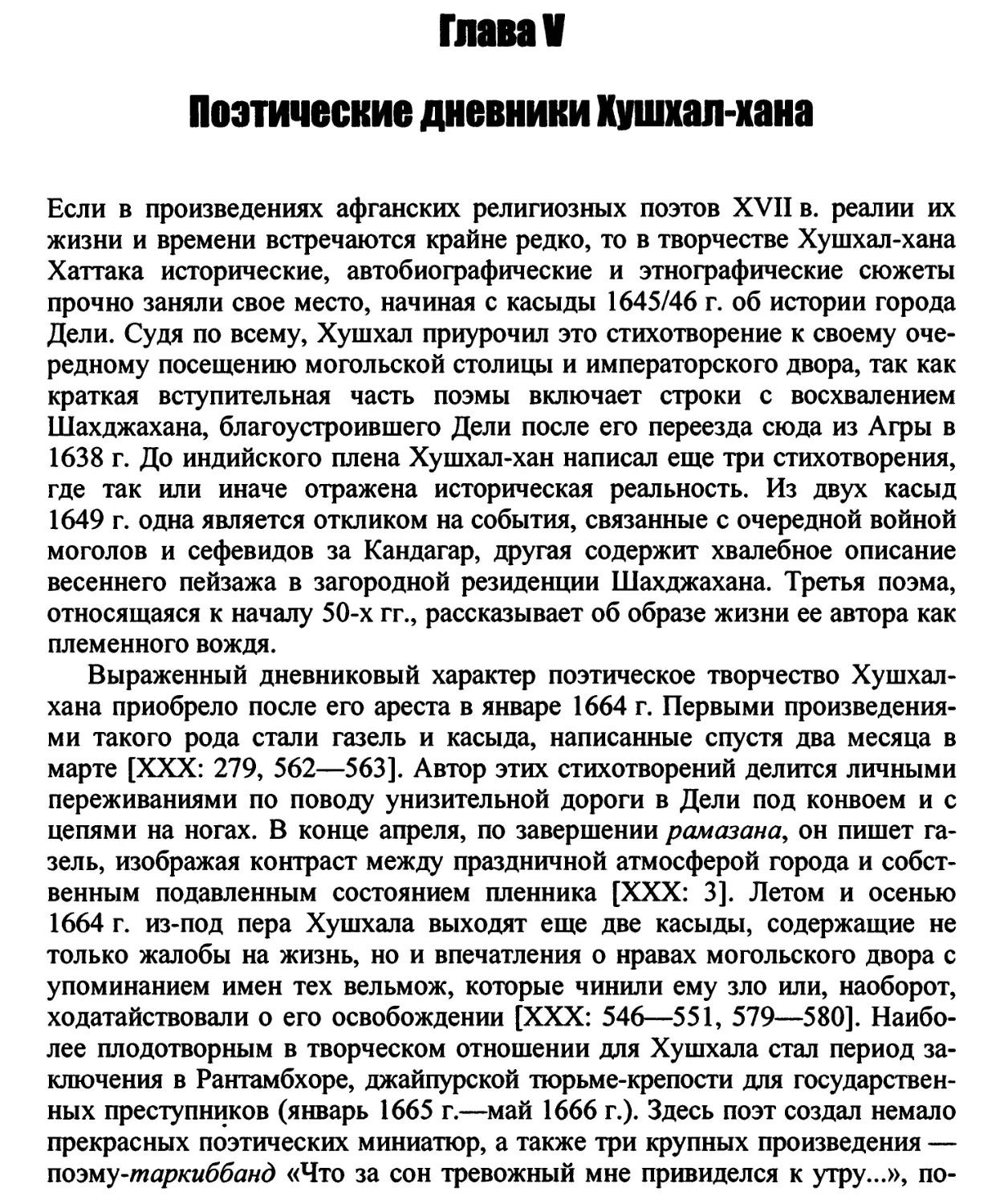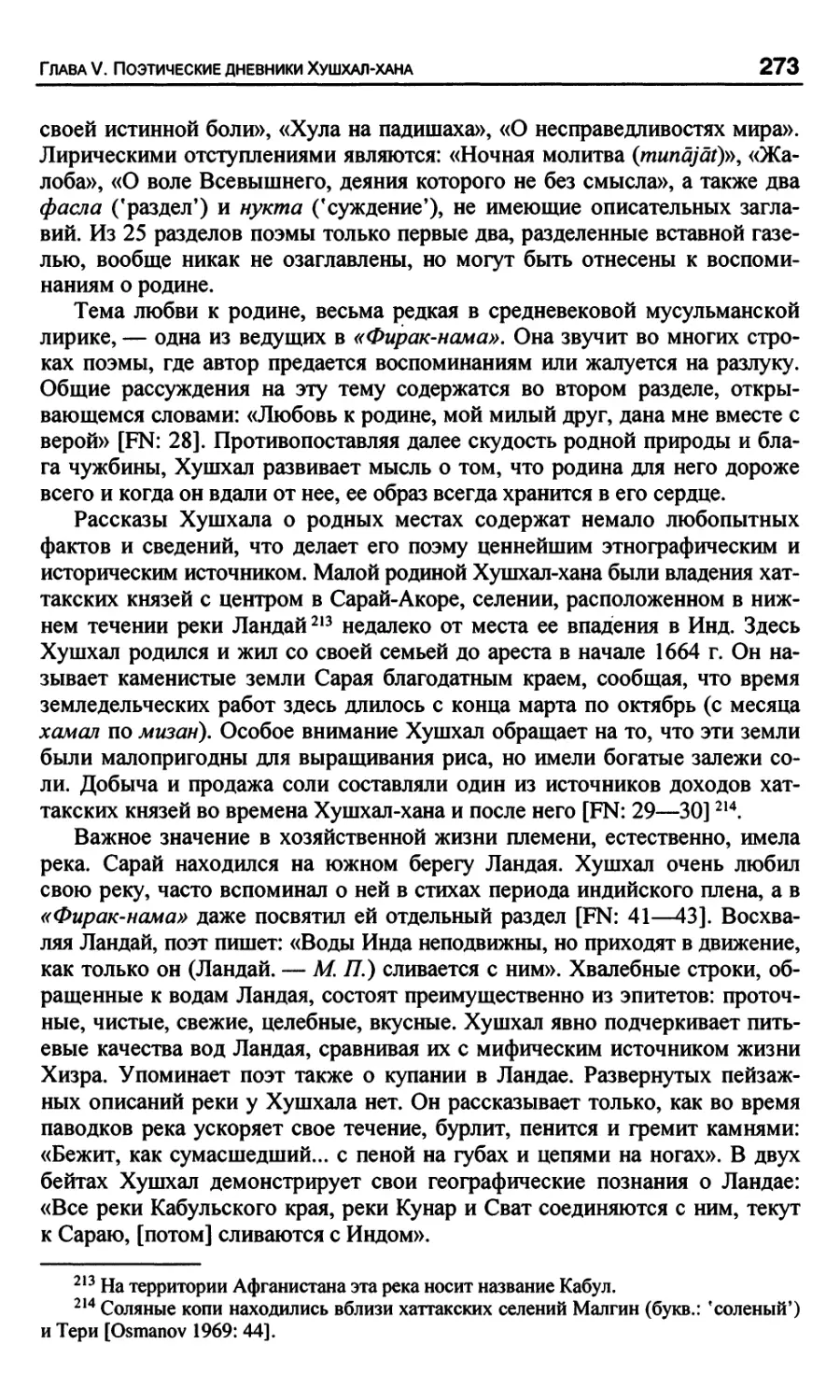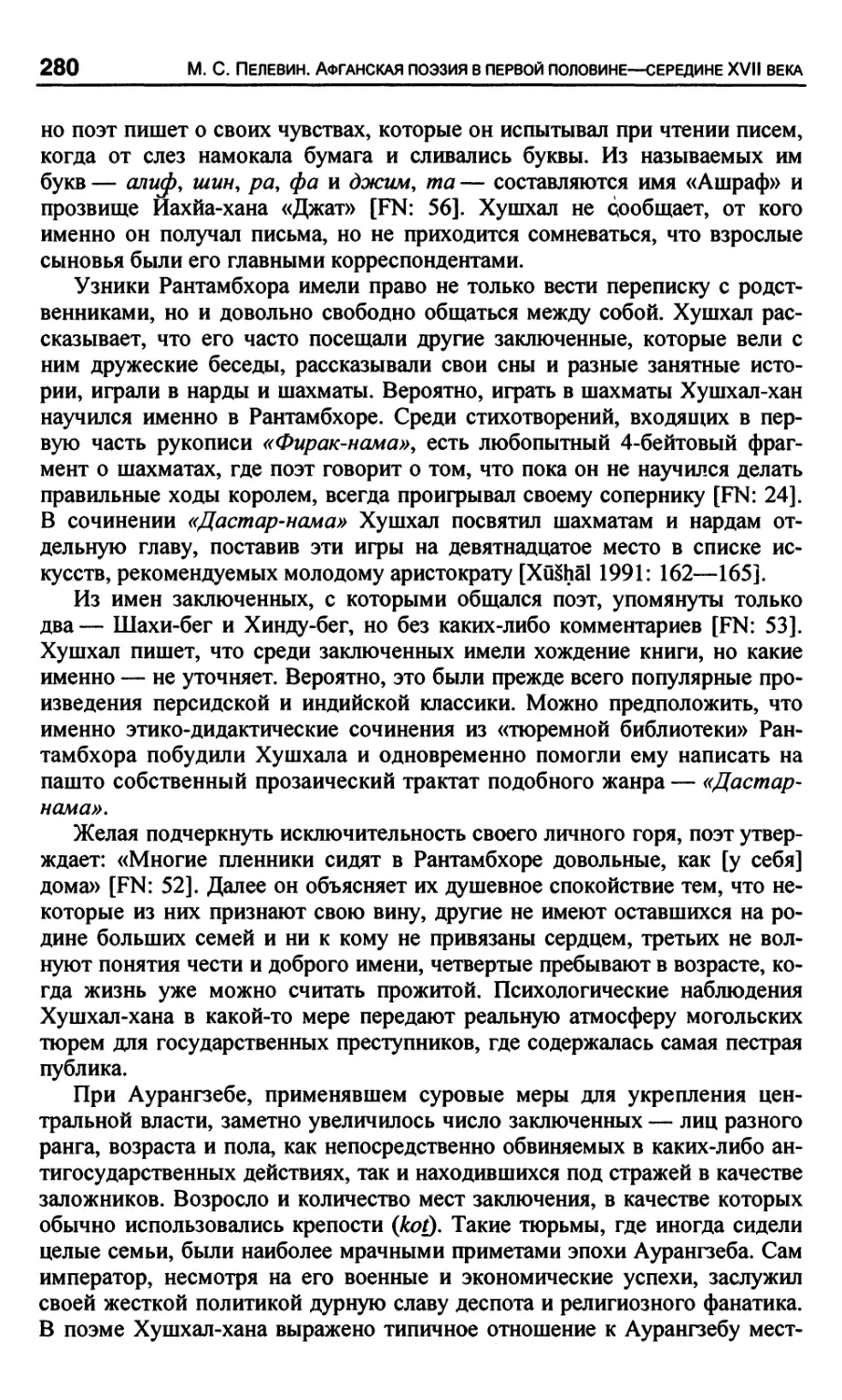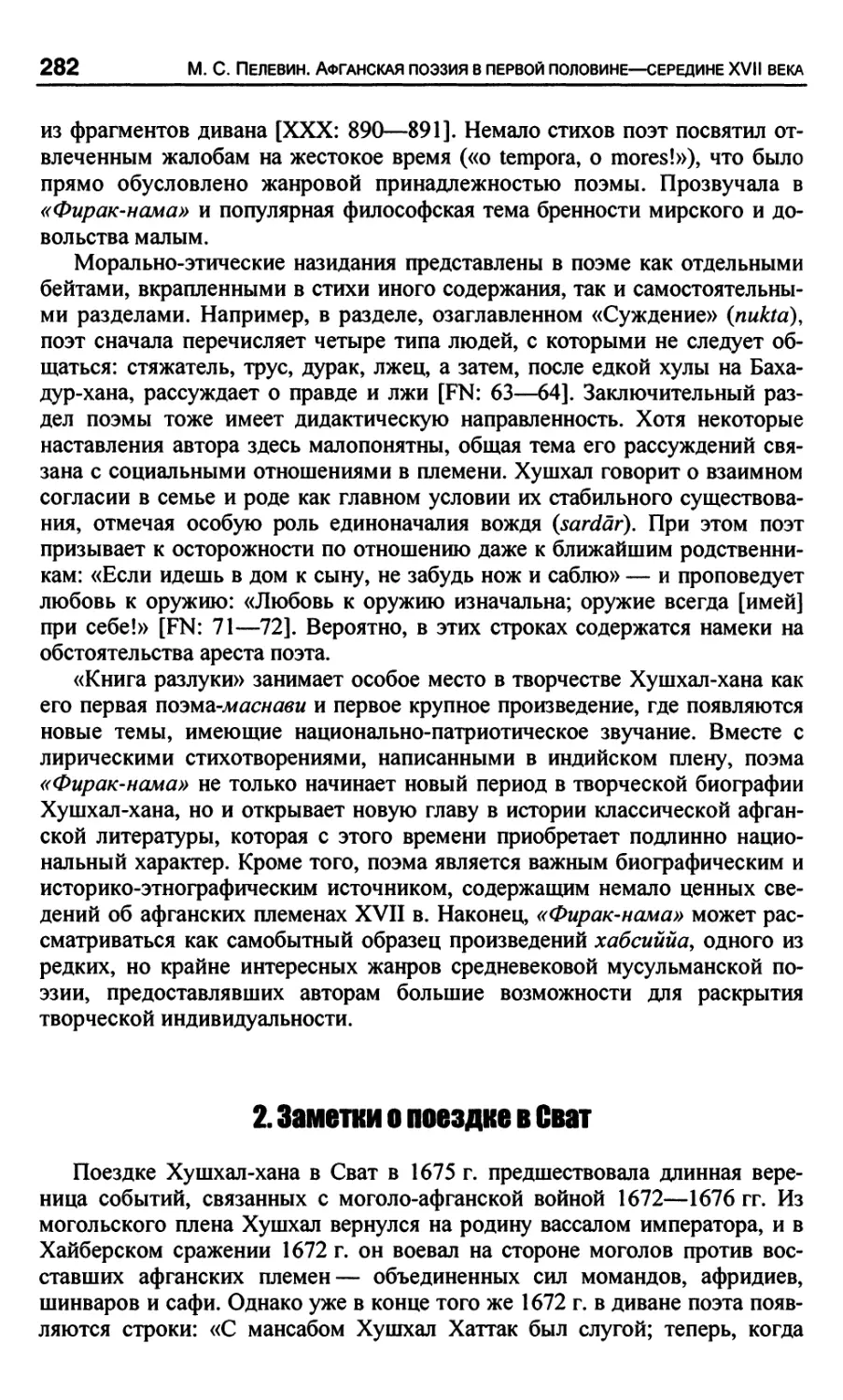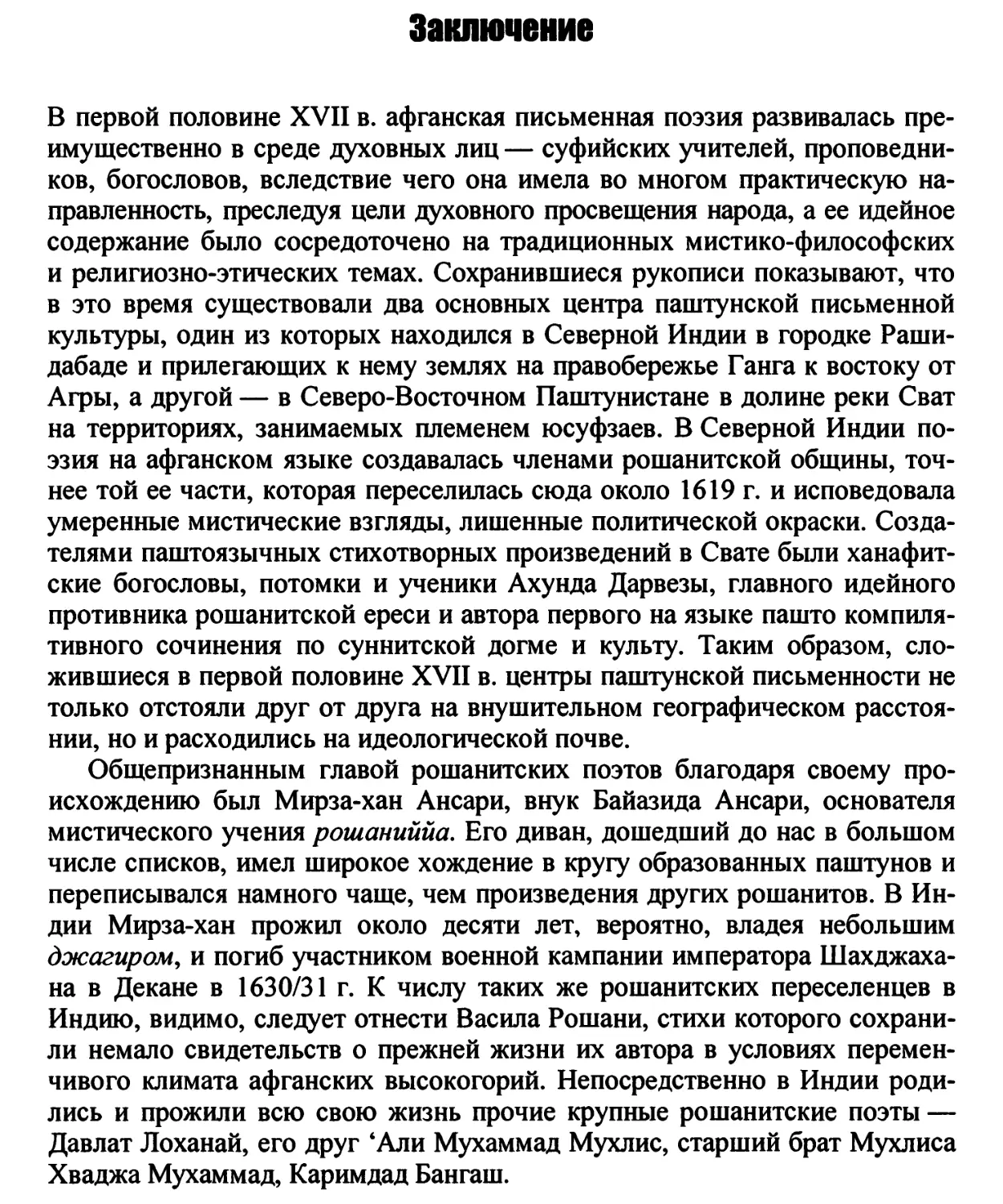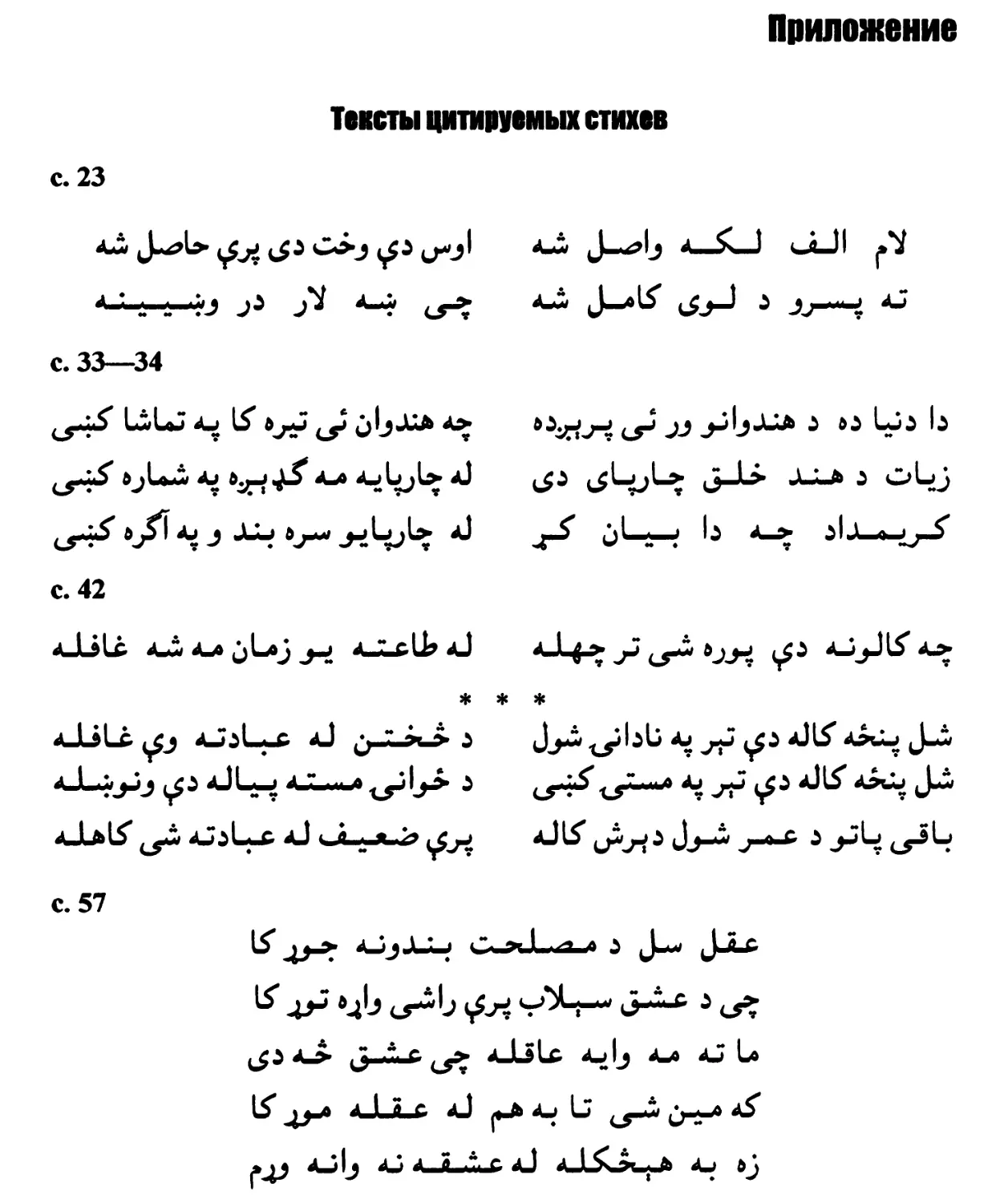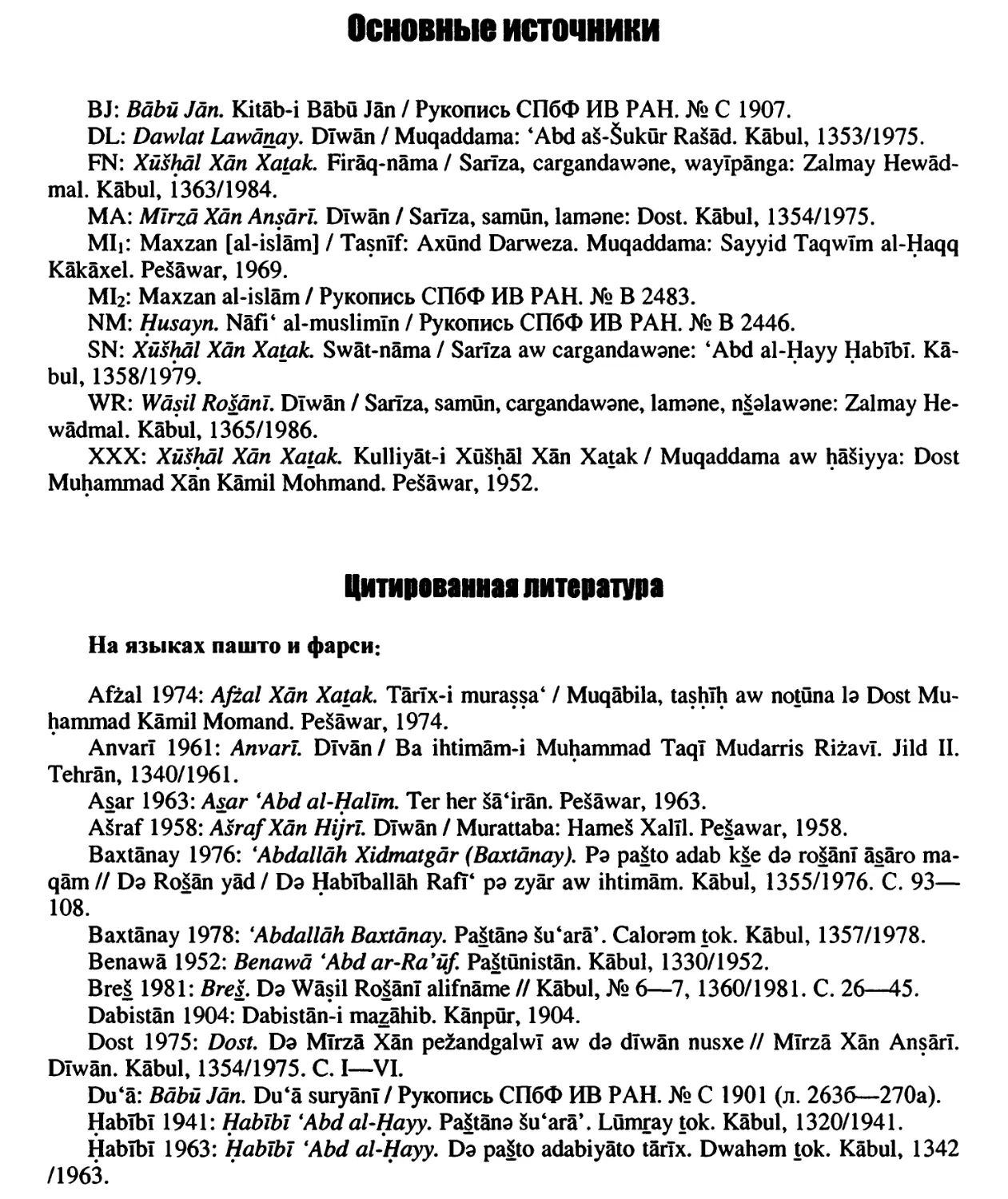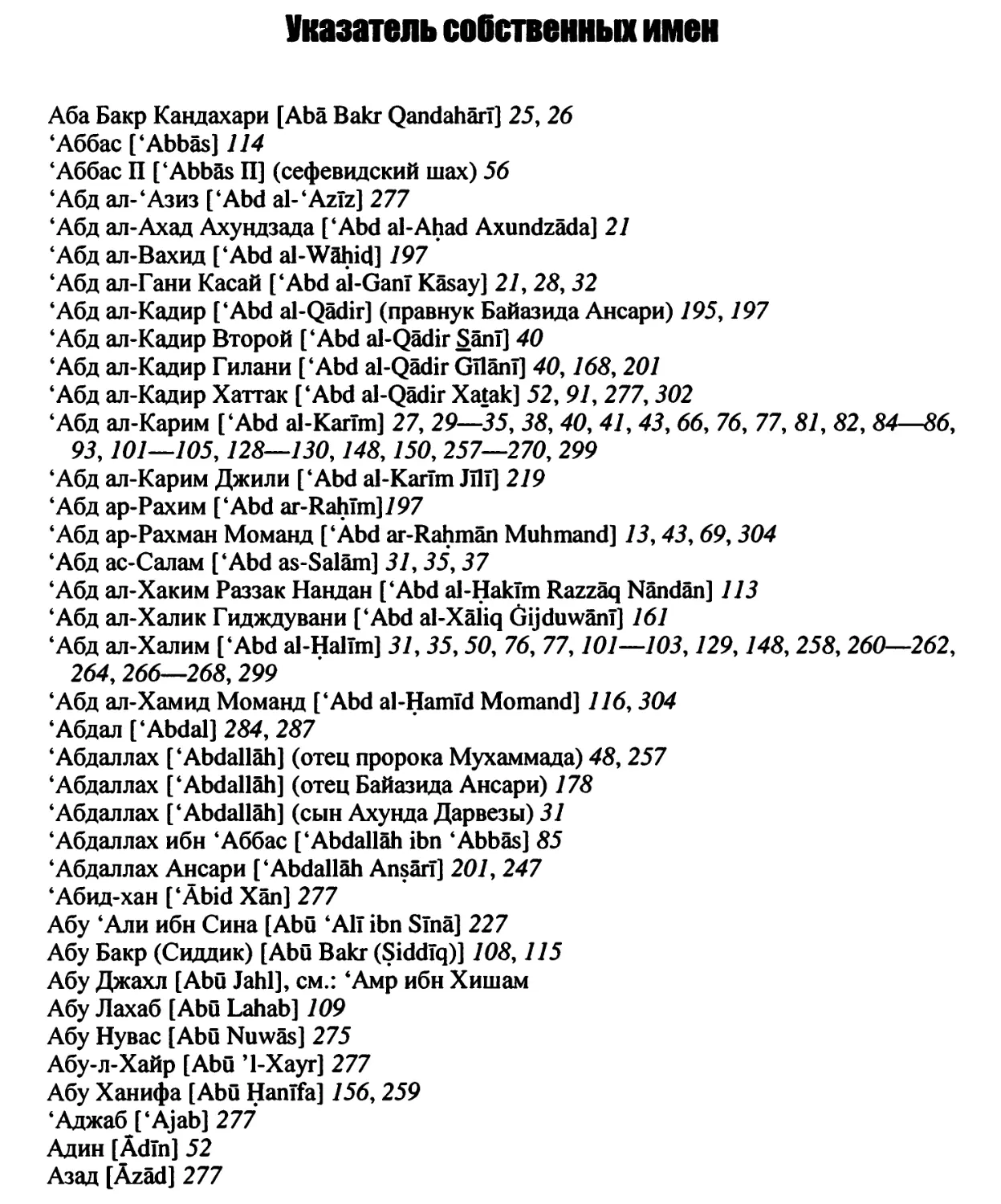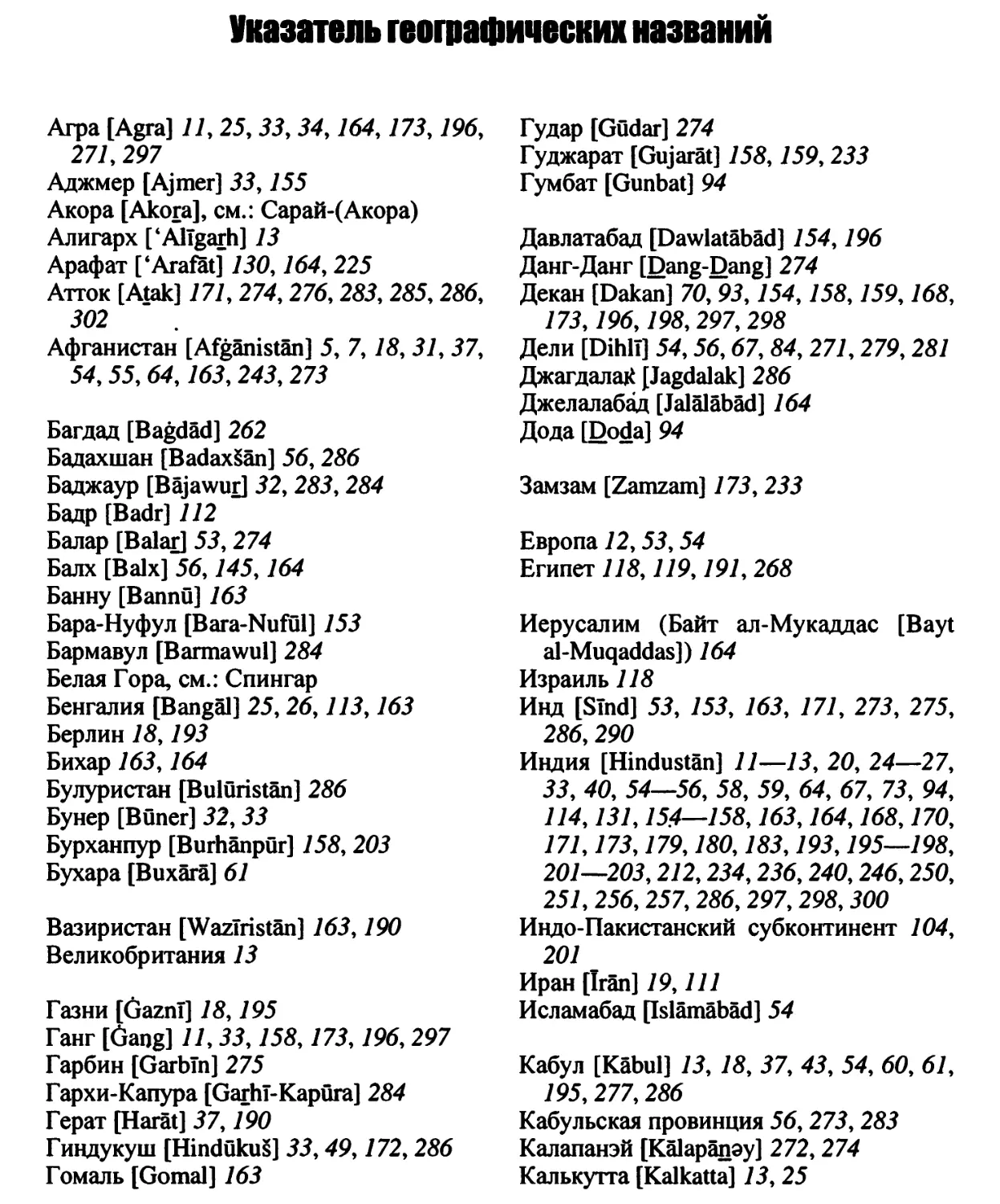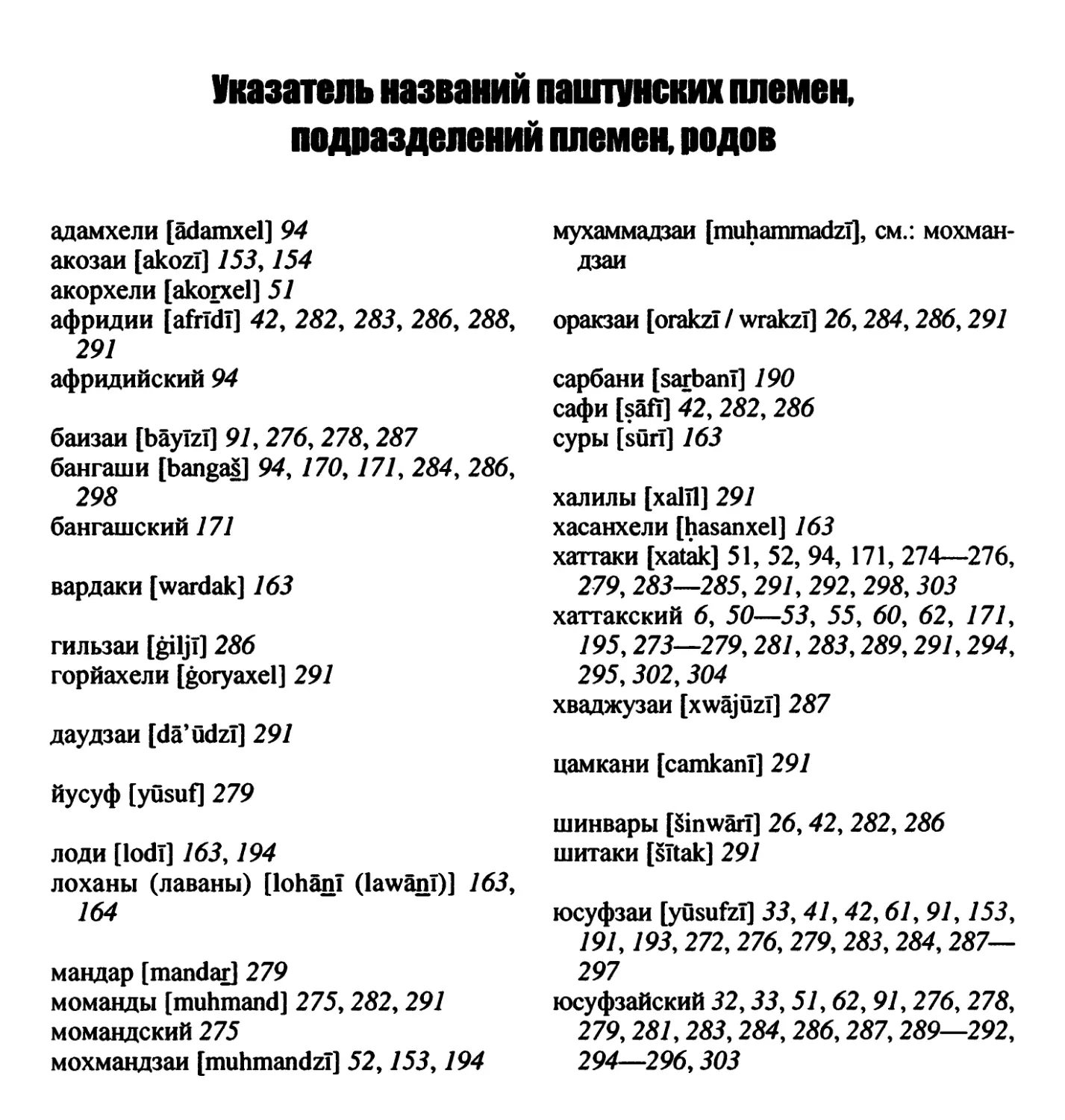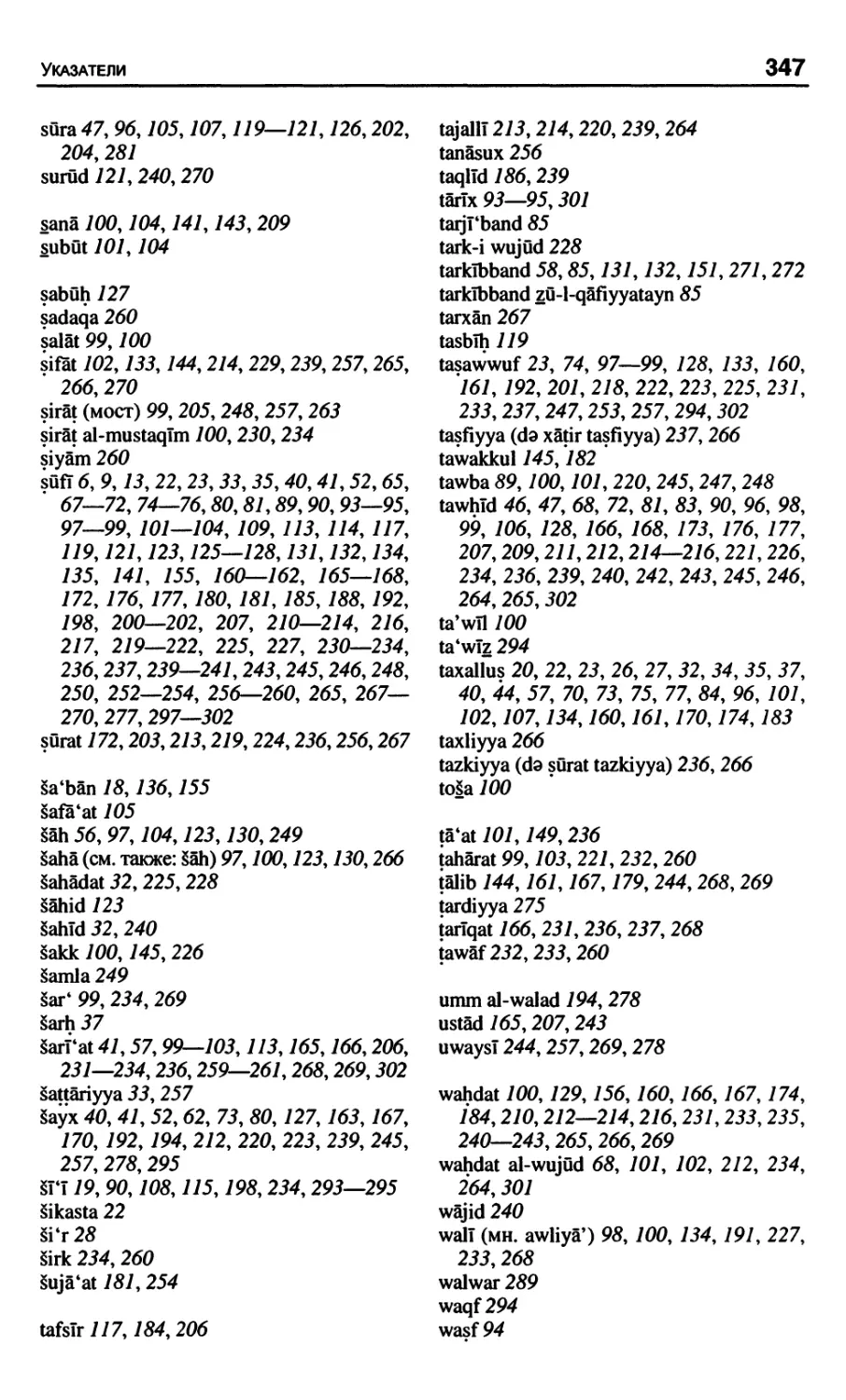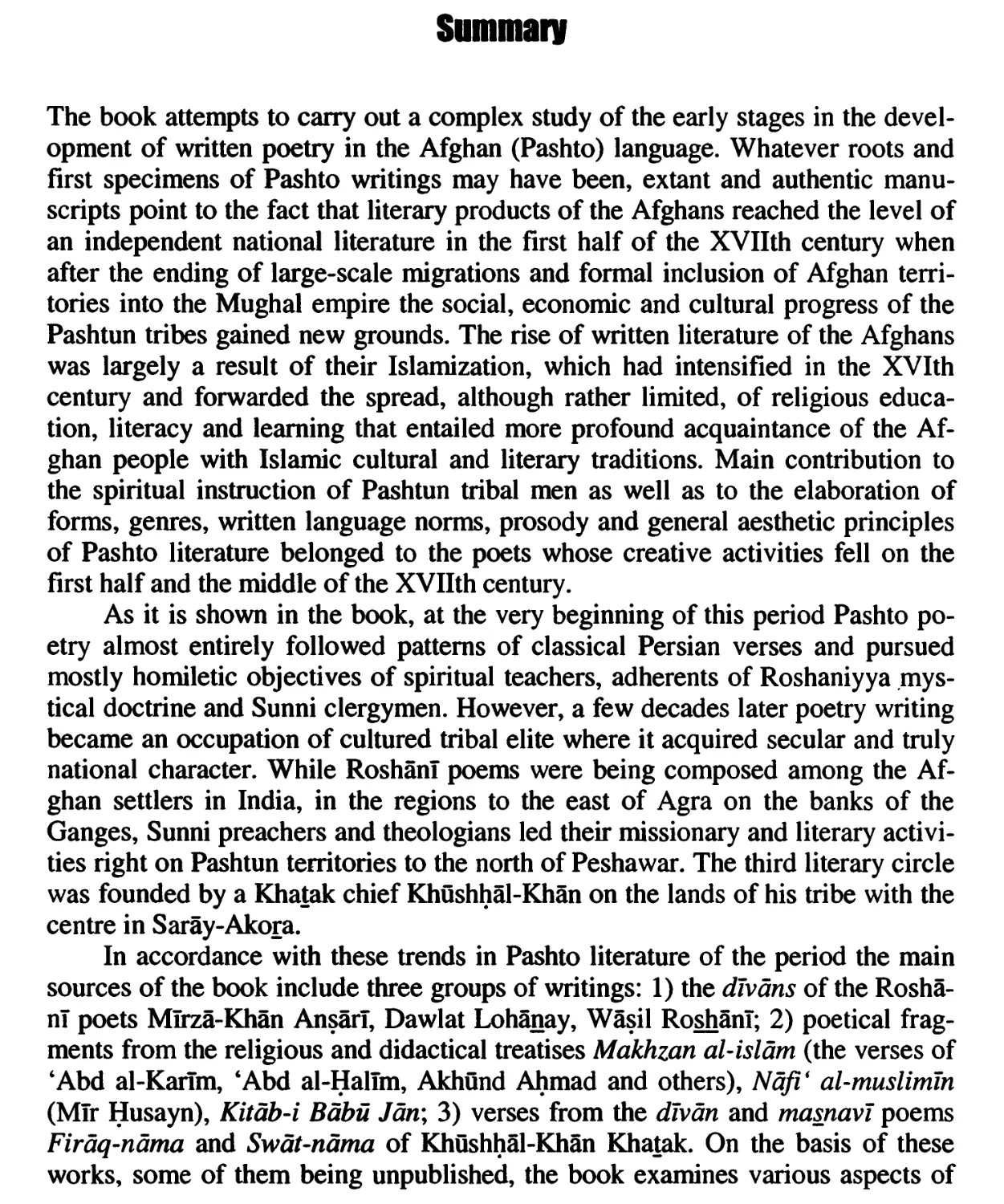Автор: Пелевин М.С.
Теги: язык языкознание лингвистика литература история афганистана афганская литература
ISBN: 5-85803-298-4
Год: 2005
Текст
3263114
I. С. Пелевин
АФГАНСКАЯ
ПОЭЗИЯ
в первой половине-
середине XVII в.
«ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ»
©RIENTALIA
М. С. Пелевин
АФГАНСКАЯ ПОЭЗИЯ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ—СЕРЕДИНЕ
XVII ВЕКА
щ
Санкт-Петербург
2005
УДК 891.58-1
ББК Ш5(5Аф)4-5
Подготовлено к изданию при поддержке РГНФ (проект № 04-04-16012д)
М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века. —
СПб.: Петербургское Востоковедение, 2005. — 352 с. (Orientalia)
П24
На материале наиболее крупных памятников ранней афганской литературы
(в том числе еще неопубликованных) в книге прослеживаются пути становления
письменной поэзии пашто, определяются ее основные направления и
географические центры, подробно рассматриваются ее формы, жанры, метрика, идейное и
фактическое содержание, общественное назначение, национальные особенности.
Как показано в книге, афганская поэзия первой половины XVII в.
первоначально служила проповедническим целям духовных учителей — приверженцев
мистического учения рошаниййа и представителей нормативного суннитского
богословия, а некоторое время спустя стала одним из занятий просвещенной племенной
верхушки, где она обрела светскую и одновременно подлинно национальную
направленность. Стихотворные собрания рошанитских мистиков Мирза-хана, Давла-
та, Васила, поэтические фрагменты богословов-проповедников *Абд ал-Карима,
'Абд ал-Халима, Мир Хусайна, Бабу Джана, дневниковые поэмы-маснави
племенного вождя Хушхал-хана Хаттака исследуются в книге одновременно и как
литературные произведения и как источники сведений, отражающих реалии социально-
политической, экономической, религиозной и культурной жизни афганцев позднего
средневековья.
Редактор — Т. Г. Бугакова
Корректор — И. Липнина
Технический редактор — М. В. Вялкина
Макет подготовлен издательством «Петербургское Востоковедение»
191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18
Подписано в печать 11.04.2005. Формат 60x90 ]/\6
Гарнитура основного текста типа «Times». Печать офсетная. Бумага офсетная
Объем 22 печ. л. Тираж 500 экз. Заказ № -/22
Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии СПб ИИ РАН «Нестор-История»
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7
Перепечтка данного нздаиня, а равно отдельных его частей запрещена. Любое
использование материалов данного издания возможно исключительно с письменного
разрешения издательства.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval systems or transmitted
in any form or by any means: electronic, magnetic tape, mechanical, photocopying, recording
or otherwise without permission in writing form of the publishing house.
iSFmi 1?|йип¥!и1121п?|й i @ м-с-Пелевин'2005
llll II III III III II11IIII ^ ® «Петербургское Востоковедение», 2005
Зарегистрированная торговая марка
Введение
Время и обстоятельства появления первых образцов афганской
письменности (на языке пашто) по-прежнему остаются предметом дискуссионного
характера. Хотя многие ученые Афганистана признают достоверными
поэтические тексты, которые содержатся в антологии «Пэта хазаиа»
(рукопись 1885/86 г.) и фрагментах агиографического сочинения «Тазкират
ал-авлийа'» (?) и которые претендуют на многовековую историю,
берущую начало якобы уже во второй половине VIII в. (771), крупные
пакистанские и европейские специалисты по афганской филологии выражают
обоснованные сомнения в их подлинности [Morgenstierne 1999; Enevoldsen
1977: 10—11; Skjaerv0 1989: 384—385; Кушев 1980: 27—28].
Какими бы ни были действительные исторические корни письменности
пашто, совершенно бесспорным следует считать тот факт, что ее
окончательное становление как самостоятельной национальной литературы
относится к первой половине XVII в., ко времени, когда после завершения
миграционных процессов на территории исторического Паштунистана и
формального включения афганских земель в состав могольской империи
заметно ускорилось социально-экономическое и культурное развитие
афганских племен. Именно в этот период заметно возрастает число паштоязыч-
ных произведений, появляются первые крупные стихотворные собрания —
диваны, образуются литературные направления, складываются единые
нормы письменной речи. Афганским поэтам этого периода принадлежит
главная заслуга в создании художественных форм, жанров, стилей, идейных
основ, правил стихосложения и общих эстетических принципов
классической литературы пашто, поэтому плоды их творчества заслуживают
самого пристального внимания.
Возникновению письменной литературы у афганцев во многом
способствовала их исламизация, которая стала более интенсивной в XVI в. и с
этого времени сопровождалась распространением, хотя и ограниченным,
религиозного просвещения, образования, грамотности, что в целом влекло
за собой более основательное приобщение афганского народа к исламским
идейным, культурным и литературным традициям. Собственно говоря,
афганская словесность обрела письменное состояние именно вследствие
проповеднической деятельности духовных лиц, распространявших в
племенах исламскую веру в форме нормативного богословия или мистических
учений.
6 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Зафиксированные в каталогах афганские рукописи свидетельствуют о
том, что наиболее существенный вклад в становление письменной
литературы на языке пашто внесли поэты-мистики, принадлежавшие к
религиозному течению рошаииййа и продолжавшие в своем творчестве духовные
традиции мусульманского мистицизма. Судя по объему дошедшего от них
рукописного наследия, а также оценкам афганских литераторов более
позднего времени, их произведения, прежде всего стихотворные, имели
наибольшую известность и литературно-художественную значимость у
афганцев в первой половине XVII в.
Главными идейными противниками рошанитов выступили ханафит-
ские богословы, обосновавшиеся в Свате, исторической области Северо-
Восточного Паштунистана в долине реки с одноименным названием.
Невольно подражая рошанитам, богословы стали придавать своим
религиозным наставлениям стихотворный вид, видимо, на опыте убедившись в том,
что поэтическое художественное слово имело большее воздействие на
малопросвещенную афганскую аудиторию. Хотя религиозная поэзия в это
время еще не достигла качественного уровня рошанитской, именно
авторы-богословы сделали пашто языком афганских учебников по
мусульманской догме и фикху1.
Вслед за поэтическими произведениями рошанитов и сватских
богословов стали появляться стихотворные опыты на пашто других
религиозных деятелей, относящихся как к суфийским, так и к богословским кругам,
но, к сожалению, рукописи тех сочинений, которые предположительно
датируются первой половиной XVII в., пока не введены в научный обиход.
Наиболее благоприятные условия для преобразования письменности
пашто в подлинно национальную литературу объективно существовали в
среде просвещенных племенных вождей, которые были намного ближе к
исконно афганским социальным и культурным традициям, нежели
духовные лица, являвшиеся носителями наднациональной идеологии и часто
вообще не имевшие афганского происхождения. Родоначальником
национальной литературы пашто заслуженно признается хаттакский вождь
Хушхал-хан (1613—1689), в творчестве которого афганская поэзия
впервые обрела светский, личностный и одновременно ярко выраженный
национальный характер. Упоминая о своих предшественниках и старших
современниках, проявивших себя на поприще паштунской литературы,
Хушхал-хан называет имена нескольких рошанитских поэтов, а также имя
Ахунда Дарвезы, главы мусульманских теологов Свата и автора первого
на пашто трактата по нормативному богословию [XXX: 533—534, 861—
862, 925]. Несмотря на насмешливый тон Хушхала по отношению к
ранним паштоязычным авторам и его чрезмерно критический взгляд на плоды
их творчества (что было обусловлено требованиями жанра поэтического
1 Не случайно общелитературный афганский язык («стандартный пашто»),
представленный в произведениях XVI—XVIII вв., был наиболее близок именно диалектам
северо-восточной группы, а система письма, применявшаяся богословами и несколько
отличавшаяся от рошанитской, легла в основу современного афганского алфавита (см.:
[Mackenzie 1959; 1997; Кушев 1980: 109—110]).
Введение
7
самовосхваления), само упоминание их имен говорит о той важной роли,
какую они сыграли в истории становления письменности пашто.
Исходя из того, что имеющиеся рукописные материалы и
высказывания Хушхал-хана свидетельствуют о существовании трех основных
направлений в паштоязычной литературе первой половины—середины XVII в.
(условно — мистическое, богословское и национальное), все аспекты
настоящего исследования рассматриваются в рамках именно этих
направлений, хотя, конечно, нужно сразу иметь в виду определенную
схематичность их выделения и несоответствие каждого из них современным
понятиям «литературное течение» или «литературная школа».
Существующие труды афганских ученых с общей характеристикой
поэзии пашто первой половины XVII в., как правило, представляют собой
популярные очерки или краткие учебные пособия, производные от
биографических словарей [НаЬТЬТ 1941; 1963; Ristln 1942; 1954; Hewadmal
1977; 2000]. Несомненную научную ценность имеют издания самих
литературных памятников, а также многочисленные работы афганских
филологов (в их числе 'А. Бахтанай, Д. М. Камил, X. Рафи\ 'А. Рашад, X. Тэ-
жай, Г. П. Улфат, К. Хадим, X. Халил и др.), затрагивающие более узкие
темы. Эти работы в совокупности содержат пеструю мозаику
разрозненных фактов, но при отсутствии глубокого комплексного анализа
творчества отдельных авторов и наиболее значительных произведений не дают
полного представления о целевой направленности, отличительных
особенностях формы и содержания, основных этапах развития ранней паштун-
ской письменности. Возможно, именно поэтому академическая история
литературы пашто пока еще не написана.
В афганистической литературе на русском языке работы, посвященные
раннему этапу классической поэзии пашто, исчисляются единицами, и
большая их часть принадлежит узбекскому ученому А. М. Маннанову
[Маннанов 1970,; 19702; 1981; 1983-84; 1994; Асланов 1955; Кушев 1980:
29—67; Матвеева 1988], а на западноевропейских языках, исключая
старые хрестоматийные труды X. Дж. Раверти [Raverty 1860,; 1862],
публикации на эту тему, по моим сведениям, вообще отсутствуют.
Изучение афганской классической поэзии XVI—XVIII вв. сопряжено с
решением ряда серьезных проблем текстологического и кодикологическо-
го свойства, поскольку до сих пор не опубликованы полные каталоги и
описания афганских рукописей из всех собраний Афганистана и
Пакистана, не изданы многие литературные памятники, в том числе относящиеся к
начальному периоду истории паштунской письменности, не всегда
являются критическими и свободными от ошибок существующие издания, не
говоря уже о том, что паштоязычные рукописные тексты не имеют единых
орфографических норм, и пока еще не разработаны подлинно научные
методы их прочтения. В отдельных случаях сохраняются вопросы, связанные
с атрибуцией произведений, уточнением их формы, состава, жанровой
принадлежности. Соответственно, первая задача исследования заключается в
описании состава, структуры, формальных особенностей текстов
рассматриваемых источников, определении их общей смысловой направленности,
социального назначения и роли в развитии афганской письменности.
8 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
С учетом значимости, полноты и доступности в качестве главных
источников исследования были избраны диваны рошанитских поэтов Мирза-
хана Ансари, Давлата Лоханая и Васила Рошани, стихотворные фрагменты
из богословских трактатов «Махзаи ад-ислам», «Нафи* ал-муслимин» и «Ки~
таб~и Бабу Джан», дневниковые историко-биографические поэмы Хуш-
хал-хана «Фирак-нама» и «Сват-нама» и некоторые произведения его же
дивана, относящиеся к указанному периоду (общий объем текстов —
свыше 16000 двустиший). Кроме современных афганских и пакистанских
изданий источников в исследовании также использовались рукописи из
собрания СПбФ ИВ РАН, в том числе в двух случаях по причине отсутствия
изданий («Нафи' ал-муслимин» — В 2446, «Китаб-и БабуДжан» — С 1907),
в одном — из-за неполноты издания («Махзан ал-ислам» — В 2483).
На материале перечисленных источников в книге последовательно
рассматриваются формальная и содержательная стороны ранней афганской
поэзии, иногда в их взаимосвязи, как того требует исследуемый предмет.
Источники позволяют проследить за тем, как в письменной поэзии пашто
складывалась система жанровых форм, заимствованных из классического
персидского стихосложения. Особенности этого процесса изучены слабо,
поскольку пока отсутствуют более или менее подробные описания
жанровых форм у каждого автора в отдельности. Хорошо просматривающаяся в
ранней паштунской литературе близость собственно поэтических текстов
и рифмованной прозы, нередкие ошибки переписчиков в передаче бейтовой
структуры строк, расплывчатость границ монорифмических форм, прежде
всего газелей и касыд, разнообразные примеры циклизации стихотворений
и иные факты говорят о том, что в первой половине XVli в. строфика
поэзии пашто еще находилась на стадии становления. Характеристика
тематических и стилистических особенностей произведений, относящихся к
разным поэтическим формам, должна показать, в какой степени эти формы
сохраняли у паштунских поэтов классические жанровые признаки.
Собственно жанры в поэзии пашто первой половины XVII в. еще не
отличались большим разнообразием. Их интенсивное развитие начинается
только с середины века и связано главным образом с именем Хушхал-хана.
Однако среди общей массы стихотворных проповедей мистиков и
богословов встречается немало заслуживающих внимания случаев изложения
тех или иных религиозно-философских тем в рамках классических жанров.
Наиболее существенным формальным отличием письменной афганской
поэзии от персидской является ее силлабо-тоническая метрика,
продолжающая традиции афганского фольклора и в исторической перспективе
восходящая, очевидно, к древнеиранским корням. Некоторые исследуемые
источники фиксируют этап постепенного перехода от ритмизованной
прозы к строго упорядоченным поэтическим текстам, другие позволяют
проследить становление в поэзии пашто довольно стройной системы
стихотворных размеров на основе единых правил стихосложения, а также
оценить индивидуальные представления авторов о метрике как одном из
главных критериев письменной поэзии.
Несмотря на то что все использованные в этой книге источники в
разной мере уже привлекались для научных исследований, ни один из них
Введение
9
еще не был объектом исчерпывающего источниковедческого анализа,
поэтому по-прежнему остаются неизвестными многие содержащиеся в них
факты биографического, исторического, этнографического характера,
включая важные детали, относящиеся к идейным взглядам авторов и
мировоззрению их окружения. Труды, посвященные классической поэзии пашто,
нередко отличаются распространенным в литературоведении подходом, при
котором продукты художественного творчества рассматриваются слишком
отвлеченно, иногда совершенно независимо от личностей самих авторов,
реалий их жизни и времени, условий и целей литературного труда.
Причина такого подхода применительно к средневековой литературе
мусульманских народов часто кроется в том, что в сторонних источниках
имеется слишком мало сведений об авторах или же подобные сведения
вообще отсутствуют, и единственным материалом, из которого можно
извлечь какие-либо биографические факты, оказываются произведения
самих этих авторов. Естественно, когда речь идет об абстрактной мистико-
философской лирике, полностью подчиненной неписаному канону и
представляющей собой только варьирование установленного традицией
стандарта, то поиск жизненных реалий среди шаблонных художественных
толкований теософских идей зачастую представляет собой невыполнимую
задачу. Однако ранняя афганская религиозная поэзия по причине ее
практической направленности, недостаточной изощренности (по сравнению с
поэзией фарси) и не в последнюю очередь в силу специфики
национального менталитета и социальной среды дает возможность обнаружить в ней
разнообразные следы реальной действительности и лучше понять
личность каждого автора.
Поскольку наиболее ценный, объемный и при этом малоизученный
фактический материал содержится в рошанитской поэзии, которая была
господствующим направлением в афганской литературе рассматриваемого
периода, значительное внимание в книге уделено историко-этнографиче-
ским сведениям, а также социальным и эстетическим взглядам рошанит-
ских мистиков.
Подавляющее большинство паштунских стихов первой половины XVII в.
относятся к стандартной мистико-философской лирике, построенной на
ограниченном круге теоретических идей, изобразительных средств и
технической терминологии. Перенесение тем, мотивов и образов персидской
суфийской поэзии на почву афганской письменности было заслугой роша-
нитских поэтов, чьи творческие достижения, учитывавшиеся даже их
идеологическими противниками, фактически положили начало всей
мистической и религиозно-философской поэзии пашто. Однако до сих пор
диваны рошанитских поэтов не исследованы в достаточной степени ни как
первые и значительные по объему образцы суфийской поэзии на
афганском языке, ни как источники непосредственно по рошанитской
мистической доктрине. Поэтому одной из задач книги является систематическое
изложение мистико-философских идей и описание художественных средств
их выражения в рошанитской поэзии. В сопоставлении со стихами роша-
нитов будет рассмотрено содержание произведений поэтов-богословов, что
10 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
позволит определить специфику целей и объектов стихотворных
проповедей представителей обоих литературных направлений.
Что касается сочинений Хушхал-хана, которые даже при беглом
знакомстве с ними подтверждают свое значение уникальных источников по
истории и культуре паштунских племен XVII в., то здесь поток лежащих
на поверхности сведений нуждается, с одной стороны, в тщательной
систематизации, а с другой — в критическом подходе, учитывающем по
возможности все обстоятельства, при которых создавались эти сочинения, и
почти всегда проглядывающую тенденциозность автора. Диван Хушхала в
настоящей работе подробно не рассматривается, поскольку, во-первых,
посвященное ему исследование уже опубликовано [Пелевин 2001] и, во-
вторых, он формально является литературным памятником второй
половины XVII столетия. В качестве образцов поэтического творчества
Хушхала в книге наиболее подробно анализируются поэмы-маснави «Фирак-
нама» и «Сват-нама», наполненные любопытными сведениями самого
разного содержания и являющие собой резкий контраст отвлеченной
религиозной лирике рошанитов и богословов.
Используемая в книге транслитерация сочетает общие принципы
передачи букв арабского алфавита латиницей и элементы иранистической
транскрипции. Исторически долгие и устойчивые гласные: я, й, Г, о, е\ краткие
и неустойчивые: я, и, i, э. Афганские церебральные звуки изображаются с
подстрочной чертой: /, d, г, л, |, |; аффрикаты: с, j, с J. Арабские
эмфатические согласные (с учетом произношения в афганском): ?, s, £, z, /г, s, i\
увулярные: х, я, g. Все передаваемые кириллицей афганские, арабские и
персидские собственные имена, топонимы, названия сочинений, термины
приводятся без диакритических знаков; их латинская транслитерация дана
в указателях.
Глава!
Состояние письменного наследия.
Литературные направления
1. Рошанитская поэзия
Из рошанитских произведений, созданных непосредственно на территории
Паштунистана во второй половине XVI—начале XVII в., т. е. в течение
основного периода истории рошаниййи, мы имеем в распоряжении полные
тексты сочинений только самого Байазида Ансари (1521—1572),
основателя движения, и его сподвижника Арзани Хвешкая (ум. после 1601/02). В
источниках сохранились имена и фрагменты произведений других
рошанитских авторов этого времени, из чего следует, что какая-то часть
литературной продукции первого поколения рошанитов с течением времени была
утрачена.
Вероятно, рошанитские произведения уничтожались сознательно,
поскольку ханафитские богословы Паштунистана объявили мистическое
учение Байазида Ансари ересью (bid*at) и не только вели против него
идейную полемику, но и способствовали организации вооруженного
подавления рошанитской смуты. Ахунд Дарвеза (ум. 1618/19 или 1638/39), глава
идейной оппозиции движению Байазида, в своем произведении «Махзан
ал-ислам» (ок. 1604) прямо призывал сжигать «сочинения этого
отступника» [Ml,: 127].
Большинство известных рошанитских авторов и дошедших от них
поэтических произведений относятся к литературному кругу, сложившемуся
в Индии, в районах к востоку от Агры (совр. Уттар-Прадеш), куда около
1619 г. переселилась часть рошанитской общины во главе с Рашид-ханом
(ум. 1648), внуком Байазида Ансари. Признав над собой политическую
власть могольских императоров и получив в джагир земли на правом
берегу Ганга в районе нынешнего Фаррухабада, Рашид-хан и его окружение
сберегли идейные и литературные традиции рошаниййи, в то время как их
12 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
бывшие соратники, оставшиеся в Паштунистане и продолжившие военные
действия против империи, не смогли надолго сохранить свою
жизнеспособность. Духовным и административным центром рошанитской общины
в Индии стал Рашидабад, небольшой город, образовавшийся на месте
старого селения в окрестностях Шамсабада [Rasad 1975j: X].
Диван Мирза-хана
Мирза-хан Ансари — самое известное имя в рошанитской поэзии.
Образцы творчества Мирза-хана были представлены уже в двух первых паш-
тунских хрестоматиях, опубликованных в Европе в середине XIX в.
сначала Б. А. Дорном, а затем X. Дж. Раверти [Dorn 1847: 354—373; Raverty
18602: 119—132]2. X. Дж. Раверти включил английские переводы двадцати
одного стихотворения Мирза-хана в свою антологию афганской
классической поэзии, сопроводив их комментариями и биографическими
сведениями об авторе [Raverty 1862: 51—84]. Эти сведения, почерпнутые в
основном из устных преданий и поэтому не во всем достоверные, надолго,
почти на сто лет, стали основным источником биографии Мирза-хана не
только для европейских, но и для афганских ученых. В европейской
литературе XIX в. о Мирза-хане также кратко упоминает Дж. Дармстетер в
своем энциклопедическом труде по афгановедению [Darmesteter 1888—
1890: CLXXXVII]. Мирза Ансари довольно точно определен им как «поэт
мистического направления, открывший путь, по которому в течение
долгого времени развивалась вся афганская религиозная поэзия».
Новый шаг в изучении Мирза-хана и его творчества был сделан X. Ха-
лилом, издавшим в 1959 г. диван поэта с исследованием в предисловии
[Mlrza 1959]. Опираясь на письменные источники и стихотворения Мирза-
хана, X. Халил изложил подлинные факты, относящиеся к биографии
поэта, а также кратко коснулся его религиозно-философских взглядов и
тематических особенностей его стихотворений [ХаШ 1959]. В 1970 г. поэзия
Мирза-хана наряду с произведениями Байазида Ансари стала объектом
диссертационного исследования А. М. Маннанова [Маннанов 1970^ 19702].
Среди других работ середины—второй половины XX в., где упоминается
Мирза-хан и его диван, — каталоги и описания паштунских рукописей
[Mackenzie 1965,: 60—61; Кушев 1976: 25—27; Hewadmal 1984,: 256—258],
биографические словари и очерки по истории литературы пашто [Siraj
ad-dm 1987: 15—16; HabtbT 1941: 80—81; RistTn 1954: 36—37; Hewadmal
1977: 502—503; Hewadmal 2000: 99—101], а также иные исследования,
затрагивающие разные аспекты рошанитского движения и историю
афганской письменности [Benawa 1952: 443; Сагое 1958: 229—230; Raft4 1976:
188—189; Baxtanay 1976: 97—98; Кушев 1980: 36—37; Andreyev 1997].
Свидетельством особой популярности и значимости Мирза-хана
Ансари в письменной литературе пашто является большое количество сохра-
2 До выхода в свет хрестоматии Б. А. Дорн осуществил издание ряда стихотворений
Мирза-хана в качестве дополнения к грамматическому очерку языка пашто [Dorn 1845:
622—643].
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 13
нившихся рукописей его дивана. Судя по каталогам и другим источникам,
оно составляет 19 экземпляров, превышая число рукописей произведений
других рошанитских поэтов вместе взятых. Семь рукописей дивана
хранятся в библиотеках Великобритании (Британский Музей и библиотека
India Office) [Mackenzie 19651*. 60—65], пять — в Кабуле (по данным на 1975 г.)
[Dost 1975: IV—VI]3, четыре— в рукописных хранилищах Индии
(Хайдарабад, Калькутта, Алигарх, Рампур) [Hewadmal 1984ii 95—100], две —
в Санкт-Петербурге [Кушев 1976: 25—29], одна— в Пешаваре [ХаШ 1959:
III—IV].
Среди датированных рукописей две относятся к XVII в.: самая старая
была переписана в 1083 г. х. [1672/73] (библиотека Академии Пашто Толэ-
на, Кабул), другая— в 1101 г. х. [1689/90] (Британский музей). Многие
рукописи относятся к XVIII в.; фиксированные даты— 1734, 1744, 1767,
1771 гг. Диван Мирза-хана представлен как самостоятельными списками,
так и сборниками, причем не всегда включающими произведения одних
рошанитских авторов. Например, подобный конволют, хранящийся в
библиотеке Института востоковедения Санкт-Петербурга (С 1901), кроме
дивана Мирза-хана содержит также диван 'Абд ар-Рахмана Моманда (1653—
1711) и перевод Бабу Джана «Сирийской молитвы».
Как видно, диван Мирза-хана имел большое хождение в паштоязычной
среде спустя много десятилетий после того, как рошанитское движение
пришло в упадок. Широкое распространение рукописей дивана,
естественно, способствовало тому, что в паштунской литературной традиции
утвердилось мнение о Мирза-хане как наиболее значительном поэте рошанит-
ского направления. При этом вопрос о причинах особой популярности
поэзии Мирза-хана пока не получил окончательного ответа.
Суммируя взгляды афганских ученых, 3. Хевадмал отмечает, что
произведения Мирза-хана сыграли роль своеобразного соединительного звена
между паштунской поэзией и классической суфийской литературой. По
его словам, главная заслуга Мирза-хана заключалась в том, что он ввел в
поэзию пашто основополагающие понятия и термины исламского
мистицизма [Hewadmal 2000: 100]. Однако Мирза-хан принадлежал ко второму
поколению рошанитских поэтов, и его дивану предшествовали
мистические стихи других авторов, в частности диван Арзани Хвешкая, где уже
присутствует тематика и терминология традиционной суфийской поэзии.
О конкретном вкладе Мирза-хана в развитие языка мистической лирики на
пашто можно будет сказать только после обстоятельного изучения дивана
Арзани.
На мой взгляд, одной из главных причин большей известности и более
высокого положения Мирза-хана среди прочих рошанитских авторов
является его прямое родство с Байазидом Ансари. Мирза-хан — внук Байазида
и фактически единственный крупный поэт из рода рошанитских вождей.
Подчеркнутый пиетет к Мирза-хану именно как потомку Светлого
Учителя выражают в своих стихотворениях его младшие современники и учени-
3 Из пяти кабульских рукописей две (№ 7, 8 по Досту) были зафиксированы в
каталоге «Рукописи Афганистана» 1964 г. [Beaurecueil 1964: 268].
14 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
ки Давлат и Мухлис, творчество которых, по моему мнению, на самом
деле более разнообразно и интересно, нежели поэзия их духовного ментора.
Если статус Мирза-хана в рошанитской поэзии был предопределен его
происхождением, то для упрочения его авторитета во всей паштунской
литературе потребовалось создание легенды о том, что к концу жизни он
якобы отрекся от рошанитских, то есть еретических, с точки зрения
нормативного богословия, взглядов. Эта легенда как достоверный факт
впервые изложена у X. Дж. Раверти [Raverty 1862: 55]. Вероятно, именно
поэтому диван Мирза-хана переписывался намного чаще и получил
значительно большее распространение среди образованных паштунов XVII—
XIX вв., чем произведения других рошанитов.
К настоящему времени диван Мирза-хана издавался три раза. Первое
литографское издание было осуществлено в Лахоре в 1334 г. х. [1915/16]
кандагарскими книготорговцами Муллой Джан-Мухаммадом и Муллой
Бисмиллахом [Dost 1975: IV]. В 1959 г. X. Халил подготовил второе
издание, воспроизводящее текст неполной рукописи 1734 г. [MTrza 1959].
Последнее издание Доста, вышедшее в 1975 г., можно считать
приближенным к научному критическому; оно основывается на пяти рукописных
источниках, двух предыдущих изданиях и хрестоматии Б. Дорна [МА].
Издание Доста, повторяя структуру одной из поздних рукописей
дивана, имеет рубрикацию стихотворений по жанрам и жанровым формам:
1) стихотворная азбука апиф-нама (31 газель), 2) касыды (14), 3) газели
(207), 4) поэма «Свеча и Мотылек» (6 газелей), 5) мухаммас. Подобную же
структуру имеет одна из петербургских рукописей (С 1901), относящаяся
по внешним признакам к первой половине XVIII в. Среди доступных мне
источников издание Доста является самым полным по составу и объему
собранием поэтического наследия Мирза-хана Ансари. Число бейтов в нем
составляет около 3485.
Из стихотворений, содержащихся в двух петербургских рукописях
дивана Мирза-хана (С 1901 и В 2451), в издании Доста отсутствует только
одна 5-бейтовая газель — do hijran 1э der astuha / цэ-те dak-doy 1э anditha
(«От большого горя разлуки / Мое сердце наполнено печалью»), —
имеющаяся в рукописи С 1901 (л. 1886). Замечу, что эта газель помещена среди
стихотворений с исходом на А, поскольку все рифмующиеся слова в ней
ошибочно написаны с конечной буквой А вместо А. Кроме того, рукопись
С 1901 дает полный и законченный вариант 9-бейтовой газели (л. 183аб),
которая в издании имеет ущербный вид: здесь только шесть бейтов с
явными пропусками слов и нарушением размера [МА: 241]. В рукописи В 2451
эта газель опущена. В целом же и рукописи и издание обнаруживают
незначительные расхождения, касающиеся, как правило, количества бейтов в
стихотворениях. Другие встречающиеся разночтения, как мне кажется, в
большинстве случаев вызваны ошибками переписчиков в понимании и
графической передаче стихотворного текста.
В имеющееся описание петербургских рукописей дивана Мирза-хана
[Кушев 1976: 25—29] следует внести следующие дополнения и уточнения.
Разделы касыд и газелей в рукописи С 1901 (первая половина XVIII в.)
содержат, соответственно, 14 и 193 стихотворения. Одно стихотворение
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления
15
-fj*£-*'
*о*^ у
\
х ч. ■
j
ъ: ~'<^'^^cj^*^~— • w4*'*' 4-Х" "¥ ■* У
\
I
!
]
Рис. 1. Фрагмент рукописи дивана Мирза-хана (С 1901); л. 157а;
начало раздела касыд
16
М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Рис. 2. Фрагмент рукописи дивана Мирза-хана (В 2451); л. 406
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 17
повторяется и в разделе касыд, и в разделе газелей (л. 1696—170а, 1966—
197а). В издании Доста оно отнесено к газелям [МА: 130—132]. Вероятно,
переписчик рукописи по ошибке вставил его в раздел касыд. На это
указывает тот факт, что одна касыда, место которой в соответствующем разделе,
видимо, занимает это стихотворение, дописана в конце раздела газелей
(л. 260а—261а). В одной газели (л. 2316) соединены бейты (6 + 3) двух
разных стихотворений (ср.: [МА: 82, 182]). Более чем в десяти случаях
один из бейтов стихотворения (в одной газели два бейта) следует после
заключительного бейта макта\ причем он пишется, как обычный бейт, в
одну строку, но красной тушью, как макта* (л. 178а, 180а, 1806, 1816,
182а, 1846 и т. д.). В двух газелях в исходе рифмующихся слов
проставлены неправильные огласовки: е (кесра) вместо а (фатха) (л. 238а—239а). В
одном стихотворении не понят стихотворный размер, вследствие чего ре-
диф ay gawsa приписан в конце каждого полустишия (мисра') (л. 185а—
186а). В одной газели неправильно выписаны формы рифмующихся слов:
Шэ1-уе вместо Шэ1е (л. 2556—256а).
Рукопись В 2451 (1767) не имеет рубрикации и включает 205 касыд и
газелей, мухаммас, поэму «Свеча и Мотылек» и азбуку. Учитывая то, как
распределены по разделам стихотворения в рукописи С 1901 и издании,
можно заключить, что в данном списке 14 касыд и 191 газель. Одна
большая касыда (113 бейтов) разделена на два самостоятельных произведения
(л. 576—61 б)4. Стихотворения следуют в алфавитном порядке; кроме трех
случаев касыды предшествуют газелям, с которыми имеют одинаковый
исход. Отклонения от алфавитного порядка наблюдаются там, где
рифмующиеся слова заканчиваются на буквы для церебральных афганских
звуков |, г, |, что подтверждает отсутствие в XVIII в. устоявшихся
графических норм пашто. Как и в рукописи С 1901, рифмующиеся слова одной
газели неверно огласованы кесрой (л. 386—396). В поэме «Свеча и
Мотылек» первая газель занимает место третьей.
Имеющиеся между обеими рукописями структурные расхождения
указывают на то, что их протографы восходили к разным источникам. Из
общего числа газелей — 193 и 191 — совпадают 185 стихотворений. Во
многих несовпадающих газелях обращают на себя внимание заметные
метрические сбои. Возможно, эти стихотворения относились к числу не
законченных или не отредактированных автором и поэтому имели неустойчивое
положение в корпусе дивана.
Диван Давлата
До недавнего времени Давлат Лоханай (или Лаванай) относился к
числу малоизученных паштунских поэтов, хотя в истории афганской
письменности раннего периода он занимает видное место, являясь одним из
4 Переписчик ошибочно принял 81-й бейт этой касыды за макта\ поскольку в нем
упоминается имя автора: «Познавшие бывают пяти видов, о которых расскажет Мирза»
(л. Ш>). В последующих бейтах поэт описывает эти пять типов познавших ('arifan), что
.исключав? возможность Ьидеть здесь два разных произведения.
18 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
крупных представителей рошанитского направления. В научной
литературе имя Давлата впервые упоминается, вероятно, в грамматике афганского
языка X. Раверти [Raverty I860!: 31]. Одна из первых публикаций, где
содержались краткие сведения о поэте и образцы его стихов, принадлежала
К. Хадиму [Xadim: 47—55, 123—170]. На стихотворения Давлата
неоднократно ссылался 'А. Хабиби при изложении религиозно-философских
взглядов основателя рошанитского учения Байазида Ансари [НаЬТЫ 1963: 259—
367]. Полноценное изучение поэтического творчества Давлата Лоханая
фактически стало возможным только после опубликования его дивана в 1975 г. в
Кабуле [DL]. Предисловие к этому изданию, написанное 'А. Рашадом, было
первым шагом в исследовании поэзии Давлата. Позднее комплексный
анализ дивана поэта был осуществлен в диссертационной работе А. Г.
Матвеевой [Матвеева 1988]. Краткие сообщения о Давлате встречаются и во
многих других трудах, так или иначе затрагивающих историю раннего
периода классической литературы пашто: [Siraj ad-dTn 1987: 17—18; Ristln
1954: 37; Raff4 1976: 190; Baxtanay 1976: 98; Hewadmal 1977: 179—180;
Кушев 1980: 34—35; Маннанов 1983-84: 83—84; Hewadmal 2000: 104—105
и др.].
Кабульское издание дивана Давлата основано на двух рукописях,
хранившихся прежде в библиотеке Министерства информации и культуры
Афганистана и в библиотеке «Ал-Бируни» в Газни [Pulad 1975: J]. По
словам 'А. Рашада и 3. Хевадмала, первая рукопись в разное время
находилась также на хранении в библиотеке Академии пашто Толэна, Публичной
библиотеке и в Национальном архиве [Rasad 1975!: XIII; Hewadmal 1984i:
239]. Ни дата переписки, ни переписчик этой рукописи не известны,
поскольку, как следует из ее краткого описания, она лишена колофона [Beaure-
cueil 1964: 266]. В списке дивана из библиотеки «Ал-Бируни» колофон
сохранился. В нем сказано, что рукопись была переписана Гул-Мухаммадом
Пешавари по заказу высокочтимого Мухаммади Сахиб-зада5. Дата
окончания переписки— 8 ша'бана 1174 г. х. [15 марта 1761 г.]. Из каталога
3. Хевадмала известно о существовании еще одного списка, хранящегося в
афганской коллекции библиотеки Ризы в Рампуре [Hewadmal 1984^ 65—
66]. Эта рукопись, сшитая в конволют с диваном Мирза-хана, как и
кабульская, не имеет последних листов и датировки.
Диван Давлата Лоханая состоит из двух частей, дафтаров, и
насчитывает около 5060 бейтов. В издании дивана, судя по всему, полностью
сохранена структура кабульской рукописи. Рубрикация как таковая
отсутствует; прослеживаются лишь ее элементы, особенно во втором дафтаре,
5Мухаммади Сахиб-зада — почитаемый афганский богослов и духовный
учитель XVIII в., сын 'Умара Цамкани (ум. ок. 1776), одного из руководителей братства
накшбандиййа. Мухаммади был заметной фигурой в литературной жизни Восточного
Паштунистана. Он тесно общался со многими паштунскими поэтами, в том числе со
знаменитым Казим-ханом Шайда (ок. 1725—1778), и сам писал стихи на пашто [Кушев
1989ь 216—217]. Содержание объемистой антологии «Мадлсма* ал-аш'ар»,
хранящейся в Государственной библиотеке Берлина (Ms. Or. Oct. 1262, 1263), свидетельствует о
том, что в середине XVIII в. Мухаммади воспринимался как своеобразный духовный
центр пешаварского литературного круга.
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления
19
где имеются названия некоторых разделов— «Алфавитный руба'ийат»
(ar-ruba'iyat fi bayan-i 'alif-ba 'На у а), «Четверостишия» (са1ощТ),
«Фрагменты» (muqatta'at)— и даже пояснительные заглавия отдельных
стихотворений — «Касыда, написанная в память об усопшем четвертом халифе
'Али», «Газель, тоже написанная в память об усопшем 'Али»6,
«Повествование о чудесах пророка».
В поэзии Давлата Лоханая в той или иной степени получили развитие
все основные классические жанровые формы (касыда, газель, руба'и, мае-
нави), но в рукописях и издании дивана эти формы четко не разграничены.
Конечно, такие стихотворения, как руба'и или маснави, легко
вычленяются в силу своих заметных внешних признаков. Не случайно
самостоятельными разделами в рукописи представлены два алфавитных цикла руба 'и
(алиф-нама), отдельные четверосткшия-цалоридза и большая поэма-
маснави (264 бейта), предваряемая басмаллой. Однако при этом в разделе
«Фрагменты», содержащем сплошной текст из восьмисложных строк, явно
не выделены вошедшие в него произведения, а именно две
самостоятельные поэмы-маснави (28 и 73 бейта)7.
Хотя диван Давлата (точнее, тот его вариант, который представлен
кабульской рукописью) не имеет строгого классического построения, в нем
просматривается собственная структура, ориентированная на
традиционную. Первый дафтар включает две различимые части — раздел касыд и
раздел упорядоченных по алфавиту газелей, между которыми, однако, нет
четкой границы, и ряд стихотворений обеих жанровых форм расположены
смешанно (всего 263 стихотворения). Второй дафтар открывается
алфавитным циклом из 30 руба*и со вступительной газелью (алиф-нама)8, за
которым следуют упорядоченные по алфавиту газели и касыды (48
стихотворений), три выделенных стихотворения-л*а/?см*ша (касыда и две
газели), вторая азбука в форме руба 'и9, 51 четверостишт-цалоридза, четыре
6 И газель и касыда, якобы посвященные первому шиитскому имаму, на самом деле
написаны на смерть 'Али Мухаммада Мухлиса, известного рошанитского автора,
современника Давлата. Издание дивана явно сохраняет ошибку переписчика, никак при
этом не прокомментированную издателем. Эту же ошибку повторяет А. Г. Матвеева,
делая смелый вывод о влиянии шиитской литературы сефевидского Ирана на
творчество Давлата [Матвеева 1988: 9].
7 Внешний вид первой поэмы-маснави позволяет предположить, что она
представляет собой цепочку четверостиший-ки/я 'а, вследствие чего, видимо, появилось и
ошибочное название раздела. Дело в том, что эта поэма написана 16-сложным размером, а
переписчики афганских рукописей иногда разбивали строки (миера') стихотворений,
имеющих этот размер, на две части, превращая, таким образом, одну 16-сложную строку в две
8-сложные. В результате число бейтов в стихотворении увеличивалось в два раза. При
этом переписчиков вовсе не смущал тот факт, что в газелях и касыдах каждый нечетный
бейт, начиная с третьего, оказывался лишенным рифмы. Если же подобной «обработке»
подвергалась поэма-маснави, где нет сплошной единой рифмы, то она могла легко
восприниматься как цикл четверостиший-кшя 'а. В издании дивана Мирза-хана 1975 г.,
например, все газели, написанные 16-сложным размером, представлены в виде стихов-
восьмисложников, как это, очевидно, было в рукописи, служившей основой для издания.
8 В рампурском списке дивана строки этой газели являются началом первого даф-
mapa [Hewadmal 1984j: 66].
9 В газнийском списке дивана эта азбука отсутствует.
20 М. С. Пелевин. Афганская поэзия* в первой половине—середине XVII века
поэмы-маснави и две касыды. Кроме того, издание дополнено семью
газелями, имеющимися в газнийской рукописи дивана, но отсутствующими в
кабульской.
Из двух последних касыд одна, судя по всему, принадлежит не Давла-
ту, а его современнику, рошанитскому поэту Мир-хану, имя которого
фигурирует в последнем бейте стихотворения в виде обращения: «О Мир-
хан, судьба установлена изначально; конец всегда есть возвращение
начала» [DL: 256] (см.: [Hewadmal 2000: 105]). Учитывая этот факт, можно
поставить под сомнение и авторство Давлата в отношении второй касыды,
которая явно не закончена. Не исключено, что эти два последних в
рукописи стихотворения были добавлены переписчиком к дивану Давлата
просто для заполнения остававшихся листов. Являясь агиографической по
содержанию, вторая касыда представляет несомненный интерес для истории
рошанитской поэзии. Поскольку на данный момент вопрос о ее атрибуции
не может быть решен однозначно, она пока условно будет отнесена к
поэтическому наследию Давлата.
Диван Васила
Долгое время о рошанитском поэте Василе Рошани не было известно
никаких сведений кроме самого факта его существования [RistTn 1954: 37—
38]. Имя Васила несколько раз встречается в стихах классических паштун-
ских поэтов, начиная с Хушхал-хана Хаттака. Оценивая свои творческие
достижения, Хушхал дважды упоминает Васила в числе
поэтов-предшественников, которых он превзошел поэтическим мастерством [XXX: 534,
861]. Одно из этих упоминаний содержится в касыде, относящейся к
середине 70-х гг. XVII в., другое встречается во фрагменте, написанном явно
позднее. В обоих случаях Хушхал говорит о Василе в прошедшем времени.
Более ранним источником с упоминанием Васила является сочинение
«Дабистан-и мазахиб» (середина XVII в.), излагающее некоторые
сведения о религиях и верованиях могольской Индии и приписываемое ныне
Мубад-шаху (или Мубаду Кайхосрову), члену парсийской общины [Ного-
vitz 1999; Andreyev 1997]10. Часть сведений о рошанитах автор этого
весьма сумбурного трактата почерпнул из собственных бесед с Василом. Со
слов Васила, например, автор повествует о теософском диспуте Байазида
Ансари с неким духовным лицом по имени Мавлана Закарийа.
Примечателен следующий эпизод из живого общения Мубада и Васила. Позволив
себе истолковать одно из хитроумных высказываний Байазида, автор «Даби-
стаиа» получил одобрение своего собеседника, который затем на полях
имевшейся у него рошанитской книги «Хал-нама» написал по-персидски
такой многозначительный бейт: «У своего Друга увидели и дали ищущим
Путь знак лишенного знаков» [Dabistan 1904: 306]. Последним известным
автору «Дабистана» событием из истории рошанитской общины была кон-
10 Ссылаясь на ряд источников, в том числе на «Ма'асир ал-умара'» Шахнаваз-хана,
'А. Рашад полагает, что Мубад— это тахаллус автора, а его имя — Зу'-л-факар 'Али
[Ra§adl9752: 11].
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 21
чина Рашид-хана в 1058 г. х. [1648]. Вероятно, Васил Рошани умер позже
этой даты.
Впервые несколько образчиков поэтического творчества Васил а на
пашто были обнаружены 'А. Рашадом в конце 50-х гг. XX в. и
опубликованы им в 1975 г. [Rasad 19752]. В предисловии к этому изданию Рашад
сообщает краткие сведения о поэте, основываясь прежде всего на «Даби-
стаяе», а также об источнике, откуда были извлечены его стихотворения.
Этим источником является поэтический альбом (байаз) некоего Муллы
Ахтара Кандахари (do Mulla Axtar Kandahar! bayaz), в который включены
шестнадцать стихотворений Васила. До 1957 г. байаз хранился в частной
библиотеке 'Абд ал-Ахада Ахундзада (ум. 1950), потомственного
служителя культа при пятничной мечети Кандагара. На распродаже библиотеки
в 1957 г. 'А. Рашад приобрел рукопись байаза для Академии Пашто Толэ-
на, а в 1961 г. использовал стихи Васила при составлении школьных
хрестоматий для чтения [Rasad 19752: 7—10]. Кроме того, 'А. Рашад
упоминает о том, что в Ташкенте им была найдена рукопись, являющаяся, по-
видимому, списком персидского дивана Васила [Rasad 19752: 16—17].
В 1981 г. Бреш опубликовал в журнале «Кабул» три поэтические
азбуки (alif-nama), которые, по его мнению, принадлежат перу Васила [Bres
1981]. Эти произведения содержатся в антологии старой паштунской
поэзии и прозы «Байанат-и афгани», рукопись которой хранилась в личной
библиотеке X. Рафи\ Составитель и переписчик антологии 'Абд ал-Гани
Касай закончил рукопись 22 джумада II1142 г. х. [12 января 1730 г.].
Возможность исследования творчества Васила в полном объеме
появилась только после 1984 г., когда 3. Хевадмал обнаружил в библиотеке Ризы
в Рампуре список афганского дивана поэта [Hewadmal 1984^ 103—104,
263—265]. В рукописи отсутствуют первые листы; произведения дивана
упорядочены по алфавиту, но из газелей на олиф сохранилась лишь часть
последнего стихотворения. В колофоне переписчик называет свое имя —
Мулла 'Ата'аллах— и указывает месяц переписки— раби' I 1186 г. х.
[2.6—1.7 1772 г. х.].
По сообщению Хевадмала, в библиотеке музея Саларджанг в
Хайдарабаде, возможно, хранится еще один список персидского дивана Васила.
Точную атрибуцию этого дивана Хевадмал справедливо считает
преждевременной, поскольку список имеет много лакун и требует сличения с
ташкентской рукописью.
В 1986 г. 3. Хевадмал осуществил ротапринтное издание афганского
дивана, сделав его более или менее доступным для изучения [WR]. Издание
сопровождается весьма информативным предисловием, где приводятся
библиографические данные всех работ афганских ученых с упоминаниями
о Василе, дается общая характеристика его поэзии и сообщаются
некоторые новые факты, почерпнутые непосредственно из стихов поэта. 3.
Хевадмал привлек для сопоставления произведения Васила из сборника Муллы
Ахтара Кандахари, включив в свое издание два стихотворения,
отсутствующие в рукописи дивана, а также привел все имеющиеся разночтения.
Тем не менее, это издание является, по признанию самого Хевадмала,
предварительным, осуществленным без должной текстологической подго-
22 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
товки. Оно основано на копии, которая «была выполнена в течение недели
с большой поспешностью» и поэтому не свободна от ошибок [Hewadmal
1986: XVI]. Надо заметить, что сама рукопись, видимо, также
переписывалась в спешке, поскольку в отдельных местах ее почерк приближен к
скорописи (sikasta). Переписчик рукописи, вероятно, не был
профессиональным писцом-каллиграфом. В колофоне он просит у читателей снисхождения
за ошибки. В результате мы имеем ныне текст, который дополнительно к
своей изначальной языковой и смысловой сложности по меньшей мере
дважды подвергся каким-то искажениям.
Причем погрешности при переписке явно возникали не только по
причине спешки, но иногда и вследствие плохого понимания
переписываемого текста. В издании можно найти немало мест, которые, очевидно,
остались неясными и для Хевадмала. На это указывает прилагаемый к тексту
дивана глоссарий [WR: 116—137]. Наряду с архаичной, но
зафиксированной в словарях паштунской лексикой 3. Хевадмал включил в него многие
арабо-персидские слова, а также суфийские термины, хорошо известные из
классической мистико-философской лирики. В то же время без
комментариев остались некоторые, видимо, искаженные слова смутного
происхождения и вышедшие из употребления непосредственно паштунские слова.
Судя по всему, структура изданного дивана не во всем соответствует
рукописи. Очевидно, 3. Хевадмал не только упорядочил произведения по
алфавиту, исходя из современных графических норм, но и произвольно
выделил разделы. Думается, что ввиду предварительного характера
издания и отсутствия тщательного текстологического исследования рукописи
подобная структуризация была не вполне оправданной.
Особое сожаление вызывает качество издания: отсутствуют страницы
1—2, 45—46, 49—50 с двенадцатью газелями, допущена ошибка в
нумерации четверостиший, велико количество опечаток. Однако эти замечания
не умаляют значимости выполненной 3. Хевадмалом работы по
оперативной подготовке чернового варианта текста дивана, опубликование
которого наконец-то заполнило одну из белых страниц в истории рошанитской
поэзии.
В изданном диване Васила Рошани содержится 171 газель и касыда, 73
четверостишия, 1 фрагмент и 3 мухаммаса (общим объемом примерно
2370 бейтов).
Что касается опубликованных в 1981 г. под именем Васила трех
стихотворных азбук, то их атрибуцию следует считать предположительной.
Выводы издателя об авторстве этих произведений строятся на том, что они
сходны по форме и содержанию, в рукописи антологии следуют друг за
другом, а в одном из них имеется тахаллус «Васил» [Bres 1981: 32].
Думается, этих оснований для атрибуции недостаточно.
На мой взгляд, с большей или меньшей степенью уверенности за Васи-
лом можно признавать авторство только второй по счету азбуки, где слово
wasil, видимо, действительно является именем автора, а не суфийским
термином с соответствующим значением ('достигающий [Бога]'). В этом
Произведении есть и некоторые языковые особенности, характерные для
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 23
Васила: например, употребление формы waher вместо her ('забытый') п
или отсутствие церебрального г в форме глагола wrol ('нести')— wri-na.
Кроме того, автор азбуки, как и Васил в некоторых стихотворениях своего
дивана, называет духовного учителя «Великий Совершенный» (loy kamil).
Предполагаемый тахаллус и упоминание о Совершенном Учителе,
являющиеся фактически единственными указаниями на то, что автором азбуки
был рошанит по имени Васил, содержатся в предпоследнем
четверостишии:
Лам-алиф: Стань, как Васил; // Сейчас твое время, обрети его.
Стань последователем Великого Совершенного, // Который
укажет тебе благой путь.
[BreS 1981: 40-41]
Авторство Васила Рошани в отношении двух других азбук вызывает
сомнения. Мне представляется, что у всех трех азбук были разные авторы.
Различия в стиле, поэтическом языке, качестве изложения говорят в пользу
такого утверждения. Первая азбука отличается от двух других большей
ясностью языка, живостью мысли, разнообразием мотивов, четким
формулированием наставлений. Она больше отвечает дидактическим целям, ради
которых, собственно, и создавались подобные произведения. При этом в
ней более гармонично сочетаются как непосредственно суфийские, так и
свободные от мистицизма религиозные поучения. Две другие азбуки,
кажется, написаны менее профессионально, чем первая, причем третья
азбука по всем вышеупомянутым признакам заметно уступает второй, т. е.
предположительно принадлежащей Василу. Среди наиболее очевидных
недостатков второй и третьей азбук следует назвать частые повторы, как
смысловые, так и просто словесные.
Если считать, что у азбук был один автор — Васил Рошани, то,
конечно, можно было бы пытаться объяснить их языковые и стилевые отличия
разным временем написания. Но тогда первую, самую удачную азбуку, где
нет прямых свидетельств о приверженности автора рошанитскому учению
и заметное место занимают не связанные с тасаввуфом религиозные
проповеди, следовало бы отнести к более раннему периоду его жизни и
творчества, а другие, менее умелые азбуки, содержащие призывы стать
последователем (pasraw, murid) Совершенного Учителя (loy kamil, pir kamil), —
к более позднему, когда поэт уже всецело посвятил себя духовному пути
Байазида Ансари.
По моему мнению, вторая и третья по счету азбуки могут быть так
называемыми джавабами, стихотворными ответами. Неизвестно, кто был
автором первой азбуки, вдохновившей, возможно, Васила, а затем и
какого-то другого поэта на написание джаваба, однако в равной мере по
содержанию и стилю, а также в целом по духу она близка дидактическим
стихам Давлата Лоханая12. Интересно при этом, что автор избрал для аз-
1 * Замечу, что в первой азбуке встречается форма her.
12 Одна из строк азбуки — уа: yari gwara texdaya («Йа: помощи проси у Бога») — в
разных вариантах, в том числе и очень близком — td yari gwara h xdaya («Всегда по-
24 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
буки не форму руба 'ийата, уже использовавшуюся другими рошанитски-
ми поэтами, а строфическую форму мурабба\ совершенно новую для
ранней паштунской поэзии.
Обращает на себя внимание также тот факт, что азбука Васила (если
все-таки она действительно ему принадлежит) отсутствует в его диване.
Вряд ли причину нужно искать в том, что это произведение стилистически
не очень гармонирует с другими его стихами, поскольку оно имеет прямой
назидательный характер, в целом ему несвойственный. В одном из списков
дивана Давлата, например, тоже нет принадлежащих поэту двух
алфавитных руба'ийатов, хотя они хорошо вписываются в общее русло его
лирики. Видимо, стихотворные азбуки, хотя и выполненные в традиционных
для дивана жанровых и строфических формах, иногда воспринимались как
произведения, выходящие за рамки классического дивана, и вследствие
своего практического назначения обретали самостоятельное существование.
Произведения других рошанитских поэтов
Письменные источники свидетельствуют о том, что около полутора
десятков последователей рошанитского учения занимались поэтическим
творчеством, однако произведения только половины из них дошли до нас в
полном объеме. Немалая часть сохранившегося литературного наследия
рошанитов по-прежнему остается в рукописях.
Первым в списке рошанитских поэтов стоит имя Арзани Хвешкая,
сподвижника и, если верить словам Ахунда Дарвезы, литературного
помощника Байазида Ансари [Tazkirat: 1316—132а]. Арзани происходил из семьи
афганцев, обосновавшихся в Северной Индии (Пенджабе). В середине
XVI в. вместе с двумя братьями он переехал в Паштунистан и примкнул к
рошанитскому движению. Дарвеза утверждает, что Арзани принял участие
в написании книги «Хайр ал-байан», а также создал собственное
еретическое сочинение под названием «Чахаррама» (Cahar ramal). Тот же
Дарвеза признает у отступника Арзани наличие поэтических способностей и
даже определенных моральных принципов: «Арзани, будучи умным и
красноречивым поэтом, слагал разные отступнические стихи на афганском,
персидском, индийском (хиндустани.— М. Я.) и арабском [языках]...
После того как Темный Учитель (Байазид Ансари. — М. П.) принялся грабить
и убивать мусульман, Арзани от него отделился и снова вернулся в
Индию».
На основании одного датированного стихотворения Арзани можно
полагать, что поэт умер не ранее 1010 г. х. [1601/1602] [Rafi" 1976: 178]. Если
он действительно покинул рошанитскую общину сразу после начала
вооруженных стычек с могольскими властями (ок. 1670), то в течение
последующих тридцати лет его литературная деятельность, видимо, протекала в
Северной Индии, вдали от бурных событий, связанных с военно-политиче-
мощи проси у Бога»), — неоднократноЪстречается в четверостишиях Давлата, включая
те, что входят в одну из его азбук [DL:183, 238—239].
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 25
ским противостоянием рошанитов и моголов, и в его творческой
биографии следует различать два периода.
По имеющимся на сегодняшний день данным Арзани Хвешкай
является автором старейшего дивана на языке пашто, где собраны
стихотворения, написанные по образцу классической персидской лирики, — касыды,
газели и руба'и, поэтому Арзани может с полным правом считаться не
только первым рошанитским поэтом, но зачинателем афганской
письменной поэзии в целом.
В настоящее время известно о пяти рукописях дивана Арзани разной
полноты: две хранятся в библиотеке Академии пашто в Пешаваре ,3 и по
одной — в Британском музее, Пешаварском городском музее и библиотеке
Азиатского общества Бенгалии (Asiatic Society of Bengal) в Калькутте
[Hewadmal 1984,: 53—54, 231; Mackenzie 1965,: 59; Маннанов 1981].
Калькуттская рукопись представляет собой конволют, включающий отрывки из
диванов Арзани и Мирза-хана, а также прозаический трактат Мухлиса.
Образцы стихов из дивана Арзани с краткими сведениями об авторе
впервые были опубликованы X. Халилом в 1960 г. [ХаШ 1960: 183—208,
389—393]. Позднее письменным наследием Арзани активно занимался
3. Хевадмал (о некоторых своих публикациях на эту тему в афганской
периодике он упоминает в предисловии к каталогу рукописей: [Hewadmal
1984,: VII—VIII]). Хевадмал готовил к изданию полное собрание
произведений Арзани, однако на настоящий момент диван поэта по-прежнему
остается неизданным.
По мнению X. Рафи' и 3. Хевадмала, перу Арзани принадлежат также
два самостоятельных, не входящих в корпус дивана, цикла четверостиший
(в одном трактуется рошанитская доктрина о ступенях совершенствования
и познания Бога, в другом излагается предание о сне пророка Мухаммада)
и сочинение в прозе (risala), толкующее разные аспекты учения Байазида
Ансари. Кроме того, в «Хал-нама» упоминается сочинение Арзани на
фарси «Мир 'am ал-мухаккикин» («Зерцало взыскующих Истину»), но его текст
пока не обнаружен [Raft4 1976: 181—183; Hewadmal 2000: 97].
К числу наиболее крупных рошанитских авторов первой половины
XVII в. относится 'Али Мухаммад Мухлис, сверстник и близкий друг Дав-
лата Лоханая. Как и Давлат, 'Али Мухаммад Мухлис жил в Индии,
главным образом в окрестностях Шамсабада близ Агры, но бывал также в
Центральной Индии и Бенгалии. Точные даты его жизни неизвестны;
несомненно только, что он скончался после 1648 г., поскольку в его трудах
упомянута кончина Рашид-хана (ум. 1648), главы рошанитской общины в
Индии [Shafi 1999],4.
13 Одна из них ранее находилась в частном собрании знатока литературы пашто
Мухаммада Наваза Хаттака (1911—1983).
14 Долгое время 'Али Мухаммад Мухлис идентифицировался с Муллой 'Али,
родным братом Арзани Хвешкая, современником и сподвижником Байазида Ансари ([Ri|tTn
1954: 36; Baxtanay 1978: 6—8] и др.), хотя уже в ранней работе К. Хадима было
высказано мнение о том, что 'Али Мухаммад Мухлис жил в первой половине XVII в. [Xadim:
47]. X. Рафи' признавал существование двух разных лиц — 'Али Мухаммада Мухлиса,
брата Арзани Хвешкая и автора дивана на пашто, и 'Али Мухаммада, сына Аба Бакра
26 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Мухлис знаменит в первую очередь как автор «Хал-нама»,
агиографического сочинения на персидском языке по истории рошанитского
движения [Muxlis 1986]i5. Сравнительно недавно было найдено еще одно
прозаическое сочинение Мухлиса [Hewadmal 1984^ 11—12, 214—215]. Этот
мистико-философский трактат (risala), написанный на языке пашто и
посвященный вопросам соотношения божественной сущности и атрибутов,
включен в рукопись с отрывками из диванов Арзани и Мирза-хана. 3. Хе-
вадмал, обнаруживший это произведение, отмечает, что в нем имеются
цитаты из стихотворений самого Мухлиса и других рошанитских поэтов.
Собственно афганский диван 'Али Мухаммада Мухлиса, как и два
других его сочинения, представлен только одной рукописью, хранящейся в
Британском музее [Mackenzie 1965j: 60; Маннанов 1983-84]. Диван
содержит 370 газелей, из которых первые тридцать образуют азбуку (alif-nama),
около ста руба 'и и стихотворение-л*у/?яббя'. Некоторые афганские ученые
разделяют мнение о том, что поэзия Мухлиса является интерпретацией на
пашто стихов Джалал ад-дина Руми (ум. 1273) [Hewadmal 2000: 103].
«Хал-иама» Мухлиса представляет собой не только ценный источник
по истории и идеологии рошанитского движения, но и своеобразную
антологию афганской письменной поэзии периода ее становления.
Согласно «Хал-иама», 'Али Мухаммад происходил из образованной и
уважаемой семьи последователей рошанитского учения. Его отец, Аба
Бакр Кандахари (ум. 1624/25), с детства был связан с семьей Байазида Ан-
сари. Шинвар по племенной принадлежности, он в юности служил Джалал
ад-дину (ум. 1601), сыну Байазида, затем возглавлял один из вооруженных
отрядов Ахдада (ум. 1624/25), внука Светлого Учителя, в 1619 г. перешел
на сторону другого внука Байазида — Аллахдада (Рашид-хана), с которым
переселился в Индию. Скончался он в Бенгалии, где последние годы
жизни занимал пост начальника военного гарнизона (fawjdar) Мединипура. По
словам Мухлиса, Аба Бакр оставил после себя диван паштунских стихов,
носящий название «Мир1 am ал-'арифин» («Зерцало познавших»). Сам
диван не сохранился, но в «Хал-нама» приведено несколько стихов из него
[Hewadmal 2000: 99].
Старший брат Мухлиса, Хваджа Мухаммад, тоже писал стихи,
примером которых являются две газели, включенные в «Хал-нама». Занимались
поэзией и другие близкие родственники Мухлиса — его мать Шахзадгула
и дед по материнской линии Дарвиш Дадо, оракзай из Тираха, бывший в
свое время духовным поверенным (xalifa) Байазида Ансари. В «Хал-нама»
имеются фрагменты их произведений [Rafi4 1976: 193—194; Hewadmal 2000:
98—99, 101].
Кандахари и автора «Хал-нама» [Raff* 1976: 187—188, 191—192]. Впоследствии
изучение дивана стихотворений, имеющих тахаллус «Мухлис», показало, что их автор, 'Али
Мухаммад Мухлис, жил в первой половине XVII в, был другом Давлата Лоханая и,
следовательно, может быть отождествлен с автором «Хал-нама» [Маннанов 1983-84].
15 Тщательное источниковедческое исследование «Хал-нама» выполнено С.
Андреевым, в работе которого можно найти подробные сведения и о самом источнике, и о его
авторе [Andreyev 1997].
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 27
Сочинение Мухлиса содержит также несколько стихотворений роша-
нитского поэта по имени Хаджи Гадай Сарбанай, который жил в
окрестностях Пешавара во времена Байазида и был одним из его учеников (jnurld)
[Hewadmal 2000: 98]. Хаджи Гадай и Дарвиш Дадо относятся к первому
поколению рошанитских стихотворцев, стоявших у истоков письменной
поэзии пашто. Сейчас неизвестно, насколько интенсивно они занимались
поэзией и какими по объему были плоды их творчества, но, видимо, оро-
фессионального уровня Арзани Хвешкая они не достигли и их произведения
не имели большого распространения в паштоязычной среде. Хотя,
конечно, не следует исключать возможность того, что результаты их
литературной деятельности разделили печальную участь других ранних
рошанитских произведений, сознательно уничтожавшихся представителями
нормативного богословия.
В окружении автора «Хал-иама» кроме его родственников и друга Дав-
лата Лоханая, очевидно, было немало образованных людей, увлекавшихся
сочинительством. Выше уже упоминался поэт Мир-хан, касыда которого
явно не случайно оказалась в одной из рукописей дивана Давлата. Стихи
на пашто и фарси писал житель Рашидабада Каримдад Бангаш. В одном
его стихе фигурирует дата— 1056 г. х. [1646/47], — подтверждающая, что
поэт был современником Мухлиса и Давлата [Raft4 1976: 194—196;
Hewadmal 2000: 102]. Его неполный диван, состоящий из касыд и газелей и
хранящийся в Лондоне, в библиотеке бывшего Министерства по делам
Индии (India Office), долгое время приписывался сыну Ахунда Дарвезы
'Абд ал-Кариму (ум. 1661/62). Однако после его опубликования в 1964 г. в
Пешаваре выяснилось, что автор «обрел мудрость у Рошана, Сократа
веры». К сожалению, это издание осталось мне недоступным (о рукописи
дивана см.: [Mackenzie \965{: 65—66\ Маннанов 1994: 139]).
Хотя во второй половине XVII в. рошанитская община Индии
постепенно стала утрачивать свои идейные корни и приходить в упадок,
традиции рошанитской поэзии продолжали развиваться в творчестве некоторых
авторов, таких как Кадирдад (ум. после 1706/07) и Оракзай Рошани [Raft4
1976: 196—197; Hewadmal 2000: 105—106]. Первый был праправнуком
Байазида Ансари, однако повторить литературный успех другого прямого
потомка Светлого Учителя — Мирза-хана — ему явно не удалось. О
втором поэте неизвестно ничего, кроме племенной принадлежности, на
которую указывает его имя (видимо тахаллус). От обоих поэтов дошло только
несколько стихотворений.
2. Религиозно-дидактическая поэзия богословов
Если о рошанитской поэзии можно говорить как о цельном
литературном направлении в силу принадлежности ее авторов к одной религиозно-
мистической общине и наличия у них единых духовных корней, то второе
течение ранней афганской поэзии, называемое здесь
религиозно-дидактическим, не является однородным и включает в себя всех прочих паштун-
28 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
ских религиозных поэтов, которые не относились к рошанитской
традиции, а отчасти даже идейно противостояли ей. Список этих авторов
достаточно велик, однако из-за отсутствия в большинстве случаев каких-либо
достоверных исторических сведений о них и по причине фрагментарного
характера значительной части их письменного наследия не всегда есть
возможность определить более или менее точные временные и
географические границы их жизни и творчества, последовательность их вхождения в
паштунскую литературу, круг и степень распространения их произведений.
3. Хевадмал перечисляет около четырех десятков имен представителей
этого литературного течения, справедливо выделяя в нем в качестве
отдельной ветви потомков и последователей Ахунда Дарвезы (1533/34—
1618/19 или 1638/39),6 [Hewadmal 2000: 109—130]. Хотя временные рамки
течения у 3. Хевадмала условно ограничены XVII в. [XI—начало XII в. х.],
среди авторов им упоминаются лица, творческая деятельность которых
явно протекала в более позднее время — в первой трети XVIII в., когда
культурно-исторические условия и уровень развития паштунской
письменности уже претерпели существенные изменения п. Дошедшие до нас
письменные памятники показывают, что начиная с последней четверти
XVII в. религиозно-дидактическая поэзия под воздействием других
литературных направлений обрела гораздо более развитые формы по
сравнению с теми, какие она имела у авторов предшествующих десятилетий.
В произведениях богословов, как правило, плохо разграничиваются
тексты, написанные ритмизованной рифмованной прозой (say) и
собственно стихами. Подлинная чистая проза (rowan nasr, по выражению
афганских литературоведов) в паштунской письменности этого времени
представлена только текстами двух рошанитских рисала, принадлежащих
Арзани Хвешкаю и 'Али Мухаммаду Мухлису [Hewadmal 2000: 107]. Вся
прочая ранняя паштунская проза является ритмизованной и рифмованной,
т. е. близкой по форме к классическому саджу. Такой прозой написано
сочинение Ахунда Дарвезы «Махзан ал-ислам», фактически положившее
начало религиозной (нерошанитской) литературе пашто. Однако уже в
первую, авторскую редакцию этого сочинения 1605 г. в качестве примера
было включено одно стихотворение (si*г), сочиненное братом автора,
муллой Асгаром Гази, в ответ на «афганский бейт», который во время
теологического спора произнес один из сподвижников Байазида Ансари и в
котором содержалась «хула на богословие и богословов (sabb-i (ilm wa
'ulama)» [MI,: 136—137].
16 В афганистической литературе чаще встречается последняя дата смерти
Дарвезы — 1048 г. х. [1638/39], — содержащаяся в сочинении «Хазинат ал-асфийа'» Гулама
Сарвара Лахори [Taqwlm al-Haqq 1969: XXXIV]. В этом случае получается, что Дарвеза
жил около 105 лет. Вторую, более реальную дату— 1028 г. х. [1618/19] — без каких-
либо пояснений приводит 3. Хевадмал [Hewadmal 1984i: 225; 2000: 112], ранее тоже
указывавший первую дату (см., например: [Hewadmal 1977: 173]).
17 К таким деятелям относятся, например, *Абд ал-Гани Касай, составитель
сборника «Байанат-и афгани» (ок. 1730), Джан Мухаммад и Саййид Хусайн, переводчики
персоязычных религиозных преданий о пророке и имамах, Рахимдад (ум. 1733/34),
автор нескольких стихотворных восхвалений Мухаммада и др.
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления
29
Ответное стихотворение Асгара, состоящее из 12 парнорифмующихся
бейтов, не отличается высоким качеством формы и изяществом
содержания и, несомненно, уступает стихам его современника рошанита Арзани
Хвешкая. Автор банально восхваляет богословов как истинных ревнителей
ислама и грубо поносит «Темного», т. е. Байазида Ансари18, называя его
«проклятой свиньей» и «фальшивой монетой», а его деяния — «шайтан-
скими». Асгар обвиняет Байазида в несоблюдении ритуала омовения, а в
заключительном бейте бросает такую фразу: «Ей-богу, чем ты (Байазид. —
М. П.) занимался по утрам, когда сделал своими муридами девушек?» 19
Метрика стиха, похоже, ориентирована на классический 16-сложник, но
единый размер не соблюдается. Подобными формальными признаками
обладает большинство стихотворных текстов ранней афганской
богословской поэзии. Взятые в целом, они отражают многоступенчатый процесс
перехода от саджевой прозы к классическому паштунскому стиху со
строго упорядоченной метрикой. Афганские филологи, пользуясь
определением С. Риштина, именуют такого рода тексты «полустихотворными» (nlm-
тащйт) (ссылку на Риштина см.: [Hewadmal 1987: 101]).
В некоторых рукописях «Махзан ал-ислам» сохранилось любопытное
замечание 'Абд ал-Карима, сына и соавтора Дарвезы, о несовершенстве
собственных стихов, что необоснованно оправдывается отсутствием
каких-либо норм в афганском стихосложении: «Знай, дорогой [слушатель],
что в афганских стихах их сочинители не прилагают достаточно усердия
в красноречии, не соблюдают согласованности в рифме (muwafaqat dar
qqfiyya) и равенства строк по [числу] букв (т. е. слогов. — М Я.) и слов
(tatblq-i misra'Tn dar huruf wa kalamai). И именно потому, как [тебе это]
видно, сей ничтожный не заботился о [качестве] поэзии, и старания его были
лишь до той степени, чтобы слова стали более или менее благозвучны
(mawziin), а слушатель получил удовольствие и по размышлении усвоил
самое важное в вере» [М12: 2516—252а].
Слова 'Абд ал-Карима можно отнести почти ко всей паштунской
богословской поэзии первой половины—середины XVII в. Афганские
богословы свою главную задачу, естественно, видели в проповеди устоев ислама.
Более действенными и запоминающимися эти проповеди были в том
случае, если их тексты имели ритмизованную форму, приближенную к
поэтической. Образцом такого рода проповеднических текстов был еретический,
по мнению ханафитских богословов, «Хайр ал-байан» Байазида Ансари,
получивший во второй половине XVI в. широкое распространение среди
паштунов не в последнюю очередь благодаря своей саджевой форме.
«Махзан ал-ислам», написанный в противовес трактату Светлого Учителя,
стал примером для последующих богословских сочинений
просветительского характера. Те авторы-богословы, которые обнаружили в себе поэти-
18 Прозвище Темный (вместо Светлый) Байазиду дал после очередного бесплодного
диспута с ним мулла Занги Папини, один из первых духовных наставников Ахунда
Дарвезы [Tazkirat: 136а].
19 Полный русский перевод этого стихотворения приведен в книге А. Маннанова
[Маннанов 1994: 130—131].
30 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
ческие способности, обратились к писанию религиозно-дидактических
стихов, опять же учитывая опыт рошанитской литературы. Однако
художественная составляющая их творчества, подчиняясь идейным целям,
по-прежнему оставалась на втором плане, и это сказывалось на качестве
произведений. Не случайно в подавляющем большинстве рукописей стихотворные
и «полустихотворные» тексты религиозно-дидактической литературы
внешне оформлены как прозаические, а не поэтические: бейты и мисра'
пишутся в одну строку без традиционной разбивки на столбцы, хотя при этом
границы каждой мисра' обозначаются (по аналогии с айатами Корана).
Поскольку в то время, когда создавались первые произведения
богословской литературы, в паштунской письменности уже существовала
сложившаяся поэтическая традиция, представленная главным образом
стихами рошанитских авторов, и в дальнейшем эта традиция оказала сильное
влияние на форму и эстетику поэзии богословов, подлинно
стихотворными текстами в религиозно-дидактической литературе первой половины
XVII в. следует считать именно те, что своими формальными признакам,
прежде всего в отношении строфики и метрики, приближались к стихам
рошанитских авторов.
Надо заметить, что современники религиозных поэтов XVII в. тоже
считали мерилом качества стихотворных текстов их соответствие уже
устоявшимся правилам паштунского стихосложения. Так, Хушхал-хан
неоднократно высказывавший критические замечания по поводу «Махзан ад-ислам»,
формальную сторону этого сочинения оценивал исключительно по
критериям классической поэтики: «Когда мне попался на глаза весь целиком
„Махзан" Ахунда, я не обнаружил в нем никакого стихотворного размера»
[XXX: 623], «Если одна строка (misra') [в нем] — в двадцать [слогов],
другая — в сто; [и каждая] для чтения неудобна и неблагозвучна (namawzuna).
В рифме он (Дарвеза. — М. П.) столкнул друг с другом буквы „лам" и „дал",
в редифе нанизал [на одну нить] „нун" и „вав"20» [SN: 43].
Стихотворные дополнения и приложения к нМахзаналжлам»
«Махзан ал-ислам» — сборник переводных и оригинальных трудов по
схоластическому богословию и ритуальным аспектам фикха— сыграл
существенную роль в укреплении основ ислама среди афганских племен
Восточного Паштунистана. Долгая популярность и широкое
распространение этого произведения21 подтверждается большим числом его
рукописных экземпляров, существенно различающихся по составу и
расположению материала. По числу сохранившихся рукописей «Махзан» превосходит
все прочие паштоязычные сочинения XVI—XVIII в. Из опубликованных
каталогов известно приблизительно о шестидесяти рукописях «Махзана»,
но, несомненно, их число должно быть намного больше, поскольку на дан-
20 То есть использовал неточные рифмы с разными согласными звуками.
21 В качестве учебного пособия «Махзан» и поныне используется в афганских
религиозных школах [Hewadmal 1984]: 227].
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 31
ный момент мы не имеем полных сведений о коллекциях паштунских
манускриптов Афганистана и Пакистана.
Колофоны некоторых рукописей «Махзаиа» сообщают о том, что
сочинение прошло три редакции [Кушев 1980: 46]. В 1605 г. появился первый
вариант «Махзана», включавший только произведения Ахунда Дарвезы,
названные байанами (bayari). Два первых байаиа (из восьми) являются
переложениями на пашто арабских религиозных касыд— «Бад' ал-ама-
ли» Сирадж ад-дина 'Али б. 'Усмана ал-Авши ал-Фаргани (ум. 1179/80) и
«Касидат ал-бурда» Мухаммада Абу 'Абдаллаха б. Са'ида ал-Бусири
(ум. 1294/95). Оба переложения выполнены садж'ем и вряд ли могут
считаться собственно поэтическими переводами [М1|: 2—31].
Вполне доказано, что полноправным соавтором Дарвезы в написании
всех его сочинений был его сын 'Абд ал-Карим (ум. 1661/62) [Кушев 1980:
40—43]. Поскольку 'Абд ал-Карим занимался литературным оформлением
трудов Дарвезы — записывал и редактировал их, есть все основания
полагать, что именно он придал байанам «Махзана» саджевую, или
«полустихотворную» форму.
Поэтические способности 'Абд ал-Карима еще заметнее раскрылись во
второй редакции «Махзана», осуществленной им в начале 1615 г. К восьми
байанам Дарвезы 'Абд ал-Карим добавил ряд собственных сочинений, в
том числе стихотворных. Хотя эти добавления не составляют
самостоятельное, отдельное от «Махзан ал-ислам» произведение, существует
несколько рукописей, содержащих только их тексты. Интересно, что самая
ранняя по времени рукопись «Махзана» (1649), одновременно являющаяся
старейшей паштунской рукописью из известных ныне, тоже содержит только
добавления 'Абд ал-Карима (mulhaqat-i 'Abd al-Karim) [Hewadmal 1984|Г
34—36]. В ее колофоне указана точная дата завершения работы над второй
редакцией «Махзана» — 21 мухаррама 1059 г. х. [22 февраля 1615 г.].
Последняя, третья редакция увидела свет 12 мухаррама 1112 г. х. [29
июня 1700 г.]. Ее автором был внук 'Абд ал-Карима Мустафа Мухаммад.
Некоторые рукописи сохранили разъяснение Мустафы по поводу его
участия в работе над «собиранием и составлением» (jam* wa tartib) книги
[MI,: 215—216; MI2: 228a—229a]. Помимо своих собственных нескольких
стихотворных дополнений, Мустафа включил в «Махзан»
«проповеднические и назидательные речи, которые дошли от предков, но не были [ранее]
включены в книгу по причине отсутствия удобного случая или иных
препятствий», а также славословия «друзей и учеников» в адрес авторов.
Имена этих предков, друзей и учеников Мустафа не называет, однако в
известных мне полных версиях последней редакции «Махзана» основной
корпус сочинения кроме отмеченных выше частей включает еще только
дополнения Мухаммада 'Абд ал-Халима, внука Дарвезы22, и некоего Мир-
хана 23, ученика 'Абд ал-Карима24. Кроме того, многие рукописи «Махза-
22 Отцом 'Абд ал-Халима был второй сын Дарвезы — 'Абдаллах.
23 Под таким же именем известен автор касыды со славословием столпам ислама;
это стихотворение приложено к дивану Давлата Лоханая (см. разд. 1).
24 По словам 3. Хевадмала, в основной корпус книги входят также стихотворные
дополнения 'Абд ас-Салама, отцом которого был третий сын Дарвезы — Пайанда
Мухаммад [Hewadmal 1984it 227].
32 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
на» содержат сходные по составу приложения в виде отдельных стихов
различных авторов. Судя по всему, некоторые из этих поэтов
принадлежали к семье Дарвезы или были последователями и учениками его потомков.
Первые публикации отрывков из «Махзан ал-ислам» появились в
афганских хрестоматиях Б. Дорна и X. Дж. Раверти [Dorn 1847: 24—78;
Raverty 18602: 135—150]. В силу определенной аморфности сочинения и
больших расхождений по рукописям его критический (условно) текст,
изданный в Пешаваре в 1969 г. [MIJ, оказался лишен ряда существенных
дополнений и приложений. Цельное представление о составе сочинения
по-прежнему дают его рукописи, среди которых полнотой текста
выделяются те, что, видимо, восходят к редакции Мустафы Мухаммада (см.:
[Mackenzie 1965,: 1—9, 22—23; Кушев 1976: 83—92; Hewadmal 1984,: 39—40;
Pelevin 1994: 343])25.
К сожалению, об авторах стихотворных дополнений и приложений к
«Махзану» мы не располагаем почти никакими биографическими и иными
сведениями. Сохранившиеся произведения этих авторов в силу своего
отвлеченного религиозного характера и малого объема подобных сведений
не содержат. Так, об 'Абд ал-Кариме (тахамус — Каримдад или Карим),
наиболее значительной фигуре из богословских поэтов первой половины
XVII в., известно лишь, что после своего отца он стал главным
авторитетом суннитского богословия в Северо-Восточном Паштунистане среди
юсуфзайских кланов Свата, Бунера и Баджаура, а в 1072 г. х. [1661/62]
умер, видимо, насильственной смертью от рук «неверных» (kafiran) ([Asar
1963: 3—14; TaqwTm al-Haqq 1969: LXXI—LXXVIII; Siraj ad-din 1987: 20;
Hewadmal 2000: 112—113] и др.).
В некоторых полных рукописях «Махзана» имеется текст посвященной
'Абд ал-Кариму поминальной речи, принадлежащей его ученику Мир-хану
[М12: 224а—228а]26. Автор речи пространно рассуждает на тему
мученической гибели за веру (sahadai). Восхваляя 'Абд ал-Карима именно как
шахида, Мир-хан вскользь касается обстоятельств его смерти: «В твоем
сердце была одна цель, и поэтому ты отправился в горы (kiihistan). Эту
цель принял Бог, и ты ушел из мира, окрасившись кровью мученичества
(sahidi). Каримдад был светильником веры, но простые люди ('am 'alani) о
том не ведали. Подул ветер смерти, и светильник погас. Теперь его местом
стала сырая земля <...> Заблудшие и неверные радуются его смерти. Хвала
тому, кто умер как шахид. Клинками и копьями неверных они были
изрезаны, истерзаны в Тирате (TYRAT) <...> Отряд (tplay) Каримдада взялся за
оружие и отправился на войну за веру (gazawat), желая мученичества. Как
жаль, что нас не было [с ними] в тот миг, когда неверные обрушили на
людей имама (т. е. 'Абд ал-Карима. — М П.) горы камней27, чтобы и мы
25 Следует отметить, что несколько таких рукописей, в том числе и петербургская
В 2483, принадлежат одному каллиграфу — Фазил Мухаммаду, сыну * Абд ал-Гани Ка-
сая (составителя сборника «Байанат-и афгани»), из Мултана. Датированные списки
относятся к 1751, 1752/53, 1753/54 и 1765/66 гг.
26 3. Хевадмал воспринимает текст этой речи как поэтический [Hewadmal 2000: 116].
27 Обычный способ обороны в горах. Подобным образом в апреле 1672 г. афганцы
остановили продвижение могольского войска в Хайбере (отклик Хушхал-хана на эти
события см.: [Пелевин 2001: 86]).
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 33
отдали за имама свои жизни. С большим стремлением к вере они покинули
бренную обитель...» В последующих словах автора содержится угроза в
адрес тех паштунов, которые не поддаются исламским проповедям на их
родном языке. Таким образом, из сообщения Мир-хана следует, что 'Абд
ал-Карим погиб во время одной из экспедиций в высокогорные районы
Восточного Гиндукуша с целью обращения в ислам местного населения,
возможно паштунского.
К фактам из жизни 'Абд ал-Карима можно добавить еще, во-первых,
его принадлежность в какое-то время к умеренному суфийскому братству
чиштиййа, наиболее распространенному в Индии и имевшему
полуофициальный статус в могольскую эпоху. В одном стихотворении он заявляет,
что у него нет никаких беспокойств, ибо его охраной (badraqa) являются
приверженцы чиштиййи [MIp 166], а в другом прямо признает: «Карим-
дад— мурид чиштийцев» [М^: 170]. В нескольких бейтах 'Абд ал-Карим
упоминает имена Ахунда Дарвезы и 'Али Тирмизи28, своих
предшественников по линии духовного преемства. Отца он славословит как
вдохновителя своих литературных занятий, а 'Али Тирмизи — как истинно
познавшего божественную мудрость [М1|: 158, 162].
Другой факт, извлекаемый из его стихов и, возможно, непосредственно
связанный с первым, — это посещение Индии. 'Абд ал-Карим упоминает
несколько индийских топонимов, среди которых Аджмер, один из центров
чиштиййи29, Агра, Ганг. «Ароматными деревьями Аджмера» он называет
учеников чиштийского братства [Ml,: 175]. Священный для индусов Ганг,
естественно, имеет у 'Абд ал-Карима отрицательную коннотацию.
Обращаясь к идейным соратникам, он призывает искать «киблу Истины»
подальше от Ганга, который окружен толпами неверных [MIj: 176]. Бейты,
где упоминается Агра, содержат поношение индусов и прямое указание на
местопребывание автора:
Мирское — это [удел] индусов; откажись от того, // Что
высматривают индусы!
Многие люди в Индии — животные, // Не смешивайся с
четвероногими!
28 Шейх Саййид 'Али Тирмизи (1502/03—1583), происходивший из семьи Саййида
Канбар 'Али, приближенного ко двору Хумайуна (ум. 1556), после обучения
нормативному богословию и приобщения к четырем суфийским школам Индии (кубравиййа,
чиштиййа, шаттариййа, сухравардиййа) избрал путь духовного проповедника,
который привел его в Северо-Восточный Паштунистан. Тирмизи поселился в Бунере и
благодаря своему авторитету довольно быстро породнился с афганцами, женившись на
сестре вождя одного из юсуфзайских кланов. В начале 50-х гг. его учеником, а затем и
духовным преемником становится Ахунд Дарвеза, предки которого, как и Тирмизи, были
в клиентских отношениях с юсуфзаями [TaqwTm al-Haqq 1969: IX—XVI, XXVI—XXVIII]
(о происхождении Дарвезы см.: [TaqwTm al-Haqq 1969: II—IX; Кушев 1980: 38—40; Ку-
шев 1997]).
29 В Аджмере находится гробница основателя чиштийской общины в Индии Му'ин
ад-дина Чишти (ум. 1263). Ко времени правления Великих Моголов чиштийская
обитель Аджмера, организованная Му'ин ад-дином, превратилась в обширный культовый
комплекс с мавзолеем, мечетью и медресе [Rizvi 1978: 125—127].
34 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Каримдад, когда произносил эти слова, // Был среди животных в
Агре.
[Ml,: 165]
Поэтические дополнения 'Абд ал-Карима к «Махзан ад-ислам»
включают алиф-нама \Щ\\ 151—179], цикл четверостиший с толкованием
арабского текста намаза [М12: 16—66], один мухаммас [М12: 59а—606] и около
двух десятков стихотворных и «полустихотворных» отрывков, имеющих
монорифмическую основу [Ml,: 180—196; М12: 1796, 180а, 2146—215а].
Общее число бейтов составляет приблизительно 900.
В рукописных версиях азбуки, несомненно, являющейся главным
поэтическим произведением 'Абд ал-Карима (ок. 500 бейтов), наблюдаются
существенные текстуальные расхождения. Девять стихотворений (на
буквы ', g,/, q, к, /, я, Л, у) имеют по два варианта. Некоторые рукописи, в
частности петербургская В 2483, содержат вариантные стихотворения в
качестве дополнений к основному тексту алиф-нама. В четырех
стихотворениях, в том числе трех вариантных (/, Л, у), тахаллусом является «Факир»
(Faqir), а не «Каримдад» (Karimdad), поэтому их атрибуция 'Абд ал-Кари-
му представляется спорной30.
Стихотворение на la от 'Абд ал-Карима, очевидно, вообще не
сохранилось (может быть, не было написано им), и в рукописях его место занимает
либо газель Мустафы Мухаммада, либо «полустихотворный» текст с
тахаллусом «Факир». Мустафа Мухаммад, последний редактор «Махзана»,
предпослал своим добавлениям к книге небольшое вступление, где он
сообщил, что в азбуке (bayan-i huriifat-i tahajjT) 'Абд ал-Карима он не
обнаружил стихотворения на буквы q, /, Л, la, у и восполнил этот пробел
стихами собственного сочинения [М^: 215—216]. Однако из пяти
стихотворений, не известных Мустафе в 1700 г., четыре встречаются во многих
рукописях XVIII в.
Свидетельство Мустафы Мухаммада, внука 'Абд ал-Карима, дает
некоторые основания не столько для того, чтобы поставить под сомнение
авторство его деда в отношении имеющихся стихотворений на q, /, Л, у,
сколько для подтверждения вывода о том, что расхождения в составе
алиф-нама были следствием отсутствия ее авторской редакции. Возможно,
сам 'Абд ал-Карим не успел отобрать из подготовленного им материала то,
что должно было войти в окончательный вариант азбуки, и эту работу по
своему усмотрению завершили последующие поколения переписчиков и
составителей «Махзана». Замечу, что в издании сочинения 1969 г. тексты
двух стихотворений 'Абд ал-Карима повторяются дважды: вначале как
части алиф-нама, затем как отдельные поэтические фрагменты [М1{: 176—
177 и 180—181, 178 и 184—185]. Этот незамеченный повтор является
прямым следствием текстуальных расхождений в рукописных версиях
«Махзана». Многие вопросы кодикологического характера, связанные с алиф-
30 Эти произведения выделяются среди прочих и формой, которая больше тяготеет к
садж'у, и содержанием, затрагивающим самые общие основы мусульманской веры и не
касающимся сложных вопросов религиозной и мистической философии.
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 35
нама, возможно, разрешились бы после опубликования или подробного
описания самого раннего списка «Махзана» (1649), если, конечно, верна его
датировка.
Стихотворное толкование арабских фраз намаза, названное Таквим
ал-Хакком «уроком молитвы» (do nmanjo sabaq), состоит из 52
четверостиший и в наиболее полных рукописях «Махзаи ал-ислам», как правило,
является началом книги. Прочие поэтические фрагменты 'Абд ал-Карима
не имеют в рукописях ни упорядоченного расположения, ни более или
менее определенного состава. Кроме мухаммаса (12 строф) по формальным
признакам среди них выделяются комментированные переложения двух
персидских руба'и, одно из которых принадлежит Са'ди [MIp 183—184;
М12: 180а], загадка-аллегория на знание суфийской терминологии [MIi: 182]
и стихи с заглавием «Описание Пути» (dar bayan-i suluk) [MIj: 181—182].
В некоторых рукописях «Махзана» имеется написанный садж'ем ответ
на загадку 'Абд ал-Карима [MIi: 183]. Судя по тахаллусу, его автором
является некий 'Умар-хан31. В петербургской рукописи В 2483 в
приложениях к «Махзаиу» есть один близкий по стилю саджевый отрывок, видимо,
принадлежащий тому же автору [М12: 261аб]. В этом отрывке
изображаются тяготы замогильного существования неверующих и грешников. С
большой долей уверенности можно полагать, что мулла 'Умар Шалмани, один
из учеников Дарвезы [Hewadmal 2000: 115—116], и автор двух
вышеупомянутых саджевых текстов из приложений к «Махзану» — одно лицо.
Из литературного круга, сложившегося вокруг «Махзан ал-ислам», к
поэтам середины XVII в. можно отнести еще 'Абд ал-Халима и 'Абд ас-Салама,
племянников и младших современников 'Абд ал-Карима, а также Ахунда
Ахмада. В издании «Махзана» представлено семь образчиков творчества
'Абд ал-Халима [Mlf. 150—151, 197—210], из которых только четыре
являются собственно поэзией, поскольку они написаны с точным
соблюдением размера и отвечают нормам классической строфики. Это —
короткая алиф-нама в форме газели, два отрывка для большой азбуки (на буквы
s и ') и перевод газели Са'ди. Форма трех других фрагментов, из которых
один озаглавлен «Состояние тела и духа» (ahwal-i kalbut wa arwah),
варьируется от поэтической до саджевой32. Приблизительный объем этих
произведений 'Абд ал-Халима— 145 бейтов.
Стоит добавить, что в одном стихе 'Абд ал-Халим обращается к 'Абд
ал-Кариму со словами: «Прошу тебя, Каримдад, не забывай обо мне!» [Ml,:
199]. Хотя контекст не содержит никаких намеков на обстоятельства
произнесения этой фразы, она, возможно, показывает, что духовное общение
дяди и его племянника сопровождалось также творческими контактами.
31 'Умар-хан добавляет к своему имени эпитет «факир», что позволяет предположить
его авторство в отношении четырех стихотворений азбуки 'Абд ал-Карима, содержащих
соответствующий тахаллус.
32 В берлинской рукописи «Махзана» Ms. Or. Fol. 4101 есть раздел, состоящий из
пяти вопросов 'Абд ал-Халима и ответов на них 'Абд ал-Карима (1636—1656). Тексты
второго и третьего вопросов полностью соответствуют двум первым
«полустихотворным» фрагментам 'Абд ал-Халима в издании.
36 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
^.__а^ *-_-_-_— _^_
Ч* J* ,v
Рис. З. Фрагмент рукописи «Махзан ал-ислам» (В 2483); л. 2236;
из дополнений 4Абд ал-Халима
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 37
В доступных мне источниках произведения 'Абд ас-Салама
отсутствуют, а из стихотворных опытов Ахунда Ахмада имеется только одно
стихотворение (28 бейтов), написанное довольно редким 10-сложным размером.
В стихотворении подробно описываются райские девы и нестареющие
«тридцатилетние юноши», ожидающие праведников в загробной жизни
[М12: 2626—2646]. 3. Хевадмал сообщает, что Ахунд Ахмад является также
автором нескольких обработок религиозных преданий («Шама'ил-нама»,
«Вафат-нама» и др.), но не указывает источник этих сведений [Hewadmal
2000: 116—117].
Другие стихотворные дополнения и приложения к «Махзану»,
принадлежащие Мустафе Мухаммаду, Рахимдаду, Шер Мухаммаду, Джан
Мухаммаду, Саййиду Хусайну и др. (см., например: [М12: 2556—262а]), были
написаны в конце XVII—начале XVIII в., т. е. в более поздний период
истории паштунской письменности, поэтому они не относятся к предмету
настоящего исследования.
Поэтические опыты Мир Хусайна и Бабу Дюна
Среди богословских сочинений на пашто, появившихся после «Махза-
иа» и аналогичных ему по содержанию, форме и стилю, в число наиболее
ранних входит компилятивный труд Мир Хусайна Харави «Нафи* ал-мус-
лимин». В заключительных строках этого произведения автор сообщает,
что он закончил его, «когда от хиджры прошло 1070 лет», т. е. в 1659/60 г.
или позднее [NM: 656]. Произведение пока не издавалось. В настоящее
время известны три его рукописи: две хранятся в Кабуле (Национальный
архив и библиотека Академии наук), третья — в СПбФ ИВ РАН [Beaurecu-
eil 1964: 266; Hewadmal 1987: 92—103; Кушев 1976: 93—96].
Оригинальное название произведения, видимо, приводится в его предисловии,
полный текст которого имеется только в рукописи библиотеки Академии наук
Афганистана. В петербургском списке начало отсутствует, и в «Описании»
В. В. Кушева произведение значится как «Толкование (sarh) Ахунда
Хусайна».
В «Нафи* ал-муслимин» автор везде именует себя только Хусайном,
используя это имя и в качестве тахаллуса. В таком же виде его имя
упоминается большинством исследователей литературы пашто, начиная с 'А. Бена-
ва [Benawa 1952: 404]. Полную форму имени— Мир Хусайн Харави —
впервые привел 3. Хевадмал, очевидно, основываясь на предисловии к «На-
фи1 ал-муслимин» из рукописи афганской Академии наук [Hewadmal 1987:
92]. Никакими биографическими сведениями об авторе мы не располагаем,
поэтому неясно, какое отношение он мог иметь к Герату (если его иисба
Харави (Harawl), действительно, подлинная33).
«Нафи1 ал-муслимин» состоит главным образом из переводов и
пересказов отдельных глав из популярных арабских и персидских трудов по тео-
В каталоге С. де Борекоя его имя дано в виде Хусайн Ханафи (HanafT).
38 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
логии, теософии и ханафитскому фикху, таких как «Хуласат ал-ислам» Ис-
ма'ила ибн Лутфаллаха Бахарзи (XVI в.), «Мухтасар ал-викайат» 'Убайдал-
лаха ибн Мас'уда (ум. 1346/47), «Канз ад-дака'ш» Абу-л-Бараката ан-На-
сафи (ум. 1310), «Кимйа-йи са'адат» Абу Хамида ал-Газали (ум. 1111) и
др. Длинный перечень своих источников Хусайн приводит в предисловии,
а также постоянно ссылается на них в процессе изложения.
В книге Хусайна, которая, как и «Махзан» Дарвезы, почти полностью
написана рифмованной прозой, заметно выделяются два последних
раздела, заключающие в себе две алиф-нама [NM: 466—57а, 57а—656]34. Обе
азбуки, учитывая их формальные и стилистические особенности, можно
считать поэтическими произведениями, хотя в них далеко не всегда
соблюдаются нормы классического афганского стихосложения, причем в
области не только метрики, но и строфики. Как и авторы поэтических
дополнений к «Махзану», Хусайн, во-первых, постоянно нарушает принцип
равного числа слогов в строках одного стихотворения: 8-, 12-, 16-сложные
строки свободно сочетаются друг с другом, а также и с такими, где размер
не соблюдается вовсе. Во-вторых, строфа (бейт) нередко разбивается не на
две строки (мисра'% как того требуют правила строфики, а на три и даже
большее количество строк, которые тоже могут различаться по размеру.
Учитывая вышесказанное, трудно принять мнение 3. Хевадмала о том, что
азбуки написаны в рамках классических жанровых форм: первая— «по
схеме газелей, газелеподобных (gazaldawla) стихов и фрагментов (qit'at)»,
вторая — «по схеме мурабба'» [Hewadmal 2000: 117].
По формальным признакам обе азбуки Мир Хусайна имеют очевидное
сходство с азбукой 'Абд ал-Карима. Каждая алиф-нама состоит из 29 мо-
норифмических стихотворений (по числу трактуемых букв). В первой,
большей по величине азбуке количество строф (условных бейтов) в
стихотворениях колеблется от 13 до 27 (всего около 540 строф), во второй — от
11 до 22 (всего около 430). Первые строфы всех стихотворений
уподоблены матла' газелей и касыд: в них обязательно присутствует парная
рифмовка. Видимо, этот факт позволил 3. Хевадмалу назвать произведения
Хусайна «газелеподобными» стихами.
Что касается утверждения 3. Хевадмала о том, что вторая алиф-нама
написана в форме четверостиший-мурабба', то от^ на мо^ ВЗГЛЯд,
является принципиально ошибочным. Это утверждение основано на внешнем
сходстве многих строф первого стихотворения азбуки со строфами мурабба'.
В последующих стихотворениях тоже встречаются случаи такого сходства,
но очень нерегулярно, что не позволяет видеть структуру мурабба' во всем
произведении в целом. Дело в том, что в афганской поэзии строфа четве-
ростшия-мурабба', написанного 8-сложником, аналогична двустишию
(бейту), написанному 16-сложником и имеющему внутреннюю рифму. Пример
у Хусайна:
34 В петербургской рукописи нарушена пагинация (не пронумерован один лист в
первой алиф-нама), поэтому в «Описании» В. В. Кушева указано, что текст второй
азбуки расположен на л. 56а-~64б.
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления
39
Г ; ■■;■;■■;■■■■; ^ ; ; : ; да: Г 1
£y\r$W^ - —•-% Jur^T» ^^J-J"*
Рис. 4. Фрагмент рукописи «Нафи' ал-муслимин» (В 2446); л. 466;
начало первой азбуки
40 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
rahn(a)mayi warn 1э ta da / jma urriid takya рэ ta da
сэ takya рэ ta wu-na-kn / hama car-ye swa tabaha.
[NM: 57a]
Полагаю, начав писать азбуку, Мир Хусайн ориентировался именно на
16-сложник с внутренней рифмой, а не на 8-сложное четверостишие-
мурабба', но уже во втором стихотворении (на Ь) отказался от этой
непростой задачи: здесь только первая строфа приближена к 16-сложнику и
может быть воспринята как мурабба' (схема рифмовки— ААВС), а все
последующие строфы распадаются на две, реже три строки, написанные 8-
или 12-сложниками (часто с отступлением от размера), и не имеют
внутренней рифмы, т. е. по виду соответствуют основной массе стихов автора.
Добавлю, что строфика первого стихотворения выявляет в его тексте
явные лакуны. Так, 7-я и 8-я строфы не имеют общей рифмы (на -aha) и
каждая состоит только из двух полустиший. Строфы 5, И, 12 и 14
включают по три полустишия. Надо думать, подобные пропуски имеются и в
других частях обеих азбук Хусайна, где они не могут быть точно
определены из-за расплывчатости формы его стихов. Без сопоставления
существующих рукописей «Нафи( ал-муслимин» нельзя сказать, являются ли эти
пропуски результатом невнимательности переписчика или следствием
недоработки автора.
Обе азбуки Хусайна не содержат почти никаких фактических сведений.
В заключительных строфах, где всегда присутствует тахаллус «Хусайн»,
автор неоднократно подчеркивает свою приверженность вере Мухаммада,
а однажды уточняет, что по мазхабу он— ханафит [NM: 596]. Последнее
обстоятельство, впрочем, явствует уже из перечня использованных им
трудов по фикху.
Пожалуй, единственный существенный факт, извлекаемый из стихов
Мир Хусайна, — это принадлежность автора к суфийскому братству кади-
риййа. Хусайн недвусмысленно говорит о том в одной из строк: «Сей
ничтожный (faqir) — из цепи Кадири (silsila do qadiri)» [NM: 63a]. Кроме
того, в другой строке Хусайн адресует себе такое пожелание: «Пусть
пребудет с тобой охрана (badraqa) шейха 'Абд ал-Кадира» [NM: 54а]. Явно
автор имеет в виду либо самого основателя братства 'Абд ал-Кадира Гила-
ни (ум. 1166), либо его прямого потомка 'Абд ал-Кадира Второго (sarii)
(ум. 1533), лидера кадиритской общины в Учче (ок. Мултана). Если
братство чиштиййа, к которому принадлежал 'Абд ал-Карим, было не только
самым распространенным в могольской Индии, но и пользовалось
полуофициальным признанием властей (императоры Акбар, Джахангир, Шахджа-
хан делали чиштийской общине существенные финансовые
пожертвования), то кадириййа была менее популярна и влиятельна, хотя в число ее
приверженцев входил, например, знаменитый могольский принц Дара Ши-
кох (ум. 1659), талантливый литератор и переводчик на фарси Упанишад
(об истории этих братств в могольскую эпоху см.: [Rizvi 1983: 54—149,
264—318]).
Мир Хусайна обычно считают идейным и литературным
последователем Ахунда Дарвезы, однако каким именно образом он был связан с кру-
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 41
гом Дарвезы и его потомками, неизвестно. Однажды у Хусайна встречается
фраза о том, что «истинный мурид шейха 'Али» ищет постижения смысла
формулы веры35 [NM: 51а]. Если под «шейхом 'Али» имеется в виду 'Али
Тирмизи, духовный учитель Ахунда Дарвезы, то, надо полагать, Хусайн
действительно имел какое-то отношение к кругу паштунских богословов
Северо-Восточного Паштунистана. Стихотворные азбуки Мир Хусайна не
только с формальной, но и с идейной стороны близки алиф-иама 'Абд
ал-Карима, хотя авторы были приверженцами разных суфийских школ.
К числу ханафитских теологов, последователей Дарвезы, афганские
ученые обычно относят и Бабу Джана Лагмани, о котором известно так же
мало, как и о Мир Хусайне. По сведениям X. Дж. Раверти, Бабу Джан был
выходцем из автохтонного немусульманского населения Западного
Нуристана (отсюда его иисба «Лагманский»). Якобы вывезенный в качестве
военного пленника в Пешавар и обращенный в ислам, он в силу своих
природных способностей добился больших успехов в богословской науке и к
концу жизни стал одним из наиболее уважаемых духовных проповедников
среди юсуфзаев, которые и ныне почитают его могилу [Raverty I86O1: 33].
Эти сведения, впоследствии неоднократно повторявшиеся
исследователями афганской письменности, ничем не могут быть ни подтверждены, ни
опровергнуты, однако 3. Хевадмал без каких-либо серьезных оснований
считает их вымыслом и склоняется к мнению о том, что Бабу Джан по
происхождению был юсуфзаем. Этот факт, на его взгляд, косвенно
подтверждается таким высказыванием Бабу Джана: «Среди афганцев юсуфзаи —
[истинные] приверженцы шари'ата (sari'atT), они щедрые и делают
пожертвования (xayrat)» [Hewadmal 1984,: 232—233] (в доступных мне
текстах Бабу Джана эта строка отсутствует).
Среди произведений Бабу Джана в некоторых рукописях имеются
стихи с восхвалением могольского императора Аурангзеба (правил 1658—
1707) и элегия на смерть 'Абд ал-Карима (ум. 1661/62) [Hewadmal 1984,:
55; Hewadmal 2000: 117] (в доступной мне рукописи эти тексты
отсутствуют), поэтому можно полагать, что творческая деятельность Бабу Джана
протекала главным образом во второй половине XVII в. Я рассматриваю
его в ряду авторов более раннего времени, поскольку, с точки зрения
формальных особенностей и общих идейно-художественных принципов, его
произведения являются прямым продолжением традиций «Махзаиа»
Дарвезы. Цитированное выше замечание 'Абд ал-Карима относительно
качества и функциональной направленности стихотворных текстов «Махзаиа»
вполне может быть отнесено и к поэтическим опытам Бабу Джана.
К сожалению, в произведениях Бабу Джана не нашли отражения какие-
либо биографические, исторические, этнографические и другие факты,
относящиеся к реалиям жизни его самого и его окружения. В начальных
бейтах одного стихотворения на тему бренности жизни Бабу Джан
обращается к себе с такими словами, которые указывают на его возраст, а также,
возможно, подтверждают версию о его позднем обращении в ислам:
35 Буквально автор говорит о стремлении к пониманию «отрицания» (nafi) и
«утверждения» (isbat\ т. е. о двух частях формулы веры — la ilah и ilia 'llah.
42
М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Когда тебе становится больше сорока лет,
Ни на миг не будь нерадивым в [изъявлении] покорности [Богу]...
Двадцать пять лет твоих прошли в невежестве,
Ты был нерадив в поклонении Господу.
Двадцать пять лет твоих прошли в опьянении (?),
Ты пил хмельную чашу молодости.
Осталось жизни тридцать лет,
А ты, лентяй, являешь немощь в поклонении.
[BJ: 14а]
Несколько стихотворений Бабу Джан посвятил рассуждениям о
значении наставлений (nasihat), но всюду он делает пессимистический вывод об
их бесполезности, поскольку они подобны «дождю над солончаком», и
говорит о преимуществе молчания, которое есть «червонное золото» [BJ:
196—20аб, 21аб, 23а]. Полагаю, что в подобных стихах классические
мотивы персидской дидактики, значимость которых увеличили
хрестоматийные сочинения Са'ди, могли иметь и реальную подоплеку. Бабу Джан вел
жизнь мусульманского проповедника в горах Северо-Восточного Пашту-
нистана среди племен и народов, не стремившихся к быстрому принятию
исламских этических норм и культа, поэтому его деятельность явно не
всегда была успешной. «Ты поел и плохого и сладкого, Бабу Джан», —
говорит он о себе в другом стихе [BJ: 256]. Свою аудиторию автор нередко
называет невежественной (jahil), как, например, в заключительной строке
повествования о пророке *Иса: «Бабу Джан рассказал эту историю
невежественным» [BJ: 107а].
В доступных мне текстах Бабу Джана собственно паштунские реалии
упоминаются только в одной строке: «Его (невежды. — М. П.)
беспокойные мысли (andesne) — афридии, а низшая душа (nafs) — Хайбер» [BJ:
21 б]36. Не исключено, что автор намекает на события моголо-афганской
войны 1672—1676 гг., начавшейся с захвата Хайберского прохода
отрядами афридиев, шинваров и сафи в апреле 1672 г. (см.: [Sarkar 1921: 228—
231; Сагое 1958: 233—235; Пелевин 2001: 85—87]). В этом случае Бабу
Джана можно заподозрить в промогольских настроениях, хотя вполне
допустимо, что его образное высказывание косвенно свидетельствует о
враждебных отношениях афридиев и юсуфзаев.
Перу Бабу Джана принадлежит сочинение, которое условно называется
«Книгой» или «Куллийатом». Какого-то более определенного названия у
этого сочинения, по-видимому, никогда не было; сам автор в кратком
заключении трижды говорит о нем просто как о книге (kitab) [BJ: ПОаб].
Сочинение пока не издавалось и подробно не изучалось, хотя отрывки из
него, а также общие сведения о его содержании и авторе публиковались
36 Любопытно, что близкий по смыслу образ встречается у Хушхал-хана: «Нутро
(nas) мое сродни афридию, совсем не заботится о вере; добрых позывов в нем мало, а о
дурном оно тоскует» [XXX: 233]. Сходные характеристики, которые дали афридиям
совершенно разные по происхождению, социальному статусу и идеологии авторы,
несомненно, подтверждают факт слабой приверженности этого паштунского племени
исламским законам и ритуалам в XVII в.
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 43
неоднократно, начиная с хрестоматий Дорна и Раверти [Dorn 1847: 374—
386; Raverty 18602: 117—132; Ristm 1954: 43; Кушев 1980: 57—62; Hewad-
mal 2000: 117] (о некоторых публикациях в афганских изданиях см.: [Hewad-
mal 1984b 234]).
Несмотря на то что имя Бабу Джана известно давно и он признается
важной фигурой в истории паштунской словесности XVII столетия, до сих
пор нет ни удовлетворительного описания структуры и состава его
сочинения, ни более или менее ясного представления о его форме. Мнение о
том, что «Книга Бабу Джана» написана рифмованной прозой {садок:1 ем)
[Кушев 1976: 59], так же не соответствует действительности, как и
полярное ему утверждение о стихотворной форме этого сочинения.
Проповеднические и религиозно-просветительские цели, которые ставил себе автор
сочинения, обусловили его стремление именно к версификации, поскольку
поэтические тексты в силу лучшего восприятия и запоминания оказывали
большее воздействие на малообразованную аудиторию. И действительно,
стихотворения составляют значительную часть «Книги Бабу Джана», а
тексты, написанные ритмизованной и рифмованной прозой, кажутся по
форме не столько осмысленным садок'ем, сколько недоработанными или
неудавшимися стихами. Однако встречающееся у афганских филологов
название сочинения «Диван Бабу Джана» [Hewadmal 1987: 27] нельзя
считать достаточно обоснованным, учитывая сложившиеся к середине XVII в.
традиции и нормы собственно паштунской письменной поэзии.
В опубликованных каталогах и описаниях рукописей есть сведения о
пяти списках «Книги Бабу Джана», хранящихся в библиотеках Кабула,
Лондона, Петербурга и Рампура [Beaurecueil 1964: 45; Mackenzie 1965i: 28—
29; Кушев 1976: 59—63; Hewadmal 1984!: 54—56]. Кроме того,
самостоятельное хождение в рукописях имеет арабская касыда «Сирийская
молитва» {du'a' suryani) в переводе Бабу Джана [Кушев 1976: 63—65]37.
Точную датировку содержат только две рукописи «Книги» — из India Office
(22 зу-л-ка'да 1174 г. х. [25 июня 1761 г.]) и библиотеки Ризы в Рампуре
(1179 г. х. [1765/66]). Три другие рукописи по палеографическим
признакам тоже относятся к XVIII в.
По мнению 3. Хевадмала, наиболее полный текст сочинения
представлен рампурской рукописью. Из ее краткого описания следует, что «Книга
Бабу Джана» состоит из двух частей {дафтаров\ дополненных разделом
стихотворных повестей, из которых 3. Хевадмалом упомянут лишь рассказ
о Йусуфе и Зулайхе.
В петербургской рукописи «Книги Бабу Джана» (С 1907) содержатся
только неполные тексты двух дафтаров (например, в них отсутствуют,
как уже говорилось, восхваление Аурангзеба, элегия на смерть 'Абд ал-Ка-
рима, а также перевод «Сирийской молитвы»). 3. Хевадмал, имевший воз-
37 В петербургской коллекции афганских рукописей этот стихотворный перевод в
одном случае входит в конволют с диванами 'Абд ар-Рахмана и Мирза-хана (С 1901,
л. 2636—270а), в другом соседствует с двумя небольшими трактатами — паштоязыч-
ным «Рисала-йи мирас» (о наследовании), принадлежащим Шамс ад-дину (XVIII в.), и
анонимным персидским «Факр-иама» (С 1902, л. 7а—96).
44 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
можность ознакомиться с этой рукописью, отрицает наличие в ней деления
на дафтары [Hewadmal 1987: 27—28], хотя на самом деле такое деление
есть, но дафтары здесь просто переставлены местами (1а—706, 706—
110а). В «Описании» В. В. Кушева имеется довольно подробный
полистный перечень тем и сюжетов, излагаемых в петербургском списке «Книги
Бабу Джана», но собственно состав сочинения не показан, поэтому я
считаю необходимым дать полный перечень составляющих «Книгу»
произведений.
Предварительно нужно отметить весьма невысокое качество
рукописного текста, который изобилует орфографическими ошибками в словах и
афганского, и арабского, и персидского происхождения, а также
пропусками букв, слов и целых строк. Хотя орфографические нормы в паштун-
ской письменности XVIII в. еще окончательно не сложились, переписчик
петербургской рукописи «Книги Бабу Джана» демонстрирует слишком
большую на общем фоне непоследовательность в передаче различных
афганских форм (глагольных, именных, предлогов, послелогов и т. д.).
Иногда возникает ощущение, что переписчик записывал некоторые тексты на
слух, причем не всегда понимая их смысл. Явно малопонятной ему была и
структура текста, в том числе стихотворного, поскольку разделитель строк
(мисра*) в виде четырех обведенных точек очень часто стоит не на
положенном ему месте, не говоря уже о том, что все стихи написаны в строку
без традиционного оформления столбцами бейтов. Любопытно, что
практически нечитаемое в рукописи заключение «Книги» [BJ: ПОаб] у 3. Хе-
вадмала дано с очень значительными отступлениями от его
действительной транслитерации [Hewadmal 1987: 28—29]. Возможно, это говорит о
том, что 3. Хевадмал, столкнувшись с проблемой понимания текста,
привел его по какой-то другой рукописи сочинения.
Структурной единицей «Книги Бабу Джана» является небольшой
тематический фрагмент (до сорока строк), формально ориентированный на мо-
норифмическое стихотворение. Немалое число фрагментов— это
непосредственно газели и касыды, в целом соответствующие требованиям
афганской письменной поэзии. «Полустихотворные» и саджевые отрывки,
как правило, строятся по той же схеме: строки каждого из них имеют
единую рифмовку, первая строка разбивается на две рифмующиеся части,
последняя обязательно содержит тахаллус38. Нередко в саджевых отрывках
начальные строки по форме полностью соответствуют стихам, иногда
наблюдается нерегулярное чередование ритмизованных (саджевых) и
собственно метрических строк, что в целом, вероятно, и породило
представление о «Книге Бабу Джана» как о диване стихов. Тем не менее в «Книге»
имеются фрагменты, написанные, судя по всему, нерифмованной и почти
неритмизованной прозой [BJ: 17а—18а, 666—67а].
38 В петербургской рукописи «Книги» начиная с л. 96а во всех фрагментах тахаллус
отсутствует, но почти везде для него оставлено место. Очевидно, в момент переписки
этих фрагментов у писца не было под рукой красной туши или киновари, которыми в
афганских рукописях по традиции вписывались тахаллусы, заголовки и иногда
начальные слова тематических разделов, и в дальнейшем это упущение не было исправлено.
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления
45
Ж j/^s j? *
Рис. 5. Фрагмент рукописи «Китаб-и БабуДжан» (С 1907); л. 706;
начало азбуки
46 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
В петербургской рукописи «Книги» содержится 176 фрагментов, из
которых 81 (ок. 1135 бейтов) я отношу к стихам и «полустихотворным»
текстам. Два стихотворных фрагмента по форме представляют собой цепочки
четверостиший-/т)>ба'м [BJ: 26—4а, 77а—78а]. В одном случае метрическая
неупорядоченность стихотворения позволяет различить в нем семь бейтов
газели, а среди них — три четверостишия [BJ: 71аб]. Полагаю, автор
намеревался придать всему отрывку форму четверостиший, но почему-то не
осуществил задуманное полностью39.
В сочинении явно просматривается стремление автора к циклизации
тематически однородных фрагментов. Иными словами, излагаемый
материал, как правило, располагается по тематическим разделам, хотя и не
оформленным в виде глав книги. Эта циклизация, конечно, особенно
заметна в тех случаях, когда рядом соседствуют фрагменты на темы
религиозной догматики или коранической мифологии. Там, где затрагиваются
классические темы религиозно-философской дидактики и
любовно-мистической лирики, циклизация менее очевидна.
Некоторые повествования о царях и пророках состоят из нескольких
фрагментов-частей: например, пять саджевых фрагментов составляют
рассказ об Искандаре [BJ: 30а—33а], а история об Адаме включает четыре
стихотворных фрагмента [BJ: 91а—926]. Самым большим по числу
составных частей является один из двух циклов рассказов о Сулаймане.
Интересно заметить, что он начинается со стихотворения, за которым следует
«полустихотворный» отрывок со значительными метрическими сбоями,
после чего рассказ продолжается четырьмя саджевыми текстами (всего шесть
фрагментов) [BJ: 946—99а]. Вероятно, Бабу Джан изначально хотел
изложить весь рассказ стихами, но в процессе сочинения отказался от этой
идеи или не смог реализовать ее.
Некоторые отрывки имеют заглавия, в которых по традиции паштун-
ской религиозно-дидактической литературы обязательно фигурирует термин
bay an ('изложение'): bayan-i tawhld [В J: 77a], dar bayan-i iman wafara'iz-i
islam [BJ: 78a], dar bayan-i faqiran [BJ: 276], qissa dar bayan-i Namrud-i la 'In
[BJ: 456], bayan-i Da'M falayhi salam [BJ: 936] и др. Ряду отрывков
предпосланы персидские бейты, в основном из Са'ди, иллюстрирующие
содержание последующего изложения на пашто. Например, из «Гулистана»:
zalim-i-ra xufta didam riim ruz... (гл. 1, рассказ 12) [BJ: 616]; gar gazand-at
rasad zi xalq maranj... (гл. 1, рассказ 24) [ВJ: 626]; Qarun halak sud ki cihil
xana ganjdast... (гл. 1, рассказ 18) [BJ: 676].
Излишне говорить о том, что автор сочинения особенно часто цитирует
арабские тексты Корана и хадисов, в объяснении которых собственно и
заключается смысл его религиозно-этических наставлений. Например, один из
фрагментов является толкованием айата «И Он тот, который создал
небеса и землю в шесть дней...» (wa huwa 'Hagxalaqa 's-samawati wa 4-'arzafi
sittati ayyamin) (11:9/7) [BJ: 59аб], а другой, посвященный теме щедрости
как обязательного качества для правителей, начинается с хадиса «Каждый
39 Как и два других фрагмента, состоящих из руба 'и, этот также посвящен
восхвалению Бога.
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления
47
из вас — проповедующий и каждый из вас — отвечающий за своих
подданных» (kullu-kum da'in wa kullu-kum mas*Шип 'an ra'iyyatihi) [BJ: 606—
61a]. Многие рассказы Бабу Джана о доисламских царях, пророках и
праведниках основаны на мифологических сюжетах Корана, часто автор
просто пересказывает на пашто соответствующие суры и айаты Священной
Книги. Безусловно, Бабу Джан пользовался при этом суннитскими
комментариями к Корану, а также и какими-то арабскими текстами,
относящимися к популярному жанру «сказаний о пророках» (qisas al-anbiya").
Дважды в рассказах на сюжеты коранической мифологии Бабу Джан
подчеркивает, что он «арабский рассказ изложил на пашто» ('arabi qissa pustu
kra) [BJ: 89a, 956].
Состав и структура петербургской рукописи «Книги Бабу Джана»:
садок1
Первый дафтар (второй в рукописях
из Рампура и India Office)
— восхваление Аллаха
— восхваление Мухаммада
— восхваление первых четырех
халифов
— о поклонении Богу и значении
молитв
— о смысле таухида
— о пяти установлениях ислама, их
правилах и условиях:
формула веры (kalima)
намаз (nmunj)
омовение (awdas) перед намазом
ритуальное очищение у женщин
пост (rozd)
паломничество (hajf)
налог (zakat)
— тринадцать условий истинной веры
— о правилах погребения
— о бренности земного существования
и неминуемости смерти
— о ценности четырех благ (жизни,
молодости, здоровья и хлеба насущного)
— о посмертном воздаянии за земные
дела и загробной участи человека
— приметы Судного Дня
— описание Ада
— о вреде злословия (gaybat) и
посмертном наказании за него
1аб,58б—59а,59аб
16—2а, 526—536
2аб
126—13а
4а, 4аб
106—Па
76—8а, 8аб, 86—9а
46—5а, 5аб
56—66, 66—7а, 7аб
86, 9а, 9аб
96—10а
Юаб
Паб
116—12а, 12аб
556—56а, 56аб, 57аб,
576—58а, 58аб, 65аб
146—15а
276—28а,
37а—38а
17а—18а, 18аб
28аб
26—4а, 156—16а
13а, 13аб, 15аб,
636, 64аб, 646—
65а
14аб, 216—22а,
22аб, 286—29а,
29а, 596—60а,
656—66а
186—19а, 19аб,
226—23а
166—17а
40 Сюда же мной отнесены и «полустихотворные» тексты, т. е. стихи со
значительными метрическими нарушениями.
48
М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
садж'
стихи
— о пользе молчания (xamiisT)
— о значении наставлений (nasihat)
— о мистической любви, качествах
влюбленного и Возлюбленной
— о целях мистического познания
— о щедрости (saxawat)
— порицание злых и скупых {sUm-baxil)
— о сущности человека, его атрибутах,
душе и теле
— о делах, предписанных для дней
недели
— о шестнадцати качествах низшей
души (nafs)
— мифологические сюжеты Корана и
исторические предания
об испытаниях, посланных Аллахом
доисламским пророкам
об Искандаре
о Сулаймане
оНухе
о Салихе
о Шаддаде
о Джирджисе
об Идрисе
о Каруне
о Намруде
о Мусе и Фир'ауне
об 'Абдаллахе
о Зайде
о Харкуле
о сотворении мира и Адаме
о сроках сотворения мира и жизни
пророков
об Ануширване
о Хатиме Тайском
16аб
606—61а,61аб
616—62а, 62аб, 626—
63а
536, 536—54а
54аб
666—67а
196—20а, 20аб,
206—21а,21аб,23а
246—25а, 25аб,
256—26а,26а,26аб
266, бЗаб
266—27а, 27аб,
29аб, 296—30а,
38аб, 616, 67аб
ббаб
30а—316,316—32а,
32аб, 326,326—33а
33а—34а, 34а—35а,
35аб, 356—37а
386—39а
39аб
396—40а, 40а—41а,
41аб,45аб
416—42а, 436—446
42а—436
446—45а, бОаб, 676—
686
46аб
466—486,486—496,
496—50а, 50аб
51аб
516—52а
54а
546—55а
55аб
23аб, 236—246,
246
686—69а, 696—706
69аб
Второй дафтар
— алиф-нама
— восхваление Аллаха
— восхваление Мухаммада
— восхваление сподвижников пророка
— о вере и обязательном в исламе
76а—77а, 89а—90а,
90аб, 906
75аб
78а—806, 81а, 85а—
86а, 86а—87а
706—71а
71аб,71б—72а,
77а—78а
726, 726—73а,
73а—746, 746—75а
846—85а
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления
49
— о больших грехах
— о мистическом познании (ma'rifat)
— о сущности (wujud) человека
— о делах, предписанных для дней
недели
— мифологические сюжеты Корана и
исторические предания
введение
об этапах сотворения мира
об Адаме
оНухе
об Ибрахиме
о Да'уде
о Сулаймане
о Мусе
о Марйам
об 'Иса
садж1
806—81а
82а, 826—83а
836—84а, 84аб
906—91а
96а—97а, 97аб, 976—
98а, 98а—99а
стихи
72аб, 816—82а,
83аб
756—76а
87а—89а
91аб, 916—92а,
92а, 92аб
926—93а
93аб
936—946
946—956, 956—96а
1026—1036,
1036—104а
Ю4а—1056
1056—107а,
— о бренности земного существования
— описание Рая
Ю7а—108а
108а—109а,
109а—110а
99а—100а, ЮОаб,
ЮОб—1016,1016—
102а, 102аб
Как видно из приведенного описания, в первом дафтаре преобладают
саджевые отрывки, а во втором — поэтические. Особенно это
показательно на примере коранических и исторических сказаний, которые в первом
дафтаре написаны садок'ем, а во втором— стихами. Полагаю,
последовательность дафтаров в петербургской рукописи более соответствует
традиционному построению религиозно-дидактических сочинений, где за
вступительными частями с восхвалениями Аллаха, пророка и столпов
ислама, как правило, следуют разделы, толкующие пять главных
установлений ислама, после чего затрагиваются прочие теологические (или
теософские) и этико-философские темы.
Несмотря на внешнюю хаотичность расположения материала [Кушев
1976: 59], каждый из дафтаров при внимательном рассмотрении,
безусловно, обнаруживает внутреннюю логику изложения. Осмысленность
композиции, однако, не сопровождается хорошим качеством формы и стиля
повествования. Речь идет не только о том, что в «Книге» фактически нет
четкой грани между рифмованной прозой и поэзией, но в первую очередь
о недостаточной развитости литературного в целом и поэтического в
частности языка автора. Бабу Джан писал свою «Книгу» для религиозного
просвещения малообразованных и в большинстве своем вообще неграмотных
паштунов, живших в условиях традиционного племенного быта в горных
долинах Юго-Восточного Гиндукуша. Задачам такого просвещения долж-
50 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
ны были отвечать язык и стиль «Книги». Язык Бабу Джана иногда бывает
довольно легким и поэтичным, но иногда автор демонстрирует очевидную
неспособность ясно выразить или закончить какую-либо мысль,
формулирует неоправданно лаконичные и неуклюжие фразы, не заботится о
логических связях. Отсутствие у Бабу Джана единого по качеству
повествовательного стиля наглядно показывают рассказы о легендарных героях.
Контрастными примерами стилевых расхождений могут послужить, скажем,
стихотворные рассказы о Марйам и Мусе из второго дафтара. Если
рассказ о Марйам и рождении 'Иса являет собой довольно незатейливое, но
гладкое и вполне прозрачное повествование, то история Мусы излагается
крайне сбивчиво, с большими смысловыми лакунами. Читателю (слушателю)
первого сказания не нужно каких-либо дополнительных пояснений, тогда
как второе явно требует обширных комментариев и для образованного
человека.
Вероятно, именно погрешности в литературном языке оригинала
повлекли за собой многочисленные ошибки и темные места в петербургской
рукописи «Книги», поскольку ее переписчик, как уже говорилось, явно
сам не везде понимал переписываемый текст. Критическое отношение к
языку и стилю Бабу Джана оправдывается тем, что написание его «Книги»
относится ко времени, когда паштунская письменность уже прошла этап
своего становления и достигла немалых высот в творчестве Хушхал-хана
Хаттака, старшего современника Бабу Джана. Стихотворным опытам Бабу
Джана, так же как и Мир Хусайна, 'Абд ал-Халима, Мустафы Мухаммада,
других религиозных проповедников, присуща очевидная ущербность и
языка и формы, при том что им предшествовала рошанитская поэзия, где
сложились вполне развитые нормы классического паштунского
стихосложения, а одновременно с ними создавались на гораздо более высоком
художественном уровне поэтические произведения хаттакских и иных
крупных афганских поэтов второй половины XVII—начала XVIII в.
3. Сочинения Хушхал-хана Хапана
Письменность на языке пашто, естественно, могла развиваться только в
кругах грамотных и образованных афганцев, доля которых в общей массе
носителей афганского языка в рассматриваемый период была весьма
незначительна. Образование имели, во-первых, духовные лица, к числу
которых относились представители нормативного мусульманского
богословия, а также обучившиеся религиозным наукам проповедники
мистических учений. Именно в этих кругах возникла письменная паштунская
поэзия. В предыдущих разделах говорилось о том, что в первой половине
XVII в. главные ее течения были представлены последователями ханафит-
ского богослова Ахунда Дарвезы и адептами мистического учения Байази-
да Ансари, происходившего, кстати, из семьи мусульманского судьи.
Другой немногочисленный слой образованных паштунов составляли
вожди тех племен, в которых имелись благоприятные экономические и по-
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления
51
литические условия для развития национальной письменности и культуры
в целом. Как правило, это были племена так называемого иерархического
типа, где патриархальные отношения породили довольно строгую
социальную стратификацию и вся полнота административной, хозяйственной и
военной власти сосредоточилась в руках вождей. Первыми сочинениями
на пашто, которые, к сожалению, не сохранились в рукописях, были
племенные хроники юсуфзайских правителей Шайха Мали и Каджу-хана [Ку-
шев1980:21—26].
Роль племенной верхушки в становлении афганской письменности
особенно показательна на примере хаттаков, которые в конце XVI в.
признали формальную зависимость от могольских императоров и стали на
путь феодализации внутриплеменных отношений [РейснерИ. М. 1954:
301—307]. В течение нескольких поколений у хаттаков сформировался
сильный род вождей (ханхел), названный акорхелем по имени главы рода
Акорая, получившего в 1581 г. от могольского императора Акбара (правил
1556—1605) право джагира на хаттакские земли с разрешением взимать
дорожные пошлины (ранее практика взимания таких пошлин подчинялась
неписаным племенным законам и иногда мало чем отличалась от
насильственного вымогательства). Сравнительно высокий уровень доходов
разного происхождения, включая, например, прибыль от соляных разработок,
способствовал оживлению культурной жизни хаттакской племенной
верхушки. Из акорхеля вышла целая плеяда знаменитых паштунских поэтов
XVII—XVIII вв. во главе с Хушхал-ханом Хаттаком (1613—1689),
которого справедливо признают подлинным основоположником афганской
национальной литературы.
С появлением сочинений Хушхал-хана, крупного племенного вождя и
высокоталантливого поэта, письменность пашто действительно поднялась
на уровень самостоятельной национальной литературы. Вклад Хушхал-
хана в развитие паштунской словесности измеряется не только
количеством и жанровым разнообразием его произведений, высоким качеством
литературного языка и поэтической формы, но в значительной степени
выраженным национальным характером идейных и духовных основ его
творчества, которое, в отличие от прежних образцов афганской
письменности, питалось реалиями повседневной жизни афганских племен и
живыми народными традициями. Имя Хушхала и поныне связывается в
народном сознании с представлениями о том, каким должен быть идеальный
паштун, а его поэзия по-прежнему имеет значение источника национально-
патриотических чувств. Не случайно современные афганские
периодические издания, имеющие и социально-политическую, и
культурно-просветительскую направленность, часто оформляются девизами и лозунгами,
взятыми из стихов Хушхал-хана.
Список сохранившихся произведений Хушхала в сравнении с
творческим наследием других классических паштоязычных авторов достаточно
велик. В него входят разнообразные по форме и содержанию
стихотворения дивана (около 15 тыс. двустиший), шесть поэм-маснави (стихотворные
дневники и отчасти переводные трактаты по религиозной этике, народной
медицине, содержанию ловчих птиц, гаданию), дидактическое сочинение в
52 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
прозе, относящееся к жанру «княжьего зерцала», а также не
сохранившиеся в оригинале автобиографические и исторические заметки. Литературная
деятельность Хушхала, безусловно, имела для афганской культуры
просветительское значение.
Следует сказать, что параллельно с поэзией светского характера у хат-
таков бытовала и религиозная литература, возникшая в кругу учеников
хаттакского духовного вождя, шейха Рахмкара (ум. 1653), известного
также под именем Кака Сахиб [Hewadmal 19842: 15—25] (об отношениях
шейха с Хушхалом см.: [Пелевин 2001: 134—136]). Рахмкару посвящено
довольно большое число житийных и религиозных сочинений,
прозаических и поэтических, написанных после его смерти, однако никаких
подобных произведений на пашто, относящихся ко времени жизни шейха, т. е. к
первой половине XVII в., до нас не дошло. Среди ближайших учеников
Рахмкара был родной брат Хушхал-хана Джамил-бег (ум. 1704/05). Ему
приписывают ряд религиозно-мистических и агиографических сочинений
на фарси. Кроме того, сохранилось несколько стихотворений Джамил-бега
на пашто, которые, по мнению афганских исследователей,
предназначались для вокального исполнения во время суфийского ритуала сама'
[Hewadmal 19842: 25—30]41. Из поэтически одаренных сыновей Хушхала
большую склонность к религиозно-мистической лирике питал 'Абд ал-Ка-
дир Хаттак (1653—ум. после 1714), aBjop популярных переводов на пашто
«Гулистаиа» Са'ди и поэмы Джами «Йусуф и Зулайха». Однако он не
входил в круг духовных преемников Кака Сахиба, но числил себя в рядах
последователей братства накшбандшйа [Hewadmal 2000: 154].
Занимавший пост племенного вождя более 30 лет (с 1641) Хушхал-хан
много сделал для развития образования и письменности непосредственно в
хаттакском племени, точнее в его хаихеле. Начиная с Хушхала обучение
письму, грамоте, основам мусульманского богословия, классической
персидской словесности стало обязательным для членов княжеского рода. По
словам самого Хушхала, его отец Шахбаз-хан (ум. 1641) образования не
имел [XXX: 567]. Имеющиеся факты говорят о том, что Хушхал-хан
первым применил одну из старых форм паштунской графики, которой
впоследствии пользовались многие поколения хаттакских литераторов. X. Ра-
фи' полагает, что термин zanjiri ('цепной'), упомянутый X. Дж. Раверти
как обозначение некоего тайного письма, будто бы изобретенного
Хушхалом, и есть название хаттакской графики, поскольку она характеризуется
использованием хамзы (внешне сходной, по мнению Рафи', со звеном
цепи) в качестве дополнительного диакритического знака для афганских
букв [Raverty I860,: 28; RafT' 1982: 18—23].
Хушхал высоко ставил искусство каллиграфии и, возможно, сам
обладал навыками профессионального каллиграфа. Вполне вероятно, что при-
41 К числу последователей Рахмкара относят некоего шейха Адина (ум. 1662/63?),
паштунские стихи которого встречаются в приложениях к «Махзану», а также поэта
второй половины XVII в. Ахунда Мийадада, происходившего, видимо, из мохмандзаев.
Диван Мийадада, содержащий мистические газели на пашто, известен в рукописях, но
пока не опубликован [Hewadmal 2000: 123, 128—129].
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 53
жизненная рукопись его дивана (1099 г. х. [1687/88]) частично переписана
им самим [Raff* 1982: 16—17]. Судя по обрывочным свидетельствам,
Хушхал собрал довольно большую по паштунским меркам библиотеку, в
которой были рукописи популярных персоязычных сочинений, богослов-
ско-правовые трактаты на арабском языке, а также ранние произведения
собственно на пашто. Хушхал прекрасно владел персидским языком, а
также интересовался индийскими языками, о чем свидетельствуют, например,
его макаронические стихи со строками на хиндко [XXX: 22, 339].
Будучи необычайно многогранной личностью, Хушхал-хан оставил
заметный след не только на литературном поприще, но также в социально-
политической истории афганских племен. В силу пересечения многих
объективных и субъективных обстоятельств биография Хушхал-хана
оказалась насыщенной событиями, которые, без преувеличения, с одной
стороны, охватывают все возможные стороны жизни паштунского племенного
вождя позднего средневековья, а с другой — наилучшим образом
отражают историю Восточного Паштунистана XVII в.
До пятидесяти лет Хушхал-хан был полновластным племенным
правителем, состоятельным могольским джагирдаром, хозяином обширных хат-
такских земель, простиравшихся широкой полосой вдоль правого берега
Инда от реки Балар на севере до хребта Марват на юге. Выполняя функции
вождя и джагирдара, Хушхал принимал участие в многочисленных
межплеменных столкновениях, нередко откровенных разбойных набегах, а также
в военных кампаниях императора Шахджахана (правил 1628—1658).
Позднее ему пришлось испытать участь беспомощного пленника императора
Аурангзеба (правил 1659—1707) и вести жизнь опального вождя,
потерявшего былой авторитет и в результате оказавшегося жертвой усобицы
внутри собственного рода. Яркие страницы биографии Хушхала
приходятся на период моголо-афганской войны 1672—1676 гг., которая пробудила
в нем национально-патриотические настроения, в полной мере
выразившиеся в его поэтическом творчестве.
Неординарная личность Хушхал-хана Хаттака как выдающегося
деятеля паштунской культуры и истории привлекает к себе внимание
исследователей с первой половины XIX в., т. е. фактически со времени зарождения
научного афгановедения (краткий обзор истории изучения Хушхала и его
творчества см.: [Пелевин 2001: 8—18]). Основные вехи в изучении и
популяризации творчества Хушхал-хана в Европе и России связаны с именами
X. Дж. Раверти [Raverty 1862: 142—248], К. Биддалфа [Biddulph 1890],
Г. Моргенстиерне [Morgenstierne 1960], Д. Н. Маккензи [Mackenzie 19652],
М. Г. Асланова [Асланов 1955] (некоторые неизданные рукописи его работ
были использованы при написании очерка о Хушхале в «Истории
Афганистана» [Ромодин 1965: 59—68, 480]), В. А.Лившица [Лившиц 1957; Хуш-
халь 1983], Г. Ф. Гирса [Гире 1963: 37—43], В. В. Кушева [Кушев 1980:
56—57, 67, 107; 19892; 1990: 31—34; 1995; 2000]. Отдельная монография,
посвященная поэзии Хушхал-хана, принадлежит автору этих строк
[Пелевин 2001].
На родине Хушхал-хана его творчество стало предметом изучения со
второй четверти XX в. К настоящему времени число статей, очерков, книг,
54 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
биографических справок в энциклопедических словарях, литературных
эссе, газетных и журнальных заметок, написанных о Хушхал-хане учеными
Афганистана и Пакистана, измеряется несколькими сотнями. В этих
странах, а также среди паштунской диаспоры в Индии и Европе создан ряд
обществ и семинаров, которые занимаются изучением и пропагандой
литературного наследия Хушхала. К сожалению, большинство
заслуживающих внимания научных работ афганских и пакистанских ученых, особенно
тех, что увидели свет в течение последних двадцати лет, мне недоступны.
Из самых свежих трудов в моем распоряжении имеется только книга
3. Хевадмала, опубликованная германским Обществом развития культуры
Афганистана к 400-летию со дня рождения Хушхала и кратко
обобщающая все те сведения о жизни и творчестве поэта, которые можно найти в
работах афганских филологов [Hewadmal 2001]. Предисловие и
библиография к книге позволяют составить хорошее представление о состоянии
изученности Хушхал-хана в Афганистане и Пакистане, а также об уровне
и интенсивности продолжающейся исследовательской деятельности в этой
области. Ссылаясь на 3. Хевадмала, отмечу только, что в связи с
чествованием Хушхала в разное время было проведено несколько международных
конференций и осуществлено издание ряда сборников статей (Пешавар —
1949, 1980; Дели— 1951; Кабул— 1966, 1971, 1979; Лахор— 1982, 1984;
Исламабад— 1991) [Xawand 1949; Nangyalay 1966; TOryalay 1971; Xushal-
nama 1980], а наиболее существенный вклад в научное изучение Хушхала
и его творчества внесли Дост Мухамад-хан Камил (1951, 1952) [Kamil 1952],
Гул Пача Улфат (1966) [Ulfat 1966], Сарфараз-хан 'Укаб Хаттак (1975)
[Sarfaraz 1975], Мухаммад Садик Рухи (1981), Хабибаллах Рафи' (1982, 1985)
[Raff4 1982], Парешан Хаттак (1984) [Paresan 1984], 'Абд аш-Шакур Рашад
(1988), Пурдил-хан Хаттак (1989) [Purdil 1989].
Несмотря на обилие литературы о Хушхал-хане, некоторые
основополагающие публикации, на мой взгляд, по-прежнему не осуществлены. Так,
до сих пор не написана академическая биография Хушхала, в которой
были бы собраны и подвергнуты критическому анализу сведения всех
известных источников (это, в первую очередь, собственные произведения
поэта, его автобиографические заметки, включенные Афзал-ханом Хатта-
ком (1664/65—1740/41) в «Тарих-и мурасса'», а также могольские
исторические хроники)42. Во-вторых, сохраняется потребность в научных
критических изданиях сочинений Хушхала. Хотя деятельность афганских и
пакистанских ученых в этом направлении заслуживает большого признания,
тем не менее, к сожалению, ни одно из имеющихся изданий не отвечает в
42 Самым добротным и авторитетным изложением биографии Хушхала и по сей
день остается книга Д. М. Камила (1915—1981) «Хушхал-хан Хаттак», опубликованная
на языке урду в 1951 г. в Пешаваре. В 1991 г. в Кабуле вышел ее перевод на пашто. К
сожалению, оба издания известны мне только из библиографических справок. В моем
распоряжении имеется сокращенный вариант книги, опубликованный в качестве
предисловия к пешаварскому изданию дивана Хушхала 1952 г. [Kamil 1952]. Д. М. Камил,
несомненно, один из лучших знатоков Хушхала, первым использовал в полном объеме
сведения «Тарих-и мурасса'», ценнейшего паштоязычного исторического источника,
опубликованного им же в 1974 г. [Afzal 1974].
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 55
полной мере современным текстологическим требованиям. Например,
диван поэта, сохранившийся в довольно большом числе списков (более
полутора десятков) и с 1869 г. неоднократно публиковавшийся в
Афганистане и Пакистане, подлинно критического текста до сих пор не имеет,
поскольку при подготовке такого текста, по моему мнению, обязательно должны
быть учтены три самые старые рукописи— 1687/88 г. (прижизненная), 1697 г.
(подготовленная по заказу Афзал-хана) и 1719 г. (хранившаяся в
императорской библиотеке Ахмад-шаха Дуррани (ум. 1773), основателя
афганского государства) (об этих и других рукописях см.: [Пелевин 2001: 22—31]).
Как уже отмечалось выше, произведения Хушхал-хана по объему и
жанровому разнообразию превосходят литературное наследие любого
классического паштунского автора. Заниматься поэтическим творчеством
Хушхал начал, по его же словам, в двадцать лет [XXX: 623]. Вероятно, он
сочинял стихи и в более раннем возрасте, а его свидетельство, скорее всего,
указывает на время, когда продукты его сочинительства достигли
достаточно высокого уровня, чтобы быть помещенными в диван. Содержание ряда
стихотворений дивана и встречающиеся в них датировки говорят о том,
что Хушхал не прекращал заниматься писательским трудом до конца
жизни. Таким образом, в нашем распоряжении имеются произведения
Хушхал-хана, созданные на протяжении шести десятков лет — с начала 30-х до
конца 80-х гг. XVII в.
Переломным в творческой биографии Хушхала стал период его
подневольного пребывания в Индии (1664—1669), что отметили уже первые
исследователи его поэзии [Raverty 1862: 147; Biddulph 1890: XV]. В
индийском плену творчество Хушхала, во-первых, обрело ярко выраженный
личностный характер, во-вторых, окончательно вышло из жестких рамок
поэтического канона вследствие обращения автора к самым разным темам
и нетрадиционным изобразительным средствам, и в-третьих, наполнилось
национально-патриотическим звучанием. Появившиеся в эти годы
произведения Хушхал-хана, без сомнения, ознаменовали начало нового этапа в
истории всей паштунской литературы, поэтому именно вторую половину
60-х гг. я условно определяю как верхнюю границу того периода
творческой биографии Хушхала, который формально соответствует предмету
настоящего исследования.
Стихотворения дивана
Диван Хушхала был полностью собран и структурно упорядочен после
его смерти под наблюдением внука Афзал-хана, занявшего в 1692/93 г.
пост главы хаттакского племени. Этот первый полный вариант дивана,
возможно, послуживший протографом для поздних списков, представлен
рукописью 1697 г., изготовленной в Акоре, резиденции хаттакских князей,
и хранящейся ныне в библиотеке Ризы в Рампуре [Hewadmal 1984^ 59—62].
Диван имеет традиционную структуру, т. е. произведения в нем
расположены по разделам жанровых форм в алфавитном порядке, но не в
хронологической последовательности, что, надо заметить, плохо соответствует
56 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
характеру поэзии Хушхал-хана. Пестрое содержание, разнородные
средства художественной выразительности, переменчивая идейная и
эмоциональная направленность стихотворений Хушхала находятся в тесной связи с
конкретными периодами и событиями его биографии. Тем не менее,
применительно к многочисленным стихотворениям, где отсутствуют
исторические и биографические реалии, очень трудно найти безошибочные
критерии, по которым их можно было бы соотнести с тем или иным периодом
жизни автора.
В поэзии Хушхала имеется довольно много дат с указанием года,
месяца, а иногда и дня написания стихотворения, но, как правило, датировки
встречаются только в касыдах и фрагментах, составляющих лишь
четвертую часть всего объема дивана. При этом большинство дат, как и
упоминаемых исторических фактов, относятся к тому времени жизни поэта,
которое последовало за его арестом и отправкой в Индию в 1664 г.
Первое датированное стихотворение Хушхала— это касыда 1055 г. х.
[1645/46], содержащая краткий экскурс в историю города Дели и его
правителей, начиная с раджпутского клана Чауханов (XII в.) [XXX: 594—597].
До ареста Хушхал-хан датировал еще только одну касыду, написанную в
начале апреля 1649 г., на двенадцатый день Нового года — Навруза. В ней
дается хвалебное описание одного из загородных дворцов Шахджахана,
сооруженного его тестем Асаф-ханом [XXX: 615—616]. В том же 1649 г. Хуш-
хал, вероятно, сочинил и другую касыду, где говорится об известном
историческом событии, происшедшем в этом году, а именно о захвате
Кандагара войсками сефевидского шаха 'АббасаИ (правил 1642—1666) [XXX:
577—578]. Автор стихотворения высказывает сочувствие могольскому
императору по поводу потери Кандагара, неудачной военной кампании
моголов в Балхе и Бадахшане (1645—1646), а также тяжелых последствий
засухи, поразившей Кабульскую провинцию. Приблизительную датировку
имеет также одна поэма-кит 'а, представляющая собой несколько
ироничное покаяние автора за свой сугубо мирской образ жизни племенного
правителя [XXX: 818—820]. По словам Хушхала, это стихотворение было
написано им в сорокалетнем возрасте (ок. 1652).
Надо полагать, в течение трех десятилетий, предшествовавших аресту,
Хушхал-хан сочинил много десятков, если не сотен, других стихотворений,
лишенных каких-либо намеков на время и обстоятельства их написания.
Вероятно, ранние стихи Хушхала должны были в большей степени
соответствовать нормам поэтического канона и тематически укладываться в
русло любовной, гедонической и мистико-философской лирики. Для
молодого поэта было вполне естественным следовать букве канона, осваивая
таким образом основы искусства стихосложения и общие эстетические
принципы классической персидской поэзии. Главными жанровыми формами для
Хушхала в это время были, видимо, газель и руба'и. Судя по
традиционному содержанию, шаблонному набору изобразительных средств и
экспериментам с некоторыми чисто техническими приемами, к ранним
произведениям Хушхала следует причислить почти все строфические
стихотворения (10 из 12).
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления
57
Все вошедшие в диван стихи Хушхал-хана, в том числе и относящиеся
к первой половине XVII в., отличаются безупречностью формы и высоким
мастерством поэтического слога. Особое внимание Хушхал всегда уделял
метрике, считая ее главным мерилом качества стихотворного текста.
Взятые в целом, стихи Хушхала, написанные до индийского плена, с точки
зрения формы, а часто и содержания, безусловно, превосходят поэзию
других паштоязычных авторов этого времени. Афганские филологи, как
правило, не подвергают никаким сомнениям художественные достоинства
стихотворений Хушхал-хана, отрицая при этом эстетическую ценность
многих поэтических произведений рошанитов и богословов.
Одним из первых стихотворений Хушхала афганские ученые считают
6-бейтовую любовную газель, где автор упоминает о своем двадцатилетнем
возрасте. Эта газель отсутствует в имеющихся у меня вариантах дивана —
пешаварском издании 1952 г. [XXX] и микрофильме рукописи 1719 г. из
библиотеки Кембриджского университета (Or. 1866), — но, судя по ссылке
3. Хевадмала, включена во второй том последнего кабульского издания
дивана 1369/1990 г. [Hewadmal 2001: 175—176]. Думаю, имеет смысл
привести перевод стихотворения как наглядный образчик творчества
молодого поэта.
Разум устанавливает сто преград из здравых суждений,
Но когда меня настигает горный поток любви, он их все сносит.
Не спрашивай меня, умник, что такое любовь;
Когда влюбишься, сам пресытишься разумом.
Я никогда не откажусь от любви,
Зачем же разум в гневе постоянно сдавливает мне пальцы?
Как я разорву свою связь с любовью,
Если Господь сотворил меня вместе с ней.
Мне уже больше двадцати лет;
Страдания любви к тридцати годам сделают меня стариком.
Если ему удастся соединиться со своей возлюбленной,
Несчастный Хушхал успокоит свою душу.
Вступление в 1641 г. на пост главы племени и последующий период
княжения, несомненно, повлияли на содержание поэзии Хушхал-хана.
Социальный статус усилил в его творчестве дидактическую линию, причем
дидактика постепенно стала отражать конкретные, практические нужды и
интересы племенного правителя. Возможно, в это время появились
стихотворения на религиозные темы, в частности восхваления Бога и пророка
Мухаммада, а также прямые декларации своего кредо, приверженности
исламу и законам шари*ата (см. гл. II, разд. 2). Впрочем, поэт тогда еще не
пришел к осознанию своей творческой индивидуальности. За его тахаллу-
сом еще скрывался достаточно обобщенный образ лирического героя,
который изредка намекал на свою принадлежность к племенной верхушке,
но не раскрывал личные черты. Показательно, что в это время Хушхал не
написал ни одного произведения, где бы излагались биографические
сведения.
58 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Арест и подневольное пребывание в Индии оказали на Хушхал-хана
необычайно сильное эмоциональное воздействие и получили в его поэзии
гораздо большее отражение, чем прежние перипетии жизни.
Обстоятельства ареста и последовавшие за этим события нескольких месяцев
подробно изложены поэтом в большом таркиббаиде (215 бейтов), написанном во
время заключения в Рантамбхоре [XXX: 934—947]. Кроме того, мотивы
ареста и плена отчетливо звучат в четырех касыдах и почти двух десятках
газелей и фрагментов [XXX: 3, 14, 104, 166, 216, 279, 293—294, 546—551,
562—563, 579—580, 619—621, 827—828 и др.]. Многие из этих стихов
могут рассматриваться как продолжение традиций классического жанра
тюремных элегий хабсиша. Среди ряда стихотворений с хулой на
императора Аурангзеба некоторые, видимо, тоже были написаны Хушхалом в
Индии [XXX: 152—153, 166, 215, 402, 848, 852, 907 и др.].
Большое значение для определения круга стихотворных произведений
Хушхал-хана, относящихся к периоду могольского плена, имеет
уникальная рукопись с поэыон-маснави «Фирак-нама» (см. ниже). Первая,
меньшая по размеру часть этой рукописи включает одну касыду, двадцать три
газели, четыре кит*а, два руба'и и три фарда, сочиненные Хушхалом в
Индии во время пребывания в Рантамбхоре [FN: 1—25]. Один из
фрагментов помещен Хушхалом в прозаический трактат «Дастар-иама»,
написанный там же [FN: 24—25; Xushal 1991: 28]. Все газели, кроме одной [FN: 9],
и касыда входят в диван. Между текстами этих стихотворений в
рукописном сборнике «Фирак-нама» и в диване имеются некоторые расхождения,
в основном касающиеся порядка и количества бейтов. Многие газели в
сборнике содержат больше бейтов, чем в диване. Например, одна 10-бей-
товая газель сборника в диване представлена только пятью бейтами [XXX:
87; FN: 8—9]. Впрочем, рукопись «Фирак-нама» тоже не свободна от
погрешностей: из 11-бейтовой газели дивана в ней присутствует лишь один
заключительный бейт [XXX: 14; FN: 12].
Среди стихотворений рукописи только половина прямо или косвенно
относится к жанру хабсиша (см. гл. V, разд. 1). Другие стихи написаны на
темы любовной, гедонической и философско-дидактической лирики.
Любовной теме посвящены четыре газели и фрагмент, в которых преобладают
традиционные мотивы разлуки, согласующиеся с общей тематикой стихов-
хабсиййа [FN: 13—16, 21—22,24]. В последнем бейте одной из газелей Хуш-
хал сообщает о своем заключении в Рантамбхоре. Кроме того, в этом
стихотворении он упоминает о поэме «Нал и Даман», популярном
переложении на персидский язык известного сказания «Махабхараты». Поэма была
написана в эпоху императора Акбара придворным поэтом Абу-л-Файзом
Файзи (1547—1595) [FN: 15—16]. Вероятно, с этим произведением Хуш-
хал познакомился именно в Рантамбхоре.
Иным настроением проникнуты две любовно-гедонические газели [FN:
7—8, 16]. Обе имеют стандартный набор мотивов и символов— вино,
юный виночерпий, черные мускусные локоны возлюбленной, опьянение
красотой ее лика, звучание музыки и пр. — и могут быть истолкованы в
мистическом духе. Одна из газелей примечательна тем, что автор
использует в ней поэтическую фигуру *акс (разновидность хиазма) и внутреннюю
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 59
рифму. Это придает газели явно выраженное песенное звучание. Хушхал
сам определяет жанр этого стихотворения, называя его «газелью риндов
(гуляк. — М Я.)».
Философско-дидактические стихотворения рукописного сборника не
содержат никаких намеков на пребывание в Индии. В касыде и одной
газели Хушхал обращается к традиционной теме бренности мирского [FN:
4—5, 10—12], в других газелях он рассуждает о всеобщей взаимосвязи
явлений мира, об опасности общения с низкими людьми, о сердце как
источнике всех эмоций и душевных состояний [FN: 9, 18, 23]. Одно
стихотворение имеет религиозно-мистическое содержание: в нем говорится о
стремлении к Богу, который все объемлет и един для всех [FN: 5—6].
Поэмы-маснави
Хушхал-хану принадлежат первые в поэзии пашто произведения
крупных форм, выходящие за рамки традиционного дивана. Это поэмы-лшст/а-
ви «Фирак-нама» (1665/66) (тюремный дневник) [FN], «Баз-нама» (1674)
(уход за ловчими птицами) [XuShal 1985t], «Сват-нама» (1675) (заметки о
поездке в Сват) [Xushal 1979], «Фазл-нама» (1678/79) (фикх и религиозная
этика) [Xushal 1964], «Тибб-нама» (народная медицина) [Xushal 1966] и
«Фал-нама» (народные приметы и гадание) [Xushal 19852]. Еще Хушхалу
приписывают авторство 17 разделов «Ахлак-нама» — вольного перевод с
фарси популярной дидактической поэмы «Ахлак-и Мухсини» Хусайна
Ва'иза Кашифи (ум. 1504/05) [Raff* 2001]. Однако атрибуция этого текста,
написанного на полях рукописи «Дастар-нама» (из библиотеки Академии
пашто Пешавара), остается спорной. Кроме того, в 1996 г. Хамеш Халил
опубликовал под именем Хушхала фрагменты паштунского перевода
«Нам-и хакк», поэтического трактата на фарси Шараф ад-дина Бухари
(начало XIV в.), но и в этом случае авторство Хушхала остается пока
предположительным [Hewadmal 2001: 189—191].
Как видно из приведенного перечня, все поэмы-маснави Хушхала были
написаны во второй половине XVII в. в период его творческой зрелости.
Историко-литературную ценность имеют прежде всего «Фирак-нама» и
«Сват-нама», которые, будучи своеобразными стихотворными
дневниками, наилучшим образом раскрывают личность автора, излагают множество
любопытных исторических, биографических и этнографических фактов и
к тому же отличаются большой художественностью. Все прочие поэмы
представляют собой стихотворные трактаты, относящиеся к разным
областям духовного и практического знания. Хотя предмет настоящего
исследования, учитывая его временные границы, формально включает в себя
только первую поэму-маснави, созданную в период тюремного заключения в
Рантамбхоре, я полагаю необходимым внести в число рассматриваемых
произведений и поэму «Сват-нама» ввиду ее тематической близости к
«Фирак-нама», а также того обстоятельства, что в ней содержатся
суждения автора о рошанитах и богословской литературе пашто.
60 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
«Фирак-нама» («Книга разлуки») — одно из наименее известных в
отечественном и западном афгановедении произведений Хушхал-хана, хотя
еще в 1952 г. Д. М. Камил упомянул о его существовании [Kamil 1952:
XXXVI]. Поэма вызывает особый интерес уже потому, что она относится к
переломному для творчества Хушхала периоду, когда он сформировался
именно как национальный паштунский поэт. В этом произведении, как и в
ряде других стихотворений, написанных в индийском плену, впервые
проявились новые самобытные черты лирики зрелого Хушхала.
«Фирак-нама» сохранилась только в одной рукописи, которой ныне
владеет библиотека Музея Пешавара. Ее текст был издан 3. Хевадмалом в
1984 г. в Кабуле. Издание сопровождено пространным предисловием и
ценными комментариями ко многим собственным именам. 3. Хевадмал не дает
подробного описания рукописи, но указывает, что она выполнена хаттак-
ским письмом и содержит немало ошибок и лакун. По словам 3. Хевадма-
ла, до него рукописью пользовались для своих исследований о Хушхале
Д. М. Камил и Сарфараз-хан Хаттак [Hewadmal 19842: XLI].
Время создания рукописи неизвестно. В кратком колофоне сообщается
только следующее: «Закончена книга „Фирак-нама" почтенного хана Хуш-
хал-бега, да осветит Аллах его могилу...» [FN: 72]. 3. Хевадмал не без
оснований полагает, что текст поэмы, как и большинство других произведений
Хушхала, был подготовлен для переписки на основе сохранившихся байа-
зов по инициативе и под личным наблюдением Афзал-хана Хаттака,
специально занимавшегося собиранием и обнародованием литературного
наследия своего деда.
Рукопись представляет собой поэтический сборник, состоящий из двух
частей, каждой из которых предпослана басмалла. В первую часть входят
уже упоминавшиеся выше стихотворения малых форм, вторая включает
собственно поэму-маснави (571 бейт). Вряд ли нужно сомневаться, что
название «Фирак-нама» носила именно поэма, а не весь сборник. Поскольку
все другие иоэмы-маснави Хушхал-хана имеют однотипные названия со
вторым компонентом пата, логично предположить, что и «Фирак-нама»
было названием непосредственно поэмы-маснави как самостоятельного и
законченного произведения, а не сборника различных по форме и
смысловой направленности стихотворений. Кроме того, трактат «Дастар-нама»
Хушхал-хан начинает строкой, которая, по его же словам, взята из «Книги
разлуки». Этот бейт, следующий сразу за поэтическим славословием
Всевышнему и определяющий тему сочинения, содержится именно в поэме-
маснави рукописного сборника: «Тех, кто носит чалму, — тысячи, а люди,
[достойные] чалмы, — на счету» [Xushal 1991: 2; FN: 60].
Поэма «Фирак-нама» состоит из 25 разных по размеру частей (от 4 до
59 бейтов) и включает одну газель (7 бейтов). В классической персидской
литературе давно был известен художественно-конструктивный прием
введения газелей в текст поэм-маснави, впервые использованный, видимо,
поэтом газнийского круга 'Аййуки (XI в.) [Дроздов 19992: 114]. Однако
учитывая тот факт, что в структурном отношении рукопись «Фирак-нама»
имеет серьезные погрешности, выявленные 3. Хевадмалом, нельзя с
уверенностью сказать, что газель была включена в текст поэмы самим авто-
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 61
ром, а не оказалась там случайно по воле или из-за ошибки переписчика.
Газель написана тем же восьмисложным размером, что и вся поэма, и
помещена в ее первой части после первых 30 бейтов (из 42). Возможно,
прослеживается определенная смысловая связь газели с предшествующими ей
строками, где Хушхал перечисляет те имущественные и социальные блага,
с которыми ему пришлось расстаться после ареста. В газели он заявляет о
своем безразличии ко всему мирскому и даже перефразирует знаменитые
строки Хафиза: «Я тот, кто дарит Бухару за созерцание одной лишь
родинки» [FN: 28]. Конечно, это стихотворение можно рассматривать как своего
рода лирическое отступление, но в поэме есть и другие лирические
отступления от основной темы, выполненные в форме маснави.
После «Фирак-нама» Хушхал-хан обратился к жанровой форме
маснави спустя почти десять лет. В последнюю неделю октября 1674 г. по
завершении четырехмесячной поездки в Тирах он написал в форме маснави
трактат о ловчих птицах «Баз-нама» (919 бейтов) [Xushal 1985!: 15], а еще
через год использовал ту же жанровую форму для своих дневниковых
заметок о пребывании в Свате у юсуфзаев. Этот стихотворный дневник в
виде поэмы под названием «Сват-нама» (391 бейт) был включен Афзал-
ханом в состав его большого исторического сочинения «Тарих-и мурасса*»
[Afzal 1974: 327—343]. Таким образом текст третьей поэмы-маснави Хуш-
хала дошел до нас в рукописях сочинения его внука43. 3. Хевадмал
сообщает о том, что отдельно встречаются и рукописи самой поэмы, но
никакой информации о них не приводится [Hewadmal 2001: 184]. К настоящему
времени «Сват-нама» издавалась четыре раза в Пешаваре и Кабуле (1964,
1974, 1979 и 1986), в том числе в составе «Тарих-и мурасса*» (1974).
Некоторые сведения о поэме можно найти в статьях: [RistTn 1968; HabtbT 1979:
LXX—LXXVII; Кушев 19892; Кушев 1995: 454—461]".
Судя по всему, как и в случае с «Фирак-нама», именно Афзал-ханом
текст «Сват-нама» был извлечен из личного архива Хушхала и оформлен
как самостоятельное произведение. Возможно, Афзалу пришлось решать и
проблему с компоновкой поэмы, поскольку сам Хушхал явно не закончил
работу над ней. На мой взгляд, в поэме нет ни связного вступления, ни
логического завершения. Ее начало: «Во времена государя Шахджахана была
[у меня] молодость, и любое желание сердца исполнялось. Сарай
находится в тридцати курухах и от Свата, если спускаться к реке [Ландай] со
[стороны] Сватских гор», конец: «Он (Дарвеза. — М. П.) охладил юсуфзаев от
[привязанности] к сеиду и в злобе прогнал всех дервишей».
Самый заметный след участия Афзал-хана в обнародовании
поэтического дневника деда — это его намерение включить в корпус «Сват-нама»
касыду Хушхала, дополняющую содержание ряда бейтов маснави.
Рукописи сохранили только вводное заглавие к касыде, которое следует после
43 Из опубликованных каталогов и предисловия Д. М. Камила к изданию «Тарих-и
мурасса*» известны десять рукописей этого сочинения [Mackenzie 1965i: 44—48;
Hewadmal 1984i: 155—157; Afzal 1974: LVIII—LIX]. Все они поздние и относятся к
середине—второй половине XIX в. Полными являются, видимо, только шесть списков,
причем в некоторых из них, как отмечает Д. М. Камил, текст «Сват-нама» имеет лакуны.
44 К у р у х — мера длины, приблизительно равная трем километрам.
62 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
98-го бейта поэмы: «Вот касыда почтенного хана с описанием сражений,
что случились в войне с моголами» [SN: 18]. Сама касыда в рукописях
отсутствует, но, очевидно, Афзал имел в виду известную касыду «Вновь
откуда к нам пришла эта весна...» [XXX: 526—528], написанную незадолго
до поездки Хушхала в Сват и повествующую о некоторых событиях мого-
ло-афганской войны.
В рукописях «Тарих-и мурасса'» поэма «Ceam-нама» разделена на семь
неравных частей (от 13 до 106 бейтов), но неизвестно, отражает ли такое
деление волю автора. Одни части имеют подзаголовок fasl ('раздел*), в
других графически показан заключительный бейт-лшятгш*. Афзал-хан
предпослал тексту поэмы такие слова: «Когда он (Хушхал. — М. П.) приехал в
Сват собирать войска, написал [там] „Сват-нама" в нескольких частях.
Станет из нее известной вся правда о богословах Свата».
Поэма была разделена на части, видимо, по тематическому принципу,
но в нескольких случаях деление не вполне соответствует логике
изложения материала. Так, первая часть, включающая, согласно этому делению,
98 бейтов, на самом деле состоит из двух смысловых отрывков —
географического описания Свата и автобиографических заметок (их начало:
«Шесть поколений я пользовался расположением моголов, золотое
сидение устроил себе среди них»45 [SN: 10]), причем второй отрывок явно
заканчивается не 98-м, а 107-м бейтом, поскольку со 108-го (а не 99-го)
начинается следующий раздел: «А теперь расскажу вам о положении дел на
земле Свата, извещу вас о занятиях его жителей» [SN: 20]. Кроме того,
пятый раздел поэмы, где Хушхал подвергает разносторонней критике «Мах-
зан» Дарвезы, логически завершается не 244-м, а 257-м бейтом, так как с
258-го бейта автор переходит к рассказу о своем диспуте с богословами
Свата: «Он (Мийан Hyp. — М. П.) собрал всех вождей и шейхов и своими
россказнями да хитростями задурил им головы» [SN: 48].
По моему мнению, поэму «Сват-нама» следует разделить на восемь
(или семь)46 частей следующим образом: 1) географическое описание
Свата и воспоминания о прошлом его посещении (бейты 1—48); 2)
автобиографические заметки и краткое изложение хода моголо-афганской войны
(49—107); 3) хула на жителей Свата (108—177); 4) хула на юсуфзайских
вождей (178—189); 5) хула на богословов Свата (190—221); 6) критика
сочинения Ахунда Дарвезы «Махзан ал-ислам» (222—257); 7) рассказ о
диспуте с Мийаном Нуром (258—350); 8) хула на Дарвезу с рассказом о его
приезде в Сват и столкновении с местными духовными наставниками
(351—391).
45 Не совсем ясно, почему Хушхал говорит о «шести» поколениях, поскольку
формально вассальные отношения хаттакских вождей с могольскими властями были
установлены только при прадеде поэта Акорае в 1581 г. Под «золотым сидением (регэу)»
Хушхал, видимо, имеет в виду мансаб или высокое положение вообще.
46 Четвертый и пятый разделы могут быть объединены в один, поскольку между
ними очень плавный логический переход: «Те, что „добропорядочные" и „честные", вот они,
а шейх Мийан Hyp еще „выше" их всех (бейт 189). Сначала расскажу вам о делах
богословов, а потом „восхвалю" Мийана Нура (бейт 190)» [SN: 32—33].
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 63
Явные ошибки в композиционной структуре поэмы, вероятно, есть
следствие того, что ее редакторы во главе с Афзал-ханом довольно
механически соединили имевшиеся у них получерновые дневниковые записи Хуш-
хал-хана, не обратив внимания на некоторые неточности в разграничении
частей либо просто не осмелившись их исправить.
ГЛАВА II
Формы, жанры, метрика
1. Становление системы жанровых форм
До появления афганской письменности поэзия на афганском языке
существовала в фольклорных формах, о которых можно судить только
гипотетически, опираясь на значительно более поздние по времени записи
фольклорных текстов и живую традицию устного народного творчества47.
Возникшая в XVI в. письменная поэзия пашто изначально была
ориентирована не на фольклор, а на классическую персидскую литературу,
которая уже в течение шести веков господствовала на обширном
пространстве от Малой Азии до Северо-Западной Индии48. Для словесности на
любом местном языке, распространенном в пределах этого географического и
культурного пространства, иметь письменное выражение значило
соответствовать образцу, установленному литературой фарси. Начальное развитие
национальных литератур на собственно иранских языках, в первую
очередь афганском и курдском, и неиранских языках (тюркских, некоторых
северноиндийских и дардских) происходило, в сущности, одинаково.
Перед авторами стояла одна главная задача — воспроизвести на родном
языке то, что являлось каноном персидской литературы, включая все
существенные элементы и формы и содержания.
Обязательное следование стандартам литературы фарси было
обусловлено не только ее статусом, популярностью и естественным влиянием, не
47 Начало изучению афганского фольклора положил Дж. Дармстетер (1849—1894),
записавший и издавший в конце XIX в. свыше ста афганских народных стихов и песен
[Darmesteter 1888—1890]. В Афганистане первые крупные сборники произведений
устного творчества паштунов увидели свет в середине XX в. [Nun 1944; Zwak, Sapay 1955—
1956]. В отечественном афгановедении наиболее значительная публикация по
афганскому фольклору принадлежала Г. Ф. Гирсу [Гире 1984]. О формах афганской народной
поэзии см.: [Mackenzie 1958; Дворянков 1973; Hewadmal 2000: 4—20].
48 Исключая, конечно, литературу богословского, юридического и научного
содержания, где арабский язык всегда сохранял свое первостепенное значение.
Глава II. Формы, жанры, метрика
65
только ролью самого персидского языка, но и идеологической
направленностью возникавших национальных литератур. Как правило, первые
письменные тексты на местных языках имели религиозно-мистическое
содержание, и за ними стояла та или иная длительная духовная традиция,
предполагавшая по возможности более полное сохранение преемственности во
всех своих проявлениях, в том числе литературно-художественном. Таким
образом, первые опыты стихотворных проповедей мистических идей
неизбежно должны были создаваться в тех строфических формах и теми
художественными средствами, что отвечали канону суфийской поэзии на
фарси. Давлат Лоханай, например, прослеживая в двух своих стихотворениях
духовные истоки рошанитского учения, приводит длинные перечни имен,
среди которых половину составляют имена крупнейших классиков
персидской поэзии (см. гл. III, разд. 2).
Говоря о значении суфизма в развитии национальных языков, а
следовательно и литератур, А. Шиммель справедливо замечает, что «индому-
сульманские языки (синдхи, панджаби и в значительной степени урду и
пашто) во многом обязаны речам и песням духовных вождей, которые не
могли обращаться к своим неискушенным ученикам на высокопарном
арабском языке богословия или поэтическом персидском. Для того чтобы
сказать о тайнах любви и стремлении к Богу, они были вынуждены
использовать местные наречия, превращая их в средства выражения самых
возвышенных мыслей. Впоследствии эти наречия развились в языки,
способные хорошо служить средством литературного общения и для авторов,
не связанных с мистицизмом» [Schimmel 1975: 33].
Зачинателями афганской письменной поэзии стали именно духовные
вожди, рошанитские вероучители, использовавшие язык пашто не только
для своих устных проповедей, но и для письменных трудов, значительную
часть которых составили поэтические произведения. Согласно рошанит-
ской агиографической традиции, зафиксированной в «Хал-нама», автором
первых касыд, газелей, руба'и и других стихотворений, написанных на
пашто в классических формах персидской поэзии, был Байазид Ансари,
основоположник рошанитского учения [Shafi 1999; Raff' 1976: 172—173].
Главный оппонент Байазида Ахунд Дарвеза тоже признает за ним
авторство стихов на пашто, но, правда, не уточняет, какие строфические формы
они имели: «И давал он афганцам стихи, сложенные сообразно своим
пристрастиям на их собственном афганском языке» [М^: 123]. Хотя никаких
документальных подтверждений этому факту в нашем распоряжении нет,
вряд ли нужно сомневаться в том, что Байазид действительно сочинял на
пашто стихи, которые, очевидно, в первую очередь предназначались для
пения под музыку во время популярных у рошанитов радений (sama'). В
суфийской практике давно сложилась традиция исполнения во время
музыкальных слушаний именно авторских стихотворных произведений,
которые обычно имели классические строфические формы [Дроздов 1999^ 99].
Первым по времени письменным памятником, представляющим собой
цельное собрание афганских стихов, написанных по правилам
классической арабо-персидской строфики, является диван Арзани Хвешкая. От
других авторов, современников, а может быть и предшественников Арзани до
66 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
нас дошли только разрозненные стихотворные фрагменты, которые
свидетельствуют главным образом о наличии в паштунской поэзии этого
времени бейтовой структуры стиха, но не дают представления о системе
жанровых форм.
В диване Арзани имеются стихотворения трех жанровых форм —
касыды, газели ируба'и, полностью соответствующие нормам арабо-персид-
ской строфики. Жанровые формы касыды и руба'и Арзани использовал
для создания азбук. Кроме того, у поэта есть два цикла четверостиший,
являющихся, по мнению афганских ученых, самостоятельными
произведениями [Raft' 1976: 178—183; Hewadmal 2000: 97].
Литературные традиции, заложенные Арзани, были продолжены
Мирза-ханом, диван которого в первой половине XVII в. без преувеличения
стал эталоном не только для рошанитской, но также для религиозно-
дидактической и зарождавшейся светской поэзии пашто. Мирза-хан
развивал жанровые формы касыды и газели, а также был первым в афганской
поэзии автором мухаммаса. По каким-то неизвестным причинам, однако,
поэт полностью обошел вниманием такую популярную жанровую форму,
как руба'и.
Следующий этап в развитии системы жанровых форм афганской
поэзии связан с именем Давлата Лоханая, в диване которого кроме касыд,
газелей и руба'и, уже писавшихся до него, появляется несколько маснави. Из
стихотворных собраний современников Давлата в полном объеме нам пока
известен только диван Васила Рошани, содержащий касыды, газели, руба'и,
кит'а и мухаммасы. Кроме того, Василу приписывается азбука в форме
мурабба'. Стихотворение-л*уряббя« имеется также в неполном диване 'Али
Мухаммада Мухлиса. Таким образом, в рошанитской поэзии первой
половины—середины XVII в. уже были освоены все основные формы
классической персидской поэзии.
Что касается стихотворных фрагментов из сочинений богословского
содержания, то в них еще не наблюдается тенденция к сколько-нибудь
осмысленному разграничению жанровых форм. Причина этого,
безусловно, заключается в том, что к середине XVII в. авторы религиозных
произведений еще не до конца определили для себя границу между собственно
поэзией и саджевой прозой, о чем свидетельствуют, например,
цитированные выше (гл. I, разд. 2) слова 'Абд ал-Карима о качестве его стихов. Тем
не менее, у религиозных поэтов есть вполне оформленные стихотворные
произведения, отвечающие всем классическим требованиям строфики и
метрики. Большинство стихотворных или «полустихотворных»
произведений авторов-богословов ориентированы на форму касыд и газелей, т. е.
представляют собой ритмизованные монорифмические тексты, в большей
или меньшей степени приближенные к какому-либо размеру, с делением
стиха на две строки (мисра') и парнорифмующимися строками в первом
стихе. Кроме того, у 'Абд ал-Карима и Бабу Джана имеются также четве-
ростишт-руба'и, а перу первого из них принадлежит еще мухаммас.
Завершающий шаг в становлении системы жанровых форм поэзии
пашто был сделан Хушхал-ханом Хаттаком. Во-первых, в его творчестве в
развитом виде и большом числе представлены все распространенные стихо-
Глава II. Формы, жанры, метрика
67
творные формы, каждой из которых присущи свои особенности на уровне
содержания и стиля. Кроме касыд, газелей, руба'и, кит'а, поэм-м аснави,
Хушхалом были освоены еще шесть строфических форм, нечасто
встречающихся и в классической поэзии фарси. Во-вторых, диван Хушхала,
видимо, стал первым стихотворным собранием в поэзии пашто, имеющим
классическую структуру. Жанровая рубрикация произведений имеется в его
самой ранней рукописи, изготовленной еще при жизни поэта в 1687/88 г.
При этом основные жанровые формы дивана — газель, касыда, кит 'а, ру-
ба'и — далеко не во всем соответствуют нормам поэтического канона и в
силу изначальной самобытности творчества Хушхала несут на себе
заметный отпечаток авторской индивидуальности (более подробную
характеристику жанровых форм в поэзии Хушхала см.: [Пелевин 2001: 36—49]).
Касыды и газели
Сохранившиеся стихотворные собрания рошанитских поэтов
показывают, что в афганской письменной поэзии изначально не существовало
строгих правил для различения жанровых форм касыды и газели. На
протяжении своей долгой истории в персидской литературе эти жанровые
формы претерпели существенные изменения, и к началу XVII в. их
формальные, тематические и стилистические признаки являли большое
разнообразие49. Требования поэтического канона были в значительной мере
идеальными, и авторы отклонялись от них для решения конкретных
художественных задач. Трудно сказать, какие именно источники в персоязыч-
ной литературе определили критерии, которые Арзани Хвешкай, Мирза-
хан Ансари, Давлат Лоханай и другие рошаниты прилагали к касыдам и
газелям. Полагаю, что ближайшие корни рошанитской поэзии следует
искать прежде всего в суфийской литературе Индии предмогольского и мо-
гольского времени, т. е. начиная с эпохи правления в Дели афганской
династии Лоди (1451—1526), естественно, не исключая при этом прямого
влияния персидской классики50.
Рукописи диванов рошанитских поэтов, как правило, не имеют
рубрикации. Касыды и газели в них обычно составляют один большой раздел
упорядоченных по алфавиту стихотворений, поэтому при отсутствии ясных
критериев различить эти жанровые формы во многих случаях не представ-
49 Вопрос об эволюции жанровых форм газели и касыды в классической персидской
поэзии, их функциональных, структурных и тематических особенностях в разные
периоды истории литературы фарси и у авторов разной творческой ориентации подробно
исследовался М. Л. Рейснер [Рейснер М. Л. 1989; Рейснер М. Л. 1996]. Общую краткую
характеристику этих жанровых форм см., например: [Bausani 1999; Fouchecour 1999;
Bruijn 1997: 31—32; 53—54]. В 1996 г. в Лейдене был издан коллективный двухтомный
труд, посвященный истории касыды в литературах мусульманских народов, к
сожалению, оставшийся мне недоступным [Sperl, Shackle 1996].
50 В известных и доступных мне работах, освещающих историю персоязычной
литературы Индии, проблемы, связанные с развитием жанров и жанровых форм, детально
не рассматриваются [Ethe 1896—1904; 'Abdu'l GhanT 1929; 1930; Marek 1968; Rahman
1970; Tikku 1971; Schimmel 1973: 8—52; Алиев 1968].
68 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
ляется возможным. Тем не менее в некоторых рукописях дивана Мирза-
хана касыды отделены от газелей, что отражено в издании Доста. Конечно,
неизвестно, соответствует ли такое разделение замыслу автора или
является результатом последующего вмешательства составителей и
переписчиков дивана, однако в любом случае структурные совпадения разных
рукописей говорят о существовании устойчивой традиции отнесения 14
стихотворений Мирза-хана к касыдам, а прочих (в издании их 207) — к газелям.
Число бейтов в касыдах Мирза-хана варьируется от 17 до 116, а в
газелях— от 5 до 21. Если касыды по этому сугубо формальному признаку в
общем отвечают некоей условной норме классической поэзии фарси, то
газели явно выходят за пределы такой нормы (35 из них имеют 15 и более
бейтов). Среди стихотворений с числом бейтов от 17 до 21, т. е. там, где
размеры газелей и касыд пересекаются, мы находим две касыды (17 и 21
бейт) и восемнадцать газелей; при этом в пяти других касыдах
наблюдается постепенное увеличение размера: 23 (две касыды), 24, 25 и 27 бейтов.
Таким образом, с точки зрения величины границы между этими
жанровыми формами у Мирза-хана расплывчаты.
Следует отметить, что наиболее предпочтительная величина газели для
Мирза-хана составляла 11 бейтов: такое количество двустиший имеют 102
стихотворения непосредственно из раздела газелей и все тридцать газелей
азбуки (далее распределение газелей по числу бейтов такое: 38
стихотворений имеют по 13 бейтов, 15 — по 14, 9 — по 12 и т. д.).
Содержание касыд и газелей Мирза-хана также не позволяет четко
разграничить эти жанровые формы. Во-первых, произведения Мирза-хана, как и
всех других рошанитских поэтов, имеют одну общую тематическую
направленность. Е. Э. Бертельс в свое время кратко и точно заметил по этому
поводу, что «основная тема всякого суфийского стихотворения
предусмотрена заранее и ничего кроме таухид или вахдат-и вуджуд в нем воспето
быть не может» [Бертельс 1965: 109]. Во-вторых, в рошанитской поэзии
преобладает проповедническое начало, которое влияет на содержание
любого по форме стихотворения. Иными словами, содержание всех
рошанитских стихов сводится к упрощенному, более или менее художественному
толкованию концепции вахдат ал-вуджуд (единство и единственность
божественного бытия), которая в персидской суфийской поэзии, начиная с
'Аттара (ум. ок. 1220), выражалась в лаконичной формуле hama й-st («Все
есть Он»). После Ибн 'Араб и (ум. 1240) эта концепция обрела весомое
теоретическое основание, и с течением времени лирические произведения
суфийских поэтов средней руки стали являть собой сочетание подлинных
или наигранных внутренних чувств, выраженных стандартными
художественными средствами, и абстрактных теоретических посылок,
насыщенных полуученой терминологией. Лирика рошанитов тоже представляет
собой такое сочетание, причем не всегда гармоничное.
В диване Мирза-хана можно найти некоторое количество касыд и
газелей, где проглядывают тематические особенности этих жанровых форм
(например, в газелях более заметны любовно-мистические мотивы, а ряд
касыд напоминают по содержанию краткие религиозно-философские трак-
тагы-рисала), но в целом его поэзия представляет собой бесконечную про-
Глава II. Формы, жанры, метрика
69
поведь одних и тех же общих мистических идей и отдельных положений
непосредственно рошанитской доктрины.
Различие между жанровыми формами более заметно на
стилистическом уровне, хотя опять-таки применительно только к части произведений.
Касыды, являющиеся своего рода стихотворными рисала, отличаются
большей нарративностью, логической последовательностью в изложении,
прямолинейностью языка; в них более очевидны смысловые связи между
бейтами. Многие газели Мирза-хана ориентированы на стилистику
классической персидской суфийской газели; здесь культивируется принцип
смысловой замкнутости бейта, наблюдается стремление автора к большей
афористичности и иносказательности языка, нарочитой недосказанности.
В определенном смысле газели являются сжатыми касыдами: то, что в
касыде может быть прямо сказано в нескольких бейтах, в газели должно
быть сосредоточено в одной строке, а это неизбежно ведет к уплотнению
содержания, недосказанности и, следовательно, к использованию
метафорического языка.
Наличие у Мирза-хана и у прочих паштунских поэтов XVII—XVIII вв.
стихотворений, по критерию величины соответствующих касыдам, но
имеющих явные тематические и стилистические признаки газели,
позволяет говорить о существовании в классической поэзии пашто некоего
промежуточного типа стихотворений. Все исследователи, обращавшие
внимание на этот вопрос, предпочитали относить такие произведения к
жанровой форме газели, называя их «большими газелями» [Лебедева 1971: 15]
или «касыдообразными длинными газелями» (qasidadawla uzde gazale)
[Hewadmal 2000: 175] (оба определения относятся к стихотворениям Рах-
мана Баба). В диванах, имеющих рубрикацию, произведения подобного
рода обычно выявляются в разделах и касыд и газелей. Из 14 касыд Мирза-
хана, на мой взгляд, к «касыдообразным газелям» могут быть отнесены
четыре стихотворения (27, 17, 24 и 23 бейта), в которых более выражены
стилистические особенности газели [МА: 24—26, 29—30, 30—31, 51—52].
Тематическая направленность касыд Мирза-хана в немалой степени
зависит от их величины. Стихотворения с большим количеством строк более
отвечают определению рисала. Во многих касыдах Мирза-хана, например,
затрагивается тема, связанная с рошанитским учением о восьми ступенях
познания Бога, но подробно она освещается только в двух самых больших
по величине поэмах (116 и 85 бейтов) [МА: 19—24, 37—44]. Обе
композиционно распадаются на две части. В первой касыде после краткого
вступления о рождении человека как проявлении милости Бога (бейты 1—14)
речь идет о земном пути обычного человека (15—45) и об этапах
духовного пути мистика-рошанита (46—116)51; вторая касыда начинается с вос-
51 Замечу, что эта композиция, частично присутствующая и в других касыдах
Мирза-хана, отдаленно напоминает структуру популярной в персоязычном мире суфийской
дидактической поэмы «Джам-и джам» («Чаша Джамшида»), принадлежащей перу
Рукн ад-дина Аухади (ум. 1337). В трех частях (dawra) этой поэмы говорится об особой
роли человека среди прочих творений Бога, об образе жизни земных людей и тех, что
избрали мистический путь, и о возвращении праведных к Богу после Страшного Суда
[Bruijnl997: 115].
70 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
хваления Бога и четырех праведных халифов (1—36), после чего следует
характеристика ступеней постижения Бога (37—85).
Религиозно-философские проповеди в прочих касыдах имеют более
хаотичное композиционное построение и состоят, как правило, из
коротких тематических пассажей, чередующихся без видимой упорядоченности.
В одной поэме из 45 бейтов, например, вначале поэт рассуждает о суфий-
ско-философских понятиях сущности и качеств, духовного и
материального (бейты 1—8), затем переходит к осуждению злого духа Шайтана и
низшей души (nafs) (9—15), а оставшиеся строки отводит объяснению роли
наставника в духовном совершенствовании, упоминая в конце о статусе
истинно познавшего ('arif) и двух заключительных этапах мистического
пути [МА: 35—37]. Монотематичными являются, пожалуй, только две
касыды, одна из которых содержит восхваление Всевышнего [МА: 27—29], а
другая посвящена теме сотворения, грехопадения и последующего
духовного просветления человека-Адама [МА: 33—35].
В газелях Мирза-хана, безусловно, главенствует тема мистической
любви, имеющая стандартные вариации (общая характеристика любви,
описание феноменов красоты Друга, жалобы на разлуку или жестокость Друга
и т. д.). Однако только приблизительно в трех десятках стихотворений эта
тема воспринимается как ведущая [МА: 63—68,70—71, 88,92—93,99—101,
103—105, 121—122, 128—129, 133, 136—138, 161—162, 171—173, 175,
183—186, 191—192, 199—201, 207—208, 224—225, 232—233, 235—237].
Многие газели имеют прямую религиозно-дидактическую направленность.
Немало таких стихотворений поэт посвящает порицанию заблудших
невежд, лицемеров, любителей мирского, лживых аскетов и т. п. [МА: 103—
104, 116—117,121, 123, 124,139—141,147—148,154—155, 176,230—231,
237—238, 242—244, 246—247]. Среди монотематичных газелей есть стихи,
где поэт восхваляет Совершенного Учителя (pir kamil) [MA: 201],
рассуждает о соответствии слова и дела [МА: 76—77], делает стандартный
набросок весеннего пейзажа [МА: 223—224], говорит от имени Бога [МА: 79—
81, 83—87, 111—112] и Шайтана/Иблиса [МА: 94—95], сообщает о личном
духовном опыте [МА: 84—85].
Мирза-хан предпочитал газель всем прочим жанровым формам; газели
составляют основную часть его поэтического наследия (ок. 83 %). В виде
цикла газелей им написаны алиф-нама и поэма «Свеча и Мотылек». Кроме
того, только в газелях у Мирза-хана звучат редкие для него мотивы,
основанные на исторических реалиях: это отклик на войну в Декане 1630—1631 гг.
[МА: 72—73], элегия на смерть двоюродного брата, рошанитского вождя
Ахдада [МА: 129—103] и хула на индусский праздник Холи [МА: 251—
252]. Стоит заметить, что арабские цитаты из священных текстов и имена
мифологических и литературных персонажей у Мирза-хана чаще
встречаются тоже в газелях, а не в касыдах, как у других рошанитских авторов.
В газелях Мирза-хана отмечается и использование отдельных
технических приемов, например, повтора последнего слова бейта в начале
следующего [МА: 171] или повтора рифмующегося слова [МА: 178—179].
Тахаллус «Мирза» имеется во всех без исключения газелях и касыдах
поэта, причем везде он занимает место в последнем бейте (макпга').
Глава II. Формы, жанры, метрика
71
Многое из сказанного выше об особенностях касыд и газелей Мирза-
хана может быть отнесено к характеристике этих жанровых форм у других
рошанитских поэтов, в частности Давлата Лоханая и Васила Рошани.
Сохранившиеся рукописные диваны этих поэтов не имеют рубрикации,
поэтому в ряде случаев невозможно точно сказать, к какой жанровой форме
причислял свое произведение сам автор. Такой сугубо формальный
признак, как количество бейтов, не всегда служит достаточным критерием
принадлежности стихотворения к касыдам или газелям, что хорошо видно
на примере стихов Мирза-хана.
В диване Давлата Лоханая содержится 322 стихотворения монорифми-
ческого типа, не считая четверостиший. Структурно они расположены в
издании дивана (т. е. кабульской рукописи) таким образом, что среди них
явно выделяются два раздела упорядоченных по алфавиту газелей и один
раздел касыд (первые десять стихотворений).
В разделах газелей большинство стихотворений состоят из 7—17
бейтов (минимальная величина — 5 бейтов). Однако и внутри и вне этих
разделов имеются стихотворения, которые по числу строк выходят за
указанные рамки, насчитывают 18 и более бейтов (до 27), но при этом ни
содержанием, ни стилистикой никак не отличаются от газелей. Чаще других у
Давлата встречаются газели в 11, 9, 13, 7 и 15 бейтов (соответственно, 78,
48, 40, 27 и 24 стихотворения), что говорит о сходстве представлений
Давлата и Мирза-хана относительно предпочтительного количества бейтов
газели.
Максимальное число бейтов в касыдах Давлата— 143 (далее в порядке
убывания— 107, 94, 56, 52 и т.д.). Нижние границы размеров касыды
расплывчаты; в выделяемом разделе касыд наименьшая величина
стихотворения — 26 бейтов.
Учитывая условность критерия величины, можно следующим образом
разграничить монорифмические произведения Давлата: 286—
стихотворения величиной до 17 бейтов (газели), 18 — стихотворения с количеством
бейтов более 26 (касыды) и 18 — стихотворения промежуточного типа (от
18 до 25 бейтов)52.
Вся поэзия Давлата Лоханая, как и поэзия его старшего современника и
наставника Мирза-хана, имеет исключительно религиозный характер и
направлена на проповедь исламского вероучения одновременно в
традиционалистском, мистико-философском и собственно рошанитском ключе. Стихи
Давлата также являют череду постоянно повторяющихся тем, мотивов и
образов, как правило, традиционных, заимствованных из суфийской
поэзии на фарси. Произведения разных жанровых форм связаны единым
содержанием и отличаются фактически только формальными признаками, в
отдельных случаях стилистикой. Доминирующим тематическим направле-
52 При определении принадлежности стихотворений Давлата к жанровым формам
газели и касыды 'А. Рашад, очевидно, руководствовался сходными формальными
критериями [RaSad 19751: XIII]. Число касыд Давлата, по его мнению, составляет 36. Для
сравнения: описывая состав неполного дивана Арзани Хвешкая из Британского музея,
А. М. Маннанов относит к газелям стихотворения от 5 до 24 бейтов, а к касыдам —
одно стихотворение в 32 бейта [Маннанов 1981: 81].
72 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
нием во всех жанровых формах является религиозная и мистико-философ-
ская дидактика.
Некоторым касыдам Давлата присущ заметно выраженный
повествовательный элемент. Он имеется, во-первых, в произведениях, с
определенной последовательностью излагающих религиозно-философские воззрения
автора. Наиболее показательными произведениями такого рода являются
две первые касыды [DL: 1—10]. Композиция второй из них, например,
схожа с композицией однотипной касыды Мирза-хана (см. выше) и
включает следующие логически связанные между собой тематические разделы:
о сущности Бога, о духовном и телесном, о Коране и столпах ислама, о
пяти основополагающих правилах ислама, о ступенях постижения
божественной Истины. К другому типу повествовательных произведений
относятся три поэмы житийно-панегирического характера, рассказывающие о
чудесах пророка Мухаммада, об истории рошанитского рода и о главе ро-
шанитского вероучения Байазиде Ансари [DL: 16—19, 19—22, 257—258].
Эти поэмы обращают на себя особое внимание, поскольку они являются
любопытными источниками по истории и идеологии рошанитского
движения, но не всегда привлекаются исследователями в качестве таковых.
Частое упоминание в касыдах имен и сюжетов из мусульманской
мифологии также во многом обусловлено их повествовательным стилем.
Что касается композиции касыд, то никакие общие схемы и принципы
построения в них не обнаруживаются. В каждом произведении автор
следует собственной внутренней логике изложения. Выводы А. Г. Матвеевой
о том, что касыды Давлата имеют классическую трехчастную структуру,
кажутся весьма натянутыми [Матвеева 1988: 8].
Газели Давлата, если анализировать их содержание в целом,
направлены на проповедь таухида в его мистическом осмыслении. Для выражения
теософских идей поэт использует стандартную суфийскую символику,
которая смыкает мистическую и любовную поэзию. Некоторые газели
Давлата, взятые из общего контекста его поэтического творчества, могут быть
восприняты как произведения любовной лирики [DL: 30, 67, 72, 73—74,
74—75, 77 и др.]. Однако подавляющее большинство стихотворений
относится именно к мистической поэзии, и не столько потому, что автор не
слишком изящен в придании двусмысленности своим высказываниям, а в
силу того, что он, как правило, и не стремится завуалировать религиозную
суть произведения. Во многих газелях поэт сам расшифровывает
символическое значение образов любовной или гедонической поэзии, включая в
текст бейты, которые содержат религиозно-философские рассуждения,
лишенные двойного толкования. Таким образом, любовные и
гедонические (чаще винные) мотивы почти всегда имеют у Давлата мистический
подтекст, и я склонен полагать, что у поэта вообще нет любовной и
гедонической лирики как таковой, т. е. обращенной к земному чувству.
В обоих дафтарах дивана, как уже отмечалось, имеются разделы
упорядоченных по алфавиту газелей. Сейчас невозможно сказать, отражает ли
это деление авторский замысел или является результатом деятельности
переписчиков. Разделы существенно различаются количеством
составляющих их произведений (122 и 48), но не имеют каких-либо характерных смы-
Глава II. Формы, жанры, метрика
73
еловых или стилистических особенностей. С некоторой долей условности
можно утверждать лишь то, что раздел второго дафтара содержит меньше
в долевом соотношении газелей, допускающих их метафорическое
толкование, и поэтому в нем более прямолинейно выражены
религиозно-философские взгляды автора.
Среди многочисленных газелей-молитв, обращенных ко Всевышнему,
у Давлата есть две небольшие группы стихотворений, которые в одном
случае объединены одинаковым редифом «о Аллах!» (yd allah) [DL: 51—53], в
другом — одинаковым началом первого бейта и редифом, замыкающим
синтаксическую конструкцию: «О Господь, мне... дай» (у а гаЪЪ ma-lara... га)
[DL: 58—61]. Не исключено, что стихотворения с подобными анафорами и
эпифорами относятся к одному времени. Иногда поэт использовал
известный в классической поэтике прием повтора содержания первого бейта
(матла') в последнем (макта'\ придавая таким образом стихотворению
большую композиционную завершенность [DL: 115—116, 131, 158 и др.].
В массе отвлеченных мистико-философских газелей Давлата можно
найти лишь несколько стихотворений, так или иначе привязанных к
реальности. Два стихотворения, например, содержат славословия Байазиду Ан-
сари [DL: 218] и Мирза-хану [DL: 149—150]; четыре газели, написанные в
жанре марсиййа, посвящены 'Али Мухаммаду Мухлису [DL: 222—223],
Рашид-хану [DL: 223], некоему Йар-хану [DL: 213] и лицу, не названному
по имени [DL: 117—118]. Обращают на себя внимание также газели, где
автор, как и Мирза-хан, передает слова Всевышнего, невольно соединяя
таким образом свои мистические представления о Боге с претензией на
пророческую миссию поэта [DL: 150, 152—154]. Стоит упомянуть еще
любопытное стихотворение с длинным перечнем пророков мусульманской
мифологии [DL: 187] и макароническую газель, где чередуются миера' на
пашто и хиндустани53 [DL: 164].
Тахаллус «Давлат» (или «шейх Давлат», «бедняк (faqir) Давлат», просто
«бедняк») имеется в подавляющем большинстве касыд и газелей поэта.
Редкие стихотворения, не имеющие тахаллуса, вероятно, являются
незаконченными.
В единственной сохранившейся рукописи дивана Васила Рошани
касыды и газели насчитывают 171 стихотворение. Издатель дивана 3. Хевад-
мал, столкнувшись с проблемой различения эти жанровых форм, включил
в раздел газелей 154 стихотворения величиной до 16 бейтов, а все прочие
(от 17 до 35 бейтов) объединил в разделе касыд и «касыдоподобных» (qasl-
dawasma) газелей. При этом издатель не отметил, какие именно
произведения, на его взгляд, следует считать касыдами, а какие — «касыдоподоб-
ными» газелями. По моему мнению, все четыре стихотворения в 17 бейтов
вполне можно отнести непосредственно к газелям, а стихотворение в 18
бейтов является касыдой, поскольку оно написано в жанре муназара, как и
53 В персоязычной литературе могольской Индии еще со времен первых
императоров стала развиваться макароническая поэзия, в которой сочетались строки на фарси и
хиндустани, предшественнике литературного урду. Бурный рост этой поэзии, иногда
называемойрехта, отмечается в XVIII в. (см.: [Алиев 1968: 176—179]).
74 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
две другие поэмы в 22 и 29 бейтов. Произведениями промежуточного
типа, стилистически близкими к газелям, а величиной соответствующими
касыдам, могут считаться, как мне кажется, пять стихотворений (от 20 до
26 бейтов)54.
Что касается величины газелей, то у Васила были в общем те же
предпочтения, что и у других рошанитских поэтов. Более ста его газелей имеют
размеры в 11, 10, 9 и 12 бейтов (в порядке убывания).
Вся поэзия Васила Рошани также имеет сугубо мистико-философское
содержание и полностью отвечает эстетическим принципам поздней
суфийской лирики. Однако в поэтическом наследии рошанитов стихи Васила
выделяются своими стилевыми особенностями. Если у Давлата Лоханая,
например, преобладает прямая и целенаправленная религиозная дидактика, а
Мирза-хан во многих стихах стремится следовать стилю
любовно-мистической поэзии, то Васил больше склонен к экспрессивным философским
медитациям, сжатому формулированию отвлеченных суфийских идей.
Поэтический язык Васила предельно лаконичен. Нагромождением
философской терминологии арабского происхождения он иногда напоминает
язык компендиумов мусульманских религиозных наук (хороший пример
из области права см. у М. Казем-Бека: [Казем-Бек 1985: 286—289]), хотя
сходные черты, несомненно, могут быть обнаружены непосредственно в
суфийской поэзии. Пользуясь лингвистической терминологией, можно
сказать, что такому языку свойствен своеобразный кластер имен,
обозначающих суфийские понятия и символы, что часто приводит к смешению
субъектов, определений, именных предикатов и затрудняет правильное
понимание смысла высказываний. Многие стихи буквальному переводу не
подлежат, поскольку без надлежащих дополнений и пояснений
представляют собой бессмысленный набор слов (ср. оценку Е. Э. Бертельсом языка
житийного сочинения «Hyp ал-'улум» [Бертельс 1965: 231]).
На мой взгляд, за внешней глубокомысленностью некоторых мистико-
философских сентенций Васила иногда скрывается просто неразвитость и
вытекающая из нее неуклюжесть поэтического языка. Оценивая качество
поэзии Васила, 3. Хевадмал, например, вообще отмечает в ней отсутствие
высоких художественных достоинств и эстетической ценности, но
причину этого неоправданно видит в сложности и запутанности самой
суфийской тематики [Hewadmal 1986: XV].
Для поэтического стиля Васила характерна не только смысловая, но
зачастую и грамматическая незаконченность, а классический принцип
смысловой автономности бейта уступает место тенденции к смысловой
автономности полустишия {мисра*). Возможно, что обрывистость поэтической
речи Васила является следствием его повышенно эмоционального
восприятия мистических идей и увлеченности практической стороной тасаввуфа.
Неизвестно, что реально служило Василу источником вдохновения и при
54 'А. Рашад, опубликовавший в 1975 г. шестнадцать стихотворений Васила,
полагал, что пятнадцать из них относятся к газелям, а одно является касыдой [Rasad 1975г:
10]. Касыдой он считал стихотворение в 35 бейтов, а к числу газелей, состоящих в
основном из 8—13 бейтов, отнес также одно стихотворение в 23 бейта.
Глава II. Формы, жанры, метрика
75
каких обстоятельствах он занимался творчеством, но, несомненно, он был
поэтом мистического состояния (hal\ о чем свидетельствуют его
собственные признания, а также стороннее суждение Ашрафа Хиджри: «Что
сказать кому о стихах Васила? Для меня они являются дверью в хал» [Asraf
1958: 248]55.
Главная жанровая форма у Васила — газель. Газели составляют почти
три четверти его дивана и полностью отражают тематические и
стилистические особенности всей его лирики. Эмоциональные откровения или
более сдержанные философские размышления о единстве и единственности
божественного бытия сопровождаются в газелях поэта клишированными
теософскими постулатами, причем положения непосредственно рошанит-
ского учения просматриваются довольно слабо. Фактически только
присутствие в стихах фигуры Совершенного Учителя (pir kamil) и заметный
акцент на теме божественного света намекают на идейные воззрения поэта.
Ввиду того что стихи Васила проникнуты единой темой, говорить о по-
литематизме его произведений сложно, хотя, безусловно, в них
присутствуют мотивы самого разного происхождения— собственно суфийские,
философские, любовно-мистические, вакхические, пейзажные и пр. Очень
редко стихотворение можно отнести к какому-либо одному жанру. Так, в
нескольких газелях явно преобладают любовные мотивы [WR: 8, 13, 54—
55, 68], а одна газель целиком написана в жанре бахариййа [WR: 40].
Своеобразный цикл образуют газели, в которых автор говорит от лица Бога
[WR:7, 10, 11, 12, 13—14,59].
В сравнении с поэтическими произведениями других рошанитских
авторов лирика Васила является в еще большей степени умозрительной и
отвлеченной от исторической реальности. Факты, имеющие отношение к
жизни поэта и его окружения, в общем не обнаруживаются. Только в двух
эпегшх-марсиййа упомянуты имена современников Васила [WR: XIV, 39],
а в одной газели содержится глухой отзвук на какие-то исторические
события, связанные с межплеменными столкновениями [WR: 15].
С формальной стороны газель Васила обладает всеми классическими
признаками. Такой обязательный элемент, как тахаллус, отсутствует
только в одной из представленных в издании газелей [WR: 43]. В рукописи,
видимо, имеется лакуна: или стихотворение не было завершено автором,
или по каким-то причинам его оставил недописанным переписчик.
Тематические, стилистические и формальные характеристики касыд
Васила полностью соответствуют тем, что присущи его газелям. На общем
фоне бессистемных мистико-философских рассуждений, состоящих из
автономных бейтов-сентенций, заметно выделяются три поэмы, написанные
55 Конечно, в суфийской агиографической традиции стихи вдохновенных поэтов-
мистиков часто выдаются за плоды экстатического состояния хал. Однако в одних
случаях эти плоды по своему качеству сравнимы, как заметил Р. А. Николсон по поводу
стихов арабского поэта Ибн ал-Фарида, с «самой отборной и превосходной ювелирной
работой разборчивого художника» (цит. по: [Schimmel 1975: 275]), что не позволяет
видеть в них результат духовного экстаза. Большинство стихов Васила нельзя назвать
изящной ювелирной работой, но я не берусь судить, чего в них больше —
божественного вдохновения или идейной одержимости.
76 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
в жанре муназара — стихотворного диспута [WR: 83—86]. Хотя общая
направленность этих произведений тоже суфийская, некоторые реплики
персонажей выпадают из религиозного русла и затрагивают бытовую сторону
жизни (см. след. разд.). Более последовательное изложение суфийских
воззрений поэта дано в самой большой по величине касыде (35 бейтов), где
поэт, начав с рассуждений о смерти и Судном Дне, объясняет далее
необходимость следовать истинному Пути под руководством духовного
наставника [WR: 94—95]. Смысловое единство наблюдается также в двух
однотипных касыдах со славословием Всевышнему и размышлениями о
разнообразии и переменчивости материальных форм [WR: 83—84,96—97].
У представителей богословского литературного круга жанровые формы
газели и касыды в первой половине XVII в. еще не различались. Во многих
рукописях «Махзан ал-ислам», изготовленных в XVIII в., например, моно-
рифмические стихотворные или «полустихотворные» тексты часто
предваряются нейтральным по значению заголовком байан ('изложение'), что
показывает отсутствие предшествующей традиции, которая бы относила
произведение к какой-либо конкретной жанровой форме56. Религиозные
поэты первой половины XVII в., по-видимому, вообще не задавались
целью осмысленного писания касыд и газелей на основе установленных для
каждой формы художественных и формальных критериев. Похоже, поэты
не обращали внимания даже на такой элементарный внешний признак, как
количество бейтов. И 'Абд ал-Карим, и Мир Хусайн, в отличие от Мирза-
хана, не соблюдают никаких ограничений в отношении величины
стихотворений, составляющих их алиф-нама. В азбуке 'Абд ал-Карима,
например, совершенно равнозначными оказываются и пятибейтовый фрагмент,
и стихотворение в тридцать два бейта. Иногда жанровую форму
стихотворения позволяют определить не столько его собственные внешние или
тематические признаки, сколько косвенные основания. Так, перевод 'Абд
ал-Халима газели Са'ди, естественно, должен быть отнесен к жанровой
форме газели [М^: 200—201]. Более выраженные формальные
особенности газели и касыды имеют в «Книге Бабу Джана», но, поскольку это
произведение не является поэтическим сборником (диваном) и не имеет
классической рубрикации, нам не известно, как сам автор воспринимал свои
стихотворения с точки зрения их принадлежности к жанровым формам.
Статистический анализ количественного состава стихотворений,
входящих в «Махзан», оказывается малогоюдотворным для выявления каких-
либо средних величин, предпочитавшихся авторами. Размеры поэтических
фрагментов 'Абд ал-Карима, которых насчитывается около 60, включая
азбуку с вариантными стихотворениями, равномерно распределяются в
пределах 5—22 бейтов, но есть у него и выходящие за эти пределы
стихотворения в 26, 28, 32 и 39 бейтов.
56 Для сравнения можно указать на составленную и переписанную в богословских
кругах Пешавара во второй половине XVUI в. поэтическую антологию «Маджма' ал-аш 'ар»,
где каждое стихотворение предваряется заголовком, точно обозначающим его
жанровую форму (газель, касыда,руба'и) [Pelevin 1994: 350—355].
Глава II. Формы, жанры, метрика
77
Полное представление о содержании поэзии 'Абд ал-Карима дает его
азбука, где переплетаются проповеди основных принципов мусульманской
догмы, религиозная этика и мистико-философские идеи. Среди отдельных
фрагментов особенностями содержания выделяются два
любовно-мистических стихотворения [MI|i 180—-181], которые по традиции могут быть
отнесены к газелям, загадка о духе и теле [М1|: 182], переводы-толкования
двух персидских четверостиший [М^: 183—184; М12: 180а], а также
монотематические стихотворения о посмертной участи человека [MIp 186—
188], о противоречии исламским законам народных обычаев, связанных с
трауром (wir) [MIp 189—192], и о наказании огнем ада тех, кто нарушает
религиозные запреты, в частности запрет на интимные отношения
супругов в пятницу [MIj: 195—196]. Последние два стихотворения могут
рассматриваться как живые свидетельства о степени распространения среди
афганцев XVII в. исламских этических норм и культа.
Из нескольких произведений 'Абд ал-Халима самый большой по
величине фрагмент тяготеет более к саджевой прозе, нежели поэзии [MIj:
203—210]. Его строфы (около 47), ориентированные в начале текста на
стандартный паштунский 16-сложник, не только часто отступают от
заданной метрической схемы, значительно искажая общий ритмический
рисунок, но иногда даже теряют форму двустишия (бейта) и разрастаются до
размеров трех-, четырех- и даже пятистиший, где строки имеют разное
число слогов и разную ритмическую основу. Содержание этого фрагмента
продолжает тему стихотворения 'Абд ал-Карима о посмертной участи
человека, но здесь дано более подробное описание состояния усопшего в
могиле, его допроса ангелами загробного мира и возможных последствий
этого допроса. Два «полустихотворных» отрывка (14 и 12 бейтов)
содержат размышления на классические темы мистико-философской поэзии:
первый трактует разлуку с Другом как малый Судный День, а в другом
говорится о бренности земного существования [MIj: 201—203]. Собственно
поэтические фрагменты включают короткую азбуку (16 бейтов), два
стихотворения, очевидно, предполагавшиеся в качестве частей большой алиф-
нама (13 и 35 бейтов), и перевод пяти бейтов газели Са'ди, к которым 'Абд
ал-Халим добавил еще три собственных [М^: 150—151, 197—201].
Перевод очень близок к тексту оригинала, а его 16-сложный размер по числу
слогов почти соответствует пятистопному варианту персидского метра му-
зари\ использованному Са'ди. Необходимо также отметить, что все
произведения 'Абд ал-Халима, как и все поэтические фрагменты его дяди
'Абд ал-Карима, обязательно имеют тахаллус («Халим»).
Стихотворения, составляющие алиф-нама Мир Хусайна, хотя и были
определены 3. Хевадмалом как газели, «газелеподобные» стихи и кит*а, в
отношении метрики и строфики аналогичны упомянутому выше большому
поэтическому фрагменту 'Абд ал-Халима. Из элементов классической
газели и касыды в них присутствуют только парная рифмовка в первой
строфе и тахаллус («Хусайн») в последней. Постоянное обращение
автора к любовно-мистической символике и образности тоже свидетельствует
о его стремлении уподобить свои стихотворные теософские проповеди
газелям.
78 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Применительно к поэтическим произведениям Бабу Джана можно
говорить о том, что число бейтов играет в них вполне значимую роль
формального признака. Подавляющее большинство стихотворных и
«полустихотворных» отрывков «Книги Бабу Джана» по критерию величины могут
быть отнесены к газелям: 62 отрывка (из 81) имеют размеры от 4 до 15
бейтов (11 отрывков содержат по 15 бейтов, 9 — по 12, 8 — по 8, 7 — по
14,6 — по 10, 6 — по 9 и т. д. в порядке равномерного убывания).
Многие из этих отрывков соответствуют традиционным
представлениям о канонической газели не только числом бейтов, но и своими
тематическими и стилистическими признаками. Около четырех десятков таких
стихотворений, которым в той или иной степени присущи медитативный
характер, метафорический стиль высказываний, смысловая замкнутость
бейта, написаны на обычные для газельной лирики любовно-мистические,
философско-назидательные и этические темы. В стихах Бабу Джана
неоднократно повторяются рассуждения о бренности мирского, скоротечности
жизни и неминуемости посмертного воздаяния, размышления о значении
наставлений и щедрости, порицания скупости и тирании, описания качеств
влюбленных в Бога. Форму газелей имеют некоторые рассказы на сюжеты
коранической мифологии (об Адаме, Нухе, Ибрахиме, Сулаймане, Мусе).
Газелью является и краткое наставление о том, какие дела предписаны
пророком на каждый день недели. К сожалению, качество газелей Бабу
Джана снижают многочисленные метрические погрешности и в целом
недостаточно развитый поэтический язык автора.
Отрывки, количество строк в которых превышает 15, отличаются от
газелей не только величиной, но и очевидной тематической ориентацией на
повествовательные сюжеты, поэтому условно они могут быть определены
как касыды. В девяти таких произведениях (из 17) излагаются кораниче-
ские и исторические предания (о сотворении мира, Да'уде, Мусе, Марйам,
*Иса, Ануширване, Хатиме Тайском), в двух описываются приметы
Судного Дня, еще в двух мысль о бренности земного существования
подтверждается перечнем имен легендарных правителей и пророков прошлого,
остальные посвящены восхвалению Аллаха, Мухаммада, темам
мистической любви и загробной участи человека. Три самых крупных
стихотворения состоят из 35 (восхваление пророка), 32 (история Марйам) и 30
(история 'Иса) бейтов. Другие содержат от 17 до 27 строк.
Особенность «Книги Бабу Джана» заключается в том, что нередко
стихотворный отрывок, структурно схожий с газелью или касыдой, является
частью цикла тематически однородных отрывков, а иногда и частью
единого произведения. К наиболее заметным тематическим циклам относятся,
например, шесть отрывков о мистической любви (8, 17, 9, 8, 8, 8 бейтов)
[BJ: 246—266], пять с описанием рая (15, 10, 14, 14, 10 бейтов) [BJ: 99а—
1026], четыре о значении наставлений (15, 12, 13, 11 бейтов) [BJ: 196—
216], четыре с восхвалением Мухаммада (8, 6, 35, 15 бейтов) [BJ: 726—
75а]. Едиными произведениями, состоящими из двух и более отрывков,
являются повествования об Адаме (8, 9, 8, 8 бейтов) [BJ: 91а—926], Мусе
(17, 13 бейтов) [BJ: 1026—104а] и 'Иса (30, 19 бейтов) [BJ: 1056—108а].
При этом как тематические циклы, так и единые сюжетные повествования
Глава Н. Формы, жанры, метрика
79
могут включать одновременно и стихотворные, и саджевые тексты;
например, раздел о мистическом познании состоит из двух стихотворных и двух
саджевых отрывков [BJ: 816—836], а рассказ о Сулаймане — из двух
стихотворных и четырех саджевых отрывков [BJ: 946—99а].
В диване Хушхал-хана касыды и газели, как и прочие жанровые
формы, строго разграничены между собой и отнесены к соответствующим
разделам. Принадлежность стихотворения к той или другой жанровой
форме, очевидно, была определена самим автором. Например, и в пешавар-
ском издании, и в кембриджской рукописи дивана в раздел касыд входит
7-бейтовое стихотворение, размерами и содержанием более
соответствующее газели [XXX: 552]. Возможно, в этом случае мы имеем дело с
отрывком незаконченной касыды, чем и обусловлено его местоположение в
диване. Из датируемых касыд восемь (от 19 до 93 бейтов) относятся к периоду,
предшествовавшему аресту поэта, и двум годам пребывания в индийском
плену (1645/46—1666). Это четыре касыды-лгябсииия, две поэмы,
посвященные историческим сюжетам, одна пейзажная поэма и одна философская.
До 1666 г. могли быть написаны и некоторые недатированные касыды
любовного, философско-дидактического и религиозного содержания.
В индийском плену Хушхал-хан сочинил не менее трех десятков
газелей, о чем можно судить по упоминаемым в них фактам и составу
рукописного сборника «Фирак-нама». Из более ранних газелей приблизительно
датируется только одно стихотворение, относящееся к первой половине
30-х гг. Логично предположить, что в течение почти 40 лет — с начала
30-х гг. до освобождения из плена в конце 60-х — Хушхалом могла быть
написана примерно половина из более чем 850 газелей его дивана. Хотя
подавляющее большинство газелей Хушхала имеют традиционную
любовную, гедоническую, философскую, этико-назидательную тематику, среди
них можно встретить и декларацию религиозных убеждений поэта [XXX:
355], и список участников заговора против него [XXX: 216], и элегию по
усопшему сыну [XXX: 406], и даже рецепт снадобья для лечения
желудочного заболевания ловчей птицы [XXX: 168]. В стилевом отношении газели
Хушхала отличаются от его касыд, согласно общим нормам поэтики,
большей смысловой самостоятельностью бейтов, мелодичностью языка,
насыщенностью образно-символическими и метафорическими конструкциями.
У Хушхала трудно найти неуклюжие по содержанию и стилю газели,
какие в немалом числе обнаруживаются у рошанитов и богословов.
Четверостишия (руба'и)
Первые четверостишия на пашто засвидетельствованы у Арзани Хвеш-
кая, который использовал жанровую форму руба'и не только для
написания отдельных религиозно-дидактических миниатюр, но и для создания
двух объединенных общей темой циклов. Четверостишия Арзани имеют
классическую схему рифмовки ААВА и 8-сложный размер. Из рошанитских
поэтов первой половины XVII в., как показывают сохранившиеся
рукописи, руба'и писали Давлат Лоханай, Васил Рошани и 'Али Мухаммад Мухлис.
80 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
В диване Давлата руба'и представлены двумя азбуками (по 30
стихотворений) и разделом отдельных четверостиший-*/а/ю/?*/дзн57 (51
стихотворение). В азбуках каждое четверостишие излагает какую-нибудь
мусульманскую догму или содержит призыв выполнять то или иное
предписание веры (см. след. разд.). Руба'и, не входящие в алиф-нама, также
имеют сугубо религиозно-дидактическую направленность, однако их
содержание несколько шире. Помимо схожих проповедей отвлеченных
религиозных догматов среди них есть стихи с восхвалениями Байазида Ансари
и наставлениями, которые поэт адресует самому себе. Эти наставления
ценны тем, что в них присутствуют некоторые биографические факты.
Как верно отмечает А. Г. Матвеева, четверостишия-цалоридзи у Давлата
группируются по темам и формальным признакам, образуя
соответствующие «цепочки» [Матвеева 1989: 12—13]. Первые одиннадцать
четверостиший посвящены прославлению единого Бога; из них пять стихотворений
объединены имеющей варианты анафорой «Всегда испрашивай помощи у
Всевышнего» (te/ у an 1э xdaya gwara) [DL: 228—229]. Далее следуют шесть
стихотворений с описанием преисподней, и само слово «преисподняя»
(sijjlri) является в них анафорой [DL: 229—230]. В следующих девяти
стихотворениях Давлат восхваляет Байазида Ансари и использует здесь либо
анафору «Мийан Рошан» (Miyan Rosan)58, либо прием с повтором
ключевых слов или целых фраз в соседних четверостишиях. Например, слова
второго бейта одного руба'и — сэ sunnat dd nabi hay ka/ xalifa рэ riwayat doy
(«Кто возрождает традицию пророка, согласно преданию, есть [его]
преемник») — так перефразируются в первом бейте следующего стихотворения:
do nabixalifa da ddy / сэ sunnat dodo baja doy («Преемник пророка тот,
благодаря кому упрочена [его] традиция») [DL: 230].
Логическим продолжением восхвалений Байазида становится тема
мистической любви к Богу («Кто последовал его (Байазида. — М. П.)
указаниям, лишь тогда увидел Друга» [DL: 231]). Эта тема развивается в пяти
четверостишиях, где также используется прием с повтором строк. Затем
автор обращается с религиозными назиданиями к самому себе, и в девяти
стихотворениях звучит анафора «О Давлат» или «О шейх Давлат».
Заключают раздел четверостиший-цалоридзи девять стихотворений с
религиозной дидактикой общего характера. В этих стихах также имеются анафоры:
«Тот человек...» (haga has...) и «Истинный правоверный» (haqiqimu'min).
Кроме того, эти последние четверостишия отличаются от всех прочих тем,
что написаны не 8-, а 12- сложным размером.
Руба'и Васила Рошани сохраняют стилевые особенности его газелей и
касыд и большей частью являются не прямыми религиозными
назиданиями, как руба'и Давлата, но мистико-философскими изречениями, своего
рода суфийскими хикматамщ смысл которых нередко крайне затемнен в
силу чрезмерной лаконичности строк. Среди 73 четверостиший Васила за-
57Цалоридза ('четверостишие') — паштунский эквивалент руба'и. В афганской
поэзии XVI—XVII вв. этот термин, видимо, еще не употреблялся.
58Мийан Рошан — Светлый Посредник (или Заступник); один из вариантов
почетного титула Байазида Ансари.
Глава II. Формы, жанры, метрика
81
метно выделяется цикл из 26 стихотворений, посвященных характеристике
трех типов человека по отношению к мистическому Пути: insan —
достигший высших ступеней духовного развития, adam — тот, в ком сочетаются
равным образом духовное и материальное59, badal — пленник
материального мира. В других руба 'и кроме мотивов, связанных с осмыслением may-
хида, звучат высказывания о сути истинного знания, о роли духовного
наставника, о Коране, о переменчивости мира и бренности жизни и пр.
Между некоторыми руба 'и угадывается интонационная и смысловая связь, что,
возможно, говорит о внутреннем стремлении автора к циклизации
стихотворений. В качестве примера приведу три руба 'и о смене времен года:
Взгляни, что становится с деревьями зимой;
// Совсем не остается в них жизни.
Замедление их [развития] происходит по указу [Бога],
// Но они вновь станут такими, как были прежде.
Зазеленеют эти мертвецы, // Вновь поднимутся семена.
Когда наступит божественная весна, // Семена пробьют землю.
Он властен над [четырьмя] стихиями, // Все сущее под Его наблюдением.
Видит он воочию эту борьбу. // Что ж обижаться зиме!60
[WR: 105]
В религиозной поэзии богословов жанровая форма руба'и впервые
встречается у 'Абд ал-Карима, который использовал ее для написания
«урока молитвы» [М12: 16—66]. Этот «урок» представляет собой
стихотворное толкование читаемых при исполнении намаза текстов 1-й, 112-й и
2-й сур Корана и состоит из пятидесяти двух четверостиший. Каждое
четверостишие объясняет на пашто какое-либо слово или выражение из кора-
нических айатов. Почти все четверостишия написаны 8-сложником, в
некоторых наблюдаются сбои с 8-сложника на 12-сложник, и только в одном
руба'и размер строго соответствует 12-сложнику [М12: 56]61. Язык
четверостиший исключительно прост и понятен, что, вероятно, и позволило Та-
квим ал-Хакку назвать их «уроком». Во многих руба'и изложение ведется
от первого лица, а толкование арабского текста намаза постоянно
сопровождается заявлениями автора о его искренней и твердой приверженности
мусульманской вере. В последнем четверостишии автор упоминает свое
имя: «Каримдад— Твой раб, он стыдится многочисленных грехов...»
«Урок молитвы» 'Абд ал-Карима наряду со многими стихами из его олиф-
нама относится к наиболее типичным образчикам паштунской религиозно-
проповеднической поэзии первой половины XVII в.
Явно в подражание «уроку» 'Абд ал-Карима написаны руба'и Бабу Джа-
на. Хотя они и не являются собственно толкованием молитвы, их
смысловая направленность, язык и стиль аналогичны тем, что мы видим в четве-
59 Первый тип соответствует суфийскому понятию совершенного человека (al-insan
al-kamil\ которым признается пророк Мухаммад, а второй тип основывается на корани-
ческом образе первочеловека Адама.
60 Очевидно, поэт имеет в виду, что зима уступает место весне в результате борьбы
стихий, которые управляются Всевышним.
61 Возможно, все сбои на 12-сложный размер есть следствие ошибок при переписке.
82 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
ростишиях 'Абд ал-Карима. В «Книге Бабу Джана» имеются два фрагмента,
состоящие из 16 и 14 четверостиший [BJ: 26—4а, 77а—78а], а также один
фрагмент, структурно схожий с газелью, где просматриваются 3 руба'и
[BJ: 71аб]. Как мне кажется, этот третий фрагмент по замыслу автора тоже
должен был иметь вид цепочки руба 'и, но почему-то остался
недоработанным. Все руба'и Бабу Джана написаны 8-сложным размером. В первом
цикле четверостиший преобладают наставительные интонации. Автор
проповедует здесь веру в единого мусульманского Бога, требует
безоговорочного поклонения Ему и постоянного чтения молитв. Другой цикл, как и
четверостишия из недоработанного фрагмента, посвящен восхвалению
всемогущего, всемилостивого, неизменного и вечного Творца. Язык Бабу Джана
здесь хорошо характеризует аудиторию, которой предназначались эти стихи:
Он и не черный, и не белый, // Не желтый, не красный, не зеленый.
Никакой цвет Ему не присущ, // Он — никакой (becun-beciguri).
Нет у Него ни отца, ни матери, // Нет у Него ни брата, ни сестры.
Бог свободен от [наших] сомнений, // Нет у Него ни стороны, ни дома...
[BJ: 77аб]
Четверостишия религиозных поэтов выглядят робкими пробами пера
на фоне тысячи шестисот (!) пестрых по содержанию руба'и Хушхал-хана.
Подавляющее большинство из них написаны в жанре мудрых
изречений — хикматов. Хушхал затрагивает в таких стихах самые
разнообразные философские и нравоучительные темы, которые нередко являются
отзвуком поэтической дидактики классиков персидской литературы. Многие
руба'и Хушхала представляют собой своеобразные дневниковые записи,
но те, что могут быть более или менее точно датированы, относятся к
последним двадцати годам жизни поэта. Одной из наиболее примечательных
особенностей руба'и Хушхала является их метрика. В отличие от
стихотворений всех прочих жанровых форм они написаны 10-сложным размером,
близким ритмическому строю народного двустишия ландэй (см. разд. 3).
Возможно, это результат осмысленного намерения поэта показать
сходство с персидской поэзией, где строфика и метрика руба 'и имели
фольклорное происхождение.
Фрагменты twrfalvL стрефические фермы
До Хушхал-хана Хаттака жанровая форма кит'а не получила заметного
развития в письменной поэзии пашто. Видимо, сама специфика этой
жанровой формы, ее тематические и стилистические особенности мало
отвечали мистико-философской и религиозно-дидактической направленности
ранней паштунской лирики (о жанровой форме кит'а в классической
персидской поэзии см.: [Ворожейкина 1999]).
В сохранившихся диванах рошанитских поэтов имеется только одна поэ-
мъгкит'а, принадлежащая перу Васила Рошани [WR: 109—111]. Этот
фрагмент, содержащий славословие Богу и мистическую интерпретацию may-
Глава II. Формы, жанры, метрика
83
хида, является самым большим по числу строк стихотворением Васила в
его диване (57 бейтов). От касыд он отличается исключительно своим
главным формальным признаком — отсутствием парной рифмовки в
первом бейте. Во фрагменте просматривается в целом нехарактерная для
Васила логическая последовательность в изложении, и между многими
бейтами имеются смысловые связи. Композиция поэмы строится следующим
образом: за восхвалением единосущного и могущественного Бога-Творца
следуют разъяснения об особом статусе человека как главного творения и
средства самопостижения Бога, после чего поэт говорит о сложности
процесса мистического познания и скрытом присутствии единой
божественной сущности в субстанциях материального мира.
Из 408 кит 'а Хушхал-хана многие отвечают данному Г. П. Улфатом
определению стихов поэта как дневниковых записей [Ulfat 1959: 493].
Среди них есть не только хронограммы, в которых Хушхал зафиксировал даты
тех или иных исторических фактов (смерть матери в 1669/70 г. [XXX: 900],
хайберское сражение между моголами и афганцами в 1672 г. [XXX: 922],
прекращение моголо-афганской войны и наступление сезона дождей в 1677 г.
[XXX: 842—843], эпидемия чумы в 1686 г. [XXX: 834—835] и т. п.), но и
многочисленные сообщения о личных житейских проблемах (жалоба на
бессонницу [XXX: 915], предупреждение жене о разводе [XXX: 905],
излечение от желудочного расстройства [XXX: 918], сетование по поводу
плохого здоровья и слишком большого числа дочерей [XXX: 896] и др.), а также
размышления на самые различные темы (оценка деловых способностей
сыновей [XXX: 829—830] и их порицание [XXX: 824—825, 831—832, 844—
845, 862 и др.], суждения о некоторых принципах афганского кодекса
чести [XXX: 839, 869—870, 878, 894, 912, 916 и др.], о роли золота и денег
[XXX: 857, 870, 877, 887 и др.], бытовые характеристики женщин [XXX:
832, 836—838, 878, 904, 917, 919, 957—958 и др.], сексологические
рекомендации [XXX: 828—829] и пр.). В какой-то степени кит 'а Хушхала
имеют типологическое сходство, например, с фрагментами персидских поэтов
исфаханского круга XII—XIII вв., в диванах которых соответствующие
разделы, по мнению 3. Н. Ворожейкиной, напоминают своего рода «слу-
жебно-личные архивы» [Ворожейкина 1984: 77—92,109—113].
Другая особенность кит'а Хушхал-хана заключается в том, что немалое
их число относится к смеховому жанру. Это многочисленные хулительные
стихотворения, хаджвы, в том числе на потомков, императора Аурангзеба,
некоторых племенных вождей, женщин, а также стихи шуточного
содержания, такие как поэмы о злых языках и дураках [XXX: 820—822, 862—
863]. Соответственно, язык и стиль многих фрагментов Хушхала сознательно
снижены до уровня просторечия. В сатирических фрагментах поэта иногда
проскальзывают довольно скабрезные шутки, вульгаризмы и откровенные
непристойности, которые нельзя встретить в произведениях других
жанровых форм. Ярким примером может послужить ироничное покаяние
поэта по поводу своей сексуальной невоздержанности в молодые годы [XXX:
845—846]. Надо заметить, что грубая хула и непристойности вполне
соответствуют традиционной специфике жанровой формы" кит 'я, корни
которой уходят еще в доисламскую бедуинскую поэзию [Филыитинский 1985:
84 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
54—55]. У упоминавшихся исфаханских поэтов треть всех фрагментов, по
подсчетам 3. Н. Ворожейкиной, составляют бранные и сатирические
стихи, несвободные от фривольных и грубых шуток.
Среди фрагментов Хушхала нередко встречаются явно не законченные
произведения и наброски, а также стихи с заметными метрическими
погрешностями, что еще раз подтверждает дневниковый характер раздела
кит*а в его диване. Остается добавить, что из датируемых фрагментов
самый ранний относится к первой половине 50-х гг. [XXX: 818—820]. Он
повествует о том, из каких мирских занятий складывалась жизнь
племенного вождя. Не менее десяти фрагментов были написаны в индийском
плену. В их числе есть одна хронограмма, где сообщается о комете,
наблюдавшейся автором летом 1664 г. в Дели [XXX: 827—828].
Развитие в паштунской поэзии прочих классических стихотворных форм,
в которых бейт, оставаясь основной структурной единицей, служит для
построения более крупных строф, начинается, видимо, с мухаммаса
Мирза-хана Ансари [МА: 255—257]. Мухаммас {muxammas) представляет
собой цепочку пятистиший со схемой рифмовки ААААА — ВВВВА — ССССА
и т. д. В этой стихотворной форме минимальной строфической единицей
оказывается мисра\ точнее, не имеющий пары пятый стих строфы,
которым в силу одинаковой рифмы поддерживается структурная и
ритмическая целостность стихотворения. Мухаммас Мирза-хана состоит из девяти
пятистиший, каждое из которых представляет собой самостоятельную ми-
стико-философскую сентенцию или поучение, но общий смысл
произведения сводится к утверждению идеи о бренности материального мира и
единственной реальности божественного бытия.
После Мирза-хана в рошанитской поэзии строфическую форму
мухаммас использовал Васил Рошани. В его диван входят три таких
стихотворения (6, 10 и 11 строф), которые, в отличие от мухаммаса Мирза-хана,
написанного 8-сложником, имеют 12-сложный размер [WR: 112—115]. В двух
мухаммасах Васила наблюдается тематическое единство строф: одно
стихотворение содержит предполагающее мистическую трактовку описание
весеннего сада цветов, а в другом восхваляется возлюбленный Друг.
Третий, наименьший по величине мухаммас в равной степени сочетает
мотивы весеннего пейзажа и мистической любви. В последних строфах всех
трех произведений фигурирует авторский тахаллус.
Одно стихотворение в форме мухаммаса имеется также в богословской
поэзии и принадлежит перу 'Абд ал-Карима [М12: 59а—606]. Оно включает
12 строф с одинаковым рефреном, т. е. одинаковой пятой мисра' —
«Знайте, правоверные!» (wupohezoy mu'minano). В стихотворении толкуется
религиозный смысл параболы, где говорится о человеке, который упал с
горы в пропасть, но зацепился за уступ и, чтобы спастись, должен
ухватиться за веревку, спущенную сверху доброжелателем. Автор объясняет своей
аудитории, что гора означает божий престол, уступ— бренную землю,
пропасть— ад, веревка— Коран. В четырех последних строфах акцент
поставлен на значении Священной Книги как главного средства спасения
души и приближения к Богу. Как и многие другие стихи 'Абд ал-Карима,
Глава II. Формы, жанры, метрика
85
мухаммас написан «плавающим» размером, меняющимся с 8- на 12- и
даже 16-сложник.
Другая строфическая форма, появившаяся в паштунской поэзии до
Хушхал-хана, — мурабба*. Эта форма отличается от мухаммаса
фактически только отсутствием пятой мисра\ организующую функцию которой
выполняет четвертая мисра\ т. е. второе полустишие второго бейта.
Строфой здесь является четверостишие, а общая схема рифмовки такая: АААА —
ВВВА — СССА и т. д. Как уже говорилось, Василу Рошани приписываются
три азбуки в форме мурабба\ из которых только одна, на мой взгляд,
могла действительно ему принадлежать (см. след. разд. и гл. I, разд. 1). Это
стихотворение содержит 29 строф (по числу алфавитных графем),
написанных 8-сложником и зарифмованных следующим образом: АААХ —
ВВВХ—СССХит.д.
У Хушхал-хана кроме четырех мухаммасов (9, 10, 13, 14 строф) и двух
мурабба' (по 8 строф) имеются стихотворения еще пяти строфических
форм: два мусаддаса (6 и 9 строф с рифмовкой i4i4AA4A — ВВВВВА —
СССССА...), му'ашшар (6 строф по 10 бейтов с рифмовкой, как у
мусаддаса), тарджи банд (7 строф-газелей по 7 бейтов с одинаковым у всех
седьмым бейтом, имеющим парную рифмовку), таркиббанд (5 строф-газелей
по 6 бейтов, последний из которых в каждой строфе имеет свою особую
парную рифмовку) и таркиббанд зу-л-кафийатайн (11 двадцатибейтовых
строф, отличающихся от простого таркиббанда парной рифмовкой всех
бейтов) [XXX: 926—957].
По содержанию большинство строфических стихотворений Хушхала
относятся к традиционной любовной лирике. Строфы таркиббанда к тому
же представляют собой эксперименты с некоторыми техническими
приемами стихосложения, в частности связанными с графическим
оформлением стихов (например, употребление слов с буквами, не имеющими точек,
или слов, состоящих из двухбуквенных сочетаний). Особое место в поэзии
Хушхала занимает большой таркиббанд зу-л-кафийатайн. Написанный в
1665/66 г. во время заключения в Рантамбхоре, он подробно повествует об
аресте поэта в январе 1664 г. и последовавших затем событиях нескольких
месяцев. Как уникальный биографический источник, пронизанный
реальными чувствами и впечатлениями автора, это произведение стоит в одном
ряду с поэмой-маснави «Фирак-нама», созданной в то же время, и
знаменует собой начало нового периода в творчестве Хушхал-хана.
Отдельно следует сказать о переведенной Бабу Джаном арабской
касыде, известной в афганской литературе под названием «Сирийская молитва»
и приписываемой разным лицам, в частности 'Абдаллаху ибн 'Аббасу
(ум. 686/88), двоюродному брату пророка. Этот перевод имеет довольно
своеобразную форму. Каждый бейт оригинала переложен Бабу Джаном на
пашто тремя двустишиями, имеющими собственную рифму и парную
рифмовку в первом бейте, как у газелей и касыд. В рукописях
произведение имеет вид построчного перевода, т. е. трехбейтовые паштунские стихи
следуют сразу за тем арабским бейтом, к которому они относятся.
Подобным построением текста произведение Бабу Джана напоминает «урок
молитвы» 'Абд ал-Карима с той разницей, что вместо четверостиший струк-
86
М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
турной единицей здесь является трехбейтовая строфа. Как и «урок» 'Абд
ал-Карима, перевод Бабу Джана написан 8-сложным размером (правда,
несвободным от многочисленных погрешностей).
Доступные мне рукописные варианты «Сирийской молитвы» (из
фондов СПбФ ИВ РАН) содержат разное число строк в оригинальном и
переводном текстах. В рукописи С 1901 (2636—270а) — 38 арабских и 115
афганских бейтов (третий бейт оригинала изложен в четырех двустишиях), а
в рукописи С 1902 (7а—96) — 39 арабских и 117 афганских бейтов. Кроме
того, паштунский текст поэмы дополнен заключением переводчика (в
рукописях, соответственно, 7 и 5 бейтов), где упоминается его имя:
«Помяните [этой] молитвой Бабу Джана, ибо она есть фатиха добрых и друзей.
Знай, что эта касыда — арабская, и есть она образец покаяния. Несчастный
Бабу Джан перевел ее на пашто, она [подобна] весенним цветам....» [Du'a:
270а].
Что касается смыслового соответствия оригиналу, то, как и «урок
молитвы» 'Абд ал-Карима, перевод Бабу Джана представляет собой в
большей степени вольное изложение арабского текста «с истолкованиями, на
которые в подлиннике порой нет и намека» [Кушев 1980: 58]. Целью Бабу
Джана было донести смысл торжественных и лаконичных арабских стихов
до неискушенных в теологии паштунов, поэтому язык его перевода часто
близок к просторечному, а содержание в общем ориентировано на уровень
образованности слушателей. Тем не менее автор отчасти попытался
воспроизвести стилистику оригинала, сохранив, например, такой его важный
структурный элемент, как рефрен fa 'tlubril tajidni («ищи Меня и
найдешь») — ка talab kre та-Ьэ тише («если ищешь Меня, найдешь»).
Приведу для примера три строфы, включая начальную:
«Я существую, ищи Меня и найдешь,
А если ищешь равного Мне, не найдешь».
Я существую всегда, // Если у тебя есть стремление [ко Мне], дервиш.
Никогда не найдешь Меня, // Если мирское встало перед тобой.
Если ищешь Меня, найдешь. // Я зову тебя: Иди ко Мне...
[Du'a: 2636]
«И не спасет тебя, о Мой раб, никто кроме Меня
От огней. Ищи Меня и найдешь».
Я спасу тебя от огня, // Буду защищать тебя от всех.
Если по правде стремишься ко Мне, // Вручу тебе сокровища обоих миров.
Если ищешь Меня, найдешь. // И Я буду искренним с тобой...
«И не установлен тебе рай никем, кроме как Мной.
Я — дающий хлеб насущный. Ищи Меня и найдешь».
Ты узнаешь о райском саде, // [Который] я охранил от ворон.
Когда окажешься в этом саду, // Опьянеешь от гордости.
Если ищешь Меня, найдешь. // Мотылек тянется к лампе.
[Du'a: 2676]
Как видно из процитированных строк, «Сирийская молитва»
представляет собой декларацию Всевышнего о своем существовании и качествах.
Глава II. Формы, жанры, метрика
87
'■■ *"<* щ . . -~ . j
.„ • w-5 «и* ij> j*J& _*-* J
Рис. 6. Фрагмент рукописи «Махзан ал-ислам» (В 2483); л. 596;
часть мухаммаса ' Абд ал-Карима
88
М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
1
'1
i
ц • jj j^^Ji^ £> # Hit
^tx^j.,^^ ,;; J, ;>jf "* ; '.<£>■>?--. ^ „„ ^j
lit" : . «..• *^ -Сч^"-" •' ^ '*МмГ
1r~~ ' i
L ~> zirx...i,.,....
0
hi
И
l
i
•4
•i!!
ij
;
'*"' '^ л
i
\
X
\
■■■
Л
*
Рис. 7. Фрагмент рукописи (С 1901); л. 263а;
начало «Сирийской молитвы» Бабу Джана
Глава II. Формы, жанры, метрика
89
Бабу Джан привнес в перевод больший элемент назидательности и
проповеди, а также наполнил его стандартными мотивами персидской любовно-
мистической и мистико-философской лирики. Если в арабском оригинале
явственно слышится строгое звучание коранических айатов, то у Бабу
Джана речи Всевышнего являют смешение самых разных стилей и
интонаций. Бог Бабу Джана вещает одновременно на языке богослова,
деревенского муллы, суфийского проповедника и не слишком оригинального
поэта-мистика. Поэтому в его переводе мы находим и туманные, требующие
дополнительных разъяснений намеки на священные тексты (например,
намек на историю пророка Мусы [Du'a: 266а] или упоминание о
сотворении божьих людей из света, а злых духов из огня [Du'a: 2696]), и отзвуки
каких-либо мистико-философских идей (например, в сухом перечне
уровней мироздания — насут, малакут, джабарут, лахут [Du'a: 269а]), и
задушевные увещевания, подобные такому: «Если ты поплачешься Мне, Я
дам тебе, что захочешь; Я зову тебя: Иди ко Мне, — а ты почему-то
дерзишь Мне» [Du'a: 2686].
Наснави
Автором первых афганских поэм-маснавы, по имеющимся данным,
следует считать Давлата Лоханая, в диване которого содержатся четыре
такие поэмы. Однако только одна из них определена издателем дивана как
отдельное самостоятельное произведение [DL: 234—244]. Две другие
поэмы даны сплошным текстом и помещены в раздел, ошибочно названный
«Фрагменты» (al-muqatta'at) [DL: 245—250]. Четвертая поэма составляет в
издании единое целое с касыдой, принадлежащей, судя по всему, другому
поэту [DL: 251—252]62.
Маснави занимают видное место в поэзии Давлата, поскольку в них, с
одной стороны, хорошо выражено его кредо, а с другой — в полной мере
проявлены художественные особенности его творчества. По стилю поэмы-
маснави Давлата близки его касыдам и тематически тоже во многом
перекликаются с ними (например, чудеса пророка являются темой и касыды и
маснави), поэтому вряд ли будет ошибочным утверждение о том, что эти
жанровые формы отличаются у поэта почти исключительно своими
формальными признаками, т. е. главным образом рифмовкой.
Самая большая поэма (264 бейта) посвящена восхвалению единого и
всемогущего Бога. В начале этого произведения (бейты 14 и 15) автор сам
указывает его жанровую форму и главную тему: «Начну маснави,
произнесу длинную хвалу Тебе; сочиню маснави, восхвалю Господа» [DL: 234].
Славословие Всевышнему перемежается здесь с философскими
размышлениями о диалектическом единстве мира, религиозными покаяниями
автора (tawba), суфийской дидактикой о совершенном духовном наставнике
62 А. Г. Матвеева, видимо, не рискнувшая критически отнестись к изданию дивана,
говорит только об одной поэме-маснави Давлата и не упоминает о трех других
[Матвеева 1989: 13—15].
90 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине-—середине XVII века
и многочисленными краткими экскурсами в область мусульманской
мифологии.
Поэма изобилует анафорами, повторами словосочетаний и рифм,
сходными синтаксическими конструкциями, парафразами. Пассажи, состоящие
из двух и более бейтов с такими повторами, образуют ритмико-смысловые
гнезда, которые усиливают эмоциональное воздействие текста и его
восприятие. Уже первые восемь бейтов поэмы одинаково начинаются с
восклицательной частицы ау, за которой следуют однотипные обращения к
Аллаху с упоминанием его коранических эпитетов rahman, rahim, karim,
xaliq, sattar и т. п., что задает общий тон поэме, придавая ей вид
ритмизованной стихотворной молитвы. Другие подобные пассажи имеют более
развернутые анафоры, как, например, yaw-yaw pir — «один-единственный
наставник» (6 бейтов) [DL: 236—237], haga zda сэ— «он знает, что...» (5
бейтов), kul рэ ta mast-di— «все опьянены Тобой» (3 бейта) [DL: 237], Ъатл
td kre — «Ты играешь» (5 бейтов) [DL: 238], sta кагат — «Твоя милость»
(5, 3 и 2 бейта) [DL: 239, 243], Ya'qub — «Йа'куб» (3 бейта) [DL: 240] и пр.
Подряд повторяющиеся рифмы особенно заметны в отрывках из четырех и
более бейтов, например: roduna — кэШпа..., уаг-уе — dildar-ye..., duswara —
kirdagara... (по 4 бейта) [DL: 238, 240]; mahram ka — кагат ка..., xday-dQy —
rahnamay-ddy... (по 5 бейтов) [DL: 239, 240], zinda-уэт — rawanda-уэт...
(8 бейтов) [DL: 240—241] и пр. Иногда пассажи с анафорой и повтором
рифм пересекаются или поглощают друг друга, что создает
дополнительный эффект ритмико-смыслового единства текста.
Другая поэмь-маснави (73 бейта) представляет собой наполненное
мистическим содержанием славословие пророку Мухаммаду [DL: 247—250].
Главная идея стихотворения опирается на суфийскую концепцию
божественного света. Здесь же восхваляются столпы ислама — праведные
халифы, первые шиитские имамы, главы четырех суннитских
религиозно-правовых школ, а также упоминаются знаменитые мистики и поэты прошлого.
Длинную цепь духовного преемства Давлат завершает именем Байазида
Ансари. В третьей, явно не законченной поэме автор рассказывает о
нескольких чудесных деяниях пророка Мухаммада [DL: 251—252], а в
четвертой проповедует таухид, объясняет значение духовного наставника на
мистическом Пути и напоминает об участи праведных и грешных в
загробном мире [DL: 245—247]. В последнем стихотворении многие бейты
связаны между собой не только логическими переходами, но и, как в
самой большой поэме, повторами ключевых слов или фраз.
Предоставляемая жанровой формой маснави возможность создания
крупных по величине поэтических произведений, насчитывающих сотни
бейтов, была в полной мере использована Хушхал-ханом. В списке его
произведений числятся шесть (или, возможно, семь) поэм-маснави, самая
большая из которых — «Фазл-нама» — содержит около четырех тысяч
бейтов, а самая короткая— «Фал-нама»— 72 бейта63. Первым опытом
маснави у Хушхала стала поэма «Фирак-нама» (571 бейт), написанная в
63 Не исключено, что поэма «Фал-нама» изначально была составной частью «Фазл-
нама» [Hewadmal 2001: 187—188].
Глава II. Формы, жанры, метрика
91
1665/66 г. в индийском плену. Две следующие поэмы— «Баз-нома» (919
бейтов) и «Сват-нама» (391 бейт) — появились спустя десять лет в 1674 и
1675 гг. Если у Давлата стихотворения-лшсиавм представляют собой
религиозно-мистические проповеди, то Хушхал избрал эту жанровую форму
для поэтических дневников и трактатов, посвященных тем или иным
прикладным знаниям (см. гл. I, разд. 3 и гл. V). Любопытно также, что в диване
Хушхала имеются два небольших фрагмента в форме маснави (5 и 12
бейтов) [XXX: 884, 962]. В одном поэт предается горестным размышлениям
на извечную тему «О времена, о нравы». Другое является притчей на
классический сюжет о Маджнуне и Лайле: поклоняясь старому треснувшему
дереву, Маджнун объясняет удивленным людям, что в тени этого дерева
отдыхала Лайла.
Появление в паштунской поэзии традиционных для жанровой формы
маснави романтических поэм относится к последней четверти
XVII—началу XVIII в. и связано с именами сыновей Хушхала. В числе этих поэм
были как переводные, так и оригинальные произведения. Большую
популярность в литературе пашто приобрели переводы поэмы Низами «Лайла и
Маджнун» (1679/80) и поэмы Джами «Йусуф и Зулайха», осуществленные,
соответственно, Сикандар-ханом (ум. после 1704/05) и 'Абд ал-Кадиром
(ум. после 1714). Зачинателем национального направления в жанре
романтических маснави стал Садр-хан (ум. после 1712), переложивший на стихи
афганскую народную легенду «Адам-хан и Дурханэй» (1706/07)64.
2. Развитие жанров
Теоретические вопросы, связанные с определением и соотношением
понятий «жанр» и «жанровая форма», я оставляю за пределами настоящего
исследования, тем более что они не вполне разрешены и применительно к
классической литературе фарси, оказавшей формирующее воздействие на
афганскую письменную поэзию. Тем не менее предмет исследования
обязывает кратко пояснить различие указанных понятий.
Сам термин «жанровая форма», который представляется более точным,
чем соответствующее ему употребительное выражение «поэтическая
форма», говорит о том, что обозначаемое им понятие характеризуется
одновременно признаками формы и содержания. Иными словами, в жанровой
форме воплощена генетическая взаимосвязь стихотворной формы и
стихотворного жанра. Формальные признаки, относящиеся к строфике и
просодии стиха, являются, в силу своей устойчивости, главными при определении
64 Эта легенда, основанная, видимо, на реальных фактах, возникла в XVI в. среди
юсуфзаев. Нужно заметить, что матерью Садр-хана была дочь вождя юсуфзайского
клана баизаев. После ареста Хушхал-хана в 1664 г. многие члены его семьи, в том числе
десятилетний Садр со своей матерью, укрылись у родственников на юсуфзайских
землях. Таким образом, Садр-хан еще с детства в кругу семьи мог слышать народные
юсуфзайские предания, которые впоследствии были литературно обработаны им в
поэмах «Адам-хан и Дурханэй» и «Дилай и Шахэй» (1698/99).
92 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
жанровой формы стихотворения. Однако во все периоды своей эволюции
классические стихотворные формы— касыда, газель, кит*а, руба'и, мае-
нави— обладали также выраженными тематическими особенностями и
соотносились с конкретными жанрами. Хорошо известно, что
традиционная касыда ассоциируется преимущественно с мадхом, т. е. восхвалением,
обычно составляющим ее основную часть, а близкая ей по строфике
газель, исходя уже из названия, воспринимается в первую очередь как форма
любовной лирики (см., например: [Бертельс 1988: 401—407; Филыитин-
ский 1985: 57—60; Рейснер М. Л. 1989: 11—18]). Таким образом, жанровая
форма— это предполагающий определенную тематическую
направленность вид строфической организации стихотворения.
«Жанр»— более емкое и многоуровневое понятие, характеризуемое
главным образом тематическими, стилистическими и отчасти
композиционными признаками. На самом верхнем уровне этого понятия, согласно
классической европейской традиции, берущей свое начало в античности,
располагаются три основных типа литературы: эпос, драма и лирика (см.,
например, один из словарей современной литературоведческой
терминологии: [Scott 1980: 115]), однако дальнейшая классификация, безусловно,
целиком зависит от конкретного литературного материала с учетом его
языка, времени, этнокультурной, религиозной и исторической среды.
Общепринятой упорядоченной классификации жанров средневековой
персидской литературы пока не существует, но упомянутое выше
исходное деление на три основных типа, на мой взгляд, вполне удовлетворяет
ей. Если говорить о жанрах лирики, к которой так или иначе относятся все
исследуемые в данной работе поэтические тексты, то здесь главным
является вопрос о соотношении традиционных понятий собственно персидской
поэтики и общелитературных категорий, логически вытекающих из
потребностей классификационного обобщения. Например, понятие
пейзажной лирики в персидской поэзии отсутствовало, но существовал крайне
популярный во все времена жанр бахариййа (bahariyya), по определению
подразумевающий тему весеннего пейзажа и Навруза, иранского Нового
года. Однако наличие немалого числа произведений, посвященных другим
сезонам (в частности стихи ранней новоперсидской поэзии об осеннем
празднике Михрагане и зимнем празднике Сада), и в целом разнообразных
стихотворных описаний природных явлений и ландшафта позволяет
внести в систему жанров персидской поэзии общую категорию пейзажной
лирики, где бахариййа оказывается преобладающим, но все-таки
иерархически подчиненным элементом. Если взять в качестве другого примера жанр
восхваления пророка Мухаммада (ля 7), то возникает вопрос, является ли
он производным от панегирика как такового (madh) или относится к
религиозно-дидактической лирике. Точно так же обстоит дело и с жанром
«чудеса пророка» (mu'jizat), который можно рассматривать и как
производный от ля 7, и как относящийся к житийному жанру сира (sira).
Кроме того, традиционные жанровые категории персидской поэзии не
только располагаются на разных уровнях классификации, но и
различаются по критериям выделения, что отражено в их наименованиях. Названия
большинства жанров обозначают тему или смысловую направленность про-
Глава II. Формы, жанры, метрика
93
изведения, как, например, хамриййа (xamriyya) — стихи о вине, зухдиййа (zuh-
diyya) — покаянные стихи, хабсиййа (habsiyya) — тюремные стихи и т. д.
Однако существует ряд жанров, критерием определения которых является
не столько тема, сколько композиционная форма или техническая задача,
как-то: муназара (типа$ага) — диспут, алиф-нама (alif-nama) — азбука,
му'амма (ти'атта) — загадка, тарих (tarix) — хронограмма.
Афганская письменная поэзия до появления произведений Хушхал-
хана не отличалась жанровым разнообразием. Ограниченный круг ее
жанров и тем был предопределен самой средой, в которой она возникла. Все
ранние паштунские поэты были или считали себя духовными
проповедниками и писали почти исключительно религиозно-дидактическую, мистико-
философскую и отчасти любовно-мистическую лирику. Смысл их
творчества заключался в проповеди идейных убеждений, и все названные жанры
использовались, как правило, именно для этой цели. Во многих
произведениях эти жанры находятся в тесном переплетении, тем более что границы
между ними довольно прозрачны, особенно в поэзии выраженной
суфийской направленности. Собственно говоря, выделение этих жанров
отражает только субъективное внешнее восприятие изучаемых произведений, но
не взгляды самих их авторов. Афганские поэты если и прилагали к плодам
своего творчества какие-либо характеристики, то, безусловно, иные,
основанные на традиционном понимании видов поэзии, какое сложилось в
персидской словесности.
Как вне, так и в пределах трех указанных жанров, занимающих верхний
уровень в условной жанровой классификации афганской мистической и
религиозной поэзии первой половины—середины XVII в., у всех авторов
встречаются произведения, которые имеют более узкую жанровую
принадлежность. И в рошанитской и в богословской поэзии этого времени
самым распространенным был жанр алиф-нама. У Мирза-хана Ансари есть
по одной газели в жанрах бахариййа, марсиййа (элегия на смерть Ахдада),
тарих (хронограмма по случаю сражения в Декане), хадже (хула на
индуистский праздник Холи). Явно привлекал Мирза-хана и жанр муназара, к
которому можно отнести три его газели и поэму «Свеча и Мотылек». В
диване Давлата Лоханая имеются произведения в жанрах на'т, му'джизат,
марсиййа, а также стихи, близкие к жанру агиографии, в числе которых —
восхваления (мадх) Байазида Ансари, Мирза-хана и всего рошанитского
рода. Васил Рошани, продолжая традиции Мирза-хана, развивал жанры
муназара, бахариййа и марсиййа.
В богословской поэзии некоторое жанровое разнообразие наблюдается,
пожалуй, только у Бабу Джана, который может считаться зачинателем жанра
короткого стихотворного рассказа (кисса) на сюжеты коранической
мифологии. Кроме религиозной, философской, этико-дидактической, любовно-
мистической лирики в полном варианте «Книги Бабу Джана» как будто
имеются панегирик (мадх) императору Аурангзебу и стихотворение-лш/?-
сиййа, посвященное 'Абд ал-Кариму.
Жанровая ограниченность ранней паштунской литературы была
преодолена Хушхал-ханом, племенным вождем, творчество которого,
заключая в себе сильный личностный и национальный элементы, имело свет-
94 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
скую и отчасти просветительскую направленность. В многочисленных
произведениях Хушхала нашли отражение самые разные историко-биографи-
ческие и этнографические факты, а также религиозно-философские,
морально-этические, эстетические взгляды и прикладные знания, которые
бытовали среди образованной афганской знати в эпоху позднего
средневековья (общую характеристику содержания поэзии Хушхала см.: [Пелевин 2001:
49—59]).
Тематическая пестрота стихов Хушхал-хана, во многом явившаяся
результатом осознанной свободы творческого самовыражения, тем не менее
позволяет различить в его поэзии систему классических жанров арабской и
персидской литератур. Не будет большим преувеличением сказать, что в
поэтических произведениях Хушхал-хана в том или ином виде
присутствуют почти все классические жанры, развивавшиеся в мусульманской
поэзии с момента ее возникновения. Так, у Хушхала можно найти все жанры
ранней арабской и новоперсидской поэзии, существовавшие в рамках
традиционной касыды: мадх (восхваление предков, дружественных
племенных вождей, императора Шахджахана и покровителей поэта из числа мо-
гольских вельмож), хадже (хула на императора Аурангзеба, собственных
сыновей, недружественных вождей, всех паштунов вместе взятых и
отдельные племена и кланы), фахр (восхваление себя как образцового
племенного правителя, доблестного воина, мудрого философа-моралиста или
непревзойденного мастера стиха), васф (как правило, описание какой-либо
местности, например, могольской столицы, загородной резиденции
Шахджахана, или изображение картины какого-либо сражения, например,
между хаттаками и бангашами у селений Гумбат и Дода в 1676 и 1680 гг.;
сюда же можно отнести и описание реальных физических красот женщин,
например, девушек афридийского рода адамхелей, или список имен врагов
в форме описания частей ружья). Широко представлена у Хушхала также
стандартная любовная (газалиййа\ гедоническая (хамриййа) и пейзажная
(бахариййа) лирика, которой отводилась вступительная часть (насиб)
традиционной касыды.
К другим классическим жанрам у Хушхал-хана относятся
многочисленные стихи философского, морально-дидактического, религиозного,
суфийского содержания. Это мудрые изречения (хикмат), наставления (панд),
восхваления Бога и пророка (на'т\ покаянные и аскетические стихи (зух-
диййа) и т. п. Из жанров, заключающих в себе историко-биографическую и
этнографическую тематику, следует упомянуть такие, как хабсиййа
(тюремная лирика периода подневольного пребывания в Индии), марсиййа
(элегии на смерть родственников), тарих (хронограммы по случаю
различных событий, начиная с военных сражений и заканчивая излечением от
расстройства желудка), сафар-нама (путевые заметки о поездках в Тирах и
Сват).
Различия в жанровом наполнении поэзии Хушхал-хана и поэзии роша-
нитов и богословов были обусловлены самой сущностью и идейной
направленностью их творчества. Рошанитская и богословская поэзия, будучи
исключительно духовной, ограничивалась довольно узким кругом
религиозных жанров, а светская, приближенная к жизни и вдобавок необычайно
Глава II. Формы, жанры, метрика
95
личностная поэзия Хушхала, естественно, требовала более разнообразного
жанрового выражения. Поэтому сходные темы философско-дидактической,
любовной, гедонической лирики в первом случае направлялись в русло
религиозно-мистических проповедей, а во втором выражали чувства и
умонастроения мирского человека, образованного представителя племенной
верхушки. В поэзии Хушхал-хана, относящейся к периоду 30—60-х гг.,
присутствуют почти все те жанры (за исключением алиф-нама), что
параллельно развивались в паштунской религиозно-мистической поэзии, а
также многие другие, связанные с историко-биографическими сюжетами и
бытовой дидактикой, причем все они представлены в большем объеме и
освоены на более высоком художественном уровне.
Ниже подробнее будет сказано только о тех жанрах, которые получили
наибольшее распространение в религиозно-мистической поэзии пашто или
заметно выделялись на фоне однообразных стихотворных проповедей ро-
шанитов и богословов. Что касается рошанитских стихов, жанровая
принадлежность которых обусловила наличие в них каких-либо фактических
сведений (мадх, марсиййа, тарих), то они рассматриваются в третьей главе.
Подробную характеристику жанров поэзии Хушхал-хана я здесь
опускаю, поскольку, во-первых, их нужно рассматривать только
применительно ко всей творческой биографии поэта, продолжавшейся до его смерти в
1689 г. и, соответственно, выходящей за временные границы предмета
настоящего исследования, а во-вторых, многое было бы повтором того, что
уже изложено мной ранее [Пелевин 2001]. Кроме того, в пятой главе
исследования речь пойдет о поэмах-лшс/швм «Фирак-нама» и «Сват-нама»,
пестрое содержание которых вполне отражает жанровое своеобразие всей
поэзии Хушхала.
йлиф-нама
Жанр алиф-нама (alif-nama) возник значительно позднее, чем другие
традиционные жанры, — вероятно, в могольскую эпоху (т. е. не ранее
XVI в.), и непосредственно в персидской литературе он как будто не
получил большого распространения. Глубокие истоки этого жанра А. Шиммель
видит в давней суфийской традиции, связанной с мистическим
толкованием значений арабских букв, и в порожденном ею всеобщем увлечении
символикой арабского алфавита. Однако популярность этого жанра не столько
в персоязычной литературе, сколько в национальных литературах,
развивавшихся на местных, ранее бесписьменных языках, говорит о том, что его
появление было вызвано прежде всего практическими потребностями
внедрения арабского письма и пропаганды исламского вероучения. «Это
была форма, которая могла легко запоминаться каждым, кто стремился
выучить сам алфавит; и именно по этой причине поэты, писавшие на тюрки,
синдхи, панджаби и пашто, любили излагать свои мистические доктрины и
тайны веры в форме Золотых Азбук...» [Schimmel 1975: 423].
Таким образом, жанр алиф-нама ('азбука') по определению
предназначался в первую очередь для учебных целей. С помощью стихотворной аз-
96 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
буки можно было одновременно обучать арабскому алфавиту, т. е. буквам
Корана, и облегчать восприятие и запоминание каких-либо религиозных и
мистических догм. Естественно, чем короче было толкование буквы, тем
больший проповеднический характер и более заметную учебную нагрузку
имел поэтический текст, поскольку в этом случае он явно рассчитывался
на менее образованную аудиторию и лучшее запоминание. Не случайно у
Арзани Хвешкая, первого крупного рошанитского поэта-проповедника, в
жанре алиф-нама написана касыда, где каждая буква поясняется одним
бейтом, и цикл руба'и, где на каждую букву отводится одно
четверостишие [Hewadmal 2000: 97].
Стандартная азбука состояла из 29 текстов по числу толкуемых графем.
Кроме 28 букв арабского алфавита в азбуку обязательно включалось
сочетание la, которое воспринималось единой графемой. Иногда для удобства
жанр алиф-нама назывался сихарфи (siharft),— 'тридцатибуквенный'. У
некоторых рошанитских поэтов (Мирза-хан, Давлат) азбука действительно
включает 30 букв. В этом случае обычно дважды повторяется алиф.
Вероятно, второй алиф, предшествовавший в азбуках последней букве йа,
теоретически подразумевал собой подставку для хамзы С а), хотя на деле
различие между двумя олифами наблюдается редко.
Как правило, азбуки не предназначались для интерпретации
символических значений букв и не являлись словарями терминов. Для выполнения
этих задач требовалась бы достаточно подготовленная аудитория. Тексты
к буквам представляли собой самые разнообразные религиозно-этические
постулаты— теоретические положения или правила поведения, причем
зачастую самого элементарного содержания. Связь этих текстов с
арабским алфавитом была исключительно формальная и обычно заключалась
только в том, что первое слово каждого текста начиналось с одной из букв
алфавита.
Азбука могла быть написана в любой жанровой (строфической) форме,
что хорошо показывает творчество рошанитских поэтов. Так, Мирза-хан
Ансари не стал повторять опыт Арзани Хвешкая и использовал для своей
азбуки жанровую форму газели [МА: 1—18]. Его алиф-нама состоит из
тридцати газелей (по 11 бейтов каждая). Все газели являются вполне
самостоятельными и законченными стихотворениями, что подчеркивается
наличием в каждой из них тахаллуса. Азбуке предпослана одна
вступительная газель (13 бейтов) с краткими разъяснениями относительно общего
содержания:
Сегодня скажу несколько хвалебных слов
// О благосклонности Господа.
Каждое Его деяние, что ты видишь, // Не лишено мудрости.
Ахмаду (Мухаммаду. — М. П.) был ниспослан Коран,
// В котором сто четырнадцать сур
И числом шесть тысяч // Шестьсот шестьдесят шесть айатов...
Тридцать букв алфавита в нем, // Выучи их, добронравный!..
Скажу я на пашто // По одиннадцать речей о каждой букве.
Они укажут путь к таухиду // Разными словами...
[МА: 1]
Глава II. Формы, жанры, метрика
97
В отличие от других поэтов, Мирза-хан замыслил свою азбуку как
достаточно сложный по содержанию мистико-философский трактат-рисала,
насыщенный ученой суфийской терминологией, и для осуществления этой
задачи он изначально ориентировался на большой размер произведения
(330 бейтов). Таким образом, его алиф-иама оказалась по смыслу не
начальной азбукой мистицизма, а своего рода теоретическим учебником
продвинутого уровня.
Главные идеи, которыми пронизана вся азбука и которые являются
темой большинства газелей, — это основополагающие догматы тасаввуфа о
присутствии божественной сущности во множественности материального
мира, абсолютной близости Бога к человеку и обязанности человека,
преодолев неверие, идти по пути познания Бога. В трех газелях затрагиваются
вопросы суфийской метафизики об эманации божественной сущности и
стадиях развития духа (a, z, w). Некоторые стихотворения обличают
низменную душу (nafs), злокозненного Шайтана, пять человеческих чувств и
привязанность к мирскому (dunya), которые рассматриваются как
препятствия на пути мистического познания (s, $, g). Одно стихотворение
посвящено восхвалению пророка Мухаммада (К). В ряде газелей, где поэт
представляет Бога в образе Возлюбленного (sah) или Возлюбленной (saha) и
описывает Его символические красоты, естественно, звучат любовно-
мистические мотивы (г, у, h, г, 5, t и др.). Многие газели написаны в форме
обращения ко второму лицу, читателю или слушателю (b, s, h, x, d, & z, s
и др.), причем в некоторых из них призывы к постижению Бога сочетаются
с резкими порицаниями за пребывание во сне неведения и озабоченность
мирским (z, s, la). Такие стихи более других отвечают дидактическим
задачам азбуки.
Остается добавить, что только в половине газелей начальное слово
либо является термином и употребляется в качестве такового, либо несет
важную для всего стихотворения смысловую нагрузку. Среди подобных
слов есть несколько эпитетов Аллаха, коранических и суфийских понятий,
а также просто ключевых слов, вроде хш/Г ('самомнение') или (ayb ('грех').
Во многих стихотворениях первые слова вообще не имеют никакого
функционального значения, кроме того что они по правилам азбуки
начинаются с разных букв арабского алфавита. Показательна в этом отношении
газель на букву лам, первое слово которой — предлог 1э. Обе газели на
алиф начинаются одинаково — со слова awwal ('первый').
Младшие современники Мирза-хана, поэты Давлат Лоханай и 4Али
Мухаммад Мухлис поддержали традицию писания азбук. 'Али Мухаммад
последовал примеру Мирза-хана и создал свою алиф-нама в форме цикла
газелей [Mackenzie 19651: 60], а Давлат Лоханай, вернувшись к практике
Арзани Хвешкая, предпочел жанровую форму руба 'и. Перу Давлата
принадлежат две азбуки, составленные из четверостиший [DL: 180—183,
224—227]. И хотя в газнийской рукописи дивана одна из азбук (вторая в
издании) отсутствует, сходство их языка, стиля и даже некоторые
текстуальные совпадения позволяют считать их принадлежащими одному
автору. Выскажу предположение, что более ранней была вторая азбука, в
которой больше призывов следовать за совершенным духовным наставником и
98 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
больше совпадений в начальных словах с азбукой Мирза-хана (14 против 7
в первой азбуке). Возможно, Давлат написал ее в молодые годы, когда он,
вступив в рошанитскую общину, изучал основы тасаввуфа и в поэзии
стремился подражать Мирза-хану.
Каждое руба'и в азбуках Давлата, как и каждая газель в алиф-нама
Мирза-хана, начинается с названия буквы арабского алфавита, которая
выполняет функцию первого слога строфы. За названием буквы следует
какое-либо слово, начинающееся на эту букву. Начальные слова в
четверостишиях Давлата, очевидно, по причине меньшего объема текста играют
гораздо большую смысловую роль, чем в газелях Мирза-хана, однако в
четырех руба'и такими словами являются предлоги do, 1э и частица
отрицания та.
Первая (по изданию) алиф-нама имеет несколько формальных
особенностей. Во-первых, в ее четверостишиях рифмующиеся слова графически
заканчиваются на ту же букву, с которой начинается стихотворение (ta: tan
dm kra Id bid'ata / muwafiq sa h sunnata — «Та: отдались от ереси, будь в
согласии с сунной» [DL: 180]). Во-вторых, в ее алфавитном составе вместо
алифа дублируется последняя буква йа. В третьих, эту азбуку по аналогии
с алиф-нама Мирза-хана предваряет газель-введение, где поэт, обращаясь
к Богу, так объясняет свою поэтическую задачу:
Для чтения священных слов Корана
Ты тридцать букв ниспослал с небес.
Каждая буква в своей сути подобна великому сокровищу,
Которым Ты облагодетельствовал людей.
Каждую букву я опишу в двух бейтах,
Если Ты, милостивый, дашь мне сил и удачи.
[DL: 180]
Обе азбуки имеют ярко выраженный назидательный характер: в
каждом четверостишии Давлат обращается к читателю (слушателю) с кратким
изложением какой-нибудь догмы или призывом выполнять то или иное
предписание веры. Однако по содержанию наставлений азбуки немного
различаются. Если в первой алиф-нама преобладают общие правила этики
и поведения верующего мусульманина, то во второй более заметна
суфийская направленность. Так, поэт здесь трижды заявляет о необходимости
обучаться таухиду и ма*рифату у Совершенного Учителя (& s, /),
призывает к созерцанию Бога, красота которого как свет разлита по всему миру
(/» Ьу гХ уравнивает статус пророка (паЬТ) и «приближенного к Богу» (wait)
(w), говорит о победе над пятью чувствами как условии достижения цели
(х), использует традиционное суфийское сравнение божественного мира
(lahiit) с безбрежным морем, а материального мира (nasut) — с пузырями
на нем (13) и т. п. В первой азбуке, например, Совершенный Учитель (pir
kamil) вообще не упоминается, а в двух четверостишиях, затрагивающих
тему духовного наставника, употреблены нейтральные слова «предводитель»
(rahbar, peswa) и «имам» (imam) (a, m). Тем не менее во второй,
«суфийской» алиф-нама есть стихи с общемусульманскими предписаниями —
Глава II. Формы, жанры, метрика
99
платить закат, налог в пользу бедных (z), совершать положенную молитву
(salat, птйщ) (s\ блюсти ритуальную чистоту (taharat) (f), а в первой,
наряду с указаниями идти праведным путем (Ь\ соблюдать сунну (*), быть
добродетельным (h, s), отринуть гордыню (г), уповать на помощь Бога (у)
и пр., встречаются упоминания о внутреннем оке сердца (d), божественной
сущности izat) (z, w), вине таухида (/), зикре (К /), нафсе (la) и т. п. Стоит
заметить, что, в отличие от Мирза-хана, Давлат не стал обыгрывать в
своих азбуках мотивы любовной мистики, которая, как уже говорилось,
вообще малохарактерна для его поэзии. Я обнаружил в каждой азбуке только
по одному бейту, где звучат такие мотивы.
Полагаю, различия в идейной направленности азбук Давлата
подтверждают высказанную выше мысль о том, что вторая алиф-нама
предшествовала по времени первой. Очевидно, что азбуки рассчитывались на
разную аудиторию. «Суфийскую» азбуку Давлат составил, видимо, в период
подъема рошанитской общины, т. е. в 20-х или 30-х гг. XVII в., а другая
алиф-нама была написана намного позднее, может быть, после смерти Ра-
шид-хана в 1648 г., когда рошанитская община стала распадаться, число
последователей учения Байазида Ансари уменьшилось и новая аудитория
Давлата больше нуждалась в простой религиозной дидактике, нежели в
проповедях мистических идей.
Азбука Васила Рошани, если она действительно ему принадлежит,
выполнена в форме мурабба' и представляет собой цепочку из 29
четверостиший с одинаковой рифмой в каждой четвертой мисра'. Графема la в
тексте не отражена: соответствующее четверостишие начинается с
предлога 1эка. Многие начальные слова строф, как и в азбуках Давлата Лоханая,
являются ключевыми.
В алиф-нама Васила хорошо прослеживается ее общий идейный смысл.
Свою задачу автор видел в том, чтобы напомнить своей аудитории о
бренности земного бытия, предупредить о неизбежности Страшного Суда и
указать путь к спасению души. Прямые высказывания или намеки об
уходе в мир иной и о Судном Дне встречаются в 20 четверостишиях.
Несколько строк ярко живописуют смерть человека, которого в могиле ждут
темнота и одиночество (z) и конец света, когда небо упадет на землю,
разрушатся горы, подует ураганный ветер (s, m), будет воздвигнут мост Сират
(z) и все мертвые воскреснут под звуки трубы Исрафила (и).
Собственно суфийские мотивы, как и в одной из азбук Давлата, звучат
далеко на втором плане; фактически они присутствуют только в четырех
строфах, где поэт говорит о лицезрении Бога как о вершине всех радостей
и райских благ (/, г), призывает совершать зикр (z) и быть последователем
Великого Совершенного Учителя (loy kamil) (la). Даже путь спасения души
обозначен в азбуке словом sar\ синонимом основополагающего в исламе
понятия шари'ат (путь, предписанный Аллахом), а не каким-либо иным
термином из словаря тасаввуфа. Пять раз поэт упоминает о пророке как о
предводителе всех правоверных (t, s, х, & г), дважды ссылается на Коран
(а, х\ называя его просто Книгой (kitab) и не связывая его с мистическими
идеями, как это делал в своей алиф-нама Мирза-хан, цитировавший
популярные суфийские айаты о близости Бога.
100 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Преобладание в азбуке Васила элементарных религиозных проповедей,
лишенных всякой догматики и не перегруженных мистикой, а также
заметный акцент на эсхатологической теме показывает, что азбука
предназначалась не только для неофитов рошанитского учения, но и вообще для
всех тех, на кого исламская вера оказывала еще слабое воздействие.
Думается, что большинство соплеменников Васила относилось именно ко
второй категории.
Если сравнить начальные, т. е. именно азбучные, слова в четырех
рассмотренных рошанитских алиф-иама, то совпадений окажется довольно
много, но полных только два — j>ayr и fanl Учитывая, что Давлату
принадлежат две алиф-иама, к двум названным словам нужно добавить еще
sana, dalil и ru'yat, встречающиеся у всех трех авторов. Полагаю, имеет
смысл привести список всех азбучных слов, которые являются терминами
или имеют особое смысловое значение, поскольку, во-первых, они
показывают, какая лексика входила в рошанитскую «программу» религиозного
обучения паштунов, а во-вторых, дают ключ к пониманию
непосредственно рошанитской поэзии: а — allah 'Аллах'; Ъ — bandagi 'служение [Богу]';
t— tawba 'покаяние', tosa 'припасы [для дороги в иной мир]'; s— sana
'восхваление [Бога]'; у — jamal 'красота [Бога]', jannat 'Рай'; h— hazir
'вездесущий [Бог]', hirs 'алчность'; х— xabar 'известие [о пророке]' =ха-
duc, xiidi 'самомнение'; d— dalil 'довод [разума]'; g— gikr 'упоминание
[имени Бога]', gat '[божественная] сущность'; г— ru'yat 'лицезрение [Бога]';
z— zahid 'подвижник'; s— salik 'идущий [по пути мистического
познания]', saqi 'виночерпий'; s— saha 'Возлюбленная', sakk 'сомнение'; s—
sir at [al-mustaqlm] 'путь [прямой]', salat 'молитва', salih 'добродетельный',
sabir 'терпеливый'; z— zal 'заблудший'; t— tahir 'чистый'; z— $Шг
'внешнее', lalim 'угнетатель'; ' — 'Urn 'знание', *aql 'разум', *ayb 'грех'; £ —
gayr 'другое';/—fan! 'исчезнувший' или 'бренный'; q— qadir
'Всемогущий [Бог]', qismat 'удел'; к— karim 'Великодушный [Бог]'; /— la'iq
'достойный'; т — manzil 'стоянка'; п — nab! 'пророк'; w — wahdat
'единство', wall 'близкий к Богу'; h— had! 'предводитель'; la— la 'нет', lahut
'божественный мир'; у — yari 'помощь [Бога]'.
В богословской литературе начало использованию жанра алиф-нама
было положено Ахундом Дарвезой. В этом жанре им написан шестой
раздел «Махзая ал-ислам», которому предпослано такое вступление: «В наши
дни некоторые отступники (mulhidan) дали кое-какое разъяснение (taqrif)
и истолкование (ta 'wil) буквам алфавита (huruf-i tahajji), дескать в такой-то
букве скрыт такой-то смысл. Но все, что они говорили, — это неверие
(kufr) и отступничество (ilhad), [так как] говорили они против шари'ата.
Тогда друзья сего ничтожного (faqir) стали просить оказать им милость
тем, чтобы он сказал что-нибудь в противодействие людям похоти и
отступничества. Поэтому сей ничтожный только ради противодействия
таковым кое-что разъяснил и изложил сообразно своему разумению. Но все,
что я сказал и написал, было сделано в соответствии с шари'атом и в
согласии с мазхабом людей сунны и [мусульманской] общины, чтобы от того
афганцам была польза в вере и они твердо бы стояли на прямом пути (sirat
al-mustaqlm)» \ЬА\\\ 75]. Эти слова Дарвезы ясно говорят о том, что обра-
Глава II. Формы, жанры, метрика
101
титься к написанию азбуки его побудили аналогичные произведения ро-
шанитов (до появления «Махзана» в 1605 г. имели хождение стихотворные
алиф-нама Арзани Хвешкая).
Примеру Дарвезы в дальнейшем последовали его сын 'Абд ал-Карим и
внук 'Абд ал-Халим, создавшие собственные варианты азбук, которые в
качестве дополнений были включены в «Махзан». Эти произведения
отличаются от алиф-нама Дарвезы и по форме, и по содержанию. Во-первых,
они написаны стихами, тогда как алиф-нама Дарвезы является саджевой
прозой. Во-вторых, в них более заметно влияние мистической философии,
которая у Дарвезы подвергается критике с позиций нормативного
суннитского богословия (о различии во взглядах Дарвезы и 'Абд ал-Карима на
концепцию вахдат ал-вуджуд см.: [Taqwlm al-Haqq 1969: LXXIV—LXXVII]).
Показательно, что в алиф-нама Дарвезы начальными словами в разделах
на соответствующие буквы являются такие, как sarVat, qur'an, din ('вера'),
jcmv/('страх [перед Богом]'), ta'at ('покорность [Богу]'), а у 'Абд
ал-Карима и 'Абд ал-Халима эти слова в качестве азбучных вообще не фигурируют.
Тем не менее, в азбуках Дарвезы и его потомков имеются совпадения
не только начальных слов (терминов), но и начальных фраз. Например, у
Дарвезы и 'Абд ал-Карима: subut [dozat] ('доказательство [сущности]'), ja-
mal ('красота', но у Дарвезы — красота Мухаммада, а у 'Абд ал-Карима —
красота Бога), gakir ('упоминающий [Бога]'), Ч1т ('знание'), /мГ/Х'милость'),
had! ('предводитель'), fa —farig lara zorgotay do dunya-na или ...do dunya h
muhabbata («Сохраняй сердце свободным от мирского» или «...от любви к
мирскому»); у Дарвезы и 'Абд ал-Халима: tawba [Id хШэу] ('покаяние [за
гордыню]'), zakir, zal— zarur рэ badan kezda («Обремени тело
обязательным [к исполнению]»). Таким образом, несмотря на некоторые идейные
расхождения авторов, следует признать, что алиф-нама Дарвезы
послужила главным образцом для подобных сочинений его сына и внука.
Азбука 'Абд ал-Карима является довольно аморфным произведением,
состоящим из 29 разных по величине монорифмических стихотворений (от
5 до 32 бейтов). Как уже отмечалось выше (гл. I, разд. 2), примерно треть
стихотворений, начиная с буквы (ауп, в рукописях имеют по два варианта,
причем в четырех вариантных стихотворениях тахаллус отличается от
обычного («Факир» вместо «Каримдад»). Возможно, в этой части азбуки
вследствие «редакторской» деятельности составителей и переписчиков
«Махзана» произошло наслоение разных по времени написания стихов,
принадлежащих как самому 'Абд ал-Кариму, так и другим авторам,
продолжателям его духовных и творческих традиций.
Стихотворный размер большинства стихотворений азбуки
ориентирован на 8- или 12-сложник, но нигде строго не выдерживается и иногда
удлиняется до 16-сложника. Особенно много отступлений от метрических
схем в вариантных стихотворениях, два из которых, подписанные тахал-
лусом «Факир», вообще тяготеют к саджевой прозе.
В содержании азбуки, как и во всем творчестве 'Абд ал-Карима,
прослеживаются две линии: одна выдержана в духе нормативного
суннитского богословия и заключается в проповеди элементарных основ ислама,
другая, являющаяся, видимо, результатом тесных связей автора с суфий-
102 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
ским братством чиштиййа, имеет умеренную мистико-философскую
направленность. Суфийская линия заметно превалирует в той части алиф-
нама, которая свободна от существенных текстуальных расхождений. Эта
линия выражается в толковании концепции вахдат ал-вуджуд и
рассуждениях о необходимости приближения к Богу путем полного самоотречения.
Видное место здесь занимает и тема мистической любви к скрытому за
завесой Господину— идеалу красоты. Первая линия, преобладающая во
многих вариантных стихотворениях, в частности тех, что имеют тахаллус
«Факир», нацелена на декларирование основополагающих догматов ислама о
пророческой миссии Мухаммада, обязательном следовании предписаниям
Корана и законам шари'ата, подчинении богословам как единственно
подлинным учителям веры. В редких случаях содержание стихотворения
подчинено какой-либо одной узкой теме, как, например, разъяснению
соотношения категорий «сущность» (zai) и «качества» (sifat) [MIp 168],
критике мирского (dunya) [Ml\i 170—171], восхвалению богословов [Ml,:
171], поношению Шайтана и низшей души (nafs) как главных врагов на
пути к Богу [MI,: 173—174] и др.
Короткая азбука 'Абд ал-Халима по форме представляет собой 16-
бейтовую газель (или касыду), где каждой букве посвящена одна мисра*.
Это стихотворение воспринимается как краткая аннотация к азбуке 'Абд
ал-Карима, которой оно, как правило, предшествует в рукописях. Во-
первых, идейный смысл, ясно выраженный в лаконичных строках алиф-
нама 'Абд ал-Халима, соответствует тому, что заложен в произведении
'Абд ал-Карима. Во-вторых, в обеих азбуках имеются как полные
текстуальные совпадения, так и близкие параллели: 'ауп— 'ajiz masa yakbara
(«...не становись бессильным сразу!»); qaf— qadam рэ gayro kezda
(«...наступи на другого»); kaf— karriin sa 1эка xawra («...стань ничтожным, как
прах»); lam — latif do gul рэ cer sa («...стань нежным подобно цветку») и
...latifhka sur gul sa («...стань нежным, как красный цветок»); уа — yaw go-
ra yaw waya («...на Одного смотри, об Одном говори») и ...ham yaw gora yaw
gwara («...и смотри на Одного, и желай Одного»). Видимо, именно
подобные совпадения породили мнение о том, что в дошедшем до нас тексте
азбуки 'Абд ал-Карима скрыто присутствуют следы редакционной
доработки, осуществленной его племянником [Taqwlm al-Haqq 1969: LXXVIII].
Аналогичную форму газели (касыды) имеет алиф-нама из «Книги Бабу
Джана» [BJ: 706—71а]. Она тоже состоит из 16 бейтов, хотя в петербургской
рукописи, видимо по невнимательности переписчика, опущен 11-й бейт с
толкованием букв q и к. Если азбука 'Абд ал-Халима написана в виде
наставления аудитории и все глаголы здесь имеют форму повелительного
наклонения, то азбука Бабу Джана — это личная молитва, обращенная к
Богу с просьбой проявить благосклонность и укрепить на истинном пути
веры. Полных текстуальных совпадений между двумя стихотворениями
нет, но некоторые параллели просматриваются. Например, у Бабу Джана:
s— sakir-me kra рэ ткэг, s— sabir-me рэ zahmat kra («...сделай меня
благодарным в благодарении [Тебя]... сделай меня терпеливым в тяготах»); ср.
у 'Абд ал-Халима: s—sakir sa рэ nVmat-kse, s—sabir 1э dra/гэ bara («...стань
благодарным за милости... терпеливым [в несении] тяжелого груза»). Обе
Глава II. Формы, жанры, метрика
103
азбуки имеют одинаковый 8-сложный размер, но у 'Абд ал-Халима он
выдержан безукоризненно, а у Бабу Джана, кроме многочисленных мелких
погрешностей, трижды обнаруживается сбой на 12-сложник.
Те же тематические линии, о которых говорилось выше применительно
к алиф-нама 'Абд ал-Карима, присутствуют и в азбуках Мир Хусайна, но
здесь они имеют еще более сильное звучание. Хусайн чаще и настойчивее
требует приверженности Корану и сунне пророка, соблюдения норм
тары* ата, уважения к суннитским богословам. Такие проповеди составляют
главное содержание нескольких стихотворений в обеих азбуках [NM: 50аб,
546, 576, 586—59а, бЗаб, 65а]. В отличие от 'Абд ал-Карима, например,
Хусайн больше внимания уделяет восхвалению Мухаммада и объяснению
ритуальных и морально-этических основ исламской веры. Постоянно
Хусайн ссылается на священные тексты или скрыто их цитирует. Не
случайно в числе азбучных у него, как и у Дарвезы, фигурируют такие слова, как
sari'at, qur'an, din, xabar (= хадис), kalima (символ веры).
Однако при этом заметно выраженная суфийская направленность
стихов Хусайна приближает его алиф-нама к мистико-философской лирике.
Так, если Дарвеза начинает толкование буквы мим словами muhibb osa
do'Urn («Живи с любовью к богословию») [М^: 89], Хусайн, последователь
суфийской школы кадириййа, повторяя то же ключевое слово, сразу
направляет идею стихотворения в мистическое русло: muhibb sa 1э jamala
(«Живи с любовью к красоте [Бога]») [NM: 566]. То же мы видим и в
начальной фразе стихотворения на у а: у Дарвезы — yagana рэ sari'at sa
(«Сосредоточься на шари'ате») [MIp 92], у Хусайна — yagana йэ haqq рэг lar sa
(«Сосредоточься на Пути Истины») [NM: 566].
Кроме стандартного набора многократно повторяющихся мистико-
философских мотивов, которые заключают в себе общие суфийские идеи о
присутствии Бога во всем сущем, Его абсолютной близости к человеку,
стремлении мистика к лицезрению Его красоты, об очищении сердца
упоминанием Его имени, о роли духовного наставника в постижении Истины
и пр., в азбуках Хусайна имеются краткие толкования конкретных
категорий суфийской теории и практики. Отдельные пассажи и целые
стихотворения автор посвящает, например, характеристике четырех стадий
мистического познания [NM: 606—61а], объяснению смысла зикра [NM: 496—
50а, 596], фана1 [NM: 53а—546], сущности и видов сама' [NM: 51аб],
ритуального очищения (taharat) [NM: 526], правил духовного
самонаблюдения (muraqabd) [NM: 526].
Большую роль в обеих азбуках играет любовно-мистическая
символика, которая, несомненно, воспринималась автором в качестве главного
отличительного признака поэтического текста. В ряде стихотворений
любовная тема явно превалирует среди других мистико-философских мотивов
[NM: 516—52аб, 536—54а, 62аб, 64а]. Именно любовно-мистические стихи
убеждают читателя в том, что азбуки Мир Хусайна являются поэзией,
воспроизводящей стандарты классической суфийской лирики.
Одно из стихотворений второй алиф-нама (на букву К) написано в
форме речей Бога [NM: 59а], что является самым смелым отступлением от
104 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
твердых идеологических позиций Дарвезы и не имеет аналога в азбуке
' Абд ал-Карима.
Тем не менее азбуки Хусайна, несомненно, продолжавшие традиции
богословской литературы пашто, обнаруживают не только сходство в
подборе азбучной лексики, но также смысловые параллели и прямые
текстуальные совпадения с азбуками его предшественников, особенно с алиф-
нама 'Абд ал-Карима. Примеры: sa — subut do iat doy со sana-ye mustafa
wayolay na si («...доказательство сущности, которую не может восхвалить
Мустафа») [М^: 76] и ...subut dodo do iat doy со sana-ye bo 'alam na bayanezi
(«...доказательство Его сущности, которую не смогут описать люди») [NM:
476]; ha— hayat warn do sah doy («...вся жизнь— от Господина») [MI|i
156] и ... hayat warn рэ do doy («...вся жизнь — от Него») [NM: 486]; da —
dayim warta huzur sa, lojumla gaflata dur sa («...постоянно будь явлен к
Нему, от всего неведения удались») [М^: 158] и ...dayim-ye lojamala nondara
kra, kull gaflat byarta lo zro kra («...постоянно созерцай Его красоту, все
неведение удали из сердца») [NM: 496] и др.
Хотя азбуки Хусайна по отношению друг к другу являются совершенно
самостоятельными произведениями, в них тоже имеются совпадения
ключевых слов фауап, jamal, safi, latif, yagana), а также и одной начальной
фразы: za— zamir do Sah rosan doy («...сердце Господина светлое») [NM:
52a] и zamir do sah rosan loka aftab doy («...сердце Господина светлое, как
солнце») [NM: 61 б].#Кроме того, некоторые стихотворения, толкующие
одинаковые буквы, перекликаются своим содержанием. Например, в
стихотворениях на ' и / обеих азбук автор акцентирует внимание на описании
феноменов красоты возлюбленного Друга, а в стихотворениях на г и q
излагает основы мусульманской веры.
Давая общую оценку азбукам Мир Хусайна, следует еще раз заметить,
что в отношении поэтической формы они уступают алиф-иама 'Абд
ал-Карима и тяготеют к саджевой прозе богословской литературы, а по
насыщенности суфийской тематикой, наоборот, отдаляются от идейных
принципов «Махзана» в сторону сближения с мистической поэзией рошанитов.
Стихи о пророке
Ко времени появления афганской письменной поэзии произведения о
пророке Мухаммаде имели разную жанровую направленность,
зависевшую не только от содержания, но и от типа литературы, к которой они
относились, — прозаической или стихотворной, ученой или народной,
богословской или мистической. Среди мусульманских народов Индо-Паки-
станского субконтинента, и в частности паштунов, особенно популярным
был жанр му'джизат ('чудеса'). Общим истоком разнородной литературы
о пророке следует считать классические арабоязычные сочинения в жанре
сира ('жизнеописание'), который оформился в конце VIII—начале IX в.
(см.: [Raven 1999]). Впоследствии этот жанр подвергся последовательному
дроблению на более узкие по тематике жанры. Из жития пророка
выделились и обрели самостоятельное существование отдельные сюжеты, ставшие
Глава II. Формы, жанры, метрика
105
основой для многочисленных жанровых произведений типа «Ми'радж-
иама» («Книга восхождения»), «Нур-нама» («Книга света»), «Таваллуд-иа-
ма» («Книга рождения») «Вафат-нама» («Книга кончины») и др.
Афганская религиозно-дидактическая литература XVII—XVIII вв. изобилует
переводными и оригинальными сочинениями такого рода (см., например,
сводный каталог афганских рукописей В. В. Кушева: [Кушев 1980: 169—172]).
Началом освоения жанра сира в богословской литературе пашто
следует считать «Махзан ал-ислам» Ахунда Дарвезы, где в седьмом байане
несколько последних разделов (19—22) посвящены хвалебному описанию
качеств пророка и праведных халифов [Ml,: 116—121]. Стихотворные
произведения, восхваляющие пророка, у поэтов-богословов появляются,
очевидно, не ранее последней трети XVII в. В рукописях «Махзана» среди
поздних стихотворных дополнений встречаются касыда Шер Мухаммада
(25 бейтов) и газель Рахимдада (8 бейтов) с довольно тривиальными
славословиями Мухаммаду [М12: 2576—259а; 2616—262а].
Идейные и литературные преемники Дарвезы — 'Абд ал-Карим и Мир
Хусайн — в своих стихах тоже нередко упоминают об исламском пророке,
но эти краткие упоминания и восхваления еще далеки от того, чтобы
считаться примерами полновесной поэтической реализации жанра на'т. Как
правило, поэты-богословы ограничиваются догматическими декларациями
о том, что Мухаммад есть истинный посланник и глашатай Аллаха, а
также призывают неуклонно следовать его пути и традициям (sunnat) [MI,:
166, 174, 179; NM: 52а, 58аб, 656 и др.]. Призывы подчиняться заветам
пророка иногда сопровождаются суннитскими проповедями о почитании
четырех праведных халифов [Ml,: 179; NM: 596]. За приверженность вере
Мухаммада богословы обещают его заступничество перед Богом (safa'at) в
Судный День и попадание в рай [Ml,: 177; NM: 596]. Проскальзывают в их
стихах и мотивы, связанные с мистико-философской концепцией Мухам-
мадова света (см. ниже) [М12: 1996—200а; NM: 53а, 556, 586]. «Чистый
пророк, — говорит Хусайн, — это свет, рассеянный в мире» [NM: 646].
Нужно отметить, что хвалебные высказывания о пророке у Мир Хусай-
на встречаются намного чаще, чем у 'Абд ал-Карима. Иногда Хусайн
посвящает восхвалению Мухаммада сразу несколько строф [NM: 556—56а,
63 аб]. В этих стихах кроме утверждения пророческого статуса и
глобального духовного главенства Мухаммада, который есть «вождь арабов и
неарабов ('ajam), и всех тварей», Хусайн акцентирует внимание на корани-
ческой идее о сотворении мира исключительно ради Совершенного
Человека, коим является Мухаммад. Не случайно автор ссылается при этом на
36-ю суру Корана «Йа Син», где сосредоточена эта идея, а также цитирует
слова 17-го айата 53-й суры «Звезда»— «Не уклонилось его зрение...»
(та zaga Ч-basaru...), — истолковываемые в том же ключе65. Хусайн
называет Мухаммада не только словами «пророк» (паЪТ) или «посланник» (га-
siil), но пользуется и такими расхожими кораническими эпитетами, как
65 Эту же кораническую фразу приводит в одном из своих панегириков пророку Хуш-
хал-хан [XXX: 614].
106 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
xatam al-anbiya' ('печать пророков'), sayyid aUmursatin ('господин
посланников'), siraj munawwar ('сияющий светильник') [NM: 556, 586, 606].
Более существенный вклад в развитие жанра на*т в богословской
поэзии внес Бабу Джан, хотя с идейной точки зрения его стихи о пророке не
отличались оригинальностью и повторяли уже сказанное его
предшественниками. «Книга Бабу Джана» включает пять саджевых отрывков и
четыре стихотворения, которые целиком посвящены восхвалению пророка.
В саджевых отрывках говорится о роли Мухаммада как заступника в
Судный День, кратко описывается его восхождение к божьему престолу
(mi4raj) и его беседа с иудеями о таухиде, а также перечисляются
некоторые чудеса [BJ: 16—2а, 526—536, 76а—77а, 89а—906]. Из поэтических
фрагментов, расположенных в рукописи «Книги» подряд друг за другом
[BJ: 726—75а], две первые газели (8 и 6 бейтов) затрагивают тему
предвечного Мухаммадова света («Еще не было ничего создано, когда уже сиял
светильник его света» [BJ: 726]) и в сжатом виде содержат мотивы, на
которых строятся два других, более крупных стихотворения (35 и 15 бейтов),
имеющие одинаковый редиф Muhammad66.
Оба эти стихотворения прославляют величие пророка, ради которого
были созданы земной и небесный миры. В стихотворении, размерами
соответствующем касыде, кроме того, декларируется превосходство
Мухаммада над всеми доисламскими пророками и ангелами. Их имена приведены
длинным списком, занимающим 6 бейтов (7—12). Характеризуя духовные
качества Мухаммада, Бабу Джан дает ему определение «гумно
сокровенного знания» (xirman do ladun Him). В нескольких строках Бабу Джан
восхваляет красоту пророка, причем именно физическую, поскольку объект
хвалы сравнивается с цветами (разными видами нарциссов, шиповником и
лилией), а его тело (andam) названо изящным (nazuk). Поэт кратко
упоминает также о ми*радже пророка и о разрушении им языческих идолов Лат,
'Узза и Манат. В другом стихотворении Бабу Джан неоднократно
обращается к теме заступничества Мухаммада за людей на Страшном Суде: «А
мы ухватились за твои стремена и надеемся, что в тяжелый час ты спасешь
нас от беды» [BJ: 746].
Как и прочие произведения Бабу Джана, его стихи о пророке
обнаруживают определенную дисгармонию в стиле. Туманные метафорические
высказывания мистико-философского содержания и намеки на священные
тексты в них свободно переплетаются с примитивными по смыслу и порой
нелепыми фразами, подобными такой: «Роза — ничто в сравнении с тобой,
ведь ты — дикий нарцисс (nasrin) и шиповник (nastaran)» [BJ: 73a].
Не обошел вниманием жанр на'т и Хушхал-хан Хаттак, посвятивший
восхвалению пророка две газели (6 и 9 бейтов) и две касыды (18 и 17
бейтов) [XXX: 96, 153, 514—516, 613—615]. По качеству поэтического слога,
прозрачности и легкости языка эти произведения оставляют далеко позади
себя подобные им стихотворные опыты поэтов-богословов, несмотря на то
что Хушхал тоже не изобретал ничего нового в области идейного содер-
66 С таким же редифом написаны славословящие пророка стихотворения Рахимдада
(газель) [М12: 2616—262а] и Хушхал-хана (касыда) [XXX: 514—516].
Глава II. Формы, жанры, метрика
107
жания и пользовался стандартным набором мотивов. Неподдельная
искренность чувств, присущая всей поэзии Хушхал-хана, в славословиях
Мухаммаду, как и в других его стихах на религиозные темы, выражается в
очень естественном воодушевлении, выдавая в авторе человека глубоко
верующего, но при этом совершенно мирского, свободного от той
скованности, которую неизбежно диктует строгая приверженность какой-либо
духовной традиции или школе.
Все мотивы, связанные в представлении Хушхала с образом пророка,
собраны воедино в одной из его касыд. Это — превосходство Мухаммада
над другими пророками, которые «подобны звездам, исчезнувшим от
[света] солнца», подчиненное положение других религий по отношению к вере
Мухаммада («И Тора, и Евангелие, и Псалтырь (zabur) — все начертаны от
его имени»), сотворение обоих миров исключительно ради Мухаммада,
восхождение к божьему престолу на Бураке, чудеса и военные победы над
врагами исламской веры [XXX: 613—-614]. В касыде с редифом «Мухам-
мад» Хушхал возвеличивает пророка путем всяческой гиперболизации его
образа, достигающего поистине вселенских масштабов: «Что такое это
небо, стоящее без опор и столбов? Всего лишь маленькая веранда (aywan)
Мухаммада» [XXX: 515]. Противопоставляя веру Мухаммада
христианству, Хушхал делает такое довольно красивое сравнение: «Время [звучания]
колокола было недолгим, и он затих; а призыв к молитве (azan)
Мухаммада будет [длиться] вечно до Судного Дня» [XXX: 515].
Одна из двух газелей представляет собой краткий перечень чудес
Мухаммада (см. ниже). В другой, не имеющей тахаллуса и поэтому явно не
законченной, поэт восхваляет Мухаммада посредством интерпретации в
его пользу нескольких известных коранических сюжетов из сказаний о
доисламских пророках. Хушхал убеждает свою аудиторию в том, что именно
благодаря вмешательству духа Мухаммада Нух спасся от бури, Ибра-
хим — от огненной печи язычников, а Исма'ил, сын Ибрахима, — от ножа,
приставленного к горлу его отцом по велению Бога. Сравнивая Мухаммада
с Мусой, Хушхал опять произвольно толкует коранический текст, заявляя,
что Муса не смог вынести сияния на Синайской горе (ср.: Коран, 20:9/10—
38, 27:7—12 и др.), в то время как Мухаммад во время ми'раджа прямо
предстал перед ликом Господа [XXX: 96]. С Мусой, кстати, исламский
пророк сопоставляется и в одной касыде, где в частности есть такие слова:
«Сто тысяч людей угостились манной и перепелами Мусы, но угощением
Мухаммада насыщаются вечно и люди и джинны» [XXX: 515]67.
Как племенного вождя Хушхала особенно привлекал в Мухаммаде образ
идеального военного предводителя. Именно в таком духе он
интерпретирует суру «Слон», где упоминается поход эфиопского правителя на Мекку.
67 В Коране говорится о том, как Аллах посылал с небес народу Мусы манну и
перепелов и закрывал его облаком от зноя во время трудного перехода через пустыню
(2:54/57). Хушхал-хан, видимо, не случайно делает акцент именно на
противопоставлении Мухаммада и Мусы. История Мусы и в самом Коране излагается нарочито
тенденциозно с тем, чтобы показать иудейского пророка более слабым в сравнении с
исламским. Вероятно, это связано с полемикой, которую вел Мухаммад с иудеями в Медине
(см.: [Пиотровский 1991: 106—109]).
108 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Если в Коране речь идет о поражении «владельцев слона» вследствие
промысла всемогущего Аллаха, то Хушхал, опираясь на арабские
комментарии к Священной Книге, сообщает о бегстве курайшитов из города перед
осадой и объясняет этот факт отсутствием у арабов умелого
военачальника, каковым впоследствии стал Мухаммад [XXX: 890—891].
Отличительной чертой религиозной лирики Хушхал-хана является
неприемлемое с точки зрения нормативного богословия сочетание в ней
суннитских и шиитских мотивов. Неоднократно заявлявший о себе как об
убежденном сунните-ханафите Хушхал, тем не менее, одновременно
демонстрировал откровенно шиитские настроения, выражавшиеся в
восхвалении двенадцати шиитских имамов (подробнее см.: [Пелевин 2001: 126—
128]). Такая двойственность религиозных убеждений поэта отражена и в
обеих его касыдах со славословиями пророку. «Сто молитв от меня пусть
будет вечно семье Таки и Наки68, сто приветствий— четырем друзьям
Мухаммада (т. е. четырем халифам. — М Я.)», — кратко восклицает поэт в
одной поэме [XXX: 516], а в другой излагает ту же мысль более развернуто:
О тех из рода 'Али, что погибли в сражении,
Засвидетельствуй как^)б усопших.
Пусть будет проклят Йазид и его приспешники,
Мечом которых повержены внуки пророка 69.
Избранными в общине [пророка] являются двенадцать [имамов],
В величии своем они властелины всего мира.
Пусть в Судный День Хушхал Хаттак будет с теми,
Кто дружен с пятью чистыми и четырнадцатью безгрешными70.
[XXX: 614—615]
Заслуживает упоминания также один бейт, в котором Хушхал-хан
делает скрытый выпад против арабского языка, одновременно утверждая
значимость своего родного афганского: «Поскольку у арабов не
получается восхвалить его (Мухаммада. — М Я.), язык Хушхала поневоле
прилагает к этому усилия» [XXX: 153]. Похожие по смыслу строки о значении
пашто как мусульманского языка есть также у Давлата Лоханая (см. гл. III,
разд. 5).
В рошанитской поэзии именно Давлат Лоханай, посвятивший пророку
Мухаммаду несколько поэм, внес самый значительный вклад в развитие
жанров, производных от сира. Примечательно, что у Мирза-хана, кроме
отдельных и немногочисленных бейтов с восхвалением Мухаммада,
только в алиф-нама есть одна газель, целиком написанная в жанре на'т [МА:
16], а у Васила славословия Мухаммаду вообще отсутствуют, да и само его
имя встречается не намного чаще, чем имена доисламских пророков.
68Мухаммад Джавад а т - Т а к и (ум. 835)и'Али ан-Наки (ум. 868) —
9-й и 10-й шиитские имамы.
69 В этих бейтах поэт намекает на убийство внука Хусайна и других членов его
семьи по приказу омейядского халифа Йазида в сражении при Кербеле 10 октября 680 г.
70 «П я т ь чистых» — это пророк Мухаммад и четыре первых халифа (Абу Бакр,
'Умар, 'Усман, 'Али), а «четырнадцать безгрешных (та'sum)» —
Мухаммад, его дочь Фатима и 12 шиитских имамов.
Глава II. Формы, жанры, метрика
109
В одиннадцати бейтах газели Мирза-хан восхваляет Мухаммада,
названного только кораническим эпитетом had! ('проводник'), за
совершенное знание всего, что есть в мире «от высот до низин», за благосклонность
к людям, избравшим мистический путь, и за то, что «довольство малым
(qana'at) он сделал сокровищем». Из фактов, касающихся биографии
Мухаммада, реальной или легендарной, Мирза не сообщает ничего, а Васил
дважды упоминает только о конфликтных отношениях пророка с
родственниками, в частности с дядей Абу Лахабом, который «сгорает в огне
зависти» [WR: 3, 31]. Не исключено, что внимание Васила именно к этому
обстоятельству могло быть вызвано личными мотивами. У Хушхал-хана,
арестованного моголами при содействии его родных дядей, эта тема тоже
нашла отражение в некоторых стихах дивана [XXX: 165]. Отсутствие у
Васила панегириков в адрес Мухаммада я вынужден оставить без
комментариев, поскольку маловероятно, что к культу пророка у поэта было какое-
то особое, отличное от общепринятого отношение.
Поэмы Давлата Лоханая прекрасно отражают характер и степень
почитания пророка в народном исламе. По прошествии тысячелетия личность
Мухаммада подверглась в общественном сознании мусульман серьезному
мистико-философскому переосмыслению и значительной мифологизации,
его историческая биография обросла множеством фантастических
сюжетов. С течением времени из житийной литературы сира вырос
самостоятельный жанр му джизат, к которому относились произведения о
чудесных деяниях пророка. Сочетая в себе развлекательность и религиозную
дидактику, исполненный пафоса восхваления сильной и необыкновенной
личности, вождя народов, этот жанр обрел особенную популярность в
народной среде и на периферии мусульманского мира, где традиции
теологического и теософского ислама были менее сильны. Хотя Коран отрицает
наличие у Мухаммада сверхчеловеческих сил и, соответственно,
способностей совершать чудеса (7:188), в позднее средневековье даже
представители нормативного богословия полагали, что чудесные деяния пророка не
ограничивались получением божественного откровения. Мир Хусайн,
например, требует считать неверными (kqfiran) тех, кто равным образом не
признает чудеса суфийских святых (karamat) и чудеса Мухаммада (ти (ji-
zat) [NM: 466].
В жанре му'джизат Давлатом написаны две поэмы — касыда и масна-
ви [DL: 16—19, 251—252]. Некоторые диспропорции в композиции по-
эмы-маснави и ее размер (28 бейтов) позволяют предположить, что она
является наброском незаконченного произведения71. Кажется странным, что
на несколько чудес Мухаммада автор лишь намекает, а двум легендам
уделяет по восемь бейтов. При этом заключительный бейт поэмы явно
присутствует: «Его имя — Сокровище Познавших (ganj al- 'arifin)', эти
слова, Давлат, стали завершением». Возможно, перед нами наглядный пример
того, как происходил творческий процесс: произведение, особенно круп-
71 Не случайно в издании дивана, видимо, повторяющем ошибки рукописи, эта по-
эма-маснави соединена с большой касыдой, где восхваляются столпы ислама.
110 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
ной формы, создавалось не сразу последовательно, согласно задуманной
композиции, а путем написания разных по конечному месторасположению
частей и отдельных бейтов, которые компоновались уже на
заключительном этапе работы.
Касыда, в отличие от маснавщ представляет собой вполне законченное
и стройное в композиционном отношении произведение. Хотя это не
единственное, но, пожалуй, наиболее удачное повествовательное
стихотворение Давлата, где гармонично сочетаются и содержание, и форма, и стиль.
Можно утверждать, что эта касыда входит в число тех немногих
произведений ранней поэзии пашто, которые не только заложили основы для
последующего развития жанра стихотворной повести в афганской
литературе, но также сыграли определяющую роль в становлении самого языка
художественного повествования.
Структура касыды исключительно проста: сообщив читателю в первом
бейте о том, что он собирается изложить на бумаге несколько историй о
чудесах пророка72, со второго бейта поэт сразу же начинает свое
повествование, которое завершается такими словами макта': «Сколько бы ни
было других прекрасных качеств у досточтимого [пророка], Давлат, не
прекращай восхвалять их, покуда у тебя поворачивается язык». Сюжеты
занимают по одному, реже — по два-три бейта; никаких смысловых
переходов между ними нет. Классический принцип смысловой автономности
бейта, как видно, оказывал влияние и на структуру повествовательной
касыды. По сравнению со многими другими стихотворениями религиозно-
философской лирики Давлата касыда заметно отличается своим
упрощенным языком, для которого характерны ясное синтаксическое построение,
почти полное отсутствие метафор и сравнений, наличие бытовой, паштун-
ской по происхождению, лексики. Очевидно, в поэме скрыто присутствует
фольклорное начало.
Поэмы Давлата о чудесах пророка, вероятно, были первыми образцами
жанра му'джизат в паштунской литературе. При этом они не были
оригинальными, а опирались на богатейшую традицию, которую этот жанр имел
как в письменной авторской, так и в устной народной словесности на
разных мусульманских языках, прежде всего арабском и персидском. Будучи
отзвуком того, что уже было многократно рассказано, написано и пропето,
стихи Давлата тем не менее являются важным источником,
показывающим, какие представления о пророке и какие истории о его чудесных
деяниях имели хождение в паштоязычной среде в первой половине XVII в.
Кроме того, паштунские авторы последующих поколений, обращаясь к
жанру му'джизат, возможно, вольно или невольно использовали
творческий опыт Давлата. Так, в диване Хушхал-хана имеется одна газель,
написанная в жанре му'джизат, которая по стилю совершенно аналогична
касыде Давлата и рассказывает о тех же чудесах [XXX: 153]. Любопытно
было бы сравнить сюжеты, привлеченные Давлатом и Хушхалом, с теми,
72 Специальное указание автора на то, что его рассказ будет иметь письменную
форму, можно воспринимать как косвенное свидетельство широкого распространения
подобного рода повествований в устной традиции.
Глава II. Формы, жанры, метрика
111
что встречаются у афганских авторов более позднего времени73, а также
поискать параллели с подобными сюжетами, бытовавшими в ту же эпоху в
поэзии соседних народов. Изыскания такого рода выходят за рамки моей
темы, но я считаю целесообразным привести полный перечень сюжетов,
зафиксированных в произведениях Давлата (сюжеты, встречающиеся и у
Давлата, и у Хушхала, отмечены звездочкой).
I. Сюжеты, связанные с рождением Мухаммада:
1) ночь, когда родился пророк, озарилась светом, исходившим от него;
2) в эту же ночь погас тысячелетний «огонь Фарса» (огонь зороастрий-
цев Ирана) и разрушился дворец византийского кесаря;
3) после того как была перерезана пуповина, опрокинулись языческие
идолы Каабы;
4) только что родившийся Мухаммад сразу же произнес формулу веры
и совершил молитвенный поклон (sajda);
И. Личные качества Мухаммада:
1)* он был самым красивым из творений Бога и источал аромат,
превосходивший аромат амбры, мускуса и шафрана;
2)* от него исходило сияние; его тело не отбрасывало тени;
3) он мало ел, мало говорил, любил уединение, во сне оставался
бодрствующим;
4) он обладал способностью видеть то, что у него за спиной;
5) на него не смели садиться мухи;
6) всеми знаниями мира он овладел без учебы (намек на то, что
Мухаммад был неграмотным — wnrrii (Коран, 7:156/157))74.
III. Сюжеты религиозного характера:
1) получение откровения от Всевышнего в виде айатов Корана75;
2)* ми*радою— ночное восхождение Мухаммада на коне Бураке через
семь небесных сфер к престолу Бога76;
3)* вечерняя молитва Мухаммада превратила закат солнца в восход;
IV. Истории, показывающие положение Мухаммада в обществе:
1) новорожденный младенец на вопрос Мухаммада «Кто я?» ответил,
что он пророк;
2) надсмехавшийся над Мухаммадом человек стал криворотым;
73 Например, выше уже упоминались два саджевых отрывка о чудесах пророка из
«Книги Бабу Джана», написанной явно позже, чем касыда Давлата. В одном отрывке
фигурируют сюжеты из группы I (№ 3 и 4), в другом — сюжеты, относящиеся к группе
V (способность вызывать из тучи дождь и оживлять мертвецов) и VII (охранником
ipasban) пророка была луна).
74 Этот сюжет есть только у Хушхала.
75 Об этом первом и главном чуде Мухаммада Давлат упоминает один раз в газели
[DL: 40].
76 У Давлата эта легенда имеет явно мистическую интерпретацию; средством
передвижения пророка, по словам поэта, был «Бурак любви». Эпизод, в котором Мухаммад
беседует с архангелом Джабра'илом, оставшимся позади него и произнесшим
сакраментальную фразу: «Если я сдвинусь с места хотя бы на волосок, своим появлением Он
(Бог. — М. П.) спалит мне крылья», довольно подробно изложен Давлатом в начале
первой касыды дивана (бейты 14—20) [DL: 1—2]. Хушхал в своей газели тоже намекает
именно на этот эпизод: «Джабра'ил остался [позади] его пегого [коня]».
112 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
3) Абу Джахл77 предложил Мухаммаду угадать, что у него спрятано в
руке, в которой на самом деле ничего не было, но Мухаммад раскрыл
хитрость Абу Джахла, посрамив его за неверие в могущество Аллаха78;
V. Проявление сверхъестественных сил и превращения:
1)* Мухаммад расколол пальцем месяц;
2) прикосновением руки Мухаммад исцелил двух своих соратников,
Джунайба и Ибн Ну'мана, один из которых потерял в бою руку, а
другой — зрение;
3) в битве при Бадре Мухаммад дал воину по имени 'Аккаша
деревянную палку взамен сломавшейся сабли, и эта палка превратилась в крепкий
острый клинок, служивший воину долгие годы;
4) одному из друзей, отправлявшемуся ночью в дорогу, Мухаммад
тоже вручил палку, которая превратилась в факел, горевший без искр и дыма;
5)* соленая и горькая вода колодца стала вкусной и целебной после
того, как в него плюнул Мухаммад79;
VI. Чудеса, связанные с едой:
1) одним козленком и несколькими лепешками Мухаммад накормил
более трех тысяч человек;
2) семь фиников, оставшихся от провианта, войско Мухаммада ело в
течение трех дней;
3) Мухаммад напоил страдающее от жажды войско водой, которая
потекла из его пальцев;
4) благодаря молитве Мухаммада наполнилось молоком высохшее
вымя старой бесплодной козы;
5) женщину, которая накормила Мухаммада и его друзей топленым
маслом из своего бурдюка, пророк отблагодарил тем, что сделал этот
бурдюк никогда не опустошающимся;
VII. Отношения с живой и неживой природой:
1) животные, растения, предметы неживой природы (камни)
повиновались пророку и в его присутствии обретали способность говорить, видеть и
мыслить;
2) орел похитил и унес в небо свалившийся с ноги Мухаммада сапог, в
который, как оказалось потом, заползла змея;
3) Мухаммад выпустил попавшуюся в ловушку газель, чтобы та смогла
покормить молоком своих детенышей, а сам поручился за нее перед
охотником; газель оправдала доверие пророка и вернулась к ловушке,
покормив детенышей;
4) паук закрыл своей путиной пещеру, в которой укрылся пророк80;
5)* отравленный козленок81 предупредил Мухаммада, чтобы он не ел
его мяса;
77 Абу Джахл 0Отец Невежества*) — прозвище 'Амра ибн Хишама (ок. 570—
624), знатного мекканца из курайшитов, противника Мухаммада.
78 Эта история рассказывается в поэме-маснави; в касыде отсутствует.
79 У Хушхала сказано только то, что слюна пророка была слаще меда.
80 В касыде Давлат упоминает только о том, что паук был другом Мухаммаду, а сам
сюжет с пещерой приводится им в поэме-маснави.
81 У Хушхала — барашек.
Глава II. Формы, жанры, метрика
113
6) ствол дерева, о который опирался Мухаммад во время своих
проповедей и который перестал служить ему опорой после возведения мечети с
минбаром, стал вздыхать и плакать от разлуки с пророком;
7) в минуту необходимости три дерева сомкнулись вокруг Мухаммада
и спрятали его;
8)* в знойные дни Мухаммада всегда прикрывало своей тенью облако.
Другая поэма-маснави Давлата, посвященная пророку, может быть
отнесена к жанру на'т [DL: 247—250]. Славословие Мухаммаду,
«единственному другу Бога», «солнцу шари'ата», «предводителю людей и духов»
здесь направлено в русло мистико-философской концепции «Мухаммадо-
ва света» (пйг MuhammadT), согласно которой этот свет является
порождением Божьего сияния и источником всего сущего82. У Мирза-хана, кстати,
в нескольких бейтах тоже имеются краткие формулировки этой
метафизической идеи, например: «Свет посланника Он произвел из своего
света; вся Его красота проявляется в этом свете» [МА: 38 и 16, 19].
В начале поэмы Давлат несколько раз формулирует основную мысль
своего восхваления: «Все возникло из его (Мухаммада. — М. П.) света»,
«Его свет стал всем миром», после чего он переходит к более пространным
разъяснениям о том, в чем же именно воплощен свет пророка. Не избегая
повторов, Давлат называет в числе этих воплощений божественный
престол, райский сад, семь небесных сфер, солнце, луну, звезды, скрижаль
(lawk), на которой предвечным пером записаны судьбы людей. Затем
весьма поэтично говорится о снеге и дожде. Завершается же это длинное
объяснение таким простым, даже бытовым, по сути, перечнем: «Становится
[иногда его свет] хумом, пиалой, котлом, кувшином, домашним
животным, птицей, зверем, дивом, человеком...» [DL: 249].
Наиболее важной идеей для суфиев было то, что свет Мухаммада
воплощался в пророках и святых. «Он (Мухаммад. — М. П.) — светильник
святых (siraj al-awliya*)» — так определяет для себя эту тему Давлат и
развивает ее в заключительной части поэмы (бейты 53—73). Здесь
перечислены имена более тридцати доисламских пророков, знаменитых суфиев и пер-
соязычных поэтов, в которых, по мнению Давлата, сиял свет Мухаммада.
Разумеется, последним в списке значится Светлый Учитель Байазид Анса-
ри, автор «проповеднического и многоязычного» «Хайр ал-байан». Кроме
того, Давлат отдает дань традициям любовно-мистической лирики:
носителями Божьего света им также названы герои популярных романтических
поэм — влюбленные пары Вамик и 'Азра, Маджнун и Лайла.
82 В последних строках касыды Давлат ссылается на сочинение «Нур-нама» («Книга
света»), не указывая при этом его авторскую принадлежность. В паштунской
литературе известны два произведения с таким названием: одно принадлежит современнику
Давлата Мир Хусайну Харави [Кушев 1976: 93; Hewadmal 1987: 23—24], другое,
наиболее распространенное, — Джан Мухаммаду (пер. пол. XVIII в.) [Mackenzie 1965ь 113;
Hewadmal 1977: 112]. Такое же наименование носят два однотипных произведения,
авторами которых были суфийские поэты из Бенгалии — Саййид Муртаза (1590—1662) и
'Абд ал-Хаким Раззак Нандан (1620—1690) [Rizvi 1978: 352, 371—372]. Какое именно
сочинение имеет в виду Давлат, сказать сложно.
114 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Заметное место восхваление пророка занимает также еще в одной
касыде, расположенной в самом конце второго дафтара дивана Давлата
[DL: 252—256]. Это довольно большое стихотворение (107 бейтов),
ошибочно соединенное с незаконченным маснави о чудесах пророка, по
мнению 3. Хевадмала, принадлежит не Давлату, а другому рошанитскому
поэту — Мир-хану, имя которого упоминается в макта *. Композиция
центральной части поэмы кажется не вполне упорядоченной, отдельные темы
накладываются друг на друга без видимых переходов. Кроме того, во
многих бейтах не соблюден выбранный размер. Есть и немало неясных мест.
Вероятно, автор не завершил работу над поэмой, вследствие чего она
оказалась в рукописи среди незаконченных произведений.
В поэме вновь повторяется тема Мухаммадова света как источника
всего сущего (бейты 7—14), а ниже следует собственно восхваление (бейты
43—56), где среди банальных славословий обращает на себя внимание
мотив с обыгрыванием имени пророка [DL: 254]. Этот мотив, основанный на
хадисе кудси «Я— Ахмад без [буквы] мим», в разных вариантах был
весьма популярен у суфийских поэтов. Мирза-хан дважды намекает на ха-
дис: «То, что [Он] сказал „Ахмад без мима", есть явная загадка» [МА: 33]
и «Ахмад един с Ахадом {ahad 'единственный', эпитет Бога. — М Я.),
если он стер каплю мима» [МА: 174]. Тот же мотив встречается у Васила:
«Алиф и мим — это начало и конец, в Ахад мим запретен; эти тайны будут
понятны тому, кто знаком с ма'рифатом» [WR: 84] — и у проповедника
Бабу Джана, который в одном бейте заявляет, что имя «Мухаммад»
возникло из «Ахад» [BJ: 726].
На толковании букв имени пророка построена оригинальная профето-
логия Ахмада Сирхинди (1564—1624), выдающегося представителя
теоретического суфизма и распространителя идей братства накшбандиййа в мо-
гольской Индии [Schimmel 1975: 224—225, 369]. Безусловно, автор поэмы
был знаком со взглядами своего современника и соотечественника.
Развивая мысли Ахмада Сирхинди и его предшественников, поэт утверждает,
что у пророка было четыре имени: Махмуд — его имя в подземном мире,
Мухаммад — в земном, Ахмад — в горнем, Ахад — в том, «что за ним»
(та wara'). Право называться последним именем пророк получил во время
ми'раджа, восхождения к престолу Бога. Само восхождение и пребывание
наедине с Богом стало возможным после того, как пророк «избавился» от
трех букв своего «земного» имени, т. е. вава и двух мимов.
Упомянутая касыда кроме панегирика Мухаммаду содержит также
хвалу прочим столпам ислама. Главное внимание уделено четырем халифам
(caharyar) и только несколько бейтов в последней части поэмы посвящены
убиенным внукам пророка Хасану и Хусайну, дядьям пророка 'Аббасу и
Хамзе, а также всем сподвижникам Мухаммада, которых поэт
традиционно разделяет на мухаджиров (переселенцы из Мекки) и ансаров
(помощники в Медине)83.
83 Краткие и довольно бесцветные саджевые восхваления первых четырех халифов и
сподвижников пророка (ashab) имеются также в «Книге Бабу Джана» [BJ: 2аб, 75аб].
Глава II. Формы, жанры, метрика
115
Восхваление халифов по числу бейтов (более половины) может
считаться основной темой всей касыды. Наряду с обычной хвалебной
риторикой, перенасыщенной к тому же арабскими клише и прямыми цитатами из
хадисови, автором использованы и более привлекательные
художественные средства для характеристики халифов. Как и в славословии Мухамма-
ду, например, поэт обращается к «толкованию» имен, но в данном случае
объясняет значение букв, составляющих имена и прозвища халифов — Sid-
dlq ('правдивый', эпитет Абу Бакра), 'Adil ('справедливый', эпитет 'Ума-
ра), 'Usman и 'All [DL: 253]. Значение каждой буквы определяется каким-
нибудь словом, начинающимся с нее. За исключением двух персидских
слов, все прочие объяснительные слова — арабские. Например, прозвище
'Умара ('adil) оказывается состоящим из слов «справедливость» (W/),
«приказание Повелителя (Бога)» (amr do amir), «храбрый» (dalir\ «блистающий»
(lami'). Замечу, что в «трактовке» имени 'Али явно опущено объяснение
последней буквы, и не вполне ясно, какое слово на лам имеется в виду —
арабское liwa' ('знамя') или афганское loy ('великий').
Подобное незатейливое толкование имен халифов продолжено
образным объяснением их роли в истории исламской веры. «Скрытое
сокровище» веры (maxfi ganj) хранилось в сердце Мухаммада. Абу Бакр был его
ключом, 'Умар — открывателем, 'Усман — тем, кто объяснил его ценность
всему миру, 'Али— казначеем, оберегавшим и распределявшим это
сокровище.
Следует добавить, что в одной из поэм Мирза-хана тоже имеется
славословие халифам; первым трем посвящено по три бейта, а 'Али — шесть
[МА: 39—40]. В отличие от вышеупомянутой касыды стихи Мирза-хана
свободны от изобретательной риторики и содержат традиционные
восхваления: Абу Бакра — за искренность и любовь к Богу, 'Умара — за
справедливость в отношениях с единоверцами, 'Усмана — за мягкость
характера и скромность, несмотря на материальный достаток, 'Али— за его
боевые успехи в войнах с неверными. Славословие завершается строками,
в которых Мирза, порицая рафизитов, т. е. шиитов, проповедует
суннитскую идею о равенстве и законности правления всех четырех халифов.
Панегирики, которые рошанитские поэты посвящали столпам ислама,
как и все прочие затрагивавшиеся ими религиозные темы, безусловно, не
отличались свежестью и новизной, а только продолжали давно
сложившиеся литературные традиции, однако, как уже отмечалось, внимания
заслуживает именно факт перенесения этих традиций на почву
развивающейся паштунской словесности. Потребность в изложении классических
тем и сюжетов на национальном языке была обусловлена не только
задачами религиозного просвещения, но и появлением грамотной и
образованной аудитории, вероятно, не очень большой, но вполне достаточной для
поддержания и развития литературной жизни. Похожие процессы,
связанные с формированием новых литературных языков, приблизительно в это
84 Например, восхваляя 4Али, поэт вспоминает такие расхожие изречения, как: «Он
('Али. — М.П.) — врата в [граде] знания [Мухаммада]»; «Нет [другого] храбреца кроме
'Али».
116 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
же время происходили и во многих других социально-культурных
общностях индомусульманского мира.
Легендарные сказания
Первые поэтические и прозаические (саджевьге) обработки
легендарных сказаний о пророках и царях в паштунской литературе принадлежат,
видимо, Бабу Джану. Хотя в произведениях его предшественников
довольно часто встречаются краткие упоминания сюжетов, связанных с именами
легендарных мифологических, исторических и литературных персонажей,
однако в «Книге Бабу Джана» эти сюжеты, являясь основным
содержанием большого числа фрагментов, имеют вид развернутых повествований и
поэтому в совокупности функционируют уже на уровне самостоятельного
литературного жанра.
Сам Бабу Джан определяет произведения этого жанра термином qissa
('рассказ', мн. qisas)*5, который с тем же значением употреблялся уже в
ранней мусульманской литературе применительно к популярным
обработкам коранических сказаний. На протяжении первых четырех веков ислама
термин qissa относился к повествовательным произведениям
исключительно религиозного характера, и только примерно с XI в. им стали
обозначаться также занимательные повести светской направленности [Pellat
1999]. Другим отличительным признаком произведений жанра qissa была
их принадлежность к народной литературе. Вплоть до нового времени
рассказы на коранические сюжеты бытовали преимущественно в устной
форме или в анонимных сборниках, лишь иногда подвергаясь
профессиональной авторской обработке.
Интересно, что оба указанных признака в той или иной степени
присущи рассказам из «Книги Бабу Джана». Во-первых, эти рассказы в
подавляющем большинстве излагают коранические сюжеты и относятся к жанру
сказаний о доисламских пророках — кисас ал-анбийа' (qisas al-anbiya'). В
классической арабской литературе окончательное становление этого
жанра обычно связывают с именем Абу Исхака Ахмада ас-Са'лаби (ум. 1036),
автора крайне популярного произведения «'Ара'ис ал-маджалис фи кисас
ал-анбийа'», созданного на основе комментариев к Корану и устных
преданий. Во-вторых, рассказы Бабу Джана несут на себе явный отпечаток
фольклора в том смысле, что по своей форме, языку и стилю они очень
похожи на малообработанную запись устных текстов, видимо, проповедей
самого Бабу Джана, адресованных народной аудитории. Нужно здесь
заметить, что второй по популярности классический арабский сборник ска-
85 В паштунской литературе XVIII в. многие популярные стихотворные повести,
судя по рукописям, содержали в своих названиях слово qissa, например: «Кисса дэ Дили
ау Шахэй» Садр-хана Хаттака, «Кисса-йи Шах ва Гада» 'Абд ал-Хамида Моманда,
«Кисса-йи Сайф ал-мулук» Гулам Мухаммада, «Кисса-йи Бахрам ва Гуландам» Файаза
и др. Совершенно очевидно, что употребляемый паштунами арабский термин qissa был
аналогом персидского dastan.
Глава II. Формы, жанры, метрика
117
заний о пророках, приписываемый Мухаммаду ибн 'Абдаллаху ал-Киса'и,
представляет собой явно народную компиляцию коранических сюжетов.
Стихотворные обработки коранических сказаний Бабу Джана содержатся
во втором дафтаре его «Книги» (по петербургской рукописи С 1907). Это
рассказы о сотворении мира [BJ: 87а—89а], об Адаме [BJ: 91а—926], Нухе
[BJ: 92б-^-93а], Ибрахиме [BJ: 93аб], Мусе [BJ: 1026—104а], Да'уде [BJ:
936—946], Сулаймане [BJ: 946—96а], Марйам [BJ: 104а—1056] и 'Иса [BJ:
1056—108а]. В первый дафтар входят в основном саджевые обработки
легендарных сказаний, но есть в нем и поэтические тексты, в частности
стихотворения об Ануширване Справедливом [BJ: 686—69а, 706], Хатиме
Тайском [BJ: 69аб], а также об испытаниях, посылавшихся Аллахом разным
пророкам и царям [BJ: 23а—246].
При изложении коранических сюжетов Бабу Джан, безусловно,
опирался и на собственное знание священных текстов, и на тафсиры, и на
произведения жанра кисас ал-анбийа\ а также на иные литературные
источники. Фрагмент о сотворении мира Бабу Джан начинает с толкования
популярного у суфиев хадиса кудси «Если бы не ты, Я не сотворил бы
небеса» (lawla-ka та xalaqtu Ч-aflaka), который служил исходной посылкой
мистико-философской идеи о том, что первым творением Бога был дух
(arwah) Мухаммада, а весь мир создавался исключительно вследствие
предвечной любви Всевышнего к исламскому пророку как Совершенному
Человеку (бейты 1—5). Далее в последовательности, согласующейся со
смыслом коранических текстов, Бабу Джан перечисляет этапы творения:
небо и земля, небесные светила, горы, реки, ветер, растительность,
животные, ангелы, человек-Адам (6—18). Этот перечень продолжается кратким
экскурсом в историю пророков и завершается упоминанием имени
Мухаммада (19—26), что, отвечая духу суфийской космогонии,
недвусмысленно указывает на идею о возвращении тварного мира к своему
первоначалу. Высказывание автора в последнем бейте о том, что он «арабский
рассказ изложил на пашто», свидетельствует об использовании им именно
арабоязычных источников, в первую очередь, конечно, непосредственно
Корана и богословской комментаторской литературы.
Повествовательный элемент как таковой преобладает у Бабу Джана в
рассказах об Адаме, Марйам и 'Иса. Прочие стихотворные рассказы
содержат в основном хвалебные описания достоинств и заслуг легендарных
персонажей, а связанные с ними события, как правило, излагаются весьма
лаконично. Например, деяния и эпизоды жизни Ибрахима сообщаются в
виде перечня с нумерацией: awwal, dwahdm, dreyom и т. д. Несомненно, на
стиль автора определяющее влияние оказывали его источники.
Повествование об Адаме состоит из четырех небольших фрагментов.
В первом (8 бейтов) подробно рассказывается коранический эпизод о том,
как Аллах научил Адама «всем именам», благодаря чему тот превзошел
своим знанием ангелов, которые выражали недовольство сотворением
человека и предупреждали Бога, что люди станут «производить нечестие и
проливать кровь» (Коран, 2:28/30—31/33). Совершенно очевидно, что Бабу
Джан прямо пересказывает на пашто коранический текст. Как говорит сам
автор в последнем бейте: «Эти айаты вошли в Коран» [BJ: 916]. Таким же
118 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
пересказом является и второй фрагмент (9 бейтов), где говорится о том,
как по приказу Бога Адаму поклонились все ангелы за исключением
Иблиса86, как Адам был послан в рай с разрешением есть любые плоды
кроме плодов одного дерева, но, поддавшись искушению дьявола,
нарушил распоряжение Бога, за что был изгнан из рая на землю. Эти сюжеты
излагаются в нескольких сурах Корана (2:32/34—35/37, 7:10/11—24/25,
20:115/116—119/121). Бабу Джан цитирует слова айата из 20-й суры —
wa 'asa adamu rabbahu («и ослушался Адам Господа своего...»).
Следующий фрагмент (8 бейтов) основан на преданиях, не связанных с текстами
Корана. В нем повествуется о разлучении Адама с женой Хаввой, его
долгом пребывании на Цейлоне (Сарандиб) и покаянии за ослушание (см.:
[Пиотровский 1991: 39]). Четвертое стихотворение (8 бейтов)
характеризует Адама как первого божьего посланника, за которым последовали другие
пророки.
Рассказ о Нухе (10 бейтов), многократно излагаемый в Коране
(7:57/59—62/64, 11:27/25—50/48, 23:23—30/29, 26:105—120 и др.),
построен у Бабу Джана на двух главных мотивах: многолетние, но
бесплодные старания Нуха обратить в истинную веру своих соплеменников и
наказание, посланное Аллахом злым неверующим в виде всемирного потопа.
В рассказе об Ибрахиме, «друге Аллаха» (xalil Allah) (13 бейтов)
упоминаются следующие сюжеты, основанные как на Коране, так и на других
источниках: 1) в ночь рождения Ибрахима люди его города пребывали
в смятении и страхе; 2) ребенком он был брошен родителями в пустыне;
3) его проповеди соплеменникам-язычникам о вере в единого Бога (Коран,
6:74—81, 19:42/41-^8/47, 37:81/83—96/98 и др.); 4) разрушение идолов
(21:57/56—59/58); 5) ссора со своим народом и бегство в «землю
обетованную» (21:68—71); 5) ссора с царем-тираном (2:260/258); 6) готовность
принести в жертву сына Исма'ила (37:100/102—106).
Два фрагмента (17 и 13 бейтов) Бабу Джан посвятил некоторым
эпизодам, относящимся к истории пророка Мусы. К сожалению, в этих текстах
для меня осталось немало темных и малопонятных мест. Например, не
совсем ясно, в какой связи с историей Мусы упоминается другой
доисламский пророк— Шу'айб, который, по словам Бабу Джана, «избавил свой
дом от тягот дождя»87. Заявления автора о том, что Муса родился в
Израиле, а его посох мог превращаться в меч и огонь, не соответствуют корани-
ческим преданиям, согласно которым родиной Мусы был Египет, а его
посох, будучи брошен на землю, превращался в змею. В первом фрагменте
Бабу Джан рассказывает об исходе «сынов Израилевых» из Египта,
чудесной переправе через море и спасении таким образом от Фир'ауна, а также
о получении Мусой завета от Бога в течение сорока ночей (2:46/49—50/53,
7:131/134—138/142 и др.). Обращает на себя внимание одна из начальных
86 В рукописи дьявол назван 'Азра'илом ('Azra'il), что, видимо, является ошибкой
переписчика. Полагаю, в оригинале фигурировало имя 'Азазил (*AzazH).
87 Бабу Джан явно приписывает Шу'айбу то, что произошло с Лугом, который, по
воле Аллаха вместе с семьей бежал из города грешников, поверженных «дождем камней
из глины» (Коран, 7:78/80—82/84, 11:84/82,15:58—75 и др.).
Глава II. Формы, жанры, метрика
119
строк стихотворения, где Бабу Джан, опираясь, видимо, на какие-то
суфийские интерпретации сюжета, высказывает мысль о том, что
первоначальное могущество Фир'ауна было следствием божественного
предопределения. Во втором фрагменте, понятном мне только наполовину, кратко
говорится о враждебных намерениях Фир'ауна по отношению к Мусе
после его возвращения в Египет с пророческой миссией и упоминается
история о богаче Каруне, которого Аллах «утопил в земле» за гордыню
(28:76—82 и др.).
При описании качеств и умений царей-пророков Да'уда и Сулаймана
Бабу Джан либо прямо следует букве Корана, либо делает весьма
прозрачные намеки на соответствующие айаты. В стихотворении о Да'уде (21
бейт) главенствует мысль о том, что власть, мудрость и чудесные знания
этого праведного царя были следствием особой благосклонности к нему
Всевышнего. Бог сделал Да'уда пророком, ниспослав ему Псалтырь
(zabur) (4:161/163), даровал ему способность повелевать зверями и
птицами (21:79, 38:17/18—18/19)88, научил ковать железо (21:80, 34:10). «Мы
смягчили ему железо», — сказано в Коране. «В его руках железо
становилось мягким», — передает слова Аллаха на пашто Бабу Джан [BJ: 946].
Коран сообщает о том, что Да'уду была дарована «решительность в речи»
(38:19/20). Бабу Джан поясняет это так: «Если он начинал зикр, сердца
слушателей разрывались надвое» и «Если он начинал молитву (tasbih), у
каждого возникал страх перед адом» [BJ: 94а]. В стихах Бабу Джана Да'уд
восхваляется также за внешнюю красоту, справедливость и
мужественность. Говоря о справедливости Да'уда, афганский автор явно намекает на
его участие в качестве судьи в двух тяжбах, упоминаемых Кораном (21:78,
38:20/21—25/26), а в словах о храбрости и непобедимости следует видеть
аллюзию на айат, где Да'уд назван победителем Джалута (Голиафа)
(2:252/251).
История Сулаймана излагается Бабу Джаном в шести фрагментах, из
которых только первый (15 бейтов) и в меньшей степени второй (12
бейтов) могут быть отнесены к собственно поэтическим текстам. Первый
фрагмент, где в заключении опять сказано об арабоязычном источнике
автора («Бабу Джан арабское повествование сделал на пашто» [BJ: 956]),
посвящен восхвалению могущества Сулаймана. В Коране Сулайману дана
власть над ветром, джиннами и птицами (21:81—82, 34:11/12—12/13,
38:35/36—37/38 и др.), а у Бабу Джана в списке повинующихся значатся
ангелы, дивы, пери, птицы, змеи, муравьи89. Коран говорит о понимании
Сулайманом языка птиц (27:16), а Бабу Джан утверждает, что «он знал
88 В Коране говорится о том, что Да'уду подчинялись горы и птицы. Что касается
власти над животными, которых Бабу Джан даже перечисляет (кошка, слон, лань, лев,
барс), то ее обычно приписывают Сулайману, сыну Да'уда. Впрочем, из некоторых ай-
атов (например, 27:15) явно следует, что Аллах даровал Да'уду и Сулайману одно
знание.
89 Упоминание муравьев (mezt), конечно, связано с сюжетом из суры «Муравьи» о
военном походе Сулаймана. Когда его войско из людей, джиннов и птиц готово было
вступить в муравьиную долину, Сулайман услышал, как одна муравьиха призвала своих
сородичей спрятаться в норах, чтобы не быть раздавленными (27:17—19).
120 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
язык всякой вещи» [BJ: 946]. В Коране сказано, что джинны выполняют
для Сулаймана работу строителей и ныряльщиков и «делают они ему, что
он пожелает, из алтарей, изображений, чаш, как цистерны, и котлов
прочных», а за уклонение от подчинения Сулайману им грозит «наказание
огня». В стихотворении Бабу Джана обязанности духов попроще, а
наказание — полегче. Дивы и пери, пишет Бабу Джан, приносили Сулайману из
гор дрова, а если уклонялись от его приказа, их ожидала темница (ban-
dixana). Основываясь на народных легендах о Сулаймане, Бабу Джан
упоминает также о его несметных богатствах («двенадцать тысяч подносов
дорогих камней: хризолита, изумруда, мрамора») и о том, что ему был
известен источник живой воды (возможно, контаминация с Искандаром).
Явно сказочное предание лежит в основе второго, «полустихотворного»
отрывка, повествующего о покорении Сулайманом некоего «морского
народа» {do daryab xalq)90.
Рассказы о Марйам и 4Иса, хотя они и являются у Бабу Джана вполне
самостоятельными, тесно связаны между собой и могут восприниматься
как части единого сказания. Сюжет рассказа о Марйам (32 бейта) основан
главным образом на айатах 19-й суры Корана («Марйам»), излагающих
историю чудесного рождения 'Иса (19:16—36/35). Среди всех
стихотворных рассказов Бабу Джана этот — единственный, где очень живо и
незатейливо ведется непрерывная цепь повествования. Именно такой стиль
изложения, на мой взгляд, наиболее отвечал целям религиозного
просвещения народа.
В кратком виде этот рассказ выглядит так. Благочестивая и набожная
Марйам однажды отправилась к воде (в Коране — в «восточное место» за
завесу), чтобы совершить ритуальное омовение. Во время омовения к ней
неожиданно явился Джабра'ил в человеческом облике. Марйам испугалась
и попросила у Бога защиты от незнакомца, но тот объяснил ей, что он —
посланник Аллаха и принес ей весть о скором рождении сына. Марйам не
поверила, заявив, что она ни с кем не состоит в браке. На это Джабра'ил
ответил словами Корана о том, что Аллах решает дела «приказом „Будь!"
и оно бывает» {кип fa уакйпи). Марйам тут же забеременела и восхвалила
Бога. Когда настало время рождения 'Иса, Марйам находилась «в далеком
месте», где стояла тяжелая жара. Роженица совсем было потеряла надежду
на жизнь, но «Господь явил ей источник и рассыпал в изобилии плоды».
Благополучно разрешившись от бремени, Марйам возблагодарила Бога и
по велению младенца дала обет молчания. Люди стали порочить Марйам,
подозревая ее в распутстве: «Не было ни у твоего отца, ни у твоей матери
дурной славы, пока эта новость о тебе не стала для каждого тяжелой» [BJ:
105а] (в Коране — «...не был отец твой дурным человеком, и мать твоя не
была распутницей» (19:29/28)). Тогда Марйам заявила, что ответ за нее даст
90 В этом эпизоде интересно упоминание о «водных» (daryabT) крылатых конях,
принадлежащих противникам Сулаймана. Образ волшебного летающего коня хорошо
известен по мифам и сказкам многих народов. В тюркском героическом эпосе крылатые
кони нередко являются одновременно водными (морскими). Таким конем, например,
владеет Кер-оглы, один из самых популярных героев тюркских богатырских сказаний
(см.: [Жирмунский 1962: 26—27]).
Глава II. Формы, жанры, метрика
121
младенец (в Коране Марйам указала на младенца, что логичнее, так как
она дала обет молчания). Люди не могли поверить, как может грудной
ребенок что-то сказать. Однако младенец вдруг произнес хвалу Богу, заявив,
как и в Коране, что он — раб и посланник Аллаха и что его мать чиста от
грехов. Речь 'Иса у Бабу Джана хотя и не является прямым переводом ко-
ранических строк, тем не менее по смыслу полностью соответствует им.
Бабу Джан добавляет здесь к словам 'Иса аргумент, встречающийся в
другой суре (3:52/59), а именно тот, что у первого пророка Адама тоже не
было отца. Рассказ Бабу Джана неожиданно заканчивается морализаторским
замечанием о злословии, которое, по его мнению, есть признак времени, и
ни один хороший человек не бывает свободен от него.
Рассказ об 'Иса, «духе Аллаха» (ruh Allah), как его именует автор,
состоит из двух фрагментов (30 и 19 бейтов). На фоне ясного и плавного
повествования о Марйам этот рассказ местами, преимущественно в первом
фрагменте, излагается крайне путано и неуклюже. Вероятно, автору
сложнее было обработать источники, поскольку ими были не конкретные тексты
Корана, а более поздние разнородные предания и литературные обработки
сюжетов об 'Иса. При этом, естественно, многие сюжеты таких преданий
опираются именно на коранические строки. Так, в первом фрагменте
просматриваются туманные намеки на те айаты, где говорится о ниспослании
апостолам «небесной трапезы» (у Бабу Джана — «разных сладких плодов») в
доказательство существования всемогущего Бога и пророческой миссии
'Иса (5:112—115), о спорах с иудеями (5:82/78,43:63/67), об исцелении
неизлечимого больного (у Бабу Джана это сын падишаха) (3:43/48, 5:110), о
вознесении 'Иса на небеса (у Бабу Джана за 'Иса с неба спускается Джаб-
р#а'ил) (4:156/157, 158). Самый длинный эпизод (бейты 12—21) повествует
об оживлении мертвеца (3:43/48, 5:110), который оказывается царским
сыном и рассказывает о своей короткой жизни, жалуясь на тщету земного
бытия91. Последний сюжет, упоминаемый в стихотворении Бабу Джана,
возможно, отражает некоторые представления о мусульманском
Антихристе Даджжале. Бабу Джан кратко говорит о появлении некоего пророка-
самозванца в облике вознесенного на небо 'Иса92 и наказании его
разгневанным Богом.
Содержание второго фрагмента целиком основывается на сюжетах
популярных сказаний. В первых десяти строках этого стихотворения дано
описание мира, погрузившегося в грехи и неверие93. Люди отказались
соблюдать законы истинной веры, недозволенное стали считать
добродетелью, занялись распутством — прелюбодеянием и, что особенно интересно,
пением (surud), «богословы повернулись спиной к мечети, а дервиши ох-
91 Этот сюжет был наиболее популярным в легендарных сказаниях об 'Иса и у
суфийских авторов бытовал в виде самостоятельной повести. Широко известна,
например, написанная на эту тему поэма «Джумджума-нама», которую приписывают Фарид
ад-дину 'Аттару [Morrison 1981: 57].
92 В мусульманской эсхатологии Даджжал обычно имеет малопривлекательный вид,
например, изображается краснолицым кудрявым толстяком с одним глазом.
93 Это описание созвучно, а в ряде строк текстуально близко стихам Бабу Д>» ан<> о
приметах Судного дня [BJ: 186—19аб, 226—23а].
122 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
ладели к ханаке» [BJ: 1076] и т. п. Духовные проповеди и наставления
'Иса не оказывали на людей никакого воздействия, и в конце концов те
даже задумали убить пророка. Вторая половина стихотворения
рассказывает о том, как 'Иса был вынужден бежать от людей в горы и вести там
отшельническую жизнь. Обращает на себя внимание поэтичный эпизод с
лисой, которая укрывается в пещере от дождя, в то время как «сын Ма-
рйам бредет, лишенный убежища» [BJ: 108а]. Бабу Джан упоминает в
рассказе еще две детали, а именно: гора, где находит пристанище 'Иса, кишит
змеями и скорпионами, и поэтому никто из людей не рискует
приблизиться к ней; пищей 'Иса служит горная растительность и небесная вода.
Вне цикла рассказов о пророках у Бабу Джана имеются стихотворения,
посвященные двум популярным героям персидской назидательной
литературы — Ануширвану и Хатиму Тайскому. В одном из этих стихотворений
(24 бейта) нарисован традиционный образ Ануширвана (исторического
Хосрова I, правившего в 531—579 гг.) как идеального правителя всех
времен. Прославляя легендарного иранского царя за его справедливость и
нелюбовь к насилию, Бабу Джан излагает на пашто известный сюжет одного
из рассказов первой главы «Гулистана» Са'ди о том, как Ануширван
послал своего раба в деревню за солью, приказав обязательно заплатить за
нее:
На охоте ему попалась лань, // А в его обществе были друзья.
Он приказал [приготовить] жаркое, но [вся] соль промокла.
// Без соли нет удовольствия от блага.
Один его слуга пошел за солью: // «С базара принесу ее в один миг».
Ануширван приказал взять ее за плату,
// [Ибо] без платы возникнет привычка к насилию.
Если у кого что возьмешь без платы, это — недозволенное (haram),
Если же попросишь, то это — недостойное попрошайничество (su'alT)...
[BJ: 70a]
Два других стихотворения, следующие в «Книге» друг за другом,
связаны между собой одной темой, которая развивается также в нескольких
предшествующих фрагментах. Это тема щедрости (saxawat) как качества,
угодного Господу и избавляющего от мук ада. За высшую степень
проявления этого качества Бабу Джан восхваляет Ануширвана (14 бейтов) и Ха-
тима Тайского (18 бейтов). В стихотворении об Ануширване автор
ограничивается только хвалебными характеристиками и эпитетами, сравнивая
иранского царя то с облаком, проливающим дождь милости, то с
придорожным деревом, дающим тень и плоды, то с источником, утоляющим
жажду путника холодной водой. Панегирик Хатиму Тайскому написан в
той же манере. Бабу Джан здесь делает акцент на мировой славе Хатима:
«Когда заходила речь о его щедрости, падишахи умолкали от стыда» [BJ:
69а]. Автор не только восхваляет Хатима, но и приводит один из
показательных примеров его щедрости: в голодный год, когда не осталось
никакой пищи, Хатим пожертвовал нуждающимся своего коня. Нужно заметить,
что Хатим Тайский, полулегендарный арабский поэт второй половины
VI в., прославившийся своей необычайной щедростью, обрел особенную
Глава II. Формы, жанры, метрика
123
популярность не столько в арабской, сколько в персидской литературе, где
он является главным героем целого ряда сказаний, одно из которых,
например, принадлежит перу известного Хусайна Ва'иза Кашифи (ум. 1504/05)
(см.: [Arendonk 1999]).
ЛюОовно-мнстнческио стихи
Любовная тема в лирике рошанитских поэтов имеет исключительно
суфийскую направленность, хотя используемые поэтами традиционные
средства художественной выразительности иногда придают любовным
стихам известную двусмысленность. Точнее было бы сказать, что роша-
нитские авторы, продолжая традиции классической суфийской поэзии,
облекали мистико-философские идеи в стандартные образы и символы
любовно-гедонической лирики. Слова со значением 'друг', 'возлюбленный',
'красавец' —yar, dost, asna94Janan, ma'suq, mahbub, dilbar, dilruba, dildar,
sahid— неизменно означают Бога, а эпитет 'asiq, реже muhib
('влюбленный') является полным синонимом термина 'arif ('познавший'). У Мирза-
хана символический образ возлюбленного Друга в большинстве случаев
«феминизирован», что показывают окончания женского рода как
непосредственно у субстантивированных определений (mahbuba, dildara и т. п.), так
и у согласованных с ними прилагательных и глагольных форм.
Отличительной чертой стихов Мирза-хана является также частое обозначение Бога
словом saha ('владычица') (иногда— Sah9 но с определениями и
глагольными формами женского рода), которое у других рошанитских поэтов
почти не встречается. Возможно, отчасти по причине «феминизации»
Друга-Бога Мирза-хан условно считается родоначальником паштунской
любовной лирики. Не случайно Хушхал Хаттак высказывает желание
соперничать любовными стихами именно с ним [XXX: 307].
Отношения влюбленного мистика и возлюбленного Бога не имеют у
рошанитов каких-либо примечательных особенностей и исчерпываются
шаблонным набором мотивов, куда входят признания в неуемной любви к
Другу, описания его внешних красот и качеств, исповеди о томлении в
разлуке (firaq, judayT, beltiiri) и о страстном желании свидания (didari) или
близости (wisal). При этом рошанитские поэты не используют ни свежих и
занимательных, ни вычурных образов и сравнений, для которых подобная
поэзия является благодатной почвой. Отсутствуют у них и какие-либо
необычные варьирования стандартных мотивов. Например, часто
встречающиеся образы соловья, влюбленного в розу, и мотылька, сгорающего в
пламени свечи, настолько схематичны, что могут быть отнесены к разряду
технических терминов. К тому же сам круг используемых рошанитами
шаблонных образов весьма узок и свидетельствует о том, что поэты
совсем не стремились разнообразить художественную сторону своих
любовно-мистических стихов.
94Васил один раз употребляет паштунский эквивалент этого слова— pezandoy
('знакомый') [WR: 42].
124 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
У всех поэтов любовно-мистическая тема традиционно преобладает в
газелях, причем во многих стихотворениях она является ведущей или
единственной. Васил посвятил восхвалению возлюбленного Друга также
один из мухаммасов, включающий десять пятистиший [WR: 113—114]. В
первой строке этого стихотворения поэт делает оговорку о том, что он
будет вести свои речи на языке пашто, ибо восхваление «доступно
могущественному уху на любом наречии». Прочие строки мухаммаса содержат
смешанные в стилевом отношении похвалы беззаботной, самолюбивой
красавице и вечному, единому Господу, источающему свет.
Немало строк каждый поэт отводит характеристике мистической любви
(4sq, mina, muhabbat). У Давлата, например, есть две газели на эту тему с
соответствующими редифами — 4sq и be 1э Чща (*кроме/без любви') [DL:
138, 209—210]. В одном из них поэт говорит о любви как о своей
единственной дороге и единственном грехе, в другом называет любовь
безбрежным морем, не поддающимся описанию, источником всего сущего,
всевластным государем. Подобные же определения давал любви и Мирза-хан: «Весь
мир появился от любви; эта истинная любовь — отец всех людей» [МА:
57]; «Его (мистика. — М.П.) любовь — великий безграничный океан,
первым же наплывом она погрузила его в волны» [МА: 66] и др.
Рассуждая о разных проявлениях любви, Давлат призывает читателя
предаться вечной любви к Богу и отказаться от недолговечной любви к
бренному материальному миру, воплощенному для него в том, из чего
состоит быт мирских людей. Поэт явно иронизирует по поводу любви к
райским благам, мало отличающимся по сути от благ земных. Такие же
мотивы звучат и в другой его газели, где повторяется мысль о том, что земная
любовь ошибочна, ибо кратковременна, а единственная и истинная
сердечная привязанность может быть только к Богу [DL: 143]. Очевидно, тот
же смысл Васил вкладывает в противопоставление белой божественной
любви и черной любви Шайтана [WR: 26, 55], а Мирза-хан — в слова о
том, что одному сердцу достаточно одной любви [МА: 153].
Истинная любовь — это проводник на пути к Богу [МА: 103, 192], конь
Бурак, вознесший пророка к Божьему престолу [МА: 11, 157], масло, без
которого гаснет светильник человеческого сердца [WR: 19]. Она выше
обычая ((adat), государственного чина (mansab) и правил хорошего тона
(adab) [WR: 14, 17, 40]. Экстатически настроенный Васил полагает, что
открыто говорить о любви не нужно, поскольку «с каждым дыханием тайна
сердца звучит всеми струнами» [WR: 23]. Самое малое условие любви Мирза
видит в том, чтобы «сделать шаг в сторону от самого себя» [МА: 143].
По традиции любовь чаще всего сравнивается с огнем (or), который
скрыт в сердце, как в тлеющем угле [МА: 51, 221] или кремне [DL: 200], а
разгораясь и сжигая мистика, делает его «приготовленным» (poxta), т. е.
духовно зрелым [DL: 91]. Мирза-хан поражается тому, как бумага
выдерживает пламенные слова любви, когда их записывают писцы [МА: 191].
Любовь может быть не только огнем, но и силком (dam, Шта), в котором
трепыхаются сердца влюбленных [МА: 139, 167, 212]. Она приносит
одновременно радость и боль, поэтому Мирза уподобляет ее пчелиному улью
(zanburxana), где есть и мед и жало [МА: 93].
Глава II. Формы, жанры, метрика
125
Рошанитские поэты последовательно выдерживают в своих стихах
линию на проповедь именно духовной, мистической любви. Мотивы
чувственной любви у них встречаются исключительно редко, но именно
поэтому они заставляют обращать на себя внимание. У Давлата, например, есть
такие строки: «Если [даже] влюбленный все время взирает на лик Друга,
его сердце совсем не утешается без объятий и поцелуев» [DL: 42] — или:
«Аромат рая исходит от одежд, прикрывающих груди красавиц» [DL: 48].
Васил тоже не чуждается откровенно эротических мотивов. В одном бейте,
например, он упоминает о рубашке, которая стала мокрой от уст Друга
[WR: 54], а в двух других изъявляет готовность отдать всю жизнь за те
несколько дней, когда, просыпаясь утром, можно увидеть перед собой
прекрасный лик возлюбленной и ее рассыпавшиеся по подушке (balm) черные
волосы [WR: 66].
Характеризуя нравственный идеал истинно влюбленного, Васил
помещает в один ряд с любовью такое качество, как himmat — духовное
мужество и стойкость [WR: 23]. Примечательно, что у Хушхал-хана в стихах,
где трактуется паштунское понятие чести (nang\ фигурирует тот же
термин himmat, но в паре с термином 'izzat, означающим чувство собственного
достоинства, самоуважение [XXX: 257]. Эта невольная параллель хорошо
показывает, с одной стороны, различие в представлениях об этическом
идеале у представителей двух разных мироощущений и литературных
направлений, а с другой — говорит об определенной преемственности
художественной традиции, которая видоизменялась сообразно
морально-этическим представлениям авторов.
В любовно-мистических стихах Мирза-хана и Васила преобладают
признания в любви к обольстительному, но неуступчивому Другу, а у
Давлата — мотивы разлуки и свидания. Каждый поэт отдал дань шаблонным
описаниям феноменов божественной красоты. «Лик Друга» (do yar тэх)
является постоянным объектом устремлений и самих авторов, и их
художественных двойников. Обязательный признак «лика»— исходящий от
него свет, который спасает влюбленного от тьмы духовного неведения.
Этот классический мотив, видимо, был особенно привлекателен для
приверженцев рошанитского учения, где идея божественного света занимала
одно из центральных мест.
Нашло отражение у рошанитских поэтов и традиционное
противопоставление «белого лика» (spin тэх) и «черных локонов» (tore zulfe). Давлат
интерпретирует это противопоставление как столкновение двух воинств —
веры и искушающего неверия [DL: 116, 148, 155 и др.]. При этом он не
наполняет эти символы сложным мистико-философским смыслом. Белое
воинство веры олицетворяет у Давлата ислам, а черное воинство неверия
ассоциируется с индусами. Впрочем, в некоторых образах — небо, покрытое
тучами [DL: 259], государь, скрытый под балдахином (sayabari) [DL: 100],
сандаловое дерево, обвитое черными змеями [МА: 195, 200], — явно
скрывается намек на суфийское толкование «белого лика» как единой
божественной сущности, а «черных локонов» как множественности
материальных явлений.
126 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Вне названного противопоставления локоны символизируют некую
искушающую и притягивающую силу. Нацеленные на страждущее сердце
мистика, они постоянно сравниваются с арканами и ловушками [МА: 88,
184, 199, 235; DL: 102, 145]. Подобные образные шаблоны крайне редко
уступают место действительно поэтичным строкам типа: «Если ветер
принесет аромат Его локонов в степь, земля, колючки и сухие травы
заблагоухают мускусом, шафраном, амброй» [DL: 100]. Восхвалению локонов,
которые лишают покоя и обращают в рабство самого гордого и
высокомерного человека и о которых говорят на каждом «украшенном беседой
собрании», Давлат посвятил отдельную газель со словом «локоны» в ре-
дифе [DL: 259].
Среди прочих стандартных красот Друга в стихах рошанитов
упоминаются: глаза (starge), в которых зрачки (кэяТ) подобны кораблям в океане
[МА: 60]; брови (wruje), похожие на два михраба [DL: 58] или стену Ис-
кандара Румского, поставленную против коранических Йаджуджа и Мад-
жуджа [DL: 197], но чаще на луки, стреляющие стрелами-ресницами (Ьапэ)
[МА: 175, 201, 207, 225]; губы (svnde\ которые неизменно слаще сахара и
фиников [DL: 67, 77, 102]; стан (qad), прямой, как буква алиф, и
превосходящий своей прямотой кипарис [МА: 70; DL: 67, 102, 165]; родинки
(хаШпа), напоминающие зернышки для приманки [МА: 60] или даже айа-
гпы из суры «Йа Син», которой суфии придавали особое мистическое
значение [WR: 76], и др. Наиболее подробные описания феноменов красоты
содержатся в двух газелях Мирза-хана и двух газелях Давлата [МА: 175;
199—201; DL: 44, 196—197].
Особого упоминания заслуживают также две частично сходные по
форме газели Мирза-хана и Васила, где описание внешних красот и черт
характера взбалмошной возлюбленной представлено в виде своеобразного
списка определений или повторяющихся синтаксических конструкций
[МА: 144—145; WR: 54—55]. Эти стихотворения обнаруживают близкую
параллель с двумя газелями Хушхал-хана (ср.: [XXX: 87, 145]). У Мирза-
хана список определений занимает только первую часть стихотворения
(7 бейтов из 19). В газели Васила список состоит из четырех бейтов (с
пятого по восьмой), за которыми следуют строки с синтаксическими
повторами. Оба стихотворения Хушхал-хана почти полностью построены на
перечне однородных членов — сложносоставных прилагательных. Несмотря
на некоторые структурные расхождения, можно полагать, что в данном
случае мы имеем дело с последовательным заимствованием формы
(Мирза — Васил — Хушхал). Для наглядности приведу в транскрипции по два
бейта из произведений всех трех поэтов:
kdmrdni кгТ рэ jahan gardanfardza // himmatnaka dildwar bulandparwdza
xudpasanda xudparasta xudnamdya //sahsawdra hawasndka beanddza
[MA: 144]
kackuldha beparwdha dilsiydha //dilfariba besaklba gamzazana
'anbarbuya sddaxuya karamruya // 'щ(э)гсТпа ndzanina gulbadana
[WR: 54]
Глава II. Формы, жанры, метрика
127
ddjahan рэ тэх Ьэ пэ wihase ta-gunde dilbara
рапгйуа 'апЪагЪйуа sunbulmuya samanbara
gul'iiara zulfemara sahsawara xusraftara
badanusa mayfurusa qasabpusa mUkamara
[XXX: 87]
Существенным элементом любовно-мистических стихов рошанитских
поэтов является упоминание имен персонажей классических
романтических поэм. Это любовные пары — Лайла и Маджнун, 'Азра и Вамик,
Ширин и Фархад, Зулайха и Йусуф [МА: 25, 32, 65; DL: 75, 97, 102, 131, 138,
169, 184, 211; WR: 12, 13, 17, 18, 23, 57, 68 и др.]. У Мирза-хана, кроме
того, часто встречаются имена Махмуда и Айаза [МА: 6, 61, 118, 127, 143].
Один раз Мирза вспоминает легенду о Сулаймане и Билкис [МА: 151] и
также один раз — популярнейшее в суфийской литературе сказание о
шейхе Сана'не [МА: 168]. Названные выше имена четырех любовных пар
обычно употребляются как символы идеальных влюбленных без какого-либо
сюжетного основания. Однако в отдельных случаях авторы намекают на
событийную сторону соответствующих романтических историй.
Например, Давлат упоминает о том, что Йусуф был куплен Зулайхой (на самом
деле ее мужем) [DL: 42], а Фархад ради любви в одиночку пробил гору
[DL: 196]. Сюжет повести о Лайле и Маджнуне изложен им кратко в пяти
бейтах касыды:
Напишу несколько бейтов // Из рассказа о Маджнуне.
Когда он увидел Лайлу, // Он обезумел, лишился рассудка и сил,
Позабыл все, кроме Лайлы, // От истинной любви.
Он бродил по пустыне, удалившись // От притеснений людей.
Всюду, куда он бросал взгляд, // Перед ним возникала Лайла.
[DL: 13]
В стихах о мистической любви поэты нередко обращаются к
образности вакхической, «риндовской» (от rind— * гуляка') лирики. Вино любви,
по словам Мирза-хана, избавляет от мыслей о покаянии и приносит пользу
душе [МА: 17]. Сердца шейхов не стареют только благодаря постоянному
питью вина [МА: 199], и радость никогда не покидает того, кто «вечно
занят утренней попойкой (sabtih)» [MA: 122].
Васил иногда специально поясняет, что вино, о котором у него идет
речь, сделано не из плодов земного сада, но является метафорой любви к
Богу [WR: 17, 24, 54, 80, 97]. Это вино обладает классическими
свойствами: оно не вызывает похмелья и избавляет от печалей бренного мира. В
опьянении им, считает поэт, мурид может достичь своей цели и услышать
извне божественный голос [WR: 70]. Естественно, такое вино дается не
всем, а только избранным, о чем поэт повторяет не один раз. Заметную, но
вполне обычную роль у Васила играет символический образ молодого
виночерпия (saqT), посредника в передаче сокровенного знания. В одном из
стихотворений поэт посвящает этому важному персонажу вакхической
лирики несколько строк, рисуя его живой портрет, выделяющийся на фоне
прочих довольно блеклых сентенций: обольстительный и кокетливый ви-
128 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
ночерпий, который делает многозначительные знаки бровями, от
опьянения вином «то на тебя падает, то на меня опирается локтем» [WR: 90].
Несмотря на суровые проповеди о необходимости аскетического
воздержания, Давлат еще чаще, чем Мирза и Васил, обращался к теме
мистического опьянения (sakrat). Хотя поэт как законопослушный мусульманин
и вспоминал иногда, что алкогольные напитки «названы недозволенными
в айатах и хадисах» [DL: 40], образ вина (may, sarab) или чаши с вином
(pyalajam) пронизывает его мистические стихи.
Образ духовного вина имеет у Давлата разные значения. Речь может
идти о вине таухида [DL: 22, 24, 43, 92, 146], хакжата [DL: 28, 60, 130,
166, 177], свидания с Другом [DL: 108, 139, 143, 177], любви [DL: 58, 70],
смысла (та*па) [DL: 70], зикра [DL: 127] и т. д. По словам поэта, это вино
«слаще меда, ароматнее мускуса и камфары», а в роли виночерпия
выступает сам Господь [DL: 47]. Кроме общей идеи о том, что духовное вино
приближает к Богу, Давлат высказывает и другие мысли о действии,
производимом этим вином: оно пробуждает ото сна светлый разум [DL: 70],
освобождает от материальной человеческой природы [DL: 14, 130],
рассеивает пустые сомнения [DL: 166], показывает истинную суть вещей [DL:
177].
Питейный дом (xarabat, mayxana), где нет места трезвым, Давлат
называет убежищем любви [DL: 31, 75 и др.]. В касыде с редифом mast
('пьяный'), поэт рисует выразительную картину всеобщего опьянения
любовью [DL: 80—81]. В майхане любви, пишет он, в опьяненном состоянии
пребывают не только посетители заведения, но также их кафтаны, штаны,
чалмы и шапки, кольчуги, латы, шлемы. Пьяны вокруг кувшины и чаши,
двери и стены, кравчие и их башмаки. В стойле стоят пьяные лошади с
пьяными седлами, подпругами и стременами. На лошадях висят пьяные
клинки и колчаны с пьяными луками и стрелами. За воротами майханы
опьянены любовью улицы, базары и лавки, камни и деревья, животные и
птицы. Затем опьянение достигает вселенского масштаба: пьяными
оказываются все четыре стихии, небесные светила и сами небеса вместе с
божьим престолом, а также райские сады и их обитатели.
В богословской поэзии любовно-мистические мотивы встречаются не
намного реже, чем у рошанитов, и выполняют в общем ту же смысловую
функцию, однако их идейная значимость все-таки уступает той, которую
они имеют в рошанитских стихах. Наиболее заметную роль эти мотивы
играют в азбуках 'Абд ал-Карима и особенно Мир Хусайна, находившихся
под сильным влиянием духовных и литературных традиций тасаввуфа.
Напомню, что эти авторы были, соответственно, последователями двух
суфийских школ —чиштиййи и кадириййи, о чем они с гордостью сообщают
в своих произведениях. В духе классической любовно-мистической лирики
'Абд ал-Каримом написаны многие пассажи алиф-нама и два отдельных
стихотворения, а у Мир Хусайна любовная тема является главной, по
меньшей мере, в пяти фрагментах обеих азбук. Бабу Джан хотя и не ставил
эту тему выше других, тем не менее в своей «Книге» тоже целиком
посвятил ей ряд стихотворных отрывков.
Глава II. Формы, жанры, метрика
129
Общие определения и характеристики мистической любви содержатся
главным образом в произведениях Мир Хусайна. Он повторяет известные
сравнения любви с огнем, который делает сырых зрелыми [NM: 49а], с
конем Бураком, скачущим на «белое ристалище вахдата» [NM: 596], с
хлебом насущным (riizi) [NM: 576], со светильником (dewa), горящим в теле,
как в темной комнате [NM: 62а]. Хотя любовь может приносить страдания,
именно она делает человека подлинно живым и дарует ему нравственное
здоровье [NM: 536, 55а, 62а]. Смысл любви в том, что она является
единственной дорогой к Богу [NM: 57а]. 'Абд ал-Карим добавляет, что только в
то сердце, где есть любовь, нисходит божественный свет [М^: 179].
Отношения между влюбленным и объектом любви отвечают в поэзии
богословов давно установленным правилам, о которых говорилось выше
применительно к рошанитским стихам. «Влюбленный — добыча,
Возлюбленный — охотник», — считает 'Абд ал-Карим [М^: 153]. Хусайн, не
утруждая себя творческими поисками, многократно сравнивает влюбленного с
мотыльком, а Возлюбленного — с огнем свечи [NM: 47а, 536, 54а, 62а и др.].
Жизнь влюбленного всецело подчинена цели свидания, которое есть
«бальзам для раненого сердца» [NM: 536]. В свидании с Другом Хусайн готов
переносить муки ада, а в разлуке райские блага равнозначны для него
змеям и скорпионам [NM: 526]. 'Абд ал-Халим написал на тему разлуки целое
стихотворение, где он говорит об уходе Друга как о наступлении малого
Судного Дня (hahk qiyamat) [MIi: 201—202]. Жалуясь на безмерные
страдания от тоски по Другу, поэт выражает опасение, что чернила, которыми
он пишет, могут стать красными, поскольку его «кровавые слезы текут на
белую бумагу». Исцелить муки страдающего влюбленного могут не
«снадобья и заклинания», а только лицезрение Друга [М^: 197, 202], но для
этого, как замечают 'Абд ал-Карим и Мир Хусайн, повторяя известную
мысль Руми, нужно забыть личное местоимение «я» [М^: 153; NM: 49а].
Главными качествами истинного влюбленного, т. е. человека,
устремленного к Богу, поэты-богословы по традиции считают именно
самоуничижение (каттТ) и самозабвение (tor jan tereddl) [MI^ 167, 180; NM: 476;
BJ: 25a, 26аб]. Встать на путь мистической любви — значит отказаться от
самого себя. Мир Хусайн оговаривается, что снаружи влюбленный
ничтожнее праха, но внутри выше всех [NM: 516]. Сосредоточенность на
Друге лишает влюбленного разума и чувств, заставляет его не думать о сне
и еде, утверждают Мир Хусайн и Бабу Джан [NM: 556, 566; BJ: 246, 25а,
26а]. Последний приводит такой приземленный, но хорошо понятный его
аудитории пример: «[Влюбленные] наступают ногой на колючку, но не
чувствуют [этого]» [BJ: 256]. Отказ от собственной личности, естественно,
подразумевает и отказ от всего мирского, которое для влюбленного «не
стоит и ячменного зерна» [BJ: 25а]. От влюбленного также требуется
самоотверженность, готовность рисковать головой (sarbazT), поэтому Мир
Хусайн сравнивает его с ловцом жемчуга (gawwas), явно намекая тем самым
на шейха 'Али Тирмизи, который носил такое прозвище [NM: 60а].
Развивая этот же мотив, Бабу Джан изображает влюбленных погрузившимися в
волны без страха перед морскими чудовищами [BJ: 25а].
130 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Поэты-богословы мало пользуются сравнениями влюбленных с
персонажами классической любовной поэзии. Один раз у Мир Хусайна
упоминаются Маджнун и Лайла, Фархад и Ширин [NM: 54а], а у 'Абд ал-Кари-
ма — только первая из названных пар [MIj: 170].
Интересно, что все поэты-богословы так же, как и Мирза-хан Ансари,
часто употребляют по отношению к объекту мистической любви слова sa-
ha и $апэу (реже — sah), наделяя этот образ как минимум
грамматическими признаками женского рода. Мир Хусайн, больше других описывавший
внешность божественного Друга, неоднократно упоминает среди прочих
Его красот золотое кольцо (pezwari) в ноздре, что является женским
украшением [NM: 496, 50а, 526, 53а]. В одном случае Хусайн предлагает
влюбленному стать бирюзовым камешком в этом кольце [NM: 54а]95. Стихи
Мир Хусайна и 'Абд ал-Карима дают не только стандартный, но и крайне
ограниченный перечень феноменов божественной красоты: черные
локоны или челка (рекау) (иногда сравниваются с силками, иногда со змеями
на сандаловом дереве), брови-луки и ресницы-стрелы (или брови-михрабы,
перед которыми влюбленные преклоняют колени), глаза-светочи,
кровожадные зрачки (xunrize nine\ родинки, жемчужные зубы [Mlf. 169, 175, 180;
NM: 47аб, 49а, 50а, 526, 53аб, 54а, 616,626 и др.]. Из этого ряда
выбивается только единичное упоминание груди, сравниваемой со священной горой
Арафат [NM: 526]. Завеса (cadur\ скрывающая красоты Друга, является
символом четырех природных элементов [NM: 486, 536, 626]. Момент снятия
завесы вызывает у 'Абд ал-Карима повышенное волнение сердца [М1р
181], а у Мир Хусайна желание издать вопль мученика Хусайна Халлад-
жа — ana 'l-haqq («Я Истина») [NM: 53а]. Добавлю, что вслед за рошанит-
скими поэтами Мир Хусайн тоже связывает лик Друга с божественным
светом [NM: 50а, 52аб и др.].
В отличие от рошанитских поэтов, авторы-богословы старались
воздерживаться от использования вакхической символики, поэтому мотивы,
связанные с вином и опьянением, у них встречаются редко. В азбуках Мир
Хусайна эти мотивы звучат трижды [NM: 516, 536, 566], у Бабу Джана —
только один раз [BJ: 72а]. Во всех случаях речь идет об опьянении
мистической любовью от лицезрения красоты Возлюбленной (ftz/ш), которая
обоими авторов при этом изображается еще и смеющейся.
Муназара
Для приобщения соплеменников к религиозным ценностям и
мистическим идеям, а также для популяризации национальной письменности в
целом паштунские поэты иногда пытались оживлять свои однообразные
поэтические проповеди стихами занимательного содержания. К подобным
стихам относятся первые в литературе пашто опыты Мирза-хана и Васила
95 Образ кольца в ноздре Красавицы однажды встречается и у Мирза-хана, который
вместо бирюзы видит в этом кольце жемчужину, своим сиянием указывающую
истинный путь влюбленному мистику [МА: 30].
Глава II. Формы, жанры, метрика
131
Рошани в жанре муназара (типа$ага), становление которого в
мусульманской поэзии обычно связывают с именем арабского поэта X в. ас-Санауба-
ри (ум. 945) [Wagner 1999]. Определяя композиционную форму
произведения, жанр муназара ('спор', 'дискуссия') давал возможность автору
вкладывать в воображаемый диспут двух персонажей любое идейное
содержание. Однако, несмотря на то что по самой природе этот жанр являлся
в значительной степени развлекательным и потому всегда востребованным
читающей публикой, крупные авторы обходили его вниманием. В
классической персидской поэзии он известен фактически только по пяти
хрестоматийным поэмам Асади Туей (XI в.) [Ethe 1882; Бертельс 1988: 207—240],
хотя, безусловно, обращение к нему проглядывается во многих
произведениях других известных авторов, например, в макамах Хамид ад-дина Бал-
хи (ум. 1164) или стихотворных притчах Джалал ад-дина Руми (1207—
1273) и Са'ди Ширази (ум. 1292).
В персоязычной литературе Индии жанр муназара получил
распространение, очевидно, после 'Амид ад-дина Санами (р. 1223), придворного
поэта делийских султанов Насир ад-дина Махмуда (правил 1246—1266) и
Гийас ад-дина Балбана (правил 1266—1287) [Алиев 1968: 41, 44]. Две по-
эмы-муназара 'Амид ад-дина — «Клинок и Перо» («Samser wa Qalam») и
«Гашиш и вино» {«Bang wa Bada») — надолго обозначили самые
популярные темы стихотворных диспутов в персидской поэзии Индии, и позднее, с
первой половины XV в., их интерпретации стали нередко встречаться за
пределами литературы фарси, в частности у чагатайских поэтов (см.: [Рус-
тамов 1963: 201—239]).
В паштунской письменности жанр диспута, видимо, тоже возник под
влиянием персоязычной литературы Индии, но назвать конкретные
источники заимствования я затрудняюсь, тем более что некоторые персонажи
стихотворных дискуссий взяты рошанитсрими поэтами из арсенала
стандартных образов поэзии фарси. Недостаточная изученность внушительной
по объему персоязычной литературы могольского времени, когда вновь
пробудился интерес к жанру муназара, пока не позволяет ответить на
вопрос, действительно ли стихотворные диспуты Мирза-хана и Васила
воспроизводили на пашто какие-либо персоязычные оригиналы или являлись
самостоятельными.
Все стихотворные диспуты Мирза-хана и Васила написаны в
суфийском ключе, но следы непосредственно рошанитского учения в них
отсутствуют. Подчиняясь общей идейной направленности рошанитской поэзии,
эти стихотворения сохраняют только самые существенные формальные
признаки жанра. В основу их композиции положена дискуссия двух
персонажей, но смысл этой дискуссии не всегда заключается именно в споре о
превосходстве.
Среди стихотворений-л*уиаза/?а Мирза-хана Ансари своим размером и
законченностью формы выделяется поэма «Свеча и Мотылек» («Sam* aw
Patang»\ состоящая из шести газелей и структурно приближенная к
строфической форме таркиббанд [МА: 253—255]. Отличие состоит в том, что
в таркиббанде, во-первых, все строфы имеют равное количество бейтов (у
Мирза-хана размеры газелей, составляющих поэму, колеблются от 7 до 10
132 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
строк), и во-вторых, в последнем бейте каждой строфы рифмуются обе
мисра', причем рифма здесь используется иная, нежели в остальных
бейтах строфы. Не исключено, что поэт предполагал написать именно тар-
киббанд, но по каким-то причинам до конца не осуществил это намерение.
Каждая газель поэмы заключает в себе речь одного персонажа.
Возможно, по замыслу автора речи должны были чередоваться, как это видно
на примере одной из петербургских рукописей дивана (см. гл. I, разд. 1).
Однако в издании Доста порядок газелей иной: слова Мотылька
содержатся в первой, второй и пятой газелях, слова Свечи — в остальных.
Отношения персонажей поэмы воспроизводят стандартную для
классической поэзии схему: влюбленный Мотылек стремится сгореть в пламени
Свечи. Сама же беседа направлена в русло мистико-философской
дискуссии и включает элементы спора о превосходстве. Условно она может быть
разделена на две смысловые части. В первой Мотылек признается в любви
к Свече и выражает готовность к самопожертвованию как средству
достижения вечного свидания с объектом любви, а Свеча порицает его, видя в
его стремлении не искреннюю влюбленность, а эгоистическое желание
удовлетворить собственную страсть. Вторая часть содержит дискуссию о
том, чья смерть более достойна и предпочтительна. Мотылек, упрекая
собеседницу за самомнение, похваляется своей отвагой и противопоставляет
свою свободную волк5 к смерти пассивному принятию смерти Свечой.
Свеча возражает на это тем, что, во-первых, она умирает (т. е. сгорает) для
блага других, в то время как Мотылек идет на смерть исключительно ради
себя самого, а во-вторых, обыкновенная смерть Мотылька не имеет такого
смысла, как ее собственная, в которой воплощен известный суфийский
принцип «смерти до смерти», поскольку горение есть жизнь и смерть
одновременно. Автор поэмы не называет победителя в споре, но явно
придерживается точки зрения Свечи.
Интересно, что в диване Мирза-хана имеются две самостоятельные
газели, которые как бы предваряют поэму. Эти стихотворения также
содержат речи Мотылька и Свечи, что показывают их начальные слова: «Мотылек
скрыто втайне сказал Свече» и «Свеча сказала» [МА: 113, 114]. Поэт не
случайно написал эти газели с одинаковым графическим исходом (на t)96,
чтобы в диване они располагались рядом друг с другом (хотя в
петербургской рукописи дивана В 2451 они все-таки разделены одной газелью).
Однако никакого элемента дискуссии, а тем более спора о превосходстве
в газелях нет. Мотылек, как обычно, заявляет о том, что «он по своей
воле упал в огонь любви и свою ущербную сущность слил с совершенной».
А Свеча утверждает, что она изначально сочетает в себе материальную
форму и божественную сущность и, медленно уничтожая свою форму,
оставляет только сущность.
Образ свечи, символизирующей истинно познавшего мистика, весьма
занимал поэта и был использован им в ряде других стихотворений. Иногда
поэт прозрачно намекает на то, что мистико-философские рассуждения ве-
96 В газели с речью Свечи почти все рифмующиеся слова являются
грамматическими формами хиндустани.
Глава II. Формы, жанры, метрика
133
дутся от лица Свечи, например: «Мне подошло имя Сати (букв.:
*сгоревший'. — М П.); люди собираются вокруг меня со всех сторон» [МА:
135] — или: «Если посмотришь на меня, увидишь на [моей] голове огонь»
[МА: 136]. К жанру загадки (ти'атта) эти стихотворения, конечно, не
относятся, поскольку их смысл состоит не в замаскированном описании
свечи, а в проповеди мистических идей. Среди стихотворений подобного рода
у Мирза-хана имеется газель, где слово «свеча» вообще вынесено в редиф
[МА: 159—160]. Здесь говорится о качествах познавшего Бога ('arif), и
редиф йэу 1эка sam'a («...есть, как свеча») ясно показывает, с чем
сравнивается этот познавший на протяжении всего стихотворения.
Непосредственно к жанру муназара у Мирза-хана относятся еще две
газели, причем одна из них только частично. В газели, где диспут занимает
весь текст стихотворения, собеседниками являются Кочевник (powanda) и
Земледелец (muzari\ dihqari) [MA: 193]. Типы персонажей были хорошо
знакомы паштунской аудитории автора, и не случайно в заключительном
бейте поэт обращается именно к соплеменникам со словами: «Если ты
укрепился в нравах невежества, зачем слушаешь мои речи, патан». Однако
образы персонажей не имеют отношения ни к социальной, ни к житейской
проблематике, но опять-таки выполняют чисто символические функции,
необходимые для проповеди этических норм тасаввуфа. Собеседники
только осуждают друг друга за те или иные качества, которые отвергались
рошанитскими мистиками. Так, Кочевник порицает своего оппонента за
алчность, нежелание довольствоваться малым, упование на будущее (т. е.
урожай) и непонимание ценности настоящего, а Земледелец не приемлет
бессмысленную суетность собеседника, его постоянные передвижения в
физическом пространстве и вечное таскание с собой груза (т. е. бремени
прошлого). В высказываниях Земледельца иногда проскальзывают
выражения, свидетельствующие о роде его занятий. Например, он просит
Кочевника не произносить «грубо обмолоченные речи» и отсеивать истину
от лжи «решетом разума».
Другое стихотворение, входящее в раздел газелей, но состоящее из 21
бейта, композиционно разделяется на две части: первые 12 строк содержат
обычные для лирики Мирза-хана мистико-философские наставления, а
остальные представляют собой муназара [МА: 130—132]. Диспут развивает
затронутую в предшествующих строках тему божественной сущности (gat)
и качеств (sifaf). Его ведут Дерево как символ сущности и Плод как символ
качеств. Плод утверждает свое первенство, полагая, что он является
началом Дерева и одновременно конечной целью его существования. Дерево
доказывает, что именно благодаря ему Плод обладает всеми своими
признаками (цветом, вкусом), и если плод может дать жизнь только одному
дереву, то оно рождает множество плодов. Задаваясь вопросом о том, кто
прав, автор муназара приходит к выводу о неразрывном единстве
сущности и качеств, поясняя свою мысль еще одной метафорой: «Господство
хозяина не бывает без [существования] слуги».
Очевидно под влиянием Мирза-хана, к жанру диспута спустя некоторое
время обратился Васил Рошани, перу которого принадлежат три поэмы-
134 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
муназара, где беседы ведутся между Отцом и Сыном, Мужчиной и
Женщиной, Соловьем и Попугаем [WR: 83—84, 84—85, 86].
Разговор Отца и Сына (22 бейта) явно остался незаконченным и
^отредактированным. Во-первых, в этом стихотворении отсутствуют начало и
конец (в частности нет макта* с тахаллусом, как в двух других поэмах).
Во-вторых, постоянно сбивается размер. В-третьих, многие стихи
представляют собой только наброски, но не законченные, грамматически
оформленные фразы. Насколько мне удалось понять, в поэме обсуждаются
главным образом вопросы божественной любви, которая проявляется в
бесконечной цепи рождений новых жизней («От Адама до меня все отцы, если
посмотришь», — говорит Отец), и снова проблема соотношения сущности
и качеств. Отец пытается объяснить Сыну истинный смысл любви и
рождения человека, но тот видит в этом следствие только земных,
материальных причин: «Если я рожден тобою, то знаешь ли ты, Отец, какой каплей я
был, какая еда послужила причиной, каким удовольствием ты
наслаждался?» В заключительных бейтах поэмы Васил кратко касается суфийской
профетологии и намекает на буквенную символику имени пророка (см.
выше). Эти бейты выпадают из диалога персонажей и воспринимаются как
совершенно самостоятельные стихи, не связанные с предыдущим текстом
поэмы.
Две другие поэмы в большей степени отвечают требованиям жанра,
поскольку диалоги персонажей в них имеют форму спора о значимости и
превосходстве. Диспут Мужчины и Женщины (29 бейтов) сводится к
выяснению того, кто важнее в мире и ближе к божественной сущности.
Неоднократно ссылаясь на легендарную историю сотворения человека,
Мужчина утверждает собственное превосходство, похваляется своей силой и
самодостаточностью, обвиняет Женщину в том, что она — олицетворение
низшей души (nafs) и источник пороков. Женщина не принимает эти
претензии, пытаясь доказать обратное.
Хотя язык автора, как всегда, довольно сложен, поэме нельзя отказать в
живости и занимательности. Многие аргументы персонажей носят сугубо
бытовой характер. Мужчина, например, приводит пример с женитьбой, где
он пользуется известной свободой и самостоятельностью, а Женщина
всецело подчинена воле своего отца97. Один из ответов Женщины на
обвинение ее в греховности звучит так: «Если ты свободен от сетей нафс, то
почему же у тебя бывают непроизвольные выделения семени (ihtilam)? Свою
любовь ко мне ты испытываешь так же естественно, как совершаешь
молитву». На довод Мужчины о том, что Бог создал первым Адама, а он —
его прямой потомок, Женщина приводит в пример Марйам, от которой ро-
97 Согласно классической доктрине мусульманского права, женщина имеет право
заключить брак только с согласия и при участии ее законного опекуна (wait), ближайшего
родственника-мужчины по линии отца. Однако ханафитская школа права, имевшая в
могольской империи статус государственной, в случае заключения брака предоставляет
женщине полную самостоятельность, если она достигла возраста зрелости, способна
отдавать отчет своим действиям и соблюдает ханафитский принцип kafa'a ('соответствие,
равенство*), по которому будущий Супруг обязан соответствовать ее материальному и
социальному положению (см.: [Abu Zahra 1955: 137—140; Schacht 1964: 161—162]).
Глава II. Формы, жанры, метрика
135
дился пророк 'Иса. Когда мужчина сравнивает себя с плодоносящим
деревом, Женщина отвечает на это скромным сравнением себя с тенью от
дерева, поясняя, что тень часто бывает полезнее плодов.
Суфийские мотивы поэмы обретают особо сильное звучание в ее
заключительной части, где поэт приводит собеседников к логическому
примирению. Рождение человека, будучи бесспорной основой жизни,
изображается как соединение «капли» Мужчины и «моря» Женщины. В этом
соединении обнаруживается единство сущности обоих персонажей, ведь капля и
море являются классической суфийской аллегорией единства
божественного бытия. Знакомый с суфийскими идеями читатель понимает, что спор
героев поэмы о превосходстве затрагивал уровень качеств, но на уровне
сущности предмет спора вообще отсутствовал.
Персонажи третьей поэмы (18 бейтов), ведущие спор об истинной любви,
символизируют два типа мистиков: Соловей— восторженный
влюбленный, поклоняющийся красивой, но колючей и недолговечной розе,
Попугай— практичный гедонист, предпочитающий любовь к сахарным
плодам, из сока которых делают вино. Автор, явно симпатизирующий
Соловью, в аргументации обоих персонажей проводит мысль о том, что любовь
к розе по сути духовна, а любовь к плодам — материальна. Хотя Попугай
пытается прийти к компромиссу, высказывая идею о единой сущности
любви, Соловей возражает ему с помощью довольно сухой для
экзальтированного влюбленного параболы, где сравниваются вино и виноградный
уксус, производимые из одних плодов, но относящиеся к разным
категориям — запретного Qiaram) и дозволенного (halal). Вывод,
формулируемый поэтом в заключительном бейте, кратко повторяет основную мысль
стихотворения о необходимости различать притязания духа (ruh) и страсти
низшей души (nafs). Остается добавить, что из трех поэм-муназара Васила
это произведение с формальной точки зрения является наиболее
качественным и в большей степени приближено к стилю персидской
классической лирики.
Кроме Мирза-хана и Васила к жанру муназара обращался также Хуш-
хал-хан. Оба его произведения в этом жанре являются прямыми и
текстуально довольно близкими переводами персидских стихотворений —
касыды «Ночь и День» Асади Туей (XIв.) и кит"а «Тыква и Чинара»98 (см.:
[Пелевин 2001: 207—209]). Отмечу здесь только, что перевод касыды
Асади Туей является сокращенным (21 из 41 бейта). Хушхал оставил в нем
преимущественно те аргументы спора персонажей, где упоминаются
мусульманские религиозные обряды и коранические сюжеты, а также добавил
от себя лично бейт об охоте. Следуя правилам написания подражательных
или переводных стихотворений, Хушхал сохранил рифму оригинала и
подобрал сходный по числу слогов афганский стихотворный размер. Однако
в переводе короткой басни «Тыква и Чинара» (5 бейтов) афганский поэт не
выполнил эти требования. Повторить рифму (-1st) ему было действительно
98 Эта басня имеется в изданиях диванов двух известных персидских поэтов — На-
сира Хосрова (ум. после 1072) и Анвари (ум. ок. 1190) [Xusraw 1961: 500; An van 1961:
565] (ссылка на диван Насира Хосрова любезно указана мне М. Л. Рейснер).
136 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
сложно, поскольку в персидском оригинале она ориентирована на
глагольную связку, но для передачи стихотворного размера персидской басни,
исходя из того же принципа равного количества слогов, Хушхал вполне мог
воспользоваться паштунским 14-сложником, который иногда встречается в
его стихотворениях.
Бамариййа
Жанр весеннего пейзажа, возникший в придворной панегирической
поэзии как один из видов лирического вступления к хвалебной касыде,
традиционно вбирал в себя гедоническую тематику и развивался в первую
очередь поэтами светской направленности, поэтому в сугубо
проповеднической религиозно-философской лирике рошанитов ему изначально не
отводилось сколько-нибудь заметного места. Конечно, такая стандартная
тема, как «соловей и роза», которая уже по своей природе имела в подтексте
весенние мотивы, давно и с успехом использовалась персидскими
поэтами-мистиками, и рошанитские авторы тоже не могли обойти ее стороной.
Однако отдельные бейты, затрагивающие эту тему, как правило, в
мистическом ключе не могут, конечно, считаться примерами полноценного
бытования жанра.
У Мирза-хана отголоски жанра бахариййа встречаются в нескольких
газелях, где есть строки с краткими сообщениями о наступлении весны
(nawbahar) наподобие таких: «Удивительное время новой весны; красивое
пение птиц [доносится] из моря [духа]» [МА: 63]; «Мирза, [вот] время
новой весны; пусть облако милости прольется [дождем]» [МА: 133].
Упоминания о весне призваны не только указать время написания стихотворения,
но и объяснить причину особого духовного подъема автора. Не случайно в
каждом стихотворении подобного рода обязательно присутствуют
любовно-гедонические мотивы. Весна как время года изображается у Мирза-хана
временем пробуждения души, когда «видна одна радость, а все беды за
завесой» [МА: 64]. «Наврузом души» назвал однажды поэт благосклонность
к нему Господа [МА: 146]. Весна для поэта — это время любви, когда
возлюбленная красавица (читай Бог) блеском своего лика «сжигает людей без
огня» [МА: 133], пьяный виночерпий с красными от недосыпа глазами
пускает по кругу «вино хакиката» [МА: 63], а долго стенавший соловей
наконец обретает в саду весть о Друге [МА: 162].
Словами о приходе новой весны заканчивается и одна касыда, где
первые шесть строк посвящены любовной мистике и восхваляют прекрасную
Возлюбленную, а остальные содержат художественное описание стадий
мистического пути [МА: 31—32].
В наибольшей степени признакам жанра бахариййа у Мирза-хана
отвечает газель с упоминанием о том, что приход весны состоялся в месяце
та*бане [МА: 223—224] (о возможных датировках этого стихотворения
см. гл. III, разд. 1). После вступительных слов об «удивительном дожде
любви», который обнаруживает скрытую красоту природы и возвращает
молодость старому миру, поэт в трех бейтах делает стандартную зарисовку
Глава II. Формы, жанры, метрика
137
благоухающих весенних цветов— багрянника, жасмина, нарцисса, мака,
фиалки, базилика и тюльпана. Во второй части газели Мирза размышляет
о скоротечности времени и скором наступлении осени (xazan), когда все
цветы уйдут из сада «по другой дороге». Однако поэт здесь свободен от
пессимистических настроений и призывает себя и слушателя наслаждаться
настоящим мигом. Мотив чередования весны и осени, сева и жатвы
встречается у него и в других стихах, причем не только в контексте
рассуждений о бренности жизни, но и в качестве примера многообразия земных
проявлений божественной сущности [МА: 94, 258].
Отношение рошанитских поэтов к жанру бахариййа целиком
зависело от их природного склада и эстетических представлений. Давлат Лоха-
най, предпочитавший прямолинейную дидактику и отражавший в своих
произведениях, часто неосознанно, больше жизненных реалий, вообще не
оставил примечательных стихов в этом жанре, а склонный к
созерцательным медитациям Васил Рошани, наоборот, испытывал к нему заметный
интерес.
Следуя по стопам Мирза-хана, Васил написал немало газелей,
приуроченных к наступлению весны и Нового года — Навруза, но, так же как и у
его предшественника, пейзаж в подобных стихотворениях всегда пронизан
мистическим духом и подчинен религиозно-философским рассуждениям
[WR: 14, 29, 38, 51, 65 и др.]. Собственно к жанру бахариййа в диване Ва-
сила можно отнести, пожалуй, только одну газель и один мухаммас [WR:
40,112—113].
Эта газель является своеобразным ответом на гззель-бахариййа Мирза-
хана, имеет тот же размер, ту же рифму и однотипный редиф в виде форм
глагола swqI. Пейзаж в газели Васила по форме и содержанию полностью
соответствует классическому стандарту персидских стихов-бахариййа, а
мистический подтекст выражен в нем не так явно, как в других стихах
поэта. При этом стиль газели, исключительная простота и лаконичность ее
языка в полной мере передают особенности именно паштунской
национальной поэзии, прекрасными образцами которой позднее стали близкие
по стилю стихи Хушхал-хана Хаттака. Весенняя газель Васила заметно
выделяется на фоне его заумной мистико-философской лирики, поэтому я
приведу ее полный перевод:
Когда наступило время нисана ",
// Прошел драгоценный весенний дождь.
То, что было [скрытой] мудростью земли,
// Проявилось из нее в многоцветий.
Луг сделался пестрым, // Поляна вся помолодела.
Показались фиалки, // Что стало приметой Навруза.
Шиповник поднял знамя, // Роза — падишах, тюльпан — хан.
В собрании (majlis) царила тьма, // Но зажегся светильник нарцисса.
Пришел караван из Хотана, // Повсюду распространился запах мускуса.
Кипарис не шевелится от неги, // Соловью приятно созерцать его.
Новая весна явилась, поспешая, // Зима удалилась и пропала.
Нисан — пятый месяц старого сирийского календаря; соответствует апрелю.
138 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Соловьи украли [лепестки] розы,
// Только шипы, изумленные, остались на месте.
Все гуляки вышли из дома // И направились в гости к виночерпию.
О Васил, Бог милостив,
// Снова из незримого мира Он позаботился о нас.
Тема цветов, которой в приведенной газели посвящено несколько строк,
несомненно, является ведущей в пейзажных стихах Васила. Весь
упомянутый выше мухаммас состоит из мистического описания цветов весеннего
сада, созерцание которого, как прямо заявляет Васил, есть свидание с
Богом. Схожие мотивы встречаются и в отдельных бейтах других
стихотворений [WR: 15, 51, 53, 54, 114 и др.]. Надо заметить, что интерес поэта к
теме цветов заставил его более внимательно относиться к использованию
средств художественной выразительности. Разнообразно, например, поэт
обыгрывает внешний вид нарцисса. Его белые лепестки он неоднократно
сравнивает с саваном, что дает красивый образ распускания цветка как
развертывания савана. В другом случае поэт называет нарцисс влюбленным,
надевшим на голову чалму золотисто-желтого цвета. Еще в одном стихе
нарцисс уподоблен белой ладони, на которой стоит желтая чаша вина.
Типичные для поэзии Васила рассуждения о постоянном чередовании
времен года способствовали появлению среди его пейзажных стихов
осенних и даже зимних мотивов (см. также гл. III, разд. 3). Мысль о
цикличности природных изменений нередко присутствует у него в отвлеченных
мистических описаниях весенних красот. Так, мухаммас о цветах
завершается печальным напоминанием о времени, когда подует холодный осенний
ветер. Другой мухаммас, как бы продолжая ту же тему, начинается с двух
пятистиший о радостях весны, после чего следует отрывок с описанием
осени, где в числе примет «времени звезды Сухайл» названы не только
опустевшие лужайки, но и «усталый пеший, севший верхом», охотничьи
силки и ловушки, а также линька птиц [WR: 114—115]. Печальные
раздумья поэта о наступившей осени составляют содержание целой газели [WR:
77]. Здесь тоже имеются выразительные элементы пейзажа: деревья,
охваченные красным пламенем осени, голые ветви самшита, на которых когда-
то качались соловьи, поломанные ветром опоры шатров. Зимние мотивы
встречаются у Васила реже. В одной газели, например, такие приметы
зимы, как лед на реке, тонкий дымок, поднимающийся над домом, боязнь
губительного воздействия холодов, подвергнуты, к сожалению,
малопонятной мне мистической интерпретации [WR: 77].
На сочетании весенних, вакхических, любовно-мистических и прочих
гедонических мотивов строилась, как известно, классическая «риндовская»
(от rind— 'гуляка') газель. В диване Васила мне удалось найти два
образчика этого популярного жанра [WR: 38, 54]. Стихотворения лишены
какого бы то ни было своеобразия, но имеют выраженное песенное звучание.
Не случайно поэт включил в одну газель довольно редкий для его поэзии
мотив музыки: «Певец взял в руки флейту; приговор судьи отменен».
Дальнейшее развитие в поэзии пашто жанра бахариййа и пейзажной
лирики в целом наблюдается в творчестве Хушхал-хана. Пейзажная лири-
Глава II. Формы, жанры, метрика
139
ка Хушхала в равной мере представлена стихотворениями традиционного
типа и оригинальными, свободными от шаблонного набора
изобразительных средств, но все последние, судя по всему, относятся к позднему
периоду творчества поэта (см.: [Пелевин 2001: 205—207]). Надо заметить,
что у Хушхал-хана нет стихотворений, полностью написанных в жанре ба-
хариййа. Хотя несколько его газелей содержат отдельные строки с
традиционными описаниями прихода весны, однако весенние мотивы в них явно
подчинены анакреонтическим [XXX: 54, 122, 199—200, 271—273 и др.].
Не много внимания природе поэт уделяет и в двух своих произведениях,
специально приуроченных к Наврузу [XXX: 127, 576—577]. В газели поэт
просто благодарит весну за принесенные ею блага, а в касыде вслед за
приветствием Наврузу и довольно беглым наброском цветущего сада
предается философским размышлениям о переменчивости судьбы.
Самый яркий весенний пейзаж встречается у Хушхала только в касыде
с восхвалением красот одного из летних дворцов императора Шахджахана
[XXX: 615—616]. В этой поэме, датированной началом апреля 1649 г.,
нарисована весьма изысканная картина дворцового сада, где среди зелени
шумят ручьи, водопады с небесным громом рассыпают жемчуга, в
зеркальных прудах барахтаются утки, тюльпаны соперничают цветом с
пламенем костра легендарного царя Намруда, тополя уходят своими кронами
в небо, гомон птиц колышет ветви деревьев, а воздух чист и свеж настолько,
что способен исцелить больного восьмидесятилетнего старика. Даже эти
краткие примеры позволяют видеть разницу в профессиональном уровне
пейзажных стихов Хушхал-хана и рошанитских поэтов.
3. Метрика
В отличие от квантитативной метрики классической персидской
поэзии, сложившейся под влиянием арабского стихосложения, метрика паш-
тунских стихов является прямым продолжением древних поэтических
традиций ираноязычных народов и имеет силлабо-тоническую природу.
Силлабо-тонические принципы стихосложения просматриваются во всех
ранних образцах афганской письменной поэзии, а в диване Арзани Хвеш-
кая они уже представлены в виде разработанной системы. При этом и
ранняя письменная поэзия, и записи фольклора показывают, что тоническая
основа паштунского стиха исторически была сильнее силлабической, т. е.
ритмический акцент играл гораздо более важную роль, чем количество
слогов. Это обусловлено характером словесного ударения в языке пашто и
вообще его звуковым строем. Многие фольклорные поэтические тексты на
пашто в значительной степени представляют собой песенно-тонические
или акцентные стихи.
В письменной поэзии преобладание тонических принципов над
силлабическими наиболее зримо выражалось в нарушении установленного тем
или иным размером числа слогов. Пропуски или добавления слогов ветре-
140 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
чаются в стихах всех паштунских поэтов первой половины XVII в.100 Такие
отступления от метрических схем, естественно, влекли за собой заметные
ритмические сбои, и, возможно, именно поэтому Хушхал-хан Хаттак
критиковал своих предшественников за качество поэтических текстов,
утверждая собственный приоритет в создании паштунской метрики.
Таким образом, тоническая по своим народным истокам паштунская
поэзия с переходом к письменному состоянию приобрела также
силлабический характер, что, вероятно, произошло не без влияния персидского
стихосложения. Полагаю, что ориентация на поэзию фарси и прежде всего
на ее строфику заставила афганских стихотворцев принять и использовать
в паштунской метрике силлабический принцип построения стихов.
Благодаря творческим усилиям первых афганских поэтов, из которых только
Арзани Хвешкай известен нам как автор полного дивана, ритмические
схемы фольклорного происхождения стали гармонично сочетаться с
силлабическим принципом равного количества слогов в строке, на основе
чего возникла стройная система силлабо-тонического стихосложения пашто.
Впервые паштунскую метрику подробно описал Д. Н. Маккензи,
определивший ее главный принцип— повторяемость ритмического акцента
через три неударных слога [Mackenzie 1958]. В метрике письменной
поэзии каждый стих (мисра') имеет определенное число ритмических
акцентов, занимающих фиксированное положение и почти всегда совпадающих
с обычным словесным ударением. Клаузула паштунского стиха по общему
правилу является двухсложной, т. е. стих обычно заканчивается заударным
слогом. Односложная клаузула (исход стиха на ритмический акцент),
также как и трехсложная (два заударных слога в конце стиха) —
дополнительные виды, реже встречающиеся у ранних паштунских поэтов.
Односложная клаузула, или апокопа, могла применяться только в рифмующихся
мисра*; нерифмующиеся строки в моноримах всегда имеют двухсложную
клаузулу. Заударные слоги в двухсложной клаузуле часто являются реди-
фом, обычно представляющим собой либо глагол-связку, либо различные
временные и видовые формы глаголов 'делать' (kawol I krol) и 'стать'
(swdl).
Силлабический принцип построения паштунских стихов позволяет
определять стихотворные размеры количеством слогов. До Хушхал-хана в
паштунской письменной поэзии были распространены три основных типа
размеров с их апокопированными вариантами: 8-, 12- и 16-сложники.
Самыми употребительными были первые два типа. 16-сложник
использовался нечасто, поскольку ранние поэты, видимо, воспринимали его как
производный. Фактически он представляет собой удвоенный 8-сложник, и
поэтому написанные им стихи нередко имеют внутреннюю рифму. Не
случайно 16-сложные стихи в рукописном исполнении иногда разбивались на
100 Не исключено, что подобные погрешности могли быть не только следствием
недостаточной требовательности авторов к плодам своего творчества, но и результатом не
вполне качественной переписки поэтических текстов ввиду отсутствия в XVII в. единых
орфографических норм и профессиональных переписчиков, хорошо владевших языком
пашто.
Глава II. Формы, жанры, метрика
141
две части, в результате чего 16-сложная мисра' превращалась в бейт из двух
8-сложных строк (см. гл. I, разд. 1, примеч. 7).
Кроме того, в паштунской поэзии рошанитов и богословов отмечаются
случаи употребления 10-сложного размера, который отличается наличием
цезуры и близок метрической структуре первой строки фольклорного
двустишия ландэй. Приведу схемы названных размеров:
8-сл.: хх-ххх-х(сапокопой: хх-ххх-)
12-сл.: хх-ххх-ххх-х
16-сл.: хх-ххх-ххх-ххх-х
10-сл.: ххх-х/ххх-х
У Мирза-хана Ансари 8-сложником и его апокопированным вариантом
написаны алиф-нама (31 газель), поэма «Свеча и Мотылек» (6 газелей),
мухаммас, 8 касыд (из 14) и 44 газели. Непосредственно в разделе газелей
заметно преобладает 12-сложник с его усеченным вариантом — 157
стихотворений. 16-сложником написаны только пять газелей, а 10-сложником —
одна. Примеры:
8-сл.: day qddir-ddy сэ qudrat ka // hara car pd хрэ1 quwwat ka
[МА: 19]
8-сл. (апок.): day badsah do har ca rab // hikmatuna-ye 'ajab [MA: 62]
12-сл.: zd harco сэ do 'Mat рэ ras(d)m tldldm
dd tahqlq tdrfah(d)m na wuraseddldtn [MA: 84]
12-сл. (апок.): ibtida' swa рэ pasto dd haqq sand
sa sand рэ 'indyat dd rabband [MA: 53]
16-сл.: bustdn zrd dd 'dbiddno Sdjannat dd zdhidano
aw didan dd beniSdno tdr nisdn pdr ma lazjza [MA: 128]
10-сл.: pd gUmdn hast-ye /pd hasti mast-ye
ddnis-de ndsta / 'aq(d)l-de йт-ddy [MA: 206]
Метрика служила для паштунских поэтов одним из главных критериев
отличия профессиональных стихов письменной литературы от устной
народной поэзии. Именно поэтому у многих поэтов XVII в. есть реплики с
напоминанием о метрическом характере их произведений. Так, Мирза-хан
в одной газели говорит о том, что вследствие испытания разлукой с
Другом его слова стали размеренными (mawzuri), т. е. приобрели метрическую
форму [МА: 103]. В другом случае поэт заявляет, что мерная речь со
смыслом (естественно, суфийским) придает языку четкость (sdbitT) [MA:
24]. Однако позднее Хушхал-хан отказывал Мирза-хану в строгом
соблюдении метрических правил и утверждал, что «Мирза когда слагал стихи на
этом языке (пашто. — М Я.), то прикидывал их на вес» [XXX: 623]. Хуш-
хал, конечно, утрировал, но его критические замечания все-таки имели под
собой почву.
Отдельные метрические погрешности, связанные с нарушением числа
слогов или, что менее важно, с несовпадением ритмического и словесного
ударения, встречаются, как уже отмечалось выше, у всех паштунских
поэтов первой половины XVII в., в том числе и у Хушхала, однако в диване
Мирза-хана есть стихотворения, где такие погрешности слишком
многочисленны и заметны (см., например: [МА: 65, 67—68, 87—88, 121, 177—
142 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
178, 202, 213—214, 215 и др.]). Особо обращают на себя внимание те
стихотворения Мирза-хана, в которых отступления от требуемого числа
слогов сопровождаются явным переходом от одного размера к другому. В
большинстве подобных стихотворений одни строки имеют 8-сложный, а
другие — 12-сложный размер [МА: 99,129—130,171—172, 213—214,215,
220—221 и др.]; в одной газели происходит сбой 12-сложника на 16-
сложник [МА: 159—160]. Никакой системы в этих метрических переходах
мне обнаружить не удалось.
Поскольку Мирза-хан, как и другие паштунские поэты, придавал
метрике большое значение, остается предположить, что стихотворения со
слишком заметными нарушениями размера были либо недоработаны
самим автором, т. е. являлись черновыми набросками, либо дошли до нас в
ущербном виде по иным причинам, обусловленным отсутствием автографа
дивана и распространением после смерти автора списков разного
происхождения. Второе предположение подтверждается таким наглядным
примером. В издание Доста включена явно ущербная 6-бейтовая газель,
отсутствовавшая в привлеченных издателем списках и взятая им из первого
издания дивана, воспроизводящего одну пешаварскую рукопись [МА: 241;
MIrza 1959: 27]. Однако в петербургской рукописи С 1901 эта газель
содержит 9 бейтов и имеет вполне законченный вид (л. 183аб).
Рукописи дивана Мирза-хана зафиксировали еще такой любопытный
случай. Текст одной газели поэта дошел до нас в одних рукописях в
обычной стихотворной форме, а в других — в виде ритмизованной прозы.
Издание Доста содержит оба варианта [МА: 221—223]. Стихотворный текст
написан 12-сложником без существенных метрических погрешностей.
Другой вариант текста имеет строфическую структуру и рифмовку газели,
строки в нем состоят из 12—15 слогов, однако никакой размер не
просматривается. Лексика, рифма и содержание обоих текстов идентичны
(рифмующиеся слова различаются только в двух бейтах). Я не могу точно
объяснить факт наличия у Мирза-хана двух вариантов одного текста, но не
исключено, что они представляют собой последовательные стадии
создания стихотворного произведения. Возможно, некоторые рукописи
сохранили черновой текст, предшествовавший окончательному метрическому
варианту стихотворения, что теперь дает нам уникальную возможность
увидеть, как протекал творческий процесс у паштунских поэтов XVII в.
Соблазнительно было бы также усмотреть здесь первую попытку
применения в афганских стихах правил квантитативного стихосложения, чем
впоследствии занимался Давлат (см. ниже), однако мне не удалось выявить
в «полупрозаическом» варианте стихотворения сколько-нибудь заметный
персидский квантитативный размер.
Что касается такого формообразующего элемента стиха, как редиф, то
у Мирза-хана он не получил широкого применения. В заударном слоге
клаузулы кроме самых распространенных форм Мирза-хан использовал
также односложные формы настоящего времени глаголов «нести» (wrom,
wn), «идти» (je, j/), «умирать» (mri) [MA: 92—93, 197—198, 209—210,
226, 242—244]. Очень часто заударным слогом является краткий гласный
-а в качестве показателя второго косвенного падежа, женского рода или
Глава II. Формы, жанры, метрика
143
звательной формы. По нормам старой орфографии этот слог не
выписывался, поэтому алфавитный порядок размещения стихотворений в
рукописях определялся в таких случаях предпоследним согласным звуком и
соответствующей ему буквой. Сложный редиф был использован
Мирза-ханом только в шести газелях: gorlmuxlis («...смотрит искренний»), kandi рэ
м>а'(э)$ («...делает проповедью»), типа hai («...получает наслаждение»),
mundd ay gawsa («...обрел, о заступник»), dsy hka sam'a («...есть, как
свеча»), wota wuxezi(«K... поднимется») [MA: 73—74, 76—78, 118—119, 159—
160,230—231].
Метрика стихотворений Васила Рошани полностью соответствует
стандарту, сложившемуся в диванах Арзани Хвешкая и Мирза-хана. Самые
употребительные размеры у него те же— 8- и 12-сложник. Большинство
газелей и мухаммасы написаны 12-сложником; 8-сложник использован в
касыдах, руба'и и фрагменте. Апокопированный вариант
встречается только у 12-сложника, причем очень редко. Четыре раза Васил
использовал 16-сложный размер. Им написаны все три поэмы-муназара и
одна газель [WR: 17]. По сложившейся традиции первое полустишие бейта в
16-сложных стихах имеет внутреннюю рифму, которая укрепляет
ритмическую структуру строки. Один раз в газели встречается также 10-слож-
ник. Примеры:
8-сл.: ddfalak Id sawaxuna //dd mahruyo Id beltuna [WR: 91 ]
12-сл.: dd kamil рэ zdba haqq sana waydla
dd Sa Чгрэ dod ye ma gana baddla [WR: 48]
12-сл. (апок.): dd qudsT arwah makan dsy da gunbai
loy tor zmdke tor asman ddy da gunbag [WR: 28]
16-сл.: awwal mard waydl 'awrata zro-me rezdi Id haybata
haqlqat majaz su wara hamda sta Id muhabbata
dd riizgar noma halala xalT nd da Id wabala
dd adam misaUme у ad su ce ta wuyost Idjannata [WR: 84]
10-сл.: ay cd qaza ddy /pd qasd riza dsy
Id xwaba wTS sa/ka spin saba ddy [WR: 58]
Как и Мирза-хан, Васил не придавал большого значения редифу,
который отсутствует приблизительно в половине газелей и касыд. Сложный
редиф использован только в двух случаях: byamund yaklaxta («...обрел
мгновенно») и da gunbai («...этот купол») [WR: 22, 28]. Во многих
стихотворениях рифмующиеся слова относятся к лексике арабского, реже —
персидского происхождения.
Оценивая метрику стихов Мирза-хана Ансари и Васила Рошани в
целом, можно отметить, что эти поэты относились к ней достаточно
формально. Следуя разработанным правилам и пользуясь самыми
элементарными приемами, они не стремились привнести в метрические схемы нечто
новое. Попытки разнообразить существующий стандарт были
предприняты Давлатом Лоханаем, диван которого с точки зрения метрики
представляет намного больший интерес, чем стихотворные собрания других роша-
нитов.
144 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Подавляющее большинство стихов Давлата отвечают установленным
требованиям и написаны 8- и 12-сложником. В маснави поэт использовал
только 8-сложник с его усеченным вариантом. Этим же размером
выполнены и почти все руба'и (цалоридзи); 12-сложник встречается только в
девяти четверостишиях. Одиннадцать газелей и касыд написаны 16-сложни-
ком. Почти во всех этих стихотворениях имеется внутренняя рифма.
Усеченные варианты размеров применялись Давлатом, как и другими поэтами,
значительно реже. В газелях и касыдах, например, апокопированные 8-,
12- и 16-сложник встречаются, соответственно, два, десять и пять раз.
Стоит заметить, что в стихотворениях, написанных этими размерами,
наблюдается больше метрических сбоев. Аналогично Мирза-хану и Василу
одну газель Давлат написал 10-сложным размером. Примеры:
8-сл.: sd sifat dd рак yazdan ddy // cd huzurpd har makan ddy [DL: 5]
8-сл. (апок.): ia iat is(d)m der la&z // tdr misri qand tdr mawii [DL: 181]
12-сл.: har mufid cd nd si ter Id nang-u nama
рэг hagd dd ma 'rifat da 'wa harama [DL: 22].
12-сл. (апок.): hec iarra juda Id haqqa ma gana
ka gandm ddy ka orb die ka сапа [DL: 157]
16-сл.: ka dd 'isq pyala tdl sume sam sabit pdr lare drume
td ba ham barxa bya-тйте dd bzdrgano Id sarafa [DL: 136]
16-сл. (апок.): allah yaw ddy bawar wukra pd zahir batin tanha
ka ristya talib dd haqq ye dd bdl huk(d)m kra raha [DL: 186]
10-сл.: сок bd cd krdm / Id да те сэ di
nd dd ca mal ydm / nd me сок mid di [DL: 171]
В семи газелях Давлатом использован довольно редкий для
классической паштунской поэзии и не встречающийся у других авторов вариант 12-
сложника с двумя заударными слогами в клаузуле [DL: 99—102, ПО—111,
168—169, 214—215, 216—217]. Эти заударные слоги во всех случаях
являются редифом. Пример:
dd dilbar didan pd har Ion 'ayan windm
har nazar ye pd har cd kse pd со San windm
[DL: 214]
Нарушения размера встречаются в диване Давлата повсеместно,
однако, в отличие от метрических погрешностей в стихах Мирза-хана, они, как
правило, бывают вызваны пропуском или добавлением только одного
слога, т. е. менее значительны. Нередко Давлат допускает несовпадение
словесного ударения и ритмического акцента, причем такие случаи
встречаются у него и в первых бейтах стихотворений (матла'\ хотя именно эти
бейты должны четко определять размер и ритмику последующих строк
[DL: 1, 76, 106, 145, 159, 172, 186 и др.]. В одной газели, написанной
усеченным 12-сложником, несовпадение метрического и словесного ударения
особенно заметно, поскольку последний слог строки, который должен
быть акцентированным, является безударным показателем звательного
падежа (yd rabba) [DL: 70].
Глава II. Формы, жанры, метрика
145
Редиф и рифма имеют у Давлата более развитые формы, чем у Мирза-
хана и Васила. Немало стихотворений Давлата написаны со сложным ре-
дифом: рэ da пэп spa («...в эту ночь»), h dast-i сора («...по правую руку»)
[DL: 71], Ы be 'ilaja («...стал неисцелимым») [DL: 88—89], те byamund
(«...я обрел») [DL: 103], уэт la tor osa («...я есмь до сих пор») [DL: 71], пэп
tawakkul km («...сегодня уповай») [DL: 204] и др. Кроме того, в качестве
простого односложного редифа Давлат нередко использует имена
существительные и прилагательные, что тоже способствует большему
организационному и смысловому единству стихотворения и одновременно
усложняет задачу автора: mast ('опьяненный') [DL: 80—81], сагх ('вращение'),
тэх ('лицо') [DL: 93—94], koz ('кривой') [DL: 107], her ('забытый') [DL:
112], zrd ('сердце') [DL: 118], cargand ('явный') [DL: 204—204] и др.
Следуя требованиям классической поэтики, Давлат пользуется только
точными рифмами. Как и другие афганские поэты, собственно паштунской
лексике Давлат предпочитает в рифме арабо-персидскую. Дважды поэт
употребляет в рифме арабские глагольные формы [DL: 79, 220—222].
Сложная рифма встречается у Давлата только в одной газели: be saka —
tamasa кит.д. [DL: 141]. Любопытен также случай с чередованием в
рифме согласных ml: сагха — talxa — balxa — barxa и т. д. [DL: 93].
Важное значение для истории паштунского стихосложения имеют
стихотворения Давлата, в которых осуществлена попытка применить к
афганскому стиху квантитативную метрику. Таких стихотворений в диване поэта
насчитывается восемнадцать. Во введении к дивану девять из них
исследованы 'А. Рашадом на предмет выявления классических арузных размеров,
использованных для их написания [Rasad 1975i: XIX—XLIII].
Одна газель содержит прямое указание на то, что ее автор обращается к
классическому арабо-персидскому стихосложению. Обозначая по
традиции стихотворные стопы производными формами от арабского корня F'L,
Давлат так изображает размер этой газели101:
fa- Ч-la-tu, ma-fa- 'i-lun, fa- 'Hat [DL: 72]
Размер такого вида в списке классических персидских метров не
обнаруживается и непосредственно в самой газели Давлата не
просматривается. 'А. Рашад, вероятно, учитывая возможность графических неточностей,
трактует его первую стопу несколько иначе — fa-'i-la-tun [Rasad 1975i:
XX—XXII, XXXV]. В результате, по его мнению, метрическая схема
газели Давлата полностью соответствует одному из вариантов хафифа (xafif-i
maxbun-i maqsur) m:fa- Ч-la-tun, ma-fa- ' i-lun, fa- 4-lat.
Этот вид размера, действительно, в большей степени приложим к
метрическому строю газели. Однако приходится констатировать, что и в этом
случае стихотворение имеет многочисленные метрические сбои,
выходящие за пределы допустимого варьирования, а критерии различения долгих
101 Обычай вводить в стихотворную строку арабские обозначения стоп давно
существовал в классической персидской поэзии. А. Шиммель, отмечая подобное явление
в стихах Руми, полагает, что поэт просто уставал от «придумывания изящных рифм»
[Schimmel 1975: 318—319]. Однако более вероятно видеть в этом элемент поэтической
игры.
102 Названия размеров приводятся по: [Бертельс 1926: 100—118].
146 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
и кратких слогов, т. е. собственно правила квантитативного
стихосложения, оказываются слишком гибкими, чтобы в них усматривалась
системность.
Нетрудно заметить, что при разборе всех девяти арузных
стихотворений Давлата 'А. Рашад допускает определенные натяжки, «подгоняя»
стихи поэта под требуемый размер, иногда произвольно корректирует текст, а
строки, которые совершенно не соответствуют размеру, вообще исключает
из рассмотрения. Тем не менее во всех случаях следует признать
справедливость выводов Рашада относительно того, какие именно арузные метры
поэт пытался применить к своим паштунским стихам. Это два варианта ха-
фифа — xafif-i maxbun-i maqsur [DL: 72, 112—113], xafif-i maxbun-i maqtu'-i
musabbag [DL: 111—112, 202—204]— и три варианта решала— ramal-i
musamman-i maxbun-i mahzuf[DL: 167—168], ramal-i musamman-i maxbun-i
maqtu' [DL: 101—102], ramal-i musaddas-i maxbun-i maqtu' [DL: 102].
В прочих арузных стихотворениях Давлата, по моему мнению,
просматриваются следующие размеры: xafif-i maxbun-i maqsur [DL: 44—46],
xafif-i maxbun-i maqtu' [DL: 68—69], ramal-i musamman-i maxbun-i maqtu1
[DL: 52, 53], ramal-i musaddas-i maxbun-i maqtu' [DL: 52—53], ramal-i
musaddas-i maxbun-i maqsur [DL: 53—54], hazaj-i musamman-i musabbag [DL:
51—52], rajaz-i musaddas-i maxbun [DL: 57]. Метрическая основа одной
газели осталась мне неясной [DL: 109—ПО]. Приведу примеры некоторых
начальных бейтов:
хафиф: dilruba Myista рэ had dd kamal // sta dd Myist dd dawr ndsta zuwal
[DL: 44]""
har nafas har zaman рэ lay I wa nahar //jalwagar ddy xafijali dildar
[DL: 111]
рамал: day gakir sta dd hama xozo zrfino malham ya-llah
Snaxt stafarz ddy dd kullfarz muqaddam ya-llah [DL: 52]
раджаз: сэ guftugu Id ta рэ ta kateta// nazar рэ gayr ka xata ka h ta [DL: 57]
Правила, которыми руководствовался Давлат при сложении своих
арузных стихов, установить довольно трудно. То, что наблюдается в самих
стихах, как было сказано выше, вообще не позволяет говорить о наличии у
поэта какой бы то ни было системы 'аруза. Естественно, допускается двух-
согласное начало слога. Слова, состоящие из одного открытого слога с
гласными -а, -е, -э, -и (а это часто употребляемые предлоги, послелоги,
местоименные энклитики, частицы, некоторые глагольные формы), а также
подобные слоги на конце слов (включая и те, что имеют гласный -о) могут
быть как краткими, так и долгими. Нет регулярности в восприятии
закрытых слогов: 1) слог с кратким гласным и двухсогласным исходом может
восприниматься как один долгий слог, как сочетание долгого и краткого,
как сочетание краткого и долгого (характерное для силлабо-тонических
паштунских стихов произнесение qa-d(9)r,fi-k(o)r, Ч-Цэ)т и т. п.); 2) слог с
долгим гласным может функционировать и как долгий, и как сочетание
долгого и краткого; 3) слоги с дифтонгоидами -ауи-зу (часто связка doy и
глагольные окончания с -эу) могут считаться как долгими, так и краткими.
Глава II. Формы, жанры, метрика
147
Иногда открытые слоги с долгим гласным -Г (показанным графически)
функционируют как краткие, т. е., видимо, воспринимаются как имеющие
краткий -/; например, wi-пэт вместо wl-пэт, li-dd-lay вместо li-dd-lay (так у
Рашада [RaSad 1975,: XL]).
На фоне привычных и легко скандируемых силлабо-тонических стихов
арузные стихи Давлата звучат явно искусственно, с несвойственной
паштунской поэзии аритмией. Именно в них наиболее заметна
подражательность, поскольку копирование известных шаблонов персидской любовно-
мистической лирики здесь фактически сведено к так называемому
«переключению кода», когда при сохранении лексики и синтаксиса прототипа
меняются только глагольные формы и система управления. Естественно,
чем ближе лексико-синтаксическая структура паштунского текста
персидской модели, тем лучше этот текст укладывается в метрические схемы
'аруза и наоборот.
Безусловно, арузные стихи Давлата были любопытным экспериментом
в области квантитативного стихосложения, но их не следует рассматривать
как начало становления паштунского * аруза или некую общую тенденцию
в развитии паштунской поэзии. Хотя попытки подчинить афганский стих
персидской квантитативной метрике предпринимались и в дальнейшем,
все они так и не вышли за рамки индивидуальных проб.
Самым претенциозным экспериментом такого рода стал
компилятивный трактат по поэтике некоего Мийа Шарафа, автора второй половины
XVIII в. Этот трактат под условным названием «'Аруз в пашто» {do pasto
'ariiz) был издан в 1966 г. С. Риштином на основе единственной рукописи
[Saraf 1966]. Являясь в теоретической части изложением персидских
сочинений по поэтике, трактат содержит практическое руководство по
применению квантитативной метрики в афганском стихосложении. Очевидно, не
зная о прежних опытах, и в частности об арузных стихотворениях Давлата
Лоханая, автор объявляет себя создателем паштунского * аруза, В трактате
изложены (довольно путано) правила определения долгих и кратких
слогов и приведены собственные стихотворные примеры, которые, по сути,
сходны с «квантитативными» стихами Давлата.
Тот факт, что арузные стихи были чужеродным элементом в поэзии
Давлата и имели исключительно экспериментальный характер,
подтверждается не только их весьма незначительной долей в общем объеме
дивана. Кажется, поэт сам ощущал их искусственность, поскольку иногда в его
квантитативных строках проглядывает исконная ритмика паштунской
силлабо-тонической поэзии. Особенно это касается стихов, написанных по
схеме короткого рамала (ramal-i musaddas) или хафифа и имеющих по
10—11 слогов в строке. Метрика некоторых стихов такого рода
обнаруживает сходство с паштунским 10-сложником. Одна из арузных газелей,
например, начинается с бейта, ритмика которого полностью соответствует
10-сложнику:
ау сэ 'аЩ уе /рэ asna bande/fnor nazar та km /рэ hied bande
[DL: 102]
148 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Видимо, авторитет и статус персидской поэзии были настолько
значительны для афганских стихотворцев, что некоторые из них пытались
воспроизвести в своих паштунских стихах не только ее стилистику и
образность, но и метрическую основу, поскольку именно метрика, как уже
говорилось, служила главным критерием качества стихосложения и отличала
профессиональную письменную поэзию от устного народного творчества.
Давлат замечал, например, что не может быть прекрасной поэзия невежды,
которому неведомы ни размер (wazn), ни порядок (tartib) [DL: 99]. Однако
фольклорные традиции афганской поэзии и исторические корни просодии
языка пашто были достаточно сильными, чтобы противостоять влиянию
персидского квантитативного стихосложения.
В отличие от рошанитских поэтов авторы богословских произведений
первой половины XVII в. обращали меньше внимания на метрическую
организацию своих стихов, вследствие чего их поэзия отчасти сохраняла
признаки ритмизованной и рифмованной прозы, от которой она вела свое
происхождение. Хушхал-хан имел серьезные основания упрекать авторов
«Махзаиа» за несоблюдение поэтических размеров (см. гл. I, разд. 2). Тем
не менее и саджевая проза религиозных авторов, и их стихотворные опыты
опирались на те же метрические схемы, что лежали в основе рошанитской
поэзии. Возможно, не без влияния последней в стихах поэтов-богословов
наибольшее распространение получили 8-, 12- и 16-сложные размеры. 10-
сложник тоже использовался редко. В доступных мне источниках он
встречается только один раз у Ахунда Ахмада. Написанные 10-сложником
28 бейтов стихотворения Ахунда Ахмада помещены в приложении к
«Махзан ал-ислам» [М12: 2626—2646]:
jannat-ye rog кэг/рэ zyar guluna //сэрэ-к$е naste / dd jannat juna
Большинство текстов из стихотворных дополнений к «Махзану» 'Абд
ал-Карима и 'Абд ал-Халима написаны «плавающим» размером, в
основном соответствующим 8- или 12-сложнику. Для этих стихов характерны не
только отступления от метрических схем, но и постоянные переходы от
одного размера к другому в пределах одного стихотворения, что
противоречит нормам классической поэтики. Повторяющиеся метрические сбои,
иногда приводящие к полной утрате заданного размера и ритмики, а также
чрезмерное увеличение числа слогов в строках влекут за собой нарушение
поэтической формы и приближение к саджевой прозе. Довольно строго
выдержанный 8-сложник наблюдается, пожалуй, только в четверостишиях
'Абд ал-Карима из его «урока молитвы», а также в краткой алиф-нама и
двух фрагментах 'Абд ал-Халима.
Имеющийся у 'Абд ал-Халима построчный перевод пяти бейтов газели
Са'ди выполнен 16-сложником, явно ориентированным на пятистопный
музари* оригинала (rnuzarV musamman\ в котором тоже 16 слогов (с
учетом т. н. «полуторных») [MIi: 200—201]:
an-ra kijay nist jahan jumla jay-i й-st (Са'ди)
сэ jay пэ laritanha wida kullijahan-ye jay day (Халим)
Глава II. Формы, жанры, метрика
149
Стихи Мир Хусайна из обеих его азбук дают сходную картину
метрической неупорядоченности, причем нарушений строфики в них заметно
больше, и в целом ни один из 58 поэтических фрагментов, составляющих
эти алиф-нама, не отвечает требованиям классического паштунского
стихосложения. Для наглядности приведу метрические и строфические схемы
первых десяти строф для каждого из шести начальных стихотворений
второй азбуки [NM: 57а—59а]. Цифры означают количество слогов,
латинские буквы — рифму, знак ~ — отступление от предполагаемого размера.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12(A)/8(A)//«16(A)
8(B)/8(B)//16(A)
8(C)/8//8(C)/12(A)
«8(D)/12(D)//16 (А)
16//<...>/8(A)
8(E)/8(E)//8(E)/8(A)
12(F)/12(F)//<...>
=8(G)/«8(G)//<...>
8(H)/8(H)//16(A)
12(1)/8(1)//8/«12(A)
s
8(A) // 8(A)
«8 // 8(A)
8 // 8(A)
8//12(A)
«8 // 8(A)
«8 // 8(A)
8(B)/8(B)//12(A)
8(C)/8(C)//<...>
12(D)/8(D)//«12(A)
8(E)/12(E)//16(A)
8(B)/«8(B)//«8/8(A)
12//«8(A)
8 / 8 / 8(A)
12//12(A)
«12//12(A)
12//12(A)
12//12(A)
12//12(A)
8 // 8(A)
8 // 8(A)
12(A)//8(A)
8(B)/8(B)//12(A)
16//8/<...>
16//16(A)
12(C)/8(C)//8/«
8 (D) / 8(D) //
«12(A)
►
12(A)
8(D) /
16(E) / 8(E) / 8(E) // 16(E)
/ 12(A)
«16/16/«16(A)
12(F) / 8(F) // =
12(A)
=16(F) /
12(G) / 16(G) // 12(G) /
8(A)
16 (A)//«16(A)
8//12(Х)
12/8/8(А)
«12//«12(A)
«8//«12(A)
«12//«12(A)
12//12(A)
12//12(A)
16//12(A)
8//12(A)
h
16//«12(A)
8 // 8(A)
8 // 8(A)
8 // 8(A)
8//16(A)
«8 // 8(A)
8 // 8(A)
«12//16(A)
16//16(A)
«8(B)/8(B)//«8(B)/8(A)
Подавляющее большинство стихотворных фрагментов в «Книге Бабу
Джана» написаны 12-сложным размером или ориентированы на него:
сэ kaluna-de рйга si tor cihila // 1э ta 'ata yaw zaman ma sa gafda
[BJ: 14a]
Более чем в двух десятках стихотворений Бабу Джана наблюдается
нерегулярное чередование строк, написанных 12- и 8-сложником. Как
основной размер 8-сложник использовался поэтом прежде всего в руба'и. Одно
стихотворение Бабу Джана ориентировано на 16-сложник с внутренней
рифмой (попутно замечу, что внутренняя рифма часто встречается и в сад-
жевых текстах его «Книги»):
150 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
1э yawa dana ka wuna bya pre pane pre guluna
рэ mewa-ye ka patena muwaffaq Id asla dal ddy
[BJ: 28аб]
Среди стихотворений Бабу Джана обращают на себя внимание два
связанных по смыслу фрагмента с нестандартной рифмовкой и явно
нарушенной бейтовой структурой, о чем говорит нечетное число
строк-полустиший в каждом (37 и 21) [BJ: 64аб, 646—65а]. Фрагменты не являются мо-
норифмическими, поскольку в них присутствуют по две рифмы: основная
и дополнительная. В первом фрагменте основную рифму имеют 23 строки,
дополнительную — 9, во втором основную — 11, дополнительную — тоже
9. Какая-либо последовательность в расположении строк с разными
рифмами не просматривается.
Нужно добавить, что Бабу Джан, как и Давлат Лоханай, еще допускал
звуковые чередования в рифме. Так, у него могли чередоваться звуки ruz
(bahar si, gulzar Si и awaz si, raz si) [BJ: 13a], г и / (sakore, хаЬэге и nazole,
warawole) [BJ: 1056—107a].
Все поэты-богословы, как правило, предпочитали использовать простые
глагольные рифмы, включая стандартные односложные редифы. Апокопа
имеется только в одном фрагменте 'Абд ал-Карима, явно тяготеющем к
саджевой прозе \Щ\\ 189—192]. У того же 'Абд ал-Карима однажды
встречается сложный редиф— пэ-de тйтэт («не нахожу Тебя») [MIj:
177]. Чаще сложными редифами пользовался Бабу Джан. В его «Книге»
четыре стихотворных фрагмента и один саджевый имеют такие эпифоры:
tor tog-lande walar di («стоят под знаменем») — восхваление первых
четырех халифов [BJ: 2аб], ka ye gore («если посмотришь на него») — стих о
сущности человека [BJ: ббаб], Muhammada («о Мухаммад») — два панегирика
пророку [BJ: 73а—75а], haf>a сэ su («что с ними стало») — стих об
ушедших в прошлое царях, пророках и мудрецах [BJ: 109а—110а]. Один раз в
саджевом тексте Бабу Джан применил анафору — рэ xwla хнауэт («скажу
устами») [BJ: 58аб].
Завершающим этапом в создании системы афганской классической
метрики, без сомнения, стал диван Хушхал-хана (о метрике стихов Хуш-
хала см.: [Пелевин 2001: 210—215]). Вклад Хушхала в развитие
афганского стихосложения выражался во вполне конкретных достижениях, поэтому
он не слишком преувеличивал, когда говорил, что именно он «привел в
порядок стихосложение на пашто» [XXX: 540] и именно у него «с
большими усилиями образовалось несколько размеров» [XXX: 623].
Во-первых, при объеме стихов несравнимо большем, чем у любого другого
современного ему поэта, Хушхал продемонстрировал намного более строгое
следование установленным метрическим схемам, определив тем самым
новый качественный уровень метрического стихосложения для
последующих поколений афганских поэтов. Во-вторых, Хушхал, видимо, первым
ввел в поэзию пашто новые виды размеров— 14- и 15-сложник с их апо-
копированными вариантами, доведя таким образом до логического
завершения систему паштунской классической метрики, где в размерах число ело-
Глава II. Формы, жанры, метрика
151
гов последовательно возрастает от восьми до шестнадцати103. В-третьих,
хотя и отдавая предпочтение двум самым распространенным размерам —
8- и 12-сложнику, Хушхал намного чаще и свободнее, чем другие поэты,
использовал в своих стихах все прочие возможные виды и варианты
размеров. Например, редко применявшийся до него 10-сложник Хушхал-хан
сделал размером своих четверостиший, число которых достигает тысячи
шестисот. В-четвертых, поэт с повышенным вниманием относился к таким
важным элементам метрической организации стихов, как рифма и редиф,
относительно равномерно используя для этого лексические богатства
родного афганского, а также арабского, персидского и индийских языков.
Хотя диван Хушхал-хана, как и все другие его поэтические
произведения, формально является литературным памятником второй половины
XVII в., однако перечисленные выше принципы подхода Хушхала к
метрике проявились уже на ранних стадиях его творческой биографии и
окончательно утвердились во время индийского плена в 1664—1669 гг., что
показывают датированные или поддающиеся датировке стихотворения.
Если в качестве примера таких стихотворений взять те, что входят в
рукописный сборник «Фирак-нама», добавив к ним ряд произведений
дивана [XXX: 203—204, 216, 279, 546—551, 562—563, 577—578, 579—580,
594—597, 615—616, 619—621, 818—820, 827—828, 934—947], то
получится следующая картина. Все эти стихотворения — 8 касыд, 26 газелей, 6
фрагментов и один большой таркиббанд — написаны со строгим
соблюдением размеров (за исключением одного фрагмента, который явно не
закончен [FN: 24—25]). Поэт использовал 12-сложник— 18 раз, усеченный
12-сложник— 8 раз, 8-сложник— 6 раз, усеченный 8-сложник— 5 раз,
усеченные 14-, 15-, 16-сложникт— по одному разу (соответственно в
таркиббанде, кит*а, газели). Односложный редиф встречается в 16
стихотворениях; в двух случаях это слова ггэ ('сердце') и Шт, форма 1-го лица
настоящего времени глагола кЫ ('тащить', 'писать') [FN: 1—2, 23].
Сложный редиф использован Хушхалом в трех газелях: warn ter so («все
прошло»), hore-hore wT («...там-там бывает», kandi xabis («...делает подлый»)
[FN: 6—7, 14, 17—18]. Что касается рифмы, то, как правило, в ней
преобладает смешанная лексика, но есть стихотворения, где употреблены слова
и словоформы только афганского [FN: 9—10, 12, 15, 17—18 и др.],
арабского [FN: 1—2, 18; XXX: 546—551, 619—621] или персидского [FN: 14—
15, 16; XXX: 827—828] происхождения. Несмотря на то что рассмотрен-
103 Отсутствие в системе размеров Хушхала 9-, 11- и 13-сложника, вероятно,
объясняется тем, что они имели хождение в фольклоре. Так, в уже упоминавшемся народном
двустишии ландэй первая строка строится по схеме 10-сложника с возможными
отклонениями в сторону 9- и 11-сложника, а вторая — по схеме 13-сложника.
104 Газель, написанная апокопированным 16-сложником, по словам самого автора,
является «риндовской» (rindana) и явно предназначена для вокального исполнения.
Этим объясняется использование в ней такого технического приема, как laks (хиазм) —
повтор во второй мисра' слов первой, но с перестановкой. В результате этого размер,
оставаясь вариантом 16-сложника, в половине строк имеет цезуру (вместо опускаемого
слога): хх-ххх-/хх-ххх-.
152 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
ные здесь стихотворения составляют малую долю поэтических
произведений Хушхал-хана, соотношение использованных в них видов размеров
и эпифор является довольно типичным не только для его собственного
дивана, но и для паштунского стихосложения классического периода в
целом.
Глава III
Реалии жизни в религиозно-мистической лирике
рошанитских поэтов
1. Мирза-хаи Аисари
Полулегендарные биографические сведения о Мирза-хане, основанные на
устных народных преданиях, впервые были изложены в публикациях
X. Дж. Раверти [Raverty 1860^ 30; 1862: 51—55] и только спустя столетие
частично подвергнуты обоснованной критике X. Халилом, который
привлек письменные источники, включая произведения самого поэта и роша-
нитское агиографическое сочинение «Хал-нама» [ХаШ 1959: XXV—XXVI].
Более поздние работы, в той или иной степени касавшиеся творчества
Мирза-хана, добавили немного существенной информации о его жизни и
личности.
Первое место в ряду рошанитских поэтов Мирза-хан занимает, на мой
взгляд, исключительно благодаря своему происхождению из рода
основателя рошанитского учения. Мирза родился в семье Hyp ад-дина, второго
сына Байазида Ансари. Его отец вместе с двумя другими братьями — Шай-
хом 'Умаром и Хайр ад-дином — погиб в результате конфликта рошанит-
ской общины с вождем акозаев 105 Хамза-ханом, отказавшимся, по словам
Ахунда Дарвезы, принять вероучение рошанитов и платить им десятину
[Tazkirat: 138а—139а]. После окончательного разгрома рошанитского
отряда в сражении на берегу Инда у селения Бара-Нуфул (?) Hyp ад-дину, в
отличие от его братьев, удалось бежать в Хаштнагар106. Однако здесь его
ждала смерть от рук гуджаров 107, находившихся в клиентских отношениях
105 А к о з а и — одно из подразделений племени юсуфзаев; им принадлежали земли
на северо-востоке Пешаварской равнины в районе современного г. Мардана.
106Хаштнагар — долина к северу от Пешавара; находилась во владении мох-
мандзаев.
107 Г у д ж а р ы — народность, проживающая в северных районах Пакистана и
говорящая на одном из диалектов раджастхани, языка западной ветви индоарийской груп-
154 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
с акозаями [MIj: 127]. Все эти события, согласно «Хал-нама», произошли в
феврале 1581 г. [Andreyev 1997], следовательно, Мирза-хан родился не
позднее указанного года.
Без ссылки на источник 3. Хевадмал сообщает, что мать Мирза-хана
звалась Зулайхой, а сам поэт с раннего детства жил отдельно от родителей
в Тирахе [Hewadmal 2000: 99]. Надо полагать, Мирза-хан был еще
ребенком, когда он лишился отца, и в Тирахе — труднодоступном горном
районе к юго-западу от Пешавара, главном прибежище рошанитов во времена
Джалал ад-дина (ум. 1601) — его, вероятно, приютили родственники.
Предположительно в 1619 г. Мирза-хан присоединился к своему
двоюродному брату Аллахдаду, позднее получившему титул Рашид-хан, и
вместе с частью рошанитской общины переехал в Индию. В Лахоре
якобы имела место встреча потомков Байазида с могольским императором
Джахангиром (правил 1605—1627). Рошанитские переселенцы признали
вассальную зависимость от императора, а взамен получили джагиры т.
X. Дж. Раверти утверждает, что Мирза-хан долгое время жил в Раджпутане,
но где именно находилась пожалованная ему земля, неизвестно [Raverty
1862: 52].
По словам Давлата Лоханая, Мирза-хан погиб в 1040 г. х. [1630/31] во
время военной кампании Шахджахана (правил 1628—1658) в Декане, а
автор «Дабистан-и мазахиб» уточняет, что Мирза был убит во время осады
Давлатабада [DL: 20; Dabistan 1904: 311]. X. Дж. Раверти приводит явно
ошибочное мнение своих информантов о том, что в конце жизни Мирза-
хан вновь поселился в Тирахе, отказался от своих прежних идейных
убеждений и даже принес покаяние за все, «что он писал или говорил против
шари'ата» [Raverty 1862: 55].
В своих произведениях Мирза-хан нигде не упоминает о родстве с Бай-
азидом Ансари, не называет имен родителей, не намекает на свой особый
статус в рошанитской общине. Судя по другим источникам, Мирза вообще
не оставил никакого заметного следа в военно-политической истории ро-
шанитского движения. X. Халил и 3. Хевадмал, ссылаясь на «Хал-нама»,
связывают этот факт с особенностями характера Мирза-хана, его
природной скромностью, мягкостью, склонностью к спокойной жизни и
философским медитациям. Мирза был лишен каких бы то ни было социальных
амбиций и никогда не претендовал на главенство в рошанитской общине
[ХаШ 1959: XXVIII—XXIX; Hewadmal 2000: 100].
В жизни Мирза-хана можно видеть два неравных по временной
продолжительности периода. Более сорока лет он прожил в Паштунистане (до
1619 г.), около десяти лет — в Северо-Западной Индии. Пространственные
пределы его воображения простирались от Индии (Hind) до Малой Азии
(Rum) и, очевидно, отражали представления о географических границах
торговли на мусульманском Востоке. Не случайно поэт упоминает эти
топы. По свидетельству автора «Хал-нама», гуджары имели статус хамсайа, племени-
клиента, у акозаев, т. е. были у последних в военном и хозяйственном подчинении и
одновременно под покровительством (см.: [Taqwlm al-Haqq 1969: XXV]).
108 Д ж а г и р — земельное пожалование за несение военной службы,
предполагавшее право на взимание налогов и ведение хозяйственной деятельности.
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 155
понимы в назидательных строках, обращенных к «жениху чарующего
мирского богатства (dunya)», т. е. явно к торговцу, который разевает
«алчный рот от Хинда до Рума» [МА: 184]. В другом стихотворении, где поэт
также намекает на любителей мирского, говорится о том, что человек не
сможет добиться больше того, что назначено ему судьбой (qismat), даже
если он «доберется до Самарканда или Аджмера» [МА: 220].
Период жизни в Паштунистане не отражен в стихах Мирза-хана
никакими реальными фактами. В одной газели, вероятно, назван год ее
написания— 1020 г. х. [1611/12]; среди стандартных теософских рассуждений
поэт замечает, что в этом году «завершена пора тоски» [МА: 220]. К
сожалению, контекст не позволяет сказать, какой смысл скрывают эти слова.
Неоднократные замечания поэта о таянии снега или льда с наступлением
жары (ahar), а также упоминание о чередовании четырех времен года явно
были следствием собственного опыта жизни в горах Паштунистана [МА:
38, 59, 112, 140, 159]. Любопытен повторяющийся образ ледяного или
снежного минарета, символизирующего иллюзорный бренный мир.
В газели, близкой по содержанию к жанру бахариййа, Мирза призывает
не выпускать из рук чашу с вином в месяце та" бане, поскольку за ним
идет месяц поста рамадан [МА: 223—224]. Если расценивать эти слова как
косвенную датировку стихотворения, то можно приблизительно
определить годы, когда оно могло быть написано. Наступление Нового года, Нав-
руза, приходилось на ша'бан в 1597—1599 и 1630—1631 гг. Таким
образом, газель Мирза-хана могла относиться либо к начальному периоду его
творчества, либо к концу жизни. Однако в стихотворении присутствует
мотив осени, т. е. неизбежного конца земных удовольствий, а в
заключительном бейте поэт размышляет об уходе из мира по воле Господа.
Поэтому я вижу больше оснований отнести газель к 1630—1631 гг.
Упоминание в стихах поэта двух топонимов Паштунистана — Тираха и
Хайбера— тоже относится к «индийскому» периоду его жизни. Мирза
вспоминает именно эти соседние горные районы, несомненно, потому, что
они были его малой родиной. Хайбер как память прошлого фигурирует в
последней строфе мухаммаса, где поэт называет себя перелетной птицей,
имея в виду переселение в Индию и последующие частые передвижения
по ее территории [МА: 257]. Газель с упоминанием Тираха, видимо, была
написана сразу после приезда в Индию и встречи с могольскими властями
[МА: 89]. В предпоследнем бейте поэт сообщает: «Я приехал из Тираха и
теперь восхваляю Каривам». Хотя идентифицировать топоним Каривам (?)109
мне не удалось, в тексте газели, на мой взгляд, есть косвенные указания на
место и время ее написания. Во-первых, Мирза говорит о себе как о
чужаке в этом мире, порицает себя за поездку, а в последнем бейте вообще
сокрушается о том, что он позорит свое имя. Очевидно, у поэта было
противоречивое отношение к переезду в Индию и подчинению моголам. Во-
вторых, первые три строки являются краткой декларацией его кредо, в
котором нет никакой суфийской метафизики; поэт заявляет о своей вере в
109 В издании Доста этот топоним имеет вид KRlWAM, в некоторых рукописях —
GRTWAM или WGR'AM.
156 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Господа, принадлежности к «народу пророка», повиновении Корану,
приверженности имаму по и духовному наставнику. В такой декларации можно
усматривать нарочитое выражение благонамеренности могольским властям.
Наконец, в списке имен популярных иранских эпических персонажей
(Ануширван, Бахрам, Джамшид, Дара, Искандар), как всегда, приведенных
для подтверждения мысли о скоротечности жизни, Мирза неожиданно
упоминает имена Рамы и Ситы, героев индийской мифологии.
Некоторые стихи Мирза-хана, как мне кажется, свидетельствуют о том,
что его до конца жизни мучили сомнения относительно правильности
выбора, сделанного в пользу переселения в Индию и принятия могольского
джагира. Во многих назидательных строках, обращенных к человеку,
предающемуся мирской суете, можно видеть завуалированную самокритику.
К таким стихам, где поэт использует распространенные
религиозно-философские термины и символы, на мой взгляд, в их буквальном значении,
можно отнести, например, газель, начинающуюся с риторического
вопроса: «Где твоя постоянная родина (watan) ш, что ты [вечно] в пути? О ты,
беспокойно идущий по жизни!» [МА: 242—243]. Мотив пути, главный в
этом стихотворении, подкреплен соответствующим редифом je ('ты идешь1).
Жизненный путь того, кому адресованы назидания, Мирза сравнивает здесь с
извилистым передвижением змеи, в чем я усматриваю намек на
компромиссы, допущенные самим автором в отношениях с могольскими
властями. В газели есть слова об осени жизни, поэтому логично думать, что она
была написана именно в последний, «индийский» период творчества поэта.
В 1624/25 г. Мирза-хан откликнулся эпегжй-марсиййа на смерть
своего двоюродного брата Ахдада, который после раскола рошанитской
общины остался в Паштунистане возглавлять непримиримо настроенных
последователей учения Байазида и погиб в одной из вооруженных стычек с
моголами (см. разд. 6) [МА: 129—130]. Восхваляя Ахдада за стойкость,
поэт одновременно упрекает себя самого за то, что он по незнанию бежал
от «весны вахдата» и теперь числится «в ряду индусов».
Индийские реалии, а в большей степени туманные намеки на
пребывание в Индии у поэта немногочисленны, но оттого они заметнее
выделяются на общем фоне отвлеченных мистико-философских речей. В одной
газели, например, к таким намекам можно отнести сразу несколько строк.
Мирза высказывает здесь критическое отношение к звездочетам,
предсказателям будущего, которых в могольской Индии можно было видеть в
большом количестве на каждом базаре. В другом бейте кратко
охарактеризованы такие противоположные социальные группы, как факиры и эмиры;
первые, считает поэт, получают удовольствие от жжения и книг,12, вторые —
110 Имеется в виду приверженность одному из суннитских мазхабов, эпонимы
которых титуловались имамами. Мирза-хан, как и все рошаниты, формально был
последователем ханафитской школы, основоположник которой — Абу Ханифа — прозывался
Величайшим Имамом (imam al-a'zam).
111 В мистико-философской лирике «родина», как правило, означает
местонахождение божественной сущности, к которой стремится душа человека (см. гл. IV, разд. 3).
112 Под факирами Мирза-хан, очевидно, подразумевает здесь всю пеструю
компанию фокусников, прорицателей, аскетов-самоистязателей, заполнявших базары и улицы
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 157
от знамен и литавр. Далее поэт формулирует мысль, которую мог
высказать только человек, знакомый с внутриполитической ситуацией в
империи: «Не будет свободным от ущерба то государство, где воины порицают
эмиров». Наконец в последнем бейте Мирза намекает на свое служение
могольским властям, хотя, конечно, речь здесь может идти и о Боге: «Если
от сильного приходит указание сверху, что может сделать Мирза, откуда у
него силы [ослушаться]?» [МА: 59—60].
Семь бейтов другой газели Мирза-хан посвятил порицанию некоего
пенджабского джата пз [МА: 115]. Само порицание мало чем отличается от
обычных для поэта упреков, адресованных алчным, невежественным и
лицемерным людям, «ленивым в прекрасных делах веры». Однако в данном
случае обращение немного конкретизировано, названа этно-кастовая
принадлежность объекта хулы, что, вероятно, говорит об имевшем место
реальном конфликте автора с каким-то человеком. Конфликт был, видимо,
достаточно серьезным, поскольку Мирза желает своему оппоненту смерти
и мучений в огне адской печи. Поэт обвиняет безымянного джата в
частности в том, что его поклонение обычаям преобладает над истинной верой.
Целиком на индийских мотивах построена газель с критикой
индуистского праздника Холи, отмечаемого в дни полнолуния в месяце пхалгуи
(февраль—март) [МА: 251—252]. Языческие обряды этого праздника
пришлись не по душе Мирза-хану, правоверному мусульманину и
созерцательному мистику. Поэт кратко, но емко описал, точнее обругал, все
наиболее яркие приметы Холи. Стихотворение явно сочинено под свежим
впечатлением от происходящего действа и обращено к празднующим
индусам: «Я говорю это вам, о брахманово племя!» Кроме общих обвинений
в безумстве и распутстве Мирза адресует иноверцам упреки по поводу
осыпания «тюрбанов и подолов» «недозволенным», имея в виду
праздничный обычай обрызгивать друг друга подкрашенной водой и обсыпать
цветными порошками. Об обычае петь в этот день грубые и непристойные
песни поэт высказывается таким образом: «Рот — ружье, язык —
спусковой крючок, дурные слова— пули». Напрасно пытаясь образумить
веселящуюся толпу назиданиями о превосходстве духовного над телесным,
Мирза, словно под влиянием общей атмосферы праздника, заявляет в
заключительном бейте, что его собственные слова сказаны в экстатическом
состоянии хал.
К стихотворениям, написанным в Индии, нужно отнести также две
газели, где бегло говорится о сезоне муссонных дождей барсат (Jbarsat\
который, по словам поэта, приносит Индии благо [МА: 98, 215—216].
индийских городов. Некоторые фокусники, как хорошо известно, демонстрировали
способность ходить по раскаленным углям, а прорицатели для убедительности всегда
держали перед собой большие астрологические книги. Красочное описание этой категории
лиц имеется у французского врача и путешественника Ф. Бернье (1625—1688), который
двенадцать лет прожил в могольской Индии [Бернье 1936: 215—216].
113 Д жаты — этническая и кастовая группа Северо-Западной Индии. В XVII в.
джаты впервые заявили о себе как о военно-политической силе, образовав в Пенджабе,
Раджпутане и Уттар-Прадеше полунезависимые княжества. В конфессиональном
отношении джаты распадаются на три общины: индуистскую, сикхскую и мусульманскую.
158 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Полагаю, в Индии поэтическая лексика Мирза-хана пополнилась
словами «очки» ('аупак) и «магнит» (maqnafis). В одном случае поэт называет
«очками Истины» Пир Рошана, т. е. своего деда Байазида Ансари, а в
другом сравнивает с очками письмена из-под калама духовного наставника,
поскольку «сквозь них виден весь смысл» [МА: 174, 211]. Очки появились
в могольской Индии в конце XVI в., о чем свидетельствуют миниатюры
этого времени, и, будучи любопытным и экзотическим приспособлением,
они сразу же пополнили арсенал поэтических образов. Литературный
стиль эпохи, традиционно именуемый индийским, ориентировал авторов
на поиск новых средств художественной выразительности в повседневном
быту и среди предметов домашнего обихода [Schimmel 1973: 30].
Физическому явлению магнетизма Мирза также придал мистический смысл,
увидев в нем аллегорию незримым силам духовного влечения: «Хотя у железа
нет воли к движению, тянуть его может магнит» [МА: 151].
В числе индийских топонимов, упоминаемых Мирза-ханом, — река Ганг,
города Каннаудж, Шамсабад, Бурханпур, провинции Гуджарат, Пенджаб,
Кашмир, плато Декан. Все эти названия, за исключением Кашмира114,
отражают географию поездок Мирза-хана по могольской Индии. В районах
Шамсабада и Каннауджа, расположенных по правому берегу Ганга,
находились владения Рашид-хана, с которым Мирза переехал в Индию. В
словах поэта о том, что Ганг, протекающий мимо этих городов, не может
сравниться со всеохватным божественным океаном (muhit), чувствуется
умышленный выпад против священной для индусов реки [МА: 66].
Бурханпур упоминается как место, где была написана газель о мистической
любви: «Мирза осмотрел Бурханпур; он пришел из своей настоящей
родины и туда же вернется» [МА: 192]. Здесь понятие «родина» (watan) опять
имеет двоякий смысл; конечно, в первую очередь оно означает мир духа,
Бога, но в сознании автора, ощущавшего себя в Индии чужеземцем,
сохраняет и свое прямое значение.
Газель, где упомянуты Декан и Гуджарат, является откликом на
исторические события 1630—1633 гг., связанные с военными действиями
имперских войск против независимых удельных правителей этих территорий.
Мирза-хан явно не по своей воле оказался свидетелем и участником этих
событий, а согласно некоторым сведениям, и их жертвой. Год, когда была
написана газель, Давлат Лоханай считает датой смерти поэта. Судя по
всему, Мирза-хан, выполняя обязанности джагирдара, находился в армии
Шахджахана и принимал непосредственное участие в сражениях. Мирный
по натуре и далекий от военного дела человек, он был потрясен
увиденным кровопролитием. В его газели впервые открыто прозвучали равным
образом антивоенные и антимогольские настроения. Стихотворение
представляет собой редкий, если не единственный случай прямого отражения
исторической реальности в поэзии Мирза-хана, и поэтому имеет смысл
привести его перевод целиком:
114 Кашмир упоминается поэтом дважды в контексте известной пословицы: «Для
каждого его родина — Кашмир» [МА: 78, 202].
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 159
Говорю эти слова в тысяча сороковом году (1630/31. — М. #.),
Когда в Декане и Гуджарате произошли жестокости.
В своей жизни я узнал много хорошего и дурного,
Но такого смертоубийства еще не видел.
Мусульмане и неверные валяются [убитыми] вперемежку;
Их [трупы] не убирают — не сжигают и не хоронят.
Удивительно кровожадное это время;
Облака еще не плакали слезами милосердия.
[Один народ] поневоле покинул родину,
Другой народ был полностью истреблен.
Испуганные и слабые остались на месте,
А тираны в злобе на них, как тигры.
Сильные мира сего так разъярились,
Что, словно львы, выпустили когти насилия.
Поистине, нет большей пользы,
Чем покориться деяниям Бога и терпеливо переносить несчастья.
О Мирза, ищи спасения от тех людей,
Что на словах — мусульмане, а нравом — неверные.
[МА: 72—73]
Общий тон этой газели повторяется в другом стихотворении,
представляющем собой абстрактную жалобу на жестокое время, когда люди не
боятся и не почитают Бога, «проводят сладостную жизнь в неведении», а
«зло увеличивается с каждым днем» [МА: 213—214]. Здесь также
порицаются несправедливые правители-тираны и их воины, от гнета которых
страдают подвластные люди. «Сколькими бы благами Он ни одаривал,
злые сердца ими все не насытятся, — сокрушается поэт и в конце
восклицает: — Мир наполнился насилием, когда же прозвучит приговор
Справедливого!»
Две газели содержат указания на зрелый или даже преклонный возраст
автора, поэтому их можно отнести к последним годам его жизни. В одном
стихотворении, которое начинается словами о скоротечности жизни, тема
старости проходит через несколько строк [МА: 250—251]. По
обыкновению поэт сравнивает старость с осенью, пришедшей на смену весне
юности, сообщает о седине своих волос и добавляет, что вначале он радовался
черной бороде, а теперь тоскует по утраченным кудрям. В последнем
бейте Мирза-хан призывает себя продолжать проповедовать истину, ибо его
язык еще не заплетается. Мотив осени, сменяющей весну, есть и в другой
газели, но здесь его связь с темой старости обнаруживается только в мак-
та', где поэт говорит, что он молод духом, но стар телом [МА: 102—103].
Всецело подчиняясь классическому канону, мистическая лирика
Мирза-хана почти полностью абстрагирована от действительности, поэтому
она не дает сколько-нибудь ясной картины реального духовного развития
поэта. Стихи, где личностный элемент наиболее очевиден, не столько
отражают фактическую сторону духовной биографии автора, сколько
передают его общее душевное состояние в момент создания произведения.
Естественно, личностный элемент лучше просматривается в тех строках, где
автор прямо и недвусмысленно говорит о своем духовном опыте от перво-
160 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
го лица, а такими строками оказываются прежде всего заключительные
бейты стихотворений, поскольку в них фигурирует имя автора. Таким
образом, тахаллус в макта* иногда частично компенсирует отвлеченность в
содержании всего стихотворения.
Спектр душевных состояний, запечатленных в макта\ у Мирза-хана
такой же, как и у любого другого суфийского поэта. На одном полюсе
находится печаль тоски по Богу, на другом — радость от ощущения Его
близости. Для стихов Мирза-хана в целом более характерен эмоциональный
подъем, поэтому заключительные бейты чаще содержат свидетельства о
«благосклонности» ('inayat) Бога к поэту. Хотя иногда поэт ограничивается
сухим сообщением о проявлении этой «благосклонности» и никак не
разъясняет ее смысл [МА: 9, 64, 90, 146 и др.], в большинстве случаев он
каким-либо образом дает понять, что его мистическое воодушевление связано с
осознанием себя частью божественной сущности [МА: 67, 70, 152 и др.]115.
Ощущение мистиком близости Бога обычно связывается с
экстатическим состоянием хал (Ш\ и у Мирза-хана мы находим немало строк о
пребывании в этом состоянии, подобных следующей: «В беспокойствах
неведения не будет жить тот, кто как Мирза обрел радость в хал» [МА: 219].
Особенно примечательны случаи, когда в состоянии хал поэт передает
слова самого Бога, причем нередко включает их только в макта' [МА: 82,
86, 87, 89, 92, 112, 245 и др.]. Надо заметить, что таким образом Мирза, как
и другие мистики, не столько стремился отождествить себя с Богом,
сколько хотел наглядно отобразить суфийскую идею о самопознании Бога
через сотворенного Им человека.
В некоторых макта' фигурируют термины, которыми обозначаются
этапы и стадии мистического пути, однако видеть в них указания на
реальные ступени духовного развития поэта не всегда представляется
обоснованным, поскольку эти термины могли употребляться и в своих более
общих значениях. В разных газелях, например, Мирза называет своим
уделом ма'рифат, который есть «сокровище из сокровищ» [МА: 147, 230],
или заявляет, что «ступил из маджаза в хакикат», т. е. из мира
материального в мир духовный (или на этап познания хакикат!) [МА: 257], или
сообщает, что он «испил из чаши вахдата» [МА: 125]. Неоднократно поэт
намекает на свою принадлежность к мискинам {miskinan), «бедным», т. е. к
самому верхнему уровню познавших Бога согласно рошанитскому учению
(см. гл. IV, разд. 4). В одном стихе он так говорит об этом: «На мискине не
видят долга, установленного законом; [поэтому] Он освободил бедняка
Мирзу от заката п6» [МА: 111]. Часто называя себя бедняком (faqir), поэт,
возможно, только однажды употребил слово «факр» ('бедность') в
значении суфийской стоянки: «Мирзе нравится бедность (faqirT), ведь факр —
хороший и большой простор (1атэп)» [МА: 126].
На мой взгляд, присутствие технических и иных ученых терминов та-
саввуфа привносит в стих определенный элемент реальности, так же как и
115 По этому поводу с рошанитами много и безуспешно дискутировал Ахунд Дарве-
за (см.: [Tazkirat: 1236—124а]).
116 Т. е. от исламского налога в пользу бедных.
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 161
тахаллус в макта'. Дело в том, что использование термина— это
результат умственной, а не душевной работы, и за термином всегда стоит некая
интеллектуальная традиция, реальная история мистической практики. К
уже отмеченным выше случаям я добавлю еще примеры из двух газелей,
являющихся своего рода духовными исповедями. В одной из них поэт
говорит о том, что мистическая любовь привела его к «одиночеству в
обществе» [МА: 81—82]. Понятие «одиночество в обществе» (xalwat dar anju-
тап) является одним из восьми известных принципов духовной практики
в учении суфийского братства накшбандиййа (см.: [Schimmel 1980: 90—
91])117. В этой же газели упоминается курбат (qurbai) — этап
мистического пути у рошанитов. Достигнув этого уровня, поэт, по его словам,
огорчает сердце «маловерного» (kamdalil). В другом стихотворении содержится
перечень последовательных степеней в духовном развитии мистика, под
которым поэт подразумевает себя самого: talib ('ученик'), salik ('идущий
[по пути познания Бога]'), zakir ('упоминающий имя Бога'), 'arif
('познавший'), abdal ('святой'), watad ('столп'), gaws ('заступник'), qutb ('полюс
[духовного совершенства]') [МА: 89—90] П8. Естественно, в реальности
Мирза достиг только уровня 'арифа. Последующие степени мистической
иерархии являются во многом умозрительной конструкцией, поэтому по
поводу их смыслового наполнения и соположения у теоретиков тасаввуфа
не было единого мнения.
Приближенными к реальной действительности стихи Мирза-хана
воспринимаются также в том случае, если они показывают в большей мере не
эмоциональную, а внешнюю сторону его духовной жизни. К стихам
подобного типа можно целиком отнести газель, начинающуюся словами:
«Покуда я следовал традициям и обычаям, к пониманию Истины не
пришел» [МА: 84—85]. В последующих строках этого стихотворения
говорится о роли «путеводителя» (rahnamay), т. е. видимо, духовного
наставника, в приобщении автора к мистическому пути. Мирза выражает
признательность учителю за то, что тот избавил его от сомнений и груза земных
беспокойств, помог познать истинный смысл, объяснив, как образно
пишет поэт, кто посеял его и на каком поле он взрос. Как большое счастье
Мирза оценивает приобретение им «звания суфия». Есть в газели и слова о
проповеднической миссии автора: «Эти слова я говорю языком хакиката,
которому теперь и сам следую, и на других возлагаю».
О значении, которое имел для его духовного просветления наставник,
обычно именуемый только эпитетом «Совершенный» {kamil), Мирза-хан
написал немало примечательных строк и в других стихотворениях [МА:
55, 68, 110, 246 и др.]. В заключительном бейте одного из них сказано так:
«Он разрезал завесу [неведения] у Мирзы; наставление Совершенного —
алмаз» [МА: 204]. Возможно, те стихи, где поэт говорит о полном подчи-
117 Эти принципы были сформулированы *Абд ал-Халиком Гидждувани (ум. 1220),
родоначальником мистической школы хаджаган, исторической предшественницы на-
кшбандиййи. Позднее Баха' ад-дин Накшбанд (ум. 1389) увеличил количество правил до
одиннадцати [Тримингэм 1989: 166—167].
118 Об иерархии святых в суфизме см., например: [Тримингэм 1989: 136—137].
162 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
нении воле учителя и об уничтожении личных качеств, были написаны в
более ранний период его творчества [МА: 77, 182, 210, 228 и др.]. Свободу
духа, считал поэт, можно получить, только став «соринкой во дворе
Совершенного». В одном случае в редифе фигурирует слово «проповедь»
(wa^), что усиливает акцент на мотиве духовного учительства и
фактически делает его темой всего стихотворения [МА: 76—77].
О приверженности Мирза-хана рошанитскому учению
свидетельствуют не только излагаемые им в некоторых стихотворениях положения ро-
шанитской доктрины, но и его неоднократные хвалебные высказывания в
адрес Пир Рошана (см. выше о сравнении Рошана с «очками Истины»), а
также прямые заявления о следовании духовной традиции Байазида Анса-
ри. В азбуке, например, поэт дважды указывает на источник своих
мистических идей — в преамбуле и в макта* седьмой газели: «Сомнения Мирзы
исчезли, все, что он говорит, — это Мийан Рошан» [МА: 5]. В других
стихотворениях встречаются такие недвусмысленные признания: «Этот
бедняк Мирза восхваляет Мийана Рошана, знание которого, как светоч,
возвышается над всеми науками» [МА: 160] — или: «Суть Мирзы — от света
чистого Рошана» [МА: 137].
Согласно «Хал-нама», Мирза-хан обладал музыкальным даром и
неплохо играл на рубабе [Hewadmal 2000: 100]. В его стихах, исключая
мотивы, связанные с суфийской практикой сама\ мне удалось обнаружить
только один туманный намек на то, что автор действительно увлекался
музыкой и исполнял свои стихи под аккомпанемент инструмента. В
заключительном бейте одной газели, которая по своему ритмическому рисунку и
лексическому составу вполне подходит для вокального исполнения,
сказано: «Тайны Мирзы поймет тот, кто знает этот лад (rah)» [MA: 122].
Кроме музыки, Мирза-хан, возможно, интересовался также соколиной
охотой. Хотя у нас нет никаких сторонних свидетельств о том, что он
занимался на практике охотой с ловчими птицами, две строки из его газелей
говорят о знакомстве автора с делом сокольника. В одном случае Мирза
использует образ «ястреба с закрытыми глазами», имея в виду тот этап
приручения и дрессировки ловчей птицы, когда ей зашивают веки или
надевают на глаза специальный клобучек (см.: [Симаков 1998: 248—250]).
Поэт заявляет, что он так боится взгляда Возлюбленной, что ходит, как
ястреб (baz), с закрытыми глазами [МА: 145]. В другом стихе Мирза
демонстрирует свои знания о том, какие птицы пригодны для приручения.
Развивая тему духовного воспитания с малых лет, поэт приводит аналогию из
области сокольничего дела: «Если в силки попадется зрелый дикий ястреб,
разве сравнится он по цене с молодым необученным (cuz)» (т. е. молодой
ценнее, так как он легче поддается дрессировке) [МА: 147]. Вероятно, все-
таки поэту приходилось если не участвовать, то наблюдать за соколиной
охотой и действиями ловчей птицы, поскольку однажды он задал себе
такой риторический вопрос: «Хумай119 ценен своим нравом, зачем ему
учиться жестокости у ястреба?» [МА: 143].
119Хумай — сказочная птица, по поверью, приносящая счастье тому, на кого
упадет ее тень. Словом «хумай» еще может обозначаться конкретный вид ястреба —
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 163
2. Давлат Лоха на й
О жизни и личности Давлата Лоханая известно очень мало. Крайне
скудные биографические сведения о нем могут быть почерпнуты
исключительно из его же собственных стихов. Полное имя поэта — Давлаталлах, о
чем он сообщает в заключительном бейте одной газели: «Шейх
Давлаталлах — мое имя, данное свыше, а люди называют меня бедняком Давлатом»
[DL: 149]. По отцовской линии Давлат происходил из рода хасанхелей
крупного паштунского племени лоханов/лаванов (отсюда его патроним — Ло-
ханай или Лаванай). Мать Давлата принадлежала к племени вардаков.
Поэт даже утверждает, что в ее роду был сеид — потомок пророка, но,
вероятно, это всего лишь семейная легенда [DL: 163, 232].
В одном руба*и Давлат называет имя отца — Дадо Ноханай. По словам
'А. Рашада, Дадо может быть сокращенной формой имени Дад-Мухаммад.
Тот же 'А. Рашад отмечает, что в рукописи дивана (неясно какой) имя отца
Давлата имеет вид Дадав, а это, в свою очередь, — сокращение от Дадал-
лах [Rasad 1975i: II]. Ноханай — один из фонетических вариантов
родового имени Лоханай. В своих стихах Давлат упоминает этот патроним
трижды, в том числе в отношении самого себя. Варианты написания
патронима — nohanay и nohanay. Из примечаний к изданию дивана следует, что в
газнийском списке фигурирует форма lohanay.
В афганистической литературе имеет распространение другая форма
родового имени поэта — Лаванай (lawanay), образованная от кандагарского
варианта названия племени — лаваны 120. Автор этих строк в своих
прежних публикациях тоже употреблял применительно к Давлату патроним
Лаванай. Однако, учитывая тот факт, что форма Лаванай в стихах Давлата не
встречается, а он сам именовал себя Лоханаем/Ноханаем, следует все-таки
отдать предпочтение именно этому последнему варианту.
Вместе с сурами лоханы составляют крупное афганское племенное
объединение лоди. Исторически лоханы расселялись на небольшой
территории к югу—юго-востоку от нынешнего г. Банну (Пакистан). На западе
их земли граничили с горным Вазиристаном, на востоке — с Индом, на
юге примыкали к реке Гомаль. Однако уже с начала XV в. многие
выходцы из лоди стали переселяться в Индию, где они нанимались на военную
службу к делийским султанам. Усилиями этих переселенцев были созданы
две знаменитые династии афганских правителей в Индии: Лоди (1451—
1526) и Сури (1539—1555). Значительная часть афганских
переселенцев проживала в различных районах Северной Индии — Пенджабе, Уттар-
Прадеше, Бихаре, а позднее и на востоке— в Бенгалии, где постоянно
возникали полунезависимые афганские княжества, нередко враждовавшие
ягнятник, но у Мирза-хана в данном контексте это слово явно употреблено в первом
значении.
120 Полагаю, причиной распространения варианта Лаванай было исключительно
чувство патриотизма ученых Афганистана, предпочитавших использовать западную, а
не восточную (пешаварскую) форму названия племени. Добавлю также, что в стихах
Хушхал-хана Хаттака название этого племени встречается в форме lohanl [XXX: 837].
164 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
с центральной властью121. Предки Давлата, видимо, были жителями
одного из таких княжеств.
Годы жизни Давлата неизвестны. С уверенностью можно утверждать
лишь то, что он скончался после 1658 г. В стихах Давлата упоминается
сражение при Самугархе (около Агры), которое состоялось в мае 1658 г.
между сыновьями императора Шахджахана принцами Дара Шикохом и
Аурангзебом [DL: 22]. Одним из духовных учителей Давлата был Мирза-
хан Ансари, погибший в 1630/31 г., поэтому можно предположить, что
Давлат родился в начале XVII в.
Вероятно, большую часть жизни Давлат Лоханай провел в Северной
Индии, в тех областях современного Уттар-Прадеша, где жили его предки
и где с 20-х гг. XVII в. обосновалась рошанитская община. Центром
общины, как уже говорилось, стал городок Рашидабад, названный так по имени,
точнее, почетному титулу его основателя Рашид-хана, внука Байазида
Ансари. Давлат упоминает о Рашидабаде в газели, где предается
размышлениям о разлуке и смерти [DL: 176—177]. Хотя тема разлуки имеет у поэта,
как правило, мистический подтекст, поскольку разлука с другом означает
состояние мистика, стремящегося к близости с Богом, в этой газели речь
явно идет о разлуке в житейском смысле, возможно, даже о смерти кого-то
из друзей, живших в Рашидабаде:
Праздник будет в Рашидабаде, если хоть раз вновь
Сюда вернутся двое старых друзей, отправившихся в путешествие.
Совсем не трудно Могущественному [Богу сделать так],
Чтобы Рашидабад вновь стал таким же благоденствующим, как прежде.
[DL: 176]
Паштунистан в стихах Давлата не упоминается. Как житель Индии
поэт просит Бога в разгар засушливого сезона облагодетельствовать дождем
и превратить в пестрый цветник именно Хиндустан и выражает
беспокойство об измученных жарким индийским солнцем посевах [DL: 36].
Очевидно, Давлат редко покидал свои родные места, что позволило ему
сказать в одном бейте: «Если бы я не обрел сокровище довольства малым, я
бы скитался от Индии до Балха» [DL: 93]. Тем не менее поэт все-таки
бывал на своей исторической родине. Одна из его касыд, по его же словам,
была написана в Джелалабаде, но в ней нет никаких паштунских реалий
[DL: 177]. Упоминается у Давлата и Белая Гора, или Спингар, массивный
горный хребет Южного Нангархара. Поэт заявляет, что Спингар велик,
если смотреть на него «глазами иллюзий», а во владениях Господа это всего
лишь песчинка [DL: 156]. Упоминание в стихах Давлата названий
мусульманских святынь — городов Мекки, Медины, Иерусалима (Байт ал-Мукад-
дас), долины Арафат — результат исключительно общей образованности,
поскольку паломничества поэт не совершал [DL: 160].
121 Известно, например, что Шер-шах (ум. 1545), основатель династии Сури, начал
свою карьеру с поступления в 1519 г. на военную службу к правителю Бихара Бахар-
хану, который сам был афганцем и происходил из лоханов [Jaffar 1936: 51].
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 165
Произведения Давлата отражают прежде всего его
религиозно-философские и связанные с ними морально-этические взгляды, однако
некоторые стихи, как и в случае с Мирза-ханом, позволяют получить
приблизительное представление о реальных этапах духовной биографии автора.
Такие стихи, не будучи в прямом смысле биографическими, содержат только
расплывчатые характеристики личного духовного состояния [DL: 34, 122—
123, 128, 149, 150—151, 216—217 и др.]. Отдельные строки даже намекают
на черты внешности поэта. Вряд ли фигурально, например, Давлат
несколько раз повторяет о своей ранней седине, появившейся, когда ему не
было еще тридцати лет [DL: 28, 128, 154]. Слова о том, что люди среднего
роста умны и сообразительны, а высокие люди склонны к спеси, можно
расценивать как косвенное указание автора на собственный рост [DL: 26].
Содержание и общий назидательный тон поэзии Давлата позволяет
думать, что расцвет его литературного творчества пришелся на зрелые годы.
Сам поэт дважды упоминает в стихах о своем возрасте: в одном случае он
пишет о том, что ему уже за сорок лет, в другом говорит о себе как о
человеке, постаревшем телом [DL: 128, 258].
Неоднократно Давлат объявляет о своей приверженности
мистическому пути Байазида Ансари, т. е. открыто провозглашает себя рошанитом
[DL: 122, 127, 173, 231—232 и др.], но при этом остается неизвестным,
когда и каким образом он приобщился к рошанитскому учению, кто был его
главным духовным наставником, какой ступени он достиг на мистическом
пути к концу жизни 122. На начальном этапе этого пути от него как неофита
требовалось неукоснительное выполнение предписаний шари'ата,
обязательных для каждого мусульманина. Видимо, в это время была написана
газель, где говорится о признании единого Бога и полном подчинении
Ему, о борьбе с побуждениями низшей души (nafs), о разлагающем
воздействии мирского, а в заключительном бейте содержится такая
декларация своего кредо: «Я, Давлат, — мусульманин-суннит, признаю четырех
халифов; я уверовал в Бога и пророка» [DL: 66].
Во многих стихах Давлата упоминается Совершенный Учитель (pir
кати) — общий термин для духовного наставника у рошанитов123. Однажды
Давлат называет своим учителем Мирза-хана Ансари [DL: 150], но в
данном случае речь идет скорее о духовном влиянии через поэтическое
творчество, нежели о фактическом наставничестве, которое должно было отвечать
строгим правилам соответствующего суфийского института (pir— murid).
Учитель передавал Давлату знания по теории и практике мистического
учения, и мы находим в стихах последнего немало подтверждений этому:
«Он очистил бедняку Давлату сердце от сомнений; сто божьих милостей
учителю за его доводы» [DL: 100]; «Я, Давлат, познал прошлое и будущее,
122 3. Хевадмал утверждает, что Давлат достиг статуса духовного поверенного (xalifa)
[Hewadmal 2000: 104].
123 Обычно Давлат, как и другие рошанитские поэты, ограничивается эпитетом
kamil; иногда называет учителя словом ustad, прямо не относившимся к суфийской
терминологии. В одном случае он употребляет термин xalifa [DL: 216].
166 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
когда получил у Совершенного урок настоящего (hal)124» [DL: 146];
«Когда я искренне взял чистую руку Совершенного, обрел больше восьми
райских садов»125 [DL: 64]; «Когда Совершенный просветил меня о низшей
душе, из моего брюха вышел дурной корень алчности» [DL: 126];
«Совершенный Учитель прояснил мое внутреннее око, и я вижу во всем один лик
пречистого Бога» [DL: 214] и др.
Стихотворения, из которых приведены эти строки, показывают
сложный процесс овладения Давлатом религиозно-философскими и
мистическими знаниями под руководством его наставника. Декларативные
заявления поэта о вере в единого Бога, назидания о грядущем Судном Дне,
проповеди исламских этических норм постепенно наполняются мистическим
смыслом, переходят в плоскость размышлений о единстве и
единственности божественного бытия, а раскаяние в духовном невежестве, порицание
мирского и плотского, призывы к религиозному подвижничеству приводят
поэта к определению цели его духовных устремлений, которая
формулируется как постижение Бога. Заметно, что в стихах, явно относящихся к
начальному периоду творчества, Давлат чаще использует шаблоны
традиционной любовно-мистической лирики.
Следовавшая за шари'атом стадия тариката требовала от мистика
еще больших духовных и физических усилий для сосредоточения на
предмете познания. В одной газели, где поэт пока еще называет себя
«пленником обычаев», проскальзывают сведения о его подвижническом образе
жизни. Давлат пишет, что живет уединенно вдали от людей, ибо «грех
смешиваться с нерадивыми», стремится к отстранению от своего «я»,
предается аскезе, практикует халват и постоянно произносит зикр, а все его
мысли и переживания связаны с ожиданием Страшного Суда после смерти
[DL: 216—217].
О результате своих усердных психофизических упражнений Давлат
сказал в другом стихотворении этого же периода: «Духовного повелителя
я обрел в своем же доме; я стал Его губами и Он говорит моими устами»
[DL: 34]. Здесь же он сообщает о том, что ему раскрылась суть четырех
мазхабов, религиозно-правовых школ. Это заявление вряд ли стоит
понимать буквально, как указание на освоение теоретических основ
мусульманского богословия и права. Поэт имеет в виду, что догматические
расхождения в теологии кажутся ему бессмысленными в свете суфийского
понимания таухида.
Две близкие по смыслу газели, написанные немного позднее, отражают
дальнейшее духовное совершенствование поэта, который приходит к
размышлениям о двойственной природе человека [DL: 149, 150—151]. В
одном из этих стихотворений Давлат сравнивает себя с птицей из сада
единственности (wahdat), парящей над миром множественности (kasrat), назы-
124 Здесь Давлат играет двойным значением слова hah 'настоящее' и 'состояние'
(т. е. психическое состояние мистика, когда он ощущает близость к Богу).
125 В этом бейте поэт, вероятно, намекает на один из распространенных ритуалов
посвящения суфия, заключающийся в передаче духовной благодати от учителя ученику
путем соприкосновения рук (см.: [Тримингэм 1989: 154—155]).
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 167
вает телесный мир вынужденным пленом, а духовный — родиной, в
другом говорит о себе одновременно как о немощном рабе и господине миров.
Примечательно, что в последнем бейте одной газели Давлат прибавляет
к своему имени почетный титул «шейх», а в другой роняет такую фразу:
«Я облачен подобно Совершенным» [DL: 151]. Надо думать, это говорит о
внешних результатах духовного роста Давлата, приобретении им нового,
более высокого статуса в общине. Вероятно, благодаря успехам как на
религиозно-мистической, так и литературной стезе он сам получил право
учительствовать. У Давлата появились собственные ученики, которым он
адресовал свои поэтические проповеди. С обращения к ученику (talib)
начинается его наставительная газель с призывом уповать на Господа,
подателя хлеба насущного [DL: 204—205].
О прохождении Давлатом последующих этапов мистического
постижения Бога, возможно, свидетельствуют такие его стихотворные
высказывания: «Ступай путем хакиката, Давлат, ибо у Друга (Бога. — М Я.) нет
ни сторожей, ни охранников, ни дверей» [DL: 168], «Теперь, когда бедняк
Давлат обрел ма'рифат, он больше не увидит себя отделенным от Друга»
[DL: 147], «О Господь, сделай моей долей курбат, ибо Твой курбат (т. е.
близость к Богу. — М Я.) сладостнее шербета» [DL: 79]. На этих этапах
еще большее значение приобретает чувственная интуиция, значительно
усиливается элемент иррационального восприятия бытия, поэтому свои
личные мистические переживания поэт передает метафорически, прибегая
к абстрактным символам суфийской лирики.
Согласно рошанитской доктрине, Байазид Ансари достиг самой
высокой стадии познания Бога, именуемой сукунат. Отсюда одно из его
прозвищ— Мискин ('бедный, ничтожный')126. Давлат неоднократно
обращает ко Всевышнему просьбы поместить его в ряды «бедных» (miskinan), т. е.
поднять на самую высокую ступень духовного пути [DL: 59, 61, 64, 68], но
мы не знаем, были ли эти просьбы услышаны 127. Стихи, где поэт говорит о
высших стадиях постижения Бога (васлат, вахдат, сукунат), не имеют
следов личного опыта и являются лишь отвлеченными от практики
суждениями: «Сад вахдата померкнет в твоих глазах, если Совершенный
покажет тебе сад сукуната» [DL: 207], «Кто достигнет сукунат, увидит, что в
таухиде ему будут неведомы собственные черты» [DL: 214] и т. п.
Впрочем, заключительный бейт одной газели, где Давлат заявляет о том, что он
добился «свидания с Другом», когда «вышел с шестой дороги на седьмую»,
можно истолковать как свидетельство достижения им седьмой,
предпоследней стоянки мистического пути, определявшейся у рошанитов
понятием вахдат [DL: 74].
Учение Байазида Ансари формировалось в русле мусульманского
мистицизма и питалось его богатейшими многовековыми традициями.
Воспитанный на этих традициях, Давлат хорошо осознавал преемственность ро-
126 Хотя этимологически слово miskin не связано со словом sukunat, в силу своего
звучания оно воспринималось как производное от того же корня s-k-n.
127 С подобными же по смыслу призывами обращался к себе Мирза-хан: «Если тебе
навсегда нужен вечный мир, эй, Мирза, отправляйся в племя мискинов» [МА: 154].
168 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
шанитских религиозно-философских и художественных идей, всецело
ощущал свою сопричастность духовному и культурному наследию
суфизма. В двух стихотворениях — газели и маснави — он перечисляет имена
более двух десятков знаменитых суфиев и поэтов, которые, по его словам,
постигли таухид и воплощали собой божественный свет [DL: 173,250]. Это:
Хасан [ал-Басри] (642—728), Хабиб [ал-'Аджами] (ум. 772), Сари [ас-Сака-
ти] (772—867), Зу'-н-Нун (ок. 796—860), Байазид [Вистами] (ум. 874 или
877/78), Джунайд (ум. 910), Хусайн [Халладк] (ок. 857—922), Шибли (861—
945), Ахмад-и Джам (1049/50—1141), 'Абд ал-Кадир [Гилани] (1077/78—
1166), Хакани (ум. 1199), Низами (1141—1209), Фарид ад-дин 'Аттар
(ум. 1220 или 1230), Мухйи ад-дин [Ибн 'Араби] (1165—1240), Джалал ад-дин
Руми (1207—1273), Шамс-и Табризи (ум. 1248), Са'ди (ум. 1292), Са'ид
[Фаргани] (ум. после 1292), Хафиз (ум. 1389), Магриби (ум. ок. 1406), Джами
(1414—1492). Замыкают список рошаниты: Байазид Ансари, Арзани Хвеш-
кай, Мирза-хан и Мухлис.
Как видно, Давлат упоминает в основном наиболее известные,
хрестоматийные имена ранних мистиков и классиков персидской поэзии. Среди
последних, кстати, многие вообще не были напрямую связаны с суфизмом.
Не приходится сомневаться в том, что Давлат был хорошо знаком с
творчеством большинства перечисленных им авторов, в первую очередь
персидских поэтов. В его стихах встречается, например, название знаменитой
поэмы 'Аттара: «Познаешь таухид, если прочитаешь дарующую
возвышенные чувства [книгу] «Мантик ат-тайр» Фарида ['Аттара]» [DL: 95].
Произведения классиков персидской литературы входили в
обязательный круг чтения образованных людей его времени. Поэзия Са'ди, Хафиза,
Руми, Низами, Джами, Хакани была крайне популярна в могольской
Индии, составляла важнейшую часть духовной культуры многих поколений,
на ней воспитывались сами могольские императоры (см., например:
['Abdu'l GhanT 1930, III: 8—10]). Что касается имен суфийских учителей,
то, вероятно, они были известны Давлату прежде всего из многочисленных
агиографических сочинений. Некоторые имена являются ключевыми в
духовных генеалогиях крупнейших суфийских братств. Какова бы ни была
глубина знаний Давлата, приводимые им перечни имен показывают его
общую образованность, литературные интересы и предпочтения и
одновременно косвенно характеризуют духовную и интеллектуальную жизнь
рошанитской общины.
О ближайшем окружении Давлата мы имеем сведения из его же
хвалебных стихов и эпегий-марсиййа. Конечно, поэт общался прежде всего со
своими единомышленниками-рошанитами, в числе которых были Рашид-
хан — политический лидер общины, Мирза-хан Ансари — ее главный
духовный авторитет, а также другие, более молодые потомки Светлого
Учителя. По некоторым сведениям, вероятно, основанным на «Хал-нама», в
1630/31 г. Давлат участвовал вместе с Мирза-ханом, своим идейным
вдохновителем, в военной кампании в Декане, где он даже был ранен [Hewad-
mal 2000: 104]. Близким другом Давлата был его сверстник, поэт и автор
«Хал-нама» 'Али Мухаммад Мухлис (см. разд. 6).
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 169
Неизвестным друзьям посвящены две посмертные элегии Давлата, в
которых, к сожалению, отсутствуют какие-либо конкретные факты. Тема
этих стихотворений отражена в их редифах— wlar ('ушел') [DL: 117—
118] и marg ('смерть') [DL: 213]. В первой газели автор предается
горестным мыслям об уходе из жизни своего «духовного друга», который был
чист душой и телом, «свободен от обоих миров» и «не любил никого,
кроме Бога». Содержание стихотворения не исключает того, что оно могло
быть написано на смерть Мухлиса. Другую газель, наполненную
отвлеченными философскими размышлениями о смерти, можно отнести к
жанру марсиййа фактически только из-за одного бейта, где упоминается
кончина некоего Иар-хана128.
В некоторых стихах Давлата обнаруживаются также отрывочные
сведения этнографического характера, в частности намеки на поверья и
обычаи, имеющие как религиозное, так и народное происхождение. В ряде
высказываний поэта, например, отражены традиционные мусульманские
представления о правой и левой сторонах как сторонах добра и зла.
Именно с левой стороны Шайтан нашептывает человеку мятежные мысли, и все
грешники прикладывают к сердцу левую руку, а не правую, как делают
правоверные мусульмане [DL: 71]. Неоднократно у поэта встречается
образ распутья двух дорог, из которых взыскующий Истину должен выбрать,
несомненно, правую [DL: 95, 195, 259 и др.]. В другом случае,
противопоставляя духовной самоотверженности трусость, Давлат использует
образ, взятый из народных представлений и ставший в афганском языке
идиомой: когда малодушный человек бежит с поля боя, он сбривает себе
бороду ('брить бороду' имеет в пашто переносное значение 'позориться')
[DL: 35]. Показателен также бейт, где поэт вспоминает такое поверье:
«Просит у Бога долгую жизнь в этом мире тот, кто услышит крик вороны:
кар-кар» [DL: 190].
В четырех бейтах одной касыды Давлат сообщает о правилах хождения
в гости, представляя народный обычай в форме мистической аллегории
[DL: 11—12]. Без приглашения, пишет поэт, в гости не ходят, но когда
приглашение есть, отказываться от него нельзя, даже если нужно
преодолеть большое расстояние. В гостях у хорошего друга (скрытый намек на
Бога) следует с благодарностью принять любое угощение, хотя бы оно
показалось невкусным.
Отдельные строки свидетельствуют о познаниях Давлата в областях,
связанных не только с богословием и мистической философией, что
косвенно указывает на уровень образованности и сферу интересов его
окружения. Самый любопытный, на мой взгляд, пример относится к
астрономии: «Звезда Суха129 — самая маленькая из звезд на небе, но по размерам
больше восемнадцати Земель» [DL: 186].
Примечательны также два стихотворения, где поэт демонстрирует свои
знания в области ботаники [DL: 80—81, 111—112]. В первом, имеющем
128 Возможно, Йар-хан — сокращенная форма какого-то имени или прозвище
(уаг—'друт1).
129 С у х a (suha) — звезда Алькор в созвездии Большой Медведицы.
170 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
редиф mast ('пьяный'), говорится об опьянении любовью к Богу всего, что
существует в материальном мире, в том числе и растений. В шести бейтах
(из 19) поэт приводит список ботанических терминов — названия фруктов,
овощей, злаков, других сельскохозяйственных культур, а также
несельскохозяйственных деревьев и кустарников. Другое стихотворение является
восхвалением Бога, благодаря милости которого существует пестрая
земная флора. Здесь перечень ботанических названий занимает 12 бейтов (из
23). В обоих стихотворениях Давлат упоминает около 80 (!) названий
растений и плодов 13°. Краткий однострочный перечень из десяти подобных
названий встречается в газели, где тоже восхваляется Бог, дарующий всему
жизнь [DL: 185]. Этот перечень сопровождается рассуждениями о том, что
разные плоды поспевают в разное время. «Ботанические» стихи,
возможно, говорят о том, что интерес Давлата к сельскому хозяйству был далеко
не праздным и ему пришлось в жизни заниматься земледелием и
садоводством. Кроме того, его стихотворения являются хорошим
этнографическим источником, показывающим, какие сельскохозяйственные культуры
выращивались в северных областях могольской Индии и предлагались на
местных сельскохозяйственных рынках, какие продукты растениеводства
употреблялись в пищу и вообще какая флора окружала поэта.
З.ВасилРошани
Стихотворения Васила Рошани добавляют немного сведений к тем
единичным фактам, что известны .о нем из других источников. В отличие
от большинства афганских авторов классического периода, этот рошанит-
ский поэт вошел в историю литературы пашто только под своим тахаллу-
сом. Васил (wasil) означает * соединившийся' и совпадает с рошанитским
определением мистика, достигшего шестой ступени духовного пути —
васлат. Вероятно, поэт избрал этот тахаллус после своего духовного
обращения.
О своем происхождении Васил упомянул однажды следующим
образом: «Сей бедняк Васил, по сути, из рода шейхов (Sayxzada), а по виду он
близок (букв.: 'встретился'. — М П.) к бангашам» [WR: 42]. Истолковать
этот бейт можно двояко. С одной стороны, Васил мог противопоставить
здесь свое реальное происхождение из афганского племени бангашей и
глубокое духовное родство с главами рошанитской общины. Если же
понимать слова поэта в прямом смысле, то получается, что он происходил из
рода некоего духовного лица (sayx\ некогда подвизавшегося у бангашей.
Этот предполагаемый предок Васила мог вообще не иметь афганских кор-
130 В обоих списках преобладают названия фруктовых плодов. Из овощей
упоминаются в основном распространенные бахчевые и бобовые культуры, из злаков —
пшеница, ячмень, рис, сорго и несколько разновидностей проса. На третьем месте по
значимости стоят разнообразные оре\и и пряности. Многие названия явно имеют индийское
происхождение и обозначают экзотические растения, которые не встречаются и не
культивируются на территории Паштунистана.
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 171
ней, но быть в родстве или клиентских отношениях с каким-нибудь бан-
гашским кланом. В любом случае ясно, что Васил жил среди бангашей, а
афганский язык был для него родным. 3. Хевадмал усматривает в языке
Васила особенности бангашского диалекта и даже приводит два примера,
хотя оставляет их без каких-либо пояснений [Hewadmal 1986: VII].
Из истории рошанитского движения известно, что еще в 80-х гг. XVI в.
его центр переместился на территорию горного Тираха и прилегающие
земли бангашей. Как утверждают рошанитские источники, многие банга-.
ши находились под влиянием учения Байазида Ансари, были
сподвижниками его потомков и даже состояли с некоторыми из них в кровном
родстве. Согласно «Хал-нама», например, мать Рашид-хана, переселившегося в
Индию, была дочерью одного из бангашских вождей [Hewadmal 1986: VIII].
Таким образом, приверженность Васила рошанитскому учению во многом
явилась следствием внешних обстоятельств.
В диване Васила сохранилось еще одно убедительное доказательство
того, что поэт происходил из бангашей. Это шесть бейтов газели с
поношениями, адресованными хаттакам [WR: 15]. Обращение к такой тематике
было совершенно несвойственным для Васила, но именно эти уникальные
в своем роде бейты выдают в нем паштуна, далеко не чуждого чувству
племенного патриотизма и небезразлично относящегося к делам сугубо
земного свойства. Вероятно, Васил написал эти стихи в связи с очередным
грабительским набегом хаттаков на бангашские земли.
Начиная с последней трети XVI в. и в течение многих последующих
десятилетий между племенами хаттаков и бангашей, владения которых
соседствовали друг с другом, постоянно возникали территориальные споры,
влекшие за собой кровавые столкновения. Эта межплеменная усобица
нашла яркое отражение в стихотворениях Хушхал-хана Хаттака (см.: [Пелевин
2001: 111—116]). Стихи Васила донесли до нас отзвук одного из эпизодов
многолетнего конфликта. Поэт обвиняет хаттаков в том, что они
захватывают бангашские земли и даже «покушаются на Атток»131. Проклиная
своих соседей за хищнические устремления, Васил желает, чтобы их
имущество сгорело дотла, а их лепешки никогда не были толстыми и широкими.
Его слова: «Руки бангашей и моголов не могут достать до них (хаттаков. —
М. П.)» — косвенно подтверждают тот факт, что в конфликте с хаттаками
бангаши иногда пользовались поддержкой имперских властей. Хушхал-
хан, кстати, в своих стихах часто выражал недовольство этим
обстоятельством.
Один раз Васил бросает упрек раджпутам, давним противникам пашту-
нов, что тоже косвенно подтверждает его этническую принадлежность (см.
след. раздел).
Встречающиеся в стихах Васила географические реалии показывают,
что автор продолжительное время жил в горах. Территории бангашей
располагались в восточных горных районах округа Кохат и с юга примыкали
131 А тток — город на берегу Инда в месте впадения р. Ландай (Кабул). Он
находился на северо-восточной границе хаттакских владений, но, ввиду его важного
стратегического положения, управлялся могольской администрацией.
172 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
к Тираху, северная граница которого тянется вдоль хребта Спингар. Эта
впечатляющая своими размерами горная гряда упоминается у Васила
дважды. В одном случае поэт пишет о взошедшем над Спингаром солнце
веры, с которым к нему пришло утро духовного просветления [WR: 22], в
другом называет безграничный Спингар не чем иным, как жилищем
самого Бога, и утверждает, что «созерцание дома Господнего есть долг
каждого» [WR: 61]. Безусловно, такие строки мог написать только человек,
постоянно видевший Спингар своими глазами и находившийся под
впечатлением его красоты и мощи.
Однажды в своих отвлеченных суфийских рассуждениях поэт
использовал образ горного эха, что тоже говорит об окружавшем его ландшафте:
Пока извне не будет дан знак смысла,
Разум умного останется бессильным.
Его бесплодные ночные молитвы — головная боль,
Подобны они [собственному] голосу, что возвращается из гор.
[WR: 56]
Особенно много в стихах Васила свидетельств о том, что для
климатических условий, в которых он жил, была характерна ощутимая смена
сезонов, холодных зим и жарких летних месяцев. У поэта встречаются
названия всех времен года, а также определенных его периодов: sparlay, bahar
(весна), oray (лето), тэпау, xazan (осень), zomay (зима), ahar (сезон жары,
июнь—июль)132, pasakal (сезон дождей, август—ноябрь), cila (сезон
зимних холодов) [WR: 8, 25, 30, 31, 37—40, 41, 61, 65, 77, 92, 93, 96, 97, 105].
Васил неоднократно предается размышлениям о бесконечном чередовании
времен года, тепла и холода, воды и снега, усматривая в этом божий
промысел и изменение внешних форм (suratuna) одной сути [WR: 93, 97].
Конечно, у поэта преобладают строки, посвященные весне и весеннему
расцвету природы, но в них много традиционного, того, что соответствует
требованиям классического жанра бахариййа. Весьма зримо в его стихах
присутствует также зима, к которой поэт относится с явной нелюбовью, но
которая при этом оказывает сильное воздействие на его мироощущение.
Снег (wawra), лед (уах\ холод (saro), долгая зимняя ночь (do zimistan spa) —
неотъемлемые составляющие его пейзажей и мистических аллегорий. В
целом стихи Васила достаточно точно характеризуют переменчивый горный
климат его родных мест.
В отношении флоры и фауны Васил, как правило, тоже оставался верен
поэтической традиции, предпочитая изображать шаблонные
аллегорические картины цветников и весенних лужаек. Однако иногда у него все же
проскальзывают те или иные реалии природной среды. Например, он
упоминает распространенную в горах Гиндукуша гималайскую сосну (пэ&аг),
причем как топливный материал, а не растение [WR: 30], или, упрекая тех,
кто не слушает его духовные проповеди, сравнивает их с дрофами (сагау),
беззаботно бегущими по степи [WR: 67].
Подробно об этом термине см.: [Кушев 1998: 190—193].
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 173
В 1619 г. потомки Байазида Ансари, к которым перешло духовное
руководство рошанитской общиной, и их семьи переселились в Индию. За
ними последовали их ближайшие сподвижники и верные приверженцы
учения Светлого Учителя. Есть основания полагать, что среди этих
переселенцев был и Васил Рошани. Ни время, ни обстоятельства его
пребывания в Индии нам не известны, но, безусловно, именно в Индии, а не в
Паштунистане, с ним встречался и записывал его рассказы об истории ро-
шанитов и их верованиях автор «Дабистан-и мазахиб».
Некоторые стихи Васила могут служить косвенным подтверждением
того, что поэт бывал в Индии или даже жил в ней какое-то
продолжительное время. Неоднократно у него упоминается Ганг, который протекал вблизи
индийских владений рошанитов [WR: 47, 55, 72]. Дважды Васил намекает
на недостаточную чистоту Ганга, сравнивая его со священным мекканским
источником Замзамом; в одном случае, правда, он как поэт-мистик
утверждает, что Замзам не чище Ганга, ибо в таухиде все имеет единую суть.
Встречаются у Васила и другие топонимы Индии: Декан, Агра, Лахор
[WR: 41, 55, 61], хотя из контекстов, в которых они фигурируют, прямо не
следует, что за этими названиями автор подразумевает конкретные
географические объекты. Впрочем, Агра, один из столичных городов могольской
империи, находилась недалеко от тех мест, где обосновались рошаниты,
поэтому скрытая похвала красоте города вполне могла быть следствием
реального знакомства с ним: «Созерцая Его (Бога. — М. #.), отвратись от
любования Агрой».
«Дабистаи» был закончен между 1654 и 1657 гг. [Horovitz 1999].
Очевидно, его автор Мубад общался с Василом приблизительно в это же время
или же немного раньше, но во всяком случае после 1648 г., который
является последней датой в главе «Дабистаиа» о рошанитах. 'А. Рашад
полагает, что Мубад встречался с Василом до 1063 г. х. [1652/53] [Rasad 19752:
14]. На основании этих дат 3. Хевадмал считает предположительным
временем рождения Васила последние десятилетия X века хиджры, т. е. 70—
80-е гг. XVI в. [Hewadmal 1986: VIII].
Из известных исторических лиц, своих современников, Васил в одной
гззепи-марсиййа упоминает Мирза-хана. Здесь же назван и некий Искан-
дар, видимо, кто-то из друзей поэта:
Всех юношей, носящих кафтаны,
Он (Всевышний. — М. П.) оденет в рубище:
Не только одного Мирзу Он делает нынче нищим.
Пророки, святые — все идут по этому пути.
Как они могут изменить повеление Господа?
Нет у Васила покоя из-за Мирза-хана,
А еще сильнее его печалят раздумья об Искандаре.
[WR: XIV] 133
133 Эти бейты приведены по предисловию 3. Хевадмала, поскольку в имеющемся у
меня экземпляре издания дивана из-за типографской оплошности отсутствуют те
страницы, на которых должна находиться сама газель.
174 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Другую газепъ-марсиййа Васил посвятил памяти Камал-хана, еще
одного близкого ему человека [WR: 39]. Не сообщая никаких фактов, поэт
выражает свои горестные чувства в образах опрокинутого кувшина
веселья и разрушенного здания дружеской привязанности. О смерти Камала он
говорит как о «большом путешествии», которое было возвещено громом
небесных литавр. Эти стихи Васила заметно отличаются от его заумных
теософских сентенций ясностью языка и искренностью чувств.
Собственно биографические мотивы в лирике Васила отсутствуют.
Конечно, вся его поэзия может рассматриваться как отзвук личных духовных
переживаний, но, как правило, только в заключительных бейтах
стихотворений благодаря наличию тахаллуса религиозно-мистические откровения
поэта обретают личностное наполнение. Впрочем, и в этом случае отделить
художественный элемент от реальных фактов редко бывает возможно.
Встречающийся мотив «ночи юности» (do jwanoy spa), на смену
которой приходит светлое утро духовного прозрения, можно трактовать как
указание на сравнительно поздний приход к рошанитскому учению [WR:
91], а слова о слабости тела и одолении самого себя, вероятно,
свидетельствуют о терниях мистического пути [WR: 65, 70]. Заявления поэта о том,
что он получил от Бога урок сокровенного знания и отказался от чтения
иных книг [WR: 6], повысился в чине (mansab) благодаря ма'рифату [WR:
65], познал вахдат [WR: 20], увидел повсюду Друга [WR: 22], возможно,
соответствуют действительным этапам его духовного развития. В поздних
стихах поэта появляется вполне реалистичный мотив ухода из жизни
друзей и сверстников, его единомышленников {do didan yaran I hamzoli), из
которых «кто-то еще в памяти, а кто-то уже забыт» [WR: 8,17].
Многие строки из тех, где заметно присутствие личности автора,
содержат самую общую характеристику смысла жизни. Обыгрывая значение
своего имени, например, Васил признается, что вся его жизнь прошла в
стремлении к соединению с Другом (wasl) [WR: 34], а в другой газели,
используя старый образ классической любовной лирики, он называет себя
«соринкой во дворе Друга», которую не сможет снести даже самый
сильный ветер [WR: 34].
Довольно частое обращение Васила к мотивам, связанным с
сельскохозяйственной темой, позволяет думать о том, что поэт вырос и жил в среде,
где земледелие являлось одним из основных занятий.
Сельскохозяйственные мотивы у Васила не обременены техническими подробностями и
нередко привлекаются для образного толкования каких-либо мистических
идей, но при этом они явно несут на себе отпечаток личного опыта, в них
чувствуется дух земледельца.
В первую очередь стихи Васила говорят о его уважительном
отношении к нелегкому крестьянскому труду. Достаточно сказать, что сама
фигура земледельца во многих случаях символизирует у поэта Бога-Творца.
«Семена рассеиваются везде, но без крестьянина они не становятся зерном
для обмолота», — замечает Васил [WR: 88]. Поэт считает истинным (risti-
пау) только тот труд, результатом которого является обмолотый хлеб, а не
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 175
несколько колосков, собранных по краям поля (xHsacinT) [WR: 65]. Заявляя
в одном стихотворении, что «вода из колодца достается потом и кровью»,
Васил привлекает образ равнодушного прохожего, не ведающего о
стараниях земледельца и потому не способного оценить по достоинству его
огород [WR: 21]. Однажды поэт рисует целую картину земледельческих
работ: с наступлением весны хорошо знающий свое дело крестьянин,
который держит в одной руке плуг, а в другой — серп, сажает семена и
пропалывает заросшую сорняком землю [WR: 65]. Есть у него и такой пейзаж:
крестьянин с обессиленными руками взирает на запущенный плодовый
сад, превратившийся в лес [WR: 37].
Во многих стихах Васила встречаются короткие сентенции на
земледельческую тему, наподобие следующих: трудно распознать сорняк среди
риса [WR: 25]; зимой у крестьянина меньше забот о садовых деревьях, чем
в то время, когда они плодоносят [WR: 75]; и сев и жатва должны быть
своевременными; без воды земля бессильна [WR: 89] и пр. Стихи с такими
высказываниями могут показаться банальными, но у Васила иногда
встречаются и весьма поэтичные строки с использованием
сельскохозяйственных мотивов: «В краю надежды есть единственный зеленый росток; как
будто из амбара [случайно] выпало одно семя» [WR: 29].
К сюжетам, связанным с животноводством, Васил обращается намного
реже. Дважды он повторяет народное поверье о том, что бараны слепнут
от ожирения [WR: 22, 78]; в других стихах говорит о наказании животного,
выбившегося из стада [WR: 60], о мочегонном действии на лошадей
зеленых ростков ячменя [WR: 27], о сезонном характере случек животных
[WR: 93]. В приведенных примерах, безусловно, нашли отражение
бытовые реалии жизни поэта.
Для занятия сельскохозяйственным трудом, естественно, требовались
некоторые астрономические знания. Символические образы небесных
светил Васил по традиции чаще использовал для придания вселенских
масштабов мистико-философским категориям (например: «Все взирают только
на Солнце (т. е. божественный свет. — М. П.); а между Луной и кометой
какая разница?» [WR: 18]). Однако в некоторых строках астрономические
мотивы связаны с реальной действительностью. В одной газели, например,
поэт привлекает их для описания смены сезонов: «Травы испытали холод
Сухайла134, но с помощью Солнца избавляются от ледяных оков» [WR: 26],
а в другом случае, видимо, намекает на время написания стихотворения:
«Когда любовь Друга стала свободной от гнева, в созвездии Скорпиона
взошла звезда моего счастья» [WR: 17]. Любопытно также ученое
замечание Васила о том, что в Плеядах насчитывается не более одиннадцати
звезд [WR: 52]. Невооруженным глазом, как известно, в Плеядах, звездном
скоплении, расположенном в созвездии Тельца, различимы только семь
светил, хотя на самом деле по данным современной науки их число
измеряется сотнями.
134 С у х а й л (suhayl) — Канопус, крупная звезда южного неба; становилась
видимой в конце сентября.
176 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
4. Социальные взгляды
Схематичное описание жизни обычного человека, не соблюдающего
строгие правила религиозной морали и не следующего по пути Истины,
приведено Мирза-ханом в его самой большой по размеру касыде [МА:
19—21] и в сжатом виде еще раз повторено в другой поэме [МА: 26—27].
Это описание дает самую общую характеристику социальных
представлений автора и его окружения. Рассматривая человека как средство
самопознания Бога, Мирза-хан кратко перечисляет последовательные стадии его
психофизического формирования, отмечает причины отклонения от
праведного пути, очерчивает круг занятий в зрелом возрасте, а затем в духе
суфийской назидательной литературы более подробно останавливается на
печальных последствиях жизни, проведенной в духовном неведении.
Развитие зародыша в утробе матери, пишет Мирза, происходит
исключительно благодаря участию Бога, вследствие чего от «одной капли»
постепенно образуется физическое тело, «что-то становится плотью, что-то
костями». Рождаясь через девять месяцев после зачатия, ребенок сперва
питается молоком матери, затем переходит на другую пищу. Уже с самого
детства его приучают жить согласно традициям (rasm) и обычаям ('adai).
В подростковом возрасте начинают проявляться его личные качества.
«Если он понимает айаты, то избирает Господа». Однако духовный
божественный мир, как правило, не привлекает молодого человека, и он «обрекает
себя на [мирские] тяготы»: женится, обременяется заботами о семье,
устремляется к мирским благам. «Кто-то становится кочевником (powanda),
кто-то зарабатывает торговлей, или служит царям, или занимается
земледелием». Постепенно человек приучается к недозволенному (haram\ «кто-
то начинает воровать». Повинуясь приказам Шайтана, человек забывает о
Судном Дне, в грехе и неведении проводит свою драгоценную жизнь. «Но
неожиданно приходит рок, и он покидает этот мир». Никто и ничто не
может ему помочь: ни семья, ни сородичи, ни накопленное богатство. Его
тело омывают, заворачивают в саван, кладут в могилу, засыпают землей.
Воздвигнув ему надгробие, «все уходят и оставляют его одного». Не
остается у него больше ни друзей, ни любимых, но появляются «четыре
врага»: ангелы смерти, которые «страшат его душу»135, наследники, которые
делят его имущество, могильные черви, поедающие его мертвую плоть, и
порочащие его недоброжелатели. Когда ангелы смерти убедятся в том, что
душа человека не ведает о таухиде, «мучения становятся его участью» и
«сколько бы он ни раскаивался, пользы не будет». Для того чтобы
избежать подобного исхода, советует далее Мирза-хан, жизнь человека должна
проходить в служении Богу, причем в соответствии с рошанитским учением.
Будучи ревностными приверженцами и проповедниками того образа
жизни, который соответствовал духу их вероучения, Мирза-хан и
особенно Давлат в своих стихах неоднократно высказывали отрицательное
отношение к семье, называли жен и детей в числе главных компонентов мир-
135 Имеются в виду ангелы Мункар и Накир, которые, по мусульманским
представлениям, после смерти человека допрашивают его душу о земных деяниях.
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 177
ского, препятствующих постижению Истины [МА: 8, 251; DL: 4,13, 68, 95,
206 и др.]. Мирза видел в семье капкан, поставленный низшей душой [МА:
8], а Давлат считал любовь к семье животным чувством [DL: 210]. В числе
многочисленных требований, предъявляемых к неофиту в связи с
вступлением на духовный путь, Мирза-хан высказывал такое: «Ты не сможешь
вынести груз мирских обязательств; по дороге добродетели, ученик, иди
одиноким» [МА: 146]. Ему вторил Давлат, который в обращении к самому
себе еще четче формулирует этот принцип: «Не общайся ни с кем, Давлат,
кроме как с Совершенным Учителем; по пути таухида иди холостым, без
семьи!» [DL: 105].
Безусловно, подобного рода высказывания в значительной мере
являются продолжением старых традиций аскетического мистицизма136 (см.
также: [Schimmel 1975: 36—37]). Во-первых, они выражали некий
этический идеал, а во-вторых, скорее подразумевали духовную свободу от
семьи, нежели содержали призыв к целибату. Рошанитское учение всецело
основывалось на религиозно-этических и социальных принципах ислама и
не предписывало безбрачия. Достаточно указать на большую численность
семьи самого Байазида Ансари, у которого было пять (или шесть) сыновей
и одна дочь (см. разд. 6). Кроме того, в стихах Васила Рошани мне не
удалось найти каких-либо похожих критических замечаний по поводу семьи и
брака.
Несмотря на свои стихотворные заявления, и Мирза-хан и Давлат
имели семьи. В газели, написанной в старости, Мирза-хан упоминает о «цепях
семьи», которые висели у него на шее, но были сброшены любовью к Богу
[МА: 251]. В другом стихотворении он поясняет свое отношение к семье
ссылкой на халифа 'Умара, который, по его словам, предпочитал Истину
любви к детям [МА: 39]137. Конфликты в семье, когда «сын враждует с
отцом, а матери с дочерьми как жены [одного мужа]», Мирза-хан считал
результатом козней Шайтана [МА: 188].
Критическое отношение поэтов к семье могло быть вызвано вполне
реальными, житейскими причинами. Вовсе не исключено, что у них, как и у
других авторов подобных суждений, просто не складывались отношения с
собственными семьями. Показателен в этом смысле пример с Давлатом,
который был особенно резко настроен против семьи. Судя по одному
бейту, у него был сын, который «метался из стороны в сторону, следуя
призывам плотских страстей» [DL: 131]. Совет Давлата о том, что бессмысленно
тратить силы на воспитание глупого сына, а также его упреки в адрес де-
136 Хасану Басри (ум. 728), например, якобы принадлежали такие слова: «...семья —
и домочадцы и дети — друзья этого мира и соперники религии» [Чалисова 1989: 169], а
другой ранний суфий — Ибрахим ибн Адхам (ум. 776 или 790) якобы говорил, что
«дервиш, который женился, сел в ладью, а когда появился сын — [ладья] утонула» [Бертельс
1965: 182—183].
137 Согласно историческим свидетельствам, халиф 'Умар отличался строгими
нравами и сознательно, в силу идейных соображений, не оказывал предпочтения своим
детям и родственникам. Его строгость к сыновьям даже стала темой фольклора. Одно из
таких преданий рассказывает о том, как 'Умар сильно побил своего сына, когда тот
однажды взял из казенных денег один дирхем [Большаков 1993: 258].
178 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
тей, пренебрегающих наставлениями родителей, следует считать
следствием его личного опыта [DL: 12, 107, 152]. Ссылаясь на слова пророка, Дав-
лат заявляет, что сын, который не стремится к Богу, хуже дочери [DL:
109]. Очевидно, сын поэта не отличался особой набожностью и не стал
таким же убежденным последователем рошанитского учения, как его отец138.
В упомянутых выше бейтах дважды проскальзывают пренебрежительные
отзывы Давлата о дочерях, что говорит о его патриархальных настроениях.
По поводу отношения к родителям Давлат явно испытывал
противоречивые чувства. В нем боролись, с одной стороны, утверждаемые им же
самим жизненные принципы члена религиозной общины, а с другой —
социальные в широком смысле и собственно паштунские традиции и этические
нормы. Поэтому наряду с заявлениями о том, что повиновение родителям
приносит благоденствие и долгую жизнь [DL: 26], а непокорность им
лишает преуспеяния [DL: 107], у поэта встречаются и противоположные по
духу высказывания: «Почему Ты (Возлюбленный Друг, Бог. — М. П.) стал
ко мне жестоким, пренебрегаешь мной; о Ты, который моему сердцу
дороже отца и матери» [DL: 115] или «День и ночь он (мистик. — МП.)
будет взирать на Его (Бога. — М. П.) красоту и не будет любить ни отца, ни
мать» [DL: 166]. Из этих слов Давлата можно, пожалуй, сделать вывод, что
его родители не принадлежали к рошанитской общине.
Конечно, у Мирза-хана, внука Светлого Учителя, было иное отношение
к своим родителям. В стихах поэта есть одно свидетельство о его глубоком
почтении к отцу Hyp ад-дину, который, напомню, погиб, когда Мирза был
еще ребенком. Обращаясь к себе, поэт заявляет, что ангелы станут
служить тому, кто достигнет макама своего отца, т. е. поднимется до его
духовного уровня [МА: 152].
Интересен также еще один бейт Мирза-хана на семейную тему, в
котором содержится намек на распространенный среди паштунов обычай
левирата: «Никоим образом не повиснут на одном ожерелье вера и мирское,
ибо они — сестры, а не жены братьев» [МА: 246]. Здесь поэт
противопоставляет сестер и жен братьев по отношению к полигамному браку. По
законам мусульманского брачно-семейного права, родные сестры не могут
одновременно состоять в браке с одним мужчиной [Schacht 1964: 162—163],
тогда как афганские народные обычаи разрешают брату умершего (иногда
даже обязывают) жениться на его вдове139.
138 Сравнивая отношение к семье у представителей разных течений индийского
суфизма, А. Шиммель замечает: «В то время как ранние представители чиштиййи были
достаточно безразличны к семейной жизни, так что отсутствие семейного тепла
побудило большинство сыновей ранних руководителей братства отклониться от
мистического пути, Баха* ад-дин Закарийа заботился о своей семье хорошо» [Schimmel 1980: 32].
139 Некоторые мусульманские правоведы запрещают такой брак [Abu Zahra 1955:
135]. Однако, по сведениям «Хал-нама», сам Байазид Ансари родился именно в таком
браке: его мать Биби Аймана была вдовой брата его отца 'Абдаллаха. Впрочем, другие
источники, в частности «Дабистан», не подтверждают этот факт [Andreyev 1997].
Следует заметить, что метафора в приведенном бейте имеет еще один подтекст, связанный
с мистической идеологией. Мирза-хан не случайно называет веру и мирское родными
сестрами, поскольку рошаниты хотя и противопоставляли эти понятия, относили их к
одному уровню обыденного сознания и видели в них две стороны одной медали.
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 179
Социальные отношения в паштунском обществе традиционно
основывались на законах племенного права и принципах неписаного кодекса
чести. Эти законы и принципы, которые определяются понятием паштунвали,
часто вступали в противоречие и с исламскими этико-правовыми нормами,
и — в еще большей степени — с догматами мистических учений,40. Среди
переселявшихся в Индию паштунских семей законы обычного права
сохраняли свое значение, о чем говорят многочисленные стихотворные
выпады всех рошанитских поэтов против обычаев ('adat) и традиций (rasm).
По общему мнению рошанитских поэтов, социальные нормы,
бытовавшие в их среде в виде обычаев и традиций, являлись одними из главных
препятствий на пути духовного совершенствования и познания Бога. При
этом каждый поэт признавался в том, что лично сам он тоже какое-то
время соблюдал эти нормы, но отказался от них ради достижения высших
духовных целей.
Мирза-хан, который писал о том, что следование обычаям и традициям
мешало ему прийти к пониманию Истины [МА: 84], однажды так кратко
сформулировал задачу ученика, избравшего путь мистика: «Воля талиба в
том, чтобы уничтожить раем и 'адат» [МА: 21]. Назидания поэта по
поводу обычаев, порожденных, по его мнению, невежеством, были явно
обращены к его соплеменникам. Несомненно, паштуну, ведущему
традиционный племенной образ жизни, Мирза задает такой вопрос: «Это опьянение
от винограда или грабежа, что ты не можешь выйти из загона своего
'адата?» [МА: 139].
Обычай в стихах Мирза-хана постоянно противопоставляется
поклонению ('ibadat) [MA: 115, 124, 139, 158 и др.]. Поэт считает, что 'адат
существует для простых людей, в то время как 'ибадат — для избранных [МА:
147]. Переход от 'адата к 'ибадату он называет восхождением от одного
макама к другому, т. е. продвижением на более высокую ступень
духовного развития [МА: 230]. Немало у поэта и критических высказываний по
поводу традиций, которые воспринимаются им в качестве завесы,
отделяющей человека от Бога [МА: 119, 140, 157, 203,205, 209, 216, 247 и др.].
Наиболее сочным, на мой взгляд, является сравнение человека, живущего
традициями, с луковицей: «Похожий на лук, свернутый из отдельных
чешуек, ты, [обросший] никчемными традициями и дурно пахнущий, еще
хуже» [МА: 124].
Давлат тоже утверждал, что преклонение перед обычаями и
традициями делает бесполезным поклонение Богу [DL: 207] и что обычаи
соблюдают люди, отказавшиеся от постижения Истины [DL: 114]. В некоторых
стихах он обращается к самому себе как к пленнику обычаев и традиций
[DL: 217, 261], в других призывает себя скорее их отвергнуть [DL: 36].
Однажды Давлат заявляет о том, что после многих лет жизни «в сетях
обычаев» он смог наконец освободиться от них [DL: 65]. Вероятно,
подобные стихи относились к разным периодам его жизни и творчества.
140 О различных сторонах, принципах и формах бытования паштунвали в афганском
обществе см.: [Xadim 1952; Atayee 1979; Spain 1962; Janata, Hassas 1975; Steul 1981; Же-
хак 1989; Numyalay 1990; Жехак, Грюнберг 1992 и др.].
180 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Васил Рошани, как правило, ставил традиции в один ряд с лицемерием,
показным благочестием (riya'\ считавшимся в суфизме большим грехом, и
полагал, что «опьяненный наукой лицемерия и традиций» не способен
познать Бога [WR: 20, 74]. Признаваясь в собственной зависимости от
обычаев, Васил видел спасение от них только в уединенных молитвах [WR: 14,
56]. Надо заметить, что понятие 'адат имело у Васила в большей степени
этическое, нежели социально-правовое значение и часто означало просто
привычку. Естественно, устоявшиеся в обиходе нормы поведения,
привычный образ мыслей и весь повседневный уклад жизни считались
мистиком помехой для истинного духовного развития, но они были настолько
сильны и свойственны самой природе человека, что Васил называет их
родиной, которую трудно покинуть [WR: 21, 40]. О том, насколько сложным
представляется поэту отказ от обычаев и привычек, говорит также
сравнение их с трудно очищаемой ржавчиной [WR: 48] или оковами на ногах
[WR: 63].
Довольно часто в стихах рошанитов, особенно у Давлата, встречается
понятие nang-u nam ('честь и имя'), которым поэты определяют
содержание паштунского кодекса чести. Как составная часть обычного права
кодекс чести является главным камнем преткновения для адепта мистического
учения. В само название nang-u nam включен основополагающий принцип
кодекса чести— нанг, вбирающий в себя понятия личного достоинства,
самоуважения, уверенности в своих силах, независимости. Именно эти
этические категории находятся в неразрешимом противоречии с сущностью и
духом мистицизма и поэтому особенно неприемлемы для
поэтов-мистиков 141.
У Давлата противопоставляются нанг-у нам как качества духовно
непросвещенных гордецов и искреннее самоотречение взыскующих Бога
[DL: 4, 122]. «Пока не скинешь с тела одежду нанг-у нам, — образно
говорит Давлат,— из пучины [мирского] не выплывешь» [DL: 189]. Давлат
признается, что в миру он тоже следовал принципам нанг-у нам, но одно
свидание с Другом лишило его «и чести (nang) и имени (nam)» [DL: 149].
«Я избрал бесчестие (benangi), безумцем стал, а нанг-у нам оставил
простонародью», — заявляет он в другой газели [DL: 65]. И еще одно
высказывание на эту же тему: «В стремлении к Другу я отказался от чести и
имени; я не пленник нанг-у нам, что есть обычай невежественных» [DL:
65]. Краткий постулат, четко определяющий отношение поэта к
кодексу чести, высказан им в начале одной из касыд: «Всякому муриду, кото-
141 Понятие nang-u nam в сходном значении личной чести и репутации уже
несколько веков бытовало в персоязычной литературе Индии, причем обычно использовалось в
том же контексте, выражая собой нечто противоположное идейным принципам
мистицизма. Например, в одном четверостишии Амира Хосрова Дихлави (1253—1325) мы
встречаем такие слова, произнесенные устами восторженного мистика: «Мы — те, кто
повернулись от киблы к идолу и предали забвению нам-у нанг» [Safa 1994: 797].
Замечу, что сам Амир Хосров происходил из семьи тюркского воина и, несмотря на тесную
связь с суфийским братством чиштиййа, всю сознательную жизнь служил
панегиристом у делийских султанов, постоянно вращаясь в кругах тюркской военной
аристократии, которая, естественно, имела свой кодекс чести.
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 181
рый не преодолел нанг-у нам, притязания на постижение Бога запретны»
[DL: 22].
Мирза-хан дважды упомянул о законах чести в азбуке, назвав их
«оградой» (hisar), возведенной низшей душой [МА: 2, 8]. Подобные же чувства
испытывал к иаигу и Васил, который считал мирскую честь (do dunya nang)
тесным ристалищем для познавших Бога [WR: 36] и говорил, что он
переступил через нее только благодаря любви [WR: 13]. Один раз Васил
сравнил нанг с родиной, сделав при этом такой вывод: «Родина из нанга ни для
кого не останется [навечно]» [WR: 47].
Нужно заметить, что несмотря на резко отрицательное отношение
рошанитских поэтов к понятию чести, глубоко в подсознании оно сохраняло
для них свое высокое значение. Так, Мирза-хан в одном бейте заявляет,
что рабу (т. е. мистику), погибшему за своего господина (т. е. Бога),
уготован «вечный нанг», а Васил, обращаясь к себе от имени Бога, вкладывает в
уста Всевышнего такие слова: «Я забочусь о твоем нанге...» [WR: 7].
В поэтическую лексику рошанитов входили и некоторые другие
понятия паштунвали. Неоднократно, например, в их стихах упоминается
гайрат (gayrat) — готовность к защите собственного достоинства. Мирза-хан
полагает, что, разжигая «огонь гайрата», мистик уничтожает все свои
благие дела [МА: 22], поэтому ему необходимо постоянно очищать грудь от
«ржавчины гайрата» [МА: 155]. Васил признает, что гайрат мешает
общению с Богом [WR: 73], и утверждает, что он сам был избавлен от этого
чувства улыбкой Друга [WR: 7]. Давлат, связывая гайрат с обычаем
кровной мести, называет его качеством лицемера (munqfiq) и замечает, что
истинному верующему мстительность (kind) не присуща [DL: 12].
Иногда понятия паштунвали сохраняли у рошанитских поэтов
положительный смысл. Так, Давлат применительно к стойкому приверженцу
мистического пути использует термины тегэ и jwanmard ('доблестный муж'),
которыми в паштунвали именуется смелый и благородный ревнитель
идеалов кодекса чести142 [DL: 12, 13, 114]. У Мирза-хана jwani ('отвага',
'благородство')— это именно то, чему учит духовный наставник [МА:
139]. Нередко Давлат восхваляет такие качества, как мужество (suja'at) и
щедрость (saxawat), лежащие в основе законов чести у воинских и
аристократических сословий многих народов. Взятые из контекста религиозно-
философских наставлений его слова о том, что «у мужа (тего) нет
достоинства без доблести и щедрости» [DL: 13], или риторический вопрос:
«Разве достигнет ранга мужей (jnardan) тот, кто постоянно предается сну и
чревоугодию?» [DL: 35] — звучат в духе национальной поэзии Хушхал-
хана. Мотив воинской доблести дважды повторяется у Давлата в образе
отважного бойца, готового в одиночку сразиться с сотней врагов [DL: 104,
110]. Впрочем, в одном бейте поэт уточняет, что настоящие мужи те, кто
«разбивают все [вражеское] войско143 стрелами молитв» [DL: 197].
142 Следует заметить, что в персоязычной суфийской литературе термин jawanmard
тоже часто применялся по отношению к безупречным ревнителям мистических идей, но
и здесь его происхождение связано с более общим понятием воинской и религиозной
доблести (см.: [Schimmel 1975: 246]).
143 Под вражеским войском Давлат подразумевает здесь воинство Сатаны.
182 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Мирза-хан и Васил пользуются термином badraqa ('охрана', 'почетное
сопровождение'), создавая с его помощью образы сугубо религиозно-
мистического свойства. Мирза пишет, что когда алчба стала одолевать
войско упования на Бога (tawakkul), на помощь подоспела сильная охрана
веры [МА: 117]. У Васила этот термин употреблен применительно к роли
духовного наставника: «Сопровождение Совершенного оказало мне
скрытую помощь; я слабый, усталый, вечно в пути» [WR: 13]. Похожее
употребление этого термина неоднократно встречается и у поэтов-богословов.
Крайне интересный пример отражения в рошанитской поэзии
принципов паштунвали содержится в одной любовной газели Мирза-хана, резко
выделяющейся среди прочих его стихотворений [МА: 144—145]. Автор
описывает в этой газели черты характера некоей красавицы, образ которой
настолько приземлен, что для читателя остается загадкой, идет ли здесь
речь о земной женщине или это очередная, но только более экстатическая
и вульгарная интерпретация мистической любви к Богу. Мирза называет
таинственную красавицу четырьмя десятками самых разных эпитетов, в
целом изображая ее как строптивую, дерзкую, своевольную и бесстыдную
распутницу. Не брезгует поэт и фривольными высказываниями:
«Соединениям (duxul aw xuruj) у нее нет числа; она как [караван-сарай] без дверей
на большой дороге» 144. Среди прочих определений Мирза награждает ее
эпитетами benanga и benamusa ('без чести и достоинства'), относящимися
к понятиям паштунского кодекса чести — нанг и иамус.
Принцип иамус (namus) устанавливает правила должного поведения
женщин и обращения с ними мужчин и, таким образом, регулирует
социально-правовой статус женщины в паштунском обществе. Сравнивая
поведение своей бравой красавицы с жизнью обычных паштунок, Мирза-хан
кратко обрисовывает внешние проявления принципа намус. Паштунские
женщины, пишет он, лишены веселья и праздности, делают только то, что
дозволено, обучаются лишь самым простым и обыденным знаниям, и
поэтому мужчинам, предпочитающим раскрепощенных грешниц, «паштунки
кажутся глупыми». Особое внимание поэт обращает на то, что его
соплеменницы не имеют права заниматься торговлей. Однако, добавляет он,
женщина, которая приучилась самостоятельно ходить по базару, уже начинает
выражать недовольство, когда ее сажают на место. Отмечает Мирза и
такую бытовую деталь, как постоянный надзор за благопристойным
поведением женщины со стороны ее близких родственниц, готовых на клевету в
случае малейшего подозрения.
У Давлата обращает на себя внимание другой мотив, косвенно
связанный с паштунвали. Один его бейт гласит: «Сторонится своего народа
[человек] низкого происхождения; благороден тот, кто стремится к своим
корням» [DL: 174]. В этой строке он, вероятно, затрагивает тему этнического
144 В этой связи вспоминается рассказ Ахунда Дарвезы о его дискуссии с некоей
рошанитской проповедницей по имени Каши. Благочестивый богослов Дарвеза,
естественно, называл эту женщину блудницей и утверждал, что рошаниты выдали ее за свою
духовную поверенную (xalffa) и отправили «по городам лишь с той целью, чтобы все
распутники и развратники в силу своей похоти подчинились ей» [Tazkirat: 130а—131а].
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 183
самосознания и генеалогического родства паштунов. Несмотря на то что
рошанитское движение имело, по сути, наднациональный и надплеменной
характер, многие его участники-афганцы сохраняли свои родовые узы и в
полной мере ощущали свою этническую и племенную принадлежность.
Рошанитские поэты Арзани Хвешкай, 'Али Мухаммад Мухлис Шинварай,
сам Давлат Лоханай известны в истории афганской литературы под
своими родовыми именами, при том что все они были выходцами из паштун-
ской диаспоры в Индии. Таким образом, в отношении этнического
самосознания религиозно-философские догматы мистицизма, как правило,
уступали племенным традициям, поскольку последние больше отвечали и
исторической реальности, и, видимо, мироощущению самих паштунских
поэтов-мистиков.
Собственно патриотическая тематика в поэзии рошанитов отсутствует.
Однажды Давлат говорит о паштунах как о простодушных людях,
помещая их в один ряд с арабами и моголами (т. е. тюрками) и
противопоставляя «искусным в мирских делах» индийцам [DL: 142]. Религиозная
подоплека такого разделения народов очевидна. Заманчиво также видеть
скрытый выпад поэта против индийцев-раджпутов в строках: «[Нет проку],
если мужчина стал мужем (mard) благодаря большим усам; ведь у мыши и
козла тоже есть большие усы» [DL: 4]. Раджпуты, как известно,
традиционно отпускали длинные усы, которые иногда им приходилось даже
закладывать за уши (см.: [Успенская 2000: 242—243]). И если Давлат как
житель Индии позволяет себе лишь скрытую насмешку над раджпутами, то
Васил, родившийся и долго живший в Паштунистане, высказывается
прямо: «Сейчас скрытых неверных много, хотя на тебе и нет зуннара145,
раджпут!» [WR: 21]. Считая себя потомками древней касты воинов и являясь,
действительно одной из самых боеспособных частей могольской армии,
раджпуты находились во враждебных отношениях с паштунами,
поскольку, во-первых, составляли им сильную конкуренцию на военной службе
у могольских императоров, и во-вторых, часто привлекались моголами для
ведения военных кампаний против афганских племен, причем
небезуспешно.
5. Отношение к поэтическому творчеству
Авторское самосознание рошанитских поэтов проявлялось в
обращении к теме поэтического творчества и литературного труда в целом.
Конечно, эта тема так или иначе присутствует в любом заключительном
бейте, где есть тахаллус. Наличие подписного имени говорит в первую
очередь об авторстве стихотворения, но сам бейт-макта' нередко показывает
связь между личностью поэта, его реальными творческими усилиями и от-
145 3 у н н а р — пояс из грубой шерсти, который должны были носить как
отличительный знак христиане, жившие на мусульманских территориях и имевшие особый
правовой статус (limmt).
184 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
влеченным религиозно-философским содержанием произведения. Именно
в макта' рошанитские поэты, особенно Мирза-хан, чаще всего
высказывали суждения о смысле и цели творчества, одинаково называя свои стихи
результатом религиозно-мистических переживаний.
Так, Мирза-хан утверждает, что его слова (kalam, wayna, xabdre),
произнесенные «языком хакиката» [МА: 84], раскрывают тайны смысла
(та*па) [МА: 104, 157, 255], являются свидетельством и изложением Ш
[МА: 4, 189, 217, 222, 233], содержат мудрые мысли, которые нельзя
понять без толкования (tafsir) [MA: 12]. Неоднократно поэт заявляет, что его
устами говорит сам Бог [МА: 12, 13, 33, 82, 84, 87 и др.], и в
подтверждение этого многие газели пишет как бы от лица Всевышнего. Однажды,
правда, он выразился более осторожно, сказав, что его речи повторяют
«наставления учителя» [МА: 95].
Для характеристики своих стихов Мирза-хан прибегает и к различным
образным сравнениям. По старой персидской традиции, например, поэт
сравнивает себя с попугаем, поющим в клетке вахдата [МА: 61, 151], а
свои стихи— с перлами [МА: 15]. Говоря об эффекте, производимом его
речами, Мирза пишет, что они мягче воды, но для жестоких людей острее
меча [МА: 220], ароматнее цветов, но для невежд тверже шипов [МА: 221].
Наиболее изощренным представляется сравнение слов поэта с гребнем,
которым причесывает свои растрепанные кудри Возлюбленный Друг [МА:
81]146, а наиболее мрачным — сравнение их с цепями, добровольно
надетыми на себя умными людьми [МА: 16].
Васил Рошани тоже часто повторяет, что его слова являются
одновременно и следствием, и объяснением экстатического состояния («опьянены
вином хал»), понять их может только тот, кто искренен (ristlri) и сам
находится в этом состоянии [WR: 3, 24, 76, 79, 89]. Одну из его газелей
завершают такие строки: «Если ты полетишь с любовью к Другу, северный
ветер, возьми с собой донесение о состоянии {'arz-i haV) Васила» [WR: 33].
Есть у поэта и другие традиционные характеристики духовной поэзии.
Так, он сравнивает свои стихи с инструментом для полировки сердец (say-
qal) [WR: 26, 89, 95], называет их песней любви, которая пробудит ото сна
спящих, т. е. не ведающих о пути Истины [WR: 18], утверждает, что для
познавших Бога его слова слаще меда [WR: 71], и т. п.
Говоря о побудительных мотивах творчества, Васил замечает однажды,
что опускать калам в чернильницу его заставляет охватывающая сердце
тоска по Другу [WR: 8]. Вопрос об авторском начале в поэзии трактуется
Василом противоречиво: в одном стихотворении он выражает
удовлетворенность тем, что калам хорошо повинуется его воле [WR: 51], а в другом
утверждает, что калам движется самопроизвольно, ибо все уже
предначертано заранее [WR: 72]. Задумываясь о статусе поэта-мистика, Васил
называет себя газелью в диване, на котором начертано имя Бога [WR: 14].
Давлат, тоже следуя старым традициям мистической поэзии, считает
свое творчество результатом божественного вдохновения {ilham) и
добавляет, что его стихотворные речи являются зрелыми только в силу своей
Такой же образ встречается у Хафиза (см.: [Рейснер М. Л. 1989: 189]).
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 185
абсолютной направленности на постижение Бога (ma'rifat) [DL: 65]. Он
просит Бога даровать ему «свет вдохновения» (пйг do ilham), а также
«хорошие, размеренные (mawzuri), чистые от язычества, уверенные слова»
[DL: 60]. При этом сочинение стихов для Давлата, по его же собственным
частым замечаниям, — это желание сердца или потребность души. Одну
газель он так и начинает: «Сегодня есть у меня в сердце желание написать
стих» [DL: 152]. Отношение к литературному труду как к религиозному
долгу оставалось все-таки подчиненным поэтическому вдохновению,
которое, в свою очередь, не могло восприниматься поэтом-мистиком иначе
как ниспосылавшееся свыше. За свои «прекрасно сложенные слова» Дав-
лат уповал на вознаграждение Всевышнего [DL: 123].
Главную цель поэзии все рошанитские стихотворцы видят в
восхвалении Единого Бога и духовном наставлении [МА: 48,124, 187, 249; DL: 149;
WR: 68], причем Давлат, явно желая противопоставить себя придворным
панегиристам, специально оговаривается о том, что его задача — устами и
сердцем воспевать Всевышнего, а не злонравных тиранов [DL: 149]. Кроме
Бога объектом своих поэтических восхвалений Мирза-хан называет также
духовного наставника [МА: 190,201].
Признавая религиозно-проповедническую, а следовательно,
дидактическую направленность своей поэзии, Давлат часто напоминает о ценности
хороших, т. е. исполненных духовного смысла слов (so kaldm), которые
«лучше жемчугов и яхонтов» [DL: 78], и одновременно не скупится на
порицание слов пустых и бессодержательных. Именно такому порицанию он
посвящает целую газель, где использует двоякое значение персидского
слова zaz ('вздор* и 'жвачка'), уподобляя человека, не ведающего ценности
хороших слов, жвачному животному [DL: 124—125]. Здесь же он
отмечает, что хорошие слова способствуют «собранности души» и поэтому из
них состоит суфийский зикр.
По мнению Мирза-хана, главный признак хороших слов — краткость
[МА: 66]. Естественно, этот признак он усматривает в собственных стихах,
не раз отмечая, что слов у него мало, но смысла в них много [МА: 161,
183]. Каждую букву своих слов Мирза приравнивает по смысловому
наполнению к целой книге [МА: 199]. В подобных высказываниях поэта-
мистика явно звучат мотивы авторского самовосхваления, фахра.
Нисколько не ставя под сомнение значимость духовной поэзии, Васил
тем не менее признавал ее определенную ущербность: «Трудно высказать
то, что внутри; между сердцем и языком расстояние в сто фарсангов» [WR:
36]. Поэт, таким образом, справедливо считал, что слова не способны
адекватно передать чувства и мысли, а потому мистической поэзии
изначально присуще «парадоксальное стремление выразить, невыразимое» ([Филь-
штинский 1989: 225]).
Желая указать на истоки своей поэзии, Васил объявляет о своем
духовном родстве с персидским суфийским поэтом-классиком Фарид ад-дином
'Аттаром [WR: 27]. Из персидских поэтов, кроме 'Аттара, Васил
упоминает также Джами и Фирдоуси [WR: 33]. В стихах Мирза-хана однажды
назван Шамс Табризи, знаменитый вдохновитель Руми. Обыгрывая значение
имени Шамс ('солнце'), Мирза уподобляет сияющего Пир Рошана взошед-
186 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
шему «солнцу Табриза» [МА: 138]. Наибольшее число имен персидских
классиков как духовных предшественников рошанитских поэтов
приводится в стихах Давлата (см. разд. 2).
Влияние персидской поэзии на афганскую, как уже говорилось, было
основополагающим и происходило на всех уровнях — формальном,
тематическом, стилевом (см.: [Кушев 1990]). Следы этого влияния на
творчество рошанитских поэтов настолько многочисленны и многообразны, что
заслуживают специального рассмотрения. Самыми заметными являются
прямые и скрытые цитаты из персидской классики, подобные таким
перифразам «Гулистаиа» Са'ди у Мирза-хана: «Путник от сладкого сна
просыпается, когда утром в день отправления звонит колокольчик» [МА: 60 и
235] (ср.: «Стыд тому, кто ушел и ничего не сделал; уже ударили в
барабаны отправления, а он не приготовил груз. Сладкий сон в утро отправления
удерживает путника от дороги» [Sa'dl 1992: 11—12]); «Все климаты (iqlim)
под его властью, а сердце в плену другого климата» [МА: 9] (ср.:
«Падишах захватывает землю целого климата, но [продолжает пребывать] в
плену (band) другого климата» [Sa'dl 1992: 28]); «Сухая палка пригодна для
сжигания, а воле [наставника] подчиняется молодая, тонкая и гибкая
ветка» [МА: 146] (ср.: «Сырую ветку гни, как хочешь, сухая же пригодна
только для огня» [Sa'dl 1992: 216]) и т. п.
В свете вышесказанного довольно неожиданными оказываются
критические замечания Васила по поводу подражания (taqlid) в литературе. Поэт
написал на эту тему целую газель [WR: 95], хотя обычно, касаясь вопросов
творчества, он ограничивается одиночными бейтами. В газели Васил
объявляет фальшивым, недостойным и бесполезным продукт литературного
труда, основанного на подражании, сравнивает присвоение содержания
чужого произведения с усыновлением ребенка,47. Подражательные слова
(taqtidi wayna) для него— движение по пропаханной дороге; свежесть
идей им чужда. Многие строки газели поэт отводит назиданиям, в которых
предостерегает авторов от занятия плагиатом. Неизвестно, чем было
вызвано обращение Васила к такой теме, но думается, стихотворение явилось
откликом на какую-то литературную дискуссию, имевшую место в
действительности.
В раскрытии темы поэтического творчества у рошанитских поэтов
выявляется ряд общих мотивов. У Мирза-хана и Васила, например, есть
строки с жалобами по поводу непонимания их стихов окружающими. Оба
связывали этот факт с недостаточной подготовленностью и образованностью
аудитории [МА: 247; WR: 21]. Сетуя на реакцию непросвещенных
слушателей, которых огорчала правда (riStya) его стихов, Васил, однако, был
уверен, что «от молчания станет еще хуже» [WR: 21]. У Давлата
встречается образ завистника (hasid), традиционно связанный с темой
поэтического творчества [DL: 126] (ср. тот же образ у Хафиза: [Рейснер М. Л. 1989:
187]). Возможно, в этом образе сохранились отзвуки реальных
взаимоотношений поэта с неким «недостойным человеком» (nakas), который неско-
147 Законы мусульманского права, исходя из прямого предписания Корана (33:4),
запрещают усыновление [Schacht 1964: 166].
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 187
лько раз причинил ему боль. Из контекста стихотворения можно сделать
вывод о религиозной почве этого конфликта.
В стихах Мирза-хана и Давлата звучит также мотив авторского
памятника, который показывает, что рошанитские поэты, хотя и были
устремлены в духовные пространства, уповая на бесследное растворение в
божественной сущности, тем не менее беспокоились о земной литературной славе
и увековечении своих имен. Мирза противопоставляет «здания» (Чтагшй-
па\ возведенные из его стихов, дворцам богачей [МА: 62], и выражает
надежду на то, что он как поэт останется в памяти людей надолго, ибо
памятником (yadgar) ему будет его искусство [МА: 101, 204]. Давлат
адресует себе такой призыв: «Хорошие речи148 говори, Давлат, о своем состоянии
(hal\ чтобы в этом мире навечно остался твой знак (nisan)» [DL: 147].
Все поэты обращались к мотиву письма и подчеркивали важность
письменной фиксации поэтических строк. Мирза-хан неоднократно
отмечает, что слова Истины он записывает на бумаге [МА: 13 и 64, 217]. В трех
бейтах одной газели он восхваляет «удивительные черные буквы», которые
«сыплются из-под калама Совершенного [Учителя]» и «указывают путь как
звезды» [МА: 211].
Давлат постоянно указывает на практическую пользу письма: «Память
остается на долгие годы, так что излагай правду о состоянии сердца на
бумаге» [DL: 41]; «То, что было скрыто в сердце, я сделал видимым на
бумаге» [DL: 48]; «После меня (т. е. после моей смерти. — М. П.) будут читать
братья в вере то, что я поведал на бумаге о состоянии своего сердца» [DL:
64]. В письменном виде, по мнению автора, стихотворные исповеди и
наставления становятся более действенными и одновременно лучше
сохраняются для потомков. Кроме того, подобными рассуждениями Давлат
косвенно подчеркивает свою принадлежность именно к письменной поэзии
пашто. Однажды, правда, противореча себе как литератору, но в согласии
со своей душой мистика, Давлат написал такие поэтичные строки: «Не
будет вечной книга из букв, [написанных] на бумаге; читай всегда
беззвучные буквы книги сердца!» [DL: 208]. В другой газели поэт обыгрывает
такой хорошо знакомый образ: «Черные строки — это спутанные кудри на
Его лице; прекрасный смысл, [что заключен] в них, даруй мне каждый миг
чистым вином» [DL: 58]. Этими словами вновь утверждается
превосходство чувственного познания Бога над книжной ученостью.
Тем не менее высказывания Давлата о пользах письма оказались
совершенно справедливыми в отношении его поэзии, дошедшей до нас
несколькими списками дивана. Для характеристики своего стихотворного собрания
поэт использует стандартный образ сада, который встречается и у Хушхал-
хана [XXX: 541]. В заключительном бейте газели с редифом Ъа% Осад')
Давлат приглашает читателя, если тот считает себя любителем изящной
словесности, полюбоваться его садом, т. е. диваном стихов [DL: 208].
148 Любопытно, что Давлат и здесь, и во многих других подобных случаях
употребляет слово bay an ('изложение'), вольно или невольно намекая на главное сочинение
Байазида Ансари «Хайр ал-байан».
188 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Мотивы письма и алфавита у Васила часто имеют очевидный
мистический смысл. Известно, что буквам арабского алфавита суфии придавали
глобальное символическое значение. Алфавит для них— это наглядная
модель единого и единственного божественного бытия (подробнее см.:
[Schimmel 1975: 411—425]). По словам Васила, «весь мир объяснен
тридцатью буквами» [WR: 59]. Суть всех букв, как и всего мирозданья, —
едина и воплощена в первой букве алфавита олифе, который по своей
форме является «знаком без знаков» и символизирует Бога [WR: 88].
Прочие буквы, имеющие признаки в виде изгибов и точек, производны от
алифа и являются его качествами; в них проявляется внешнее
разнообразие мира. Суть внешних форм, полагает Васил, может быть понятна только
тому, кто знает, как правильно поставить точки: над буквами или под ними
[WR: 69].
Васил почти всегда ограничивался краткими аллегориями из области
суфийской онтологии и не занимался описанием символического значения
отдельных букв. Кроме того, в его стихах встречаются и не связанные с
мистицизмом суждения о письме. Например, поэт размышляет о
взаимосвязи письма и смысла. Он считает письмо смысловым критерием
звучания. Только звуки, обретающие на письме форму слов, имеют смысл. Поэт
противопоставляет осмысленную речь человека, которая может быть
записана словами, и пустую трескотню цикады [WR: 69]. В другом случае он
так образно говорит о связи письма и смысла: «С калама Васила стекает
сладость; словно белый сахар [получается] из черного тростника» [WR:
29]. Думаю, в подобных стихах можно видеть не только оценку значения
письменного языка, но и скрытую декларацию превосходства письменной
литературы над устной.
Несколько раз Васил прямо противопоставляет свою поэзию,
заключающую в себе, по его убеждению, тайны ма'рифата, песням (badola, sandd-
га) и сказкам {afsana\ т. е., иными словами, фольклору [WR: 19, 30, 48].
Любители сказок и песен у Васила — это невежды, уши которых «глухи к
сама'», т. е. к исполнению и слушанию суфийских экстатических стихов.
В одном бейте Васил специально замечает, что его наполненные
сокровенным смыслом слова имеют метрическую основу, как то подобает
поэзии [WR: 9]. Фольклорные стихи паштунов, хотя, конечно, и строились на
определенных ритмических схемах, строгой метрической организации не
имели. Нападки на народную поэзию встречаются и у поэтов светской
направленности, например, у Хушхал-хана, который хулит ее за отсутствие
профессионализма и пренебрежение традициями высокой литературы (см.:
[Пелевин 2001: 179]). Язвительное отношение поэтов к устной народной
словесности, безусловно, только лишний раз свидетельствует о ее
развитости и повсеместной популярности у паштунов в XVII в.
Хотя национальные мотивы в лирике рошанитских поэтов почти не
слышны, каждый из них осознает себя именно паштунским поэтом,
пишущим на родном афганском языке. Мирза-хан не устает повторять, что
он восхваляет Всевышнего на пашто [МА: 2, 4, 76, 181, 244 и др.]. Словами:
«Началось на пашто восхваление Бога...» [МА: 53] — открывается первая
газель его дивана. В преамбуле к алиф-нама он говорит о намерении опи-
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 189
сать на пашто каждую букву алфавита [МА: 1]. Также у Давлата одна
газель начинается словами: «Если Ты смилостивишься и взглянешь на меня,
я скажу на языке пашто несколько бейтов» [DL: 79]. Демонстративная
погруженность в мир духа не помешала и Василу заметить, что он «говорит о
хал на языке паштунов» [WR: 27]. Подобные ремарки рошанитских
поэтов, на мой взгляд, являются еще и косвенным свидетельством того, что
письменные традиции языка пашто были не слишком старыми.
Будучи, по сути, религиозно-мистическими проповедями, стихи
рошанитских поэтов, естественно, содержат множество цитат из мусульманских
священных текстов в оригинале или в переложении на пашто. Иногда
поэты сами указывают происхождение своих высказываний, либо вводя в
них отдельные арабские слова оригинала, либо делая специальные
пояснения такого рода: «Слова Мирзы — на пашто, а весь их смысл из
арабского [языка]» [МА: 63]; «Эти паштунские слова происходят от арабских»
[МА: 106]; «Напишу на бумаге несколько бейтов, которые основываются
на хадисах и айатах» [DL: 72], «[Здесь] смысл хадиса изложен на пашто»
[DL: 188], «Эти арабские речи я удивительным образом написал на пашто»
[DL: 66].
Давлат несколько раз подчеркивает, что он обращается со своими
проповедническими стихами именно к соплеменникам-паштунам: «Красавица
Смысла (Бог. — М П.) покажет тебе свой лик, если ты будешь поступать
сообразно этим словам, паштун» [DL: 4], «Прими эти слова как
наставление, если ты паштун» [DL: 219]. Национальные чувства Давлата, как,
например, и Хушхал-хана, наиболее зримо проявляются в его коротких
авторских самовосхвалениях. Дважды Давлат называет себя лучшим поэтом
всех афганцев [DL: 57, 162], но один раз он все же делает оговорку,
вспоминая имена других знаменитых рошанитских стихотворцев:
Кроме Мирзы, Арзани и друга Мухлиса,
Ни один другой паштунский поэт не сравнится с тобой.
Кто [хочет] состязаться с тобой, Давлат,
Пусть скажет стих лучше этого.
[DL: 218]
О патриотическом отношении Давлата к родному языку, значимость
которого как средства пропаганды ислама он даже гиперболизирует,
говорят следующие строки: «Весть о его (ислама. — М П.) пользе разнеси по
свету, по [всему] арабскому и неарабскому миру в стихах на пашто» [DL:
51]. Любопытно, что Мирза-хан относился к языку пашто более
критически: «Мирза произносит речи на незрелом (курсив мой. — М. П.) языке
{хата zoba\ но смысл их ясен познавшим» [МА: 190]. Поэт
противопоставляет простоту, точнее примитивность своих паштунских слов их
глубокому и тонкому смыслу [МА: 170, 174]. В двух случаях такое
противопоставление прямо не выражено, но подразумевается [МА: 72, 156].
Называя язык пашто незрелым, поэт, конечно, мысленно сравнивает его с более
развитыми персидским и арабским языками. Может быть, отношение
Мирза-хана к афганскому языку было отчасти обусловлено его этническим
190 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
происхождением, ведь в отличие от Давлата Лоханая, чистокровного паш-
туна, Мирза по отцовской линии происходил из ормуров149.
6. Стихи о деятелях рошанитского движения
Житийный жанр занимает видное место в рошанитской литературе. Его
началом можно считать сочинение Байазида Ансари «Сирот ат-таухид»,
где в преамбуле автор кратко рассказывает о раннем периоде своей жизни,
духовном просветлении и достижении уровня Совершенного Учителя
[Shafi 1999; Hewadmal 2000: 93]. Подробно история рошанитского
движения изложена в прозаическом персоязычном сочинении «Хал-нама» 'Али
Мухаммада Мухлиса150. Поэтическую форму жанр агиографии обрел у
Давлата Лоханая, который, видимо, одновременно с Мухлисом, его другом
и сотоварищем по литературному труду, обратился к версификации тех же
устных и письменных источников, что легли в основу «Хал-нама». Хотя
Давлат в большей степени преследовал цели стихотворного славословия,
нежели жизнеописания и историографии, и его старания не увенчались
созданием больших произведений, равных по источниковедческой
ценности «Хал-нама», его стихи о Байазиде Ансари и других рошанитах имели
несомненное значение не только для развития жанров паштунской поэзии,
но и для популяризации среди соплеменников-афганцев некоторых
легендарных и реальных фактов из жизни рошанитской общины.
Одна из касыд Давлата, повествующая об истории рошанитского рода,
содержит краткие хвалебные характеристики Байазида и его потомков
[DL: 19—22]. Другая крайне любопытная агиографическая поэма об
основателе рошанитского учения, к сожалению, не была закончена и
сохранилась только в набросках [DL: 257—258]. Однако и эти фрагменты
являются прекрасным дополнением к легендарной биографии Байазида Ансари,
изложенной Мухлисом. Они показывают, что в народных представлениях
образ рошанитского учителя, как и образ пророка Мухаммада, с течением
времени становился все более сказочным, а его жизнеописание обрастало
новыми фантастическими сюжетами. Восхвалению Байазида Ансари поэт
посвятил также одну газель [DL: 218], десять четверостиший [DL: 230—
231] и многие бейты, разбросанные по разным стихотворениям.
Из биографии Байазида Давлат приводит, пожалуй, только два
реальных факта: о его происхождении из ормуров и о ссоре с отцом в молодости
149 О р м у р ы — самостоятельная иранская народность, говорящая на собственном
языке (ормури или бараки) и проживающая в районах Вазиристана и Логара (подробнее
см.: [Andreyev 1993]). Согласно афганской генеалогической традиции, легендарный
предок ормуров Урмар был приемным сыном Шархбуна, родоначальника первой
группы афганских племен колена сарбани [Afzal 1974: 255; Сагое 1958: 20—21].
150 В персидской литературе под тем же названием «Хал-нама» известна любовно-
мистическая поэма-маснави 'Арифи (ум. ок. 1449) из Герата. Для раскрытия темы
трагической любви автор использует аллегорию игры в поло, поэтому произведение имеет
еще второе название — «Гуй ва Чавган» («Мяч и Клюшка») [Rypka 1959: 275].
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 191
[DL: 29, 257]. По словам поэта, молодой Байазид предостерег своего отца,
который был судьей (кади), от корыстолюбия и взяточничества. Тот
обвинил сына в невоспитанности и потребовал почтительного отношения к
себе. В ответ Байазид заявил, что подчиняется только воле Всевышнего.
Далее сюжет принимает сказочную форму. Между отцом и сыном состоялось
нечто вроде состязания, которое должно было показать, кто из них
обладает большим духовным величием. К сожалению, этот эпизод не вполне
понятен, поскольку имеет явные лакуны. Судя по всему, участниками
испытания были тигр (ser, zmaray) и дерево (daraxt), которые не проявили
смирения перед отцом, но каким-то образом повиновались сыну.
История о ссоре с отцом, имевшая место в действительности151,
продолжается у Давлата перечислением нескольких чудес, которые якобы
совершил Байазид. Находясь у юсуфзаев, Байазид доказал свои
сверхъестественные способности тем, что однажды оживил мертвую кошку, сказав
ей: «Брысь!» — а в другой раз с помощью молитвы мгновенно доставил из
Египта сахар по требованию людей, сомневавшихся в его праве на
духовное наставничество. Некий афганец, пишет Давлат, стал свидетелем того,
как Байазид, пребывая в халвате, под воздействием божественной силы
распался на части, и каждая его часть источала свет152. Еще одна история
повествует о том, как на пасшееся в степи стадо Байазида покусился вор,
но Байазид внезапно возник перед ним словно из небытия и
предотвратил кражу. Кроме того, по словам Давлата, Байазид постиг сущность всех
объектов материального мира— неживых вещей, растений, животных и
людей.
Последний сюжет поэмы рассказывает о получении Байазидом
божественного озарения: в течение одиннадцати лет таинственный голос извне
многократно («три тысячи раз») призывал его произнести великое имя
Бога, но Байазид не понимал, что от него требуется; через одиннадцать лет
он услышал это имя из каждой песчинки.
Прочие стихи Давлата о Байазиде содержат многочисленные и
повторяющиеся хвалебные эпитеты. Давлат часто называет рошанитского учителя
«приближенным к Богу» или «святым» (wait), «указующим [правильный]
путь» (hadt), «наследником пророков» (do anbiya' waris), «последователем/
сыном пророка [Мухаммада]» (do paygambar payrawlpisar). Конечно, в
первую очередь Байазид восхваляется именно как единственный и
непревзойденный Совершенный Учитель, который «звал людей к Богу», и
«воздействие его слов было таким сильным, что ученики тут же достигали
своей цели» [DL: 231 и 29]. Для иллюстрации духовной силы Байазида как
наставника Давлат использует разные образы, например: «Войско
Шайтана не сможет одолеть того, кто сидит на его молитвенном коврике» [DL:
197] или «Пир Рошан подобно моряку оказал мне помощь; этой ночью он
был моей лодкой в пучине [неведения]» [DL: 71].
151 Ахунд Дарвеза утверждает, что эта ссора дошла до рукоприкладства, в
результате чего Байазид даже получил ранение ножом [MIi: 122, 128—129; Tazkirat: 120a].
152 Подобные чудеса, связанные с отделением конечностей от тела во время зикра,
как отмечает А. Шиммель, были особенно характерны для мистических традиций
индийского ислама [Schimmel 1980: 132].
192 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Краткие однострочные славословия Байазиду встречаются также в
стихотворениях его внука Мирза-хана, который заявляет, например, что Ро-
шан не стареет ни духом, ни телом [МА: 103], что от одного его взгляда
дурные поступки меняются на достойные [МА: 166], а его «бесподобным
сердцем» является сам Бог [МА: 84].
Существенную часть теософии Байазида составляло учение о восьми
стадиях или стоянках (maqamai) на пути познания Бога (см. гл. IV, разд.
4)153. Обращаясь к коранической мифологии, Давлат пишет: «Он установил
на Пути преграду из восьми макамов; шейх Байазид был словно второй
Искандар 154» [DL: 218]. В этой же газели поэт говорит о том, что Байазид,
исполненный к своим ученикам любви, которая была больше отцовской,
поведал им обо всех стоянках, в том числе и о самой последней — сукуна-
те. В другом стихотворении Давлат почти дословно повторяет бейт об
отеческой любви Байазида к ученикам, но упоминает о 1001 «стоянке
нищеты» [DL: 19]. В рошанитской традиции такие стоянки мне неизвестны,
хотя Мирза-хан в одном бейте как будто подтверждает слова Давлата:
«Удивительно красивое ожерелье Он свил: тысяча одна тесьма в нем и
восемь петелек ,55» [МА: 195]. Стадия нищеты (faqr) в суфийской
гносеологии и особенно в поэтической традиции тасаввуфа всегда имела
исключительное значение и интерпретировалась как полное погружение в
божественный мир духа ,56 (подробнее см.: [Schimmel 1975: 120-—124]). Недаром
все рошанитские поэты часто прилагают к себе определение «бедняк» (fa-
qir). Что касается числа 1001, то оно традиционно обладало особым
мистическим смыслом и иногда встречалось в суфийской практике в связи с
исчислением какого-либо важного срока157.
Заметное место в восхвалениях Байазида занимает мотив света,
проистекающий из основополагающей концепции рошанитского учения о
божественном свете и его воплощении в пророках и святых. Название самого
учения — рошаниййа (rosaniyya) — происходит от почетного титула
Байазида Ансари — Пир Рошан (Светлый Учитель) или Мийан Рошан
(Светлый Посредник). Рошаниты считали Байазида озаренным божественным
светом, и Давлат ставит его имя последним в длинном списке кораниче-
ских пророков и выдающихся мистиков, в которых, по его мнению, сиял
свет, исходивший от Бога и первоначально воплотившийся в Мухаммаде
[DL: 249—250]. Конечно, рошанитская концепция божественного света не
была оригинальной, а являлась смешением разных по времени и сущности
идей, возникших на основе толкования одного из айатов Корана (24:35) и
153 Подробнее о стадиях мистического пути в теософии суфийских братств см.:
[Тримингэм 1989: 128—132].
154 Намек на известное кораническое сказание об Александре Македонском
(Двурогом), который воздвиг стену, защитившую некий народ от враждебных ему Йаджуджа и
Маджуджа (18:92/93—97/98).
155 «В о с е м ь петелею> — это, конечно, восемь стадий рошанитского пути.
156 В «Мантик ат-тайр» 'Аттара, например, факр является последней, седьмой
долиной, которую преодолевают птицы в поисках Истины.
157 В братстве мавлавиййа, например, подготовка неофита к вступлению на
мистический путь формально должна была продолжаться 1001 день [Schimmel 1975: 234].
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 193
нашедших наиболее полное и яркое выражение в теософском учении иш-
рак Шихаб ад-дина Сухраварди (1155—1191).
Мотив света используется Давлатом в нескольких близких по смыслу
хвалебных высказываниях о Байазиде. Поэт, как ранее и Мирза-хан ([МА:
138]), сравнивает Байазида с солнцем, взошедшим осветить мир, и
утверждает, что «от его света многие люди получили пользу», а многие темные
сердца стали светлыми [DL: 19, 218]. Во всех суждениях подобного рода
так или иначе отражено принципиальное положение рошанитского учения
о Байазиде как совершенном духовном наставнике (pir kamil), которого
призвал Бог для того, чтобы вывести заблудших из тьмы к свету 158. В
трактате «Хайр ал-байан» это положение имеет вид прямого божественного
предписания [Маннанов 1994: 31, 35].
«Хайр ал-байан» (иногда просто «Байан») неоднократно упоминается в
диване Давлата. Эта книга имела первостепенное значение для рошанитов
всех поколений как источник сокровенного знания, ниспосланного Байа-
зиду Всевышним. Библиотеки исторического Паштунистана не сохранили
рукописей этого сочинения, поскольку ханафитские богословы,
признавшие «Хайр ал-байан» еретической книгой, требовали уничтожать его 159.
Однако благодаря стараниям рошанитской общины в Индии текст «Хайр
ал-байана» сохранился и дошел до нас в двух списках, из которых лишь
один, хранящийся ныне в библиотеке Хайдарабада, — полный [Hewadmal
1984^ 9—10, 207—214]. Приводимые ниже строки Давлата хорошо
показывают, что значил «Хайр ал-байан» для рошанитов в XVII в.:
Он (Байазид. — М. П.) сочинял на индийском (hindi) и персидском [языках],
А также на языках арабов и афганцев 16°.
Взгляни на четырехязычный «Хайр ал-байан»,
Который был ниспослан Рошану Всевышним.
Не было [при этом] ни учителя, ни посредника;
[Эта книга] пришла от Всемилостивого путем озарения (ilham).
Она повествует о стоянках и ступенях [Пути] (maqamat aw manazil)
158 По словам Ахунда Дарвезы, у Байазида были две личные печати со следующими
надписями: «Бедный (miskin) Байазид, провожатый заблудших» и «Преславен
Всевышний Господин, отделивший светлый мир от огненного, Байазид Ансари» [MIi: 125].
159 Сами рошаниты берегли свою книгу как зеницу ока, о чем говорит, например,
такой факт, зафиксированный в «Хал-нама». Однажды ночью преследуемый юсуфзаями
Шайх 'Умар, старший сын Байазида, рискуя жизнью, задержал свой отряд только для
того, чтобы найти и привезти «Хайр ал-байан», случайно оставленный на одной из
стоянок [Raft4 1976: 161; Shafi 1999].
160 «Хайр ал-байан» написан на четырех языках: афганском, персидском, арабском и
одном из северноиндийских языков. Четвертый язык памятника до сих пор не
определен, поскольку долгое время был известен и доступен для изучения только один
неполный список «Хайр ал-байана» из Государственной библиотеки Берлина, где малый
объем текста на этом языке не позволял точно идентифицировать его [Mackenzie 1964], а
хайдарабадский список с полным текстом на всех четырех языках еще не введен в
научный обиход. Предположительно индийским языком «Хайр ал-байана» может быть
либо хиндко, язык группы лахнда, распространенный в Западном Пенджабе и частично
на территории Восточного Паштунистана, или собственно хиндустани, язык
межобластного общения Северной Индии.
194 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
И находится в полном согласии с Кораном и хадисами.
Она показывает главенство пророка пророков
И излагает предписания, основы и условия [веры].
Говорит об обязательных для выполнения правилах на каждой стоянке
И указывает, о люди, допускаемые законом обычаи...
Она была удивительным явлением Божьей милости и чуда;
Ниспосланием ее Бог не совершил ошибку.
Тысячу, две тысячи, три тысячи раз
Приходило к нему (Байазиду. — М. П.) это озарение через сознание.
[DL: 257]
Краткая история рошанитского рода рассказана Давлатом в касыде, где
в хронологическом порядке восхваляются потомки Байазида Ансари.
Касыда была написана после 1658 г., о чем свидетельствует дата одного из
упоминаемых событий.
Поэт сообщает здесь о шести сыновьях Байазида, хотя обычно
источники называют только пять имен: 'Умар, Hyp ад-дин, Хайр ад-дин, Камал
ад-дин, Джалал ад-дин [М^: 126; ХаШ 1959: XXIII]1б!. Шестым (пятым по
старшинству) в касыде поэта назван некий шейх Давлат. Без ссылки на
источник 3. Хевадмал утверждает, что этот Давлат был сыном Байазида от
второй жены [Hewadmal 2000: 91],62. В истории рошанитского движения
известен также некий мулла Давлат-хан, поверенный (xalifa) Байазида,
который, как сообщает Дарвеза, был духовным главой у мохмандзаев [Taz;
kirat: 136a—1366], а по другим сведениям — отвозил могольскому
императору Акбару (правил 1556—1605) сочинение Байазида «Сирот ат-таухид»
[Taqwlm al-Haqq 1969: XX]. В отношениях между Байазидом и Давлат-
ханом могло возникнуть нечто вроде духовного родства, но к числу
законных потомков Байазида этот Давлат, конечно, не относится.
Воспевая сыновей рошанитского учителя, поэт заявляет, что «усердием
они убили в себе низшую душу (nafs)» и все приняли героическую смерть
за веру. Стиль житийного сочинения Давлат привносит в описание нрава
старшего сына 'Умара (ум. 1581): «Узнав однажды, что его друг голодает,
он изрыгнул из себя съеденную пищу, — [таким] он был человеком» [DL:
19]. Особенной похвалы поэта удостоился младший сын Джалал ад-дин
(ум. 1601), который действительно сыграл самую заметную роль в истории
рошанитского движения, проявив себя способным организатором и
военачальником. В течение двадцати лет он вел довольно успешную
вооруженную борьбу с могольскими властями. Давлат награждает его соответствую-
161 Женой Байазида и матерью его пятерых упомянутых сыновей и единственной
дочери Камал Хатун была Биби Шамсу, его двоюродная сестра (согласно «Хал-нама»
[Andreyev 1997]), которую Ахунд Дарвеза, однако, называет «женщиной из афганского
племени лоди» [Tazkirat: 120а]. Таквим ал-Хакк, опиравшийся на те же источники,
считает, что Байазид женился по приезде в Хаштнагар к мохмандзаям (мухаммадзаям) на
местной девушке, дабы породниться с афганцами [Taqwlm al-Haqq 1969: XIX].
162 Возможно, 3. Хевадмал имеет в виду не жену, а наложницу, родившую Байазиду
сына (итт al-walad). Если это исторический факт, то правовой статус ребенка зависел
от решения отца относительно его признания. Если бы Байазид официально признал
ребенка как своего, то тот вошел бы в число его законных детей, и наоборот.
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 195
щими эпитетами — «доблестный и смелый муж», «справедливый вождь» —
и упоминает исторический факт о гибели Джалала в сражении при Газни.
После Джалал ад-дина наиболее удачливым рошанитским
предводителем был сын 'Умара Ахдад163, который возглавлял движение более
двадцати лет и погиб в 1034 г. х. [1624/25] в очередной схватке с могольскими
войсками в горах Лавагара, расположенных на хаттакских землях. Давлат
восхваляет его за смелость, стойкую приверженность вере и скромный
образ жизни: «За дело ислама он был готов пожертвовать своей головой»;
«Он был [истинным] правителем, имея одного коня, одно платье и не имея
ни серебра, ни золота» [DL: 20].
В диване Мирза-хана Ансари есть газель-марсиййа, которую поэт
написал в память об Ахдаде сразу после получения известия о его гибели
[МА: 129—130]. Судя по серьезным сбоям в размере, газель явно осталась
недоработанной автором. Обращаясь к Ахдаду, названному им «главой
дома Рошана» и «чалмой на голове афганца», Мирза пишет:
Мученическая смерть [дает] вечную жизнь. Будь благословен
За то, что ты избрал для себя такое самопожертвование!
Когда ты покинул этот бренный мир,
Ты светлый день превратил для меня в темную ночь.
Гурии на небесах предаются рыданиям,
Что уж тут скажут паштунки, о доблестный воин!
Моголы и паштуны еще сойдутся в битве.
Что стало с тобой, что стало, прекрасный отец [*Абд ал-] Кадира!
В этом же стихотворении Мирза не без сожаления сообщает о том, что
сам он числится «в ряду индусов». Поэт, как уже говорилось, примкнул к
тем рошанитам, которые отказались от вооруженной борьбы с моголами и
в 1028 г. х. [1618/19] вместе со своими семьями переселились в Индию.
Раскол в движении стал назревать после не совсем удачного набега роша-
нитов на Кабул в 1611г., когда между Ахдадом, претендовавшим на
единоличное руководство и командование, и его двоюродным братом Аллах-
дадом, сыном Джалал ад-дина, возникли разногласия по поводу тактики
действий и главенства в общине. В результате этого конфликта Аллахдад
вместе с родным братом Каримдадом и двоюродным братом Пирдадом,
сыном Камал ад-дина, перешел на сторону моголов. Около 1617 г.
Аллахдад получил от императора Джахангира (правил 1605—1627) почетный
титул Рашид-хан и чин тысячника. В этом же году моголы начали мощную
военную кампанию против рошанитов в Тирахе [Andreyev 1997]. Судя по
всему, могольский губернатор Кабула Махабат-хан не смог на своих
условиях привлечь Аллахдада к военному союзу против его родственника Ах-
дада. Желая избежать сложностей в отношениях, стороны договорились о
переезде Аллахдада и его сторонников в Индию, где рошанитские
переселенцы получили земельные пожалования, а также право свободно
исповедовать свои религиозные взгляды в пределах новых владений вдали от
паштунских территорий.
163 Полное имя Ахдада — Ахаддад (Ahaddad); Давлат называет его Ахад.
196 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Примечательно, что Давлат, рассуждая о воинских доблестях рошанит-
ских вождей, как бы отстраняется от исторической реальности и
сознательно опускает деликатный для него, жителя могольской Индии, вопрос о
военных противниках рошанитов. Длительное вооруженное
противостояние рошанитов, «отважных борцов за веру», и имперских властей, таких
же борцов за ту же веру, было вызвано в большей степени причинами
военно-политического и экономического свойства, нежели религиозными
мотивами. Умалчивая об обстоятельствах вооруженной борьбы рошанитов,
Давлат, таким образом, скрыто выражает лояльность могольским властям.
Большую часть жизни Давлат провел на территории индийских
владений Рашид-хана (Аллахдада), располагавшихся к востоку от Агры вдоль
правого берега Ганга. Рашид-хан покровительствовал и ему, и его другу
Мухлису. Не случайно в шести бейтах касыды Давлат отмечает прежде
всего такие качества Рашид-хана, как щедрость, справедливость,
внимательность. «Польза от него была и сироте и вдове; он был ласков с дервишами,
как отец», — пишет поэт, возможно, имея в виду то, что Рашид-хан
предоставил кров многим своим родственникам, в частности Биби Алаи,
вдове Ахдада [Andreyev 1997].
Среди хвалебных отзывов о добродетелях Рашид-хана, умелого и
радушного правителя, Давлат оставляет место и для краткого упоминания о
его самоотверженности «на поле брани». Рашид-хан участвовал во многих
военных предприятиях и в составе рошанитских отрядов, и на военной
службе у моголов после переезда в Индию. Что касается роли Рашид-хана
в рошанитском движении, то источники сохранили больше сведений не о
его военных подвигах, а о метаниях между противоборствующими
сторонами. Индийский период биографии Рашид-хана способствовал быстрому
росту его социального статуса и военно-административного ранга. Уже
через два года после поселения в Индии он получил чин двухтысячника
[Andreyev 1997], означавший, что его финансовые возможности позволяли
в случае войны снарядить две тысячи всадников. В 1631—1633 гг. по
условиям держания джагира Рашид-хан вместе с Мирза-ханом принимал
участие в походе имперских войск в Декан и осаде Давлатабада, где он
отличился и был награжден чином четырехтысячника (caharhazari) [Dabistan
1904: 311]l64.
О том, какую немаловажную роль сыграл Рашид-хан в судьбе Давлата,
несомненно, говорит тот факт, что поэт написал на его смерть элегию [DL:
223]. В этой небольшой гззели-марсиййа поэт скорбит об утрате своего
покровителя, который «был щедр и добр по отношению к друзьям» и
«никому не причинил зла». Пользуясь системой абджада, поэт называет год
смерти Рашид-хана — 1058 г. х. [1648]165.
Перечень рошанитских вождей в касыде продолжают имена Каримдада
(ум. 1638/39) и Мийандада, родных братьев Рашид-хана, но поэт в данном
164 Стоит заметить, что самые высокие могольские чины — от 7-тысячника до 10-ты-
сячника — были резервированы для членов императорской семьи [Jaffar 1936: 159].
165 В касыде, тоже с помощью абджада, указан другой год— 1068 г. х. [1657/58], но,
видимо, здесь допущена ошибка, поскольку все другие источники сходятся на цифре 1058.
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 197
случае ограничивается только упоминанием о насильственной смерти
обоих. Из источников известно, что Каримдад неоднократно менял
союзников, в 1630 г. принимал участие в неудачной осаде Пешавара, а позже
соперничал с 'Абд ал-Кадиром, сыном Ахдада, по поводу лидерства в роша-
нитской общине [Andreyev 1997; Сагое 1958: 228—229].
Далее Давлат упоминает еще об одном сыне Джалал ад-дина — Хади-
даде. В доступных мне источниках об этом человеке нет никаких
сведений. Однако поэт посвящает Хадидаду шесть строк, что явно
свидетельствует о значимости этой фигуры в истории рошанитского движения. Вся
хвала Давлата, адресованная Хадидаду, касается исключительно его
воинской доблести. Он не знал поражений, пишет Давлат, всегда был
источником боевого духа своего войска, а в час смерти думал только о Боге.
Из внуков Байазида Ансари в касыде Давлата упомянут еще Пирдад,
перешедший с Аллахдадом на сторону моголов. Говоря о суровости Пир-
дада по отношению к врагам, поэт ради рифмы использует довольно
неожиданное сравнение: «К недоброжелателям он был горячее угля (axgar)»
[DL: 21].
Затем поэт переходит к восхвалению правнуков Пир Рошана, к
поколению которых относился он сам. Четыре бейта Давлат посвящает 'Абд
ал-Кадиру, возглавившему после гибели его отца Ахдада рошанитскую
общину Паштунистана и довольно быстро подчинившемуся моголам.
Прожив очень короткую жизнь, 'Абд ал-Кадир умер в 1633/34 г., когда ему
было всего около 23 лет [Andreyev 1997]. Возможно, именно поэтому
Давлат больше внимания уделяет описанию его внешней красоты, вновь
обращаясь к мотиву света: «Тьма отступала перед ним; его светлый лик был
подобен сияющему солнцу» [DL: 21].
Большинство других правнуков Байазида, как и Давлат, жили в Индии.
Сахибдад, сын Рашид-хана, по словам поэта, славился щедростью и с
молодых лет стремился к аскетическому образу жизни. Мухаммад Заман
Садик, сын Пирдада, настолько увлекался охотой, что его лук редко бывал не
натянут. Старший сын Хадидада 'Абд ар-Рахим, участвовавший в войне за
престолонаследие между Дара Шикохом и Аурангзебом, погиб в сражении
при Самугархе в 1658 г. Два других его сына— Хало-хан и 'Абд ал-Ва-
хид — ко времени написания касыды, видимо, еще ничем не проявили
себя, и поэтому Давлат ограничивается банальными комплиментами по
поводу их добронравия. Упоминаемые поэтом имена Худайдад-хана, Ха-
ким-хана и Рахмандада не сопровождаются никакими пояснениями. Эти
имена названы в бейте, который следует за краткой оценкой достоинств
Сахибдада, поэтому можно предположить, что они были из потомков
Рашид-хана.
Пять замечательных бейтов касыды поэт посвящает Мирза-хану
Ансари, в память о котором им написана также отдельная хвалебная газель [DL:
149—150]. В молодости Давлат, видимо, близко общался с Мирза-ханом и
относился к нему как к своему духовному учителю. Подчеркнутый пиетет
к внуку Байазида Ансари был вызван не только его происхождением, но и
его общепризнанными достижениями на литературном поприще. Следует
198 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
также еще раз заметить, что стихи Давлата содержат фактически
единственное известное нам свидетельство о дате смерти Мирза-хана.
Как мне восхвалить Мирза-хана, [сына] Hyp ад-дина?
Мийан Рошан был градом знания, а он — его вратами 166.
Сокрытое много лет в сердце предводителя (had!)
Знание стало явным на устах Мирза[-хана].
Ни один афганец не слагал стихи подобно ему,
В свое время он был лучшим из всех поэтов.
Он не был привязан к мирскому и не гордился им,
Он был каландаром, одетым в [простую] белую одежду.
Погиб он, сражаясь в Декане, да упокоится его душа;
Год тогда пошел тысяча сороковой (1630/31. — М. П.).
[DL: 20]
Мирза указал мне сокровище в моем же доме, и я стал богатым;
Зачем мне напрасно благодарить кого-то другого...
Он был истинно верующим в Единого Бога, кладезем суфийской мысли;
Он обучил меня всем тайнам и всем знаниям...
Не было другого паштуна, более щедрого, чем он;
Ведь каждый его бейт стоит очень дорого, если оценить.
[DL: 150]
Яркой личностью в литературном кругу рошанитской общины Индии
был 'Али-Мухаммад Мухлис (ум. после 1648), сверстник Давлата, поэт и
автор прозаических сочинений, из которых наиболее важным является
«Хал-нама». И Давлат и Мухлис жили во владениях Рашид-хана, тесно
общались между собой, оба восхищались поэзией Мирза-хана, их старшего
современника, сами обменивались творческой энергией. Смерть Мухлиса
стала для Давлата невосполнимой утратой. В его диване сохранились две
элегии на смерть Мухлиса — касыда и газель, написанные гораздо более
проникновенно и волнующе, нежели газелъ-марсиййа в память о
покровителе Рашид-хане [DL: 220—223]. Однако при этом автор не сообщает ни
дату смерти Мухлиса, ни какие-либо другие фактические сведения об
обстоятельствах его кончины.
Касыда (51 бейт) распадается на две части: первая (22 бейта)
представляет собой собственно марсиййа, вторая содержит обычную для Давлата
религиозно-философскую дидактику. В марсиййа поэт многократно
формулирует идею о значении смерти Мухлиса в религиозно-мистическом
смысле: «Его дух улетел на небеса, а тело было погребено под землей»;
«Он обрел вечную жизнь, когда ушел из этого мира»; «Радостным он ушел
в рай, без печали и страха»; «Покинул он бренный мир и вернулся к своей
сути»; «Откуда он пришел, туда и вернулся»; «Он пришел от Бога и к Богу
возвратился» и т. п.
Дидактическая часть касыды начинается с отвлеченных рассуждений о
жизни и смерти, за которыми следует проповедь о вере в единого, все-
166 Парафраз популярного шиитского хадиса: «Мухаммад — град знания, а * Али — его
врата».
Глава III. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 199
сильного и вездесущего Бога. Далее поэт пишет о необходимости
постижения Бога под руководством Совершенного Учителя. На мой взгляд,
касыда интересна не столько с содержательной, сколько с формальной
стороны. Во многих бейтах поэт использовал в качестве рифмующихся слов
арабские глагольные формы, явно взятые из священных текстов. В
афганских стихах эти формы не выполняют функций глагола,67, но придают
всему стихотворению ученость и звучание погребальной молитвы. Создается
впечатление, что касыда действительно была написана сразу после
похорон Мухлиса.
В газели Давлат делает ведущей тему разлуки и вызываемых ею
безмерных страданий. Здесь автор называет Мухлиса красноречивым (xusguf-
tar), явно намекая на его поэтический талант. Кроме того, Давлат
упоминает о том, что разлуке с Мухлисом предшествовали расставания с
другими его друзьями.
167 На примере это выглядит так: «Бог присутствует [всюду]; Его не видит [тот, кто]
стал глухим, немым, заблудшим, la tubsirun (т. е. слепым, букв.: 'вы не видите'.— А/. Я)»
[DL: 222].
Глава IV
Идейные основы рошанитской поэзии
1. Источники вдохновения
Идейное содержание произведений рошанитских поэтов является прямым
отражением их мистико-философских, религиозно-этических и
эстетических представлений. Однако, несмотря на явный проповеднический
характер многих стихов, диваны афганских мистиков, как и
стихотворные собрания любых суфийских авторов, не обнаруживают признаков
целенаправленного изложения какой-либо конкретной доктрины.
Религиозная и мистическая лирика уже в силу своей жанровой специфики не
может рассматриваться в качестве теоретического дискурса. Конечно, как
отмечалось выше, у Мирза-хана Ансари и Давлата Лоханая есть некоторое
количество произведений, в первую очередь касыд, которые отчасти
напоминают поэтические трактаты-рг/сала и содержат отчетливые элементы
догматики, но в целом их диваны стилистически весьма далеки от того,
чтобы считаться систематической стихотворной интерпретацией рошанит-
ского учения.
Лирика Васила Рошани, на мой взгляд, вообще относится к тому виду
суфийской поэзии, которая, по словам Е. Э. Бертельса, «ставит себе
задачей описание внутренних состояний суфия» ([Бертельс 1965: 62]), и в
меньшей степени, чем стихи прочих рошанитских поэтов, воспроизводит
систему теософских взглядов автора. Положения непосредственно роша-
нитского учения в ней почти не просматриваются, но очевидно, что
Васила привлекали те же суфийские темы и мотивы, причем в том же
соотношении, что мы наблюдаем в произведениях других рошанитов. Конечно,
произведения Васила не лишены дидактизма, и в отдельных случаях те
или иные вопросы трактуются поэтом вполне прямолинейно, однако
интеллектуальное начало у него все-таки подчинено эмоциональному.
Рошанитская поэзия — это поздняя мистическая поэзия, созданная на
местном, ранее бесписьменном языке и обращенная к аудитории, которая в
первой половине XVII в. в основной своей массе еще не была достаточно
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
201
осведомленной ни в теоретических вопросах мусульманского богословия,
ни в философии суфизма. Подобно другим, типологически сходным по
уровню и характеру развития литературам Индо-Пакистанского
субконтинента, рошанитская поэзия в идейном отношении не несла в себе ничего
нового и оригинального, а основывалась на ранее разработанных мистико-
философских концепциях, содержала перепевы стандартных тем, мотивов
и образов, давно утвердившихся в суфийской литературе. К тому же вся
средневековая мусульманская эстетика, законам которой неизбежно
подчинялась афганская письменность, к XVII в. была насквозь пропитана
художественными принципами поэтического и теоретического тасаввуфа,
поскольку последний во многом являл собой образное воплощение идей,
так или иначе вытекающих из священных текстов Корана и сунны.
Таким образом, поэзия рошанитов в большей степени показывает
преемственность духовных и литературных традиций мусульманского
мистицизма, их осмысление и развитие в афганской письменности, но не дает
законченного представления об особенностях собственно рошанитского
учения. Поэтому, анализируя идейное содержание рошанитских стихов,
имеет смысл говорить не столько об отражении в них какой-либо мистико-
философской доктрины, сколько о наличии тех или иных популярных
суфийских тем, мотивов и образов, перенесенных на афганскую почву.
Непосредственные литературные источники заимствования
большинства идей и образов рошанитской поэзии определить очень трудно, если
вообще возможно. Параллели могут быть найдены в строках поэтов и
мыслителей разных эпох и разных мистических умонастроений. А. Г. Матвеева,
например, выявляет сходство некоторых суждений Давлата с
высказываниями 'Абдаллаха Ансари (ум. 1089), Абу Хамида ал-Газали (ум. 1111),
Руми (ум. 1273) [Матвеева 1988: 5]. Но даже парафразы айатов не говорят
о том, что за ними во всех случаях стоит непосредственно Коран, а не
вторичные источники с цитатами из него. Какими бы близкими и
заманчивыми ни были текстуальные параллели, стихи рошанитских поэтов прежде
всего содержат те представления и понятия, которые, во-первых, лежали в
основе учения Байазида Ансари и излагались в его сочинениях, а во-
вторых, проникали к рошанитам из суфийских кругов могольской Индии.
Из рошанитских поэтов только Давлат Лоханай счел необходимым
назвать источники своего вдохновения. Дважды он перечисляет имена
столпов суфийской мысли и персидских классиков, показывая таким образом
духовные корни рошанитской поэзии [DL: 173, 250]. В этих перечнях
упомянуты ранние авторитеты суфизма, такие как Хасан ал-Басри и Зу'-н-
Нун, легендарные основоположники мистических «школ» Байазид
Вистами и Джунайд, поэт-мученик Халладж, почитаемый проповедник 'Абд
ал-Кадир Гилани, выдающийся теософ Ибн 'Араби, выдающиеся мастера
персидской поэзии Низами, 'Аттар, Руми, Са'ди, Хафиз, Джами и др. (см.
гл. III, разд. 2).
В стихах других рошанитов мы не найдем подобной галереи имен,
составляющих условную цепь духовного преемства. Исключая Байазида
Ансари, Мирза-хан, как уже говорилось, завуалированно упоминает только Шамс
202 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
ад-дина Табризи, а у Васила Рошани, кроме 'Аттара, Фирдоуси и Джами,
несколько раз встречается имя Мансура Халладжа168, образ которого
всегда волновал экстатически настроенных поэтов-мистиков. Васил тоже
воспринимает Халладжа как пример духовной стойкости и непременно
изображает его идущим на виселицу за любовь к Другу-Богу [WR: 57, 60].
Независимо от того, какие конкретно литературные произведения
вдохновляли рошанитских поэтов, их первым и главным идейным источником,
конечно же, был Коран. Мирза-хан и Давлат неоднократно напоминают в
своих стихах, что их мистико-философские проповеди прямо или косвенно
опираются на священные тексты (см. гл. III, разд. 5). У всех поэтов
нередко встречаются строки с требованием беспрекословного подчинения
Корану как единственно истинному словесному свидетельству
божественного бытия. Подобные призывы Давлат адресует и самому себе: «Обеими
руками крепко держись за него, Давлат, ведь Коран — это длинная и вечная
нить, [связующая] с небом» [DL: 27]. Васил, при всей своей
сосредоточенности на мире духа, однажды высказывает более чем земное суждение о
том, что для каждого, кто не подчинился Корану, есть только одно
«лекарство» — меч [WR: 69]. В одном бейте Давлат противопоставляет Коран
Торе, Псалтырю и Евангелию, высказывая таким образом свое отношение
к иудаизму и христианству, имевшим немало последователей в моголь-
ской Индии [DL: 47]. О прикладном характере содержащихся в Коране
знаний Давлат пишет такие примечательные строки:
Смысл Корана понимает не каждый, [а только тот],
Кто совершает благие дела и сторонится зла.
Повеления Корана для человека подобны горе;
Как же он самостоятельно подъемлет гору?
Без обучения не постигнет его смысла [даже тот],
Кто выучит и сможет читать его наизусть.
Без [сообразных ему] действий не извлечет из него пользы и тот,
Кто познает смысл каждой его буквы.
[DL:211]
Читатели и слушатели рошанитских стихов должны были знать также о
том, что к Священной Книге нельзя прикасаться, не совершив омовения
[DL: 84], что Коран иногда мог называться Фурканом [МА: 142], а его
первая сура— «матерью Книги» [DL: 122]. Мирза-хан в преамбулу к своей
азбуке включил строки с довольно сухими статистическими сведениями о
составе Корана (см. гл. II, разд. 2), но в другой газели, охваченный
экстатическими видениями, он выражал сомнение в надобности письменной
формы для божественных слов: «Во всем есть знамения (ayatuna) Господа;
Он явлен Мирзе без написанного (таШЬ)» [МА: 108].
У Васила характеристика Корана дана в четырех руба'и, следующих
друг за другом и составляющих единую смысловую цепочку. Эти стихи
168 В суфийской поэтической традиции Хусайн ибн Мансур Халладж часто
фигурирует под именем отца.
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
203
хорошо показывают типичное для поэта сочетание простых формулировок
и сложных недосказанных мистических образов:
Этот мир — божественная Книга; // В Книге все учтено.
Ее передатчиком был Джабра'ил; // Она есть обращение к заступникам.
Все, что ты услышал, // Записано в этой великой Книге.
Имеющий веру (yaqin)169 знает, // [что] Господь не сказал [в ней] лжи.
Она (Книга. — М. П.) — повод для размышлений,
// Указатель добра и всего [на свете].
Неграмотный не сможет прочесть ее. // Она изображена письменами.
Они (письмена. — М. П.) написаны на скрижали множественности
{dd kasrat taxta),
II Нанизаны на один алиф,
И все они для [изображения] этого облика (surat)
II Привязаны к одному кругу 17°.
[WR: 100]
Иногда поэты прямо цитируют коранические строки, естественно,
отдавая предпочтение тем, которые имели особое концептуальное значение в
мистической традиции: «Мы ближе к нему, чем шейная артерия» (50:15/16)
[МА: 2, 3, 108; DL: 5, 34; WR: 87]; «И куда бы вы ни обратились, там лик
Аллаха» (2:109/115) [МА: 4]; «...и вдунул в него от Моего духа» (15:29;
38:72) [DL: 27; WR: 13]; «Каждый день Он за делом» (55:29) [DL: 5]; «...и к
Нему вы будете возвращены» (2:246/245) [WR: 92] и др. Среди прочих
расхожих коранических фраз в стихах рошанитов встречаются, например,
такие: «Будь! — и оно бывает» (2:111/117) [МА: 17, 38, 44]; «Аллах
творит, что пожелает» (3:35/40) [DL: 5]; «Счастливы верующие» (23:1) [DL: 3];
«Аллах не любит преступающих» (2:186/190) [WR: 99]; «...и для них —
мучительное наказание» (2:169/174) [МА: 9] и др.
Что касается хадисов, то главным их источником для рошанитских
авторов, вероятно, был крайне распространенный в мусульманской Индии и
часто комментировавшийся труд «Канз ал-Уммал» («Сокровище
творящих»), принадлежавший перу ученого-теолога из Бурханпура
(Центральная Индия) 'Али Муттаки (ум. 1567) [Schimmel 1973: 5—6; Rizvi 1983: 326].
Популярность «Канза» объясняется тем, что он представляет собой
сборник умело упорядоченных по тематике и алфавиту хадисов, извлеченных
из авторитетного собрания «Джами* ас-сагир» Джалал ад-дина ас-Суйути
(ум. 1505). Однако в мистической поэзии труд 'Али Муттаки воплощал
собой, по выражению А. Шиммель, «символ сухой учености и
традиционализма». Давлат несколько раз упоминает «Канз» в одной поэме-маснави,
причем именно в его символическом значении. Поэт
противопоставляет «Канз» как образец книжного знания, лишенного истинного ма'рифа-
169 Васил и другие рошанитские поэты часто используют термин yaqin, означающий
безоговорочное признание единства и единственности божественного бытия и, по сути,
заменяющий у мистиков общемусульманское понятие веры din.
170 Поэт здесь явно намекает на те мистические теории, согласно которым буквы-
символы отражаются на человеческом лице, а красивый лик есть воплощение небесного
Корана (подробнее см.: [Schimmel 1975:413]).
204 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
та, своим собственным стихам, которые «рождаются в сердце» [DL: 246—
247].
Замечу, что из хадисов наибольшую популярность у рошанитов имело
приписываемое пророку изречение: «Умри прежде, чем ты умрешь» [МА:
75, 160; DL: 147, 206; WR: 21]. Мирза-хан многократно повторял также
арабские слова высказывания: «Ведите себя сообразно нраву Аллаха» [МА:
43, 156, 206, 225, 250] — и любил цитировать начало хадиса кудси: «Если
бы тебя не было, [я бы не сотворил небеса]» [МА: 6, 16, 171] m (об
упомянутых хадисах см.: [Schimmel 1975: 70, 142, 215]).
Существенное влияние на идейную направленность проповеднической
поэзии рошанитов оказывала кораническая тема Судного Дня и
посмертного наказания за грехи. Отмечая значимость этой темы в духовной
культуре ислама, Е. Э. Бертельс писал: «Нельзя не признать, что наибольшей
художественной силой в Коране отличаются именно те суры, которые
посвящены увещеванию и угрозам (ва'д и ва'ид). Видения Страшного Суда,
грозные картины ревущего пламени адской пучины с ее воплем: hal min
mazidl («Нет ли еще добавки?», т. е. грешников, которых можно пожрать) —
все это должно было в те времена производить потрясающее впечатление»
[Бертельс 1965: 15].
Тема Судного Дня, являясь характерным признаком
религиозно-дидактической литературы вообще, особенно привлекала Давлата, стихам
которого, как уже говорилось, была свойственна именно прямая
назидательность. Свои бесконечные религиозно-этические наставления, призывы к
совести и разуму поэт считал необходимым подкреплять обещаниями
посмертного воздаяния за совершенные в жизни поступки и описаниями
последствий Страшного Суда для грешников. Васил тоже иногда заострял
внимание на этой теме, предупреждая своих слушателей о близости
«справедливого допроса Мункара и Накира» [WR: 20, 78, 87, 110 и др.], а
Мирза-хан обычно ограничивался только краткими заявлениями о том, что
каждому воздастся по его делам ('amal) [MA: 32, 85, 163, 226 и др.].
Давлат, как правило, не углубляется в дебри мусульманской
эсхатологии, но частыми напоминаниями о Судном Дне, об участи праведных в
раю и грешных в аду создает своими стихами у читателя постоянное
ощущение неминуемой ответственности за выбранный путь. Рассуждая о
Страшном Суде как о единственном месте справедливой оценки, где будет
отделено истинное от ложного, Давлат использует довольно
приземленный, но хорошо понятный его аудитории образ: «Цена вещи станет ясной
там на базаре, где оценщик укажет ее стоимость» [DL: 45]. Тема воздаяния
звучит во многих стихах поэта, например в большой поэме-маснави, где
поэт уделяет ей более десяти бейтов, правда, весьма однообразного
содержания [DL: 236]. У Васила этой теме посвящена почти вся алиф-нама
(см. гл. II, разд. 2) и около полутора десятков бейтов касыды, которая
начинается с краткой, но яркой зарисовки того, что обычно происходит у
постели умирающего: семья погружена в горе, кто-то взывает к Богу, кто-то
171 Любопытно, что в одном случае Мирза-хан как будто заявляет о том, что эта
фраза имеется в Коране: «В Его Коране он (Мухаммад. — М. П.) — lawla-ka» [MA: 6].
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
205
со страхом задумывается о собственной смерти и т. п. [WR: 94]. В этих
стихах Васил не обходится и без афористичной софистики: «Кто
вспоминает о нем (Страшном Суде. — М Я.), тот— грешник, а кто забывает —
вообще неверный». [WR: 94].
Мотивы Судного Дня у Давлата строятся на самых общих
эсхатологических понятиях. Поэт не устает рассуждать о смерти, после которой
«будет радостен тот, кто был стойко предан делу веры» [DL: 116], об
освобождении души от бренного тела, о допросе ангелов загробного мира, о дне
воскресения из мертвых, когда «сияющее солнце превратится в черный
камень» [DL: 45], о рае и аде. Упоминается поэтом и ведущий в рай мост
Сират, который невозможно перейти «без благоволения Бога», ибо его
протяженность— тридцать тысяч лет пути [DL: 174]. Мирза тоже
предупреждает о трудностях перехода через Сират, который «острее лезвия и
темнее ночи» [МА: 243]. Василу Сират представляется аналогией земного
пути человека, поскольку одна его половина идет на подъем, а другая —
на спуск [WR: 94].
Вполне традиционен и круг мифологических персонажей,
обслуживающих тему Судного Дня. Это предвестники Страшного Суда Махди и Да-
джжал, ангелы загробной жизни Мункар и Накир, ангел Исрафил,
оживляющий мертвецов пением своего сладкозвучного рога. Образ Исрафила
явно привлекал Мирза-хана, который как будто сам был музыкантом [МА: 8,
14, 136]. Давлат же для усиления поучительного воздействия своих стихов
чаще обращается к грозному образу ангела смерти 'Азра'ила: «С ножом в
руках стоит 'Азра'ил [в ожидании] их (не ведающих Бога. — М. П.\ а они,
нерадивые и беспечные, бегают, как бараны» [DL: 5]; «'Азра'ил всюду
расставил ловушки смерти, в которые попадет каждый из живущих» [DL:
142]; «Душу из тела забрал 'Азра'ил с удовольствием, радостью и смехом»
[DL: 159].
Очевидно, Давлат полагал, что действенность морально-этических
назиданий зависит в большей степени от угроз наказания за неправедно
прожитую жизнь, нежели посулов вечного блаженства за добродетельное
поведение, поэтому в своих стихах он крайне редко изображал райские сады,
где «справа и слева ходят с чашами в руках прекрасные отроки (gilman) в
разнообразных украшениях» [DL: 81], но был склонен постоянно
напоминать о муках ада. Одну газель поэт почти целиком посвящает описанию
посмертной участи грешников [DL: 29—30]. Любопытно, что среди
характерных для данной темы картин (тлеющие кости, изъеденное червями тело
и т. д.) встречается упоминание о такой «муке», ожидающей злодея:
«Наследники будут делить между собой его имущество». Эти слова,
перекликающиеся со стихами Мирза-хана172, показывают, что процесс
наследования обычно сопровождался острыми конфликтами, а дробление имущества
(особенно недвижимого) воспринималось крайне болезненно.
Затрагивая тему посмертного наказания грешников в аду, поэт
приводит парафразы соответствующих по смыслу коранических строк. Иногда у
172 Мирза-хан, как уже отмечалось, помещал наследников в число четырех врагов,
которые появляются у человека после смерти (см. гл. III, разд. 4).
206 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
него встречаются и прямые арабские цитаты: «Господи наш... Защити же
нас от наказания огня» (Коран, 3:188/191) [DL: 111]. Грешниками,
нарушающими предписания шари'ата, Давлат чаще всего называет тех, кто
стремится исключительно к мирским благам и игнорирует моральные
принципы веры. В их числе традиционно упоминаются безымянные
правители-тираны.
Ужасы огненной геенны явно занимали воображение поэта, и мотивы, с
ними связанные, пронизывают многие его стихи. Нужно заметить, что
Давлат уделял большое внимание не только отвлеченной идее адских мук
за грехи, но и самому строению преисподней. В одной газели, вновь
прибегая к бытовой образности, он сравнивает ад с печью для обжига
кирпичей; семь уровней преисподней здесь уподоблены противням печи [DL:
87]. Цепочка из шести четверостиший посвящена описанию сиджжина,
который, по словам Давлата, является скалой, расположенной «над адом
под седьмой землей» [DL: 229—230]. Поэт рисует мрачную картину этой
скалы: сквозь ее бесчисленные трещины, наполненные змеями, в мучениях
протискиваются грешники, причем ширина трещин обратно
пропорциональна количеству и силе грехов.
Для того чтобы избежать подобной участи, необходимо строго
следовать законам веры, которым учат религиозные и морально-этические
наставления Давлата. Собственно, в указании пути к спасению души и
заключается основная цель его стихотворных проповедей. Их общий смысл
хорошо передан в таком бейте: «У того, кто всегда живет согласно заветам
пророка, в Судный День голова будет поднята выше, чем у других» [DL:
206].
Большой интерес рошанитские поэты проявляли к мусульманской
мифологии, сведения о которой черпались ими в первую очередь из Корана.
Кроме текстов Корана и обширной комментаторской литературы (тафси-
ров\ источниками мифологических сюжетов у рошанитов были также
произведения классической персидской поэзии и, возможно, популярные
«сказания о пророках» {qisas al-anbiya') (см.: [Nagel 1999]). В Коране,
например, отсутствуют встречающиеся у рошанитов имена тирана Намруда,
жены Ибрахима Сары, злого духа 'Азазила, которого Мирза и Давлат,
согласно мусульманской традиции, отождествляют с Иблисом [МА: 10, 99,
127; DL: 70, 215].
Мифологические персонажи и сюжеты у всех поэтов обычно
фигурируют в отдельных разрозненных бейтах, но иногда играют весьма
существенную роль и в содержании целых стихотворений [МА: 33—35, 94—95;
DL: 2, 174, 187, 239—240, 242—243; WR: 12]. Выше уже кратко
говорилось о функциональном значении образов 'Азра'ила, Исрафила, Мункара и
Накира. Из других ангелов поэтами упоминаются также Джабра'ил,
«носитель тайного откровения», Мика'ил, «назначенный [раздавать] хлеб
насущный творениям Бога» [DL: 174], падший Харут [WR: 21], но чаще
всего — Иблис (Шайтан).
Многослойный образ Иблиса, проклятого ангела, ставшего для
человека дьяволом Шайтаном, злым духом (xannas), главным союзником низшей
души {nafs\ постоянно присутствует в назидательных стихах Мирза-хана
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
207
и Давлата. Конечно, прежде всего Шайтан изображается поэтами в
качестве нечистой силы, которая сбивает человека с прямого пути,
заповеданного Богом, строит козни (такгйпа), нашептывает соблазны (waswase), сеет в
сердцах яд и т. п. [МА: 8, 11, 22, 204, 205, 237—238, 243 и др.]. «Шайтан
воевал хитростью, укреплением его было неведение {gaflai)» [МА: 36].
Борьба с дьяволом стоит у поэтов в одном ряду с приверженностью пяти
основам веры: «Считай бойцами веры тех, Давлат, кто нынче разбивает
дозоры Шайтана» [DL: 83]. Мирза утверждает, что умертвить Шайтана
можно только верой (yaqln), а завернуть его следует в саван из «сомнений
язычников (musrikan)» [MA: 81]. Иногда поэты напоминают своим
читателям кораническую историю о том, как Шайтан был проклят Богом за
гордыню и отказ поклониться Адаму, а затем внушил Адаму мятежные
мысли (2:32/34—34/36, 7:10/11—21/22; 15:30—35 и др.) [МА: 34—35, 54;
DL: 29, 81].
Среди стихов о Шайтане заметно выделяется газель Мирза-хана,
содержащая в восьми бейтах (из 13) своего рода исповедь самого дьявола
[МА: 94—95]. В заключительном бейте поэт сообщает, что его слова были
«указанием учителя». Стихотворение написано в русле той суфийской
поэтической традиции, которая как бы реабилитирует Шайтана, представляя
его учителем всех ангелов и истинным приверженцем таухида,
пострадавшим от нежелания поклоняться кому-либо, кроме Бога. Эта традиция,
возможно, берущая начало в поэзии Халладжа, находит отражение в
творчестве ряда крупнейших персидских поэтов-классиков, таких как Сана'и,
'Аттар и Руми (подробнее см.: [Schimmel 1975: 193—196]). Газель Мирза-
хана фактически является интерпретацией стихотворной «Жалобы
Шайтана» Сана'и. Некоторые бейты в ней просто повторяют на пашто текст
стихов персидского поэта: «Когда Господь на моем пути поставил ловушку,
зернышком в ней был облик Адама» или «Среди приближенных Господа я
увидел того, чье имя с проклятием было написано на Скрижали». Не
исключено, что под «учителем» (ustad) Мирза имеет в виду самого Сана'и.
Рошанитские поэты, как позднее и Бабу Джан, очень интересовались
преданиями о легендарных пророках, предшественниках Мухаммада. У
Давлата, например, есть целая газель, восхваляющая доисламских пророков,
«предводителей на истинном пути» [DL: 187]. Размеры избранной
жанровой формы (11 бейтов) вынудили автора ограничиться фактически только
перечнем имен, которые, видимо, следовало знать всякому образованному
мусульманину. В этом списке значится около тридцати имен— Адам,
Шис, Идрис, Нух, Худ, Салих, Ибрахим, Лут, Йа'куб, Йусуф, Шу'айб, Та-
лут, Илйас, Закарийа, Муса, Харун и пр., — но некоторые, такие как аг-
miya (?), xarqil (?), lam, мне идентифицировать не удалось (возможно,
имеются ошибки в передаче авторского текста, что подтверждается сбоями
в стихотворном размере). Хотя Давлат в начале стихотворения заявляет о
том, что все приводимые им имена «записаны в Коране», на самом деле
многие из них были известны ему скорее из «сказаний о пророках». В
диване Васила обращает на себя внимание газель, где в трех бейтах
перечисляются имена семи героев коранических сказаний — Адам, Хавва' (Ева),
Нух, Халил (эпитет Ибрахима), Муса, Фир'аун (Фараон), Марйам [WR: 12].
208 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Газель написана от лица Бога, который напоминает о том, что Он «знал»
каждого из названных персонажей и был свидетелем всего с ними
происходившего. Вольно или невольно у Васила вышло незамаскированное
подражание Корану.
В стихах рошанитов нашли отзвук почти все зафиксированные в
Священной Книге легендарные сказания. Будучи авторами религиозной
поэзии, рошаниты всегда используют мифологические сюжеты с той же
целью, какую они преследуют в Коране, то есть, как правило, для
иллюстрации могущества Всевышнего. Давлат не обходит вниманием даже самые
миниатюрные сюжеты, например, кратко упоминаемую в Коране историю
Сары (11:74/71—76/73; 51:28—30): «Ты (Бог.— М.П.)—
могущественный, дал плод сухому дереву, умного ребенка произвел из бесплодной;
восьмидесятилетняя Сара не могла забеременеть, а Ты дал ей сына Исхака
от Ибрахима» [DL: 215]. Обычно рошанитские поэты лишь намекают на то
или иное предание в одном-двух бейтах, но у Мирза-хана имеется целая
касыда с развернутым изложением истории Адама [МА: 33—35]. Поэт
повторяет здесь самые общие коранические мотивы о сотворении Адама из
праха, оживлении его божьим духом, поселении в раю, поклонении ему
ангелов, грехопадении по наущению Шайтана, изгнании из рая и
последующем покаянии в грехах.
Стихи с намеками на коранические предания в некоторых случаях
содержат какие-либо существенные детали их сюжетов. Большинство таких
примеров дают стихи Давлата: «Йунус постоянно поминал Бога, когда его
проглотила рыба; и Бог своей силой извлек его из рыбы невредимым» [DL:
78] (21:87—88; 37:139—144); «Когда алчный Карун вышел из повиновения
Богу, познал он беду, под землей его имущество» [DL: 98] (28:76—81);
«Он (Бог. — М. П.) разбил большое войско Эфиопа и Намруда; воины
Господа— маленькие комары и стаи [птиц]» [DL: 174] (105) пз; «Отвергавших
Его Он утопил водой потопа, когда Нух издал плач боли» [МА: 36]; «Если
ты сел на корабль Нуха, то спасся от бури» [WR: 88] (И: 27/25—51/49;
26:105—121, 71) и т. п.
Впрочем, и одно упоминание имени какого-либо персонажа могло быть
аллюзией на историю, с ним связанную. Подобный стиль использования
коранической мифологии был более характерен для поэзии Мирза-хана и
Васила. В числе кратко упоминаемых ими персонажей— любимый
суфиями святой Хизр, указывающий путь к источнику живой воды, т. е.
истинному знанию [МА: ПО, 141, 150; WR: 11, 18, 38, 48], Прекрасный Йу-
суф, брошенный братьями в колодец, и его ослепший отец Йа'куб [МА: 11,
57, 108; WR: 19, 34, 35, 80], царь Сулайман, который «повелевал миром с
помощью кольца» [МА: 8,29; WR: 80], спасшийся от огня Намруда Ибрахим
[МА: 99, 170], его отец Азар, не веривший в Единого Бога [МА: 48], и др.
173 В Коране имя царя-тирана Намруда не встречается, но, предположительно, он
фигурирует в сцене спора с Ибрахимом в качестве безымянного властителя (2:260/258).
История о гибели его войска от полчища комаров, посланных Богом, появилась в
мусульманской традиции позднее (см.: [Heller 1999]).
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
209
Иногда мифологические сюжеты сопровождаются у рошанитских
поэтов арабскими цитатами, часто отдельными словами из священных
текстов. Например, у Давлата: «О огонь, будь прохладой...» (повеление Бога
огню, в который был брошен Ибрахим) (21:69) [DL: 168]; «Ты Меня не
увидишь...» (из диалога Бога и Мусы) (7:139/143) [DL: 37]; «Сообщите
Мне [имена этих]...» и «Сообщи им [имена их]!» (обращения Бога к
ангелам и Адаму) (2:29/31, 31/33) [DL: ИЗ]. В таком же ключе Васил дважды
упоминает о «белой руке» (yad bayza') Мусы как о свидетельстве познания
сокровенного [WR: 32, 48],74 или, вспоминая того же Мусу, говорит, что
«притязание „Покажи мне" (7гш) удовлетворено Богом» [WR: 57]175.
2. Представления о Боге
Религиозно-мистическая лирика рошанитов в первую очередь
направлена на проповедь таухида, поэтому, естественно, центральное место в
ней занимает тема Единого Бога. Представления поэтов о Боге являют
собой переплетение всех известных им постулатов догматического и
мистического ислама. Наиболее зримая форма выражения этих представлений —
восхваление. «Над всем миром [сверкает] молния восхваления (sana)
Бога», — пишет Мирза-хан в своей первой по расположению в диване газели
[МА: 53]. С восхваления Бога начинаются пять касыд Мирза-хана [МА: 19,
26, 27—28, 31—32, 37—38] и две первые касыды Давлата, излагающие его
кредо [DL: 1, 5—6]. Собственно восхвалению Всевышнего Давлат
посвящает большую поэму-маснави [DL: 234—244], а также более двух
десятков газелей и многие руба'и. Большое место хвала Богу занимает в азбуке
Мирза-хана. У Васила Всевышний восхваляется в нескольких газелях и
касыдах [WR: 28, 32, 82—83, 93, 96—97 и др.], а также в значительной
части фрагмента [WR: 109—111]. Конечно, поэты славословят Бога и во
многих отдельных строках стихотворений. Нередко восхваления
сосредоточены в одних эпитетах, священных именах Бога, являющих Его
сущность: ahad ('Единый'), xaliq (Творец'), капт ('Милостивый'), raziq (f
Дающий хлеб насущный'), sattar ('Прощающий грехи') и т. д.
Повторяя одни и те же основанные на священных текстах постулаты,
поэты видят во Всевышнем вечный и беспредельный источник всего
сущего и восхваляют Его прежде всего как всесильного творца,
единственного («без сотоварища») хозяина мира, справедливого и милостивого
властителя. У Мирза-хана шаблонным свидетельством могущества Бога
является краткое изображение созданного Им мира в виде разостланного
пестрого ковра земли и высокого небесного свода, украшенного
светильниками звезд [МА: 31, 38, 44, 125 и др.]. Однажды Мирза использовал тра-
174 В Коране Муса получает от Аллаха чудесные знамения, одно из которых —
умение делать руку белой (20:23/22; 26:32/33; 27:12 и др.).
175 В Коране Муса обращается к Аллаху со словами: «Господи! Покажи мне [себя,
чтобы] я посмотрел на Тебя» (7:139/143).
210 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
диционное сравнение мира с шахматами, а творений Бога — с
шахматными фигурами [МА: 45].
Давлат часто приводит длинные перечни того, что сотворено Богом. В
одном из таких перечней, например, раздельно упомянуты объекты
«нижнего» мира — земля, горы, деревья, животные, птицы, духи (pari, dlv\
человек — и «верхнего» мира — «небеса, стоящие сами по себе без опор»,
солнце, луна, светила, «упорядоченные рядами» ангелы [DL: 147].
Творения Бога суть признаки Его величия, а наиболее ярким признаком поэт
считает человека, поскольку в нем в большей степени явлено могущество
Творца. Соразмерность человека и слаженность его пяти чувств лучше
всего, по мнению Давлата, свидетельствует о силе божественного
мастерства.
У Васила в подобном контексте Всевышний — это тот, кто может
взрастить плод на сухом дереве [WR: 18], чей один день равен жизни целого
мира [WR: 82], кому подчиняются реки и времена года [WR: 93] и т. п.
Среди немалого числа напыщенных и нередко тяжеловесных фраз более
искренними и, вероятно, более понятными аудитории поэта были такие
стихи, где говорится о добром старом Боге, который неожиданно для
человека проявляет к нему благосклонность и помогает справиться со всеми
тяготами [WR: 96].
Явление божьей милости в мире Мирза и Васил, как и другие
суфийские поэты крестьянского происхождения, часто сравнивают с небесным
дождем, приносящим неоценимое благо растениям, животным, а в
результате — и человеку, главному объекту благодеяний Бога. «На людей льется
добрый дождь Его милости, — пишет Мирза, — зрелый разум — это
молния, любовь — гром» [МА: 54].
Давлат больший акцент ставит на идее о Боге как единственном
подателе и гаранте хлеба насущного (rizq\ в добывании которого верующему, а
тем более ступившему на путь Истины, не следует чрезмерно
усердствовать. «Тому, у кого нет зубов, Он дает хлеб насущный молоком из груди»
[DL: 168]. Давлату явно нравилось повторять, что Бог любит человека
больше, чем его родители. Нередко в его стихах звучит проповедь страха
перед Богом, ибо тот, кто боится Бога, не боится ничего другого, а «не
страшащиеся Бога испытывают страх перед всем» [DL: 136].
Конечно, основополагающий мотив рошанитской лирики связан с
утверждением веры в Единого и Единственного Бога, не имеющего «сотоварища»
(besarika). У Мирза-хана и особенно часто у Давлата встречается
классический образ меча отрицания /а, которым истинно верующий должен
убить «других» (agyar), т. е. отвергнуть все иное, кроме Аллаха, произнеся
символ веры, начинающийся с отрицания la [MA: 141; DL: 64]. Мирза
однажды использовал похожий, но более близкий к крестьянскому быту
образ, ставший основой для небольшой трехбейтовой аллегории на
земледельческую тему. Всякий добропорядочный садовник, говорит поэт,
должен сначала очистить от сорняков поле своего сердца острым серпом la
ilah («Нет божества...»), а затем посадить на этом поле «чистое семя вахда-
та» ilia 'llah («...кроме Аллаха»), полив его водой веры [МА: 194].
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
211
Представления о Едином и Единственном Боге, который являет себя в
мире и своими атрибутами создает его множественность, определяются
емким понятием таухид. Давлат утверждает, что в Коране таухид и ма'рифат
составляют суть любой мудрости {hikmat) [DL: 207], а однажды называет
таухид своей истинной верой, противопоставляя его мнимому (majazi)
исламу [DL: 28]. Хотя, как уже неоднократно говорилось, вся рошанитская
поэзия так или иначе связана с истолкованием таухида, только Давлат
применяет это понятие по отношению к своим религиозно-философским
взглядам. Одна его касыда, например, начинается с такого пояснения: «[Эти]
слова о таухиде ниспосланы в мое сердце, они свободны от
отступничества и хулулиййи176» [DL: 43].
Краткие определения таухида у Давлата, как правило, образные. Поэт
называет его деревом с многочисленными ветвями, листьями и плодами
[DL: 39], полем, на котором произрастает все сущее [DL: 105], садом, в
котором шипы и цветки, вороны и соловьи — одно [DL: 82] и т. п. В
таухиде, пишет поэт, «ты увидишь сотню как тысячу, тысячу как единицу,
единицу как сотню» [DL: 199]. Давлат убежден, что без знания таухида
невозможно выдержать допрос ангелов загробной жизни Мункара и Накира
[DL: 140]. Поэтому он призывает всех идти только по дороге таухида,
которая может именоваться также дорогой Истины, или дорогой Байазида
Ансари, или дорогой Света и т. д., но предупреждает, что по этой дороге
«не сделает и одного шага тот, кто не вытащит из ноги шип сомнения»
[DL: 163].
Мирза-хан предпочитал передавать идею таухида с помощью образа
алифа, первой буквы арабского алфавита, повторяя старую мысль о том,
что алиф, свободный от изгибов, точек и других диакритических значков,
является производной основой и сущностью всех прочих букв [МА: 28, 29,
58, 75, 210 и др.]. Будучи «лишенным знака» (benisan), алиф — удобный и
хорошо понятный грамотному человеку символ Единого Бога. В одной
газели Мирза от имени самого Бога сказал так: «Я — один-единственный,
как алиф без точек; одним бытием объемлю все» [МА: 86]. Образ
«лишенного знаков» Бога, часто встречающийся в стихах Мирза-хана [МА: 65, 81,
129, 188 и др.], был популярен у всех рошанитов. Здесь можно вспомнить
рассказ Мубад-шаха, автора «Дабистан-и мазахиб», о его встрече с Васи-
лом, когда последний в качестве интерпретации одного из положений ро-
шанитского учения сочинил на фарси стих, где обыгрывался тот же образ.
Васил тоже любил аллегорию с арабским алфавитом, но кроме того, не
обременяя себя поиском свежих образов и сравнений, иллюстрировал
идею таухида такими довольно банальными параллелями: Бог— один,
как государь в стране, или садовник в саду, или отец у ребенка, или имам
во время молитвы [WR: 4, 10, 65, 72, 91 и др.]. Надо заметить, что Васил и
Мирза значительно реже, чем Давлат, употребляют сам термин таухид,
176Хулулиййа (hululiyya) — одно из мистических учений в исламе,
согласно которому Бог может пребывать (воплощаться) в предметах материального мира
и людях. Нормативное богословие и большинство суфийских школ признают его
еретическим.
212 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
обычно пользуясь вместо него однокоренным словом вахдат (wahdat),
равнозначным понятию вахдат ал-вуджуд. У Васила, например, термин таухид
встречается трижды: в одном случае поэт требует сжечь светом таухида
«второго», т.е. воображаемого двойника Бога [WR: 11], в другом
утверждает, что следы таухида — самое видимое зрелище [WR: 28], в третьем,
изъясняясь юридическим языком, называет притязание (da'wa) таухида
основательным (muhkam) [WR: 107].
Концепция вахдат ал-вуджуд, теоретическое обоснование которой
традиционно связывают с именем Ибн 'Араби и которая лежит в основе
мистико-философских взглядов рошанитов, является одной из суфийских
интерпретаций общемусульманского понятия таухида. У рошанитских
поэтов эта концепция фактически сводится к известной формуле hama ii-st
(«все есть Он»), распространившейся в персидской суфийской поэзии,
видимо, после 'Аттара [Schimmel 1975: 147, 283]. Мирза-хан, следуя поздней
традиции такого крайнего пантеизма, меняет местами в названной
формуле субъект и предикат: «Ты есть все и во всем» (гэ hama-ye рэ hama-kse)
[MA: 188].
Представление о Боге как единой, единственной и всеобъемлющей
субстанции покоилось у рошанитов на мистическом толковании кораниче-
ского текста: «И Аллах всякую вещь объемлет» (wa капа 'llahu Ы kulli
say'in muhitari) (4:125/126; 41:54). В воспоминаниях Ахунда Дарвезы
сохранился забавный рассказ о его лингвистической дискуссии по поводу
этого высказывания с рошанитом шейхом Пайандой [Tazkirat: 124а]
(перевод отрывка см.: [Пелевин 1997: 127]). Поэтому не случайно в стихах
рошанитских поэтов Бог нередко фигурирует под определением muhit (букв.:
'окружающий' или 'океан'). Особенно часто это определение встречается
у Мирза-хана [МА: 33, 66, 69, 75, 86, 124, 181, 256 и др.]. В одном из
бейтов алиф-нама поэт сделал такое разъяснение для своей неискушенной
аудитории: «[Он] и на земле, и на небе; Он есть и пространство (muhit)
между ними» [МА: 5].
Как и многих суфийских авторов, Мирза-хана привлекал вытекающий
из второго значения слова muhit образ Бога как бескрайнего,
бесподобного, чистого океана (daryab, yam) [MA: 22, 28, 216, 227, 249 и др.]. Надо
думать, находясь в Индии, Мирза смог увидеть океан воочию, но поскольку
вся его жизнь протекала вдали от морских берегов, образ божественного
океана в его стихах не получил каких-либо оригинальных и зрелищных
вариаций. Поэт оставался в рамках поэтического стандарта, когда
повторял известное суфийское изречение о рыбе в воде и воде в рыбе [МА: 87] и
когда увещевал духовных невежд такими словами: «Сколько еще будет
беззаботно спать капитан? [Кругом] огромный безграничный океан, [а у
него лишь] утлое судно177» [МА: 203]. Неоднократно Мирза-хан, пользуясь
шаблонной аллегорией, изображал Бога и Его творения, т. е.
божественную сущность и ее материальные формы, в виде океана и пузырящейся на
нем пены Qiubab). Пузыри, возникающие на поверхности воды, заслоняют
собой сам океан, но, будучи недолговечными, они быстро лопаются и сли-
Под утлым судном, вероятно, имеется в виду тело человека.
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
213
ваются с водой, тем самым обнаруживая свою исконную сущность [МА:
59,91,95, 198, 211,257 и др.].
Метафизическая сторона идейных воззрений рошанитских поэтов в
общих чертах отражает известную мистико-философскую теорию, согласно
которой, Бог, изначально пребывавший в одиночестве (xalwat) в мире
абсолютного духа (lahut\ но пожелавший узреть собственную красоту (jamal),
показывает себя путем явления (tajallT) в мире материальных сущностей
(nasiti). Этими идеями пронизана вся азбука Мирза-хана, а краткие
высказывания на онтологическую тему встречаются во многих отдельных
строках у всех поэтов. Давлат, например, начинает одну газель таким бейтом:
«Возлюбленный Друг являет себя (tajalli ко) без завесы всюду и всегда; и
познавшие ('arifan) созерцают Его светлую красоту всегда» [DL: 147].
Для обозначения двух состояний Бога рошанитские поэты обычно
используют философские термины wahdat ('единственность') и kasrat
('множественность'). Чаще других этими понятиями оперирует Мирза-хан, у
которого во многих бейтах звучит мотив прихода Бога из вахдата в касрат
[МА: 2, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 57, 86, 93 и др.]. Иногда Мирза оживляет этот
мотив образными толкованиями. Например, он называет касрат то
пестрой одеждой вахдата [МА: 17, 32, 153, 192], то базаром, куда приходит
одинокий в вахдате Бог и где Он становится одновременно и объектом и
субъектом созерцания [МА: 14, 99, 244].
Соответствуя понятию единого и единственного божественного бытия,
вахдат интерпретируется также в традиционных аллегорических образах
океана, водой которого не может напиться караван касрата [МА: 107], или
дерева, на ветвях которого красуются листья и плоды касрата [МА: 39].
Только однажды Мирза-хан отошел от традиции и вновь приблизился к
быту, сравнив вахдат с огороженной землей (angar), на которой живет
«деревня касрата» [МА: 44]. Образы океана или дерева вахдата часто
встречаются и у других поэтов. «Единый и Единственный не скрыт во
множественности; тысячи ветвей и плодов исходят от одной лозы», — пишет,
например, Давлат [DL: 123].
Рассуждая о многообразии внешних проявлений и форм (suratuna)
божественного бытия, рошанитские поэты любили приводить парные
антонимы типа: цветок — шип, пьяный — трезвый, торговец — товар, весна —
осень, сев — жатва, ядро — скорлупа, сладкое — горькое, война — мир и
т. п. [МА: 12, 13, 17, 94; WR: 110]. Поэты призывали своих слушателей не
обманываться множественностью и пестротой материальных сущностей и
на простых примерах объясняли, что за многообразием форм скрывается
единое божественное начало. Иногда поэты уточняли, что основу зримых
форм составляют четыре элемента — огонь, вода, ветер (т. е. воздух) и
земля, в виде которых Бог явился в касрат [МА: 199, 249]. Заявления о
единой сущности религиозных доктрин, возможно, были просто
поэтической риторикой, но так или иначе учили паштунов веротерпимости.
Мирза-хан, например, утверждал, что Господь не умещается в одном месте,
поэтому «в Каабе Он с мусульманином, в капище с неверными», и Его
можно найти и в суфийской ханаке, и в христианском монастыре [МА: 12, 69].
214 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Параллельно с понятиями вахдат и касрат рошанитские поэты
употребляли также понятия лахут (lahut) — 'мир божественный', и насут (па-
sui)— 'мир человеческий'. Хотя эти категории не являются
взаимозаменяемыми и в философии суфизма соотносятся друг с другом по-разному,
рошаниты часто пользуются ими как синонимами, особенно в контексте
метафизических идей о явлении (tajallt) Бога в мире. Это хорошо видно на
примере стихов Мирза-хана, у которого есть не только аналогичные
вышеупомянутым высказывания о приходе Бога из лахута в насут, но и
однотипные сравнения насута с базаром и цветными одеждами лахута [МА:
2, 5, 57, 75, 93, 198, 245 и др.]. Впрочем, в трех бейтах одной газели Мирза,
в соответствии с теософской традицией, рассматривает эти категории как
последовательные уровни познания, т. е. приближения к Богу, и упоминает
еще два промежуточных мира — малакут (malakui) — 'мир ангелический'
и джабарут (jabarut)— 'мир могущества' [МА: 195] (подробнее о мирах
см.: [Тримингэм 1989: 134—135]).
Из онтологических концепций о соотношении единственности и
множественности, мира духа и мира материальных форм логически вытекают
еще два парных понятия — gflt ('сущность') и sifat ('качества').
Рошанитские поэты многократно повторяют известные положения суфийской
философии о единой, вечной, неизменной, самодовлеющей сущности Бога и
о производных и зависимых от нее качествах, многочисленных и
изменчивых [МА: 2, 15, 32, 35, 65, 78, 108, 127, 210, 216, 240, 243; DL: 72, 108; WR:
10, 19, 58, 70, 77, 96, 106 и др.]. Мирза-хан постоянно смыкает тему
сущности и качеств с проповедью таухида и больше других уделяет внимание
именно онтологии, вопросу о происхождении качеств, которые, по его
словам, возникли вследствие явления или «блеска» (tajallT, jalwa)
сущности и стали зримыми после повеления Бога кип ('Будь! ') [МА: 93, 98, 219].
Посвящая этой теме много бейтов, Мирза тем не менее, в отличие от Дав-
лата и Васила, редко обращается к метафорам. В одной из таких метафор
сущность определяется им как хвала божественной красоте, а качества —
как словесные выражения этой хвалы на разных языках [МА: 142].
Давлат сравнивает божественную сущность с безбрежным и
всеохватным океаном [DL: 151] и полагает, что все творения скрыты в этой
сущности подобно тому, как звезды скрыты в свете солнца [DL: 200, 214]. В
одном бейте поэт замечает, что «сущность проявляется в качествах, как огонь
обнаруживает себя дымом» [DL: 123], а в другом формулирует мысль о
зависимости этих категорий с использованием такого нестандартного
образа: «Качества ни одно мгновение не бывают без сущности; не думай, что
в зарослях нет перепелки» [DL: 144]. Сообщая о собственном мистическом
опыте, поэт утверждает, что божественная сущность открылась ему во всем
только тогда, когда он уменьшил в своем сердце любовь к качествам, т. е.
к материальному миру [DL: 126]. Нельзя не процитировать еще один бейт,
в котором Давлат, хотя и следуя давней мистической традиции,
балансирует на грани, отделяющей теософию от ереси: «В таухиде Я —
единственное чистое бытие, а когда Я надел одежды качеств, Я стал Давлатом»
[DL: 154].
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
215
У Васила встречается любопытное сравнение сущности со смыслом
коранического стиха, айата, а качеств — с хадисами, разъясняющими этот
смысл [WR: 109]. Иногда Васил позволял себе углубляться в теорию
вопроса и рассматривал качество как совокупность имени и формы. В
качестве примера он приводил лед, полагая, что уах След') в данном случае
является именем воды— одной из форм божественной сущности [WR: 31,
69, 96]. Саму же сущность, считает Васил, определить словами
невозможно, поскольку все звуки, произносимые человеком, являются лишь
«именами качеств» [WR: 14].
Философский вопрос о сущности и качествах был основой
сопоставления еще одних парных категорий — batin ('внутреннее', 'скрытое') и lahir
('внешнее', 'явное'), которые тоже постоянно встречаются в рошанитской
поэзии. Васил употребляет эти термины фактически как синонимы
понятий «сущность» и «качество» [WR: 3, 27, 48, 73, 111 и др.], а два раза явно
обозначает ими миры лахут и пасут [WR: 52, 58].
Важное место в рошанитской поэзии занимает тема божественного
света (пйг, rosnayT, rana). Представления рошанитов о божественном свете как
первооснове всего сущего сочетают в себе разные по происхождению и
смыслу мистико-философские идеи и лежат в основе метафизики их
учения, что отражено в самом его названии rosaniyya (см. также гл. И, разд. 2
и гл. III, разд. 6).
В большинстве случаев высказывания рошанитских поэтов о свете
выдержаны в духе любовно-мистической лирики, и речь в них идет о
сияющем лике прекрасного Друга. Однако у Мирза-хана и Давлата иногда
встречаются прямолинейные догматические суждения на эту тему: «Бог, в
сущности, только один, один бесподобный чистый свет» [МА: 93]; «Он
стал светом всего мира, во всем Он скрыт» [МА: 52]; «Взгляни на Его
единосущный свет, им озарен каждый» [МА: 13]; «Все, что существует, из
своего света создал вначале Господь» [DL: 194]; «Все существующее на
земле и небе возникло из одного света» [DL: 46]; «Какими бы
бесчисленными по своим качествам ни были творения, все они, близкие и далекие,
погружены в Твой свет» [DL: 109] и др. Однажды Мирза-хан
продемонстрировал знания, лежащие на границе метафизики и физики: «Каждый цвет
[происходит] от одного цвета, имя которому — свет» [МА: 172].
Нередко, определяя божественный свет религиозно-философскими
категориями и говоря о нем как о свете таухида, свете ма'рифата, свете
духа (гйИ) и т. д., рошанитские поэты предпочитали все же пользоваться
стандартными аллегорическими символами. Самый распространенный из
них— это солнце, восход которого превращает ночь невежества в утро
духовного просветления. У Васила существенным элементом такой
аллегории является тень, означающая сомнение или заблуждение (guman, pin-
dar) относительно истинного таухида. Аллегория строится следующим
образом: ночью тень не видна — в невежестве сомнение и заблуждение не
осознаются; утренний восход солнца делает тень видимой— духовное
просветление выявляет наличие сомнений и заблуждений; в полдень,
когда солнце находится в зените, тень исчезает — познание Бога уничтожает
все сомнения и заблуждения [WR: 12, 18, 22, 34, 41, 44, 60, 65, 88 и др.].
216 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
В подобном же контексте тень-сомнение может быть заменена водой (у
Мирза-хана — льдом [МА: 257]), которая испаряется под действием
солнца, или лесом, сжигаемым взглядом Бога, т. е. опять же солнцем [WR: 44].
Однажды, имея в виду сложность познания Бога, Васил говорит о
«своевольном солнце смысла», которое невозможно догнать, шагая за ним
следом [WR: ПО]. У Мирза-хана в аллегории с солнечным светом часто
фигурируют шаблонные образы слепца или летучей мыши, означающие
духовно непросветленного человека [МА: 66, 167, 170, 174, 244 и др.].
Источником божественного света в аллегорических картинах бывает не
только солнце, но и светильник (dewa, cardg, mas'al и пр.), который,
подобно самому свету, может определяться как светильник таухида [МА:
101, 205, 210, 225], ма'рифата, [WR: 24], вахдата [WR: 88], веры [WR:
31], сердца [WR: 40], тайны [МА: 6] и т. п. Как известно, суфийская
концепция божественного света проистекает из коранического стиха, где
упомянут именно светильник (misbah): «Аллах— свет небес и земли. Его
свет— точно ниша; в ней светильник...» (24:35). В одном бейте
Мирза-хана сказано, что его собственный светильник зажегся от Сираджа [МА: 120].
В Коране «светильником освещающим» (siraj muriir) однажды назван
пророк Мухаммад (33:45/46), поэтому можно предположить, что Мирза имеет
здесь в виду производную теорию «Мухаммадова света» (пйг Muhammadi)
(см. гл. 2, разд. 2).
Представления о божественном свете лежат в основе гносеологических
идей о том, что познание Всевышнего осуществляется путем движения от
тьмы к свету, отделения тьмы от света и, таким образом, почти
буквального прозрения. «Иди к свету, [свои] нрав и деяния сделай светлыми, ступай
дорогой Байазида», — призывает Давлат в одной из газелей [DL: 37]. В
другом стихотворении он так описывает собственный опыт обретения
истинного света: «Подобно слепому я пребывал растерянным во тьме, но
нашел жемчужину светлее солнца и луны... Была темная ночь, [а впереди]
долгий переход и длинная дорога; я шел по стопам великих и получил
весть... Я узнал чистый, светлый, немеркнущий Восток, от которого берет
свет зримое солнце» [DL: 103]. Познавший Бога не только становится
подлинно зрячим, но и сам превращается в частицу божественного света. По
словам Давлата, «чистым светом становится все тело того, кто постоянно
пребывает в мыслях о Всевышнем» [DL: 212]. Подобные же
гносеологические интерпретации темы света имеются и у других поэтов. Мирза-хан,
например, заявляет, что когда зажигается божественный светильник, «дух
освобождается от оков» [МА: 125] и «становятся явными тайны смысла»
[МА: 122].
Следуя общим положениям мистической философии, преломленной в
поэтической традиции, рошаниты видят причину сотворения мира в
«самовлюбленности» Бога, Его желании увидеть собственную красоту, а цель
и смысл акта творения понимают как самосозерцание Бога. Отражаясь в
созданном мире, как в зеркале, Бог созерцает самого себя. Этот мотив
особенно часто повторяется в стихах Мирза-хана и Давлата [МА: 12, 19, 171,
173; DL: 76, 82, 94, 96, 209 и др.]. «Весь мир становится зеркалом тому, на
чьем челе венец из света» [МА: 48]; «Все песчинки стали зеркалом Его ли-
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
217
ку; все [сущее] взирает на лик Друга» [МА: 101], — постоянно восклицает
Мирза-хан. Может быть, вследствие увлечения музыкой Мирза
представляет Бога тем, кто не только видит, но и слушает себя посредством
сотворенного Им мира. Поэтому Всевышний у него и «говорит устами
каждого», и «слышит всеми ушами» [МА: 10,12, 31,48].
Мотив самосозерцания Бога приобретает гносеологическую
направленность, когда глазами, устами и ушами Всевышнего оказывается
мистик, духовно просветленный человек, часто сам поэт. Отсюда утверждение
о соединении у Бога функций возлюбленного и влюбленного [DL: 111],
призыв смотреть на рисунок глазами художника [DL: 169] и признание в
том, что поэт-мистик взирает на Бога Его же глазами [DL: 93].
Логическим следствием идеи о самопознании Бога были стихи, в
которых устами поэтов как будто говорил сам Господь. Кроме отдельных
бейтов в разных стихотворениях у Мирза-хана в подобном ключе, т. е. от лица
Бога, написано девять газелей [МА: 79—80, 80—81, 83—85, 85—86, 86—
87, 91—92, 111—112, 136],78, у Васила— восемь [WR: 7, 10, 11, 12, 13—
14, 32; Rasad 19752: 21—23], у Давлата— две [DL: 150, 152—153]. Стоит
заметить, что в этих стихотворениях преобладают рифмы с исходом на
букву мим, которая во всех случаях передает конечный согласный в
глагольных окончаниях первого лица. По шесть газелей Мирза-хана и Васила и
оба стихотворения Давлата имеют такие рифмы. Соответственно, в
диванах эти произведения располагаются близко друг к другу, иногда даже
последовательно, поэтому можно говорить об осознанном или неосознанном
стремлении поэтов к их циклизации.
Стихи с речами Бога по меньшей мере не одобрялись нормативным
богословием, но вполне соответствовали традициям экстатической
суфийской поэзии, подкрепленной авторитетом Халладжа, 'Аттара, Руми. Такие
стихи могут восприниматься как поэтическое выражение состояния хал,
которое, по мнению мистиков, нисходит свыше. Недаром Васил называет
Бога «падишахом дервишей и вазиром страны хал» [WR: 96]. Иногда в
подобных произведениях незаметно происходит чередование субъекта
высказывания, слова Всевышнего перемежаются со словами самого автора,
что еще больше заставляет видеть в них следствие мистического экстаза.
Однако я не берусь с полной уверенностью утверждать, что в данном
случае речь идет о реальном психическом состоянии авторов в момент
творчества, а не об осмысленном использовании соответствующего
художественного приема.
Газели Давлата со словами Бога стилистически несколько отличаются
от подобных им стихотворений Мирза-хана и Васила. Хотя Бог Давлата
тоже заявляет, что Он говорит языком хал, этот язык оказывается более
простым и ясным, чем тот, которым Он изъясняется у двух других поэтов.
Одна газель построена на перечне противоположных явлений, в которых
воплощается божественная сущность: душа— тело, добро— зло, сла-
178 Интересно, что в петербургских рукописях дивана Мирза-хана— С 1901 и
В 2451 — из приведенного списка отсутствуют, соответственно, три и две (причем те
же самые) газели.
218 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
дость — горечь, вода — суша и т. п. Однотипные по структуре
формулировки придают стихотворению особую ритмичность, что позволяет думать
о ее назначении для вокального исполнения. Другая газель написана в
форме самовосхваления (фахр) Всевышнего. Поскольку она в кратком
виде излагает основные представления рошанитов о Боге, я нахожу
уместным привести ее полный перевод:
Я говорю языком хал, // Я явлен единым и единственным.
Я облачился в красивые одежды, // И исполнился любовью к самому себе.
Другого нет, когда смотрят на Меня. // Я созерцаю собственный лик.
Я не нахожусь на небесном престоле, // Я само место небесного престола.
Небесный престол не вместил бы Меня,
// Я само небо, которое больше небесного престола.
Ничто не скрыто от Меня, // Я всевидящий и всезнающий.
Все вершится по моей воле, // Я единый властитель, не имеющий сотоварища.
Своей сутью Я одинаков // И для мусульманина, и для индуса.
Величие и красота — два Моих крыла, // На которых Я воспаряю.
Я свободен от кончины, гибели, ущерба, // Я незыблемый и вечный всегда.
Я яркий пылающий светильник, // Я весь источаю свет.
Все объято Моим светом, // Я чистое, милостивое, блистающее солнце.
Мир исполнен Моим светом, // Я ярче солнца.
Передо Мной нет завесы, // Я не скрытый и видимый всюду.
Устами бедняка Давлата // Я заявляю, что Я — весь мир.
[DL: 152—153]
У Мирза-хана и Васила стихотворения со словами Бога заключают в
себе вообще все темы и мотивы мистико-философской лирики рошанитов
и представлены двумя типами: одни являются своеобразными
декларациями Всевышнего о своем существовании и провидении, в других
Всевышний порицает авторов за духовное нерадение и требует от них
самоотречения на пути познания. Таким образом, поэты затрагивают в этих
стихотворениях и онтологический, и гносеологический аспекты тасаввуфа.
Нетрудно заметить здесь явную параллель с литературой мистических
откровений, в частности с рошанитским «Хайр ал-байаном», а в конечном
итоге с самим Кораном, где речи Бога имеют такую же двойную
направленность, но во втором, гносеологическом аспекте, естественно, больше
сосредоточены на теме пророческой миссии.
3. Мистический опыт познания
Сотворение мира и человека, деятельность доисламских вероучителей,
пророческая миссия Мухаммада, мистический опыт столпов тасаввуфа
понимаются рошанитскими поэтами как этапы самопознания Бога, главным
средством которого является человек, созданный по Его подобию и
наделенный для выполнения своей роли душой, разумом и органами чувств.
«Если Его целью не было созерцание своего лика, зачем Он тогда создал
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
219
одежду (т. е. материальную форму. — М. П.) человека (insan)!» — задает
риторический вопрос Мирза-хан [МА: 143]. В других стихах поэт
поясняет, что Всевышний сам скрыт в «одежде человека» [МА: 3, 5, 48], а
поскольку Он влюблен в самого себя, то из всех творений (jnaxluqai) Он
питает особую привязанность именно к человеку, способному, в отличие от
животных, познать во всем Его сущность (gat) [MA: 19, 32, 237]. «Твари
предназначены для человека, а человек создан для познания Бога (ma'ri-
fat)» [MA: 45].
Одна из касыд Мирза-хана целиком посвящена характеристике
человека как субъекта мистического познания [МА: 49—51]. Сотворенный из
праха человек являет собой лучшую из телесных форм (siirat), поскольку
он, по образному высказыванию поэта, — «воплощение Великой Красоты»
и одновременно «книга познания» (йэ ma'rifat daftar), в которой «собрано
все, что рассеяно по морям и суше». В десяти бейтах Мирза перечисляет
атрибуты человека, служащие инструментами познания: разум ('aql), язык,
уши, нос, глаза. Во главе всего стоит дух (ruh), правитель «страны тела»,
которому подчиняются все органы. Следуя суфийской традиции
изображать человека как микрокосм, Мирза называет сердце престолом Бога
('ars), а грудь — подножием престола (kursT) m. Из заключительных бейтов
касыды следует, что поэт описывает в ней не обычного человека, а того,
кто «обрел покой в сукунате», т. е. достиг высшего уровня духовного
развития, согласно рошанитскому учению.
Близкие по смыслу рассуждения о месте человека в мироздании
содержатся также в ряде стихов Давлата, в том числе во вступительной части (7
бейтов) поэмы, обращенной к абстрактному человеку с
религиозно-этическими назиданиями [DL: 6, 124, 149, 193, 210, 218—219]. В подобных
стихах, полностью основанных на коранических постулатах, говорится о том,
что человек, будучи самым лучшим и великим творением Бога, имеет
гармоничное физическое сложение и присущие только ему духовные и
интеллектуальные свойства. Давлат подкрепляет свои слова сокращенной
арабской цитатой из Корана: «[Мы сотворили человека] лучшим
сложением» (fiahsani taqwim) (95:4). Не скупясь на эпитеты, поэт называет
человека «зеркалом Бога», «светочем земли» и «сиянием небес», а также
«великим Совершенным Учителем, указующим всем дорогу». Поэт напоминает
о том, что «отцу человека», то есть Адаму, поклонились все ангелы
(конечно, кроме Иблиса) и что весь мир был создан для удовлетворения его
нужд.
Одной из теоретических основ представлений рошанитских поэтов о
человеке как средстве самопознания Бога была мистико-философская
концепция Совершенного Человека (insan kamil\ систематизированная в
начале XIII в. Ибн 'Араби и получившая дальнейшую разработку у 'Абд
ал-Карима Джил и (ум. после 1408). Не случайно и Мирза и Давлат в стихах о
человеке, как правило, пользуются словом insan. Будучи идеальной
моделью божественного бытия, своеобразным микрокосмом, Совершенный
Человек представляет собой образец духовного и физического совершенства,
Об интерпретациях коранических понятий 'ars и kursi см.: [Sadan 1999].
220 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
достичь которого могут только божьи избранники — пророки или
выдающиеся своими качествами суфийские шейхи. Эта концепция особенно
занимала воображение Васила, специально посвятившего теме
Совершенного Человека одну газель и около десятка четверостиший.
Газель содержит славословие Совершенному Человеку 18°, который
фигурирует под вынесенным в редиф определением «этот купол» (da gunbag)
[WR: 28]. Поэт высказывает известные идеи о том, что Совершенный
Человек является вместилищем божественного духа, воплощает в себе образ
всего мира, служит опорой небесам и основой четырем элементам
мироздания. Также кратко упоминается идея Ибн 'Араби о «Мухаммадовой
сущности» (haqiqa muhammadiyya), реализованной в Совершенном
Человеке. Васил пишет, что «этот купол» носит имя пророка и источает
божественный свет.
Четверостишия о Совершенном Человеке составляют часть большого
цикларуба'и о трех типах людей: insan [kamil], adam m, badal, которые
соответствуют последовательным уровням сочетания духовного и
материального в человеке. Разумеется, Совершенный Человек — это высший тип,
поскольку он является главной манифестацией (tajallT) Бога. Его
космические свойства главенствуют над собственно человеческими и
определяются у Васила понятиями, которые обозначают главные качества
Всевышнего —jalal ('величие'), уята/ ('красота'), kamal ('совершенство'). Само
слово insan поэт считает «великим именем» (ism a'lani), т.е. фактически
равным имени Бога, а ма'рифат Совершенного Человека он называет
служением самому себе, т. е. самопознанием Бога. Сущность и качества
инсана — вечны и неизменны, поэтому он всегда пребывает в одном
состоянии (hat). Все эти характеристики, как и утверждение о том, что суть
инсана есть свет, одинаково приложимы к Богу, из чего можно сделать
вывод о полном уподоблении Совершенного Человека Всевышнему [WR: 99,
100, 102, 103].
На низшем уровне иерархии находится badal, Низший Человек, в
котором материальные свойства полностью затмили собой духовную
сущность. Не случайно поэт применяет к нему термин jimad, передающий в
философии понятие неодушевленного твердого тела [WR: 102]. Главным
признаком Низшего Человека является отсутствие искренней веры в Бога,
а в числе прочих значатся привязанность к иллюзорному материальному
миру (majaz), пребывание в сомнениях (guman), отказ от покаяния (tawba)
и постоянной молитвы (yad), неспособность пережить состояние хал.
Иногда характеристики Низшего Человека сопровождаются у Васила весьма
приземленной бранью и проклятиями. Мирза-хан, кстати, тоже изредка
отпускал критические замечания в адрес Низшего Человека, который, по
его словам, маскируется в «одеждах инсана», но предпочитает сомнения
вере[МА: 117].
180 Во всех стихах Васил называет Совершенного Человека только словом insan, без
эпитета kamil, возможно, чтобы избежать контаминации с понятием «Совершенный
Учитель» (pir kamil). Полный термин insan kamil однажды встречается у Мирза-хана
[МА: 87].
181 Применительно к этому типу Васил использует также слова basar и saray.
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
221
Промежуточный уровень занимает Человек-Адам, само имя которого
говорит о его мифологическом прообразе. В некоторых газелях Васил
находит повод напомнить кораническую историю о грехопадении Адама
[WR: 28, 37]. Будучи изначально противоречивой натурой, Человек-Адам в
равной степени наделен духовным и материальным, однако эти
субстанции не находятся между собой в гармонии, как у Совершенного Человека,
но контрастно противопоставлены друг другу. В ряде четверостиший поэт
говорит именно о двойственности Человека, о сочетании в нем темного и
светлого, ничтожного и величественного, неспелого и зрелого, левого
(дьявольского) и правого (божественного) и т. п. [WR: 101—102]. Поэт
порицает Человека за то, что тот подвержен сомнениям и наущениям злого
духа, не отличается смирением, предается суете, забывает духовное
наследие предков, сам судит свои поступки [WR: 102—104]. Тем не менее, в
отличие от Низшего Человека, который неисправим, Человек-Адам, по
мнению Васила, «не лишен веры» и может быть наставлен на истинный путь.
Поэт пользуется здесь таким иносказанием: «Сырой глиняный горшок
если и ломается, то вновь восстанавливается целиком» [WR: 103]. В других
стихах — нескольких газелях и фрагменте — Васил перечисляет качества,
которыми должен обладать Человек, чтобы отличаться от животного и
иметь право претендовать на высокий статус инсана. Природа Человека,
по мысли Васила, должна заключаться в вере (Man) и чистоте (taharat),
нрав — в справедливости ((adl) и доброте (ihsari), а деяния — в
поклонении Богу (4badat) и познании (ma'rifat) [WR: 28, 73, 80, 109].
Существенное значение в поздней суфийской традиции и «народном»
исламе придавалось идее предвечного договора (misaq) Бога с людьми,
извлеченными до их реального появления «из сынов Адама, из чресл их» для
того, чтобы «засвидетельствовать о самих себе» и ответить на вопрос Бога:
«Разве не Я Господь ваш?» (alastu Ы rabbikum) (Коран, 7:171/172). Эта
идея, нашедшая свое отражение в рошанитской поэзии, с одной стороны,
лежит в основе обыденных фаталистических представлений мусульман, а с
другой — служит источником мистических воззрений о предвечном тау-
хиде, вследствие которого человек был изначально наделен функцией
субъекта познания Бога. По мнению мистиков, в том числе и рошанитских,
человек, в течение жизни исправно соблюдающий договор с Богом и
выполняющий свою гносеологическую функцию, в итоге возвращается к
Дню Договора (riiz-i alast), т. е. в вечное бытие, а того, кто нарушает этот
договор, ждут мрачные последствия Судного Дня (riiz-i qiyamai).
Понятие предвечного договора рошанитские поэты передают
терминами alast и azal. Первый чаще встречается у Мирза-хана, который нередко
повторяет мысль о том, что «милость аласта для каждого одинакова, но по
[своей] воле кто-то отверг [ее], кто-то принял» [МА: 45]. Естественно, о
самом себе Мирза сказал по этому поводу так: «В извечности (azal) я
сказал языком признания (iqrar), и до конца я верен своему обету» [МА: 89].
Иногда Мирза использует классический образ «чаши аласта», из которой
испить вина суждено только настоящему инсану [МА: 180].
222 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Призывая своих слушателей жить в согласии с предвечным договором,
поэты часто затрагивают более общую тему предопределения. Стихи
Мирза-хана и Давлата полны однообразных фаталистических высказываний о
неизменности судьбы и неспособности человека по собственному
желанию или благодаря личным усилиям увеличить или уменьшить, продать
или купить свою долю [МА: 62, 78, 102, 167, 212, 244; DL: 41, 73, 120, 140,
197, 201 и др.]. Среди сентенций такого рода у Давлата, а также Васила
встречается любопытный суфийский мотив «скрижали лба», на котором
запечатлена судьба человека: «Судьбу каждого Бог написал на его лбу»
[DL: 104 и WR: 5, 10]. В мистической традиции умение узнавать судьбу
человека по линиям его лба относилось к чудесным способностям святых
и приписывалось особо почитаемым духовным учителям.
Фатализм Васила, кратко сформулированный в словах о том, что
решение Судьи не подлежит изменению [WR: 30], как правило, имеет более
заметный суфийский смысл. Васил требует не только смиренного, но и
сознательного принятия своей участи, поскольку правильное понимание
данной свыше судьбы есть один из элементов познания Бога. Иносказательно
поэт говорит об этом так: «Если кто по происхождению красильщик, что
поделать; тот же, кто не научился ремеслу отца, будет охвачен печалью»
[WR: 73]. Неоднократно поэт касается вопроса о превратностях судьбы.
Хотя он и обращается к образу игральных костей, на которых «иногда
бывают две шестерки, иногда две единицы» [WR: 92, 93], случайность
жизненных перемен им отвергается, поскольку линия судьбы заранее
определена в извечности (azal). Только от отсутствия истинного знания может
возникнуть непонимание того, почему бедный становится богатым, царь —
дервишем, ничтожный — умным, мудрец — злодеем, а наследником
имущества оказывается совсем не тот, кто на него притязал [WR: 97].
Возможность и одновременно необходимость познания Бога
обусловлены, по мнению суфиев, Его абсолютной близостью к человеку. Эту
мысль рошанитские мистики по традиции подтверждают ссылкой на
популярный в тасаввуфе коранический образ «шейной вены» (habl al-warid)
(50:15/16). Иногда рошанитские поэты цитируют соответствующие слова
айата в оригинале, но чаще — в прямом переводе на родной язык, и в
этом случае «шейная вена» называется sarag. Другая распространенная у
поэтов максима с тем же смыслом — «Он ближе к тебе, чем ты сам» {tor ta
wo ta-ta пэМе-с1эу). В стихах Мирза-хана обе фразы встречаются особенно
часто, име* вид почти дословно повторяющихся технических формул
[МА: 3, 6, 111, 177, 196, 249 и 3, 5, 7, 10, 14, 32, 63, 106].
Конечно, тема близости Бога у всех поэтов в большей степени
реализуется посредством стандартных символов любовно-мистической лирики. Ко
времени возникновения рошанитской поэзии эти символы достигли того
предела отвлеченности, когда они тоже превратились в голые формулы,
отодвинув художественный элемент далеко на задний план. Так, образно и
ярко обыгрывавшийся Джалал ад-дином Руми мотив перехода личного «я»
влюбленного в «Ты» (или «Он») Друга в поздней мистической поэзии
превратился в формулу, которая у Мирза-хана, например, звучит так: «Иногда
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
223
Он „нун" в двух „алифах", иногда— „вав" с „ха" впереди182» [МА: 94],
«Они (мистики. — М. П.) предали небытию любовь к вере (din) и
мирскому (dunya), поэтому они омыли обе руки от „ты" и „я"» [МА: 56].
Надо заметить, что некоторые мистические поэты, ощущая вполне
земную близость Бога и воспринимая Его как почти реального любимого
друга или даже «соседа по деревне» 183, иногда допускали по отношению к
Нему фамильярность. Так, Васил в ряде стихов со словами Бога
пользуется нарочито просторечными выражениями. В одной газели, например, Бог
говорит поэту: «Откажись от своей собственной воли и тогда обретешь
Меня, а если Я и тогда буду скрыт от тебя, назови меня хоть вором (gal)»
[WR: 32]. В другом стихотворении Всевышний назван «гостинцем» (sawgat),
а автор, соответственно, «купцом» (sawdagar\ который его привозит из
дальнего странствия [WR: 11].
Спекулятивные конструкции тасаввуфа конкретизировали идею
близости Бога указанием на Его вполне конкретное местонахождение в
человеке. «Престолом Аллаха» (*ars allah) считалось человеческое сердце, и
рошанитские поэты неоднократно повторяли этот постулат184. Как
местонахождение Бога сердце могло быть названо также Его «родиной» (watan),
«домом» (ког) и даже «комнатой» (utaq) [MA: 13]. Термин 'ars
применительно к сердцу чаще встречается у Мирза-хана, который оговаривается,
что престолом Аллаха является лишь то сердце, что «постоянно освещено
светом ма'рифата» [МА: 10, 28, 85, 196 и др.]. Естественно, образ сердца-
трона как места, предназначенного только Одному, был удобен для
проповеди единобожия [МА: 227, 228, 229]. Образу сердца-трона Давлат явно
предпочитал образ сердца-зеркала, отражающего лик Бога и потому
нуждающегося в очистке (sayqal) от налета сомнений [DL: 31, 40, 72, 108, 143
и др.]. Тот же мотив звучит у Давлата и в образе сердца-сада, очищенного
от сора и засеянного цветами [DL: 63—64]. Васил называл сердце осью
(madar) всех мыслей, чувств и действий человека и выражал возмущение
людьми мирского, которые превращают его в стойло [WR: 37, 71].
Сердце фигурирует у рошанитских поэтов и в контексте идеи о
внутреннем путешествии — safar dar watan («путешествие на родине»), —
входящем в число восьми накшбандийских принципов духовной практики.
182 «„Нун" в двух „алифах"»— это арабское местоимение «я» (ana), a
«„в а в" с „х а" вперед и» — «он» (huwa). У Хушхал-хана встречается другая
классическая «зашифровка» местоимения huwa с использованием цифровых значений
арабских букв — «пять и шесть» (panj-u sas) [XXX: 113, 184].
183 Сравнивая религиозную практику суфизма и мистического течения бхакти, широко
распространившегося в могольскую эпоху, Е. Ю. Ванина отмечает: «Литература бхакти, с
одной стороны, „приземляла" Бога, превращала его в друга, любимого или просто соседа
по деревне, а с другой — возвеличивала, обожествляла вполне земные человеческие
чувства...» [Ванина 2000:163].
184 В «Дабистан-и мазахиб» есть любопытный рассказ о споре некоего шейха Мав-
лана Закарийа с Байазидом Ансари по поводу притязания последнего на дар
«открывателя сердец» (sahib-i kasf al-qulub). Мавлана Закарийа потребовал у Байазида
продемонстрировать способности «открывателя» на нем самом, но Байазид отказался, заявив, что
у шейха нет сердца, а есть всего лишь «кусок мяса», какой можно видеть среди
потрохов теленка, козленка или собаки [Dabistan 1904: 306].
224 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Мирза, упоминавший этот принцип, часто говорит о мистическом пути
познания как о путешествии «ногами сердца» [МА: 37, 48, 118, 181, 196] (ср.
у Васила: [WR: 30, 90]). Определяя роль сердца для ма'рифата, Васил
называет его также бродом в безграничном океане познания Бога [WR: 62].
Движителем на пути познания является, по мнению рошанитских
поэтов, дух (ruh), вдунутый в человека Богом, а препятствием — тело (siirat),
созданное из низших материальных форм. Тема противопоставления
духовного и телесного затрагивается рошанитами как в многочисленных
единичных бейтах, так и в более крупных стихотворных пассажах,
например, в одной газели из алиф-нама Мирза-хана [МА: 15] или десяти строках
большой религиозно-философской касыды Давлата [DL: 7—8]. Смысл
подобных стихов сводится к тому, что божественный по природе дух
пребывает в оковах бренного тела, но стремится избавиться от них и вернуться к
своему небесному источнику, а такую возможность ему дает телесная
смерть (как правило, в переносном значении). Теоретической посылкой
для раскрытия темы поэтам служили слова Корана: «Скажи: Дух от
повеления Господа моего» (17:87/85). В касыде Давлата эта фраза приведена
одновременно в оригинале на арабском языке и в переводе на пашто.
Как и во многих других случаях, идейное содержание стихов
передается в основном аллегорически. Давлат и Мирза, например, вспоминая
популярное кораническое сказание, сравнивают дух с Йусуфом, а тело— с
кровожадным волком [DL: 145]185 или темницей [МА: 11]. Если речь идет
о человеке, не желающем и не способном постичь Бога, то его дух
признается мертвецом, а тело— могилой [МА: 128, 201, 215]. Именно эту
аллегорию имел в виду Байазид Ансари в споре с Мавлана Закарийа, который
якобы буквально воспринял слова Байазида о его способностях оживлять
мертвецов в могилах (т. е. заблудшие души в телах) и предлагал пойти на
кладбище для проведения эксперимента с оживлением трупов [Dabistan
1904: 306]. Проповедуя господство духа над телом, рошанитские поэты
нередко повторяют мысль о том, что дух должен управлять телом как
падишах слугами [МА: 48, 171], всадник лошадью или погонщик слоном
[DL: 67, 174]. Оценивая собственный мистический опыт, Мирза заявляет,
что когда его дух взлетает ввысь к Другу, он тянет за собой «усталое тело»
[МА: 93].
Попутно поэты высказывают и иные метафизические идеи. Так,
Давлат, замечает однажды, что тело состоит из враждебных друг другу
четырех стихий, которые могут его разрушить, если не обретут гармонию,
подчинившись воле Всевышнего [DL: 86]. А в одном из бейтов
упоминавшейся касыды он уверяет, что дух человека никогда не расстается со своей
родиной (читай Богом), поскольку он летает туда по ночам во сне, который
есть «брат смерти». Мирза-хан в алиф-нама очень лаконичными и
малопонятными фразами дает классификацию видов и состояний духа. Видов
он называет четыре: «говорящий» (guyanda) в человеке, «немой» (gung) в
185 Намеки на два сюжета из сказания: о том, как братья Йусуфа бросили его в
колодец, но сказали отцу, что его съел волк (12:13—17), и о заточении Йусуфа в темницу по
навету «жены вельможи» (12:32—56).
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
225
животном, «телесный» (jismi) в растениях, «именной» (ismT) в твердых
телах. Сообразно трем состояниям — жизнь, сон, вечная жизнь — дух, по
словам поэта, бывает «покоящимся» (muqim\ «текущим» (jari) и
«уберегающим» (amin).
Процесс и результат познания Бога определяется у рошанитских поэтов
общим термином ма'рифат, который также обозначает четвертую стадию
мистического пути (см. след. раздел). Вероятно, рошаниты иногда
пользовались и афганским эквивалентом этого слова — pezandgali [DL: 133].
Будучи смыслом и целью духовного совершенствования, ма'рифат
объявляется главным благом жизни, хлебом насущным (ruzT) [M: 4, 29, 130; DL:
162, 201, 206] и часто сравнивается с солнцем (светочем), от сияния
которого обнаруживается истинная суть вещей [МА: 162, 199, 229; DL: 77, 129,
168, 200]. Васил, утверждавший, что его поэзия излагает «тайны ма'рифа-
та» [WR: 9, 22], обычно дает краткие образные определения этого понятия,
например, «жилище духа» [WR: 40], «божественная весна» [WR: 44],
«Арафат познавших» 186 [WR: 72], «большой мансаб» [WR: 87] и пр. О значении
ма'рифата Васил сказал словами известного суфийского изречения о том,
что 'ирфан ('irfari) — знание Бога — является «гордостью общины Ахмада
(Мухаммада.— М. П.)» [WR: 73]. Давлат, восхваляя ма'рифат, бросает
такой упрек фальшивым «святым», которых было немало в суфийской
среде: «Чудо (karamat) без ма'рифата не стоит ничего, даже если кто взлетит в
небо подобно птице» [DL: 217].
Как всеобъемлющее и абсолютное знание ма'рифат не может быть
извлечен из книг, но достигается только усердным поклонением Богу
{'ibadat) [MA: 32, 48, 95]. Мирза-хан однажды противопоставляет
ма'рифат грамматике, полагая, что его предмет не сравним с мелочным спором
об отрицательных частицах la и lam [MA: 28]. Ма'рифат дает спокойствие
духа, спасение от Страшного Суда и вечную жизнь, но требует от
мистика полного самоотречения до состояния небытия (fana*) [WR: 29, 32, 58].
Поэтому Васил называет ма'рифат еще «ценой за кровь» (xunbaha) и
«мученичеством за смысл» (do та'па sahadai) [WR: 34, 38]. Слово та'па
(' смысл') у него часто фигурирует как самостоятельный термин,
вбирающий в себя все те понятия, которые могут быть отнесены к объекту и цели
мистического познания [WR: 4, 23, 30, 31 и др.].
Препятствием для подлинного ма'рифата являются все порицаемые
тасаввуфом нравственные качества, в том числе лицемерие (riya'),
бахвальство (laf), а главное — увлеченность мирскими благами (dunya),
поскольку сам ма'рифат считается ни с чем не сравнимым богатством [МА:
ПО; WR: 59]. По поводу аскетического образа жизни как необходимого
условия познания Бога Васил однажды высказался просто и кратко: «При
набитом животе ма'рифат не действует» [WR: 6].
Мусульманские мистики всегда подчеркивали значение божественного
выбора, «благосклонности» Бога ('inayat), для определения человека,
достойного и способного вступить на путь познания. Устами Бога Васил вы-
186 Это выражение, явно у кого-то заимствованное, построено на аллитерациях од-
нокоренных слов — та 'rifat йэ 'arifano 'arafat йэу.
226 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
сказывает эту мысль, подчеркивая также важность внутренней
психической предрасположенности таких избранников к мистицизму. По его
словам, Всевышний безошибочно различает среди здоровых тех, кто ранен
любовью [WR: 12]. Естественно, Васил числит себя в ряду этих «раненых»
(wistolT), которым Бог являет себя всюду. При этом ревнивый Бог Васила
упрекает поэта за недостаточную сосредоточенность на себе и призывает
его напрячь духовные силы: «Если Я становлюсь ароматом цветов, ты
вдыхай Меня; если становлюсь плодом на ветке, ты срывай Меня» [Rasad
19752: 22].
Первыми условиями ма'рифата рошанитские поэты считают
искреннюю веру в Единого и Единственного Бога (yaqin) и свободу от каких-
либо сомнений и заблуждений (guman). Понятия yaqin и guman являются
взаимоисключающими и противопоставляются друг другу: сомнения
подрывают веру, а истинная вера устраняет сомнения. «С верой Я близок, с
сомнениями Я далек», — заявляет от имени самого Бога Мирза-хан [МА:
86]. Мотив преодоления сомнений часто звучит в стихах Мирза-хана,
особенно в его алиф-нама, где он встречается почти в каждой газели. В
качестве синонимов термина guman поэт использует также слова pindar
('воображение'), sakk ('сомнение') и andesne ('беспокойные думы'). Сомнения
могут быть названы клеткой [МА: 6], ямой [МА: 14], облаком без дождя
[МА: 11], тяжелой ношей [МА: 153], луком (оружием) маловерного [МА:
237], но чаще поэт определяет их как завесу (hijab), отделяющую человека
от Истины (haqq) [MA: 5, 7, 10, 141 и др.], или как лед, тающий от тепла
веры, пламени любви или жара таухида [МА: 92, 151, 257]. Среди
риторических восклицаний о вреде сомнений и однообразных призывов
освободиться от них наиболее оригинальным, хотя и приземленным кажется
такое образное высказывание поэта: «Слизь сомнений прочно засела у тебя в
сердце; откашляй ее несколько раз силой веры (зд. bawar)» [MA: 124].
Важную роль в мистической гносеологии играет сложное и
многоплановое философское понятие разума (*aql). Стихи рошанитских поэтов
содержат противоречивые толкования этого понятия и не позволяют точно
определить его теоретическое наполнение и уровень абстракции.
Расхождения в оценках разума наблюдаются у Мирза-хана и Васила. Мирза
рассматривает разум как необходимый инструмент мистического познания, в
образной трактовке — как светильник, с помощью которого распознаются
Истина (haqq) и ложь (batil) [MA: 5, 29, 36, 49, 54]. Определяя функции
разума, поэт называет его также вазиром при падишахе-духе [МА: 11], а
однажды пользуется такой любопытной мифологической символикой:
разум — это дева Марйам, а чудесным образом рождающийся от нее 4Иса
есть ма'рифат [МА: 181]. Разумеется, всякий пленник земных страстей
или вообще лишен разума [МА: 54], или его разум является незрелым
[МА: 207].
В оппозиции разуму стоит неведение (gaflat), и вытекающий из этого
противопоставления мотив — пробуждение разума ото сна неведения — в
разных вариантах неоднократно повторяется Мирза-ханом [МА: 7, 109,
177, 207, 215 и др.]. Четкое выражение этот мотив находит в таком призы-
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
227
ве: «Драгоценный разум пробуди, стань человеком; во сне неведения ты —
животное, о недостойный» [МА: 164]. Дважды Мирза использует образ
«чаши неведения», от содержимого которой наступает тяжелое похмелье
[МА: 7, 15]. Неведение, считает поэт, разрушает имеющуюся в человеке
Каабу Всевышнего, т. е. его душу [МА: 140], а каждый вздох в неведении
убивает святых (awliya) [MA: 249]. Примечательно также сравнение души
человека, пребывающего в неведении, с лесом, в котором «шайтанские
соблазны (waswase) — клещи, вши, гниды» [МА: 120, 233].
В стихах Васила прослеживается противопоставление разума и сердца,
что влечет за собой в целом критическую оценку разума, ведь мистическое
постижение Бога осуществляется, по мнению суфиев, именно сердцем, а
не умом. Сердце является источником любви, ама'рифат обязательно
сопряжен с любовью к Богу. По словам Васила, ма'рифат рассудочных, не
имеющих любви людей сходен с чумой [WR: 75]. Мирза-хан тоже бегло
касается темы любви и разума, но не в русле вопроса о превосходстве.
Наоборот он полагает, что эти понятия должны находиться в полной
гармонии: «Любовь (*isq) украшена разумом; не увидишь разум без любви!»
[МА: 190]. Правда, в другом случае Мирза все же признает необходимость
подчинения разума «воле любви» [МА: 227].
Многие критические высказывания Васила о разуме сводятся к
признанию его бессилия в познании Бога. «Разум не может подняться в пределы
Господа», — прямо утверждает поэт в одной газели [WR: 5], а в другой,
продолжая ту же мысль, образно говорит о разуме, как о связанном
веревками безумце [WR: 59]. Однажды упрек разуму поэт вложил в уста самого
Бога, который заявляет, что Ему мал целый мир лахут и тем более тесно
на «ристалище {maydan) разума» [WR: 11]. Порицая разум, Васил называет
его «водоворотом трудностей», причиной мировых бед, источником
несовместимых с духом плотских удовольствий и страстей и даже «полутещей-
полуматерью» [WR: 57, 62, 77, 92]. Одно четверостишие является тирадой
в адрес «умника» ('aqil\ которого поэт уверяет в бесплодности усилий
постичь Бога разумом [WR: 99],87. Ма'рифат не изучают в школе (maktab),
замечает Васил и в том же бейте делает весьма рискованное с точки зрения
нормативного ислама заявление о том, что познание Бога дается через
архангела Джабра'ила [WR: 3]. Таким образом поэт стирает грань между
мистическим познанием и божественным откровением.
Справедливости ради следует заметить, что у Мирза-хана и Васила есть
отдельные строки, которые диссонируют с их противоположными
мнениями о разуме. Так, в одной газели Мирза, как и Васил, высказывает
критическое отношение к разуму, заявляя, что им невозможно осмыслить ко-
ранические слова «Будь! — и оно бывает» (кип fa-yakun) (2:111/117) [МА:
44]. Применительно к разуму Мирза использует здесь термин qiyas (гана-
187 Здесь Васил следует суфийской поэтической традиции порицания
ученых-рационалистов и Абу 'Али ибн Сина как главного представителя рационалистической
философии. Эта традиция обрела отчетливую форму в поэзии 'Абд ар-Рахмана Джами
(ум. 1492). Хушхал-хан Хаттак, не будучи суфием, тоже постоянно упрекал «умников»
и Абу 'Али, имя которого для него явно было почти нарицательным [XXX: 505, 510].
228 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
логия'), относящийся к теории фикха. С другой стороны, Васил, повторяя
Мирза-хана, объявляет разум светочем в темной ночи, сравнивает его с
оружием, которое делает сильным воина, и приписывает ему сладость
сахарного тростника [WR: 4].
К числу повторяющихся мотивов рошанитской поэзии относится
проповедь самоотречения и отказа от мирских благ — двух
морально-этических принципов, соблюдение которых делает успешным мистический
опыт познания. Законченный вид этот мотив приобрел у Давлата, в стихах
которого прочно утвердилась рошанитская формула tor jan awjahan teredol
('отказываться от себя и мира'), афганский аналог персидского выражения
azjan-ujahan gu&stan [DL: 22, 32, 79, 82, 94, 97, 100, 166, 170, 175, 177,
187, 211 и др.]. Кроме слов jaw awjahan Давлат иногда пользуется
устойчивым сочетанием sar-u mal ('голова и имущество'). Первым шагом в
преодолении себя и мирского Давлат считает произнесение символа веры,
который начинается с отрицания la [DL: 84, 216].
В стихах Мирза-хана принципы самоотречения и отказа от мира, как
правило, имеют иное словесное выражение и соответствуют следующей
теоретической схеме: мистик уничтожает (fan! ka) свое бытие (hastT) ради
небытия (nisti), в котором наступает новое всеобъемлющее бытие [МА: 4,
10, 111, 199, 207, 235 и др.]. Судя по всему, поэт объединяет оба принципа
в рамках одного понятия самопожертвования (sahadat или janbazT) [МА:
31, 100]. Иногда Мирза передает смысл этого понятия термином tark-i
wujud ('отказ от существования'). Функциональное значение
самопожертвования для духовной практики мистика Мирза поясняет краткими
определениями, вроде «намаз познавшего ('arif)» или «закат (т. е. налог) веры»
[МА: 6, 98].
Васил чаще, чем Мирза, употребляет формулу tor jan teredol [WR: 13,
30, 89, 90 и др.], но, пожалуй, только однажды он четко разделил в ней два
принципа, сказав словами Бога о том, что плата за Него — наполовину
жизнь (jari), наполовину мир (jahan) [Rasad 19752: 22]. Как и Мирза, Васил
предпочитает соединять мотив самопожертвования с любовно-мистической
тематикой, поскольку, по его определению, самопожертвование
(janbazT) — это мазхаб влюбленных [WR: 8]. Для того, кто пожертвовал собой
ради лицезрения красоты, 'ашура — шиитская траурная декада —
сменяется праздником [WR: 60]. Однажды Васил высказывает мысль о том, что
самоотречение должно быть искренним, а не от желания удовлетворить
свое самолюбие [WR: 89]. Понятие «самолюбие» здесь передано термином
афганского кодекса чести — gayrat, что является еще одним
свидетельством критического отношения поэта к этическим принципам паштунвали.
С идеей самоотречения и отказа от мира тесно связан другой
повторяющийся у рошанитов мотив, который пронизывает всю мусульманскую
любовно-мистическую поэзию и проистекает из популярного
высказывания пророка: «Умри прежде, чем ты умрешь». По мнению А. Шиммель,
этот хадис «составлял один из краеугольных камней суфизма» [Schimmel
1975: 70]. Каждый рошанитский поэт считал своим долгом процитировать
этот хадис в оригинале [МА: 75, 160; DL: 147, 206; WR: 21], а Мирза-хан к
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
229
тому же многократно воспроизводил его в переложении на пашто [МА: 9,
14,98,118,182].
Смерть до смерти, как и самоотречение, в философском смысле
означает для мистика уничтожение материальных свойств (sifat) и соединение
с вечной сущностью Бога (gat). Именно так трактует эту идею Мирза-хан.
По его словам, тот, кто умирает до смерти, обретает «имя (ism) и тело
(jism) от Величайшего», новую вечную жизнь в Боге [МА: 9, 118, 182].
Однажды Мирза привлекает для подтверждения своих слов образ
мифической птицы Феникс (Qaqnas), возрождающейся из пепла [МА: 125]. У Дав-
лата мотив «смерти до смерти» обычно звучит прямолинейно и сухо, без
каких-либо разъяснений и образных трактовок [DL: 72, 76, 103, 129, 101,
198, 213 и др.]. Только в заключительном бейте одной газели Давлат
прибегает к такой стандартной аллегории: «Бедняк Давлат так же стремится к
смерти, как усталый путешественник к своей родине» [DL: 75]. Васил в
большинстве случаев тоже ограничивается скупыми сентенциями о смерти
как некоем обязательстве духовных путников [WR: 41, 53, 71, 75 и др.].
Про себя самого Васил сказал, что он «заранее оплакал свою кончину»
[WR: 16].
Идея «смерти до смерти» в рошанитском учении породила тезис о том,
что только убежденные последователи Светлого Учителя, умершие и
вновь духовно возродившиеся, являются подлинно живыми, в то время как
все прочие люди, темные и пребывающие в неведении,— мертвецы. В
«Махзан ал-ислам» Дарвеза обвиняет Байазида Ансари именно за
подобные проповеди и приписывает Светлому Учителю такие крамольные
слова: «Беритесь за клинки, друзья! Все эти люди мертвы, так рубите же
головы мертвецам! Коль мы избранные, рубите [всем прочим] головы без
промедления, забирайте их имущество, которое дозволено вам, и не
испытывайте в том стыда!» [MIi: 131].
Возможно, призывы к насилию, которые якобы адресовал своим
сподвижникам Байазид, были домыслом самого Дарвезы, но мотив «живых и
мертвых», несомненно, звучал в речах рошанитского вероучителя. В
стихах всех рошанитских поэтов мы находим явные отзвуки этого мотива.
Поэты называют живыми познавших Бога и тех, кто не заблуждается
относительно материальных форм, а мертвецами — окружающих их невежд,
лишенных истинного знания [МА: 104, 108, 109, 112, 237; DL: 79, 171;
WR: 76].
В понятийном словаре рошанитских поэтов не последнее место
занимает термин hal9 прямо относящийся к мистической практике познания и
означающий кратковременное психическое состояние, в котором мистик
ощущает близость Бога. Не случайно этот термин часто упоминается в
стихах с речами Всевышнего. Хотя все поэты придавали хал
исключительное значение и в разной степени претендовали на то, что их стихи есть
словесное выражение чувств, испытываемых во время хал, никто из них не
рискнул дать этому понятию какое-либо внятное теоретическое или
художественное толкование. Васил, например, утверждает только, что быть в
хал — значит воспринимать состояние всего другого как свое собственное
[WR: 26], а Мирза полагает, что в хал можно увидеть одним взглядом весь
230 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
мир, как в волшебной чаше Джамшида [МА: 91]. Тот же Мирза называет
хал состоянием больного, понять которое способен только Великий Врач
(т. е. сам Бог) [МА: 119]. Общий для всех рошанитских поэтов мотив
связан с декларацией безусловной ценности хал как настоящего момента (это
одно из значений hal) и его превосходства над прошлым и будущим [МА:
25, 164; DL: 4, 145^ 188; WR: 11, 26, 75 и др.].
4. Стадии духовного пути
В учении рошанитов, как и в любой мистической доктрине, нацеленной
на практическое осуществление, едва ли не главное место отводится
изложению метода постижения Бога, что предполагает наличие строго
регламентированного духовного пути, состоящего из ряда последовательных
стадий, а также набора определенных духовных упражнений. Мотив Пути
(обычно афганское lav, реже арабские suluk, sabil, safar и др.),
пронизывающий всю рошанитскую поэзию, традиционно был одним из
основополагающих в суфийской литературе. Являясь простым и удобным
обозначением процесса духовного совершенствования и познания Бога, Путь
заключает в себе смысл и образ жизни мистика. «Участь духовного путника
(salik) — Путь (safar)», — кратко заявляет Мирза-хан [МА: 47]. Васил
неоднократно повторяет азбучные суфийские истины о том, что правильный
путь (ristine lav) может быть только один, что путник {salik, musafir)
выходит на него благодаря духовному озарению (Шат) и способен преодолеть
его только силой веры (yaqiri) и большим усердием (himmai) [WR: 36, 72,
75 и др.]. Мирза-хан постоянно указывает на сложность прохождения
Пути, который он изображает как усеянную шипами дорогу к
Возлюбленному Другу [МА: 61—62]. Образ Пути давал поэтам простор для вариаций и
не требовал обязательных пояснений. В одном бейте, например, Васил
иносказательно описывает Путь как поход грязного человека за чистой
водой на край света [WR: 35]. Хотя рошанитский образ Пути имеет обычный
суфийский смысл, тем не менее подспудно он опирается на
общеисламское понятие «прямого пути» (sirat al-mustaqim), предписанного Аллахом
каждому правоверному. Не случайно у Мирза-хана и Давлата, как правило,
нет четкой границы между sirat al-mustaqim и ristine lar.
Рошанитский путь мистического познания Бога состоял из восьми
стадий. Их подробное описание имеется в главной книге рошанитов — «Хайр
ал-байан» (см.: [Маннанов 1994: 37—64]), а также в другом теософском
сочинении Байазида — арабоязычном «Максуд ал-му'минин» [Shafi 1999]188.
Стадии включали четыре макама (maqam) и четыре сайра (sayr). Маками
совпадали с традиционными этапами духовного пути, признаваемыми боль-
188 «Максуд ал-му'минин», якобы написанный по просьбе старшего сына 'Умара, был
для рошанитов второй по значению книгой Светлого Учителя. Этой книге, как и «Хайр
ал-байану», тоже приписывались чудодейственные свойства. В <Хал-нама»
рассказывается о том, как «Максуд» не раз спасал Джалал ад-дина, младшего сына Байазида, от
ударов вражеских мечей и кинжалов.
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
231
шинством суфийских школ, и носили те же названия: шари 'am, тарикат,
хакикат, ма'рифат. Последующие стадии, сайры, — курбат, васлат, вах-
дат, сукунат, — хотя и заключали в себе некоторую формальную
особенность рошанитского пути189, по сути выражали собой общие для всех
суфийских школ идеи, являясь отдельными составляющими
заключительного этапа постижения Бога.
Полные перечни стадий духовного пути и их краткие характеристики
содержатся в трех касыдах Мирза-хана и двух касыдах Давлата [МА: 21—
24, 24—26, 41—44; DL: 3, 9—10]. У Мирза-хана, кроме того, о некоторых
стадиях говорится еще в трех поэмах, но более расплывчато [МА: 29—30,
30—31, 47]. В одной из указанных касыд Давлата имеется лакуна,
приходящаяся на начало перечня стадий. Завершая этот перечень, поэт сообщает
о том, что каждую стадию он описал в двух бейтах, но в тексте
отсутствуют оба бейта о шари'ате и первый бейт о тарикате 19°.
Необходимо оговориться, что описание духовного пути в
стихотворениях обоих поэтов упомянутыми перечнями не ограничивается, поскольку
все их поэтическое творчество так или иначе было обращено к этой теме.
Конечно, в общей массе стихотворных строк можно обнаружить мотивы,
предположительно относящиеся к той или другой стадии пути, но,
поскольку речь здесь идет о лирике традиционной, в целом лишенной
дискурсивного начала, подобные сопоставления были бы весьма условными.
Более или менее определенная граница прослеживается только между тем,
что может быть отнесено к первому этапу — шари'ату, и тем, что
составляет содержание всех прочих, собственно мистических стадий пути.
Что касается Васила, то у него хотя и встречаются связанные с темой
Пути понятия перехода (manzil) и стоянки (maqam), какие-либо экскурсы в
теорию стадий постижения Бога отсутствуют. Я не нашел в его диване
подтверждение словам 3. Хевадмала о том, что «он в своих произведениях
иногда толковал и разъяснял восемь стоянок (maqamuna) рошанитского
тасаввуфа» [Hewadmal 1986: XII]. Васил даже не упоминает названий
стадий Пути. Пожалуй, только в одном замысловатом бейте слова шари'am и
ма'рифат означают именно этапы мистического познания, а речь в нем
идет, видимо, о соотношении этих этапов: «Шари'ат — ожерелье на шее
ма'рифата; восхождение к Богу (mi'raj) осуществляется с помощью этой
нити» [WR: 76]. Конечно, не исключено, что такие термины, как,
например, wisal ('соединение') или sukut ('молчание'), Васил употреблял в
качестве синонимов названий соответствующих стадий (waslat, sukunai) [WR:
29, 38, 51]. Интересно, что в тех редких случаях, когда Васил касается
вопроса стадий, его высказывания кажутся даже противоречащими рошанит-
189 По словам автора «Дабистан-и мазахиб», эти стадии были «особой терминологией
{istilahiyyat-i maxsus) достопочтенного Мийана Рошана, Байазида» [Dabistan 1904: 307].
196 Перечню предшествует славословие четырем халифам. Первым трем из них
посвящено по два бейта, однако 'Али восхваляется только в одном бейте, за которым
сразу следует второй бейт с характеристикой тариката. Издатели дивана не отмечают
наличие лакуны. Напомню, что при издании дивана были использованы две рукописи.
Лакуна, очевидно, присутствует в обеих, и это, вероятно, говорит о том, что пропуск в
тексте касыды появился на раннем этапе распространения списков дивана.
232 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
ской доктрине. Так, в одном бейте он говорит о трех (!) переходах-стадиях
Пути [WR: 90]. Если считать синонимами слова sukut и sukunat, то
высказывание поэта о том, что успокоение в сукуте приносит познавшему
больше вреда, чем пользы, воспринимается просто вызовом учению
Светлого Учителя [WR: 51].
Первая стадия рошанитского пути по содержанию соответствовала
нормативному шари'ату, т.е. религиозно-этическим, правовым, ритуальным
нормам и правилам жизни, обязательным для каждого мусульманина.
Отличие суфийского шари'ата от нормативного заключалось, пожалуй, лишь в
том, что для мистиков он был только начальным этапом духовного пути, а
не единственным и универсальным законом всей жизни.
Мирза-хан и Давлат определяют шари'ат самым обычным образом как
«пять основ ислама»: kalima (словесный символ веры), птйщ
(обязательная молитва), roza (пост в месяце рамазан), zakat (налог в пользу бедных),
hajj (паломничество в Мекку) [DL: 9]i9i. Основам ислама посвящена
отдельная газель Давлата, но в ней больше говорится о значимости этих
основ для истинной веры, чем об их конкретном содержании [DL: 37—38].
Беглые упоминания о главных установлениях ислама встречаются и в
других стихах Давлата, где изредка все-таки даются кое-какие комментарии,
например, о том, что молитву необходимо совершать после очищения [DL:
167], а важной частью паломничества является таваф — хождение вокруг
Каабы [DL: 27]. В отличие от Давлата Мирза-хан вообще не приводит
перечень основ и объясняет смысл шари'ата только таким коротким
предписанием морально-этического характера: «Пусть они (правоверные. — М. П.)
откажутся от недозволенного и лжи, пусть воздерживаются от злословия»
[МА: 21].
У Васила шари'ат однажды выступает синонимом истинного Пу1™
(ristine lar) [WR: 94], что в общем согласуется с отмеченным выше
отсутствием в его поэзии каких-либо отзвуков рошанитского учения о стадиях
мистического познания. Из пяти основ ислама Васил уделяет особое
внимание символу веры и молитве. Одну газель он целиком посвятил
объяснению сущности молитвы, которая у него мало чем отличается от
суфийского зикра (см. ниже) [WR: 69]. Васил делает акцент на том, что калима
наполнена скрытым и сложным смыслом, является тайной, приобщиться к
которой можно только сердцем. Без правильного понимания значения
каждой буквы, по мнению поэта, молитва остается набором пустых звуков,
подобных стрекоту цикады. В других стихах Васил напоминает об
обязательности молитвы, утверждая, что Господь наградил человека двумя
руками именно для совершения намаза [WR: 109]. Не забывает он и о
ритуальном очищении (taharat). «Без омовения намаз недействителен», —
говорит в Василе мусульманин, — поэтому «влюбленные омыли лицо кровью
сердца», — восклицает в нем мистик [WR: 34].
191 Основам ислама в рошанитской традиции всегда уделялось большое внимание.
Их описанию посвящен один из трактатов Байазида Ансари, условно называемый «Дэ
1илм рисала» («Сочинение по богословию») (о содержании этого сочинения см.:
[Андреев 1992]).
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
233
Следует сказать о противоречивом отношении поэтов к пятому
предписанию веры— паломничеству, которое для людей рошанитского круга
было крайне редким явлением в силу своей дороговизны и сложности
осуществления. Из источников неизвестно, чтобы кто-то из крупных
фигур рошанитского движения совершил хадж. Если Давлат восхваляет
паломничество, называя его «особым, присущим святым людям (awliya)
делом», которое поднимает человека, его совершившего, «выше неба и Плеяд»
[DL: 38], то Мирза-хан, следуя традициям тасаввуфа, явно сомневается в
его необходимости, полагая, что Кааба Величественного (jalil) находится в
самом человеке, а путешествие в Хиджаз и совершение тавафа ничуть не
помогает познанию Бога [МА: 10,143, 230].
В стихах Васила образ паломника-хаджи играет вообще отрицательную
роль. «Сколько бы хаджи ни мылся в Замзаме 192, сердце в его груди черно
от ржавчины сомнений», — заявляет он в одном стихе [WR: 64]. В другом
бейте поэт определяет хаджи как идолопоклонника, противопоставляя ему
влюбленного мистика ('asiq)9 который в стремлении к своей цели—
Богу — отверг Сумнатl93 [WR: 35]. Сама Кааба является для Васила
символом идолопоклонства, о чем он недвусмысленно говорит в нескольких
бейтах [WR: 20, 39, 72]. В одном случае поэт делает оговорку о том, что
Кааба принимает образ идола в вахдате, т. е. при осознании единства
божественного бытия. Опираясь на накшбандийский принцип safar dar watan
С путешествие на родине'), подразумевавший внутреннее духовное
движение, поэт считает бессмысленным проводить жизнь в дороге к Каабе. Он
упрекает паломников за то, что в стремлении достичь Каабы они забывают
о родине [WR: 33, 76]. Настоящей Каабой признается сердце, а хаджем —
долгая молитва [WR: 33, 69, 94]. Замечу, что критическое отношение к
хаджу имеет глубокие корни в истории суфийской мысли. Так, 'Али ибн
'Усман Худжвири (ум. ок. 1075), автор самого раннего персидского
трактата по суфизму «Кашф ал-махджуб», несмотря на определенный
консерватизм своих мистических взглядов, уже «показывает некоторое
неуважение к формальным аспектам религиозного ритуала паломничества в
Мекку» [Baldick 1981: 87].
Стихи, касающиеся шари'ата и исламской религии в целом, у роша-
нитских поэтов немногочисленны, и большинство их несет заметный
отпечаток суфийской идеологии. Однако явный акцент, который все поэты
делают на общих проповедях о приверженности исламу и порицании
неверия (kufr), свидетельствует о важности этих тем для паштунской
аудитории и подтверждает другие имеющиеся факты о недостаточной, с точки
зрения представителей нормативного богословия, степени исламизации
афганцев в первой половине—середине XVII в.
192 Ритуальное омовение в мекканском источнике Замзаме является частью обряда
паломничества.
193 С у м н а т — большой индуистский храм, располагавшийся на полуострове
Катхиявар в Гуджарате и разрушенный в 1026 г. Махмудом Газнави (ум. 1030) во время
одного из его индийских походов. Придворные газнавидские поэты воспели это событие как
«победу над идолом». Впоследствии слово «Сумнат» стало для мусульман персоязыч-
ного мира нарицательным именем, употреблявшимся в значении * капище' или 'идол'.
234 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Ислам для рошанитских поэтов означает прежде всего отказ от
многобожия (sirk), ибо тот, кто не раскается в язычестве, будет отвержен по
велению Корана [МА: 47; DL: 92, 204; WR: 101]. Конечно, под отрицанием
многобожия поэты понимают признание таухида в суфийском смысле,
что, как правило, читается между строк или вытекает из контекста.
Принятие мусульманской веры, вступление в общину Мухаммада Васил
называет истинным ми'раджем, восхождением к божьему престолу [WR: 35].
Мирза-хан высказывается еще более прямо: «Разлука с Ним — от неверия
(kufr), в исламе — соединение (wisal) с Ним» [МА: 204]. Уклоняющимся от
прямого пути ислама (sirat al-mustaqim) Давлат делает такое зловещее
предостережение: «В молодости заберет смерть того, кто окажется
беспомощным и хилым путником Сирата» [DL: 162]. Мирза недвусмысленно
определяет этот Сират понятием перехода (manzil) на многотрудном пути к
Богу [МА: 8].
Рошаниты, жившие в Индии, в первом ряду неверных-язычников,
конечно, числили индусов. Нелюбовь к представителям этой конфессии
просматривается в стихах всех поэтов. Самым ярким примером критического
отношения мусульман-рошанитов к индусам является хадже Мирза-хана
на языческий праздник Холи. Тот же Мирза упрекал брахманов за то, что
сущностью любой материальной формы они якобы считают огонь [МА:
132]. Васил говорил, что «всякий неуч, который опьяняется колдовством
иллюзий (majazX на взгляд познавшего (*япУ), хуже пандита
(образованного индуса. — М Я.)» [WR: 19]. Оба поэта упоминают индуистское понятие
дхармы — религиозного и морального закона, управляющего жизнью
индивидов. Однако если критически настроенный к индуизму Васил считает,
что грехи нельзя оправдать дхармой [WR: 7], то Мирза явно использует
это понятие приложимо к своим суфийским воззрениям: «Из одной сути
(зд. asl) приходим и туда же уходим, таков мир, таковы его дела, такова
его дхарма» [МА: 258].
В мусульманской среде рошанитские поэты тоже находят достаточно
объектов для критики. Исходя из своего кредо, они проповедует
приверженность шари'ату в духе суннитского толка, поэтому всегда упоминают
только о четырех мазхабах ислама: «Пророк принес от Бога четыре
дороги; все правоверные твердо стоят на этих четырех» [DL: 121]. Давлат
дважды заявляет о том, что его поучения основываются на четырех мазхабах
[DL: 67, 69]. К шиитам (rafizT) все рошанитские поэты показывают
враждебное отношение, а Давлат даже называет их ослами за неприятие первых
трех халифов [DL: 188].
Васил иногда говорит о вреде ереси, обозначая это понятие
богословским термином bid*at. Он сравнивает ересь с мухой или червем на зудящей
ране и протестует против того, чтобы «ересь в этом мире была наверху, а
мусульманский закон (sarf)— внизу» [WR: 20]. Опять же из контекста
видно, что ересь для поэта — это нечто противоположное суфийской
концепции вахдат ал-вуджуд.
Давлат периодически подвергает критике ложных приверженцев
мусульманской веры, применяя для их определения старый коранический
термин — munafiqin ('лицемеры'). Противопоставлению качеств лицемера и
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
235
правоверного мусульманина (mu'miri) посвящены двадцать бейтов одной
из его касыд [DL: 12—13]. Лицемеру здесь приписываются самые
обычные человеческие пороки: самодовольство, спесь, алчность, скупость,
бесчестие, недоброжелательство, жестокосердие, мстительность, лживость,
злоязычие и т. п. Кроме того, Давлат порицает лицемера за постоянное
стремление к общению («Лицемер в одиночестве тоскует, не терпит [быть]
без общества, любит базары, избегает уединения»), а также за то, что «он
делает киблой жену, детей и имущество». Как видно, круг истинно
правоверных сужен у Давлата до идеальных последователей некоего духовного
учения (надо думать, рошанитского), отвергающего мирское и
проповедующего аскетический образ жизни. Тем не менее подобная риторика не
мешала поэту в той же касыде заявлять о том, что для борьбы с неверными
требуется вся сила исламской общины, ибо «вор храбр, когда он один, но
боится толпы людей (jama4at)» [DL: 10].
В стихах Мирза-хана и Васила нападкам изредка подвергаются также
богословы-традиционалисты ('alimari). Мирза, например, считает, что
богословы не знают начала океана божественной сущности (muhit), а ученые
(danismandan) не могут найти его конца [МА: 142]. Васил высказывает
подобную же мысль следующим образом: «Обладающий верой (yaqiri) не
сможет уйти от многобожия, если он погрузился в водоворот знания (Ч1т,
зд.: схоластическое богословие. — М Я.)» [WR: 59].
Очень интересны стихи Васила, которые показывают его
неприязненное отношение к мелким служителям культа и их обывательскому подходу
к религиозной жизни. Для мистика Васила духовными пастырями были
преемники Совершенного Учителя, но не малограмотные деревенские
муллы, занимавшиеся проведением повседневных обрядов. Надо полагать,
Василу не раз приходилось сталкиваться с подобными лицами, а может
быть, и вступать с ними в полемику. Возможно, под впечатлением от
одной из таких встреч Васил написал пять бейтов, которые включил в газель
шаблонного мистико-философского содержания. На фоне отвлеченных
глубокомысленных стихов этот небольшой отрывок воспринимается как
отзвук реальной жизни:
Разве понимает это мулла194, // Он как ребенок, не знающий ответа.
Его колыбелька все еще качается, // Спать он любит больше, чем есть.
Стал он охотником за простаками ('awarn), II Окреп на источнике (zihab),95.
Служение его не принимается [Богом], // Перепутал он место михраба 196.
Все, что он говорит, не сбывается; // Да и сам он из числа простаков.
[WR: 58—59]
В других стихах Васил высказывает отрицательное отношение к
внешней атрибутике — мусульманской одежде, бороде, четкам, бормотанию
молитв, — за которыми, по его мнению, нередко скрываются сомнение и от-
Выше речь шла об океане вахдата.
Возможно, под источником имеются в виду пожертвования на религиозные нужды.
М и х р а б — ниша в мечети, указывающая направление к Мекке.
236 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
кровенное неверие [WR: 79]. «Знак ислама явственен, но не в усах он и не
в бороде», — считает поэт [WR: 87].
Хотя Мирза-хан однажды сказал, что «макам шари'ата— лучший и
всех макамов выше» [МА: 47], тем не менее шари'ат в понимании роша-
нитов был только начальным этапом духовного совершенствования. Ха-
нафитские богословы во главе с Ахундом Дарвезой выражали крайнее
возмущение таким неполноценным шари'атом. Процитирую одну из
тирад Дарвезы: «Всякого человека, который чтил шари'ат и придерживался
[истинной] веры, он (Байазид. — М. П.) обманывал и вводил в
заблуждение своим ложным шари'атом. Этот шари'ат он без меры насаждал такому
[человеку] и сперва изводил его им, а затем оставлял в покое. Когда же тот
укреплялся в шари'ате, он говорил ему: „О друг! Вот ты и познал своего
Господина и теперь не будь беспечен. Всякий раб, что взваливает [на себя]
вязанку дров, но не ведает при том о Господине, ничтожным будет и в
ничтожестве своем станет вечно таскать эту вязанку. А если познает он
Господина, то тут же скинет эту вязанку. И ты, страждущий, познай скорее
Господина Миров! И сбрось с плеч груз шари'ата! Раз ты познал своего
Господина, оставь это рабское служение Ему!"» [MIi: 130].
По этому поводу у Давлата есть такое внешне противоречивое
высказывание: «Кто останавливается на шари'ате — скот, а отвергнувший
шари'ат считается диким зверем» [DL: 96]. Смысл бейта лучше понятен, если
поменять местами полустишия: шари'ат является обязательным для всех
законом жизни, но удовлетвориться только уровнем шари'ата для
мистика означает впасть в духовную деградацию. Вероятно, слишком резкое
высказывание о шари'ате было уже недопустимым в среде поэта, поскольку
условия и атмосфера жизни рошанитской общины в Индии претерпели
значительные изменения по сравнению с теми, что были несколько
десятилетий назад во времена деятельности Байазида Ансари на землях паш-
тунских племен. Можно привести еще одну цитату, показывающую
отношение поэта к шари'ату именно как к стадии духовного пути: «Слова о
таухиде прими сегодня как наставление от суфия, отринувшего мазхаб
(т. е. какой-либо шариатский толк. — М. #.)» [DL: 121].
В стихах всех рошанитских поэтов встречается мотив тяжелой ноши,
т. е. обременительного груза первичных религиозных обязанностей, от
которых необходимо избавиться божьему рабу, чтобы подняться на более
высокую ступень духовного развития [МА: 74, 226, 231, 242, 246; DL: 39;
WR: 57]. Давлат иносказательно говорит об этом так: «К стоянке (maqam)
та лошадь приходит быстрее, на спину которой положено меньше груза».
Прочие стадии мистического пути у Мирза-хана и Давлата
охарактеризованы почти идентично. Тарикат в целом означает ведение аскетического
образа жизни и «обуздание пяти чувств», которые Мирза завуалированно
называет «пятью разбойниками» [МА: 25]. Мирза еще определяет
тарикат как 'очищение тела* (do surat tazkiyya) [MA: 25]. Из разных стихов
поэта следует, что под этим понимаются борьба с плотской природой
человека (tabi'at), преодоление земных страстей и желаний, сопротивление
греховным соблазнам Шайтана, покорность Богу (ta'at\ воздержание (parhiz),
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
237
подвижничество (riyazat) [MA:25, 29, 147, 157 и др.]. В сердце человека на
этом этапе, как считает Мирза, идет война войск добра и зла [МА: 22].
Положительный исход этой войны, обретение «нрава ангелов», открывает
дорогу для следующего этапа познания.
Если тарикат есть очищение тела, то хакикат — это очищение души
(do xatir tasfiyya) [MA: 22] или, иными словами, освобождение сердца от
неведения (gaflat), сомнения (guman) и беспокойных мыслей (andesne).
Достигается очищение души такими формами суфийской практики, как
халват и зикр [МА: 22, 25,41, 180].
В стихах Мирза-хана часто противопоставляются понятия хакикат и
маджаз (majaz); первое в этом контексте соответствует истинной вечной
реальности, а второе — иллюзорной временной, т. е. такой, где за
внешними формами не видна божественная сущность [МА: 25, 28, 61, 67, 79,
и др.]. Поэт называет маджаз «сном в мирском (dunya)», которому
требуется толкование в виде хакиката [МА: 12]. Переход к хакикату
предполагает отказ от иллюзий маджаза; в противном случае взыскующий
Истину остается недвижным «придорожным столбом» на духовном пути [МА:
45]. Обращаясь к коранической истории пророков, Мирза проводит
параллель между переходом к хакикату и божественным откровением, которое
получил Муса из огня на склоне горы Синая (Коран, 20:9/10—18/17;
28:29—30) [МА: 219].
Халват, означающий как непосредственно ритуальное затворничество,
обычно продолжавшееся сорок дней, так и уединенный образ жизни
мистика вообще, признается одним из главных условий духовного
совершенствования. Давлат, рассуждая о необходимости халвата, обычно
проповедует именно отшельнический образ жизни в «безвестности и небытии»
[DL: 206], поскольку искренним является только то поклонение Богу,
которое совершается в одиночестве [DL: 141]. Если тяготы религиозного
поста длятся один месяц, то халват, по словам Васила, — вечен и имеет
разные виды [WR: 47]. Какие именно, поэт, к сожалению, не сообщает.
Исключительное значение халвата для Васила показывают его строки о том,
что сердце, в котором живет стремление к халвату, «назначено разрушить
Каабу» [WR: 71]. В стихах Васила о халвате иногда фигурирует
попугай— традиционный поэтический символ пребывающего в одиночестве
мистика. Антиподом попугая оказывается муха. Неспособная вынести
халват и вечно стремящаяся к какой-нибудь лавке, она является образом
невежественного мирского человека [WR: 34].
Выразительное звучание в стихах всех рошанитских поэтов имеют
мотивы, связанные с суфийскими понятиями iikr ('упоминание [имени
Бога]') nfikr ('размышление [о Боге]'). Хотя в истории тасаввуфа имела
место дискуссия о том, какой из этих двух методов приближения к
божественной Истине является более правильным и действенным, для рошанитов
зикр и фикр были важны в одинаковой степени. Если эти понятия
упоминаются поэтами одновременно, то, как правило, они стоят в одном ряду
как средства очищения сердца, его избавления от «соблазнов злого духа» и
последующего просветления [МА: 196; DL: 69, 109, 114, 162, 186]. «Здание
веры строится на зикре и фикре», — лаконично заявляет Васил в одной га-
238 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
зели [WR: 63]. Склонный к сухому морализаторству Давлат выражает
неодобрение тем, кто пренебрегает зикром и фикром, но постоянно
предается поцелуям 197 [DL: 195].
Тем не менее вопрос о соотношении этих понятий иногда затрагивался
рошанитскими поэтами. Однажды, например, Давлат сравнил зикр с
копьем (nayza), а фикр — со щитом (sipar), возможно, показав таким образом
их функциональное значение [DL: 119]. В другом случае он высказал
мысль о том, что светильник зикра зажигается только от фикра [DL: 126].
Еще в одной газели поэт использовал такое образное построение: сердце,
очищенное зикром, подобно незамутненной воде, а зрелое размышление
(rasida fikr) подобно ныряльщику, который извлекает из сердца бесценную
жемчужину Истины [DL: 133]. Мирза-хан считал необходимым, чтобы
фикр был «сторожем зикра» [МА: 227]. В таком же ключе связь фикра с
зикром объясняет и Васил: «Душа совершающего зикр подобна саду, но
она становится лесом, если в ней нет садовника-фикра» [WR: 71].
Используя один из своих излюбленных образов, поэт сравнивает зикр, лишенный
фикра, с бессмысленным стрекотом цикады [WR: 33].
Зикр— это «тайна сердца и начало хакиката», основанное на
молитвенной формуле la ilah ilia 'llah изъявление любви к Богу [МА: 6, 25, 41;
WR: 7, 44]. Словесно повторяя мусульманский символ веры, зикр, тем не
менее, отличается от обычной молитвы. При произнесении la ilah тело
мистика становится Хиджазом, а сердце— Каабой [WR: 69]. Рошанитские
поэты полагают, что человек, не знающий зикр, подобен животному, и все,
что не содержит упоминания о Боге, — лишь иллюзия, сказочный
вымысел (afsana) [MA: 246; WR: 26]. В некоторых строках Мирза-хана зикр
определяется как психофизическое упражнение, во время которого
упоминание Бога согласуется с дыханием [МА: 77, 141, 194, 204]. Видимо, именно
в этом смысле следует понимать и слова Васила о том, что дух
путешествует «ногами дыхания» [WR: 39], а при правильном понимании
собственной сути все органы тела начинают восхвалять Всевышнего [WR: 3].
Васил нередко признается, что упоминание имени Бога является его
постоянным занятием [WR: 7, 19,41 и др.].
Проповедуя зикр как необходимое средство познания Бога, поэты
одновременно обращают внимание на различие его форм. Предпочтение они
отдают тихому или скрытому (xaff) зикру, «светильнику хакиката», так как
громкий (jail, jahri) может быть показным и неискренним [МА: 59, 130;
DL: 121, 145, 184, 201; WR: 89]. Объясняя значение и превосходство
тихого зикра, Давлат противопоставляет мистическую практику обычным
обязанностям верующего и тем самым еще раз затрагивает вопрос о градации
этапов духовного пути: «Молитвой, постом добиваются райских дев и
дворцов, а путем тихого зикра соединяются с Возлюбленным» [DL: 178].
Фикр определяется поэтами как «проповедник на минбаре любви» [МА:
48, 97], «спутник на каждой стоянке и каждом переходе» [WR: 64], «по-
197 Не исключено, конечно, что слово «поцелуй» (сара) понадобилось здесь поэту
просто для рифмы, в результате чего у него невольно получился выпад против плотской
любви.
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
239
севное зерно», из которого вырастает урожай для серпа веры [WR: 107]. У
Мирза-хана и Давлата обращает на себя внимание встречающийся образ
«лошади фикра», которая уносит мистика к Богу [МА: 25; DL: 41, 61].
Можно думать, в этом образе отражена популярная у суфиев тема ми'раджа,
ночного путешествия Мухаммада на коне Бураке к престолу Всевышнего ,98.
Источниками истинного фикра являются божественное озарение (ilham) и
наставление духовного учителя [WR: 43]. Фикр придает осмысленность
суфийским ритуалам, поэтому «если у кого ухо фикра глухо к слушанию
(sama'), разве понимает он, ма'рифат это или [просто] песня» [WR: 48].
Осознавая значение медитации как главного «капитала» (тауа), без
которого человек будет вынужден покинуть базар с пустыми руками, т. е. не
обретет в жизни подлинных духовных ценностей, Васил призывает
постоянно укреплять «крепость фикра» [WR: 29, 36].
Четвертый макам— ма'рифат (собственно познание)— предполагал
созерцание Бога (т У at) во всем сущем, т. е. не только понимание, но и
постоянное мистическое видение того, что божественная сущность являет
себя во всех предметах материального мира. Именно на этом этапе цель
познавшего ('arif) становится «ближе, чем шейная вена». Мирза-хан
дважды определяет ма'рифат как «явление духа» (do ruh tajallT) [MA: 22, 41], a
главным свойством 'арифа всегда называет способность видеть
«внутренним оком» Беспредельного, или оба мира, или скрытое и явное, поскольку
«взгляд 'арифа летит быстрее молнии», а «одним дыханием он
переносится с запада на восток» [МА: 25, 76, 97, 102, 116, 122, 161, 169 и др.]. Давлат
кратко перечисляет качества познавшего в двенадцати бейтах одной
касыды [DL: 14]. В разных вариантах здесь повторяется главным образом тема
созерцания Бога, но встречаются и другие мотивы, например такой:
«Поклонение 'арифа очищено от подражания (taqlid)199, лицемерия (riya'),
обычаев ('adat)».
Васил тоже уделяет большое внимание описанию свойств познавшего.
Из его многочисленных строк на эту тему складывается такой образ. 'Ариф
есть тот, кто получил знание из «школы сокрытого» и постиг все тайны
таухида, кто, пребывая в «толчее множественности», постоянно осознает
свое собственное единство с божественной сущностью (gat) и
воспринимает себя частью ее качеств (sifat)200 [WR: 19, 43, 70, 96, 97 и др.]. Сердце
'арифа всегда находится в состоянии ми'раджа, восхождения к Богу [WR:
24]. Подобные характеристики Васил дополняет тезисом о непогрешимо-
198 Традиция, связанная с размышлением (т. е. фикром) на эту тему, возможно,
восходит к Хусайну Халладжу (см.: [Gardet 1999]).
199 Термин taqlid здесь, видимо, употребляется в том значении, какое он имеет в
суннитском фикхе: строгое следование положениям правовой доктрины, разработанной
авторитетами прошлого.
200 у Ахунда Дарвезы есть рассказ о теософском диспуте, который ему пришлось
вести с группой рошанитов, возглавляемых шейхом Пайандой. Темой диспута было
утверждение последователей Светлого Учителя о том, что они являются «качествами
Бога» (sifat-i xuda) и содержат в себе Его сущность (gat). За свою резкую отповедь на
этот рошанитский постулат Дарвеза, по его словам, чуть было не поплатился жизнью
[Tazkirat: 1236—126а] (перевод этого отрывка см.: [Пелевин 1997: 126—127]).
240 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
сти истинно познавшего, ибо «божественное зеркало не бывает дефектным»
[WR: 44]. Давлат, поддерживая эту мысль, полагает, что познавшие даже
лучше шахидов, мучеников за веру, и поэтому ангелы загробной жизни не
подвергают их обычному допросу [DL: 167].
Продолжая традиции классической суфийской поэзии, Васил иногда
противопоставляет 'арифов лицемерным аскетам (zahidari), подвижничество
которых имеет своей целью не приближение к Богу, а получение от Него
награды в загробной жизни [WR: 6, 22 и др.]. Молитвы аскетов, считает
поэт, исполнены лукавства, а их отшельничество в пустыне подобно пище,
оставленной без употребления и потому покрытой плесенью [WR: 72].
Интересны стихи, в которых поэт изображает 'арифа как человека,
свободного от соблюдения обязательных мусульманских норм. Он пишет,
что ради бесед о ма'рифате познавший отвергает мазхабы [WR: 76], что
он не нуждается в точном знании киблы, поскольку его молитвенные
поклоны (sajda) действенны в любом направлении [WR: 33], что его
притязание на таухид является законным и без решения судьи (qazT) [WR: 43]. В
могольской Индии с ее богатыми духовными традициями многие
суфийские учителя и подвижники пользовались авторитетом и уважением не
только у своих единоверцев, но и у представителей других конфессий,
поэтому не случайно в одном бейте Васил замечает: «'Арифы признаны и
мусульманами и индусами» [WR: 97].
Содержание следующих четырех этапов постижения Бога частично
отражено в их названиях: qurbat — * близость1, waslat — ' соединение1, wahdat —
* единство*, sukunat— * пребывание*. Характеризуя эти этапы, поэты
иногда упоминают не их собственные названия, перечисленные выше, а
определения, которые прилагались к познавшему мистику, находящемуся на том
или ином этапе. Например, в одной касыде Мирза-хана говорится о пяти
типах 'арифов, из которых первый относится непосредственно к стадии
ма'рифата: l)wajid ('находящий [Бога]*), 2)samV ('слышащий [Бога]*),
3) wasil ('соединившийся [с Богом]*), 4) muwahhid ('пребывающий в
единстве [с Богом]*), 5) miskin ('бедный*) [МА: 23]. В похожем перечне Давлата
первые два типа имеют определения 'arif (собственно 'познавший*) и qarib
('близкий [к Богу]*)201 [DL: 197—198].
Если смысл ма'рифата заключен в лицезрении Бога и мистик на этой
стадии должен во всем видеть божественную сущность, то курбат
означает обладание совершенным слухом и способность слышать во всем только
Бога. На стадии курбат познавший осознает, что «все звуки милости или
гнева — от Одного» [МА: 42]. По словам поэтов, подлинно «слышащим»
мистик становится тогда, когда небеса превращаются для него в суруд202, а все
предметы материального мира — в звучащие струны [МА: 28, 30; DL: 3].
Таким образом, теософия курбата оказывается тесно связанной с
музыкальной темой, которая особенно интересовала Мирза-хана, поскольку,
по сведениям «Хал-нама», он сам был музыкантом и неплохо играл на ру-
201 Этот термин встречается и у Мирза-хана. Кроме того, поэты употребляют одно-
коренной термин muqarrib и персидский эквивалент nazdik [MA: 42; DL: 106].
202 С у р у д (suriid) — струнный музыкальный инструмент.
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
241
бабе. В его стихах, касающихся курбата, нередко упоминаются разные
музыкальные инструменты, главным образом струнные: «Он и говорящий,
и слушающий, иногда суруд, иногда медиатор (mizrab)» [МА: 199]; «В
любую сторону когда посмотрю, [всюду] чанг (dang) или рубаб (rubab)
Господа» [МА: 198]; «Слышащие познали тайны смысла, ибо все вещи
восхваляют Бога своими гуслями (qanuri)» [MA: 26]; «Для далекого [от Бога]
(ba'id) все звуки— лишь оглушительный шум, но в понимании близкого
[к Богу] (qarib) все кругом становится бубном (daf) или дудкой (mizmar)»
[МА: 42].
Само определение мистика, находящегося на стадии курбат,— sa-
mV — обнаруживает связь этой стадии с такой распространенной формой
мистической практики, как sama* (собственно 'слушание'). У рошанитов
ритуал сама* имел большое значение и включал в себя коллективное пение
под музыку молитв и мистических стихов, а также танцы. Ахунд Дарвеза,
как богослов-традиционалист относившийся к сама* крайне отрицательно,
особенно возмущался тем фактом, что в этом ритуале рошанитов
одновременно принимали участие и мужчины, и женщины: «Потом он (Байазид
Ансари. — М. П.) собирал мужчин и женщин вместе, они пели, танцевали,
хлопали в ладоши, слагали стихи»; «Девушки и юноши были словно
хлопок и огонь, когда их собирали в одном месте. Предавались они разврату и
обращались во врагов Благого Господа» [Ml,: 123,130].
У рошанитских поэтов нет описаний этого ритуала, но сам термин
sama* иногда встречается, хотя, как правило, не в значении коллективного
радения, а в качестве характеристики душевного состояния мистика на
стадии курбат. Так, у Давлата «слушание», тоже ассоциирующееся с
музыкой рубаба и чанга, является постоянным занятием того, кто «выпил из
чаши вахдата» [DL: 192]. Души праведных потому стремятся к сама\
объясняет поэт, что «в раю все стены и двери танцуют» [DL: 179]. Мирза-хан
пишет, что «слушание дозволено тому чистому суфию, который
выполняет его без лицемерия и вожделения» [МА: 56]. Для правильного
исполнения сама\ считают поэты, нужно иметь «уши сердца», которые «не
направлены к выгоде» [МА: 173; DL: 106].
Если мотивы, связанные с халватом, иногда сопровождал образ
одиноко бормочущего попугая, то там, где речь шла о сама\ естественно,
возникал образ поющего соловья [МА: 42; WR: 67]. Участник сама* мог
представать также в символическом образе петуха, пение которого возвещает
наступление утра, т. е. духовного просветления [WR: 33].
Пятая стадия — васлат — требует от мистика преодоления личных
качеств и постепенного отождествления своего бытия (wujud) с единым и
единственным божественным бытием. «В васлате свое бытие — это пыль
сердца», поэтому «пусть соединившийся (wasil) сделает небытие (nisti)
бальзамом сердца», — говорит Мирза-хан [МА: 28, 43]. Именно в васлате
должны быть реализованы принципы «смерти до смерти» и отказа от
собственной личности и мира (см. предыдущий раздел). В терминах любовно-
мистической лирики васлат означает конец разлуки и начало вечного
свидания с возлюбленным Другом.
242 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Зыбкая грань между васлатом и вахдатом выражается в том, что на
стадии вахдат собственное бытие мистика полностью поглощается
бытием Бога и «все имена зовутся одним именем». Давлат поясняет эту идею,
используя стандартный образ моря, которое есть соединение
многочисленных рек [DL: 3]. Мирза определяет вахдат как совершенство веры
(yaqiri) и предел служения Богу. На этой стадии мистик, достигнув
подлинного таухида, уже «свободен от служения и не совершает грехов и
провинностей» [МА: 23—24]. Эпитетом такого мистика может быть не
только термин muwahhid, но и muxlis ('искренний')203 [МА: 31,43].
Однажды Мирза приводит традиционное сравнение «искреннего» с рыбой,
которая умирает, оказавшись на мгновение вне моря божественной сущности
[МА: 210].
На последней стадии сукунат, «выше которой нет других стоянок»
[DL: 3], душа мистика обретает полный покой в божественном бытии.
Собственно говоря, эта стадия предполагает окончательное стирание
различий между мистиком и божественной сущностью, что для Ахунда Дар-
везы и других афганских богословов-традиционалистов было равнозначно
отступничеству. При достижении сукуната, пишет Давлат, «Друг (Бог. —
М П.) говорит его языком» [DL: 198]. В касыде Мирза-хана описание
качеств мискина плавно переходит в восхваление Бога [МА: 47—48], да и
сами эти качества почти ничем не отличаются от тех, которыми в роша-
нитской поэзии обладает Всевышний. Не случайно хадис кудси «Ведите
себя сообразно нраву Аллаха» Мирза цитирует применительно к мискину
[МА: 44]. Давлат характеризует состояние мискина следующим образом:
Сукунат — это свойство духа,
// Телесные действия для него (мистика. — М. П.) обременительны.
Он не садится, не движется, не ест, // Нет у него ни свидания, ни разлуки.
Нет у него завесы, // Ни перед кем он не обнажен.
Ни на небе он, ни на земле; // Ни снаружи, ни внутри.
Его лицо и затылок неразличимы, // Он одинаков внешне и внутренне.
Нет ничего подобного ему, // Он ярче солнца.
Не ангел он, не злой дух, не житель рая; // Не ребенок он, не юноша, не старик.
Он зовется и тем, и этим, // Но он ни этот и ни тот.
Куда бы он ни смотрел, нет ничего другого:
// Он созерцает лишь самого себя.
[DL: 9—10]
Исходя из значения термина мискин ('бедный'), Васил акцентирует
внимание на добровольной бедности как одном из условий сукуната и
вообще всего рошанитского пути. Осмысленный отказ от привязанности к
мирским благам, считает Васил, дает мискину успокоение души и свободу
от всех печалей [WR: 53, 80]. Забавно, что однажды применительно к
мискину поэт неожиданно упоминает вещи, весьма далекие от обычных
представлений о бедности. По его словам, мискин не должен задаваться вопро-
203 Вероятно, именно от этого термина происходит литературное имя автора «Хал-
нама» * Али Мухаммада — Мухлис.
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
243
сом, из чего сделана его кровать — из эбенового дерева или слоновой
кости [WR: 24].
У всех рошанитских поэтов встречаются также известные суфийские
понятия fana' ('исчезновение в Боге') и baqa' ('вечное пребывание в
Боге'). Хотя их связь с конкретными стадиями духовного пути нигде четко
не оговаривается, можно предположить, что рошаниты соотносили их с
вахдатом и сукунатом. Мирза, например, пишет, что познавшему на
стадии (maqam) фана* весь мир видится одним алифом, т. е. фана* здесь явно
означает обретение мистиком таухида [МА: 208]. Стадия бака' следовала
за фана\ о чем тот же Мирза-хан сообщает в газели, где приведена
стандартная аллегория со свечой и мотыльком [МА: 187—188]. По словам
поэта, сгоревший в пламени свечи мотылек «из фана' перешел в бака', [и
теперь] его совершенство не ведает страха перед ущербом».
К числу главных догматов рошанитского учения относится концепция
Совершенного Учителя (pir kamil), философским основанием которой
является теория Совершенного Человека (insan kamil). Предполагается, что
верховные учителя рошанитов, а именно Байазид Ансари и его преемники,
достигли высшего уровня духовного развития, при котором все их
человеческие атрибуты обрели божественное совершенство как у идеальной
модели Совершенного Человека. Институт наставничества играл в рошанит-
ском движении такую же определяющую роль, как и в прочих суфийских
школах, что диктовалось, с одной стороны, потребностями в
регламентированном управлении общиной, с другой — необходимостью сохранить
единомыслие и духовное преемство. У Ахунда Дарвезы в «Махзан ал-ислам»
есть такая примечательная фраза: «В наши дни причиной всех бед,
которые случаются в Афганистане, является [распространение] духовного
наставничества и ученичества (pTriwa muridf)...» [MI^ 127].
Наряду с описанием стадий духовного пути тема Совершенного
Учителя является основной в «Хайр ал-байане» [Маннанов 1994: 35—36]. Стихи
рошанитских поэтов также изобилуют упоминаниями о Совершенном
Учителе как об обязательном проводнике на пути познания Бога.
«Понимание Истины обретет лишь тот путник (salik\ который по указанию
учителя (рТг) совершает путешествие сердцем» [МА: 69]. В подавляющем
большинстве случаев Совершенный Учитель именуется только одним
эпитетом kamil ('совершенный'), но встречаются и другие термины — mursid
(собственно 'духовный наставник'), ustad ('учитель'), реже peswa
('руководитель'), rahbar ('руководитель'), had! ('проводник'). При возможности
поэты используют сочетание хвалебных определений «Великий
Совершенный» (Joy kamil) (например у Васила: [WR: 72, 94, 104]). Заслуживает
внимания тот факт, что упоминания о Совершенном Учителе нередко
встречаются в первых бейтах стихотворений. Таким образом поэты как
бы подкрепляют свои последующие сентенции авторитетом духовного
наставника и привязывают стандартное суфийское содержание
стихотворения непосредственно к рошанитскому учению. У Мирза-хана
восхвалению Совершенного Учителя, кроме отдельных бейтов и кратких
пассажей в разных стихотворениях, целиком посвящены также две газели [МА:
190, 201].
244 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Многие строки, где фигурирует Совершенный Учитель, содержат
однообразные патетические восклицания по поводу необходимости
духовного проводника на мистическом пути. В обращении к самому себе Давлат
предупреждает: «Если у тебя нет Совершенного Учителя, Давлат, хоть
тысячу лет служи [Богу], результата не будет» [DL: 76]. Рошанитские поэты
без устали повторяют общую мысль о том, что только под руководством
Совершенного Учителя ученик (murid, talib) сможет добиться своей цели,
«подняться на крышу ма'рифата», а без наставника любой путь,
избранный взыскующим Истину, окажется ошибочным и не приведет к Богу
[МА: 16, 46, 164, 170, 230; DL: 10, 45, 174, 158, 183, 199, 212 и др.].
Дважды для высказывания этой мысли Давлат привлекает классический образ
игры в поло: «Выигрывает мяч Истины на поле тот ученик, который всегда
следует за Совершенным» [DL: 145 и 187]. Говоря о результатах
собственного опыта общения с наставником, Мирза-хан использует другой, менее
шаблонный образ: «Потому стрела Мирзы летит прямо в цель, что она
сделана из сосны Совершенного Учителя» [МА: 146].
Кто отказывается доверять и подчиняться наставнику, считает Давлат,
тем самым отвергает Бога [DL: 10, 77], а склонный к земледельческим
мотивам Васил полагает, что такому человеку в будущем предстоит собирать
«урожай мучений» [WR: 52]. Мирза предлагает взять у Совершенного
сурьму для «глаз сердца», чтобы увидеть Истину [МА: 5], или светильник,
чтобы «в сердце пришел свет Рошана» [МА: 180]. Оценивая роль
духовного учителя, Давлат однажды использует такое сравнение, отражающее
реальную историческую действительность: «Совершенные — это подлинные
вазиры Бога; без на'иба ведь нет доступа к государю» [DL: 69].
По мнению Давлата, путь Совершенного потому безошибочен, что он
«идет вслед за пророком» [DL: 24] и владеет знанием всех мазхабов [DL:
98]. Мирза-хан более прямо называет Совершенного Учителя духовным
поверенным (xallfd) пророка, ибо он «оживляет его традицию (sunnai)»
[МА: 21]. Таким образом поэты косвенно подтверждают увайситские
корни рошанитского учения [МА: 21] (подробнее об этом см.: [Andreyev
1998]). Васил нередко подчеркивает роль Совершенного Учителя как
заступника (gaws) [WR: 13, 72, 94, 104]. Его четверостишие на эту тему
напоминает отрывок из рошанитского учебного текста, где в каждой строке
содержится какой-либо постулат о духовном главенстве:
Великий Совершенный — заступник, // Он свободен от случайных ошибок.
[Его] власть — по преемству (xilafat), II Преемство — наследие Бога.
[WR: 104]
Большое место в стихах рошанитов занимают хвалебные описания
качеств и способностей Совершенного Учителя. Право считаться
Совершенным имеет только тот, кто обладает абсолютным знанием сокровенного
(Ч1т laduri) [WR: 72], кто не привязан сердцем к бренному миру и
полностью погружен в Бога [DL: 91, 246], чей дух (riih) перешел уровень джа-
барут [МА: 132, 206], кто протягивает «руку веры» страшащимся волн
божественного океана [МА: 203], кто способен отделить «прополкой»
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
245
внешнее ($ahir) от внутреннего (batiri) [WR: 3, 80] и т. п. У Васила
многократно повторяются высказывания о безусловной правоте, значимости и
исключительной действенности слов учителя, языком которого,
естественно, глаголет Истина [WR: 5, 39, 57, 78, 89, 95 и др.]. Обращаясь к
себе, например, он восклицает: «О Васил, яд мира горек; слова
Совершенного— опий для каждого больного» [WR: 44]. Однажды Васил, словно
возрождая дух Корана, противопоставил речи учителя стишкам поэтов
(badola) [WR: 48]. Хотя Совершенный стоит выше любого морального
кодекса, его нравственные качества таковы, что, в отличие от неразвитых
людей, которые имеют о себе самое высокое мнение и при этом
злословят о других, он сам считает себя несовершенным, а других не осуждает
[DL: 146].
По отношению к Совершенному Учителю поэты часто используют
стандартные образные сравнения из набора тех, что обычно прилагаются к
Богу, как-то: светоч [МА: 33, 36, 146], солнце ма'рифата или таухида
[МА: 122, 124, 204, 217], облако милости, проливающее во все стороны
благодатный дождь [МА: 201], и т. п., — но иногда встречаются и другие
художественные характеристики. У Васила, например, Совершенный — это
тот, кто испил чашу живой воды из легендарного источника Хизра [WR:
19], а у Мирза-хана— герой-силач (pahlawan), под защитой которого
караван доходит до цели [МА: 146].
По обыкновению суфийских шейхов Совершенные обладают
сверхъестественными способностями, например, необычайной проницательностью,
которая позволяет им знать о других как о самих себе и предвидеть
будущее [DL: 129, 214; МА: 67]. Один взгляд Совершенного, считает Мирза,
может расплавить большую гору [МА: 165]. Прибегая к другой образной
гиперболизации, Давлат заявляет, что «по воле Совершенного камень
становится золотом» [DL: 102]. Ему вторит Васил, утверждая, что любовь
Совершенного творит чудеса (karamat), сравнимые с извлечением железа из
руды [WR: 44]. Конечно, все просьбы Совершенного немедленно
удовлетворяются Богом [МА: 97].
В числе умений Совершенного Учителя Мирза-хан упоминает и то,
которое приписывал себе сам Байазид Ансари и которое имело фигуральный
смысл, якобы не понятый шейхом Закарийа (см. предыдущий раздел).
Это — воскрешение из мертвых, т. е. духовное просвещение
невежественных [МА: 47, 136]. Перекликаясь с автором «Дабистан-и мазахиб», Мирза
называет Совершенного Учителя «открывателем душ» (kasif al-arwah)
(в «Дабистане» — «открыватель сердец») и «знатоком могил», т. е. тем,
кто способен освободить душу от оков бренного тела.
В некоторых стихах рошанитские поэты кратко разъясняют суть
отношений между духовным наставником и учеником. По выражению Давлата,
«ученик обретет желаемое, если сделает свою голову подошвой ноги
учителя» [DL: 25]. Подобный образ есть и у Мирза-хана [МА: 101]. Первым
шагом ученика на пути познания является совершаемое перед учителем
покаяние (tawba) [MA: 21, 77]. «Бог простит тебе все прошлые грехи, если
ты искренне покаешься перед Совершенным», — пишет Давлат [DL: 100].
246 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Васил тоже неоднократно упоминает о покаянии, которое он называет
«наследством Адама» или «мылом от греха» [WR: 73,94,95].
После покаяния новообращенный должен беспрекословно подчиняться
своему наставнику, полностью препоручив себя его воле, и не имеет права
руководствоваться собственным разумением или велениями сердца [МА:
109; DL: 163]. Он должен ступать за Совершенным след в след, не
отставать и не забегать вперед [DL: 144]. Один раз Давлатом высказана
любопытная сентенция о служении учителю «имуществом и самим собой» (mal
aw jan) [DL: 147]. Возможно, речь здесь идет о том, что новообращенный
не только был обязан отречься от всего мирского, но и совершал какие-то
имущественные пожертвования общине. Благодаря духовному наставнику
ученик в конце концов побеждал козни Шайтана, избавлялся от «болезней
неведения», очищал сердце от «ржавчины сомнений» и осваивал «науку
таухида» [МА: 156,163, 201; DL: 126, 216, 227].
Будучи одним из основных институтов мистицизма, духовное
наставничество имело большое распространение в могольской Индии, где
повсюду проповедовали разного рода учителя истины, связанные и с
исламской, и с индуистской, и с иными традициями. Достаточно вспомнить,
например, о таких крупных движениях, как бхакти или сикхизм, или о более
мелкой махдавитской ереси (о ней см.: [Schimmel 1980: 42—43]). Не
случайно Давлат говорит о многочисленных мошенниках и оборотнях на пути
к Господу и не раз предостерегает своих читателей от опасности быть
обманутыми «разбойниками веры»— ущербными (naqis) духовными
наставниками [DL: 104, 126, 216]. Мирза-хан тоже упоминает об ущербных
учителях, а также противопоставляет Совершенного Учителя богословам
('и1ата\ неполное знание которых, по его словам, является завесой,
отделяющей человека от Бога [МА: 21, 56, 70]. Кроме того, у Мирза-хана есть
несколько строк хулы, адресованной некоему проповеднику (xatib\
который «руководит, не зная дороги», поскольку слова его наставлений
расходятся с собственными деяниями [МА: 76]. Критику этого проповедника
поэт завершает похвалой Совершенным, приготовившим «провизию для
завтрашнего дня» не только из красивых слов, но и из соответствующих
им дел.
5. Этические ценности
Морально-этические наставления рошанитских поэтов основывались
на их религиозно-мистических взглядах и, так же как и последние, в
основном продолжали традиции персоязычной суфийской литературы. При
этом этические темы находились в подчиненном положении по
отношению к религиозной дидактике и поучениям мистико-философского
содержания, что хорошо видно на примере обличительных стихов Мирза-хана,
адресованных духовно непросвещенным людям. Кроме многочисленных
разрозненных бейтов к таким стихам можно отнести около десяти газелей
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
247
поэта, в том числе газель из алиф-нама, и 12-бейтовый отрывок из одной
касыды [МА: 16, 45—46, 71—72, 103—104, 121, 124, 154—155, 242—244,
246—248]. В этих стихах теоретические догматы тасаввуфа и
рошанитской доктрины заметно преобладают над собственно этическими
наставлениями. Поэт порицает людей, озабоченных только мирскими делами и
не имеющих истинной веры (yaqiri). Далекий от Бога человек, по словам
Мирза-хана, подобен сухому комку грязи посреди божественного океана
(muhit) [МА: 124], а душа в его теле, как покойник в могиле, изъедена
червями беспокойных мыслей [МА: 46]. В трех газелях объект порицаний
поэта представлен в символических образах павлина, пузыря Qiubab) и
Адама [МА: 71—72, 103—104, 246—247]. Спесивый павлин обладает
красивым оперением, но слишком слабыми крыльями и тяжелым телом, чтобы
спастись от когтей ястреба (читай — ангела смерти). Жизнь пузыря на
поверхности божественного океана— недолговечна и пуста. Грехопадение
лишило Адама близости Бога и заперло «на тесном базаре мира насут».
Этические ценности нигде прямо не называются, но подразумеваются как
качества, противоположные духовному неведению, религиозному
ханжеству и стремлению к мирским благам (dunya).
Более зримое выражение рошанитская религиозная этика нашла в
стихотворениях Давлата, написанных в жанре покаянных исповедей {tawba).
Этот жанр, восходящий своими корнями к классическому жанру арабской
поэзии зухдийа (аскетические стихи), в персидской религиозной лирике
получил развитие, очевидно, начиная с 'Абдаллаха Ансари (1005—1088)
(см.: [РейснерМ. Л. 1989: 81—89]). К жанру тауба относятся как
собственно покаянные стихи, так и молитвы, в которых поэт испрашивает
милости у Бога. Конечно, такие произведения тесно смыкаются с
восхвалениями Всевышнего. Не исключено, что стихотворения-тяуба были
написаны Давлатом на начальном этапе его творческого и духовного пути,
когда он, став последователем рошанитского учения, проходил стадию
ритуального покаяния.
В покаянных стихах Давлата преобладают молитвы, наполненные
довольно однообразными просьбами, но при этом исключительно духовной
направленности. Он даже хлеб насущный и здоровье просит дать ему
только для того, чтобы освободить душу от мирских забот и всецело
посвятить ее служению Богу [DL: 59, 60, 148]. Некоторые молитвенные
обращения ко Всевышнему имеют у Давлата нейтральный религиозный смысл:
поэт просит укрепить его в вере, защитить от козней Шайтана, избавить от
сомнений и суетных мыслей, уменьшить привязанность к мирскому и т. д.
Однако в целом его молитвы выражают умонастроения мистика, который
желает просветления души и стремится к свиданию с Другом. Не случайно
в последних бейтах нескольких газелей-тяуба Давлат заявляет о своем
желании оказаться «в ряду бедных (misklnan)», т. е. мистиков, достигших
высшего уровня духовного совершенствования.
Формальные особенности ряда стихотворений-тяуба и их соседство в
диване позволяют объединить их в циклы. Восемь газелей, например,
имеют сходную конструкцию первого полустишия начального бейта: «О Гос-
248 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
подь, мне... дай» (уa гаЬЬ ma-lara... га) [DL: 58—61, 189]204. Анафора «О
Аллах миров!» (уa allah al-4alamin) присутствует в двух стихотворениях
[DL: 49—51], а эпифора (одинаковый редиф) «О Аллах!» (yd allah) — в трех
[DL: 51—53]. Одно из стихотворений с эпифорой «О Аллах!» целиком
построено на синтаксически однотипных фразах с контрастным
чередованием самоуничижения автора, ничтожного и грешного, и восхваления Бога,
всесильного и милосердного.
Две гззепи-тауба заметно отличаются своим содержанием. В одной,
касаясь излюбленной темы Судного Дня, Давлат выражает надежду на то,
что Господь облегчит ему смертный час, послав 'Азра'ила «в прекрасном
облике», и ангелы загробной жизни удовлетворятся его ответами, а во
время Страшного Суда божий престол закроет его от палящего солнца,
весы добрых и злых дел наклонятся в его пользу, и он молнией пролетит в
рай над мостом Сират [DL: 49—50]. Другая газель представляет собой
исповедь, приближенную к реалиям жизни. Поэт приносит покаяние за
прежние, прожитые в беспечности и неведении годы и сообщает о своем
новом состоянии духа после того, как он отказался от обычаев ('adat) и
подчинился воле Совершенного Учителя [DL: 65].
Главная тема этических наставлений всех рошанитских поэтов —
порицание материального мира и мирских благ (dunya). Эта тема,
сочетающая в себе и религиозную, и суфийскую, и светскую мораль, а также
просто житейскую мудрость, была очень распространенной в мусульманской
дидактической литературе. Возможно, поэты обращались к ней не только в
силу того, что она отвечала принципам их учения, поскольку
привязанность к мирским благам считалась одним из основных препятствий для
достижения цели познания (об этом неоднократно говорит Мирза-хан:
[МА: 145, 158, 221]), но также вследствие личных умонастроений, а может
быть, и действительного образа жизни.
Стихи рошанитов, особенно Давлата, изобилуют резкими
высказываниями в адрес всего, что является воплощением мирского и мешает любви
к Богу. Осуждая привязанность к имуществу (mal-u mulk), Давлат обычно
перечисляет его конкретные составляющие. В двух подобных перечнях,
например, значатся жилой дом, плодовый сад, утварь из дорогих металлов,
красивая одежда, верховые и тягловые животные — лошади, верблюды,
ослы, мулы и слоны [DL: 112, 209]. Верховые животные упоминаются у
Давлата довольно часто, из чего можно сделать вывод о том, что их
наличие было мерилом состоятельности в окружении поэта. Главным
достоянием считались скаковые лошади. Показательны в этом смысле такие
бейты: «Даже если постигнет его ущерб в тысячу буланых лошадей (samand),
не страшно; да не будет лишь Бог забыт бедняком Давлатом ни на
мгновение» [DL: 113] или «Если ты узнаешь о ценности дыхания, и один вдох не
променяешь на тысячу лошадей» [DL: 83]. Тот же мотив встречается и у
Мирза-хана: «Эй, Мирза, повинуйся речам Совершенных, одно слово
которых лучше ста буланых лошадей» [МА: 239].
204 Семь газелей расположены последовательно в первом дафтаре дивана; восьмая
газель содержится во втором дафтаре.
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
249
Нередко в числе элементов мирского у Давлата фигурирует семья —
жена и ребенок {zan awfarzand), что, вероятно, говорит о критическом
отношении поэта к собственной семейной жизни (см. гл. III, разд. 4).
Кроме того, Давлат несколько раз причисляет к мирскому мансаб (военно-
административный чин в империи моголов), означающий светскую власть,
и чалму (dastar), которая является у него символом ложной учености,
лицемерной набожности и безосновательного величия [DL: 68, 95, 107,
161]205.
Критика мирского имела большее воздействие на аудиторию, если оно
сравнивалось с чем-то, относящимся к категории недозволенного (haram)
или просто вызывающим естественную неприязнь. Так, Давлат постоянно
называет мирские блага падалью и мертвечиной (murdara, lasajifa) [DL: 4,
25, 101, 161], а Мирза-хан— идолом или христианским поясом зуннаром
[МА: 5, 182]. Бренный мир у Давлата— это тюрьма для правоверных и
рай для неверных [DL: 33, 132] или место резни, где нет спасения ни шаху
ни нищему [DL: 92]. Васил, как всегда, привязанный к крестьянскому
быту, отходит от высокого стиля и сравнивает иллюзорный материальный
мир (majaz) с горьким на вкус луком [WR: 62]. Любопытны случаи, когда
поэты говорят о мирском как о причине вражды между близкими
родственниками [МА: 188; DL: 46]. Опираясь на мусульманские эсхатологические
представления, Давлат не раз предупреждал о том, что после смерти
человека накопленные им богатства в могиле превращаются в змей и
скорпионов [DL: 85, 120, 167].
Все рошанитские поэты, учитывая родовую принадлежность слова
dunya, пользуются сравнением мирского с коварной
женщиной-обольстительницей, однако характеристики этого образа варьируются, возможно, в
зависимости от личного отношения поэтов к женскому полу. Если у
Давлата и Васила dunya — это грязная и развратная женщина, которая
околдовывает слепых и глухих [DL: 156], «безродная девка» с разбросанными
по лицу волосами и челкой, смазанной камедью206 [WR: 60], то у Мирза-
хана есть строки о dunya как о беспредельно красивой, но неверной
невесте (nawe), вечно обманывающей своего жениха [МА: 183, 184]. Правда, в
другом случае Мирза изображает dunya старой вдовой, которая отовсюду
заманивает к себе новых женихов, лишенных «глаз сердца», безжалостно
убивает их и никак не может насытиться их кровью [МА: 134]. Вообще у
Мирза-хана преобладают мотивы не столько внешней уродливости и
распутства dunya, сколько ее лживости и неверности, поэтому в его стихах
205 Ношение большой белой или голубой чалмы с многочисленными складками и
длинным свисающим концом (samla), видимо, уже в первой половине XVII в. получило
большое распространение у состоятельных и родовитых паштунов. Тему «чалмы», т. е.
истинного достоинства и величия, развивал Хушхал-хан Хаттак, посвятивший ей целый
прозаический трактат с соответствующим названием — «Дастар-нама» [XuShal 1991].
Однако в некоторых стихах Хушхал порицал тех, кто дорогой одеждой и большой
чалмой желал показать свое общественное положение с тем, чтобы возвыситься над
другими [XXX: 102, 329,594].
206 Камедь — клейкая масса, выделяемая из коры некоторых деревьев, иногда
использовалась женщинами для укладки волос.
250 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
(например, в двух газелях: [МА: 182, 188—189]) dunya часто фигурирует в
образе хитрой многоликой мошенницы.
Алчных к мирским благам людей поэты иногда уподобляют незрелым
детям. В одной газели Давлата этот образ получил занятное развитие:
седобородый любитель земных благ сравнивается в ней с младенцем,
который вечно привязан к материнскому соску (т. е. мирскому); его пеленками
являются сомнения в реальности божественной сущности, а длинной
тесьмой пеленок — бесконечные желания [DL: 133].
Хотя в некоторых стихах Давлата и Васила имеет место традиционное
противопоставление понятий dunya и din [DL: 208; WR: 71], в принципе
рошанитские поэты склонны рассматривать оба понятия как одно целое,
противоположное тому, что относится к истинному познанию Бога [МА:
54, 88; DL: 48, 67]. «Стремящихся к мирскому и вере в этом мире
много, — говорит Давлат, — но взыскующих Истину здесь мало».
Порицание мирских благ, естественно, сопровождается проповедью
довольства малым (qana'at). Следуя поэтическим шаблонам, Давлат
советует своей аудитории удовлетвориться циновкой вместо тюфяка, а голову
положить на камень вместо подушки [DL: 27]. Довольствоваться малым,
по Давлату, значит уповать на Бога, подателя хлеба насущного, и потому
быть подлинно свободным, так как нет необходимости униженно бегать с
просьбами «от одной двери к другой» [DL: 35, 142]. Очень часто Мирза и
Давлат употребляют приписываемое пророку Мухаммаду расхожее
выражение «сокровище довольства малым» (афг. do qana'at ganj или xazana),
а Давлат в одной касыде делает прямую ссылку на соответствующий хадис
[DL: 201]. На этом суждении основана повторяющаяся у поэтов мысль о
том, что истинно богатым может считаться только тот, кто владеет
сокровищем qana'at. «Никоим образом не будешь беспокоиться об обоих
мирах, когда твоим богатством станет сокровищница довольства малым»
[МА: 234].
Замечу, что у Васила стихи о довольстве малым, как, впрочем, и
филиппики в адрес мирских благ, встречаются реже, чем у Мирза-хана и
Давлата. Лишь изредка поэт напоминает о том, что для скупых закрыт рай,
или призывает истинно влюбленных в Бога не думать об одежде и хлебе
[WR: 3, 63, 80]. Надо полагать, материальное состояние среды, в которой
жил Васил, не отличалось высоким уровнем и поэту не требовалось
убеждать себя самого и окружающих в пользе довольства малым.
Мотив довольства малым в суфийской поэзии традиционно связывался
с образом дервиша, нищенствующего мистика. Дервиши относились к
числу ярких примет социальной и духовной жизни могольской Индии.
Многие из них вели бродячий образ жизни, скитаясь по дорогам империи,
а другие подолгу жили вблизи посещаемых мазаров святых. Хотя в роша-
нитской лирике образ дервиша не занимает сколько-нибудь значимого
места и стихи, где упоминаются дервиши, в общем не содержат ничего
примечательного, тем не менее заслуживает упоминания сам факт крайне
уважительного отношения всех рошанитских поэтов к этой категории
«познавших». Мирза-хан считал, что от дервишей исходит благодать и
общение с ними приносит большую пользу духу, «оживляет мертвого» [МА:
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
251
102, 165, 215]. Васил видел в дервишах образец умеренности и терпения
[WR: 52, 85]. Давлат, называя дервишей «царями без войска и подданных»
или даже «львами у Божьего чертога», иногда описывал их скромное
облачение — войлочное или шерстяное рубище, грубое покрывало [DL: 10,
144, 160]. Однажды поэт красиво сказал, что зимой дервиши надевают
одежду из снега [DL: 156]. Изображая себя самого нищим путником на
дороге, ведущей к Богу, или влюбленным, томящимся у дверей Друга,
Давлат перечисляет предметы, из которых обычно состояло «имущество»
дервиша: шерстяное покрывало, посох, четки, молитвенный коврик,
зубочистка, сосуд для умывания [DL: 59, 61]. Все эти предметы можно видеть на
могольских миниатюрах, где дервиши, наряду с императорами, были
излюбленными персонажами.
Порицания мирского смыкаются с едва ли не самой популярной в
мусульманской философско-дидактической поэзии темой бренности земного
существования. Наиболее сильное звучание эта тема имеет у Давлата, хотя
Мирза-хан посвятил ей целую газель и часть касыды [МА: 32, 68], а Васил,
отдавая дань литературной традиции, — несколько руба 'и [WR: 104—106].
Банальные сентенции о преходящих красотах бренного мира и
скоротечности времени рошанитские поэты часто иллюстрируют на примере
весеннего цветения и осеннего увядания природы [МА: 68; DL: 30, 212; WR:
7, 91 и др.]. Из стандартного набора художественных средств,
применявшихся для раскрытия темы, все поэты используют прием с перечислением
имен великих государей прошлого, в числе которых ставшие уже почти
нарицательными имена Джамшида, Хосрова, Бахрама, Искандара,
Махмуда Газнави и др. Васил, кроме того, упоминает также имя афганского
правителя Индии Бахлола Лоди (правил 1451—1489) [WR: 37].
Давлат чаще других обращается к классическому образу проходящего
каравана жизни и рассуждает о необходимости заранее готовить в дорогу
припасы из благих дел [DL: 5, 23, 32, 57, 89, 111, 260 и др.]. «Стрела
дыхания (nafas), слетая с тетивы, назад не возвращается», — предупреждает
Давлат [DL: 73]. Ограничивая пределы человеческой жизни сроком в 50—
60 лунных лет, поэт, возможно, указывает таким образом среднюю
продолжительность жизни в его время [DL: 127]. Встречается у Давлата и
хайамовский мотив праха, в который обратились могущественные цари и
писаные красавцы прошлого [DL: 5].
Хотя Давлат никогда не был обличителем сильных мира сего, тем не
менее у него имеются строки о бренности мирской власти, иногда даже
довольно сердитые: «Кровью имущества угнетенных цари обагрили свои
руки и ушли из этого мира в смятении» [DL: 121]. На глазах Давлата
происходили бесконечные войны за власть в могольской империи и ее
полузависимых княжествах, поэтому внешне отвлеченные рассуждения поэта о
том, что в короткие сроки государи становятся слабыми, жалкими и
нищими, лишаются армии и челяди, и от них не остается ни имени, ни
следов, ни знамен, безусловно, отражали историческую реальность [DL: 12].
В нескольких стихотворениях Давлата, относящихся, очевидно, к
позднему периоду его творчества, говорится о скоротечности жизни. Одно из
них, возможно, было написано под впечатлением кончины 'Али Мухам-
252 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
мада Мухлиса. Предпоследний бейт этой газели гласит: «Легко и свободно
уходит он по дороге [в мир иной], нет у него затруднений; как прекрасен
этот уход познавшего Истину Мухлиса!» [DL: 202]. В этом, как и другом,
подобном ему, стихотворении [DL: 116] поэт настойчиво повторяет мысль
о неизбежности смерти, вспоминает об ушедших из жизни друзьях,
призывает себя уповать на вечного Господа и готовить «провизию в дорогу».
Для усиления мотива смерти автор прибегает к эффектным сравнениям, в
частности использует такой образ из хозяйственного быта: «Эти небеса
подобны мельнице, в которой перемалываются живые головы; разве
зернотерка оставляет когда-нибудь зерна крупными?»
Вообще тема смерти затрагивается Давлатом довольно часто, в том
числе в стихах о Судном Дне или суфийских проповедях «смерти до
смерти», что, конечно, придает некоторый мрачный оттенок всей его поэзии в
целом. Поэт не устает напоминать о том, что жизнь не вечна, а смерть
неотвратима для всех: царей и бедняков, старых и молодых, хищников и их
жертв [DL: 23, 76, 132, 210 и др.]. Для образного определения смерти поэт
привлекает весь имеющийся у него арсенал сравнений. Смерть у него —
это и охотник, расставляющий сети [DL: 23], и могущественный судья
[DL: 57], и беспощадный палач [DL: 120], и волк, разрывающий теленка, и
огонь, сжигающий сухое бревно [DL: 127], и даже голодная самка ястреба-
перепелятника (basa) [DL: 132].
В религиозно-мистическом ключе смерть, наоборот, воспринимается
как избавление человека от тягот телесного существования и возвращение
его души «на родину» к Богу [DL: 92]. В одной газели поэт даже называет
смерть «беспредельно приятной», так как она пришла и к пророку, и ко
всем святым, и к «бальзаму его души» (т. е., видимо, к кому-то из близких)
[DL: 116]. Подобные мотивы преобладают в двух газелях, посвященных
исключительно теме смерти и имеющих соответственный редиф — marg
('смерть') [DL: 212—213]. Давлат называет здесь смерть «большим гостем
от Бога», которому влюбленные в Истину преподносят свои жизни.
Развивая мотив «смерти до смерти», поэт опять обращается к бытовой
образности: «Если бы смерть продавалась в лавках, дервиши купили бы ее за
большую цену».
Согласно этическим представлениям суфиев, главным врагом
божественного духа является нафс — низшая душа человека, средоточие
низменных плотских желаний. Мирза-хан неоднократно замечал, что подчинение
низшей душе убивает дух (rw/i), а победа над ней дает духу свободу [МА:
45, 141, 222]. Борьба с нафс, таким образом, составляет одну из основных
задач мистика на пути духовного совершенствования и потому относится к
числу важных тем суфийской назидательной литературы (см.: [Schimmel
1975: 112—114]). В рошанитской поэзии эта тема отражена достаточно
хорошо; у Мирза-хана и Васила, например, есть отдельные стихотворения с
хулой на нафс201 [МА: 8—9, 10; WR: 62].
207 Паштунские поэты иногда употребляют фонетический вариант этого слова —
naws, а также — для придания ему пренебрежительного оттенка — пользуются
уменьшительным суффиксом -ак — nafsak, nawsak.
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
253
Как считают рошанитские поэты, именно нафс вводит человека в
заблуждение относительно истинной цели его существования, сбивает с
пути, предначертанного Богом, влечет к суетным мирским делам и
материальным благам: «Она (низшая душа. — М. П.) установила силки из детей
(awlad)... Ее стеной стали честь и имя (nang-u nam), ее украшения —
серебро и золото» [МА: 8]. Сила низшей души так велика, предупреждает
Васил, что своим жаром она может легко расплавить слабое, словно
сделанное из воска, человеческое сердце [WR: 66]. По старой суфийской
традиции, нафс у рошанитских поэтов иногда принимает зооморфный
облик— облик непокорной и брыкливой лошади [DL: 42, 142, 196], собаки,
стремящейся к падали [DL: 32], свиньи [WR: 87], черного дракона [WR:
95], а также неопределенного тощего существа с внешностью лисы и
нравом волка [DL: 99]. У Васила интересен также стих, где нафс увязан с
темой поэтического творчества: ъмакта* одной газели поэт предостерегает
себя о том, что любой неосторожный шаг по зову низшей души может
воспламенить диван его стихов [WR: 47].
Союзником низшей души или, по словам Васила, ее братом является
злой дух, Шайтан. Давлат, видимо, не желая обременять свою аудиторию
тонкостями религиозно-этических конструкций, в некоторых стихах
объединяет Шайтана и нафс в одно целое [DL: 127, 195, 219]. Мирза-хан,
наоборот, всегда подчеркивает разницу между ними, утверждая, что нафс —
более опасный для человека враг, поскольку находится «ближе к его
природе (xilqat)» [МА: 50].
Общим в стихах всех поэтов является мотив войны (jang) с низшей
душой. «Сейчас лучшее для тебя — война с нафс, чтобы не стал твоей
участью вечный позор», — восклицает Мирза-хан [МА: 186], и Давлат вторит
ему: «Коня усердия (himmai) держи оседланным; сражайся постоянно с
нафс копьем упоминания [Бога] (т. е. зикром. — М /7.)!» [DL: 144].
Главным оружием для борьбы с нафс поэты называют аскетическое
воздержание (riyazat) [DL: 170; WR: 68]. Когда Давлат сравнивает нафс с
норовистой лошадью, то, естественно, развивает мотив дрессировки: «Измори ее
голодом, взнуздай, укроти, оседлай» [DL: 196]. Если нафс объединяется с
Шайтаном, то поэт предлагает такую типично афганскую «тактику»
войны: «Не поднимай шума, не оскорбляй его, коль ты разумен; На врага
совершай скрытое и тихое нападение» [DL: 195]. Духовный путник,
которому удается победить нафс, становится достойным свидания с Богом,
«возносится ввысь с грязной земли» и обретает вечное царство [МА: 186; DL:
169, 172]. Впрочем, Давлат не ограничивается мистическими образами и
однажды сравнивает победителя нафс с Рустамом, известным героем
поэмы Фирдоуси [DL: 152].
К числу особо порицаемых суфиями качеств относится лицемерие, или
показное религиозное рвение (riyay\ которому противостоит совершенная
искренность в вере и благочестивых делах (ixlas). Значение этих этических
категорий в тасаввуфе хорошо видно на примере возникшего в XI в.
движения маламатиййа (см., например: [Тримингэм 1989: 275—277]). В
стихах рошанитов мотивы лицемерия и искренности звучат преимущественно
на втором плане. Применительно к лицемерию поэты иногда используют
254 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
классический образ суфийского рубища (xirqa). Тот, кто служит Богу без
всякой корысти, не должен носить «хирку лицемерия», у которой внешняя
сторона— белая, а подкладка— черная [МА: 154; WR: 44, 61]. Как
известно, участники движения маламатиййа вообще отказывались от
ношения рубища, представлявшегося им воплощением показного благочестия.
Из упоминаний о лицемерии любопытна также одна строка Мирза-хана,
где осуждаются «люди лицемерия» (do riya' ahl\ стыдящиеся женщины в
период месячных (hayiza) [MA: 157]. Надо думать, эти слова показывают
бытовое отношение поэта к нормативной шариатской этике.
Собственно морально-этические наставления, где идет речь о
предписываемых и порицаемых свойствах человеческой натуры, конкретных
правилах поведения, не играют в рошанитской поэзии самостоятельной роли
и всегда имеют религиозно-мистическую направленность. В одной газели
Давлата, например, дан перечень пяти положительных и шести
отрицательных качеств, которые частично заключают в себе светскую мораль, но
в совокупности являются категориями суфийской этики [DL: 172]. К
положительным качествам здесь отнесены щедрость (saxawat), мужество
(suja'at)20*, ученость (7/т), доброта (Mm), сосредоточенность на зикре, к
отрицательным— гордыня (kibr), алчность (hirs\ жадность (tama%
злобность (gazab), мстительность (kind), похоть (sahwat). В другом
стихотворении Давлат называет самым плохим качеством человека зависть (hasad),
заявляя, что тот, кто завидует богатству или власти, является злейшим
врагом Господа [DL: 204].
Два десятка бейтов одной из касыд Давлат посвящает
противопоставлению нравственных качеств правоверного (mu'miri) и лицемера (munafiq)
[DL: 12—13]. Кроме упомянутых выше добродетелей здесь упоминаются
также терпение, довольство малым, великодушие, сострадание,
скромность, честность, любовь к уединению. Этими качествами Давлат
характеризует истинного правоверного, а противоположные им свойства натуры,
естественно, приписывает лицемеру. Главное правило поведения Давлат
формулирует так: «Это древняя заповедь Бога, не теперешняя, — с
добрыми поступай по-доброму, с дурными — дурно» [DL: 204].
Неоднократно Давлат затрагивает тему истинной дружбы. Продолжая
старые традиции персидской дидактики, он призывает различать два типа
друзей: jam (fдушевные') и nam (fхлебные') [DL: 7, 37]. Первые дружат в
силу сердечной привязанности, вторые — из корыстных побуждений.
Разумеется, поэт советует сторониться корыстных друзей, утверждая, что
между ними и теми, кто дружит бескорыстно, расстояние, как от земли до
неба. Встречаются у поэта и другие банальные советы на тему дружбы,
например, о том, что хорошие друзья должны скрывать пороки друг друга
[DL: 110], или о том, что нельзя забывать о друзьях, добившись в этом
мире успеха [DL: 84].
208 Хушхал-хан Хаттак тоже считал мужество и щедрость главными добродетелями,
но рассматривал их скорее как проявление принципов паштунского кодекса чести.
Характеристике этих качеств он отвел девятую и десятую главы в «Дастар-нама» [XQShal
1991:67—102].
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
255
Иногда Давлат рассуждает и на популярную тему о пользе молчания,
полагая, что говорение приносит беду, а молчание спасает [DL: 83].
Однажды он подтверждает идею о предпочтительности молчания такой
метафорой: «Солнце и луна движутся по небу и делятся светом молча, лишь
собаки любят лаять днем и ночью» [DL: 195]. Впрочем, поэт не обошелся
без оговорки относительно того, что «молчание есть большая ошибка для
того, кто выучил хвалу, достойную лика Друга» [DL: 98].
Традиционная дидактика включает у Давлата также тему «науки и
практики» (Ч1т aw 'amal). Вслед за классиками поэт любит напоминать о
неотделимости знания от его практического применения [DL: 35, 220].
Обращает на себя внимание и выпад поэта против тех «детей мирского»,
которые гордятся своими предками [DL: 140]. Хушхал-хан связывал этот
мотив с проповедью принципов паштунвали, утверждая, что личное
достоинство и самоуважение не зависят от социального положения и репутации
предков [XXX: 102].
Если Давлат в силу своих личных свойств все-таки уделял некоторое
внимание нравственно-этическим наставлениям, то Мирза-хан и Васил,
как правило, ограничивались только отдельными, часто образными
сентенциями. У обоих есть немало своеобразных хикматов — мудрых
изречений, в афористичной форме излагающих какие-либо назидательные
мысли. Мирза, например, любил тему воспитания и обучения, которая
заключена в таких метафорах: «От верха до низа одежда получается тогда,
когда портной отрезает лишнее» [МА: 74]; «Разве прорастет семя на сухой
и твердой земле?»; «Огонь быстро охватывает траву, но долго сжигает
сырое бревно» [МА: 116]; «Камнями бьют только плодоносящее дерево»
[МА: 180]; «Искусство красильщика станет явным, когда еще не
стиранную одежду постирает прачка» [МА: 194].
Максимы Васил а в целом отличаются большей пестротой содержания:
«Внешнее покаяние — мука для сердца; невинен тот, кто не имеет
[внутреннего] стремления к греху» [WR: 23]; «Взгляни, есть ли польза без вреда
и есть ли вред без пользы?» [WR: 23]; «Тираны тягостны своим дурным
нравом, но себе самим они приносят больше горя, чем другим» [WR: 31];
«Терпение есть траур по плотским желаниям» [WR: 63]; «Умение не видно
без дела» [WR: 80] и т. п. Иногда Васил высказывает противоречивые
суждения. Так, в одной газели он утверждает, что невежество глупца — это
мучение, а в другой, наоборот, называет знание мучением, а незнание —
спокойствием души [WR: 4, 31]. Есть у него и более развернутые этические
назидания, представленные, например, стихами с хулой на деспота ($аИт)
и себялюбца (xudparast) [WR: 34, 61].
За несоблюдение нравственных норм и ведение неправедной жизни все
рошанитские поэты, конечно, в первую очередь угрожают посмертным
наказанием и Страшным Судом (подробнее см. разд. 1). Цитируя Коран,
Мирза говорит: «Кто слушается наставлений низшей души (nafs), „для
них— мучительное наказание" (wa lahum 'azabun 'alimun)» [MA: 9]
(2:169/174). Любопытно, что в одной газели Давлата, который более
других интересовался темой Судного Дня, встречается упоминание о таком
возмездии за грехи: «Если кто враждует с другом Бога, [Он] изменяет его
256 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
облик (surai), [и тот] становится ослом, собакой, мышью, кошкой, слоном,
быком, свиньей, обезьяной» [DL: 160].
Сочинения Ахунда Дарвезы содержат единственные в источниках
упоминания о том, что Байазид Ансари интересовался индуистскими
традициями и заимствовал из них учение о переселении душ (tanasux) [Ml\i 123—
124; Tazkirat: 1336]. По словам Дарвезы, Байазид обращался к ученикам с
такими наставлениями: «Делайте все так, чтобы услужить мне, и если я
останусь доволен, то после смерти вновь возвращу вам человеческий
облик, а если не буду доволен, то обращу вас в свиней и медведей, а если
выйдете у меня из повиновения, то [вообще] исчезнете навсегда».
Идею об обретении человеком животного облика после смерти Байазид
мог почерпнуть не столько из индуизма, сколько из персоязычной
суфийской классики. Подобные мотивы встречаются, например, у Сана'и и 'Ат-
тара; у последнего есть строки о превращении неблаговоспитанных людей
именно в свиней [Schimmel 1975: 107, ИЗ]209. Персидские мистики
говорили об обретении животного облика в загробном мире. Возможно,
Байазид повторял те же мысли, и его высказывания, таким образом, не имели
прямой связи с теорией метемпсихоза. Каковы бы ни были подлинные
истоки представлений Светлого Учителя о переселении душ, интересно то,
что они имели продолжение в поздней рошанитской традиции и нашли
отзвук в стихах Давлата Лоханая.
6. Параллели и расхождения с рошанитской поэзией
в стихах богословов
Богословская литература на пашто, как уже говорилось, возникла в
результате острой полемики ханафитских теологов, возглавляемых 'Али
Тирмизи и Ахундом Дарвезой, с духовными вождями рошанитов. Все
сочинения Дарвезы имеют не только религиозно-просветительскую, но и
выраженную антирошанитскую направленность. Однако в произведениях
его потомков и последователей антирошанитские тенденции
просматриваются слабо, а в поэтических текстах вообще отсутствуют. Более того,
идейное содержание богословской поэзии первой половины—середины
XVII в. в значительной степени пронизано теми же общими мистико-
философскими представлениями и подчиняется тем же единым
художественным принципам, что господствовали в духовной литературе моголь-
ской Индии этого времени и лежали в основе поэтического творчества
рошанитов.
Собственно говоря, идейные расхождения рошанитов и Дарвезы
касались не столько самой сущности их религиозно-философских воззрений,
сколько интерпретации отдельных теософских догматов, а главное — при-
209 Возможно, источником этих мотивов были идеи, распространенные в ранней
мусульманской секте хаммаритов (hammariyya), которые «признавали учение о
переселении душ и считали, что бог творит обезьян и свиней из грешников» [Бертельс 1965: 21].
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
257
ближенных к жизни вопросов о формах бытования ислама в афганских
племенах, соотношении светской и духовной власти, правомочности
притязаний на духовное лидерство. Байазид Ансари продолжал увайситскую
традицию тасаввуфа и не имел за собой никакой цепи духовного
преемства, тогда как Ахунд Дарвеза вслед за шейхом 'Али Тирмизи считался
полномочным представителем четырех суфийских школ Индии (кубравиййа,
чиштиййа, шаттариййа, сухравардиййа) на территориях
Северо-Восточного Паштунистана. Сын Дарвезы 'Абд ал-Карим входил в братство
чиштиййа, а Мир Хусайн был приверженцем кадириййщ о чем
свидетельствуют хвалебные строки этих авторов в адрес названных школ. Вполне
естественно, что стихотворные произведения 'Абд ал-Карима, Мир Хусай-
на и других религиозных поэтов их круга несли на себе отпечаток
традиционной мистической лирики.
Главными идейными источниками, прямыми или опосредованными,
для богословской поэзии, как и для рошанитской, конечно, были
священные тексты Корана и сунны. Стихи богословов полны ссылок на эти
неоспоримые авторитеты: «Слова Каримдада— жемчуга, если понимаешь;
свидетельствуют они о Коране, о хадисах» [MIp 156]; «Спорщику (mudda'T),
если он не верит [мне], — порицание, ибо доказательством моих слов
является хадис чистого посланника» [Mlf. 162]; «Каримдад для того изложил
этот хадис на пашто, чтобы паштуны, среди которых есть неграмотные
('атТ)9 избавились от беспокойств на мосту Сират» [М^: 192]; «Слова Ху-
сайна соответствуют Корану и хадисам» [NM: 466] и т. п. Как и рошанит-
ские авторы, богословы часто цитируют священные тексты в оригинале на
арабском и в переводе на пашто.
У 'Абд ал-Карима и Мир Хусайна особенно много строк с назиданиями
о необходимости беспрекословного подчинения предписаниям Корана и
сунны: «Следуй Корану, хадисам; этот светлый путь для нас установил
Мухаммад [сын] 'Абдаллаха» [MIt: 166]; «Айаты и хадисы— жемчуга;
иди на свет этих жемчугов» [М^: 166]; «В делах поступай согласно
Корану, но не отрицай Тору и Псалтырь» [NM: 536]; «Слово Бога снизошло на
посланника; каждое дело, что соответствует [этому] Слову, есть
поклонение Богу» [NM: 546], а также: [Ml,: 174; NM: 55a, 576, 60а и др.]. Оба
автора многократно подчеркивают мысль о том, что Коран, ниспосланный
пророку Мухаммаду, есть единственно истинное Слово Божье, поэтому не
повинующийся Корану является неверным (kqfir), для которого запретен
рай [Ml,: 172, 177, 192; NM: 506, 546, 55а, 576, 58аб, 60а, 64а и др.].
Подобные проповеди в целом повторяются у богословов чаще, чем у мисти-
ков-рошанитов.
В мухаммасе 'Абд ал-Карима дается развернутая аллегория с
уподоблением Корана спасительной веревке, которую бросили человеку,
упавшему в пропасть, но зацепившемуся за уступ земной жизни [М12: 59а—
606]. Мир Хусайн, кратко характеризуя содержание Корана в
своей первой азбуке, считает главным в нем описание сущности (zat) и
качеств (sifai) Бога, а также изложение предписаний и запретов (amr-u nahy)
[NM: 546].
258 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Настойчивые призывы богословов верить в истинность слов Корана и
следовать его установлениям свидетельствуют о том, что многие простые
афганцы, жившие по законам обычного права, лишь формально
признавали авторитет священной книги ислама и имели весьма смутные
представления о ее религиозно-этическом и правовом значении. Бабу Джан нередко
сетует на невежественных (jahilari), которым бесполезно читать айаты и
хадисы: «Наставление — это железный гвоздь, невежественный — камень;
железный гвоздь не оставляет следа на камне» [BJ: 21а].
Кроме Корана и хадисов поэты-богословы черпали вдохновение и из
других источников, которыми были как сугубо теологические, так и
художественные произведения. Недаром 'Абд ал-Карим однажды заявил, что
его слова извлечены из хадисов и «книг» [М^: 172]. В поэтических текстах
богословы редко ссылаются на свои источники. Из теологических
сочинений 'Абд ал-Карим упоминает, например, только известную книгу Абу Ха-
мида ал-Газали (ум. 1111) «Ихйа' ал-'улум ад-дин» [MIp 192], а Мир Ху-
сайн — трактаты «Рисала-йи гиамсиййа» [NM: 51а] и «Карамат ал-асфийа'»
[NM: 52а] 21°.
Самым популярным персидским классиком у афганских богословов,
как и у рошанитов, был Са'ди (ум. 1292). В «Махзан ал-ислам» есть
переводы его стихов на пашто, выполненные 'Абд ал-Каримом и 'Абд ал-Ха-
лимом. Один из фрагментов алиф-нама 'Абд ал-Карима содержит краткое
изложение рассказа о Джунайде Багдади из «Бустана» \ЬА\Х: 167]. Ряду
отрывков в «Книге Бабу Джана» предпосланы строки Са'ди из «Гулистана»,
соответствующие смыслу наставлений афганского богослова [BJ: 616, 62аб,
676].
Мир Хусайн в стихах мистико-философского характера дважды
ссылается на диван Насими: «Эти тайны (слова Бога. — М. П.) я видел в диване
Насими» и «В диване Насими написано, что подножие божьего престола
(kursT) — это ноги познавшего, а сам престол ('ars) — его голова...» [NM:
59а, 60а]. Очевидно, автор имеет в виду суфийского тюркоязычного поэта
'Имад ад-дина Насими (ум. 1417/18), последователя мистической секты
хуруфитов и автора двух диванов— на турецком и персидском языках
[Babinger 1999]. Упоминание именно этого поэта кажется довольно
необычным, тем более что в произведениях самого Мир Хусайна нет
никаких намеков на учение хуруфитов.
Все поэты-богословы, так или иначе относившиеся к кругу
последователей Ахунда Дарвезы, были суннитами-ханафитами, но в их
стихотворных произведениях только у Мир Хусайна встречаются указания на
приверженность ханафитскому мазхабу. В одном случае Хусайн говорит об
210 Авторы этих трактатов мне неизвестны. Имя Шамс ад-дин, которое явно
фигурирует в названии первого трактата, носил один из крупных деятелей кадириййи первой
половины XVII в. Он был руководителем кадиритской общины в Лахоре и как будто
пользовался особым расположением императора Джахангира (правил 1605—1627)
[Rizvi 1983: 64—66]. Название второго трактата имеет сходство с названием сочинения
«Карамат ал-авлийа'» (1658), принадлежащего Низам ад-дину Ахмаду Хусайни, мо-
гольскому автору времен Шахджахана (правил 1628—1658), и рассказывает о чудесах
суфийских святых [Storey 1953: 1008].
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
259
этом прямым текстом: «Сей ничтожный по мазхабу— ханафит» [NM:
596], а в другом случае только намекает, заявляя о том, что самый
уважаемый среди четырех имамов, основателей мазхабов, — тот, чье прозвание
Ханифа, а имя Ну'ман [NM: 546].
Многие строки Мир Хусайна содержат общие наставления о значении
веры для человека, причем поэт в равной степени пользуется и
общемусульманским термином din, и суфийским понятием yaqin [NM: 51a, 586,
596 и др.]. Синонимом истинной веры для всех поэтов-богословов был
шари'ат. Именно в толковании значения и сущности шари'ата
заключается одно из наиболее заметных расхождений между стихами рошанитов и
богословов. Если первые видели в шари'ате только начальную стадию
духовного совершенствования, то поэты-богословы, следуя нормативной
мусульманской догматике и руководствуясь целями религиозного
просвещения народа, объявляли шари'ат главным и единственным законом
жизни верующего мусульманина. Характеристика шари'ата как стадии
мистического пути имеется в азбуках Мир Хусайна, однако она отличается от
взглядов рошанитских поэтов, поскольку автор связывает шари'ат с
повседневной практикой земной жизни и потому считает его обязательным
всегда и для всех, а другие этапы пути, основывающиеся на шари'ате,
относит исключительно к духовной сфере, где, как в нормативном
богословии и фиюсе, могут быть разные уровни познания (см. ниже).
Стихи богословов изобилуют призывами следовать шари'ату словом и
делом и ни на йоту не отступать от него. В азбуках 'Абд ал-Карима и Мир
Хусайна постоянно говорится о том, что несоблюдение установлений
шари'ата означает служение Шайтану, наносит непоправимый ущерб вере и
влечет за собой посмертное наказание [MI|i 152, 153, 156, 157, 161, 162—
163, 166, 170, 171, 173, 174, 175; NM: 47а, 50аб, 546, 576, бОаб, 616, 646 и
др.]. Прямолинейные наставления богословов по поводу шари'ата только
в единичных случаях уступают место метафорическим высказываниям.
«Если ты не ведаешь о шари'ате, — мрачно утрирует 'Абд ал-Карим, —
непременно заключишь брак с собственной матерью» [М^: 153]. В четырех
бейтах другого стихотворения он аллегорически изображает шари'ат в
виде ростка дерева, о котором нужно долго заботиться, чтобы сначала
окрепли его листья, затем выросли цветки, а в конце появились плоды (под
плодами подразумеваются посмертные блага, уготованные праведникам)
[MIp 171—172]. Мир Хусайн однажды сравнивает шари'ат с ковчегом Ну-
ха, спасающим от бури [NM: 506].
Повторяя изречение пророка, 'Абд ал-Карим и Мир Хусайн иногда
называют шари'ат садом, а богословов ('alimari), его идеологов,
соответственно, — садовниками [MIp 171; NM: 50а]. Хвалебные строки в адрес
мусульманских богословов являются еще одной чертой, отличающей
богословскую поэзию от рошанитской. 'Абд ал-Карим посвятил восхвалению
богословов целое стихотворение, в котором он требует полного
подчинения им как истинным знатокам исламского вероучения [М1р 171]. Поэт
упоминает о неких врагах богословов, «разбойниках на пути [веры]», имея
в виду лживых духовных учителей, возможно, в их числе и рошанитов.
Мир Хусайн тоже призывает слушаться богословов, поскольку уровень их
260 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
знаний неизмеримо выше, чем у прочих людей [NM: 506, 616, 636], а 'Абд
ал-Халим просит не выказывать слабость в изучении религиозных наук
[MIj: 151].
Содержание шари'ата в стихах богословов разъясняется очень редко.
Разумеется, в первую очередь это исполнение пяти главных установлений
ислама, названных 'Абд ал-Каримом «лечебными пилюлями» (gohy) [MIj:
193]. Дважды их перечисляет Мир Хусайн: kalirna, nmunj, roza (или siyam),
hajj (или tawaf— 'хождение вокруг Каабы»), zakat [NM: 546, 65а]. К
этим установлениям добавляются также правила о дозволенных (halal) и
запрещенных (haram) действиях [MIi: 178; NM: 65а]. Мир Хусайн
неоднократно заводит речь об особой значимости формулы веры, которая требует
осмысленного произнесения и соответствующего ей поведения [NM: 47а,
496, 52а]. Тот же Хусайн с абстрактной ссылкой на религиозные
авторитеты разъясняет важное в шари'ате понятие ритуальной чистоты (taharat),
перечисляя ее виды: 1) от неверия (kufr), 2) от язычества (Sirk), 3) от ереси
(bid"at) 4) от запретного (haram), 5) от случайного обстоятельства (hadas),
6) от сознательного правонарушения (jinayat), 7) от порицаемых дел da-
ma'im), 8) от похвальных дел (hama'id) (последний вид явно относится к
суфийской этике, отрицающей показную добродетель) [NM: 526].
Подробные толкования пяти основ ислама у авторов-богословов обычно
содержатся в прозаических или саджевых текстах (например, в «Книге Бабу
Джана» эти вопросы излагаются в 15 саджевых отрывках первого дафта-
/?a[BJ:4a—106]).
Прямо признавая, что наряду с сугубо религиозными, ритуальными и
правовыми аспектами большое значение в шари'ате имеют этические
нормы, Мир Хусайн тем не менее ограничивается очень коротким
перечнем порицаемых исламской этикой отрицательных качеств, а именно
зависти (hasad), алчности (hirs\ спеси (kibr), лицемерия (riya') и злословия
(gaybaf) [NM: 65а]. Из поэтов-богословов, пожалуй, только Бабу Джан в
своих стихотворениях уделяет много внимания морально-этическим
темам. Шесть отрывков его «Книги» посвящены восхвалению щедрости
(saxawat) и порицанию злых скупцов (siim-baxil) [BJ: 266—276, 29а—30а,
38аб, 67аб]. Бабу Джан называет щедрость щитом, защищающим веру от
Шайтана, и источником живой воды. Богатым людям он рекомендует
проявлять щедрость в виде милостыни (sadaqa) и пожертвований (xayriyyat).
Злые скупцы, которые при полных закромах «и петуху не бросят
зернышка», а увидев гостя у своих дверей, в страхе прячутся, не могут
рассчитывать на добрые молитвы дервишей при жизни и милость Аллаха после
смерти. В подтверждение своих слов автор, не стремясь к оригинальности,
приводит кораническую историю богача Каруна. Имеются у Бабу Джана
также стихи с порицаниями тиранов (laliman) [ВJ: 596—60а, 616] и
невежественных (jahilan) [ВJ: 20аб, 21аб]. Как и Мир Хусайн, Бабу Джан
осуждает вредоносные для веры брань и злословие [BJ: 166—176]2П. Красной ни-
211 В этих стихах есть параллель с высказываниями Хушхал-хана о языке. Хушхал
считал, что язык человека может быть страшнее клинков, стрел, змей и кровожадных
тигров, а собственный язык сравнивал с ружьем, извергающим огонь [XXX: 15, 880].
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
261
тью одного его фрагмента проходит известная всем религиозным системам
мысль о том, что деяния человека — это сев, за которым неизбежно
следует жатва [BJ: 286—29а].
Главным стимулом к соблюдению установлений шари'ата является
вера в загробную жизнь и Судный День, поэтому не случайно одно из
центральных мест в стихах богословов, как и в поэзии рошанитов, занимают
эсхатологические мотивы. В «Книге Бабу Джана», например, семь
стихотворных отрывков написаны только на тему посмертного воздаяния и
Страшного Суда [BJ: 14аб, 216—22аб, 286—29а, 596—60а, 656—66а].
Близкие по смыслу стихи о скоротечности земного существования и
неминуемости смерти содержатся в восьми фрагментах Бабу Джана [BJ: 13аб,
15аб, 636—65а, 108а—110а] и трех фрагментах 'Абд ал-Карима [MIi:
184—186, 188—189]. Оба поэта предупреждают, что от ангела смерти 'Аз-
ра'ила не спасут ни лекарства, ни заклинания, ни стены крепости, ни латы,
ни даже «железный колпак» на голове. «Этот мир подобен дому с двумя
дверьми, — говорит 'Абд ал-Карим, — через одну я вошел внутрь, через
другую выйду» [MIj: 189]. Бабу Джан сравнивает жизнь с лошадью,
которая рано или поздно сбросит своего седока [BJ: 636]. Поэты используют
также стандартные хайамовские мотивы, связанные с упоминанием
разрушенных дворцов и ушедших в прошлое великих людей. Явно намекая на
известное руба'и, приписываемое 'Умару Хайаму, 'Абд ал-Карим говорит
о старых развалинах, на которых кукует кукушка [MIp 188]. В одном
фрагменте Бабу Джан рассуждает о неизбежности диалектического перехода от
созидания (wadani) к разрушению (wayrani) [ВJ: 108a—109а]. Если 'Абд
ал-Карим упоминает об одном пророке Нухе, жившем, по его словам, 1050
лет [М1|Г 189], то Бабу Джан приводит длинный список доисламских
пророков и царей, кратко сообщая об их деяниях и повторяя рефреном слова:
«Что с ними стало?» [BJ: 109а—110а].
Три фрагмента о молодости и старости, сопоставляемых по традиции с
весенним расцветом природы и ее осенним увяданием, вероятно, были
написаны Бабу Джаном в преклонном возрасте [BJ: 13аб, 636]. Связывая
старость с ухудшением физического здоровья, автор, как будто исходя из
собственного опыта, говорит о состоянии, когда «сила уходит из рук и ног»,
«ухо плохо слышит звуки», а поясница сгибается для того, чтобы
поприветствовать приближающуюся смерть.
Большое внимание все поэты-богословы уделяют описанию смерти,
похорон и могильной участи человека. 'Абд ал-Карим посвятил этой теме
один целый фрагмент (21 бейт) и 16 строк другого [MIj: 186—188, 194—
195], а его племянник 'Абд ал-Халим — свой самый большой отрывок (47
бейтов), сбивающийся на саджевую прозу [MIj: 203—210], причем это
произведение 'Абд ал-Халима воспринимается как более развернутое
изложение стихов его дяди. В «Махзане» на ту же тему написан саджевый
отрывок муллы 'Умара [М12: 261аб], а в «Книге Бабу Джана» — несколько
коротких стихотворных пассажей [BJ: 64аб, 656, 66а, 85а].
Бабу Джан говорит похожее: «Этот твой язык — клинок и огонь, не выпускай его из
своих губ» [BJ: 17а].
262 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Стихи богословов, ориентировавшихся на рядовую паштунскую
аудиторию, в совокупности создают очень яркую картину похорон и загробной
жизни. После мучительной предсмертной лихорадки душа по указанию
Бога покидает тело. За душой является ангел 'Азра'ил с четырьмя лицами
и четырьмя руками. «Он применит к тебе такую силу, как будто все семь
небес упадут грузом, — пишет 'Абд ал-Халим, — и ты станешь слепым на
оба глаза, глухим на оба уха, онемеют твои нежные уста, прекратит
двигаться твой язык» [MIi: 204]. Затем позовут мойщика трупов (murdasuy).
Он заберет всю одежду и вещи покойного: рубашку, чалму, украшения.
4Абд ал-Халим добавляет здесь, что измученный 'Азра'илом покойник
будет упрашивать мойщика медленно лить на него воду, омывать тело
крайне осторожно и не забирать перстня, подаренного в юности. После
обмывания мойщик завернет покойника в саван и положит его вверх лицом,
чтобы родственники могли проститься с ним. 'Абд ал-Халим сообщает
даже о цене погребального обряда: 150 цокэй (сокэу — букв, 'круглый
хлебец'), из которых 50 — на обмывание, 50 — на опускание в могилу, 50 —
на закапывание.
Любопытное обстоятельство упоминается в связи с церемонией
прощания с покойным. По словам поэтов, среди афганцев были распространены
народные обычаи оплакивания и пения траурных песен {do wir sandore),
что противоречило духу и букве мусульманского похоронного ритуала
[М1р 187, 206; BJ: 656]. Эти обычаи были подвергнуты суровой критике в
отдельном большом отрывке 'Абд ал-Карима (39 строф) [Ml,: 189—192].
Поэт рисует здесь довольно живописную сценку, в которой женщины
устраивают траур по умершему родственнику-мужчине. Одетые в свои
самые красивые одежды женщины собираются во дворе дома умершего,
обнажают головы и, покачиваясь, начинают голосить и причитать нараспев.
Временами они переругиваются по поводу того, кто лучше, а кто хуже
исполняет обряд оплакивания. Когда они поют усопшему славословия, то
стараются превзойти друг друга в преувеличениях. «[Покойный] и на осла-
то не садился, — возмущается 'Абд ал-Карим, — а они скажут, что он
ездил на лихом скакуне; [покойный] был пастухом, а они станут восхвалять
его как царя» [Ml,: 190]. При этом самому мертвецу, считает поэт, лживая
хвала только добавляет страданий. Многократно ссылаясь на хадисы, 'Абд
ал-Карим утверждает, что подобный ритуал траура, особенно пение
женщин с непокрытыми головами, является язычеством и распутством,
поэтому участие в нем открывает прямую дорогу в ад212. Начиная с двадцать
второй строфы, автор переходит к поношению женщин вне связи с
погребальным обрядом. Словно перекликаясь с Хушхал-ханом, у которого тоже
есть немало сходных строк (см.: [Пелевин 2001: 168—171]), 'Абд ал-Ка-
212 Обычай оплакивания покойных имел распространение у многих мусульманских
народов Средневековья. Знаменитый ханбалитский богослов Ибн ал-Джаузи (ум. ок. 1200),
например, осуждает приверженность этому обычаю жителей столицы халифата Багдада.
По свидетельству Ибн ал-Джаузи, обряд оплакивания у багдадцев мог сопровождаться
биением себя по лицу и разрыванием одежд, поэтому благочестивые мусульмане иногда
были вынуждены включать в свои завещания особое распоряжение, запрещающее
совершать такой обряд после их смерти (см.: [Большаков 1984: 144—145]).
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
263
рим хулит женщин за непослушание мужьям и хождение на общественные
мероприятия «в толпе с мужчинами». Опять ссылаясь на слова пророка,
поэт предупреждает, что такие женщины не только попадут в ад, но и
будут превращены там в собак.
При беглом упоминании о погребении все поэты делают акцент на том,
что человек покидает мир живых в полном одиночестве и ему не с кем
разделить свою беду. После того как тело опустят в могилу головой в
сторону киблы, к усопшему явится один ангел, который попросит его
изложить в письменном виде все, что тот делал в жизни. При этом саван будет
бумагой, рот— чернильницей, слюна— чернилами, ноготь— каламом.
Ангел станет внимательно следить за тем, чтобы усопший не пропускал злые
дела. Потом появятся два главных ангела загробной жизни— Мункар и
Накир, которые устроят мертвецу допрос о его жизни и отношении к
исламской вере. Если усопший правильно ответит на их вопросы, «могила
станет ему лугом» [MIp 208], и придет к нему прекрасная гурия, чтобы
ублажать его до Судного Дня. Если ответы мертвеца не удовлетворят ангелов,
на его голову обрушится огненная булава и до Страшного Суда его будут
жалить змеи и скорпионы. Могила добродетельного человека будет
просторной и светлой, а могила грешника — темной и тесной. В каждой
могиле Господь проделает окошко (danca); добродетельный будет видеть в
нем райские сады, а грешник — огни ада.
Наступление Судного Дня ознаменуется признаками всеобщего
грехопадения и морального разложения. Эти признаки трижды излагаются в
«Книге Бабу Джана» [BJ: 186—196, 226—23а]. В первом фрагменте автор
по пунктам перечисляет 18 признаков, в другом — 10, в третьем без
всякого перечня описывает «конец времен». По словам Бабу Джана, Судный
День наступит, когда сын перестанет уважать отца, дочь не будет
повиноваться матери, женщины лишатся стыда, мужчины окажутся во власти
похоти, дервиши забудут о довольстве малым, богословы прекратят
проповедовать истину, богатые утратят щедрость, бедные предадутся
расточительству, рабы потеряют уважение к хозяевам, должники откажутся от
исполнения обязательств, цари погрязнут в насилии и т. д. В природе тоже
произойдут катаклизмы: перестанут идти дожди, высохнет земля, исчезнет
питьевая вода, а солнце будет всходить на западе. Наконец, неверие
победит ислам и буквы Корана сольются в одну.
Скрыто цитируя Коран (60:3), все богословы предупреждают, что в
день Страшного Суда людям не помогут ни их родственники, ни их
друзья. Правоверные могут надеяться только на заступничество пророка.
Всем предстоит пройти по мосту Сират, но всем по-разному. Кто-то
мгновенно преодолеет его, словно верхом на Бураке, а для кого-то это будет
долгое и трудное путешествие в темноте и теснине. Продолжительность
пути во втором случае, как дважды отмечает Бабу Джан, составит триста
лет [BJ: 216, 22а].
По воле Бога правоверные отправятся в рай, а грешные — в ад.
Описание ада в стихах богословов не встречается, но имеется в одном садже-
вом отрывке «Книги Бабу Джана», где кратко перечисляются семь частей
264 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
(saray) преисподней [BJ: 37а—38а]. В стихотворных текстах Бабу Джан и
'Абд ал-Халим, ссылаясь на хадисы, упоминают только о том, что едой
грешников в аду будет заккум (горькая дикая маслина) [BJ: 22а; М1ь 209].
Что касается рая, то его восхвалению Бабу Джан посвятил целых пять
стихотворений (всего 80 строк) [BJ: 99а—1026]. Кроме того, среди
поэтических приложений к «Махзану» есть одно хвалебное описание рая (28
строк), принадлежащее Ахунду Ахмаду [М12: 262аб—2646]. Каждый
рядовой афганец должен был знать, что если он ведет праведную жизнь, после
смерти его ожидают небесные сады, где вечнозеленые деревья ломятся от
плодов, которые сами падают в рот, где каждый цветок издает восемьдесят
запахов, где текут реки вина и меда, где стоят золотые дворцы
неописуемой красоты. В этих садах не бывает ни жары, ни холода, ни грома, ни
молнии, ни дождей, ни бурь. Обитатели рая свободны от злобы и
ненависти, нужды и печалей, болезней и бедствий. К их услугам всегда наготове
прекрасные райские девы и юноши. И Бабу Джан и Ахмад много строк
отводят описанию внешности гурий, причем у первого их портрет весьма
схематичен, а второй явно желает привнести в их изображение элемент
эротики. Гурии Ахмада — это вечно юные восемнадцатилетние девушки с
узкой талией, камфарной грудью, белыми бедрами, мраморными пятками,
жемчужными зубами, черными глазами и мускусными косами. Несмотря
на нарочито чувственный образ гурий, главная идея стихотворения
Ахмада, как и всех пяти фрагментов Бабу Джана, заключается в том, что самое
ценное в раю— не бесчисленные блага и удовольствия, а возможность
лицезрения Бога (didar).
Представления о Боге, отраженные в стихах поэтов-богословов, мало
отличаются от тех, что содержатся в рошанитской поэзии. Проповедуя
таухид, богословы, как и рошаниты, восхваляют единого («без
сотоварища»), всемогущего, вечного и неизменного Бога-Творца, Господина обоих
миров, всевидящего и милосердного Судию, воля которого явлена в слове
«Будь». Если 'Абд ал-Карим, например, вторя словам Корана, говорит о
Боге как о творце гор и рек [М^: 184], то Бабу Джан, ориентируясь на
аудиторию из простых земледельцев, объясняет, что Бог — это тот, кто делает
из одного семени семь колосьев, а в каждом колосе — сто зерен [BJ: 286].
Восхваления Всевышнего представлены у богословов как
многочисленными разрозненными строками, так и отдельными законченными
фрагментами [М1ь 155, 156, 178, 184; М12: 1996; NM: 466, 476, бЗаб; BJ: 28аб, 71аб,
77а—78а и др.]. У Мир Хусайна и Бабу Джана есть также обращенные к
Богу молитвы, сходные с однотипными стихотворениями Давлата Лоха-
ная, причем молитва Бабу Джана имеет форму алиф-нама [NM: 57a, BJ:
706—71а].
Понимание таухида в стихах богословов в общем соответствует
доктрине вахдат ал-вуджуд. «Все есть единый лик, который ты видишь
явлением красоты», — говорит 'Абд ал-Карим [MIi: 164 и 153]. Другие авторы
тоже толкуют таухид как «явление» (tajallT) или «блеск» (jalwa) Бога
повсюду во всех сторонах [NM: 58а, 646; BJ: 776]. «Кто считает, что Бог
наверху (porta), у того ушла вера», — замечает однажды Бабу Джан [BJ:
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
265
776]. У 'Абд ал-Карима и Мир Хусайна есть схожие стихи о присутствии
Бога во всех сущностях мира, в том числе противоположных (царь —
нищий, ученый — неграмотный, молодой — старый, суша — море, свет —
тень, цветок — шип, начало — конец, отрицание — утверждение и т. д.)
[MIi: 181—182, 194; NM: 48аб]. По словам поэтов, Бог пребывает со всеми
людьми независимо от их вероисповедания, социального статуса и
моральных качеств. Мир Хусайн утверждает к тому же, что Бог говорит на
всех языках: арабском, персидском, афганском [NM: 476]. У того же Мир
Хусайна неоднократно встречаются упоминания о вахдате и касрате —
двух уровнях божественного бытия [NM: 48а, 49а, 536], а также
стандартное сравнение таухида с деревом, у которого от одного ствола во все
стороны расходятся многочисленные ветви, листья и плоды [NM: 536, 54а,
58а, 60а].
Повторяя рошанитов, все поэты-богословы часто высказываются о Боге
как о свете (nwr, rosnayT), озарившем весь мир, или безграничном,
всеохватном море (daryab, muh% bahr\ куда отчаянные ныряльщики
бросаются ради добывания драгоценного жемчуга [М^: 155—157, 165, 166,
168—170, 197, 202, 203; MI2: 200a; NM: 486, 49а, 52а, 54а, 586, 616, 626;
В1:72абидр.].
Один из фрагментов второй азбуки Мир Хусайна написан, как и
некоторые рошанитские стихотворения, в форме речей Бога [NM: 59а]. «Буду
рассказывать о таухиде на языке таухида»,— поясняет автор в первой
строке. Смысл таухида передан здесь, в частности, известным
положением о том, что Бог отражается в вещах материального мира как в зеркале.
Аналогично газели Давлата (ее перевод см. в разд. 1), произведение Мир
Хусайна содержит фактически весь набор мотивов, относящихся к
мистическим характеристикам Бога и пронизывающих рошанитскую лирику. По
словам Хусайна, рассказанные им «тайны» он «видел в диване Насими»,
поэтому его произведение следует считать переводом или пересказом на
пашто стихов упомянутого суфийского поэта.
Существенное и, пожалуй, единственное расхождение между стихами
богословов и рошанитов о Боге обнаруживается в заявлениях 'Абд
ал-Карима и Мир Хусайна о том, что Бог и сотворенное Им (xalq, maxluq) не
есть одно [MIp 165, 167; NM: 496]. Рошанитские поэты вообще не
провозглашают этот догмат, отрицающий возможность воплощения
божественной сущности в земных формах и логически ведущий к идее об абсолютной
трансцендентности Бога. Однако и поэты-богословы не только не
акцентируют внимание на этом положении, но в большинстве строк
отклоняются от него в сторону сугубо мистического толкования Бога.
На мой взгляд, афганской аудитории 'Абд ал-Карима и Мир Хусайна
было нелегко понять, что именно имели в виду эти религиозные
проповедники, когда в одном случае они утверждали, что сущность Бога (gat)
отделена от Его качеств (sifat\ т. е. материальных форм [М^: 167], в
другом требовали отделить предвечные сущность и качества Бога от
«творений» (maxluqat) [NM: 466], в третьем фактически признавали единство
сущности и качеств, поскольку первая, по их словам, всегда скрывается в
основе материальной множественности мира [ML{: 168; NM: 56а]. Надо ду-
266 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
мать, те, к кому были обращены проповеди богословов, гораздо легче
воспринимали простые образные конструкции, в которых, например,
божественная субстанция изображалась как красавица (saha), а материальные
вещи (asya') — как ее одежды (qamis) [NM: 626].
Смыслом существования человека поэты-богословы тоже считают
прежде всего познание Всевышнего (ma'rifat, xdaysinaxt, dd xday pezandd)
или, по меньшей мере, стремление к Нему (talab) [MIp 153, 166, 193, 194;
NM: 49a, 536, 54а, 62а, 64а; BJ: 83аб и др.]. Часто у богословов звучат
мистические мотивы лицезрения Бога (diddn, lido) или соединения с Ним (wisal)
[Mh: 151, 157, 159, 163; NM: 48а, 58аб, 606, 656 и др.]. Чтобы повсюду
увидеть сияние Бога, образно говорит Мир Хусайн, нужна сурьма ма'ри-
фата [NM: 646]. 'Абд ал-Халим перечисляет три степени соединения с
Богом (waslat): 1) taxliyya — ритуальное уединение, т. е. очищение от
воздействия всего постороннего, 2) tazkiyya— очищение тела, 3) tasfiyya —
очищение души [Ml,: 198].
Любопытное противоречие наблюдается в высказываниях 'Абд ал-Ка-
рима и Мир Хусайна об уровне единения с Богом (yak/yagana sudan).
Первый полагает, что это возможно только на уровне качеств (sifat\ но не
сущности izJai) [MI,: 161], а второй, наоборот, призывает быть единым с
Богом только в вахдате, но не в касрате [NM: 54а, 576, 596]. Опять же
трудно представить себе, какие выводы из этих доктринальных посылок могла
сделать неискушенная в схоластике паштунская аудитория богословов.
Хотя богословы, как и рошаниты, нередко ссылаются на кораническое
изречение о том, что человек — лучшее из творений Всевышнего, они не
забывают напоминать о его земной природе. Особенно в этом отношении
примечательны стихи Бабу Джана, где человеческое семя названо грязной
каплей, которая не стоит одного ячменного зерна или даже блохи, а сам
человек, сочетающий в себе духовное и материальное, одновременно
сравнивается и с «деревянной кадкой грязи», и с «флягой чистой воды»
[BJ: ббаб]. 'Абд ал-Халим уподобляет тело человека турсуку (sanazX a ДУ-
шу, имеющую божественное происхождение, — воздуху. Наполненный
воздухом турсук свободно плавает по морю единого божественного бытия, а
без воздуха сразу тонет [Ml,: 202].
Сентенции о близости Бога к человеку особенно часто встречаются у
Мир Хусайна, который пользуется теми же шаблонными формулами, что и
рошаниты. Так, Мир Хусайн многократно повторяет, что Бог ближе к
человеку, чем он сам или чем его шейная вена (sahrag) [NM: 47а, 52а, 53а,
54аб, 566, 57а, 61а, 656 и др.], а также утверждает, что Бог находится
с человеком в одном доме и за Ним не нужно пускаться в далекое
путешествие, например в Хиджаз (намек на паломничество) [NM: 55а, 566,
60а, 626].
Условия познания Бога у поэтов-богословов совершенно аналогичны
тем, которые излагаются в рошанитских стихах. Во-первых, это очищение
сердца, «божьего храма», от «другого» (gayr) [MIi: 151, 154, 171; NM: 496,
526, 53а, 54а, 56аб, 576, 58а, 636 и др.]. Только в чистом сердце,
подвергшемся полировке (sayqal) молитвой ...ilia 'llah, можно, как в зеркале,
увидеть Бога [Ml,: 153—154; NM: 536, 596, 60а, 626, 636; BJ: 726]. Пользуясь
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
267
социальной терминологией своей аудитории, Мир Хусайн однажды
называет человека, внешне и внутренне очистившегося от всего лишнего, —
тарханом (tarxari), т. е. независимым племенным правителем, свободным
от уплаты податей [NM: 51а].
Подчеркивая первостепенное значение сердца как органа
эмоционального и интуитивного постижения Бога, богословы, подобно рошанитам,
отвергают действенность разума. «Бог выше понимания (fahm) и разума
('ад/)», — считает Мир Хусайн [NM: 476], а Бабу Джан уточняет, что умом
нельзя постичь саму божественную сущность (gat) [BJ: 72а]. Смелое для
богослова заявление делает 'Абд ал-Карим: «Тот, кто избавляется от гонца
разума, сам [напрямую] беседует с Богом» [MIp 159].
Вторым условием познания является приниженность (катТпТ), которая
в процессе духовного совершенствования должна перейти в полное
самоотречение {tor jan/sar teredol). На фоне повторяющихся шаблонных
поучений о том, что нужно быть ничтожнее праха и подавлять в себе
гордыню (kibr), самоуважение (gayrai), самость (xudT) [MIp 151, 152, 160, 167—
169, 198; NM: 546, 56а, 62аб; BJ: 156 и др.], довольно свежо звучит призыв
'Абд ал-Карима вести себя перед Богом так, как целомудренная девушка
перед юношей [MIp 163]. Самоотречение у 'Абд ал-Карима часто
проповедуется как преодоление зависимости от телесных форм (siirat, wujud)
или как фигуральная потеря собственной головы [М^: 152—154, 158—
160, 172 и др.], а у Мир Хусайна оно постоянно обозначается суфийским
понятием fana* [NM: 53а, 54аб, 56а, 576].
Популярный у рошанитов мотив «смерти до смерти» встречается
только однажды в четвертом фрагменте алиф-нама 'Абд ал-Карима [MIj: 154].
Тот же 'Абд ал-Карим использовал рошанитский мотив с
противопоставлением живых и мертвых, т. е. тех, кто познал божественную истину и кто
пребывает в неведении \ЬА\\. 158]. В стихах многих поэтов-богословов
проскальзывает также мотив отказа от чести и славы (nam-u nang\
воспринимавшихся рошанитами в качестве социальных по природе преград
на пути духовного совершенствования [MIp 176; NM: 58a; BJ: 25а, 26а].
Перечень прочих препятствий, преодоление которых является
обязательным условием постижения Бога, содержит у богословов стандартный
набор религиозно-этических понятий— Шайтан (Иблис), низшая душа
(nafs), мирское (dunya), неведение (gqflat). О кознях Шайтана и низшей
души чаще других предостерегает 'Абд ал-Карим [М^: 152, 171, 174, 178].
Хотя нафс упоминается богословами в целом реже, чем рошанитами, в
«Книге Бабу Джана» имеется отдельный саджевый фрагмент о 16
проявлениях низшей души [BJ: 666—67а]. Неведение по традиции
представляется богословами в качестве сна, тьмы или слепоты и глухоты [MIj: 153,
163, 197; NM: 49a, 536, 54а, 636, 646]. 'Абд ал-Халим, например,
обращается к себе с таким призывом: «Халим, вынь вату неведения из ушей
сердца, ибо уже бьют в гонг отправления» [М^: 203].
Некоторым разнообразием отличаются стихи богословов с критикой
мирского, которое они называют временным пристанищем [MIp 195; NM:
63а] или посевом Шайтана на сердце человека [М^: 197]. Теме мирского
'Абд ал-Карим целиком посвятил одно стихотворение из алиф-нама и га-
268 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
зель [М1ь 170—171, 184], а Бабу Джан — отрывок с соответствующим
заголовком «О мирском и людях мирского» (Dar bayan-i dunya wa ahl-i an)
[BJ: 38аб]. 'Абд ал-Карим вслед за рошанитскими поэтами изображает
dunya как сладкоголосую девицу, которая может увлечь только слепых,
поскольку при приближении к ней становятся различимы ее страшные черты —
черное лицо, толстые губы, желтые глаза, большие клыки. Относя к
мирскому имущество (деньги, одежду, лошадей), ремесло, семью, 'Абд
ал-Карим пытается внушить аудитории, что все это нужно считать даром Аллаха, а
не целью жизни. В его словах при этом угадывается профессиональный
интерес к вопросам фикха: «Хотя одежду ты и считаешь мирским благом,
без одежды молитва недействительна» [MIi: 170]. Бабу Джан, большой
знаток и любитель коранической мифологии, в своем отрывке рассказывает
историю о том, как люди, польстившиеся на мирское и продавшие Йусуфа
в Египет, были наказаны Богом.
Важная у рошанитов тема мистического Пути наиболее заметное
отражение нашла только в азбуках Мир Хусайна, где неоднократно
перечисляются и кратко характеризуются четыре стандартные для многих
суфийских школ стадии познания Бога: шари'ат, тарикат, хакикат, ма'рифат
[NM: 466, 51а, 606, 61а]. Мир Хусайн постоянно подчеркивает
основополагающее значение шари'ата как первой стадии духовного Пути и
одновременно совокупности исламских законов, обязательных к исполнению в
течение всей жизни. Без соблюдения шари'ата, утверждает он, нельзя
притязать на духовное совершенствование. Ему вторят 'Абд ал-Карим и
'Абд ал-Халим [MIji 170, 210]. Первый, например, замечает, что оказаться
в рядах «приближенных Бога» (waliyan) можно только в том случае, если
«обе руки без шари'ата не пускаются в дело». Если шари'ат, по словам
Мир Хусайна, обязывает строго придерживаться принципа дозволенного и
недозволенного, то тарикат предполагает сознательный отказ от
дозволенных удовольствий (halal laz&at), хакикат означает духовное
освобождение от обоих миров, бренного и вечного, а на стадии ма'рифата в
формуле веры устраняется отрицание (naff) la ilah и остается только
утверждение (isbat) ilia 'llah, что равнозначно достижению (wusiil) Бога [NM:
466, 606].
Сообразно распространенным суфийским представлениям, Мир
Хусайн сопоставляет стадии Пути с четырьмя метафизическими мирами (на-
сут, малакут, джабарут, лахут) и с последовательными уровнями
духовной субстанции (низшая душа (nafs) — шари'ат, сердце (ггэ) — тарикат,
дух (riih)— хакикат, божественная сущность (gat)— ма'рифат) [NM:
556, 606]. Обращает на себя внимание также аллегорическая трактовка
стадий Пути как процесса молитвы, где шари'ат уподобляется
ритуальному омовению, тарикат — словесному выражению молитвы, хакикат —
пропусканию молитвы через сердце, а ма'рифат — направлению молитвы
к Богу с помощью духа [NM: 61а].
Крайне популярный у рошанитов образ познавшего ('arif) в стихах
богословов часто скрывается за термином talib ('ищущий', 'ученик'), а его
антиподом, как правило, выступает gafil ('неведающий'). Довольно
лояльно поэты-богословы относятся к образу аскета (zahid), который в класси-
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии
269
ческой суфийской лирике и у рошанитов обычно имеет отрицательное
значение лицемерного святоши, истязающего себя лишениями ради
райских удовольствий. Богословы, наоборот, призывают своих слушателей
проявлять аскетическое рвение, «пока не опухнут обе ноги» [MIj: 153], а в
одном из фрагментов Мир Хусайна аскету вообще приписываются те же
качества, что и познавшему [NM: 506—51а].
Особо значимую роль в процессе постижения Бога богословы, как и
рошаниты, отводят духовному наставнику, которого они определяют тем
же эпитетом — «совершенный» (kamil). При этом 'Абд ал-Карим дважды
оговаривается о том, что совершенным может быть только учитель из
«людей шари'ата» (ahl-i sar') [MI^ 157, 161]. По его образному
замечанию, не следует бросаться в океан вахдата без Совершенного Учителя, но
тот не должен оказаться мореплавателем, который тонет вместе с
кораблем [MIii 155]. Хотя теме духовного наставника богословы посвящают не
только разрозненные строки, но и отдельные пассажи [MIj: 155—156; NM:
56а, 646; В J: 196—20а], их проповеди в целом не выходят за пределы
однообразных заявлений о необходимости проводника на пути к Богу.
Что касается духовной практики, то богословы наибольшее внимание
уделяют ритуалу поминания Бога (zikr, yad), постоянно требуя его
исполнения от своих учеников. По традиции называя поминание «полировкой
(sayqal) сердца», они считают, что только неустанным повторением имени
Бога и молитвенной формулы la ilah человек обретает истинную жизнь
[Ml,: 152, 174, 176, 177; NM: 47аб, 486, 536, 55а, 56аб, 65а и др.]. Без
поминания Бога, говорит 'Абд ал-Карим, еда и разговоры превращаются в яд
[MIp 175]. Мир Хусайн часто подчеркивает, что правильному зикру можно
научиться исключительно у духовного наставника, но не самостоятельно,
поскольку «самовольный» (sarxud) зикр есть дьявольское наущение [NM:
47а, 496, 50а, 596, 616]. Тем самым косвенно отрицается увайситская
традиция духовного «самообразования». Кроме того, высказывания Мир
Хусайна созвучны словам Дарвезы, который обвинял Байазида Ансари за то,
что тот сам придумал восемь вариантов зикра, где «не было ни единого
упоминания имени Всевышнего», и запретил своим последователям
произносить этот зикр в присутствии богословов, способных распознать его
ущербность [М1ь 123; Tazkirat: 121а].
Из видов зикра Мир Хусайн, как и рошанитские поэты, называет
предпочтительным тихий (xafi) [NM: 596]. Видимо, то же имеет в виду и Бабу
Джан, когда он говорит, что поминание Бога языком — это «большое
неведение», и потому стремящиеся к истинному познанию поминают Бога
сердцем [BJ: 16а]. Важное значение в зикре богословы придают дыханию
(nafas, sah, dam). Даже если талиб кричит со всей силой, пишет Бабу
Джан, он следит (pasbanika) за своим дыханием [BJ: 16а]. 'Абд ал-Карим
несколько бейтов отводит разъяснениям о субстанциональном различии
понятий «дыхание» (sah) и «дух» (arwah) [MI^ 156—157]. По его словам,
обратиться к этому теоретическому вопросу он был вынужден, поскольку
«вероотступники (murtad) говорят, что дыхание есть Бог». Здесь 'Абд
ал-Карим, несомненно, перекликается со своим отцом, который
приписывал подобные высказывания Байазиду Ансари [MIj: 131].
270 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Понятие fikr ('размышление'), тесно связанное с зикром и часто
комментировавшееся рошанитскими поэтами, в стихах богословов
упоминается крайне редко. Пожалуй, только Мир Хусайн однажды попытался
объяснить смысл фикра, выделив три его вида [NM: 53а]. По его мнению,
предметом фикра простых людей ('am) являются повеления и запреты Бога
(amr-u nahy), фикр привилегированных (xas) сосредоточен на понятиях
вечности и предвечности (abad-u azal), а избранные (axass) предаются
медитациям о сущности и качествах Бога (zat-u sifat). Свой краткий
комментарий Хусайн заключает такими словами о значении фикра: «Один час
фикра лучше шестидесяти лет поклонения ('ibadat)».
У Мир Хусайна есть также краткое разъяснение относительно другого
распространенного вида суфийской практики — «наблюдения» (muraqabd)
[NM: 496]. Выполняющий это упражнение, пишет поэт, должен молча и
неподвижно сидеть в уединении и думать только о Боге, пока он не
услышит и не увидит Его. Упражнение рекомендуется делать четыре раза в
сутки через каждые шесть часов (на заре, в полдень, вечером и в полночь).
О популярном у рошанитов ритуале сама" поэты-богословы, за
исключением Мир Хусайна, не упоминают, поскольку, судя по всему, к музыке и
пению они относились отрицательно. *Абд ал-Карим, например, прямо
заявляет, что пение (surud) проклято Богом \ЬА\\. 191]. Мир Хусайн посвящает
характеристике сама* почти целый фрагмент в первой азбуке [NM: 51аб].
Ссылаясь на трактат «Рисала-йи шамсиййа», он оценивает слушание
сообразно правовым категориям дозволенных (halal\ допустимых (mubah),
неодобряемых (такгйИ) и запрещенных (haram) действий. Критерием
оценки сама* по этим категориям является степень направленности
желания (mayl) к познанию Истины. Разумеется, подобные теоретические
посылки имели мало отношения к реальной практике и вряд ли могли
выполнять какую-либо образовательную функцию. Более понятным
аудитории Мир Хусайна, вероятно, было описание самого действа: язык издает
звуки, глаза плачут, руки бьют по одежде, ноги пляшут. Цель
дозволенного слушания Хусайн видит в том, чтобы дух человека услышал тайну Бога
в каждом приходящем к нему звуке. Подобные высказывания Мир
Хусайна обнаруживают очевидное сходство с представлениями рошанитских
поэтов и идейно отдаляют его от круга последователей Дарвезы.
ГлаваV
Поэтические дневники Хушхал-хана
Если в произведениях афганских религиозных поэтов XVII в. реалии их
жизни и времени встречаются крайне редко, то в творчестве Хушхал-хана
Хаттака исторические, автобиографические и этнографические сюжеты
прочно заняли свое место, начиная с касыды 1645/46 г. об истории города
Дели. Судя по всему, Хушхал приурочил это стихотворение к своему
очередному посещению могольской столицы и императорского двора, так как
краткая вступительная часть поэмы включает строки с восхвалением
Шахджахана, благоустроившего Дели после его переезда сюда из Агры в
1638 г. До индийского плена Хушхал-хан написал еще три стихотворения,
где так или иначе отражена историческая реальность. Из двух касыд
1649 г. одна является откликом на события, связанные с очередной войной
моголов и сефевидов за Кандагар, другая содержит хвалебное описание
весеннего пейзажа в загородной резиденции Шахджахана. Третья поэма,
относящаяся к началу 50-х гг., рассказывает об образе жизни ее автора как
племенного вождя.
Выраженный дневниковый характер поэтическое творчество Хушхал-
хана приобрело после его ареста в январе 1664 г. Первыми
произведениями такого рода стали газель и касыда, написанные спустя два месяца в
марте [XXX: 279, 562—563]. Автор этих стихотворений делится личными
переживаниями по поводу унизительной дороги в Дели под конвоем и с
цепями на ногах. В конце апреля, по завершении рамазана, он пишет
газель, изображая контраст между праздничной атмосферой города и
собственным подавленным состоянием пленника [XXX: 3]. Летом и осенью
1664 г. из-под пера Хушхала выходят еще две касыды, содержащие не
только жалобы на жизнь, но и впечатления о нравах могольского двора с
упоминанием имен тех вельмож, которые чинили ему зло или, наоборот,
ходатайствовали о его освобождении [XXX: 546—551, 579—580].
Наиболее плодотворным в творческом отношении для Хушхала стал период
заключения в Рантамбхоре, джайпурской тюрьме-крепости для
государственных преступников (январь 1665 г.—май 1666 г.). Здесь поэт создал немало
прекрасных поэтических миниатюр, а также три крупных произведения —
поэму-таркиббанд «Что за сон тревожный мне привиделся к утру...», по-
272 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
эму-маснави «Фирак-иама» и прозаический трактат «Дастар-нама»
(подробнее о стихах дивана, написанных в индийском плену, см.: [Пелевин 2001:
70—81]).
Таркиббанд начинается и во многих последующих частях звучит
именно как личный дневник. Так, в его первых строках автор подробно
рассказывает о том, как в утро ареста разбуженный дурным сном, он долго
ворочался в постели, затем полусонный вышел помыться, с трудом разобрав,
где находится дверь; вернувшись в дом и убедившись по храпу, что все
домашние еще спят, он написал записку Ашраф-хану, потом, сходив к
мечети помолиться, опробовал на ветках кипариса остроту своего клинка,
оседлал лошадь Силэй (букв.: 'вихрь') и галопом поскакал на запад, в
сторону Пешавара [XXX: 934—935]. Подобный стиль изложения, безусловно,
был смелым новшеством в поэзии пашто, ломающим традиционные
представления прежних афганских авторов о поэтическом языке и
художественно-эстетических принципах литературного творчества. Желание и
умение Хушхал-хана описывать в стихах реальные факты и ощущения
повседневной жизни с новой силой проявились в поэме «Фирак-нама».
1. иКнига разлуки»
«Книга разлуки» («Фирак-нама») по времени написания
предшествовала трактату «Дастар-нама», в котором она упоминается и цитируется.
Хотя в поэме есть немало отвлеченных философских рассуждений и
дидактических строк, затрагивающих традиционные темы и мотивы, в целом
она, как и таркиббанд, имеет вид дневниковых записей. Если персидский
поэт Мас'уд-и Са'д-и Салман (ум. ок. 1121/22), признанный мастер жанра
хабсиййа, в своих тюремных касыдах обращался с восхвалениями к
правительственным особам, от которых зависела его судьба, то «Книга разлуки»
Хушхала, написанная на пашто, чужом для могольской администрации
языке, не была адресована каким-либо сторонним лицам. Испытывая
потребность в творческом самовыражении, Хушхал создавал поэму как
монолог, обращенный к самому себе, как свободное изложение искренних
чувств и мыслей, как дневник личных воспоминаний.
В содержании «Фирак-нама» просматриваются три линии: во-первых,
это воспоминания о родных краях, о семье и близких, во-вторых,
размышления узника о жизни в заключении, в-третьих, лирические отступления. К
первому тематическому направлению относятся разделы, имеющие такие
заглавия: «Описание земель Сарая-[Акоры]», «Описание моей реки»,
«Тоска по моей матери», «Воспоминание о тех, кто без родины»,
«Описание Майры и весенней охоты», «Тоска по облаве на антилоп Майры»,
«Тоска по уткам Калапанэй», «Описание земель Свата и ловчих птиц»,
«Восхваление охоты в предгорьях у Сарая», «Тоска по охоте на горных
козлов вдоль прохладных вод Нилаба», «Похвала юсуфзаям». Второе
направление включает разделы: «Рассказ о своем положении», «Плач из-за
пришедшего письма», «Жалоба на людей этого времени», «Проявление
Глава V. Поэтические дневники Хушхал-хана
273
своей истинной боли», «Хула на падишаха», «О несправедливостях мира».
Лирическими отступлениями являются: «Ночная молитва (munajat)»,
«Жалоба», «О воле Всевышнего, деяния которого не без смысла», а также два
фасла ('раздел') и нукта ('суждение'), не имеющие описательных
заглавий. Из 25 разделов поэмы только первые два, разделенные вставной
газелью, вообще никак не озаглавлены, но могут быть отнесены к
воспоминаниям о родине.
Тема любви к родине, весьма редкая в средневековой мусульманской
лирике, — одна из ведущих в «Фирак-нама». Она звучит во многих
строках поэмы, где автор предается воспоминаниям или жалуется на разлуку.
Общие рассуждения на эту тему содержатся во втором разделе,
открывающемся словами: «Любовь к родине, мой милый друг, дана мне вместе с
верой» [FN: 28]. Противопоставляя далее скудость родной природы и
блага чужбины, Хушхал развивает мысль о том, что родина для него дороже
всего и когда он вдали от нее, ее образ всегда хранится в его сердце.
Рассказы Хушхала о родных местах содержат немало любопытных
фактов и сведений, что делает его поэму ценнейшим этнографическим и
историческим источником. Малой родиной Хушхал-хана были владения хат-
такских князей с центром в Сарай-Акоре, селении, расположенном в
нижнем течении реки Ландай213 недалеко от места ее впадения в Инд. Здесь
Хушхал родился и жил со своей семьей до ареста в начале 1664 г. Он
называет каменистые земли Сарая благодатным краем, сообщая, что время
земледельческих работ здесь длилось с конца марта по октябрь (с месяца
хамал по мизаи). Особое внимание Хушхал обращает на то, что эти земли
были малопригодны для выращивания риса, но имели богатые залежи
соли. Добыча и продажа соли составляли один из источников доходов хат-
такских князей во времена Хушхал-хана и после него [FN: 29—30]214.
Важное значение в хозяйственной жизни племени, естественно, имела
река. Сарай находился на южном берегу Ландая. Хушхал очень любил
свою реку, часто вспоминал о ней в стихах периода индийского плена, а в
«Фирак-нама» даже посвятил ей отдельный раздел [FN: 41—43].
Восхваляя Ландай, поэт пишет: «Воды Инда неподвижны, но приходят в движение,
как только он (Ландай. — М П.) сливается с ним». Хвалебные строки,
обращенные к водам Ландая, состоят преимущественно из эпитетов:
проточные, чистые, свежие, целебные, вкусные. Хушхал явно подчеркивает
питьевые качества вод Ландая, сравнивая их с мифическим источником жизни
Хизра. Упоминает поэт также о купании в Ландае. Развернутых
пейзажных описаний реки у Хушхала нет. Он рассказывает только, как во время
паводков река ускоряет свое течение, бурлит, пенится и гремит камнями:
«Бежит, как сумасшедший... с пеной на губах и цепями на ногах». В двух
бейтах Хушхал демонстрирует свои географические познания о Ландае:
«Все реки Кабульского края, реки Кунар и Сват соединяются с ним, текут
к Сараю, [потом] сливаются с Индом».
213 На территории Афганистана эта река носит название Кабул.
214 Соляные копи находились вблизи хаттакских селений Малгин (букв.: 'соленый')
и Тери [Osmanov 1969: 44].
274 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Другой географический объект, которому Хушхал-хан тоже посвящает
самостоятельный раздел поэмы,— область Майра, являющаяся частью
большой Пешаварской равнины [FN: 44—45]. В примечаниях к тексту
поэмы 3. Хевадмал, ссылаясь на А. Бенава, отмечает, что топоним Майра215
относился к территории между нынешними городами Чарсадда и Мардан.
В «Пушту-русском словаре» М. Г. Асланова Майра определяется более
пространно — как «район между Аттоком и Пешаваром». В любом
случае надо полагать, что Майра, о которой пишет Хушхал, входила в хаттак-
ские владения, поскольку эта область была популярным у хаттаков местом
охоты.
В «Фирак-иама» содержится небольшая зарисовка весеннего пейзажа
Майры. Хушхал сообщает, что весной земля Майры покрывалась травой и
цветами, становилась шелковистой, и по ней можно было ходить босиком
без опасения поранить ноги камнями или колючками. Называет поэт и
некоторых представителей местной фауны: дрофы, франколины, кулики,
соловьи, ястребы, кречеты, зайцы, волки, шакалы.
В воспоминаниях Хушхал-хана о родных местах большое место
занимает тема охоты. «Я заявляю, что всегда буду питать страсть [к охоте] и
прекращу, только когда умру», — пишет поэт [FN: 51]. Как одно из самых
любимых увлечений Хушхала охота нашла весьма заметное отражение в
его творчестве (см.: [Пелевин 2001: 171—173]). По собственным
признаниям поэта, он предпочитал охоту с ловчими птицами и с ружьем. В
«Фирак-иама» упоминаются именно эти виды охоты, а также перечисляются
районы охотничьего промысла хаттаков.
Хушхал-хан был хотя и непрофессиональным, но достаточно опытным
сокольником, владевшим искусством отлова, дрессировки и содержания
хищных птиц в неволе. Лучших ловчих птиц ястребиных и соколиных
пород добывали, по словам поэта, в Свате. Высоко ценились ястребы
черного и белого окраса перьев. «[К птице], у которой черная спина и черный
язык, дух устремляется из тела», — говорит поэт [FN: 47]. Бойцовскими
качествами отличались также рыжие сапсаны. Признаками хорошей
ловчей птицы, видимо ястреба, Хушхал называет маленькую голову, длинную
шею, короткий хвост. Указывает поэт и сезоны отлова охотничьих птиц —
это месяцы мизан (конец сентября—октябрь) и каус (конец ноября—
декабрь) [FN: 47—48].
Излюбленными местами соколиной охоты у хаттаков были предгорные
районы к югу от Сарая-Акоры, в частности Хингал, Данг-Данг, Спин Ка-
вир. Здесь почти круглый год охотились на дроф, франколинов, белых
индийских турачей и каменных куропаток. Другим крупным охотничьим
угодьем была прибрежная зона реки Калапанэй, образующей вместе с Гу-
даром, Баларом и другими более мелкими речками левый приток Ландая в
районе Наушахра. В этих местах промышляли охотой на речную дичь —
разные виды уток и гусей [FN: 46—47,48—49].
Очень живо передавая состояние охотничьего азарта, Хушхал-хан
описывает облавную охоту на длиннорогих козлов в Нилабе, горной местно-
Слово тауга означает на пашто 'степь', 'равнина*.
Глава V. Поэтические дневники Хушхал-хана
275
сти к югу от Наушахра, примыкающей на востоке к Инду [FN: 49—52].
Сравнивая облаву с военными действиями, поэт рассказывает, как
загонщики, хаттакские моманды2i6, криками и выстрелами гонят козлов из Гар-
бина в Сарадин по направлению к застывшим в напряженном ожидании
стрелкам. Завидев зверя, стрелки приходят в возбуждение и начинают
пальбу, а «когда от выстрела козел сгибается пополам, сердце охотника
наполняется сладостью» [FN: 51].
Некоторые стихи Хушхал-хана об охоте формально можно отнести к
классическому жанру тардиййа, создателем которого считается арабский
поэт второй половины VIII—начала IX в. Абу Нувас [Фильштинский 1985:
315]. Этот жанр в силу узости самой темы, имеющей к тому же прикладной
характер, не получил большого развития, как другие классические жанры
арабской поэзии, например хамриййа (стихи о вине) или зухдиййа
(покаянные стихи), поэтому он не имел сильных традиций, которые могли бы
сковывать творческую инициативу поэта. Стихи Хушхала об охоте с точки
зрения языка и стиля, существенно отличаются от его философско-ди-
дактической или любовной лирики, значительная часть которой написана
в духе канонической поэзии фарси. Хорошим примером охотничьих
стихов Хушхала, где сочетаются мотивы тардиййа и хабсиййа, может
послужить раздел «Тоска по облаве на антилоп Майры» [FN: 45—46], полный
перевод которой приводится ниже:
Бедные антилопы Майры, // Всех вас перебили без клинков217.
Я здесь, в Рантамбхоре, // А там кто-то другой охотится на вас.
Как сожалею о том, // Что кто-то другой сейчас несет мою долю добычи.
Больше не придется мне готовить охотничье снаряжение,
// Не придется устраивать облаву на антилоп.
Не будет больше ни Зино, ни Дадина, // Не будут оседланы лошади.
Не будет ружья на плече, // Не будет со мной моих подручных.
Больше не придется нам гнать стадо // И поворачивать его куда нужно.
Не придется наводить прицел, // Не придется нажимать на спусковой крючок.
И больше от меня // Не побежит в страхе антилопа.
Не будет больше идти впереди 'Усман, // А за ним другие охотники.
Не будет больше идти впереди Хата // И издавать громкие крики.
Не придется больше с Хади-ханом // Промышлять разной охотой.
Ни Баз, ни Йахйа-хан // Больше не встретят меня на берегу реки.
И я им больше // Не принесу с охоты черного франколина.
Не приду я больше домой усталый // После охоты в Майре.
Не придется мне больше обнять Садра2i8, // Чтобы избавить сердце от тревог.
В XVII в. хаттаки были довольно сильным в военном отношении
афганским племенем, занимавшим важные стратегические районы Восточно-
216Моманды — самостоятельное паштунское племя, которое населяло горные
районы к северу и северо-западу от Хайберского прохода. Некоторые момандские
кланы проживали на хаттакских землях, в частности в Нилабе, поэтому в источниках они
часто именуются хаттакскими момандами.
217 То есть ружьями.
218 Упоминаемые в отрывке Баз, Йахйа-хан и Садр — сыновья Хушхала, а прочие
лица, как видно, его товарищи по охоте.
276 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
го Паштунистана. Небеспочвенно поэтому Хушхал называет жителей
Сарая, своих соплеменников, самоотверженными воинами. Военными
успехами хаттаки были в немалой степени обязаны их вождям— Акораю,
Йахйа-хану и Шахбаз-хану — прадеду, деду и отцу Хушхала, — которые
сперва расширили границы хаттакских владений до южных берегов Лан-
дая, а потом захватили ряд юсуфзайских земель к северу от реки, получив
контроль над большим участком крупной караванной магистрали между
Аттоком и Пешаваром. В «Фирак-нама» Хушхал не один раз упоминает
имена своих предков, восхваляя их доблесть и заслуги в создании,
укреплении и благоустройстве хаттакского княжества [FN: 30, 59—60,68].
Созидательной деятельности предков Хушхал-хан противопоставляет
вредоносное, по его мнению, поведение дядей Фируз-хана и Бахадур-хана,
которые способствовали его аресту, вызвав тем самым раскол в княжеском
роде и ослабление всего хаттакского племени. «Один возводит большие
крепости, другой разрушает их стены», — возмущается Хушхал [FN: 60].
Без называния имен он адресует дядьям немало хулительных строк в
разделе «Жалоба на людей этого времени», однако при этом не приводит
каких-либо конкретных фактов и ограничивается достаточно отвлеченными
обвинениями в неблагодарности [FN: 58—63].
После ареста Хушхала некоторые члены его семьи были вынуждены
покинуть родные места и временно поселились у юсуфзаев2[9. В разделе
«Воспоминание о тех, кто без родины» поэт называет местонахождением
своей семьи юсуфзайское селение Сангао 22° [FN: 32]. Известно, что
первоначально семья Хушхала разместилась в Сикри, более крупном
населенном пункте на полпути от Мардана до Сангао, но затем по каким-то
причинам перебралась дальше на северо-восток. Надо заметить, что «Книга
разлуки» создавалась Хушхалом постепенно, на протяжении нескольких
месяцев. До того как поэту стало известно о бегстве его семьи из Сарая, он
написал такие строки:
Взлететь бы на крыльях отсюда // И хоть на миг оказаться в Сарае.
Со всеми повидаться, // Посмотреть, кто как живет;
Что делает в горе моя мать, // Что делает в горе моя сестра;
Как живет моя семья, // Как живет мое племя;
Кто радуется, кто печалится, // Кто смеется, кто пребывает в трауре;
Кто сейчас правит в Сарае, // Благоденствует и наслаждается жизнью;
Кто из жителей Сарая горюет, // Велико ли его горе или мало;
Кто теперь сидит в моем доме, // Кто спит в моей постели;
Что стало с хозяйками моего дома, // Которые раньше не покидали его;
Что стало с моими выросшими в неге сыновьями,
// По каким краям они разбежались.
[FN: 31]
219 Через брак Хушхал-хан имел родственные связи с юсуфзайским кланом баизаев.
220 Это селение находится к северо-востоку от Мардана, который, в свою очередь,
расположен приблизительно в 30 км к северо-востоку от Пешавара.
Глава V. Поэтические дневники Хушхал-хана
277
В нескольких бейтах поэмы Хушхал трогательно говорит о своей
матери, выражая ей нижайшее почтение. Поэт называет раем ту землю, по
которой ступает его мать, и заявляет, что он готов стать прахом на ее дороге
[FN: 30—31]. Подобные стихи, обращенные к матери, не слишком обычны
для средневекового мусульманского автора, но они прекрасно
характеризуют личность Хушхал-хана, причем не только как поэта, но и как
типичного паштуна, для которого почитание матери является обязательной
нормой домашнего этикета и одним из правил достойного, сообразного
кодексу чести поведения.
Хушхал вспоминает также о своем полнородном брате Джамил-беге,
который, в отличие от Хушхала, оставил мирскую жизнь и посвятил себя
суфийскому подвижничеству. Хушхал желает брату благополучия и
просит Всевышнего благословить ту гору, где брат предается духовному
служению [FN: 30].
В 12-м бейте раздела «Воспоминание о тех, кто без родины» Хушхал-
хан указывает количество своих ближайших родственников: 27 сыновей221,
32 дочери, 2 сестры, 3 брата [FN: 34]. В следующей строке он называет
четыре имени — Фалйа, 'Атамир, Накир, Катмир, — не поясняя, кому они
принадлежат. Имена двух единокровных братьев Хушхала — Шамшер и
Мирбаз. Первый враждовал с ним, второй был его сторонником и
участвовал в хлопотах по освобождению из плена. О сестрах поэта нет никаких
сведений. Из его дочерей в источниках упоминаются Халима и Тадж Биби,
первая из которых известна как поэтесса [Hewadmal 2000: 163].
В последующих бейтах этого раздела поэмы автор приводит длинный
перечень имен своих сыновей (всего 22): Са'адат-хан (р. 1642), Бахрам
(1643—1712), 'Абид-хан (р. 1648), Низам (1650—1675), Зафар (р. 1651),
Камал (р. 1652), Джамал (р. 1653/54 или 1658/59), 'Абд ал-'Азиз (р. 1653),
'Абд ал-Кадир (1653—ум. после 1714), Йахйа-хан (р. 1654/55), Азад (?),
Халид (?), Баз (?), Бахтнак (?), Сикандар (р. 1657/58—ум. после 1704/05),
Абу-л-Хайр (?), Гавхар (?),'Аджаб (?), Нусрат (р. 1660), Наджмаллах (?),
'Атикаллах (?), Наджибаллах (?) [FN: 35—40]222.
В этом перечне упомянут также внук Афзал, но его отец, старший сын
поэта Ашраф-хан (1635—1694/95), не назван. Спустя несколько месяцев
после ареста Хушхала Ашраф тоже был схвачен моголами и какое-то
время находился под стражей в Кабуле. По старшинству Ашраф должен был
занять пост хаттакского вождя, но появился и другой претендент на это
место в лице Бахрама, третьего сына Хушхала. В возникшей внутрипле-
менной усобице для противостоящих сторон решающее значение имела
позиция могольских властей. Ашраф-хан находился в сложном положе-
221 Некоторые стихи из дивана Хушхала, а также «Тарих-и мурасса'»
свидетельствуют о том, что у поэта в течение жизни родилось более 60 сыновей, но вследствие
высокой детской смертности в живых оставался лишь каждый второй.
222 В поэме 'Абд ал-'Азиз, 'Абд ал-Кадир и Йахйа-хан названы своими детскими
прозвищами, соответственно, «Душа отца» (dd baba jan\ «Сердце отца» (dd baba dil) и
«Джат» (jat) (по примеч. 3. Хевадмала). Уменьшительные имена Халида, упоминаемые
Хушхалом, — Хало и Хали.
278 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
нии, поскольку, с одной стороны, как законный преемник он должен был
защищать интересы своего отца, а с другой — ему была необходима
поддержка моголов, которые видели в Хушхале мятежника. Сам Хушхал-хан
испытывал противоречивые чувства к Ашрафу, что хорошо показывают
следующие строки «Фирак-нама»:
Будет ли еще пленен Ашраф-хан? // Что он будет делать, как будет жить?
Беспокоится ли он об отце, или о себе самом,
// Или о семье, или о братьях?
Увидел ли он [вновь] лица своих сыновей
// Или [все еще] в плену кусает пальцы?
Сильна ли его печаль по матери, // Сильна ли его печаль по сестрам?
Беспокоится ли он о своем народе // Или занят чем-то другим?
Что в его голове? [Какие] люди: // Мусульмане, индусы?
Или же никого у него в мыслях нет: // Ни моголов, ни паштунов?
[FN: 31—32]
Имеется в поэме и несколько слов о женах, которых Хушхал, как и
свою мать, не называет по именам, вероятно, в данном случае
руководствуясь мусульманскими и собственно паштунскими этическими нормами.
Все, что касалось женской половины семьи, считалось запретным для
посторонних глаз и ушей. Хотя Хушхал-хан содержал немало наложниц,
приобретавших после рождения детей правовой статус итт al-walad ('мать
ребенка'), число его жен, как показывают приводимые ниже строки,
соответствовало исламским законам:
Что они едят, // Как живут, во что одеты?
Как проходит их жизнь в печали? // Что они делают в печали?
Как поживает мать Джата? // Где рассеяны ее думы?
Как поживает мать Хало? // Чем она занимается?
Что делает мать Садра223? // Пришла разлука. Господь вершит свои дела.
Что теперь будет с матерью База? // Огнем она охвачена, как уголек.
И лик ее, и вся жизнь ее // Отмечены горем.
[FN: 33]
Кроме близких родственников Хушхал-ханом упомянуты в поэме его
друзья по охоте Зино, Дадин, 'Усман, Хата, Хади-хан, а также хаттакский
шейх Рахмкар (1573—1653), почитаемый духовный авторитет племени,
формально относившийся к увайситскому течению суфизма (как и Байазид
Ансари). Обитель шейха Рахмкара находилась неподалеку от Сарая-Акоры
и после его смерти была превращена в мазар. Хушхал не был духовным
последователем Рахмкара, как его брат Джамил-бег, но относился к нему с
большим уважением, о чем свидетельствуют соответствующие строки
поэмы, где Рахмкар упоминается параллельно с отцом поэта Шахбаз-ханом:
«Я [готов] стать прахом под ногами шейха Рахмкара и пожертвовать
жизнью за могилу отца» [FN: 30].
223 С а д р (1654—ум. после 1712) родился от дочери вождя юсуфзайского клана баи-
заев Мало-хана (см. след. раздел).
Глава V. Поэтические дневники Хушхал-хана
279
Благодарный юсуфзаям за предоставление убежища и защиты его
семье, Хушхал-хан посвящает в «Фирак-нама» отдельный раздел
восхвалению этого племени [FN: 68—69]. На протяжении многих десятков лет хат-
таки и юсуфзаи находились между собой в крайне враждебных
отношениях во многом по вине хаттакских вождей, которые при поддержке
могольских властей неоднократно пытались вытеснить юсуфзаев из
долины Сама к северу от Ландая и захватить их земли. Сам Хушхал тоже с
молодых лет участвовал в военных предприятиях против юсуфзайских
кланов долины Сама, однако в «Фирак-нама» он преодолевает чувства былой
вражды и находит для своих недавних врагов добрые слова. Естественно,
в первую очередь он восхваляет юсуфзаев за благородство и
гостеприимство, называя их первыми среди всех племен в деле паштунской чести
(nang).
Хвалебные строки Хушхала содержат и некоторые фактические
сведения. Поэт сообщает о том, что племя юсуфзаев имеет две ветви — йусуф и
мандар, а основным районом их расселения является долина Сват.
Согласно афганским генеалогиям, Мандар был племянником Йусуфа. Отец Ман-
дара и родной брат Йусуфа 'Умар скончался, когда его сын был еще
младенцем. Йусуф воспитывал племянника как собственного сына, и поэтому
род Мандара из уважения стал относить себя к роду Йусуфа и именоваться
юсуфзайским. Хушхал дает мандарам эпитет «бивень слона», видимо,
намекая на их воинские качества.
По словам Хушхала, юсуфзаи не имеют единого главы, то есть
признаваемого всеми кланами и родами вождя, нередко промышляют
грабительскими набегами, и страдают, как и все прочие афганские племена, от
внутренних усобиц. Впрочем, он замечает: «Хотя в их семье раздоры, они
едины [в отпоре] чужаку». Другое любопытное свидетельство поэта касается
религиозной ситуации в юсуфзайском племени: «Одни принадлежат к
суннитскому мазхабу, другие отличаются простыми нравами». Очевидно,
исламские нормы среди юсуфзаев повсеместно еще не утвердились, и
свою силу по-прежнему сохраняли племенные обычаи и традиции. Тем не
менее мусульманские богословы, принадлежавшие к потомкам и
последователям Ахунда Дарвезы, пользовались у юсуфзайских вождей большим
авторитетом (см. след. раздел).
В тех стихах «Книги разлуки», которые повествуют о печальной участи
рантамбхорского узника, значительное место занимают традиционные для
жанра хабсиййа жалобы на несправедливость судьбы, тюремные лишения
и разлуку, а также описания испытываемых душевных страданий. Но есть
в поэме и строки, отражающие реалии тюремной жизни.
По словам Хушхал-хана, в крепости Рантамбхор содержалось около
двухсот заключенных— мусульман и индусов [FN: 55]. Кроме самого
Хушхала среди них не было ни одного афганца, что крайне расстраивало
поэта, скучавшего по общению на родном языке. В Дели, где поэт
находился до того, как его отправили в Рантамбхор, паштунов было много, и
частые встречи с соплеменниками придавали бодрости его духу. Впрочем,
Хушхал имел возможность переписываться с родственниками, хотя гонца,
привозившего письма, приходилось ждать месяцами. Очень проникновен-
280 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
но поэт пишет о своих чувствах, которые он испытывал при чтении писем,
когда от слез намокала бумага и сливались буквы. Из называемых им
букв — алиф, шин, ра, фа и джим, та — составляются имя «Ашраф» и
прозвище Иахйа-хана «Джат» [FN: 56]. Хушхал не Сообщает, от кого
именно он получал письма, но не приходится сомневаться, что взрослые
сыновья были его главными корреспондентами.
Узники Рантамбхора имели право не только вести переписку с
родственниками, но и довольно свободно общаться между собой. Хушхал
рассказывает, что его часто посещали другие заключенные, которые вели с
ним дружеские беседы, рассказывали свои сны и разные занятные
истории, играли в нарды и шахматы. Вероятно, играть в шахматы Хушхал-хан
научился именно в Рантамбхоре. Среди стихотворений, входящих в
первую часть рукописи «Фирак-нама», есть любопытный 4-бейтовый
фрагмент о шахматах, где поэт говорит о том, что пока он не научился делать
правильные ходы королем, всегда проигрывал своему сопернику [FN: 24].
В сочинении «Дастар-иама» Хушхал посвятил шахматам и нардам
отдельную главу, поставив эти игры на девятнадцатое место в списке
искусств, рекомендуемых молодому аристократу [Xushal 1991: 162—165].
Из имен заключенных, с которыми общался поэт, упомянуты только
два— Шахи-бег и Хинду-бег, но без каких-либо комментариев [FN: 53].
Хушхал пишет, что среди заключенных имели хождение книги, но какие
именно — не уточняет. Вероятно, это были прежде всего популярные
произведения персидской и индийской классики. Можно предположить, что
именно этико-дидактические сочинения из «тюремной библиотеки»
Рантамбхора побудили Хушхала и одновременно помогли ему написать на
пашто собственный прозаический трактат подобного жанра — «Дастар-
иама».
Желая подчеркнуть исключительность своего личного горя, поэт
утверждает: «Многие пленники сидят в Рантамбхоре довольные, как [у себя]
дома» [FN: 52]. Далее он объясняет их душевное спокойствие тем, что
некоторые из них признают свою вину, другие не имеют оставшихся на
родине больших семей и ни к кому не привязаны сердцем, третьих не
волнуют понятия чести и доброго имени, четвертые пребывают в возрасте,
когда жизнь уже можно считать прожитой. Психологические наблюдения
Хушхал-хана в какой-то мере передают реальную атмосферу могольских
тюрем для государственных преступников, где содержалась самая пестрая
публика.
При Аурангзебе, применявшем суровые меры для укрепления
центральной власти, заметно увеличилось число заключенных — лиц разного
ранга, возраста и пола, как непосредственно обвиняемых в каких-либо
антигосударственных действиях, так и находившихся под стражей в качестве
заложников. Возросло и количество мест заключения, в качестве которых
обычно использовались крепости (kof). Такие тюрьмы, где иногда сидели
целые семьи, были наиболее мрачными приметами эпохи Аурангзеба. Сам
император, несмотря на его военные и экономические успехи, заслужил
своей жесткой политикой дурную славу деспота и религиозного фанатика.
В поэме Хушхал-хана выражено типичное отношение к Аурангзебу мест-
Глава V. Поэтические дневники Хушхал-хана
281
ных правителей, по тем или иным причинам оказавшихся у него в опале и
пострадавших от его политико-экономических преобразований. В двух
разделах «Фирак-нама» Хушхал гневно и многословно порицает Ауранг-
зеба, обвиняя его в несправедливости, жестокости, коварстве, лицемерии,
лживой религиозности и прочих грехах, но из фактов сообщает только о
заключении им под стражу отца Шахджахана, прежнего императора, и о его
расправе с родными братьями в борьбе за престолонаследие [FN: 65—68].
Попутно Хушхал патетически заявляет, что его хула на Аурангзеба
вызвана не арестом и заключением в тюрьму, а якобы изначальным
отрицательным отношением к императору-тирану. Поэт уверяет себя или
воображаемого читателя в том, что после восшествия Аурангзеба на престол он
хотел отказаться от могольского мансаба, передать сыновьям управление
племенем и жить отшельником в горах. Конечно, Хушхала могли
посещать такие мысли, но его жизнь продолжала свой естественный ход. До
самого ареста и даже после него в течение нескольких месяцев пребывания
в Дели Хушхал-хан формально оставался хаттакским вождем и моголь-
ским джагирдаром. В той же «Фирак-нама» есть строки, где поэт
называет себя верным слугой государя: «Я был честным [на службе] государеву
дому, не желал ему ущерба, служил искренне, с чистым сердцем и
чистыми намерениями» [FN: 68]. В стихотворениях Хушхала, написанных до
индийского плена, нет никаких антимогольских настроений, а тем более
порицаний и критических высказываний в адрес могольских императоров,
включая Аурангзеба.
Каким бы ни было скрытое отношение Хушхала к Аурангзебу, до
заключения в Рантамбхор он сохранял ему вассальную преданность.
Например, еще во время войн за престолонаследие в 1658 г. Хушхал-хан оказывал
косвенную поддержку Аурангзебу тем, что препятствовал юсуфзайским
отрядам соединиться с силами его старшего брата и главного противника
Дара Шикоха [Kamil 1952: XVIII; Сагое 1958: 232]. После освобождения из
индийского плена в 1669 г. Хушхал вновь на несколько лет принял мансаб
и в первом крупном сражении моголо-афганской войны, состоявшемся
весной 1672 г. в Хайбере, находился в рядах имперского войска [Пелевин
2001: 85—88].
Помимо стихов историко-этнографического и биографического
характера, «Книга разлуки» содержит несколько лирических отступлений,
мотивы которых те же, что пронизывают всю поэзию Хушхал-хана.
Любовные стихи в поэме немногочисленны, но тем не менее открывают ее:
первые восемь бейтов без видимой связи с последующим содержанием
описывают муки, приносимые любовью. В обращенных к Богу молитвах и
декларациях о всесилии божественной воли присутствует религиозная
тематика. Уповая в «Ночной молитве» на помощь Господа, который должен
наказать несправедливых людей (читай — Аурангзеба и его окружение),
Хушхал-хан ссылается на кораническую суру «Слон» и даже цитирует из
нее слова: «Так сделай „птиц стаями" (tayran ababila)\ Сделай
„владельцами слона" (ashab al-fil) несправедливых джиннов!» [FN: 32]. Хушхалу явно
нравился этот сюжет Корана, получивший необычную трактовку в одном
282 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
из фрагментов дивана [XXX: 890—891]. Немало стихов поэт посвятил
отвлеченным жалобам на жестокое время («о tempora, о mores!»), что было
прямо обусловлено жанровой принадлежностью поэмы. Прозвучала в
«Фирак-иама» и популярная философская тема бренности мирского и
довольства малым.
Морально-этические назидания представлены в поэме как отдельными
бейтами, вкрапленными в стихи иного содержания, так и
самостоятельными разделами. Например, в разделе, озаглавленном «Суждение» (nukta),
поэт сначала перечисляет четыре типа людей, с которыми не следует
общаться: стяжатель, трус, дурак, лжец, а затем, после едкой хулы на
Бахадур-хана, рассуждает о правде и лжи [FN: 63—64]. Заключительный
раздел поэмы тоже имеет дидактическую направленность. Хотя некоторые
наставления автора здесь малопонятны, общая тема его рассуждений
связана с социальными отношениями в племени. Хушхал говорит о взаимном
согласии в семье и роде как главном условии их стабильного
существования, отмечая особую роль единоначалия вождя (sardar). При этом поэт
призывает к осторожности по отношению даже к ближайшим
родственникам: «Если идешь в дом к сыну, не забудь нож и саблю» — и проповедует
любовь к оружию: «Любовь к оружию изначальна; оружие всегда [имей]
при себе!» [FN: 71—72]. Вероятно, в этих строках содержатся намеки на
обстоятельства ареста поэта.
«Книга разлуки» занимает особое место в творчестве Хушхал-хана как
его первая поэма-маснави и первое крупное произведение, где появляются
новые темы, имеющие национально-патриотическое звучание. Вместе с
лирическими стихотворениями, написанными в индийском плену, поэма
«Фирак-нама» не только начинает новый период в творческой биографии
Хушхал-хана, но и открывает новую главу в истории классической
афганской литературы, которая с этого времени приобретает подлинно
национальный характер. Кроме того, поэма является важным биографическим и
историко-этнографическим источником, содержащим немало ценных
сведений об афганских племенах XVII в. Наконец, «Фирак-нама» может
рассматриваться как самобытный образец произведений хабсиййа, одного из
редких, но крайне интересных жанров средневековой мусульманской
поэзии, предоставлявших авторам большие возможности для раскрытия
творческой индивидуальности.
2. Заметки о поездке в Сват
Поездке Хушхал-хана в Сват в 1675 г. предшествовала длинная
вереница событий, связанных с моголо-афганской войной 1672—1676 гг. Из
могольского плена Хушхал вернулся на родину вассалом императора, и в
Хайберском сражении 1672 г. он воевал на стороне моголов против
восставших афганских племен— объединенных сил момандов, афридиев,
шинваров и сафи. Однако уже в конце того же 1672 г. в диване поэта
появляются строки: «С мансабом Хушхал Хаттак был слугой; теперь, когда
Глава V. Поэтические дневники Хушхал-хана
283
мансаба не стало, он [сам себе] падишах» [XXX: 849]. Отказ Хушхала от
несения вассальной службы был вызван тем, что могольский наместник в
Кабульской провинции Махабат-хан по разным причинам утратил к нему
доверие и стал искать более надежных союзников среди его старших
сыновей. Махабат-хан не без основания полагал, что после поражения
моголов в Хайбере Хушхал будет не способен удерживать хаттаков от
антиимперских действий. Могольский наместник не только заручился
поддержкой Ашраф-хана, старшего сына и законного преемника Хушхала, но
также вступил в сговор с Бахрамом, который давно стремился к власти в
племени и открыто враждовал с отцом и братом.
В первой половине 1673 г. между Хушхалом и Бахрамом произошло
несколько крупных и мелких вооруженных стычек, подробно описанных в
«Тарих-имурасса'». Натянутыми были отношения Хушхала и с Ашрафом,
которому приходилось лавировать, избегая прямой вражды с отцом и
одновременно подчиняясь указаниям Махабат-хана. Формальный разрыв
Хушхала с имперскими властями произошел, видимо, весной 1673 г.,
когда хаттаки из числа сторонников Хушхала совершили разбойное
нападение на могольский караван, следовавший из Аттока в Наушахр. После
этого происшествия Хушхал поневоле оказался в лагере мятежных афганских
вождей, уже в течение года воевавших с могольской империей (см.: [Afzal
1974: 299—310; Hewadmal 2001: 83—90]).
И от Бахрама, и от Ашрафа могольские власти добивались прежде
всего того, чтобы они не допускали присутствия Хушхал-хана на хаттакских
землях, особенно в крупных населенных пунктах и районах стратегически
важных дорог. Таким образом, Хушхал был вынужден искать убежище и
защиту на прилегающих территориях у дружественных ему паштунских
племен и семей. Не последнюю роль в поездках Хушхала по соседним
землям играло и его стремление получить реальную помощь для ведения
военных действий против своих противников. Этими обстоятельствами
были обусловлены две его самые продолжительные поездки— на юго-
запад к афридиям в труднодоступный горный Тирах в 1674 г. и на север к
юсуфзаям в долину Свата в 1675 г. Некоторые впечатления об этих
поездках нашли отражение в ряде стихотворений дивана [Пелевин 2001: 95—
98], а заметки о пребывании в Свате, кроме того, воплотились в поэму-
маснави «Сват-нама».
Из автобиографических записей Хушхала, вошедших в «Тарих-и му-
расса'», известно, что, еще находясь в Тирахе, он получил от юсуфзайских
вождей письменное приглашение посетить их земли [Afzal 1974: 323].
Дорога в Сват сопровождалась многочисленными и долговременными
остановками в разных хаттакских и юсуфзайских селениях и заняла около
девяти месяцев — с конца октября 1674 г., когда Хушхал покинул Тирах, до
начала августа 1675 г.
Непосредственным поводом для приезда в Сват стали события июня
1675 г., когда в соседнем со Сватом Баджауре на перевале Xanax
афганские вожди Аймал-хан Моманд и Дарйа-хан Афридай нанесли поражение
могольскому войску под командованием Мукаррам-хана [Afzal 1974:
326—327; Sarkar 1921: 241]. Для спасения остатков разбитого войска мо-
284 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
голы отправили в Баджаур свежие силы. Афганцы тоже нуждались в
подкреплении и поэтому обратились за помощью к юсуфзаям Свата. Хушхал-
хан, находившийся в это время в Бармавуле, юсуфзайском селении к
северу от Мардана, получил от Аймал-хана письмо с просьбой оказать
содействие в заключении военного союза с юсуфзайскими вождями. Хушхал
надеялся на свои родственные связи с юсуфзаями, но брат его юсуфзай-
ской жены Хамза-хан уклонился от заключения такого союза. Тогда
Хушхал попытался найти поддержку у других ханов Свата. Седьмого числа
месяца джумада I 1086 г. х. [31 июля 1675 г.] Хушхал сделал в своем
дневнике такую запись: «Малик 'Абдал, Ахтари, Тали пришли ко мне [с тем,
что, мол], мы опозорены перед тобой из-за Хамзы; не дали мы тебе ни
войска, ничего другого. Хамза повел себя недостойно, стал могольским
[человеком] и сына своего отправил в Лангар-Кот224. Сейчас что ты
скажешь, то мы и сделаем. И я теперь по их предложению еду в Сват. Что
будет угодно Богу, то и случится...» [Afzal 1974: 327].
Поэму «Сват-нама» формально можно отнести к жанру путевого
дневника сафар-нама, хотя в ней нет ни описания путешествия как
такового, ни хронологической последовательности в изложении. Из восьми
частей поэмы (см. гл. I, разд. 3) четыре рассказывают собственно о Свате и
его жителях (1, 3, 4, 5), одна— о состоявшемся во время поездки
богословском диспуте с местным духовным вождем Мийаном Нуром (7), еще
одна содержит автобиографические заметки общего характера (2), а в двух
частях дана критическая оценка личности Ахунда Дарвезы и его трактата
«Махзаи ал-ислам» (6, 8).
Стихи «Сват-нама» с историко-биографическими сведениями
написаны в том же ключе, что и три знаменитые касыды Хушхала, относящиеся
ко времени моголо-афганской войны: «Хоть я взращен на милостях
моголов...» (конец 1673 г.) [XXX: 563—566], «О чем не думал раньше, стало
явным...» (лето—осень 1674 г.) [XXX: 612—613] и «Вновь откуда к нам
пришла эта весна...» (24 июля 1675 г.) [XXX: 526—528]225. Не случайно
начальные слова биографического раздела «Сват-нама» — do mugal namak-
те wuxor spaz регэу— фактически являются парафразом первой мисра'
касыды 1673 г. —parwarda ка do mugalopo патак-уэт.
С обычной для себя прямотой и некоторой долей бравады Хушхал-хан
вспоминает время своего вассального служения могольским властям,
когда он властвовал над всеми хаттаками и частью юсуфзаев, проживавших
на левобережье Ландая:
За моголов я сражался клинком, // И паштуны изрядно бранили меня [за это].
Будь то оракзаи, бангаши, юсуфзаи, — // Все они страдали от моего меча.
Тысячами я убивал паштунов, // Нагружал их головами ослов и волов.
224Лангар-Кот — крепость, построенная моголами на юсуфзайских землях к
востоку от Мардана в окрестностях нынешнего города Гархи-Капура. Вероятно, Хамза-
хан отослал сына в Лангар-Кот в качестве почетного гостя-заложника, чтобы
подтвердить таким образом свою лояльность по отношению к моголам и гарантировать свое
неучастие в войне с ними на стороне восставших афганцев.
225 Последняя касыда была закончена за несколько дней до поездки в Сват.
Глава V. Поэтические дневники Хушхал-хана
285
До сих пор их головы лежат грудами,
// [Высятся] из них минареты в Аттоке и Пешаваре.
[SN: 10]
Далее поэт сообщает о своем несправедливом, на его взгляд,
заключении под арест, последующем освобождении и вторичном принятии мо-
гольского мансаба. Однако на этот раз, по его словам, он признал
зависимость от империи против своей воли из-за сложившихся обстоятельств:
«Могольский мансаб был навязан мне силой, и ты бы сказал, что это был
не мансаб, а пылающий огонь» [SN: 11]. Обходя молчанием подлинные
причины и мотивы, которые привели его в стан восставших афганских
племен, Хушхал пишет: «Неожиданно в этом краю началась смута (fisad)226, и
я вспомнил о мести» [SN: 11]. В нескольких бейтах поэт довольно
беспристрастно оценивает свое новое непростое положение. Прошлое ревностное
служение моголам, нередко сопровождавшееся жестоким избиением
соплеменников, не могло не оставить среди афганцев следы
подозрительности и недоверия к нему. Пользуясь этим, могольские эмиры, со многими из
которых Хушхал был знаком лично, пытались склонить его на свою
сторону. Откровенный с самим собой, Хушхал, хотя бы и гипотетически, не
исключал в своем поэтическом дневнике и такую возможность: «Я
понимаю, что если пойду к моголам, то в деле [служения им] стану еще лучше,
чем был прежде» [SN: 14]. С огорчением поэт был вынужден признать, что
паштуны не без оснований сомневались в искренности его гордых
патриотических лозунгов и речей о паштунской чести:
Теперь я стою за честь (nang) всех паштунов
И оттого простаиваю в ожидании перед каждой дверью227.
С седой бородой я [наконец] стал паштуном,
Да не сделает меня Бог больше моголом, говорю честно...
Скажу моголам прямо в лицо:
«Лучше пусть падет моя голова, чем вновь вам поклониться».
Я не за своих, не за чужих, а только за честь,
За эту честь я воюю и с отцом, и с сыном.
Если паштуны за честь, то сейчас это время,
За эту честь принесены в жертву и голова, и все имущество!228
[SN: 14-15]
Обещая в будущем написать отдельное произведение с подробным
рассказом о ходе моголо-афганской войны, Хушхал бегло упоминает
некоторые ее эпизоды, в частности победные для афганцев сражения в Хайбере229,
226 То есть моголо-афганская война 1672—1676 гг.
227 То есть скитаюсь по чужим землям в поисках защиты и военной помощи.
228 Для сравнения здесь стоит вспомнить религиозно-мистические стихи рошанитов,
которые «голову и имущество» (sar-u mal) требовали приносить в жертву ради познания
Бога.
229 В Хайберской битве, как уже говорилось, Хушхал воевал на стороне моголов.
Возможно, на этот факт он туманно намекает в следующей строке: «Когда отряды моих
хаттаков ехали впереди, моими спутницами (mle) были могольские женщины, пешие и
286 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Хапахе и Джагдалаке, а также приезд императора Аурангзеба в Пенджаб
для личного руководства военной кампанией. Хушхал хвалит за военные
успехи шинваров, афридиев, сафи, гильзаев и одновременно порицает за
безучастность оракзаев и бангашей. С уважением он вспоминает имена
своих союзников, афганских вождей Аймал-хана и Дарйа-хана, называя
первого «кончиком моей чалмы», а второго «кольцом на моем мизинце» [SN:
11]. Охваченный боевым порывом, поэт воспевает победы афганцев и
говорит теперь уже о «грудах могольских голов в горах и долинах от Кабула
до Аттока» [SN: 15]. В духе стихотворных бахвальств, типичных для
военной поэзии племенных бардов, Хушхал-хан уверенно заявляет, что он
освободит свою страну от моголов и отодвинет границу империи к Аттоку
(т. е. за Инд) [SN: 16].
В историко-биографической части поэмы Хушхал сообщает также о
цели и продолжительности своей поездки в Сват. В течение семи месяцев,
по его словам, он объездил всю долину с намерением привлечь юсуфзай-
ские кланы к военному союзу с восставшими племенами. Многие вожди
обещали ему помощь и давали клятвы верности, но все эти обещания и
клятвы остались только на словах и не воплотились в реальные действия.
Вероятно, именно поэтому описание Свата и образа жизни его обитателей
приобрело в поэме Хушхала форму злой сатиры.
Следуя традициям жанра путевого дневника, Хушхал-хан дает в поэме
краткую географическую характеристику Свата. На западе, сообщает он,
Сват граничит с Читралом, плодородной горной долиной, через которую
идет караванная дорога в Бадахшан. Эта дорога эксплуатируется только в
сухие сезоны, приблизительно три—четыре месяца в году, так как она
постоянно размывается снегами и дождями. Путь до Читрала занимает около
пяти дней. Хушхал предупреждает, что ездить по этой дороге стоит только
под охраной (badraqa) местных ханов, ибо в противном случае
путешественнику не гарантирована безопасность. На севере к Свату примыкает
горный район Булуристан. Здесь через труднодоступные перевалы Гинду-
куша проходят две дороги — в Туркестан и Кашгар. Восточные границы
Свата соседствуют с Кашмиром. Главная дорога в Индию пролегает по
горной гряде Торгар [SN: 3, 8—9]. О южных границах Свата — Пешавар-
ской равнине и долине Сама— Хушхал не упомянул, вероятно потому,
что он считал эти области всем хорошо известными.
Протяженность Сватской долины Хушхал-хан оценивает в 30 курухов
(около 90 км), а ее ширину — в два куруха. Река Сват, текущая с северо-
востока на юго-запад и впадающая в Ландай, сильно петляет, так что ее
очертания напоминают поэту арабскую вязь. Хушхал отмечает, что река
абсолютно непригодна для судоходства и используется только для
орошения полей и садов. «В каждое селение, в каждый дом отходят от нее
каналы; из нее пьют, и со всех сторон к ней прилегают поля» [SN: 4].
верхом» [SN: 13]. Дело в том, что во время сражения в большом обозе имперского
войска находились семьи многих могольских военачальников и вельмож, в том числе чуть
ли не вся женская половина семьи кабульского наместника Мухаммада Амин-хана,
которая стала добычей афганцев [Sarkar 1921: 228—231].
Глава V. Поэтические дневники Хушхал-хана
287
Ранее Хушхал-хан уже бывал в Свате, возможно, не один раз, хотя, как
он сам признает, враждебные отношения с юсуфзаями весьма затрудняли
посещение их земель. В начале 50-х гг. в Свате состоялась его свадьба с
дочерью главы клана баизаев, от которой в 1954/55 г. у него родился сын
Садр. Радушный прием в доме тестя, охота, устроенная по случаю
свадебного торжества, и ароматы цветочных лугов более всего запомнились
Хушхалу после этой поездки. Как он сам пишет, Сват показался ему
маленьким Кашмиром, местом, достойным царей. Чистый воздух, обильная
зелень, множество прохладных ручьев, образующихся от таяния снегов,
чарующие пейзажи с высящимися на фоне гор минаретами и сторожевыми
башнями и даже старые индуистские капища — все это произвело
большое впечатление на поэта. Верный своим пристрастиям Хушхал-хан
называет главными достоинствами Свата красивых девушек-язычниц из числа
немусульманского населения долины и охотничьих птиц ястребиных и
соколиных пород, которых, по его словам, в год обычно отлавливали в
количестве 200—300 особей [SN: 1—2,4—5, 8].
Новый приезд в Сват не вызвал у Хушхала прежнего энтузиазма.
Трудно сказать, соответствовало ли действительности его замечание о том, что
за прошедшие годы местное юсуфзайское население превратило некогда
цветущую долину в «обветшалый постоялый двор» [SN: 2]. Вероятно,
обстоятельства, приведшие Хушхала в Сват, и малоплодотворные переговоры с
юсуфзайскими вождями сделали его излишне пристрастным и
несправедливым в оценках. Не случайно в числе первых критических замечаний в
адрес Свата поэт высказывает жалобы сугубо житейского свойства. Он
пишет, что был так искусан комарами, клопами, клещами и блохами, что все
его тело покрылось волдырями и два раза он даже лежал в горячке [SN: 7].
По словам Хушхал-хана, Сват был довольно густо заселен, однако из
проживающих здесь юсуфзайских кланов поэт упоминает только баизаев,
своих приобретенных родственников, и хваджузаев, которых он
пренебрежительно называет бакалейщиками (baqqalan), видимо, за захламленность
их жилых домов [SN: 7]. В небольшом разделе поэмы (12 бейтов),
специально отведенном для хулы на юсуфзайских вождей, Хушхал сообщает
несколько имен, фигурирующих и в аналогичном по содержанию
стихотворении его дивана (17 бейтов) [XXX: 847—848]. Это главный в Свате малик
'Абдал («злобный дворовый пес-лизоблюд»), Тали («корыто, полное
каши»), шурин поэта Хамза-хан («Собери все грехи мира и повесь их
ожерельем на шею Хамзе!»), а также не названный по имени внук покойного
хана Качу («ловкач, обманщик, игрушечная стрела»)230 [SN: 30—31]. Всех
юсуфзайских вождей Хушхал хулит за стяжательство, утверждая, что при
разборе какой-либо тяжбы они встают на сторону тех, кто дает им больше
рупий [SN: 24]. Свой статус ханы Свата, по мнению Хушхала,
приобретают исключительно благодаря численному превосходству членов их семей
над другими семьями рода (гэра) [SN: 31].
2зо g стихотворении дивана кроме 'Абдала, Тали и Хамза-хана упомянуты еще Ал-
лахдад и Мисра-хан, один из которых, возможно, и есть внук хана Качу.
288 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Главным занятием местного населения, отмечает поэт, является
земледелие. Плодородные почвы и достаток водных ресурсов способствовали
высокой урожайности злаковых культур, среди которых самой
распространенной был рис. Вспоминая прошлое посещение Свата, Хушхал
говорит о низкой цене зерна, вследствие чего прием гостей мог обходиться
очень дешево: «Иногда случается такая дешевизна, что за две медные
монеты принимают двадцать гостей» [SN: 4]. В новый приезд жители Свата
показались Хушхалу менее трудолюбивыми земледельцами: «За весь год
пальцем не пошевелят для работы; один только аист [стоит] в воде на
рисовом поле» [SN: 22].
Отдельные строки поэмы показывают, что кроме культивирования
злаков юсуфзаи Свата занимались также садоводством, огородничеством и
животноводством. При этом во всех случаях Хушхал охаивает юсуфзаев за
бесхозяйственность, порожденную, по его мнению, ленью, жадностью и
глупостью: «Все земли Свата, пригодные для садов, юсуфзаи превратили в
луга» [SN: 5], «Если кто выращивает на огороде дыни, то не дает им дозреть
и губит неспелыми» [SN: 27], «...За молоко коровы теряют всю корову»
[SN: 21] и т. п. Любопытно, что главным признаком цивилизованного
поселения Хушхал-хан считал наличие плодовых садов. Не случайно в поэме
он неоднократно упрекает жителей Свата именно за запущенность
садоводческого хозяйства231.
Важную роль в жизнеобеспечении долины играл охотничий промысел.
Хушхал-хан, сам заядлый охотник, наиболее популярной в Свате называет
охоту на кекликов (zdrka). Сообщая также о других видах животных,
которыми промышляло местное население, поэт не упускает случая выразить
свое неудовольствие по поводу хищнического истребления фауны долины:
«Утки здесь по всей реке, но палят по ним ружья негодяев. Есть и олени, и
козлы, и коротконогие муфлоны, но что ты скажешь, уничтожают их
стрелки» [SN: 8]. Из строк одного фрагмента его дивана явствует, что в
Свате имело распространение и рыболовство. Издеваясь над юсуфзайски-
ми вождями, Хушхал говорит: «Мисра-хан Мандар — тот все рыбу ловит с
берега, как выдра, которая боится водяных чудищ» [XXX: 847].
В нескольких разрозненных бейтах поэт явно не без доли
преувеличения изображает нецивилизованный уклад жизни паштунов Свата:
Жилища юсуфзаев очень грязные,
Неприбранные, вонючие, как постоялые дворы.
[SN: 6]
В каждом доме сколько людей, столько и собак,
Во дворах петухи бродят сотнями.
Все дома превращены в амбары,
Нечистоплотностью [юсуфзаи] еще хуже индусов.
[SN: 7]
231 Такие же упреки Хушхал адресовал и афридиям горного Тираха, где «большие
сосны, большие дубы и загубленные бесплодные сады» [XXX: 888].
Глава V. Поэтические дневники Хушхал-хана
289
Нет у них ни дастарханов, ни скатертей, ни [масляных] светильников,
Всю ночь от [горящих] лучин идет гадкий дым.
[SN: 29]
Большую историческую ценность имеют те строки поэмы, где Хушхал-
хан вскользь упоминает о социальных традициях населения долины. В
словах о том, что юсуфзаи «год за годом отдают землю по жребию»,
вероятно, следует видеть намек на институт веш — периодическое
перераспределение плодородных земель между семьями [SN: 6]. В Свате законы веша
установились после прихода сюда афганцев в начале XVI в. и сохраняли
свое действие до 1929 г. [Асланов 1955: 125]. Эти законы были письменно
зафиксированы в уставе Шайха Мали, так называемом «Дафтаре»,
который считается одним из первых, но ныне утраченных сочинений на пашто
(см.: [Кушев 1980: 21—25]). «Дафтар», в частности, определял границы
земельных владений, о чем упоминает Хушхал: «Поля малика здесь в
границах „Дафтара"...» [SN: 32]. Хаттакские правители с конца XVI в. стали
придерживаться норм феодального землевладения, и их недвижимая
собственность, формально имевшая статус джагира, не подлежала разделу и
не входила в состав наследуемого имущества. У юсуфзайских вождей
земля умершего отца делилась между его сыновьями, о чем Хушхал
критически высказывается следующим образом:
Если у малика есть три родных брата,
Они искромсают все отцовское поле.
Одна часть — малику, три — другим [братьям],
За каждую пядь дерутся они друг с другом лопатами.
[SN: 32]
По поводу наследования Хушхал-хан замечает также, что у юсуфзаев в
разделе имущества умершего обычно участвуют только родственники-
мужчины, а женщины— матери, сестры, тетки— исключаются [SN: 26].
Это замечание косвенно свидетельствует о несоблюдении юсуфзаями
Свата законов мусульманского (в данном случае суннитского-ханафитского)
наследственного права, которые включают близких родственниц в круг
законных наследников (мать и сестер — в число получателей обязательной
доли, а теток — в одну из последних очередей) [Schacht 1964: 170—173].
Неприятие, возможно показное, у Хушхала вызывали и другие
афганские племенные обычаи, противоречившие установлениям ислама,
например, левират («Когда [юсуфзай] опустит тело брата в могилу, хочет того,
или нет, забирает его жену» [SN: 26]) или уплата калыма (walwar)
родственникам невесты при заключении брака («[Берут] они мзду, калым, когда
продают дочерей... Не смотрят на то, что [жених] ничтожный или дурного
происхождения, выдают замуж дочерей и сестер за звон монет» [SN: 21]).
Опять же намекая на свое предпочтение норм мусульманского права
племенным законам, автор поэмы порицает обычай кровной мести, когда за
убийство может быть наказан не сам преступник, а любой из его кровных
родственников [SN: 26]. Полагаю, что в подобных случаях Хушхал немного
290 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
кривил душой, поскольку в реальной жизни ему самому чаще приходилось
подчиняться законам именно племенного, а не религиозного права.
Некоторые эпизоды из его биографии говорят о том, что закон мести, например, он
понимал как обычный афганец, а не мусульманский правовед. Точно так
же, упрекая юсуфзаев за внутриплеменные распри («[Идут] дом на дом,
творят насилие по отношению друг к другу...» [SN: 26]), Хушхал как будто
забывал об обстановке в собственном племени, где уже в течение трех лет
происходили кровопролитные стычки между враждующими группами.
В ряде строк поэмы Хушхал-хан, наоборот, критикует юсуфзаев за
нарушение афганского кодекса чести, показывая тем самым собственную
приверженность его принципам. Правда, во всех случаях такого рода речь
идет не о социальных, а об этических нормах. Естественно, Хушхал
прежде всего обвиняет юсуфзаев в несоблюдении принципа чести (nang):
«Разве ведают они об афганской чести? Они — кашмирцы, паклийцы232, лаг-
манцы (т. е. кто угодно, но не паштуны. — М. П.)» [SN: 29]. Поводом для
подобного обвинения было, конечно же, уклонение юсуфзайских кланов
от участия в войне с моголами. По словам Хушхала, юсуфзаи не
выполнили обещания оказать восставшим племенам военную помощь, и поэтому в
поэме они неоднократно осуждаются за двуличие, неверность слову и
договору [SN: 22, 20, 24]. Отказ от вступления в войну объясняется Хушха-
лом не чем иным, как трусостью юсуфзаев и отсутствием у них воинской
доблести. Издеваясь, поэт пишет, что юсуфзайские мужчины носят
бороды, как женщины — украшения, и не способны попасть из ружья точно в
цель, а старики, если собираются вместе, забавляются только детской
игрой в закатывание шариков в лунки [SN: 25].
Большую часть критики Хушхала в адрес юсуфзаев составляет
порицание таких качеств, как стяжательство, скупость и мелочность, которые прямо
противоположны емкому понятию щедрости (saxawai) в паштунвали.
Самое наглядное выражение принцип щедрости находит в традициях
гостеприимства {melmastya\ на что Хушхал обращает особое внимание в своих
хулительных стихах:
Деньги у них всех — это религия и мазхаб,
Их мысли только о серебре и золоте.
Как бы из одной монетки сделать две:
Только этим заняты, другого не понимают.
[SN: 22—23]
Хотя в домах у них груды золота,
Едят они только сурепку (Sarsam) да сумах (danbara).
[SN: 21]
Нет над ними закона, ничего никому не дают,
Все добывают только для себя, сами же и потребляют.
[SN: 25]
232 П а к л и — долина и историческая область, расположенная к востоку от Свата
на левобережье Инда.
Глава V. Поэтические дневники Хушхал-хана
291
Нет [у них] ни приглашения в гости, ни приглашения к трапезе,
Ни вежливости, ни [правил] знакомства, ни доброты сердца.
[SN: 23]
Старейшина деревни, рода, племени
Разве когда зарежет для гостя хотя бы петуха?
[SN: 28]
Если что-то тратят на масло [для лампы] или угощение,
То даже у богатого сердце сжимается в муках.
[SN: 29]
Хушхал высказывает юсуфзаям упреки и по поводу пренебрежения
нормами традиционного этикета (adab), также входящими в кодекс чести.
Он утверждает, будто бы юсуфзаи совсем не делают различия между
молодыми и старыми [SN: 21] и слишком многое позволяют своим
женщинам, исполняя любые их капризы и прихоти [SN: 20]. Невоспитанность,
которую демонстрируют жители Свата, считает Хушхал, можно ожидать
только «от слуги араба и рабыни индуски» [SN: 24].
Несколько раз поэт приписывает юсуфзаям также неспособность
понимать истинную ценность вещей и отличать подлинное от фальшивого:
«Жемчуг и гагат, булыжник и яхонт — все им едино; яблоко и репа, гранат
и айва, — все для них одинаково» [SN: 25]. Это весьма субъективное
мнение автор «Сват-нама» делает посылкой утверждения о том, что в качестве
идейных вождей у юсуфзаев обычно находят пристанище
малообразованные люди или даже откровенные мошенники, как, например, некий
самозванец, выдававший себя за могольского принца Шаха Шуджа' и
поднявший в 1674 г. мятеж против имперских властей на юсуфзайских
территориях [SN: 24] (см.: [Sarkar 1912, II: 286—287]).
Главное внимание в поэме Хушхал-хан уделяет характеристике
богословов Свата и описанию религиозной обстановки в целом. Он считает,
что полная безграмотность юсуфзаев в религиозных вопросах и их
исключительно поверхностное исповедание ислама являются причиной того, что
в Свате любой негодяй может обманом и лестью добиться признания себя
в качестве муллы или духовного учителя [SN: 26, 27], и «если индус
прочтет калиму (kalima, символ веры. — М 77.), [но при этом] останется
еретиком (murtad), никто не скажет, что он плох в вере» [SN: 24].
В последней главе поэмы Хушхал делает небольшой экскурс в историю
распространения духовного наставничества в Северо-Восточном Пашту-
нистане. В середине—второй половине XVI в., «в то время, когда Пир Ро-
шан заложил основу смуты», среди восточных паштунских племен вели
проповедническую деятельность, враждуя между собой, несколько
вероучителей. У юсуфзаев, сообщает Хушхал, наибольшим авторитетом
пользовался Шах 'Иса, у горйахелей (племена момандов, халилов, даудзаев,
цамкани) — Касим, у хаттаков — Бу Бакар и Пир Мансур; в хаттакском
клане шитаков учительствовал Пир Дангар; афридии и оракзаи
подчинялись Байазиду Ансари; некоторые паштуны были муридами некоего Сар-
маста [SN: 60—61].
292 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Как племенной вождь Хушхал-хан возмущался не только лживой, на
его взгляд, верой духовных учителей, но и тем обстоятельством, что
первоначально клиентские отношения этих, как правило, пришлых людей, не
афганцев по происхождению, с приютившими их племенами впоследствии
часто перерастали в кровное родство, естественно, влекшее за собой
резкое увеличение их имущественных и социальных прав («Юсуфзаи являют
дурную веру тем делом, что с каждым ничтожеством вступают в родство»
[SN: 66]). Порицая одновременно и собственных соплеменников, поэт так
говорит о положении, которого добивались в паштунских племенах
духовные наставники: «По мазхабу все хаттаки— сунниты, но духовный
учитель для них из-за их невежества — словно Господь» [SN: 62].
На фоне такого религиозного разброда в Северо-Восточном Паштуни-
стане возникла фигура Ахунда Дарвезы, ханафитского
богослова-проповедника, к которому Хушхал-хан никогда не испытывал ни симпатий, ни
уважения:
Откуда-то здесь (в Свате. — М. Я.) появился Дарвеза
И с малыми знаниями стал в этом краю большим муллой.
Когда он увидел, что тут за люди,
Начертал он на бумаге свою книгу («Махзан ал-ислам». — М. П.).
Ознакомился он с «Хайр ал-байаном» Рошана
И отверг его невнятные речи.
Обнаружив, что место не занято, он стал здесь проповедником,
Рассыпал он те слова, какие хотел.
В то время у паштунов не было богословия,
И Дарвеза стал для них лучше знатока права (mujtahid)...
[SN: 62—63]
Выгнал он из Свата всех дервишей,
Похвалялся он своими познаниями и чудотворством (karamat).
Такими уловками он покорил всех жителей Свата
И свою книгу изобразил чем-то небывалым.
Не обращал он внимания на зло и порок
И оставил лукавство в наследство своим потомкам.
Дарвеза ел кашу подаяния 233,
Хитростью смешав ее с халвой.
Тому, у кого раньше и черной рабыни-то не было,
Юсуфзаи покорились один за другим...
[SN: 65]
Отдельный раздел «Сват-нама» Хушхал-хан посвятил критике
сочинения Дарвезы «Махзан ал-ислам», которое юсуфзайские вожди, по его
словам, чтили как священные тексты, а местные богословы считали чуть
ли не боговдохновенным («Мийан Hyp сказал, что Ахунд — наш имам, и
весь „Махзан" снизошел на него озарением (ilham)» [SN: 41]). С идейной
точки зрения «Махзан» вызывал недовольство Хушхала только тем
обстоятельством, что его автор объявлял отступником-рафизитом (rafizi), т. е.
Здесь поэт играет словами, передавая значение «подаяние» словом darweza.
Глава V. Поэтические дневники Хушхал-хана
293
шиитом, каждого, кто считал преступными действия омейядского халифа
Йазида (ум. 683) по отношению к потомкам пророка. Будучи, как и Дарве-
за, суннитом, Хушхал-хан тем не менее в оценке известных событий при
Кербеле в 680 г. явно склонялся к шиитским взглядам, не признавая их при
этом противоречащими суннитской идеологии, о чем он высказывался
публично, в том числе в своих стихах (см. гл. II, разд. 2), и по поводу чего
вынужден был вести дискуссию с богословами Свата234.
Формальная сторона сочинения Дарвезы представлялась Хушхал-хану
еще более негодной, чем содержательная. Не стесняясь бранных слов,
Хушхал заявляет, что подобные вещи «изготовители дряни (ganda) делают
для пожирателей дряни» [SN: 47]. Его критика была обращена прежде
всего на качество саджевой прозы Дарвезы, к которой он, однако, не вполне
оправданно прилагал критерии поэзии, усматривая в текстах «Махзана»
нарушения силлабических принципов и неточности в рифме (см. гл. I,
разд. 2). Отмечая наличие в книге множества переводов с арабского и
персидского языков, Хушхал оценивал их крайне низко. «Смешным» {muzhik),
например, поэт называет переложение на пашто касыды ал-Бусири,
поскольку, на его взгляд, «каждый бейт касыды — это перл, а на пашто он
[оказывается] дешевле ячменя» [SN: 45]. Популярность сочинения
Дарвезы среди афганских племен Северо-Восточного Паштунистана в некоторой
степени ставит под сомнение субъективную оценку Хушхала,
саркастически заметившего по поводу благоговейного отношения юсуфзаев Свата к
этой книге: «Всякий, кто скажет что-нибудь против „Махзана", проживет
ли еще хоть час на земле?» [SN: 45].
Из других религиозных сочинений, которые имели хождение в
Свате, Хушхал-хан упоминает два известных компендиума по ханафитскому
фикху— «Мухтасар» ал-Кудури (ум. 1036) и «Канз ад-дака*ик» ан-Наса-
фи (ум. 1310) [SN: 33]. Поскольку духовные вожди юсуфзаев в «Сват-
нама» изображаются в сатирическом ключе как малограмотные
обманщики и лицемеры, излишне говорить, что Хушхал хулит их за неспособность
понять все тонкости названных правовых книг.
Среди обвинений в адрес сватских религиозных авторитетов по поводу
их корыстолюбия и мошенничества содержатся отрывочные сведения о
234 В тексте «Махзана» я не смог найти строк, близких по смыслу тем, что якобы
были обнаружены там Хушхал ом: «[Некоторые] произносят проклятие Йазиду и
безмерно заносятся в рафизитстве. Но разве хотел Иазид смерти Хусайну, он ведь
[наоборот] требовал возмещения за его кровь. Он отомстил эмирам за смерть Хусайна, и я
поразился таким необыкновенным поступкам Йазида» [SN: 39]. Дарвеза в своем
сочинении многократно говорит о рафизитах как о лицах, отрицающих законность власти
первых трех халифов и, соответственно, традиций (sunnat), к ним восходящих [Ml: 90—
91, 96—97, 112, 116—118 и др.]. В оправдание Йазида Дарвеза как будто ничего не
пишет, а что касается семьи пророка, то его внуков Хасана (ум. 669) и Хусайна (ум. 680)
он еще относит к числу источников достоверных хадисов, а 'Али [Зайн ал-'Абидина]
(ум. 714), сына Хусайна, уже нет [Ml: 97]. Хушхал прав лишь в том случае, когда
замечает, что в книге Дарвезы «плохо говорится о сеидах». Действительно, в 19-м разделе
седьмого байана «Махзан ал-ислам» подлинные или мнимые потомки пророка
подвергаются нападкам, но только на том основании, что они часто используют статус сеида
для притязания на духовное наставничество [Ml: 117—118].
294 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
социально-экономической стороне жизни духовного сословия в паштун-
ской племенной среде. Из слов Хушхала явствует, что в Свате действовали
разные категории духовных лиц: мелкие служители культа — муллы,
мусульманские судьи — кадии, религиозные учителя и богословы — ахунды.
Мечети содержались главным образом на религиозный налог (zakat) и
пожертвования (xayrat). Какая-то часть недвижимости, вероятно земельные
участки с мечетями и школами, находилась в вакфе, т. е. была
отчужденной на благотворительные цели и управлялась духовными лицами, давая
им таким образом средства к существованию.
Еще одним источником дохода духовных лиц было изготовление
амулетов для больных (ta'wiz). Эта практика казалась просвещенному Хуш-
хал-хану самым ярким примером того, как алчные ахунды обманывают
необразованных и доверчивых простолюдинов. В разделе «Сват-нама» о
богословах поэт посвятил семь бейтов (из 32) осуждению мулл и ахундов
именно за то, что они ради легкого заработка «пишут и раздают лживые
амулеты» и потому «больному радуются больше, чем здоровому» [SN:
34—35]. Деньги за свое целительство, возмущается Хушхал, они
получают, не дожидаясь выздоровления больного, и при этом требуют от людей
особого уважения к себе, угрожая, что в противном случае амулеты не
окажут нужного действия.
Во время пребывания Хушхал-хана в Свате главным духовным
авторитетом у юсуфзаев считался Мийан Hyp (Hyp Мухаммад), внук Ахунда
Дарвезы. Свое отношение к нему Хушхал ясно выразил в таких словах:
«Если Мийан Hyp сделает дозволенным мясо свиньи, муллы тут же
состряпают фетву на это» [SN: 36]. Имена других богословов Свата поэт не
называет, но сообщает о том, что Мийан Hyp опирался на поддержку двух
юсуфзайских вождей — Аллахдада и Дост Мухаммада. Как первое
духовное лицо Свата Мийан Hyp потребовал у Хушхал-хана объяснений по
поводу его религиозных воззрений, связанных с публичным почитанием
шиитских имамов. Рассказ о встрече и диспуте с Мийаном Нуром составляет
самый большой раздел «Сват-нама» (92 бейта), написанный с забавными
бытовыми подробностями и живыми диалогами.
Решение вызвать Хушхала для разбирательства Мийан Hyp принял
после того, как некий безымянный ахунд, пренебрежительно названный в
поэме «полумуллой» (nim-mulla), донес ему, что хаттакский вождь
будоражит жителей Свата, открыто проповедуя шиитские взгляды и критикуя
«Махзан» [SN: 40]. Судя по некоторым строкам поэмы, встрече
предшествовал обмен письмами. В послании Мийана Нура Хушхал, по его словам,
обнаружил только невежество, глупость и самохвальство: «Одно
хвастовство [знаниями] тасаввуфа, сулука, а в правописании везде вместо буквы
leaf— qaf» [SN: 51]. Ответ Хушхала, если верить «Сват-нама», был
резким и оскорбительным. Хушхал обвинил Мийана Нура в лживой учености
и назвал его «косоглазым, злонравным... привратником у дверей Йазида
или Даджжала» [SN: 52].
Для официального вызова на диспут к Хушхалу с соблюдением
племенного этикета была послана целая делегация юсуфзайских ханов —
Манкай, Сангар, Мийа-хан. Дело происходило в местечке Лангар-Хаттак,
Глава V. Поэтические дневники Хушхал-хана
295
где, видимо, жили хаттакские семьи, переселившиеся в Сват после начала
внутриплеменной усобицы в 1664 г. Сюда на встречу с Хушхалом прибыл
Мийан Hyp. Хушхал очень живо описывает начало всей истории, когда он
мирно дремал в тени тутового дерева, как вдруг к нему явились юсуфзай-
ские ханы, грубо разбудили его и с издевкой сказали: «А ну-ка,
поднимайся, славный Хушхал-хан! Ты всполошил весь Сват, а сам спишь, ни о чем
не печалясь, не заботясь, не волнуясь... Или иди, держи ответ перед Мийа-
ном Нуром, или прими книгу Дарвезы „Махзан"» [SN: 48—49]. На это
Хушхал заявил, что сам он истинный мусульманин, а Дарвеза не был ни
муджтахидом, ни имамом, чтобы толковать богословско-правовые
вопросы, и все нынешние муллы Свата— необразованные «пожиратели заката».
Только разозлив своим ответом ханов, Хушхал отправился в их
сопровождении к Мийану Нуру.
Диспут состоялся на берегу реки Сват, где собралось много юсуфзай-
ских вождей, старейшин и богословов. «Сели мы друг перед другом в
гневе, напустили в свои слова яда, — пишет Хушхал-хан, — ...малики
отстаивали свою честь, а богословы, шейхи в ярости желали мести» [SN: 49, 50].
Идейной, собственно богословской стороны спора Хушхал в поэме совсем
не касается, кратко повторяя только свое мнение о конфликте Йазида с
шиитскими имамами. Хушхал был образованным человеком, но далеко не
профессиональным богословом-схоластом, поэтому я не уверен, что его
идейные воззрения имели солидное теоретическое основание, а его
аргументация в религиозном диспуте, как он утверждает, превосходила доводы
его оппонентов. Поэтому, видимо, не следует принимать за истину его
крайне субъективную характеристику этого диспута, данную к тому же в
форме поэтического хаджва. Хушхал сам обнаруживает свою
собственную неправоту, когда отрицает справедливость слов Мийана Нура о том,
что «Дарвеза не восхвалял в „Махзане" [Йазида]», и «Махзан» это — «не
стихи» и «не поэтическое изложение», а произведение, написанное «в
иной форме» [SN: 54].
Тем не менее Хушхал-хану нельзя отказать в умении вести
повествование реалистично и с юмором, выделяя живописные детали. Например,
кратко передавая содержание речи Мийана Нура, поэт отмечает, как
присутствовавшая на диспуте публика с восхищением внимала его долгим
вступительным словам, в которых тот «много говорил о намазе своей
бабки, а затем всячески восхвалял деда (т. е. Дарвезу. — М Я.)» [SN: 54].
Завершая рассказ о диспуте, Хушхал-хан туманно намекает на то, что
его внешне сугубо религиозная направленность скрывала политическую
подоплеку. Судя по отдельным фразам Хушхала, богословы Свата затеяли
с ним богословский спор якобы лишь для того, чтобы опорочить его в
глазах юсуфзайских вождей и воспрепятствовать таким образом
намечавшемуся военному союзу юсуфзаев с афганскими племенами, поднявшими
мятеж против моголов («В тяжбе окажутся замешаны все люди, и в
собирании войска будет провал» [SN: 56]). Вступление юсуфзаев в
вооруженный конфликт с моголами могло пагубно отразиться на репутации их
духовных вождей, сватских богословов, которых имперские власти в этом
случае скорее всего обвинили бы в вероотступничестве, тем более что во
296 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
главе империи стоял Аурангзеб, известный своими твердыми суннитскими
и крайне пуританскими взглядами на ислам235.
По утверждению поэта, диспут закончился его моральной победой и
формальным примирением с юсуфзайскими ханами и богословами,
причем объединяющим фактором якобы стала общая декларация
приверженности делу паштунской чести {do pastano nang). Однако, как уже
говорилось выше, получить от юсуфзаев реальную военную помощь Хушхалу так
и не удалось. Поэт объясняет это тайными происками все того же Мийана
Нура, который будто только на словах присоединился к
национально-патриотическим лозунгам, но в действительности продолжал удерживать
юсуфзайских вождей от каких-либо соглашений с Хушхалом. «Если по
указанию Мийана Нура они не соберут войск, — ставит точку в своем
рассказе поэт, — пусть им тогда на голову будет пыль и навоз от войск (т. е.
грязь от прохода пехоты и конницы. — М П.)236» [SN: 59].
Поэма «Сват-нама» осталась незаконченной или же дошла до нас в
неполном виде, о чем свидетельствует явная смысловая незавершенность
ее последних бейтов и не всегда четкое соответствие изложения общей
композиционной структуре. Однако содержание и художественная сторона
поэмы в равной степени имеют большое значение и для характеристики
особенностей творчества самого Хушхал-хана, и для выявления наиболее
важных направлений в развитии всей паштунской письменности XVII
столетия. Наряду с «Фирак-нама» и многими стихотворениями дивана Хуш-
хала «Сват-иама» представляет собой яркий пример приближения паш-
тоязычной поэзии к национальным корням и реалиям жизни паштунских
племен с одновременным ее отходом от жестких установок канона,
воплотившихся в отвлеченной религиозно-философской и любовно-мистической
лирике рошанитов и богословов. Будучи к тому же первым на языке пашто
опытом путевого дневника, «Сват-нама» раздвинула границы жанров
паштунской письменности, определив для нее новые художественные
возможности и творческие задачи.
235 Подобная ситуация наблюдалась также во второй половине XVI в. во времена
идейной борьбы Ахунда Дарвезы с рошанитскими вероучителями. Не только
руководствуясь религиозными мотивами, но и опасаясь за свой авторитет, Дарвеза громко
выражал недовольство вооруженной борьбой рошанитов с могольскими властями и
стремился отвратить подчинявшихся, ему юсуфзаев от участия в антимогольских войнах.
Свою позицию Дарвеза обосновывал так: «Злополучие Джалал ад-дина (младший сын
Байазида Ансари. — А/. Я.) привело к тому, что [могольские] наместники обосновались
в Пешаваре. Моголы укрепились в Паштунистане и проведали о его внутренних делах.
Они увеличили подать и подчинили себе паштунов. Из-за дурных начинаний Джалала
многие паштуны были казнены моголами» [MIi: 135].
236 Очевидно, этим Хушхал намекает на вероятность вторжения моголов в Сват.
Заключение
В первой половине XVII в. афганская письменная поэзия развивалась
преимущественно в среде духовных лиц — суфийских учителей,
проповедников, богословов, вследствие чего она имела во многом практическую
направленность, преследуя цели духовного просвещения народа, а ее идейное
содержание было сосредоточено на традиционных мистико-философских
и религиозно-этических темах. Сохранившиеся рукописи показывают, что
в это время существовали два основных центра паштунской письменной
культуры, один из которых находился в Северной Индии в городке Раши-
дабаде и прилегающих к нему землях на правобережье Ганга к востоку от
Агры, а другой — в Северо-Восточном Паштунистане в долине реки Сват
на территориях, занимаемых племенем юсуфзаев. В Северной Индии
поэзия на афганском языке создавалась членами рошанитской общины,
точнее той ее части, которая переселилась сюда около 1619 г. и исповедовала
умеренные мистические взгляды, лишенные политической окраски.
Создателями паштоязычных стихотворных произведений в Свате были ханафит-
ские богословы, потомки и ученики Ахунда Дарвезы, главного идейного
противника рошанитской ереси и автора первого на языке пашто
компилятивного сочинения по суннитской догме и культу. Таким образом,
сложившиеся в первой половине XVII в. центры паштунской письменности не
только отстояли друг от друга на внушительном географическом
расстоянии, но и расходились на идеологической почве.
Общепризнанным главой рошанитских поэтов благодаря своему
происхождению был Мирза-хан Ансари, внук Байазида Ансари, основателя
мистического учения рошаниййа. Его диван, дошедший до нас в большом
числе списков, имел широкое хождение в кругу образованных паштунов и
переписывался намного чаще, чем произведения других рошанитов. В
Индии Мирза-хан прожил около десяти лет, вероятно, владея небольшим
джагиром, и погиб участником военной кампании императора Шахджаха-
на в Декане в 1630/31 г. К числу таких же рошанитских переселенцев в
Индию, видимо, следует отнести Васила Рошани, стихи которого
сохранили немало свидетельств о прежней жизни их автора в условиях
переменчивого климата афганских высокогорий. Непосредственно в Индии
родились и прожили всю свою жизнь прочие крупные рошанитские поэты —
Давлат Лоханай, его друг 'Али Мухаммад Мухлис, старший брат Мухлиса
Хваджа Мухаммад, Каримдад Бангаш.
298 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Несмотря на отвлеченное мистико-философское содержание лирики
рошанитских поэтов, в их диванах обнаруживаются некоторые
любопытные фактические сведения, позволяющие четче обозначить исторический
и бытовой фон их жизнедеятельности. Такие сведения не ограничиваются
беглым упоминанием топонимов и каких-либо собственных имен. У
Мирза-хана, например, мы находим стихотворные впечатления о войне в
Декане и праздновании индуистского праздника Холи; Васил Рошани в одной
газели вспоминает о племенных стычках бангашей и хаттаков; Давлат Ло-
ханай в нескольких стихах кратко сообщает о своем происхождении, а
целую касыду посвящает истории рода рошанитских вождей, где называет
имена около двадцати потомков Байазида Ансари, в том числе своих
сверстников и младших современников, живших в Индии. На основе ряда
стихов того же Давлата, включая одну незаконченную касыду, авторство
которой еще остается под вопросом, вырисовывается мифологизированный
образ самого Байазида Ансари (ум. 1572), бытовавший в представлениях
позднего поколения рошанитов и параллельно запечатленный в житийном
сочинении Мухлиса «Хал-нама».
О ближайшем окружении рошанитских поэтов можно судить по
имеющимся у них траурным эпегиям-марсиййа. Содержание некоторых
стихотворений Мирза-хана и Давлата, возможно, соотносится с конкретными
этапами их духовного и мистического пути, а также с возрастом.
Любопытные поэтические высказывания Васила о сельскохозяйственном труде
и стихи Давлата с длинными перечнями ботанических терминов ясно
свидетельствуют о том, что в жизни, этих поэтов не последнее место занимало
земледелие.
В поэзии рошанитов частично отражены также их социальные
воззрения, которые хорошо показывают конфликт между сохранявшимися у
афганских переселенцев в Индии обычаями и законами племенного права
(паштунвали) и морально-этическими нормами религиозной общины.
Отвергая племенные традиции и принципы неписаного кодекса чести, поэты-
мистики тем не менее нередко пользовались социально-правовыми
понятиями паштунвали, а иногда даже позволяли себе комментировать их, как
это видно на примере одной газели Мирза-хана, где говорится о принципе
намус, регулирующем положение женщин. Хотя рошанитские поэты
стремились строго придерживаться правил суфийской этики, отдельные их
строки явно были порождением культивировавшегося в их среде чувства
национальной обособленности.
Примечательными являются суждения рошанитских авторов о
сущности и целях поэтического творчества. Следуя эстетическим традициям
суфийской литературы, все рошаниты одинаково воспринимали поэзию
прежде всего как форму духовного общения с Богом, поэтому они считали
ее одновременно и боговдохновенной и направленной на постижение
божественной сущности. Свою главную задачу поэты видели в восхвалении
Единого Бога и духовном наставничестве непросвещенных паштунов, что
обязывало их формулировать довольно высокие требования к поэтическому
слову. Открыто признавая поэзию фарси образцом для подражания,
рошаниты часто цитировали или перефразировали строки персидских класси-
Заключение
299
ков. Большое значение рошанитские поэты придавали письменной
фиксации поэтических строк; Васил таким образом прямо противопоставлял
плоды своего творчества устной народной поэзии. Кроме того, у всех ро-
шанитских поэтов проглядывают ростки национального самосознания,
причем Давлат демонстрирует особо патриотическое отношение к родному
языку.
Литературный круг богословов не дал паштунской поэзии таких же
ярких творческих личностей, какие вышли из рошанитской общины, за
исключением, может быть, 'Абд ал-Карима, сына Дарвезы, хотя и заслуги
'Абд ал-Карима имели значение не столько собственно для поэзии пашто,
сколько для сохранения литературного наследия его отца, при котором он,
судя по всему, исполнял роль соавтора и художественного редактора.
Другие поэты-богословы — внук Дарвезы 'Абд ал-Халим, Мир Хусайн, Бабу
Джан, 'Умар Шалмани, Ахунд Ахмад — не отличались самобытностью и
творческим подходом к сочинительству стихов на пашто. Отчасти по этой
причине в произведениях любого из этих авторов почти невозможно найти
какие-либо факты, проливающие свет на реалии его жизненного и
творческого пути. Пожалуй, самая существенная информация такого рода,
извлекаемая из стихов 'Абд ал-Карима и Мир Хусайна, заключается в том, что
первый из них был членом суфийского братства чиштиййа, а второй
относил себя к последователям кадириййи. Особый интерес представляют
также стихи с критическими замечаниями богословов о распространенных у
афганцев народных обычаях оплакивания покойных и пения траурных
песен, что противоречило духу и букве мусульманского похоронного обряда.
К сожалению, недостаточная изученность рукописей как рошанитских,
так и богословских сочинений не позволяет на данный момент сделать
окончательные выводы об объеме и составе литературного наследия
фактически ни одного из вышеназванных авторов. Конечно, особо значимые
для литературы пашто памятники, представленные большим числом
рукописей, такие как диван Мирза-хана или «Махзан ал-ислам», были
подвергнуты довольно основательной кодикологической обработке и уже имеют
издания, близкие к критическим, однако и они по-прежнему нуждаются в
подлинно научных редакциях. Так, тексты некоторых стихотворений в
издании дивана Мирза-хана явно должны быть исправлены с учетом их
вариантов в рукописях, а издание «Махзана» следует дополнить целым
рядом отсутствующих в нем фрагментов, которые входят во многие
рукописи этого произведения. Если говорить о других литературных памятниках,
то в издании дивана Давлата, например, имеются ошибки, связанные с
определением жанровых форм, отображением строфики и даже
разграничением самостоятельных стихотворений; спорной является атрибуция трех
ззбук-мурабба', приписываемых Василу Рошани; до сих пор точно не
установлены состав и структура «Книги Бабу Джана», нет единого мнения о
том, какие произведения в ней, а также в «Махзане» и других
богословских сочинениях являются собственно поэтическими, а какие написаны
рифмованной прозой, и т. д. Хотя эти и подобные им вопросы получили
некоторое освещение в настоящей работе, подготовка удовлетворяющих
300 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
строгим научным требованиям критических текстов памятников ранней
паштунской письменности остается делом будущего.
Рошанитская поэзия по форме и содержанию значительно
превосходила стихотворные опыты богословов. Во-первых, она имела за собой более
длительные письменные традиции, возникшие еще во второй половине
XVI в. и в развитом виде воплотившиеся в стихах Арзани Хвешкая,
которому принадлежит первый в поэзии пашто цельный диван. Во-вторых,
рошанитские поэты находились в более выгодном культурном окружении,
и на их творчество прямое воздействие оказывала богатейшая персоязыч-
ная литература могольской Индии. Задача рошанитских мистиков,
неизбежно следовавших канону классической суфийской поэзии, фактически
сводилась только к переложению на язык пашто уже готовых, веками
отшлифованных клише.
Именно в рошанитской поэзии сложилась система жанровых форм по
образцу персидского стихосложения. К середине XVII в. рошанитскими
поэтами были освоены все основные жанровые формы — газель, касыда,
руба*и, кит*а, маснави. Из строфики распространение получил мухаммас.
Хотя подавляющее большинство стихотворений рошанитов относятся к
газелям и касыдам, четкие критерии разграничения этих жанровых форм в
ранней поэзии пашто отсутствовали, и в диване каждого поэта можно
найти промежуточные произведения, одновременно обладающие признаками
обеих форм. Соответственно в рошанитских диванах еще плохо
просматривается стандартная рубрикация.
В отличие от рошанитов ни один из поэтов-богословов вообще не
имеет дивана в традиционном понимании, поэтому богословская поэзия,
несмотря на то что она появилась позднее рошанитской и поневоле
испытывала на себе ее влияние, не позволяет говорить о существовании в ней
жанровых форм в виде осмысленной системы. Показателен в этом
отношении перевод арабской касыды, сделанный Бабу Джаном: афганский
поэт, проигнорировав классическую монорифмическую структуру
оригинала, написал свое произведение трехбейтовыми строфами, не имеющими
общей рифмы.
Что касается собственно жанров ранней паштунской поэзии, то они
были предопределены ее проповедническим характером. И рошаниты, и
богословы сочиняли почти исключительно религиозную и мистическую
лирику философского, этико-назидательного и отчасти любовного
содержания. Первым по популярности был жанр азбуки (алиф-нама), к которому в
разной степени обращались почти все поэты, причем иногда неоднократно
(как Давлат или Мир Хусайн). Именно в азбуках, по самому определению
предназначенных для религиозного просвещения, поэты старались яснее
формулировать свои идейные взгляды. Из других духовных жанров
особого внимания заслуживают му'джизат (повествования о чудесах пророка
Мухаммада) и кисас ал-анбийа' (рассказы о доисламских пророках и
царях), развивавшиеся соответственно Давлатом Лоханаем и Бабу Джаном.
Произведения этих жанров, имеющих фольклорные корни, хорошо
показывают, что для успеха религиозной или мистической проповеди среди
неискушенной аудитории от поэта требовались не только разносторонние
Заключение
301
знания в области мусульманских наук, но и умение к месту использовать
сюжеты повествовательного и развлекательного характера. Параллельно с
сугубо духовными жанрами у паштунских поэтов получили некоторое
развитие и светские, такие как муназара (диспут), марсиййа (траурная
элегия), тарих (хронограмма), бахариййа (стихи о весне). Однако опять же в
силу общей духовной направленности ранней поэзии пашто идейное
содержание стихотворений этих жанров обычно направлялось в религиозно-
философское русло.
Самое существенное формальное отличие рошанитской поэзии от
богословской обнаруживается в метрике стихов. Если рошанитская поэзия
имеет вполне развитые метрические формы, соответствующие правилам
классической поэтики о метрическом единообразии строк в пределах
одного произведения, то стихотворные опыты богословов являют собой всю
гамму перехода от ритмизованной и рифмованной прозы к поэзии в
собственном смысле. Не случайно во всех доступных мне или известных по
описаниям рукописях богословских сочинений стихотворные фрагменты
графически изображаются как проза, а не стихи и изобилуют ошибками в
членении текста на бейты и полустишия.
Стихи рошанитских поэтов в своей массе тоже не свободны от тех или
иных метрических погрешностей, иногда даже весьма значительных, но
общее следование разработанным правилам афганского
силлабо-тонического стихосложения здесь прослеживается очень четко. Рошанитские
поэты пользовались в основном самыми распространенными стихотворными
размерами— 8-, 12- и 16-сложниками, с тщанием относились к рифме,
смело внедряя в нее непосредственно афганскую лексику, и пробовали
усложнять эпифору (редиф). Большой интерес вызывают эксперименты
Давлата Лоханая, связанные с попыткой подчинить афганские
силлабо-тонические стихи правилам арабо-персидского квантитативного
стихосложения. Хотя эти эксперименты изначально были обречены на неуспех, и их
результаты (18 стихотворений) кажутся инородным телом на фоне прочих
произведений поэта, они, во-первых, свидетельствуют о многообразном
влиянии персидской литературы на раннюю паштунскую письменность,
во-вторых, подтверждают устойчивость и древность поэтических
традиций на языке пашто, и в-третьих, говорят о том, что рошанитские авторы
относились к литературному труду не только как к форме религиозного
просвещения, но и как к подлинно творческому процессу.
Идейное содержание всей рошанитской и большей части богословской
поэзии, не будучи оригинальным, воспроизводит на пашто те же
поэтические интерпретации мистико-философской доктрины вахдат ал-вуджуд,
которые уже в течение нескольких веков составляли общепринятый
стандарт суфийской лирики. Какими бы ни были у афганских религиозных
поэтов непосредственные источники влияния или прямого заимствования,
духовным началом своих стихов они сами считали в первую очередь
священные тексты Корана и сунны, изредка цитируемые ими в оригинале, но
чаще перелагаемые, перифразируемые или комментируемые на пашто.
Выраженный назидательный пафос стихам религиозных поэтов придавало
обращение к эсхатологическим мотивам Корана и теме загробной участи
302 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
праведных и грешных. В бесконечных проповедях таухида и
восхвалениях Единого и вездесущего Бога у рошанитов, а вслед за ними и богословов,
наибольшее распространение получили художественные трактовки
философских понятий божественной эманации, сущности и качеств,
единственности и множественности, а также концепции божественного света. Роша-
нитские поэты увлекались сочинительством стихов с речами Бога, иногда
переходя смутную грань, отделяющую умеренный тасаввуф от
еретических идей о воплощении Бога в человеке.
Гносеологические представления афганских религиозных поэтов в
общем строились на теории самопознания Бога и по-разному
интерпретируемых идеях об абсолютной близости Бога к человеку. В соответствующих
стихах поэты затрагивали традиционные суфийские темы о соотношении
духа и тела, сердца и разума, истинной веры и неведения, о степенях
самоотречения мистика, о значении состояния Ml и пр. Заметные идейные
расхождения рошанитов и богословов наблюдаются в стихах, посвященных
духовному пути и стадиям познания Бога. Рошанитские поэты, следуя
положениям учения Байазида Ансари, описывают восемь последовательных
этапов мистического пути, в то время как богословы проповедуют
главным образом необходимость соблюдения шари'ата. При этом богословы
повторяют за рошанитами характеристики некоторых видов суфийской
практики и пользуются одинаковым термином — pir kamil — для
обозначения духовного наставника. В религиозно-этических назиданиях и
рошанитов и богословов центральное место традиционно занимают порицание
привязанности к мирскому и призывы к довольству малым.
Несмотря на различие идеологических корней и условий бытования,
рошанитское и богословское направления ранней афганской поэзии, в
сущности, основывались на единых идейно-художественных и
эстетических принципах позднеклассической суфийской литературы, поэтому они
имели схожее по природе (но не по результатам) значение для развития
паштунской письменности в целом.
Во второй четверти XVII в. в афганской поэзии постепенно начинает
оформляться третье направление, центром которого становится Сарай-
Акора, резиденция хаттакских правителей, расположенная в нижнем
течении реки Ландай (Кабул) между Наушахром и Аттоком.
Основоположником этого направления, приведшего к возникновению собственно
национальной литературы пашто, был Хушхал-хан Хаттак, крупный племенной
вождь и самый значительный афганский поэт-классик. Литературные
традиции Хушхала во второй половине XVII—начале XVIII в. продолжили
его сыновья — Ашраф, 'Абд ал-Кадир, Сикандар, Садр и др. Являя собой
яркую творческую индивидуальность, Хушхал-хан усовершенствовал
формальную сторону паштунской поэзии и внес в нее новое светское и
национальное по духу содержание. На фоне отвлеченных стихотворных
проповедей мистиков и богословов лирика Хушхала, в немалой части
представленная традиционными любовными, философскими и назидательными
стихами, изначально выделялась своей ориентацией на естественные
земные чувства и реалии повседневной жизни.
Заключение
303
В поэзии Хушхал-хана окончательно сложилась развивавшаяся роша-
нитами система классических жанровых форм, границы между которыми
стали более отчетливыми в отношении и внешних, и тематических, и
стилистических признаков (что особенно заметно при сопоставлении газелей,
касыд и кит*а). Судя по рукописям, диван Хушхала был первым в поэзии
пашто, где утвердилась стандартная структура с четкой рубрикацией
произведений. За рамки стихотворных форм дивана поэтическое творчество
Хушхала вышло в 1665/66 г. в период индийского плена, когда поэтом
была написана его первая иоэма-маснави «Фирак-нама».
По сравнению с религиозными поэтами Хушхал-хан предъявлял более
высокие требования к метрике как главному, на его взгляд, критерию
профессиональной письменной поэзии. Стихи Хушхала в целом отличаются
более строгим соблюдением метрических правил и размеров, причем
список последних у него включает несколько новых видов, отсутствующих у
его предшественников.
По жанровому разнообразию стихотворные произведения Хушхал-хана
не имеют себе равных во всей классической литературе пашто, варьируясь
от изящных любовных и философских миниатюр до военных баллад и
трактатов на темы народной медицины и соколиной охоты. После ареста
Хушхала в 1664 г. многие лирические стихи его дивана стали звучать как
строки личного поэтического дневника.
Наиболее концентрированное выражение национальные,
биографические, историко-этнографические мотивы нашли в поэмак-маснави Хушхала
«Фирак-нама» и «Сват-нама». В первой, формально относящейся к жанру
тюремной лирики (хабсиййа), наряду с медитативными стихами о
переменчивости судьбы и краткими заметками о жизни в заключении, имеются
примечательные разделы, где поэт вспоминает свою семью и родные края,
подробно рассказывая, в частности, о популярных у хаттаков местах и
объектах охотничьего промысла. Поэма «Сват-нама», написанная в жанре
путевого дневника (сафар-нама), почти лишена каких-либо лирических
отступлений, но хорошо передает национально-патриотические
настроения автора во время моголо-афганской войны 1672—1676 гг. В этом
небольшом, но информативно насыщенном произведении содержится
географическая и этнографическая характеристика долины Сват, приведены
беглые зарисовки повседневной жизни местного юсуфзайского населения,
дана оценка религиозно-миссионерской и литературной деятельности
Ахунда Дарвезы, упоминаются прежние духовные наставники и
вероучителя Северо-Восточного Паштунистана, включая рошанита Байазида Ан-
сари, а также описан богословский диспут, который пришлось вести
автору с местными религиозными авторитетами, последователями Дарвезы.
Обе поэмы-маснави Хушхал-хана вместе с несколькими десятками других
его стихотворений 60—70-х гг., по справедливому мнению афганских
филологов, знаменуют собой начало расцвета классической поэзии пашто и
входят в число самых лучших ее образцов.
Дальнейшее развитие афганской письменной поэзии во второй
половине XVII в. и начале XVIII в. всецело основывалось на творческих достиже-
304 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
ниях авторов трех главных направлений предшествующего периода, что
отчетливо видно на примере диванов крупнейших афганских
поэтов-классиков 'Абд ар-Рахмана и 'Абд ал-Хамида, в стихах которых нашли
гармоничное сочетание мистико-философские, религиозно-дидактические и
национальные мотивы, являющиеся прямым отзвуком поэтических традиций
рошанитов, богословов и хаттакских князей.
Приложение
Тексты цитируемых стихев
с. 23
с 33—34
с 42
He He He
<JLjjJj <o *Jl*-» д^м^>^1>> a (s~£\s~*^ H jP lP*JI^**^ J«*
с 57
306 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
с. 81
\S jps^ yJijJ J JJ j-frJ д-j 4-> J^L-c
<lJ—t^ 4J >jJLi JJj-*-j J^-> j> jj> *£ tj
\£ j^> aJLj J ^ljL> <U JjJLfc jl Le^j
i£^ ^Wj j-*-* ^h v^^ *4j j-*-£ ^j
& jJaJ <u ijS *LJ-I J^ ja ^^LLfc a OjJLi 4^
*-^> j»>r ^ д-5 ^jjJ ^p д-5 <ljLoJ* -U & gjLi j->
с 86
cP -bw J ^P'j-^ ylb" jli ^^У с^М^^ *Л>^' ^1
4,—t<-ujb ijj-J yJLb 4jT 4 m—|..q » *_> ij->j_-o dj
A—.tt-.—> 4jjS <^j-£ LyS A> ^lJL£^_j-Jb /#^4^o JL)4j Lo
c. 82
л-i <о>з b (Jj-^ *^ О ij^j^ *-> L° l?^ yJU? <lT
Приложение
307
fjf ^L ^ aj l> ^ ^; Lu fjf ^4> ftjjl -J U -u ftj
*^ ^V Aj Um/ jjS* ftji i Aj 4jlj> ^^ ц^ЛЬ U-> Lji-ij a5*
AxLp aJ ^^ С ... л А^ AJ ^ ^ Aj A> ^^^i-L AJUb Aj
с 96
с. 98
A^>l A,Ly^ ^ bj^ j^ tfu t>jU*Z Aj bjj j^ A>
* * *
ajJJ *ajL o^> jjb ^ ^Ij dj ^ aj j-
A-JjL-C A^jJ jj. A^ A^ J-*>jJ J ^ ii^-^J
^^^ ^L aj ^i gS ^ Jli* <J^> jj j>
A-JlX-jlj a^ JLjjj ^J-L> *-*-*^
AJL^j ftji 6ji ,<—,^>j Aj CJ.1^ ^A/^ j-* ^
308 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
с. 108
с 122
с. 127
&
ji j.lj^^^li-lj a> 1>aJ JLIjajaS'
Приложение
309
с. 137—138
J-*' 6^ с5"^ <—^0 *4 Osjj j C*-ws-> ^3 aS^Aj A-j .->
oj '*■'
с 159
j-j^ 4-> JbjJ AJ J^-i ^^ iji Ь Aj %jZt Jb j <iLj Aj j^> A> j-^P J^> Aj
jJ ju aj ^j-i jjl a^ aj jJL^ ^ a-> ^ a ^ji ^ J^ oLr*^ jLJL-we
j^j *£J jp-jJ Aj AJjj jLJLfe Jj-i ^l> J*> Aj Aj*L jl^-Jbj jbl
^>* a5J ^>j Jy^i^ j-i ^Jj ^^^ jjjjj jji ^ i
j^> % A-j ^yb\j bj£ Aj ^ljL> i A> A-»1j *-bli AjLj Ь у ^S J*Ju Aj
J-^ * сУ vij^* jL-JL**^e Ajj Aj A> ^lj-^ 6^i -bojj <_£—Jb jj Ijj-j-e ^1
c. 164
Lu J^ jj a5" ^ JUC- Aj iU JbbJ>j jJ
сг^Ь оЬ^ c5-^ j^ H *~-b^ *3*
310 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
^р A3 0*}L£jLa я-Jb OjJtS Aj j*\3 ь
с. 172
Ajbj^L ^^ j-JL aJjIc Lb a ^j аз OjLil ^^д-о ^ a^-c- a) j>
**j^ *J cA&4JLJL-' H^^ &s" *J* *J\ ^ J> ol>L^>
с 173
15* jJi \jj** ym{J&*>* ^^ \£ Jjjj Aij> bjj aj jbljJ. Li ^
с 189
_hL*" о>ц^ ^p аз ^1^ ^li Jj djL jj^Uu» ^ ^Ijjl ^ ij^* ^
ji by c5jljjd)>>^i>«-iwr^j ^j^ji^L^ft^M, L"Ja>
с 193—194
ajLLJI ^ *jb c^^ ^ *-ij**i f-b j iS^jii Аи>^л j ^gJLJb a,» <,g„; .л,л
ajL*_^ aj aJ jLi/jj j ^Л> uj^> **> bjj^ оЦ-~' j"^ сУ * * jj^" *■£
^l3L*->j -J t_r-fc!j >LfJI a J^jJ* a^ j viJL ^3 jl jLe ^ ^p ^Ll-w/I aj
e.
Aj\j-b AJ |«Jb <^w» jL-> aJ *Jb J_ilj_-o j JjL^* jl OLoLi-Л Aj V^J"-0
ajLS'jI -J *-£■> j J^^-i aJ ^-^ jj-^cJ-^^ Ц-н'сгН ^^ч'-^ь
AJLmJI C*JLmj t?w>r-T—,>wQ aJ c^Jj-^ AJ «lib* yb $ <^>lj (j^j-i -* uWf (*-*
* * *
Ajbj-» aJ j a3 jftLgJI :j: ^?t jl> j OLIOS' j oik) a j {h* v^T^ ^r
^'•4j *J t^fclj f U-11 ^ ji н я »Jj j1^ i£P £ jb* ^ ^ jb* ^
с 195
A-Z* «iJjLwa tg^ Col $ A i C^Lb
»jL-L>l 6^ <o ^jLj-M/ ^^--jbb a>
Приложение
311
с. 198
j j ^Ьл JLx *-*Jb i -Jj-i ! jj-we i
^p -G ^^ jjlZ iS^ji ы jLiil ^jb
j^ L5^ ^J Jjf cM* ^Ь £^ Lb**
* * *
* * *
312 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
с. 202
(^ ^ ЬЬ Jjf »ij ^ <_,-$ «O {S±JU> Aj
с 203
6^-> ^j
crV
<L-A
_L*
с 218
(в »JU-'1 <-*""J* *A^
6>-i *S ^W ^ °jj-^ c£^ * S^
Приложение
313
+j jl...o...l .A jJ jXS-Jb *J ^j^ AJI^j olS J-*-> A->
<*£ jl^-U^ j' cr*W сР *~^ is* jl »^8*» Jbj ^j-*
с 235
^a «^L*^ <ц> j^Lc a *i ^ дЗ ^^.^jb ^Ij ^уь
с 242
Ji jL^> Ь jJ 4J JJj-j-J -G 4_£-*J- 4j ^jS J^jS. <U -0
fj^ jLijj OLj Д-jLzil 4J 4-7—.£*,*» Я-j-Jb d^ i JLjLo Д_>
^i jl>> <G ^j 4j (iLi-Jb 4j bjj.> 4j j«> 4J ^JL^j-i 4J
<^ jl 4j b 4j 4^fci AJ <_5-Lh 6^ ^"*-* *-" *
с 244
314 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
с. 275
с. 276
cr'j' ^-^J <SU JJ-* lt* H u-*j—*■*' u-*j—*■*' J^jl j-}4
l&* Ц-iJ <Ц>-^1 Lj 4^ 4J ^j J-оЬ J-4J L-> 4^ 4J
Jjr 0*** J"*' <S^. j^i *i ^ Jjr <1)Цу° j^ **—°j Ц^ ^ ^
f^ j-o ^ ^-iL^ Lj ^j 4j ^ j-jj «ibj^ j jj-wi 4-rf 4j
tpb cr* CALLS' »4J i <>> ^b -^ '>> j-»—» ** *j
<_» lj—s b jjj * J1—"
^** сГ^^-Ь jj_* ^ ^
Приложение
315
с 278
L/C^,., j
*Jjj> ?* J>*$ ^j> obj ^ ^
Jj_-i »j\jj. >у_, fjS fjS <u
с. 278
316 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
c. 284—285
е$-Ч*-Ь ^i'j-* dr> <^ ^ J-Or-' ^ l^JJ <i* J-^J-bJ ^i c5^ ^^^i
с 285
с. 288—289
* * *
bjH» Jsu Ajjj /$-f*^ <-5w Ь <o
* * *
Приложение
317
* * *
A^Jt jljLil^> AJ jlj>jL*0 A3 jlj> ^ ^
c. 289
^j AiL* -gjjj jjj ^ji aS* ^ «iLb i
«iJ A^Ijj ±J*jy C*-~*j* ^ Lrj-j i£jXj
с 290—291
fti tyJbJLo ^->i j^lj i ^фф>^ Д...ч.ы-> Jjj
i&rf^ 6J^ ftp' ^ *4 4- : j *j-i ^
^:Jr^yj AJ A_L» Aj Д-j-Jb IT Д-JUb ^Jb
* * *
* * *
AJLJ» ft »j i j-^-« Cs>U-i AJ jl> ^j i AJ
* * *
318 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
с. 292
сР ^j> Л-* j^ сР ^ 4 '* * 1 4 ->
* * *
j-i *}Lo ^jjj ^j-jJ' «ill* Ь ^u JLc ^4 ^u
^f>,ijbL*^> ^JL^^a Jl^-^^
* * *
4-JIj-m* AJ J^T—„<b-|j djlj ,-J jLS^JL-Lo
C-yrfji £ .-) ^d li Aj
aJ ^L^J j jju a jlJLS'aJ ^ ^-^Jb
-G Mj\ J~J- ^^ 4^ djh , ■;,< <y ^LiJ
^Jjl^y J *j AJ J** 4-Л-Цг, dj^J LT' <>?
Основные источники
BJ: ВаЬй Jan. Kitab-i Babu Jan / Рукопись СПбФ ИВ РАН. № С 1907.
DL: Dawlat Lawanay. Dlwan / Muqaddama: 'Abd aS-Sukur RaSad. Kabul, 1353/1975.
FN: Xushal Xan Xatak. Firaq-nama / Sariza, cargandawane, waylpanga: Zalmay Hewad-
mal. Kabul, 1363/1984.
MA: Mirza Xan Ansarl Dlwan / Sariza, samun, lamane: Dost. Kabul, 1354/1975.
MIj: Maxzan [al-islam] / Tasnlf: AxQnd Darweza. Muqaddama: Sayyid Taqwlm al-Haqq
Kakaxel. PeSawar, 1969.
MI2: Maxzan al-islam / Рукопись СПбФ ИВ РАН. № В 2483.
NM: Husayn. NaiV al-muslimln / Рукопись СПбФ ИВ РАН. № В 2446.
SN: Xushal Xan Xatak. Swat-nama / Sariza aw cargandawane: 'Abd al-Hayy HabTbl.
Kabul, 1358/1979.
WR: Wasil Rosani. DTwan / Sariza, samun, cargandawane, lamane, n§alawane: Zalmay He-
wadmal. Kabul, 13*65/1986.
XXX: Xushal Xan Xatak. Kulliyat-i XuShal Xan Xatak / Muqaddama aw ha§iyya: Dost
Muhammad Xan Kamil Mohmand. Pe§awar, 1952.
Цитированная литература
На языках пашто и фарси:
Afzal 1974: Afzal Xan Xatak. Tarix-i murassa* / Muqabila, tashlh aw notuna la Dost
Muhammad Kamil Momand. PeSawar, 1974.
Anvari 1961: Anvari. Divan/ Ba ihtimam-i Muhammad TaqT Mudarris Rizavl. Jild II.
Tehran, 1340/1961.
Asar 1963: Asar 'Abdal-Hallm. Ter her Sa'iran. PeSawar, 1963.
Alraf 1958: AsrafXan Hijrl DTwan / Murattaba: Hame§ Xalll. Pe§awar, 1958.
Baxtanay 1976: 'Abdallah Xidmatgar (Baxtanay). Pa pa|to adab k|e da ropnl asaro ma-
qam // Da RoSan yad / Da Habtballah Raft* pa zyar aw ihtimam. Kabul, 1355/1976. C. 93—
108.
Baxtanay 1978: 'Abdallah Baxtanay. Pa§tana §и'ага\ Caloram tok. Kabul, 1357/1978.
Benawa 1952: Benawa *Abdar-Ra'uf. Pastunistan. Kabul, 1330/1952.
Bre§ 1981: Bres. Da Wasil Ro§anI alifname // Kabul, № 6—7, 1360/1981. С 26—45.
Dabistan 1904: Dabistan-i mazahib. Kanpur, 1904.
Dost 1975: Dost. Da MTrza Xan pezandgalwl aw da dlwan nusxe// Mirza Xan Ansarl.
Dlwan. Kabul, 1354/1975. С I—VI.
Du'a: Babu Jan. Du*a suryanT / Рукопись СПбФ ИВ РАН. № С 1901 (л. 2636—270а).
НаЬТЫ 1941: Habibi 'Abd al-Hayy. PaStana §u*ara\ Lumray tok. Kabul, 1320/1941.
HabTbl 1963: Habibi 'Abd al-Hayy. Da pa§to adabiyato tarix. Dwaham tok. Kabul, 1342
/1963.
320 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
HabibT 1979: Habibi 'Abd al-Hayy. Sanza // XOShal Xan Xatak. Swat-nama. Kabul, 1358/
1979. С I—LXXVII.
Hewadmal 1977: Hewadmal Zalmay. Farhang-i zaban wa adabiyat-i pa§to. Jild I. Kabul,
1356/1977.
Hewadmal 1984ь Hewadmal Zalmay. Da Hind da kitabxano pa|to xattl nusxe ya da Hind
da gino kitabxano da pa§to xattl nusxo fihrist. Kabul, 1363/1984.
Hewadmal 1984г: Hewadmal Zalmay. Sanza. Cargandawane// XOShal Xan Xatak. Firaq-
nama. Kabul, 1363/1984. С I—XLVIII, 1-^4.
Hewadmal 1986: Hewadmal Zalmay. Wasil RoSanT aw da haga dlwan // Wasil RoSanT.
DTwan. Kabul, 1365/1986. С I—XVIII.
Hewadmal 1987: Hewadmal Zalmay. Da pa§to da adabl tarix xattl manabi'. Kabul, 1366/
1987.
Hewadmal 2000: Hewadmal Zalmay. Da pa§to adabiyato tarix (largune aw manganay daw-
re). PeSawar, 1379/2000.
Hewadmal 2001: Hewadmal Zalmay. Nangyalay da zamane. [Б. м.], 2001.
Kamil 1952: Kamil Dost Muhammad Xan Muhmand. XOShal Xan Xatak // Kulliyat-i XOs-
hal Xan Xatak... С IX—LII.
MIrza 1959: Mirza Xan Ansari. DTwan / Murattaba: HameS ХаШ. PeSawar, 1959.
Muxlis 1986: (AlT Muhammad Muxlis. Halnama-yi BayazTd RoSan. Kabul, 1986.
Nangyalay 1966: Nangyalay paStun / Muhtammim: Muhammad Akbar Mu'tamad. Kabul,
1344/1966.
NOmyalay 1990: Niimyalay M. A. Da paStano da tolanlz tarix mabadl. Maskaw, 1990.
Nun 1944: Nun Gul Muhammad. Mill! sandare. Kabul, 1323/1944.
PareSan 1984: Paresan Xatak. PaStun kawn. PeSawar, 1984.
POlad 1975: Saydal Sah Pulad. Lawanay Dawlat // Dawlat Lawanay. DTwan. Kabul, 1353/
1975. С A—D.
Purdil 1989: Purdil Xan Xatak. Xware-ware margalare. PeSawar, 1989.
RafT 1976: RafT' HabibaMh. RoSanT likane // Da Ro§an yad / Da Habiballah RafT pa zyar
aw ihtimam. Kabul, 1355/1976. С 155—204.
RafT4 1982: RafT Habiballah. Zanglray ya xattnama da XOShal Xan Xatak. Kabul, 1361/
1982.
RafT4 2001: Raft' Habiballah. Sarlza // XOShal Xan Xatak aw Sadr-i XOShal. Axlaq-nama.
Labor, 2001. С III—"XLVIII.
RaSad 1975i: 'Abd aS-Sakur Rasad. Dawlat Lawanay aw dre nlm sawa kala paxwa da haga
'aruzT nazmuna // Dawlat Lawanay. DTwan. Kabul, 1353/1975. С I—XXXIV.
RaSad 1975г: 'Abd as-Sakur Rasad. Da Wasil RoSanT со sTriina / Muqaddama aw tashTh:
'Abd aS-Sakur Rasad. Kabul, 1353/1975.
RiStTn 1942: RistTn SiddTqallah. PaStana §u'ara\ Dwaham tok. Kabul, 1321/1942.
RiStTn 1954: RiltTn SiddTqallah. Da pa§to da adab tarix. Kabul, 1333/1954.
RiStTn 1968: RistTn SiddTqallah. Swat-nama // Kabul, № 585, 1968. C. 41—43.
Sarfaraz 1975: Sarfaraz Xan 'Uqab Xatjik. XOShaliyat. PeSawar, 1975.
Siraj ad-dTn 1987: Siraj ad-dTn Sa'Td, Salih Muhammad Hotak. Tazkirat as-sVara' /
Sarlza, tadwTn aw yadawane: Baxtanay Xidmatgar. Kabul, 1366/1987.
Sa'dT 1992: Sa'dT. Gulistan. Tihran, 1371/1992.
Safa 1994: Safa ZabThallah. Tarix-i adabiyat dar Iran wa dar qalamraw-i zaban-i pars!.
Cap-i dahum. Jild III/2. Tihran, 1373/1994.
Saraf 1966: Mia Saraf. Da pa§to 'aruz / Da pohand RiStTn pa katana aw sparana. Kabul,
1344/1966.
TaqwTm al-Haqq 1969: Sayyid TaqwTm al-Haqq Kakaxel. Muqaddama // Maxzan [al-is-
lam] /TasnTf: AxOnd Darweza. PeSawar, 1969. C. I—LXXXII.
Tazkirat: Tazkirat al-abrar wa-l-a§rar / Рукопись СПбФ ИВ РАН. № С 1560.
Turyalay 1971: Turyalay paStun/ Muhtammim: Muhammad §TrTn Sangray XCizyanT.
Kabul, 1350/1971.
Ulfat 1966: Ulfat Gul Раса. Mill! qahraman XOsbal Xan Xatak. Kabul, 1344/1966.
Xadim: Qiyam ad-dTn Xadim. BayazTd RoSan. Kabul, [б. г.].
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
321
Xadim 1952: Xadim Qiyam ad-din. PaStunwalay. Kabul, 1952.
Xalll 1959: Hames XalJL DTbafci // Mirza Xan Ansari. DTwan. PeSawar, 1959. C. I—XLII.
Xalll 1960: HameS XalJL Wreka xazana. Tpk II. PeSawar, 1960.
Xawand 1949: Da Шге aw qalam xawand / Murattib: Muhammad Nawaz Xatak. Pe§awar,
1949.
Xusraw 1961: Nasir-i Xusraw. DTwan / Ba ihtimam-i M. DarwTS. Tehran, 1339/1961.
XOShal 1964: XuShal Xan Xatak. Fazl-nama // Armagan-i XuShal / Muqaddama: SayyTd
Rasul Rasa. Pesawar, 1964. С 801—972.
XuShal 1966: Xushal Xan Xatak. Tibb-nama/ Samawana aw katana: SadTqallah RistTn.
Kabul, 1*345/1966.
XuShal 1979: XuShal Xan Xatak. Swat-nama / SarTza aw cargandawane:'Abd al-Hayy Ha-
bibl. Kabul, 1358/1979.
XuShal 1985j: Xushal Xan Xatak. Baz-nama/ Sariza: Zalmay Hewadmal. Kabul, 1364/
1985.
XuShal 19852: Xushal Xan Xatak. Fal-nama/ Muhtammim: Habiballah Raft*. PeSawar,
1985.
XuShal 1991: Xushal Xan Xatak. Dastar-nama / Pezandgalo: Purdil Xatak. PeSawar, 1991.
XQShalnama 1980: XuShalnama / MurattibTn: PareSan Xatak, Zahir GaznawT. PeSawar, 1980.
Zwak, Sapay 1955—1956: twak M., Sapay M. H. Z. PaStanT sandare. LOmray tok/
Muhtammim: Zwak Muhammad-dTn. Kabul, 1334/1955. Dwaham tok / Tashlh aw ihtimam: Sapay
Muhammad Hasan ZamTr. Kabul, 1335/1956.
На русском языке:
Алиев 1968: Алиев Г. Ю. Персоязычная литература Индии. М., 1968.
Андреев 1992: Андреев С. Б. Пять столпов ислама в рошанитских сочинениях «Хайр
ал-Байан» и «Дэ *илм рисала»// Петербургское Востоковедение. Вып. 1. СПб., 1992.
С. 380—384.
Асланов 1955: Асланов М. Г. Народное движение рошани и его отражение в
афганской литературе XVI—XVII вв.// Советское востоковедение. 1955. № 5. М., 1955.
С. 121—132.
Бернье 1936: Бернье Франсуа. История последних политических переворотов в
государстве Великого Могола. М.; Л., 1936.
Бертельс 1926: Бертельс Е. Э. Грамматика персидского языка. Л., 1926.
Бертельс 1965: Бертельс Е. Э. Избранные труды. Суфизм и суфийская литература.
М., 1965.
Бертельс 1988: Бертельс Е. Э. Избранные труды. История литературы и культуры
Ирана. М., 1988.
Большаков 1984: Большаков О. Г. Суеверия и мошенничества в Багдаде XII—
XIII вв. // Ислам: религия, общество, государство. М., 1984. С. 144—148.
Большаков 1993: Большаков О. Г. История халифата. 2: Эпоха великих завоеваний
(633—656). М., 1993.
Ванина 2000: Ванина Е. Ю. Индийское средневековье: представления о человеке и
времени // Страницы истории и историографии Индии и Афганистана. К столетию со
дня рождения И. М. Рейснера. М., 2000. С. 145—167.
Ворожейкина 1984: Ворожейкина 3. Н. Исфаханская школа поэтов и литературная
жизнь Ирана в предмонгольское время (XII—начало XIII в.). М., 1984.
Ворожейкина 1999: Ворожейкина 3. Н. Кыт'а — стихотворение-«фрагмент» в
персидской поэтической культуре // Неизменность и новизна художественного мира.
Памяти Е. Э. Бертельса: Сб. ст. / Отв. ред. Н. И. Пригарина. М., 1999. С. 36—58.
Гире 1963: Герасимова А. С, Гире Г. Ф. Литература Афганистана. М., 1963.
Гире 1984: Исторические песни пуштунов / Сост., пер. с пушту, вступ. ст., коммент.
и указ. Г. Ф. Гирса. М., 1984.
Дворянков 1973: Дворянков Н. А. Строфика поэзии пашто// Проблемы восточного
стихосложения. М., 1973. С. 25—59.
322 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Дроздов 1999i: Дроздов Я. А. К проблеме изучения суфийской терминологии //
Неизменность и новизна художественного мира. Памяти Е. Э. Бертельса / Отв. ред.
Н. И. Пригарина. М, 1999. С. 86—107.
Дроздов 1999г: Дроздов В. А. «Варка и Гулыпах» Аййуки и арабские средневековые
повести о влюбленных// Неизменность и новизна художественного мира. Памяти
Е. Э. Бертельса / Отв. ред. Н. И. Пригарина. Москва, 1999. С. 108—118.
Жехак 1989: ЖехакЛ. Кодекс чести пуштунов// Афганистан: история, экономика,
культура. М, 1989. С. 58—72.
Жехак, Грюнберг 1992: Жехак Л., Грюнберг А. Л. Некоторые черты традиционного
мировоззрения пуштунов // Традиционное мировоззрение у народов Передней Азии. М.,
1992. С. 182—196.
Жирмунский 1962: Жирмунский В. М. Народный героический эпос. М.; Л., 1962.
Казем-Бек 1985: Казем-Бек М. Введение к «Мюхтесеруль-Викайет, или
сокращенный Викайет. Курс мусульманского законоведения» // Казем-Бек М. Избранные
произведения. Баку, 1985. С. 244—298.
Кушев 1976: Кушев В. В. Описание рукописей на языке пашто Института
востоковедения. М., 1976.
Кушев 1980: Кушев В. В. Афганская рукописная книга (очерки афганской
письменной культуры). М, 1980.
Кушев 1989i: Кушев В. В. О странствиях афганского поэта Али-Акбара Оракзая во
владениях империи Дуррани // Страны и народы Востока. Вып. XXVI: Средняя и
Центральная Азия (география, этнография, история). Кн. 3. М, 1989. С. 212—224.
Кушев 1989г: Кушев В. В. Поэма Хушхаль-хана Хаттака «Сват-нама» как
автобиографический источник // Письменные памятники и проблемы истории культуры
народов Востока. XXII/2. М, 1989. С. 41—47.
Кушев 1990: Кушев В. В. Некоторые проявления взаимодействия персоязычной
литературы с письменностью на языке пашто 17—18 вв. // Письменные памятники и
проблемы истории культуры народов Востока. ХХШ/2. М., 1990. С. 27—36.
Кушев 1995: Кушев В. В. Новые сведения о хаттаках и юсуфзаях в сочинениях
Хушхаль-хана Хаттака, Афзаль-хана Хаттака и Ахунда Дарвезы // Петербургское
Востоковедение. Вып. 7. СПб., 1995. С. 450-^92.
Кушев 1997: Кушев В. В. Материалы к истории Нангархара (из сочинения Ахунда
Дарвезы «Тазкират ал-абрар ва-л-ашрар», XVII в.) // Кунсткамера. Этнографические
тетради. Вып. И. СПб., 1997. С. 58—67.
Кушев 1998: Кушев В. В. Малоизвестный календарь индийского происхождения в
системе времяисчисления у паштунов // Страны и народы Востока. Вып. XXX:
Центральная Азия. Восточный Гиндукуш. СПб., 1998. С. 187—196.
Кушев 2000: Кушев В. В. Паштунский правитель и литератор XVII века о
политической этике // Восток: история и культура (Ю. А. Петросяну к 70-летию со дня
рождения). СПб., 2000. С. 199—233.
Лебедева 1971: Лебедева Г. Д. Афганский поэт XVII века Рахман Баба (биография и
литературное наследие): Автореф. дис.... канд. филол. наук. Л., 1971.
Лившиц 1957: Лившиц В. А. Поэт-воин// Литературный Таджикистан. Кн. 12. Ста-
линабад, 1957. С. 247—251.
Маннанов 1970i: Маннанов А. М. Суфийско-пантеистическое направление в
афганской литературе XVI—XVII вв. (по произведениям Баязида Ансари и Мирза-хана Анса-
ри): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1970.
Маннанов 1970г: Маннанов А. М. Вопросы пантеизма в творчестве поэта-рошанийца
Мирза-хана Ансари // Литература народов Востока. М., 1970. С. 3—12.
Маннанов 1981: Маннанов А. М. О диване Муллы Арзани // Pasto Quarterly. Vol. 5,
№ 1. Kabul, 1360/1981. С. 77—87.
Маннанов 1983-84: Маннанов А. Али Мухаммад Мухлис и его диван из Британского
Музея // Pasto Quarterly. Vol. 7, № 1—2. Kabul, 1362/1983-84. С. 76—91.
Маннанов 1994: Маннанов А. М. У истоков афганской классической литературы.
Ч. I. Баязид Ансари и его «Хайр ал-байан». Ташкент, 1994.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
323
Матвеева 1988: Матвеева А. Г. Диван Давлата Лаваная и формирование жанровой
системы в литературе пушту XVI—XVII вв.: Автореф. дис канд. филол. наук. М., 1988.
Пелевин 1997: Пелевин М. С. Жизнеописание «Светлого Учителя» по сочинениям
Ахунда Дарвезы // Петербургское Востоковедение. Вып. 9. СПб., 1997. С. 115—138.
Пелевин 2001: Пелевин М. С. Хушхал-хан Хаттак (1613—1689). Начало афганской
национальной поэзии. СПб., 2001.
Пиотровский 1991: Пиотровский М. Б. Коранические сказания. М, 1991.
Рейснер И. М. 1954: Рейснер И. М. Развитие феодализма и образование государства
у афганцев. М, 1954.
Рейснер М. Л. 1989: Рейснер М. Л. Эволюция классической газели на фарси (X—
XIV века). М, 1989.
Рейснер М. Л. 1996: Рейснер М. Л. Персидская касыда в домонгольский период (X—
начало XIII века); проблемы генезиса и эволюции: Автореф. дис. ... докт. филол. наук.
М., 1996.
Ромодин 1965: Массон В. М., Ромодин В. А. История Афганистана. Т. 2: Афганистан
в новое время. М, 1965.
Рустамов 1963: Рустамов Э. Р. Узбекская поэзия в первой половине XV века. М,
1963.
Симаков 1998: Симаков Г. Н. Соколиная охота и культ хищных птиц в Средней
Азии (ритуальный и практический аспекты). СПб., 1998.
Тримингэм 1989: ТримингэмДж. С. Суфийские ордены в исламе. М, 1989.
Успенская 2000: Успенская Е. Н. Раджпуты: рыцари средневековой Индии. СПб.,
2000.
Фильштинский 1985: Филъштинский И. М. История арабской литературы
(V—начало X века). М, 1985.
Фильштинский 1989: Фильштинский И. М. Поэзия как форма самовыражения ара-
бо-мусульманских мистиков// Суфизм в контексте мусульманской культуры. М, 1989.
С. 222—239.
Хушхаль 1983: Хушхалъ-хан Хаттак. Избранные стихотворения / Подстрочный
перевод В. Лившица, поэтический перевод М. Еремина. М, 1983.
Чалисова 1989: Чалисова Н. Ю. «Зикр Малика Динара» из «Тазкират ал-аулийа» Фа-
рид ад-дина Аттара// Суфизм в контексте мусульманской культуры. М, 1989. С. 139—
173.
На западноевропейских языках*.
'Abdu'l GhanT 1929; 1930: 'Abdu'l GhanJMuhammad. A history of Persian language and
literature at the Mughal Court, with a brief survey of the growth of Urdu language. P. I.
Allahabad, 1929; P. II, III. Allahabad, 1930.
Abu Zahra 1955: Muhammad Abu Zahra. Family law // Law in the Middle East/ Ed. by
M. Khadduri, H. J. Liebesney. Washington, 1955. P. 132—178.
Andreyev 1993: AndreyevS. B. Notes on the Ormuf people// Петербургское
Востоковедение. Вып. 4. СПб., 1993. С. 230—238.
Andreyev 1997: Andreyev S. Sufi illuminati: the Rawshani movement in Muslim
mysticism, society and politics. Oxford, 1997 (в рукописи).
Andreyev 1998: Andreyev S. UwaysT aspects in the doctrine of the Rawxanl movement //
Страны и народы Востока. Вып. XXX: Центральная Азия. Восточный Гиндукуш. СПб.,
1998. С. 137—148.
Arendonk 1999: van Arendonk С. Hatim al-Ta'T// Encyclopaedia of Islam. CD-ROM ed.,
v. 1.0. Leiden: Brill, 1999.
Atayee 1979: Atayee M. I. A dictionary of the terminology of Pashtun's tribal customary
law and usages. Kabul, 1979.
Babinger 1999: Babinger F. NesTml, Seyyid 'Imad al-DTn // Encyclopaedia of Islam.
CD-ROM ed., v. 1.0. Leiden: Brill, 1999.
324 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Baldick 1981: Baldick J. Medieval SiifT literature in Persian prose // History of Persian
literature from the beginning of the Islamic period to the present day / Ed. by G. Morrison.
Leiden, K61n, 1981. P. 83—109.
Bausani 1999: BausaniA Ghazal, in Persian literature// Encyclopaedia of Islam. CD-ROM
ed., v. 1.0. Leiden: Brill, 1999.
Beaurecueil 1964: S. de Laugier de Beaurecueil. Manuscrits d'Afghanistan. Le Caire,
1964.
Biddulph 1890: Biddulph С. E. Afghan poetry of the seventeenth century: being selections
from the poems of Khush Hal Khan Khatak. London, 1890.
Bruijn 1997: Bruijn J. T. P., de. Persian Sufi poetry. An introduction to the mystical use of
classical Persian poems. Richmond Surrey, 1997.
Caroe 1958: Caroe O. The Pathans 550 В. С — A. D. 1957. London, 1958.
Darmesteter 1888—1890: DarmesteterJ. Chants populaires des Afghans. Paris, 1888—
1890.
Dorn 1845: Dorn B. Ausziige aus afghanischen Schriftstellern, eine erlauternde Zugabe zu
den Grammatischen Bemerkungen iiber das Puschtu // Memoires de Г Academic imperiale des
sciences de Saint-P&ersbourg. Ser. VI. T. 5. SPb., [1845]. S. 581—643.
Dorn 1847: Dorn B. A chrestomathy of the Pushtu or Afghan language, to which is
subjoined a glossary in Afghan and English. SPb., 1847.
Ethe 1882: Ethe H. Ueber persische Tenzonen // Abhandlungen und VortrSge des V.
International Orientalisten Congresses zu Berlin. Berlin, 1882. S. 48—135.
Ethe 1896—1904: Ethe H. Neupersische Litteratur // Grundriss der iranischen Philologie /
Hrsg. von W. Geiger und E. Kuhn. Bd..2/Strassburg, 1894—1904. S. 212—368.
Enevoldsen 1977: Enevoldsen Jens. Selections from Rahman Baba. Herning, Denmark,
1977.
Fouchecour 1999: Fouchecour C.-H., de. Kaslda, in Persian // Encyclopaedia of Islam.
CD-ROM ed., v. 1.0. Leiden: Brill, 1999.
Gardet 1999: Gardet L. Fikr// Encyclopaedia of Islam. CD-ROM ed., v. 1.0. Leiden: Brill,
1999.
Jaffar 1936: Jaffar S. M. The Mughal empire: from Babar to Aurangzeb. Peshawar, 1936.
Janata, Hassas 1975: Janata A., Hassas R. Ghairatman — der gute Pashtune. Exkurs iiber
die Grundlagen des Pashtunwali // Afghanistan Journal. Graz, 1975. № 3. S. 83—97.
Heller 1999: Heller B. Namrud// Encyclopaedia of Islam. CD-ROM ed., v. 1.0. Leiden:
Brill, 1999.
Horovitz 1999: Horovitz i. Dabistan al-Madhahib// Encyclopaedia of Islam. CD-ROM
ed., v. 1.0. Leiden: Brill, 1999.
Mackenzie 1958: Mackenzie D. N. Pashto verse // Bulletin of School of Oriental and
African Studies. Vol. XXI/2. 1958. P. 319—333.
Mackenzie 1959: Mackenzie D. N A standard Pashto // Bulletin of School of Oriental and
African Studies. Vol. XXII, part 2. 1959. P. 231—235.
Mackenzie 1964: Mackenzie D. N. The Xayr ul-bayan // Indo-Iranica. Melanges presentes
a Georg Morgenstierne. Wiesbaden, 1964. P. 134—140.
Mackenzie 19651: BlumhardtJ. F., Mackenzie D. N. Catalogue of the Pashto manuscripts
in the libraries of the British Isles. London, 1965.
Mackenzie 1965г: Mackenzie D. N. Poems from the Diwan of Khushal Khan Khattak.
London, 1965.
Marek 1968: Marek J. Persian literature in India // Rypka J. History of Iranian literature.
Dordrecht, 1968. P. 713—734.
Mackenzie 1997: Mackenzie D. N The development of the Pashto script // Languages and
scripts of Central Asia / Ed. by Sh. Akiner and N. Sims-Williams. London, 1997.
Morgenstierne 1960: Morgenstierne G. Khushhal Khan — the national poet of the
Afghans // Journal of the Royal Central Asian Society. Vol. XLVII. 1960. P. 49—57.
Morgenstierne 1999: Morgenstierne G. Afghan // Encyclopaedia of Islam. CD-ROM ed.,
v. 1.0. Leiden: Brill, 1999.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
325
Morrison 1981: Morrison G Persian literature (Belles-Lettres) from the earliest times to
the time of Jam! // History of Persian literature from the beginning of the Islamic period to the
present day / Ed. by G. Morrison. Leiden; K6ln, 1981. P. 1—81.
Nagel 1999: Nagel T. Kisas al-anbiya' // Encyclopaedia of Islam. CD-ROM ed., v. 1.0.
Leiden: Brill, 1999.
Osmanov 1969: OsmanovA. The Khatak tribe// Afghanistan. XXII/1. Kabul, 1348/1969.
P. 42—46.
Pelevin 1994: Pelevin M. S. Pashto (Afghan) manuscripts from the State Library of
Berlin // Петербургское Востоковедение. Вып. 6. СПб., 1994. С. 338—357.
Pellat 1999: Pellat Ch. Kissa. 1. The semantic range of kissa in Arabic // Encyclopaedia of
Islam. CD-ROM ed., v. 1.0. Leiden: Brill, 1999.
Rahman 1970: Rahman M. L Persian literature during the time of Jahangir and Shah Je-
han. Baroda, 1970.
Raven 1999: Raven W. Slra // Encyclopaedia of Islam. CD-ROM ed., v. 1.0. Leiden: Brill,
1999.
Raverty 1860i: Raverty H. G A grammar of the Puk'hto, Pus'hto, or language of the
Afghans. London, 1860.
Raverty I86O2: Raverty H. G The Gulshan-i-Roh: being selections, prose and poetical, in
the Pus'hto, or Afghan language. London, 1860.
Raverty 1862: Raverty H. G. Selections from the poetry of the Afghans from the XVIth to
the XlXth century. London, 1862.
Rizvi 1978; 1983: JWzvi S. A. A. A history of Sufism in India. Vol. I. New Delhi, 1978;
Vol. II. New Delhi, 1983.
Rypka 1959: Rypka J. Iranische Literaturgeschichte. Leipzig, 1959.
Sarkar 1912; 1919; 1921: Sarkar J. History of Aurangzib. Vol.1., II. Calcutta, 1912;
Vol. III. Second edition. Calcutta, 1921; Vol. IV. Calcutta, 1919.
Sadan 1999: Sadan J. KursT// Encyclopaedia of Islam. CD-ROM ed., v. 1.0. Leiden: Brill,
1999.
Shafi 1999: Shafi Muhammed. BayazTd Ansari// Encyclopaedia of Islam. CD-ROM ed.,
v. 1.0. Leiden: Brill, 1999.
Schacht 1964: SchachtJ. An introduction to Islamic law. London, 1964.
Schimmel 1973: SchimmelA. Islamic literatures of India. Wiesbaden, 1973.
Schimmel 1975: SchimmelA. Mystical dimensions of Islam. The University of North
Carolina Press, Chapel Hill, 1975.
Schimmel 1980: SchimmelA. Islam in the Indian Subcontinent. Leiden; Koln, 1980.
Scott 1980: Scott A. F. Current literary terms. A concise dictionary of their origin and use.
London, 1980.
Skjaerv0 1989: Skjarv0 P. O. Pashto // Compendium Linguarum Iranicarum / Herausgege-
ben von R. Schmitt. Wiesbaden, 1989. P. 384—410.
Spain 1962: Spain J. W. The Way of the Pathans. Oxford, 1962.
Sperl, Shackle 1996: Sped St., Shackle Ch. Qasida poetry in Islamic Asia and Africa.
Vol. 1—2. Leiden, 1996.
Steul 1981: Steul W. Paschtunwali: ein Ehrenkodex und seine rechtliche Relevanz.
Wiesbaden, 1981.
Storey 1953: Storey С A. Persian literature. A bio-bibliographical survey. Vol. I, part 2.
London, 1953.
Tikku 1971: Tikku G. L Persian poetry in Kashmir 1339—1846. An introduction.
Berkeley; Los Angeles; London, 1971.
Ulfat 1959: Ulfat Gul-Paca. Notes sur la peinture de la vie quotidienne dans la poesie de
Khosh-hal Khatak// Akten des XXIV Intemationalen Orientalisten-Kongresses (Munchen,
1957). Wiesbaden, 1959. S. 493—496.
Wagner 1999: Wagner E. Munazara// Encyclopaedia of Islam. CD-ROM ed., v. 1.0.
Leiden; Brill, 1999.
Указатель собственных имен
Аба Бакр Кандахари [Aba Bakr QandaharT] 25, 26
'Аббас ['Abbas] 114
'Аббас П [' Abbas П] (сефевидский шах) 56
'Абд ал-'Азиз ['Abd al-'AzTz] 277
'Абд ал-Ахад Ахундзада ['Abd al-Ahad Axundzada] 21
'Абд ал-Вахид ['Abd al-WabicJ] 197 '
'Абд ал-Гани Касай ['Abd al-Ganl Kasay] 27, 28, 32
'Абд ал-Кадир ['Abd al-Qadir] (правнук Байазида Ансари) 795, 797
'Абд ал-Кадир Второй ['Abd al-Qadir SanT] 40
'Абд ал-Кадир Гилани ['Abd al-Qadir GTlanT] 40,168, 201
'Абд ал-Кадир Хаттак ['Abd al-Qadir Xatak] 52, 91, 277,302
'Абд ал-Карим ['Abd al-Karlm] 27, 29—35, 38, 40, 41, 43, 66, 76, 77, 81, 82, 84—86,
93,101—105,128—130,148,150,257—270, 299
'Абд ал-Карим Джили ['Abd al-Karlm Jill] 279
'Абд ар-Рахим ['Abd ar-RahIm]797
'Абд ар-Рахман Моманд ['Abd ar-Rahman Muhmand] 13,43,69,304
'Абд ас-Салам ['Abd as-Salam] 31,35,37
'Абд ал-Хаким Раззак Нандан ['Abd al-Haklm Razzaq Nandan] 775
'Абд ал-Халик Гидждувани ['Abd al-Xaiiq GijduwanT] 767
'Абд ал-Халим ['Abd al-Hallm] 31, 35,50, 76, 77,101—103,129,148, 258, 260—262,
264, 266—268, 299
'Абд ал-Хамид Моманд ['Abd al-Hamld Momand] 776,304
'Абдал ['Abdal] 284, 287
'Абдаллах ['Abdallah] (отец пророка Мухаммада) 48, 257
'Абдаллах ['Abdallah] (отец Байазида Ансари) 178
'Абдаллах ['Abdallah] (сын Ахунда Дарвезы) 31
'Абдаллах ибн 'Аббас ['Abdallah ibn 'Abbas] 85
'Абдаллах Ансари ['Abdallah AnsarT] 201, 247
'Абид-хан ['Abid Xan] 277
Абу 'Али ибн Сина [Abu 'All ibn Slna] 227
Абу Бакр (Сидцик) [AbO Bakr (Siddlq)] 108,115
Абу Джахл [AbO Jahl], см.: 'Амр ибн Хишам
Абу Лахаб [AbO Lahab] 109
Абу Нувас [AbO Nuwas] 275
Абу-л-Хайр [AbO Ч-Xayr] 277
Абу Ханифа [AbO HanTfa] 756,259
'АджабJ'Ajab] 277
Адин [AdTn] 52
Азад [Azad] 277
Указатели
327
Айаз [Ayaz] 127
'Аййуки ['AyyQql] 60
Аймал-хан Моманд [Aymal Xan Muhmand] 283, 284, 286
Акбар [Akbar] 40,51, 58,194
'Аккаша ['AkkaSa] 112
Акорай [Акогау] 51,62, 276
Александр Македонский 192
'Али ['А1Т] 19,108,115,198, 231
'Али Зайн ал-'Абидин ['AIT Zayn al-'Abidln] 293
'Али ал-Муттаки ['Allal-Muttaql] 203
'Али Мухаммед Мухлис Шинварай ['All Muhammad Muxlis Sinwaray] 14, 19, 25—
28,66, 73, 79, 97,168,169,183,189,190,196,198,199, 242, 251, 252,297, 298
'Али ан-Наки ['AIT an-Naql] 108
'Али Тирмизи, шейх Саййид ['AlITirmizI, sayx Sayyid] 33,41,129, 256,257
Аллахдад [Allahdad], см.: Рашид-хан
Аллахдад [Allahdad] (юсуфзайский вождь) 287,294
'Амид ад-дин Санами ['Amid ad-din SanamI] 131
Амир Хосров Дихлави [Amir Xusraw DihlawT] 180
'Амр ибн Хишам ['Атг Ibn Hisam] 112
Анвари [AnwarT] 755
Андреев С. [Andreyev S.] 26
Арзани Хвешкай [ArzanT Xweskay] 11,13, 24—29, 65—67, 71, 79, 96, 97, 101, 139,
140,143,168,183,189, 300
Арифи ['ArifT] 190
Асади TycH_[AsadTTQsT] 131,135
Асаф-хан [Asaf Xan] 56
Асгар Гази, мулла [Asgar GazI, mulla] 28,29
Асланов М. Г. 53, 274
'Атамир ['Atamlr] 277
'Атикаллах ['Atlqallah] 277
'Аттар, Фарид ад-дин ['Attar, Farld ad-din] 68,121,168,185,192, 201, 202, 207, 212,
217,256
Аурангзеб [Awrangzeb] 41,43,53,58,83, 93, 94,164,197,280,281, 286,296
Аухади, Рукн ад-дин [AwhadI, Rukn ad-din] 69
Афзал-хан Хаттак [Afzal Xan Xatak] 54,55,60—63,277
Ахаддад (Ахад) [Ahaddad (Ahad)], см.: Ахдад
Ахдад [Ahdad] 26, 70, 93,156,195—197
Ахмад [Ahmad], см.: Мухаммед
Ахмад Сирхинди [Ahmad Sirhindl] 114
Ахмад-и Джам [Ahmad-i Jam] 168
Ахмад-шах Дуррани [Ahmad Sah Durrani] 55
Ахтари [Axtarl] 284
Ахунд Ахмад [AxQnd Ahmad] 35, 37,148,264, 299
Ахунд Дарвеза [AxQnd Darweza] 6, И, 24, 27—33, 38, 40, 41, 50, 61, 62, 65, 100,
103—105, 153, 160, 182, 191, 193, 194, 212, 229, 236, 239, 241—243, 256—258,
269, 270, 279,284, 292—297, 299, 303
Ахунд Мийадад [AxQnd Miyadad] 52
Ашраф-хан Хаттак (Хиджри) [ASraf Xan Xatak (HijrT)] 75,272,277,278,280,283,302
Бабу Джан Лагмани [BabQ Jan LagmanT] 13, 37,41—43,46,47,49, 50, 66, 78, 81, 82,
85,86,89, 93,102,103,106,114,116—122,128—130,149,150,207,258,260,261,
263, 264,266,268, 269, 299,300
328 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Баз [Baz] 275, 277, 278
Байазид Ансари [Bayazld AnsarT] (см. также: Мийан Рошан, Пир Рошан, Светлый
Учитель) 11—13, 18, 20, 23—29, 50, 65, 72, 73, 80, 90, 93, 99, 113, 153, 154, 156,
158,162, 164,165,167,168,171,173,177,178,187,190—194,197, 201, 211, 216,
223, 224, 229—232, 236, 241—243, 245, 256, 257, 269, 278, 291, 296—298, 302,
303
Байазид Бистами [Bayazld BistamT] 168, 201
Баха' ад-дин Закарийа [Baha' ad-din Zakariya] 178
Баха' ад-дин Накшбанд [Baha' ad-din Naqsband] 161
Бахадур-хан [Bahadur Xan] 276,282
Бахар-хан [Bahar Xan] 164
Бахарзи, Исма'ил ибн Лутфаллах [BaxarzT, Isma'H ibn Lutfallah] 38
Бахлол Лоди [Bahlol LodT] 251
Бахрам [Bahram] 277, 283
Бахтанай *A. [Baxtanay 'Abdallah] 7
Бахтнак [Baxtnak] 277
Бенава 4Абд ар-Ра'уф [Benawa 4Abd ar-Ra'Qf] 37,274
Бернье Ф. [Bernier R] 157
Бертельс Е. Э. 68, 74, 200,204
Биби Аймана [BTbT Aymana] 178
Биби Алаи [BTbT AlayT] 196
Биби Шамсу [BTbT§amsO] 194
Биддалф К. [Biddulph С. Е.] 53
де Борекой С. [de Beaurecueil S.] 37
Бреш [Вге|] 21
Бу Бакар [ВО Вакаг] 291
ал-Бусири, Мухаммад Абу 'Абдаллах б. Са'ид [al-BusTn, Muhammad Abu *Abdallah
b. Sa'Td] 31, 293
Ванина Е. Ю. 223
Васил Рошани [Wasil RosanT] 8, 20—24, 66, 71, 73—75, 79, 80, 82—85, 93, 99, 100,
108, 109, 114, 123—128, 130, 131, 133—135, 137, 138, 143—145, 170—175, 177,
180—186, 189, 200, 202—205, 207—212, 214—218, 220—235, 237—240, 242—
246, 249—253, 255, 297—299
Ворожейкина З. Н. 83, 84
Гавхар [Gawhar] 277
ал-Газали, Абу Хамид [al-GazalT, Abu Hamid] 38,201, 258
Гийас ад-дин Балбан [Oiyas ad-dm Balban] 131
Гире Г. Ф. 53,64
Гул-Мухаммад Пешавари [Gul-Muhammad PesawarT] 18
Гулам Мухаммад [Gulam Muhammad] 116
Гулам Сарвар Лахори [uulam Sarwar LahorT] 28
Давлат Лоханай (Лаванай) [Dawlat Lx)hanay (Lawanay)] 8, 14, 17—20, 23—27, 31,
65—67, 71—74, 79, 80, 89, 90, 93, 96—100, 108—114, 124—128, 137, 142—148,
150, 154, 158, 163—170, 176—187, 189—211, 213—219, 222—225, 228—242,
244—256, 264, 265,297—301
Давлат-хан [Dawlat Xan] 194
Давлаталлах [Dawlatallah], см.: Давлат Лоханай
Дадав (Дадаллах) [Dadaw (Dadallah)], см.: Дадо Ноханай
Дадин [DadTn] 275, 278
Указатели
329
Дадо Ноханай (Дад-Мухаммад) [Dado Nohanay (Dad-Muhammad)] 163
Дара Шикох [Dara SikQh] 40,164,197,281
Дарвиш Дадо [DarwTS Dado] 26, 27
Дарйа-хан Афридай [Darya Xan AfrTday] 283, 286
Дармстетер Дж. [Darmesteter J.] 12, 64
Джалал ад-дин [Jalal ad-din] (сын Байазида Ансари) 26,154,194,195,197, 230,296
Джамал [Jamal] 277
Джами, 'Абд ар-Рахман [JamT, 'Abd ar-Rahman] 52, 91,168,185, 201,202,227
Джамил-бег [Jamil-beg] 52, 277, 278
Джан Мухаммад [Jan Muhammad] 28, 37,113
Джат [Jat], см.: Йахйа-хан (сын Хушхал-хана)
Джахангир [JahangTr] 40,154,195, 258
Джунайб [Junayb] 112
Джунайд Багдади [Junayd Bagdad!] 168,201, 258
Дорн Б. A. [Dorn В.] 12,14, 32,43
Дост [Dost] 14,17, 68,132,142,155
Дост Мухаммад [Dost Muhammad] 294
Зайд [Zayd] 48
Занги Папини, мулла [ZangT PapTnT, mulla] 29
Зафар [Zafar] 277
Зино [ZTno] 275, 278
Зу'-н-Нун [ZQ'-n-NGn] 168, 201
Зу'-л-факар 'Али [Zu'-l-faqar 'All] 20
Зулайха [Zulayxa] 154
Ибн ал-'Араби, Мухйи ад-дин Мухаммад [Ibn al-'ArabT, MuhyT ad-din Muhammad]
68,168, 201,212, 219, 220
Ибн ал-Джаузи, 'Абд ар-Рахман [Ibn al-JawzI, 'Abd ar-Rahman] 262
Ибн Ну'ман [Ibn Nu'man] 112
Ибн ал-Фарид [Ibn al-Fari£] 75
Ибрахим ибн Адхам [Ibrahim ibn Adham] 177
Искандар [Iskandar] (друг Васила Рошани) 173
Йазид [YazTd] 108, 293—295
Йар-хан [Yar Xan] 73,169
Йахйа-хан [Yahya Xan] (дед Хушхал-хана) 276
Йахйа-хан [Yahya Xan] (сын Хушхал-хана) 275, 277,278,280
Йусуф [Yusuf] (родоначальник юсуфзаев) 279
Каджу-хан [KajQ Xan] 51
Кадирдад [Qadirdad] 27
Казем-бек М. 74
Казим-хан Шайда [Kazim Xan Sayda] 18
Кака Сахиб [Kaka Sahib], см.: Рахмкар
Камал [Kamal] (сын Хушхал-хана) 277
Камал ад-дин [Kamal ad-dTn] 194,195
Камал Хатун [Kamal Xatun] 194
Камал-хан [Kamal-xan] 174
Камил Д. М. [Kamil Dost Muhammad Xan] 7,54, 60, 61
Каримдад [KarTmdad] (сын Ахунда Дарвезы), см.: *Абд ал-Карим
Каримдад [KarTmdad] (внук Байазида Ансари) 195—797
330 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Каримдад Бангаш [Karlmdad BangaS] 27,297
Касим [Qasim] 291
Катмир [Qatmlr] 277
Качу [Кабй] 287
Каши [Qa§T] 182
Кашифи, Хусайн Ва'из [KaSift, Husayn Wa'iz] 59,123
ал-Киса'и, Мухаммад ибн 'Абдаллах [al-Kisa'T, Muhammad ibn 'Abdallah] 117
ал-Кудури [al-Qudurl] 293
Кушев В. В. 37,38,44,53,105
Лившиц В. А. 53
Мавлана Закарийа [Mawlana Zakariya] 20,223,224,245
Магриби [MagribI] 168
Маккензи Д. Н. [Mackenzie D. N.] 53,140
Мало-хан [Malo Xan] 278
Мандар [Mandar] 279
Манкай [Mankay] 294
Маннанов А. М. 7,12,29, 71
Мас'уд-и Са'д-и Салман [Mas'ud-i Sa'd-i Salman] 272
Матвеева А. Г. 18,19, 72,80,89,201
Махабат-хан [Mahabat Xan] 195,283
Махмуд Газнави [Mahmud GaznawT] 127,233, 251
Мийа Шараф [Miya Saraf] 147
Мийа-хан [Miya Xan] 294
Мийан Hyp (Hyp Мухаммад) [Miyan Nur (Nur Muhammad)] 62,284,292,294—296
Мийан Рошан [Miyan Rosan] (см. также: Байазид Ансари) 80,162,192,198, 231
Мийандад [Miyandad] 196
Мир Хусайн Харави [Mir Husayn HarawT] 37, 38, 40, 41, 50, 76, 77, 103—105, 109,
ИЗ, 128—130,149, 257—260, 264—270,299,300
Мир-хан [Mir Xan] (рошанитский поэт) 20,27,114
Мир-хан [Mir Xan] (ученик *Абд ал-Карима) 31—33
Мирбаз [MIrbaz] 277
Мирза-хан Ансари [MIrza Xan AnsarT] 8,12—14,17—19,25—27,43,66—74, 76,84,
93, 96—99, 108, 109, 113—115', 123—128, 130—133,135—137, 141—145, 153—
162, 164, 165, 167, 168, 173, 176—179, 181, 182, 184—190, 192, 193, 195—198,
200—202,204—255, 297—299
Мисра-хан Мандар [Misra Xan Mandar] 287,288
Моргенстиерне Г. [Morgenstierne G.] 53
Мубад-шах.(Мубад Кайхосров) [Mubad Sah (Mubad Kayxusraw)] 20,173, 211
Му*ин ад-дин Чишти [Mu*In ad-din CistI] 33
Мукаррам-хан [Mukarram Xan] 283
Мулла 'Али [Mulla AIT] 25
Мулла 'Ата' аллах [Mulla 'Ata'allah] 21
Мулла Ахтар Кандахари [Mulla Axtar Kandahar!] 21
Мулла Бисмиллах [Mulla Bismillah] 14
Мулла Джан-Мухаммад [Mulla Jan Muhammad] 14
Мустафа [Mustafa] 104
Мустафа Мухаммад [Mustafa Muhammad] 31,32,34,37,50
Мухаммад [Muhammad] (пророк) 25, 28, 40, 47, 48, 57, 72, 78, 81, 90, 92, 96, 97,
101—115,117,150,190—192,198,204,207,216,218,225,234,239,250,257,300
Мухаммад 'Абд ал-Халим [Muhammad 'Abd al-Hallm], см.: 'Абд ал-Халим
Указатели
331
Мухаммад Амин-хан [Muhammad Amln Xan] 286
Мухаммад Джавад ат-Таки [Muhammad JawSd at-Taql] 108
Мухаммад Заман Садик [Muhammad Zaman Sadiq] 197
Мухаммад Наваз Хаттак [Muhammad Nawaz Xatak] 25
Мухаммади Сахиб-зада [Muhammad! Sahib-zada] 18
Мухлис, см.: 'Али Мухаммад Мухлис Шинварай
Наджибаллах [Najlballah] 277
Наджмаллах [Najmallah] 277
Накир [Naqlr] 277
ан-Насафи, Абу-л-Баракат [an-NasafT, Abu-1-Barakat] 38,293
Насими, 'Имад ад-дин [Naslml, 'Imad al-DIn] 258, 265
Насир ад-дин Махмуд [Nasir ad-din Mahmud] 131
Насир Хосров [Nasir-i Xusraw] 135
Низам [Nizam] 277
Низам ад-дин Ахмад Хусайни [Nizam ad-din Ahmad HusaynT] 258
Низами [NizamT] 91,168,201
Николсон Р. A. [Nicholson R. A.] 75
Ну'ман [Nu'man], см.: Абу Ханифа
Hyp ад-дин [NOr ad-din] 153,178,194,198
Нусрат [Nusrat] 277
Оракзай Рошани [Orakzay RosanI] 27
Пайанда [Payanda] 212, 239
Пайанда Мухаммад [Payanda Muhammad] (сын Ахунда Дарвезы) 31
Парешан Хаттак [PareSan Xatak] 54
Пир Дангар [PTr Dangar] 291
Пир Мансур[РТг Mansur] 291
Пир Рошан [PTr Rosin] (см. также: Байазид Ансари) 27, 158, 162, 185, 191—193,
195,197,244,291,292
Пирдад [PTrdad] 195,197
Пурдил-хан Хаттак [Purdil Xan Xatak] 54
Раверти X. Дж. [Raverty H. G.] 7,12,14,18,32,41,43,52,53,153,154
Рафи' Хабибаллах [Raft* HabTballah] 7,21,25,52,54
Рахимдад [RahTmdad] 28, 37,105,106
Рахман Баба [Rahman Baba], см.: 'Абд ар-Рахман Моманд
Рахмандад [Rahmandad] 197
Рахмкар (Кака Сахиб) [Rahmkar (Kaka Sahib)] 52, 278
Рашад, 'Абд аш-Шакур [Ra§ad, 'Abd as-SakQr] 7,18,20,21,54, 71, 74,145—147,163
Рашид-хан [RaSTd Xan] 11, 21,25,26, 73, 99,154,158,164,168,171,195—198
Рейснер М. Л. 67,135
Риштин С. [RisiTn Sadlqallah] 29,147
Руми, Джалал ад-дин [ROmT, Jalal ad-din ROmT] 26,129,131,145,168,185, 201, 207,
217, 222
Рухи, Мухаммад Садик [RQhl, Muhammad Sadiq] 54
Са'адат-хан [Sa'adat Xan] 277
Са'ди Ширази [Sa'dT SlrazT] 35,42,46,52, 76, 77,122,131,148,168,186,201,258
Садр-хан Хаттак [Sadr Xan Xatak] 91,116, 275,278,287,302
Са'ид Фаргани [Sa'Id FarganI] 168
332 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Саййид Канбар 'Али [Sayyid Qanbar 'AIT] 33
Саййид Муртаза [Sayyid Murtaza] 113
Саййид Хусайн [Sayyid Husayn] 28,37
ас-Са'лаби, Абу Исхак Ахмад [as-Sa'labT, Abu Ishaq Ahmad] 116
Сана'и [Sana'T] 207, 256
ас-Санаубари [as-Sanawban] 131
Сангар [Sangar] 294
Сари ас-Сакати [Sari as-Saqatl] 168
Сармаст [Sarmast] 291
Сарфараз-хан 'Укаб Хаттак [Sarfaraz Xan 'Uqab Xatak] 54, 60
Сахибдад [Sahibdad] 197
Светлый Учитель (см. также: Байазид Ансари) 13, 26, 27, 29,113,168,173, 192, 229,
230, 232, 239, 256
Сикандар-хан Хаттак [Sikandar Xan Xatak] 91, 277, 302
Сократ 27
ас-Суйути, Джалал ад-дин [as-Suyutl, Jalal ad-dTn] 203
Сухраварди, Шихаб ад-дин [SuhrawardT, Sihab ad-dTn] 193
Тадж Биби [Taj BTbT] 277
Таквим ал-Хакк [TaqwTm al-Haqq] 35, 81,194
Тали [TalT] 284,287
Тэжай X. [Тэ|ау HabTballah] 7
'Убайдаллах ибн Мас'уд ['Ubaydallah ibn Mas'Qd] 38
Улфат Гул Пача [Ulfat Gul Раса] 7,54,83
'Умар ['Umar] (халиф) 108,115,177
'Умар (сын Байазида Ансари), см.: Шайх 'Умар
'Умар ['Umar] (отец Мандара) 279
'Умар Цамкани ['Umar CamkanT] 18
'Умар Шалмани, мулла ['Umar SalmanT, mulla], см.: 'Умар-хан
'Умар-хан ['Umar-xan] (ученик Ахунда Дарвезы) 35, 261, 299
Урмар [Wurmar] 190
'Усман ['Usman] (халиф) 108; 115
'Усман ['Usman] (товарищ Хушхал-хана) 275, 278
Фазил Мухаммад [Fazil Muhammad] 32
Файаз [Fayaz] 116
Файзи, Абу-л-Файз [FayzT, АЬй-1-Fayz] 58
Фалйа [Falya] 277
ал-Фаргани, Сирадж ад-дин 'Али б! 'Усман ал-Авши [al-FarganT, Siraj ad-dTn 'AIT
b. 'Usman al-Aw§T] 31
Фатима [Fatima] 108
Фирдоуси [FirdawsT] 185, 202,253
Фируз-хан [FTruz Xan] 276
Хабиб ал-'Аджами [HabTb al-'AjamT] 168
Хабиби, 'Абд ал-Хайй [HabTbT 'Abd al-Hayy] 18
Хаджи Гадай Сарбанай [HajT Gaday Sarbanay] 27
Хади-хан [SadTXan] 275,'278
Хадидад [HadTdad] 197
Хадим К. [Xadim Qiyarn ad-dTn] 7,18, 25
Хайам, 'Умар [Xayyam, 'Umar] 261
Указатели
333
Хайр ад-дин [Хауг ad-dTn] 755,194
Хакани [Xaqanl] 168
Хаким-хан [Hakim Xan] 197
Халид (Хало*, Хали) [Xalid (Xalo, XalT)] 277,278
Халил Хамеш [XalTl Нате§] 7, 72,14, 25,59,153,154
Халима [HalTma] 277
Халладж, Хусайн ибн Мансур [Hallaj, Husayn ibn Mansur] 130, 168, 201, 202, 207,
217,239
Хало-хан [Xalo Xan] 797
Хамза [Hamza] 114
Хамза-хан [Hamza Xan] (шурин Хушхал-хана) 284, 287
Хамза-хан Akozay [Hamza Xan Akozay] 153
Хамид ад-дин Балхи [HamTd ad-dTn BalxT] 757
Хасан [Hasan] 114,293
Хасан ал-Басри [Hasan al-Basrl] 168,177,201
Хата [Hata] 275, 278
Хафиз'ЩаАг] 61,168,184,186,201
Хваджа Мухаммад [Xwaja Muhammad] 26, 297
Хевадмал 3. [Hewadmal Zalmay] 75, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 37, 38, 41, 43, 44,
54, 57, 60,61, 73, 74, 77,114,154,165,171,173,194,231, 274, 277
Хинду-бег [HindO-beg] 280
Хосров I Ануширван [Xusraw I AnQsTrwan] 722
Худайдад-хан [Xudaydad Xan] 797
Худжвири, 'Али ибн 'Усман [HujvTrT, 'AIT ibn 'Usman] 233
Хумайун [Humayun] 33
Хусайн [Husayn] 108,114, 293
Хусайн, см.: Мир Хусайн Харави
Хушхал-хан Хаттак [XusMl Xan Xatak] 6—8, 10, 20, 30, 32, 42, 50—63, 66, 67, 79,
82—85, 90, 91, 93—95, 105—112, 123, 125, 126, 135—141, 148, 150—152, 163,
171,181,187—189, 223, 227,249,254,255, 260, 262,271—296,302,303
Шайх Мали [Sayx Mall] 57,289
Шайх 'Умар [Sayx 'Umar] 755,193—195,230
Шамс ад-дин [Sams ad-din] (автор «Рисала-йи мирас») 43
Шамс ад-дин Кадири [Sams ad-dTn QadirT] 258
Шамс ад-дин Табризи [Sams ad-dTn TabrTzT] 168,185, 201, 202
Шамшер [Samser] 277
Шараф ад-дин Бухари [Saraf ad-dTn BuxarT] 59
Шархбун [SarxbOn] 190
Шах 'Иса [Sah 'Isa] 297
Шах Шуджа' [Sah Suja'] 297
Шахбаз-хан [Sahbaz Xan] 52, 276, 278
Шахджахан [Sahjahan] 40,53,56,61, 94,139,154,158,164, 258, 271, 281, 297
Шахзадгула [Sahzadgula] 26
Шахи-бег [SahT-beg] 280
Шахнаваз-хан [Sahnawaz Xan] 20
Шер Мухаммад [Ser Muhammad] 37,105
Шер-шах Сури [Ser Sah SOrl] 164
Шибли [SiblT] 168
Шиммель A. [Schimmel A.] 65, 95,145,178,191, 203, 228
Указатель географических названий
Агра [Agra] 77, 25, 33, 34,164,173,196,
271, 297
Аджмер [Ajmer] 33,155
Акора [Акога], см.: Сарай-(Акора)
Алигарх ['AlTgarh] 75
Арафат ['Arafat]" 750,164,225
Атток [Atak] 777, 274,276,283, 285,286,
302
Афганистан [Afganistan] 5, 7,18, 31, 37,
54,55, 64,163,243, 273
Багдад [Bagdad] 262
Бадахшан [BadaxSan] 56,286
Баджаур [Bajawur] 32, 283,284
Бадр [Badr] 772
Балар [Balar] 53,274
Балх [Balx] 56,145,164
Банну [ВаппО] 765
Бара-Нуфул [Bara-Nuful] 755
Бармавул [Barmawul] 284
Белая Гора, см.: Спингар
Бенгалия [Bangal] 25,26,113,163
Берлин 18,193
Бихар 765,164
Булуристан [Buluristan] 286
Бунер [ВОпег] 32,33
Бурханпур [BurhanpQr] 158, 203
Бухара [Вихага] 67
Вазиристан [WazTristan] 765,190
Великобритания 75
Газни [GaznT] 18,195
Ганг [Gang] 77,33,158,173,196,297
Гарбин [GarbTn] 275
Гархи-Капура [GarhT-Kapura] 284
Герат [Harat] 37,190
Гиндукуш [HindOkus] 33,49,172,286
Гомаль [Gomal] 765
Гудар [Gudar] 274
Гуджарат [Gujarat] 158,159,233
Гумбат [Gunbat] 94
Давлатабад [Dawlatabad] 154,196
Данг-Данг [Dang-Dang] 274
Декан [Dakan] 70, 93,154,158,159,168,
173,196,198,297,298
Дели [DihlT] 54,56,67, 84, 271,279,281
ДжагдалаК [Jagdalak] 286
Джелалабад [Jalalabad] 164
Дода [Doda] 94
Замзам [Zamzam] 775, 233
Европа 12,53,54
Египет 118,119,191, 268
Иерусалим (Байт ал-Мукаддас [Bayt
al-Muqaddas]) 164
Израиль 118
Инд [STnd] 53, 153, 163, 171, 273, 275,
286,290
Индия [Hindustan] 77—75, 20, 24—27,
33, 40, 54—56, 58, 59, 64, 67, 73, 94,
114,131,154—158,163,164,168,170,
171,173,179,180,183,193,195—198,
201—203,212,234,236,240,246,250,
251, 256,257,286,297,298,300
Индо-Пакистанский субконтинент 104,
201
Иран [Iran] 19, 111
Исламабад [Islamabad] 54
Кабул [Kabul] 75, 18, 37, 43, 54, 60, 61,
195,277,286
Кабульская провинция 56,273,283
Калапанэй [КШарапэу] 272,274
Калькутта [Kalkatta] 75, 25
Указатели
335
Кандагар [Qandahar] 21,56, 271
Каннаудж [Kannawj] 158
Каривам [KarTwam] 755
Катхиявар 233
Кашгар [Qasgar] 286
Кашмир [Kasmlr] 158, 286, 287
Кербела [Karbala] 108, 293
Кохат [Kohat] 171
Кунар [Kunar] (река) 273
Лавагар [Lawagar] 195
Лангар-Кот [Langar-Kot] 284
Лангар-Хаттак [Langar-Xatak] 294
Ландай (Кабул) [Landay (Kabul)] 61,171,
273, 274, 276,279, 284, 286,302
Лахор [Lahor] 14,54,154,173, 258
Лейден 67
Логар [Logar] 190
Лондон 27,43
Майра [Мауга] 272, 274, 275
Малая Азия [Rum] 64,154,155
Малгин [Malgln] 273
Марват [Marwat] 53
Мардан [Mardan] 153, 274, 276,284
Медина [Madlna] 107,114,164
Мединипур [Madlnlpur] 26
Мекка [Makka] 107,114,164,232,233,235
Мултан [Multan] 32,40
Нангархар [Nangarhar] 164
Наушахр [NawSahr] 274, 275, 283,302
Нилаб [ЫПаЬ] 272, 274, 275
Нуристан [Nuristan] 41
Пакистан [Pakistan] 7,31,54,55,153,163
Пакли [Pakhll] 290
Паштунистан [Pastunistan] 5, 6, 11, 12,
18,24,30,32,33,41,42,53,154—156,
164, 170, 173, 183, 193, 197, 257, 276,
291—293,296,297, 303
Пенджаб [Panjab] 24,157,158,163,193,
286
Пешавар [Pesawar] 13, 25, 27, 32,41,54,
59—61, 76, 153, 154, 197, 272, 274,
276, 285, 296
Пешаварская равнина 153, 274, 286
Раджпутана 154,157
Рампур [Rampur] 13,18,21,43,47,55
Рантамбхор [Rantambhor] 58, 59, 85, 271,
275, 279—281
Рашидабад [RaSIdabad] 12,27,164, 297
Россия 53
Сама [Sama] 279, 286
Самарканд [Samarqand] 155
Самугарх [Samugarh] 164,197
Сангао [Sangaw] 276
Санкт-Петербург 13,43
Сарадин [Saradln] 275
Сарай-(Акора) [Saray-(Akora)] 55, 61,
272—274, 276, 278,302
Сват [Swat] (область) 6, 32, 59, 61, 62,
94,272,274,279,282—284,286—297,
303
Сват [Swat] (река) 273,286, 295,297
Сикри [SlkrT] 276
Синай [Tur] 107, 237
Спин Кавир [Spin Kawlr] 274
Спингар [Splngar] 164,172
Сумнат [Sumnat] 233
Табриз [Tabriz] 186
Ташкент 21
Тери [Теп] 273
Тират [TYRAT] 32
Тирах [TTrah] 26, 61, 94, 154, 155, 171,
172,195,283,288
Торгар [Torgar] 286
Туркестан 286
Уттар-Прадеш 11,157,163,164
У чч 40
Фаррухабад [Farruxabad] //
Фарс [Fars] 111
Хайбер [Xaybar] 32, 42,155, 275, 281—
283, 285
Хайберский проход, см.: Хайбер
Хайдарабад [Haydarabad] 13,21,193
Xanax [Xapa§] 283,286
Хаштнагар [HaStnagar] 755,194
Хиджаз [Hijaz] 233, 238, 266
Хингал [Hingal] 274
Хиндустан, см.: Индия
Хотан [Xutan] 137
Цейлон (Сарандиб) 118
Чарсадда [Carsada] 274
Читрал [Citral] 286
Шамсабад [Samsabad] 12, 25,158
Указатель названий сочинений
Адам-хан и Дурханэй [Adam Xan wa Бигхапэу] 91
'Ара'ис ал-маджалис фи кисас ал-анбийа' ['Ara'is al-majalis ft qisas al-anbiyar] 116
4Аруз в пашто [Da pasto 'ariiz] 147
Ахлак-и Мухсини [Axlaq-i MuhsinT] 59
Ахлак-нама [Axlaq-nama] 59
Бад' ал-амали [Bad' al-amalT] 31
Баз-нама [Baz-nama] 59,61, 91
Байанат-и афгани [Bayanat-i afganl] 21, 28,32
Бустан [BOstan] 258
Вафат-нама (Книга кончины) [Wafat-nama] 37,105
Гашиш и вино [Bang wa Bada] 131
Гуй ва Чавган (Мяч и Клюшка) [Guy wa Cawgan] 190
Гулистан [Gulistan] 46,52,122,186,258
Дабистан-и мазахиб [Dabistan-i mazahib] 20,21,154,173,178,211,223,231,245,254
Дастар-нама [Dastar-nama] 58—60,249,272, 280
Дафтар [Daftar] 289
Джам-и Джам [Jam-i Jam] 69
Джами* ас-сагир [al-Jami* as-saglr] 203
Джумджума-нама [Jumjuma-nama] 121
Диван Бабу Джана [Diwan-i BabO Jan], см.: Книга Бабу Джана
Дилай и Шахэй [Dilay wa $апэу], см.: Кисса дэ Дили ау Шахэй
Дэ 'илм рисала [Da *ilm risala] 232
Зерцало взыскующих Истину, см.: Мир'ат ал-мухаккикин
Зерцало познавших, см.: Мир'ат ал-'арифин
История Афганистана 53
Ихйа' ал-*улум ад-дин [Ihya' al-'ulumad-dln] 258
Йусуф и Зулайха [YOsuf wa Zulayxa] 52, 91
Канз ад-дака'ик [Kanz ad-daqa'iq] 38, 293
Канз ал-*уммал (Сокровище творящих) [Kanz al-'ummal] 203
Карамат ал-авлийа' [Karamat al-awliya'] 258
Карамат ал-асфийа' [Karamat al-asfiya'] 258
Указатели
337
Касидат ал-бурда [al-QasTdat al-burda] 31
Кашф ал-махджуб [Kasf al-mahjQb] 233
Кимйа-йи са'адат [KTmya-yi sa'adat] 38
Кисса-йи Бахрам ва Гулацдам [Qissa-yi Bahrain wa Gulandam] 116
Кисса дэ Дили ay Шахэй [Qissa da Dill aw §ahay] 91,116
Кисса-йи Сайф ал-мулук [Qissa-yi Sayf aJ-muluk] 116
Кисса-йи Шах ва Гада [Qissa-yi San Gada] 116
Клинок и Перо [Samser wa Qalam] 131
Книга Бабу Джана [Kitab-i Babu Jan] 8, 42—44, 46, 47, 49, 50, 76, 78, 82, 93, 102,
106, 111, 114,116,117,122,128,149,150,258, 260,261,263,267, 299
Книга разлуки, см.: Фирак-нама
Куллийат Бабу Джана [Kulliyat-i Babu Jan], см.: Книга Бабу Джана
Лайла и Маджнун [Layla wa Majnun] 91
Ма'асир ал-умара' [Ma'asir al-umara'] 20
Маджма' ал-аш'ар [Majma' al-a§'ar] 18, 76
Максуд ал-му'минин [MaqsOd al-mu'minln] 230
Мантик ат-тайр [Mantiq at-tayr] 168,192
Махабхарата 58
Махзан ал-ислам [Maxzan al-islam] 8, И, 28—32,34,35,37,38,41,52,62, 76,100,
101,104,105,148, 229, 243,258, 261,264,284, 292—295,299
Ми'радж-нама (Книга восхождения) [Mi'raj-nama] 105
Мир'ат ал-'арифин [Mir'at al-'arifin] 26
Мир'ат ал-мухаккикин [Mir'at al-muhaqqiqln] 25
Мухтасар ал-викайат [Muxtasar al-wiqayat] 38
Мухтасар ал-Кудури [Muxtasar al-Qudurl] 293
Нал и Даман [Nal wa Daman] 58
Нам-и хакк [Nam-i haqq] 59
Нафи' ал-муслимин [Natl* al-muslimln] 8,37,40
Hyp ал-'улум [Nur al-'ulum] 74
Нур-нама (Книга света) [Nur-nama] 105, ИЗ
Ночь и День [Sab wa Ruz] 135
Описание рукописей на языке пашто Института востоковедения 37,38,44
Пушту-русский словарь 274,
Пэта хазана [Pata xazana] 5
Рисала-йи мирас [Risala-yi minis] 43
Рисала-йи шамсиййа [Risala-yi Samsiyya] 258,270
Рукописи Афганистана 13
Сват-нама [Swat-nama] 8,10,59,61,62,91,95,283,291—294,296,303
Свеча и Мотылек [Sam' aw Patang] 14,17, 70, 93,131,141
Сират ат-таухид [Sirat at-tawhld] 190,194
Сирийская молитва [Du'a' suryanl] 13,43,85,86
Таваллуд-нама (Книга рождения) [Tawallud-nama] 105
Тазкират ал-авлийа' [Tazkirat al-awliya'] 5
Тарих-и мурасса' [TarTx-i murassa'] 54,61,62, 277,283,284
338 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
Тибб-нама [Tibb-nama] 59
Толкование Ахунда Хусайна [5arh-i Axund Husayn] 37
Тыква и Чинара [Kadu wa Cinar] 135
У панишады 40
Фазл-нама [Fa2d-nama] 59, 90
Факр-нама [Faqr-nama] 43
Фал-нама [Fal-nama] 59, 90
Фирак-нама [Firaq-nama] 8,10,58-451, 79, 85, 90, 95,151,272—274, 276,278—282,
296,303
Хазинат ал-асфийа' [Xazlnat al-asfiya'] 28
Хайр ал-байан [Xayr al-bayan] 24, 29,113,187,193, 218,230,243, 292
Хал-нама [Hal-nama] 20, 25—27, 65,153,154,162,168,171,178,190,193,194,198,
230,240,242,298
Хуласат ал-ислам [Xulasat al-islam] 38
Хушхал-хан Хаттак [XuShal Xan Xatak] 54
Чахар рама [Cahar rama] 24
Чаша Джамшида, см.: Джам-и Джам
Шама'ил-нама [§ama'il-nama] 37
Указатель названий паштунских племен,
подразделений племен, родов
адамхели [adamxel] 94
акозаи [akozT] 153,154
акорхели [akorxel] 51
афридии [afrldl] 42, 282, 283, 286, 288,
291
афридийский 94
баизаи [baylzl] 97, 276, 278,287
бангаши [banga|] 94, 170,171, 284, 286,
298
бангашский 777
вардаки [wardak] 163
гильзаи [giljT] 286
горйахели [goryaxel] 297
даудзаи [da'udzl] 297
йусуф [yusuf] 279
лоди [ЫТ] 163,194
лоханы (лаваны) [lohanl (lawanl)] 163,
164
мандар [mandar] 279
моманды [muhmand] 275,282,291
момандский 275
мохмандзаи [muhmandzl] 52,153,194
мухаммадзаи [muhammadzl], см.:
мохмандзаи
оракзаи [orakzl/ wrakzT] 26,284,286,291
сарбани [sarbanl] 190
сафи [safi] 42, 282, 286
суры [sun] 163
халилы [xalU] 297
хасанхели [hasanxel] 163
хатгаки [xatak] 51, 52, 94, 171, 274—276,
279, 283—285,291, 292, 298,303
хаттакский 6, 50—53, 55, 60, 62, 171,
195,273—279,281,283,289,291,294,
295,302,304
хваджузаи [xwajuzT] 287
цамкани [camkanl] 297
шинвары [SinwarT] 26,42, 282, 286
шитаки [sltak] 297
юсуфзаи [yOsufzI] 33, 41,42,61,91,153,
191,193,272,276, 279,283,284,287—
297
юсуфзайский 32,33,51,62, 91,276,278,
279,281,283,284,286,287,289—292,
294—296,303
Указатель имен мифологических
и литературных персонажей
Адам [Adam] 46, 48, 49, 70, 78, 81, 117,
118,121,134,143,207—209,219,221,
246, 247
'Азазил ['Azazil] 118, 206
Азар [Azar] 208
'Азра['Агга] ИЗ, 127
'Азра'ил ['Azra'il] 118, 205, 206, 248,
261, 262
Антихрист 121
Ануширван [AnuSIrwan] 48, 78,117,122,
156
Бахрам [Bahram] 156, 251
Билкис [Bilqls] 127
Бурак [Buraq] 107, 111, 124,129,239,263
BaMHK[Wamiq] 113,127
Даджжал [Dajjal] 121, 205, 294
Дара [Dara] 156
Да'уц [Da'ud] 46,49, 78,117,119
Джабра'ил [Jabra'il] 111, 120, 121, 203,
206, 227
Джалут (Голиаф) [Jalut] 119
Джамшид [JamSTd] 156, 230, 251
Джирджис [JirjTs] 48
Ева, см.: Хавва'
Закарийа [Zakariya] 207
Зулайха [Zulayxa] 43,127
Иблис [IblTs] (см. также: Шайтан) 70,118,
206, 219, 267
Ибрахим [Ibrahim] 49, 78,107,117,118,
206—209
Идрис [Idrls] 48,207
Илйас [Ilyas] 207
'Иса [Ъа] 42, 49,50, 78,117,120—122,
135, 226
Искандар [Iskandar] 46,48,120,126,156,
192, 251
Исма'ил [Ismril] 107,118
Исрафил [Israfu] 99, 205, 206
Исхак [Ishaq] 208
Йаджудж [Yajuj] 126,192
Йа4куб [Ya'qub] 90, 207, 208
Йунус [Yunus] 208
Йусуф [Yusuf] 43,127,207,208,224,268
Карун [Qarun] 46,48,119, 208, 260
Кер-оглы 120
Лайла [Layla] 91,113,127,130
Лат [Lat] 106
Луг [Щ] 118,207
Маджнун [Majnun] 91,113,127,130
Маджудж [Majuj] 126,192
Манат [Manat] 106
Марйам [Магуат] 49, 50, 78,117,120—
122,134,207, 226
Махди [Mahdl] 205
Мика'ил [М1каЧ1] 206
Мункар [Munkar] 176, 204—206, 211,
263
Муса [Musa] 48—50, 78, 89, 107, 117—
119, 207, 209, 237
Накир [Naklr] 176, 204—206, 211, 263
Намруд [Namrud] 46,48,139, 206, 208
Указатели
341
Нух [NOh] 48,49, 78,107,117,118,207,
208,259, 261
Рама [Ram] 156
Рустам [Rustam] 253
Салих [Salih] 48,207
Сан'ан [San'an] 127
Сара [Sara] 206,208
Сатана (см. также: Шайтан) 181
Сита [STta] 156
Сулайман [Sulayman] 46, 48, 49, 78, 79,
117,119,120,127,208
Талут [Talut] 207
'Узза ['Uzza] 106
Фараон, см.: Фир'аун
Фархад [Farhad] 127,130
Феникс [Qaqnas] 229
Фир'аун [Fir'awn] 48,118,119, 207
Хавва' [Hawwa'] 118,207
Халил [ХаШ], см.: Ибрахим
Харкул [Harqul] (Геракл) 48
Харун [Нашп] 207
Харут [Hariit] 206
Хатим Тайский [Hatim ТауГ] 48, 78,117,
122
Хизр [Xizr] 208,245, 273
Хосров [Xusraw] 251
Худ [Hud] 207
Хумай [Humay] 162
Шадцад [Saddad] 48
Шайтан [Saytan] (см. также: Иблис) 70,
97, 102, 124,169, 177,191, 206—208,
236, 246, 247, 253, 259, 260, 267
Ширин [Sinn] 127,130
Шис [Sis] 207
Шу'айб [Su'ayb] 118, 207
Эфиоп [HabaS] 208
Указатель терминов
и лексики восточного происхождения
abdal 161
abjad 196
adab 124, 291
adam 81, 220
'adat 124,141,176,179,180, 239, 248
ahar 155
ahad 114, 209
'ajam 105
'aks 58,151
alast 221
alif 21, 23, 96—98, 114, 126, 188, 203,
211,223,243
alif-nama 14, 19, 21, 26, 34, 35, 38, 41,
48, 70, 76, 77, 80,81, 93,95—104,108,
128, 141, 148, 149, 188, 204, 212, 223,
226, 247, 258, 264, 267,300
•filim (мн. 'ulama) 28, 235, 246, 259
allah 47—49, 60, 73, 78, 90, 97, 99, 100,
105,107,108,112,117—121,144,146,
203, 204, 209, 210, 212, 216, 223, 230,
242, 248, 260, 268
'amal 204, 255
amir 156,157, 285, 293
andesne 42, 226, 237
ansar 114
'aql 100,141, 219, 226, 267
•firif 17, 70, 123, 133, 161, 213, 225, 228,
234, 239, 240, 268
'ars 219, 223, 258
'am* 146,147
ashab 114
asl 150, 234
'asiq 123,147,233
'asGra 228
awdas 47
axOnd 294
ayat 30, 46, 47, 81, 89, 96, 99, 105, 111,
117—121,126,128,176,189,192,201,
202, 215,222, 257, 258
'ayb 97,100
azal 221, 222, 270
azan 107
badal 81,220
badraqa 33,40,182,286
badala 143,188,245
bahariyya 75, 92, 94,136—139, 155,172,
301
baqa' 243
barsat 157
basa252
batil 226
batin 144, 215,245
bayan 19,31,34,35,46, 76,104,105,187,
268, 293
bayaz 21,60
baz 162
bid'at 11, 98,234, 260
bismillah (басмалла) 19, 60
brahman 157, 234
calorlga 19,80,144
сйа172
6ang 241
6aharhazarT 196
Caharyar 114
Cistiyya 33, 40, 102, 128, 178, 180, 257,
299
60z 162
daf241
Указатели
343
daftar 18,19, 43, 44, 47—50, 72, 73,114,
117,219,248,260
darwTS 61, 86, 121, 177, 196, 217, 222,
250—252, 260,263,292
dastan 116
dastar 249
da'wa 144,212
dharm 234
din 101,103,203,223, 250, 259
dlv 210
dlwan 5, 8, 10, 12—14, 17—27, 31, 43,
51—59,65—69, 71—73, 75, 76, 79,80,
82—84, 89, 91, 93, 97, 109—111,114,
132, 135, 137, 138—145, 147, 150—
152, 171,173,184, 187,193,195,198,
200, 207, 209, 217, 231, 248, 253, 258,
265, 272,277,282, 283,287,288,296—
300,303,304
dunya 97, 101, 102, 155, 181, 223, 225,
237, 247—250,267, 268
fana' 103, 225,243, 267
fan! 100, 228
faqlr 34, 35, 40, 46, 73, 100—102, 156,
160,192
faqr 160,192
fara'iz, см.: farz
fard5S
farsang 185
fart 46,146
fasl 62, 273
fatha77
fatiha 86
fatwa 294
fawjdar 26
faxr 94,185,218
fikr 146, 237—239,270
fiqh 6, 30, 38, 40, 59, 227, 239, 259, 268,
293
firaq 123
furqan 202
ganj al-'arifln 109
guman 141, 215, 220,226, 237
gafil 149,268
gaflat 104, 207,226,237,267
gaws 17,143,161,244
gayr (mh. agyar) 100,102,146, 210,266
gayrat 181, 228,267
gazal (газель) 8, 14, 17, 19—22, 25—27,
34, 35, 38, 44, 46, 52, 56—61, 65—80,
82, 85, 92, 93, 96—98,102, 105—111,
124, 126, 131—133, 136—139, 141—
148,151,155—171,173—175,177,180,
182, 184—190, 192, 195—199, 202,
205—209, 211, 213, 214, 216—218,
220, 221, 223, 224, 226, 227, 229, 232,
235, 237, 238, 243, 246—248, 250—255,
267,271,273,298,300,303
gazaliyya 94
gazawat 32
gilman 205
had! 100,101,109,191,198,243
hajw 83, 93, 94,234,295
hamsaya 154
hamza 52
hast! 141,228
hazaj 146
hijrat 37
himmat 125, 230,253
habl al-warld 222
habsiyya 58, 79, 93, 94,272,275,279,282,
303
hadas 260
hadls 46,100,103,114,115,128,189,194,
' 198, 203, 204, 215, 228, 250, 257, 258,
262, 264,293
hadls qudsl 114,117,204,242
hajl 233
hajj 47, 232, 233,260
hal 75,157,160,166,184,187,189, 217,
* 220,229,230,302
halal 755,143,260,268,270
hama'id 260
hamal 273
hammariyya 256
hanafi 6,11,29,37,38,40,41,50,108,134,
156,193, 236, 256, 258, 259, 289, 292,
293,297
hanball 262
haqlqa muhammadiyya 220
haqlqat 128,136,143,160,161,167, 184,
' 231,237,238,268
haqq 103,130,141,143,144,226
haram 122,135,144,176,249, 260, 270
hayat 104
hayiza 254
hijab 226
hikmat 80,82, 94,141,211, 255
hubab 212,247
hululiyya277
344 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
hurufat-itahajjT54,100
hurOfiyya 258
'ibadat 179,221,225,270
ilham 184,185,193, 230,239,292
ilhad 100
'il'm 28,100,101,103,146, 235,254,255
'ilm ladun 106, 244
imam 19, 28, 32, 33, 90, 98,108,156, 211,
259, 292, 294, 295
Tman 46, 221
'inayat 141,160, 225
insan 81, 219—221
insan kamil 81, 219,220, 243
'irfan 225
isbat 47, 26S
Щ 124,144, 227
israq 193
ixlas 253
'izzat 125
jabarOt 89, 214, 244, 268
jaglr //, 51,154,156,196, 289,297
jaglrdar 53,158,281
jahil 42, 258, 260
jahrl zikr 238
jalal 220
jail zikr 238
jalwa 214, 264
jamal 100,101,103,104, 213, 220
janbazl 228
jannat 100,141,143,148
jawab 23
jawanmard 181
jimad 220
jinayat 260
jinn 107,119,120,281
jumada 21, 284
ka'ba 111, 213,227,232,233,237,238,260
kafa'a 134
kafir 32,109, 257
kalam 184,185
kalima 47,103,232, 260, 291
kamal 146, 220
kamil (см. также: plr kamil) 23, 99, 143,
161,165, 220, 243, 269
kamlnl 129, 267
karamat 109, 225, 245, 292
karlm 90,100, 209
kasra 17
kasrat 166, 203, 213,214, 265,266
kaSfal-qulOb 223
ka§if al-arwah 245
kitab 42, 99 '
kubrawiyya 33,257
kufr 100, 233,234,260
kulliyat 42
kursl 219,258
kuruh 61,286
la ilah ilia 41ah 41, 210, 238, 266, 268,
269
lahOt 89, 98,100,213—215,227, 268
landay 82,141,151
lar (см. также: ristlne lar) 103,144, 230
lawh 113
lutf/0/
madh 92—95
madrasa 33
mahdawl 246
mahbub 123
majaz 143,160,211,220,234,237, 249
makruh 270
mal 228, 246,248,285
тд\ъШ89,214,268
malamatiyya 253,254
malik 284,287,289, 295
ma'na 128,184,225
mansab 62,124,174, 225, 249,281—283,
285
manzil 100,193,231, 234
maqam 178,192,193, 230, 231, 236, 239,
243
maqama 131
maqta' 17,62, 70, 73,110,114,134,159—
162,183,184,253
ma'rifat 49, 98, 114, 144, 160, 167, 174,
185,188,204,211,215,216,219—221,
223—227,231,239,240,244,245,266,
268
mareiyya 19, 73, 75,93—95,156,168,169,
173,174,195,196,198,298,301
masnawl 10,19,20,51,58—61,66,67,85,
89—92, 95, 109, 110, 112—114, 144,
168, 190, 203, 204, 209, 272, 282, 283,
300,303
ma*sum 108
ma*§0q 123
matla4 38, 73,144
mawlawiyya 192
maxfiganj 115
mayxana (см. также: xarabat) 128
Указатели
345
mazar 250,278
mazhab 40, 100, 156, 166, 228, 234, 236,
240,244,258,259,279, 290,292
melmastya 290
тегэ 181
mihragan (Михраган) 92
mihrab 126,130,235
minbar 113,238
mi'raj 106,107, 111, 114, 231,234,239
miskln 160,167,193, 240, 242,247
mlsaq 221
misra' 17,19,29,30,38,44,66, 73, 74,84,
85, 99,102,132,140,141,151,284
mlzan 273, 274
mizmar 241
mizrab 241
mu'amma 93,133
mu'a§sar&5
mubah 270
muhajir 7/4
muhabbat 101,124,143
muharram 37
muhib 123
muhlt 158,212,235, 247, 265
mu'ji'zat 92, 93,104,109,110,300
mujtahid 292,295
mulhaqat 31
mulhid 100
шх\\.248
mulla 28, 29, 35, 89, 194, 235, 261, 291,
292, 294,295
mu'min 80,84,235,254
munafiq 181,234,254
munajat 273
munazara 73, 76, 93,130,131,133—135,
143, 301
muqarrib, см.: qarib
muqatta'at 19,89
murabba' 24,26,38,40,66,85, 99,299
muraqaba 103,270
murld 23, 27, 29, 33, 41, 127, 144, 165,
180,244,291
mur§id 243
murtad 269, 291
musaddas 85
mu§rik 207
muwahhid 240,242
muxammas 14, 17, 22, 34, 35, 66, 84, 85,
124,137,138,141,143,155,257, 300
muxlis 143, 242
muzari' 77,148
тэх 125,127,145
nab! (мн. anbiya') 80, 98,100,105,191
паЙ41,252,268
nafs 42,48, 70, 97, 99,102,134,135,165,
194,206,252,253,255, 267,268
na'ib 244
пата 60,143
namaz (см. также: nmung) 34, 35, 47, 81,
228, 232,295
namus 182,298
nang (см. также: nang-u nam) 125,180—
182, 279, 285, 290, 296
nang-u nam (см. также: nang) 144, 180,
181, 253, 267
naqsbandiyya 18, 52,114,161
naslb 94
nasut 89, 98, 213—215, 247,268
nasr 28
naslhat 42,48
nalt'92—94,105,106,108,113
nawruz (Навруз) 56,92,136,137,139,155
nlsan 137
nisba 37,41
nlstl 228,241
nmung (см. также: namaz) 35,47, 99,232,
260
nukta 273,282
nur 185, 215,265
nur Muhammad! 113, 216
pand 94
pari 210
pasakal 172
paStunwall 179, 181, 182, 228, 255, 290,
298
plr 90,165,243
plr kamil (см. также: kamil) 23, 70, 75, 98,
165,193,220,243,302
qadir 100,141
qadiriyya 40,103,128, 257,258, 299
qafiyya 29
qalam 158,184,187,188,263
qalandar 198
qana'at 109,250
qanun 241
qarib 240, 241
qaslda (касыда) 8, 14, 17, 19, 20, 22, 25,
27, 31, 38, 43, 44, 56, 58, 59, 61, 62,
65—80, 83, 85, 86, 89, 92, 94, 96, 102,
105—115,127,128,135,136,139,141,
143, 144,151, 164, 169,176,180, 190,
194t 196—200,204,208,209,211, 219,
346 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
224, 231, 234, 239, 240, 242, 247, 250,
251, 254, 271, 272, 284, 293, 298, 300,
303
qaws 274
qazi 191,240,294
qibla 33,180,235,240,263
qismat 100,155
qisas al-anbiya' 47,116,117,206,300
qissa 46, 47, 93,116
qit'a 19,38,56,58,66,67, 77, 82—84, 92,
135,151,300, 303
qiyamat 129
qiyas 227
qur'an 30, 46—49, 72, 81, 84, 96, 98, 99,
101—103, 105, 107—109, 111, 116—
121, 156, 186, 192, 194, 201—204,
206—209,211,216,218,219,221,224,
234, 237, 245, 255, 257, 258, 263, 264,
281,301
qurbat 161,167, 231, 240, 241
qutb 161
rabl' 21
radlf (редиф) 17, 30, 73, 106, 107, 124,
126,128,133,137,140,142,143—145,
150, 151, 156, 162, 170, 187, 220, 248,
252, 301
m±i 115,234,292,293
rahbar 98, 243
хЩ162
rahlm 90
rahman 90
rajaz 146
ramal 146,147
ramazan 155, 232, 271
rasm 141,176,179
rasul 705
raziq 209
rexta 73
rind 58,127,138
risala 25, 26, 28, 68, 69, 97, 200
ri§tlne lar 230, 232
riwayat 80
riya' 180, 225,239, 253, 260
riyazat 237, 253
rizq 210
rosanT 6, 8—14, 18—20, 22—30, 50, 57,
"59, 65—72, 74, 75, 79, 82, 84, 93—96,
98—101,104,114,115,123,125—131,
133, 136, 137, 139, 141, 143, 148, 153,
154,156,160—162,164,165,167,168,
170, 171, 173, 174, 176—198, 200—
204, 206—216, 218, 219, 221—226,
228—239, 241—259, 261, 264—270,
285, 296—304
ro§aniyya 6,11,192,215, 297
roSnayl 215, 265
roza 47, 232,260
rubab 162,240,241
ruba'T 19, 25, 26, 35, 46, 56, 58, 65—67,
76, 79—82, 92, 96—98, 143, 144, 149,
163, 202,209,220,251, 261, 300
ruba'iyat (см. также: ruba'T) 19,24
ruh (mh. arwah) 35,117,135,143,215,219,
224,239,244,252, 268, 269
ruh allah 121
ru'yat 100,239
ruz-i alast 221
ruz-i qiyamat 221
ruzT 129, 225
sada (Сада) 92
safar dar watan 223, 233
safar-nama 94, 284,303
saj' 28,31,34,35,43,47—49
sajda/7/,240
sakrat 128
salik 100,161,230, 243
sama' 52,65,103,162,188,239,241,270
sami' 240, 241
saql 100,127
sardar 282
sattar 90, 209
saxawat 48,122,181, 254, 260, 290
sayr 230,231
sayyid (сеид) 163,293
sayyid al-mursalln 106
slharfi 96
sijjTn 80, 206
silsila 40
slra 92,104,105,108,109
siraj 216
siraj al-awliya' 113
I siraj munawwar 106
11 suhrawardiyya 33, 257
sukOnat 167,192,219, 231,232,240, 242,
243
sultan 163,180
sulhk 35,230,294
sunnat 80, 98—100, 103, 105, 201, 244,
257, 293,301
sunnT52, 47, 90, 101, 103, 105, 108, 115,
156, 165, 234, 239, 258, 279, 289, 292,
293, 296,297
Указатели
347
sura 47, 96,105,107,119—121,126,202,
204, 281
surud 121, 240,270
sana 100,104,141,143, 209
subOt 101,104
sabuh 127
sadaqa 260
salat 99,100
sifat 102,133,144,214, 229,239,257,265,
' 266,270
sirat (мост) 99, 205,248, 257,263
sirat al-mustaqTm 100,230,234
siyam 260
sufi 6, 9,13, 22,23,33,35,40,41,52,65,
67—72, 74—76,80,81,89,90, 93—95,
97—99, 101—104, 109, 113, 114, 117,
119,121,123,125—128,131,132,134,
135, 141, 155, 160—162, 165—168,
172, 176, 177, 180, 181, 185, 188,192,
198, 200—202, 207, 210—214, 216,
217, 219—222, 225, 227, 230—234,
236,237,239—241,243,245,246,248,
250, 252—254, 256—260, 265, 267—
270, 277,297—302
sOrat 172,203,213,219,224,236,256,267
sa'ban 18,136,155
safa'at 705
sah 56, 97,104,123,130,249
saha (см. также: sah) 97,100,123,130,266
sahadat 32,225,228
sahid 123
sahTd 32, 240
sakk 100,145, 226
§amla 249
sar' 99, 234, 269
sarh57
sarfat 41,57, 99—103,113,165,166,206,
231—234,236,259—261,268,269,302
sattariyya 33,257
say'x 40, 41, 52,62, 73, 80,127,163,167,
170, 192,194, 212, 220, 223, 239, 245,
257, 278, 295
sH 19, 90,108,115,198,234,293—295
sikasta 22
si'r 28
sirk 234, 260
suja'at 181,254
tafsTr 117,184,206
tajallT 213,214,220, 239,264
tanasux 256
taqlTd 186,239
tarTx 93—95,301
tarjrband 85
tark-i wujOd 228
tarkibband 58,85,131,132,151, 271,272
tarklbband zu-1-qafiyyatayn 85
tarxan 267
tasblh 119
tasawwuf 23, 74, 97—99, 128, 133, 160,
161, 192, 201, 218, 222, 223, 225, 231,
233,237,247,253, 257, 294,302
tasfiyya (da xatir tasfiyya) 237, 266
tawakkul 145,182 '
tawba 89,100,101, 220, 245,247, 248
tawhTd 46, 47, 68, 72, 81, 83, 90, 96, 98,
99, 106, 128, 166, 168, 173, 176, 177,
207,209,211,212,214—216,221,226,
234, 236, 239, 240, 242, 243, 245, 246,
264, 265,302
ta'wll 100
ta'wTz 294
taxallus 20, 22, 23, 26, 27, 32, 34, 35, 37,
40, 44, 57, 70, 73, 75, 77, 84, 96, 101,
102,107,134,160,161,170,174,183
taxliyya 266
tazkiyya (da surat tazkiyya) 236, 266
tola 100
ta'at 101,149,236
taharat 99,103, 221, 232,260
talib 144,161,167,179, 244,268, 269
tardiyya 275
tanqat 166, 231,236, 237, 268
tawaf232,233,260
umm al-walad 194, 278
ustad 165,207,243
uwaysT 244,257,269,278
wahdat 100,129,156,160,166,167,174,
184,210,212—214,216,231,233,235,
240—243,265, 266,269
wahdat al-wujOd 68, 101, 102, 212, 234,
264,301
wajid 240
wall (мн. awliya') 98, 100, 134,191, 227,
233,268
walwar 289
waqf 294
wasf 94
348 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
wasil 22,170,240,241
waslat 167,170,231, 240—242,266
watad 161
watan 156,158,223
wazlr217, 226,244
wazn 148
wa'z 143,162, 204
we§*2S9
wlr 77, 262
wisal 123, 231, 234, 266
wujud 49, 241, 267
xabar 100,103
xafizikr 238, 269
xafif 145—147
xallf 19, 47, 70, 90, 105, 108, 114, 115,
150,165,177,231,234,293
xallfa 26,80,165,182,194,244
xalIlallah77S
xaliq 90, 209
xalwat 166,191, 213, 237,241
xalwat dar anjuman 161
xamriyya 93, 275
xan 60, 62,137, 284,286,287,294—296
xanaqah 122, 213
xannas 206
xanxel 51, 52
xarabat (см. также: mayxana) 128
xatam al-anbiya' 106
xattb 246
xawf 101
xayrat (xayriyyat) 41,260,294
xilafat 244
xirqa 254
xudl 97,100,101,267
xwajagan 161
yad 143,220,269
yaqln 203, 207, 226, 230, 235, 242, 247,
259
yar 90,123,125,174
ym80,100
zabur 107,119
zahid 100,141,240,268
zakat 47, 99,160,228, 232, 260,294, 295
zangln 52
zaqqum 264
zuhdiyya 93, 94,247,275
zulfe 125
zunnar 183,249
zakir 101,146,161
zama'im 260
zat 99—102,104,133,144,214,219,229,
239, 257,265—268,270
zikr 99,100,103,119,128,166,185,191,
232,237,238,253,254, 269, 270
zimml 183
zu 4-qa'da 43
zahir 100,144,215,245
Summary
The book attempts to carry out a complex study of the early stages in the
development of written poetry in the Afghan (Pashto) language. Whatever roots and
first specimens of Pashto writings may have been, extant and authentic
manuscripts point to the fact that literary products of the Afghans reached the level of
an independent national literature in the first half of the XVIIth century when
after the ending of large-scale migrations and formal inclusion of Afghan
territories into the Mughal empire the social, economic and cultural progress of the
Pashtun tribes gained new grounds. The rise of written literature of the Afghans
was largely a result of their Islamization, which had intensified in the XVIth
century and forwarded the spread, although rather limited, of religious
education, literacy and learning that entailed more profound acquaintance of the
Afghan people with Islamic cultural and literary traditions. Main contribution to
the spiritual instruction of Pashtun tribal men as well as to the elaboration of
forms, genres, written language norms, prosody and general aesthetic principles
of Pashto literature belonged to the poets whose creative activities fell on the
first half and the middle of the XVIIth century.
As it is shown in the book, at the very beginning of this period Pashto
poetry almost entirely followed patterns of classical Persian verses and pursued
mostly homiletic objectives of spiritual teachers, adherents of Roshaniyya
mystical doctrine and Sunni clergymen. However, a few decades later poetry writing
became an occupation of cultured tribal elite where it acquired secular and truly
national character. While RoshanI poems were being composed among the
Afghan settlers in India, in the regions to the east of Agra on the banks of the
Ganges, Sunni preachers and theologians led their missionary and literary
activities right on Pashtun territories to the north of Peshawar. The third literary circle
was founded by a Khatak chief Khushhal-Khan on the lands of his tribe with the
centre in Saray-Akora.
In accordance with these trends in Pashto literature of the period the main
sources of the book include three groups of writings: 1) the divans of the
RoshanI poets Mlrza-Khan Ansarl, Dawlat Lohanay, Wasil RoshanI; 2) poetical
fragments from the religious and didactical treatises Makhzan aUislam (the verses of
'Abd al-Karim, 'Abd al-Hallm, Akhund Ahmad and others), Nafi( aUmuslimin
(Mir Husayn), Kitab-i Babu Jan; 3) verses from the divan and masnavi poems
Firaq-nama and Swat-пата of Khushhal-Khan Khatak. On the basis of these
works, some of them being unpublished, the book examines various aspects of
350 М. С. Пелевин. Афганская поэзия в первой половине—середине XVII века
form and content of early Pashto poetry with consideration of its societal
functions and national peculiarities.
The mystical RoshanT lyrics written within the rich cultural environment of
Mughal India excel considerably in poetical techniques and artistic merits the
versified theological texts, which demonstrate the whole scale of transition from
rhythmical and rhymed prose (say) to regular poetry. Whereas none of
theologians has a collection of verses in a traditional sense, the divans of RoshanT
poets exhibit relatively perfect poetry with shaped system of classical forms (qasi-
das, ghazals, гиЬаЪ, qiVas, masnavis and various strophic poems), fixed rules
of versification, strict metrical schemes, and genres of both purely spiritual and
secular nature like religious alphabet (alif-nama), mystical and philosophical
discourse (risala), pious eulogy (na7), hagiographic narrative (sira, mu'jizat),
dispute (munagara), mourning elegy (marsiyya), chronogram (tarikh). As a final
step in the evolution of Pashto poetry the divan of Khushhal-Khan contains
wholly matured verses with highly developed forms differing stylistically and
thematically, broad spectrum of genres marked by original approaches, and well
arranged metrical schemes incorporating new variants.
Although the bulk of the mystical RoshanT lyrics is a plain rendering in Pashto
of the standard poetical interpretations of the Sufi doctrine wahdat al-wujud,
through the systematical description of ideas expressed in these verses the book
outlines actual beliefs of RoshanT poets which reflect all the principal tenets of
their teachings (е. с the concept of Perfect spiritual guide or the theory of eight
stages of mystical gnosis). In the verses of Sunni preachers a number of
accentuated subjects and themes disclose the practical educational purposes of
theological poetry. Parallels and discrepancies between the dogmatic contents in
these two groups of religious texts well attest the general predominance of
common artistic and aesthetic criteria over different, even opposite, ideological
foundations.
A large part of the book is a research of factual information derived from
the works of RoshanT poets and Khushhal-Khan. The divans of RoshanT mystics
carry dispersed facts concerning the personalities of the authors and the history
of their community, their perception of the essence and goals of poetry writing,
their social views, which partly reveal a sharp conflict between tribal customs
and Islamic morals. The Khushhal's masnavi poems being his prison verses (hab-
siyya) and records of the journey to the Swat valley have explicit features of
poetical diaries. These distinctly individual works are being scrutinized in the book
with the aim of reconstructing some important details of the key turns in poet's
biography and providing an account of unique data on social, economic and
religious life of the eastern Pashtun tribes.
Оглавление
Введение 5
Глава I. Состояние письменного наследия. Литературные направления 11
1. Рошанитская поэзия 11
Диван Мирза-хана 12
Диван Давлата 17
Диван Васила 20
Произведения других рошанитских поэтов 24
2. Религиозно-дидактическая поэзия богословов 27
Стихотворные дополнения и приложения к «Махзан ал-ислам» 30
Поэтические опыты Мир Хусайна и Бабу Джана 37
3. Сочинения Хушхал-хана Хаттака 50
Стихотворения дивана 55
Поэмы-маснави 59
Глава II. Формы, жанры, метрика 64
1. Становление системы жанровых форм 64
Касыды и газели 67
Четверостишия (руба'и) 79
Фрагменты (кит 'а) и строфические формы 82
Маснави 89
2. Развитие жанров 91
Алиф-нама 95
Стихи о пророке 104
Легендарные сказания 116
Любовно-мистические стихи 123
Муназара 130
Бахариййа 136
3. Метрика 139
Глава Ш. Реалии жизни в религиозно-мистической лирике рошанитских поэтов 153
1. Мирза-хан Ансари 153
2. Давлат Лоханай 163
3. Васил Рошани 170
4. Социальные взгляды 176
5. Отношение к поэтическому творчеству 183
6. Стихи о деятелях рошанитского движения 190
Глава IV. Идейные основы рошанитской поэзии 200
1. Источники вдохновения 200
2. Представления о Боге 209
3. Мистический опыт познания 218
4. Стадии духовного пути 230
5. Этические ценности 246
6. Параллели и расхождения с рошанитской поэзией в стихах богословов . . 256
Глава V. Поэтические дневники Хушхал-хана 271
1. «Книга разлуки» 272
2. Заметки о поездке в Сват 282
Заключение 297
Приложение. Тексты цитируемых стихов 305
Основные источники и литература 319
Указатели 326
Summary 349
Contents
Introduction 5
Chapter I. Corpora of writings. Literary trends 11
1. The RoshanI poetry 11
The Divan of MIrza-Khan 12
The Divan of Dawlat 17
The Divan of Wasil 20
The works of other RoshanI poets 24
2. The religious and didactical poetry of theologians 27
Verses in the supplements and attachments to Makhzan al-islam 30
The poetical compositions of Mir Husayn and Babu Jan 37
3. The writings of Khushhal-Khan Khatak 50
The lyrics of the Divan 55
The masnavi poems 59
Chapter II. Forms, genres, metrics 64
1. The evolution of the system of genre forms 64
Qasidas and ghazals 67
Quatrains (ruba'Is) 79
Fragments (qit'as) and strophic forms 82
MasnavTs 89
2. The development of genres 91
Alif-nama 95
Verses about the Prophet 104
Legendary stories 116
Mystical and love lyrics 123
Munazara 130
Bahariyya 136
3. Metrics 139
Chapter III. Realities of life in the religious and mystical lyrics of the RoshanI poets 153
1. MIrza-Khan Ansarl 153
2. Dawlat Lohanay 163
3. Wasil RoshanI 170
4. Social views 176
5. Attitude towards poetry writing 183
6. Verses about the members of the RoshanI community 190
Chapter IV. Doctrinal foundations of the RoshanI poetry 200
1. Sources of inspiration 200
2. Perceptions of God 209
3. Mystical experience of gnosis 218
4. The stages of the spiritual Way 230
5. Ethical values 246
6. Parallels and discrepancies between the RoshanI poetry and the verses of
theologians 256
Chapter V. The poetical diaries of Khushhal-Khan 271
1. "The Book of Separation" 272
2. Notes from the journey to Swat 282
Conclusions 297
Appendix. Original texts of the quoted verses 305
Main sources and bibliography 319
Indexes 326
Summary 349
М. С. Пелевин
АФГАНСКАЯ
ПОЭЗИЯ
в первой половине -
середине XVII в.
Но мстериоле наиболее крупных памятников ранней афганской
литературы (в том числе еще неопубликованных) в книге
прослеживаются пути становления письменной поэзии пашто,
определяются ее основные направления и географические центры,
подробно рассматриваются ее формы, жанры, метрика, идейное
и фактическое содержание, общественное назначение,
национальные особенности
Как показано в книге, афганская поэзия первой половины XVII в.
первоначально служила проповедническим целям духовных учителей -
приверженцев мистического учения рошаниййа и представителей
нормативного суннитского богословия, а некоторое время спустя
стала одним из занятий просвещенной племенной верхушки, где она
обрела светскую и одновременно подлинно национальную
направленность Стихотворные собрания рошанитских мистиков
Мирза-хана, Давлата, Весила, поэтические фрагменты богословов-
проповедников 'Абд ал-Ксрима, 'Абд ал-Халима, Мир Хусайна, Бабу
Джона, дневниковые поэмы-маснави племенного вождя Хушхал-хана
Хаттака исследуются в книге одновременно и как литературные
произведения и как источники сведений, отражающих реалии
социально-политической, экономической, религиозной и культурной
жизни афганцев позднего средневековья.
ISBN 5-85803-298-4
9"785858«032984