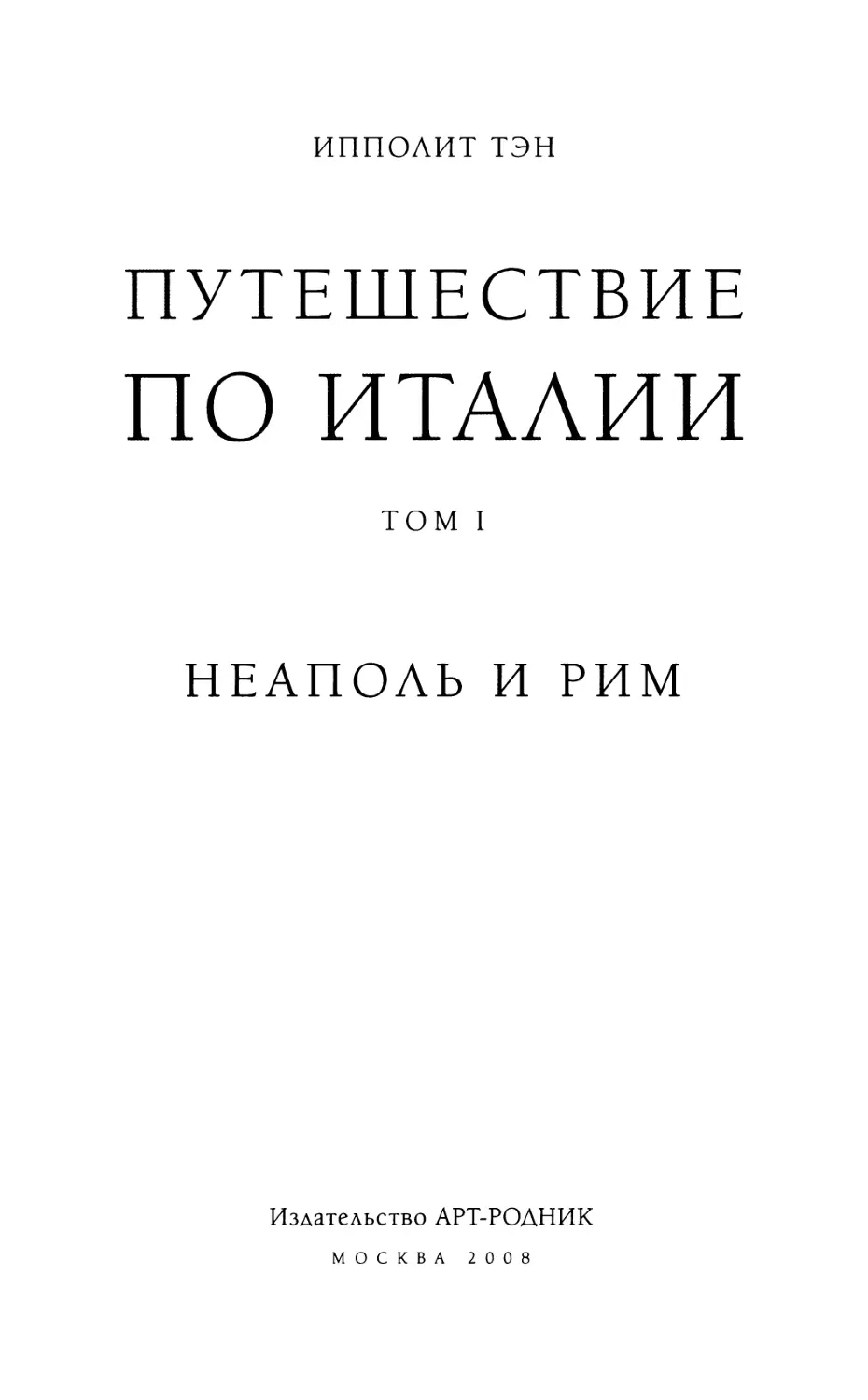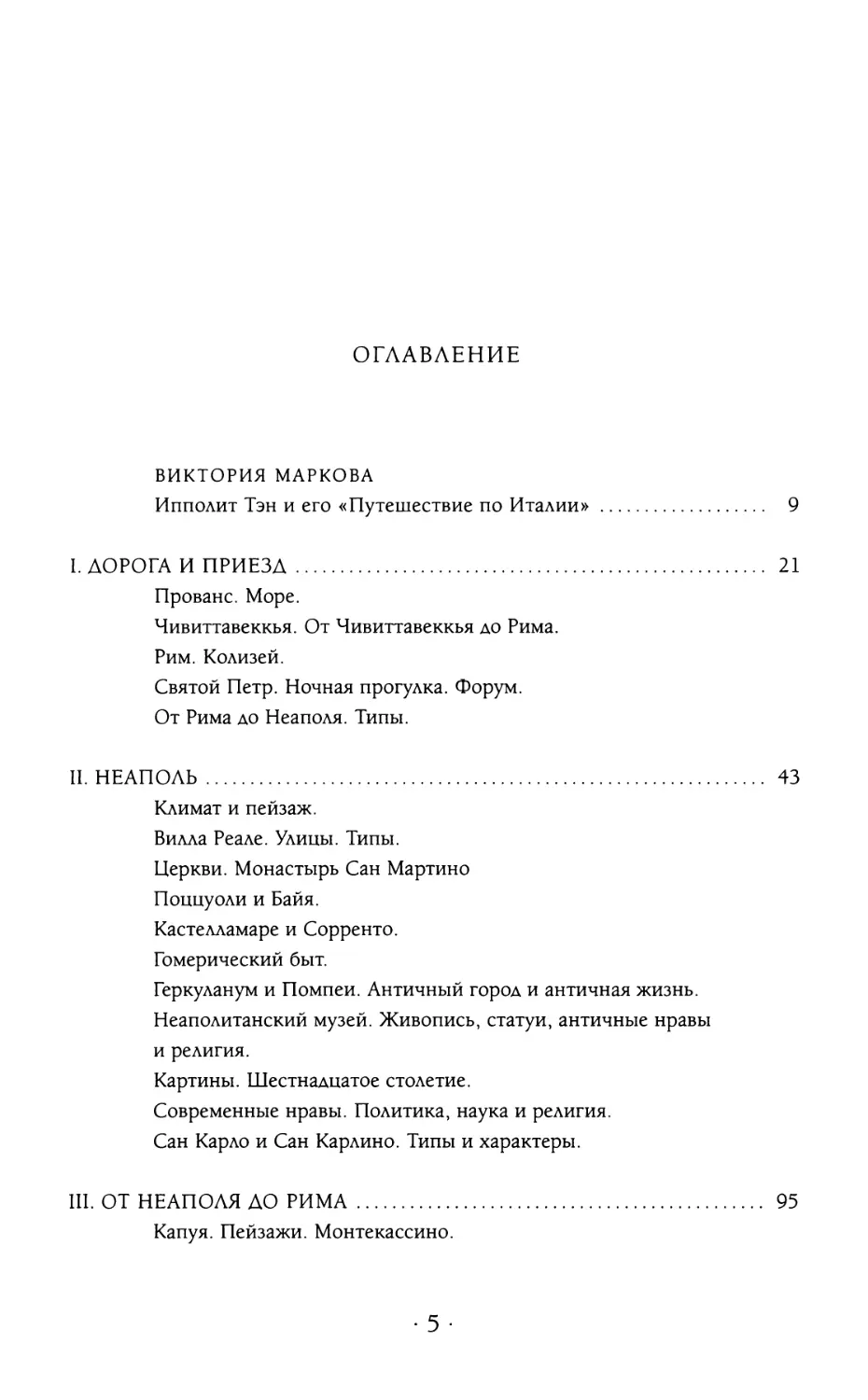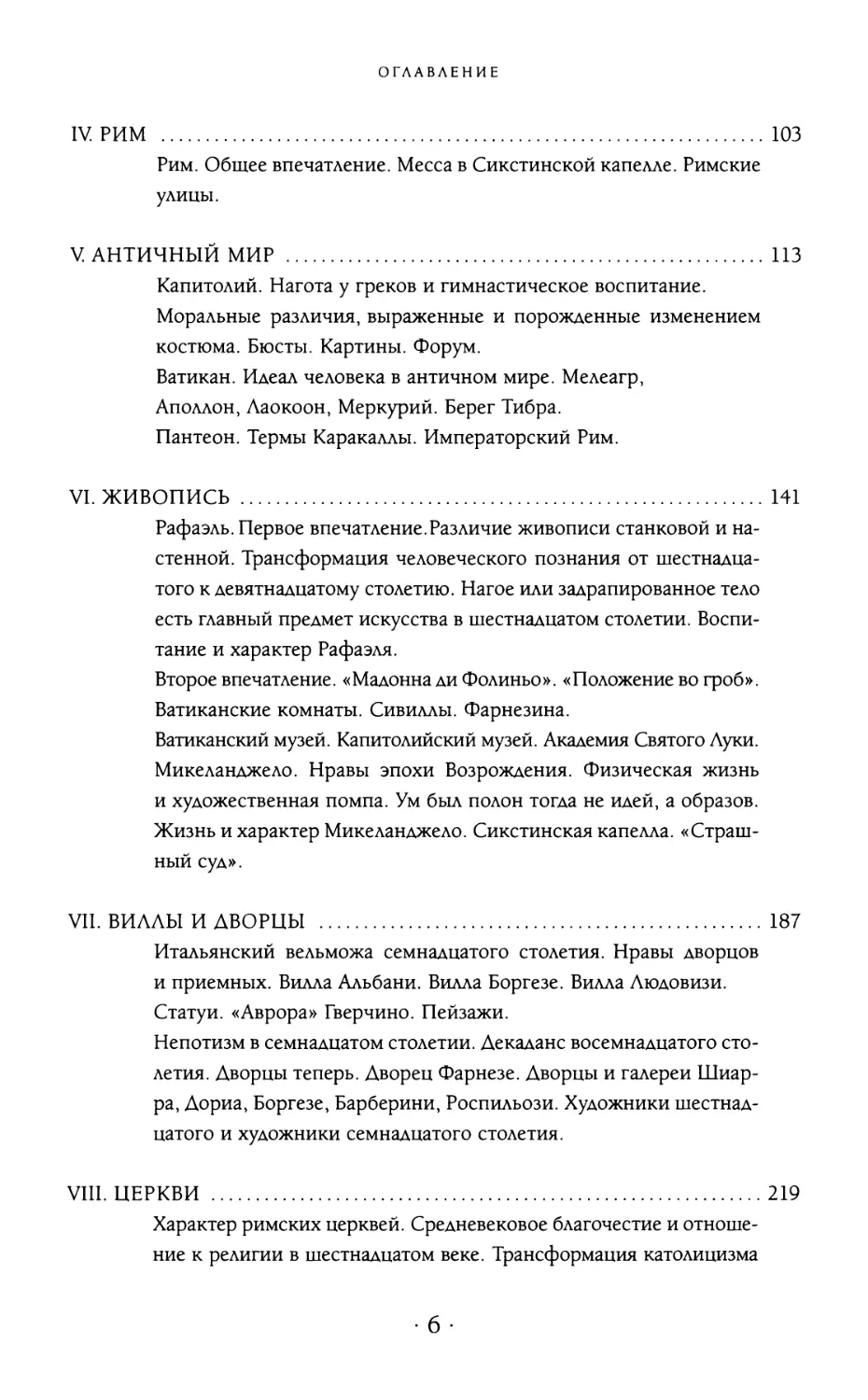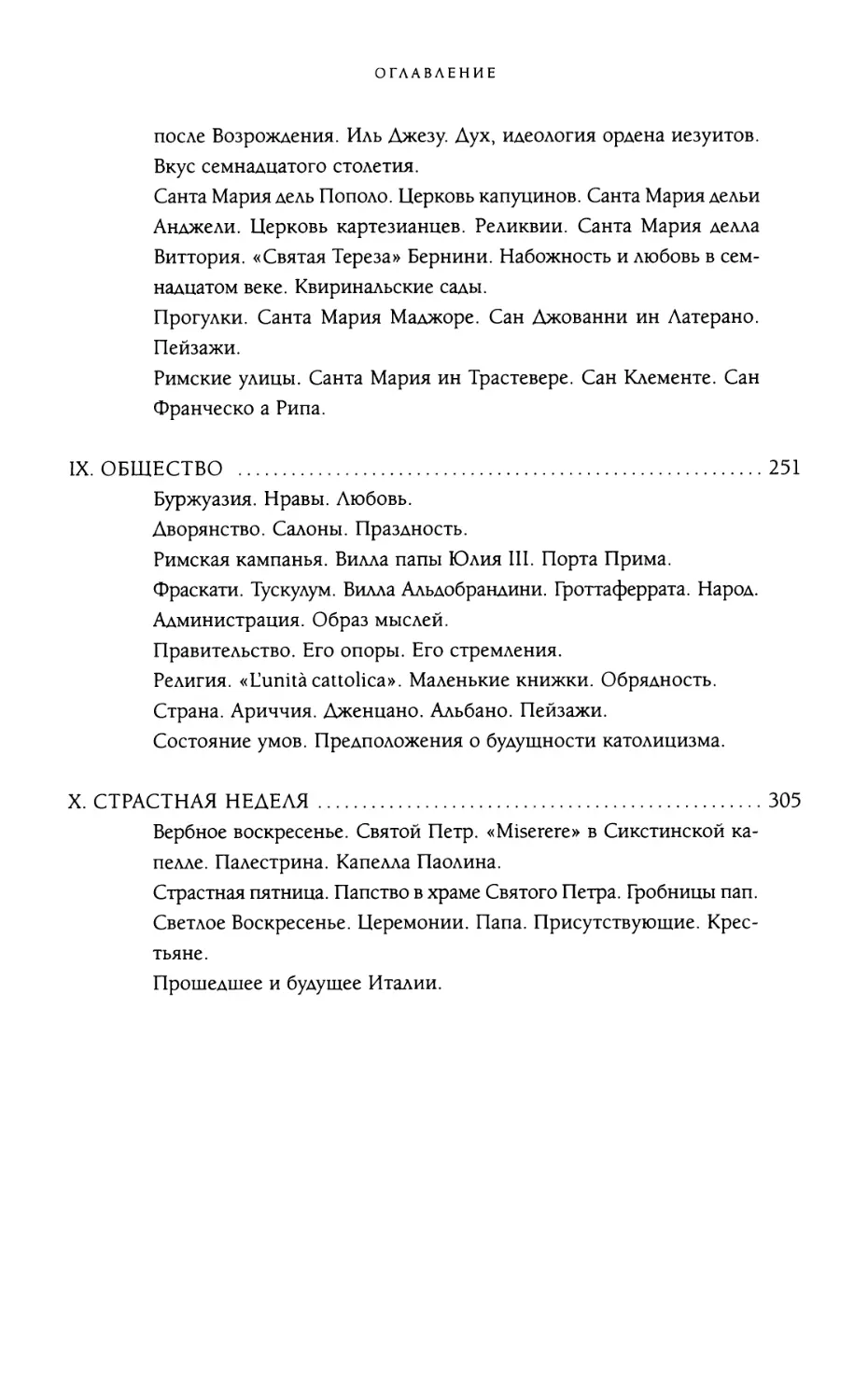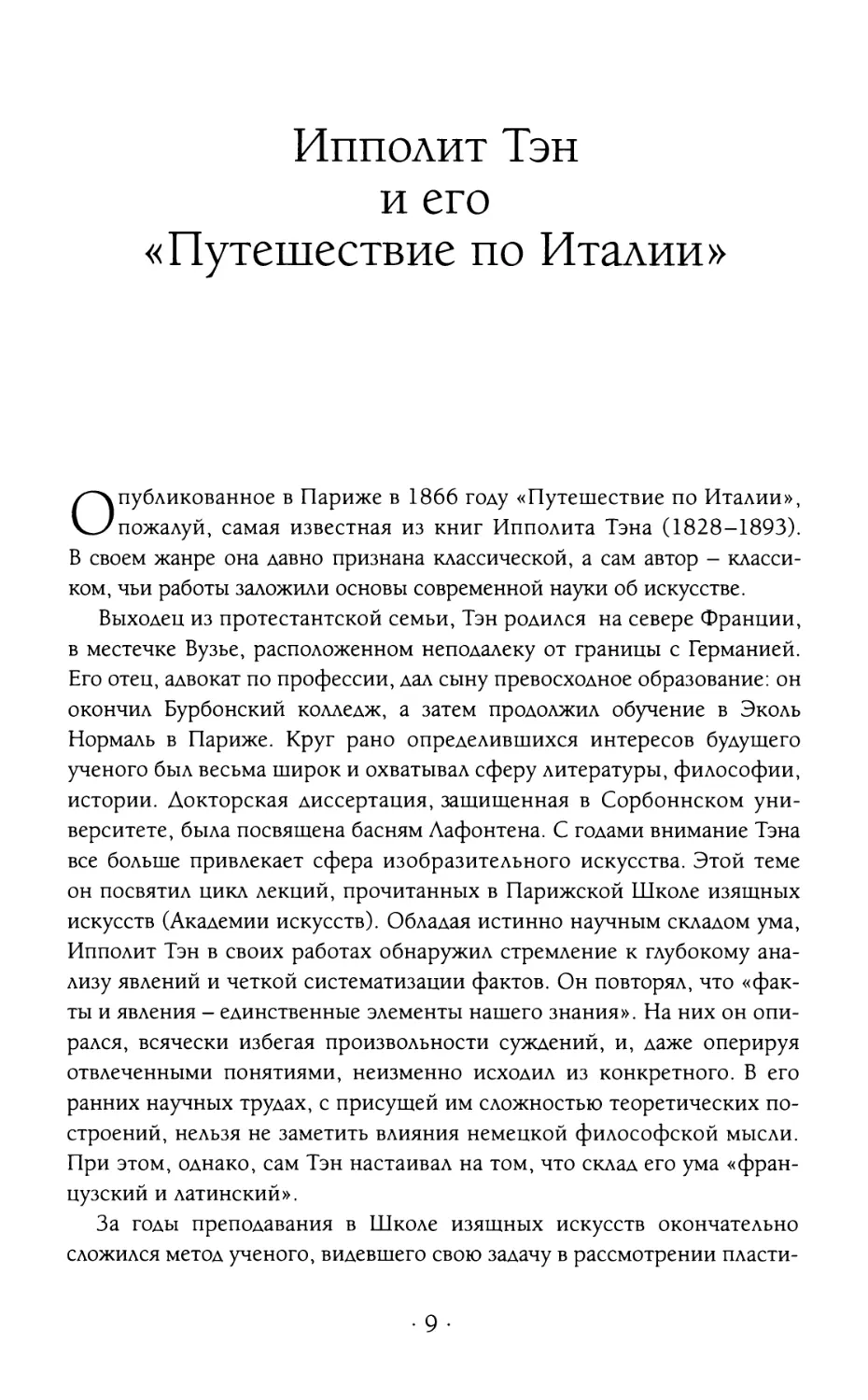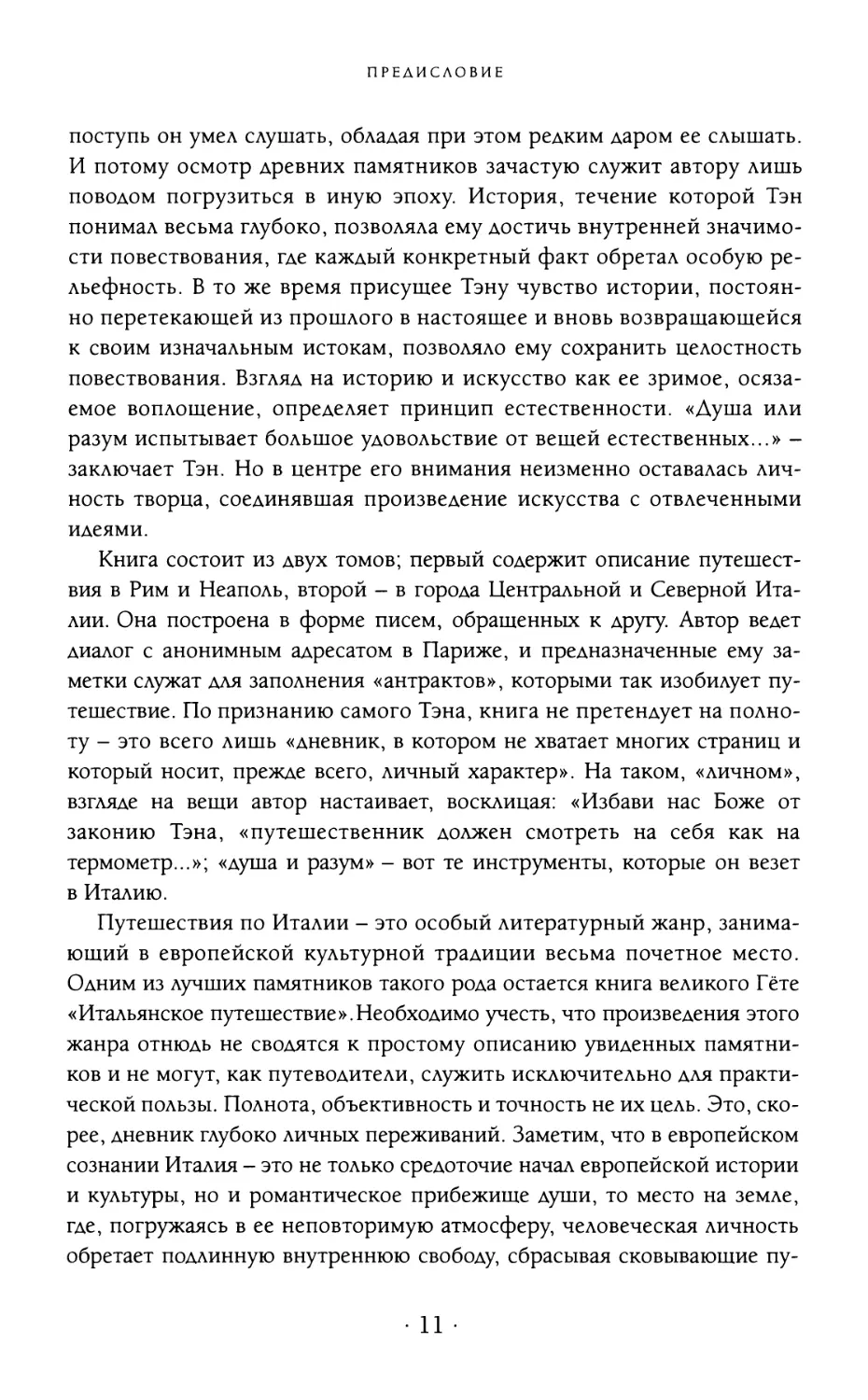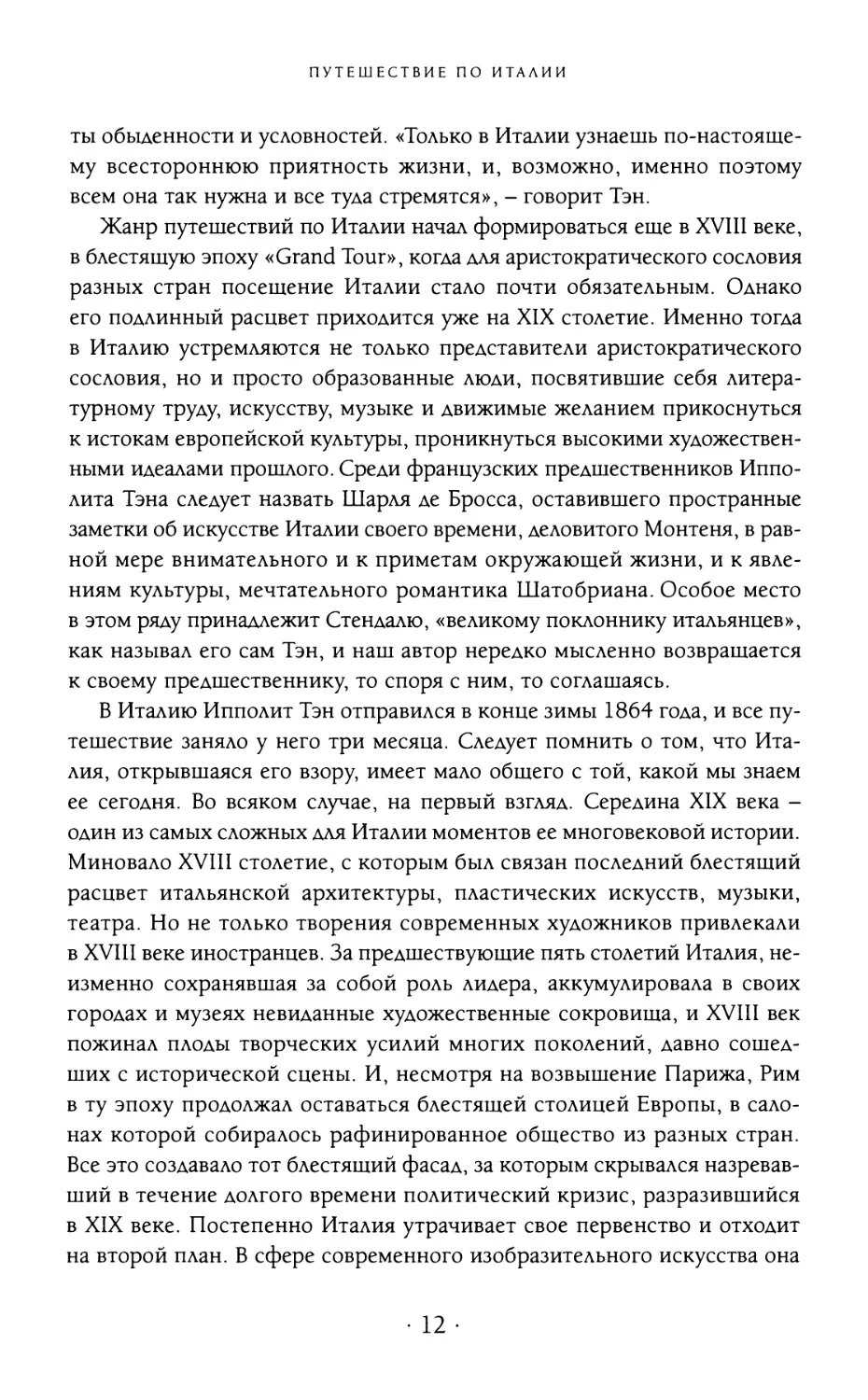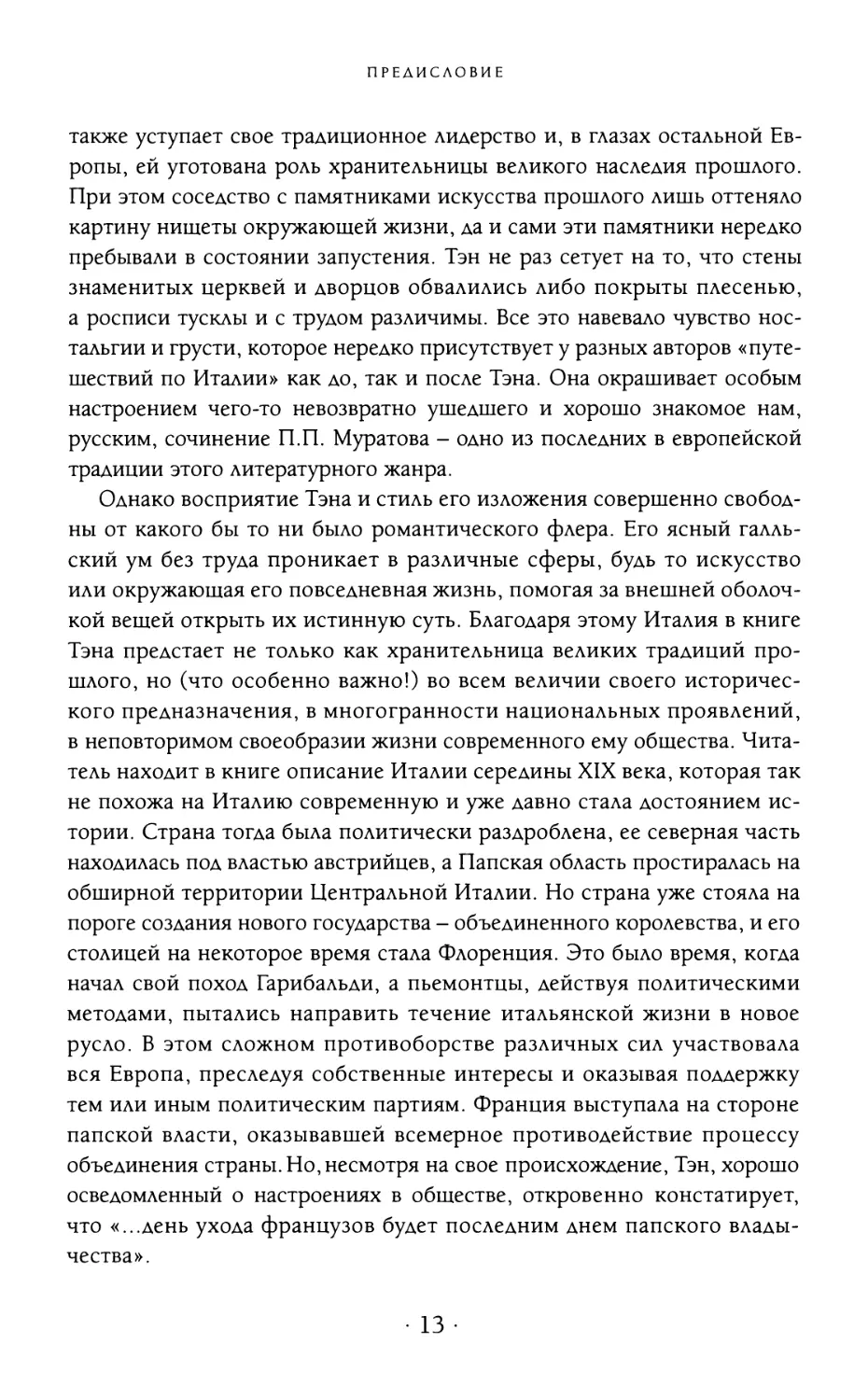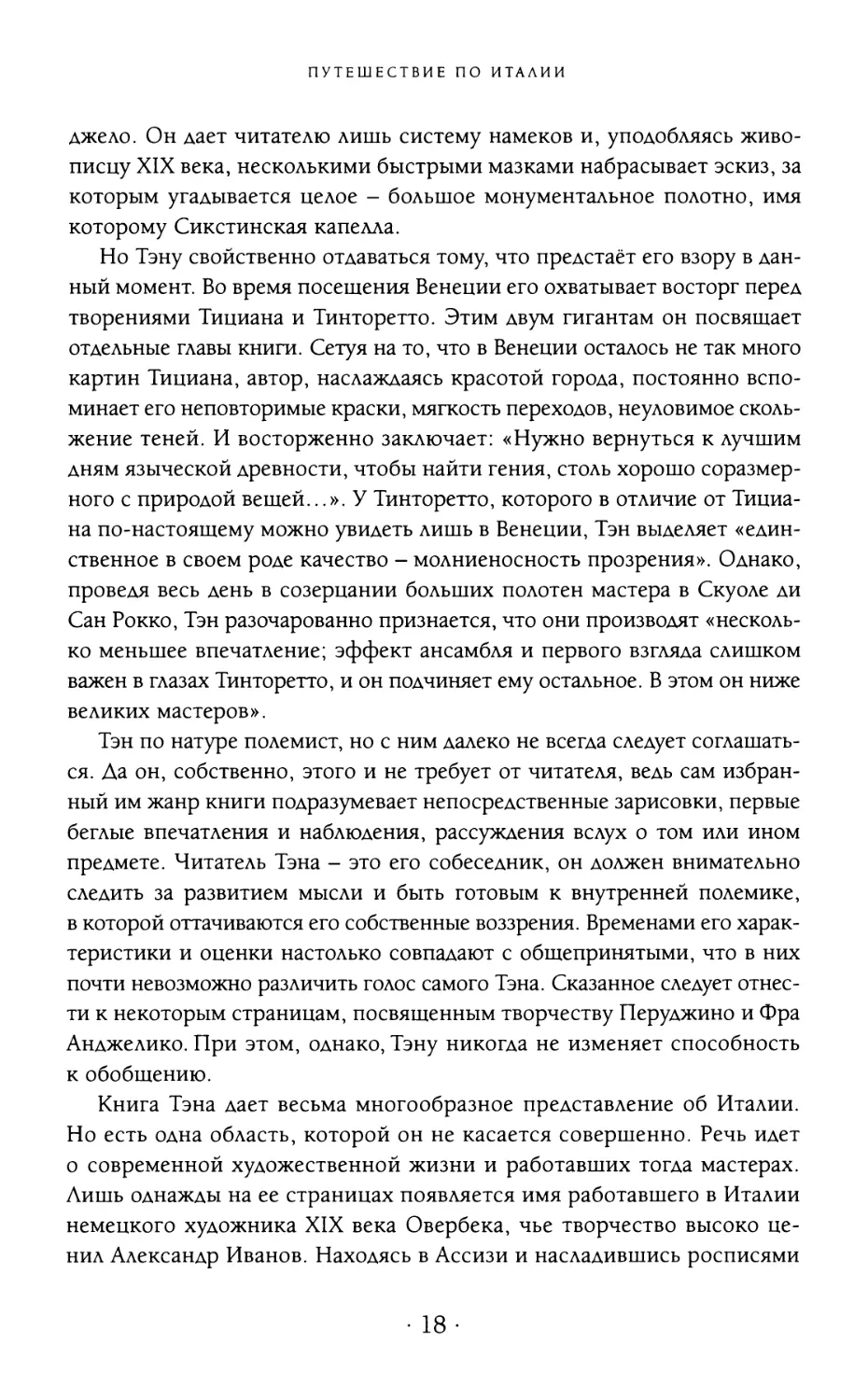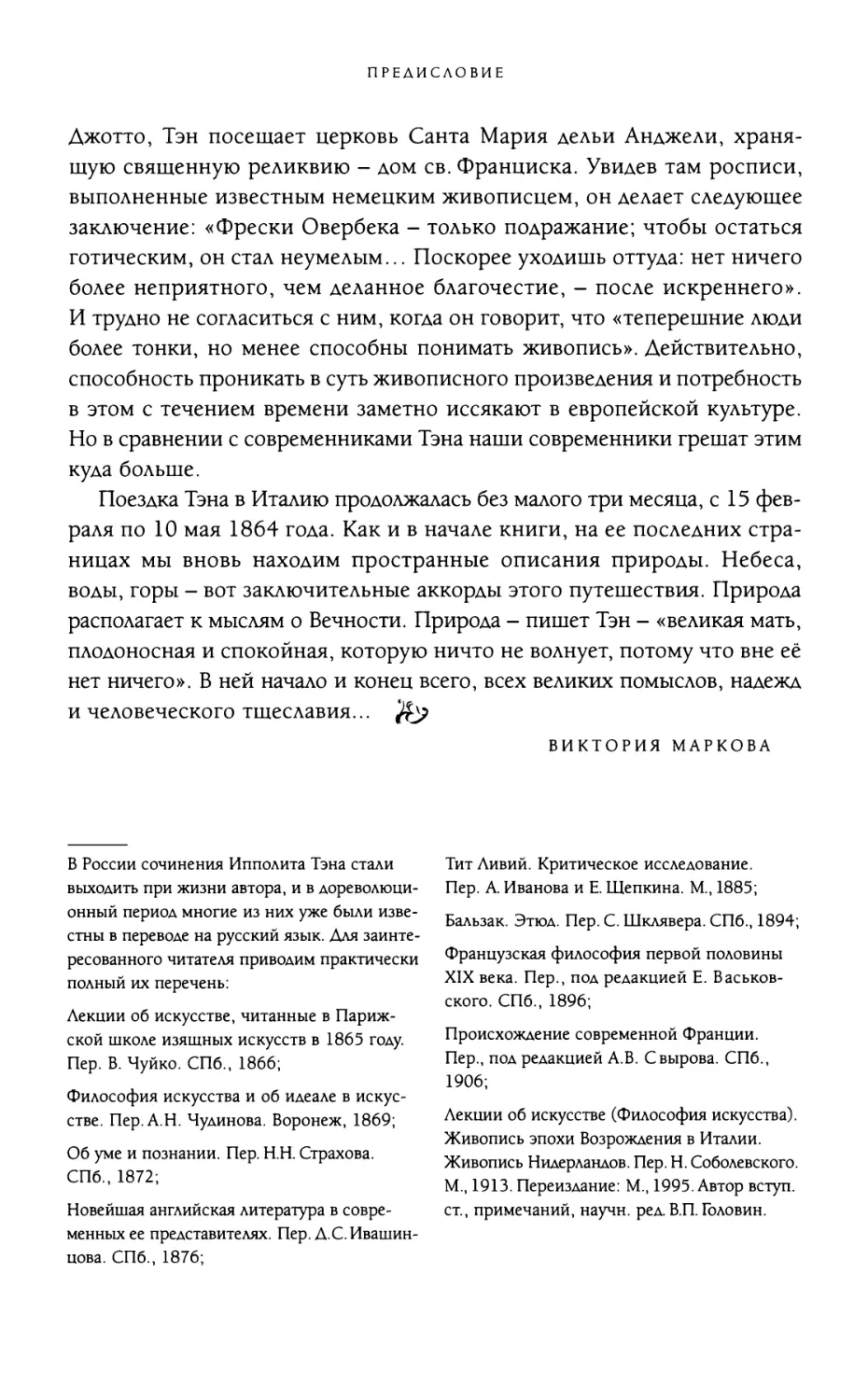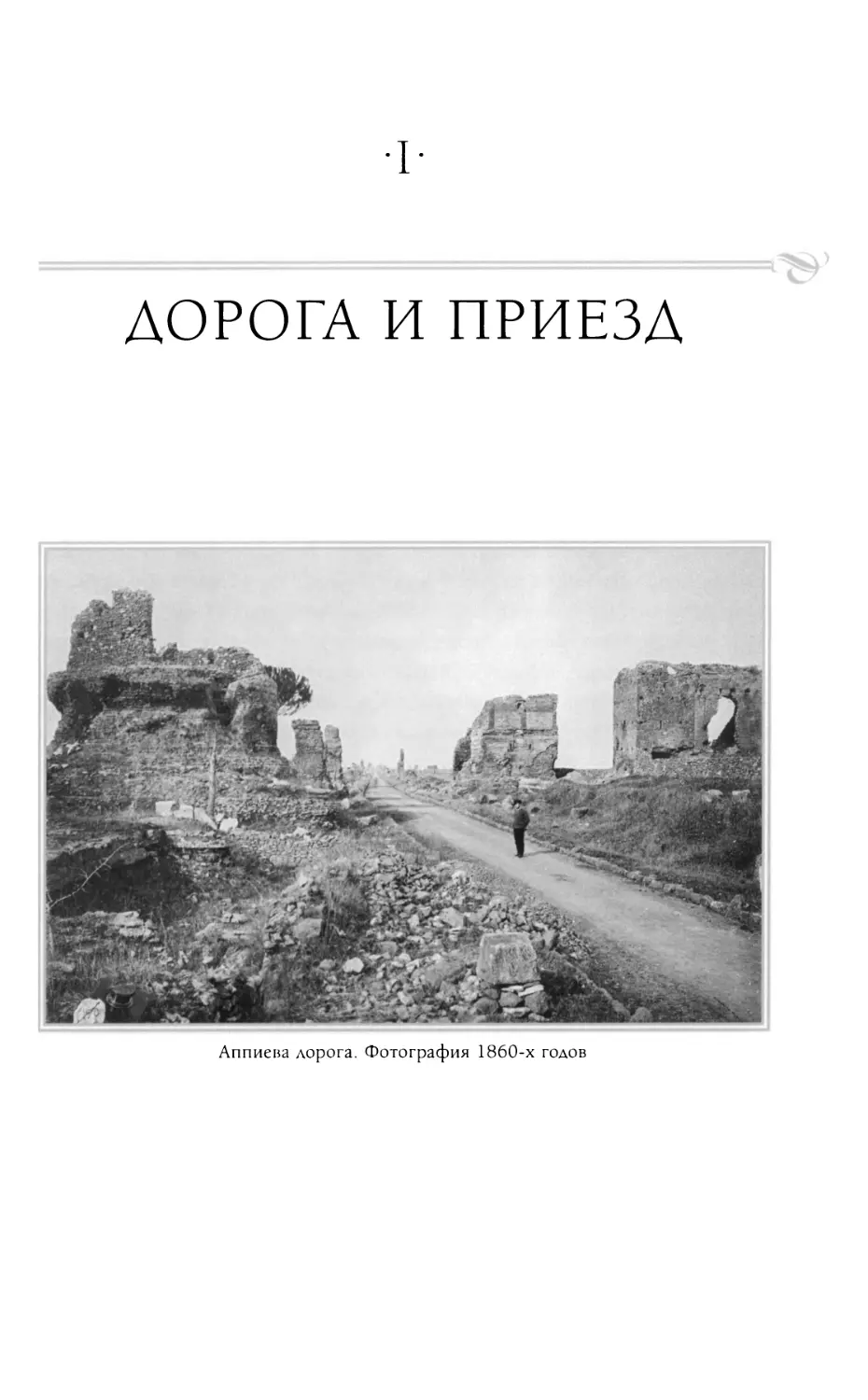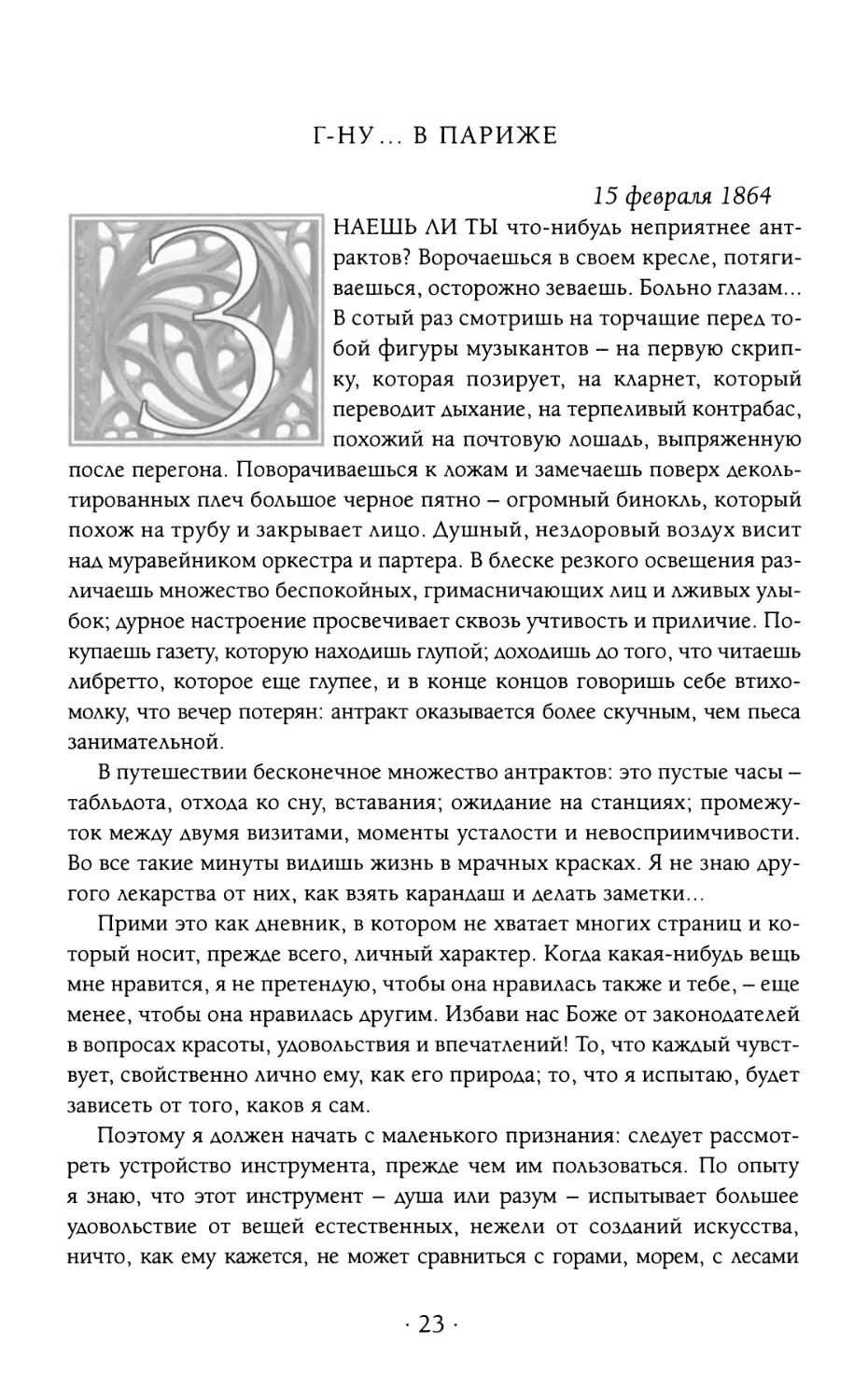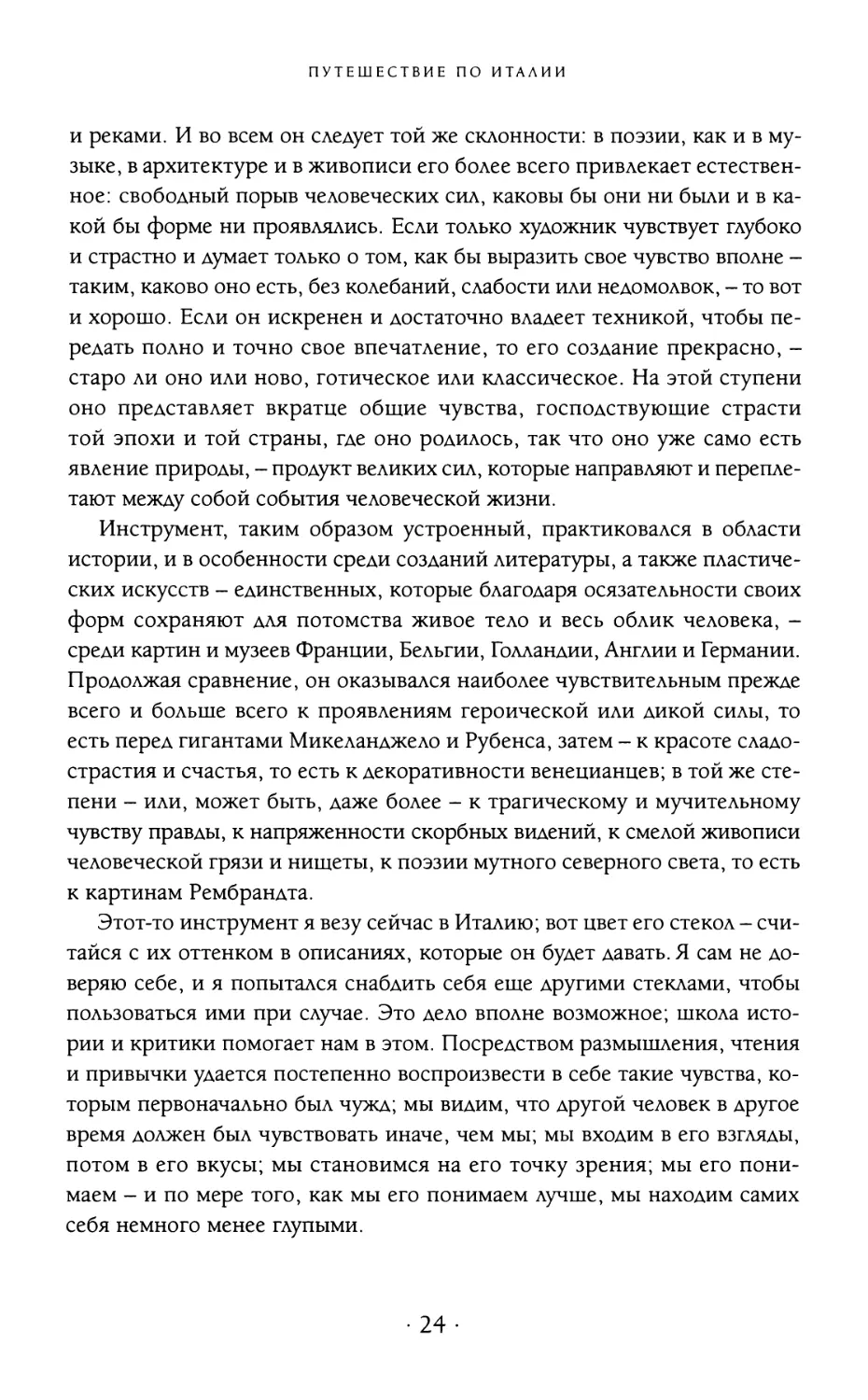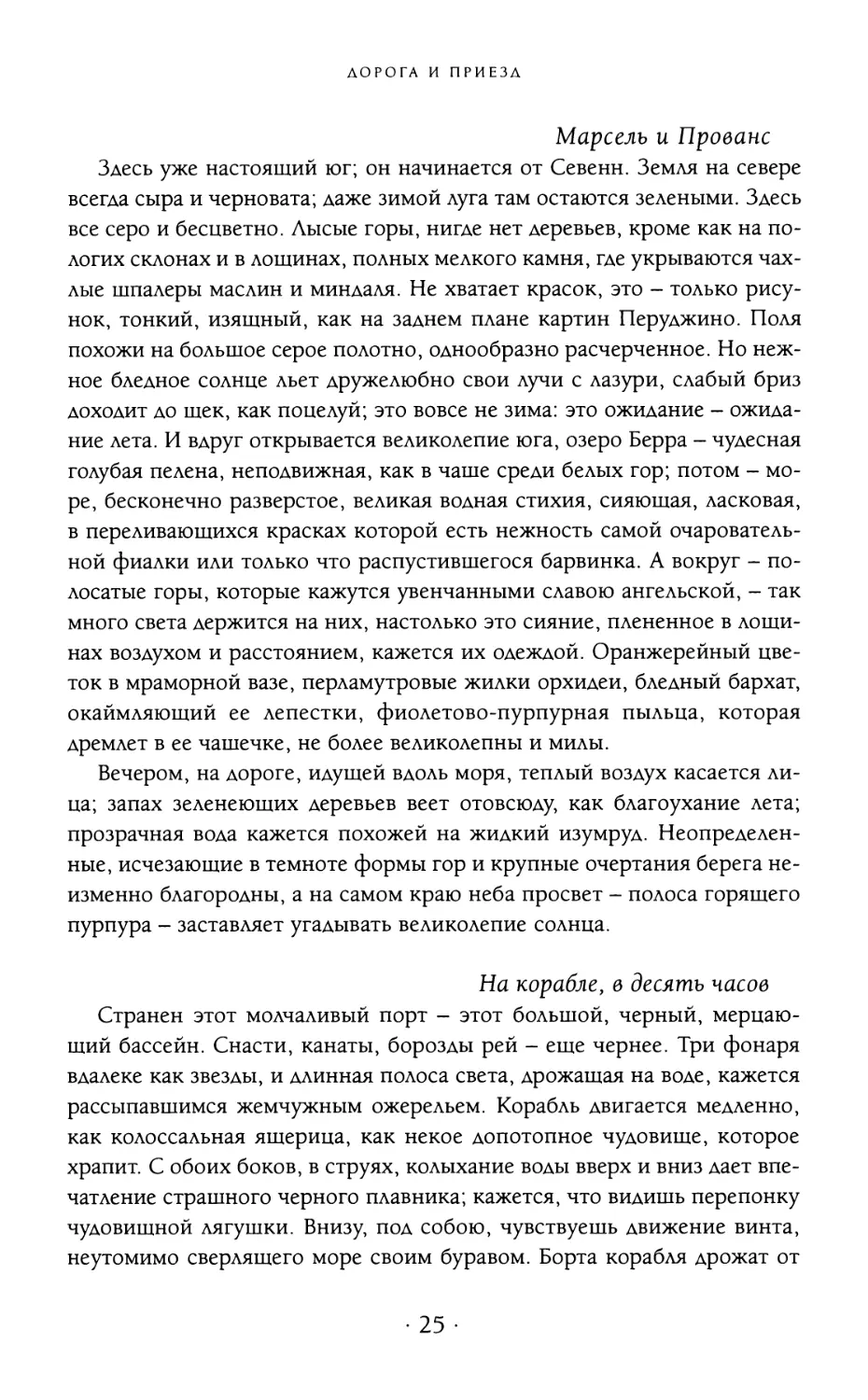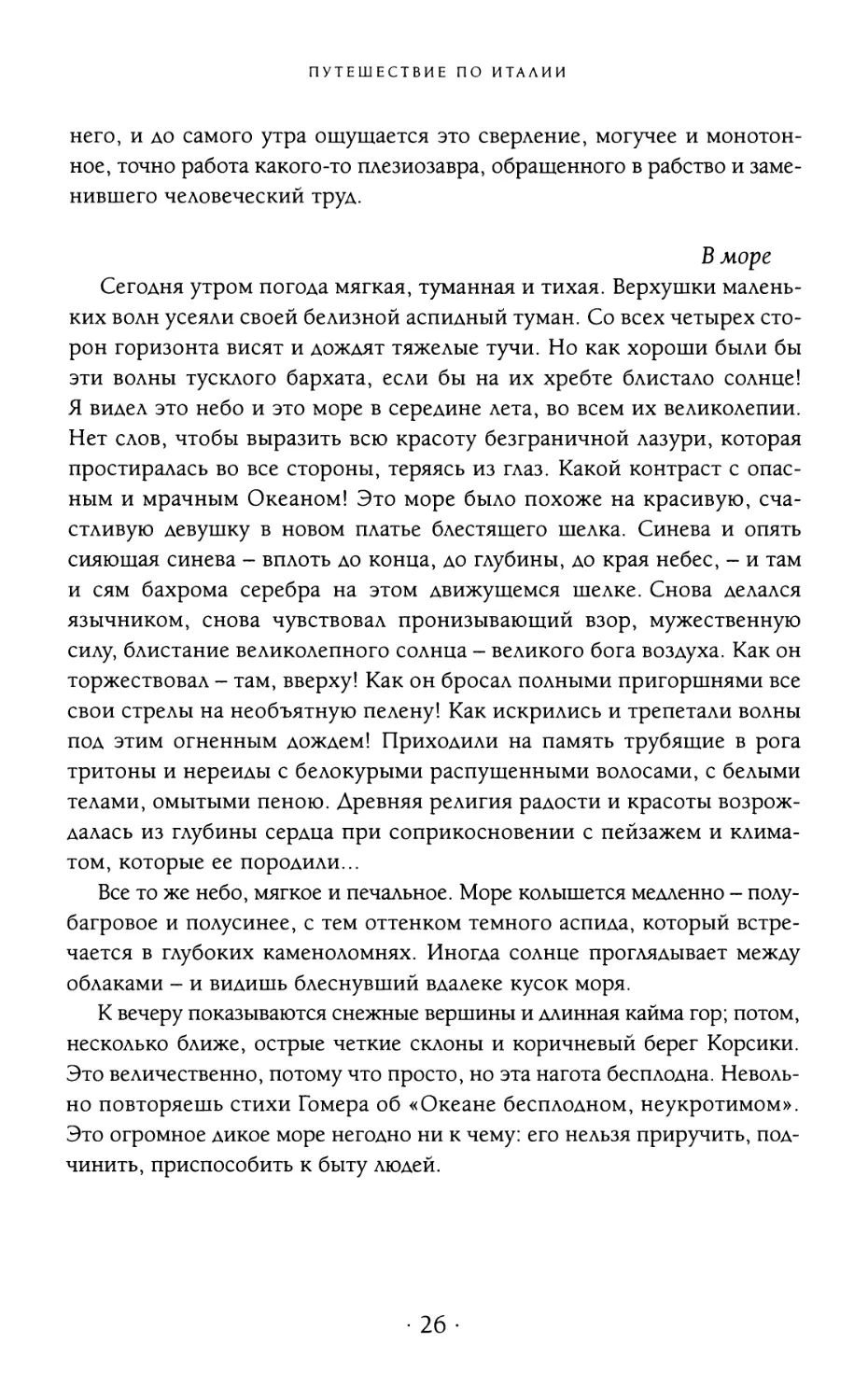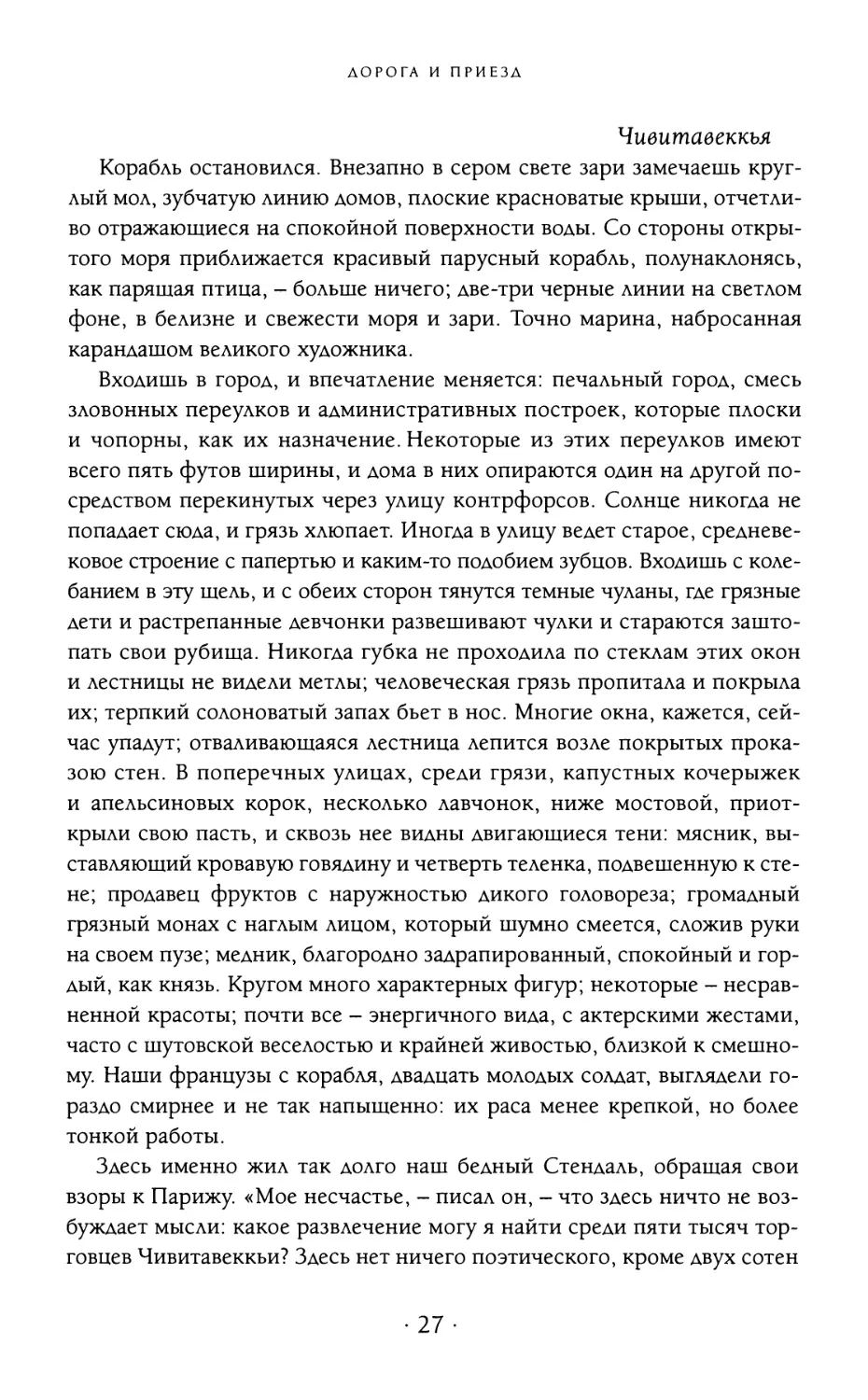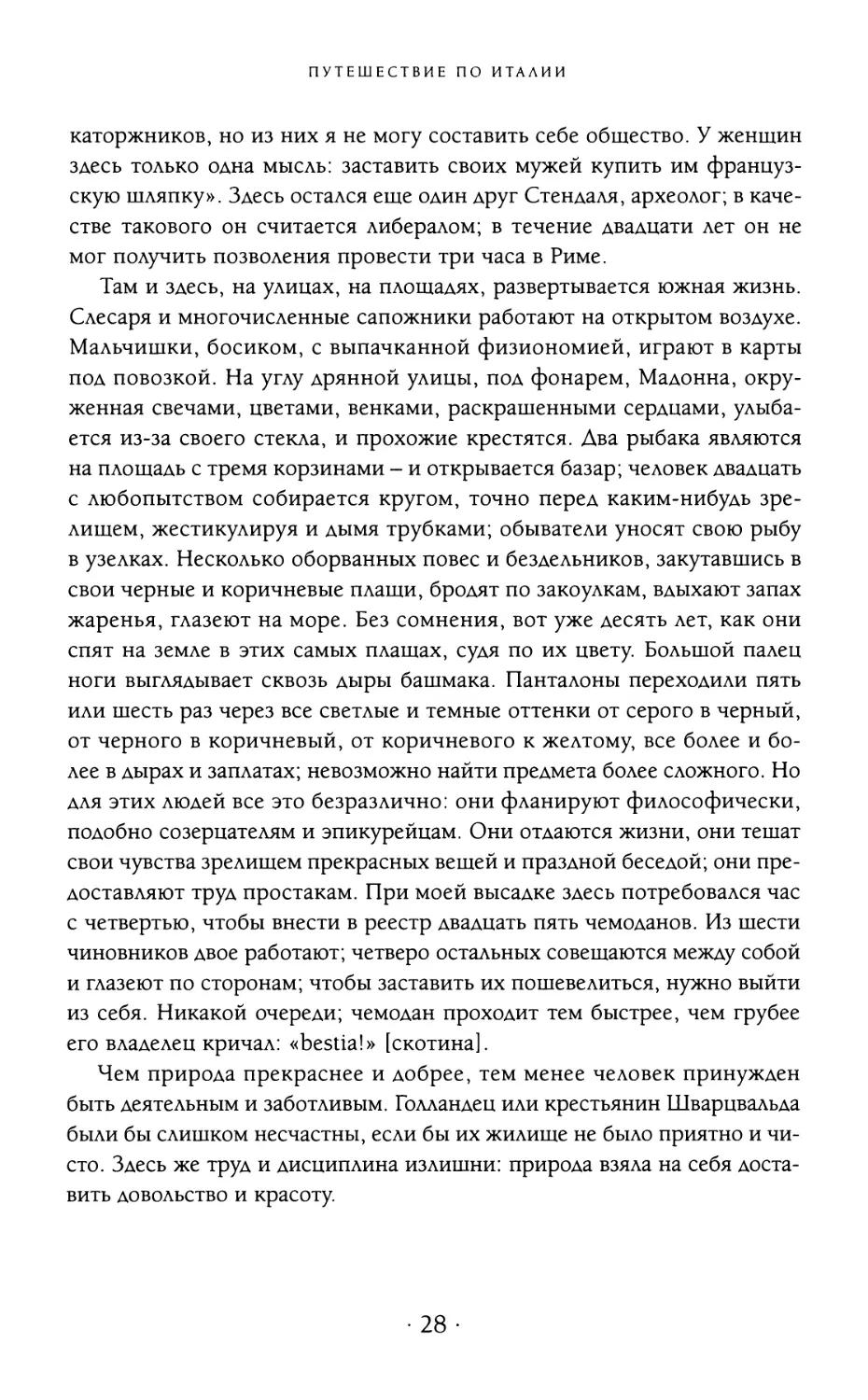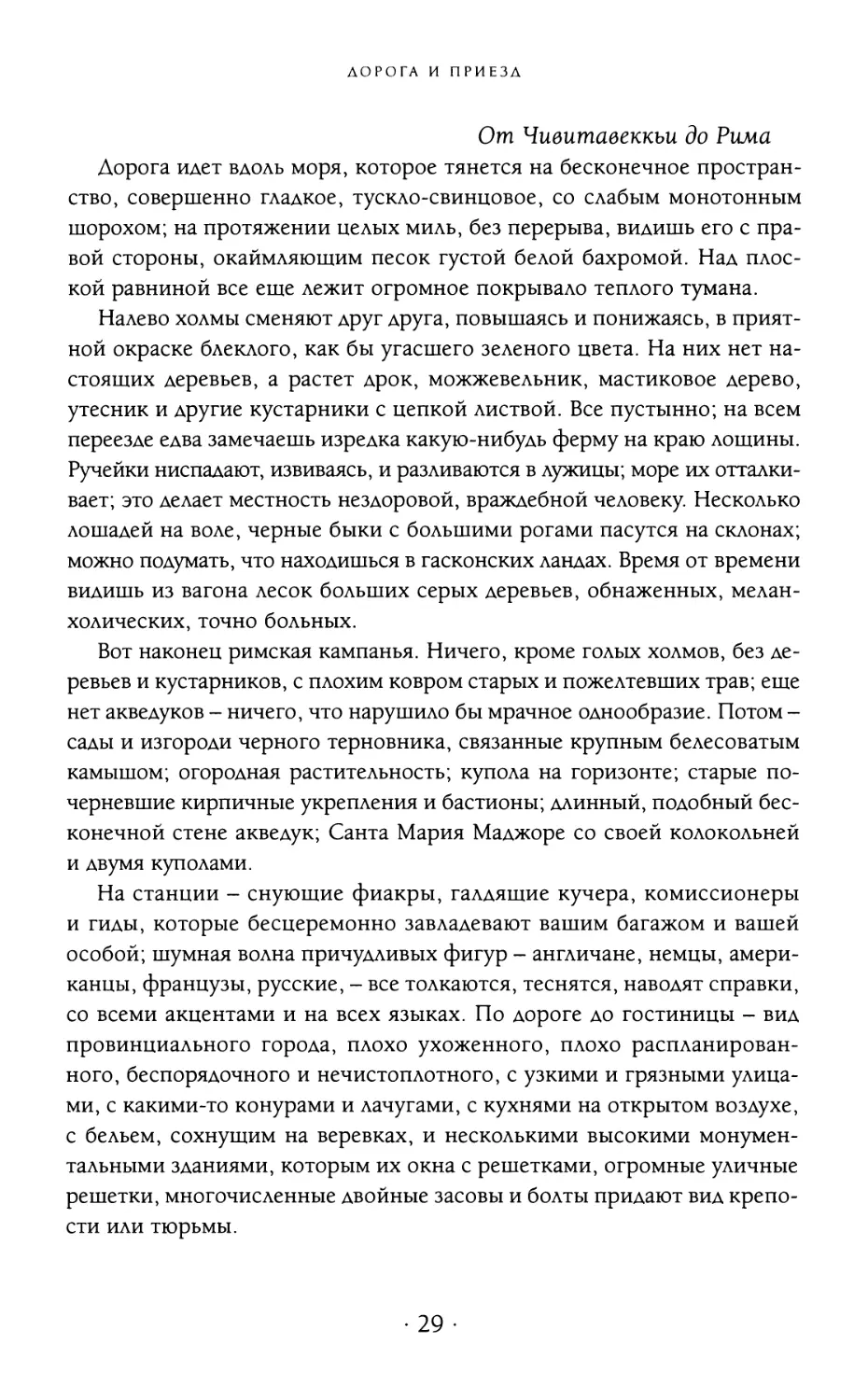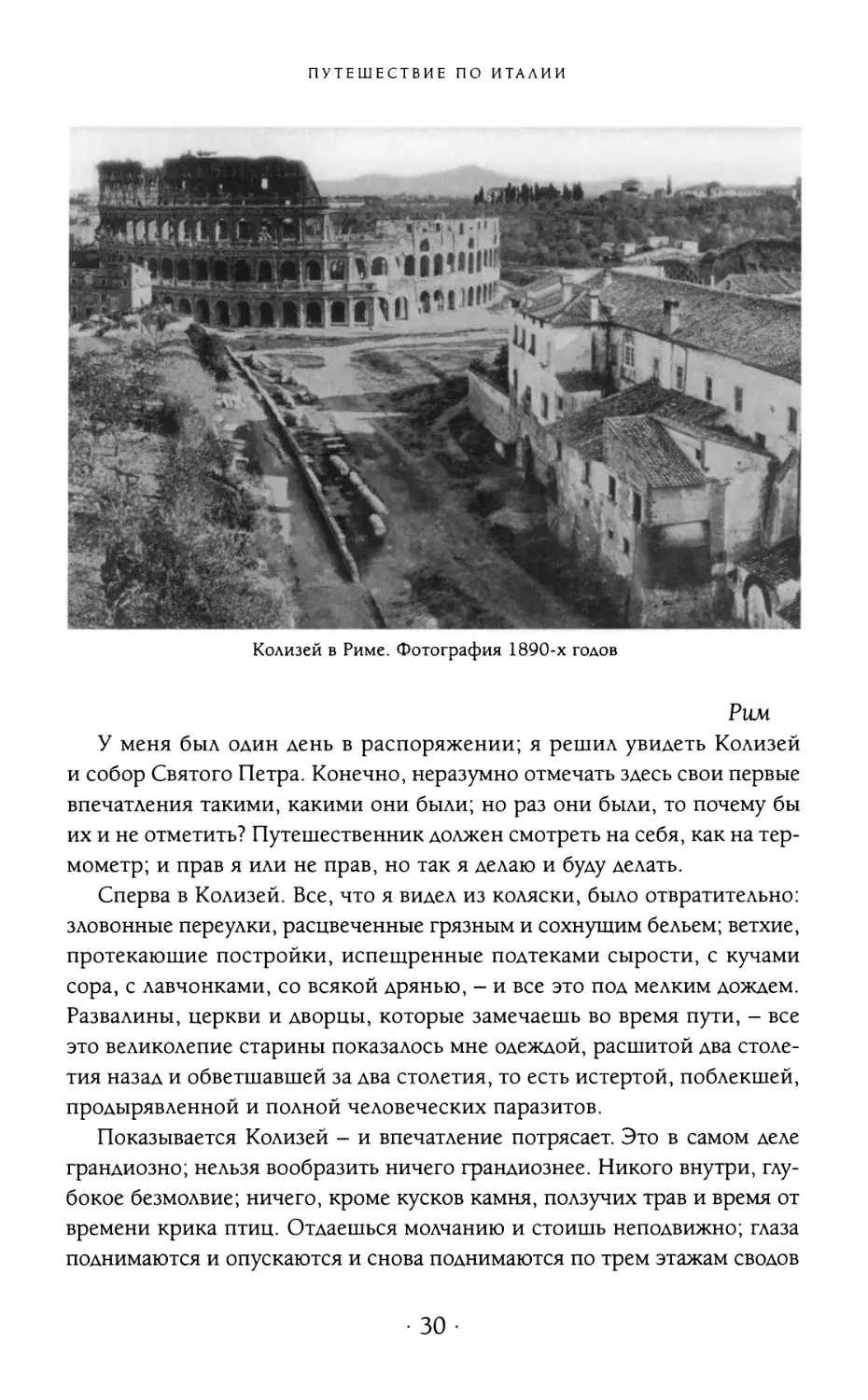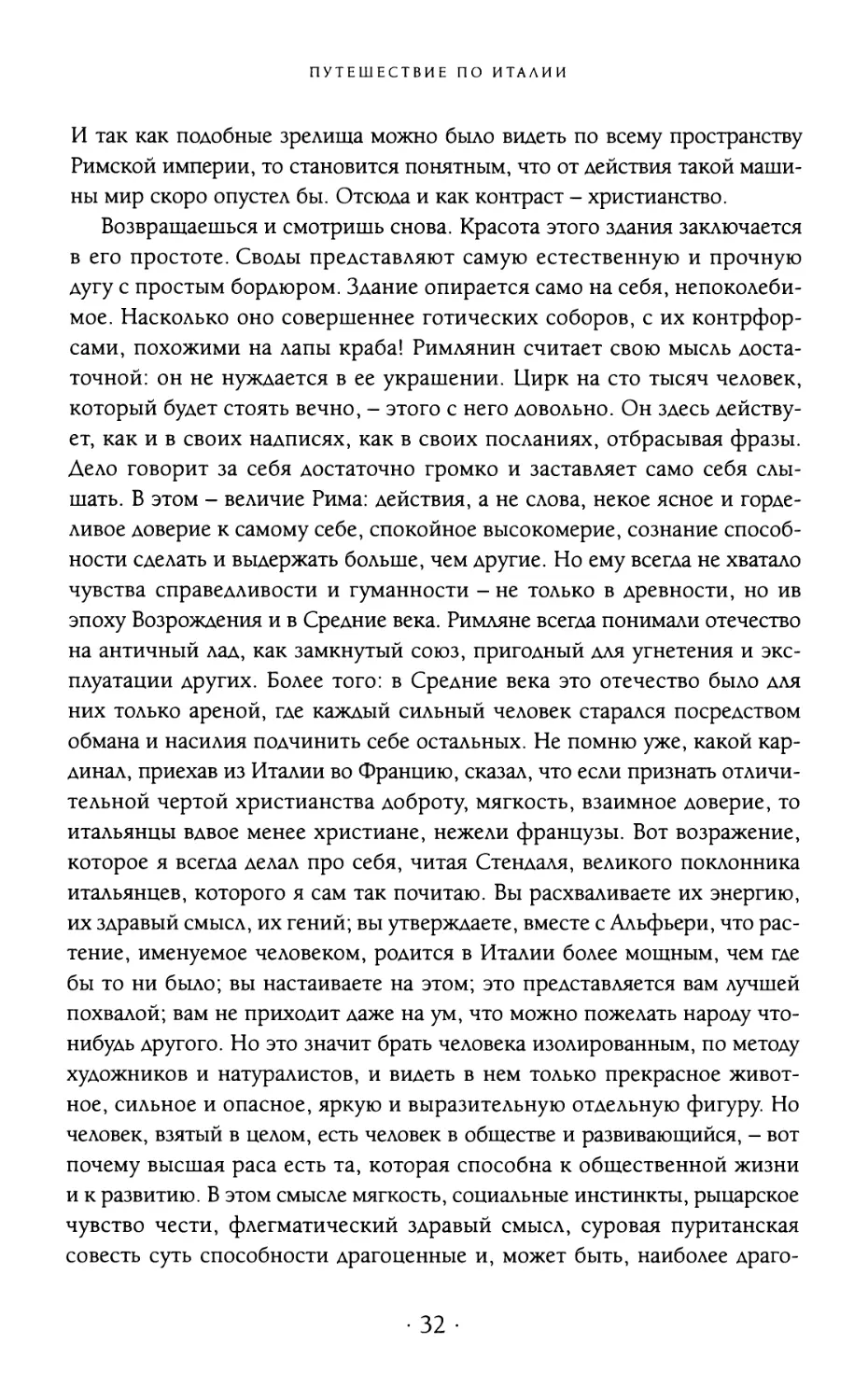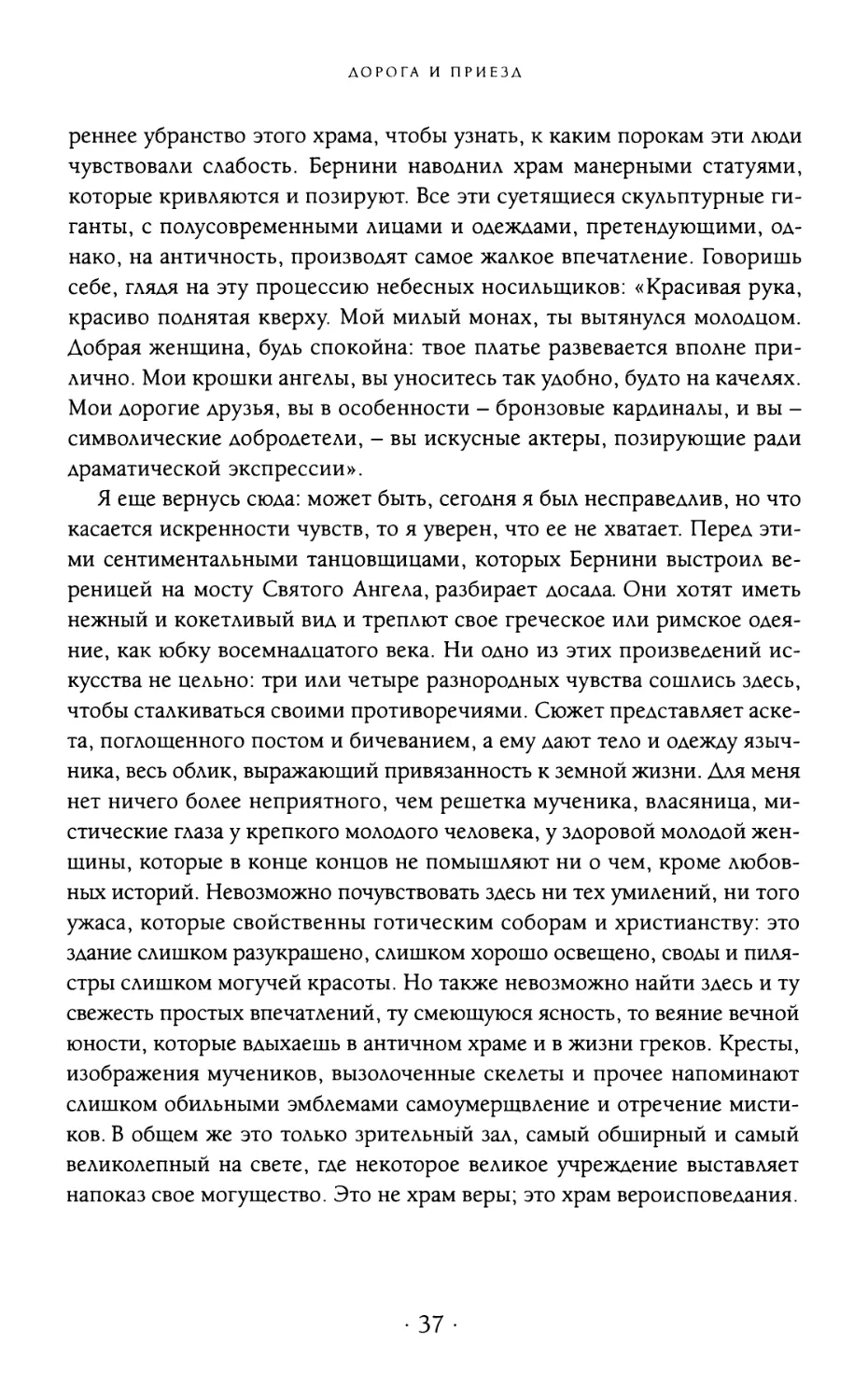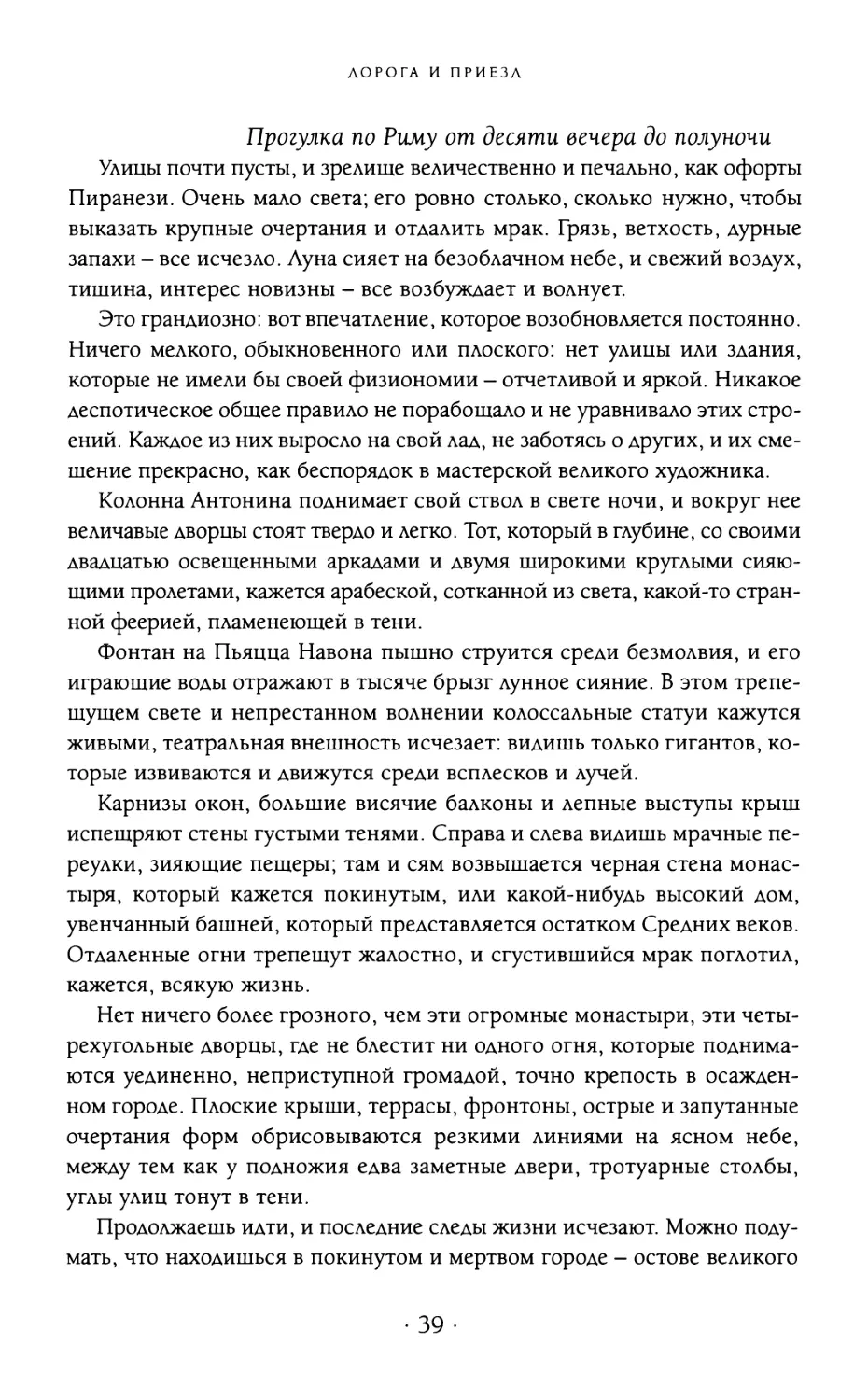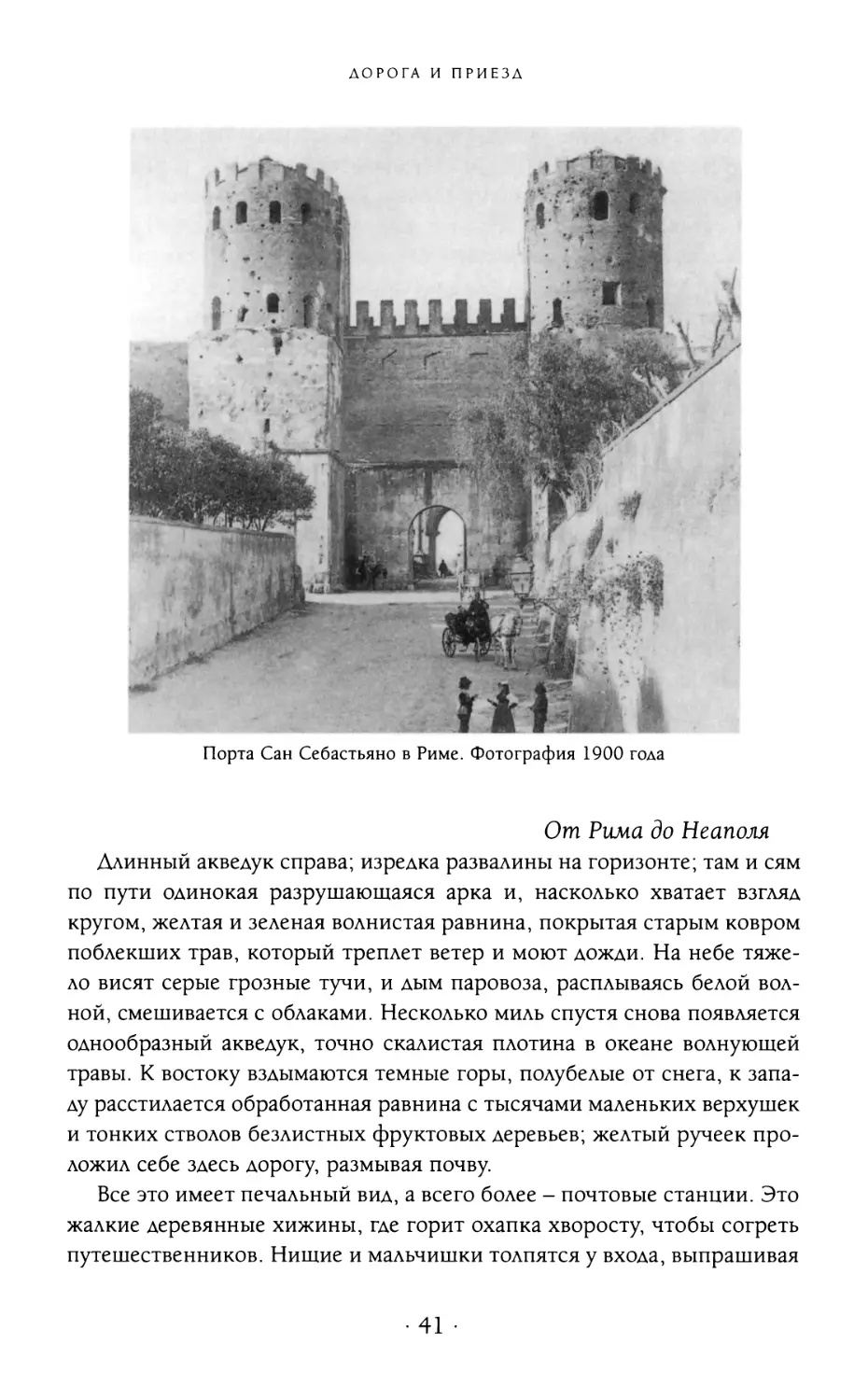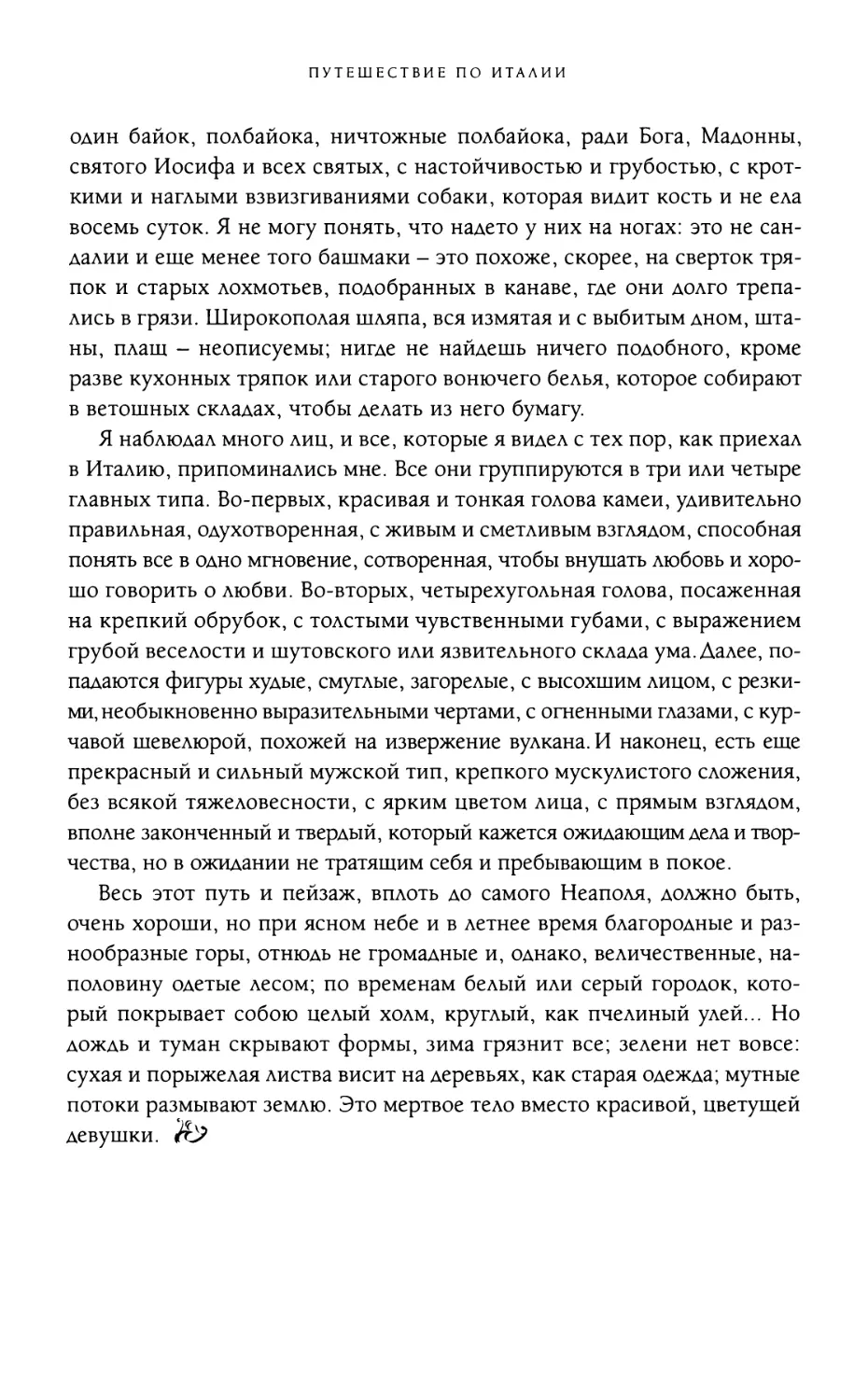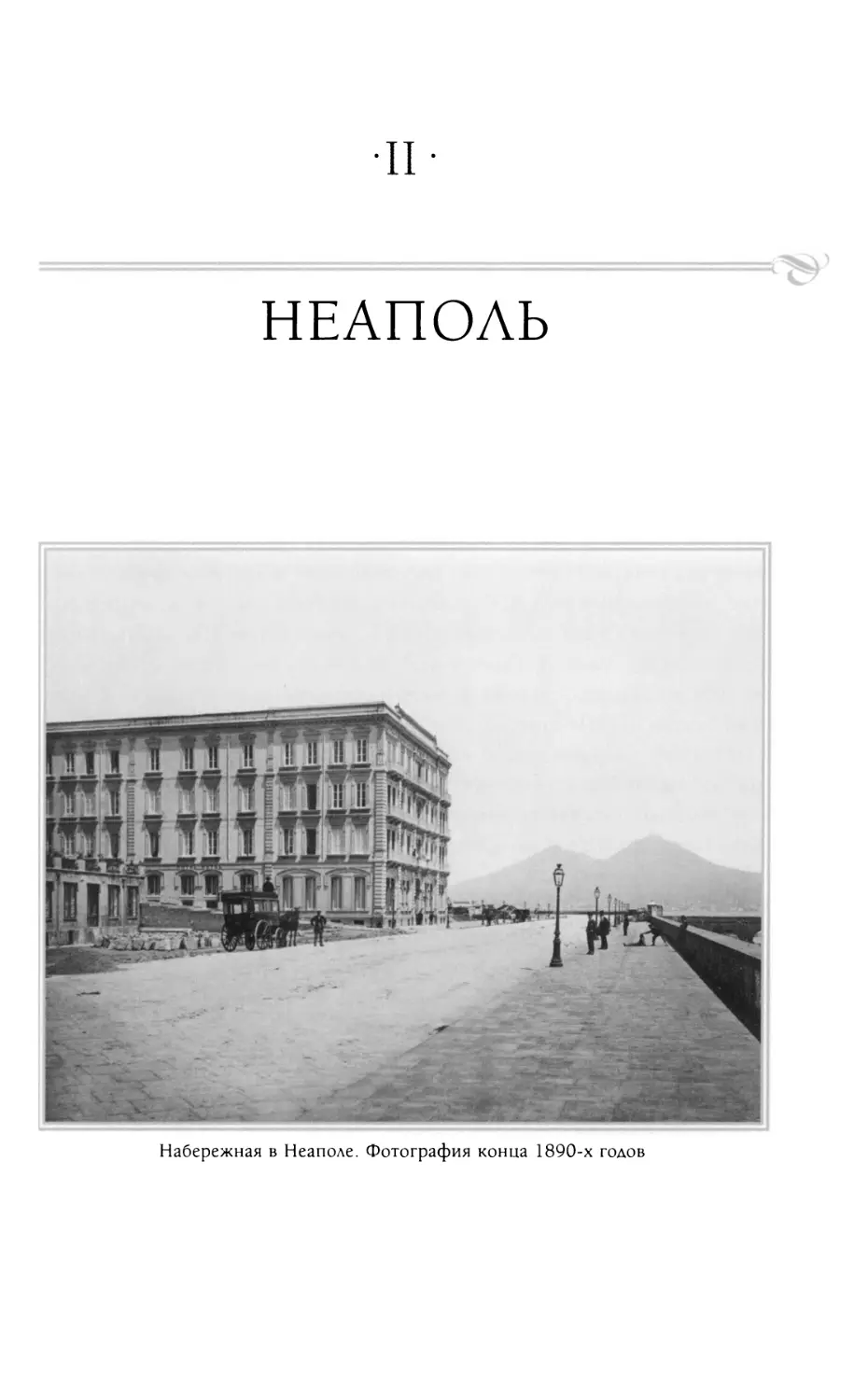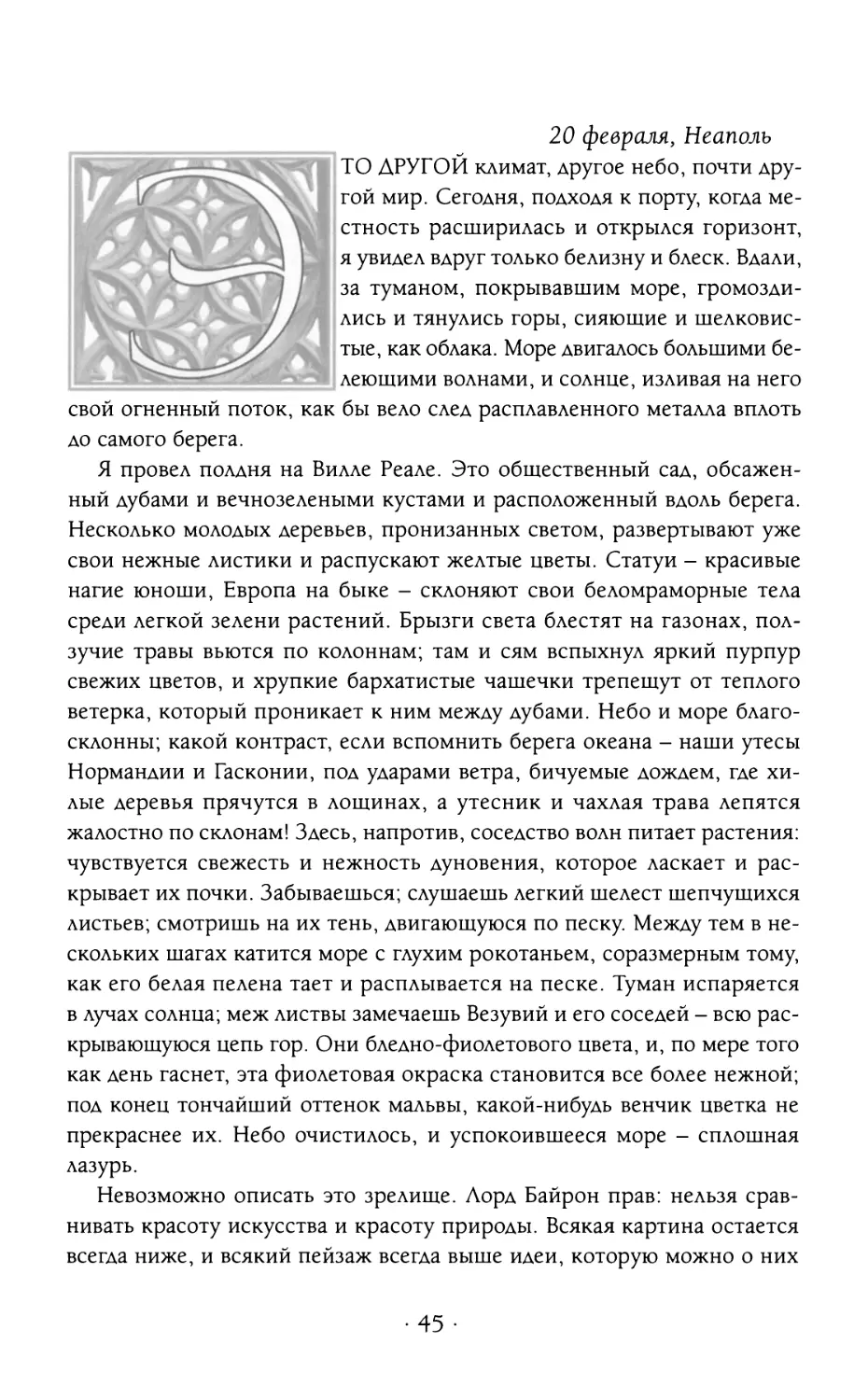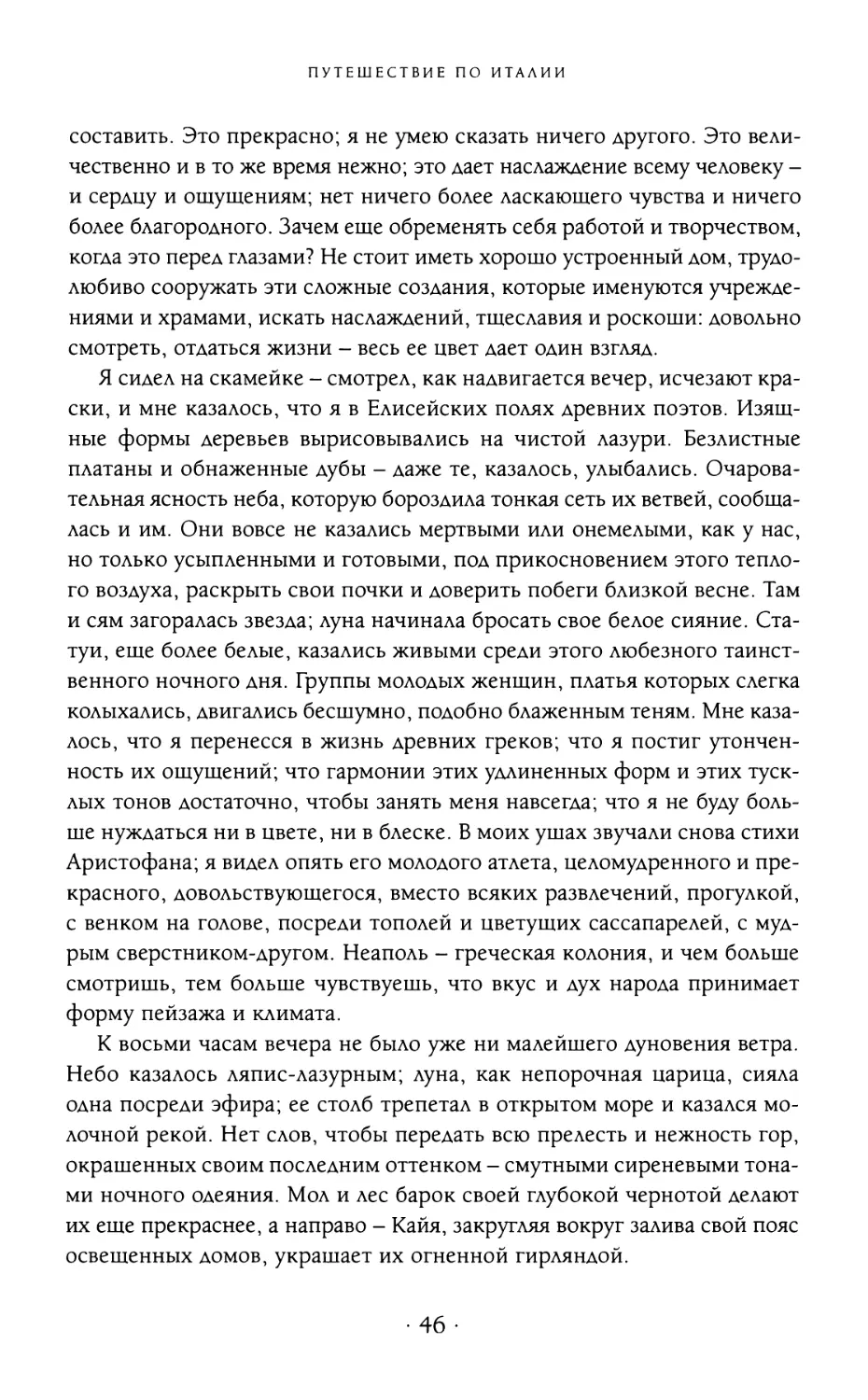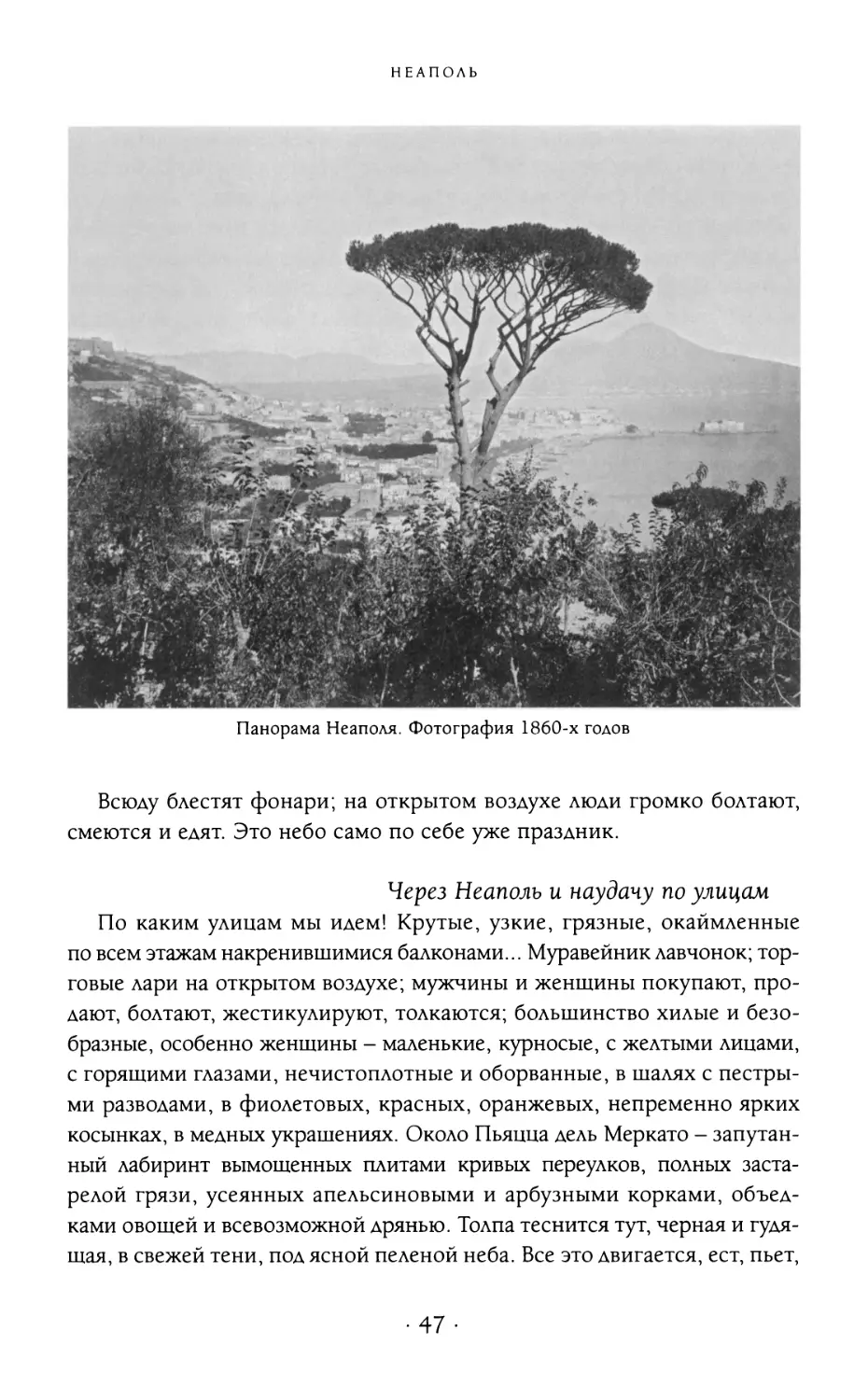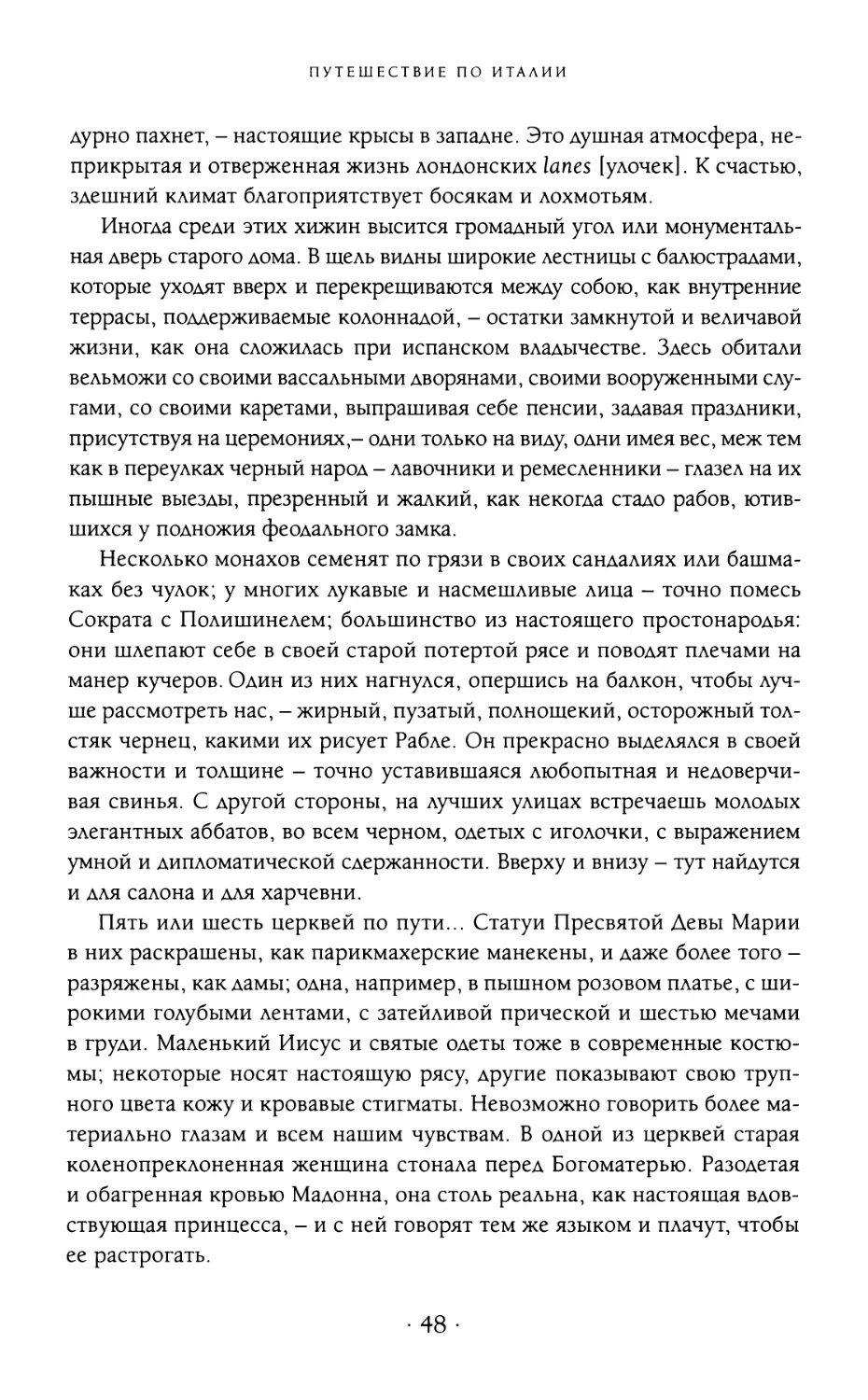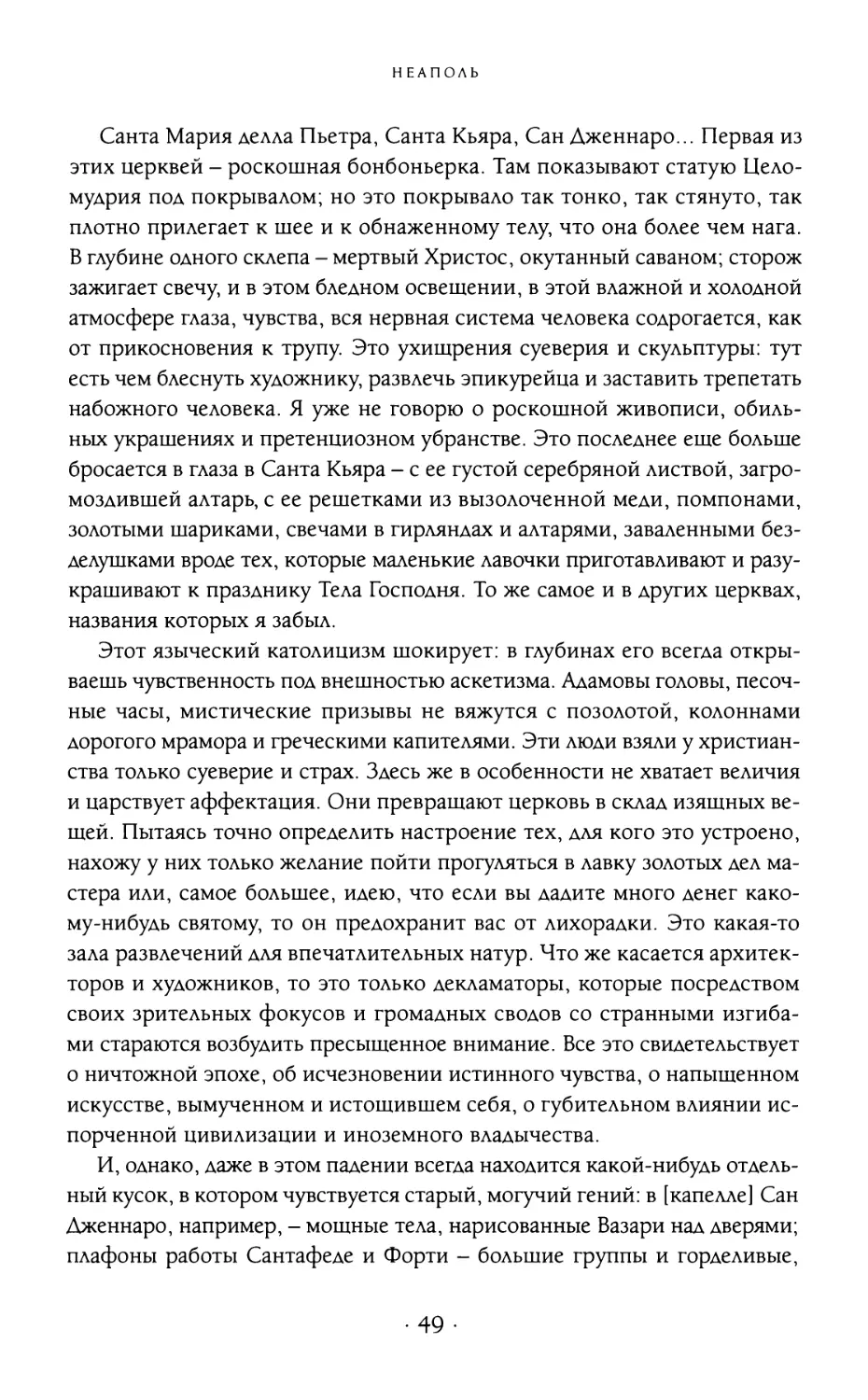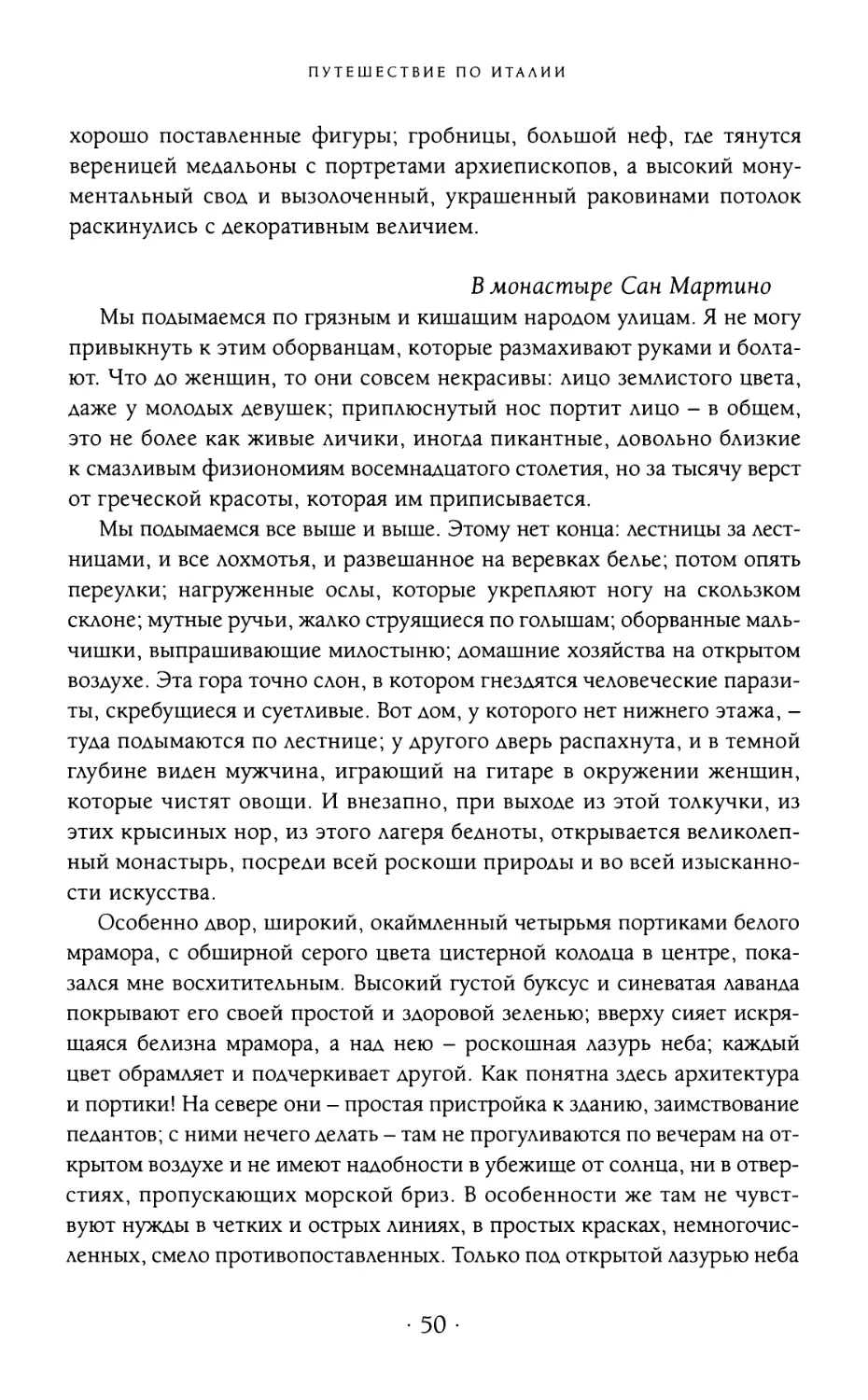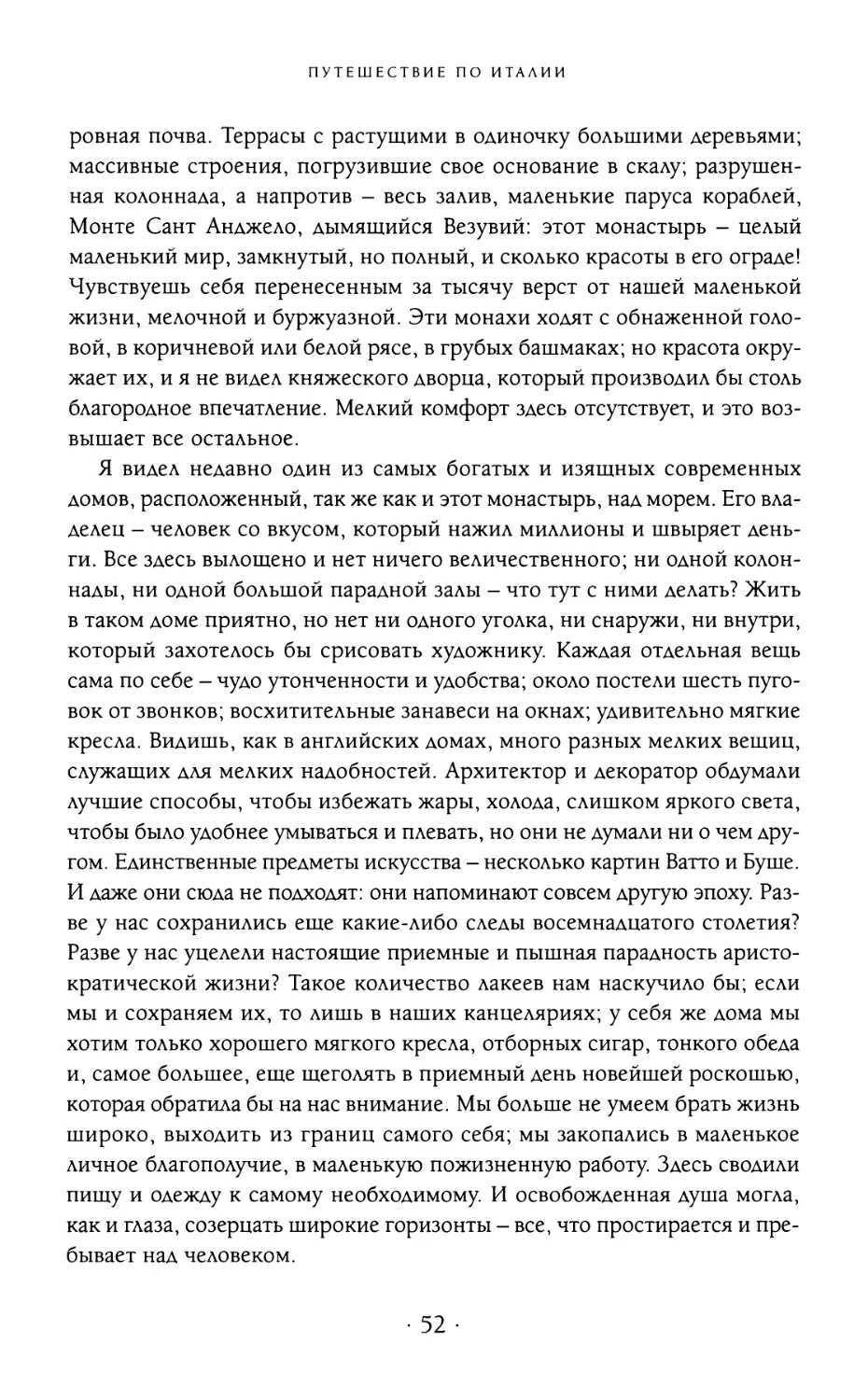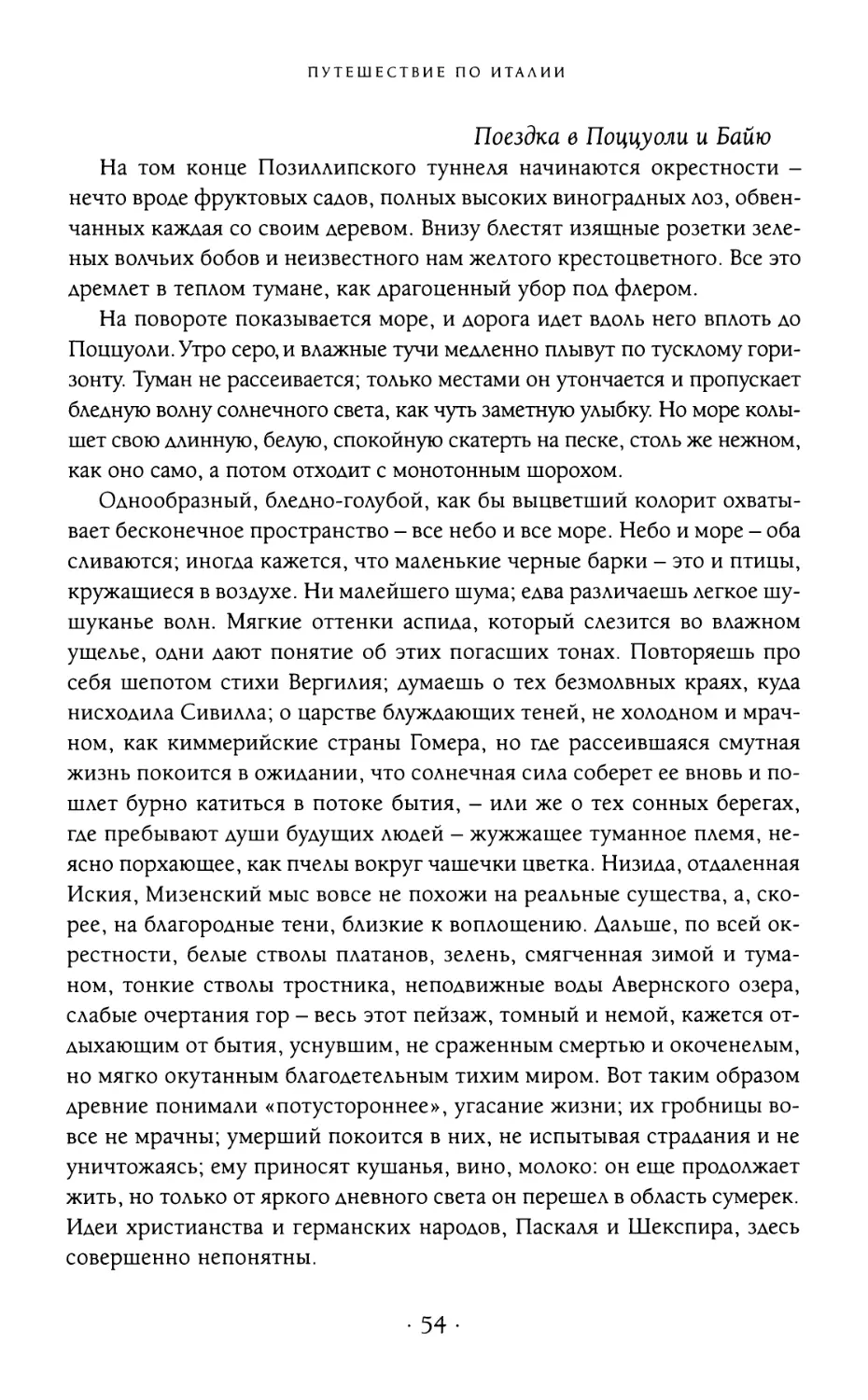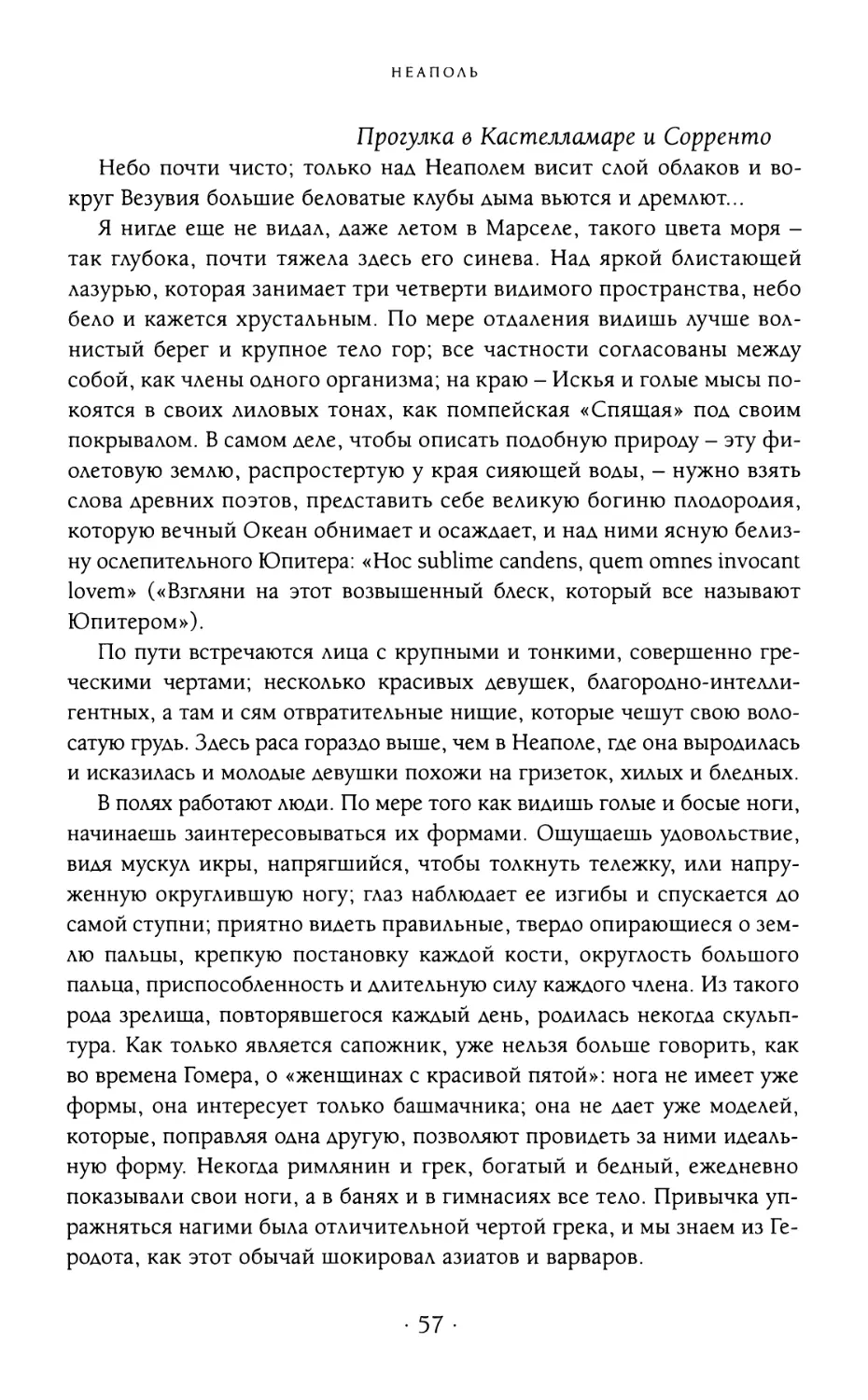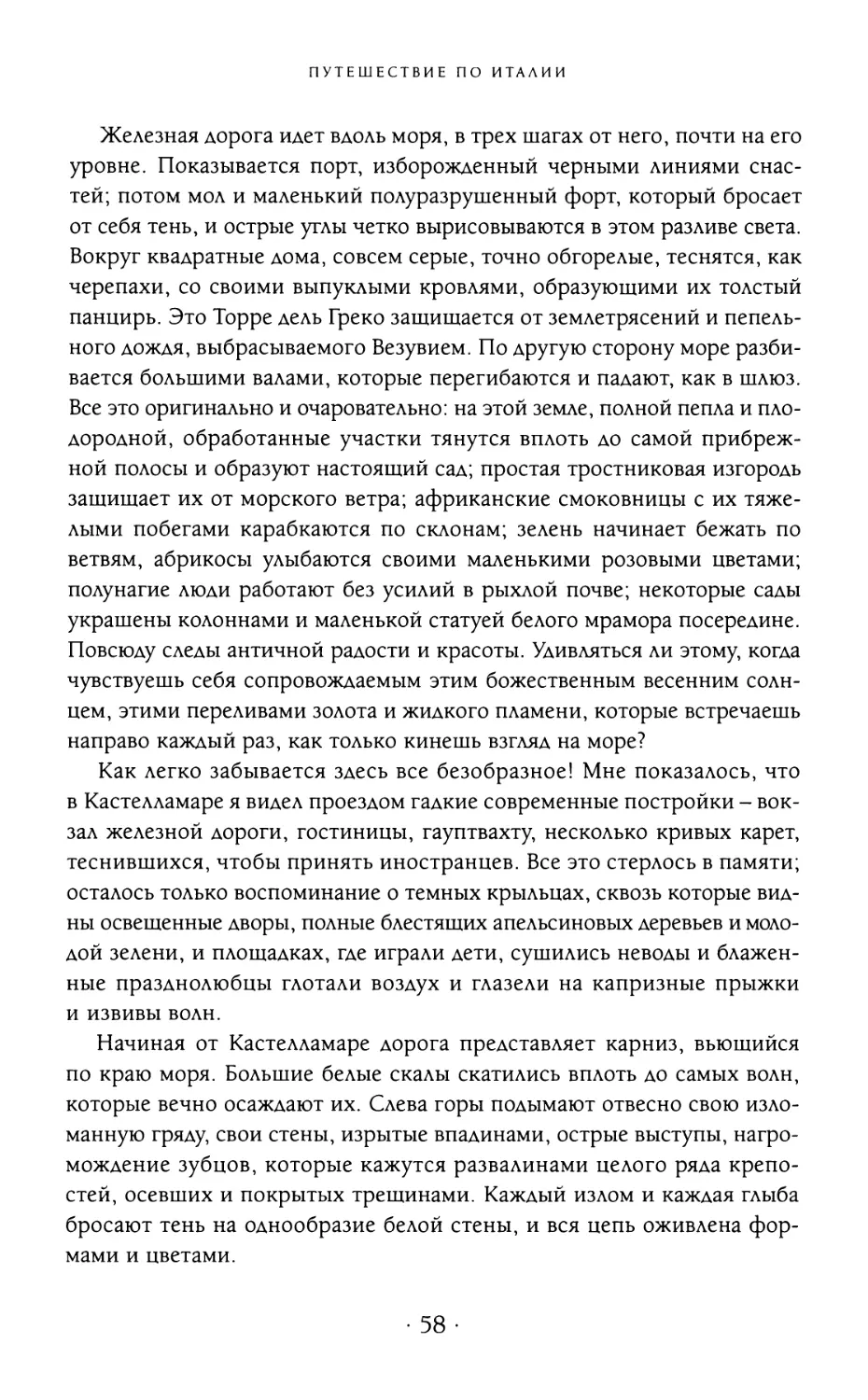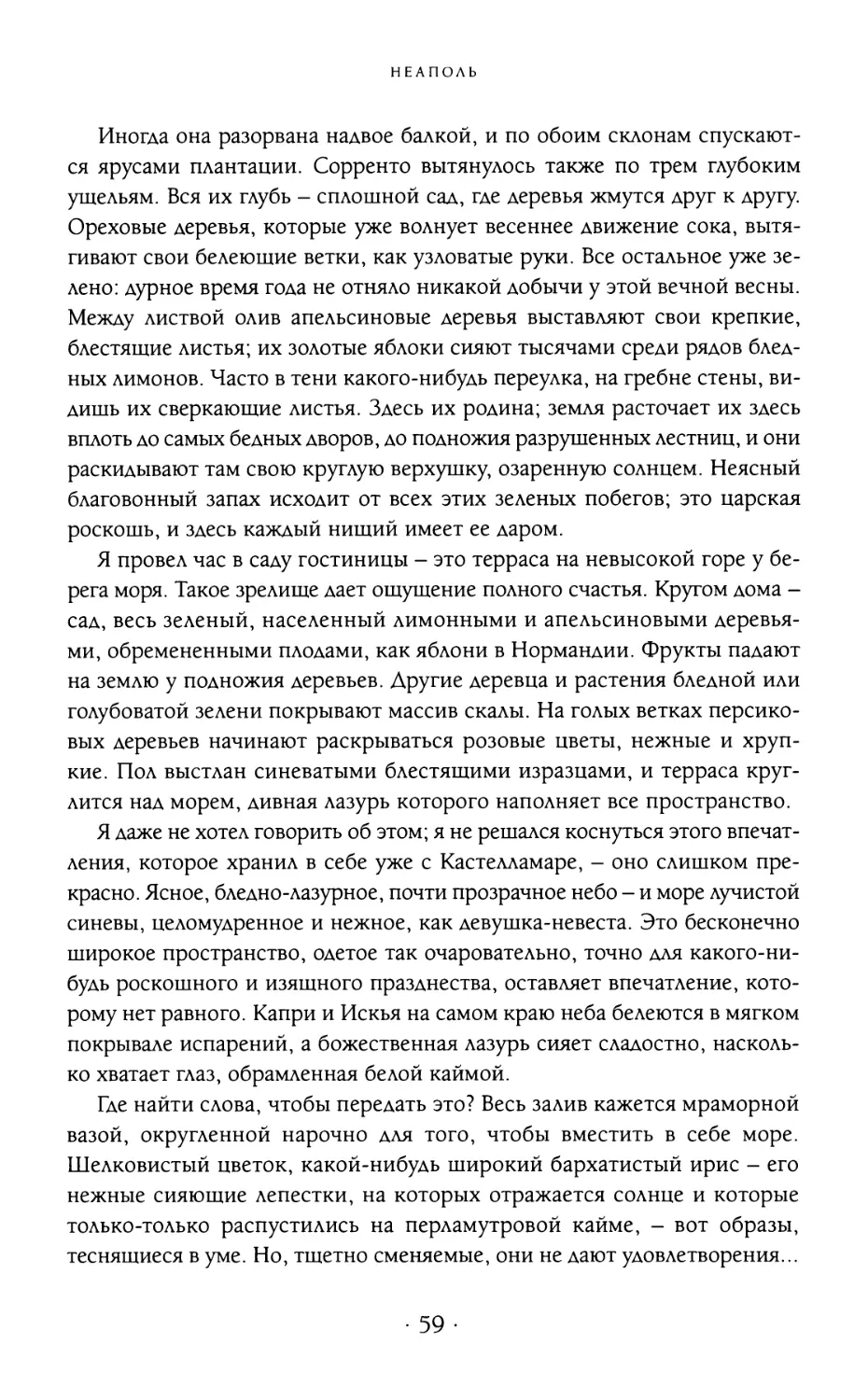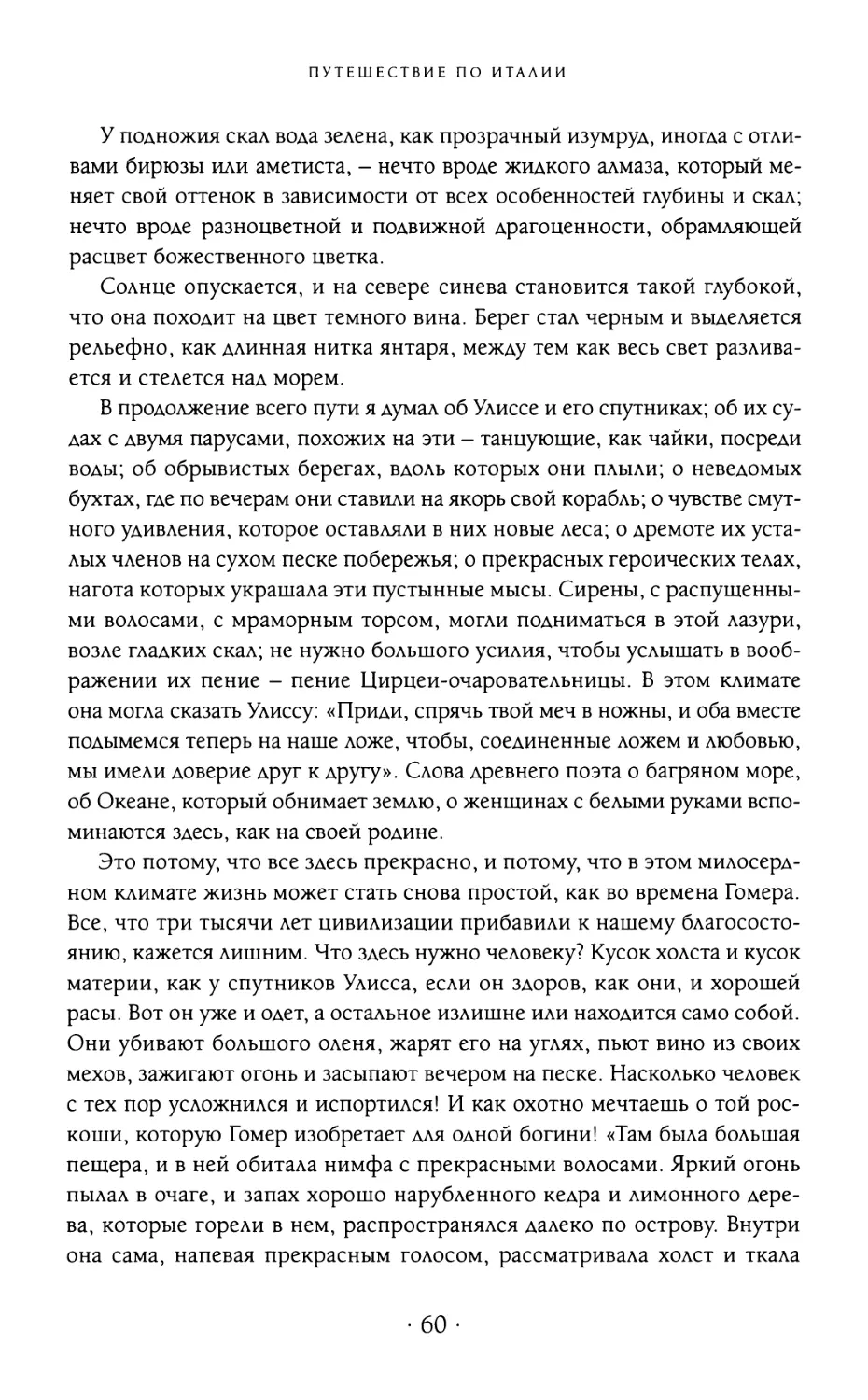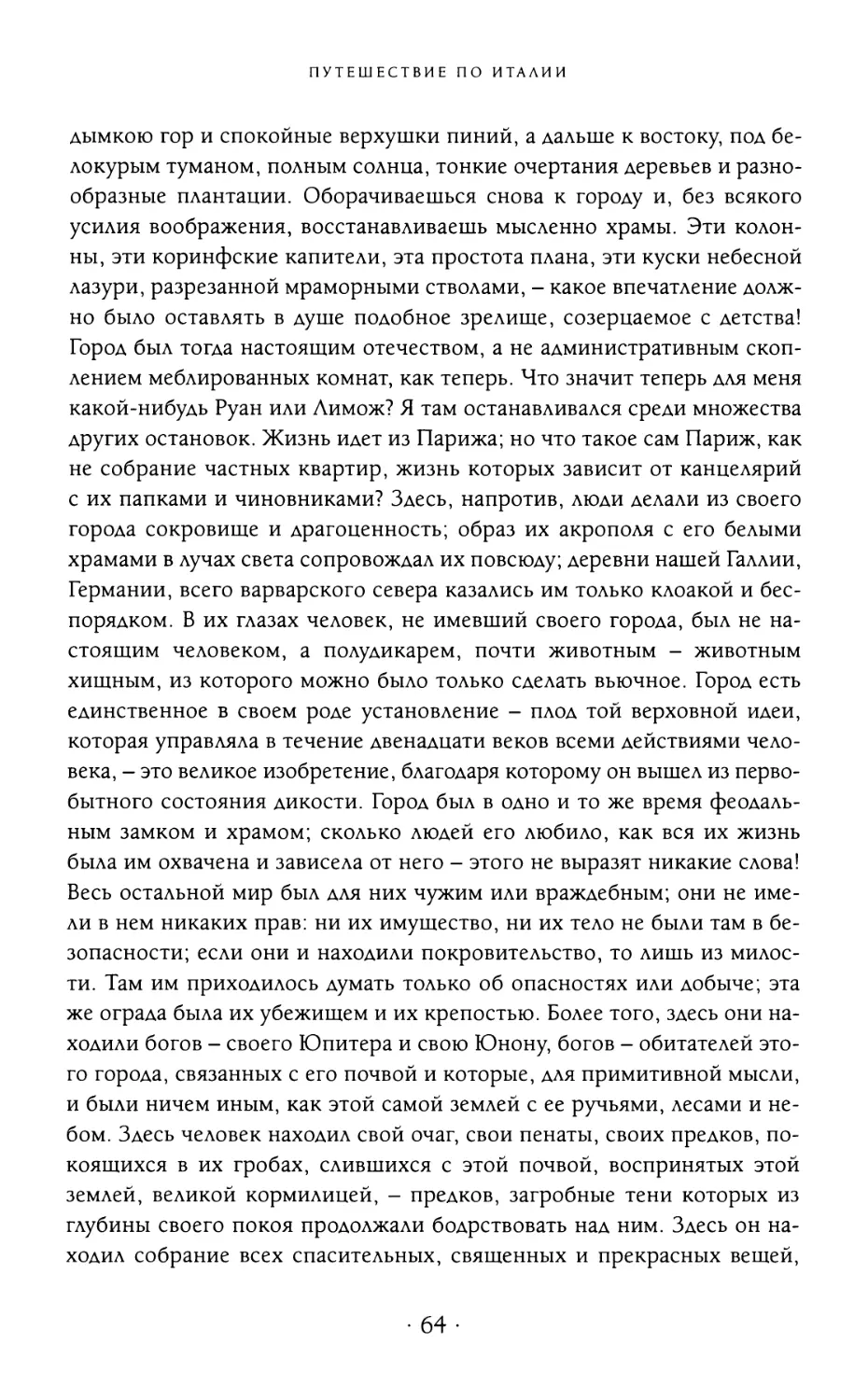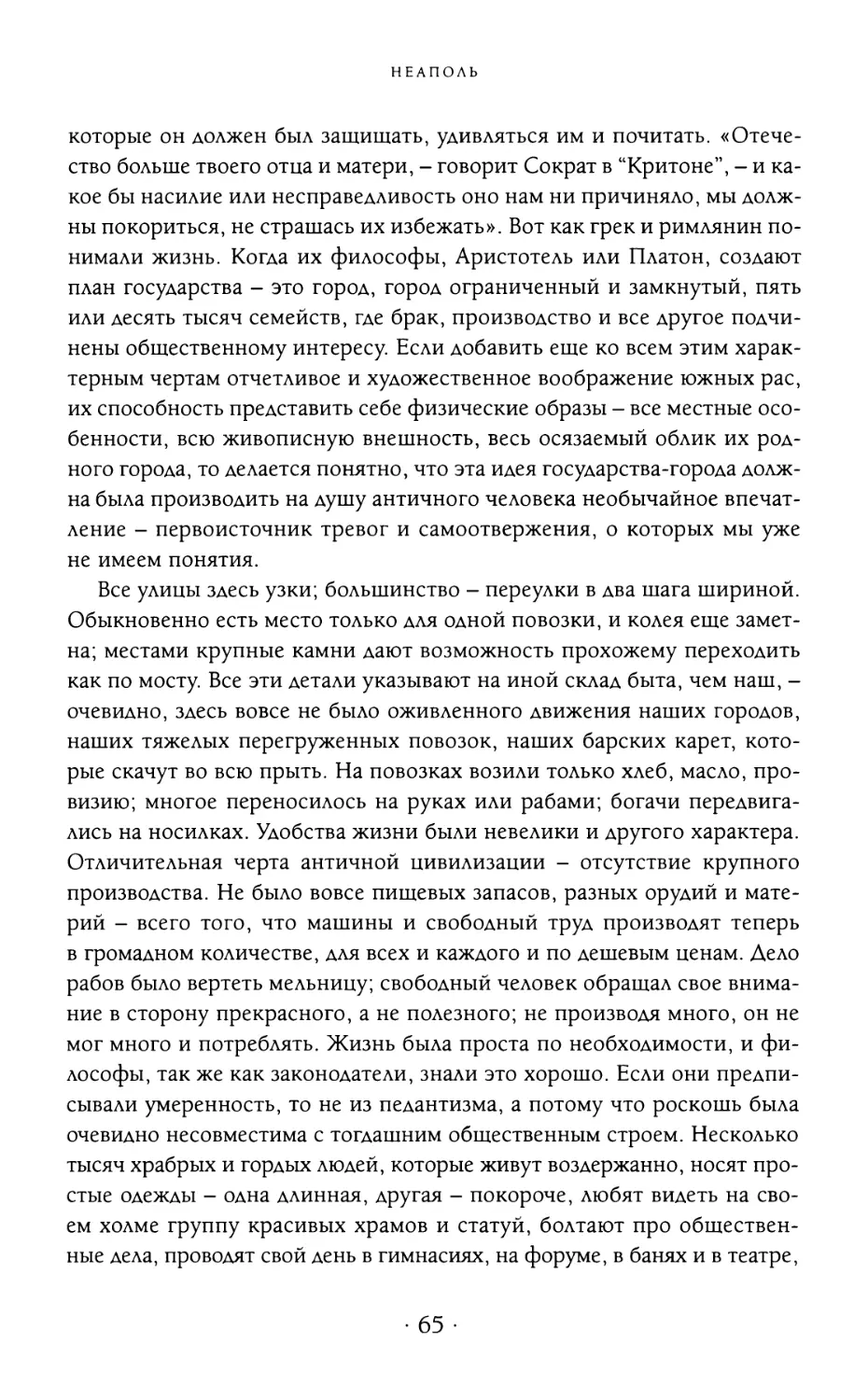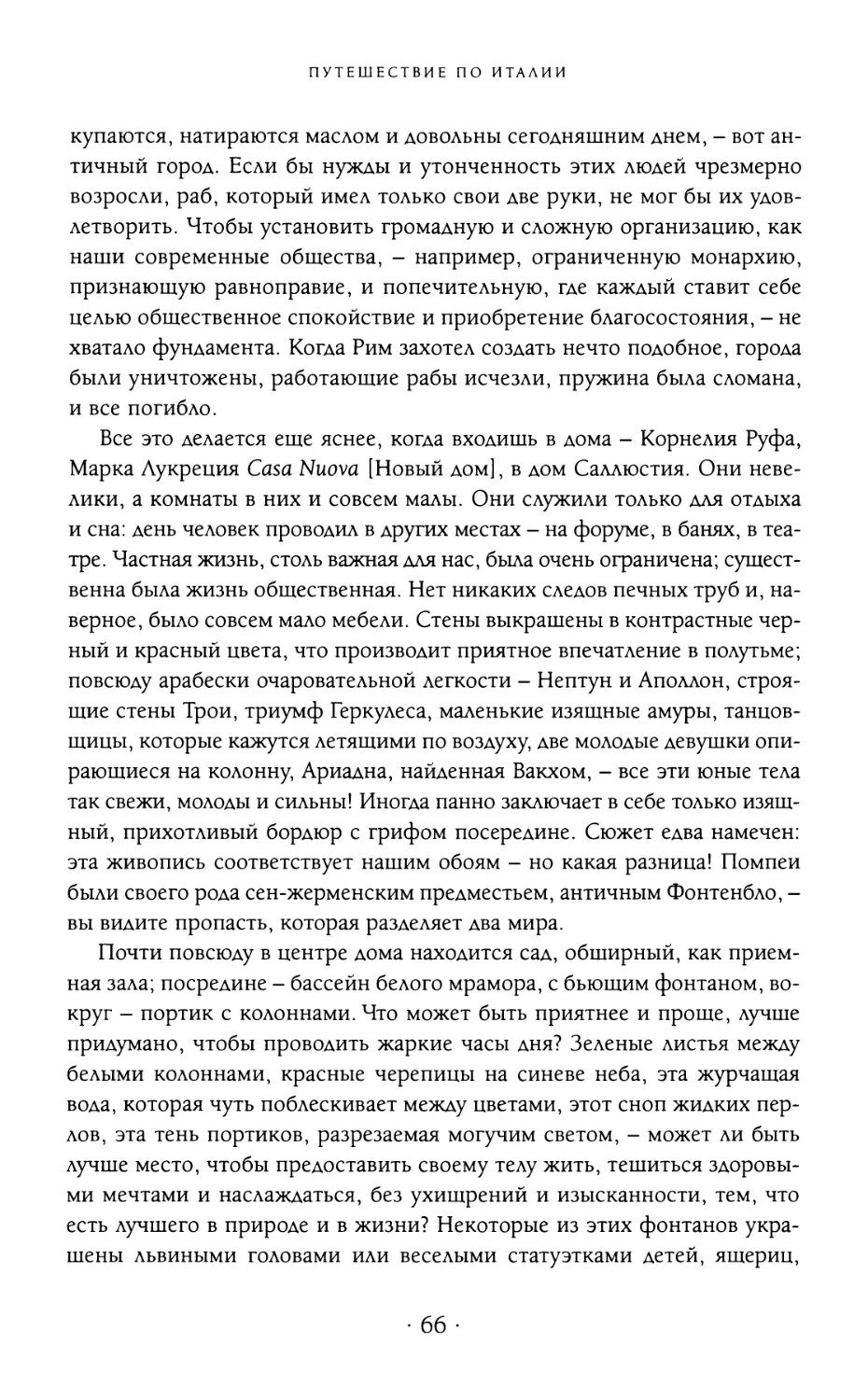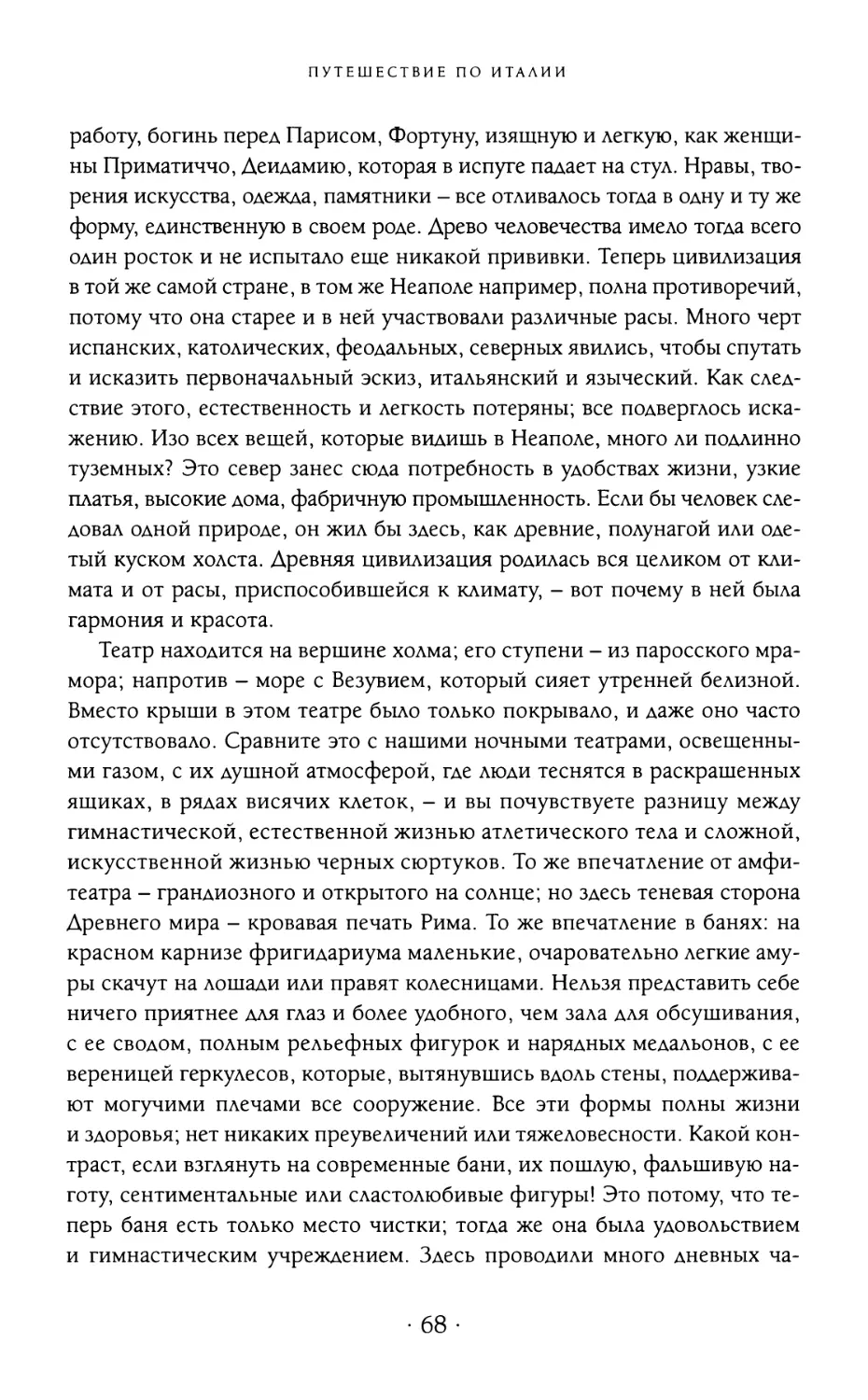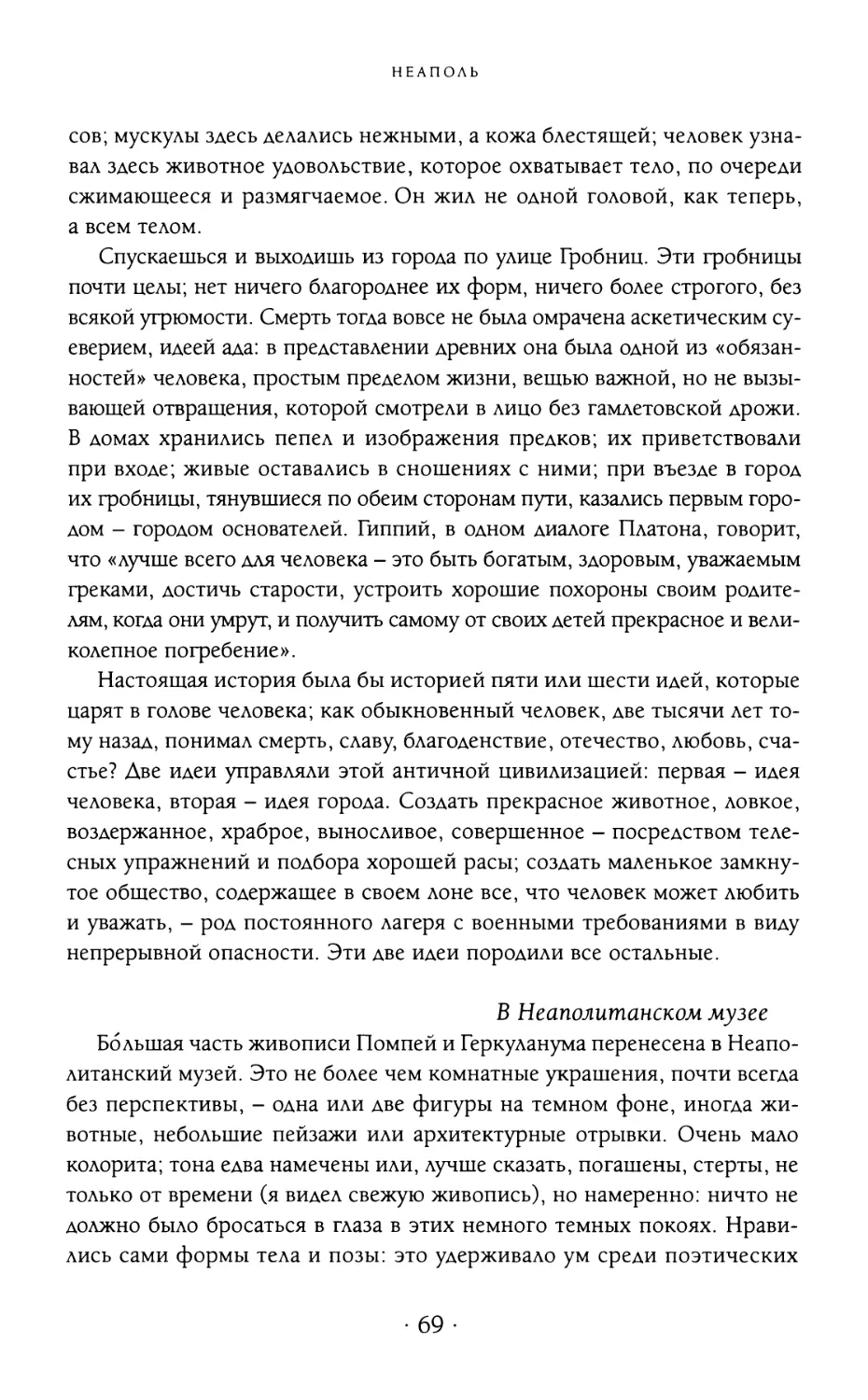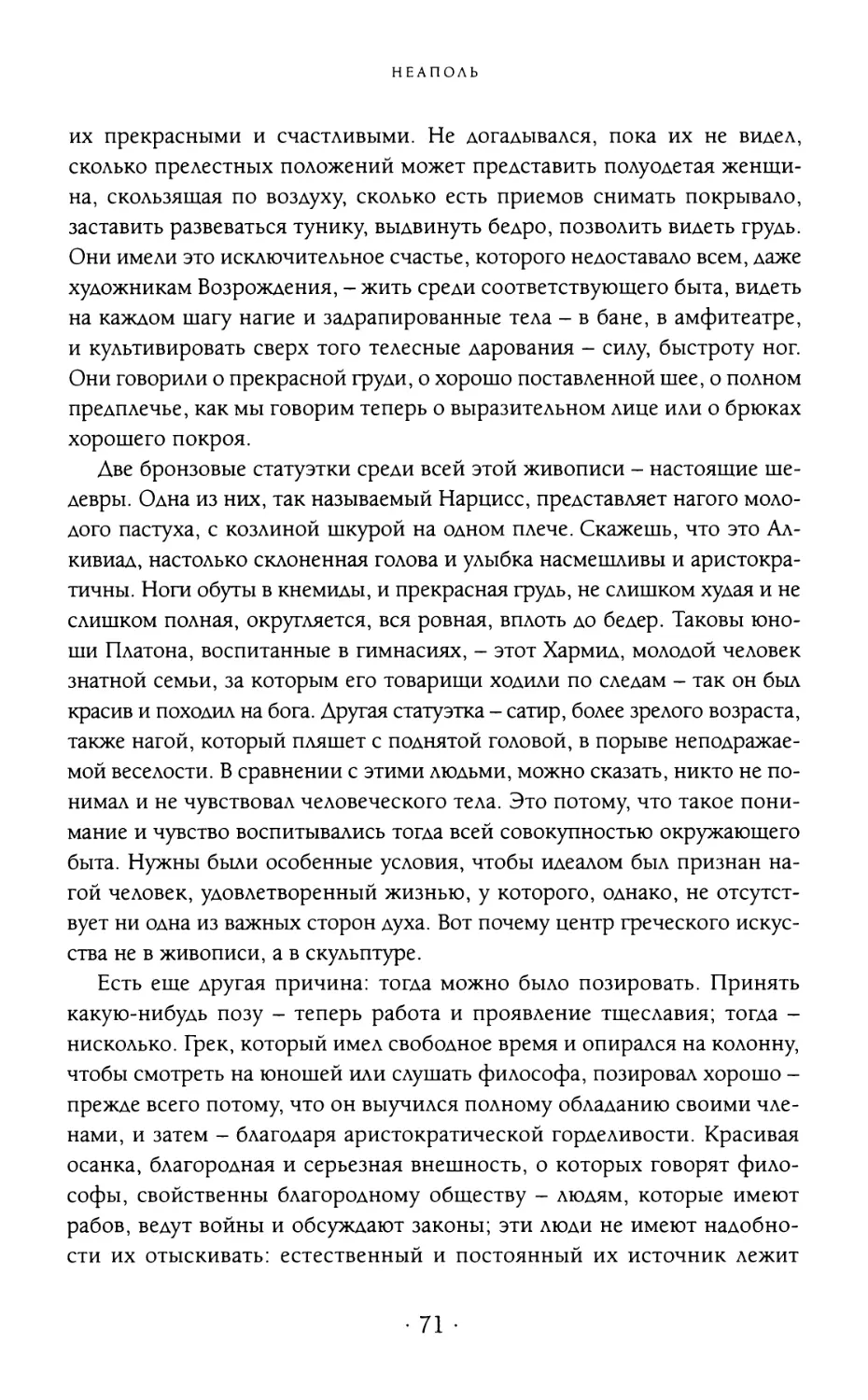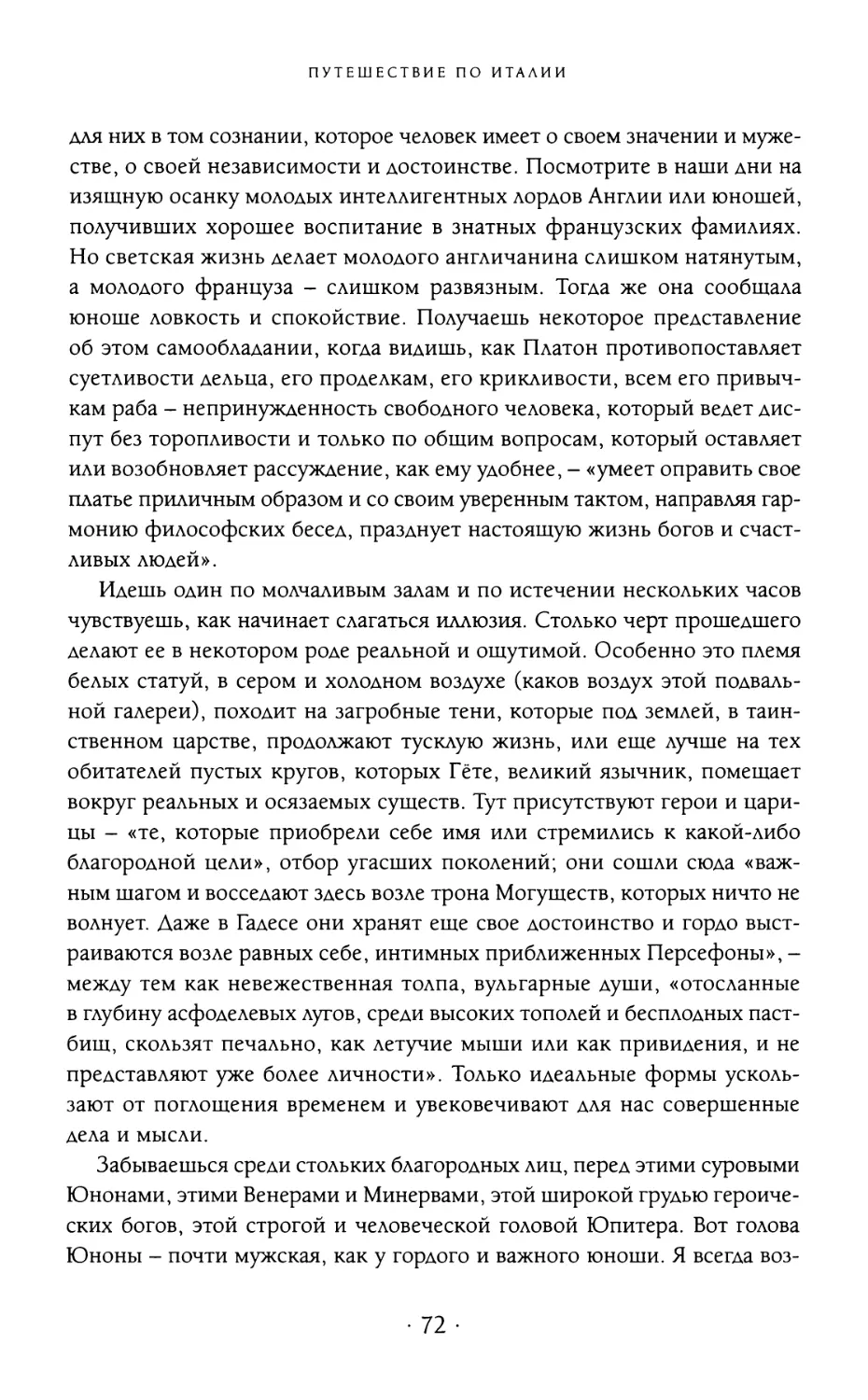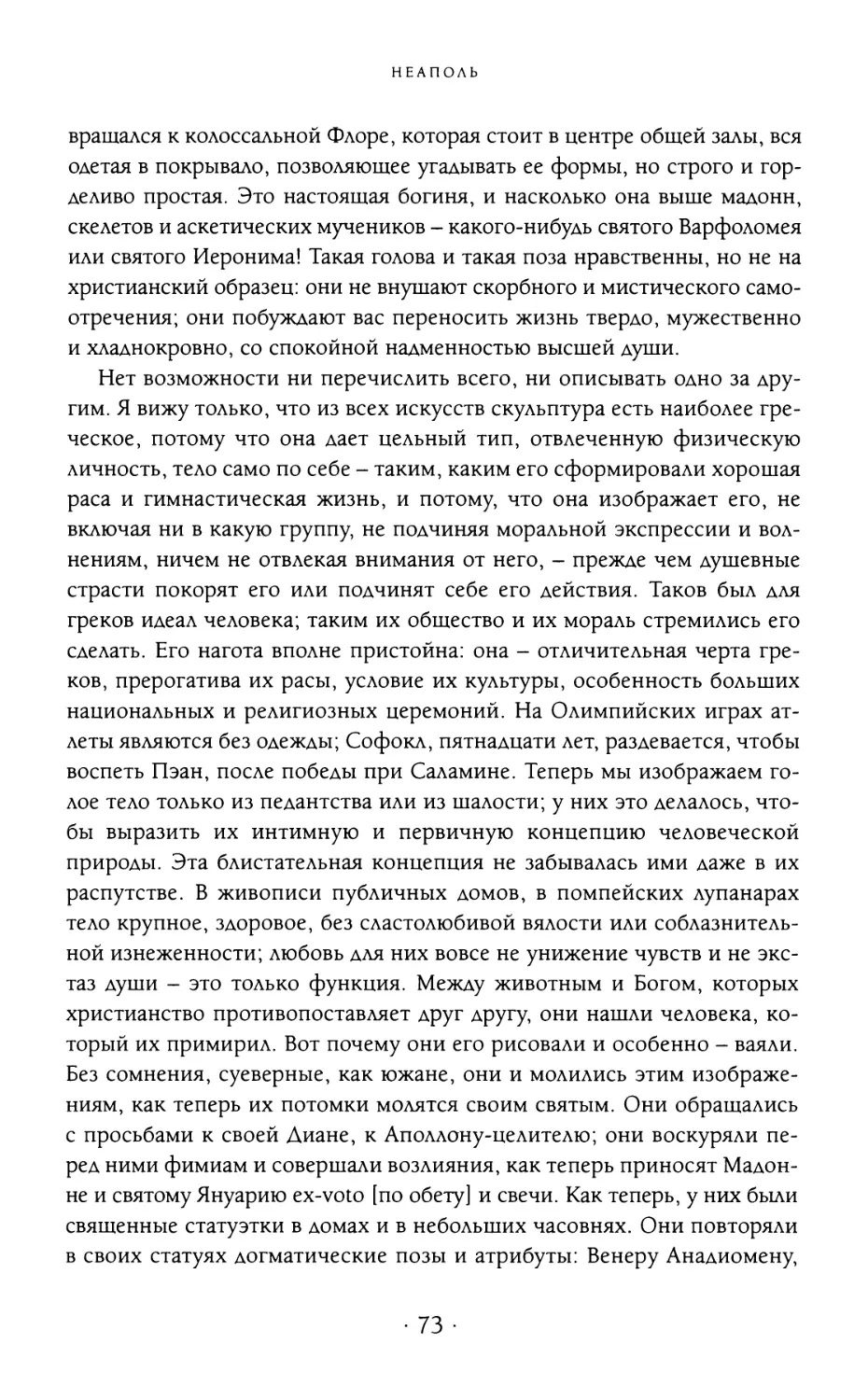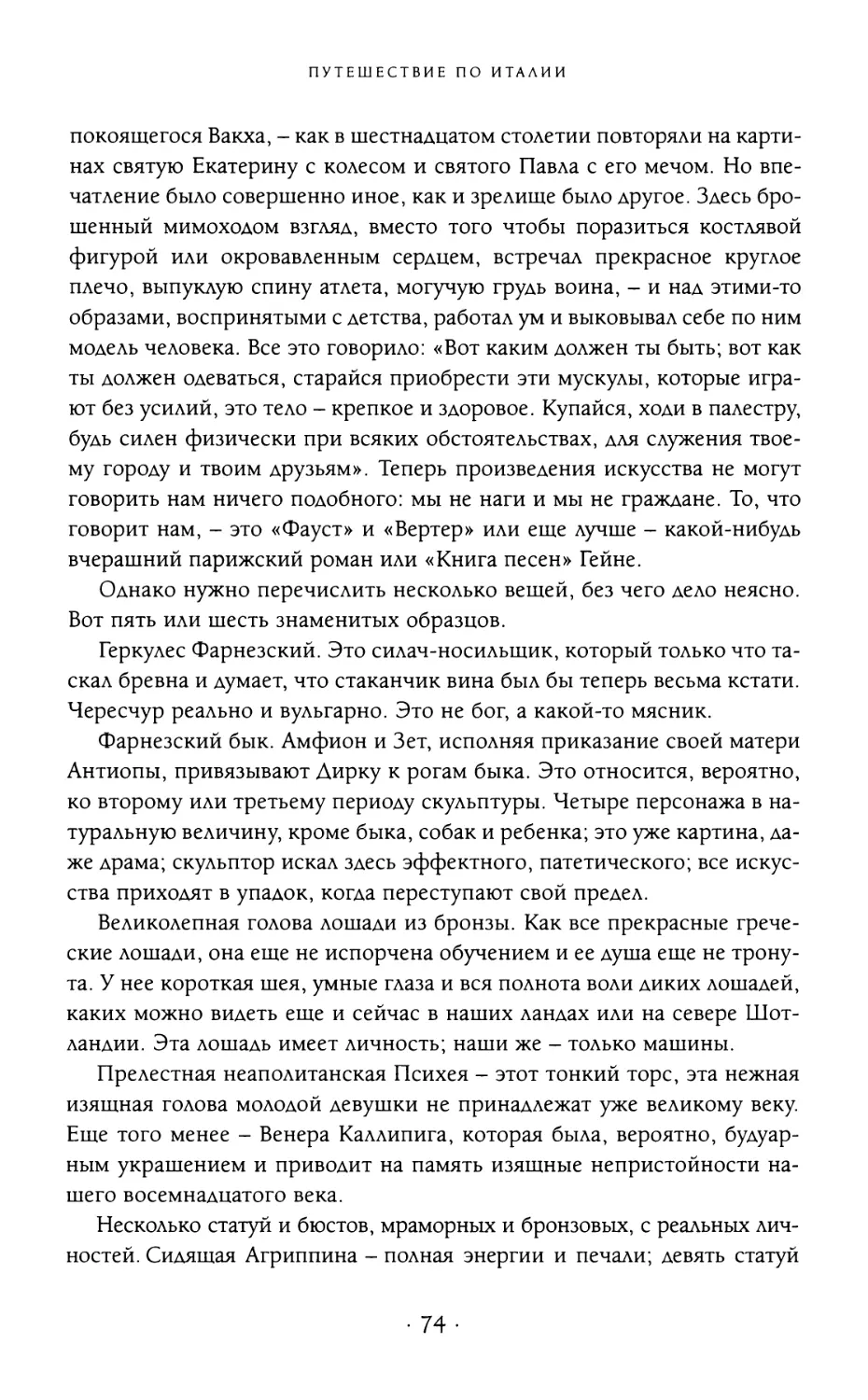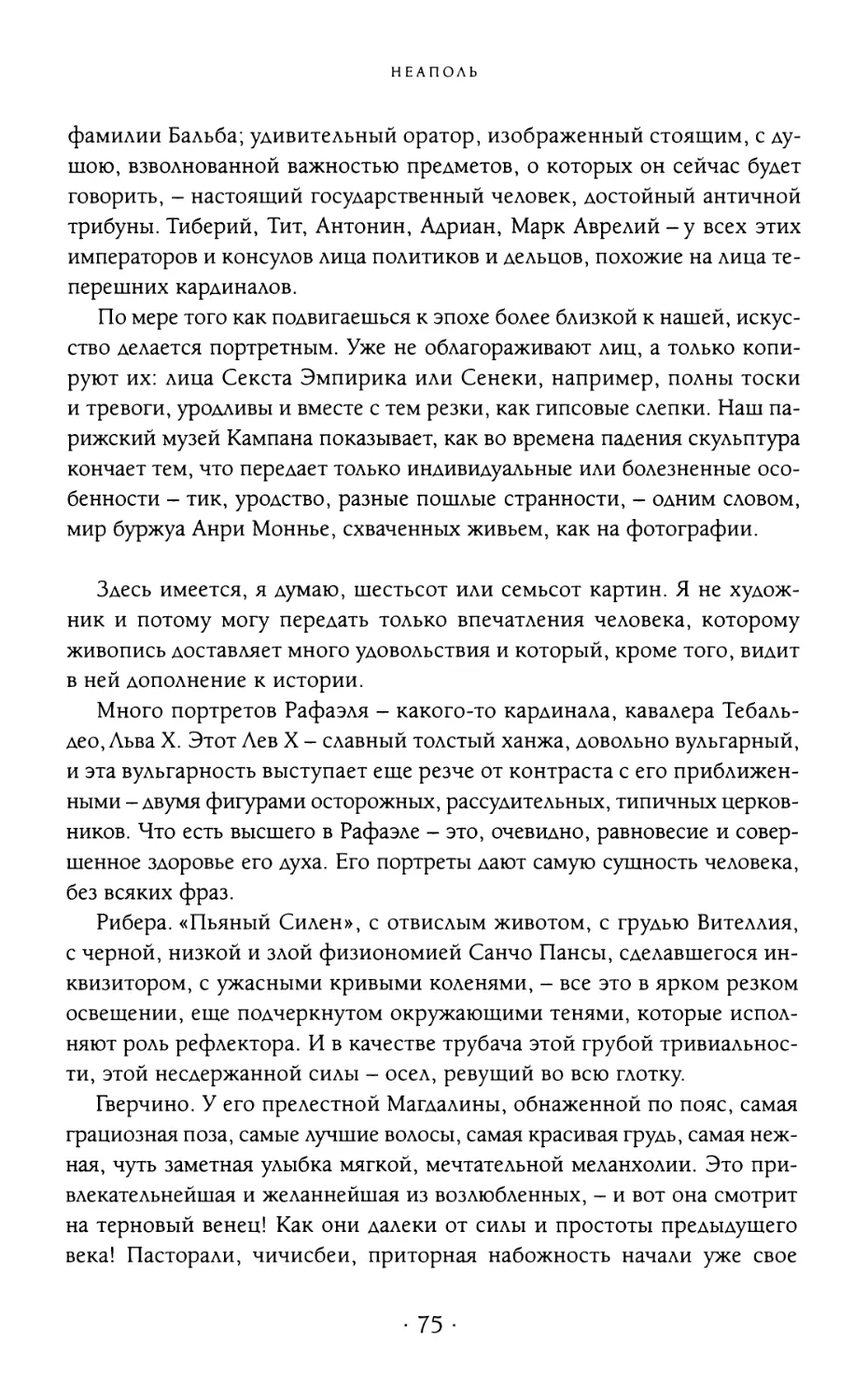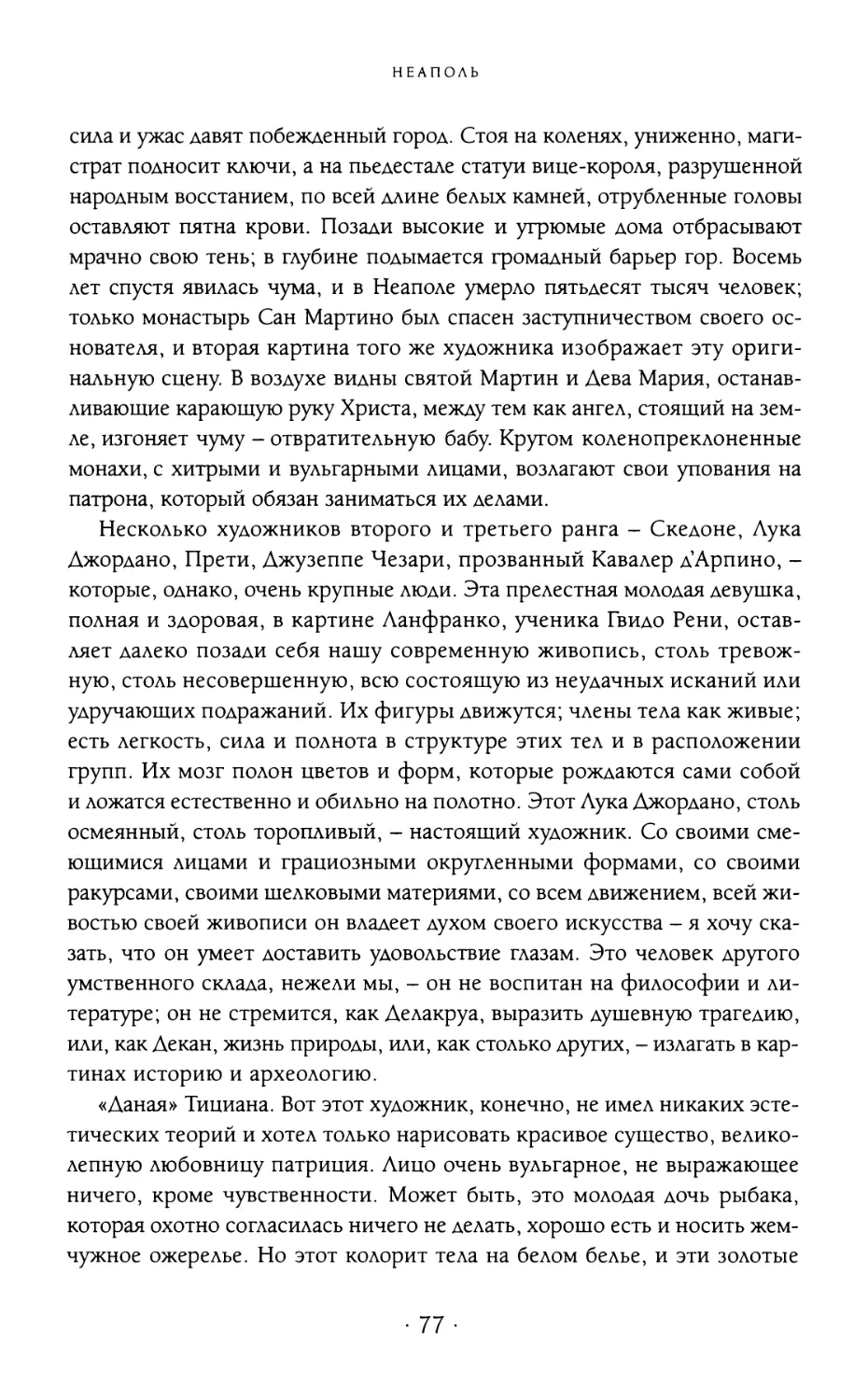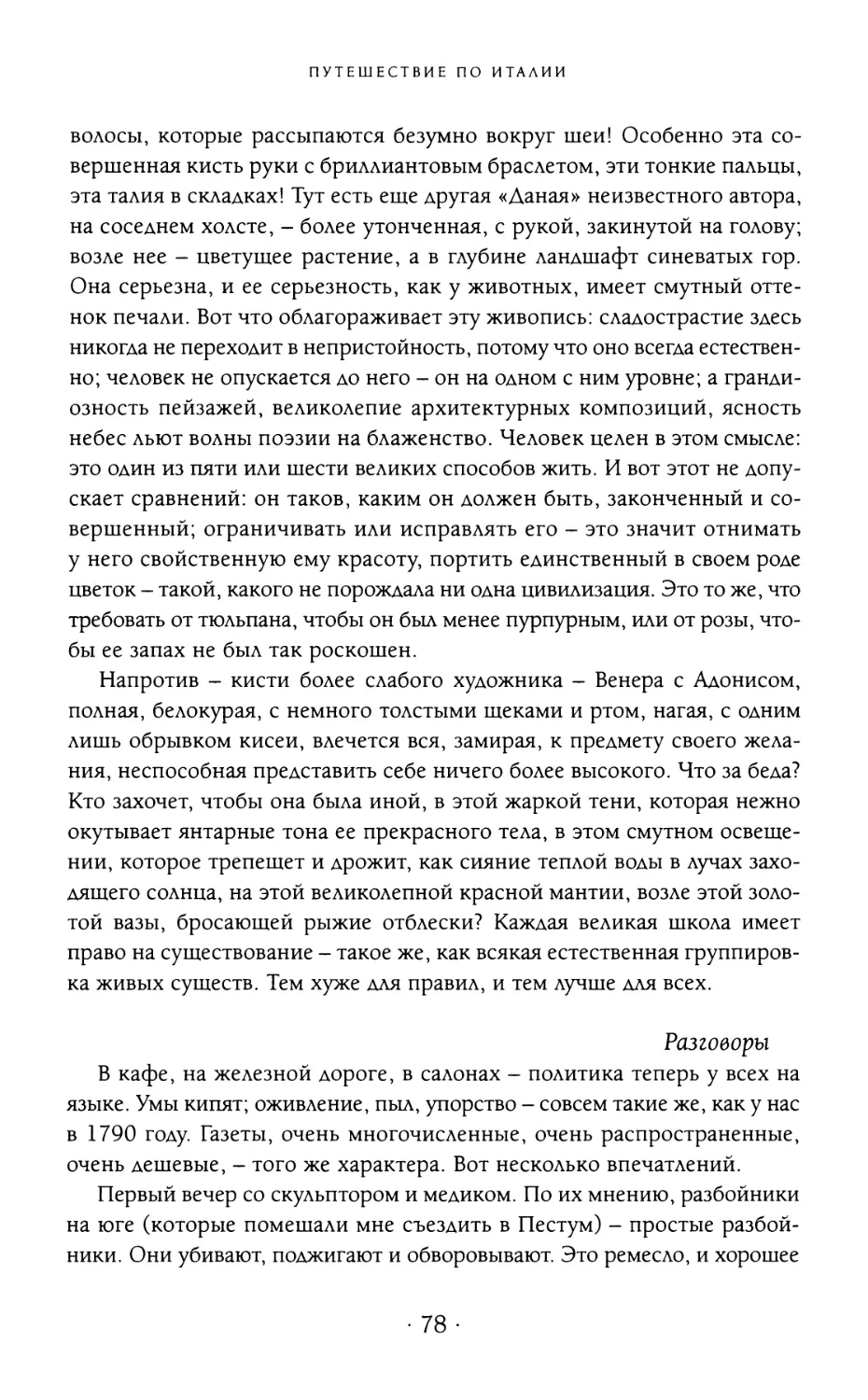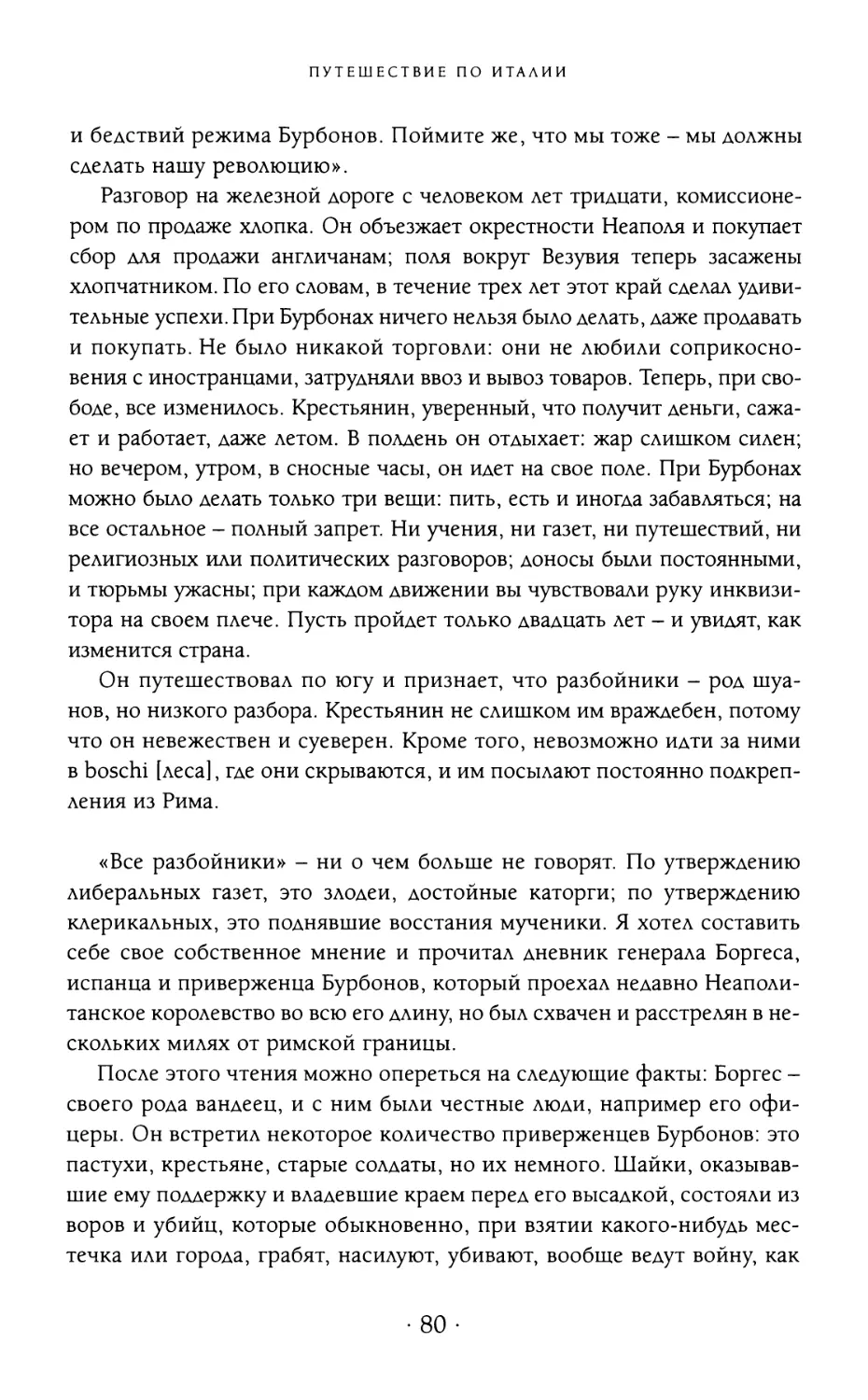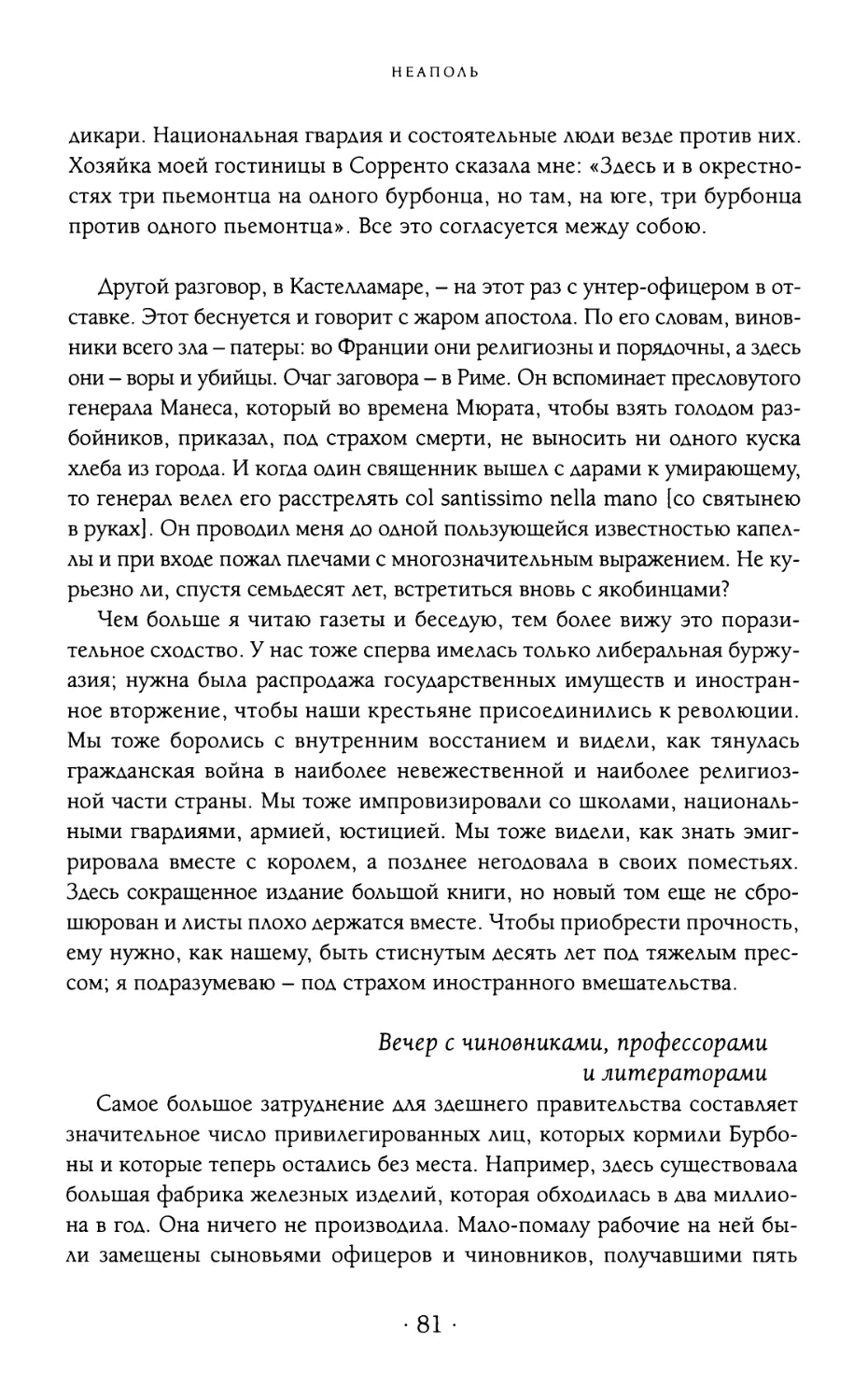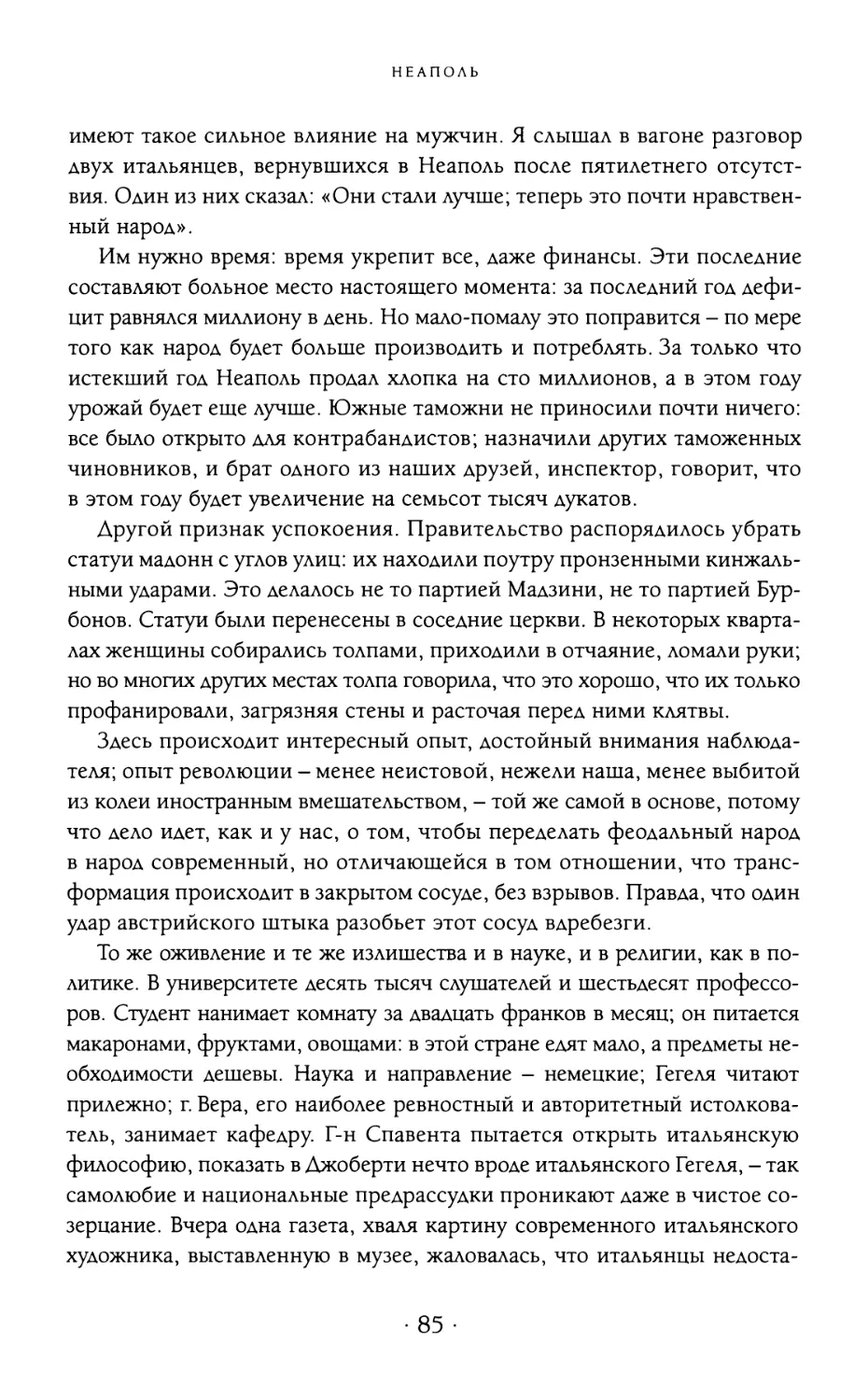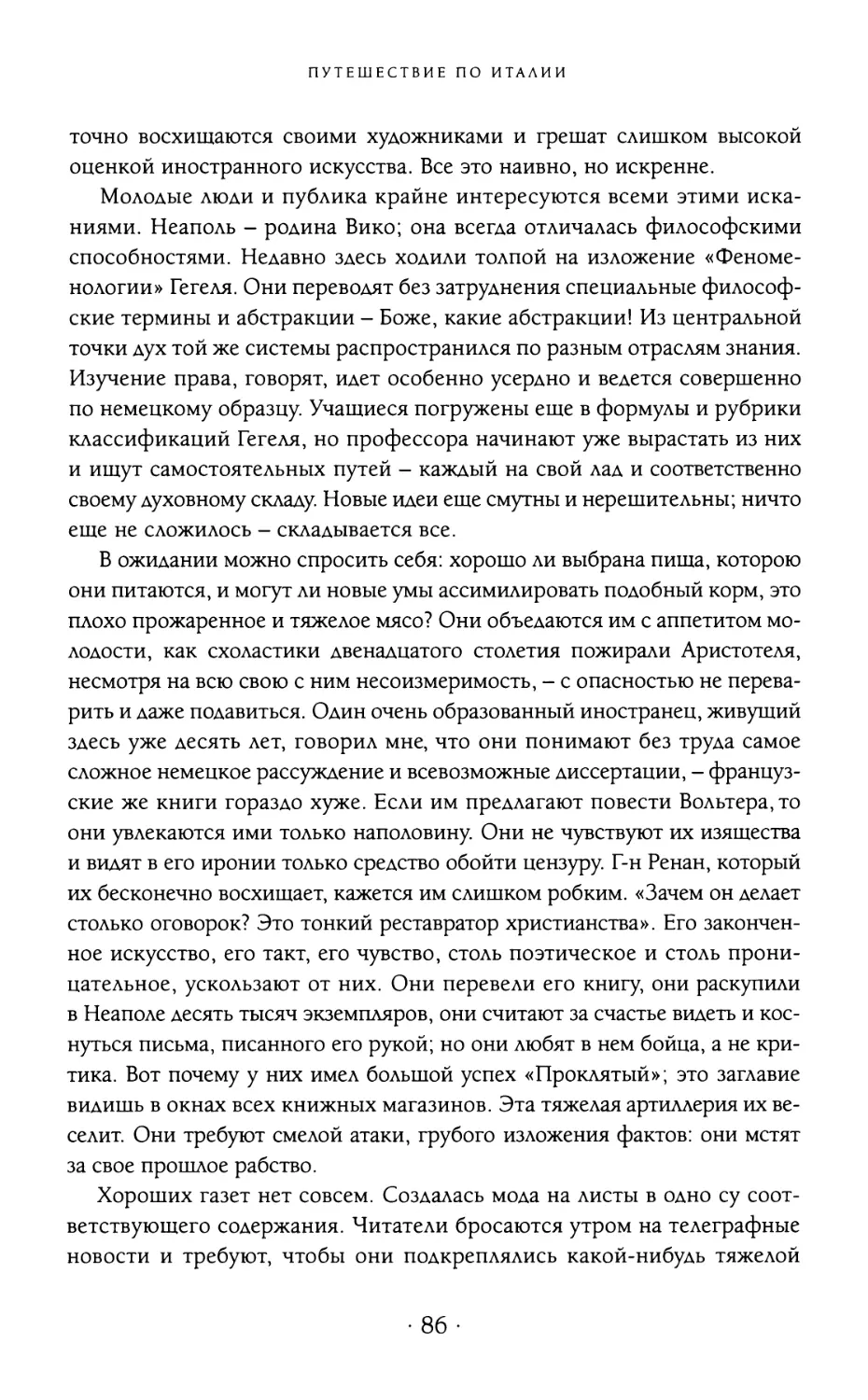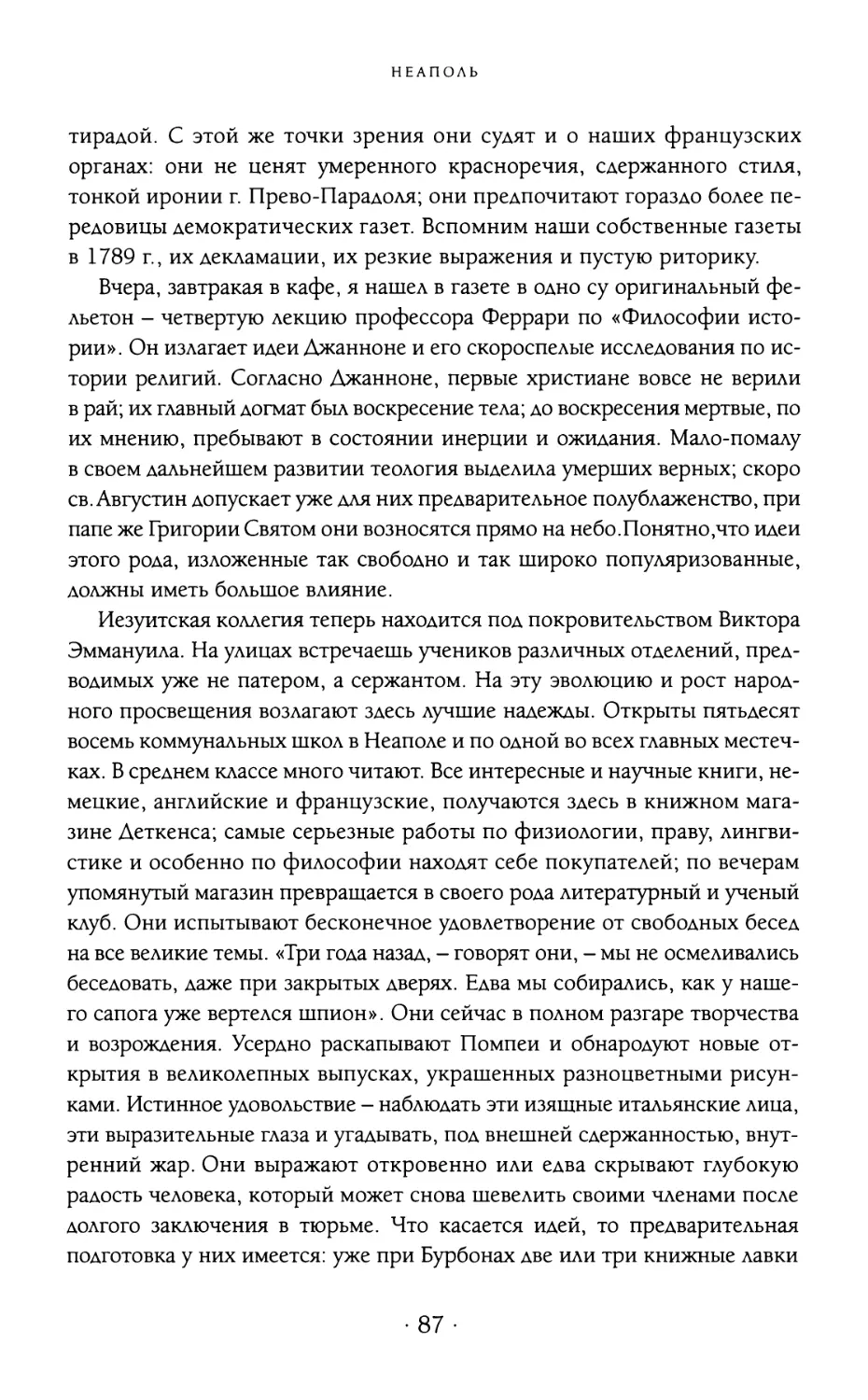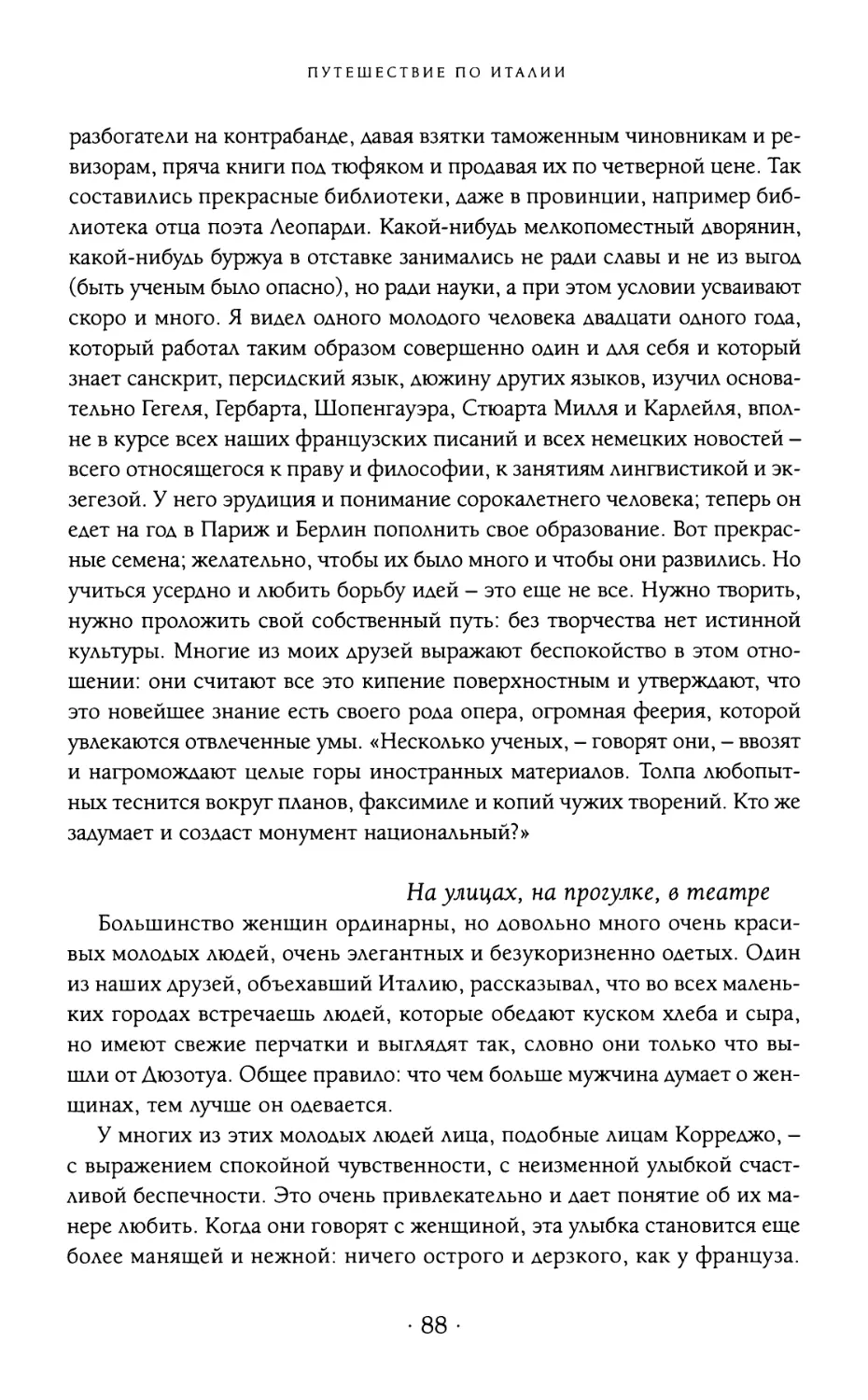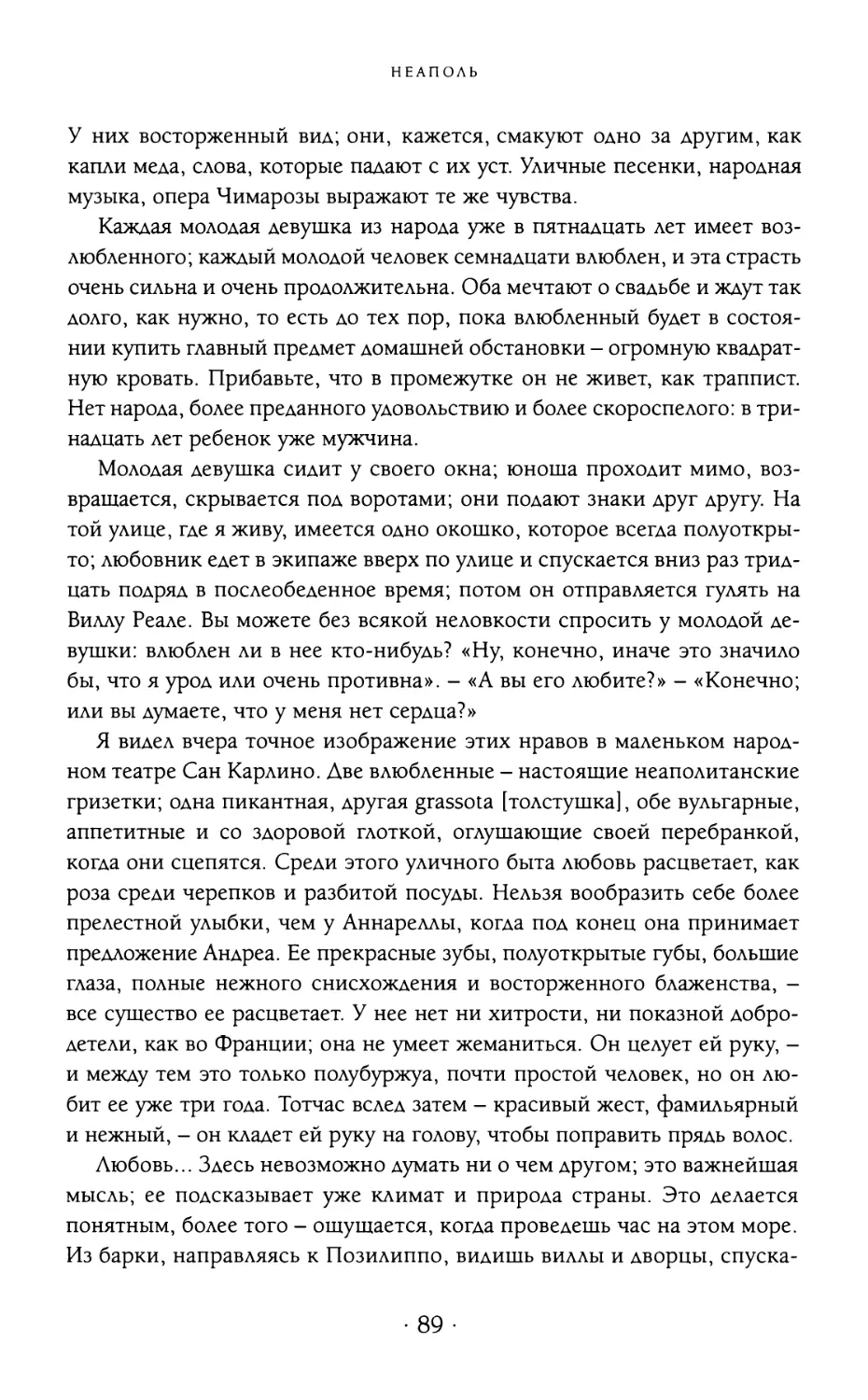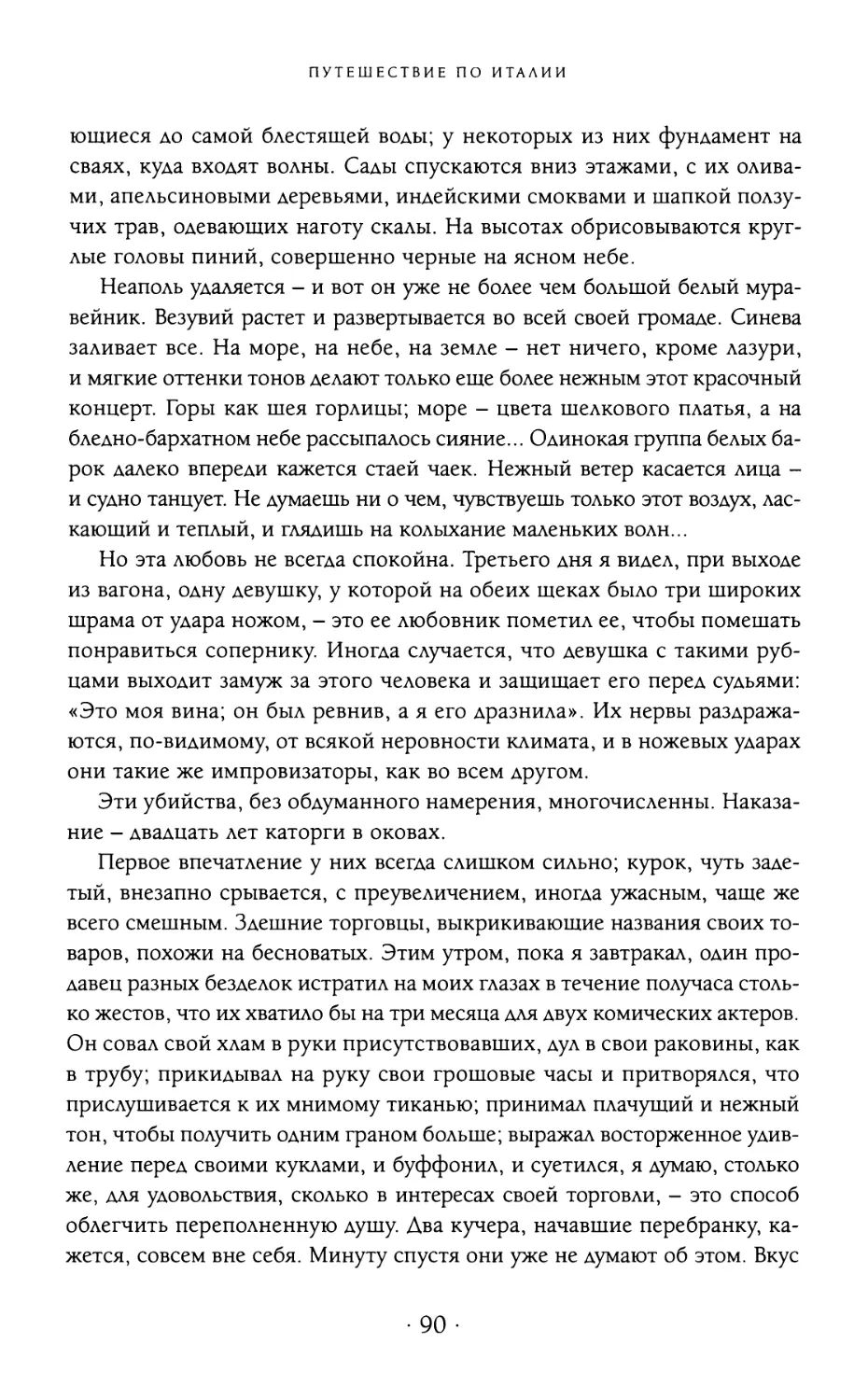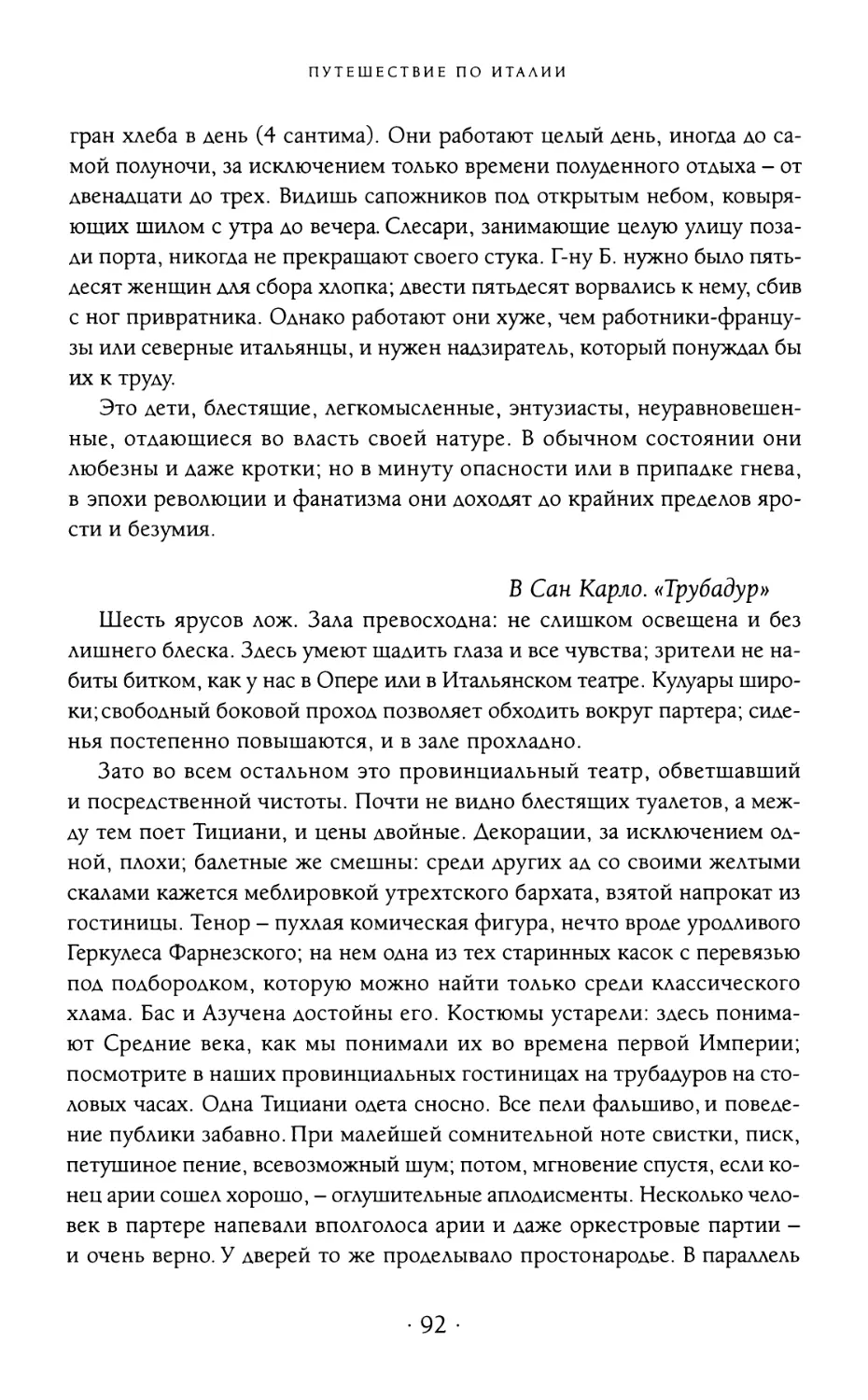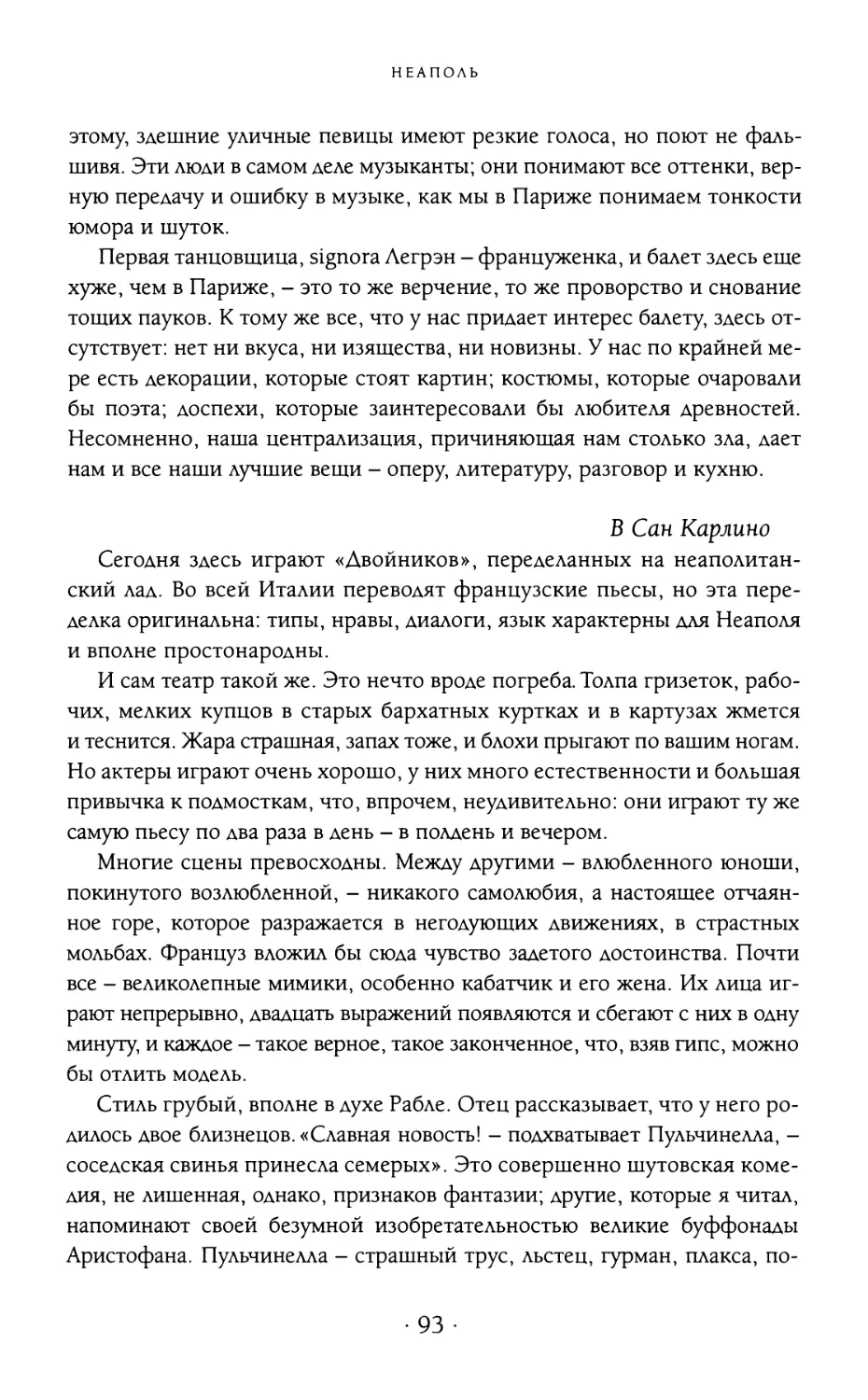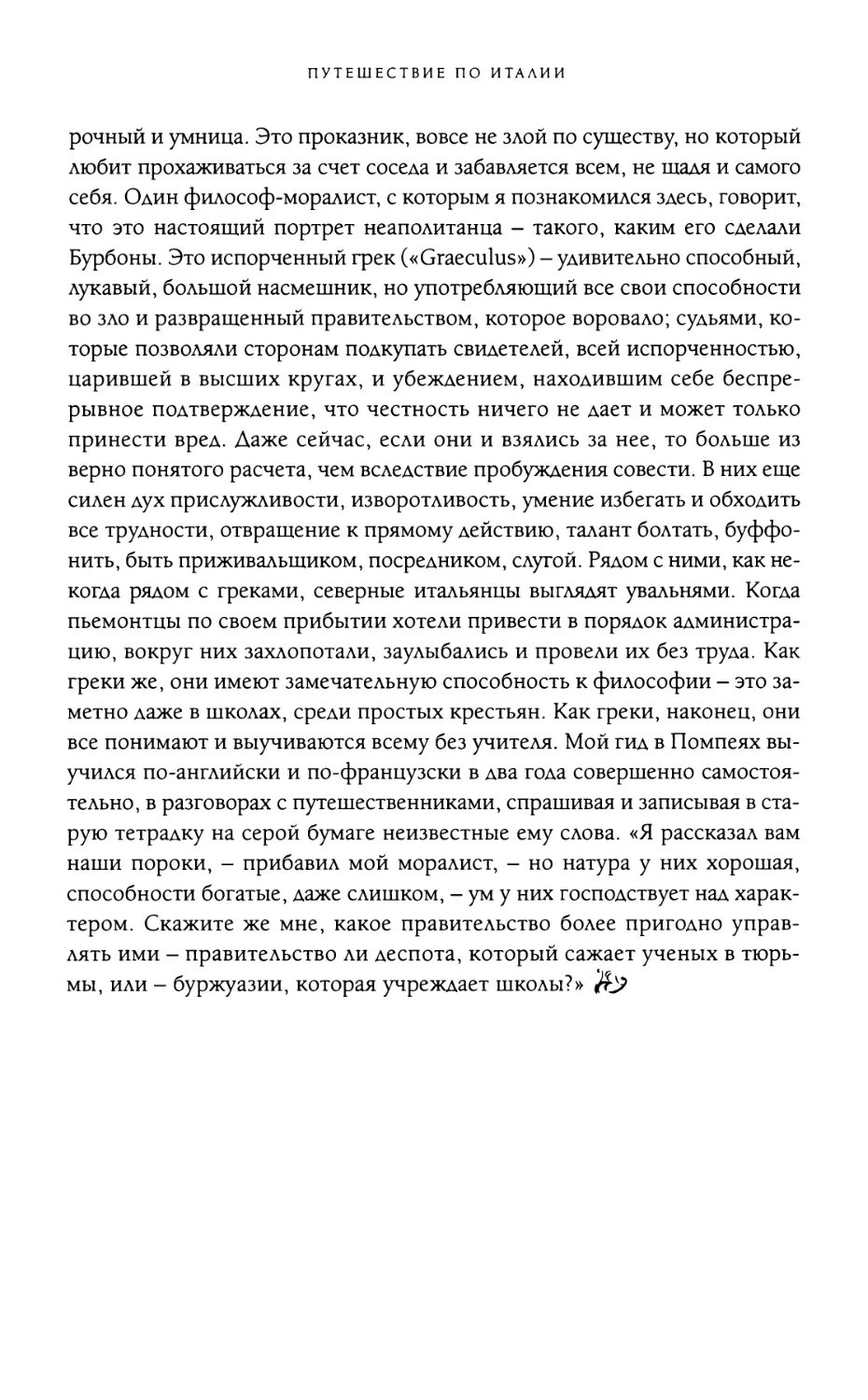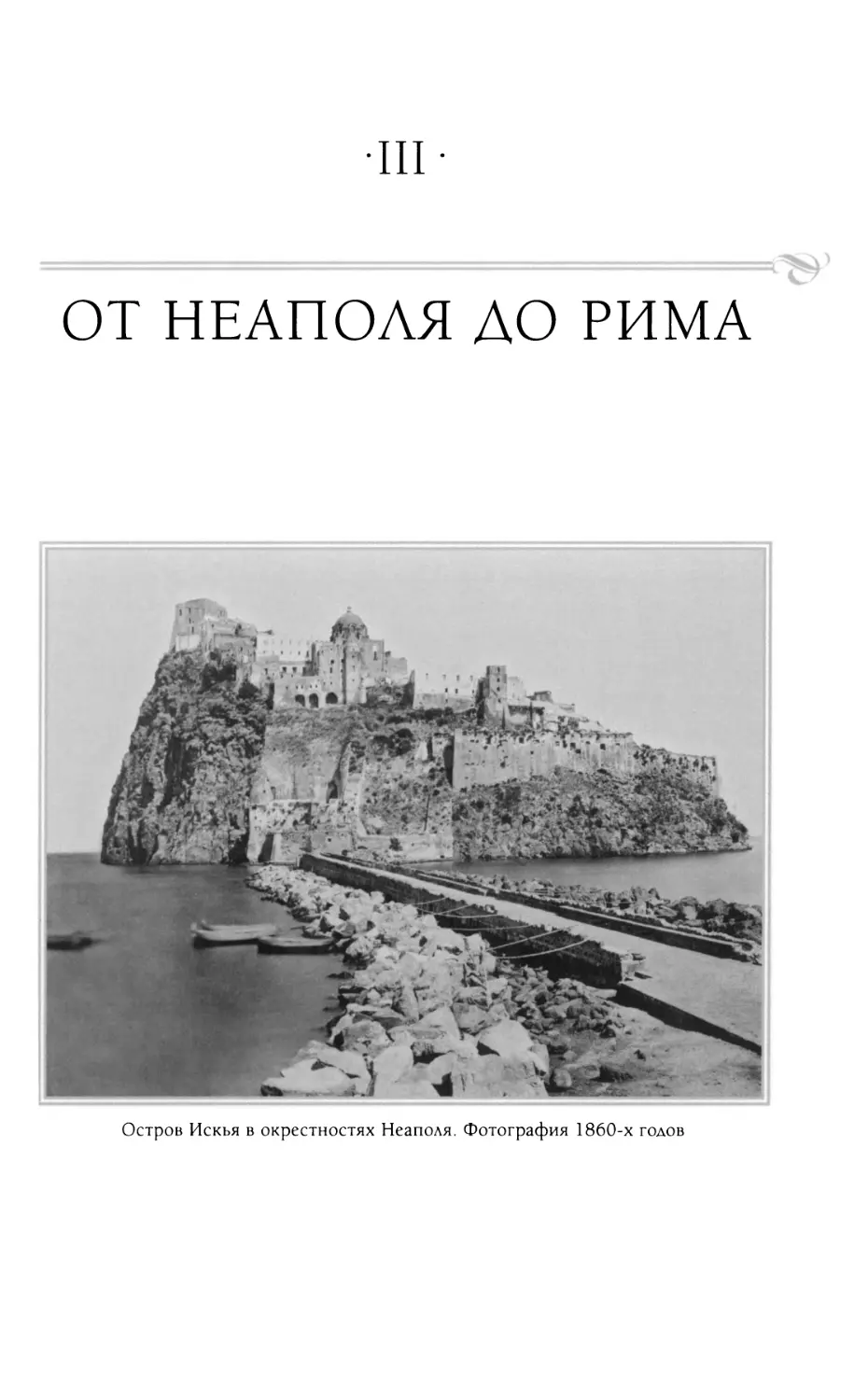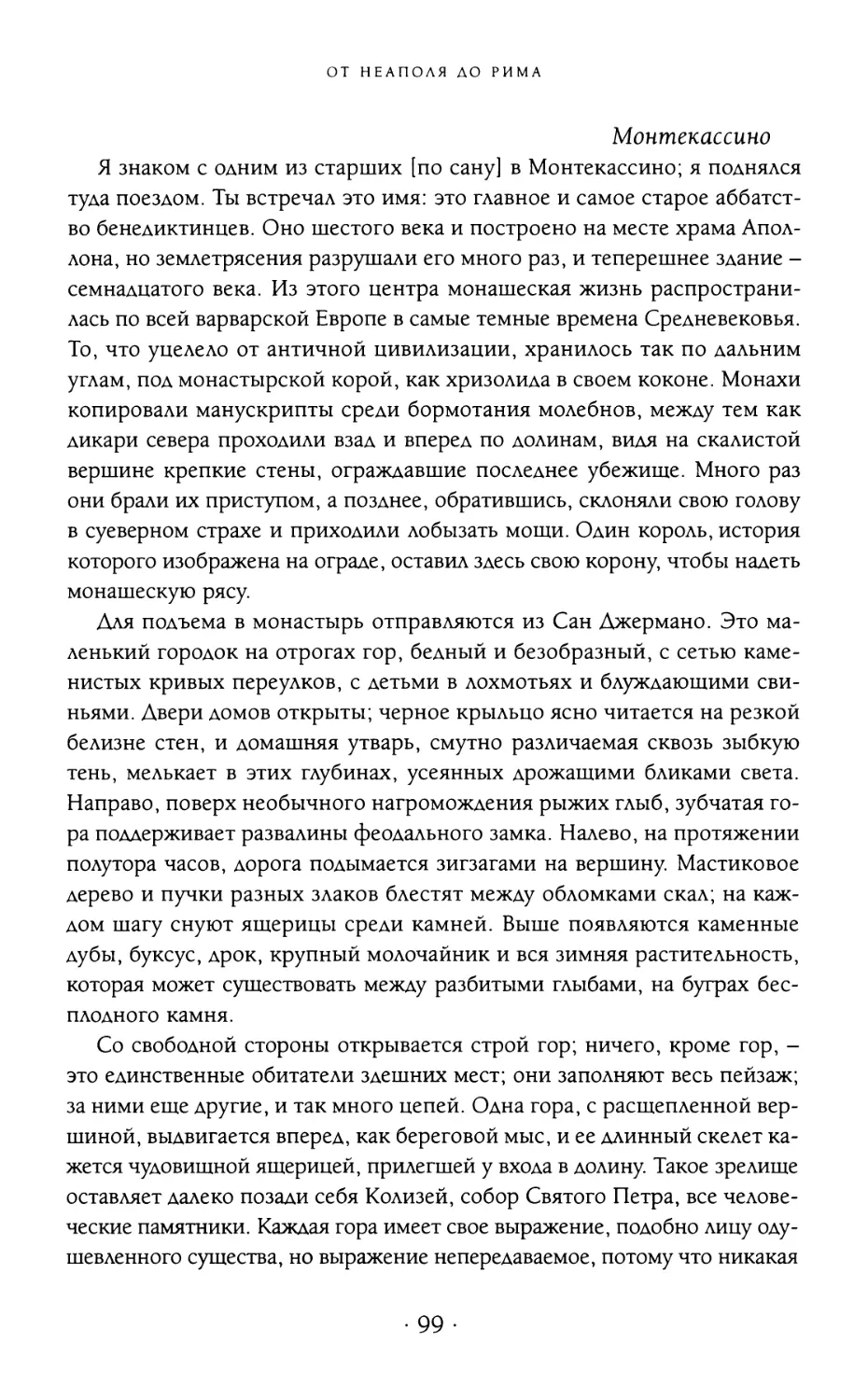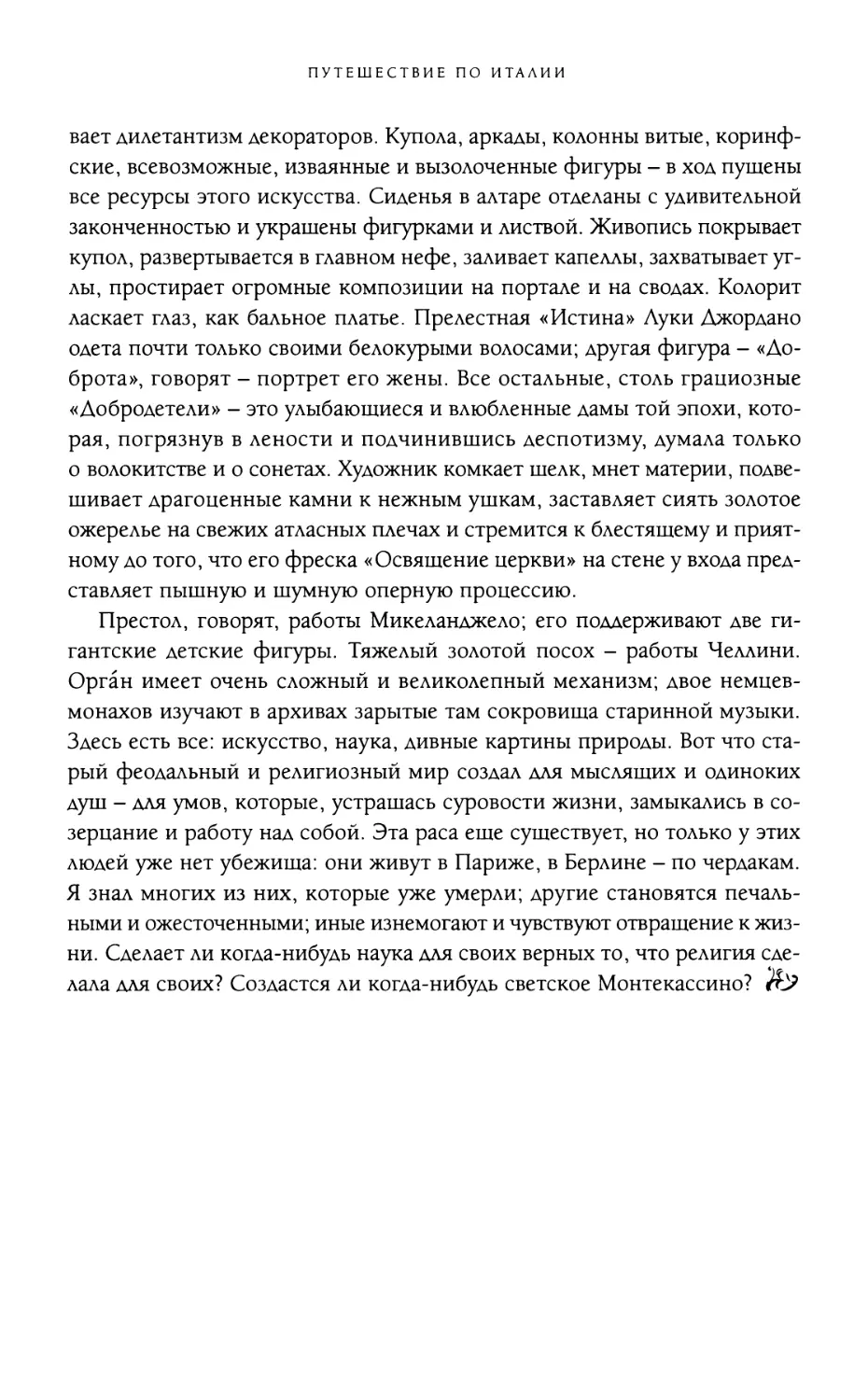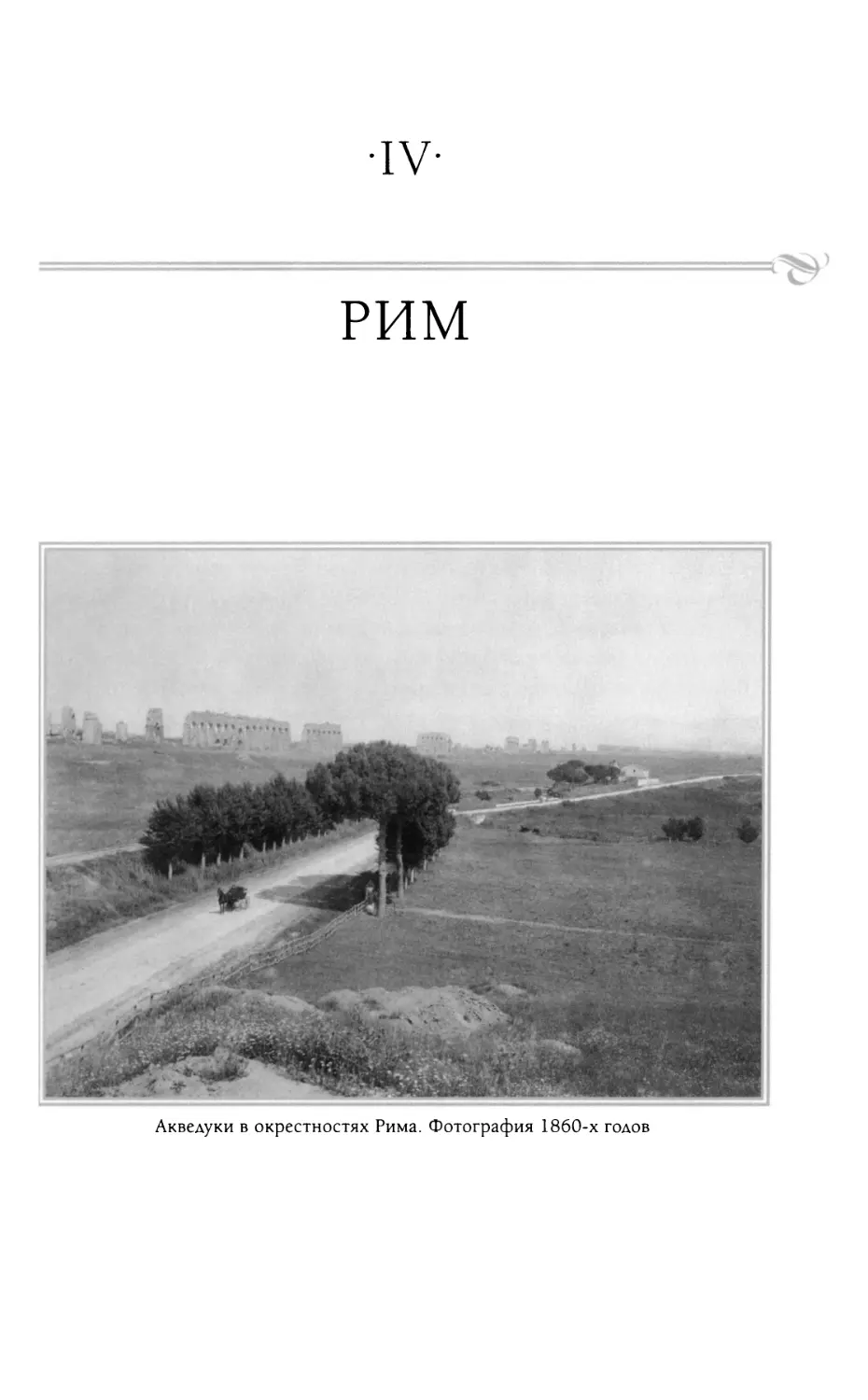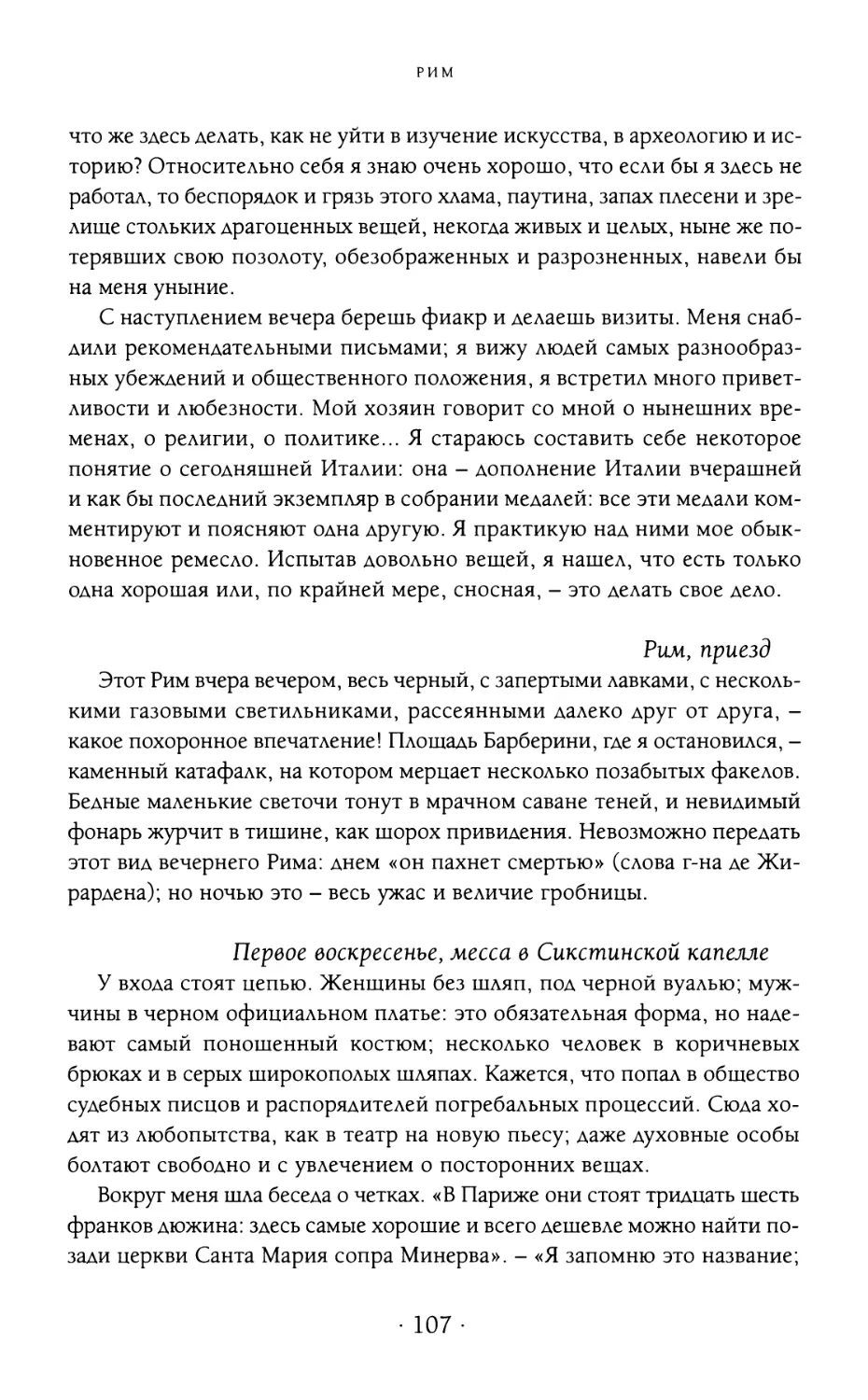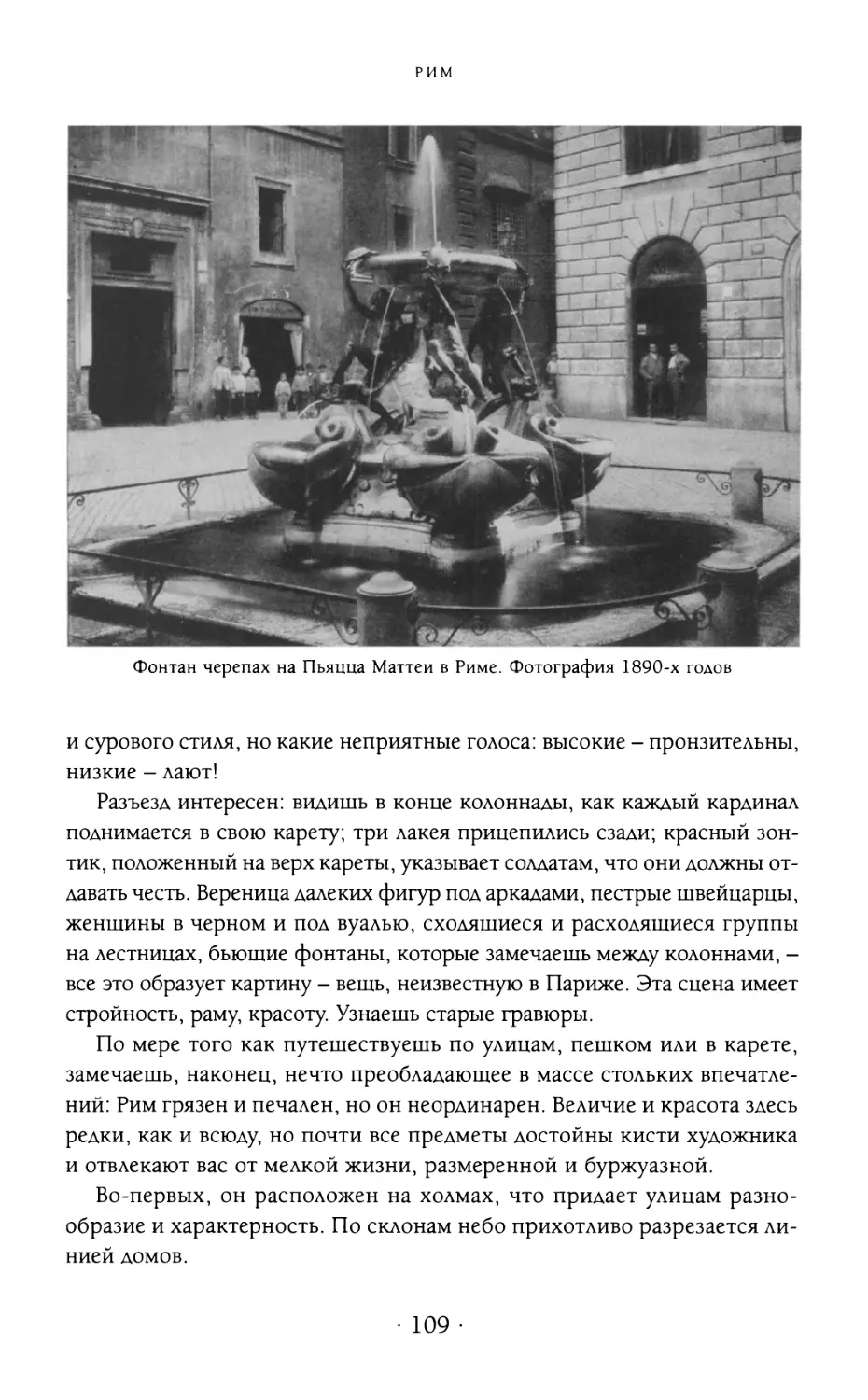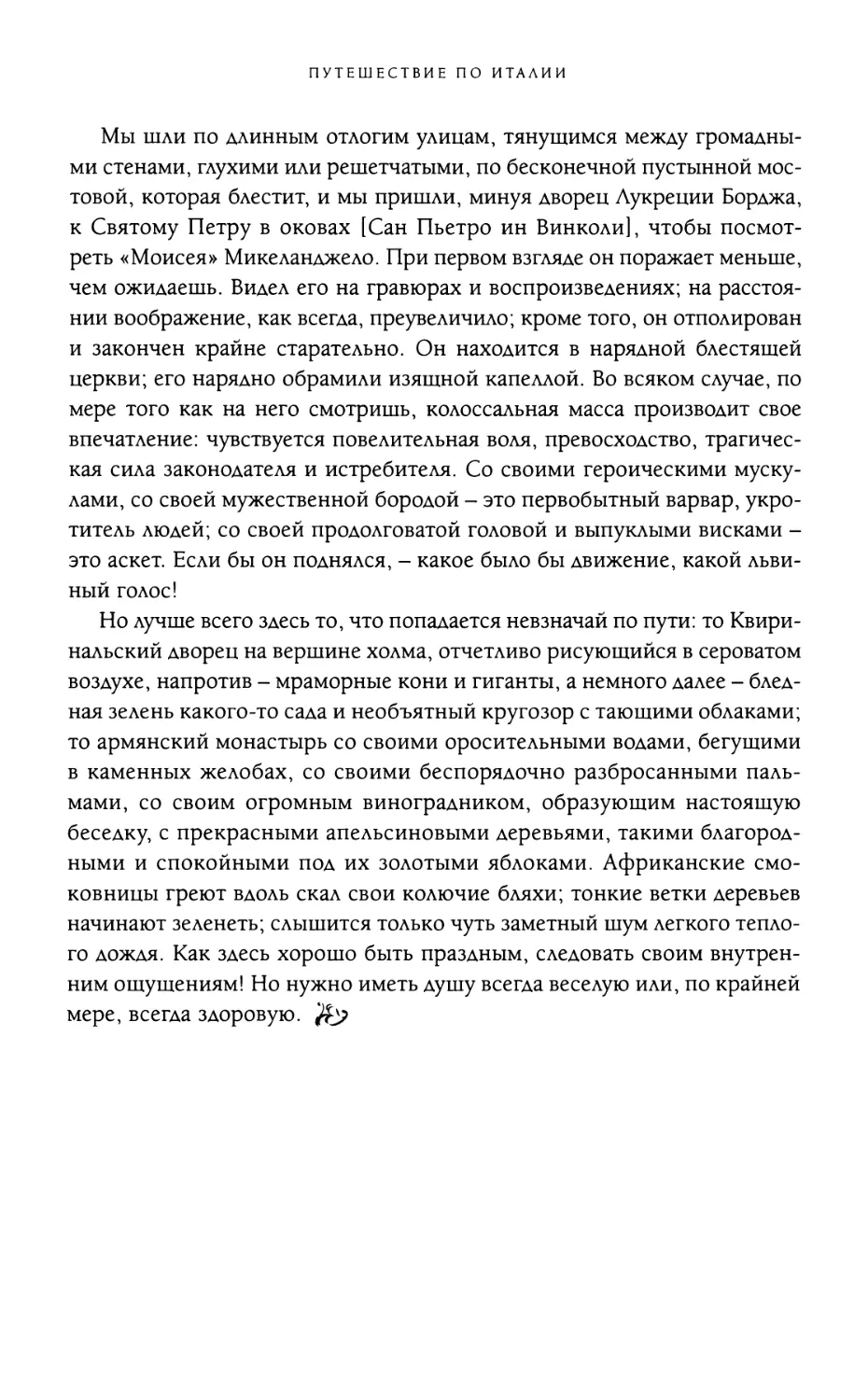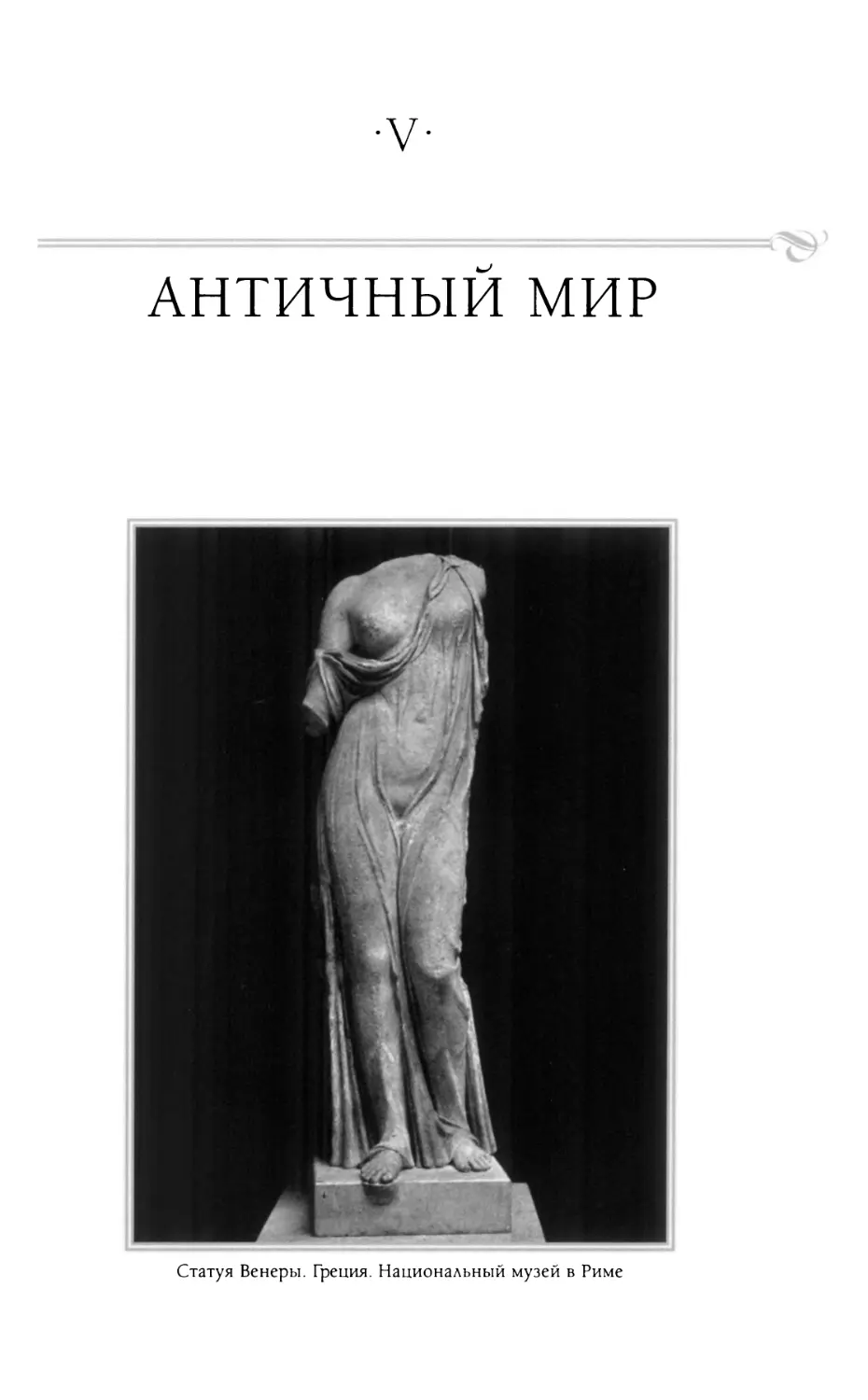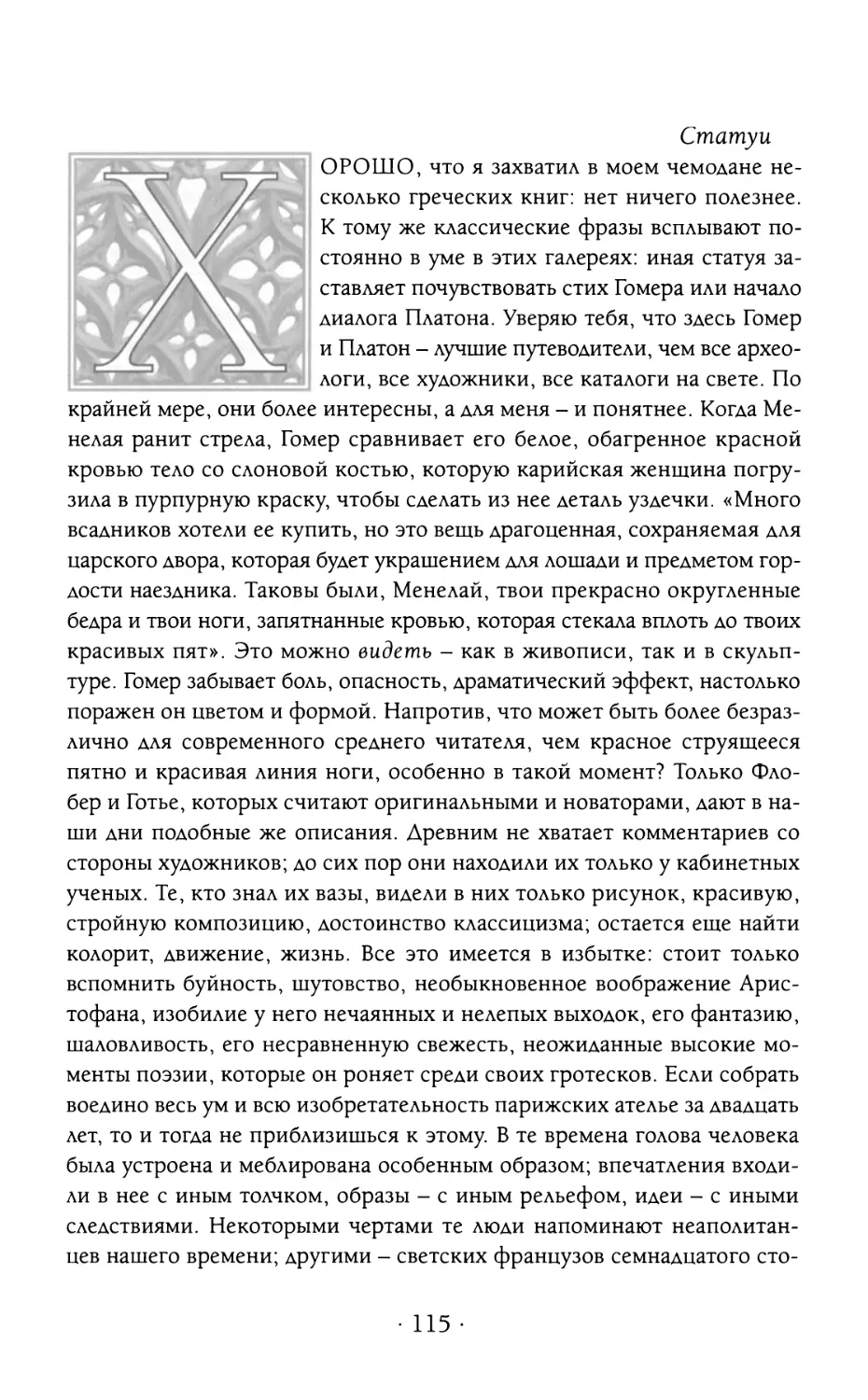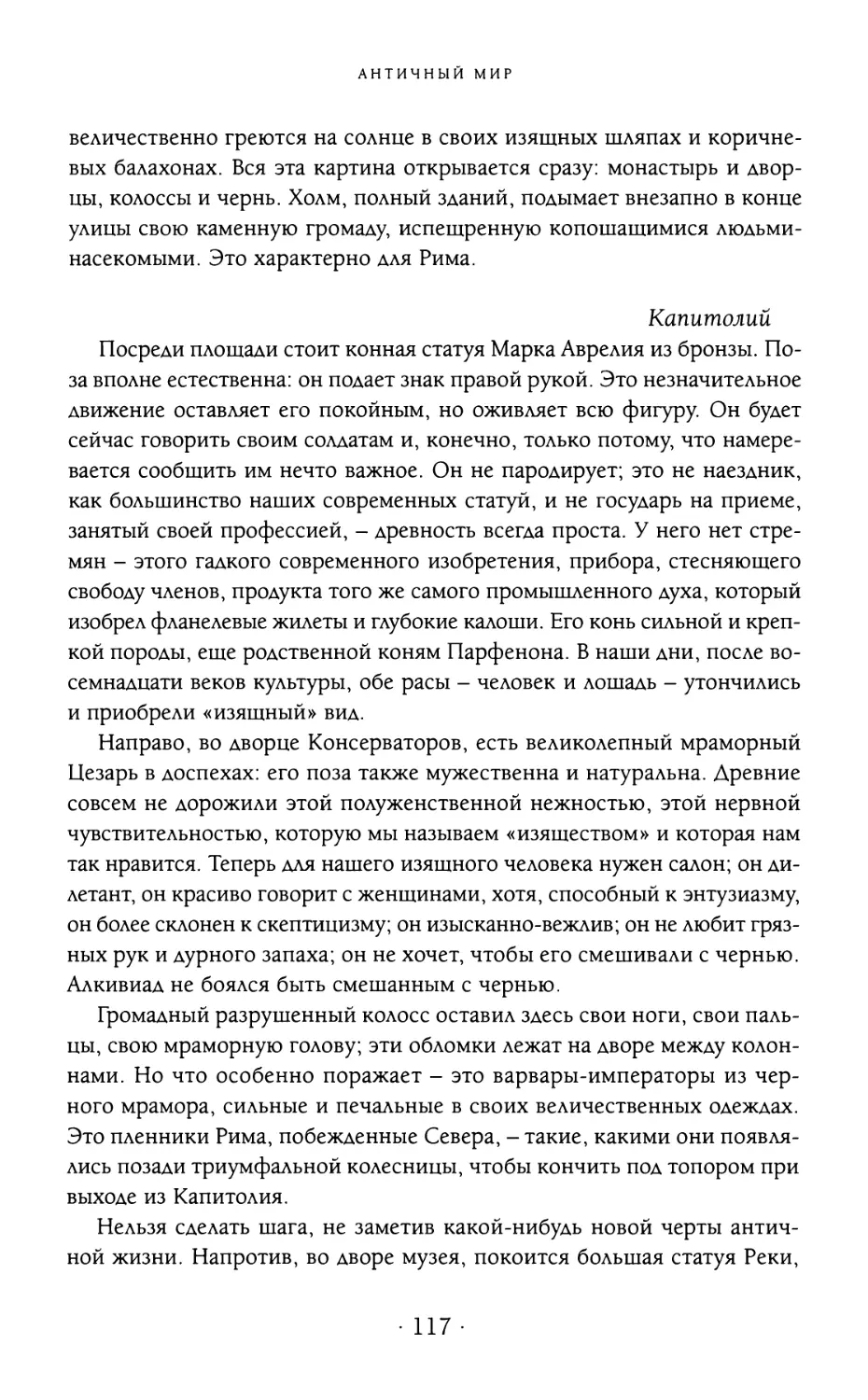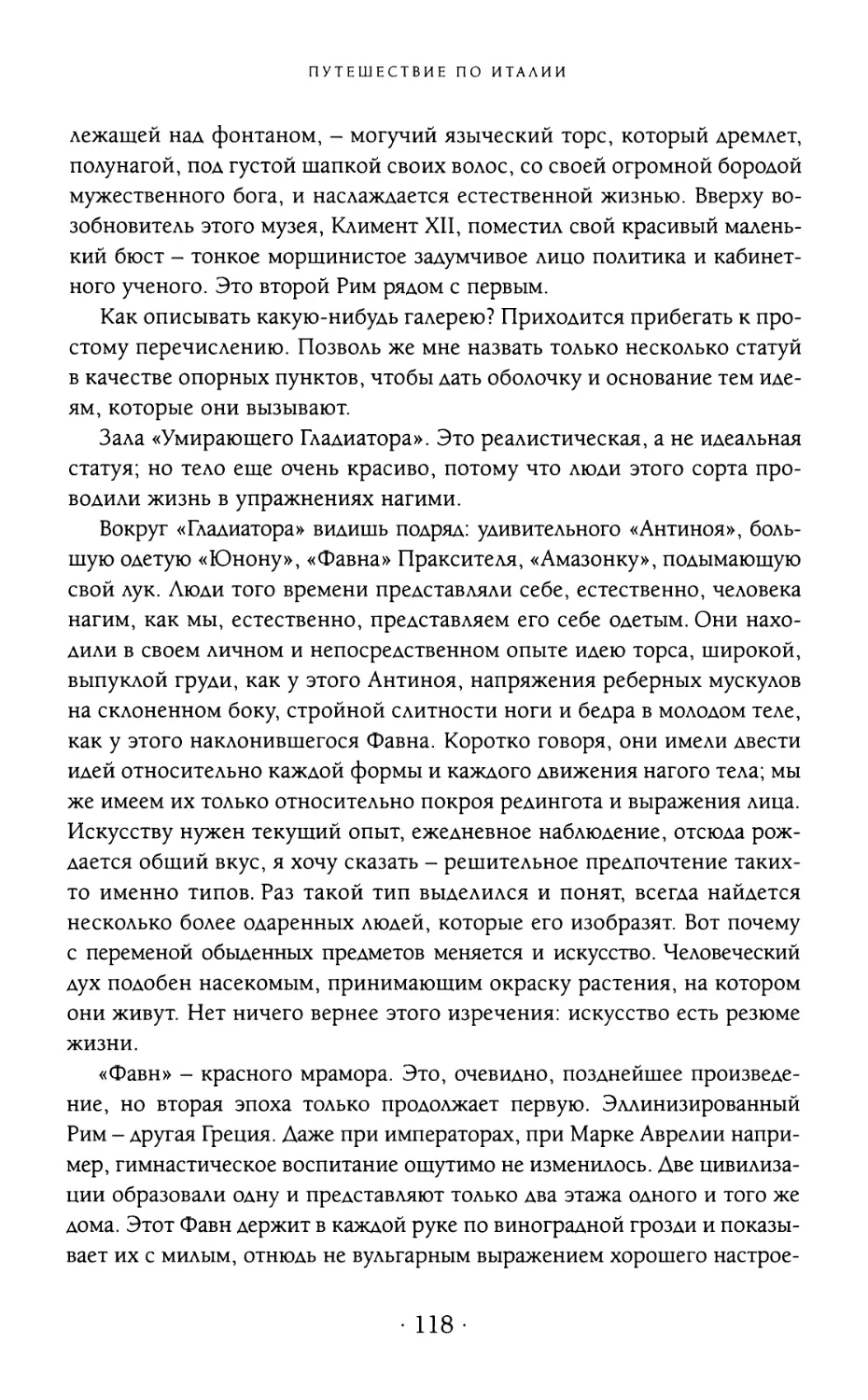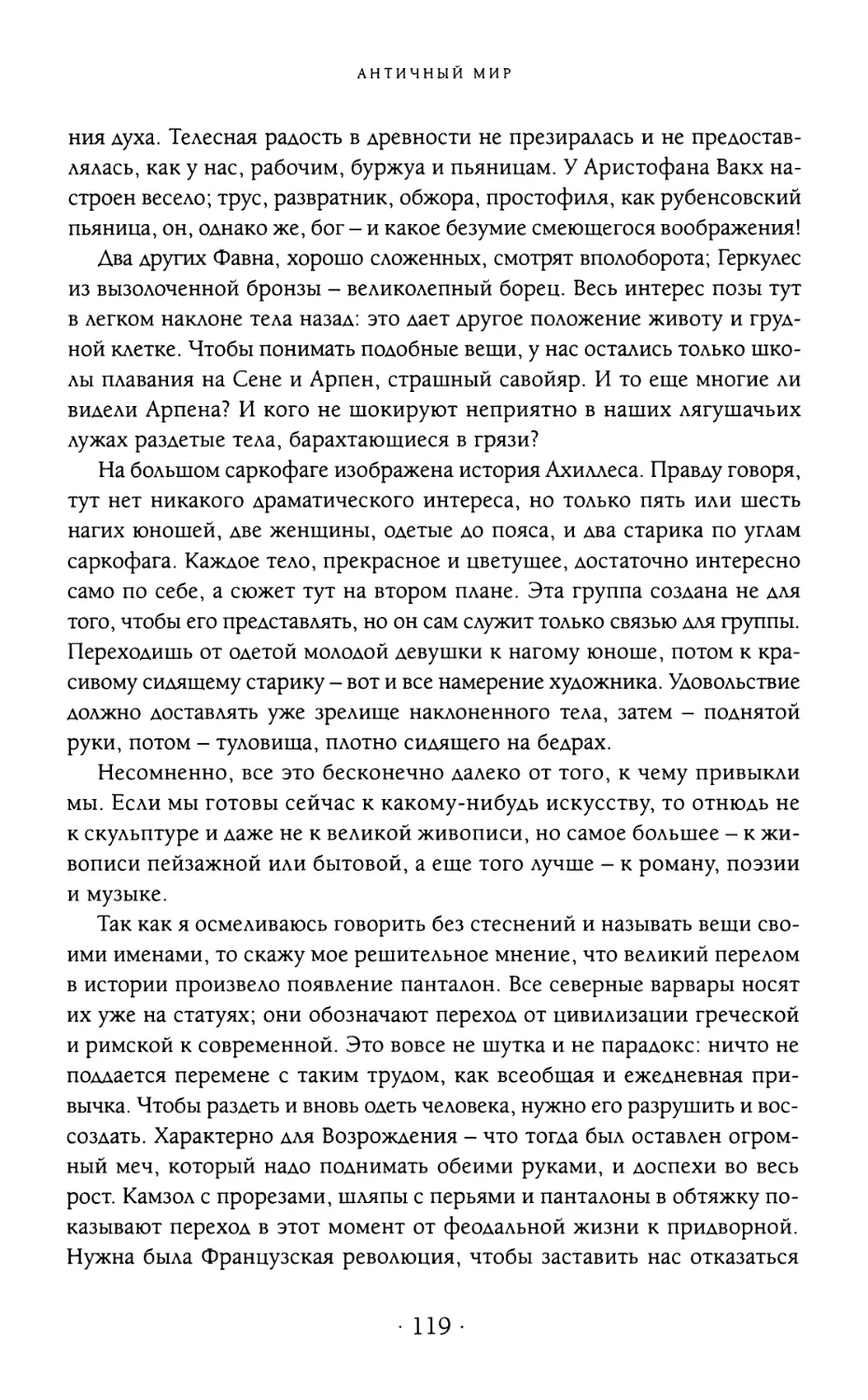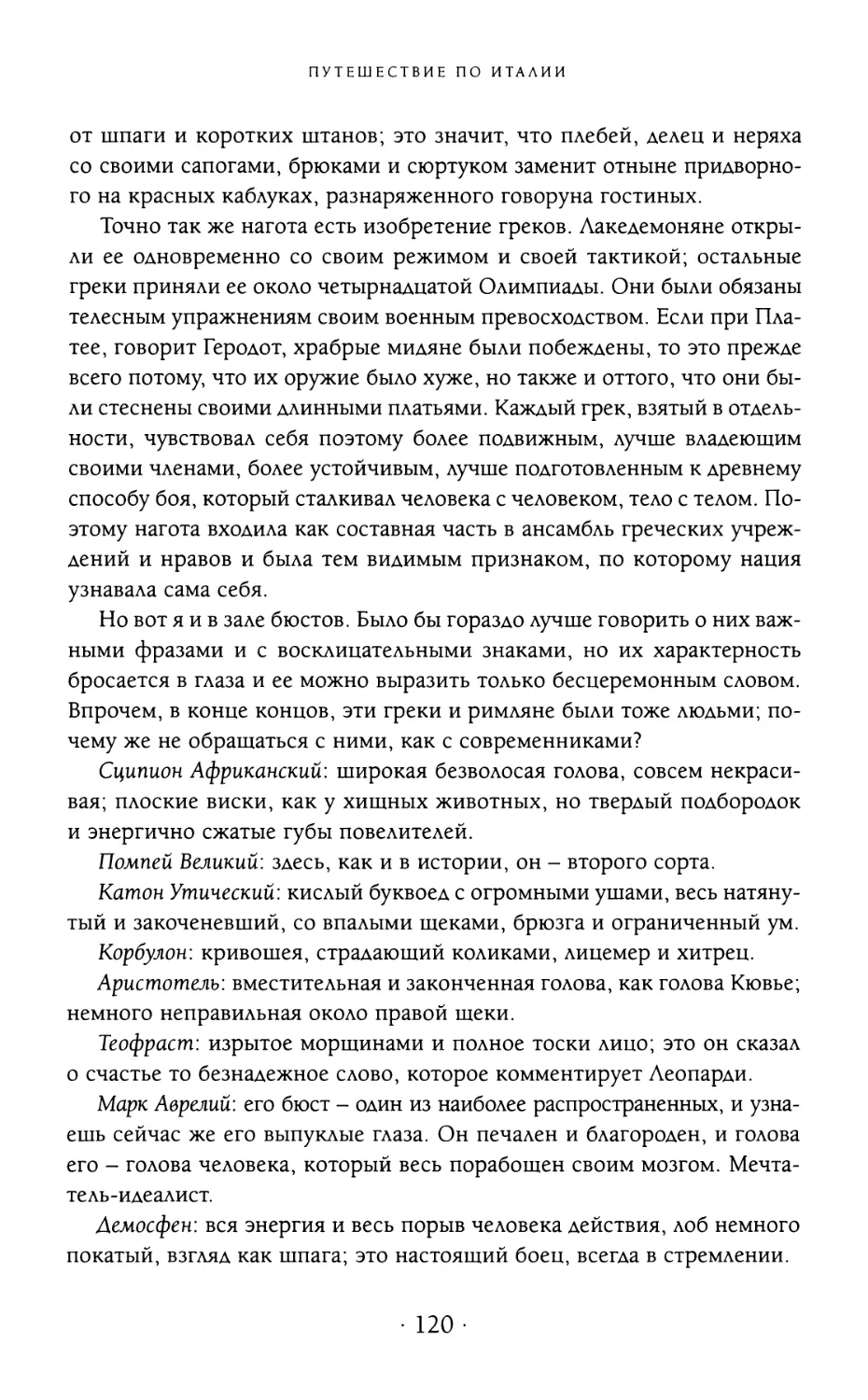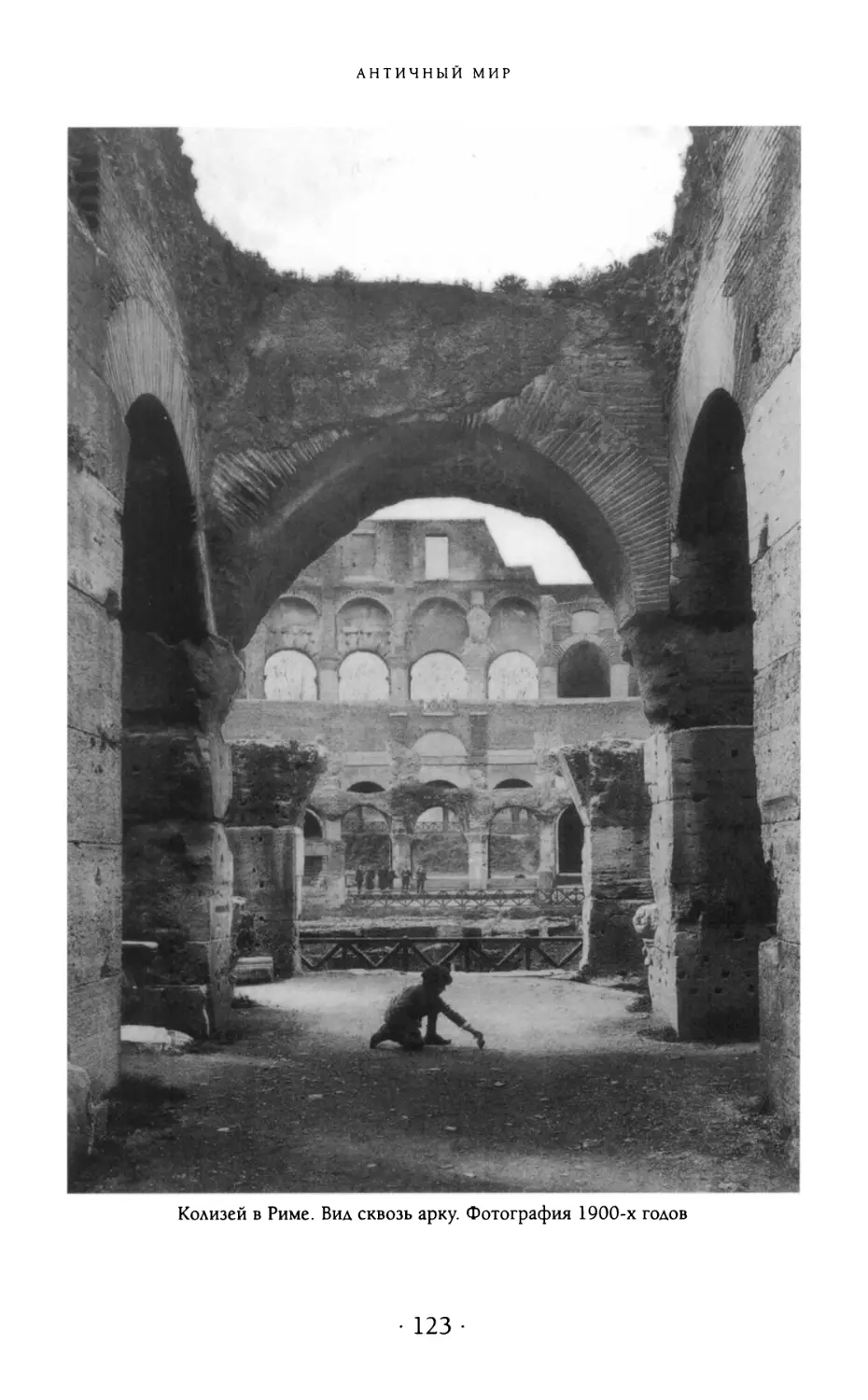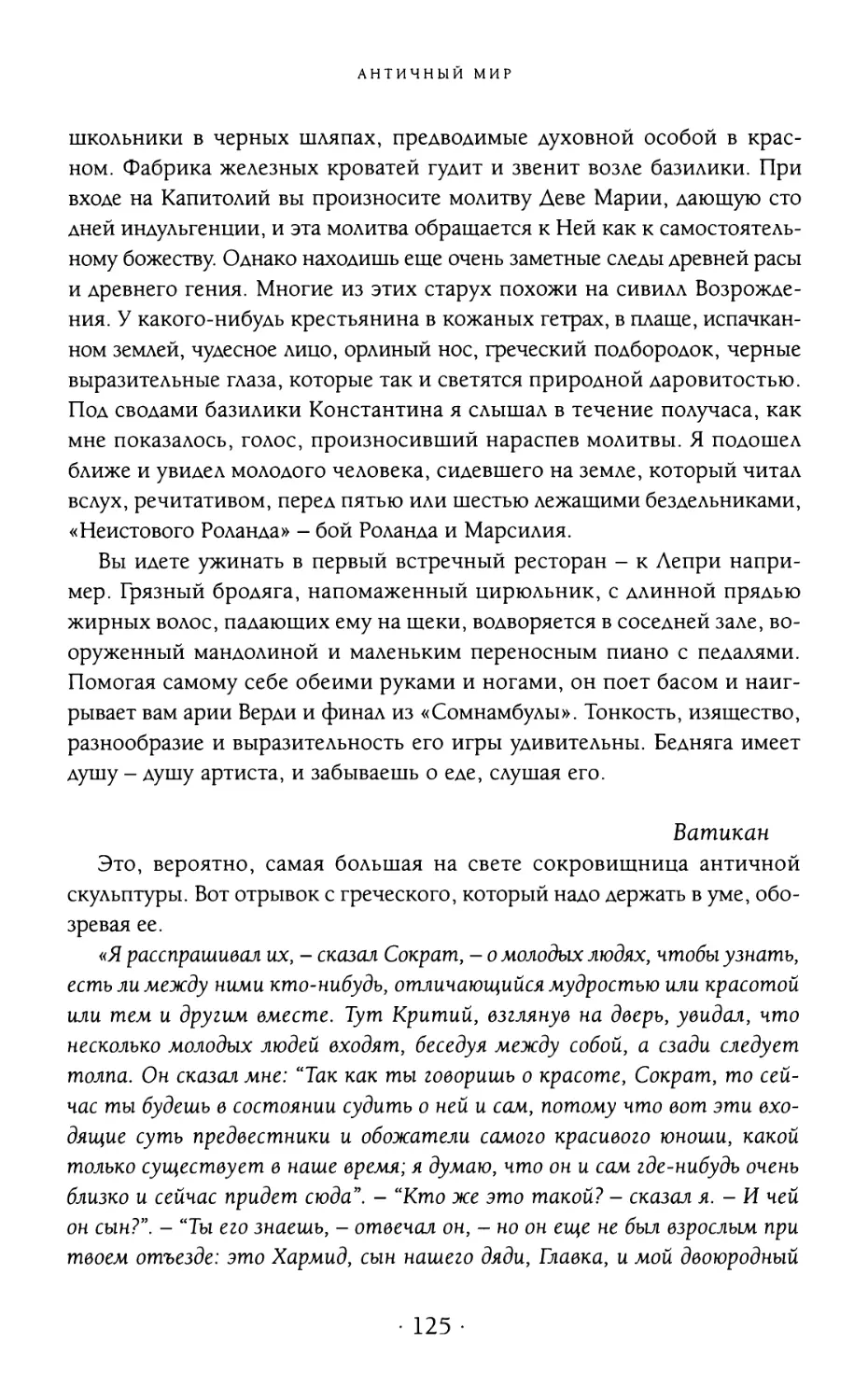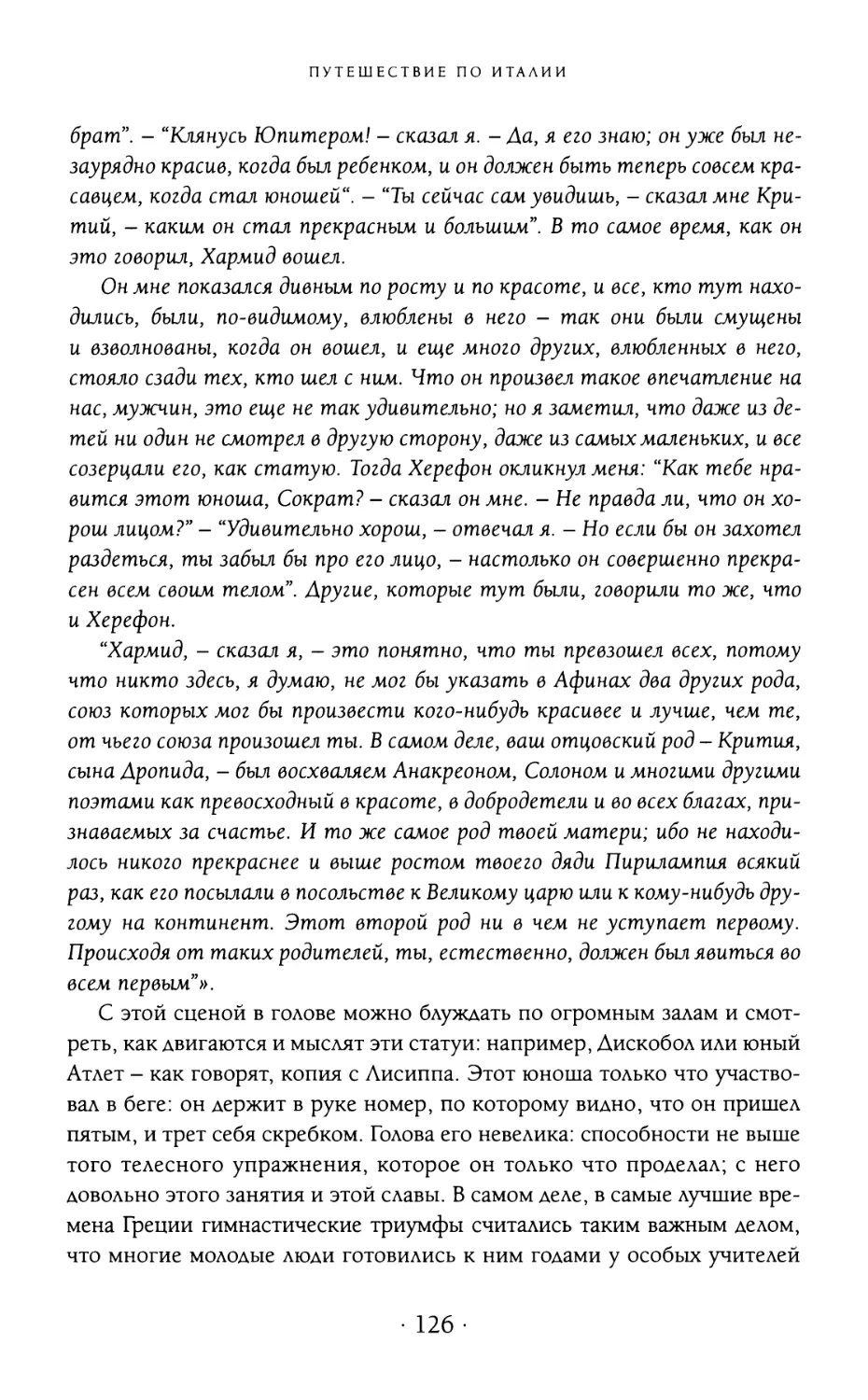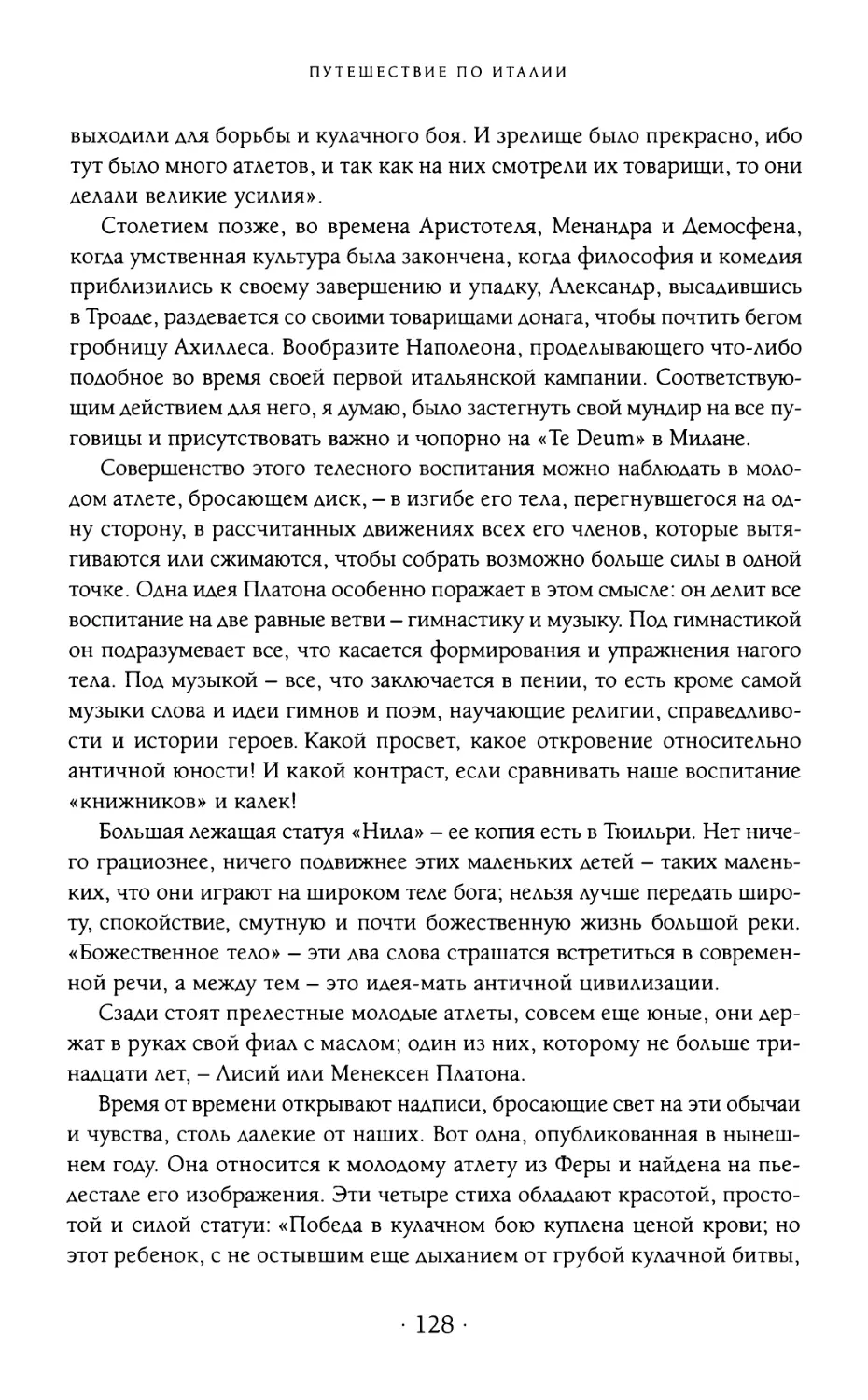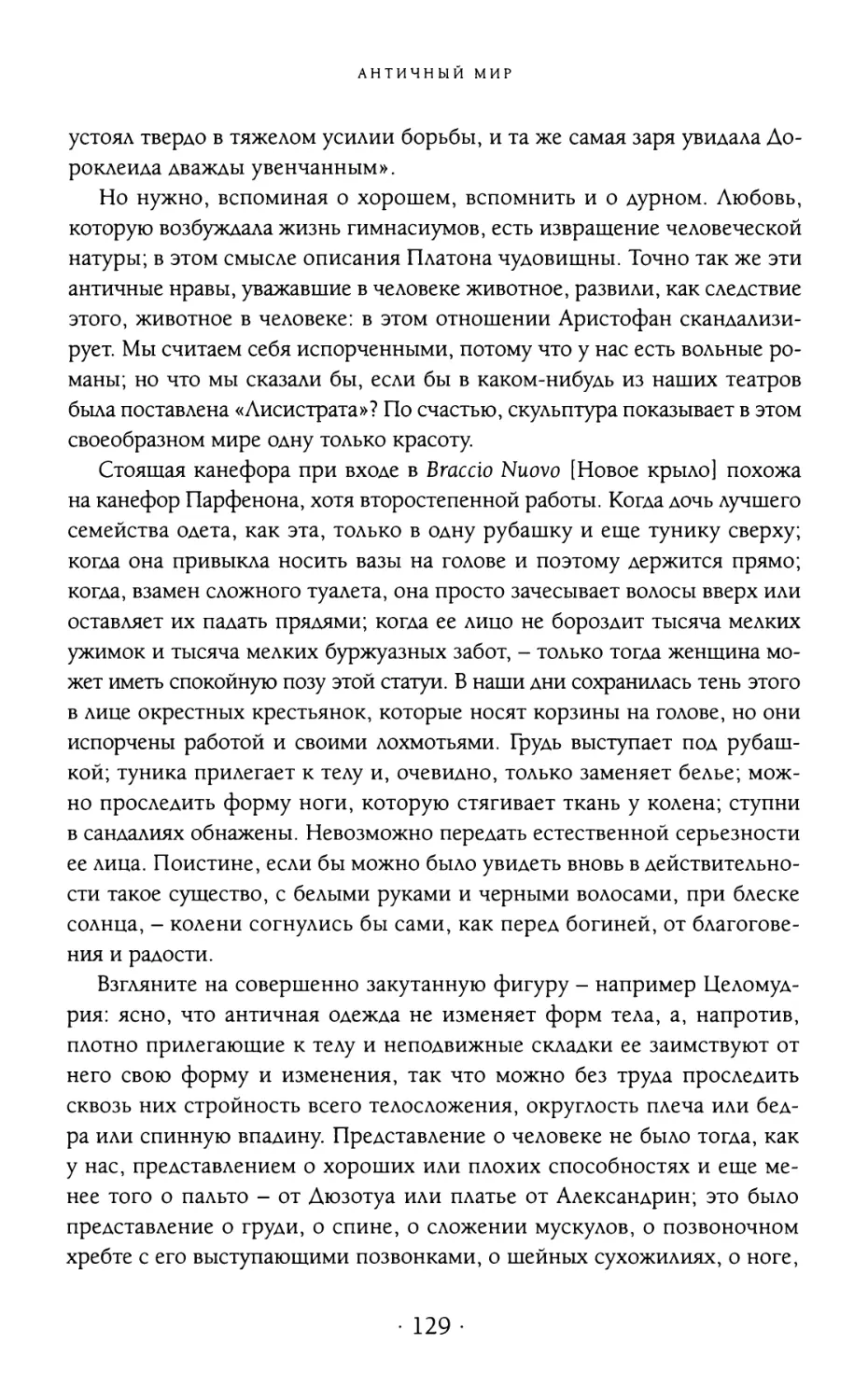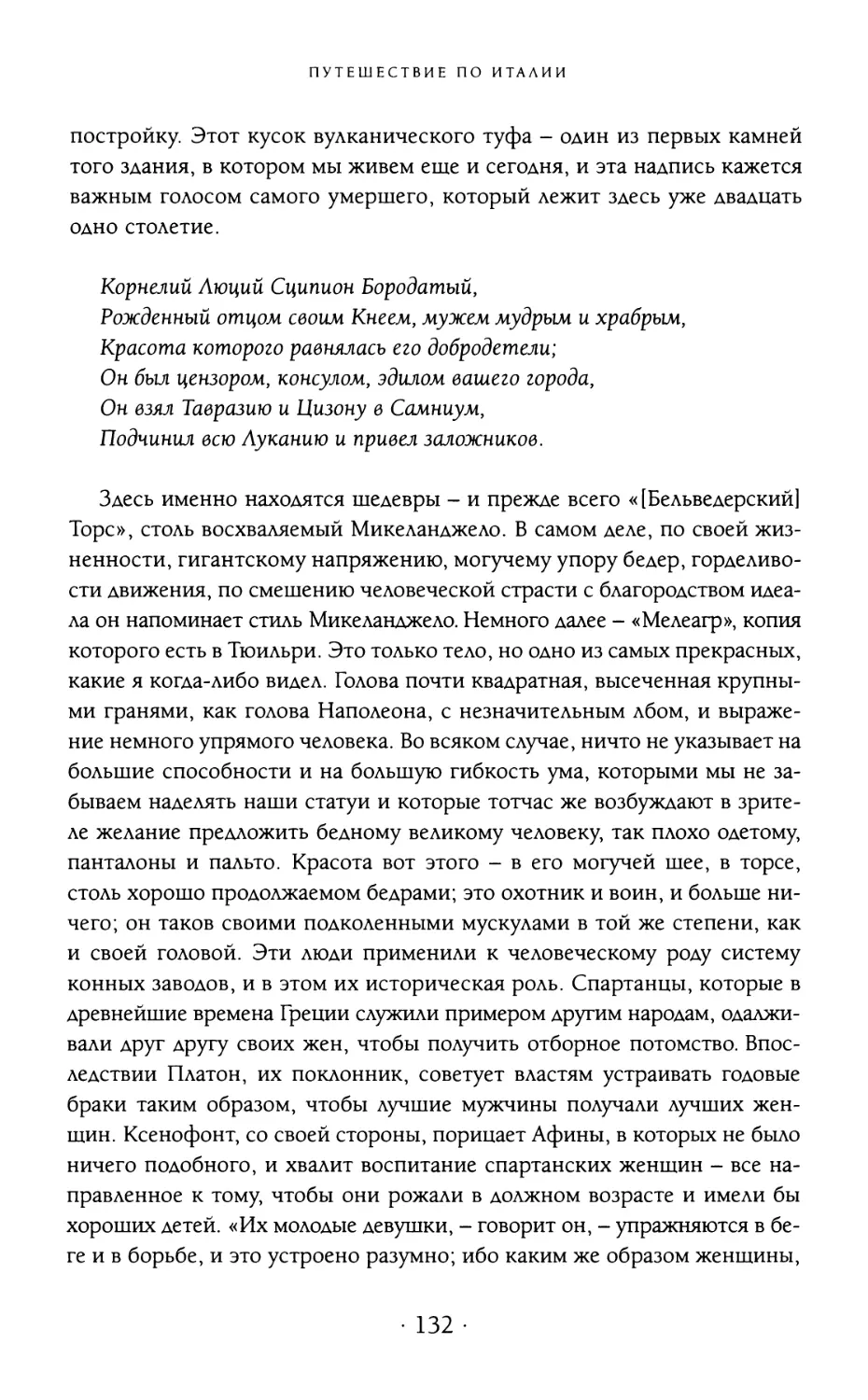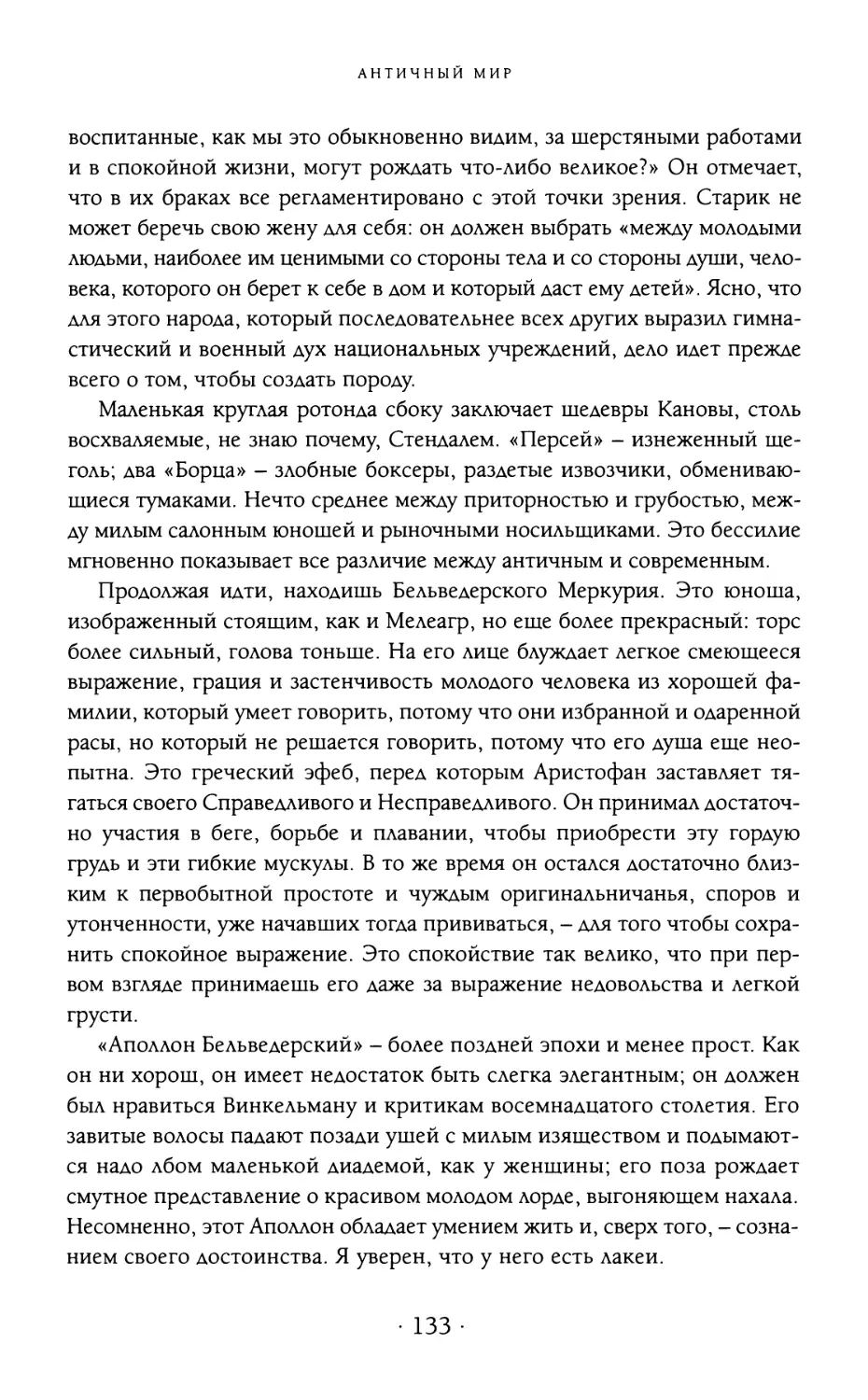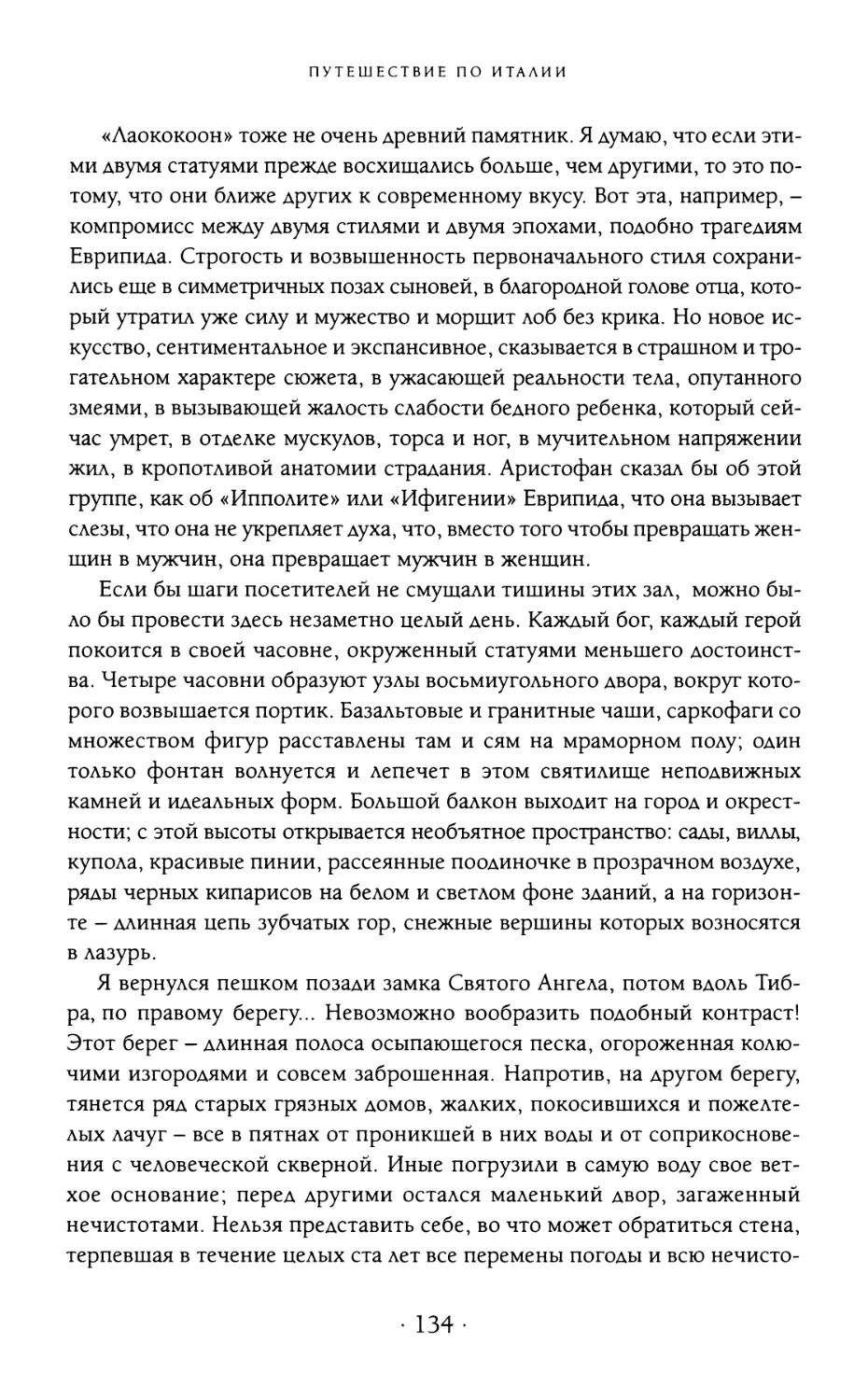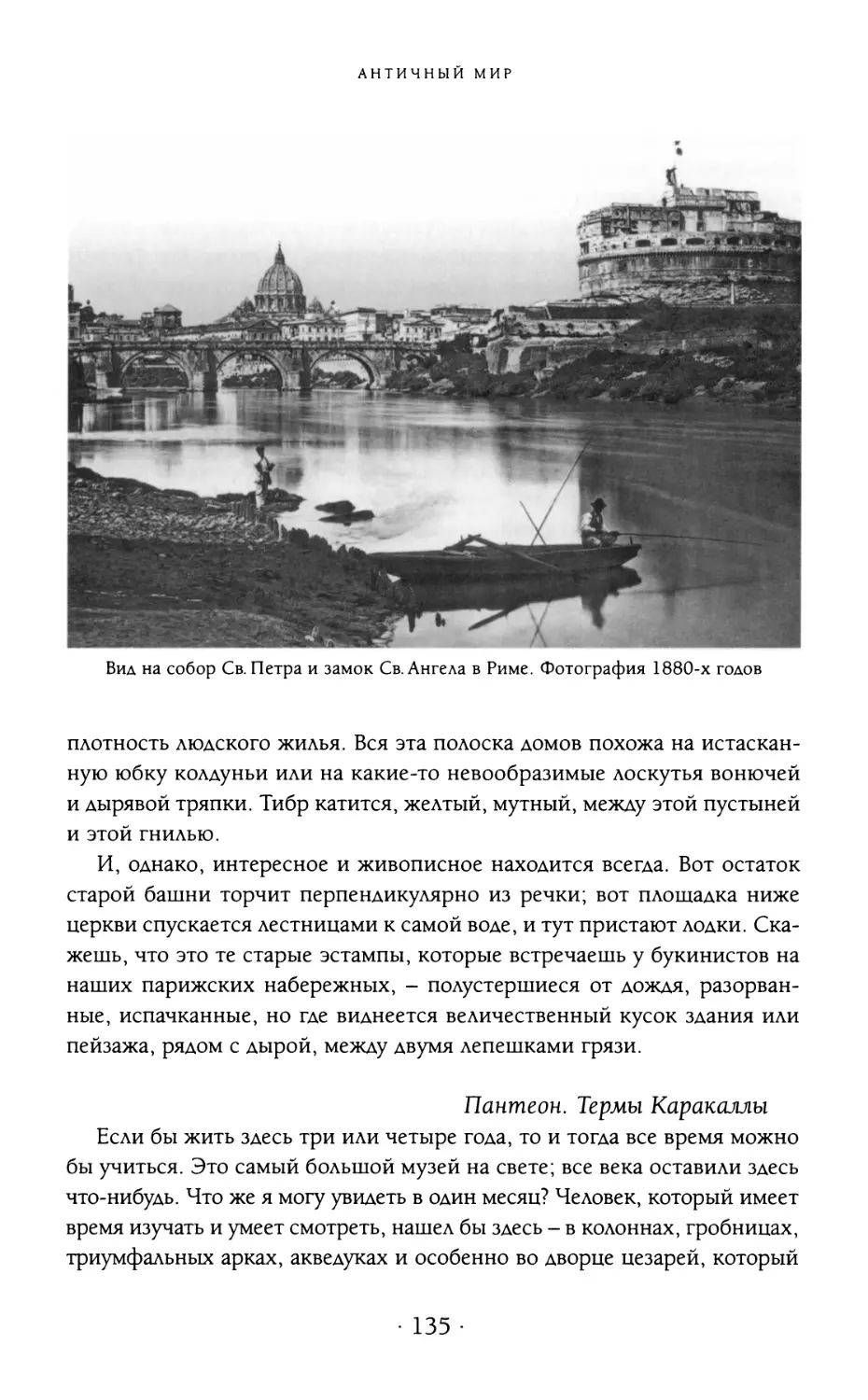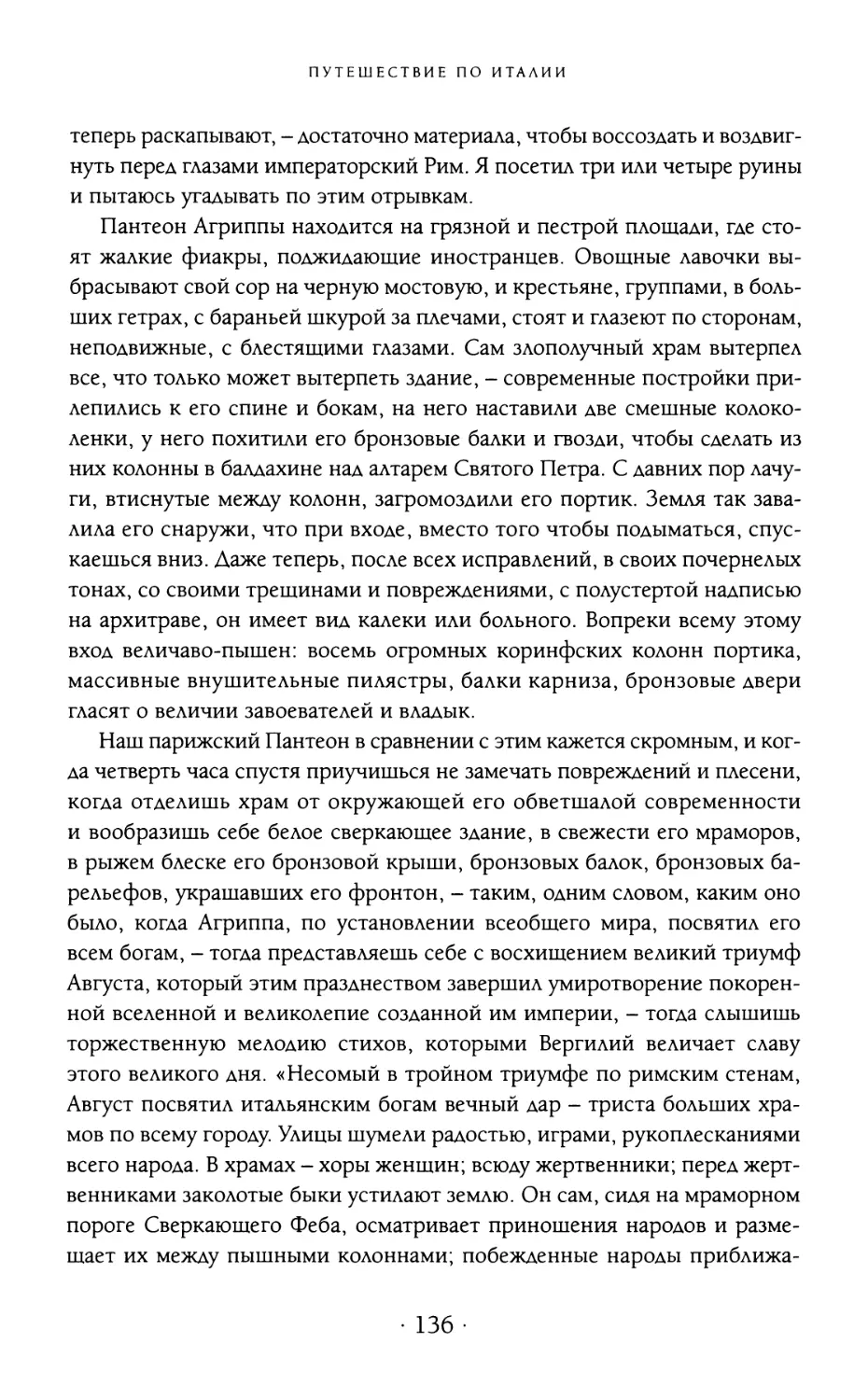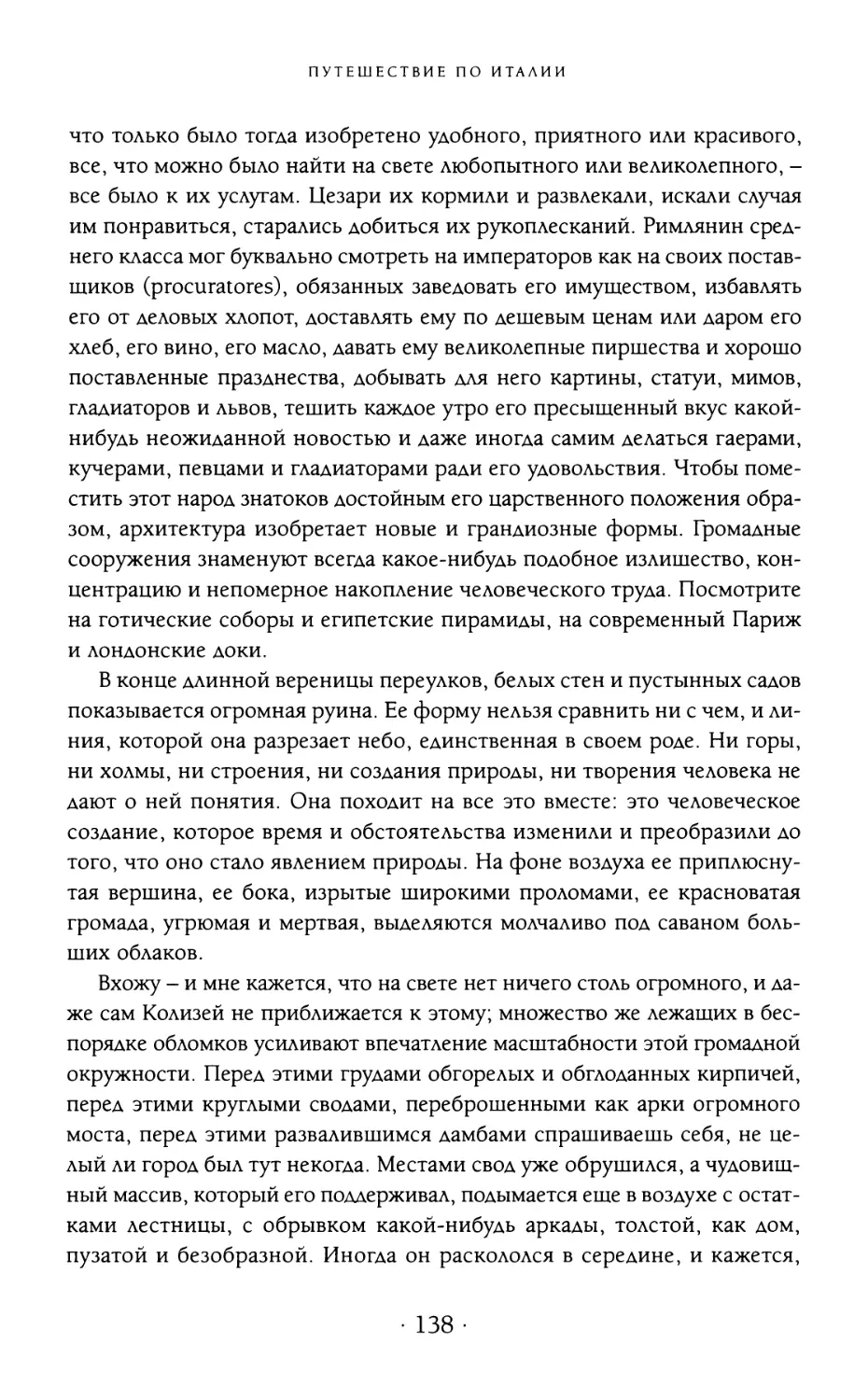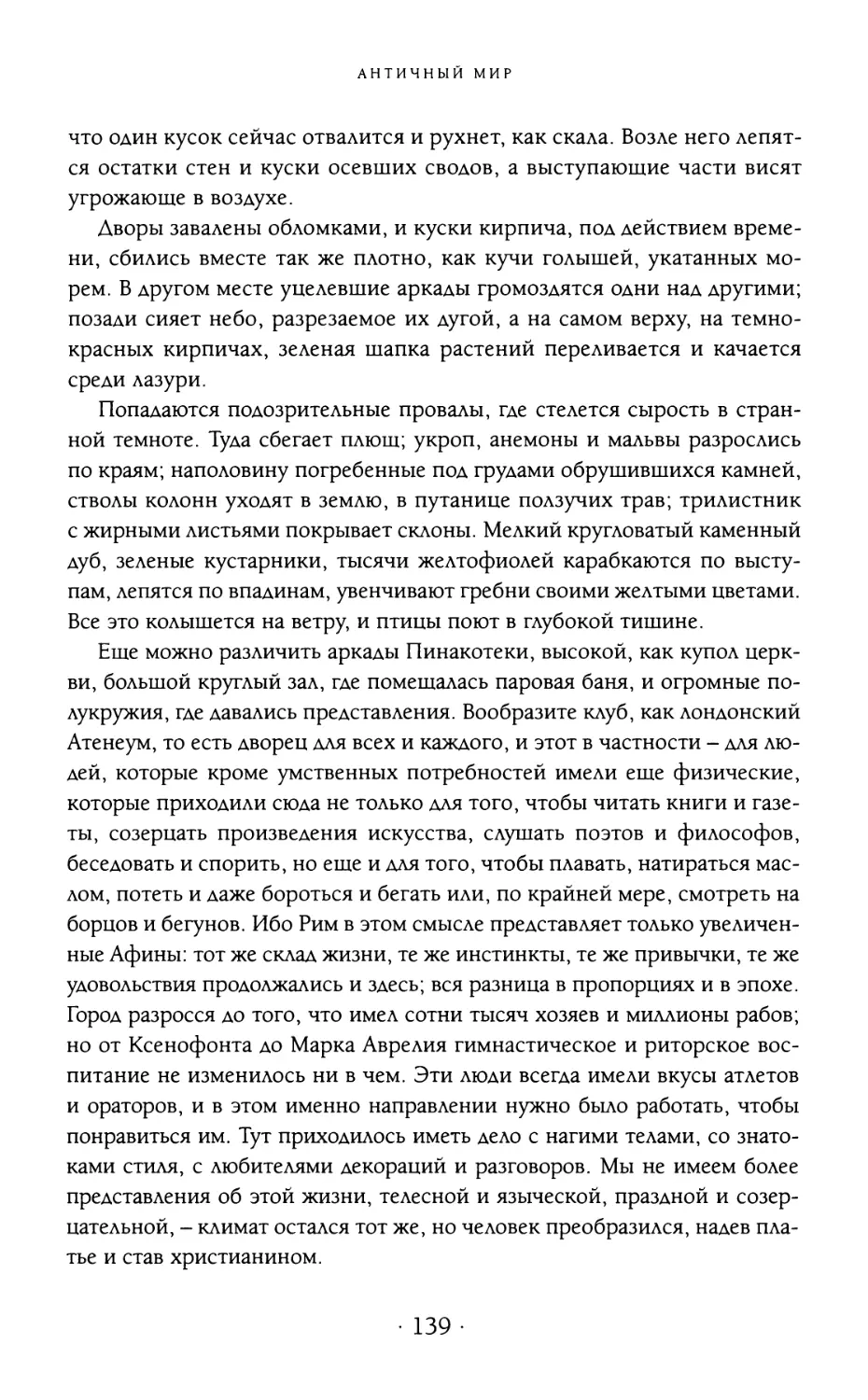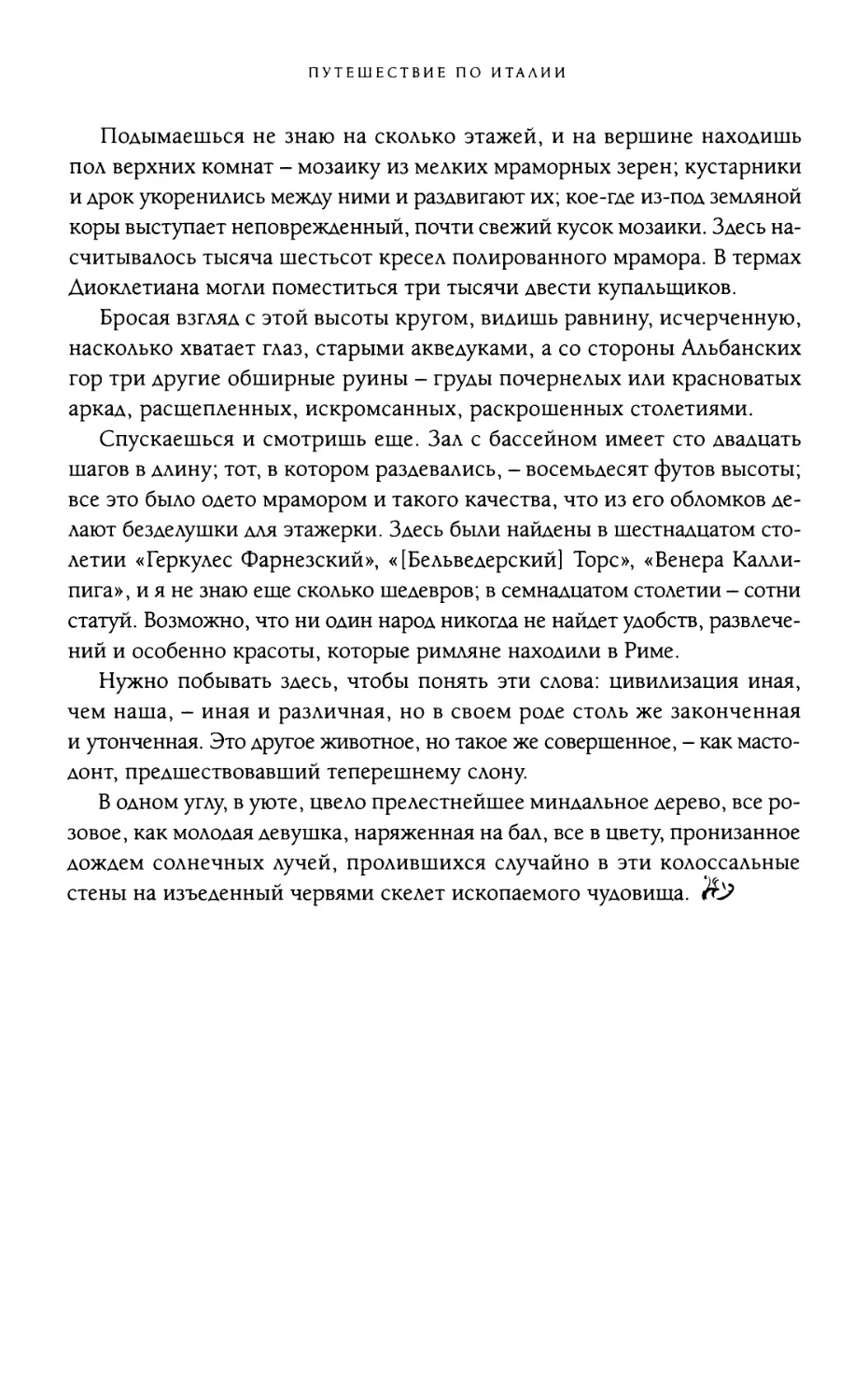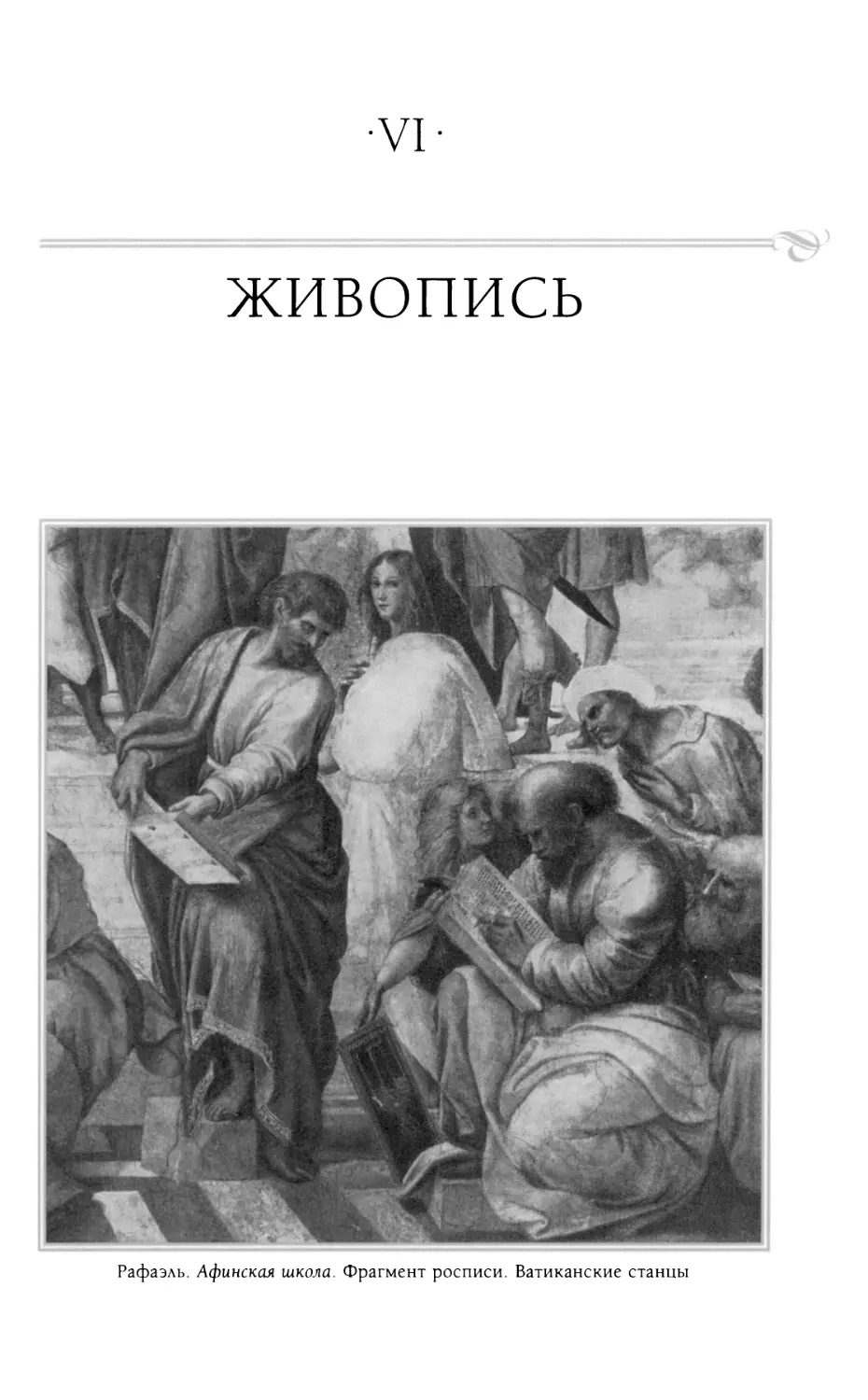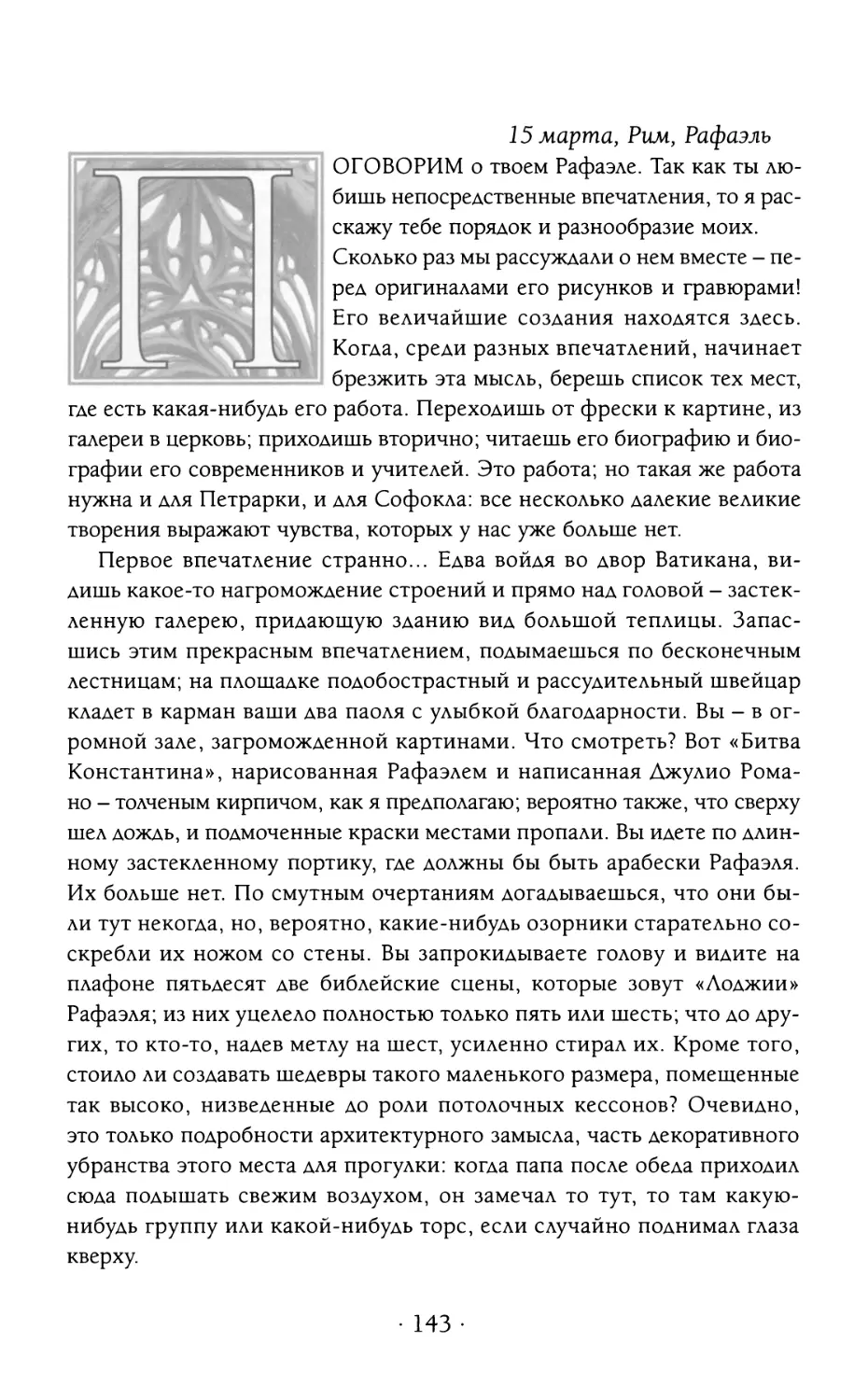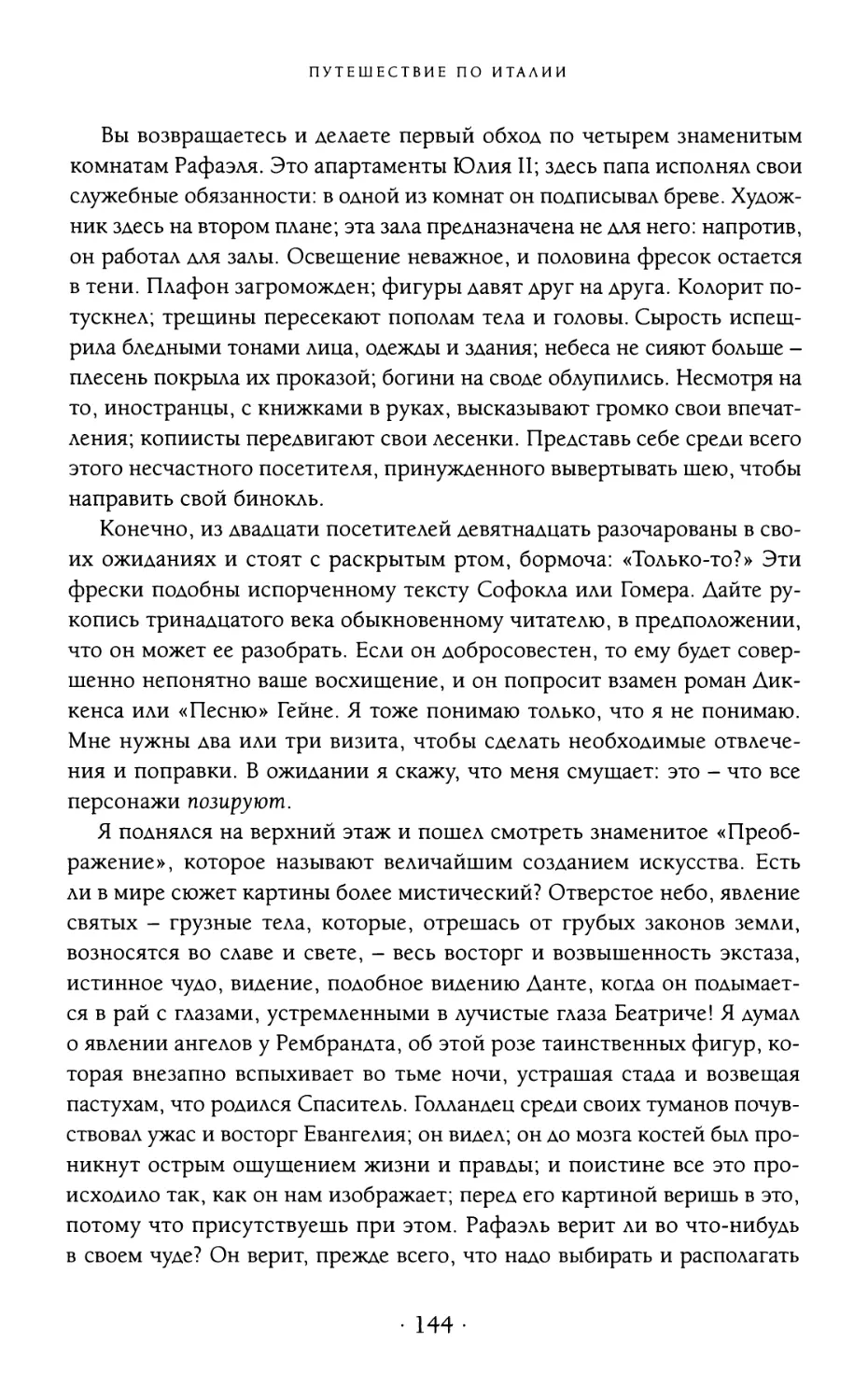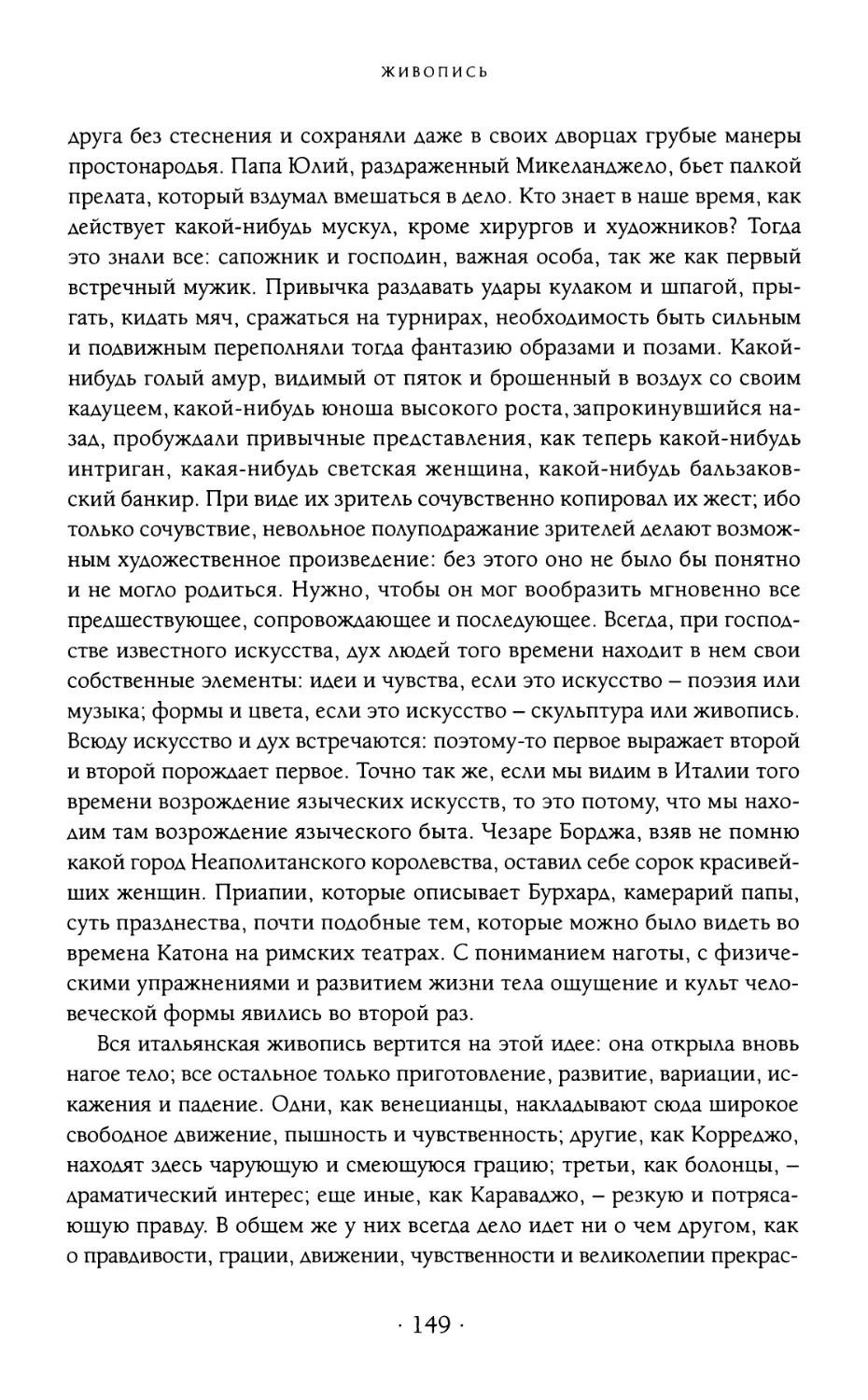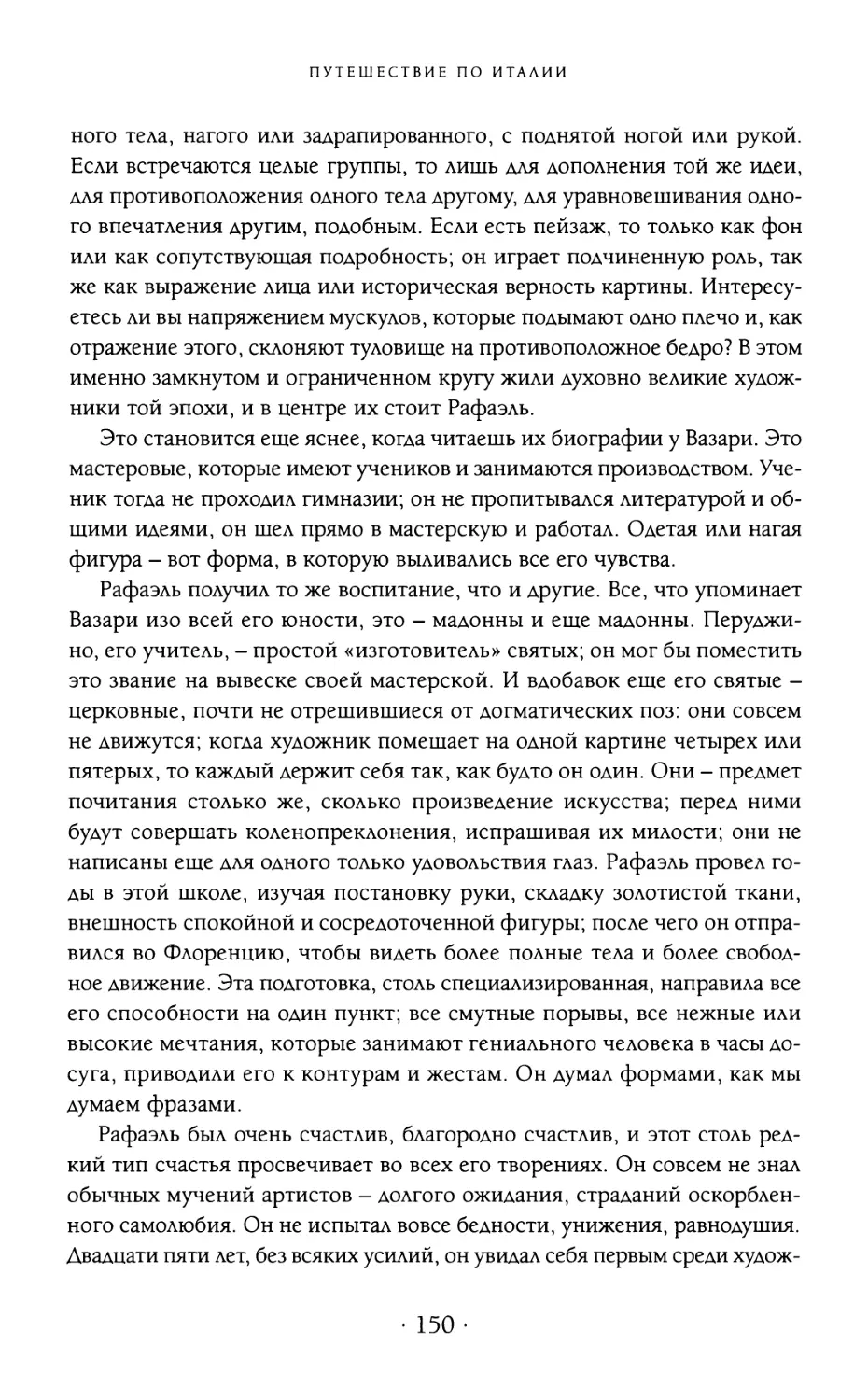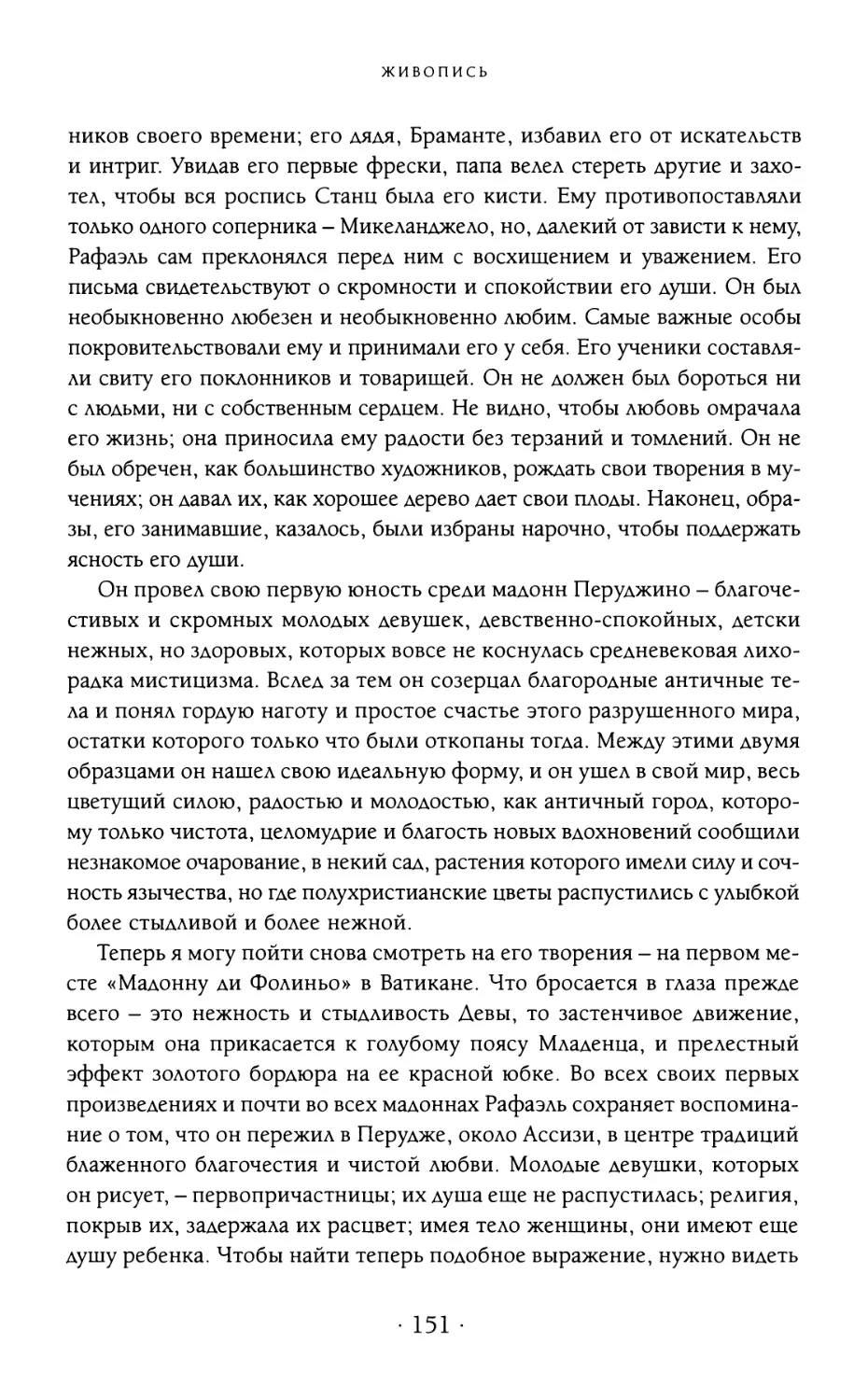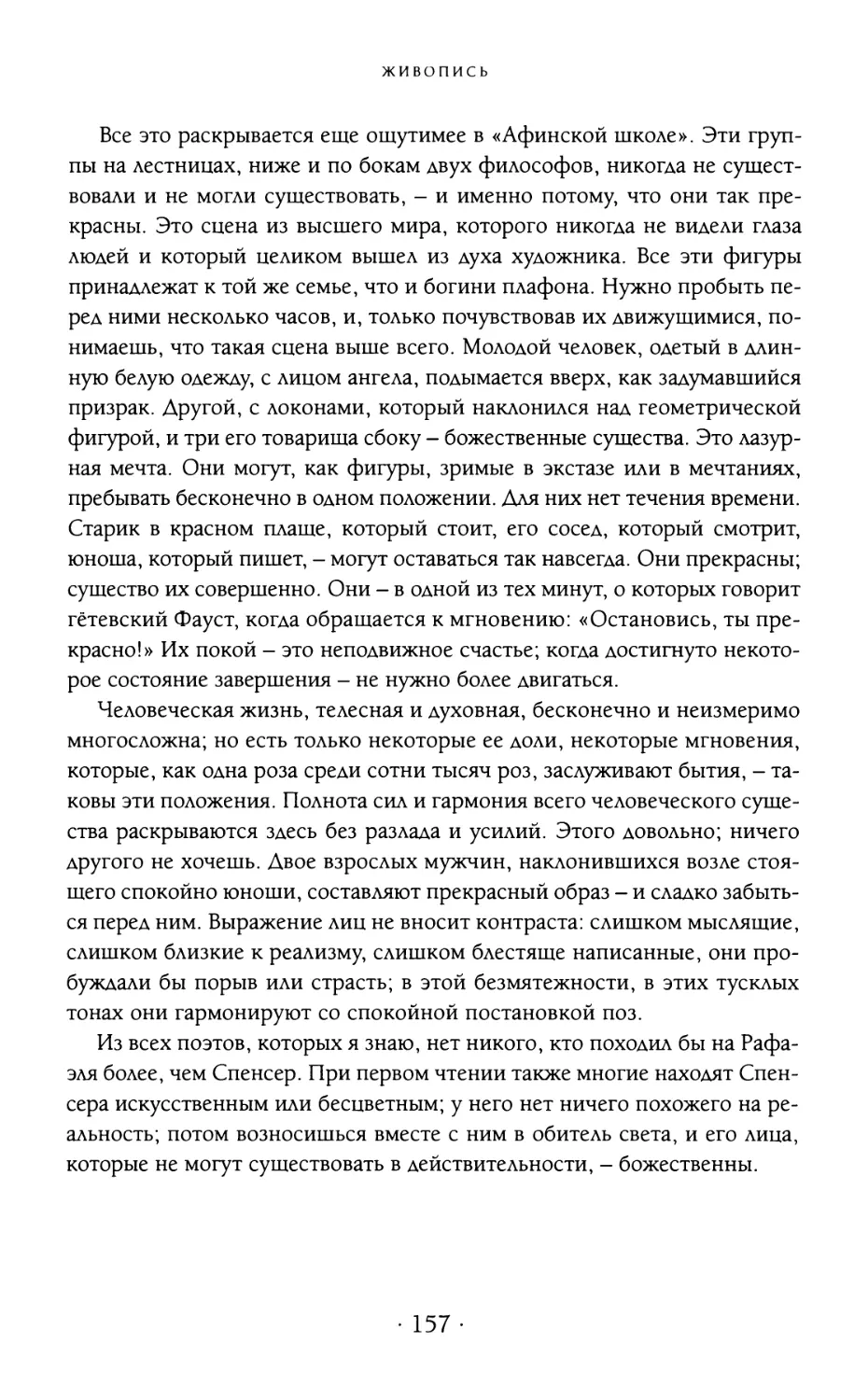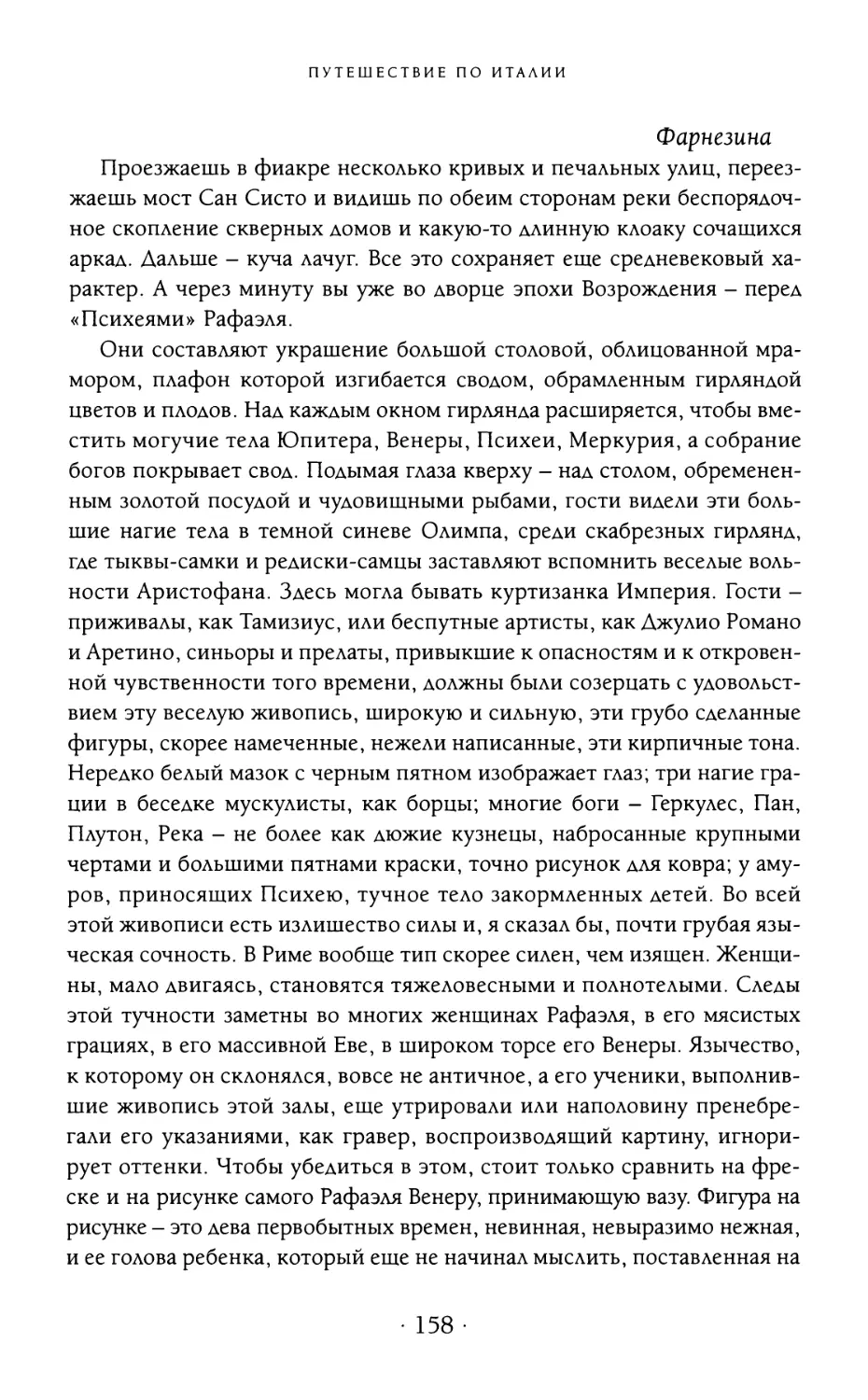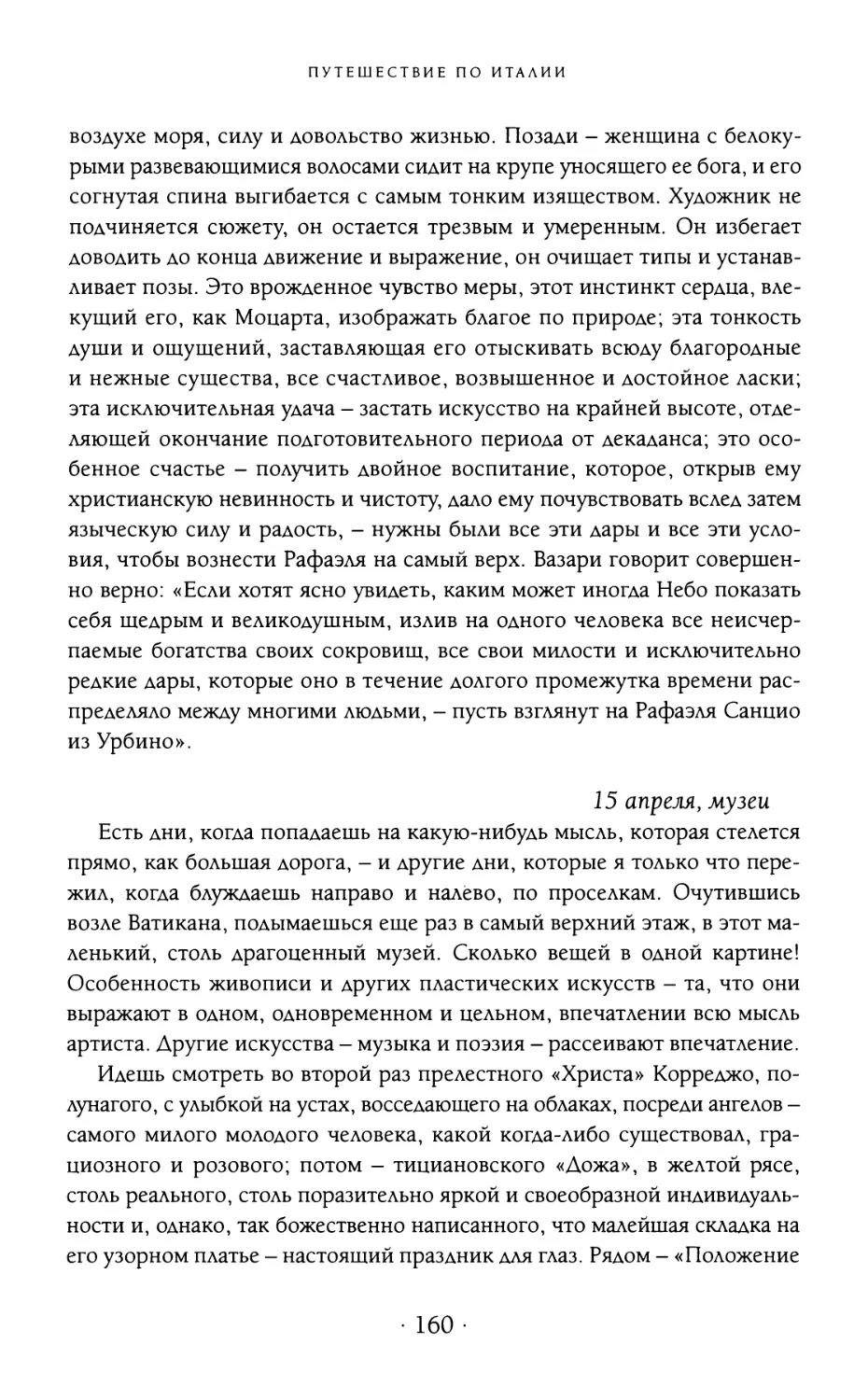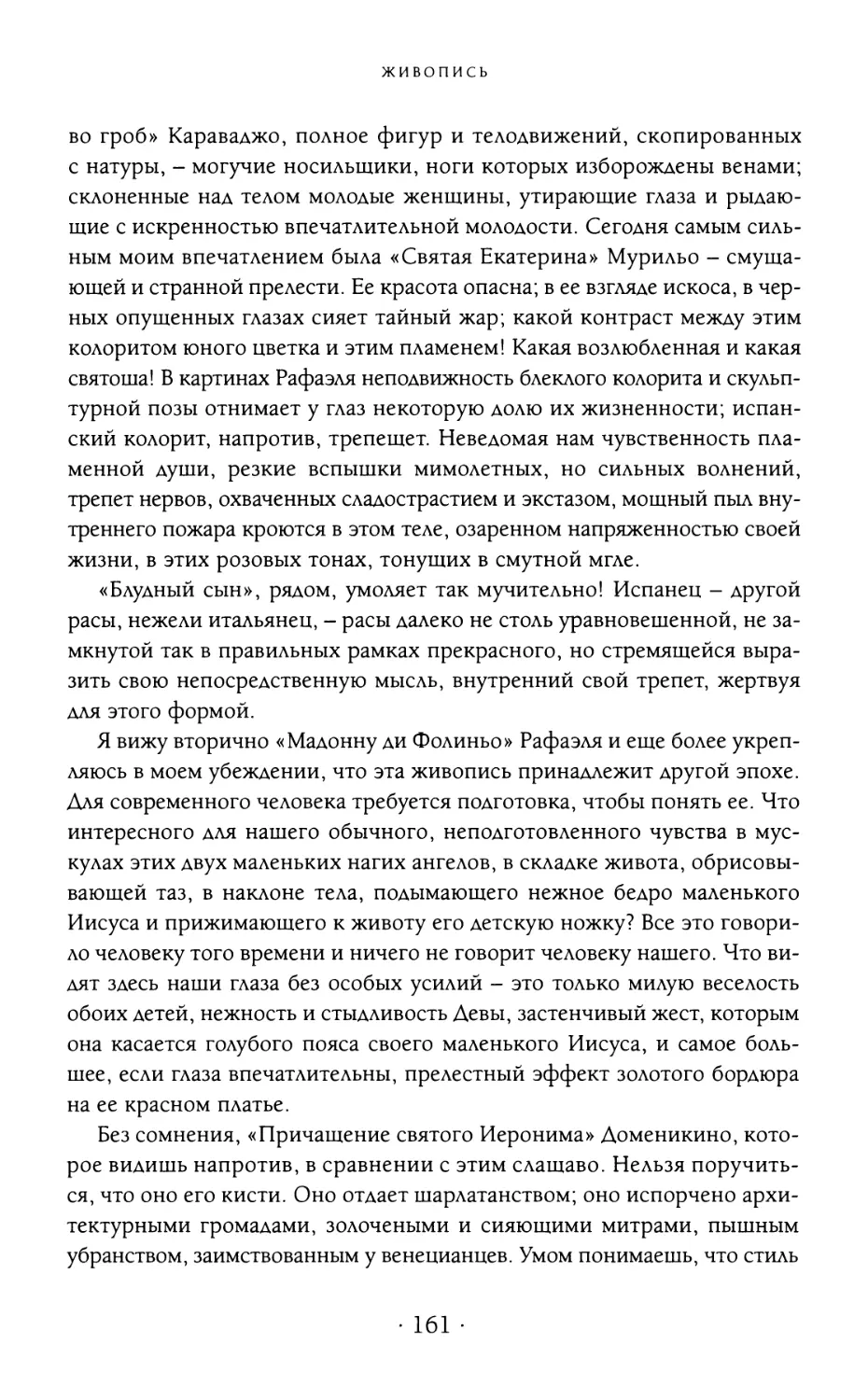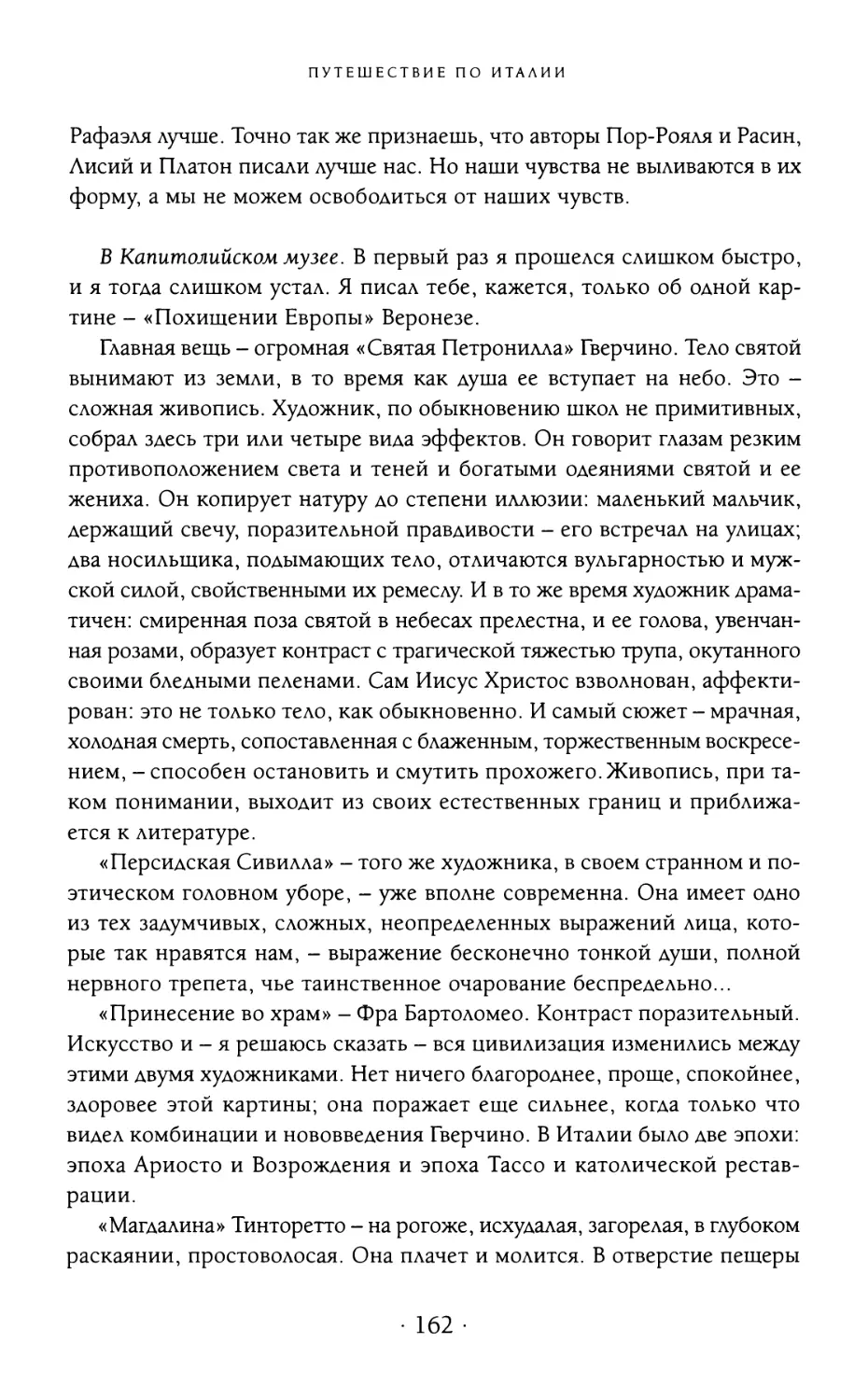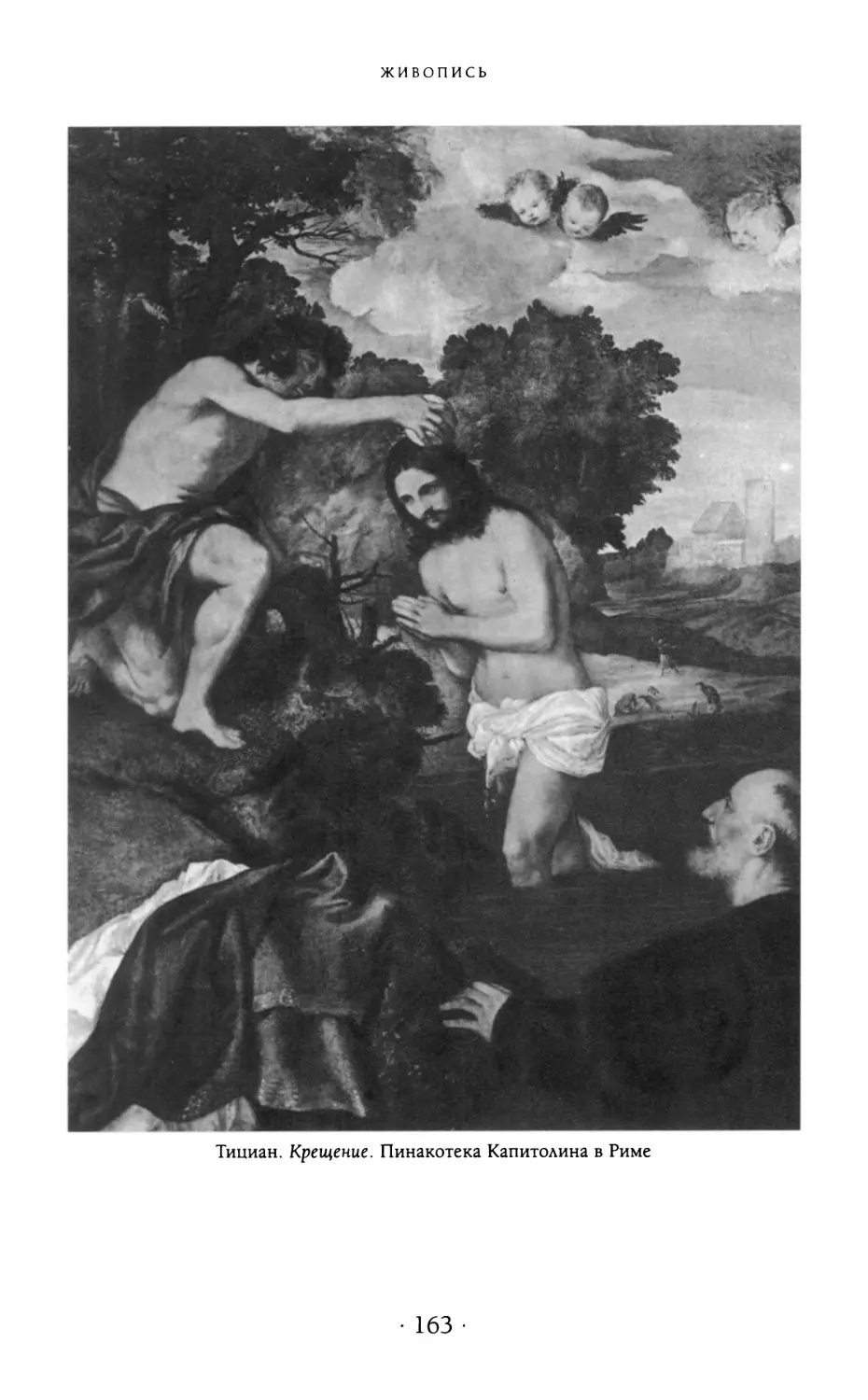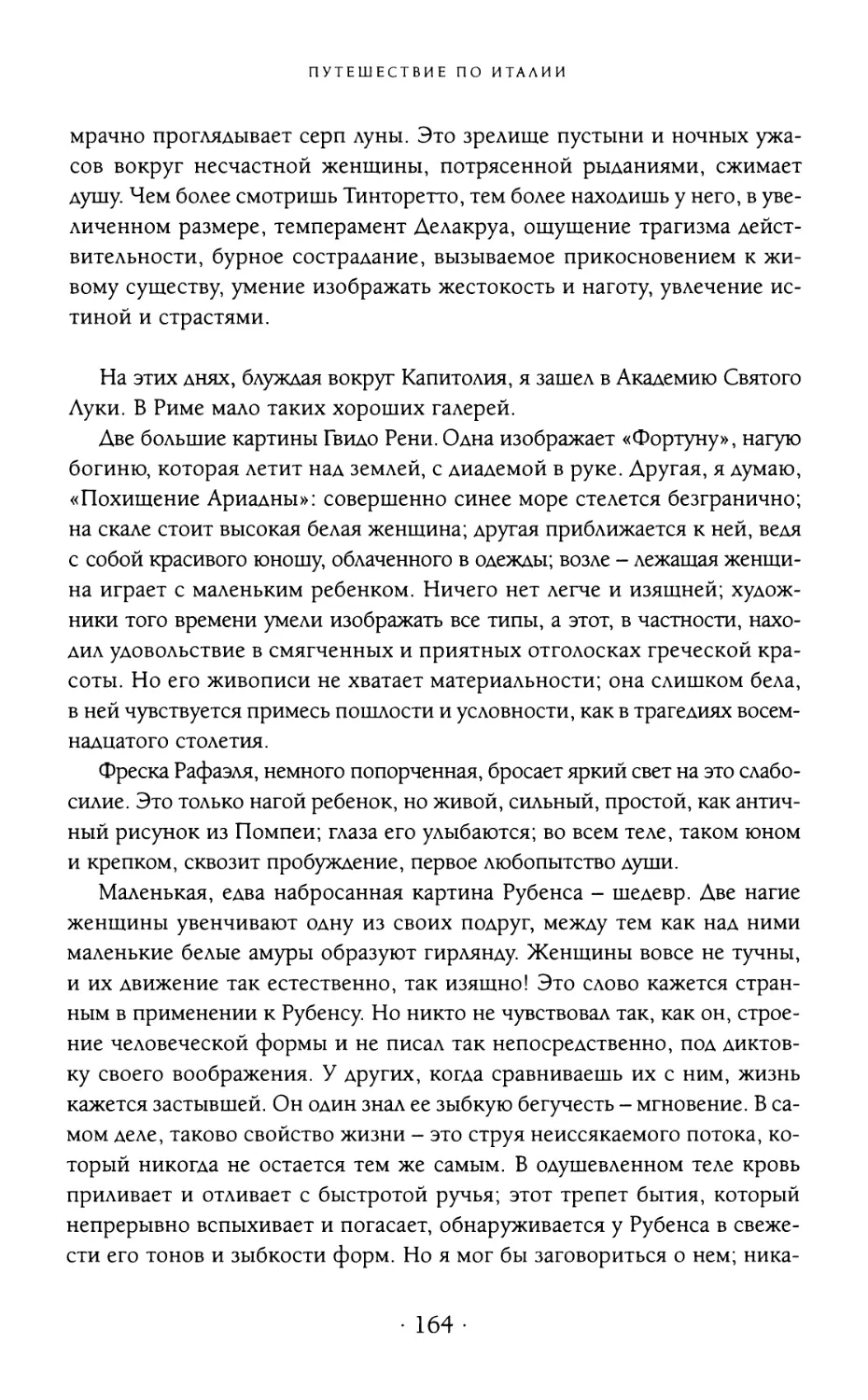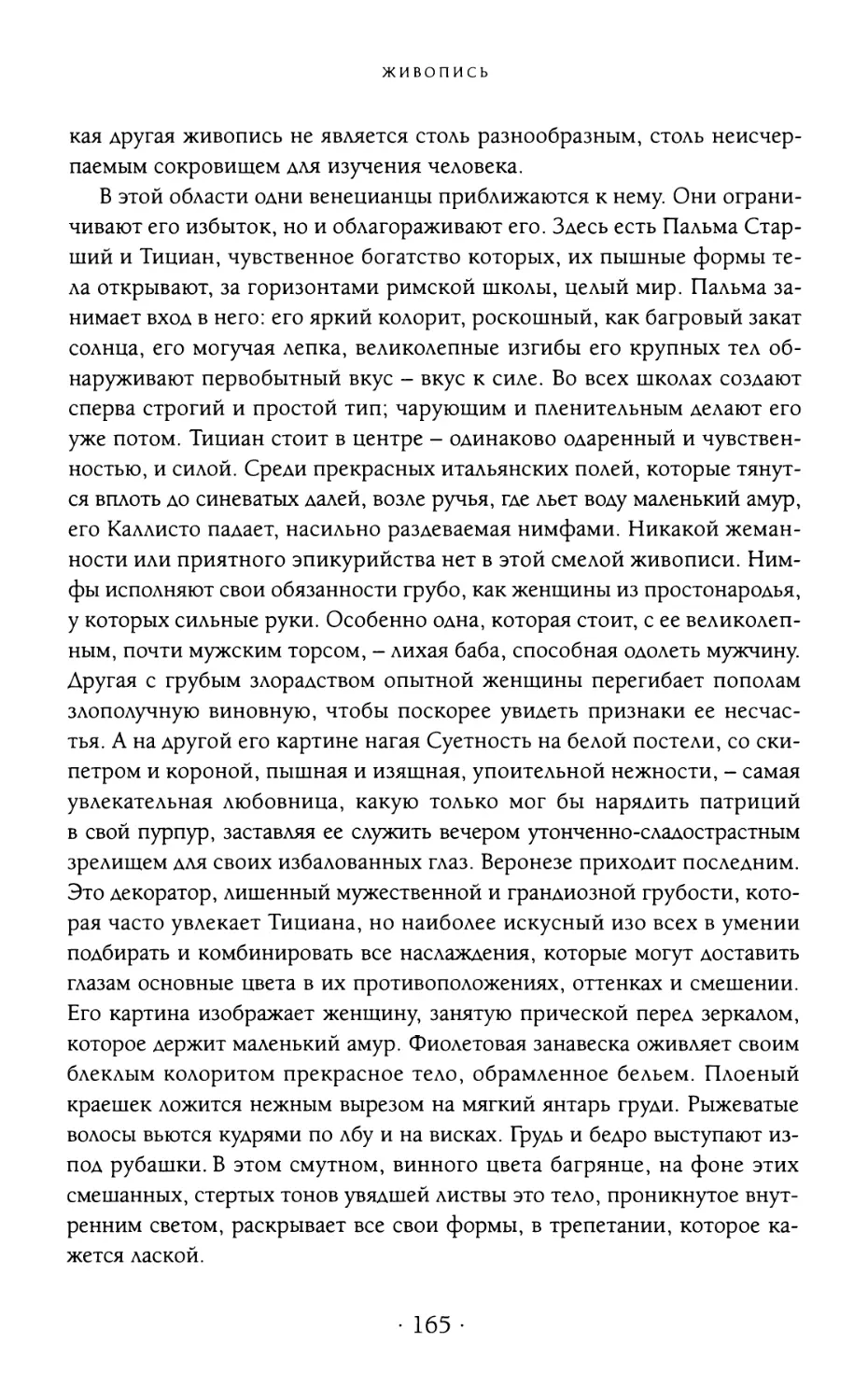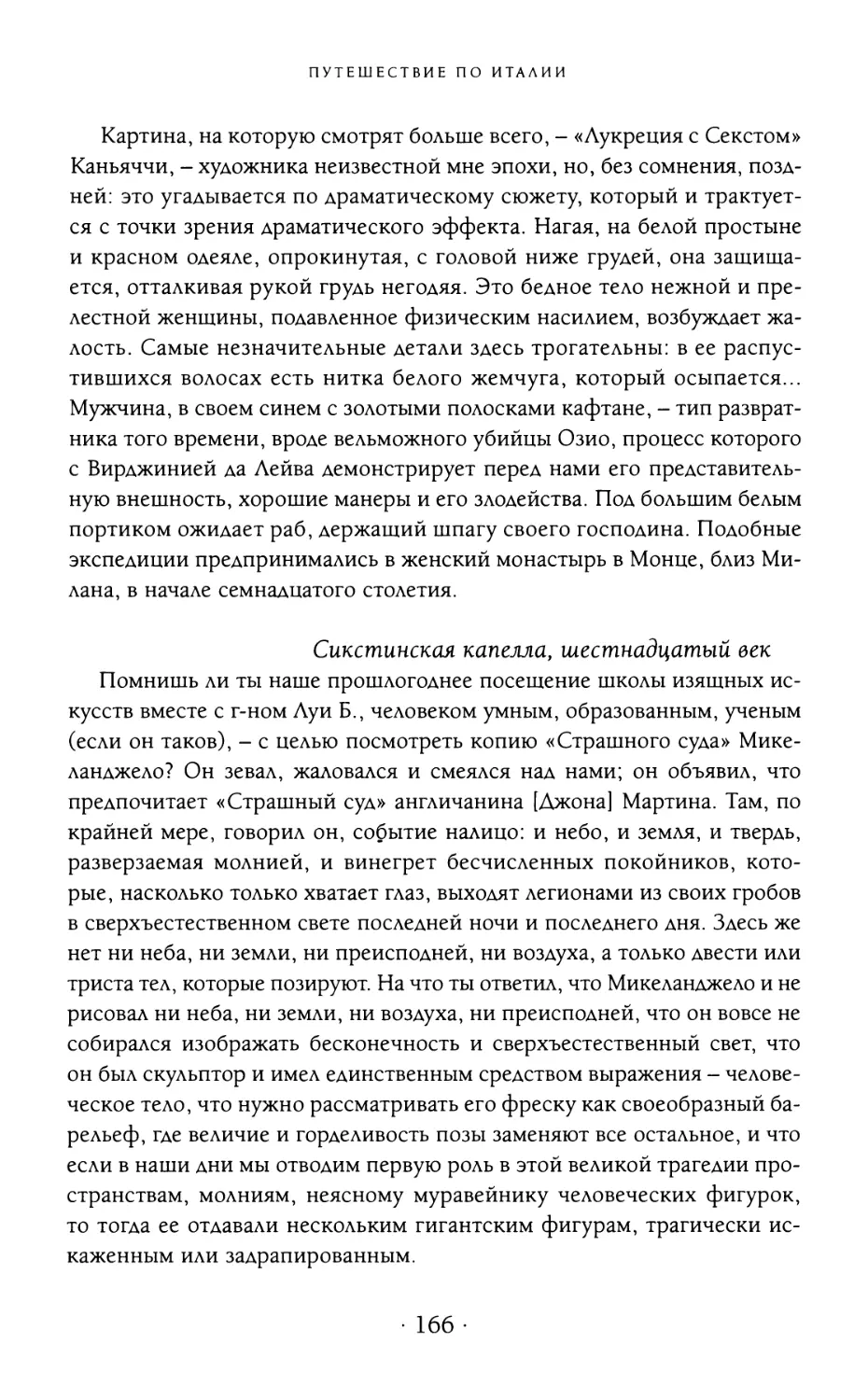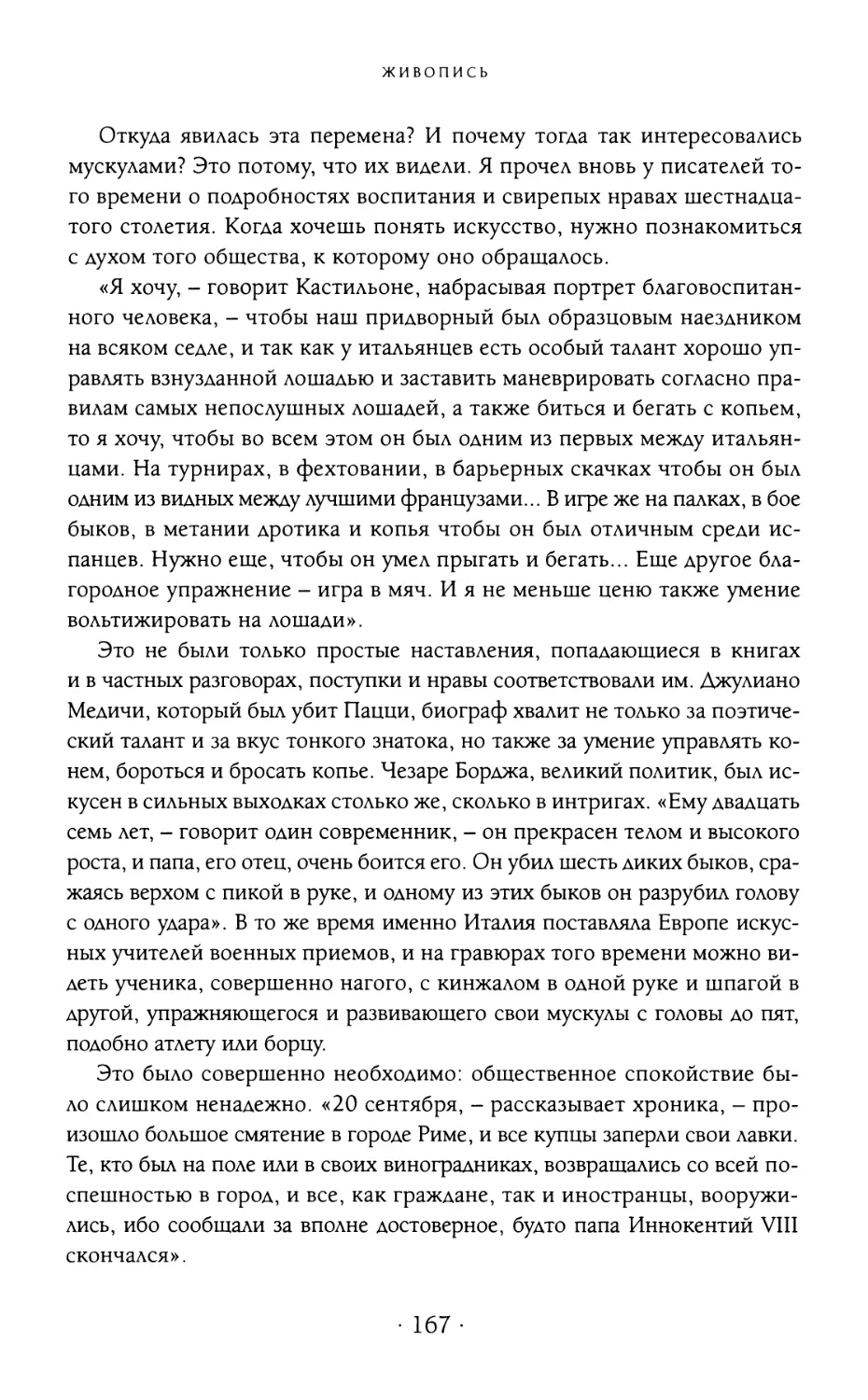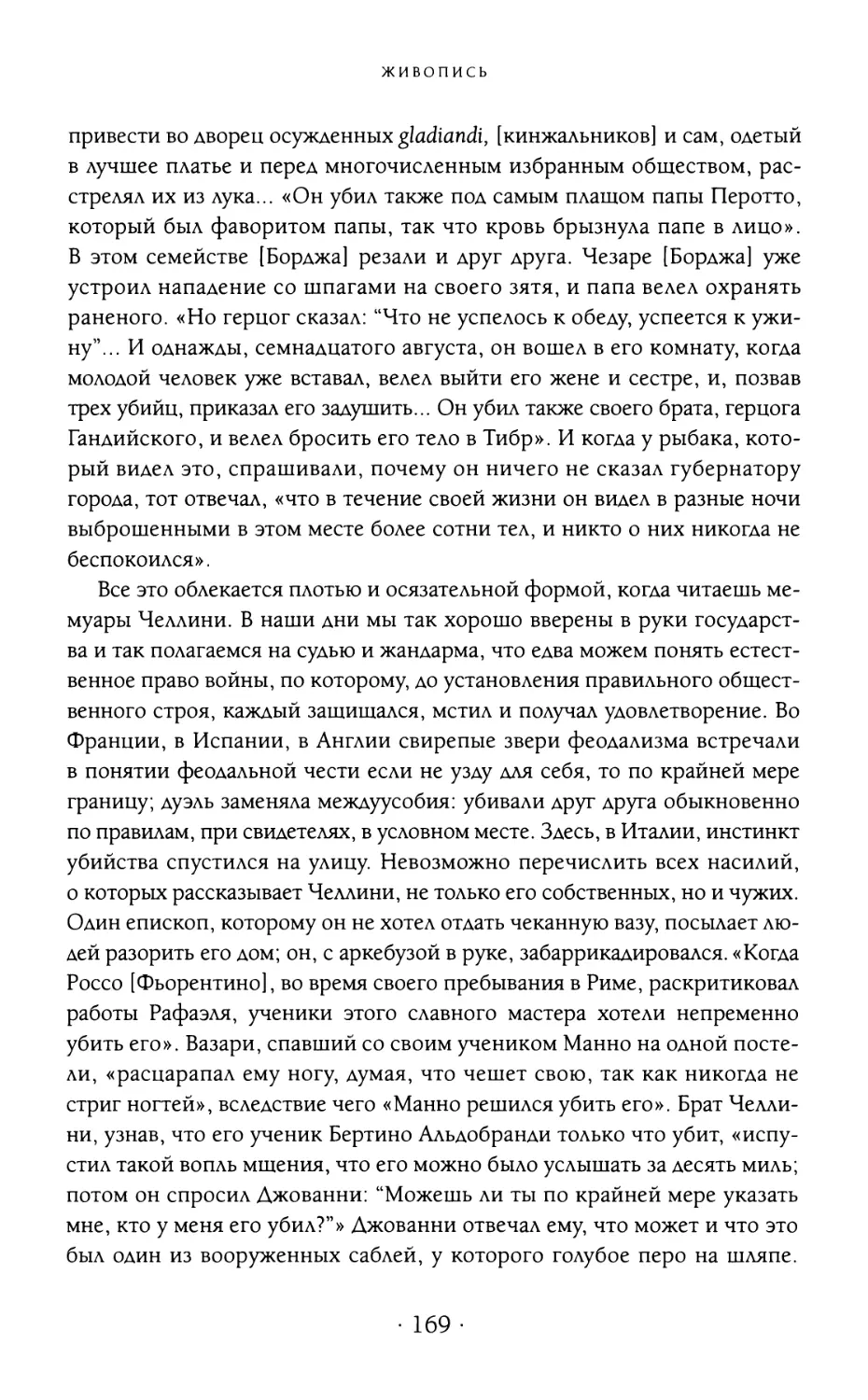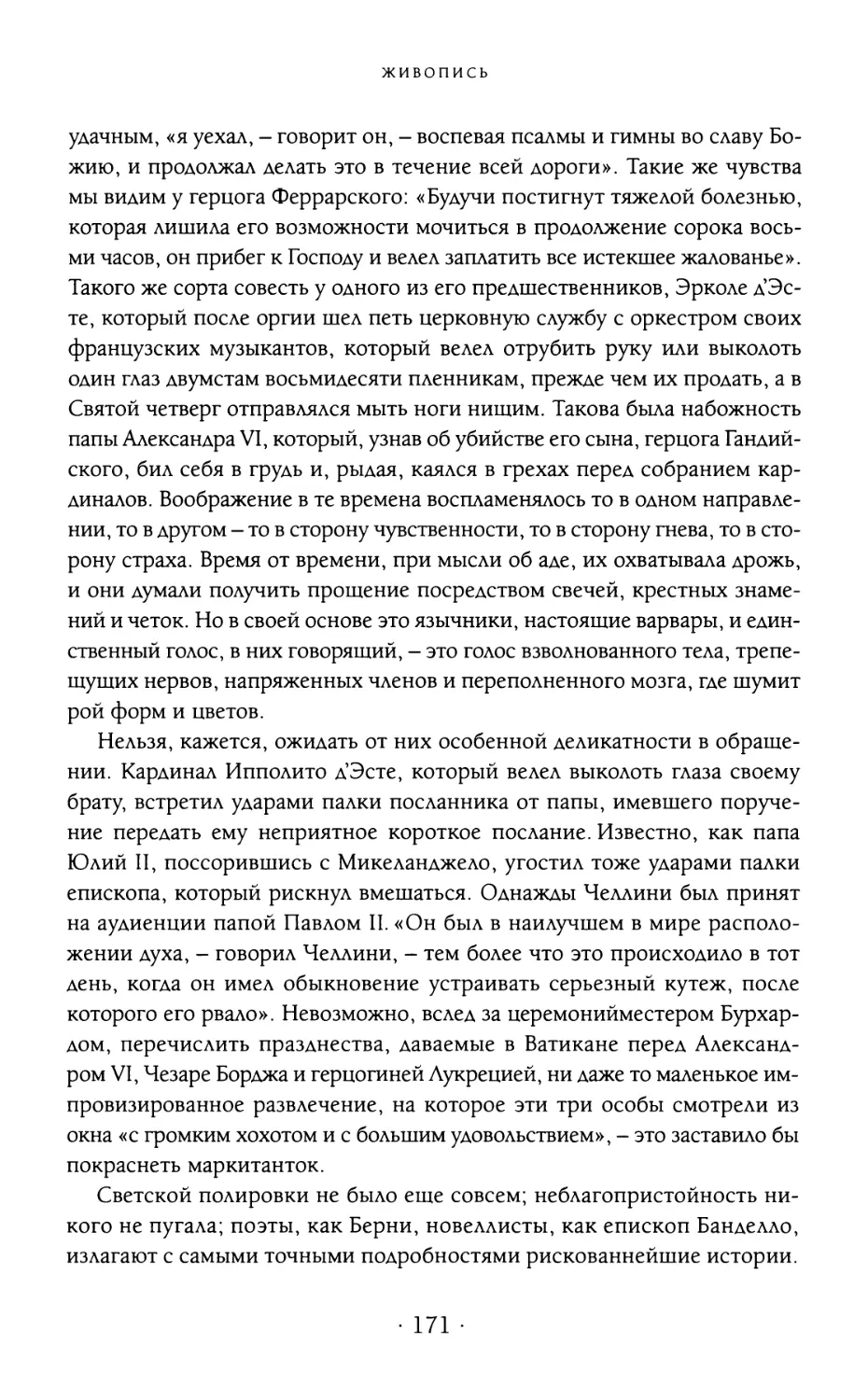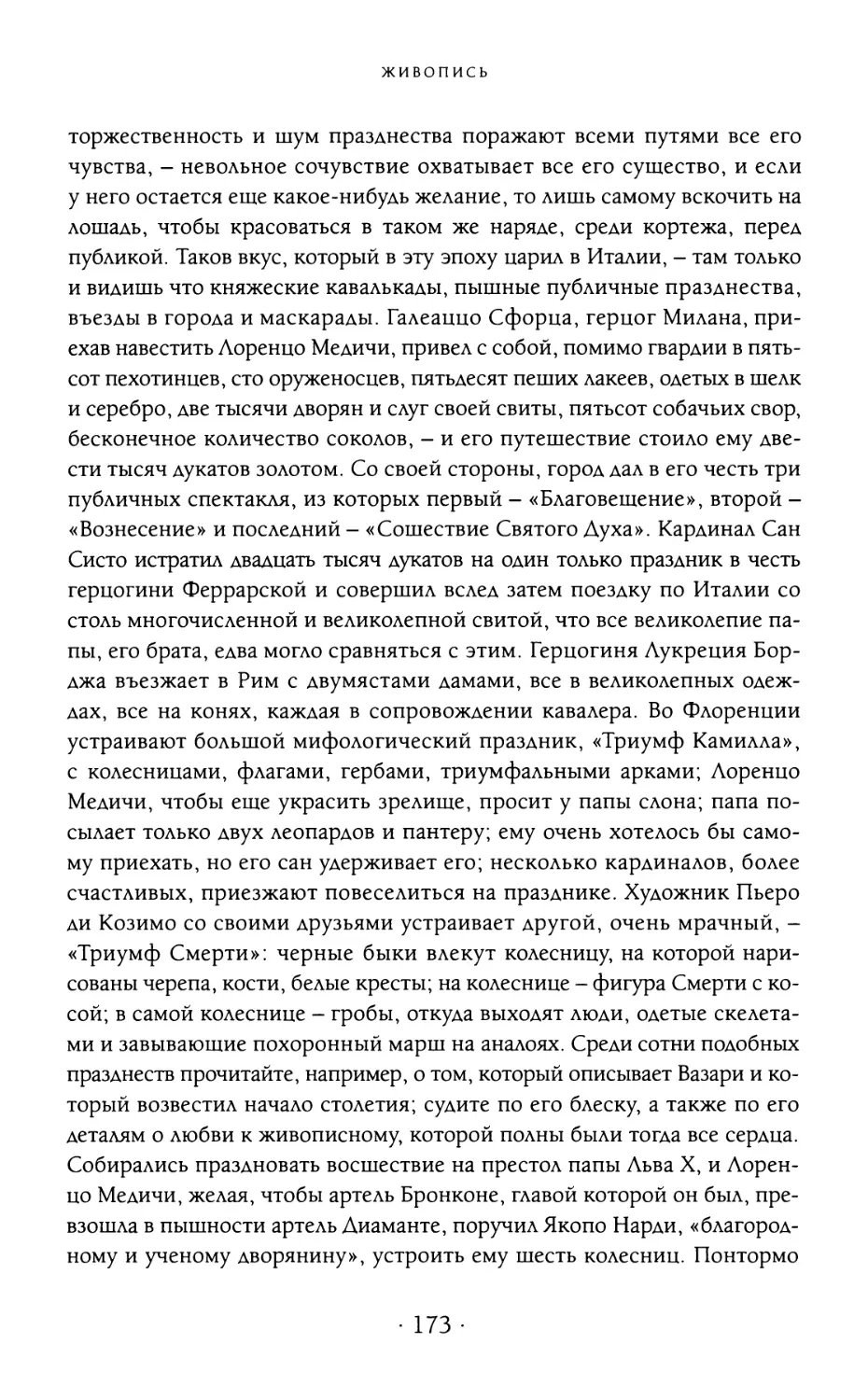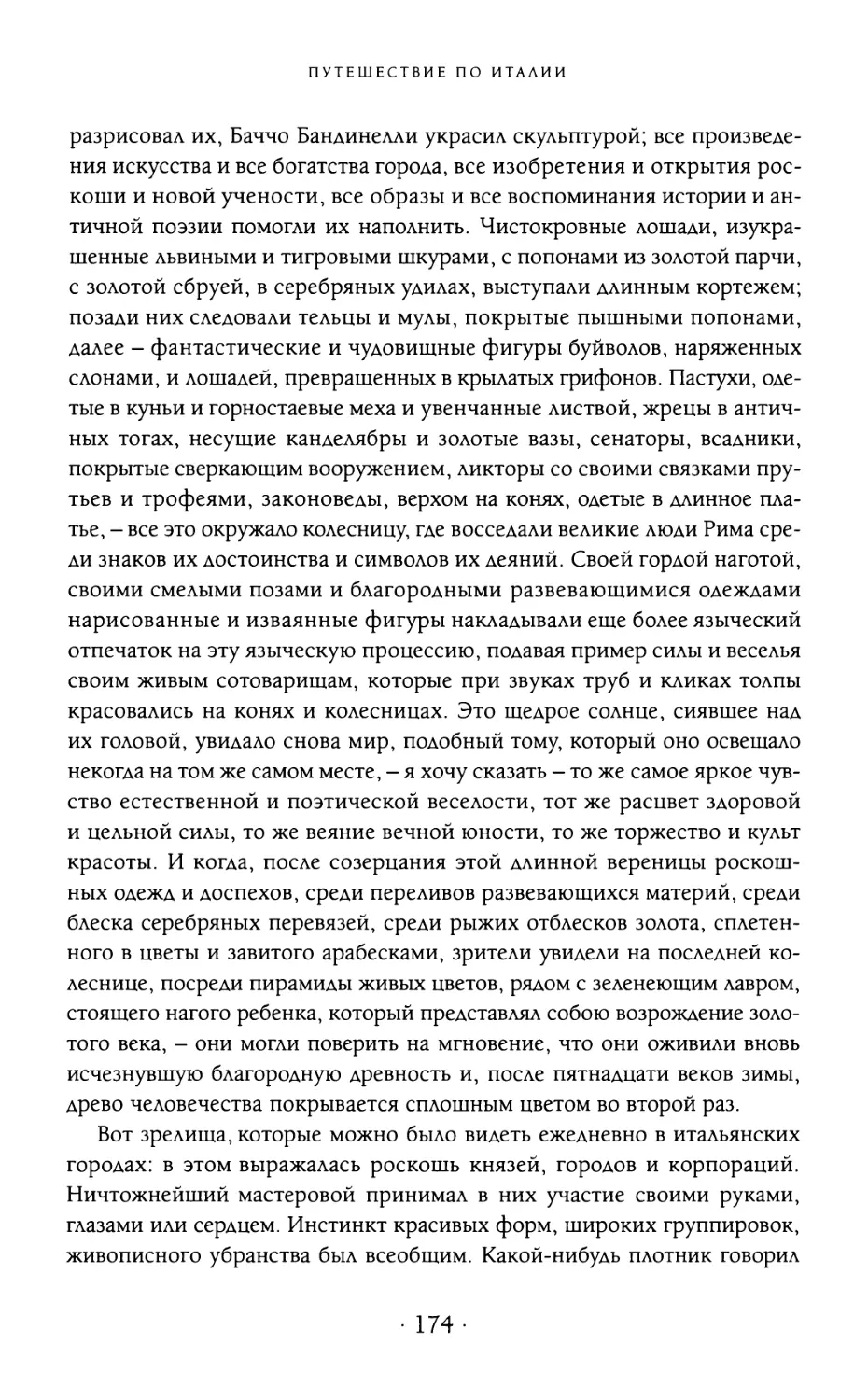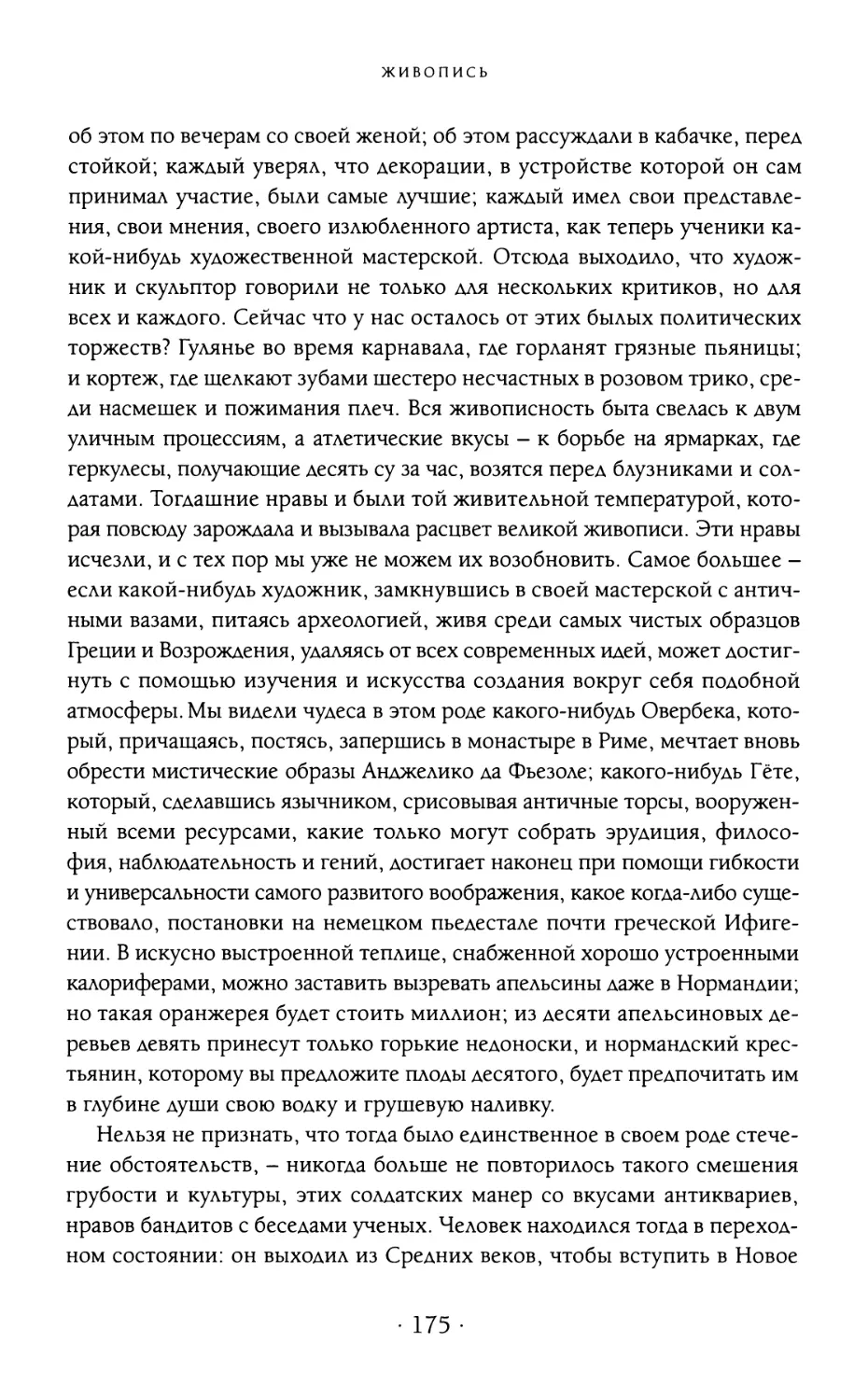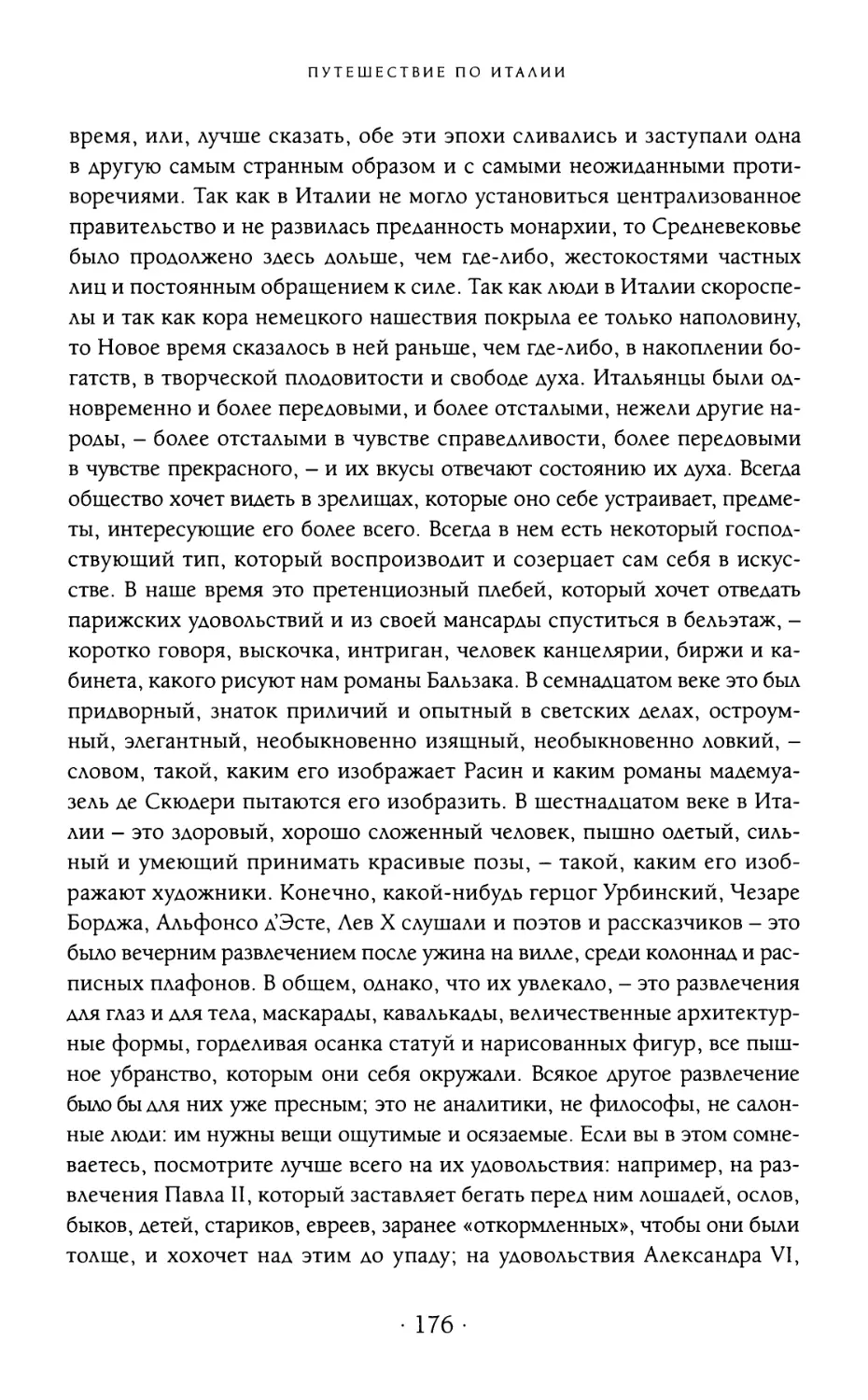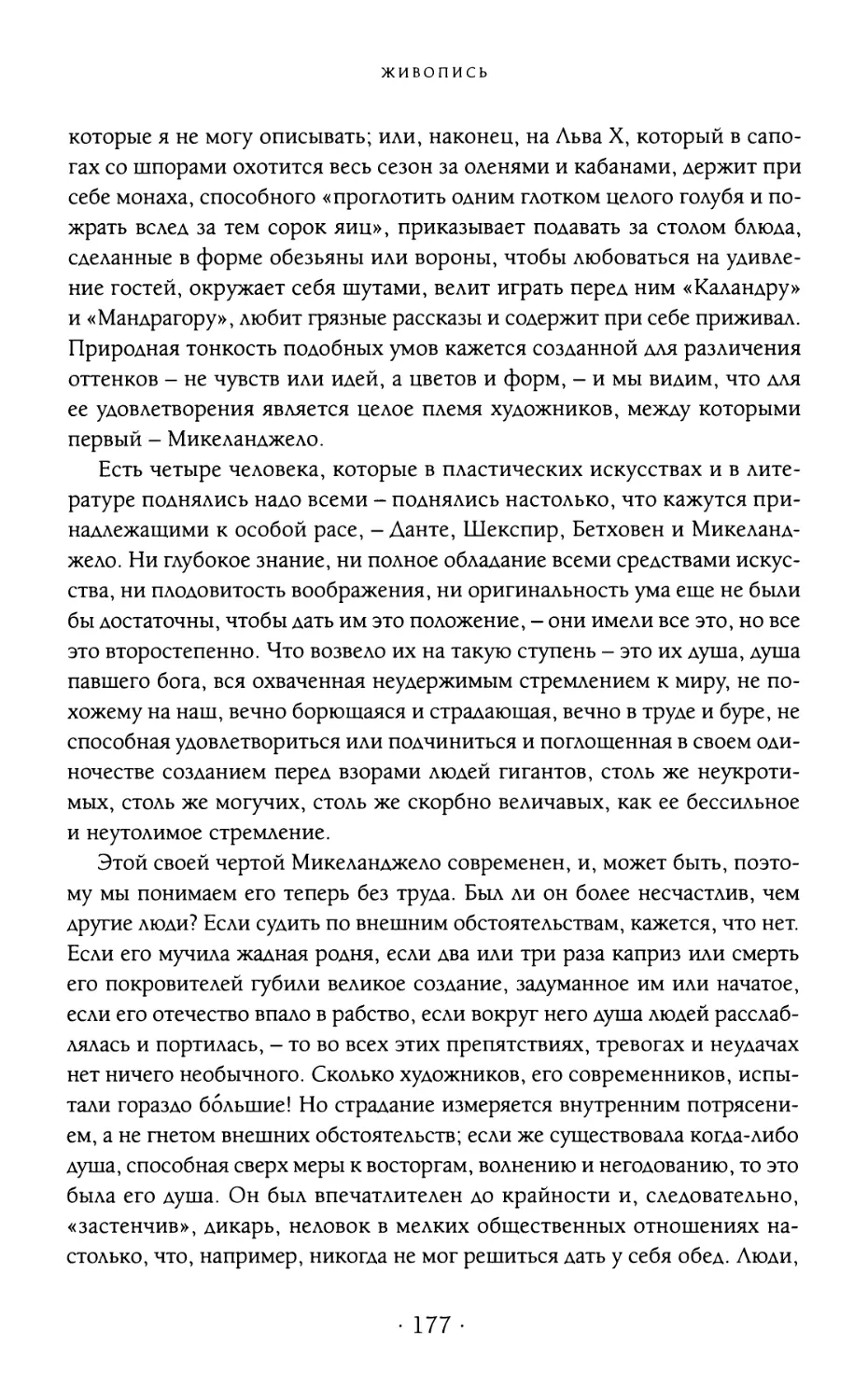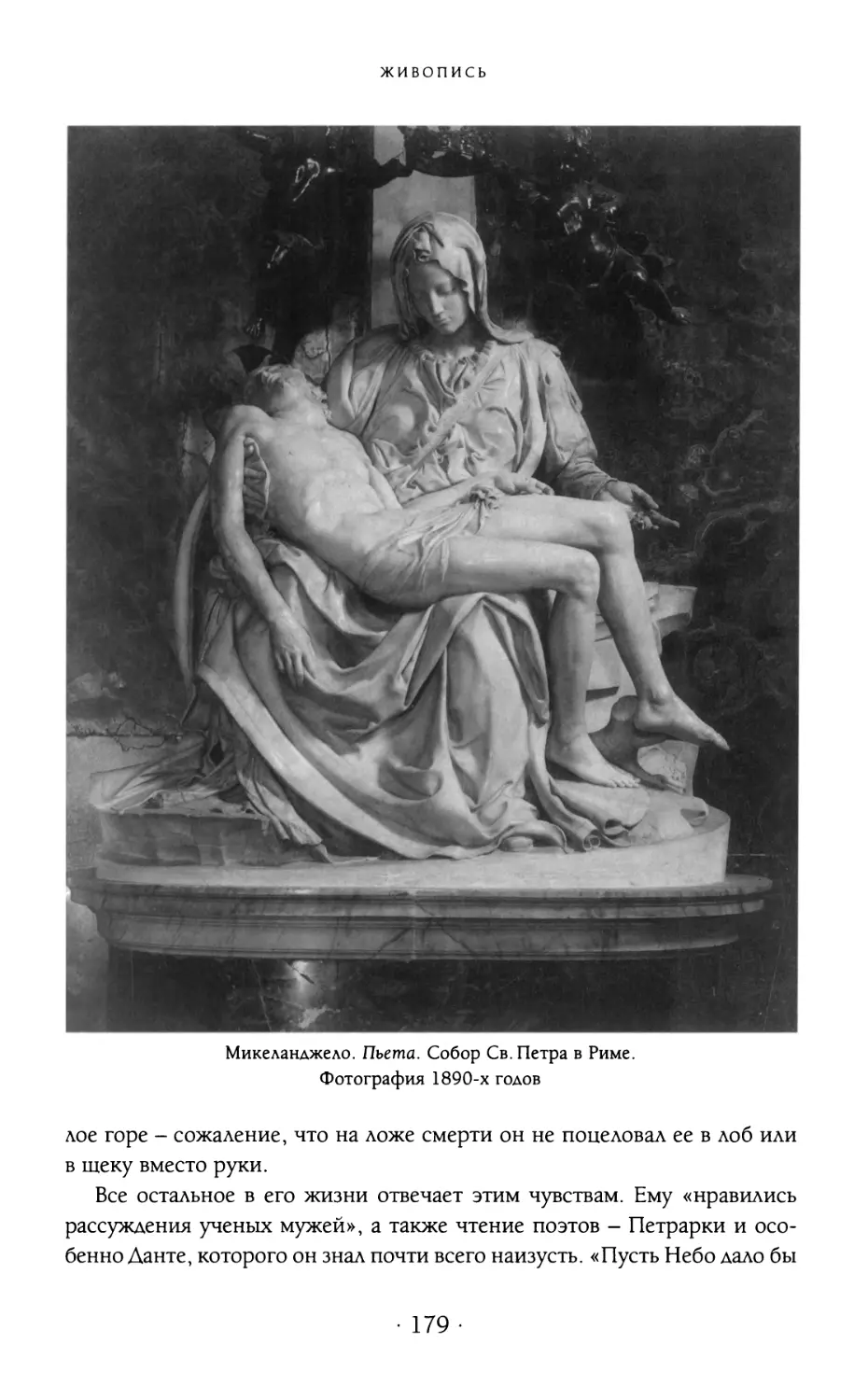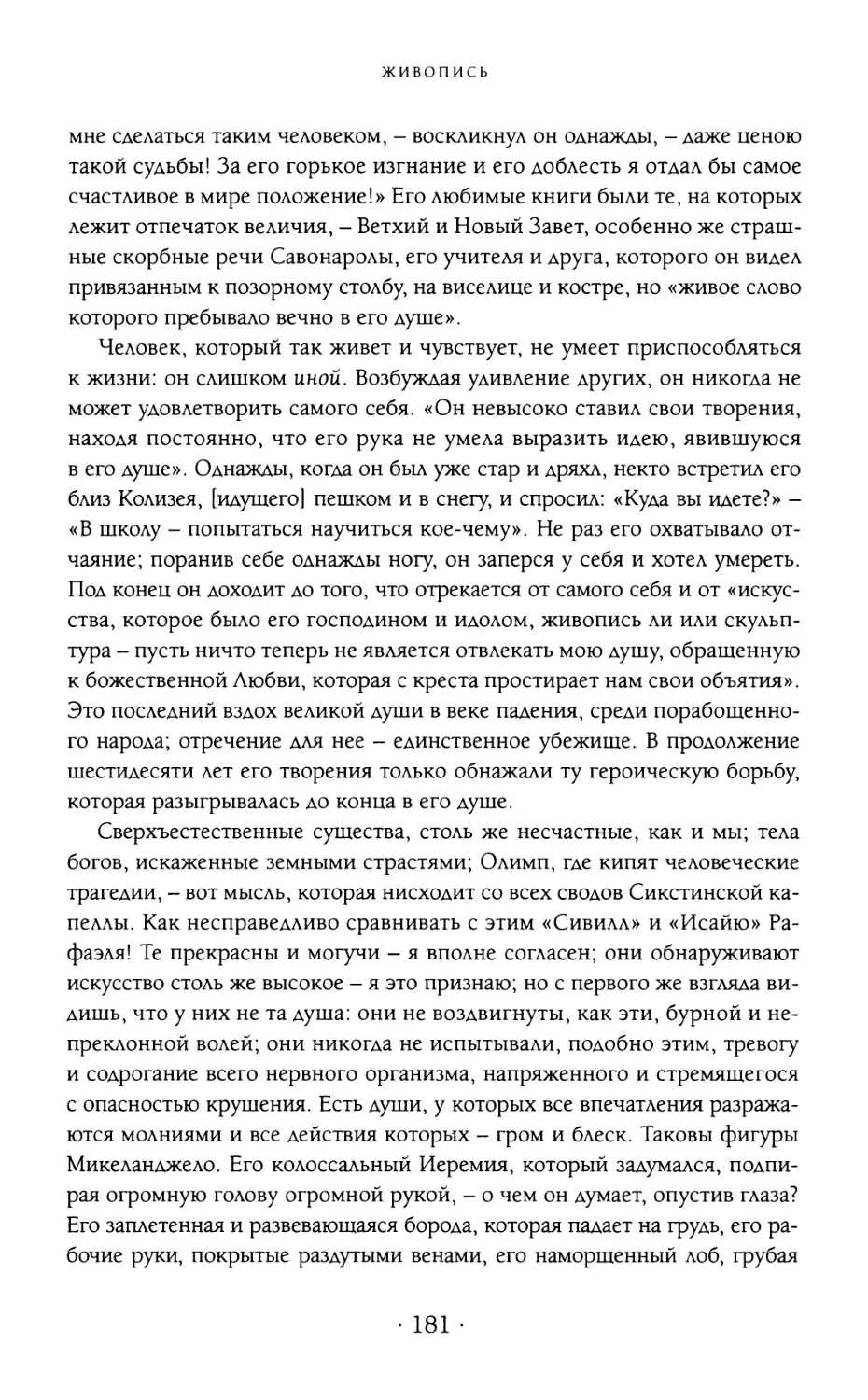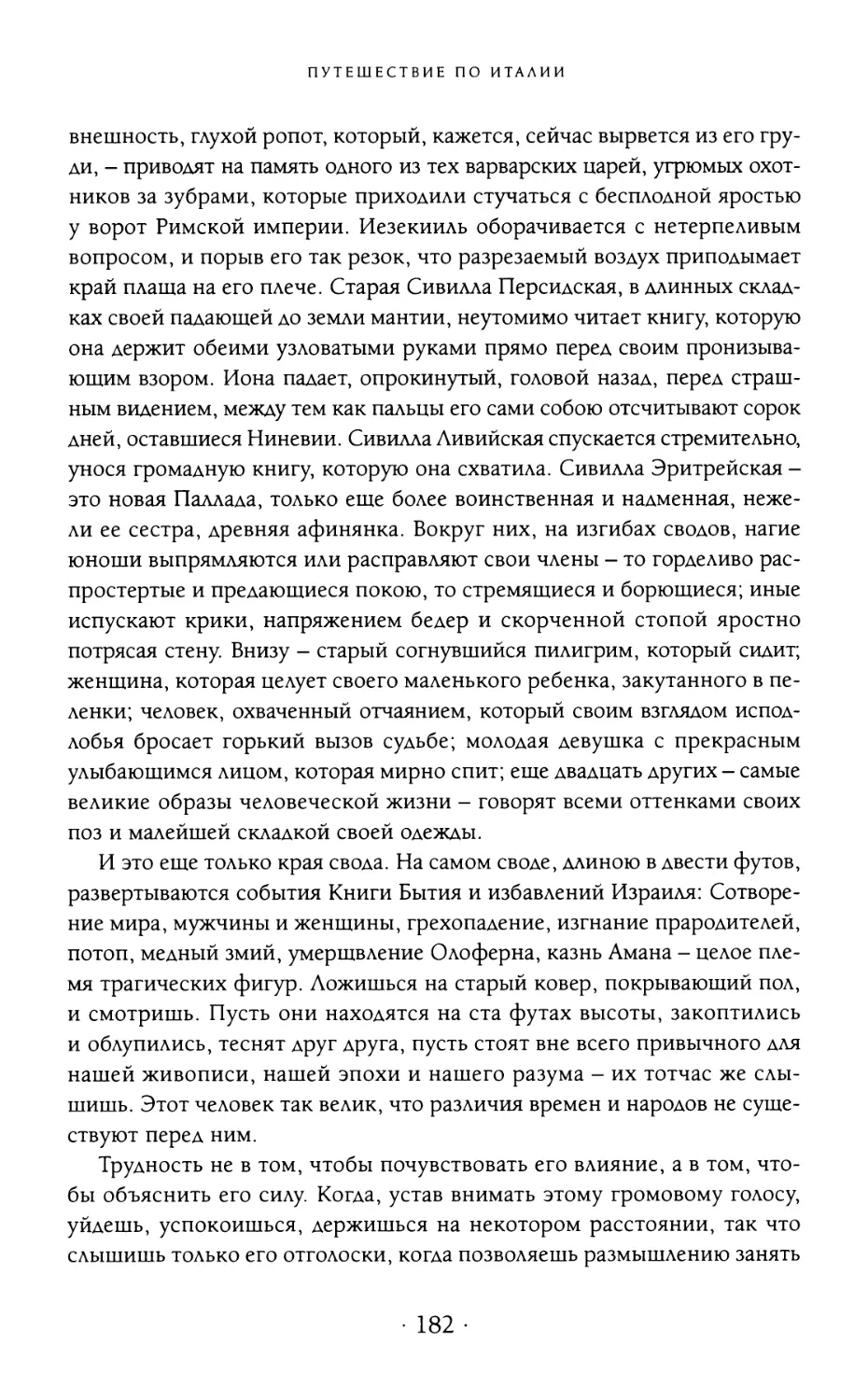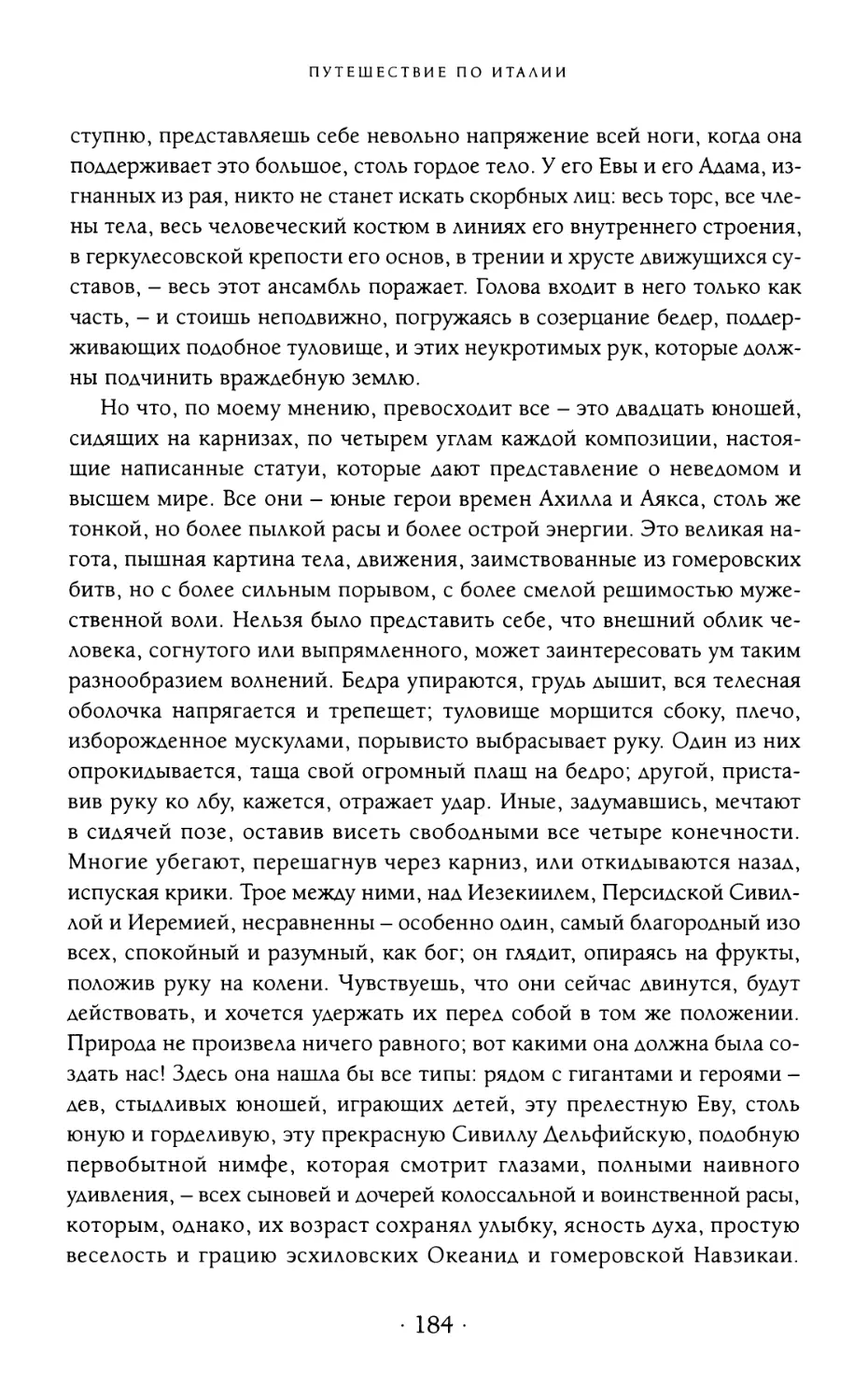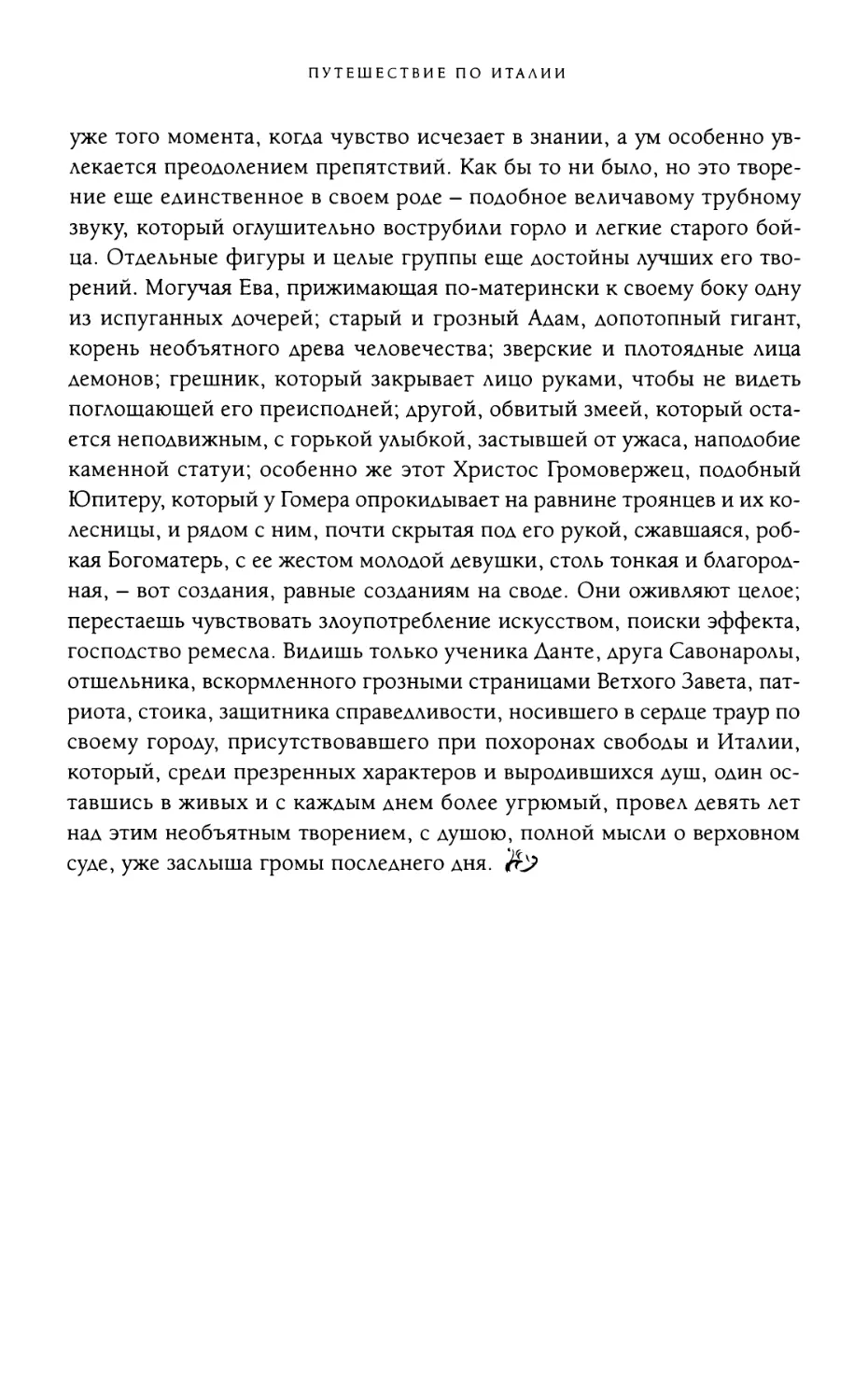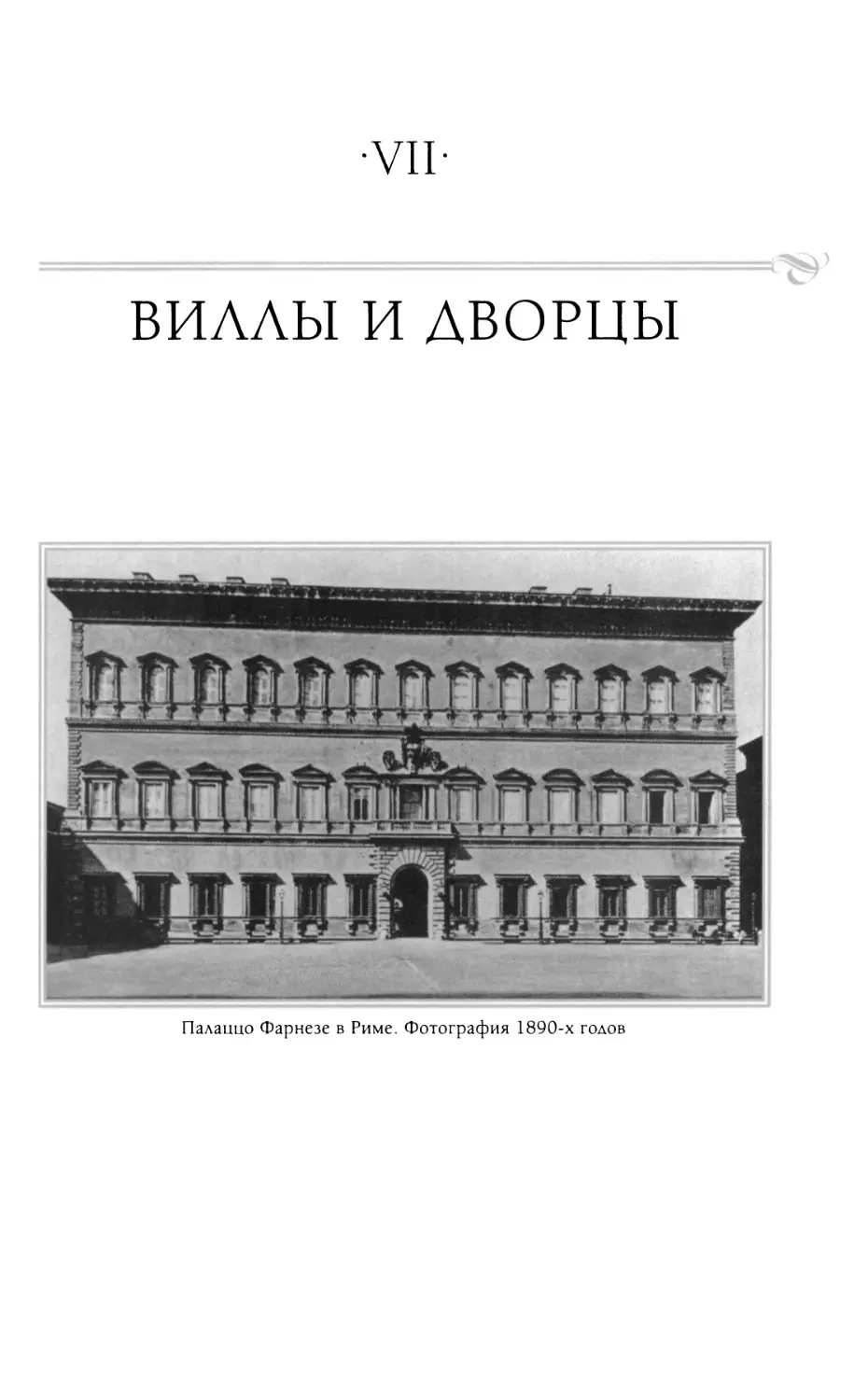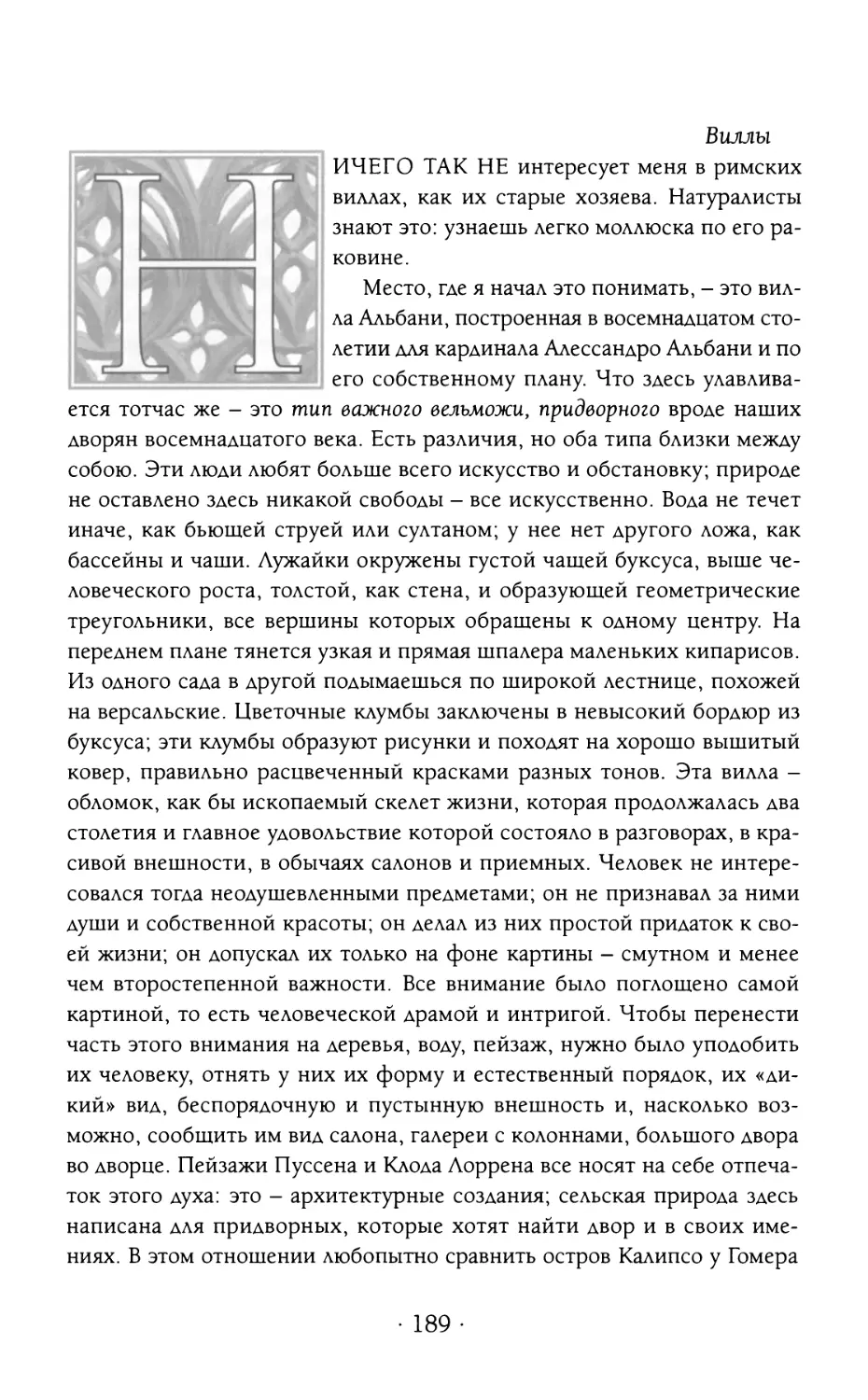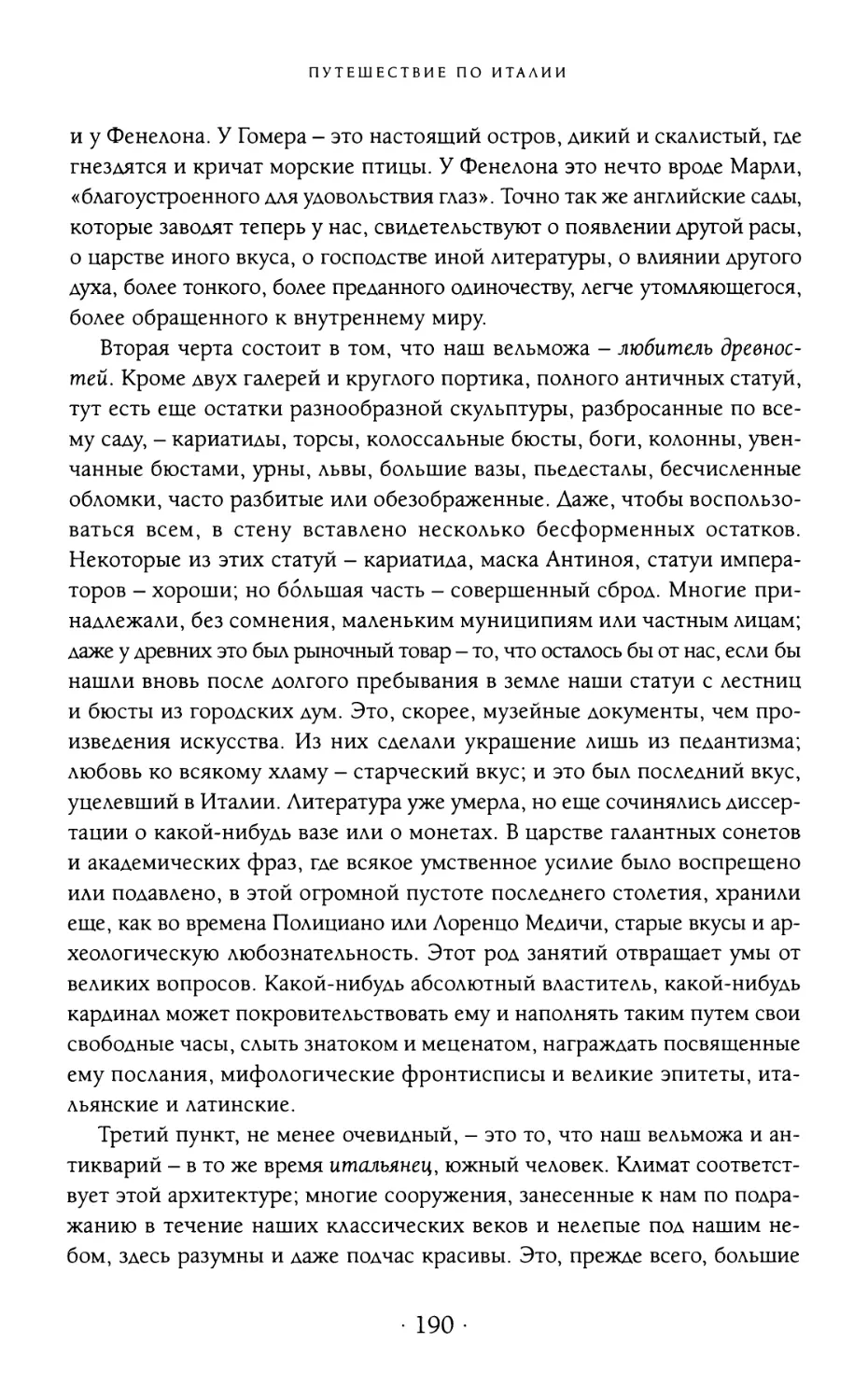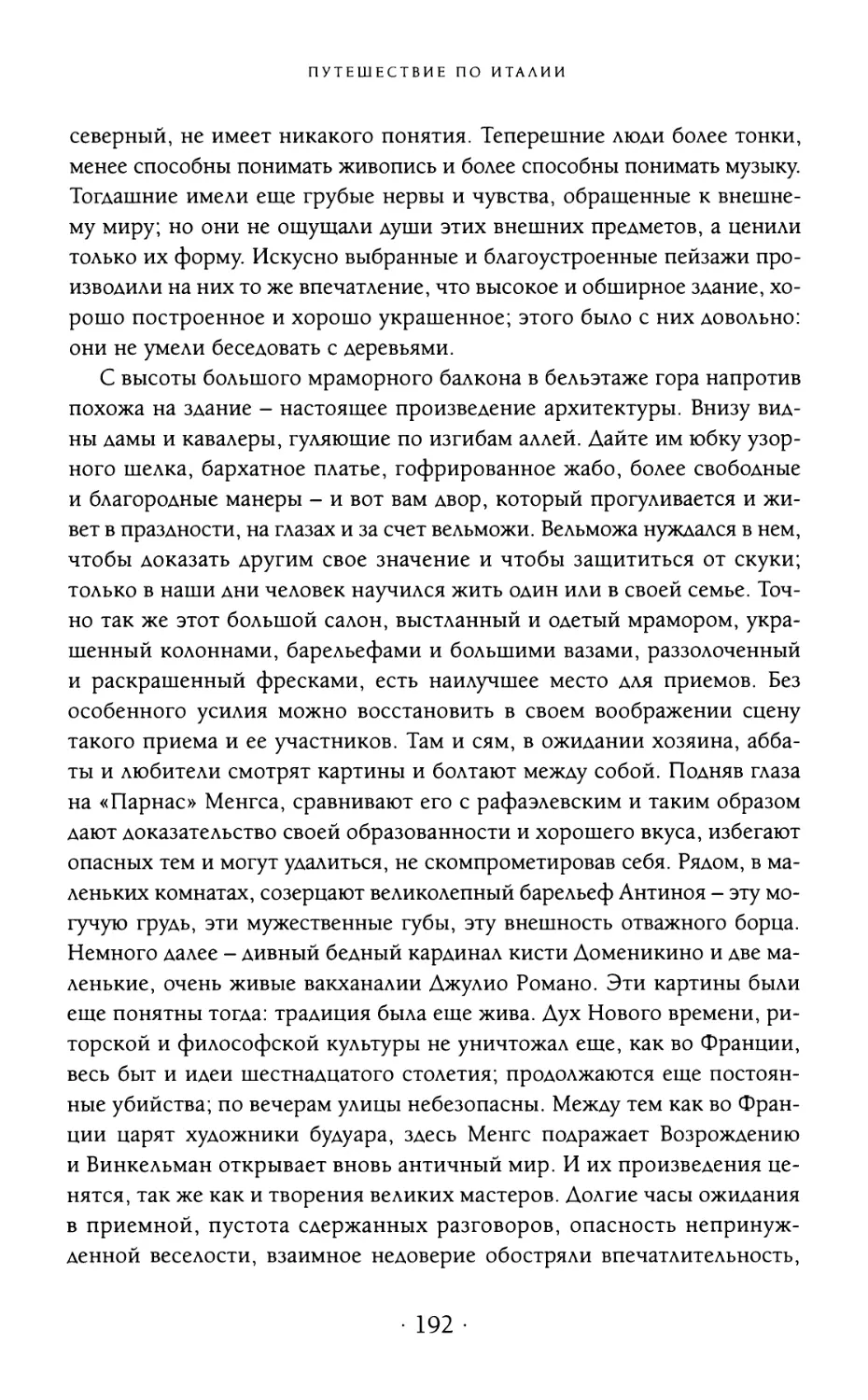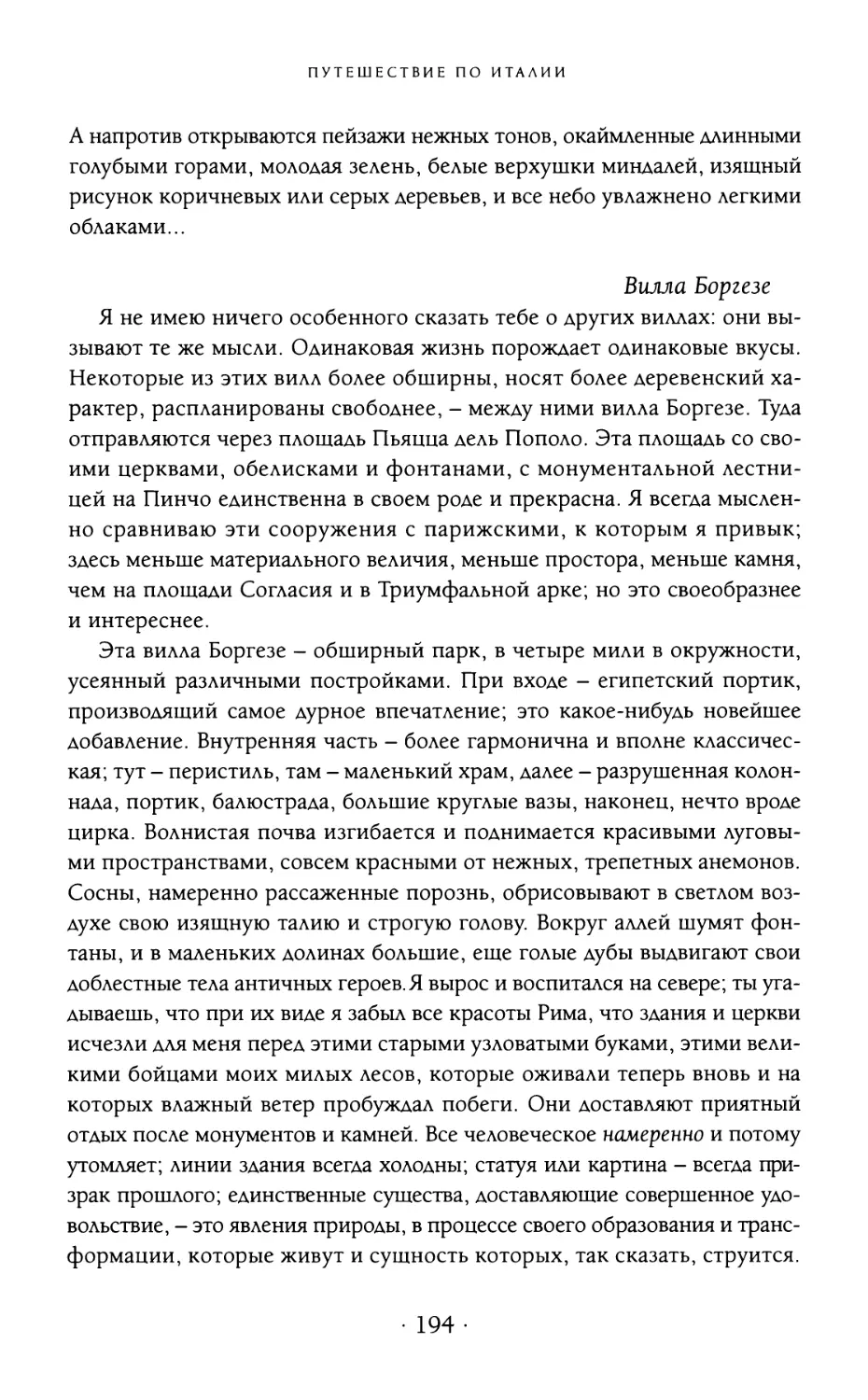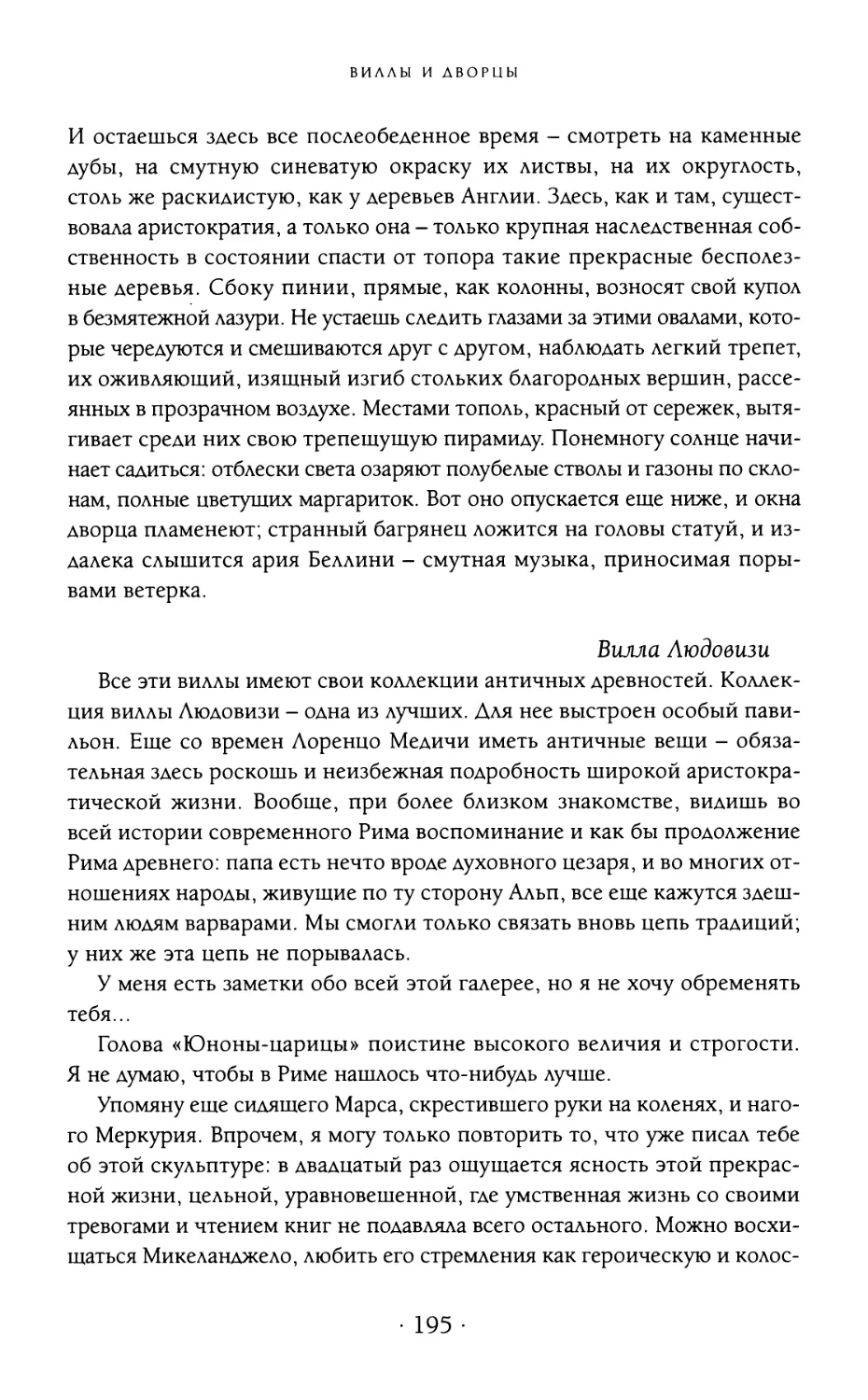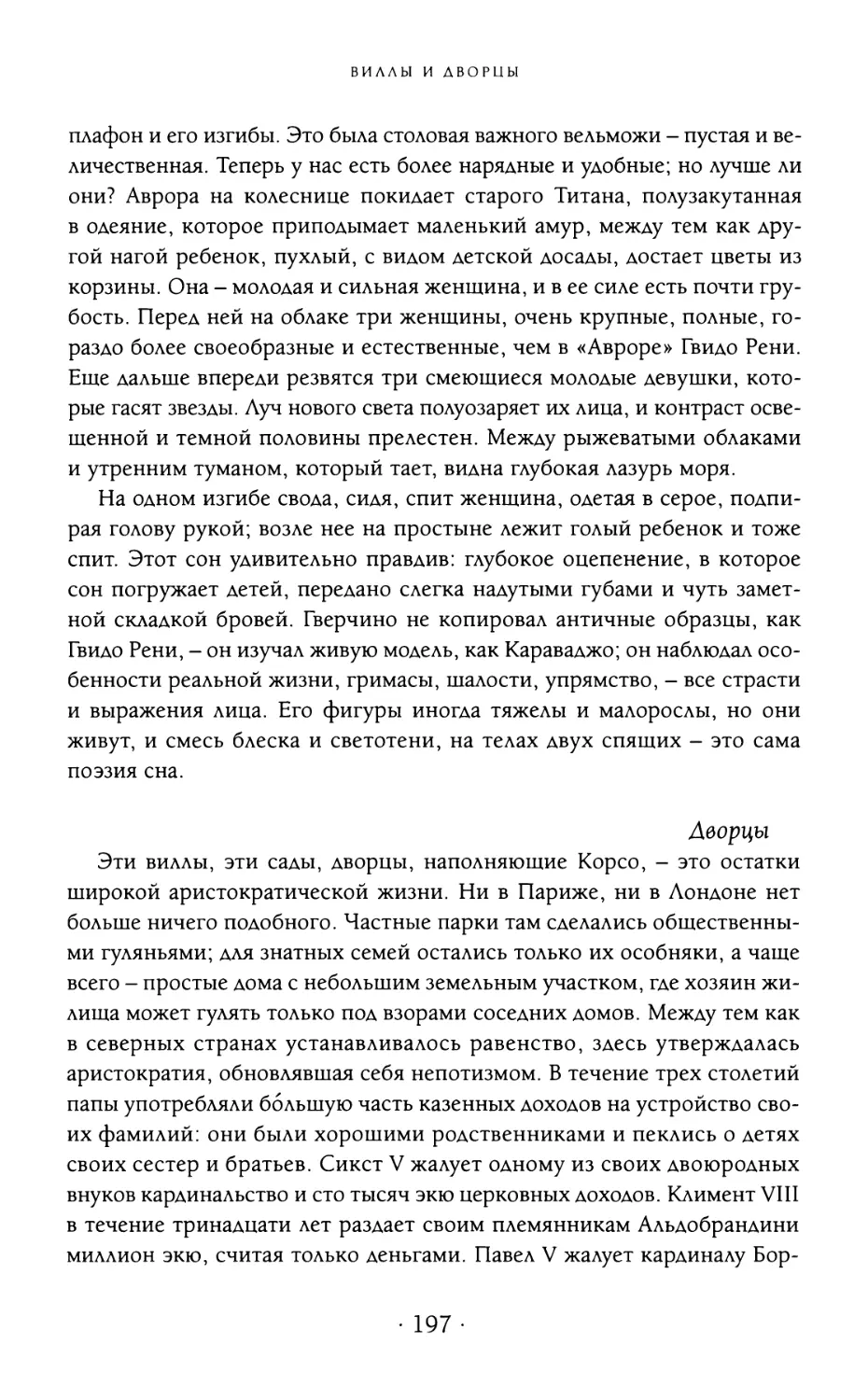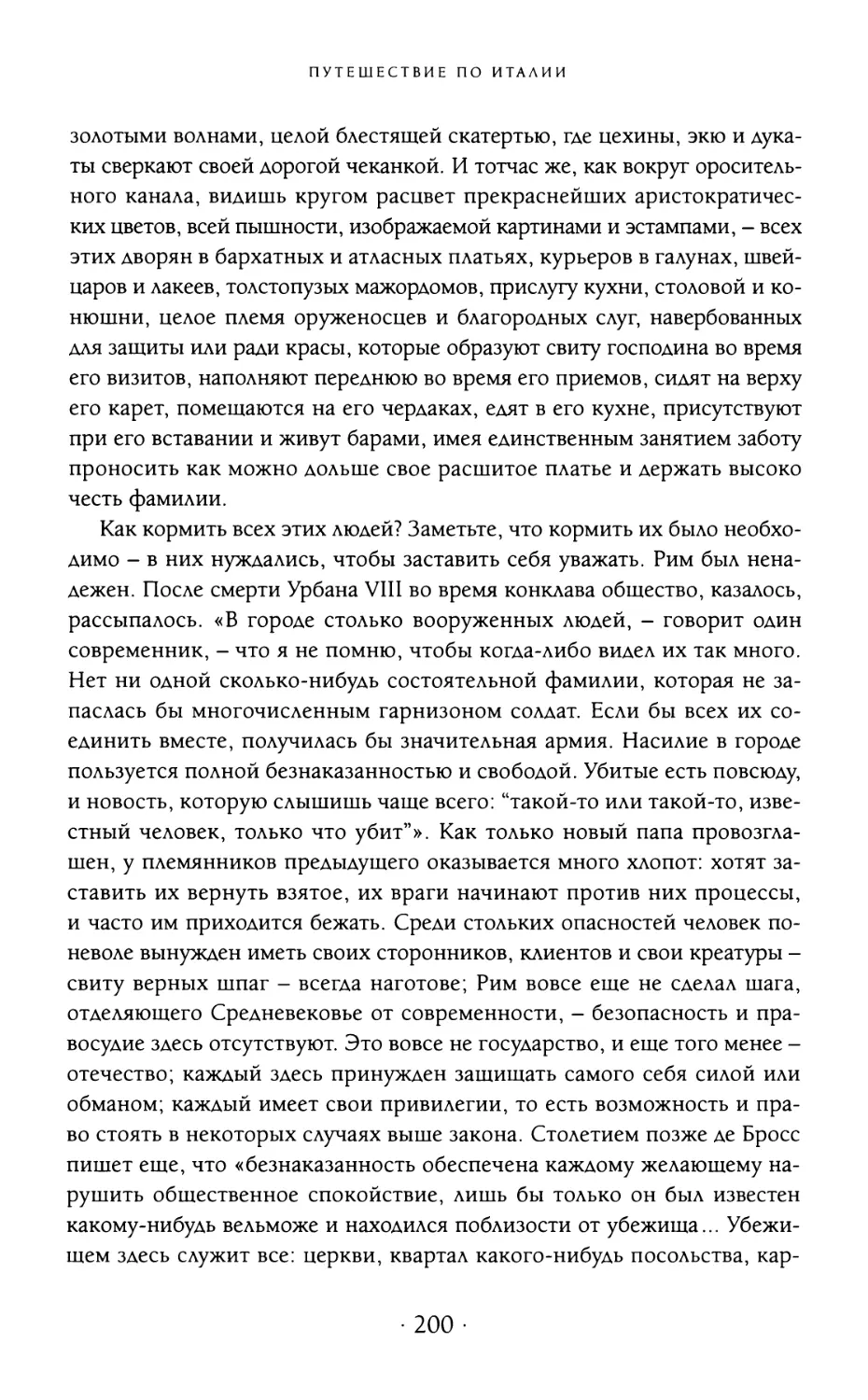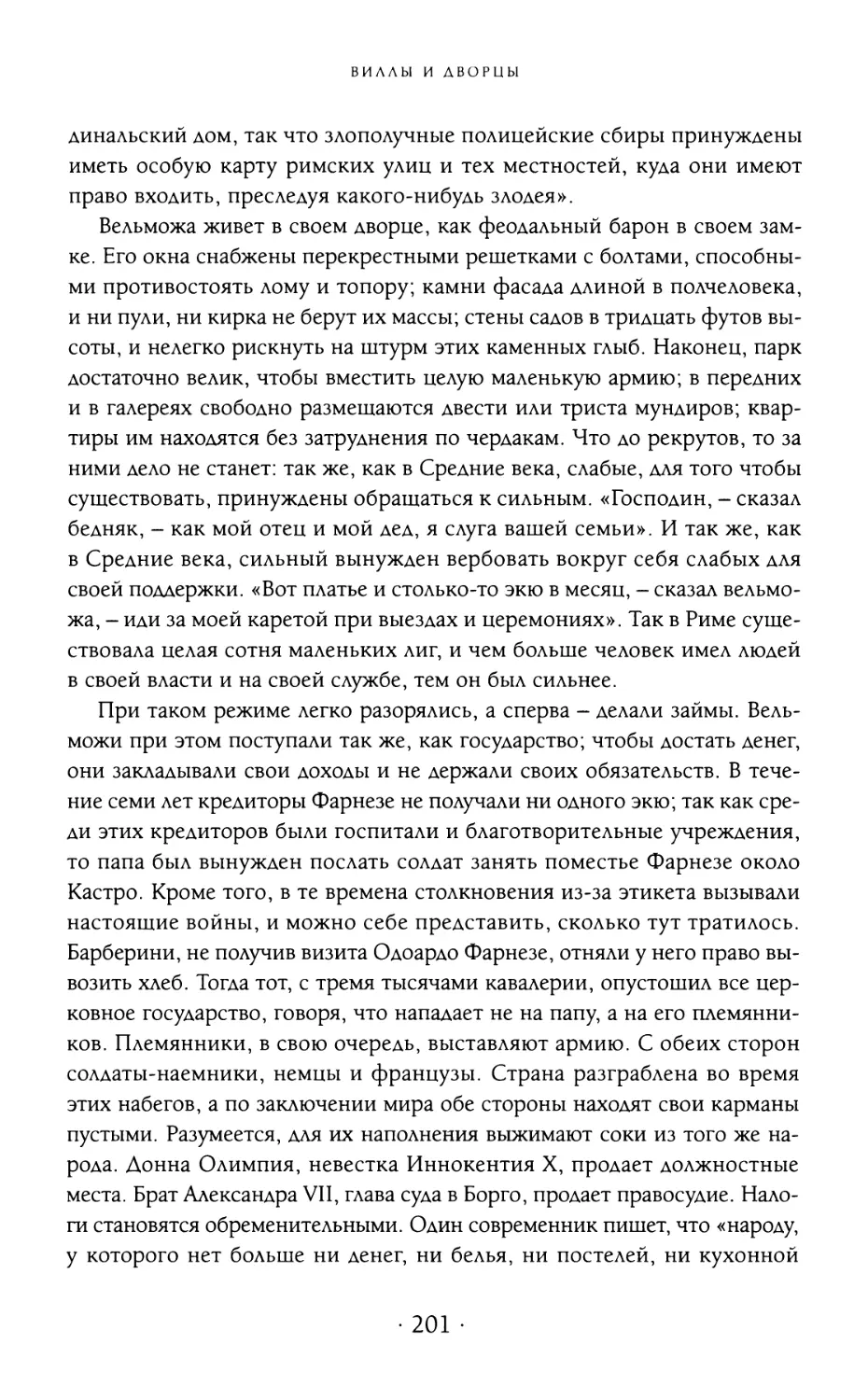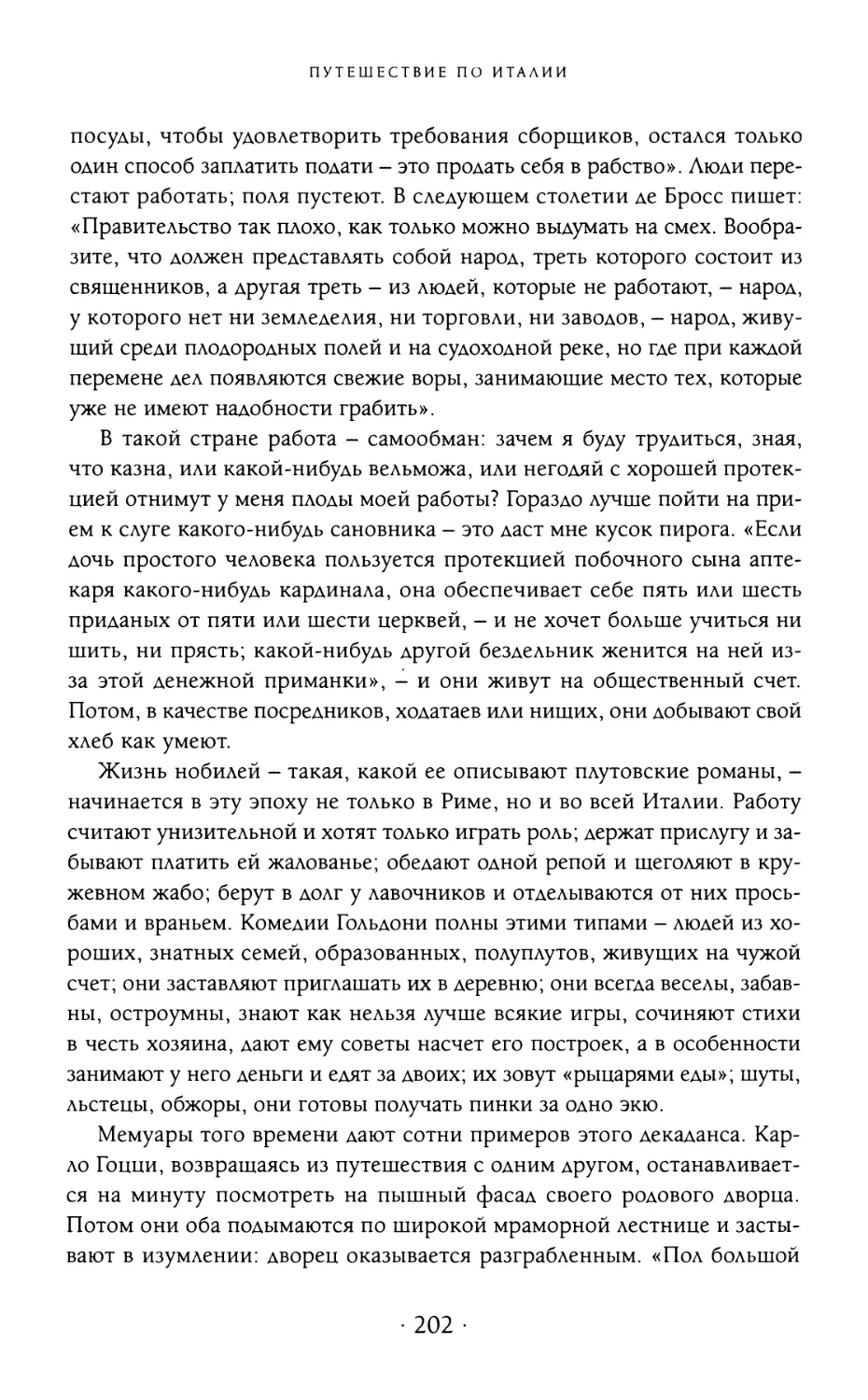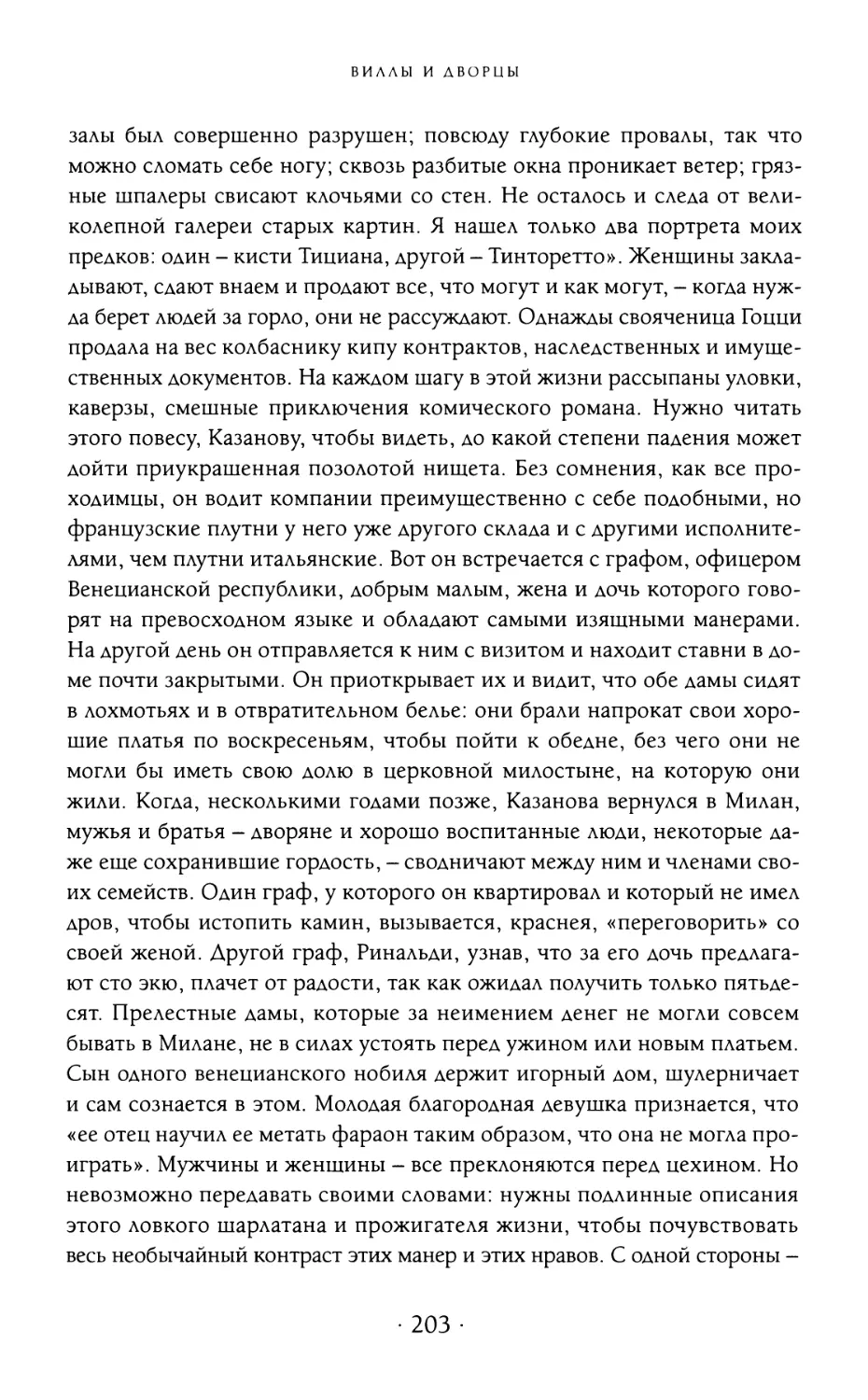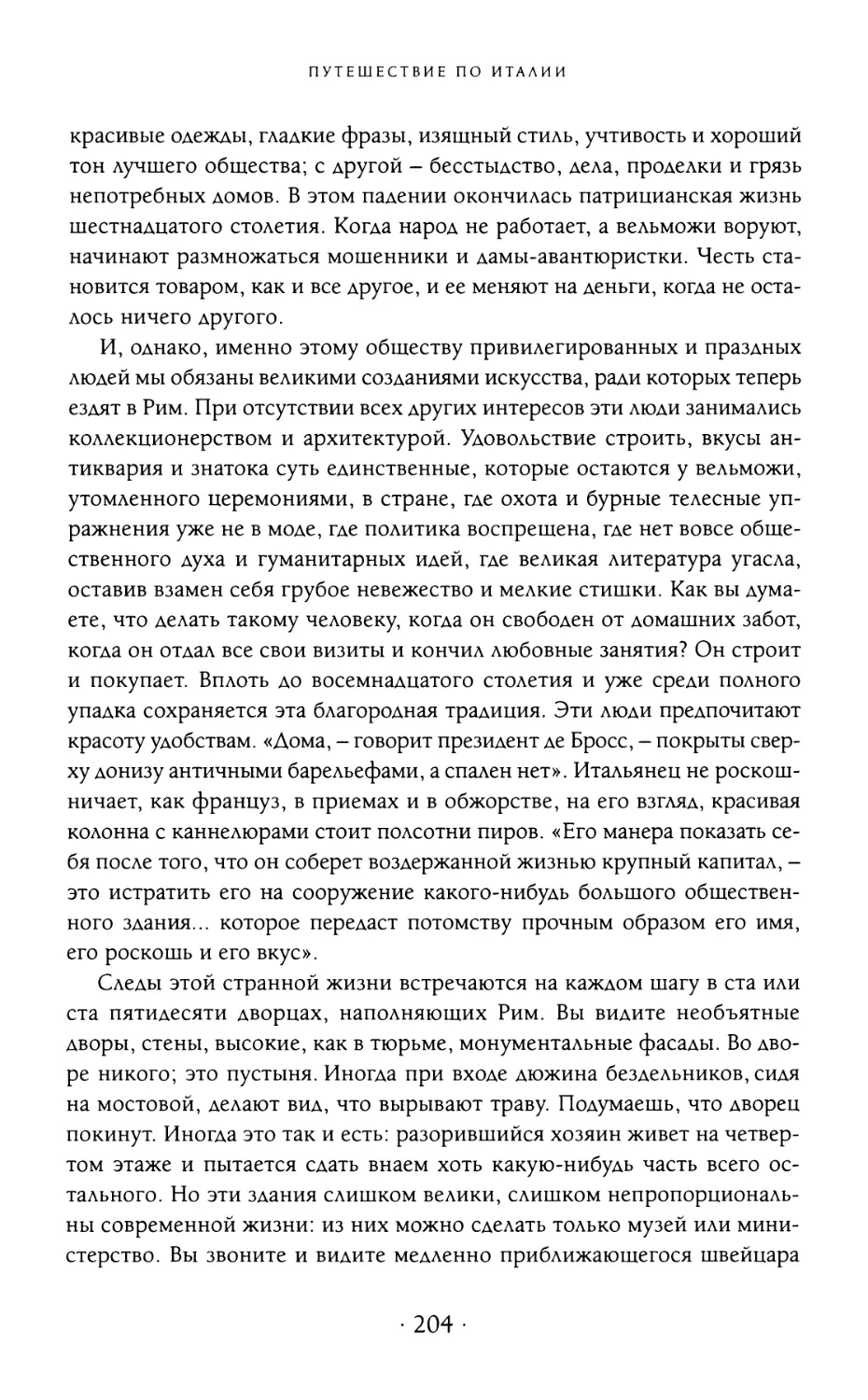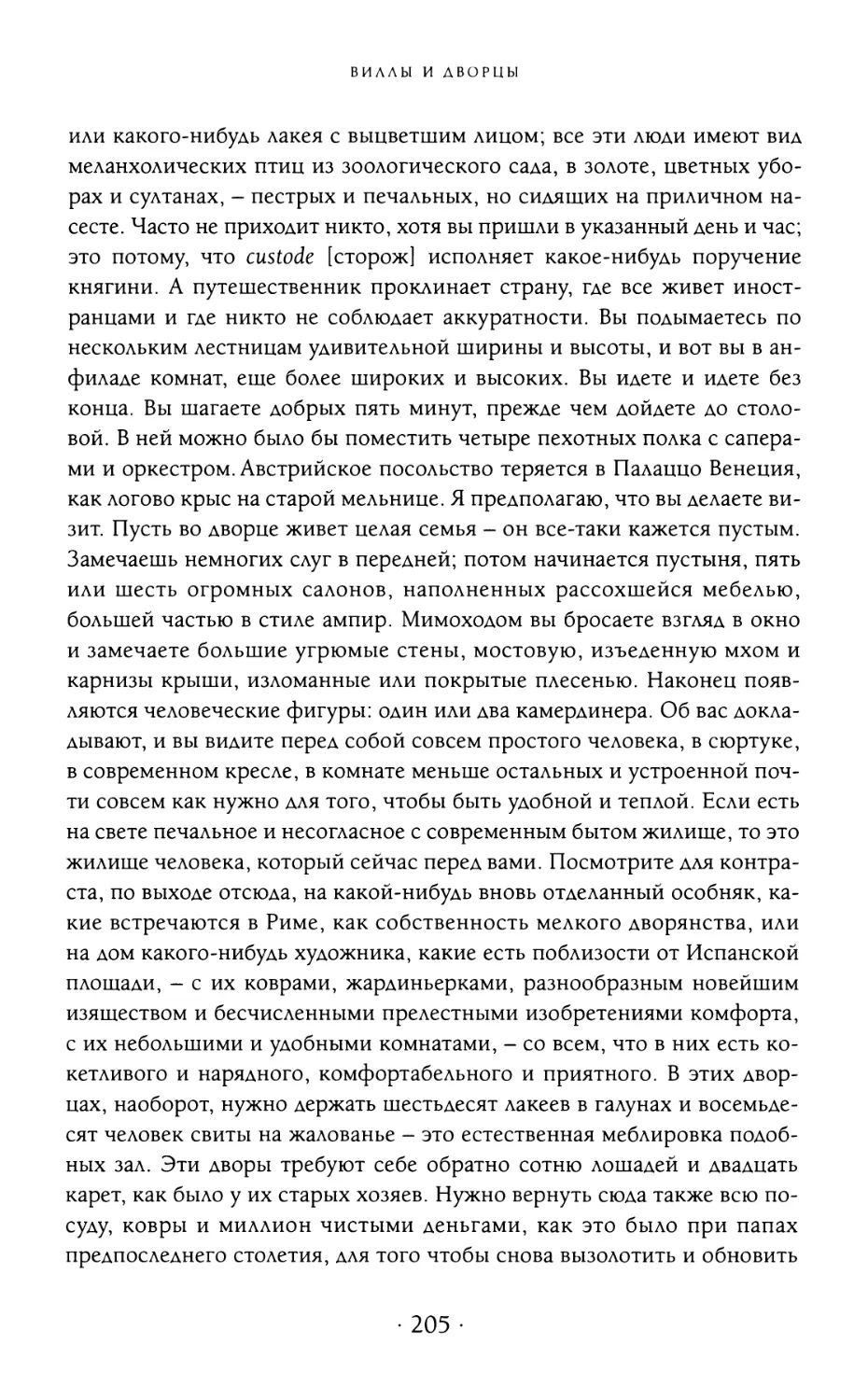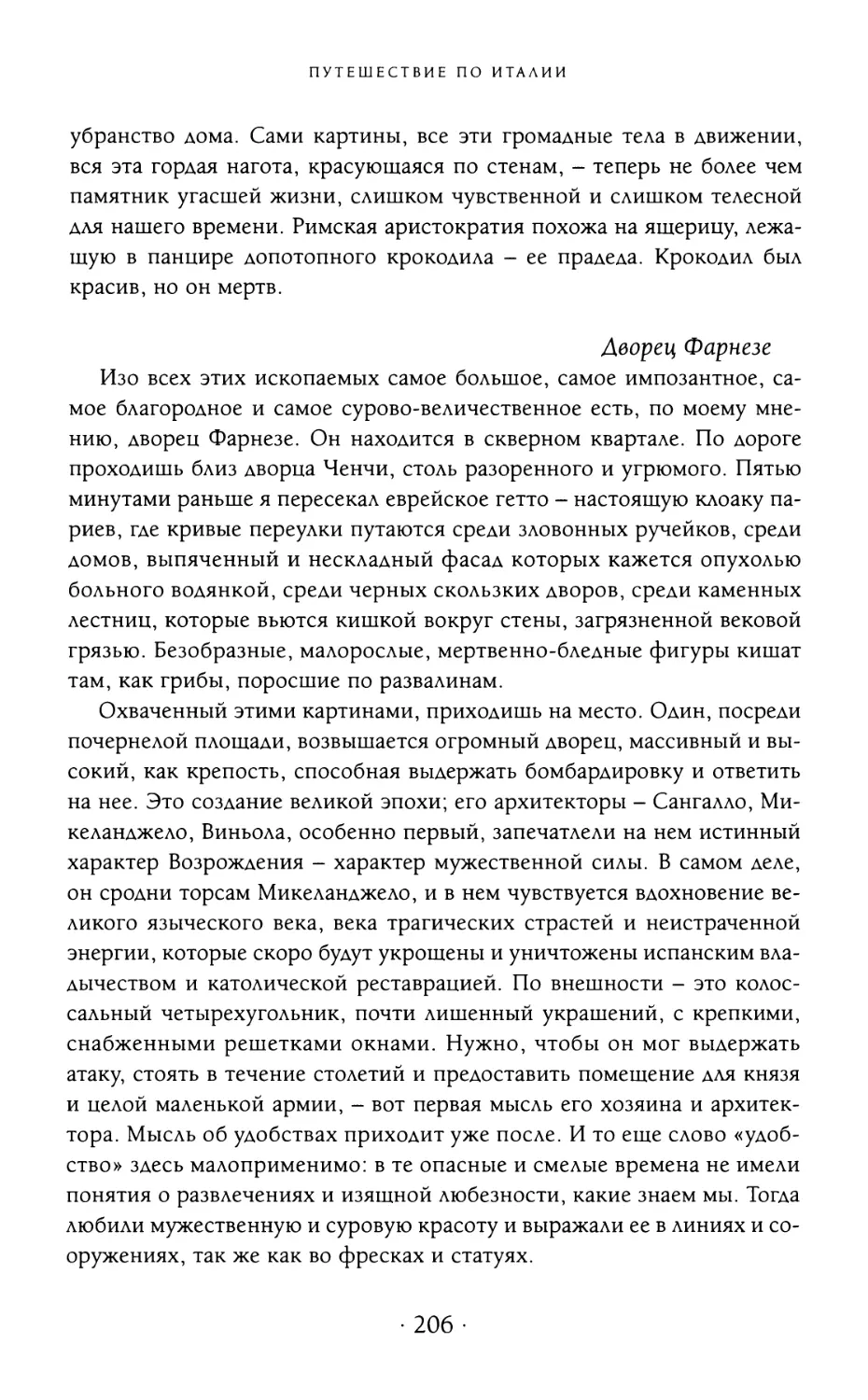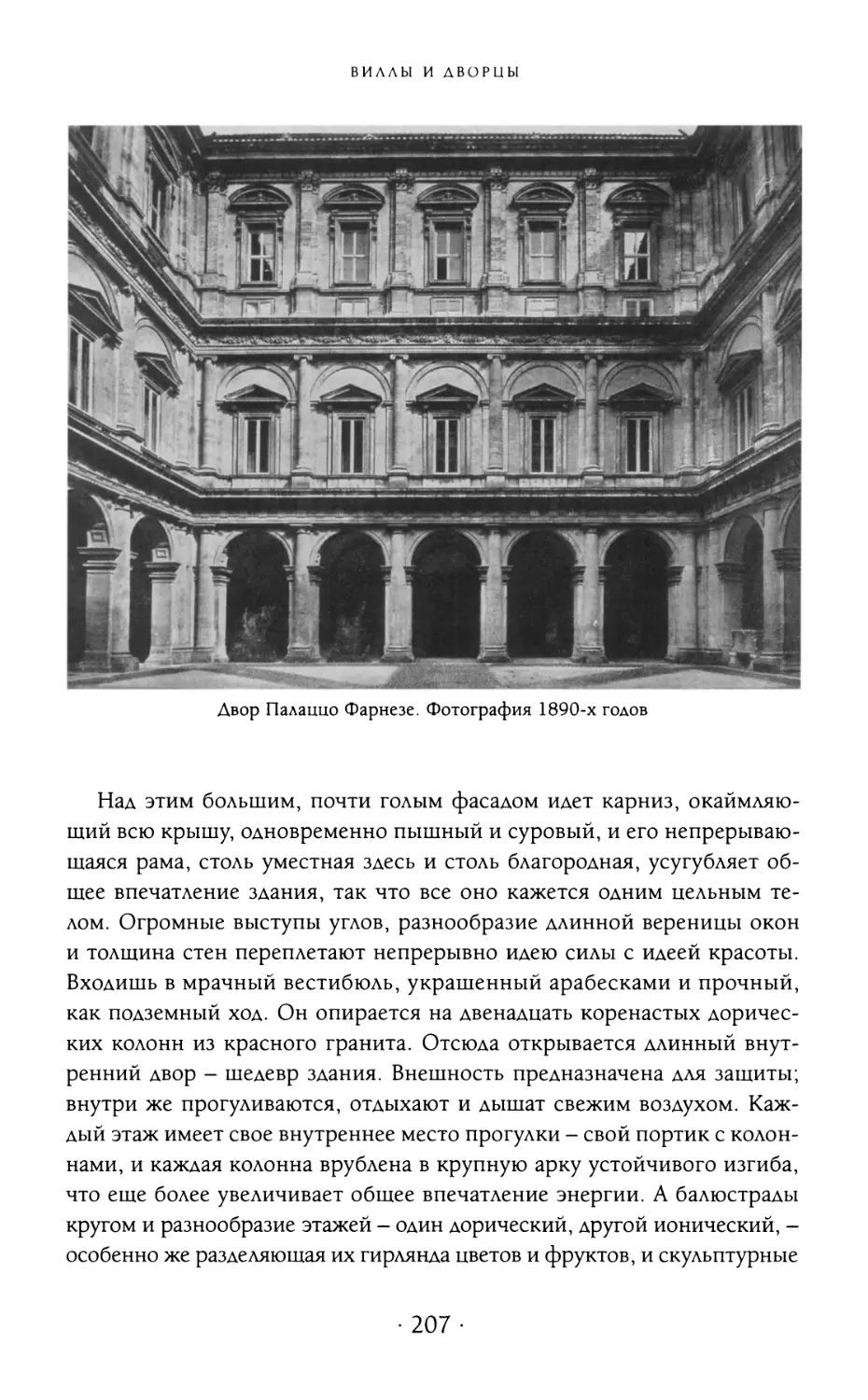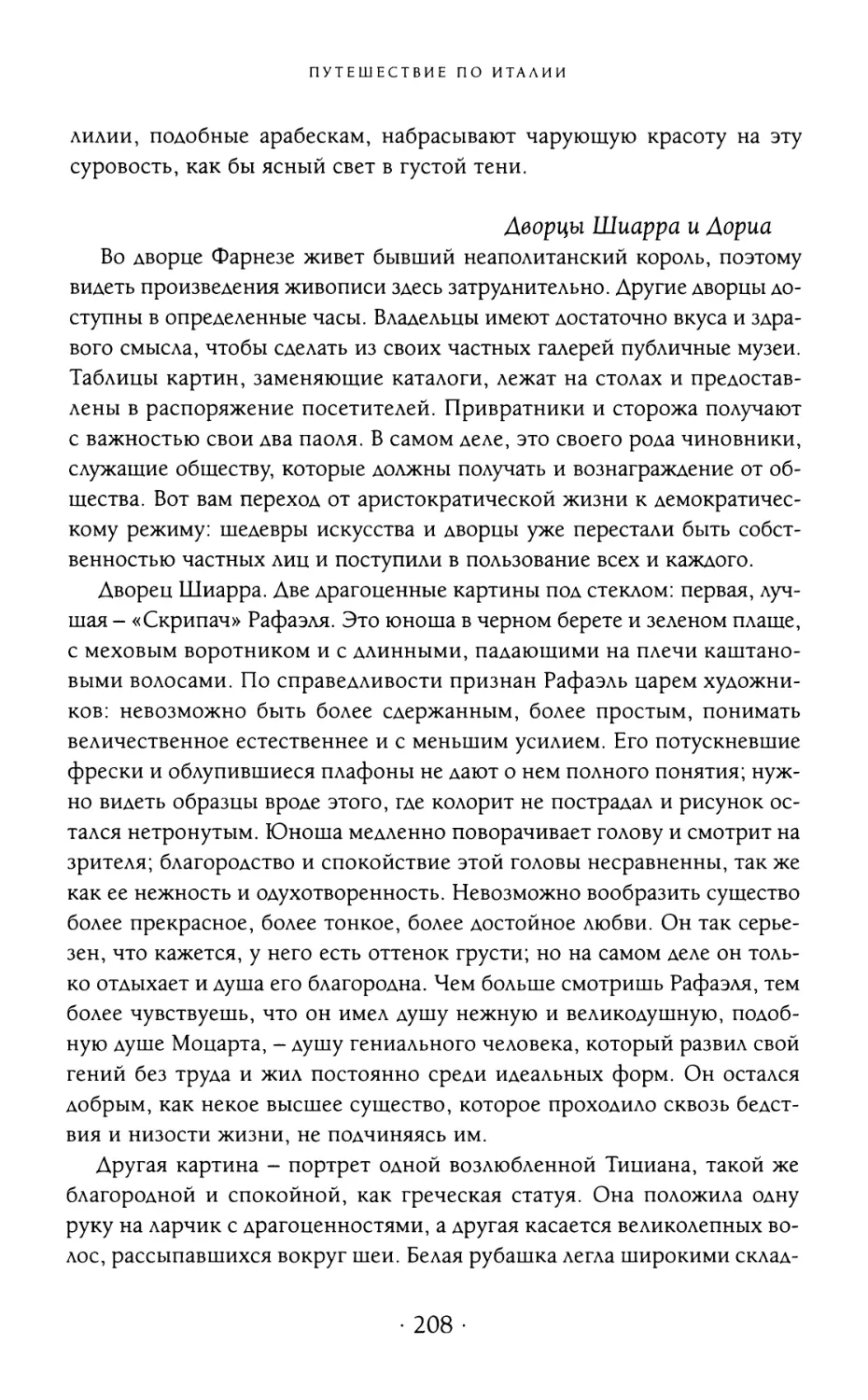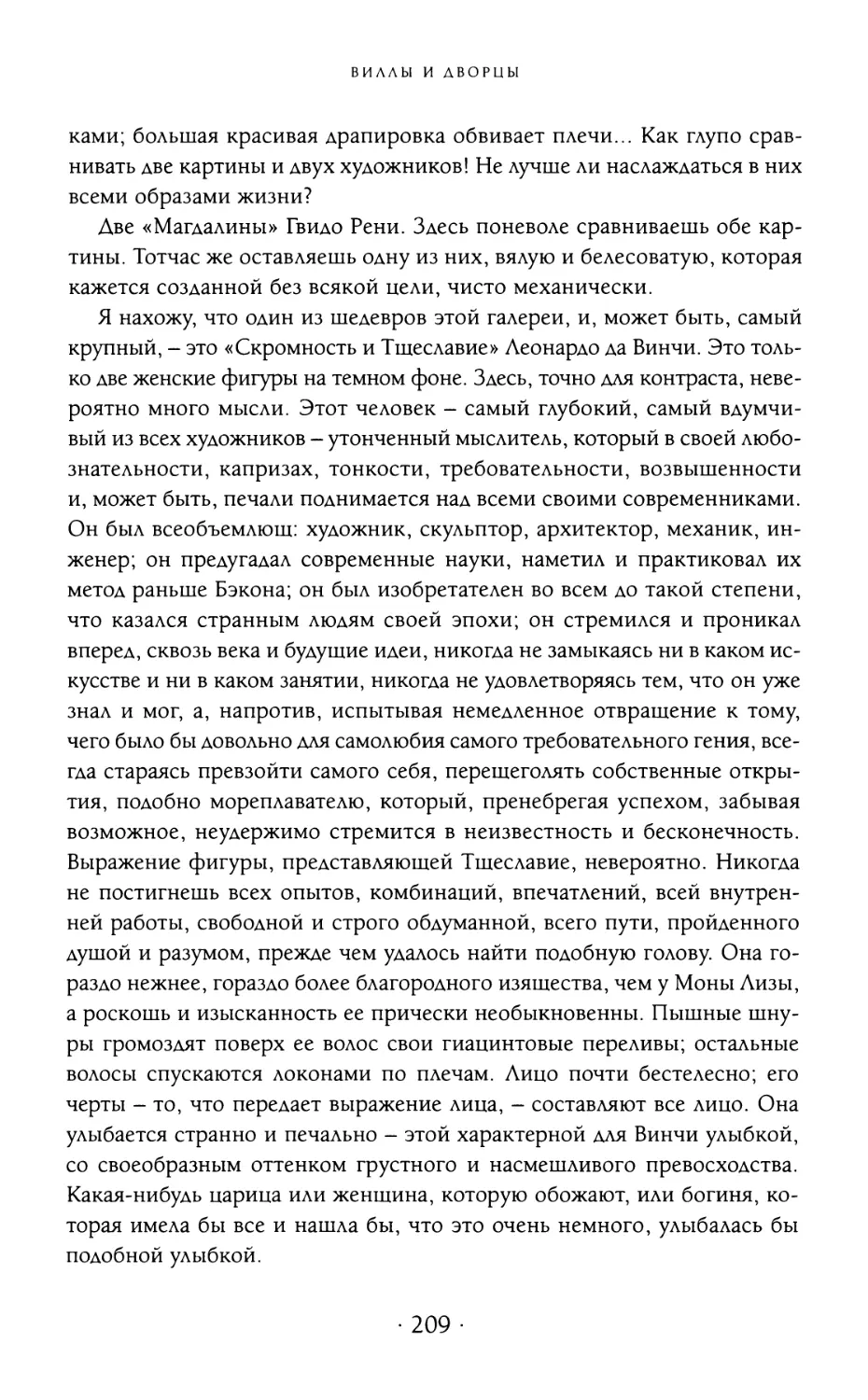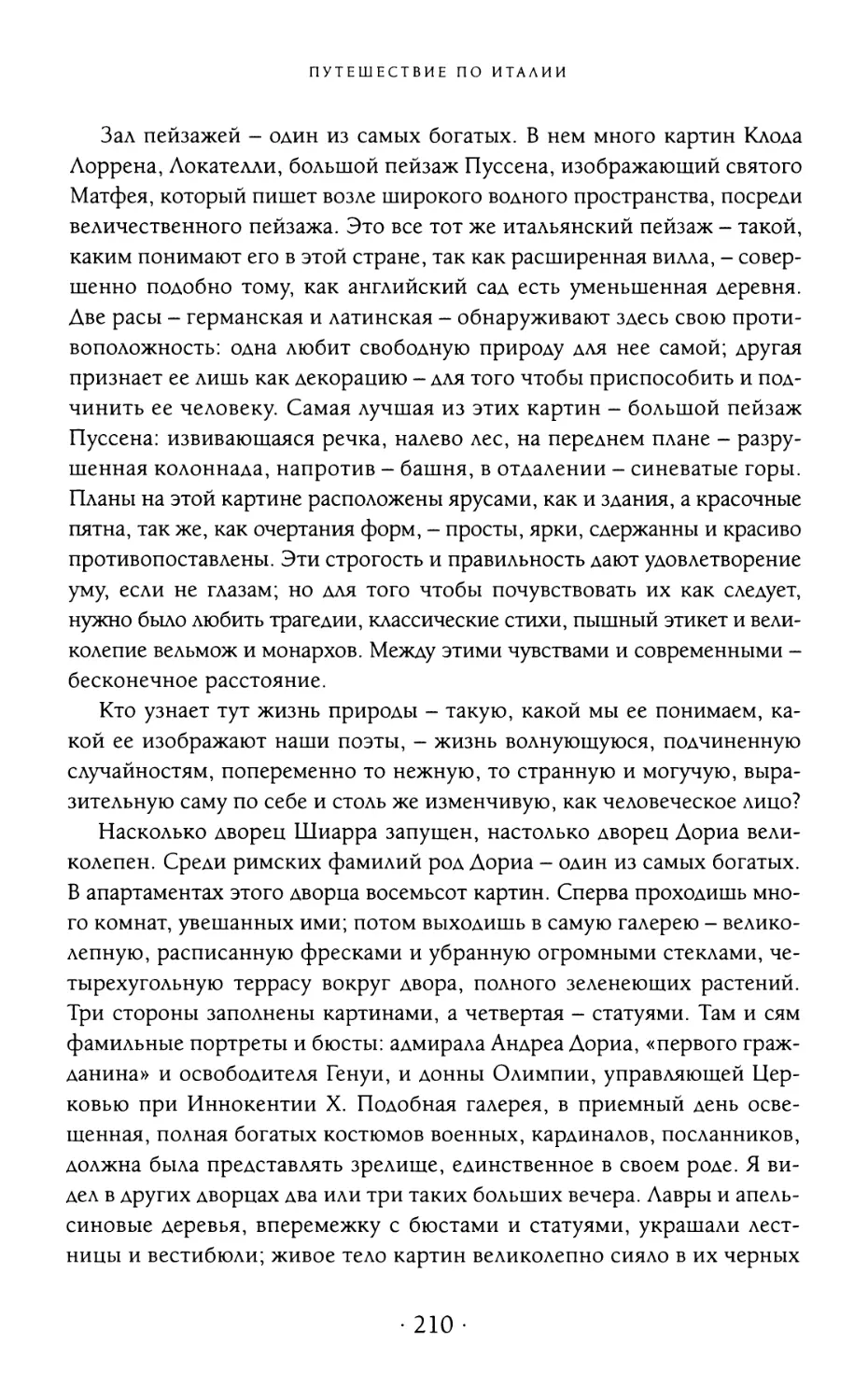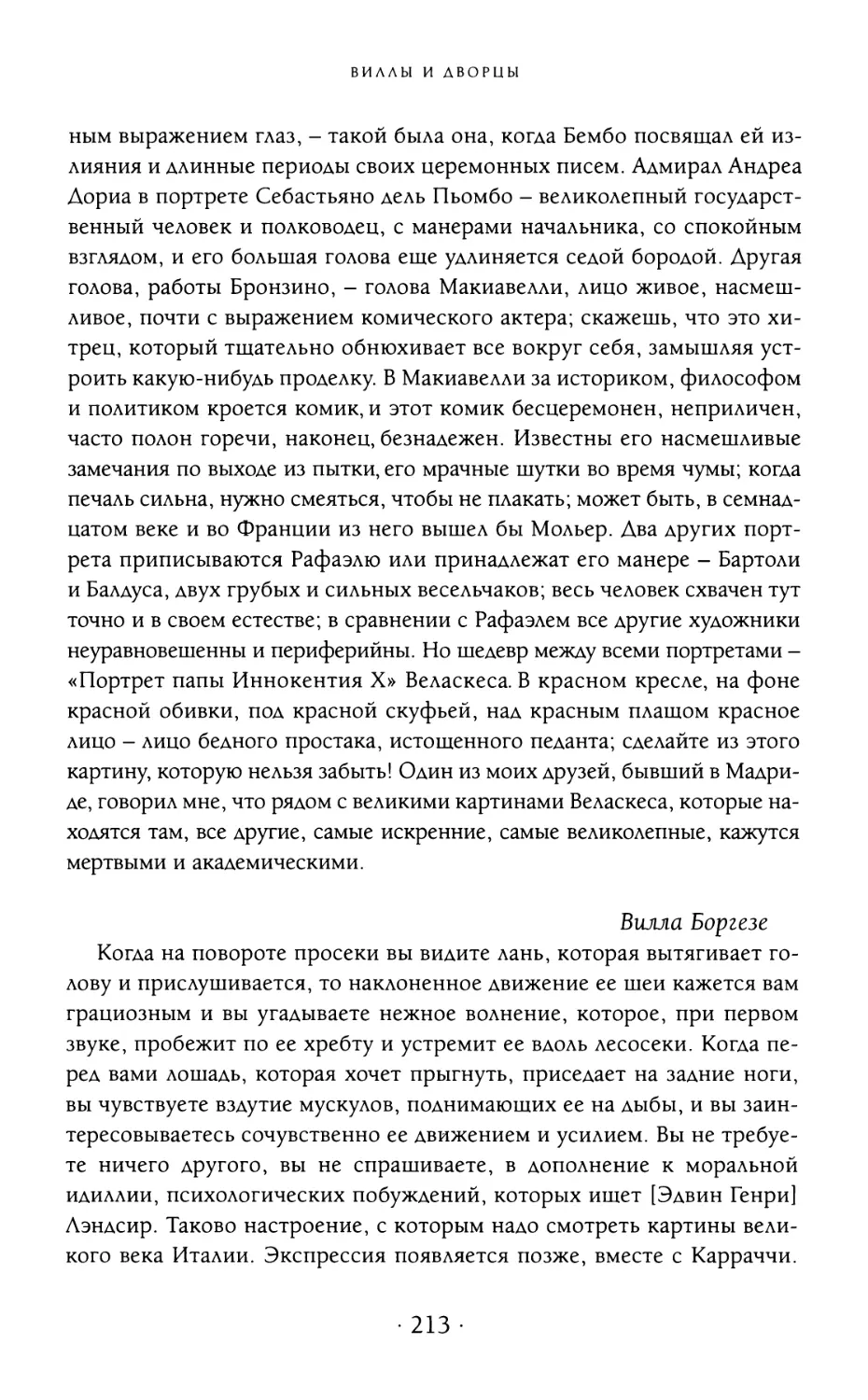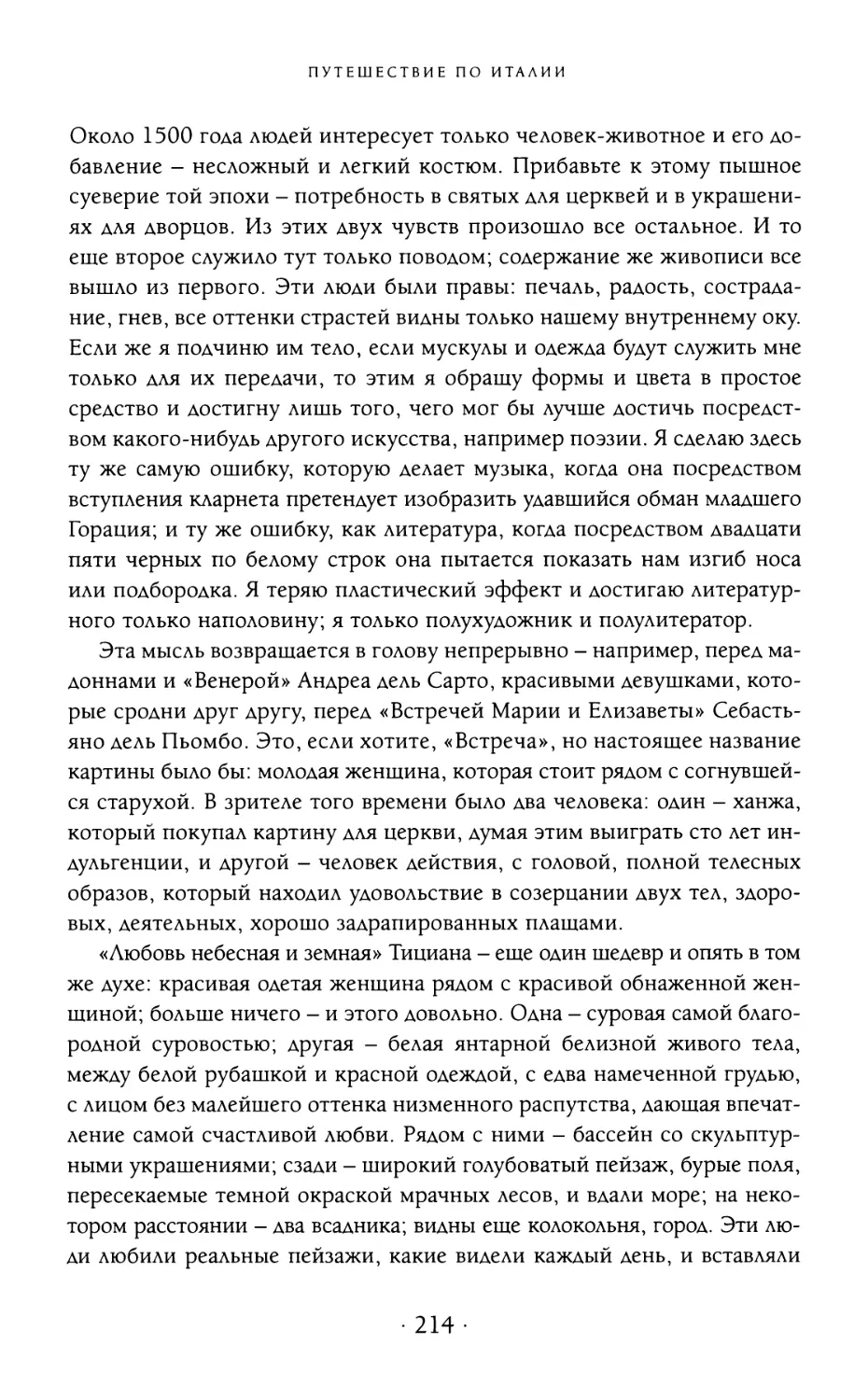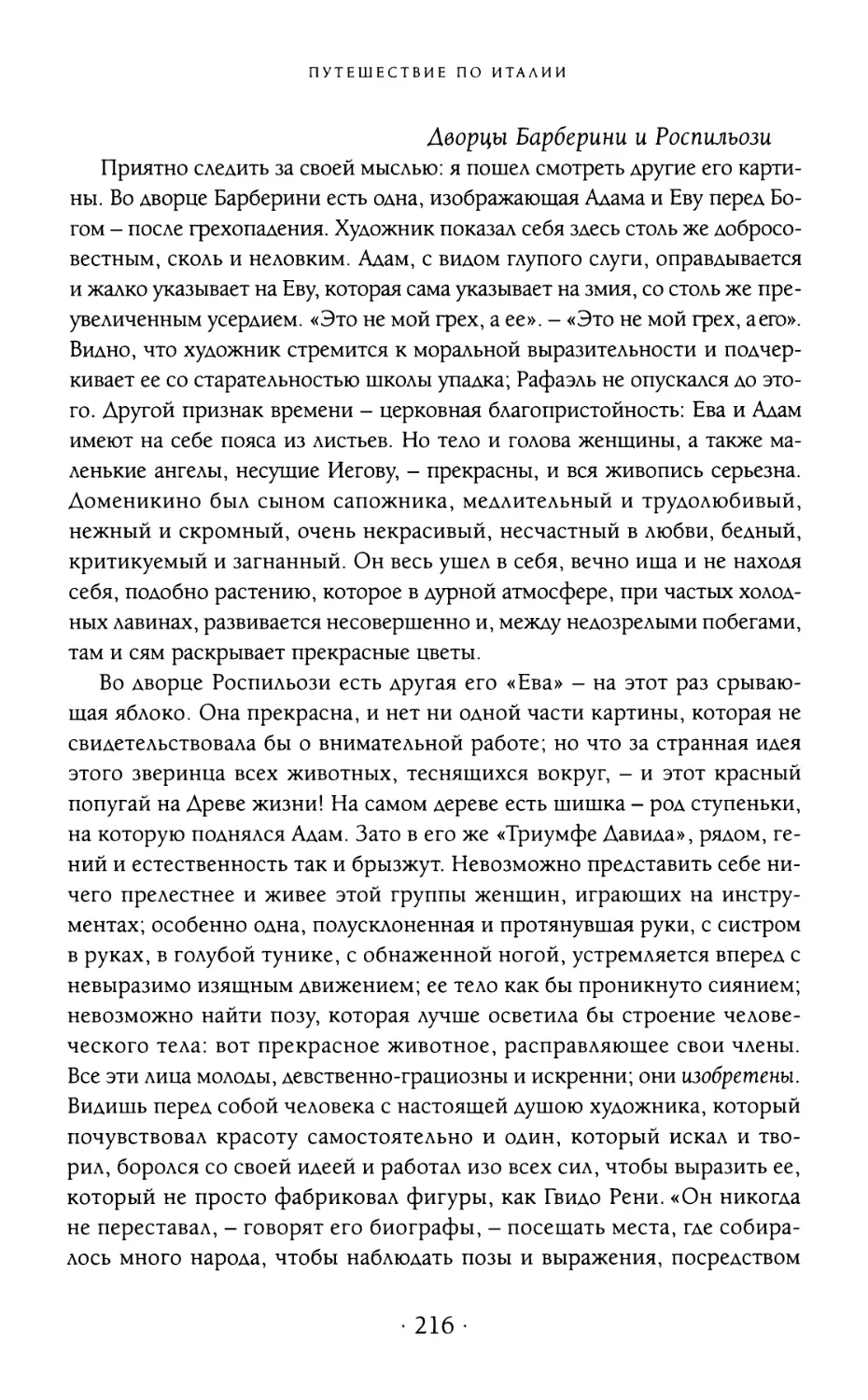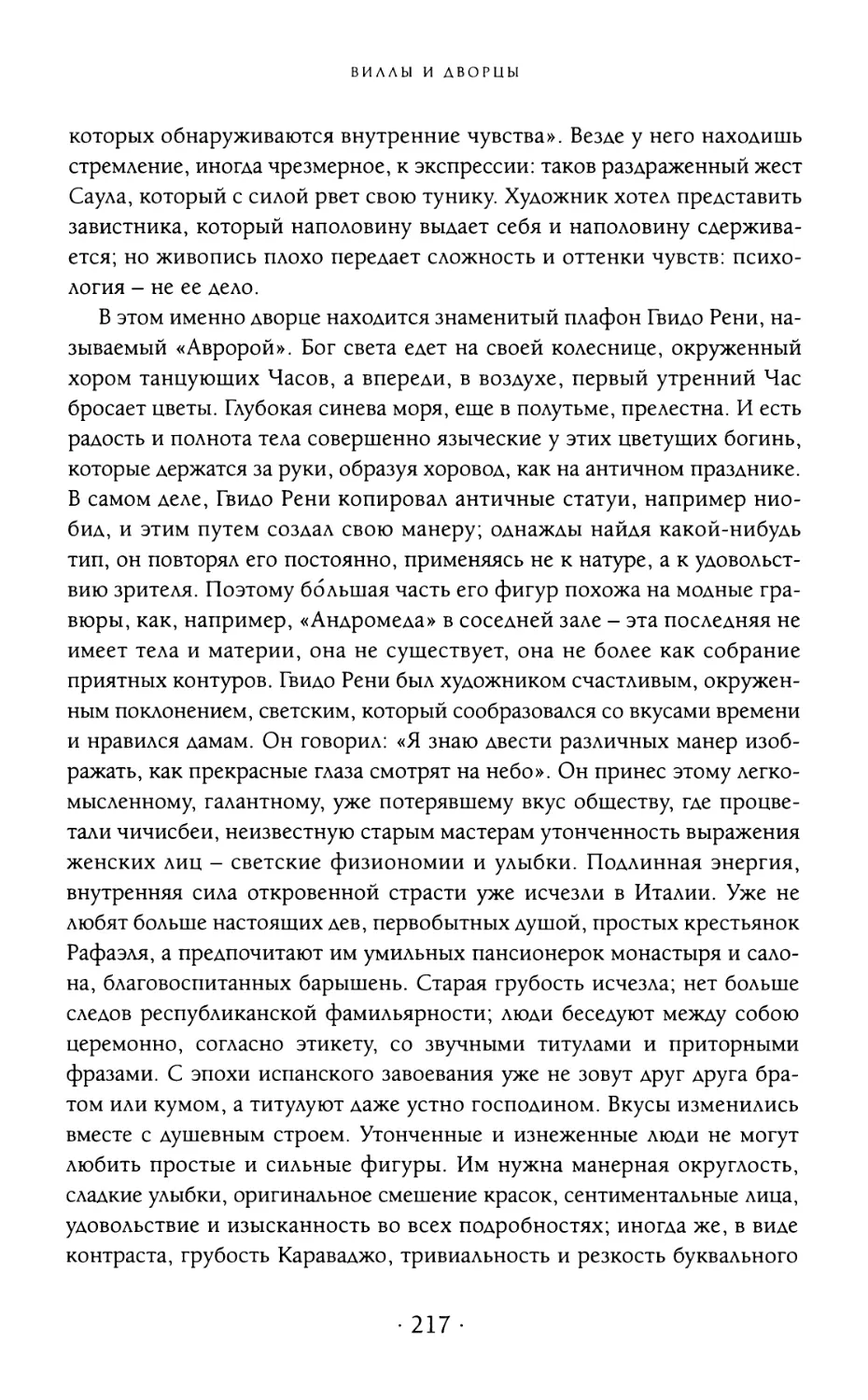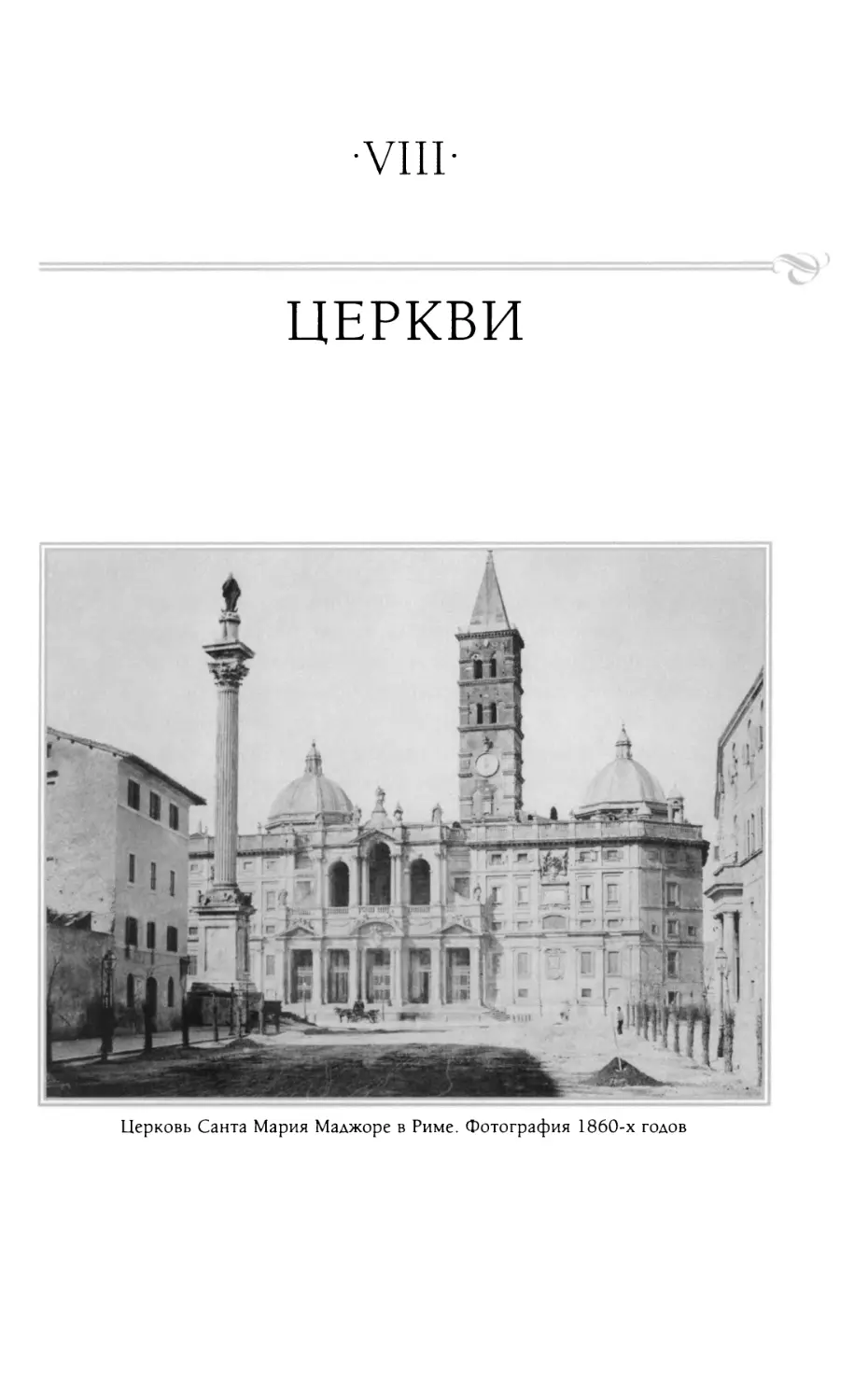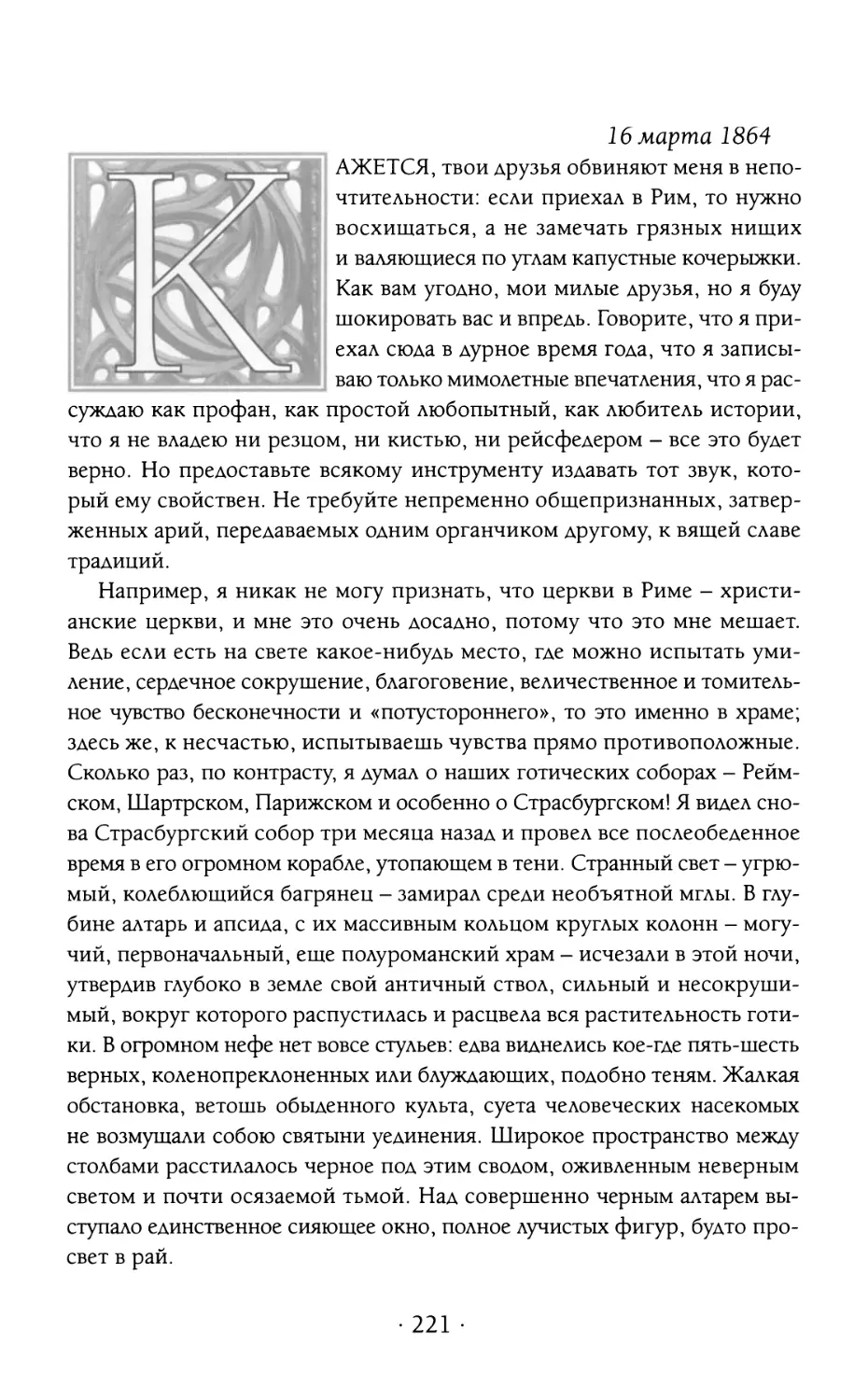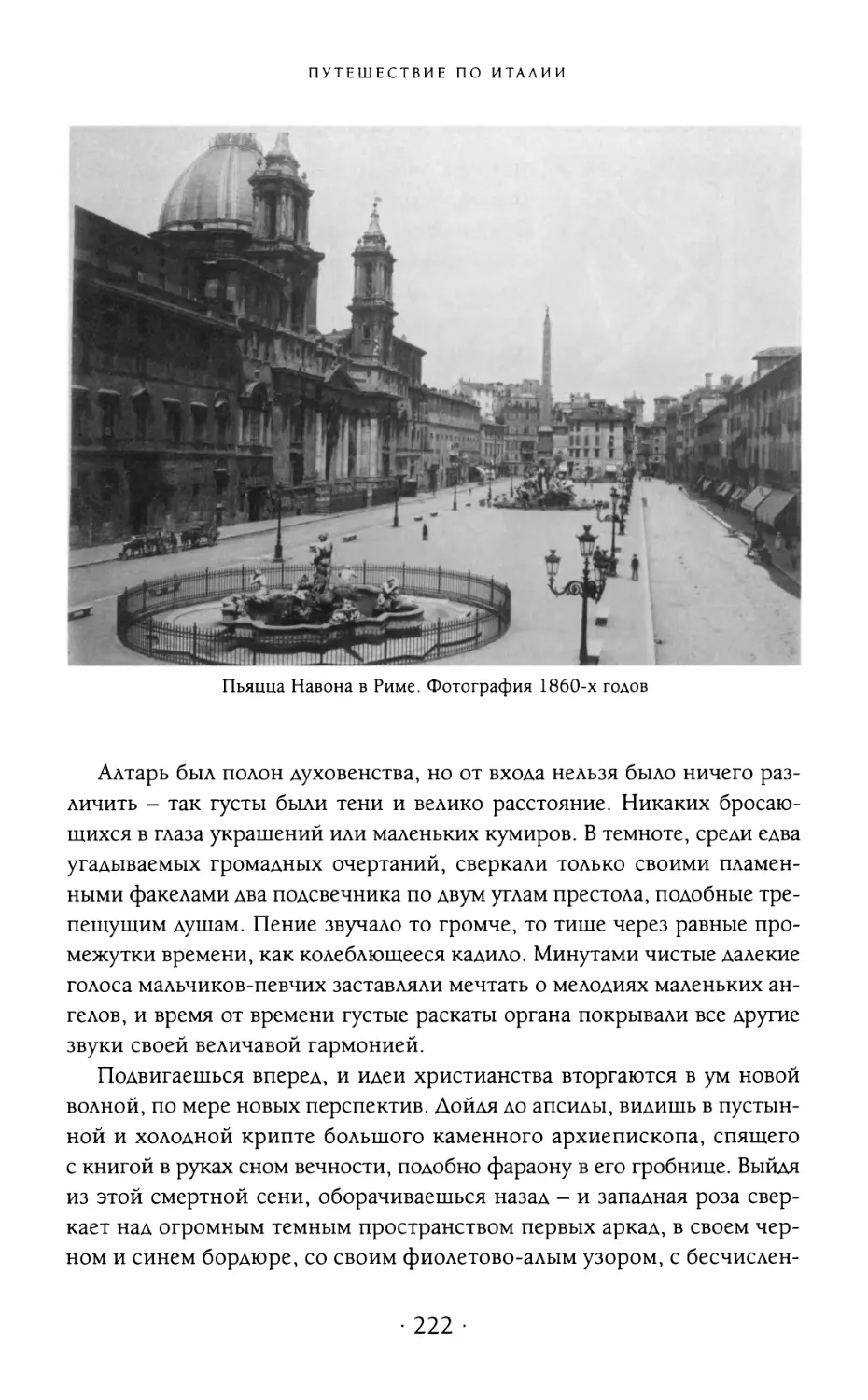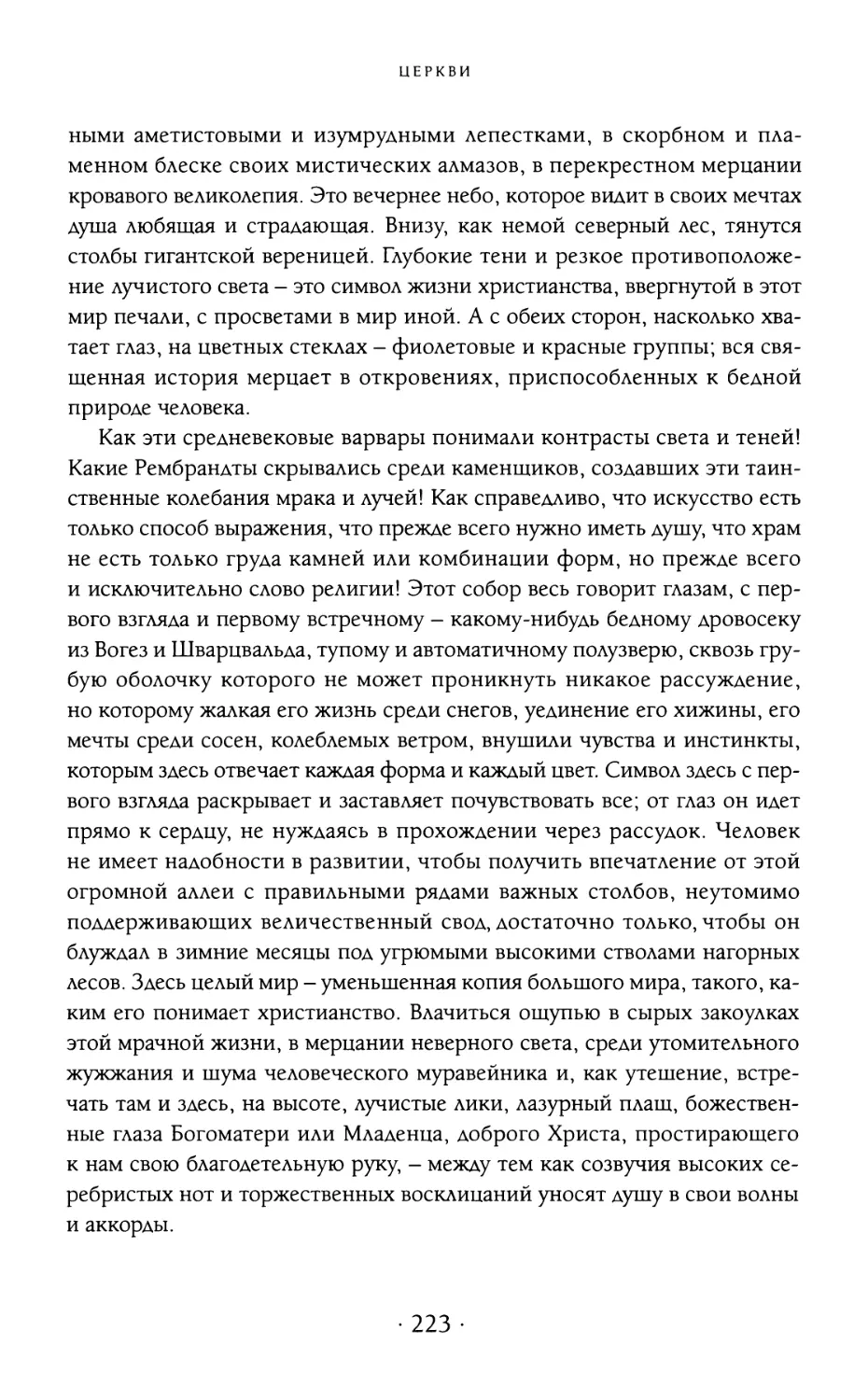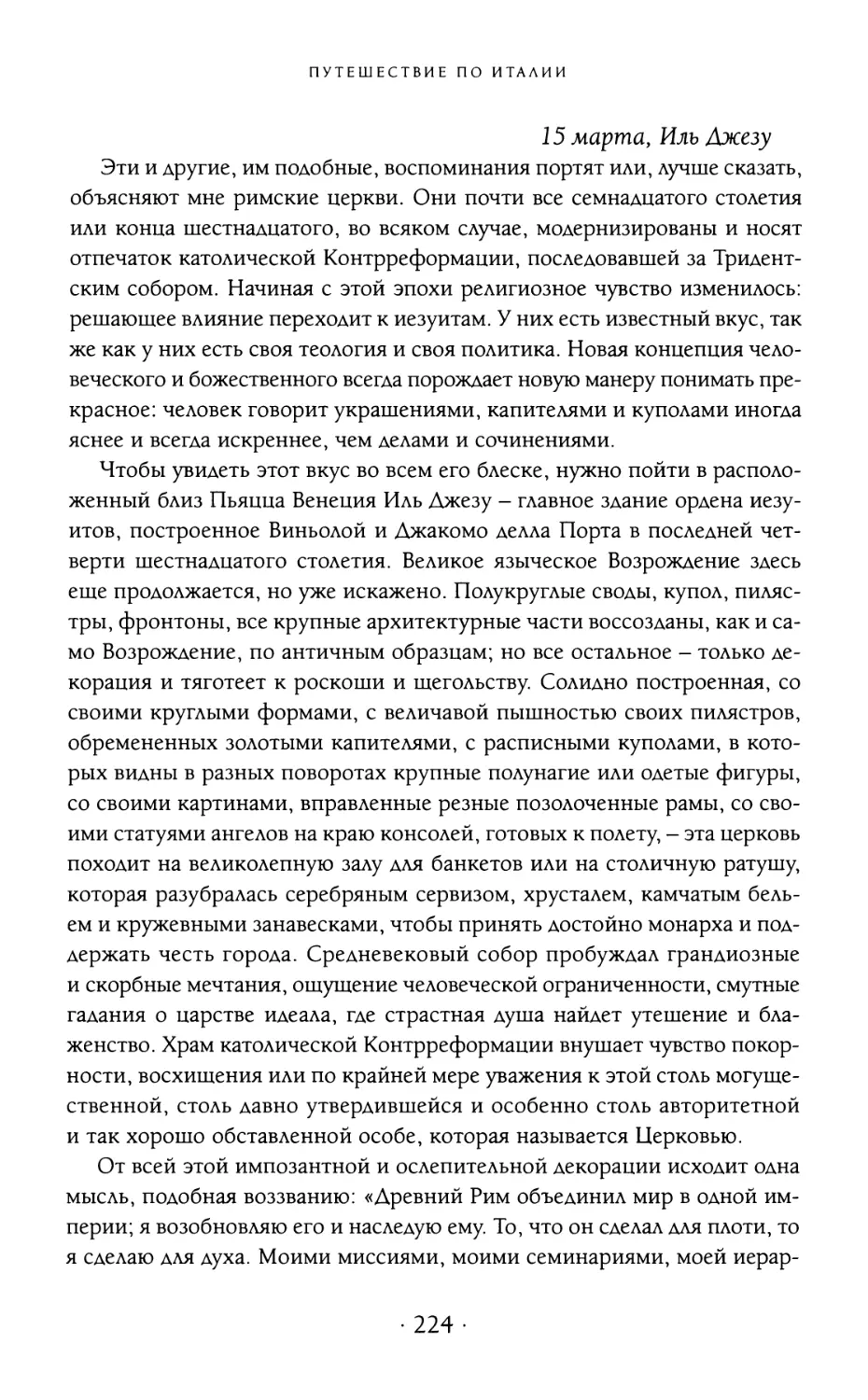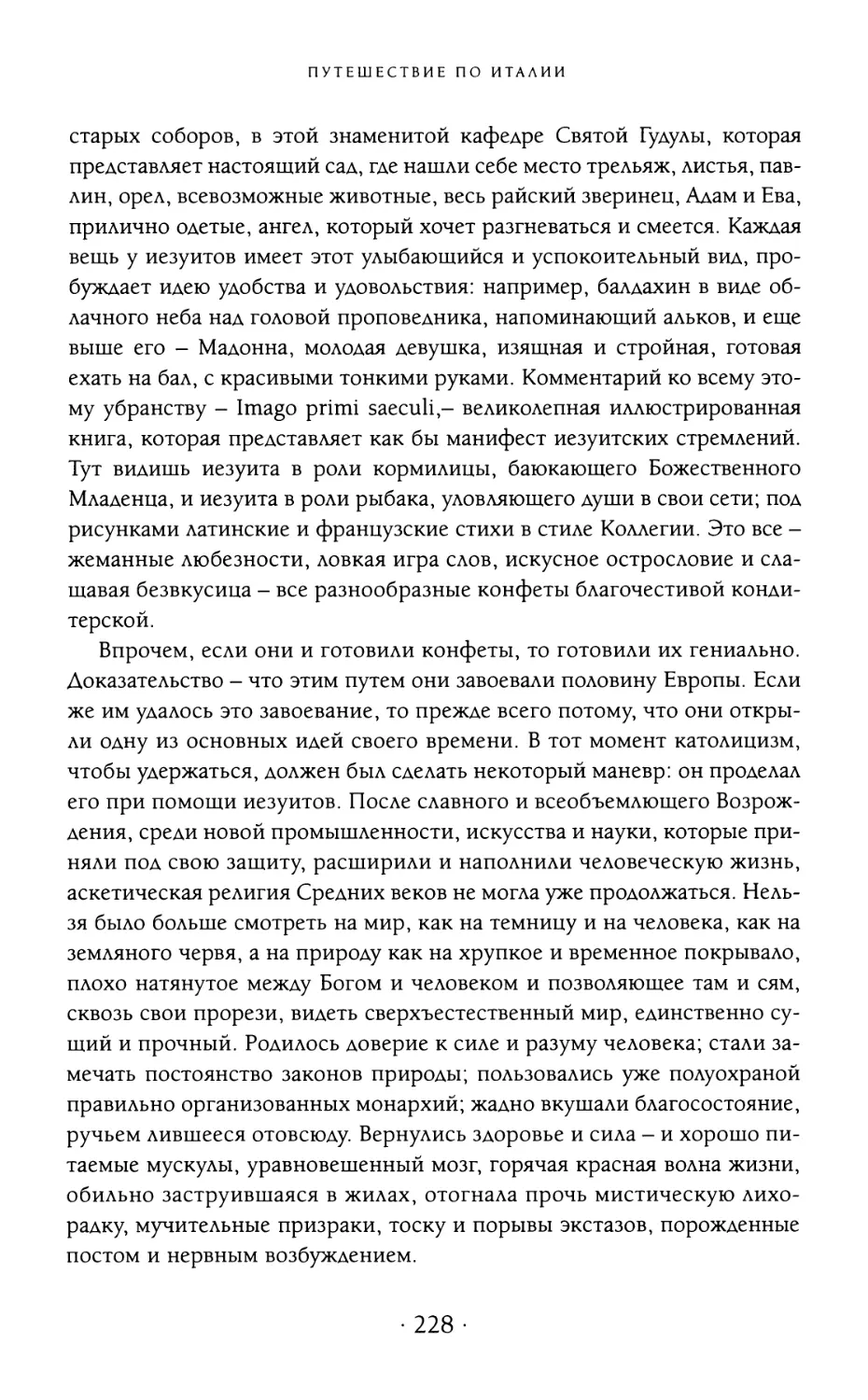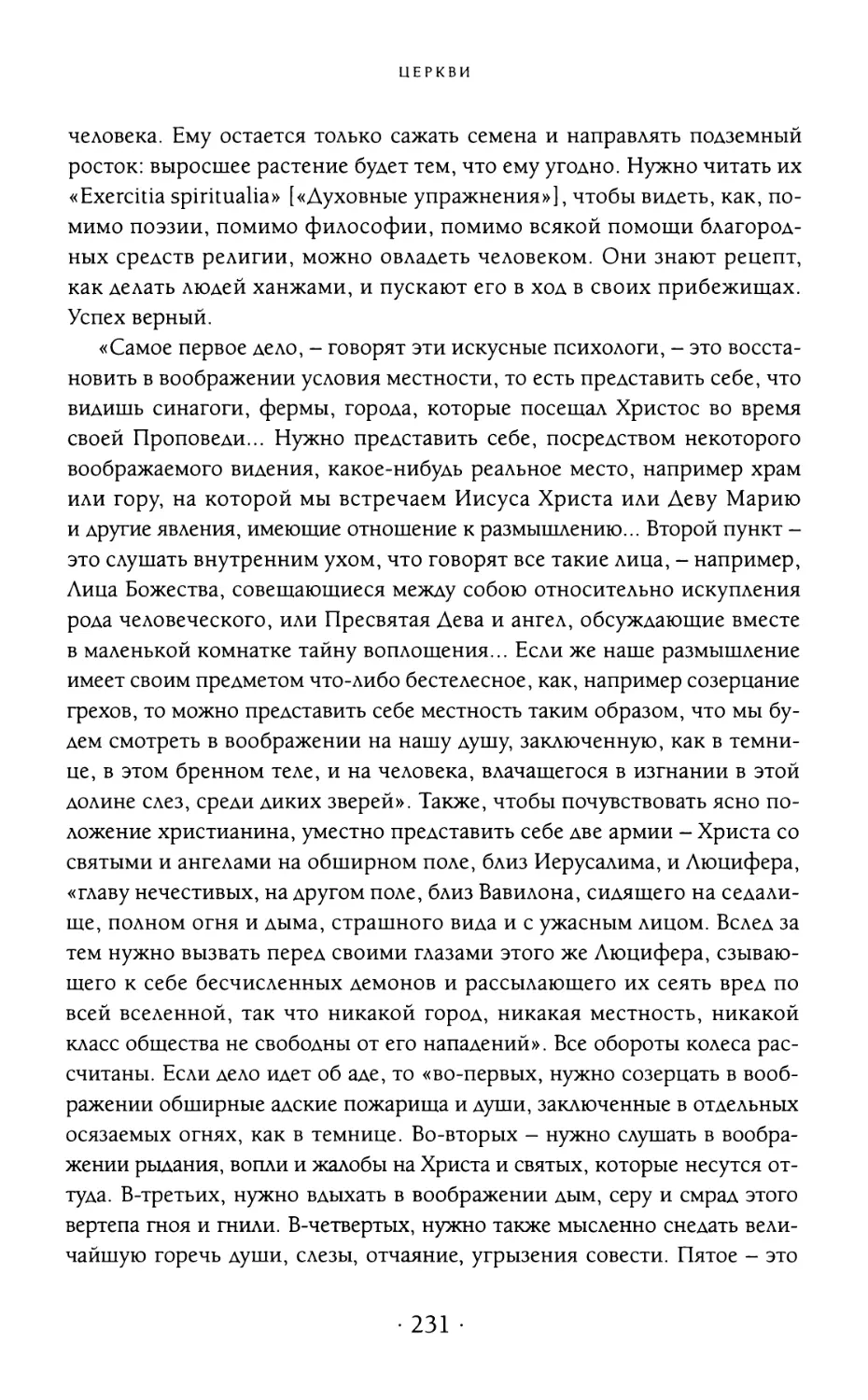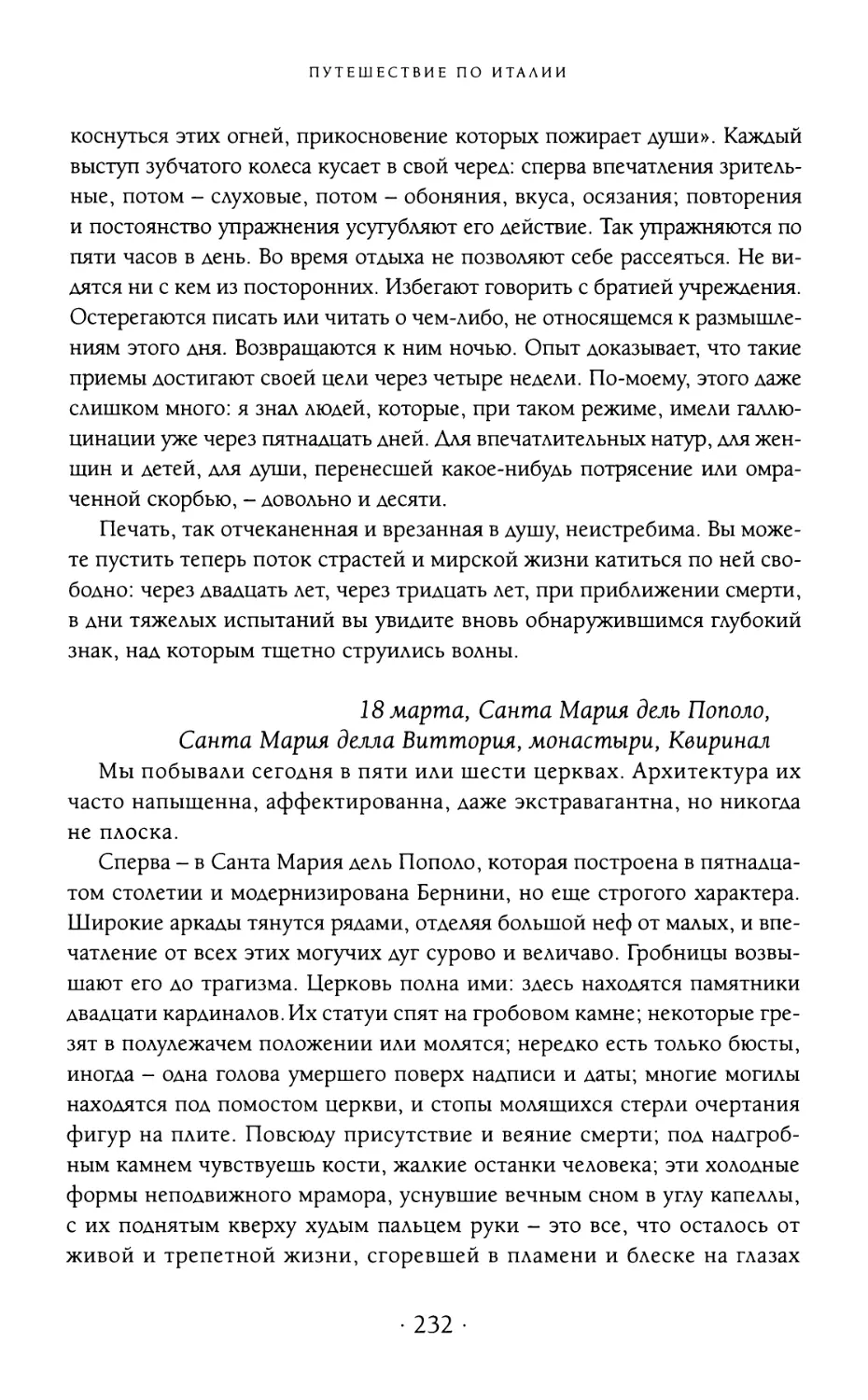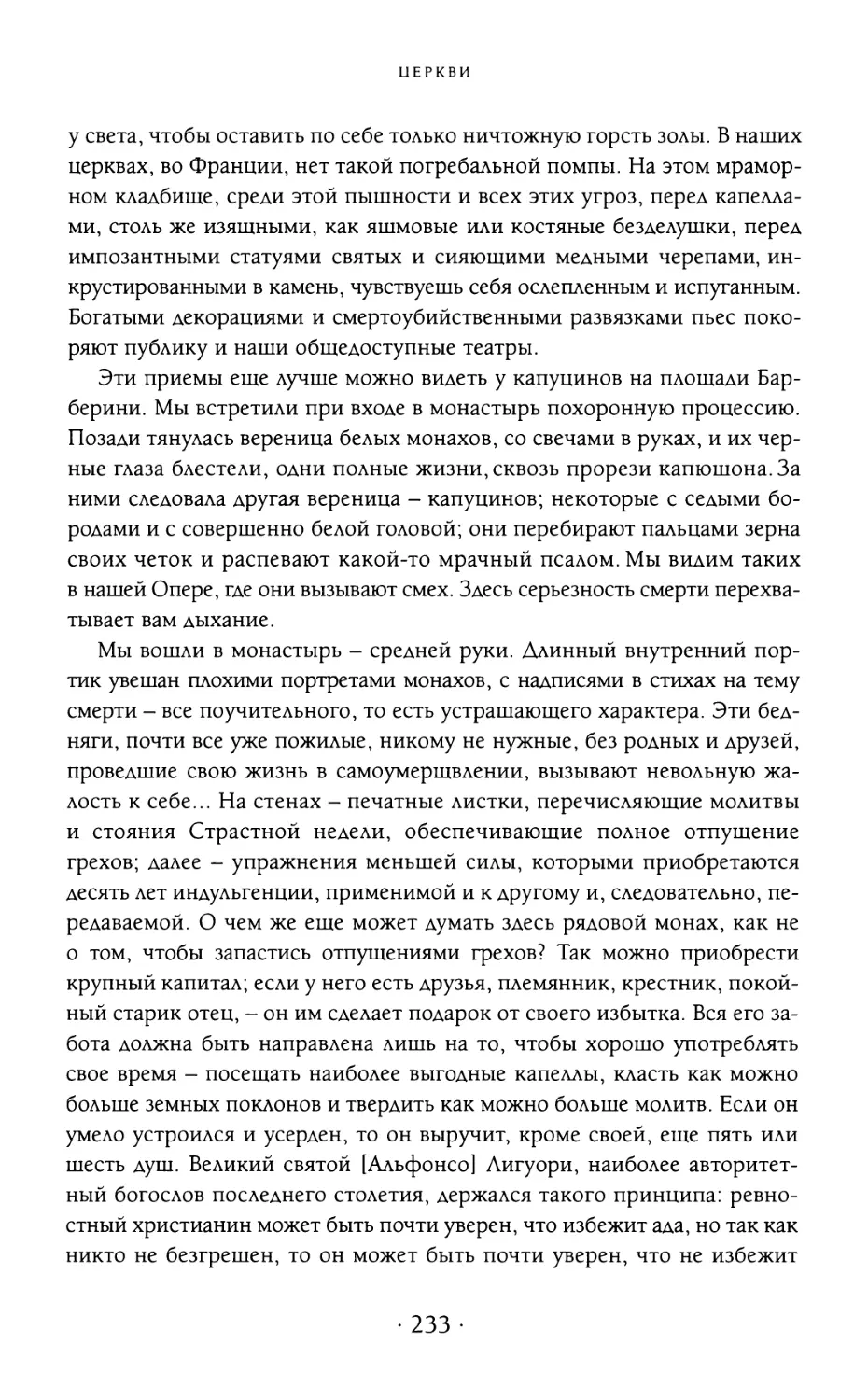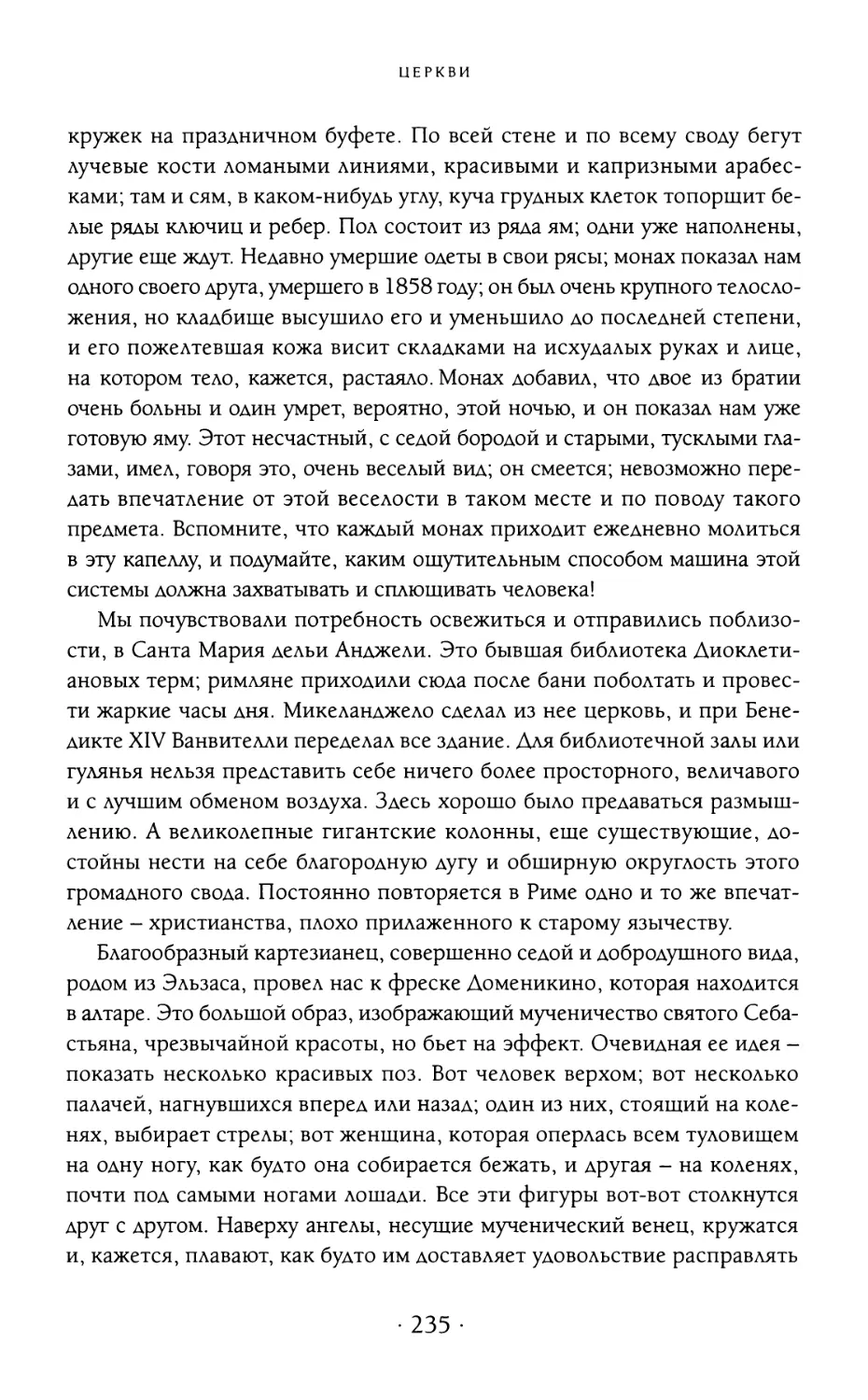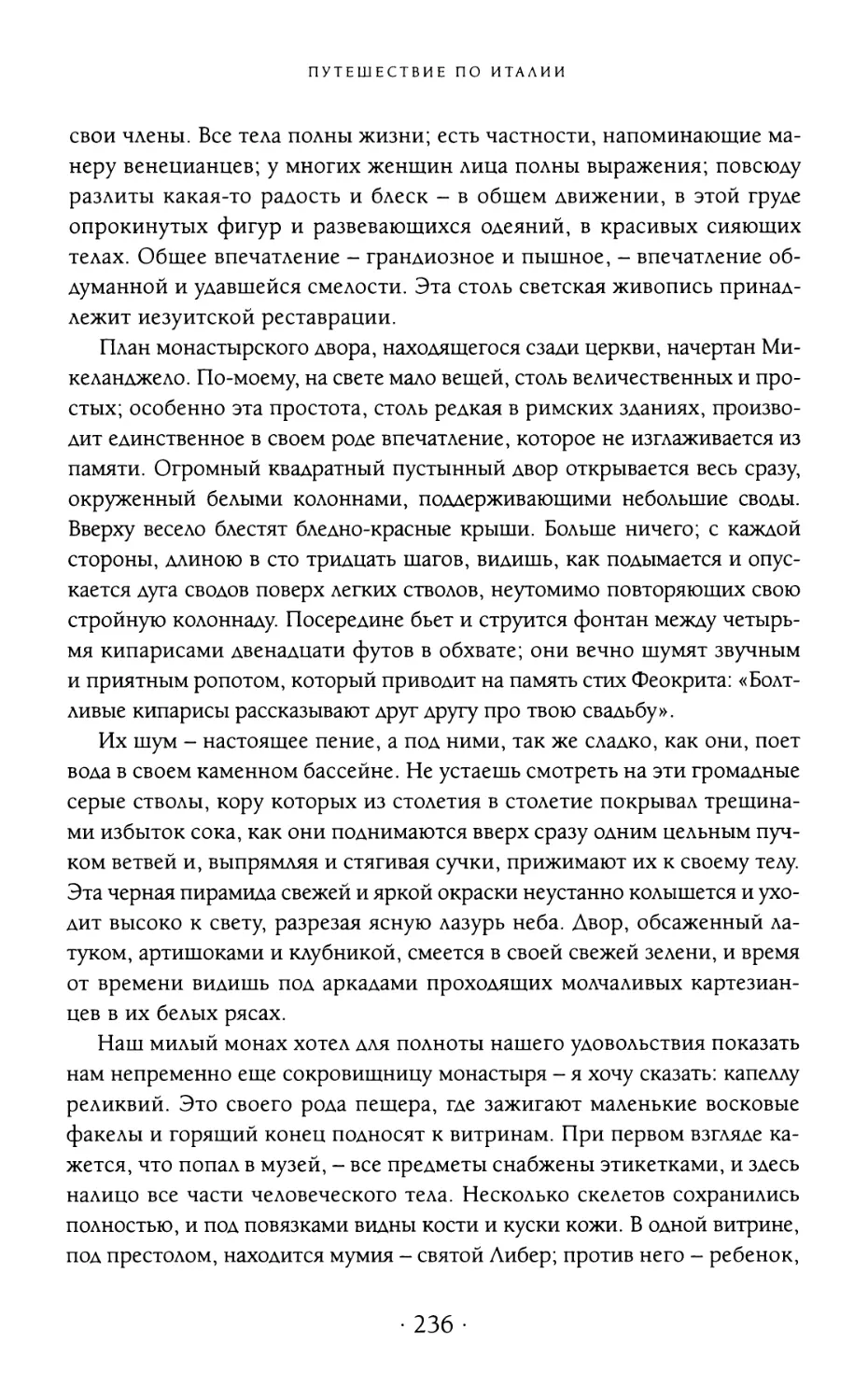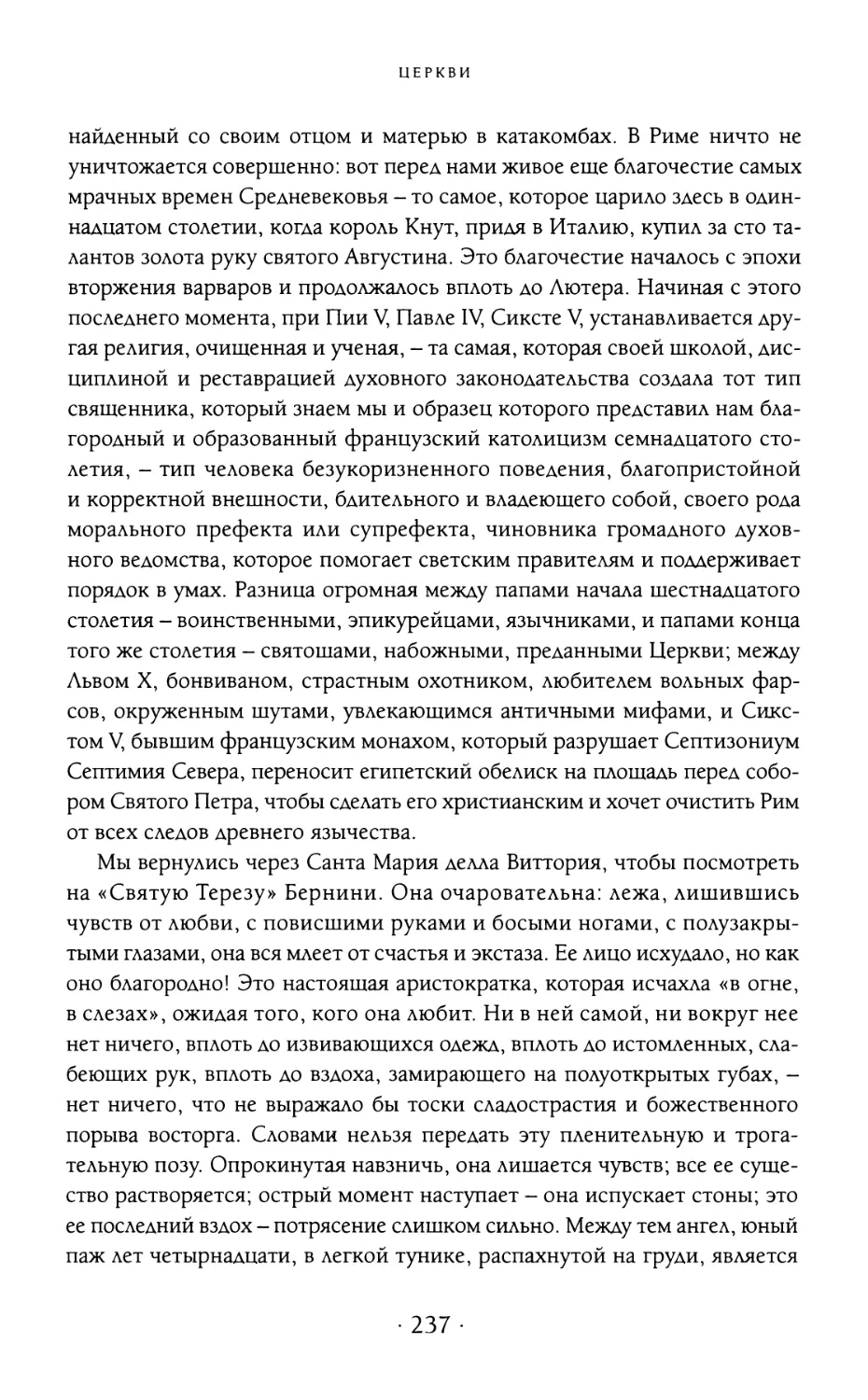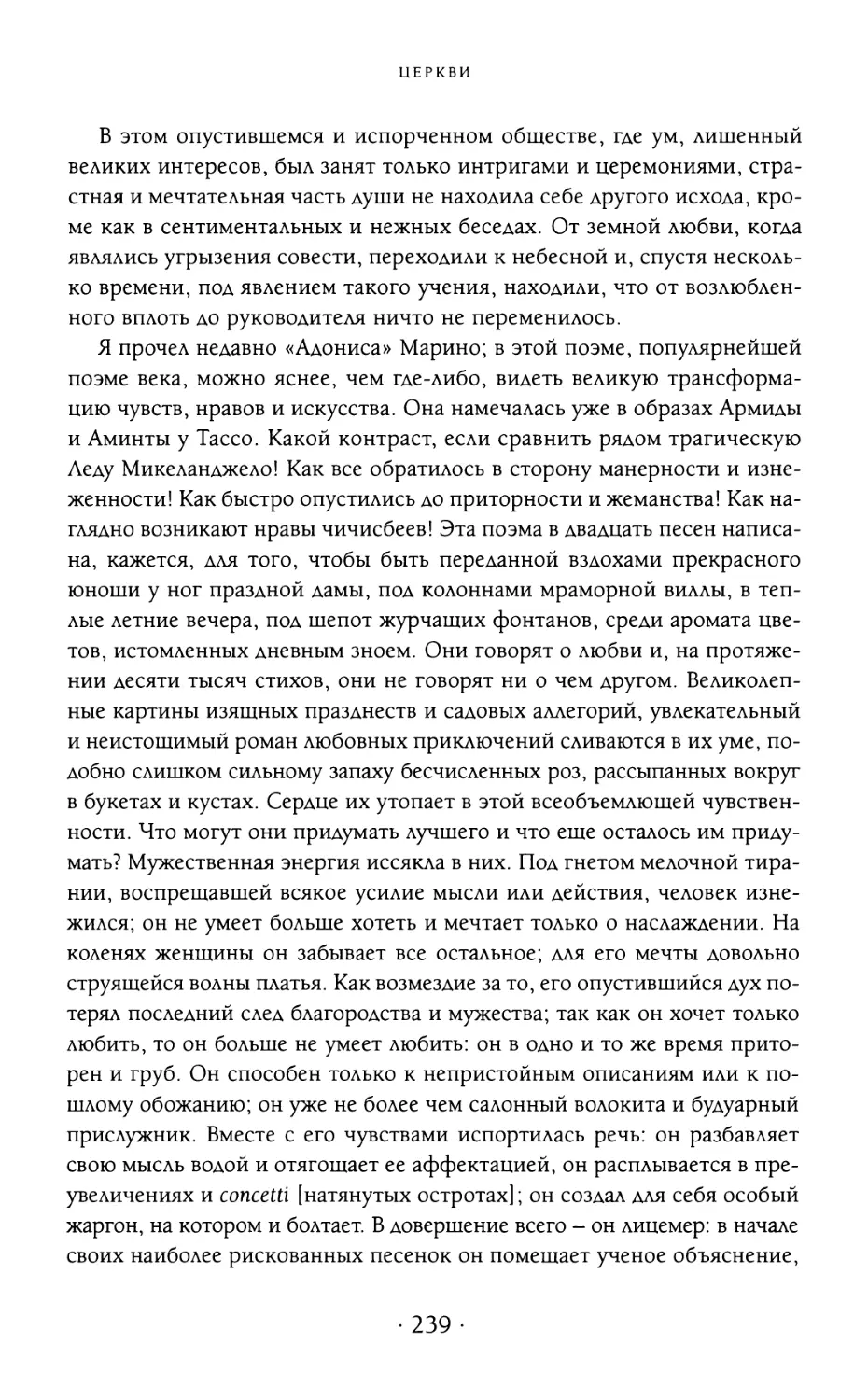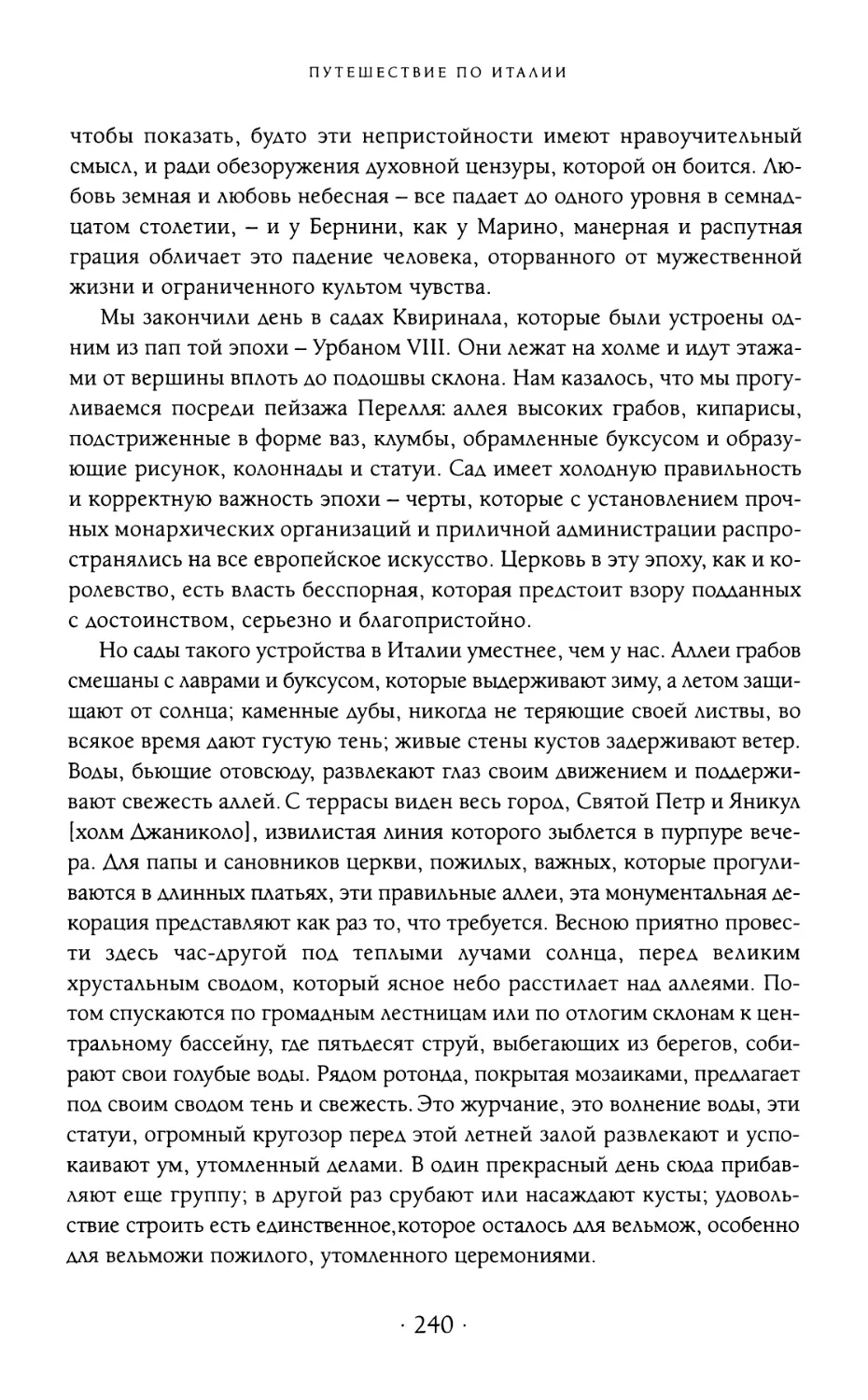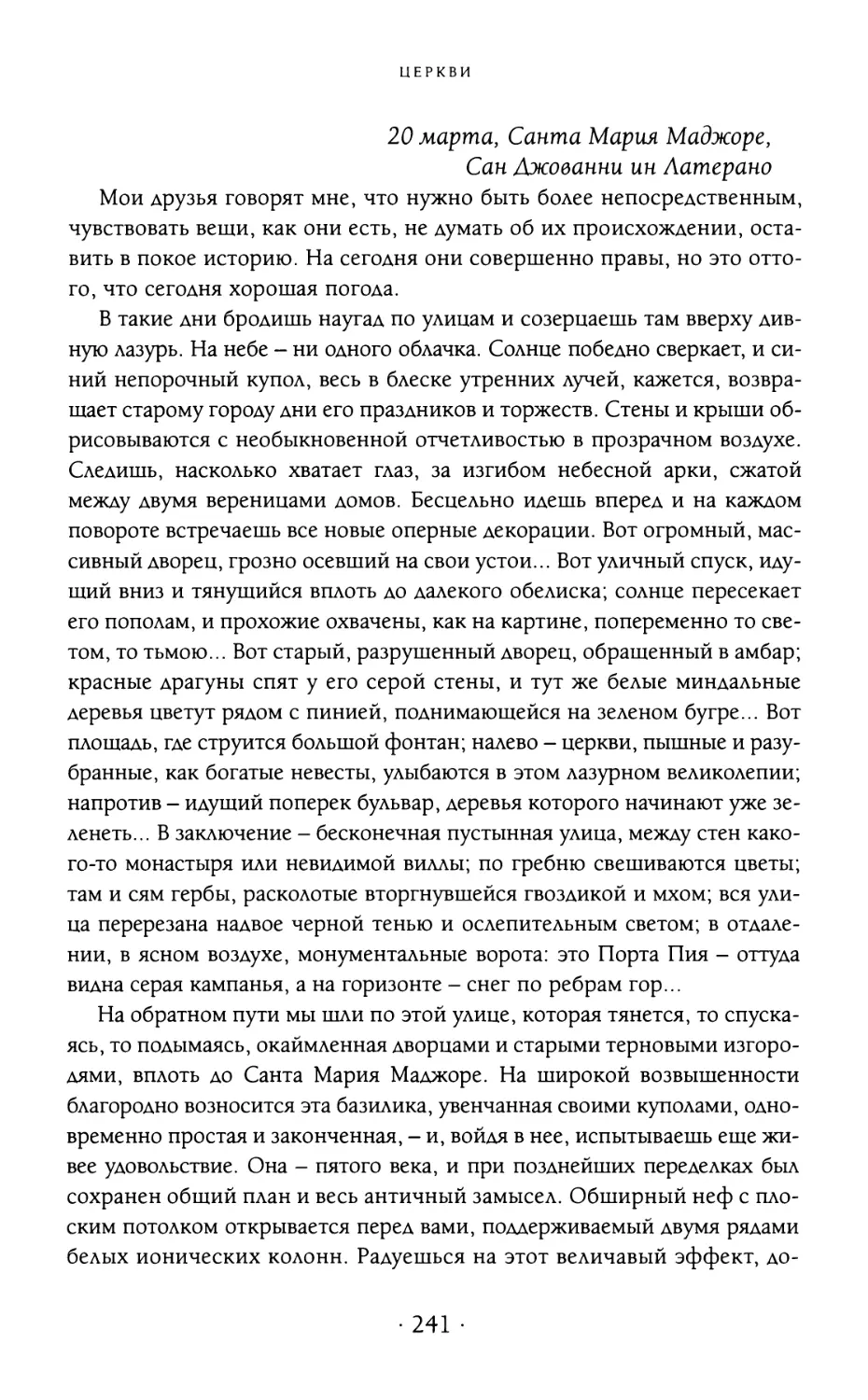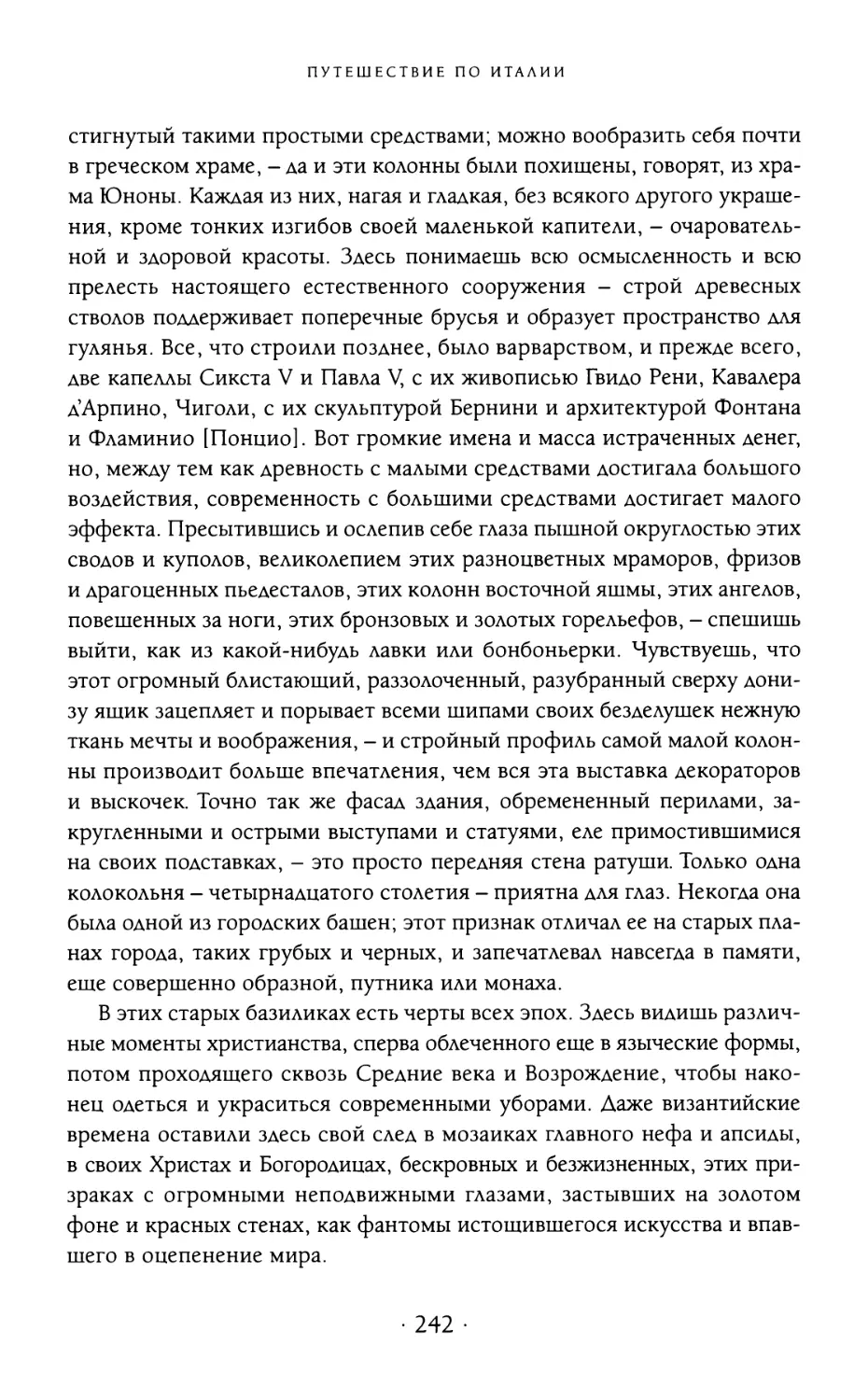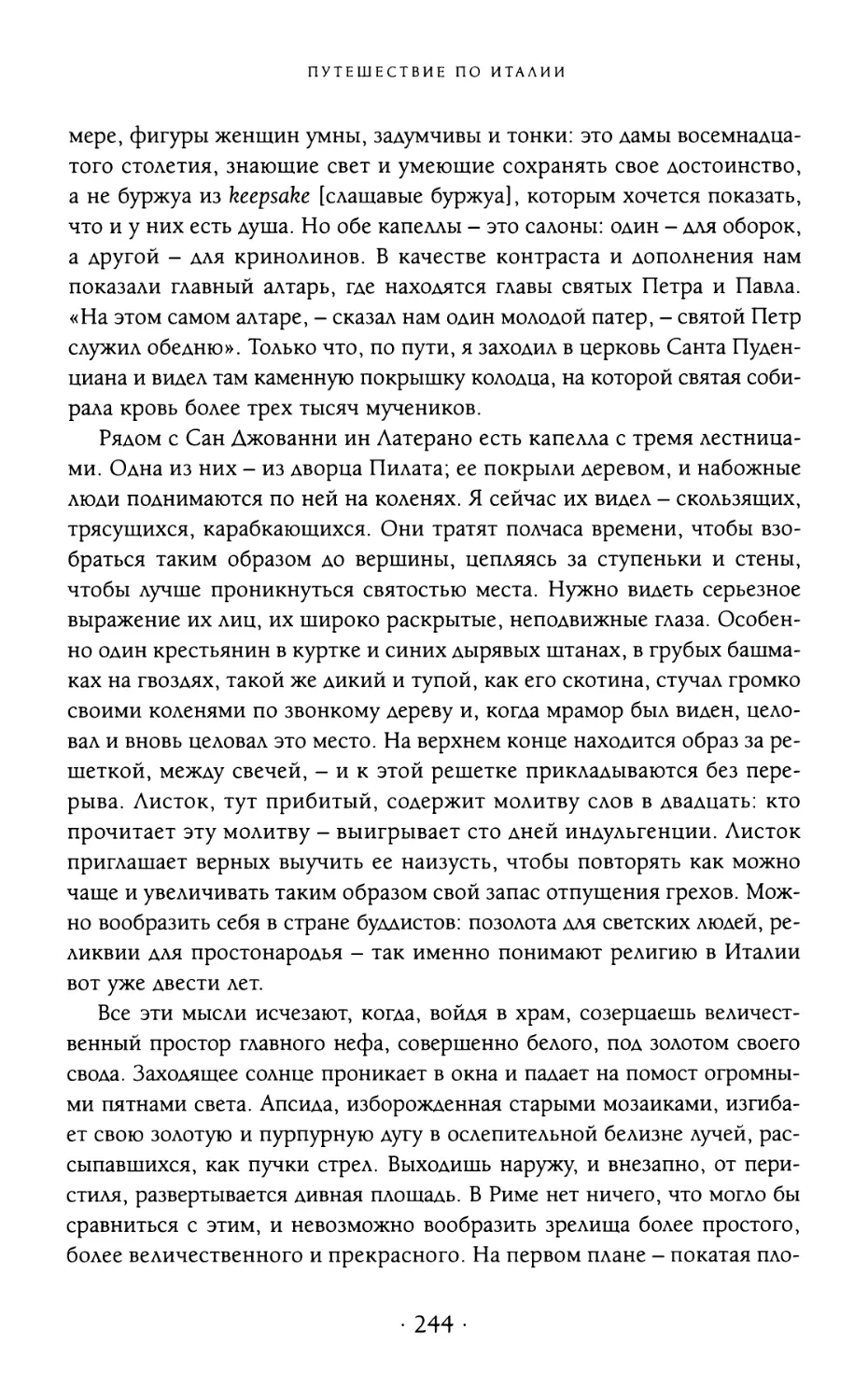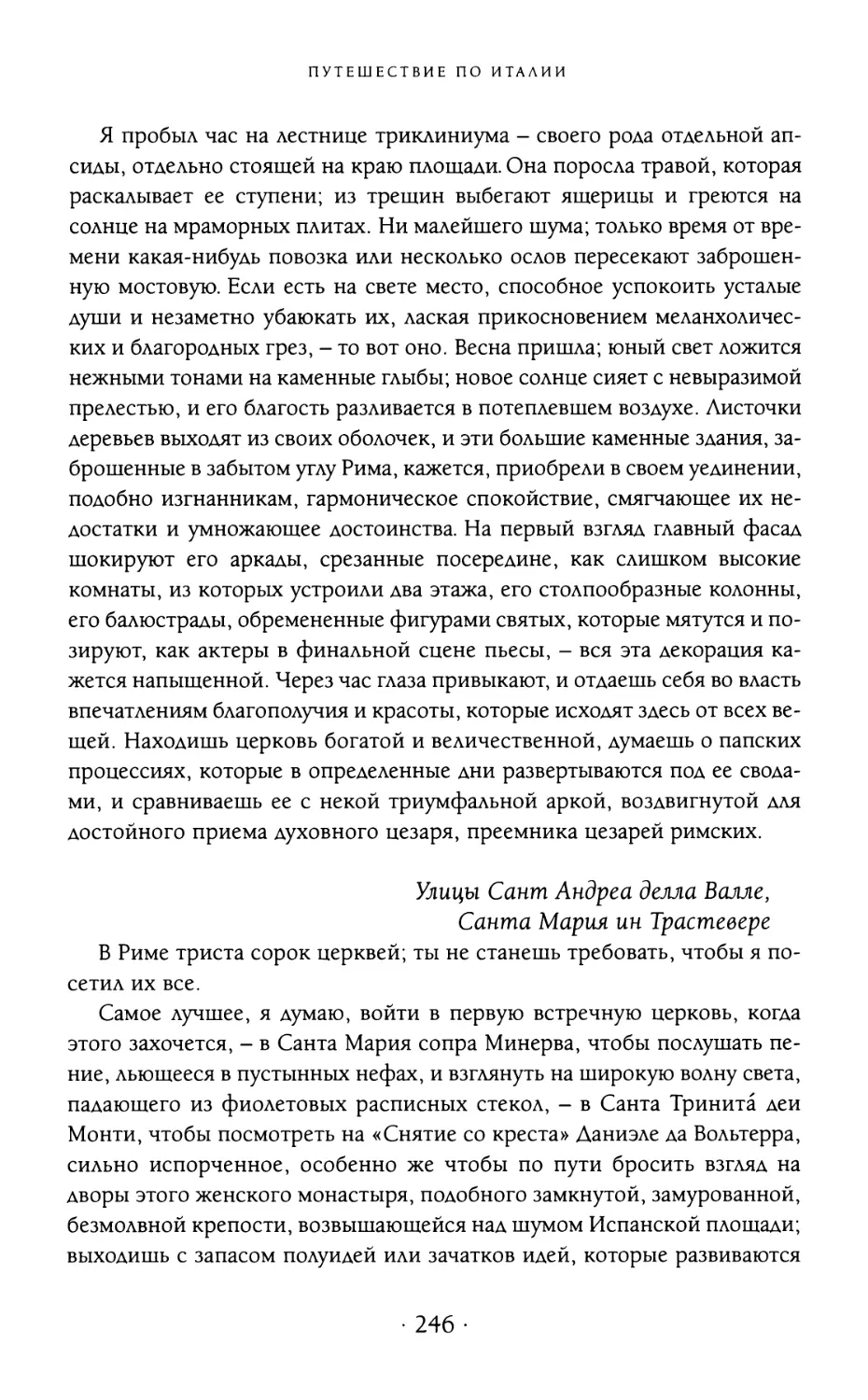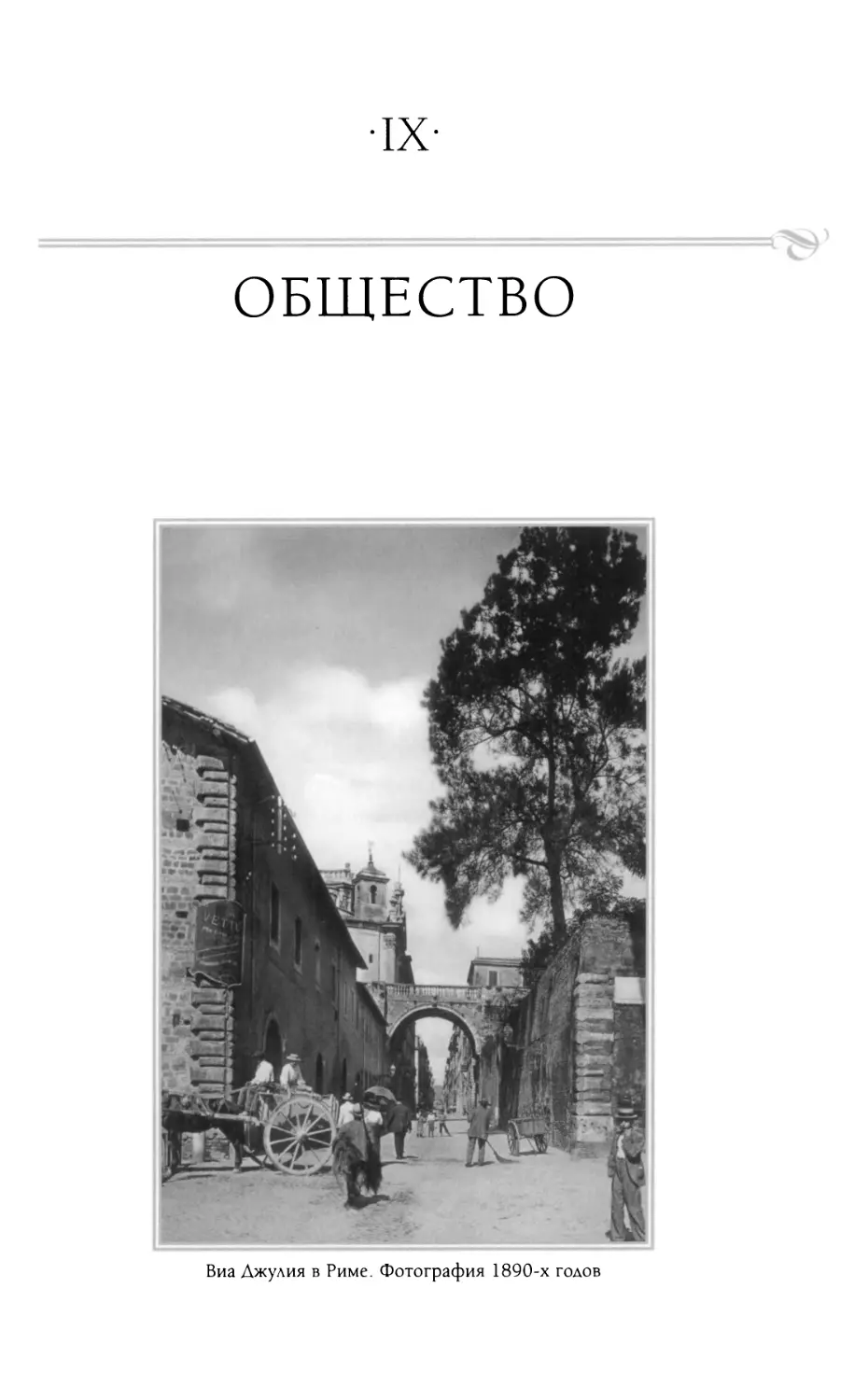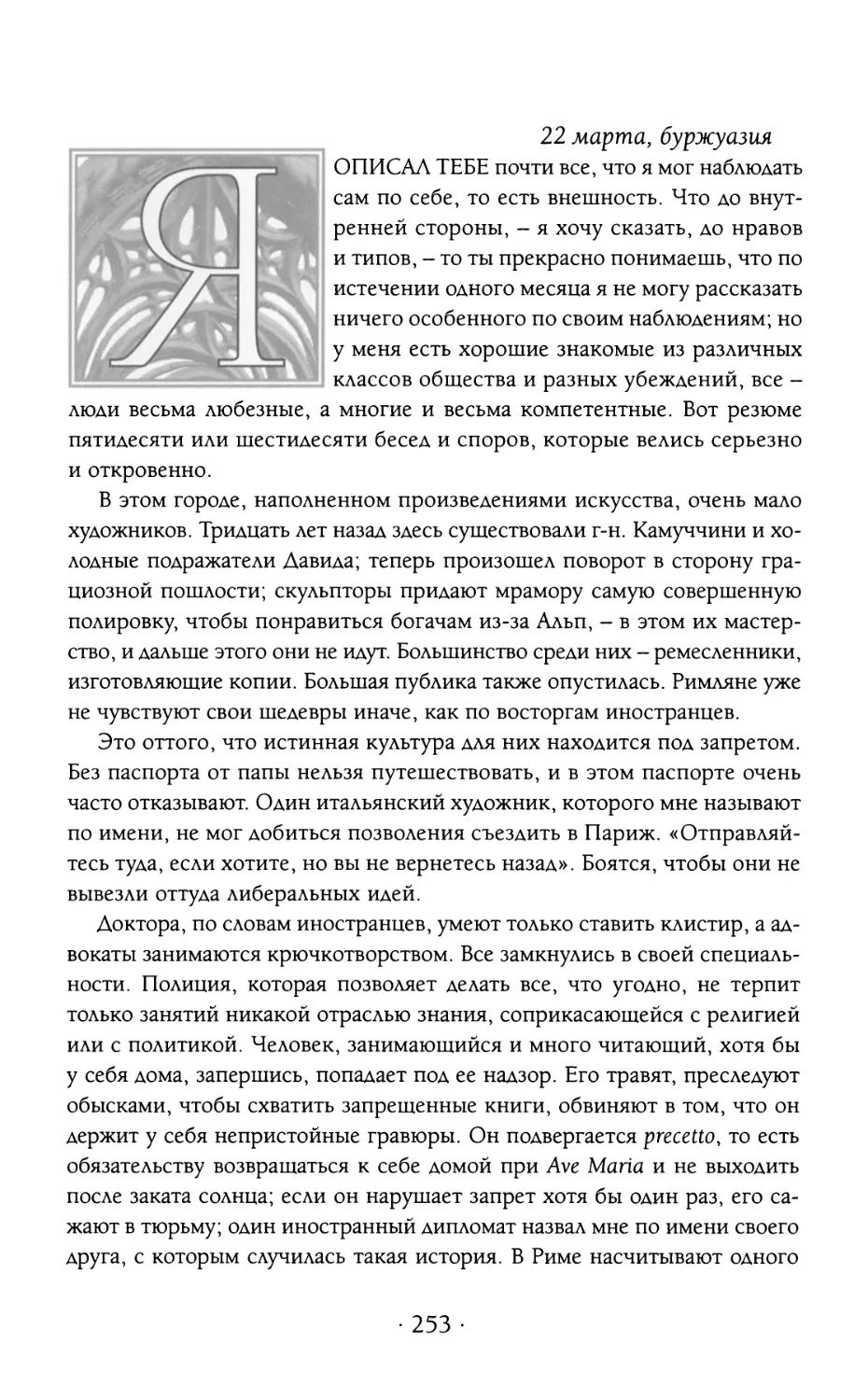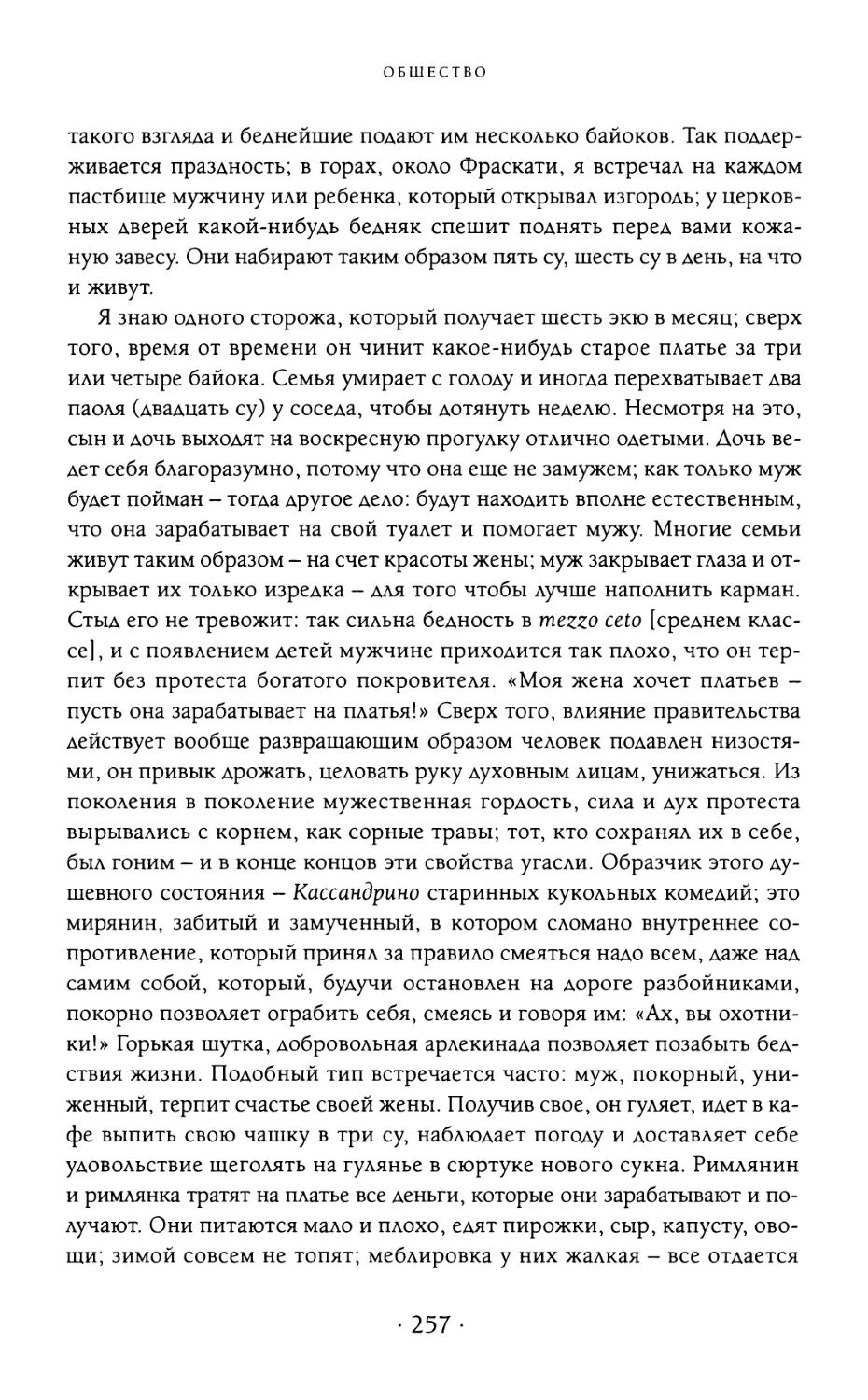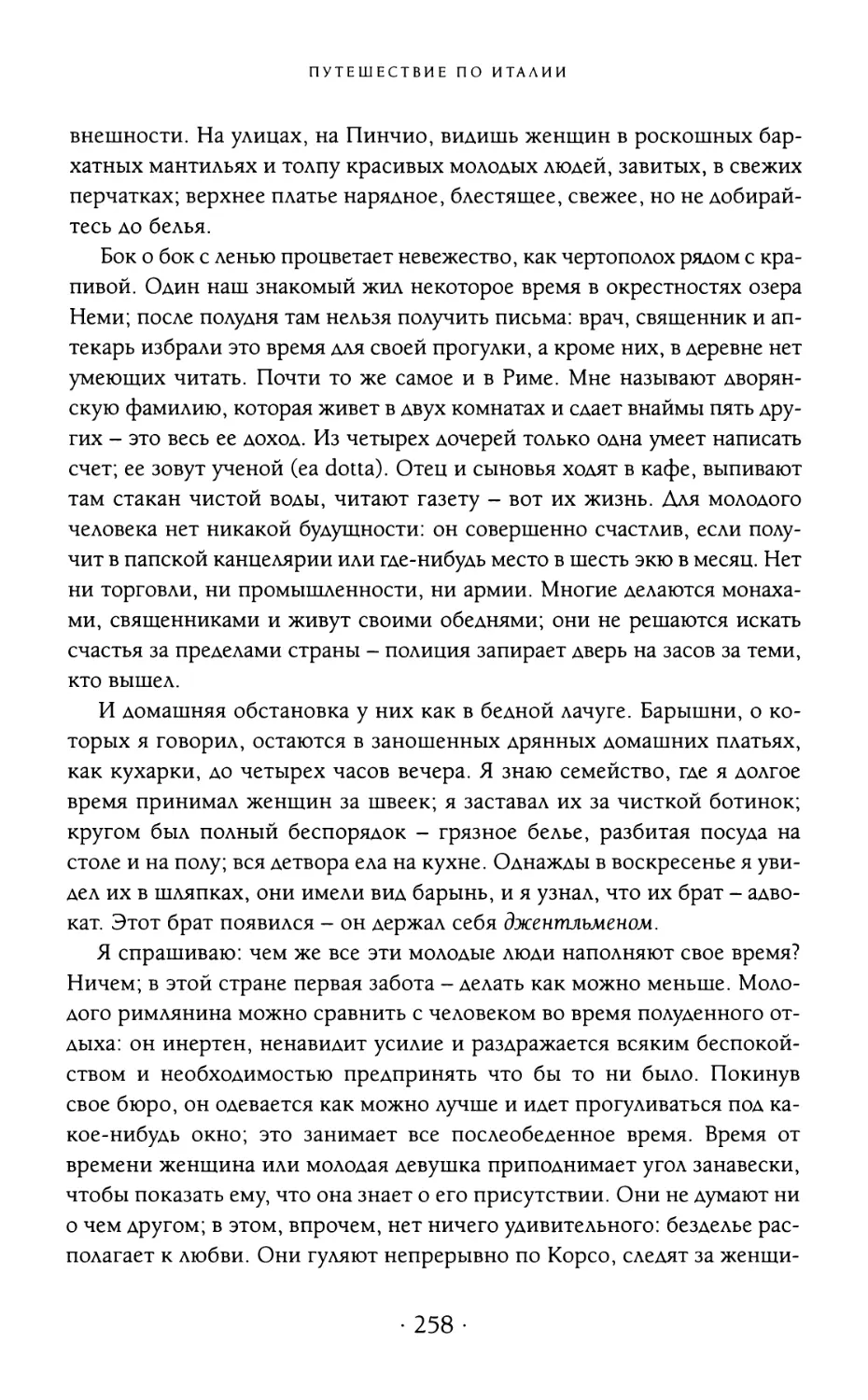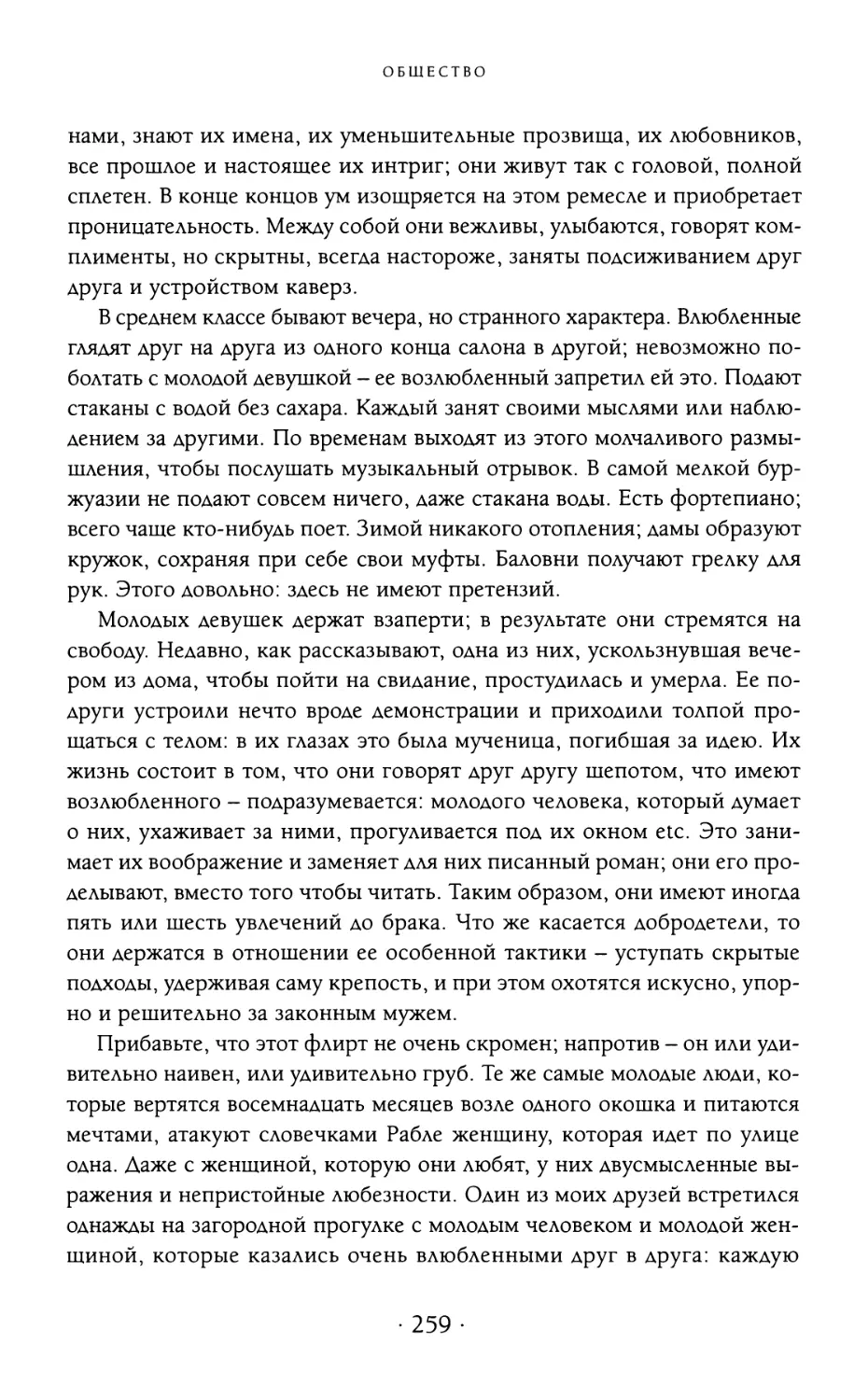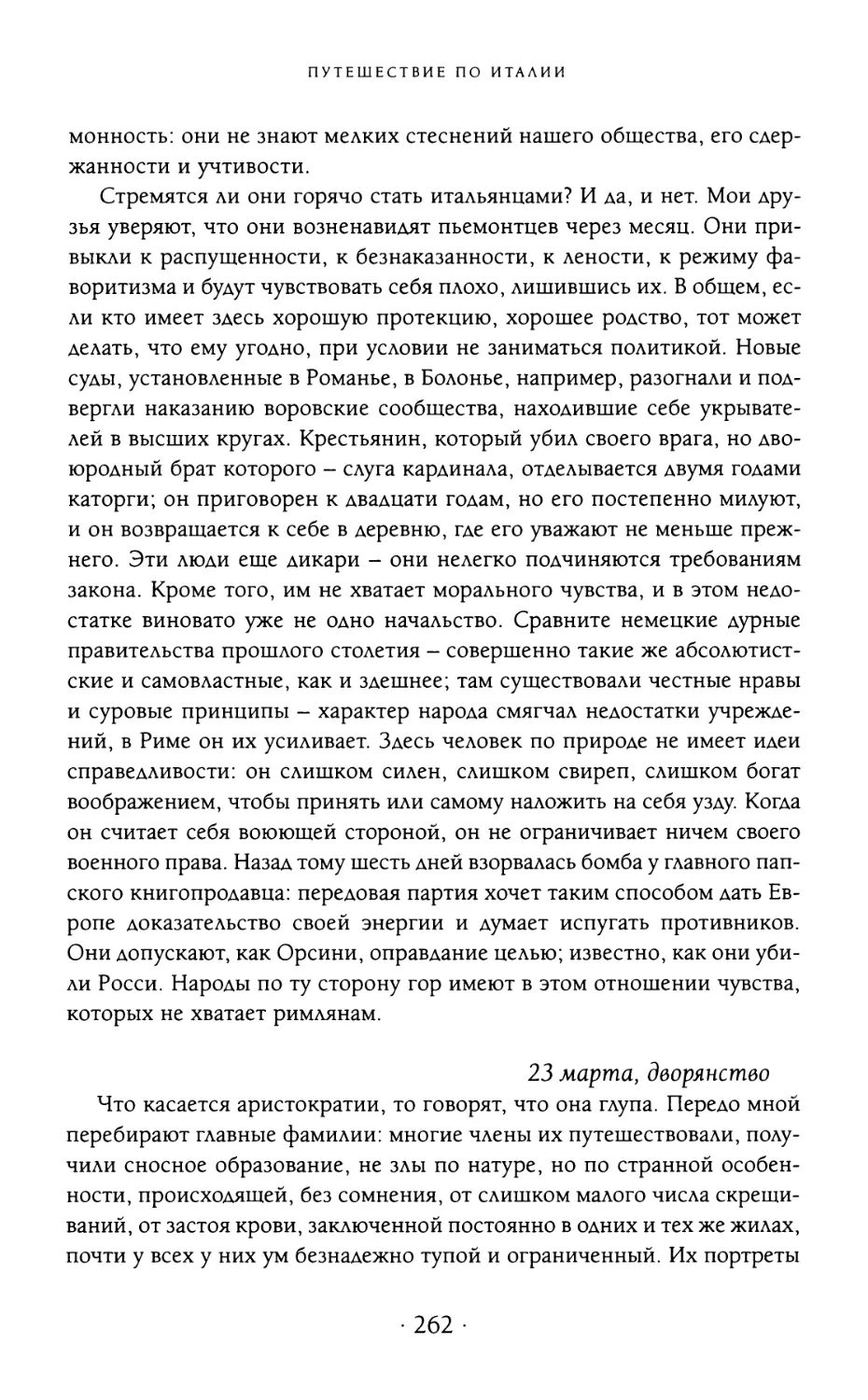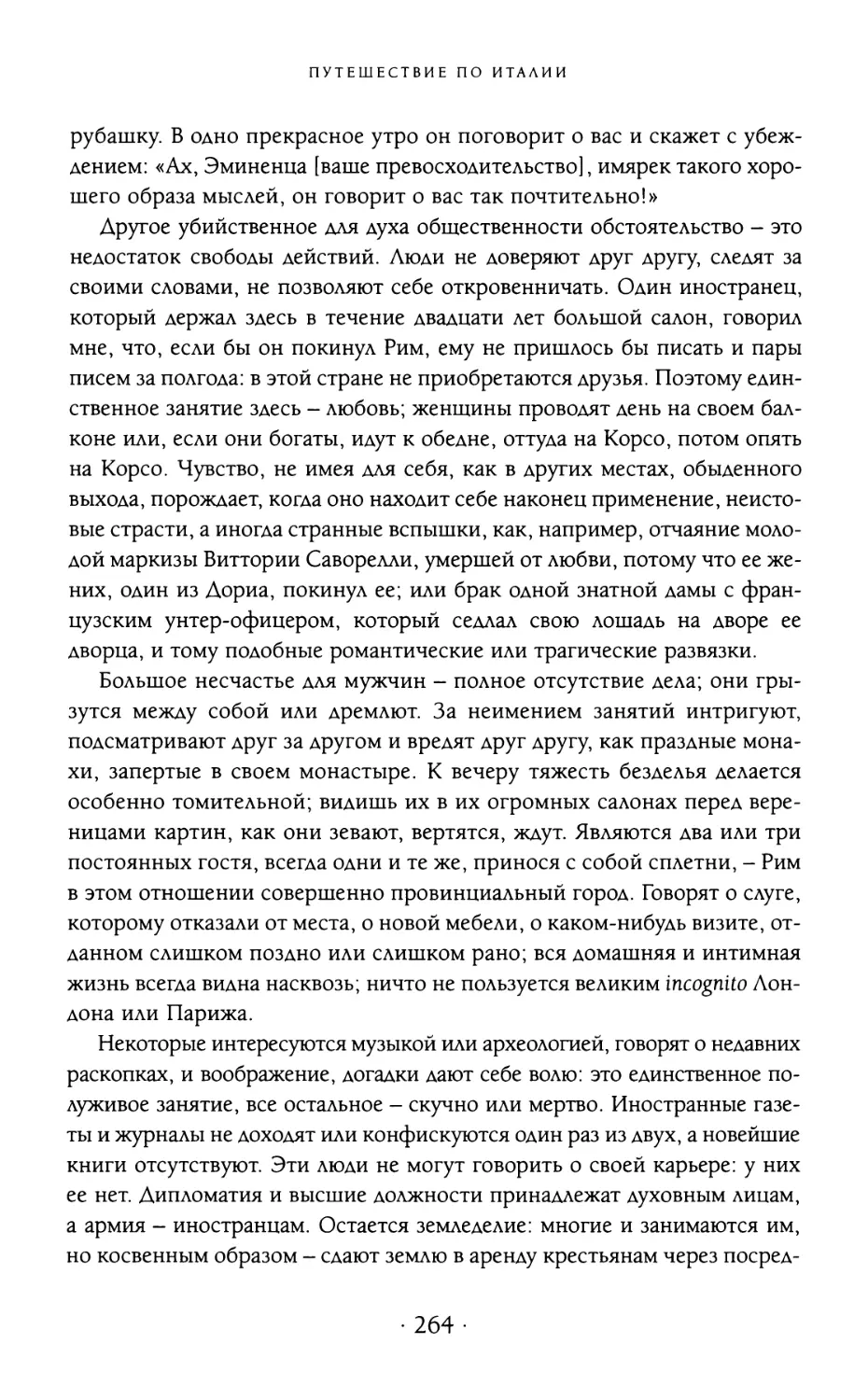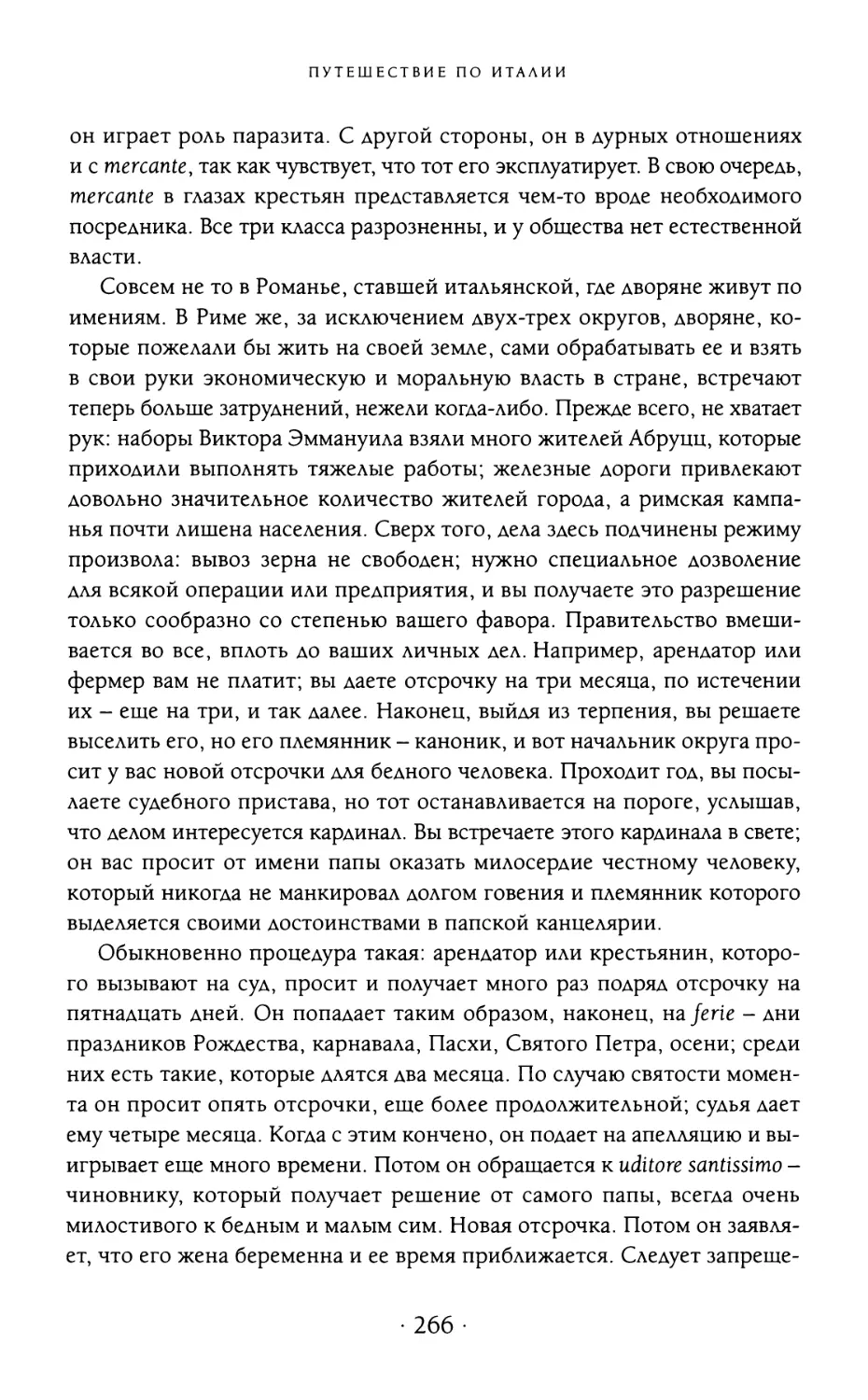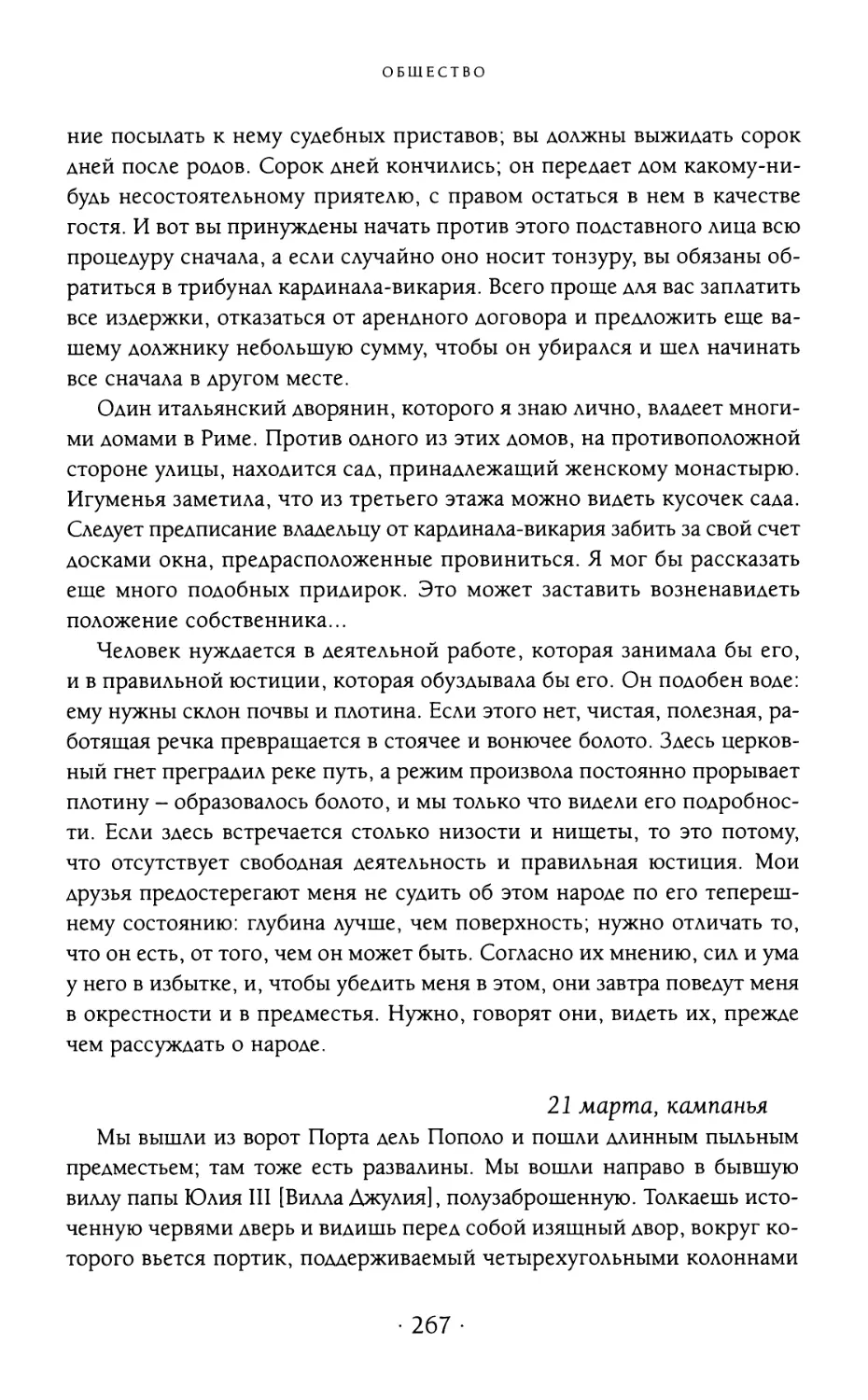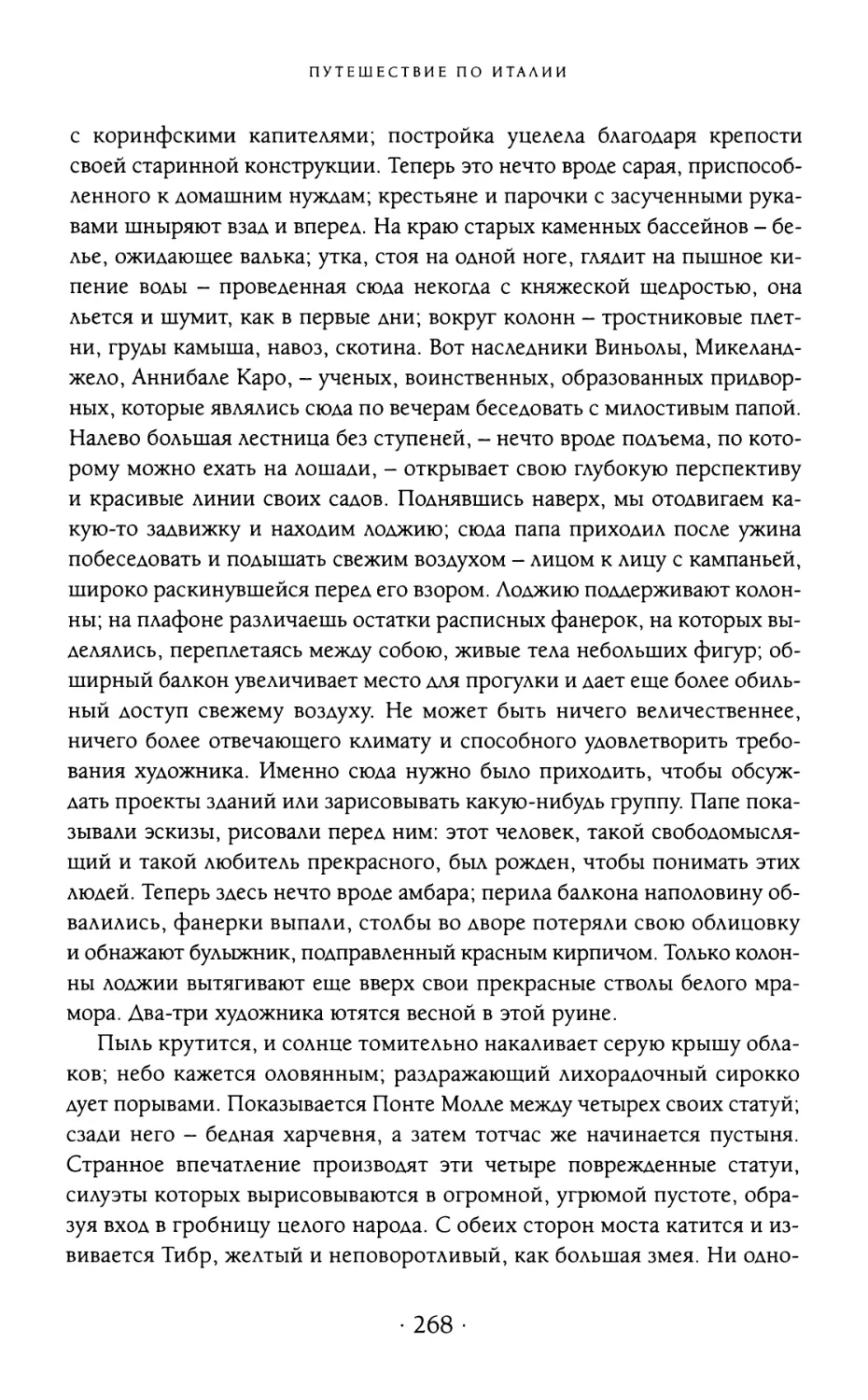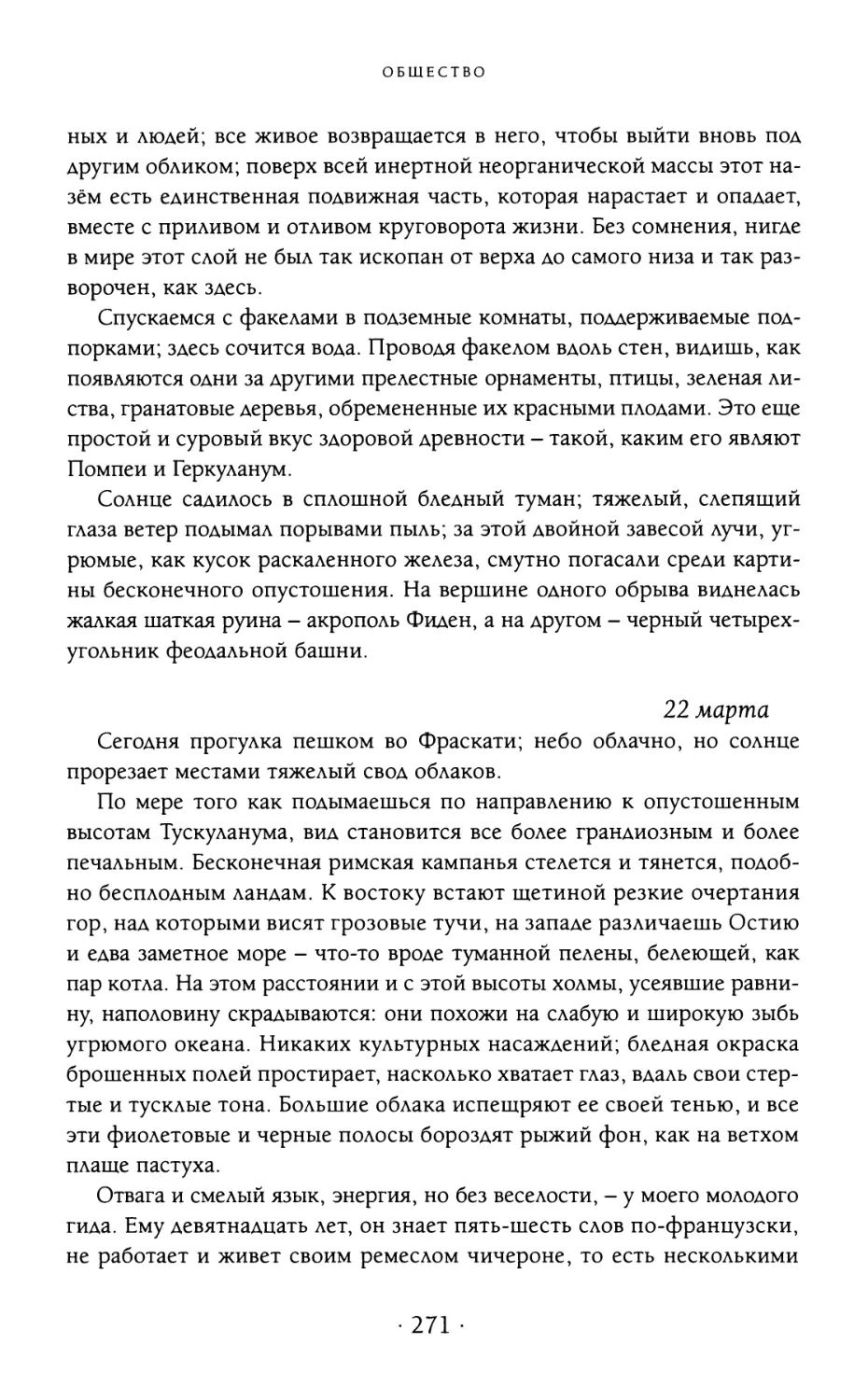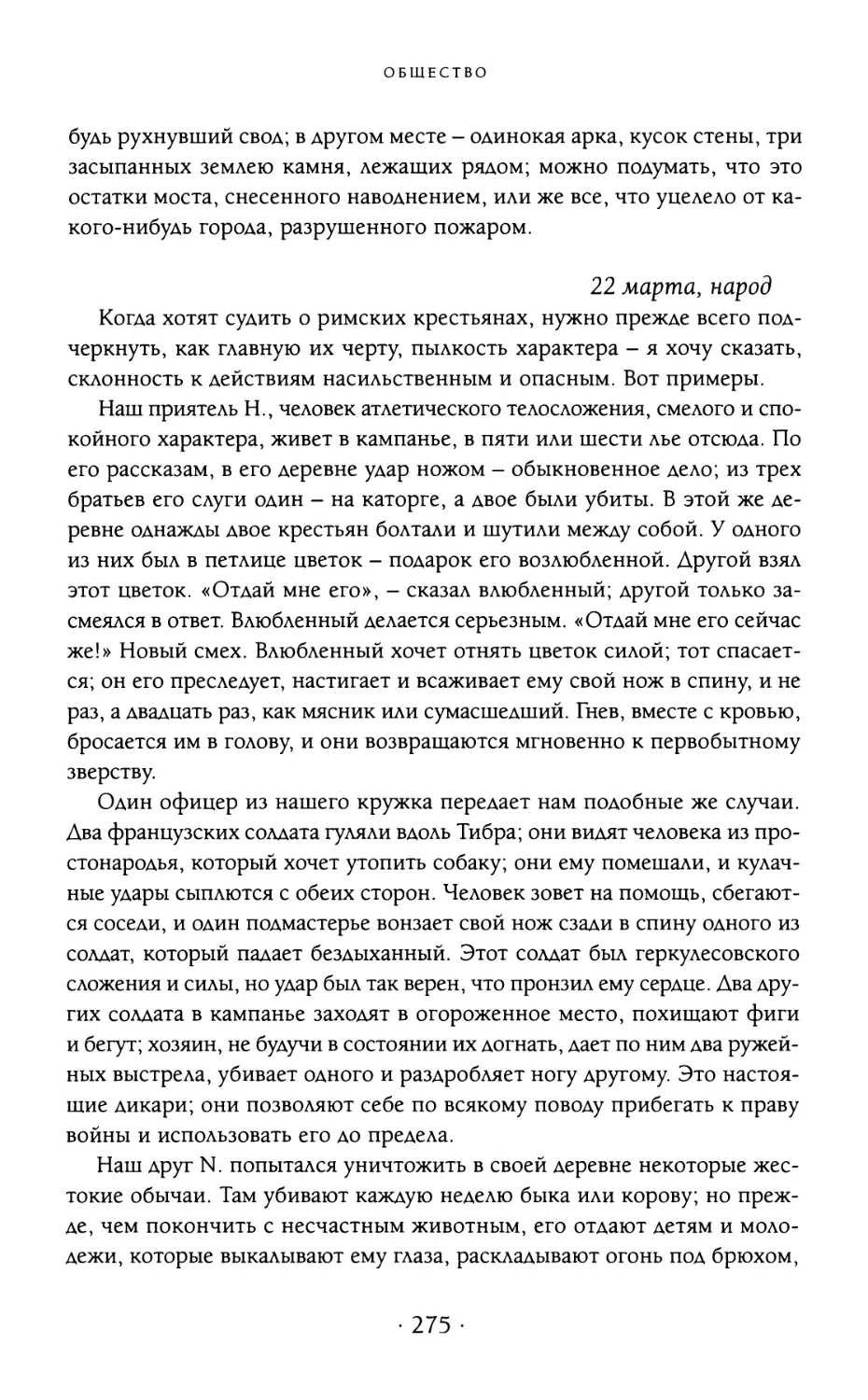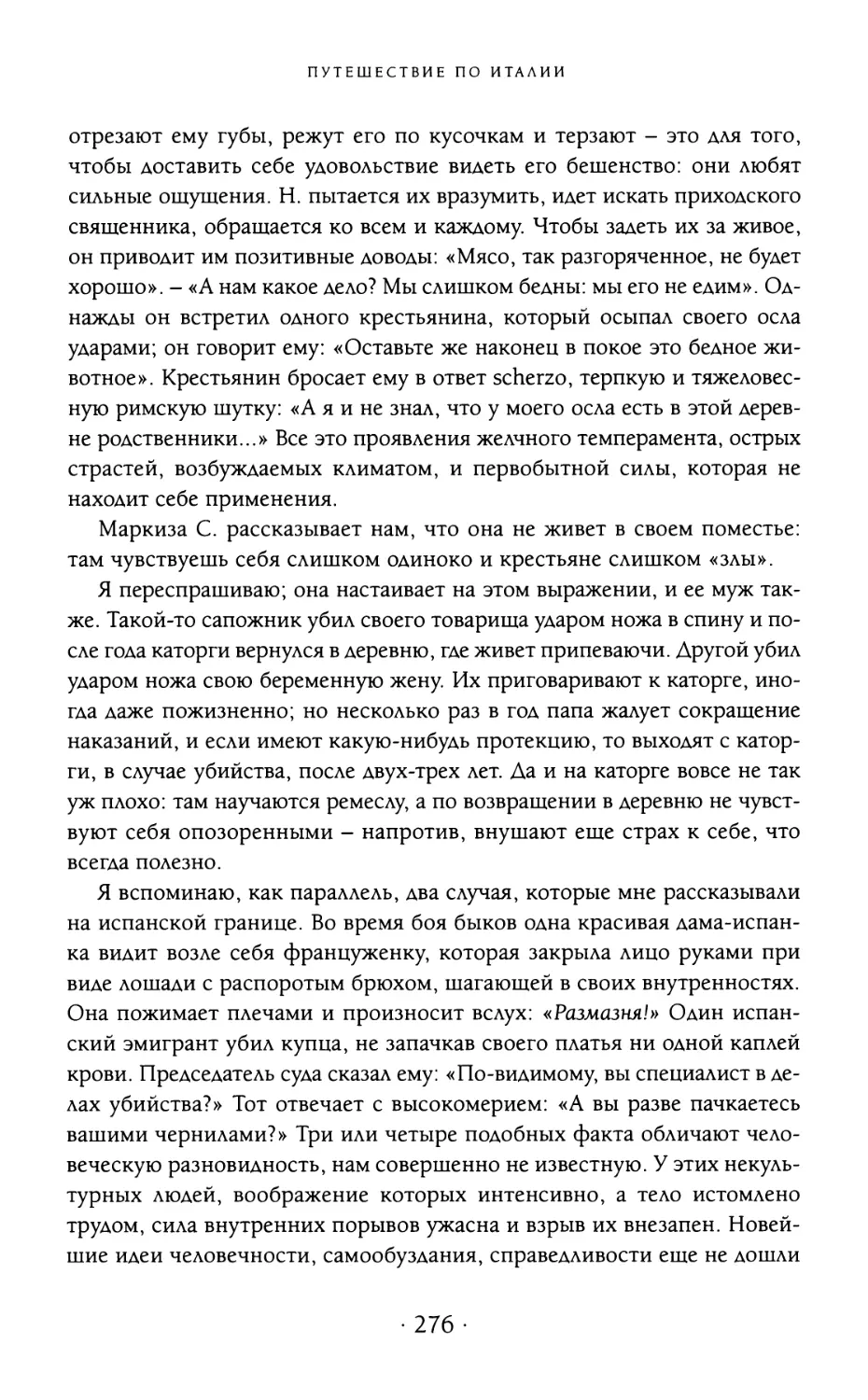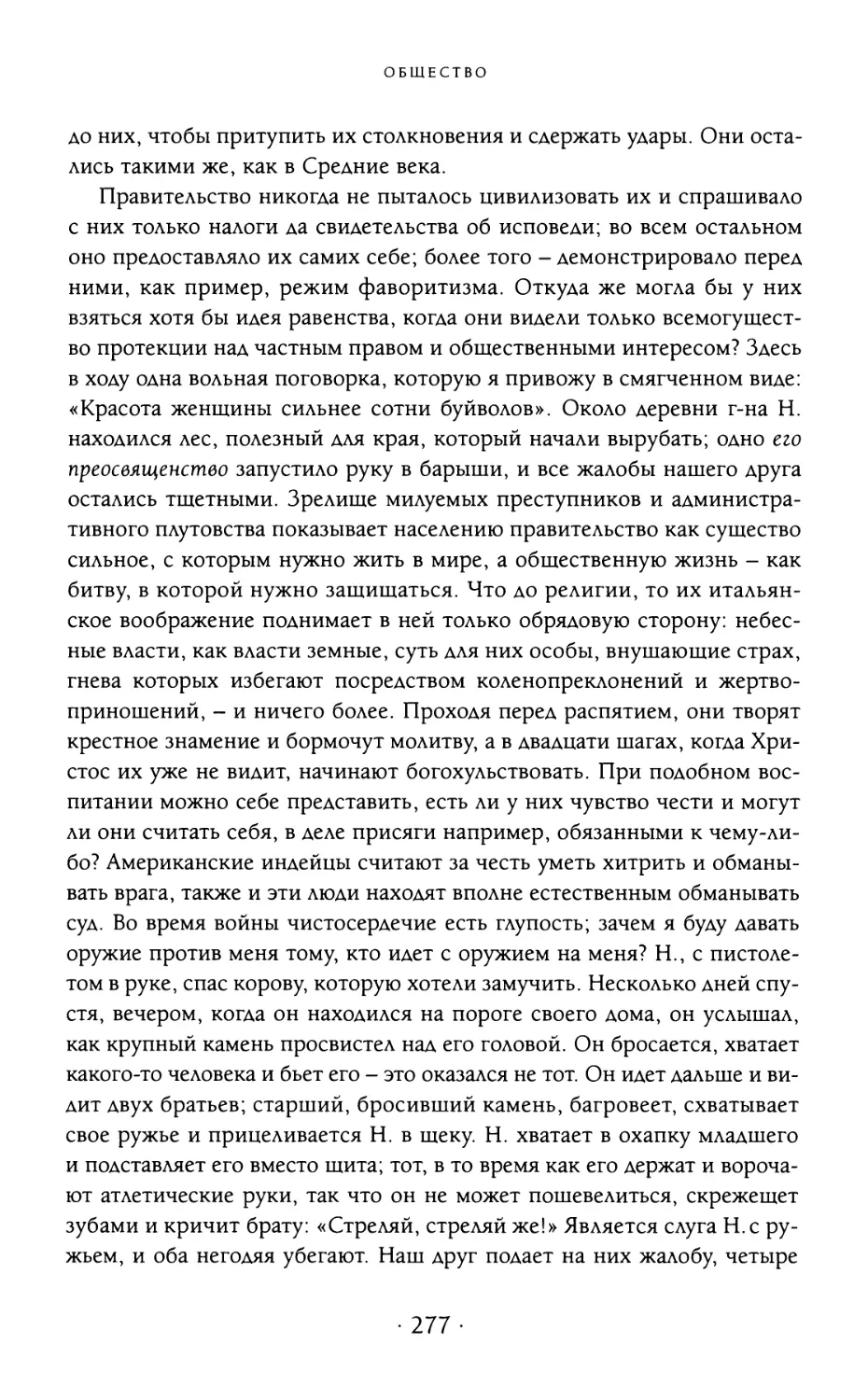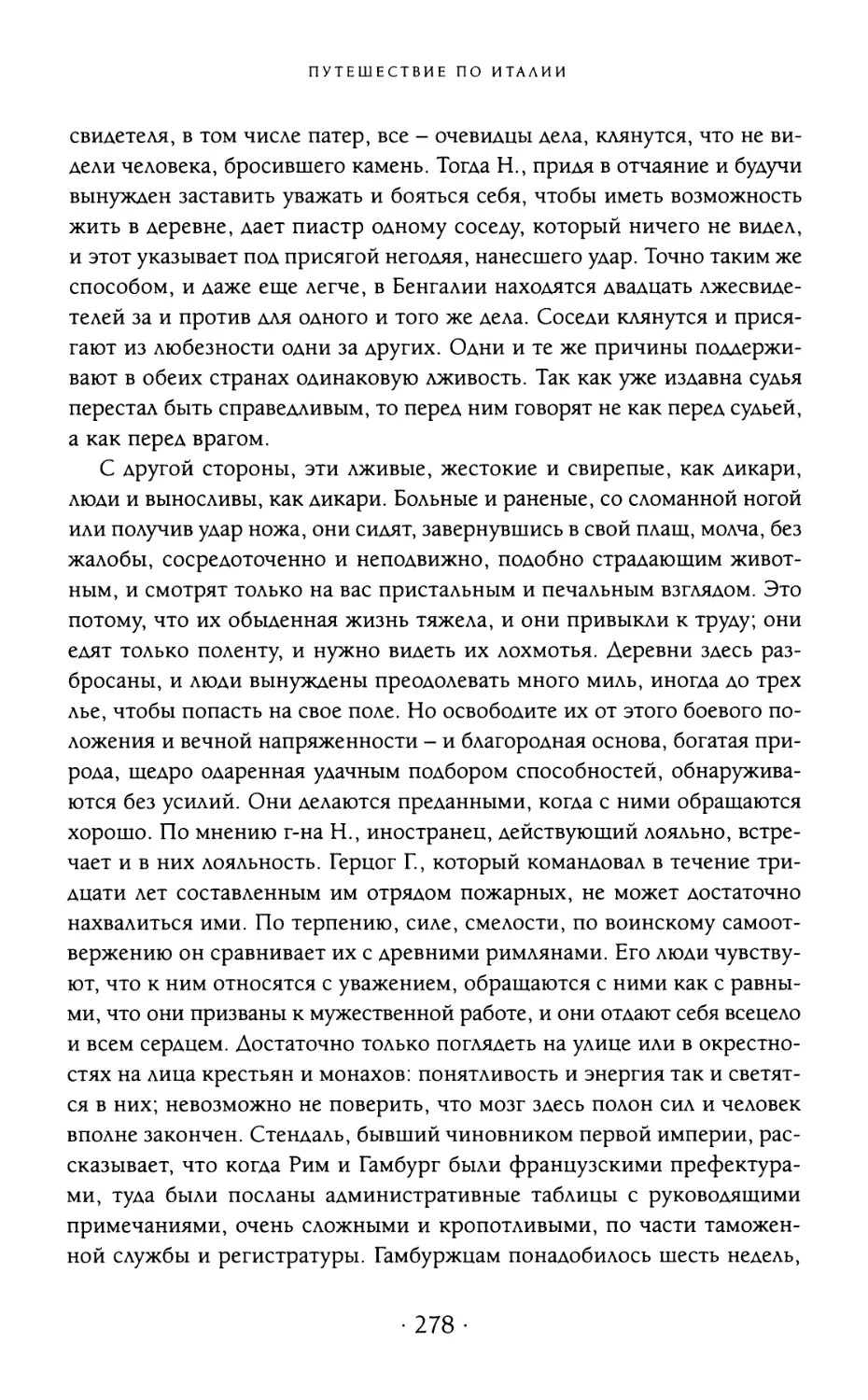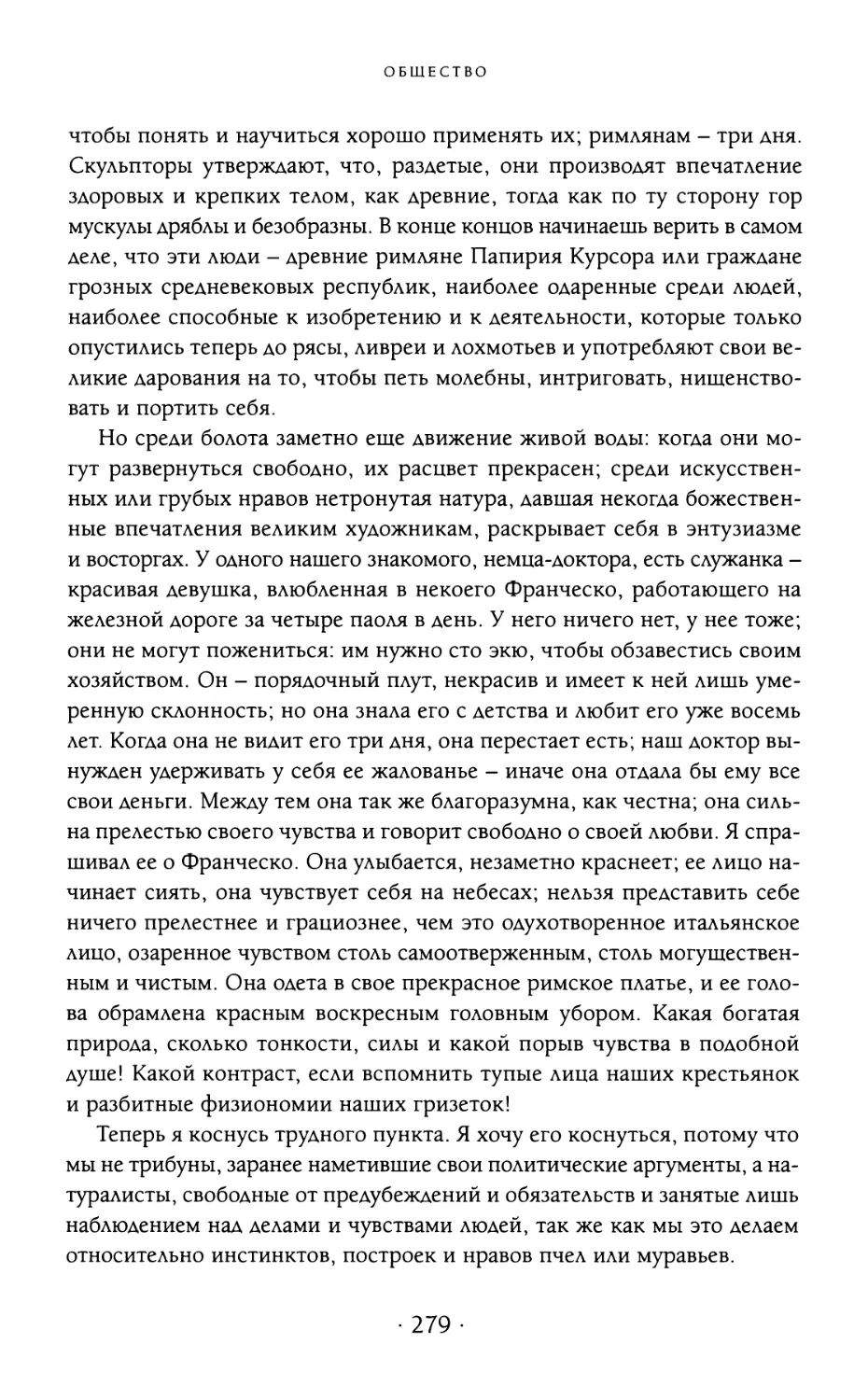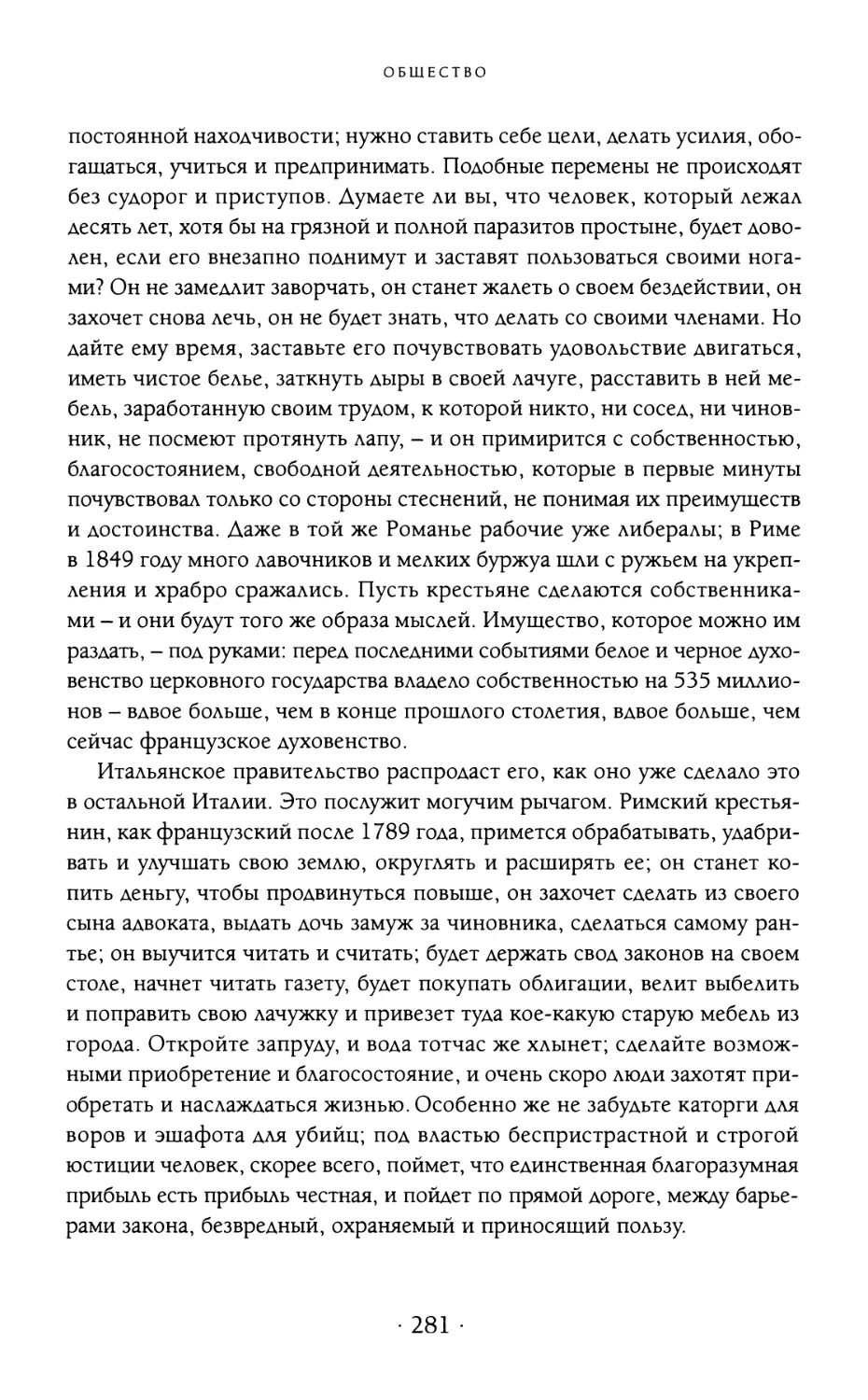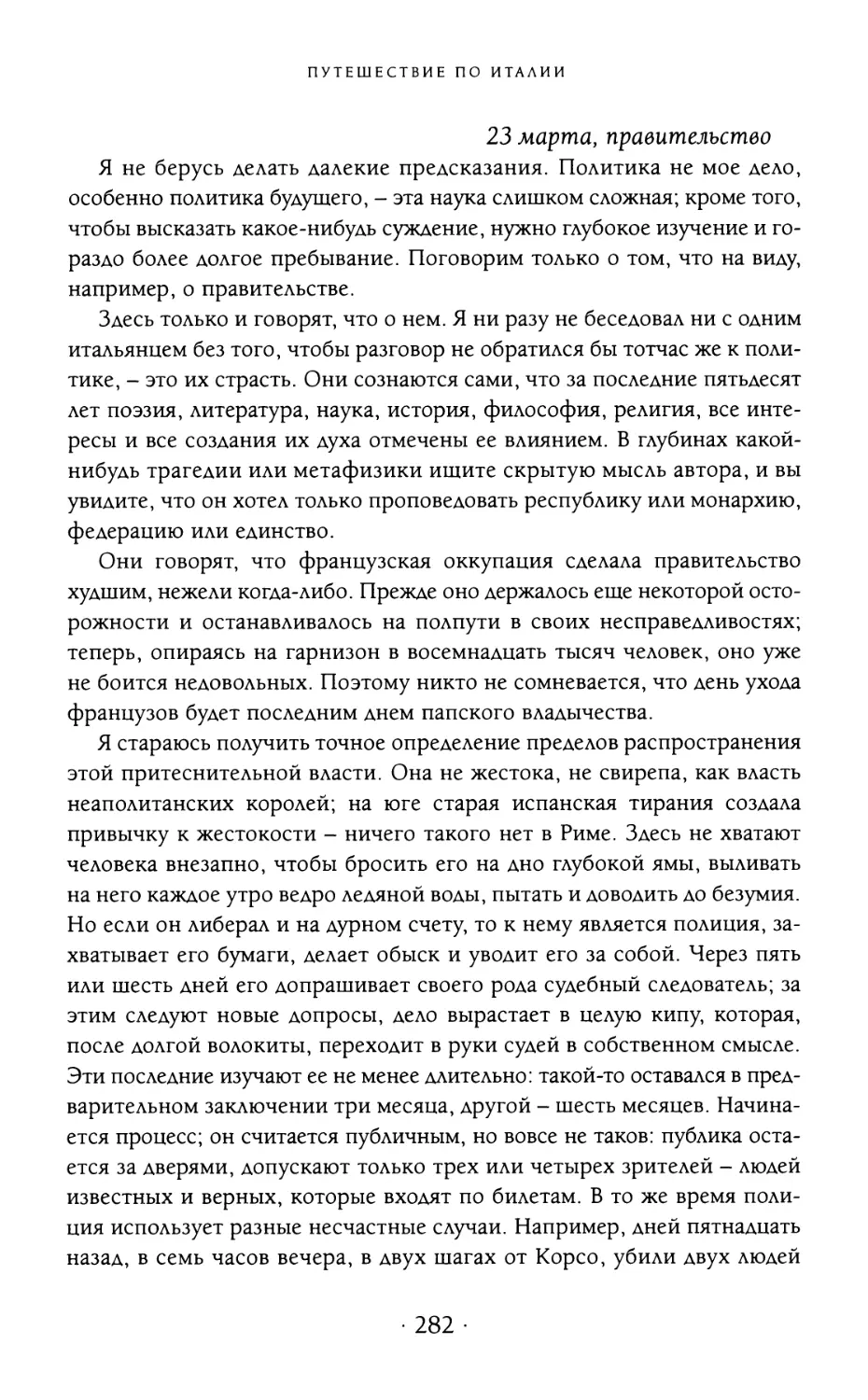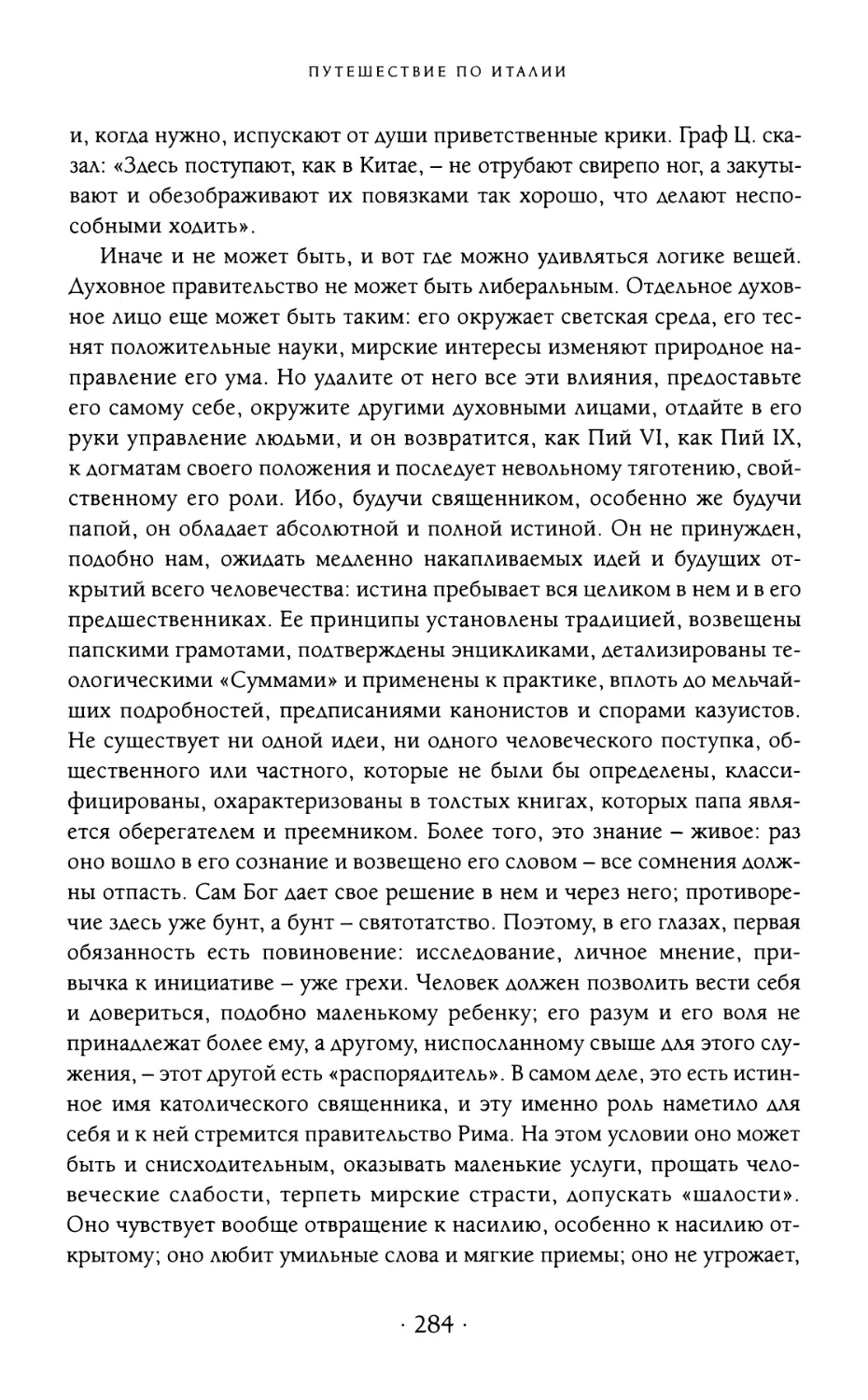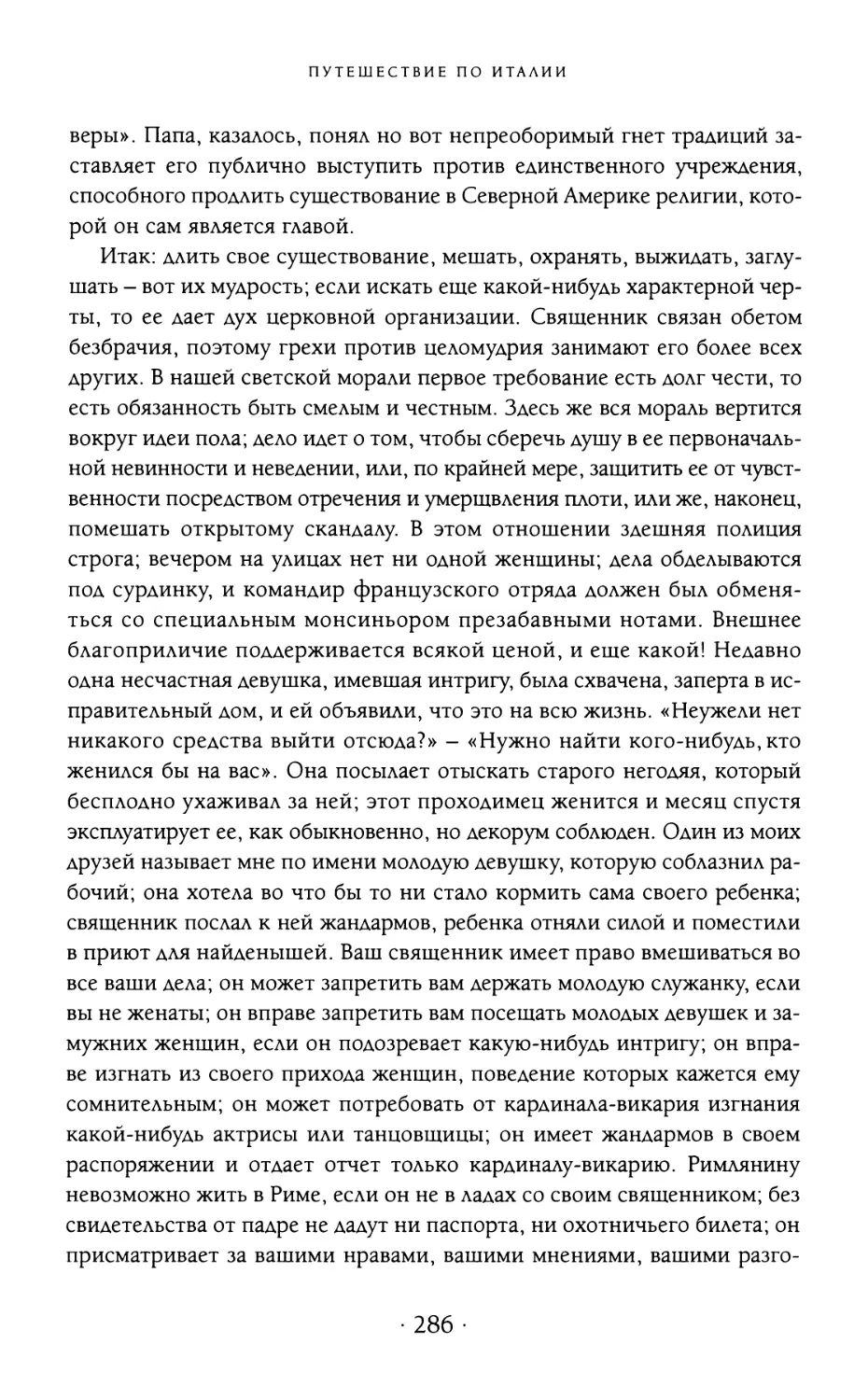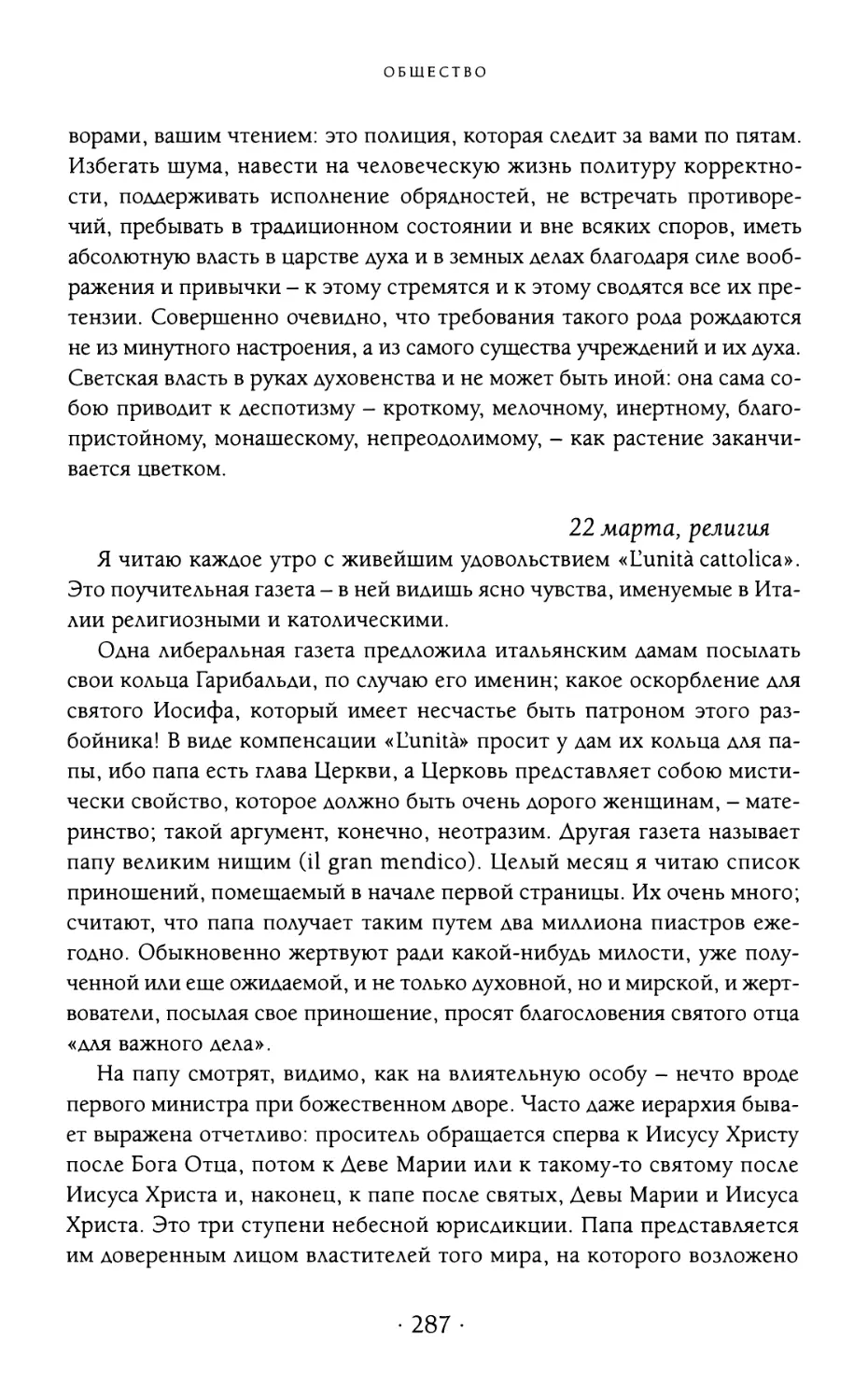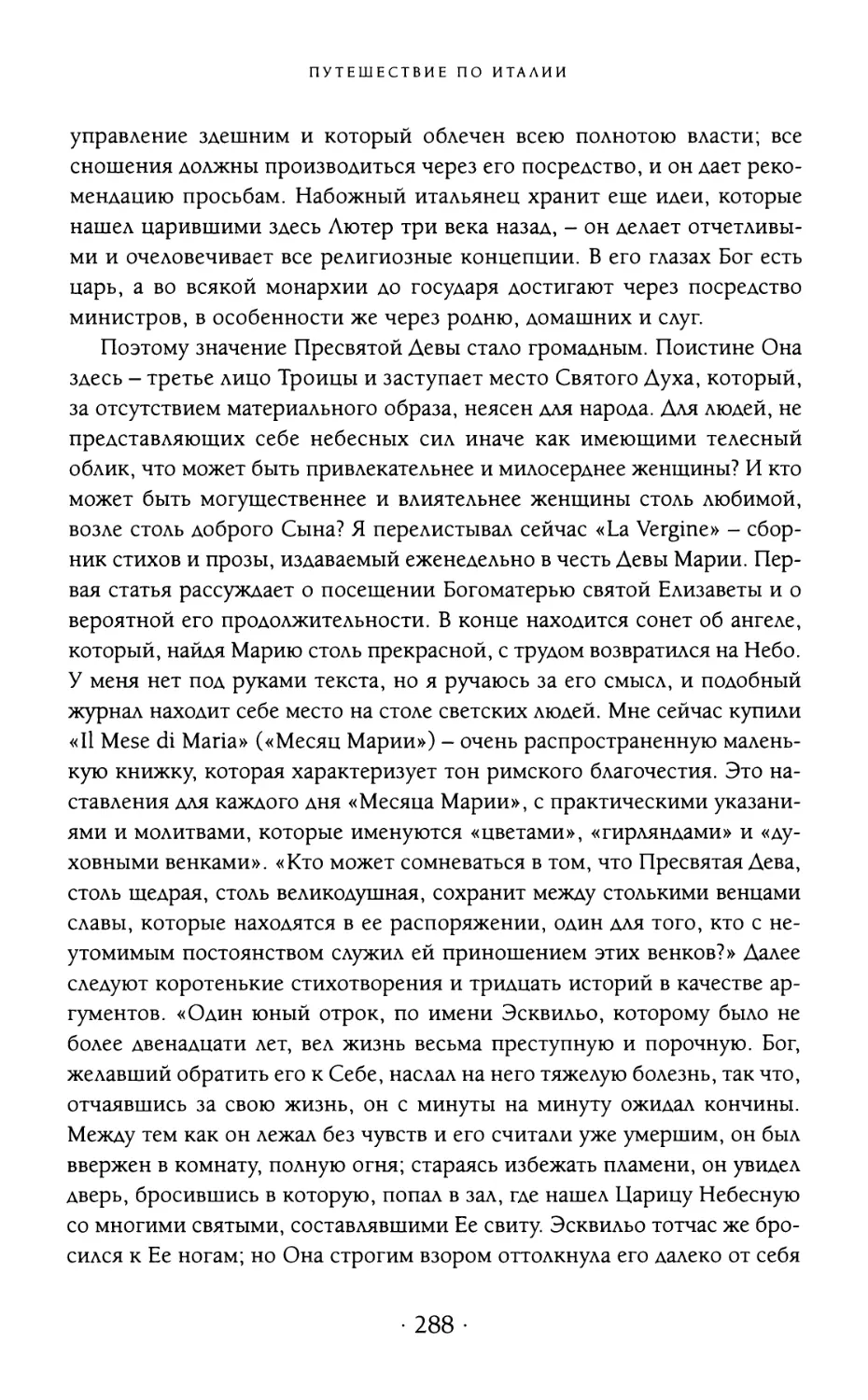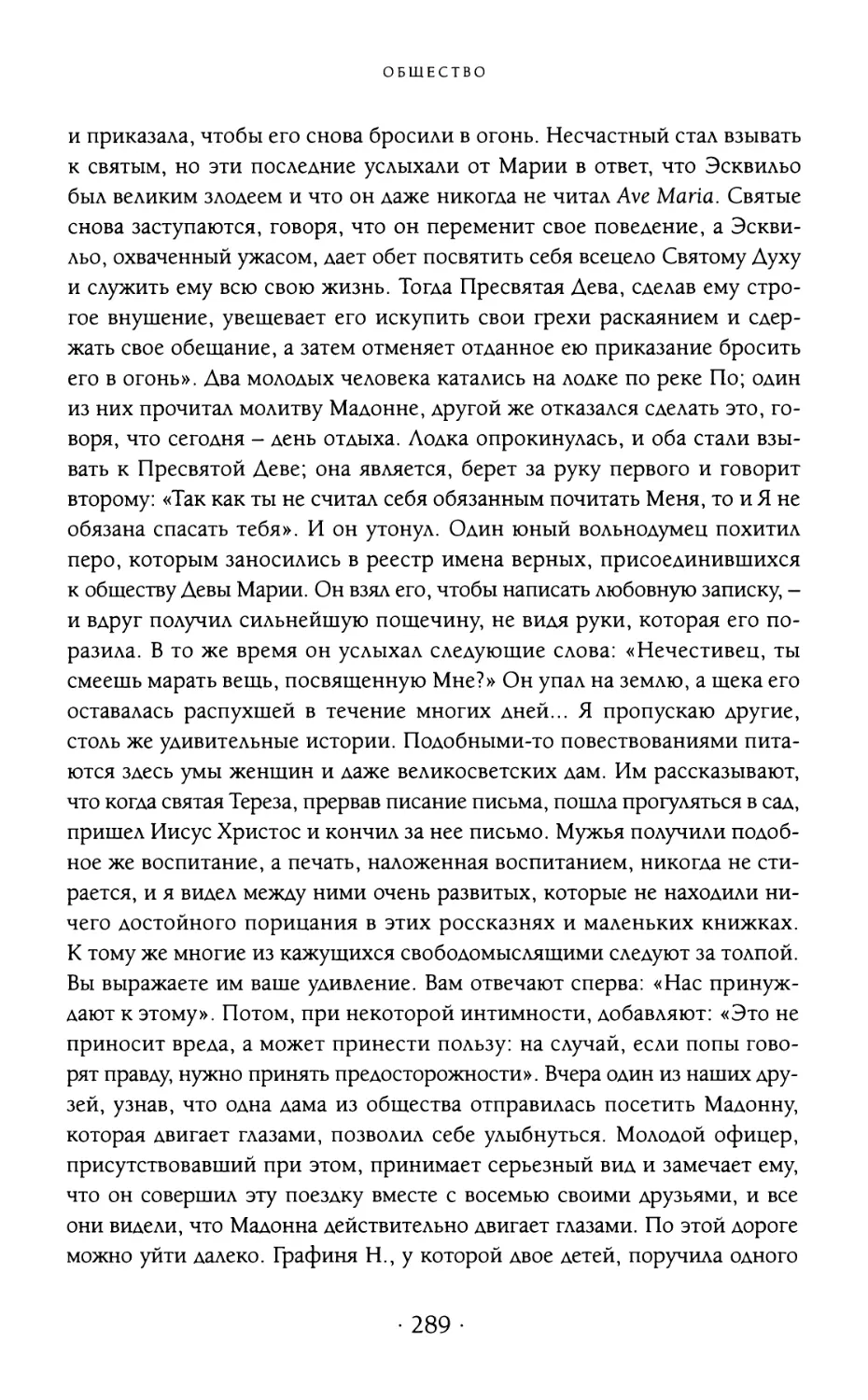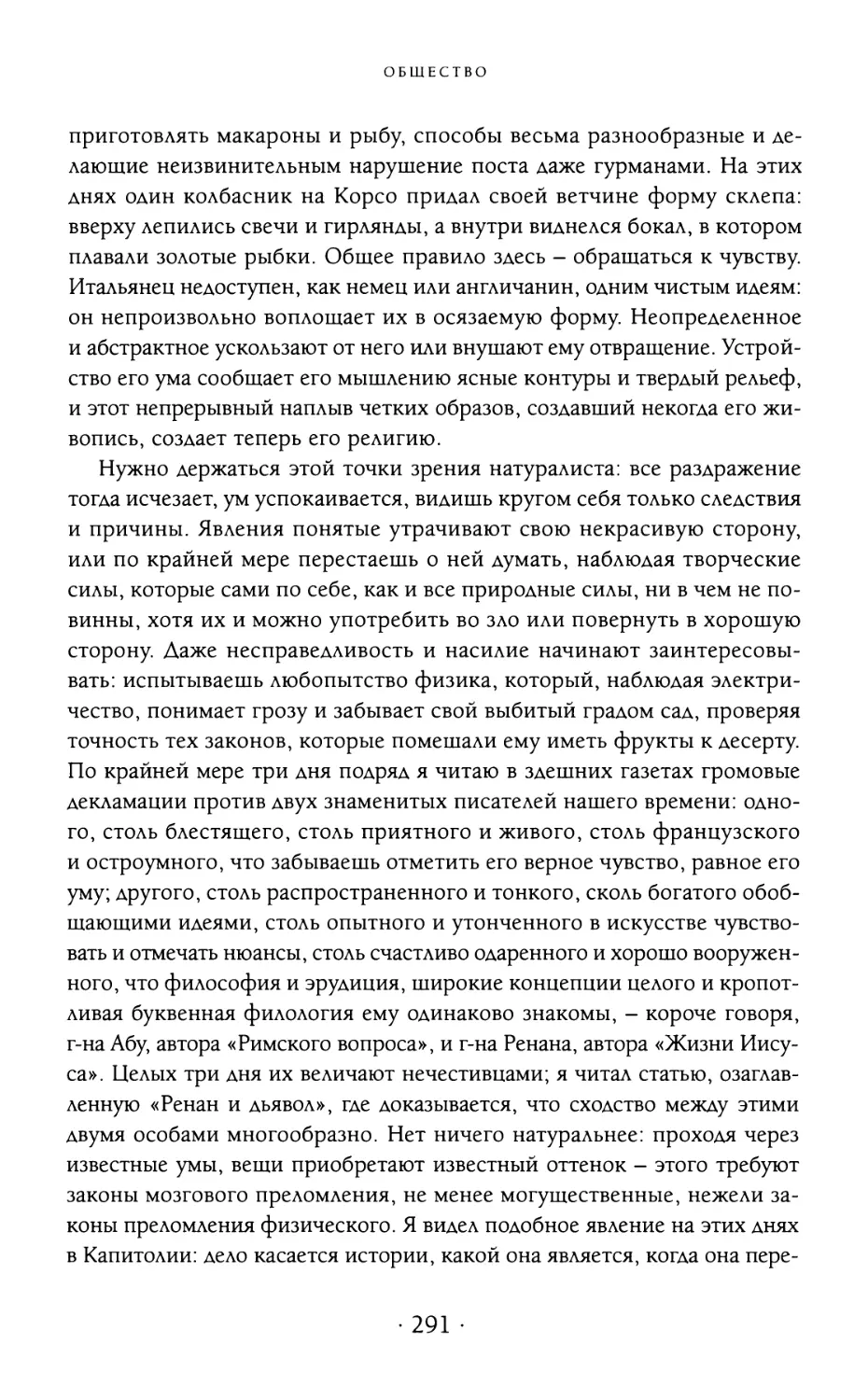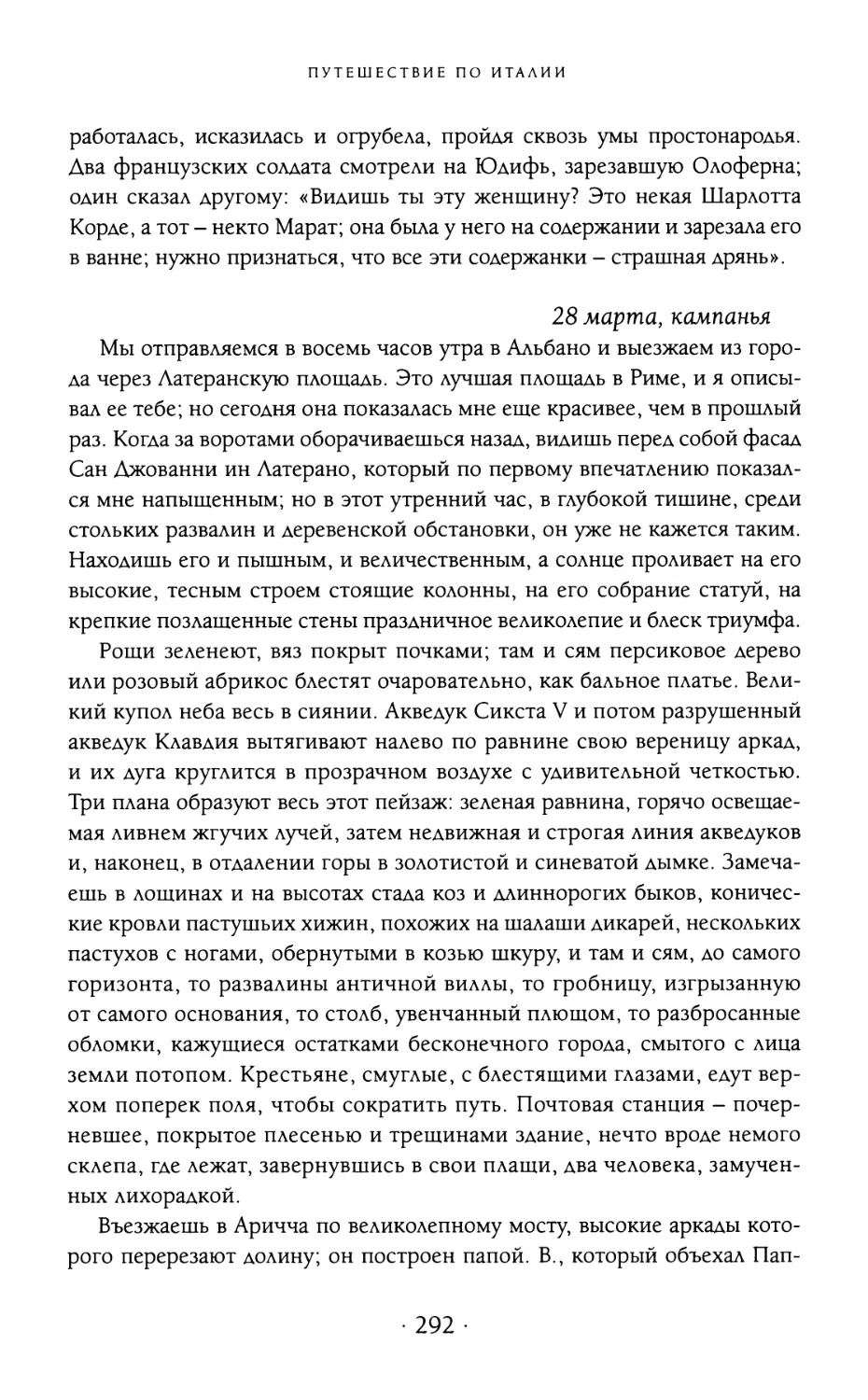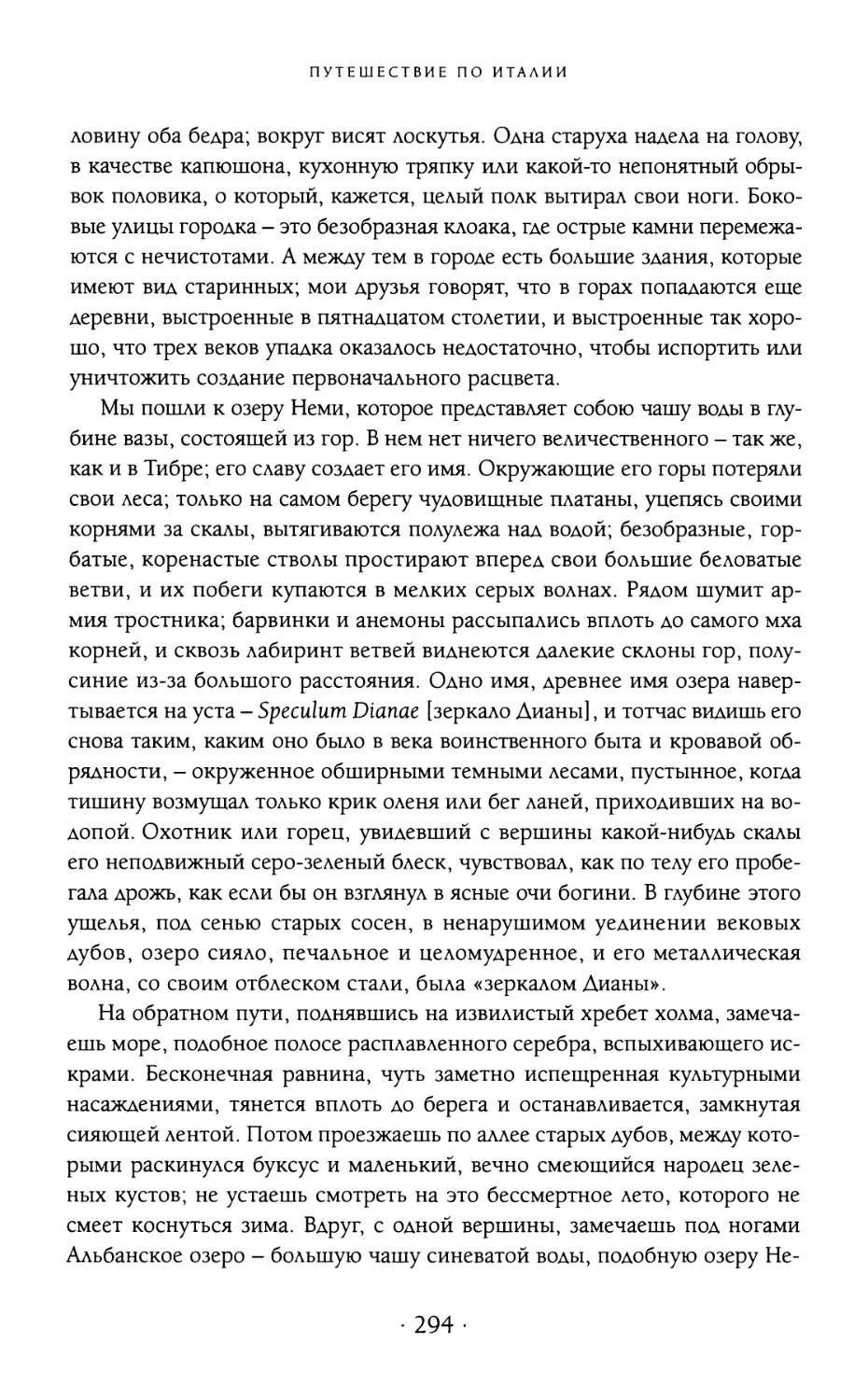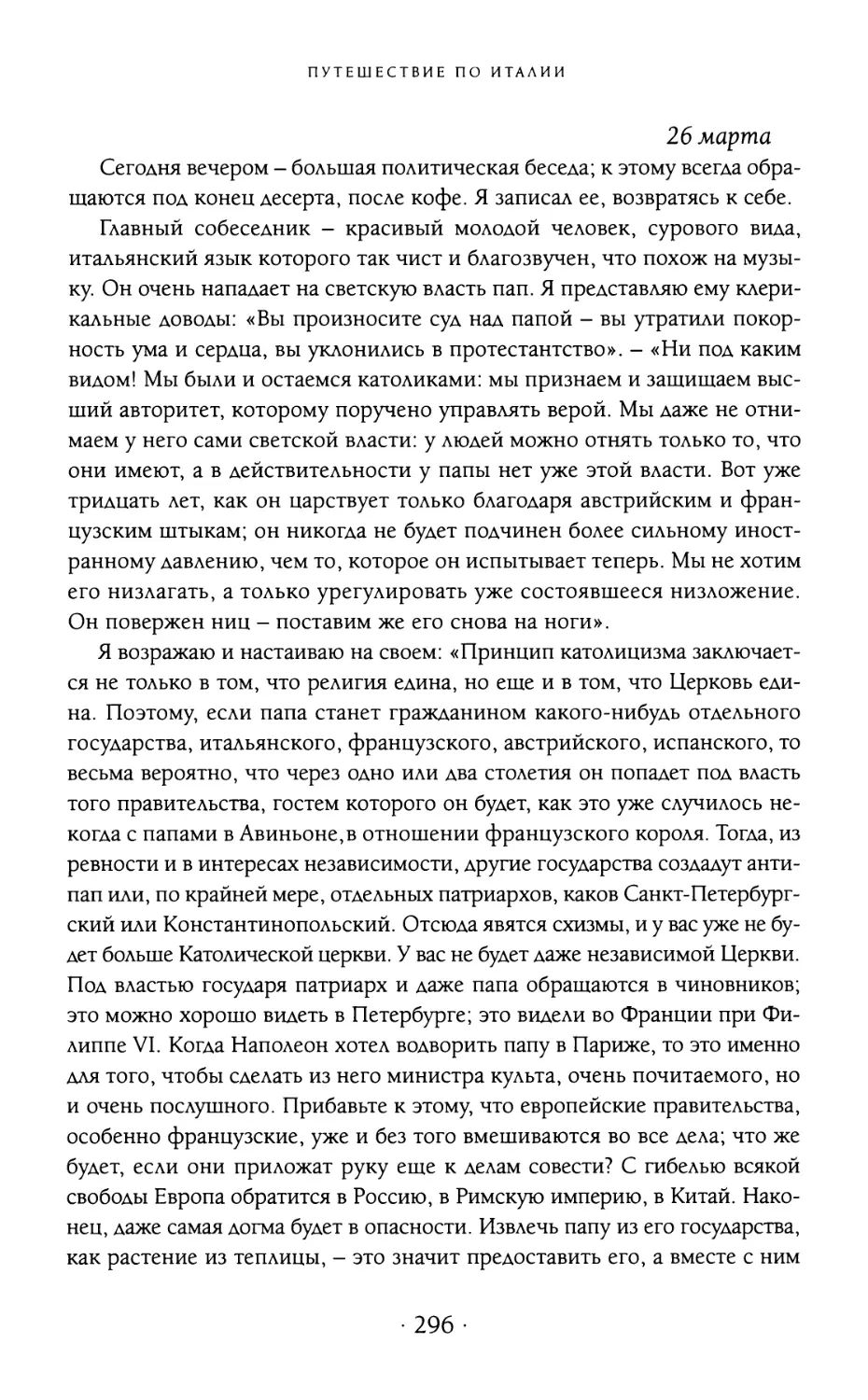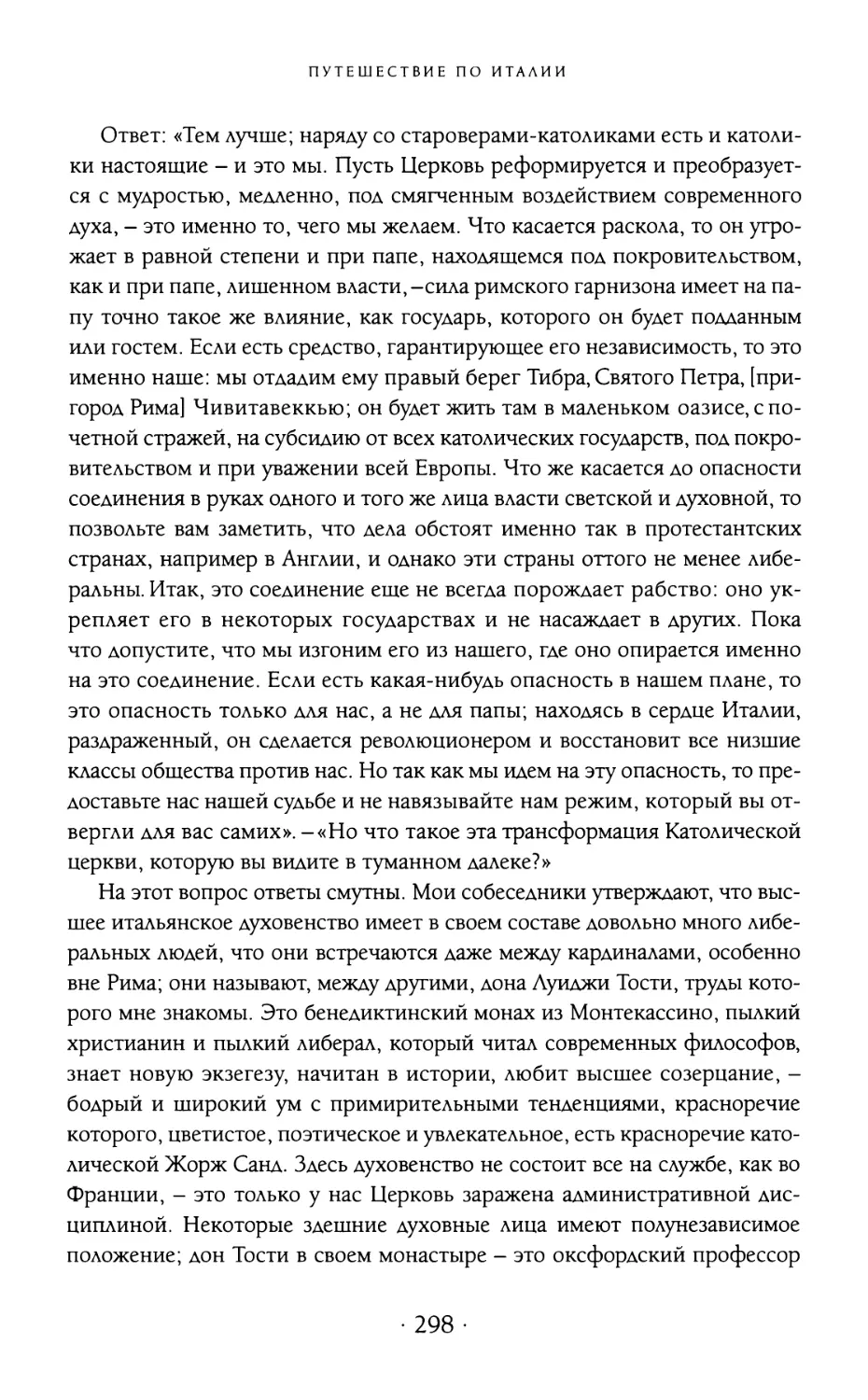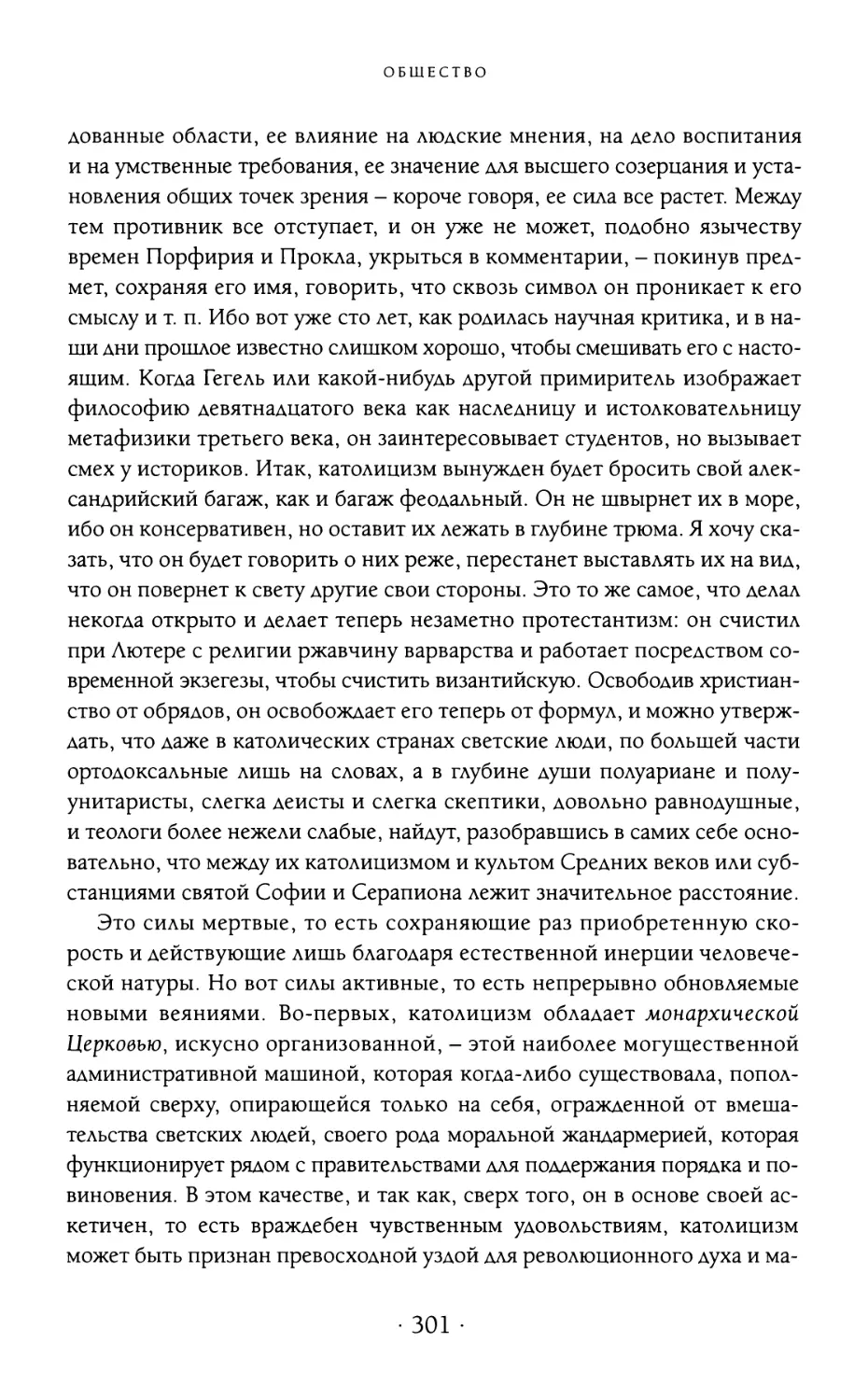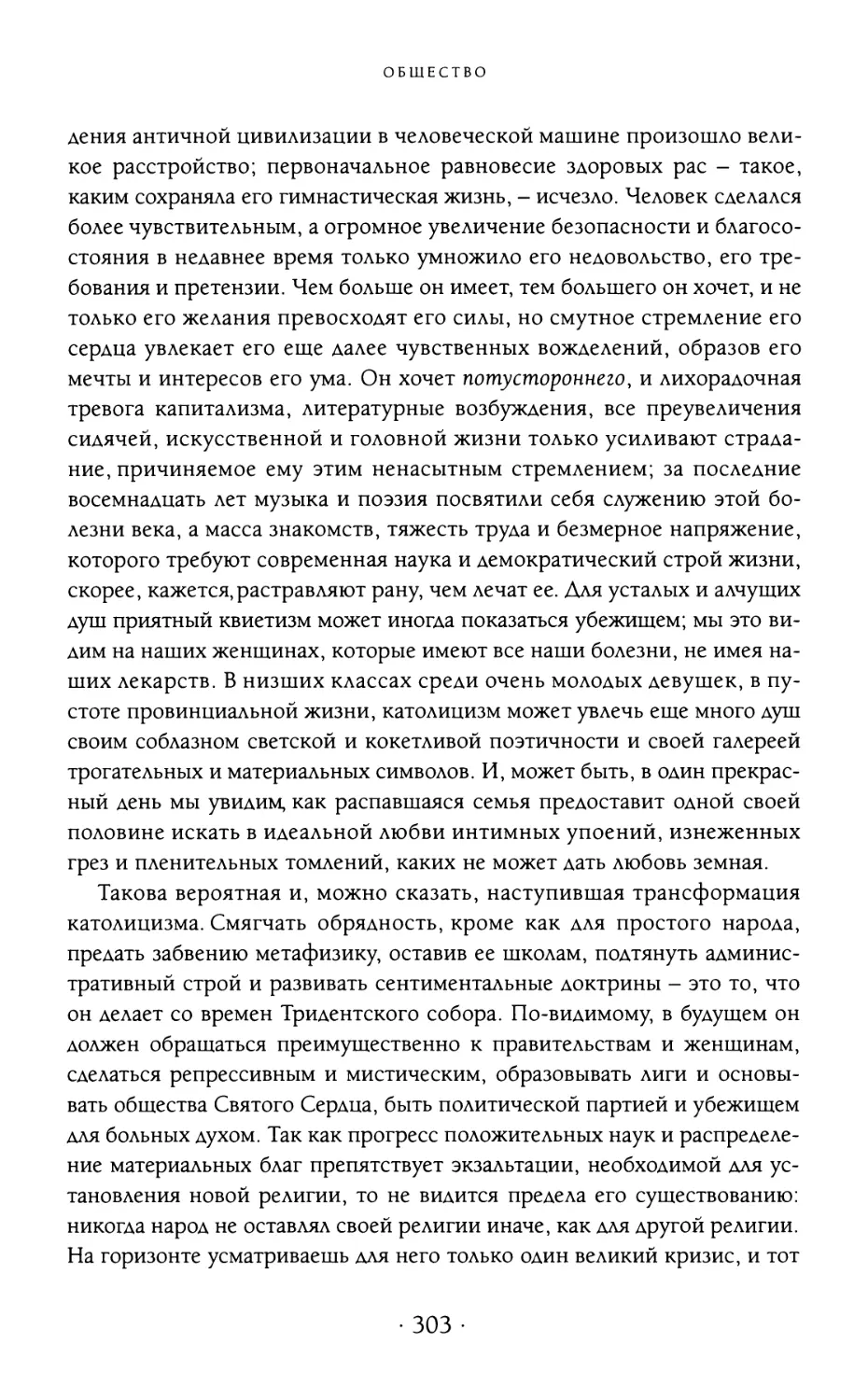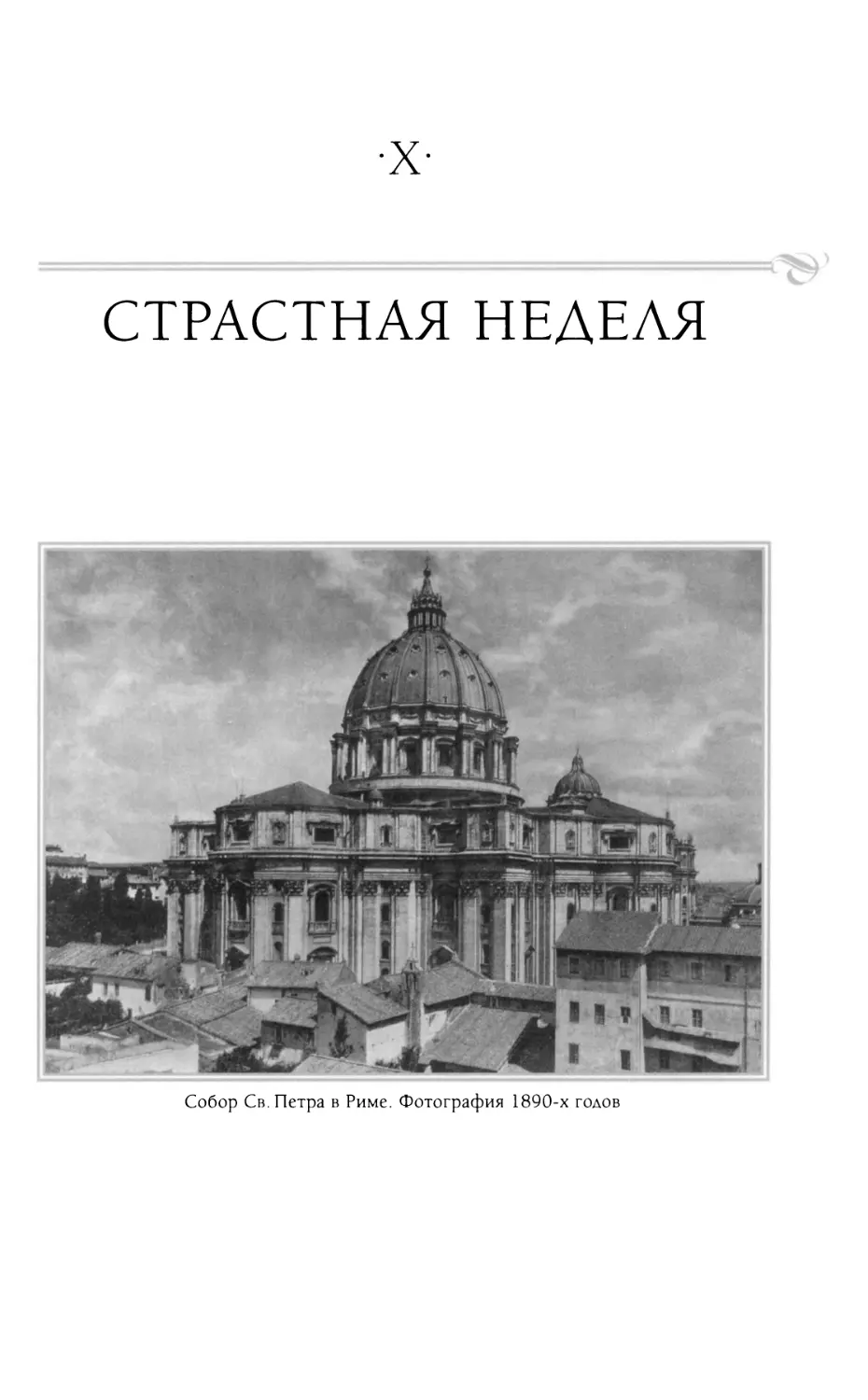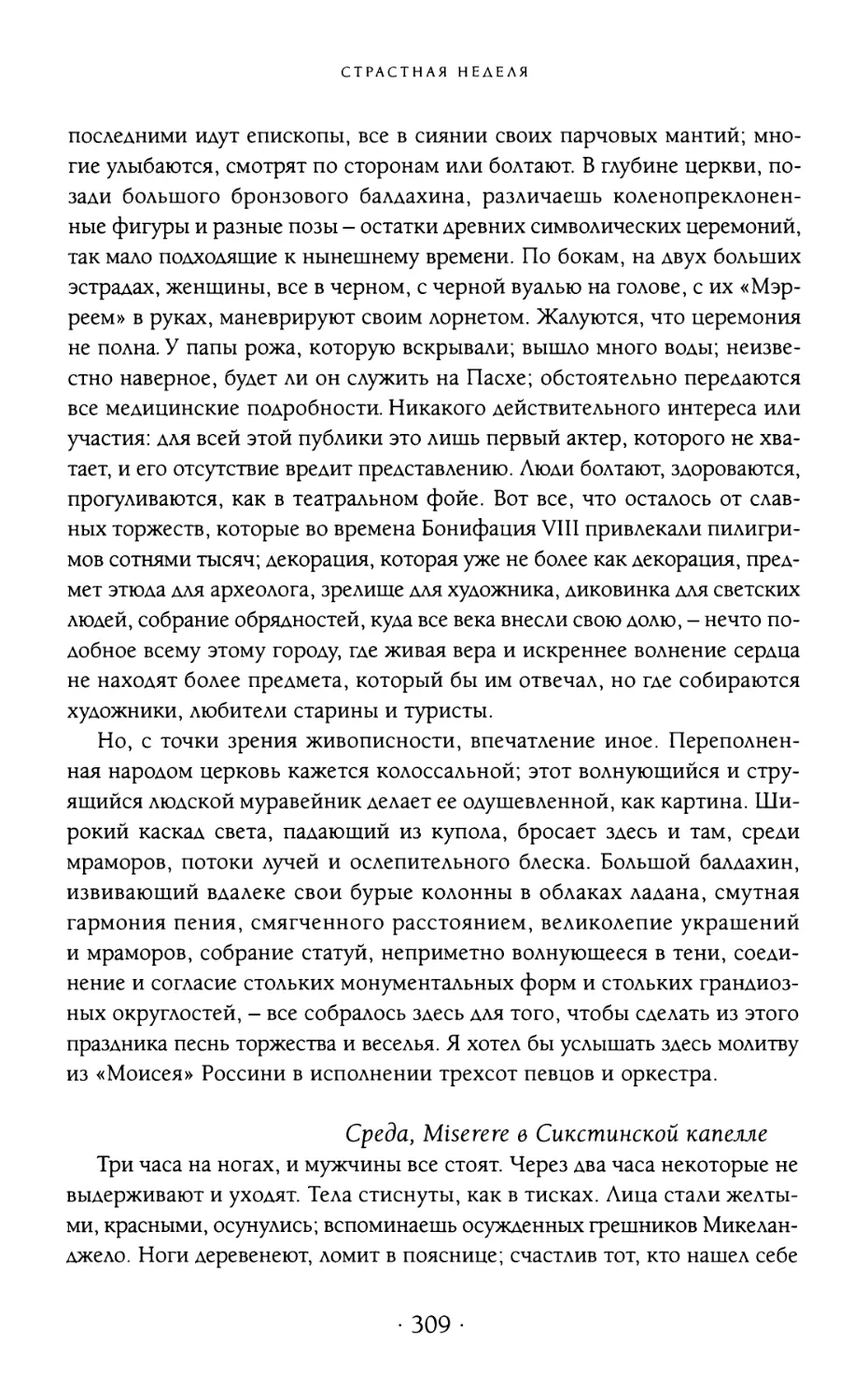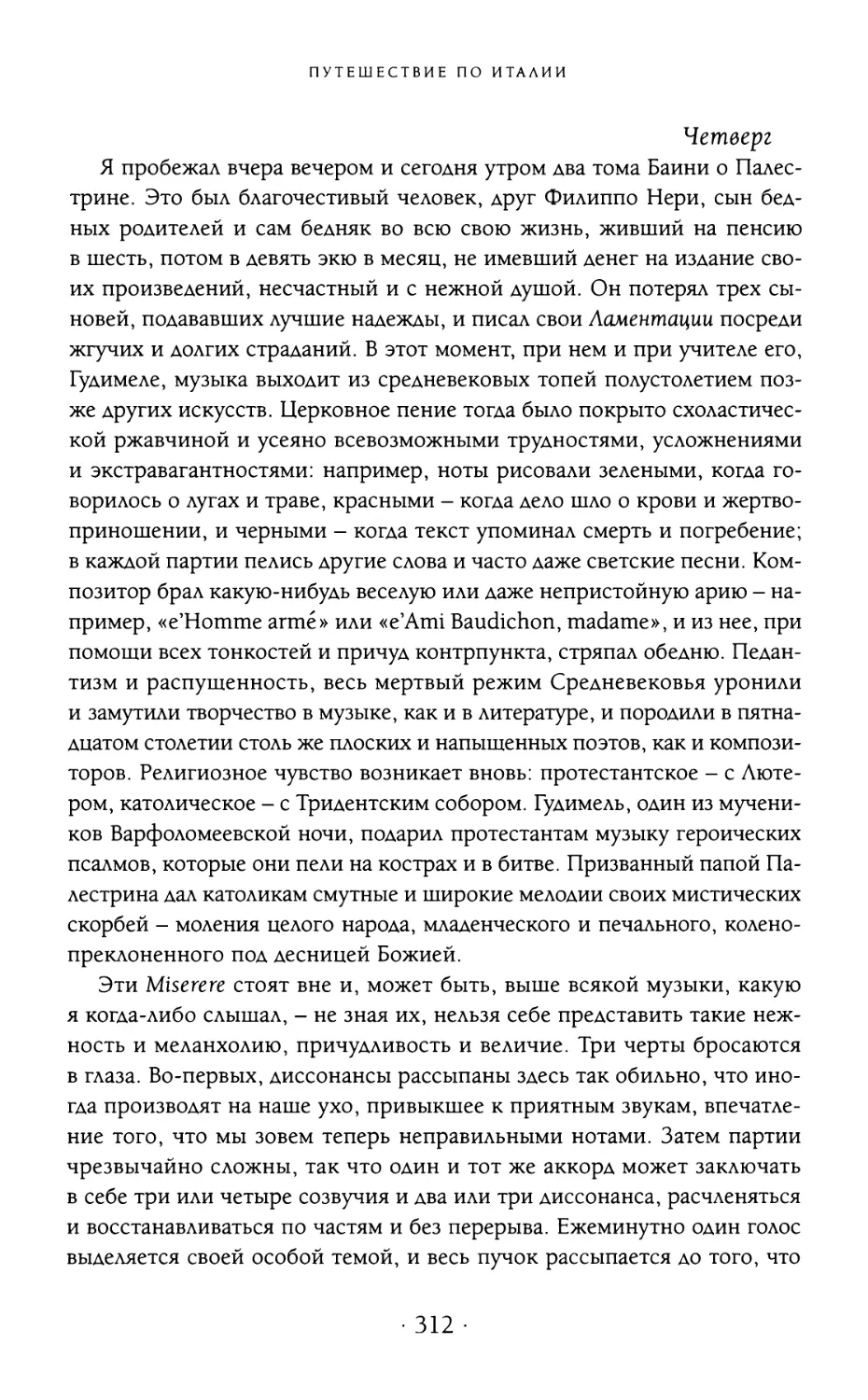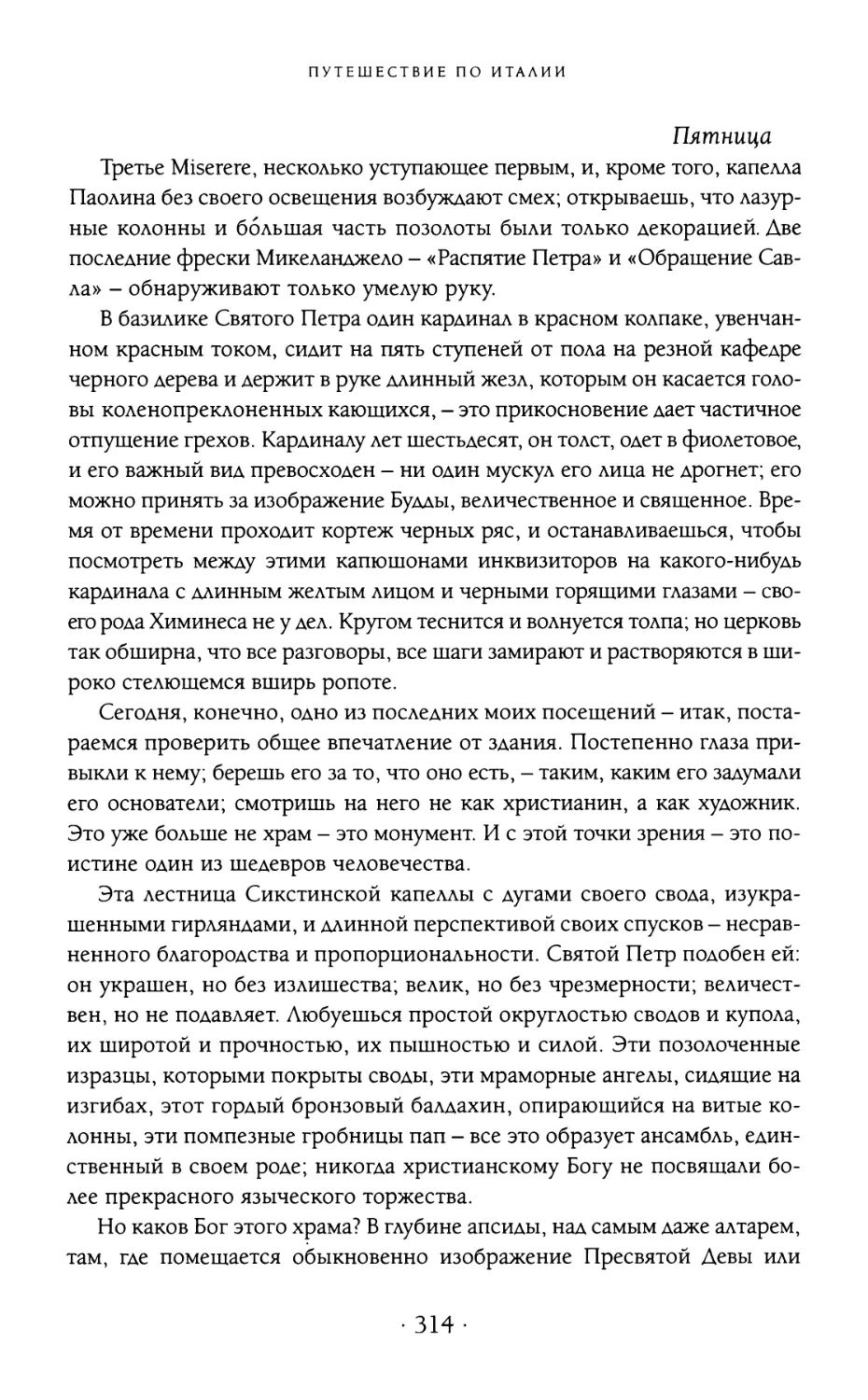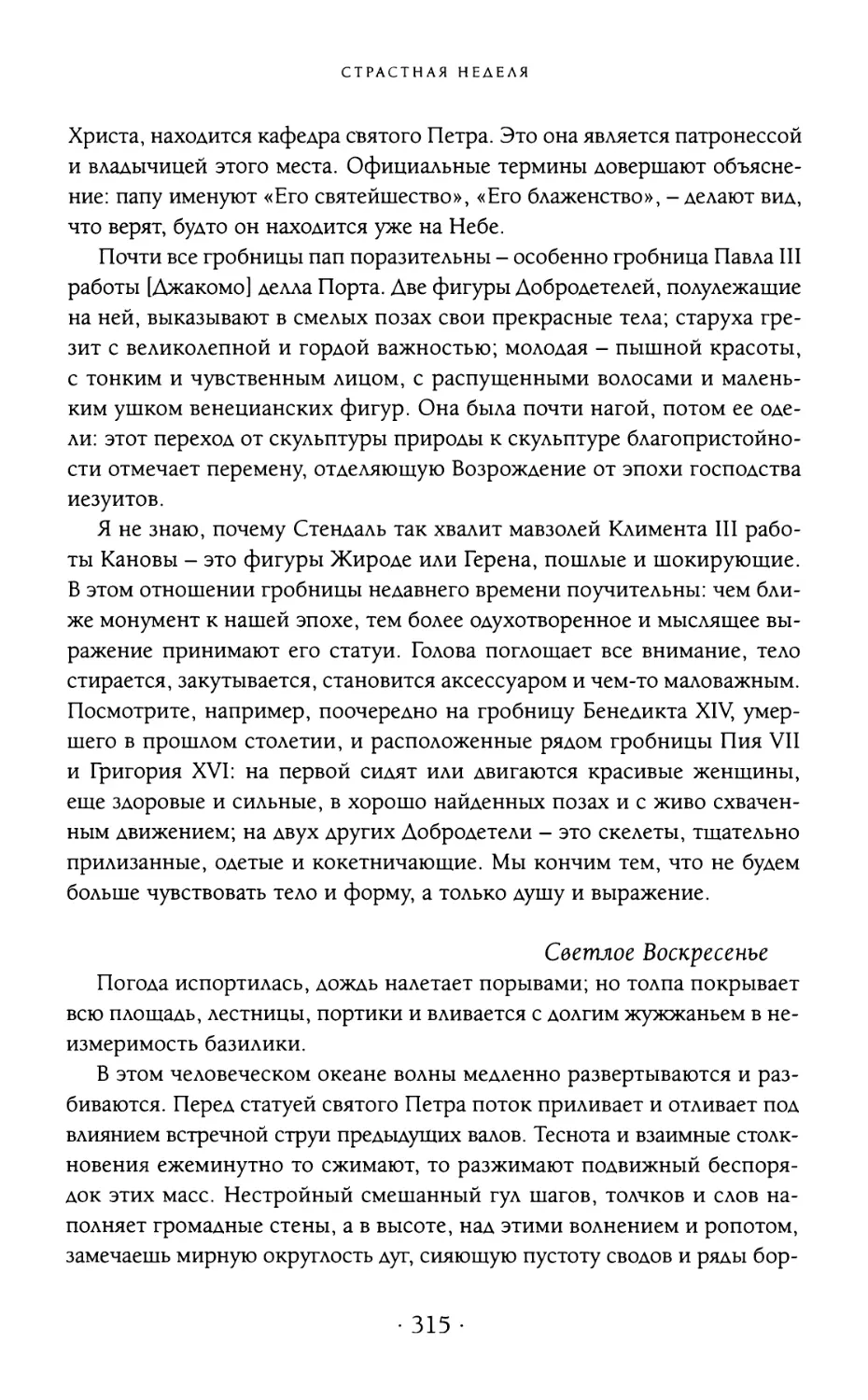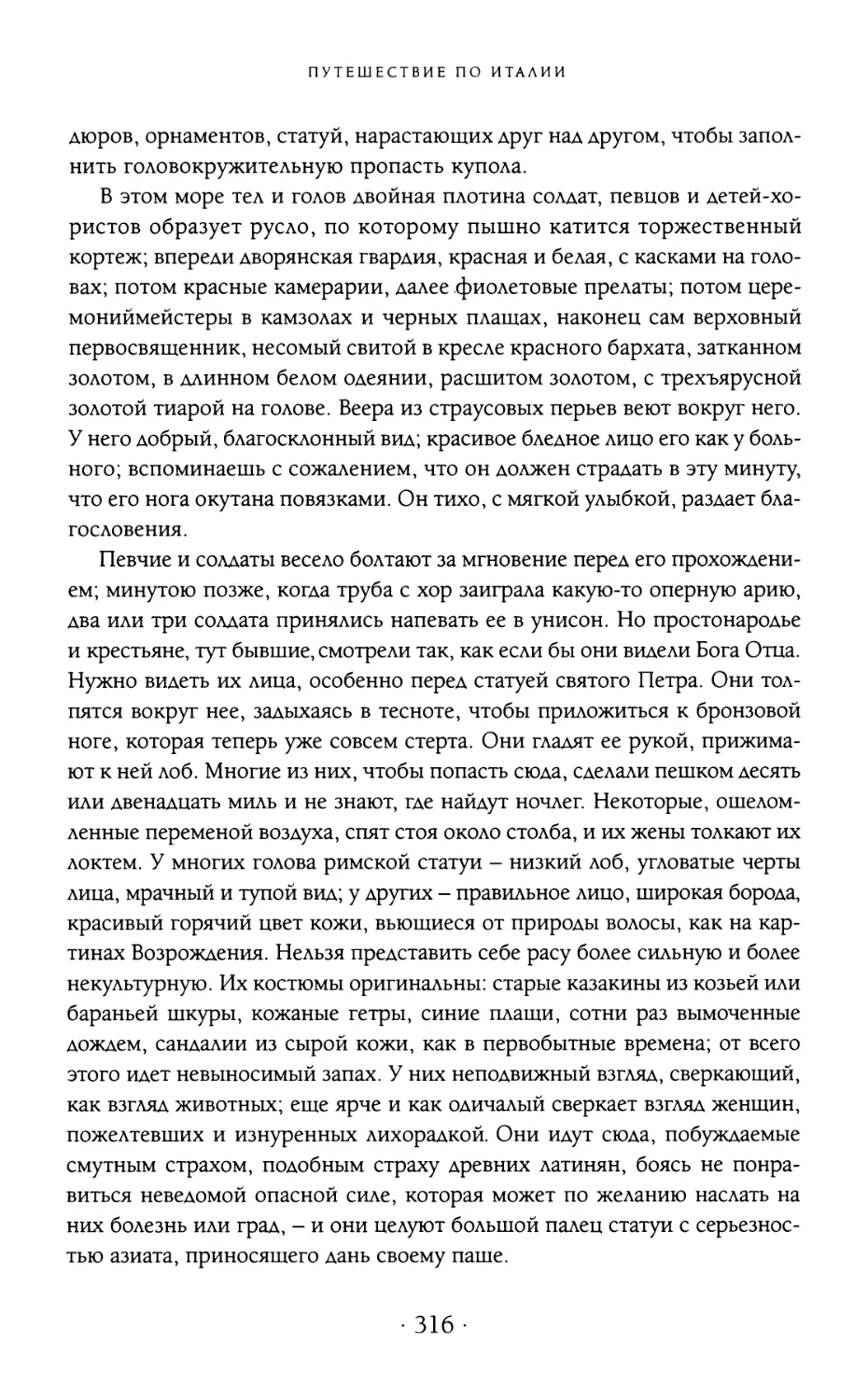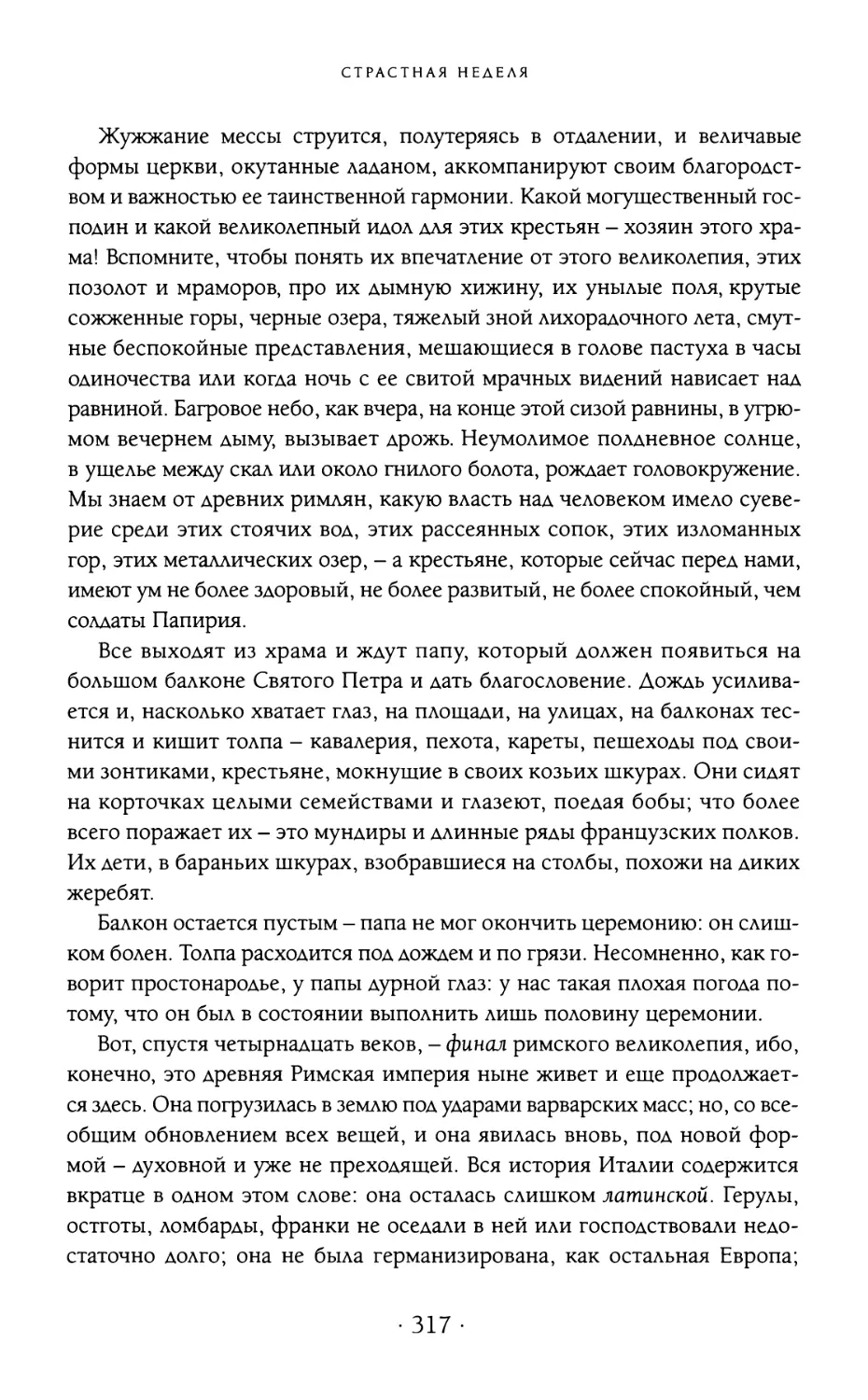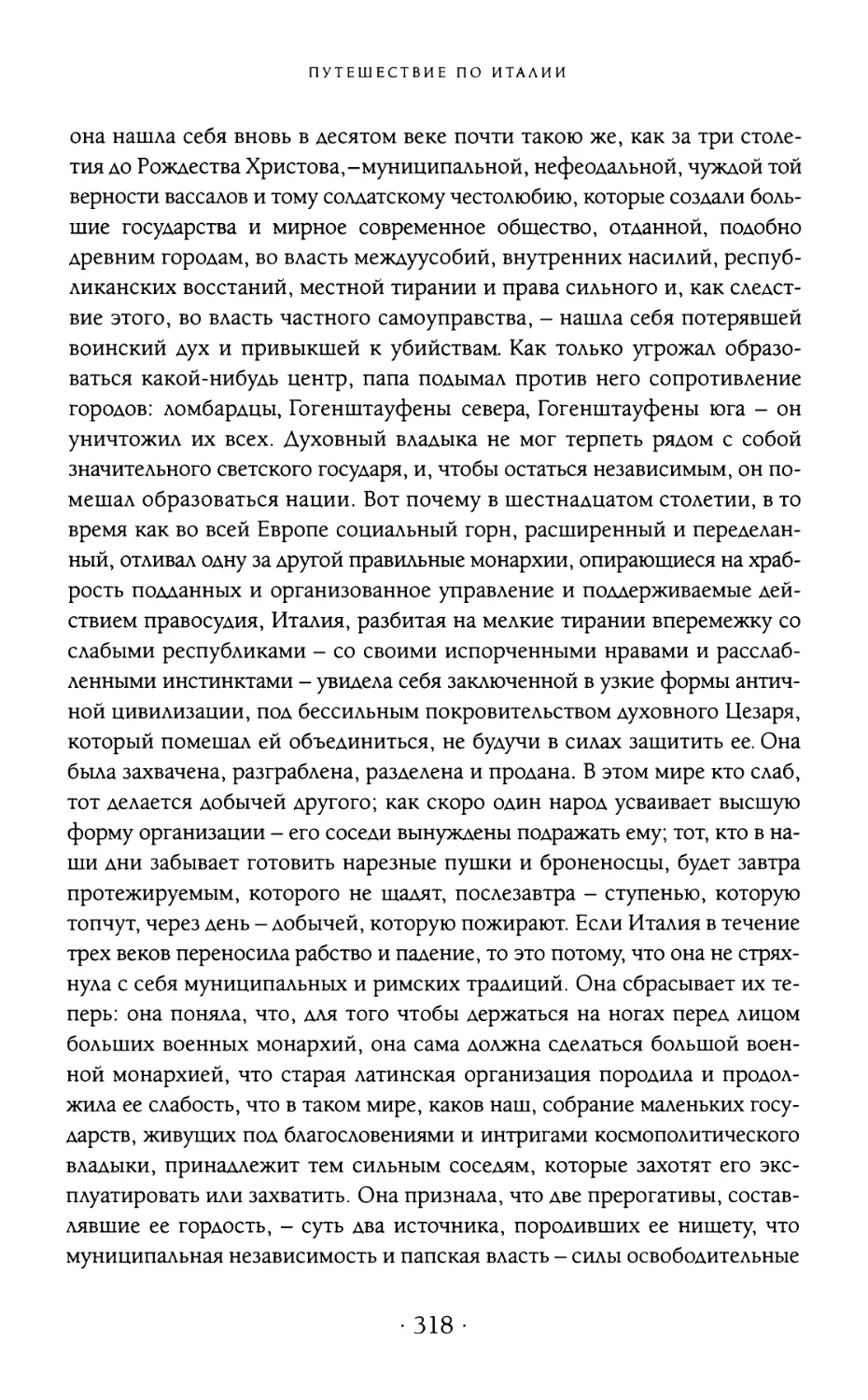Текст
ИППОЛИТ тэн
<& ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ Ä?
Колонна Траяна в Риме. Фотография 1860-х годов
ИППОЛИТ тэн
ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ИТАЛИИ
ТОМ I
НЕАПОЛЬ И РИМ
Издательство АРТ-РОЛНИК
МОСКВА 2008
УЛК 7.0
ББК85.1
Τ 96
ПУБЛИКУЕТСЯ ПО ИЗДАНИЮ:
Ипполитъ Тэнъ
ПУТЕШЕСТВ1Е ПО ИТАЛ1И
В двух томах
Томъ I
НЕАПОЛЬ И РИМЪ
Москва,
Книгоиздательство «Наука», 1913
Переводъ П.П. Перцова
Предисловие и подбор иллюстраций
В.Э. Марковой
Научные редакторы
СИ. Козлова, В.Э. Маркова
ISBN 978-5-9794-0125-6
© Издательство АРТ-РОДНИК, 2008
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВИКТОРИЯ МАРКОВА
Ипполит Тэн и его «Путешествие по Италии» 9
Ι. ΔΟΡΟΓΑ И ПРИЕЗД 21
Прованс. Море.
Чивиттавеккья. От Чивиттавеккья ло Рима.
Рим. Колизей.
Святой Петр. Ночная прогулка. Форум.
От Рима до Неаполя. Типы.
II. НЕАПОЛЬ 43
Климат и пейзаж.
Вилла Реале. Улицы. Типы.
Церкви. Монастырь Сан Мартино
Поццуоли и Байя.
Кастелламаре и Сорренто.
Гомерический быт.
Геркуланум и Помпеи. Античный город и античная жизнь.
Неаполитанский музей. Живопись, статуи, античные нравы
и религия.
Картины. Шестнадцатое столетие.
Современные нравы. Политика, наука и религия.
Сан Карло и Сан Карлино. Типы и характеры.
III. ОТ НЕАПОЛЯ ΔΟ РИМА 95
Капуя. Пейзажи. Монтекассино.
• 5 ·
ОГЛАВЛЕНИЕ
IV РИМ 103
Рим. Общее впечатление. Месса в Сикстинской капелле. Римские
улицы.
V АНТИЧНЫЙ МИР 113
Капитолий. Нагота у греков и гимнастическое воспитание.
Моральные различия, выраженные и порожденные изменением
костюма. Бюсты. Картины. Форум.
Ватикан. Идеал человека в античном мире. Мелеагр,
Аполлон, Ааокоон, Меркурий. Берег Тибра.
Пантеон. Термы Каракаллы. Императорский Рим.
VI. ЖИВОПИСЬ 141
Рафаэль. Первое впечатление.Различие живописи станковой и
настенной. Трансформация человеческого познания от
шестнадцатого к девятнадцатому столетию. Нагое или задрапированное тело
есть главный предмет искусства в шестнадцатом столетии.
Воспитание и характер Рафаэля.
Второе впечатление. «Мадонна ди Фолиньо». «Положение во гроб».
Ватиканские комнаты. Сивиллы. Фарнезина.
Ватиканский музей. Капитолийский музей. Академия Святого Луки.
Микеланджело. Нравы эпохи Возрождения. Физическая жизнь
и художественная помпа. Ум был полон тогда не идей, а образов.
Жизнь и характер Микеланджело. Сикстинская капелла.
«Страшный суд».
VII. ВИЛЛЫ И ДВОРЦЫ 187
Итальянский вельможа семнадцатого столетия. Нравы дворцов
и приемных. Вилла Альбани. Вилла Боргезе. Вилла Людовизи.
Статуи. «Аврора» Гверчино. Пейзажи.
Непотизм в семнадцатом столетии. Декаданс восемнадцатого
столетия. Дворцы теперь. Дворец Фарнезе. Дворцы и галереи Шиар-
ра, Дориа, Боргезе, Барберини, Роспильози. Художники
шестнадцатого и художники семнадцатого столетия.
VIII. ЦЕРКВИ 219
Характер римских церквей. Средневековое благочестие и
отношение к религии в шестнадцатом веке. Трансформация католицизма
• 6 ·
ОГЛАВЛЕНИЕ
после Возрождения. Иль Джезу. Дух, идеология ордена иезуитов.
Вкус семнадцатого столетия.
Санта Мария дель Пополо. Церковь капуцинов. Санта Мария дельи
Анджели. Церковь картезианцев. Реликвии. Санта Мария делла
Виттория. «Святая Тереза» Бернини. Набожность и любовь в
семнадцатом веке. Квиринальские сады.
Прогулки. Санта Мария Маджоре. Сан Ажованни ин Латерано.
Пейзажи.
Римские улицы. Санта Мария ин Трастевере. Сан Клементе. Сан
Франческо а Рипа.
IX. ОБЩЕСТВО 251
Буржуазия. Нравы. Любовь.
Дворянство. Салоны. Праздность.
Римская кампанья. Вилла папы Юлия III. Порта Прима.
Фраскати. Тускулум. Вилла Альдобрандини. Гроттаферрата. Народ.
Администрация. Образ мыслей.
Правительство. Его опоры. Его стремления.
Религия. «Lunitàcattolica». Маленькие книжки. Обрядность.
Страна. Ариччия. Дженцано. Альбано. Пейзажи.
Состояние умов. Предположения о будущности католицизма.
X. СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ 305
Вербное воскресенье. Святой Петр. «Miserere» в Сикстинской
капелле. Палестрина. Капелла Паолина.
Страстная пятница. Папство в храме Святого Петра. Гробницы пап.
Светлое Воскресенье. Церемонии. Папа. Присутствующие.
Крестьяне.
Прошедшее и будущее Италии.
Ипполит Тэн
и его
«Путешествие по Италии»
Опубликованное в Париже в 1866 году «Путешествие по Италии»,
пожалуй, самая известная из книг Ипполита Тэна (1828-1893).
В своем жанре она давно признана классической, а сам автор -
классиком, чьи работы заложили основы современной науки об искусстве.
Выходец из протестантской семьи, Тэн родился на севере Франции,
в местечке Вузье, расположенном неподалеку от границы с Германией.
Его отец, адвокат по профессии, дал сыну превосходное образование: он
окончил Бурбонский колледж, а затем продолжил обучение в Эколь
Нормаль в Париже. Круг рано определившихся интересов будущего
ученого был весьма широк и охватывал сферу литературы, философии,
истории. Докторская диссертация, защищенная в Сорбоннском
университете, была посвящена басням Лафонтена. С годами внимание Тэна
все больше привлекает сфера изобразительного искусства. Этой теме
он посвятил цикл лекций, прочитанных в Парижской Школе изящных
искусств (Академии искусств). Обладая истинно научным складом ума,
Ипполит Тэн в своих работах обнаружил стремление к глубокому
анализу явлений и четкой систематизации фактов. Он повторял, что
«факты и явления - единственные элементы нашего знания». На них он
опирался, всячески избегая произвольности суждений, и, даже оперируя
отвлеченными понятиями, неизменно исходил из конкретного. В его
ранних научных трудах, с присущей им сложностью теоретических
построений, нельзя не заметить влияния немецкой философской мысли.
При этом, однако, сам Тэн настаивал на том, что склад его ума
«французский и латинский».
За годы преподавания в Школе изящных искусств окончательно
сложился метод ученого, видевшего свою задачу в рассмотрении пласти-
■9 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ческих искусств в общем потоке истории и культуры, стремившегося
отыскать связь и единство мира духовного и естественных законов
природы. Один из его основополагающих принципов нашел отражение
в теории так называемых трех сил - расы, среды, исторического
момента, игравших ключевую роль в истолковании художественных
явлений. В своем законченном виде метод автора оформился к 1860-м
годам. Помимо теории «трех сил», дающей объяснение происхождения и
причин возникновения тех или иных явлений, он включал также
теорию «господствующей способности», суть которой - в классификации
и оценке явлений. Как раз к этому периоду и относится его двухтомное
«Путешествие по Италии». Еще не достигнув сорокалетнего возраста,
Тэн уже обладал необходимой творческой зрелостью, но вместе с тем
не утратил и присущей молодости остроты и свежести восприятия
окружающего мира.
Сам жанр книги предоставлял ее автору редкую возможность
применения своего научного метода, естественным образом связав воедино
описание природы Италии, истории ее народа, его нравов и традиций,
религии, культуры и изобразительного искусства с жизнью
современного общества со всеми обуревавшими его в тот период политическими
страстями. Органичность подхода в данном случае заключалась в том, что
речь шла о различных сторонах жизни одной страны. Автор ясно
формулирует свой подход, говоря, что «вкус и дух народа принимает форму
пейзажа и климата», а «искусство есть резюме жизни». Теория «трех сил»
самым естественным образом соотносится с жанром книги, в которой
путешествующий по стране автор делится своими впечатлениями об
увиденном и пережитом.
В применении к Италии такой методологический подход доказал
свою несомненную плодотворность. Автор анализирует и наглядно
показывает читателю органичность и внутреннюю взаимосвязь всех
составляющих культурного феномена этой страны. Особенно
убедительно это видно на примере Рима и Венеции, где все грани жизни тесно
переплетены и составляют неразрывное целое. Творения искусства
словно вырастают из самой жизни - природы, человеческого типа, истории.
И подобный взгляд на Италию не только не утратил своей актуальности
и в наши дни, но во многом продолжает служить ключом к ее
истинному пониманию.
Но было и нечто более значимое для Тэна, чем даже само искусство,
воплощенное в великих творениях прошлого. Это история, чью могучую
• 10·
ПРЕДИСЛОВИЕ
поступь он умел слушать, обладая при этом редким даром ее слышать.
И потому осмотр древних памятников зачастую служит автору лишь
поводом погрузиться в иную эпоху. История, течение которой Тэн
понимал весьма глубоко, позволяла ему достичь внутренней
значимости повествования, где каждый конкретный факт обретал особую
рельефность. В то же время присущее Тэну чувство истории,
постоянно перетекающей из прошлого в настоящее и вновь возвращающейся
к своим изначальным истокам, позволяло ему сохранить целостность
повествования. Взгляд на историю и искусство как ее зримое,
осязаемое воплощение, определяет принцип естественности. «Луша или
разум испытывает большое удовольствие от вещей естественных...» -
заключает Тэн. Но в центре его внимания неизменно оставалась
личность творца, соединявшая произведение искусства с отвлеченными
идеями.
Книга состоит из двух томов; первый содержит описание
путешествия в Рим и Неаполь, второй - в города Центральной и Северной
Италии. Она построена в форме писем, обращенных к другу. Автор ведет
диалог с анонимным адресатом в Париже, и предназначенные ему
заметки служат для заполнения «антрактов», которыми так изобилует
путешествие. По признанию самого Тэна, книга не претендует на
полноту - это всего лишь «дневник, в котором не хватает многих страниц и
который носит, прежде всего, личный характер». На таком, «личном»,
взгляде на вещи автор настаивает, восклицая: «Избави нас Боже от
законию Тэна, «путешественник должен смотреть на себя как на
термометр...»; «душа и разум» - вот те инструменты, которые он везет
в Италию.
Путешествия по Италии - это особый литературный жанр,
занимающий в европейской культурной традиции весьма почетное место.
Одним из лучших памятников такого рода остается книга великого Гёте
«Итальянское путешествие ».Необходимо учесть, что произведения этого
жанра отнюдь не сводятся к простому описанию увиденных
памятников и не могут, как путеводители, служить исключительно аая
практической пользы. Полнота, объективность и точность не их цель. Это,
скорее, дневник глубоко личных переживаний. Заметим, что в европейском
сознании Италия - это не только средоточие начал европейской истории
и культуры, но и романтическое прибежище души, то место на земле,
где, погружаясь в ее неповторимую атмосферу, человеческая личность
обретает подлинную внутреннюю свободу, сбрасывая сковывающие пу-
• 11 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ты обыденности и условностей. «Только в Италии узнаешь
по-настоящему всестороннюю приятность жизни, и, возможно, именно поэтому
всем она так нужна и все туда стремятся», - говорит Тэн.
Жанр путешествий по Италии начал формироваться еще в XVIII веке,
в блестящую эпоху «Grand Tour», когда лля аристократического сословия
разных стран посещение Италии стало почти обязательным. Однако
его подлинный расцвет приходится уже на XIX столетие. Именно тогда
в Италию устремляются не только представители аристократического
сословия, но и просто образованные люди, посвятившие себя
литературному труду, искусству, музыке и движимые желанием прикоснуться
к истокам европейской культуры, проникнуться высокими
художественными идеалами прошлого. Среди французских предшественников
Ипполита Тэна следует назвать Шарля де Бросса, оставившего пространные
заметки об искусстве Италии своего времени, деловитого Монтеня, в
равной мере внимательного и к приметам окружающей жизни, и к
явлениям культуры, мечтательного романтика Шатобриана. Особое место
в этом ряду принадлежит Стендалю, «великому поклоннику итальянцев»,
как называл его сам Тэн, и наш автор нередко мысленно возвращается
к своему предшественнику, то споря с ним, то соглашаясь.
В Италию Ипполит Тэн отправился в конце зимы 1864 года, и все
путешествие заняло у него три месяца. Следует помнить о том, что
Италия, открывшаяся его взору, имеет мало общего с той, какой мы знаем
ее сегодня. Во всяком случае, на первый взгляд. Середина XIX века -
один из самых сложных аая Италии моментов ее многовековой истории.
Миновало XVIII столетие, с которым был связан последний блестящий
расцвет итальянской архитектуры, пластических искусств, музыки,
театра. Но не только творения современных художников привлекали
в XVIII веке иностранцев. За предшествующие пять столетий Италия,
неизменно сохранявшая за собой роль лидера, аккумулировала в своих
городах и музеях невиданные художественные сокровища, и XVIII век
пожинал плоды творческих усилий многих поколений, давно
сошедших с исторической сцены. И, несмотря на возвышение Парижа, Рим
в ту эпоху продолжал оставаться блестящей столицей Европы, в
салонах которой собиралось рафинированное общество из разных стран.
Все это создавало тот блестящий фасад, за которым скрывался
назревавший в течение долгого времени политический кризис, разразившийся
в XIX веке. Постепенно Италия утрачивает свое первенство и отходит
на второй план. В сфере современного изобразительного искусства она
• 12 ·
ПРЕДИСЛОВИЕ
также уступает свое традиционное лидерство и, в глазах остальной
Европы, ей уготована роль хранительницы великого наследия прошлого.
При этом соседство с памятниками искусства прошлого лишь оттеняло
картину нищеты окружающей жизни, да и сами эти памятники нередко
пребывали в состоянии запустения. Тэн не раз сетует на то, что стены
знаменитых церквей и дворцов обвалились либо покрыты плесенью,
а росписи тусклы и с трудом различимы. Все это навевало чувство
ностальгии и грусти, которое нередко присутствует у разных авторов
«путешествий по Италии» как до, так и после Тэна. Она окрашивает особым
настроением чего-то невозвратно ушедшего и хорошо знакомое нам,
русским, сочинение П.П. Муратова - одно из последних в европейской
традиции этого литературного жанра.
Однако восприятие Тэна и стиль его изложения совершенно
свободны от какого бы то ни было романтического флера. Его ясный
галльский ум без труда проникает в различные сферы, будь то искусство
или окружающая его повседневная жизнь, помогая за внешней
оболочкой вещей открыть их истинную суть. Благодаря этому Италия в книге
Тэна предстает не только как хранительница великих традиций
прошлого, но (что особенно важно!) во всем величии своего
исторического предназначения, в многогранности национальных проявлений,
в неповторимом своеобразии жизни современного ему общества.
Читатель находит в книге описание Италии середины XIX века, которая так
не похожа на Италию современную и уже давно стала достоянием
истории. Страна тогда была политически раздроблена, ее северная часть
находилась под властью австрийцев, а Папская область простиралась на
обширной территории Центральной Италии. Но страна уже стояла на
пороге создания нового государства - объединенного королевства, и его
столицей на некоторое время стала Флоренция. Это было время, когда
начал свой поход Гарибальди, а пьемонтцы, действуя политическими
методами, пытались направить течение итальянской жизни в новое
русло. В этом сложном противоборстве различных сил участвовала
вся Европа, преследуя собственные интересы и оказывая поддержку
тем или иным политическим партиям. Франция выступала на стороне
папской власти, оказывавшей всемерное противодействие процессу
объединения страны. Но, несмотря на свое происхождение, Тэн, хорошо
осведомленный о настроениях в обществе, откровенно констатирует,
что «...день ухода французов будет последним днем папского
владычества».
• 13 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Политика и вопросы религиозной жизни живейшим образом
интересуют Тэна, и в своих выводах он опирается не только на
собственные наблюдения, но и на суждения итальянцев, относящихся к разным
слоям общества. Тэн не поверхностный созерцатель, и в моменты,
когда он склонен к размышлению и глубокому анализу, ему открывается
сокровенная суть вещей, истинный характер народа, жизнь и культуру
которого он стремится постичь с присущей ему проницательностью.
Именно поэтому, несмотря на то что со времен Тэна сама итальянская
реальность разительно изменилась, иными стали ее внешние приметы,
многие из наблюдений за характером итальянцев верны и сегодня.
Тэн нередко прибегает к сравнению Италии и Северной Европы. Это
касается и характера людей, который раскрывается в самых разных
жизненных обстоятельствах, и их воззрений на политику и религию, а также
и памятников искусства. Ярким примером может служить сопоставление
римских церквей и средневековых готических соборов, атмосфера
которых, во многом сформировавшая религиозные чувства Тэна-протестанта,
была ему так близка. В подобном развитии сюжета, согласно логике
автора, заключена своя драматургия: вначале сравнение кажется не в пользу
итальянских памятников, но по мере углубления и развития анализа
неоспоримость их превосходства становится очевидной. Этот прием Тэн
использует постоянно. Переходя от мимолетного впечатления, оставленного
в душе впервые увиденным памятником архитектуры, произведением
искусства или городом, к оценкам более взвешенным, возникающим в
результате глубокого размышления о предмете, автор нередко кардинально
меняет свою позицию. В известном смысле Тэн использует этот контраст
как литературный прием, интригующий читателя и побуждающий его
к самостоятельному анализу.
Путешествие Тэна открывается дорогой в Италию и мимолетным
знакомством с Римом. На пути в Вечный город он делает остановку в Остии,
небольшом местечке на побережье, которое производит на него весьма
мрачное впечатление. Как пишет Тэн, «именно здесь жил так долго наш
бедный Стендаль, обращая свои взоры к Парижу». Первое знакомство
с Римом поверхностно; автор отмечает лишь, что город грязный и
провинциальный, а памятники грандиозны, но не более («Все, что я видел
из коляски, было отвратительно...» - замечает он по дороге в Колизей).
Но это еще не сами впечатления, а всего лишь их смутные очертания,
своего рода прелюдия. Интонации автора начинают заметно меняться
во время знакомства с Неаполем и его окрестностями. Здесь он много
• 14·
ПРЕДИСЛОВИЕ
говорит о природе и человеке, и реальные впечатления все чаще
приводят его к истокам, к мыслям об античной древности. Юг Италии более
всего располагает к подобного рода размышлениям: земля здесь
прекрасна, ее красота овеяна легендами и мифами и, кажется, сама хранит
воспоминания о великих подвигах богов и героев.
Таким образом, переполняясь чувством радости и красоты («повсюду
следы античной радости и красоты»), Тэн не только дает читателю
историческую точку отсчета, но и эмоциональный камертон, столь
необходимый для верного понимания окружающей его действительности. Он, как
никто, осознавал, что общеевропейские мерки к Италии неприменимы.
Об этом он говорит в разных местах и по-разному, но, пожалуй, в
наиболее сжатой форме это звучит так: «...основная черта аля всей Италии:
она никогда не была германской».
Возвратившись после посещения Неаполя в Рим, Тэн с головой
погружается в его атмосферу и уже не сдерживает своих восторгов. Ярким
примером может служить описание собора Святого Петра, который
поначалу представлялся ему помпезным и вовсе не располагающим к
подлинно религиозному чувству. Но, вернувшись туда спустя некоторое
время, он разражается восторженным гимном этому уникальному
сооружению и заключает: «Святой Петр - один из шедевров человечества».
Подобные смены настроений и оценок противоречивы только на
первый взгляд. На деле же здесь кроется сознательный прием, в том числе
и литературный. Обращает на себя внимание композиция книги.
Первый том открывается приездом автора в Вечный город, а завершается
отъездом в Перуджу. Практически все внимание автора здесь
поглощено Римом, и сам тон изложения отвечает масштабности этого города.
Во втором томе меняется ритм рассказа, ослабевает полемичность. Тэн
как будто настраивается на нужный лад, превращаясь во
внимательного наблюдателя. Он часто переезжает с места на место, и его
впечатления нередко напоминают калейдоскоп. Лишь Венеция по-настоящему
завораживает его, заставляя по-новому ощутить течение времени. Но,
как в сложном музыкальном произведении, внимательный читатель
найдет в книге бесконечное разнообразие оттенков эмоциональных
состояний и некую внутреннюю преемственность в развитии темы.
Путешествие Тэна - это не только путешествие в пространстве, но
и во времени. Первый том затрагивает три великие эпохи -
античность, Ренессанс, барокко, которые стали кульминационными аая
итальянского гения. Главный темой второго тома служит Средневековье,
• 15 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
время ожесточенных битв, когда формировался независимый,
индивидуалистический характер итальянцев. Редкой глубиной отличается
и анализ средневековых памятников, таких, как пизанский ансамбль
или церкви Вероны. В них поистине запечатлелось время, а потому
и сегодня они дают пищу для размышлений. Присущая Тэну ясность
подхода подкупает. Объясняя своеобразие североитальянской
архитектуры, он умеет найти простые и весьма точные слова. Невольно
приходят на память современные сочинения по истории искусства, где
даже самые пространные объяснения не всегда столь же убедительны
и доходчивы.
Одна из особенностей книги Тэна состоит в том, что автор
выступает здесь как бы в двух лицах. Первое предлагаемое читателю суждение,
звучащее весьма категорично, зачастую вовсе не его собственное, а
лишь то общепринятое и поверхностное, которое, как правило,
заготовлено у буржуазного обывателя, приехавшего в Вечный город из
Парижа, возможно более чистого и благополучного, но живущего суетой
сегодняшнего дня. Это столкновение древней культуры и современной
цивилизации еще до Тэна подметил Гоголь в своей замечательной
повести «Рим» и сделал свой выбор в пользу ценностей подлинных, а не
мнимых.
Париж в известном смысле - это сам Тэн, но не весь, а лишь его
внешний облик, его воспитание, его привычки. Однако душа его, его мысли
и воззрения формировались на иных образцах, и встреча с Италией -
своего рода кульминация его духовной жизни. Позднее, уже в начале
XX века, Муратов выразил эту формулу следующим образом:
«итальянское путешествие должно быть одним из решительных душевных опытов».
Тэна по-настоящему волнует великая история этой страны, которая
поражает необыкновенной силой традиций, сохранявшихся на
протяжении многих столетий. История служит Тэну своего рода камертоном
аая понимания современной жизни, многие события и обстоятельства
которой без знания прошлого либо непонятны, либо предстают в
искаженном свете.
Однако история не заслоняет и не отодвигает на второй план
искусство, будь то архитектурный облик городов, произведения скульптуры
и живописи. Тэн, как правило, избегает пустого эстетствования и, тонко
проникая в суть памятника, он умеет раскрыть перед читателем грани,
наиболее полно выявляющие его художественную и образную
неповторимость.
• 16·
ПРЕДИСЛОВИЕ
К наиболее блестящим и глубоким по содержанию страницам
книги французского автора следует отнести те, где речь идет о Рафаэле.
Здесь также использован прием развития суждения во времени. Мысли,
высказанные им вначале, принадлежат явно не ему, а тому самому
путешественнику-обывателю, который во времена Тэна уже вполне обжил
Италию. Если в XVIII веке это были аристократы, то в XIX их сменили
буржуа, которые принесли с собой присущее им поверхностное, а
отчасти и потребительское отношение и к жизни, и к искусству.
Постепенно намечается контраст в восприятии просвещенных знатоков и
массового зрителя (а именно такой зритель в наши дни буквально наводнил
Италию).
При своем первом знакомстве с творениями Рафаэля в Ватикане Тэн
высказывает почти банальные мысли, лишь обозначающие планку, от
которой он отталкивается, постепенно подводя читателя к пониманию
обдуманных и взвешенных суждений, отвечающих его личным взглядам.
«Вот наконец я возвращаюсь в Ватикан - и все мои впечатления
меняются: я нашел настоящую точку зрения», - искренне признается он.
Именно так рождаются строки, подкупающие своей простотой и ясностью
мысли: «Он думал формами, как мы думаем фразами»; «в сравнении
с Рафаэлем все другие художники неуравновешенны и периферийны».
Мысли Тэна вновь вернутся к Рафаэлю во время посещения Болонской
пинакотеки. Стоя перед картиной «Святая Цецилия», автор придёт к
следующему заключению: «Во всякой эволюции есть некоторый
единственный момент совершенства; Рафаэль владеет одним из таких, подобно
Фидию, Платону и Софоклу».
К кульминационным местам первого тома по праву принадлежат
и страницы, посвященные другому титану Возрождения - Микеланд-
жело и его росписям в Сикстинской капелле. Заметим, что во времена
Тэна он вновь становится общеевропейским кумиром и властителем
дум. Многие художники стремятся ему подражать. Вспомним хотя бы
соотечественника Тэна - Огюста Родена, который вынашивал
честолюбивые планы сравняться мощью своих образов с великим итальянцем.
Как сложно писать о всяком подлинно великом явлении искусства,
особенно если оно глубоко волнует воображение! Однако Тэн успешно
справляется с этой нелегкой задачей. Добрая доля иронии, присущая
французскому автору «Путешествия по Италии», а также кажущаяся
обрывочность впечатлений, позволяют ему уйти от высокого,
окрашенного пафосом стиля в описании места, освященного гением Микелан-
• 17 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
джело. Он дает читателю лишь систему намеков и, уподобляясь
живописцу XIX века, несколькими быстрыми мазками набрасывает эскиз, за
которым угадывается целое - большое монументальное полотно, имя
которому Сикстинская капелла.
Но Тэну свойственно отдаваться тому, что предстаёт его взору в
данный момент. Во время посещения Венеции его охватывает восторг перед
творениями Тициана и Тинторетто. Этим двум гигантам он посвящает
отдельные главы книги. Сетуя на то, что в Венеции осталось не так много
картин Тициана, автор, наслаждаясь красотой города, постоянно
вспоминает его неповторимые краски, мягкость переходов, неуловимое
скольжение теней. И восторженно заключает: «Нужно вернуться к лучшим
дням языческой древности, чтобы найти гения, столь хорошо
соразмерного с природой вещей... ». У Тинторетто, которого в отличие от
Тициана по-настоящему можно увидеть лишь в Венеции, Тэн выделяет
«единственное в своем роде качество - молниеносность прозрения». Однако,
проведя весь день в созерцании больших полотен мастера в Скуоле ди
Сан Рокко, Тэн разочарованно признается, что они производят
«несколько меньшее впечатление; эффект ансамбля и первого взгляда слишком
важен в глазах Тинторетто, и он подчиняет ему остальное. В этом он ниже
великих мастеров».
Тэн по натуре полемист, но с ним далеко не всегда следует
соглашаться. Да он, собственно, этого и не требует от читателя, ведь сам
избранный им жанр книги подразумевает непосредственные зарисовки, первые
беглые впечатления и наблюдения, рассуждения вслух о том или ином
предмете. Читатель Тэна - это его собеседник, он должен внимательно
следить за развитием мысли и быть готовым к внутренней полемике,
в которой оттачиваются его собственные воззрения. Временами его
характеристики и оценки настолько совпадают с общепринятыми, что в них
почти невозможно различить голос самого Тэна. Сказанное следует
отнести к некоторым страницам, посвященным творчеству Перуджино и Фра
Анджелико. При этом, однако, Тэну никогда не изменяет способность
к обобщению.
Книга Тэна дает весьма многообразное представление об Италии.
Но есть одна область, которой он не касается совершенно. Речь идет
о современной художественной жизни и работавших тогда мастерах.
Лишь однажды на ее страницах появляется имя работавшего в Италии
немецкого художника XIX века Овербека, чье творчество высоко
ценил Александр Иванов. Находясь в Ассизи и насладившись росписями
• 18·
ПРЕДИСЛОВИЕ
Лжотто, Тэн посещает церковь Санта Мария дельи Анджели,
хранящую священную реликвию - дом св. Франциска. Увидев там росписи,
выполненные известным немецким живописцем, он делает следующее
заключение: «Фрески Овербека - только подражание; чтобы остаться
готическим, он стал неумелым... Поскорее уходишь оттуда: нет ничего
более неприятного, чем деланное благочестие, - после искреннего».
И трудно не согласиться с ним, когда он говорит, что «теперешние люди
более тонки, но менее способны понимать живопись». Действительно,
способность проникать в суть живописного произведения и потребность
в этом с течением времени заметно иссякают в европейской культуре.
Но в сравнении с современниками Тэна наши современники грешат этим
куда больше.
Поездка Тэна в Италию продолжалась без малого три месяца, с 15
февраля по 10 мая 1864 года. Как и в начале книги, на ее последних
страницах мы вновь находим пространные описания природы. Небеса,
воды, горы - вот заключительные аккорды этого путешествия. Природа
располагает к мыслям о Вечности. Природа - пишет Тэн - «великая мать,
плодоносная и спокойная, которую ничто не волнует, потому что вне её
нет ничего». В ней начало и конец всего, всех великих помыслов, надежд
и человеческого тщеславия... fè?
ВИКТОРИЯ МАРКОВА
В России сочинения Ипполита Тэна стали
выходить при жизни автора, и в
дореволюционный период многие из них уже были
известны в переводе на русский язык. Для
заинтересованного читателя приводим практически
полный их перечень:
Лекции об искусстве, читанные в
Парижской школе изящных искусств в 1865 году.
Пер. В. Чуйко. СПб., 1866;
Философия искусства и об идеале в
искусстве. Пер.А.Н. Чудинова. Воронеж, 1869;
Об уме и познании. Пер. H.H. Страхова.
СПб., 1872;
Новейшая английская литература в
современных ее представителях. Пер. Д.С.Ивашин-
цова. СПб., 1876;
Тит Ливии. Критическое исследование.
Пер. А. Иванова и Е. Щепкина. М., 1885;
Бальзак. Этюд. Пер. С. Шклявера. СПб., 1894;
Французская философия первой половины
XIX века. Пер., под редакцией Е.
Банковского. СПб., 1896;
Происхождение современной Франции.
Пер., под редакцией A.B. Свырова. СПб.,
1906;
Лекции об искусстве (Философия искусства).
Живопись эпохи Возрождения в Италии.
Живопись Нидерландов. Пер. Н. Соболевского.
М., 1913. Переиздание: М., 1995. Автор вступ.
ст., примечаний, научн. ред. В.П. Головин.
·ι·
ДОРОГА И ПРИЕЗД
Г
Аппиева дорога. Фотография 1860-х годов
Г-НУ... В ПАРИЖЕ
15 февраля 1864
НАЕШЬ АИ ТЫ что-нибудь неприятнее
антрактов? Ворочаешься в своем кресле,
потягиваешься, осторожно зеваешь. Больно глазам...
В сотый раз смотришь на торчащие перед
тобой фигуры музыкантов - на первую
скрипку, которая позирует, на кларнет, который
переводит дыхание, на терпеливый контрабас,
похожий на почтовую лошадь, выпряженную
после перегона. Поворачиваешься к ложам и замечаешь поверх
декольтированных плеч большое черное пятно - огромный бинокль, который
похож на трубу и закрывает лицо. Душный, нездоровый воздух висит
над муравейником оркестра и партера. В блеске резкого освещения
различаешь множество беспокойных, гримасничающих лиц и лживых
улыбок; дурное настроение просвечивает сквозь учтивость и приличие.
Покупаешь газету, которую находишь глупой; доходишь до того, что читаешь
либретто, которое еще глупее, и в конце концов говоришь себе
втихомолку, что вечер потерян: антракт оказывается более скучным, чем пьеса
занимательной.
В путешествии бесконечное множество антрактов: это пустые часы -
табльдота, отхода ко сну, вставания; ожидание на станциях;
промежуток между двумя визитами, моменты усталости и невосприимчивости.
Во все такие минуты видишь жизнь в мрачных красках. Я не знаю
другого лекарства от них, как взять карандаш и делать заметки...
Прими это как дневник, в котором не хватает многих страниц и
который носит, прежде всего, личный характер. Когда какая-нибудь вещь
мне нравится, я не претендую, чтобы она нравилась также и тебе, - еще
менее, чтобы она нравилась другим. Избави нас Боже от законодателей
в вопросах красоты, удовольствия и впечатлений! То, что каждый
чувствует, свойственно лично ему, как его природа; то, что я испытаю, будет
зависеть от того, каков я сам.
Поэтому я должен начать с маленького признания: следует
рассмотреть устройство инструмента, прежде чем им пользоваться. По опыту
я знаю, что этот инструмент - душа или разум - испытывает большее
удовольствие от вещей естественных, нежели от созданий искусства,
ничто, как ему кажется, не может сравниться с горами, морем, с лесами
• 23 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
и реками. И во всем он следует той же склонности: в поэзии, как и в
музыке, в архитектуре и в живописи его более всего привлекает
естественное: свободный порыв человеческих сил, каковы бы они ни были и в
какой бы форме ни проявлялись. Если только художник чувствует глубоко
и страстно и думает только о том, как бы выразить свое чувство вполне -
таким, каково оно есть, без колебаний, слабости или недомолвок, - то вот
и хорошо. Если он искренен и достаточно владеет техникой, чтобы
передать полно и точно свое впечатление, то его создание прекрасно, -
старо ли оно или ново, готическое или классическое. На этой ступени
оно представляет вкратце общие чувства, господствующие страсти
той эпохи и той страны, где оно родилось, так что оно уже само есть
явление природы, - продукт великих сил, которые направляют и
переплетают между собой события человеческой жизни.
Инструмент, таким образом устроенный, практиковался в области
истории, и в особенности среди созданий литературы, а также
пластических искусств - единственных, которые благодаря осязательности своих
форм сохраняют для потомства живое тело и весь облик человека, -
среди картин и музеев Франции, Бельгии, Голландии, Англии и Германии.
Продолжая сравнение, он оказывался наиболее чувствительным прежде
всего и больше всего к проявлениям героической или дикой силы, то
есть перед гигантами Микеланджело и Рубенса, затем - к красоте
сладострастия и счастья, то есть к декоративности венецианцев; в той же
степени - или, может быть, даже более - к трагическому и мучительному
чувству правды, к напряженности скорбных видений, к смелой живописи
человеческой грязи и нищеты, к поэзии мутного северного света, то есть
к картинам Рембрандта.
Этот-то инструмент я везу сейчас в Италию; вот цвет его стекол -
считайся с их оттенком в описаниях, которые он будет давать. Я сам не
доверяю себе, и я попытался снабдить себя еще другими стеклами, чтобы
пользоваться ими при случае. Это дело вполне возможное; школа
истории и критики помогает нам в этом. Посредством размышления, чтения
и привычки удается постепенно воспроизвести в себе такие чувства,
которым первоначально был чужд; мы видим, что другой человек в другое
время должен был чувствовать иначе, чем мы; мы входим в его взгляды,
потом в его вкусы; мы становимся на его точку зрения; мы его
понимаем - и по мере того, как мы его понимаем лучше, мы находим самих
себя немного менее глупыми.
• 24·
ДОРОГА И ПРИЕЗД
Марсель и Прованс
Здесь уже настоящий юг; он начинается от Севенн. Земля на севере
всегда сыра и черновата; даже зимой луга там остаются зелеными. Здесь
все серо и бесцветно. Лысые горы, нигде нет деревьев, кроме как на
пологих склонах и в лощинах, полных мелкого камня, где укрываются
чахлые шпалеры маслин и миндаля. Не хватает красок, это - только
рисунок, тонкий, изящный, как на заднем плане картин Перуджино. Поля
похожи на большое серое полотно, однообразно расчерченное. Но
нежное бледное солнце льет дружелюбно свои лучи с лазури, слабый бриз
доходит до щек, как поцелуй; это вовсе не зима: это ожидание -
ожидание лета. И вдруг открывается великолепие юга, озеро Берра - чудесная
голубая пелена, неподвижная, как в чаше среди белых гор; потом -
море, бесконечно разверстое, великая водная стихия, сияющая, ласковая,
в переливающихся красках которой есть нежность самой
очаровательной фиалки или только что распустившегося барвинка. А вокруг -
полосатые горы, которые кажутся увенчанными славою ангельской, - так
много света держится на них, настолько это сияние, плененное в
лощинах воздухом и расстоянием, кажется их одеждой. Оранжерейный
цветок в мраморной вазе, перламутровые жилки орхидеи, бледный бархат,
окаймляющий ее лепестки, фиолетово-пурпурная пыльца, которая
дремлет в ее чашечке, не более великолепны и милы.
Вечером, на дороге, идущей вдоль моря, теплый воздух касается
лица; запах зеленеющих деревьев веет отовсюду, как благоухание лета;
прозрачная вода кажется похожей на жидкий изумруд.
Неопределенные, исчезающие в темноте формы гор и крупные очертания берега
неизменно благородны, а на самом краю неба просвет - полоса горящего
пурпура - заставляет угадывать великолепие солнца.
На корабле, в десять часов
Странен этот молчаливый порт - этот большой, черный,
мерцающий бассейн. Снасти, канаты, борозды рей - еще чернее. Три фонаря
вдалеке как звезды, и длинная полоса света, дрожащая на воде, кажется
рассыпавшимся жемчужным ожерельем. Корабль двигается медленно,
как колоссальная ящерица, как некое допотопное чудовище, которое
храпит. С обоих боков, в струях, колыхание воды вверх и вниз дает
впечатление страшного черного плавника; кажется, что видишь перепонку
чудовищной лягушки. Внизу, под собою, чувствуешь движение винта,
неутомимо сверлящего море своим буравом. Борта корабля дрожат от
■25 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
него, и до самого утра ощущается это сверление, могучее и
монотонное, точно работа какого-то плезиозавра, обращенного в рабство и
заменившего человеческий труд.
В море
Сегодня утром погода мягкая, туманная и тихая. Верхушки
маленьких волн усеяли своей белизной аспидный туман. Со всех четырех
сторон горизонта висят и дождят тяжелые тучи. Но как хороши были бы
эти волны тусклого бархата, если бы на их хребте блистало солнце!
Я видел это небо и это море в середине лета, во всем их великолепии.
Нет слов, чтобы выразить всю красоту безграничной лазури, которая
простиралась во все стороны, теряясь из глаз. Какой контраст с
опасным и мрачным Океаном! Это море было похоже на красивую,
счастливую девушку в новом платье блестящего шелка. Синева и опять
сияющая синева - вплоть до конца, до глубины, до края небес, - и там
и сям бахрома серебра на этом движущемся шелке. Снова делался
язычником, снова чувствовал пронизывающий взор, мужественную
силу, блистание великолепного солнца - великого бога воздуха. Как он
торжествовал - там, вверху! Как он бросал полными пригоршнями все
свои стрелы на необъятную пелену! Как искрились и трепетали волны
под этим огненным дождем! Приходили на память трубящие в рога
тритоны и нереиды с белокурыми распущенными волосами, с белыми
телами, омытыми пеною. Древняя религия радости и красоты
возрождалась из глубины сердца при соприкосновении с пейзажем и
климатом, которые ее породили...
Все то же небо, мягкое и печальное. Море колышется медленно -
полубагровое и полусинее, с тем оттенком темного аспида, который
встречается в глубоких каменоломнях. Иногда солнце проглядывает между
облаками - и видишь блеснувший вдалеке кусок моря.
К вечеру показываются снежные вершины и длинная кайма гор; потом,
несколько ближе, острые четкие склоны и коричневый берег Корсики.
Это величественно, потому что просто, но эта нагота бесплодна.
Невольно повторяешь стихи Гомера об «Океане бесплодном, неукротимом».
Это огромное дикое море негодно ни к чему: его нельзя приручить,
подчинить, приспособить к быту людей.
•26·
ΔΟΡΟΓΑ И ПРИЕЗД
Чивитавеккья
Корабль остановился. Внезапно в сером свете зари замечаешь
круглый мол, зубчатую линию домов, плоские красноватые крыши,
отчетливо отражающиеся на спокойной поверхности воды. Со стороны
открытого моря приближается красивый парусный корабль, полунаклонясь,
как парящая птица, - больше ничего; две-три черные линии на светлом
фоне, в белизне и свежести моря и зари. Точно марина, набросанная
карандашом великого художника.
Входишь в город, и впечатление меняется: печальный город, смесь
зловонных переулков и административных построек, которые плоски
и чопорны, как их назначение. Некоторые из этих переулков имеют
всего пять футов ширины, и дома в них опираются один на другой
посредством перекинутых через улицу контрфорсов. Солнце никогда не
попадает сюда, и грязь хлюпает. Иногда в улицу ведет старое,
средневековое строение с папертью и каким-то подобием зубцов. Входишь с
колебанием в эту щель, и с обеих сторон тянутся темные чуланы, где грязные
дети и растрепанные девчонки развешивают чулки и стараются
заштопать свои рубища. Никогда губка не проходила по стеклам этих окон
и лестницы не видели метлы; человеческая грязь пропитала и покрыла
их; терпкий солоноватый запах бьет в нос. Многие окна, кажется,
сейчас упадут; отваливающаяся лестница лепится возле покрытых
проказою стен. В поперечных улицах, среди грязи, капустных кочерыжек
и апельсиновых корок, несколько лавчонок, ниже мостовой,
приоткрыли свою пасть, и сквозь нее видны двигающиеся тени: мясник,
выставляющий кровавую говядину и четверть теленка, подвешенную к
стене; продавец фруктов с наружностью дикого головореза; громадный
грязный монах с наглым лицом, который шумно смеется, сложив руки
на своем пузе; медник, благородно задрапированный, спокойный и
гордый, как князь. Кругом много характерных фигур; некоторые -
несравненной красоты; почти все - энергичного вида, с актерскими жестами,
часто с шутовской веселостью и крайней живостью, близкой к
смешному. Наши французы с корабля, двадцать молодых солдат, выглядели
гораздо смирнее и не так напыщенно: их раса менее крепкой, но более
тонкой работы.
Здесь именно жил так долго наш бедный Стендаль, обращая свои
взоры к Парижу. «Мое несчастье, - писал он, - что здесь ничто не
возбуждает мысли: какое развлечение могу я найти среди пяти тысяч
торговцев Чивитавеккьи? Здесь нет ничего поэтического, кроме двух сотен
• 27·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
каторжников, но из них я не могу составить себе общество. У женщин
здесь только одна мысль: заставить своих мужей купить им
французскую шляпку». Здесь остался еще один друг Стендаля, археолог; в
качестве такового он считается либералом; в течение двадцати лет он не
мог получить позволения провести три часа в Риме.
Там и здесь, на улицах, на площадях, развертывается южная жизнь.
Слесаря и многочисленные сапожники работают на открытом воздухе.
Мальчишки, босиком, с выпачканной физиономией, играют в карты
под повозкой. На углу дрянной улицы, под фонарем, Мадонна,
окруженная свечами, цветами, венками, раскрашенными сердцами,
улыбается из-за своего стекла, и прохожие крестятся. Два рыбака являются
на площадь с тремя корзинами - и открывается базар; человек двадцать
с любопытством собирается кругом, точно перед каким-нибудь
зрелищем, жестикулируя и дымя трубками; обыватели уносят свою рыбу
в узелках. Несколько оборванных повес и бездельников, закутавшись в
свои черные и коричневые плащи, бродят по закоулкам, вдыхают запах
жаренья, глазеют на море. Без сомнения, вот уже десять лет, как они
спят на земле в этих самых плащах, судя по их цвету. Большой палец
ноги выглядывает сквозь дыры башмака. Панталоны переходили пять
или шесть раз через все светлые и темные оттенки от серого в черный,
от черного в коричневый, от коричневого к желтому, все более и
более в дырах и заплатах; невозможно найти предмета более сложного. Но
аая этих людей все это безразлично: они фланируют философически,
подобно созерцателям и эпикурейцам. Они отдаются жизни, они тешат
свои чувства зрелищем прекрасных вещей и праздной беседой; они
предоставляют труд простакам. При моей высадке здесь потребовался час
с четвертью, чтобы внести в реестр двадцать пять чемоданов. Из шести
чиновников двое работают; четверо остальных совещаются между собой
и глазеют по сторонам; чтобы заставить их пошевелиться, нужно выйти
из себя. Никакой очереди; чемодан проходит тем быстрее, чем грубее
его владелец кричал: «bestia!» [скотина].
Чем природа прекраснее и добрее, тем менее человек принужден
быть деятельным и заботливым. Голландец или крестьянин Шварцвальда
были бы слишком несчастны, если бы их жилище не было приятно и
чисто. Здесь же труд и дисциплина излишни: природа взяла на себя
доставить довольство и красоту.
•28·
ДОРОГА И ПРИЕЗД
От Чивитавеккъи до Рима
Дорога идет вдоль моря, которое тянется на бесконечное
пространство, совершенно гладкое, тускло-свинцовое, со слабым монотонным
шорохом; на протяжении целых миль, без перерыва, видишь его с
правой стороны, окаймляющим песок густой белой бахромой. Над
плоской равниной все еще лежит огромное покрывало теплого тумана.
Налево холмы сменяют друг друга, повышаясь и понижаясь, в
приятной окраске блеклого, как бы угасшего зеленого цвета. На них нет
настоящих деревьев, а растет дрок, можжевельник, мастиковое дерево,
утесник и другие кустарники с цепкой листвой. Все пустынно; на всем
переезде едва замечаешь изредка какую-нибудь ферму на краю лощины.
Ручейки ниспадают, извиваясь, и разливаются в лужицы; море их
отталкивает; это делает местность нездоровой, враждебной человеку. Несколько
лошадей на воле, черные быки с большими рогами пасутся на склонах;
можно подумать, что находишься в гасконских ландах. Время от времени
видишь из вагона лесок больших серых деревьев, обнаженных,
меланхолических, точно больных.
Вот наконец римская кампанья. Ничего, кроме голых холмов, без
деревьев и кустарников, с плохим ковром старых и пожелтевших трав; еще
нет акведуков - ничего, что нарушило бы мрачное однообразие. Потом -
сады и изгороди черного терновника, связанные крупным белесоватым
камышом; огородная растительность; купола на горизонте; старые
почерневшие кирпичные укрепления и бастионы; длинный, подобный
бесконечной стене акведук; Санта Мария Маджоре со своей колокольней
и двумя куполами.
На станции - снующие фиакры, галдящие кучера, комиссионеры
и гиды, которые бесцеремонно завладевают вашим багажом и вашей
особой; шумная волна причудливых фигур - англичане, немцы,
американцы, французы, русские, - все толкаются, теснятся, наводят справки,
со всеми акцентами и на всех языках. По дороге до гостиницы - вид
провинциального города, плохо ухоженного, плохо
распланированного, беспорядочного и нечистоплотного, с узкими и грязными
улицами, с какими-то конурами и лачугами, с кухнями на открытом воздухе,
с бельем, сохнущим на веревках, и несколькими высокими
монументальными зданиями, которым их окна с решетками, огромные уличные
решетки, многочисленные двойные засовы и болты придают вид
крепости или тюрьмы.
• 29 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Колизей в Риме. Фотография 1890-х голов
Рим
У меня был один день в распоряжении; я решил увидеть Колизей
и собор Святого Петра. Конечно, неразумно отмечать здесь свои первые
впечатления такими, какими они были; но раз они были, то почему бы
их и не отметить? Путешественник должен смотреть на себя, как на
термометр; и прав я или не прав, но так я делаю и буду делать.
Сперва в Колизей. Все, что я видел из коляски, было отвратительно:
зловонные переулки, расцвеченные грязным и сохнущим бельем; ветхие,
протекающие постройки, испещренные подтеками сырости, с кучами
сора, с лавчонками, со всякой дрянью, - и все это под мелким дождем.
Развалины, церкви и дворцы, которые замечаешь во время пути, - все
это великолепие старины показалось мне одеждой, расшитой два
столетия назад и обветшавшей за два столетия, то есть истертой, поблекшей,
продырявленной и полной человеческих паразитов.
Показывается Колизей - и впечатление потрясает. Это в самом деле
грандиозно; нельзя вообразить ничего грандиознее. Никого внутри,
глубокое безмолвие; ничего, кроме кусков камня, ползучих трав и время от
времени крика птиц. Отдаешься молчанию и стоишь неподвижно; глаза
поднимаются и опускаются и снова поднимаются по трем этажам сводов
•30·
ДОРОГА И ПРИЕЗД
и по огромной стене, господствующей над ними. Потом говоришь себе,
что это был цирк, который вмещал на своих ступенях сто семь тысяч
зрителей; что все это одновременно кричало, аплодировало, угрожало;
что пять тысяч зверей было убито, что десять тысяч пленников
сражалось в этом кругу, - и получаешь представление о римской жизни.
Это заставляет ненавидеть римлян; никто не злоупотреблял так
человеком; из всех европейских племен ни одно не было столь
вредоносным; нужно припомнить восточных деспотов и опустошителей, чтобы
найти нечто подобное. Вот здесь стоял чудовищный город, огромный, как
нынешний Лондон, для которого было наслаждением зрелище убийств
и страданий. В этом - своеобразная, отличительная черта римской
жизни: сперва триумф и потом цирк. Они покорили сотню народов и
находили вполне естественным эксплуатировать их.
Под властью подобного режима нервы и душа должны были дойти
до необыкновенного состояния. Никакого труда: этих людей кормило
государство; они жили в праздности, гуляли по мраморному городу,
делали массаж в банях, смотрели мимов и актеров и, чтобы развлечься,
шли созерцать смерть и раны; это зрелище увлекало их; они
проводили тут целые дни. Блаженный Августин испытал сам и описал это
ужасное очарование; все другое, в сравнении с ним, казалось пресным;
невозможно было оторваться от него. С течением времени, под влиянием
этих привычек артистов и палачей, равновесие человеческого духа
было нарушено: появились исключительные чудовища - не только
кровожадные звери или расчетливые убийцы, как в Средние века, но
любители и дилетанты - Калигулы, Коммоды, Нероны, - своего рода
болезненные изобретатели и свирепые поэты, которые, вместо того чтобы
описывать или рисовать свои фантазии, осуществляли их на практике.
Многие из современных артистических натур похожи на них, но, к
счастью, им не дано выйти за пределы исписанной бумаги. В ту эпоху, как
и в наши дни, крайности цивилизации породили крайнее душевное
напряжение и бесконечные вожделения. Можно рассматривать первые
четыре века после Христа как некоторый огромный опыт, в котором
душа человека систематически искала впечатлений чрезмерности. Все
малое казалось ей плоским.
Из центра круга гладиатор видел сто тысяч человек и опущенных
вниз пальцев, требовавших его смерти, - какое ощущение! Это
уничтожение, без жалости и пощады. Здесь античный мир нашел свое
завершение - это уже неоспоримое, безнаказанное, неисцелимое царство силы.
•31 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
И так как подобные зрелища можно было видеть по всему пространству
Римской империи, то становится понятным, что от действия такой
машины мир скоро опустел бы. Отсюда и как контраст - христианство.
Возвращаешься и смотришь снова. Красота этого здания заключается
в его простоте. Своды представляют самую естественную и прочную
дугу с простым бордюром. Здание опирается само на себя,
непоколебимое. Насколько оно совершеннее готических соборов, с их
контрфорсами, похожими на лапы краба! Римлянин считает свою мысль
достаточной: он не нуждается в ее украшении. Цирк на сто тысяч человек,
который будет стоять вечно, - этого с него довольно. Он здесь
действует, как и в своих надписях, как в своих посланиях, отбрасывая фразы.
Дело говорит за себя достаточно громко и заставляет само себя
слышать. В этом - величие Рима: действия, а не слова, некое ясное и
горделивое доверие к самому себе, спокойное высокомерие, сознание
способности сделать и выдержать больше, чем другие. Но ему всегда не хватало
чувства справедливости и гуманности - не только в древности, но ив
эпоху Возрождения и в Средние века. Римляне всегда понимали отечество
на античный лад, как замкнутый союз, пригодный аая угнетения и
эксплуатации других. Более того: в Средние века это отечество было аая
них только ареной, где каждый сильный человек старался посредством
обмана и насилия подчинить себе остальных. Не помню уже, какой
кардинал, приехав из Италии во Францию, сказал, что если признать
отличительной чертой христианства доброту, мягкость, взаимное доверие, то
итальянцы вдвое менее христиане, нежели французы. Вот возражение,
которое я всегда делал про себя, читая Стендаля, великого поклонника
итальянцев, которого я сам так почитаю. Вы расхваливаете их энергию,
их здравый смысл, их гений; вы утверждаете, вместе с Альфьери, что
растение, именуемое человеком, родится в Италии более мощным, чем где
бы то ни было; вы настаиваете на этом; это представляется вам лучшей
похвалой; вам не приходит даже на ум, что можно пожелать народу что-
нибудь другого. Но это значит брать человека изолированным, по методу
художников и натуралистов, и видеть в нем только прекрасное
животное, сильное и опасное, яркую и выразительную отдельную фигуру. Но
человек, взятый в целом, есть человек в обществе и развивающийся, - вот
почему высшая раса есть та, которая способна к общественной жизни
и к развитию. В этом смысле мягкость, социальные инстинкты, рыцарское
чувство чести, флегматический здравый смысл, суровая пуританская
совесть суть способности драгоценные и, может быть, наиболее драго-
■32 ·
ДОРОГА И ПРИЕЗД
Колизей в Риме. Фотография 1890-х годов
ценные изо всех. Это они именно создали по ту сторону Альп общество
и развитие, и недостаток именно этих способностей помешал по сю
сторону Альп обществу установиться и развитию начаться. Некоторый
инстинкт скорой покорности есть преимущество аая народа, так же как
недостаток аая отдельной личности, и, может быть, могущество
индивидуума встало в Италии поперек дороги народу.
Посередине цирка стоит крест; человек в синей одежде, маленький
буржуа, приблизился к нему среди тишины, снял шляпу, сложил свой
зеленый зонтик и с умилением поцеловал три или четыре раза подряд
крепкими поцелуями дерево креста. Поцелуем выигрывается двести дней
отпущения грехов.
Небо очистилось, и сквозь аркады видишь кругом зеленые откосы,
высокие, увенчанные кустами развалины, стволы колонн, деревья, кучи
мусора, полянку высокого белесоватого камыша, арку Константина,
стоящую напротив, - оригинальнейшее смешение запустения и культуры.
Вот это встречаешь везде, бродя по Риму: остатки памятников и клочки
садов; жаровня с картофелем под античными колоннами; у моста Гора-
•33·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ция Коклеса вонь старой трески, и на краю какого-нибудь дворца - три
сапожника, ковыряющих своим шилом, или просто куст артишока.
Позволяешь своим ногам идти и фланируешь. Никаких гидов - это
только средство ничего не видеть и быть оглушенным. Я расспрашиваю
о дороге одного обывателя, очень любезного, который вступает со мной
в беседу. Он побывал в Париже, в восторге от площади Согласия и арки
[на площади] Звезды, посетил Мабиль и сохранил об этом глубокое
воспоминание. Фотографии парижских танцовщиц и знаменитых лореток
выставлены здесь в витринах; я вижу повсюду за границей, что эти дамы
составляют нашу главную славу. Ах, какая приятная страна Франция и как
хорошо прогуливаться по Монмартрскому бульвару!
Небо вдруг сделалось ясным, воздух тепл, и мостовая суха. Из кафе,
где я завтракал, уже не помню, на какой площади, я видел штук сорок
повес, сидевших на тротуаре или опиравшихся на выступы домов и
занятых ничегонеделанием; они курили, фланировали, бросали замечания
о погоде и о прохожих. Трое или четверо в лохмотьях, которые
позволяли видеть голые колени, грязные, как старая метла, спали у стены, прямо
на камнях. С полдюжины наиболее деятельных играли в тогга, закрывая
и открывая руку и выкрикивая число загнутых или выпрямленных
пальцев. Большинство молчало и не шевелилось. Усевшись рядами на
выступах тротуара, уткнув подбородок в ладонь, спустив плащи на бедра, они
были довольны теплом, не переходящим в жару; этого с них достаточно;
иные из них, чревоугодники, жевали бобы; кроме этого движения
челюстей, они вовсе не двигались в течение доброго часа.
Вдоль всей улицы открываются окна, и женщины и девушки
показываются на балконах, чтобы подышать свежим воздухом. Невозможно
представить себе более странного контраста: они большей частью
красивы - у них смелые выразительные лица; черные глянцевитые волосы,
тщательно взбитые на висках; блестящие глаза, цветущий здоровый
вид, свежее платье, позолоченный гребень, цепочка драгоценностей, -
и все это в обстановке какого-то чулана. Штукатурка отстала от стен,
старая грязь забрызгала фасад, и по всей улице тянется ее черная
дорожка. Подходя ближе, видишь покосившийся вход, паутину, висящую
на сдвинутых засовах, лестницу, которая вьется как кишка, а внутри -
всякий домашний сор: куча белья, кастрюли на полу, дети в одних
рубашках. Это вовсе не женщины легких нравов, но аая них счастье
заключается в том, чтобы хорошо одеться и провести послеобеденный
час на балконе, как павлин на своем насесте.
•34·
ΔΟΡΟΓΑ И ПРИЕЗД
Римский форум. Вил со стороны Авентина. Фотография 1860-х годов
В конце длинной улицы открывается Святой Петр. Нет ничего более
величавого и здорового, чем красота этой огромной площади; наш
Лувр и площадь Согласия в сравнении с нею - не более как оперные
декорации. Она стелется вверх и благодаря этому открывается вся сразу.
Две пышные колоннады замыкают ее своей дугой. Обелиск посередине
и по бокам два фонтана, мечущих пенистые султаны, оживляют ее
громаду Несколько черных точек - сидящие люди, подымающиеся вверх
посетители, вереница монахов - испещряют белизну ее ступеней, и
поверх всех этих лестниц, над грудою колонн, фронтонов, статуй,
возвышается гигантский купол.
Однако было сделано все возможное, чтобы его скрыть. При
вторичном взгляде становится ясно,что фасад его убивает: это напыщенный
фасад богоугодного заведения - сооружение времен упадка. Усложняли
формы, умножали колонны, расточали статуи, наваливали камни, так
что красота исчезла под громоздкостью. Входишь - и внутри
повторяется то же впечатление. Одно остается в уме: грандиозность и
театральность. Это могущественно, но это напыщенно. Слишком много позолоты
•35 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
и статуй, дорогого мрамора, бронзы, украшений, пилястров и
медальонов. По моему мнению, всякое творение, архитектурное или иное,
должно быть как крик, как искреннее слово, крайнее и полное выражение
впечатления, - ничего более. Например, такая-то картина Тициана или
Веронезе, предназначенная быть нежащим и роскошным занятием аая
глаза во время парадного пиршества или официального приема. Или
еще лучше - внутреннее пространство настоящего готического собора,
например Страсбургского, со своим громадным темным кораблем,
пронизанным угрюмым багрянцем со своими вереницами немых столбов,
со своей погребальной криптой, тонущей в тени, со своими
лучезарными розами, которые, посреди всех этих христианских ужасов, кажутся
просветами в рай.
Напротив, нет никакого ясного и простого впечатления, которое
воплощалось бы в этой церкви: это некоторая комбинация, как и наш Лувр.
Сказали себе:«Создадим самую великолепную и самую импозантную
декорацию, какая только возможна». Браманте взял громадные своды дворца
Константина, Микеланджело - купол Пантеона, и из этих двух
языческих идей, усиливших одна другую, они извлекли христианский храм.
Эти своды, этот купол, эти могучие изгибы, вся эта внешность -
великолепны и величественны. И все же, в конце концов, есть только две
архитектуры: греческая и готическая. Все другие - лишь варианты, искажения
или преувеличения.
Люди, создавшие храм Святого Петра, были язычники, которые
боялись загробного осуждения, - вот и все. То, что в религии есть
высокого - тихое исповедание сердца перед милосердным Спасителем, ужас
совести перед праведным Судией, возвышенный и мужественный
энтузиазм еврея перед лицом грозного Бога; расцвет свободного
греческого гения перед естественной радостной красотой - все эти чувства
у них отсутствовали. Они постничали по пятницам и рисовали святых,
чтобы заручиться их добрыми услугами. Микеланджело получил
однажды от папы, вместо вознаграждения, не помню сколько
индульгенций, с условием совершить верхом паломничество по семи римским
базиликам. У этих людей были сильные страсти и непочатая энергия;
они достигли величия, потому что они родились в великую эпоху, но
истинного религиозного чувства у них не было совершенно. Они
обновили древнее язычество, но второе цветение никогда не стоит первого.
И мелкие суеверия, узкое ханжество скоро исказили и опреснили
могучее первоначальное вдохновение. Достаточно взглянуть на внут-
• 36 ·
ДОРОГА И ПРИЕЗД
реннее убранство этого храма, чтобы узнать, к каким порокам эти люди
чувствовали слабость. Бернини наводнил храм манерными статуями,
которые кривляются и позируют. Все эти суетящиеся скульптурные
гиганты, с полусовременными лицами и одеждами, претендующими,
однако, на античность, производят самое жалкое впечатление. Говоришь
себе, глядя на эту процессию небесных носильщиков: «Красивая рука,
красиво поднятая кверху. Мой милый монах, ты вытянулся молодцом.
Добрая женщина, будь спокойна: твое платье развевается вполне
прилично. Мои крошки ангелы, вы уноситесь так удобно, будто на качелях.
Мои дорогие друзья, вы в особенности - бронзовые кардиналы, и вы -
символические добродетели, - вы искусные актеры, позирующие ради
драматической экспрессии».
Я еще вернусь сюда: может быть, сегодня я был несправедлив, но что
касается искренности чувств, то я уверен, что ее не хватает. Перед
этими сентиментальными танцовщицами, которых Бернини выстроил
вереницей на мосту Святого Ангела, разбирает досада. Они хотят иметь
нежный и кокетливый вид и треплют свое греческое или римское
одеяние, как юбку восемнадцатого века. Ни одно из этих произведений
искусства не цельно: три или четыре разнородных чувства сошлись здесь,
чтобы сталкиваться своими противоречиями. Сюжет представляет
аскета, поглощенного постом и бичеванием, а ему дают тело и одежду
язычника, весь облик, выражающий привязанность к земной жизни. Аая меня
нет ничего более неприятного, чем решетка мученика, власяница,
мистические глаза у крепкого молодого человека, у здоровой молодой
женщины, которые в конце концов не помышляют ни о чем, кроме
любовных историй. Невозможно почувствовать здесь ни тех умилений, ни того
ужаса, которые свойственны готическим соборам и христианству: это
здание слишком разукрашено, слишком хорошо освещено, своды и
пилястры слишком могучей красоты. Но также невозможно найти здесь и ту
свежесть простых впечатлений, ту смеющуюся ясность, то веяние вечной
юности, которые вдыхаешь в античном храме и в жизни греков. Кресты,
изображения мучеников, вызолоченные скелеты и прочее напоминают
слишком обильными эмблемами самоумерщвление и отречение
мистиков. В общем же это только зрительный зал, самый обширный и самый
великолепный на свете, где некоторое великое учреждение выставляет
напоказ свое могущество. Это не храм веры; это храм вероисповедания.
• 37 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Римский форум. Храм Весты. Фотография 1890-х годов
•38·
ДОРОГА И ПРИЕЗД
Прогулка по Риму от десяти вечера до полуночи
Улицы почти пусты, и зрелище величественно и печально, как офорты
Пиранези. Очень мало света; его ровно столько, сколько нужно, чтобы
выказать крупные очертания и отдалить мрак. Грязь, ветхость, дурные
запахи - все исчезло. Луна сияет на безоблачном небе, и свежий воздух,
тишина, интерес новизны - все возбуждает и волнует.
Это грандиозно: вот впечатление, которое возобновляется постоянно.
Ничего мелкого, обыкновенного или плоского: нет улицы или здания,
которые не имели бы своей физиономии - отчетливой и яркой. Никакое
деспотическое общее правило не порабощало и не уравнивало этих
строений. Каждое из них выросло на свой лад, не заботясь о других, и их
смешение прекрасно, как беспорядок в мастерской великого художника.
Колонна Антонина поднимает свой ствол в свете ночи, и вокруг нее
величавые дворцы стоят твердо и легко. Тот, который в глубине, со своими
двадцатью освещенными аркадами и двумя широкими круглыми
сияющими пролетами, кажется арабеской, сотканной из света, какой-то
странной феерией, пламенеющей в тени.
Фонтан на Пьяцца Навона пышно струится среди безмолвия, и его
играющие воды отражают в тысяче брызг лунное сияние. В этом
трепещущем свете и непрестанном волнении колоссальные статуи кажутся
живыми, театральная внешность исчезает: видишь только гигантов,
которые извиваются и движутся среди всплесков и лучей.
Карнизы окон, большие висячие балконы и лепные выступы крыш
испещряют стены густыми тенями. Справа и слева видишь мрачные
переулки, зияющие пещеры; там и сям возвышается черная стена
монастыря, который кажется покинутым, или какой-нибудь высокий дом,
увенчанный башней, который представляется остатком Средних веков.
Отдаленные огни трепещут жалостно, и сгустившийся мрак поглотил,
кажется, всякую жизнь.
Нет ничего более грозного, чем эти огромные монастыри, эти
четырехугольные дворцы, где не блестит ни одного огня, которые
поднимаются уединенно, неприступной громадой, точно крепость в
осажденном городе. Плоские крыши, террасы, фронтоны, острые и запутанные
очертания форм обрисовываются резкими линиями на ясном небе,
между тем как у подножия едва заметные двери, тротуарные столбы,
углы улиц тонут в тени.
Продолжаешь идти, и последние следы жизни исчезают. Можно
подумать, что находишься в покинутом и мертвом городе - остове великого
• 39 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
народа, внезапно погибшего. Проходишь под аркадами палаццо
Колонна, вдоль немых стен его садов, и не слышишь, не видишь более
никаких признаков человеческой жизни; только время от времени в глубине
извилистой улицы, в смутной черноте какого-нибудь крыльца,
похожего на отдушину, замирающий огонек фонаря мерцает желтым кружком.
Запертые дома и высокие стены тянутся негостеприимной вереницей,
как ряд подводных скал вдоль берега, и, при выходе из их тени, внезапно
открываются обширные пространства, убеленные луной и похожие на
пустынный береговой песок.
Вот наконец базилика Константина и ее громадные аркады с их
шапкой вьющихся растений. Глаза останавливаются на этой могучей дуге;
потом внезапно, сквозь обвалившиеся края, замечаешь бледную синеву,
странную лазурь ночного неба, точно обломок хрусталя, усеянный
огненными точками. Делаешь два шага - и божественный купол неба,
широкий поток ясного сияния, тысячи мерцающих перлов небесной
тверди являются над пустынным Форумом. Идешь вдоль лежащих колонн,
стволы которых кажутся еще чудовищнее. Опершись на один из них,
доходящий до самой груди, смотришь на Колизей. Уцелевшая стена
совершенно черна и поднимается, колоссальная, вся сразу. Кажется, что она
накренилась наружу и вот-вот упадет. На разрушенную часть луна
бросает такой яркий свет, что различаешь красноватую окраску камней. На
этом чистом небе круглая форма цирка делается особенно ощутимой:
она представляет собою что-то законченное, грозное. Посреди этой
удивительной тишины кажется, что он один существует, что люди, растения,
вся преходящая жизнь - только призрак. Я испытал уже однажды это
впечатление в горах: они тоже кажутся единственными настоящими
обитателями Земли; забываешь человеческий муравейник и под небесным
сводом, который служит им крышей, угадываешь немой диалог старых
чудовищ, неподвижных хозяев и вечных владык.
На обратном пути, у подошвы Капитолия, далекие базилики и
триумфальные арки, в особенности же благородные и изящные колонны
разрушенных храмов - одни одинокие, другие еще связанные в
братские вереницы, - кажутся живыми. Это существа спокойные, но
простые и прекрасные, как греческие эфебы. Их ионическая голова носит
красивую прическу, и луна бросает свой отблеск на их гладкое
мраморное тело.
•40·
ΔΟΡΟΓΑ И ПРИЕЗД
Порта Сан Себастьяно в Риме. Фотография 1900 года
От Рима до Неаполя
Длинный акведук справа; изредка развалины на горизонте; там и сям
по пути одинокая разрушающаяся арка и, насколько хватает взгляд
кругом, желтая и зеленая волнистая равнина, покрытая старым ковром
поблекших трав, который треплет ветер и моют дожди. На небе
тяжело висят серые грозные тучи, и дым паровоза, расплываясь белой
волной, смешивается с облаками. Несколько миль спустя снова появляется
однообразный акведук, точно скалистая плотина в океане волнующей
травы. К востоку вздымаются темные горы, полу белые от снега, к
западу расстилается обработанная равнина с тысячами маленьких верхушек
и тонких стволов безлистных фруктовых деревьев; желтый ручеек
проложил себе здесь дорогу, размывая почву.
Все это имеет печальный вид, а всего более - почтовые станции. Это
жалкие деревянные хижины, где горит охапка хворосту, чтобы согреть
путешественников. Нищие и мальчишки толпятся у входа, выпрашивая
•41 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
один байок, полбайока, ничтожные полбайока, ради Бога, Мадонны,
святого Иосифа и всех святых, с настойчивостью и грубостью, с
кроткими и наглыми взвизгиваниями собаки, которая видит кость и не ела
восемь суток. Я не могу понять, что надето у них на ногах: это не
сандалии и еще менее того башмаки - это похоже, скорее, на сверток
тряпок и старых лохмотьев, подобранных в канаве, где они долго
трепались в грязи. Широкополая шляпа, вся измятая и с выбитым дном,
штаны, плащ - неописуемы; нигде не найдешь ничего подобного, кроме
разве кухонных тряпок или старого вонючего белья, которое собирают
в ветошных складах, чтобы делать из него бумагу.
Я наблюдал много лиц, и все, которые я видел с тех пор, как приехал
в Италию, припоминались мне. Все они группируются в три или четыре
главных типа. Во-первых, красивая и тонкая голова камеи, удивительно
правильная, одухотворенная, с живым и сметливым взглядом, способная
понять все в одно мгновение, сотворенная, чтобы внушать любовь и
хорошо говорить о любви. Во-вторых, четырехугольная голова, посаженная
на крепкий обрубок, с толстыми чувственными губами, с выражением
грубой веселости и шутовского или язвительного склада ума. Далее,
попадаются фигуры худые, смуглые, загорелые, с высохшим лицом, с
резкими, необыкновенно выразительными чертами, с огненными глазами, с
курчавой шевелюрой, похожей на извержение вулкана. И наконец, есть еще
прекрасный и сильный мужской тип, крепкого мускулистого сложения,
без всякой тяжеловесности, с ярким цветом лица, с прямым взглядом,
вполне законченный и твердый, который кажется ожидающим дела и
творчества, но в ожидании не тратящим себя и пребывающим в покое.
Весь этот путь и пейзаж, вплоть до самого Неаполя, должно быть,
очень хороши, но при ясном небе и в летнее время благородные и
разнообразные горы, отнюдь не громадные и, однако, величественные,
наполовину одетые лесом; по временам белый или серый городок,
который покрывает собою целый холм, круглый, как пчелиный улей... Но
дождь и туман скрывают формы, зима грязнит все; зелени нет вовсе:
сухая и порыжелая листва висит на деревьях, как старая одежда; мутные
потоки размывают землю. Это мертвое тело вместо красивой, цветущей
девушки.
π
НЕАПОЛЬ
,*g>>
Набережная в Неаполе. Фотография конца 1890-х годов
20 февраля, Неаполь
ТО ДРУГОЙ климат, другое небо, почти
другой мир. Сегодня, подходя к порту, когда
местность расширилась и открылся горизонт,
я увидел вдруг только белизну и блеск. Вдали,
за туманом, покрывавшим море,
громоздились и тянулись горы, сияющие и
шелковистые, как облака. Море двигалось большими
белеющими волнами, и солнце, изливая на него
свой огненный поток, как бы вело след расплавленного металла вплоть
до самого берега.
Я провел полдня на Вилле Реале. Это общественный сад,
обсаженный дубами и вечнозелеными кустами и расположенный вдоль берега.
Несколько молодых деревьев, пронизанных светом, развертывают уже
свои нежные листики и распускают желтые цветы. Статуи - красивые
нагие юноши, Европа на быке - склоняют свои беломраморные тела
среди легкой зелени растений. Брызги света блестят на газонах,
ползучие травы вьются по колоннам; там и сям вспыхнул яркий пурпур
свежих цветов, и хрупкие бархатистые чашечки трепещут от теплого
ветерка, который проникает к ним между дубами. Небо и море
благосклонны; какой контраст, если вспомнить берега океана - наши утесы
Нормандии и Гасконии, под ударами ветра, бичуемые дождем, где
хилые деревья прячутся в лощинах, а утесник и чахлая трава лепятся
жалостно по склонам! Здесь, напротив, соседство волн питает растения:
чувствуется свежесть и нежность дуновения, которое ласкает и
раскрывает их почки. Забываешься; слушаешь легкий шелест шепчущихся
листьев; смотришь на их тень, двигающуюся по песку. Между тем в
нескольких шагах катится море с глухим рокотаньем, соразмерным тому,
как его белая пелена тает и расплывается на песке. Туман испаряется
в лучах солнца; меж листвы замечаешь Везувий и его соседей - всю
раскрывающуюся цепь гор. Они бледно-фиолетового цвета, и, по мере того
как день гаснет, эта фиолетовая окраска становится все более нежной;
под конец тончайший оттенок мальвы, какой-нибудь венчик цветка не
прекраснее их. Небо очистилось, и успокоившееся море - сплошная
лазурь.
Невозможно описать это зрелище. Лорд Байрон прав: нельзя
сравнивать красоту искусства и красоту природы. Всякая картина остается
всегда ниже, и всякий пейзаж всегда выше идеи, которую можно о них
•45 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
составить. Это прекрасно; я не умею сказать ничего другого. Это
величественно и в то же время нежно; это дает наслаждение всему человеку -
и сердцу и ощущениям; нет ничего более ласкающего чувства и ничего
более благородного. Зачем еще обременять себя работой и творчеством,
когда это перед глазами? Не стоит иметь хорошо устроенный дом,
трудолюбиво сооружать эти сложные создания, которые именуются
учреждениями и храмами, искать наслаждений, тщеславия и роскоши: довольно
смотреть, отдаться жизни - весь ее цвет дает один взгляд.
Я сидел на скамейке - смотрел, как надвигается вечер, исчезают
краски, и мне казалось, что я в Елисейских полях древних поэтов.
Изящные формы деревьев вырисовывались на чистой лазури. Безлистные
платаны и обнаженные дубы - даже те, казалось, улыбались.
Очаровательная ясность неба, которую бороздила тонкая сеть их ветвей,
сообщалась и им. Они вовсе не казались мертвыми или онемелыми, как у нас,
но только усыпленными и готовыми, под прикосновением этого
теплого воздуха, раскрыть свои почки и доверить побеги близкой весне. Там
и сям загоралась звезда; луна начинала бросать свое белое сияние.
Статуи, еще более белые, казались живыми среди этого любезного
таинственного ночного дня. Группы молодых женщин, платья которых слегка
колыхались, двигались бесшумно, подобно блаженным теням. Мне
казалось, что я перенесся в жизнь древних греков; что я постиг
утонченность их ощущений; что гармонии этих удлиненных форм и этих
тусклых тонов достаточно, чтобы занять меня навсегда; что я не буду
больше нуждаться ни в цвете, ни в блеске. В моих ушах звучали снова стихи
Аристофана; я видел опять его молодого атлета, целомудренного и
прекрасного, довольствующегося, вместо всяких развлечений, прогулкой,
с венком на голове, посреди тополей и цветущих сассапарелей, с
мудрым сверстником-другом. Неаполь - греческая колония, и чем больше
смотришь, тем больше чувствуешь, что вкус и дух народа принимает
форму пейзажа и климата.
К восьми часам вечера не было уже ни малейшего дуновения ветра.
Небо казалось ляпис-лазурным; луна, как непорочная царица, сияла
одна посреди эфира; ее столб трепетал в открытом море и казался
молочной рекой. Нет слов, чтобы передать всю прелесть и нежность гор,
окрашенных своим последним оттенком - смутными сиреневыми
тонами ночного одеяния. Мол и лес барок своей глубокой чернотой делают
их еще прекраснее, а направо - Кайя, закругляя вокруг залива свой пояс
освещенных домов, украшает их огненной гирляндой.
•46·
НЕАПОЛЬ
Панорама Неаполя. Фотография 1860-х голов
Всюду блестят фонари; на открытом воздухе люди громко болтают,
смеются и едят. Это небо само по себе уже праздник.
Через Неаполь и наудачу по улицам
По каким улицам мы идем! Крутые, узкие, грязные, окаймленные
по всем этажам накренившимися балконами... Муравейник лавчонок;
торговые лари на открытом воздухе; мужчины и женщины покупают,
продают, болтают, жестикулируют, толкаются; большинство хилые и
безобразные, особенно женщины - маленькие, курносые, с желтыми лицами,
с горящими глазами, нечистоплотные и оборванные, в шалях с
пестрыми разводами, в фиолетовых, красных, оранжевых, непременно ярких
косынках, в медных украшениях. Около Пьяцца дель Меркато -
запутанный лабиринт вымощенных плитами кривых переулков, полных
застарелой грязи, усеянных апельсиновыми и арбузными корками,
объедками овощей и всевозможной дрянью. Толпа теснится тут, черная и
гудящая, в свежей тени, под ясной пеленой неба. Все это двигается, ест, пьет,
•47·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
дурно пахнет, - настоящие крысы в западне. Это душная атмосфера,
неприкрытая и отверженная жизнь лондонских lanes [улочек]. К счастью,
здешний климат благоприятствует босякам и лохмотьям.
Иногда среди этих хижин высится громадный угол или
монументальная дверь старого дома. В щель видны широкие лестницы с балюстрадами,
которые уходят вверх и перекрещиваются между собою, как внутренние
террасы, поддерживаемые колоннадой, - остатки замкнутой и величавой
жизни, как она сложилась при испанском владычестве. Здесь обитали
вельможи со своими вассальными дворянами, своими вооруженными
слугами, со своими каретами, выпрашивая себе пенсии, задавая праздники,
присутствуя на церемониях,- одни только на виду, одни имея вес, меж тем
как в переулках черный народ - лавочники и ремесленники - глазел на их
пышные выезды, презренный и жалкий, как некогда стадо рабов,
ютившихся у подножия феодального замка.
Несколько монахов семенят по грязи в своих сандалиях или
башмаках без чулок; у многих лукавые и насмешливые лица - точно помесь
Сократа с Полишинелем; большинство из настоящего простонародья:
они шлепают себе в своей старой потертой рясе и поводят плечами на
манер кучеров. Один из них нагнулся, опершись на балкон, чтобы
лучше рассмотреть нас, - жирный, пузатый, полнощекий, осторожный
толстяк чернец, какими их рисует Рабле. Он прекрасно выделялся в своей
важности и толщине - точно уставившаяся любопытная и
недоверчивая свинья. С другой стороны, на лучших улицах встречаешь молодых
элегантных аббатов, во всем черном, одетых с иголочки, с выражением
умной и дипломатической сдержанности. Вверху и внизу - тут найдутся
и для салона и для харчевни.
Пять или шесть церквей по пути... Статуи Пресвятой Левы Марии
в них раскрашены, как парикмахерские манекены, и даже более того -
разряжены, как дамы; одна, например, в пышном розовом платье, с
широкими голубыми лентами, с затейливой прической и шестью мечами
в груди. Маленький Иисус и святые одеты тоже в современные
костюмы; некоторые носят настоящую рясу, другие показывают свою
трупного цвета кожу и кровавые стигматы. Невозможно говорить более
материально глазам и всем нашим чувствам. В одной из церквей старая
коленопреклоненная женщина стонала перед Богоматерью. Разодетая
и обагренная кровью Мадонна, она столь реальна, как настоящая
вдовствующая принцесса, - и с ней говорят тем же языком и плачут, чтобы
ее растрогать.
•48·
НЕАПОЛЬ
Санта Мария делла Пьетра, Санта Кьяра, Сан Лженнаро... Первая из
этих церквей - роскошная бонбоньерка. Там показывают статую
Целомудрия под покрывалом; но это покрывало так тонко, так стянуто, так
плотно прилегает к шее и к обнаженному телу, что она более чем нага.
В глубине одного склепа - мертвый Христос, окутанный саваном; сторож
зажигает свечу, и в этом бледном освещении, в этой влажной и холодной
атмосфере глаза, чувства, вся нервная система человека содрогается, как
от прикосновения к трупу. Это ухищрения суеверия и скульптуры: тут
есть чем блеснуть художнику, развлечь эпикурейца и заставить трепетать
набожного человека. Я уже не говорю о роскошной живописи,
обильных украшениях и претенциозном убранстве. Это последнее еще больше
бросается в глаза в Санта Кьяра - с ее густой серебряной листвой,
загромоздившей алтарь, с ее решетками из вызолоченной меди, помпонами,
золотыми шариками, свечами в гирляндах и алтарями, заваленными
безделушками вроде тех, которые маленькие лавочки приготавливают и
разукрашивают к празднику Тела Господня. То же самое и в других церквах,
названия которых я забыл.
Этот языческий католицизм шокирует: в глубинах его всегда
открываешь чувственность под внешностью аскетизма. Адамовы головы,
песочные часы, мистические призывы не вяжутся с позолотой, колоннами
дорогого мрамора и греческими капителями. Эти люди взяли у
христианства только суеверие и страх. Здесь же в особенности не хватает величия
и царствует аффектация. Они превращают церковь в склад изящных
вещей. Пытаясь точно определить настроение тех, аая кого это устроено,
нахожу у них только желание пойти прогуляться в лавку золотых дел
мастера или, самое большее, идею, что если вы дадите много денег
какому-нибудь святому, то он предохранит вас от лихорадки. Это какая-то
зала развлечений аая впечатлительных натур. Что же касается
архитекторов и художников, то это только декламаторы, которые посредством
своих зрительных фокусов и громадных сводов со странными
изгибами стараются возбудить пресыщенное внимание. Все это свидетельствует
о ничтожной эпохе, об исчезновении истинного чувства, о напыщенном
искусстве, вымученном и истощившем себя, о губительном влиянии
испорченной цивилизации и иноземного владычества.
И, однако, даже в этом падении всегда находится какой-нибудь
отдельный кусок, в котором чувствуется старый, могучий гений: в [капелле] Сан
Дженнаро, например, - мощные тела, нарисованные Вазари над дверями;
плафоны работы Сантафеде и Форти - большие группы и горделивые,
•49 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
хорошо поставленные фигуры; гробницы, большой неф, где тянутся
вереницей медальоны с портретами архиепископов, а высокий
монументальный свод и вызолоченный, украшенный раковинами потолок
раскинулись с декоративным величием.
В монастыре Сан Мартино
Мы подымаемся по грязным и кишащим народом улицам. Я не могу
привыкнуть к этим оборванцам, которые размахивают руками и
болтают. Что до женщин, то они совсем некрасивы: лицо землистого цвета,
даже у молодых девушек; приплюснутый нос портит лицо - в общем,
это не более как живые личики, иногда пикантные, довольно близкие
к смазливым физиономиям восемнадцатого столетия, но за тысячу верст
от греческой красоты, которая им приписывается.
Мы подымаемся все выше и выше. Этому нет конца: лестницы за
лестницами, и все лохмотья, и развешанное на веревках белье; потом опять
переулки; нагруженные ослы, которые укрепляют ногу на скользком
склоне; мутные ручьи, жалко струящиеся по голышам; оборванные
мальчишки, выпрашивающие милостыню; домашние хозяйства на открытом
воздухе. Эта гора точно слон, в котором гнездятся человеческие
паразиты, скребущиеся и суетливые. Вот дом, у которого нет нижнего этажа, -
туда подымаются по лестнице; у другого дверь распахнута, и в темной
глубине виден мужчина, играющий на гитаре в окружении женщин,
которые чистят овощи. И внезапно, при выходе из этой толкучки, из
этих крысиных нор, из этого лагеря бедноты, открывается
великолепный монастырь, посреди всей роскоши природы и во всей
изысканности искусства.
Особенно двор, широкий, окаймленный четырьмя портиками белого
мрамора, с обширной серого цвета цистерной колодца в центре,
показался мне восхитительным. Высокий густой буксус и синеватая лаванда
покрывают его своей простой и здоровой зеленью; вверху сияет
искрящаяся белизна мрамора, а над нею - роскошная лазурь неба; каждый
цвет обрамляет и подчеркивает другой. Как понятна здесь архитектура
и портики! На севере они - простая пристройка к зданию, заимствование
педантов; с ними нечего делать - там не прогуливаются по вечерам на
открытом воздухе и не имеют надобности в убежище от солнца, ни в
отверстиях, пропускающих морской бриз. В особенности же там не
чувствуют нужды в четких и острых линиях, в простых красках,
немногочисленных, смело противопоставленных. Только под открытой лазурью неба
• 50·
НЕАПОЛЬ
Неаполь. Вил на монастырь Сан Мартино. Фотография 1860-х голов
можно наслаждаться полировкой и белизной мрамора. Искусство
создано аля этой страны. В том счастливом настроении, которое рождает в
душе это сияющее небо и свежий воздух, является любовь к украшению,
хочется видеть под своими ногами разноцветные мраморы, образующие
рисунок, встретить в конце галереи большой медальон богатой лепки,
созерцать на вершине портика полунагие статуи прекрасных юных
святых или же святую в изящных драпировках. Христианство становится
здесь живописным и приятным; оно услаждает глаз; оно сообщает душе
настроение легкое и благородное. В конце галереи открывается терраса
на море. Оттуда виден Неаполь, бесконечно раскинувшийся и
простирающийся полосою белых домов вплоть до самого Везувия; вокруг залива -
берег, обнимающий своей дугой ярко-синее море, а там вдали - золотые
переливы, блестящее кипение волн под солнцем, которое имеет вид
светильника, подвешенного на вогнутом своде неба.
Вниз сбегает длинный склон тускло-зеленых маслин - это
монастырские сады. Аллеи, осененные виноградными лозами, тянутся всюду, где
• 51 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ровная почва. Террасы с растущими в одиночку большими деревьями;
массивные строения, погрузившие свое основание в скалу;
разрушенная колоннада, а напротив - весь залив, маленькие паруса кораблей,
Монте Сант Анджело, дымящийся Везувий: этот монастырь - целый
маленький мир, замкнутый, но полный, и сколько красоты в его ограде!
Чувствуешь себя перенесенным за тысячу верст от нашей маленькой
жизни, мелочной и буржуазной. Эти монахи ходят с обнаженной
головой, в коричневой или белой рясе, в грубых башмаках; но красота
окружает их, и я не видел княжеского дворца, который производил бы столь
благородное впечатление. Мелкий комфорт здесь отсутствует, и это
возвышает все остальное.
Я видел недавно один из самых богатых и изящных современных
домов, расположенный, так же как и этот монастырь, над морем. Его
владелец - человек со вкусом, который нажил миллионы и швыряет
деньги. Все здесь вылощено и нет ничего величественного; ни одной
колоннады, ни одной большой парадной залы - что тут с ними делать? Жить
в таком доме приятно, но нет ни одного уголка, ни снаружи, ни внутри,
который захотелось бы срисовать художнику. Каждая отдельная вещь
сама по себе - чудо утонченности и удобства; около постели шесть
пуговок от звонков; восхитительные занавеси на окнах; удивительно мягкие
кресла. Видишь, как в английских домах, много разных мелких вещиц,
служащих аая мелких надобностей. Архитектор и декоратор обдумали
лучшие способы, чтобы избежать жары, холода, слишком яркого света,
чтобы было удобнее умываться и плевать, но они не думали ни о чем
другом. Единственные предметы искусства - несколько картин Ватто и Буше.
И даже они сюда не подходят: они напоминают совсем другую эпоху
Разве у нас сохранились еще какие-либо следы восемнадцатого столетия?
Разве у нас уцелели настоящие приемные и пышная парадность
аристократической жизни? Такое количество лакеев нам наскучило бы; если
мы и сохраняем их, то лишь в наших канцеляриях; у себя же дома мы
хотим только хорошего мягкого кресла, отборных сигар, тонкого обеда
и, самое большее, еще щеголять в приемный день новейшей роскошью,
которая обратила бы на нас внимание. Мы больше не умеем брать жизнь
широко, выходить из границ самого себя; мы закопались в маленькое
личное благополучие, в маленькую пожизненную работу Здесь сводили
пищу и одежду к самому необходимому. И освобожденная душа могла,
как и глаза, созерцать широкие горизонты - все, что простирается и
пребывает над человеком.
• 52 ·
НЕАПОЛЬ
Желтый монах, с блестящими глазами, с рассудительным и
сосредоточенным видом, водил нас по церкви. Нет ни одного коридора, ни
одного уголка, который не был бы отмечен печатью искусства. При
входе, на пустом дворе, «Мадонна» Бернини, закутанная в свои жеманные
драпировки, созерцает Младенца, хрупкого и хорошенького, как
будуарный амур; но она сама величественна и сознает свою
принадлежность к ее расе - расе благородных тел, сотворенных великими
художниками. Когда украшали этот монастырь, в семнадцатом столетии, уже
не имели чистой идеи прекрасного, но тогда еще не думали ни о чем
другом, кроме прекрасного. Вы почувствуете контраст, если
вспомните внутренность Виндзора, Букингемского дворца или Тюильри.
Храм - исключительной роскоши. Сколько нагромождено здесь
дорогих мраморов, статуй и картин - просто невероятно. Балюстрады и
колонны - настоящие драгоценные изделия. Легион художников и
скульпторов того времени-Гвидо Рени, Ланфранко, Караваджо, Кавалер д'Арпино,
Солимена, Лука Джордано - расточали здесь свою смелость, грацию и
жеманство своей кисти. По сторонам главного нефа боковые капеллы и
сакристия развертывают сотни картин. Нет угла на потолке, который не
был бы покрыт живописью. Все эти фигуры бросаются вперед и падают
навзничь, как на вольном воздухе; одежда развевается и мнется; живое
розовое тело светится сквозь шелк туник, и прекрасным членам, кажется,
доставляет удовольствие выставлять себя напоказ и делать движения.
Многие полунагие святые - милые молодые люди, один ангел Луки Джордано,
в голубом платье, с обнаженными ногами и плечами, похож на молодую
влюбленную девушку. Позы преувеличены, вся эта живопись полна
суматохи, но она подходит к блеску разноцветных мраморов, к
волнующимся драпировкам статуй, к мерцанию золотых украшений, к
великолепию капителей и колонн. Эта декоративность не холодна и не плоска,
как иезуитская. Веяние великого предшествующего века одушевляет еще
все создание. Это Еврипид, если уже не Софокл. Некоторые вещи даже
великолепны; среди прочих - «Снятие со креста» Риберы. Солнце падает
на голову Христа сквозь полу отдернутый занавес красного шелка. Черный
фон кажется еще более мрачным рядом с неожиданным блеском этого
сияющего тела, и мучительный испанский колорит, мистическая или
резкая окраска фигур, волнующихся в тени, придают всей сцене облик
видения, какие возникали некогда в монашеской и рыцарской голове
какого-нибудь Кальдерона или Лопе де Вега.
• 53 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Поездка в Поццуоли и Байю
На том конце Позиллипского туннеля начинаются окрестности -
нечто вроде фруктовых садов, полных высоких виноградных лоз,
обвенчанных каждая со своим деревом. Внизу блестят изящные розетки
зеленых волчьих бобов и неизвестного нам желтого крестоцветного. Все это
дремлет в теплом тумане, как драгоценный убор под флером.
На повороте показывается море, и дорога идет вдоль него вплоть до
Поццуоли. Утро серо, и влажные тучи медленно плывут по тусклому
горизонту. Туман не рассеивается; только местами он утончается и пропускает
бледную волну солнечного света, как чуть заметную улыбку. Но море
колышет свою длинную, белую, спокойную скатерть на песке, столь же нежном,
как оно само, а потом отходит с монотонным шорохом.
Однообразный, бледно-голубой, как бы выцветший колорит
охватывает бесконечное пространство - все небо и все море. Небо и море - оба
сливаются; иногда кажется, что маленькие черные барки - это и птицы,
кружащиеся в воздухе. Ни малейшего шума; едва различаешь легкое
шушуканье волн. Мягкие оттенки аспида, который слезится во влажном
ущелье, одни дают понятие об этих погасших тонах. Повторяешь про
себя шепотом стихи Вергилия; думаешь о тех безмолвных краях, куда
нисходила Сивилла; о царстве блуждающих теней, не холодном и
мрачном, как киммерийские страны Гомера, но где рассеившаяся смутная
жизнь покоится в ожидании, что солнечная сила соберет ее вновь и
пошлет бурно катиться в потоке бытия, - или же о тех сонных берегах,
где пребывают души будущих людей - жужжащее туманное племя,
неясно порхающее, как пчелы вокруг чашечки цветка. Низида, отдаленная
Иския, Мизенский мыс вовсе не похожи на реальные существа, а,
скорее, на благородные тени, близкие к воплощению. Дальше, по всей
окрестности, белые стволы платанов, зелень, смягченная зимой и
туманом, тонкие стволы тростника, неподвижные воды Авернского озера,
слабые очертания гор - весь этот пейзаж, томный и немой, кажется
отдыхающим от бытия, уснувшим, не сраженным смертью и окоченелым,
но мягко окутанным благодетельным тихим миром. Вот таким образом
древние понимали «потустороннее», угасание жизни; их гробницы
вовсе не мрачны; умерший покоится в них, не испытывая страдания и не
уничтожаясь; ему приносят кушанья, вино, молоко: он еще продолжает
жить, но только от яркого дневного света он перешел в область сумерек.
Идеи христианства и германских народов, Паскаля и Шекспира, здесь
совершенно непонятны.
• 54·
НЕАПОЛЬ
Окрестности Байя под Неаполем. Храм Венеры. Фотография 1860-х годов
О Байе нечего сказать. Это бедная деревушка, где несколько барок
привязаны за канаты вокруг старой крепости. Пошел дождь и обратил
ее в клоаку. Поццуоли еще хуже. Грязные свиньи блуждают по улицам.
Некоторые, привязанные веревкой поперек брюха, хрюкают и рвутся.
Оборванные ребятишки кажутся их братьями. Дюжина полунищих,
грязный сброд паразитов цепляются за карету; их отгоняют,
отталкивают - ничего не действует: они во что бы то ни стало хотят служить
проводниками. Три года тому назад было, по-видимому, еще хуже.
Вместо дюжины за наши брюки цеплялось бы полсотни; свиньи блуждали
тогда по улицам Неаполя, как сейчас по здешним. Здешний народ еще
совершенно дик: когда они увидали, что прибыл король Виктор
Эммануил, они очень удивились и вообразили, что Виктор Эммануил сверг
с престола Гарибальди. У многих цел всего один башмак; другие стоят
босиком в грязи; их рубища невозможно описать - нечто подобное
можно найти только в Лондоне. В открытые двери видишь женщин,
которые ищут вшей у своих детей, - постели и полулежащие на них тела.
• 55 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
На площадях и при въезде в город кучка праздношатающихся,
взрослых и малых, ждет добычи - иностранца - и кидается на нее. Трое из них
особенно рьяны, и мой спутник начинает их дразнить. Они
выслушивают шутки и отвечают на них, мешая униженность с наглостью. В то
же время они издеваются и друг над другом; особенно один, указывая
на своего товарища, обличает его в обладании уродливой любовницей
и описывает детально эту уродливость. Что это за несчастная, которая
может иметь своим возлюбленным подобного человека? Я предполагаю,
что она потеряла обоняние. Во всем Позиллипском туннеле и вообще во
всем Неаполе хочется зажать нос; летом же, говорят, еще гораздо хуже.
И так везде на юге - в Авиньоне, в Тулоне, как и в Италии. Уверяют, что
чувства южан тоньше, чем у жителей севера, - проверьте эту претензию
глазами и ушами.
Идем смотреть храм Сераписа, где еще уцелели три красивые,
вертикально стоящие колонны. Вокруг античные бани, серные источники; весь
берег полон римских обломков. Аркады вилл, остатки подвалов,
приморские подземные сооружения тянутся почти непрерывной цепью.
Большинство римских богачей имели здесь свои загородные виллы. Но
сегодня я не расположен к археологии.
Я был не прав: амфитеатр особенно стоит того, чтобы им заняться.
Своды, лишь недавно освобожденные из-под земли, совершенно свежи
и, кажется, будто построены лишь вчера. Огромное подземелье служило
помещением аая гладиаторов и зверей. Цирк вмещал тридцать тысяч
зрителей. Не было ни одного древнеримского города, от Меца до
Карфагена, от Антиохии до Кадикса, который не имел бы своего цирка. В
течение четырехсот лет какое потребление живого мяса! Чем больше
смотришь на цирки, тем больше видишь, что вся античная жизнь завершается
здесь: древний город был неким сообществом аая охоты за человеком и его
эксплуатации; он пользовался пленниками и рабами, потом он
злоупотреблял ими; в века воздержанности жили их работой; в эпоху
распутства забавлялись их смертью.
В обширных погребах этого подземного города лежат колонны,
опрокинутые землетрясением и похожие на громадные стволы; зеленая
прическа деревьев висит вдоль стен, и вода сочится с них, подобно ключу,
который капля за каплей ниспадал с волос наяды.
• 56·
НЕАПОЛЬ
Прогулка в Кастелламаре и Сорренто
Небо почти чисто; только над Неаполем висит слой облаков и
вокруг Везувия большие беловатые клубы дыма вьются и дремлют...
Я нигде еще не видал, даже летом в Марселе, такого цвета моря -
так глубока, почти тяжела здесь его синева. Над яркой блистающей
лазурью, которая занимает три четверти видимого пространства, небо
бело и кажется хрустальным. По мере отдаления видишь лучше
волнистый берег и крупное тело гор; все частности согласованы между
собой, как члены одного организма; на краю - Искья и голые мысы
покоятся в своих лиловых тонах, как помпейская «Спящая» под своим
покрывалом. В самом деле, чтобы описать подобную природу - эту
фиолетовую землю, распростертую у края сияющей воды, - нужно взять
слова древних поэтов, представить себе великую богиню плодородия,
которую вечный Океан обнимает и осаждает, и над ними ясную
белизну ослепительного Юпитера: «Нос sublime candens, quem omnes invocant
lovem» («Взгляни на этот возвышенный блеск, который все называют
Юпитером»).
По пути встречаются лица с крупными и тонкими, совершенно
греческими чертами; несколько красивых девушек,
благородно-интеллигентных, а там и сям отвратительные нищие, которые чешут свою
волосатую грудь. Здесь раса гораздо выше, чем в Неаполе, где она выродилась
и исказилась и молодые девушки похожи на гризеток, хилых и бледных.
В полях работают люди. По мере того как видишь голые и босые ноги,
начинаешь заинтересовываться их формами. Ощущаешь удовольствие,
видя мускул икры, напрягшийся, чтобы толкнуть тележку, или
напруженную округлившую ногу; глаз наблюдает ее изгибы и спускается до
самой ступни; приятно видеть правильные, твердо опирающиеся о
землю пальцы, крепкую постановку каждой кости, округлость большого
пальца, приспособленность и длительную силу каждого члена. Из такого
рода зрелища, повторявшегося каждый день, родилась некогда
скульптура. Как только является сапожник, уже нельзя больше говорить, как
во времена Гомера, о «женщинах с красивой пятой»: нога не имеет уже
формы, она интересует только башмачника; она не дает уже моделей,
которые, поправляя одна другую, позволяют провидеть за ними
идеальную форму. Некогда римлянин и грек, богатый и бедный, ежедневно
показывали свои ноги, а в банях и в гимнасиях все тело. Привычка
упражняться нагими была отличительной чертой грека, и мы знаем из
Геродота, как этот обычай шокировал азиатов и варваров.
• 57 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Железная дорога идет вдоль моря, в трех шагах от него, почти на его
уровне. Показывается порт, изборожденный черными линиями
снастей; потом мол и маленький полуразрушенный форт, который бросает
от себя тень, и острые утлы четко вырисовываются в этом разливе света.
Вокруг квадратные дома, совсем серые, точно обгорелые, теснятся, как
черепахи, со своими выпуклыми кровлями, образующими их толстый
панцирь. Это Toppe дель Греко защищается от землетрясений и
пепельного дождя, выбрасываемого Везувием. По другую сторону море
разбивается большими валами, которые перегибаются и падают, как в шлюз.
Все это оригинально и очаровательно: на этой земле, полной пепла и
плодородной, обработанные участки тянутся вплоть до самой
прибрежной полосы и образуют настоящий сад; простая тростниковая изгородь
защищает их от морского ветра; африканские смоковницы с их
тяжелыми побегами карабкаются по склонам; зелень начинает бежать по
ветвям, абрикосы улыбаются своими маленькими розовыми цветами;
полунагие люди работают без усилий в рыхлой почве; некоторые сады
украшены колоннами и маленькой статуей белого мрамора посередине.
Повсюду следы античной радости и красоты. Удивляться ли этому, когда
чувствуешь себя сопровождаемым этим божественным весенним
солнцем, этими переливами золота и жидкого пламени, которые встречаешь
направо каждый раз, как только кинешь взгляд на море?
Как легко забывается здесь все безобразное! Мне показалось, что
в Кастелламаре я видел проездом гадкие современные постройки -
вокзал железной дороги, гостиницы, гауптвахту, несколько кривых карет,
теснившихся, чтобы принять иностранцев. Все это стерлось в памяти;
осталось только воспоминание о темных крыльцах, сквозь которые
видны освещенные дворы, полные блестящих апельсиновых деревьев и
молодой зелени, и площадках, где играли дети, сушились неводы и
блаженные празднолюбцы глотали воздух и глазели на капризные прыжки
и извивы волн.
Начиная от Кастелламаре дорога представляет карниз, вьющийся
по краю моря. Большие белые скалы скатились вплоть до самых волн,
которые вечно осаждают их. Слева горы подымают отвесно свою
изломанную гряду, свои стены, изрытые впадинами, острые выступы,
нагромождение зубцов, которые кажутся развалинами целого ряда
крепостей, осевших и покрытых трещинами. Каждый излом и каждая глыба
бросают тень на однообразие белой стены, и вся цепь оживлена
формами и цветами.
•58·
НЕАПОЛЬ
Иногда она разорвана надвое балкой, и по обоим склонам
спускаются ярусами плантации. Сорренто вытянулось также по трем глубоким
ущельям. Вся их глубь - сплошной сад, где деревья жмутся друг к другу
Ореховые деревья, которые уже волнует весеннее движение сока,
вытягивают свои белеющие ветки, как узловатые руки. Все остальное уже
зелено: дурное время года не отняло никакой добычи у этой вечной весны.
Между листвой олив апельсиновые деревья выставляют свои крепкие,
блестящие листья; их золотые яблоки сияют тысячами среди рядов
бледных лимонов. Часто в тени какого-нибудь переулка, на гребне стены,
видишь их сверкающие листья. Здесь их родина; земля расточает их здесь
вплоть до самых бедных дворов, до подножия разрушенных лестниц, и они
раскидывают там свою круглую верхушку, озаренную солнцем. Неясный
благовонный запах исходит от всех этих зеленых побегов; это царская
роскошь, и здесь каждый нищий имеет ее даром.
Я провел час в саду гостиницы - это терраса на невысокой горе у
берега моря. Такое зрелище дает ощущение полного счастья. Кругом дома -
сад, весь зеленый, населенный лимонными и апельсиновыми
деревьями, обремененными плодами, как яблони в Нормандии. Фрукты падают
на землю у подножия деревьев. Другие деревца и растения бледной или
голубоватой зелени покрывают массив скалы. На голых ветках
персиковых деревьев начинают раскрываться розовые цветы, нежные и
хрупкие. Пол выстлан синеватыми блестящими изразцами, и терраса
круглится над морем, дивная лазурь которого наполняет все пространство.
Я даже не хотел говорить об этом; я не решался коснуться этого
впечатления, которое хранил в себе уже с Кастелламаре, - оно слишком
прекрасно. Ясное, бледно-лазурное, почти прозрачное небо - и море лучистой
синевы, целомудренное и нежное, как девушка-невеста. Это бесконечно
широкое пространство, одетое так очаровательно, точно аая
какого-нибудь роскошного и изящного празднества, оставляет впечатление,
которому нет равного. Капри и Искья на самом краю неба белеются в мягком
покрывале испарений, а божественная лазурь сияет сладостно,
насколько хватает глаз, обрамленная белой каймой.
Где найти слова, чтобы передать это? Весь залив кажется мраморной
вазой, округленной нарочно для того, чтобы вместить в себе море.
Шелковистый цветок, какой-нибудь широкий бархатистый ирис - его
нежные сияющие лепестки, на которых отражается солнце и которые
только-только распустились на перламутровой кайме, - вот образы,
теснящиеся в уме. Но, тщетно сменяемые, они не дают удовлетворения...
•59·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
У подножия скал вода зелена, как прозрачный изумруд, иногда с
отливами бирюзы или аметиста, - нечто вроде жидкого алмаза, который
меняет свой оттенок в зависимости от всех особенностей глубины и скал;
нечто вроде разноцветной и подвижной драгоценности, обрамляющей
расцвет божественного цветка.
Солнце опускается, и на севере синева становится такой глубокой,
что она походит на цвет темного вина. Берег стал черным и выделяется
рельефно, как длинная нитка янтаря, между тем как весь свет
разливается и стелется над морем.
В продолжение всего пути я думал об Улиссе и его спутниках; об их
судах с двумя парусами, похожих на эти - танцующие, как чайки, посреди
воды; об обрывистых берегах, вдоль которых они плыли; о неведомых
бухтах, где по вечерам они ставили на якорь свой корабль; о чувстве
смутного удивления, которое оставляли в них новые леса; о дремоте их
усталых членов на сухом песке побережья; о прекрасных героических телах,
нагота которых украшала эти пустынные мысы. Сирены, с
распущенными волосами, с мраморным торсом, могли подниматься в этой лазури,
возле гладких скал; не нужно большого усилия, чтобы услышать в
воображении их пение - пение Цирцеи-очаровательницы. В этом климате
она могла сказать Улиссу: «Приди, спрячь твой меч в ножны, и оба вместе
подымемся теперь на наше ложе, чтобы, соединенные ложем и любовью,
мы имели доверие друг к другу». Слова древнего поэта о багряном море,
об Океане, который обнимает землю, о женщинах с белыми руками
вспоминаются здесь, как на своей родине.
Это потому, что все здесь прекрасно, и потому, что в этом
милосердном климате жизнь может стать снова простой, как во времена Гомера.
Все, что три тысячи лет цивилизации прибавили к нашему
благосостоянию, кажется лишним. Что здесь нужно человеку? Кусок холста и кусок
материи, как у спутников Улисса, если он здоров, как они, и хорошей
расы. Вот он уже и одет, а остальное излишне или находится само собой.
Они убивают большого оленя, жарят его на углях, пьют вино из своих
мехов, зажигают огонь и засыпают вечером на песке. Насколько человек
с тех пор усложнился и испортился! И как охотно мечтаешь о той
роскоши, которую Гомер изобретает аая одной богини! «Там была большая
пещера, и в ней обитала нимфа с прекрасными волосами. Яркий огонь
пылал в очаге, и запах хорошо нарубленного кедра и лимонного
дерева, которые горели в нем, распространялся далеко по острову Внутри
она сама, напевая прекрасным голосом, рассматривала холст и ткала
•60·
НЕАПОЛЬ
Вид Сорренто. Фотография 1860-х годов
его своим золотым челноком. Вокруг пещеры стоял зеленеющий лес -
ольха, черный тополь, пахучий кипарис, и в нем гнездились птицы
с длинными крыльями, чайки, ястреба, вороны с продолговатым
клювом - все прибрежные птицы, которые охотятся на море. Вокруг
гладкой пещеры вилась молодая виноградная лоза, вся цветущая гроздьями.
Совсем рядом текли четыре ключа, с бурливой водой, в соседстве друг
с другом, и каждый поворачивал в свою сторону. Вокруг цвели нежные
луга дикого сельдерея и фиалок; Бог, который пришел бы сюда, удивился
бы и возвеселился в сердце своем». Она сама накрывает на стол и служит
гостю, как Навзикая; когда нужно, она идет со служанками мыть свои
одежды в соседнем потоке; тогда делали подобную работу так же
естественно, как мы ходим; не больше старались освободиться от этой
заботы, чем от какой-либо другой. Так поддерживались сила и проворство
членов: двигать и пользоваться ими - это особый инстинкт и удоволь-
■ 61 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ствие. Человек был еще прекрасное животное, почти родня лошадям
благородной породы, которых он выкармливал на своих пастбищах, -
в таком положении труд рук и тела не казался ему рабским. Сам Улисс,
с топором и буравом, срубил и обработал ствол оливкового дерева,
который послужил основой его брачной постели; юные вожди, которые
хотят взять замуж его жену, сами режут на части и жарят свиней и
баранов, которых они едят. И чувства так же естественны, как нравы.
Человек не неволит себя; он не увлечен весь в одну сторону суровым
героизмом, как в Германии, или болезненным суеверием, как в Индии. Он не
стыдится испытывать иногда страх и сознаваться в этом, быть тронутым
и плакать. Богини любят героев и отдаются им не краснея, как цветок
наклоняется к соседнему цветку, который должен его оплодотворить.
Желание кажется таким же прекрасным, как и стыд; месть - как
прощение. Человек раскрывается весь, гармонически и легко, как эти платаны
и апельсиновые деревья, питаемые свежестью моря и теплым воздухом
ущелий, которые поднимают вверх округлости своих куполов, без того,
чтобы чья-либо рука их обрезала или чей-либо каприз принуждал
преждевременно раскрываться их почки. Из глубины всех этих сказаний,
среди картин лесов и вод, которые проехал, видишь смутно
выступающими тела античных героев - этого Улисса таким, каким он вышел из
реки, - «более высокого роста и более широкий в плечах», чем другие
люди; «кудри его волос падали на шею, подобные цветам гиацинта».
Или же, возле него, молодых девушек, которые, скинув свое покрывало,
играют на берегу реки, и среди них - Навзикаю, «девушку неукротимую,
выше их всех головою».
Потом и этого уже недостаточно, и мне кажется, что аая того чтобы
изобразить это небо, эту белую сияющую глубину воздуха, который
проницает и живит все предметы, это море, лучистое и счастливое, - его
супругу, эту землю, идущую им навстречу, - нужно подняться до
гимнов Веды и найти в них вновь, как наши первые предки, истинное бытие,
бытие всемирное и простое - вечных и неопределенных богов,
которых мы перестали видеть, занятые, как мы заняты, деталями нашей
маленькой жизни, - но которые в конце концов одни только существуют,
нас держат, нас покрывают и пребывают сами в себе, как и прежде, не
чувствуя неприметных движений и эфемерных царапин, которые наша
цивилизация оставляет на их лоне.
•62 ·
НЕАПОЛЬ
Вид на остров Низилу и на Мизенский мыс. Фотография 1890-х голов
Много дней в Геркулануме и Помпеях
Передо мною проходят тысячи и тысячи разных вещей, и, когда
возвращаешься домой, все это теснится в голове... Как извлечь из этого хаоса
главное впечатление, некоторый общий вывод?
Что запоминается прежде всего - это образ города, серого и
красноватого, полуразрушенного и покинутого, груда камней на скалистом
холме, с вереницами толстых стен и синеватых мостовых плит, - все это
белое в сверкающем белизной воздухе; вокруг - море, горы и
бесконечная даль.
На самом высоком месте стоят храмы - Справедливости, Венеры,
Августа, Меркурия, здание Евмахии, еще другие, недостроенные. Далее,
также на возвышении,- храм Нептуна. Они имели, таким образом, всех
своих богов на высоте, в чистом воздухе, который сам был богом. Форум
и курия находятся сбоку; прекрасное место, чтобы разбирать дела и
совершать жертвоприношения! Вдали виднеются крупные линии покрытых
• 63 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
дымкою гор и спокойные верхушки пиний, а дальше к востоку, под
белокурым туманом, полным солнца, тонкие очертания деревьев и
разнообразные плантации. Оборачиваешься снова к городу и, без всякого
усилия воображения, восстанавливаешь мысленно храмы. Эти
колонны, эти коринфские капители, эта простота плана, эти куски небесной
лазури, разрезанной мраморными стволами, - какое впечатление
должно было оставлять в душе подобное зрелище, созерцаемое с детства!
Город был тогда настоящим отечеством, а не административным
скоплением меблированных комнат, как теперь. Что значит теперь аая меня
какой-нибудь Руан или Лимож? Я там останавливался среди множества
других остановок. Жизнь идет из Парижа; но что такое сам Париж, как
не собрание частных квартир, жизнь которых зависит от канцелярий
с их папками и чиновниками? Здесь, напротив, люди делали из своего
города сокровище и драгоценность; образ их акрополя с его белыми
храмами в лучах света сопровождал их повсюду; деревни нашей Галлии,
Германии, всего варварского севера казались им только клоакой и
беспорядком. В их глазах человек, не имевший своего города, был не
настоящим человеком, а полудикарем, почти животным - животным
хищным, из которого можно было только сделать вьючное. Город есть
единственное в своем роде установление - плод той верховной идеи,
которая управляла в течение двенадцати веков всеми действиями
человека, - это великое изобретение, благодаря которому он вышел из
первобытного состояния дикости. Город был в одно и то же время
феодальным замком и храмом; сколько людей его любило, как вся их жизнь
была им охвачена и зависела от него - этого не выразят никакие слова!
Весь остальной мир был для них чужим или враждебным; они не
имели в нем никаких прав: ни их имущество, ни их тело не были там в
безопасности; если они и находили покровительство, то лишь из
милости. Там им приходилось думать только об опасностях или добыче; эта
же ограда была их убежищем и их крепостью. Более того, здесь они
находили богов - своего Юпитера и свою Юнону, богов - обитателей
этого города, связанных с его почвой и которые, аая примитивной мысли,
и были ничем иным, как этой самой землей с ее ручьями, лесами и
небом. Здесь человек находил свой очаг, свои пенаты, своих предков,
покоящихся в их гробах, слившихся с этой почвой, воспринятых этой
землей, великой кормилицей, - предков, загробные тени которых из
глубины своего покоя продолжали бодрствовать над ним. Здесь он
находил собрание всех спасительных, священных и прекрасных вещей,
•64·
НЕАПОЛЬ
которые он должен был защищать, удивляться им и почитать.
«Отечество больше твоего отца и матери, - говорит Сократ в "Критоне", - и
какое бы насилие или несправедливость оно нам ни причиняло, мы
должны покориться, не страшась их избежать». Вот как грек и римлянин
понимали жизнь. Когда их философы, Аристотель или Платон, создают
план государства - это город, город ограниченный и замкнутый, пять
или десять тысяч семейств, где брак, производство и все другое
подчинены общественному интересу. Если добавить еще ко всем этим
характерным чертам отчетливое и художественное воображение южных рас,
их способность представить себе физические образы - все местные
особенности, всю живописную внешность, весь осязаемый облик их
родного города, то делается понятно, что эта идея государства-города
должна была производить на душу античного человека необычайное
впечатление - первоисточник тревог и самоотвержения, о которых мы уже
не имеем понятия.
Все улицы здесь узки; большинство - переулки в два шага шириной.
Обыкновенно есть место только аая одной повозки, и колея еще
заметна; местами крупные камни дают возможность прохожему переходить
как по мосту. Все эти детали указывают на иной склад быта, чем наш, -
очевидно, здесь вовсе не было оживленного движения наших городов,
наших тяжелых перегруженных повозок, наших барских карет,
которые скачут во всю прыть. На повозках возили только хлеб, масло,
провизию; многое переносилось на руках или рабами; богачи
передвигались на носилках. Удобства жизни были невелики и другого характера.
Отличительная черта античной цивилизации - отсутствие крупного
производства. Не было вовсе пищевых запасов, разных орудий и
материй - всего того, что машины и свободный труд производят теперь
в громадном количестве, аая всех и каждого и по дешевым ценам. Дело
рабов было вертеть мельницу; свободный человек обращал свое
внимание в сторону прекрасного, а не полезного; не производя много, он не
мог много и потреблять. Жизнь была проста по необходимости, и
философы, так же как законодатели, знали это хорошо. Если они
предписывали умеренность, то не из педантизма, а потому что роскошь была
очевидно несовместима с тогдашним общественным строем. Несколько
тысяч храбрых и гордых людей, которые живут воздержанно, носят
простые одежды - одна длинная, другая - покороче, любят видеть на
своем холме группу красивых храмов и статуй, болтают про
общественные дела, проводят свой день в гимнасиях, на форуме, в банях и в театре,
• 65 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
купаются, натираются маслом и довольны сегодняшним днем, - вот
античный город. Если бы нужды и утонченность этих людей чрезмерно
возросли, раб, который имел только свои две руки, не мог бы их
удовлетворить. Чтобы установить громадную и сложную организацию, как
наши современные общества, - например, ограниченную монархию,
признающую равноправие, и попечительную, где каждый ставит себе
целью общественное спокойствие и приобретение благосостояния, - не
хватало фундамента. Когда Рим захотел создать нечто подобное, города
были уничтожены, работающие рабы исчезли, пружина была сломана,
и все погибло.
Все это делается еще яснее, когда входишь в дома - Корнелия Руфа,
Марка Лукреция Casa Nuova [Новый дом], в дом Саллюстия. Они
невелики, а комнаты в них и совсем малы. Они служили только аля отдыха
и сна: день человек проводил в других местах - на форуме, в банях, в
театре. Частная жизнь, столь важная для нас, была очень ограничена;
существенна была жизнь общественная. Нет никаких следов печных труб и,
наверное, было совсем мало мебели. Стены выкрашены в контрастные
черный и красный цвета, что производит приятное впечатление в полутьме;
повсюду арабески очаровательной легкости - Нептун и Аполлон,
строящие стены Трои, триумф Геркулеса, маленькие изящные амуры,
танцовщицы, которые кажутся летящими по воздуху, две молодые девушки
опирающиеся на колонну, Ариадна, найденная Вакхом, - все эти юные тела
так свежи, молоды и сильны! Иногда панно заключает в себе только
изящный, прихотливый бордюр с грифом посередине. Сюжет едва намечен:
эта живопись соответствует нашим обоям - но какая разница! Помпеи
были своего рода сен-жерменским предместьем, античным Фонтенбло, -
вы видите пропасть, которая разделяет два мира.
Почти повсюду в центре дома находится сад, обширный, как
приемная зала; посредине - бассейн белого мрамора, с бьющим фонтаном,
вокруг - портик с колоннами. Что может быть приятнее и проще, лучше
придумано, чтобы проводить жаркие часы дня? Зеленые листья между
белыми колоннами, красные черепицы на синеве неба, эта журчащая
вода, которая чуть поблескивает между цветами, этот сноп жидких
перлов, эта тень портиков, разрезаемая могучим светом, - может ли быть
лучше место, чтобы предоставить своему телу жить, тешиться
здоровыми мечтами и наслаждаться, без ухищрений и изысканности, тем, что
есть лучшего в природе и в жизни? Некоторые из этих фонтанов
украшены львиными головами или веселыми статуэтками детей, ящериц,
• 66·
НЕАПОЛЬ
Дом Веттиев в Помпеях. Фотография 1890-х голов
борзых собак, фавнов, которые бегут по краю. В самом обширном из
этих домов, в доме Диомеда, апельсиновые и лимонные деревья,
подобные, вероятно, тем, которые росли здесь некогда, сверкают своими
зелеными побегами. Рядом мерцает бассейн аая рыб; маленькая
колоннада окружает летнюю столовую. Все это расположено в квадратной
ограде большого портика. Чем больше стараешься воссоздать в
воображении этот быт, тем более кажется он прекрасным, согласным с климатом,
согласным с природой человека. Женщины имеют свой гинекей в
глубине, позади двора и портика, - закрытое убежище, без вида наружу,
отделенное от публичной жизни. Они не двигались много в этих тесных
комнатах; они покоились лениво, как настоящие итальянки, или трудились
над шерстяными работами, в ожидании, пока отец или муж кончат свои
мужские дела и разговоры. Они созерцали рассеянно на темной стене не
развешанные картины, как теперь, и не археологические редкости или
создания чуждых стран и искусств, а фигуры, повторявшие и
идеализировавшие обыденные положения, - пробужденье от сна, полуденный отдых,
•67·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
работу, богинь перед Парисом, Фортуну, изящную и легкую, как
женщины Приматиччо, Деидамию, которая в испуге падает на стул. Нравы,
творения искусства, одежда, памятники - все отливалось тогда в одну и ту же
форму, единственную в своем роде. Древо человечества имело тогда всего
один росток и не испытало еще никакой прививки. Теперь цивилизация
в той же самой стране, в том же Неаполе например, полна противоречий,
потому что она старее и в ней участвовали различные расы. Много черт
испанских, католических, феодальных, северных явились, чтобы спутать
и исказить первоначальный эскиз, итальянский и языческий. Как
следствие этого, естественность и легкость потеряны; все подверглось
искажению. Изо всех вещей, которые видишь в Неаполе, много ли подлинно
туземных? Это север занес сюда потребность в удобствах жизни, узкие
платья, высокие дома, фабричную промышленность. Если бы человек
следовал одной природе, он жил бы здесь, как древние, полунагой или
одетый куском холста. Древняя цивилизация родилась вся целиком от
климата и от расы, приспособившейся к климату, - вот почему в ней была
гармония и красота.
Театр находится на вершине холма; его ступени - из паросского
мрамора; напротив - море с Везувием, который сияет утренней белизной.
Вместо крыши в этом театре было только покрывало, и даже оно часто
отсутствовало. Сравните это с нашими ночными театрами,
освещенными газом, с их душной атмосферой, где люди теснятся в раскрашенных
ящиках, в рядах висячих клеток, - и вы почувствуете разницу между
гимнастической, естественной жизнью атлетического тела и сложной,
искусственной жизнью черных сюртуков. То же впечатление от
амфитеатра - грандиозного и открытого на солнце; но здесь теневая сторона
Древнего мира - кровавая печать Рима. То же впечатление в банях: на
красном карнизе фригидариума маленькие, очаровательно легкие
амуры скачут на лошади или правят колесницами. Нельзя представить себе
ничего приятнее аая глаз и более удобного, чем зала аая обсушивания,
с ее сводом, полным рельефных фигурок и нарядных медальонов, с ее
вереницей геркулесов, которые, вытянувшись вдоль стены,
поддерживают могучими плечами все сооружение. Все эти формы полны жизни
и здоровья; нет никаких преувеличений или тяжеловесности. Какой
контраст, если взглянуть на современные бани, их пошлую, фальшивую
наготу, сентиментальные или сластолюбивые фигуры! Это потому, что
теперь баня есть только место чистки; тогда же она была удовольствием
и гимнастическим учреждением. Здесь проводили много дневных ча-
•68·
НЕАПОЛЬ
сов; мускулы здесь делались нежными, а кожа блестящей; человек
узнавал здесь животное удовольствие, которое охватывает тело, по очереди
сжимающееся и размягчаемое. Он жил не одной головой, как теперь,
а всем телом.
Спускаешься и выходишь из города по улице Гробниц. Эти гробницы
почти целы; нет ничего благороднее их форм, ничего более строгого, без
всякой угрюмости. Смерть тогда вовсе не была омрачена аскетическим
суеверием, идеей ада: в представлении древних она была одной из
«обязанностей» человека, простым пределом жизни, вещью важной, но не
вызывающей отвращения, которой смотрели в лицо без гамлетовской дрожи.
В домах хранились пепел и изображения предков; их приветствовали
при входе; живые оставались в сношениях с ними; при въезде в город
их гробницы, тянувшиеся по обеим сторонам пути, казались первым
городом - городом основателей. Гиппий, в одном диалоге Платона, говорит,
что «лучше всего лля человека - это быть богатым, здоровым, уважаемым
греками, достичь старости, устроить хорошие похороны своим
родителям, когда они умрут, и получить самому от своих детей прекрасное и
великолепное погребение».
Настоящая история была бы историей пяти или шести идей, которые
царят в голове человека; как обыкновенный человек, две тысячи лет
тому назад, понимал смерть, славу, благоденствие, отечество, любовь,
счастье? Две идеи управляли этой античной цивилизацией: первая - идея
человека, вторая - идея города. Создать прекрасное животное, ловкое,
воздержанное, храброе, выносливое, совершенное - посредством
телесных упражнений и подбора хорошей расы; создать маленькое
замкнутое общество, содержащее в своем лоне все, что человек может любить
и уважать, - род постоянного лагеря с военными требованиями в виду
непрерывной опасности. Эти две идеи породили все остальные.
В Неаполитанском музее
Большая часть живописи Помпеи и Геркуланума перенесена в
Неаполитанский музей. Это не более чем комнатные украшения, почти всегда
без перспективы, - одна или две фигуры на темном фоне, иногда
животные, небольшие пейзажи или архитектурные отрывки. Очень мало
колорита; тона едва намечены или, лучше сказать, погашены, стерты, не
только от времени (я видел свежую живопись), но намеренно: ничто не
должно было бросаться в глаза в этих немного темных покоях.
Нравились сами формы тела и позы: это удерживало ум среди поэтических
• 69 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Геракл и Телеф перед Аркадией. Фрагмент росписи из базилики в Геркулануме.
Национальный музей в Неаполе
и здоровых образов деятельной телесной жизни. И эта живопись
доставила мне больше удовольствия, чем самые знаменитые картины, -
например картины Возрождения. Она естественнее и жизненнее.
Нет никакого старания заинтересовать зрителя. Сюжет -
обыкновенно мужчина или женщина, почти нагие, поднимающие руку или ногу;
Марс и Венера, Лиана, которая только что нашла Эндимиона, Бризеида,
увлекаемая Агамемноном, и прочее в том же роде: танцовщицы,
фавны, кентавры, воин, который похищает женщину, женщине, уносимой
в такой позе, очень удобно! И этого довольно, потому что чувствуешь
• 70·
НЕАПОЛЬ
их прекрасными и счастливыми. Не догадывался, пока их не видел,
сколько прелестных положений может представить полуодетая
женщина, скользящая по воздуху, сколько есть приемов снимать покрывало,
заставить развеваться тунику, выдвинуть бедро, позволить видеть грудь.
Они имели это исключительное счастье, которого недоставало всем, даже
художникам Возрождения, - жить среди соответствующего быта, видеть
на каждом шагу нагие и задрапированные тела - в бане, в амфитеатре,
и культивировать сверх того телесные дарования - силу, быстроту ног.
Они говорили о прекрасной груди, о хорошо поставленной шее, о полном
предплечье, как мы говорим теперь о выразительном лице или о брюках
хорошего покроя.
Лве бронзовые статуэтки среди всей этой живописи - настоящие
шедевры. Одна из них, так называемый Нарцисс, представляет нагого
молодого пастуха, с козлиной шкурой на одном плече. Скажешь, что это Ал-
кивиад, настолько склоненная голова и улыбка насмешливы и
аристократичны. Ноги обуты в кнемиды, и прекрасная грудь, не слишком худая и не
слишком полная, округляется, вся ровная, вплоть до бедер. Таковы
юноши Платона, воспитанные в гимнасиях, - этот Хармид, молодой человек
знатной семьи, за которым его товарищи ходили по следам - так он был
красив и походил на бога. Другая статуэтка - сатир, более зрелого возраста,
также нагой, который пляшет с поднятой головой, в порыве
неподражаемой веселости. В сравнении с этими людьми, можно сказать, никто не
понимал и не чувствовал человеческого тела. Это потому, что такое
понимание и чувство воспитывались тогда всей совокупностью окружающего
быта. Нужны были особенные условия, чтобы идеалом был признан
нагой человек, удовлетворенный жизнью, у которого, однако, не
отсутствует ни одна из важных сторон духа. Вот почему центр греческого
искусства не в живописи, а в скульптуре.
Есть еще другая причина: тогда можно было позировать. Принять
какую-нибудь позу - теперь работа и проявление тщеславия; тогда -
нисколько. Грек, который имел свободное время и опирался на колонну,
чтобы смотреть на юношей или слушать философа, позировал хорошо -
прежде всего потому, что он выучился полному обладанию своими
членами, и затем - благодаря аристократической горделивости. Красивая
осанка, благородная и серьезная внешность, о которых говорят
философы, свойственны благородному обществу - людям, которые имеют
рабов, ведут войны и обсуждают законы; эти люди не имеют
надобности их отыскивать: естественный и постоянный их источник лежит
• 71 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
лая них в том сознании, которое человек имеет о своем значении и
мужестве, о своей независимости и достоинстве. Посмотрите в наши дни на
изящную осанку молодых интеллигентных лордов Англии или юношей,
получивших хорошее воспитание в знатных французских фамилиях.
Но светская жизнь делает молодого англичанина слишком натянутым,
а молодого француза - слишком развязным. Тогда же она сообщала
юноше ловкость и спокойствие. Получаешь некоторое представление
об этом самообладании, когда видишь, как Платон противопоставляет
суетливости дельца, его проделкам, его крикливости, всем его
привычкам раба - непринужденность свободного человека, который ведет
диспут без торопливости и только по общим вопросам, который оставляет
или возобновляет рассуждение, как ему удобнее, - «умеет оправить свое
платье приличным образом и со своим уверенным тактом, направляя
гармонию философских бесед, празднует настоящую жизнь богов и
счастливых людей».
Идешь один по молчаливым залам и по истечении нескольких часов
чувствуешь, как начинает слагаться иллюзия. Столько черт прошедшего
делают ее в некотором роде реальной и ощутимой. Особенно это племя
белых статуй, в сером и холодном воздухе (каков воздух этой
подвальной галереи), походит на загробные тени, которые под землей, в
таинственном царстве, продолжают тусклую жизнь, или еще лучше на тех
обитателей пустых кругов, которых Гёте, великий язычник, помещает
вокруг реальных и осязаемых существ. Тут присутствуют герои и
царицы - «те, которые приобрели себе имя или стремились к какой-либо
благородной цели», отбор угасших поколений; они сошли сюда
«важным шагом и восседают здесь возле трона Могуществ, которых ничто не
волнует. Лаже в Гадесе они хранят еще свое достоинство и гордо
выстраиваются возле равных себе, интимных приближенных Персефоны», -
между тем как невежественная толпа, вульгарные души, «отосланные
в глубину асфоделевых лугов, среди высоких тополей и бесплодных
пастбищ, скользят печально, как летучие мыши или как привидения, и не
представляют уже более личности». Только идеальные формы
ускользают от поглощения временем и увековечивают аая нас совершенные
дела и мысли.
Забываешься среди стольких благородных лиц, перед этими суровыми
Юнонами, этими Венерами и Минервами, этой широкой грудью
героических богов, этой строгой и человеческой головой Юпитера. Вот голова
Юноны - почти мужская, как у гордого и важного юноши. Я всегда воз-
• 72·
НЕАПОЛЬ
вращался к колоссальной Флоре, которая стоит в центре общей залы, вся
одетая в покрывало, позволяющее угадывать ее формы, но строго и
горделиво простая. Это настоящая богиня, и насколько она выше мадонн,
скелетов и аскетических мучеников - какого-нибудь святого Варфоломея
или святого Иеронима! Такая голова и такая поза нравственны, но не на
христианский образец: они не внушают скорбного и мистического
самоотречения; они побуждают вас переносить жизнь твердо, мужественно
и хладнокровно, со спокойной надменностью высшей души.
Нет возможности ни перечислить всего, ни описывать одно за
другим. Я вижу только, что из всех искусств скульптура есть наиболее
греческое, потому что она дает цельный тип, отвлеченную физическую
личность, тело само по себе - таким, каким его сформировали хорошая
раса и гимнастическая жизнь, и потому, что она изображает его, не
включая ни в какую группу, не подчиняя моральной экспрессии и
волнениям, ничем не отвлекая внимания от него, - прежде чем душевные
страсти покорят его или подчинят себе его действия. Таков был для
греков идеал человека; таким их общество и их мораль стремились его
сделать. Его нагота вполне пристойна: она - отличительная черта
греков, прерогатива их расы, условие их культуры, особенность больших
национальных и религиозных церемоний. На Олимпийских играх
атлеты являются без одежды; Софокл, пятнадцати лет, раздевается, чтобы
воспеть Пэан, после победы при Саламине. Теперь мы изображаем
голое тело только из педантства или из шалости; у них это делалось,
чтобы выразить их интимную и первичную концепцию человеческой
природы. Эта блистательная концепция не забывалась ими даже в их
распутстве. В живописи публичных домов, в помпеиских лупанарах
тело крупное, здоровое, без сластолюбивой вялости или
соблазнительной изнеженности; любовь аая них вовсе не унижение чувств и не
экстаз души - это только функция. Между животным и Богом, которых
христианство противопоставляет друг другу, они нашли человека,
который их примирил. Вот почему они его рисовали и особенно - ваяли.
Без сомнения, суеверные, как южане, они и молились этим
изображениям, как теперь их потомки молятся своим святым. Они обращались
с просьбами к своей Диане, к Аполлону-целителю; они воскуряли
перед ними фимиам и совершали возлияния, как теперь приносят
Мадонне и святому Януарию ex-voto [по обету] и свечи. Как теперь, у них были
священные статуэтки в домах и в небольших часовнях. Они повторяли
в своих статуях догматические позы и атрибуты: Венеру Анадиомену,
• 73 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
покоящегося Вакха, - как в шестнадцатом столетии повторяли на
картинах святую Екатерину с колесом и святого Павла с его мечом. Но
впечатление было совершенно иное, как и зрелище было другое. Здесь
брошенный мимоходом взгляд, вместо того чтобы поразиться костлявой
фигурой или окровавленным сердцем, встречал прекрасное круглое
плечо, выпуклую спину атлета, могучую грудь воина, - и над этими-то
образами, воспринятыми с детства, работал ум и выковывал себе по ним
модель человека. Все это говорило: «Вот каким должен ты быть; вот как
ты должен одеваться, старайся приобрести эти мускулы, которые
играют без усилий, это тело - крепкое и здоровое. Купайся, ходи в палестру,
будь силен физически при всяких обстоятельствах, для служения
твоему городу и твоим друзьям». Теперь произведения искусства не могут
говорить нам ничего подобного: мы не наги и мы не граждане. То, что
говорит нам, - это «Фауст» и «Вертер» или еще лучше - какой-нибудь
вчерашний парижский роман или «Книга песен» Гейне.
Однако нужно перечислить несколько вещей, без чего дело неясно.
Вот пять или шесть знаменитых образцов.
Геркулес Фарнезский. Это силач-носильщик, который только что
таскал бревна и думает, что стаканчик вина был бы теперь весьма кстати.
Чересчур реально и вульгарно. Это не бог, а какой-то мясник.
Фарнезский бык. Амфион и Зет, исполняя приказание своей матери
Антиопы, привязывают Лирку к рогам быка. Это относится, вероятно,
ко второму или третьему периоду скульптуры. Четыре персонажа в
натуральную величину, кроме быка, собак и ребенка; это уже картина,
даже драма; скульптор искал здесь эффектного, патетического; все
искусства приходят в упадок, когда переступают свой предел.
Великолепная голова лошади из бронзы. Как все прекрасные
греческие лошади, она еще не испорчена обучением и ее душа еще не
тронута. У нее короткая шея, умные глаза и вся полнота воли диких лошадей,
каких можно видеть еще и сейчас в наших ландах или на севере
Шотландии. Эта лошадь имеет личность; наши же - только машины.
Прелестная неаполитанская Психея - этот тонкий торс, эта нежная
изящная голова молодой девушки не принадлежат уже великому веку
Еще того менее - Венера Каллипига, которая была, вероятно,
будуарным украшением и приводит на память изящные непристойности
нашего восемнадцатого века.
Несколько статуй и бюстов, мраморных и бронзовых, с реальных
личностей. Сидящая Агриппина - полная энергии и печали; девять статуй
• 74·
НЕАПОЛЬ
фамилии Бальба; удивительный оратор, изображенный стоящим, с
душою, взволнованной важностью предметов, о которых он сейчас будет
говорить, - настоящий государственный человек, достойный античной
трибуны. Тиберий, Тит, Антонин, Адриан, Марк Аврелий -у всех этих
императоров и консулов лица политиков и дельцов, похожие на лица
теперешних кардиналов.
По мере того как подвигаешься к эпохе более близкой к нашей,
искусство делается портретным. Уже не облагораживают лиц, а только
копируют их: лица Секста Эмпирика или Сенеки, например, полны тоски
и тревоги, уродливы и вместе с тем резки, как гипсовые слепки. Наш
парижский музей Кампана показывает, как во времена падения скульптура
кончает тем, что передает только индивидуальные или болезненные
особенности - тик, уродство, разные пошлые странности, - одним словом,
мир буржуа Анри Моннье, схваченных живьем, как на фотографии.
Здесь имеется, я думаю, шестьсот или семьсот картин. Я не
художник и потому могу передать только впечатления человека, которому
живопись доставляет много удовольствия и который, кроме того, видит
в ней дополнение к истории.
Много портретов Рафаэля - какого-то кардинала, кавалера Тебаль-
део, Льва X. Этот Аев X - славный толстый ханжа, довольно вульгарный,
и эта вульгарность выступает еще резче от контраста с его
приближенными - двумя фигурами осторожных, рассудительных, типичных
церковников. Что есть высшего в Рафаэле - это, очевидно, равновесие и
совершенное здоровье его духа. Его портреты дают самую сущность человека,
без всяких фраз.
Рибера. «Пьяный Силен», с отвислым животом, с грудью Вителлия,
с черной, низкой и злой физиономией Санчо Пансы, сделавшегося
инквизитором, с ужасными кривыми коленями, - все это в ярком резком
освещении, еще подчеркнутом окружающими тенями, которые
исполняют роль рефлектора. И в качестве трубача этой грубой
тривиальности, этой несдержанной силы - осел, ревущий во всю глотку.
Гверчино. У его прелестной Магдалины, обнаженной по пояс, самая
грациозная поза, самые лучшие волосы, самая красивая грудь, самая
нежная, чуть заметная улыбка мягкой, мечтательной меланхолии. Это
привлекательнейшая и желаннейшая из возлюбленных, - и вот она смотрит
на терновый венец! Как они далеки от силы и простоты предыдущего
века! Пасторали, чичисбеи, приторная набожность начали уже свое
• 75 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
господство. Эта Магдалина - родня Эрминии, Софронии, слащавых
героинь Тассо; она родилась, как и они, из иезуитской реставрации.
Леонардо да Винчи. Мадонна с Младенцем, необыкновенной
тонкости; ее глаза опущены, губы едва сжаты, со странной таинственной
улыбкой; на лице - утомление нежной души и утонченного умственного
превосходства; позади головы распускается белая лилия. Этот человек
вполне современен и на бесконечном расстоянии от своего века; через
него Возрождение соприкасается без перерыва с нашей эпохой. Он был
уже ученым и экспериментатором, исследователем и скептиком, с
изяществом женщины и с брезгливостью гениального человека.
Много картин Пармиджанино - самого изысканного изящества;
тонкие и удлиненные лица; между другими - молодая девушка, стыдливая,
непорочная, которая смотрит с удивленным видом. Большой портрет
его кисти изображает синьора того времени, образованного, любителя
искусства и воина; на его голове нечто вроде красного берета, а его
панцирь стоит в углу; его благородное лицо тонко и мечтательно, волосы
и борода очень густы и красивы; нельзя представить себе более
аристократической руки, и во всем облике угадывается странная мягкость
созерцательной натуры: это полководец и, вместе с тем, мыслитель и
светский человек. Пармиджанино жил в первой половине шестнадцатого
столетия - при начале упадка Италии. Какой гений и какая культура были
у этих людей, подавленных декадансом! Нужно читать придворного Ка-
стильоне, чтобы видеть это красивое общество, талантливое,
изысканное, упоенное философией, полное свободомыслия, которое погибало
в тот момент.
Оба его разрушителя здесь - оба написанные Тицианом. Филипп II,
бледный и надутый, нерешительный, прищурившийся, человек кабинета
и этикета - такой, каким его описывают донесения венецианских
посланников; другой - папа Павел III, со своей огромной белой бородой, -
старый волк-фантазер. Еще другой папа - кисти Себастьяно дель Пьомбо, -
красивое правильное лицо, но черное, как вода мутной речонки, с
полузакрытыми глазами и взглядом исподлобья.
Разные другие картины доводят те же мысли до конца - например,
Микко Спадаро «Покорение Неаполя Лон Хуаном Австрийским». Война
была трагична в ту эпоху, и известно, как поступали испанцы в Италии
с завоеванными городами. На рыночной площади и вдоль всей длинной
улицы сплоченные каре солдат, с пиками в руках, с мушкетами,
положенными на рогатки, ожидают команды; знамена развеваются над рядами;
• 76·
НЕАПОЛЬ
сила и ужас давят побежденный город. Стоя на коленях, униженно,
магистрат подносит ключи, а на пьедестале статуи вице-короля, разрушенной
народным восстанием, по всей длине белых камней, отрубленные головы
оставляют пятна крови. Позади высокие и угрюмые дома отбрасывают
мрачно свою тень; в глубине подымается громадный барьер гор. Восемь
лет спустя явилась чума, и в Неаполе умерло пятьдесят тысяч человек;
только монастырь Сан Мартино был спасен заступничеством своего
основателя, и вторая картина того же художника изображает эту
оригинальную сцену В воздухе видны святой Мартин и Лева Мария,
останавливающие карающую руку Христа, между тем как ангел, стоящий на
земле, изгоняет чуму - отвратительную бабу. Кругом коленопреклоненные
монахи, с хитрыми и вульгарными лицами, возлагают свои упования на
патрона, который обязан заниматься их делами.
Несколько художников второго и третьего ранга - Скедоне, Лука
Джордано, Прети, Джузеппе Чезари, прозванный Кавалер д'Арпино, -
которые, однако, очень крупные люди. Эта прелестная молодая девушка,
полная и здоровая, в картине Ланфранко, ученика Гвидо Рени,
оставляет далеко позади себя нашу современную живопись, столь
тревожную, столь несовершенную, всю состоящую из неудачных исканий или
удручающих подражаний. Их фигуры движутся; члены тела как живые;
есть легкость, сила и полнота в структуре этих тел и в расположении
групп. Их мозг полон цветов и форм, которые рождаются сами собой
и ложатся естественно и обильно на полотно. Этот Лука Лжордано, столь
осмеянный, столь торопливый, - настоящий художник. Со своими
смеющимися лицами и грациозными округленными формами, со своими
ракурсами, своими шелковыми материями, со всем движением, всей
живостью своей живописи он владеет духом своего искусства - я хочу
сказать, что он умеет доставить удовольствие глазам. Это человек другого
умственного склада, нежели мы, - он не воспитан на философии и
литературе; он не стремится, как Лелакруа, выразить душевную трагедию,
или, как Лекан, жизнь природы, или, как столько других, - излагать в
картинах историю и археологию.
«Ланая» Тициана. Вот этот художник, конечно, не имел никаких
эстетических теорий и хотел только нарисовать красивое существо,
великолепную любовницу патриция. Лицо очень вульгарное, не выражающее
ничего, кроме чувственности. Может быть, это молодая дочь рыбака,
которая охотно согласилась ничего не делать, хорошо есть и носить
жемчужное ожерелье. Но этот колорит тела на белом белье, и эти золотые
• 77·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
волосы, которые рассыпаются безумно вокруг шеи! Особенно эта
совершенная кисть руки с бриллиантовым браслетом, эти тонкие пальцы,
эта талия в складках! Тут есть еще другая «Ланая» неизвестного автора,
на соседнем холсте, - более утонченная, с рукой, закинутой на голову;
возле нее - цветущее растение, а в глубине ландшафт синеватых гор.
Она серьезна, и ее серьезность, как у животных, имеет смутный
оттенок печали. Вот что облагораживает эту живопись: сладострастие здесь
никогда не переходит в непристойность, потому что оно всегда
естественно; человек не опускается до него - он на одном с ним уровне; а
грандиозность пейзажей, великолепие архитектурных композиций, ясность
небес льют волны поэзии на блаженство. Человек целен в этом смысле:
это один из пяти или шести великих способов жить. И вот этот не
допускает сравнений: он таков, каким он должен быть, законченный и
совершенный; ограничивать или исправлять его - это значит отнимать
у него свойственную ему красоту, портить единственный в своем роде
цветок - такой, какого не порождала ни одна цивилизация. Это то же, что
требовать от тюльпана, чтобы он был менее пурпурным, или от розы,
чтобы ее запах не был так роскошен.
Напротив - кисти более слабого художника - Венера с Адонисом,
полная, белокурая, с немного толстыми щеками и ртом, нагая, с одним
лишь обрывком кисеи, влечется вся, замирая, к предмету своего
желания, неспособная представить себе ничего более высокого. Что за беда?
Кто захочет, чтобы она была иной, в этой жаркой тени, которая нежно
окутывает янтарные тона ее прекрасного тела, в этом смутном
освещении, которое трепещет и дрожит, как сияние теплой воды в лучах
заходящего солнца, на этой великолепной красной мантии, возле этой
золотой вазы, бросающей рыжие отблески? Каждая великая школа имеет
право на существование - такое же, как всякая естественная
группировка живых существ. Тем хуже для правил, и тем лучше аая всех.
Разговоры
В кафе, на железной дороге, в салонах - политика теперь у всех на
языке. Умы кипят; оживление, пыл, упорство - совсем такие же, как у нас
в 1790 году. Газеты, очень многочисленные, очень распространенные,
очень дешевые, - того же характера. Вот несколько впечатлений.
Первый вечер со скульптором и медиком. По их мнению, разбойники
на юге (которые помешали мне съездить в Пестум) - простые
разбойники. Они убивают, поджигают и обворовывают. Это ремесло, и хорошее
■ 78·
НЕАПОЛЬ
ремесло; они практикуют его даже по отношению к людям своей
партии. Если кто-нибудь на них доносит, они поджигают его дом; такими
приемами они терроризируют деревню. Прибавьте еще, что в этих
горах и чащах нужна сотня солдат, чтобы изловить одного разбойника.
«Но, может быть, это своего рода Вандея?» - «Нет, они не заслуживают
этого сравнения». - «Однако это страна католическая, впечатлительная,
способная к фанатизму». - «Нет, это только разбойники». Дальше люди
горячатся, не видят ничего, кроме своих предвзятых идей, и напыщенны,
как наши первые революционеры, с их газетной фразеологией. Гнев у них
всегда наготове; упования безграничны.
Кроме того, по их словам, все зло теперь идет от Франции, которая,
поддерживая папу в Риме, питает очаг интриг. Рим - нарыв, который
делает все тело больным. Франция в течение шестидесяти лет сделала
огромные успехи в науке и в благосостоянии, но никаких - в религии и в
морали; она так же низменна морально, как и прежде, благодаря своему
подчинению духовенству. Тут гремят фразы восемнадцатого столетия.
Борьба в Италии, говорят они, идет между образованием и
невежеством. Вся интеллигенция либеральна - послушайте, что говорит весь
средний класс. Дворяне дуются; взгляните на большое
аристократическое предместье по дороге в Геркуланум: все дома там стоят запертыми.
Неаполитанская чернь, которой Бурбоны разрешали всякое своеволие,
недовольна; и если бы австрийцы вернулись, то были бы насилия; но
настоящий народ - ремесленники, люди, у которых есть запас
честности, которые работают, примиряются мало-помалу. Если из них четверо
принадлежало к ретроградной партии на другой день после
революции, то теперь там осталось не больше двух. Свобода производит свое
действие. Армия особенно есть школа объединения, просвещения и чести.
Солдат учат читать и писать; они слышат, как говорят про Гарибальди,
Виктора Эммануила, про отечество. Семейства не приходят уже более
в отчаяние, как было раньше, когда берут на службу их детей. В рядах
войск есть люди всех сословий; сыновья крестьян маршируют бок о бок
с сыновьями докторов, адвокатов. Замена рекрутства допускается с
трудом: в качестве заместителя требуется человек, умеющий читать, писать,
считать, - если замещаемый умел читать, писать, считать; сын одного
аристократа не мог найти никого и должен был пойти сам. Они
ожидают только великой войны, как война 1792 года, чтобы спаять все
различия братством оружия. «Вы - великий народ, - прибавляют они, -
вы вышли из рабства, вы не страдаете более от сотен тысяч гнусностей
• 79 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
и бедствий режима Бурбонов. Поймите же, что мы тоже - мы должны
сделать нашу революцию».
Разговор на железной дороге с человеком лет тридцати,
комиссионером по продаже хлопка. Он объезжает окрестности Неаполя и покупает
сбор аая продажи англичанам; поля вокруг Везувия теперь засажены
хлопчатником. По его словам, в течение трех лет этот край сделал
удивительные успехи. При Бурбонах ничего нельзя было делать, даже продавать
и покупать. Не было никакой торговли: они не любили
соприкосновения с иностранцами, затрудняли ввоз и вывоз товаров. Теперь, при
свободе, все изменилось. Крестьянин, уверенный, что получит деньги,
сажает и работает, даже летом. В полдень он отдыхает: жар слишком силен;
но вечером, утром, в сносные часы, он идет на свое поле. При Бурбонах
можно было делать только три вещи: пить, есть и иногда забавляться; на
все остальное - полный запрет. Ни учения, ни газет, ни путешествий, ни
религиозных или политических разговоров; доносы были постоянными,
и тюрьмы ужасны; при каждом движении вы чувствовали руку
инквизитора на своем плече. Пусть пройдет только двадцать лет - и увидят, как
изменится страна.
Он путешествовал по югу и признает, что разбойники - род шуа-
нов, но низкого разбора. Крестьянин не слишком им враждебен, потому
что он невежествен и суеверен. Кроме того, невозможно идти за ними
в boschi [леса], где они скрываются, и им посылают постоянно
подкрепления из Рима.
«Все разбойники» - ни о чем больше не говорят. По утверждению
либеральных газет, это злодеи, достойные каторги; по утверждению
клерикальных, это поднявшие восстания мученики. Я хотел составить
себе свое собственное мнение и прочитал дневник генерала Боргеса,
испанца и приверженца Бурбонов, который проехал недавно
Неаполитанское королевство во всю его длину, но был схвачен и расстрелян в
нескольких милях от римской границы.
После этого чтения можно опереться на следующие факты: Боргес -
своего рода вандеец, и с ним были честные люди, например его
офицеры. Он встретил некоторое количество приверженцев Бурбонов: это
пастухи, крестьяне, старые солдаты, но их немного. Шайки,
оказывавшие ему поддержку и владевшие краем перед его высадкой, состояли из
воров и убийц, которые обыкновенно, при взятии какого-нибудь
местечка или города, грабят, насилуют, убивают, вообще ведут войну, как
•80·
НЕАПОЛЬ
дикари. Национальная гвардия и состоятельные люди везде против них.
Хозяйка моей гостиницы в Сорренто сказала мне: «Здесь и в
окрестностях три пьемонтца на одного бурбонца, но там, на юге, три бурбонца
против одного пьемонтца». Все это согласуется между собою.
Другой разговор, в Кастелламаре, - на этот раз с унтер-офицером в
отставке. Этот беснуется и говорит с жаром апостола. По его словам,
виновники всего зла - патеры: во Франции они религиозны и порядочны, а здесь
они - воры и убийцы. Очаг заговора - в Риме. Он вспоминает пресловутого
генерала Манеса, который во времена Мюрата, чтобы взять голодом
разбойников, приказал, под страхом смерти, не выносить ни одного куска
хлеба из города. И когда один священник вышел с дарами к умирающему,
то генерал велел его расстрелять col santissimo nella mano [со святынею
в руках]. Он проводил меня до одной пользующейся известностью
капеллы и при входе пожал плечами с многозначительным выражением. Не
курьезно ли, спустя семьдесят лет, встретиться вновь с якобинцами?
Чем больше я читаю газеты и беседую, тем более вижу это
поразительное сходство. У нас тоже сперва имелась только либеральная
буржуазия; нужна была распродажа государственных имуществ и
иностранное вторжение, чтобы наши крестьяне присоединились к революции.
Мы тоже боролись с внутренним восстанием и видели, как тянулась
гражданская война в наиболее невежественной и наиболее
религиозной части страны. Мы тоже импровизировали со школами,
национальными гвардиями, армией, юстицией. Мы тоже видели, как знать
эмигрировала вместе с королем, а позднее негодовала в своих поместьях.
Здесь сокращенное издание большой книги, но новый том еще не
сброшюрован и листы плохо держатся вместе. Чтобы приобрести прочность,
ему нужно, как нашему, быть стиснутым десять лет под тяжелым
прессом; я подразумеваю - под страхом иностранного вмешательства.
Вечер с чиновниками, профессорами
и литераторами
Самое большое затруднение аая здешнего правительства составляет
значительное число привилегированных лиц, которых кормили
Бурбоны и которые теперь остались без места. Например, здесь существовала
большая фабрика железных изделий, которая обходилась в два
миллиона в год. Она ничего не производила. Мало-помалу рабочие на ней
были замещены сыновьями офицеров и чиновников, получавшими пять
•81 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
франков в день - один под видом работника-слесаря, другой как
подмастерье и т.п. Они являлись только в конце месяца - чтобы получить свое
жалованье; немногие показывались в бюро от одиннадцати до трех.
Пришла революция - и им перестали платить. Они поднимают крик -
им платят. Тогда оказывается, что фабрика слишком дорого стоит, и ее
пускают с молотка. Никто не является на торги. Наконец какой-то
отважный спекулянт берет ее на десять лет и принимает обязательство платить
48 тысяч дукатов аренды. Новый хозяин велит явиться служащим и
предполагаемым рабочим. «Я вам буду платить, как прежде, но вы будете
работать целый день». Крики и жалобы. «Тогда работайте сколько хотите, я вам
буду платить по часам». Они поднимают бунт. «Берсальеры» встречены
камнями и отвечают выстрелами. С тех пор все в порядке, и фабрика
работает, но голодные синекуристы в ярости. Один из них сказал: «Вот вам
это жалкое пьемонтское правительство! У меня было место в двести
франков, которое оставляло мне свободным весь день, и я ходил на мою другую
службу - у банкира. Теперь эти скряги отняли у меня мои двести франков,
а я женат и у меня двое детей!»
То же самое было в 1791 году со всеми этими придворными
офицерами короля, королевы, дофина, принцев, с дворецкими, псарями etc.
Король Фердинанд прикладывал руку к поставкам, как Людовик XV -
к хлебным делам. Его наличная армия равнялась девяноста пяти
тысячам человек; в бюджете же числилось сто тысяч - излишек он брал себе.
Затем он сохранял за собой, за своими фаворитами и секретарями
право назначать чиновников. Эти последние были двух сортов: чиновник
толстый, который приходил в бюро раз в месяц - получить свои
пиастры, и чиновник тощий, который исполнял все обязанности и получал
одну четвертую содержания.
Все эти люди теперь очень раздражены, что совсем неудивительно.
Патеры тоже недовольны и не имеют причин быть довольными. Они
потеряли свой престиж и не играют более руководящей роли. Три года назад
в Неаполе было столько монахов и духовенства, что одна дама из того
дома, где я живу, став у окна, насчитала сотню в один час; почти в каждом
семействе был сын, принявший духовный сан; теперь такие случаи менее
многочисленны. После революции они попрятались, теперь снова видят,
как они показываются, выходят, гуляют по двое и по трое. Они убеждены,
что правительство хочет уморить их голодом, что, конфисковав
имущество монастырей, оно объявило себя их врагом, и они работают против
него, особенно через женщин.
• 82 ·
НЕАПОЛЬ
В Неаполе четырнадцать тысяч человек национальной гвардии: это
немного на пятьсот тысяч жителей, и некоторые утверждают, что их
могло бы быть вдвое больше - и то было бы не чересчур. На это другие
возражают, что здесь масса простого народа, которому еще нельзя
доверить оружия, что он не умеет считать - его нужно еще учить; с
другой стороны, он не внушает опасений, он не умеет строить баррикады.
Три года назад, когда вся аристократия отсутствовала, национальной
гвардии было более чем достаточно, чтобы поддерживать порядок. В
каждой муниципии повторяется то же: начальники предпочитают иметь
сравнительно небольшое число людей. Полубродяг или
скомпрометированных связями с прежним правительством они не вербуют. Наконец
все крестьяне вооружены и маршируют с ружьем на плече; это старая
привычка - результат вендетты и укоренившегося разбойничества. Когда
приехал Виктор Эммануил, они теснились все в этом снаряжении на
его пути - верное доказательство, что они не чувствовали себя ни
завоеванными, ни угнетенными. Один иностранный посланник,
присутствовавший при этом, сказал: «Италия сделана».
Я возвращаюсь к этой национальной гвардии в четырнадцать тысяч
человек. Эта цифра указывает только на правящую буржуазию и
оправдывает, до известной степени, декламации ее врагов - как, например, того
неаполитанского маркиза, бесноватого сепаратиста, который в Париже,
назад тому пятнадцать дней, обвинял в разговоре со мной национальных
гвардейцев в том, что они являются лишь котерией, и называл их
изменниками, сообщниками пьемонтцев, уверяя, что весь народ, вся знать,
кроме нескольких перебежчиков, угнетены и ропщут втихомолку. В
качестве возражения мне предлагают прочесть клерикальные газеты,
продающиеся в Неаполе на улицах, которые повторяют то же самое, в еще
более сильных выражениях, - это доказывает, что здесь никому не
затыкают рта. Наконец, гарнизон Неаполя - всего шесть тысяч человек;
неужели этого достаточно аая усмирения города в пятьсот тысяч душ, если
бы он захотел восстать? Что до средств привлечь к новому порядку
крестьян, то мои собеседники признают, что правительство не имеет, как наш
Конвент, громадного количества национальной собственности аля
распродажи, что со времени первого Наполеона феодальный режим в
королевстве отменен и уже значительное количество крестьян сделалось
собственниками. Однако только что разбиты на участки имения закрытых
монастырей, и их распродажа привлечет к революции многих
приобретателей. Кроме того, можно рассчитывать на вновь распахиваемые земли,
•83 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
на новую культуру, на возрастание народного богатства. Здешняя страна
удивительно плодородна: есть земли, которые дают сразу семь сборов -
корнеплоды, кормовые травы, виноград, абрикосы, орехи etc. В течение
двух лет культура хлопка распространилась повсюду, и выгоды ее
громадны: вместо 8 или 10 дукатов центнер поднялся до 32 и 40.
Крестьяне теперь вынимают серебряный пиастр из кармана, отправляясь в кафе;
они платят по займам и срочным платежам; они начинают приобретать
землю - это их страсть; в некоторых местах сбор достаточен, чтобы
оплатить участок. Уже давно замечено, что в округах, где распространена
мелкая собственность, меньше грабежей и больше труда, и еще Мюрат
издавал законы в этих видах; так же и теперь во многих местах начинают
продавать и делить земли крупных поместий. Прибавьте к этому
конфискованные имущества, о которых только что было говорено, и заметьте
еще, что являются иностранные капиталы, что открываются фабрики,
распространяются газеты и что неаполитанец, как доказывает опыт,
выучивается читать и писать в три месяца: нет расы более тонкой, более
способной схватить и понять всякую идею. Крестьянин, разбогатевший
и просвещенный, станет либеральным.
Один из присутствующих передает беседу, которую он имел недавно
с одним солдатом. Этот солдат служил при Бурбонах; когда Гарибальди
высадился со своим маленьким отрядом, прошел слух, что он ведет
шестьдесят тысяч человек. Тогда солдаты роты, с разрешения своего
капитана, сложили ружья и разошлись совершенно спокойно по домам.
По провозглашении Виктора Эммануила наш друг встретил вновь
своего знакомца уже уволенным, в качестве ветерана. Он стыдит его и
вносит его в списки, так что тот снова попадает на службу, совершенно
против своей воли. Через год - новая встреча; на этот раз человек в
восторге и исполнен благодарности; у него уже воинственный вид. «Ах,
Эччелленца [ваше превосходительство], как я доволен! Я видел Милан,
Турин, всевозможные города; я научился читать». - «И писать?» - «Еще
не совсем хорошо, но я подписываю свое имя». - «Ладно; вот тебе
пиастр; когда ты выучишься писать, ты получишь другой». Вот человек,
преобразованный военной жизнью; она дала ему привычки
дисциплины и чистоплотности, чувство чести и отечества. Наш друг сказал
одному из них: «Вы идете сражаться за короля». - «Нет, не за короля, а за
отечество, ведь есть парламент». Они читают газеты в одно су; они говорят
громкие слова, немного пустые иногда и которыми они
злоупотребляют, но благородные и верные аая данной минуты, - слова, которые
•84·
НЕАПОЛЬ
имеют такое сильное влияние на мужчин. Я слышал в вагоне разговор
двух итальянцев, вернувшихся в Неаполь после пятилетнего
отсутствия. Один из них сказал: «Они стали лучше; теперь это почти
нравственный народ».
Им нужно время: время укрепит все, даже финансы. Эти последние
составляют больное место настоящего момента: за последний год
дефицит равнялся миллиону в день. Но мало-помалу это поправится - по мере
того как народ будет больше производить и потреблять. За только что
истекший год Неаполь продал хлопка на сто миллионов, а в этом году
урожай будет еще лучше. Южные таможни не приносили почти ничего:
все было открыто для контрабандистов; назначили других таможенных
чиновников, и брат одного из наших друзей, инспектор, говорит, что
в этом году будет увеличение на семьсот тысяч дукатов.
Другой признак успокоения. Правительство распорядилось убрать
статуи мадонн с углов улиц: их находили поутру пронзенными
кинжальными ударами. Это делалось не то партией Мадзини, не то партией
Бурбонов. Статуи были перенесены в соседние церкви. В некоторых
кварталах женщины собирались толпами, приходили в отчаяние, ломали руки;
но во многих других местах толпа говорила, что это хорошо, что их только
профанировали, загрязняя стены и расточая перед ними клятвы.
Здесь происходит интересный опыт, достойный внимания
наблюдателя; опыт революции - менее неистовой, нежели наша, менее выбитой
из колеи иностранным вмешательством, - той же самой в основе, потому
что дело идет, как и у нас, о том, чтобы переделать феодальный народ
в народ современный, но отличающейся в том отношении, что
трансформация происходит в закрытом сосуде, без взрывов. Правда, что один
удар австрийского штыка разобьет этот сосуд вдребезги.
То же оживление и те же излишества и в науке, и в религии, как в
политике. В университете десять тысяч слушателей и шестьдесят
профессоров. Студент нанимает комнату за двадцать франков в месяц; он питается
макаронами, фруктами, овощами: в этой стране едят мало, а предметы
необходимости дешевы. Наука и направление - немецкие; Гегеля читают
прилежно; г. Вера, его наиболее ревностный и авторитетный
истолкователь, занимает кафедру Г-н Спавента пытается открыть итальянскую
философию, показать в Джоберти нечто вроде итальянского Гегеля, - так
самолюбие и национальные предрассудки проникают даже в чистое
созерцание. Вчера одна газета, хваля картину современного итальянского
художника, выставленную в музее, жаловалась, что итальянцы недоста-
•85 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
точно восхищаются своими художниками и грешат слишком высокой
оценкой иностранного искусства. Все это наивно, но искренне.
Молодые люди и публика крайне интересуются всеми этими
исканиями. Неаполь - родина Вико; она всегда отличалась философскими
способностями. Недавно здесь ходили толпой на изложение
«Феноменологии» Гегеля. Они переводят без затруднения специальные
философские термины и абстракции - Боже, какие абстракции! Из центральной
точки дух той же системы распространился по разным отраслям знания.
Изучение права, говорят, идет особенно усердно и ведется совершенно
по немецкому образцу. Учащиеся погружены еще в формулы и рубрики
классификаций Гегеля, но профессора начинают уже вырастать из них
и ищут самостоятельных путей - каждый на свой лад и соответственно
своему духовному складу. Новые идеи еще смутны и нерешительны; ничто
еще не сложилось - складывается все.
В ожидании можно спросить себя: хорошо ли выбрана пища, которою
они питаются, и могут ли новые умы ассимилировать подобный корм, это
плохо прожаренное и тяжелое мясо? Они объедаются им с аппетитом
молодости, как схоластики двенадцатого столетия пожирали Аристотеля,
несмотря на всю свою с ним несоизмеримость, - с опасностью не
переварить и даже подавиться. Один очень образованный иностранец, живущий
здесь уже десять лет, говорил мне, что они понимают без труда самое
сложное немецкое рассуждение и всевозможные диссертации, -
французские же книги гораздо хуже. Если им предлагают повести Вольтера, то
они увлекаются ими только наполовину. Они не чувствуют их изящества
и видят в его иронии только средство обойти цензуру. Г-н Ренан, который
их бесконечно восхищает, кажется им слишком робким. «Зачем он делает
столько оговорок? Это тонкий реставратор христианства». Его
законченное искусство, его такт, его чувство, столь поэтическое и столь
проницательное, ускользают от них. Они перевели его книгу, они раскупили
в Неаполе десять тысяч экземпляров, они считают за счастье видеть и
коснуться письма, писанного его рукой; но они любят в нем бойца, а не
критика. Вот почему у них имел большой успех «Проклятый»; это заглавие
видишь в окнах всех книжных магазинов. Эта тяжелая артиллерия их
веселит. Они требуют смелой атаки, грубого изложения фактов: они мстят
за свое прошлое рабство.
Хороших газет нет совсем. Создалась мода на листы в одно су
соответствующего содержания. Читатели бросаются утром на телеграфные
новости и требуют, чтобы они подкреплялись какой-нибудь тяжелой
•86·
НЕАПОЛЬ
тирадой. С этой же точки зрения они судят и о наших французских
органах: они не ценят умеренного красноречия, сдержанного стиля,
тонкой иронии г. Прево-Парадоля; они предпочитают гораздо более
передовицы демократических газет. Вспомним наши собственные газеты
в 1789 г., их декламации, их резкие выражения и пустую риторику.
Вчера, завтракая в кафе, я нашел в газете в одно су оригинальный
фельетон - четвертую лекцию профессора Феррари по «Философии
истории». Он излагает идеи Джанноне и его скороспелые исследования по
истории религий. Согласно Джанноне, первые христиане вовсе не верили
в рай; их главный догмат был воскресение тела; до воскресения мертвые, по
их мнению, пребывают в состоянии инерции и ожидания. Мало-помалу
в своем дальнейшем развитии теология выделила умерших верных; скоро
св. Августин допускает уже для них предварительное полу блаженство, при
папе же Григории Святом они возносятся прямо на небо.Понятно,что идеи
этого рода, изложенные так свободно и так широко популяризованные,
должны иметь большое влияние.
Иезуитская коллегия теперь находится под покровительством Виктора
Эммануила. На улицах встречаешь учеников различных отделений,
предводимых уже не патером, а сержантом. На эту эволюцию и рост
народного просвещения возлагают здесь лучшие надежды. Открыты пятьдесят
восемь коммунальных школ в Неаполе и по одной во всех главных
местечках. В среднем классе много читают. Все интересные и научные книги,
немецкие, английские и французские, получаются здесь в книжном
магазине Деткенса; самые серьезные работы по физиологии, праву,
лингвистике и особенно по философии находят себе покупателей; по вечерам
упомянутый магазин превращается в своего рода литературный и ученый
клуб. Они испытывают бесконечное удовлетворение от свободных бесед
на все великие темы. «Три года назад, - говорят они, - мы не осмеливались
беседовать, даже при закрытых дверях. Едва мы собирались, как у
нашего сапога уже вертелся шпион». Они сейчас в полном разгаре творчества
и возрождения. Усердно раскапывают Помпеи и обнародуют новые
открытия в великолепных выпусках, украшенных разноцветными
рисунками. Истинное удовольствие - наблюдать эти изящные итальянские лица,
эти выразительные глаза и угадывать, под внешней сдержанностью,
внутренний жар. Они выражают откровенно или едва скрывают глубокую
радость человека, который может снова шевелить своими членами после
долгого заключения в тюрьме. Что касается идей, то предварительная
подготовка у них имеется: уже при Бурбонах две или три книжные лавки
•87·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
разбогатели на контрабанде, давая взятки таможенным чиновникам и
ревизорам, пряча книги под тюфяком и продавая их по четверной цене. Так
составились прекрасные библиотеки, даже в провинции, например
библиотека отца поэта Леопарди. Какой-нибудь мелкопоместный дворянин,
какой-нибудь буржуа в отставке занимались не ради славы и не из выгод
(быть ученым было опасно), но ради науки, а при этом условии усваивают
скоро и много. Я видел одного молодого человека двадцати одного года,
который работал таким образом совершенно один и для себя и который
знает санскрит, персидский язык, дюжину других языков, изучил
основательно Гегеля, Гербарта, Шопенгауэра, Стюарта Милля и Карлейля,
вполне в курсе всех наших французских писаний и всех немецких новостей -
всего относящегося к праву и философии, к занятиям лингвистикой и
экзегезой. У него эрудиция и понимание сорокалетнего человека; теперь он
едет на год в Париж и Берлин пополнить свое образование. Вот
прекрасные семена; желательно, чтобы их было много и чтобы они развились. Но
учиться усердно и любить борьбу идей - это еще не все. Нужно творить,
нужно проложить свой собственный путь: без творчества нет истинной
культуры. Многие из моих друзей выражают беспокойство в этом
отношении: они считают все это кипение поверхностным и утверждают, что
это новейшее знание есть своего рода опера, огромная феерия, которой
увлекаются отвлеченные умы. «Несколько ученых, - говорят они, - ввозят
и нагромождают целые горы иностранных материалов. Толпа
любопытных теснится вокруг планов, факсимиле и копий чужих творений. Кто же
задумает и создаст монумент национальный?»
На улицах, на прогулке, в театре
Большинство женщин ординарны, но довольно много очень
красивых молодых людей, очень элегантных и безукоризненно одетых. Один
из наших друзей, объехавший Италию, рассказывал, что во всех
маленьких городах встречаешь людей, которые обедают куском хлеба и сыра,
но имеют свежие перчатки и выглядят так, словно они только что
вышли от Дюзотуа. Общее правило: что чем больше мужчина думает о
женщинах, тем лучше он одевается.
У многих из этих молодых людей лица, подобные лицам Корреджо, -
с выражением спокойной чувственности, с неизменной улыбкой
счастливой беспечности. Это очень привлекательно и дает понятие об их
манере любить. Когда они говорят с женщиной, эта улыбка становится еще
более манящей и нежной: ничего острого и дерзкого, как у француза.
•88·
НЕАПОЛЬ
У них восторженный вид; они, кажется, смакуют одно за другим, как
капли меда, слова, которые падают с их уст. Уличные песенки, народная
музыка, опера Чимарозы выражают те же чувства.
Каждая молодая девушка из народа уже в пятнадцать лет имеет
возлюбленного; каждый молодой человек семнадцати влюблен, и эта страсть
очень сильна и очень продолжительна. Оба мечтают о свадьбе и ждут так
долго, как нужно, то есть до тех пор, пока влюбленный будет в
состоянии купить главный предмет домашней обстановки - огромную
квадратную кровать. Прибавьте, что в промежутке он не живет, как траппист.
Нет народа, более преданного удовольствию и более скороспелого: в
тринадцать лет ребенок уже мужчина.
Молодая девушка сидит у своего окна; юноша проходит мимо,
возвращается, скрывается под воротами; они подают знаки друг другу. На
той улице, где я живу, имеется одно окошко, которое всегда
полуоткрыто; любовник едет в экипаже вверх по улице и спускается вниз раз
тридцать подряд в послеобеденное время; потом он отправляется гулять на
Виллу Реале. Вы можете без всякой неловкости спросить у молодой
девушки: влюблен ли в нее кто-нибудь? «Ну, конечно, иначе это значило
бы, что я урод или очень противна». - «А вы его любите?» - «Конечно;
или вы думаете, что у меня нет сердца?»
Я видел вчера точное изображение этих нравов в маленьком
народном театре Сан Карлино. Две влюбленные - настоящие неаполитанские
гризетки; одна пикантная, другая grassota [толстушка], обе вульгарные,
аппетитные и со здоровой глоткой, оглушающие своей перебранкой,
когда они сцепятся. Среди этого уличного быта любовь расцветает, как
роза среди черепков и разбитой посуды. Нельзя вообразить себе более
прелестной улыбки, чем у Аннареллы, когда под конец она принимает
предложение Андреа. Ее прекрасные зубы, полуоткрытые губы, большие
глаза, полные нежного снисхождения и восторженного блаженства, -
все существо ее расцветает. У нее нет ни хитрости, ни показной
добродетели, как во Франции; она не умеет жеманиться. Он целует ей руку, -
и между тем это только полубуржуа, почти простой человек, но он
любит ее уже три года. Тотчас вслед затем - красивый жест, фамильярный
и нежный, - он кладет ей руку на голову, чтобы поправить прядь волос.
Аюбовь... Здесь невозможно думать ни о чем другом; это важнейшая
мысль; ее подсказывает уже климат и природа страны. Это делается
понятным, более того - ощущается, когда проведешь час на этом море.
Из барки, направляясь к Позилиппо, видишь виллы и дворцы, спуска-
• 89·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ющиеся до самой блестящей воды; у некоторых из них фундамент на
сваях, куда входят волны. Сады спускаются вниз этажами, с их
оливами, апельсиновыми деревьями, индейскими смоквами и шапкой
ползучих трав, одевающих наготу скалы. На высотах обрисовываются
круглые головы пиний, совершенно черные на ясном небе.
Неаполь удаляется - и вот он уже не более чем большой белый
муравейник. Везувий растет и развертывается во всей своей громаде. Синева
заливает все. На море, на небе, на земле - нет ничего, кроме лазури,
и мягкие оттенки тонов делают только еще более нежным этот красочный
концерт. Горы как шея горлицы; море - цвета шелкового платья, а на
бледно-бархатном небе рассыпалось сияние... Одинокая группа белых
барок далеко впереди кажется стаей чаек. Нежный ветер касается лица -
и судно танцует. Не думаешь ни о чем, чувствуешь только этот воздух,
ласкающий и теплый, и глядишь на колыхание маленьких волн...
Но эта любовь не всегда спокойна. Третьего дня я видел, при выходе
из вагона, одну девушку, у которой на обеих щеках было три широких
шрама от удара ножом, - это ее любовник пометил ее, чтобы помешать
понравиться сопернику. Иногда случается, что девушка с такими
рубцами выходит замуж за этого человека и защищает его перед судьями:
«Это моя вина; он был ревнив, а я его дразнила». Их нервы
раздражаются, по-видимому, от всякой неровности климата, и в ножевых ударах
они такие же импровизаторы, как во всем другом.
Эти убийства, без обдуманного намерения, многочисленны.
Наказание - двадцать лет каторги в оковах.
Первое впечатление у них всегда слишком сильно; курок, чуть
задетый, внезапно срывается, с преувеличением, иногда ужасным, чаще же
всего смешным. Здешние торговцы, выкрикивающие названия своих
товаров, похожи на бесноватых. Этим утром, пока я завтракал, один
продавец разных безделок истратил на моих глазах в течение получаса
столько жестов, что их хватило бы на три месяца аая двух комических актеров.
Он совал свой хлам в руки присутствовавших, дул в свои раковины, как
в трубу; прикидывал на руку свои грошовые часы и притворялся, что
прислушивается к их мнимому тиканью; принимал плачущий и нежный
тон, чтобы получить одним граном больше; выражал восторженное
удивление перед своими куклами, и буффонил, и суетился, я думаю, столько
же, аая удовольствия, сколько в интересах своей торговли, - это способ
облегчить переполненную душу. Два кучера, начавшие перебранку,
кажется, совсем вне себя. Минуту спустя они уже не думают об этом. Вкус
•90·
НЕАПОЛЬ
к разной мишуре происходит из того же источника. Мулы здесь
разукрашены помпонами; на каретах - сложные медные украшения; на
похоронных колесницах - позолоченный бордюр. Женщины не могут
обойтись без золотых цепочек, и даже бедные девушки надевают, поверх своих
лохмотьев, красную шаль с разводами или алый фуляр с цветами. Это
богатство фантазии, которая кипит и рвется наружу.
Всякое дело они делают скоро, легко, без застенчивости и стеснения.
Мой возница в Кастелламаре был настоящий вития; всего труднее было
заставить его замолчать. Женщина из простонародья вступает с вами в спор,
подает вам советы, поправляет ваше произношение; она держится
свободно и не чувствует себя ниже вас. Иногда встречается внешняя
почтительность, но никакой действительной. Характер этих людей не согласуется
с нею: человек здесь слишком боек, слишком уверен в своей ловкости,
чтобы испытывать затруднение или стесняться перед кем или чем-либо.
Но у них много и хороших качеств. Два живущих здесь иностранца,
из которых один - управляющий заводом, хвалят их, узнав на практике
в течение десяти лет. Люди эти страстно любят своих детей: когда отец
возвращается с рыбной ловли, мать приносит их к нему; он берет,
целует, ласкает, строит им разные гримасы. Они любят и детей вообще, а не
только своих собственных. Миловидность, невинная красота этого
возраста трогает их: в ней есть поэзия, и они чувствуют ее. В отсутствие
г-на Б. работники его фабрики ласкают его детей, умиляются над ними,
иногда со слезами на глазах.
В большинстве семейств куча детей - шесть, восемь, до двенадцати.
Они не избегают их иметь; напротив, они довольны: умерший ребенок
становится маленьким ангелом в раю. На посторонний взгляд, эта
беспечность родителей носит какой-то животный характер. Один
погонщик ослов, у которого было двенадцать детей и которого упрекали за это,
отвечал: «Я крепко надеюсь иметь еще четверых». Апельсин здесь стоит
один сантим; в одной рубашке человек уже одет; три четверти года можно
спать под открытым небом.
Браки заключаются очень рано. В двадцать лет, даже среди буржуазии,
мужчины уже женятся. Очень много браков по склонности: девушки, не
имеющие ни одного су, находят себе мужей. Встречаются светские люди,
женившиеся на работницах. Итальянская гризетка без труда становится
дамой.
Простонародье очень умеренно: его обед - хлеб с луком. Один старый
работник, сделавший из своего сына почти барина, съедает сам только
•91 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
гран хлеба в день (4 сантима). Они работают целый день, иногда до
самой полуночи, за исключением только времени полуденного отдыха - от
двенадцати до трех. Видишь сапожников под открытым небом,
ковыряющих шилом с утра до вечера. Слесари, занимающие целую улицу
позади порта, никогда не прекращают своего стука. Г-ну Б. нужно было
пятьдесят женщин аая сбора хлопка; двести пятьдесят ворвались к нему, сбив
с ног привратника. Однако работают они хуже, чем
работники-французы или северные итальянцы, и нужен надзиратель, который понуждал бы
их к труду
Это дети, блестящие, легкомысленные, энтузиасты,
неуравновешенные, отдающиеся во власть своей натуре. В обычном состоянии они
любезны и даже кротки; но в минуту опасности или в припадке гнева,
в эпохи революции и фанатизма они доходят до крайних пределов
ярости и безумия.
В Сан Карло. «Трубадур»
Шесть ярусов лож. Зала превосходна: не слишком освещена и без
лишнего блеска. Здесь умеют щадить глаза и все чувства; зрители не
набиты битком, как у нас в Опере или в Итальянском театре. Кулуары
широки; свободный боковой проход позволяет обходить вокруг партера;
сиденья постепенно повышаются, и в зале прохладно.
Зато во всем остальном это провинциальный театр, обветшавший
и посредственной чистоты. Почти не видно блестящих туалетов, а
между тем поет Тициани, и цены двойные. Декорации, за исключением
одной, плохи; балетные же смешны: среди других ад со своими желтыми
скалами кажется меблировкой утрехтского бархата, взятой напрокат из
гостиницы. Тенор - пухлая комическая фигура, нечто вроде уродливого
Геркулеса Фарнезского; на нем одна из тех старинных касок с перевязью
под подбородком, которую можно найти только среди классического
хлама. Бас и Азучена достойны его. Костюмы устарели: здесь
понимают Средние века, как мы понимали их во времена первой Империи;
посмотрите в наших провинциальных гостиницах на трубадуров на
столовых часах. Одна Тициани одета сносно. Все пели фальшиво, и
поведение публики забавно. При малейшей сомнительной ноте свистки, писк,
петушиное пение, всевозможный шум; потом, мгновение спустя, если
конец арии сошел хорошо, - оглушительные аплодисменты. Несколько
человек в партере напевали вполголоса арии и даже оркестровые партии -
и очень верно. У дверей то же проделывало простонародье. В параллель
■92 ·
НЕАПОЛЬ
этому, здешние уличные певицы имеют резкие голоса, но поют не
фальшивя. Эти люди в самом деле музыканты; они понимают все оттенки,
верную передачу и ошибку в музыке, как мы в Париже понимаем тонкости
юмора и шуток.
Первая танцовщица, signora Легрэн - француженка, и балет здесь еще
хуже, чем в Париже, - это то же верчение, то же проворство и снование
тощих пауков. К тому же все, что у нас придает интерес балету, здесь
отсутствует: нет ни вкуса, ни изящества, ни новизны. У нас по крайней
мере есть декорации, которые стоят картин; костюмы, которые очаровали
бы поэта; доспехи, которые заинтересовали бы любителя древностей.
Несомненно, наша централизация, причиняющая нам столько зла, дает
нам и все наши лучшие вещи - оперу, литературу, разговор и кухню.
В Сан Карлино
Сегодня здесь играют «Двойников», переделанных на
неаполитанский лад. Во всей Италии переводят французские пьесы, но эта
переделка оригинальна: типы, нравы, диалоги, язык характерны для Неаполя
и вполне простонародны.
И сам театр такой же. Это нечто вроде погреба. Толпа гризеток,
рабочих, мелких купцов в старых бархатных куртках и в картузах жмется
и теснится. Жара страшная, запах тоже, и блохи прыгают по вашим ногам.
Но актеры играют очень хорошо, у них много естественности и большая
привычка к подмосткам, что, впрочем, неудивительно: они играют ту же
самую пьесу по два раза в день - в полдень и вечером.
Многие сцены превосходны. Между другими - влюбленного юноши,
покинутого возлюбленной, - никакого самолюбия, а настоящее
отчаянное горе, которое разражается в негодующих движениях, в страстных
мольбах. Француз вложил бы сюда чувство задетого достоинства. Почти
все - великолепные мимики, особенно кабатчик и его жена. Их лица
играют непрерывно, двадцать выражений появляются и сбегают с них в одну
минуту, и каждое - такое верное, такое законченное, что, взяв гипс, можно
бы отлить модель.
Стиль грубый, вполне в духе Рабле. Отец рассказывает, что у него
родилось двое близнецов. «Славная новость! - подхватывает Пульчинелла, -
соседская свинья принесла семерых». Это совершенно шутовская
комедия, не лишенная, однако, признаков фантазии; другие, которые я читал,
напоминают своей безумной изобретательностью великие буффонады
Аристофана. Пульчинелла - страшный трус, льстец, гурман, плакса, по-
•93 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
рочный и умница. Это проказник, вовсе не злой по существу, но который
любит прохаживаться за счет соседа и забавляется всем, не щадя и самого
себя. Один философ-моралист, с которым я познакомился здесь, говорит,
что это настоящий портрет неаполитанца - такого, каким его сделали
Бурбоны. Это испорченный грек («Graeculus») - удивительно способный,
лукавый, большой насмешник, но употребляющий все свои способности
во зло и развращенный правительством, которое воровало; судьями,
которые позволяли сторонам подкупать свидетелей, всей испорченностью,
царившей в высших кругах, и убеждением, находившим себе
беспрерывное подтверждение, что честность ничего не дает и может только
принести вред. Лаже сейчас, если они и взялись за нее, то больше из
верно понятого расчета, чем вследствие пробуждения совести. В них еще
силен дух прислужливости, изворотливость, умение избегать и обходить
все трудности, отвращение к прямому действию, талант болтать,
буффонить, быть приживальщиком, посредником, слугой. Рядом с ними, как
некогда рядом с греками, северные итальянцы выглядят увальнями. Когда
пьемонтцы по своем прибытии хотели привести в порядок
администрацию, вокруг них захлопотали, заулыбались и провели их без труда. Как
греки же, они имеют замечательную способность к философии - это
заметно даже в школах, среди простых крестьян. Как греки, наконец, они
все понимают и выучиваются всему без учителя. Мой гид в Помпеях
выучился по-английски и по-французски в два года совершенно
самостоятельно, в разговорах с путешественниками, спрашивая и записывая в
старую тетрадку на серой бумаге неизвестные ему слова. «Я рассказал вам
наши пороки, - прибавил мой моралист, - но натура у них хорошая,
способности богатые, даже слишком, - ум у них господствует над
характером. Скажите же мне, какое правительство более пригодно
управлять ими - правительство ли деспота, который сажает ученых в
тюрьмы, или - буржуазии, которая учреждает школы?» $У
Ill
ОТ НЕАПОЛЯ ЛО РИМА
§i,r>i-i4
Ч··
SWKr*
φψμ -дач-
.м
^v* ■ ' -ri -WZ*
Ьк ' 'M
-Jfc**
Остров Искья в окрестностях Неаполя. Фотография 1860-х голов
6 марта 1864,
от Неаполя до Сан Ажермано
ПЛОТЬ ΔΟ КАПУИ окрестности представляют
собой сплошной сад. Зеленые посевы, свежие,
как в мае, покрывают равнину; через каждые
пятнадцать футов ветвистый вяз поддерживает
извилистую виноградную лозу, которая
протягивает свои отростки вплоть до другого ствола;
таким образом, все поле напоминает
обширный трельяж. Поверх этого коричневого
переплета лоз, поверх беловатых ветвей вязов пинии, как некая странная
и высшая раса, возносят спокойно свой черный купол.
Вольтурно - незначительный желтоватый ручеек, и Капуя - город
более чем обыкновенный; но эти поля так богаты! Посевы местами в рост
человека, а воздух так мягок, что все окна в вагоне остаются
открытыми. Вспоминаешь о древних самнитах, глядя на суровую гряду гор,
которая подымается за городом. Как было этим волкам ущелий и высот не
бросаться на добычу равнины? Подобный город был приманкой. Тогда
вспоминаешь рассказ Тита Ливия - эту великую сцену, полную
театральности и чистосердечия, свойственных южанам, когда депутаты,
простертые ниц при входе в курию, с мольбою, с глазами, полными слез, отдают
в собственность римского народа свое тело и все свое достояние «город
Капую, сельское население, поля, храмы богов, все божественное и
человеческое». Какая росла преданность государству, какая озабоченность
политикой у самого мелкого ремесленника, какое вынужденное
слияние интересов, частных и общественных, когда с высоты городских стен
каждый видел приближающиеся шайки пастухов-грабителей, подобных
теперешним разбойникам, когда каждую неделю в главном храме города
граждане совещались о том, чтобы не быть разграбленными, убитыми
или проданными в рабство! Мы не поймем никогда всей
приверженности древнего человека к своему городу
Горы почти голы и усеяны мелкими скалами, похожими на остатки
какого-то крушения, как будто эти вершины и склоны поколебались во
время землетрясения и их треснувшая кора рассыпалась на куски.
Острые уступы врезаются в небо, как клинок. Деревьев нет совсем, только
несколько чахлых или колючих кустарников да мох; местами - ничего.
Одна гора тянется зазубренным треугольником наподобие кучи шлака;
другие подымаются вверх, покрытые трещинами, точно после яростного
• 97 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
пожара, и похожи на мумию, осыпанную пеплом, среди своих бурых
товарищей. Самые высокие, на горизонте, увенчаны снежным султаном.
Оттуда спускались самниты - авантюристы «священных весен» - в своих
козьих шкурах, с ногами, обвязанными веревками, с нечесаными бородами,
с черными глазами и неподвижным взглядом пастухов, которые и сейчас
перед нами. Нужно жить в Калифорнии или в Новой Зеландии, чтобы
понять в наши дни роль античного города.
Небо так же прекрасно, как в июне, жаркое и великолепное. Горы
с обеих сторон чистого строгого синего цвета (caeruleus) и расположены
одни позади других амфитеатром - как будто затем, чтобы доставить
удовольствие глазам. Воздух, сгущенный расстоянием, набрасывает
пышную, сверкающую и прозрачную одежду на эти огромные тела, а над ними
мирные облака громоздят свои снежные завитки.
Накануне шел сильный дождь, и работники всякого рода очищают
дорогу, размытую потоками. В первый раз - вот действительно
красивые женщины: они в лохмотьях, и до них не рвешься дотронуться и
перчаткой; но в десяти шагах они похожи на статуи. Принужденные носить
воду, известь, разные тяжести на голове, они усвоили прямое положение
и благородную походку греческих канефор. Грубая белая ткань
покрывает их головы и, падая с двух сторон, защищает от солнца. На этом
белом фоне жаркий колорит кожи и черные глаза сверкают великолепно.
У многих правильные черты лица; одна, немного бледная, тонка, как
фигура Винчи. Рубашка струится вокруг шеи и над корсажем, точно
нарочно аая кисти художника; юбка падает свободными складками, потому
что корпус держится прямо.
По мере приближения вечера горы, громоздящиеся на востоке,
становятся все более прекрасными. Они не слишком близки и не слишком
велики, они не подавляют, как Пиренеи, и не печальны, как Севенны.
Между ними тянется широкая плодородная равнина; они очень
декоративны и образуют второй план картины. Их благородство и мягкость
безукоризненны. Незаметно они принимают оттенки фиолетовые,
лиловые, рыжие. Иные кажутся муаровой тканью с ее изломами: резкие
края и голые выступы на этом расстоянии не более чем лоснящиеся
сгибы. Города и замки на вершинах стоят белыми группами, а небесная
лазурь так чиста, так ярка и, однако, так нежна, что я не помню, чтобы
видел когда-нибудь более прекрасный цвет.
•98·
ОТ НЕАПОЛЯ АО РИМА
Монтекассино
Я знаком с одним из старших [по сану] в Монтекассино; я поднялся
туда поездом. Ты встречал это имя: это главное и самое старое
аббатство бенедиктинцев. Оно шестого века и построено на месте храма
Аполлона, но землетрясения разрушали его много раз, и теперешнее здание -
семнадцатого века. Из этого центра монашеская жизнь
распространилась по всей варварской Европе в самые темные времена Средневековья.
То, что уцелело от античной цивилизации, хранилось так по дальним
углам, под монастырской корой, как хризолида в своем коконе. Монахи
копировали манускрипты среди бормотания молебнов, между тем как
дикари севера проходили взад и вперед по долинам, видя на скалистой
вершине крепкие стены, ограждавшие последнее убежище. Много раз
они брали их приступом, а позднее, обратившись, склоняли свою голову
в суеверном страхе и приходили лобызать мощи. Один король, история
которого изображена на ограде, оставил здесь свою корону, чтобы надеть
монашескую рясу.
Аля подъема в монастырь отправляются из Сан Ажермано. Это
маленький городок на отрогах гор, бедный и безобразный, с сетью
каменистых кривых переулков, с детьми в лохмотьях и блуждающими
свиньями. Двери домов открыты; черное крыльцо ясно читается на резкой
белизне стен, и домашняя утварь, смутно различаемая сквозь зыбкую
тень, мелькает в этих глубинах, усеянных дрожащими бликами света.
Направо, поверх необычного нагромождения рыжих глыб, зубчатая
гора поддерживает развалины феодального замка. Налево, на протяжении
полутора часов, дорога подымается зигзагами на вершину. Мастиковое
дерево и пучки разных злаков блестят между обломками скал; на
каждом шагу снуют ящерицы среди камней. Выше появляются каменные
дубы, буксус, дрок, крупный молочайник и вся зимняя растительность,
которая может существовать между разбитыми глыбами, на буграх
бесплодного камня.
Со свободной стороны открывается строй гор; ничего, кроме гор, -
это единственные обитатели здешних мест; они заполняют весь пейзаж;
за ними еще другие, и так много цепей. Одна гора, с расщепленной
вершиной, выдвигается вперед, как береговой мыс, и ее длинный скелет
кажется чудовищной ящерицей, прилегшей у входа в долину. Такое зрелище
оставляет далеко позади себя Колизей, собор Святого Петра, все
человеческие памятники. Каждая гора имеет свое выражение, подобно лицу
одушевленного существа, но выражение непередаваемое, потому что никакая
•99·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
живая форма не отвечает этой минеральной форме. Каждая имеет свою
окраску: одна - серая и обожженная, точно собор, разрушающийся среди
пламени; другие - коричневые, покрытые сетью длинных белых излучин
от потоков воды; более далекие - голубые и светлые; крайние - беловатые,
в горделивых одеждах туманного сияния; все великолепно испещренные
тенями своих соседей и бегущими пятнами облаков; все, при всем своем
разнообразии, облагороженные бархатным светом, который их
окутывает, и великим куполом неба, которого они достойны своей громадой.
Никакая кариатида не сравнится с этими колоссами.
На вершине, на площадке, расположился громадный
четырехугольный монастырь, громоздя этажами свои террасы, в окружении
каменистых садов, и семья обнаженных вершин образует хор, центром которого
он является.
В конце длинной покатой паперти виден двор, окруженный
колоннами. Оттуда широкая лестница возносит свои ступени вплоть до
другого, более высокого двора, также обнесенного портиками; статуи аббатов,
государей и покровителей образуют молчаливое собрание вдоль стен.
В глубине открывается церковь. От ее портала видишь ряды колонн и
изгибы арок, которые словно вырезаны на лазури, а вдалеке, в сияющей
дымке вечера, - раскинувшуюся архитектуру гор. Камень и небо - нет
ничего другого; это рождает желание быть монахом.
Моя комната находится в конце одного из этих огромных коридоров,
в которых теряешься... Два окна выходят каждое на различный кругозор
гор. Почти нет мебели; посередине, взамен очага, теплится brasero [угли]
под белым пеплом. На стенах висят старые гравюры с Луки Синьорел-
ли - великолепные нагие тела, позирующие, как борцы, в духе Микелан-
джело. В другой комнате, между колоннами, старые почерневшие
картинки, «Товий и Ангел». Самые мелкие предметы носят печать былого
величия.
Римские ученые часто приезжали сюда провести два-три месяца в
летнюю жару и работать свободно, в прохладе и тишине. Библиотека
имеет сорок тысяч томов и некоторое количество грамот. Гостеприимство
полнейшее; нет никакой сборной кружки; самое большее - что вы
дадите что-нибудь слуге. Орден сохранил свои старые традиции,
расположение к науке, либеральный дух. Монахи совсем не заперты в монастыре,
не отделены от мира; они могут выходить и путешествовать. Один из
них - отец Тости, историк, мыслитель, благоговейный реформатор, но
полный современного духа, убежденный, что отныне нужно примирить
• 100·
ОТ НЕАПОЛЯ ΔΟ РИМА
церковь с наукой. Они работают, как и прежде, и они учат: из трехсот
обитателей монастыря двадцать монахов и около ста пятидесяти
учеников, которых обучают, начиная с элементарного образования и вплоть до
теологии. Вечером, под нами, в ущельях, полных мастикового дерева
и дрока, мы слышим, как кричат и бегают мальчики-семинаристы, и их
черные платья, их шляпы с широкими полями мелькают сквозь зелень
деревьев.
Мы обедали одни в необъятной трапезной при свете медной лампы,
похожей на помпейские, без стекла; маленький огонек бросал
блуждающий свет на плиты пола и на огромный каменный свод; его блеск тонул
в нарастающей смутной мгле. Справа огромная композиция Бассано
«Умножение хлебов» - целый кусок стены, покрытый теснящимися
фигурами, - плавала, как призрак былого, и, когда появлялся слуга,
приносивший блюда, ее черный очерк, затерянный среди желтых полутеней,
казался сам какой-то тенью...
Утро входит через ваше окно без занавесок, и вы пробуждаетесь. Я не
думаю, чтобы на свете было много таких прекрасных вещей, как этот час
в этом месте. Удивляешься при первом взгляде, найдя там же, где
накануне, все это собрание гор. Они более сумрачны, чем вчера; солнце еще не
коснулось их; они остаются холодными и суровыми. Но на огромной
окружности, которая развертывается у подножия монастыря, - в соседних
долинах, -видишь, как подымаются и реют сотни облаков; одни - белые,
как лебеди, другие - прозрачные и тающие. Иные зацепились за скалу, как
кусок газа; другие плавают в воздухе подобно туману, клубящемуся над
речным потоком. Солнце восходит - и мгновенно его косой луч
оживляет глубины. Озаренные облака сплетаются в рой воздушных существ,
нежных, пленительно-грациозных; самые отдаленные сияют слабо, как
вуаль новобрачной, - и вся эта белизна, все это зыбкое великолепие
образуют как бы ангельский хор среди черных стен амфитеатра. Равнина
исчезла; видны только горы и облака: старые, неподвижные, сумрачные
чудовища и молодые, легкие, туманные боги, которые летают, капризно
меняют свой облик и берут себе одним всю солнечную ласку.
Церковь - семнадцатого столетия - расписана Лукой Джордано и
Кавалером д'Арпино. Она отделана, подобно неаполитанскому монастырю,
инкрустированными дорогими мраморами, так что пол похож на
красивый ковер, а стены - на богатые обои. Старая суровость и сила
Возрождения здесь исчезли; уже чувствуется влияние придворных и салонных
нравов. Архитектура стала созданием светского язычества и обнаружи-
• 101 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
вает дилетантизм декораторов. Купола, аркады, колонны витые,
коринфские, всевозможные, изваянные и вызолоченные фигуры - в ход пущены
все ресурсы этого искусства. Сиденья в алтаре отделаны с удивительной
законченностью и украшены фигурками и листвой. Живопись покрывает
купол, развертывается в главном нефе, заливает капеллы, захватывает
углы, простирает огромные композиции на портале и на сводах. Колорит
ласкает глаз, как бальное платье. Прелестная «Истина» Луки Джордано
одета почти только своими белокурыми волосами; другая фигура -
«Доброта», говорят - портрет его жены. Все остальные, столь грациозные
«Добродетели» - это улыбающиеся и влюбленные дамы той эпохи,
которая, погрязнув в лености и подчинившись деспотизму, думала только
о волокитстве и о сонетах. Художник комкает шелк, мнет материи,
подвешивает драгоценные камни к нежным ушкам, заставляет сиять золотое
ожерелье на свежих атласных плечах и стремится к блестящему и
приятному до того, что его фреска «Освящение церкви» на стене у входа
представляет пышную и шумную оперную процессию.
Престол, говорят, работы Микеланджело; его поддерживают две
гигантские детские фигуры. Тяжелый золотой посох - работы Челлини.
Орган имеет очень сложный и великолепный механизм; двое немцев-
монахов изучают в архивах зарытые там сокровища старинной музыки.
Здесь есть все: искусство, наука, дивные картины природы. Вот что
старый феодальный и религиозный мир создал аая мыслящих и одиноких
душ - аая умов, которые, устрашась суровости жизни, замыкались в
созерцание и работу над собой. Эта раса еще существует, но только у этих
людей уже нет убежища: они живут в Париже, в Берлине - по чердакам.
Я знал многих из них, которые уже умерли; другие становятся
печальными и ожесточенными; иные изнемогают и чувствуют отвращение к
жизни. Сделает ли когда-нибудь наука для своих верных то, что религия
сделала для своих? Создастся ли когда-нибудь светское Монтекассино? ЛУ
IV
РИМ
ί»>
Акведуки в окрестностях Рима. Фотография 1860-х годов
10 марта, Рим
Ы СПРАШИВАЕШЬ, веселятся ли в Риме?
«Веселиться» - слово французское и имеет
смысл только в Париже. Здесь, если ты не
местный житель, нужно учиться: больше нечего
делать. Я провожу три или четыре часа в день
перед картинами и статуями. Я записываю мои
впечатления, как они есть, и на месте, и пишу
только, когда что-либо действительно
производит на меня впечатление. Поэтому не ищи здесь ни полного описания,
ни каталога; лучше купи [путеводитель] Мэррея, Форстера или Валери:
они дадут тебе сведения по искусству и археологии. Они, правда, очень
сухи, но это не их вина: можно ли посредством слов, уложенных на
бумагу, показать цвет и формы? Но что лучше всего - это гравюры;
особенно старинные, например Пиранези. Раскрой твои папки и взгляни на эти
большие четырехугольные площади, окруженные высокими зданиями
и соборами, пыльные, изборожденные колеями, где проезжает карета
стиля Людовика XIV, набитая лакеями, между тем как уличные шалопаи
приближаются, выпрашивая милостыню, или спят, опираясь на колонну. Это
говорит яснее всех описаний на свете; нужно только сделать
ограничения: художник выбрал удачный момент, интересный световой эффект,
он не хотел мешать себе быть художником. Более того: гравюра обладает
преимуществом не иметь дурного запаха, и нищие, которых на нем
видишь, не внушают ни сожаления, ни отвращения.
Ты завидуешь мне, что я в Риме. Я доволен, что приехал сюда, потому
что научился здесь многому; но что до истинного удовольствия -
удовольствия поэтического и без помехи, то его я находил более легким
способом, когда вместе с тобой, при свете твоей лампы, часов в одиннадцать
вечера, рылся в твоих старых папках.
Жизнь здесь, собственно, не представляет ничего интересного. Я
снимаю маленькое помещение у славных людей, полу буржуа,
чистокровных римлян, которые берегут опрятность для своих квартирантов, а
нечистоплотность - аая самих себя. Один из сыновей - адвокат; другой
служит. Семья живет, сдавая комнаты на улицу и ютясь в задних.
Лестницу не метут; швейцара нет, и коридор день и ночь остается открытым:
входи кто хочет. Зато дверь каждой комнаты массивна и способна
выдержать штурм. Освещения не имеется; квартиранты держат вечером
спички в кармане: без них невозможно обойтись, кроме только лунных
• 105 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Остров Тиберина в Риме. Фотография 1890-х годов
вечеров. Один из моих друзей поставил купленную на свой счет
лампочку на своей площадке; вечером эта лампочка была украдена; вторую
и третью постигла та же участь; он вернулся к спичкам. По утрам
завтракают в кафе Греко; это большое помещение, низкое, закопченное,
уж вовсе не блестящее и не нарядное, но удобное. По-видимому, в
Италии всюду так. Это кафе, лучшее в Риме, показалось бы третьеклассным
в Париже. Правда, что здесь почти все хорошо и дешево: кофе
(который превосходен) стоит три су чашка. Кончив с завтраком, я иду в
музей или в галерею, почти всегда один: иначе невозможно составить себе
впечатление и особенно продлить его; разговор и спор производят на
мечты и внутренние образы действие удара метлой по рою бабочек.
Бродя по улицам, я захожу в церкви; мой печатный гид называет мне
зодчего и эпоху; это показывает мне их в историческом окружении
и заставляет невольно размышлять о быте, среди которого они явились.
Возвратясь к себе, я нахожу на своем столе книги того времени,
особенно мемуары и поэмы; я читаю час или два и кончаю маранье моих
заметок. На мой взгляд, Рим есть не что иное, как огромная лавка старья:
• 106·
РИМ
что же здесь делать, как не уйти в изучение искусства, в археологию и
историю? Относительно себя я знаю очень хорошо, что если бы я здесь не
работал, то беспорядок и грязь этого хлама, паутина, запах плесени и
зрелище стольких драгоценных вещей, некогда живых и целых, ныне же
потерявших свою позолоту, обезображенных и разрозненных, навели бы
на меня уныние.
С наступлением вечера берешь фиакр и делаешь визиты. Меня
снабдили рекомендательными письмами; я вижу людей самых
разнообразных убеждений и общественного положения, я встретил много
приветливости и любезности. Мой хозяин говорит со мной о нынешних
временах, о религии, о политике... Я стараюсь составить себе некоторое
понятие о сегодняшней Италии: она - дополнение Италии вчерашней
и как бы последний экземпляр в собрании медалей: все эти медали
комментируют и поясняют одна другую. Я практикую над ними мое
обыкновенное ремесло. Испытав довольно вещей, я нашел, что есть только
одна хорошая или, по крайней мере, сносная, - это делать свое дело.
Рим, приезд
Этот Рим вчера вечером, весь черный, с запертыми лавками, с
несколькими газовыми светильниками, рассеянными далеко друг от друга, -
какое похоронное впечатление! Площадь Барберини, где я остановился, -
каменный катафалк, на котором мерцает несколько позабытых факелов.
Бедные маленькие светочи тонут в мрачном саване теней, и невидимый
фонарь журчит в тишине, как шорох привидения. Невозможно передать
этот вид вечернего Рима: днем «он пахнет смертью» (слова г-на де
Жирардена); но ночью это - весь ужас и величие гробницы.
Первое воскресенье, месса в Сикстинской капелле
У входа стоят цепью. Женщины без шляп, под черной вуалью;
мужчины в черном официальном платье: это обязательная форма, но
надевают самый поношенный костюм; несколько человек в коричневых
брюках и в серых широкополых шляпах. Кажется, что попал в общество
судебных писцов и распорядителей погребальных процессий. Сюда
ходят из любопытства, как в театр на новую пьесу; даже духовные особы
болтают свободно и с увлечением о посторонних вещах.
Вокруг меня шла беседа о четках. «В Париже они стоят тридцать шесть
франков дюжина: здесь самые хорошие и всего дешевле можно найти
позади церкви Санта Мария сопра Минерва». - «Я запомню это название;
• 107·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
как туда попасть?» - «Вы знаете, что сегодня папы не будет: он хворает». -
«Я живу на виа Бабуино, пять франков в день, считая завтрак, но вино
плохое». - «Как оригинальны эти швейцарцы [папская гвардия] со
своими пестрыми цветами! Совсем как оперные фигуры». - «Этот, только
что вошедший, - кардинал Панебианко, монах, совсем седой; при
первой вакансии он станет papabile [кандидат в папы]. - «Что до меня, то я не
люблю баранины; здесь нельзя достать настоящее жиго [жаркое из
баранины] ». - «Вы сейчас услышите сопрано Мустафу, - замечательный
человек». - «Разве он турок?» - «Не турок и не мужчина». - «Монсеньор Лан-
дриани, красивая голова, но осел первоклассный». - «Эти швейцарцы
из шестнадцатого столетия: посмотрите на их брыжи, их белый султан,
алебарды, красные, желтые и черные полосы на их кафтанах; говорят,
этот костюм рисовал Микеланджело». - «Итак, Микеланджело сделал
здесь все?» - «Все, что есть лучшего». - «Тогда он должен был бы улучшить
и жиго». - «Вы привыкнете». - «Не более чем к вину, и мне уже хочется
"навострить лыжи"».
Служба - красивая церемония; парчовые ризы блестят при каждом
движении; епископ и его свита высокого роста, в благородных
одеяниях; они сходятся и расходятся с важными и хорошо рассчитанными
движениями. Но вот один за другим появляются кардиналы с красными
скуфьями на головах; два шлейфоносца несут фиолетовый шлейф. Они
садятся, и при каждом - его шлейфоносцы у ног. Много лиц
морщинистых и очень выразительных, особенно среди монахов; но ни один не
сравнится с прелатом, который служит: худой, черный, с впалыми
глазами, с выпуклым и гордым лбом, он восседает неподвижно, как
египетский бог, под своей высокой белой митрой, в переливающихся складках
епитрахили.
Генерал ордена театинцев, в коричневой мантии и белом плаще,
произнес речь по-латыни, с правильным акцентом, сопровождая ее
красивыми жестами, без крикливости и без монотонности. Это могло бы
послужить сюжетом аая гравюры Себастьена Леклерка.
Вокальная музыка - ужасное горлодерство. Кажется, интервалы,
странные, неслыханные, натасованы тут как вздумалось. Хорошо
различаешь печальные и оригинальные модуляции, но гармония грубая, а
временами просто оранье пьяного певчего. Или у меня нет больше слуха,
или тут масса фальшивых нот. Высокие голоса - сплошной визг;
грубый средний голос ревет: его видно в его клетке - как он старается,
обливаясь потом. После проповеди было красивое пение возвышенного
• 108·
РИМ
Фонтан черепах на Пьяцца Маттеи в Риме. Фотография 1890-х годов
и сурового стиля, но какие неприятные голоса: высокие - пронзительны,
низкие - лают!
Разъезд интересен: видишь в конце колоннады, как каждый кардинал
поднимается в свою карету; три лакея прицепились сзади; красный
зонтик, положенный на верх кареты, указывает солдатам, что они должны
отдавать честь. Вереница далеких фигур под аркадами, пестрые швейцарцы,
женщины в черном и под вуалью, сходящиеся и расходящиеся группы
на лестницах, бьющие фонтаны, которые замечаешь между колоннами, -
все это образует картину - вещь, неизвестную в Париже. Эта сцена имеет
стройность, раму, красоту Узнаешь старые гравюры.
По мере того как путешествуешь по улицам, пешком или в карете,
замечаешь, наконец, нечто преобладающее в массе стольких
впечатлений: Рим грязен и печален, но он неординарен. Величие и красота здесь
редки, как и всюду, но почти все предметы достойны кисти художника
и отвлекают вас от мелкой жизни, размеренной и буржуазной.
Во-первых, он расположен на холмах, что придает улицам
разнообразие и характерность. По склонам небо прихотливо разрезается
линией домов.
• 109 ■
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Затем, здесь есть много вещей, говорящих о силе, - даже иногда
в ущерб вкусу церкви: монастыри, обелиски, колоннады, фонтаны,
статуи - все это говорит или о крупной исторической роли, или об
огромных богатствах, собранных материальным и духовным завоеванием.
Монах - это странный зверь исчезнувшей породы. Статуя не отвечает
никаким потребностям буржуа. Церковь, даже иезуитская, как бы
напыщенно ни было ее убранство, свидетельствует о некоторой грозной
корпорации. Те, кто создал монаха, статую и церковь, вплели заметную нить
в вульгарную ткань истории - или своим отречением, или своим
могуществом. Такой монастырь, как Тринита деи Монти, своим видом
напоминающий замкнутую крепость; такой фонтан, как Треви; такой
массивный, монументальный дворец, как дворцы на Корсо или на площади
Венеции, обнаруживают жизнь и вкусы, которые неординарны.
С другой стороны, здесь изобилуют контрасты. Покинув шумную
и оживленную улицу, вы идете четверть мили вдоль огромной,
сочащейся, обросшей мхом стены; ни одного прохожего, ни одной кареты; время
от времени угадывается полукруглое завершение двери с железной
решеткой под низким сводом: это потайной выход из большого сада. Вы
сворачиваете налево - и вот вы на улице мелких лавчонок и лачуг, где кишит
оборванная чернь и скулят собаки среди сорных куч. Эта улица
оканчивается у скульптурного пестрого портала какой-то церкви, чрезмерно
изукрашенной и похожей на церковную драгоценность, упавшую в навоз.
По ту сторону снова развертывается сеть черных и пустынных улиц.
Вдруг, в приоткрытую дверь, вы видите рощу лавровых деревьев,
высокий подрезанный буксус, целый сонм статуй среди фонтанов.
Капустный рынок раскинулся вокруг античной колонны. Шалаши, накрытые
красными зонтиками, гнездятся вдоль фасада разрушенного храма...
Потом внезапно, при выходе из скопления церквей и хижин, вы видите
ковер зелени, огороды и вдали - кусок сельского пейзажа.
Наконец, три четверти домов имеют оригинальную внешность, и
каждый интересен сам по себе. Это не простые каменные громады -
удобные сооружения, в которых живут и которые ничего собой не
выражают. Многие из этих домов держат на себе еще другой дом, поменьше,
и сверху крытую террасу - маленькое воздушное гулянье. Самые
безобразные, с их ржавыми засовами, черными коридорами и грязными
лестницами, омерзительны, но на них смотришь.
Я сравниваю Рим еще раз с мастерской художника - не элегантного
артиста, который, как наши, мечтает об успехах и рисуется своей про-
• ПО·
РИМ
Портик на форуме Нервы в Риме. Фотография 1860-х годов
фессией, но плохо причесанного старика, который в свое время
обнаруживал гений, но теперь препирается с лавочниками. Он бывал
банкротом, и его кредиторы много раз опустошали его квартиру, но они не
могли унести стены, и они забыли много прекрасных вещей. Теперь он
живет остатками, служит чичероне, перехватывает «на чай» и немного
презирает богачей, от которых получает свои монеты. Он плохо
обедает, но находит утешение в воспоминаниях о славных выставках, в
которых он участвовал, и дает самому себе обещание вполголоса, а иногда
даже и во весь голос, что на будущий год он возьмет реванш. Нужно
сознаться, что в его ателье дурной запах, пол не метен шесть месяцев,
диван прожжен пеплом от трубки, стоптанные туфли торчат в углу; на
буфете валяются колбасная кожура и кусок сыра, но этот буфет - времен
Возрождения, эта истертая драпировка, скрывающая дрянной матрац, -
великой эпохи; вдоль стены, где подымается гнусная печная труба,
висят латы и дорогие аркебузы с золотой насечкой... Нужно прийти сюда
и не оставаться здесь надолго.
• 111 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Мы шли по длинным отлогим улицам, тянущимся между
громадными стенами, глухими или решетчатыми, по бесконечной пустынной
мостовой, которая блестит, и мы пришли, минуя дворец Лукреции Борджа,
к Святому Петру в оковах [Сан Пьетро ин Винколи], чтобы
посмотреть «Моисея» Микеланджело. При первом взгляде он поражает меньше,
чем ожидаешь. Видел его на гравюрах и воспроизведениях; на
расстоянии воображение, как всегда, преувеличило; кроме того, он отполирован
и закончен крайне старательно. Он находится в нарядной блестящей
церкви; его нарядно обрамили изящной капеллой. Во всяком случае, по
мере того как на него смотришь, колоссальная масса производит свое
впечатление: чувствуется повелительная воля, превосходство,
трагическая сила законодателя и истребителя. Со своими героическими
мускулами, со своей мужественной бородой - это первобытный варвар,
укротитель людей; со своей продолговатой головой и выпуклыми висками -
это аскет. Если бы он поднялся, - какое было бы движение, какой
львиный голос!
Но лучше всего здесь то, что попадается невзначай по пути: то Квири-
нальский дворец на вершине холма, отчетливо рисующийся в сероватом
воздухе, напротив - мраморные кони и гиганты, а немного далее -
бледная зелень какого-то сада и необъятный кругозор с тающими облаками;
то армянский монастырь со своими оросительными водами, бегущими
в каменных желобах, со своими беспорядочно разбросанными
пальмами, со своим огромным виноградником, образующим настоящую
беседку, с прекрасными апельсиновыми деревьями, такими
благородными и спокойными под их золотыми яблоками. Африканские
смоковницы греют вдоль скал свои колючие бляхи; тонкие ветки деревьев
начинают зеленеть; слышится только чуть заметный шум легкого
теплого дождя. Как здесь хорошо быть праздным, следовать своим
внутренним ощущениям! Но нужно иметь душу всегда веселую или, по крайней
мере, всегда здоровую, fè?
■ν
нс
АНТИЧНЫЙ мир
Статуя Венеры. Греция. Национальный музей в Риме
Статуи
ОРОШО, что я захватил в моем чемодане
несколько греческих книг: нет ничего полезнее.
К тому же классические фразы всплывают
постоянно в уме в этих галереях: иная статуя
заставляет почувствовать стих Гомера или начало
диалога Платона. Уверяю тебя, что здесь Гомер
и Платон - лучшие путеводители, чем все
археологи, все художники, все каталоги на свете. По
крайней мере, они более интересны, а аая меня - и понятнее. Когда Ме-
нелая ранит стрела, Гомер сравнивает его белое, обагренное красной
кровью тело со слоновой костью, которую карийская женщина
погрузила в пурпурную краску, чтобы сделать из нее деталь уздечки. «Много
всадников хотели ее купить, но это вещь драгоценная, сохраняемая аая
царского двора, которая будет украшением аая лошади и предметом
гордости наездника. Таковы были, Менелай, твои прекрасно округленные
бедра и твои ноги, запятнанные кровью, которая стекала вплоть до твоих
красивых пят». Это можно видеть - как в живописи, так и в
скульптуре. Гомер забывает боль, опасность, драматический эффект, настолько
поражен он цветом и формой. Напротив, что может быть более
безразлично для современного среднего читателя, чем красное струящееся
пятно и красивая линия ноги, особенно в такой момент? Только
Флобер и Готье, которых считают оригинальными и новаторами, дают в
наши дни подобные же описания. Древним не хватает комментариев со
стороны художников; до сих пор они находили их только у кабинетных
ученых. Те, кто знал их вазы, видели в них только рисунок, красивую,
стройную композицию, достоинство классицизма; остается еще найти
колорит, движение, жизнь. Все это имеется в избытке: стоит только
вспомнить буйность, шутовство, необыкновенное воображение
Аристофана, изобилие у него нечаянных и нелепых выходок, его фантазию,
шаловливость, его несравненную свежесть, неожиданные высокие
моменты поэзии, которые он роняет среди своих гротесков. Если собрать
воедино весь ум и всю изобретательность парижских ателье за двадцать
лет, то и тогда не приблизишься к этому. В те времена голова человека
была устроена и меблирована особенным образом; впечатления
входили в нее с иным толчком, образы - с иным рельефом, идеи - с иными
следствиями. Некоторыми чертами те люди напоминают
неаполитанцев нашего времени; другими - светских французов семнадцатого сто-
• 115 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
летия; третьими - молодых ученых в республиках шестнадцатого века;
еще другими, наконец, - англичан, водворяющихся с оружием в руках
в наши дни в Новой Зеландии. Нужна личная жизнь и гений
какого-нибудь Гёте,чтобы восстановить подобную психологию. Я только улавливаю;
я не вижу.
Здесь есть кроме частных коллекций два больших музея античной
скульптуры - Капитолийский и Ватиканский. Они устроены очень
хорошо, особенно второй. Самые ценные статуи помещены в особых
кабинетах, выкрашенных в темно-красный цвет, так что глаза ничем не
отвлекаются и статуя стоит в полном освещении. Орнаменты строги и
по-античному сдержанны: традиции сохранились или были возобновлены здесь
лучше, чем где-либо. Папы и их архитекторы сохраняли благородство
вкуса, даже в семнадцатом и восемнадцатом веках.
Что касается до обоих зданий, то я опять отсылаю тебя к твоим
эстампам; самые старые из них - самые лучшие: во-первых, потому, что
они исходят из более верного чувства; затем потому, что они печальны
или, по крайней мере, суровы. Как только рисунок чист, отделан,
особенно когда он приближается к современным элегантным
иллюстрациям, он дает о Риме превратное представление. Нужно помнить, что
всякий памятник, хотя бы и современный, всегда в забросе и грязи,
зима избороздила его трещинами, дождь покрыл тусклыми пятнами;
плиты на дворе уже не прилегают плотно друг к другу, многие вдавлены
в землю или испещрены изломами; античные статуи вокруг двора - с
полуампутированными ногами и рубцами на теле; бедные мраморные
боги исцарапаны ножом какого-нибудь мальчишки или носят следы
долгого пребывания в сырой земле. Наконец, заранее настроенное
воображение все преувеличило: нужно два или три визита, чтобы свести
его к верному впечатлению. Кто не восторгался про себя, думая о
Капитолии? Это великое имя волнует заранее, и чувствуешь себя обманутым
в ожиданиях, найдя площадь средней величины, между тремя
дворцами, которые вовсе невелики. Однако она красива: большая каменная
лестница образует к ней монументальное антре. Два базальтовых льва
сторожат ее подножие; две колоссальные статуи - вершину.
Балюстрады разрезают воздух своей твердой линией. Слева другая лестница,
громадной длины и ширины, выстраивает свои ступени вплоть до
красноватого фасада церкви [Санта Мария ин] Арачели. На ступеньках
восседают сотни нищих, в таких же лохмотьях, как на офортах Калло; они
• 116-
античный мир
величественно греются на солнце в своих изящных шляпах и
коричневых балахонах. Вся эта картина открывается сразу: монастырь и
дворцы, колоссы и чернь. Холм, полный зданий, подымает внезапно в конце
улицы свою каменную громаду, испещренную копошащимися людьми-
насекомыми. Это характерно аая Рима.
Капитолий
Посреди площади стоит конная статуя Марка Аврелия из бронзы.
Поза вполне естественна: он подает знак правой рукой. Это незначительное
движение оставляет его покойным, но оживляет всю фигуру. Он будет
сейчас говорить своим солдатам и, конечно, только потому, что
намеревается сообщить им нечто важное. Он не пародирует; это не наездник,
как большинство наших современных статуй, и не государь на приеме,
занятый своей профессией, - древность всегда проста. У него нет
стремян - этого гадкого современного изобретения, прибора, стесняющего
свободу членов, продукта того же самого промышленного духа, который
изобрел фланелевые жилеты и глубокие калоши. Его конь сильной и
крепкой породы, еще родственной коням Парфенона. В наши дни, после
восемнадцати веков культуры, обе расы - человек и лошадь - утончились
и приобрели «изящный» вид.
Направо, во дворце Консерваторов, есть великолепный мраморный
Цезарь в доспехах: его поза также мужественна и натуральна. Древние
совсем не дорожили этой полуженственной нежностью, этой нервной
чувствительностью, которую мы называем «изяществом» и которая нам
так нравится. Теперь для нашего изящного человека нужен салон; он
дилетант, он красиво говорит с женщинами, хотя, способный к энтузиазму,
он более склонен к скептицизму; он изысканно-вежлив; он не любит
грязных рук и дурного запаха; он не хочет, чтобы его смешивали с чернью.
Алкивиад не боялся быть смешанным с чернью.
Громадный разрушенный колосс оставил здесь свои ноги, свои
пальцы, свою мраморную голову; эти обломки лежат на дворе между
колоннами. Но что особенно поражает - это варвары-императоры из
черного мрамора, сильные и печальные в своих величественных одеждах.
Это пленники Рима, побежденные Севера, - такие, какими они
появлялись позади триумфальной колесницы, чтобы кончить под топором при
выходе из Капитолия.
Нельзя сделать шага, не заметив какой-нибудь новой черты
античной жизни. Напротив, во дворе музея, покоится большая статуя Реки,
• 117 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
лежащей над фонтаном, - могучий языческий торс, который дремлет,
полунагой, под густой шапкой своих волос, со своей огромной бородой
мужественного бога, и наслаждается естественной жизнью. Вверху во-
зобновитель этого музея, Климент XII, поместил свой красивый
маленький бюст - тонкое морщинистое задумчивое лицо политика и
кабинетного ученого. Это второй Рим рядом с первым.
Как описывать какую-нибудь галерею? Приходится прибегать к
простому перечислению. Позволь же мне назвать только несколько статуй
в качестве опорных пунктов, чтобы дать оболочку и основание тем
идеям, которые они вызывают.
Зала «Умирающего Гладиатора». Это реалистическая, а не идеальная
статуя; но тело еще очень красиво, потому что люди этого сорта
проводили жизнь в упражнениях нагими.
Вокруг «Гладиатора» видишь подряд: удивительного «Антиноя»,
большую одетую «Юнону», «Фавна» Праксителя, «Амазонку», подымающую
свой лук. Люди того времени представляли себе, естественно, человека
нагим, как мы, естественно, представляем его себе одетым. Они
находили в своем личном и непосредственном опыте идею торса, широкой,
выпуклой груди, как у этого Антиноя, напряжения реберных мускулов
на склоненном боку, стройной слитности ноги и бедра в молодом теле,
как у этого наклонившегося Фавна. Коротко говоря, они имели двести
идей относительно каждой формы и каждого движения нагого тела; мы
же имеем их только относительно покроя редингота и выражения лица.
Искусству нужен текущий опыт, ежедневное наблюдение, отсюда
рождается общий вкус, я хочу сказать - решительное предпочтение таких-
то именно типов. Раз такой тип выделился и понят, всегда найдется
несколько более одаренных людей, которые его изобразят. Вот почему
с переменой обыденных предметов меняется и искусство. Человеческий
дух подобен насекомым, принимающим окраску растения, на котором
они живут. Нет ничего вернее этого изречения: искусство есть резюме
жизни.
«Фавн» - красного мрамора. Это, очевидно, позднейшее
произведение, но вторая эпоха только продолжает первую. Эллинизированный
Рим - другая Греция. Даже при императорах, при Марке Аврелии
например, гимнастическое воспитание ощутимо не изменилось. Две
цивилизации образовали одну и представляют только два этажа одного и того же
дома. Этот Фавн держит в каждой руке по виноградной грозди и
показывает их с милым, отнюдь не вульгарным выражением хорошего настрое-
• 118·
АНТИЧНЫЙ МИР
ния духа. Телесная радость в древности не презиралась и не
предоставлялась, как у нас, рабочим, буржуа и пьяницам. У Аристофана Вакх
настроен весело; трус, развратник, обжора, простофиля, как рубенсовский
пьяница, он, однако же, бог - и какое безумие смеющегося воображения!
Два других Фавна, хорошо сложенных, смотрят вполоборота; Геркулес
из вызолоченной бронзы - великолепный борец. Весь интерес позы тут
в легком наклоне тела назад: это дает другое положение животу и
грудной клетке. Чтобы понимать подобные вещи, у нас остались только
школы плавания на Сене и Арпен, страшный савойяр. И то еще многие ли
видели Арпена? И кого не шокируют неприятно в наших лягушачьих
лужах раздетые тела, барахтающиеся в грязи?
На большом саркофаге изображена история Ахиллеса. Правду говоря,
тут нет никакого драматического интереса, но только пять или шесть
нагих юношей, две женщины, одетые до пояса, и два старика по углам
саркофага. Каждое тело, прекрасное и цветущее, достаточно интересно
само по себе, а сюжет тут на втором плане. Эта группа создана не аая
того, чтобы его представлять, но он сам служит только связью для группы.
Переходишь от одетой молодой девушки к нагому юноше, потом к
красивому сидящему старику - вот и все намерение художника. Удовольствие
должно доставлять уже зрелище наклоненного тела, затем - поднятой
руки, потом - туловища, плотно сидящего на бедрах.
Несомненно, все это бесконечно далеко от того, к чему привыкли
мы. Если мы готовы сейчас к какому-нибудь искусству, то отнюдь не
к скульптуре и даже не к великой живописи, но самое большее - к
живописи пейзажной или бытовой, а еще того лучше - к роману, поэзии
и музыке.
Так как я осмеливаюсь говорить без стеснений и называть вещи
своими именами, то скажу мое решительное мнение, что великий перелом
в истории произвело появление панталон. Все северные варвары носят
их уже на статуях; они обозначают переход от цивилизации греческой
и римской к современной. Это вовсе не шутка и не парадокс: ничто не
поддается перемене с таким трудом, как всеобщая и ежедневная
привычка. Чтобы раздеть и вновь одеть человека, нужно его разрушить и
воссоздать. Характерно аая Возрождения - что тогда был оставлен
огромный меч, который надо поднимать обеими руками, и доспехи во весь
рост. Камзол с прорезами, шляпы с перьями и панталоны в обтяжку
показывают переход в этот момент от феодальной жизни к придворной.
Нужна была Французская революция, чтобы заставить нас отказаться
■ 119·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
от шпаги и коротких штанов; это значит, что плебей, делец и неряха
со своими сапогами, брюками и сюртуком заменит отныне
придворного на красных каблуках, разнаряженного говоруна гостиных.
Точно так же нагота есть изобретение греков. Лакедемоняне
открыли ее одновременно со своим режимом и своей тактикой; остальные
греки приняли ее около четырнадцатой Олимпиады. Они были обязаны
телесным упражнениям своим военным превосходством. Если при Пла-
тее, говорит Геродот, храбрые мидяне были побеждены, то это прежде
всего потому, что их оружие было хуже, но также и оттого, что они
были стеснены своими длинными платьями. Каждый грек, взятый в
отдельности, чувствовал себя поэтому более подвижным, лучше владеющим
своими членами, более устойчивым, лучше подготовленным к древнему
способу боя, который сталкивал человека с человеком, тело с телом.
Поэтому нагота входила как составная часть в ансамбль греческих
учреждений и нравов и была тем видимым признаком, по которому нация
узнавала сама себя.
Но вот я и в зале бюстов. Было бы гораздо лучше говорить о них
важными фразами и с восклицательными знаками, но их характерность
бросается в глаза и ее можно выразить только бесцеремонным словом.
Впрочем, в конце концов, эти греки и римляне были тоже людьми;
почему же не обращаться с ними, как с современниками?
Сципион Африканский: широкая безволосая голова, совсем
некрасивая; плоские виски, как у хищных животных, но твердый подбородок
и энергично сжатые губы повелителей.
Помпеи Великий: здесь, как и в истории, он - второго сорта.
Катон Утический: кислый буквоед с огромными ушами, весь
натянутый и закоченевший, со впалыми щеками, брюзга и ограниченный ум.
Корбулон: кривошея, страдающий коликами, лицемер и хитрец.
Аристотель: вместительная и законченная голова, как голова Кювье;
немного неправильная около правой щеки.
Теофраст: изрытое морщинами и полное тоски лицо; это он сказал
о счастье то безнадежное слово, которое комментирует Леопарди.
Марк Аврелий: его бюст - один из наиболее распространенных, и
узнаешь сейчас же его выпуклые глаза. Он печален и благороден, и голова
его - голова человека, который весь порабощен своим мозгом.
Мечтатель-идеалист.
Аемосфен: вся энергия и весь порыв человека действия, лоб немного
покатый, взгляд как шпага; это настоящий боец, всегда в стремлении.
• 120·
АНТИЧНЫЙ МИР
Теренций: нерешительный мыслитель, с низким лбом, с небольшим
черепом, вид стесненный и печальный. Он был клиентом Сципионов,
бедный протеже, бывший раб, нежный пурист, сентиментальный поэт,
и его комедиям предпочитали танцы на канате.
Коммод: лицо тонкое и странное, опасно-своевольное; выпуклые
глаза; молодой красавец, щеголь, который может наделать
необычайных дел.
Тиберий: он не благороден; но по своему характеру и способностям
он может держать в голове дела целой империи и управлять сотней
миллионов людей.
Каракалла: свирепая, вульгарная, квадратная голова, внушающая
беспокойство, как голова хищного зверя, который вот-вот бросится.
Нерон: прекрасный широкий череп, но веселость скверного
характера. Он похож на актера или первого певца в опере, фат и распутник,
с нездоровым воображением и мозгом. Главная черта - выдающийся
подбородок.
Мессалина: она вовсе не хороша и искусно приукрасилась двойным
рядом изысканных кудряшек. Она улыбается неопределенной, приторной
улыбкой, от которой тошнит. Это век великих лореток; вот эта имела
все безрассудство, способность к увлечению, чувствительность и
жестокость своей породы. Это она однажды, растроганная красноречием
обвиняемого, удалилась, чтобы осушить слезы, но перед тем
посоветовала своему мужу хорошенько стеречь говорившего.
Веспасиан: сильный человек, прекрасно владеющий всеми своими
способностями, готовый ко всему, предусмотрительный, достойный быть
папой в эпоху Возрождения.
Взгляните еще в другом зале на бюст Траяна, надменно величавый
и грозный; испанская напыщенность и гордость тут во всем блеске. Вот
где следовало бы читать «Жизнеописания цезарей»; эти бюсты говорят
лучше дошедших до нас плохих хроник. Каждый из них есть целый
характер в сжатом виде, и благодаря таланту скульптора, который стирает
все случайное и отбрасывает безразличные частности, видишь весь этот
характер сразу.
Со времени Антонинов искусство портится наглядно. Многие
статуи и бюсты смешны, помимо намерения, - смешны неприятным и даже
отвратительным образом, как если бы они копировали кривлянье
чахлой старухи, содрогания изнуренного человека, низменные и
болезненные ощущения разбитого нервного механизма. Эта скульптура походит
• 121 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
на фотоскульптуру, и она приближается наконец к карикатуре в одной
большой статуе женщины с обнаженным торсом и нахмуренным лицом
под торчащей накладной прической...
Пока следишь за своей мечтой и разговариваешь про себя со всеми
этими живыми существами из камня, слышишь вокруг шум и пение
воды, льющейся из львиных пастей и, при каждом повороте галереи,
видишь новый отрывок пейзажа: то большой кусок черной стены, поверх
которого блестит апельсиновое дерево, то широкую лестницу, по которой
свешиваются ползучие травы, то смешение крыш, башен, террас,- и
огромный Колизей на горизонте.
Сегодня я не хочу больше ничего видеть. Тем не менее возможно ли
не зайти в соседнюю галерею, зная, что в ней находится «Похищение
Европы» Веронезе? Есть еще другое - в Венеции, но и это, которое сейчас
передо мной, наполняет сердце радостью. Гравюры не дают о нем
представления. Нужно видеть эту полную и цветущую служанку в платье
темного аквамаринового цвета, наклонившуюся, чтобы снять браслет своей
госпожи, - эту благородную талию и спокойный жест молодой девушки,
протягивающей руку к короне, принесенной амурами, эту радость и
очаровательную чувственность, которыми веет от смеющихся глаз, от
прекрасных, вполне развившихся форм, от блеска и согласия этих тающих
красок. Европа сидит на великолепнейшей желто-золотистой, с черными
полосками, шелковой ткани; ее фиолетовая юбка, в бледных и
светло-розовых переливах, позволяет выступить ее белоснежной ноге; складки
рубашки обрамляют нежную округлость шеи; полные упоения глаза
неопределенно смотрят на детей, играющих в воздухе; на руках, на шее,
в ушах переливаются белые жемчужины.
Форум - в двух шагах; спускаешься туда и отдыхаешь. Небо
совершенно чисто; четкие линии стен и старые разрушенные аркады, одни
поверх других, обрисовываются на лазури, как будто они намечены
тончайшим карандашом. Чувствуешь удовольствие следить за ними
глазами, снова возвращаться к ним и снова следить. Форма в этом
прозрачном воздухе красива сама по себе, независимо от своего смысла и цвета,-
как круг, овал, удачный изгиб на ясном фоне. Мало-помалу лазурь
становится почти зеленой; эта легкая зелень похожа на цвет драгоценных
камней или воду ручья, но она еще тоньше. На всей этой длинной аллее
есть только интересное и красивое: полузарытые в земле
триумфальные арки, стоящие наискось друг от друга, остатки упавших колонн -
огромные стволы и капители на краю дороги. Налево - колоссальные
• 122 ·
античный мир
Колизей в Риме. Вил сквозь арку. Фотография 1900-х голов
• 123·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Римский форум. Базилика Константина. Фотография 1860-х голов
сволы базилики Константина, увитые зелеными вьющимися
растениями; с другой стороны - развалины дворца цезарей: огромное
нагромождение рыжих кирпичей, увенчанное деревьями; [церкви] Святых Космы
[и Ламиана] с порталом поврежденных колонн; Святой Франчески
Римской [Сан-Франческа Романа] со своей элегантной колокольней; на
высоте горизонта - черный строй изящных кипарисов; еще дальше -
подобные разбитому молу, обрушившиеся аркады храма Венеры; и на самом
краю, завершая вид, - гигантский Колизей, позлащенный смеющимся
светом.
Среди всего этого величия гнездится современная жизнь, как гриб на
мертвом дубе. Перила из полуобтесанных жердей, как на деревенских
праздниках, окружают яму, откуда подымаются отрытые колонны
Юпитера Статора. По осыпающимся склонам растет трава. Оборванные
повесы играют в бабки камнями. Старухи с грязными детьми греются на
солнце посреди мусора. Проходят монахи, белые и коричневые; потом -
• 124·
АНТИЧНЫЙ МИР
школьники в черных шляпах, предводимые духовной особой в
красном. Фабрика железных кроватей гудит и звенит возле базилики. При
входе на Капитолий вы произносите молитву Леве Марии, дающую сто
дней индульгенции, и эта молитва обращается к Ней как к
самостоятельному божеству. Однако находишь еще очень заметные следы древней расы
и древнего гения. Многие из этих старух похожи на сивилл
Возрождения. У какого-нибудь крестьянина в кожаных гетрах, в плаще,
испачканном землей, чудесное лицо, орлиный нос, греческий подбородок, черные
выразительные глаза, которые так и светятся природной даровитостью.
Под сводами базилики Константина я слышал в течение получаса, как
мне показалось, голос, произносивший нараспев молитвы. Я подошел
ближе и увидел молодого человека, сидевшего на земле, который читал
вслух, речитативом, перед пятью или шестью лежащими бездельниками,
«Неистового Роланда» - бой Роланда и Марсилия.
Вы идете ужинать в первый встречный ресторан - к Лепри
например. Грязный бродяга, напомаженный цирюльник, с длинной прядью
жирных волос, падающих ему на щеки, водворяется в соседней зале,
вооруженный мандолиной и маленьким переносным пиано с педалями.
Помогая самому себе обеими руками и ногами, он поет басом и
наигрывает вам арии Верди и финал из «Сомнамбулы». Тонкость, изящество,
разнообразие и выразительность его игры удивительны. Бедняга имеет
душу - душу артиста, и забываешь о еде, слушая его.
Ватикан
Это, вероятно, самая большая на свете сокровищница античной
скульптуры. Вот отрывок с греческого, который надо держать в уме,
обозревая ее.
«Я расспрашивал их, - сказал Сократ, - о молодых людях, чтобы узнать,
есть ли между ними кто-нибудь, отличающийся мудростью или красотой
или тем и другим вместе. Тут Критий, взглянув на дверь, увидал, что
несколько молодых людей входят, беседуя между собой, а сзади следует
толпа. Он сказал мне: "Так как ты говоришь о красоте, Сократ, то
сейчас ты будешь в состоянии судить о ней и сам, потому что вот эти
входящие суть предвестники и обожатели самого красивого юноши, какой
только существует в наше время; я думаю, что он и сам где-нибудь очень
близко и сейчас придет сюда". - "Кто же это такой? - сказал я. - И чей
он сын?". - "Ты его знаешь, - отвечал он, - но он еще не был взрослым при
твоем отъезде: это Хармид, сын нашего дяди, Тлавка, и мой двоюродный
■ 125 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
брат". - "Клянусь Юпитером! - сказал я. - Аа, я его знаю; он уже был
незаурядно красив, когда был ребенком, и он должен быть теперь совсем
красавцем, когда стал юношей". - "Ты сейчас сам увидишь, - сказал мне Кри-
тий, - каким он стал прекрасным и большим". В то самое время, как он
это говорил, Хармид вошел.
Он мне показался дивным по росту и по красоте, и все, кто тут
находились, были, по-видимому, влюблены в него - так они были смущены
и взволнованы, когда он вошел, и еще много других, влюбленных в него,
стояло сзади тех, кто шел с ним. Что он произвел такое впечатление на
нас, мужчин, это еще не так удивительно; но я заметил, что даже из
детей ни один не смотрел в другую сторону, даже из самых маленьких, и все
созерцали его, как статую. Тогда Херефон окликнул меня: "Как тебе
нравится этот юноша, Сократ? - сказал он мне. - Не правда ли, что он
хорош лицом?" - "Удивительно хорош, - отвечал я. - Но если бы он захотел
раздеться, ты забыл бы про его лицо, - настолько он совершенно
прекрасен всем своим телом". Аругие, которые тут были, говорили то же, что
и Херефон.
"Хармид, - сказал я, - это понятно, что ты превзошел всех, потому
что никто здесь, я думаю, не мог бы указать в Афинах два других рода,
союз которых мог бы произвести кого-нибудь красивее и лучше, чем те,
от чьего союза произошел ты. В самом деле, ваш отцовский род - Крития,
сына Аропида, - был восхваляем Анакреоном, Солоном и многими другими
поэтами как превосходный в красоте, в добродетели и во всех благах,
признаваемых за счастье. И то же самое род твоей матери; ибо не
находилось никого прекраснее и выше ростом твоего дяди Пирилампия всякий
раз, как его посылали в посольстве к Великому царю или к кому-нибудь
другому на континент. Этот второй род ни в чем не уступает первому.
Происходя от таких родителей, ты, естественно, должен был явиться во
всем первым"».
С этой сценой в голове можно блуждать по огромным залам и
смотреть, как двигаются и мыслят эти статуи: например, Дискобол или юный
Атлет - как говорят, копия с Лисиппа. Этот юноша только что
участвовал в беге: он держит в руке номер, по которому видно, что он пришел
пятым, и трет себя скребком. Голова его невелика: способности не выше
того телесного упражнения, которое он только что проделал; с него
довольно этого занятия и этой славы. В самом деле, в самые лучшие
времена Греции гимнастические триумфы считались таким важным делом,
что многие молодые люди готовились к ним годами у особых учителей
• 126·
античный мир
и посредством особого режима, как теперь скаковые лошади у
тренеров. У него немного усталый вид, и он соскабливает своим скребком пот
и пыль, осевшие на коже. Пусть мне простят это слово: он
подчищается; по-французски оно шокирует, но не так было аая древних, которые
вовсе не отделяли человеческой жизни от животной. Гомер, перечисляя
воинов, собравшихся перед Троей, ставит рядом, сам того не замечая,
лошадей и людей. «Здесь, - говорит он, - предводители и цари греков.
Скажи же мне, о Муза, кто были лучшие между людьми и лучшие между
конями?»
Но зато подумайте, какие тела должна была создавать подобная
жизнь - какую прочность тканей и окраски должны были давать
мускулам масло, пыль, солнце, движение, пот, скребница! В «Соперниках»
Платона молодой человек, преданный гимнастике, зло смеется над своим
противником, который стал ученым и любителем чтения: «Только
упражнение поддерживает тело. Посмотри, Сократ, на этого несчастного,
который не спит, не ест: у него неповоротливая и тощая шея оттого, что
ум слишком вертляв». И все начинают хохотать.
Тело этого атлета вполне прекрасно и почти реально, так как это не
бог и не герой. Поэтому мизинец на одной ноге изуродован,
предплечье довольно худое, покатость чресл очень заметная, но ноги,
особенно правая, если смотреть сзади, гибки и резвы, как у гончей. Вот перед
такой статуей отчетливо чувствуешь различие, отделяющее античную
цивилизацию от нашей. Весь город выбирал аая борьбы и аая бога
лучших юношей из лучших фамилий; все присутствовали на играх: и
мужчины и женщины; зрители сравнивали спины, ноги, грудь, все мускулы
в движении, среди сотни тысяч усилий. Обыкновенный зритель был
знатоком, как теперь какой-нибудь кавалерист, разбирающий лошадей
на дерби или в карусели. При возвращении город встречал победителя
общественной церемонией; иногда его выбирали военачальником; его
имя заносилось в городскую летопись, его статуя занимала место в ряду
героев-покровителей; победитель в беге давал свое имя Олимпиаде.
Когда десять тысяч увидели Черное море и почувствовали себя
спасенными, их первая мысль была - отпраздновать игры: они ускользнули от
варваров, и вот наконец начинается опять настоящая греческая жизнь.
«"Этот холм, - сказал Лраконтий, - превосходное место для бега в
какую угодно сторону". - "Но как же можно устроить бег на такой
неровной и лесистой местности?" - "Тем хуже аая того, кто упадет!" Для бега
на большое расстояние тут было больше шестидесяти критян; другие
• 127 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
выходили аая борьбы и кулачного боя. И зрелище было прекрасно, ибо
тут было много атлетов, и так как на них смотрели их товарищи, то они
делали великие усилия».
Столетием позже, во времена Аристотеля, Менандра и Демосфена,
когда умственная культура была закончена, когда философия и комедия
приблизились к своему завершению и упадку, Александр, высадившись
в Троаде, раздевается со своими товарищами донага, чтобы почтить бегом
гробницу Ахиллеса. Вообразите Наполеона, проделывающего что-либо
подобное во время своей первой итальянской кампании.
Соответствующим действием для него, я думаю, было застегнуть свой мундир на все
пуговицы и присутствовать важно и чопорно на «Те Deum» в Милане.
Совершенство этого телесного воспитания можно наблюдать в
молодом атлете, бросающем диск, - в изгибе его тела, перегнувшегося на
одну сторону, в рассчитанных движениях всех его членов, которые
вытягиваются или сжимаются, чтобы собрать возможно больше силы в одной
точке. Одна идея Платона особенно поражает в этом смысле: он делит все
воспитание на две равные ветви - гимнастику и музыку. Под гимнастикой
он подразумевает все, что касается формирования и упражнения нагого
тела. Под музыкой - все, что заключается в пении, то есть кроме самой
музыки слова и идеи гимнов и поэм, научающие религии,
справедливости и истории героев. Какой просвет, какое откровение относительно
античной юности! И какой контраст, если сравнивать наше воспитание
«книжников» и калек!
Большая лежащая статуя «Нила» - ее копия есть в Тюильри. Нет
ничего грациознее, ничего подвижнее этих маленьких детей - таких
маленьких, что они играют на широком теле бога; нельзя лучше передать
широту, спокойствие, смутную и почти божественную жизнь большой реки.
«Божественное тело» - эти два слова страшатся встретиться в
современной речи, а между тем - это идея-мать античной цивилизации.
Сзади стоят прелестные молодые атлеты, совсем еще юные, они
держат в руках свой фиал с маслом; один из них, которому не больше
тринадцати лет, - Лисий или Менексен Платона.
Время от времени открывают надписи, бросающие свет на эти обычаи
и чувства, столь далекие от наших. Вот одна, опубликованная в
нынешнем году. Она относится к молодому атлету из Феры и найдена на
пьедестале его изображения. Эти четыре стиха обладают красотой,
простотой и силой статуи: «Победа в кулачном бою куплена ценой крови; но
этот ребенок, с не остывшим еще дыханием от грубой кулачной битвы,
• 128·
АНТИЧНЫЙ МИР
устоял твердо в тяжелом усилии борьбы, и та же самая заря увидала До-
роклеида дважды увенчанным».
Но нужно, вспоминая о хорошем, вспомнить и о дурном. Любовь,
которую возбуждала жизнь гимнасиумов, есть извращение человеческой
натуры; в этом смысле описания Платона чудовищны. Точно так же эти
античные нравы, уважавшие в человеке животное, развили, как следствие
этого, животное в человеке: в этом отношении Аристофан
скандализирует. Мы считаем себя испорченными, потому что у нас есть вольные
романы; но что мы сказали бы, если бы в каком-нибудь из наших театров
была поставлена «Лисистрата»? По счастью, скульптура показывает в этом
своеобразном мире одну только красоту.
Стоящая канефора при входе в Braccio Nuovo [Новое крыло] похожа
на канефор Парфенона, хотя второстепенной работы. Когда дочь лучшего
семейства одета, как эта, только в одну рубашку и еще тунику сверху;
когда она привыкла носить вазы на голове и поэтому держится прямо;
когда, взамен сложного туалета, она просто зачесывает волосы вверх или
оставляет их падать прядями; когда ее лицо не бороздит тысяча мелких
ужимок и тысяча мелких буржуазных забот, - только тогда женщина
может иметь спокойную позу этой статуи. В наши дни сохранилась тень этого
в лице окрестных крестьянок, которые носят корзины на голове, но они
испорчены работой и своими лохмотьями. Грудь выступает под
рубашкой; туника прилегает к телу и, очевидно, только заменяет белье;
можно проследить форму ноги, которую стягивает ткань у колена; ступни
в сандалиях обнажены. Невозможно передать естественной серьезности
ее лица. Поистине, если бы можно было увидеть вновь в
действительности такое существо, с белыми руками и черными волосами, при блеске
солнца, - колени согнулись бы сами, как перед богиней, от
благоговения и радости.
Взгляните на совершенно закутанную фигуру - например
Целомудрия: ясно, что античная одежда не изменяет форм тела, а, напротив,
плотно прилегающие к телу и неподвижные складки ее заимствуют от
него свою форму и изменения, так что можно без труда проследить
сквозь них стройность всего телосложения, округлость плеча или
бедра или спинную впадину. Представление о человеке не было тогда, как
у нас, представлением о хороших или плохих способностях и еще
менее того о пальто - от Дюзотуа или платье от Александрии; это было
представление о груди, о спине, о сложении мускулов, о позвоночном
хребте с его выступающими позвонками, о шейных сухожилиях, о ноге,
• 129 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
вытянутой от пятки до чресл. Говорят, что Гомер знал анатомию,
потому что он описывает вполне точно раны, ключицу, подвздошную кость;
он просто знал человека, его живот, его грудную клетку - то, что тогда
знали все. То немногое, чему я научился в Практической школе,
прояснило мне три четверти дела. В наше время невозможно понять мысль
этих художников, если не касался сам суставов шеи и других членов,
если не приобрел предварительно представления о двух главных
частях тела - о бюсте и о тазе, на котором тот двигается, и если не знаком
с механизмом, связывающим все мускулы, начиная от подошвы ноги
через икры и бедра до углубления поясницы, чтобы поднять человека
и держать его прямо.
Но все это невозможно без античного костюма. Посмотрите на
«Лиану, глядящую на Эндимиона». Ее платье падает до самых ступней,
кроме того, на ней нечто вроде второго платья; но она - босая. Как только
нога обута, как, например, у этих хорошеньких барышень, которые
прогуливаются здесь с книжкой в руках, - вы уже не видите
естественного тела, а только искусственную машину. Перед вами уже не
человеческое существо, а сборная броня, очень удобная при переменах
погоды и приятно вылощенная, чтобы блистать в комнатной обстановке.
Женщина благодаря культуре и современной одежде стала чем-то
вроде земляного жука, перетянутая в талии, застывшая в своем блестящем
корсаже, поставленная на узкие лакированные каблучки,
обремененная разными придатками и великолепными облачениями. Ленты, шляпы,
кринолин дают ей гибкость и все переливы цветов, суставчатых и четы-
рехкрылых. Очень часто лицо сводится к глазам, к выражению; все
тело имеет беспокойную подвижность шмеля; главная часть красоты
состоит в нервной живости, особенно же в кокетливом убранстве этой
вылощенной оболочки и в сложной блистающей обстановке, которая
шумит вокруг. Здесь наоборот - босая нога сразу показывает, что эта
длинная туника есть только покрывало, не имеющее значения. Пояс -
обыкновенная веревка, завязанная простым узлом, пришедшимся
пониже грудей; груди подымают ткань; туника, застегнутая на плече, на
этом месте не шире одного-двух пальцев, так что чувствуется переход
плеча в руку, полную, сильную, не похожую на те нитеобразные лапки,
которые висят нынче по обеим сторонам корсета. С того момента, как
есть корсет, уже нет естественного тела; вся эта одежда, наоборот, может
быть надета и снята в одно мгновение; это не более чем кусок материи,
который взяли и завернулись в него.
• 130·
АНТИЧНЫЙ МИР
Музеи Ватикана. Braccio Nuovo. Фотография 1860-х голов
Все это находится в Braccio Nuovo. Кроме того, там есть еще другие
статуи - Августа, Тиберия; сбоку каждой большой фигуры - бюст
императора. Нельзя отметить всего; я упомяну только Юлию, дочь Тита. Тело
еще прекрасно, но на голове смешные современные завитушки. Этой
одной прикрасы достаточно аая уничтожения скульптурного
впечатления и всей античной идеи.
Отсюда идешь по длинному коридору, усеянному греческими и
римскими фрагментами, и приходишь к музею Пио-Клементино, где
произведения искусства расположены группами вокруг некоторых
капитальных вещей в комнатах меньшей величины. Я ничего не буду
говорить о предметах просто любопытных - об этой гробнице Сципионов,
например столь ценной для археологов и столь простой по форме, плита
которой кажется сделанной из пепла. Люди, похороненные в ней,
принадлежали к поколению великих римлян, которые завоеванием Сам-
ниума и организацией колоний установили господство Рима над
Италией и, как следствие этого, над миром. Они - основатели;
победители Карфагена, Македонии и всего остального только продолжали их
• 131 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
постройку. Этот кусок вулканического туфа - один из первых камней
того здания, в котором мы живем еще и сегодня, и эта надпись кажется
важным голосом самого умершего, который лежит здесь уже двадцать
одно столетие.
Корнелий Аюций Сципион Бородатый,
Рожденный отцом своим Кнеем, мужем мудрым и храбрым,
Красота которого равнялась его добродетели',
Он был цензором, консулом, эдилом вашего города,
Он взял Тавразию и Цизону в Самниум,
Подчинил всю Ауканию и привел заложников.
Здесь именно находятся шедевры - и прежде всего « [Бельведерский]
Торс», столь восхваляемый Микеланджело. В самом деле, по своей
жизненности, гигантскому напряжению, могучему упору бедер,
горделивости движения, по смешению человеческой страсти с благородством
идеала он напоминает стиль Микеланджело. Немного далее - «Мелеагр», копия
которого есть в Тюильри. Это только тело, но одно из самых прекрасных,
какие я когда-либо видел. Голова почти квадратная, высеченная
крупными гранями, как голова Наполеона, с незначительным лбом, и
выражение немного упрямого человека. Во всяком случае, ничто не указывает на
большие способности и на большую гибкость ума, которыми мы не
забываем наделять наши статуи и которые тотчас же возбуждают в
зрителе желание предложить бедному великому человеку, так плохо одетому,
панталоны и пальто. Красота вот этого - в его могучей шее, в торсе,
столь хорошо продолжаемом бедрами; это охотник и воин, и больше
ничего; он таков своими подколенными мускулами в той же степени, как
и своей головой. Эти люди применили к человеческому роду систему
конных заводов, и в этом их историческая роль. Спартанцы, которые в
древнейшие времена Греции служили примером другим народам,
одалживали друг другу своих жен, чтобы получить отборное потомство.
Впоследствии Платон, их поклонник, советует властям устраивать годовые
браки таким образом, чтобы лучшие мужчины получали лучших
женщин. Ксенофонт, со своей стороны, порицает Афины, в которых не было
ничего подобного, и хвалит воспитание спартанских женщин - все
направленное к тому, чтобы они рожали в должном возрасте и имели бы
хороших детей. «Их молодые девушки, - говорит он, - упражняются в
беге и в борьбе, и это устроено разумно; ибо каким же образом женщины,
• 132·
АНТИЧНЫЙ МИР
воспитанные, как мы это обыкновенно видим, за шерстяными работами
и в спокойной жизни, могут рождать что-либо великое?» Он отмечает,
что в их браках все регламентировано с этой точки зрения. Старик не
может беречь свою жену аая себя: он должен выбрать «между молодыми
людьми, наиболее им ценимыми со стороны тела и со стороны души,
человека, которого он берет к себе в дом и который даст ему детей». Ясно, что
для этого народа, который последовательнее всех других выразил
гимнастический и военный дух национальных учреждений, дело идет прежде
всего о том, чтобы создать породу
Маленькая круглая ротонда сбоку заключает шедевры Кановы, столь
восхваляемые, не знаю почему, Стендалем. «Персей» - изнеженный
щеголь; два «Борца» - злобные боксеры, раздетые извозчики,
обменивающиеся тумаками. Нечто среднее между приторностью и грубостью,
между милым салонным юношей и рыночными носильщиками. Это бессилие
мгновенно показывает все различие между античным и современным.
Продолжая идти, находишь Бельведерского Меркурия. Это юноша,
изображенный стоящим, как и Мелеагр, но еще более прекрасный: торс
более сильный, голова тоньше. На его лице блуждает легкое смеющееся
выражение, грация и застенчивость молодого человека из хорошей
фамилии, который умеет говорить, потому что они избранной и одаренной
расы, но который не решается говорить, потому что его душа еще
неопытна. Это греческий эфеб, перед которым Аристофан заставляет
тягаться своего Справедливого и Несправедливого. Он принимал
достаточно участия в беге, борьбе и плавании, чтобы приобрести эту гордую
грудь и эти гибкие мускулы. В то же время он остался достаточно
близким к первобытной простоте и чуждым оригинальничанья, споров и
утонченности, уже начавших тогда прививаться, - аая того чтобы
сохранить спокойное выражение. Это спокойствие так велико, что при
первом взгляде принимаешь его даже за выражение недовольства и легкой
грусти.
«Аполлон Бельведерский» - более поздней эпохи и менее прост. Как
он ни хорош, он имеет недостаток быть слегка элегантным; он должен
был нравиться Винкельману и критикам восемнадцатого столетия. Его
завитые волосы падают позади ушей с милым изяществом и
подымаются надо лбом маленькой диадемой, как у женщины; его поза рождает
смутное представление о красивом молодом лорде, выгоняющем нахала.
Несомненно, этот Аполлон обладает умением жить и, сверх того, -
сознанием своего достоинства. Я уверен, что у него есть лакеи.
• 133 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
«Лаококоон» тоже не очень древний памятник. Я думаю, что если
этими двумя статуями прежде восхищались больше, чем другими, то это
потому, что они ближе других к современному вкусу. Вот эта, например, -
компромисс между двумя стилями и двумя эпохами, подобно трагедиям
Еврипида. Строгость и возвышенность первоначального стиля
сохранились еще в симметричных позах сыновей, в благородной голове отца,
который утратил уже силу и мужество и морщит лоб без крика. Но новое
искусство, сентиментальное и экспансивное, сказывается в страшном и
трогательном характере сюжета, в ужасающей реальности тела, опутанного
змеями, в вызывающей жалость слабости бедного ребенка, который
сейчас умрет, в отделке мускулов, торса и ног, в мучительном напряжении
жил, в кропотливой анатомии страдания. Аристофан сказал бы об этой
группе, как об «Ипполите» или «Ифигении» Еврипида, что она вызывает
слезы, что она не укрепляет духа, что, вместо того чтобы превращать
женщин в мужчин, она превращает мужчин в женщин.
Если бы шаги посетителей не смущали тишины этих зал, можно
было бы провести здесь незаметно целый день. Каждый бог, каждый герой
покоится в своей часовне, окруженный статуями меньшего
достоинства. Четыре часовни образуют узлы восьмиугольного двора, вокруг
которого возвышается портик. Базальтовые и гранитные чаши, саркофаги со
множеством фигур расставлены там и сям на мраморном полу; один
только фонтан волнуется и лепечет в этом святилище неподвижных
камней и идеальных форм. Большой балкон выходит на город и
окрестности; с этой высоты открывается необъятное пространство: сады, виллы,
купола, красивые пинии, рассеянные поодиночке в прозрачном воздухе,
ряды черных кипарисов на белом и светлом фоне зданий, а на
горизонте - длинная цепь зубчатых гор, снежные вершины которых возносятся
в лазурь.
Я вернулся пешком позади замка Святого Ангела, потом вдоль
Тибра, по правому берегу... Невозможно вообразить подобный контраст!
Этот берег - длинная полоса осыпающегося песка, огороженная
колючими изгородями и совсем заброшенная. Напротив, на другом берегу,
тянется ряд старых грязных домов, жалких, покосившихся и
пожелтелых лачуг - все в пятнах от проникшей в них воды и от
соприкосновения с человеческой скверной. Иные погрузили в самую воду свое
ветхое основание; перед другими остался маленький двор, загаженный
нечистотами. Нельзя представить себе, во что может обратиться стена,
терпевшая в течение целых ста лет все перемены погоды и всю нечисто-
• 134·
АНТИЧНЫЙ МИР
Вил на собор Св. Петра и замок Св. Ангела в Риме. Фотография 1880-х голов
плотность людского жилья. Вся эта полоска домов похожа на
истасканную юбку колдуньи или на какие-то невообразимые лоскутья вонючей
и дырявой тряпки. Тибр катится, желтый, мутный, между этой пустыней
и этой гнилью.
И, однако, интересное и живописное находится всегда. Вот остаток
старой башни торчит перпендикулярно из речки; вот площадка ниже
церкви спускается лестницами к самой воде, и тут пристают лодки.
Скажешь, что это те старые эстампы, которые встречаешь у букинистов на
наших парижских набережных, - полустершиеся от дождя,
разорванные, испачканные, но где виднеется величественный кусок здания или
пейзажа, рядом с дырой, между двумя лепешками грязи.
Пантеон. Термы Каракаллы
Если бы жить здесь три или четыре года, то и тогда все время можно
бы учиться. Это самый большой музей на свете; все века оставили здесь
что-нибудь. Что же я могу увидеть в один месяц? Человек, который имеет
время изучать и умеет смотреть, нашел бы здесь - в колоннах, гробницах,
триумфальных арках, акведуках и особенно во дворце цезарей, который
• 135-
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
теперь раскапывают, - достаточно материала, чтобы воссоздать и
воздвигнуть перед глазами императорский Рим. Я посетил три или четыре руины
и пытаюсь угадывать по этим отрывкам.
Пантеон Агриппы находится на грязной и пестрой площади, где
стоят жалкие фиакры, поджидающие иностранцев. Овощные лавочки
выбрасывают свой сор на черную мостовую, и крестьяне, группами, в
больших гетрах, с бараньей шкурой за плечами, стоят и глазеют по сторонам,
неподвижные, с блестящими глазами. Сам злополучный храм вытерпел
все, что только может вытерпеть здание, - современные постройки
прилепились к его спине и бокам, на него наставили две смешные
колоколенки, у него похитили его бронзовые балки и гвозди, чтобы сделать из
них колонны в балдахине над алтарем Святого Петра. С давних пор
лачуги, втиснутые между колонн, загромоздили его портик. Земля так
завалила его снаружи, что при входе, вместо того чтобы подыматься,
спускаешься вниз. Даже теперь, после всех исправлений, в своих почернелых
тонах, со своими трещинами и повреждениями, с полустертой надписью
на архитраве, он имеет вид калеки или больного. Вопреки всему этому
вход величаво-пышен: восемь огромных коринфских колонн портика,
массивные внушительные пилястры, балки карниза, бронзовые двери
гласят о величии завоевателей и владык.
Наш парижский Пантеон в сравнении с этим кажется скромным, и
когда четверть часа спустя приучишься не замечать повреждений и плесени,
когда отделишь храм от окружающей его обветшалой современности
и вообразишь себе белое сверкающее здание, в свежести его мраморов,
в рыжем блеске его бронзовой крыши, бронзовых балок, бронзовых
барельефов, украшавших его фронтон, - таким, одним словом, каким оно
было, когда Агриппа, по установлении всеобщего мира, посвятил его
всем богам, - тогда представляешь себе с восхищением великий триумф
Августа, который этим празднеством завершил умиротворение
покоренной вселенной и великолепие созданной им империи, - тогда слышишь
торжественную мелодию стихов, которыми Вергилий величает славу
этого великого дня. «Несомый в тройном триумфе по римским стенам,
Август посвятил итальянским богам вечный дар - триста больших
храмов по всему городу. Улицы шумели радостью, играми, рукоплесканиями
всего народа. В храмах - хоры женщин; всюду жертвенники; перед
жертвенниками заколотые быки устилают землю. Он сам, сидя на мраморном
пороге Сверкающего Феба, осматривает приношения народов и
размещает их между пышными колоннами; побежденные народы приближа-
• 136·
АНТИЧНЫЙ МИР
ются длинными рядами, столь же различные по оружию и духу, сколь
по языку: номады, африканцы в длинных платьях, лелеги, кары, гелоны,
вооруженные стрелами, морины - самые отдаленные из людей,
неукротимые даки. Евфрат течет покорный, и Араке кипит под мостом,
который его победил».
Входишь в храм, под высокий купол, который развертывается в
полном смысле как внутреннее небо; свет падает великолепно-громадной
волной, сквозь единственное отверстие вверху, и подле этого живого
сияния холодные тени и прозрачная пыль тихо стелются вдоль стенных
извилин. Кругом - капеллы древних богов, каждая между своими
колоннами, выстроились в круг по стенам. Громадность ротонды умаляет
их еще более; эти боги живут таким образом, в соединении и умалении,
под гостеприимством и величием римского народа - единственного
божества, которое еще существует в покоренном мире. Таково
впечатление, которое оставляет эта архитектура, - она не проста, как греческий
храм, она не отвечает примитивному чувству, как греческая религия, -
она свидетельствует о поздней цивилизации, обдуманном искусстве,
рассчитанной мысли. Она стремится к грандиозному, хочет возбуждать
удивление и восхищение; она составляет часть системы управления
и дополняет собою некоторое зрелище, она представляет праздничную
декорацию, и это - праздник Римской империи.
Идешь вдоль Форума и его трех триумфальных арок, вдоль огромных
сводов разрушенных базилик, мимо громадного Колизея. В Риме
существовало еще три или четыре других, - один из них, Circus maximus
[Большой цирк], вмещал четыреста тысяч зрителей. В одном морском
сражении при Клавдии сражалось девятнадцать тысяч гладиаторов;
серебряный трон, выходивший из озера, давал сигнал своим рогом. Другой театр
вмещал двадцать тысяч человек. Среди этих воспоминаний приходишь
к термам Каракаллы - самому большому созданию после Колизея, какое
можно видеть в Риме.
Все эти гиганты - суть признаки своего времени. Императорский
Рим эксплуатировал весь бассейн Средиземного моря, Испанию, Галлию
и две трети Англии - аая удовольствия ста тысяч тунеядцев. Их
развлекали в Колизее избиением зверей и людей, в Большом цирке - борьбою
атлетов и бегом колесниц, в театре Марцелла - пантомимами,
декорациями, вооруженными и костюмированными процессиями.
Здесь их купали. Они приходили сюда поболтать, посмотреть на
статуи, послушать декламатора, провести в прохладе жаркие часы дня. Все,
■ 137·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
что только было тогда изобретено удобного, приятного или красивого,
все, что можно было найти на свете любопытного или великолепного, -
все было к их услугам. Цезари их кормили и развлекали, искали случая
им понравиться, старались добиться их рукоплесканий. Римлянин
среднего класса мог буквально смотреть на императоров как на своих
поставщиков (procuratores), обязанных заведовать его имуществом, избавлять
его от деловых хлопот, доставлять ему по дешевым ценам или даром его
хлеб, его вино, его масло, давать ему великолепные пиршества и хорошо
поставленные празднества, добывать для него картины, статуи, мимов,
гладиаторов и львов, тешить каждое утро его пресыщенный вкус какой-
нибудь неожиданной новостью и даже иногда самим делаться гаерами,
кучерами, певцами и гладиаторами ради его удовольствия. Чтобы
поместить этот народ знатоков достойным его царственного положения
образом, архитектура изобретает новые и грандиозные формы. Громадные
сооружения знаменуют всегда какое-нибудь подобное излишество,
концентрацию и непомерное накопление человеческого труда. Посмотрите
на готические соборы и египетские пирамиды, на современный Париж
и лондонские доки.
В конце длинной вереницы переулков, белых стен и пустынных садов
показывается огромная руина. Ее форму нельзя сравнить ни с чем, и
линия, которой она разрезает небо, единственная в своем роде. Ни горы,
ни холмы, ни строения, ни создания природы, ни творения человека не
дают о ней понятия. Она походит на все это вместе: это человеческое
создание, которое время и обстоятельства изменили и преобразили до
того, что оно стало явлением природы. На фоне воздуха ее
приплюснутая вершина, ее бока, изрытые широкими проломами, ее красноватая
громада, угрюмая и мертвая, выделяются молчаливо под саваном
больших облаков.
Вхожу - и мне кажется, что на свете нет ничего столь огромного, и
даже сам Колизей не приближается к этому; множество же лежащих в
беспорядке обломков усиливают впечатление масштабности этой громадной
окружности. Перед этими грудами обгорелых и обглоданных кирпичей,
перед этими круглыми сводами, переброшенными как арки огромного
моста, перед этими развалившимся дамбами спрашиваешь себя, не
целый ли город был тут некогда. Местами свод уже обрушился, а
чудовищный массив, который его поддерживал, подымается еще в воздухе с
остатками лестницы, с обрывком какой-нибудь аркады, толстой, как дом,
пузатой и безобразной. Иногда он раскололся в середине, и кажется,
• 138·
АНТИЧНЫЙ МИР
что один кусок сейчас отвалится и рухнет, как скала. Возле него
лепятся остатки стен и куски осевших сводов, а выступающие части висят
угрожающе в воздухе.
Дворы завалены обломками, и куски кирпича, под действием
времени, сбились вместе так же плотно, как кучи голышей, укатанных
морем. В другом месте уцелевшие аркады громоздятся одни над другими;
позади сияет небо, разрезаемое их дугой, а на самом верху, на темно-
красных кирпичах, зеленая шапка растений переливается и качается
среди лазури.
Попадаются подозрительные провалы, где стелется сырость в
странной темноте. Туда сбегает плющ; укроп, анемоны и мальвы разрослись
по краям; наполовину погребенные под грудами обрушившихся камней,
стволы колонн уходят в землю, в путанице ползучих трав; трилистник
с жирными листьями покрывает склоны. Мелкий кругловатый каменный
дуб, зеленые кустарники, тысячи желтофиолей карабкаются по
выступам, лепятся по впадинам, увенчивают гребни своими желтыми цветами.
Все это колышется на ветру, и птицы поют в глубокой тишине.
Еще можно различить аркады Пинакотеки, высокой, как купол
церкви, большой круглый зал, где помещалась паровая баня, и огромные
полукружия, где давались представления. Вообразите клуб, как лондонский
Атенеум, то есть дворец для всех и каждого, и этот в частности - аая
людей, которые кроме умственных потребностей имели еще физические,
которые приходили сюда не только аая того, чтобы читать книги и
газеты, созерцать произведения искусства, слушать поэтов и философов,
беседовать и спорить, но еще и для того, чтобы плавать, натираться
маслом, потеть и даже бороться и бегать или, по крайней мере, смотреть на
борцов и бегунов. Ибо Рим в этом смысле представляет только
увеличенные Афины: тот же склад жизни, те же инстинкты, те же привычки, те же
удовольствия продолжались и здесь; вся разница в пропорциях и в эпохе.
Город разросся до того, что имел сотни тысяч хозяев и миллионы рабов;
но от Ксенофонта до Марка Аврелия гимнастическое и риторское
воспитание не изменилось ни в чем. Эти люди всегда имели вкусы атлетов
и ораторов, и в этом именно направлении нужно было работать, чтобы
понравиться им. Тут приходилось иметь дело с нагими телами, со
знатоками стиля, с любителями декораций и разговоров. Мы не имеем более
представления об этой жизни, телесной и языческой, праздной и
созерцательной, - климат остался тот же, но человек преобразился, надев
платье и став христианином.
• 139·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Подымаешься не знаю на сколько этажей, и на вершине находишь
пол верхних комнат - мозаику из мелких мраморных зерен; кустарники
и дрок укоренились между ними и раздвигают их; кое-где из-под земляной
коры выступает неповрежденный, почти свежий кусок мозаики. Здесь
насчитывалось тысяча шестьсот кресел полированного мрамора. В термах
Диоклетиана могли поместиться три тысячи двести купальщиков.
Бросая взгляд с этой высоты кругом, видишь равнину, исчерченную,
насколько хватает глаз, старыми акведуками, а со стороны Альбанских
гор три другие обширные руины - груды почернелых или красноватых
аркад, расщепленных, искромсанных, раскрошенных столетиями.
Спускаешься и смотришь еще. Зал с бассейном имеет сто двадцать
шагов в длину; тот, в котором раздевались, - восемьдесят футов высоты;
все это было одето мрамором и такого качества, что из его обломков
делают безделушки для этажерки. Здесь были найдены в шестнадцатом
столетии «Геркулес Фарнезский», «[Бельведерский] Торс», «Венера Калли-
пига», и я не знаю еще сколько шедевров; в семнадцатом столетии - сотни
статуй. Возможно, что ни один народ никогда не найдет удобств,
развлечений и особенно красоты, которые римляне находили в Риме.
Нужно побывать здесь, чтобы понять эти слова: цивилизация иная,
чем наша, - иная и различная, но в своем роде столь же законченная
и утонченная. Это другое животное, но такое же совершенное, - как
мастодонт, предшествовавший теперешнему слону.
В одном углу, в уюте, цвело прелестнейшее миндальное дерево, все
розовое, как молодая девушка, наряженная на бал, все в цвету, пронизанное
дождем солнечных лучей, пролившихся случайно в эти колоссальные
стены на изъеденный червями скелет ископаемого чудовища. $У
■VI
живопись
Рафаэль. Афинская школа. Фрагмент росписи. Ватиканские станцы
15 марта, Рим, Рафаэль
1 ОГОВОРИМ о твоем Рафаэле. Так как ты
любишь непосредственные впечатления, то я
расскажу тебе порядок и разнообразие моих,
i Сколько раз мы рассуждали о нем вместе -
перед оригиналами его рисунков и гравюрами!
Его величайшие создания находятся здесь.
Когда, среди разных впечатлений, начинает
брезжить эта мысль, берешь список тех мест,
где есть какая-нибудь его работа. Переходишь от фрески к картине, из
галереи в церковь; приходишь вторично; читаешь его биографию и
биографии его современников и учителей. Это работа; но такая же работа
нужна и для Петрарки, и аая Софокла: все несколько далекие великие
творения выражают чувства, которых у нас уже больше нет.
Первое впечатление странно... Едва войдя во двор Ватикана,
видишь какое-то нагромождение строений и прямо над головой -
застекленную галерею, придающую зданию вид большой теплицы.
Запасшись этим прекрасным впечатлением, подымаешься по бесконечным
лестницам; на площадке подобострастный и рассудительный швейцар
кладет в карман ваши два паоля с улыбкой благодарности. Вы - в
огромной зале, загроможденной картинами. Что смотреть? Вот «Битва
Константина», нарисованная Рафаэлем и написанная Лжулио Рома-
но - толченым кирпичом, как я предполагаю; вероятно также, что сверху
шел дождь, и подмоченные краски местами пропали. Вы идете по
длинному застекленному портику, где должны бы быть арабески Рафаэля.
Их больше нет. По смутным очертаниям догадываешься, что они
были тут некогда, но, вероятно, какие-нибудь озорники старательно
соскребли их ножом со стены. Вы запрокидываете голову и видите на
плафоне пятьдесят две библейские сцены, которые зовут «Лоджии»
Рафаэля; из них уцелело полностью только пять или шесть; что до
других, то кто-то, надев метлу на шест, усиленно стирал их. Кроме того,
стоило ли создавать шедевры такого маленького размера, помещенные
так высоко, низведенные до роли потолочных кессонов? Очевидно,
это только подробности архитектурного замысла, часть декоративного
убранства этого места для прогулки: когда папа после обеда приходил
сюда подышать свежим воздухом, он замечал то тут, то там какую-
нибудь группу или какой-нибудь торс, если случайно поднимал глаза
кверху.
• 143 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Вы возвращаетесь и делаете первый обход по четырем знаменитым
комнатам Рафаэля. Это апартаменты Юлия II; здесь папа исполнял свои
служебные обязанности: в одной из комнат он подписывал бреве.
Художник здесь на втором плане; эта зала предназначена не аля него: напротив,
он работал аля залы. Освещение неважное, и половина фресок остается
в тени. Плафон загроможден; фигуры давят друг на друга. Колорит
потускнел; трещины пересекают пополам тела и головы. Сырость
испещрила бледными тонами лица, одежды и здания; небеса не сияют больше -
плесень покрыла их проказой; богини на своде облупились. Несмотря на
то, иностранцы, с книжками в руках, высказывают громко свои
впечатления; копиисты передвигают свои лесенки. Представь себе среди всего
этого несчастного посетителя, принужденного вывертывать шею, чтобы
направить свой бинокль.
Конечно, из двадцати посетителей девятнадцать разочарованы в
своих ожиданиях и стоят с раскрытым ртом, бормоча: «Только-то?» Эти
фрески подобны испорченному тексту Софокла или Гомера. Лайте
рукопись тринадцатого века обыкновенному читателю, в предположении,
что он может ее разобрать. Если он добросовестен, то ему будет
совершенно непонятно ваше восхищение, и он попросит взамен роман
Диккенса или «Песню» Гейне. Я тоже понимаю только, что я не понимаю.
Мне нужны два или три визита, чтобы сделать необходимые
отвлечения и поправки. В ожидании я скажу, что меня смущает: это - что все
персонажи позируют.
Я поднялся на верхний этаж и пошел смотреть знаменитое
«Преображение», которое называют величайшим созданием искусства. Есть
ли в мире сюжет картины более мистический? Отверстое небо, явление
святых - грузные тела, которые, отрешась от грубых законов земли,
возносятся во славе и свете, - весь восторг и возвышенность экстаза,
истинное чудо, видение, подобное видению Ланте, когда он
подымается в рай с глазами, устремленными в лучистые глаза Беатриче! Я думал
о явлении ангелов у Рембрандта, об этой розе таинственных фигур,
которая внезапно вспыхивает во тьме ночи, устрашая стада и возвещая
пастухам, что родился Спаситель. Голландец среди своих туманов
почувствовал ужас и восторг Евангелия; он видел; он до мозга костей был
проникнут острым ощущением жизни и правды; и поистине все это
происходило так, как он нам изображает; перед его картиной веришь в это,
потому что присутствуешь при этом. Рафаэль верит ли во что-нибудь
в своем чуде? Он верит, прежде всего, что надо выбирать и располагать
• 144·
живопись
Рафаэль. Преображение. Музеи Ватикана
• 145 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
позы. Эта красивая молодая женщина на коленях заботится лишь о
хорошем положении аая своих рук: три мускульных выпуклости на ее
левой руке образуют приятный аая глаза ряд; покатость чресл,
напряжение всего механизма от спины вплоть до большого пальца ноги есть
именно та поза, которая ставится в мастерских. Человек с книгой думает
о том, чтобы показать свою ногу, так хорошо зарисованную. Тот,
который подымает руку вверх, и его сосед, который держит бесноватого
ребенка, жестикулируют, как на сцене. Что такое эти апостолы,
падающие симметрично - так, чтобы образовать правильную группу? Моисей
и Илья во славе, по обеим сторонам Христа, - это пловцы,
пустившиеся в плавание. Сам этот Христос, с ногами, столь четко намеченными,
с выделенными большими пальцами, - не более чем прекрасное тело;
его лодыжки и подъем ноги озабочивают его столько же, сколько его
божественность.
Это не бессилие, а система или, вернее - инстинкт, ибо тогда не
было системы. У меня перед глазами еще его знаменитый эстамп -
«Избиение младенцев». Я бьюсь об заклад, что ни один из этих младенцев не
подвергается никакой опасности. Высокий весельчак налево,
выставляющий свою грудную клетку, или другой в центре, показывающий свою
спинную впадину, не убьют никогда детей, которых они схватили. Мои
милые, вы хорошо сложены, и вы умеете напрягать ваши мускулы, но
вы не знаете вашего ремесла. Для царя Ирода вы плохие палачи! Что до
матерей, то они не любят своих детей: они спокойно спасаются. Если
они и кричат, то умеренно: они слишком боятся нарушить гармонию
своих поз. Матери и палачи - это собрание безмятежных статистов,
которые образовали группу у моста, между строениями. Я нашел то
же самое в Хэмптон-Корте, в знаменитых картонах, - апостолы,
поражающие Ананию, выступают к самому краю эстрады, как оперный хор
в пятом акте.
Спускаешься и стоишь снова перед фресками первых Станц,
например перед «Пожаром в Борго». Жалкий пожар и совсем не страшный!
Четырнадцать коленопреклоненных фигур на лестнице - это толпа; эти
люди не раздавят друг друга, да, впрочем, они и движутся без всякой
торопливости. Правда, этот огонь не горит, да и как ему гореть, когда
нет дерева, которое он мог бы пожрать, и когда каменные строения его
тушат? Здесь нет пожара, а только два ряда колонн, широкая лестница,
дворец в глубине и группы, рассеянные там и тут, почти как те
крестьяне, которые в эту минуту сидят и лежат на ступенях Святого Петра.
• 146 ·
живопись
Одна фигура - юноша, хорошо упитанный, повисший на руках, он
нашел время заняться гимнастикой. Отец, став на цыпочки, берет
ребенка от матери, которая протягивает его с верха стены; они почти так же
мало тревожатся, как если бы дело шло о корзине овощей. Сын несет
отца на плечах, сбоку - нагой ребенок, а сзади идет жена; это античная
скульптура - Эней с Анхизом, Асканий и Креуза. Две женщины уносят
вазы и кричат; кариатида греческих храмов имела бы точно такую же
позу. Я вижу тут только раскрашенные барельефы - своего рода
дополнение к архитектуре.
Останавливаешься на этой мысли и размышляешь над ней или, лучше
сказать, она развивается сама собой в голове и приносит свои плоды.
Почему, в самом деле, фрескам не быть дополнением к архитектуре? Не
ошибочно ли рассматривать их самостоятельно? Нужно стать на точку
зрения художника, чтобы войти в его идеи. И, без сомнения, такова была
точка зрения Рафаэля. «Пожар в Борго» вправлен в нарядную арку и
имеет целью заполнить ее. «Парнас» и «Изведение святого Петра из темницы»
помещены над дверью и над окном, и их местоположение
предопределило их форму. Это не просто изображения на стене; они составляют
часть здания - они одевают его, как кожа одевает тело. Почему,
принадлежа к архитектуре, не быть им архитектурными? В этих великих
творениях есть внутренняя логика; это мое дело - забыть мое современное
воспитание, чтобы отыскать ее.
Теперь мы видим картины на выставках, и каждая из них существует
сама по себе; по замыслу художника, она и довлеет сама себе; ее можно
повесить где угодно: до этого ему нет дела. Он выкроил из природы или
из истории какой-нибудь пейзаж или какую-нибудь сцену, и лишь бы
этот отрывок был интересен - вот вся его забота. Он поступает
подобно романисту или писателю для театра: его картины - это диалог,
который он ведет с глазу на глаз с нами. Он стремится только к
правдивости и драматизму; если он показывает нам битву, то это должна быть
«Баррикада» Делакруа; если он показывает нам Христа, утешающего
больных, то это должен быть этот нищий и божественный Христос
несчастных - Христос Рембрандта - в своем ореоле желтых лучей, среди
сияния, скорбно замирающего во влажной тени. Но в монументальной
живописи цель иная, и картина меняется одновременно с ее целью. Вот
оконная арка строгого и простого изгиба; ее очертания благородны, и
лента украшений сопровождает ее красивую округлость. Но обе стороны
и верх остаются пустыми; их нужно чем-нибудь заполнить, и это можно
• 147·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
сделать только посредством изображений, столь же строгих и столь же
монументальных, как архитектура, - фигуры, охваченные пылом
страстей, внесли бы сюда дисгармонию, и так же нельзя здесь подражать
беспорядочности естественных группировок. Нужно, чтобы фигуры
распределялись соответственно высоте свободной площади; одни в
согнутых положениях или же детские - на вершине арки; другие, стоящие
и взрослые, - по бокам. Эта композиция необособленна: она составляет
дополнение окна; она вытекает, как и весь этот дворец, из одной идеи.
Обширное царственное здание, естественно, будет грандиозно и
спокойно, и оно внушает и своему одеянию, то есть живописи, свое
спокойствие и величие.
Но в особенности нужно говорить о себе и повторять, что тогда душа
зрителя была не та, что теперь. В продолжение трех столетий мы набили
себе голову рассуждениями и моральными тонкостями; мы сделались
критиками и наблюдателями внутренних процессов. Запертые в наших
комнатах, стянутые нашим черным платьем, надежно охраняемые
жандармами, мы стали пренебрегать телесной жизнью и физическими
упражнениями; мы увлеклись салонным бытом; мы стали искать
удовольствия в разговорах и в умственной культуре; мы замечаем подробности
хорошего покроя платья и особенности характеров; мы читаем и
комментируем сотни историков и романистов; мы обременены
литературой. Человеческий ум стал свободным от образов и переполнен идеями;
что он понимает теперь в живописи и что производит на него
впечатление - это человеческая трагедия или жизнь природы, лоскуток которой
попался ему на глаза, такая-то бытовая сцена, такой-то сельский вид, -
«Горькие слезы» Ари Шеффера, «Лужа на солнце» Декана или «Убийство
епископа Льежского» Делакруа. Мы находим здесь, как в какой-нибудь
поэме, исповедь страстной души, некоторый суд над жизнью. То, чего мы
ищем теперь в красках и в формах, - это чувства.
В те времена не искали ничего подобного. Весь склад быта, который
нас притягивает к интимной мысли и к экспрессивной форме, тогда
создавал интерес к обнаженной фигуре и к животному телу в движении.
Стоит только прочесть Челлини, письма Аретино или историков той
эпохи, чтобы увидеть, насколько жизнь тогда была жизнью тела и
полной опасностей; как человек сам добивался аая себя справедливости;
как легко он подвергался нападению во время прогулки или
путешествия; как он был принужден держать под рукой свою шпагу и аркебуз и не
выходит без giacco [кольчуга] или кинжала. Важные особы убивали друг
• 148·
живопись
друга без стеснения и сохраняли даже в своих дворцах грубые манеры
простонародья. Папа Юлий, раздраженный Микеланджело, бьет палкой
прелата, который вздумал вмешаться в дело. Кто знает в наше время, как
действует какой-нибудь мускул, кроме хирургов и художников? Тогда
это знали все: сапожник и господин, важная особа, так же как первый
встречный мужик. Привычка раздавать удары кулаком и шпагой,
прыгать, кидать мяч, сражаться на турнирах, необходимость быть сильным
и подвижным переполняли тогда фантазию образами и позами. Какой-
нибудь голый амур, видимый от пяток и брошенный в воздух со своим
кадуцеем, какой-нибудь юноша высокого роста, запрокинувшийся
назад, пробуждали привычные представления, как теперь какой-нибудь
интриган, какая-нибудь светская женщина, какой-нибудь
бальзаковский банкир. При виде их зритель сочувственно копировал их жест; ибо
только сочувствие, невольное полуподражание зрителей делают
возможным художественное произведение: без этого оно не было бы понятно
и не могло родиться. Нужно, чтобы он мог вообразить мгновенно все
предшествующее, сопровождающее и последующее. Всегда, при
господстве известного искусства, дух людей того времени находит в нем свои
собственные элементы: идеи и чувства, если это искусство - поэзия или
музыка; формы и цвета, если это искусство - скульптура или живопись.
Всюду искусство и дух встречаются: поэтому-то первое выражает второй
и второй порождает первое. Точно так же, если мы видим в Италии того
времени возрождение языческих искусств, то это потому, что мы
находим там возрождение языческого быта. Чезаре Борджа, взяв не помню
какой город Неаполитанского королевства, оставил себе сорок
красивейших женщин. Приапии, которые описывает Бурхард, камерарий папы,
суть празднества, почти подобные тем, которые можно было видеть во
времена Катона на римских театрах. С пониманием наготы, с
физическими упражнениями и развитием жизни тела ощущение и культ
человеческой формы явились во второй раз.
Вся итальянская живопись вертится на этой идее: она открыла вновь
нагое тело; все остальное только приготовление, развитие, вариации,
искажения и падение. Одни, как венецианцы, накладывают сюда широкое
свободное движение, пышность и чувственность; другие, как Корреджо,
находят здесь чарующую и смеющуюся грацию; третьи, как болонцы, -
драматический интерес; еще иные, как Караваджо, - резкую и
потрясающую правду. В общем же у них всегда дело идет ни о чем другом, как
о правдивости, грации, движении, чувственности и великолепии прекрас-
• 149 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ного тела, нагого или задрапированного, с поднятой ногой или рукой.
Если встречаются целые группы, то лишь для дополнения той же идеи,
аая противоположения одного тела другому, для уравновешивания
одного впечатления другим, подобным. Если есть пейзаж, то только как фон
или как сопутствующая подробность; он играет подчиненную роль, так
же как выражение лица или историческая верность картины.
Интересуетесь ли вы напряжением мускулов, которые подымают одно плечо и, как
отражение этого, склоняют туловище на противоположное бедро? В этом
именно замкнутом и ограниченном кругу жили духовно великие
художники той эпохи, и в центре их стоит Рафаэль.
Это становится еще яснее, когда читаешь их биографии у Вазари. Это
мастеровые, которые имеют учеников и занимаются производством.
Ученик тогда не проходил гимназии; он не пропитывался литературой и
общими идеями, он шел прямо в мастерскую и работал. Одетая или нагая
фигура - вот форма, в которую выливались все его чувства.
Рафаэль получил то же воспитание, что и другие. Все, что упоминает
Вазари изо всей его юности, это - мадонны и еще мадонны. Перуджи-
но, его учитель, - простой «изготовитель» святых; он мог бы поместить
это звание на вывеске своей мастерской. И вдобавок еще его святые -
церковные, почти не отрешившиеся от догматических поз: они совсем
не движутся; когда художник помещает на одной картине четырех или
пятерых, то каждый держит себя так, как будто он один. Они - предмет
почитания столько же, сколько произведение искусства; перед ними
будут совершать коленопреклонения, испрашивая их милости; они не
написаны еще аая одного только удовольствия глаз. Рафаэль провел
годы в этой школе, изучая постановку руки, складку золотистой ткани,
внешность спокойной и сосредоточенной фигуры; после чего он
отправился во Флоренцию, чтобы видеть более полные тела и более
свободное движение. Эта подготовка, столь специализированная, направила все
его способности на один пункт; все смутные порывы, все нежные или
высокие мечтания, которые занимают гениального человека в часы
досуга, приводили его к контурам и жестам. Он думал формами, как мы
думаем фразами.
Рафаэль был очень счастлив, благородно счастлив, и этот столь
редкий тип счастья просвечивает во всех его творениях. Он совсем не знал
обычных мучений артистов - долгого ожидания, страданий
оскорбленного самолюбия. Он не испытал вовсе бедности, унижения, равнодушия.
Двадцати пяти лет, без всяких усилий, он увидал себя первым среди худож-
• 150 ·
живопись
ников своего времени; его аяая, Браманте, избавил его от искательств
и интриг. Увидав его первые фрески, папа велел стереть другие и
захотел, чтобы вся роспись Станц была его кисти. Ему противопоставляли
только одного соперника - Микеланджело, но, далекий от зависти к нему,
Рафаэль сам преклонялся перед ним с восхищением и уважением. Его
письма свидетельствуют о скромности и спокойствии его души. Он был
необыкновенно любезен и необыкновенно любим. Самые важные особы
покровительствовали ему и принимали его у себя. Его ученики
составляли свиту его поклонников и товарищей. Он не должен был бороться ни
с людьми, ни с собственным сердцем. Не видно, чтобы любовь омрачала
его жизнь; она приносила ему радости без терзаний и томлений. Он не
был обречен, как большинство художников, рождать свои творения в
мучениях; он давал их, как хорошее дерево дает свои плоды. Наконец,
образы, его занимавшие, казалось, были избраны нарочно, чтобы поддержать
ясность его души.
Он провел свою первую юность среди мадонн Перуджино -
благочестивых и скромных молодых девушек, девственно-спокойных, детски
нежных, но здоровых, которых вовсе не коснулась средневековая
лихорадка мистицизма. Вслед за тем он созерцал благородные античные
тела и понял гордую наготу и простое счастье этого разрушенного мира,
остатки которого только что были откопаны тогда. Между этими двумя
образцами он нашел свою идеальную форму, и он ушел в свой мир, весь
цветущий силою, радостью и молодостью, как античный город,
которому только чистота, целомудрие и благость новых вдохновений сообщили
незнакомое очарование, в некий сад, растения которого имели силу и
сочность язычества, но где полухристианские цветы распустились с улыбкой
более стыдливой и более нежной.
Теперь я могу пойти снова смотреть на его творения - на первом
месте «Мадонну ди Фолиньо» в Ватикане. Что бросается в глаза прежде
всего - это нежность и стыдливость Левы, то застенчивое движение,
которым она прикасается к голубому поясу Младенца, и прелестный
эффект золотого бордюра на ее красной юбке. Во всех своих первых
произведениях и почти во всех мадоннах Рафаэль сохраняет
воспоминание о том, что он пережил в Перудже, около Ассизи, в центре традиций
блаженного благочестия и чистой любви. Молодые девушки, которых
он рисует, - первопричастницы; их душа еще не распустилась; религия,
покрыв их, задержала их расцвет; имея тело женщины, они имеют еще
душу ребенка. Чтобы найти теперь подобное выражение, нужно видеть
• 151 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
неподвижное, невинное лицо послушниц, воспитанных с детства в
монастыре и никогда не соприкасавшихся с миром. Видимо, он изучал
с любовью, со старанием, с нежностью юного сердца этот тонкий изгиб
носа, маленький рот и ушко, эти отблески света на мягких белокурых
волосах. Его очаровывала цветущая улыбка ребенка; эта детская ножка,
чуть коснувшаяся живота, - в таких нежных складках! Только мать могла
бы поведать о сочувственном умилении, с каким глаза медлят, видя эту
радость. Художник - второй Петрарка, созерцатель, следующий за своей
мечтой и неутомимо передающий ее. Сонет за сонетом, он их создаст
пятьдесят все о том же лице и будет неделями обрабатывать стихи,
которым вверил свое молчаливое счастье. Он не нуждается ни в движениях,
ни в шуме; он не ищет эффектов; он не чувствует отражения
окружающих событий. Это совсем не борец, как Микеланджело, и не мастер
чувственных образов, как его современники; это милый мечтатель, который
явился в такой момент, когда умели изображать тело.
Нигде эта нежность не сказалась так, как в «Снятии со креста», во
дворце Боргезе. Ему было только двадцать три года, когда он создал эту
картину, и уже приближался, хотя еще не наступил момент, когда он стал
писать фрески. Он уже оставил позади себя холодную правильность Пе-
руджино и приводит в движение свои фигуры, хотя еще с некоторой
робостью и следами угловатости. С обеих сторон тела Христа помещены
группы, уравновешивающие друг друга, - трое мужчин слева и четыре
женщины справа, - и позы уже разнообразны и вполне прекрасны. Все
богатство юного изображения сияет здесь, как заря. Не то чтобы
картина была трогательна, как уверяет Вазари, - это у Делакруа надо искать
отчаяние матери возле трупа, настоящий саван, великий траур природы,
мрачные тона фиолетового фона, на котором трагически выступает
красное пятно измятого плаща. Чем блистает эта картина - это
смеющаяся и гордая молодость. Не может быть ничего прекраснее этого
красивого юноши, который откинулся назад, поддерживая тело, - этого
греческого эфеба, в красных кнемидах, украшенных золотым бордюром, -
ничего прелестнее этой молодой женщины с заплетенными волосами,
которая, полуприсев, протягивает свои руки к бедной матери, желая
поддержать ее. Все эти тела юны, празднично-нарядны, и самая
очаровательная доброта светится во взорах. Нежные цветы подымают там и здесь
свои чашечки; очертания тонких и странных деревьев обрисовываются
на горизонте. Луша благородная и грациозная, как душа Моцарта,
заключена еще в почке и едва прорывает свою оболочку.
• 152 ·
живопись
Рафаэль. Положение во гроб. Галерея Боргезе в Риме
Отсюда надо перейти к его языческим вещам. Их понимаешь
свободно, если только знаком с его эскизами. Я видел эти последние в Париже,
в Оксфорде и в Лондоне; интимное чувство художника выражено в них
откровенно: здесь находишь его первоначальную мысль нетронутой -
такой, какой она была в его душе, прежде чем быть обработанной аая
публики.
И эта мысль - совершенно языческая; он ощущает тело, как
древние. Тут не одна анатомия, которой он выучился, не только мертвая
форма, которой он овладел, - этот испод платья, который нужно было
изучить, чтобы изобразить правильно движение. Он любит наготу ради
• 153 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
нее самой - этот могучий склад бедра, эту великолепную жизненность
спины, богатой мускулами, - все, что имеется у человека, когда он
бегун и атлет. Я не знаю ничего на свете прекраснее его эскиза «Свадьба
Александра и Роксаны»; его фотография у меня перед глазами, и я
даже предпочитаю эту фотографию самой фреске, которую я только что
видел во дворце Боргезе. Все фигуры - нагие, и кажется, что
присутствуешь на греческом празднике, так эта нагота естественна, и за
тысячу верст от ясной мысли о неприличии или даже о чувственности, -
так простая радость, смеющаяся веселость юности, здоровье и красота
тел, воспитанных в палестре, блистают здесь, как в счастливейшие дни
цветущей древности. Маленький амур ползет в громадном панцире,
слишком тяжелом аая его детских членов; два других приносят копье;
еще другие подняли на щите одного из своих товарищей, который
немного дуется, и носят его, танцуя, с безумным увлечением и криками
веселья. Герой приближается, столь же благородный, как Аполлон Бель-
ведерский, но более мужественный, и ничто не может передать порыв
и сияющую улыбку двух юношей, его сопровождающих, которые
показывают ему на нежную Роксану, сидящую в ожидании его прихода.
Веяние грациозной доброты и чарующего счастья пробегает по всем лицам;
тела двигаются и красуются, как будто они счастливы жизнью.
Прекрасная молодая девушка - невеста первых времен: ей не нужно одежды.
То же - и всем другим. Было бы ошибкой дать им ее: они могут
оставаться так, не стыдясь, как боги и герои античной скульптуры. Они
чисты, и свободный расцвет телесной жизни свойствен им так же, как
цветам. Богини юного мира, бессмертная Геба, светлые боги, восседающие
на сияющих вершинах, до которых никогда не достигает суровость
непогоды или тягости человеческой жизни, узнают здесь друг друга во
второй раз.
Они присутствуют также на «Суде Париса», как его награвировал
Маркантоний [Раймонди]. Глядишь целыми часами на спокойный торс
этой реки, лежащей в камышах, на строгих богинь, стоящих перед
пастухом, на больших нимф, так горделиво распростертых у подножия
скалы, на пышное плечо наклонившейся наяды, на героических
всадников, которые высоко в воздухе сдерживают порывы своих коней.
Начинает казаться, что восемнадцать веков вдруг стерлись в истории, что
Средневековье было только дурным сном и после стольких лет жалких
и томительных сказок человек, внезапно проснувшись, нашел себя на
другой день после Софокла и Фидия.
• 154·
живопись
Я отправился в Санта Мария делла Паче. Дрянной, круглый,
выпятившийся фасад... Входишь в церковь через хорошенький маленький
дворик, устроенный Браманте, где развертываются два этажа изящных
аркад, образуя место для прогулки. Сама церковь слишком изукрашена,
как все церкви Рима; с левой стороны какой-то кардинал шестнадцатого
столетия покоится на своей гробнице, подпирая голову рукой, худой, во
всем трагическом величии смерти. Гроба и позолота - две крайности,
способные всего более взволновать воображение, - вот главная черта
здешнего убранства. Контраст получается поразительный, когда в
последней капелле налево, над аркой, замечаешь четырех «Сивилл»
Рафаэля. Они стоят, склоняются или сидят, соответственно изгибу свода, а
маленькие ангелы, подающие им пергамент аая письма, завершают группу.
Молчаливые, тихие, это поистине сверхчеловеческие существа, стоящие,
как античные богини, выше всякого действия; для них довольно
спокойного жеста, чтобы обнаружить себя вполне; их существо не рассеяно и не
преходяще - они пребывают недвижно в вечном «настоящем». Не
следует искать здесь зрелища, осязательного рельефа: подобное видение есть
греза, и лишь с закрытыми глазами, в великие моменты немого волнения,
можно его найти. Такой человек, как Рафаэль, вложил все благородство
своего сердца, все свои одинокие представления чарующего и
возвышенного счастья в эти формы и в эти позы - в братский порыв двух
спокойно протянутых рук, которые, ища одна другую, образуют гирлянду. Если
когда-нибудь, стерев с души все печальные и безобразные воспоминания
жизни, мы сможем провидеть в видении такую группу юношей, детей
и женщин, мы будем счастливы, мы не захотим ничего сверх этого. Одна
особенно, которая стоит, откинувшись назад, и медленно поворачивает
голову, имеет гордый и дикий взгляд, странное полуживотное и
полубожеское величие первобытного существа. Сзади нее - старуха, вся в
морщинах, с капюшоном на голове, преображенная до того, что кажется
прекрасной, как старцы Елисейских полей у Вергилия. С другой
стороны сидит некая молодая женщина, в полном цвете лет, и округлый очерк
ее лица отражает совершенную, спокойную благость.
Вот я наконец возвращаюсь в Ватикан - и все мои впечатления
меняются: я нашел настоящую точку зрения. То, что казалось холодным
или изысканным, есть как раз то самое, что доставляет удовольствие.
Зерно, развитием которого является все остальное, это хорошо
сложенное, прекрасное тело, написанное основательно и просто, в позе,
которая обнаруживает силу и совершенство его структуры. Этого одного
• 155 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
нужно искать - все остальные стороны искусства играют здесь
подчиненную роль. Эти картины подобны музыкальной фразе правильного
ритма, в которой часть - каждый тон и которую никогда не нарушает
драматическая страстность, врываясь в нее диссонансом или реальным
криком. С этой точки зрения, жест, который казался придуманным,
хорош, как полный и правильный аккорд; нужно только брать его в
отдельности, не думая о сюжете и о правдоподобии, и глаза будут
наслаждаться им, как ухо наслаждается густым и нежным голосом.
Все это собрание фигур теперь говорит, и даже слишком громко. Их
чересчур много - невозможно описывать все. Я назову тебе только то, что
у меня осталось в памяти живее всего. И сперва - ватиканские Лоджии, а в
них - этот великий борец, который именуется Богом Отцом и который
одним взмахом, вытянув свои члены, разрывает предвечную тьму; далее -
склоненная спина Евы, срывающей яблоко, ее прелестная голова и
могучие мускулы ее юного тела, согнутого в бедрах, - все эти столь хорошо
сложенные и столь свободные в своих движениях фигуры. Затем - белые
кариатиды залы Илиодора: простые фигуры бледно-серой краски,
настоящие богини, высокой простоты и величия, родственные античным, но
с выражением нежности и доброты, которого нет у Юнон и Минерв, -
ни о чем не мыслящие, как и их греческие сестры, занятые в своей
неизменной ясности поворотом головы или поднятой рукой. В этом
именно жанре идеальных и аллегорических фигур торжествует Рафаэль. На
плафоне - Философия, такая сильная и строгая; Правосудие - суровая
дева, с опущенными глазами, поднимающая меч; в особенности же -
Поэзия и три сидящие напротив «Парнаса» полуобернувшиеся богини,
которые образуют с тремя детьми группу, достойную древнего Олимпа, -
все это фигуры несравненные, превосходящие человека. Как древние,
Рафаэль отбрасывает случайность, мимолетные выражения человеческого
лица, все частности, которые обличают существо, колеблемое и терзаемое
случайностями и битвами жизни. Его фигуры отрешены от законов
природы; они никогда не страдали; их ничто не может омрачить; их столь
спокойные позы - это позы статуй. Не осмеливаешься заговорить с ними,
проникаешься благоговением к ним, и, однако, это благоговение
смешивается с нежностью, потому что под их строгостью замечаешь глубину
доброты и женской чувствительности. Рафаэль передал им свою душу.
Иногда даже, например, в музах «Парнаса» многие молодые женщины - между
другими та, у которой обнажено плечо, - полны трогательной кротости
и почти современной нежности. Он знал, как они любили.
• 156-
живопись
Все это раскрывается еще ощутимее в «Афинской школе». Эти
группы на лестницах, ниже и по бокам двух философов, никогда не
существовали и не могли существовать, - и именно потому, что они так
прекрасны. Это сцена из высшего мира, которого никогда не видели глаза
людей и который целиком вышел из духа художника. Все эти фигуры
принадлежат к той же семье, что и богини плафона. Нужно пробыть
перед ними несколько часов, и, только почувствовав их движущимися,
понимаешь, что такая сцена выше всего. Молодой человек, одетый в
длинную белую одежду, с лицом ангела, подымается вверх, как задумавшийся
призрак. Другой, с локонами, который наклонился над геометрической
фигурой, и три его товарища сбоку - божественные существа. Это
лазурная мечта. Они могут, как фигуры, зримые в экстазе или в мечтаниях,
пребывать бесконечно в одном положении. Аля них нет течения времени.
Старик в красном плаще, который стоит, его сосед, который смотрит,
юноша, который пишет, - могут оставаться так навсегда. Они прекрасны;
существо их совершенно. Они - в одной из тех минут, о которых говорит
гётевский Фауст, когда обращается к мгновению: «Остановись, ты
прекрасно!» Их покой - это неподвижное счастье; когда достигнуто
некоторое состояние завершения - не нужно более двигаться.
Человеческая жизнь, телесная и духовная, бесконечно и неизмеримо
многосложна; но есть только некоторые ее доли, некоторые мгновения,
которые, как одна роза среди сотни тысяч роз, заслуживают бытия, -
таковы эти положения. Полнота сил и гармония всего человеческого
существа раскрываются здесь без разлада и усилий. Этого довольно; ничего
другого не хочешь. Двое взрослых мужчин, наклонившихся возле
стоящего спокойно юноши, составляют прекрасный образ - и сладко
забыться перед ним. Выражение лиц не вносит контраста: слишком мыслящие,
слишком близкие к реализму, слишком блестяще написанные, они
пробуждали бы порыв или страсть; в этой безмятежности, в этих тусклых
тонах они гармонируют со спокойной постановкой поз.
Из всех поэтов, которых я знаю, нет никого, кто походил бы на
Рафаэля более, чем Спенсер. При первом чтении также многие находят
Спенсера искусственным или бесцветным; у него нет ничего похожего на
реальность; потом возносишься вместе с ним в обитель света, и его лица,
которые не могут существовать в действительности, - божественны.
• 157 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Фарнезина
Проезжаешь в фиакре несколько кривых и печальных улиц,
переезжаешь мост Сан Систо и видишь по обеим сторонам реки
беспорядочное скопление скверных домов и какую-то длинную клоаку сочащихся
аркад. Дальше - куча лачуг. Все это сохраняет еще средневековый
характер. А через минуту вы уже во дворце эпохи Возрождения - перед
«Психеями» Рафаэля.
Они составляют украшение большой столовой, облицованной
мрамором, плафон которой изгибается сводом, обрамленным гирляндой
цветов и плодов. Над каждым окном гирлянда расширяется, чтобы
вместить могучие тела Юпитера, Венеры, Психеи, Меркурия, а собрание
богов покрывает свод. Подымая глаза кверху - над столом,
обремененным золотой посудой и чудовищными рыбами, гости видели эти
большие нагие тела в темной синеве Олимпа, среди скабрезных гирлянд,
где тыквы-самки и редиски-самцы заставляют вспомнить веселые
вольности Аристофана. Здесь могла бывать куртизанка Империя. Гости -
приживалы, как Тамизиус, или беспутные артисты, как Лжулио Романо
и Аретино, синьоры и прелаты, привыкшие к опасностям и к
откровенной чувственности того времени, должны были созерцать с
удовольствием эту веселую живопись, широкую и сильную, эти грубо сделанные
фигуры, скорее намеченные, нежели написанные, эти кирпичные тона.
Нередко белый мазок с черным пятном изображает глаз; три нагие
грации в беседке мускулисты, как борцы; многие боги - Геркулес, Пан,
Плутон, Река - не более как дюжие кузнецы, набросанные крупными
чертами и большими пятнами краски, точно рисунок аая ковра; у
амуров, приносящих Психею, тучное тело закормленных детей. Во всей
этой живописи есть излишество силы и, я сказал бы, почти грубая
языческая сочность. В Риме вообще тип скорее силен, чем изящен.
Женщины, мало двигаясь, становятся тяжеловесными и полнотелыми. Следы
этой тучности заметны во многих женщинах Рафаэля, в его мясистых
грациях, в его массивной Еве, в широком торсе его Венеры. Язычество,
к которому он склонялся, вовсе не античное, а его ученики,
выполнившие живопись этой залы, еще утрировали или наполовину
пренебрегали его указаниями, как гравер, воспроизводящий картину,
игнорирует оттенки. Чтобы убедиться в этом, стоит только сравнить на
фреске и на рисунке самого Рафаэля Венеру, принимающую вазу Фигура на
рисунке - это дева первобытных времен, невинная, невыразимо нежная,
и ее голова ребенка, который еще не начинал мыслить, поставленная на
• 158·
живопись
геркулесовское туловище, производит такое впечатление, что
воображение невольно переносится к началу человеческого рода - к тем
временам, когда девушка называлась «молочницей», когда богатырские и
наивные расы, с коротким мечом и с догами, растерзывавшими львов,
спускались со своих гор, чтобы покрыть колониями вселенную. Но даже
написанная фигура, в передаче учеников, в этой, как и во всех других
фресках, остается еще единственной в своем роде. Это новый тип, не
скопированный с греческого, но вышедший весь целиком из головы
художника и из наблюдения нагой модели, - тип необыкновенной силы
и цельности, где каждый мускул отделан не из рабского подражания
природе, но потому, что он - нечто живое, и потому, что, следуя своим
вкусам, художник любуется его напряжением. «Психея, брошенная в
воздух и поддерживаемая амурами», «Венера, умоляющая Юпитера» -
очаровательной свежести и юности. А что сказать о двух цветочницах с
крыльями бабочек? О прелестной танцующей грации, которая входит в
беседку, покрывая землю цветами? Все это смеется и срывает пригоршнями
лучшие цветы жизни. В пространстве, сбоку от больших богинь, летают
дети - амур, запрягающий в ярмо льва и морского коня; другой,
прыгнувший, как пловец, в мягкую воду, где он резвится; дальше - белые
голуби, маленькие птицы, гиппогрифы, сфинкс с телом дракона - все
шалости мечтательного воображения. Посреди этой фантастики вьется
ветвистая гирлянда, смешивая роскошь весны и лета, - гранатовые и
дубовые листья, цветущие маргаритки и бледное золото лимонов,
атласные чашечки белых нарциссов с пышной округлостью тыквы. Как он стал
далек от своей первоначальной христианской застенчивости! Между
«Положением во гроб» и Фарнезиной веяние языческого возрождения
пронеслось над его головой и раскрыло весь его гений в направлении
радости и силы.
Его бедная «Галатея», которая находится в соседнем зале, сильно
пострадала от времени. Она имеет подмоченный вид; рисунок частью
исчез; море и небо тусклы и загрязнены пятнами. Но она - кисти Рафаэля:
это узнаешь по грации и нежности самой Галатеи, по движению
маленького амура, который расправляет свои стройные члены, по
оригинальному изображению морских богов и богинь. Нагая нимфа, схваченная
поперек тела, позволяет уносить себя с прелестной кокетливостью.
Бородатый Тритон, с носом башмаком, который великолепно охватывает
и сжимает ее в своих нервных руках, обладает всей веселостью и
стремительностью животного божества, вдыхающего полной грудью, в соленом
• 159 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
воздухе моря, силу и довольство жизнью. Позади - женщина с
белокурыми развевающимися волосами сидит на крупе уносящего ее бога, и его
согнутая спина выгибается с самым тонким изяществом. Художник не
подчиняется сюжету, он остается трезвым и умеренным. Он избегает
доводить до конца движение и выражение, он очищает типы и
устанавливает позы. Это врожденное чувство меры, этот инстинкт сердца,
влекущий его, как Моцарта, изображать благое по природе; эта тонкость
души и ощущений, заставляющая его отыскивать всюду благородные
и нежные существа, все счастливое, возвышенное и достойное ласки;
эта исключительная удача - застать искусство на крайней высоте,
отделяющей окончание подготовительного периода от декаданса; это
особенное счастье - получить двойное воспитание, которое, открыв ему
христианскую невинность и чистоту, дало ему почувствовать вслед затем
языческую силу и радость, - нужны были все эти дары и все эти
условия, чтобы вознести Рафаэля на самый верх. Вазари говорит
совершенно верно: «Если хотят ясно увидеть, каким может иногда Небо показать
себя щедрым и великодушным, излив на одного человека все
неисчерпаемые богатства своих сокровищ, все свои милости и исключительно
редкие дары, которые оно в течение долгого промежутка времени
распределяло между многими людьми, - пусть взглянут на Рафаэля Санцио
из Урбино».
15 апреля, музеи
Есть дни, когда попадаешь на какую-нибудь мысль, которая стелется
прямо, как большая дорога, - и другие дни, которые я только что
пережил, когда блуждаешь направо и налево, по проселкам. Очутившись
возле Ватикана, подымаешься еще раз в самый верхний этаж, в этот
маленький, столь драгоценный музей. Сколько вещей в одной картине!
Особенность живописи и других пластических искусств - та, что они
выражают в одном, одновременном и цельном, впечатлении всю мысль
артиста. Другие искусства - музыка и поэзия - рассеивают впечатление.
Идешь смотреть во второй раз прелестного «Христа» Корреджо,
полунагого, с улыбкой на устах, восседающего на облаках, посреди ангелов -
самого милого молодого человека, какой когда-либо существовал,
грациозного и розового; потом - тициановского «Ложа», в желтой рясе,
столь реального, столь поразительно яркой и своеобразной
индивидуальности и, однако, так божественно написанного, что малейшая складка на
его узорном платье - настоящий праздник для глаз. Рядом - «Положение
• 160·
живопись
во гроб» Караваджо, полное фигур и телодвижений, скопированных
с натуры, - могучие носильщики, ноги которых изборождены венами;
склоненные над телом молодые женщины, утирающие глаза и
рыдающие с искренностью впечатлительной молодости. Сегодня самым
сильным моим впечатлением была «Святая Екатерина» Мурильо -
смущающей и странной прелести. Ее красота опасна; в ее взгляде искоса, в
черных опущенных глазах сияет тайный жар; какой контраст между этим
колоритом юного цветка и этим пламенем! Какая возлюбленная и какая
святоша! В картинах Рафаэля неподвижность блеклого колорита и
скульптурной позы отнимает у глаз некоторую долю их жизненности;
испанский колорит, напротив, трепещет. Неведомая нам чувственность
пламенной души, резкие вспышки мимолетных, но сильных волнений,
трепет нервов, охваченных сладострастием и экстазом, мощный пыл
внутреннего пожара кроются в этом теле, озаренном напряженностью своей
жизни, в этих розовых тонах, тонущих в смутной мгле.
«Блудный сын», рядом, умоляет так мучительно! Испанец - другой
расы, нежели итальянец, - расы далеко не столь уравновешенной, не
замкнутой так в правильных рамках прекрасного, но стремящейся
выразить свою непосредственную мысль, внутренний свой трепет, жертвуя
Аля этого формой.
Я вижу вторично «Мадонну ди Фолиньо» Рафаэля и еще более
укрепляюсь в моем убеждении, что эта живопись принадлежит другой эпохе.
Для современного человека требуется подготовка, чтобы понять ее. Что
интересного аая нашего обычного, неподготовленного чувства в
мускулах этих двух маленьких нагих ангелов, в складке живота,
обрисовывающей таз, в наклоне тела, подымающего нежное бедро маленького
Иисуса и прижимающего к животу его детскую ножку? Все это
говорило человеку того времени и ничего не говорит человеку нашего. Что
видят здесь наши глаза без особых усилий - это только милую веселость
обоих детей, нежность и стыдливость Девы, застенчивый жест, которым
она касается голубого пояса своего маленького Иисуса, и самое
большее, если глаза впечатлительны, прелестный эффект золотого бордюра
на ее красном платье.
Без сомнения, «Причащение святого Иеронима» Доменикино,
которое видишь напротив, в сравнении с этим слащаво. Нельзя
поручиться, что оно его кисти. Оно отдает шарлатанством; оно испорчено
архитектурными громадами, золочеными и сияющими митрами, пышным
убранством, заимствованным у венецианцев. Умом понимаешь, что стиль
• 161 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Рафаэля лучше. Точно так же признаешь, что авторы Пор-Рояля и Расин,
Лисий и Платон писали лучше нас. Но наши чувства не выливаются в их
форму, а мы не можем освободиться от наших чувств.
В Капитолийском музее. В первый раз я прошелся слишком быстро,
и я тогда слишком устал. Я писал тебе, кажется, только об одной
картине - «Похищении Европы» Веронезе.
Главная вещь - огромная «Святая Петронилла» Гверчино. Тело святой
вынимают из земли, в то время как душа ее вступает на небо. Это -
сложная живопись. Художник, по обыкновению школ не примитивных,
собрал здесь три или четыре вида эффектов. Он говорит глазам резким
противоположением света и теней и богатыми одеяниями святой и ее
жениха. Он копирует натуру до степени иллюзии: маленький мальчик,
держащий свечу, поразительной правдивости - его встречал на улицах;
два носильщика, подымающих тело, отличаются вульгарностью и
мужской силой, свойственными их ремеслу. И в то же время художник
драматичен: смиренная поза святой в небесах прелестна, и ее голова,
увенчанная розами, образует контраст с трагической тяжестью трупа, окутанного
своими бледными пеленами. Сам Иисус Христос взволнован,
аффектирован: это не только тело, как обыкновенно. И самый сюжет - мрачная,
холодная смерть, сопоставленная с блаженным, торжественным
воскресением, -способен остановить и смутить прохожего.Живопись, при
таком понимании, выходит из своих естественных границ и
приближается к литературе.
«Персидская Сивилла» - того же художника, в своем странном и
поэтическом головном уборе, - уже вполне современна. Она имеет одно
из тех задумчивых, сложных, неопределенных выражений лица,
которые так нравятся нам, - выражение бесконечно тонкой души, полной
нервного трепета, чье таинственное очарование беспредельно...
«Принесение во храм» - Фра Бартоломео. Контраст поразительный.
Искусство и - я решаюсь сказать - вся цивилизация изменились между
этими двумя художниками. Нет ничего благороднее, проще, спокойнее,
здоровее этой картины; она поражает еще сильнее, когда только что
видел комбинации и нововведения Гверчино. В Италии было две эпохи:
эпоха Ариосто и Возрождения и эпоха Тассо и католической
реставрации.
«Магдалина» Тинторетто - на рогоже, исхудалая, загорелая, в глубоком
раскаянии, простоволосая. Она плачет и молится. В отверстие пещеры
• 162 ·
живопись
Тициан. Крещение. Пинакотека Капитолина в Риме
• 163 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
мрачно проглядывает серп луны. Это зрелище пустыни и ночных
ужасов вокруг несчастной женщины, потрясенной рыданиями, сжимает
душу. Чем более смотришь Тинторетто, тем более находишь у него, в
увеличенном размере, темперамент Делакруа, ощущение трагизма
действительности, бурное сострадание, вызываемое прикосновением к
живому существу, умение изображать жестокость и наготу, увлечение
истиной и страстями.
На этих днях, блуждая вокруг Капитолия, я зашел в Академию Святого
Луки. В Риме мало таких хороших галерей.
Две большие картины Гвидо Рени. Одна изображает «Фортуну», нагую
богиню, которая летит над землей, с диадемой в руке. Другая, я думаю,
«Похищение Ариадны»: совершенно синее море стелется безгранично;
на скале стоит высокая белая женщина; другая приближается к ней, ведя
с собой красивого юношу, облаченного в одежды; возле - лежащая
женщина играет с маленьким ребенком. Ничего нет легче и изящней;
художники того времени умели изображать все типы, а этот, в частности,
находил удовольствие в смягченных и приятных отголосках греческой
красоты. Но его живописи не хватает материальности; она слишком бела,
в ней чувствуется примесь пошлости и условности, как в трагедиях
восемнадцатого столетия.
Фреска Рафаэля, немного попорченная, бросает яркий свет на это
слабосилие. Это только нагой ребенок, но живой, сильный, простой, как
античный рисунок из Помпеи; глаза его улыбаются; во всем теле, таком юном
и крепком, сквозит пробуждение, первое любопытство души.
Маленькая, едва набросанная картина Рубенса - шедевр. Две нагие
женщины увенчивают одну из своих подруг, между тем как над ними
маленькие белые амуры образуют гирлянду. Женщины вовсе не тучны,
и их движение так естественно, так изящно! Это слово кажется
странным в применении к Рубенсу. Но никто не чувствовал так, как он,
строение человеческой формы и не писал так непосредственно, под
диктовку своего воображения. У других, когда сравниваешь их с ним, жизнь
кажется застывшей. Он один знал ее зыбкую бегучесть - мгновение. В
самом деле, таково свойство жизни - это струя неиссякаемого потока,
который никогда не остается тем же самым. В одушевленном теле кровь
приливает и отливает с быстротой ручья; этот трепет бытия, который
непрерывно вспыхивает и погасает, обнаруживается у Рубенса в
свежести его тонов и зыбкости форм. Но я мог бы заговориться о нем; ника-
• 164·
живопись
кая другая живопись не является столь разнообразным, столь
неисчерпаемым сокровищем аая изучения человека.
В этой области одни венецианцы приближаются к нему. Они
ограничивают его избыток, но и облагораживают его. Здесь есть Пальма
Старший и Тициан, чувственное богатство которых, их пышные формы
тела открывают, за горизонтами римской школы, целый мир. Пальма
занимает вход в него: его яркий колорит, роскошный, как багровый закат
солнца, его могучая лепка, великолепные изгибы его крупных тел
обнаруживают первобытный вкус - вкус к силе. Во всех школах создают
сперва строгий и простой тип; чарующим и пленительным делают его
уже потом. Тициан стоит в центре - одинаково одаренный и
чувственностью, и силой. Среди прекрасных итальянских полей, которые
тянутся вплоть до синеватых далей, возле ручья, где льет воду маленький амур,
его Каллисто падает, насильно раздеваемая нимфами. Никакой
жеманности или приятного эпикурийства нет в этой смелой живописи.
Нимфы исполняют свои обязанности грубо, как женщины из простонародья,
у которых сильные руки. Особенно одна, которая стоит, с ее
великолепным, почти мужским торсом, - лихая баба, способная одолеть мужчину.
Другая с грубым злорадством опытной женщины перегибает пополам
злополучную виновную, чтобы поскорее увидеть признаки ее
несчастья. А на другой его картине нагая Суетность на белой постели, со
скипетром и короной, пышная и изящная, упоительной нежности, - самая
увлекательная любовница, какую только мог бы нарядить патриций
в свой пурпур, заставляя ее служить вечером утонченно-сладострастным
зрелищем аая своих избалованных глаз. Веронезе приходит последним.
Это декоратор, лишенный мужественной и грандиозной грубости,
которая часто увлекает Тициана, но наиболее искусный изо всех в умении
подбирать и комбинировать все наслаждения, которые могут доставить
глазам основные цвета в их противоположениях, оттенках и смешении.
Его картина изображает женщину, занятую прической перед зеркалом,
которое держит маленький амур. Фиолетовая занавеска оживляет своим
блеклым колоритом прекрасное тело, обрамленное бельем. Плоеный
краешек ложится нежным вырезом на мягкий янтарь груди. Рыжеватые
волосы вьются кудрями по лбу и на висках. Грудь и бедро выступают из-
под рубашки. В этом смутном, винного цвета багрянце, на фоне этих
смешанных, стертых тонов увядшей листвы это тело, проникнутое
внутренним светом, раскрывает все свои формы, в трепетании, которое
кажется лаской.
• 165 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Картина, на которую смотрят больше всего, - «Лукреция с Секстом»
Каньяччи, - художника неизвестной мне эпохи, но, без сомнения,
поздней: это угадывается по драматическому сюжету, который и
трактуется с точки зрения драматического эффекта. Нагая, на белой простыне
и красном одеяле, опрокинутая, с головой ниже грудей, она
защищается, отталкивая рукой грудь негодяя. Это бедное тело нежной и
прелестной женщины, подавленное физическим насилием, возбуждает
жалость. Самые незначительные детали здесь трогательны: в ее
распустившихся волосах есть нитка белого жемчуга, который осыпается...
Мужчина, в своем синем с золотыми полосками кафтане, - тип
развратника того времени, вроде вельможного убийцы Озио, процесс которого
с Вирджинией да Лейва демонстрирует перед нами его
представительную внешность, хорошие манеры и его злодейства. Под большим белым
портиком ожидает раб, держащий шпагу своего господина. Подобные
экспедиции предпринимались в женский монастырь в Монце, близ
Милана, в начале семнадцатого столетия.
Сикстинская капелла, шестнадцатый век
Помнишь ли ты наше прошлогоднее посещение школы изящных
искусств вместе с г-ном Луи Б., человеком умным, образованным, ученым
(если он таков), - с целью посмотреть копию «Страшного суда» Мике-
ланджело? Он зевал, жаловался и смеялся над нами; он объявил, что
предпочитает «Страшный суд» англичанина [Джона] Мартина. Там, по
крайней мере, говорил он, событие налицо: и небо, и земля, и твердь,
разверзаемая молнией, и винегрет бесчисленных покойников,
которые, насколько только хватает глаз, выходят легионами из своих гробов
в сверхъестественном свете последней ночи и последнего дня. Здесь же
нет ни неба, ни земли, ни преисподней, ни воздуха, а только двести или
триста тел, которые позируют. На что ты ответил, что Микеланджело и не
рисовал ни неба, ни земли, ни воздуха, ни преисподней, что он вовсе не
собирался изображать бесконечность и сверхъестественный свет, что
он был скульптор и имел единственным средством выражения -
человеческое тело, что нужно рассматривать его фреску как своеобразный
барельеф, где величие и горделивость позы заменяют все остальное, и что
если в наши дни мы отводим первую роль в этой великой трагедии
пространствам, молниям, неясному муравейнику человеческих фигурок,
то тогда ее отдавали нескольким гигантским фигурам, трагически
искаженным или задрапированным.
• 166·
живопись
Откуда явилась эта перемена? И почему тогда так интересовались
мускулами? Это потому, что их видели. Я прочел вновь у писателей
того времени о подробностях воспитания и свирепых нравах
шестнадцатого столетия. Когда хочешь понять искусство, нужно познакомиться
с духом того общества, к которому оно обращалось.
«Я хочу, - говорит Кастильоне, набрасывая портрет
благовоспитанного человека, - чтобы наш придворный был образцовым наездником
на всяком седле, и так как у итальянцев есть особый талант хорошо
управлять взнузданной лошадью и заставить маневрировать согласно
правилам самых непослушных лошадей, а также биться и бегать с копьем,
то я хочу, чтобы во всем этом он был одним из первых между
итальянцами. На турнирах, в фехтовании, в барьерных скачках чтобы он был
одним из видных между лучшими французами... В игре же на палках, в бое
быков, в метании дротика и копья чтобы он был отличным среди
испанцев. Нужно еще, чтобы он умел прыгать и бегать... Еще другое
благородное упражнение - игра в мяч. И я не меньше ценю также умение
вольтижировать на лошади».
Это не были только простые наставления, попадающиеся в книгах
и в частных разговорах, поступки и нравы соответствовали им. Джулиано
Медичи, который был убит Пацци, биограф хвалит не только за
поэтический талант и за вкус тонкого знатока, но также за умение управлять
конем, бороться и бросать копье. Чезаре Борджа, великий политик, был
искусен в сильных выходках столько же, сколько в интригах. «Ему двадцать
семь лет, - говорит один современник, - он прекрасен телом и высокого
роста, и папа, его отец, очень боится его. Он убил шесть диких быков,
сражаясь верхом с пикой в руке, и одному из этих быков он разрубил голову
с одного удара». В то же время именно Италия поставляла Европе
искусных учителей военных приемов, и на гравюрах того времени можно
видеть ученика, совершенно нагого, с кинжалом в одной руке и шпагой в
другой, упражняющегося и развивающего свои мускулы с головы до пят,
подобно атлету или борцу.
Это было совершенно необходимо: общественное спокойствие
было слишком ненадежно. «20 сентября, - рассказывает хроника, -
произошло большое смятение в городе Риме, и все купцы заперли свои лавки.
Те, кто был на поле или в своих виноградниках, возвращались со всей
поспешностью в город, и все, как граждане, так и иностранцы,
вооружились, ибо сообщали за вполне достоверное, будто папа Иннокентий VIII
скончался».
• 167·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Слабая социальная связь то и дело обрывалась, возвращалось
состояние дикости, и каждый пользовался моментом, чтобы избавиться от
своих врагов. Но не думайте, чтобы в обыкновенные времена остерегались
их трогать. Междуусобия семейств Колонна и Орсини разыгрывались
вокруг Рима так же беспрепятственно, как в самые темные времена
Средних веков. «В самом городе происходило много убийств и грабежей,
и днем, и ночью, и редко проходил день, чтобы кто-нибудь не был убит...
В третий день сентября некто Сальваторе напал на своего врага, синьора
Бенеаккадуто, с которым он, однако, был в мире, под поручительством
в 500 дукатов; он поразил его двумя ударами и ранил смертельно, так что
тот умер. И в четвертый день папа послал своего вице-камерария с
охранной стражей и со всем народом, чтобы разрушить дом Сальваторе.
Они его разрушили, и в тот же четвертый день сентября Джеронимо,
брат упомянутого Сальваторе, был повешен». Я мог бы привести сотню
таких примеров. В те времена человек был еще слишком силен, слишком
привык к самосуду и слишком близок к насилию. «Однажды, - говорит
Гвирчардини, - Тривульцио [губернатор Милана] убил
собственноручно на рынке нескольких мясников, которые с обыкновенной наглостью
этих людей сопротивлялись взысканию сборов, которые не были у них
изъяты». Вплоть до 1537 года в Ферраре оставалось открытым, даже для
иностранцев, особое поле, где разрешались поединки насмерть и куда
приходили маленькие мальчики драться на ножах. Герцогиня Фаэнцская
напускает на своего мужа четырех убийц и, видя, что он сопротивляется,
соскакивает с постели и сама поражает его кинжалом. А ее отец просит
Лоренцо Медичи ходатайствовать перед папой о снятии с нее отлучения,
ссылаясь на то, что он имеет намерение «пристроить ее к другому мужу».
Герцог Имолы был убит и выброшен в окно, а его вдове, которая
заперлась в крепости, угрожали убить ее детей, если она не сдастся. Она
подымается на стену и отвечает с самым выразительным жестом, что «у нее
осталась форма, чтобы сделать других».
Посмотрите еще на происшествия, ежедневно бывавшие в Риме. «Во
второе воскресенье один замаскированный человек в Борго говорил
оскорбительные слова о герцоге Валенсийском. Герцог, узнав об этом,
велел его схватить. Ему отрезали руку и кончик языка, который был
прикреплен к мизинцу отрубленной руки». - «Люди того же герцога
повесили за руки двух стариков и восемь старух, разложив огонь под их
ногами, чтобы заставить их сознаться, где спрятаны деньги, и они, не зная
или не желая сказать, умерли в этой пытке». В другой раз герцог велел
• 168·
живопись
привести во дворец осужденных gladiandi, [кинжальников] и сам, одетый
в лучшее платье и перед многочисленным избранным обществом,
расстрелял их из лука... «Он убил также под самым плащом папы Перотто,
который был фаворитом папы, так что кровь брызнула папе в лицо».
В этом семействе [Борджа] резали и друг друга. Чезаре [Борджа] уже
устроил нападение со шпагами на своего зятя, и папа велел охранять
раненого. «Но герцог сказал: "Что не успелось к обеду, успеется к
ужину"... И однажды, семнадцатого августа, он вошел в его комнату, когда
молодой человек уже вставал, велел выйти его жене и сестре, и, позвав
трех убийц, приказал его задушить... Он убил также своего брата, герцога
Гандийского, и велел бросить его тело в Тибр». И когда у рыбака,
который видел это, спрашивали, почему он ничего не сказал губернатору
города, тот отвечал, «что в течение своей жизни он видел в разные ночи
выброшенными в этом месте более сотни тел, и никто о них никогда не
беспокоился».
Все это облекается плотью и осязательной формой, когда читаешь
мемуары Челлини. В наши дни мы так хорошо вверены в руки
государства и так полагаемся на судью и жандарма, что едва можем понять
естественное право войны, по которому, до установления правильного
общественного строя, каждый защищался, мстил и получал удовлетворение. Во
Франции, в Испании, в Англии свирепые звери феодализма встречали
в понятии феодальной чести если не узду для себя, то по крайней мере
границу; дуэль заменяла междуусобия: убивали друг друга обыкновенно
по правилам, при свидетелях, в условном месте. Здесь, в Италии, инстинкт
убийства спустился на улицу. Невозможно перечислить всех насилий,
о которых рассказывает Челлини, не только его собственных, но и чужих.
Один епископ, которому он не хотел отдать чеканную вазу, посылает
людей разорить его дом; он, с аркебузой в руке, забаррикадировался. «Когда
Россо [Фьорентино], во время своего пребывания в Риме, раскритиковал
работы Рафаэля, ученики этого славного мастера хотели непременно
убить его». Вазари, спавший со своим учеником Манно на одной
постели, «расцарапал ему ногу, думая, что чешет свою, так как никогда не
стриг ногтей», вследствие чего «Манно решился убить его». Брат
Челлини, узнав, что его ученик Бертино Альдобранди только что убит,
«испустил такой вопль мщения, что его можно было услышать за десять миль;
потом он спросил Джованни: "Можешь ли ты по крайней мере указать
мне, кто у меня его убил?"» Лжованни отвечал ему, что может и что это
был один из вооруженных саблей, у которого голубое перо на шляпе.
• 169 ■
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
«Мой бедный брат, выйдя вперед и узнав убийцу по этому признаку,
бросился на него, посреди стражи, со своей чудесной быстротой и
неустрашимостью, и, прежде чем его могли остановить, нанес удар в живот
этого человека, пронзил его насквозь и повалил на землю эфесом своей
шпаги». Почти тотчас вслед за тем он сам был свален выстрелом из
аркебузы, - и вот перед нами развертывается все бешенство вендетты. Чел-
лини не может больше ни есть, ни спать, и внутренняя буря так сильна,
что ему кажется, что он умрет, если не даст ей исхода... «Я решился
однажды вечером освободиться от этой муки, не считаясь с тем, что подобное
предприятие было не слишком похвально... Я ловко подобрался к убийце
с большим кинжалом, похожим на охотничий нож. Я надеялся с одного
удара отрубить ему голову, но он обернулся так быстро, что мое оружие
задело только угол левого плеча и раздробило ему кость. Он поднялся,
выронил шпагу и, мучимый болью, пустился бежать. Я - за ним, догнал
его в четыре шага и взмахнул кинжалом над его головой, которую он
наклонил очень низко, так что оружие вонзилось между шейной костью
и затылком настолько глубоко, что я, несмотря на все мои усилия, не мог
его вытащить». Немного спустя, и все в публичном месте, Челлини
убивает Бенедетто, потом Помпейо, которые его оскорбили. Кардинал
Медичи и кардинал Корнаро находят, что это очень хорошо. Что до папы,
замечает Челлини после одного из этих убийств, «то он бросил на меня
грозный взгляд, который заставил меня задрожать; но с той минуты, как
он начал рассматривать мою работу, его лицо стало проясняться». И когда
Челлини обвиняли как-то в другой раз, «знайте, - возразил папа, - что
люди в своем ремесле единственные, как Бенвенуто, не должны быть
подчиняемы законам, и он меньше всякого другого, так как я знаю,
насколько он прав». Вот тогдашняя общественная нравственность. И между тем
мотивы этих убийств так ничтожны, как только возможно. Луиджи, его
друг, взял себе в любовницы некую Пентезилею, куртизанку, которой
Челлини не хотел и которую он просил его не брать. В ярости он
прячется в засаду, бросается на них со шпагой, ранит и, не находя еще
достаточно наказанными, описывает с удовольствием их смерть, которая не
замедлила наступить.
Что до личной жизни, то у него бывают мистические видения, когда
он сидит в тюрьме; ему является его ангел-хранитель, он беседует с
невидимым духом, испытывает благочестивые восторги. Таково действие
одиночества и заключения на подобные головы. Впрочем, и на свободе
он - хороший христианин, в духе времени. Когда его «Персей» вышел
• 170·
живопись
удачным, «я уехал, - говорит он, - воспевая псалмы и гимны во славу Бо-
жию, и продолжал делать это в течение всей дороги». Такие же чувства
мы видим у герцога Феррарского: «Будучи постигнут тяжелой болезнью,
которая лишила его возможности мочиться в продолжение сорока
восьми часов, он прибег к Господу и велел заплатить все истекшее жалованье».
Такого же сорта совесть у одного из его предшественников, Эрколе д'Эс-
те, который после оргии шел петь церковную службу с оркестром своих
французских музыкантов, который велел отрубить руку или выколоть
один глаз двумстам восьмидесяти пленникам, прежде чем их продать, а в
Святой четверг отправлялся мыть ноги нищим. Такова была набожность
папы Александра VI, который, узнав об убийстве его сына, герцога Гандий-
ского, бил себя в грудь и, рыдая, каялся в грехах перед собранием
кардиналов. Воображение в те времена воспламенялось то в одном
направлении, то в другом - то в сторону чувственности, то в сторону гнева, то в
сторону страха. Время от времени, при мысли об аде, их охватывала дрожь,
и они думали получить прощение посредством свечей, крестных
знамений и четок. Но в своей основе это язычники, настоящие варвары, и
единственный голос, в них говорящий, - это голос взволнованного тела,
трепещущих нервов, напряженных членов и переполненного мозга, где шумит
рой форм и цветов.
Нельзя, кажется, ожидать от них особенной деликатности в
обращении. Кардинал Ипполито д'Эсте, который велел выколоть глаза своему
брату, встретил ударами палки посланника от папы, имевшего
поручение передать ему неприятное короткое послание. Известно, как папа
Юлий II, поссорившись с Микеланджело, угостил тоже ударами палки
епископа, который рискнул вмешаться. Однажды Челлини был принят
на аудиенции папой Павлом II. «Он был в наилучшем в мире
расположении духа, - говорил Челлини, - тем более что это происходило в тот
день, когда он имел обыкновение устраивать серьезный кутеж, после
которого его рвало». Невозможно, вслед за церемонийместером Бурхар-
дом, перечислить празднества, даваемые в Ватикане перед
Александром VI, Чезаре Борджа и герцогиней Лукрецией, ни даже то маленькое
импровизированное развлечение, на которое эти три особы смотрели из
окна «с громким хохотом и с большим удовольствием», - это заставило бы
покраснеть маркитанток.
Светской полировки не было еще совсем; неблагопристойность
никого не пугала; поэты, как Берни, новеллисты, как епископ Банделло,
излагают с самыми точными подробностями рискованнейшие истории.
• 171 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
То, что мы называем «хорошим тоном», есть создание салонов и
явилось только при Людовике XIV. То, что мы называем церковным
благоприличием, есть отражение Реформации и установилось только во
времена святого Карла Борромейского. Физические инстинкты щеголяли
тогда средь бела дня во всей наготе, и ни светская утонченность, ни
благопристойность одежды не смягчали и не прикрывали еще
природного пыла распущенных инстинктов. «Иногда, - говорит Челлини, -
случалось, что, войдя врасплох в интимные покои, я заставал
герцогиню» за занятием, отнюдь не королевским... «Тогда она кидалась на меня
в таком гневе, что я приходил в ужас». Однажды за столом герцога он
затеял ссору со скульптором Бандинелли, который бросает ему в лицо
самые тяжелые оскорбления. Каким-то чудом он сдержал себя, но
минутой позже сказал ему: «Я говорю тебе решительно, что если ты не
пришлешь мне этот мрамор, то можешь искать дорогу в другой мир,
потому что тогда я выпущу тебе кишки во что бы то ни стало». Грубости тут
сыплются, как у Рабле; кабацкие сальности и отвратительные пьяные
шутки раздаются даже во дворцах: "Ах ты, свинья, - воскликнул я, -
мужик, невежа! Вот чем, стало быть, только и можешь ты быть известен!"»
В ту же минуту я схватился за палку. Челлини пустил в ход
четверостишие по поводу этого случая, и оно смешит герцога и герцогиню. Теперь
в порядочном доме лакеи выставили бы за дверь подобных шутников.
Но когда пускаешь в ход свои кулаки, как извозчик, и свое оружие, как
солдат, естественно, что и забавляешься, как извозчики и солдаты.
Понятно также, что их развлечения особого рода. Что предпочитает
человек низших классов, - я подразумеваю, человек, привыкший к
телесным упражнениям и с грубыми вкусами, - это зрелища, говорящие
глазам, особенно если он сам может принимать в них участие. Ему
нравятся публичные церемонии, и он охотно присоединяется к ним. Он
предоставляет людям салона, утонченным и изнеженным, интерес
наблюдательности, разговоров и анализа. Сам он любит смотреть борцов,
шутов, паясничающих гаеров, феерии, процессии, вступления войск,
дефилирующие кавалькады, блестящие, пестрые, необыкновенные
мундиры. Если теперь в Париже простонародье ходит в театр, то только
такими именно средствами народные театры и привлекают зрителей. На
этой ступени развития человек впечатлителен глазами. Ему хочется
видеть не бесплодный дух, а тело, сильное, хорошо сидящее в седле. И
когда, вместо одного, их является сотня, когда расшитые одежды, позолота,
султаны, шелк и парча сверкают на солнце среди трубных звуков, когда
• 172 ·
живопись
торжественность и шум празднества поражают всеми путями все его
чувства, - невольное сочувствие охватывает все его существо, и если
у него остается еще какое-нибудь желание, то лишь самому вскочить на
лошадь, чтобы красоваться в таком же наряде, среди кортежа, перед
публикой. Таков вкус, который в эту эпоху царил в Италии, - там только
и видишь что княжеские кавалькады, пышные публичные празднества,
въезды в города и маскарады. Галеаццо Сфорца, герцог Милана,
приехав навестить Лоренцо Медичи, привел с собой, помимо гвардии в
пятьсот пехотинцев, сто оруженосцев, пятьдесят пеших лакеев, одетых в шелк
и серебро, две тысячи дворян и слуг своей свиты, пятьсот собачьих свор,
бесконечное количество соколов, - и его путешествие стоило ему
двести тысяч дукатов золотом. Со своей стороны, город дал в его честь три
публичных спектакля, из которых первый - «Благовещение», второй -
«Вознесение» и последний - «Сошествие Святого Луха». Кардинал Сан
Систо истратил двадцать тысяч дукатов на один только праздник в честь
герцогини Феррарской и совершил вслед затем поездку по Италии со
столь многочисленной и великолепной свитой, что все великолепие
папы, его брата, едва могло сравняться с этим. Герцогиня Лукреция Бор-
джа въезжает в Рим с двумястами дамами, все в великолепных
одеждах, все на конях, каждая в сопровождении кавалера. Во Флоренции
устраивают большой мифологический праздник, «Триумф Камилла»,
с колесницами, флагами, гербами, триумфальными арками; Лоренцо
Медичи, чтобы еще украсить зрелище, просит у папы слона; папа
посылает только двух леопардов и пантеру; ему очень хотелось бы
самому приехать, но его сан удерживает его; несколько кардиналов, более
счастливых, приезжают повеселиться на празднике. Художник Пьеро
ди Козимо со своими друзьями устраивает другой, очень мрачный, -
«Триумф Смерти»: черные быки влекут колесницу, на которой
нарисованы черепа, кости, белые кресты; на колеснице - фигура Смерти с
косой; в самой колеснице - гробы, откуда выходят люди, одетые
скелетами и завывающие похоронный марш на аналоях. Среди сотни подобных
празднеств прочитайте, например, о том, который описывает Вазари и
который возвестил начало столетия; судите по его блеску, а также по его
деталям о любви к живописному, которой полны были тогда все сердца.
Собирались праздновать восшествие на престол папы Льва X, и
Лоренцо Медичи, желая, чтобы артель Бронконе, главой которой он был,
превзошла в пышности артель Диаманте, поручил Якопо Нарди,
«благородному и ученому дворянину», устроить ему шесть колесниц. Понтормо
• 173 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
разрисовал их, Баччо Бандинелли украсил скульптурой; все
произведения искусства и все богатства города, все изобретения и открытия
роскоши и новой учености, все образы и все воспоминания истории и
античной поэзии помогли их наполнить. Чистокровные лошади,
изукрашенные львиными и тигровыми шкурами, с попонами из золотой парчи,
с золотой сбруей, в серебряных удилах, выступали длинным кортежем;
позади них следовали тельцы и мулы, покрытые пышными попонами,
далее - фантастические и чудовищные фигуры буйволов, наряженных
слонами, и лошадей, превращенных в крылатых грифонов. Пастухи,
одетые в куньи и горностаевые меха и увенчанные листвой, жрецы в
античных тогах, несущие канделябры и золотые вазы, сенаторы, всадники,
покрытые сверкающим вооружением, ликторы со своими связками
прутьев и трофеями, законоведы, верхом на конях, одетые в длинное
платье, - все это окружало колесницу, где восседали великие люди Рима
среди знаков их достоинства и символов их деяний. Своей гордой наготой,
своими смелыми позами и благородными развевающимися одеждами
нарисованные и изваянные фигуры накладывали еще более языческий
отпечаток на эту языческую процессию, подавая пример силы и веселья
своим живым сотоварищам, которые при звуках труб и кликах толпы
красовались на конях и колесницах. Это щедрое солнце, сиявшее над
их головой, увидало снова мир, подобный тому, который оно освещало
некогда на том же самом месте, - я хочу сказать - то же самое яркое
чувство естественной и поэтической веселости, тот же расцвет здоровой
и цельной силы, то же веяние вечной юности, то же торжество и культ
красоты. И когда, после созерцания этой длинной вереницы
роскошных одежд и доспехов, среди переливов развевающихся материй, среди
блеска серебряных перевязей, среди рыжих отблесков золота,
сплетенного в цветы и завитого арабесками, зрители увидели на последней
колеснице, посреди пирамиды живых цветов, рядом с зеленеющим лавром,
стоящего нагого ребенка, который представлял собою возрождение
золотого века, - они могли поверить на мгновение, что они оживили вновь
исчезнувшую благородную древность и, после пятнадцати веков зимы,
древо человечества покрывается сплошным цветом во второй раз.
Вот зрелища, которые можно было видеть ежедневно в итальянских
городах: в этом выражалась роскошь князей, городов и корпораций.
Ничтожнейший мастеровой принимал в них участие своими руками,
глазами или сердцем. Инстинкт красивых форм, широких группировок,
живописного убранства был всеобщим. Какой-нибудь плотник говорил
■ 174·
живопись
об этом по вечерам со своей женой; об этом рассуждали в кабачке, перед
стойкой; каждый уверял, что декорации, в устройстве которой он сам
принимал участие, были самые лучшие; каждый имел свои
представления, свои мнения, своего излюбленного артиста, как теперь ученики
какой-нибудь художественной мастерской. Отсюда выходило, что
художник и скульптор говорили не только для нескольких критиков, но для
всех и каждого. Сейчас что у нас осталось от этих былых политических
торжеств? Гулянье во время карнавала, где горланят грязные пьяницы;
и кортеж, где щелкают зубами шестеро несчастных в розовом трико,
среди насмешек и пожимания плеч. Вся живописность быта свелась к двум
уличным процессиям, а атлетические вкусы - к борьбе на ярмарках, где
геркулесы, получающие десять су за час, возятся перед блузниками и
солдатами. Тогдашние нравы и были той живительной температурой,
которая повсюду зарождала и вызывала расцвет великой живописи. Эти нравы
исчезли, и с тех пор мы уже не можем их возобновить. Самое большее -
если какой-нибудь художник, замкнувшись в своей мастерской с
античными вазами, питаясь археологией, живя среди самых чистых образцов
Греции и Возрождения, удаляясь от всех современных идей, может
достигнуть с помощью изучения и искусства создания вокруг себя подобной
атмосферы. Мы видели чудеса в этом роде какого-нибудь Овербека,
который, причащаясь, постясь, запершись в монастыре в Риме, мечтает вновь
обрести мистические образы Анджелико да Фьезоле; какого-нибудь Гёте,
который, сделавшись язычником, срисовывая античные торсы,
вооруженный всеми ресурсами, какие только могут собрать эрудиция,
философия, наблюдательность и гений, достигает наконец при помощи гибкости
и универсальности самого развитого воображения, какое когда-либо
существовало, постановки на немецком пьедестале почти греческой Ифиге-
нии. В искусно выстроенной теплице, снабженной хорошо устроенными
калориферами, можно заставить вызревать апельсины даже в Нормандии;
но такая оранжерея будет стоить миллион; из десяти апельсиновых
деревьев девять принесут только горькие недоноски, и нормандский
крестьянин, которому вы предложите плоды десятого, будет предпочитать им
в глубине души свою водку и грушевую наливку
Нельзя не признать, что тогда было единственное в своем роде
стечение обстоятельств, - никогда больше не повторилось такого смешения
грубости и культуры, этих солдатских манер со вкусами антиквариев,
нравов бандитов с беседами ученых. Человек находился тогда в
переходном состоянии: он выходил из Средних веков, чтобы вступить в Новое
• 175 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
время, или, лучше сказать, обе эти эпохи сливались и заступали одна
в другую самым странным образом и с самыми неожиданными
противоречиями. Так как в Италии не могло установиться централизованное
правительство и не развилась преданность монархии, то Средневековье
было продолжено здесь дольше, чем где-либо, жестокостями частных
лиц и постоянным обращением к силе. Так как люди в Италии
скороспелы и так как кора немецкого нашествия покрыла ее только наполовину,
то Новое время сказалось в ней раньше, чем где-либо, в накоплении
богатств, в творческой плодовитости и свободе духа. Итальянцы были
одновременно и более передовыми, и более отсталыми, нежели другие
народы, - более отсталыми в чувстве справедливости, более передовыми
в чувстве прекрасного, - и их вкусы отвечают состоянию их духа. Всегда
общество хочет видеть в зрелищах, которые оно себе устраивает,
предметы, интересующие его более всего. Всегда в нем есть некоторый
господствующий тип, который воспроизводит и созерцает сам себя в
искусстве. В наше время это претенциозный плебей, который хочет отведать
парижских удовольствий и из своей мансарды спуститься в бельэтаж, -
коротко говоря, выскочка, интриган, человек канцелярии, биржи и
кабинета, какого рисуют нам романы Бальзака. В семнадцатом веке это был
придворный, знаток приличий и опытный в светских делах,
остроумный, элегантный, необыкновенно изящный, необыкновенно ловкий, -
словом, такой, каким его изображает Расин и каким романы
мадемуазель де Скюдери пытаются его изобразить. В шестнадцатом веке в
Италии - это здоровый, хорошо сложенный человек, пышно одетый,
сильный и умеющий принимать красивые позы, - такой, каким его
изображают художники. Конечно, какой-нибудь герцог Урбинский, Чезаре
Борджа, Альфонсо дЭсте, Лев X слушали и поэтов и рассказчиков - это
было вечерним развлечением после ужина на вилле, среди колоннад и
расписных плафонов. В общем, однако, что их увлекало, - это развлечения
аая глаз и для тела, маскарады, кавалькады, величественные
архитектурные формы, горделивая осанка статуй и нарисованных фигур, все
пышное убранство, которым они себя окружали. Всякое другое развлечение
было бы для них уже пресным; это не аналитики, не философы, не
салонные люди: им нужны вещи ощутимые и осязаемые. Если вы в этом
сомневаетесь, посмотрите лучше всего на их удовольствия: например, на
развлечения Павла II, который заставляет бегать перед ним лошадей, ослов,
быков, детей, стариков, евреев, заранее «откормленных», чтобы они были
толще, и хохочет над этим до упаду; на удовольствия Александра VI,
• 176·
живопись
которые я не могу описывать; или, наконец, на Льва X, который в
сапогах со шпорами охотится весь сезон за оленями и кабанами, держит при
себе монаха, способного «проглотить одним глотком целого голубя и
пожрать вслед за тем сорок яиц», приказывает подавать за столом блюда,
сделанные в форме обезьяны или вороны, чтобы любоваться на
удивление гостей, окружает себя шутами, велит играть перед ним «Каландру»
и «Мандрагору», любит грязные рассказы и содержит при себе приживал.
Природная тонкость подобных умов кажется созданной аая различения
оттенков - не чувств или идей, а цветов и форм, - и мы видим, что аая
ее удовлетворения является целое племя художников, между которыми
первый - Микеланджело.
Есть четыре человека, которые в пластических искусствах и в
литературе поднялись надо всеми - поднялись настолько, что кажутся
принадлежащими к особой расе, - Данте, Шекспир, Бетховен и
Микеланджело. Ни глубокое знание, ни полное обладание всеми средствами
искусства, ни плодовитость воображения, ни оригинальность ума еще не были
бы достаточны, чтобы дать им это положение, - они имели все это, но все
это второстепенно. Что возвело их на такую ступень - это их душа, душа
павшего бога, вся охваченная неудержимым стремлением к миру, не
похожему на наш, вечно борющаяся и страдающая, вечно в труде и буре, не
способная удовлетвориться или подчиниться и поглощенная в своем
одиночестве созданием перед взорами людей гигантов, столь же
неукротимых, столь же могучих, столь же скорбно величавых, как ее бессильное
и неутолимое стремление.
Этой своей чертой Микеланджело современен, и, может быть,
поэтому мы понимаем его теперь без труда. Был ли он более несчастлив, чем
другие люди? Если судить по внешним обстоятельствам, кажется, что нет.
Если его мучила жадная родня, если два или три раза каприз или смерть
его покровителей губили великое создание, задуманное им или начатое,
если его отечество впало в рабство, если вокруг него душа людей
расслаблялась и портилась, - то во всех этих препятствиях, тревогах и неудачах
нет ничего необычного. Сколько художников, его современников,
испытали гораздо большие! Но страдание измеряется внутренним
потрясением, а не гнетом внешних обстоятельств; если же существовала когда-либо
душа, способная сверх меры к восторгам, волнению и негодованию, то это
была его душа. Он был впечатлителен до крайности и, следовательно,
«застенчив», дикарь, неловок в мелких общественных отношениях
настолько, что, например, никогда не мог решиться дать у себя обед. Люди,
• 177 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
слишком тревожимые постоянным внутренним беспокойством,
молчаливы, чтобы не привлекать к себе внимания, и сдержанны, не имея где
выказать себя. Уже с молодых лет он не любил общества и был погружен
в свои занятия и молчание до такой степени, что казался гордым или
сумасшедшим. Позднее, на вершине славы, он ушел в себя еще глубже:
гулял всегда один, держал одного только слугу, проводил целые недели
один на своих подмостках, весь поглощенный непрерывной беседою
с самим собой. Это потому, что он не находил никого, кто отвечал бы
ему. Не только чувства его были слишком сильны, но они были еще
слишком возвышенны. С самой ранней юности он любил безмерно
все благородное: прежде всего - свое искусство, которому он отдался,
вопреки грубому сопротивлению его отца, и которое изучил до глубины
во всех его подробностях, с циркулем и скальпелем в руке, с
необыкновенным упорством, так что делался болен; затем свое достоинство,
которое он поддерживал с опасностью для жизни перед самыми
надменными папами, так что заставил их уважать себя как равного, а сам
пренебрегал ими «больше, чем мог бы позволить себе король Франции». Он
презирал обыкновенные удовольствия: «будучи богатым, он жил, как
бедняк», воздержанно, обедая часто куском хлеба; трудолюбивый,
суровый к своему телу, спал мало и часто не раздеваясь, жил без роскоши,
даже без домашней обстановки, не заботясь о деньгах, даря свои статуи
и картины друзьям, двадцать тысяч франков - слуге, тридцать или сорок
тысяч сразу - своему племяннику, ряд крупных сумм - другим
родственникам. Более того: он жил монахом, без жены и любовницы,
целомудренный среди развратного двора, зная только одну любовь - любовь суровую
и платоническую, к женщине, столь же гордой и благородной, как он
сам. Вечером, после работы, он писал сонет в ее хвалу и мысленно
склонялся перед ней, как Данте у ног Беатриче, прося ее поддержать его в его
слабости и удержать на «тесном пути». Он повергал перед ней свою
душу, как перед небесной добродетелью, и обретал вновь, для служения ей,
экзальтацию мистиков и рыцарей. Он чувствовал в ее красоте
откровение божественной сущности; он видел ее «еще покрытую плотской
одеждой, уносящейся в сиянии на лоно Божества». «Тот, кто любит, -
говорил он, - возносится на Небо с верою, и смерть становится ему сладка».
Через нее он восходил к высшей любви; в этом первоисточнике творения
он любил ее некогда; ведомый ее глазами, он возвращался туда вместе
с ней. Она умерла раньше его, и он оставался долго «подавленным и как
бы бесчувственным»; много лет спустя у него оставалось на сердце тяже-
• 178·
живопись
Микеланджело. Пьета. Собор Св. Петра в Риме.
Фотография 1890-х годов
лое горе - сожаление, что на ложе смерти он не поцеловал ее в лоб или
в щеку вместо руки.
Все остальное в его жизни отвечает этим чувствам. Ему «нравились
рассуждения ученых мужей», а также чтение поэтов - Петрарки и
особенно Ланте, которого он знал почти всего наизусть. «Пусть Небо дало бы
• 179 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Микеланджело. Моисей. Церковь Сан Пьетро ин Винколи в Риме.
Фотография 1890-х годов
• 180·
живопись
мне сделаться таким человеком, - воскликнул он однажды, - даже ценою
такой судьбы! За его горькое изгнание и его доблесть я отдал бы самое
счастливое в мире положение!» Его любимые книги были те, на которых
лежит отпечаток величия, - Ветхий и Новый Завет, особенно же
страшные скорбные речи Савонаролы, его учителя и друга, которого он видел
привязанным к позорному столбу, на виселице и костре, но «живое слово
которого пребывало вечно в его душе».
Человек, который так живет и чувствует, не умеет приспособляться
к жизни: он слишком иной. Возбуждая удивление других, он никогда не
может удовлетворить самого себя. «Он невысоко ставил свои творения,
находя постоянно, что его рука не умела выразить идею, явившуюся
в его душе». Однажды, когда он был уже стар и дряхл, некто встретил его
близ Колизея, [идущего] пешком и в снегу, и спросил: «Куда вы идете?» -
«В школу - попытаться научиться кое-чему». Не раз его охватывало
отчаяние; поранив себе однажды ногу, он заперся у себя и хотел умереть.
Под конец он доходит до того, что отрекается от самого себя и от
«искусства, которое было его господином и идолом, живопись ли или
скульптура - пусть ничто теперь не является отвлекать мою душу, обращенную
к божественной Любви, которая с креста простирает нам свои объятия».
Это последний вздох великой души в веке падения, среди
порабощенного народа; отречение для нее - единственное убежище. В продолжение
шестидесяти лет его творения только обнажали ту героическую борьбу,
которая разыгрывалась до конца в его душе.
Сверхъестественные существа, столь же несчастные, как и мы; тела
богов, искаженные земными страстями; Олимп, где кипят человеческие
трагедии, - вот мысль, которая нисходит со всех сводов Сикстинской
капеллы. Как несправедливо сравнивать с этим «Сивилл» и «Исайю»
Рафаэля! Те прекрасны и могучи - я вполне согласен; они обнаруживают
искусство столь же высокое - я это признаю; но с первого же взгляда
видишь, что у них не та душа: они не воздвигнуты, как эти, бурной и
непреклонной волей; они никогда не испытывали, подобно этим, тревогу
и содрогание всего нервного организма, напряженного и стремящегося
с опасностью крушения. Есть души, у которых все впечатления
разражаются молниями и все действия которых - гром и блеск. Таковы фигуры
Микеланджело. Его колоссальный Иеремия, который задумался,
подпирая огромную голову огромной рукой, - о чем он думает, опустив глаза?
Его заплетенная и развевающаяся борода, которая падает на грудь, его
рабочие руки, покрытые раздутыми венами, его наморщенный лоб, грубая
• 181 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
внешность, глухой ропот, который, кажется, сейчас вырвется из его
груди, - приводят на память одного из тех варварских царей, угрюмых
охотников за зубрами, которые приходили стучаться с бесплодной яростью
у ворот Римской империи. Иезекииль оборачивается с нетерпеливым
вопросом, и порыв его так резок, что разрезаемый воздух приподымает
край плаща на его плече. Старая Сивилла Персидская, в длинных
складках своей падающей до земли мантии, неутомимо читает книгу, которую
она держит обеими узловатыми руками прямо перед своим
пронизывающим взором. Иона падает, опрокинутый, головой назад, перед
страшным видением, между тем как пальцы его сами собою отсчитывают сорок
дней, оставшиеся Ниневии. Сивилла Ливийская спускается стремительно,
унося громадную книгу, которую она схватила. Сивилла Эритрейская -
это новая Паллада, только еще более воинственная и надменная,
нежели ее сестра, древняя афинянка. Вокруг них, на изгибах сводов, нагие
юноши выпрямляются или расправляют свои члены - то горделиво
распростертые и предающиеся покою, то стремящиеся и борющиеся; иные
испускают крики, напряжением бедер и скорченной стопой яростно
потрясая стену. Внизу - старый согнувшийся пилигрим, который сидит;
женщина, которая целует своего маленького ребенка, закутанного в
пеленки; человек, охваченный отчаянием, который своим взглядом
исподлобья бросает горький вызов судьбе; молодая девушка с прекрасным
улыбающимся лицом, которая мирно спит; еще двадцать других - самые
великие образы человеческой жизни - говорят всеми оттенками своих
поз и малейшей складкой своей одежды.
И это еще только края свода. На самом своде, длиною в двести футов,
развертываются события Книги Бытия и избавлений Израиля:
Сотворение мира, мужчины и женщины, грехопадение, изгнание прародителей,
потоп, медный змий, умерщвление Олоферна, казнь Амана - целое
племя трагических фигур. Ложишься на старый ковер, покрывающий пол,
и смотришь. Пусть они находятся на ста футах высоты, закоптились
и облупились, теснят друг друга, пусть стоят вне всего привычного аая
нашей живописи, нашей эпохи и нашего разума - их тотчас же
слышишь. Этот человек так велик, что различия времен и народов не
существуют перед ним.
Трудность не в том, чтобы почувствовать его влияние, а в том,
чтобы объяснить его силу Когда, устав внимать этому громовому голосу,
уйдешь, успокоишься, держишься на некотором расстоянии, так что
слышишь только его отголоски, когда позволяешь размышлению занять
• 182 ·
живопись
место впечатлений и начинаешь искать тот секрет, посредством
которого он сообщает своей речи такую силу выражения, тогда говоришь себе,
что у него была душа Ланте и что он провел всю жизнь за изучением
человеческого тела - это две основные черты. Тело, каким он его создавал,
выразительно всем: скелетом, мускулами, одеждой, позой и
пропорциями, так что зритель потрясен сразу всеми сторонами зрелища. И это
тело выражает порыв, гордость, смелость, отчаяние, напряжение
необузданной страсти и героической воли, так что зритель потрясен
самыми сильными впечатлениями. Духовная мощь просвечивает сквозь
все материальные детали, и мы физически, одним ударом, ощущаем ее
отражение.
Посмотрите на Адама, уснувшего возле Евы, которую Иегова только
что извлек из него. Никогда ранее ни одна тварь не была усыплена столь
глубоким смертным сном. Его громадное тело все осело; и громадность
делает это изнеможение еще более ощутимым. Пробудясь, эти
бессильные бедра, эти повисшие руки растерзают льва в своих объятиях. В
«Медном змие» человек, сдавленный на половине тела змеей, отрывающий
ее искривленной рукой и корчащийся, расставив ноги, заставляет
вспомнить борьбу первых человекообразных против чудовищ, влачивших свое
грязное чрево по допотопной земле. Нагроможденные тела,
переплетенные друг с другом и опрокинутые пятками вверх, упирающиеся руки,
спины в конвульсиях трепещут посреди сплетений пресмыкающихся.
Отвратительные пасти раздробляют черепа, тянутся к рыдающим губам...
Несчастные, с волосами дыбом, с открытым ртом, корчатся на земле,
между тем как их ноги бьются яростно, как попало, среди каши
человеческих тел.
Человек, так распоряжающийся скелетом и мускулами, умеет
вложить гнев, порыв, ужас в складку бедра, в выступ лопатки, в положение
спины; в его руках вся животная природа человека волнуется, действует
и борется. Какими жалкими манекенами кажутся, в сравнении с этим,
тяжеловесные фрески и неподвижные процессии, которые сохранились
тут же, внизу. Они остаются, как старые пометки, начертанные на
набережной реки, по которым можно видеть, от каких потоков нарастала
и вздувалась река. Он один, после греков, знал всю цену членам
человеческого тела. Лля него, как аая греков, тело существует само по себе,
без подчинения голове. Силой своего гения и одиноких трудов он нашел
снова понимание наготы, которое грекам давала гимнастическая жизнь.
Перед его сидящей Евой, которая полуоборачивается, поджав под себя
• 183 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ступню, представляешь себе невольно напряжение всей ноги, когда она
поддерживает это большое, столь гордое тело. У его Евы и его Адама,
изгнанных из рая, никто не станет искать скорбных лиц: весь торс, все
члены тела, весь человеческий костюм в линиях его внутреннего строения,
в геркулесовской крепости его основ, в трении и хрусте движущихся
суставов, - весь этот ансамбль поражает. Голова входит в него только как
часть, - и стоишь неподвижно, погружаясь в созерцание бедер,
поддерживающих подобное туловище, и этих неукротимых рук, которые
должны подчинить враждебную землю.
Но что, по моему мнению, превосходит все - это двадцать юношей,
сидящих на карнизах, по четырем углам каждой композиции,
настоящие написанные статуи, которые дают представление о неведомом и
высшем мире. Все они - юные герои времен Ахилла и Аякса, столь же
тонкой, но более пылкой расы и более острой энергии. Это великая
нагота, пышная картина тела, движения, заимствованные из гомеровских
битв, но с более сильным порывом, с более смелой решимостью
мужественной воли. Нельзя было представить себе, что внешний облик
человека, согнутого или выпрямленного, может заинтересовать ум таким
разнообразием волнений. Бедра упираются, грудь дышит, вся телесная
оболочка напрягается и трепещет; туловище морщится сбоку, плечо,
изборожденное мускулами, порывисто выбрасывает руку. Один из них
опрокидывается, таща свой огромный плащ на бедро; другой,
приставив руку ко лбу, кажется, отражает удар. Иные, задумавшись, мечтают
в сидячей позе, оставив висеть свободными все четыре конечности.
Многие убегают, перешагнув через карниз, или откидываются назад,
испуская крики. Трое между ними, над Иезекиилем, Персидской
Сивиллой и Иеремией, несравненны - особенно один, самый благородный изо
всех, спокойный и разумный, как бог; он глядит, опираясь на фрукты,
положив руку на колени. Чувствуешь, что они сейчас двинутся, будут
действовать, и хочется удержать их перед собой в том же положении.
Природа не произвела ничего равного; вот какими она должна была
создать нас! Здесь она нашла бы все типы: рядом с гигантами и героями -
дев, стыдливых юношей, играющих детей, эту прелестную Еву, столь
юную и горделивую, эту прекрасную Сивиллу Дельфийскую, подобную
первобытной нимфе, которая смотрит глазами, полными наивного
удивления, - всех сыновей и дочерей колоссальной и воинственной расы,
которым, однако, их возраст сохранял улыбку, ясность духа, простую
веселость и грацию эсхиловских Океанид и гомеровской Навзикаи.
• 184·
живопись
Сикстинская капелла в Ватикане. Гравюра 1860-х годов
Душа художника носит в себе целый мир, - и мир Микеланджело здесь
весь перед нами.
Он его создал раз и не мог уже пересоздать. Его «Страшный суд», тут
же рядом, не оставляет такого же впечатления; художнику было тогда
шестьдесят семь лет, и его вдохновение не было уже так свежо. Когда
долго упражняются в своих идеях, лучше владеют ими, но они уже не
так волнуют, - тогда заходят дальше первоначального, единственно
верного впечатления, и преувеличивают или копируют самого себя. Здесь
он намеренно утяжеляет тела, раздувает мускулы, расточает ракурсы
и вычурные позы и делает из своих персонажей хорошо откормленных
атлетов и борцов, занятых демонстрацией своей силы. Ангелы,
уносящие крест, цепляются за него, опрокидываются, сжимают кулаки,
вытягивают ноги, вздергивают ступни, как в гимнастическом зале. Святые
возятся с орудиями своей казни, как будто каждый из них хочет
привлечь внимание к формам своего тела и своей силе. Души чистилища,
спасаемые посредством четок и рясы, - суть утрированные модели,
которые могли бы пригодиться в школе анатомии. Художник коснулся
• 185·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
уже того момента, когда чувство исчезает в знании, а ум особенно
увлекается преодолением препятствий. Как бы то ни было, но это
творение еще единственное в своем роде - подобное величавому трубному
звуку, который оглушительно вострубили горло и легкие старого
бойца. Отдельные фигуры и целые группы еще достойны лучших его
творений. Могучая Ева, прижимающая по-матерински к своему боку одну
из испуганных дочерей; старый и грозный Адам, допотопный гигант,
корень необъятного древа человечества; зверские и плотоядные лица
демонов; грешник, который закрывает лицо руками, чтобы не видеть
поглощающей его преисподней; другой, обвитый змеей, который
остается неподвижным, с горькой улыбкой, застывшей от ужаса, наподобие
каменной статуи; особенно же этот Христос Громовержец, подобный
Юпитеру, который у Гомера опрокидывает на равнине троянцев и их
колесницы, и рядом с ним, почти скрытая под его рукой, сжавшаяся,
робкая Богоматерь, с ее жестом молодой девушки, столь тонкая и
благородная, - вот создания, равные созданиям на своде. Они оживляют целое;
перестаешь чувствовать злоупотребление искусством, поиски эффекта,
господство ремесла. Видишь только ученика Ланте, друга Савонаролы,
отшельника, вскормленного грозными страницами Ветхого Завета,
патриота, стоика, защитника справедливости, носившего в сердце траур по
своему городу, присутствовавшего при похоронах свободы и Италии,
который, среди презренных характеров и выродившихся душ, один
оставшись в живых и с каждым днем более угрюмый, провел девять лет
над этим необъятным творением, с душою, полной мысли о верховном
суде, уже заслыша громы последнего дня. $У
VII
ВИЛЛЫ И ДВОРЦЫ
iMMIiltiWMiMMtr
Палаццо Фарнезе в Риме. Фотография 1890-х годов
Виллы
ИЧЕГО ТАК НЕ интересует меня в римских
виллах, как их старые хозяева. Натуралисты
знают это: узнаешь легко моллюска по его
раковине.
Место, где я начал это понимать, - это
вилла Альбани, построенная в восемнадцатом
столетии для кардинала Алессандро Альбани и по
его собственному плану. Что здесь
улавливается тотчас же - это тип важного вельможи, придворного вроде наших
дворян восемнадцатого века. Есть различия, но оба типа близки между
собою. Эти люди любят больше всего искусство и обстановку; природе
не оставлено здесь никакой свободы - все искусственно. Вода не течет
иначе, как бьющей струей или султаном; у нее нет другого ложа, как
бассейны и чаши. Лужайки окружены густой чащей буксуса, выше
человеческого роста, толстой, как стена, и образующей геометрические
треугольники, все вершины которых обращены к одному центру. На
переднем плане тянется узкая и прямая шпалера маленьких кипарисов.
Из одного сада в другой подымаешься по широкой лестнице, похожей
на версальские. Цветочные клумбы заключены в невысокий бордюр из
буксуса; эти клумбы образуют рисунки и походят на хорошо вышитый
ковер, правильно расцвеченный красками разных тонов. Эта вилла -
обломок, как бы ископаемый скелет жизни, которая продолжалась два
столетия и главное удовольствие которой состояло в разговорах, в
красивой внешности, в обычаях салонов и приемных. Человек не
интересовался тогда неодушевленными предметами; он не признавал за ними
души и собственной красоты; он делал из них простой придаток к
своей жизни; он допускал их только на фоне картины - смутном и менее
чем второстепенной важности. Все внимание было поглощено самой
картиной, то есть человеческой драмой и интригой. Чтобы перенести
часть этого внимания на деревья, воду, пейзаж, нужно было уподобить
их человеку, отнять у них их форму и естественный порядок, их
«дикий» вид, беспорядочную и пустынную внешность и, насколько
возможно, сообщить им вид салона, галереи с колоннами, большого двора
во дворце. Пейзажи Пуссена и Клода Лоррена все носят на себе
отпечаток этого духа: это - архитектурные создания; сельская природа здесь
написана аая придворных, которые хотят найти двор и в своих
имениях. В этом отношении любопытно сравнить остров Калипсо у Гомера
• 189·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
и у Фенелона. У Гомера - это настоящий остров, дикий и скалистый, где
гнездятся и кричат морские птицы. У Фенелона это нечто вроде Марли,
«благоустроенного аля удовольствия глаз». Точно так же английские сады,
которые заводят теперь у нас, свидетельствуют о появлении другой расы,
о царстве иного вкуса, о господстве иной литературы, о влиянии другого
духа, более тонкого, более преданного одиночеству, легче утомляющегося,
более обращенного к внутреннему миру.
Вторая черта состоит в том, что наш вельможа - любитель
древностей. Кроме двух галерей и круглого портика, полного античных статуй,
тут есть еще остатки разнообразной скульптуры, разбросанные по
всему саду, - кариатиды, торсы, колоссальные бюсты, боги, колонны,
увенчанные бюстами, урны, львы, большие вазы, пьедесталы, бесчисленные
обломки, часто разбитые или обезображенные. Лаже, чтобы
воспользоваться всем, в стену вставлено несколько бесформенных остатков.
Некоторые из этих статуй - кариатида, маска Антиноя, статуи
императоров - хороши; но большая часть - совершенный сброд. Многие
принадлежали, без сомнения, маленьким муниципиям или частным лицам;
даже у древних это был рыночный товар - то, что осталось бы от нас, если бы
нашли вновь после долгого пребывания в земле наши статуи с лестниц
и бюсты из городских дум. Это, скорее, музейные документы, чем
произведения искусства. Из них сделали украшение лишь из педантизма;
любовь ко всякому хламу - старческий вкус; и это был последний вкус,
уцелевший в Италии. Литература уже умерла, но еще сочинялись
диссертации о какой-нибудь вазе или о монетах. В царстве галантных сонетов
и академических фраз, где всякое умственное усилие было воспрещено
или подавлено, в этой огромной пустоте последнего столетия, хранили
еще, как во времена Полициано или Лоренцо Медичи, старые вкусы и
археологическую любознательность. Этот род занятий отвращает умы от
великих вопросов. Какой-нибудь абсолютный властитель, какой-нибудь
кардинал может покровительствовать ему и наполнять таким путем свои
свободные часы, слыть знатоком и меценатом, награждать посвященные
ему послания, мифологические фронтисписы и великие эпитеты,
итальянские и латинские.
Третий пункт, не менее очевидный, - это то, что наш вельможа и
антикварий - в то же время итальянец, южный человек. Климат
соответствует этой архитектуре; многие сооружения, занесенные к нам по
подражанию в течение наших классических веков и нелепые под нашим
небом, здесь разумны и даже подчас красивы. Это, прежде всего, большие
■ 190·
ВИЛЛЫ И ДВОРЦЫ
портики с открытыми аркадами. В окнах здесь надобности не
чувствуется. Даже лучше, если их нет, чтобы освежиться прогуливались именно
в таких портиках. И как нельзя более подходит, что все тут из мрамора.
На севере становится холодно при одной мысли о нем, и невольно
вспоминаешь об обоях и половиках, об отоплении, коврах и всех удобствах
необходимой аая нас обстановки. Напротив, какой-нибудь герцог, какой-
нибудь прелат в фиолетовом платье во время большого приема,
окруженный своими дворянами, чувствовал себя здесь как раз в таком месте, какое
ему было нужно аая того, чтобы поговорить о государственных делах
или выслушать сонет. Время от времени посреди своих величавых
прогулок он мог бросить взгляд на статуи, на бюсты императоров, произнести
вслух по их адресу какую-нибудь латинскую цитату или что-нибудь из
области политики, заинтересоваться совершенно искренне их жизнью
и их воображением, по чувству некоторого родства с ними, в качестве
их преемника. Здесь очень хорошо было также принимать художников,
оказывать покровительство дебютантам, заказывать или обсуждать план
какого-нибудь здания. Если вельможа спускался в аллеи, то они
оказывались достаточно широкими и достаточно ровными, чтобы его платье ни
обо что не цеплялось и чтобы его свита могла развернуть свой кортеж.
И сад, и здания превосходны для того, чтобы держать двор под открытым
небом.
Открывающиеся виды и части пейзажа, которые замечаешь в конце
галерей в обрамлении колонн, - в том же вкусе. Пышные каменные дубы
подымают на террасе свои чудовищные пилястры и вечнозеленый
купол монументальной листвы. Аллеи платанов тянутся и теряются вдали,
подобно портикам. Высокие молчаливые кипарисы прижимают свои
узловатые ветви к серому стволу и стремятся вверх строго и монотонно,
как пирамиды. Алоэ вытягивают у белых стен свои странные стебли,
похожие на извивающуюся змею, покрытую проказой. За оградой, по
соседним косогорам, строения и сосны беспорядочно поднимаются и
спускаются, согласно склону почвы. На горизонте зыблется резкая ломаная
линия гор; особенно одна гора, синяя, как облако, чреватое дождем,
подымает вверх свой треугольник, закрывающий кусок неба. Оттуда
глаза возвращаются к веренице круглых аркад, образующих
извилистый портик, на балюстрады и статуи, которые украшают гребень
крыши, на разбросанные там и сям колонны, на круги и квадраты прудов
и изгородей. В окружении гор все это образует настоящий пейзаж Пе-
релля и отвечает настроению, о котором современный человек, особенно
• 191 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
северный, не имеет никакого понятия. Теперешние люди более тонки,
менее способны понимать живопись и более способны понимать музыку
Тогдашние имели еще грубые нервы и чувства, обращенные к
внешнему миру; но они не ощущали души этих внешних предметов, а ценили
только их форму. Искусно выбранные и благоустроенные пейзажи
производили на них то же впечатление, что высокое и обширное здание,
хорошо построенное и хорошо украшенное; этого было с них довольно:
они не умели беседовать с деревьями.
С высоты большого мраморного балкона в бельэтаже гора напротив
похожа на здание - настоящее произведение архитектуры. Внизу
видны дамы и кавалеры, гуляющие по изгибам аллей. Лайте им юбку
узорного шелка, бархатное платье, гофрированное жабо, более свободные
и благородные манеры - и вот вам двор, который прогуливается и
живет в праздности, на глазах и за счет вельможи. Вельможа нуждался в нем,
чтобы доказать другим свое значение и чтобы защититься от скуки;
только в наши дни человек научился жить один или в своей семье.
Точно так же этот большой салон, выстланный и одетый мрамором,
украшенный колоннами, барельефами и большими вазами, раззолоченный
и раскрашенный фресками, есть наилучшее место для приемов. Без
особенного усилия можно восстановить в своем воображении сцену
такого приема и ее участников. Там и сям, в ожидании хозяина,
аббаты и любители смотрят картины и болтают между собой. Подняв глаза
на «Парнас» Менгса, сравнивают его с рафаэлевским и таким образом
дают доказательство своей образованности и хорошего вкуса, избегают
опасных тем и могут удалиться, не скомпрометировав себя. Рядом, в
маленьких комнатах, созерцают великолепный барельеф Антиноя - эту
могучую грудь, эти мужественные губы, эту внешность отважного борца.
Немного далее - дивный бедный кардинал кисти Доменикино и две
маленькие, очень живые вакханалии Джулио Романо. Эти картины были
еще понятны тогда: традиция была еще жива. Дух Нового времени,
риторской и философской культуры не уничтожал еще, как во Франции,
весь быт и идеи шестнадцатого столетия; продолжаются еще
постоянные убийства; по вечерам улицы небезопасны. Между тем как во
Франции царят художники будуара, здесь Менгс подражает Возрождению
и Винкельман открывает вновь античный мир. И их произведения
ценятся, так же как и творения великих мастеров. Долгие часы ожидания
в приемной, пустота сдержанных разговоров, опасность
непринужденной веселости, взаимное недоверие обостряли впечатлительность,
■ 192 ·
ВИЛЛЫ И ДВОРЦЫ
мешая откровенным излияниям. У человека оставалось еще место для
сильных впечатлений.
Как эти привычки и чувства далеки от наших! Как утонченная
культура, распределение богатств и хорошо налаженная полиция
постарались сделать из царственного человека только богему, нервического
честолюбца, тип Мюссе и Гейне!
Я прошел пешком две мили далее. Там есть несколько больших вилл,
окруженных курьезными искусственными развалинами; многие из этих
вилл модернизированы. В них смешаны противоположные стили, и
заходить туда не стоит. Другие, более буржуазной внешности, позволяют
видеть мимоходом стволы пальм, кактусы и белесоватые, украшенные
султанами камыши среди бьющих фонтанов. Нет ничего оригинальнее
и изящнее! Самые бедные харчевни имеют на своем дворе какое-нибудь
большое, широко раскинувшееся дерево или толстый трельяж,
образующий зеленую крышу Тут пьют плохое вино, сладковатое и слабое.
• 193 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
А напротив открываются пейзажи нежных тонов, окаймленные длинными
голубыми горами, молодая зелень, белые верхушки миндалей, изящный
рисунок коричневых или серых деревьев, и все небо увлажнено легкими
облаками...
Вилла Боргезе
Я не имею ничего особенного сказать тебе о других виллах: они
вызывают те же мысли. Одинаковая жизнь порождает одинаковые вкусы.
Некоторые из этих вилл более обширны, носят более деревенский
характер, распланированы свободнее, - между ними вилла Боргезе. Туда
отправляются через площадь Пьяцца дель Пополо. Эта площадь со
своими церквами, обелисками и фонтанами, с монументальной
лестницей на Пинчо единственна в своем роде и прекрасна. Я всегда
мысленно сравниваю эти сооружения с парижскими, к которым я привык;
здесь меньше материального величия, меньше простора, меньше камня,
чем на площади Согласия и в Триумфальной арке; но это своеобразнее
и интереснее.
Эта вилла Боргезе - обширный парк, в четыре мили в окружности,
усеянный различными постройками. При входе - египетский портик,
производящий самое дурное впечатление; это какое-нибудь новейшее
добавление. Внутренняя часть - более гармонична и вполне
классическая; тут - перистиль, там - маленький храм, далее - разрушенная
колоннада, портик, балюстрада, большие круглые вазы, наконец, нечто вроде
цирка. Волнистая почва изгибается и поднимается красивыми
луговыми пространствами, совсем красными от нежных, трепетных анемонов.
Сосны, намеренно рассаженные порознь, обрисовывают в светлом
воздухе свою изящную талию и строгую голову Вокруг аллей шумят
фонтаны, и в маленьких долинах большие, еще голые дубы выдвигают свои
доблестные тела античных героев.Я вырос и воспитался на севере; ты
угадываешь, что при их виде я забыл все красоты Рима, что здания и церкви
исчезли аая меня перед этими старыми узловатыми буками, этими
великими бойцами моих милых лесов, которые оживали теперь вновь и на
которых влажный ветер пробуждал побеги. Они доставляют приятный
отдых после монументов и камней. Все человеческое намеренно и потому
утомляет; линии здания всегда холодны; статуя или картина - всегда
призрак прошлого; единственные существа, доставляющие совершенное
удовольствие, - это явления природы, в процессе своего образования и
трансформации, которые живут и сущность которых, так сказать, струится.
• 194·
ВИЛЛЫ И ДВОРЦЫ
И остаешься здесь все послеобеденное время - смотреть на каменные
дубы, на смутную синеватую окраску их листвы, на их округлость,
столь же раскидистую, как у деревьев Англии. Здесь, как и там,
существовала аристократия, а только она - только крупная наследственная
собственность в состоянии спасти от топора такие прекрасные
бесполезные деревья. Сбоку пинии, прямые, как колонны, возносят свой купол
в безмятежной лазури. Не устаешь следить глазами за этими овалами,
которые чередуются и смешиваются друг с другом, наблюдать легкий трепет,
их оживляющий, изящный изгиб стольких благородных вершин,
рассеянных в прозрачном воздухе. Местами тополь, красный от сережек,
вытягивает среди них свою трепещущую пирамиду. Понемногу солнце
начинает садиться: отблески света озаряют полу белые стволы и газоны по
склонам, полные цветущих маргариток. Вот оно опускается еще ниже, и окна
дворца пламенеют; странный багрянец ложится на головы статуй, и
издалека слышится ария Беллини - смутная музыка, приносимая
порывами ветерка.
Вилла Аюдовизи
Все эти виллы имеют свои коллекции античных древностей.
Коллекция виллы Людовизи - одна из лучших. Для нее выстроен особый
павильон. Еще со времен Лоренцо Медичи иметь античные вещи -
обязательная здесь роскошь и неизбежная подробность широкой
аристократической жизни. Вообще, при более близком знакомстве, видишь во
всей истории современного Рима воспоминание и как бы продолжение
Рима древнего: папа есть нечто вроде духовного цезаря, и во многих
отношениях народы, живущие по ту сторону Альп, все еще кажутся
здешним людям варварами. Мы смогли только связать вновь цепь традиций;
у них же эта цепь не порывалась.
У меня есть заметки обо всей этой галерее, но я не хочу обременять
тебя...
Голова «Юноны-царицы» поистине высокого величия и строгости.
Я не думаю, чтобы в Риме нашлось что-нибудь лучше.
Упомяну еще сидящего Марса, скрестившего руки на коленях, и
нагого Меркурия. Впрочем, я могу только повторить то, что уже писал тебе
об этой скульптуре: в двадцатый раз ощущается ясность этой
прекрасной жизни, цельной, уравновешенной, где умственная жизнь со своими
тревогами и чтением книг не подавляла всего остального. Можно
восхищаться Микеланджело, любить его стремления как героическую и колос-
■ 195 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
сальную трагедию, - и все же говоришь себе иногда, что это
необыкновенное спокойствие еще прекраснее, потому что здоровее. Торс
Меркурия почти не имеет округлости: заметна только линия таза. Вместо
движущихся мускулов скульптор представил только форму человека - и этого
довольно для зрителя.
Новейшая группа Бернини образует контраст: это «Плутон, уносящий
Прозерпину» [«Похищение Прозерпины»]. Голова Плутона низменно
игрива: его корона и борода придают ему смешной вид; мускулы
обозначены очень резко; он позирует. Это уже не настоящий бог - это бог
декоративный, как боги Версаля; это мифологический лицедей,
старающийся привлечь взгляды знатока и хозяина. Тело Прозерпины очень
нежно, очень красиво, хорошо изогнуто; но слишком много экспрессии
и жеманности в ее глазах, слезах, маленьком ротике...
Погода прекрасна, небо - безоблачной синевы, тем более приятной,
что в течение восьми дней мы здесь сидели под дождем и в грязи. Но я
должен был делать усилия, чтобы смотреть, - у меня постоянно на сердце
смерть нашего бедного друга Вёпке.
Вилла между тем весело смеется. Еще не тронутые и освеженные
дождями, луга блестят; изгороди цветущего лавра, роща каменного
дуба, аллеи столетних кипарисов оживляют и восстанавливают дух своей
грацией и величием. Этот тип пейзажа - единственный в своем роде.
Здесь смешивается и группируется растительность различных
климатов: вот букеты пальм, вот большие камыши с их султанами,
подымающиеся, как свечи, из своего гнезда блестящих лент; там тополь или
громадный серый и голый каштан, покрытый почками. Что еще
оригинальнее - это старая стена Рима, настоящая естественная развалина,
которая служит оградой. Оранжереи опираются на ее красноватые
аркады; лимоны тянутся бледными рядами вдоль рассевшихся кирпичей;
кругом стелется и разрастается свежая трава; время от времени с
какой-нибудь возвышенности замечаешь последний пояс горизонта -
синеватые горы, убеленные снегом. И все это - в черте самого Рима. Никто
не появляется; я не знаю, живет ли здесь кто-нибудь. Этот Рим - музей
и гробница, где в тишине продолжают свое существование былые
формы жизни.
Доходишь до большого центрального павильона и входишь в залу,
устланную мозаикой, где большие бюсты смотрят важными рядами с
высоты ниш. Имя основателя, кардинала Людовизи, начертано над
каждой дверью; в окна видны сад и зелень. «Аврора» Гверчино покрывает
• 196·
ВИЛЛЫ И ДВОРЦЫ
плафон и его изгибы. Это была столовая важного вельможи - пустая и
величественная. Теперь у нас есть более нарядные и удобные; но лучше ли
они? Аврора на колеснице покидает старого Титана, полузакутанная
в одеяние, которое приподымает маленький амур, между тем как
другой нагой ребенок, пухлый, с видом детской досады, достает цветы из
корзины. Она - молодая и сильная женщина, и в ее силе есть почти
грубость. Перед ней на облаке три женщины, очень крупные, полные,
гораздо более своеобразные и естественные, чем в «Авроре» Гвидо Рени.
Еще дальше впереди резвятся три смеющиеся молодые девушки,
которые гасят звезды. Ауч нового света полуозаряет их лица, и контраст
освещенной и темной половины прелестен. Между рыжеватыми облаками
и утренним туманом, который тает, видна глубокая лазурь моря.
На одном изгибе свода, сидя, спит женщина, одетая в серое,
подпирая голову рукой; возле нее на простыне лежит голый ребенок и тоже
спит. Этот сон удивительно правдив: глубокое оцепенение, в которое
сон погружает детей, передано слегка надутыми губами и чуть
заметной складкой бровей. Гверчино не копировал античные образцы, как
Гвидо Рени, - он изучал живую модель, как Караваджо; он наблюдал
особенности реальной жизни, гримасы, шалости, упрямство, - все страсти
и выражения лица. Его фигуры иногда тяжелы и малорослы, но они
живут, и смесь блеска и светотени, на телах двух спящих - это сама
поэзия сна.
Лворцы
Эти виллы, эти сады, дворцы, наполняющие Корсо, - это остатки
широкой аристократической жизни. Ни в Париже, ни в Аондоне нет
больше ничего подобного. Частные парки там сделались
общественными гуляньями; для знатных семей остались только их особняки, а чаще
всего - простые дома с небольшим земельным участком, где хозяин
жилища может гулять только под взорами соседних домов. Между тем как
в северных странах устанавливалось равенство, здесь утверждалась
аристократия, обновлявшая себя непотизмом. В течение трех столетий
папы употребляли большую часть казенных доходов на устройство
своих фамилий: они были хорошими родственниками и пеклись о детях
своих сестер и братьев. Сикст V жалует одному из своих двоюродных
внуков кардинальство и сто тысяч экю церковных доходов. Климент VIII
в течение тринадцати лет раздает своим племянникам Альдобрандини
миллион экю, считая только деньгами. Павел V жалует кардиналу Бор-
• 197·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
гезе сто пятьдесят тысяч экю дохода, Марку Антонио Боргезе -
княжество, много дворцов в Риме, лучшие виллы по соседству; всем -
бриллианты, серебро, кареты, целую обстановку, миллион экю деньгами. От
его щедрот Боргезе покупают восемьдесят поместий в одной римской
кампанье и, сверх того, в других местах. В самом деле, папа - это
только крупный чиновник преклонного возраста, который занимает свое
место временно; его родственники принуждены использовать его как
можно скорее. С каждым понтификатом расточительность становится
все больше. При Григории XV кардинал Людовизи получает доходов на
двести тысяч экю; его дядя, отец папы, так же хорошо обеспечен.
Папа основывает luoghi di monte [ломбарды] на восемьсот тысяч экю,
которые он им дает. «То, чем владеют дома Перетти, Альдобрандини,
Боргезе и Людовизи, - говорит один современник, - с их княжествами, их
огромными доходами, столькими великолепными зданиями, пышной
обстановкой, необыкновенными убранствами и забавами, - все это
превосходит не только состояние синьоров и невладетельных князей, но
сближает их с самими королями». При Урбане VIII Барберини получают
до ста пяти миллионов экю; дела зашли так далеко, что папа
обеспокоился и назначил комиссию по этому вопросу. В самом деле, чтобы
обеспечить средствами эту щедрость, нужно было делать займы, а финансы
были в плачевном состоянии: в конце шестнадцатого столетия платежи
по займам поглощали три четверти доходов; шестью годами позднее
они поглощали уже все, кроме семидесяти тысяч экю; еще несколько
лет спустя многие статьи дохода не могли уже покрывать платежей,
которыми их обременяли. Тем не менее комиссия объявила, что папа,
будучи государем, волен давать кому ему вздумается сбережения и
остатки. Никто тогда не смотрел на государя как на
чиновника-распорядителя общественным достоянием: подобная идея утвердилась в Европе
только после Локка. Тогда государство было частной собственностью
государя, которой можно было распоряжаться и злоупотреблять.
Комиссия объявила, что папа может по совести устроить для своей семьи
майорат в восемьдесят тысяч экю. Когда немного позднее Александр VII
хотел залечить язву, ему доказали прекрасными и убедительными
аргументами, что он ошибается. Он запретил своим племянникам въезд
в Рим; ректор иезуитской коллегии, Олива, решил, что он должен их
призвать «под угрозой смертного греха». Приятно видеть в записках
современников, как деньги льются, переливаются через край, спускаются
с каждым папой в новый бассейн и разливаются там великолепными
• 198 ·
ВИЛЛЫ И ЛВОРЦЫ
шШ
"1#
Вилла Торлония во Фраскати. Фотография 1860-х годов
• 199·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
золотыми волнами, целой блестящей скатертью, где цехины, экю и
дукаты сверкают своей дорогой чеканкой. И тотчас же, как вокруг
оросительного канала, видишь кругом расцвет прекраснейших
аристократических цветов, всей пышности, изображаемой картинами и эстампами, - всех
этих дворян в бархатных и атласных платьях, курьеров в галунах,
швейцаров и лакеев, толстопузых мажордомов, прислугу кухни, столовой и
конюшни, целое племя оруженосцев и благородных слуг, навербованных
для защиты или ради красы, которые образуют свиту господина во время
его визитов, наполняют переднюю во время его приемов, сидят на верху
его карет, помещаются на его чердаках, едят в его кухне, присутствуют
при его вставании и живут барами, имея единственным занятием заботу
проносить как можно дольше свое расшитое платье и держать высоко
честь фамилии.
Как кормить всех этих людей? Заметьте, что кормить их было
необходимо - в них нуждались, чтобы заставить себя уважать. Рим был
ненадежен. После смерти Урбана VIII во время конклава общество, казалось,
рассыпалось. «В городе столько вооруженных людей, - говорит один
современник, - что я не помню, чтобы когда-либо видел их так много.
Нет ни одной сколько-нибудь состоятельной фамилии, которая не
запаслась бы многочисленным гарнизоном солдат. Если бы всех их
соединить вместе, получилась бы значительная армия. Насилие в городе
пользуется полной безнаказанностью и свободой. Убитые есть повсюду,
и новость, которую слышишь чаще всего: "такой-то или такой-то,
известный человек, только что убит"». Как только новый папа
провозглашен, у племянников предыдущего оказывается много хлопот: хотят
заставить их вернуть взятое, их враги начинают против них процессы,
и часто им приходится бежать. Среди стольких опасностей человек
поневоле вынужден иметь своих сторонников, клиентов и свои креатуры -
свиту верных шпаг - всегда наготове; Рим вовсе еще не сделал шага,
отделяющего Средневековье от современности, - безопасность и
правосудие здесь отсутствуют. Это вовсе не государство, и еще того менее -
отечество; каждый здесь принужден защищать самого себя силой или
обманом; каждый имеет свои привилегии, то есть возможность и
право стоять в некоторых случаях выше закона. Столетием позже де Бросс
пишет еще, что «безнаказанность обеспечена каждому желающему
нарушить общественное спокойствие, лишь бы только он был известен
какому-нибудь вельможе и находился поблизости от убежища...
Убежищем здесь служит все: церкви, квартал какого-нибудь посольства, кар-
•200·
ВИЛЛЫ И ДВОРЦЫ
динальскии дом, так что злополучные полицейские сбиры принуждены
иметь особую карту римских улиц и тех местностей, куда они имеют
право входить, преследуя какого-нибудь злодея».
Вельможа живет в своем дворце, как феодальный барон в своем
замке. Его окна снабжены перекрестными решетками с болтами,
способными противостоять лому и топору; камни фасада длиной в полчеловека,
и ни пули, ни кирка не берут их массы; стены садов в тридцать футов
высоты, и нелегко рискнуть на штурм этих каменных глыб. Наконец, парк
достаточно велик, чтобы вместить целую маленькую армию; в передних
и в галереях свободно размещаются двести или триста мундиров;
квартиры им находятся без затруднения по чердакам. Что до рекрутов, то за
ними дело не станет: так же, как в Средние века, слабые, аая того чтобы
существовать, принуждены обращаться к сильным. «Господин, - сказал
бедняк, - как мой отец и мой лел, я слуга вашей семьи». И так же, как
в Средние века, сильный вынужден вербовать вокруг себя слабых для
своей поддержки. «Вот платье и столько-то экю в месяц, - сказал
вельможа, - иди за моей каретой при выездах и церемониях». Так в Риме
существовала целая сотня маленьких лиг, и чем больше человек имел людей
в своей власти и на своей службе, тем он был сильнее.
При таком режиме легко разорялись, а сперва - делали займы.
Вельможи при этом поступали так же, как государство; чтобы достать денег,
они закладывали свои доходы и не держали своих обязательств. В
течение семи лет кредиторы Фарнезе не получали ни одного экю; так как
среди этих кредиторов были госпитали и благотворительные учреждения,
то папа был вынужден послать солдат занять поместье Фарнезе около
Кастро. Кроме того, в те времена столкновения из-за этикета вызывали
настоящие войны, и можно себе представить, сколько тут тратилось.
Барберини, не получив визита Одоардо Фарнезе, отняли у него право
вывозить хлеб. Тогда тот, с тремя тысячами кавалерии, опустошил все
церковное государство, говоря, что нападает не на папу, а на его
племянников. Племянники, в свою очередь, выставляют армию. С обеих сторон
солдаты-наемники, немцы и французы. Страна разграблена во время
этих набегов, а по заключении мира обе стороны находят свои карманы
пустыми. Разумеется, для их наполнения выжимают соки из того же
народа. Лонна Олимпия, невестка Иннокентия X, продает должностные
места. Брат Александра VII, глава суда в Борго, продает правосудие.
Налоги становятся обременительными. Один современник пишет, что «народу,
у которого нет больше ни денег, ни белья, ни постелей, ни кухонной
• 201 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
посуды, чтобы удовлетворить требования сборщиков, остался только
один способ заплатить подати - это продать себя в рабство». Люди
перестают работать; поля пустеют. В следующем столетии де Бросс пишет:
«Правительство так плохо, как только можно выдумать на смех.
Вообразите, что должен представлять собой народ, треть которого состоит из
священников, а другая треть - из людей, которые не работают, - народ,
у которого нет ни земледелия, ни торговли, ни заводов, - народ,
живущий среди плодородных полей и на судоходной реке, но где при каждой
перемене дел появляются свежие воры, занимающие место тех, которые
уже не имеют надобности грабить».
В такой стране работа - самообман: зачем я буду трудиться, зная,
что казна, или какой-нибудь вельможа, или негодяй с хорошей
протекцией отнимут у меня плоды моей работы? Гораздо лучше пойти на
прием к слуге какого-нибудь сановника - это даст мне кусок пирога. «Если
дочь простого человека пользуется протекцией побочного сына
аптекаря какого-нибудь кардинала, она обеспечивает себе пять или шесть
приданых от пяти или шести церквей, - и не хочет больше учиться ни
шить, ни прясть; какой-нибудь другой бездельник женится на ней из-
за этой денежной приманки», - и они живут на общественный счет.
Потом, в качестве посредников, ходатаев или нищих, они добывают свой
хлеб как умеют.
Жизнь нобилей - такая, какой ее описывают плутовские романы, -
начинается в эту эпоху не только в Риме, но и во всей Италии. Работу
считают унизительной и хотят только играть роль; держат прислугу и
забывают платить ей жалованье; обедают одной репой и щеголяют в
кружевном жабо; берут в долг у лавочников и отделываются от них
просьбами и враньем. Комедии Гольдони полны этими типами - людей из
хороших, знатных семей, образованных, полуплутов, живущих на чужой
счет; они заставляют приглашать их в деревню; они всегда веселы,
забавны, остроумны, знают как нельзя лучше всякие игры, сочиняют стихи
в честь хозяина, дают ему советы насчет его построек, а в особенности
занимают у него деньги и едят за двоих; их зовут «рыцарями еды»; шуты,
льстецы, обжоры, они готовы получать пинки за одно экю.
Мемуары того времени дают сотни примеров этого декаданса.
Карло Гоцци, возвращаясь из путешествия с одним другом,
останавливается на минуту посмотреть на пышный фасад своего родового дворца.
Потом они оба подымаются по широкой мраморной лестнице и
застывают в изумлении: дворец оказывается разграбленным. «Пол большой
• 202 ·
ВИЛЛЫ И ДВОРЦЫ
залы был совершенно разрушен; повсюду глубокие провалы, так что
можно сломать себе ногу; сквозь разбитые окна проникает ветер;
грязные шпалеры свисают клочьями со стен. Не осталось и следа от
великолепной галереи старых картин. Я нашел только два портрета моих
предков: один - кисти Тициана, другой - Тинторетто». Женщины
закладывают, сдают внаем и продают все, что могут и как могут, - когда
нужда берет людей за горло, они не рассуждают. Однажды свояченица Гоцци
продала на вес колбаснику кипу контрактов, наследственных и
имущественных документов. На каждом шагу в этой жизни рассыпаны уловки,
каверзы, смешные приключения комического романа. Нужно читать
этого повесу, Казанову, чтобы видеть, до какой степени падения может
дойти приукрашенная позолотой нищета. Без сомнения, как все
проходимцы, он водит компании преимущественно с себе подобными, но
французские плутни у него уже другого склада и с другими
исполнителями, чем плутни итальянские. Вот он встречается с графом, офицером
Венецианской республики, добрым малым, жена и дочь которого
говорят на превосходном языке и обладают самыми изящными манерами.
На другой день он отправляется к ним с визитом и находит ставни в
доме почти закрытыми. Он приоткрывает их и видит, что обе дамы сидят
в лохмотьях и в отвратительном белье: они брали напрокат свои
хорошие платья по воскресеньям, чтобы пойти к обедне, без чего они не
могли бы иметь свою долю в церковной милостыне, на которую они
жили. Когда, несколькими годами позже, Казанова вернулся в Милан,
мужья и братья - дворяне и хорошо воспитанные люди, некоторые
даже еще сохранившие гордость, - сводничают между ним и членами
своих семейств. Один граф, у которого он квартировал и который не имел
дров, чтобы истопить камин, вызывается, краснея, «переговорить» со
своей женой. Другой граф, Ринальди, узнав, что за его дочь
предлагают сто экю, плачет от радости, так как ожидал получить только
пятьдесят. Прелестные дамы, которые за неимением денег не могли совсем
бывать в Милане, не в силах устоять перед ужином или новым платьем.
Сын одного венецианского нобиля держит игорный дом, шулерничает
и сам сознается в этом. Молодая благородная девушка признается, что
«ее отец научил ее метать фараон таким образом, что она не могла
проиграть». Мужчины и женщины - все преклоняются перед цехином. Но
невозможно передавать своими словами: нужны подлинные описания
этого ловкого шарлатана и прожигателя жизни, чтобы почувствовать
весь необычайный контраст этих манер и этих нравов. С одной стороны -
• 203 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
красивые одежды, гладкие фразы, изящный стиль, учтивость и хороший
тон лучшего общества; с другой - бесстыдство, дела, проделки и грязь
непотребных домов. В этом падении окончилась патрицианская жизнь
шестнадцатого столетия. Когда народ не работает, а вельможи воруют,
начинают размножаться мошенники и дамы-авантюристки. Честь
становится товаром, как и все другое, и ее меняют на деньги, когда не
осталось ничего другого.
И, однако, именно этому обществу привилегированных и праздных
людей мы обязаны великими созданиями искусства, ради которых теперь
ездят в Рим. При отсутствии всех других интересов эти люди занимались
коллекционерством и архитектурой. Удовольствие строить, вкусы
антиквария и знатока суть единственные, которые остаются у вельможи,
утомленного церемониями, в стране, где охота и бурные телесные
упражнения уже не в моде, где политика воспрещена, где нет вовсе
общественного духа и гуманитарных идей, где великая литература угасла,
оставив взамен себя грубое невежество и мелкие стишки. Как вы
думаете, что делать такому человеку, когда он свободен от домашних забот,
когда он отдал все свои визиты и кончил любовные занятия? Он строит
и покупает. Вплоть до восемнадцатого столетия и уже среди полного
упадка сохраняется эта благородная традиция. Эти люди предпочитают
красоту удобствам. «Лома, - говорит президент де Бросс, - покрыты
сверху донизу античными барельефами, а спален нет». Итальянец не
роскошничает, как француз, в приемах и в обжорстве, на его взгляд, красивая
колонна с каннелюрами стоит полсотни пиров. «Его манера показать
себя после того, что он соберет воздержанной жизнью крупный капитал, -
это истратить его на сооружение какого-нибудь большого
общественного здания... которое передаст потомству прочным образом его имя,
его роскошь и его вкус».
Следы этой странной жизни встречаются на каждом шагу в ста или
ста пятидесяти дворцах, наполняющих Рим. Вы видите необъятные
дворы, стены, высокие, как в тюрьме, монументальные фасады. Во
дворе никого; это пустыня. Иногда при входе дюжина бездельников, сидя
на мостовой, делают вид, что вырывают траву. Подумаешь, что дворец
покинут. Иногда это так и есть: разорившийся хозяин живет на
четвертом этаже и пытается сдать внаем хоть какую-нибудь часть всего
остального. Но эти здания слишком велики, слишком
непропорциональны современной жизни: из них можно сделать только музей или
министерство. Вы звоните и видите медленно приближающегося швейцара
•204·
ВИЛЛЫ И ЛВОРЦЫ
или какого-нибудь лакея с выцветшим лицом; все эти люди имеют вид
меланхолических птиц из зоологического сада, в золоте, цветных
уборах и султанах, - пестрых и печальных, но сидящих на приличном
насесте. Часто не приходит никто, хотя вы пришли в указанный день и час;
это потому, что custode [сторож] исполняет какое-нибудь поручение
княгини. А путешественник проклинает страну, где все живет
иностранцами и где никто не соблюдает аккуратности. Вы подымаетесь по
нескольким лестницам удивительной ширины и высоты, и вот вы в
анфиладе комнат, еще более широких и высоких. Вы идете и идете без
конца. Вы шагаете добрых пять минут, прежде чем дойдете до
столовой. В ней можно было бы поместить четыре пехотных полка с
саперами и оркестром. Австрийское посольство теряется в Палаццо Венеция,
как логово крыс на старой мельнице. Я предполагаю, что вы делаете
визит. Пусть во дворце живет целая семья - он все-таки кажется пустым.
Замечаешь немногих слуг в передней; потом начинается пустыня, пять
или шесть огромных салонов, наполненных рассохшейся мебелью,
большей частью в стиле ампир. Мимоходом вы бросаете взгляд в окно
и замечаете большие угрюмые стены, мостовую, изъеденную мхом и
карнизы крыши, изломанные или покрытые плесенью. Наконец
появляются человеческие фигуры: один или два камердинера. Об вас
докладывают, и вы видите перед собой совсем простого человека, в сюртуке,
в современном кресле, в комнате меньше остальных и устроенной
почти совсем как нужно для того, чтобы быть удобной и теплой. Если есть
на свете печальное и несогласное с современным бытом жилище, то это
жилище человека, который сейчас перед вами. Посмотрите аая
контраста, по выходе отсюда, на какой-нибудь вновь отделанный особняк,
какие встречаются в Риме, как собственность мелкого дворянства, или
на дом какого-нибудь художника, какие есть поблизости от Испанской
площади, - с их коврами, жардиньерками, разнообразным новейшим
изяществом и бесчисленными прелестными изобретениями комфорта,
с их небольшими и удобными комнатами, - со всем, что в них есть
кокетливого и нарядного, комфортабельного и приятного. В этих
дворцах, наоборот, нужно держать шестьдесят лакеев в галунах и
восемьдесят человек свиты на жалованье - это естественная меблировка
подобных зал. Эти дворы требуют себе обратно сотню лошадей и двадцать
карет, как было у их старых хозяев. Нужно вернуть сюда также всю
посуду, ковры и миллион чистыми деньгами, как это было при папах
предпоследнего столетия, аая того чтобы снова вызолотить и обновить
• 205 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
убранство дома. Сами картины, все эти громадные тела в движении,
вся эта гордая нагота, красующаяся по стенам, - теперь не более чем
памятник угасшей жизни, слишком чувственной и слишком телесной
аая нашего времени. Римская аристократия похожа на ящерицу,
лежащую в панцире допотопного крокодила - ее прадеда. Крокодил был
красив, но он мертв.
Аворец Фарнезе
Изо всех этих ископаемых самое большое, самое импозантное,
самое благородное и самое сурово-величественное есть, по моему
мнению, дворец Фарнезе. Он находится в скверном квартале. По дороге
проходишь близ дворца Ченчи, столь разоренного и угрюмого. Пятью
минутами раньше я пересекал еврейское гетто - настоящую клоаку
париев, где кривые переулки путаются среди зловонных ручейков, среди
домов, выпяченный и нескладный фасад которых кажется опухолью
больного водянкой, среди черных скользких дворов, среди каменных
лестниц, которые вьются кишкой вокруг стены, загрязненной вековой
грязью. Безобразные, малорослые, мертвенно-бледные фигуры кишат
там, как грибы, поросшие по развалинам.
Охваченный этими картинами, приходишь на место. Один, посреди
почернелой площади, возвышается огромный дворец, массивный и
высокий, как крепость, способная выдержать бомбардировку и ответить
на нее. Это создание великой эпохи; его архитекторы - Сангалло, Ми-
келанджело, Виньола, особенно первый, запечатлели на нем истинный
характер Возрождения - характер мужественной силы. В самом деле,
он сродни торсам Микеланджело, и в нем чувствуется вдохновение
великого языческого века, века трагических страстей и неистраченной
энергии, которые скоро будут укрощены и уничтожены испанским
владычеством и католической реставрацией. По внешности - это
колоссальный четырехугольник, почти лишенный украшений, с крепкими,
снабженными решетками окнами. Нужно, чтобы он мог выдержать
атаку, стоять в течение столетий и предоставить помещение аая князя
и целой маленькой армии, - вот первая мысль его хозяина и
архитектора. Мысль об удобствах приходит уже после. И то еще слово
«удобство» здесь малоприменимо: в те опасные и смелые времена не имели
понятия о развлечениях и изящной любезности, какие знаем мы. Тогда
любили мужественную и суровую красоту и выражали ее в линиях и
сооружениях, так же как во фресках и статуях.
• 206·
ВИЛЛЫ И ДВОРЦЫ
Двор Палаццо Фарнезе. Фотография 1890-х годов
Над этим большим, почти голым фасадом идет карниз,
окаймляющий всю крышу, одновременно пышный и суровый, и его
непрерывающаяся рама, столь уместная здесь и столь благородная, усугубляет
общее впечатление здания, так что все оно кажется одним цельным
телом. Огромные выступы углов, разнообразие длинной вереницы окон
и толщина стен переплетают непрерывно идею силы с идеей красоты.
Входишь в мрачный вестибюль, украшенный арабесками и прочный,
как подземный ход. Он опирается на двенадцать коренастых
дорических колонн из красного гранита. Отсюда открывается длинный
внутренний двор - шедевр здания. Внешность предназначена аая защиты;
внутри же прогуливаются, отдыхают и дышат свежим воздухом.
Каждый этаж имеет свое внутреннее место прогулки - свой портик с
колоннами, и каждая колонна врублена в крупную арку устойчивого изгиба,
что еще более увеличивает общее впечатление энергии. А балюстрады
кругом и разнообразие этажей - один дорический, другой ионический, -
особенно же разделяющая их гирлянда цветов и фруктов, и скульптурные
• 207·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
лилии, подобные арабескам, набрасывают чарующую красоту на эту
суровость, как бы ясный свет в густой тени.
Аворцы Шиарра и Аориа
Во дворце Фарнезе живет бывший неаполитанский король, поэтому
видеть произведения живописи здесь затруднительно. Другие дворцы
доступны в определенные часы. Владельцы имеют достаточно вкуса и
здравого смысла, чтобы сделать из своих частных галерей публичные музеи.
Таблицы картин, заменяющие каталоги, лежат на столах и
предоставлены в распоряжение посетителей. Привратники и сторожа получают
с важностью свои два паоля. В самом деле, это своего рода чиновники,
служащие обществу, которые должны получать и вознаграждение от
общества. Вот вам переход от аристократической жизни к
демократическому режиму: шедевры искусства и дворцы уже перестали быть
собственностью частных лиц и поступили в пользование всех и каждого.
Дворец Шиарра. Две драгоценные картины под стеклом: первая,
лучшая - «Скрипач» Рафаэля. Это юноша в черном берете и зеленом плаще,
с меховым воротником и с длинными, падающими на плечи
каштановыми волосами. По справедливости признан Рафаэль царем
художников: невозможно быть более сдержанным, более простым, понимать
величественное естественнее и с меньшим усилием. Его потускневшие
фрески и облупившиеся плафоны не дают о нем полного понятия;
нужно видеть образцы вроде этого, где колорит не пострадал и рисунок
остался нетронутым. Юноша медленно поворачивает голову и смотрит на
зрителя; благородство и спокойствие этой головы несравненны, так же
как ее нежность и одухотворенность. Невозможно вообразить существо
более прекрасное, более тонкое, более достойное любви. Он так
серьезен, что кажется, у него есть оттенок грусти; но на самом деле он
только отдыхает и душа его благородна. Чем больше смотришь Рафаэля, тем
более чувствуешь, что он имел душу нежную и великодушную,
подобную душе Моцарта, - душу гениального человека, который развил свой
гений без труда и жил постоянно среди идеальных форм. Он остался
добрым, как некое высшее существо, которое проходило сквозь
бедствия и низости жизни, не подчиняясь им.
Другая картина - портрет одной возлюбленной Тициана, такой же
благородной и спокойной, как греческая статуя. Она положила одну
руку на ларчик с драгоценностями, а другая касается великолепных
волос, рассыпавшихся вокруг шеи. Белая рубашка легла широкими склад-
• 208·
ВИЛЛЫ И ДВОРЦЫ
ками; большая красивая драпировка обвивает плечи... Как глупо
сравнивать две картины и двух художников! Не лучше ли наслаждаться в них
всеми образами жизни?
Лве «Магдалины» Гвидо Рени. Здесь поневоле сравниваешь обе
картины. Тотчас же оставляешь одну из них, вялую и белесоватую, которая
кажется созданной без всякой цели, чисто механически.
Я нахожу, что один из шедевров этой галереи, и, может быть, самый
крупный, - это «Скромность и Тщеславие» Леонардо да Винчи. Это
только две женские фигуры на темном фоне. Здесь, точно лля контраста,
невероятно много мысли. Этот человек - самый глубокий, самый
вдумчивый из всех художников - утонченный мыслитель, который в своей
любознательности, капризах, тонкости, требовательности, возвышенности
и, может быть, печали поднимается над всеми своими современниками.
Он был всеобъемлющ: художник, скульптор, архитектор, механик,
инженер; он предугадал современные науки, наметил и практиковал их
метод раньше Бэкона; он был изобретателен во всем до такой степени,
что казался странным людям своей эпохи; он стремился и проникал
вперед, сквозь века и будущие идеи, никогда не замыкаясь ни в каком
искусстве и ни в каком занятии, никогда не удовлетворяясь тем, что он уже
знал и мог, а, напротив, испытывая немедленное отвращение к тому,
чего было бы довольно для самолюбия самого требовательного гения,
всегда стараясь превзойти самого себя, перещеголять собственные
открытия, подобно мореплавателю, который, пренебрегая успехом, забывая
возможное, неудержимо стремится в неизвестность и бесконечность.
Выражение фигуры, представляющей Тщеславие, невероятно. Никогда
не постигнешь всех опытов, комбинаций, впечатлений, всей
внутренней работы, свободной и строго обдуманной, всего пути, пройденного
душой и разумом, прежде чем удалось найти подобную голову. Она
гораздо нежнее, гораздо более благородного изящества, чем у Моны Лизы,
а роскошь и изысканность ее прически необыкновенны. Пышные
шнуры громоздят поверх ее волос свои гиацинтовые переливы; остальные
волосы спускаются локонами по плечам. Лицо почти бестелесно; его
черты - то, что передает выражение лица, - составляют все лицо. Она
улыбается странно и печально - этой характерной аая Винчи улыбкой,
со своеобразным оттенком грустного и насмешливого превосходства.
Какая-нибудь царица или женщина, которую обожают, или богиня,
которая имела бы все и нашла бы, что это очень немного, улыбалась бы
подобной улыбкой.
•209 ■
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Зал пейзажей - один из самых богатых. В нем много картин Клода
Лоррена, Локателли, большой пейзаж Пуссена, изображающий святого
Матфея, который пишет возле широкого водного пространства, посреди
величественного пейзажа. Это все тот же итальянский пейзаж - такой,
каким понимают его в этой стране, так как расширенная вилла, -
совершенно подобно тому, как английский сад есть уменьшенная деревня.
Две расы - германская и латинская - обнаруживают здесь свою
противоположность: одна любит свободную природу для нее самой; другая
признает ее лишь как декорацию - аая того чтобы приспособить и
подчинить ее человеку. Самая лучшая из этих картин - большой пейзаж
Пуссена: извивающаяся речка, налево лес, на переднем плане -
разрушенная колоннада, напротив - башня, в отдалении - синеватые горы.
Планы на этой картине расположены ярусами, как и здания, а красочные
пятна, так же, как очертания форм, - просты, ярки, сдержанны и красиво
противопоставлены. Эти строгость и правильность дают удовлетворение
уму, если не глазам; но для того чтобы почувствовать их как следует,
нужно было любить трагедии, классические стихи, пышный этикет и
великолепие вельмож и монархов. Между этими чувствами и современными -
бесконечное расстояние.
Кто узнает тут жизнь природы - такую, какой мы ее понимаем,
какой ее изображают наши поэты, - жизнь волнующуюся, подчиненную
случайностям, попеременно то нежную, то странную и могучую,
выразительную саму по себе и столь же изменчивую, как человеческое лицо?
Насколько дворец Шиарра запущен, настолько дворец Лориа
великолепен. Среди римских фамилий род Лориа - один из самых богатых.
В апартаментах этого дворца восемьсот картин. Сперва проходишь
много комнат, увешанных ими; потом выходишь в самую галерею -
великолепную, расписанную фресками и убранную огромными стеклами,
четырехугольную террасу вокруг двора, полного зеленеющих растений.
Три стороны заполнены картинами, а четвертая - статуями. Там и сям
фамильные портреты и бюсты: адмирала Андреа Дориа, «первого
гражданина» и освободителя Генуи, и донны Олимпии, управляющей
Церковью при Иннокентии X. Подобная галерея, в приемный день
освещенная, полная богатых костюмов военных, кардиналов, посланников,
должна была представлять зрелище, единственное в своем роде. Я
видел в других дворцах два или три таких больших вечера. Лавры и
апельсиновые деревья, вперемежку с бюстами и статуями, украшали
лестницы и вестибюли; живое тело картин великолепно сияло в их черных
• 210·
ВИЛЛЫ И ЛВОРЦЫ
глубинах и золотых рамах; длинные галереи и салоны в тридцать футов
высоты позволяли группам сходиться и расходиться без затруднений;
пламя факелов и огненные круги люстр развертывали свой блеск в этом
просторе, не слепя глаз своим обилием; полутени и смягченные тона не
исчезали, как в наших маленьких гостиных, в однообразии и резкости
белого освещения. Каждая группа предметов имела свой собственный
колорит и жила сама по себе. Среди штофных обоев, матового мрамора
статуй и темных переливов бронзы люди скользили, как во влаге,
мягкость и глубина которой ощущались глазами.
Пейзажи Пуссенов - Никола и Гаспара [Люге], его ученика,
наполняют почти целый зал. Это самые большие, какие я когда-либо видел: один
из них имеет двадцать футов длины. По мере того как смотришь на эти
искусно расположенные неровности почвы, на эти темные передние
планы, оживленные деревьями и образующие контраст со стертыми
тонами далеких гор, на это широко раскинувшееся небо, - кончаешь тем,
что отрешаешься от своей эпохи и переходишь на точку зрения
художника. Если он не чувствует жизни природы, то чувствует ее величие, ее
торжественную суровость, даже ее меланхолию. Пуссен жил уединенно,
среди размышлений, во времена упадка. Может быть, пейзаж есть
последняя форма живописи - та, которая заканчивает собой великую эпоху
и отвечает усталой душе. Когда человек еще молод сердцем, он
интересуется самим собой: природа аая него тогда только аккомпанемент. По
крайней мере, так это в Италии: если искусство пейзажа там и
развивается, то лишь под конец, во времена аркадий и академических
пасторалей. Он занимает уже большую часть полотен Альбани; он наполняет
все у Каналетто - последнего из венецианцев. Цуккарелли, Темпеста,
Сальватор [Роза] - пейзажисты. Напротив, в эпоху Микеланджело и даже
Вазари презирали деревья и здания; все, что не было человеческим телом,
казалось аксессуаром.
Много картин Тициана... «Святое семейство» - его первой манеры;
великолепный тип физической красоты, который он скоро покажет в
своих возлюбленных, начинает уже определяться. Два портрета представляют
этих последних: это только красивые, здоровые и непосредственные
создания; одна, украшенная жемчугами и косынкой, - самая
соблазнительная, хорошо откормленная служанка. Разбитная Магдалина,
выставляющая полную грудь, - не более чем простое животное. Святая Инесса -
только милая девочка, слегка капризница, настоящее дитя, совершенно
свободная от всяких мистических идей. В его «Жертвоприношении
• 211 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Авраама» бедный Исаак кричит, как маленький мальчик, который только
что порезал себе палец. Тициан осмеливается почти в такой же степени,
как Рубенс, показать темперамент человека, плотские страсти, вольные
и низменные инстинкты как грубую жизнь тела. Но он не лает ей воли:
он удерживает бунтующую плоть в пределах гармонической формы,
сладострастие у него не обнаруживается без благородства. Его счастье
не есть простое насыщение чувств - это, сверх того, удовлетворение
поэтических влечений. Он не опускается до ярмарок: он хочет празднеств,
и не деревенских, а празднеств эпикурейца и вельможи. У таких людей
инстинкт может быть столь же сильным и несдержанным, как у
простого народа, но он сопровождается другим настроением и не
удовлетворяется так дешево. Он требует не репы в миске, но апельсинов на
золотом блюде. Невозможно представить себе более чистый и здоровый
колорит, чем в его «Трех возрастах человека», или более цветущее и свежее
тело, чем у его пышной блондинки. У нее красное платье и рукава ее белой
рубашки, засученные крупными складками на плечах, позволяют видеть
ядреную белизну ее дивных рук. Ее взгляд серьезен и спокоен. Мы не
умеем больше создавать красоту, которая могла бы дразнить - и не
дразнит.
Многочисленные картины болонской школы все одного и того же
характера. Одна, кисти Гверчино, очень почерневшая, изображает Эрми-
нию, встречающую раненого и упавшего без чувств Танкреда. Его
оруженосец - академическая голова; сам человек в обмороке
скопирован с натуры, с мелодраматическими тенденциями. Другая картина, Гви-
до Рени, - «Мадонна, поклоняющаяся Младенцу Иисусу». Мадонна -
хорошенькая воспитанница пансиона, и в картине сквозит уже
приторная набожность и близость эпохи Святого Сердца. Третья картина -
«Пьета» Аннибале Карраччи. Его Христос красивый юноша, с изящным,
пробуждающим жалость лицом, которое может нравиться прекрасным
дамам. Маленькие смятенные ангелы показывают друг другу с
умилением на язвы ног и пытаются поднять повисшую руку Вот
сентиментальная изысканность и манерность, которые отвечали требованиям нового
пиетизма семнадцатого столетия - религии светских женщин,
погрузившихся в мистицизм.
Но замечательнее всего, по-моему, портреты. Один, кисти Веронезе,
изображает Лукрецию Борджа в черном бархате, со слегка открытой
грудью, с кружевами на корсаже и рукавах, располневшую, уже зрелого
возраста, с завитыми волосами, с низким лбом, чопорного вида и со стран-
• 212 ·
ВИЛЛЫ И ДВОРЦЫ
ным выражением глаз, - такой была она, когда Бембо посвящал ей
излияния и длинные периоды своих церемонных писем. Адмирал Андреа
Дориа в портрете Себастъяно дель Пьомбо - великолепный
государственный человек и полководец, с манерами начальника, со спокойным
взглядом, и его большая голова еще удлиняется седой бородой. Другая
голова, работы Бронзино, - голова Макиавелли, лицо живое,
насмешливое, почти с выражением комического актера; скажешь, что это
хитрец, который тщательно обнюхивает все вокруг себя, замышляя
устроить какую-нибудь проделку. В Макиавелли за историком, философом
и политиком кроется комик, и этот комик бесцеремонен, неприличен,
часто полон горечи, наконец, безнадежен. Известны его насмешливые
замечания по выходе из пытки, его мрачные шутки во время чумы; когда
печаль сильна, нужно смеяться, чтобы не плакать; может быть, в
семнадцатом веке и во Франции из него вышел бы Мольер. Два других
портрета приписываются Рафаэлю или принадлежат его манере - Бартоли
и Балдуса, двух грубых и сильных весельчаков; весь человек схвачен тут
точно и в своем естестве; в сравнении с Рафаэлем все другие художники
неуравновешенны и периферийны. Но шедевр между всеми портретами -
«Портрет папы Иннокентия X» Веласкеса. В красном кресле, на фоне
красной обивки, под красной скуфьей, над красным плащом красное
лицо - лицо бедного простака, истощенного педанта; сделайте из этого
картину, которую нельзя забыть! Один из моих друзей, бывший в
Мадриде, говорил мне, что рядом с великими картинами Веласкеса, которые
находятся там, все другие, самые искренние, самые великолепные, кажутся
мертвыми и академическими.
Вилла Боргезе
Когда на повороте просеки вы видите лань, которая вытягивает
голову и прислушивается, то наклоненное движение ее шеи кажется вам
грациозным и вы угадываете нежное волнение, которое, при первом
звуке, пробежит по ее хребту и устремит ее вдоль лесосеки. Когда
перед вами лошадь, которая хочет прыгнуть, приседает на задние ноги,
вы чувствуете вздутие мускулов, поднимающих ее на дыбы, и вы
заинтересовываетесь сочувственно ее движением и усилием. Вы не
требуете ничего другого, вы не спрашиваете, в дополнение к моральной
идиллии, психологических побуждений, которых ищет [Эдвин Генри]
Аэндсир. Таково настроение, с которым надо смотреть картины
великого века Италии. Экспрессия появляется позже, вместе с Карраччи.
• 213 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Около 1500 года людей интересует только человек-животное и его
добавление - несложный и легкий костюм. Прибавьте к этому пышное
суеверие той эпохи - потребность в святых для церквей и в
украшениях аая дворцов. Из этих двух чувств произошло все остальное. И то
еще второе служило тут только поводом; содержание же живописи все
вышло из первого. Эти люди были правы: печаль, радость,
сострадание, гнев, все оттенки страстей видны только нашему внутреннему оку
Если же я подчиню им тело, если мускулы и одежда будут служить мне
только аая их передачи, то этим я обращу формы и цвета в простое
средство и достигну лишь того, чего мог бы лучше достичь
посредством какого-нибудь другого искусства, например поэзии. Я сделаю здесь
ту же самую ошибку, которую делает музыка, когда она посредством
вступления кларнета претендует изобразить удавшийся обман младшего
Горация; и ту же ошибку, как литература, когда посредством двадцати
пяти черных по белому строк она пытается показать нам изгиб носа
или подбородка. Я теряю пластический эффект и достигаю
литературного только наполовину; я только полухудожник и полулитератор.
Эта мысль возвращается в голову непрерывно - например, перед
мадоннами и «Венерой» Андреа дель Сарто, красивыми девушками,
которые сродни друг другу, перед «Встречей Марии и Елизаветы» Себасть-
яно дель Пьомбо. Это, если хотите, «Встреча», но настоящее название
картины было бы: молодая женщина, которая стоит рядом с
согнувшейся старухой. В зрителе того времени было два человека: один - ханжа,
который покупал картину аая церкви, думая этим выиграть сто лет
индульгенции, и другой - человек действия, с головой, полной телесных
образов, который находил удовольствие в созерцании двух тел,
здоровых, деятельных, хорошо задрапированных плащами.
«Любовь небесная и земная» Тициана - еще один шедевр и опять в том
же духе: красивая одетая женщина рядом с красивой обнаженной
женщиной; больше ничего - и этого довольно. Одна - суровая самой
благородной суровостью; другая - белая янтарной белизной живого тела,
между белой рубашкой и красной одеждой, с едва намеченной грудью,
с лицом без малейшего оттенка низменного распутства, дающая
впечатление самой счастливой любви. Рядом с ними - бассейн со
скульптурными украшениями; сзади - широкий голубоватый пейзаж, бурые поля,
пересекаемые темной окраской мрачных лесов, и вдали море; на
некотором расстоянии - два всадника; видны еще колокольня, город. Эти
люди любили реальные пейзажи, какие видели каждый день, и вставляли
•214·
ВИЛЛЫ И ДВОРЦЫ
их в свои картины, не заботясь о правдоподобии; все здесь аая
удовольствия глаз и ничего - для рассудка. Глаз будет переходить от простых
тонов этого крупного и здорового тела к богатым сливающимся краскам
пейзажа, как ухо переходит от мелодии к аккомпанементу. Оба в
согласии друг с другом, и, переходя от одного к другому, чувствуешь
удовольствие, которое продолжается удовольствием того же порядка. В другой
его картине, «Три грации», насмотревшись на первую из них - на ее
прекрасное безмятежное лицо, на золотую диадему, усыпанную жемчугом,
которая возвышается среди ее завитых волос, шелковистые волны
которых падают на шею вплоть до платья, - переводишь глаза на
великолепный ландшафт обнаженных скал, лазурных от воздуха и расстояния,-
и поэзия природы только дополняет поэзию тела.
В этой галерее тысяча семьсот картин; как о них говорить?
Сосчитайте все музеи Италии; все, что находится по ту сторону Альп; все, что
погибло; прибавьте, что нет сколько-нибудь состоятельного частного дома,
в котором не было бы какой-нибудь старой картины. Итальянская
живопись подобна греческой скульптуре, которая собрала некогда в Риме
шестьдесят тысяч статуй. Каждое из этих искусств отвечает
единственному в своем роде моменту в жизни человеческого духа. Тогда думали
цветами и формами.
Одна из этих картин остается в памяти - «Охота Лианы» Доменики-
но. Это совсем юные девушки, нагие или полунагие, хохотуньи и
немного вульгарные, которые купаются, стреляют из лука, играют. Одна,
лежащая на спине, имеет прелестные замашки счастливого и
шаловливого ребенка. Другая, которая только что стреляла из лука, смеется
с милой деревенской веселостью. Малютка пятнадцати лет, с пышным,
цветущим торсом, отвязывает свою последнюю сандалию. Все эти
девочки - полные, резвые, миловидные, слегка гризетки и, конечно, очень
мало богини; но в их физиономиях и ухватках столько молодости и
естественности! Доменикино - художник оригинальный и искренний,
полная противоположность Гвидо Рени. Среди требований моды,
условностей и предубеждений он имеет свое собственное чувство, он
осмеливается следовать ему, вернуться к природе и истолковывать ее
по-своему. Люди его времени наказали его за это: он жил в несчастье и
неизвестности.
•215·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Аворцы Барберини и Роспилъози
Приятно следить за своей мыслью: я пошел смотреть другие его
картины. Во дворце Барберини есть одна, изображающая Адама и Еву перед
Богом - после грехопадения. Художник показал себя здесь столь же
добросовестным, сколь и неловким. Адам, с видом глупого слуги, оправдывается
и жалко указывает на Еву, которая сама указывает на змия, со столь же
преувеличенным усердием. «Это не мой грех, а ее». - «Это не мой грех, аего».
Видно, что художник стремится к моральной выразительности и
подчеркивает ее со старательностью школы упадка; Рафаэль не опускался до
этого. Другой признак времени - церковная благопристойность: Ева и Адам
имеют на себе пояса из листьев. Но тело и голова женщины, а также
маленькие ангелы, несущие Иегову, - прекрасны, и вся живопись серьезна.
Доменикино был сыном сапожника, медлительный и трудолюбивый,
нежный и скромный, очень некрасивый, несчастный в любви, бедный,
критикуемый и загнанный. Он весь ушел в себя, вечно ища и не находя
себя, подобно растению, которое в дурной атмосфере, при частых
холодных лавинах, развивается несовершенно и, между недозрелыми побегами,
там и сям раскрывает прекрасные цветы.
Во дворце Роспильози есть другая его «Ева» - на этот раз
срывающая яблоко. Она прекрасна, и нет ни одной части картины, которая не
свидетельствовала бы о внимательной работе; но что за странная идея
этого зверинца всех животных, теснящихся вокруг, - и этот красный
попугай на Древе жизни! На самом дереве есть шишка - род ступеньки,
на которую поднялся Адам. Зато в его же «Триумфе Давида», рядом,
гений и естественность так и брызжут. Невозможно представить себе
ничего прелестнее и живее этой группы женщин, играющих на
инструментах; особенно одна, полусклоненная и протянувшая руки, с систром
в руках, в голубой тунике, с обнаженной ногой, устремляется вперед с
невыразимо изящным движением; ее тело как бы проникнуто сиянием;
невозможно найти позу, которая лучше осветила бы строение
человеческого тела: вот прекрасное животное, расправляющее свои члены.
Все эти лица молоды, девственно-грациозны и искренни; они изобретены.
Видишь перед собой человека с настоящей душою художника, который
почувствовал красоту самостоятельно и один, который искал и
творил, боролся со своей идеей и работал изо всех сил, чтобы выразить ее,
который не просто фабриковал фигуры, как Гвидо Рени. «Он никогда
не переставал, - говорят его биографы, - посещать места, где
собиралось много народа, чтобы наблюдать позы и выражения, посредством
•216·
ВИЛЛЫ И ДВОРЦЫ
которых обнаруживаются внутренние чувства». Везде у него находишь
стремление, иногда чрезмерное, к экспрессии: таков раздраженный жест
Саула, который с силой рвет свою тунику. Художник хотел представить
завистника, который наполовину выдает себя и наполовину
сдерживается; но живопись плохо передает сложность и оттенки чувств:
психология - не ее дело.
В этом именно дворце находится знаменитый плафон Гвидо Рени,
называемый «Авророй». Бог света едет на своей колеснице, окруженный
хором танцующих Часов, а впереди, в воздухе, первый утренний Час
бросает цветы. Глубокая синева моря, еще в полутьме, прелестна. И есть
радость и полнота тела совершенно языческие у этих цветущих богинь,
которые держатся за руки, образуя хоровод, как на античном празднике.
В самом деле, Гвидо Рени копировал античные статуи, например нио-
бид, и этим путем создал свою манеру; однажды найдя какой-нибудь
тип, он повторял его постоянно, применяясь не к натуре, а к
удовольствию зрителя. Поэтому большая часть его фигур похожа на модные
гравюры, как, например, «Андромеда» в соседней зале - эта последняя не
имеет тела и материи, она не существует, она не более как собрание
приятных контуров. Гвидо Рени был художником счастливым,
окруженным поклонением, светским, который сообразовался со вкусами времени
и нравился дамам. Он говорил: «Я знаю двести различных манер
изображать, как прекрасные глаза смотрят на небо». Он принес этому
легкомысленному, галантному, уже потерявшему вкус обществу, где
процветали чичисбеи, неизвестную старым мастерам утонченность выражения
женских лиц - светские физиономии и улыбки. Подлинная энергия,
внутренняя сила откровенной страсти уже исчезли в Италии. Уже не
любят больше настоящих дев, первобытных душой, простых крестьянок
Рафаэля, а предпочитают им умильных пансионерок монастыря и
салона, благовоспитанных барышень. Старая грубость исчезла; нет больше
следов республиканской фамильярности; люди беседуют между собою
церемонно, согласно этикету, со звучными титулами и приторными
фразами. С эпохи испанского завоевания уже не зовут друг друга
братом или кумом, а титулуют даже устно господином. Вкусы изменились
вместе с душевным строем. Утонченные и изнеженные люди не могут
любить простые и сильные фигуры. Им нужна манерная округлость,
сладкие улыбки, оригинальное смешение красок, сентиментальные лица,
удовольствие и изысканность во всех подробностях; иногда же, в виде
контраста, грубость Караваджо, тривиальность и резкость буквального
• 217 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
подражания природе, как стакан водки после двадцати стаканов
сахарного оршада. Можно почувствовать этот контраст, сравнив в галерее
Барберини два знаменитых портрета - два лица, на расстоянии
полутораста лет одно от другого, были предметом любви и образцом красоты.
Рафаэлевская «Форнарина» - простое тело, брюнетка, с тупым
взглядом, с вульгарно-веселым выражением лица, с резко намеченным
очерком глаз, с очень толстой верхней частью рук, со слишком покатыми
плечами, - сильная женщина из простонародья, похожая на ту
булочницу-содержанку Байрона, которая обращалась с ним грубо и звала
«собакой госпожи». Без сомнения, Рафаэль видел в ней только
человека-животное, хорошо сложенное и здоровое, которое доставляло ему образцы
линий. Совершенно наоборот, «Ченчи» Гвидо Рени - нежное и
хорошенькое бледное личико. Ее маленький подбородок, ее нежный ротик,
все контуры ее лица грациозны. Задрапированная в белое, с головой,
окутанной белым полотенцем, она позирует, как модель в классе. Она
интересна и болезненна; отнимите у нее бледность, которая происходит
от ее печального положения, - останется милая барышня, похожая на
Деву луврского «Благовещения» перед ангелом - милым пажом. Вот чем
можно взволновать сердца сочинителей сонетов и прекрасных дам. ЛУ
VIII
ЦЕРКВИ
Церковь Санта Мария Малжоре в Риме. Фотография 1860-х годов
16 марта 1864
АЖЕТСЯ, твои друзья обвиняют меня в
непочтительности: если приехал в Рим, то нужно
восхищаться, а не замечать грязных нищих
и валяющиеся по углам капустные кочерыжки.
Как вам угодно, мои милые друзья, но я буду
шокировать вас и впредь. Говорите, что я
приехал сюда в дурное время года, что я
записываю только мимолетные впечатления, что я
рассуждаю как профан, как простой любопытный, как любитель истории,
что я не владею ни резцом, ни кистью, ни рейсфедером - все это будет
верно. Но предоставьте всякому инструменту издавать тот звук,
который ему свойствен. Не требуйте непременно общепризнанных,
затверженных арий, передаваемых одним органчиком другому, к вящей славе
традиций.
Например, я никак не могу признать, что церкви в Риме -
христианские церкви, и мне это очень досадно, потому что это мне мешает.
Ведь если есть на свете какое-нибудь место, где можно испытать
умиление, сердечное сокрушение, благоговение, величественное и
томительное чувство бесконечности и «потустороннего», то это именно в храме;
здесь же, к несчастью, испытываешь чувства прямо противоположные.
Сколько раз, по контрасту, я думал о наших готических соборах - Рейм-
ском, Шартрском, Парижском и особенно о Страсбургском! Я видел
снова Страсбургский собор три месяца назад и провел все послеобеденное
время в его огромном корабле, утопающем в тени. Странный свет -
угрюмый, колеблющийся багрянец - замирал среди необъятной мглы. В
глубине алтарь и апсида, с их массивным кольцом круглых колонн -
могучий, первоначальный, еще полуроманский храм - исчезали в этой ночи,
утвердив глубоко в земле свой античный ствол, сильный и
несокрушимый, вокруг которого распустилась и расцвела вся растительность
готики. В огромном нефе нет вовсе стульев: едва виднелись кое-где пять-шесть
верных, коленопреклоненных или блуждающих, подобно теням. Жалкая
обстановка, ветошь обыденного культа, суета человеческих насекомых
не возмущали собою святыни уединения. Широкое пространство между
столбами расстилалось черное под этим сводом, оживленным неверным
светом и почти осязаемой тьмой. Над совершенно черным алтарем
выступало единственное сияющее окно, полное лучистых фигур, будто
просвет в рай.
• 221 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Алтарь был полон духовенства, но от входа нельзя было ничего
различить - так густы были тени и велико расстояние. Никаких
бросающихся в глаза украшений или маленьких кумиров. В темноте, среди едва
угадываемых громадных очертаний, сверкали только своими
пламенными факелами два подсвечника по двум углам престола, подобные
трепещущим душам. Пение звучало то громче, то тише через равные
промежутки времени, как колеблющееся кадило. Минутами чистые далекие
голоса мальчиков-певчих заставляли мечтать о мелодиях маленьких
ангелов, и время от времени густые раскаты органа покрывали все другие
звуки своей величавой гармонией.
Подвигаешься вперед, и идеи христианства вторгаются в ум новой
волной, по мере новых перспектив. Дойдя до апсиды, видишь в
пустынной и холодной крипте большого каменного архиепископа, спящего
с книгой в руках сном вечности, подобно фараону в его гробнице. Выйдя
из этой смертной сени, оборачиваешься назад - и западная роза
сверкает над огромным темным пространством первых аркад, в своем
черном и синем бордюре, со своим фиолетово-алым узором, с бесчислен-
• 222 ·
ЦЕРКВИ
ными аметистовыми и изумрудными лепестками, в скорбном и
пламенном блеске своих мистических алмазов, в перекрестном мерцании
кровавого великолепия. Это вечернее небо, которое видит в своих мечтах
душа любящая и страдающая. Внизу, как немой северный лес, тянутся
столбы гигантской вереницей. Глубокие тени и резкое
противоположение лучистого света - это символ жизни христианства, ввергнутой в этот
мир печали, с просветами в мир иной. А с обеих сторон, насколько
хватает глаз, на цветных стеклах - фиолетовые и красные группы; вся
священная история мерцает в откровениях, приспособленных к бедной
природе человека.
Как эти средневековые варвары понимали контрасты света и теней!
Какие Рембрандты скрывались среди каменщиков, создавших эти
таинственные колебания мрака и лучей! Как справедливо, что искусство есть
только способ выражения, что прежде всего нужно иметь душу, что храм
не есть только груда камней или комбинации форм, но прежде всего
и исключительно слово религии! Этот собор весь говорит глазам, с
первого взгляда и первому встречному - какому-нибудь бедному дровосеку
из Вогез и Шварцвальда, тупому и автоматичному полузверю, сквозь
грубую оболочку которого не может проникнуть никакое рассуждение,
но которому жалкая его жизнь среди снегов, уединение его хижины, его
мечты среди сосен, колеблемых ветром, внушили чувства и инстинкты,
которым здесь отвечает каждая форма и каждый цвет. Символ здесь с
первого взгляда раскрывает и заставляет почувствовать все; от глаз он идет
прямо к сердцу, не нуждаясь в прохождении через рассудок. Человек
не имеет надобности в развитии, чтобы получить впечатление от этой
огромной аллеи с правильными рядами важных столбов, неутомимо
поддерживающих величественный свод, достаточно только, чтобы он
блуждал в зимние месяцы под угрюмыми высокими стволами нагорных
лесов. Здесь целый мир - уменьшенная копия большого мира, такого,
каким его понимает христианство. Влачиться ощупью в сырых закоулках
этой мрачной жизни, в мерцании неверного света, среди утомительного
жужжания и шума человеческого муравейника и, как утешение,
встречать там и здесь, на высоте, лучистые лики, лазурный плащ,
божественные глаза Богоматери или Младенца, доброго Христа, простирающего
к нам свою благодетельную руку, - между тем как созвучия высоких
серебристых нот и торжественных восклицаний уносят душу в свои волны
и аккорды.
•223 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
15 марта, Иль Ажезу
Эти и другие, им подобные, воспоминания портят или, лучше сказать,
объясняют мне римские церкви. Они почти все семнадцатого столетия
или конца шестнадцатого, во всяком случае, модернизированы и носят
отпечаток католической Контрреформации, последовавшей за Тридент-
ским собором. Начиная с этой эпохи религиозное чувство изменилось:
решающее влияние переходит к иезуитам. У них есть известный вкус, так
же как у них есть своя теология и своя политика. Новая концепция
человеческого и божественного всегда порождает новую манеру понимать
прекрасное: человек говорит украшениями, капителями и куполами иногда
яснее и всегда искреннее, чем делами и сочинениями.
Чтобы увидеть этот вкус во всем его блеске, нужно пойти в
расположенный близ Пьяцца Венеция Иль Ажезу - главное здание ордена
иезуитов, построенное Виньолой и Джакомо делла Порта в последней
четверти шестнадцатого столетия. Великое языческое Возрождение здесь
еще продолжается, но уже искажено. Полукруглые своды, купол,
пилястры, фронтоны, все крупные архитектурные части воссозданы, как и
само Возрождение, по античным образцам; но все остальное - только
декорация и тяготеет к роскоши и щегольству Солидно построенная, со
своими круглыми формами, с величавой пышностью своих пилястров,
обремененных золотыми капителями, с расписными куполами, в
которых видны в разных поворотах крупные полунагие или одетые фигуры,
со своими картинами, вправленные резные позолоченные рамы, со
своими статуями ангелов на краю консолей, готовых к полету, - эта церковь
походит на великолепную залу аая банкетов или на столичную ратушу,
которая разубралась серебряным сервизом, хрусталем, камчатым
бельем и кружевными занавесками, чтобы принять достойно монарха и
поддержать честь города. Средневековый собор пробуждал грандиозные
и скорбные мечтания, ощущение человеческой ограниченности, смутные
гадания о царстве идеала, где страстная душа найдет утешение и
блаженство. Храм католической Контрреформации внушает чувство
покорности, восхищения или по крайней мере уважения к этой столь
могущественной, столь давно утвердившейся и особенно столь авторитетной
и так хорошо обставленной особе, которая называется Церковью.
От всей этой импозантной и ослепительной декорации исходит одна
мысль, подобная воззванию: «Древний Рим объединил мир в одной
империи; я возобновляю его и наследую ему. То, что он сделал аая плоти, то
я сделаю аая духа. Моими миссиями, моими семинариями, моей иерар-
• 224·
ЦЕРКВИ
хией я утверждаю всемирно, вечно и во всем великолепии Церковь. Эта
Церковь не есть, как уверяют наши протестанты, собрание
беспокойных и зависимых душ, из которых каждая действует и рассуждает только
согласно со своей Библией и своей совестью, и она не есть также, как
этого хотели первые христиане, собрание нежных и скорбных душ,
мистически объединенных общим экстазом и ожиданием царства Божьего;
она есть организация правильной власти, учреждение священное,
существующее само по себе и господствующее над душами людей. Она имеет
свое пребывание не в них, она зависит не от них: она имеет свой источник
в себе самой. Она есть своего рода посредствующее Божество, занявшее
место первого и облеченное всеми его правами».
Такие притязания имеют свое величие и пробуждают
могущественные чувства. Конечно, они не имеют ничего общего с внутренней
духовной жизнью, с непрерывным диалогом христианской совести,
исповедующейся перед правосудным Богом; они вполне человеческого
происхождения и подобны тому рвению, с которым какой-нибудь монах служит
своему ордену или французский подданный семнадцатого столетия
служил монархии. Но благодаря им человек чувствует себя вошедшим в
огромное прочное учреждение, которое он предпочитает самому себе, в
котором забывает себя, аая которого работает и жертвует собой. Это
приверженность римлянина к своему Риму. В самом деле, Рим новый есть
относительно Рима древнего то же, что одна из этих церквей с куполом
относительно Пантеона Агриппы; я хочу сказать: копия, искаженная и
переделанная, но в своем основании та же самая, с той только разницей,
что правительство второго Рима, будучи духовным, а не светским,
направляется от души к телу, а не от тела к душе. И там и тут дело идет о том,
чтобы устроить всю человеческую жизнь по заранее определенному
плану, под властью некоторого абсолютного авторитета, вне которого все
представляется беспорядком и варварством. Там, где один пускал в ход
силу, другой пускает ловкость, осторожность, терпение,
дипломатические и политические расчеты; но в глубине сердца ничего не изменилось,
и, что касается душевного строя, нет ничего более похожего на римского
сенатора, чем католический прелат.
Нужно стать именно на эту точку зрения, чтобы понять церковные
здания этой страны.Они прославляют не христианством Церковь.Этот
новейший католицизм опирается на многочисленные и очень прочные устои:
На силу привычки. У человека - баранья натура; на сто людей не
наберется и трех, которые имели бы достаточно досуга или разума для того,
• 225 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
чтобы составить себе свое собственное мнение в вопросах религии. Вот
готовый путь: девяносто семь пойдут по нему; из тех трех, что остаются,
два с половиной, после бесплодных колебаний, вступят на ту же торную
дорожку.
На превосходную, правильную организацию и внушительную
внешность учреждения. Со времени Тридентского собора церковная
дисциплина подтянулась; под впечатлением Реформации принялись за
воспитание и моральное обуздание духовенства.
На пышность и обаяние культа и зданий, на крупные предприятия,
миссии, обращения; на древность учреждений и на все то, что излагал
г-н Шатобриан своим прекрасным стилем.
На суеверное воображение, более или менее сильное, смотря по
климату, очень сильное в южных странах, страшное в минуту смерти.
Человек горячего темперамента, с пестрыми и пылкими представлениями,
поражается зрительными впечатлениями. Я знавал таких, которые
считали себя вольнодумцами и вольтерьянцами; какая-нибудь похоронная
процессия или вид Мадонны в ее мерцающем киоте, среди пылающих
свечей и облаков благовоний, заставляли их вдруг терять самообладание
и бросаться ниц на землю. В подобного сорта головах идея не может
устоять перед образом.
На пользу обуздывающего влияния. Правительства, люди с
положением, собственники и консерваторы найдут здесь своего рода полицию
безопасности морального характера.
На долю добродетели, которая скажется и здесь. Некоторые души
родятся благородными или благодаря врожденному изяществу вновь
обретают поэзию мистических традиций; такова Эжени де Герэн.
Это только основные линии. Есть еще и другие черты, более частного
характера, внесенные уже иезуитами и составляющие особенность
ордена; едва сделаешь двадцать шагов в этой церкви, как уже замечаешь их.
В этих изобретательных и тонких руках религия сделалась светской; она
хочет нравиться, она украшает свой храм, как салон, и украшает его
даже слишком - можно сказать, что она выставляет на вид свое богатство:
она старается потешить и ослепить взгляд, задеть пресыщенное
внимание, явиться галантной и щеголихой. Маленькие ротонды по обеим
сторонам главного нефа - прелестные мраморные покои, прохладные и
полутемные, как будуары или ванные красавиц. Колоннады драгоценного
мрамора выставляют со всех сторон свои полированные стволы, где
змеятся оранжевые, розовые и зеленоватые тона. Мраморная облицовка по-
•226·
ЦЕРКВИ
крывает стены своей сияющей пестротой; по карнизам красивые ангелы
белого мрамора устремляются вперед, выставляя свои элегантные ноги.
Обильная позолота бежит по капителям, мерцает вокруг картин,
распускается венчиками над престолами, вьется блестящими нитями вдоль
балюстрад,громоздится в алтарях узорными букетами, в обильном
цветении, с праздничным видом, заставляющим вспоминать о княжеской
зале, убранной аая бала. В этих бурых отблесках золота, среди
инкрустаций разноцветного мрамора, сквозь воздух, еще полный смутным
ароматом ладана, видишь волнующиеся большие группы белого мрамора,
возвещающие дух новой эпохи - дух правоверия и повиновения, - «Религия,
поражающая Ересь» и «Церковь, обличающая лжеучителей». Налево
возвышается трон местного патрона - большой придел Св.Игнатия, за
бронзовой балюстрадой, покрытой сплошь маленькими играющими
ангелочками в позолоте, унизанной сплошь яшмовыми шарами, разукрашенной
и разубранной до того, что с нею может сравниться только
нагромождение фигур, факелов, листвы и позолоты, которые поднимаются вверху,
перемешанные и перетасованные, как в убранстве какого-нибудь камина
во дворце или какого-нибудь праздничного алтаря. Здесь-то, в руке
Предвечного Отца, находится знаменитая сфера - самый большой кусок
ляпис-лазури, какой только известен; здесь же - серебряная статуя святого
Игнатия в девять футов высоты. Церковнослужитель, который обметал
кругом, поднял покровы, чтобы показать мне мраморную инкрустацию;
он самодовольно провел рукой по блестящим камням; он рассказывал
мне с сожалением о золотых светильниках, которые были похищены во
время революционных войн; он счастлив служить в столь прекрасном
алтаре и предпочитает его главному, который находит слишком простым.
Он приглашал меня прийти завтра, чтобы увидеть своими глазами
серебряную статую вышиною в девять футов, - сегодня она закрыта чехлом.
«Вся серебряная, месье, и в девять футов высоты. Ничего подобного нет
на свете!» Крестьянин или ремесленник семнадцатого столетия снимал
боязливо шапку в доме такой богатой особы. Дворянин и щеголь
чувствовал себя здесь в своей среде, среди обстановки столь же нарядной и
пышной, как его собственная. Сверх того, он встречал здесь нарядных женщин
и слушал хорошую музыку
Все это образует часть некоторой системы. Объехав страны юга,
проникаешься ею сам. Я встретил ее уже в Бельгии, в этой доброй стране,
спокойной и послушной, возвращенной некогда герцогом Пармским, -
в иезуитской церкви Антверпена, во внутреннем убранстве почти всех
• 227·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
старых соборов, в этой знаменитой кафедре Святой Гудулы, которая
представляет настоящий сад, где нашли себе место трельяж, листья,
павлин, орел, всевозможные животные, весь райский зверинец, Адам и Ева,
прилично одетые, ангел, который хочет разгневаться и смеется. Каждая
вещь у иезуитов имеет этот улыбающийся и успокоительный вид,
пробуждает идею удобства и удовольствия: например, балдахин в виде
облачного неба над головой проповедника, напоминающий альков, и еще
выше его - Мадонна, молодая девушка, изящная и стройная, готовая
ехать на бал, с красивыми тонкими руками. Комментарий ко всему
этому убранству - Imago primi saeculi,- великолепная иллюстрированная
книга, которая представляет как бы манифест иезуитских стремлений.
Тут видишь иезуита в роли кормилицы, баюкающего Божественного
Младенца, и иезуита в роли рыбака, уловляющего души в свои сети; под
рисунками латинские и французские стихи в стиле Коллегии. Это все -
жеманные любезности, ловкая игра слов, искусное острословие и
слащавая безвкусица - все разнообразные конфеты благочестивой
кондитерской.
Впрочем, если они и готовили конфеты, то готовили их гениально.
Доказательство - что этим путем они завоевали половину Европы. Если
же им удалось это завоевание, то прежде всего потому, что они
открыли одну из основных идей своего времени. В тот момент католицизм,
чтобы удержаться, должен был сделать некоторый маневр: он проделал
его при помощи иезуитов. После славного и всеобъемлющего
Возрождения, среди новой промышленности, искусства и науки, которые
приняли под свою защиту, расширили и наполнили человеческую жизнь,
аскетическая религия Средних веков не могла уже продолжаться.
Нельзя было больше смотреть на мир, как на темницу и на человека, как на
земляного червя, а на природу как на хрупкое и временное покрывало,
плохо натянутое между Богом и человеком и позволяющее там и сям,
сквозь свои прорези, видеть сверхъестественный мир, единственно
сущий и прочный. Родилось доверие к силе и разуму человека; стали
замечать постоянство законов природы; пользовались уже полу охраной
правильно организованных монархий; жадно вкушали благосостояние,
ручьем лившееся отовсюду. Вернулись здоровье и сила - и хорошо
питаемые мускулы, уравновешенный мозг, горячая красная волна жизни,
обильно заструившаяся в жилах, отогнала прочь мистическую
лихорадку, мучительные призраки, тоску и порывы экстазов, порожденные
постом и нервным возбуждением.
•228·
ЦЕРКВИ
Нужно было, чтобы религия приспособилась к новой психологии
человека. Она была вынуждена ограничить себя, отменить или смягчить
проклятия, которые она посылала земле, узаконить или терпеть
природные инстинкты, признать открыто или посредством разных обходов весь
расцвет мирской жизни, не подвергать более осуждению научного
исследования и стремления к благосостоянию. Она приспособилась к духу
времени - и на севере, как и на юге, у германских народов, как и у
латинских, мы видим, что христианство незаметно приближается к миру.
Протестант уважает свободное исследование, полезный труд, строгий брак,
семейную жизнь, честное приобретение богатств, умеренное
пользование домашними удобствами и физическими удовольствиями. «Наша
задача, - говорил Эддисон, - достичь здесь, на земле, удобной жизни, а там,
вверху, - счастливой». Иезуит смягчил грозное учение о благодати,
устранил суровые предписания соборов и отцов Церкви, открыл путь уступок,
снисходительной морали, удобной казуистики, облегченного
благочестия, и, посредством умелого пользования оттенками, ограничениями,
истолкованиями, гипотезами и всеми хитросплетениями богословия,
сумел своими нежными руками возвратить человеку свободу удовольствий.
«Веселитесь, будьте молоды; только приходите время от времени
рассказать мне ваши делишки. Поверьте к тому же, что я охотно окажу вам
маленькие услуги».
Но, ослабляя одну узду, приходится натягивать другую. Протестант
нашел плотину против беспорядочности полураспущенных инстинктов
в пробуждении сознания, в обращении к разуму, в развитии усердного
правильного труда. Иезуит ищет ее в систематическом и механическом
направлении воображения. Тут он гениален: он открыл в природе
человека неведомую глубокую складку, которая служит основанием всех
других и которая, будучи однажды направленной, сообщает свое
направление всему остальному, так что с той минуты все уже катится к
намеченному склону. Наша интимная сущность не в разуме и не в рассуждениях,
а в образах. Чувственные облики предметов, однажды занесенные в наш
мозг, ложатся там в определенном порядке, повторяются и наконец
утрачиваются, помимо нашей воли, сближаясь и срастаясь друг с другом.
И как только мы начинаем действовать, мы действуем уже под влиянием
и в направлении этих импульсов, и все наши стремления вырастают
целиком, как зримое растение, из этого незримого семени, зарожденного
в нас, помимо нас самих, внутренним брожением. Тот, кто будет хозяином
этого темного тайника, где совершается вся операция, будет хозяином
• 229 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Пьяцца Бокка лелла Верита в Риме. Фотография 1890-х голов
•230·
ЦЕРКВИ
человека. Ему остается только сажать семена и направлять подземный
росток: выросшее растение будет тем, что ему угодно. Нужно читать их
«Exercitia spiritualia» [«Духовные упражнения»], чтобы видеть, как,
помимо поэзии, помимо философии, помимо всякой помощи
благородных средств религии, можно овладеть человеком. Они знают рецепт,
как делать людей ханжами, и пускают его в ход в своих прибежищах.
Успех верный.
«Самое первое дело, - говорят эти искусные психологи, - это
восстановить в воображении условия местности, то есть представить себе, что
видишь синагоги, фермы, города, которые посещал Христос во время
своей Проповеди... Нужно представить себе, посредством некоторого
воображаемого видения, какое-нибудь реальное место, например храм
или гору, на которой мы встречаем Иисуса Христа или Леву Марию
и другие явления, имеющие отношение к размышлению... Второй пункт -
это слушать внутренним ухом, что говорят все такие лица, - например,
Лица Божества, совещающиеся между собою относительно искупления
рода человеческого, или Пресвятая Лева и ангел, обсуждающие вместе
в маленькой комнатке тайну воплощения... Если же наше размышление
имеет своим предметом что-либо бестелесное, как, например созерцание
грехов, то можно представить себе местность таким образом, что мы
будем смотреть в воображении на нашу душу, заключенную, как в
темнице, в этом бренном теле, и на человека, влачащегося в изгнании в этой
долине слез, среди диких зверей». Также, чтобы почувствовать ясно
положение христианина, уместно представить себе две армии - Христа со
святыми и ангелами на обширном поле, близ Иерусалима, и Люцифера,
«главу нечестивых, на другом поле, близ Вавилона, сидящего на
седалище, полном огня и дыма, страшного вида и с ужасным лицом. Вслед за
тем нужно вызвать перед своими глазами этого же Люцифера,
сзывающего к себе бесчисленных демонов и рассылающего их сеять вред по
всей вселенной, так что никакой город, никакая местность, никакой
класс общества не свободны от его нападений». Все обороты колеса
рассчитаны. Если дело идет об аде, то «во-первых, нужно созерцать в
воображении обширные адские пожарища и души, заключенные в отдельных
осязаемых огнях, как в темнице. Во-вторых - нужно слушать в
воображении рыдания, вопли и жалобы на Христа и святых, которые несутся
оттуда. В-третьих, нужно вдыхать в воображении дым, серу и смрад этого
вертепа гноя и гнили. В-четвертых, нужно также мысленно снедать
величайшую горечь души, слезы, отчаяние, угрызения совести. Пятое - это
• 231 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
коснуться этих огней, прикосновение которых пожирает души». Каждый
выступ зубчатого колеса кусает в свой черед: сперва впечатления
зрительные, потом - слуховые, потом - обоняния, вкуса, осязания; повторения
и постоянство упражнения усугубляют его действие. Так упражняются по
пяти часов в день. Во время отдыха не позволяют себе рассеяться. Не
видятся ни с кем из посторонних. Избегают говорить с братией учреждения.
Остерегаются писать или читать о чем-либо, не относящемся к
размышлениям этого дня. Возвращаются к ним ночью. Опыт доказывает, что такие
приемы достигают своей цели через четыре недели. По-моему, этого даже
слишком много: я знал людей, которые, при таком режиме, имели
галлюцинации уже через пятнадцать дней. Аля впечатлительных натур, для
женщин и детей, для души, перенесшей какое-нибудь потрясение или
омраченной скорбью, - довольно и десяти.
Печать, так отчеканенная и врезанная в душу, неистребима. Вы
можете пустить теперь поток страстей и мирской жизни катиться по ней
свободно: через двадцать лет, через тридцать лет, при приближении смерти,
в дни тяжелых испытаний вы увидите вновь обнаружившимся глубокий
знак, над которым тщетно струились волны.
18 марта, Сайта Мария делъ Пополо,
Сайта Мария делла Виттория, монастыри, Квиринал
Мы побывали сегодня в пяти или шести церквах. Архитектура их
часто напыщенна, аффектированна, даже экстравагантна, но никогда
не плоска.
Сперва - в Санта Мария дель Пополо, которая построена в
пятнадцатом столетии и модернизирована Бернини, но еще строгого характера.
Широкие аркады тянутся рядами, отделяя большой неф от малых, и
впечатление от всех этих могучих дуг сурово и величаво. Гробницы
возвышают его до трагизма. Церковь полна ими: здесь находятся памятники
двадцати кардиналов. Их статуи спят на гробовом камне; некоторые
грезят в полулежачем положении или молятся; нередко есть только бюсты,
иногда - одна голова умершего поверх надписи и даты; многие могилы
находятся под помостом церкви, и стопы молящихся стерли очертания
фигур на плите. Повсюду присутствие и веяние смерти; под
надгробным камнем чувствуешь кости, жалкие останки человека; эти холодные
формы неподвижного мрамора, уснувшие вечным сном в углу капеллы,
с их поднятым кверху худым пальцем руки - это все, что осталось от
живой и трепетной жизни, сгоревшей в пламени и блеске на глазах
• 232 ·
ЦЕРКВИ
у света, чтобы оставить по себе только ничтожную горсть золы. В наших
церквах, во Франции, нет такой погребальной помпы. На этом
мраморном кладбище, среди этой пышности и всех этих угроз, перед
капеллами, столь же изящными, как яшмовые или костяные безделушки, перед
импозантными статуями святых и сияющими медными черепами,
инкрустированными в камень, чувствуешь себя ослепленным и испуганным.
Богатыми декорациями и смертоубийственными развязками пьес
покоряют публику и наши общедоступные театры.
Эти приемы еще лучше можно видеть у капуцинов на площади Бар-
берини. Мы встретили при входе в монастырь похоронную процессию.
Позади тянулась вереница белых монахов, со свечами в руках, и их
черные глаза блестели, одни полные жизни, сквозь прорези капюшона. За
ними следовала другая вереница - капуцинов; некоторые с седыми
бородами и с совершенно белой головой; они перебирают пальцами зерна
своих четок и распевают какой-то мрачный псалом. Мы видим таких
в нашей Опере, где они вызывают смех. Здесь серьезность смерти
перехватывает вам дыхание.
Мы вошли в монастырь - средней руки. Длинный внутренний
портик увешан плохими портретами монахов, с надписями в стихах на тему
смерти - все поучительного, то есть устрашающего характера. Эти
бедняги, почти все уже пожилые, никому не нужные, без родных и друзей,
проведшие свою жизнь в самоумерщвлении, вызывают невольную
жалость к себе... На стенах - печатные листки, перечисляющие молитвы
и стояния Страстной недели, обеспечивающие полное отпущение
грехов; далее - упражнения меньшей силы, которыми приобретаются
десять лет индульгенции, применимой и к другому и, следовательно,
передаваемой. О чем же еще может думать здесь рядовой монах, как не
о том, чтобы запастись отпущениями грехов? Так можно приобрести
крупный капитал; если у него есть друзья, племянник, крестник,
покойный старик отец, - он им сделает подарок от своего избытка. Вся его
забота должна быть направлена лишь на то, чтобы хорошо употреблять
свое время - посещать наиболее выгодные капеллы, класть как можно
больше земных поклонов и твердить как можно больше молитв. Если он
умело устроился и усерден, то он выручит, кроме своей, еще пять или
шесть душ. Великий святой [Альфонсо] Лигу ори, наиболее
авторитетный богослов последнего столетия, держался такого принципа:
ревностный христианин может быть почти уверен, что избежит ада, но так как
никто не безгрешен, то он может быть почти уверен, что не избежит
• 233 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
чистилища; итак, если он рассудителен, то он будет каждый день делать
вклад в своей капитал отпущения грехов. Допустим, что он приобретает
сто дней за один сегодняшний день, - а он может приобрести их одной
молитвой, - он выйдет, следовательно, из чистилища на три месяца и
десять дней раньше.
Крестьяне, не имея другой дороги и вследствие бедности, вынуждены
доставлять монашеству новых рекрутов, а однажды став монахами, они
начинают копить индульгенции, как сельский хозяин копит экю. Это
занятие отвечает их положению, воспитанию и развитию. Кроме того, по
временам они выходят из монастыря и за пять су сопровождают
погребальные процессии. Так как орден сохранил еще кое-что от своего
старого демократического духа, то они ходят навещать старых женщин,
раздают лекарства, учат молитвам, дарят амулеты; более того - угощают нас
понюшкой табака и сообщают рецепт особенного салата. В Риме около
четырех тысяч монахов.
Мы обошли церковь и видели много картин Гвидо Рени. Прелестный
«Святой Михаил», с голыми ногами, обутыми в высокие сандалии,
милый и блестящий паж-воин, с головой amoroso [влюбленного]. Рядом, как
контраст, «Святой Франциск» Доменикино, исхудалый и истощенный.
В другом здании находится келья одного признанного святым монаха:
в ней поставлен престол, а папа приезжает сюда служить мессу. Все эти
черты аскетического Средневековья, эта набожность ребенка и дикаря,
эти способы доводить человека до экзальтации и изнурения наводят на
меня тоску. Брат, водивший нас, почти сумасшедший. Это печальный
глупец - он испускает глубокие вздохи и повторяет все одни и те же слова
разбитым голосом, с угрюмым видом. «Intende росо» [Он плохо
понимает],-сказал брат, его заменивший.
Этот последний ведет нас в подземную капеллу - страшное и
удивительное собрание мумий. Пяти лет достаточно аая почвы этого кладбища,
чтобы совершенно высушить тело, оно тогда отпрепарировано вполне,
и его выставляют напоказ. Четыре комнаты полны этими скелетами, и
из них понаделаны украшения. Лопатки, бедренные, плечевые и
тазовые кости образуют букеты, гирлянды и элегантную облицовку стен.
Изобретательный и изысканный вкус создал это убранство: вот череп
на конце цепи, сделанной из спинного хребта, спускается с потолка,
служа висячей лампой; вот две руки со всеми их сочленениями и
распростертыми суставчатыми пальцами образуют панданы, как по
сторонам камина. Полые кости ляжек громоздятся одна над другой, как ряды
• 234·
ЦЕРКВИ
кружек на праздничном буфете. По всей стене и по всему своду бегут
лучевые кости ломаными линиями, красивыми и капризными
арабесками; там и сям, в каком-нибудь углу, куча грудных клеток топорщит
белые ряды ключиц и ребер. Пол состоит из ряда ям; одни уже наполнены,
другие еще ждут. Недавно умершие одеты в свои рясы; монах показал нам
одного своего друга, умершего в 1858 году; он был очень крупного
телосложения, но кладбище высушило его и уменьшило до последней степени,
и его пожелтевшая кожа висит складками на исхудалых руках и лице,
на котором тело, кажется, растаяло. Монах добавил, что двое из братии
очень больны и один умрет, вероятно, этой ночью, и он показал нам уже
готовую яму. Этот несчастный, с седой бородой и старыми, тусклыми
глазами, имел, говоря это, очень веселый вид; он смеется; невозможно
передать впечатление от этой веселости в таком месте и по поводу такого
предмета. Вспомните, что каждый монах приходит ежедневно молиться
в эту капеллу, и подумайте, каким ощутительным способом машина этой
системы должна захватывать и сплющивать человека!
Мы почувствовали потребность освежиться и отправились
поблизости, в Санта Мария дельи Анджели. Это бывшая библиотека Диоклети-
ановых терм; римляне приходили сюда после бани поболтать и
провести жаркие часы дня. Микеланджело сделал из нее церковь, и при
Бенедикте XIV Ванвителли переделал все здание. Для библиотечной залы или
гулянья нельзя представить себе ничего более просторного, величавого
и с лучшим обменом воздуха. Здесь хорошо было предаваться
размышлению. А великолепные гигантские колонны, еще существующие,
достойны нести на себе благородную дугу и обширную округлость этого
громадного свода. Постоянно повторяется в Риме одно и то же
впечатление - христианства, плохо прилаженного к старому язычеству.
Благообразный картезианец, совершенно седой и добродушного вида,
родом из Эльзаса, провел нас к фреске Доменикино, которая находится
в алтаре. Это большой образ, изображающий мученичество святого
Себастьяна, чрезвычайной красоты, но бьет на эффект. Очевидная ее идея -
показать несколько красивых поз. Вот человек верхом; вот несколько
палачей, нагнувшихся вперед или назад; один из них, стоящий на
коленях, выбирает стрелы; вот женщина, которая оперлась всем туловищем
на одну ногу, как будто она собирается бежать, и другая - на коленях,
почти под самыми ногами лошади. Все эти фигуры вот-вот столкнутся
друг с другом. Наверху ангелы, несущие мученический венец, кружатся
и, кажется, плавают, как будто им доставляет удовольствие расправлять
•235 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
свои члены. Все тела полны жизни; есть частности, напоминающие
манеру венецианцев; у многих женщин лица полны выражения; повсюду
разлиты какая-то радость и блеск - в общем движении, в этой груде
опрокинутых фигур и развевающихся одеяний, в красивых сияющих
телах. Общее впечатление - грандиозное и пышное, - впечатление
обдуманной и удавшейся смелости. Эта столь светская живопись
принадлежит иезуитской реставрации.
План монастырского двора, находящегося сзади церкви, начертан Ми-
келанджело. По-моему, на свете мало вещей, столь величественных и
простых; особенно эта простота, столь редкая в римских зданиях,
производит единственное в своем роде впечатление, которое не изглаживается из
памяти. Огромный квадратный пустынный двор открывается весь сразу,
окруженный белыми колоннами, поддерживающими небольшие своды.
Вверху весело блестят бледно-красные крыши. Больше ничего; с каждой
стороны, длиною в сто тридцать шагов, видишь, как подымается и
опускается дуга сводов поверх легких стволов, неутомимо повторяющих свою
стройную колоннаду. Посередине бьет и струится фонтан между
четырьмя кипарисами двенадцати футов в обхвате; они вечно шумят звучным
и приятным ропотом, который приводит на память стих Феокрита:
«Болтливые кипарисы рассказывают друг другу про твою свадьбу».
Их шум - настоящее пение, а под ними, так же сладко, как они, поет
вода в своем каменном бассейне. Не устаешь смотреть на эти громадные
серые стволы, кору которых из столетия в столетие покрывал
трещинами избыток сока, как они поднимаются вверх сразу одним цельным
пучком ветвей и, выпрямляя и стягивая сучки, прижимают их к своему телу.
Эта черная пирамида свежей и яркой окраски неустанно колышется и
уходит высоко к свету, разрезая ясную лазурь неба. Двор, обсаженный
латуком, артишоками и клубникой, смеется в своей свежей зелени, и время
от времени видишь под аркадами проходящих молчаливых
картезианцев в их белых рясах.
Наш милый монах хотел аая полноты нашего удовольствия показать
нам непременно еще сокровищницу монастыря - я хочу сказать: капеллу
реликвий. Это своего рода пещера, где зажигают маленькие восковые
факелы и горящий конец подносят к витринам. При первом взгляде
кажется, что попал в музей, - все предметы снабжены этикетками, и здесь
налицо все части человеческого тела. Несколько скелетов сохранились
полностью, и под повязками видны кости и куски кожи. В одной витрине,
под престолом, находится мумия - святой Либер; против него - ребенок,
•236·
ЦЕРКВИ
найденный со своим отцом и матерью в катакомбах. В Риме ничто не
уничтожается совершенно: вот перед нами живое еще благочестие самых
мрачных времен Средневековья - то самое, которое царило здесь в
одиннадцатом столетии, когда король Кнут, придя в Италию, купил за сто
талантов золота руку святого Августина. Это благочестие началось с эпохи
вторжения варваров и продолжалось вплоть до Аютера. Начиная с этого
последнего момента, при Пии V, Павле IV, Сиксте V, устанавливается
другая религия, очищенная и ученая, - та самая, которая своей школой,
дисциплиной и реставрацией духовного законодательства создала тот тип
священника, который знаем мы и образец которого представил нам
благородный и образованный французский католицизм семнадцатого
столетия, - тип человека безукоризненного поведения, благопристойной
и корректной внешности, бдительного и владеющего собой, своего рода
морального префекта или супрефекта, чиновника громадного
духовного ведомства, которое помогает светским правителям и поддерживает
порядок в умах. Разница огромная между папами начала шестнадцатого
столетия - воинственными, эпикурейцами, язычниками, и папами конца
того же столетия - святошами, набожными, преданными Церкви; между
Аьвом X, бонвиваном, страстным охотником, любителем вольных
фарсов, окруженным шутами, увлекающимся античными мифами, и Сикс-
том V, бывшим французским монахом, который разрушает Септизониум
Септимия Севера, переносит египетский обелиск на площадь перед
собором Святого Петра, чтобы сделать его христианским и хочет очистить Рим
от всех следов древнего язычества.
Мы вернулись через Санта Мария делла Виттория, чтобы посмотреть
на «Святую Терезу» Бернини. Она очаровательна: лежа, лишившись
чувств от любви, с повисшими руками и босыми ногами, с
полузакрытыми глазами, она вся млеет от счастья и экстаза. Ее лицо исхудало, но как
оно благородно! Это настоящая аристократка, которая исчахла «в огне,
в слезах», ожидая того, кого она любит. Ни в ней самой, ни вокруг нее
нет ничего, вплоть до извивающихся одежд, вплоть до истомленных,
слабеющих рук, вплоть до вздоха, замирающего на полуоткрытых губах, -
нет ничего, что не выражало бы тоски сладострастия и божественного
порыва восторга. Словами нельзя передать эту пленительную и
трогательную позу. Опрокинутая навзничь, она лишается чувств; все ее
существо растворяется; острый момент наступает - она испускает стоны; это
ее последний вздох - потрясение слишком сильно. Между тем ангел, юный
паж лет четырнадцати, в легкой тунике, распахнутой на груди, является
• 237·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
перед нею, грациозный и любезный; это прелестный паж вельможи
приходит осчастливить слишком нежную подданную. Полуснисходительная-
полулукавая улыбка образует ямочки на его свежих, блестящих щеках;
золотая стрела в руке знаменует то сладкое и страшное волнение,
которым он только что поразил все нервы этого прелестного, пылающего тела,
распростертого под его рукой. Никогда не было создано романа, столь
нежного и обольстительного. Этот Бернини, показавшийся мне таким
смешным в соборе Святого Петра, открыл здесь новую скульптуру,
основанную всецело на экспрессии. И, аая законченности впечатления, он
располагает освещение так, что оно бросает на это бледное тонкое лицо
отблеск, кажущийся внутренним пламенем, - сквозь трепет
преображенного мрамора видишь подобное светильнику сияние души, утопающей
в блаженстве и восторге.
Комментарий для подобной группы - в характерных чертах мистики
того времени, - в знаменитом «[Духовном] Путеводителе» Молиноса,
выдержавшем за двенадцать лет двадцать изданий, который во всех
дворцах этого празднолюбивого Рима направлял и вел души по запутанным
тропам новейшего спиритуализма к любви без возлюбленного и еще
куда-то далее.
Меж тем как экзальтированная Испания снедала сама себя в своем
католицизме, как свеча в пламени, и при помощи своих художников и
поэтов поддерживала лихорадочный энтузиазм, которым горели некогда
святой Игнатий и святая Тереза, чувственная Италия, вырвав шипы
благочестия, вдыхала его, как распустившуюся розу, и в прелестных святых
своего Гвидо Рени, в пленительных Магдалинах своего Гверчино, в
грациозной округлости и смеющихся телах своих последних художников
приспособляла религию к сладострастной прелести своих нравов и сонетов.
«Существует шесть ступеней созерцания, - говорит Молинос, - пламя,
помазание, порыв, озарение, вкушение и покой... Помазание есть некая
нежная невещественная жидкость, которая, разливаясь по всей душе,
просвещает и укрепляет ее... Вкушение есть сладостное вкушение
божественного присутствия... Покой есть нежное и дивное спокойствие, в
котором избыток блаженства и мира так велик, что душе кажется, будто она
погружена в сладкий сон, как если бы она отрешилась от себя и
покоилась на возлюбленной божественной груди... Есть еще много других
ступеней созерцания, как-то: экстаз, восторг, таяние, обморок, торжество,
поцелуй, объятия, экзальтация, соединение, превращение, обручение,
брак». Он обучал всему этому и достигал этого на практике.
•238·
ЦЕРКВИ
В этом опустившемся и испорченном обществе, где ум, лишенный
великих интересов, был занят только интригами и церемониями,
страстная и мечтательная часть души не находила себе другого исхода,
кроме как в сентиментальных и нежных беседах. От земной любви, когда
являлись угрызения совести, переходили к небесной и, спустя
несколько времени, под явлением такого учения, находили, что от
возлюбленного вплоть до руководителя ничто не переменилось.
Я прочел недавно «Адониса» Марино; в этой поэме, популярнейшей
поэме века, можно яснее, чем где-либо, видеть великую
трансформацию чувств, нравов и искусства. Она намечалась уже в образах Армиды
и Аминты у Тассо. Какой контраст, если сравнить рядом трагическую
Аеду Микеланджело! Как все обратилось в сторону манерности и
изнеженности! Как быстро опустились до приторности и жеманства! Как
наглядно возникают нравы чичисбеев! Эта поэма в двадцать песен
написана, кажется, аая того, чтобы быть переданной вздохами прекрасного
юноши у ног праздной дамы, под колоннами мраморной виллы, в
теплые летние вечера, под шепот журчащих фонтанов, среди аромата
цветов, истомленных дневным зноем. Они говорят о любви и, на
протяжении десяти тысяч стихов, они не говорят ни о чем другом.
Великолепные картины изящных празднеств и садовых аллегорий, увлекательный
и неистощимый роман любовных приключений сливаются в их уме,
подобно слишком сильному запаху бесчисленных роз, рассыпанных вокруг
в букетах и кустах. Сердце их утопает в этой всеобъемлющей
чувственности. Что могут они придумать лучшего и что еще осталось им
придумать? Мужественная энергия иссякла в них. Под гнетом мелочной
тирании, воспрещавшей всякое усилие мысли или действия, человек
изнежился; он не умеет больше хотеть и мечтает только о наслаждении. На
коленях женщины он забывает все остальное; аая его мечты довольно
струящейся волны платья. Как возмездие за то, его опустившийся дух
потерял последний след благородства и мужества; так как он хочет только
любить, то он больше не умеет любить: он в одно и то же время
приторен и груб. Он способен только к непристойным описаниям или к
пошлому обожанию; он уже не более чем салонный волокита и будуарный
прислужник. Вместе с его чувствами испортилась речь: он разбавляет
свою мысль водой и отягощает ее аффектацией, он расплывается в
преувеличениях и concetti [натянутых остротах] ; он создал аая себя особый
жаргон, на котором и болтает. В довершение всего - он лицемер: в начале
своих наиболее рискованных песенок он помещает ученое объяснение,
• 239 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
чтобы показать, будто эти непристойности имеют нравоучительный
смысл, и ради обезоружения духовной цензуры, которой он боится.
Любовь земная и любовь небесная - все падает до одного уровня в
семнадцатом столетии, - и у Бернини, как у Марино, манерная и распутная
грация обличает это падение человека, оторванного от мужественной
жизни и ограниченного культом чувства.
Мы закончили день в садах Квиринала, которые были устроены
одним из пап той эпохи - Урбаном VIII. Они лежат на холме и идут
этажами от вершины вплоть до подошвы склона. Нам казалось, что мы
прогуливаемся посреди пейзажа Перелля: аллея высоких грабов, кипарисы,
подстриженные в форме ваз, клумбы, обрамленные буксусом и
образующие рисунок, колоннады и статуи. Сад имеет холодную правильность
и корректную важность эпохи - черты, которые с установлением
прочных монархических организаций и приличной администрации
распространялись на все европейское искусство. Церковь в эту эпоху, как и
королевство, есть власть бесспорная, которая предстоит взору подданных
с достоинством, серьезно и благопристойно.
Но сады такого устройства в Италии уместнее, чем у нас. Аллеи грабов
смешаны с лаврами и буксусом, которые выдерживают зиму, а летом
защищают от солнца; каменные дубы, никогда не теряющие своей листвы, во
всякое время дают густую тень; живые стены кустов задерживают ветер.
Воды, бьющие отовсюду, развлекают глаз своим движением и
поддерживают свежесть аллей. С террасы виден весь город, Святой Петр и Яникул
[холм Джаниколо], извилистая линия которого зыблется в пурпуре
вечера. Для папы и сановников церкви, пожилых, важных, которые
прогуливаются в длинных платьях, эти правильные аллеи, эта монументальная
декорация представляют как раз то, что требуется. Весною приятно
провести здесь час-другой под теплыми лучами солнца, перед великим
хрустальным сводом, который ясное небо расстилает над аллеями.
Потом спускаются по громадным лестницам или по отлогим склонам к
центральному бассейну, где пятьдесят струй, выбегающих из берегов,
собирают свои голубые воды. Рядом ротонда, покрытая мозаиками, предлагает
под своим сводом тень и свежесть. Это журчание, это волнение воды, эти
статуи, огромный кругозор перед этой летней залой развлекают и
успокаивают ум, утомленный делами. В один прекрасный день сюда
прибавляют еще группу; в другой раз срубают или насаждают кусты;
удовольствие строить есть единственное,которое осталось для вельмож, особенно
для вельможи пожилого, утомленного церемониями.
• 240 ·
ЦЕРКВИ
20 марта, Сайта Мария Маджоре,
Сан Ажованни ин Аатерано
Мои друзья говорят мне, что нужно быть более непосредственным,
чувствовать вещи, как они есть, не думать об их происхождении,
оставить в покое историю. На сегодня они совершенно правы, но это
оттого, что сегодня хорошая погода.
В такие дни бродишь наугад по улицам и созерцаешь там вверху
дивную лазурь. На небе - ни одного облачка. Солнце победно сверкает, и
синий непорочный купол, весь в блеске утренних лучей, кажется,
возвращает старому городу дни его праздников и торжеств. Стены и крыши
обрисовываются с необыкновенной отчетливостью в прозрачном воздухе.
Следишь, насколько хватает глаз, за изгибом небесной арки, сжатой
между двумя вереницами домов. Бесцельно идешь вперед и на каждом
повороте встречаешь все новые оперные декорации. Вот огромный,
массивный дворец, грозно осевший на свои устои... Вот уличный спуск,
идущий вниз и тянущийся вплоть до далекого обелиска; солнце пересекает
его пополам, и прохожие охвачены, как на картине, попеременно то
светом, то тьмою... Вот старый, разрушенный дворец, обращенный в амбар;
красные драгуны спят у его серой стены, и тут же белые миндальные
деревья цветут рядом с пинией, поднимающейся на зеленом бугре... Вот
площадь, где струится большой фонтан; налево - церкви, пышные и
разубранные, как богатые невесты, улыбаются в этом лазурном великолепии;
напротив - идущий поперек бульвар, деревья которого начинают уже
зеленеть... В заключение - бесконечная пустынная улица, между стен
какого-то монастыря или невидимой виллы; по гребню свешиваются цветы;
там и сям гербы, расколотые вторгнувшейся гвоздикой и мхом; вся
улица перерезана надвое черной тенью и ослепительным светом; в
отдалении, в ясном воздухе, монументальные ворота: это Порта Пия - оттуда
видна серая кампанья, а на горизонте - снег по ребрам гор...
На обратном пути мы шли по этой улице, которая тянется, то
спускаясь, то подымаясь, окаймленная дворцами и старыми терновыми
изгородями, вплоть до Санта Мария Маджоре. На широкой возвышенности
благородно возносится эта базилика, увенчанная своими куполами,
одновременно простая и законченная, - и, войдя в нее, испытываешь еще
живее удовольствие. Она - пятого века, и при позднейших переделках был
сохранен общий план и весь античный замысел. Обширный неф с
плоским потолком открывается перед вами, поддерживаемый двумя рядами
белых ионических колонн. Радуешься на этот величавый эффект, до-
• 241 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
стигнутый такими простыми средствами; можно вообразить себя почти
в греческом храме, - да и эти колонны были похищены, говорят, из
храма Юноны. Каждая из них, нагая и гладкая, без всякого другого
украшения, кроме тонких изгибов своей маленькой капители, -
очаровательной и здоровой красоты. Здесь понимаешь всю осмысленность и всю
прелесть настоящего естественного сооружения - строй древесных
стволов поддерживает поперечные брусья и образует пространство для
гулянья. Все, что строили позднее, было варварством, и прежде всего,
две капеллы Сикста V и Павла V, с их живописью Гвидо Рени, Кавалера
дАрпино, Чиголи, с их скульптурой Бернини и архитектурой Фонтана
и Фламинио [Понцио]. Вот громкие имена и масса истраченных денег,
но, между тем как древность с малыми средствами достигала большого
воздействия, современность с большими средствами достигает малого
эффекта. Пресытившись и ослепив себе глаза пышной округлостью этих
сводов и куполов, великолепием этих разноцветных мраморов, фризов
и драгоценных пьедесталов, этих колонн восточной яшмы, этих ангелов,
повешенных за ноги, этих бронзовых и золотых горельефов, - спешишь
выйти, как из какой-нибудь лавки или бонбоньерки. Чувствуешь, что
этот огромный блистающий, раззолоченный, разубранный сверху
донизу ящик зацепляет и порывает всеми шипами своих безделушек нежную
ткань мечты и воображения, - и стройный профиль самой малой
колонны производит больше впечатления, чем вся эта выставка декораторов
и выскочек. Точно так же фасад здания, обремененный перилами,
закругленными и острыми выступами и статуями, еле примостившимися
на своих подставках, - это просто передняя стена ратуши. Только одна
колокольня - четырнадцатого столетия - приятна аая глаз. Некогда она
была одной из городских башен; этот признак отличал ее на старых
планах города, таких грубых и черных, и запечатлевал навсегда в памяти,
еще совершенно образной, путника или монаха.
В этих старых базиликах есть черты всех эпох. Здесь видишь
различные моменты христианства, сперва облеченного еще в языческие формы,
потом проходящего сквозь Средние века и Возрождение, чтобы
наконец одеться и украситься современными уборами. Даже византийские
времена оставили здесь свой след в мозаиках главного нефа и апсиды,
в своих Христах и Богородицах, бескровных и безжизненных, этих
призраках с огромными неподвижными глазами, застывших на золотом
фоне и красных стенах, как фантомы истощившегося искусства и
впавшего в оцепенение мира.
•242 ·
ЦЕРКВИ
Церковь Сан Клементе в Риме. Фотография 1890-х голов
Совсем близко отсюда базилика Сан Лжованни ин Латерано, еще
более испорченная. Плоский потолок сохранился, но античные колонны
исчезли, уступив место облицованным пилястрам с аркадами. Бернини
разместил тут двенадцать колоссальных статуй апостолов - громадных
весельчаков из белого мрамора, каждый в нише зеленого мрамора,
мятущихся в хвастливых и академических позах. Их развевающиеся
драпировки, их рассчитанные жесты, кажется, говорят публике:
«Посмотрите, как мы замечательны!» Вот дурной вкус семнадцатого столетия,
не языческий и не христианский или, вернее, и тот и другой вместе,
причем один портит другой. Добавьте еще позолоту на потолке,
фестоны и розетки на полу, миленькие капеллы. Одна из этих последних -
капелла Торлониа, совсем новая, - это хорошенький мраморный будуар,
предназначенный аая отдыха. Она белая, раззолоченная, с красивым
куполом, украшенным лепкой, и вся разубрана элегантными статуями,
весьма благопристойными, весьма сентиментальными, весьма пошлыми
и весьма похожими на модные манекены. Рядом находится капелла
Климента XII, более обширная и еще более роскошная. Но здесь, по крайней
•243 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
мере, фигуры женщин умны, задумчивы и тонки: это дамы
восемнадцатого столетия, знающие свет и умеющие сохранять свое достоинство,
а не буржуа из keepsake [слащавые буржуа], которым хочется показать,
что и у них есть душа. Но обе капеллы - это салоны: один - для оборок,
а другой - аая кринолинов. В качестве контраста и дополнения нам
показали главный алтарь, где находятся главы святых Петра и Павла.
«На этом самом алтаре, - сказал нам один молодой патер, - святой Петр
служил обедню». Только что, по пути, я заходил в церковь Санта Пуден-
циана и видел там каменную покрышку колодца, на которой святая
собирала кровь более трех тысяч мучеников.
Рядом с Сан Лжованни ин Латерано есть капелла с тремя
лестницами. Одна из них - из дворца Пилата; ее покрыли деревом, и набожные
люди поднимаются по ней на коленях. Я сейчас их видел - скользящих,
трясущихся, карабкающихся. Они тратят полчаса времени, чтобы
взобраться таким образом до вершины, цепляясь за ступеньки и стены,
чтобы лучше проникнуться святостью места. Нужно видеть серьезное
выражение их лиц, их широко раскрытые, неподвижные глаза.
Особенно один крестьянин в куртке и синих дырявых штанах, в грубых
башмаках на гвоздях, такой же дикий и тупой, как его скотина, стучал громко
своими коленями по звонкому дереву и, когда мрамор был виден,
целовал и вновь целовал это место. На верхнем конце находится образ за
решеткой, между свечей, - и к этой решетке прикладываются без
перерыва. Листок, тут прибитый, содержит молитву слов в двадцать: кто
прочитает эту молитву - выигрывает сто дней индульгенции. Листок
приглашает верных выучить ее наизусть, чтобы повторять как можно
чаще и увеличивать таким образом свой запас отпущения грехов.
Можно вообразить себя в стране буддистов: позолота аая светских людей,
реликвии аая простонародья - так именно понимают религию в Италии
вот уже двести лет.
Все эти мысли исчезают, когда, войдя в храм, созерцаешь
величественный простор главного нефа, совершенно белого, под золотом своего
свода. Заходящее солнце проникает в окна и падает на помост
огромными пятнами света. Апсида, изборожденная старыми мозаиками,
изгибает свою золотую и пурпурную дугу в ослепительной белизне лучей,
рассыпавшихся, как пучки стрел. Выходишь наружу, и внезапно, от
перистиля, развертывается дивная площадь. В Риме нет ничего, что могло бы
сравниться с этим, и невозможно вообразить зрелища более простого,
более величественного и прекрасного. На первом плане - покатая пло-
• 244·
ЦЕРКВИ
Церковь Сан Джованни ин Латерано в Риме. Фотография 1860-х годов
щадь, огромная, пустынная; за нею - эспланада, покрытая травой; потом
длинная зеленая аллея, где тянутся ряды безлистных деревьев, и совсем
на краю, на фоне неба, - большая базилика Санта Кроче [ин Лжеруза-
лемме] со своей коричневой колокольней и черепичными кровлями. Не
представлял себе такого простора, столь прекрасно наполненного,
пустыни, столь мирной и благородной. Пейзажи, обрамляющие ее по бокам,
облагораживают ее еще более. Налево щетинится красная груда
разрушенных аркад и сломанных массивов - разорванный пояс старых стен Ве-
лизария (в действительности Аврелиана. - Примеч. ред.). Направо
расстилается широкая кампанья; посередине - освещенный солнцем акведук,
в отдалении - полосатые и синие горы, испещренные громадными
тенями и там и сям усеянные белыми пятнами деревень. Сияющий воздух
облекает все эти крупные очертания. Синева неба - божественной
нежности и блеска; облака плавают по ней мирно, как лебеди, и повсюду,
меж рыжих кирпичей, под рассевшимися зубцами, среди сети
плантаций, видишь подымающиеся вверх группы каменных дубов, кипарисов
и сосен, озаренных солнцем, которое склоняется к закату.
•245·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Я пробыл час на лестнице триклиниума - своего рода отдельной
апсиды, отдельно стоящей на краю площади. Она поросла травой, которая
раскалывает ее ступени; из трещин выбегают ящерицы и греются на
солнце на мраморных плитах. Ни малейшего шума; только время от
времени какая-нибудь повозка или несколько ослов пересекают
заброшенную мостовую. Если есть на свете место, способное успокоить усталые
души и незаметно убаюкать их, лаская прикосновением
меланхолических и благородных грез, - то вот оно. Весна пришла; юный свет ложится
нежными тонами на каменные глыбы; новое солнце сияет с невыразимой
прелестью, и его благость разливается в потеплевшем воздухе. Листочки
деревьев выходят из своих оболочек, и эти большие каменные здания,
заброшенные в забытом углу Рима, кажется, приобрели в своем уединении,
подобно изгнанникам, гармоническое спокойствие, смягчающее их
недостатки и умножающее достоинства. На первый взгляд главный фасад
шокируют его аркады, срезанные посередине, как слишком высокие
комнаты, из которых устроили два этажа, его столпообразные колонны,
его балюстрады, обремененные фигурами святых, которые мятутся и
позируют, как актеры в финальной сцене пьесы, - вся эта декорация
кажется напыщенной. Через час глаза привыкают, и отдаешь себя во власть
впечатлениям благополучия и красоты, которые исходят здесь от всех
вещей. Находишь церковь богатой и величественной, думаешь о папских
процессиях, которые в определенные дни развертываются под ее
сводами, и сравниваешь ее с некой триумфальной аркой, воздвигнутой для
достойного приема духовного цезаря, преемника цезарей римских.
Улицы Сайт Андрей делла Балле,
Сайта Мария un Трастевере
В Риме триста сорок церквей; ты не станешь требовать, чтобы я
посетил их все.
Самое лучшее, я думаю, войти в первую встречную церковь, когда
этого захочется, - в Санта Мария сопра Минерва, чтобы послушать
пение, льющееся в пустынных нефах, и взглянуть на широкую волну света,
падающего из фиолетовых расписных стекол, - в Санта Тринита деи
Монти, чтобы посмотреть на «Снятие со креста» Ланиэле да Вольтерра,
сильно испорченное, особенно же чтобы по пути бросить взгляд на
дворы этого женского монастыря, подобного замкнутой, замурованной,
безмолвной крепости, возвышающейся над шумом Испанской площади;
выходишь с запасом полуидей или зачатков идей, которые развиваются
•246·
ЦЕРКВИ
и разветвляются в тиши, сами собою. Весь этот маленький внутренний
народец работает, как выводок шелковичных червей, которые сучат свою
нить, и непрерывно растущий холст завершается наконец помимо нашей
воли, приняв в свои стежки беглые происшествия, заурядные встречи,
какую-нибудь деталь, которая прошла сперва незамеченной и теперь
оказывается интересной. Все это приходит в согласие, взаимно
связывается и образует ансамбль; нет ничего, что не нашло бы себе здесь места;
например, сегодня, под этой лазурной пеленой и роскошным
шелковистым светом, расстилающимся над улицами, как балдахин, - старая
серая грязь, забрызгавшая своими почтенными крапинами фасады домов;
эти обломанные тумбы, эти ржавые засовы, где целые поколения пауков
наследуют паутину своих предков; эти темные коридоры, где только
ветер гоняет пыль; эти фигурные дверные молотки, стершие наконец
железные полосы, по которым они стучат; эти жарения, шипящие своим
черным салом у подножия обглоданной колонны; эти погонщики ослов,
являющиеся на Пьяцца Барберини со своими животными, нагруженными
дровами; особенно же - эти жители кампаньи, одетые в синее
шерстяное платье и обутые в толстые кожаные сапожища, которые молча
толпятся перед Пантеоном, похожие на диких животных, смутно испуганных
новизной города. Они не имеют простоватого вида, как наши
крестьяне; она напоминают, скорее, волков или барсуков, попавших в западню.
Между ними много правильных и сильных лиц; они тотчас же
бросаются в глаза между французскими солдатами, более мягкими и
обходительными. Один из этих крестьян, со своими длинными черными волосами
и благородным бледным лицом, похож на рафаэлевского «Скрипача»;
его сандалии, прикрепленные к ногам кожаными ремешками,
совершенно такие же, как у античных статуй. Он украсил павлиньим пером
свою плохую серую мягкую шляпу и опирается с видом императора на
тумбу, обратившуюся в кучу мусора. Среди женщин, показывающих себя
в окнах и делающих вам глазки, различаешь сразу два типа. Первый -
выразительная голова с квадратным подбородком, плотно сидящая на
шее, с черными сверкающими глазами, с твердым взглядом; большой нос,
наморщенный лоб, короткая шея и широкие плечи. Другой тип - голова
камеи, жеманная, влюбчивая; контур глаз тонко обрисованный, черты
лица одухотворенные, четко означенные, с аффектированным, сладким
выражением.
Бюро лотерей полны, и в витринах видишь выставленные номера. Вот
важная забота всей этой публики: они считают амбо и терны, они грезят
•247·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Борромини. Церковь Сант Иво в Риме. Фотография 1890-х годов
о цифрах, они заимствуют указания от числа своих лет, от числа
месяца, они рассуждают о форме цифр, имеют предчувствия и творят
девятидневную молитву Мадонне и святым. Богатое воображение работает,
утопает в мечтах, кидается ежеминутно в крайности страха и надежды;
вот они уже на коленях, и этот приступ боязни и желания - их религия.
•248·
ЦЕРКВИ
Это кладезь чувств древнего происхождения. Мы только что были
в Сант Андреа делла Балле, где смотрели фрески Ланфранко и четырех
евангелистов Ломеникино. Они очень хороши, но вполне языческие
и говорят только образному мышлению. Святой Андрей - это старый
Геркулес. Вокруг евангелистов красуются великолепные аллегорические
фигуры женщин; одна, с открытой грудью и ногами, воздевает
обнаженные руки к небу; другая, увенчанная шлемом, склоняется ниц надменно
и горделиво. Возле святого Марка шаловливые дети играют на
громадном льве, и снизу, между развевающимися драпировками, видны в
ракурсе голые бедра ангелов. Несомненно, тогдашний зритель искал здесь
только смелых поз и могучих форм тела, привлекавших его симпатии, -
симпатии атлета, привыкшего к разнообразию жестов. Он вовсе не
чувствовал себя шокированным такой картиной. Совсем напротив: его святой
был здесь представлен как только можно более сильным и гордым - он
таким именно и воображал его себе. Если бы вашим господином было
некое заморское существо, которого вы никогда не видели, но которое
каким-то чудом могло бы по желанию умертвить вас или сделать богачом,
вы воображали бы себе это существо в таких же чертах.
Я не могу сказать тебе ничего особенного ни о Санта Мария ин Тра-
стевере, ни о прочих церквах: те же впечатления повторяются и там.
Двойной ряд колонн, позаимствованных из античных храмов; плоский
потолок, обремененный позолоченной резьбой; «Смерть Марии» Гвидо
Рени, помещенная слишком высоко и затертая этим нагромождением
позолоты; круглая апсида, где выделяются на золотом фоне старые
угловатые фигуры; статуи умерших, важно покоящихся и спящих вечным
сном на своих гробницах, - вот Сан Пьетро ин Трастевере. Каждая
церковь, однако, имеет свой особенный характер или какую-нибудь
достопримечательность. В Санта Мария ин Монторио - это «Бичевание» Се-
бастьяно дель Пьомбо; скульптурные позы, могучие тела, напряженные
и искривленные мускулы жертвы и палачей заставляют вспомнить, что
Микеланджело был советчиком художника и зачастую его учителем.
В Сан Клементе - это подземная церковь, недавно открытая, где, между
колоннами античного зеленого камня, при свете факела, видна
живопись, которая считается самой древней в Риме, - угловатые и жалкие
византийские фигуры; между ними одна Богоматерь, грудь которой
отвисла, как у кормящего животного. В Франческо а Рипа - это внутренняя
отделка из позолоты и мраморов, самая претенциозная и утрированная,
какую только можно найти, сооруженная в прошлом столетии корпора-
• 249 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
циями мастеровых, чеботарей, фруктовщиков, мельников, - и каждая
часть носит имя той корпорации, которой она сделана. Почти на
каждой улице здесь есть такие курьезные обрывки истории. Но что
особенно поражает - это контраст между этим храмом и его окрестностями.
При выходе из Сан Франческо а Рипа приходится затыкать нос: так
силен тут запах рыбы; желтый Тибр катится между остатками мостовых
быков, вдоль больших выцветших строений, перед угрюмыми,
мертвыми улицами. Возвращаясь из Сан Пьетро ин Монторио, я встретил
неописуемый квартал: ужасные улицы и зловонные переулки, крутые
спуски с лачугами по сторонам, засаленные коридоры, населенные
человеческими мокрицами; старые желтые или свинцово-бледные женщины,
вперяющие в прохожего свои глаза ведьм; дети, которые садятся
преспокойно на корточки, как собаки, и подражают им без всякого стыда;
шалопаи, закутанные в рыжие лохмотья и покуривающие, прислонясь
к стене; грязная, кишащая и шумящая толпа, которая теснится вокруг
лавчонок с жареным. По улице сверху донизу бегут ручейки, среди
кухонных отбросов, и своей грязной жижей пачкают острые камни
мостовой. Внизу находится мост Сан Систо; у Тибра нет вовсе набережных,
и покрытые плесенью домишки полощут в нем свои развалившиеся
лестницы, как грязные тряпки, треплющиеся в тине. Позолота и конуры,
нравы и лица, правительство и верования, настоящее и прошедшее - все
здесь отвечает одно другому, и в один момент понимаешь все их
взаимоотношение.
IX-
ОБЩЕСТВО
Виа Лжулия в Риме. Фотография 1890-х годов
22 марта, буржуазия
ОПИСАЛ ТЕБЕ почти все, что я мог наблюдать
сам по себе, то есть внешность. Что до
внутренней стороны, - я хочу сказать, до нравов
и типов, - то ты прекрасно понимаешь, что по
истечении одного месяца я не могу рассказать
ничего особенного по своим наблюдениям; но
у меня есть хорошие знакомые из различных
классов общества и разных убеждений, все -
люди весьма любезные, а многие и весьма компетентные. Вот резюме
пятидесяти или шестидесяти бесед и споров, которые велись серьезно
и откровенно.
В этом городе, наполненном произведениями искусства, очень мало
художников. Тридцать лет назад здесь существовали г-н. Камуччини и
холодные подражатели Давида; теперь произошел поворот в сторону
грациозной пошлости; скульпторы придают мрамору самую совершенную
полировку, чтобы понравиться богачам из-за Альп, - в этом их
мастерство, и дальше этого они не идут. Большинство среди них - ремесленники,
изготовляющие копии. Большая публика также опустилась. Римляне уже
не чувствуют свои шедевры иначе, как по восторгам иностранцев.
Это оттого, что истинная культура аая них находится под запретом.
Без паспорта от папы нельзя путешествовать, и в этом паспорте очень
часто отказывают. Один итальянский художник, которого мне называют
по имени, не мог добиться позволения съездить в Париж.
«Отправляйтесь туда, если хотите, но вы не вернетесь назад». Боятся, чтобы они не
вывезли оттуда либеральных идей.
Доктора, по словам иностранцев, умеют только ставить клистир, а
адвокаты занимаются крючкотворством. Все замкнулись в своей
специальности. Полиция, которая позволяет делать все, что угодно, не терпит
только занятий никакой отраслью знания, соприкасающейся с религией
или с политикой. Человек, занимающийся и много читающий, хотя бы
у себя дома, запершись, попадает под ее надзор. Его травят, преследуют
обысками, чтобы схватить запрещенные книги, обвиняют в том, что он
держит у себя непристойные гравюры. Он подвергается precetto, то есть
обязательству возвращаться к себе домой при Ave Μάπα и не выходить
после заката солнца; если он нарушает запрет хотя бы один раз, его
сажают в тюрьму; один иностранный дипломат назвал мне по имени своего
друга, с которым случилась такая история. В Риме насчитывают одного
•253 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
астронома и одного или двух археологов; но в общем ученые здесь
презираются или преследуются. Если кто-нибудь обладает знаниями, то он
или скрывает это, или извиняется за свою ученость, представляя ее как
своего рода манию. Невежество же на хорошем счету: оно делает людей
послушными.
Что до профессоров, то первые из них, университетские, получают
триста или четыреста экю в год и читают пять лекций в неделю; это
показывает, как высоко ставят здесь науку. Чтобы существовать, одни
делаются врачами, архитекторами, различными чиновниками,
библиотекарями; многие из священников получают доход от своих обеден, - и все
живут более нежели скромно. Я насчитал в календаре сорок семь кафедр;
в университете пятьсот студентов - около десяти на кафедру. Папа
только что разрешил курс геологии, на котором четверо слушателей; нет
совсем курса светской истории. Зато курсы богословия многочисленны.
Это характеризует дух учреждения: средневековые науки здесь
процветают, современные остаются за дверью. В Риме только две публичные
школы: римская семинария, которая находится под управлением
кардинала-викария и воспитывает священников, и римская коллегия, которая
находится в руках иезуитов, там изучают только латинский и
греческий. Нет вовсе итальянского языка, нет французского, никакого
живого языка, нет истории, кроме римской до Константина. Занятия так
слабы, что когда ученик хочет вступить в конгрегацию, он должен, если он
даже первый между всеми, начать сызнова свои занятия, от самых
первых начатков. При медицинском факультете нет клиники аая рожениц;
в качестве единственного пособия служат таблицы, изображающие
органы тела, и эти таблицы задернуты занавеской; глупец, знаменитый
своим невежеством, только что приглашен на кафедру благодаря
интригам женщин. Все остальное в том же роде. Профессора, сказал мне один
доктор-немец, - деревенские цирюльники; только некоторые провели
одну-две недели в Париже. Они пускают в ход в своих госпиталях
приемы, устаревшие на сто лет. В лечебнице накожных болезней паршивым
делают надрезы на голове; когда раны зарубцуются, больных
выстраивают в ряд и проводят по их головам кистью, напитанной какой-то
микстурой; одна и та же кисть служит аая всех, и она служит, может быть,
уже целые годы. По всему этому можно судить о значении и влиянии
либеральных профессий.
Существуют ли здесь какие-нибудь духовные стремления?
Большинство моих знакомых говорят, что нет, - правительство испортило человека.
•254·
ОБЩЕСТВО
Обелиск на Пьяцца Минерва в Риме. Фотография 1908 года
Здешние люди очень способны, смышлены, лукавы, но не менее того
эгоисты; никто или почти никто не рискнет ради Италии своей жизнью
или деньгами. Они громко кричат и предоставляют другим идти
вперед, но сами не принесут ни малейшей жертвы. Они находят, что
жертвовать собою - значит быть дураком; они тонко улыбаются, видя
француза, который горячится, который, слыша призыв родины и славы, готов
разбить себе череп.
Они не увлекаются. Они приспосабливаются к вам, бесконечно
вежливы и терпеливы, не позволяют проскользнуть самой легкой улыбке
среди тех варваризмов и смешных ошибок в произношении, которые
•255 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
всегда делает иностранец. Они никогда не теряют самообладания, не
желают компрометировать себя и думают только о том, как бы выйти сухими
из воды, воспользоваться обстоятельствами, одурачить другого, взаимно
одурачивать друг друга. То, что мы называем щепетильностью, им вовсе
не знакомо; такой-то знаменитый археолог получал преспокойно от
торговцев долю со всех предметов, продажу которых он им устраивал, и
между самыми богатыми и знатными лицами есть ростовщики.
Здесь каждый имеет своего покровителя. Иначе нельзя существовать:
нужно иметь протекцию аая всякой мелочи и аая того, чтобы добиться
справедливости, чтобы получать свои доходы, сохранить в целости свое
имущество. Фаворитизм процветает. Имейте среди вашей прислуги или
в вашем семействе хорошенькую и податливую женщину, и вы будете
выходить из самых рискованных положений чистым, как снег. Один из
моих друзей сравнивает здешнюю страну с Востоком, где он
путешествовал, с той только разницей, что здесь дела вершит не сила, а ловкость;
ловкий человек с сильной протекцией может добиться всего. Жизнь -
это заговор и битва, но под землею. При правительстве священников
избегают шума, грубая энергия отсутствует: строят мины и контрмины друг
против друга с учеными приемами и волчьими ямами, выкопанными на
десять лет вперед.
Насколько инициатива и деятельность приносят вред и на дурном
счету, настолько лень в почете. Много народа живет в Риме
необъяснимо чем - без доходов и без занятий. Другие получают в месяц десять
экю и проживают тридцать: кроме своего гласного места они имеют
всевозможные ресурсы и вспомогательные средства. Прежде всего
само правительство раздает субсидий на двести или триста тысяч экю.
Затем каждый князь или дворянин считает себя по званию и по
традиции обязанным к щедрости: такой-то раздает шесть тысяч экю в год.
Прибавьте к этому, что есть еще повсюду buona manda [хорошие
чаевые]; многие подают пятнадцать прошений ежедневно; одно или два
на пятнадцать удовлетворяются, и проситель может вечером
поужинать - и вот вам новое ремесло. Это ремесло имеет и своих служащих:
на открытом воздухе видишь публичных писцов, со шляпой на голове,
с зонтиком сбоку, с бумагами, придерживаемыми маленькими камнями
с мостовой, они пишут прошения. Наконец, в этой всеобщей нищете
все взаимно помогают друг другу; нищий не есть человек вне общества,
еще того менее какой-нибудь каторжник; это люди честные, такие же,
как и все другие; только с ними случилось несчастье; под влиянием
•256·
ОБЩЕСТВО
такого взгляда и беднейшие подают им несколько байоков. Так
поддерживается праздность; в горах, около Фраскати, я встречал на каждом
пастбище мужчину или ребенка, который открывал изгородь; у
церковных дверей какой-нибудь бедняк спешит поднять перед вами
кожаную завесу Они набирают таким образом пять су, шесть су в день, на что
и живут.
Я знаю одного сторожа, который получает шесть экю в месяц; сверх
того, время от времени он чинит какое-нибудь старое платье за три
или четыре байока. Семья умирает с голоду и иногда перехватывает два
паоля (двадцать су) у соседа, чтобы дотянуть неделю. Несмотря на это,
сын и дочь выходят на воскресную прогулку отлично одетыми. Лочь
ведет себя благоразумно, потому что она еще не замужем; как только муж
будет пойман - тогда другое дело: будут находить вполне естественным,
что она зарабатывает на свой туалет и помогает мужу. Многие семьи
живут таким образом - на счет красоты жены; муж закрывает глаза и
открывает их только изредка - аая того чтобы лучше наполнить карман.
Стыд его не тревожит: так сильна бедность в mezzo ceto [среднем
классе], и с появлением детей мужчине приходится так плохо, что он
терпит без протеста богатого покровителя. «Моя жена хочет платьев -
пусть она зарабатывает на платья!» Сверх того, влияние правительства
действует вообще развращающим образом человек подавлен
низостями, он привык дрожать, целовать руку духовным лицам, унижаться. Из
поколения в поколение мужественная гордость, сила и дух протеста
вырывались с корнем, как сорные травы; тот, кто сохранял их в себе,
был гоним - и в конце концов эти свойства угасли. Образчик этого
душевного состояния - Кассандрино старинных кукольных комедий; это
мирянин, забитый и замученный, в котором сломано внутреннее
сопротивление, который принял за правило смеяться надо всем, даже над
самим собой, который, будучи остановлен на дороге разбойниками,
покорно позволяет ограбить себя, смеясь и говоря им: «Ах, вы
охотники!» Горькая шутка, добровольная арлекинада позволяет позабыть
бедствия жизни. Подобный тип встречается часто: муж, покорный,
униженный, терпит счастье своей жены. Получив свое, он гуляет, идет в
кафе выпить свою чашку в три су, наблюдает погоду и доставляет себе
удовольствие щеголять на гулянье в сюртуке нового сукна. Римлянин
и римлянка тратят на платье все деньги, которые они зарабатывают и
получают. Они питаются мало и плохо, едят пирожки, сыр, капусту,
овощи; зимой совсем не топят; меблировка у них жалкая - все отдается
• 257·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
внешности. На улицах, на Пинчио, видишь женщин в роскошных
бархатных мантильях и толпу красивых молодых людей, завитых, в свежих
перчатках; верхнее платье нарядное, блестящее, свежее, но не
добирайтесь до белья.
Бок о бок с ленью процветает невежество, как чертополох рядом с
крапивой. Один наш знакомый жил некоторое время в окрестностях озера
Неми; после полудня там нельзя получить письма: врач, священник и
аптекарь избрали это время для своей прогулки, а кроме них, в деревне нет
умеющих читать. Почти то же самое и в Риме. Мне называют
дворянскую фамилию, которая живет в двух комнатах и сдает внаймы пять
других - это весь ее доход. Из четырех дочерей только одна умеет написать
счет; ее зовут ученой (еа dotta). Отец и сыновья ходят в кафе, выпивают
там стакан чистой воды, читают газету - вот их жизнь. Для молодого
человека нет никакой будущности: он совершенно счастлив, если
получит в папской канцелярии или где-нибудь место в шесть экю в месяц. Нет
ни торговли, ни промышленности, ни армии. Многие делаются
монахами, священниками и живут своими обеднями; они не решаются искать
счастья за пределами страны - полиция запирает дверь на засов за теми,
кто вышел.
И домашняя обстановка у них как в бедной лачуге. Барышни, о
которых я говорил, остаются в заношенных дрянных домашних платьях,
как кухарки, до четырех часов вечера. Я знаю семейство, где я долгое
время принимал женщин за швеек; я заставал их за чисткой ботинок;
кругом был полный беспорядок - грязное белье, разбитая посуда на
столе и на полу; вся детвора ела на кухне. Однажды в воскресенье я
увидел их в шляпках, они имели вид барынь, и я узнал, что их брат -
адвокат. Этот брат появился - он держал себя джентльменом.
Я спрашиваю: чем же все эти молодые люди наполняют свое время?
Ничем; в этой стране первая забота - делать как можно меньше.
Молодого римлянина можно сравнить с человеком во время полуденного
отдыха: он инертен, ненавидит усилие и раздражается всяким
беспокойством и необходимостью предпринять что бы то ни было. Покинув
свое бюро, он одевается как можно лучше и идет прогуливаться под
какое-нибудь окно; это занимает все послеобеденное время. Время от
времени женщина или молодая девушка приподнимает угол занавески,
чтобы показать ему, что она знает о его присутствии. Они не думают ни
о чем другом; в этом, впрочем, нет ничего удивительного: безделье
располагает к любви. Они гуляют непрерывно по Корсо, следят за женщи-
•258·
ОБЩЕСТВО
нами, знают их имена, их уменьшительные прозвища, их любовников,
все прошлое и настоящее их интриг; они живут так с головой, полной
сплетен. В конце концов ум изощряется на этом ремесле и приобретает
проницательность. Между собой они вежливы, улыбаются, говорят
комплименты, но скрытны, всегда настороже, заняты подсиживанием друг
друга и устройством каверз.
В среднем классе бывают вечера, но странного характера. Влюбленные
глядят друг на друга из одного конца салона в другой; невозможно
поболтать с молодой девушкой - ее возлюбленный запретил ей это. Подают
стаканы с водой без сахара. Каждый занят своими мыслями или
наблюдением за другими. По временам выходят из этого молчаливого
размышления, чтобы послушать музыкальный отрывок. В самой мелкой
буржуазии не подают совсем ничего, даже стакана воды. Есть фортепиано;
всего чаще кто-нибудь поет. Зимой никакого отопления; дамы образуют
кружок, сохраняя при себе свои муфты. Баловни получают грелку аля
рук. Этого довольно: здесь не имеют претензий.
Молодых девушек держат взаперти; в результате они стремятся на
свободу. Недавно, как рассказывают, одна из них, ускользнувшая
вечером из дома, чтобы пойти на свидание, простудилась и умерла. Ее
подруги устроили нечто вроде демонстрации и приходили толпой
прощаться с телом: в их глазах это была мученица, погибшая за идею. Их
жизнь состоит в том, что они говорят друг другу шепотом, что имеют
возлюбленного - подразумевается: молодого человека, который думает
о них, ухаживает за ними, прогуливается под их окном etc. Это
занимает их воображение и заменяет аая них писанный роман; они его
проделывают, вместо того чтобы читать. Таким образом, они имеют иногда
пять или шесть увлечений до брака. Что же касается добродетели, то
они держатся в отношении ее особенной тактики - уступать скрытые
подходы, удерживая саму крепость, и при этом охотятся искусно,
упорно и решительно за законным мужем.
Прибавьте, что этот флирт не очень скромен; напротив - он или
удивительно наивен, или удивительно груб. Те же самые молодые люди,
которые вертятся восемнадцать месяцев возле одного окошка и питаются
мечтами, атакуют словечками Рабле женщину, которая идет по улице
одна. Даже с женщиной, которую они любят, у них двусмысленные
выражения и непристойные любезности. Один из моих друзей встретился
однажды на загородной прогулке с молодым человеком и молодой
женщиной, которые казались очень влюбленными друг в друга: каждую
•259·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
минуту они забывали, что находятся в обществе. Он сказал своему соседу:
«Вот, без сомнения, новобрачные; но они воображают, что они у себя
в комнате». Сосед ничего не отвечал и казался смущенным: это был муж.
Мой друг утверждает, что итальянская «великая любовь», которую так
восхваляет Стендаль, постоянство в обожании, идеальный культ,
чувство, способное питать само себя и длиться всю жизнь, становится столь
же редким, как и во Франции. Любви здесь, по меньшей мере, не
хватает утонченности. Если женщины иногда и увлекаются, то
внешностью: их приводит в восторг хорошенький мальчик, хорошо сложенный
и изящно одетый, у которого есть белоснежное белье и золотая цепочка.
В их характере нет никакой мягкости и ничего женственного; они
могут быть хорошими товарищами в случае опасности, когда нужно
выказать энергию; но в обыкновенных условиях они деспотичны и в деле
счастья очень позитивны. Опытные в этом вопросе люди утверждают,
что с того момента, как делаешься возлюбленным римлянки,
попадаешь в рабство: она требует от вас бесконечной заботливости,
поглощает все ваше время; вы должны быть всегда на своему посту - предлагать
руку, приносить букеты, дарить безделушки, быть внимательным или
впадать в экстаз. Без этого она решит, что у вас есть другая
возлюбленная, немедленно возвратит вас к вашему долгу и извлечет на свет
Божий красноречивые улики. В этой стране время мужчины, которого
не требуют себе ни политика, ни промышленность, ни литература, ни
наука, - товар без покупателя. Согласно экономическому закону
спроса и предложения, его ценность, соответственно, уменьшается и даже
падает до нуля. По этой таксе женщина может тратить его на
коленопреклонения и фразы.
Они приспособились к этой жизни, которая нам кажется такой
ограниченной и почти мертвой. За отсутствием чтения и путешествий они
не делают никаких сравнений и не смотрят на себя критически. Лела
шли так всегда и всегда будут так идти: однажды признанная, эта
неизбежность кажется не более странной, чем малярия. Сверх того, много
обстоятельств помогает переносить ее. Жизнь здесь очень дешева: семья,
имеющая двух детей и служанку, проживает 2500 франков; 3000
франков составляют то же, что 6000 в Париже. Можно ходить в фуражке,
в потертом платье; никто не следит за другим - каждый думает только
об удовольствиях; всякие проказы встречают снисходительное
отношение. Имейте ваше исповедальное свидетельство в порядке, избегайте
либералов, дайте доказательства вашего послушания и беспечности -
•260·
ОБЩЕСТВО
Фонтан с обелиском и статуями Диоскуров в Риме. Фотография 1880-х годов
и вы найдете правительство терпеливым, уживчивым, отечески
снисходительным. Наконец, народ здесь невзыскателен в отношении счастья:
воскресная прогулка в нарядном платье на вилле Боргезе, обед в
траттории в кампанье - вот перспектива, которая тешит их мечту в
течение недели. Они умеют фланировать, болтать, довольствоваться тем
немногим, что у них есть, смаковать вкусный свежий салат,
наслаждаться стаканом чистой воды, выпиваемым перед зрелищем красивых
световых эффектов. Более того, у них есть запас хорошего
расположения духа; они думают, что нужно проводить свое время приятно, что
бесплодное негодование глупо, что печаль есть болезнь; их
темперамент тянется к радости, как растение к солнцу. Прибавьте еще к
хорошему расположению духа добродушие. Князь беседует фамильярно со
своими слугами, смеется вместе с ними; какой-нибудь крестьянин из
окрестностей, аая которого вы нечто вроде барина, говорит вам «ты»
без стеснения, светский молодой человек описывает и разбирает
светскую барышню, как если бы она была его любовницей. Полная бесцере-
• 261 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
монность: они не знают мелких стеснений нашего общества, его
сдержанности и учтивости.
Стремятся ли они горячо стать итальянцами? И да, и нет. Мои
друзья уверяют, что они возненавидят пьемонтцев через месяц. Они
привыкли к распущенности, к безнаказанности, к лености, к режиму
фаворитизма и будут чувствовать себя плохо, лишившись их. В общем,
если кто имеет здесь хорошую протекцию, хорошее родство, тот может
делать, что ему угодно, при условии не заниматься политикой. Новые
суды, установленные в Романье, в Болонье, например, разогнали и
подвергли наказанию воровские сообщества, находившие себе
укрывателей в высших кругах. Крестьянин, который убил своего врага, но
двоюродный брат которого - слуга кардинала, отделывается двумя годами
каторги; он приговорен к двадцати годам, но его постепенно милуют,
и он возвращается к себе в деревню, где его уважают не меньше
прежнего. Эти люди еще дикари - они нелегко подчиняются требованиям
закона. Кроме того, им не хватает морального чувства, и в этом
недостатке виновато уже не одно начальство. Сравните немецкие дурные
правительства прошлого столетия - совершенно такие же
абсолютистские и самовластные, как и здешнее; там существовали честные нравы
и суровые принципы - характер народа смягчал недостатки
учреждений, в Риме он их усиливает. Здесь человек по природе не имеет идеи
справедливости: он слишком силен, слишком свиреп, слишком богат
воображением, чтобы принять или самому наложить на себя узду. Когда
он считает себя воюющей стороной, он не ограничивает ничем своего
военного права. Назад тому шесть дней взорвалась бомба у главного
папского книгопродавца: передовая партия хочет таким способом дать
Европе доказательство своей энергии и думает испугать противников.
Они допускают, как Орсини, оправдание целью; известно, как они
убили Росси. Народы по ту сторону гор имеют в этом отношении чувства,
которых не хватает римлянам.
23 марта, дворянство
Что касается аристократии, то говорят, что она глупа. Передо мной
перебирают главные фамилии: многие члены их путешествовали,
получили сносное образование, не злы по натуре, но по странной
особенности, происходящей, без сомнения, от слишком малого числа
скрещиваний, от застоя крови, заключенной постоянно в одних и тех же жилах,
почти у всех у них ум безнадежно тупой и ограниченный. Их портреты
•262·
ОБЩЕСТВО
можно видеть в милой комедии графа Жиро «e'Ajo nel imbarrazzo»
[«Гувернер в затруднении»] ; принц Лелло в «Tolla» [«Толла»] Эдмона Абу
взят с натуры, и его забавные письма подлинны.
Я отвечаю на это, что знаю лично четырех или пятерых римских
дворян и представителей знати - все они отлично воспитаны и очень
любезны; некоторые из них - ученые или занимаются науками; один,
например, предупредительный, как князь, остроумный, как журналист,
ученый, как академик, сверх того, артист и философ, - столь острого
ума и столь богат на меткие выражения и разнообразные идеи, что он
один сумел бы оживить самый блестящий разговор и самый
свободомыслящий парижский салон. Мне возражают, что не следует судить по
исключениям, и в обществе глупцов, какими бы глупцами они ни были,
всегда найдется умный человек. Трое или четверо (отнюдь не более)
развитых и деятельных резко выделяются среди бараньего стада. Они
либералы; остальные - паписты, застывшие в своем воспитании, в своих
предрассудках, в своей косности, как мумии в ее пеленах. На их столе можно
встретить маленькие благочестивые книжки и легкомысленные песенки -
этим ограничивается весь их вывоз из Франции. Их сыновья служат в
дворянской гвардии, носят пробор посередине головы и преследуют
женщин со своей парикмахерской улыбкой.
Салонов очень немного; дух общественности отсутствует, и
веселятся мало. Каждый большой барин сидит у себя дома и по вечерам
принимает своих близких знакомых, которые составляют принадлежность
его дома, как обои и мебель. Здесь не посещают света, как в Париже,
из честолюбия или чтобы поддержать свои связи и приобрести
поддержку, - это были бы бесполезные хлопоты. Удить рыбу нужно в
других водах - церковных. Кардиналы - чаще всего сыновья крестьян или
мелких буржуа, а каждый из них имеет свой интимный антураж,
который сопутствует ему в течение двадцати лет; его врач, его исповедник,
его слуга подвигаются вверх вместе с ним и распределяют его милости.
И юноша может преуспеть, только связав себя таким путем с карьерой
какого-нибудь прелата или его свиты; эта карьера - большой корабль,
влекомый ветром и тянущий за собой маленькие барки. Прибавьте
еще, что значение прелатов создается не салонами. К тому же, чтобы
получить какую-нибудь милость или место, нужно обращаться не к
самому кардиналу или к начальнику по службе: они отвечают очень
учтиво, и дело на этом кончается. Пустите в ход более секретные ресурсы:
обратитесь к брадобрею, к главному слуге, к человеку, который подает
•263 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
рубашку. В одно прекрасное утро он поговорит о вас и скажет с
убеждением: «Ах, Эминенца [ваше превосходительство], имярек такого
хорошего образа мыслей, он говорит о вас так почтительно!»
Другое убийственное аая духа общественности обстоятельство - это
недостаток свободы действий. Люди не доверяют друг другу, следят за
своими словами, не позволяют себе откровенничать. Один иностранец,
который держал здесь в течение двадцати лет большой салон, говорил
мне, что, если бы он покинул Рим, ему не пришлось бы писать и пары
писем за полгода: в этой стране не приобретаются друзья. Поэтому
единственное занятие здесь - любовь; женщины проводят день на своем
балконе или, если они богаты, идут к обедне, оттуда на Корсо, потом опять
на Корсо. Чувство, не имея для себя, как в других местах, обыденного
выхода, порождает, когда оно находит себе наконец применение,
неистовые страсти, а иногда странные вспышки, как, например, отчаяние
молодой маркизы Виттории Саворелли, умершей от любви, потому что ее
жених, один из Дориа, покинул ее; или брак одной знатной дамы с
французским унтер-офицером, который седлал свою лошадь на дворе ее
дворца, и тому подобные романтические или трагические развязки.
Большое несчастье аая мужчин - полное отсутствие дела; они
грызутся между собой или дремлют. За неимением занятий интригуют,
подсматривают друг за другом и вредят друг другу, как праздные
монахи, запертые в своем монастыре. К вечеру тяжесть безделья делается
особенно томительной; видишь их в их огромных салонах перед
вереницами картин, как они зевают, вертятся, ждут. Являются два или три
постоянных гостя, всегда одни и те же, принося с собой сплетни, - Рим
в этом отношении совершенно провинциальный город. Говорят о слуге,
которому отказали от места, о новой мебели, о каком-нибудь визите,
отданном слишком поздно или слишком рано; вся домашняя и интимная
жизнь всегда видна насквозь; ничто не пользуется великим incognito
Лондона или Парижа.
Некоторые интересуются музыкой или археологией, говорят о недавних
раскопках, и воображение, догадки дают себе волю: это единственное
полуживое занятие, все остальное - скучно или мертво. Иностранные
газеты и журналы не доходят или конфискуются один раз из двух, а новейшие
книги отсутствуют. Эти люди не могут говорить о своей карьере: у них
ее нет. Дипломатия и высшие должности принадлежат духовным лицам,
а армия - иностранцам. Остается земледелие: многие и занимаются им,
но косвенным образом - сдают землю в аренду крестьянам через посред-
•264·
ОБЩЕСТВО
Пьяцца Колонна в Риме. Фотография 1860-х годов
ство mercanti ai campagna\ крестьяне обыкновенно сами передают ее
владельцам неаполитанских стад, приходящих провести здесь зиму и весну.
Земля очень хороша, трава весьма обильна. Такой-то торговец-посредник
сдает от себя за 25 экю в полгода то, что сам он снимает за 11 экю в год;
он собирает еще приблизительно 5 экю на сене, и получается таким
образом 3 за 1. Можно считать, что в среднем они получают 2 за 1, - и этим
путем составляются крупные состояния. Некоторые, правда, покупают
и откармливают скот, а эпидемия разбивает их расчеты. Но другие,
разбогатев, становятся лидерами буржуазии: хорошо одеваются, начинают
рассуждать, делаются либералами, мечтают о революции, которая
поставила бы их во главе дел, в особенности дел муниципальных. Иные, составив
огромное состояние, покупают имение, потом титул; один из них герцог.
Римский дворянин не может обойтись без этих людей: он не знает сам
крестьян - он не живет среди них; а если бы ему вздумалось сдавать аренду
прямо им, то он встретил бы против себя синдикат. У него нет ничего
общего с простым народом, и он не пользуется его любовью: в его глазах
• 265 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
он играет роль паразита. С другой стороны, он в дурных отношениях
и с mercante, так как чувствует, что тот его эксплуатирует. В свою очередь,
mercante в глазах крестьян представляется чем-то вроде необходимого
посредника. Все три класса разрозненны, и у общества нет естественной
власти.
Совсем не то в Романье, ставшей итальянской, где дворяне живут по
имениям. В Риме же, за исключением двух-трех округов, дворяне,
которые пожелали бы жить на своей земле, сами обрабатывать ее и взять
в свои руки экономическую и моральную власть в стране, встречают
теперь больше затруднений, нежели когда-либо. Прежде всего, не хватает
рук: наборы Виктора Эммануила взяли много жителей Абруцц, которые
приходили выполнять тяжелые работы; железные дороги привлекают
довольно значительное количество жителей города, а римская кампа-
нья почти лишена населения. Сверх того, дела здесь подчинены режиму
произвола: вывоз зерна не свободен; нужно специальное дозволение
аая всякой операции или предприятия, и вы получаете это разрешение
только сообразно со степенью вашего фавора. Правительство
вмешивается во все, вплоть до ваших личных дел. Например, арендатор или
фермер вам не платит; вы даете отсрочку на три месяца, по истечении
их - еще на три, и так далее. Наконец, выйдя из терпения, вы решаете
выселить его, но его племянник - каноник, и вот начальник округа
просит у вас новой отсрочки аая бедного человека. Проходит год, вы
посылаете судебного пристава, но тот останавливается на пороге, услышав,
что делом интересуется кардинал. Вы встречаете этого кардинала в свете;
он вас просит от имени папы оказать милосердие честному человеку,
который никогда не манкировал долгом говения и племянник которого
выделяется своими достоинствами в папской канцелярии.
Обыкновенно процедура такая: арендатор или крестьянин,
которого вызывают на суд, просит и получает много раз подряд отсрочку на
пятнадцать дней. Он попадает таким образом, наконец, на jene - дни
праздников Рождества, карнавала, Пасхи, Святого Петра, осени; среди
них есть такие, которые длятся два месяца. По случаю святости
момента он просит опять отсрочки, еще более продолжительной; судья дает
ему четыре месяца. Когда с этим кончено, он подает на апелляцию и
выигрывает еще много времени. Потом он обращается к uditore santissimo -
чиновнику, который получает решение от самого папы, всегда очень
милостивого к бедным и малым сим. Новая отсрочка. Потом он
заявляет, что его жена беременна и ее время приближается. Следует запреще-
•266·
ОБЩЕСТВО
ние посылать к нему судебных приставов; вы должны выжидать сорок
дней после родов. Сорок дней кончились; он передает дом
какому-нибудь несостоятельному приятелю, с правом остаться в нем в качестве
гостя. И вот вы принуждены начать против этого подставного лица всю
процедуру сначала, а если случайно оно носит тонзуру, вы обязаны
обратиться в трибунал кардинала-викария. Всего проще для вас заплатить
все издержки, отказаться от арендного договора и предложить еще
вашему должнику небольшую сумму, чтобы он убирался и шел начинать
все сначала в другом месте.
Один итальянский дворянин, которого я знаю лично, владеет
многими домами в Риме. Против одного из этих домов, на противоположной
стороне улицы, находится сад, принадлежащий женскому монастырю.
Игуменья заметила, что из третьего этажа можно видеть кусочек сада.
Следует предписание владельцу от кардинала-викария забить за свой счет
досками окна, предрасположенные провиниться. Я мог бы рассказать
еще много подобных придирок. Это может заставить возненавидеть
положение собственника...
Человек нуждается в деятельной работе, которая занимала бы его,
и в правильной юстиции, которая обуздывала бы его. Он подобен воде:
ему нужны склон почвы и плотина. Если этого нет, чистая, полезная,
работящая речка превращается в стоячее и вонючее болото. Здесь
церковный гнет преградил реке путь, а режим произвола постоянно прорывает
плотину - образовалось болото, и мы только что видели его
подробности. Если здесь встречается столько низости и нищеты, то это потому,
что отсутствует свободная деятельность и правильная юстиция. Мои
друзья предостерегают меня не судить об этом народе по его
теперешнему состоянию: глубина лучше, чем поверхность; нужно отличать то,
что он есть, от того, чем он может быть. Согласно их мнению, сил и ума
у него в избытке, и, чтобы убедить меня в этом, они завтра поведут меня
в окрестности и в предместья. Нужно, говорят они, видеть их, прежде
чем рассуждать о народе.
21 марта, кампанъя
Мы вышли из ворот Порта дель Пополо и пошли длинным пыльным
предместьем; там тоже есть развалины. Мы вошли направо в бывшую
виллу папы Юлия III [Вилла Лжулия], полузаброшенную. Толкаешь
источенную червями дверь и видишь перед собой изящный двор, вокруг
которого вьется портик, поддерживаемый четырехугольными колоннами
• 267 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
с коринфскими капителями; постройка уцелела благодаря крепости
своей старинной конструкции. Теперь это нечто вроде сарая,
приспособленного к домашним нуждам; крестьяне и парочки с засученными
рукавами шныряют взад и вперед. На краю старых каменных бассейнов -
белье, ожидающее валька; утка, стоя на одной ноге, глядит на пышное
кипение воды - проведенная сюда некогда с княжеской щедростью, она
льется и шумит, как в первые дни; вокруг колонн - тростниковые
плетни, груды камыша, навоз, скотина. Вот наследники Виньолы, Микеланд-
жело, Аннибале Каро, - ученых, воинственных, образованных
придворных, которые являлись сюда по вечерам беседовать с милостивым папой.
Налево большая лестница без ступеней, - нечто вроде подъема, по
которому можно ехать на лошади, - открывает свою глубокую перспективу
и красивые линии своих садов. Поднявшись наверх, мы отодвигаем
какую-то задвижку и находим лоджию; сюда папа приходил после ужина
побеседовать и подышать свежим воздухом - лицом к лицу с кампаньей,
широко раскинувшейся перед его взором. Лоджию поддерживают
колонны; на плафоне различаешь остатки расписных фанерок, на которых
выделялись, переплетаясь между собою, живые тела небольших фигур;
обширный балкон увеличивает место лля прогулки и дает еще более
обильный доступ свежему воздуху. Не может быть ничего величественнее,
ничего более отвечающего климату и способного удовлетворить
требования художника. Именно сюда нужно было приходить, чтобы
обсуждать проекты зданий или зарисовывать какую-нибудь группу. Папе
показывали эскизы, рисовали перед ним: этот человек, такой
свободомыслящий и такой любитель прекрасного, был рожден, чтобы понимать этих
людей. Теперь здесь нечто вроде амбара; перила балкона наполовину
обвалились, фанерки выпали, столбы во дворе потеряли свою облицовку
и обнажают булыжник, подправленный красным кирпичом. Только
колонны лоджии вытягивают еще вверх свои прекрасные стволы белого
мрамора. Два-три художника ютятся весной в этой руине.
Пыль крутится, и солнце томительно накаливает серую крышу
облаков; небо кажется оловянным; раздражающий лихорадочный сирокко
дует порывами. Показывается Понте Молле между четырех своих статуй;
сзади него - бедная харчевня, а затем тотчас же начинается пустыня.
Странное впечатление производят эти четыре поврежденные статуи,
силуэты которых вырисовываются в огромной, угрюмой пустоте,
образуя вход в гробницу целого народа. С обеих сторон моста катится и
извивается Тибр, желтый и неповоротливый, как большая змея. Ни одно-
•268·
ОБЩЕСТВО
Гробница Цецилии Метеллы в окрестностях Рима. Фотография 1860-х годов
го дерева на его берегах; ни домов, ни насаждений. Кое-где различаешь
груду кирпича, какой-то обломок, качающийся под шапкой растений,
и на склоне, в лощине, - безмолвное стадо буйволов с длинными рогами,
жующих жвачку Кусты и плохие, хилые растения укрываются во
впадинах холмов; по краям обрывов укроп распустил свой султан нежной
зелени. Но нигде нет настоящего дерева - вот черта, наводящая уныние.
Ложе потоков бороздит кое-где бледной белизной однообразное
зеленое пространство; бесполезные воды вьются по нему, полуобмелев, или
дремлют в лужах среди загнивших трав.
Насколько хватает глаз, со всех сторон пустыня зыблется холмами,
однообразно причудливыми, и долго ищешь в памяти, каким знакомым
формам могли бы отвечать эти странные очертания. Нигде не встречал
подобных, природа не создает таких: что-то явилось, как добавление к
природе, чтобы устроить этот беспорядок и нагромоздить эти обвалы; мягкие
или обрывистые их контуры - это черты человеческого творения,
которое обветшало и было затем уничтожено непрерывной атакой времени.
•269·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Представляешь себе древние разрушенные и засыпанные землей города -
гигантские кладбища, постепенно исчезавшие и наконец погребенные
под зеленью. Чувствуешь, что тут жило многолюдное население, что оно
подымало и обрабатывало землю, покрыло ее своими постройками и
культурами, но теперь от него ничего не осталось и самые следы его исчезли,
а трава и земля свершили поверх их новые роды, - и испытываешь
смутно-тревожное чувство, которые испытал бы на берегу глубокого моря,
если бы сквозь бездну неподвижных вод разгадал, как во сне, неясные
очертания огромного города, исчезнувшего в волнах.
Два или три раза подымаешься на пригорки, и когда созерцаешь
оттуда бесконечный простор, весь усеянный грудами и хаосом
погребальных ям, - чувствуешь, как сердце охватывает безнадежное уныние. Это
цирк - цирк на другой день после больших игр, безмолвный и ставший
могилой: резкая линия фиолетовых гор, крепкий барьер далеких скал
служат ему стеной; его украшения и мраморы погибли; от него уцелела
только эта ограда и почва, образовавшаяся из обломков человеческой
жизни. Здесь развертывалась в течение столетий самая кровавая и
самая великолепная из людских трагедий: все народы - галлы, испанцы,
латиняне, африканцы, германцы, азиаты доставляли аая нее своих
рекрутов и свои отряды гладиаторов. Тела этих бесчисленных мертвецов,
смешанные и забытые, рождают траву
Мимо проезжает верхом несколько крестьян, с ружьем на перевязи,
обутых в крепкие гетры; пастухи в своих бараньих шкурах мечтают о чем-
то, со взором блестящим и пустым. Приходим к воротам Порта Прима;
оборванные дети, маленькая девочка в лохмотьях, с грудью, голой до
самого живота, взбираются в экипаж, чтобы получить милостыню.
У Порта Прима идем смотреть новые раскопки. Это дом Ливии; тут
нашли шесть месяцев назад статую Августа: все это было совсем
засыпано. Какое нагромождение земли в Риме! Недавно, говорят, под одной
церковью нашли другую, а под той еще другую, предположительно
третьего века. Первая была разрушена во время какого-нибудь нашествия
варваров; когда жители вернулись, обломки образовали прочный
фундамент, и на стволах колонн были заложены основания второй церкви.
С нею случилось то же самое, и таким же образом была построена третья.
Уже Монтень упоминает в Риме церкви, засыпанные землей, крыша
которых была внизу под ногами на всю длину пики ландскнехта.
По пути видишь повсюду пласт чернозема - тот самый, который
обрабатывают люди. Из этого-то слоя вырастает все племя растений, живот-
• 270 ·
ОБЩЕСТВО
ных и людей; все живое возвращается в него, чтобы выйти вновь под
другим обликом; поверх всей инертной неорганической массы этот
назём есть единственная подвижная часть, которая нарастает и опадает,
вместе с приливом и отливом круговорота жизни. Без сомнения, нигде
в мире этот слой не был так ископан от верха до самого низа и так
разворочен, как здесь.
Спускаемся с факелами в подземные комнаты, поддерживаемые
подпорками; здесь сочится вода. Проводя факелом вдоль стен, видишь, как
появляются одни за другими прелестные орнаменты, птицы, зеленая
листва, гранатовые деревья, обремененные их красными плодами. Это еще
простой и суровый вкус здоровой древности - такой, каким его являют
Помпеи и Геркуланум.
Солнце садилось в сплошной бледный туман; тяжелый, слепящий
глаза ветер подымал порывами пыль; за этой двойной завесой лучи,
угрюмые, как кусок раскаленного железа, смутно погасали среди
картины бесконечного опустошения. На вершине одного обрыва виднелась
жалкая шаткая руина - акрополь Фиден, а на другом - черный
четырехугольник феодальной башни.
22 марта
Сегодня прогулка пешком во Фраскати; небо облачно, но солнце
прорезает местами тяжелый свод облаков.
По мере того как подымаешься по направлению к опустошенным
высотам Тускуланума, вид становится все более грандиозным и более
печальным. Бесконечная римская кампанья стелется и тянется,
подобно бесплодным ландам. К востоку встают щетиной резкие очертания
гор, над которыми висят грозовые тучи, на западе различаешь Остию
и едва заметное море - что-то вроде туманной пелены, белеющей, как
пар котла. На этом расстоянии и с этой высоты холмы, усеявшие
равнину, наполовину скрадываются: они похожи на слабую и широкую зыбь
угрюмого океана. Никаких культурных насаждений; бледная окраска
брошенных полей простирает, насколько хватает глаз, вдаль свои
стертые и тусклые тона. Большие облака испещряют ее своей тенью, и все
эти фиолетовые и черные полосы бороздят рыжий фон, как на ветхом
плаще пастуха.
Отвага и смелый язык, энергия, но без веселости, - у моего молодого
гида. Ему девятнадцать лет, он знает пять-шесть слов по-французски,
не работает и живет своим ремеслом чичероне, то есть несколькими
• 271 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
паолями, перехваченными по случаю. В его манерах - никакой
приятности, любезности или почтительности; он, скорее, угрюм и резок и дает
свои объяснения с суровостью дикаря. Но в качестве иностранцев мы
для него - богатые баре. Мне говорили, что эти люди по природе горды,
даже высокомерны, и стараются держаться со всеми на равной ноге.
В Риме, в каком-нибудь кафе, спустя три дня, гарсон, слыша, как
иностранец пробует свои первые итальянские фразы, измеряет его
взглядом, дает ему оценку и говорит громко в его присутствии: «Пошло на лад!
Он делает успехи».
Оставляем слева виллу Мондрагоне - громадную развалину,
увенчанную зыблющейся травой и мелким кустарником. Направо вилла Альдо-
брандини раскрывает свои аллеи колоссальных платанов и
подрубленных грабов, свои лестницы, балюстрады и террасы. При входе
прислоненный к горе портик, одетый колоннами и статуями, изливает волны
воды, которая поступает сюда сверху по лестнице каскадов, - вот
итальянский летний дворец, устроенный аая вельможи с классическими
вкусами, который чувствует природу по пейзажам Пуссена и Клода Лор-
рена. Внутренние залы имеют фресковую живопись - «Аполлон и девять
муз», «Вулкан и Циклоп в кузнице», много плафонов Кавалера д'Арпи-
но - «Ева и Адам», «Давид и Голиаф», «Юдифь» Доменикино, простая
и прекрасная. Невозможно рассматривать людей того времени как
принадлежащих к одной расе с нами. Это были мужики в рясах или без
рясы, люди действия, мастера на всякие авантюры, чувственные и
суеверные, с головой, полной телесных образов, которые в свободный час
представляли себе в мечтах тело своей любовницы или торс
какого-нибудь святого, слушали пересказ какой-нибудь истории из Библии или из
Тита Аивия, читали иногда Ариосто, не имели никакого критического
чувства и тонких вкусов и были свободны от миллиона сложных идей,
которыми нас обременяют наша литература и наше воспитание. В
истории Давида и Голиафа все нюансы аая них исчерпывались различными
движениями руки и разными положениями тела. Изобретательность
Кавалера д'Арпино ограничивается форсированием этого движения,
которое становится яростным, и этой позы, которая стала
искривленной. То, что интересует современного человека в чьем-нибудь лице -
выражение редкого и глубокого чувства, оригинальность, признаки
врожденной тонкости и превосходства, - все это никогда не
изображалось ими, за исключением одного только раннего искателя,
утонченного и брезгливого мыслителя, универсального и женственного гения -
• 272 ·
Пьяцца Бокка лелла Верита в Риме. Фотография 1890-х годов
Леонардо да Винчи. Эта Юдифь Доменикино - красивая крестьянка,
простая и здоровая, хорошо сложенная и хорошо написанная. Если вы
ищете сложных и экзальтированных переживаний добродетельной
женщины, из патриотизма и сострадания сделавшейся куртизанкой и
убийцей, которая возвращается домой с окровавленными руками, чувствуя,
может быть, под своим поясом дитя человека, которого она только что
зарезала, - ищите всего этого в другом месте, читайте драму Геббеля,
«Ченчи» Шелли, предложите эту тему какому-нибудь Делакруа или Ари
Шефферу.
Я укрепился в этой идее сегодня ночью, читая Вазари. Посмотрите,
например, на жизнь двух Цуккаро среди прочих. Это работники,
воспитавшиеся с десятилетнего возраста в мастерской, которые производят
как можно больше, ищут заказов и повторяют везде одни и те же сюжеты,
библейские или мифологические, - подвиги Геркулеса или сотворение
• 273 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
человека. Их ум не обременен диссертациями и теориями, как наш со
времен Дидро и Гёте. Когда им говорят о Геркулесе или о предвечном Отце,
они представляют себе большое тело с богатой мускулатурой, нагое или
задрапированное в коричневый или синий плащ. Точно так же все эти
князья, аббаты и частные лица, украшающие свои дома или церкви,
искали собственно зрелища для глаз. Они читали охотно новеллы Банделло
или описания Марино; но в общем литература тогда служила только
иллюстрацией к живописи. В наши дни - наоборот.
Мы поднялись на высоты древнего Тускуланума; там можно видеть
остатки виллы - виллы Цицерона, как уверяют, - бесформенные
остатки, груды разбитого кирпича, плохо раскопанный фундамент,
расколовшийся под влиянием зимней непогоды и проросших трав. Идя далее,
встречаешь стены древнего строения возле дороги, на краю обрыва. На
вершине находится маленький театр, где лежат обломки колонн. Эта
опустошенная гора, покрытая местами дроком и колючим кустарником, но
большей частью голая, где обломки скал прорывают тонкий слой земли,
сама является великой руиной. Человек здесь был - и исчез; это зрелище
кладбища. На вершине, на груде почерневшего песчаника, стоит крест;
ветер свистит и напевает заунывный псалом. Горы на юге, красноватые
от деревьев, которые еще не зеленеют, угрюмый мыс Монте Каво, цепь
пустынных высот под растрепанной шапкой желтоватых трав и совсем
внизу - римская кампанья, бурая под саваном разорванных облаков, -
все это кажется каким-то погребальным полем.
В обрызганных росою лесах, которые проходишь при спуске, цветут
белые и лиловые анемоны и барвинки, нежного и прелестного
лазурного цвета. Немного далее - аббатство Гротта Феррата, со своими
средневековыми зубцами, со своими старыми аркадами изящных колонн, со
своими сдержанными и строгими фресками Ломеникино, отвлекает
немного ум от этих похоронных грез. На обратном пути, во Фраскати,
шум бегущих вод, цветущие головы миндалей и боярышника в зеленом
ущелье гор, блеск молодых зреющих хлебов радуют сердце явлением
весны. Небо очистилось, и показалась пленительная лазурь, усеянная
маленькими белыми облачками, которые плавают, как голуби; на всем
протяжении пути круглые арки акведуков благородно развертываются
в сиянии.
И все-таки, даже под этим солнцем, все эти руины производят
тяжелое впечатление: они свидетельствуют о стольких бедствиях! Иногда это
какой-нибудь массив, изгрызенный от самого подножия, или какой-ни-
•274·
ОБЩЕСТВО
будь рухнувший свод; в другом месте - одинокая арка, кусок стены, три
засыпанных землею камня, лежащих рядом; можно подумать, что это
остатки моста, снесенного наводнением, или же все, что уцелело от
какого-нибудь города, разрушенного пожаром.
22 марта, народ
Когда хотят судить о римских крестьянах, нужно прежде всего
подчеркнуть, как главную их черту, пылкость характера - я хочу сказать,
склонность к действиям насильственным и опасным. Вот примеры.
Наш приятель Н., человек атлетического телосложения, смелого и
спокойного характера, живет в кампанье, в пяти или шести лье отсюда. По
его рассказам, в его деревне удар ножом - обыкновенное дело; из трех
братьев его слуги один - на каторге, а двое были убиты. В этой же
деревне однажды двое крестьян болтали и шутили между собой. У одного
из них был в петлице цветок - подарок его возлюбленной. Другой взял
этот цветок. «Отдай мне его», - сказал влюбленный; другой только
засмеялся в ответ. Влюбленный делается серьезным. «Отдай мне его сейчас
же!» Новый смех. Влюбленный хочет отнять цветок силой; тот
спасается; он его преследует, настигает и всаживает ему свой нож в спину, и не
раз, а двадцать раз, как мясник или сумасшедший. Гнев, вместе с кровью,
бросается им в голову, и они возвращаются мгновенно к первобытному
зверству.
Один офицер из нашего кружка передает нам подобные же случаи.
Два французских солдата гуляли вдоль Тибра; они видят человека из
простонародья, который хочет утопить собаку; они ему помешали, и
кулачные удары сыплются с обеих сторон. Человек зовет на помощь,
сбегаются соседи, и один подмастерье вонзает свой нож сзади в спину одного из
солдат, который падает бездыханный. Этот солдат был геркулесовского
сложения и силы, но удар был так верен, что пронзил ему сердце. Два
других солдата в кампанье заходят в огороженное место, похищают фиги
и бегут; хозяин, не будучи в состоянии их догнать, дает по ним два
ружейных выстрела, убивает одного и раздробляет ногу другому. Это
настоящие дикари; они позволяют себе по всякому поводу прибегать к праву
войны и использовать его до предела.
Наш друг N. попытался уничтожить в своей деревне некоторые
жестокие обычаи. Там убивают каждую неделю быка или корову; но
прежде, чем покончить с несчастным животным, его отдают детям и
молодежи, которые выкалывают ему глаза, раскладывают огонь под брюхом,
• 275 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
отрезают ему губы, режут его по кусочкам и терзают - это для того,
чтобы доставить себе удовольствие видеть его бешенство: они любят
сильные ощущения. Н. пытается их вразумить, идет искать приходского
священника, обращается ко всем и каждому Чтобы задеть их за живое,
он приводит им позитивные доводы: «Мясо, так разгоряченное, не будет
хорошо». - «А нам какое дело? Мы слишком бедны: мы его не едим».
Однажды он встретил одного крестьянина, который осыпал своего осла
ударами; он говорит ему: «Оставьте же наконец в покое это бедное
животное». Крестьянин бросает ему в ответ scherzo, терпкую и
тяжеловесную римскую шутку: «А я и не знал, что у моего осла есть в этой
деревне родственники...» Все это проявления желчного темперамента, острых
страстей, возбуждаемых климатом, и первобытной силы, которая не
находит себе применения.
Маркиза С. рассказывает нам, что она не живет в своем поместье:
там чувствуешь себя слишком одиноко и крестьяне слишком «злы».
Я переспрашиваю; она настаивает на этом выражении, и ее муж
также. Такой-то сапожник убил своего товарища ударом ножа в спину и
после года каторги вернулся в деревню, где живет припеваючи. Другой убил
ударом ножа свою беременную жену. Их приговаривают к каторге,
иногда даже пожизненно; но несколько раз в год папа жалует сокращение
наказаний, и если имеют какую-нибудь протекцию, то выходят с
каторги, в случае убийства, после двух-трех лет. Ла и на каторге вовсе не так
уж плохо: там научаются ремеслу, а по возвращении в деревню не
чувствуют себя опозоренными - напротив, внушают еще страх к себе, что
всегда полезно.
Я вспоминаю, как параллель, два случая, которые мне рассказывали
на испанской границе. Во время боя быков одна красивая
дама-испанка видит возле себя француженку, которая закрыла лицо руками при
виде лошади с распоротым брюхом, шагающей в своих внутренностях.
Она пожимает плечами и произносит вслух: «Размазня!» Один
испанский эмигрант убил купца, не запачкав своего платья ни одной каплей
крови. Председатель суда сказал ему: «По-видимому, вы специалист в
делах убийства?» Тот отвечает с высокомерием: «А вы разве пачкаетесь
вашими чернилами?» Три или четыре подобных факта обличают
человеческую разновидность, нам совершенно не известную. У этих
некультурных людей, воображение которых интенсивно, а тело истомлено
трудом, сила внутренних порывов ужасна и взрыв их внезапен.
Новейшие идеи человечности, самообуздания, справедливости еще не дошли
•276·
ОБЩЕСТВО
до них, чтобы притупить их столкновения и сдержать удары. Они
остались такими же, как в Средние века.
Правительство никогда не пыталось цивилизовать их и спрашивало
с них только налоги да свидетельства об исповеди; во всем остальном
оно предоставляло их самих себе; более того - демонстрировало перед
ними, как пример, режим фаворитизма. Откуда же могла бы у них
взяться хотя бы идея равенства, когда они видели только
всемогущество протекции над частным правом и общественными интересом? Здесь
в ходу одна вольная поговорка, которую я привожу в смягченном виде:
«Красота женщины сильнее сотни буйволов». Около деревни г-на Н.
находился лес, полезный аая края, который начали вырубать; одно его
преосвященство запустило руку в барыши, и все жалобы нашего друга
остались тщетными. Зрелище милуемых преступников и
административного плутовства показывает населению правительство как существо
сильное, с которым нужно жить в мире, а общественную жизнь - как
битву, в которой нужно защищаться. Что до религии, то их
итальянское воображение поднимает в ней только обрядовую сторону:
небесные власти, как власти земные, суть аая них особы, внушающие страх,
гнева которых избегают посредством коленопреклонений и
жертвоприношений, - и ничего более. Проходя перед распятием, они творят
крестное знамение и бормочут молитву, а в двадцати шагах, когда
Христос их уже не видит, начинают богохульствовать. При подобном
воспитании можно себе представить, есть ли у них чувство чести и могут
ли они считать себя, в деле присяги например, обязанными к
чему-либо? Американские индейцы считают за честь уметь хитрить и
обманывать врага, также и эти люди находят вполне естественным обманывать
суд. Во время войны чистосердечие есть глупость; зачем я буду давать
оружие против меня тому, кто идет с оружием на меня? Н., с
пистолетом в руке, спас корову, которую хотели замучить. Несколько дней
спустя, вечером, когда он находился на пороге своего дома, он услышал,
как крупный камень просвистел над его головой. Он бросается, хватает
какого-то человека и бьет его - это оказался не тот. Он идет дальше и
видит двух братьев; старший, бросивший камень, багровеет, схватывает
свое ружье и прицеливается Н. в щеку. Н. хватает в охапку младшего
и подставляет его вместо щита; тот, в то время как его держат и
ворочают атлетические руки, так что он не может пошевелиться, скрежещет
зубами и кричит брату: «Стреляй, стреляй же!» Является слуга Н.с
ружьем, и оба негодяя убегают. Наш друг подает на них жалобу, четыре
•277·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
свидетеля, в том числе патер, все - очевидцы дела, клянутся, что не
видели человека, бросившего камень. Тогда Н., придя в отчаяние и будучи
вынужден заставить уважать и бояться себя, чтобы иметь возможность
жить в деревне, дает пиастр одному соседу, который ничего не видел,
и этот указывает под присягой негодяя, нанесшего удар. Точно таким же
способом, и даже еще легче, в Бенгалии находятся двадцать
лжесвидетелей за и против для одного и того же дела. Соседи клянутся и
присягают из любезности одни за других. Одни и те же причины
поддерживают в обеих странах одинаковую лживость. Так как уже издавна судья
перестал быть справедливым, то перед ним говорят не как перед судьей,
а как перед врагом.
С другой стороны, эти лживые, жестокие и свирепые, как дикари,
люди и выносливы, как дикари. Больные и раненые, со сломанной ногой
или получив удар ножа, они сидят, завернувшись в свой плащ, молча, без
жалобы, сосредоточенно и неподвижно, подобно страдающим
животным, и смотрят только на вас пристальным и печальным взглядом. Это
потому, что их обыденная жизнь тяжела, и они привыкли к труду; они
едят только поленту, и нужно видеть их лохмотья. Деревни здесь
разбросаны, и люди вынуждены преодолевать много миль, иногда до трех
лье, чтобы попасть на свое поле. Но освободите их от этого боевого
положения и вечной напряженности - и благородная основа, богатая
природа, щедро одаренная удачным подбором способностей,
обнаруживаются без усилий. Они делаются преданными, когда с ними обращаются
хорошо. По мнению г-на Н., иностранец, действующий лояльно,
встречает и в них лояльность. Герцог Г., который командовал в течение
тридцати лет составленным им отрядом пожарных, не может достаточно
нахвалиться ими. По терпению, силе, смелости, по воинскому
самоотвержению он сравнивает их с древними римлянами. Его люди
чувствуют, что к ним относятся с уважением, обращаются с ними как с
равными, что они призваны к мужественной работе, и они отдают себя всецело
и всем сердцем. Достаточно только поглядеть на улице или в
окрестностях на лица крестьян и монахов: понятливость и энергия так и
светятся в них; невозможно не поверить, что мозг здесь полон сил и человек
вполне закончен. Стендаль, бывший чиновником первой империи,
рассказывает, что когда Рим и Гамбург были французскими
префектурами, туда были посланы административные таблицы с руководящими
примечаниями, очень сложными и кропотливыми, по части
таможенной службы и регистратуры. Гамбуржцам понадобилось шесть недель,
•278·
ОБЩЕСТВО
чтобы понять и научиться хорошо применять их; римлянам - три дня.
Скульпторы утверждают, что, раздетые, они производят впечатление
здоровых и крепких телом, как древние, тогда как по ту сторону гор
мускулы дряблы и безобразны. В конце концов начинаешь верить в самом
деле, что эти люди - древние римляне Папирия Курсора или граждане
грозных средневековых республик, наиболее одаренные среди людей,
наиболее способные к изобретению и к деятельности, которые только
опустились теперь до рясы, ливреи и лохмотьев и употребляют свои
великие дарования на то, чтобы петь молебны, интриговать,
нищенствовать и портить себя.
Но среди болота заметно еще движение живой воды: когда они
могут развернуться свободно, их расцвет прекрасен; среди
искусственных или грубых нравов нетронутая натура, давшая некогда
божественные впечатления великим художникам, раскрывает себя в энтузиазме
и восторгах. У одного нашего знакомого, немца-доктора, есть служанка -
красивая девушка, влюбленная в некоего Франческо, работающего на
железной дороге за четыре паоля в день. У него ничего нет, у нее тоже;
они не могут пожениться: им нужно сто экю, чтобы обзавестись своим
хозяйством. Он - порядочный плут, некрасив и имеет к ней лишь
умеренную склонность; но она знала его с детства и любит его уже восемь
лет. Когда она не видит его три дня, она перестает есть; наш доктор
вынужден удерживать у себя ее жалованье - иначе она отдала бы ему все
свои деньги. Между тем она так же благоразумна, как честна; она
сильна прелестью своего чувства и говорит свободно о своей любви. Я
спрашивал ее о Франческо. Она улыбается, незаметно краснеет; ее лицо
начинает сиять, она чувствует себя на небесах; нельзя представить себе
ничего прелестнее и грациознее, чем это одухотворенное итальянское
лицо, озаренное чувством столь самоотверженным, столь
могущественным и чистым. Она одета в свое прекрасное римское платье, и ее
голова обрамлена красным воскресным головным убором. Какая богатая
природа, сколько тонкости, силы и какой порыв чувства в подобной
душе! Какой контраст, если вспомнить тупые лица наших крестьянок
и разбитные физиономии наших гризеток!
Теперь я коснусь трудного пункта. Я хочу его коснуться, потому что
мы не трибуны, заранее наметившие свои политические аргументы, а
натуралисты, свободные от предубеждений и обязательств и занятые лишь
наблюдением над делами и чувствами людей, так же как мы это делаем
относительно инстинктов, построек и нравов пчел или муравьев.
• 279 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Итальянцы они или паписты? По мнению моих друзей, всякий
определенный ответ на это затруднителен: эти люди слишком
невежественны, слишком прикреплены к земле, слишком погружены в свои
деревенские интересы и вражду, чтобы иметь мнение в подобных вопросах.
Тем не менее можно предположить, что ими управляет в этом
отношении, как и в других, сила воображения и привычки. Во время своего
последнего путешествия папа был приветствуем народом; вокруг его
кареты теснилась толпа; он стар, его лицо благосклонно и красиво, и его вид
производит на эти дикие и пламенные души то же самое впечатление,
что статуя святого, - его особа и одеяния кажутся им полными
отпущения грехов, и они стремятся прикоснуться к нему, как они это делают со
статуей святого Петра. Наконец, правительство не теснит их, по
крайней мере заметным образом; все строгости существуют лишь аая
интеллигентных классов; враг - это человек, который читает или был в
университете; остальных щадят. Конечно, крестьянин может попасть в тюрьму
на восемь дней за то, что ел скоромное в пост, но, по своему суеверию,
он и не имеет охоты пренебрегать обрядностью. Конечно, он должен
также выправлять свое исповедальное свидетельство; но у него нет
отвращения к тому, чтобы еще раз рассказать живо и страстно все свои
делишки в ящике черного дерева. К тому же в городе есть люди,
сделавшие своим ремеслом исповедь и причастие, - они запасаются таким
образом свидетельствами, которые продают за два паоля. Далее, прямые
налоги необременительны; феодальные права отменены кардиналом
Консальви; рекрутских наборов не существует; полиция, очень
небрежная, терпит мелкие нарушения закона и уличную свободу. Если даже
хватишь врага ножом, то скоро получаешь помилование, и не нужно
бояться эшафота - этого непоправимого обстоятельства, которое наводит
ужас на южное воображение. Наконец, охота дозволена круглый год,
билет на оружие почти ничего не стоит; ни одно владение не состоит
под запретом, кроме огороженных стеной. Можно вообще делать
свободно что угодно, под одним только условием - не рассуждать о политике,
о которой никто не заботится и ничего не слышно. Поэтому в Романье,
со времени прихода пьемонтцев, между крестьянами встречается много
недовольных: рекрутство кажется им тяжелым, налоги
обременительными; они чувствуют стеснение от многих новых правил - так,
например, им запрещают сушить белье на улицах; их подчинили
требовательной полиции и всем повинностям заальпийских стран. Современная
жизнь требует усидчивого труда, многих жертв, активного внимания,
• 280·
ОБЩЕСТВО
постоянной находчивости; нужно ставить себе цели, делать усилия,
обогащаться, учиться и предпринимать. Подобные перемены не происходят
без судорог и приступов. Думаете ли вы, что человек, который лежал
десять лет, хотя бы на грязной и полной паразитов простыне, будет
доволен, если его внезапно поднимут и заставят пользоваться своими
ногами? Он не замедлит заворчать, он станет жалеть о своем бездействии, он
захочет снова лечь, он не будет знать, что делать со своими членами. Но
дайте ему время, заставьте его почувствовать удовольствие двигаться,
иметь чистое белье, заткнуть дыры в своей лачуге, расставить в ней
мебель, заработанную своим трудом, к которой никто, ни сосед, ни
чиновник, не посмеют протянуть лапу, - и он примирится с собственностью,
благосостоянием, свободной деятельностью, которые в первые минуты
почувствовал только со стороны стеснений, не понимая их преимуществ
и достоинства. Даже в той же Романье рабочие уже либералы; в Риме
в 1849 году много лавочников и мелких буржуа шли с ружьем на
укрепления и храбро сражались. Пусть крестьяне сделаются
собственниками - и они будут того же образа мыслей. Имущество, которое можно им
раздать, - под руками: перед последними событиями белое и черное
духовенство церковного государства владело собственностью на 535
миллионов - вдвое больше, чем в конце прошлого столетия, вдвое больше, чем
сейчас французское духовенство.
Итальянское правительство распродаст его, как оно уже сделало это
в остальной Италии. Это послужит могучим рычагом. Римский
крестьянин, как французский после 1789 года, примется обрабатывать, удабри-
вать и улучшать свою землю, округлять и расширять ее; он станет
копить деньгу, чтобы продвинуться повыше, он захочет сделать из своего
сына адвоката, выдать дочь замуж за чиновника, сделаться самому
рантье; он выучится читать и считать; будет держать свод законов на своем
столе, начнет читать газету, будет покупать облигации, велит выбелить
и поправить свою лачужку и привезет туда кое-какую старую мебель из
города. Откройте запруду, и вода тотчас же хлынет; сделайте
возможными приобретение и благосостояние, и очень скоро люди захотят
приобретать и наслаждаться жизнью. Особенно же не забудьте каторги аая
воров и эшафота аая убийц; под властью беспристрастной и строгой
юстиции человек, скорее всего, поймет, что единственная благоразумная
прибыль есть прибыль честная, и пойдет по прямой дороге, между
барьерами закона, безвредный, охраняемый и приносящий пользу.
• 281 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
23 марта, правительство
Я не берусь делать далекие предсказания. Политика не мое дело,
особенно политика будущего, - эта наука слишком сложная; кроме того,
чтобы высказать какое-нибудь суждение, нужно глубокое изучение и
гораздо более долгое пребывание. Поговорим только о том, что на виду,
например, о правительстве.
Здесь только и говорят, что о нем. Я ни разу не беседовал ни с одним
итальянцем без того, чтобы разговор не обратился бы тотчас же к
политике, - это их страсть. Они сознаются сами, что за последние пятьдесят
лет поэзия, литература, наука, история, философия, религия, все
интересы и все создания их духа отмечены ее влиянием. В глубинах какой-
нибудь трагедии или метафизики ищите скрытую мысль автора, и вы
увидите, что он хотел только проповедовать республику или монархию,
федерацию или единство.
Они говорят, что французская оккупация сделала правительство
худшим, нежели когда-либо. Прежде оно держалось еще некоторой
осторожности и останавливалось на полпути в своих несправедливостях;
теперь, опираясь на гарнизон в восемнадцать тысяч человек, оно уже
не боится недовольных. Поэтому никто не сомневается, что день ухода
французов будет последним днем папского владычества.
Я стараюсь получить точное определение пределов распространения
этой притеснительной власти. Она не жестока, не свирепа, как власть
неаполитанских королей; на юге старая испанская тирания создала
привычку к жестокости - ничего такого нет в Риме. Здесь не хватают
человека внезапно, чтобы бросить его на дно глубокой ямы, выливать
на него каждое утро ведро ледяной воды, пытать и доводить до безумия.
Но если он либерал и на дурном счету, то к нему является полиция,
захватывает его бумаги, делает обыск и уводит его за собой. Через пять
или шесть дней его допрашивает своего рода судебный следователь; за
этим следуют новые допросы, дело вырастает в целую кипу, которая,
после долгой волокиты, переходит в руки судей в собственном смысле.
Эти последние изучают ее не менее длительно: такой-то оставался в
предварительном заключении три месяца, другой - шесть месяцев.
Начинается процесс; он считается публичным, но вовсе не таков: публика
остается за дверями, допускают только трех или четырех зрителей - людей
известных и верных, которые входят по билетам. В то же время
полиция использует разные несчастные случаи. Например, дней пятнадцать
назад, в семь часов вечера, в двух шагах от Корсо, убили двух людей
•282·
ОБЩЕСТВО
в их карете и похитили у них 10 тысяч пиастров; полиция не нашла
виновных, но воспользовалась этим преступлением, чтобы посадить на
время несколько либералов за решетку. Всякий слышал о недавнем
процессе, документы которого были похищены римским комитетом.
Главным свидетелем со стороны обвинения была публичная женщина; она
обличала не только людей, бывших у нее, но даже таких, которые
никогда ее не видели. В это дело был замешан один молодой человек, имя
которого мне называют; его арестовали ночью, судили тайно и
приговорили к пяти годам тюрьмы, а он давал клятву своему брату, в
интимной с ним беседе, что он невиновен. Законы еще довольно сносны, но
их портит произвол, проникающий в наказания, как и в милости;
поэтому никто не доверяет правосудию, не хочет быть свидетелем на суде, не
чувствует отвращения к ножевой расправе, не считает себя в
безопасности от доносов и не уверен, что заснет завтра в своей комнате и на
своей постели.
Что касается денег, то конфискаций опасаться не приходится, но они
заменены мелкими придирками. Маркиз А. владеет большим поместьем
около Орвьето; его предки основали деревню. Местные жители с
разрешения специального монсиньора вводят новый налог на собственность,
и маркизу А. приходится платить его. С разрешения другого
монсиньора, они устраивают ему процесс по поводу одного земельного участка;
если они выиграют - он заплатит; если же они проиграют - платить
будет все-таки он, так как вся земля принадлежит ему и издержки
общины покрываются из его имущества. Нужно быть в дружбе с
правительством, чтобы получать свои доходы; без этого рискуешь, что твой
фермер будет глух к твоим требованиям. Тысячами этих мелких пут личного
интереса правительство держит в руках и поддерживает собственников
и дворянство.
Аюди среднего класса - адвокаты, врачи - связаны теми же путами:
их профессия ставит их в зависимость от жирной папской котерии. Если
они зарекомендуют себя либералами, они потеряют свою лучшую
клиентуру. Кроме того, все публичные просветительные учреждения
находятся в руках духовенства; в Риме нет ни одной светской гимназии или
пансиона. Наконец, сосчитайте всех, имеющих покровительство, -
протежируемых нищих, мелких служащих, обладателей синекур или
кандидатов на них, - все эти люди послушны и блистают своим усердием:
их насущный хлеб зависит от этого. Перед вами - иерархическая
лестница согбенных, благоразумных фигур, которые сдержанно улыбаются
• 283 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
и, когда нужно, испускают от души приветственные крики. Граф Ц.
сказал: «Здесь поступают, как в Китае, - не отрубают свирепо ног, а
закутывают и обезображивают их повязками так хорошо, что делают
неспособными ходить».
Иначе и не может быть, и вот где можно удивляться логике вещей.
Духовное правительство не может быть либеральным. Отдельное
духовное лицо еще может быть таким: его окружает светская среда, его
теснят положительные науки, мирские интересы изменяют природное
направление его ума. Но удалите от него все эти влияния, предоставьте
его самому себе, окружите другими духовными лицами, отдайте в его
руки управление людьми, и он возвратится, как Пий VI, как Пий IX,
к догматам своего положения и последует невольному тяготению,
свойственному его роли. Ибо, будучи священником, особенно же будучи
папой, он обладает абсолютной и полной истиной. Он не принужден,
подобно нам, ожидать медленно накапливаемых идей и будущих
открытий всего человечества: истина пребывает вся целиком в нем и в его
предшественниках. Ее принципы установлены традицией, возвещены
папскими грамотами, подтверждены энцикликами, детализированы
теологическими «Суммами» и применены к практике, вплоть до
мельчайших подробностей, предписаниями канонистов и спорами казуистов.
Не существует ни одной идеи, ни одного человеческого поступка,
общественного или частного, которые не были бы определены,
классифицированы, охарактеризованы в толстых книгах, которых папа
является оберегателем и преемником. Более того, это знание - живое: раз
оно вошло в его сознание и возвещено его словом - все сомнения
должны отпасть. Сам Бог дает свое решение в нем и через него;
противоречие здесь уже бунт, а бунт - святотатство. Поэтому, в его глазах, первая
обязанность есть повиновение: исследование, личное мнение,
привычка к инициативе - уже грехи. Человек должен позволить вести себя
и довериться, подобно маленькому ребенку; его разум и его воля не
принадлежат более ему, а другому, ниспосланному свыше аая этого
служения, - этот другой есть «распорядитель». В самом деле, это есть
истинное имя католического священника, и эту именно роль наметило аая
себя и к ней стремится правительство Рима. На этом условии оно может
быть и снисходительным, оказывать маленькие услуги, прощать
человеческие слабости, терпеть мирские страсти, допускать «шалости».
Оно чувствует вообще отвращение к насилию, особенно к насилию
открытому; оно любит умильные слова и мягкие приемы; оно не угрожает,
•284·
ОБЩЕСТВО
а предостерегает и увещевает. Оно простирает над грешниками, как
пышный плащ на вате, свои закругленные аффектированные периоды:
оно охотно распространяется о своем милосердном сердце, о своих
отеческих недрах. Но есть один пункт, где оно не идет ни на какие сделки:
это покорность ума и сердца. Вооруженное этим повиновением, оно
выступает за границы теологической области и вторгается в частную жизнь,
определяет личные призвания, руководит браками, выбирает
профессии, заведует служебными передвижениями, управляет завещаниями
и всем прочим.
Поэтому же и в общественных делах оно тщательно старается
удалять от людей опасный соблазн действия. В Риме, например, оно
назначает муниципальных советников, которые пополняют состав
городского совета, присоединяя к нему еще других по своему выбору; но эти
новые лица должны так же получить одобрение от папы, так что,
собственно говоря, все должностные лица получают свое назначение по
его выбору. То же и в других родах службы: один монсеньор заведует
госпиталями, другой наблюдает за театрами и удлиняет юбки
танцовщиц. Что до системы управления, то стараются придерживаться,
насколько только возможно, избитой колеи. Политическая экономия есть
наука вредная, современная, слишком пекущаяся о материальном
благосостоянии. Уничтожают или вводят новые налоги на предметы
очевидно доходные, не заботясь о том незаметном обеднении, которое
вследствие того распространяется в стране. За лошадь платится 5% со 100%
при каждой продаже. За скот уплачивается на пастбище и, сверх того,
28 франков с головы на рынке - круглым счетом от 20 до 30% его
стоимости; за рыбу платится 18% с продажной цены; за хлеб, собранный
с agro готапо [римского поля], платится почти 22%. Прибавьте к этому,
что поземельный налог нелегок; я знаю одно имение, дающее 33 тысячи
экю в год, с которого платится от 5 до 6 тысяч экю налога. Наконец
делаются займы. Все это вполне в духе традиций и финансового
управления двух последних столетий. Лело идет о том, чтобы жить, как и живут,
со дня на день. Особенные старания прилагаются к тому, чтобы ничего
не менять в раз заведенном порядке; нововведения наводят ужас на
старых людей, напуганных современным духом. Один из моих друзей,
путешествовавший по Мексике, сказал папе: «Святейший отец,
поддержите нового императора, повелите духовенству заключить мир и
подчиниться - иначе империя погибнет, американцы-протестанты захватят
и колонизируют ее, и эта великая страна будет потеряна лля католической
•285 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
веры». Папа, казалось, понял но вот непреоборимый гнет традиций
заставляет его публично выступить против единственного учреждения,
способного продлить существование в Северной Америке религии,
которой он сам является главой.
Итак: длить свое существование, мешать, охранять, выжидать,
заглушать - вот их мудрость; если искать еще какой-нибудь характерной
черты, то ее дает дух церковной организации. Священник связан обетом
безбрачия, поэтому грехи против целомудрия занимают его более всех
других. В нашей светской морали первое требование есть долг чести, то
есть обязанность быть смелым и честным. Здесь же вся мораль вертится
вокруг идеи пола; дело идет о том, чтобы сберечь душу в ее
первоначальной невинности и неведении, или, по крайней мере, защитить ее от
чувственности посредством отречения и умерщвления плоти, или же, наконец,
помешать открытому скандалу. В этом отношении здешняя полиция
строга; вечером на улицах нет ни одной женщины; дела обделываются
под сурдинку, и командир французского отряда должен был
обменяться со специальным монсиньором презабавными нотами. Внешнее
благоприличие поддерживается всякой ценой, и еще какой! Недавно
одна несчастная девушка, имевшая интригу, была схвачена, заперта в
исправительный дом, и ей объявили, что это на всю жизнь. «Неужели нет
никакого средства выйти отсюда?» - «Нужно найти кого-нибудь, кто
женился бы на вас». Она посылает отыскать старого негодяя, который
бесплодно ухаживал за ней; этот проходимец женится и месяц спустя
эксплуатирует ее, как обыкновенно, но декорум соблюден. Один из моих
друзей называет мне по имени молодую девушку, которую соблазнил
рабочий; она хотела во что бы то ни стало кормить сама своего ребенка;
священник послал к ней жандармов, ребенка отняли силой и поместили
в приют аая найденышей. Ваш священник имеет право вмешиваться во
все ваши дела; он может запретить вам держать молодую служанку, если
вы не женаты; он вправе запретить вам посещать молодых девушек и
замужних женщин, если он подозревает какую-нибудь интригу; он
вправе изгнать из своего прихода женщин, поведение которых кажется ему
сомнительным; он может потребовать от кардинала-викария изгнания
какой-нибудь актрисы или танцовщицы; он имеет жандармов в своем
распоряжении и отдает отчет только кардиналу-викарию. Римлянину
невозможно жить в Риме, если он не в ладах со своим священником; без
свидетельства от падре не дадут ни паспорта, ни охотничьего билета; он
присматривает за вашими нравами, вашими мнениями, вашими разго-
•286·
ОБЩЕСТВО
ворами, вашим чтением: это полиция, которая следит за вами по пятам.
Избегать шума, навести на человеческую жизнь политуру
корректности, поддерживать исполнение обрядностей, не встречать
противоречий, пребывать в традиционном состоянии и вне всяких споров, иметь
абсолютную власть в царстве духа и в земных делах благодаря силе
воображения и привычки - к этому стремятся и к этому сводятся все их
претензии. Совершенно очевидно, что требования такого рода рождаются
не из минутного настроения, а из самого существа учреждений и их духа.
Светская власть в руках духовенства и не может быть иной: она сама
собою приводит к деспотизму - кроткому, мелочному, инертному,
благопристойному, монашескому, непреодолимому, - как растение
заканчивается цветком.
22 марта, религия
Я читаю каждое утро с живейшим удовольствием «Eunità cattolica».
Это поучительная газета - в ней видишь ясно чувства, именуемые в
Италии религиозными и католическими.
Одна либеральная газета предложила итальянским дамам посылать
свои кольца Гарибальди, по случаю его именин; какое оскорбление аая
святого Иосифа, который имеет несчастье быть патроном этого
разбойника! В виде компенсации «Uunità» просит у дам их кольца аая
папы, ибо папа есть глава Церкви, а Церковь представляет собою
мистически свойство, которое должно быть очень дорого женщинам, -
материнство; такой аргумент, конечно, неотразим. Другая газета называет
папу великим нищим (il gran mendico). Целый месяц я читаю список
приношений, помещаемый в начале первой страницы. Их очень много;
считают, что папа получает таким путем два миллиона пиастров
ежегодно. Обыкновенно жертвуют ради какой-нибудь милости, уже
полученной или еще ожидаемой, и не только духовной, но и мирской, и
жертвователи, посылая свое приношение, просят благословения святого отца
«аая важного дела».
На папу смотрят, видимо, как на влиятельную особу - нечто вроде
первого министра при божественном дворе. Часто даже иерархия
бывает выражена отчетливо: проситель обращается сперва к Иисусу Христу
после Бога Отца, потом к Деве Марии или к такому-то святому после
Иисуса Христа и, наконец, к папе после святых, Девы Марии и Иисуса
Христа. Это три ступени небесной юрисдикции. Папа представляется
им доверенным лицом властителей того мира, на которого возложено
• 287·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
управление здешним и который облечен всею полнотою власти; все
сношения должны производиться через его посредство, и он дает
рекомендацию просьбам. Набожный итальянец хранит еще идеи, которые
нашел царившими здесь Лютер три века назад, - он делает
отчетливыми и очеловечивает все религиозные концепции. В его глазах Бог есть
царь, а во всякой монархии до государя достигают через посредство
министров, в особенности же через родню, домашних и слуг.
Поэтому значение Пресвятой Девы стало громадным. Поистине Она
здесь - третье лицо Троицы и заступает место Святого Луха, который,
за отсутствием материального образа, неясен аая народа. Аая людей, не
представляющих себе небесных сил иначе как имеющими телесный
облик, что может быть привлекательнее и милосерднее женщины? И кто
может быть могущественнее и влиятельнее женщины столь любимой,
возле столь доброго Сына? Я перелистывал сейчас «La Vergine» -
сборник стихов и прозы, издаваемый еженедельно в честь Левы Марии.
Первая статья рассуждает о посещении Богоматерью святой Елизаветы и о
вероятной его продолжительности. В конце находится сонет об ангеле,
который, найдя Марию столь прекрасной, с трудом возвратился на Небо.
У меня нет под руками текста, но я ручаюсь за его смысл, и подобный
журнал находит себе место на столе светских людей. Мне сейчас купили
«Il Mese di Maria» («Месяц Марии») - очень распространенную
маленькую книжку, которая характеризует тон римского благочестия. Это
наставления аая каждого дня «Месяца Марии», с практическими
указаниями и молитвами, которые именуются «цветами», «гирляндами» и
«духовными венками». «Кто может сомневаться в том, что Пресвятая Лева,
столь щедрая, столь великодушная, сохранит между столькими венцами
славы, которые находятся в ее распоряжении, один для того, кто с
неутомимым постоянством служил ей приношением этих венков?» Далее
следуют коротенькие стихотворения и тридцать историй в качестве
аргументов. «Один юный отрок, по имени Эсквильо, которому было не
более двенадцати лет, вел жизнь весьма преступную и порочную. Бог,
желавший обратить его к Себе, наслал на него тяжелую болезнь, так что,
отчаявшись за свою жизнь, он с минуты на минуту ожидал кончины.
Между тем как он лежал без чувств и его считали уже умершим, он был
ввержен в комнату, полную огня; стараясь избежать пламени, он увидел
дверь, бросившись в которую, попал в зал, где нашел Царицу Небесную
со многими святыми, составлявшими Ее свиту. Эсквильо тотчас же
бросился к Ее ногам; но Она строгим взором оттолкнула его далеко от себя
•288·
ОБЩЕСТВО
и приказала, чтобы его снова бросили в огонь. Несчастный стал взывать
к святым, но эти послелние услыхали от Марии в ответ, что Эсквильо
был великим злолеем и что он даже никогда не читал Ave Maria. Святые
снова заступаются, говоря, что он переменит свое поведение, а
Эсквильо, охваченный ужасом, дает обет посвятить себя всецело Святому Луху
и служить ему всю свою жизнь. Тогда Пресвятая Лева, сделав ему
строгое внушение, увещевает его искупить свои грехи раскаянием и
сдержать свое обещание, а затем отменяет отданное ею приказание бросить
его в огонь». Два молодых человека катались на лодке по реке По; один
из них прочитал молитву Мадонне, другой же отказался сделать это,
говоря, что сегодня - день отдыха. Лодка опрокинулась, и оба стали
взывать к Пресвятой Леве; она является, берет за руку первого и говорит
второму: «Так как ты не считал себя обязанным почитать Меня, то и Я не
обязана спасать тебя». И он утонул. Один юный вольнодумец похитил
перо, которым заносились в реестр имена верных, присоединившихся
к обществу Левы Марии. Он взял его, чтобы написать любовную записку, -
и вдруг получил сильнейшую пощечину, не видя руки, которая его
поразила. В то же время он услыхал следующие слова: «Нечестивец, ты
смеешь марать вещь, посвященную Мне?» Он упал на землю, а щека его
оставалась распухшей в течение многих дней... Я пропускаю другие,
столь же удивительные истории. Подобными-то повествованиями
питаются здесь умы женщин и даже великосветских дам. Им рассказывают,
что когда святая Тереза, прервав писание письма, пошла прогуляться в сад,
пришел Иисус Христос и кончил за нее письмо. Мужья получили
подобное же воспитание, а печать, наложенная воспитанием, никогда не
стирается, и я видел между ними очень развитых, которые не находили
ничего достойного порицания в этих россказнях и маленьких книжках.
К тому же многие из кажущихся свободомыслящими следуют за толпой.
Вы выражаете им ваше удивление. Вам отвечают сперва: «Нас
принуждают к этому». Потом, при некоторой интимности, добавляют: «Это не
приносит вреда, а может принести пользу: на случай, если попы
говорят правду, нужно принять предосторожности». Вчера один из наших
друзей, узнав, что одна дама из общества отправилась посетить Мадонну,
которая двигает глазами, позволил себе улыбнуться. Молодой офицер,
присутствовавший при этом, принимает серьезный вид и замечает ему,
что он совершил эту поездку вместе с восемью своими друзьями, и все
они видели, что Мадонна действительно двигает глазами. По этой дороге
можно уйти далеко. Графиня H., у которой двое детей, поручила одного
• 289 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
покровительству Мадонны Сполетской, а другого - Мадонны Вивалькаро;
по ее мнению, это два разных существа. Для здешнего пылкого и
материального воображения статуя есть не изображение, а живая богиня. В
конце концов, имея более доверия к Мадонне Вивалькаро, она поручила
обоих своих детей ее единому покровительству.
После этого ты представляешь себе, какой может быть религия у
здешнего простонародья. Кучера одного из моих друзей понесли его
лошади при спуске с Пинчо; он видит, что ничто уже не может их сдержать
и дает обет первой Мадонне, которую заметил на пути. Одна из
лошадей разбила себе череп об стену, а его самого выбросило на оконную
решетку, за прутья которой он уцепился и отделался ссадинами. Тогда
он заказывает две картины, в качестве ex-voto [по обету]: одну, где он
изображен в момент, когда творит свой обет, и другую, на которой он
представлен в момент, когда его выбросило за решетку. Горничная
графини Н. играла в лотерею, полагаясь на покровительство трех святых;
она проигралась, и с этого момента уже больше не молится святым,
которые так плохо ей служили. Этот сорт умов так впечатлителен, что
они изобретают суеверия даже за официальными границами;
например, служанка графини Н. уверяет, что у папы дурной глаз: если он в
добром здравии и может дать благословение в первый день Пасхи, то будет
дождь; если же он болен - будет хорошая погода. Само собою
разумеется, что школа и катехизис работают в том же направлении. Я зашел
однажды в церковь, где церковнослужитель давал урок сорока
маленьким девочкам от семи до восьми лет. Они оборачивались на меня с
любопытством, перемигивались и шушукались между собою с лукавым
видом мышей; все эти маленькие головы, живые и упрямые, все эти
маленькие тела, скучавшие по свободным движениям, так и вертелись...
Он, с добродушным отеческим видом, ходил от скамьи к скамье,
сдерживая движением руки свой беспокойный выводок и повторяя все одно
и то же слово: «Il diavolo». «Берегитесь, мои милые дети, дьявола -
дьявола, который так зол, дьявола, который хочет похитить ваши души»,
и т. д. Через пятнадцать лет, через двадцать лет им припомнится это слово,
а вместе со словом и образ - ужасная пасть, острые когти, пылающее
пламя и все прочее. Один постоянный посетитель церкви [Санта
Мария ин] Арачели рассказывает, что в течение всего поста проповеди
вращались исключительно вокруг постной пищи и запрещенных или
дозволенных блюд. Проповедник жестикулирует и расхаживает по
подмосткам, описывая ад; потом, тотчас же вслед за тем, разные способы
•290·
ОБЩЕСТВО
приготовлять макароны и рыбу, способы весьма разнообразные и
делающие неизвинительным нарушение поста даже гурманами. На этих
днях один колбасник на Корсо придал своей ветчине форму склепа:
вверху лепились свечи и гирлянды, а внутри виднелся бокал, в котором
плавали золотые рыбки. Общее правило здесь - обращаться к чувству.
Итальянец недоступен, как немец или англичанин, одним чистым идеям:
он непроизвольно воплощает их в осязаемую форму. Неопределенное
и абстрактное ускользают от него или внушают ему отвращение.
Устройство его ума сообщает его мышлению ясные контуры и твердый рельеф,
и этот непрерывный наплыв четких образов, создавший некогда его
живопись, создает теперь его религию.
Нужно держаться этой точки зрения натуралиста: все раздражение
тогда исчезает, ум успокаивается, видишь кругом себя только следствия
и причины. Явления понятые утрачивают свою некрасивую сторону,
или по крайней мере перестаешь о ней думать, наблюдая творческие
силы, которые сами по себе, как и все природные силы, ни в чем не
повинны, хотя их и можно употребить во зло или повернуть в хорошую
сторону. Даже несправедливость и насилие начинают
заинтересовывать: испытываешь любопытство физика, который, наблюдая
электричество, понимает грозу и забывает свой выбитый градом сад, проверяя
точность тех законов, которые помешали ему иметь фрукты к десерту.
По крайней мере три дня подряд я читаю в здешних газетах громовые
декламации против двух знаменитых писателей нашего времени:
одного, столь блестящего, столь приятного и живого, столь французского
и остроумного, что забываешь отметить его верное чувство, равное его
уму; другого, столь распространенного и тонкого, сколь богатого
обобщающими идеями, столь опытного и утонченного в искусстве
чувствовать и отмечать нюансы, столь счастливо одаренного и хорошо
вооруженного, что философия и эрудиция, широкие концепции целого и
кропотливая буквенная филология ему одинаково знакомы, - короче говоря,
г-на Абу, автора «Римского вопроса», и г-на Ренана, автора «Жизни
Иисуса». Целых три дня их величают нечестивцами; я читал статью,
озаглавленную «Ренан и дьявол», где доказывается, что сходство между этими
двумя особами многообразно. Нет ничего натуральнее: проходя через
известные умы, вещи приобретают известный оттенок - этого требуют
законы мозгового преломления, не менее могущественные, нежели
законы преломления физического. Я видел подобное явление на этих днях
в Капитолии: дело касается истории, какой она является, когда она пере-
• 291 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
работалась, исказилась и огрубела, пройдя сквозь умы простонародья.
Два французских солдата смотрели на Юдифь, зарезавшую Олоферна;
один сказал другому: «Видишь ты эту женщину? Это некая Шарлотта
Корде, а тот - некто Марат; она была у него на содержании и зарезала его
в ванне; нужно признаться, что все эти содержанки - страшная дрянь».
28 марта, кампанья
Мы отправляемся в восемь часов утра в Альбано и выезжаем из
города через Латеранскую площадь. Это лучшая площадь в Риме, и я
описывал ее тебе; но сегодня она показалась мне еще красивее, чем в прошлый
раз. Когда за воротами оборачиваешься назад, видишь перед собой фасад
Сан Джованни ин Латерано, который по первому впечатлению
показался мне напыщенным; но в этот утренний час, в глубокой тишине, среди
стольких развалин и деревенской обстановки, он уже не кажется таким.
Находишь его и пышным, и величественным, а солнце проливает на его
высокие, тесным строем стоящие колонны, на его собрание статуй, на
крепкие позлащенные стены праздничное великолепие и блеск триумфа.
Рощи зеленеют, вяз покрыт почками; там и сям персиковое дерево
или розовый абрикос блестят очаровательно, как бальное платье.
Великий купол неба весь в сиянии. Акведук Сикста V и потом разрушенный
акведук Клавдия вытягивают налево по равнине свою вереницу аркад,
и их дуга круглится в прозрачном воздухе с удивительной четкостью.
Три плана образуют весь этот пейзаж: зеленая равнина, горячо
освещаемая ливнем жгучих лучей, затем недвижная и строгая линия акведуков
и, наконец, в отдалении горы в золотистой и синеватой дымке.
Замечаешь в лощинах и на высотах стада коз и длиннорогих быков,
конические кровли пастушьих хижин, похожих на шалаши дикарей, нескольких
пастухов с ногами, обернутыми в козью шкуру, и там и сям, до самого
горизонта, то развалины античной виллы, то гробницу, изгрызанную
от самого основания, то столб, увенчанный плющом, то разбросанные
обломки, кажущиеся остатками бесконечного города, смытого с лица
земли потопом. Крестьяне, смуглые, с блестящими глазами, едут
верхом поперек поля, чтобы сократить путь. Почтовая станция -
почерневшее, покрытое плесенью и трещинами здание, нечто вроде немого
склепа, где лежат, завернувшись в свои плащи, два человека,
замученных лихорадкой.
Въезжаешь в Аричча по великолепному мосту, высокие аркады
которого перерезают долину; он построен папой. В., который объехал Пап-
• 292 ·
ОБЩЕСТВО
скую область, рассказывает, что дорожных сооружений в ней
достаточно, и большие дороги содержатся хорошо. Архитектура и постройки
составляют развлечение пожилых государей; самолюбие, заставляющее
папу строить церковь или дворец и помещать свое имя и герб своего рода на
каждом исправлении и каждом украшении, влечет его и к этим работам,
представляющим контраст с общей бездеятельностью. Другие встречные
черты характеризуют также княжеский вкус и крупную
аристократическую собственность. Один герцог посадил широкие аллеи вязов,
развертывающиеся за деревней. Сама деревня принадлежит князю Киджи.
Его вилла у конца моста, совсем почерневшая, похожа на укрепленный
замок. Его парк покрывает долину вниз от моста и подымается вверх до
горы. Старые кривые деревья, чудовищные стволы, потрескавшиеся от
старости, каменные дубы, во всем великолепии их вечной юности,
теснятся там, освеженные бегущей водой. Серые и мшистые вершины
чередуются с зелеными; кустарники уже одеваются нежной зеленью, которая
местами еще отсутствует и кажется тонким покрывалом, зацепленным
и натянутым колючими пальцами ветвей. Все эти краски, в контрастах
света и теней, переходят из тона в другой, с приятным разнообразием
и гармонией. Весенняя земля размягчилась и готовит роды; смутно
чувствуешь брожение многообразной жизни, которая волнуется в ее
глубинах; хрупкие побеги пробиваются сквозь кору; маленькие зеленые пятна
блестят в воздухе, пронизанном и напоенном легкими лучами; цветы уже
улыбаются капризно яркими стаями по берегам ручьев. Как ничтожны
камни и монументы рядом с творчеством природы!
Мы обедаем в Лженцано и принуждены сами идти покупать себе
говядину; хозяйка гостиницы отказалась компрометировать себя этим, но
указала нам колбасную лавку. Гостиница совсем первобытная - это нечто
вроде конюшни, покрытой высоким сводом. Мулы и ослы входят и
выходят, проходя вдоль столов, и их ноги звенят по мощеному полу. Паутина
висит на почерневших балках, и свет падает снаружи широкой волной,
в которой плавает водоворот пылинок. Печки нет; хозяйка стряпает на
очаге, дым которого плывет по зале; впрочем, передняя и задняя двери
раскрыты настежь и образуют сквозняк. Я предполагаю, что Лон Кихот,
назад тому триста лет, находил среди сожженных равнин Ламанчи
подобные гостиницы. Вместо стульев - деревянные скамейки; вместо
кушаний - яйца и еще яйца. Нищая шушера преследует нас вплоть до самого
стола с невероятной навязчивостью. Невозможно описать их лохмотья
и грязь. Один одет в панталоны, разодранные настолько, что видны напо-
• 293 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ловину оба бедра; вокруг висят лоскутья. Одна старуха надела на голову,
в качестве капюшона, кухонную тряпку или какой-то непонятный
обрывок половика, о который, кажется, целый полк вытирал свои ноги.
Боковые улицы городка - это безобразная клоака, где острые камни
перемежаются с нечистотами. А между тем в городе есть большие здания, которые
имеют вид старинных; мои друзья говорят, что в горах попадаются еше
деревни, выстроенные в пятнадцатом столетии, и выстроенные так
хорошо, что трех веков упадка оказалось недостаточно, чтобы испортить или
уничтожить создание первоначального расцвета.
Мы пошли к озеру Неми, которое представляет собою чашу воды в
глубине вазы, состоящей из гор. В нем нет ничего величественного - так же,
как и в Тибре; его славу создает его имя. Окружающие его горы потеряли
свои леса; только на самом берегу чудовищные платаны, уцепясь своими
корнями за скалы, вытягиваются полулежа над водой; безобразные,
горбатые, коренастые стволы простирают вперед свои большие беловатые
ветви, и их побеги купаются в мелких серых волнах. Рядом шумит
армия тростника; барвинки и анемоны рассыпались вплоть до самого мха
корней, и сквозь лабиринт ветвей виднеются далекие склоны гор,
полусиние из-за большого расстояния. Одно имя, древнее имя озера
навертывается на уста - Speculum Dianae [зеркало Дианы], и тотчас видишь его
снова таким, каким оно было в века воинственного быта и кровавой
обрядности, - окруженное обширными темными лесами, пустынное, когда
тишину возмущал только крик оленя или бег ланей, приходивших на
водопой. Охотник или горец, увидевший с вершины какой-нибудь скалы
его неподвижный серо-зеленый блеск, чувствовал, как по телу его
пробегала дрожь, как если бы он взглянул в ясные очи богини. В глубине этого
ущелья, под сенью старых сосен, в ненарушимом уединении вековых
дубов, озеро сияло, печальное и целомудренное, и его металлическая
волна, со своим отблеском стали, была «зеркалом Дианы».
На обратном пути, поднявшись на извилистый хребет холма,
замечаешь море, подобное полосе расплавленного серебра, вспыхивающего
искрами. Бесконечная равнина, чуть заметно испещренная культурными
насаждениями, тянется вплоть до берега и останавливается, замкнутая
сияющей лентой. Потом проезжаешь по аллее старых дубов, между
которыми раскинулся буксус и маленький, вечно смеющийся народец
зеленых кустов; не устаешь смотреть на это бессмертное лето, которого не
смеет коснуться зима. Вдруг, с одной вершины, замечаешь под ногами
Альбанское озеро - большую чашу синеватой воды, подобную озеру Не-
•294·
ОБЩЕСТВО
ми, но более широкую и в более нарядном уборе. Напротив, над
косогорами, образующими эту чашу, выступает Монте Каво, дикая и рыжая,
подобная допотопным чудовищам, сродни Альпам и Пиренеям, но только
с резкими и грубыми линиями в сравнении с этими горами, которые
кажутся начертанными рукою архитектора. Причудливо увенчанная
монастырем, она представляется то мрачной под тенью облаков, то внезапно
озаренной проблеском солнца и смеющейся в дикой веселости. Немного
ниже - Рокка ди Папа, вытянувшаяся по соседней горе, вся белая, как
линия крепостных зубцов, бросившая свои висячие дома в грозовом,
зловещем воздухе. Совсем внизу - озеро в своей чаше со своим оловянным
отливом, неподвижное и блестящее, как кусок полированной стали,
возмущаемое лишь там и сям чуть заметной рябью от ветерка, странно
спокойное, грезящее таинственной и глубокой жизнью, под тихой зыбью,
пробегающей по нему, отражающее в себе свою узорную раму и
пышный венок дубов, которые от века питаются его свежестью.
Подымаешь глаза и видишь слева Кастель Гандольфо с его белыми
зданиями, круглый, четко выступающий купол его собора, его колючие
очертания на продолговатом гребне горы, похожие на белые раковины,
вделанные в спину крокодила, и, наконец, в самой глубине, за зубцами
гор, - бесконечную равнину кампаньи с миллионами ее пятен и полос,
утопающих в покрывале тумана и света.
На берегу озера расположен картезианский монастырь. Монахи всегда
умели выбирать для себя место с большим вкусом и особым
благородством воображения. Может быть, религиозная жизнь, лишенная
буржуазных удобств, отрешает душу от повседневных мелочей; по крайней мере,
некогда она преуспевала в этом. К несчастью, ужасное и грубое приходит
тотчас вслед за благородным. При входе есть решетка, а за решеткой -
черепа и кости монахов, украшенные соответствующими надписями. Ты
представляешь себе действие этого зрелища на впечатлительного
крестьянина, который проходит мимо.Ум и сердце содрогаются, и отголосок этого
потрясения ощущается в течение многих часов. Здесь все рассчитано на
такие впечатления - например, служба у Святого Петра. Главный алтарь
находится так далеко, что присутствующие не могут уловить слов; я уже
не говорю - понимать их, ведь эта латынь не имеет значения: величавое
жужжание, долетающее до слуха, блеск золотых шапок, величие
архитектуры достаточны аая того, чтобы смутно волновать душу и удерживать
человека на коленях.
• 295 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
26 марта
Сегодня вечером - большая политическая беседа; к этому всегда
обращаются под конец десерта, после кофе. Я записал ее, возвратясь к себе.
Главный собеседник - красивый молодой человек, сурового вида,
итальянский язык которого так чист и благозвучен, что похож на
музыку. Он очень нападает на светскую власть пап. Я представляю ему
клерикальные доводы: «Вы произносите суд над папой - вы утратили
покорность ума и сердца, вы уклонились в протестантство». - «Ни под каким
видом! Мы были и остаемся католиками: мы признаем и защищаем
высший авторитет, которому поручено управлять верой. Мы даже не
отнимаем у него сами светской власти: у людей можно отнять только то, что
они имеют, а в действительности у папы нет уже этой власти. Вот уже
тридцать лет, как он царствует только благодаря австрийским и
французским штыкам; он никогда не будет подчинен более сильному
иностранному давлению, чем то, которое он испытывает теперь. Мы не хотим
его низлагать, а только урегулировать уже состоявшееся низложение.
Он повержен ниц - поставим же его снова на ноги».
Я возражаю и настаиваю на своем: «Принцип католицизма
заключается не только в том, что религия едина, но еще и в том, что Церковь
едина. Поэтому, если папа станет гражданином какого-нибудь отдельного
государства, итальянского, французского, австрийского, испанского, то
весьма вероятно, что через одно или два столетия он попадет под власть
того правительства, гостем которого он будет, как это уже случилось
некогда с папами в Авиньоне,в отношении французского короля. Тогда, из
ревности и в интересах независимости, другие государства создадут анти-
пап или, по крайней мере, отдельных патриархов, каков
Санкт-Петербургский или Константинопольский. Отсюда явятся схизмы, и у вас уже не
будет больше Католической церкви. У вас не будет даже независимой Церкви.
Под властью государя патриарх и даже папа обращаются в чиновников;
это можно хорошо видеть в Петербурге; это видели во Франции при
Филиппе VI. Когда Наполеон хотел водворить папу в Париже, то это именно
для того, чтобы сделать из него министра культа, очень почитаемого, но
и очень послушного. Прибавьте к этому, что европейские правительства,
особенно французские, уже и без того вмешиваются во все дела; что же
будет, если они приложат руку еще к делам совести? С гибелью всякой
свободы Европа обратится в Россию, в Римскую империю, в Китай.
Наконец, даже самая догма будет в опасности. Извлечь папу из его государства,
как растение из теплицы, - это значит предоставить его, а вместе с ним
•296·
ОБЩЕСТВО
Пьяцца лель Квиринале в Риме. Фотография 1890-х годов
и догму, воздействию современных идей. Католицизм, оставаясь
неизменным, неподвижен; его главе нужна мертвая страна, подданные, которые
не мыслят, город монастырей, музеев и развалин, мирный и поэтический
некрополь. Представьте себе здесь Академию наук, публичные курсы,
парламентские дебаты, крупную процветающую промышленность, живую
и общедоступную проповедь светской морали и философии, - думаете ли
вы, что зараза не коснется и теологии? Нет! Она захватит и ее;
мало-помалу начнут смягчать и перетолковывать догматы, позволят отпасть
наиболее шокирующим, перестанут говорить о них. Посмотрите на Францию,
так хорошо управляемую, столь послушную в эпоху Боссюэ, - от одного
только соприкосновения с мыслящим обществом католицизм там
сделался более умеренным, отдалился от итальянских традиций, отверг Тридент-
ский собор, смягчил культ икон, завязал связи с философией, подчинился
влиянию светских людей, верующих, но образованных и мыслящих Что же
будет теперь - при смелости, открытиях, обольщениях современной
цивилизации? Перевести куда-нибудь или лишить трона папу - значит, два столетия
спустя, изменить самую веру».
• 297 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Ответ: «Тем лучше; наряду со староверами-католиками есть и
католики настоящие - и это мы. Пусть Церковь реформируется и
преобразуется с мудростью, медленно, под смягченным воздействием современного
духа, - это именно то, чего мы желаем. Что касается раскола, то он
угрожает в равной степени и при папе, находящемся под покровительством,
как и при папе, лишенном власти, -сила римского гарнизона имеет на
папу точно такое же влияние, как государь, которого он будет подданным
или гостем. Если есть средство, гарантирующее его независимость, то это
именно наше: мы отдадим ему правый берег Тибра, Святого Петра,
[пригород Рима] Чивитавеккью; он будет жить там в маленьком оазисе, с
почетной стражей, на субсидию от всех католических государств, под
покровительством и при уважении всей Европы. Что же касается до опасности
соединения в руках одного и того же лица власти светской и духовной, то
позвольте вам заметить, что дела обстоят именно так в протестантских
странах, например в Англии, и однако эти страны оттого не менее
либеральны. Итак, это соединение еще не всегда порождает рабство: оно
укрепляет его в некоторых государствах и не насаждает в других. Пока
что допустите, что мы изгоним его из нашего, где оно опирается именно
на это соединение. Если есть какая-нибудь опасность в нашем плане, то
это опасность только аая нас, а не аая папы; находясь в сердце Италии,
раздраженный, он сделается революционером и восстановит все низшие
классы общества против нас. Но так как мы идем на эту опасность, то
предоставьте нас нашей судьбе и не навязывайте нам режим, который вы
отвергли аая вас самих». -«Но что такое эта трансформация Католической
церкви, которую вы видите в туманном далеке?»
На этот вопрос ответы смутны. Мои собеседники утверждают, что
высшее итальянское духовенство имеет в своем составе довольно много
либеральных людей, что они встречаются даже между кардиналами, особенно
вне Рима; они называют, между другими, дона Луиджи Тости, труды
которого мне знакомы. Это бенедиктинский монах из Монтекассино, пылкий
христианин и пылкий либерал, который читал современных философов,
знает новую экзегезу, начитан в истории, любит высшее созерцание, -
бодрый и широкий ум с примирительными тенденциями, красноречие
которого, цветистое, поэтическое и увлекательное, есть красноречие
католической Жорж Санд. Здесь духовенство не состоит все на службе, как во
Франции, - это только у нас Церковь заражена административной
дисциплиной. Некоторые здешние духовные лица имеют полунезависимое
положение; дон Тости в своем монастыре - это оксфордский профессор
•298·
ОБЩЕСТВО
на своей кафедре: он может путешествовать, читать, мыслить и печатать
как хочет. Его цель - привести Церковь в согласие с наукой. Его главная
идея, что наука, будучи простым анализом, не есть единственно
возможный путь познания, что существует еще другой, столь же надежный - atto
sintetico [акт синтеза], - порыв, охватывающий всего человека, вера в
естественный энтузиазм, благодаря которым душа без размышления и
анализа открывает и постигает сперва Бога, а затем - Христа. Эта смелая
и пламенная вера, посредством которой мы прикасаемся к красоте, добру
и истине в их существе и первоисточнике, одна только способна
соединить людей в братскую общину и воодушевить их к благородным
действиям, преданности и жертве. Но эта община есть Католическая церковь;
поэтому, удерживая вполне свое непреложное Евангелие, она должна
приспособиться к развитию светского общества. Она может это сделать, ибо
она заключает в своих недрах «неисчерпаемое разнообразие форм». Она
близка уже к одной из таких метаморфоз, но она всегда остается,
соответственно своей сущности, «хозяйкой морали». Все это не дает, однако,
точного определения этой метаморфозе, и сам отец Тости говорит, что она
является тайною у Бога.
Тут граф Н., этот тонкий и проницательный итальянский ум, человек,
которого я начинаю очень ценить, узнавая его ближе, отзывает меня в
темный угол и говорит: «Эти молодые люди ударились в поэзию;
постараемся выйти из нее. Оставим на минуту в стороне симпатии, патриотизм,
злобу и надежды; будем смотреть на католицизм как на простой факт и
попытаемся определить силы, его поддерживающие, и посмотреть, в каком
направлении и в каких пределах современная цивилизация
уравновешивает или видоизменяет их действие». В этой постановке вопрос становится
задачей духовной механики, и вот к каким выводам можно прийти, по
нашему мнению, на этой почве.
Первая из таких сил есть влияние обрядности. Отличительная черта
дикаря, ребенка, ума совершенно некультурного, впечатлительного и
грубого, есть потребность сотворить себе кумир; я хочу сказать - воздавать
поклонение символу взамен обозначаемой им вещи. Он приспособляет
религию к своему пониманию и, не будучи в состоянии усвоить отвлеченные
идеи и бесплотные чувства, освящает осязаемые предметы и внешнюю
обрядность. Такой была религия в эпоху Средних веков, и эта религия
сохраняется еще почти не тронутой у какого-нибудь сабинского пастуха или
бретонского крестьянина. Палец святого Иова, ряса святого Франциска,
статуя святой Анны или Мадонны в ее новых и расшитых одеяниях, - вот
• 299 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
для них Божество. Девятидневная молитва, пост, усердный счет по четкам,
образ, к которому прикладываются с благоговением, - вот аая них
благочестие. На следующей ступени религию составляют местные святые,
Пресвятая Лева, ангелы, - страх и надежда, которые они внушают. Двумя
ступенями выше на священника смотрят как на высшее существо,
блюстителя божественной воли, распределителя небесных милостей. Все это
в протестантских странах было уничтожено реформой Лютера, но в
католических сохраняется еще, в смягченном виде, среди простых или
полупростых людей, особенно же у народа, обладающего пылким
воображением и не умеющего читать. Эта сила исчезает мало-помалу - по мере
того как распространяется образование и умственная культура; католицизм,
теснимый современной цивилизацией, предоставляет облупливаться этой
идолопоклоннической коре Средних веков. Во Франции, например,
начиная с семнадцатого века эта форма верований и культа вышла из обихода,
по крайней мере в классах мало-мальски просвещенных. Конечно, ее еще
осталось сколько-нибудь, ее всегда сколько-нибудь да останется; но это
старая обертка, которая вытирается, продырявливается и исчезает.
Вторую из этих сил представляет обладание метафизикой, полной,
сформулированной и точной. В этом отношении католицизм находится
в открытой войне если не с опытными науками, то по крайней мере с их
духом, их методом и их философией. Без сомнения, он может
истолковывать, уступать или защищаться по отдельным пунктам: говорить, что
Моисей предугадывал теорию светящегося эфира, так как он заставляет
свет явиться раньше солнца; уверять, что геологические периоды
намечены почти точно в «днях» Бытия; удерживать свои позиции в
неисследованных, спорных или трудных областях - каковы произвольное
зарождение, функции мозга, первобытный язык etc. Тем не менее он
испытывает непобедимое отвращение к доктрине, которая подвергает всякое
утверждение контролю повторных опытов и аналогий с окружающим,
которая принимает принципиально неизменяемость физических и
духовных законов и низводит все субстанции к роли условных знаков, удобных
для выражения общих понятий. В самом деле, он создал свою метафизику
в эпоху исключительной экзальтации и отвлеченности, когда ум, громоздя
триады на триады, видел в природе лишь темную переходную ступень,
затерянную в нарастающей, ослепительной, бесконечной галерее
мистических и сверхъестественных существ.
Раз эта враждебность констатирована, нужно прибавить еще, что
открытия науки, ее приложения к текущей жизни, ее вторжение в неиссле-
•300·
ОБЩЕСТВО
дованные области, ее влияние на людские мнения, на дело воспитания
и на умственные требования, ее значение для высшего созерцания и
установления общих точек зрения - короче говоря, ее сила все растет. Между
тем противник все отступает, и он уже не может, подобно язычеству
времен Порфирия и Прокла, укрыться в комментарии, - покинув
предмет, сохраняя его имя, говорить, что сквозь символ он проникает к его
смыслу и т. п. Ибо вот уже сто лет, как родилась научная критика, и в
наши дни прошлое известно слишком хорошо, чтобы смешивать его с
настоящим. Когда Гегель или какой-нибудь другой примиритель изображает
философию девятнадцатого века как наследницу и истолковательницу
метафизики третьего века, он заинтересовывает студентов, но вызывает
смех у историков. Итак, католицизм вынужден будет бросить свой
александрийский багаж, как и багаж феодальный. Он не швырнет их в море,
ибо он консервативен, но оставит их лежать в глубине трюма. Я хочу
сказать, что он будет говорить о них реже, перестанет выставлять их на вид,
что он повернет к свету другие свои стороны. Это то же самое, что делал
некогда открыто и делает теперь незаметно протестантизм: он счистил
при Лютере с религии ржавчину варварства и работает посредством
современной экзегезы, чтобы счистить византийскую. Освободив
христианство от обрядов, он освобождает его теперь от формул, и можно
утверждать, что даже в католических странах светские люди, по большей части
ортодоксальные лишь на словах, а в глубине души полуариане и
полуунитаристы, слегка деисты и слегка скептики, довольно равнодушные,
и теологи более нежели слабые, найдут, разобравшись в самих себе
основательно, что между их католицизмом и культом Средних веков или
субстанциями святой Софии и Серапиона лежит значительное расстояние.
Это силы мертвые, то есть сохраняющие раз приобретенную
скорость и действующие лишь благодаря естественной инерции
человеческой натуры. Но вот силы активные, то есть непрерывно обновляемые
новыми веяниями. Во-первых, католицизм обладает монархической
Церковью, искусно организованной, - этой наиболее могущественной
административной машиной, которая когда-либо существовала,
пополняемой сверху, опирающейся только на себя, огражденной от
вмешательства светских людей, своего рода моральной жандармерией, которая
функционирует рядом с правительствами для поддержания порядка и
повиновения. В этом качестве, и так как, сверх того, он в основе своей
аскетичен, то есть враждебен чувственным удовольствиям, католицизм
может быть признан превосходной уздой аая революционного духа и ма-
•301 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
териальных вожделений. Вот почему всякое общество, которому
угрожают какие-нибудь теоретические учения вроде социализма или
завистливые стремления, каковы устремления современной демократии, а также
всякое абсолютное или сильно централизованное правительство будет
поддерживать его, чтобы опираться на него. Чем универсальнее и
быстрее идет процесс деклассирования в обществе, чем сильнее разгораются
аппетиты и честолюбие, чем более беспорядочен и угрожающ водоворот,
в котором низшие слои стремятся сместить верхние, тем более Церковь
кажется спасительницей и покровительницей. Чем более народ
послушен, как, например, во Франции, чем более он склонен или вынужден,
как Франция или Австрия, передать управление собою в руки внешнего
авторитета, тем более он становится католическим. Конечно,
установление парламентарного или республиканского образа правления,
эмансипация личности и дух индивидуальной инициативы работают в
противоположном направлении; но нельзя утверждать с уверенностью, что
Европа идет к этой форме общества - по крайней мере, что она идет к ней
вся. Если Франция будет продолжать быть тем, что она представляет
собою за последние шестьдесят лет и что она есть, по-видимому, по своему
существу, то есть административной казармой, застрахованной от
воровства и хорошо содержимой, то католицизм может существовать в ней
бесконечно.
Вторая активная сила есть мистицизм. В идеях Христа и Богоматери,
в теории и таинствах любви католицизм предлагает духовную пищу
нежному и мечтательному воображению, несчастной и
впечатлительной душе. Именно с этой только стороны он и развивается два
последних столетия - в культе Левы Марии и Святого Сердца - и совсем еще
недавно - в провозглашении новой догмы непорочного зачатия.
Бенедиктинцы Солемского аббатства, издавшие святого [Альфонсо] Лигуори,
делают в этом отношении поразительные признания. Они говорят, что
старая теология была груба, что церковь получила новые озарения, что,
вследствие особого откровения, она указывает ныне на божественную
кротость и доброту, что догмат и чувство любви выступили на первый
план и что безмерное величие, которым облеклась личность Марии,
открывает наконец верным алтарь, где могут нежно расцвести все
оттенки обожания. Вот женственная и сентиментальная поэзия, прибавьте
еще сюда поэзию обрядности. Среди всевозможных превращений века,
в эпоху великого разложения доктрин, эти две поэзии привлекут к себе
впавшие в уныние, экзальтированные и больные души. Со времени па-
■302 ·
ОБЩЕСТВО
дения античной цивилизации в человеческой машине произошло
великое расстройство; первоначальное равновесие здоровых рас - такое,
каким сохраняла его гимнастическая жизнь, - исчезло. Человек сделался
более чувствительным, а огромное увеличение безопасности и
благосостояния в недавнее время только умножило его недовольство, его
требования и претензии. Чем больше он имеет, тем большего он хочет, и не
только его желания превосходят его силы, но смутное стремление его
сердца увлекает его еще далее чувственных вожделений, образов его
мечты и интересов его ума. Он хочет потустороннего, и лихорадочная
тревога капитализма, литературные возбуждения, все преувеличения
сидячей, искусственной и головной жизни только усиливают
страдание, причиняемое ему этим ненасытным стремлением; за последние
восемнадцать лет музыка и поэзия посвятили себя служению этой
болезни века, а масса знакомств, тяжесть труда и безмерное напряжение,
которого требуют современная наука и демократический строй жизни,
скорее, кажется,растравляют рану, чем лечат ее. Аля усталых и алчущих
душ приятный квиетизм может иногда показаться убежищем; мы это
видим на наших женщинах, которые имеют все наши болезни, не имея
наших лекарств. В низших классах среди очень молодых девушек, в
пустоте провинциальной жизни, католицизм может увлечь еще много душ
своим соблазном светской и кокетливой поэтичности и своей галереей
трогательных и материальных символов. И, может быть, в один
прекрасный день мы увидим, как распавшаяся семья предоставит одной своей
половине искать в идеальной любви интимных упоений, изнеженных
грез и пленительных томлений, каких не может дать любовь земная.
Такова вероятная и, можно сказать, наступившая трансформация
католицизма. Смягчать обрядность, кроме как для простого народа,
предать забвению метафизику, оставив ее школам, подтянуть
административный строй и развивать сентиментальные доктрины - это то, что
он делает со времен Тридентского собора. По-видимому, в будущем он
должен обращаться преимущественно к правительствам и женщинам,
сделаться репрессивным и мистическим, образовывать лиги и
основывать общества Святого Сердца, быть политической партией и убежищем
аая больных духом. Так как прогресс положительных наук и
распределение материальных благ препятствует экзальтации, необходимой аая
установления новой религии, то не видится предела его существованию:
никогда народ не оставлял своей религии иначе, как для другой религии.
На горизонте усматриваешь аая него только один великий кризис, и тот
• 303 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
не ранее одного или двух столетий; я хочу сказать - появление нового
протестантизма. Протестантизм Лютера и Кальвина, суровый и книжный,
внушал отвращение латинским народам; протестантизм Шлейермахера
и Бунзена, смягченный, преобразованный экзегезой, приспособленный
к потребностям цивилизации и науки, неизмеримо расширенный и
очищенный, может сделаться по преимуществу философской, свободной и
моральной религией и привлечь к себе, даже в латинских странах, тот
высший класс, который при Вольтере и Руссо стал исповедовать деизм. Если
эта борьба начнется, она будет достойна внимания. Между философией
и религией такая борьба никогда не может закончиться, потому что
каждое из этих двух растений имеет свой независимый и неистребимый
корень; но между двумя религиями дело обстоит иначе. Если католицизм
выдержит эту атаку, то, по моему мнению, с этого момента он будет уже
в безопасности от всех других. Трудность управления демократиями
всегда будет доставлять ему сторонников; всегда глухая тоска печальных
и нежных сердец будет привлекать к нему новых адептов; всегда
древность его владычества сохранит ему верных. Вот три его корня, и
экспериментальные науки не достигают их, так как эти корни созданы не наукой,
а чувством и потребностью. Они могут разветвляться больше или
меньше, врастать более или менее глубоко, но незаметно, чтобы дух
современности брал верх над ними; напротив, во многих душах и в некоторых
странах тот же современный дух дает начало таким стремлениям и
учреждениям, которые в силу контраста укрепляют их еще более. И Маколей
имел право сказать однажды, увлекшись воображением и красноречием,
что католицизм будет еще существовать, например в Южной Америке,
когда туристы, приехавшие из Австралии, придут на развалины Парижа
или Лондона - срисовывать разрушенные своды лондонского моста или
рухнувшие стены Пантеона.
·χ·
СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
Собор Св. Петра в Риме. Фотография 1890-х годов
Вербное воскресенье
ОТ УЖЕ восемь дней, как мы проводим
полдня у Святого Петра. Мы созерцаем какую-
нибудь церемонию, потом усаживаемся
снаружи, на лестнице; площадь, сжатая между
своими колоннадами, испещренная
движущимися людскими точками и пересекаемая
безмолвными процессиями, сама по себе уже
представляет зрелище. На этой площади под
прекрасным солнцем, между белыми султанами фонтанов, глядишь на
идущие вверх процессии, на монахов в их фиолетовых, красных и
черных подрясниках, на воспитанников сиротских домов и учеников
семинарий, на пеструю толпу посетителей, женщин в черных вуалях и
солдат, потоки которых волнуются и пересекаются. Кареты монсинъоров
подъезжают одна за другой, со своими нарядными кучерами и
расшитыми лакеями. Три лакея сзади: двое прицепилось к карете, а третий
вверху, над ними. Эти слуги надуты и напыщенны; посмотрите на них
на картинах Гейльбута - важных и спокойных, в новых платьях,
которые выглядят чуть-чуть старыми, или в старых, которые выглядят чуть-
чуть новыми, - полусторожей и полулакеев, знающих, что они чистят
сутану возможного папы, и что они ближе к Небу, нежели другие люди;
убежденных, что их душа отчасти свята, и тем не менее берегущих
сукно своих брюк. Что до прелатов, то их лица очень тонки - не той
парижской утонченностью, которая заключается в умении говорить острые
слова, а тонкостью церковной и итальянской, тонкостью дипломатов
и правителей - людей, привыкших владеть собою, быть
осмотрительными и не попадаться впросак. На ступенях спят крестьяне; не следует
слишком приближаться к ним: зловоние бьет в нос - они никогда не
моются и пахнут, как дикие животные. Всюду кругом, на балконах, на
порогах дверей, замечаешь римских гризеток с черными волосами,
искусно взбитыми и зачесанными кверху, с тонкими губами, с правильными
и резкими чертами лица, с крупным подбородком и пристальным
взглядом. Иногда из какого-нибудь грязного и скверного окошка
выглядывает такая красивая и опасная голова/Замечаешь ее утром и находишь ее
тут же вечером: женщина проводит таким образом весь день, глядя на
других и показывая себя.
Аля религиозного человека зрелище внутри храма Святого Петра
отнюдь не назидательно. Папские солдаты, стоящие цепью, зевают, обо-
•307·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Вид сверху на собор Св. Петра и площадь в Риме. Фотография 1910-х годов
рачиваются, переглядываются с проходящими женщинами. В
продолжение всей мессы присутствующие переходят с места на место, болтают
шепотом или даже вполголоса: так как нет ни скамеек, ни стульев, то
пытаются прислониться к пилястрам, опираются то на одну, то на другую
ногу; иные дремлют. Со всех сторон несется непрерывный гул; образуется
живой поток приходящих и уходящих, как на базаре. Приподымаешься
на цыпочки и смотришь на проходящих швейцарцев папы, с их брыжами,
в пестрых костюмах и с секирой шестнадцатого столетия; потом - на
стражу в черных бархатных камзолах, с коротким испанским плащом,
золотой цепью и тоже брыжами времен Филиппа II. Наконец
дефилирует процессия: каждый персонаж в белом представляет апостола и держит
жезл, убранный желтыми гирляндами, который изображает пальмовую
ветвь; другие - в черном, иные - в фиолетовом, еще другие - в красном;
• 308 ·
СТРАСТНАЯ НЕЛЕЛЯ
последними идут епископы, все в сиянии своих парчовых мантий;
многие улыбаются, смотрят по сторонам или болтают. В глубине церкви,
позади большого бронзового балдахина, различаешь
коленопреклоненные фигуры и разные позы - остатки древних символических церемоний,
так мало подходящие к нынешнему времени. По бокам, на двух больших
эстрадах, женщины, все в черном, с черной вуалью на голове, с их «Мэр-
реем» в руках, маневрируют своим лорнетом. Жалуются, что церемония
не полна. У папы рожа, которую вскрывали; вышло много воды;
неизвестно наверное, будет ли он служить на Пасхе; обстоятельно передаются
все медицинские подробности. Никакого действительного интереса или
участия: аая всей этой публики это лишь первый актер, которого не
хватает, и его отсутствие вредит представлению. Люди болтают, здороваются,
прогуливаются, как в театральном фойе. Вот все, что осталось от
славных торжеств, которые во времена Бонифация VIII привлекали
пилигримов сотнями тысяч; декорация, которая уже не более как декорация,
предмет этюда для археолога, зрелище аая художника, диковинка для светских
людей, собрание обрядностей, куда все века внесли свою долю, - нечто
подобное всему этому городу, где живая вера и искреннее волнение сердца
не находят более предмета, который бы им отвечал, но где собираются
художники, любители старины и туристы.
Но, с точки зрения живописности, впечатление иное.
Переполненная народом церковь кажется колоссальной; этот волнующийся и
струящийся людской муравейник делает ее одушевленной, как картина.
Широкий каскад света, падающий из купола, бросает здесь и там, среди
мраморов, потоки лучей и ослепительного блеска. Большой балдахин,
извивающий вдалеке свои бурые колонны в облаках ладана, смутная
гармония пения, смягченного расстоянием, великолепие украшений
и мраморов, собрание статуй, неприметно волнующееся в тени,
соединение и согласие стольких монументальных форм и стольких
грандиозных округлостей, - все собралось здесь для того, чтобы сделать из этого
праздника песнь торжества и веселья. Я хотел бы услышать здесь молитву
из «Моисея» Россини в исполнении трехсот певцов и оркестра.
Среда, Miserere в Сикстинской капелле
Три часа на ногах, и мужчины все стоят. Через два часа некоторые не
выдерживают и уходят. Тела стиснуты, как в тисках. Лица стали
желтыми, красными, осунулись; вспоминаешь осужденных грешников Микелан-
джело. Ноги деревенеют, ломит в пояснице; счастлив тот, кто нашел себе
• 309 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
колонну! Многие пытаются извлечь носовой платок, чтобы обтереть лоб,
другие бесплодно стараются сберечь свою шляпу. Не видно ничего, кроме
чащи голов. Толпа ломится в двери, и время от времени какое-нибудь
официальное лицо погружается в нее и с трудом проникает далее благодаря
плечам своих провожатых, как железный клин в кусок дерева. Под
трибунами у входа, в какой-то клетке, сидят на корточках дамы и нюхают соли.
Там и сям швейцарцы, в белых султанах и оперных костюмах, используют
широту своих подошв и опираются на свои алебарды. Монотонное
гудение псалмов тянется и снова возобновляется.
Это не мешает фигурам Микеланджело быть гигантами и героями. Ах,
если бы я мог лечь на спину, чтобы посмотреть на пророков! Какие
могучие формы, какие великолепные первобытные тела у Адама и Евы! И этот
грозный Христос Судия; какой Аполлон-мститель, какой величавый
Юпитер-громовержец! Каким жестом бойца-победителя он поражает тела
своих поверженных врагов! Здесь все берет свое начало от древности:
когда Браманте задумал [храм] Святого Петра, он взял две свои идеи у
Пантеона и у базилики Константина. Обе эпохи связаны между собой.
Вот наконец Kyrie, потом Miserere. Это стоит всех страданий колен
и поясницы, которые пришлось перенести. Впечатление крайне
странное: встречаются длительные аккорды, которые кажутся неверными
и поражают слух ощущением, подобным тому, что оставляет во рту
кислый плод. Никакой чистоты пения и правильной мелодии: это какое-то
смешение и скрещивание звуков, долгие паузы, смутные и жалобные
голоса - подобные нежной эоловой арфе, пронзительному стону ветра
в деревьях или бесчисленным печальным и милым шумам деревни. Нет
ничего оригинальнее и величественнее; музыкальная эпоха, создавшая
подобную мессу, отделена от нашей целой пропастью. Это музыка,
бесконечно покорная и трогательная, гораздо более скорбная, чем какое
бы то ни было современное творение, - она вылилась из души
женственной и религиозной; она могла быть написана в каком-нибудь
монастыре, затерянном в глубине пустыни, после долгих неясных
мечтаний, посреди порывов и рыданий ветра, который плачет, носясь вокруг
скал. Нужно во что бы то ни стало услыхать завтрашнее Miserere. Одно
написано Палестринои, другое - Аллегри. Какой рудник неведомых
и глубоких чувств! Вот она - музыка католической реставрации, - такая,
какою обрел ее дух Нового времени, пересоздавая Средневековье.
•310·
СТРАСТНАЯ НЕЛЕЛЯ
Микеланлжело. Страшный суд. Центральная часть.
Сикстинская капелла в Ватикане
•311 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Четверг
Я пробежал вчера вечером и сегодня утром два тома Баини о Палес-
трине. Это был благочестивый человек, друг Филиппо Нери, сын
бедных родителей и сам бедняк во всю свою жизнь, живший на пенсию
в шесть, потом в девять экю в месяц, не имевший денег на издание
своих произведений, несчастный и с нежной душой. Он потерял трех
сыновей, подававших лучшие надежды, и писал свои Ламентации посреди
жгучих и долгих страданий. В этот момент, при нем и при учителе его,
Гудимеле, музыка выходит из средневековых топей полустолетием
позже других искусств. Церковное пение тогда было покрыто
схоластической ржавчиной и усеяно всевозможными трудностями, усложнениями
и экстравагантностями: например, ноты рисовали зелеными, когда
говорилось о лугах и траве, красными - когда дело шло о крови и
жертвоприношении, и черными - когда текст упоминал смерть и погребение;
в каждой партии пелись другие слова и часто даже светские песни.
Композитор брал какую-нибудь веселую или даже непристойную арию -
например, «e'Homme armé» или «e'Ami Baudichon, madame», и из нее, при
помощи всех тонкостей и причуд контрпункта, стряпал обедню.
Педантизм и распущенность, весь мертвый режим Средневековья уронили
и замутили творчество в музыке, как и в литературе, и породили в
пятнадцатом столетии столь же плоских и напыщенных поэтов, как и
композиторов. Религиозное чувство возникает вновь: протестантское - с
Лютером, католическое - с Тридентским собором. Гудимель, один из
мучеников Варфоломеевской ночи, подарил протестантам музыку героических
псалмов, которые они пели на кострах и в битве. Призванный папой Па-
лестрина дал католикам смутные и широкие мелодии своих мистических
скорбей - моления целого народа, младенческого и печального,
коленопреклоненного под десницей Божией.
Эти Miserere стоят вне и, может быть, выше всякой музыки, какую
я когда-либо слышал, - не зная их, нельзя себе представить такие
нежность и меланхолию, причудливость и величие. Три черты бросаются
в глаза. Во-первых, диссонансы рассыпаны здесь так обильно, что
иногда производят на наше ухо, привыкшее к приятным звукам,
впечатление того, что мы зовем теперь неправильными нотами. Затем партии
чрезвычайно сложны, так что один и тот же аккорд может заключать
в себе три или четыре созвучия и два или три диссонанса, расчленяться
и восстанавливаться по частям и без перерыва. Ежеминутно один голос
выделяется своей особой темой, и весь пучок рассыпается до того, что
• 312 ·
СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
гармония целого кажется делом случая, как глухой и летучий концерт
деревенских звуков. Наконец, основной тон есть тон исступленной и
жалобной мольбы, которая настаивает и вновь приступает, никогда не
уставая, вне границ всякого стройного пения и всякого привычного ритма.
Это неутолимое стремление стенающего сердца, которое не может и не
хочет успокоиться иначе, как в Боге; вечно возобновляющийся порыв
пленной души, вечно увлекаемой своей природной тяжестью к земле;
долгие вздохи бесчисленного множества несчастных, нежных и любящих,
которые не устают молиться и умолять.
Церемония так же пленительна аая глаз, как аая уха. Свечи гаснут
одна за другой; вестибюль темнеет; крупные фигуры фресок смутно
колеблются в тени.
Делаешь двадцать шагов и внезапно видишь перед собой капеллу
Паолина, пламенеющую, подобно раю ангельской славы, в блеске и
благоухании. Ряды свеч возвышаются на престоле, как вокруг раки; люстры
спускаются с потолка со своими золотыми гирляндами, искрящимися
султанами, своими пышными розетками, своим алмазным плюмажем,
подобные мистическим птицам Ланте. Перламутровая чешуя покрывает
алтарь белоснежными отливами; колонны извивают свои лазурные
спирали между прелестными телами ангелов, в клубах дымящегося ладана;
чудное благоухание наполняет воздух. Бернини устроил это
восхитительное празднество, эту ослепительную обстановку, всю эту феерию.
Вспоминаешь его падающую в обморок святую Терезу в церкви [Санта
Мария] делла Виттория - вот где следовало бы ей быть!
Потом в соборе Святого Петра, между двумя рядами солдат, видишь
шествие кортежа, который идет торжествовать омовение ног; сперва
монсинъоры, лица которых светятся умом, затем фиолетовые кардиналы
с красной скуфьей в руках, в сопровождении своих служителей, потом
каноники, одетые в ярко-красное, наконец, двенадцать апостолов в синем,
с оригинальной белой шапкой на голове и букетом в руках. Поблизости,
в одном госпитале, римские дамы в черных костюмах и с белыми
пелеринами монахинь исполняют тот же обряд. Там принимают триста или
четыреста крестьянок, пришедших на праздник; самые
высокопоставленные дамы и принцессы разувают их, моют им ноги, снова обувают, дают
им есть и наконец кладут спать. Это клапан для пробуждающейся по
временам страстной потребности в волнениях и христианском унижении.
• 313 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Пятница
Третье Miserere, несколько уступающее первым, и, кроме того, капелла
Паолина без своего освещения возбуждают смех; открываешь, что
лазурные колонны и большая часть позолоты были только декорацией. Лве
последние фрески Микеланджело - «Распятие Петра» и «Обращение Сав-
ла» - обнаруживают только умелую руку
В базилике Святого Петра один кардинал в красном колпаке,
увенчанном красным током, сидит на пять ступеней от пола на резной кафедре
черного дерева и держит в руке длинный жезл, которым он касается
головы коленопреклоненных кающихся, - это прикосновение дает частичное
отпущение грехов. Кардиналу лет шестьдесят, он толст, одет в фиолетовое,
и его важный вид превосходен - ни один мускул его лица не дрогнет; его
можно принять за изображение Будды, величественное и священное.
Время от времени проходит кортеж черных ряс, и останавливаешься, чтобы
посмотреть между этими капюшонами инквизиторов на какого-нибудь
кардинала с длинным желтым лицом и черными горящими глазами -
своего рода Химинеса не у дел. Кругом теснится и волнуется толпа; но церковь
так обширна, что все разговоры, все шаги замирают и растворяются в
широко стелющемся вширь ропоте.
Сегодня, конечно, одно из последних моих посещений - итак,
постараемся проверить общее впечатление от здания. Постепенно глаза
привыкли к нему; берешь его за то, что оно есть, - таким, каким его задумали
его основатели; смотришь на него не как христианин, а как художник.
Это уже больше не храм - это монумент. И с этой точки зрения - это
поистине один из шедевров человечества.
Эта лестница Сикстинской капеллы с дугами своего свода,
изукрашенными гирляндами, и длинной перспективой своих спусков -
несравненного благородства и пропорциональности. Святой Петр подобен ей:
он украшен, но без излишества; велик, но без чрезмерности;
величествен, но не подавляет. Любуешься простой округлостью сводов и купола,
их широтой и прочностью, их пышностью и силой. Эти позолоченные
изразцы, которыми покрыты своды, эти мраморные ангелы, сидящие на
изгибах, этот гордый бронзовый балдахин, опирающийся на витые
колонны, эти помпезные гробницы пап - все это образует ансамбль,
единственный в своем роде; никогда христианскому Богу не посвящали
более прекрасного языческого торжества.
Но каков Бог этого храма? В глубине апсиды, над самым даже алтарем,
там, где помещается обыкновенно изображение Пресвятой Девы или
•314·
СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
Христа, находится кафедра святого Петра. Это она является патронессой
и владычицей этого места. Официальные термины довершают
объяснение: папу именуют «Его святейшество», «Его блаженство», - делают вид,
что верят, будто он находится уже на Небе.
Почти все гробницы пап поразительны - особенно гробница Павла III
работы [Джакомо] делла Порта. Две фигуры Добродетелей, полулежащие
на ней, выказывают в смелых позах свои прекрасные тела; старуха
грезит с великолепной и гордой важностью; молодая - пышной красоты,
с тонким и чувственным лицом, с распущенными волосами и
маленьким ушком венецианских фигур. Она была почти нагой, потом ее
одели: этот переход от скульптуры природы к скульптуре
благопристойности отмечает перемену, отделяющую Возрождение от эпохи господства
иезуитов.
Я не знаю, почему Стендаль так хвалит мавзолей Климента III
работы Кановы - это фигуры Жироде или Герена, пошлые и шокирующие.
В этом отношении гробницы недавнего времени поучительны: чем
ближе монумент к нашей эпохе, тем более одухотворенное и мыслящее
выражение принимают его статуи. Голова поглощает все внимание, тело
стирается, закутывается, становится аксессуаром и чем-то маловажным.
Посмотрите, например, поочередно на гробницу Бенедикта XIV,
умершего в прошлом столетии, и расположенные рядом гробницы Пия VII
и Григория XVI: на первой сидят или двигаются красивые женщины,
еще здоровые и сильные, в хорошо найденных позах и с живо
схваченным движением; на двух других Добродетели - это скелеты, тщательно
прилизанные, одетые и кокетничающие. Мы кончим тем, что не будем
больше чувствовать тело и форму, а только душу и выражение.
Светлое Воскресенье
Погода испортилась, дождь налетает порывами; но толпа покрывает
всю площадь, лестницы, портики и вливается с долгим жужжаньем в
неизмеримость базилики.
В этом человеческом океане волны медленно развертываются и
разбиваются. Перед статуей святого Петра поток приливает и отливает под
влиянием встречной струи предыдущих валов. Теснота и взаимные
столкновения ежеминутно то сжимают, то разжимают подвижный
беспорядок этих масс. Нестройный смешанный гул шагов, толчков и слов
наполняет громадные стены, а в высоте, над этими волнением и ропотом,
замечаешь мирную округлость дуг, сияющую пустоту сводов и ряды бор-
• 315 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
дюров, орнаментов, статуй, нарастающих друг над другом, чтобы
заполнить головокружительную пропасть купола.
В этом море тел и голов двойная плотина солдат, певцов и
детей-хористов образует русло, по которому пышно катится торжественный
кортеж; впереди дворянская гвардия, красная и белая, с касками на
головах; потом красные камерарии, далее фиолетовые прелаты; потом
церемониймейстеры в камзолах и черных плащах, наконец сам верховный
первосвященник, несомый свитой в кресле красного бархата, затканном
золотом, в длинном белом одеянии, расшитом золотом, с трехъярусной
золотой тиарой на голове. Веера из страусовых перьев веют вокруг него.
У него добрый, благосклонный вид; красивое бледное лицо его как у
больного; вспоминаешь с сожалением, что он должен страдать в эту минуту,
что его нога окутана повязками. Он тихо, с мягкой улыбкой, раздает
благословения.
Певчие и солдаты весело болтают за мгновение перед его
прохождением; минутою позже, когда труба с хор заиграла какую-то оперную арию,
два или три солдата принялись напевать ее в унисон. Но простонародье
и крестьяне, тут бывшие, смотрели так, как если бы они видели Бога Отца.
Нужно видеть их лица, особенно перед статуей святого Петра. Они
толпятся вокруг нее, задыхаясь в тесноте, чтобы приложиться к бронзовой
ноге, которая теперь уже совсем стерта. Они гладят ее рукой,
прижимают к ней лоб. Многие из них, чтобы попасть сюда, сделали пешком десять
или двенадцать миль и не знают, где найдут ночлег. Некоторые,
ошеломленные переменой воздуха, спят стоя около столба, и их жены толкают их
локтем. У многих голова римской статуи - низкий лоб, угловатые черты
лица, мрачный и тупой вид; у других - правильное лицо, широкая борода,
красивый горячий цвет кожи, вьющиеся от природы волосы, как на
картинах Возрождения. Нельзя представить себе расу более сильную и более
некультурную. Их костюмы оригинальны: старые казакины из козьей или
бараньей шкуры, кожаные гетры, синие плащи, сотни раз вымоченные
дождем, сандалии из сырой кожи, как в первобытные времена; от всего
этого идет невыносимый запах. У них неподвижный взгляд, сверкающий,
как взгляд животных; еще ярче и как одичалый сверкает взгляд женщин,
пожелтевших и изнуренных лихорадкой. Они идут сюда, побуждаемые
смутным страхом, подобным страху древних латинян, боясь не
понравиться неведомой опасной силе, которая может по желанию наслать на
них болезнь или град, - и они целуют большой палец статуи с
серьезностью азиата, приносящего дань своему паше.
•316·
СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
Жужжание мессы струится, полутеряясь в отдалении, и величавые
формы церкви, окутанные ладаном, аккомпанируют своим
благородством и важностью ее таинственной гармонии. Какой могущественный
господин и какой великолепный идол аая этих крестьян - хозяин этого
храма! Вспомните, чтобы понять их впечатление от этого великолепия, этих
позолот и мраморов, про их дымную хижину, их унылые поля, крутые
сожженные горы, черные озера, тяжелый зной лихорадочного лета,
смутные беспокойные представления, мешающиеся в голове пастуха в часы
одиночества или когда ночь с ее свитой мрачных видений нависает над
равниной. Багровое небо, как вчера, на конце этой сизой равнины, в
угрюмом вечернем дыму, вызывает дрожь. Неумолимое полдневное солнце,
в ущелье между скал или около гнилого болота, рождает головокружение.
Мы знаем от древних римлян, какую власть над человеком имело
суеверие среди этих стоячих вод, этих рассеянных сопок, этих изломанных
гор, этих металлических озер, - а крестьяне, которые сейчас перед нами,
имеют ум не более здоровый, не более развитый, не более спокойный, чем
солдаты Папирия.
Все выходят из храма и ждут папу, который должен появиться на
большом балконе Святого Петра и дать благословение. Лождь
усиливается и, насколько хватает глаз, на площади, на улицах, на балконах
теснится и кишит толпа - кавалерия, пехота, кареты, пешеходы под
своими зонтиками, крестьяне, мокнущие в своих козьих шкурах. Они сидят
на корточках целыми семействами и глазеют, поедая бобы; что более
всего поражает их - это мундиры и длинные ряды французских полков.
Их дети, в бараньих шкурах, взобравшиеся на столбы, похожи на диких
жеребят.
Балкон остается пустым - папа не мог окончить церемонию: он
слишком болен. Толпа расходится под дождем и по грязи. Несомненно, как
говорит простонародье, у папы дурной глаз: у нас такая плохая погода
потому, что он был в состоянии выполнить лишь половину церемонии.
Вот, спустя четырнадцать веков, - финал римского великолепия, ибо,
конечно, это древняя Римская империя ныне живет и еще
продолжается здесь. Она погрузилась в землю под ударами варварских масс; но, со
всеобщим обновлением всех вещей, и она явилась вновь, под новой
формой - духовной и уже не преходящей. Вся история Италии содержится
вкратце в одном этом слове: она осталась слишком латинской. Герулы,
остготы, ломбарды, франки не оседали в ней или господствовали
недостаточно долго; она не была германизирована, как остальная Европа;
• 317 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
она нашла себя вновь в десятом веке почти такою же, как за три
столетия до Рождества Христова,-муниципальной, нефеодальной, чуждой той
верности вассалов и тому солдатскому честолюбию, которые создали
большие государства и мирное современное общество, отданной, подобно
древним городам, во власть междуусобий, внутренних насилий,
республиканских восстаний, местной тирании и права сильного и, как
следствие этого, во власть частного самоуправства, - нашла себя потерявшей
воинский дух и привыкшей к убийствам. Как только угрожал
образоваться какой-нибудь центр, папа подымал против него сопротивление
городов: ломбардцы, Гогенштауфены севера, Гогенштауфены юга - он
уничтожил их всех. Духовный владыка не мог терпеть рядом с собой
значительного светского государя, и, чтобы остаться независимым, он
помешал образоваться нации. Вот почему в шестнадцатом столетии, в то
время как во всей Европе социальный горн, расширенный и
переделанный, отливал одну за другой правильные монархии, опирающиеся на
храбрость подданных и организованное управление и поддерживаемые
действием правосудия, Италия, разбитая на мелкие тирании вперемежку со
слабыми республиками - со своими испорченными нравами и
расслабленными инстинктами - увидела себя заключенной в узкие формы
античной цивилизации, под бессильным покровительством духовного Цезаря,
который помешал ей объединиться, не будучи в силах защитить ее. Она
была захвачена, разграблена, разделена и продана. В этом мире кто слаб,
тот делается добычей другого; как скоро один народ усваивает высшую
форму организации - его соседи вынуждены подражать ему; тот, кто в
наши дни забывает готовить нарезные пушки и броненосцы, будет завтра
протежируемым, которого не щадят, послезавтра - ступенью, которую
топчут, через день - добычей, которую пожирают. Если Италия в течение
трех веков переносила рабство и падение, то это потому, что она не
стряхнула с себя муниципальных и римских традиций. Она сбрасывает их
теперь: она поняла, что, аая того чтобы держаться на ногах перед лицом
больших военных монархий, она сама должна сделаться большой
военной монархией, что старая латинская организация породила и
продолжила ее слабость, что в таком мире, каков наш, собрание маленьких
государств, живущих под благословениями и интригами космополитического
владыки, принадлежит тем сильным соседям, которые захотят его
эксплуатировать или захватить. Она признала, что две прерогативы,
составлявшие ее гордость, - суть два источника, породивших ее нищету, что
муниципальная независимость и папская власть - силы освободительные
• 318 ·
СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
в Средние века - гибельны в Новое время, что учреждения, которые
защищали ее против завоевателей тринадцатого столетия, предают ее
завоевателям девятнадцатого, что если она не хочет оставаться только местом
прогулки праздных людей, зрелищем аая любопытных, рассадником
певцов, салоном чичисбеев и передней бездельников, то она обязана
сделаться армией солдат, промышленной компанией, лабораторией ученых,
народом рабочих. В этом, столь широком преобразовании она имеет в
качестве стимулов воспоминание о прошлых бедствиях и воздействие
европейской цивилизации. Это много. Довольно ли этого? ЛУ
ИППОЛИТ тэн
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
том I
НЕАПОЛЬ И РИМ
Перевод П. П. Перцова
Предисловие и подбор иллюстраций В.Э. Марковой
Научные редакторы СИ. Козлова, В.Э. Маркова
Художник книги Г.Б.Лукашевич
Главный редактор Т.И. Хлебнова
Редактор H.H. Романова
Художественный редактор Н.Г. Лреничева
Корректор В.В. Борисова
Подписано в печать 05.03.2008
Формат 160x240 мм
Бумага мелованная. Гарнитура Alliance
Печать офсетная
Тираж 3 000
Отпечатано в Китае
я$ <Ä <Ä
Издательство АРТ-РОЛНИК, 2008
125319 Москва, ул. Красноармейская, 25
Т./факс: (495) 151-2956; 151-4521
125319 Москва, а/я 42
info@artrodnik.ru
www.artrodnik.ru