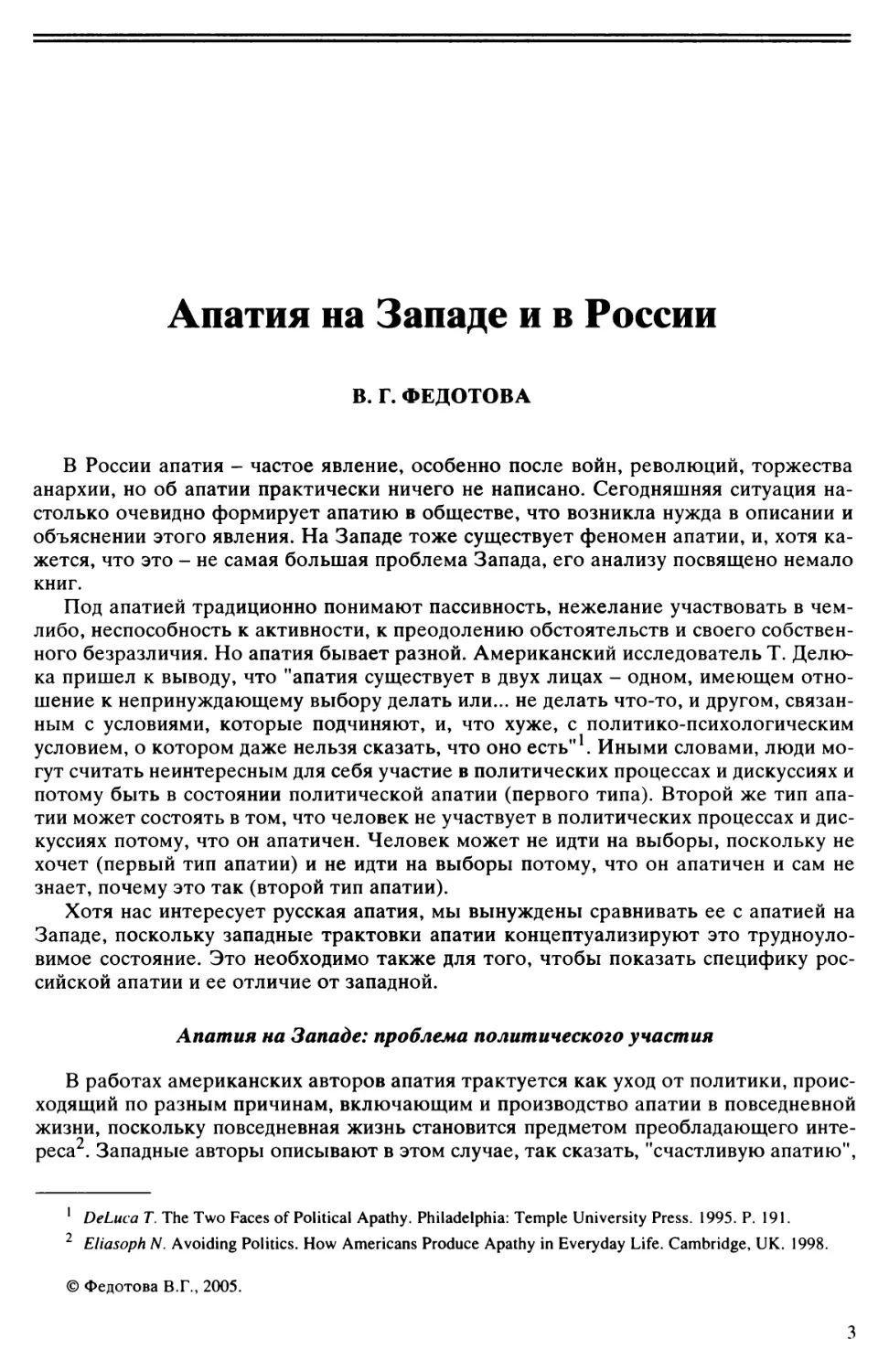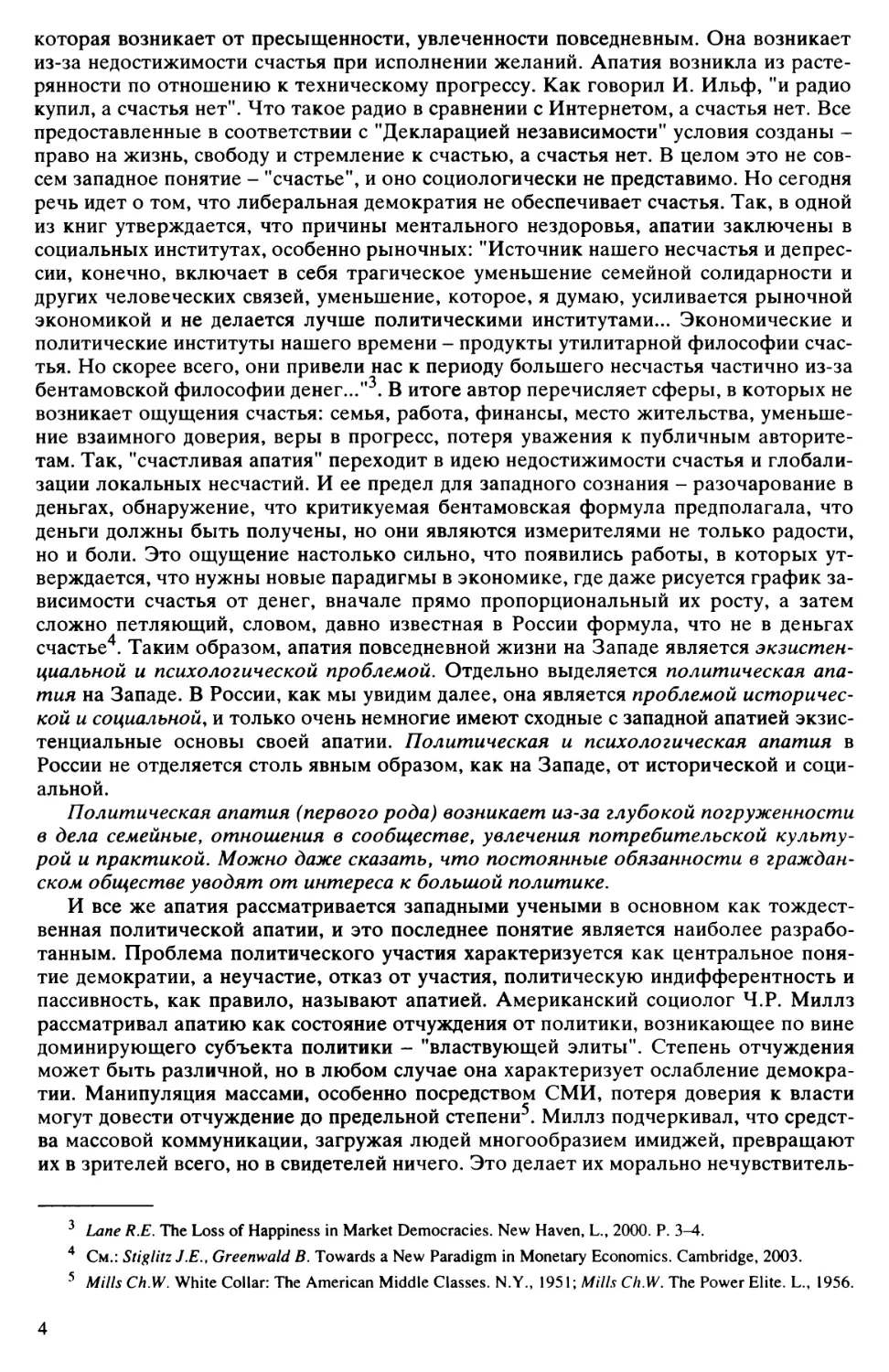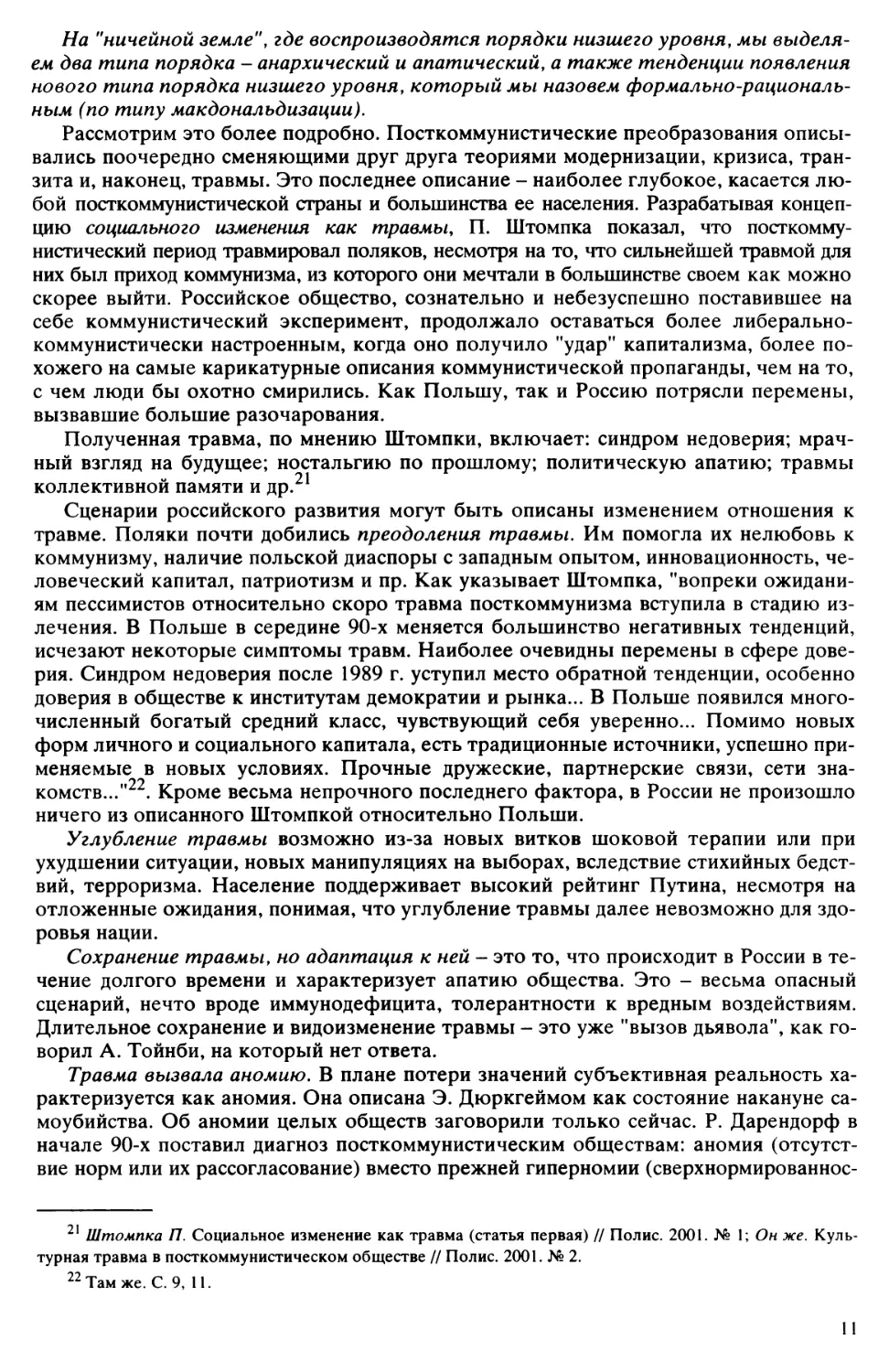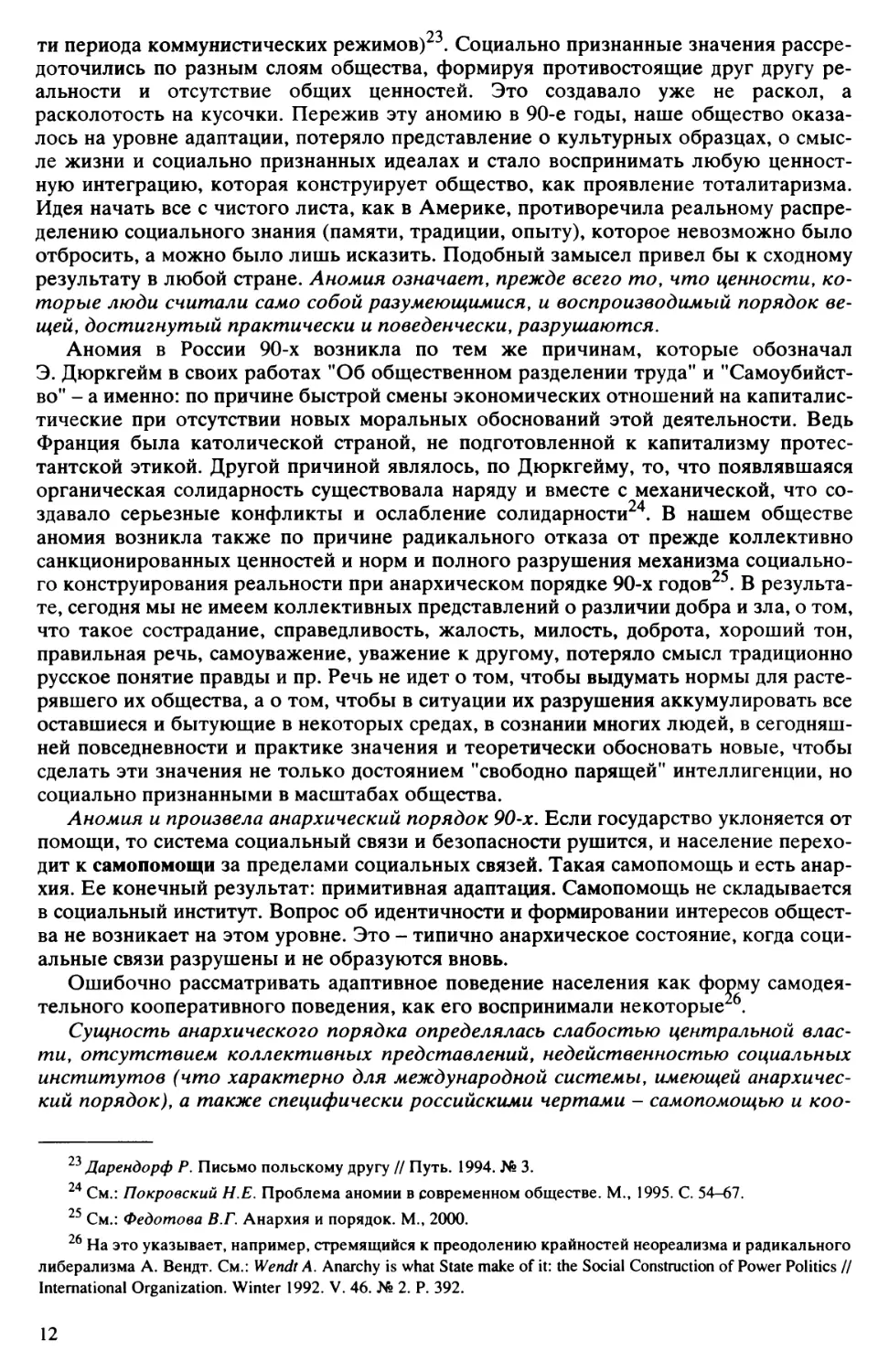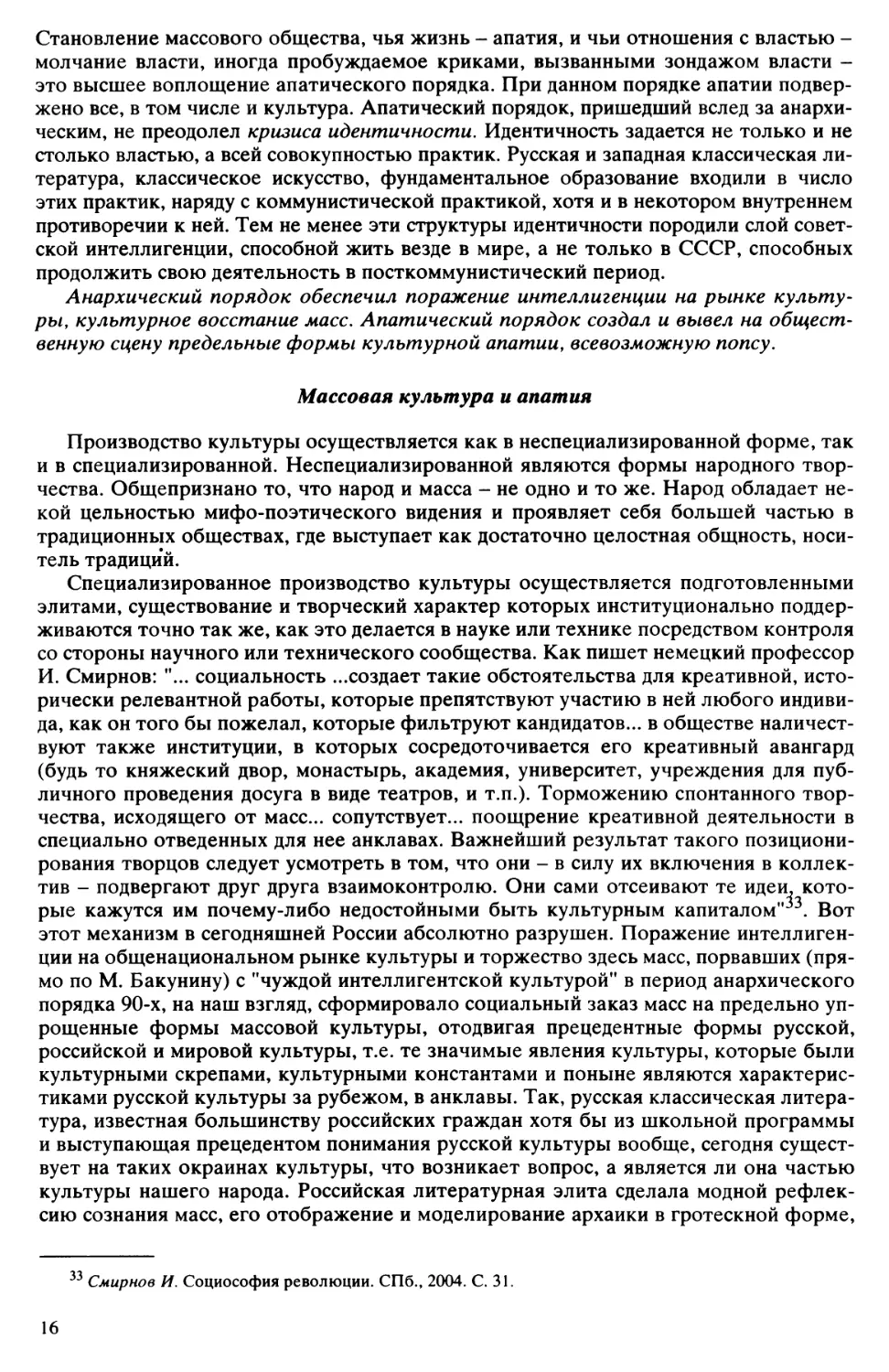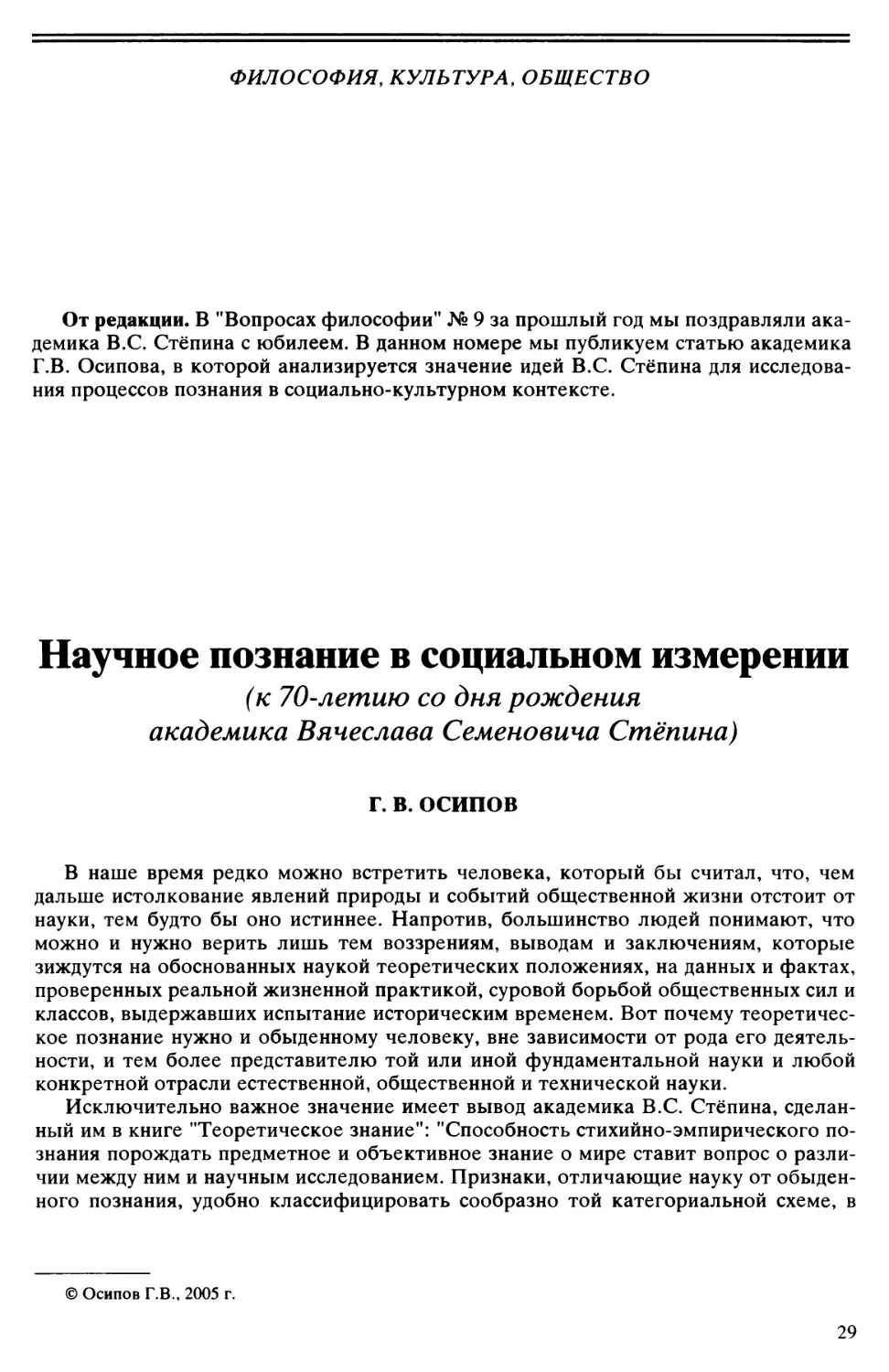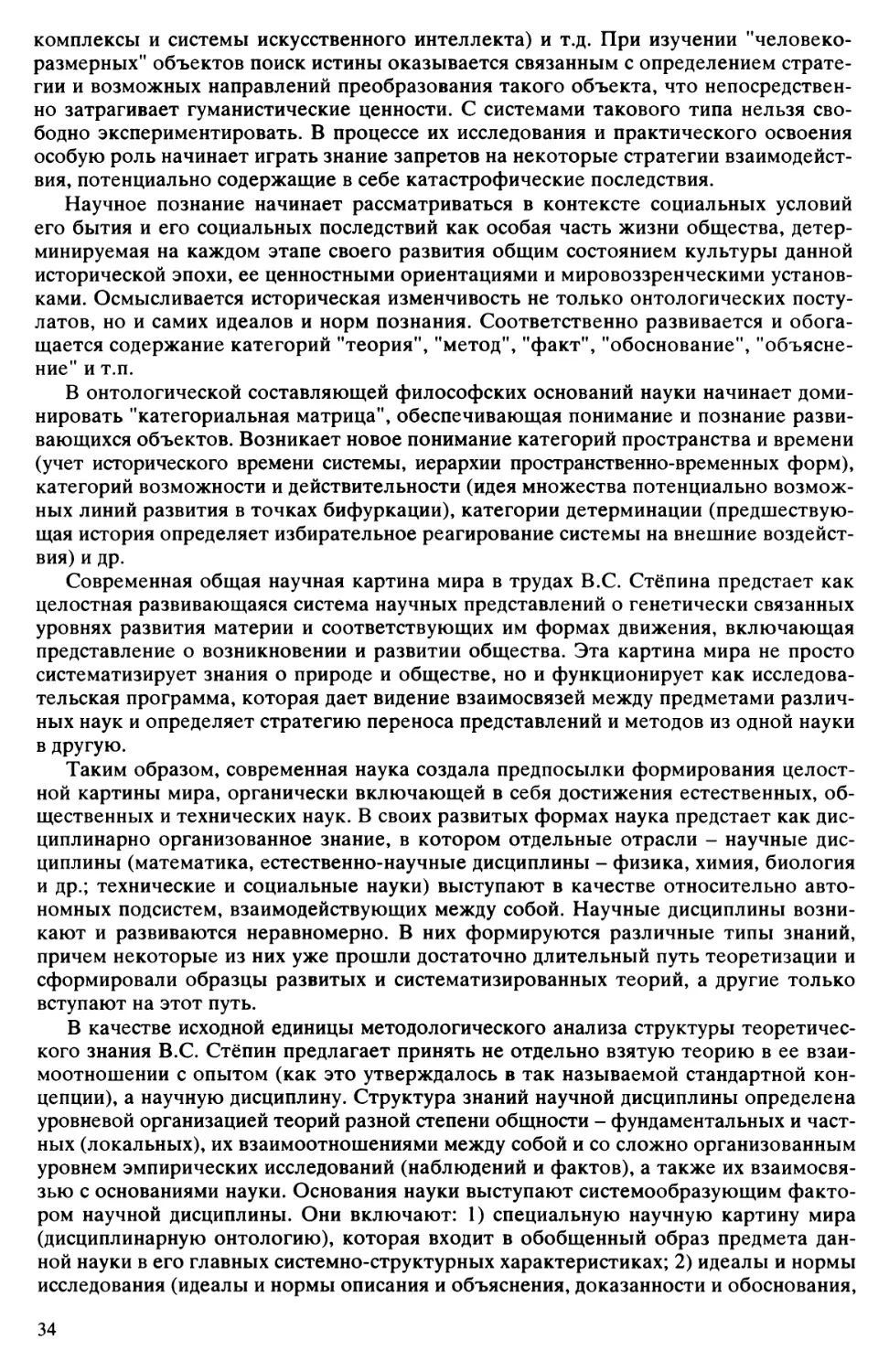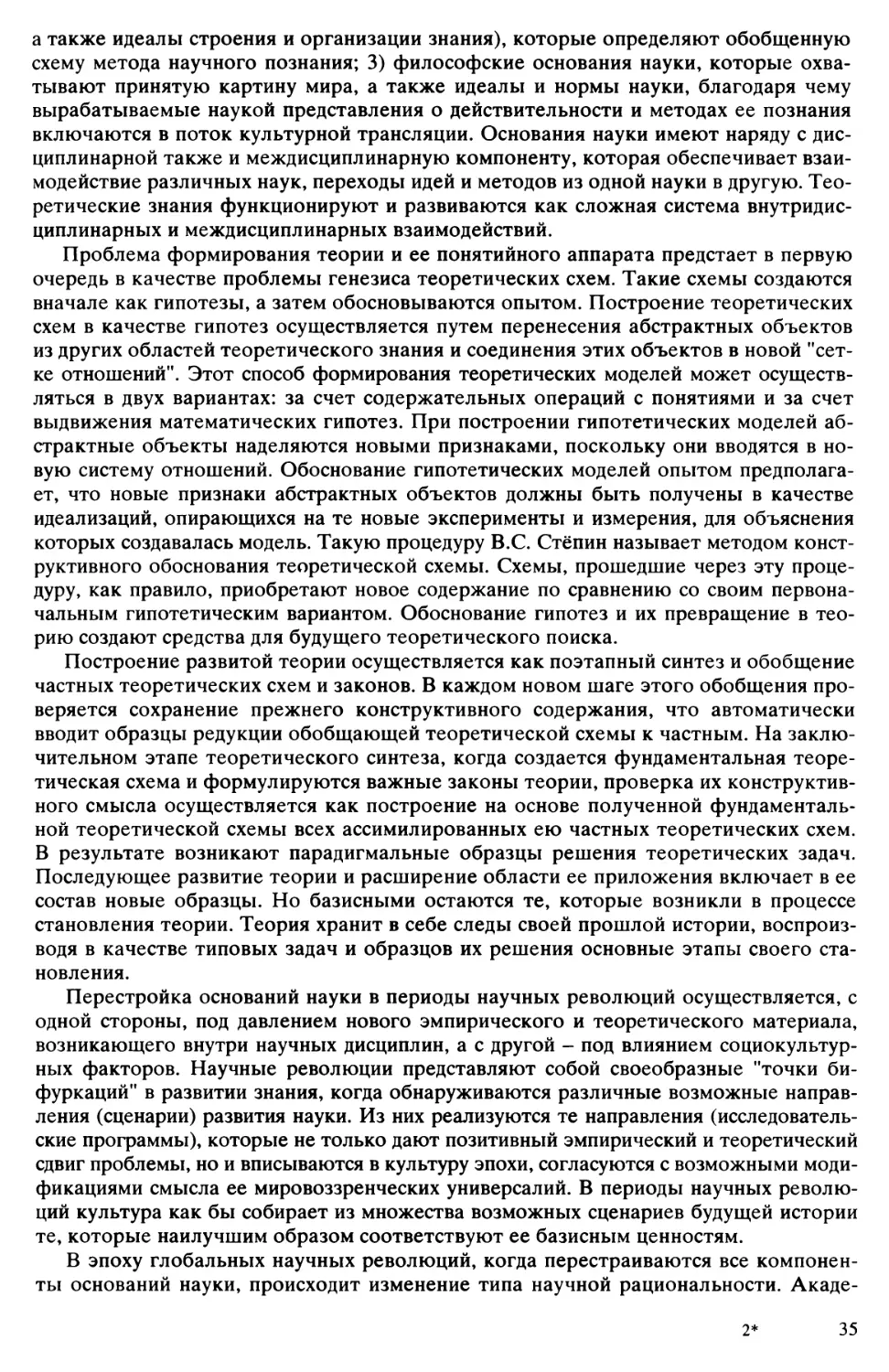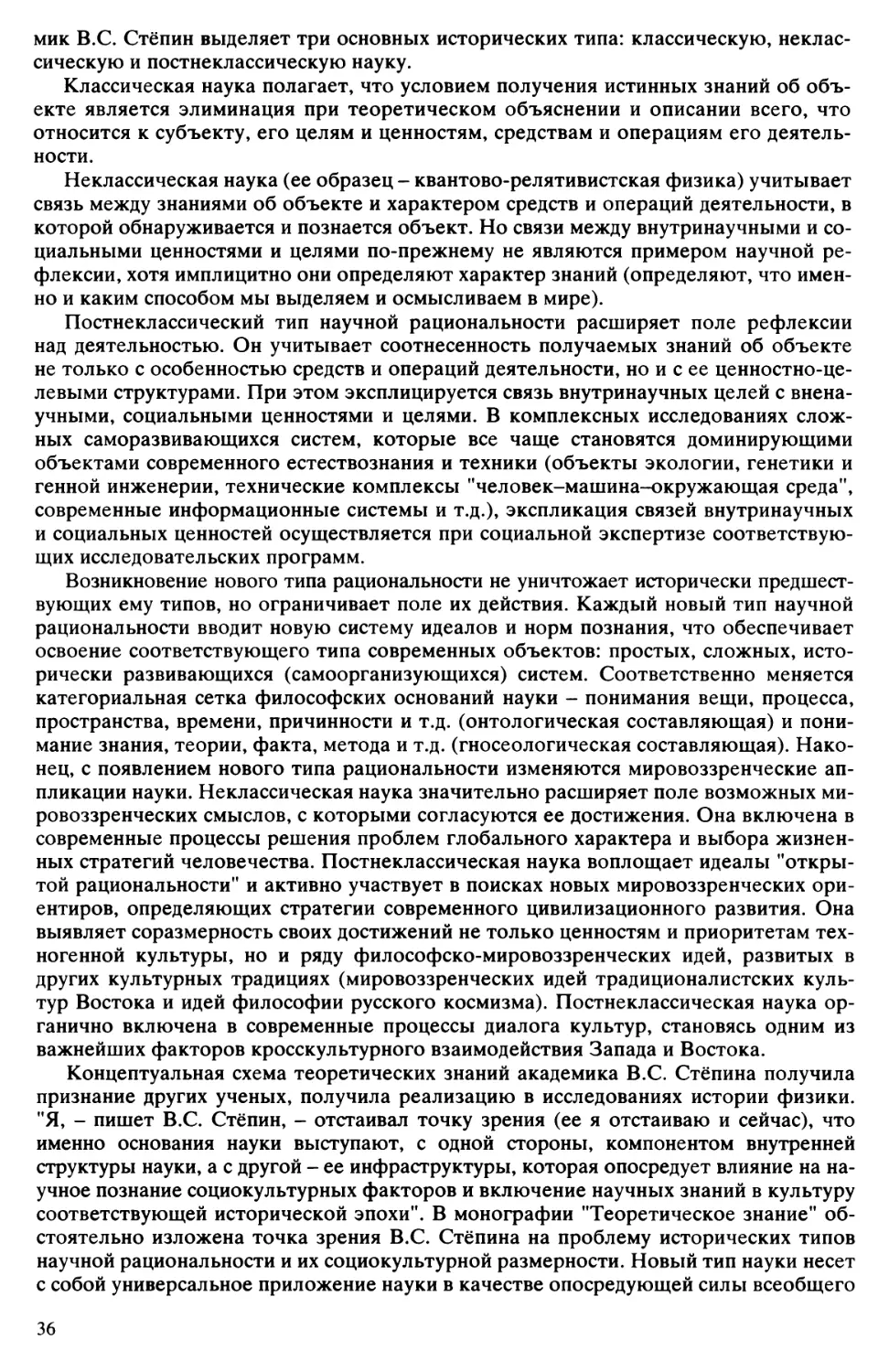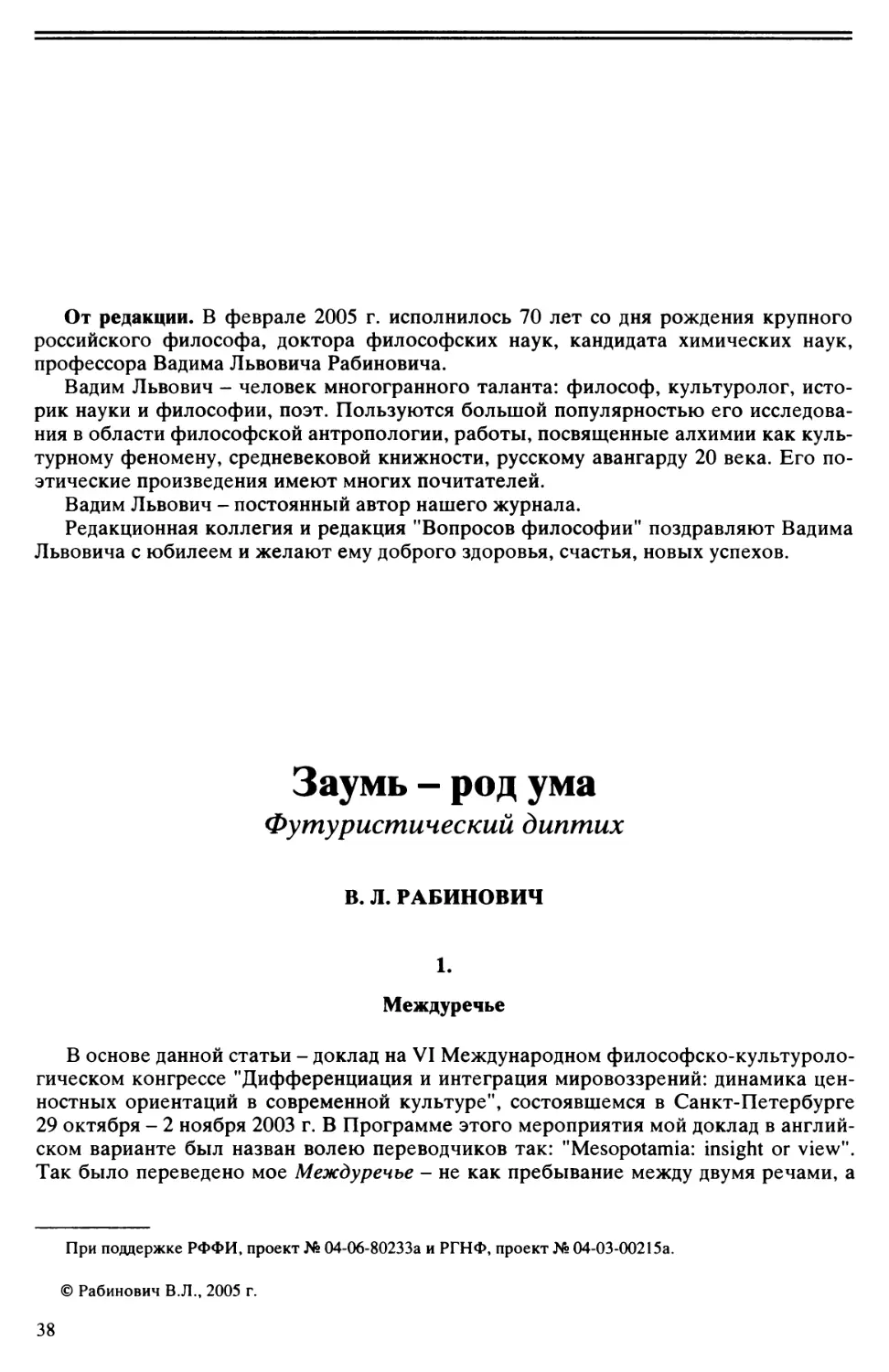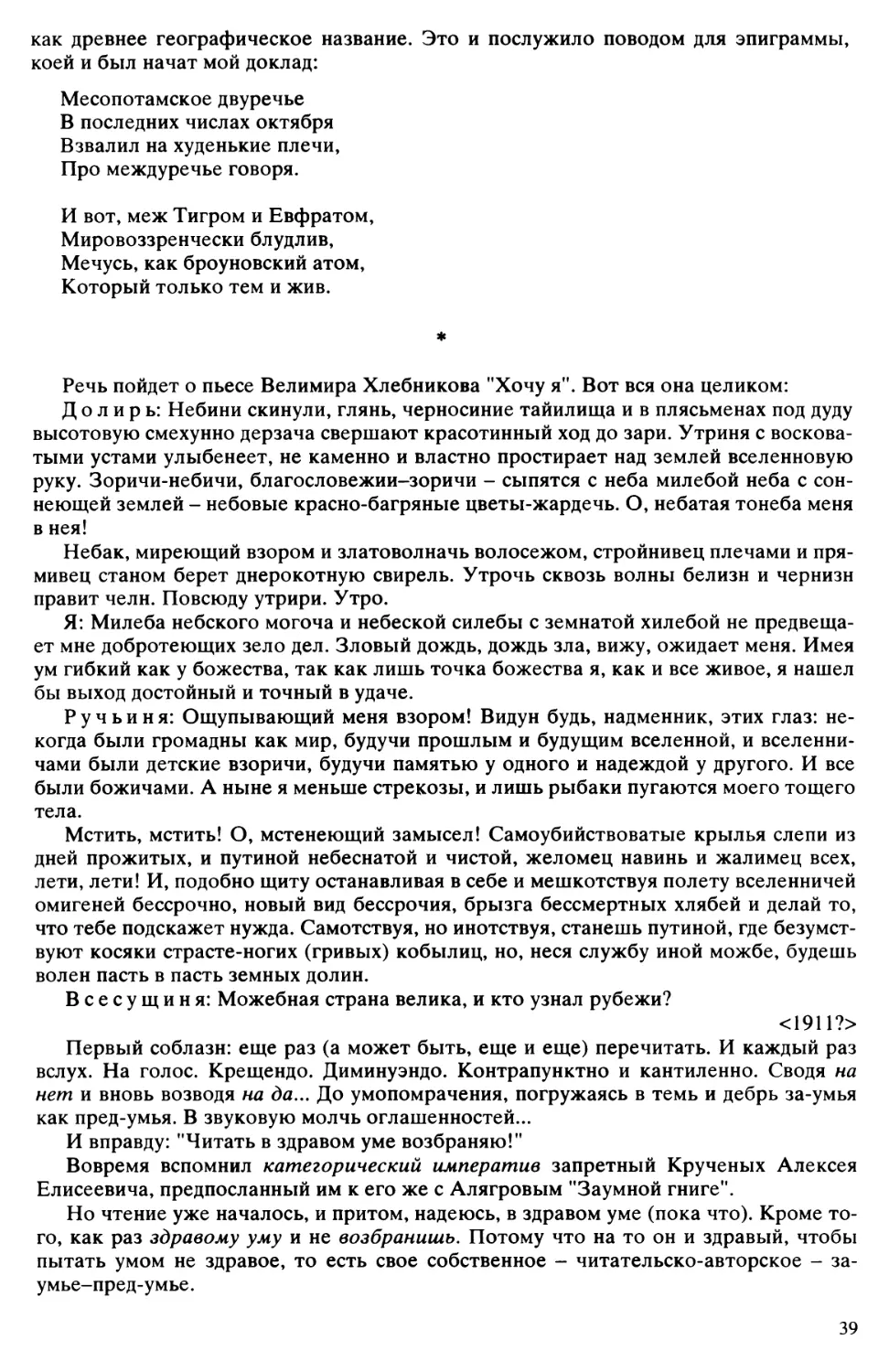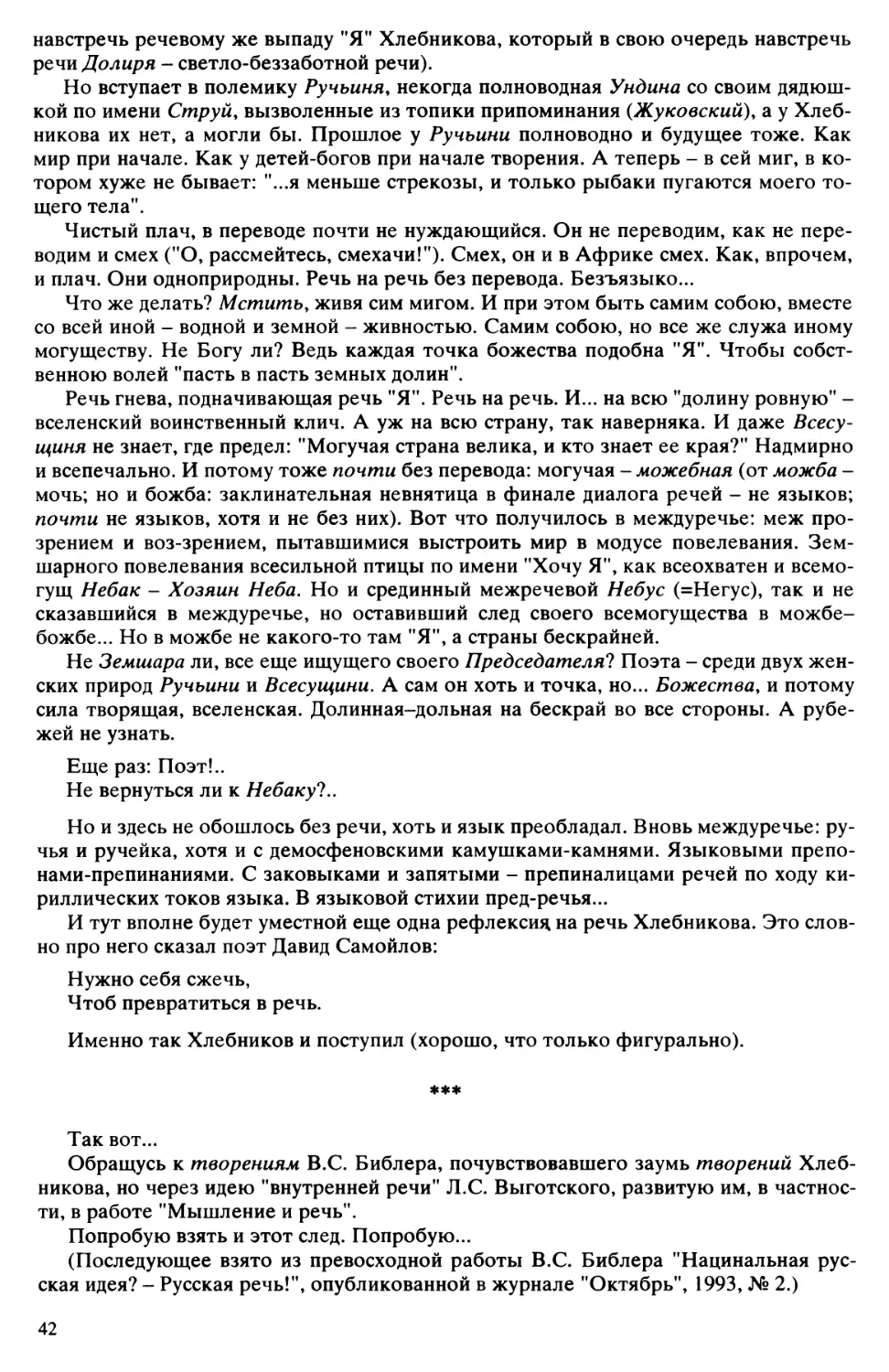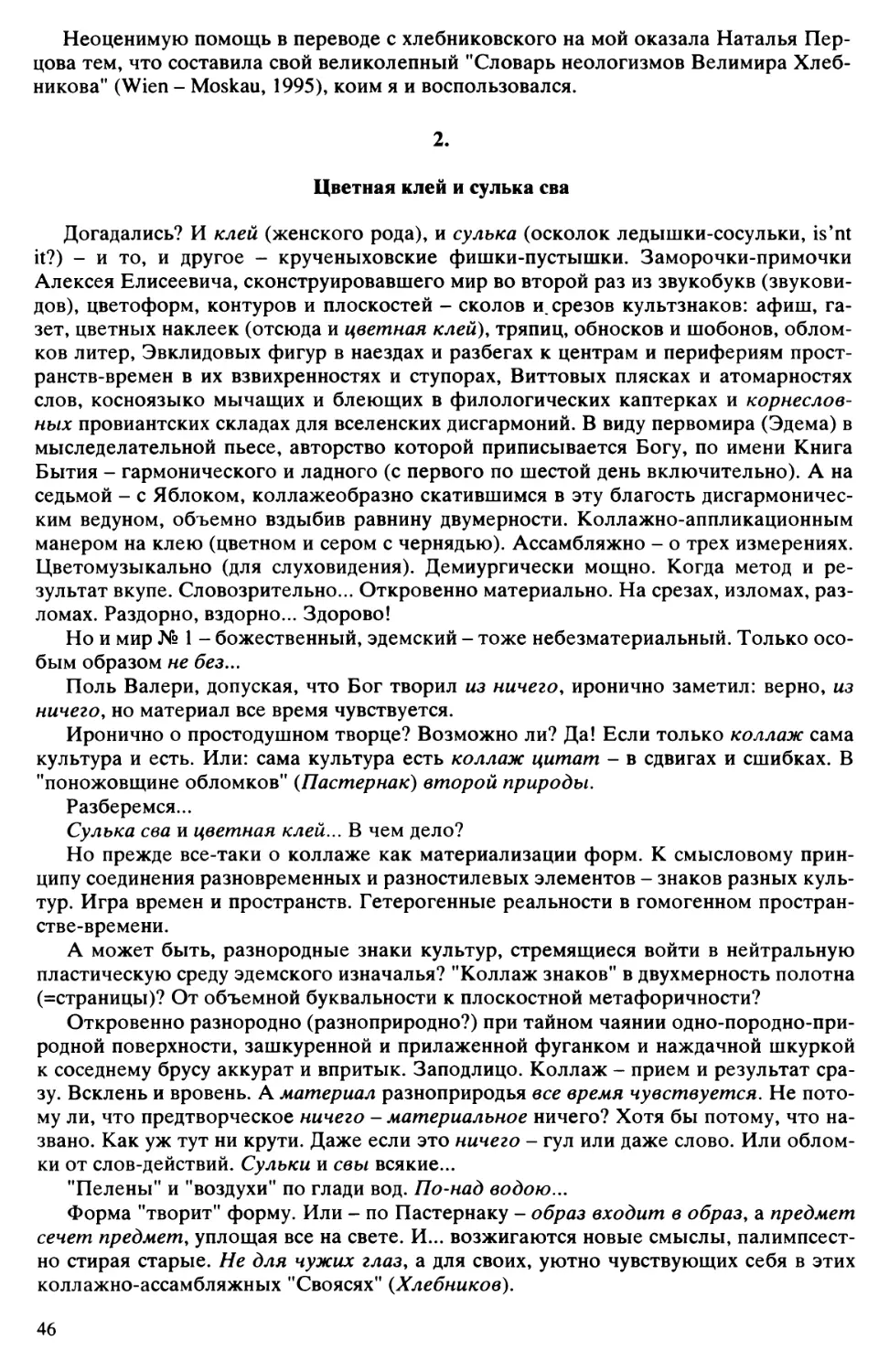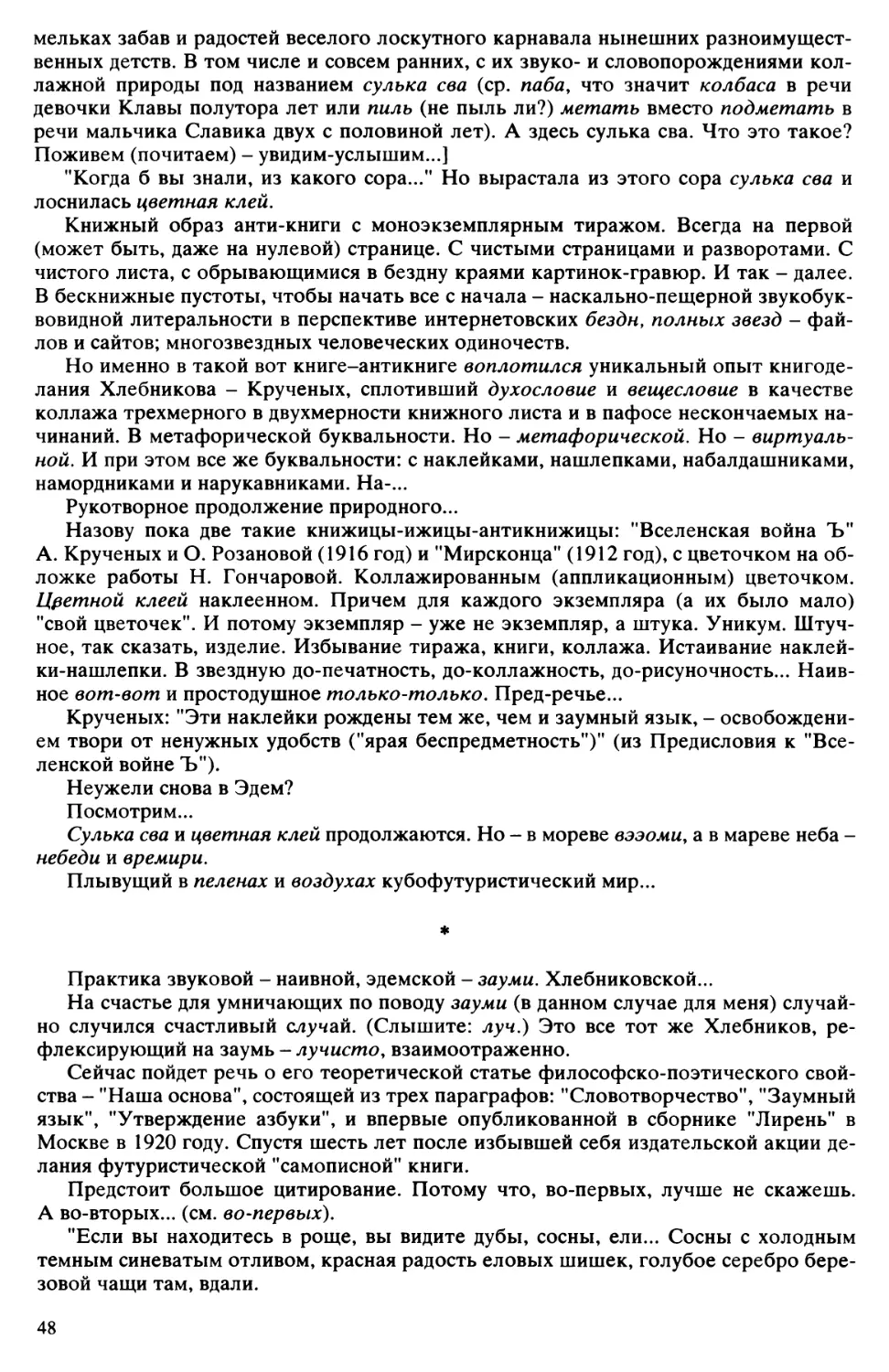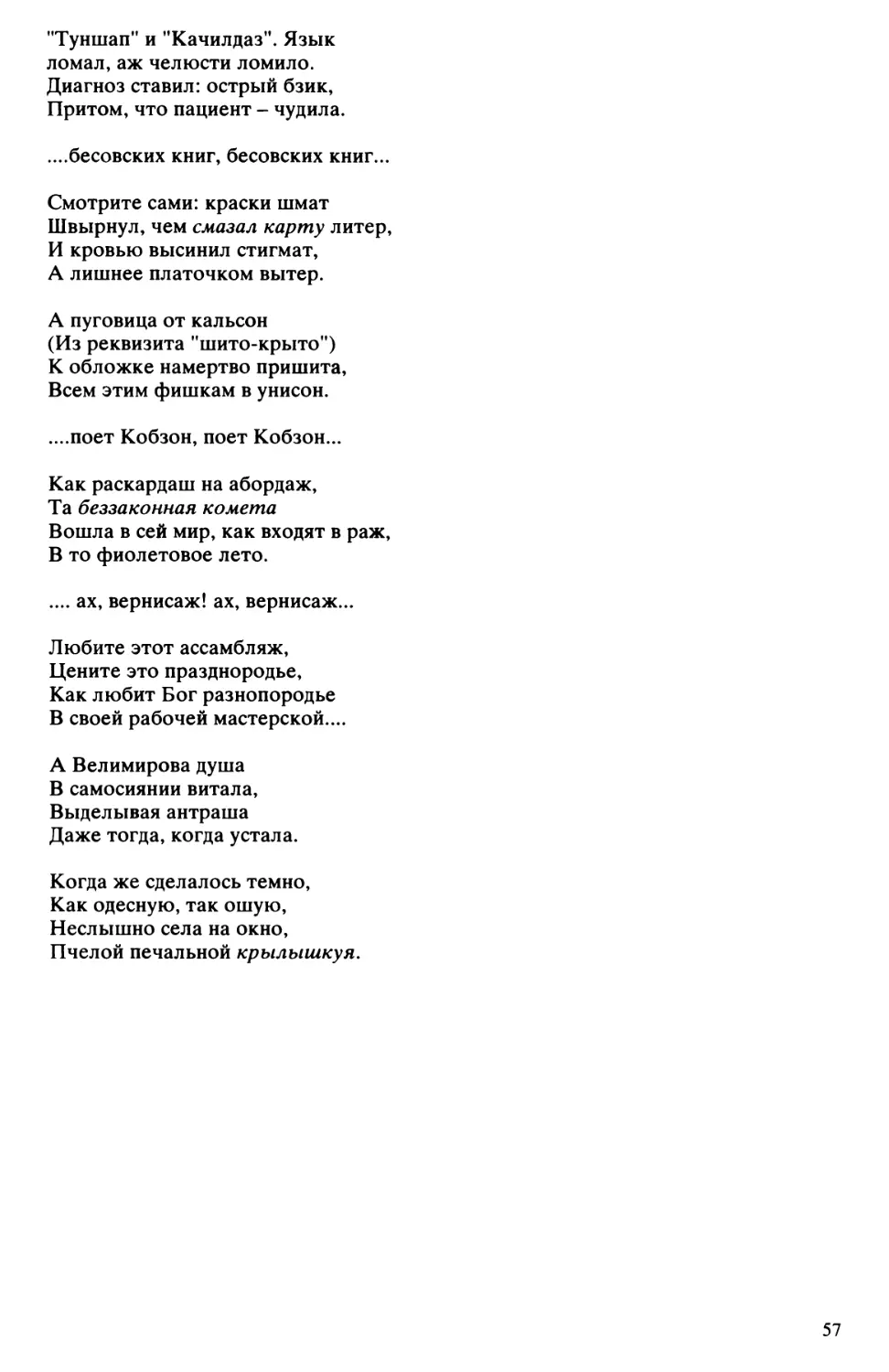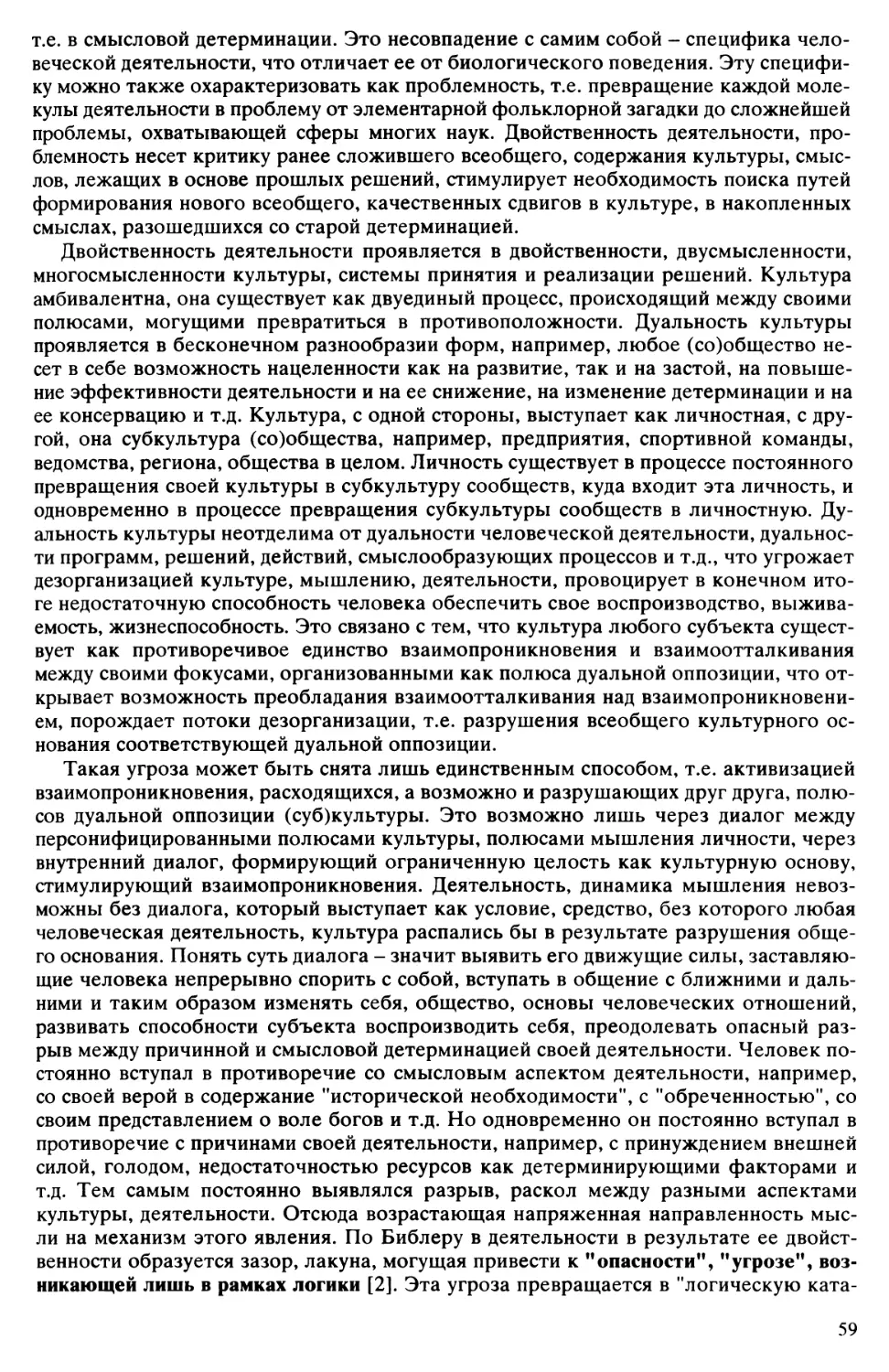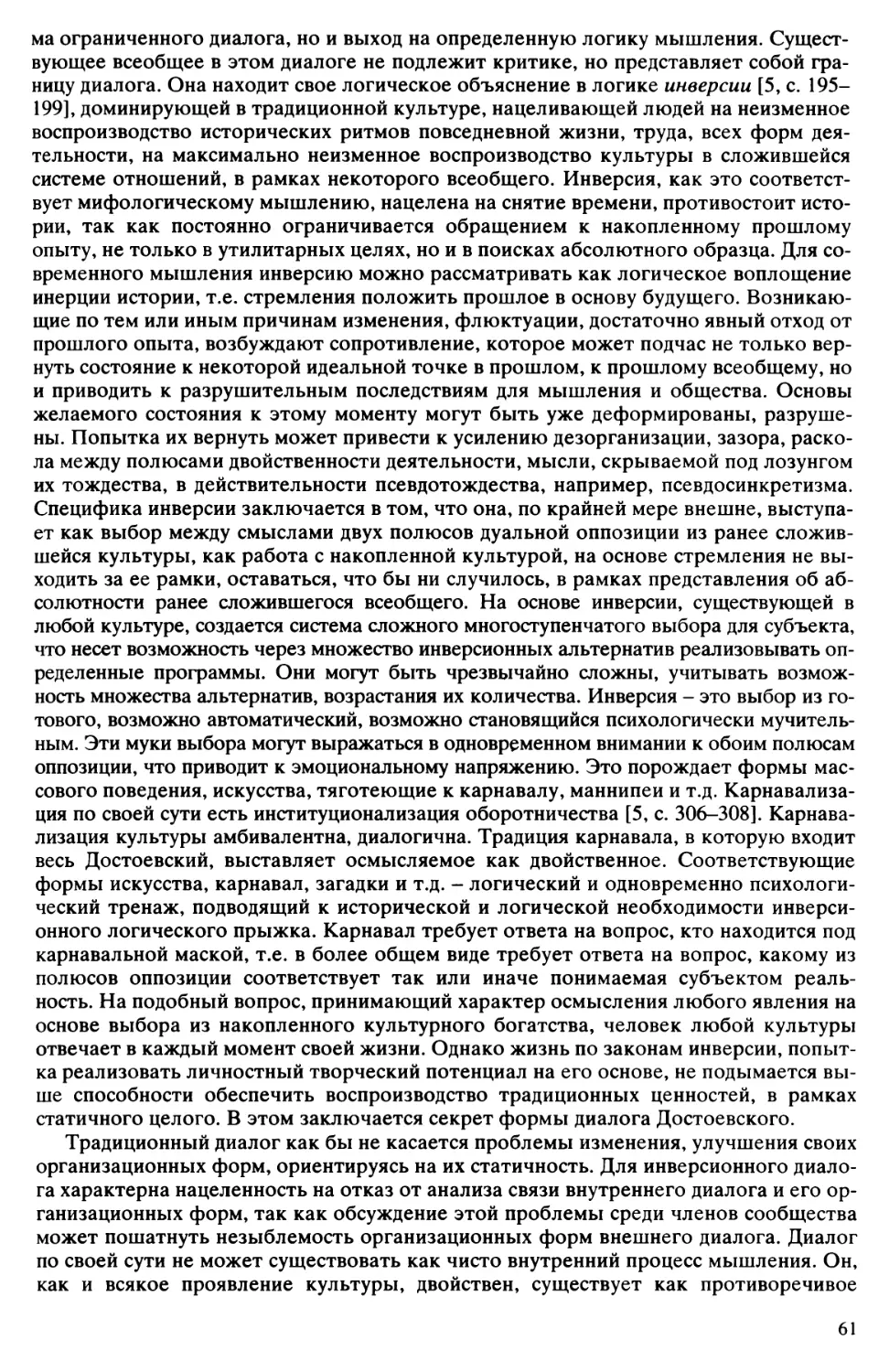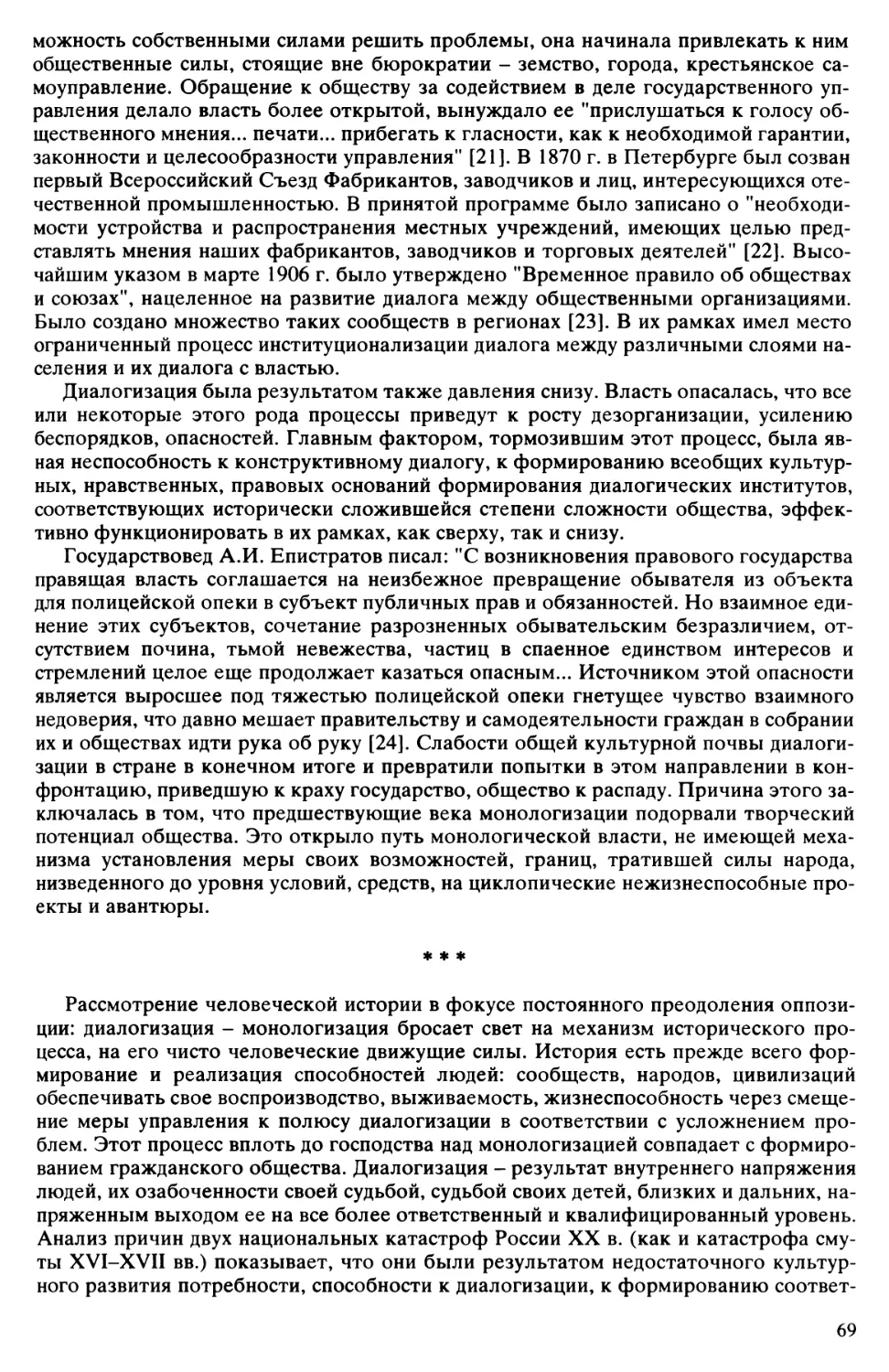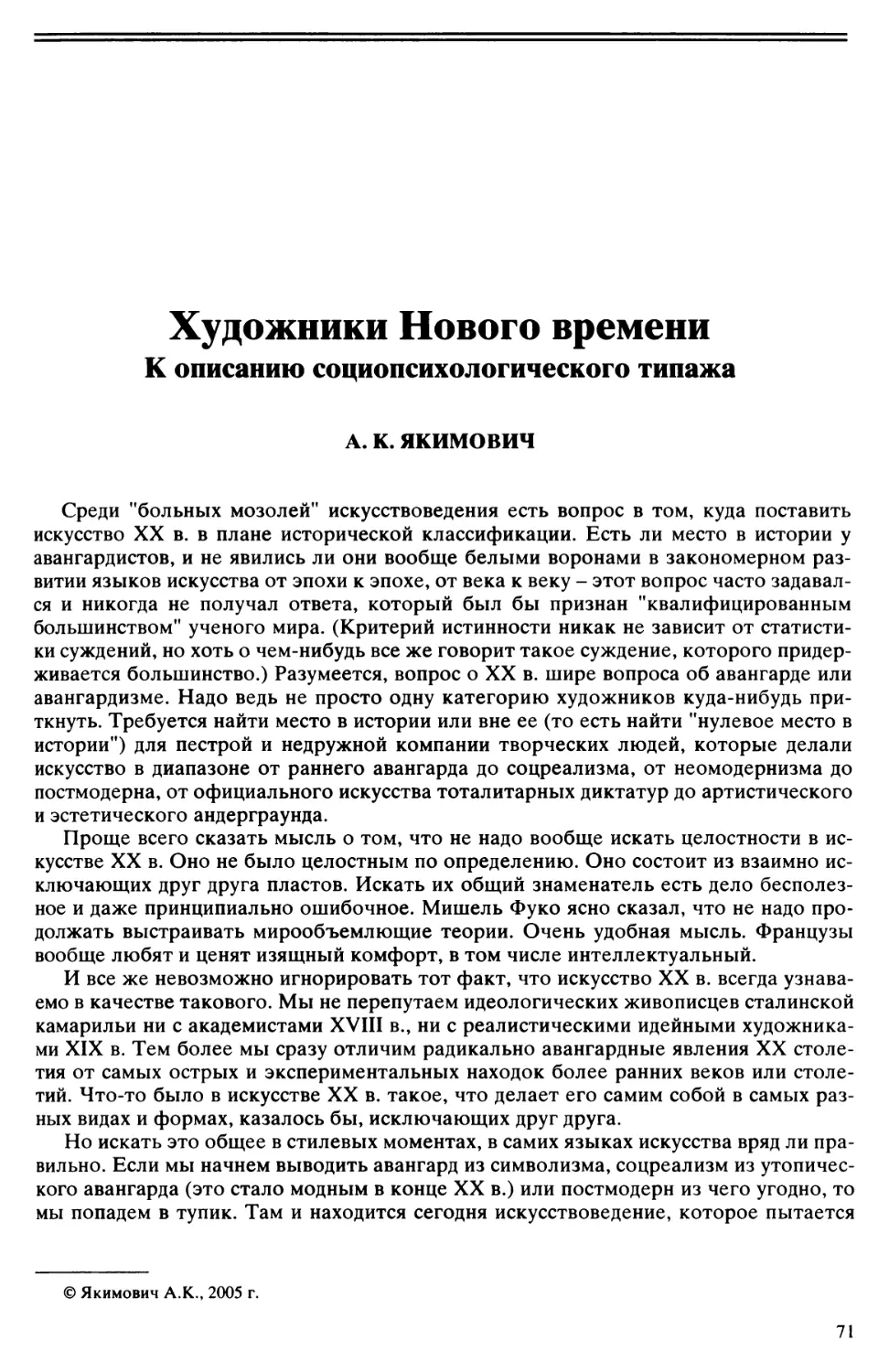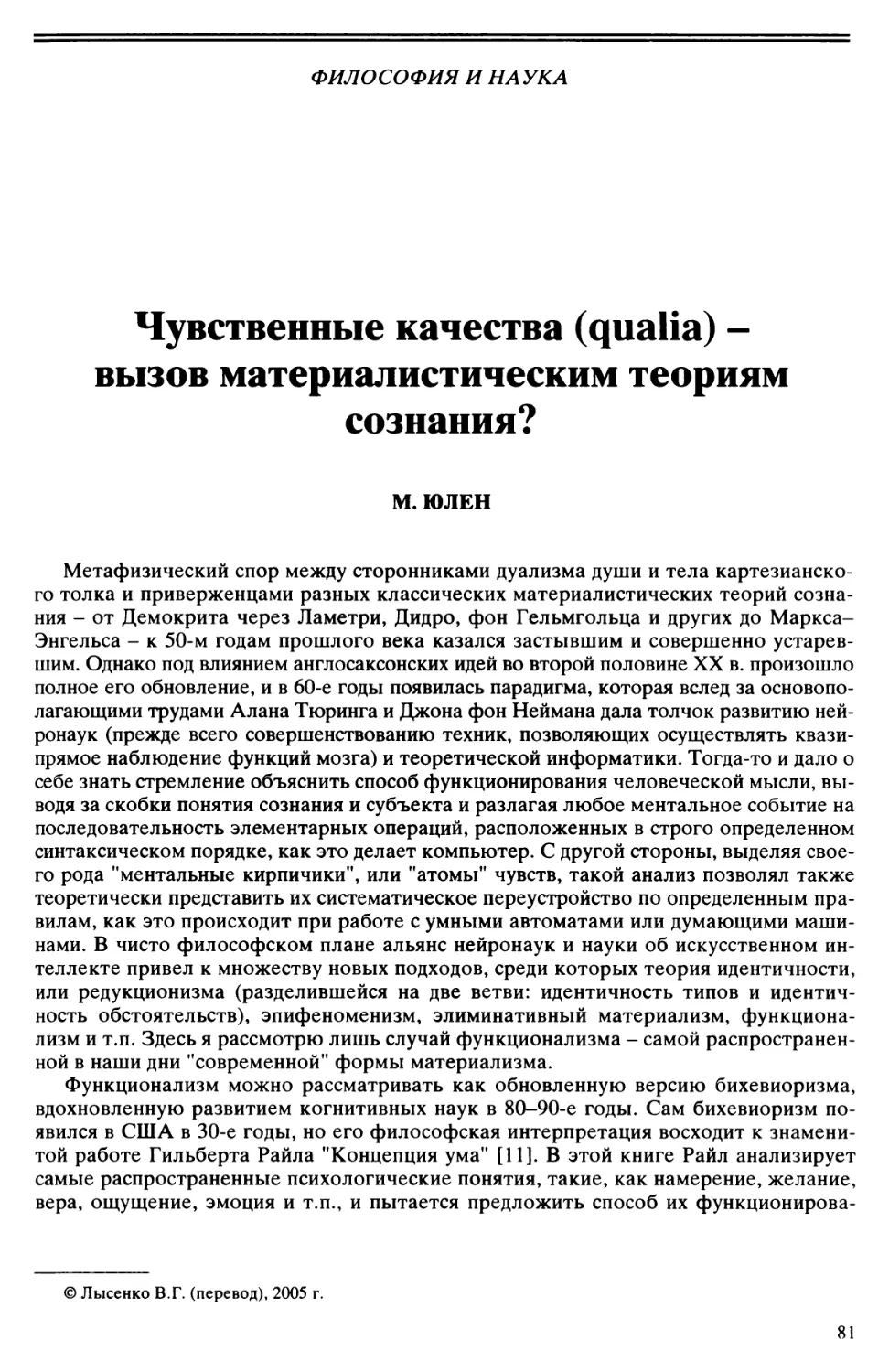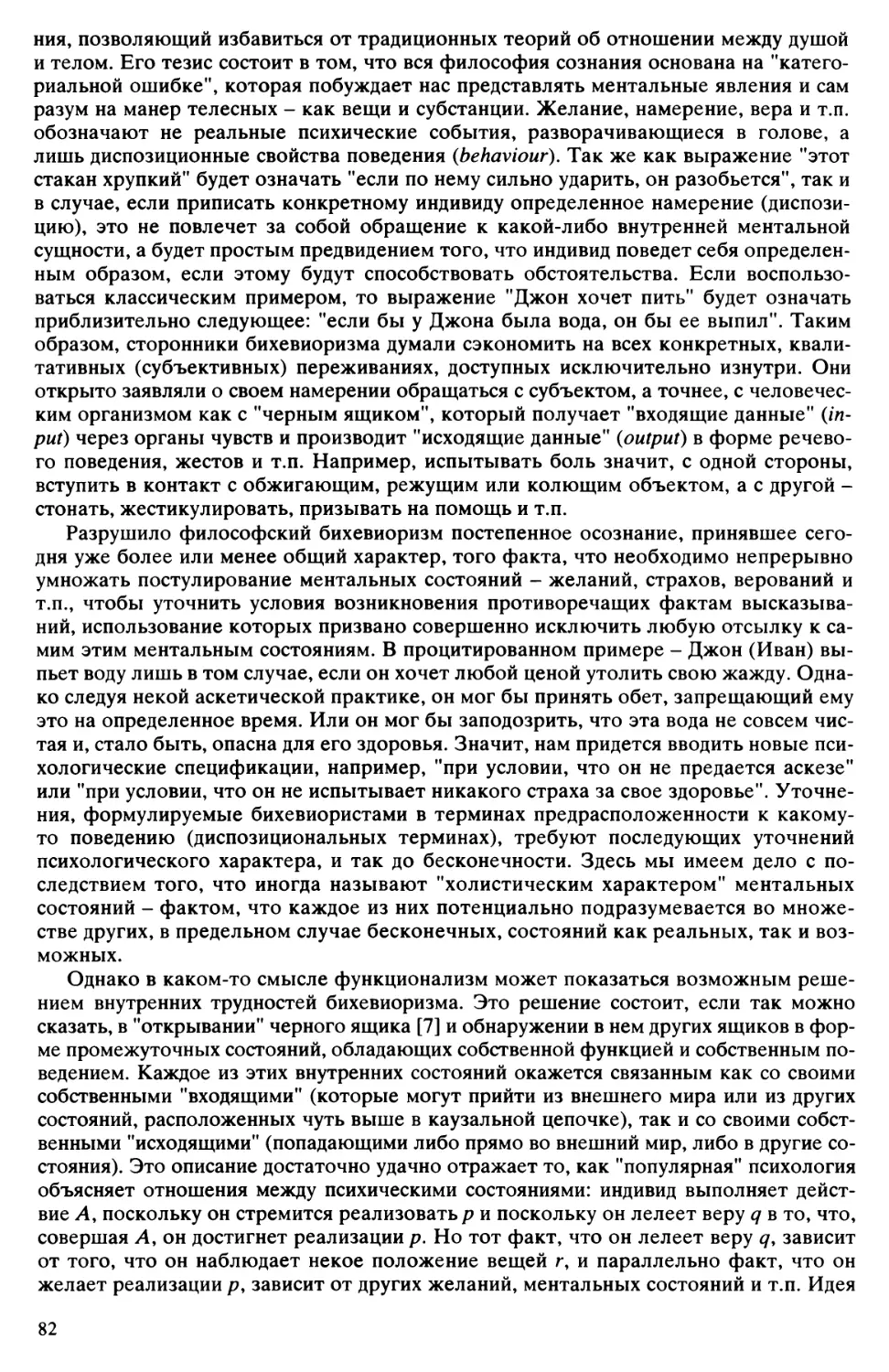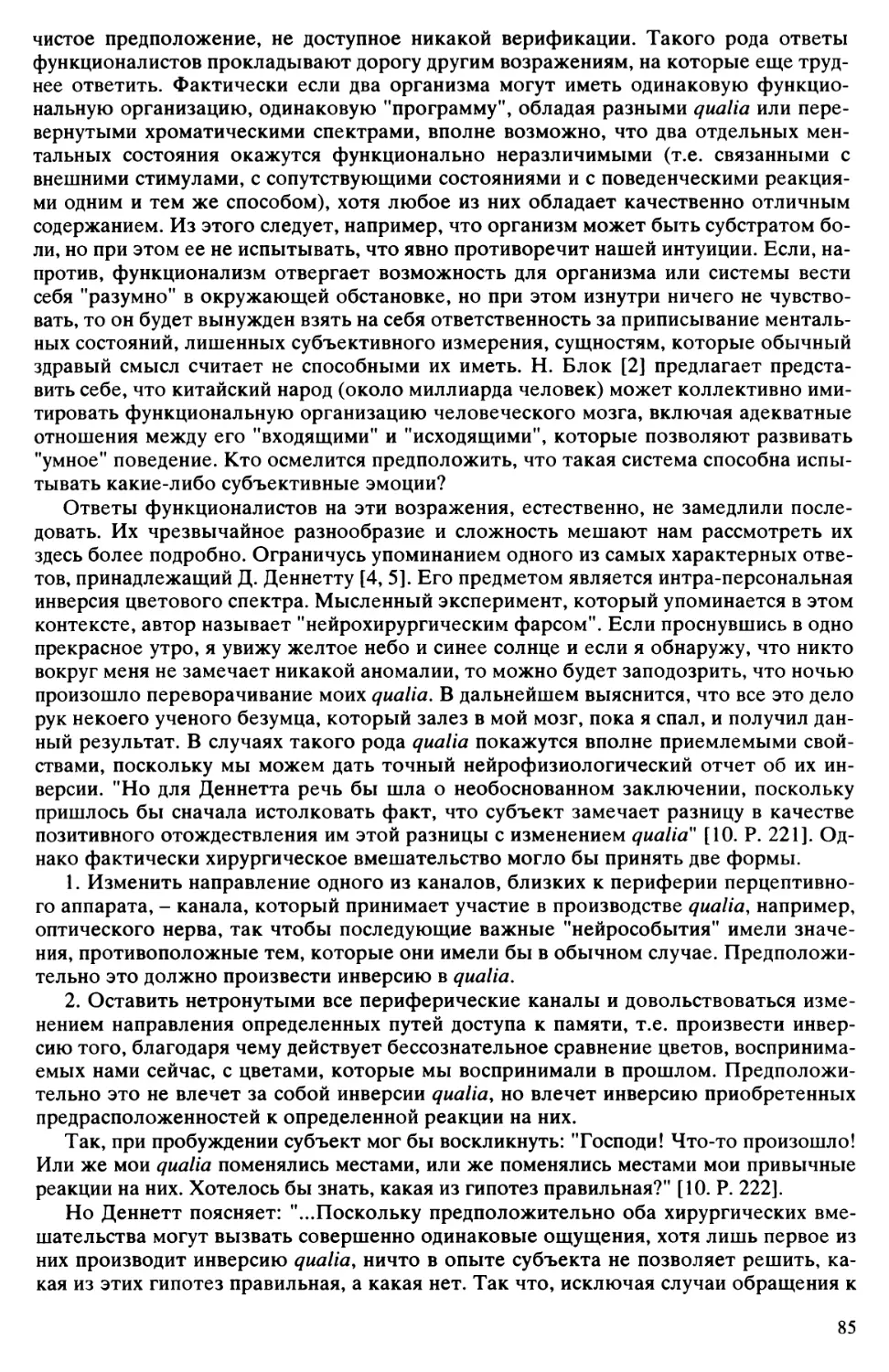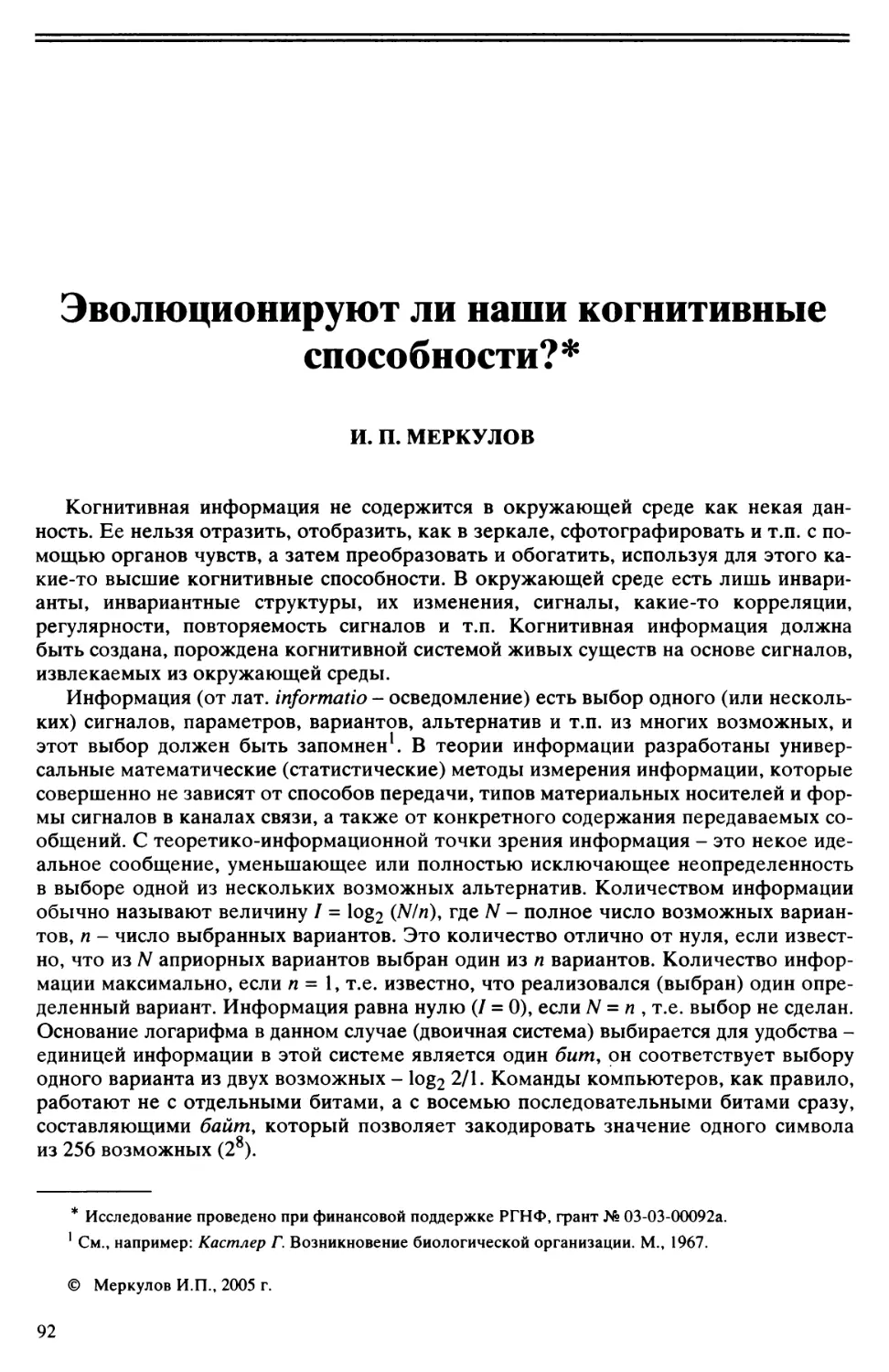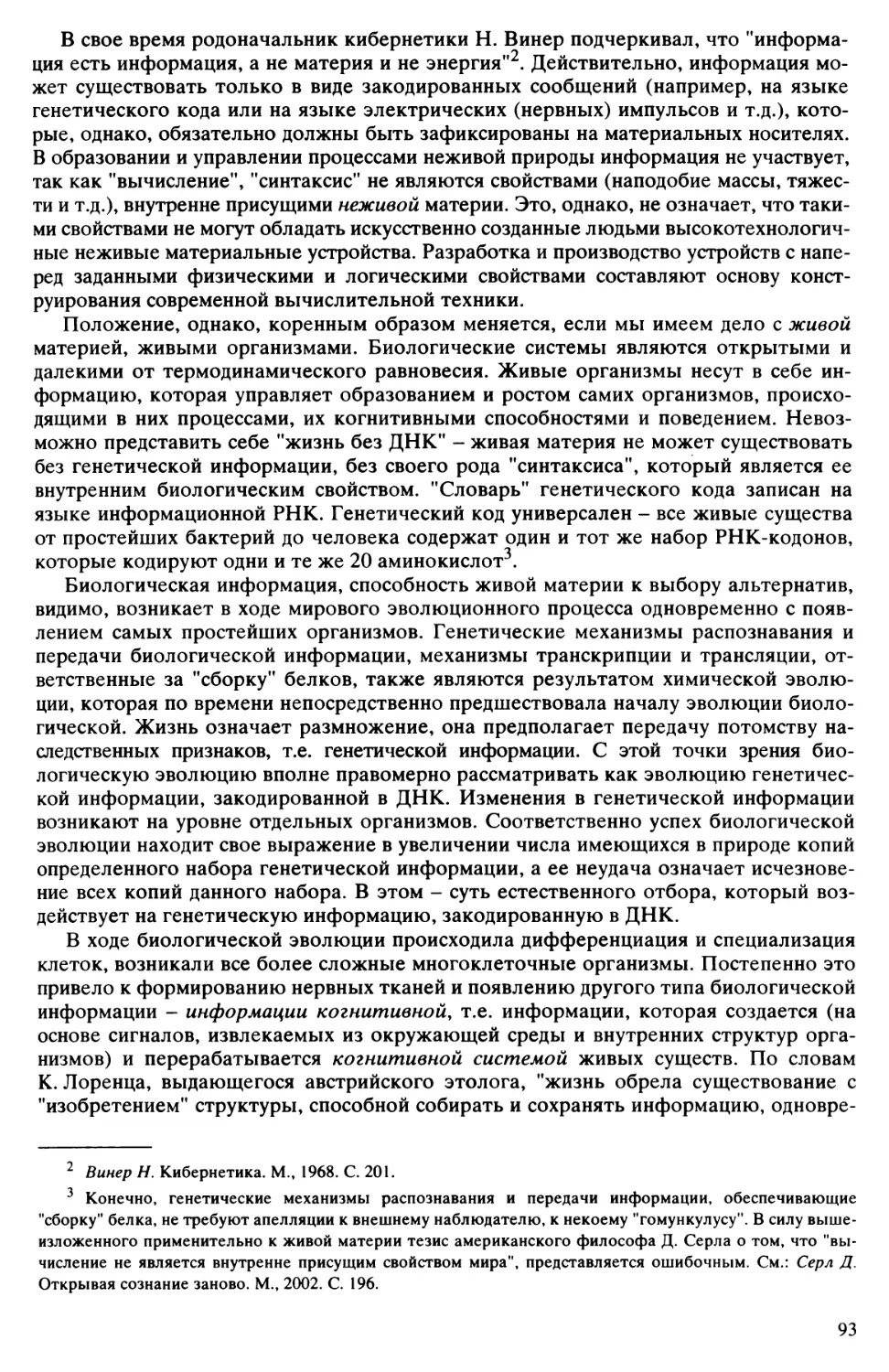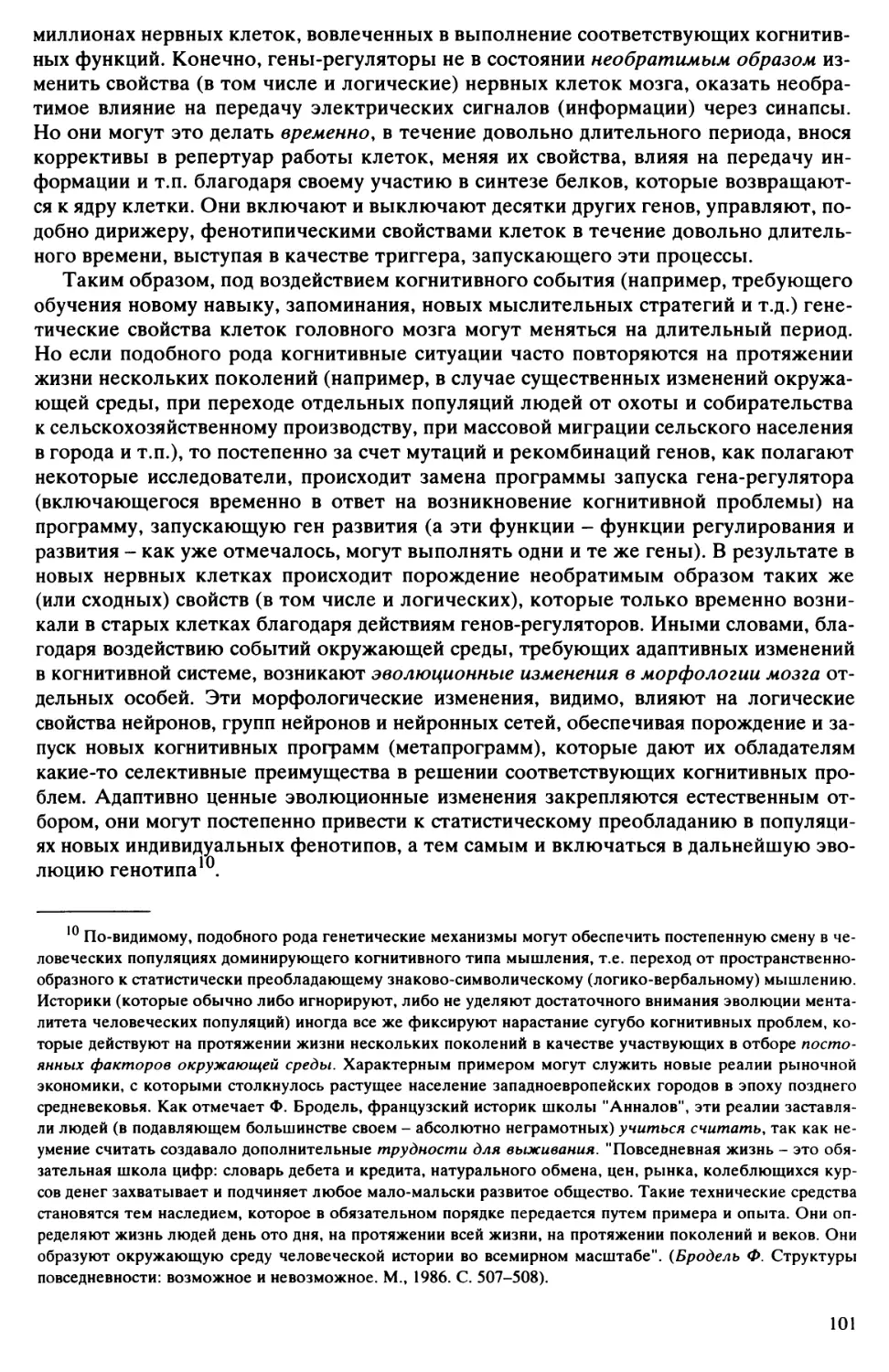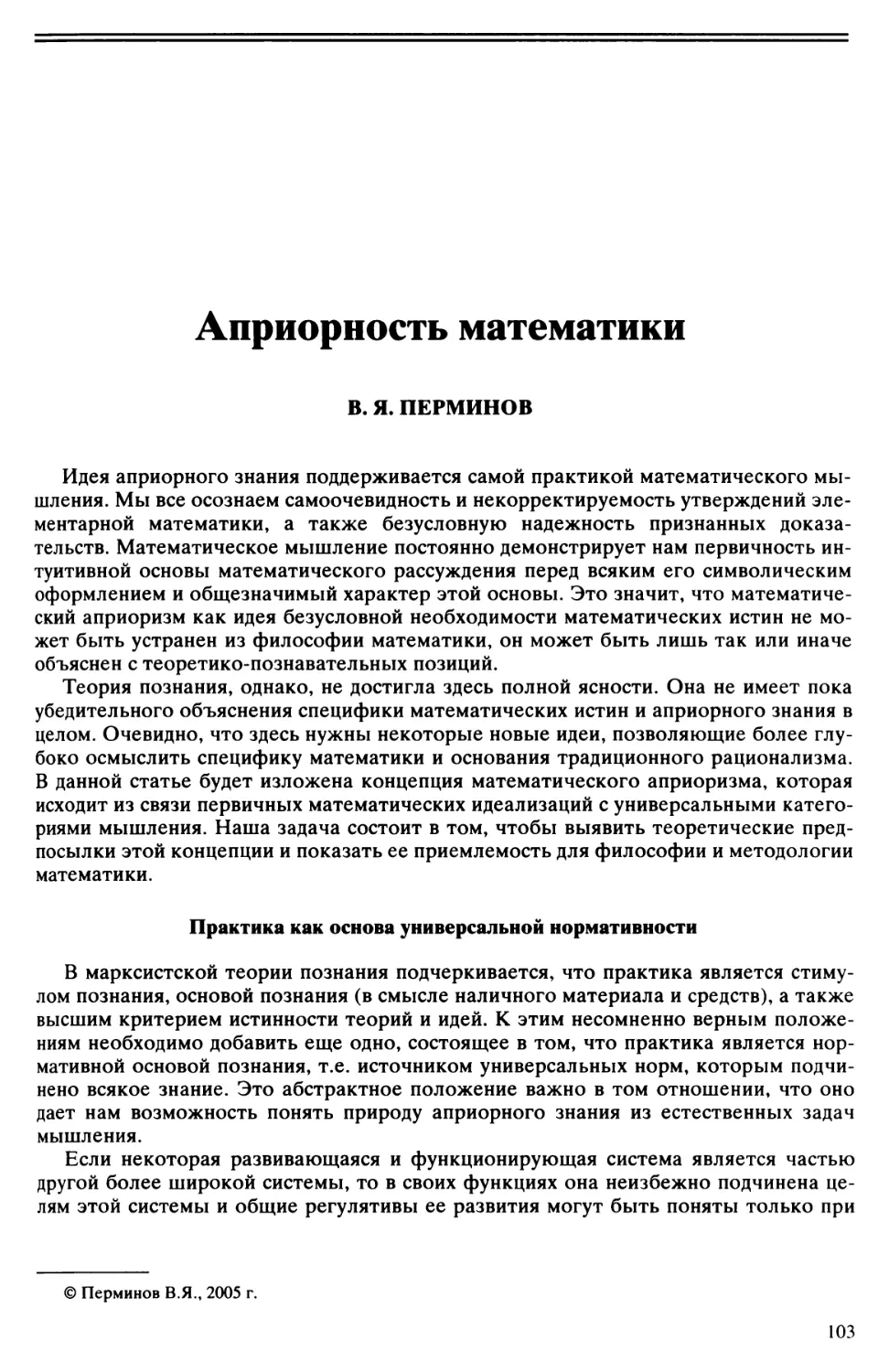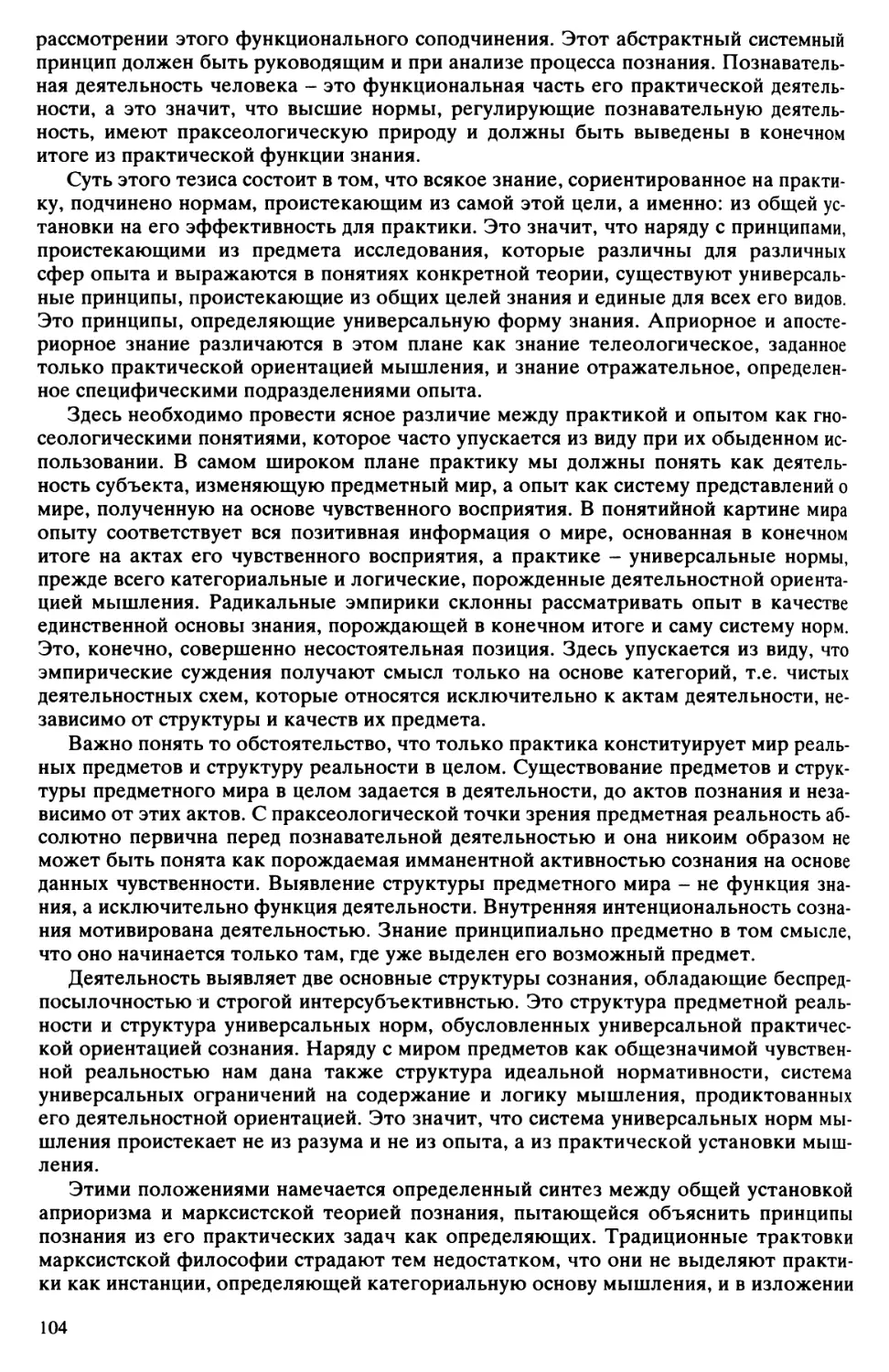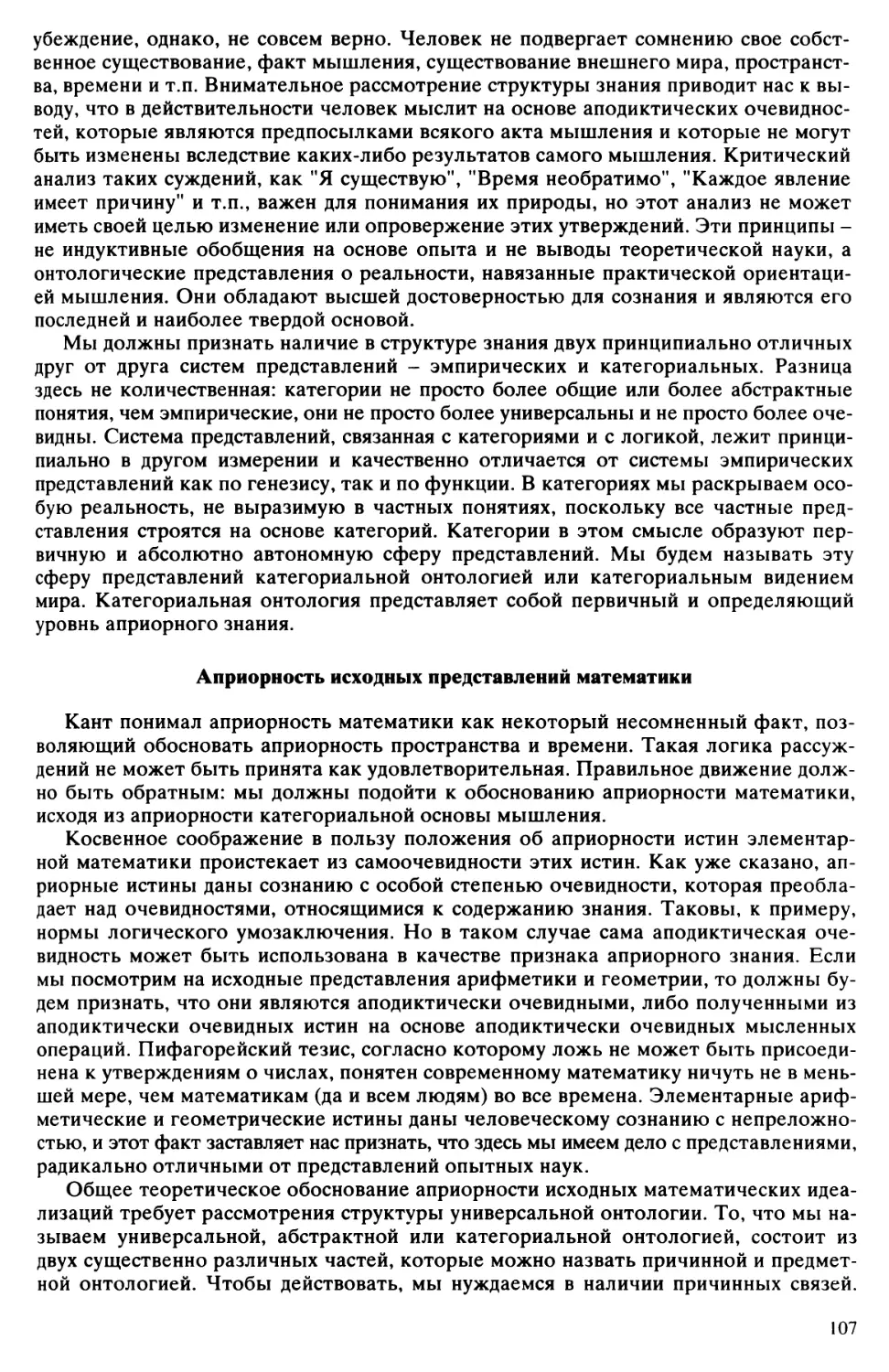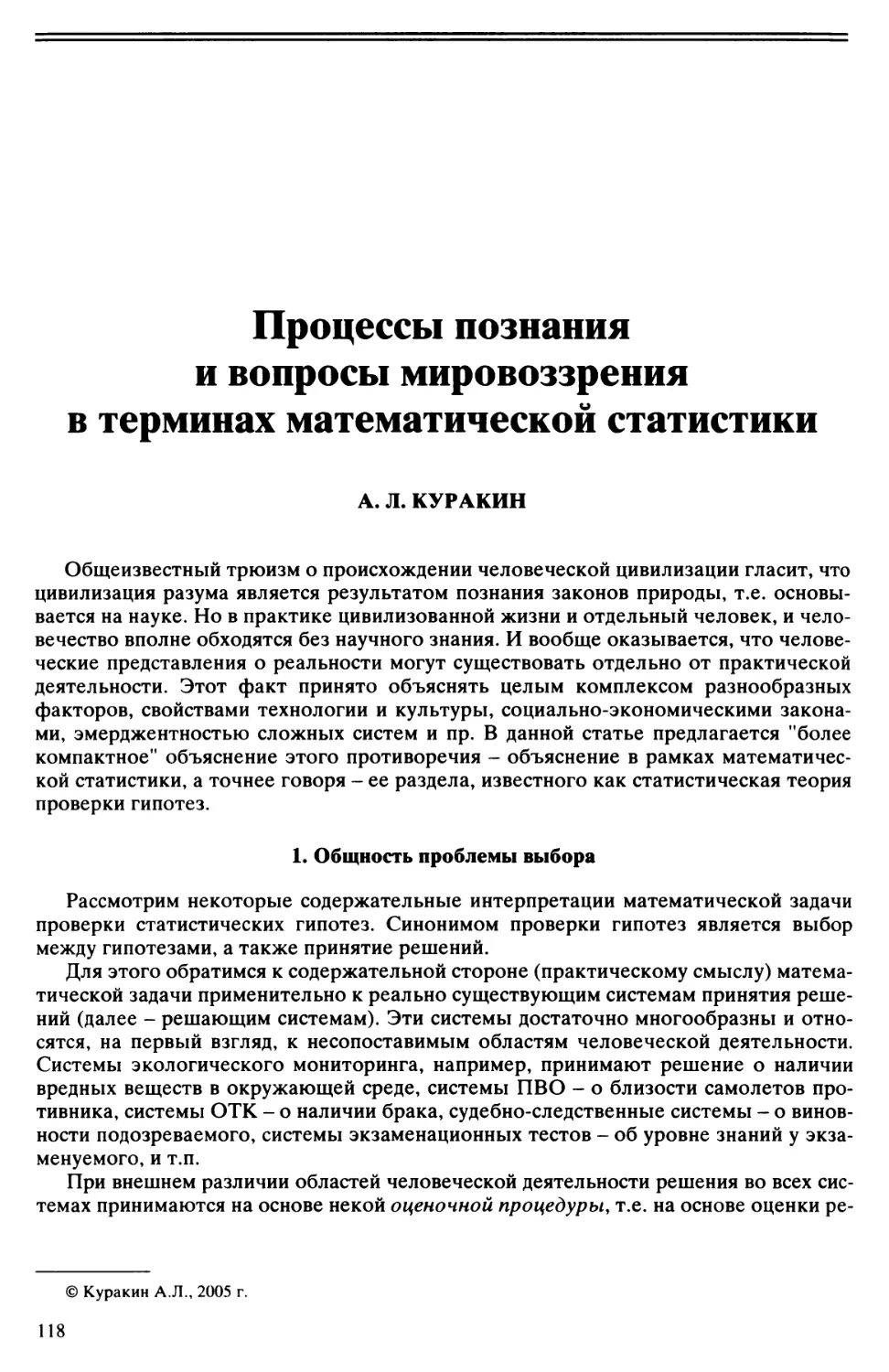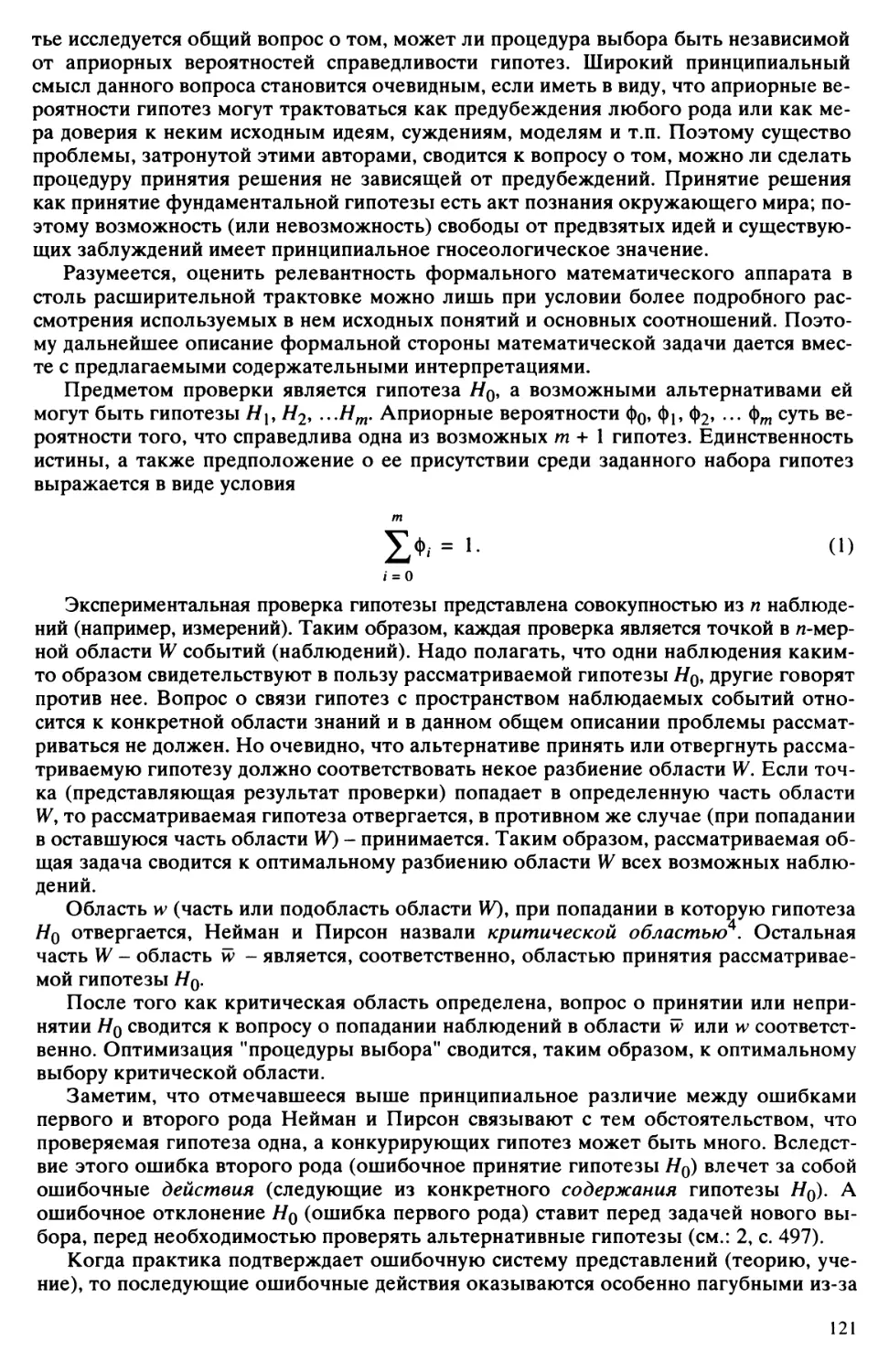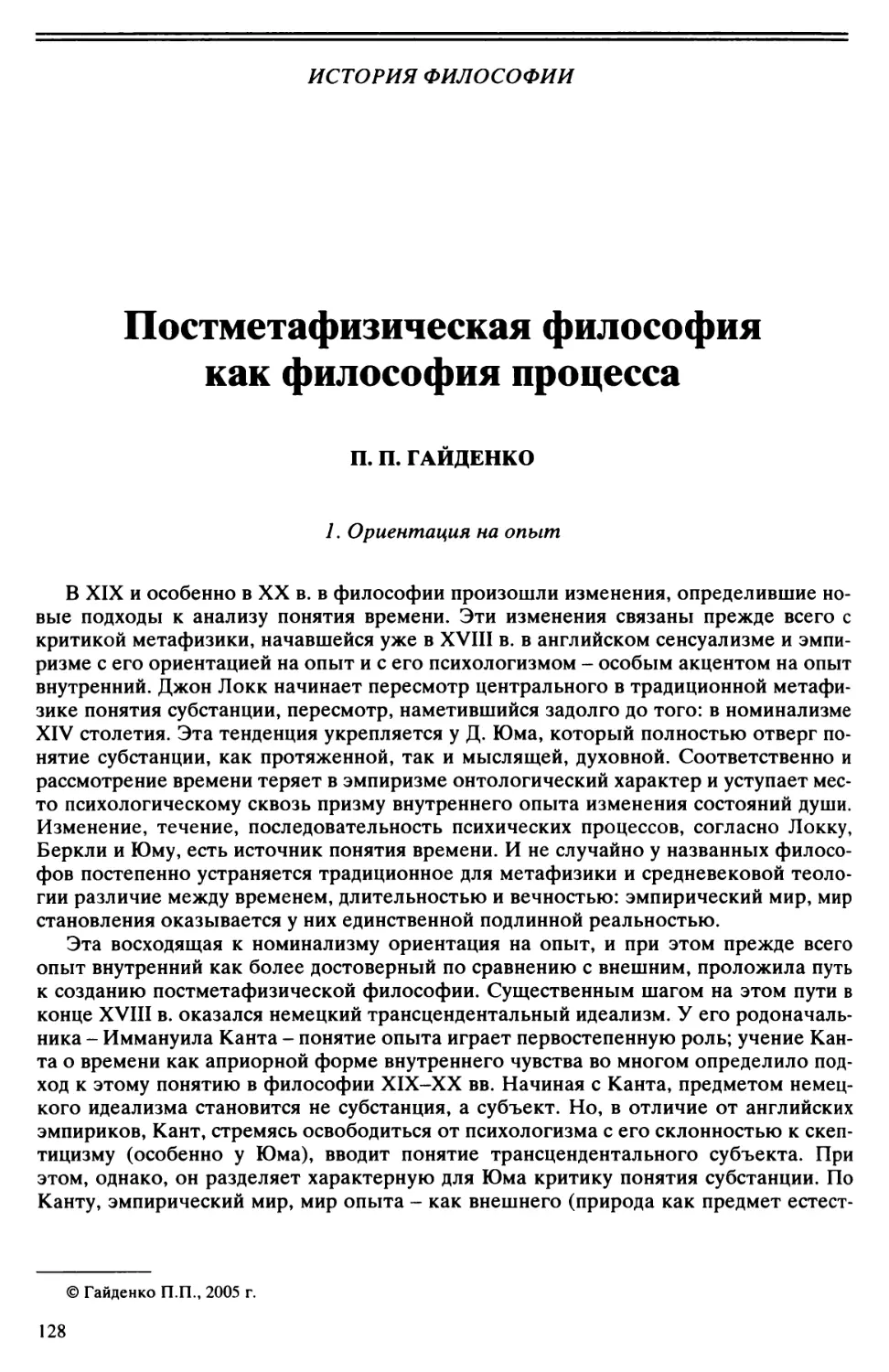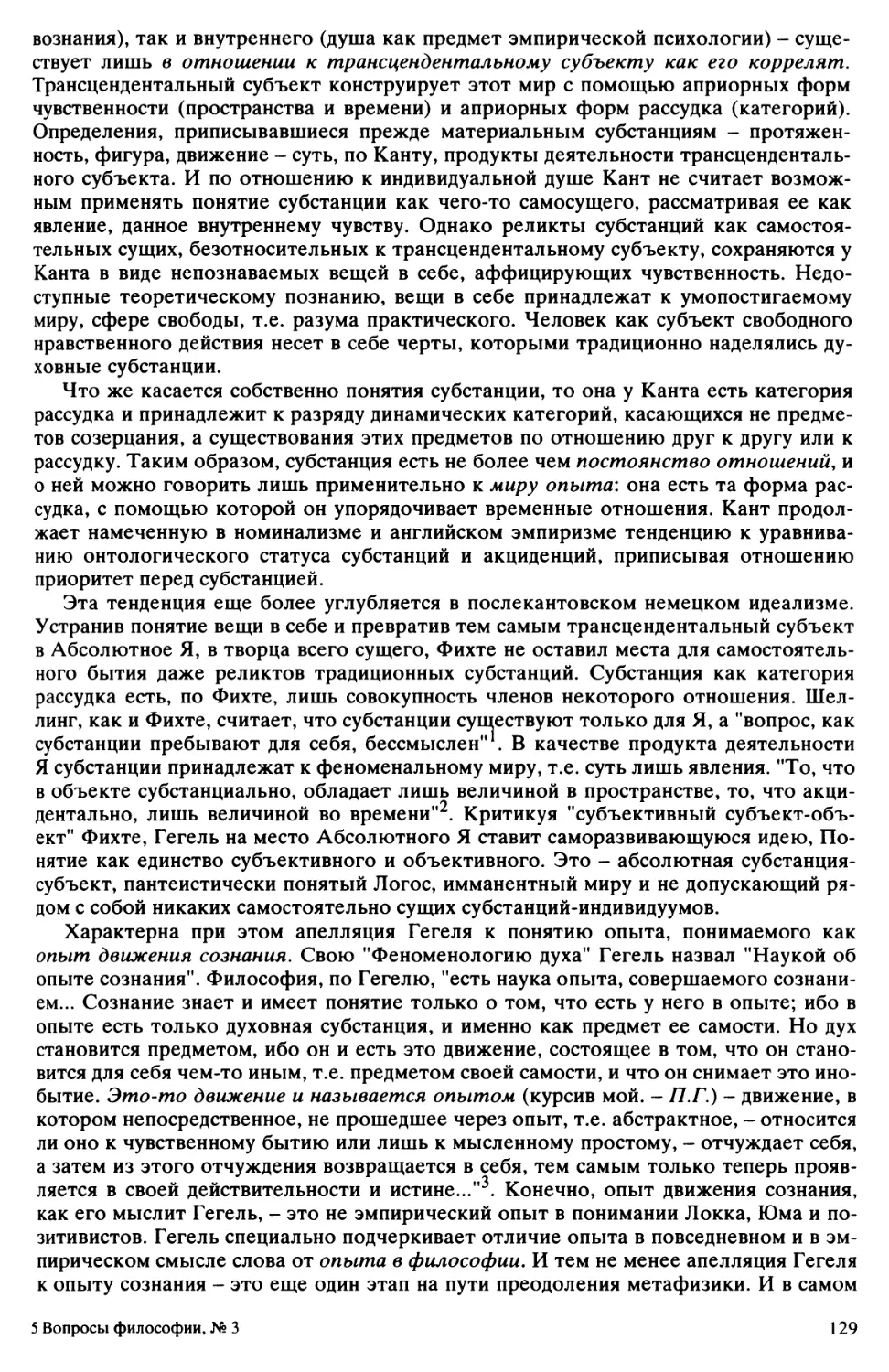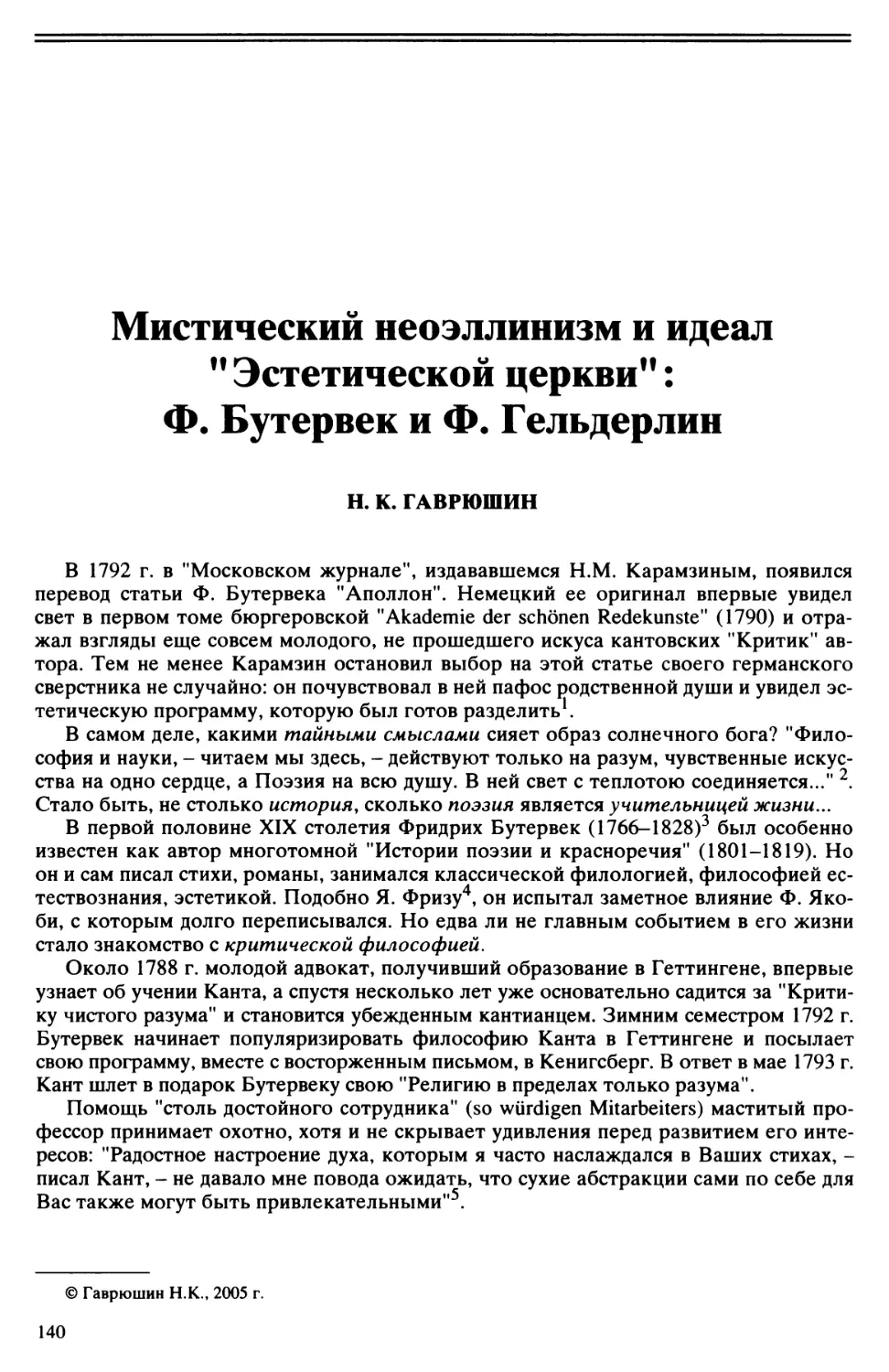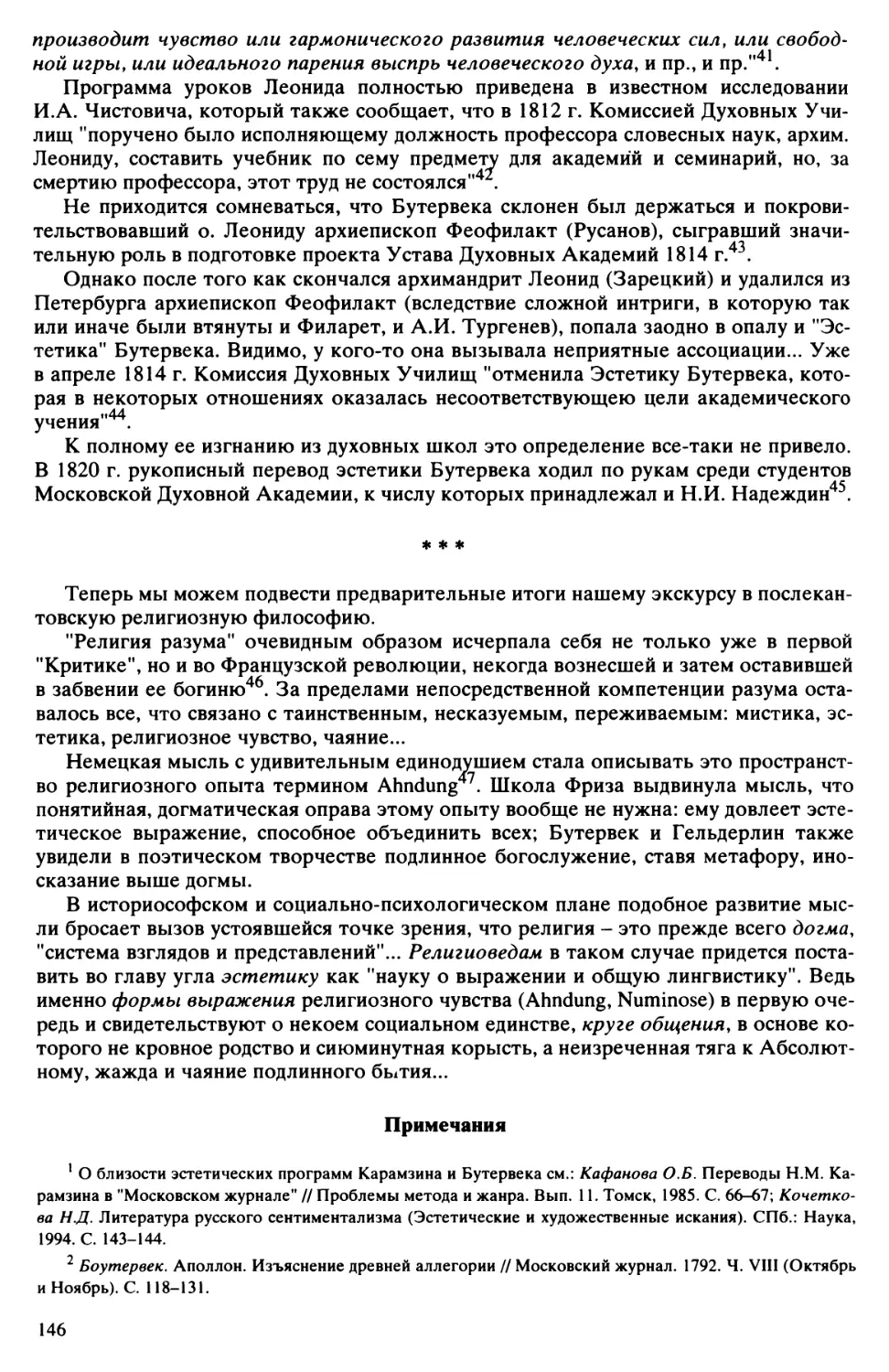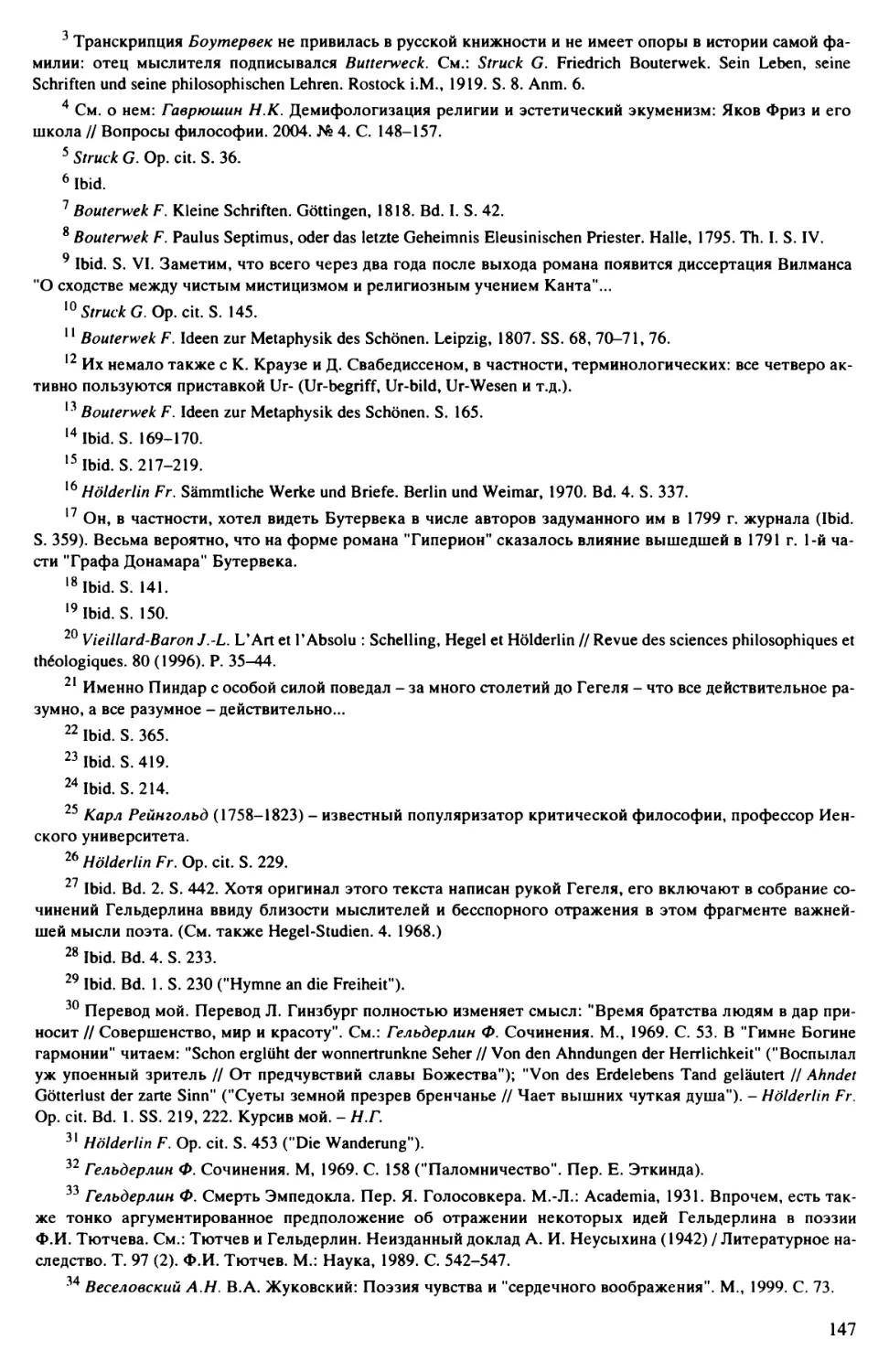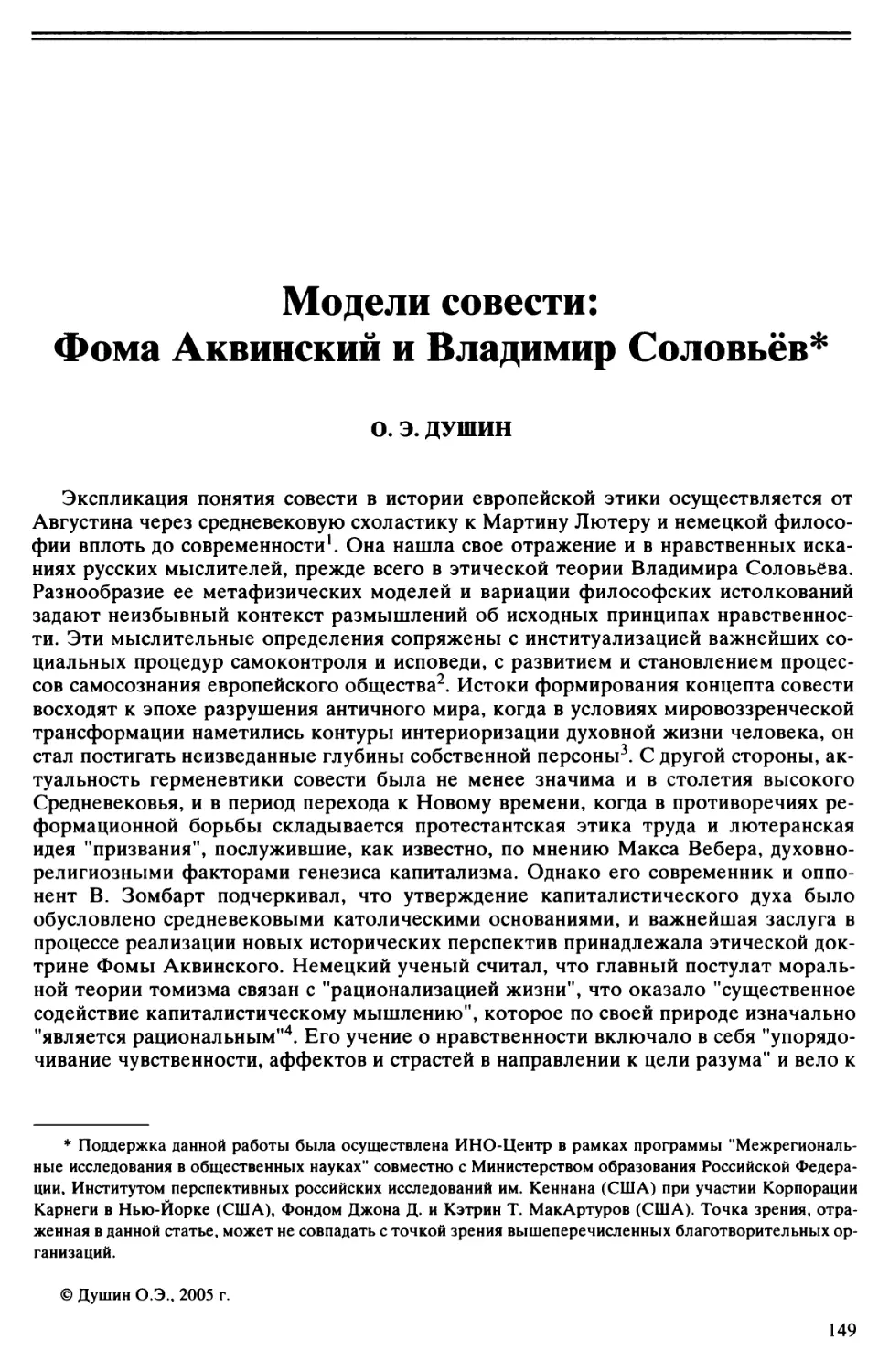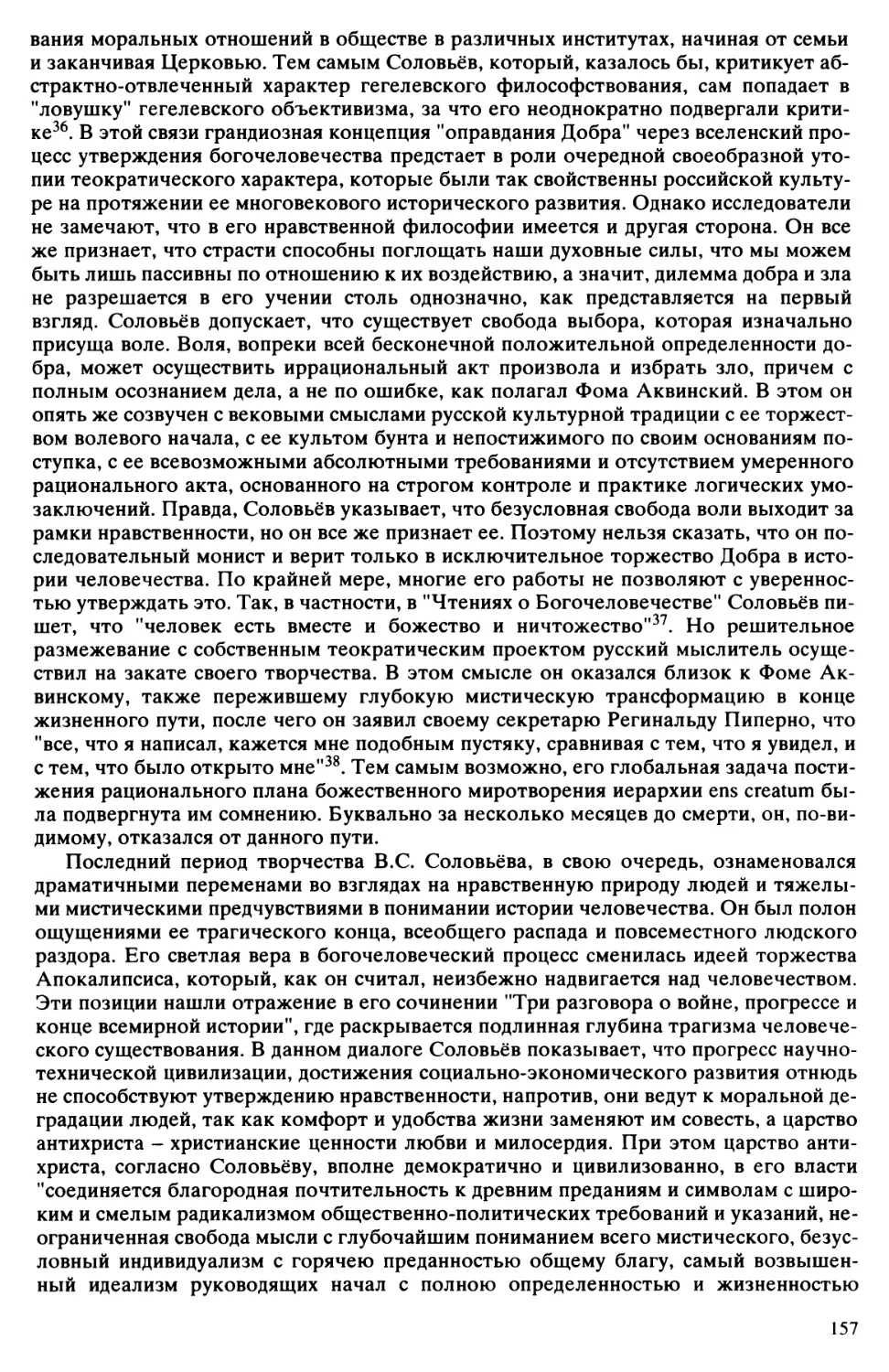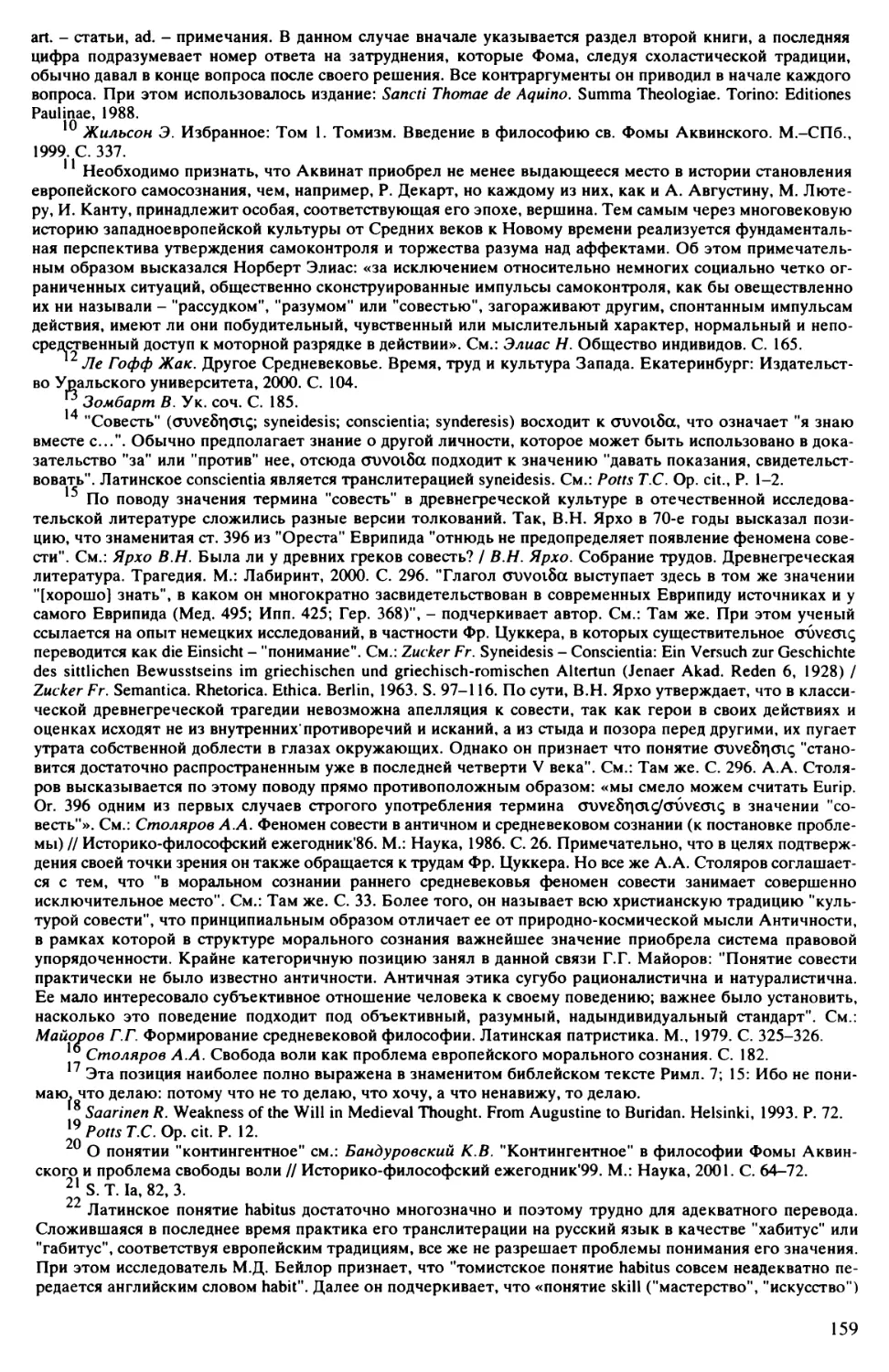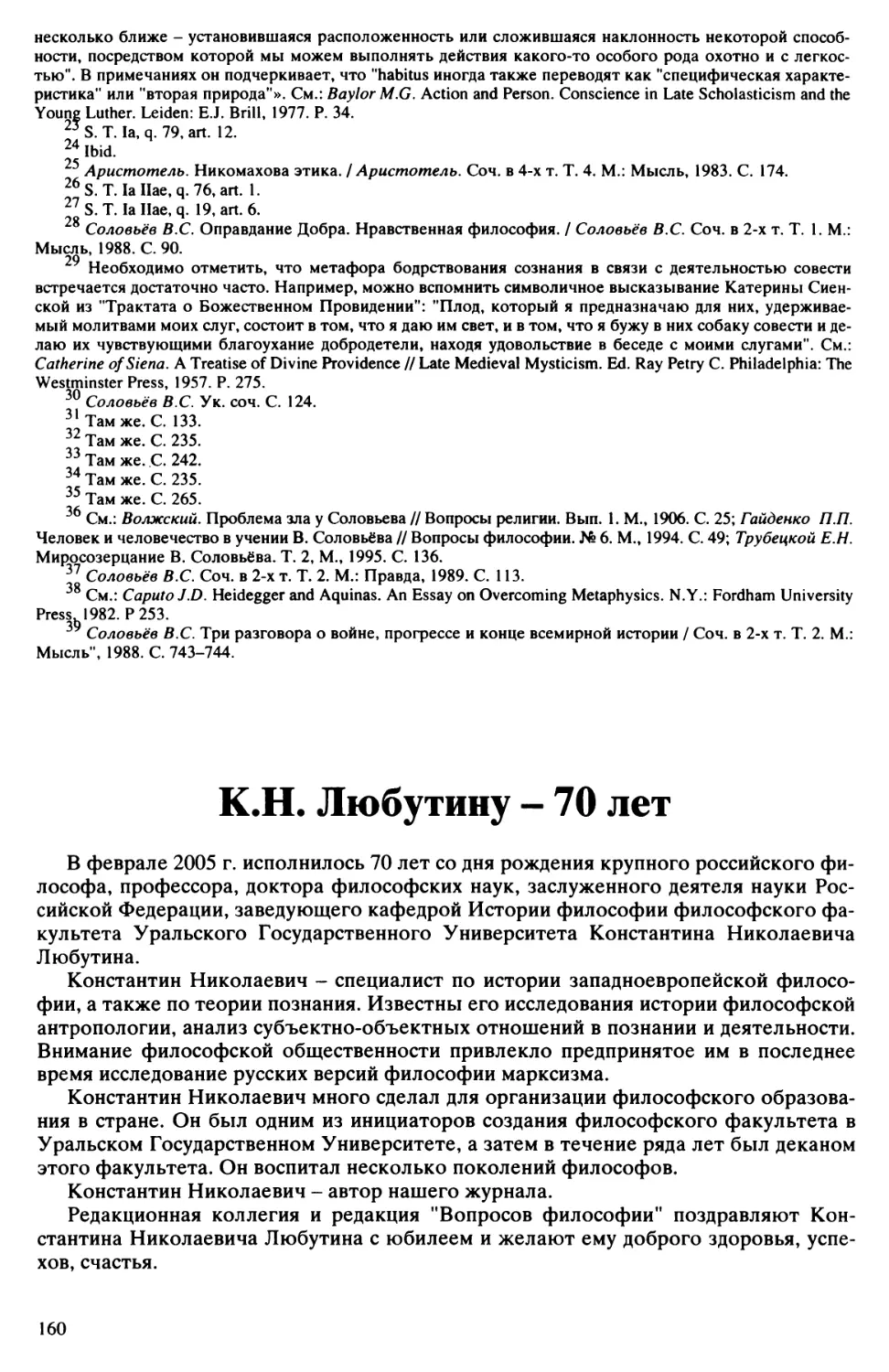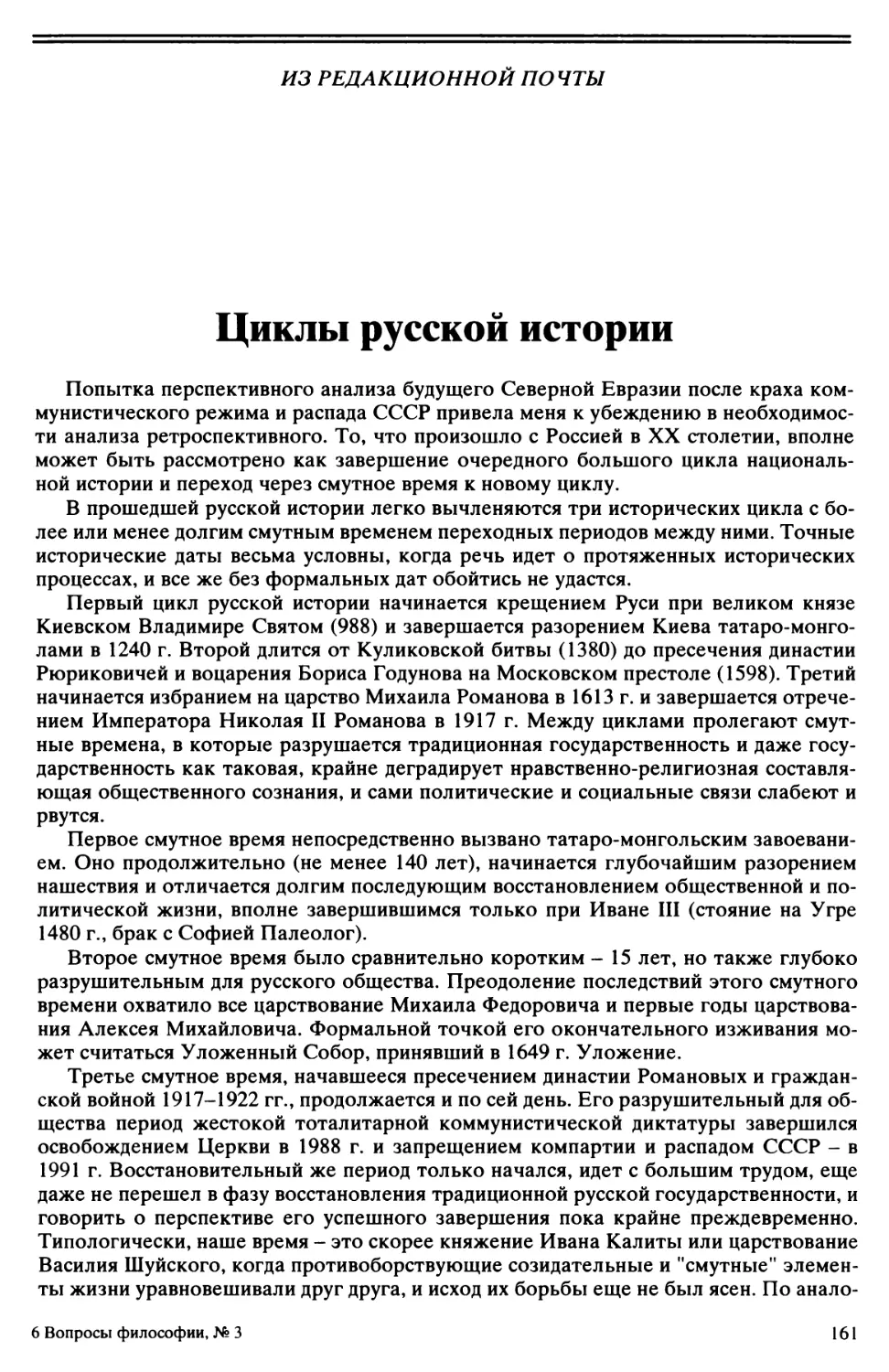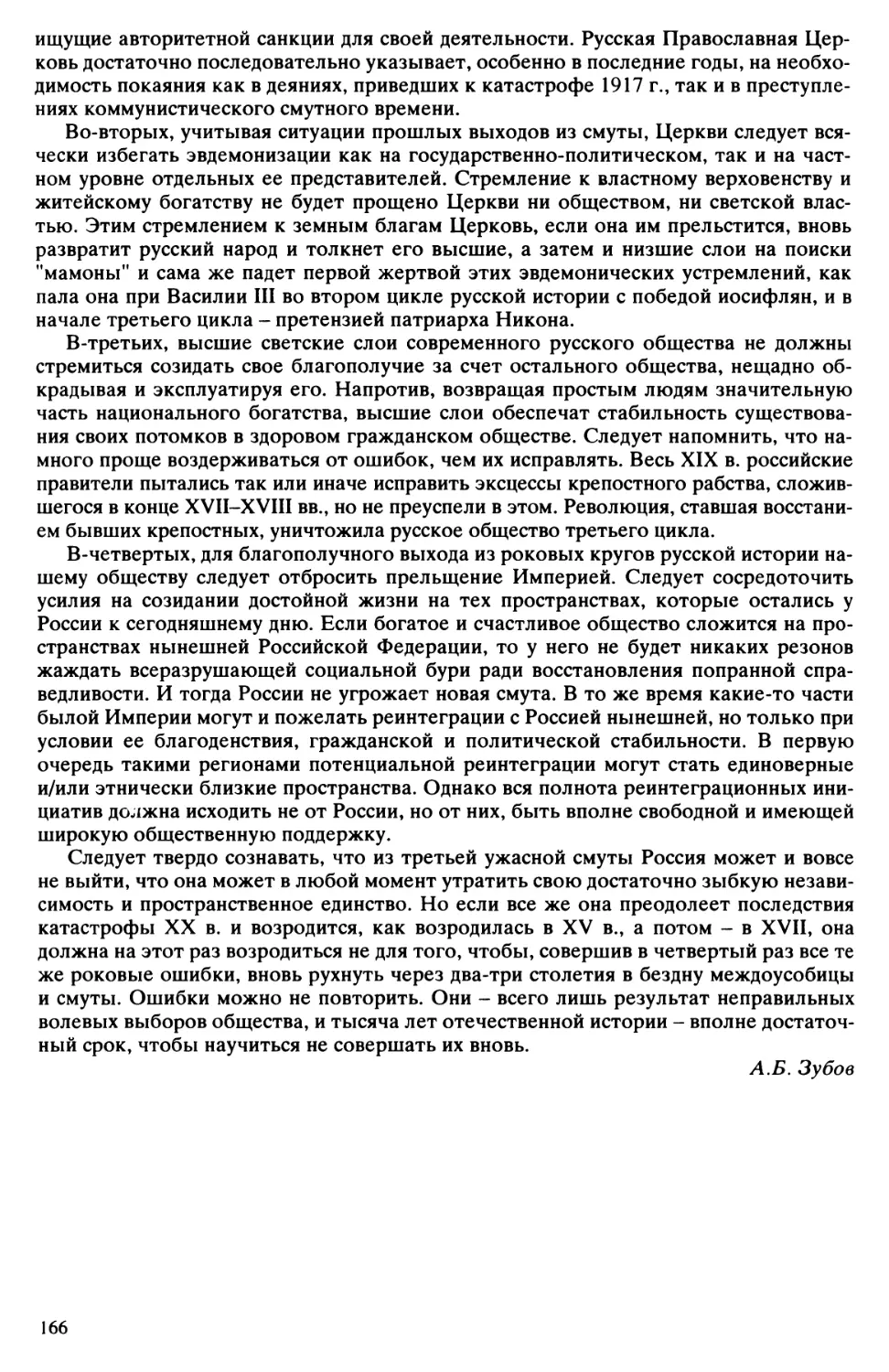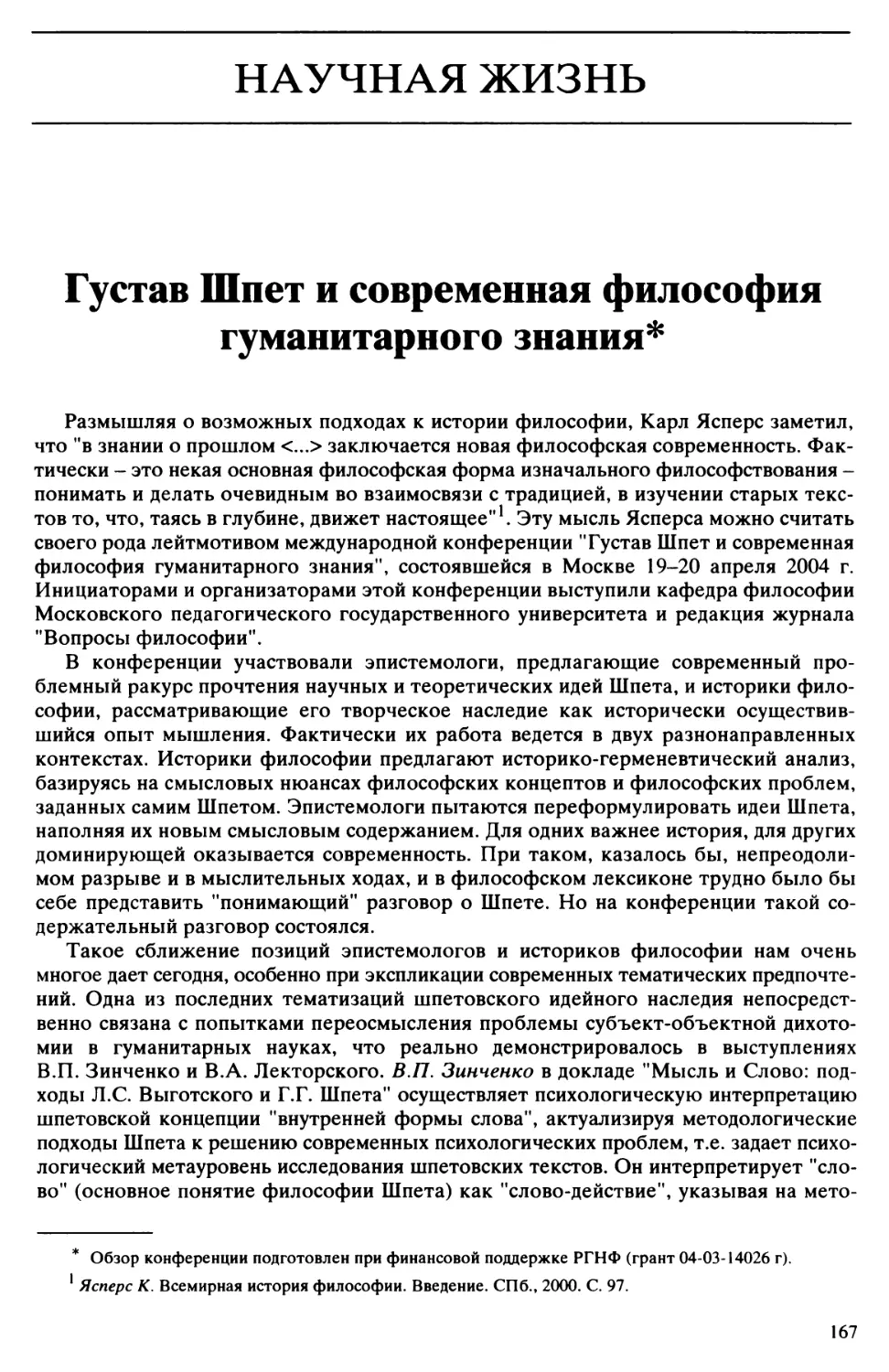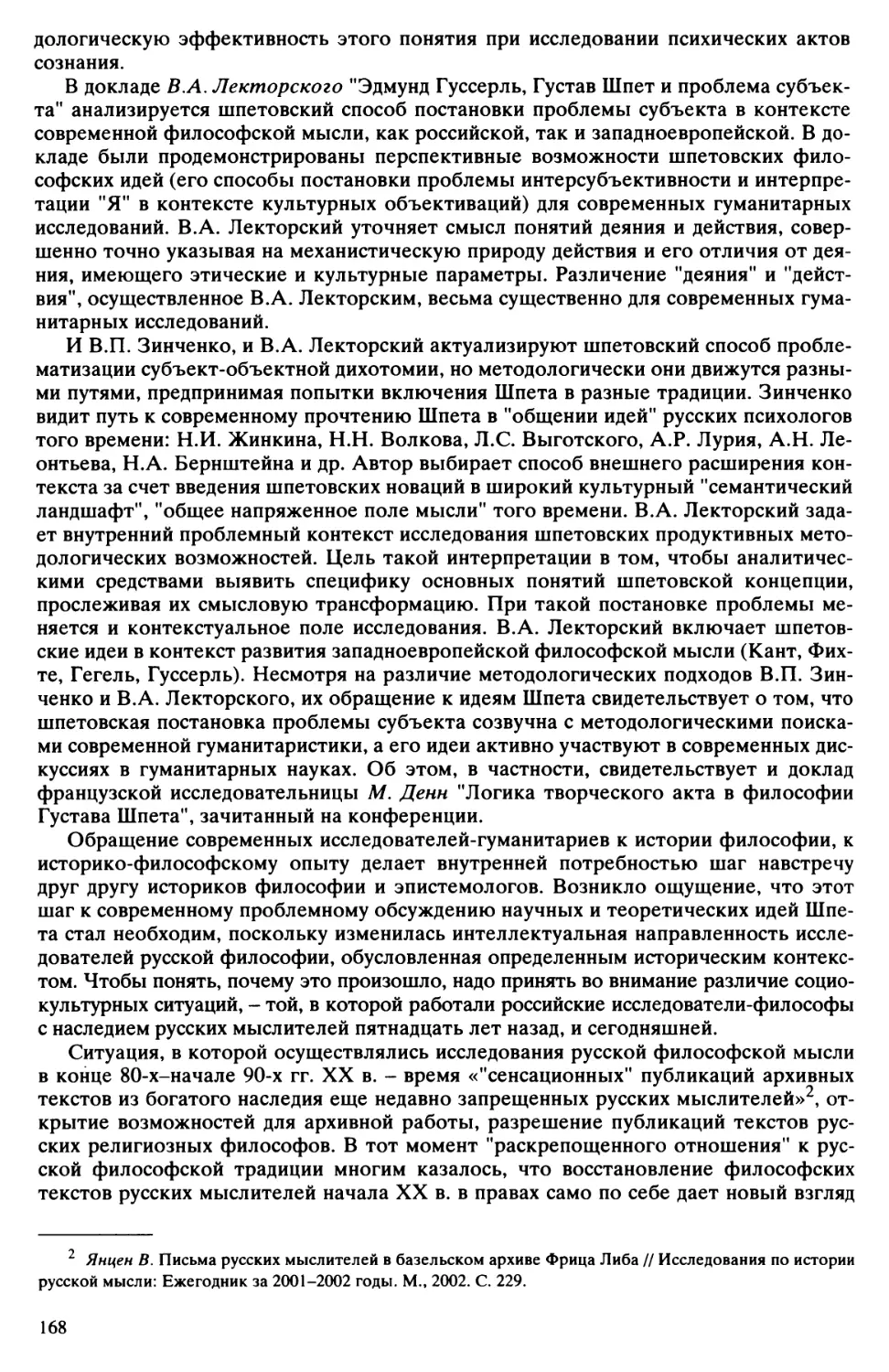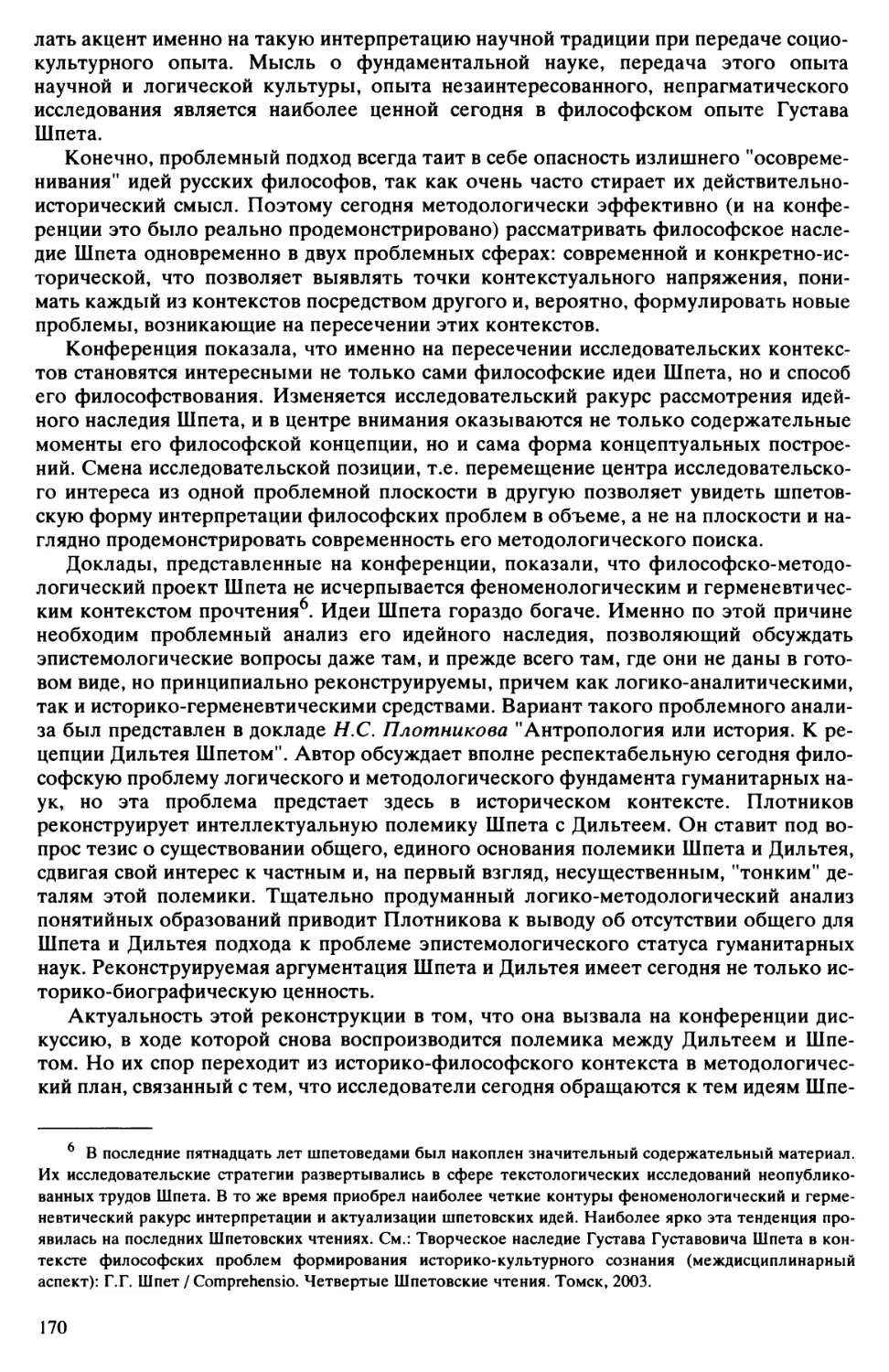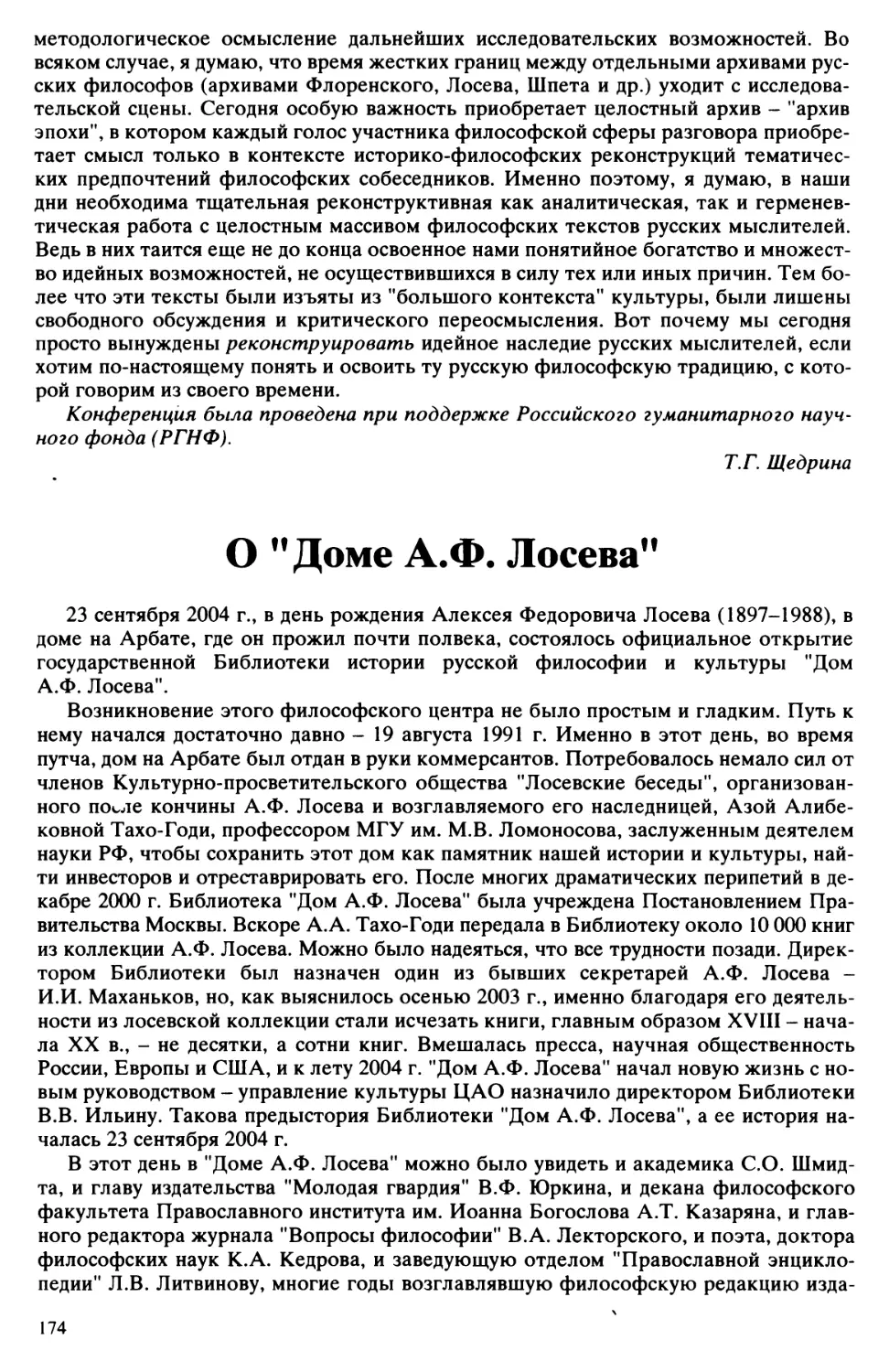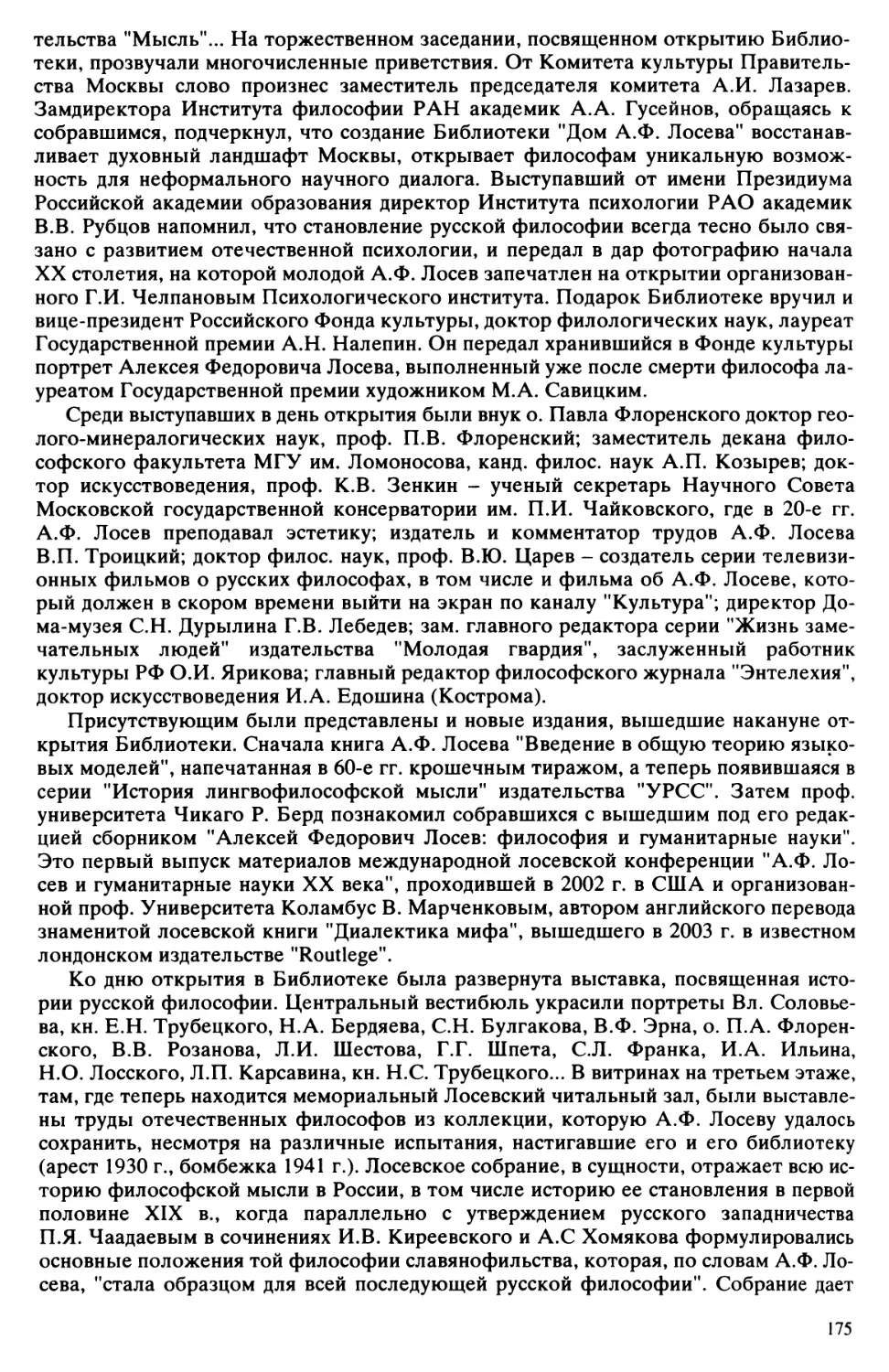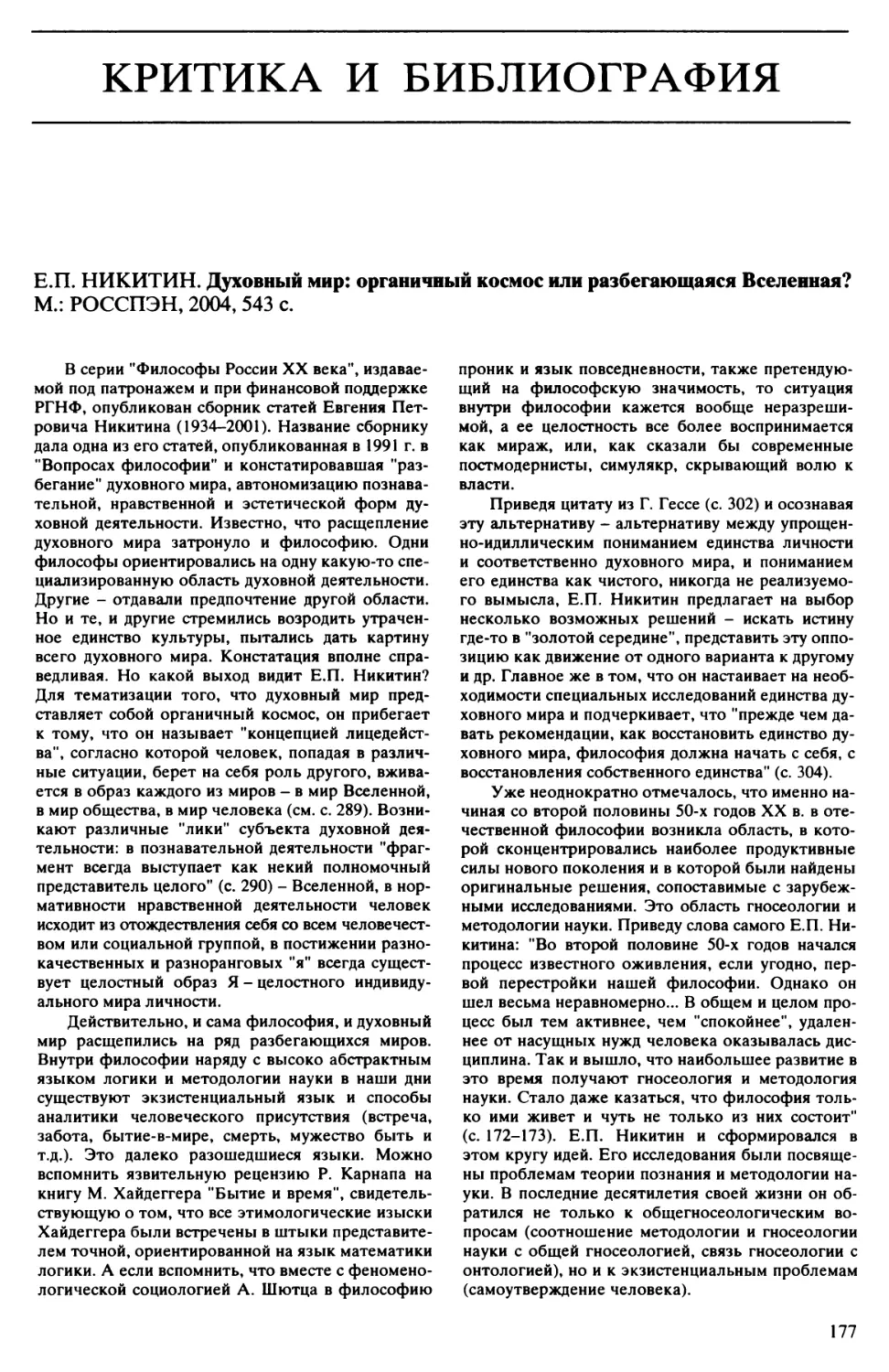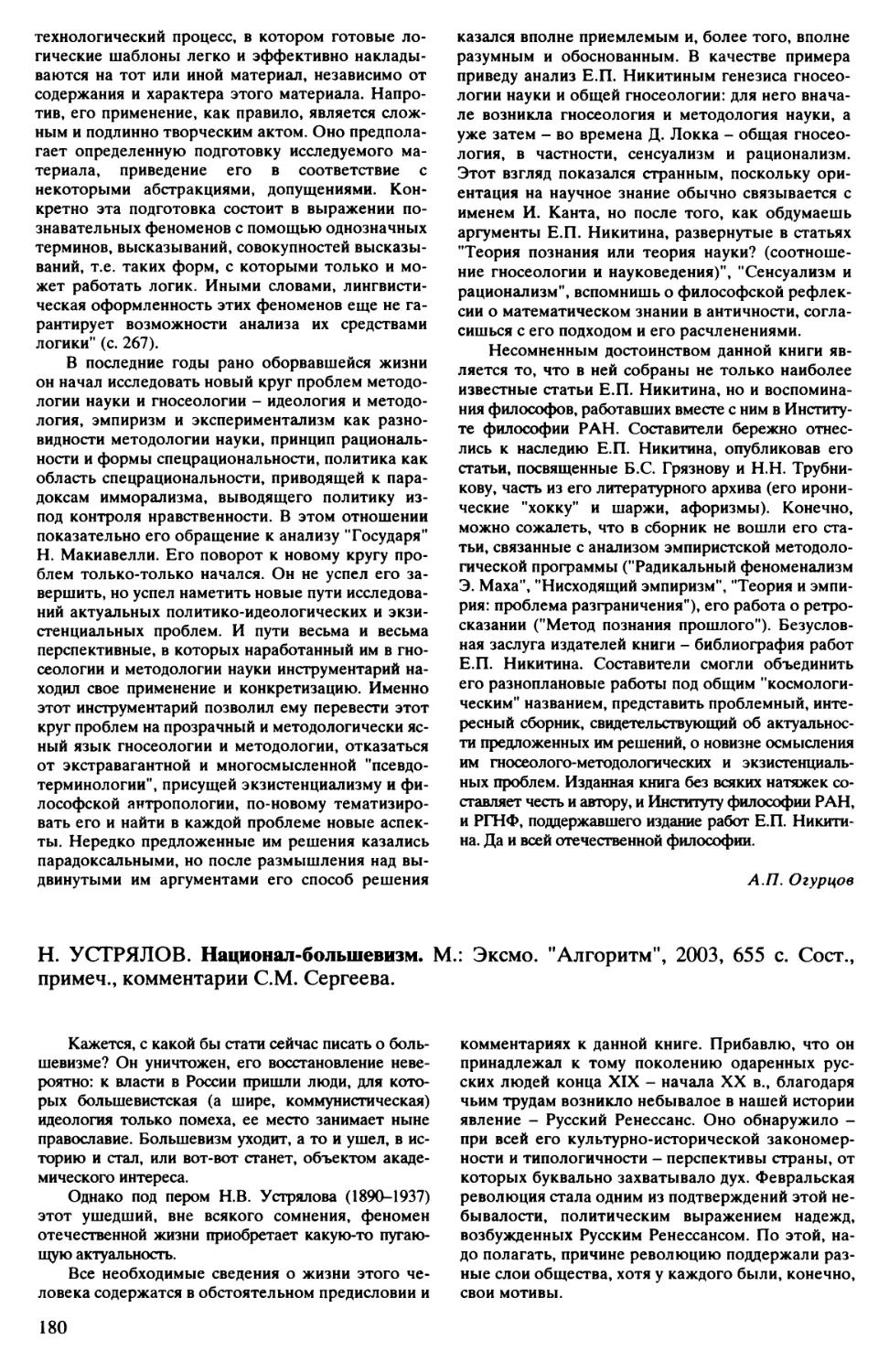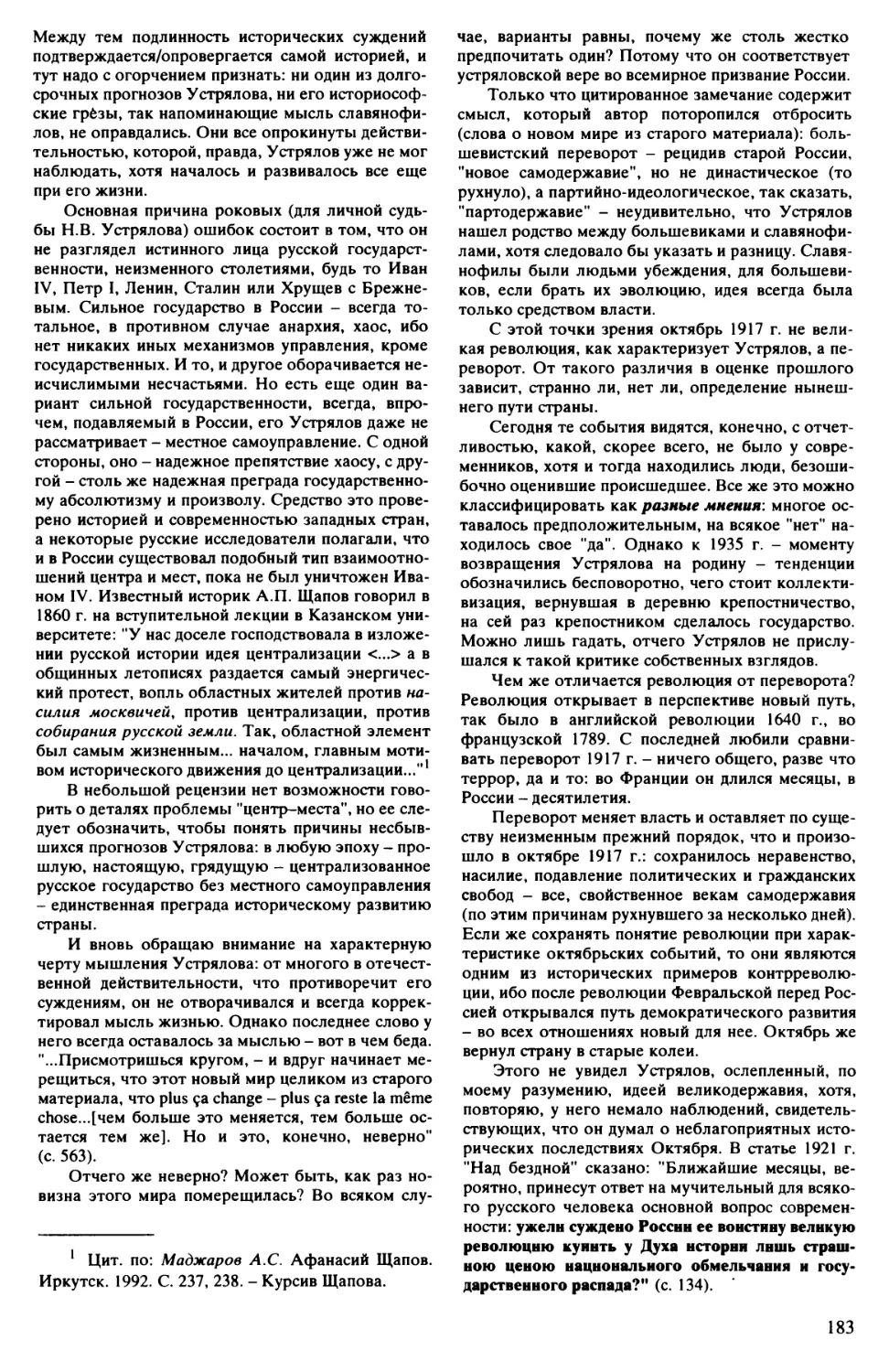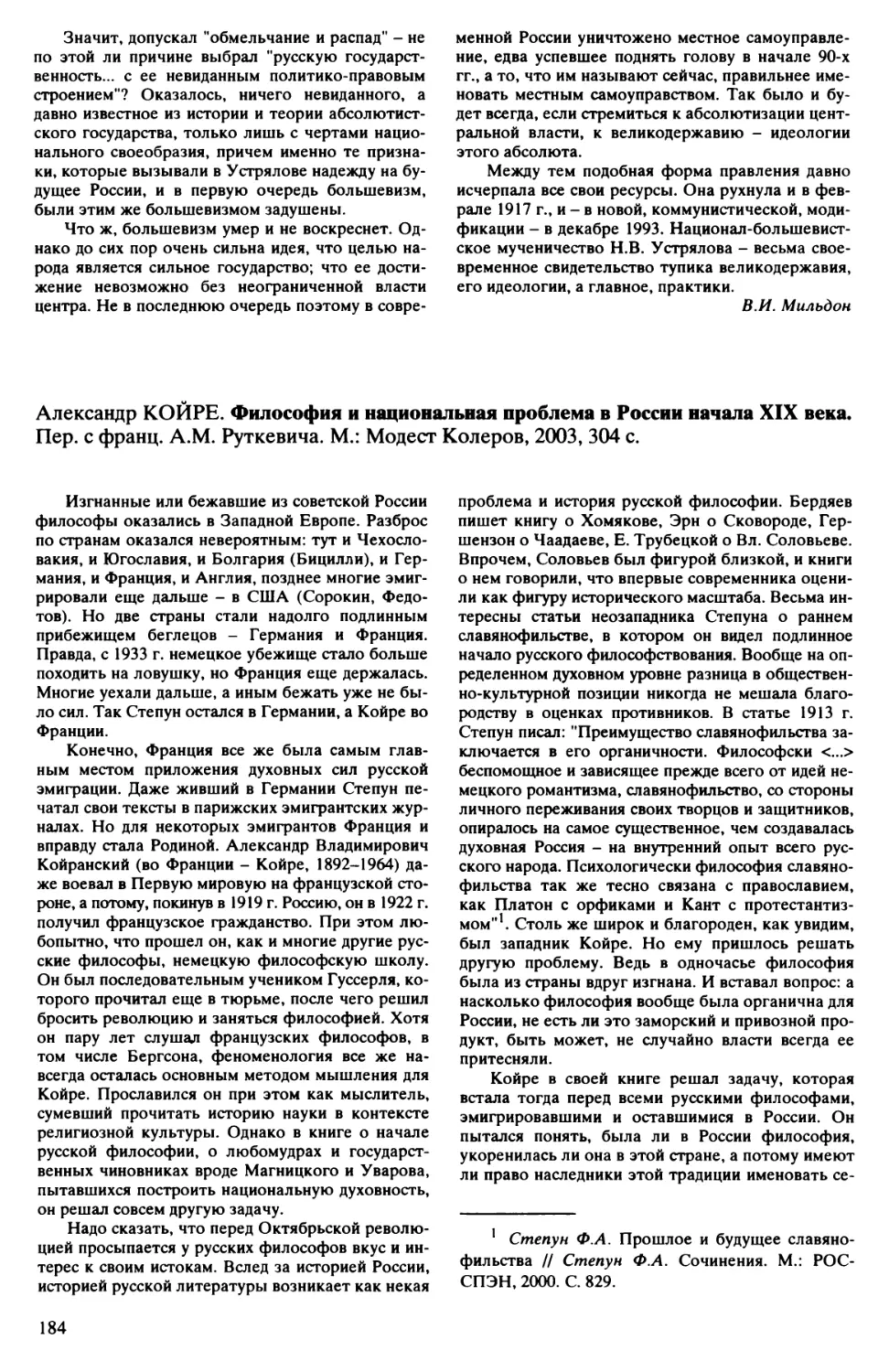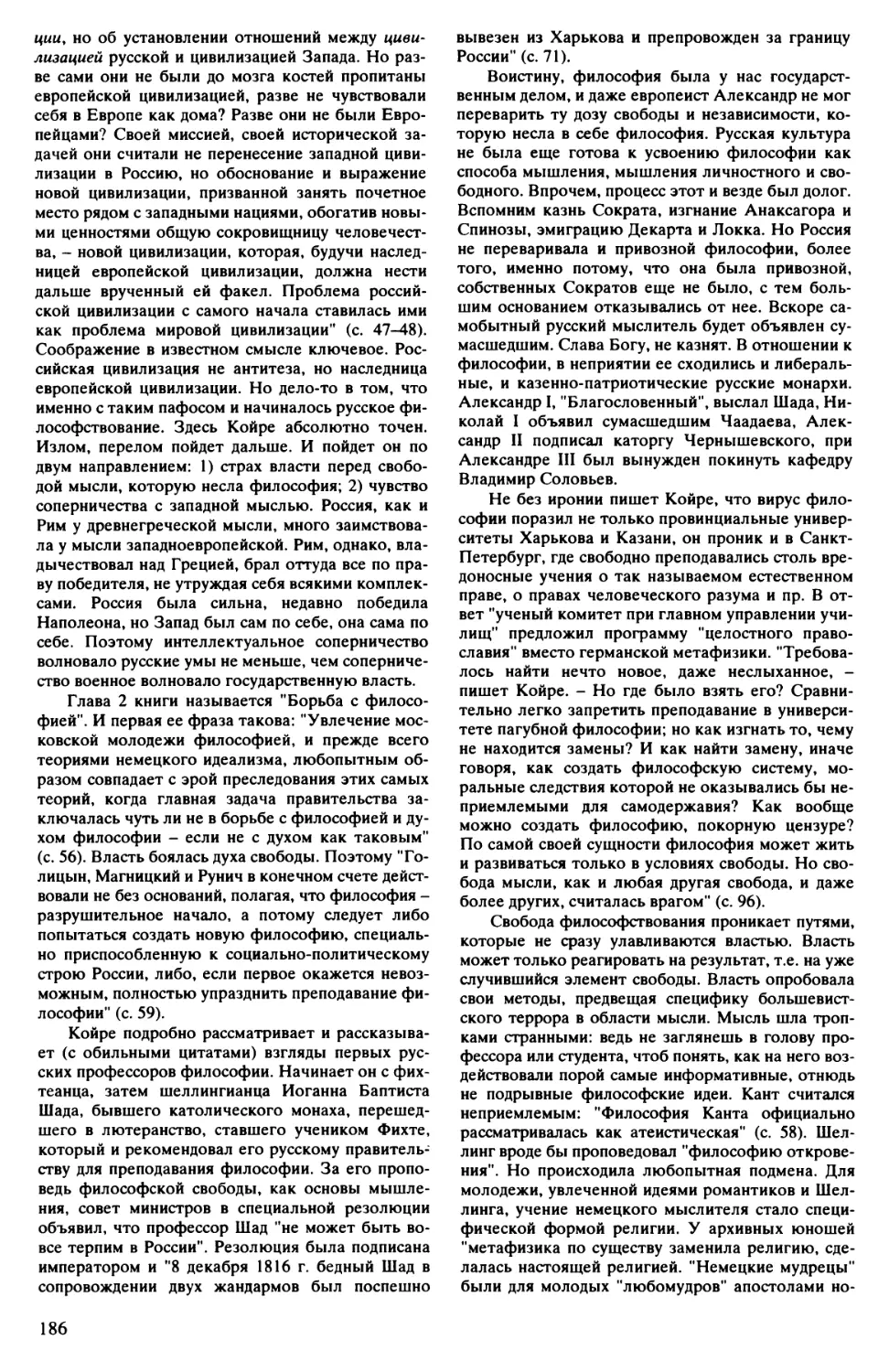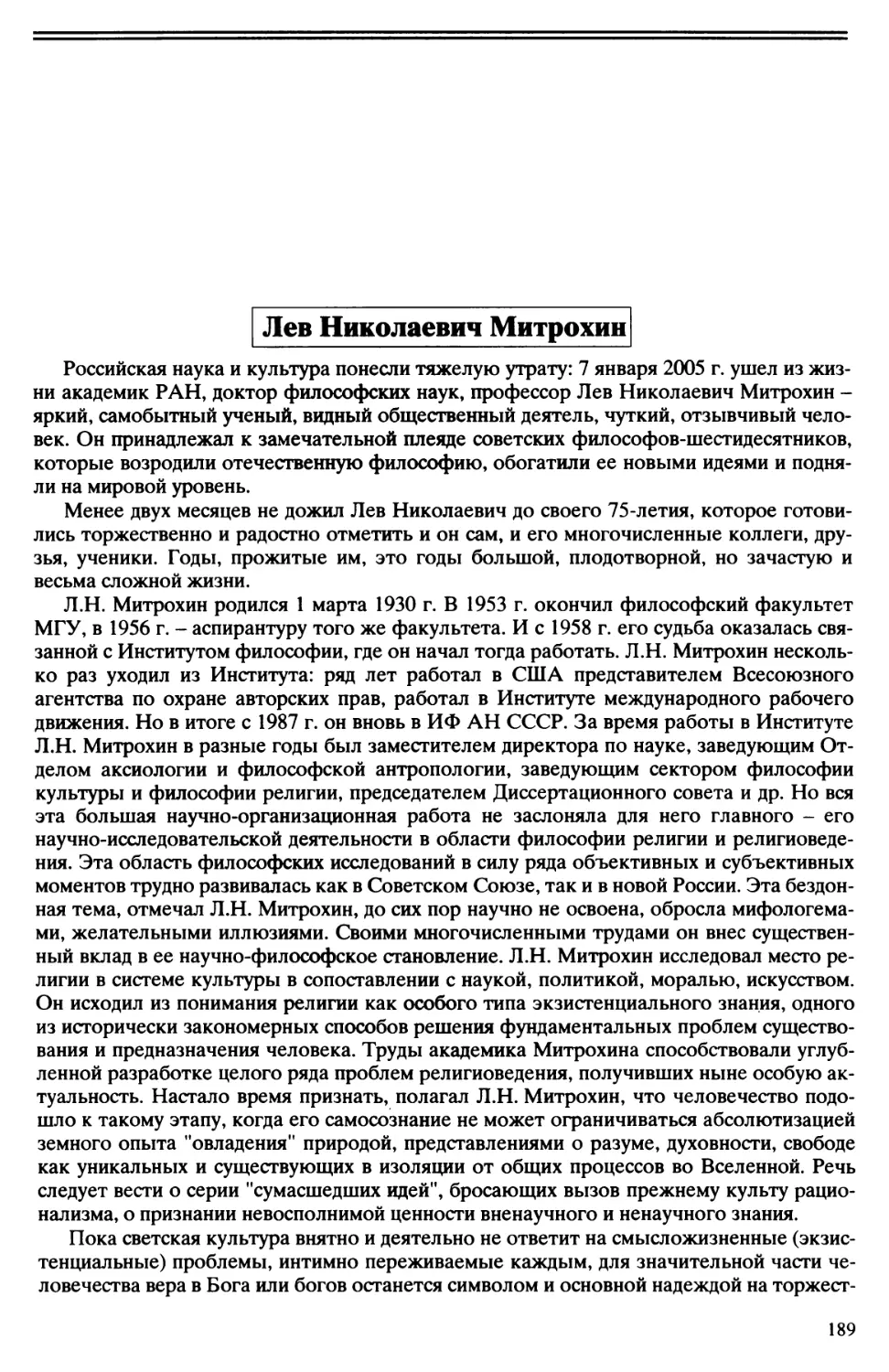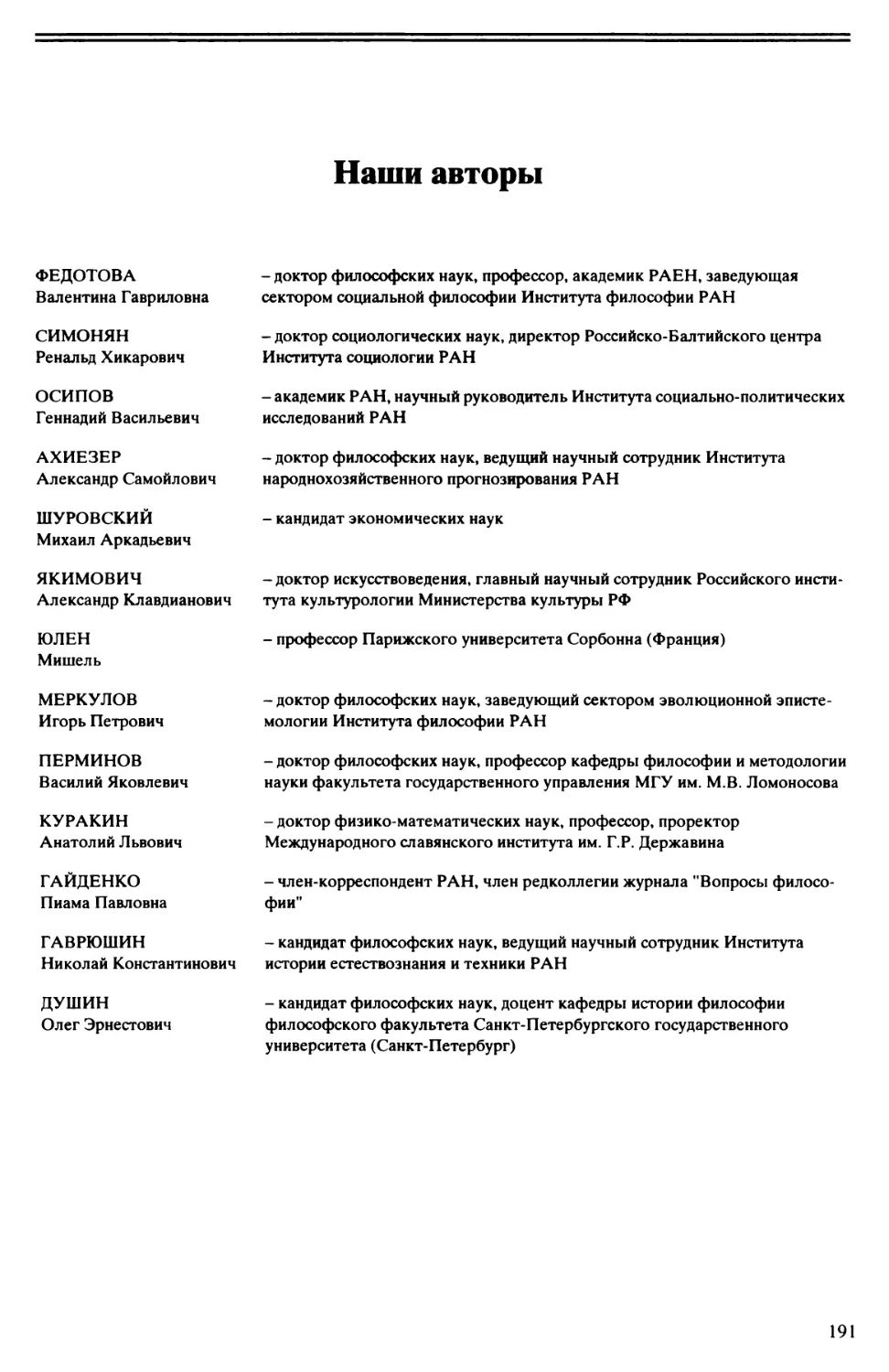Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ВОПРОСЫ
ФИЛОСОФИИ
X|q Ъ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 700^
•^- ^ ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1947 ГОДА äUUJ
ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО
МОСКВА Журнал издается под руководством "НАУКА"
Президиума Российской академии наук
СОДЕРЖАНИЕ
В.Г. Федотова - Апатия на Западе и в России 3
Р.Х. Симонян - От национально-государственных объединений к
региональным (проблемы мезоуровня в организации общественных систем) 20
Философия, культура, общество
Г.В. Осипов - Научное познание в социальном измерении (к 70-летию со дня
рождения академика Вячеслава Семеновича Стёпина) 29
В.Л. Рабинович - Заумь - род ума. Футуристический диптих 38
A.C. Ахиезер, М.А. Шуровский - От диалога к диалогизации (в свете
концепции В. Библера) 58
А.К. Якимович - Художники Нового времени. К описанию
социопсихологического типажа 71
Философия и наука
М. Юлен - Чувственные качества (qualia) - вызов материалистическим
теориям сознания? 81
И.П. Меркулов - Эволюционируют ли наши когнитивные способности? 92
В.Я. Перминов - Априорность математики 103
А.Л. Куракин - Процессы познания и вопросы мировоззрения в терминах
математической статистики 118
© Российская академия наук, 2005 г.
© Редколлегия журнала "Вопросы философии" (составитель), 2005 г.
История философии
П.П. Гайденко - Постметафизическая философия как философия процесса.... 128
Н.К. Гаврюшин - Мистический неоэллинизм и идеал "Эстетической церкви":
Ф. Бутервек и Ф. Гельдерлин 140
О.Э. Душин - Модели совести: Фома Аквинский и Владимир Соловьёв 149
К.Н. Любутину - 70 лет 160
Из редакционной почты
А.Б. Зубов - Циклы русской истории 161
Научная жизнь
Т.Г. Щедрина - Густав Шпет и современная философия гуманитарного
знания 167
Е.А. Тахо-Годи - О "Доме А.Ф. Лосева" 174
Критика и библиография
А.П. Огурцов - Е.П. Никитин. Духовный мир: органический космос или
разбегающаяся Вселенная? 177
В.И. Мильдон -Н. Устрялов. Национал-большевизм 180
В.К. Кантор - Александр Койре. Философия и национальная проблема в
России начала XIX века 184
Лев Николаевич Митрохин | 189
Наши авторы 191
Главный редактор - Лекторский Владислав Александрович
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.А. Лекторский (главный редактор), П.П. Гайденко,
A.A. Гусейнов, В.П. Зинченко, А.Ф. Зотов, В.К. Кантор, | СП. Курдюмов [,
В.В. Миронов, |Л.Н. Митрохин I, H.B. Мотрошилова, А.П. Огурцов,
Т.Н. Ойзерман, Б.И. Пружинин (заместитель главного редактора),
A.M. Руткевич, В.Н. Садовский, B.C. Степин,
H.H. Трубникова (ответственный секретарь), B.C. Швырев
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Э. Агацци (Швейцария), Ш. Авинери (Израиль), Т. Имамичи (Япония),
У. Ньютон-Смит (Великобритания), П. Рикер (Франция), Ю. Хабермас (ФРГ),
Р. Харре (Великобритания)
2
Апатия на Западе и в России
В. Г. ФЕДОТОВА
В России апатия - частое явление, особенно после войн, революций, торжества
анархии, но об апатии практически ничего не написано. Сегодняшняя ситуация
настолько очевидно формирует апатию в обществе, что возникла нужда в описании и
объяснении этого явления. На Западе тоже существует феномен апатии, и, хотя
кажется, что это - не самая большая проблема Запада, его анализу посвящено немало
книг.
Под апатией традиционно понимают пассивность, нежелание участвовать в чем-
либо, неспособность к активности, к преодолению обстоятельств и своего
собственного безразличия. Но апатия бывает разной. Американский исследователь Т. Делю-
ка пришел к выводу, что "апатия существует в двух лицах - одном, имеющем
отношение к непринуждающему выбору делать или... не делать что-то, и другом,
связанным с условиями, которые подчиняют, и, что хуже, с политико-психологическим
условием, о котором даже нельзя сказать, что оно есть"1. Иными словами, люди
могут считать неинтересным для себя участие в политических процессах и дискуссиях и
потому быть в состоянии политической апатии (первого типа). Второй же тип
апатии может состоять в том, что человек не участвует в политических процессах и
дискуссиях потому, что он апатичен. Человек может не идти на выборы, поскольку не
хочет (первый тип апатии) и не идти на выборы потому, что он апатичен и сам не
знает, почему это так (второй тип апатии).
Хотя нас интересует русская апатия, мы вынуждены сравнивать ее с апатией на
Западе, поскольку западные трактовки апатии концептуализируют это
трудноуловимое состояние. Это необходимо также для того, чтобы показать специфику
российской апатии и ее отличие от западной.
Апатия на Западе: проблема политического участия
В работах американских авторов апатия трактуется как уход от политики,
происходящий по разным причинам, включающим и производство апатии в повседневной
жизни, поскольку повседневная жизнь становится предметом преобладающего
интереса2. Западные авторы описывают в этом случае, так сказать, "счастливую апатию",
DeLuca T. The Two Faces of Political Apathy. Philadelphia: Temple University Press. 1995. P. 191.
2 Eliasoph N. Avoiding Politics. How Americans Produce Apathy in Everyday Life. Cambridge, UK. 1998.
© Федотова В.Г., 2005.
3
которая возникает от пресыщенности, увлеченности повседневным. Она возникает
из-за недостижимости счастья при исполнении желаний. Апатия возникла из
растерянности по отношению к техническому прогрессу. Как говорил И. Ильф, "и радио
купил, а счастья нет". Что такое радио в сравнении с Интернетом, а счастья нет. Все
предоставленные в соответствии с "Декларацией независимости" условия созданы -
право на жизнь, свободу и стремление к счастью, а счастья нет. В целом это не
совсем западное понятие - "счастье", и оно социологически не представимо. Но сегодня
речь идет о том, что либеральная демократия не обеспечивает счастья. Так, в одной
из книг утверждается, что причины ментального нездоровья, апатии заключены в
социальных институтах, особенно рыночных: "Источник нашего несчастья и
депрессии, конечно, включает в себя трагическое уменьшение семейной солидарности и
других человеческих связей, уменьшение, которое, я думаю, усиливается рыночной
экономикой и не делается лучше политическими институтами... Экономические и
политические институты нашего времени - продукты утилитарной философии
счастья. Но скорее всего, они привели нас к периоду большего несчастья частично из-за
бентамовской философии денег... . В итоге автор перечисляет сферы, в которых не
возникает ощущения счастья: семья, работа, финансы, место жительства,
уменьшение взаимного доверия, веры в прогресс, потеря уважения к публичным
авторитетам. Так, "счастливая апатия" переходит в идею недостижимости счастья и
глобализации локальных несчастий. И ее предел для западного сознания - разочарование в
деньгах, обнаружение, что критикуемая бентамовская формула предполагала, что
деньги должны быть получены, но они являются измерителями не только радости,
но и боли. Это ощущение настолько сильно, что появились работы, в которых
утверждается, что нужны новые парадигмы в экономике, где даже рисуется график
зависимости счастья от денег, вначале прямо пропорциональный их росту, а затем
сложно петляющий, словом, давно известная в России формула, что не в деньгах
счастье . Таким образом, апатия повседневной жизни на Западе является
экзистенциальной и психологической проблемой. Отдельно выделяется политическая
апатия на Западе. В России, как мы увидим далее, она является проблемой
исторической и социальной, и только очень немногие имеют сходные с западной апатией
экзистенциальные основы своей апатии. Политическая и психологическая апатия в
России не отделяется столь явным образом, как на Западе, от исторической и
социальной.
Политическая апатия (первого рода) возникает из-за глубокой погруженности
в дела семейные, отношения в сообществе, увлечения потребительской
культурой и практикой. Можно даже сказать, что постоянные обязанности в
гражданском обществе уводят от интереса к большой политике.
И все же апатия рассматривается западными учеными в основном как
тождественная политической апатии, и это последнее понятие является наиболее
разработанным. Проблема политического участия характеризуется как центральное
понятие демократии, а неучастие, отказ от участия, политическую индифферентность и
пассивность, как правило, называют апатией. Американский социолог Ч.Р. Миллз
рассматривал апатию как состояние отчуждения от политики, возникающее по вине
доминирующего субъекта политики - "властвующей элиты". Степень отчуждения
может быть различной, но в любом случае она характеризует ослабление
демократии. Манипуляция массами, особенно посредством СМИ, потеря доверия к власти
могут довести отчуждение до предельной степени5. Миллз подчеркивал, что
средства массовой коммуникации, загружая людей многообразием имиджей, превращают
их в зрителей всего, но в свидетелей ничего. Это делает их морально нечувствитель-
3 Lane R.E. The Loss of Happiness in Market Democracies. New Haven, L., 2000. P. Ъ-Ь.
4 См.: Stiglitz J.E., Greenwald B. Towards a New Paradigm in Monetary Economics. Cambridge, 2003.
5 Mills Ch.W. White Collar: The American Middle Classes. N.Y., 1951 ; Mills Ch.W. The Power Elite. L., 1956.
4
ными, побуждает их руководствоваться не собственным сознанием, а
распоряжениями или даже приказами других.
Другим источником апатии стал конец идеологии или, как говорил Р. Арон,
"конец века идеологий". Д. Белл, Ч. Райт Миллз в Америке, А. Камю в Европе
отмечали конец идеологии на Западе, конец утопии построения совершенного общества,
который, без сомнения, способствовал росту политической апатии. Мультикульту-
рализм и плюрализм, вступившие на смену идеологии, не смогли заместить
социального смысла и усугубили настроение апатии.
Радикализм Миллза соответствовал настроениям 50-ых, но вскоре (1963)
сменился менее радикальными представлениями Г. Олмонда и С. Вербы, которые отрицали
сводимость политической культуры демократического общества к культуре
участия, не воспринимали неучастие или уход от политики как заведомую апатию. Они
считали, что в американском демократическом обществе сосуществуют три типа
политической культуры - приходская, подданническая и культура участия.
Приходская политическая культура в их трактовке опирается на нерасчлененность связей
между людьми и тесно спаяна с другими культурными проявлениями.
Подданническая культура выделяет политику, по отношению к которой население может быть
пассивно доброжелательным. Культура участия выступает как собственно
демократическая культура в узком значении этого слова. При формировании гражданской
культуры, по их мнению, устанавливается баланс всех существующих в стране типов
политической культуры. Нельзя представить и даже поощрить участие всех, это бы
лишило общество стабильности, активизировало противоречия и конфронтации. В
широком смысле демократическая политическая культура объединяет три
названных типа политической культуры и создает баланс между ними6. Поэтому
политическое неучастие нельзя однозначно толковать как апатию. Например, если мы
скажем, что австралийское общество апатично, это может означать незначительный
интерес к политике в Австралии в сравнении с США. Австралийское общество,
безусловно, менее политизировано, чем США, но апатично именно в первом смысле:
люди не хотят заниматься политикой, не делают этого и к политическому активизму
относятся с предубеждением, исходя из своего свободного выбора, а не потому что
они апатичны для занятий политикой.
Однако попытка взглянуть на апатию менее политизированно и менее
радикально не была завершена. Революционная волна молодежных движений 60-х вновь
подняла вопрос о политическом неучастии как апатии. Так, Г. Маркузе в Европе явно
продолжил радикалистские подходы к апатии как к "побежденной логике
протеста" . Апатия для него не ограничивается, однако, политическим неучастием. Апатия
проистекает также из того, что наличие политической свободы в индустриальном
обществе не освобождает людей от добывания "средств к существованию и
вследствие этого закрывает для людей и социальных классов путь к свободе"8.
Миллз и особенно Маркузе придерживались весьма радикальных позиций,
полагая, что политическое отчуждение может быть не только относительным, но и
абсолютным. Такую степень отчуждения, согласно Миллзу, создает политическая
субординация, а, по мнению Маркузе, направленность общества на формирование
"одномерного человека", отличающегося мышлением и поведением, сформированным
манипуляцией власти. Именно манипуляция власти, стремящейся к достижению
пассивно-одобрительной позиции населения, рассматривалась как целенаправленное
производство апатии, от которого сама же власть начинала страдать, теряя свою
социальную базу.
6 Almond G Л., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton,
1963. P. 22.
7 См.: Маркузе Г. Одномерный человек. M., 1994. С. 161-188.
8 Там же. С. 168.
5
Массовые общества - возрастание апатии
Тема манипуляции для производства апатии была продолжена в Европе в тесной
связи с констатацией перехода от общества автономных индивидов к массовому
обществу, вызванному демократизацией и индустриализацией. X. Ортега-и-Гассет
самым красноречивым образом показал нарастание значимости массы. С VI по XVIII в.
население Земли оставалось неизменным - 180 млн. человек. С 1800 по 1914 г. оно
выросло до 460 млн. человек в связи с улучшением качества жизни. Уже это
предполагало проникновение масс в те сферы, которые принадлежали раньше элитам или,
как говорит Ортега-и-Гассет, - меньшинству. "Девятнадцатый век был
революционным по сути. И суть не в живописности его баррикад - это всего лишь декорация, а в
том, что он поместил огромную массу общества в жизненные условия, прямо
противоположные всему, с чем средний человек свыкся ранее... век перелицевал
общественную жизнь"9. Подлинно массовое общество сложилось первоначально в США,
где идея прав человека не определяла качеств человека и даже не накладывала на
него обязательств, а имела в виду человека как такового, и где большинство людей
получило невиданный доступ к материальным благам. Подобно избалованным
детям, они восприняли эти блага как естественные, а не результат труда отцов и
возымели представление о своем равенстве и даже превосходстве над творческим
меньшинством: "Действительно, видя мир так великолепно устроенным и слаженным,
человек заурядный полагает его делом рук самой природы и не в силах додуматься,
что это требует усилий людей незаурядных... Избавленный от любого давления
извне, от любых столкновений с другими, он (человек массы. - В.Ф.) и впрямь
начинает верить, что существует только он, и привыкает ни с кем не считаться, а главное -
никого не считать лучше себя"10. Фабрики все более "выплевывали" усредненную и
легко манипулируемую массу, "изготовляемую" индустриальным производством,
его обезличивающими средствами, такими, как конвейер, как отчужденный
машинный труд. Масса к первой трети XX в. сложилась как следствие постоянного
скопления людей в одном месте и их труда в индустриальном производстве. Но масса не
является именно этим слоем населения. Она состоит из людей разных слоев и
сословий, обладающих описанными чертами. И эта масса восстала, опираясь на собственную
природу, не зная запретов, признавая только прямое действие, пытаясь
организовать порядок, который бы дискредитировал прежний. Сила восстания была столь
велика, что к массе стало приспосабливаться и творческое меньшинство. Герой
М. Пруста Сван, блистающий в светском обществе, трепещет перед горничной,
боясь, что она не сможет его оценить. Здесь еще далеко до апатии: масса энергична и
завоевывает жизненное пространство.
Массовое общество получает возможности потребления и массовую культуру,
удовлетворяющие запросам составляющих его масс и поддерживающих всеми
возможными средствами массы именно на уровне этих запросов. Но подобная
трактовка является, скорее, новой. Обычно массы продолжают рассматриваться как
апатичный продукт сознательно осуществляемой манипуляции, а по своей
сущности они представляются, скорее, пустыми и легко наполняемыми любыми, в том
числе и противоречащими друг другу, содержаниями.
Одним из первых к новой трактовке масс перешел Г. Блумер (1951), который
рассматривал массу как качественную характеристику спонтанного коллективного
группирования, которое включает представителей самых разных слоев, образует
группу, состоящую из анонимных индивидов, не имеющую взаимодействия и обмена
переживаниями между ее представителями, и имеет плохую организацию, делающую
9 Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. - В кн.: Ортега-и-Гассет X. Избранные труды. М., 1997. С. 72.
10 Там же. С. 73.
6
ее не способной действовать с согласованностью и единством толпы . Как и Орте-
га-и-Гассет, он подчеркивает, что масса не является ни обществом, ни общиной. Это -
наиболее трудное положение в понимании масс, которые часто отождествляются с
трудящейся массой, слоями нижней социальной стратификации. Присущие этим
слоям черты - слабая организация, неэффективные коммуникации между ними, а
так же их вырванность из укорененной в традициях и обычаях жизни
распространяются в обществе вследствие первоначального напора масс. Но у массы, по мнению
Блумера, полностью отсутствуют социальная организация, обычаи или традиции,
устоявшиеся правила и ритуалы, установки, структура статусных ролей, умения.
Отсюда "...поведение массы, именно потому, что оно не определяется никаким
предустановленным правилом или экспектацией, является спонтанным, самобытным и
элементарным" . Если массовое поведение организуется, то оно, по мнению
Блумера, становится не массовым, а социальным движением. Масса у Блумера - уже не
восставшая, а пассивная.
Без этих прежних трактовок, где масса воспринимается как восставшая или
пассивная, трудно перейти к концепциям апатичной массы, ибо возникает риск
восприятия апатии как всегдашнего свойства массы. Таково именно восприятие массы
Ж. Бодрийара и некоторых постмодернистов. Бодрийар рассматривает массу
сегодня как "молчаливое большинство", состоящее из людей, которые могут никогда не
встречаться. Это уже не собрание "одномерных людей (Маркузе) и не людей "без
свойств", а большинство без свойств. Апатия, присущая массе, полагает Бодрийар,
"относится к их сущности, это их единственная практика, и говорить о какой-либо
другой, подлинной, а значит, и оплакивать то, что массами якобы утрачено,
бессмысленно"13. Однако мы видели восставшую массу Ортеги-и-Гассета, пассивную
массу Блумера до того, как познакомились с апатичной массой Бодрийара, при всем
том, что они сходным образом понимают массу. Ортега-и-Гассет объясняет, в каком
смысле и почему восстала масса, Блумер описывает, почему на другом
историческом этапе она оказалась пассивной. Апатичной, по мнению Бодрийара, она стала
именно из-за своего господства, которым она вытеснила социальное. Можно
согласиться, что пренебрежение иерархией социальной структуры ("перелицовывание
общества", упомянутое выше) поставило массу не только выше творческого
меньшинства, но и выше социального, которое могло скорректировать прежде
поведение масс. Не имея над собой социального, масса стала диктовать свой вкус. Общение
с массой, согласно Бодрийару, возможно лишь как мониторинг, который
выхватывает что-то, что тотчас же гаснет и поглощается в массе и не имеет
никакого значения для структурирования этого бесструктурного образования.
"Рациональная коммуникация и массы несовместимы, - пишет Бодрийар. - Массам
преподносят смысл (курсив наш. - В.Ф.), а они жаждут зрелища. Убедить их в
необходимости серьезного подхода к содержанию или хотя бы к коду сообщения не
удалось никакими усилиями. Массы - это те, кто ...порабощен стереотипами, это те,
кто воспринимает все, что угодно, лишь бы это оказалось зрелищем"14. Бодрийар
говорит, что все имеет свою репрезентацию, кроме массы. Он утверждает, что
"пренебрежение смыслом красноречиво характеризует молчаливую пассивность"15,
которую мы можем назвать апатией.
Блумер Г. Теории символического интеракционизма. - в кн.: Американская социологическая
мысль. Р. Мертон.Дж. Mud, Т. Парсонс, Л. Щюц. М., 1996. С. 182.
12 Там же. С. 183.
13 Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург, 2000. С. 19.
14 Там же. С. 14.
15 Там же. С. 15.
7
Россия: от анархии к апатии как типу порядка
При всей огромной активности власти - модернизационном проекте, выдвинутом
Президентом и включающем в себя борьбу с бедностью, реформу армии и удвоение
ВВП, административной реформе, шумных скандалах по поводу монетаризации
льгот, угрозе реформы ЖКХ, попытках сверху инициировать построение
гражданского общества, ибо власть начинает ощущать все возрастающую ответственность
(особенно после событий в Беслане), общество в целом находится в состоянии
глубокой апатии. Имеются трактовки этого состояния, которые полностью отвечают
радикальной западной традиции, рассматривающей апатию как следствие
сознательной манипуляции власти, о которой мы писали выше.
Согласно Т. Кутковец и И. Клямкину, в российской политической культуре идет
борьба между сегодня преобладающей модернистской культурой, ориентированной
на развитие потребностей и свободной конкуренции, индивидуальных способностей,
право индивидуально принимать решения, ощущать верховенство закона, и "русской
системой" взаимоотношения власти и народа, при которой поощряется "нестяжа-
тельность" - заниженные потребности и государственная опека, бюрократическое
господство и отсутствие верховенства закона. Авторы провели социологическое
исследование, результаты которого они интерпретируют как преобладание в России
модернистской культуры над традиционалистским взаимоотношением власти и
народа. 70% населения, по их мнению, разделяют модернистские ценности, и, тем не
менее, "русская система" продолжает функционировать, подвергаясь лишь
косметическому ремонту16. Этот вывод делается из-за преобладания в анкетах ответов, в
которых люди признают значимость ценностей экономического процветания,
ставят семью и индивидуализм на ведущее место. Цифра очень завышена, другие
социологи говорят о 30%, но дело не только в цифре.
Вместе с тем отмечается, что именно среди носителей модернистского сознания
доля аполитичных людей составляет 25%. Они уходят в частную жизнь. То есть
наиболее апатичными, безразличными ко всему за пределами частной жизни, по
мнению этих исследователей, выступает как раз потенциально наиболее активная часть
населения. Социальная апатия является продуктом отсутствия модернистского
проекта у государства, считают Т. Кутковец и И. Клямкин, комментируя в статье
"Новые люди в старой системе (модернистский проект развития российскому обществу
до сих пор не предложен)" проведенное ими социологическое исследование
"Самоидентификация россиян в начале XXI века"17.
Это утверждение кажется правдоподобным. Для сравнения, американский
социолог Ч.Р. Миллз считал наиболее апатичным слоем в США конца 50-х годов "белые
воротнички" . Интерпретируя эту точку зрения в терминах Т. Кутковец и И. Клям-
кина, можно сказать, что они являлись представителями наиболее модернизаторско-
го политического сознания, но властвующая элита ("американская система")
разочаровывала их и уводила в частную жизнь. Однако даже эта аналогия не убеждает нас
в адекватности оценки уровня модернистского политического сознания в России.
Термин "русская система" введен А.И. Фурсовым и Ю. Пивоваровым. См., напр: Пивоваров Ю.,
Фурсов Л. Русская власть, русская система, русская история // Красные холмы. М., 1999. С. 185-198.
"Русская система" - это традиционное для России взаимодействие власти и народа без посредующего участия
гражданских установлений, общества, которое бы можно было назвать гражданским. Это - только
сверху идущая власть и снизу оказываемое доверие к ней, подчинение ей, которое срывается на бунт,
анархию, революцию.
17 Кутковец Т., Клямкин И. Нормальные люди в ненормальной стране // Московские новости. 2004.
№25.
18 Mills Ch.W. White Collar: The American Middle Classes. N.Y., 1951. P. 318-319; Mills Ch.W. The Power
Elite. L., 1956. P. 21-23, 310-315.
8
Указанный процент апатически настроенного населения среди сторонников
модернистской политической культуры подвергает сомнению самое ее преобладание над
традиционалистской в сегодняшней политической культуре России. Восприятие
любого заявленного индивидуализма, признающего главенство интересов личности, ее
прав и свобод, ее частной жизни и семьи над интересами любых общностей, в том
числе и государства, является необходимым, но недостаточным признаком перехода
традиционной политической культуры в современное состояние. Индивидуалист не
обязательно представляет модернистскую политическую культуру. В описанном
случае он чаще всего выражает так называемые примордиальные (первичные,
исконные - родовые, племенные, семейные) ценности и примордиальную
(первоначальную, исходную) идентичность, без которых просто не существует человек и
которые совсем не характеризуют его как автономного индивида. Он может быть и в
России весьма часто является представителем анархической политической
культуры. Он может быть индивидом массы, таким же безличным, как другие ее
представители, а масса - продукт современности, состоящий, однако, из индивидов, не
имеющих модернизационного сознания. У Кутковец и Клямкина примордиальные
ценности и идентичность трактуются как ценности модернистские.
В действительности же - это вообще не ценности, а условия адаптации,
обрезающие высшие уровни общественного существования - постановку целей, социальную
дифференциацию и интеграцию, выработку культурных образцов (если следовать
логике Т. Парсонса) или характеризующие низшие ступени в наборе таких
индивидуальных потребностей как физиологические, потребность в безопасности и
защите; в духовной близости и привязанности к другим людям (социальные потребности);
в уважении и самоуважении, в самореализации (если следовать схеме
индивидуальных потребностей А. Маслоу). На примордиальном уровне человек может быть
"негативным индивидуалистом", отвергающим не только социальную связь, но и
воспринимающим другого как опасность для себя. Анархический порядок 90-х массово
производил индивида, понимающего свободу как волю. После дефолта 1998 г.,
подорвавшего бизнес и надежды таких людей, многих из них поразила апатия. Апатия
поразила и самое государство, прежде пережившее, как это ни парадоксально,
анархическое состояние.
Слои, которые меньше всего подверглись апатии - воодушевленные
национальным строительством или протестом национальные меньшинства, люди из малого и
среднего бизнеса (за исключением времени дефолта), которые уже не имеют
причин для "несчастливой" экономической апатии и еще не имеют причин для
"счастливой" апатии перепотребления. Не заражены апатией политические карьеристы,
экстремисты. В отношении террористов дело обстоит сложнее. Опубликованные в
газете "Известия" материалы о русских девушках, решивших стать шахидками,
свидетельствуют об их полнейшей апатии, вызванной отсутствием в обществе смыс-
ложизненых целей, апатией молодежи, проявляемой в наркотизации и
алкоголизации, апатией русских парней, не имеющих жизненных планов, в отличие от полных
энергии чеченцев, под влияние которых они попали. Апатия проявляется в плохой
работе экономического стимула, когда увеличение оплаты не способствует лучшей
работе. В самой большой степени апатия поразила традиционалистски мыслящее
население, поскольку государство игнорирует его состояние, его нужды и сегодня
начинает переходить от игнорирования к эксплуатации.
Может сложиться ситуация, когда послереволюционная, послеанархическая
апатия (явление, типичное для России) снова обернется анархическим или
революционным бунтом, поскольку отсутствуют легальные каналы воздействия на власть со
стороны населения. Не способная к дискуссии Дума, не политическое, а, скорее,
техническое правительство, отсутствие оценки реальной ситуации в стране не
способствуют тому, чтобы население активно воспринимало ситуацию. Немалый вклад в
возникновение апатии внесла глобализация, которая не привела Россию на
достойное место в клубе чемпионов развития. Апатия часто бывает просто пережиданием,
9
собиранием сил, формой неявного несогласия, сбереганием себя, пассивностью,
которая возникает потому, что нельзя одолеть обстоятельства.
В социальном мире "островной" характер порядка на фоне множества
неупорядоченных явлений - аксиома. Классификация типов порядка осуществляется по
разным основаниям. Например, разделением на военные и промышленные способы
организации у Г. Спенсера, у Э. Дюркгейма выделяются два типа порядка -
механическая и органическая солидарность на основе разделения труда, у Вебера порядки
отличаются различием ценностной и целевой рациональности, у Тенниса -
разделением общины и общества. При этом могут быть представлены две модели порядка,
которые наиболее значимы для оценки посткоммунистических трансформаций:
одна, которая предполагает унификацию содержаний и действий, запланированность
событий и подавляет то, что препятствует реализации избранных идеалов порядка;
вторая - когда имеются некоторые непреложные принципы организации,
обеспечивающие основные права граждан, а внимание сосредоточено на обеспечении их
центрального регулятивного значения без особого интереса к многообразию
флуктуации, существующих в обществе.
Но между этими типами, которые можно обозначить как тоталитарный и
демократический порядок, существует "ничейная земля" плохо сформированных
социальных структур, воспринимаемых часто как беспорядок, отсутствие порядка,
при котором, однако, общество достаточно долго существует и функционирует.
Эта "ничейная земля" должна быть проанализирована с точки зрения тех
промежуточных типов порядка, которые размещаются на ней, ибо, если бы речь шла о
полном отсутствии порядка, о хаосе, общество не могло бы пребывать в нем в течение
продолжительного времени. Важно заметить, что тип порядка, характеризуемый
как тоталитарный или как демократический, поддается также многообразию
трактовок . Другим различением порядков является понимание источников его
становления. Согласно Парсонсу, порядок не осуществим без воспроизводства и
сохранения культурного образца, он имеет иерархический восходящий характер, связанный
с вертикальной интеграцией основных проблем, решаемых любой социальной
системой (адаптации, постановки политических целей, создания социальной
целостности на основе общих норм и воспроизведение культурных образцов той же адаптации,
принципов постановки целей, той же интеграции). Феноменологическая парадигма
рассматривает порядок как растущий снизу из взаимодействия воль, представлений и
правил игры. Есть новая тенденция рассмотрения упрощенных
формально-рациональных схем порядка с горизонтальной интеграцией, построенной на основе
предельной эффективности, калькулируемое™ - любви к количественной исчисляемости
успеха, таланта, прогресса и всего остального, предсказуемости - привычности
поведения. Такой порядок называется макдональдизацией, ибо ресторан быстрого
обслуживания Макдональдс воплощает эту примитивную по содержанию, но
наивысшую по формализации рациональности формулу порядка20. Синергетики говорят о
сетевом, самоорганизующемся порядке, переплетающемся с хаосом, и в этом
отношении их методология может быть успешно применена для анализа смены порядков.
Выделяется порядок обществ "знания", соответствующий постиндустриальным,
информационным обществам, построенный на рефлексивной модернизации.
Постмодернисты уповают на плюрализм и удержание завоеванных структур модернити
тем, что они дополняются архаикой, что в практике обществ незавершенной
модернизации проявляется в виде чистой архаики. Наконец, анализируется порядок
обществ риска, который сегодня присущ глобальной системе в целом и каждому
обществу.
9 Munch R. Understanding Modernity. Toward the New Perspective going beyond Durkheim and Weber. L.,
N.Y., 1988.
20 Ritzer G. The Macdonaldization of Society. (...) L., New Delhi., 1996.
10
На "ничейной земле", где воспроизводятся порядки низшего уровня, мы
выделяем два типа порядка - анархический и апатический, а также тенденции появления
нового типа порядка низшего уровня, который мы назовем
формально-рациональным (по типу макдональдизации).
Рассмотрим это более подробно. Посткоммунистические преобразования
описывались поочередно сменяющими друг друга теориями модернизации, кризиса,
транзита и, наконец, травмы. Это последнее описание - наиболее глубокое, касается
любой посткоммунистической страны и большинства ее населения. Разрабатывая
концепцию социального изменения как травмы, П. Штомпка показал, что
посткоммунистический период травмировал поляков, несмотря на то, что сильнейшей травмой для
них был приход коммунизма, из которого они мечтали в большинстве своем как можно
скорее выйти. Российское общество, сознательно и небезуспешно поставившее на
себе коммунистический эксперимент, продолжало оставаться более либерально-
коммунистически настроенным, когда оно получило "удар" капитализма, более
похожего на самые карикатурные описания коммунистической пропаганды, чем на то,
с чем люди бы охотно смирились. Как Польшу, так и Россию потрясли перемены,
вызвавшие большие разочарования.
Полученная травма, по мнению Штомпки, включает: синдром недоверия;
мрачный взгляд на будущее; ностальгию по прошлому; политическую апатию; травмы
коллективной памяти и др.21
Сценарии российского развития могут быть описаны изменением отношения к
травме. Поляки почти добились преодоления травмы. Им помогла их нелюбовь к
коммунизму, наличие польской диаспоры с западным опытом, инновационность,
человеческий капитал, патриотизм и пр. Как указывает Штомпка, "вопреки
ожиданиям пессимистов относительно скоро травма посткоммунизма вступила в стадию
излечения. В Польше в середине 90-х меняется большинство негативных тенденций,
исчезают некоторые симптомы травм. Наиболее очевидны перемены в сфере
доверия. Синдром недоверия после 1989 г. уступил место обратной тенденции, особенно
доверия в обществе к институтам демократии и рынка... В Польше появился
многочисленный богатый средний класс, чувствующий себя уверенно... Помимо новых
форм личного и социального капитала, есть традиционные источники, успешно
применяемые в новых условиях. Прочные дружеские, партнерские связи, сети
знакомств..."22. Кроме весьма непрочного последнего фактора, в России не произошло
ничего из описанного Штомпкой относительно Польши.
Углубление травмы возможно из-за новых витков шоковой терапии или при
ухудшении ситуации, новых манипуляциях на выборах, вследствие стихийных
бедствий, терроризма. Население поддерживает высокий рейтинг Путина, несмотря на
отложенные ожидания, понимая, что углубление травмы далее невозможно для
здоровья нации.
Сохранение травмы, но адаптация к ней - это то, что происходит в России в
течение долгого времени и характеризует апатию общества. Это - весьма опасный
сценарий, нечто вроде иммунодефицита, толерантности к вредным воздействиям.
Длительное сохранение и видоизменение травмы - это уже "вызов дьявола", как
говорил А. Тойнби, на который нет ответа.
Травма вызвала аномию. В плане потери значений субъективная реальность
характеризуется как аномия. Она описана Э. Дюркгеймом как состояние накануне
самоубийства. Об аномии целых обществ заговорили только сейчас. Р. Дарендорф в
начале 90-х поставил диагноз посткоммунистическим обществам: аномия
(отсутствие норм или их рассогласование) вместо прежней гиперномии (сверхнормированнос-
Штомпка П. Социальное изменение как травма (статья первая) // Полис. 2001. № 1; Он же.
Культурная травма в посткоммунистическом обществе // Полис. 2001. № 2.
22 Там же. С. 9, 11.
11
ти периода коммунистических режимов) . Социально признанные значения
рассредоточились по разным слоям общества, формируя противостоящие друг другу
реальности и отсутствие общих ценностей. Это создавало уже не раскол, а
расколотость на кусочки. Пережив эту аномию в 90-е годы, наше общество
оказалось на уровне адаптации, потеряло представление о культурных образцах, о
смысле жизни и социально признанных идеалах и стало воспринимать любую
ценностную интеграцию, которая конструирует общество, как проявление тоталитаризма.
Идея начать все с чистого листа, как в Америке, противоречила реальному
распределению социального знания (памяти, традиции, опыту), которое невозможно было
отбросить, а можно было лишь исказить. Подобный замысел привел бы к сходному
результату в любой стране. Аномия означает, прежде всего то, что ценности,
которые люди считали само собой разумеющимися, и воспроизводимый порядок
вещей, достигнутый практически и поведенчески, разрушаются.
Аномия в России 90-х возникла по тем же причинам, которые обозначал
Э. Дюркгейм в своих работах "Об общественном разделении труда" и
"Самоубийство" - а именно: по причине быстрой смены экономических отношений на
капиталистические при отсутствии новых моральных обоснований этой деятельности. Ведь
Франция была католической страной, не подготовленной к капитализму
протестантской этикой. Другой причиной являлось, по Дюркгейму, то, что появлявшаяся
органическая солидарность существовала наряду и вместе с механической, что
создавало серьезные конфликты и ослабление солидарности24. В нашем обществе
аномия возникла также по причине радикального отказа от прежде коллективно
санкционированных ценностей и норм и полного разрушения механизма
социального конструирования реальности при анархическом порядке 90-х годов25. В
результате, сегодня мы не имеем коллективных представлений о различии добра и зла, о том,
что такое сострадание, справедливость, жалость, милость, доброта, хороший тон,
правильная речь, самоуважение, уважение к другому, потеряло смысл традиционно
русское понятие правды и пр. Речь не идет о том, чтобы выдумать нормы для
растерявшего их общества, а о том, чтобы в ситуации их разрушения аккумулировать все
оставшиеся и бытующие в некоторых средах, в сознании многих людей, в
сегодняшней повседневности и практике значения и теоретически обосновать новые, чтобы
сделать эти значения не только достоянием "свободно парящей" интеллигенции, но
социально признанными в масштабах общества.
Аномия и произвела анархический порядок 90-х. Если государство уклоняется от
помощи, то система социальный связи и безопасности рушится, и население
переходит к самопомощи за пределами социальных связей. Такая самопомощь и есть
анархия. Ее конечный результат: примитивная адаптация. Самопомощь не складывается
в социальный институт. Вопрос об идентичности и формировании интересов
общества не возникает на этом уровне. Это - типично анархическое состояние, когда
социальные связи разрушены и не образуются вновь.
Ошибочно рассматривать адаптивное поведение населения как форму
самодеятельного кооперативного поведения, как его воспринимали некоторые .
Сущность анархического порядка определялась слабостью центральной
власти, отсутствием коллективных представлений, недейственностью социальных
институтов (что характерно для международной системы, имеющей
анархический порядок), а также специфически российскими чертами - самопомощью и коо-
Дарендорф Р. Письмо польскому другу // Путь. 1994. № 3.
24 См.: Покровский Н.Е. Проблема аномии в современном обществе. М., 1995. С. 54-67.
25 См.: Федотова ВТ. Анархия и порядок. М., 2000.
26 На это указывает, например, стремящийся к преодолению крайностей неореализма и радикального
либерализма А. Вендт. См.: Wendt A. Anarchy is what State make of it: the Social Construction of Power Politics //
International Organization. Winter 1992. V. 46. № 2. P. 392.
12
перацией (прямо по П. Кропоткину) и разрывом "с чуждой интеллигентской
культурой" (прямо по М. Бакунину).
Анархия, которая традиционно воспринималась как беспорядок в российском
посткоммунистическом обществе 90-х, могла стать типом порядка в силу инерции
прежних социальных институтов и структур, возникающих не потому, что люди ценили
их в прошлом, а потому что функция воспроизведения образца, в данном случае
самоповторения, и делала беспорядок порядком. Трактовка индивида, включенного в
анархический порядок, как адекватного западному, попросту неграмотна.
Буржуазный автономный индивид в корне отличается от этого загнанного в угол одиночки.
Западный индивид автономен, независим, инструментально рационален и
персонально интегрирован21. Анархический, негативно-свободный индивид не может
быть автономным, является зависимым, ограничен в своей инструментальной
рациональности, поскольку действует в море хаоса и персонально дезинтегрирован.
Особенно напряженно складываются отношения самопомогающего себе негативно
свободного индивида с другими. При всей российской склонности к коллективизму и
стихийно возникающей кооперации "другой" все более представляется источником
опасности, а потому автономия мыслится не как самостоятельное целеполагание, а
как изолированность.
Анархия как тип порядка не способствовала формированию иных идентичнос-
тей и интересов, кроме адаптации (выживания или обогащения).
Укрепление власти или строительство институтов демократии дает формальную
структуру для преодоления анархии, но не является эффективным, до тех пор пока
не сложатся коллективные представления об общих ценностях. Анархические
практики помогли, на наш взгляд, окончательно свалить коммунизм, но они являются
опасными. Во-первых, потому что не являлись ни современными, ни
демократическими, отбрасывали страну в раннефеодальную междоусобицу, борьбу кланов. Во-
вторых, существуя достаточно долго и по-своему стабильно, анархические практики
начинали представлять силу, препятствующую позитивным изменениям.
Апатический порядок сложился после развала анархического под влиянием
желания людей обрести более устойчивый порядок и избрания Президентом В.В.
Путина на этой волне. Ко второму сроку его избрания был достигнут некоторый
консенсус ценностей, в отличие от прежнего их распада, обусловленных реальным
положением страны. Это - ценности стабильности и безопасности, сегодня признанные
каждым. Они появились наряду с вышеупомянутыми примордиальными ценностями,
ошибочно принимаемыми за либеральные или модернистские. В сущности,
стабильность и безопасность - не столько ценности, сколько условия адаптации.
Главная форма отношения российской власти с обществом - зондаж. Например,
вброшена мысль о неизбежности жилищно-коммунальной реформы, состоящей в
том, что население должно платить за дурное жилье полную без дотаций сумму в
обмен на улучшающееся качество обслуживания. Каждый знает, что большая оплата
не улучшает обслуживание, что половина жилья изношена настолько, что подлежит
замене. Если бы несколько тысяч жителей Воронежа, где губернатор стал
немедленно повышать цены, не вышли на улицу, реформа бы прошла. Но теперь ее
отодвинули.
Другой пример. Первый вброс идеи укрупнения регионов был сделан
представителем Президента в Поволжском регионе в отношении Пензенской области,
которая дотационна, уныла и пр., заметим, как любой русский город, где нет нефти, и ее
надо расформировать, укрупнив соседние регионы. Этот проект был воплощением
либерального презрения к российскому городу (по закону представитель
центральной власти в регионе не имеет права на партийную политику), игнорирующий
значение Пензы как культурного центра, а в России "центр" - большой или малый - ис-
См.: Borofsky В. Liberalism from Self: A Theory of Personal Autonomy. N.Y., 1996. P. 9-10.
13
точник цивилизованной жизни. Полемика по этому вопросу в прессе остановила эти
планы. Сегодня - новый вброс идеи укрупнения регионов. И, если общество не
выразит негативного отношения в связи с тем, что сегодня опасно затронуть столь
чувствительный национальный нерв автономий, не выскажется по поводу того, что
такой проект может дать старт русскому сепаратизму на Дону, в нефтеносных
районах, на Урале, Дальнем Востоке и Сибири, что укрупнение в условиях депопуляции -
убыли одного миллиона в год - это грозит распадом страны. В Сибири и на Дальнем
Востоке - малонаселенных территориях - нужны новые субъекты федерации, а не
укрупнение старых, свои Силиконовые долины, производящие
высокотехнологичный продукт.
Зондировалась дисциплинарная структура университетского преподавания, при
которой были оставлены такие "гуманитарные" дисциплины, как физкультура и
иностранный язык. Академик B.C. Степин и ряд других ученых сумели возразить и
отстоять философию и отечественную историю в качестве обязательного предмета
изучения.
Решили перевести часть университетов на местные бюджеты, т.е. попросту
закрыть. Зондаж встретило молчание. Значит, переведут.
Пенсионная реформа. Зондаж. Понять смысл так трудно, что масса не ответила
на зондаж. Реформа пошла.
Монетаризация льгот. Под напором масс половинчата, ибо напор грозил тем, что
масса перестанет отвечать спорадически и выделит из себя слой, участвующий в
устойчивом социальном движении.
Сегодня идет зондаж в отношении Академии наук. Тут просто не хочется даже
дискутировать: Дело Петра. Гордость русской науки. С чем мы останемся?
Особенностью зондажа, как уже было аргументировано, является то, что так общаются с
массой. Масса иногда реагирует на зондаж, иногда не делает этого. Другого
общения власти с населением нет. Общение посредством зондажа производит массу даже
там, где она еще не была произведена.
Бодрийар, вышерассмотренный как теоретик массового общества, признает, что
масса не всегда молчалива и способна только к поглощению всех воздействий.
Молчание масс, по его мнению, накладывает запрет на то, чтобы говорили от их
имени. Однако он сомневается в способности масс сегодняшнего дня прийти в движение:
"Воображение массы представляется колеблющимся где-то между пассивностью и
необузданной спонтанностью... сегодня они - безмолвный объект, завтра, когда
возьмут слово и перестанут быть "молчаливым большинством" - главное
действующее лицо истории. Однако истории, достойной описания, - ни прошлого, ни
будущего - массы не имеют. Они не имеют ни скрытых сил, которые бы высвобождались,
ни устремлений, которые должны были бы реализоваться. Их сила является
актуальной, она здесь вся целиком, это сила их молчания" . Опыт истории не учит
такому толкованию. Если даже допустить, что история творилась не массами, то и тогда
она творилась не без масс и не могла бы твориться без них. Если сказать, что
термин "масса" нами подменен и используется в значении "народная масса", а не в
значениях Ортеги-и-Гассета или Бодрийара, мы будем правы все-таки в том
отношении, что сформировавшийся новый тип массы, произведенной не в одном месте, а
дистанционно посредством СМИ, является новым и, не имея прошлого, не ясен
своим будущим.
Итак, апатический порядок характеризует отношение власти к населению
как к массе, с которой общаются посредством зондажа.
Русская культура расколота, полярна, лишена серединности, о чем писали многие
русские философы - Н.О. Лосский, H.A. Бердяев, а сегодня A.C. Ахиезер, А.П.
Давыдов и др. Среди западных историков русской культуры красноречиво написал об
Там же. С. 1-2.
14
этом в своей книге "Икона и топор", обозначив полюса, Дж. Биллингтон - директор
библиотеки Конгресса. С.А. Аскольдов отмечал, описывая опыт русских
революционных потрясений: "... Быть может, наибольшее своеобразие русской души
заключается... в том, что среднее, специфически человеческое начало является в ней
несоразмерно слабым по сравнению с национальной психологией других народов. В
русском человеке как типе наиболее сильными являются начала святые и звериные"29.
Казалось бы, наибольшую моральную крепость должен проявить тот, кто далек от
гибкого сочетания названных полюсов и стоит на позициях морального догматизма,
святости, говоря словами Аскольдова. Однако Аскольдов показывает, что, находясь
на полюсе "святости", очень легко свалиться в отрицание морали вообще - в
"звериное". Почему? Потому что "святость" - это позиция человека, не прошедшего
трудностей морального выбора, его мучений, не искушенного жизненными соблазнами.
Такая моральная позиция, несомненно, будет бита жизнью, вызовет разочарования,
переход на противоположные позиции и затруднит формирование начала
"человеческого" - не "святого" и не "звериного". "Ангельская природа, поскольку она
мыслит себя прошедшей мимо познания добра и зла и сохранившей в себе первобытную
невинность, во многом гораздо ближе и родственнее природе зверя, чем
человека"30. Обычно эта полярность русской культуры, отсутствие "серединной культуры"
характеризуется негативно - как следствие отсутствия гражданского общества,
опыта решения проблем. Объяснение ситуации в политических терминах нехватки
демократии забывает о возрасте демократии в сравнении с возрастом российской
истории, который позволяет увидеть и другой аспект - напряженность полюсов, их
диалектическую связь, наличие "прецедентных феноменов" (культурных скреп) или
"констант культуры", как говорят филологи, на том и другом полюсе.
Противоречие это имеет тот смысл, говоря словами Бодрийара, что "здесь все - структура,
поддерживающая ставки политики и различные противоречия, здесь все еще в силе
социальный смысл... В паре зондаж/молчаливое большинство... нет ни
противоположных, ни вообще выделенных элементов...; нет, следовательно, и потока
социального: его исчезновение - результат смещения полюсов..."32. Значит, если применить
это утверждение Бодрийара к России, уничтожение полюсов культуры здесь
чревато разрушением социальности. Именно таким путем - по схеме смещения полюсов, -
по мнению Бодрийара, и действует всепоглощающая масса.
Массовое общество связано с феноменом массовой культуры. Масса сегодня
ворвалась в общество с культурными претензиями. Спор о том, является ли она
продуктом СМИ, и прежде всего телевидения, или телевидение подстраивается под ее
собственную сущность, отвечает ей, может быть разрешен только при понимании
механизмов производства культуры как в общем виде, так и собственно в России.
Аскольдов С.А. Религиозный смысл русской революции. - В кн.: Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 225.
30 Там же.
31 Под прецедентными феноменами в филологии понимаются "средства обеспечения культурной
континуальности, культурной скрепой, цементирующие отдельные социумы в единую культуру, в которой
взаимодействуют люди разных психо- и социотипов. Эти люди могут и не разделять ценностных
ориентации соответствующей культуры или же разделять и не полностью, однако неприятие того или иного
элемента культуры, бесспорно, свидетельствует о знании этим индивидом этих элементов". (Феномен преце-
дентности и преемственность культур. Отв. ред. Л.И. Гришаева, М.К. Попова, В.Т. Титов. Воронеж, 2004.
С. 19). "Под прецедентностью. следует понимать... отсылку к прецеденту, каковым может быть другое
произведение, персонаж, мотив, ситуация как элемент сюжета, сюжет в целом, фраза персонажа или
автора и т.п. В качестве прецедентных феноменов можно рассматривать и факты истории как часть
культуры..." Признаками прецедентных феноменов цитируемый автор считает: указание на контекст, к
которому относится текст, содержащий прецедентный феномен; явление, к которому относится
прецедентный феномен, выступает как артефакт; использование прецедентного феномена интенционально, и
никогда не является ни случайным, ни автоматически осуществимым (Там же. С. 34-35).
32 Бодрийар Ж. Указ. соч. С. 30. )
15
Становление массового общества, чья жизнь - апатия, и чьи отношения с властью -
молчание власти, иногда пробуждаемое криками, вызванными зондажом власти -
это высшее воплощение апатического порядка. При данном порядке апатии
подвержено все, в том числе и культура. Апатический порядок, пришедший вслед за
анархическим, не преодолел кризиса идентичности. Идентичность задается не только и не
столько властью, а всей совокупностью практик. Русская и западная классическая
литература, классическое искусство, фундаментальное образование входили в число
этих практик, наряду с коммунистической практикой, хотя и в некотором внутреннем
противоречии к ней. Тем не менее эти структуры идентичности породили слой
советской интеллигенции, способной жить везде в мире, а не только в СССР, способных
продолжить свою деятельность в посткоммунистический период.
Анархический порядок обеспечил поражение интеллигенции на рынке
культуры, культурное восстание масс. Апатический порядок создал и вывел на
общественную сцену предельные формы культурной апатии, всевозможную попсу.
Массовая культура и апатия
Производство культуры осуществляется как в неспециализированной форме, так
и в специализированной. Неспециализированной являются формы народного
творчества. Общепризнано то, что народ и масса - не одно и то же. Народ обладает
некой цельностью мифо-поэтического видения и проявляет себя большей частью в
традиционных обществах, где выступает как достаточно целостная общность,
носитель традиций.
Специализированное производство культуры осуществляется подготовленными
элитами, существование и творческий характер которых институционально
поддерживаются точно так же, как это делается в науке или технике посредством контроля
со стороны научного или технического сообщества. Как пишет немецкий профессор
И. Смирнов: "... социальность ...создает такие обстоятельства для креативной,
исторически релевантной работы, которые препятствуют участию в ней любого
индивида, как он того бы пожелал, которые фильтруют кандидатов... в обществе
наличествуют также институции, в которых сосредоточивается его креативный авангард
(будь то княжеский двор, монастырь, академия, университет, учреждения для
публичного проведения досуга в виде театров, и т.п.). Торможению спонтанного
творчества, исходящего от масс... сопутствует... поощрение креативной деятельности в
специально отведенных для нее анклавах. Важнейший результат такого
позиционирования творцов следует усмотреть в том, что они - в силу их включения в
коллектив - подвергают друг друга взаимоконтролю. Они сами отсеивают те идеи,
которые кажутся им почему-либо недостойными быть культурным капиталом'. Вот
этот механизм в сегодняшней России абсолютно разрушен. Поражение
интеллигенции на общенациональном рынке культуры и торжество здесь масс, порвавших
(прямо по М. Бакунину) с "чуждой интеллигентской культурой" в период анархического
порядка 90-х, на наш взгляд, сформировало социальный заказ масс на предельно
упрощенные формы массовой культуры, отодвигая прецедентные формы русской,
российской и мировой культуры, т.е. те значимые явления культуры, которые были
культурными скрепами, культурными константами и поныне являются
характеристиками русской культуры за рубежом, в анклавы. Так, русская классическая
литература, известная большинству российских граждан хотя бы из школьной программы
и выступающая прецедентом понимания русской культуры вообще, сегодня
существует на таких окраинах культуры, что возникает вопрос, а является ли она частью
культуры нашего народа. Российская литературная элита сделала модной
рефлексию сознания масс, его отображение и моделирование архаики в гротескной форме,
Смирнов И. Социософия революции. СПб., 2004. С. 31.
16
результат которого - не сближение культурных полюсов и не взаимопроникновение
массовой и элитарной культуры, а ожесточенное поругание масс, сознанию которых
не противостоят никакие культурные образцы. Значительная часть выделенных
обществом творческих сил просто подыгрывает массе, формируя ее такой, какой она
еще не была до их представления о ней и предпринятых усилий сделать ее
адекватной своим представлениям.
Сравним два горестных текста: повесть Михаила Кураева "Капитан Дик-
штейн"34, вышедшую в годы перестройки, и повесть Валерия Попова "Третье
дыхание"35. Полная поглощенность тяжелым бытом, выживание, борьба за
существование, апатия присуща героям той и другой повести. Но в жизни капитана Дикштейна
есть осмысленное прошлое, светлые дни. В жизни героя Попова ничего, кроме
финальной моральной решимости не сдавать жену-алкоголичку в больницу и
продолжать мучиться. Герои имеют не безотчетный страх и скрытую тревогу, которыми
Бодрийар характеризует массу и ее представителей, а страх и тревогу вполне
реальные, вызванные несносной тяжестью жизни. Это - не политическая апатия, хотя
время и политика сформировали сложившийся тип поведения героев. А сколько
миллионов людей пребывают в апатии по сходной причине невыносимости жизни,
бедности, независимости жизни от тебя самого.
Апатия повседневной жизни в России совсем не такова, как на Западе, и имеет
другие причины. Она не исчерпывается тем, что общество является массовым, у нее
есть множество причин обыденного и культурного характера, а также политической
разочарованности и растущей уверенности, что от человека мало что зависит. Тем
не менее феномен массы, произведенной как индустриальным производством, так
и СМИ, сегодня существенно усиливает взгляд на апатию как следствие
господства масс.
"Масса, лишенная слова, которая всегда распростерта перед держателями слова.
Восхитительный союз тех, кому нечего сказать, и масс, которые не говорят", -
замечает Бодрийар . Но тут же он говорит: "...дело не в том, будто они кем-то
дезориентированы, - дело в их внутренней потребности, экспрессивной и позитивной
контрстратегии, в работе по поглощению и уничтожению культуры, знания, власти,
социального . Действительно, масса индустриального общества на пути к потреблению
оказалась неудовлетворенной, и ей дали потреблять пошлость, которую она жадно
схватила, не выходя из состояния индифферентности, апатии, неясной тревоги. Но
кто дал эту пошлость, которую описывают как подлинную сущность сегодня
возникших масс? Выше сказано: те, кто говорят. Освобождение масс оказалось
состоящим в том, чтобы стать такими, какими их описывают.
Писатель Валентин Распутин написал недавно: "Справедливо, наверное, говорят,
что народ живет в селе, а в городе население" . Сходную мысль высказывает
Бодрийар. Он говорит, что "крестьянские массы" как раз не были массами, поскольку
знали свои символические обязанности (сравни Распутин - роль крестьянской среды
в сохранении ценностей, которые были раньше, нравственной и духовной почвы).
Попытка выделить массу и отделить ее от остального населения оказывается
безуспешной. По мнению Бодрийара, "стремление уточнить содержание термина "масса"
поистине нелепо - это попытка придать смысл тому, что его не имеет"39. Более то-
Кураев М. Капитан Дикштейн. М., 1988.
Попов В. Третье дыхание // Новый мир. 2003, № 5-6.
36 Бодрийар Ж. Указ. соч. С. 12.
37 Там же. С. 15.
Распутин В. "Если дело дошло до края" // Литературная газета. 18-14 сентября 2004, № 35 (5986).
С. 3.
39 Бодрийар Ж. Указ. соч. С. 9.
17
го, "...социального референта сегодня нет даже у таких классических категорий, как
"народ", "класс", "пролетариат", "объективные условия" ...Единственно оставшийся
референт - референт молчаливого большинства... оно не может иметь какой-либо
репрезентации" . Термин "социальное", - продолжает он, - центральный для всех
дискурсов, также ничего сегодня не значит: "В нем не только нет необходимости, он
не только бесполезен, но всякий раз, когда к нему прибегают, он не дает
возможности увидеть нечто иное, не социальное: вызов, смерть, совращение, ритуал или
повторение - он скрывает то, что за ним стоит лишь абстракция, результат процесса
абстрагирования..."41.
Масса, однако, как новая социальная реальность ставит перед социальной
философией, социологией и другими науками не только задачу зондажа, но и
концептуализации. Отчасти приведенная выше характеристика массы как неопределяемой -
дань не только специфической методологии, пытающейся избежать метанаррати-
вов, но и выражение незнания этой новой российской реальности - порядка,
образованного апатией. Что касается темы массовой культуры, то я хотела бы развить ее в
следующей второй статье, продолжая поднятую А. Захаровым тему в
интересующем меня контексте.
Что впереди?
Трудности сегодняшнего российского развития таковы, что не поддаются
разрешению в рамках выбора между хорошим и еще более лучшим. Упрек В.В. Путину
западными аналитиками в том, что он сворачивает демократию во имя
авторитаризма, не имеет отношения к реальности. Он мог быть высказанным на любом этапе
посткоммунистического развития в качестве чего-то из геометрии Лобачевского
или Римана, брошенного в упрек Эвклиду. Запад никак не поймет реальностей
других народов, отягощенных и обогащенных собственной историей. Мы барахтаемся в
упрощенных типах порядка, и апатия может быть признана даже достижением в
сравнении с анархией, готовой сорваться в хаос. Что произошло за последние годы?
Многое, что произошло, имеет, наряду со знаком "плюс", знак "минус": нашли
общие ценности после аномии - стабильности и безопасности, но это - ценности
адаптации, а не развития; отказались от концепции всеобщего политического участия,
признав многообразие политических культур в демократическом обществе, но это
способствовало формированию апатичной массы; нашли некоторый набор целей,
но этот набор случаен; власть стала проявлять интерес к созданию гражданского
общества, поскольку начала ощущать груз ответственности, который она хочет
разделить с другими, но есть опасность формирования этих институтов как филиалов
власти; разрушен коллективизм, но ему на смену пришел не автономный индивид, а
массовый, с примордиальной идентичностью. Не решаются проблемы научно-
технологической политики, конкурентоспособности, депопуляции и угрозы
территориального распада, русского сепаратизма при реализации плана укрупнения
территорий и др. И вместе с тем апатия - стабилизационный тип порядка, как и
анархия, найденный не в проектной деятельности власти, а в некоторой игре
исторических последствий российской истории как с властью, так и с народом. Для понимания
этого нужна не упрощенная идеология, а серьезный научный анализ.
Для того чтобы говорить о трансформации этого порядка в новый, надо, следуя
нашей методологии, проследить динамику ценностей, установить, какие ценности на
подходе в качестве общезначимых. Сегодняшние ценности стабильности и
безопасности обеспечены недостаточно. Люди начинают требовать эффективности. Мы
40 Там же. С. 25.
41 Там же. С. 22.
18
снова видим модернистские преувеличения на этот счет, либеральные упования.
Нет, господа. Это ведет к формально-рациональному порядку, который
содержательно беден: эффективность, предсказуемость (стабильность), калькулируе-
мость (удвоение ВВП) и контроль (безопасность), к тому порядку, который
называется в литературе макдональдизацией. Хотим ли мы жить в таком будущем
порядке? Нет, конечно, если он возникнет ради себя самого, но да, если выбором будет
"жить или не жить". Прохождение череды предпорядков стало нашей судьбой,
потому что мы не ведали, что творили, разрушая социальность во имя светлого завтра.
Надо ли указывать пальцем на неграмотность реформаторов с самого начала, на
отсутствие анализа рисков, независимых экспертиз, на Запад, упоенный своей
счастливой судьбой и даже имеющий "счастливую апатию". Нам остается закрыть
Академию наук и смело мостить благими намерениями дорогу в ад.
19
От национально-государственных
объединений к региональным
(проблемы мезоуровня в организации общественных систем)
Р. X. СИМОНЯН
В современном мире параллельно развиваются две противоположные, но
равноправные тенденции. С одной стороны, мы являемся свидетелями интенсивных
процессов интеграции стран, формирования глобальных экономических союзов,
выстраивания наднациональных институтов управления социальными процессами. Сознание
своей причастности к тому, что происходит во всем мире, касается всех. "Жизнь в
современном мире не укладывается в привычные для большинства людей границы их
традиционной самоидентификации - цивилизационной, религиозной, культурной,
национально-государственной и пр. То есть сами границы остаются, но они уже не
вмещают в себя все содержание человеческой жизни в глобальном обществе.
Возникает ситуация "кризиса" всех существующих форм идентичности, когда ни одна из
них не гарантирует человеку сознания его современности"1. С другой стороны, не
менее отчетливо мы можем наблюдать и обратные процессы: увеличение
разнообразия, степени фрагментарности мира, рост национального самосознания и усиление
культурной дифференциации народов, возрождение традиционных ценностей,
расширение локальных националистических устремлений, порой приводящих и к
конфликтам. Возможно, в этом проявляется иммунитет человеческого сообщества от
губительного единообразия и унификации социальной жизни. В этом смысле
национализм - это определенным образом оформленное стремление к экзистенциальной
безопасности, своеобразная форма проявления инстинкта выживания, который
притягивает человека к той социальной группе, которая гарантирует ему большую
устойчивость, большую прочность социальной связки в мире мобильных социальных
ролей2.
Этничность - это единственная константа в мире социальных переменных. Все
остальные роли (а стремление к их разнообразию в структуре личности также
связано с бегством от однообразия и монотонности бытия) могут изменяться. И
политические, и профессиональные, и гражданские, и корпоративные, и
конфессиональные, и, в последнее время, даже тендерные. Одновременно рост национального
самосознания - это и естественная реакция на стандартизацию социальной жизни.
Культурная многоукладность и национальная самобытность находятся сегодня под
© Симонян Р.Х., 2005 г.
20
угрозой, человечеству стремятся навязать какую-то одну модель как единственно
верную, нивелировать все его многообразие под один трафарет. Отсюда
естественная реакция снизу - защитить себя, свою уникальность. Нарастающие
антиглобалистские тенденции связаны с тем, что люди ощущают себя не представителями
некоего общего безликого мира, а носителями конкретного этнокультурного
сообщества. Этнос - это один из типов организации общества и при этом пока самый
долговременный тип. Генетический страх быть растворенным в пучине глобальных
перемен рождает противодействие, принимающее те или иные формы в рамках
различных этнокультурных сообществ. У малочисленных народов это чувство грядущей
опасности особенно, иногда даже болезненно, невротически обострено. И это
объяснимо. Малочисленному этносу труднее реализовать свою историческую задачу по
творческому самовыражению, но от нее никуда не уйти.
Локальный этнокультурный опыт немыслим вне общецивилизационного
контекста. "Каждая нация обязана выявить перед миром свою национальную сущность. Если
же нации нечего дать миру, это следует рассматривать, как национальное
преступление, и никогда не прощается человеческой историей. Нация обязана сделать
всеобщим достоянием то лучшее, что есть у нее... преодолевая собственные, узкие
интересы, отправить всему миру приглашение принять участие в ее духовной культуре"3. Эти
слова, произнесенные Рабиндранатом Тагором на лекции в университете Кэйе во
время его первого посещения Японии в 1916 г., образно и точно определяют
социокультурное предназначение каждого этноса, гуманитарное взаимодействие этноса и
человечества. Сегодня, спустя почти столетие, становится совершенно очевидным, что
самоактуализация этнических сообществ является одновременно и
культурно-историческим фоном, и содержанием многих социальных процессов. Глобальные вызовы
становятся мощными катализаторами самовыражения этносов, что придает
процессам на микроуровнях взрывную социальную энергетику. Особенно это характерно
для исторически молодых этносов, неважно, больших или малых . История
национальной идеи в ее различных проявлениях подтверждает, что она вполне совместима
с признанием общечеловеческого измерения в развитии прав личности, моральных
законов, межэтнической толерантности и культурного плюрализма,
наднациональных и трансгосударственных форм общности4.
Причем взаимосвязь и взаимозависимость рассматриваемых общественных
тенденций такова, что реакция на уровне микросреды может вызвать резонанс на
макроуровне. Местный, локальный характер события далеко не всегда ограничивается
этими рамками, он может принимать и часто принимает общепланетарный
масштаб. Вторая половина XX в. и начало XXI в. дают нам многочисленные примеры
таких явлений.
Диалектика противоречий между первыми, происходящими на макро-, и
вторыми, развивающимися на микроуровне, порождает необходимость регулирования и
разрешения этих противоречий на каком-то пограничном, промежуточном уровне.
Выход из конфликта этих противонаправленных сил в поиске переходной ступени,
выполняющей роль своеобразного социального редуктора от общемировых к
местным процессам. Этот промежуточный (мезо-) уровень позволяет общие тенденции
приспосабливать к местным специфическим условиям, что дает возможность в
нарастающем процессе унификации и стандартизации сохранить разнообразие
социального мира, защитить уникальность каждой отдельной культуры. В отличие от
макроуровня промежуточная ступень дает возможность операционального выхода на
конкретную этнокультурную самобытность, что повышает гарантии ее защиты и
сохранения. Отдельная личность и государство не могут общаться непосредственно,
необходимы соответствующие структуры - посредники. Взаимодействие социальных
низов и верхов объективно рождает необходимость мезоуровня. Так и локальные
социумы нуждаются в таких же посредниках для выхода на макросистему. С другой
стороны, на место государств единообразного большинства приходят мультикультурные
государства, т.е. государства различных меньшинств (социальных, культурных, этни-
21
ческих, конфессиональных и других), оберегая исторические традиции и сохраняя
этнокультурный плюрализм. Да и сама категория "меньшинство" сегодня в условиях
повсеместного роста демократических ценностей приобретает особое общественно-
политическое звучание. Новая функция миноритарных групп в современном обществе
вызывает необходимость эффективного социального модератора для ее
реализации. "История предупреждает, что в будущем, как и в прошлом, ущемление и
преследование этих меньшинств приведут к гнусным и отвратительным преступлениям, -
считает английский мыслитель Арнольд Тойнби. - Человечество нуждается в
единстве, но внутри обретенного единства оно должно обеспечить себе наличие
многообразия"5.
Таким образом, роль среднего, промежуточного уровня диктуется
необходимостью снятия противоречий между глобальными и локальными тенденциями, между
социальной интеграцией и дифференциацией мирового сообщества, между
унифицированной регламентацией всех сфер общественной жизни и местными
историческими традициями. Современные мощные макропроцессы, воздействуя на нижние
пласты социума, все-таки не способны разрушить разнообразие социального мира,
так как неизбежно вызывают ответную реакцию снизу, наталкиваются на
сопротивление этнокультурной микросреды.
Вектор же мезопроцессов направлен на поиск оптимальных форм объединения
малых, локальных сообществ, обращение к солидарности - естественному и
единственному способу их защиты и выживания как социального вида в глобальных
процессах. Если глобализация - это движение сверху вниз, от макро- к микроуровню, то
регионализация - это движение снизу вверх - от микро- к макроуровню. Средний,
переходный мезоуровень организует и упорядочивает это движение, на этой
ступени организации мирового сообщества происходит своеобразный общесоциальный
консенсус, гармонизация энергетики двух встречных потоков, вырабатываются
основы гомеостазиса системы. Будучи разнонаправленными, и общепланетарные, и
местные этнокультурные процессы нуждаются в такой ступени, проходя через
которую ценности универсальные и национальные предстают в свете их
диалектического единства, а не в ракурсе их дихотомии. Эту важную преобразовательную функцию
мезоуровня довольно точно улавливает известный политолог В. Кувалдин: "Вопреки
распространенным представлениям, в ходе глобализации "перегородки" между
различными сегментами мира не рушатся, а преобразуются, становятся проницаемыми
"мембранами" с управляемыми потоками обменов" .
И отдельное этническое сообщество (микроуровень), и человечество в целом
(макроуровень) представляют собой если не вечное и незыблемое, то, по крайней мере,
готовые, завершенные формы социальной организации. А вот промежуточные
формы в силу своей функции изменчивы и динамичны. Логика постоянных
перемещений через этот пограничный слой делает его гибким и подвижным. Поэтому
задача состоит в том, чтобы найти (или создать) его. В отличие от постоянства основных
уровней мезоуровень есть производное от них, он всегда вторичен и появляется
только в результате взаимодействия двух основных уровней. При этом мезоуровень
является функцией многих переменных, в том числе времени, особенностей
социума, а также избранного пространства, в котором рассматривается взаимодействие
основных уровней. Здесь важно установить, что считать исходным, первичным
уровнем, от которого начинается отсчет. Так, например, в социальной макросистеме
промышленного предприятия первичным уровнем социальной организации
является производственная бригада, которая может рассматриваться как самая
элементарная организационная единица, как микросреда, а процессы, в ней происходящие, -
процессы микроуровня. В этом случае производственный цех, состоящий из
совокупности бригад и являющийся результатом их взаимодействия, исполняет роль
мезоуровня, так как через этот промежуточный уровень осуществляется
взаимодействие микро- (бригады) и макро- (предприятия) среды. Это производственное звено
организует и оптимизирует весь комплекс технологических, экономических и соци-
22
альных и административно-управленческих связей между отдельным рабочим и
предприятием в целом. Именно поэтому на цеховое руководство приходится
основная тяжесть внутрисистемного регулирования на предприятии. Но, в свою очередь,
если оперировать более широким пространством общественного производства -
государством, т.е. макроэкономикой, то в этом случае промышленное предприятие
само является низовым уровнем, микросредой. А роль мезоуровня возлагается на
отрасль промышленности, или объединение, куда входит группа родственных
предприятий. Так схематично можно представить положение и функцию мезоуровня в
экономической сфере.
В социально-политической сфере между социальными низами и государственной
властью роль мезоуровня играют различные социальные институты,
функционально осуществляющие прямую и обратную связь между микро- и макросредой. В
демократическом обществе они представлены в виде совокупности различных
общественных объединений, инициативных ассоциаций граждан, представительских
политических структур, свободных массмедиа, профессиональных союзов, общественных
движений и т.п., организующих общественный диалог между двумя основными
уровнями. Чем продуктивнее функционирует мезосреда, тем стабильнее общественная
система.
В пространственном выражении средний уровень - это своеобразная "ничейная
земля", где действуют законы и закономерности обеих - макро- и микросистем.
Среднее звено, с одной стороны, не утратило непосредственный контакт с низовым
уровнем, и это его преимущество перед социально-политической верхушкой. А с другой,
обладая набором представительских и регулятивных функций, имеет преимущество
перед нижним уровнем в виде качественно иного общественного статуса. Выполняя
функции проводника и в том, и в другом направлениях, этот уровень по своей природе
амбивалентен: он и отрицает, и утверждает, координирует и преобразует, отбирает и
направляет, и в конечном счете гармонизирует отношения, организуя между
крайними уровнями диалог. Положение этого уровня, его специфика определяет
наличие в нем мощного регулятивного потенциала. Это социальное звено призвано
оптимизировать социальные процессы в целях достижения устойчивости постоянно
развивающегося социума. Другими словами, источником возникновения мезоуровня
является необходимость гомеостазиса социальной системы. Если он отсутствует, то
в системе возникает риск саморазрушения. История дает многочисленные примеры,
когда отсутствие мезоструктур в том или ином обществе исключало возможность
диалога между социальными низами и верхами, что приводило к различным
общественным катаклизмам.
Ни глобализация, ни регионализация как доминирующие общественные
тенденции не существуют автономно, так же как и не существуют изолированно макро- и
микропроцессы. Они, взаимоопределяя и взаимодополняя друг друга, входят в
общую совокупность социальных процессов современного мира. А мезоуровень есть
по существу результирующий элемент взаимодействия этих процессов. Если
обратиться к технической аналогии, то именно этот уровень обозначает то место
общественного механизма, где должен находиться регулятор.
Усиление тенденций регионализации определяется и современными
технологиями общественного регулирования. "Цивилизации прежних эпох не нуждались в
целостной концепции регионального деления общества, основанной на признании
множественности организационно-территориальных принципов его строения. В
современном мире усложняющаяся структура общества потребует не столько
иерархии социальных отношений, сколько их координации. Дисперсия власти в
дальнейшем должна усилить автономность многочисленных и разнообразных этнических,
конфессиональных, культурных сообществ, существующих в каждой стране" .
Какая же ступень организации различных государственных или
административных сообществ может рассматриваться как промежуточная? Регион, на наш взгляд,
и есть тот самый мезоуровень организации мирового социального сообщества, ко-
23
торый позволяет одновременно не только ослабить и разрешить противоречия
между глобальными и антиглобальными процессами, но и, что очень важно, сообщить
определенную "глобальность" локальным процессам, и, наоборот, адаптировать
общепланетарные тенденции к местной культурно-исторической специфике . Регион
сегодня является промежуточной зоной, проводящей социальной средой,
сопричастной как внутреннему, так и внешнему пространству. Именно на этой ступени
общественной самоорганизации устанавливается баланс между интеграцией и
дезинтеграцией, между центром и периферией, между централистскими и сепаратистскими
тенденциями, между многими другими социальными противоречиями современного
общественного развития. Следовательно, регионализация это не только способ
государств приспособиться к условиям всеобщей глобализации, но и стремление
приспособить глобальные тенденции к своим локальным интересам. Иными словами,
регионализация - это путь к равновесию общепланетарной системы.
При этом само понятие "регион" не является застывшим, строго математически
очерченным. Это может быть и внутригосударственное, и межгосударственное
образование, а один регион может входить в состав другого, более крупного региона. То
есть данная категория универсальна, операциональна и продуктивна настолько,
насколько универсальна, операциональна и продуктивна в принципе любая типология
и классификация в области социального знания. А региональные особенности
представляют собой совокупность природных, социально-экономических, культурных и
институциональных условий, сложившихся в регионе и отличающих его от других
регионов. В социально-экономическом плане территориальная специализация
региона входит как элемент в общую систему международного разделения труда. Одна
из современных тенденций развития мирового хозяйства заключается в том, что
само по себе местоположение все чаще интерпретируется как рыночная региональная
среда, а конкуренция на мировом рынке идет уже не столько между национальными
государствами, сколько между регионами. Причем этнокультурная компонента
становится решающим критерием для оценки уровня конкурентоспособности региона.
Но, отдавая должное экономическому аспекту, следует подчеркнуть, что задачи
консолидации регионального социума являются сегодня не менее важными, чем
обеспечение экономической эффективности и конкурентоспособности.
В современной России процесс регионализации в 90-е гг. проходил весьма
интенсивно, принимая из-за усиливающейся деградации центральной власти
патологические формы и последовательно увеличивая угрозу сохранения целостности страны.
Однако, начиная с 2000 г., по мере укрепления авторитета центральной власти
динамика этого процесса идет на убыль, он ограничивается появлением различных
вариантов асимметричного федерализма. Это качество российского федерализма связано с
тем, что каждый из регионов России (Центр, Поволжье, Север, Урал и др.) обладает
не только собственной матрицей развития этнокультурных процессов, но и
неповторимым экономическим потенциалом, специфическими пространственными,
природными, социально-политическими и геостратегическими особенностями. Так,
удаленность от основных производителей вынуждает такие российские регионы, как
Восточная Сибирь и Дальний Восток, искать источники своего жизнеобеспечения в
ближних зарубежных государствах. Что же касается Северо-Запада России, то
исторически и экономически он примыкает к региону Балтийского моря. Поэтому вместе
со странами Балтии может рассматриваться как общий Балтийский регион на
постсоветском пространстве, составляющий вместе с сопредельными государствами
значительную часть европейского континента.
Таким образом, региональное консолидирование не только тесно связано с
глобальными процессами, но в значительной степени является их прямым следствием.
В этом смысле регионализация возникла в современном мире, прежде всего в ответ
на экономические и политические вызовы новейшей истории. Поэтому, признавая
взаимозависимость глобальных и региональных процессов, следует все же исходить
из того, что второй является в значительной мере реакцией на первый. Как правило,
24
эта реакция, основываясь на культурно-исторических особенностях государств,
выходит на ту или иную форму региональной солидарности, часто преодолевая при
этом сложившиеся исторические традиции иногда и вопреки взаимной неприязни
этносов, входящих в этот регион. В основе регионализации, а следовательно, и
региональной солидарности обычно лежат самые очевидные критерии. Например,
традиционно выделяются западная и восточная части пространства как элементы
социальной целостности, каждый из которых обладает таким уровнем специфических
свойств, который позволяет их не только сопоставлять, но и противопоставлять.
Одна из глобальных тенденций заключается в том, что классическая антитеза
Запад-Восток все чаще заменяется другой антитезой - Север-Юг.
В Европе этот критерий регионализации уже оформился в виде "Южного
измерения" и "Северного измерения". В свете изменений, происшедших за последнее
десятилетие, понятие "Северная Европа" стало значительно более широким и
многомерным, чем раньше. Было бы естественно рассматривать и традиционные северные
страны и государства района Балтийского моря как взаимосвязанные составляющие
единого региона. В общественном мнении стран Северной Европы все больше
укрепляется понимание того, что в североевропейское пространство должен входить
Северо-Запад России. Таким образом, рост региональной консолидации объективно
способствует интеграции общеевропейского пространства, и этот его аспект является для
России особенно ценным и актуальным.
В этой связи необходимо подчеркнуть следующий момент: если анализ
глобальных процессов является в настоящее время предметом исследования огромного
количества обществоведов и специальных научных учреждений, и число их
увеличивается лавинообразно, то процессы регионализации привлекают значительно
меньшее внимание исследователей. Хотя воздействие этих одновременно развивающихся
тенденций на социальную жизнь одинаково велико. Причем имеющиеся
исследования ограничиваются, в основном, рассмотрением экономической или политической
сторон региональных процессов. В социокультурологическом смысле региональная
проблематика исследована недостаточно.
Под воздействием глобализации и регионализации конец XX в. был отмечен
ослаблением влияния национального государства и интенсивным сближением стран.
Региональные объединения являются наиболее продуктивной формой современной
социальной солидарности этнокультурных сообществ. Оформившийся в последние
годы Европейский Союз может служить наиболее типичным примером такой
консолидации, и прежде всего по отношению к малочисленным этносам. "В
сообществах, объединяющих 2-5 миллионов человек, нет устойчивости, - замечает
французский социолог Теодор Зэлдин, - они, тем не менее, представляются основой для
создания Европы регионов, которая должна заменить Европу государств"9. Еще в
начале 90-х гг. Ален Турен отмечал, что "страны, верившие в возможность
экономической трансформации при сохранении унаследованных от прошлого форм
социальной организации, рискуют оказаться не способными глубоко проникнуть в
постиндустриальное общество. Именно это происходит в Западной Европе, которая
экономически достаточно современна, чтобы пойти вслед за американским обществом, но
в социальном плане недостаточно современна, чтобы стать автономным очагом
развития"10. Несколько лет назад 3. Бжезинский писал, что "современная Западная
Европа производит впечатление попавшей в затруднительное положение, не имеющей
цели, хотя и благополучной, но неспокойной в социальном плане группы обществ,
не принимающих участие в реализации каких-либо крупных идей"11.
Нынешний процесс европейской интеграции означает стремление ослабить
отставание в социальном развитии. Ведь западные европейцы объединяются совсем не
потому, что испытывают симпатию друг к другу (немцы к французам, англичане к
немцам, англичане и французы друг к другу и т.д.), а потому что сами по себе в
отдельности они не могут адекватно отреагировать на общепланетарные вызовы. Ог-
25
раниченность возможностей государств обусловлена не только их слабостью или, по
крайней мере, не только ею.
Даже самые благополучные и стабильные во всех отношениях страны Запада с
сильным государственным аппаратом все острее ощущают неспособность решить
собственными средствами многие задачи (национальную безопасность, устойчивость
развития экономики, борьбу с преступностью, проблемы экологии и т.д.), поскольку
многие угрозы их внутреннему равновесию и безопасности возникают извне.
Нейтрализация этих угроз, так же как и создание устойчивой экономики, невозможно без
постоянного и широкого сотрудничества с сопредельными государствами. Поэтому
страны, которые географически находятся ближе друг к другу, пытаются укрепить
взаимные связи, чтобы в глобальной мировой системе сообща представлять свои
интересы.
Объединение Европы, которое представляет собой социальную интеграцию
высшего уровня, повлечет за собой децентрализацию на уровне локальном. В этих
условиях большие нации вынуждены будут отказаться от части своих полномочий, а
региональные структуры получат больше прав. В современном мире
нация-государство перестало быть единственным субъектом международных отношений. Сегодня
государства проявляют все более гибкое понимание своих суверенных прав и
отстаивают их, исходя из конкретных обстоятельств. Таким образом, происходит
выравнивание не только политического веса различных стран, но создаются объективные
предпосылки для сохранения и развития локальных очагов самобытных
социокультурных явлений. Ведь именно это и происходит в Евросоюзе, который на
сегодняшний день является наиболее продвинутым региональным интеграционным
проектом. Когда страна вступает в Европейский Союз, больше всего теряют
государственные органы власти - парламенты и правительства. А локальная, местная власть
по-прежнему остается сильной, более того, теперь ее значение в этих условиях даже
возрастает, что еще раз подчеркивает указанные в начале статьи тенденции.
В географическом смысле регион представляет собой часть страны или группу
близлежащих стран, составляющих определенную целостность, отличающуюся
совокупностью естественных и исторически сложившихся, относительно устойчивых
экономико-географических, демографических и социокультурных особенностей. В
нашей литературе регион обычно рассматривается в природном, экономическом,
политическом и административном аспектах12. Но "за последнее время понятие
региона существенно изменилось, - справедливо отмечает Г.Е. Зборовский, -
получило дополнительные характеристики" . В первую очередь это касается
социокультурного аспекта. Категория "региональное" как более абстрактная вбирает в себя
различные этнокультурные начала, преодолевает изолированность отдельных
локальных пространств и малых сообществ, создавая новое социальное качество.
Система признаков, определяющих принадлежность тех или иных областей к общей их
совокупности, глубоко уходит корнями в историю, культуру, экономику, политику.
И ее границы должны определяться исходя из более широкого понимания, чем дает
только география.
Для обозначения регионов, населенных близкими по своим
культурно-историческим характеристикам этническими сообществами, давно используются
типологические определения, обобщающие в условном географическом названии вполне
очевидное социально-культурное содержание. Например, в Европе это
"Средиземноморье", "Балканы", "Кавказ", "Скандинавия", "Северные страны", в которых на единой
природно-ландшафтной основе в процессе социогенеза сложилось определенное
культурно-историческое единство. К этому же ряду относятся и нынешняя "Балтия"
(или прежде, в составе евроазиатского региона Российской империи и Советского
Союза - "Прибалтика"), являющаяся частью более обширного европейского
региона - "страны Балтийского моря" или "регион Балтийского моря". Как историческое
понятие "регион Балтийского моря" впервые появилось во времена Ганзейского
союза, куда входили и Великий Новгород, и Псков в XIV в., хотя многие области этой
26
зоны относились к Ганзейской торговой системе только косвенно. Успехи в
развитии стран Ганзейского союза в XIV-XVIII вв. еще раз подчеркивают эффективность
экономической основы регионализации. В современном мире региональная
экономическая специализация становится все более важным направлением
международного разделения труда.
Тогда же, в XIV в. термин "Прибалтика" получил распространение в России,
обозначая одновременно и географическое пространство, и ареал различных
балтийских народов (в собирательном значении - прибалтов), составляющий ныне
территорию Латвии, Литвы и Эстонии. С тех пор в историческом сознании россиян
укрепилось устойчивое и цельное представление об этом регионе. Таким образом,
следует рассматривать бывшую советскую Прибалтику, а ныне страны Балтии как
регион, который входит составной частью в более обширный - регион государств
Балтийского моря. Целостность этого социального образования находит отражение
в его восприятии окружающим социумом. Неспособность большинства
западноевропейцев как-то дифференцировать жителей Прибалтики в равной мере остро
чувствуют и латыши, и литовцы, и эстонцы. Да и для более близкого к ним населения
России характерно восприятие этих трех этносов как единого народа.
Положение стран Балтии в центре Европейского континента обусловило
историческую роль этого региона как пограничного между двумя европейскими
цивилизациями - западно-христианской и восточно-христианской. Под воздействием двух
культур формировался социокультурный облик стран Балтии. А межцивилизацион-
ное взаимодействие глубоко затронуло социальную жизнь этого региона и наделило
его особым культурным своеобразием. Таким образом, страны Балтии
представляют собой социальную мезо-среду в двух планах, в двух ипостасях - и как регион, и
как расположенный на границе двух мировых культур (российской и
западноевропейской) социум. Редкое сочетание указанных свойств дает все основания считать
этот регион уникальным социально-культурным образованием.
То, что, в свою очередь, каждая из этих стран имеет свою собственную
внутреннюю этнокультурную структуру - неофициальную как, например, в Литве (Жемай-
тия, Аукштатия, Дзукия, Сувалки) и Эстонии (северная, эстляндская, и южная, лиф-
ляндская), или официально-административную как в Латвии (Курземе, Видземе,
Латгалию и Земгале), и что эти провинции являются регионами по отношению к
государству в целом, лишь подтверждает вышеуказанную универсальность и
операциональное^ понятия "регион".
Исходным моментом для нас является то, что население региона составляет
определенную целостность, характеризуемую выработанными в веках особыми
формами симбиоза с природой, специфическими видами самообеспечения, общностью
поведенческих черт, сложившихся в процессе адаптации людей в природной и
социокультурной среде , что в совокупности квалифицируется как региональные
особенности . Они представляют собой более высокий уровень обобщения по сравнению
с этническими особенностями, так как региональное сообщество может включать в
себя несколько этносов, но менее высокий по сравнению с цивилизационными
особенностями, так как этот уровень представляет лишь часть (в данном случае -
европейской) цивилизации. Региональные особенности создают определенный
стереотип социального поведения. В то же время в рамках этого общего стереотипа
этнические сообщества, образующие население региона, обладают своими конкретными
чертами, неповторимыми свойствами. С точки зрения системного подхода
региональное^ (как целостность) и есть то самое новое качество, которое образуется в
итоге взаимодействия и взаимного дополнения этнокультурных сообществ (как
элементов), составляющих эту целостность. Поэтому исследование диалектики общего
и особенного представляется нам важной частью социологии региона. Это та часть
исследования, которая направлена на анализ внутренней структуры объекта. Есть и
другая часть, которая направлена на внешнюю среду объекта, на положение регио-
27
на в социокультурном пространстве. Исследование структуры его взаимодействия
с окружением представляется другой важной частью социологии региона.
Примечания
1 M ежу ев В.М. Проблема современности в контексте модернизации и глобализации // Полития. № 3.
С. 110.
2 "Современным людям свойственна множественная самоидентификация, - справедливо замечает
Е.А. Нарочицкая, - по половому, возрастному, образовательному, профессиональному, религиозному,
культурному, региональному и другим признакам, на главное место среди которых в последние два
столетия вышел национальный". (Развитие интеграционных процессов в Европе и России. М., 1997. С. 170.)
3 Тагор Р. Избранные произведения в 2-х тт. Т. 2. Ташкент, 1991. С. 259.
4 Большими этносами, которые по тем или иным историческим причинам не смогли самовыразиться,
и вклад которых в сокровищницу мировой культуры незначителен или отсутствует вовсе, это
воспринимается (чаще, подсознательно) как национальная трагедия. Самовосприятие своей
культурно-исторической несостоятельности резко повышает психологический настрой нации на самоактуализацию. Эта
историческая "обида" не прощается никому, особенно "более удачливым" соседям. В подобной ситуации
характер этноса приобретает повышенную агрессивность, которая часто оформляется в завышенных
политических притязаниях молодой национальной элиты.
5 Тойнби АДж. Постижение истории. Сборник. М., 1991. С. 599.
6 Полития. № 2. 2002. С. 30.
7 Федерализм. Энциклопедический словарь. М., 1997. С. 199.
8 "Проблема макроэффекта микрособытий, - замечает П. Штомпка - равно как и противоположная
проблема - микроэффекта макрособытий, требует тщательного и глубокого исследования". - Штомпка П.
Социология социальных изменений, М., 1996. С. 30.
9 Зэлдин Г. Все о французах. М., 1989. С. 26.
10 Турен А. Возвращение человека действующего. М., 1996. С. 148.
1 ' Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М., 1999. С. 77.
12 Регионалистика не входила в число категорий, разрабатываемых отечественными
обществоведами, хотя в СССР уже в 1920-х гг. в связи с разработкой плана ГОЭЛРО возникло районное направление в
экономической географии. Регионалистика как направление возникла в рамках западной научной мысли.
Сначала ограничиваясь экономическими аспектами регионалистики (У. Айэард, Ф. Перру, Л. Давен,
Ж.-З. Будвиль, X. Нурс, Г. Ричардсон), но только в конце 80-х гг. появился интерес к
социально-политическим аспектам регионального развития, когда обострились социальные и этнические противоречия.
13 Зборовский Т.Е. Существует ли региональная социология? // Социологические исследования. № 1.
2001. С. 104.
14 Примерно одинаковый уровень исторического развития этнических общностей в сходных
географических условиях создает и сходные предпосылки формирования их психических качеств. Γ.Β.
Плеханов писал по этому поводу: "Человек получает из окружающей среды материал для создания себе
искусственных органов, при помощи которых он ведет борьбу с природой. Характер окружающей
естественной среды определяет характер его производительной деятельности, характер средств производства. Но
средства производства столь же неизбежно определяют отношения людей в процессе производства...
определяют всю структуру общества. Поэтому влияние естественной среды определяет характер
социальной среды". - Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. Т. И. М., 1956. С. 155.
См. Федерализм. Энциклопедический словарь. М., 1997. С. 198-201.
28
ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО
От редакции. В "Вопросах философии" № 9 за прошлый год мы поздравляли
академика B.C. Стёпина с юбилеем. В данном номере мы публикуем статью академика
Г.В. Осипова, в которой анализируется значение идей B.C. Стёпина для
исследования процессов познания в социально-культурном контексте.
Научное познание в социальном измерении
(к 70-летию со дня рождения
академика Вячеслава Семеновича Стёпина)
Г. В. ОСИПОВ
В наше время редко можно встретить человека, который бы считал, что, чем
дальше истолкование явлений природы и событий общественной жизни отстоит от
науки, тем будто бы оно истиннее. Напротив, большинство людей понимают, что
можно и нужно верить лишь тем воззрениям, выводам и заключениям, которые
зиждутся на обоснованных наукой теоретических положениях, на данных и фактах,
проверенных реальной жизненной практикой, суровой борьбой общественных сил и
классов, выдержавших испытание историческим временем. Вот почему
теоретическое познание нужно и обыденному человеку, вне зависимости от рода его
деятельности, и тем более представителю той или иной фундаментальной науки и любой
конкретной отрасли естественной, общественной и технической науки.
Исключительно важное значение имеет вывод академика B.C. Стёпина,
сделанный им в книге "Теоретическое знание": "Способность стихийно-эмпирического
познания порождать предметное и объективное знание о мире ставит вопрос о
различии между ним и научным исследованием. Признаки, отличающие науку от
обыденного познания, удобно классифицировать сообразно той категориальной схеме, в
© Осипов Г.В., 2005 г.
29
которой характеризуется структура деятельности (прослеживая различие науки и
обыденного познания по предметам, средствам, продукту, методам и субъекту
деятельности).
Тот факт, что наука обеспечивает сверхдальнее прогнозирование практики,
выходит за рамки существующих стереотипов производства и обыденного опыта. Если
обыденное познание отражает только те объекты, которые в принципе могут быть
преобразованы в наличных исторически сложившихся способах и видах
практического действия, то наука способна изучать и такие фрагменты реальности, которые
могут стать предметом освоения только в практике далекого будущего. Она
постоянно выходит за рамки предметных структур наличных видов и способов
практического освоения мира и открывает человечеству новые предметные миры его
возможной будущей деятельности".
В области теории познания, философии и методологии науки, философской
антропологии и философии культуры, истории науки известный российский философ,
доктор философских наук, профессор, академик Российской Академии наук B.C. Стёпин
работает многие десятилетия. Им написано более 270 научных работ, в их числе
такие значительные монографии как "Становление научной теории" (1976),
"Философская антропология и философия науки" (1992), "Эпоха перемен и сценарии
будущего" (1996), "Теоретическое знание" (2000) и другие крупные труды.
B.C. Стёпин раскрыл особенности языка науки. Он отмечает, что, хотя наука и
пользуется естественным языком, она не может только на его основе описывать и
изучать свои объекты. Во-первых, обыденный язык приспособлен для описания и
предвидения объектов, вплетенных в наличную практику человека (наука же
выходит за ее рамки); во-вторых, понятия обыденного языка нечетки и многозначны, их
точный смысл чаще всего обнаруживается лишь в контексте языкового общения,
контролируемого повседневным опытом. Наука же не может положиться на такой
контроль, поскольку она преимущественно имеет дело с объектами, не освоенными
в обыденной практической деятельности. Чтобы описать изучаемые явления, наука
стремится как можно более четко фиксировать свои понятия и определения.
Выработка наукой специального языка, пригодного для описания ею объектов,
необычных с точки зрения здравого смысла, является необходимым условием
научного исследования. Язык науки постоянно развивается, обогащается по мере
проникновения науки во все новые области объективного мира - природы и общества.
При этом язык науки оказывает обратное воздействие на повседневный,
естественный язык. Так, термин "электричество" когда-то был специфическим научным
понятием, теперь "электричество", "электрический" и т.д. вошли в повседневный язык.
Вместе с тем язык науки не может и - главное - не должен отрываться от
повседневного языка, языка понятийного и доступного широким массам. В противном
случае он станет мертвым, оторванным от реальной жизни, практической
деятельности масс.
Научные знания как продукт научной деятельности отличаются от знаний,
получаемых в сфере обыденного, стихийно-эмпирического познания. Последние чаще
всего не систематизированы; это, скорее, конгломерат сведений, предписаний,
рецептур деятельности и поведения, накопленных на протяжении исторического
развития обыденного опыта. Их достоверность устанавливается благодаря
непосредственному применению в наличных ситуациях производственной и повседневной
практики. Что же касается научных знаний, то их достоверность уже не может быть
обоснована только таким способом, поскольку в науке преимущественно
исследуются объекты, еще не освоенные в производстве. Поэтому истинность знания
обосновывается экспериментом, уже полученными истинными знаниями. Так
получаются характеристики системности и объективности научного знания, отличающего его
от продуктов обыденной деятельности людей.
Отсюда исследователь выводит отличительный признак науки при ее сравнении
с обыденным познанием - особенность метода познавательной деятельности. Он об-
30
стоятельно анализирует такую труднейшую задачу, как обнаружение объекта,
свойства которого подлежат дальнейшему изучению, необходимость в создании и
разработке особых методов, в системе которых наука может и должна изучать объекты.
Он отмечает, что занятие наукой предполагает наряду с овладением средствами и
методом также и усвоение определенной системы ценностных ориентации и
целевых установок, специфичных для научного познания. B.C. Стёпин пишет: "Любой
ученый принимает в качестве одной из основных установок научной деятельности
поиск истины, воспринимая истину как высшую ценность науки. Эта установка
воплощается в целом ряде идеалов и нормативов научного познания, выражающих его
специфику: в определенных идеалах организации знания (например, требовании
логической непротиворечивости теории и ее открытой подтверждаемости), в поиске
объяснения явлений, исходя из законов и принципов, отражающих сущностные
связи исследуемых объектов и т.д. Не менее важную роль в научном исследовании
играет установка на постоянный рост знания и особую ценность новизны в науке".
В трудах B.C. Стёпина подчеркивается, что наличие специфических для науки
норм и целей познавательной деятельности, а также специфических средств и
методов, обеспечивающих постижение все новых объектов, требует целенаправленного
формирования ученых специалистов. Эта потребность приводит к появлению
"академической составляющей науки" - особых организаций и учреждений,
обеспечивающих подготовку научных кадров.
Труды академика B.C. Стёпина, прежде всего фундаментальная книга
"Теоретическое знание" (2000), уточняют научную картину мира. Исследователь проследил
основные исторические этапы развития научной картины мира от
натурфилософского, в значСтёльной степени умозрительного взгляда до достигнутого в ходе
развития и в результате достижений различных областей науки целостного системного
представления о современном мире, его основных закономерностях. Эта картина
мира принципиально отличается от вненаучных и донаучных представлений,
например, мифологических и религиозных, поскольку выступает объективным,
подлинным знанием.
Научное знание о мире слагается из суммы фундаментальных понятий,
концепций, теорий и др., проверенных человеческой практикой в разных сферах реальной
деятельности. И в этом смысле научное знание о мире составляет важнейший
компонент научного мировоззрения. Но вместе с тем и отличается от научного
мировоззрения, поскольку последнее включает в себя как знание, так и ценностные
ориентации, убеждения, идеалы и нормы деятельности, другими словами, нравственно-
эмоциональное отношение человека к миру.
"Научная картина мира, - пишет B.C. Стёпин, - формируется в контексте
определенных мировоззренческих установок, оказывая на них активное обратное
воздействие. Ее связь с мировоззренческими структурами, лежащими в основании культуры,
составляет исторический процесс эпохи, опосредуется философией. Философия как
ядро мировоззрения развивает категории, идеи и принципы, на базе которых
происходит формирование научной картины мира".
В структуре научной картины мира автор выделяет два компонента. Во-первых,
концептуальный, или понятийный компонент, который представлен философскими
категориями (история, движение, пространство, время и др.) и принципами
(всеобщая связь и взаимообусловленность явлений, развитие и движение, материальное
единство мира и др.). Все это, в свою очередь, выражается общенаучными
понятиями и принципами, фундаментальными понятиями отдельных наук (поле, вещество,
энергия, информация, мегагалактика, популяция, биосфера и т.д.). Во-вторых,
чувственно-образный компонент, который наглядно проявляется в образах
электромагнитного поля, атомного строения вещества, ДНК, расширения Вселенной и т.п.
По степени общности различают следующие три типа научной картины мира:
общенаучную, которая выступает как форма систематизации знаний,
вырабатываемых естествознанием и социальными науками;
31
естественно-научную картину природы и научную картину общества, каждая из
которых, будучи относительно самостоятельной стороной, в целокупности дает
общенаучную картину мира;
специальные картины мира отдельных наук, т.е. мир отдельно взятой науки,
например, физическая картина мира, химическая картина мира, биологическая
картина мира, астрономическая картина мира и т.п.
"Признаки конструктов специальной картины мира и их связи, - отмечает
B.C. Стёпин, - выражаются в системе принципов, характеризующих исследуемую
реальность. Перестройка специальной картины мира означает трансформацию
фундаментальных принципов науки, замену ряда этих принципов новыми. Такая
перестройка осуществляется в период научной революции и предполагает активную,
целенаправленную роль философских идей".
На одну и ту же специальную картину мира может опираться множество теорий,
в том числе и фундаментальных. Благодаря связи с картиной мира они образуют
целостную систему, в которой специальная картина мира выступает как организующий
и системообразующий фактор. Через концептуальное ядро теорий специальная
картина мира опосредованно связана с опытом. Чрезвычайно важна мысль B.C. Стёпина
о том, что специальная картина мира имеет с опытом и непосредственные связи,
особенно отчетливо проявляющиеся в условиях, когда исследуются научные объекты,
для которых еще не построено теории. В этих ситуациях картина мира может целе-
направлять эмпирическое исследование, определяя общее видение
экспериментальных ситуаций и постановку эмпирических задач. Специальная картина мира
определяет спектр задач и в теоретическом поиске.
Специальные картины мира служат материалом, на базе которого складывается
естественно-научная и общенаучная картины мира. Переход от специальной к
общенаучной картине мира означает движение от дисциплинарного к междисциплинарным
уровням систематизации знаний. Важно иметь в виду, что такой переход осуществляется
не как простое суммирование специальных картин мира, а как их синтез, в процессе
которого решающую роль играют картины реальности лидирующих научных
дисциплин. В понятийном каркасе этих дисциплин вычленяются общенаучные понятия,
становящиеся ядром естественно-научной и общенаучной картин мира.
В развитии науки ученый выделяет такие периоды, когда преобразовывались все
компоненты ее оснований. Смена научных картин мира сопровождалась коренным
изменением нормативных структур исследования, а также философских оснований
науки. Эти периоды он рассматривает как глобальные революции, приводящие к
изменению типа научной рациональности.
Первой такой революцией была революция XVII в., ознаменовавшая собой
становление классического естествознания. Его возникновение было неразрывно
связано с формированием особой системы идеалов и норм исследования, в которых, с
одной стороны, выражались установки классической науки, а с другой -
осуществлялась их конкретизация с учетом доминанты механики в системе научного знания той
эпохи. Строилась и развивалась механическая картина природы, которая выступала
одновременно и как картина реальности, применительно к сфере физического
знания, и как общенаучная картина мира.
Вторая глобальная научная революция, происшедшая в конце XVIII - первой
половине XIX в., определила переход к новому состоянию естествознания -
дисциплинарно организованной науке. Механическая картина мира утрачивает статус
общенаучной. В биологии, химии и других областях знания формируются специфические
картины реальности, не редуцируемые к механической. Одновременно происходит
дифференциация дисциплинарных идеалов и норм исследования, соответственно этой
организации науки видоизменяются ее философские основания. Появляется много
научных картин мира, возникает необходимость поиска путей единства науки,
проблема дифференциации и интеграции знания превращается в одну из фундаментальных
32
философских проблем, сохраняя свою остроту на протяжении всего последующего
развития науки.
Третья глобальная научная революция, охватывающая период с конца XIX до
середины XX столетия, была связана со становлением нового, неклассического
естествознания. Происходят революционные перемены в физике (открытие делимости
атома, становление релятивистской и квантовой теории), в космологии (концепция
нестационарной Вселенной), в химии (квантовая химия), в биологии (становление
генетики). Возникает кибернетика и теория систем, сыгравшие важнейшую роль в
развитии современной научной картины мира. В процессе всех этих революционных
преобразований формировались идеалы и нормы новой, неклассической науки.
Природа предстала как сложная саморегулирующаяся динамическая система.
"Картины реальности, вырабатываемые в отдельных науках, на этом этапе еще
сохраняли самостоятельность, но, - утверждает B.C. Стёпин, - каждая из них участвовала в
формировании представлений, которые затем включались в общенаучную картину
мира. Последняя, в свою очередь, рассматривалась не как точный и окончательный
портрет природы, а как постоянно уточняемая и развивающаяся система
относительно истинного знания о мире. Все эти радикальные сдвиги в представлениях о
мире и процедурах его исследования сопровождались формированием новых
философских оснований науки".
Начиная с последней трети XX столетия, происходят новые радикальные
изменения в основаниях науки, что означает наступление четвертой глобальной научной
революции, в ходе которой рождается новая - постнеклассическая наука. Интенсивное
применение научных знаний практически во всех сферах социальной жизни,
революция в средствах хранения и получения знаний (компьютеризация науки, появление
сложных и дорогостоящих приборных комплексов, которые обслуживают
исследовательские коллективы и функционируют аналогично средствам промышленного
производства и т.д.) меняет характер научной деятельности. Наряду с дисциплинарными
исследованиями на передний план все более выдвигаются междисциплинарные и
проблемно-ориентированные формы исследовательской деятельности. Специфику
современной науки определяют комплексные исследовательские программы, в
которых принимают участие специалисты различных областей знания. Организация таких
исследований во многом зависит от определения приоритетных направлений, их
финансирования, подготовки кадров и др. В самом процессе определения
научно-исследовательских приоритетов наряду с собственно познавательными целями все
большую роль начинают играть цели экономического и социально-политического
характера. Реализация комплексных программ порождает особую ситуацию сращивания в
единой системе деятельности теоретических и экспериментальных исследований,
прикладных и фундаментальных знаний, интенсификации прямых и обратных связей
между ними. В результате усиливаются процессы взаимодействия принципов и
представлений картин реальности, формирующихся в различных науках. Все чаще
изменения этих картин протекают не столько под влиянием внутридисциплинарных
факторов, сколько путем "парадигмальной прививки" идей, транслируемых из других наук.
Картины реальности, определяемые той или иной наукой, становятся
взаимозависимыми и предстают в качестве фрагментов целостной общенаучной картины мира.
Идеи эволюции и историзма становятся основой того синтеза картин реальности,
вырабатываемых в фундаментальных науках, который сплавляет их в целостную
картину исторического развития природы и человека и делает их лишь
относительно самостоятельными фрагментами общенаучной картины мира.
Среди исторически развивающихся систем современной науки особое место
занимают природные комплексы, в которые включен в качестве компонента сам
человек. Примерами таких "человекоразмерных" комплексов, считает B.C. Стёпин,
служат медико-биологические объекты, объекты экологии, включая биосферу в
целом (глобальная экология), объекты биотехнологии (в первую очередь,
генетический инженеринг), системы "человек-машина" (включая сложные информационные
2 Вопросы философии, № 3
33
комплексы и системы искусственного интеллекта) и т.д. При изучении "человеко-
размерных" объектов поиск истины оказывается связанным с определением
стратегии и возможных направлений преобразования такого объекта, что
непосредственно затрагивает гуманистические ценности. С системами такового типа нельзя
свободно экспериментировать. В процессе их исследования и практического освоения
особую роль начинает играть знание запретов на некоторые стратегии
взаимодействия, потенциально содержащие в себе катастрофические последствия.
Научное познание начинает рассматриваться в контексте социальных условий
его бытия и его социальных последствий как особая часть жизни общества,
детерминируемая на каждом этапе своего развития общим состоянием культуры данной
исторической эпохи, ее ценностными ориентациями и мировоззренческими
установками. Осмысливается историческая изменчивость не только онтологических
постулатов, но и самих идеалов и норм познания. Соответственно развивается и
обогащается содержание категорий "теория", "метод", "факт", "обоснование",
"объяснение" и т.п.
В онтологической составляющей философских оснований науки начинает
доминировать "категориальная матрица", обеспечивающая понимание и познание
развивающихся объектов. Возникает новое понимание категорий пространства и времени
(учет исторического времени системы, иерархии пространственно-временных форм),
категорий возможности и действительности (идея множества потенциально
возможных линий развития в точках бифуркации), категории детерминации
(предшествующая история определяет избирательное реагирование системы на внешние
воздействия) и др.
Современная общая научная картина мира в трудах B.C. Стёпина предстает как
целостная развивающаяся система научных представлений о генетически связанных
уровнях развития материи и соответствующих им формах движения, включающая
представление о возникновении и развитии общества. Эта картина мира не просто
систематизирует знания о природе и обществе, но и функционирует как
исследовательская программа, которая дает видение взаимосвязей между предметами
различных наук и определяет стратегию переноса представлений и методов из одной науки
в другую.
Таким образом, современная наука создала предпосылки формирования
целостной картины мира, органически включающей в себя достижения естественных,
общественных и технических наук. В своих развитых формах наука предстает как
дисциплинарно организованное знание, в котором отдельные отрасли - научные
дисциплины (математика, естественно-научные дисциплины - физика, химия, биология
и др.; технические и социальные науки) выступают в качестве относительно
автономных подсистем, взаимодействующих между собой. Научные дисциплины
возникают и развиваются неравномерно. В них формируются различные типы знаний,
причем некоторые из них уже прошли достаточно длительный путь теоретизации и
сформировали образцы развитых и систематизированных теорий, а другие только
вступают на этот путь.
В качестве исходной единицы методологического анализа структуры
теоретического знания B.C. Стёпин предлагает принять не отдельно взятую теорию в ее
взаимоотношении с опытом (как это утверждалось в так называемой стандартной
концепции), а научную дисциплину. Структура знаний научной дисциплины определена
уровневой организацией теорий разной степени общности - фундаментальных и
частных (локальных), их взаимоотношениями между собой и со сложно организованным
уровнем эмпирических исследований (наблюдений и фактов), а также их
взаимосвязью с основаниями науки. Основания науки выступают системообразующим
фактором научной дисциплины. Они включают: 1) специальную научную картину мира
(дисциплинарную онтологию), которая входит в обобщенный образ предмета
данной науки в его главных системно-структурных характеристиках; 2) идеалы и нормы
исследования (идеалы и нормы описания и объяснения, доказанности и обоснования,
34
а также идеалы строения и организации знания), которые определяют обобщенную
схему метода научного познания; 3) философские основания науки, которые
охватывают принятую картину мира, а также идеалы и нормы науки, благодаря чему
вырабатываемые наукой представления о действительности и методах ее познания
включаются в поток культурной трансляции. Основания науки имеют наряду с
дисциплинарной также и междисциплинарную компоненту, которая обеспечивает
взаимодействие различных наук, переходы идей и методов из одной науки в другую.
Теоретические знания функционируют и развиваются как сложная система внутридис-
циплинарных и междисциплинарных взаимодействий.
Проблема формирования теории и ее понятийного аппарата предстает в первую
очередь в качестве проблемы генезиса теоретических схем. Такие схемы создаются
вначале как гипотезы, а затем обосновываются опытом. Построение теоретических
схем в качестве гипотез осуществляется путем перенесения абстрактных объектов
из других областей теоретического знания и соединения этих объектов в новой
"сетке отношений". Этот способ формирования теоретических моделей может
осуществляться в двух вариантах: за счет содержательных операций с понятиями и за счет
выдвижения математических гипотез. При построении гипотетических моделей
абстрактные объекты наделяются новыми признаками, поскольку они вводятся в
новую систему отношений. Обоснование гипотетических моделей опытом
предполагает, что новые признаки абстрактных объектов должны быть получены в качестве
идеализации, опирающихся на те новые эксперименты и измерения, для объяснения
которых создавалась модель. Такую процедуру B.C. Стёпин называет методом
конструктивного обоснования теоретической схемы. Схемы, прошедшие через эту
процедуру, как правило, приобретают новое содержание по сравнению со своим
первоначальным гипотетическим вариантом. Обоснование гипотез и их превращение в
теорию создают средства для будущего теоретического поиска.
Построение развитой теории осуществляется как поэтапный синтез и обобщение
частных теоретических схем и законов. В каждом новом шаге этого обобщения
проверяется сохранение прежнего конструктивного содержания, что автоматически
вводит образцы редукции обобщающей теоретической схемы к частным. На
заключительном этапе теоретического синтеза, когда создается фундаментальная
теоретическая схема и формулируются важные законы теории, проверка их
конструктивного смысла осуществляется как построение на основе полученной
фундаментальной теоретической схемы всех ассимилированных ею частных теоретических схем.
В результате возникают парадигмальные образцы решения теоретических задач.
Последующее развитие теории и расширение области ее приложения включает в ее
состав новые образцы. Но базисными остаются те, которые возникли в процессе
становления теории. Теория хранит в себе следы своей прошлой истории,
воспроизводя в качестве типовых задач и образцов их решения основные этапы своего
становления.
Перестройка оснований науки в периоды научных революций осуществляется, с
одной стороны, под давлением нового эмпирического и теоретического материала,
возникающего внутри научных дисциплин, а с другой - под влиянием
социокультурных факторов. Научные революции представляют собой своеобразные "точки
бифуркаций" в развитии знания, когда обнаруживаются различные возможные
направления (сценарии) развития науки. Из них реализуются те направления
(исследовательские программы), которые не только дают позитивный эмпирический и теоретический
сдвиг проблемы, но и вписываются в культуру эпохи, согласуются с возможными
модификациями смысла ее мировоззренческих универсалий. В периоды научных
революций культура как бы собирает из множества возможных сценариев будущей истории
те, которые наилучшим образом соответствуют ее базисным ценностям.
В эпоху глобальных научных революций, когда перестраиваются все
компоненты оснований науки, происходит изменение типа научной рациональности. Акаде-
2* 35
мик B.C. Стёпин выделяет три основных исторических типа: классическую,
неклассическую и постнеклассическую науку.
Классическая наука полагает, что условием получения истинных знаний об
объекте является элиминация при теоретическом объяснении и описании всего, что
относится к субъекту, его целям и ценностям, средствам и операциям его
деятельности.
Неклассическая наука (ее образец - квантово-релятивистская физика) учитывает
связь между знаниями об объекте и характером средств и операций деятельности, в
которой обнаруживается и познается объект. Но связи между внутринаучными и
социальными ценностями и целями по-прежнему не являются примером научной
рефлексии, хотя имплицитно они определяют характер знаний (определяют, что
именно и каким способом мы выделяем и осмысливаем в мире).
Постнеклассический тип научной рациональности расширяет поле рефлексии
над деятельностью. Он учитывает соотнесенность получаемых знаний об объекте
не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ее
ценностно-целевыми структурами. При этом эксплицируется связь внутринаучных целей с внена-
учными, социальными ценностями и целями. В комплексных исследованиях
сложных саморазвивающихся систем, которые все чаще становятся доминирующими
объектами современного естествознания и техники (объекты экологии, генетики и
генной инженерии, технические комплексы "человек-машина-окружающая среда",
современные информационные системы и т.д.), экспликация связей внутринаучных
и социальных ценностей осуществляется при социальной экспертизе
соответствующих исследовательских программ.
Возникновение нового типа рациональности не уничтожает исторически
предшествующих ему типов, но ограничивает поле их действия. Каждый новый тип научной
рациональности вводит новую систему идеалов и норм познания, что обеспечивает
освоение соответствующего типа современных объектов: простых, сложных,
исторически развивающихся (самоорганизующихся) систем. Соответственно меняется
категориальная сетка философских оснований науки - понимания вещи, процесса,
пространства, времени, причинности и т.д. (онтологическая составляющая) и
понимание знания, теории, факта, метода и т.д. (гносеологическая составляющая).
Наконец, с появлением нового типа рациональности изменяются мировоззренческие
аппликации науки. Неклассическая наука значительно расширяет поле возможных
мировоззренческих смыслов, с которыми согласуются ее достижения. Она включена в
современные процессы решения проблем глобального характера и выбора
жизненных стратегий человечества. Постнеклассическая наука воплощает идеалы
"открытой рациональности" и активно участвует в поисках новых мировоззренческих
ориентиров, определяющих стратегии современного цивилизационного развития. Она
выявляет соразмерность своих достижений не только ценностям и приоритетам
техногенной культуры, но и ряду философско-мировоззренческих идей, развитых в
других культурных традициях (мировоззренческих идей традиционалистских
культур Востока и идей философии русского космизма). Постнеклассическая наука
органично включена в современные процессы диалога культур, становясь одним из
важнейших факторов кросскультурного взаимодействия Запада и Востока.
Концептуальная схема теоретических знаний академика B.C. Стёпина получила
признание других ученых, получила реализацию в исследованиях истории физики.
"Я, - пишет B.C. Стёпин, - отстаивал точку зрения (ее я отстаиваю и сейчас), что
именно основания науки выступают, с одной стороны, компонентом внутренней
структуры науки, а с другой - ее инфраструктуры, которая опосредует влияние на
научное познание социокультурных факторов и включение научных знаний в культуру
соответствующей исторической эпохи". В монографии "Теоретическое знание"
обстоятельно изложена точка зрения B.C. Стёпина на проблему исторических типов
научной рациональности и их социокультурной размерности. Новый тип науки несет
с собой универсальное приложение науки в качестве опосредующей силы всеобщего
36
общественного развития человека. Наука нового типа является основой, на которой
действительно объединяются научное познание и практическая деятельность,
принципы рациональности и морали, мир объективного знания и мир ценностей. Новый
тип науки, ориентирующейся на новую систему ценностей, не возникает сразу. Вот
почему важно изучение его основных контуров, главных элементов и т.д.
Осмыслению этого значительного научного и социального явления помогают философские,
социологические работы академика B.C. Стёпина.
С книгой B.C. Стёпина "Теоретическое знание" я ознакомился сразу же по ее
выходе из печати. Так совпало, что я завершал свой двухтомный труд по социологии.
Во второй книге "Социология и социальное мифотворчество" впервые в нашей
литературе представил таблицу "История социологии в системе социального,
политического и интеллектуального развития", начиная с 1789 и по 2000 год. Учитывая
теоретико-практическую важность работы B.C. Стёпина, раздел "Гуманитарные
науки" я завершил его книгой "Теоретическое знание". И теперь, по прошествии уже
значительного времени, вижу, что поступил правильно, выдвинув работу академика
B.C. Стёпина в число выдающихся научных событий рубежа второго - третьего
тысячелетия. Его труд "Теоретическое знание" является не только национальным
достоянием России, но и мировой науки в целом.
37
От редакции. В феврале 2005 г. исполнилось 70 лет со дня рождения крупного
российского философа, доктора философских наук, кандидата химических наук,
профессора Вадима Львовича Рабиновича.
Вадим Львович - человек многогранного таланта: философ, культуролог,
историк науки и философии, поэт. Пользуются большой популярностью его
исследования в области философской антропологии, работы, посвященные алхимии как
культурному феномену, средневековой книжности, русскому авангарду 20 века. Его
поэтические произведения имеют многих почитателей.
Вадим Львович - постоянный автор нашего журнала.
Редакционная коллегия и редакция "Вопросов философии" поздравляют Вадима
Львовича с юбилеем и желают ему доброго здоровья, счастья, новых успехов.
Заумь - род ума
Футуристический диптих
В. Л. РАБИНОВИЧ
1.
Междуречье
В основе данной статьи - доклад на VI Международном философско-культуроло-
гическом конгрессе "Дифференциация и интеграция мировоззрений: динамика
ценностных ориентации в современной культуре", состоявшемся в Санкт-Петербурге
29 октября - 2 ноября 2003 г. В Программе этого мероприятия мой доклад в
английском варианте был назван волею переводчиков так: "Mesopotamia: insight or view".
Так было переведено мое Междуречье - не как пребывание между двумя речами, а
При поддержке РФФИ, проект № 04-06-80233а и РГНФ, проект № 04-03-00215а.
© Рабинович В.Л., 2005 г.
38
как древнее географическое название. Это и послужило поводом для эпиграммы,
коей и был начат мой доклад:
Месопотамское двуречье
В последних числах октября
Взвалил на худенькие плечи,
Про междуречье говоря.
И вот, меж Тигром и Евфратом,
Мировоззренчески блудлив,
Мечусь, как броуновский атом,
Который только тем и жив.
♦
Речь пойдет о пьесе Велимира Хлебникова "Хочу я". Вот вся она целиком:
Д о л и ρ ь: Небини скинули, глянь, черносиние тайилища и в плясьменах под дуду
высотовую смехунно дерзача свершают красотинный ход до зари. Утриня с воскова-
тыми устами улыбенеет, не каменно и властно простирает над землей вселенновую
руку. Зоричи-небичи, благословежии-зоричи - сыпятся с неба милебой неба с сон-
неющей землей - небовые красно-багряные цветы-жардечь. О, небатая тонеба меня
в нея!
Небак, миреющий взором и златоволначь волосежом, стройнивец плечами и пря-
мивец станом берет днерокотную свирель. Утрочь сквозь волны белизн и чернизн
правит челн. Повсюду утрири. Утро.
Я: Милеба небского могоча и небеской силебы с земнатой хилебой не
предвещает мне добротеющих зело дел. Зловый дождь, дождь зла, вижу, ожидает меня. Имея
ум гибкий как у божества, так как лишь точка божества я, как и все живое, я нашел
бы выход достойный и точный в удаче.
Ручьиня: Ощупывающий меня взором! Видун будь, надменник, этих глаз:
некогда были громадны как мир, будучи прошлым и будущим вселенной, и вселенни-
чами были детские взоричи, будучи памятью у одного и надеждой у другого. И все
были божичами. А ныне я меньше стрекозы, и лишь рыбаки пугаются моего тощего
тела.
Мстить, мстить! О, мстенеющий замысел! Самоубийствоватые крылья слепи из
дней прожитых, и путиной небеснатой и чистой, желомец навинь и жалимец всех,
лети, лети! И, подобно щиту останавливая в себе и мешкотствуя полету вселенничей
омигеней бессрочно, новый вид бессрочия, брызга бессмертных хлябей и делай то,
что тебе подскажет нужда. Самотствуя, но инотствуя, станешь путиной, где
безумствуют косяки страсте-ногих (гривых) кобылиц, но, неся службу иной можбе, будешь
волен пасть в пасть земных долин.
Всесущиня: Можебная страна велика, и кто узнал рубежи?
<1911?>
Первый соблазн: еще раз (а может быть, еще и еще) перечитать. И каждый раз
вслух. На голос. Крещендо. Диминуэндо. Контрапунктно и кантиленно. Сводя на
нет и вновь возводя на да... До умопомрачения, погружаясь в темь и дебрь за-умья
как пред-умья. В звуковую молчь оглашенностей...
И вправду: "Читать в здравом уме возбраняю!"
Вовремя вспомнил категорический императив запретный Крученых Алексея
Елисеевича, предпосланный им к его же с Алягровым "Заумной гниге".
Но чтение уже началось, и притом, надеюсь, в здравом уме (пока что). Кроме
того, как раз здравому уму и не возбранишь. Потому что на то он и здравый, чтобы
пытать умом не здравое, то есть свое собственное - читательско-авторское - за-
умье-пред-умье.
39
Перечитал. Гул-гуд остается. Висит тучей-облаком. Ворочается
медвежье-слоновье, но и мреет в утренеющей времирне и синей небежети.
Но одного гуда-гула мало. Потому что это все-таки пьеса с надмирной (и
многомерной) драматургией, и поэтому хочется узнать, в чем дело. А раз дело, то и смысл
для дискурсивного пересказа судьбы персонажей в их речевых жестах и
взаимодействиях.
Что же случилось с этими персонажами -Делирем, Я, Руньиней и Всесущиней! И
это надо понять - поверх, или по-над гулом-гудом. По-над звукоречью... Во всяком
случае хочется понять.
Но честности ради, надо признаться, что допрежь всего герои этой пьесы
представлены - каждый! - образами своей речи. Но герметическими образами речи.
Герметическими образами герметической речи. И я как читатель (со-именный герою
"Я") тщусь эту речь понять сквозь гуд и гул, звук и зык. А для этого надобно
герменевтически дегерметизировать слова этой речи, уплощив эту речь до языка. Но
языка все-таки в обличий речи.
Спрашиваю: нужен ли для всех этих надоб перевод? И это - соблазн второй.
Рискну.
ХОЧУ Я
Д о л и ρ ь: Глянь, небеса вскинулись и под высокоголосую дуду, смехозвонно
дерзая и красиво кружась, пошли выводить черно-синюю свою тайнопись до зари.
Утро-восковые уста разулыбилось, но уже не каменно, но все еще властно простирает
свою всеохватную руку над всею землею. Небесно-зоревые ангельчики благими
весточками о милости к просыпающейся земле усыпают ее собою - цветами-жарками.
Утонуть в пучине небес! Хозяин неба, с уходящим взором, но широкий в плечах и
прямой станом, взволнил золото волос, взяв в руки свирель дня для рокочущих
журчливых звуков. Парят ранние снегири утр. Собираются вместе на волнах белизн
и чернизн. Начинается Утро...
Я: Могучи милости неба и сильна его сила, но ничего хорошего не ждется. Дождя
зла ожидаю. Вижу его. Имея ум гибкий, как у божества, хотя я - его точка, как и все
живое, но я нашел бы выход достойный и точный в удаче.
Ручьиня: Ощупывающий меня взором! Ты надменно всеведущ, всмотрись в
мои потускневшие глаза: некогда они были огромны как мир, будучи прошлым и
будущим вселенной, и сами они были детьми вселенной и по-детски простодушно все-
зрячими, будучи памятью у одного и надеждой у другого. И все были детьми богов.
А ныне я меньше стрекозы, и только рыбаки пугаются моего тощего тела.
Мстить, мстить! О, мстенеющий - костенеющий - замысел! Самоубийственные
крылья слепи из дней прожитых, и путиной небесной и чистой, желанник-питомец
навинь (? - В.Р.) и жалейник всех, лети, лети! И, подобно щиту останавливая в себе и
мешая полету отпрысков вселенной (и тоже вселенных), бессрочно будь мигом
(живи мгновением. - В.Р.), новым видом бессрочия, взбрызгом бессмертных хлябей, и
делай то, что подскажет нужда. Оставаясь самим собою, но безумствуя, станешь
путиной, где безумствуют косяки страсте-ногих (гривых), но, неся службу иному
могуществу, будешь волен пасть в пасть земных долин.
Всесущиня: Могучая страна велика, и кто знает ее края?
<1911?>
Но адекватен ли этот мой перевод? И здесь посмотрим...
Соблазн третий: подправить, приблизить. Но... сохранить переводность: об-ум-
нить за-умь. О-смыслить, смикшировать до привычного благозвучия гул-гуд-звук-
зык. "На флейте", но "водосточных труб". Гзи-гзи-гзэо вээом. Попробую...
Куда подевались небини, милебы, тонебы! А куда небак исчез? Как если бы он
был лешак какой, вышедший из лесу. Отвечу, для примера, только за небака,
ставшего в переводе хозяином неба.
40
А правильно ли? Почему же не найден подходящий неологизм, ставший в
переводе всего лишь логизмом? Может быть, попробовать все же вновь неологизировать,
сблизив фонетически несближаемое: небака и хозяина неба! И тогда зависнет надо
всем, что есть, мой Небус, мысленно окликающий абиссинского Негуса во
всевластии надо всем, что ни есть.
Соблазн четвертый. А почему не оставить все, как было? Чем, в конце концов,
плох небак, понятный и без перевода в хозяина неба!\ И даже - если немножечко
назад - в Негуса!
Но понятный ли? Понятно-непонятный - для стихии стиха, но в желательности
все-таки понять, если это проза, пусть даже и в виде пьесы.
Соблазн тот же - четвертый: оставить как есть, поскольку заумь непереводима.
Ведь
былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах
(Λ/. Светлов из стихотворения "Итальянец")
Но мы не в Италии, а в России. И потому тем более никогда...
Но... соблазн пятый (он же вновь первый): перевести хочется, дабы понять, в чем
же дело в этой пьесе. В судьбах - совокупной судьбе - этих четырех персонажей: До-
лиря, Я, Рунъини и Всесущини.
Но все они - речи: не Долиръ, а речь Долиря; не Я, а речь этого Я; не Ручьиня, а
ее речь; не Всесущиня -речь этой самой Всесущини.
Хочется перевести на язык, а переводится все-таки на речь (двойную) его
(Хлебникова) и мою (переводчика - толмача - толкователя). Но и на язык, что страшно
ущемляет: жалко автора, но и самого себя. Первого - за утрату речи, второго
(меня), оставшегося с остаточной полуречью и обретенным полуязыком. Вот отчего
все эти пять искушений - пять соблазнов.
А теперь попробую по уму (здравому) истолковать заумь, которая не переводима
и не истолковываема. Но хочется истолковать хотя бы эту драматургию речи, в
которой высвечивается, как ни крути, русский язык, хотя и хлебниковский. А уж это
истолкование обязано лечь на язык, потому что истолкование - никогда не перевод.
Оно - пересказ и просто-таки обязано лечь на язык. Оно-то и будет тем между:
речами-речениями (оригиналом и моим переводом) со струйками (у меня) или с
быстринами-стремнинами речи (у Хлебникова).
Между-речье... В нейтральности языкового покоя - успокоенности.
Перескажу, в меру моего понимания смыслов зауми, и потому не смыслов вовсе,
а скорее дискурсов умной почти зауми (если только в зауми и в самом деле
содержится ум). Пересказ-перевод с заумного на умный?.. С "внутреннеречевого" на
"внешнеязыковой"?
Пересказываю эти два в одном (два речеязыка, которые должны лечь на язык
пересказа с утратою собственных речевых жестов, но зато адаптированных к внере-
чевым - внеязыковым - смыслам, в некотором роде квазисмыслам, насущно
необходимым культурно-коллажным - цитатным - аппликациям-экспликациям,
продуктивно сопровождающим культуру в ее собственно поэтической креативности).
Пересказываю...
Долирь - обходчик дольнего мира, его душа и смотритель - приглашает в долину
утра: солнечную, наднебесную, звонкую. Начатую с утра быть. Речистую,
цветистую. Возговорившую речью-рекою. Освещенную улыбкой начала дня. Утрири-вре-
мири. Летние снегири и челн по волнам. Гортанно и журчливо. Чистый черно-синий
звук тайны.
Внутренняя речь Долмря-тайновладельца.
Но "Я" не радо. Дождь зла копится в безоблачности. И это "Я", божественное по
природе, хочет перехитрить ожидаемый злывень. (Злывень - это мой речевой жест
41
навстречь речевому же выпаду "Я" Хлебникова, который в свою очередь навстречь
речи Долиря - светло-беззаботной речи).
Но вступает в полемику Ручъиня, некогда полноводная Ундина со своим
дядюшкой по имени Струй, вызволенные из топики припоминания {Жуковский), а у
Хлебникова их нет, а могли бы. Прошлое у Ручьини полноводно и будущее тоже. Как
мир при начале. Как у детей-богов при начале творения. А теперь - в сей миг, в
котором хуже не бывает: "...я меньше стрекозы, и только рыбаки пугаются моего
тощего тела".
Чистый плач, в переводе почти не нуждающийся. Он не переводим, как не
переводим и смех ("О, рассмейтесь, смехачи!"). Смех, он и в Африке смех. Как, впрочем,
и плач. Они одноприродны. Речь на речь без перевода. Безъязыко...
Что же делать? Мстить, живя сим мигом. И при этом быть самим собою, вместе
со всей иной - водной и земной - живностью. Самим собою, но все же служа иному
могуществу. Не Богу ли? Ведь каждая точка божества подобна "Я". Чтобы
собственною волей "пасть в пасть земных долин".
Речь гнева, подначивающая речь "Я". Речь на речь. И... на всю "долину ровную" -
вселенский воинственный клич. А уж на всю страну, так наверняка. И даже Всесу-
щиня не знает, где предел: "Могучая страна велика, и кто знает ее края?" Надмирно
и всепечально. И потому тоже почти без перевода: могучая - можебная (от можба -
мочь; но и божба: заклинательная невнятица в финале диалога речей - не языков;
почти не языков, хотя и не без них). Вот что получилось в междуречье: меж
прозрением и воз-зрением, пытавшимися выстроить мир в модусе повелевания. Зем-
шарного повелевания всесильной птицы по имени "Хочу Я", как всеохватен и
всемогущ Небак - Хозяин Неба. Но и срединный межречевой Небус (=Негус), так и не
сказавшийся в междуречье, но оставивший след своего всемогущества в можбе-
божбе... Но в можбе не какого-то там "Я", а страны бескрайней.
Не Земшара ли, все еще ищущего своего Председателя? Поэта - среди двух
женских природ Ручьини и Всесущини. А сам он хоть и точка, но... Божества, и потому
сила творящая, вселенская. Долинная-дольная на бескрай во все стороны. А
рубежей не узнать.
Еще раз: Поэт!..
Не вернуться ли к Небаку!..
Но и здесь не обошлось без речи, хоть и язык преобладал. Вновь междуречье:
ручья и ручейка, хотя и с демосфеновскими камушками-камнями. Языковыми
препонами-препинаниями. С заковыками и запятыми - препиналицами речей по ходу
кириллических токов языка. В языковой стихии пред-речья...
И тут вполне будет уместной еще одна рефлексия на речь Хлебникова. Это
словно про него сказал поэт Давид Самойлов:
Нужно себя сжечь,
Чтоб превратиться в речь.
Именно так Хлебников и поступил (хорошо, что только фигурально).
***
Так вот...
Обращусь к творениям B.C. Библера, почувствовавшего заумь творений
Хлебникова, но через идею "внутренней речи" Л.С. Выготского, развитую им, в
частности, в работе "Мышление и речь".
Попробую взять и этот след. Попробую...
(Последующее взято из превосходной работы B.C. Библера "Нацинальная
русская идея? - Русская речь!", опубликованной в журнале "Октябрь", 1993, № 2.)
42
"Непосредственно... бытием человека внутри него самого (внутри его
личностного бытия) выступает речь; человек слышит себя. Он не просто слышит себя. Он
может произвольно "сказать себя", он может заставить себя выслушать себя самого. И,
главное, он может слушать свое молчание.
Продумаем такой образ. Это только образ, отнюдь не научная теория, нечто
идущее от Велимира Хлебникова (если понимать его языковедческие фантазии не как
языковедение, но как очень глубокие образы речи - мышления).
Представим, что звуки человеческой речи (именно как моменты единой речи) -
это интериоризированные (точнее, еще не обнаруженные) действия по отношению
к предметам внешнего мира (вращения - ввв! Удара - дррр! Кошения - "коси, коса,
пока роса..."). В звучание входит и сопротивление материала - дерева, земли, камня;
движения сразу меняются, становятся более напряженными, тугими, более мягкими,
погружающимися, пластичными, преобразуется и звуковое - внутреннее -
наполнение этих движений: р-ыть, л-ить, п-ить (погружать в себя), б-ить (быть - от себя),
б-ыть (в себе). Одно движение переходит в другое, одно противодействие сменяется
иным, звучания соединяются, сливаются, разделяются... Уже не уловить их
изначальное происхождение. У Хлебникова этот образ предельно поэтичен... он
разветвляется и углубляется, он становится поэмой внутренней речи...
Произвольно вызвать звуки означает "слышать" соответствующие движения и
сопротивления, как самого себя, значит уже не только осуществлять их (уже не
осуществлять), но отстраняться от них (от себя). Понимать их? Мыслить их? Уже мыслить?..
Что проектирует архитектор? Здание, контрфорсы, колонны, лестницы? Нет.
Это лишь средство. Это - то, что молчит. Главное - само молчание. Архитектор
проектирует... пустоту. Движение людей в пустоте дома; улицу - пустоту,
связывающую дома. Город - особый тип общения. Общение как возможность, как пропуск,
как "эллипсис".
...Вспомним хлебниковскую поэтическую "теорию языка". Действие (предмета
или на предмет), превращенное в речь, во внутреннее звучание, оказывается
деятельностью, замкнутой на меня. Что же внутри меня является тем камнем, землей,
деревом, которые подвергаются "обработке"? Только я сам. Больше никто. Но кто
такой "я сам"? "Я" - все более обогащенный теми "эллипсисами" культурных
смыслов, которые развиты во мне вместе с внешней речью и которые все более
свободны от исходных звуков-действий, от моей природной заполненности.
Смысл внутренней речи - изменение меня самого как культурного субъекта
деятельности, как ее потенции. Но вместе с тем это - изменение меня как металла,
дерева, земли. Ведь исток речи, до которого я снова дохожу, сворачивая речь,
обогащенную культурой, - сопротивление предмета моему действию, воспроизведение во
мне, в моей плоти, - л-ить, р-ыть, ру-бить...
Чем ближе я к самому себе (сворачивая витки внешней речи), тем свободнее я
могу пропускать в своей внутренней речи все большие фрагменты смысла,
монтировать все более отдаленные кадры, соединять накоротке все более отдаленные
понятия. Тем больше зияний в моей внутренней речи, тем больше пустот, молчания, не
заполненного словами, тем больше мысли. Тем я культурнее мыслю. Ведь каждый
такой пропуск - новая возможность заполнения, варьирования, подразумевания,
новая возможность промолчать новое (мыслить). Но чем сильнее сжата и сокращена
моя внутренняя речь, тем резче выступает в ней ее исходное, "дикое" действенное
происхождение, тем менее она информативна, тем более я далек от культурного
себя, я действую на мое "Я", как на камень, железо, дерево. Чем более я тождествен с
собой, тем более я тождествен с другим во мне, тем дальше я от самого себя.
Это и есть диалектика мысли как поэзии.
Каждый мыслитель - поэт.
Он сосредоточивает заданную, грамматически правильную нейтральную речь в
ее хлебниковское зерно, соединенные, отталкивающиеся, сжатые звуки-действия,
43
ритмы-действия, ритмы-вещи. Между речью-культурой и речью-стихией и
совершается мысль. Поэт "милостью Божьей" воплощает первоначальное звучание в
живых, общезначимых словах, ритмах, рифмах, изнутри спаянных в один поток речи, в
одно громадное слово-заумь. Поэзия состоялась, когда есть двусмыслие: в тексте -
нормальная, но поэтически организованная речь, в подтексте - стихия речи, единое
слово-мысль. Если отсутствует один из смыслов, если нет двойного движения слов,
если я не угадываю в понятных словах и строчках непонятного звукоряда (страшно
значимого своей непонятностью, "вот-вот-произнесением"), то поэзии напрочь нет,
тогда "Я", читатель, не могу реализовать в эллипсисе стиха свою личность...
... Хлебников (или вся русская языковая стихия десятых годов XX века?) пытался
утопически соединить, внеграмматически (может быть, точнее: в синтаксисе и
семантике корнесловии и смыслов) сплавить прошлое - настоящее и будущее языка
(истории? судьбы?). Церковнославянские, древнеславянские, общеславянские,
индоевропейские пушкинские и гоголевские корни и ветви языка и будетлянские (!)
неологизмы ("небеди...") переплавлялись в нечто единое и - на момент - целостное.
Резкие обрывы ритма и мгновенные переходы от размера к размеру, от одного
интонационного строя к другому происходили в пределах одного стихотворения, даже -
одной строфы. Возникает какая-то "вселенская смазь", в которой смыты грани,
разбиты (и вновь выстроены) мостики разных речевых и психологических эпох.
Обнаруживалось (очень краткосрочно...) некое вневременное, всевременное, то есть
только возможное, - русское слово, русское сознание...
...Образ речи-идеи, угаданной Хлебниковым, - это трагический образ костра. В
огонь идет все древесное, - и сухие дрова, и живые столетние деревья, и корни, и
ветки, и зеленая и жухлая трава. Огонь спаливает (и сплавляет) всю эту древесность
в нечто цельное - красное, белое, пепельное... Все индивидуальное сгорает, на миг
вспыхивая неповторимой искрой. Вспыхивая и сгорая в неуловимом тождестве
времен и речений... Целостность разрешается уничтожением уникальностей и единст-
венностей. Новые сгорающие ветви (речения) каждый раз превращаются в новые -
своеобычные - языки пламени: вновь и вновь исчезают в речевом костре...
Исходная хлебниковская речевая идея (словленная в нерасторжимом словесном
слитке "Время - мера мира") катарсисом вошла в глубь национального сознания,
сосредоточилась и сохранилась как насущный "годовой круг" в древе российских
судеб. Впрочем, сила этого предсказанья в том, что оно навеки остается
пред-сказаньем, вечным кануном..."
Все это - "речь, обращенная сама к себе" (Л.С. Выготский), где эта самая "сама к
себе" - образует "фразу - слово - звучание, слитое в неделимую мгновенную точку,
"делимую" лишь своим потенциальным развертыванием (во внешнюю речь) и своим
прошлым бытием (во внешней речи)" (Это тоже B.C. Библер - из статьи
"Понимание Л.С. Выготским внутренней речи и логика диалога", опубликованной в книге
"Методологические проблемы психологии личности" в Москве в 1981 году.) То есть
внутренняя речь есть "поэзия самой поэзии", когда "в слово сплочены слова"
(Б. Пастернак) в миге начинаний. Нескончаемых начинаний..."
Попробую положить библеровские расшифровки на хлебниковскую заумь в
пьесе "Хочу я". Начну с "Я" как героя этой пьесы: "Милеба небского могоча и небеской
силебы с земнатой хилебой не предвещает мне добротеющих зело дел. Зловый
дождь, дождь зла, вижу, ожидает меня".
Но этот фрагмент из "Я" в ответ на Утриню из Долиря долинного: "Зоричи-не-
бичи, благословежии-зоричи - сыпятся с неба милебой неба с соннеющей землей -
небовые красно-багряные цветы-жардечь. О, небатая тонеба меня в нея!"
И там, и там поэт слышит себя и говорит себя - речью. Внутренней речью,
экранированной молчанием. Своим молчанием, которое он (поэт) тоже слышит. Себя.
Но и другого (Долиря) как себя. Милеба - хилеба - неба - небичи - милеба - тонеба;
зело - зловый - зла...
44
Рифмы и корневища к мирозданию. Слушаю музыку мироздания (если слегка
подправить Ал. Блока). И... себя в нем. Но себя отстраненного. Как
объективированный образ, который тут же и возникает в языке (=речи?) Руньини. Ясный и не
заумный образ Ручьини, поумневшей в ответ (всем образом - таким образом) на заумь До-
лиря (= "Я") и "Я" (в ответ Долирю), чтобы поняли друг друга. Ручьиня: "...А ныне я
меньше стрекозы, и лишь рыбаки пугаются моего тощего тела." Внутренняя речь ов-
нешнилась. "Я" Ручьини стало не "я" стрекозы, а просто ею самой (и даже меньше!).
А вокруг пустота (там, где ранее была речь в ее протуберанцах и переливах).
Повторю B.C. Библера: "Чем более я тождествен с собой, тем более я
тождествен с другим во мне, тем дальше я от самого себя". Ручей - стрекоза (но уже без не-
бини - тонебы - милебы - хилебы...). Звук ушел - остался образ. Вид взамен звуко-
вида. Буквозвуковида. Меж ними - молчание. Посреди двух на-речий. Эллипсис
Междуречья... В нем - я сам как возможность.
Таков алгоритм поэтического как субстанции. Так "между речью-культурой и
речью-стихией и совершается мысль" (Библер). Мысль как поэзия. Слово - заумь -
Словомысль...
Вневременное свершение времен... Всегда при начале...
Но только так и может дышать почва и дышать судьба при избывании
искусства как искусственности в лакунах междуречий.
*♦♦
А теперь моя стихотворная вариация к теме междуречья в драматургической
прозе "Хочу я", которая вся есть поэзия вперекор своей формальной прозности и
зыбкой, плохо пересказываемой драматургийности.
Моя вариация на тему...
МЕЖДУРЕЧЬЕ
Междуречье - два наречья,
Но молчанье посреди.
Справа - ангельское вече,
Слева дырка от CD.
Тот, кто слева, манит-манит
В темный зык к исходу сил.
Тот, кто справа, тянет-тянет
В хоры стройные светил.
Голубь снежный мой и нежный,
Когда лист росою свеж,
Нагули кулек надежды,
Чтобы удержаться меж...
Если время - мера мира -
Подойдет к концу, умру,
Как невольный сын эфира,
Одинокий на пиру.
♦♦♦
Пьеса Велимира Хлебникова "Хочу я" воспроизводится по его собранию
сочинений в 3-х томах (СПб., "Академический проект", 2001. Т. 2).
45
Неоценимую помощь в переводе с хлебниковского на мой оказала Наталья Пер-
цова тем, что составила свой великолепный "Словарь неологизмов Велимира
Хлебникова" (Wien - Moskau, 1995), коим я и воспользовался.
2.
Цветная клей и сулька сва
Догадались? И клей (женского рода), и сулька (осколок ледышки-сосульки, is'nt
it?) - и то, и другое - крученыховские фишки-пустышки. Заморочки-примочки
Алексея Елисеевича, сконструировавшего мир во второй раз из звукобукв (звукови-
дов), цветоформ, контуров и плоскостей - сколов и. срезов культзнаков: афиш,
газет, цветных наклеек (отсюда и цветная клей), тряпиц, обносков и шобонов,
обломков литер, Эвклидовых фигур в наездах и разбегах к центрам и перифериям
пространств-времен в их взвихренностях и ступорах, Виттовых плясках и атомарностях
слов, косноязыко мычащих и блеющих в филологических каптерках и корнеслов-
ных провиантских складах для вселенских дисгармоний. В виду первомира (Эдема) в
мыследелательной пьесе, авторство которой приписывается Богу, по имени Книга
Бытия - гармонического и ладного (с первого по шестой день включительно). А на
седьмой - с Яблоком, коллажеобразно скатившимся в эту благость
дисгармоническим ведуном, объемно вздыбив равнину двумерности. Коллажно-аппликационным
манером на клею (цветном и сером с чернядью). Ассамбляжно - о трех измерениях.
Цветомузыкально (для слуховидения). Демиургически мощно. Когда метод и
результат вкупе. Словозрительно... Откровенно материально. На срезах, изломах,
разломах. Раздорно, вздорно... Здорово!
Но и мир № 1 - божественный, эдемский - тоже небезматериальный. Только
особым образом не без...
Поль Валери, допуская, что Бог творил из ничего, иронично заметил: верно, из
ничего, но материал все время чувствуется.
Иронично о простодушном творце? Возможно ли? Да! Если только коллаж сама
культура и есть. Или: сама культура есть коллаж цитат - в сдвигах и сшибках. В
"поножовщине обломков" (Пастернак) второй природы.
Разберемся...
Сулька сва и цветная клей... В чем дело?
Но прежде все-таки о коллаже как материализации форм. К смысловому
принципу соединения разновременных и разностилевых элементов - знаков разных
культур. Игра времен и пространств. Гетерогенные реальности в гомогенном
пространстве-времени.
А может быть, разнородные знаки культур, стремящиеся войти в нейтральную
пластическую среду эдемского изначалья? "Коллаж знаков" в двухмерность полотна
(=страницы)? От объемной буквальности к плоскостной метафоричности?
Откровенно разнородно (разноприродно?) при тайном чаянии
одно-породно-природной поверхности, зашкуренной и прилаженной фуганком и наждачной шкуркой
к соседнему брусу аккурат и впритык. Заподлицо. Коллаж - прием и результат
сразу. Всклень и вровень. А материал разноприродья все время чувствуется. Не
потому ли, что предтворческое ничего - материальное ничего? Хотя бы потому, что
названо. Как уж тут ни крути. Даже если это ничего - гул или даже слово. Или
обломки от слов-действий. Сульки и свы всякие...
"Пелены" и "воздухи" по глади вод. По-над водою...
Форма "творит" форму. Или - по Пастернаку - образ входит в образ, а предмет
сечет предмет, уплощая все на свете. И... возжигаются новые смыслы, палимпсест-
но стирая старые. Не для чужих глаз, а для своих, уютно чувствующих себя в этих
коллажно-ассамбляжных "Своясях" (Хлебников).
46
И так - по всему XX веку. А за всем этим (позади) Анри Матисс с его декупажа-
ми (вырезками), с его "рисованием ножницами", съединяющим контур и поверх-
ность, выстраивающим мир, но и конкретное произведение... Вот что он пишет:
"... простой вырезкой можно передать все, что хочет передать рисовальщик или
живописец... вырезка идеальна для эскиза и подготовки витража (Анри Матисс. 1869—
1954. Живопись, рисунок, декупажи. Сост. Е.Б. Георгиевская и др. М., 1993, с. 293).
И далее: "... рисовать ножницами. Врезаться прямо в цвет - это напоминает мне
непосредственное ваяние скульптора из камня" (там же. С. 176). Декупаж - импульс к
новому, преодолениям инерции и штампа, ритмическим новшествам и выходам за
пределы, воздвигнутые ретроградной эстетикой.
(Помните новое блюдо ресторанного меню эпохи борьбы за еду - вырезку из
"Продовольственной программы"! Так сказать, декупаж-мясозаменитель...)
А теперь можно и о книге, репрезентирующей мир как вторую культуру
собственно человеческой природы - взамен и вопреки божественно эдемской. Культуру
Седьмого дня...
Книга принципиально коллажна. И в этом смысле цитатна. Но рукотворно ци-
татна (=коллажна). И в качестве таких цитат выступает материал: бумага, метизы
(скрепки), картон, переплетные материалы, нитки для брошюровки, шрифтовые
краски, гуаши, краски и чернила для иллюстраций, туши... И все они - не только
вспомогательные материалы, но и встроены в сюжет. Они, в некотором роде,
персонажи книги, но и - материал. Одухотворенный материал, а не только то, из чего...
Лишенные объема (третьего измерения), они встроены в двухмерность страницы
(листа), и потому виртуально коллажны (точнее: ассамбляжны).
Внекнижный (засценический) план вос-полняет со-природную (нерукотворную)
коллажность книги, ее объем-фактуру, над которой потрудилась природа: лес, из
которого сделана бумага; вещества для красителей; железная руда для метизов;
пенька и жгут для ниток-веревок... Да мало ли что еще!..
И, наконец, книга как материализованный объем - плотный, предметный... Кол-
лажируемый объем в ассамбляжах пространств культуры. Истаивающий в чистую
духовность (текст - вербальный, живописный, графический) и вновь уплотняющий
духовные флюиды-эманации в себя же самого - книгу-предмет-объем. В изделие.
Но среди книг-тиражей есть книга-особстатья. "Самописная" литографированная -
футуристическая - книга. Коллажно-аппликационная, на клею. Точнее: на "цветной
клее". Книга - "цветная клей". Порождающая и порождаемая. Творящая и
творимая. Творящая и, одновременно, сходящая - по собственной своей природе - на нет.
Но - творящая... Не потому ли клея как со-материал к многоцветным лоскуткам
материи женского рода?.. Да и вербальное в таком книгоподобном кунстштюке тоже
какое-то странное. Сулька сва какая-то...
[Собъемся на время с пути и на время же впадем в детство. Точнее: припадем к
нему как истоку всепорождения...
Сперва о многоцветных лоскутках. Мальчик-первоклассник на своем игровом
бегу выдрал клок из левой штанины серо-голубой джинсы. Покупать новые брюки -
дорого, потому что мальчик из бедных мальчиков. Залатать джинсовой же, белесой
от многолетной потертости заплатой - лишь подчеркнуть бедность, ранящую
детскую душу в нынешнем мире Леви-Стросовской джинсы и замшевой натуральности
валютных кож. Что делать? Изобретательная портниха-мать в роли голи, хитрой на
выдумки, не раздумывая, лепит на дырку и на симметричное ей целое место две
симметрично же цветных - в капризах разноцветья - тряпицы, оставшиеся от
сложенного ей же и тоже от бедности лоскутного одеяла. Конструкция состоялась,
красивое случилось, а заплатная бедность скралась откровенной нарочитостью коллажа,
притом что нарочитость эта нахально утверждает: так было задумано с самого
начала, и потому именно так и надо. Не иначе и только так! Спасительно и эстетически
коллажно... Заметно, если всмотреться в разнородье материала. Искусно, если
вглядеться в бесшовность швов. Естественно, если мальчик в круге сверстников - в про-
47
мельках забав и радостей веселого лоскутного карнавала нынешних разноимущест-
венных детств. В том числе и совсем ранних, с их звуко- и словопорождениями кол-
лажной природы под названием сулька сва (ср. паба, что значит колбаса в речи
девочки Клавы полутора лет или пиль (не пыль ли?) метать вместо подметать в
речи мальчика Славика двух с половиной лет). А здесь сулька сва. Что это такое?
Поживем (почитаем) - увидим-услышим...]
"Когда б вы знали, из какого сора..." Но вырастала из этого сора сулька сва и
лоснилась цветная клей.
Книжный образ анти-книги с моноэкземплярным тиражом. Всегда на первой
(может быть, даже на нулевой) странице. С чистыми страницами и разворотами. С
чистого листа, с обрывающимися в бездну краями картинок-гравюр. И так - далее.
В бескнижные пустоты, чтобы начать все с начала - наскально-пещерной звукобук-
вовидной литеральности в перспективе интернетовских бездн, полных звезд -
файлов и сайтов; многозвездных человеческих одиночеств.
Но именно в такой вот книге-антикниге воплотился уникальный опыт книгоде-
лания Хлебникова - Крученых, сплотивший духословие и вещесловие в качестве
коллажа трехмерного в двухмерности книжного листа и в пафосе нескончаемых
начинаний. В метафорической буквальности. Но - метафорической. Но -
виртуальной. И при этом все же буквальности: с наклейками, нашлепками, набалдашниками,
намордниками и нарукавниками. На-...
Рукотворное продолжение природного...
Назову пока две такие книжицы-ижицы-антикнижицы: "Вселенская война Ъ"
А. Крученых и О. Розановой (1916 год) и "Мирсконца" (1912 год), с цветочком на
обложке работы Н. Гончаровой. Коллажированным (аппликационным) цветочком.
Ußemnou клеей наклеенном. Причем для каждого экземпляра (а их было мало)
"свой цветочек". И потому экземпляр - уже не экземпляр, а штука. Уникум.
Штучное, так сказать, изделие. Избывание тиража, книги, коллажа. Истаивание
наклейки-нашлепки. В звездную до-печатность, до-коллажность, до-рисуночность...
Наивное вот-вот и простодушное только-только. Пред-речье...
Крученых: "Эти наклейки рождены тем же, чем и заумный язык, -
освобождением твори от ненужных удобств ("ярая беспредметность")" (из Предисловия к
"Вселенской войне Ъ").
Неужели снова в Эдем?
Посмотрим...
Сулька сва и цветная клей продолжаются. Но - в мореве вээоми, а в мареве неба -
небеди и времири.
Плывущий в пеленах и воздухах кубофутуристический мир...
♦
Практика звуковой - наивной, эдемской - зауми. Хлебниковской...
На счастье для умничающих по поводу зауми (в данном случае для меня)
случайно случился счастливый случай. (Слышите: лун.) Это все тот же Хлебников,
рефлексирующий на заумь - лучисто, взаимоотраженно.
Сейчас пойдет речь о его теоретической статье философско-поэтического
свойства - "Наша основа", состоящей из трех параграфов: "Словотворчество", "Заумный
язык", "Утверждение азбуки", и впервые опубликованной в сборнике "Лирень" в
Москве в 1920 году. Спустя шесть лет после избывшей себя издательской акции
делания футуристической "самописной" книги.
Предстоит большое цитирование. Потому что, во-первых, лучше не скажешь.
А во-вторых... (см. во-первых).
"Если вы находитесь в роще, вы видите дубы, сосны, ели... Сосны с холодным
темным синеватым отливом, красная радость еловых шишек, голубое серебро
березовой чащи там, вдали.
48
Но все это разнообразие листвы, стволов, веток создано горстью почти не
отличимых друг от друга зерен. Весь лес в будущем - поместится у вас на ладони.
Словотворчество учит, что все разнообразие слова исходит от основных звуков азбуки,
заменяющих семена слова. Из этих исходных точек строится слово, и новый сеятель
языков может просто наполнить ладонь 28 звуками азбуки, зернами языка".
Далее: "Вся полнота языка должна быть разложена на основные единицы
"азбучных истин", и тогда для звуко-веществ может быть построено что-то вроде
закона Менделеева или закона Мозелея - последней вершины химической мысли".
Постулируется что-то вроде звуковой первоматерии, состоящей из звукобукво-
атомов (элементов) числом 28, которые могут быть по-менделеевски со-организова-
ны в клавир для "флейты водосточных труб", а флейта - для "ноктюрна"
композитора Хлебникова - извлекателя звуков и "сеятеля очей". Извлекателя звуков из
"звонко-звучной тишины" (неважно, что насчет тишины процитирован Брюсов, потому
что в дело должно идти все, что к делу пригодно).
Продолжу: "Словотворчество есть взрыв языкового молчания, глухонемых
пластов языка.
Заменив в старом слове один звук другим, мы сразу создаем путь из одной
долины языка в другую и, как путейцы, пролагаем пути сообщения в стране слов через
хребты языкового молчания...
Самовитое слово отрешается от призраков данной бытовой обстановки и на
смену самоочевидной лжи строит звездные сумерки".
Посеяны звукобуквы, взошедшие самовитыми словами, сложившиеся в
"звездные сумерки", услышанные прежде всего самим сеятелем слышащих очей, но и
разглядывающих звуки (потому что они звукобуквы). Рефлексирующий поэт
демонстрирует собственную технологию аудиовидеоделания, поверяя сделанное новым
органом. Назову его ухоглаз в духе кентаврических словоновшеств поэта: "Возьмем
слово лебедь. Это звукопись. Длинная шея лебедя напоминает путь падающей воды;
широкие крылья - воду, разливающуюся по озеру. Глагол лить дает лебу -
проливаемую воду, а конец слова - ядь напоминает черный и чернядь (название одного
вида уток). Стало быть, мы можем построить - небеди, небяжеский: "В этот вечер за
лесом летела чета небедей".
Ясно, что "стая легких времирей" легковейней "четы небедей" и понятно почему:
времирей придумал Хлебников-слововержец, а небедей - он же, но только теперь в
качестве словосочинителя. Зато взят след в храмину слововерти. Неуемной.
Карнавальной...
"Словотворчество - враг книжного окаменения языка и, опираясь на то, что в
деревне около рек и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая
слова, которые то умирают, то получают право бессмертия, переносят это право в
жизнь писем. Новое слово не только должно быть названо, но и быть направленным
к называемой вещи. Словотворчество не нарушает законов языка. Другой путь
словотворчества - внутреннее склонение слов. Если современный человек населяет
обедневшие воды рек тучами рыб, то языководство дает право населить новой
жизнью, вымершими или не существующими словами, оскудевшие волны языка. Верим,
они снова заиграют жизнью, как в первые дни творения".
Играли жизнью первозданные "изделия" Бога, во-одушевленные его же Словом
(точнее: ставшие его воплощениями).
Вот оно, оказывается, что: мир впервые, только "в слове явленный" (мир слов).
Он - "творчество и чудотворство" (Б. Пастернак, но - опять-таки к делу).
Но... "внутреннее склонение слов". Не "скорнение" ли?.. И тут случай, как
нечаянно проникший Луч-Зевс, плодотворящий Рембрандтову Данаю, раскалывает
умный словоряд, вытащив за ум - как в За-речье или в За-донщину (примеры
Хлебникова) - немыслимое слово, сложенное из вольно выкликнутых звуков: "... если брать
сочетания... звуков в вольном порядке, например: бобэоби или дыр бул щ<ы>л, или
49
Манн! Манн! <или> ни брео зо\ - то такие слова не принадлежат никакому языку, но
в то же время что-то говорят, что-то неуловимое, но все-таки существующее...
Эти свободные сочетания, игра голоса вне слов, названы заумным языком.
Заумный язык - значит находящийся за пределами разума".
Дальше - опять технология (напрашивается гамлетовская тишина): "То, что в
заклинаниях, заговорах заумный язык господствует и вытесняет разумный,
доказывает, что у него особая власть над сознанием, особые права на жизнь наряду с
разумным. Но есть путь сделать заумный язык разумным.
Если взять одно слово, допустим, чашка, то мы не знаем, какое значение имеет
для целого слова каждый отдельный звук. Но если собрать все слова с первым
звуком Ч (чаша, череп, чан, чулок и т.д.), то все остальные звуки друг друга уничтожат,
и то общее значение, какое есть у этих слов, и будет значением Ч. Сравнивая эти
слова на Ч, мы видим, что все они значат "одно тело в оболочке другого"; Ч — значит
"оболочка". И таким образом заумный язык перестает быть заумным. Он делается
игрой на осознанной нами азбуке - новым искусством, у порога которого мы стоим.
Заумный язык исходит из двух предпосылок:
1. Первая согласная простого слова управляет всем словом - приказывает
остальным.
2. Слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же
понятием, и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка.
Если взять слова чаша и чёботы, то обоими словами правит, приказывает звук
Ч. Если собрать слова на Ч: чулок, чёботы, черевики, чувяк, чуни, чуп<ажи, чехол
и чаша, чара, чан, челнок, череп, чахотка, чучело, то видим, что все эти слова
встречаются в точке следующего образа. Будет ли это чулок или чаша, в обоих случаях
объем одного тела (ноги или воды) пополняет пустоту другого тела, служащего ему
поверхностью. Отсюда чара как волшебная оболочка, сковывающая волю
очарованного - воду по отношению чары, отсюда чаять, то есть быть чашей для вод
будущего. Таким образом Ч есть не только звук, Ч есть имя, неделимое тело языка.
Если окажется, что Ч во всех языках имеет одно и то же значение, то решен
вопрос о мировом языке: все виды обуви будут называться Че ноги, все виды чашек -
Че воды, ясно и просто".
И еще о звуках: "... каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ,
{который} и есть имя. Что же касается гласных звуков, то относительно О и Ы
можно сказать, что стрелки их значений направлены в разные стороны и они дают
словам обратные значения {войти и выйти, сой - род и сый - особь, неделимое; бо -
причина и бы - желание, свободная воля)".
Заумь вошла, как считает Хлебников, в границы ума, и потому утратила
эдемскую нечаянную - случайную - радость божественного бормотания - внеязыково-
го, внеречевого. Стала разумной заумью, то есть не заумью вовсе. Поэтическое ушло.
Зато осталось соображение о поэтическом. А коли соображение, то непременно
мораль и - пусть хорошая, - но идеология: "... заумный язык есть грядущий мировой язык в
зародыше. Только он может соединить людей. Умные языки уже разъединяют".
♦
Речь пока шла только о рождении и смерти (и вновь рождении - воскрешении)
Слова - творящего и творимого. Конечно же, не без зауми; но зауми естественной
и мучительно свободной... Поэзия звуковида слова. И книги из нее не сложить. Она
вся бы ушла в это единственное слово в его рождении - смерти - воскрешении.
"Хотел бы в единое слово..."
Для книги нужна иная заумь - искусительно хитрющая, которая обязательно
прокрадется в зияния и зазоры набарматываемых звуковых колобродов внутренне-
50
го пред-речъя, божественного - зд-умного - ào-словья, столь же
нескончаемого-неисчерпаемого, сколь без-донно Слово Поэта.
Это заумь Крученыха - зудеснмкя-словесника рукотворных сяовес-зудес...
Приведу целиком "Декларацию заумного языка" Алексея Крученых, впервые
опубликованную в первой книжке журнала "Искусство" в Баку в 1921 году и вскоре
переизданную в книге А. Крученых, Г. Петникова и В. Хлебникова "Заумники" в
Москве в 1922 году.
"Декларация заумного языка
1. Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник
волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец
индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным.
Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее (пример: го оснег
кайд и т.д.).
2. Заумь - первоначальная (исторически и индивидуально) форма поэзии. Сперва -
ритмически музыкальное волнение, празвук ( поэту надо бы записывать его, потому
что при дальнейшей работе может позабыться).
3. Заумная речь рождает заумный праобраз (и обратно) - неопределимый точно,
например: бесформенные бука, Горго, Мормо; Туманная красавица Иллайяли;
Авоська да Небоська и т.д.
4. К заумному языку прибегают:
a) когда художник дает образы еще не вполне определившиеся (в нем или вовне);
b) когда не хотят назвать предмет, а только намекнуть - заумная характеристика:
он какой-то эдакий, у него четырехугольная душа, - здесь обычное слово в заумном
значении. Сюда же относятся выдуманные имена и фамилии героев, названия
народов, местностей, городов и проч., например: Ойле Блеяна, Мамудя, Вудрас и Бары-
ба, Свидригайлов, Карамазов, Чичиков и др. (но не аллегорические, как-то: Прав-
дин, Глупышкин, - здесь ясна и определенна их значимость);
c) когда теряют рассудок (ненависть, ревность, буйство)...
d) когда не нуждаются в нем - религиозный экстаз, мистика, любовь (глосса,
восклицание, междометия, мурлыканья, припевы, детский лепет, ласкательные имена,
прозвища, - подобная заумь имеется в изобилии у писателей всех направлений).
5. Заумь пробуждает и дает свободу творческой фантазии, не оскорбляя ее ничем
конкретным. От смысла слово сокращается, корчится, каменеет, заумь же дикая,
пламенная, взрывная (дикий рай, огненные языки, пылающий уголь).
6. Заумь - самое краткое искусство, как по длительности пути от восприятия к
воспроизведению, так и по своей форме, например: Кубоа (Гамсун), Хо-бо-ро и др.
7. Заумь - самое всеобщее искусство, хотя происхождение и первоначальный
характер его могут быть национальными, например: Ура, Эван - эвое и др.
Заумные творения могут дать всемирный поэтический язык, рожденный
органически, а не искусственно, как эсперанто.
1921 А. КРУЧЕНЫХ"
"Главное отличие за-мысленной зауми Крученых (зауми наперед за-думанной) от
спонтанной - гейзероподобной - зауми Хлебникова в том, что у Крученых его заумь
целенаправленна. "К заумному языку прибегают...", - пишет Крученых в п. 4
(обратите внимание: в пункте!). Не заумь прибегает (является), а к ней прибегают. И
далее - тоже по пунктам: а), Ь), с), d). Пунктуально регламентированная заумь. Так
сказать, руководство к заумным действиям.
(И все это - задним числом, когда футуристический всплеск неожиданностей уже
лет семь как угомонился. Как-никак шел 1921 год. Успокоилось... Потому и сплыл,
по сравнению с "Декларацией Слова как такового" 1913 года, "мир", который
"вечно юн". Исчез и художник, который внове, "как Адам, дает всему свои имена". Увяла
51
и "лилия" "еуы". Зато выстроилась теория изобретения "го оснег кайд" и тому
подобной футуристической - заумной - фени.)
Рукописность - неосредневековая манускриптность - истаяла: "самописьмо"
спрямилось, сделавшись наборными штампами, лишившись индивидуальности
почерка и высветлившись в белесые - всеобще-всейные - прочерки универсальной -
вселенской - зауми. Ничьей и никакой.
"Стаи легких времирей" улетели в иные пространства, отметив своим улетом
ранние большевистские осени начала 20-х. (А все думали, что "весна человечества...")
♦
Вот передо мной созвучные "Декларации заумного языка" две тоненьких - по 8 и
10 листов - книжицы "КАЧИЛДАЗ" и "ТУНШАП", изготовленные Алексеем
Крученых. Первая - точно в издательстве "Журавль", а вторая, скорее всего, там же
(хотя сие и не указано). А когда - неизвестно, но, во всяком случае, "ТУНШАП" после
"Лакированного трико" (1919) и даже после "Зудесника" и Толодняка" (обе - 1922),
что указано на последней странице, хотя годы их выхода в свет не даны.
Начну с "КАЧИЛДАЗА".
На обложке песочного цвета сверху - "Алексей Крученых" и "КАЧИЛДАЗ", а
снизу - "журавль". Посередине наклеенная аппликация - неправильная трапеция
фактурно глубокого синего цвета, поставленная к "Журавлю" острым углом.
Возможно, это вырванный клок неба - небоглаз (не "КАЧИЛДАЗ" ли?), в любой
миг готовый рассыпаться звездно-голубыми беспорядочно складывающимися
литерами. Лукаво-чистосердечно. Так сказать, на сине-голубом глазу...
Что же просыпалось сквозь синее сито небес?
"Биля Φ чьюз ЛУ шпе счо Η Φ Качил мачин гачин чам там чап ЧУЧ Го шлыг
дышкл Нгуды рыш РАШ- А. БЪЛХОТ МЕРч ГРАС Ль СГ у X з РЕЛЬ ТЕЛЬ ФЕЛЬ
Ндудь зи- ФУЛ. БО ЛО ЗЫ ЗАРК ч сулька СВА БАЧ ФА АЛСТ СЗЖ ГЛЮ т."
Вот и все. С небольшими пропусками. Лесенкой и в строку. Вразброс и округло.
Строчными и нестрочными. В первой половине листа и во второй. Почти
посередине. Вразлет и собранно. Всячески. Как бог на душу положит. Как масть покатит и
из какого рукава - из-за тучи или из синей полыньи неба. Но... всегда наборными
штампами. И ЗАРК нечеловеческой природы, и потому ЗАРК, а не зрак, и тем
более - не взор (вздор?) и не взгляд (ляд?), а кругозор "КАЧИЛДАЗА", а глаз
прищурен и хитр, потому что вся эта постфактумная заумь - и в самом деле на голубом
глазу. Хитрюще-простофильном. Не потому ли "Биля Ф", а "РЕЛЬ ТЕЛЬ ФЕЛЬ"
(лесенкой) и "сулька СВА"?..
Толковать не берусь, потому что не берусь... Может быть, возьмусь лишь за "суль-
ку СВА". Не сосулька ли С&4лилась?.. Не на голову ли читателя? На мою бедную...
Тираж - 50 экз. У меня № 47.
А теперь "ТУНШАП".
Обложка светло-бежевая (или цвета кофе с молоком, куда не доложили кофе).
Бумага самой книжки в первых пятнадцати экземплярах - голубая, в следующих
пятнадцати - зеленая, а в последних двадцати - белая. У меня как раз такой - № 41, белый.
Но... что же на обложке, кроме имени и фамилии автора (того же - Алексея
Крученых) и названия, уже названного? Аппликационный коллаж - желтой и черной
трапеций. То ли черный ящик (папка, портфель) с желтым листом
(вылетающим-влетающим), то ли что-то вроде черной единицы с постаментом-подставкой - единицей,
вырезанной из черной доски желтым резаком, то ли еще что-то*?.. Скорее всего, еще
что-то - черте-чего... А может быть... Но - еще раз - толковать не берусь...
Далее - два титульных листа: на первом - имя и фамилия автора (все того же), на
втором - еще и название (только более разборчивое), где Π скорее П, чем Τ (в
письменном начертании).
Первая страница начинается почти по-человечески:
52
КАК БЕЗКОНЕЧНО
УНЫЛАЯ ВЕРЧА
КОЛЕСА В БАЛОМОЛЬЕ
Но далее:
КО
МО
ВО
ФО
РО
МО
Так и хочется завершить эту шестинотную гамму (спотыкающуюся на повторе) -
КО КО. Может быть, перед заливистым ку-ка-ре-ку или задорной кукарачей...
И все-таки к осмысленному и почти человеческому
(почти потому, что поэтическому) началу...
ВЕРЧА КОЛЕСА уныла и безконечна. Она, эта самая ВЕРЧА, как шарманка
звукопорождения, а звуки, взлетев, сцепливаются в БАЛОМОЛЬЕ (балаболье, пус-
томелье полнейшего 6e3'epistem^). (Вспоминаю Леонида Мартынова:...
мукомолье?
Какое еще мухоморье?
Лукоморье отыщете только в фольклоре...
- цитирую по памяти, и потому, возможно, баломолю, потому что "мели, Емеля,
твоя неделя".)
Осмысленный зачин (авторский) порождает вполне безмысленное речефонта-
нье, измученной душе которого ни сна, ни отдыха...
Выходит, что с целью, нарочно и чему-то или кому-то в пику. Куражно и эпатаж-
но. Но спустя десятилетие после того, как было - настояще и первобытийственно. А
теперь - чучельно и бутафорски.
Что же там, в этом БАЛОМОЛЬЕ?..
А там - только наборными штампами (штампами!). И опять - снова-здорово:
вдоль и поперек, вкривь и вкось, кругалем-кренделем, кубарем и кувырком...
"МО РО ЧО МО ХО РО ДО ШО бО Молафар Молатас Араш Моган Кофан ша-
pan йогар 3 А Р. ша Ma Ча мак ШАК ЧАК ша ма дель ЧЕН МЕН 6ЕН ЗЕН РАП
МАП ПАП туншап МХЭР АМЕСЛЕВ СКАП ФЕВ ЛУНСУК САЛЕ КЧЫ. ГУ ФА
ША ША ДА СЕЛЬ ГО CAB ЯНЬ ЮК ЗЕЛЬ ДЮ ЛЕЛЬ ГАЗ ШЬЯ ГУНШАП ХАР
АМЕЧЛЕВ ЧКАП ФЕВ ЛУНЧУК ЧУ НУ КРАЗ фАЗ ЦАЗ НРЫЗ ДЫЗ фЫЗ
НМО ФО ЛО - - -".
И впрямь НЛО какое-то...
(Над селом фигня летала
Из блестящего металла.
Очень много в наши дни
Неопознанной фигни.
Современная частушка)
Из литер, высыпавшихся с клочка неба "КАЧИЛДАЗА", в "ТУНШАПЕ"
сознательно складываются ритмы рифмозвучий, но наборными штампами. Техника
некогда звучальной - крученыховской - Взорвали. Умысел расчисленного вымысла.
Чистая линия дивногласия изломалась в лесенки с выщербленными ступеньками в
их стереометрии неэвклидовой (и даже не лобачевско-римановой) природы.
"...И мелко-мелко порубить" (из кулинарного рецепта).
Одним словом, "во поле кудряву заломаю..."
53
Искорежу звук, взломаю ритм, то есть все то, что когда-то было за технической
заумью Крученыха. А за этой заумью была эдемская заумь Хлебникова.
Но из эдемской зауми Хлебникова не составишь книгу. А вот из крученыховской
можно. И вот две уже сделались. Те, которые, как синицы в руке, у меня в руке. На
ладони и передо мной.
Но они - скажу еще раз - задним числом.
А сейчас будет та, которая сложилась именно тогда.
*
Сначала приведу описание этой книги (гниги) и примечания к ней (с некоторыми
сокращениями), взятые из "Приложения" к замечательному исследованию
Владимира Полякова "Книги русского кубофутуризма" (М., "Гилея", 1998).
"А. КРУЧЕНЫХ, АЛЯГРОВ
ЗАУМНАЯ ГНИГА
ЦВЕТНЫЕ ГРАВЮРЫ О. РОЗАНОВОЙ
М.: Тип. И. Работнова, 1916 [1915]
23 л., 220x195. Тираж 140 экз.
Все тексты ст-ний напечатаны наборными штампами красным цветом.
Иллюстрации исполнены в технике линогравюры.
1. Обложка, заголовок набран типограф, способом;
внизу - наклейка из бумаги розового цвета в форме сердца (в описываемом экз.
пуговица отсутствует).
2. Одновременное изображение четырех тузов. Вверху и по правому краю от
изобр.: одновременное изображ/еше четырех тузовъ (все оттиснуто желтой краской).
3. Текст: к житься/круч еных/ом; внизу - наклейка из розовой бумаги.
4. Текст: Читать в здравом уме возбраняю\
5. Одновременное изображение червонного и бубнового королей. Вверху и по
правому краю листа: одновременное изображ/еше (знак червей) и (знак бубен)
королей (все оттиснуто красной краской).
6. Текст: Кишканик/на двор/пьет пары.
7. Текст: ЩЮСЕЛЬ БЮЗМ НЯББ/кхточ в сирмо тоцилк/шунды пунды.
8. Пиковая и червонная дамы. Вверху: пиковая и червонная дамы; внизу:
одновременное изображеше (все оттиснуто желтой краской на синей бумаге).
9. Текст: Евген. Онь-ьгин...
10. Пиковый король. Внизу: пиковый король (все оттиснуто синей краской).
11. Текст: Харламм вою сапулъную...
12. Бубновый валет. Вверху: бубновый валетъ (все оттиснуто красной краской).
13. Текст: Отдых.
14. Текст: ЙЬЫП ЧОРТОК А [?] 3613...
15. Пиковая дама. По левому краю сверху вниз: пиковая дама (все оттиснуто
синей краской).
16. Текст: Допинг/аки рчий/рюмка коньяку.
17. Трефовый король. Внизу: трефовый король (все оттиснуто синей краской).
18. Текст: стерилизован, ревмя/бродит/тело.
19. Червонная дама. По правому краю листа сверху вниз: червонная дама.
20. Текст: Укравший все/украдет и ложку но/не наоборот.
21. Пиковый валет. Вверху: пиковый валетъ (все оттиснуто желтой краской).
54
22. Текст: Ллягров Разсеяность... (набрано типогр. способом).
Спинка обложки.
[...]
В конце 1914 г. Розанова создает серию линогравюр, изображающих героев
игральных карт. Еще раньше она начала работу над живописными вариациями этой
темы. Вопрос о соотношении этих двух циклов до сих пор остается открытым. Во
всяком случае, неверно представлять..., будто гравюры перефразировали уже
созданные живописные произведения. Из всего живописного цикла сохранились 7
работ (из 11), и, судя по тому, что в письме к Шемшурину в янв. 1917 г. Розанова
упоминает некоторые из них как новые, зависимость могла быть и обратной...
Летом 1915 г. Андрей Шемшурин - литературовед и издатель, друг Крученых -
предложил финансовую поддержку для издания этой серии, и в авг., вместе с
заумными стихами Крученых и Р. Якобсона (выступившего под псевдонимом Алягров),
она вышла из печати. Кн. была опубликована с неправильной датой: на обложке
был указан 1916 г.
Для самой обложки Розанова использовала простой, но очень выразительный
прием наклейки. Вырезанное из красной бумаги сердце было пришито к книге
обычной белой пуговицей. В технике коллажа была исполнена и страница № 3.
Своей серией оживших карточных героев художница продолжает начатое
Ларионовым художественное освоение низовой городской культуры. В этом нас
убеждает лубочный психологизм самих персонажей, и в особенности вульгарно-сочная
фактура печати. Гравюры отпечатаны на бумаге рыхлой структуры (в
оранжево-золотистых, красных и синих тонах), поэтому не во всех местах краска пристала к ней
с одинаковой силой. Это создает эффект пробного, неудачного оттиска, отсылая нас
к наиболее архаичным приемам народной гравюры.
Динамические сдвиги так называемого "одновременного изображения", как и
введение в изобразительное поле надписей и знаков, напротив, являясь наиболее
характерными футуристическими приемами, возвращают нас к современности".
Что здесь точно от Розановой? Это, безусловно, герои игральных карт,
складывающие мир случая (в коем луч - играет и светится).
На втором листе книги одновременное изображение четырех тузов, оттиснутое
желтой краской. Эта одновременность свидетельствует "множественность точек
зрения" и сдвиговую "деформацию". И то, и другое "канонизировал кубизм", о чем
говорил Роман Якобсон (здесь он - напомню - Ллягров) в своей статье "Футуризм"
(1919). Не потому ли его соавторство с Крученых в "Заумной гниге" естественно?!
На пятом листе одновременное изображение червонного и бубнового королей,
оттиснутое красной краской.
На восьмом - пиковая и червонная дамы, оттиснутые желтой краской на синей
бумаге и помещенные вверху.
На десятом - пиковый король, оттиснутый синей краской и помещенный внизу.
На двенадцатой - бубновый валет, оттиснутый красной краской и тоже
помещенный внизу.
На пятнадцатой - синяя пиковая дама по левому краю сверху вниз.
На семнадцатой - трефовый король синего цвета и внизу.
На девятнадцатой - червонная дама по правому краю листа сверху вниз.
И, наконец, пиковый валет - желтый и вверху - на двадцать первом листе гниги.
Тексты на этих листах исполнены в тех же красках, что и сами изображения.
(Тексты представляют собой подписи к цветным линогравюрам и выполнены не
типографским набором, а наборными штампами.)
Обратите внимание: тузы и короли в полном комплекте. Дам, хотя и четыре, но
червонных и пиковых по две. С валетами недобор: бубновый и пиковый.
Вертикаль скреплена мастью, и все дамы пристроены. Они могут быть выбраны
кто тузами (все), а кто и королями (тоже все), а кто теми или этими (как масть
покатит...)
55
Пиковый валет может рассчитывать на одну из дам (из пиковых), если кто-то из
них согласится.
Лишь бубновый валет остается не пристроенным в принципе.
Знаковый Бубновый валет. Знаменитый в футуристических кругах!.. Он -
случай как непорядок, внесенный в мир карточного правильного (от правила игры)
случая. Вторая степень случая, и потому особенно подстать смысловому выбросу -
зауми. Он как два одновременных короля - червонный и бубновый, подчинивший себе
бездамного (бездомного) валета.
Тексты коллажированы, наклеены. Так, на обложке внизу наклейка из бумаги
розового цвета в форме сердца, пришитого с помощью белой пуговицы посередине.
Так сказать, пристегнутого. (В экземпляре В. Полякова пуговицы нет.)
Лубок с лубочным же психологизмом, "вульгарно-сочная фактура печати", не
одинаково резкая окраска от экземпляра к экземпляру... Нарочито
демонстративные следы дилетантской некачественности рифмуются с народно основательным,
то есть с настоящим, подлинным, укорененным в почве...
Что же остается бедному и одинокому футуристическому Бубновому валету!
Божественно бормотать от неприкаянности и тоски. По-хлебниковски. Заумью
одинокого - соловьиного! - счастья. Но и - заумно хитрить в надежде изловчиться и
отбить все-таки в надежде же на германновский выигрыш одну из пиковых дам
вопреки масти у сытого туза или властного короля (пиковых того и другого). И здесь
начинается заумь Крученыха - хитрована и зудесника.
Так бубновый валет стал кудесником и зудесником сразу, чудословом и словоде-
лом купно: Поэтом и "слагателем слов и сочинителем фраз" (Л. Мартынов). Дон
Кихотом и Санчо Пансой. Дон Хуаном и Лепорелло. (И там, и там вместе.) Одним
словом, как Сухово-Кобылин...
А здесь, в "Заумной гниге", на контрасте со случаем карточным (правильным!)
возникает случай зауми как домашней заготовки пандан, но и вперекор карточной игре.
Но заумь скрепляет игру. Она - ее постамент. Пьедестал... Это речь, хотя и
искусно (=искусственно) организованная. Она скрепляет (=брошюрует) книгу. Но не
столько книгу, сколько гнигу. И потому держать и листать ее можно. А вот
читать?.. Это скорее антикнига, чем книга, и потому и в самом деле не для эдемской
зауми - для зауми хитросплетенной: ЩУСЕЛЬ БЮЗМ НЯББ/кхточ в сирмо то-
цилк/шунды пунды.
Или: ЙЬЫП ЧОРТОК А [?] 3613...
И так - далее...
Вот вам две зауми: прекрасная, но бескнижная - хлебниковская (она -
метафизическая субстанция) и замечательно хитрющая - крученыховская. Настолько
книжная, что уж и не книжная вовсе. На избыв книги, но не - "на разрыв аорты".
Стая легких воробей . (Тьфу ты, черт! - Времирей...)
*
А теперь, как водится, мое стихотворение пандан всему вышесказанному.
ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ
Цветная клей и сулька сва.
Уж не сосулька ли свалилась?
Кривым когтем перекрестилась
Одна ученая сова.
Между прочим, соловей - из рода воробьиных.
56
"Туншап" и "Качилдаз". Язык
ломал, аж челюсти ломило.
Диагноз ставил: острый бзик,
Притом, что пациент - чудила.
....бесовских книг, бесовских книг...
Смотрите сами: краски шмат
Швырнул, чем смазал карту литер,
И кровью высинил стигмат,
А лишнее платочком вытер.
А пуговица от кальсон
(Из реквизита "шито-крыто")
К обложке намертво пришита,
Всем этим фишкам в унисон.
....поет Кобзон, поет Кобзон...
Как раскардаш на абордаж,
Та беззаконная комета
Вошла в сей мир, как входят в раж,
В то фиолетовое лето.
.... ах, вернисаж! ах, вернисаж...
Любите этот ассамбляж,
Цените это празднородье,
Как любит Бог разнопородье
В своей рабочей мастерской....
А Велимирова душа
В самосиянии витала,
Выделывая антраша
Даже тогда, когда устала.
Когда же сделалось темно,
Как одесную, так ошую,
Неслышно села на окно,
Пчелой печальной крылышкуя.
От диалога к диалогизации
(в свете концепции В. Библера)
А. С. АХИЕЗЕР, М. А. ШУРОВСКИЙ
Культура существует как внутренний диалог, как работа человека над
постоянной интерпретацией накопленного культурного богатства, как переосмысления всех
ранее сложившихся смыслов. Без интерпретации нет освоения культуры, как
содержания личностного сознания, деятельности, нет культуры как механизма
воспроизводства.
1. Опасность логических и социокультурных катастроф
Социокультурная энтропия постоянно разрушает элементы культуры, повышает
уровень дезорганизации мышления, осмысления, деятельности, разрушает
культурную основу любого сообщества. Общество, любые субъекты быстро бы исчезли,
если бы энтропии не противостоял противоположный конструктивный
созидательный процесс, постоянно воспроизводящий реально и потенциально
соответствующего субъекта, (со)общества-субъекта, культурное всеобщее основание каждого из
них. Существование субъекта в любых формах зависит от его способностей
превращать себя в предмет собственной постоянной озабоченности, разнообразных форм
рефлексии, нацеленных на развитие этих способностей. Эта озабоченность в
истории формировалась в скрытых формах, в формах ритуалов, исполнения воли богов.
Усложнение проблем привело в конечном счете (т.н. "переворот осевого времени")
к возникновению философии и науки, проблема рефлексии стала предметом
теоретического исследования, что проявилось еще в античной философии.
Специфика энтропии, дезорганизующей человеческую деятельность, хорошо
раскрывается на основе концепции В. Библера, констатирующей существование
двойственной детерминации человеческой деятельности: причинной и смысловой.
"Причинная детерминация, характерная для деятельности ("причина-действие")
доходит до детерминации по схеме Cause Sui... оказывается, что "действие",
"следствие"... оборачивается причиной своей причины (этой самой деятельности), или - что
точнее - причиной самого себя..." [1, с. 49]. Субъект деятельности "в самом
исходном зерне, в определении своем выступает как не совпадающий с самим собой, как
элементарный "микросоциум", в общении с самим собой ...находящийся" [1, с. 54],
© Ахиезер A.C., Шуровский М.А., 2005 г.
58
т.е. в смысловой детерминации. Это несовпадение с самим собой - специфика
человеческой деятельности, что отличает ее от биологического поведения. Эту
специфику можно также охарактеризовать как проблемность, т.е. превращение каждой
молекулы деятельности в проблему от элементарной фольклорной загадки до сложнейшей
проблемы, охватывающей сферы многих наук. Двойственность деятельности,
проблемность несет критику ранее сложившего всеобщего, содержания культуры,
смыслов, лежащих в основе прошлых решений, стимулирует необходимость поиска путей
формирования нового всеобщего, качественных сдвигов в культуре, в накопленных
смыслах, разошедшихся со старой детерминацией.
Двойственность деятельности проявляется в двойственности, двусмысленности,
многосмысленности культуры, системы принятия и реализации решений. Культура
амбивалентна, она существует как двуединый процесс, происходящий между своими
полюсами, могущими превратиться в противоположности. Дуальность культуры
проявляется в бесконечном разнообразии форм, например, любое (со)общество
несет в себе возможность нацеленности как на развитие, так и на застой, на
повышение эффективности деятельности и на ее снижение, на изменение детерминации и на
ее консервацию и т.д. Культура, с одной стороны, выступает как личностная, с
другой, она субкультура (со)общества, например, предприятия, спортивной команды,
ведомства, региона, общества в целом. Личность существует в процессе постоянного
превращения своей культуры в субкультуру сообществ, куда входит эта личность, и
одновременно в процессе превращения субкультуры сообществ в личностную.
Дуальность культуры неотделима от дуальности человеческой деятельности,
дуальности программ, решений, действий, смыслообразующих процессов и т.д., что угрожает
дезорганизацией культуре, мышлению, деятельности, провоцирует в конечном
итоге недостаточную способность человека обеспечить свое воспроизводство,
выживаемость, жизнеспособность. Это связано с тем, что культура любого субъекта
существует как противоречивое единство взаимопроникновения и взаимоотталкивания
между своими фокусами, организованными как полюса дуальной оппозиции, что
открывает возможность преобладания взаимоотталкивания над
взаимопроникновением, порождает потоки дезорганизации, т.е. разрушения всеобщего культурного
основания соответствующей дуальной оппозиции.
Такая угроза может быть снята лишь единственным способом, т.е. активизацией
взаимопроникновения, расходящихся, а возможно и разрушающих друг друга,
полюсов дуальной оппозиции (суб)культуры. Это возможно лишь через диалог между
персонифицированными полюсами культуры, полюсами мышления личности, через
внутренний диалог, формирующий ограниченную целость как культурную основу,
стимулирующий взаимопроникновения. Деятельность, динамика мышления
невозможны без диалога, который выступает как условие, средство, без которого любая
человеческая деятельность, культура распались бы в результате разрушения
общего основания. Понять суть диалога - значит выявить его движущие силы,
заставляющие человека непрерывно спорить с собой, вступать в общение с ближними и
дальними и таким образом изменять себя, общество, основы человеческих отношений,
развивать способности субъекта воспроизводить себя, преодолевать опасный
разрыв между причинной и смысловой детерминацией своей деятельности. Человек
постоянно вступал в противоречие со смысловым аспектом деятельности, например,
со своей верой в содержание "исторической необходимости", с "обреченностью", со
своим представлением о воле богов и т.д. Но одновременно он постоянно вступал в
противоречие с причинами своей деятельности, например, с принуждением внешней
силой, голодом, недостаточностью ресурсов как детерминирующими факторами и
т.д. Тем самым постоянно выявлялся разрыв, раскол между разными аспектами
культуры, деятельности. Отсюда возрастающая напряженная направленность
мысли на механизм этого явления. По Библеру в деятельности в результате ее
двойственности образуется зазор, лакуна, могущая привести к "опасности", "угрозе",
возникающей лишь в рамках логики [2]. Эта угроза превращается в "логическую ката-
59
строфу" [3, с. 127], т.е. в распад ранее сложившегося всеобщего, связанного с ним
логикой. Возможно, было бы целесообразно здесь использовать слово
"противоречие", но Библер это не делает, видимо потому, что у Гегеля оно означает всего лишь
атрибуты субъекта. Возможно, что здесь можно использовать категорию раскола.
Опасность дезорганизации в мышлении личности переходит в изменение программ
его деятельности, решений, что может изменять отношения между людьми, как
внутри сообщества-субъекта, так и между ними (здесь также специфическая форма
двойственности).
Нарастающая угроза разрушения деятельности является движущей силой поиска
выхода, как в теории, так и на практике. Если логическую катастрофу в сфере
культуры можно рассматривать как культурную основу социальной катастрофы, то это
говорит об органической связи логик культуры со спецификой общества. Тайны
социальных катастроф, может быть, следовало бы искать в логических катастрофах
культуры. Таков неумолимый вывод из философии В. Библера, и того, что
логическая катастрофа неизбежно превращается в содержание опасных программ,
решений. Логическая катастрофа, сама ее угроза по Библеру, есть основа для поиска
новой логики, нового типа разумения бытия, нового типа отношения к реальности, на
основе нового всеобщего, новых решений и т.д. Путь к новой логике лежит через
напряженный диалог, порождаемый двойственностью мышления, деятельности.
2. Внутренний и внешний диалог
Порожденные двойственностью деятельности опасности всегда стимулировали
человека превращать в предмет логики двойственность мысли и действия,
например, создавать логику гадания, пытаться проникнуть в логику сакральных сил и
даже пытаться вступать с ними в диалог посредством жертв, молитв, утилитарных
просьб и т.д. Без этой потребности не было бы культуры, не было бы человека, не
формировалось бы культурное основание для реализации последующих решений,
для воспроизводства (со)обществ. Интерес к этой проблеме на элитарном
философском уровне свидетельствовал о стремлении человека повышать эффективность
своего мышления, включать в него какие-то, пока ускользающие от рефлексии,
аспекты динамики, найти для них обобщающее выражение.
Исследования М. Бахтина вывели его на категорию амбивалентности,
констатирующей тождество и одновременно противоположность полюсов дуальной
оппозиции, что открывало путь для понимания специфики диалога, как он выступает у
Ф. Достоевского, у самого М. Бахтина. Смысл диалогического отношения в рамках
этого подхода основан на осознании способности человека "персонифицировать"
[4, с. 213] всякое высказывание и на эту персонификацию реагировать. Каждый
персонаж мучительно и напряженно осмысляет самого себя через диалогическую
реальность. Тем самым он меняется сам.
Специфику этого диалога можно понять, лишь учитывая, что роман
Достоевского - это "катастрофа отъединенного сознания" [4, с. 11]. "В драме невозможно
сочетание целостных кругозоров в надкругозорном единстве", в нем "с самого начала все
предрешено, закрыто и завершено" [4, с. 20]. Следовательно, диалогизм
Достоевского существует в рамках монологического романа, в рамках заданного монолога.
Диалог рассматривается как связанный в своих результатах уже сложившейся
культурой, он как бы не покидает круг участников диалога. Он протекает внутри
некоторого заданного всеобщего, не переходит его границы. Вся напряженность
внутреннего диалога у Достоевского, по сути, направлена к одному - утвердить
вновь и вновь некоторое уже заданное прошлым содержание культуры, некоторую
систему смыслов, утвердить их как неизменность изменяющегося мира. Другая
сторона этого бесконечного процесса - столь же бесконечный процесс глубокого,
глубочайшего изменения души человека, повышающего его способность решать эту
как бы неизменную задачу в изменяющемся заданном мире. Налицо не только фор-
60
ма ограниченного диалога, но и выход на определенную логику мышления.
Существующее всеобщее в этом диалоге не подлежит критике, но представляет собой
границу диалога. Она находит свое логическое объяснение в логике инверсии [5, с. 195—
199], доминирующей в традиционной культуре, нацеливающей людей на неизменное
воспроизводство исторических ритмов повседневной жизни, труда, всех форм
деятельности, на максимально неизменное воспроизводство культуры в сложившейся
системе отношений, в рамках некоторого всеобщего. Инверсия, как это
соответствует мифологическому мышлению, нацелена на снятие времени, противостоит
истории, так как постоянно ограничивается обращением к накопленному прошлому
опыту, не только в утилитарных целях, но и в поисках абсолютного образца. Для
современного мышления инверсию можно рассматривать как логическое воплощение
инерции истории, т.е. стремления положить прошлое в основу будущего.
Возникающие по тем или иным причинам изменения, флюктуации, достаточно явный отход от
прошлого опыта, возбуждают сопротивление, которое может подчас не только
вернуть состояние к некоторой идеальной точке в прошлом, к прошлому всеобщему, но
и приводить к разрушительным последствиям для мышления и общества. Основы
желаемого состояния к этому моменту могут быть уже деформированы,
разрушены. Попытка их вернуть может привести к усилению дезорганизации, зазора,
раскола между полюсами двойственности деятельности, мысли, скрываемой под лозунгом
их тождества, в действительности псевдотождества, например, псевдосинкретизма.
Специфика инверсии заключается в том, что она, по крайней мере внешне,
выступает как выбор между смыслами двух полюсов дуальной оппозиции из ранее
сложившейся культуры, как работа с накопленной культурой, на основе стремления не
выходить за ее рамки, оставаться, что бы ни случилось, в рамках представления об
абсолютности ранее сложившегося всеобщего. На основе инверсии, существующей в
любой культуре, создается система сложного многоступенчатого выбора для субъекта,
что несет возможность через множество инверсионных альтернатив реализовывать
определенные программы. Они могут быть чрезвычайно сложны, учитывать
возможность множества альтернатив, возрастания их количества. Инверсия - это выбор из
готового, возможно автоматический, возможно становящийся психологически
мучительным. Эти муки выбора могут выражаться в одновременном внимании к обоим полюсам
оппозиции, что приводит к эмоциональному напряжению. Это порождает формы
массового поведения, искусства, тяготеющие к карнавалу, маннипеи и т.д. Карнавализа-
ция по своей сути есть институционализация оборотничества [5, с. 306-308]. Карнава-
лизация культуры амбивалентна, диалогична. Традиция карнавала, в которую входит
весь Достоевский, выставляет осмысляемое как двойственное. Соответствующие
формы искусства, карнавал, загадки и т.д. - логический и одновременно
психологический тренаж, подводящий к исторической и логической необходимости
инверсионного логического прыжка. Карнавал требует ответа на вопрос, кто находится под
карнавальной маской, т.е. в более общем виде требует ответа на вопрос, какому из
полюсов оппозиции соответствует так или иначе понимаемая субъектом
реальность. На подобный вопрос, принимающий характер осмысления любого явления на
основе выбора из накопленного культурного богатства, человек любой культуры
отвечает в каждый момент своей жизни. Однако жизнь по законам инверсии,
попытка реализовать личностный творческий потенциал на его основе, не подымается
выше способности обеспечить воспроизводство традиционных ценностей, в рамках
статичного целого. В этом заключается секрет формы диалога Достоевского.
Традиционный диалог как бы не касается проблемы изменения, улучшения своих
организационных форм, ориентируясь на их статичность. Для инверсионного
диалога характерна нацеленность на отказ от анализа связи внутреннего диалога и его
организационных форм, так как обсуждение этой проблемы среди членов сообщества
может пошатнуть незыблемость организационных форм внешнего диалога. Диалог
по своей сути не может существовать как чисто внутренний процесс мышления. Он,
как и всякое проявление культуры, двойствен, существует как противоречивое
61
единство своей внутренней и внешней сторон. Библер называет внутренний диалог
"микродиалогом", а внешний "макродиалогом". "Соотнесение" между ними
"позволяет проецировать в культурный контекст собственные, личностные открытия,
разумные проблемы" [6]. Библер обращается также к внешним отношениям, куда
диалог уходит одним из двух полюсов своей дуальной оппозиции: внешнее - внутреннее.
В самой сути общества заложена тенденция проникновения внутреннего диалога
личности в систему внешних связей. Однако это распространение не механический
процесс. Оно органически неотделимо от глубинных сдвигов в культуре. Эти сдвиги,
по Библеру, связаны не только с появлением современного типа диалогического
разума, но и с развитием социума культуры, "Политии", начиная со времен
Аристотеля [7, с. 337].
Архаичная культура выработала опыт борьбы с опасностью инноваций,
игнорирование этих изменений (это имело рациональный смысл в том, что в этом случае
можно было ожидать "естественного" восстановления деятельности в ее прежнем
виде, воспроизводящей прежнюю реальность). Эта "линия обороны" может
оказаться неудачной, так как постоянно по самым разным причинам меняются условия,
средства, и даже сами цели, что с определенного момента требует общего согласия в
культуре на необратимость изменений, критики сложившегося всеобщего.
3. Диалог медиационного типа и диалог логик
У инверсии есть и вторая "линия обороны" - творческие неосознанные решения,
через обращение к скрытой логике медиации [5, с. 271-273], выводящей за рамки
повторения инверсионных, ранее сложившихся решений. В результате роста
сложности проблем, нелинейности общественных процессов может наступить порог
способности воспроизводства на основе доминирования инверсии. Некогда
неандертальцы вымерли в результате того, что их способность эффективно действовать
была увязана лишь с определенными типами местности, тогда как современный
человек выжил благодаря способности вырабатывать типы деятельности в масштабе
всей планеты. Всякое значимое усложнение подлежащих формулировке и
разрешению проблем, должно включать в формирование решений развитие адекватных
антиэнтропийных механизмов, институциональное развитие диалога как
противоречивого единства культуры и отношений людей, организационных форм. Необходимо
адекватное развитие диалогизации, т.е. возрастание значимости института диалога,
соответствующая перестройка общества. В противном случае может иметь место
необратимый катастрофический распад, гибель сообщества-субъекта.
Важная особенность инверсии в ее идеальной форме заключается в том, что на
ее основе невозможен диалог разных уровней культуры. Если элементы такого
диалога возникают, то это результат определенного выхода за рамки инверсии. Такой
диалог может существовать, опираясь на скрытый логический пласт культуры и
мышления, ведущий за рамки абстракции инверсии. Инверсия как реальное
содержание мысли неизбежно несет "под собой" медиацию, нацеливающую человека на
преодоление ограниченности инверсии. Медиация - самосовершенствующийся ответ на
опасности двойственности деятельности, как попытки ее постоянно преодолевать,
углубляя, развивая культуру, вырабатывая все более глубокие смыслы, которые
могли играть роль всеобщего основания формирования сообществ,
соответствующего диалога, оттеснять прежнее всеобщее основание на задний план. Медиация
опирается на ценность исторического развития, качественного совершенствования,
на ценности углубления свободы субъекта, т.е. единственного источника
конструктивных инноваций. Скрытое обращении к медиации происходит до определенного
этапа истории усложнения проблем в условиях господства ценностей статики.
Медиация возникает как бы в щелях мысли и деятельности. В обращении к медиации
заключена скрытая самокритика инверсии, накопление, долгое и медленное,
потенциала перехода к доминированию медиации. Этот переход между инверсией и медиа-
62
цией, между инверсионным и медиационным диалогом является фокусом проблемы
диалога.
Усложнение подлежащих формулировке и разрешению проблем, результат
возрастания масштабов освоенной человеком реальности, изменения человеческого
бытия в результате развития человеческой деятельности. Логика, доминирующая
вчера, перестает быть доминантной, оттесняется на второй план, в культурное
подсознание. Это, однако, не исключает ее из культурного потенциала субъекта. Смена
античной логики средневековой, затем логикой нового времени и т.д. не исключают
возможность возврата к ценностям каждой из них, их участия в формировании все
более сложных решений, направленных на поиск синтеза. Медиация -
кумулятивный процесс в том смысле, что каждый медиационный акт есть накопление
способностей субъекта, что увеличивает потенциал последующего акта медиации. Это,
разумеется, не исключает возможности своеобразного "бунта" инверсии против
медиации, поворота назад, архаизации. Результаты медиационного диалога, его новые
границы подвержены последующему критическому их превращению в предмет
диалога. Этот тип диалога принципиально, качественно отличен от диалога
Достоевского, он приводит к переходу от одного типа логики к другому, от одного
всеобщего к следующему. Разработанную концепцию диалога такого типа можно найти
лишь у В. Библера.
Логика Библера - это логика профессионалов, т.е. сознательно выявляющая и
использующая всеобщие логические законы. Такой подход правомерен, так как
определенная философская традиция рассматривает всеобщее как относительно
наиболее завершенное проявление человеческого духа. Это создает методологическое
основание для анализа реальности в процессе ее бесконечной конкретизации.
Однако эта конкретизация неизбежно ставит проблему бесконечных переходов,
бесконечного разнообразия диалогов между любыми формами культуры, включая и
самые простые, трудно различимые. Библер своим учением о множестве
исторических логик разума неизбежно подводит к рассмотрению проблемы обобщающего
подхода к этому множеству, к поиску общих предпосылок этих переходов. Речь идет
не только о возможности некоторой обобщающей - "метавсеобщей" - логики
всеобщих логик, из которой можно выводить, или, по крайней мере, предполагать
возможность множества других логик, но прежде всего о возможности некоторого
"предпонимания" путей формирования логик, определенного "горизонта
истолкования" разнообразных культур как разнообразных логик. Именно это направление
сегодня представляется особенно важным. При таком подходе невозможно
ограничиться анализом лишь логик в их высшем относительно законченном проявлении,
логик профессионалов. Необходимо изучение диалога между (суб)культурами.
Историк Б.Ф. Поршнев писал, что в начале человеческой истории, для того чтобы
изменения в орудиях труда стали заметными, требовалось их воспроизводство на
протяжении нескольких поколений. Очевидно, столь же скрытой являлась и медиацион-
ная логика, приводившая к такого рода результатам. Отсюда необходимость
перемещения центра внимания исследований к массовым микроизменениям,
постоянно формируемым всеми и каждым. Эта необходимость существует и при изучении
логик в культурологии, в истории, в социологии. Непрерывный поток таких
изменений и составляет основу для глобальных изменений, включая смену исторических
типов логики разума.
В. Библер своей идеей типов логик открыл путь именно для такой постановки
проблемы. Медиация в известном смысле - это метасхематизм, металогика, т.е.
логика усложнения логики, логика перехода от одной логики к другой. Логика
(субкультуры в буквальном понимании это, с одной стороны, логика движений мысли в
культуре, взятой в ее наиболее обобщенной содержательной форме. Но, с другой, это
движение, конкретизированное для специфической формы культуры, субкультуры,
возможно даже личностной культуры, т.е. спускающейся в сферу повседневного,
особенного, единичного. Речь не идет об идеальной строгости движения мысли, ко-
63
торая может быть достигнута лишь на высоком уровне профессионального
теоретического мышления. Но о выявлении того качественного перехода, к которому
приводит медиация в масштабах минимально уловимых отличий между исторически
близкими культурами, шагами динамики одной (суб)культуры. Тем самым как бы
прощупывается диапазон возможностей диалога, решается социокультурная
проблема диалога между любыми субкультурами, группами людей, где необходимо
в повседневности, метафорически выражаясь, в профанной жизни, искать переходы
между логиками субкультур. Это особенно важно в связи с отношениями между
архаичной культурой и продвинутой элитарной, носителями доминирующего типа
разума.
Библер, как кажется, вопреки собственным высказываниям, рассматривал не
только логику профессионалов, но и логику средневекового европейского простеца,
его "низовую культуру", представляющую собой "подпочвенный слой" культуры.
Он называет эту культуру архаичной [8, с. 88], что не должно быть поводом для
отождествления ее с российской архаикой. У нас гораздо больший разрыв между
простецами и высоколобыми, но зато мы еще имеем возможности общаться с
простецами, непосредственно анализировать промежуточные слои. Сознание простеца это
"совершенное слияние сознания и непосредственного, нерефектируемого бытия...
это не только неподвижная культура, это культура неподвижного" [8, с. 92]. Это
приводит к тому, что "Простец и Схоласт перекликаются через пропасть
непонимания; они - на разных полюсах мысли, и они насущны друг для друга, они
бессмысленны, внеобразны без этой переклички... Они не могут понять друг друга..." [8,
с. 102]. Здесь как бы нет диалога. Концепция Библера как будто не дает повода
искать на этом культурном основании логику нового разума, по аналогии с тем, как он
ищет ее в логических катастрофах прежних типов разума. Однако Библер
выдвигает сильную идею, ссылаясь на интерпретацию средневековых текстов, показанную
историком западного средневековья А.Я. Гуревичем. Реальный средневековый
простец - это "предмет" обработки, идеологического воздействия со стороны "высоко-
лобого", а затем все менее "высоколобого", все более прикладного, популярного,
все более сниженного и вырожденного (ориентированного на умы простеца)
богословия" [8, С. 100]. Люди, оставившие потомкам документы о простеце, создали его
образ, как двойственный, как проявление некоторого противоречивого единства
между синкретизмом (в данном случае архаики более древней, чем архаика простеца
по А. Гуревичу) и одновременно определенными элементами элитарной культуры,
но опрощенными, примитивизированными. При этом особенно важна мысль
Библера, что речь идет о процессе "все более сниженного и вырожденного,
ориентированного на умы простеца богословия", т.е., о по сути, медиационного процесса
формирования все более близкой простецам формы культуры, а следовательно, и
соответствующей логики, облегчающей их диалог с высоколобыми. Библер искал "культуро-
формирующий смысл образа Простеца" [8, с. 101], т.е. образ, над которым работали
высоколобые. Это можно понимать, что культура простеца, как она представлена в
текстах высоколобых, несет в себе логический зазор между логикой синкретизма
и элитарной культурой, которая поэтапно медленно преодолевается медиацией.
Этот анализ Библера означает, хотя нигде об этом прямо не говорится, что он не
исключал поиска логики за рамками исторических типов разума, диалога разума с
архаичной культурой, можно даже сказать, диалога рассудка и разума, разума и
доосевой культуры через формирование переходных ступеней, промежуточных
логик. В этом случае рассмотрение диалога разумов представляется как особый
случай более общего подхода, как проявления принципа соответствия в
культурологии. Этот подход открывает новый путь исследованию логики культуры,
диалога культур.
В свете этой проблемы особый интерес вызывают попытки анализа архаичных
культур, прежде всего работы К. Леви-Строса, который занимался логикой
традиционной культуры, в частности, анализировал мифы племени зуньи. Логика мифа
64
нацелена на содержательное преодоление разрыва, раскола между полюсами
дуальной оппозиции культуры посредством формирования иерархии посредничества.
Это, по сути, та ate проблема, которая, по Библеру, является результатом двойной
детерминации человеческой деятельности, т.е. проблема возникновения зазора,
угрожающего катастрофой, проблема его преодоления через формирование новой
логики. Посредничество, по Леви-Стросу, например, между жизнью и смертью,
замещается противоположностью растительного и животного мира, что в свою
очередь замещается противоположностью травоядных и плотоядных. Этот путь
мышления нацелен на реализацию способности человека осмыслять мир через
своеобразные логические цепи, схемы. Опираясь на них, человек должен достигнуть в
своем движении мысли по определенному схематизму - через формирование
посредством привычных, комфортных, ранее сложившихся образов по уже сложившейся
логике - эмоционально приемлемой картины мира. Формирование этого результата
означает в идеале, что сформирован естественный понятный в данной культуре
медиатор, логический схематизм, средний элемент (в данном случае пожиратели
падали), соединяющий травоядных и плотоядных смысловым посредником. Леви-Строс
пишет, что "мифическое мышление развивается из осознания некоторых
противоположностей и стремится к их последующему преодолению, медиации" [10]. Здесь
эмоционально статичные формы через медиацию превращаются в создаваемые
воображением чувственные смыслы, в элементы мифологического рассудочного
схематизма, необходимого как культурная основа последующего смыслообразования.
Культура здесь выступает прежде всего как реальный и потенциальный
бесконечный схематизм дуальных оппозиций, где третий смысл в каждой из них
составляет порог, рубеж первых двух. В основе схематизма такого типа лежит логика
смыслообразования, основанная на альтернативе, на выборе смысла в рамках исторически
сложившейся дуальной оппозиции, выборе между ранее сложившимися смыслами. Ее
полюса составляли некоторую пару (множество пар) эмоционально значимых
смыслов. Тем самым осмысляемое явление входило в некоторый организованный
смысловой ряд в рамках сложившейся культуры. В результате это явление перетекало в
скрытую медиацию, т.е. обретало новые связи, завязанные на некоторый
дополнительный логический смысл, в частности, смысл метафоры, которого раньше не было
[И]. Двигаясь в рамках дуальной оппозиции, образ играет роль вектора,
указывающего на движение субъекта к одному из полюсов, например, либо к добру, либо ко
злу и т.д. Но скрытая медиация раздвигает границы инверсии, создавая основу для
изменения, обогащения инверсии новыми полюсами возможного инверсионного
выбора, меняет предпосылки последующего акта медиации.
Леви-Строс рассматривает образный схематизм, несущий в себе диапазон
интерпретаций, возможности определенной свободы, богатства инверсионных
альтернатив, раскрывающий диапазон интерпретации сложившегося схематизма. Этот
процесс несет возможность разделения схематизмов, что можно рассматривать как
начало смены логик через скрытую попытку медиации найти переход к новому
обобщающему схематизму на основе нового множества реальных и потенциальных
интерпретаций. Медиация и на относительно простом этапе выступает как новое
обобщение, обобщающее содержание, несущее новый схематизм, новую логику
специфической сферы, специфического этапа культуры через образный
эмоциональный схематизм. Казалось бы, малосодержательное усложнение схематизма есть
развитие способности оперировать схематизмами переходов, применение их в новой
более широкой и глубокой сфере охватываемого человеком диапазона реальности
Медиация - это, прежде всего, внутренний диалог личности, - между логикой
вчерашних достижений культуры, содержащий в себе потенциал инверсионного
стереотипа, и т.д. и нарастающими инверсионными вариантами, не охваченными
старым схематизмом, логикой. Следующий акт развития схематизма, логики медиации
формирует некоторый новый медиационный синтез, некоторое новое всеобщее,
некоторую новую меру двойственности деятельности, что обновляет культуру, как ос-
3 Вопросы философии, № 3
65
нование для новых проектов, решений. Выход за рамки ранее сложившейся
культуры означает выход за рамки схематизма, логики этой культуры, даже если различия
между ними можно уловить лишь на длительных этапах истории. Шаг медиации
содержит в себе определенный логический сдвиг разных масштабов и значимости. Он
должен пониматься как сдвиг в схематизме диалектики перерастания от
способности к воображению чувственно всеобщего к способности к воображению
интеллектуально всеобщего. Речь идет о способности человека развивать свою способность
субъекта формировать синтез, всеобщее, меру, которая рано или поздно
распадается, что ведет к дезорганизации, двойственности деятельности, культуры, субъекта,
но вызывает новый виток медиации. Углубление этой способности и есть
формирование сущности человека.
4. От медиационного диалога к диалогизации
Рост значимости медиации в процессе усложнения человеческой деятельности
приобретает в человеческой истории значимость массового процесса,
пронизывающего все общество, инновация становится ценностью. Медиация включает развитие
своих организационных форм в масштабе от малой группы до человечества.
Специфика медиации в том, что она, в отличие от инверсии, не дает моментального ответа,
но пытается создать для его поиска культурные и организационные предпосылки,
соответствующие условия, средства, цели. Медиация ведет (успешно или нет - другой
вопрос) к повышению творческого потенциала, эффективности решений, к
формированию новых программ, новой логики решения, как все более важных аспектов
динамичного воспроизводства. Люди всегда воспроизводили организационные,
институциональные формы диалога, но превращение этого процесса в культурную ценность, в
самоцель сравнительно позднее явление, связанное с Древней Грецией, с либерально-
модернистской цивилизацией, с появлением развития в возрастающем многообразии
его форм как культурной ценности. Медиация, будучи историческим процессом,
должна рассматриваться как диалогизация, т.е. как возрастание роли, значимости
медиации в любом сообществе, в обществе в целом, превращение этого процесса в
самоценность, в саморазвитие.
Диалогизация логически не отделима от противоположного стремления к
монологизации, т.е. способности концентрировать богатство накопленной культуры на
вершине власти как в тенденции единственного источника решений, инноваций.
Представление о главе, возможно жреце (со)общества как единственного
источника, фокуса легитимных инноваций является традицией, идущей из глубочайшей
архаики. Оппозиция диалогизации - монологизации открывает возможность, делает
необходимым искать динамику меры свободы, обеспечивающей возможность
поиска цепи эффективных ответов на вызовы истории. Судя по удельному весу
погибших в мировой истории народов, цивилизаций, государств, это удавалось далеко не
всем. Очевидно, что мера должна меняться в процессе усложнения общества,
развития его нелинейной динамики. Эта мера свободы (или несвободы) определяет
возможность эффективного диалога, диалогизации как ответа на ухудшение ситуации,
реальной или потенциальной.
Формирование эффективных решений при усложнении проблем включает
развитие организационных форм внешнего диалога, взаимопереходов внешнего и
внутреннего диалога, точнее, взаимопроникновения полюсов единого диалога
соответствующего субъекта. Библер писал, что необходим "форум (или - диалог)
гражданских программных клубов" и т.д., "форум (диалог" общественных сил" [13, с. 358].
Человеческая мысль прямо переходит в формирование гражданского общества [13,
с. 343], т.е. в организацию диалога. Гражданское общество в идеале это общество,
приобретшее, приобретающее способность подчинять свои организационные
отношения задаче получения все более эффективных массовых решений.
66
В этой связи важное значение имеет концепция В. Библера о формировании
нового типа социальности, о социуме культуры. "Деятельность, направленная на
изменение собственного сознания и мышления, деятельность свободного времени -
свободного от извне заданных норм - становится основой сферой человеческого
бытия" [14, с. 18]. Библер вводит представление о призмах или прокладках, где
происходят "преобразования разных форм детерминации и определяет основные
характеристики каждой данной целостной цивилизации" [7, с. 337]. И далее он
перечисляет такие призмы как Полис в Древней Греции, Сословность в Средневековье,
Гражданское общество в Новое время. В них существуют свои культурные смыслы,
которые актуализируются "во все новых и новых культурных диалогах" [7, с. 337].
Эти сдвиги в организации диалога раскрывают важнейшую тенденцию
исторического развития общества. Диалогизация общества различна на разных стадиях
общественного развития.
Идея "преобразования разных форм детерминации" происходит через выработку
нового медиационного решения, которое несет в себе новую логику, открывающую
возможность изменения смысловой детерминации, а через нее открывается
определенная возможность воздействовать на причинную детерминацию, в конечном итоге
на преодоления зазора, раскола между ними. Тем самым открывается возможность
преодоления опасности логических, а следовательно, и социокультурных
катастроф. По В. Библеру, самодетерминация субъекта превращается в самоорганизацию,
в саморазвитие.
5. История общества как взаимопроникновение-взаимоотталкивание
монологизации - диалогизации
История любой страны включает процесс решения проблемы, которую можно
сформулировать в форме дуальной оппозиции: диалогизация - монологизация.
Российский опыт дает крайне интересную, в значительной степени трагическую
историю этих попыток. Локальные догосударственные сообщества в Древней Руси
управлялись народными собраниями - вечем, традиционалистской формой
организованного диалога, которые можно условно назвать вечевыми институтами. Их
специфика - ориентация на статику, на господство идеала "тишины и покоя", на
растворение личности в ценностях целого, на стремление сохранить господство
инверсии. Вечевой диалог оставался в рамках эмоциональных отношений, т.е. все члены
локального мира знали друг друга в лицо, общались между собой на эмоциональной
основе, отвечали на опасности эмоциональным напряжением, взрывом своих сил,
активизирующим накопленное культурное богатство.
В результате установления единого варяжского княжества в Древней Руси с
центром в Киеве, "воевавшим" племена, мера диалогизации - монологизации
сместилась к монологизации. Была в значительной степени минимизирована возможность
формирования варианта государственности на основе качественного развития
вечевых институтов на пути от господства инверсионной логики к медиационной.
Монологизация существенно усилилась в условиях захвата страны восточными
кочевниками, создания "русского улуса", когда вечевые институты, рассматриваемые как
"бесовская сила", продолжали подавляться. Однако попытки Ивана IV довести этот
процесс до логического конца - установить крайнюю форму монологизма в
конечном итоге привела к смуте, в которой исчезло государство. Страна распалась, треть
населения погибла или бежала. Монологизация продолжалась, что привело к
крайне негативным последствиям [15]. Процесс "зашкаливал", подрывал массовый
творческий потенциал страны, жизненные силы общества.. Снижалась эффективность
принимаемых на всех уровнях решений, в частности, слабела способность людей
сохранять, укреплять сферу получения своих жизненно важных ресурсов, способность
их воспроизводить, противостоять угрозам жизни и здоровью, образу жизни,
ограничивать угрозу дезорганизации. Монологическая власть не может быть конструк-
3* 67
тивна по определению, так как она слепа в результате слабости обратной связи,
неспособности устойчиво вовлекать значимую часть общества в масштабные качественные
изменения. В результате монологических решений подавляются возможности
саморазвития человека, что подрывает сами жизненные основы общества. Достижения
Киевской Руси были достигнуты "ценою порабощения низших классов; ...приниженное
юридическое и экономическое положение рабочих классов и было одним из условий,
колебавших общественный порядок и благосостояние Киевской Руси. Порядок этот не
имел опоры в низших классах населения..." [16, т. I, с. 277]. Это не специфика
Киевской Руси. Например, при Петре I имело место "крайнее налоговое изнурение
народного труда [16, т. IV, с. 145-146], что вызвало массовое бегство. Монологизации
консервируют массовую недостаточную способность людей ограждать себя от
подавления и произвола, от подрыва основ существования. Монологизм обрекает
общество на внутреннюю дезорганизацию в результате слабости механизма
корректировки, фильтрующего односторонние опасные решения и необходимого для
обеспечения общего согласия в изменяющихся условиях. При этом возрастает множество
пассивно или активно несогласных, превращающих односторонние решения в
потоки дезорганизации. Диалог оттесняется в малые группы. Он существует также в
форме сговора группы лиц, решающих свои проблемы за счет жизни, ресурсов всех
остальных. Он источник дезорганизации. Сговор представляет собой плохо
переваренный реликт вечевого института, с его локализмом, господством личных,
основанных на эмоциональной логике отношений.
Внимание науки должно быть направлено на противоположный процесс, т.е. на
пробивающееся в истории стремление смещать меру к полюсу диалогизации.
Парадокс монологической власти приводит к ослаблению ее функциональности,
эффективности вплоть до опасной черты. Это толкает ее к попыткам передать в
урезанном объеме часть своих функций вниз, к диалогизации. В сфере промышленности и
торговли такого рода явления можно заметить еще при царе Алексее. В 1727 г. при
Екатерине I стремление сократить государственный аппарат привело к изданию
указа об упразднении Мануфактур-Коллегии, а для части дел было определено из
самих фабрикантов "без жалования, которым, ...для Совету в Москве съезжаться"
[17]. Эти люди не выбирались, но должны были" назначаться. Хотя этот порядок не
мог считаться демократическим, тем не менее, вектор исторической динамики
робко поворачивался к диалогизации. В том же году был издан указ "О вызове людей
торгового класса к показанию причин худого состояния торговли и способов к
поправлению оной". Указ повелевает: "ежели который город или кто и партикулярно,
в купечестве имеет какое недовольство, или в чем признает тягости, или сами
усмотрят, что как ...к распространению и умножению купечества полезно быть может...
без всякого сумнения и опасения, с ясным доказательством и подавали бы в городах
письменно..." [18]. Это можно рассматривать как намек на диалогический институт,
призванный восполнять ущербность монологической власти.
В 1872 г. на основе Высочайшего утверждения была проведена реформа
организации принятия решения через создание Совета Торговли и Мануфактур. В местные
органы Совета вводилось выборное начало, предоставлялась возможность
выбирать вопросы для обсуждения и обращения с ними в Министерство Финансов.
Налицо "большой шаг вперед в истории официального представительства
промышленности и торговли" [19]. К 1906 г. под опекой представительных организаций находилось
около 1/3 фабрично-заводской и горной промышленности [20]. Власть пыталась
стимулировать ограниченную активность общественных организаций, не
внушавших ей опасения. Это были научные, благотворительные организации, не
затрагивающие острые общественные проблемы, учительские общества взаимопомощи, цер-
ковно-исторические и миссионерские организации. Здесь играло роль осознание
властью неспособности своим административным аппаратом обеспечивать в
соответствующей сфере необходимые функции. По мнению известного правоведа
Н.И. Лазаревского (январь 1905), по мере того как бюрократия осознавала невоз-
68
можность собственными силами решить проблемы, она начинала привлекать к ним
общественные силы, стоящие вне бюрократии - земство, города, крестьянское
самоуправление. Обращение к обществу за содействием в деле государственного
управления делало власть более открытой, вынуждало ее "прислушаться к голосу
общественного мнения... печати... прибегать к гласности, как к необходимой гарантии,
законности и целесообразности управления" [21]. В 1870 г. в Петербурге был созван
первый Всероссийский Съезд Фабрикантов, заводчиков и лиц, интересующихся
отечественной промышленностью. В принятой программе было записано о
"необходимости устройства и распространения местных учреждений, имеющих целью
представлять мнения наших фабрикантов, заводчиков и торговых деятелей" [22].
Высочайшим указом в марте 1906 г. было утверждено "Временное правило об обществах
и союзах", нацеленное на развитие диалога между общественными организациями.
Было создано множество таких сообществ в регионах [23]. В их рамках имел место
ограниченный процесс институционализации диалога между различными слоями
населения и их диалога с властью.
Диалогизация была результатом также давления снизу. Власть опасалась, что все
или некоторые этого рода процессы приведут к росту дезорганизации, усилению
беспорядков, опасностей. Главным фактором, тормозившим этот процесс, была
явная неспособность к конструктивному диалогу, к формированию всеобщих
культурных, нравственных, правовых оснований формирования диалогических институтов,
соответствующих исторически сложившейся степени сложности общества,
эффективно функционировать в их рамках, как сверху, так и снизу.
Государствовед А.И. Епистратов писал: "С возникновения правового государства
правящая власть соглашается на неизбежное превращение обывателя из объекта
для полицейской опеки в субъект публичных прав и обязанностей. Но взаимное
единение этих субъектов, сочетание разрозненных обывательским безразличием,
отсутствием почина, тьмой невежества, частиц в спаенное единством интересов и
стремлений целое еще продолжает казаться опасным... Источником этой опасности
является выросшее под тяжестью полицейской опеки гнетущее чувство взаимного
недоверия, что давно мешает правительству и самодеятельности граждан в собрании
их и обществах идти рука об руку [24]. Слабости общей культурной почвы диалоги-
зации в стране в конечном итоге и превратили попытки в этом направлении в
конфронтацию, приведшую к краху государство, общество к распаду. Причина этого
заключалась в том, что предшествующие века монологизации подорвали творческий
потенциал общества. Это открыло путь монологической власти, не имеющей
механизма установления меры своих возможностей, границ, тратившей силы народа,
низведенного до уровня условий, средств, на циклопические нежизнеспособные
проекты и авантюры.
* * *
Рассмотрение человеческой истории в фокусе постоянного преодоления
оппозиции: диалогизация - монологизация бросает свет на механизм исторического
процесса, на его чисто человеческие движущие силы. История есть прежде всего
формирование и реализация способностей людей: сообществ, народов, цивилизаций
обеспечивать свое воспроизводство, выживаемость, жизнеспособность через
смещение меры управления к полюсу диалогизации в соответствии с усложнением
проблем. Этот процесс вплоть до господства над монологизацией совпадает с
формированием гражданского общества. Диалогизация - результат внутреннего напряжения
людей, их озабоченности своей судьбой, судьбой своих детей, близких и дальних,
напряженным выходом ее на все более ответственный и квалифицированный уровень.
Анализ причин двух национальных катастроф России XX в. (как и катастрофа
смуты XVI-XVII вв.) показывает, что они были результатом недостаточного
культурного развития потребности, способности к диалогизации, к формированию соответ-
69
ствующих институтов. Исторический опыт показывает, что развитие этих
способностей требует соответствующих институтов, осознание всеми и каждым того, что
развитие ответственной и квалифицированной демократии есть необходимое
условие, средство выживаемости общества, единственный в конечном итоге путь
предотвращения опасности катастроф по чисто внутренним причинам.
Примечания
1. Библер B.C. Самостоянье человека. Кемерово, 1993.
2. Библер B.C. Замыслы: В 2 кн. М., 2003. Кн. 1. С. 203, а также: Кн. 2. С. 925, 948, 950, 957.
3. Библер B.C. От наукоучения - к логике культуры. М., 1991, 137.
4. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.
5 Ахиезер A.C. Россия: критика исторического опыта. Новосибирск, 1997-98. В 2-х т. Т. 2. Словарь.
6. Библер B.C. Диалог культур и школа XXI века // Школа диалога культур. Идеи. Опыт.
Перспективы. Кемерово, 1993.
7. Библер B.C. О гражданском обществе и общественном договоре // Через тернии. М., 1990. С. 347.
8. Библер B.C. Образ простеца и идея личности в культуре средних веков // Человек и культура. М.,
1990. С. 92.
9. Ахиезер A.C., Давыдов А.П., Шуровский М.А., Яковенко И.Г., Яркова E.H. Большевизм -
социокультурный феномен // Вопросы философии. 2001. № 12. 2002. № 5; Они же. Социокультурные основание
и смысл большевизма. Новосибирск, 2002.
10. Леви-Строс К. Структура мифа // Вопросы философии. 1970. № 7.
11. Фрейденберг О. Происхождение греческой лирики // Вопросы литературы. 1973. № 3.
13. Библер B.C. Диалог. Сознание. Культура // Одиссей. Человек в истории. М., 1989.
14. Библер В. Бытие на грани // Век XX и мир. 1989. № 7. С. 18.
15. Ахиезер A.C. Монологизация и диалогизация управления (Опыт российской истории) //
Общественные науки и современность. 2004. № 2.
16. Ключевский ВО. Соч. в 8 т., М., 1956, 1958.
17. Полный свод законов Российской Империи (ПСЗ) СПб. Т. VII. 1911. № 5017.
18. ПСЗ, 1911, СПб. Т. VII. № 509.
19. Лурье Е.С. Финансирование и организация торгово-промышленных интересов в России. СПб.,
1913. С. 44-^7; ПСЗ, Устав промышленности. СПб. 1906. Т. XI. С. 11, 14-27.
20. Вольский A.A. Доклад съезду промышленных и торговых предприятий Российской Империи.
СПб., 1911. С. 1906, 14.
21. Цит. по кн: Туманова A.C. Самодержавие и общественные движения в России. Тамбов, 2002.
С. 421, 422.
22. Протоколы, стенографические отчеты заседания I Всероссийского Съезда фабрикантов. СПб.,
1872. С. 9.
23. Туманова A.C. Самодержавие и общественные организации в России. Тамбов, 2002. С. 300.
24. Гражданское право. Лекции А.И. Елистратова. М., 1911. С. 148, 149.
70
Художники Нового времени
К описанию социопсихологического типажа
а. к. якимович
Среди "больных мозолей" искусствоведения есть вопрос в том, куда поставить
искусство XX в. в плане исторической классификации. Есть ли место в истории у
авангардистов, и не явились ли они вообще белыми воронами в закономерном
развитии языков искусства от эпохи к эпохе, от века к веку - этот вопрос часто
задавался и никогда не получал ответа, который был бы признан "квалифицированным
большинством" ученого мира. (Критерий истинности никак не зависит от
статистики суждений, но хоть о чем-нибудь все же говорит такое суждение, которого
придерживается большинство.) Разумеется, вопрос о XX в. шире вопроса об авангарде или
авангардизме. Надо ведь не просто одну категорию художников куда-нибудь
приткнуть. Требуется найти место в истории или вне ее (то есть найти "нулевое место в
истории") для пестрой и недружной компании творческих людей, которые делали
искусство в диапазоне от раннего авангарда до соцреализма, от неомодернизма до
постмодерна, от официального искусства тоталитарных диктатур до артистического
и эстетического андерграунда.
Проще всего сказать мысль о том, что не надо вообще искать целостности в
искусстве XX в. Оно не было целостным по определению. Оно состоит из взаимно
исключающих друг друга пластов. Искать их общий знаменатель есть дело
бесполезное и даже принципиально ошибочное. Мишель Фуко ясно сказал, что не надо
продолжать выстраивать мирообъемлющие теории. Очень удобная мысль. Французы
вообще любят и ценят изящный комфорт, в том числе интеллектуальный.
И все же невозможно игнорировать тот факт, что искусство XX в. всегда
узнаваемо в качестве такового. Мы не перепутаем идеологических живописцев сталинской
камарильи ни с академистами XVIII в., ни с реалистическими идейными
художниками XIX в. Тем более мы сразу отличим радикально авангардные явления XX
столетия от самых острых и экспериментальных находок более ранних веков или
столетий. Что-то было в искусстве XX в. такое, что делает его самим собой в самых
разных видах и формах, казалось бы, исключающих друг друга.
Но искать это общее в стилевых моментах, в самих языках искусства вряд ли
правильно. Если мы начнем выводить авангард из символизма, соцреализм из
утопического авангарда (это стало модным в конце XX в.) или постмодерн из чего угодно, то
мы попадем в тупик. Там и находится сегодня искусствоведение, которое пытается
© Якимович А.К., 2005 г.
71
сказать какие-нибудь вразумительные слова о XX в. как этапе развития искусства в
истории. Тонким и прекрасно отточенным инструментом, то есть теорией стилей, не
надо и пытаться делать такую операцию, которая требует скорее молота.
Попробуем молотом.
Попытаемся абстрагироваться на время от наших аналитических привычек и
посмотрим наивным и удивленным глазом на социальный типаж художника. Как он
ведет себя среди людей, как он действует, чем он отличается от представителей
других общественных групп и в каких моментах он близок или совпадает с
характеристиками других групп? Не станем углубляться в детали исторической
социопсихологии творчества. (Иначе мы утратим общий вид процесса, а он-то нам и нужен в
первую очередь.)
Далее. Если мы ввязываемся в работу с социопсихологическими параметрами,
взятыми в историческом измерении, то нам придется действовать на обширных
исторических пространствах. Стилевые формы XX в. - они в самом деле только в XX в.
и обнаруживаются, а до того их не найдешь. Творческий типаж XX в. - это другое
дело. Художник-экспериментатор или художник-жизнеустроитель очевидным
образом проходит по векам и странам, принимая разные обличья в разных местах. Уже в
неистовом Микеланджело можно увидеть поразительно много такого, что роднит
его, например, с Маяковским. Имеется в виду именно тип личности и способ
выстраивать отношения с коллегами, учениками, соперниками и верховной
государственной властью. Стилистика изобразительных искусств 400-летней давности очень не
похожа на то, что мы видим в языках искусств XX в., а творческие типажи, пожалуй,
сопоставимы. Мы догадались уже довольно давно, что Леонардо да Винчи был
родоначальником целого семейства художников и архитекторов аналитического
экспериментального плана, виртуозов расчленения тел и других объектов, создателей
новых художественно-инженерных агрегатов. По социопсихологическому типажу
рядом с Леонардо самым естественным образом становятся и Ломоносов, с одной
стороны, и Владимир Татлин - с другой. И на это сопоставление мы смотрим, как на
нечто естественное, хотя в смысле стадиального развития и стилистических
характеристик мы никак не можем ставить рядом указанных трех товарищей.
Мы едва только прикоснулись к некоторым особенно значимым именам истории
творческих дел, и уже почувствовали, что "будет жарко". Мы имеем дело с
неуемными и неудержимыми энтузиастами, с людьми очень динамичными и энергически
заряженными. Если угодно, не очень уравновешенными. Мы находимся на территории
Нового времени.
Материя истории в этом разделе отмечена динамизмом, бурным развитием
производства, стремительностью технологического прогресса и неуемностью,
ненасытностью и экспериментальностью капитализма, который везде проникает, никаких
абсолютов не признает, и стремится извлечь профит из чего угодно, добиться успеха
во всех возможных аспектах человеческого существования.
Новое время оказалось первой в истории искусств "горячей" эпохой. Иными
словами, в жизни людей все течет и изменяется, и когда наступает время, то за какой-
нибудь десяток лет в корне преображается вся картина идей и ценностей, в том
числе и ценностей художественных. Подрываются основы прежней политики,
культуры, этики и эстетики. Осуществляются дерзкие эксперименты. Как говорит Маркс в
"Коммунистическом манифесте" 1848 г.: "все застывшее и окостеневшее
испаряется". Главным признаком нового типа искусства становится нарушение норм и
правил, до тех пор считавшихся обязательными.
В известной статье 1918 г. "Кризис искусства" Николай Бердяев писал:
"Искусство судорожно стремится выйти за свои пределы. Нарушаются грани, отделяющие
одно искусство от другого и искусство от того, что не есть уже искусство, что выше
или ниже его"1. Философ полагал, что эти парадоксы, эти приманчивые и опасные
симптомы нового искусства возникли именно на пороге XX в. в первый раз, а до
того искусство было спокойным и могучим, а не судорожно мечущимся среди крайнос-
72
тей. Сами симптомы описаны верно, но в хронологическом плане Бердяев странным
образом ошибся. Неужто он не догадывался, что его герои - не только
авангардисты, но и Брейгель, Леонардо, Шекспир? Вовсе не в XX в. искусство пустилось в
опасные странствия. Все начиналось гораздо раньше, а именно: в период Возрождения и
XVII в.
Художники стали экспериментировать на границе культурно позволительных и
непозволительных смыслов. От Грюневальда до Гойи, от Шекспира до молодого
Гете мы видим итоги таких усилий. Искусство стало опасным занятием. Оно теперь
превращает своих творцов в социально сомнительных маргиналов, в "опасных
людей". Так смотрели современники на Сервантеса и Рембрандта.
Насколько, в самом деле, Новое время было "новым" для развития искусств? Как
вообще возможно быть смелым и нарушать правила эстетики и культурного
поведения? Сколько существует на планете искусство людей, оно постоянно занималось
опасными делами и заглядывало в запретные сферы.
Искусство и литература в течение тысячелетий имеют дело с такими сюжетами и
темами, как мятеж и сомнение, слом и исступление, безумие, мистический экстаз,
гибельная и всесильная любовь, неконтролируемая Судьба, иррациональная и
необъяснимая жертвенность, творческое или иное чудо, союз с дьяволом, магический
опыт, кровопролитие, эксперимент над человеком или совестью, преступление
(с наказанием или без), зверство, беснование, странствие за край ночи. От древнего
эпоса до авангардных экспериментов XX в. мы видим опасные сюжеты и темы, то
есть такие, которые прежде всего подвергались ограничениям и строгому
контролю. И в то же самое время они были с давних пор центральными и культурообразу-
ющими в истории искусства и культуры. Вокруг них, этих тематических узлов, и
выстраиваются системы культуры2.
Искусство, таким образом, издавна заглядывало за предел людям положенных
смыслов. Но мы все же не можем сказать, будто, например, искусство и литература
древних греков либо средневековых христиан практиковали опасные эксперименты.
Действовали специальные механизмы, которые позволяли художнику работать с
элементами "древнего ужаса", с мотивами преступления, безумия, Хаоса. Эти
философские, этические и эстетические механизмы и давали возможность показать, как
Эдип сожительствует с собственной матерью и убивает собственного отца. Этот
кошмарный сюжет требовал специальной идейной рамки, в которой
предусматривалась концепция "рока", тема наказания (самонаказания) за роковую вину, точнее,
вину без умысла, виноватость человеческой природы как таковой.
Религиозные, философские, традиционно-патриархальные и
ремесленно-канонические установления искусства вполне надежно проводили ту границу, которая
отделяла культуру от не-культуры, общество от не-общества, закон от не-закона.
Художник Нового времени начинает расшатывать эти рамки, эти ограничения. Он
отваживается на опасные прозрения. Он начинает пускать в ход запретные смыслы и
образы, оперировать с преступлением, бессмыслицей, безумием, иррациональным
сновидением, дикостью и прочими исключенными из культуры вещами, причем
оперировать без тех высших легитимации, которые имеются в стабильных,
традиционных культурах.
Проходит время, и вот уже налицо крайние формы эксперимента с абсурдом и
гротеском, безбожием и имморализмом. Это происходит в XVIII в., а точнее, ближе
к его концу, в творчестве Франсиско Гойи, Джонатана Свифта и маркиза де Сада.
Но еще до этих опасных опытов мы наблюдаем два столетия систематических
экзерсисов по поводу рискованных предметов и мотивов. Ими занимались самые
крупные мастера живописи, архитектуры, пластики, театральной драматургии и
литературы XVI-XVII вв. Их эксперименты касаются власти и веры, церкви и трона, они
затрагивают тему смерти и насилия, любви и эротики, разума и безумия, веры и
безверия, судьбы и истории, чести и разума, человечности и культуры. Первый (может
быть, высочайший) пик этого тектонического процесса приходится на творчество
73
Микеланджело, Брейгеля, Шекспира и Сервантеса. Их шедевры вызывают
явственное ощущение того, что "мир заколебался". Надежных устоев более не осталось.
В конце XVII в. Джон Локк объявил, что основанием всех мыслительных и
психических движений человека является "беспокойство" или "неудовлетворенность"
(uneasiness). Этот философский тезис был выведен из исторической, политической и
интеллектуальной обстановки Нового времени. К искусству он приложим в полной
мере. Локк полагал, что люди мыслят и чувствуют не оттого, что их внутренний мир
сам по себе богат, и не оттого, что какая-нибудь великая высшая сила вложила в них
способность мыслить и чувствовать. Человек является человеком по той причине,
что он ощущает в себе нехватку, тоскует по неким истинам, ощущениям или
предметам, которых он не имеет, или которые считает недостаточно доступными для себя.
Человек, по определению, есть существо беспокойное, неудовлетворенное, ищущее,
и оттого недоверчивое и критичное.
Российский император Петр Первый, как известно, сам участвовал в сочинении
нового кодекса поведения российского человека, человека нового и деятельного;
рука царя записывает туда фразу о том, что человек должен быть "прилежен и
беспокоен, подобно как маятник". Формулировка вполне в духе Локка.
Для позднейшей мысли и культуры Запада эта идея о "тоскующем человеке", о
человеке вечной нехватки и неутолимой неудовлетворенности оказалась
чрезвычайно перспективной. Она постоянно присутствует в рассуждениях о человеке,
обществе, культуре и искусстве. Творческому человеку Нового времени всего мало, и
он тянется к новым и новым смыслам, ценностям, фактам, образам, системам, но не
для того чтобы на них успокоиться, а для того чтобы их тоже подвергнуть своей
убийственной неудовлетворенности, и в конечном итоге уничтожить. Такой
творческий типаж впервые наблюдается именно с XVI в. и далее. Прежде того художники
были не такие. Быть может, нечто похожее на беспокойного и подвижного,
"подобно как маятник" творческого человека можно предположить в эллинистическом
мире поздней античности. От создателей скульптур Пергамского алтаря идет прямая
линия к художникам барокко, а от живописцев раннехристианских катакомб - к
неопримитивистам и экспрессионистам раннего авангарда.
Но сейчас мы обязаны сосредоточиться на творческом типаже и его генеалогии в
рамках художественной культуры Нового времени, а более масштабные связи и
переклички оставить в покое.
Теперь мысль исходит из того, что она должна быть критической и
недоверчивой, должна проверять все на свете без исключений и не доверять никому и ничему,
также без исключений. А следовательно, ни о чем и никогда нельзя сказать точно.
Любое слово, любая мысль проблематичны. Любая истина, любой итог
художественного действия условны и временны.
Сладкая и горестная мука неудовлетворенности, стремление сомневаться и
пересматривать истины и устои культуры становится осознанной проблемой мысли и
культуры. Гегель отчеканил для описания этой стороны новоевропейской культуры
свое понятие "несчастное сознание". Вероятно, для самого Гегеля это было
двусмысленное понятие: философ сочувствует бесприютному сознанию, которое ни на
чем не может остановиться окончательно, но подспудно он гордится европейской
мыслью и культурой, которые приобрели этот опасный дар и тем самым приобрели
динамику и ненасытность познающего ума и творящего духа.
Вообще способ самооценки творческого и мыслящего человека сделался до
крайности двусмысленным. Лучшие умы Запада и России вроде бы горько сетуют на
разорванность сознания, на неуспокоенность творческого духа, на трагедию
человека, лишенного прочных и вечных устоев. В таком духе высказывались в XVII в.
Пьер Шаррон и Паскаль, в XVIII в. Дидро и Лессинг, в XIX - Гегель и гегельянцы
всех видов, а в XX говорили на эту тему десятки и сотни голосов, от Томаса Манна
до Адорно, от Сартра до Лиотара. Они горько сетовали на бесприютность нового
человека, но мы замечаем, что в их жалобах сквозит некоторое самолюбование.
74
Западная цивилизация, как стали с гордостью говорить ее почитатели и
теоретики, отличается от прочих цивилизаций тем, что она ни на чем не может успокоиться.
Ей вечно надо открывать что-нибудь новое и сенсационное, надо переосмысливать
основы общества и перестраивать способы существования. Люди только этим и
занимаются - открывают новые земли и разрабатывают новые технологии,
перестраиваются на новые источники энергии и предпринимают политические и социальные
революции. Западному человеку не дано остановиться, углубиться в себя и ощутить
вековечную стабильность, к которой зовут восточные медитативные практики и
школы мысли. Западный человек и шагающие вослед ему младшие собратья -
американцы и русские - и создают технологические, финансовые,
социально-политические механизмы, которые овладевают всем прочим миром (надолго или ненадолго).
Примером тому могут послужить такие изобретения западного человека, как
демократия, коммунистическая идеология, атомная энергетика или электронные
информационные системы.
Человек искусства в этом прекрасном новом мире, как и человек политики,
религии и мысли, теперь "не знает покоя". Он никогда не может приблизиться к
умонастроениям античного классического человека или средневекового создателя
религиозных образов. Он мучительно чужд успокоения на вере в достижимость высоких
ценностей. Русская, французская, немецкая литература большой эпохи
запечатлевает это свойство в своих героях, от Фауста до персонажей Альбера Камю. Это
относится и к реальным деятелям искусства и литературы Нового времени - к Дидро и
Радищеву, к Домье и ван Гогу, Павлу Федотову и Кандинскому.
Архитектура экспериментирует с атектоничностью, с впечатлением невечности,
с иллюзорной дефектностью архитектурного тела. Микеланджело, Бернини и Бор-
ромини страстно и рискованно испытывают границы и возможности архитектуры.
Они создают архитектуру и пластику, которые как будто вот-вот обрушатся,
разлетятся в пространстве, взмоют вверх или грузно сползут вниз, зашевелятся и начнут
извиваться, станут наступать на человека и отталкивать его, или затягивать его в
какие-то вихри или воронки. То архитектура беспокойного человека, архитектура
"несчастного сознания". Она закономерным образом приводит зодчих позднее к таким
сооружениям, как мосты через Гудзон, Эйфелева башня, храмы и дома Гауди,
проекты Константина Мельникова.
Архитекторам ведомы те законы и языки зодчества, которые позволили бы
создать могучее, стройное, гармоничное, завершенное в себе архитектурное целое.
Античность и Возрождение оставили в наследство великое знание о равновесии и
стабильности. Клод Перро и Матвей Казаков, Камерон и Шинкель пытаются
сохранить этот идеал зодчества. Но другие мастера не хотят этой стройности, гармонии и
завершенности. Они хотят, чтобы стены и опоры пускались бы в пляс, как это видно
у Растрелли, или пребывали бы в состоянии ошеломленного прозрения пугающих
"трансгуманных" тайн мироздания, как в творчестве Леду и Булле.
Живопись и графика Нового времени втягиваются в эксперименты с грубой
прозаичностью и уродливостью. Искусство говорит о том, что прекрасное включает в
себя безобразное, а безобразное включает в себя прекрасное. Таков смысл
экспериментов от Караваджо и Рембрандта до Эдуарда Мане и Валентина Серова.
Искусство умеет сказать о том, что высокие и вечные смыслы, быть может, пересекаются с
бессмыслицей и нонсенсом, с иронической безответной загадкой мироздания. Такое
искусство озадачивает, тревожит, оно требует ответа на свои вопросы. Только мы
успеваем порадоваться тому, какие гармоничные вещи создает Никола Пуссен в
свои зрелые годы, как мы наталкиваемся на его поздние работы и наблюдаем
ошеломляющие странности и катастрофические события в последних картинах мастера -
таких, как луврский "Потоп" великого классициста.
XX век оказался экстремально экспериментальным в том смысле, что теперь
новое искусство как будто ни о чем другом уже не могло говорить, как только о своей
собственной проблематичности, болезненности или даже невозможности. Как отме-
75
чают критики и теоретики искусства, экспериментальная культурная среда этого
века в конце концов пришла к тому, что вознаграждается только нарушение табу,
разрыв с условностями, протест, критика, диверсии против этики и какие-нибудь
эстетические инновации. Искусство и мысль о нем в XX в. как бы заклинились на этих
моментах. Но их открытие и введение в оборот культуры произошло в предыдущие
века. В начале пути стоит не Пикассо, а Леонардо да Винчи, и не Адорно, а
Макиавелли, да еще и Монтень, и Джордано Бруно.
Новое время породило свой собственный специфический продукт культуры.
Речь идет о том комплексе идей и ощущений, эмоций и поведенческих привычек,
который характерен для самоощущения творческих людей. В моих работах по истории
искусства и культуры это достижение и эта беда Нового времени фигурируют и
описываются под названием "антропология недоверия". Новый творческий типаж
Нового времени основывается теперь на этой концепции мира и человека. Это
относится к Брейгелю и Рубенсу, Шекспиру и Рембрандту, Ватто и Эдгару Дега, Сезанну
и Пикассо. Не в том смысле, что они все умели и хотели вербально
философствовать или оставили нам ясные формулировки неких идей. Иные из них оставили
достаточно определенные словесные заявления, как Шекспир, а иные полностью
промолчали на интересующую нас тему, как Рембрандт. Но историки искусства давно
научились читать картины, здания и скульптуры глазами, и переводить их смысл на
язык слов. Этот смысл в данном случае вполне может быть реконструирован.
Вспомним о том, как развивалась мысль о человеке и обществе с XVI в. по XIX.
Главная и опасная догадка неуемного и беспокойного человека-маятника состояла в
той мысли, что добро есть продукт определенным образом организованного зла.
Мы несколько упрощаем дело, но можно сказать, что именно таким образом
развивалась антропологическая мысль Макиавелли и Монтеня, Шекспира и Гоббса,
Вольтера и Гегеля, Ницше, Ортеги-и-Гассета, и так далее.
А именно: постоянно возникали мысли о том, что здание общего блага
(справедливости, народовластия, свободы, прогресса, разума и морали) возводится и
совершенствуется не с помощью света и разума, а как раз из темного материала и с
помощью самых сомнительных и рискованных средств. Дидро неоднократно
высказывался в том смысле, что истина не очень-то приятна большинству людей, да и
вообще порок притягательнее добродетели; негодяй интереснее нам в книге или
пьесе, нежели добронравный и пресный резонер. Дело не в том или не только в том,
что французы эпохи Просвещения превратились в изрядных циников. Общая линия
мысли была именно такова.
Общее благо, если оно возможно или насколько оно достижимо, увеличивается
посредством определенных манипуляций с глупостью и порочностью человека и
человечества, власти и массы. Это одна из самых распространенных идей Нового
времени. Притом, как предположил Томас Гоббс в своем "Левиафане", в благом деле
улучшения жизни полезны скорее крупные, масштабные глупости, преступления и
пороки людей, а не рассыпчатая мелочь рядовых заблуждений, предрассудков и
проступков. Обыденные и пошлые недостатки не приносят человечеству ни большого
вреда, ни большой пользы. Негодяи и честолюбцы крупного масштаба, безумцы без
меры и узды - вот кто может быть полезен в деле государственного строительства и
общественных усовершенствований, полагал Гоббс. Разумеется, он оговаривался,
что это трудное и рискованное дело - приносить людям пользу такими методами.
Но других способов не существует. Научить народы и власти добру и
справедливости невозможно. Преодолеть известные свойства двуногих обитателей планеты
никому еще не удавалось. Тень Макиавелли одобрительно кивала с берегов Стикса,
когда европейская мысль прикасалась к этим материям.
Человек неумен и нравственно сомнителен, и следует создать новый порядок
жизни, порядок справедливый и свободный (то есть "строить светлое будущее"),
основываясь на самой дрянности этого самого человека. Вот какие причуды и гротес-
76
ки поигрывают на заднем плане новой свободной мысли, иногда выступая на
всеобщее обозрение, а иногда укрываясь в тени моральных категорий.
Sapere aude (отважиться знать), так определил Иммануил Кант магистральную
установку Просвещения. Вполне понятно, почему он так сказал; именно в этом
направлении умы Европы работали уже не один век. Здание света и справедливости,
естественная нравственность и прочие идеалы гуманизма и Просвещения создаются
не из возвышенных помыслов и благородных дел. Реальность человеческой жизни и
самые возвышенные надежды и планы суть надстройки и прекрасные видения (как
бы сказали фрейдисты, сублимации). Они вырастают из темной и гнусной материи
реальных человеческих душ, реальных страстей и желаний человеческого существа,
и самых неблаговидных поступков этого существа.
Мысль о слабости, порочности (греховности) человеческого существа имеет, как
известно, длительную историческую биографию. Античные мыслители и
христианские философы основательно поработали над этой идеей. К ней обращались и над
ней размышляли главным образом с одним намерением. Хотелось придумать что-
нибудь насчет того, как исправить человека, как нейтрализовать его слабости и
пороки. Как избавить его от скотских начал, или хотя бы научить его придерживать в
себе недостойные человека порывы? Чтобы сделать это, Платон разрабатывал
проект идеального государства, а деятели христианской церкви выстраивали догматику
веры и ритуальную практику богослужений. Философия до поры до времени никак
не желала думать о том, что в основе самих культурных ценностей лежат
нечеловеческие, внеморальные, внеразумные факторы. Подобные догадки показались бы
невозможными. Цивилизованный человек, человек верующий в истинного Бога или
овладевший иными высокими ценностями, считался полярной противоположностью
варвару, негодяю, сумасшедшему или идиоту. Как же можно стирать границу между
ними?
До наступления Нового времени предполагалось, что культура есть культура, а
варварство есть варварство. Существуют такие вещи, как разум, но существует и
неразумие (или безумие). Есть вкус, и есть безвкусица. Это противоположности.
Бывает так, что от одного полюса человек перемещается в сторону другого. Случается,
что кто-нибудь повредился в уме, испортил свой вкус, опустился, превратился в
дикаря и дошел до состояния мерзкого животного. Бывает и так, что человек
изначально и навеки остается безнадежным, некультурным и скверным отбросом
общества, чуждым нравственности и не соблюдающим законы и правила. Это все понятно и
известно. Тем самым противоположные полюса не подвергаются сомнению, а
напротив, высвечиваются в своей полнейшей и явственной несовместимости. Новое
время вводит в обиход культуры нечто принципиально новое.
Теперь постоянно предполагается, что в основе культуры, законов, власти, общества
и морали лежит дикарская, скотская, нечеловеческая, докультурная субстанция.
Или ошибка природы, или случайность. В общем, что-нибудь совершенно
неразумное и не имеющее отношения к морали и нравственности. Такого прежде не было и
быть не могло. Чтобы дурное можно было бы считать источником хорошего - разве
такое мыслимо? Чтобы безвкусица и вульгарность были источниками высокого
искусства, уродство вызывало бы эстетическое удовольствие; чтобы биологическое
или животное начало было источником культуры (рацио и морали) - такое в голову
долго не приходило. Ни восточные мудрецы, ни Аристотель, ни средневековые
мыслители не ходили по этому маршруту.
Собственно, лишь Макиавелли начал говорить о том, что человека не
переделаешь и не исправишь, но, манипулируя его дурными склонностями и желаниями,
можно делать добрые дела и даже устроить относительно разумное и справедливое
общество и государство. Именно поэтому мы и считаем Макиавелли одним из предтеч
или основоположников мысли Нового времени. Он шокирует моралистов прямотой
своей мысли. Другие мыслители не были столь откровенны. Но именно описанные
способы мышления западные умы приняли ближе всего к сердцу.
77
Разумеется, не все и не сразу повернули на эти новые рельсы и зашагали за
Макиавелли, Гоббсом и Вольтером. Были замечательные мыслители и умные
писатели, которые не хотели пускаться в опасные эксперименты. Они скорее думали о
том, как оградить людей от нечестия, какие могут быть способы избавиться и
спастись от зла и грязи человеческого общества, и что может сделать мудрый человек,
чтобы по возможности не поддаваться этому злу, не становиться жертвой безумия,
глупости, жестокости и разврата, которые владеют людьми. Такова стратегия
мысли стоиков и скептиков Нового времени. На самом пороге XVII в. Пьер Шаррон
формулировал свои рекомендации на указанную тему . Так продолжалась линия
"помогающей и спасающей" мысли, сопровождавшей человечество на протяжении
столетий.
Просвещенные умы XVIII в. очень охотно размышляли о том, что разные
безобразия и недостатки людей, их ошибки, проступки и преступления тоже приносят
свою пользу в общем ходе истории. На эту тему высказывались и Мандевиль, и
Вольтер. Пушкин в России трактовал ее с аристократической иронией, Гоголь - с
растерянностью и недоумением, а Достоевский - с ужасом и возмущением. Закрыть
глаза на нее не мог никто из крупных умов Нового времени - от Дарвина с его
теорией эволюции до Фрейда с его теорией культуры и общества.
Поток мысли Нового времени выносил на поверхность и неохристианские
утопические "философии добра", вроде построений Владимира Соловьева, но
преобладала все же идея "позитивных возможностей негативного". Так можно сказать о
социальной философии и новой философской антропологии Спинозы, Мандевиля, Вико,
Монтескье, Дидро, Гегеля, Маркса, Ницше, Уильяма Джеймса, Макса Вебера,
Зигмунда Фрейда. Они поднимали парадоксальный и опасный вопрос: как можно
увеличить общественное благо, используя дурные и отвратительные свойства людей?
И не потому, что им очень уж хотелось испачкаться, а оттого, что иного не дано.
Выбивать зло из людей - занятие безнадежное. Зло в человеке и самих злых людей
надо использовать во благо общества. Идиотизм и безумие, инстинкты насилия и
животного сладострастия не надо перечеркивать и обуздывать, ибо из этого все
равно ничего не получится. Их надо осмыслять и иметь в виду, с ними надо считаться, из
них надо учиться извлекать нужные и правильные настроения и поступки. На злые
дела и дурные свойства рода человеческого надо уметь опираться с добрыми
намерениями, и тогда можно будет чего-нибудь добиться. Знание об этом, память об этой
неприятной и неизбежной стороне человеческой натуры и сообщества людей
проходят красной нитью сквозь классическую литературу Запада и России - от Шекспира
до Чехова, от Монтеня до Михаила Булгакова. Литературоведы долго стеснялись
произносить эти очевидные, но смущающие истины, однако в конце XX в. маститый
Гарольд Блум сформулировал их вполне откровенно5.
Быть человечным, как оказалось, подразумевает необходимость сомневаться в
человечности и подвергать ее опасной проверке. Быть культурным означает
экспериментировать с нормами культурности, выходить за их рамки и понимать ценность
"дикости". Просвещенный человек есть тот, кто догадывается о чудовищности
самого Просвещения, о безумии разума, о тайных пороках самой морали. О таких
вещах будут задумываться Гоббс и Вольтер, Гете и Пушкин, Толстой и Ницше, Фрейд
и Александр Блок. Их выводы и постулаты по поводу затруднительной проблемы
были довольно разными, но игнорировать главную заботу эпохи не было дано.
В изобразительном искусстве заявил о себе новый герой. Он возник в живописи
XVI в. и с тех пор настойчиво утверждал себя. Это человек социального дна,
человек низменный, некультурный и "нехороший" (невоспитанный, неразумный,
негигиеничный и нередко вообще скотообразный). Он теперь не стоял в сторонке и не
прятался на заднем плане, а выходил на авансцену картин Брейгеля и Тинторетто, чтобы
зрители могли рассмотреть его грубое лицо, его непрезентабельную и живописную
одежду, его варварскую жестикуляцию и мимику, его шокирующие поступки. Герои
демократических бытовых жанров вели себя в новой живописи довольно откровен-
78
но, а подчас и крайне разнузданно. В голландских и фламандских жанровых
картинах XVII в. подгулявшая чернь позволяет себе черт знает что; валится с ног,
оставляет в углу пивной или в канаве результаты перепоя или обжорства, или затевает
драку, да еще с поножовщиной.
Если высокие жанры живописи призваны были запечатлеть человека
возвышенного, человека набожного, осененного свыше, царственного, значительного,
вдохновенного и прекрасного, то картины низких жанров запечатлевали "человека
гадкого", отталкивающего двуногого. Как выразился Уильям Харви: большую
опасную обезьяну. В течение трех столетий Запад и Россия развивали это странное
искусство и запечатлевали в своих лучших картинах и графических шедеврах
двуногую мразь, отбросы общества и позор человеческого рода.
Притом чаще всего это делалось вовсе не с целями сатиры и обличения.
Живописцы и графики с восхищением разглядывали мир низменных порывов и глубокого
ничтожества, образцы падения или несовершенства человеческой натуры. Это
очевидно из самого факта поразительного мастерства и тонкости художественных
приемов. Когда в картине, рисунке или гравюре голландского, французского или
русского жанриста мы обнаруживаем изысканные колористические пиршества,
остроумные композиционные находки и иные художественные лакомства, то мы вправе
предположить, что художники (будь то Браувер или Рембрандт, Гойя или Павел
Федотов) писали и рисовали в том же состоянии хмельного упоения, в котором
пребывает восхищенный зритель всех этих чудес кисти, карандаша и резца.
Средства высокого искусства, то есть атрибуты высокой культурности,
прилагаются к изображению человеческого отребья. С каким восхищением и
художническим вдохновением Франс Хальс воссоздает на холсте своих подгулявших солдат,
свою лихую цыганку! Илья Репин подобным же образом выписывает фигуры и
физиономии своих бурлаков или запорожских казаков, и художника при этом как
будто совершенно не интересует тот факт, что их герои наверняка способны и пырнуть
прохожего ради овладения его кошельком, и обмануть простака, а то и напакостить
в церкви.
Бродяги, полоумные, шуты, воры, авантюристы, гулящие дамочки и осатанелые
маргиналы, или в лучшем случае бесполезные и ничтожные двуногие козявки
вызывают первостепенный интерес театра, литературы, живописи. Молодой Веласкес
изображал, в дерзком всесилии новообретенного мастерства, уличную шпану
Севильи, с которой лучше не встречаться ни в какое время суток. Нечто
непозволительное и нечеловечное (культурно недопустимое, нравственно предосудительное)
превращаются в предмет высокой культуры и суверенного искусства. И мастерство, и
вдохновенье приложены к изображению эрмитажных босяков, закусывающих в
трактире, жалких и пугающих королевских шутов из Прадо, и загорелого андалус-
ского мужичка с чашей вина в картине "Вакх". Этот бродяга с большой дороги
смотрит на зрителя неподражаемо дерзкими и насмешливыми глазами. Это почти что
глаза животного. В них нет, однако же, животного страха перед
хозяином-человеком. Плевать он хотел на человека, на веру и разум, на условности и на власть, этот
оборванец. Художник же превращает его лицо, взгляд и жест в чудо искусства.
Знатоки ахают и говорят о светозарности живописи Веласкеса, о легкости якобы
небрежного почерка и тонком лукавстве построения мизансцен.
Что означает этот интерес крупнейших мастеров искусства и литературы к
варварам, неуправляемым низам общества, буйным криминализованным вольницам
смутного времени, полуживотным оборванцам общественных задворок? Зачем именно
такие герои нужны Шекспиру, Веласкесу, Свифту, Домье, Репину, Горькому, а далее -
Михаилу Ларионову, Джеймсу Джойсу, Генри Миллеру, Исааку Бабелю, Андрею
Платонову, Карлу Буковски? Очевидно, действует "антропология недоверия".
Теперь мыслящий человек есть тот, кто отваживается знать, какая на самом деле
гнусная подоплека скрыта в человеке и обществе. Он отваживается строить
проекты новой мысли, нового общества и новой культуры, орудуя не благородными чув-
79
ствами чистых душ, не чистым разумом или иными прекраснодушными выдумками,
а страстями и недостатками реальных людей - честолюбцев, дураков,
сребролюбцев, предателей, развратников, идеологических фанатиков, циников и других
душегубов. Других людей у нас нету. Приходится иметь дело с теми малоприятными
персонажами, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни.
Мы делаем счастливым и ведем к свету и добру недоброго, ненадежного,
коварного зверя, наделенного к тому же хитроумием и изобретательностью. Разве не об
этом говорили Монтень, Шекспир, Пушкин, Ницше?
Мир света и добра построится и устроится в том случае, если с самого начала
люди поймут и осмыслят, что в строителе этого мира сидит зверь, демон, варвар,
разрушитель, ничтожный кривляка, кровавый монстр или сладострастное насекомое (как
выражается один из героев Достоевского). И это существо надо контролировать и
направлять решительными и даже жесткими мерами. Чтобы сделать ему хорошо и
обеспечить ему свет истины, разума и справедливости, нельзя с ним церемониться.
В белых перчатках тут делать нечего. Чтобы дать свободу и счастье людям, надо
работать с реальными существами, а не с выдуманными красивыми фикциями. Учить
людей быть хорошими или понимать прекрасное - дело дурацкое. Чтобы они
усвоили некие законы добра и красоты, требуется умело манипулировать нехорошестью
людей и их склонностью к безобразному, гадкому и бесчеловечному. Такова была в
общем направленность описываемой линии антропологической мысли Нового
времени.
Заигрывать с дьяволом - это своего рода специальность этой эпохи. Иначе не
просветишься, не достигнешь свободы и справедливости, не осчастливишь человечество
новым справедливым устройством общества. Мир света и добра достижим только для
тех, кто умеет лгать и предавать, кто способен на преступление и порок. Иначе ничего
не добьешься; не с ангелами приходится иметь дело, а с реальными людьми. Так думал
Макиавелли, через столетие так полагали Гоббс и Мандевиль, потом так же думали
Вольтер и Юм. Маркс, Бакунин, Ленин, Троцкий и Сталин в этом плане ничего нового
не открыли, и не надо полагать, будто они подорвали моральные устои европейской
цивилизации. Вовсе нет. Они самым радикальным и последовательным образом, то
есть с опасной отвагой вольных и просвещенных умов, договорили и доделали то
самое, о чем заговаривали ведущие мыслители Нового времени. Они довели
"антропологию недоверия" до предельной грани, то есть до абсурда.
Какими методами изучать и показывать людей в искусстве, учить их уму-разуму
и направлять к высоким идеалам? Ответ очевиден. Метод должен соответствовать
объекту воздействия. История искусства Нового времени показывает, как глубоко
роет этот крот, как работает в искусстве и литературе эта новая теория человека.
Показать историю искусства от Ренессанса до XX в. на фоне "антропологии
недоверия" и в связи с нею было бы существенным делом в смысле познания.
Обязательно займусь этим поосновательнее, а если дадут где напечататься - то за мной
дело не станет.
Примечания
1 Бердяев И. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. М., 1994. С. 400.
2 См. подробнее: Якимович Л. О двух понятиях культуры в двадцатом веке. "Искусствознание", 2000.
3 Якимович А. Новое время. Очерки по искусству и культуре XVII-XVIH веков. СПб., 2004.
4 Трактат Шаррона "О мудрости" (De la sagesse) появился в 1600 году.
5 Bloom H. Western Canon. London, 1992.
80
ФИЛОСОФИЯ И НАУКА
Чувственные качества (qualia) -
вызов материалистическим теориям
сознания?
М. ЮЛЕН
Метафизический спор между сторонниками дуализма души и тела
картезианского толка и приверженцами разных классических материалистических теорий
сознания - от Демокрита через Ламетри, Дидро, фон Гельмгольца и других до Маркса-
Энгельса - к 50-м годам прошлого века казался застывшим и совершенно
устаревшим. Однако под влиянием англосаксонских идей во второй половине XX в. произошло
полное его обновление, и в 60-е годы появилась парадигма, которая вслед за
основополагающими трудами Алана Тюринга и Джона фон Неймана дала толчок развитию ней-
ронаук (прежде всего совершенствованию техник, позволяющих осуществлять
квазипрямое наблюдение функций мозга) и теоретической информатики. Тогда-то и дало о
себе знать стремление объяснить способ функционирования человеческой мысли,
выводя за скобки понятия сознания и субъекта и разлагая любое ментальное событие на
последовательность элементарных операций, расположенных в строго определенном
синтаксическом порядке, как это делает компьютер. С другой стороны, выделяя
своего рода "ментальные кирпичики", или "атомы" чувств, такой анализ позволял также
теоретически представить их систематическое переустройство по определенным
правилам, как это происходит при работе с умными автоматами или думающими
машинами. В чисто философском плане альянс нейронаук и науки об искусственном
интеллекте привел к множеству новых подходов, среди которых теория идентичности,
или редукционизма (разделившейся на две ветви: идентичность типов и
идентичность обстоятельств), эпифеноменизм, элиминативный материализм,
функционализм и т.п. Здесь я рассмотрю лишь случай функционализма - самой
распространенной в наши дни "современной" формы материализма.
Функционализм можно рассматривать как обновленную версию бихевиоризма,
вдохновленную развитием когнитивных наук в 80-90-е годы. Сам бихевиоризм
появился в США в 30-е годы, но его философская интерпретация восходит к
знаменитой работе Гильберта Райла "Концепция ума" [11]. В этой книге Райл анализирует
самые распространенные психологические понятия, такие, как намерение, желание,
вера, ощущение, эмоция и т.п., и пытается предложить способ их функционирова-
© Лысенко В.Г. (перевод), 2005 г.
81
ния, позволяющий избавиться от традиционных теорий об отношении между душой
и телом. Его тезис состоит в том, что вся философия сознания основана на
"категориальной ошибке", которая побуждает нас представлять ментальные явления и сам
разум на манер телесных - как вещи и субстанции. Желание, намерение, вера и т.п.
обозначают не реальные психические события, разворачивающиеся в голове, а
лишь диспозиционные свойства поведения (behaviour). Так же как выражение "этот
стакан хрупкий" будет означать "если по нему сильно ударить, он разобьется", так и
в случае, если приписать конкретному индивиду определенное намерение
(диспозицию), это не повлечет за собой обращение к какой-либо внутренней ментальной
сущности, а будет простым предвидением того, что индивид поведет себя
определенным образом, если этому будут способствовать обстоятельства. Если
воспользоваться классическим примером, то выражение "Джон хочет пить" будет означать
приблизительно следующее: "если бы у Джона была вода, он бы ее выпил". Таким
образом, сторонники бихевиоризма думали сэкономить на всех конкретных,
квалитативных (субъективных) переживаниях, доступных исключительно изнутри. Они
открыто заявляли о своем намерении обращаться с субъектом, а точнее, с
человеческим организмом как с "черным ящиком", который получает "входящие данные"
(input) через органы чувств и производит "исходящие данные" (output) в форме
речевого поведения, жестов и т.п. Например, испытывать боль значит, с одной стороны,
вступить в контакт с обжигающим, режущим или колющим объектом, а с другой -
стонать, жестикулировать, призывать на помощь и т.п.
Разрушило философский бихевиоризм постепенное осознание, принявшее
сегодня уже более или менее общий характер, того факта, что необходимо непрерывно
умножать постулирование ментальных состояний - желаний, страхов, верований и
т.п., чтобы уточнить условия возникновения противоречащих фактам
высказываний, использование которых призвано совершенно исключить любую отсылку к
самим этим ментальным состояниям. В процитированном примере - Джон (Иван)
выпьет воду лишь в том случае, если он хочет любой ценой утолить свою жажду.
Однако следуя некой аскетической практике, он мог бы принять обет, запрещающий ему
это на определенное время. Или он мог бы заподозрить, что эта вода не совсем
чистая и, стало быть, опасна для его здоровья. Значит, нам придется вводить новые
психологические спецификации, например, "при условии, что он не предается аскезе"
или "при условии, что он не испытывает никакого страха за свое здоровье".
Уточнения, формулируемые бихевиористами в терминах предрасположенности к какому-
то поведению (диспозициональных терминах), требуют последующих уточнений
психологического характера, и так до бесконечности. Здесь мы имеем дело с
последствием того, что иногда называют "холистическим характером" ментальных
состояний - фактом, что каждое из них потенциально подразумевается во
множестве других, в предельном случае бесконечных, состояний как реальных, так и
возможных.
Однако в каком-то смысле функционализм может показаться возможным
решением внутренних трудностей бихевиоризма. Это решение состоит, если так можно
сказать, в "открывании" черного ящика [7] и обнаружении в нем других ящиков в
форме промежуточных состояний, обладающих собственной функцией и собственным
поведением. Каждое из этих внутренних состояний окажется связанным как со своими
собственными "входящими" (которые могут прийти из внешнего мира или из других
состояний, расположенных чуть выше в каузальной цепочке), так и со своими
собственными "исходящими" (попадающими либо прямо во внешний мир, либо в другие
состояния). Это описание достаточно удачно отражает то, как "популярная" психология
объясняет отношения между психическими состояниями: индивид выполняет
действие Л, поскольку он стремится реализовать/? и поскольку он лелеет веру q в то, что,
совершая Л, он достигнет реализации р. Но тот факт, что он лелеет веру q, зависит
от того, что он наблюдает некое положение вещей г, и параллельно факт, что он
желает реализации р, зависит от других желаний, ментальных состояний и т.п. Идея
82
состоит в том, что эти разнообразные ментальные состояния в той степени, в
которой они формируют некое упорядоченное целое, все вместе выполняют
определенную каузальную роль, у них есть одна глобальная функция и вместе с тем они
являются функциями друг друга. Базовый принцип функционализма заключается в том,
что все, что составляет ментальное событие, некое "пережитое", определенный тип
состояния, например голод, страдание или вера в то, что пойдет дождь, - это не
конкретное репрезентативное содержание (доступное по определению лишь самому
субъекту), но каузальная роль, которую оно играет. Иными словами, важна природа
самой роли, а не природа того, кто ее "играет". Фактически эта роль в
представлении функционалистов может быть исполнена другим ментальным состоянием,
возникающим в организме, обладающем совершенно отличными физико-химическими
и нейрофизиологическими свойствами (например, в организме марсианина), при
условии, что она будет связана с чувственными данными ("входящими"), другими
ментальными состояниями и поведенческими реакциями ("исходящими") тем же
способом, что и у нас, людей. Таким образом, если кроме этого и функциональная
организация внутренних состояний у марсиан изоморфна нашей собственной внутренней
организации, то марсиане способны испытывать страдания, желания, надежды и
опасения так же, как и мы. И это будет так, даже несмотря на различия нервной и
других систем, поддерживающих эти функциональные состояния, поскольку в
области ментального важна не столько материя, из которой состоит существо, сколько
структура внутренней активности, опирающаяся на тот или иной материальный
субстрат. Это значит, что логика функционализма подразумевает следование стратегии
открывания черных ящиков с целью извлечения из них других черных ящиков
меньшего размера, а также каждый раз новое постулирование разнообразных функций,
"входящих" и "исходящих". Например, функция "памяти" может включать
долговременную и короткую ("рабочую") память, причем и та, и другая взаимодействуют с
другими подфункциями или же специализированными регистрами памяти и так до
самых элементарных функций. Д. Деннет [4] назвал их "тупыми рутинными
действиями", не разлагающимися на более простые. На этой стадии мы оказываемся на
собственно физическом уровне - так что в конечном счете функционализм
представляет собой лишь разновидность материализма.
Я не собираюсь ни давать подробный анализ функционализма, ни выносить о нем
свое общее суждение. Я лишь попытаюсь "протестировать" его действенность в
решении вопроса, который считается для него особенно трудным - вопроса о
субъективных чувственных качествах (qualia). Проблема, общая для функционализма и
других материалистических концепций, - это проблема определенного и, видимо,
неизбежного пренебрежения опытом "от первого лица". По правде говоря,
функционализм может приписать сознанию лишь два статуса: либо статус чистого
эпифеномена распознающих чувственных функций, репрезентативной интеграции и
контроля за движением, либо статус автономного узла, который можно связать с другими
узлами функциональной сети ума. Однако последний тезис крайне далек от
единодушного признания, поскольку из него следует, что достаточно воспроизвести в некой
физической системе (компьютер и т.п.) функциональную организацию когнитивного
аппарата человека, чтобы тем самым воспроизвести все его ментальные свойства,
включая самые сильные наслаждения и огорчения. Где гарантия - спрашиваем мы -
что некая заданная ментальная функция, имплантированная или воплощенная в двух
разных физических структурах, будет в обоих случаях сопровождаться тем же
субъективным чувственным опытом? Таким образом, чувственные качества, благодаря их
явно нередуцируемому субъективному характеру, представляются многим "последним
бастионом" духа перед общим наступлением материализма.
Среди чувственных качеств, считающихся "элементарными", особое внимание
исследователей привлекают два: восприятие цвета и физической боли. Поскольку
случай физической боли чрезвычайно сложен, я ограничусь восприятием цвета.
Начнем с классического аргумента - аргумента "перевернутого спектра" цветов. За-
83
метим, что аргумент этот, бывший предметом многих дискуссий в США в последние
десятилетия, в действительности имеет куда более долгую историю. Его можно
встретить в работе Локка "Опыт о человеческом разумении" (1690). В ней Локк
пишет: "Впрочем, идея голубого, имеющаяся у одного человека, может отличаться от
этой идеи у другого. В наших простых идеях не было бы ничего от ложности и в том
случае, если бы вследствие различного строения наших органов было бы так
определено, что один и тот же предмет в одно и то же время производил бы в умах
нескольких людей различные идеи, например, если бы идея, вызванная фиалкой в уме
одного человека при помощи его глаз, была бы тождественна с идеей, вызванной в
уме другого ноготками, и наоборот. Ведь этого никогда нельзя было бы узнать,
потому что ум одного человека не может перейти в тело другого, чтобы воспринять,
какие представления вызываются с помощью органов последнего, и потому не
перепутались бы ни идеи, ни имена и ни в тех, и ни в других не было бы никакой
ложности. В самом деле, если все вещи, имеющие строение фиалки, будут постоянно
вызывать в ком-нибудь идею, которую он назовет "голубое", а все вещи, имеющие
строение ноготков, будут постоянно вызывать идею, которую он также постоянно
назовет "желтое", то, каковы бы ни были эти представления в его уме, он будет в
состоянии так же правильно различать по ним вещи для своих надобностей и понимать
и обозначать эти различия, отмеченные именами "голубое" и "желтое", как если бы
эти представления или идеи в его уме, полученные от этих двух цветков, были
совершенно тождественны с идеями в умах других людей" [12. С. 44].
Локк выдвигает этот аргумент мимоходом, не придавая ему особого значения и,
естественно, не превращая его в оружие против материализма. С его точки зрения,
речь идет прежде всего о том, чтобы показать, что наши "простые" идеи
(элементарные и далее неразложимые) никогда не могут быть ложными сами по себе.
Сегодня этот аргумент стал своего рода "мысленным экспериментом" в англосаксонской
манере. К интерперсональной версии перевертывания спектра - единственной
упомянутой Локком - добавилась интраперсоналъная, которая сделалась более или
менее вероятной благодаря хирургическим манипуляциям, достойным пера научного
фантаста (инверсия путей нейропроводимости между сетчаткой глаза и зоной коры
головного мозга, ответственной за восприятие цветов, и т.п.).
Сам по себе аргумент совершенно ясен. Чтобы придерживаться одной-единст-
венной хроматической оси, структурирующей восприятие цветов у человека,
представим себе, что в результате какой-то врожденной аномалии я вижу спелые
помидоры, пожарные машины, красный сигнал светофора "в зеленом цвете". Как бы это
ни казалось странным, но подобная ситуация имеет все шансы остаться без
последствий и даже пройти незамеченной, поскольку я не могу сравнить свои ощущения с
ощущениями других, и наоборот. Не зная о том, что другие переживают
субъективный опыт, отличный от моего, я, как и они, назову цвет советского флага красным,
а эмблематический цвет ислама - зеленым. Я не стану переходить улицу, когда
горит сигнал, который я, как и другие, называю красным, хотя я вижу зеленый, и я
перейду улицу, когда зажигается сигнал, который считается зеленым, хотя я вижу его
красным. И это, по-видимому, прекрасно опровергает функционализм - в той
степени, в которой мой организм остается фундаментально изоморфным организму
других людей и в которой мы используем одни и те же чувственные распознаватели,
делая из них одинаковые практические заключения, и все это притом, что
содержание нашего субъективного опыта будет радикально отличаться от содержания
опыта других людей.
Столкнувшись с этой трудностью, функционалисты часто пытались ответить,
что в отсутствие внутреннего субъективного опыта подобные различия эпифеноме-
нальны и незначительны в той степени, в которой они не проявляются видимым
образом в поведенческих отклонениях: если я как все останавливаюсь на красный свет
и делаю это совершенно естественно, не испытывая никакого внутреннего
конфликта, тот факт, что, возможно, я воспринимаю его как зеленый - не более чем
84
чистое предположение, не доступное никакой верификации. Такого рода ответы
функционалистов прокладывают дорогу другим возражениям, на которые еще
труднее ответить. Фактически если два организма могут иметь одинаковую
функциональную организацию, одинаковую "программу", обладая разными qualia или
перевернутыми хроматическими спектрами, вполне возможно, что два отдельных
ментальных состояния окажутся функционально неразличимыми (т.е. связанными с
внешними стимулами, с сопутствующими состояниями и с поведенческими
реакциями одним и тем же способом), хотя любое из них обладает качественно отличным
содержанием. Из этого следует, например, что организм может быть субстратом
боли, но при этом ее не испытывать, что явно противоречит нашей интуиции. Если,
напротив, функционализм отвергает возможность для организма или системы вести
себя "разумно" в окружающей обстановке, но при этом изнутри ничего не
чувствовать, то он будет вынужден взять на себя ответственность за приписывание
ментальных состояний, лишенных субъективного измерения, сущностям, которые обычный
здравый смысл считает не способными их иметь. Н. Блок [2] предлагает
представить себе, что китайский народ (около миллиарда человек) может коллективно
имитировать функциональную организацию человеческого мозга, включая адекватные
отношения между его "входящими" и "исходящими", которые позволяют развивать
"умное" поведение. Кто осмелится предположить, что такая система способна
испытывать какие-либо субъективные эмоции?
Ответы функционалистов на эти возражения, естественно, не замедлили
последовать. Их чрезвычайное разнообразие и сложность мешают нам рассмотреть их
здесь более подробно. Ограничусь упоминанием одного из самых характерных
ответов, принадлежащий Д. Деннетту [4, 5]. Его предметом является интра-персональная
инверсия цветового спектра. Мысленный эксперимент, который упоминается в этом
контексте, автор называет "нейрохирургическим фарсом". Если проснувшись в одно
прекрасное утро, я увижу желтое небо и синее солнце и если я обнаружу, что никто
вокруг меня не замечает никакой аномалии, то можно будет заподозрить, что ночью
произошло переворачивание моих qualia. В дальнейшем выяснится, что все это дело
рук некоего ученого безумца, который залез в мой мозг, пока я спал, и получил
данный результат. В случаях такого рода qualia покажутся вполне приемлемыми
свойствами, поскольку мы можем дать точный нейрофизиологический отчет об их
инверсии. "Но для Деннетта речь бы шла о необоснованном заключении, поскольку
пришлось бы сначала истолковать факт, что субъект замечает разницу в качестве
позитивного отождествления им этой разницы с изменением qualia" [10. Р. 221].
Однако фактически хирургическое вмешательство могло бы принять две формы.
1. Изменить направление одного из каналов, близких к периферии
перцептивного аппарата, - канала, который принимает участие в производстве qualia, например,
оптического нерва, так чтобы последующие важные "нейрособытия" имели
значения, противоположные тем, которые они имели бы в обычном случае.
Предположительно это должно произвести инверсию в qualia.
2. Оставить нетронутыми все периферические каналы и довольствоваться
изменением направления определенных путей доступа к памяти, т.е. произвести
инверсию того, благодаря чему действует бессознательное сравнение цветов,
воспринимаемых нами сейчас, с цветами, которые мы воспринимали в прошлом.
Предположительно это не влечет за собой инверсии qualia, но влечет инверсию приобретенных
предрасположенностей к определенной реакции на них.
Так, при пробуждении субъект мог бы воскликнуть: "Господи! Что-то произошло!
Или же мои qualia поменялись местами, или же поменялись местами мои привычные
реакции на них. Хотелось бы знать, какая из гипотез правильная?" [10. Р. 222].
Но Деннетт поясняет: "...Поскольку предположительно оба хирургических
вмешательства могут вызвать совершенно одинаковые ощущения, хотя лишь первое из
них производит инверсию qualia, ничто в опыте субъекта не позволяет решить,
какая из этих гипотез правильная, а какая нет. Так что, исключая случаи обращения к
85
внешнему источнику информации, состояние собственных qualia субъекта должно
быть для него столь же непознаваемым, как и состояние qualia других [Цит. по: 10.
Р. 222].
Фактически в диапазоне ответов функционалистов ответ Деннетта занимает
крайнюю позицию. Не довольствуясь выведением qualia и других составляющих
субъективного опыта за пределы области научного исследования, он даже
попытался отрицать само их существование. Ибо, по его мнению, "постулировать
специальные внутренние качества, которые являются не только сугубо личными и
самоценными, но и неверифицируемыми и недоступными исследованию, есть не что иное
как обскурантизм" [5. Р. 450]. Некоторое число ссылок на первые исследования в
области реконструкции визуальных содержаний или хронологии ментальных и
мозговых событий послужило ему отправной точкой для выдвижения его собственного
тезиса, самого по себе экстравагантного, согласно которому в действительности у
нас нет феноменального сознания, в которое мы верим и о котором мы можем
судить исключительно лишь обладая им. К примеру, достоверные случаи
перцептивной реконструкции фигур с недостающими деталями служат ему аргументом в
пользу утверждения о том, что все, что мы называем "феноменальным опытом", есть
лишь временный, поддающийся пересмотру результат процесса заполнения пустот в
перцептивном поле, а затем реконструкция по видимости целостного восприятия на
основании фрагментов. Эти элементы информации, почерпнутые из
нейропсихологии восприятия и соединенные с наблюдениями над временной инверсией мозговых
событий по отношению к последовательности зарегистрированных внешних
событий, показались ему достаточными, чтобы прийти к заключению о том, что
"процессы, считающиеся сознательными, задним числом беспрерывно переписываются и
перерабатываются и что по этой причине нет никакой возможности дать сколько-
нибудь определенный ответ на вопрос о том, какой именно опыт реально испытал
сознающий субъект в данных обстоятельствах" [1. Р. 172].
Тем не менее против этой позиции часто выдвигали аргумент - на мой взгляд,
вполне справедливо - что она "ломает сук, на котором сидит", в том смысле, что
сомнение в отношении любой формы непосредственного опыта неизбежно
распространяется и на самого автора подобных утверждений. Фактически, как замечает
М. Битбол, "ни тот факт, что опыт является результатом непрекращающейся
реконструкции, ни неспособность объяснить задним числом, какой именно опыт был
пережит субъектом (включая самого себя), не влечет за собой несуществования
опыта от первого лица" [1. Р. 172]. Это абсолютно верно, насколько верно то, что в
области сознания то, что мы воспринимаем, неотличимо от того, что реально
существует: esse est percipi.
Наряду с инверсией спектра цветов получил широкую известность и другой
мысленный эксперимент, вызвавший такую же, если не еще более сильную реакцию.
Мы обязаны его появлением Ф. Джэксону. "Мэри - блестящий ученый,
вынужденная по неизвестным причинам вести свои изыскания, оставаясь запертой в
черно-белой комнате, и пользоваться черно-белым электронно-лучевым экраном. Она
специализируется в области нейрологии зрения. Предположим, что в конце концов она
усвоит всю физическую информацию, которую возможно получить относительно
того, что происходит, когда мы видим спелые помидоры или небо, когда мы
используем прилагательные "красный", "голубой" и т.п. Что случится, когда Мэри покинет
свою черно-белую комнату и получит доступ к цветному экрану? Узнает ли она что-
то новое или нет? Кажется совершенно очевидным, что она узнает что-то и о мире,
и о визуальном опыте, который мы о нем имеем. Но тогда из этого последует, что
знание, которым она обладала раньше, неполно. Но ведь в ее распоряжении была
вся доступная физическая информация. Стало быть, помимо этой совокупности
физических данных существует что-то еще, что было ей неизвестно. Значит, физика-
лизм ошибочен" [9].
86
Как и в случае инверсии спектра, реакция функционалистов на этот аргумент
была самой многообразной. Однако ее можно свести к двум главным типам.
Некоторые авторы, например П. Черчланд и Д. Деннетт, истолковали рассуждение
Джэксона как доказательство неспособности Мэри выйти за пределы своего
черно-белого окружения и заранее представить "эффект, который это произведет", имея в виду
открытие красного цвета помидоров или голубизны неба. Однако, замечают они,
мы слишком легко недооцениваем возможности когнитивных способностей и
воображения, в частности, тот факт, что нейрофизиологическое знание носит настолько
исчерпывающий характер, что мы можем, опираясь лишь на него, составить
представление, скажем, о цветах, ни разу не видев их. Как дирижер способен заранее
«услышать музыкальный аккорд, который еще никогда не звучал, или прочитать
музыкальную партитуру, воображая "эффект, который это произведет", когда будет
услышано, также и "концептуально изощренная" Мэри могла бы представить заранее
все, что касается ощущений цвета, которых у нее никогда не было, и оказалась бы
способной распознать их при первом их появлении. Так что, столкнувшись впервые
со спелым помидором, она не выказала бы никакого удивления и ограничилась бы
плоской констатацией: "Да, красный цвет именно таков, как я и предвидела"» [10].
Этот ответ стал рассматриваться как недостаточный в том смысле, что в нем
сильно недооценивается важность качественного скачка, необходимого для
перехода от абстрактной теоретической концепции, настолько детальной и
исчерпывающей, насколько мы этого пожелаем, к индивидуальной, конкретной и ситуативной
репрезентации. И это действительно как для чувственного восприятия, так и для
воспоминания или предвосхищения. Что же до примера с дирижером, способным
"слышать" симфонию, разбирая партитуру, то его по большей части считали
неубедительным, поскольку в нем задействовано простое расширение и утончение
способности слуха, уже существующей у всех людей в эмбриональном состоянии, тогда
как Мэри предположительно была совершенно далека от мира цветов.
Второй тип ответов заслужил предпочтение очень многих авторов (Д. Льюис,
Л. Немиров, В. Лайкан, Дж. Пруст, Дж. Перри и др.). Они признают, что Мэри что-
то действительно узнала, проникая в мир цвета, но в то же время подчеркивают, что
такие термины, как "познать" или "узнать", не лишены некоторой двусмысленности.
В частности, они не позволяют выявить различие между пропозициональным
знанием (знать что-то) и знанием-умением, или практической способностью (знать
как). Для них нейрологическое знание заслуживает того, чтобы его считали
целостным в той степени, в которой оно позволило бы дополнительно уточнить условия
манифестации того или иного цвета (длина волны, отражаемость, зоны мозга,
отвечающие за разные типы информации, передаваемой через сетчатку глаза, и т.п.) и
определить в зависимости от этого позицию данного оттенка на общей диаграмме
соотношений между цветами, например, через понятия "противоположных" или
"взаимодополняющих" цветов и т.п. То, что осталось за пределами
нейрофизиологического знания, - это способность априорно представлять цветные предметы,
мысленно их сравнивать, распознавать разные цвета, воспринимаемые одновременно, и
т.п., но отсутствие такой способности, преодолеваемое лишь в опыте, не
свидетельствует о наличии лакуны в научном знании, которое должно носить
пропозициональный характер и относиться к категории знать что-то.
И в этом случае было много умолчаний и недоговорок. Сам Джэксон и вслед за
ним другие энергично оспаривали положение о том, что опыт восприятия
определенного цвета равноценен способности распознать его среди других цветов.
Ощущение цвета как присутствующего здесь и сейчас перед глазами в своей конкретной
сингулярности действительно включает в себя подобную способность, но не
сводится к ней. Иначе мы будем вынуждены приписать некое сознание всем
разновидностям устройств (наделенных фотоэлектрическими клетками, фотоэлементами,
избирательно чувствительными к той или иной гамме световых волн, и т.п.), которые
оказались способными оперировать подобными распознаваниями и часто еще более
87
тонкими способами, чем это делаем мы. Эти роботы, оказываясь в присутствии
некоего, скажем, красного объекта, не только смогут распознать его как таковой, но
также и - при условии, что их снабдят соответствующими голосовыми
синтезаторами, - назвать его на "человеческом" языке. Зато им не хватает "я", которое было бы
способно ощущать красный цвет каким-то эмоциональным способом, например, как
"горячий" или "бодрящий", или, напротив, как связанный с насилием (вызывающий
в памяти кровь, войну, революцию). Как и другие qualia - звуки, вкусы, запахи -
цвета никогда не предстают перед нами как чистые, объективные, нейтральные
данные, но всегда являются воплощениями и носителями разного рода ассоциаций -
сознательных или бессознательных, связанных с личной историей каждого из нас.
На этой стадии размышлений необходимо прояснить одну двусмысленность.
Показать некую слепую точку или мертвый угол в объективистском подходе к qualia
не значит причислить их к чисто субъективным переживаниям, доступным лишь
импрессионистскому и литературному описанию. Эти qualia не может себе представить
тот, кто не испытывал их в рамках собственного опыта, но пролиферация, явно
неограниченная, их частных модальностей может действительно послужить объектом
сколь угодно точной нейрофизиологической локализации.
Исследования в этом направлении ведутся уже по крайней мене четверть века и
привели к очень интересным результатам. Их отправной точкой является открытие
в важнейших чувственных регистрах (вкуса, запаха, зрения и т.п.) рецептивных
клеток, специализирующихся на восприятии того или иного измерения конкретных
чувственных объектов. Например, в области вкуса удалось уже довольно давно выявить
четыре типа клеток (а, Ь, с, d). Один пищевой продукт произведет различное
воздействие на каждый из этих типов клеток, например, максимальное на один тип и
минимальное на другой, а также более или менее среднее на два оставшихся. Таким
образом, можно определить спектр (S) уровней вкусовой стимуляции, который
принимает четверичную форму (Sa, S^, Sc, Sd), характерную для восприятия данного
пищевого элемента. Опираясь на эти данные, можно выстроить четырехмерное
пространство, внутри которого расположится любой вкус. В пределах этого
пространства сладкие вкусы, к примеру, сгруппируются в одной определенной зоне, а
разновидности сладкого (вкус меда или, скорее, определенного вида меда) будут
соответствовать определенной точке этой зоны. Таков принцип чувственной кодировки. Мы
обнаруживаем его действие и в области запаха, связанного с семью рецепторами.
Последние исследования, проведенные над определенной породой собак, показали, что
эти животные способны воспринять 30 уровней стимуляции, так что их "пространство
запаха" содержит около 307 или 22 миллиарда различаемых позиций [3]!
Восприятие цветов представляет собой гораздо более сложное явление как по
своей нейроструктуре [разные уровни сетчатки, разные зоны коры головного мозга,
специализирующиеся на зрении, реле, соединяющее сетчатку и рецепторы (как
"боковой коленчатый узел")], так и в связи с многомерным характером рецепторов
(чувствительных к длине длинных, средних и коротких волн, к контрастам тени и
света, к отражаемости, к определенному типу цвета, а не к его противоположности).
Тем не менее принцип чувственной кодировки применим и здесь. "Представим, что
первая совокупность групп нейронов, расположенная в зоне IT, активизируется,
когда человек говорит, что видит красный цвет, и тормозится, когда он говорит, что
видит зеленый цвет. Вторая совокупность групп нейронов активна, когда человек
видит голубое, и тормозится, когда он видит желтое; третья совокупность
активизируется при восприятии света и тормозится при восприятии темноты. Представим
теперь, что средний коэффицент активизации этих трех совокупностей групп
нейронов варьируется от 0 (полное торможение) до 10 Hz (спонтанная активизация) и до
100 Hz (максимальная активизация) ... Коэффицент активизации этих трех
совокупностей групп нейронов может определить трехмерное пространство, в лоне
которого каждый цвет, различаемый человеком, соответствует определенной точке.
Например, чистый красный цвет будет соответствовать точке пространства с коорди-
88
натами 100 на красно-зеленой оси и 10 на сине-желтой и черно-белой осях" [6.
Р. 195].
Стало быть, человеческий мозг располагает достаточным пространством, чтобы
"поселить" бесконечное разнообразие цветовых нюансов, воспринимаемых и
различаемых нами. Тем не менее, этого еще недостаточно, чтобы объяснить, как мозг
различает один тип qualia (например, зрительный) от другого (например, звукового)
и тем самым один тип визуальных данных (например, цвет) от другого (формы,
движения и т.п.). Наконец, самое главное: постижение любого qualia будет полным
только в том случае, если мозг способен связывать между собой чистые
чувственные данные, которые он обрабатывает, с тем, что в этот момент интересует
субъекта, и в широком смысле - с его памятью.
В течение долгого времени нейрофизиологи лелеяли надежду объяснить каждое
quale (единственное число от qualia) активизацией определенной группы нейронов, в
предельном случае - одним отдельным нейроном. Эта гипотеза потерпела
поражение. С одной стороны, потому, что число наличных нейронов, каким бы оно ни было
большим, все же конечно, тогда как разнообразие возможных qualia явно
бесконечно. С другой стороны, поскольку мы не можем понять, каким образом, если
нейроны идентичны или, по крайней мере, очень похожи друг на друга, активизация
одного нейрона может вызвать ощущение голубого цвета, активизация другого -
ощущение красного цвета, а активизация третьего - ощущение сладкого и т.п., не считая
многочисленных нейронов, например, сетчатки, чья активизация не выражается ни
в каком сознательном опыте.
Последние разработки, в частности, разработка гипотезы так называемого
динамического узла, выдвинутой Г. Эдельманом и Г. Тонони, идут в направлении,
отличном от этого парциального и модулярного подхода. Резюмируя в общих чертах,
скажем, что гипотеза "динамического узла" состоит в том, чтобы считать, что малейший
сознательный опыт, пусть и самый содержательно бедный, мобилизует значительное
число специализированных зон головного мозга, обменивающихся в течение времени,
которое занимает этот опыт, множеством сигналов в соответствии с процессом,
который Эдельман в 1989 г. назвал "возвращение" (reentry). Эти функциональные
перегруппировки зависят от обстоятельств, и их композиция не прекращает
эволюционировать параллельно изменениям, возникающим внутри самого сознательного опыта.
Данная гипотеза, согласно которой многочисленные структуры головного мозга
связаны с восприятием собственного состояния (proprioception), с приобретенными
моторными схемами, с той или иной формой памяти, позволяет найти еще более точное
соответствие конкретному перцептивному опыту в его многообразии. Таким образом,
речь идет о создании гиперпространства с числом измерений N, включающего в себя
многочисленные подпространства с числом измерений η (например, подпространство
цветов), - гиперпространства, чья метрика и топология (расстояния между
подпространствами и углы, которые они образуют между осями координат,
соответствующими каждому из этих подпространств) должны были бы в идеале позволить
объяснить qualia в разных их аспектах.
Одно из самых примечательных последствий этого изменения в подходе состоит
в том, что мы должны рассматривать даже самые элементарные qualia (например,
однотонное голубое или красное поле) как частные случаи внутри рода, который
лучше всего охарактеризовать с помощью сложных перцептивно-аффективных
сцен (Эдельман приводит пример многолюдной улицы Нью-Йорка, переполненной
разными предметами, звуками, запахами, вызывающими разные ассоциации и
размышления [6. Р. 203]). И в том, и в другом случае "динамический узел" мобилизует
огромное количество групп нейронов, но получается, что в первом случае, когда
речь идет об униформных qualia, большинство из этих групп нейронов
представляют почти нулевой коэффициент активизации. Это можно проиллюстрировать
следующим сравнением: если бы у меня был лотерейный билет с номером 100 000 или
99 999, я подумал бы, что мои шансы выиграть минимальны и чувствовал бы себя
89
более уверенно с каким-либо банальным номером типа 257 648. Однако вероятность
выиграть в обоих случаях совершенно одинакова, поскольку "количество
информации", содержащейся в последовательности пяти нулей или пяти девяток, нисколько
не меньше информации, содержащейся в последовательности любых других цифр.
Разумеется, все это остается слишком схематичным, слишком программным и в
значительной степени спекулятивным. Но тем не менее этого достаточно, чтобы
указать на направление, в котором может развиваться современная
нейрофизиология в поисках исчерпывающего объяснения чувственных качеств. Но будет ли это
означать, что "тайна qualid" скоро будет раскрыта? Утверждать подобное
равноценно смешиванию нашей возрастающей способности локализовать qualia, определять
условия их проявления и манипулировать ими по нашему усмотрению с подлинным
проникновением в их внутреннюю сущность. Можно даже пойти еще дальше и
сказать, что прогресс науки вместо рассеивания тайны все больше сгущает ее,
поскольку мы прекрасно видим, что он совершается в направлении открытия все более и
более точных нейрофизиологических коррелятов сознательного опыта, хотя ничто не
позволяет понять, как эти корреляты могли бы играть роль причин самого этого
опыта. Переживания qualia, "вставляемые в рамку" со все возрастающей точностью,
остаются такими же непрозрачными и неподдающимися расшифровке, какими они
всегда и были.
Похоже, что в отношении qualia "научное видение мира" натыкается на одно из
своих структурных и системных ограничений. Начиная с Декарта и Галилея, оно
создавалось как "взгляд ниоткуда" (Т. Нагель), как исследование внешнего мира
субъектом, не имеющим собственного места, ставшим из-за самой своей экстравертив-
ности невнимательным к пылающему очагу, откуда бьет свет, который он
проецирует на вещи вокруг себя. Невозможность свести qualia к системам объективных
отношений "в третьем лице", развернутым вовне, может толковаться как
приглашение обратить свой взгляд к ним - не столько пытаться их анализировать, сколько
ощущать их более интенсивно и утонченно. Например, говоря о цветах, философия
могла бы с помощью своих собственных средств вдохновиться примером живописи.
Последняя понимает цвета в каком-то смысле куда лучше, чем нейрофизиология.
Ведь живопись не претендует на то, чтобы их объяснить, но умеет им служить, их
слушать. Так, спокойный желто-голубой у Вермеера, так же как и конвульсивный
желтый-голубой у Ван Гога наводят нас - совершенно неинтеллектуальным
способом - на мысль о том, как абсолют может отражаться в красках и через них
являться нам. Восхищаясь красками и другими qualia, вместо того чтобы стремиться их
обуздать, мысль может обрести давно потеряный путь к собственной внутренней
сущности.
Способна ли западная философия совершить подобный шаг? В любом случае
очевидно, что это приведет к глубокому разрыву с ее прошлым. По крайней мере,
начиная с Платона, т.е. уже почти двадцать пять веков, ей свойственны разрыв
между чувственным и умопостигаемым и вместе с тем стремление его преодолеть. В
течение долгого времени пространство ее рефлексии было структурировано
платоновскими схемами: подражание чувственного умопостигаемому, участие
чувственного в умопостигаемом. От Аристотеля к Лейбницу через Декарта и Спинозу все,
кто стремился отмежеваться от Платона, тем не менее продолжали оставаться
зависимыми от его проблематики. Великий поворот наметился с Канта. В своей
"Критике чистого разума" и особенно в "Трансцендентальной эстетике" Кант,
отождествляя время и пространство с априорными формами человеческой чувственности,
сознательно воздвиг между миром понятий и миром чувственной интуиции барьер,
который, допуская взаимную связь между этими двумя областями (так называемая
теория трансцендентального схематизма), отныне запрещал их отождествление.
Между тем он сам испытывал ностальгическое чувство в отношении этого
невозможного слияния, как свидетельствуют об этом понятия "интуитивный разум" и
"идеал чистого разума" в "Критике чистого разума" и "рефлексирующий разум" со
90
всеми его эстетическими и телеологическими импликациями в "Критике
способности суждения". После него мечта о полном растворении природы а ля Новалис
благодаря Гегелю и Шеллингу проходит красной нитью через то, что принято называть
немецким идеализмом. Лишь начиная с феноменологии и ее критики понятия внемир-
ного субъекта стали расшатываться сами основы этой тысячелетней проблематики.
Что же касается дискуссий о qualia, о которых здесь шла речь, то они происходят
почти исключительно среди сторонников направления, которое принято называть
"англосаксонской аналитической философией". Оно сравнительно "молодое",
поскольку стало интенсивно развиваться только во второй половине XX в. Однако
читая труды приверженцев данного направления, можно только поразиться их малой
осведомленности в истории классической философии или, по крайней мере, тому,
что они так скромно пользуются ее уроками. Они редко идут дальше Локка и Юма,
хотя иногда пинают и Декарта (их любимого козла отпущения в роли
предполагаемого автора радикального дуализма ума и тела). После этих трех имен - пустота
(немецкая философия полностью игнорируется) вплоть до Витгенштейна и Райла! Они
наивно полагают, что могут решить - при условии (по мнению некоторых) учета
данных нейрофизиологии - проблему, о глубине и древности которой они, похоже,
даже не подозревают. Но эти наивность и непросвещенность имеют свою
положительную сторону: не отягощенные чрезмерной эрудицией, эти авторы в их лучшие
моменты часто дают примеры свободы выражения и раскрепощенности фантазии,
которые напоминают атмосферу досократической Греции. Возникает даже соблазн
предположить, что признание принципиальной нередуцируемости qualia, которое
постепенно утверждается среди них, воспроизводит в миниатюре внутреннюю
логику, управлявшую развитием "великой" западной метафизики, начиная с Платона.
Возможно, западная мысль, сама не осознавая этого, находится в процессе
воссоединения на основе некоторых посылок, отправляясь от которых откроется
перспектива ее диалога с восточной мыслью. Именно на Востоке, в Индии, а еще в большей
степени в Китае и Японии никогда не было подобной амбиции - свести чувственное
к чему-нибудь другому: к материи или к разуму. Но это отдельная тема.
Примечания
1. Bithol M. Physique et Philosophie de l'esprit. Paris, Flammarion, 2000.
2. Block N. Troubles with Functionalism // Block N. (ed.). Reading in the Philosophy of Psychology. 2 vol.,
Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1981.
3. Churchland P. Matter and Consciousness. MIT Press, Cambridge, Mass., 1984.
4. Dennett D. Quining Qualia // Marcel A. et Bisiach E. (eds). Consciousness in Contemporary Science. Oxford
University Press, 1988.
5. Dennett D. Consciousness Explained. Little, Brown and Company, 1991.
6. Edelman G. et Tononi G. Comment la matière devient conscience (trad, franc, de A Universe of
Consciousness. How Matter becomes Imagination. Basic Books, 2000). Paris, 2000.
7. Engel P. Introduction a la philosophic de l'esprit. Paris, La Découverte, 1994.
8. Jackson F. Epiphenomenal Qualia // Philosophical Quaterly. 32, 1982.
9. Jackson F. What Mary did not know // Journal of Philosophy. 83, 1986.
10. Pinkas D. La matérialité de l'esprit. Paris, La Découverte, 1994.
11. Ryle G. The Concept of Mind. Hutchinson, London, 1949.
П.ЛоккДж. Соч.: В 3 т. Т. 1. M., 1985.
Перевод с франц. В.Г. Лысенко
91
Эволюционируют ли наши когнитивные
способности?*
И. П. МЕРКУЛОВ
Когнитивная информация не содержится в окружающей среде как некая
данность. Ее нельзя отразить, отобразить, как в зеркале, сфотографировать и т.п. с
помощью органов чувств, а затем преобразовать и обогатить, используя для этого
какие-то высшие когнитивные способности. В окружающей среде есть лишь
инварианты, инвариантные структуры, их изменения, сигналы, какие-то корреляции,
регулярности, повторяемость сигналов и т.п. Когнитивная информация должна
быть создана, порождена когнитивной системой живых существ на основе сигналов,
извлекаемых из окружающей среды.
Информация (от лат. informatio - осведомление) есть выбор одного (или
нескольких) сигналов, параметров, вариантов, альтернатив и т.п. из многих возможных, и
этот выбор должен быть запомнен1. В теории информации разработаны
универсальные математические (статистические) методы измерения информации, которые
совершенно не зависят от способов передачи, типов материальных носителей и
формы сигналов в каналах связи, а также от конкретного содержания передаваемых
сообщений. С теоретико-информационной точки зрения информация - это некое
идеальное сообщение, уменьшающее или полностью исключающее неопределенность
в выборе одной из нескольких возможных альтернатив. Количеством информации
обычно называют величину / = log2 (N/n), где N - полное число возможных
вариантов, η - число выбранных вариантов. Это количество отлично от нуля, если
известно, что из N априорных вариантов выбран один из η вариантов. Количество
информации максимально, если η = 1, т.е. известно, что реализовался (выбран) один
определенный вариант. Информация равна нулю (/ = 0), если Ν = η , т.е. выбор не сделан.
Основание логарифма в данном случае (двоичная система) выбирается для удобства -
единицей информации в этой системе является один бит, он соответствует выбору
одного варианта из двух возможных - log2 2/1. Команды компьютеров, как правило,
работают не с отдельными битами, а с восемью последовательными битами сразу,
составляющими байт, который позволяет закодировать значение одного символа
из 256 возможных (2 ).
* Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ, грант № 03-03-00092а.
1 См., например: Кастлер Г. Возникновение биологической организации. М., 1967.
© Меркулов И.П., 2005 г.
92
В свое время родоначальник кибернетики Н. Винер подчеркивал, что
"информация есть информация, а не материя и не энергия . Действительно, информация
может существовать только в виде закодированных сообщений (например, на языке
генетического кода или на языке электрических (нервных) импульсов и т.д.),
которые, однако, обязательно должны быть зафиксированы на материальных носителях.
В образовании и управлении процессами неживой природы информация не участвует,
так как "вычисление", "синтаксис" не являются свойствами (наподобие массы,
тяжести и т.д.), внутренне присущими неживой материи. Это, однако, не означает, что
такими свойствами не могут обладать искусственно созданные людьми
высокотехнологичные неживые материальные устройства. Разработка и производство устройств с
наперед заданными физическими и логическими свойствами составляют основу
конструирования современной вычислительной техники.
Положение, однако, коренным образом меняется, если мы имеем дело с живой
материей, живыми организмами. Биологические системы являются открытыми и
далекими от термодинамического равновесия. Живые организмы несут в себе
информацию, которая управляет образованием и ростом самих организмов,
происходящими в них процессами, их когнитивными способностями и поведением.
Невозможно представить себе "жизнь без ДНК" - живая материя не может существовать
без генетической информации, без своего рода "синтаксиса", который является ее
внутренним биологическим свойством. "Словарь" генетического кода записан на
языке информационной РНК. Генетический код универсален - все живые существа
от простейших бактерий до человека содержат один и тот же набор РНК-кодонов,
которые кодируют одни и те же 20 аминокислот3.
Биологическая информация, способность живой материи к выбору альтернатив,
видимо, возникает в ходе мирового эволюционного процесса одновременно с
появлением самых простейших организмов. Генетические механизмы распознавания и
передачи биологической информации, механизмы транскрипции и трансляции,
ответственные за "сборку" белков, также являются результатом химической
эволюции, которая по времени непосредственно предшествовала началу эволюции
биологической. Жизнь означает размножение, она предполагает передачу потомству
наследственных признаков, т.е. генетической информации. С этой точки зрения
биологическую эволюцию вполне правомерно рассматривать как эволюцию
генетической информации, закодированной в ДНК. Изменения в генетической информации
возникают на уровне отдельных организмов. Соответственно успех биологической
эволюции находит свое выражение в увеличении числа имеющихся в природе копий
определенного набора генетической информации, а ее неудача означает
исчезновение всех копий данного набора. В этом - суть естественного отбора, который
воздействует на генетическую информацию, закодированную в ДНК.
В ходе биологической эволюции происходила дифференциация и специализация
клеток, возникали все более сложные многоклеточные организмы. Постепенно это
привело к формированию нервных тканей и появлению другого типа биологической
информации - информации когнитивной, т.е. информации, которая создается (на
основе сигналов, извлекаемых из окружающей среды и внутренних структур
организмов) и перерабатывается когнитивной системой живых существ. По словам
К. Лоренца, выдающегося австрийского этолога, "жизнь обрела существование с
"изобретением" структуры, способной собирать и сохранять информацию, одновре-
2 Винер Н. Кибернетика. М., 1968. С. 201.
3 Конечно, генетические механизмы распознавания и передачи информации, обеспечивающие
"сборку" белка, не требуют апелляции к внешнему наблюдателю, к некоему "гомункулусу". В силу
вышеизложенного применительно к живой материи тезис американского философа Д. Серла о том, что
"вычисление не является внутренне присущим свойством мира", представляется ошибочным. См.: Серл Д.
Открывая сознание заново. М., 2002. С. 196.
93
менно извлекая из окружающего мира и накапливая энергию, для поддержания
светоча познания. Внезапное творение такого когнитивного аппарата образовало
первый великий водораздел в бытии"4. Возникновение нервных тканей и базирующихся
на работе нейронов когнитивных систем давало несомненные адаптивные
преимущества и, скорее всего, явилось результатом действия механизмов естественного отбора.
Существование любых (даже самых простейших) организмов обязательно
предполагает их обособление от внешней среды и одновременно взаимодействие с ней,
позволяющее биологически приспособиться к ее относительно стабильным параметрам.
Конечно, внешняя среда - это не только источник пищи, восполняющей
энергетические затраты, но и источник многих опасностей, представляющих угрозу для живых
существ. Биологическое выживание означает прежде всего размножение и
приспособление. Но для эффективного приспособления необходимо информационно
контролировать окружающую среду, т.е. обладать как можно более исчерпывающей для
выживания организма информацией о том, что в ней происходит. В результате
естественный отбор оказывается направленным на формирование и эволюционное
развитие у организмов все более высокоорганизованных когнитивных систем, способных
информационно контролировать окружающую среду и их собственные когнитивные
состояния (самовосприятие) с помощью создаваемой этими системами когнитивной
информации. Благодаря эволюции когнитивных систем у организмов появляется
возможность изменить свое поведение, сделать его более адаптированным.
Когнитивная эволюция как самопорождение когнитивных метапрограмм
Итак, начиная с некоторого момента биологической эволюции информационный
контроль окружающей среды (а затем и внутренних когнитивных состояний
организмов) становится важнейшей стороной взаимодействия живых существ с внешним
миром (по крайней мере для тех из них, которые обладали нервной системой). Этот
контроль предполагает создание когнитивной информации, получение сведений о
том, что обеспечивает их выживание - он позволяет, например, обнаружить пищу,
найти брачного партнера, уклониться от опасностей, изменить стратегию охоты,
местообитание и т.д. Для выполнения этой важнейшей для выживания функции -
функции информационного контроля - организмы на протяжении многих миллионов лет
медленно эволюционировали в направлении формирования все более сложных
когнитивных систем, которые обеспечили появление и развитие высших когнитивных
способностей, формирование высокоразвитого интеллекта, способного продуцировать
эффективные мыслительные стратегии, и т.д., т.е. адаптивно ценных способов
переработки и хранения когнитивной информации.
Возникает, однако, вопрос, какие процессы лежат в основе когнитивной
эволюции? Как происходит самопорождение все более высоких уровней сложности и
организации когнитивных систем, обеспечивших появление все более развитых
когнитивных способностей? Процессы когнитивной эволюции исключительно сложны,
они, скорее всего, охватывают эволюционные изменения на многих
взаимодействующих между собой уровнях, в том числе на молекулярном и генетическом уровнях,
на уровне взаимосвязей молекулярно-генетических процессов с работой
когнитивных структур, на когнитивном (информационном) уровне, где происходит создание и
переработка информации. Они также включают механизмы генетического
закрепления прогрессивных эволюционных изменений в когнитивных структурах.
Благодаря созданию достаточно мощных нейрокомпьютеров сравнительно
недавно появилась возможность исследовать процессы самопорождения простейших
когнитивных способностей в искусственных нейронных сетях, состоящих из
суммирующих пороговых элементов - формальных нейронов. Результаты компьютерного
моделирования когнитивной эволюции искусственных организмов, разумеется, нельзя
автоматически переносить на эволюцию когнитивной системы живых существ, да-
4 Лоренц К. По ту сторону зеркала // Эволюция. Язык. Познание. М., 2000. С. 63.
94
же самых простейших. Тем не менее они все же дают некоторые вполне реальные
основания предполагать, что эволюция когнитивных способностей живых
организмов скорее всего могла происходить благодаря формированию все более
высокоуровневых когнитивных метапрограмм, которые в зависимости от тех или иных
мотивов управляют выбором уже имеющихся когнитивных программ более низкого
уровня5. Конечно, это не исключает возникновения адаптивно ценных
эволюционных изменений в самих когнитивных программах и метапрограммах. Возможен,
например, такой вариант когнитивной эволюции, когда эволюционные изменения в
когнитивной метапрограмме создают избыточный резерв, позволяющий
интегрировать и управлять работой все большего числа программ более низкого уровня и
даже порождать такие новые программы6. Конечно, выявленные исследователями
сугубо информационные процессы самопорождения в искусственных нейронных сетях
все более высокоуровневых когнитивных метапрограмм по понятным причинам не
могут дать ответа на вопрос о механизмах их генетического закрепления в геноме
популяций живых организмов.
Когнитивные программы представляют собой логические устройства,
управляющие только логическими свойствами физических устройств или материальных
процессов, протекающих в нейронных сетях нервной системы живых существ на
молекулярном, генетическом, нейронном (клеточном) и т.д. уровнях. По своей природе
эти логические свойства являются эмерджентными по отношению к физическим
свойствам сконструированных людьми искусственных интеллектуальных устройств
или физико-химическим, нейробиологическим и нейрофизиологическим свойствам
живых биологических систем, нервных тканей мозга7. Разумеется, работа управля-
5 В последние десятилетия получило интенсивное развитие компьютерное моделирование эволюции
адаптивного поведения искусственных организмов (аниматов), представленных в виде программ. Это
моделирование позволяет исследовать отдельные аспекты когнитивной эволюции, какой она могла бы
быть в некоторых идеальных условиях. Соответствующие исследования, в частности, показывают, что
управление поведением (выбором действий) обладающих мотивациями искусственных организмов,
которое базируется только на трех весьма простых заданных программах, эволюционирует путем порождения
более высокого уровня управления - метапрограммы, которая осуществляет выбор (запуск или
выключение) уже имеющихся программ (в зависимости от мотиваций). Метапрограмма формирует более
эффективную, более адаптивную стратегию поведения искусственных организмов, способствующую их
выживанию и размножению. Так, например, в условиях недостатка пищевых ресурсов метапрограмма
отключает программу "скрещиваться" и включает программы "питаться" и "отдыхать". В случае наличия
больших пищевых ресурсов она запускает все три программы. Более подробно см.: Редько ВТ.
Эволюционная кибернетика. М., 2001. С. 113-121.
6 Идеальной моделью, а скорее даже просто полезной эвристической метафорой того, как реально
могла происходить когнитивная эволюция простейших организмов, обладавших специализированными
нервными тканями, по-видимому, может служить эволюция операционных систем семейства Windows -
от Windows 95 до Windows ХР - для IBM-совместимых персональных компьютеров. Нетрудно заметить,
что эволюция Windows до настоящего времени сопровождалась главным образом такими
модификациями, которые (кроме повышения надежности) позволяли вновь разрабатываемым версиям этой
операционной системы (т.е. метапрограммам) интегрировать и управлять работой все большего числа
принципиально новых приложений, новых программ более низкого уровня, обеспечивающих выполнение новых
интеллектуальных функций. Так, например, Windows 98 интегрировала и стала управлять работой
браузера, она объединила работу Windows и ресурсы Web (Интернета и электронной почты) в едином
представлении, a Windows ХР позволила записывать файлы различных форматов на DVD или CD диски, не
прибегая к помощи дополнительных программ, не являющихся частью Windows. Конечно, эволюция
операционных систем Windows - это эволюция программируемых человеком логических устройств,
обновление которых возможно только благодаря конструированию все более высокотехнологичных
интеллектуальных физических устройств, все более совершенного "железа" - процессоров, системных плат,
модулей памяти и т.д. Однако у нас нет оснований сомневаться в возможностях биологической эволюции
порождать все более сложные и адаптивно эффективные когнитивные системы.
7 Более подробно см.: Меркулов И.П. Эпистемология. Т. 1. СПб., 2003. С. 164-166.
95
ющих логических устройств всегда обеспечивается комплексом аппаратных средств,
совместным функционированием соответствующих физических устройств
("железа") или биологическими системами (нейронными сетями мозга). Но эмерджентные
логические свойства не могут быть редуцированы к свойствам материальных
процессов более низкого уровня, они к ним не сводятся и не могут быть определены на
их основе. В отличие от логических программ, управляющих только логическими
свойствами искусственных (физических) интеллектуальных устройств, когнитивные
программы мозга живых существ, по-видимому, способны изменять не только
логические, но и обусловливающие их появление нейрофизиологические, нейробиологи-
ческие, молекулярно-генетические и физико-химические свойства нервных тканей,
нейронов и нейронных сетей. Причем некоторые из этих изменений получают
генетическое закрепление в геноме популяций. Благодаря взаимосвязям между
когнитивным и молекулярно-генетическим уровнями эти программы даже могут
порождать группы и сети нейронов с новыми наперед заданными логическими свойствами,
определяя тем самым направление нейроэволюции.
Целенаправленное поведение, как известно, присуще самым простейшим, в том
числе одноклеточным, организмам. Так, например, хаотичные, случайные движения
мокрицы и даже их амплитуда мотивированы вполне определенной целью -
сохранением гомеостатического оптимума (оптимальных параметров жизни),
необходимого для ее выживания. Управление такого рода поведением осуществляется
непосредственно специализированными генами, выполняющими функцию своего рода
протологического устройства. Возникновение таких генов, обеспечивших
управление элементарнейшими формами поведения простейших организмов, относится к
самым ранним стадиям биологической эволюции. Появление многоклеточных
организмов на Земле, а затем и специализированных нервных клеток (нейронов)
означало появление у них простейших биологических устройств, обладавших заданными
(предшествующими этапами эволюции) логическими свойствами. В этих
устройствах, видимо, произошло самопорождение когнитивных программ и метапрограмм,
т.е. информационного, логического уровня управления поведением.
Формирование все более высоких уровней управления (когнитивных метапрограмм)
позволило организмам осуществлять более сложные формы поведения и тем самым
достигнуть более высокого уровня приспособленности, адаптации, который мог
обеспечить их селективное выживание. С этой точки зрения когнитивная эволюция находит
свое выражение в процессах постепенного формирования все более сложных,
иерархически организованных комплексов взаимосвязанных когнитивных программ и по сути
дела сводится к эволюции когнитивных способностей живых существ.
Итак, когнитивная эволюция - это один из аспектов биологической эволюции,
тесно связанный с другим ее аспектом - с эволюцией поведения. Однако
когнитивная эволюция - от организмов, обладавших простейшей нервной системой, до
антропоидов и гоминид, включая и современного человека, - была бы в принципе
невозможна, если бы она не подкреплялась соответствующей эволюцией мозга, т.е.
нейроэволюцией.
Взаимосвязь когнитивной эволюции и нейроэволюции
Благодаря изобретению новых методов, позволяющих определить участие генов
в формировании и функционировании различных органов и нервных тканей, в
генетике и нейробиологии за последние десятилетия были получены многочисленные
экспериментальные данные, которые довольно убедительно свидетельствуют о том,
что в течение 500 млн лет эволюция организмов, обладающих нервной системой,
шла преимущественно по пути совершенствования их когнитивной системы.
Оказалось, что у млекопитающих, включая человека, более половины генов из генома
необходимы для того, чтобы сформировать, "сконструировать" мозг, обеспечить
развитие и дальнейшее функционирование взрослого мозга. На самом дела эта цифра
значительно выше - 70-80%, так как необходимо учитывать также и так называе-
96
мые "молчащие" гены, т.е. те гены, функции которых были ограничены созданием
мозга и его развитием в эмбриональном состоянии.
Численность генов, обслуживающих мозг, удивительно высока. И это
обстоятельство наводит на мысль, что темпы накоплений генетических изменений в мозге
в ходе биологической эволюции были значительно выше, чем в других органах.
Эволюция геномов организмов (по меньшей мере млекопитающих), если ее
рассматривать как результирующую множества событий естественного отбора, видимо,
была в большей мере связана не с морфологическими изменениями различных
органов, а с морфологическими изменениями мозга, с эволюцией его нейроструктур, т.е.
носила преимущественно характер нейроэволюции. Нейроэволюция обеспечивала
создание своего рода обновляемой "элементной базы" ("железа", если
воспользоваться компьютерной метафорой) для эволюции когнитивных функций мозга -
например, обучения, запоминания адаптивно ценной когнитивной информации,
формирования новых стратегий мышления и т.д. В ходе нейроэволюции естественный
отбор шел по когнитивным функциям мозга, поскольку соответствующие
селективные преимущества в относительно большей мере способствовали адаптации и
выживанию организмов. Характерно наличие избыточности, резерва в конструкции
мозга - по мере роста сложности организмов биологическая эволюция нередко
прибегала к удвоению (дупликации) части генетической информации. Дупликация
генов, в свою очередь, открывала новые возможности для дальнейшей специализации
функций. Поскольку мозг исключительно важен для выживания организмов, то
дифференциация и специализация функций более всего развиты в центральной
нервной системе. Одновременно возникала необходимость в интеграции множества
взаимосвязанных когнитивных программ и метапрограмм, в развитии
высокоуровневого центрального контроля воспринимающего себя живого существа.
Кумулятивно эволюционная история организмов, обладающих нервной системой, нашла
свое выражение в тех функциях, которые гены выполняют в современном мозге (и
поэтому мы ее можем "прочитать").
Таким образом, есть основания полагать, что нейроэволюция взаимосвязана с
когнитивной эволюцией, т.е. с адаптивно ценными изменениями в процессах переработки
информации, с формированием и эволюционным развитием когнитивных
способностей вплоть до самых высших - мышления и сознания. Однако представления о
когнитивной системе, ее функционировании и эволюции возникли не в нейробиологии, а в
когнитивной науке. Поэтому возникает вопрос, можно ли эти представления
адаптировать в нужной мере к нейробиологическим структурам? Ответ на него в решающей
мере зависит от того, можем ли мы принять и опираться в своих дальнейших выводах
на следующие предположения. 1. Наш мозг является органом, обрабатывающим
когнитивную информацию. 2. Процессы обработки информации мозгом по меньшей
мере частично управляются генами. 3. Существуют механизмы обратного
воздействия адаптивно ценных изменений в процессах переработки информации
когнитивной системой (в том числе и самопорождающихся когнитивных программ) на
гены, управляющие ее работой.
Гипотеза о том, что человеческий мозг перерабатывает когнитивную
информацию, выдержала весьма тщательные экспериментальные проверки, и ее
правомерность общепризнана в когнитивной науке. С 60-х годов прошлого века модели
переработки информации (естественно, совершенствуясь) остаются основным
теоретическим инструментом исследований когнитивных функций человека в когнитивной
психологии. Еще в предшествующие десятилетия было экспериментально
установлено, что обмен информацией между нейронами головного мозга происходит
посредством электрического (нервного) импульса, хотя передача ее через синапс
осуществляется не электрическим, а химическим способом, который вызывает
изменение электрического потенциала. Таким образом, "языком" мозга (если так можно
выразиться) являются электрические сигналы. Именно поэтому стала возможна
4 Вопросы философии, № 3
97
разработка новейших методов исследования человеческого мозга - в частности,
трехмерного картирования процессов его функционирования в реальном времени.
Наряду с методами ЭЭГ (электроэнцефалограммы) и МЭГ (магнитоэнцефало-
граммы), позволяющих почти мгновенно регистрировать и отображать
информационную активность клеток мозга на основе большого числа данных, поступающих от
чувствительных датчиков или электродов, в последние десятилетия были
сконструированы новые технические устройства, которые сделали возможным структурное
сканирование действующего мозга. Речь идет о позитронно-эмиссионном
томографе (ПЭТ) и функциональном сканере магнитного резонанса (ФСМР). ПЭТ
регистрирует изменения радиоактивности воды, которая вводится в кровь испытуемых.
Поскольку росту активности зон мозга сопутствует увеличение кровотока и
соответствующее изменение радиоактивности, то благодаря ПЭТ появилась
возможность наблюдать на экране монитора локальные зоны информационной активности
мозга при выполнении им тех или иных желательных для исследователей
когнитивных функций. Так, например, ПЭТ-сканирование показало, что когда испытуемые
читают слова, то особенно активными становятся две локальные зоны левого
полушария. Если же испытуемые слушают слова через наушники, то наблюдается
активность соответствующих зон правой гемисферы.
В отличие от ПЭТ функциональный сканер магнитного резонанса не нуждается в
инъекциях радиоактивных материалов. ФСМР позволяет зафиксировать
радиосигналы, которые испускаются атомами водорода в мозге под воздействием изменения
направления внешнего магнитного поля. Эти радиосигналы усиливаются, когда
уровень кислорода в крови повышается, указывая тем самым, какие зоны мозга
являются наиболее активными. Поскольку применение ФСМР не связано с
хирургическим вмешательством, исследователи могут делать сотни сканирований мозга одного
и того же человека (чей мозг столь же индивидуален, как и отпечатки пальцев) и
получать очень детальную информацию о его структуре и функционировании.
Необходимо, однако, учитывать, что наш мозг обрабатывает информацию
настолько стремительно, что сканирующие устройства типа ПЭТ и ФСМР не
поспевают за его текущей работой. Конечно, МЭГ и ЭЭГ - более быстрые методы, но они
не позволяют получить структурную, анатомическую информацию. Поэтому в
последнее десятилетие наметилась устойчивая тенденция к совместному
использованию сканирующих устройств и техники, регистрирующей электрические сигналы
(например, ФСМР в различных комбинациях с МЭГ и ЭЭГ). ФСМР дает возможность
показать информационную активность мозга с высоким разрешением, но относительно
медленно. Напротив, пространственное разрешение ЭЭГ и МЭГ - относительно
низкое, но благодаря своему быстродействию они могут отображать последовательность
событий. Совместное применение функционального сканирования и магнитоэнцефа-
лографии впервые позволило получить трехмерную карту (развертку)
функционирующего мозга в реальном времени. Уже первые эксперименты с трехмерным
картированием мозга дали удивительные результаты - удалось, в частности, обнаружить
корреляцию между анатомическим нарушением (два сросшихся пальца на руке) и
видимой на карте аномалией соответствующих зон мозга пациента. Эта аномалия
почти полностью исчезла после того, как сросшиеся пальцы были отделены
хирургическим путем. Конечно, трехмерное картирование открывает новые перспективы
исследований процессов переработки информации нашим мозгом - например, как
на основе сигналов, поступающих из окружающей среды, порождается когнитивная
информация, как различные зоны мозга обмениваются информацией, как сенсорная
информация ведет к возникновению внутренних мысленных репрезентаций и
мыслей и т.д.
По-видимому, нейроны нашего головного мозга - это относительно медленные
вычислительные устройства. Им необходимо несколько миллисекунд, чтобы
обработать поступившую на вход когнитивную информацию. Но для того чтобы
распознать, увидеть какую-то вещь (например, летящий белый футбольный мяч), нам по-
98
надобятся всего лишь доли секунды. Мы видим цвет мяча, его форму, направление
движения, причем схватываем все это интегрированно, одномоментно, хотя наш
мозг обрабатывает каждый признак отдельно. Скорость вычислений нейрона
человеческого мозга такова, что за доли секунды при последовательной, пошаговой
обработке информации он способен осуществить не более, чем 100 шагов. Таким
образом, наша когнитивная система скорее всего должна иметь мощную
параллельную архитектуру.
В 80-х годах прошлого века в компьютерной науке были разработаны коннекци-
онистские (от англ. connection - связь, подключение) модели переработки
информации (Д. Румельхарт, Д. Мак-Клеленд и др.), которые заложили основы архитектуры
современных нейронных компьютеров (нейрокомпьютеров). В отличие от обычных
цифровых компьютеров они используют принцип параллельной и распределенной
обработки информации. С точки зрения коннекционистских моделей наш мозг
представляет собой исключительно производительный "динамический процессор",
обрабатывающий образцы (паттерны), который способен концептуализировать и кате-
горизировать когнитивную информацию, а также распознавать, какие категории
работают вместе со специфическими стимулами. Мышление, сознание и другие
высшие когнитивные функции возникают, согласно этим моделям, в результате
самоорганизации, ведущей к появлению у нейронных сетей новых эмерджентных
логических свойств, к формированию новых логических устройств. Когнитивные
способности - это эмерджентные свойства когнитивной системы в целом, а не свойства ее
отдельных элементов.
Оказалось, что искусственные нейронные сети, использующие принцип
параллельной и распределенной обработки информации, с гораздо большей степенью
адекватности воспроизводят выявленные нейробиологами механизмы
функционирования мозга - например, наличие в организации нейронов промежуточных,
"скрытых" слоев, при участии которых происходит внутренняя переработка поступающих
извне сигналов, способность определенным образом соединенных групп нейронов к
постепенному изменению своих свойств по мере получения новой информации (т.е.
к обучению) и т.д. Попытки применения коннекционистских моделей в нейробиоло-
гии (Т. Сейновский и др.) повлекли за собой появление новых дисциплин -
(компьютерной) вычислительной молекулярной биологии и нейрокибернетики. Конечно, не
следует забывать, что искусственные нейронные сети представляют собой
идеальные и весьма еще упрощенные вычислительные устройства, где в качестве
формальных нейронов выступают суммирующие пороговые элементы. Обучение таких
сетей, имеющих многослойную структуру, происходит путем оптимизации весов
синапсов. По-видимому, биологические нейронные сети используют значительно
более сложную систему переработки когнитивной информации, где основную роль
играют малоизученные пока что внутриклеточные молекулярные механизмы, а не
модификации синапсов.
Но можем ли мы отталкиваться в своих эпистемологических выводах от
аналогии между работой нашего мозга и работой компьютера - пусть даже и
исключительно мощного, состоящего из искусственных нейронных сетей, включающих в
себя несколько миллионов параллельно работающих вычислительных устройств,
формальных нейронов? Конечно, наш мозг обладает преимуществами и цифровых,
и нейронных компьютеров. Но каковы границы этой аналогии, даже если
согласиться с правомерностью выдвигаемого здесь тезиса, что и наш мозг - этот
естественным образом возникший в ходе нейроэволюции орган, обеспечивший наше
выживание - и созданный человеком компьютер действительно перерабатывают
информацию? Ведь если наш мозг перерабатывает когнитивную информацию аналогично
компьютеру, то это предполагает, что процессы переработки в нем генетически
управляются хотя бы частично, так как невозможно представить себе компьютер,
успешно выполняющий те или иные интеллектуальные задачи, работа которого
вообще не управлялась бы инсталлированными программами. Но означает ли это, что
4*
99
(подобно тому, как это имеет место в компьютере) адаптивно ценные изменения в
переработке информации когнитивной системой человека не оказывают никакого
обратного воздействия на генетическую информацию, управляющую ее работой и в
силу этого вообще не влияют на эволюцию мозга, на нейроэволюцию?
Еще полвека назад многие исследователи полагали, что в силу адаптивной
пластичности нервной системы организмов, обладающих способностью к обучению, эти
организмы как бы "ускользают" от действия естественного отбора по когнитивным
функциям на свой индивидуальный фенотип. Получалось, что их когнитивные функции
оказываются вне действия механизмов биологической эволюции. Мозг рассматривался как
орган, нуждающийся в участии генов, генетической информации только для своего
построения, эмбрионального развития. Оказывалось, что для его дальнейшей работы,
обеспечивающей выполнение когнитивных функций, генетическая информация
вообще не нужна. Сформировавшись, взрослый мозг начинает функционировать подобно
компьютеру, в котором происходит быстрая передача электрических сигналов,
управляемые программами процессы переработки информации и т.п. Мозг может
использовать лишь то, что было заложено в его развитии, он может реализовывать лишь те
управляющие когнитивные программы и метапрограммы, которые были
инсталлированы биологией в ходе его эмбрионального роста и не способен к их обновлению,
влияющему на когнитивное развитие, а уж тем более к когнитивной эволюции.
Вплоть до последних десятилетий нейробиологи действительно не имели
никаких прямых экспериментальных данных, свидетельствующих о наличии
молекулярных связей между выполнением мозгом своих когнитивных функций и эволюцией.
Правда, в пользу таких связей имелись весьма веские общетеоретические
соображения, поскольку предположение о том, что работа центральной нервной системы
человека абсолютно не контролируется генетически, многим биологам казалось
неправдоподобным. К тому же, исследуя когнитивные аномалии (например, синдром
Тернера, который влечет за собой когнитивные проблемы, связанные с
ориентацией в пространстве), генетики обнаружили убедительные примеры того, как
хромосомные аберрации (т.е. численные и структурные нарушения Х- и Y-хромосом)
негативно влияют на работу когнитивной системы человека .
Однако только сравнительно недавно в результате соответствующих
исследований молекулярных нейробиологов было экспериментально обнаружено, что обмен
электрических сигналов, электрическая активность в мозге протекает не только
на поверхности нервных клеток (синапсов), но и уходит в глубь клеток. Эта
активность включает молекулярные каскады передачи электрических сигналов от
поверхности нейронов в цитоплазму и ядро, где локализованы хромосомы и гены.
Отталкиваясь от полученных экспериментальных результатов, можно было
предположить, что гены должны принимать участие в процессах переработки мозгом
когнитивной информации, в выполнении мозгом когнитивных функций, в том числе в
работе мышления, в механизмах обучения, запоминания и т.д.
С середины 80-х годов прошлого века, используя новые методы генетического
маркирования, нейробиологи стали предпринимать систематические попытки
поисков генов, которые могли вовлекаться в когнитивные процессы. Их пристальное
внимание привлекли структурные гены, обеспечивающие рост и дифференциацию
клеток, т.е. гены, ответственные за развитие организмов. Оказалось, что некоторые
из этих ("замолкающих" после выполнения своих функций) генов вновь включаются
в работу мозга при столкновении организмов с когнитивными задачами и проблемами
(которые требуют, например, запоминания, обучения или новых мыслительных
стратегий), но уже в качестве генов-регуляторов . Они синхронно активизируются в
8 См.: Фогель Ф., Мотулъский А. Генетика человека. Т. 3. Мм 1990. С. 94.
9 Гены-регуляторы (или информационные гены) занимают большую часть молекул ДНК и
выполняют важные управляющие функции, относящие в том числе и к работе когнитивной системы организма.
100
миллионах нервных клеток, вовлеченных в выполнение соответствующих
когнитивных функций. Конечно, гены-регуляторы не в состоянии необратимым образом
изменить свойства (в том числе и логические) нервных клеток мозга, оказать
необратимое влияние на передачу электрических сигналов (информации) через синапсы.
Но они могут это делать временно, в течение довольно длительного периода, внося
коррективы в репертуар работы клеток, меняя их свойства, влияя на передачу
информации и т.п. благодаря своему участию в синтезе белков, которые
возвращаются к ядру клетки. Они включают и выключают десятки других генов, управляют,
подобно дирижеру, фенотипическими свойствами клеток в течение довольно
длительного времени, выступая в качестве триггера, запускающего эти процессы.
Таким образом, под воздействием когнитивного события (например, требующего
обучения новому навыку, запоминания, новых мыслительных стратегий и т.д.)
генетические свойства клеток головного мозга могут меняться на длительный период.
Но если подобного рода когнитивные ситуации часто повторяются на протяжении
жизни нескольких поколений (например, в случае существенных изменений
окружающей среды, при переходе отдельных популяций людей от охоты и собирательства
к сельскохозяйственному производству, при массовой миграции сельского населения
в города и т.п.), то постепенно за счет мутаций и рекомбинаций генов, как полагают
некоторые исследователи, происходит замена программы запуска гена-регулятора
(включающегося временно в ответ на возникновение когнитивной проблемы) на
программу, запускающую ген развития (а эти функции - функции регулирования и
развития - как уже отмечалось, могут выполнять одни и те же гены). В результате в
новых нервных клетках происходит порождение необратимым образом таких же
(или сходных) свойств (в том числе и логических), которые только временно
возникали в старых клетках благодаря действиям генов-регуляторов. Иными словами,
благодаря воздействию событий окружающей среды, требующих адаптивных изменений
в когнитивной системе, возникают эволюционные изменения в морфологии мозга
отдельных особей. Эти морфологические изменения, видимо, влияют на логические
свойства нейронов, групп нейронов и нейронных сетей, обеспечивая порождение и
запуск новых когнитивных программ (метапрограмм), которые дают их обладателям
какие-то селективные преимущества в решении соответствующих когнитивных
проблем. Адаптивно ценные эволюционные изменения закрепляются естественным
отбором, они могут постепенно привести к статистическому преобладанию в
популяциях новых индивидуальных фенотипов, а тем самым и включаться в дальнейшую
эволюцию генотипа .
υ По-видимому, подобного рода генетические механизмы могут обеспечить постепенную смену в
человеческих популяциях доминирующего когнитивного типа мышления, т.е. переход от пространственно-
образного к статистически преобладающему знаково-символическому (логико-вербальному) мышлению.
Историки (которые обычно либо игнорируют, либо не уделяют достаточного внимания эволюции
менталитета человеческих популяций) иногда все же фиксируют нарастание сугубо когнитивных проблем,
которые действуют на протяжении жизни нескольких поколений в качестве участвующих в отборе
постоянных факторов окружающей среды. Характерным примером могут служить новые реалии рыночной
экономики, с которыми столкнулось растущее население западноевропейских городов в эпоху позднего
средневековья. Как отмечает Ф. Бродель, французский историк школы "Анналов", эти реалии
заставляли людей (в подавляющем большинстве своем - абсолютно неграмотных) учиться считать, так как
неумение считать создавало дополнительные трудности для выживания. "Повседневная жизнь - это
обязательная школа цифр: словарь дебета и кредита, натурального обмена, цен, рынка, колеблющихся
курсов денег захватывает и подчиняет любое мало-мальски развитое общество. Такие технические средства
становятся тем наследием, которое в обязательном порядке передается путем примера и опыта. Они
определяют жизнь людей день ото дня, на протяжении всей жизни, на протяжении поколений и веков. Они
образуют окружающую среду человеческой истории во всемирном масштабе". (Бродель Ф. Структуры
повседневности: возможное и невозможное. М., 1986. С. 507-508).
101
Если суммировать вышеизложенное, то нетрудно прийти к выводу, что процессы
морфогенеза, процессы эволюции мозга не прекращаются вместе с завершением
его формирования. Наш мозг (разумеется, до наступления почтенного возраста)
постоянно находится в состоянии "перестройки" с участием генов. Он реагирует на
повторяющиеся когнитивные ситуации, создает и запускает новые когнитивные
программы. И, наконец, он включает работу генов, которые раньше принимали участие
в его формировании и развитии. В этом принципиальное отличие человеческого
мозга от современных компьютеров, которые, хотя и обладают способностью к
самообучению, пока что не могут подкрепить без помощи человека свою
"когнитивную эволюцию" эволюцией собственного "железа".
Итак, если наш мозг действительно обрабатывает когнитивную информацию,
если процессы обработки информации мозгом генетически контролируются, а кроме
того, существуют механизмы обратного воздействия работы когнитивной системы на
гены, управляющие ее функционированием, то современная эволюционно-когнитив-
ная эпистемология вполне может отталкиваться от предположения, что
эволюция человека, эволюция нейронных систем его мозга (нейроэволюция)
продолжается, что эта эволюция сопряжена главным образом с адаптивно ценными изменениями
в когнитивной системе человеческих популяций, с изменениями в процессах
переработки когнитивной информации. Благодаря вовлеченности, непосредственному
участию генов в выполнении мозгом своих когнитивных функций обеспечивается
закрепление достижений когнитивной эволюции в геноме человеческих популяций.
Конечно, исследователям еще многое предстоит выяснить, каким образом молеку-
лярно-генетические процессы в клетках (нейронах) и изменения в нейроструктурах
взаимосвязаны с информационными процессами, как на основе этих взаимосвязей
возникают и генетически закрепляются адаптивно ценные сдвиги в процессах
переработки мозгом когнитивной информации - например, в доминирующих
мыслительных стратегиях, в формах внутренних ментальных репрезентаций, в механизмах
памяти, обучения и т.д. Конкретные ответы на эти и подобного рода вопросы,
возможно, будут получены уже в самом ближайшем будущем. Для эпистемологии,
исследующей общие закономерности человеческого познания, исключительный
интерес представляет сам факт продолжающейся когнитивной эволюции человеческих
популяций при участии генов, который теперь уже не вызывает каких-либо
сомнений. Признание этого факта и вытекающих из него следствий, а также трансляция
соответствующих знаний в другие области духовной культуры в перспективе приведет к
радикальным изменениям в наших представлениях об эволюции познания и
факторах, влияющих на когнитивный, социальный и культурный прогресс человечества.
Итак, когнитивная эволюция Homo sapiens sapiens - это прежде всего эволюция
его когнитивных способностей, обеспечивающих информационный контроль
окружающей среды и внутренних когнитивных состояний человека, а тем самым и
выживание человеческих популяций. Хотя познание требует немалых усилий и
напряженного труда, благодаря когнитивной эволюции все наши знания развиваются
частично без нашего сознательного участия в силу естественной смены поколений и
появления популяций - носителей новых адаптивно ценных способов переработки
когнитивной информации, новых когнитивных способностей, нового менталитета.
102
Априорность математики
В. Я. ПЕРМИНОВ
Идея априорного знания поддерживается самой практикой математического
мышления. Мы все осознаем самоочевидность и некорректируемость утверждений
элементарной математики, а также безусловную надежность признанных
доказательств. Математическое мышление постоянно демонстрирует нам первичность
интуитивной основы математического рассуждения перед всяким его символическим
оформлением и общезначимый характер этой основы. Это значит, что
математический априоризм как идея безусловной необходимости математических истин не
может быть устранен из философии математики, он может быть лишь так или иначе
объяснен с теоретико-познавательных позиций.
Теория познания, однако, не достигла здесь полной ясности. Она не имеет пока
убедительного объяснения специфики математических истин и априорного знания в
целом. Очевидно, что здесь нужны некоторые новые идеи, позволяющие более
глубоко осмыслить специфику математики и основания традиционного рационализма.
В данной статье будет изложена концепция математического априоризма, которая
исходит из связи первичных математических идеализации с универсальными
категориями мышления. Наша задача состоит в том, чтобы выявить теоретические
предпосылки этой концепции и показать ее приемлемость для философии и методологии
математики.
Практика как основа универсальной нормативности
В марксистской теории познания подчеркивается, что практика является
стимулом познания, основой познания (в смысле наличного материала и средств), а также
высшим критерием истинности теорий и идей. К этим несомненно верным
положениям необходимо добавить еще одно, состоящее в том, что практика является
нормативной основой познания, т.е. источником универсальных норм, которым
подчинено всякое знание. Это абстрактное положение важно в том отношении, что оно
дает нам возможность понять природу априорного знания из естественных задач
мышления.
Если некоторая развивающаяся и функционирующая система является частью
другой более широкой системы, то в своих функциях она неизбежно подчинена
целям этой системы и общие регулятивы ее развития могут быть поняты только при
© Перминов В.Я., 2005 г.
103
рассмотрении этого функционального соподчинения. Этот абстрактный системный
принцип должен быть руководящим и при анализе процесса познания.
Познавательная деятельность человека - это функциональная часть его практической
деятельности, а это значит, что высшие нормы, регулирующие познавательную
деятельность, имеют праксеологическую природу и должны быть выведены в конечном
итоге из практической функции знания.
Суть этого тезиса состоит в том, что всякое знание, сориентированное на
практику, подчинено нормам, проистекающим из самой этой цели, а именно: из общей
установки на его эффективность для практики. Это значит, что наряду с принципами,
проистекающими из предмета исследования, которые различны для различных
сфер опыта и выражаются в понятиях конкретной теории, существуют
универсальные принципы, проистекающие из общих целей знания и единые для всех его видов.
Это принципы, определяющие универсальную форму знания. Априорное и
апостериорное знание различаются в этом плане как знание телеологическое, заданное
только практической ориентацией мышления, и знание отражательное,
определенное специфическими подразделениями опыта.
Здесь необходимо провести ясное различие между практикой и опытом как
гносеологическими понятиями, которое часто упускается из виду при их обыденном
использовании. В самом широком плане практику мы должны понять как
деятельность субъекта, изменяющую предметный мир, а опыт как систему представлений о
мире, полученную на основе чувственного восприятия. В понятийной картине мира
опыту соответствует вся позитивная информация о мире, основанная в конечном
итоге на актах его чувственного восприятия, а практике - универсальные нормы,
прежде всего категориальные и логические, порожденные деятельностной
ориентацией мышления. Радикальные эмпирики склонны рассматривать опыт в качестве
единственной основы знания, порождающей в конечном итоге и саму систему норм.
Это, конечно, совершенно несостоятельная позиция. Здесь упускается из виду, что
эмпирические суждения получают смысл только на основе категорий, т.е. чистых
деятельностных схем, которые относятся исключительно к актам деятельности,
независимо от структуры и качеств их предмета.
Важно понять то обстоятельство, что только практика конституирует мир
реальных предметов и структуру реальности в целом. Существование предметов и
структуры предметного мира в целом задается в деятельности, до актов познания и
независимо от этих актов. С праксеологической точки зрения предметная реальность
абсолютно первична перед познавательной деятельностью и она никоим образом не
может быть понята как порождаемая имманентной активностью сознания на основе
данных чувственности. Выявление структуры предметного мира - не функция
знания, а исключительно функция деятельности. Внутренняя интенциональность
сознания мотивирована деятельностью. Знание принципиально предметно в том смысле,
что оно начинается только там, где уже выделен его возможный предмет.
Деятельность выявляет две основные структуры сознания, обладающие беспред-
посылочностью и строгой интерсубъективнстью. Это структура предметной
реальности и структура универсальных норм, обусловленных универсальной
практической ориентацией сознания. Наряду с миром предметов как общезначимой
чувственной реальностью нам дана также структура идеальной нормативности, система
универсальных ограничений на содержание и логику мышления, продиктованных
его деятельностной ориентацией. Это значит, что система универсальных норм
мышления проистекает не из разума и не из опыта, а из практической установки
мышления.
Этими положениями намечается определенный синтез между общей установкой
априоризма и марксистской теорией познания, пытающейся объяснить принципы
познания из его практических задач как определяющих. Традиционные трактовки
марксистской философии страдают тем недостатком, что они не выделяют
практики как инстанции, определяющей категориальную основу мышления, и в изложении
104
теории познания принимают позицию эмпиризма, отвергая априоризм как нечто
чуждое практической сущности знания. Действительное положение совершенно
обратное. Априоризм может быть понят в своей сущности и своих методологических
следствиях только на основе учения о практике как основе познания. Мы должны
понять априрность как высшую нормативность мышления, продиктованную его
включенностью в структуру деятельности.
Априорность категорий и логики
Универсальная праксеологическая нормативность проявляется прежде всего в
категориальных принципах. Всякое опытное знание строится как знание о чем-то
материальном, как основанное на причинно-следственных связях, на различении
объектов в пространстве и времени и т.п. Нетрудно понять, что мы имеем здесь дело
с общими требованиями к структуре представлений, проистекающими из их
практической функции. Теория, которая отказалась бы от различения объектов по
пространственно-временным характеристикам, не подчинялась бы общим свойствам
причинно- следственных связей, не отделяла случайное от необходимого и т.д., не могла
бы быть квалифицирована как знание, ибо она заведомо не могла бы быть
использована для координации действий в какой-либо сфере опыта. Знание должно быть
соединено с практикой, а следовательно, оно должно быть подчинено категориям
практики, безотносительным к сфере опыта. Абстрактные принципы типа "причина
раньше следствия", "время необратимо" и т.п. должны быть поняты в этом плане
как наиболее общие ограничения на структуру представлений, проистекающие из их
практической значимости. Попытка объяснить эти принципы из опыта, индуктивно,
обречена на неудачу, ибо она заведомо не способна оправдать их внеисторичность и
необходимость для сознания.
Мы убеждены, что каждое явление, даже самое незначительное, имеет
достаточную причину своего существования. Это положение (принцип причинности) - не
тривиальность и не тавтология. Оно относится к классу синтетических, так как
совершенно очевидно, что оно не следует ни из понятия события, ни из понятия
причинной связи. Каковы основания нашей веры в безусловную истинность этого
принципа, что заставляет нас мыслить любое явление в контексте причинной
зависимости? Опыт сам по себе не обосновывает необходимости причинного видения мира как
универсального. Исходя из опыта мы можем утверждать, что наш мир является в
достаточной степени причинно обусловленным, но никакой конечный опыт не
позволяет нам утверждать, что все явления причинно обусловлены. Существование
человека и его возможность влияния на события вполне совместимы с дефектами
детерминации, с отступлениями от принципа причинности, по крайней мере в тех сферах
реальности, до которых еще не дошла человеческая практика. Мы не знаем всех
событий в мире и хорошо понимаем, что допущение отдельных беспричинных
событий ничему не противоречит ни в теоретическом, ни в практическом плане.
Безусловный характер принципа причинности становится, однако, совершенно
понятным при рассмотрении деятельностной установки мышления. Каков бы ни
был мир в своей основе - полностью или только частично причинным, мы можем
влиять на него только посредством причинных связей, которые дают возможность,
действуя на некоторое событие А, оказывать влияние на появление события В. Вся
наша деятельность представляет собой попытку повлиять на будущее и, вследствие
этого, она органически связана с установлением причинных зависимостей, которые
являются необходимой основой такого влияния. Это значит, что общий принцип
причинности представляет собой не индуктивный вывод из множества наблюдаемых
причинных связей, а прежде всего субъективную направленность на их выявление,
порождаемую актами деятельности. Человек как деятельное существо создает
идеализированную картину мира, согласующуюся с необходимыми условиями
деятельности и являющуюся, в своей сути, оправданием возможности действия. Принцип
105
причинности с этой точки зрения представляет собой не обобщение опыта, а лишь
определенный идеал, человеческий проект реальности, благоприятной для
деятельности. Мы имеем основание утверждать, что принцип причинности - не
эмпирическое суждение, а нормативное требование, проистекающее из необходимой деятельно-
стной ориентации нашего сознания. Такова природа всех основоположений рассудка и
их априорность не что иное, как универсальная нормативность, порожденная
практической функцией знания.
Другой универсальной нормативной структурой сознания, проистекающей из
деятельности, является система логических норм, которой подчинено всякое
понятийное мышление. Если категории ограничивают содержание представлений, являются
системой интуиции, лежащих в основе определения предмета мышления вообще, то
логические нормы - это ограничения на структуру понятий (значений) и возможные
их связи. Знание, построенное вне логики, не является знанием, поскольку оно не
является осмысленным и не может служить основой практической ориентации и
выбора. Логика органически связана с категориальной онтологией, поскольку она
построена на константах, определенных в сфере категориальных очевидностей.
Очевидно, что категориальные и логические представления не являются
эмпирическими в каком-либо смысле. Они отличаются от эмпирических представлений
прежде всего по объекту отражения: в них фиксируются не какие-либо частные или
общие свойства объектов, но сама структура деятельности, ее необходимые
онтологические основания. Деятельность всегда связана с объектом, который
противостоит субъекту, и этот ее универсальный момент мы выражаем в категории материи.
Мы можем действовать, только опираясь на органическую связь явлений, при
которой появление одних из них с необходимостью влечет появление других, и это
необходимо ведет нас к пониманию мира явлений как универсально причинно
обусловленного. Деятельность навязывает нам объектную, причинную и временную
структуру знания, поскольку знание, не определенное в этих категориях, безразлично для
практики и, таким образом, не является знанием вообще. Деятельностная трактовка
категорий существенно меняет кантовское определение их сущности: мы должны с
этой точки зрения понимать априорные категории не как необходимые условия
опыта, а как необходимые онтические предпосылки деятельности.
Категориальные представления внеэмпиричны, ибо они не абстракции, а лишь
деятельностные идеализации и по этой причине безразличны к содержанию опыта.
Кант, безусловно, прав в том, что в категориях не содержится ничего
эмпирического: система представлений, определяющая синтез понятий вообще, не может
зависеть от подразделений, продиктованных содержанием опыта. Категориальные
представления эквифинальны в том смысле, что любой индивидуальный опыт приводит
нас в конечном итоге к одной и той же неизменной и единой для всего человечества
системе категориальных представлений. Глубинные представления о пространстве,
времени, причинности одинаковы у всех народов независимо от эпохи и
географического положения. Здесь мы можем вспомнить глубокую аналогию Лейбница, в
которой универсальные принципы разума отождествляются с прожилками в глыбе
мрамора, которая при самых разных ударах распадается по одним и тем же линиям,
обнажая предначертанную в ней фигуру Геракла. Существенно различаясь по
составу конкретных представлений о мире, все люди едины в категориальных и
логических очевидностях, ибо они навязаны не содержанием опыта, а исключительно
деятельностью, необходимыми моментами в ее структуре. Категориальные
представления самоочевидны. Мы имеем здесь дело не с эмпирической очевидностью, ограниченной
рамками частного опыта, но с аподиктической очевидностью, которая обусловлена
универсальным и нормативным характером этих принципов.
Система категориальных представлений вневременна в том смысле, что она не
изменяется с расширением сферы опыта и области исследуемых объектов.
Современный человек склонен думать, что любое суждение, относящееся к сфере знания,
может быть рассмотрено критически и изменено в результате этой критики. Это
106
убеждение, однако, не совсем верно. Человек не подвергает сомнению свое
собственное существование, факт мышления, существование внешнего мира,
пространства, времени и т.п. Внимательное рассмотрение структуры знания приводит нас к
выводу, что в действительности человек мыслит на основе аподиктических очевиднос-
тей, которые являются предпосылками всякого акта мышления и которые не могут
быть изменены вследствие каких-либо результатов самого мышления. Критический
анализ таких суждений, как "Я существую", "Время необратимо", "Каждое явление
имеет причину" и т.п., важен для понимания их природы, но этот анализ не может
иметь своей целью изменение или опровержение этих утверждений. Эти принципы -
не индуктивные обобщения на основе опыта и не выводы теоретической науки, а
онтологические представления о реальности, навязанные практической
ориентацией мышления. Они обладают высшей достоверностью для сознания и являются его
последней и наиболее твердой основой.
Мы должны признать наличие в структуре знания двух принципиально отличных
друг от друга систем представлений - эмпирических и категориальных. Разница
здесь не количественная: категории не просто более общие или более абстрактные
понятия, чем эмпирические, они не просто более универсальны и не просто более
очевидны. Система представлений, связанная с категориями и с логикой, лежит
принципиально в другом измерении и качественно отличается от системы эмпирических
представлений как по генезису, так и по функции. В категориях мы раскрываем
особую реальность, не выразимую в частных понятиях, поскольку все частные
представления строятся на основе категорий. Категории в этом смысле образуют
первичную и абсолютно автономную сферу представлений. Мы будем называть эту
сферу представлений категориальной онтологией или категориальным видением
мира. Категориальная онтология представляет собой первичный и определяющий
уровнь априорного знания.
Априорность исходных представлений математики
Кант понимал априорность математики как некоторый несомненный факт,
позволяющий обосновать априорность пространства и времени. Такая логика
рассуждений не может быть принята как удовлетворительная. Правильное движение
должно быть обратным: мы должны подойти к обоснованию априорности математики,
исходя из априорности категориальной основы мышления.
Косвенное соображение в пользу положения об априорности истин
элементарной математики проистекает из самоочевидности этих истин. Как уже сказано,
априорные истины даны сознанию с особой степенью очевидности, которая
преобладает над очевидностями, относящимися к содержанию знания. Таковы, к примеру,
нормы логического умозаключения. Но в таком случае сама аподиктическая
очевидность может быть использована в качестве признака априорного знания. Если
мы посмотрим на исходные представления арифметики и геометрии, то должны
будем признать, что они являются аподиктически очевидными, либо полученными из
аподиктически очевидных истин на основе аподиктически очевидных мысленных
операций. Пифагорейский тезис, согласно которому ложь не может быть
присоединена к утверждениям о числах, понятен современному математику ничуть не в
меньшей мере, чем математикам (да и всем людям) во все времена. Элементарные
арифметические и геометрические истины даны человеческому сознанию с
непреложностью, и этот факт заставляет нас признать, что здесь мы имеем дело с представлениями,
радикально отличными от представлений опытных наук.
Общее теоретическое обоснование априорности исходных математических
идеализации требует рассмотрения структуры универсальной онтологии. То, что мы
называем универсальной, абстрактной или категориальной онтологией, состоит из
двух существенно различных частей, которые можно назвать причинной и
предметной онтологией. Чтобы действовать, мы нуждаемся в наличии причинных связей.
107
Причинность является, таким образом, универсальным онтологическим основанием
деятельности. Система онтологических категорий, включающая категории
материи, пространства, времени, причинности, случайности, необходимости, бытия,
небытия и т.п., является целостной в том смысле, что все эти категории описывают
аспекты реальности, определяющие деятельность, а точнее, акт деятельности в его
необходимых онтических предпосылках. Эта часть онтологии может быть названа
каузальной или динамической, так как в центре ее находится представление о
причинной связи, определяющее практическое отношение человека к миру.
Причинная онтология, однако, не исчерпывает всей сферы универсальных
онтологических представлений. Для того чтобы действавать, мы нуждаемся не только в
идеальных представлениях о связях, но и в идеальных представлениях о предметах, с
которыми мы действуем. Передвигая и вращая предметы, мы должны
рассматривать их как те же самые. В процессе действия мы неизбежно опираемся на
допущение тождества предметов и постоянства их структуры, т.е. на идеальные
представления о предметах, как удовлетворяющих общим условиям деятельности. Точно так
же, как деятельность вырабатывает у нас идеальные представления об
универсальности причинной связи, она вырабатывает и представления о мире как совокупности
предметов, которые конечны в пространстве и времени, стабильны в своих формах,
отделены друг от друга и т.д. Наряду с каузальной онтологией, которая выражает
собой идеальные условия акта действия, мы имеем систему предметных
идеализации, идеализированную структуру мира, конституируемую деятельностью.
Адекватное понимание математики как априорного знания достигается при
осознании того факта, что в основе исходных математических идеализации лежат
универсальные представления предметной онтологии, выработанные деятельностью.
Генетически первичные математические теории, а именно: арифметика и евклидова
геометрия, исходят их общезначимых представлений предметной онтологии,
выражая собой формальный или формализуемый аспект этой онтологии. Как и
категориальные представления, представления, лежащие в основе математических
понятий, - не абстракции и не теоретические идеализации, а интуиции, проистекающие
из деятельностной ориентации познающего субъекта. Математика с этой точки
зрения есть формальная онтология мира, схватывающая свойства его
идеально-предметной структуры, и она, безусловно, априорна в том смысле, что ее исходные
истины фиксируют не факты опыта, а лишь отношения идеальной предметности.
Обычный довод против априористского истолкования истин арифметики и
геометрии исходит из факта их содержательности, приложимости к описанию счета и
измерения. Мы охотно верим, что ребенок усваивает арифметические истины в
опыте посредством счета и упорядочения реальных предметов. Это воззрение,
однако, упрощает и искажает действительную ситуацию. Анализ процедур счета и
измерения показывает, что они всецело определены представлениями идеальной
предметности и имеют смысл только в рамках этих представлений: деятельность счета
строго ограничена ситуациями, соответствующим требованиям идеальной
предметности. Мы не пытаемся определить точное число волн на поверхности воды или
число переживаний в нашей душе за определенное время суток, так как волны и мысли
не обладают достаточной дискретностью и не попадают в число объектов, к
которым применима операция счета. Мы не можем изменить эти требования под
действием какого-либо опыта. Арифметика представляет в своей сущности не что иное,
как описание требований к объекту, продиктованных универсальной предметной
онтологией. Но это означает, что законы арифметики не порождены процедурами
счета, а являются их условием, их убедительность для нашего сознания проистекает
не из практики счета, а из универсальных требований предметной онтологии.
Ошибка философов-эмпириков состоит в том, что они пытаются вывести понятие числа
из процедуры счета, истолковывая сферу приложения арифметики в качестве
источника ее истин. Они, как говорил Фреге, смешивают применение математической
истины с самой этой истиной [1. С. 45]. То же самое относится и к процедуре измере-
108
ния. Эта процедура опирается на представления о количестве и величине, которые
априорны и имеют свои истоки в структуре практики.
Имеется также некоторого рода антропологический аргумент против
априорности математики, который исходит из того факта, что у первобытных народов не
наблюдается развитых представленний о числе и натуральном ряде чисел. Этот
аргумент, однако, проистекает из смешения априорного знания со знанием врожденным.
Априорность представлений не означает их врожденности, а означает лишь их
интерсубъективность и эквифинвальность, т.е. их появление в качестве необходимой
формы мышления в любом мыслящем сознании. Исходные математические
представления, несомненно, априорны в этом смысле. Мы имеем все основания говорить
об априорности арифметики и элементарной геометрии как теорий, основанных на
априорных представлениях. Математика имеет не эмпирическую, а онтологическую
основу; ее исходные положения являются априорными и онтологически истинными.
Слабость традиционного априоризма
Понятие a priori по отношению к логическим и математическим истинам
систематически стал использовать Г.В. Лейбниц. Он полагал, что все математические
истины врождены ("потенциально находятся в душе человека") и что они аналитичны в
том смысле, что их можно свести к системе самотождественных утверждений типа
А = А. Лейбниц считал, что принципы математики относятся к реальности и
заключают в себе глубинные истины о строении мира, не доступные для опытного
познания. Он понимал непрерывность не только как свойство математических объектов,
но и как характеристику процессов природы. Математика и метафизика образуют,
по Лейбницу, систему необходимых истин, противостоящих случайным истинам,
взятым из опыта. Лейбницевская концепция априорного знания является предельно
элементарной в том смысле, что она, по сути, лишь фиксирует факт наличия в
человеческом сознании истин, не подлежащих опровержению.
Кант существенно углубил лейбницевское понятие необходимых истин. Главное
достижение кантовской теории познания состоит в разделении содержания и формы
мышления и в обосновании того факта, что математическое знание относится к
форме мышления и обладает принципиально иными характеристиками, чем знание,
основанное на опыте. Кант отделил априорность от врожденности и строго
обосновал факт синтетичности математического знания. Он, таким образом, отделил
математику от опытных наук как науку о форме мышления, а также и от логики как от
системы аналитических априорных истин. Математика, по Канту, непосредственно
базируется на априорных представлениях пространства и времени: геометрия
понимается как теория, концептуализирующая представление о пространстве,
арифметика аналогичным образом соотносится с представлением о времени. В отличие от
Лейбница Кант истолковывает математические представления как сугубо
идеальные, не имеющие отношения к реальности самой по себе.
Недостатки кантовской теории в настоящее время очевидны. Она выглядит
догматичной в том смысле, что не проясняет генезиса априорных форм мышления. Они
мыслятся как изначально присущие человеческому сознанию, как проистекающие
из природы человека как существа определенного вида. Эта неясность усиливается
положением о трансцендентности априорных форм, т.е. об их независимости от опыта
и структуры реальности в целом. Это положение трудно согласовать с тезисом об
универсальности этих форм в качестве механизмов эмпирического синтеза.
Математическое знание, относящееся к форме мышления, также полностью отделяется от
мира вещей, лишается статуса реального в каком-либо смысле. Кантовская теория
страдает также неясностью и в определении состава априорных принципов. Кант,
как известно, включал в состав априорного знания вместе с принципами математики
также и принципы чистого естествознания, что, конечно, неприемлемо для
современной методологии науки. Кант абсолютизировал математическую очевидность,
109
не обратив должного внимания на логические механизмы математического
мышления, которые выводят его за пределы всякой очевидности. Появление неевклидовых
геометрий вошло в противоречие с этой установкой Канта и с его философией
математики в целом.
С деятельностной точки зрения следует считать ошибочной также и идею
зависимости арифметики от понятия времени. Интуитивной основой арифметики, с этой
точки зрения, является структура идеальной предметности, которая принципиально
статична и не включает в себя представления времени. В настоящее время хорошо
осознан тот факт, что исходные понятия математики как элементарной, так и
высшей, имеют структурный характер и не предполагают апелляции к этому
представлению. Применение временной терминологии в теории последовательностей или в
теории пределов является чисто дидактическим приемом и полностью исключается
строгим аксиоматическим представлением этих теорий.
Не может быть признана вполне удовлетворительной и концепция априорности
Э. Гуссерля, появившаяся в начале прошлого века. Гуссерль стремился освободить
априорное знание от остатков антропоморфизма, имеющих место в кантовской
теории. Кант не исключал того положения, что существа, отличные от человека, могут
иметь другие априорные представления. С точки зрения Гуссерля, априорные
представления не зависят ни от объекта, ни от субъекта мышления и являются
совершенно одинаковыми для любого познающего существа, будь это люди, чудовища
или боги [2. С. 101]. Это, несомненно, более правильный взгляд на природу
априорных представлений. Гуссерлевское учение об эйдосах при всей его проблемности
устраняет кантовский номинализм, определяющий чистую чувственность только как
созерцание in concreto. Гуссерль, наконец, предпринимает попытку понять логику
становления самих априорных форм, которая отсутствует в кантовской теории
познания.
Гуссерль, однако, существенно ослабляет установки кантовского априоризма в
том смысле, что допускает существенное эмпирическое опосредование в
становлении априорных представлений. Вместе с радикальными эмпириками он допускает,
что арифметика и геометрия как теоретические науки не могли возникнуть иначе,
как на основе счета и измерения. Становление геометрии, по его мнению, было бы
невозможно без протогеометрии - грубой эмпирической геометрии, создаваемой в
практике измерений. Если априорное у Канта независимо от опыта и в
генетическом и в логическом отношении (он допускает здесь только неспецифическое
влияние опыта, не определяющее содержания априорного знания), то у Гуссерля
априорное знание с самого начала опосредовано наличием конкретных переживаний и
является независимым от опыта только логически, в качестве сформировавшейся
эйдетической структуры. Это включение опыта в формирование априорных
структур сознания сдвигает феноменологию в сторону эмпиризма и ставит ее перед
проблемой объяснения интерсубъективности и стабильности этих структур. Исключив
анализ целей мышления как неприемлемую метафизику, Гуссерль вынужден
выводить нормы мышления из самого его материала, что неизбежно возвращает его к
идее относительности всех принципов.
В течение последнего столетия были намечены подходы к обоснованию
априорного знания из принципов позитивной науки. Одним из таких подходов является
эволюционная эпистемология, которая стремится понять априорное знание как знание,
врожденное или закрепленное эволюцией. Здесь присходит некоторое возвращение
к позиции Декарта и Лейбница, и заслуга Канта усматривается только в том, что он
впервые зафиксировал наличие в человеческом сознании элементов
филогенетически унаследованных представлений [3]. Хотя сторонники эволюционной
эпистемологии убеждены, что они вскрывают подлинную основу кантовского априоризма, в
действительности мы имеем здесь дело с очевидным искажением его сути, с
подменой трансцендентального идеализма некоторого рода натурализмом. Идеальный
(нормативный) субъект заменяется здесь субъектом психофизиологическим, апри-
110
орность - врожденностью. При такой трактовке исчезает принципиальное
разделение формы и содержания мышления, и за априорное знание выдается часть
предметного знания, обладающая относительной стабильностью. Система априорных
принципов становится подвижной и подверженной корректировке.
Врожденное знание, несомненно, существует и может быть предметом
исследования, но оно не имеет никакого отношения к априорным формам мышления, о
которых идет речь в кантовской теории познания. Это обстоятельство является
важным для философии математики, ибо математика, будучи априорным знанием, ни
при каких обстоятельствах не может быть понята в качестве знания врожденного.
Деятельностное обоснование априорного знания важно в том отношении, что
оно, с одной стороны, реабилитирует традиционый априоризм в его наиболее
существенных моментах, прежде всего в радикальном разделении формы и содержания
мышления, а с другой стороны, естественным образом устраняет его внутренние
проблемы. Мы рассмотрим здесь некоторые из этих проблем, имеющих отношение
к современной философии математики.
Синтетичность математических истин
Важнейшей особенностью математики, отличающей ее от логики, является
синтетический характер ее принципов. Мы определяем суждение как синтетическое,
если связь субъекта и предиката, осуществляемая в нем, опирается на некоторое
внешнее представление, которое не раскрывается анализом его понятий.
Эмпирические суждения, безусловно, синтетичны, поскольку они опираются на представления
опыта. Для понимания синтетического характера суждений математики важно
осознать факт аналитичности логики. Аналитичность законов логики становится
очевидной уже из простого их рассмотрения, которое показывает, что каждый такой
закон является ни чем иным, как разъяснением используемых в нем исходных
смыслов таких, как "не", "и", "или" и т.п. Утвеждая, что из Vx F(x) следует Зх F(x), мы
опираемся на интуитивно ясное понимание отношения между целым и частью.
Признак, принадлежащий всем объектам, не может не принадлежать некоторым из них,
ибо это противоречило бы принятому смыслу слов "все" и "некоторые".
Аналитичность логики проистекает из ее функции как универсальной языковой
нормы. Отображение содержания в суждениях может происходить только через
соподчинение значений на основе предварительно принятых смыслов, которые мы
называем логическими константами. Органическая связь логики с онтологией
проистекает из того обстоятельства, что только онтологические представления могут
дать систему стабильных и общезначимых смыслов, необходимых для кодирования
предметного содержания в суждениях и установления строгих смысловых тождеств
между ними. Принципы реальной логики аналитичны, ибо это те, и только те
утверждения, которые определяют смысл логических констант.
Принципы математики, по Канту, синтетичны, поскольку они опираются на
априорные представления о пространстве и времени. Устанавливая синтетичность
математических истин, Кант устраняет лейбницевское отождествление математики и
логики, намечая тем самым более глубокое понимание природы математического
мышления. Однако надо признать, что объяснение синтетичности математических
суждений, данное Кантом в "Критике чистого разума", не обладает достаточной
убедительностью. Большая часть его аргументации искусственна и уязвима для критики.
Действительно, непросто согласиться с положением, что 5 + 7 не заключают в себе
числа 12. Логическая экспликация понятия числа опровергает это положение [4].
Арифметика, как теория, основанная на определениях, несомненно, содержит в
себе также и аналитические суждения и разграничение одних от других на уровне
непосредственной очевидности, как это пытается сделать Кант, недостижимо. Ясно,
что при обосновании синтетичности математики мы должны исходить не из кон-
111
кретных примеров, а из некоторых общих положений о статусе математической
теории в целом.
Понимание деятельностной и предметно-идеальной природы исходных
математических истин позволяет дать более строгое объяснение их синтетичности.
Арифметика с этой точки зрения синтетична потому, что она имеет истоки не в логике, а
в идеально-предметных представлениях о мире и, следовательно, в какой-то части
своих принципов является содержательной и описательной наукой. Хотя это
абстрактное положение не дает критериев, позволяющих с полной определенностью
отнести конкретное математическое суждение к классу аналитических или к классу
синтетических, оно позволяет нам утверждать, что конструирование
математических теорий невозможно без привнесения некоторого внешнего содержания,
выходящего за рамки логических тождеств. Мы приходим к выводу, что в отличие от
логики математическая теория по необходимости должна содержать в себе суждения, не
выводимые из одних лишь понятий. Понимание этого обстоятельства позволяет
оправдать разделение логики и математики как аналитического и, соответственно,
синтетического знания и, тем самым, уже на философском уровне показать
несостоятельность общей установки логицизма, который стремился понять математику
лишь как продолжение и усложнение логической теории.
Изложенные соображения позволяют нам с большей определенностью очертить
сферу априорных синтетических истин. Кант, как известно, понимал принципы
механики так же как априорные и, следовательно, имеющие тот же статус, что и
принципы геометрии. Близкая позиция обосновывалась Э. Гуссерлем в его теории
региональных онтологии. Гуссерль полагал, что в основе любой теоретической науки
лежат априорные принципы, определяющие специфику ее предмета и имеющие
безусловное значение для всех ее понятий. С этой точки зрения
априорно-синтетические суждения имеют место не только в математике, но и во всех теориях,
выступая в качестве их неколебимого логического основания [5].
Деятельностное понимание априорного знания исключает такую трактовку
общих принципов науки. Принципы теории, имеющей эмпирический базис, обладают
не онтологическим, а собственно теоретическим (гипотетико-дедуктивным)
статусом, и они ни при каких обстоятельствах не могут быть отождествлены с
априорными принципами мышления, выполняющими роль механизма эмпирического синтеза.
Принципы механики синтетичны в эмпирическом смысле, а не в смысле
онтологической истинности, и не могут быть отождествлены по своему статусу с принципами
геометрии и арифметики, производными от универсальной онтологиии. Границы
априорного синтетического знания строго определены сферой универсальной
онтологии и вследствие этого не выходят за пределы аподиктически очевидных истин
математики.
Реальность математических объектов
Праксеологическое понимание интуитивной основы математического мышления
позволяет нам по-новому посмотреть на старый спор о реальности математических
абстракций: являются ли эти абстракции фикциями, изобретением человеческого
ума, либо они содержат в себе некоторое содержание, предопределенное структурой
мира, в котором мы существуем. Изложенные соображения дают нам возможность
защитить математический реализм и прояснить его действительные основания.
Необходимо разделить методологическое и философское понимание
математического реализма. Методологический реализм сводится к утверждению, что в
математике в качестве непосредственно истинных могут приниматься не только
утверждения о конкретных предметах (числах, фигурах), но и утверждения об абстрактных
сущностях таких, как множество действительных чисел и т.п. Номиналисты
полагают, что подлинной надежностью обладают только высказывания о конкретных
объектах, таких как натуральные числа и операции с ними. Этот спор в настоящее
112
время можно считать законченным: методология математики в достаточной
степени прояснила тот факт, что строго номиналистическое построение математики не
может быть осуществлено.
Для философии математики более важной и более трудной является идея
метафизического реализма, который стремится найти за математическими
абстракциями некоторого рода реальное существование. Праксеологическое понимание
математических идеализации решает этот вопрос в положительном смысле. Конечно,
нельзя думать, что математическому треугольнику соответствует "реальный"
треугольник, существующий в некотором поднебесном мире, как это думал Платон.
Идея субстанциального существования математических объектов неприемлема. Но
с другой стороны, ясно, что система исходных представлений математики не
вымысел, не конвенция и не плод свободного воображения. Система исходных
математических идеализации однозначно определена структурой предметной онтологии, и в
этом смысле она имеет несомненную объективную значимость, прямое отношение
к структуре нашего мира. Числа и фигуры - мысленные представления,
существующие только в голове математиков и в этом смысле они идеальны. Но, они -
необходимые представления сознания, мышление без которых так же невозможно, как оно
невозможно без представлений о причинности и времени. В этом смысле
математические объекты - необходимые составляющие деятельностной картины мира и,
следовательно, объекты, имеющие реальную значимость.
В своем отношении к миру человек строит два уровня представлений:
теоретические представления, систематизирующие данные опыта, и онтологические
представления, фиксирующие в себе необходимые условия акта деятельности. Оба этих
уровня представлений обладают объективной значимостью, ибо оба они
определены и подтверждены практическим отношением человека к миру. И если
математическая теория в своих исходных интуициях задана категориальной онтологией, то ей
не может быть отказано в статусе реально значимой теории. Соглашаясь с теми, кто
говорит, что законы математики - не законы природы, основанные на опыте, мы,
тем не менее, имеем право настаивать на их связи со структурой реальности,
выраженной в категориях. Этот ход мысли приобретает полную ясность, если мы
перейдем от Канта, считавшего категории только формой мышления к Гегелю,
который считал их также и формами бытия вещей. Праксеологическая теория
познания в определенном смысле оправдывает позицию Гегеля, указывая тем самым и
путь для понимания смысла утверждений о реальности исходных математических
идеализации.
Праксеологический априоризм, таким образом, отличается от традиционного
тем, что он является одновременно и реализмом. Связывая исходные
математические идеализации с универсальной онтологией, праксеологический априоризм
оправдывает традиционную веру математиков в реальную значимость математических
объектов и теорий. От кантовского априоризма с его абсолютной имманентностью
форм мышления мы должны возвратиться к априоризму Лейбница, для которого
универсальные принципы мышления выступают одновременно и в качестве
основополагающих характеристик реальности. Наше различение евклидовой геометрии
как реальной от других геометрий, полученных из нее посредством логических
трансформаций, безусловно оправдано и имеет вполне определенный смысл: в
отличие от других геометрий евклидова геометрия является онтологически истинной,
согласованной с принципами идеальной предметности. Ясно, что такого рода
реализм относится только к генетически исходной группе математических понятий,
имеющих онтологическую значимость. К внутренним объектам теории,
полученным на основе конструкции, применение понятий априорности и реальности не
имеет смысла.
Современные теории математического реализма неудовлетворительны
вследствие отсутствия подлинного анализа онтологии математики. Не проясняя связи
математических идеализации с универсальной онтологией, современный математичес-
113
кий реализм сводится либо к обоснованию абстрактного объективизма в духе Канта
и Гуссерля, либо к попыткам прямого соотнесения математики с физической
реальностью того типа, который дается эволюционной эпистемологией [6].
Натуралистические подходы, однако, столь же несостоятельны, как и подходы чисто
идеалистические, рассматривающие математические понятия как только необходимые
конструкции сознания.
Априоризм и проблема обоснования математики
Все программы обоснования математики являются априористскими в том
смысле, что они постулируют абсолютную истинность некоторых утверждений и
абсолютную надежность некоторых методов рассуждения. Они постулируют наличие
обосновательного слоя, который не подлежит обоснованию вследствие своей
абсолютной надежности. Главная методологическая трудность всех программ
обоснования состоит в определении природы и границ этого слоя.
Гильберт соглашался с Кантом в том, что чистое созерцание является наиболее
глубоким фундаментом математики. Он считал, однако, что Кант не дал
адекватного определения сферы априорного знания. "...В кантовской теории, - писал
Гильберт, - все еще остаются антропоморфные шлаки, от которых она должна быть
очищена, и после того как они будут удалены, останется лишь та априорная
установка, которая лежит в основе чисто математического знания. По существу она и есть
та финитная установка, которую я охарактеризовал в ряде своих работ" [7. С. 448].
Гильберт, таким образом, понимает математическую априорность как строгую фи-
нитность и проблема обоснования математики получает смысл как обоснование
бесконечного на основе конечного.
Эта программа, однако, оказалась нереализуемой. Итог исследований в
основаниях математики в XX в. можно свести к тому тезису, что бесконечное не может
быть обосновано на основе конечного. Мы должны, таким образом, либо
отказаться от построения программ обоснования математики вообще, либо некоторым
образом реабилитировать бесконечное, поместив его в круг априорных предпосылок
математического знания. Ценность деятельностной теория познания состоит в том,
что она указывает на некоторые возможности реализации второй альтернативы.
Обоснование априорности принципов классической логики позволяет оправдать
универсальность закона исключенного третьего и отбросить как необоснованные
соответствующие ограничения в метатеории. Принципиально важно, что в рамках
праксеологического анализа мы обосновываем не только априорность аксиом
логики и элементарной математики, но и априорность таких утверждений, как аксиома
бесконечности и аксиома выбора [8. Часть. 2. гл. 1]. Становится все более ясным,
что представления о непрерывности и бесконечности входят в состав априорных
представлений мышления и, следовательно, при некоторых формальных
экспликациях могут быть включены в состав обосновательного слоя. Мы можем, таким
образом, уйти от финитизма как абсолютного определения границ обосновательного
слоя, достигая тем самым существенного расширения метатеории и возможностей
формалистского подхода. В этом плане, в частности, могут получить полную
реабилитацию генценовские подходы к обоснованию формальной арифметики,
основанные на принципе трансфинитной индукции. Аналогичные соображения,
направленные на расширение обосновательного слоя, справедливы также и в отношении
других программ.
Праксеологическая трактовка априорного знания позволяет оправдать
непосредственный переход от онтологической истинности принципов к их абсолютной
непротиворечивости. Мы можем принять здесь то положение, что любая система
онтологических истин обладает абсолютной внутренней непротиворечивостью. Мы
вправе говорить о логической совместности в системе онтологических истин, а
следовательно, и об абсолютной непротиворечивости всех математических теорий, ос-
114
нованных на аподиктически истинных аксиомах. Разумеется, не всякая
содержательная интерпретация математических аксиом обосновывает их непротиворечивость,
поскольку сама она может содержать в себе противоречивые положения. Этот
дефект, однако, исключен в случае онтологической истинности. Аксиомы реальной
логики, арифметики и евклидовой геометрии безусловно непротиворечивы, поскольку
они лишь фиксируют различные аспекты идеальной предметности, представляющей
категориальную основу математики.
Это значит, что новая программа обоснования математики может отказаться от
обоснования непротиворечивости элементарных аксиоматик, сдвигая тем самым
всю проблему к обоснованию математического анализа и теории множеств.
Исследования Г. Крайзеля и Г. Такеути показывают, что из непротиворечивости
арифметики вытекает непротиворечивость математического анализа и существенных
фрагментов теории множеств. Обоснование аксиомы бесконечности в качестве
онтологически истинной открывает путь к обоснованию непротиворечивости некоторых
простых, но вместе с тем достаточно сильных аксиоматик теории множеств [9.
С. 86-96].
Новая обосновательная методология, таким образом, становится возможной
через критику финитизма и через оправдание некоторой части трансфинитной
математики в качестве онтологически истинной. В этой новой стратегии обоснования
математики основная проблема состоит не в отделении конечного от бесконечного,
а в отделении бесконечного, которое нуждается в обосновании, от того
бесконечного, которое имеет непосредственное онтологическое обоснование.
Некоторые идеи, связанные с непосредственной опорой на онтологическую
истинность в процессе обоснования математики, были высказаны К. Геделем в его
статье "Расселовская математическая логика" [10]. Основная направленность
рассуждения Геделя состояла в критике номиналистского обоснования математики, а
именно: тех программ, которые на основе конечных номиналистически
интерпретируемых понятий пытаются ввести всю систему определений и принципов,
необходимых для оправдания теории множеств. Таковы не-класс концепция множеств
Рассела, которая конструирует понятие класса на основе понятий логической функции и
значения, и финитистский подход Гильберта, нацеленный на оправдание
бесконечных множеств в рамках финитной математики. Идея Геделя состояла в том, чтобы
некоторые из высших принципов математики, связанных с бесконечностью,
принять на основе их непосредственной истинности в качестве безусловно ясного
описания математической реальности.
Эта стратегия кажется малооправданной, ибо вся обосновательная критика
классической математики была направлена на то, чтобы устранить обыденные и
неконструктивные интуиции из математики, как чреватые противоречиями. Интуитивная
ясность определений, как показывает практика, не дает нам гарантий их
совместности. Идея Геделя, однако, приобретает смысл, если мы имеем обоснование
априорности (онтологической истинности) тех или иных абстрактных математических
принципов. Ценность праксеологической теории априорного знания состоит в том,
что она позволяет выработать такое обоснование, по крайней мере по отношению к
части математических истин. Несомненно, что возможно строгое обоснование
априорного и, следовательно, предельно надежного характера принципов классической
логики, арифметики и элементарной геометрии.
Наш общий вывод может состоять в том, что деятельностная теория позволяет
указать истинные границы априорной математики и дать таким образом
рациональные аргументы для оправдания обосновательного слоя в конкретных случаях.
С эмпирической точки зрения обосновательный слой всегда относителен и
подвержен корректировке. В этом состояла суть позиции, защищаемой И. Лакатосом.
Праксеологический анализ исходных математических идеализации показывает ее
полную несостоятельность. Математика имеет свои истоки не в опыте, а в
категориальной онтологии, и представляет собой знание, радикально отличное от знания, ос-
115
нованного на опыте. Онтологически означенная система математических
принципов представляет собой обосновательный слой, не нуждающийся в каком-либо
дополнительном обосновании. Регресс в бесконечность обрывается на онтологически
истинных суждениях, и мы достигаем в математике абсолютного фундамента,
который не достижим в сфере эмпирического знания. Подлинное обоснование
математики есть только евклидианское обоснование, базирующееся на онтологически
истинных принципах. Такого рода обоснование абсолютно, и имеются основания думать,
что оно достижимо для всех основных теорий современной математики.
Программы обоснования математики были обречены на неудачу вследствие
слабости своих методологических и философских предпосылок. С достаточной
определенностью можно предполагать, что прогресс в решении проблемы обоснования
зависит сегодня не столько от изобретения новых методов логического анализа,
сколько от углубления философии математики, от прояснения наших представлений
о природе математического мышления и путей рационального оправдания обосно-
вательного слоя. Изложенные соображения показывают, что праксеологическое
обоснование математического априоризма дает нам возможность существенного
продвижения в этом направлении.
Основные выводы
Итоги проведенного рассуждения можно свести к следующим положениям:
1. Существование априорного знания как системы интерсубъективных
представлений, не допускающих эмпирического обоснования, не подлежит сомнению. В
своей основе это знание опирается на универсальную онтологию, определенную в
своей структуре деятельностной ориентацией мышления. Априорные представления,
по своей сути, являются выражением необходимых онтологических предпосылок
действия.
2. Деятельностная трактовка априорного знания оправдывает его разделение на
аналитические и синтетические принципы. Мы должны, однако, изъять из состава
кантовского аналитического априори аналитические истины, относящиеся к
частным понятиям, а из состава синтетического априори - принципы теоретического
естествознания. Это значит, что сфера априорного знания, оправдываемая деятельно-
стным подходом, существенно уже той, которая была определена Кантом в
"Критике чистого разума".
3. Современная трактовка априорных представлений должна отказаться от
кантовского трансцендентализма в том плане, в котором он предполагает идеальность
априорных истин, их полную независимость от структуры реальности. Хотя
априорные представления не зависят от опыта, мы можем рассматривать их в качестве
картины реальности, утверждающей свою объективность в контексте деятельности.
4. Сущность математического знания раскрывается через истолкование
первичных математических истин как априорных, однозначно определенных
универсальной онтологией мышления. Мы должны настаивать на том, что категориальные и
математические представления - представления одной природы: в основе тех и
других дежат интерсубъективные очевидности, порожденные деятельностью. Различие
состоит в том, что философия использует эти фундаментальные очевидности
внешним образом, как основу синтеза опыта, в то время как математика рассматривает
их во внутренних смысловых связях, не выходящих за рамки самоочевидности.
5. Истолкование исходных математических истин как однозначно определенных
универсальной онтологией мышления позволяет понять их синтетическую и вне-
опытную природу, их реальность и, наконец, особую степень обоснованности
математических теорий, которые не допускают опровержения или революций,
разрушающих их сложившуюся структуру.
116
Примечания
1. Фреге Г. Основоположения арифметики. Томск, 2000.
2. Гуссерль Э. Логические исследования. СПб., 1909.
3. Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. М., 1998.
4. Хотя логицисты не доказали сводимости всех принципов математики к логике, они обосновали
факт сводимости элементарных арифметических равенств типа 5 + 7 = 12 к логическим тавтологиям.
См.: Фреге Г. Указ соч., а также Гильберт Д. и Аккерман А. Введение в теоретическую логику. М., 1947.
5. Кант был убежден в том, что принципы механики могут быть получены на основе аналогий опыта
в их применении к общим свойствам материи. Интересная попытка защитить этот тезис и показать его
соответствие с методологией современной физики была представлена А.Ю. Грязновым {Грязное А.Ю.
Методология физики и априоризм Канта // Вопросы философии. 2000. № 6). Представляется, однако, что
столь сильная версия априоризма, вполне понятная для науки XVIII в., не может быть оправдана. Законы
Ньютона - обычные теоретические гипотезы, которые не могут быть обоснованы в сфере
универсальной онтологии. Представляется, что устойчивость этих законов объясняется не их априорной природой,
а исключительно их точностью, которая позволяет превратить их в определение границ механики как
науки.
6. Вариант обоснования математического реализма, основанный на установлении прямого
соответствия между числами и реальными совокупностями предметов, дает П. Медди в своей книге
"Математический реализм" (Meddy P. Realism in Mathematics. Oxford, 1990). Законность такой интерпретации
математического реализма представляется сомнительной вследствие того простого соображения, что определение
реальных совокупностей не может быть произведено без участия соответствующих чисел как идеальных
конструкций.
7. Гильберт Д. Избранные труды. Т. 1. М., 1998.
8. Некоторые доводы на этот счет приведены в моей книге "Философия и основания математики". М.,
2001.
9. Крайзель Г. Исследования по теории доказательств. М., 1981. С. 86-96.
10. Godel К. Russells mathematical logic // Pears D.F. (ed.). Bertrand Russell. Collection of critical essays.
New York, 1972; Godel K. What is Cantor's continuum problem? // Philosophy of mathematics. Selected readings.
New York, 1964.
117
Процессы познания
и вопросы мировоззрения
в терминах математической статистики
А. Л. КУРАКИН
Общеизвестный трюизм о происхождении человеческой цивилизации гласит, что
цивилизация разума является результатом познания законов природы, т.е.
основывается на науке. Но в практике цивилизованной жизни и отдельный человек, и
человечество вполне обходятся без научного знания. И вообще оказывается, что
человеческие представления о реальности могут существовать отдельно от практической
деятельности. Этот факт принято объяснять целым комплексом разнообразных
факторов, свойствами технологии и культуры, социально-экономическими
законами, эмерджентностью сложных систем и пр. В данной статье предлагается "более
компактное" объяснение этого противоречия - объяснение в рамках
математической статистики, а точнее говоря - ее раздела, известного как статистическая теория
проверки гипотез.
1. Общность проблемы выбора
Рассмотрим некоторые содержательные интерпретации математической задачи
проверки статистических гипотез. Синонимом проверки гипотез является выбор
между гипотезами, а также принятие решений.
Для этого обратимся к содержательной стороне (практическому смыслу)
математической задачи применительно к реально существующим системам принятия
решений (далее - решающим системам). Эти системы достаточно многообразны и
относятся, на первый взгляд, к несопоставимым областям человеческой деятельности.
Системы экологического мониторинга, например, принимают решение о наличии
вредных веществ в окружающей среде, системы ПВО - о близости самолетов
противника, системы ОТК - о наличии брака, судебно-следственные системы - о
виновности подозреваемого, системы экзаменационных тестов - об уровне знаний у
экзаменуемого, и т.п.
При внешнем различии областей человеческой деятельности решения во всех
системах принимаются на основе некой оценочной процедуры, т.е. на основе оценки ре-
© Куракин А.Л., 2005 г.
118
зультатов опыта. Эта процедура и является, при условии ее элементарной
формализации, предметом статистических рассмотрений. Обоснованность обобщения
непохожих задач в единую процедуру становится достаточно очевидной после
постановки задачи оптимизации решающих систем. Оказывается, что естественным
и универсальным показателем эффективности различных систем являются так
называемые ошибки первого и второго рода. Сопоставим пары ошибочных решений,
возможных в любой решающей системе:
- поднять ложную тревогу (ошибка первого рода) или не заметить опасность
(ошибка второго рода);
- забраковать годную продукцию (1) или выпустить брак (2);
- осудить невиновного (1) или оправдать преступника (2);
- не принять в ВУЗ перспективного студента (1) или обременить образованием
человека, несклонного к умственному труду (2).
Очевидно, что каждой решающей системе свойственна пара возможных ошибок,
каждая из которых создает проблемную ситуацию, влекущую за собой конкретные
пагубные последствия. Различная сущность ошибок первого и второго рода
становится понятна при обдумывании конкретных последствий каждого из двух
вариантов ошибочного решения.
Устанавливая, например, критерии качества продукции, производитель прежде
всего должен понять, что опаснее для его дела - забраковать слишком много
продукции или выпустить на рынок слишком много брака.
В оборонных системах (ПВО, противолодочные и подобные им в различных
родах войск) изначально считалось, что главное - не пропустить цель. Однако не
менее бедственными могут быть и последствия ложных тревог. Во всяком случае,
согласно современным глобально-политическим представлениям, последствия
оборонительного удара, нанесенного по ошибке, могут оказаться не менее пагубными,
чем агрессия, оставленная без возмездия.
Драматическим последствиям ошибки первого рода в области медицины
посвящен рассказ Ежи Ставинского "Час пик". Герой рассказа узнает от врача, что
неизлечимо болен раком (диагноз, оказавшийся впоследствии ошибочным). Он резко
меняет свое поведение и начинает узнавать от окружающих слишком много правды.
Это приводит к краху его семейной жизни и карьеры. Налаженная система
отношений с внешним миром распадается, оттого что на несколько дней человек признает
верной одну гипотезу - гипотезу близкой смерти. Если ошибки второго рода опасны
для физического здоровья человека (поскольку он запускает болезнь, что приводит
к дальнейшему ее прогрессированию), то ошибки первого рода (в данном случае - в
медицинской диагностике) угрожают его нравственному здоровью.
В определенных условиях ложные угрозы безопасности представляют реальную
опасность для сложившегося уклада цивилизованной жизни. Ложными тревогами
объясняют и финансовые кризисы ("дефолты"). В целом уже известно, что
человеческие мнения о реальности повсеместно формируют социальную реальность.
Таким образом, ошибки первого и второго рода в каждой решающей системе
влекут за собой последствия, различные по существу. Они несоизмеримы. Д. Нейман
и Е.С. Пирсон, которых можно считать основоположниками статистической теории
выбора между гипотезами, пишут: "Этих двух источников ошибки очень редко можно
избежать полностью; в одних случаях важнее исключить первую, в других - вторую.
Вспомним проблему, рассмотренную Лапласом в связи с количеством голосов,
необходимым для осуждения обвиняемого. Является ли более серьезной ошибкой
осудить невиновного или оправдать виновного? Это будет зависеть от последствий
ошибки: каково наказание - смерть или штраф, чем опасны для общества
преступники, остающиеся на свободе, каковы этические воззрения общества на наказание?
С точки зрения математической теории мы можем только показать, как можно
регулировать и минимизировать риск ошибок. Применение же статистических инстру-
119
ментов в каждом конкретном случае, решение о способе поддержания равновесия
остается делом того, кто занимается данным вопросом" ( 1, с. 296).
В современном кинематографе, например, стал уже типовым криминальный
сюжет, вращающийся вокруг одной и той же проблемы, одного и того же
практического следствия презумпции невиновности: ведь установка на всемерное снижение
вероятности осудить невиновного (т.е. опасение совершить ошибку первого рода)
приводит к оправданию практически всех заведомых преступников (т.е. к безудержному
росту частоты ошибок второго рода). Судебно-следственная система оказывается
неэффективной в результате асимметрии сложившихся (традиционных) требований
к ее ошибкам. Уместно вспомнить также исторический опыт тоталитарных
режимов, которые придерживаются прямо противоположной установки - изначальной
"презумпции виновности" граждан.
Очевидно, что представления о допустимости ошибок того или иного рода
определяются ценностными установками той или иной культуры; и основные искания
цивилизованного общества сосредоточены на установлении порогов допустимости
ошибок1, а отнюдь не на последующей оптимизации решающих систем в
соответствии с этими установками. Между тем только последняя представляется реальным
решением проблемы. Именно в результате решения задачи проверки
статистических гипотез и выясняется, что уменьшить вероятность одной из ошибок можно
лишь ценой увеличения вероятности другой. Стремясь всемерно уменьшить
вероятность одной из ошибок, мы неизбежно будем увеличивать вероятность другой.
Данная связь является фундаментальным законом, без учета которого бессмысленно
приниматься за оптимизацию ре лающих систем. Необходимо иметь в виду, что при
существующих возможностях переработки информации2 система принятия решений
не может быть существенно улучшена. Асимметрия требований к ошибкам
(порождаемая бытующими традициями, идеалами) делает практически неэффективными
системы принятия самых важных решений. Но, несмотря на существование
трудностей иррационального происхождения (мы вернемся к ним в разделе о
фальсификациях), теория выбора между гипотезами имеет (точнее, скрывает в себе) довольно
многозначительные содержательные интерпретации и немаловажные практические
приложения.
* * *
Помимо набора систем для принятия решений по конкретным практическим
вопросам, в культуре присутствуют и системы мнений, представлений или гипотезы о
реальности, которые проявляются не столь активно и явно. Далее мы рассмотрим
эти системы взглядов (не всегда, кстати, рационально оформленные и
высказанные), называемые мировоззрениями или представлениями о реальности. Мы
попытаемся найти связь проблемы выбора между гипотезами с общими процессами
познания. Это позволит нам интерпретировать проблему двух ошибок - возможность
не замечать того, что есть, при возможности живо интересоваться тем, чего нет на
самом деле, - как общую проблему адекватности мировосприятия.
2. "Практика - критерий истины". - Формализация данного тезиса
Проблема выбора между гипотезами в ее нынешнем виде (т.е. в связи с
ошибками первого и второго рода) была сформулирована в 1933 г. Нейманом и Пирсоном3.
Хотя саму идею количественной оценки верности гипотез можно свести к
фундаментальному понятию условной вероятности вообще, однако именно этим
исследователям впервые удалось сформулировать задачу оптимального выбора и
установить самые общие принципы эффективной статистической проверки гипотез (см.:
1). Интересные содержательные интерпретации имеются и в работе (2). В этой ста-
120
тье исследуется общий вопрос о том, может ли процедура выбора быть независимой
от априорных вероятностей справедливости гипотез. Широкий принципиальный
смысл данного вопроса становится очевидным, если иметь в виду, что априорные
вероятности гипотез могут трактоваться как предубеждения любого рода или как
мера доверия к неким исходным идеям, суждениям, моделям и т.п. Поэтому существо
проблемы, затронутой этими авторами, сводится к вопросу о том, можно ли сделать
процедуру принятия решения не зависящей от предубеждений. Принятие решения
как принятие фундаментальной гипотезы есть акт познания окружающего мира;
поэтому возможность (или невозможность) свободы от предвзятых идей и
существующих заблуждений имеет принципиальное гносеологическое значение.
Разумеется, оценить релевантность формального математического аппарата в
столь расширительной трактовке можно лишь при условии более подробного
рассмотрения используемых в нем исходных понятий и основных соотношений.
Поэтому дальнейшее описание формальной стороны математической задачи дается
вместе с предлагаемыми содержательными интерпретациями.
Предметом проверки является гипотеза #0, а возможными альтернативами ей
могут быть гипотезы Н\у #2, -Нт· Априорные вероятности ф0, Φι, ф2» ·· Фт суть
вероятности того, что справедлива одна из возможных m + 1 гипотез. Единственность
истины, а также предположение о ее присутствии среди заданного набора гипотез
выражается в виде условия
m
Σ Φ,· = ι- (О
ι = 0
Экспериментальная проверка гипотезы представлена совокупностью из η
наблюдений (например, измерений). Таким образом, каждая проверка является точкой в
/2-мерной области W событий (наблюдений). Надо полагать, что одни наблюдения каким-
то образом свидетельствуют в пользу рассматриваемой гипотезы #0, ДРУгие говорят
против нее. Вопрос о связи гипотез с пространством наблюдаемых событий
относится к конкретной области знаний и в данном общем описании проблемы
рассматриваться не должен. Но очевидно, что альтернативе принять или отвергнуть
рассматриваемую гипотезу должно соответствовать некое разбиение области W. Если
точка (представляющая результат проверки) попадает в определенную часть области
W, то рассматриваемая гипотеза отвергается, в противном же случае (при попадании
в оставшуюся часть области W) - принимается. Таким образом, рассматриваемая
общая задача сводится к оптимальному разбиению области W всех возможных
наблюдений.
Область w (часть или подобласть области W), при попадании в которую гипотеза
#0 отвергается, Нейман и Пирсон назвали критической областью4. Остальная
часть W - область w - является, соответственно, областью принятия
рассматриваемой гипотезы #о·
После того как критическая область определена, вопрос о принятии или
непринятии Яд сводится к вопросу о попадании наблюдений в области w или w
соответственно. Оптимизация "процедуры выбора" сводится, таким образом, к оптимальному
выбору критической области.
Заметим, что отмечавшееся выше принципиальное различие между ошибками
первого и второго рода Нейман и Пирсон связывают с тем обстоятельством, что
проверяемая гипотеза одна, а конкурирующих гипотез может быть много.
Вследствие этого ошибка второго рода (ошибочное принятие гипотезы Я0) влечет за собой
ошибочные действия (следующие из конкретного содержания гипотезы Я0). А
ошибочное отклонение Н0 (ошибка первого рода) ставит перед задачей нового
выбора, перед необходимостью проверять альтернативные гипотезы (см.: 2, с. 497).
Когда практика подтверждает ошибочную систему представлений (теорию,
учение), то последующие ошибочные действия оказываются особенно пагубными из-за
121
сочетания ошибочности с обретенной уверенностью. Если же в результате
испытаний ошибочно отвергается правильная теория, то создается проблемная ситуация:
признается отсутствие общепринятой теории.
Преуменьшение знания (в духе "я знаю, что ничего не знаю") в научной традиции
принято было считать влекущим наиболее безопасные ошибки в выборе между
существующими представлениями. Хотя в целом для поведенческих реакций
цивилизованного человека так и остается проблемой вопрос о том, что же лучше -
ошибочная уверенность или ошибочная неуверенность, ошибочное действие или
ошибочное бездействие. В любом случае интересно, что к данному вопросу удалось
подойти в контексте самых общих и совершенно формальных рассмотрений.
Качественное различие ошибок первого и второго рода (различие по сути) с
расчетной точки зрения означает прежде всего невозможность количественного
сравнения их вероятностей. При выборе критической области нельзя ставить вопроса о
каких-либо "весовых коэффициентах", с помощью которых можно было бы
определять "степень нежелательности", искать компромисс между ошибками. Можно
сравнивать лишь критические области, эквивалентные в смысле равенства
вероятностей одной из ошибок.
Рассматривая таким образом в качестве эквивалентных критических областей
лишь те, у которых одинаковы вероятности ошибок первого рода, можно говорить
об оптимальном выборе критической области в смысле минимизации ошибки
второго рода.
Очевидно, что в общем случае вероятность отклонить Я0 должна зависеть от
следующего: (1) как выбрана критическая область н>; (2) какая из гипотез #,·, верна
на самом деле. Из этих общих соображений введено понятие мощности
критической области W по отношению к определенной конкурирующей гипотезе5.
Соответствующая величина представляет собой условную вероятность P(w/H;) попадания в
область w при условии верности гипотезы #,.
Поскольку в реальных ситуациях неизвестно, которая из гипотез Я; верна, то
вероятности P(w/Hj) приходится усреднять по известной формуле вида
m
J^bPWHi). (2)
/= ι
Результат усреднения по формуле (2) представляет вероятность отвергнуть
проверяемую гипотезу H с и называется результирующей мощностью теста (или
результирующей мощностью критической области). Анализ общих соотношений (см.:
2) показал, что, хотя вероятность возникновения ошибок зависит от распределения
фу, однако знание этого распределения не влияет на выбор (т.е. на оптимизацию)
критической области. Иными словами, оптимальный критерий проверки гипотез
оказывается не зависящим от того, насколько часто те или иные гипотезы бывают
верны. Как уже говорилось, это априорное знание не влияет на возможность
принятия верного решения в конкретном случае.
Данный вывод, даже если учитывать математическую формальность его
получения, довольно абсурден с точки зрения здравого смысла. Здравый смысл настаивает,
что знания не могут быть безразличны для принятия решений. В связи с такой
очевидной алогичностью математического вывода остановимся подробнее на вопросе
об общечеловеческом здравомыслии.
3. К вопросу о фальсификациях
Искать ошибку в выкладках, выводах или интерпретациях нас побуждает ореол
научной строгости, которым окружена математика. Общеизвестно, что
математические понятия надлежит применять без толкований и вольных интерпретаций, но
122
лишь в том строго определенном и формальном смысле, в каком они были введены.
Метафорические расширительные трактовки и интерпретации не соответствуют ни
форме, ни содержанию математических методов.
С точки зрения традиционного профессионального стиля математики
содержательные интерпретации предшествующего раздела вполне можно назвать
спекулятивными. Однако нетрадиционность содержательных комментариев для какой-либо
области не обязательно означает их ошибочность.
Тот факт, что теория может не влиять на практику принимаемых решений, столь
же очевиден, как и отсутствие обратного влияния, т.е. произвольность выводов,
которые извлекаются из познания окружающего мира. Именно из "неформальной"
истории человеческого познания хорошо известно, что научные открытия (в области
физики, например) одинаково подходили, скажем, и материалистам для
опровержения гипотезы о Боге, и верующим ученым для доказательства глубины божьего
промысла (см.: 3). Эдвард де Боно (см.: 4) описал, например, как сектанты всходили
на гору в ожидании назначенного (по их расчетам) конца света и как спускались
потом вниз, ликуя и утвердившись в вере благодаря милости Всевышнего,
отложившего светопреставление.
Человеческие способы обоснования суждений бывают настолько
произвольными и даже абсурдными, что только принцип невмешательства в чужие убеждения
мог стать действительной основой человеческой цивилизации. Не познание, а
безразличие к познанию - вот реально действующая основа общечеловеческого
разума. Этика невмешательства в чужие мысли и чувства (предчувствия мысли)
исключает какие бы то ни было фальсификации, т.е. опровержения теорий (гипотез) на
основании опытных данных. Реальность не должна опровергать человеческих
представлений о реальности - таково принципиальное (демократическое) достижение
цивилизации разума.
Нефальсифицируемость мировоззрений в цивилизованном обществе
легализована под общим наименованием свободы совести, но в каждом конкретном случае, в
каждой конкретной области приводятся и специальные объяснения того, почему
человеческие суждения на некую тему не следует увязывать с теми или иными
опытными данными.
Например, телекинез можно рассматривать как гипотезу, конкурирующую с
гипотезой о справедливости законов классической механики. Но известен и другой
подход, в соответствии с которым явления телекинеза рассматриваются как новые
опытные данные, свидетельствующие о необходимости обобщения известных
законов физики. Последний открывает широкие возможности для смелых
предположений о существовании силовых полей, еще неведомых сложившейся науке.
Трудности формализации человеческих суждений довольно очевидным образом
связаны с существованием известных (хорошо отработанных) мыслительных
стереотипов, давно и успешно применяемых для предотвращения самой возможности
анализа исходных предположений. С точки зрения статистической задачи выбора
между гипотезами подобные трудности могут означать, что критическая область
остается незаданной даже приблизительно, что ее очертания пытаются определить в
процессе испытаний. И есть такие мировоззренческие системы (т.е. "гипотезы"),
которым не страшны никакие экспериментальные проверки. В этих нередких случаях
критическая область принципиально отсутствует или, выражаясь формально,
представляет собой нулевое множество.
4. Концептуальная инверсия задачи выбора между гипотезами
Несмотря на упомянутый формализм математической постановки задачи
проверки статистических гипотез, более пристальное рассмотрение показывает, что за
использованными обозначениями (см. выше, раздел 2) стоят совершенно
конкретные (и знакомые) стереотипы мышления.
123
В самом деле, записывая условные вероятности в виде P[w/H), мы уже ставим
некие истины на место фундаментальных первопричин всего реально происходящего.
Хотя и является общим местом, что все гипотезы происходят из опыта, но
парадигма гносеологической выкладки записывается, как мы видим, по противоположной
схеме: Р[ w/H] есть вероятность попадания результата эксперимента в область w при
том условии, что верна гипотеза Я. Иными словами, вопрос ставится так: что
получится на опыте (какова вероятность, что опытные данные попадут в область w),
если на самом деле справедливо то-то и то-то. Обычай размышлять исходя из
представлений о неведомой реальности хотелось бы назвать здесь объективизмом,
понимая под ним парадигму мышления, для которого объективная реальность дана
изначально и несомненно. Изначальная заданность неких объективных
обстоятельств (законов природы) является традиционной гносеологической установкой
сложившихся естественных наук. Устойчивость этой парадигмы, сила этой
установки, возможно, связана с тем, что кажется, будто мыслить, исходя из веры в истину,
не только просто, но и благородно. Вместе с тем эта мировоззренческая позиция
порождает немалые трудности. Они подробнее рассмотрены в работе (5). Здесь же
подчеркнем соображения, которые непосредственно связаны с "техникой" принятия
решений.
Всякая конкретная решающая система (оборонная, судебно-следственная и пр.)
для каждой из областей является наилучшим (если не единственным имеющимся в
настоящее время) средством обнаружения наиболее актуальных (тревожащих)
объектов, состояний среды и т.п. "Заглянуть глубже", т.е. узнать, что же на самом деле
кроется за получаемыми сигналами (принимаемыми решениями), имеющиеся
технические средства не позволяют. Любая из рассматриваемых систем представляет
наилучший доступный аппарат. Разумеется, ничто не мешает учитывать перспективу
совершенствования знаний и техники. Но любое их совершенство в данном случае
является вполне конкретным состоянием техники; и всегда остается вопрос - что же
следует предполагать о реальности при наличии определенных (очередных)
опытных данных. Причина и следствие (w и Н) при этом меняются местами; или,
пользуясь гносеологическими терминами, объективизм уступает место позитивизму.
Традиционная "объективистская" ошибка первого (второго) рода состоит в том,
что гипотеза будет отвергнута (принята) при условии, что она будет верна (неверна).
Вероятность этой ошибки принято обозначать символом α (β). При инверсной
("позитивистской") трактовке ошибка заключается в том, что гипотеза верна (неверна)
при условии, что она отвергнута (принята). Для соответствующей вероятности
воспользуемся символом γ (δ).
По-видимому, первым математиком, заметившим практическую надобность
использования вероятностей γ и δ, был В.Б. Бишоп (см.: 6). Знание того, до какой
степени можно доверять сигналу (или отсутствию сигнала), - это и есть знание
апостериорной вероятности наличия (отсутствия) объекта (т.е. ложности (верности)
гипотезы Hq).
Довольно очевидно, что вся проблема принятия инверсной ("позитивистской")
точки зрения заключается не в (математическом) аппарате оптимального выбора, а
в (гносеологической) парадигме причинно-следственных связей. Ибо чисто
формальная перестановка пары событий А и В (под которыми можно понимать причину
и следствие или интересующее нас событие и условие его возникновения) не
вызывает затруднений. Соответствующие условные вероятности пересчитываются по
элементарной формуле
Р{ВЩ = Р{А/В}£||*. (3)
В обозначениях Неймана и Пирсона выражение (3) имело бы вид соотношения
124
p{H',w} = 4{*г- (4)
для / = О, 1, 2, ... m, где символ w используется в универсальном значении, т.е. может
обозначать любую из частей (как w, так и w ) области W. Соотношение (4)
показывает, как перейти от вероятностей вида P[w/H;} (типа мощности области vv),
используемых в классической теории выбора между гипотезами, к использованию
вероятностей вида P{Hj/w ). Вероятность P{w/Hj) попадания в ту или иную область
опытных данных при условии верности гипотезы Я, выражает традиционный
объективистский подход; вероятность P{Hj/w } верности гипотезы //; при условии
получения определенных опытных данных w соответствует "позитивистской" трактовке.
Соотношение (4) свидетельствует при этом об отсутствии формальных
математических препятствий для перехода от традиционного подхода к "инверсной" задаче.
При этом можно заметить, что, помимо исходных априорных вероятностей ф,
верности гипотез #,, в соответствии с формулой (4) могут быть определены
апостериорные вероятности PiH^w }, которые будем обозначать далее символом χ,:
χ,-{Я,/*}. (5)
Замена значений ф, на значения χ, отражает то, что опыт изменяет
представления (т.е. предположения) о реальности.
Таким образом, перемена мест причин и следствий (читай: гипотез и опытов)
позволяет отразить процесс изменения представлений о реальности.
5. От концепции к алгоритму
Апостериорные вероятности χ, априорно представляют собой пары значений:
χ, = P{H;/w ) и χ, = P{Hilw). Иными словами, оба новых возможных значения
известны (т.е. вычисляемы) и до проведения опыта. Выбор между значениями этих пар
представляет априорную неопределенность, разрешаемую в результате испытаний
(в результате выбора между w и w ).
Таким образом, результат проверки гипотезы можно выразить алгоритмически с
помощью оператора присвоения значений
Ф/ := Χ,- (6)
Данный оператор (знак ":=") читается так: "на место значения фу записываем
значение χ)'. Суть операции в том, что опыт изменил представление о реальности.
Степени доверия к заданному набору гипотез перераспределились по-новому.
А поскольку испытания могут повторяться и далее, то очевидна возможность
циклического вычисления по рекуррентным формулам (4-6). Алгоритм для
обработки сигналов от системы бинарного выбора (т.е. системы обнаружения объекта)
рассмотрен в докладе, см.: 7.
Можно показать, что если существующая решающая система характеризует
ошибки первого и второго рода αϊ и β j, то в результате циклического (N-кратного)
повторения испытаний (т.е. проверки гипотезы) можно получить существенно
меньшие значения α2 и β2 ошибок первого и второго рода :
[l-(g, + ß,)]2xr
а*~ехр- 2а,(1-«,) Ν- (7)
л [i-(a, + ß,)]2t,
ß*~eXp- 2ß,(l-ß.) N- (8)
Выражения (7) и (8) показывают, что по мере накопления экспериментальных
данных вероятности принятия ошибочных решений уменьшаются по экспоненте,
125
т.е. в геометрической прогрессии. Иначе говоря, каждая новая проверка уменьшает
вероятности ошибок в одно и то же число раз. Этот вывод хорошо согласуется с
интуитивными представлениями. При этом инверсный подход к задаче выбора между
гипотезами не противоречит классическому - вероятности α и β снижаются и при
инверсном подходе к задаче.
6. Заключение
Мышление в терминах ошибок первого и второго рода является совершенно
естественным для "гносеологической" фазы развития человеческой культуры. Для
того чтобы познавать реальность, ее приходится воображать, строя предположения о
том, что должно получаться (каковы должны быть результаты опыта) при условиях
верности той или иной гипотезы. Познание должно основываться на изначальном
предположении о существовании реальности до опыта и независимо от результатов
опыта. При этом легендарная "человеческая деятельность, преобразующая
окружающий мир" то ли стоит в стороне от идеи познания, то ли числится вторым этапом
его. На самом же деле лукавство сложившейся культуры в том-то и состоит, что
создать искусственный мир (цивилизацию) по-человечески гораздо реальнее, чем
познавать естественную реальность. И поскольку в результате цивилизация окружила
человека сигналами, поступающими от разнообразных решающих систем, то
практическая (человеческая) проблема состоит уже не в том, чтобы понимать, как, с
какими ошибками реагируют окружающие искусственные системы, а в том, как, с
какой степенью доверия следует реагировать на всевозможные сигналы.
Таким образом, рассмотренная нами проблема, задача выбора между
гипотезами, представляется не только вполне практической, но и концептуальной, поскольку
прямо касается парадигм познания, мировоззрения. Более обстоятельный разбор
вопроса о том, каким именно образом идея познания реальности преобразуется в
преодоление реальности, представлен в работе (5).
Судя по всему, сложившаяся легенда о познании реальности уже не
соответствует реально сложившемуся мировоззрению. Можно сказать, что современный
цивилизованный человек - уже не создатель, а смиренный пользователь тех решающих
систем, из которых состоит де-факто сложившаяся культура. И первичной
(непосредственно воспринимаемой) реальностью для нашего современника являются уже
не гипотетические первопричины, а настоятельные сигналы, поступающие от
культурного комплекса по всем его многочисленным информационным каналам.
В сложившихся условиях практическая задача состоит, видимо, не в разборе
хитросплетений созданных механизмов и реконструировании ситуации, а в том, чтобы
реагировать на нее. Можно предположить, что таким путем прежняя
естественнонаучная парадигма мировосприятия и становится гуманитарной. Во всяком случае,
общеизвестная противоположность, несовместность этих "двух культур"
(выражение Ч. Сноу, см.: 9) соответствует рассмотренной выше "инверсии задачи выбора
между гипотезами".
Автор признателен профессору B.C. Флейшману за интересные дискуссии по
данной тематике.
Литература
1. Neyman J., Pearson E.S. On the Problem of the Most Efficient Test of Statistical Hypotheses // Philosophical
Transactions of the Royal Society. Series A (Math. & Phys. Sei.). London, 1933. Vol. 231. P. 289-337.
2. Neyman J., Pearson E.S. The testing of statistical hypotheses in relation to probabilities a priori // Proceedings
of the Cambridge Philosophical Society. 1933. Vol. 29. P. 492-510.
3. ШеферЛ. В поисках божественной реальности. M.: АНДА, 2000.
4. Боно Э.де. Рождение новой идеи. М.: Прогресс, 1976.
5. Куракин АЛ. Наука, техника, культура в контексте субъектной реальности: Междисциплинарное
обозрение. М.: ИНИОН, 2003.
126
6. Бишоп В.Б. Индикация неисправности как проблема последовательного анализа // Проблемы
надежности радиоэлектронной аппаратуры. М.: Оборонгиз, 1960.
7. Kurakin A.L. An Algorithmic Method For Increasing The Efficiency Of Decision-Support Systems //
Proceedings of ICONS 2002. International Conference on Sonar-Sensors and Systems. 11-13 December 2002, Le Méridien
Convention Centre, Köchin, India. New Delhi: Allied Publishers Pvt., 2002. P. 287-294.
8. Башаринов Α.Ε., Флейшман Б.С. Методы статистического последовательного анализа и их
радиотехнические приложения. М.: Советское радио, 1962.
9. Сноу Ч.П. Две культуры. М.: Прогресс, 1973.
Примечания
1 К установлению порогов для различных решающих систем, обеспечивающих жизнедеятельность
цивилизации, относятся также: задание предельно допустимых концентраций вредных веществ в
экологии, отмена смертной казни на уровне государственных законов, запрет оружия массового поражения на
межгосударственном уровне и прочие нормы и правила.
2 В технических (например, мониторинговых) системах эти возможности зависят от быстродействия и
отношения сигнала к шуму.
3 Об универсальности полученного решения задачи свидетельствуют даже специальности авторов:
лектор агрономического учебного заведения Нейман и сотрудник статистического департамента Пирсон
несколькими своими статьями в 1920-30-х гг. заложили основы расчетного метода, которым с тех пор
успешно пользуются специалисты различных областей - включая контроль качества, радиоэлектронику,
военные науки. Этот математический аппарат до сих пор составляет научный фундамент технической
политики при разработке современных оборонных систем.
4 Выбор такого наименования связан, очевидно, с тем, что при попадании в w гипотеза Н0
критикуется.
В оригинале используется выражение "the power of the critical region w with regard to //,". Очевидно,
что выражение "мощность" по отношению к критической области подразумевает именно критическую
силу. При этом речь идет о возможности отвергнуть ошибочную гипотезу Н0 с помощью различных
альтернативных гипотез //,·.
6 Индексы при α и β введены тут для того, чтобы различать вероятности αϊ и ßj ошибок отдельных
экспериментов от вероятностей а2 и ß2 ошибок серии проверок.
7 Приближенный характер этих соотношений имеет место в том же смысле, как и у исходных формул
(1.27) и (1.28) работы (8).
12-у
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
Постметафизическая философия
как философия процесса
П. П. ГАЙДЕНКО
1. Ориентация на опыт
В XIX и особенно в XX в. в философии произошли изменения, определившие
новые подходы к анализу понятия времени. Эти изменения связаны прежде всего с
критикой метафизики, начавшейся уже в XVIII в. в английском сенсуализме и
эмпиризме с его ориентацией на опыт и с его психологизмом - особым акцентом на опыт
внутренний. Джон Локк начинает пересмотр центрального в традиционной
метафизике понятия субстанции, пересмотр, наметившийся задолго до того: в номинализме
XIV столетия. Эта тенденция укрепляется у Д. Юма, который полностью отверг
понятие субстанции, как протяженной, так и мыслящей, духовной. Соответственно и
рассмотрение времени теряет в эмпиризме онтологический характер и уступает
место психологическому сквозь призму внутреннего опыта изменения состояний души.
Изменение, течение, последовательность психических процессов, согласно Локку,
Беркли и Юму, есть источник понятия времени. И не случайно у названных
философов постепенно устраняется традиционное для метафизики и средневековой
теологии различие между временем, длительностью и вечностью: эмпирический мир, мир
становления оказывается у них единственной подлинной реальностью.
Эта восходящая к номинализму ориентация на опыт, и при этом прежде всего
опыт внутренний как более достоверный по сравнению с внешним, проложила путь
к созданию постметафизической философии. Существенным шагом на этом пути в
конце XVIII в. оказался немецкий трансцендентальный идеализм. У его
родоначальника - Иммануила Канта - понятие опыта играет первостепенную роль; учение
Канта о времени как априорной форме внутреннего чувства во многом определило
подход к этому понятию в философии XIX-XX вв. Начиная с Канта, предметом
немецкого идеализма становится не субстанция, а субъект. Но, в отличие от английских
эмпириков, Кант, стремясь освободиться от психологизма с его склонностью к
скептицизму (особенно у Юма), вводит понятие трансцендентального субъекта. При
этом, однако, он разделяет характерную для Юма критику понятия субстанции. По
Канту, эмпирический мир, мир опыта - как внешнего (природа как предмет естест-
© Гайденко П.П., 2005 г.
128
вознания), так и внутреннего (душа как предмет эмпирической психологии) -
существует лишь в отношении к трансцендентальному субъекту как его коррелят.
Трансцендентальный субъект конструирует этот мир с помощью априорных форм
чувственности (пространства и времени) и априорных форм рассудка (категорий).
Определения, приписывавшиеся прежде материальным субстанциям -
протяженность, фигура, движение - суть, по Канту, продукты деятельности
трансцендентального субъекта. И по отношению к индивидуальной душе Кант не считает
возможным применять понятие субстанции как чего-то самосущего, рассматривая ее как
явление, данное внутреннему чувству. Однако реликты субстанций как
самостоятельных сущих, безотносительных к трансцендентальному субъекту, сохраняются у
Канта в виде непознаваемых вещей в себе, аффицирующих чувственность.
Недоступные теоретическому познанию, вещи в себе принадлежат к умопостигаемому
миру, сфере свободы, т.е. разума практического. Человек как субъект свободного
нравственного действия несет в себе черты, которыми традиционно наделялись
духовные субстанции.
Что же касается собственно понятия субстанции, то она у Канта есть категория
рассудка и принадлежит к разряду динамических категорий, касающихся не
предметов созерцания, а существования этих предметов по отношению друг к другу или к
рассудку. Таким образом, субстанция есть не более чем постоянство отношений, и
о ней можно говорить лишь применительно к миру опыта: она есть та форма
рассудка, с помощью которой он упорядочивает временные отношения. Кант
продолжает намеченную в номинализме и английском эмпиризме тенденцию к
уравниванию онтологического статуса субстанций и акциденций, приписывая отношению
приоритет перед субстанцией.
Эта тенденция еще более углубляется в послекантовском немецком идеализме.
Устранив понятие вещи в себе и превратив тем самым трансцендентальный субъект
в Абсолютное Я, в творца всего сущего, Фихте не оставил места для
самостоятельного бытия даже реликтов традиционных субстанций. Субстанция как категория
рассудка есть, по Фихте, лишь совокупность членов некоторого отношения.
Шеллинг, как и Фихте, считает, что субстанции существуют только для Я, а "вопрос, как
субстанции пребывают для себя, бессмыслен" . В качестве продукта деятельности
Я субстанции принадлежат к феноменальному миру, т.е. суть лишь явления. "То, что
в объекте субстанциально, обладает лишь величиной в пространстве, то, что акци-
дентально, лишь величиной во времени" . Критикуя "субъективный
субъект-объект" Фихте, Гегель на место Абсолютного Я ставит саморазвивающуюся идею,
Понятие как единство субъективного и объективного. Это - абсолютная субстанция-
субъект, пантеистически понятый Логос, имманентный миру и не допускающий
рядом с собой никаких самостоятельно сущих субстанций-индивидуумов.
Характерна при этом апелляция Гегеля к понятию опыта, понимаемого как
опыт движения сознания. Свою "Феноменологию духа" Гегель назвал "Наукой об
опыте сознания". Философия, по Гегелю, "есть наука опыта, совершаемого
сознанием... Сознание знает и имеет понятие только о том, что есть у него в опыте; ибо в
опыте есть только духовная субстанция, и именно как предмет ее самости. Но дух
становится предметом, ибо он и есть это движение, состоящее в том, что он
становится для себя чем-то иным, т.е. предметом своей самости, и что он снимает это
инобытие. Это-то движение и называется опытом (курсив мой. - П.Г.) - движение, в
котором непосредственное, не прошедшее через опыт, т.е. абстрактное, - относится
ли оно к чувственному бытию или лишь к мысленному простому, - отчуждает себя,
а затем из этого отчуждения возвращается в себя, тем самым только теперь
проявляется в своей действительности и истине... . Конечно, опыт движения сознания,
как его мыслит Гегель, - это не эмпирический опыт в понимании Локка, Юма и
позитивистов. Гегель специально подчеркивает отличие опыта в повседневном и в
эмпирическом смысле слова от опыта в философии. И тем не менее апелляция Гегеля
к опыту сознания - это еще один этап на пути преодоления метафизики. И в самом
5 Вопросы философии, № 3
129
деле, знание - в данном случае философское - представляется теперь как движение.
Понятие опыта необходимо Гегелю для того, чтобы определить знание как
непрерывный переход, как диалектический процесс. Философское знание, пишет Гегель, - "это
процесс, который создает себе свои моменты и проходит их, и все это движение в
целом составляет положительное и его истину. Эта истина заключает в себе,
следовательно, и негативное, то, что следовало бы назвать ложным, если бы его «можно
было рассматривать как нечто такое, от чего следовало бы отвлечься... Явление есть
возникновение и исчезновение, которые сами не возникают и не исчезают, а есть в
себе и составляют действительность и движение жизни истины (курсив мой. - П.Г.).
Истинное, таким образом, есть вакхический восторг, все участники которого
упоены..."4.
Здесь найдены точные слова для характеристики постметафизической
философии, предлагаемой немецким идеализмом: истина - это процесс, это "движение
жизни духа", текучесть, переход, становление, и душу этого процесса составляет
диалектика, с точки зрения которой устойчивость, неизменность,
самотождественность "существует только в движении в целом, понимаемом как покой..."5.
М.А. Киссель в интересной статье, посвященной сравнительному анализу Гегеля
и Гуссерля, отмечает ту роль, какую у Гегеля играет понятие опыта, и указывает на
известную параллель между "Феноменологией духа" Гегеля и феноменологией
Гуссерля. «Своеобразное понятие опыта, сформировавшееся в рамках феноменологии
(имеется в виду Гуссерль. - П.Г.), позволяет продолжить и углубить параллель
между двумя немецкими мыслителями, классическим и пост-классическим. У Гегеля мы
тоже встречаемся с опытом и, чаще всего, - в "Феноменологии духа"» .
* * *
Опыт сознания, как его описывает Гегель, - это опыт истории. Вслед за Фихте
и Шеллингом он пересматривает кантовское представление о структуре
трансцендентального субъекта как структуре неисторической. Гегель рассматривает субъект
познания исторически. У него нет больше речи о том, чтобы задать однозначно
определенные формы трансцендентальной субъективности, напротив, эти формы
непрерывно меняются, развиваются, текут, переходят одна в другую. У Гегеля
"становление есть истина бытия"; он подчеркивает, что "чистые мысли становятся
понятиями и суть лишь то, что они поистине суть, - самодвижения, круги..."7. В этой
связи у Гегеля мы находим важное для него понятие "жизни". Не случайно именно к
Гегелю восходит один из влиятельных в XX в. истористский вариант философии
жизни, представленный В. Дильтеем, Р. Коллингвудом и др., а также в
определенной степени герменевтика Г.-Г. Гадамера и его последователей.
2. Понятие жизни. Подвижное единство потока
Изменчивость, непостоянство эмпирического мира, то, что в античности
называлось становлением, в постметафизической философии воспринимаются как
фундаментальные определения реальности - как физической, так и психической. То, что
предстает в окружающем мире как прочное и устойчивое, объясняется
незаметностью изменений в потоке реальности. На место единства и самотождественности
субстанции ставится единство процесса; процессуальность - вот теперь самая
глубинная характеристика бытия. Процессуальность дается нам в опыте; опыт -
единственно адекватное средство постижения процесса. Опыт никогда не может быть
завершен, он неисчерпаем, всегда таит в себе неожиданное и непредвиденное.
Неудивительно, что в постметафизической философии проблема времени - как
чистой формы текучести, изменчивости, становления - оказывается ключевой
философской проблемой. Постигнуть природу времени, значит понять, что такое бы-
130
тие. Именно так ставится вопрос в философии жизни Дильтея, Бергсона,
Шпенглера, в феноменологии Гуссерля, в философии процесса Уайтхеда, в фундаментальной
онтологии Хайдеггера, в герменевтике Гадамера. "Философия процесса" - вот,
пожалуй, наиболее точное имя для философии XX в.
Ключевые для философии процесса понятия - развития, эволюции, истории -
нередко объединяются в одном, которое кажется охватывающим их все: в понятии
жизни. Это понятие мы встречаем уже в немецком спекулятивном идеализме, в
частности, у Гегеля. Жизнь, живое - это, по Гегелю, отличительная особенность высшей
реальности, понятия, идеи. "...Идея, - пишет Гегель, - может быть выражена и
постигнута только как процесс в ней самой (пример - становление) и как движение.
Ибо истинное не есть нечто покоящееся, сущее, но есть только нечто
самодвижущееся и живое... . Определяя понятие жизни, Гегель говорит: "Жизнь - это идея в
своем непосредственном существовании, вследствие чего как раз идея и вступает в
область явлений, т.е. изменчивого, многообразно и внешне определяющего себя
бытия..."9.
Понятие жизни является у Гегеля также важнейшей характеристикой духа. Он
критикует метафизику, которая понимала дух, или душу как "нечто простое,
имматериальное, субстанцию", благодаря чему "дух рассматривался как вещь"10.
(Заметим в скобках, что понимание субстанции как чего-то простого, неделимого,
характерное для метафизики от Платона до Лейбница, воспринимается в
постметафизическую эпоху как ее "овеществление", превращение в "вещь". Впоследствии
Дильтей, Бергсон, Гуссерль, Уайтхед, Хайдеггер, не говоря уже о философах
постмодерна, неизменно воспроизводят эту гегелевскую критику субстанции.)
Спекулятивная логика, согласно Гегелю, "показывает, что... примененные к душе
определения - вещь (имеется в виду латинское res, что нельзя однозначно отождествлять с
"вещью". - П.Г.), простота, неделимость, единое - в своем абстрактном понимании
не истинны, но превращаются в свою противоположность..."11. Пониманию
разумной души (духа) как простой и неделимой субстанции Гегель противопоставляет
понимание духа как жизни: "Дух не есть нечто пребывающее в покое, а скорее,
наоборот, есть нечто абсолютно беспокойное, чистая деятельность, отрицание или
идеальность всех устойчивых определений рассудка, - он не есть нечто абстрактно
простое, но в своей простоте нечто в то же время само от себя отличающееся..."12.
Впрочем, в немецком идеализме понятие жизни еще не стало фундаментальным
принципом философии - здесь "разум" старой метафизики, хотя и существенно
трансформированный диалектикой, еще не сдал своих позиций, а "философия
процесса" сделала свои только еще первые шаги. Превращение "жизни" в альфу и омегу
философского мышления происходит в последней трети XIX - первой трети XX в. у
Ф. Ницше, А. Бергсона, В. Дильтея, Г. Зиммеля, Л. Клагеса, О. Шпенглера, а также
у близких к философии жизни неогегельянцев, применявших принципы философии
жизни прежде всего к истории и культуре: Р. Кронера, Б. Кроче, Дж. Джентиле.
Ж. Валя, А. Кожева, Ф. Степуна, Р. Коллингвуда и др. К неогегельянцам, пожалуй,
можно отнести и В. Дильтея, одного из самых продуктивных и влиятельных
философов этой эпохи.
К философии жизни по своим исходным принципам тяготеет и прагматизм
(Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи) с его пониманием истины как полезности для жизни
и с убеждением в том, что только практический успех действия является критерием
истинности тех понятий, из которых исходит действующий субъект. В прагматизме,
так же как в английском эмпиризме, имеет первостепенное значение опыт. Только
опыт здесь трактуется как практический, как опыт действия. "Человек, - пишет
Пирс, - настолько полностью находится в границах своего возможного
практического опыта, что он не может ни в малейшей степени иметь в виду что-либо,
выходящее за эти пределы"13. Практический опыт так же изменчив и текуч, как текуча и
изменчива жизнь, как ее понимает философия жизни.
5* 131
Понятие жизни у представителей названного направления достаточно
многозначно. В зависимости от истолкования этого понятия можно выделить несколько
вариантов философии жизни: натуралистически-биологический, рассматривающий
жизнь как бытие живого организма, в отличие от механизма (Ф. Ницше, Л. Клагес,
Л. Больк, Л. Фробениус и др.); космологически-метафизический, наиболее ярко
представленный А. Бергсоном; наконец, уже упоминавшийся выше
культурно-исторический (В. Дильтей, Г. Зиммель, О. Шпенглер, X. Ортега-и-Гассет и др.), в
котором внимание приковано к исторически индивидуальным формам реализации
жизни, ее неповторимым историческим образам. Разумеется, границы между этими
разными течениями философии жизни относительны; однако понимание жизни как
процесса, как непрерывного потока, который может быть постигнут изнутри, из ее
непосредственного внутреннего переживания, интуитивно, а не с помощью
рассудочного конструирования понятий и даже не с помощью философского разума, -
такое понимание является общим для разных направлений философии жизни.
Так, Ницше решительно переоосмысляет исходные принципы традиционной
метафизики. В "Воле к власти" есть характерный пассаж с выразительным названием
"О ценности становления": "Нельзя допускать вообще никакого бытия, потому что
тогда становление теряет свою цену и является прямо бессмысленным и излишним...
Эта гипотеза бытия есть источник всей клеветы на мир ("лучший мир", "истинный
мир", "потусторонний мир", "вещь в себе"...). Становление не есть кажущееся
состояние, быть может, наоборот, пребывающий мир есть видимость"14.
Именно Ницше принадлежит приоритет в утверждении фундаментальных
принципов постмодернизма; он возвестил не только "смерть Бога", но и "смерть
субъекта". "Субъект: это терминология нашей веры в единство различных моментов
высшего чувства реальности... "Субъект" есть фикция, будто многие наши одинаковые
состояния суть действия одного субстрата... Понятия "реальности", "бытия"
заимствованы из нашего чувства "субъекта"... Он ("субъект") истолковывается на
основании личного опыта, так что "я" является субстанцией, причиной всяческого
действия, деятелем..."15.
Остановимся теперь на бергсоновском понимании жизни. Французский философ
рассматривает жизнь как космическую витальную силу, "жизненный порыв",
сущность которого в непрерывном движении, изменении, воспроизведении себя и
творчестве новых форм, сменяющих одни другие; биологическая - лишь одна из этих
форм. Бергсон подчеркивает единство всего потока жизни - как растительной и
животной, так и жизни сознания. "... Жизнь с самого ее происхождения является
продолжением одного и того же порыва, разделившегося по расходящимся линиям
эволюции... Само это развитие и привело к разъединению тех тенденций, которые не
могли расти далее известного пункта без того, чтобы не сделаться несовместимыми
между собою. Собственно говоря, ничто не мешает изобразить единственный
индивид, в котором бы путем последовательных превращений в течение тысяч веков
совершалась эволюция жизни... Но в действительности эволюция совершалась при
посредстве миллионов индивидов и на расходящихся линиях..."16. Таким образом,
основные характеристики жизни - это ее неостановимый поток, непрерывные
изменения и превращения ее индивидуальных форм. А это значит, что время, его
необратимое течение, или, как мы сегодня говорим, "стрела времени" составляет
самое фундаментальное условие возможности жизни1. Для Бергсона длительность и
жизнь - это по существу понятия-синонимы, ибо жизнь - это не пребывание, а
становление, непрерывный переход из одного состояния в другое. По словам Бергсона,
"нет существенной разницы между переходом от одного состояния в другое и
пребыванием в одном и том же состоянии. Если, с одной стороны, состояние, которое
"остается тем же самым", представляет большую изменчивость, чем это кажется, то,
наоборот, переход от одного состояния в другое походит, более, чем это себе
представляют, на одно и то же длящееся состояние: одно сменяется другим незаметно
(курсив мой.-/7.Г.)"18.
132
Это очень важный принцип постметафизической философии процесса: то, что
мы видим и мыслим как неизменное, есть лишь незаметное изменение: в
реальности (в данном случае описана реальность душевной жизни) нет ничего неизменного.
А непрерывное изменение - это, собственно, и есть длительность. "...Не существует
ни аффекта, ни представления, ни желания, которые не менялись бы каждый
момент; если бы состояние души перестало изменяться, его длительность... прекратила
бы свое течение"19. То, что описывает здесь Бергсон - а именно эмпирическое
состояние душевной жизни - неоднократно описывалось и эмпирической психологией,
и в особенности английскими сенсуалистами, показавшими, что душевная жизнь
есть последовательность состояний сознания. Но Бергсон превращает непрерывное
изменение эмпирического сознания в образец, который служит исходным для
понимания жизни как таковой, вне которой нет и не может быть никакой другой
реальности. Согласно Бергсону, в реальности нет ничего вневременного,
сверхвременного. С его точки зрения, ложная метафизика - платонизм - с его учением о надвре-
менных идеях как мире бытия, в противоположность текучему миру становления
постигаемых только разумом, есть результат неправильного понимания природы
разума и рассудка: по убеждению Бергсона, разум не способен постигать подлинную
реальность - жизнь в ее текучести, ибо понятия рассудка служат средством для
достижения только практических, утилитарных целей и сложились у человека в ходе
его приспособления к среде. Лишь интуиция, постигающая изнутри поток
изменений, открывает нам сущность жизни.
Философия жизни в ее бергсоновском варианте принципиально иррационалис-
тична. Как справедливо отмечает Н.О. Лосский, "Бергсон видит идеал знания в
сочетании науки и философии в единое целое. Однако... он пытается достигнуть этой
цели путем изгнания из науки именно того, что делает ее наукою - идей в
платоновском смысле этого слова. Таким образом, идеал объединения выставлен им только
на словах, на деле же своею гносеологиею он отрезывает пути для его
осуществления, так как отрицает объективное значение понятий рассудка, выражающих сферу
идеального сверхвременного бытия"20. И в самом деле, в мире, каким его видит
Бергсон, существует только становление, только поток изменений, все неизменное -
сверхвременное - для Бергсона есть нечто мертвое, безжизненное, искусственно
сконструированное.
Бергсон внес наиболее ощутимый вклад в создание постметафизической
философии. Неудивительно, что его влияние в начале XX в. было очень сильным: ему
удалось выразить основную тенденцию эпохи. К тем, кто испытал влияние Бергсона,
принадлежит, в частности, известный английский философ А.Н. Уайтхед. В
мышлении Уайтхеда, как и его соотечественников Локка и Юма, а также у представителей
прагматизма, особенно Дьюи, ключевую роль играет понятие опыта. Как и
философия жизни и прагматизм, Уайтхед отвергает метафизику субстанции. Субстанцию
он понимает как изолированную неподвижную вещь: именно такой, по мнению
Уайтхеда, была субстанция у Аристотеля, Декарта, Ньютона. Реальная
действительность, по Уайтхеду, есть изначальное становление, изменение, процесс.
Конечную цель философии английский мыслитель видит в раскрытии "опыта потока
вещей"21. Как отмечает A.C. Богомолов, с точки зрения Уайтхеда, природа есть
"единство "событий" - "элементарных фактов чувственного опыта" и объектов -
"непреходящих элементов в природе", устойчивой стороны преходящих, текучих
событий. Такая картина мира позволяет, по мысли Уайтхеда, понять природу как
"процесс"... "22. Каждое событие тоже мыслится английским философом как
процесс. События, пишет он, - это "процессы опыта, каждый из которых представляет
собой индивидуальный акт. Целостная вселенная - прогрессирующее соединение
этих процессов"23. Именно Уайтхед подарил постметафизической философии XX в.
ее подлинное имя - философия процесса.
133
3. Эволюционизм в философии и науке XX столетия
Идеи Бергсона, в частности его трактовка времени и понятие творческой
эволюции оставили заметный след в постметафизической философии XX в.
Натурфилософское направление, носящее название эмерджентного эволюционизма и
получившее широкое распространение, начиная с 20-х гг. прошлого века, к которому
принадлежали А.Н. Уайтхед, К.Л. Морган, С. Александер, П. Тейяр де Шарден и др.,
несет на себе печать влияния Бергсона. Не менее очевидно это влияние и в
естествознании, в частности, в творчестве И. Пригожина, указывающего на Бергсона как на
главный источник его трактовки времени и становления24.
Принцип эволюционизма в последней трети XX в. оказывается господствующим
не только в синергетике (И. Пригожий, Г. Хакен), но, как показывает B.C. Стёпин,
становится сегодня основой научной картины мира, превращаясь в эволюционизм
универсальный. "Универсальный эволюционизм не только распространяет развитие
на все сферы бытия (устанавливая универсальную связь между неживой, живой и
социальной материей), но преодолевает ограниченность феноменологического
описания развития, связывая такое описание с идеями и методами системного анализа. В
обоснование универсального эволюционизма внесли свою лепту многие
естественнонаучные дисциплины. Но определяющее значение в его утверждении как
принципа построения современной общенаучной картины мира сыграли три важнейших
концептуальных направления в науке XX в.: во-первых, теория нестационарной
вселенной; во-вторых, синергетика; в-третьих, теория биологической эволюции и
развитая на ее основе концепция биосферы и ноосферы"25.
Если в XIX в. принцип эволюции господствовал главным образом в биологии и
социологии, то в последней трети XX в. происходит трансляция этого принципа в
физику и космологию . Теория расширяющейся вселенной ("Большого взрыва")
внесла в научное сознание идею космической эволюции и создала предпосылку для
описания неорганического мира в терминах эволюции27. "Большой взрыв, - пишут
И. Пригожий и И. Стенгерс, - можно рассматривать как необратимый процесс в
самом что ни на есть чистом виде"28. Как полагает физик И.Д. Захаров, именно
Большой взрыв рождает время: "Большой взрыв - это необратимый фазовый переход из
состояния квантового вакуума к состоянию вещества. Этот переход рождает время,
и это время - однонаправленное. Этим определяется также универсальность стрелы
времени: она едина для всей Вселенной" .
Существенную роль в утверждении принципа эволюции в естествознании
сыграла уже упомянутая нами синергетика, теория самоорганизации, изучающая
самоорганизующиеся системы любого вида - от атомов, молекул, клеток до сложных
организмов и человеческих сообществ. "Под самоорганизацией в синергетике
понимаются процессы возникновения макроскопически упорядоченных пространственно-
временных структур в сложных нелинейных системах, находящихся в далеких от
равновесия состояниях, вблизи особых критических точек - точек бифуркации, в
окрестности которых поведение системы становится неустойчивым. Последнее
означает, что в этих точках система под воздействием самых незначительных
воздействий, или флуктуации, может резко изменить свое состояние. Этот переход часто
характеризуют как возникновение порядка из хаоса"30.
Для неравновесных состояний системы характерны два момента: во-первых,
фундаментальная роль случайности: ведь именно случайные процессы
обусловливают переход с одного уровня самоорганизации к другому, тем самым преобразуя
систему. И, во-вторых, эти состояния необратимы, т.е. несут в себе "стрелу времени".
Как отмечает В.Д. Захаров, "неустойчивость приводит к необратимости.
Необратимость рождает космологическую стрелу времени. Эта космологическая стрела
говорит о том, что реальная Вселенная живет в естественном времени. Космологическое
время - Бергсоново время. Наша психологическая стрела времени рождается
космологической стрелой времени"31.
134
4. Фетишизация времени в постметафизической философии
и постнеклассической науке
Итак, временность, длительность, становление, процесс, изменение, эволюция -
вот ключевые определения реальности в постметафизической философии,
определяющей свои исходные принципы в полемике с метафизикой, как она сложилась в
античности и просуществовала вплоть до XVIII в. - до Лейбница и Вольфа. Если у
Парменида, Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла подлинная реальность - мир
бытия - характеризуется как нечто тождественное себе и неизменное, в отличие от
мира становления как изменчивого и преходящего, то в XIX-XX вв. происходит
радикальная переоценка ценностей: как раз вневременное и неизменное
рассматриваются как нечто неподлинное и нереальное, как статичное и косное, мертвое, а не
живое.
Очень интересные соображения по поводу этой переоценки ценностей в науке
XX в. высказал Карл Поппер в одной из последних своих работ, вышедшей
посмертно с характерным названием: "Мир Парменида: очерки о досократовском
просвещении"32. Один из разделов этой книги - главу под названием "За пределами поиска
инвариантов" - перевел на русский язык Н.Ф. Овчинников; перевод, приуроченный
к столетию со дня рождения Поппера, опубликован в журнале "Вопросы
естествознания и техники" (№ 4 за 2002 и № 2 за 2003 г.). Центральным предметом
исследования в книге Поппера является проблема инвариантов. Поппер справедливо
полагает, что Парменид в своем учении о бытии отождествил реальность с
инвариантностью. А поскольку без допущения инвариантов не может быть построена никакая
научная теория, то понятно, что идеи Парменида определили характер европейской
науки. Вот что пишет Поппер о проблеме, которую он обсуждает в своей книге:
"Я попытаюсь здесь показать сохранившуюся до наших дней почти неограниченную
власть над западной научной мыслью идей великого человека, жившего 2500 лет
назад - Парменида из Элей. Идеи Парменида определили цель и методы науки как
поиск и исследование инвариантов... я попробую показать, что эти поистине вещие
идеи Парменида практически сразу после появления пережили своего рода
крушение, повлекшее то, что я буду называть "Парменидовой апологией"; я также
попытаюсь показать, что и это крушение было не менее вещим, ибо Парменидовы идеи в
современной науке неоднократно терпели крах, каждый раз приводивший к
типическим Парменидовым апологиям. И я попытаюсь продемонстрировать вам, что
примерно с 1935 г. эти идеи снова переживают кризис, возможно более суровый, чем
когда-либо ранее... Идеи Парменида оказали мощное воздействие на эволюцию
научных идей; в силу этого нет нужды говорить, что я не только поклонник
Парменида, но так же высоко, как в свое время Мейерсон, оцениваю его влияние"33.
Правда, идея инвариантов у Парменида была выражена в крайней форме - как
отрицание каких бы то ни было изменений: с точки зрения Парменида, мир
подлинного бытия неизменен, неподвижен, вечен, в отличие от "мира мнения", мира
становления, истинной реальностью не обладающего. Поэтому коррективы в учение
Парменида были внесены еще в античности (атомистами, Платоном, Аристотелем).
Но свое значение идея Парменида от этого не утратила, она была лишь ограничена
и получила иное обоснование. А вот в XX в., и не только в науке, но и в философии,
по убеждению Поппера, "эта идея часто подвергалась нападкам со стороны всякого
рода врагов рационализма, которые толковали о диалектической эволюции, или
творческой эволюции, или эмерджентной эволюции, или о "становлении", не
создавая однако никакой серьезной теории "становления", которая могла бы
рационально, т.е. критически, подвергаться обсуждению"34. Действительно, эволюционизм,
как мы уже показали выше, отвергает принципы классической метафизики и
стремится на место бытия поставить становление. Сам Поппер при всем его
критическом отношении к идеям эволюционизма занимает и по отношению к идее
Парменида позицию взвешенную. "Конечно, - пишет он, - мы не можем отказаться ни от
135
Парменидовой рациональности - поиска истинной реальности позади мира явлений
и метода состязания гипотез и критицизма, ни от поиска инвариантов. Но от чего мы
должны отказаться, так это от отождествления реальности с инвариантами.
В заключение нашего краткого изложения точки зрения критического
рационализма Карла Поппера на те изменения в философии, а отчасти и в науке, которые
происходили в XIX, а особенно в XX в. и привели к созданию постметафизической
философии, приведем небезынтересную "таблицу противоположностей",
составленную Поппером применительно к идеям Парменида в духе известной таблицы
пифагорейцев. "Слева, - поясняет Поппер, - я располагаю то, что может быть названо
"идеями Парменида, или категориями" ("путем истины"), а с правой стороны - их ан-
типарменидовы антагонисты ("путь мнения"):
Необходимость Случайность
Совершенство Несовершенство
Точность Приближенность
Обратимость Необратимость
Повторяемость Изменчивость
Вещи Процессы
Инвариантность Возникновение"36.
Таблица эта - при всех возможных здесь оговорках - хороша тем, что с
наглядностью являет ту "переоценку ценностей", которая была осуществлена в европейском
мышлении на протяжении последних двух столетий. Такие понятия, как процесс,
возникновение (добавим: возникновение нового), изменчивость (становление),
случайность, необратимость становятся ключевыми для постметафизической
философии процесса.
Эту переоценку ценностей совсем иначе, чем Поппер, оценил русский философ
И.И. Евлампиев в статье "Неклассическая метафизика или конец метафизики?
Европейская философия на распутье". Автор статьи разделяет принципы
постметафизической философии процесса, именуя ее неклассической метафизикой и
справедливо видя в философии жизни, как она представлена Ницше и Бергсоном, а также в
экзистенциализме Хайдеггера наиболее последовательное ее выражение. «Помимо
ясной критики платоновской философии и ее негативной роли в истории, заслуга
Бергсона состоит в том, что он доводит до логического завершения
противоположную тенденцию, альтернативную платонизму. С одной стороны, он признает
наличие Абсолюта в структуре реальности, однако, безусловно, сохраняя для его
описания характеристику целостности... Бергсон категорически отвергает традиционное
утверждение о завершенности Абсолюта, о его статичности. В классической
традиции даже те философы, которые настаивали на необходимости применения к
Абсолюту термина "становление" (Плотин, Николай Кузанский, Фихте, Гегель)37 все-
таки полагали, что Абсолют одновременно выше этого становления и уже обладает
актуально всеми теми состояниями, к которым оно направлено. Бергсон устраняет
этот последний оплот классической концепции Абсолюта. Задумаемся (вместе с
Бергсоном), почему на протяжении многих столетий понятие становления
полагалось слишком "низменным", чтобы его можно было применить к Абсолюту, Богу?
Очевидно, именно потому, что оно рассматривалось как движение к некоторой
определенной, заранее заданной цели; такое понимание становления было навязано
интуицией пространства и пространственного движения объектов... Если мы
признаем ее неуниверсальной, характерной только для нашего частного и
вторичного образа существования, то в своих попытках понять Абсолют мы должны
устранить все неявные следы присутствия этой формы в нашем сознании. Тогда
становление выступит в качестве того, чем оно и должно быть - как самое фундаментальное
и важное определение бытия. Только в этом случае каждый акт становления в
Абсолюте может быть понят как подлинное творчество, рождение чего-то абсолютно
нового в бытии; соответственно акт Творения, который в каноническом
христианстве и в платонических версиях христианской философии выступает простым "дубли-
136
рованием" в низшем начале (ничто, материя) форм бытия, предсуществующих в
Боге, предстанет в своей по-настоящему возвышенной форме - как акт непрерывного
творческого обогащения бытия, целостного бытия, включающего как Абсолют, так
и все его творческие "эманации"» .
Данное здесь изложение основных принципов неклассической философии
процесса, как она представлена Бергсоном, не только позволяет увидеть ее отличие от
классической метафизики, отождествляемой автором - и, конечно, не без оснований -
с платонизмом, но, что не менее важно, позволяет выявить общую
пантеистическую предпосылку, лежащую в основе постметафизического мышления. Нельзя не
согласиться с И.И. Евлампиевым, что философия процесса отвергает не только
античный платонизм, но и христианский догмат творения, как, впрочем, и вообще
христианское понимание Бога, которое имеет в качестве своей предпосылки различение
вечности и времени, неприемлемое для философии жизни. С точки зрения Евлампи-
ева, в этом состоит преимущество "неклассической философии", считающей
высшей ценностью рождение нового. А поскольку новое рождается во времени, то
постметафизическая философия, утверждая в качестве единственной реальности
процесс, поток, становление, творчество нового, так же как и универсальный
эволюционизм современной науки, возводят время как необратимое, как "стрелу
времени" в первый принцип всего сущего. Как замечает в этой связи В.Д. Захаров,
"Пригожий фетишизирует время настолько, что считает его существовавшим уже
до возникновения Вселенной. В этом я с ним не согласен"39.
Конечно, можно видеть в превращении времени в своего рода новый абсолют
заслугу философии и науки XX в. Но можно взглянуть на дело и иначе:
абсолютизировав время и становление, не утрачиваем ли мы что-то важное и существенное, чем
обладало человечество в эпоху метафизики и что оказалось разрушенным сегодня?
Вот что думает по этому поводу известный католический философ Романо Гварди-
ни: "Если спросить современного человека, как он воспринимает жизнь, то ответ в
различных вариантах всегда сведется к одному и тому же: жизнь - это усилие,
поиски цели и прыжок к ней, творчество, разрушение и новое творчество, то, что
бурлит и находится в движении, течет потоком и бушует. Поэтому современному
человеку трудно почувствовать, что жизнь есть также и могучее присутствие,
сосредоточенная в себе сокровенность, сила, парящая в спокойствии. По его
представлениям, жизнь неотделима от времени. Она - изменение, переход, постоянная
новизна. Той жизни, которая выражается в длительности и устремляется к вечной
тишине, он не понимает. Если ему случается представить себе Бога, то он думает о Нем
как о творящем без устали. Он склонен даже представлять Его Самого в
постоянном становлении, созидающим Себя на пути от бесконечно далекого прошлого к
столь же далекому будущему. Бог, пребывающий в чистом настоящем, неизменный,
Сам Себя исчерпывающий в невозмутимой реальности, не говорит ему ничего. И
если он слышит о "вечной жизни", которая должна быть исполнением всякого смысла,
то легко приходит в замешательство: что это за существование, в котором ничего не
происходит?..."40.
Предпосылки постметафизической философии формируются вместе с началом
процесса секуляризации, в эпоху Возрождения, но традиция метафизики
оказывается достаточно устойчивой и сохраняется - у некоторых новоевропейских философов -
вплоть до XVIII в. С точки зрения интересующей нас проблемы времени в этот
период тоже происходят существенные изменения: постепенно, начиная с конца XVII в.,
утрачивает свое значение характерное для античности и средних веков
рассмотрение времени сквозь призму вечности, и время с его необратимостью все более
приобретает черты "нового Абсолюта", коими оно наделяется у Гуссерля, Гадамера,
Хайдеггера.
137
Примечания
1 Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в двух томах. М., 1987. Т. I. С. 349.
2 Там же. С. 345.
3 Гегель Г.В.Ф. Сочинения. М., 1959. Т. IV. С. 19.
4 Там же. С. 24-25.
5 Там же. С. 25.
6 Киссель М.А. Гегель и Гуссерль//Логос Mb 1. M., 1991. С. 62.
7 Там же. С. 18.
8 Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет в двух томах. М, 1971. Т. И. С. 417.
9 Там же. С. 143. "Чистая жизнь есть бытие", - читаем в "Философии религии". {Гегель Г.В.Ф.
Философия религии в двух томах. М., 1975. Т. I. С. 149.)
10 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Ч. III. Философия духа. М., 1956. С. 27.
1 ' Там же. С. 60.
12 Там же. С. 27.
13 Peirce CS. Collected Papers. Cambridge (Mass.), 1960. V. 5. P. 536.
14 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., 1994. С. 339.
15 Там же. С. 226-227.
16 Бергсон А. Творческая эволюция. М. - СПб., 1914. С. 48-49.
17 Как справедливо отмечает И.И. Блауберг, "Бергсон стоит на позиции спиритуализма, признает дух,
сверхсознание, началом мира, но далек от христианского представления о Боге. Согласно христианской
традиции, Бог существует вне времени, в вечности. У Бергсона же в "Творческой эволюции" время
окончательно утвердилось в качестве основания бытия, длительность абсолютна" (Блауберг И.И. Анри
Бергсон. М., 2003. С. 358).
18 Там же. С. 2.
19 Там же. С. 1-2.
20Лосский И.О. Интуитивная философия Бергсона. Пб., 1922. С. 105.
21 Whitehead A.N. Prozeß und Realität. Frankfurt a. M., 1979. S. 385.
22 Богомолов A.C. Алфред Норт Уайтхед / Философская энциклопедия. М, 1970. Т. 5. С. 269.
23 Whitehead A.N. Adventures of ideas. N. Y., 1958. P. 199.
24 Пригожий И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. М., 2000. С. 22-23.
25 Степин B.C. Теоретическое знание. М., 2000, С. 645-646.
26 "Универсальный (глобальный) эволюционизм, - пишет B.C. Стёпин, - характеризуется часто как
принцип, обеспечивающий экстраполяцию эволюционных идей, получивших обоснование в биологии, а
также в астрономии и геологии, на все сферы действительности и рассмотрение неживой, живой и
социальной материи как единого универсального эволюционного процесса" (Там же. С. 643-644).
27 См. Гут А.Г., Стейнхардт П.Дж. Раздувающаяся Вселенная // В мире науки. № 7. 1984. См. также
Казютинский В.В. Вселенная в научной картине мира и социально-практической деятельности
человечества / Философия, естествознание. Социальное развитие. М, 1989.
28 Пригожий И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. С. 186.
29 Захаров В.Д. Введение в метафизику природы. М., 2003. С. 242-243.
30 Аршинов В.И. Синергетика / Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. III. С. 546.
Обстоятельный анализ принципов синергетики и ее роли в изменении научной картины мира дан в работе
В.И. А р ш иное а "Синергетика как феномен постнеклассической науки" (М., 1999).
31 Захаров В.Д. Введение в метафизику природы. С. 242.
32 Popper К. The world of Parmenides. N.Y., 1998.
33 Поппер К. За пределами поиска инвариантов // Вопросы истории естествознания и техники. 2002.
№ 4. С. 675.
34 Поппер К. За пределами поиска инвариантов // Вопросы истории естествознания и техники. 2003.
№ 2. С. 65.
35 Там же. С. 97.
138
36 Там же.
37 Применительно к Плотину - в отличие от Кузанца, Фихте и Гегеля - вряд ли можно говорить о
характеристике Абсолюта как "становления"; тем самым Плотин неправомерно сближается с Бергсоном.
Впрочем, такое сближение мы находим не только у Евлампиева, но и у С.Л. Франка, чье истолкование
неоплатонизма с учением Николая Кузанского разделяет и Евлампиев. О принципиальном отличии
Плотина от Бергсона см. мою статью "Метафизика конкретного всеединства, или Абсолютный реализм
С.Л. Франка" // Вопросы философии. № 5. 1999. С. 145-146.
38 Евлампиев И.И. Неклассическая метафизика или конец метафизики? Европейская философия на
распутье // Вопросы философии. № 5. 2003. С. 164-165.
39 Захаров В.Д. Введение в метафизику природы. С. 243.
40 Гвардини Р. Апокалипсис - время и вечность // Логос. № 47. 1992. Брюссель - Москва. С. 249-250.
139
Мистический неоэллинизм и идеал
и Эстетической церкви" :
Ф. Бутервек и Ф. Гельдерлин
Н. К. ГАВРЮШИН
В 1792 г. в "Московском журнале", издававшемся Н.М. Карамзиным, появился
перевод статьи Ф. Бутервека "Аполлон". Немецкий ее оригинал впервые увидел
свет в первом томе бюргеровской "Akademie der schönen Redekünste" (1790) и
отражал взгляды еще совсем молодого, не прошедшего искуса кантовских "Критик"
автора. Тем не менее Карамзин остановил выбор на этой статье своего германского
сверстника не случайно: он почувствовал в ней пафос родственной души и увидел
эстетическую программу, которую был готов разделить1.
В самом деле, какими тайными смыслами сияет образ солнечного бога?
"Философия и науки, - читаем мы здесь, - действуют только на разум, чувственные
искусства на одно сердце, а Поэзия на всю душу. В ней свет с теплотою соединяется..." 2.
Стало быть, не столько история, сколько поэзия является учительницей жизни...
В первой половине XIX столетия Фридрих Бутервек (1766—1828)3 был особенно
известен как автор многотомной "Истории поэзии и красноречия" (1801-1819). Но
он и сам писал стихи, романы, занимался классической филологией, философией
естествознания, эстетикой. Подобно Я. Фризу4, он испытал заметное влияние Ф. Яко-
би, с которым долго переписывался. Но едва ли не главным событием в его жизни
стало знакомство с критической философией.
Около 1788 г. молодой адвокат, получивший образование в Геттингене, впервые
узнает об учении Канта, а спустя несколько лет уже основательно садится за
"Критику чистого разума" и становится убежденным кантианцем. Зимним семестром 1792 г.
Бутервек начинает популяризировать философию Канта в Геттингене и посылает
свою программу, вместе с восторженным письмом, в Кенигсберг. В ответ в мае 1793 г.
Кант шлет в подарок Бутервеку свою "Религию в пределах только разума".
Помощь "столь достойного сотрудника" (so würdigen Mitarbeiters) маститый
профессор принимает охотно, хотя и не скрывает удивления перед развитием его
интересов: "Радостное настроение духа, которым я часто наслаждался в Ваших стихах, -
писал Кант, - не давало мне повода ожидать, что сухие абстракции сами по себе для
Вас также могут быть привлекательными" .
© Гаврюшин Н.К., 2005 г.
140
В письме к одному из друзей Бутервек с гордостью возвестил, что сам "король
мыслителей" поощрил его намерение популяризировать идеи критической
философии в избранном им направлении. Теперь выполнить это благословение - его долг6.
Однако он не может отказаться и от своих литературных планов, с удивлением
сознавая себя "чем-то средним между философом и фантастом"7.
В 1794 г., возвратившись в Дармштадт из длительного путешествия по
Швейцарии (во время которого он, подобно Карамзину, посетил Шарля Боннэ и
вдохновлялся мысленным общением с Руссо), Бутервек в избранном кругу адвокатов,
придворных, офицеров и духовенства различных христианских исповеданий популяризирует
идеи Канта, а затем на основе своих лекций создает первую большую философскую
работу: "Павел Септимий, или Последняя тайна элевсинских жрецов".
По форме этот труд напоминает романы Ф. Якоби; главная же его идея -
мировоззренческая близость учения Канта и эзотерической традиции, к которой, по
крайней мере, формально, могли считать себя причастными его слушатели. "То
значение, которое Кантова критика чистого разума имеет для философской
спекуляции, - читаем мы в первых же строках, - учение элевсинских жрецов имеет для
человеческого рассудка, склонного к свободному, но упорядоченному
(zusammenhängenden) мышлению"8.
Впрочем, при всем уважении к идеям кенигсбергского мудреца, Бутервек готов
принять их только как одну из граней многомерного алмаза древних мистерий. "Ты
не найдешь в учении элевсинских жрецов ни одного положения, которое
противоречило бы кантовскому учению, - говорит один из героев романа, - но более чем одно,
которые его заново обосновывают и, если я не ошибаюсь, развивают"9.
Однако тайное должно было стать явным прежде всего благодаря
экзегетической работе самого Бутервека. В "Павле Септимий", а затем в "Идее аподиктики"
(1799) он развивает систему мировоззрения, в центре которой - понятия жизненной
силы, воления, деятельности, конституирующие философию виртуализма. Здесь
можно усматривать условно-связующее звено между Ф. Глиссоном (De natura substanti-
ае energetica (1672)) и А. Бергсоном (élan vital), но более близкие аналогии с Тетенсом,
Фризом, Баадером и даже Шопенгауэром вполне уместны.
Виртуальность, в трактовке Бутервека, есть единство всех душевных и
природных сил, неразделимость противоборствующих стремлений. Сила вообще есть
некоторая предельная категория теоретического мышления, синоним вещи-в-себе, но с
организмическими и волюнтаристскими обертонами. Понятие виртуальности
объединяет понятия реальности и индивидуальности; виртуальность - практическая,
эмпирическая проекция Абсолютной реальности, в которой субъект и объект
неразличимы. "С виртуальностью, - по замечанию Штрука, - найдено волшебное слово,
которое освобождает от чар сумеречного и непостижимого. Через него все является в
несравненно более ясном свете. И если оно является ключом ко всякой философии, с
его помощью можно сделать понятнее и философию трансцендентальную"10.
Подобно Фихте пытаясь найти высшее объединение теоретического и
практического мышления в понятии деятельности, Бутервек стремится избежать крайностей
субъективизма. Если Фихте дедуцирует Не-Я из Я, строя тем самым систему
субъективного идеализма, то Бутервек полагает их взаимообусловленными и
прокладывает путь к трансцендентальному реализму.
Принцип совпадения противоположностей навевает аналогии с Николаем Кузан-
ским и отчасти с Шеллингом; но особенность избранного Бутервеком пути
размежевания с пантеизмом и панлогизмом уясняется только в связи с той ролью, которую
он отводит иррационально-волевому началу, особенно ярко проявляющемуся в
художественном творчестве. "Метафизика прекрасного" является одновременно
пропедевтикой к религиозному содержанию всех исканий Бутервека.
В основе всякой красоты, как природной, так и идеальной, лежит некое неясное
(dunkle) отношение к метафизической истине. Эстетическое чувство ведет рассудок
к высоте, на которой в осознании первосмыслов (Urbegriffe) мышление само стано-
141
вится чистым благоговейным предчувствием (Ahndung) высшей Истины, по
отношению к которой вся совокупность человеческих познаний является не более чем
тенью. В состоянии эстетического благоговения перед метафизической Истиной
фантазия переносит понятие жизни на все формы природного бытия, т.е. одушевляет,
олицетворяет природу11.
Точки соприкосновения Бутервека и Фриза достаточно очевидны12, но в
трактовке антиномичности религиозного сознания основоположник виртуализма
демонстрирует несомненную самостоятельность.
Прежде всего он решительно ограничивает функцию эстетического: оно лишь
поддерживает неопределенное религиозное настроение. "Нет никакого истинного
чувства Божественного, - читаем мы в "Идеях к метафизике прекрасного", - без
возвышения <человеческого> духа над природой и над самим собой к абсолютной
идее благой Первопричины (eines heiliges Urgrundes) всякого <наличного> бытия
(Daseyns) и мышления. Уже поэтому данное чувство должно принять
неопределенный эстетический характер, так как оно разрушает всякую форму, т.е. всякую
совокупность определенных отношений".
Определенные же эстетические формы в истинной религии совершенно
неуместны, ибо на них взращивается эстетический мистицизм. Там, где фантазия снимает
границы между природным и божественным, возникает мистицизм
натуралистический, полурелигиозный.
Отсюда вполне очевидно, что союз религиозного и эстетического начал
достаточно хрупок: в традиционном аскетическом духе Бутервек настаивает на
безусловной подчиненности последнего, но не в смысле выполнения дидактических задач, а в
плане ограничения притязаний самодовлеющей красоты.
"Если религиозное чувство действительно может перейти в эстетическое, оно
неизбежно потеряет тогда свою изначальную чистоту. Отсюда, очевидно, следует, что
истинно религиозный характер не должен исповедовать ни одну прекрасную
религию, поскольку <в ней> эстетический интерес примешивается к религиозному или
может вообще возобладать над ним"14.
В историческом пространстве восточного христианства подмеченное Бутерве-
ком противоречие приобретает особенную остроту: с одной стороны, иконопочита-
ние как стержень религиозно-общественной жизни, с другой, аскетическое
иконоборчество, т.е. требование освободить молитвенные состояния от всяких
чувственных образов. Но Бутервек, как и Кант, с восточным христианством практически не
был знаком...
Из всех религий в полном смысле эстетическим может быть только политеизм,
поскольку он истинную божественность подменяет красотой человечности. Всякий
монотеизм в отвлеченной форме слишком громаден для фантазии, а
конкретно-чувственные образы всегда малы по сравнению с величием бесконечности...
Окончательное оформление своего мировоззрения Бутервек осуществил в
"Религии разума" (1824), подводящей итоги его метафизике. Здесь религиозная
философия, важнейшим понятием которой является вера, выступает посредником между
метафизикой и практической философией.
Истинное Я, или индивидуальное начало, это - воля. Но свободной она
становится только благодаря разуму. Свобода и разум суть одно и то же. Разумной вере
далеко не все доступно с помощью рассудочных суждений. Это относится к теодицее,
вере в совершенство и уникальность нашего мира, всемогущество Божие, Его
всеведение, действенность молитв... Однако отказываться от молитв или понимать Бога
только как регулятивную идею благоговеющий разум не может.
Если Кант давал обоснование разумной веры через моральное знание, а Якоби
поставил веру над знанием, то теперь настала пора уточнить взаимоотношения этих идей.
Вера есть особое духовное состояние, в котором сомнения и шатания между
истинным и ложным частично или полностью преодолеваются за счет тех или иных
представлений. Но на представлениях основывается наивная, безрассудная вера. Подлин-
142
ную уверенность (Gewißheit) дает только вера в разум, причем в акте такой веры
участвует вся полнота нашей природы. Здесь Бутервек ощутимо сближается с Гегелем...
Первоначально разум сознает себя как деятельность, отличающуюся от
чувственного восприятия; затем он противопоставляет себя рассудку, и, наконец,
усматривает в себе самом источник непосредственных представлений или идей, из
которых высшей является идея Абсолютного. Через нее Бог, Деятельное Первоначало
(das Urwirkliche) открывается нашему духу. Теизм превращается в своего рода
разумный мистицизм (Vernunftmystizismus) , который предполагает сознание
условности всех образных, антропоморфических представлений о Божестве, утверждает
веру в бесконечное совершенствование нашей разумной индивидуальности...
* * *
Фридрих Гельдерлин (1770-1843), товарищ Гегеля по тюбингенскому Stift'y,
рассматривал критическую философию как величайшее достижение германского духа
и придавал ей глубокое религиозное значение. Кажется, никто, кроме него, не
сравнивал Канта с пророком Моисеем... Вот дословно, что он пишет своему сводному
брату 1 января 1799 г.: "Кант - это Моисей нашей нации, который выводит ее из
расслабляющего египетского плена в свободные, пустынные просторы своих
умозрений и приносит ей со священной горы действенный (energische) закон"16.
Увлечение Гельдерлина критической философией относится к началу 1790-х гг.
Уже в 1791-м он предпосылает эпиграф из "Критики способности суждения"
окончательному варианту "Гимна красоте", не связывая, правда, себя точностью
цитирования и интерпретации текста. Подобно Бутервеку, которого знал и высоко ценил17,
а также Фесслеру (нигде в его бумагах не упомянутому), Гельдерлин сочетает
изучение Канта с чтением греческих авторов. 21 мая 1794 г. он сообщает Карлу Гоку:
"Пока едва ли не единственное мое чтение - Кант. Все более раскрывается передо
мною этот величественный дух"18. А спустя полтора месяца признается Гегелю:
"Кант и греки составляют пока мое единственное чтение. Преимущественно я хочу
познакомиться с эстетической частью критической философии" .
У греков Гельдерлина привлекал не стоицизм (как Фесслера), и не элевсинские
мистерии (столь ценимые Бутервеком), а прежде всего искусство, поэзия, драма, т.е.
то, что является предметом эстетической рефлексии. Но тяга его к эстетике
диктовалась не отстраненно-умозрительными запросами, а поисками религиозной
полноты жизни, которую он не мыслил помимо свободного творчества и
художественного совершенства.
Собственно свободное искусство, в том числе и в многочисленных образах
античной мифологии, было для него неким самообнаружением единого божества в
чувственном мире, иной формой Откровения, и не исключена возможность, что этим
убеждением он оказал известное влияние на своих друзей, Гегеля и Шеллинга20.
С Бутервеком у Гельдерлина безусловное единство основной идеи: поэзия -
высшая форма знания и бытия, интеллектуальная интуиция, получающая совершенное
метафорическое выражение - ибо непосредственное богопознание в строгом
смысле слова невозможно, знание строится на оппозициях, а метафора, притча и есть
посредник, свидетельствующий и об Ином, и о своей условности. Поэт, особенно
такой, как Пиндар, - истинный служитель культа Единого Бога , хотя и восхваляет
многих богов...
Христианство, умалив значение поэтического творчества, явно уступало
античности. Поэтому вполне естественно, что позднее Гельдерлин будет обсуждать с
братом организацию "эстетической Церкви" как "идеала всякого человеческого
общества"22 и назовет поэзию "светлым Богослужением" (heiterer Gottestdienst)23.
В Иене Гельдерлин слушал лекции Фихте и довольно подробно обсуждал его
учение с Гегелем, несколько ранее познакомился со взглядами Спинозы, но
оставался верен Канту. Вот его признание из письма к Нейферу, относящееся к началу де-
143
кабря 1795 г.: "Теперь я вновь прибегаю к помощи Канта, как и всегда, когда сам
себе становлюсь в тягость"24. В конце февраля 1796-го, сообщая Им. Нитхаммеру, что
философия опять остается его "единственным занятием", Гельдерлин делает важное
дополнение: "Я взялся за Канта и Рейнгольда и надеюсь в этой стихии вновь
собрать и укрепить свой дух, который вследствие бесплодных хлопот, очевидцем коих
ты был, обессилен и разрушен" .
Таким образом, критическая философия оказывается для Гельдерлина своего
рода "врачебницей души". При этом лекарства, которые она подает, порой кажутся
очень горькими, предписания - утомительными, и в этом же письме поэт называет
ее "тиранкой", насилие которой готов терпеть лишь постольку, поскольку
добровольно себя ему подчиняет.
Отсюда очевидно, что философию Гельдерлин понимает не как подлинную свободу,
а лишь как ступень к ней, как школу умозрительной аскезы и теоретическое
оправдание идеала религиозно-поэтического творчества. Поэзия все-таки выше философии...
"Изначальная системная программа немецкого идеализма", в которой отражены
общие взгляды Гельдерлина, Шеллинга и Гегеля, перефразируя знаменитый девиз
Лессинга, определяет конечное назначение поэзии - быть Lehrerin der Menschheit,
учительницей человечества. И одновременно провозглашает "монотеизм разума и
сердца, политеизм воображения и искусства" .
Но "чистый идеал всякого мышления и делания (Tuns), неизобразимая,
недостижимая красота" со всей ясностью раскроется только тогда, когда мы пройдем "через
весь лабиринт науки"28, конечно же, с помощью кантовской философии. Именно
освобождение из тенет отвлеченной догматической метафизики, которое она давала,
служило импульсом к живому, конкретному деланию, творчеству - в непрестанном
ощущении таинственной связи с Абсолютным.
Подобно многим своим современникам, Гельдерлин определяет это ощущение
термином Ahndung:
Der Vollendung Ahndungen erheben
über Glück und Zeit die stolze Brust2,9.
Вздымают грудь предвестья совершенства
Над сенью счастья и чредой времен .
Конечно, "кантианец" Гельдерлин - весь в образах Греции. Но "Дух дышит, где хо-
щет" (Ин. 3, 8), а посему отнюдь не очевидно, что "темный лик", сработанный
торопливой кистью фряжского богомаза, Ему милее тех предчувствий, Ahndungen царства
свободы, которые охватывали романтиков при общении с образами античности...
Итак, основные идеи Гельдерлина вполне укладываются в общий спектр после-
кантовских религиозно-философских исканий, параллельно построениям Фриза,
Бутервека, Фесслера и др. Остается лишь гадать, как бы они развивались, если бы
загадочная душевная болезнь, на многие годы заключившая его в маленькую
башенку на берегу реки Неккар в Тюбингене, не приглушила его творчества и не
воспрепятствовала его горячему стремлению оказаться на Кавказе:
Ich aber will dem Kaukasos zu!
Ая- я стремлюсь на Кавказ!32
* * *
Что касается Гельдерлина, то его сочинениям ни на Кавказ, ни вообще в Россию
долго не удавалось попасть, и только автор "Имагинативного Абсолюта" положил
начало освоению наследия поэта в нашей стране33.
А вот Бутервек долгое время пользовался среди русских большим вниманием и
славой.
144
Спустя десять лет после упомянутой выше публикации в "Московском журнале"
его лекции в Геттингене уже слушает юный сподвижник Карамзина на литературно-
общественном поприще, А.И. Тургенев. Впечатления одного из утонченнейших и
универсальных русских мыслителей первой половины XIX в. от общения с геттин-
генским профессором были достаточно сильными.
Судя по письму А.И. Тургенева к В.А. Жуковскому от 7 июня 1802 г.,
содержащему приписку A.C. Кайсарова, для всех друзей было своего рода открытием, что
читающий лекции по эстетике Бутервек "есть тот самый, который написал Дон Ама-
ра"34.
С героиней этого романа, Франциской фон Штернах, А.И. Тургенев сравнивает
предмет увлечения Жуковского - Марию Николаевну Свечину, а характер самого
поэта - с душевным складом Петрарки, описанным в лекции Бутервека35. Стихи же
самого автора "Дон Амара" Тургенев посылает Жуковскому весной 1814 г., когда и
сам не устает их перечитывать .
Интерес А.И. Тургенева к Бутервеку не ослабевает и в последующие годы. Он
постоянно следит за его новыми книгами, рекомендует их в отечественные
журналы, поддерживая тем самым карамзинскую традицию.
Вот что он пишет в декабре 1826 г. о новом труде немецкого мыслителя:
"Хорошею жатвою для русского журнала может быть и книга Бутервека "Мелкие
сочинения философского, эстетического и литературного содержания". Вышла только 1-я
часть, и в ней литературная аутобиография самого Бутервека: образец сочинений в
сем роде и истинно авторское самоотвержение. Он говорит о себе, как о другом;
критикует и ценит свои творения строго и осуждает весьма здраво и основательно
то, что всей публике в нем нравилось. Тут же есть статья о Шиллере и его
сочинениях, прекрасная. Вот что говорит он между прочим: "Поэзия Шиллера родная сестра
философии. Она основывается на понятии о бесконечном. По истинному праву
слывет он сердцевозносителем (der Herzenhebende). Учители его были Шекспир, Гете.
Шиллерова Муза пребывает уныло-задумчивою и тогда, когда улыбается (Schillers
Muse bleibt melancholisch auch wenn sie lächelt)". Но главная статья в сей книге для
перевода на русский язык: Мысли о литературе. Роды словесности прекрасно
означены; замечательно также тут и рассуждение о журналах, разделении их, влиянии на
литературу и на народ, различии их от газет, как литературных, так и
политических..."37.
Незадолго перед тем, в ноябре 1826-го, А.И. Тургенев с братом Николаем читали
статью Бутервека "Великие нации нашего времени", в которой, в частности,
высказана мысль об исторической миссии русского народа, состоящей, по мнению автора,
в распространении европейской культуры на Азию . Спустя десять лет,
характеризуя в письме к кн. П.А. Вяземскому лекции о словесности проф. СП. Шевырева,
Тургенев заметит: "Какая небрежность в слоге и в изысканиях: забыл
Бутервека!"39.
Другие университетские профессора были к немецкому эстетику более
внимательны: достаточно часто его цитирует Н.И. Надеждин, "с уважением", как
вспоминает М.А. Дмитриев, говорил о его системе М.Т. Каченовский40.
Устойчивая ориентация на Бутервека прослеживается в русской
духовно-академической среде, в чем можно было бы усматривать влияние А.И. Тургенева,
бывшего правой рукой обер-прокурора Св. Синода князя А.Н. Голицына. Но вполне
возможно, что он здесь ни при чем, так как за Бутервека, по иронии судьбы, держались
и лица, с коими у Тургенева и его "партии" были существенные разногласия по
другим вопросам.
В письме к отцу, относящемся к июлю 1810 г., Филарет Дроздов, рассказывая в
подробностях об иеромонахе Леониде (Зарецком), невольным конкурентом
которого по Петербургской духовной академии и семинарии оказался будущий московский
святитель, между прочим отмечает: "Он проходит эстетику по Бутервеку, и
изъясняет, каким образом идея изящного и высокого, проницая из глубины сознания,
145
производит чувство или гармонического развития человеческих сил, или
свободной игры, или идеального парения выспрь человеческого духа, и пр., и пр."41.
Программа уроков Леонида полностью приведена в известном исследовании
И.А. Чистовича, который также сообщает, что в 1812 г. Комиссией Духовных
Училищ "поручено было исполняющему должность профессора словесных наук, архим.
Леониду, составить учебник по сему предмету для академии и семинарий, но, за
смертию профессора, этот труд не состоялся" .
Не приходится сомневаться, что Бутервека склонен был держаться и
покровительствовавший о. Леониду архиепископ Феофилакт (Русанов), сыгравший
значительную роль в подготовке проекта Устава Духовных Академий 1814 г.43.
Однако после того как скончался архимандрит Леонид (Зарецкий) и удалился из
Петербурга архиепископ Феофилакт (вследствие сложной интриги, в которую так
или иначе были втянуты и Филарет, и А.И. Тургенев), попала заодно в опалу и
"Эстетика" Бутервека. Видимо, у кого-то она вызывала неприятные ассоциации... Уже
в апреле 1814 г. Комиссия Духовных Училищ "отменила Эстетику Бутервека,
которая в некоторых отношениях оказалась несоответствующею цели академического
учения" .
К полному ее изгнанию из духовных школ это определение все-таки не привело.
В 1820 г. рукописный перевод эстетики Бутервека ходил по рукам среди студентов
Московской Духовной Академии, к числу которых принадлежал и Н.И. Надеждин45.
* * *
Теперь мы можем подвести предварительные итоги нашему экскурсу в послекан-
товскую религиозную философию.
"Религия разума" очевидным образом исчерпала себя не только уже в первой
"Критике", но и во Французской революции, некогда вознесшей и затем оставившей
в забвении ее богиню46. За пределами непосредственной компетенции разума
оставалось все, что связано с таинственным, несказуемым, переживаемым: мистика,
эстетика, религиозное чувство, чаяние...
Немецкая мысль с удивительным единодушием стала описывать это
пространство религиозного опыта термином Ahndung . Школа Фриза выдвинула мысль, что
понятийная, догматическая оправа этому опыту вообще не нужна: ему довлеет
эстетическое выражение, способное объединить всех; Бутервек и Гельдерлин также
увидели в поэтическом творчестве подлинное богослужение, ставя метафору,
иносказание выше догмы.
В историософском и социально-психологическом плане подобное развитие
мысли бросает вызов устоявшейся точке зрения, что религия - это прежде всего догма,
"система взглядов и представлений"... Религиоведам в таком случае придется
поставить во главу угла эстетику как "науку о выражении и общую лингвистику". Ведь
именно формы выражения религиозного чувства (Ahndung, Numinose) в первую
очередь и свидетельствуют о некоем социальном единстве, круге общения, в основе
которого не кровное родство и сиюминутная корысть, а неизреченная тяга к
Абсолютному, жажда и чаяние подлинного бытия...
Примечания
1 О близости эстетических программ Карамзина и Бутервека см.: Кафанова О.Б. Переводы Н.М.
Карамзина в "Московском журнале" // Проблемы метода и жанра. Вып. 11. Томск, 1985. С. 66-67; Кочетко-
ва Н.Д. Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания). СПб.: Наука,
1994. С. 143-144.
2 Боутервек. Аполлон. Изъяснение древней аллегории // Московский журнал. 1792. Ч. VIII (Октябрь
и Ноябрь). С. 118-131.
146
3 Транскрипция Боутервек не привилась в русской книжности и не имеет опоры в истории самой
фамилии: отец мыслителя подписывался Butterweck. См.: Struck G. Friedrich Bouterwek. Sein Leben, seine
Schriften und seine philosophischen Lehren. Rostock i.M., 1919. S. 8. Anm. 6.
4 См. о нем: Гаврюшин H.К. Демифологизация религии и эстетический экуменизм: Яков Фриз и его
школа // Вопросы философии. 2004. № 4. С. 148-157.
5 Struck G. Op. cit. S. 36.
6 Ibid.
7 Bouterwek F. Kleine Schriften. Göttingen, 1818. Bd. I. S. 42.
8 Bouterwek F. Paulus Septimus, oder das letzte Geheimnis Eleusinischen Priester. Halle, 1795. Th. I. S. IV.
9 Ibid. S. VI. Заметим, что всего через два года после выхода романа появится диссертация Вилманса
"О сходстве между чистым мистицизмом и религиозным учением Канта"...
10 Struck G. Op. cit. S. 145.
1 ' Bouterwek F. Ideen zur Metaphysik des Schönen. Leipzig, 1807. SS. 68, 70-71, 76.
12 Их немало также с К. Краузе и Д. Свабедиссеном, в частности, терминологических: все четверо
активно пользуются приставкой Ur- (Ur-begriff, Ur-bild, Ur-Wesen и т.д.).
13 Bouterwek F. Ideen zur Metaphysik des Schönen. S. 165.
14 Ibid. S. 169-170.
15 Ibid. S. 217-219.
16 Hölderlin Fr. Sämmtliche Werke und Briefe. Berlin und Weimar, 1970. Bd. 4. S. 337.
17 Он, в частности, хотел видеть Бутервека в числе авторов задуманного им в 1799 г. журнала (Ibid.
S. 359). Весьма вероятно, что на форме романа Типерион" сказалось влияние вышедшей в 1791 г. 1-й
части "Графа Донамара" Бутервека.
18 Ibid. S. 141.
19 Ibid. S. 150.
Vieillard-Baron J.-L. L'Art et l'Absolu : Schelling, Hegel et Hölderlin // Revue des sciences philosophiques et
théologiques. 80 (1996). P. 35^4.
21 Именно Пиндар с особой силой поведал - за много столетий до Гегеля - что все действительное
разумно, а все разумное - действительно...
22 Ibid. S. 365.
23 Ibid. S. 419.
24 Ibid. S. 214.
Карл Рейнгольд (1758-1823) - известный популяризатор критической философии, профессор Иен-
ского университета.
26 Hölderlin Fr. Op. cit. S. 229.
27 Ibid. Bd. 2. S. 442. Хотя оригинал этого текста написан рукой Гегеля, его включают в собрание
сочинений Гельдерлина ввиду близости мыслителей и бесспорного отражения в этом фрагменте
важнейшей мысли поэта. (См. также Hegel-Studien. 4. 1968.)
28,
29 Ibid. Bd. 1. S. 230 ("Hymne an die Freiheit").
30 Перевод мой. Перевод Л. Гинзбург полностью изменяет смысл: "Время братства людям в дар
приносит // Совершенство, мир и красоту". См.: Гельдерлин Ф. Сочинения. М., 1969. С. 53. В "Гимне Богине
гармонии" читаем: "Schon erglüht der wonnertrunkne Seher // Von den Ahndungen der Herrlichkeit" ("Воспылал
уж упоенный зритель // От предчувствий славы Божества"); "Von des Erdelebens Tand geläutert // Ahndet
Götterlust der zarte Sinn" ("Суеты земной презрев бренчанье // Чает вышних чуткая душа"). - Hölderlin Fr.
Op. cit. Bd. 1. SS. 219, 222. Курсив мой. - Н.Г.
31 Hölderlin F. Op. cit. S. 453 ("Die Wanderung").
32 Гельдерлин Φ. Сочинения. M, 1969. С. 158 ("Паломничество". Пер. Ε. Эткинда).
33 Гельдерлин Ф. Смерть Эмпедокла. Пер. Я. Голосовкера. М.-Л.: Academia, 1931. Впрочем, есть
также тонко аргументированное предположение об отражении некоторых идей Гельдерлина в поэзии
Ф.И. Тютчева. См.: Тютчев и Гельдерлин. Неизданный доклад А. И. Неусыхина (1942) /Литературное
наследство. Т. 97 (2). Ф.И. Тютчев. М.: Наука, 1989. С. 542-547.
34 Веселовский А.Н. В.А. Жуковский: Поэзия чувства и "сердечного воображения". М., 1999. С. 73.
147
35 Там же. С. 73-74.
36 Там же. С. 135-136. Эстетическими воззрениями Бутервека Жуковский проникается, очевидно,
после 1807 г., оставив безуспешные попытки освоить немецкую философию и простившись с увлечением
Батте, Лагарпом, Зульцером и др. Там же. С. 33.
37 Тургенев Л.И. Хроника русского. Дневники (1825-1826). М. -Л., 1964. С. 14. Надо заметить,
впрочем, что об эстетике Шиллера в упомянутой статье Бутервек отзывается довольно сухо, подчеркивая ее
односторонность.
38 Веселовский Λ.Η. У к. соч. С. 272; Bouterwek F. Kleine Schriften. Göttingen, 1818. Bd. I. S. 199.
Немецкая нация, как сказано здесь же, предназначена стать "учительницей вселенной (die Lehrerin der Welt)".
39 Остафьевский архив князей Вяземских. III. Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым.
1824-1836. СПб., 1899. С. 362.
40 Дмитриев Μ.Λ. Главы из воспоминаний моей жизни. М.: Новое литературное обозрение, 1998.
С. 112.
41 Филарет (Дроздов), митрополит. Письма к родным. М., 1882. С. 137-138.
42 Чистович И. История С.-Петербургской духовной академии. СПб., 1857. С. 204.
43 Там же. С. 201-204.
44 Там же. С. 295.
45 Флоровский Г.В., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 239.
46 См. замечательный очерк И.А. Бунина "Богиня Разума" (1924, 1953) / Литературное наследство.
Т. 84 (1). М.: Наука, 1973. С. 78-87. Мое внимание к нему привлек профессор-пресвитер о. Виталий Анто-
ник.
47 В известном словаре Ritter'a он отражения не нашел.
148
Модели совести:
Фома Аквинский и Владимир Соловьёв*
О. Э. ДУШИН
Экспликация понятия совести в истории европейской этики осуществляется от
Августина через средневековую схоластику к Мартину Лютеру и немецкой
философии вплоть до современности1. Она нашла свое отражение и в нравственных
исканиях русских мыслителей, прежде всего в этической теории Владимира Соловьёва.
Разнообразие ее метафизических моделей и вариации философских истолкований
задают неизбывный контекст размышлений об исходных принципах
нравственности. Эти мыслительные определения сопряжены с институализацией важнейших
социальных процедур самоконтроля и исповеди, с развитием и становлением
процессов самосознания европейского общества2. Истоки формирования концепта совести
восходят к эпохе разрушения античного мира, когда в условиях мировоззренческой
трансформации наметились контуры интериоризации духовной жизни человека, он
стал постигать неизведанные глубины собственной персоны3. С другой стороны,
актуальность герменевтики совести была не менее значима и в столетия высокого
Средневековья, и в период перехода к Новому времени, когда в противоречиях ре-
формационной борьбы складывается протестантская этика труда и лютеранская
идея "призвания", послужившие, как известно, по мнению Макса Вебера, духовно-
религиозными факторами генезиса капитализма. Однако его современник и
оппонент В. Зомбарт подчеркивал, что утверждение капиталистического духа было
обусловлено средневековыми католическими основаниями, и важнейшая заслуга в
процессе реализации новых исторических перспектив принадлежала этической
доктрине Фомы Аквинского. Немецкий ученый считал, что главный постулат
моральной теории томизма связан с "рационализацией жизни", что оказало "существенное
содействие капиталистическому мышлению", которое по своей природе изначально
"является рациональным"4. Его учение о нравственности включало в себя
"упорядочивание чувственности, аффектов и страстей в направлении к цели разума" и вело к
* Поддержка данной работы была осуществлена ИНО-Центр в рамках программы
"Межрегиональные исследования в общественных науках" совместно с Министерством образования Российской
Федерации, Институтом перспективных российских исследований им. Кеннана (США) при участии Корпорации
Карнеги в Нью-Йорке (США), Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США). Точка зрения,
отраженная в данной статье, может не совпадать с точкой зрения вышеперечисленных благотворительных
организаций.
© Душин О.Э., 2005 г.
149
торжеству мещанских добродетелей, кои "могут процветать, как отмечал Зомбарт,
только там, где любовная сфера человека подверглась ограничениям"5. Именно тот,
кто живет воздержанно, кто не тратит денег впустую, кто следует строгим нормам
бюргерской морали, становится энергичным и наиболее удачливым
предпринимателем, ему доверяют и готовы предоставлять кредиты на самых выгодных условиях.
Таков фундамент буржуазного духа.
Между альтернативами греха и спасения, свободного решения и
предопределения, Фома Аквинский, следуя Аристотелю, полагает инстанцию
христианизированного человеческого разума, который обретает роль верховного судьи всех действий
и возможных проступков людей. В этой связи британский исследователь Тимоти
Поттс, автор работы "Совесть в средневековой философии", отмечает, что "Анге-
лический Доктор" переводит проблему совести из сферы психологических
переживаний в перспективу построения логических суждений, так как "критерием Аквина-
та для основных этических предпосылок является не то, что они интуитивно
очевидны, но то, что они необходимо истинны"6. Тем самым, субъективизм личностных
интенций соизмеряется с объективными законами формальной логики и строгими
правилами умозаключений, процедура морального самоанализа подвергается
строгому контролю рассудка. Главным в поведении становится процесс рационального
самоопределения, согласования действий с требованиями разума. Парадоксы
психологических переживаний христианина, его борьба между силами добра и зла,
приобретают новую форму. Теперь они задаются не абсолютными альтернативами
святости и греха, а относительной, рассудочно-серединной моралью. Подчас это
вызывает недоуменные вопросы даже у таких признанных авторитетов современной
католической мысли как Ф.Ч. Коплстон. «В каком смысле, - вопрошает он в своей
работе о Фоме, - можно назвать, допустим, Св. Франциска Ассизского примером
"середины"?»7 Действительно, теория "середины" никак не вяжется ни с
безмерностью требований Нагорной проповеди Иисуса Христа, ни с поведением большинства
великих Святых, которые, следуя принципам веры, отдавали все и уходили из мира в
пустынь. Для Фомы же между позицией христианского "блаженства",
тождественного по своей сути сверхъестественной божественной святости, и полным
аморализмом и распущенностью, то есть захваченностью страстями и эгоистическими
устремлениями, как раз и лежит точка зрения Аристотеля.
Как известно, Стагирит, будучи гражданином античного полиса, определял
условия существования людей в рамках сообщества и с точки зрения человеческой
мудрости считал самым достойным образом жизни предельный опыт философского
созерцания, который был доступен людям. Он, безусловно, ничего не рассматривал с
христианской позиции Божественного провидения, непостижимых актов любви,
милосердия и избранничества. Поэтому, согласно Аквинату, Аристотель осмыслял
только перспективу временной и ограниченной жизни человека, его теория
относится лишь к области социально-политических основоположений. И хотя воззрения
Стагирита были для него не полными и не всеобъемлющими, это не означало, что
они являлись неправильными и превратными. По сути, Фома разделял две формы
этического дискурса8. "Теолог, - пишет он в "Сумме теологии", - рассматривает грех
как преступление против Бога, тогда как философ-моралист - рассматривает его как
нечто, противное разуму"9. Этьен Жильсон в этой связи также признавал, что "здесь
мы можем последовать либо за комментарием на "Никомахову этику", где
соблюдается порядок Аристотелевой этики, целиком ориентированной на полисную мораль,
либо за "Суммой теологии", где нравственные добродетели отнесены к дарам
Святого Духа"10. Таким образом, разделив две сферы морали, человеческую, социальную,
где господствует идеал "общего блага", разумные правила общежития, и
божественную, христианскую, с ее торжеством святости и непостижимых религиозных актов,
Фома Аквинат, следуя аристотелевской нравственной теории, открыл возможность
для "рационализации жизни". В свою очередь, интеллектуалистская направленность
этики Фомы задает процедуру необходимого морального самоконтроля и строгой
150
рациональной регламентации, основанной на силлогистике Аристотеля. Однако при
этом его учение даже в области земных отношений людей отнюдь не исчерпывалось
исключительным влиянием Стагирита. Напротив, многим нравственным
требованиям он придал значение сурового морального ригоризма и подчинил их строжайшему
суду разума, ограничив аффективную природу человека и его возможности для
непосредственного действия по отношению к другим11. Это соответствовало общему
контексту проблем того времени, с которыми столкнулась католическая Церковь. В
связи с широким распространением народных еретических движений, прежде всего
"катаров" или альбигойцев, на IV Латеранском соборе в 1215 г. было утверждено
каноническое предписание об обязательной исповеди для всех верующих. Тем самым
внешние способы церковной регламентации заменялись гораздо более
действенными внутренними формами самоконтроля. Отказ от такого рода процедуры вызывал
крайне негативные подозрения и был, практически, невозможен. Данный акт стал
важнейшим этапом на пути формирования европейского индивида со всеми его
достоинствами и недостатками и послужил своеобразным фундаментом для
экспликации проблематики совести в рамках схоластического дискурса XHI-XIV вв. Рост
самосознания городского населения требовал новых подходов к духовной и
материальной жизни верующих, а для этого было необходимо найти и утвердить четкие
нормы и критерии оценки тех или иных преступлений и превратных аморальных
действий, дать исповедникам соответствующие руководства и пособия. Традиционно
же образованные священники, которые имели дело лишь с процедурами церковной
службы, а не с внутренним миром человека, были просто "неспособны, - как
подчеркивает Ж. Ле Гофф, - решить (а иногда и понять) проблемы, которые ставят перед
ними кающиеся, и в особенности те, кто приносит на суд свое дело совести (cas de
conscience) (новый и красноречивый термин: руководства для исповедников станут
называть его De casibus conscientiae), возникшее из профессиональной деятельности:
является ли та или иная операция законной, что имеет значение в первую очередь -
трудовая необходимость или предписания церкви относительно поста, воскресного
отдыха и т.д."12. Вопрос о совести и внутреннем критерии моральных намерений и
реальных поступков приобретал особое социальное звучание и в связи с развитием
торгового предпринимательства между городами. Церковь требовала строгого
соблюдения правил ведения торговых операций, несмотря на то что ее участники
могли быть достаточно удалены друг от друга, и после сделки никогда больше не
встречаться. «Она осуществляла это, осуждая все бесчестные уловки при заключении
договоров как грех: moraliter peccant, смертный грех совершают те, кто "с ложными
уверениями, обманами и двусмысленностями" ведет торговлю», - пишет по этому
поводу В. Зомбарт13.
Несмотря на то что само слово "совесть" греческого происхождения14, данное
понятие не получило фундаментальной проработки в античной философии15, его
экспликация в европейской культуре была инициирована опытом христианской мысли.
Измерение внутренних глубин человеческой личности, оказавшееся столь
значимым в практике интроспекции в эпоху Средних веков, стало важнейшей проблемой
христианской формы философствования. Противоречивость человеческого
существа, созданного, с одной стороны, по образу и подобию Божьему, а, с другой,
несущего на себе печать неизбывного первородного греха, задавала напряженность поиска
внутренней самотождественности. Такого рода "принципом внутренней
упорядоченности" или своеобразным «гарантом субъективно-психологического единства "я"»16
и явилась совесть, по крайней мере, уже у Августина. Совесть связана с внутренним
миром человека, поскольку она судит не столько внешние действия и проступки,
сколько, прежде всего сами намерения (интенции) людей. Христианство привносит в
историю европейской этики осознание бездонных глубин человеческого существа,
так как полагает в его основании изначальную антиномичность между тем, что я
хочу, и тем, что я реально делаю, между тем, что является моей интенцией и ее
практическим осуществлением17.
151
Общей основой для средневековых споров о статусе и значении совести
послужила метафорическая интерпретация Иеронима, представленная в его "Комментарии
на книгу пророка Иезекииля", где вслед за библейским текстом (Иез. 1; 4-14)
описываются четыре удивительных существа с видом человека, льва, тельца и орла, и
каждое аллегорически истолковывается как одна из составляющих,
символизирующих человеческую душу. Трем первым соответствуют разумная, яростная и
вожделеющая части души, что полностью согласно с традиционным платоновским
делением ("Государство" 4, 436В-441В), а четвертая, довлеющая над всеми остальными,
есть совесть. При этом Иероним считал, что "искра совести" неуничтожима даже в
груди Каина. Однако в связи со сложностью транслитерации греческих терминов на
латынь при переписывании его трактата в XII в. произошла ошибка, когда вместо
syneidesis (собственно: "совесть") было написано synderesis ("сохранение",
"поддержание"), сыгравшая впоследствии примечательную роль, так как, таким образом,
стало возможным отделить понятие "совесть" от synderesis, которое, в свою
очередь, было отождествлено с "искрой совести" Иеронима. В лексический оборот
схоластики термин synderesis, как отмечает Р. Сааринен, ввел Пьер из Пуатье18. Он, как
и другие средневековые мыслители, считал, что позитивное действие совести может
быть утрачено, a synderesis никогда, что сохраняет даже для самого последнего
грешника надежду на возможность раскаяния и преодоления зла.
В развитии понимания совести в рамках схоластического дискурса XIII-XIV вв.
заметную роль сыграли знаменитые "Сентенции" Петра Ломбардского. Однако его
текст не давал четких и ясных ответов, а лишь поставил проблему. "Первый трактат
о совести, который установил образец для последующих авторов, был написан, -
как указывает Т. Поттс, - Филиппом Канцлером около 1235 г.". Его главное
сочинение "Сумма о благе", куда вошел и "Трактат о совести", было очень популярно в
XIII столетии. Уже Филипп строго разграничивает совесть и synderesis, поясняя, что
первая, имеющая лишь совещательный характер и относящаяся к применению
правил, способна к ошибке, тогда как второй, предписывающий эти правила, никогда.
При чем synderesis выступает в качестве "внутреннего света" разума и всегда
направлен на благо, являясь специфической особенностью человека, исключительной
и единственно истинной, сохранившейся после грехопадения Адама, ибо даже сам
разум через действие воображения ошибается. В ответ на аргумент о еретиках,
упорствующих в своих заблуждениях и, значит, не испытывающих воздействия
synderesis, он говорил, что в них парализована данная способность в силу недостатка
веры, которая является основой всякого блага. И все же synderesis может
"заволакиваться" грехом, когда совесть руководствуется желаниями низшей части души,
именно тогда душа лишается дара мудрости, который связан с synderesis, но даже при
этом она не утрачивает его полностью, так как и еретики могут обратиться и
отказаться от своих превратных мнений.
Оригинальная концепция совести была разработана Фомой Аквинским. Его
моральная теория, как и все учение, пронизана интеллектуалистскими мотивами. Ак-
винат признавал реальную дистинкцию (distinctio realis) между разумом как силой
познания и волей как силой желания. Интеллект он соответственно разделял на
теоретический и практический, первый направлен на созерцание, а второй на созидание
(ars techne) и поведение (ethos). Главная внутренняя функция разума - это понимание
самоочевидных истин. Тогда как актом воли являлись цель и избрание подходящих
средств для ее достижения. Но в концепции Фомы именно интеллект представлял
для воли ее цели, поэтому ему принадлежала особая роль в моральной деятельности
людей. Практический интеллект сопряжен с теоретическим или спекулятивным,
когда истинное постигается в качестве благого, ибо истина и благо в
онтологическом смысле едины. Тем самым совпадают цели интеллектуальной деятельности
человека, а воля задается практическим интеллектом. Однако истины практического
интеллекта не имеют ни необходимого, ни универсального значения, они
представляют лишь контингентные20 истины о том, что должно быть сделано, чтобы до-
152
стичь поставленной цели, и связаны со специфическими актами человека. Сила
разума выше воли, но чем более совершенен объект воли, тем она сильнее. Поэтому
воля по своему действию может превосходить разум. Фома отмечал в этой связи,
что "любовь к Богу лучше, чем знание Бога"21.
Согласно Аквинату, человек обладает прирожденной способностью постижения
главных принципов теоретических дисциплин, но ему присуще и понимание
основных правил поведения, которые являются постулатами естественного закона.
Конечно, эти изначальные возможности не в равной мере реализуются людьми, между
ними существуют весомые индивидуальные различия, иначе они должны были бы
думать и действовать абсолютно одинаково. Фундаментом данного знания в
структуре практического разума выступает synderesis, представляющий собой
естественный навык (habitus naturalis)22, то есть врожденную рациональную способность,
которая требует своего осуществления. Через synderesis известны без доказательств
основные этические предпосылки, имеющие всеобщий характер23. Он является
своего рода конституирующим началом практического разума, а совесть - его
применением в частных случаях, его актуализацией в конкретных обстоятельствах жизни
людей. Сами по себе правила synderesis нас никогда не обманывают, а ложные
умозаключения возникают из истинных предпосылок лишь из-за погрешности в
выводе, либо из-за комбинирования с другими посылками, которые ошибочны, то есть
только в виду небрежности логических процедур, осуществляемых нами. Подобно
тому, как в сфере теоретического разума основным законом является принцип
тождества, так и главное требование synderesis состоит в том, что нам следует избегать
зла и стремиться к добру24. Synderesis играет роль внутренней, "естественной" (natu-
raliter) способности, данной человеку при сотворении в качестве отличительной
особенности его природы, поэтому он, в принципе, не может быть потерян. Истоки
ошибок заключаются в том, что в процедуре акта совести необходимо всеобщие
правила synderesis применять в отношении к частным событиям нашей жизни, для
которых нужны соответствующие специфические выводы, то есть правила могут
быть не верно эксплицированы.
Процедура акта совести включает в себя три момента: изучение того, что было
или не было сделано, предписание того, что должно быть сделано, и вынесение
суждения о том, что нужно сделать, если то, что было сделано, соответственно хорошо
или дурно (так называемые "муки совести"). Акт совести есть решение
практического разума по поводу выбора возможных средств для достижения данной цели и
определение пути действия, воля же через акт выбора либо принимает, либо отвергает
предложенное направление деятельности. Однако окончательный выбор (electio)
осуществляет как воля, так и разум. Тем самым, даже в этике Фома остается
предельным интеллектуалистом. Он не мог признать за волей абсолютную полноту
морального решения. По сути, он отстаивал позицию приоритета разума над волей.
При этом воля понимается у него как "рациональное стремление" (rationalem appeti-
tum), в чем он наследовал аристотелевскую теорию, который в "Никомаховой
этике" утверждал, что "сознательный выбор - это стремящийся ум"25. Таким образом, в
томистской концепции преодолевалось жесткое противоречие между разумом и
волей, так как в самой воле заложено рациональное начало.
Деятельность практического разума, как и теоретического, осуществляется
силлогистически. Процесс суждения в акте совести предполагает выведение частных
моральных суждений о действиях в данной ситуации из универсальных моральных
правил и фактических опытных данных, извлекаемых из конкретной окружающей
обстановки. Конечно, суждения совести могут быть, по Аквинату, и мгновенными,
принимаемыми в силу сложившихся навыков и способностей, но по преимуществу
они представляют собой процесс дедуктивного умозаключения. Примером
подобного вывода может служить: "Отцеубийство плохо, но этот человек есть мой отец,
следовательно, плохо убить этого человека"26. Главная проблема, которая
возникает здесь перед Фомой, состоит в том, что общие правила synderesis имеют сугубо аб-
153
страктный характер, поэтому из них трудно вывести необходимые частные
положения, согласные с конкретными условиями жизнедеятельности человека. Между
совестью и содержанием synderesis обнаруживается логическое несоответствие. Первая
действует в уникальных обстоятельствах, требующих четких моральных
предписаний, и зависит от личных способностей индивида, второй имеет общечеловеческий
статус и дает всеобщие нормы. Фома отдавал себе отчет в том, что осознание
правил synderesis у разных людей может не совпадать, что их действенность бывает
искажена страстями, злыми поступками, дурными наклонностями, поэтому и выводы
разума становятся превратными. Тем самым возникает феномен "ошибающейся
совести", который определяется тремя факторами. Во-первых, ошибки совести
появляются в связи с игнорированием правильных моральных принципов. Во-вторых,
они могут произойти из-за игнорирования фактических условий данного частного
случая. В-третьих, в виду ошибки разума в процедуре вывода из истинных
предпосылок.
Факт возможного игнорирования первых моральных норм подтверждает, что
совесть в учении Фомы не тождественна synderesis. Он это ясно понимал и поэтому
оставлял надежду на прощение некоторых оплошностей в акте морального суждения.
Так, извиняемо игнорирование частных обстоятельств, когда действие совершается
по неведению и невольно. Но это не означает, что всякое игнорирование
простительно. На самом деле извиняемо только то действие, которое совершается агентом
по неведению и при условии, что он предпринял все необходимые процедуры для
изучения конкретных обстоятельств данного случая, определив при этом
соответствующие моральные посылки, и все же поступил плохо. Однако здесь всегда остается
возможность для обвинений действующего человека в проявленной небрежности в
процессе осознания каких-то специфических условий акта. Тем более, что сам Фома
признавал, что непрямое волевое игнорирование предполагает как небрежность в
познании того, что должно, то есть первых моральных принципов, так и недостатки
в изучении конкретных обстоятельств дела. При этом и то, и другое не
простительны, поэтому найти строгий критерий вины и ответственности в небрежности при
выборе действий все же достаточно трудно. Но бесспорно не простительно прямое
волевое игнорирование, когда человек убежден в своем невежестве и отстаивает
свою позицию, когда он согласен с ней и не желает изменять образ своих действий.
Тем самым выдающийся средневековый схоласт признавал в качестве моральных
такие акты, которые осуществляются волевым образом и определяются разумом
через процедуру суждений. По сути, имеются в виду акты, являющиеся в подлинном
смысле человеческими. Мораль для Фомы определяется сферой таких человеческих
действий, где возможен выбор, где присутствует осознанное решение, и,
соответственно, реализуется вина и ответственность. Если же разум определяет практику
моральных поступков, то разум и несет ответственность за возможные ошибки и
противоречия. Получалось, что диктат совести заключает в себе двойственную
природу, с одной стороны, необходимо следовать его предписаниям, с другой стороны,
возможны ошибки, поэтому не всегда нужно придерживаться его требований. Фома
считал, что дилемма "не непреодолима", так как "игнорирование является
волевым"27. Выявившиеся диссонансы интеллектуалистской модели совести Фомы Ак-
винского повлияли на дальнейшее становление схоластической мысли, в этой связи
францисканская богословская школа в качестве альтернативы утверждала
приоритет воли.
В ином горизонте философских толкований предстает понятие совести у
Владимира Соловьёва. Бесспорно, что историко-культурный контекст мысли русского
философа был достаточно далек от эпохи Фомы Аквинского, этим отчасти можно
объяснить различия их учений, но суть дела не только в этом. Принципиально
важным является то, что сама тема их размышлений относится к базовым проблемам
европейской этической традиции и составляет ее глубинное ядро. Поэтому в
метафизическом пространстве мысли они сопряжены, хотя Соловьёв жил и работал в пе-
154
риод торжества иррационализма и в ситуации утверждения идеалов принципиально
отличной неклассической формы философствования. Он, безусловно, во многом
соответствовал духу своего времени и развивал философскую теорию, адекватную
российской культуре. Его выдающаяся заслуга заключается именно в том, что
впервые на русской почве он представил вполне продуманный и разработанный проект
этической теории. Этим он ввел отечественную мысль в перспективу европейской
метафизики.
Необходимо отметить, что нравственная проблематика составляла
основополагающую суть философских раздумий Владимира Соловьёва, она задавала динамику
его мысли, напряженность поисков и внутренних противоречий. Примечательно,
что главное сочинение его жизни называлось "Оправдание Добра. Нравственная
философия". По объему оно, конечно, уступает "Сумме теологии", но по значению
и статусу в наследии русского мыслителя оно обрело столь же уникальное
положение. Причем оба трактата (и "Сумма", и "Оправдание Добра") создавались
мыслителями в конце жизни и являлись своего рода итоговыми обобщениями их
метафизических исканий. При этом глобальность философского проекта Соловьёва, его
увесистость и широта задействованных понятий и заявленных проблем не многим
уступают основному богословскому трактату Фомы Аквинского и вполне
соответствуют самым строгим критериям метафизической глубины. Труд B.C. Соловьёва
вышел в 1897 г. и сразу же вызвал широкую критическую полемику, которая в чем-
то была оправданна, в чем-то все же выходила за рамки приличия. Но уже через два
года появилось второе издание, что подтверждало проявленный интерес к его
работе. По сути, этому компендиуму суждено было стать фундаментом для становления
отечественной этической мысли. Однако многие положения его учения были
впоследствии оспорены или просто подвергнуты забвению в силу известных
исторических обстоятельств.
Важнейшей интенцией русского мыслителя являлось стремление в подлинном
смысле оправдать историю человечества через идею добра со всеми вытекающими
отсюда позитивными и негативными последствиями. Поэтому замысел его
сочинения вызывает законный философский интерес, который по многим позициям, к
сожалению, остается не удовлетворенным. Подчас напряженность его мысли
растворяется в бесконечной риторике, а острота обнаруживаемых нравственных дилемм
не получает своего адекватного разрешения. И все же Соловьёв, несомненно,
интересен, даже в своих противоречиях, отражающих некоторые неизбывные смыслы
русской культуры и своеобразие менталитета. Он предлагает вполне определенную
интерпретацию совести, свою оригинальную модель, не бесспорную, но
разработанную и укорененную в сути его нравственной философии. Совесть для него одно из
ключевых понятий, оно появляется на первых страницах его трактата и задает всю
последующую перспективу его этических построений. В предисловии ко второму
изданию он формулирует исходную позицию своего понимания, указывая, что
"внутреннее неоценимое и незаменимое достоинство человека в его разуме и совести"28.
Здесь же философ напоминает, что человеку, его уму и совести, "не дано подушки
для успокоения", он призван вечно бодрствовать29.
Выступая против односторонности кантовского рационализма с его торжеством
формального диктата принципов разума, Соловьёв прибегает к
феноменологической процедуре исследования нравственной природы человека, указывая, что
отличительной особенностью людей явлйется стыд, выделяющий их из пелены внешнего
материального мира. Стыдясь наготы, человек превосходит собственную
телесность, тем самым, он не совпадает с ней. Для Соловьёва в стыде реализуется
первичное экзистенциальное основоположение бытия человека в мире. "Я стыжусь,
следовательно, существую"30, - утверждает мыслитель, переиначивая знаменитый
картезианский тезис. Через чувство стыда человек реализует себя в качестве
человека. Первозданное библейское осмысление наготы Адамом и Евой есть начало и
исток нравственной истории человека, его ниспадения и в то же время зарождения
155
надежды на подъем. Соловьёв отвергает господство "рацио", стыд захватывает
всего человека, в нем осуществляется полнота человеческой природы, ее целостное
существо со всеми достоинствами и противоречиями, величием и ничтожеством. Стыд -
это не разум, а прежде всего начало борьбы с гордыней познания, обнаружение
собственного несовершенства, в котором заключен момент нравственного
пробуждения, самопреодоления. Получается, что вместе с актом грехопадения утверждается
исходное основание для длительной истории морального совершенствования
человека. Это чувство прорывается из глубин души, оно несет в себе осознание
неизбывной вины, причем не столько разумом, но всем телом, этот внутренний трепет
человеческого существа ощущается всеми клетками организма. В этом заключается
основа концепции целостного человека Соловьёва. Для него разум не исчерпывает
природы людей, напротив, он зависим от данного изначального экзистенциального
основоположения. Важно то, что стыд невозможно исчерпать какими-либо
утилитаристскими принципами, я стыжусь потому, что я стыжусь (краснея, я не могу
совладать с собой, я не хочу, но это выше моих сил, я в подлинном смысле "сгораю" от
стыда), разум тут бессилен.
Стыд, согласно Соловьёву, задает позицию совести. "Совесть, - как пишет
философ, - есть только развитие стыда"31. При этом остается открытым вопрос о том, на
сколько стыд соответствует нравственному содержанию совести, ведь стыд
предполагает внешнюю оценку, а совесть - внутреннюю. Выступая против позиции Канта,
русский мыслитель указывал, что совесть не исчерпывается постулатами разума и
процедурами силлогизмов, а предстает в качестве "тонкого и отвлеченного
чувства"32, она "соединяет и то, и другое", то есть сознание общих принципов и
непосредственное чувство, хотя тут же он дополнял, что для самой совести данный вопрос -
"посторонний"33. Для него было важно выяснить, какова роль совести в реальном
процессе "нравственного делания", к которому призван человек, каким образом она
включена в этот процесс. Тем самым он отражает в своей философии
примечательную особенность традиции русской мысли - ее неизбывную социальность, дух
общественности, в котором реализуется требование поиска не отвлеченной правды, а ее
реальной исторической существенности, воплотимости в общественной жизни.
Конечно, в этом подходе присутствуют как свои позитивные, так и негативные
стороны. В данном контексте русский мыслитель демонстрирует взаимодействие совести
и стыда как ее основания с другими основополагающими нравственными чувствами.
Стыд по своему существу связан с чувством жалости, а оно, в свою очередь,
преодолевая первоначальный эгоизм, формирует осознание солидарности с другими
людьми. Стыд, таким образом, получает определенное общественное измерение. А
совесть в этом смысле предстает в роли "социального стыда"34. Кроме того, стыд
задает в человеке и чувство страха перед Богом, отражая в себе еще одно важнейшее
начало его природы - благоговение перед Высшим. Голос совести указует на
недостатки и моральное несовершенство человека, на греховность его поступков, что
порождает чувство страха перед Богом. Этот страх, согласно Соловьёву, ведет к
пониманию человеком своего особого положения в мире, к признанию его телесной
природы в качестве "жилища Духа Святого", то есть к утверждению Бога не в
трансцендентальной реальности, а в его собственном человеческом существе, через
страх перед Богом человек открывается для Него, обнаруживает Его в себе. В этом
процессе свершается "безусловное достоинство человека - его идеальное
совершенство, как долженствующее быть осуществленным"35.
Такого рода позиция русского метафизика была не столько результатом
имплицитного развития его этической теории, сколько заранее предопределена тем
положением, что "человек, - как пишет B.C. Соловьёв во введении к своему трактату, -
изначала обладает общею идеей добра". Он провозглашает человека добродетельным
по своей природе, поэтому весь дальнейший ход его мысли оказывается абсолютно
понятным и само собой разумеющимся. Ему остается лишь продемонстрировать ход
нравственного прогресса в истории человечества, показать процесс совершенство-
156
вания моральных отношений в обществе в различных институтах, начиная от семьи
и заканчивая Церковью. Тем самым Соловьёв, который, казалось бы, критикует
абстрактно-отвлеченный характер гегелевского философствования, сам попадает в
"ловушку" гегелевского объективизма, за что его неоднократно подвергали
критике36. В этой связи грандиозная концепция "оправдания Добра" через вселенский
процесс утверждения богочеловечества предстает в роли очередной своеобразной
утопии теократического характера, которые были так свойственны российской
культуре на протяжении ее многовекового исторического развития. Однако исследователи
не замечают, что в его нравственной философии имеется и другая сторона. Он все
же признает, что страсти способны поглощать наши духовные силы, что мы можем
быть лишь пассивны по отношению к их воздействию, а значит, дилемма добра и зла
не разрешается в его учении столь однозначно, как представляется на первый
взгляд. Соловьёв допускает, что существует свобода выбора, которая изначально
присуща воле. Воля, вопреки всей бесконечной положительной определенности
добра, может осуществить иррациональный акт произвола и избрать зло, причем с
полным осознанием дела, а не по ошибке, как полагал Фома Аквинский. В этом он
опять же созвучен с вековыми смыслами русской культурной традиции с ее
торжеством волевого начала, с ее культом бунта и непостижимого по своим основаниям
поступка, с ее всевозможными абсолютными требованиями и отсутствием умеренного
рационального акта, основанного на строгом контроле и практике логических
умозаключений. Правда, Соловьёв указывает, что безусловная свобода воли выходит за
рамки нравственности, но он все же признает ее. Поэтому нельзя сказать, что он
последовательный монист и верит только в исключительное торжество Добра в
истории человечества. По крайней мере, многие его работы не позволяют с
уверенностью утверждать это. Так, в частности, в "Чтениях о Богочеловечестве" Соловьёв
пишет, что "человек есть вместе и божество и ничтожество"37. Но решительное
размежевание с собственным теократическим проектом русский мыслитель
осуществил на закате своего творчества. В этом смысле он оказался близок к Фоме Ак-
винскому, также пережившему глубокую мистическую трансформацию в конце
жизненного пути, после чего он заявил своему секретарю Регинальду Пиперно, что
"все, что я написал, кажется мне подобным пустяку, сравнивая с тем, что я увидел, и
с тем, что было открыто мне"38. Тем самым возможно, его глобальная задача
постижения рационального плана божественного миротворения иерархии ens creatum
была подвергнута им сомнению. Буквально за несколько месяцев до смерти, он,
по-видимому, отказался от данного пути.
Последний период творчества B.C. Соловьёва, в свою очередь, ознаменовался
драматичными переменами во взглядах на нравственную природу людей и
тяжелыми мистическими предчувствиями в понимании истории человечества. Он был полон
ощущениями ее трагического конца, всеобщего распада и повсеместного людского
раздора. Его светлая вера в богочеловеческий процесс сменилась идеей торжества
Апокалипсиса, который, как он считал, неизбежно надвигается над человечеством.
Эти позиции нашли отражение в его сочинении "Три разговора о войне, прогрессе и
конце всемирной истории", где раскрывается подлинная глубина трагизма
человеческого существования. В данном диалоге Соловьёв показывает, что прогресс научно-
технической цивилизации, достижения социально-экономического развития отнюдь
не способствуют утверждению нравственности, напротив, они ведут к моральной
деградации людей, так как комфорт и удобства жизни заменяют им совесть, а царство
антихриста - христианские ценности любви и милосердия. При этом царство
антихриста, согласно Соловьёву, вполне демократично и цивилизованно, в его власти
"соединяется благородная почтительность к древним преданиям и символам с
широким и смелым радикализмом общественно-политических требований и указаний,
неограниченная свобода мысли с глубочайшим пониманием всего мистического,
безусловный индивидуализм с горячею преданностью общему благу, самый
возвышенный идеализм руководящих начал с полною определенностью и жизненностью
157
практических решений"39. В этом обществе объединятся все народы и будут
разрешены все социально-экономические конфликты и противоречия, каждому будет
обеспечено высокое материальное благосостояние, но все это будет осуществляться
вне морального идеала Богочеловека, а только во имя торжества и господства
сверхчеловека. Конечно, подобные религиозные экстраполяции могут
рассматриваться как своего рода предупреждение об опасностях искушений современной
цивилизации, с другой стороны, их можно считать неудовлетворительными в силу
того, что они снимают личную ответственность с человека, лишают его персональной
вины и не дают относительных принципов понимания. Сам Соловьёв считал, что с
помощью отдельных призванных праведников свершится духовное преображение
всего человечества и низвергнуто торжество антихриста. Но и этот путь не дает
надежд для "маленького" человека на его уникальную роль в этом процессе. Более
того, не понятно, как быть с возможностью своеволия, если в мире и истории
господствуют силы добра и антихриста, и все свершается через их посредство.
Примечания
«"Совесть", несомненно, одно из ключевых понятий августиновской концепции личности», -
указывает российский исследователь A.A. Столяров. См.: Столяров A.A. Свобода воли как проблема
европейского морального сознания. М: "Греко-латинский кабинет" Ю.А. Шичалина, 1999. С. 181. Но она также
предстает в качестве доминирующей инстанции моральности в учении Мартина Лютера, так как именно в
совести человека парадоксальным образом реализуется "Слово прощения, Божественный акт
оправдания". См.: Althaus P. The Ethics of Martin Luther. Philadelphia: Fortress Press, 1972. P. 6. С другой стороны, и
M. Хайдеггер в своем фундаментальном "Бытии и времени" рассуждает о "голосе совести" и утверждает,
что "зов совести имеет характер призыва присутствия к его наиболее своей способности быть самим
собой". См.: Хайдеггер М. Бытие и время. Перевод Бибихина В.В. M.: Ad marginem, 1997. С. 269.
"...рост самосознания, - как отмечает в данной связи Н. Элиас, - связан с развитием совести". См.:
Элиас И. Проблемы самосознания и образа человека / Элиас Н. Общество индивидов. М.: Праксис, 2001.
С.151.
Несомненно, что христианский персонализм средневековых богословов далек от ренессансного
индивидуализма или современного европейского рефлектирующего самосознания. В этой связи можно
согласиться с утверждением Л.М. Баткина, что в рамках исповедального мышления Августина «"Я"
осознается и обретает пластику, форму, глубину через божественное "Ты"». См.: Боткин Л.М. Европейский
человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания.
М.: РГГУ, 2000. С. 64. Однако именно такого рода процедура объективации интимного содержания
душевной жизни человека перед лицом Бога обеспечивала личности возможность позиционирования в
качестве самостоятельного субъекта, обладающего собственным топосом в иерархии мироздания и
заключающего в себе всю драму бытия.
Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического
человека. М.: Наука, 1994. С. 183. Примечательно, что Норберт Элиас также связывал позицию
"рационализации" жизни и поведения в истории европейского социума не с буржуазными институтами, а с
традиционным феодальным сословием дворян, с придворным обществом французского короля, с правилами и этикетом
высокосветского монаршего окружения. См.: Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и
психогенетические исследования. Т. 2. Изменения в обществе. Проект теории цивилизации. М.-СПб.:
Университетская книга, 2001. С. 290.
5 Там же. С. 184.
Potts T.C. Conscience in Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. P. 48.
Коплстон Ф. Ч. Аквинат. Введение в философию великого средневекового мыслителя.
Долгопрудный: Вестком, 1999. С. 219.
8
Понятие "дискурс используется в данном контексте в соответствии с его традиционным значением,
закрепившимся в европейских языках, начиная с эпохи схоластики ("рассуждение", "лекция", "доклад"), а
не в его современном смысле, следуя работам М. Фуко. Так, Фома Аквинский писал: "в действии
познавательной способности дискурс возникает оттого, что мы отдельно познаем начала, а затем делаем из них
выводы. Если бы мы видели выводы уже в самих началах, и, узнавая начала [тем самым сразу знали бы
все, что из них следует], дискурса бы не было, как нет его, когда мы видим что-то в зеркале. ...Значит,
если кто-то отдельно хочет цели, и отдельно - [средств] ведущих к достижению этой цели, в его воле будет
присутствовать своего рода дискурс". См.: Фома Аквинский. Сумма против язычников. Книга первая.
Перевод Бородай Т.Ю. Долгопрудный: Вестком, 2000. С. 339.
S.T. 1а Пае, 71, 6, ad 5. Отсылки к "Сумме теологии" приводятся в соответствии с общепринятой
практикой, указываются книга, вопрос и статья. При этом часть первая обозначается la (Pars Prima),
часть вторая - IIa (Pars Secunda), раздел первый части второй - 1а Пае (Pars Prima Secundae), раздел второй
части второй - На Пае (Pars Secunda Secundae), часть третья - lila (Pars Tertia), q - "вопросы" (questiones),
158
art. - статьи, ad. - примечания. В данном случае вначале указывается раздел второй книги, а последняя
цифра подразумевает номер ответа на затруднения, которые Фома, следуя схоластической традиции,
обычно давал в конце вопроса после своего решения. Все контраргументы он приводил в начале каждого
вопроса. При этом использовалось издание: Sancti Thomae de Aquino. Summa Theologiae. Torino: Editiones
Paulinae, 1988.
Жильсон Э. Избранное: Том 1. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского. М.-СПб.,
1999. С 337.
Необходимо признать, что Аквинат приобрел не менее выдающееся место в истории становления
европейского самосознания, чем, например, Р. Декарт, но каждому из них, как и А. Августину, М.
Лютеру, И. Канту, принадлежит особая, соответствующая его эпохе, вершина. Тем самым через многовековую
историю западноевропейской культуры от Средних веков к Новому времени реализуется
фундаментальная перспектива утверждения самоконтроля и торжества разума над аффектами. Об этом
примечательным образом высказался Норберт Элиас: «за исключением относительно немногих социально четко
ограниченных ситуаций, общественно сконструированные импульсы самоконтроля, как бы овеществленно
их ни называли - "рассудком", "разумом" или "совестью", загораживают другим, спонтанным импульсам
действия, имеют ли они побудительный, чувственный или мыслительный характер, нормальный и
непосредственный доступ к моторной разрядке в действии». См.: Элиас Н. Общество индивидов. С. 165.
Ле Гофф Жак. Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада. Екатеринбург:
Издательство Уральского университета, 2000. С. 104.
ß Зомбарт В. У к. соч. С. 185.
"Совесть" (συνεδησις; syneidesis; conscientia; synderesis) восходит к συνοιδα, что означает "я знаю
вместе с...". Обычно предполагает знание о другой личности, которое может быть использовано в
доказательство "за" или "против" нее, отсюда συνοιδα подходит к значению "давать показания,
свидетельствовать". Латинское conscientia является транслитерацией syneidesis. См.: Potts Т.С. Op. cit., P. 1-2.
По поводу значения термина "совесть" в древнегреческой культуре в отечественной
исследовательской литературе сложились разные версии толкований. Так, В.Н. Ярхо в 70-е годы высказал
позицию, что знаменитая ст. 396 из "Ореста" Еврипида "отнюдь не предопределяет появление феномена
совести". См.: Ярхо В.Н. Была ли у древних греков совесть? / В.Н. Ярхо. Собрание трудов. Древнегреческая
литература. Трагедия. М.: Лабиринт, 2000. С. 296. "Глагол συνοιδα выступает здесь в том же значении
"[хорошо] знать", в каком он многократно засвидетельствован в современных Еврипиду источниках и у
самого Еврипида (Мед. 495; Ипп. 425; Гер. 368)", - подчеркивает автор. См.: Там же. При этом ученый
ссылается на опыт немецких исследований, в частности Фр. Цуккера, в которых существительное σύνεσις
переводится как die Einsicht - "понимание". См.: Zucker Fr. Syneidesis - Conscientia: Ein Versuch zur Geschichte
des sittlichen Bewusstseins im griechischen und griechisch-romischen Altertun (Jenaer Akad. Reden 6, 1928) /
Zucker Fr. Semantica. Rhetorica. Ethica. Berlin, 1963. S. 97-116. По сути, В.Н. Ярхо утверждает, что в
классической древнегреческой трагедии невозможна апелляция к совести, так как герои в своих действиях и
оценках исходят не из внутренних*противоречий и исканий, а из стыда и позора перед другими, их пугает
утрата собственной доблести в глазах окружающих. Однако он признает что понятие συνεδησις
"становится достаточно распространенным уже в последней четверти V века". См.: Там же. С. 296. A.A.
Столяров высказывается по этому поводу прямо противоположным образом: «мы смело можем считать Eurip.
Or. 396 одним из первых случаев строгого употребления термина συνεδησι^σύνεσις в значении
"совесть"». См.: Столяров A.A. Феномен совести в античном и средневековом сознании (к постановке
проблемы) // Историко-философский ежегодник'86. М.: Наука, 1986. С. 26. Примечательно, что в целях
подтверждения своей точки зрения он также обращается к трудам Фр. Цуккера. Но все же A.A. Столяров
соглашается с тем, что "в моральном сознании раннего средневековья феномен совести занимает совершенно
исключительное место". См.: Там же. С. 33. Более того, он называет всю христианскую традицию
"культурой совести", что принципиальным образом отличает ее от природно-космической мысли Античности,
в рамках которой в структуре морального сознания важнейшее значение приобрела система правовой
упорядоченности. Крайне категоричную позицию занял в данной связи Г.Г. Майоров: "Понятие совести
практически не было известно античности. Античная этика сугубо рационалистична и натуралистична.
Ее мало интересовало субъективное отношение человека к своему поведению; важнее было установить,
насколько это поведение подходит под объективный, разумный, надындивидуальный стандарт". См.:
Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М., 1979. С. 325-326.
Столяров A.A. Свобода воли как проблема европейского морального сознания. С. 182.
Эта позиция наиболее полно выражена в знаменитом библейском тексте Римл. 7; 15: Ибо не
понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю.
Saarinen R. Weakness of the Will in Medieval Thought. From Augustine to Buridan. Helsinki, 1993. P. 72.
19 Potts T.C. Op. cit. P. 12.
20
О понятии "контингентное" см.: Бандуровский К.В. "Контингентное" в философии Фомы
Аквинского и проблема свободы воли // Историко-философский ежегодник'99. М.: Наука, 2001. С. 64-72.
21 S. T. la, 82,3.
22
Латинское понятие habitus достаточно многозначно и поэтому трудно для адекватного перевода.
Сложившаяся в последнее время практика его транслитерации на русский язык в качестве "хабитус" или
"габитус", соответствуя европейским традициям, все же не разрешает проблемы понимания его значения.
При этом исследователь М.Д. Бейлор признает, что "томистское понятие habitus совсем неадекватно
передается английским словом habit". Далее он подчеркивает, что «понятие skill ("мастерство", "искусство")
159
несколько ближе - установившаяся расположенность или сложившаяся наклонность некоторой
способности, посредством которой мы можем выполнять действия какого-то особого рода охотно и с
легкостью". В примечаниях он подчеркивает, что "habitus иногда также переводят как "специфическая
характеристика" или "вторая природа"». См.: Baylor M.G. Action and Person. Conscience in Late Scholasticism and the
Young Luther. Leiden: E.J. Brill, 1977. P. 34.
25 S. T. la, q. 79, art. 12.
24 Ibid.
Аристотель. Никомахова этика. I Аристотель. Соч. в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 174.
26 S. T. la Пае, q. 76, art. 1.
27 S. T. la Пае, q. 19, art. 6.
28
Соловьёв B.C. Оправдание Добра. Нравственная философия. / Соловьёв B.C. Соч. в 2-х т. Т. 1. М:
Мысль, 1988. С. 90.
29
Необходимо отметить, что метафора бодрствования сознания в связи с деятельностью совести
встречается достаточно часто. Например, можно вспомнить символичное высказывание Катерины
Сиенской из "Трактата о Божественном Провидении": "Плод, который я предназначаю для них,
удерживаемый молитвами моих слуг, состоит в том, что я даю им свет, и в том, что я бужу в них собаку совести и
делаю их чувствующими благоухание добродетели, находя удовольствие в беседе с моими слугами". См.:
Catherine of Siena. A Treatise of Divine Providence // Late Medieval Mysticism. Ed. Ray Petry С Philadelphia: The
Westminster Press, 1957. P. 275.
30 Соловьёв B.C. Ук. соч. С. 124.
31 Там же. С. 133.
32 Там же. С. 235.
33 Там же. С. 242.
34 Там же. С. 235.
35 Там же. С. 265.
См.: Волжский. Проблема зла у Соловьева // Вопросы религии. Вып. 1. М., 1906. С. 25; Гайденко П.П.
Человек и человечество в учении В. Соловьёва // Вопросы философии. № 6. М., 1994. С. 49; Трубецкой E.H.
Миросозерцание В. Соловьёва. Т. 2, М., 1995. С. 136.
37 Соловьёв B.C. Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 113.
См.: CaputoJ.D. Heidegger and Aquinas. An Essay on Overcoming Metaphysics. N.Y.: Fordham University
Press 1982. Ρ 253.
Соловьёв B.C. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории / Соч. в 2-х т. Т. 2. М.:
Мысль", 1988. С. 743-744.
К.Н. Любутину - 70 лет
В феврале 2005 г. исполнилось 70 лет со дня рождения крупного российского
философа, профессора, доктора философских наук, заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, заведующего кафедрой Истории философии философского
факультета Уральского Государственного Университета Константина Николаевича
Любутина.
Константин Николаевич - специалист по истории западноевропейской
философии, а также по теории познания. Известны его исследования истории философской
антропологии, анализ субъектно-объектных отношений в познании и деятельности.
Внимание философской общественности привлекло предпринятое им в последнее
время исследование русских версий философии марксизма.
Константин Николаевич много сделал для организации философского
образования в стране. Он был одним из инициаторов создания философского факультета в
Уральском Государственном Университете, а затем в течение ряда лет был деканом
этого факультета. Он воспитал несколько поколений философов.
Константин Николаевич - автор нашего журнала.
Редакционная коллегия и редакция "Вопросов философии" поздравляют
Константина Николаевича Любутина с юбилеем и желают ему доброго здоровья,
успехов, счастья.
160
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Циклы русской истории
Попытка перспективного анализа будущего Северной Евразии после краха
коммунистического режима и распада СССР привела меня к убеждению в
необходимости анализа ретроспективного. То, что произошло с Россией в XX столетии, вполне
может быть рассмотрено как завершение очередного большого цикла
национальной истории и переход через смутное время к новому циклу.
В прошедшей русской истории легко вычленяются три исторических цикла с
более или менее долгим смутным временем переходных периодов между ними. Точные
исторические даты весьма условны, когда речь идет о протяженных исторических
процессах, и все же без формальных дат обойтись не удастся.
Первый цикл русской истории начинается крещением Руси при великом князе
Киевском Владимире Святом (988) и завершается разорением Киева
татаро-монголами в 1240 г. Второй длится от Куликовской битвы (1380) до пресечения династии
Рюриковичей и воцарения Бориса Годунова на Московском престоле (1598). Третий
начинается избранием на царство Михаила Романова в 1613 г. и завершается
отречением Императора Николая II Романова в 1917 г. Между циклами пролегают
смутные времена, в которые разрушается традиционная государственность и даже
государственность как таковая, крайне деградирует нравственно-религиозная
составляющая общественного сознания, и сами политические и социальные связи слабеют и
рвутся.
Первое смутное время непосредственно вызвано татаро-монгольским
завоеванием. Оно продолжительно (не менее 140 лет), начинается глубочайшим разорением
нашествия и отличается долгим последующим восстановлением общественной и
политической жизни, вполне завершившимся только при Иване III (стояние на Угре
1480 г., брак с Софией Палеолог).
Второе смутное время было сравнительно коротким - 15 лет, но также глубоко
разрушительным для русского общества. Преодоление последствий этого смутного
времени охватило все царствование Михаила Федоровича и первые годы
царствования Алексея Михайловича. Формальной точкой его окончательного изживания
может считаться Уложенный Собор, принявший в 1649 г. Уложение.
Третье смутное время, начавшееся пресечением династии Романовых и
гражданской войной 1917-1922 гг., продолжается и по сей день. Его разрушительный для
общества период жестокой тоталитарной коммунистической диктатуры завершился
освобождением Церкви в 1988 г. и запрещением компартии и распадом СССР - в
1991 г. Восстановительный же период только начался, идет с большим трудом, еще
даже не перешел в фазу восстановления традиционной русской государственности, и
говорить о перспективе его успешного завершения пока крайне преждевременно.
Типологически, наше время - это скорее княжение Ивана Калиты или царствование
Василия Шуйского, когда противоборствующие созидательные и "смутные"
элементы жизни уравновешивали друг друга, и исход их борьбы еще не был ясен. По анало-
6 Вопросы философии, № 3
161
гии с предшествовавшими периодами смуты, можно предположить, что
окончательное изживание третьего смутного времени потребует периода, соизмеримого с
самим этим смутным временем (72-75 лет) и продлится до 2050-2080 годов.
При этом цифровые выкладки ни в малой степени не говорят, на мой взгляд, о
предопределенности русского национального исторического развития, обреченного
на бесконечные колебания между смутой и созиданием. Вовсе нет. Я вполне
разделяю убеждение Арнольда Тойнби, что история - открытый процесс, определяемый
суммарным результатом участвующих в нем индивидуальных человеческих воле-
ний. "Духовные процессы происходят в человеческой душе, ибо только Душа
способна переживать человеческий опыт и откликаться на него духовным
проявлением. Раскол в человеческой душе - это эпицентр раскола, который проявляется в
общественной жизни. Поэтому, если мы хотим иметь более детальное представление о
глубинной реальности, следует подробней остановиться на расколе в человеческой
душе", - пишет историк1.
Каждый новый цикл русской истории начинается высоким духовным подъемом,
"сосл ужением ангелов", а завершается глубоким нравственным вырождением в
первую очередь высшего, правящего слоя, подменяющего долг жертвенного служения
ненасытной жаждой эгоистического стяжания. Именно это вырождение высших, их
неуемный эгоизм и приводит к потере обществом чувства внутреннего единства, к
энтропии общенациональных ценностей и целей (вера, безопасность), к
развращению народа, утрате им нравственных сдержек, и в результате - к социальному
катаклизму и разрушению, как общества, так и организующего его государства.
Тяжкие испытания, выпадающие на долю общества в период смуты, как правило,
порождают нравственную рефлексию, возбуждают чувство раскаяния в делах
отцов, усиливают религиозные настроения. Перед смутой для общества характерны
эвдемонические ценности, ориентация на благо этой земной жизни, равнодушие к
вечности и к спасению в Боге. Религия в предсмутное время превращается в
служанку земного благоденствия, в его идеологическую подпору, утрачивая в глазах
большинства самоценную значительность, замыкается в самодовлеющий обряд.
Напротив, на выходе из смуты религия занимает центральное место в жизненных ориента-
циях, сотерическая аксиология, следуя которой люди предпочитают "держаться
вечной жизни" [1 Тим. 6, 12], существенно потесняет эвдемоническую, а идея
жертвенного служения сплачивает общество. Все это приводит к более или менее
быстрому усилению Русского государства. Выход из I Смуты соединен с именами
преподобного Сергия Радонежского и митрополита Алексия, из II - с деятельностью
патриарха Гермогена, а позднее - кружка будущих вождей Раскола (протопопы Стефан
Вонифатьев, Аввакум, Иван Неронов и др.) и близкого к ним по строю мыслей
Тишайшего царя.
Однако, усиливаясь, и власть, и народ все более начинают обращать внимание на
эвдемонические задачи политического и хозяйственного характера. Ностальгия по
силе и величию досмутного времени (при все большем, по мере отдаления от смуты,
забвении духовного ничтожества предсмутного общества) заставляет
восстанавливающуюся Россию искать пути овладения утраченным за годы смуты наследством.
Напрягая все силы для восстановления былого величия и незаметно даже
превосходя его в новых присоединениях, Россия неизменно платит за это растущее внешнее
могущество золотом веры и благочестия, собранным в первые десятилетия по
выходе из смуты. Из цели государственной деятельности люди превращаются постепенно
в средство для достижения национального величия, а вера, из залога Царствия
Небесного, в консолидирующую народ политическую идеологию.
Так, на выходе из смуты 1598-1613 гг. Россия первоначально живет покаянием за
грех предков, эту смуту породивших и ясно сознает, что ужасы смуты постигли об-
Тойнби А.Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. С. 358.
162
щество как воздаяние за грехи и царей, и народа. Но уже при Алексее Михайловиче
вынужденная борьба с Польшей превращается в войну за возвращение отеческого
наследия - Киева, Чернигова, Полоцка, Вильны. Мечты о вселенской православной
империи стимулируют унификацию церковного обряда по греческим книгам и тем
самым вызывают Раскол. Наконец, окончательно утвердившийся с Петра эвдемони-
ческий идеал "чести и славы Державы Российския" делает народ средством для
строительства бескрайней Империи, которой все время не хватает земли, подданных,
естественных границ. Народ России превращается в безгласных рабов, Церковь
Православная - в идеологическое ведомство Империи, и, используя эти ресурсы, границы
государства раздвигаются до самого момента его полного краха.
В последнее царствование Россия сначала стремится присоединить Маньчжурию
на Дальнем Востоке, затем устанавливает протекторат над Монголией и мечтает о
Тибете, желает включить в Империю всю Польшу, ее прусскую и австрийскую
части, планирует выход к Евфрату в Малой Азии и к Средиземному морю в районе
Геллеспонта. Константинополь признан в 1915 г. странами Антанты по итогам мировой
войны русским городом. И тут приходит конец. Утративший веру в Бога и доверие к
царской власти народ разрушает Империю, требует мира "без аннексий и
контрибуций" и немедленно вслед за тем низвергается в пучину анархии и бесчисленных
бедствий, творимых коммунистической деспотией.
Какие выводы может сделать русский народ, размышляя над кругами
собственной истории?
Во-первых, он должен вспомнить слова блаженного Августина, что "по кругу
человека водит бес". Три цикла русской истории, три ее смутных времени - результат
повторения властью и народом одних и тех же нравственных ошибок. Причем с
каждым новым смутным временем вина самого русского народа в катастрофе
становится все более явной, хотя осознается обществом все хуже. Если бедствия
монгольского ига можно было отнести всецело на счет пришедших неизвестно откуда
завоевателей-кочевников, то уже смута 1598-1612 гг. творилась совместно польскими
интервентами и их русскими союзниками среди бояр, духовенства, казачества и
черного народа, и интервенты были только пособниками одной из сторон
междоусобной русской брани. В новой смуте, начавшейся в 1917 г., роль внешнего врага была
уже вовсе второстепенной. Россия, очевидно для всех, уничтожила сама себя
собственными своими руками. Святейший Патриарх Тихон назвал смуту XX в.
"самоизмышленной пагубой". Но если летописцы первого смутного времени не колеблясь
объясняли, что полонение Руси монголами есть "Божье наказание по грехам
нашим", а авторы XVII столетия видели причины междоусобицы в алчности,
себялюбии и властолюбии бояр и дворян (и любых других групп общества, кроме своей
собственной), то нравственные причины последней русской смуты далеко не осознаны.
Призыв Церкви к покаянию за грехи отцов остается почти неуслышанным, да и
сама Русская Церковь, призывая народ к покаянию, не имеет сил признать свою вину
(или, если угодно, вины людей Церкви против Церкви), приведшую к катастрофе
1917 г. и к столь тяжкой и долгой смуте, последовавшей за ней.
Во-вторых, надо понять суть нравственной ошибки. Всякий раз она заключается
в том, что, выйдя общими усилиями всего народа из очередного провала смуты,
общество быстро утрачивает свое духовное, а вскоре и гражданское единство. Каждая
общественная группа старается упрочить свое влияние и благополучие за счет
других групп. Понятно, что группам, исполняющим функции управления и контроля,
сделать это легче, чем управляемым и контролируемым. Общенациональный
интерес подменяется интересом царским и дворянским уже в последней трети XVII в.
(если говорить о последнем завершившемся цикле русской истории) и в дальнейшем
только упрочивается все XVIII столетие. Раскол, крепостное рабство и низведение
Русской Православной Церкви до "ведомства православного исповеданья" суть
главнейшие проявления этой подмены интереса общенационального корпоративным
эгоистическим интересом правящего слоя. В результате подвластный народ отчуж-
6* 163
дается от власти и ожесточается против нее, влияние Церкви слабеет и у высших
(которые смотрят на Церковь, как на свою прислугу), и у низших (для которых
Церковь - лишь одно из орудий их порабощения в руках помещиков). Гражданское
общество, начавшее было складываться на выходе из смутного времени (эпоха
земских соборов), не упрочивается, но, напротив, исчезает.
Причина социального эгоизма, и это третий важнейший вывод, коренится в
быстрой смене аксиологической парадигмы в русском обществе. Сотерический идеал,
предполагающий высшей целью человеческого существования и деятельности
достижение Царствия Небесного, подменяется идеалом эвдемоническим, адепты
которого ищут в первую очередь земного, преходящего благоденствия и используют для
его достижения все средства, не исключая и религиозных. Эвдемоническая
аксиология предполагает средством реализации стяжание своего земного счастья за счет
другого, сотерическая же - жертву собой ради другого. Евангельский принцип,
объявленный Господом, непреложен "Вы знаете, что князья народов господствуют над
ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между
вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да
будет вам рабом; так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих" [Мф. 20, 25-
28; Мк. 10, 42-45; Лк. 22, 25-27]. И когда всеобщее государственное тягло времен
Уложения 1649 г. постепенно подменяется "вольностями дворянства" (1762 г.) и
рабством крестьянства, грядущая Смута становится очень вероятной, почти
неотвратимой и почти сразу же провозвещается Пугачевским бунтом.
Угасание сотерического идеала, отчасти объяснимое обычной энтропией падшей
человеческой природы, с трудом выдерживающей стояние в Правде Божией, все же
до конца может быть объяснено, по крайней мере для народа христианского,
добровольным уклонением в эвдемонию самой Церкви, ее священноначалия, за которым
уже следует светская власть, за ней высший управленческий слой (дворянство), а за
ним простой народ. Уклонение в светское величие и славу папацезаризма патриарха
Никона хорошо известно. Именно реакцией на претензии Никона явился собор
1666-1667 гг., породивший Раскол Церкви и утвердивший на 250 лет главенство
царства над священством, окончательно оформившееся в так называемую синодальную
эпоху (1701-1917 гг.). А подневольная Церковь не нашла в себе ни сил, ни мужества
сказать нет эвдемонической политике государства, считающего себя православным
и при этом превращающим православных русских людей в рабов. На исповедничест-
во решались единицы, покорно склонили головы перед царской властью
бесчисленные тысячи клириков. "Ни одна из ветвей Христианства не обнаружила такого
заскорузлого (callous) равнодушия к общественной и политической справедливости
как Русская Православная Церковь в Синодальный период", жестоко, но, увы,
справедливо отмечал Ричард Пайпс2. И это - четвертый вывод. Переход аксиологии
русского общества от сотерии к эвдемонии начинается в Церкви.
Особенность русского общественного сознания обнаруживается также в том, что
из повторяющихся катастроф не делаются соответствующие их трагизму выводы.
Общество не может заставить себя верить и всему земному предпочитать Царствие
Божие. Вера и растет, и убывает незаметно и таинственно и в каждом отдельном
сердце, и в сердце народном [Мк. 4, 27]. Неблагочестивые желания и поступки мало-
помалу пожирают ее, благочестивые же - созидают. Но житейски опытные и
мудрые народы, даже оказываясь во власти эвдемонического идеала, сохраняют
понимание, что земные блага ускользают от потомков тех, чьи предки присваивали их
себе, оставаясь равнодушными к бедствиям людей, трудами которых эти блага
создаются. В этом основа современного социального государства. Строя удобные
коттеджи для своих сельскохозяйственных рабочих, один из виднейших аристократов
Pipes R. Russia under the Old Regime. London, 1974. P. 245.
164
Англии герцог Бедфорд писал в 1844 г.: "При постройке этих cottages моя
постоянная мысль была приобщить сельское народонаселение к пользованию выгодами и
удобствами того благосостояния, которым по милости его мы наслаждаемся, и
утвердить между владельцами, наемщиками земли и рабочими то взаимное
благорасположение, которого равно требуют здравая политика и высшие побуждения
человеколюбия"3. В России это побуждение "здравой политики" чаще всего оставалось
очень слабым. Цари вели все новые войны и огромным перенапряжением народных
сил раздвигали во все стороны границы Империи, включая в ее состав народы, все
более чуждые русским и по языку, и по вере, и по исторической традиции. Высшие
сословия жили в неге и богатстве, которое созидалось ограблением крепостных,
превращением таких же русских православных людей, как и сами помещики, в
говорящие орудия, в белых рабов, лишенных не только свободы, но и элементарного
образования, медицинского обслуживания, простейших жизненных удобств. Среди
помещиков только единицы желали упразднения крепостного состояния даже в годы
его ликвидации сверху, а среди царей только Александр I и его внучатый племянник
Александр III не стремились к расширению Империи, жалея народ и понимая, что
"Россия и так слишком большая". В итоге высшие классы лишились всех своих
богатств, родины, а то и жизни, а простой народ русский, восставший и сотворивший в
угаре бунта невероятные преступления против Бога и ближнего - потерял все, что
он имел до бунта от своей полоски земли до Империи, созданной с таким трудом и
такой ценой. И это - пятый вывод из размышлений над кругами отечественной
истории.
И, наконец, шестой вывод - это прельщение ретроспективным идеалом, весьма
пагубное для выходящего из смуты русского общества. Подобно Юстиниану,
мечтавшему любой ценой воссоздать величье Римской империи и восстановить ее
былые границы от Рейна до Евфрата и от гор Каледонии до второй катаракты Нила, а
в итоге безнадежно подорвавшего силы народа, русские правители, теряя в смуте
Империю, пытаются всеми силами ее восстановить и максимально расширить. При
этом простому народу, не получающему ровным счетом никаких выгод от
бескрайности Российской Империи и от ее действительно несметных природных богатств,
внушается властителями тщеславная мысль, что это его страна и он, как правило,
нищий подневольный раб, - ее полноправный хозяин и гражданин. И нравственно, и
политически это очень пагубное прельщение, которое крайне замедляет
формирование здорового ответственного гражданского самосознания и пленяет сердце даже
не земным благоденствием, но только его бесплотным миражом. В то же время
экстенсивное развитие России высасывает из людей их силу, используемую для
освоения все новых пространств, вместо того чтобы концентрировать ее созидательный
потенциал на земле отцов, и, в конце концов, становится одной из важнейших
причин государственной катастрофы и начала смуты. Из-за постоянно меняющейся
конфигурации громадного государства родина для русского человека везде и нигде.
Он - безбытен, и в бездну безбытности обрушивается всякий раз тщательно
возводящийся храм идола Империи. "Время работает против тех, кто возвел свою
империю при помощи насилия" . Насилия не только над другими народами, но и над
своим собственным.
Учитывая эти выводы из собственной истории, мы предлагаем следующие
экстраполяции в XXI столетие.
Во-первых, Россия постепенно оживает ныне после долгого и крайне
разорительного III Смутного времени. Как и в предшествующие моменты выхода из
смуты, для русского общества характерен подъем сотерических алканий, возрастание
значения и авторитета Церкви, на которую вынуждены опираться светские власти,
3 Кошелев А.И. Записки (1812-1883 гг.) с семью приложениями. М.: Наука, 2002. С. 190.
4 Тойнби АДж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. С. 452.
165
ищущие авторитетной санкции для своей деятельности. Русская Православная
Церковь достаточно последовательно указывает, особенно в последние годы, на
необходимость покаяния как в деяниях, приведших к катастрофе 1917 г., так и в
преступлениях коммунистического смутного времени.
Во-вторых, учитывая ситуации прошлых выходов из смуты, Церкви следует
всячески избегать эвдемонизации как на государственно-политическом, так и на
частном уровне отдельных ее представителей. Стремление к властному верховенству и
житейскому богатству не будет прощено Церкви ни обществом, ни светской
властью. Этим стремлением к земным благам Церковь, если она им прельстится, вновь
развратит русский народ и толкнет его высшие, а затем и низшие слои на поиски
"мамоны" и сама же падет первой жертвой этих эвдемонических устремлений, как
пала она при Василии III во втором цикле русской истории с победой иосифлян, и в
начале третьего цикла - претензией патриарха Никона.
В-третьих, высшие светские слои современного русского общества не должны
стремиться созидать свое благополучие за счет остального общества, нещадно
обкрадывая и эксплуатируя его. Напротив, возвращая простым людям значительную
часть национального богатства, высшие слои обеспечат стабильность
существования своих потомков в здоровом гражданском обществе. Следует напомнить, что
намного проще воздерживаться от ошибок, чем их исправлять. Весь XIX в. российские
правители пытались так или иначе исправить эксцессы крепостного рабства,
сложившегося в конце XVII-XVIII вв., но не преуспели в этом. Революция, ставшая
восстанием бывших крепостных, уничтожила русское общество третьего цикла.
В-четвертых, для благополучного выхода из роковых кругов русской истории
нашему обществу следует отбросить прельщение Империей. Следует сосредоточить
усилия на созидании достойной жизни на тех пространствах, которые остались у
России к сегодняшнему дню. Если богатое и счастливое общество сложится на
пространствах нынешней Российской Федерации, то у него не будет никаких резонов
жаждать всеразрушающей социальной бури ради восстановления попранной
справедливости. И тогда России не угрожает новая смута. В то же время какие-то части
былой Империи могут и пожелать реинтеграции с Россией нынешней, но только при
условии ее благоденствия, гражданской и политической стабильности. В первую
очередь такими регионами потенциальной реинтеграции могут стать единоверные
и/или этнически близкие пространства. Однако вся полнота реинтеграционных
инициатив должна исходить не от России, но от них, быть вполне свободной и имеющей
широкую общественную поддержку.
Следует твердо сознавать, что из третьей ужасной смуты Россия может и вовсе
не выйти, что она может в любой момент утратить свою достаточно зыбкую
независимость и пространственное единство. Но если все же она преодолеет последствия
катастрофы XX в. и возродится, как возродилась в XV в., а потом - в XVII, она
должна на этот раз возродиться не для того, чтобы, совершив в четвертый раз все те
же роковые ошибки, вновь рухнуть через два-три столетия в бездну междоусобицы
и смуты. Ошибки можно не повторить. Они - всего лишь результат неправильных
волевых выборов общества, и тысяча лет отечественной истории - вполне
достаточный срок, чтобы научиться не совершать их вновь.
Л.Б. Зубов
166
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Густав Шпет и современная философия
гуманитарного знания*
Размышляя о возможных подходах к истории философии, Карл Ясперс заметил,
что "в знании о прошлом <...> заключается новая философская современность.
Фактически - это некая основная философская форма изначального философствования -
понимать и делать очевидным во взаимосвязи с традицией, в изучении старых
текстов то, что, таясь в глубине, движет настоящее"1. Эту мысль Ясперса можно считать
своего рода лейтмотивом международной конференции "Густав Шпет и современная
философия гуманитарного знания", состоявшейся в Москве 19-20 апреля 2004 г.
Инициаторами и организаторами этой конференции выступили кафедра философии
Московского педагогического государственного университета и редакция журнала
"Вопросы философии".
В конференции участвовали эпистемологи, предлагающие современный
проблемный ракурс прочтения научных и теоретических идей Шпета, и историки
философии, рассматривающие его творческое наследие как исторически
осуществившийся опыт мышления. Фактически их работа ведется в двух разнонаправленных
контекстах. Историки философии предлагают историко-герменевтический анализ,
базируясь на смысловых нюансах философских концептов и философских проблем,
заданных самим Шпетом. Эпистемологи пытаются переформулировать идеи Шпета,
наполняя их новым смысловым содержанием. Для одних важнее история, для других
доминирующей оказывается современность. При таком, казалось бы,
непреодолимом разрыве и в мыслительных ходах, и в философском лексиконе трудно было бы
себе представить "понимающий" разговор о Шпете. Но на конференции такой
содержательный разговор состоялся.
Такое сближение позиций эпистемологов и историков философии нам очень
многое дает сегодня, особенно при экспликации современных тематических
предпочтений. Одна из последних тематизаций шпетовского идейного наследия
непосредственно связана с попытками переосмысления проблемы субъект-объектной
дихотомии в гуманитарных науках, что реально демонстрировалось в выступлениях
В.П. Зинченко и В.А. Лекторского. В.П. Зинненко в докладе "Мысль и Слово:
подходы Л.С. Выготского и Г.Г. Шпета" осуществляет психологическую интерпретацию
шпетовской концепции "внутренней формы слова", актуализируя методологические
подходы Шпета к решению современных психологических проблем, т.е. задает
психологический метауровень исследования шпетовских текстов. Он интерпретирует
"слово" (основное понятие философии Шпета) как "слово-действие", указывая на мето-
Обзор конференции подготовлен при финансовой поддержке РГНФ (грант 04-03-14026 г).
Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. СПб., 2000. С. 97.
167
дологическую эффективность этого понятия при исследовании психических актов
сознания.
В докладе В.Л. Лекторского "Эдмунд Гуссерль, Густав Шпет и проблема
субъекта" анализируется шпетовский способ постановки проблемы субъекта в контексте
современной философской мысли, как российской, так и западноевропейской. В
докладе были продемонстрированы перспективные возможности шпетовских
философских идей (его способы постановки проблемы интерсубъективности и
интерпретации "Я" в контексте культурных объективации) для современных гуманитарных
исследований. В.А. Лекторский уточняет смысл понятий деяния и действия,
совершенно точно указывая на механистическую природу действия и его отличия от
деяния, имеющего этические и культурные параметры. Различение "деяния" и
"действия", осуществленное В.А. Лекторским, весьма существенно для современных
гуманитарных исследований.
И В.П. Зинченко, и В.А. Лекторский актуализируют шпетовский способ пробле-
матизации субъект-объектной дихотомии, но методологически они движутся
разными путями, предпринимая попытки включения Шпета в разные традиции. Зинченко
видит путь к современному прочтению Шпета в "общении идей" русских психологов
того времени: Н.И. Жинкина, H.H. Волкова, Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н.
Леонтьева, H.A. Бернштейна и др. Автор выбирает способ внешнего расширения
контекста за счет введения шпетовских новаций в широкий культурный "семантический
ландшафт", "общее напряженное поле мысли" того времени. В.А. Лекторский
задает внутренний проблемный контекст исследования шпетовских продуктивных
методологических возможностей. Цель такой интерпретации в том, чтобы
аналитическими средствами выявить специфику основных понятий шпетовской концепции,
прослеживая их смысловую трансформацию. При такой постановке проблемы
меняется и контекстуальное поле исследования. В.А. Лекторский включает шпетов-
ские идеи в контекст развития западноевропейской философской мысли (Кант,
Фихте, Гегель, Гуссерль). Несмотря на различие методологических подходов В.П.
Зинченко и В.А. Лекторского, их обращение к идеям Шпета свидетельствует о том, что
шпетовская постановка проблемы субъекта созвучна с методологическими
поисками современной гуманитаристики, а его идеи активно участвуют в современных
дискуссиях в гуманитарных науках. Об этом, в частности, свидетельствует и доклад
французской исследовательницы М. Денн "Логика творческого акта в философии
Густава Шпета", зачитанный на конференции.
Обращение современных исследователей-гуманитариев к истории философии, к
историко-философскому опыту делает внутренней потребностью шаг навстречу
друг другу историков философии и эпистемологов. Возникло ощущение, что этот
шаг к современному проблемному обсуждению научных и теоретических идей
Шпета стал необходим, поскольку изменилась интеллектуальная направленность
исследователей русской философии, обусловленная определенным историческим
контекстом. Чтобы понять, почему это произошло, надо принять во внимание различие
социокультурных ситуаций, - той, в которой работали российские исследователи-философы
с наследием русских мыслителей пятнадцать лет назад, и сегодняшней.
Ситуация, в которой осуществлялись исследования русской философской мысли
в конце 80-х-начале 90-х гг. XX в. - время «"сенсационных" публикаций архивных
текстов из богатого наследия еще недавно запрещенных русских мыслителей»2,
открытие возможностей для архивной работы, разрешение публикаций текстов
русских религиозных философов. В тот момент "раскрепощенного отношения" к
русской философской традиции многим казалось, что восстановление философских
текстов русских мыслителей начала XX в. в правах само по себе дает новый взгляд
2 Янцен В. Письма русских мыслителей в базельском архиве Фрица Либа // Исследования по истории
русской мысли: Ежегодник за 2001-2002 годы. М., 2002. С. 229.
168
на вещи и творчески продолжает прерванную философскую традицию. "Казалось
несомненным, - замечает С.С. Хоружий, - что едва Россия станет свободной, она
найдет в этих текстах (текстах русских религиозных философов. - Т.Щ.) готовую
основу для постсоветского сознания... Столь же несомненно, на базе заключенной
здесь философии должен будет начаться новый подъем творческой
религиозно-философской мысли. Мы знаем, что эти ожидания постиг провал .
Сегодня для многих уже стало очевидным, что для творческого продолжения
русской философской традиции необходимо не "поспешное утоление духовного
голода"4, но, как считает П.П. Гайденко, "проблемный анализ творчества русских
мыслителей, ...который мог бы дать нам ключ к решению сегодняшних вопросов,
возникающих в сфере онтологии, теории познания, логики, философии науки,
социологии и психологии"5. Рационалистический поворот к проблемному анализу
позволяет эксплицировать методологические установки русских философов и, в
частности, поставить под вопрос тезис об "антиметодологичности" русской философской
мысли. Да, конечно, можно говорить о заимствовании русскими философами
западноевропейских идейных платформ, но это лишь одна сторона дела. Я думаю,
гораздо важнее сегодня понять, что русские философы умели учишься у Запада. Это
означает, что они не просто заимствовали голые схемы, но сумели сохранить
собственную философскую традицию познавательного отношения к действительности.
Эта мысль о методологической эффективности историко-философского опыта
русских философов задается и в докладе Л.А. Микешиной "Густав Шпет и
современная философия науки". Но в отличие от интерпретаций Зинченко и Лекторского,
акцентирующих шпетовский способ проблематизации субъекта, она осуществляет
своеобразный поворот к актуализации его методов решения проблемы субъект-
объектной дихотомии, как проблемы герменевтической. Исследовательский
интерес Л.А. Микешиной направлен на фиксацию поставленных Шпетом философских
проблем, которые задают конфигурацию современного исследовательского поиска
эпистемологов и философов науки. Л.А. Микешина обосновывает необходимость
спецификации методологических операций в гуманитарном знании, где
эпистемологический опыт Шпета представлен не только как "уникальная реконструкция
исторического развития герменевтики", но и как философский проект методологии
гуманитарных наук.
Исследовательский интерес ведущих российских философов науки к
теоретическим установкам Шпета во многом обусловлен еще и тем, что современному
эпистемологическому сообществу требуются положительные идеи, способные не только
оправдать необходимость методологической рефлексии, но и сохранить традицию
познавательного отношения к действительности. По мнению Б.И. Пружинина
(доклад "Методологический опыт Густава Шпета: проблема демаркации научного
знания"), теоретические идеи Шпета оказываются остро современными. И не только
потому, что русский философ ищет альтернативы гносеологическому проекту
неокантианства, превращавшего предмет в продукт метода, и ассоцианистскому
варианту эмпиризма с его опорой на психологического субъекта. Дело в другом. Шпет
сохраняет уважительное отношение к науке, к самому способу жизни в науке, т.е. его
методологический опыт нацелен на сохранение традиции передачи знания как
самоценности. Именно в этом направлении шел Шпет и, как полагает Б.И. Пружинин,
для современной эпистемологии это своего рода выход, как возможность
сохранения гносеологической традиции. Сохранить установку на познавательное
отношение к действительности, на фундаментальное исследование как на ценность и сде-
Хоружий С.С. Путем зерна: русская религиозная философия сегодня // Вопросы философии. 1999.
№9. С. 141.
4 Янцен В. Там же.
5 Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М., 2002. С. 12.
169
лать акцент именно на такую интерпретацию научной традиции при передаче
социокультурного опыта. Мысль о фундаментальной науке, передача этого опыта
научной и логической культуры, опыта незаинтересованного, непрагматического
исследования является наиболее ценной сегодня в философском опыте Густава
Шпета.
Конечно, проблемный подход всегда таит в себе опасность излишнего
"осовременивания" идей русских философов, так как очень часто стирает их действительно-
исторический смысл. Поэтому сегодня методологически эффективно (и на
конференции это было реально продемонстрировано) рассматривать философское
наследие Шпета одновременно в двух проблемных сферах: современной и
конкретно-исторической, что позволяет выявлять точки контекстуального напряжения,
понимать каждый из контекстов посредством другого и, вероятно, формулировать новые
проблемы, возникающие на пересечении этих контекстов.
Конференция показала, что именно на пересечении исследовательских
контекстов становятся интересными не только сами философские идеи Шпета, но и способ
его философствования. Изменяется исследовательский ракурс рассмотрения
идейного наследия Шпета, и в центре внимания оказываются не только содержательные
моменты его философской концепции, но и сама форма концептуальных
построений. Смена исследовательской позиции, т.е. перемещение центра
исследовательского интереса из одной проблемной плоскости в другую позволяет увидеть шпетов-
скую форму интерпретации философских проблем в объеме, а не на плоскости и
наглядно продемонстрировать современность его методологического поиска.
Доклады, представленные на конференции, показали, что философско-методо-
логический проект Шпета не исчерпывается феноменологическим и
герменевтическим контекстом прочтения6. Идеи Шпета гораздо богаче. Именно по этой причине
необходим проблемный анализ его идейного наследия, позволяющий обсуждать
эпистемологические вопросы даже там, и прежде всего там, где они не даны в
готовом виде, но принципиально реконструируемы, причем как логико-аналитическими,
так и историко-герменевтическими средствами. Вариант такого проблемного
анализа был представлен в докладе Н.С. Плотникова "Антропология или история. К
рецепции Дильтея Шпетом". Автор обсуждает вполне респектабельную сегодня
философскую проблему логического и методологического фундамента гуманитарных
наук, но эта проблема предстает здесь в историческом контексте. Плотников
реконструирует интеллектуальную полемику Шпета с Дильтеем. Он ставит под
вопрос тезис о существовании общего, единого основания полемики Шпета и Дильтея,
сдвигая свой интерес к частным и, на первый взгляд, несущественным, "тонким"
деталям этой полемики. Тщательно продуманный логико-методологический анализ
понятийных образований приводит Плотникова к выводу об отсутствии общего для
Шпета и Дильтея подхода к проблеме эпистемологического статуса гуманитарных
наук. Реконструируемая аргументация Шпета и Дильтея имеет сегодня не только ис-
торико-биографическую ценность.
Актуальность этой реконструкции в том, что она вызвала на конференции
дискуссию, в ходе которой снова воспроизводится полемика между Дильтеем и
Шпетом. Но их спор переходит из историко-философского контекста в
методологический план, связанный с тем, что исследователи сегодня обращаются к тем идеям Шпе-
В последние пятнадцать лет шпетоведами был накоплен значительный содержательный материал.
Их исследовательские стратегии развертывались в сфере текстологических исследований
неопубликованных трудов Шпета. В то же время приобрел наиболее четкие контуры феноменологический и
герменевтический ракурс интерпретации и актуализации шпетовских идей. Наиболее ярко эта тенденция
проявилась на последних Шпетовских чтениях. См.: Творческое наследие Густава Густавовича Шпета в
контексте философских проблем формирования историко-культурного сознания (междисциплинарный
аспект): Γ.Γ. Шпет / Comprehensio. Четвертые Шпетовские чтения. Томск, 2003.
170
та, которые в его текстах были лишь контурно намечены, остались в возможности и
не получили дальнейшего развертывания. Это своего рода выявление новых
проблемных пластов и попытка сегодняшнего продолжения работы в рамках
предложенной Шпетом тематики, но уже из современного контекста. В интерпретации
Плотникова полемика Шпета и Дильтея по вопросу о методологическом статусе
гуманитарных наук оказывается доминирующей при реконструктивной работе с
текстом Шпета "История как проблема логики". Но такая исследовательская доминанта
не является единственной при интерпретации данного текста. Это подтверждает
вопрос И.М. Чубарова, заданный Плотникову. Его суть в том, что в этой работе Шпет
шел за Гуссерлем, а, значит, исследовательская установка Плотникова не является
магистральной при интерпретации данной работы. При этом возникает весьма
типичная для современных отечественных философских исследований ситуация. Один
исследователь исходит из множественности интерпретаций одного текста
(Плотников), но готов обсуждать критерии интерпретации, другой (Чубаров) - теоретически
выступая на стороне Шпета (а он-то как раз и постулировал существование
множества контекстов прочтения того или иного текста), задает вопрос о единственно
возможной интерпретации текста "Истории как проблемы логики". Если мы признаем
существование единственно возможной "магистральной" линии, то такая постановка
вопроса значительно обеднит современные интерпретации текстов Шпета. Тем
более что в докладе И.М. Чубарова "Эстетические идеи Шпета", как и в выступлении
Н.С. Плотникова, в сферу исследовательского интереса попадают именно
маргинальные слои текстов Шпета. Поэтому и перспективная линия дальнейшего
исследования философского наследия Шпета, намеченная И.М. Чубаровым, состоит в
проблематизации наиболее сложных вопросов, не получивших однозначного
разрешения, но затрагиваемых Шпетом в своих трудах.
Подробная реконструкция этой дискуссии раскрывает еще одну весьма
перспективную тенденцию методологического характера. Историко-философский спор,
переведенный в методологический план, свидетельствует о том, что современной
эпистемологии необходимо обращение к историко-философской традиции для расширения
контекстов исследования познавательной проблематики. Современному
методологическому исследованию важно обрести историческую фундированность, опереться на
реальный контекст, на стержень историко-философского анализа. Когда философия
науки, системная философия попадает в зависимость от проблем сегодняшних, когда
возникает ситуативный синдром идеологизации (пусть даже и научной) исторических
форм мысли, то возникает необходимость обратиться к истории философии как
философскому основанию, найти и исторически оправдать "важные" для современного
эпистемологического сообщества проблемы. Именно в этом направлении идет
В.Н. Порус. Его выступление "Спор о рационализме: философия и культура (Э.
Гуссерль, Л. Шестов и Г. Шпет)" наглядно демонстрирует, что современное
методологическое исследование просто вынуждено обращаться к интеллектуальному опыту
истории философии для осмысления реального положения дел в культурной
реальности. Современная европейская культура в опасности, печально констатирует Порус,
поэтому исторический когнитивный опыт требует тщательной эпистемологической
работы, позволяющей осмыслить истоки культурного кризиса, в том числе и
кризиса современной научной культуры. Если мы хотим прояснить смысл рационального
(разумного) бытия в мире, то мы должны, как считает В.Н. Порус, понять
фундаментальную герменевтическую идею Шпета о том, что человеческое существование
синтезирует в себе индивидуальное и всеобщее. "Мы только потому и люди, что
несем в себе культурно обусловленные (закодированные в культурном символизме),
всеобщие, смыслы, - эти смыслы позволяют нам понимать себя и других,
преодолевать пропасть взаимного отчуждения и страх перед смертью".
На конференции была зафиксирована еще одна проблемная сфера, требующая
соотнесения эпистемологического и историко-философского исследования - сфера
герменевтики. Дело в том, что современные исследовательские акценты смещаются
171
в сторону осмысления исторической динамики методологического инструментария
герменевтики и исторических предпосылок возникновения этой традиции на
русской почве. Опыт обращения к истории философии показывает, что Шпет стоял у
истоков русской герменевтической традиции, исследование которой требует
соотнесения ее философских оснований и методологических путей с западноевропейской
философией. Такой подход демонстрируется в докладе И.Л. Михайлова
"Философская герменевтика. Г. Шпет, Г. Липпс, Г. Миш". Вместе с тем сегодня нам важно
найти такой исследовательский ракурс, где реконструкция герменевтических идей Шпе-
та была бы, с одной стороны, наиболее адекватной историческому положению дел,
и давала бы нам новый взгляд на уже привычные вещи, с другой. Я думаю, что
таким контекстом становится сфера эпистемологической проблематики, где ставится
вопрос о том, "может ли герменевтика справиться с ролью "всеобщей науки",
которая ей сегодня - с разных сторон - предлагается?" . Сравнительный анализ
герменевтических проектов Шпета, Липпса, Миша, предпринятый И.А. Михайловым,
если и не дает нам исчерпывающего ответа на этот вопрос, то так или иначе может
исторически приблизить нас к нему, а современные эпистемологические исследования
могут значительно расширить поле контекстов обсуждения герменевтической
проблематики.
. Не менее яркой тенденцией, непосредственно связанной с герменевтическим
подходом в гуманитарных исследованиях, является смещение методологии историко-
философского анализа к комментаторской традиции. Комментарий становится
сегодня одним из центральных методологических подходов к тексту8. Но изменяется
сам подход к содержательному комментированию текста, предполагающий
включение комментируемого отрывка в широкий контекст: и в основной корпус текстов
Шпета, и в экзистенциальный контекст, и в аналитическую ситуацию
интеллектуальных тенденций начала XX в. Причем комментаторский сдвиг не закрывает
целостную концепцию философа (Шпета в данном случае), но скорее открывает ее
заново, в новом контексте, в новом ракурсе. Эту методологическую тенденцию, поворот
к герменевтическому комментарию демонстрирует выступление BJI. Махлина
«"Тайна филологов". Открытие Густавом Шпетом герменевтического принципа»,
где поставлена проблема взаимосвязи философии, филологии и герменевтического
принципа в подходе к историческому прошлому, к духовной истории или культурной
истории вообще. При этом интерес участников конференции привлек сам подход
Махлина (т.е. последовательное комментирование отдельного фрагмента текста
Шпета для прояснения возможных смысловых, культурных, исторических
предпосылок), не просто провозглашающего эффективность герменевтического подхода,
но реализующего в своем исследовании этот методологический ход. Кроме того,
такой подход открывает панораму существовавших в истории, но не реализованных
методологических возможностей герменевтики для современной методологии
гуманитарного знания.
На одном из заседаний конференции историки философии обратились к той
тематической плоскости шпетовского философского наследия, где его теоретически
обоснованный методологический проект развертывался в контексте
историко-философских стратегий. Тема этого заседания - «Шпет в русской философской "сфере
разговора"». И первый доклад, наиболее ярко очерчивающий траекторию
реального осуществления шпетовской методологической линии, был доклад В.К. Кантора
«Шпет как историк русской философии». В центре его внимания оказалась очень
важная для современной философской культуры проблема, которую когда-то четко
7 Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003. С. 14.
8 Эта тенденция поворота к комментарию отмечается и статье А.Г. Чернякова. См.: Черняков AT.
Черный квадрат. О книге Н.В. Мотрошиловой «"Идеи I" Эдмунда Гуссерля как введение в
феноменологию» // Вопросы философии. № 2. 2004. С. 160-176.
172
сформулировал Шпет: это отношение к философии не просто как к одному из
элементов культуры, но как к индексу духовной взрослости той или иной социально-
исторической духовной общности. В то же время докладчик отметил, что
немаловажное значение сегодня приобретает вопрос о зрелости самой философской
традиции, определяемой по наличию в ней гносеологического фундамента. В.К. Кантор
зафиксировал точки интеллектуального созвучия между спецификой
эпистемологических трудов Шпета, выраженной в тонком семиотическом анализе внутренней
формы слова, и его блестящими историко-философскими исследованиями
словесной ткани русского историко-культурного сознания. Эта важная особенность шпе-
товской методологии историко-философского исследования, детально
обоснованная автором доклада, приобретает особую актуальность для осмысления
возможного общего основания разговора современных эпистемологов и историков
философии, поскольку способствует переосмыслению мифологем о "негативном
характере" историко-философского опыта Шпета.
Тема преодоления современных историко-философских мифологем прозвучала
и в докладе А.И. Резниченко, где была поставлена под вопрос мифологема "антигно-
сеологичности" русской философии. В качестве демонстрации методологической
неэффективности такой мифологемы для исследования русской философской
традиции А.И. Резниченко использовала опыт сравнительного прочтения архивных
текстов П.А. Флоренского и Г.Г. Шпета.
Несколько иной ракурс рассмотрения историко-философского наследия Шпета
представлен в докладах A.A. Биневского "Рационализм философии Густава Шпета:
между европейской и восточной традициями" и JI.B. Федоровой "Преодоление
дуализма философии и жизни в творчестве Г. Шпета (историко-философский аспект)".
A.A. Биневский ставит вопрос о том, каким образом возможно сближение
восточной Мудрости и европейского Разума, каковы основания взаимодействия этих
культурных традиций? Для решения поставленной проблемы он обращается к
феноменологическому опыту Шпета, в котором, по мнению автора доклада, такие
основания были намечены. Л.В. Федорова ищет точки интеллектуального сближения
Шпета с "героями" его историко-философских работ - Лавровым и Герценом. В
такой контекстуальной прозрачности обнаруживается очень интересная мысль. Дело
в том, что философские идеи Герцена и Лаврова, занимавшие в шпетовской
интерпретации русской философской мысли особое место, долгое время рассматривались
в отечественной истории философии исключительно в социально-политическом
контексте. Л.В. Федорова показывает, что Шпет иначе смотрит на содержание их
идейных построений. Доминирующим в его интерпретации оказывается значимый и
сегодня проблемный ракурс рассмотрения языкового сознания (и у Лаврова, и у
Герцена) как сферы сближения бытия и мысли. По мысли Федоровой, шпетовский
методологический подход к идеям Лаврова и Герцена становится весьма актуальным
сегодня и позволяет выявить новые контекстуальные возможности для
интерпретации этих идей.
Задача конференции состояла не только в том, чтобы привлечь внимание к тем
или иным научным и теоретическим идеям Шпета, но еще и в том, чтобы понять,
каков экзистенциальный вектор его интеллектуальной биографии (и очень уместным
в контексте этих задач был музыкально-поэтический вечер "Густав Шпет в
культуре Серебряного века" (исполнитель - заслуженный артист России М. Кончаловский)
при активном содействии директора музея Серебряного века М.Б. Шапошникова).
В этом биографическом, по сути, контексте была найдена еще одна возможность
продолжения разговора эпистемологов и историков философии, поскольку для
современного историко-философского осмысления экзистенциальных истоков
теоретических идей Шпета необходим эпистемологический анализ архивного наследия
мыслителя и откликов современников на его творчество. Именно сегодня
необходимо переосмысление методологического статуса архивного исследования, нужны не
только содержательные исследования в области истории русской философии, но и
173
методологическое осмысление дальнейших исследовательских возможностей. Во
всяком случае, я думаю, что время жестких границ между отдельными архивами
русских философов (архивами Флоренского, Лосева, Шпета и др.) уходит с
исследовательской сцены. Сегодня особую важность приобретает целостный архив - "архив
эпохи", в котором каждый голос участника философской сферы разговора
приобретает смысл только в контексте историко-философских реконструкций
тематических предпочтений философских собеседников. Именно поэтому, я думаю, в наши
дни необходима тщательная реконструктивная как аналитическая, так и
герменевтическая работа с целостным массивом философских текстов русских мыслителей.
Ведь в них таится еще не до конца освоенное нами понятийное богатство и
множество идейных возможностей, не осуществившихся в силу тех или иных причин. Тем
более что эти тексты были изъяты из "большого контекста" культуры, были лишены
свободного обсуждения и критического переосмысления. Вот почему мы сегодня
просто вынуждены реконструировать идейное наследие русских мыслителей, если
хотим по-настоящему понять и освоить ту русскую философскую традицию, с
которой говорим из своего времени.
Конференция была проведена при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ).
ТТ. Щедрина
О "Доме А.Ф. Лосева"
23 сентября 2004 г., в день рождения Алексея Федоровича Лосева (1897-1988), в
доме на Арбате, где он прожил почти полвека, состоялось официальное открытие
государственной Библиотеки истории русской философии и культуры "Дом
А.Ф. Лосева".
Возникновение этого философского центра не было простым и гладким. Путь к
нему начался достаточно давно - 19 августа 1991 г. Именно в этот день, во время
путча, дом на Арбате был отдан в руки коммерсантов. Потребовалось немало сил от
членов Культурно-просветительского общества "Лосевские беседы",
организованного после кончины А.Ф. Лосева и возглавляемого его наследницей, Азой Алибе-
ковной Тахо-Годи, профессором МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженным деятелем
науки РФ, чтобы сохранить этот дом как памятник нашей истории и культуры,
найти инвесторов и отреставрировать его. После многих драматических перипетий в
декабре 2000 г. Библиотека "Дом А.Ф. Лосева" была учреждена Постановлением
Правительства Москвы. Вскоре A.A. Тахо-Годи передала в Библиотеку около 10 000 книг
из коллекции А.Ф. Лосева. Можно было надеяться, что все трудности позади.
Директором Библиотеки был назначен один из бывших секретарей А.Ф. Лосева -
И.И. Маханьков, но, как выяснилось осенью 2003 г., именно благодаря его
деятельности из лосевской коллекции стали исчезать книги, главным образом XVIII -
начала XX в., - не десятки, а сотни книг. Вмешалась пресса, научная общественность
России, Европы и США, и к лету 2004 г. "Дом А.Ф. Лосева" начал новую жизнь с
новым руководством - управление культуры ЦАО назначило директором Библиотеки
В.В. Ильину. Такова предыстория Библиотеки "Дом А.Ф. Лосева", а ее история
началась 23 сентября 2004 г.
В этот день в "Доме А.Ф. Лосева" можно было увидеть и академика СО.
Шмидта, и главу издательства "Молодая гвардия" В.Ф. Юркина, и декана философского
факультета Православного института им. Иоанна Богослова А.Т. Казаряна, и
главного редактора журнала "Вопросы философии" В.А. Лекторского, и поэта, доктора
философских наук К.А. Кедрова, и заведующую отделом "Православной
энциклопедии" Л.В. Литвинову, многие годы возглавлявшую философскую редакцию изда-
174
тельства "Мысль"... На торжественном заседании, посвященном открытию
Библиотеки, прозвучали многочисленные приветствия. От Комитета культуры
Правительства Москвы слово произнес заместитель председателя комитета А.И. Лазарев.
Замдиректора Института философии РАН академик A.A. Гусейнов, обращаясь к
собравшимся, подчеркнул, что создание Библиотеки "Дом А.Ф. Лосева"
восстанавливает духовный ландшафт Москвы, открывает философам уникальную
возможность для неформального научного диалога. Выступавший от имени Президиума
Российской академии образования директор Института психологии РАО академик
В.В. Рубцов напомнил, что становление русской философии всегда тесно было
связано с развитием отечественной психологии, и передал в дар фотографию начала
XX столетия, на которой молодой А.Ф. Лосев запечатлен на открытии
организованного Г.И. Челпановым Психологического института. Подарок Библиотеке вручил и
вице-президент Российского Фонда культуры, доктор филологических наук, лауреат
Государственной премии А.Н. Налепин. Он передал хранившийся в Фонде культуры
портрет Алексея Федоровича Лосева, выполненный уже после смерти философа
лауреатом Государственной премии художником М.А. Савицким.
Среди выступавших в день открытия были внук о. Павла Флоренского доктор
геолого-минералогических наук, проф. П.В. Флоренский; заместитель декана
философского факультета МГУ им. Ломоносова, канд. филос. наук А.П. Козырев;
доктор искусствоведения, проф. К.В. Зенкин - ученый секретарь Научного Совета
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, где в 20-е гг.
А.Ф. Лосев преподавал эстетику; издатель и комментатор трудов А.Ф. Лосева
В.П. Троицкий; доктор филос. наук, проф. В.Ю. Царев - создатель серии
телевизионных фильмов о русских философах, в том числе и фильма об А.Ф. Лосеве,
который должен в скором времени выйти на экран по каналу "Культура"; директор
Дома-музея С.Н. Дурылина Г.В. Лебедев; зам. главного редактора серии "Жизнь
замечательных людей" издательства "Молодая гвардия", заслуженный работник
культуры РФ О.И. Ярикова; главный редактор философского журнала "Энтелехия",
доктор искусствоведения И.А. Едошина (Кострома).
Присутствующим были представлены и новые издания, вышедшие накануне
открытия Библиотеки. Сначала книга А.Ф. Лосева "Введение в общую теорию
языковых моделей", напечатанная в 60-е гг. крошечным тиражом, а теперь появившаяся в
серии "История лингвофилософской мысли" издательства "УРСС". Затем проф.
университета Чикаго Р. Берд познакомил собравшихся с вышедшим под его
редакцией сборником "Алексей Федорович Лосев: философия и гуманитарные науки".
Это первый выпуск материалов международной лосевской конференции "А.Ф.
Лосев и гуманитарные науки XX века", проходившей в 2002 г. в США и
организованной проф. Университета Коламбус В. Марченковым, автором английского перевода
знаменитой лосевской книги "Диалектика мифа", вышедшего в 2003 г. в известном
лондонском издательстве "Routlege".
Ко дню открытия в Библиотеке была развернута выставка, посвященная
истории русской философии. Центральный вестибюль украсили портреты Вл.
Соловьева, кн. E.H. Трубецкого, H.A. Бердяева, С.Н. Булгакова, В.Ф. Эрна, о. П.А.
Флоренского, В.В. Розанова, Л.И. Шестова, Г.Г. Шпета, С.Л. Франка, И.А. Ильина,
Н.О. Лосского, Л.П. Карсавина, кн. Н.С. Трубецкого... В витринах на третьем этаже,
там, где теперь находится мемориальный Лосевский читальный зал, были
выставлены труды отечественных философов из коллекции, которую А.Ф. Лосеву удалось
сохранить, несмотря на различные испытания, настигавшие его и его библиотеку
(арест 1930 г., бомбежка 1941 г.). Лосевское собрание, в сущности, отражает всю
историю философской мысли в России, в том числе историю ее становления в первой
половине XIX в., когда параллельно с утверждением русского западничества
П.Я. Чаадаевым в сочинениях И.В. Киреевского и А.С Хомякова формулировались
основные положения той философии славянофильства, которая, по словам А.Ф.
Лосева, "стала образцом для всей последующей русской философии". Собрание дает
175
картину и формирования университетской философской науки, и
духовно-академической философии второй половины XIX в., и расцвета философского творчества
на рубеже XIX-XX вв.
Посвященная истории русской философии выставка, сделанная к открытию
Библиотеки, должна стать в итоге частью постоянной экспозиции. Работа над ней будет
продолжена, как и работа над мемориальной экспозицией, посвященной А.Ф.
Лосеву. Мемориальная экспозиция должна быть завершена осенью 2005 г. к открытию
Одиннадцатых "Лосевских чтений". Эти международные научные конференции уже
стали традиционными для Москвы. Материалы минувших Десятых Лосевских
чтений "Владимир Соловьев и культура Серебряного века", посвященных 110-летию
А.Ф. Лосева и 150-летию B.C. Соловьева, должны выйти весной 2005 г. в
издательстве "Наука".
Помимо научных чтений, в Библиотеке планируется регулярно проводить и
философские семинары. Будет ли интересной научная и культурная жизнь в
Библиотеке истории русской философии и культуры "Дом А.Ф. Лосева"? Зависит это не
только от сотрудников Библиотеки или читателей, зашедших сюда за нужной книгой.
Зависит это в первую очередь от тех современных ученых - философов,
богословов, историков религиозно-философской мысли, кто захочет прийти сюда в поисках
живого общения и той достоверной истины, к добросовестному поиску которой
призывал духовный учитель А.Ф. Лосева Владимир Соловьев.
ЕЛ. Тахо-Годи
176
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Е.П. НИКИТИН. Духовный мир: органичный космос или разбегающаяся Вселенная?
М.: РОССПЭН, 2004, 543 с.
В серии "Философы России XX века",
издаваемой под патронажем и при финансовой поддержке
РГНФ, опубликован сборник статей Евгения
Петровича Никитина (1934-2001). Название сборнику
дала одна из его статей, опубликованная в 1991 г. в
"Вопросах философии" и констатировавшая "раз-
бегание" духовного мира, автономизацию
познавательной, нравственной и эстетической форм
духовной деятельности. Известно, что расщепление
духовного мира затронуло и философию. Одни
философы ориентировались на одну какую-то
специализированную область духовной деятельности.
Другие - отдавали предпочтение другой области.
Но и те, и другие стремились возродить
утраченное единство культуры, пытались дать картину
всего духовного мира. Констатация вполне
справедливая. Но какой выход видит Е.П. Никитин?
Для тематизации того, что духовный мир
представляет собой органичный космос, он прибегает
к тому, что он называет "концепцией
лицедейства", согласно которой человек, попадая в
различные ситуации, берет на себя роль другого,
вживается в образ каждого из миров - в мир Вселенной,
в мир общества, в мир человека (см. с. 289).
Возникают различные "лики" субъекта духовной
деятельности: в познавательной деятельности
"фрагмент всегда выступает как некий полномочный
представитель целого" (с. 290) - Вселенной, в
нормативности нравственной деятельности человек
исходит из отождествления себя со всем
человечеством или социальной группой, в постижении
разнокачественных и разноранговых "я" всегда
существует целостный образ Я - целостного
индивидуального мира личности.
Действительно, и сама философия, и духовный
мир расщепились на ряд разбегающихся миров.
Внутри философии наряду с высоко абстрактным
языком логики и методологии науки в наши дни
существуют экзистенциальный язык и способы
аналитики человеческого присутствия (встреча,
забота, бытие-в-мире, смерть, мужество быть и
т.д.). Это далеко разошедшиеся языки. Можно
вспомнить язвительную рецензию Р. Карнапа на
книгу М. Хайдеггера "Бытие и время",
свидетельствующую о том, что все этимологические изыски
Хайдеггера были встречены в штыки
представителем точной, ориентированной на язык математики
логики. А если вспомнить, что вместе с
феноменологической социологией А. Шютца в философию
проник и язык повседневности, также
претендующий на философскую значимость, то ситуация
внутри философии кажется вообще
неразрешимой, а ее целостность все более воспринимается
как мираж, или, как сказали бы современные
постмодернисты, симулякр, скрывающий волю к
власти.
Приведя цитату из Г. Гессе (с. 302) и осознавая
эту альтернативу - альтернативу между
упрощенно-идиллическим пониманием единства личности
и соответственно духовного мира, и пониманием
его единства как чистого, никогда не
реализуемого вымысла, Е.П. Никитин предлагает на выбор
несколько возможных решений - искать истину
где-то в "золотой середине", представить эту
оппозицию как движение от одного варианта к другому
и др. Главное же в том, что он настаивает на
необходимости специальных исследований единства
духовного мира и подчеркивает, что "прежде чем
давать рекомендации, как восстановить единство
духовного мира, философия должна начать с себя, с
восстановления собственного единства" (с. 304).
Уже неоднократно отмечалось, что именно
начиная со второй половины 50-х годов XX в. в
отечественной философии возникла область, в
которой сконцентрировались наиболее продуктивные
силы нового поколения и в которой были найдены
оригинальные решения, сопоставимые с
зарубежными исследованиями. Это область гносеологии и
методологии науки. Приведу слова самого Е.П.
Никитина: "Во второй половине 50-х годов начался
процесс известного оживления, если угодно,
первой перестройки нашей философии. Однако он
шел весьма неравномерно... В общем и целом
процесс был тем активнее, чем "спокойнее",
удаленнее от насущных нужд человека оказывалась
дисциплина. Так и вышло, что наибольшее развитие в
это время получают гносеология и методология
науки. Стало даже казаться, что философия
только ими живет и чуть не только из них состоит"
(с. 172-173). Е.П. Никитин и сформировался в
этом кругу идей. Его исследования были
посвящены проблемам теории познания и методологии
науки. В последние десятилетия своей жизни он
обратился не только к общегносеологическим
вопросам (соотношение методологии и гносеологии
науки с общей гносеологией, связь гносеологии с
онтологией), но и к экзистенциальным проблемам
(самоутверждение человека).
177
С Евгением Петровичем Никитиным я
познакомился еще на философском факультете МГУ -
мы оказались вместе на колхозных работах
(чистили коровник). На своей последней изданной при
жизни книге, написанной совместно с дочерью , он
оставил такую надпись: "Саше! В память о
совместных подвигах на навозных фронтах (всех - и
колхозных, и институтских, и прочих). 18.4.2000".
До его смерти оставалось чуть больше года. Мне
показалось странным, что он - известный
методолог науки, плодотворно занимавшийся
проблемами объяснения, вдруг стал исследовать то, что для
меня было проблемой индивидуальной
психологии, прежде всего А. Адлера, не более. Между тем
для Е.П. Никитина феномен самоутверждения -
это одно из фундаментальнейших явлений
человеческого бытия.
То, что эта тема была необычна для
российского сознания, мне было ясно. Действительно, в
официальной советской идеологии этот феномен
человеческого существования, если и допускался,
то как феномен "буржуазного индивидуализма".
Это неприятие самоутверждения вообще
характерно для русского сознания, подавленного
идеологией самодержавное™ и соборности (в
различных одеяниях - от имперского самодержавия и
православной соборности до тоталитарной
вертикали власти и коллективизма). Ведь в русском
языке само это слово весьма позднее. Оно не
попало ни в один из известных мне словарей. Его нет
ни в "Толковом словаре" Вл. Даля, ни в "Истори-
ко-этимологическом словаре" П.Я. Черных, ни в
"Этимологическом словаре русского языка"
М. Фассмера. В словарях можно встретить такие
слова, как "самозванство", "самооговор",
"самодур", появилось даже слово "самосознание", но нет
слова "самоутверждение". Прошли мимо этого
феномена и русские мыслители даже персоналист-
ского толка (за исключением И.А. Ильина,
который усматривал в духовном самоутверждении
источник собственного духовного достоинства человека и
анализировал "недуги самоутверждения").
Официальная советская философия вообще прошла
мимо этого феномена человеческого бытия, а
советская психология, хотя и исходила из принципа
деятельности (действия), однако не искала источники
активности в личности, редуцировав сознание и
мотивы к интериоризации социальных норм и ре-
гулятивов деятельности.
Историю проблемы самоутверждения
личности Е.П. Никитин рассматривает как эволюцию от
религиозной интерпретации к метафизической и
от нее к научному объяснению. Переход от
теологического и позднее метафизического этапа к
научно-теоретическому трактуется Е.П. Никитиным
не как последовательная смена типов мышления, а
как смена идеалов, относящихся к весьма
удаленным друг от друга сферам духа, как развертывание
способов изучения той или иной совокупности
проблем или одной проблемы. В этом отношении
Никитин Е.П., Харламенкова Н.Е. Феномен
человеческого самоутверждения. СПб.: "Алетейя",
2000.217 с.
показательна новая интерпретация
схематизирующего историзма О. Конта2.
Смена способов постановки и решения
проблемы фиксируется им и при анализе форм
обсуждения проблемы самоутверждения человека.
Метафизический этап в обсуждении этой проблемы
начинается с кантовского понимания свободы
воли, абсолютного достоинства личности, ее
автономности. Второй шаг в метафизической
постановке этой проблемы - пессимизм А.
Шопенгауэра, открывшего иррациональность воли. Новая
интерпретация пессимизма Шопенгауэра,
предложенная Е.П. Никитиным, заключается в
обоснованной им идее о том, что исходным, первичным
оказывается учение о человеческой воле, а учение
о мировой воле - производным, вторичным,
порождаемым им. Такого рода различение
основывается на вычленении двух частей его системы -
статической и динамической структур,
констатирующей и предписывающей частей системы.
Констатирующая часть системы - монотонно
пессимистическая. Предписывающая часть коренится в
феномене сострадания и выдвигает принцип:
"Никому не навреди, напротив, помогай всем,
насколько сможешь" (с. 342). Демистификацию этой
проблемы Е.П. Никитин, как это ни парадоксально,
связывает с философией Ф. Ницше, который
отождествил самоутверждение с волей к власти. Надо
сказать, что и теологический подход к проблеме
самоутверждения человека отнюдь не исчез в
наши дни: Е.П. Никитин ссылается (с. 404) на
принципиально иную классификацию видов
самоутверждения, развитую П. Тиллихом в работе
"Мужество быть" - мужество-быть-самим-собой и
мужество-быть-частью (Тиллих П. Мужество
быть... // Символ. Париж. 1992. № 28, с. 7-123).
Новый этап в развитии проблемы
самоутверждения человека - ее научная теоретизация.
Теоретическое объяснение феномена человеческого
самоутверждения представлено прежде всего в
концепции А. Адлера, которая, по словам Е.П.
Никитина, "была логически стройной, единой
теоретической конструкцией ... и учитывала все
многообразие реально существующих и подчас столь
непохожих друг на друга видов самоутверждения"
(с. 354). Психология и социальная психология XX в.,
начиная с А. Адлера и К. Левина, сделала
проблему самоутверждения человека не только
центральной, но и были найдены способы ее
метризации и операционализации. Уровень притязаний
личности - вот тот поворот этой проблемы у К. Левина
и его школы, где проводились широкие
экспериментально-измерительные исследования жизненного
пространства, напряжений (фрустраций),
замещений реального действия нереальным, деформаций
в мотивационной сфере личности и т.д. Если бихе-
виористы отождествили этот феномен с
уверенностью в себе, то представители гуманистической
психологии (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс)
2 Никитин Е.П., Никитина AT. О системе
идеалов (на примере схематизирующего
историзма О. Конта) // Идеал, утопия и критическая
рефлексия. М., 1996. С. 85-103.
178
исходили в своей трактовке личности из мотивации
на успех, самоактуализации, самораскрытии Я. В
конечном итоге в зарубежной психологии были
найдены методики измерения уровня притязаний
личности (одна из них рассмотрена в книге - с. 398-
399, по аналогии с которой соавтором Е.П.
Никитина была построена оригинальная методика). Были
выделены пять факторов самоутверждения -
утверждение в ситуации с неопределенной ролевой
идентификацией, утверждение в ситуации с
определенной ролевой идентификацией,
инициативность в профессиональной деятельности, отрицание
сдержанности в проявлении чувств, проявление
отрицательных эмоций и чувств. Проведен опрос на
российской выборке в 240 человек, и осуществлен
факторный анализ результатов исследования. Как
мы видим, философский анализ этого феномена
человеческого бытия завершился эмпирическим
социально-психологическим исследованием. Мне
хотелось бы обратить внимание на этот сплав
философских инноваций с поисками эмпирических
методик и реализации их в конкретных
исследованиях, что является весьма редким в нашей
литературе. Предварением этого сплава был тщательный
разбор всех понятий и терминов, которые могут и
должны использоваться при анализе
самоутверждения человека: субъект самоутверждения,
самооценка, самоотрицание, псевдосамоотрицание,
пространственные и энергетические характеристики
самоутверждения (общий и ситуационный импульсы к
самоутверждению, потенциал самоутверждения,
дефицит самоутверждения). Более того, для того
чтобы one рационализировать самоутверждение как мо-
тивационную сферу человеческого бытия, Е.П.
Никитин осуществил типологию самоутверждений
(по их целенаправленности - самоцельные,
целенаправленные, нецеленаправленные, по их
средствам - внешние и внутренние, по их результатам -
инклюзивные, состязательные и личностные, по
механизмам - путем отрицания другого, путем
самоопределения). Этот кропотливый и тщательный
разбор всех понятий, необходимых для изучения
различных типов самоутверждения, потребовался Е.П.
Никитину для того, чтобы построить разветвленное
дерево проблем, так или иначе связанных с проблемой
самоутверждения: 1) в чем состоят функции и
дисфункции акта самоутверждения, 2) из каких более
простых актов он построен, 3) каковы связи и
отношения между компонентами, объединяемыми в
целое, 4) образуют ли эти компоненты связные
совокупности - гомогенные системы, 5) могут ли
компоненты самоутверждения быть элементами
гетерогенных систем? (см. с. 380-381). Искомое
теоретическое объяснение самоутверждения может быть
построено с помощью различных методов -
функционального, субстанциального, структурного и
(гомогенно- и гетерогенно-) системного.
Такого рода вычленение ветвящихся проблем
могло быть осуществлено лишь потому, что до
этого Е.П. Никитин в книге "Объяснение -
функция науки" (М., 1970) детально описал и впервые в
нашей литературе проанализировал типы
объяснений (по характеру соотношения эксплананса и
эвпланандума - объяснение через собственный
закон, модельные объяснения, по характеру
эксплананса - субстанциальные и атрибутивные
объяснения, генетические, контрагенетические,
структурные объяснения, по характеру экспланандума -
фактологические, номологические, теориологичес-
кие объяснения). Позднее - в 1981 г. в книге
"Природа обоснования" он провел различие между
объяснением и обоснованием и предложил
субстратный анализ этой процедуры научного знания, а в
1988 г. в книге "Открытие и обоснование"
сопоставил процедуры открытия и обоснования. Каковы
же достижения Е.П. Никитина в методологии
науки? Известно, что в методологии науки XX в.
признанной оказалась гипотетико-дедуктивная
концепция научного знания, в которой делался акцент на
эмпирической интерпретации теоретических
терминов и вообще не учитывалась возможность их
интерпретации с помощью теоретических моделей.
Этот подход и был реализован в первой книге,
написанной В.П. Никитиным в соавторстве с Б.А.
Глинским, Б.С. Грязно вы м и Б.С. Дыниным и
посвященной многообразным функциям моделирования. При
изучении объяснения как функции науки этот
подход получил свое продолжение: в противовес номо-
логической концепции объяснения К. Гемпеля,
согласно которой объяснение эмпирического факта -
это подведение его под общий закон, Е.П. Никитин
раскрыл многообразие форм объяснения и их
зависимость от тех моделей, которые используются в
научном знании. Он связал объяснение не только с
предсказанием, но и с тем, что он назвал ретросказа-
нием, т.е. с процедурой "предсказания" событий уже
свершившихся, но не известных исследователям.
Узкая трактовка обоснования знания в позитивизме
как поиска эмпирического уровня знания,
обеспечивающего его верификацию, и сменивший его
антифундаментализм, присущий постпозитивизму, задал
перспективу исследования Е.П. Никитиным
проблематики обоснования знания. Эта процедура для него
не поиск некоего неизменного фундамента знания, а
конструктивная универсальная процедура, которая
является разновидностью открытия, ее сфера -
область субъективной деятельности человека и
предполагает установление связи между двумя
идеальными объектами, выбор одного из них в качестве
основания, а другого в качестве обосновываемого, и
отображение одних компонентов знания в других
(причем и сами компоненты, и их отображение
могут изменяться в ходе развития науки). Существенно
и то, что процедура обоснования была понята как
универсальная и относящаяся к различным сферам
культурной деятельности и их взаимным
отображениям.
Методологический багаж, наработанный Е.П.
Никитиным и ставший неотъемлемой частью
отечественной методологии науки, стал его собственным
инструментарием в тонком и скрупулезном анализе
феномена человеческого самоутверждения -
феномена не только экзистенциального опыта человека,
но и его собственного бытия. Логическая культура
мысли всегда отличала работы Е.П. Никитина, а в
последней книге филигранная разработка техник
мышления нашла свое приложение в изучении
совокупности экзистенциальных проблем, казалось
бы не поддающихся концептуальному анализу. Сам
Евгений Петрович, говоря о работах своего друга -
H.H. Трубникова, заметил: "Применение
логических средств нельзя представлять себе как простой
179
технологический процесс, в котором готовые
логические шаблоны легко и эффективно
накладываются на тот или иной материал, независимо от
содержания и характера этого материала.
Напротив, его применение, как правило, является
сложным и подлинно творческим актом. Оно
предполагает определенную подготовку исследуемого
материала, приведение его в соответствие с
некоторыми абстракциями, допущениями.
Конкретно эта подготовка состоит в выражении
познавательных феноменов с помощью однозначных
терминов, высказываний, совокупностей
высказываний, т.е. таких форм, с которыми только и
может работать логик. Иными словами,
лингвистическая оформленность этих феноменов еще не
гарантирует возможности анализа их средствами
логики" (с. 267).
В последние годы рано оборвавшейся жизни
он начал исследовать новый круг проблем
методологии науки и гносеологии - идеология и
методология, эмпиризм и экспериментализм как
разновидности методологии науки, принцип
рациональности и формы спецрациональности, политика как
область спецрациональности, приводящей к
парадоксам имморализма, выводящего политику из-
под контроля нравственности. В этом отношении
показательно его обращение к анализу "Государя"
Н. Макиавелли. Его поворот к новому кругу
проблем только-только начался. Он не успел его
завершить, но успел наметить новые пути
исследований актуальных политико-идеологических и
экзистенциальных проблем. И пути весьма и весьма
перспективные, в которых наработанный им в
гносеологии и методологии науки инструментарий
находил свое применение и конкретизацию. Именно
этот инструментарий позволил ему перевести этот
круг проблем на прозрачный и методологически
ясный язык гносеологии и методологии, отказаться
от экстравагантной и многосмысленной
"псевдотерминологии", присущей экзистенциализму и
философской антропологии, по-новому тематизиро-
вать его и найти в каждой проблеме новые
аспекты. Нередко предложенные им решения казались
парадоксальными, но после размышления над
выдвинутыми им аргументами его способ решения
Кажется, с какой бы стати сейчас писать о
большевизме? Он уничтожен, его восстановление
невероятно: к власти в России пришли люди, для
которых большевистская (а шире, коммунистическая)
идеология только помеха, ее место занимает ныне
православие. Большевизм уходит, а то и ушел, в
историю и стал, или вот-вот станет, объектом
академического интереса.
Однако под пером Н.В. Устрялова (1890-1937)
этот ушедший, вне всякого сомнения, феномен
отечественной жизни приобретает какую-то
пугающую актуальность.
Все необходимые сведения о жизни этого
человека содержатся в обстоятельном предисловии и
казался вполне приемлемым и, более того, вполне
разумным и обоснованным. В качестве примера
приведу анализ Е.П. Никитиным генезиса
гносеологии науки и общей гносеологии: для него
вначале возникла гносеология и методология науки, а
уже затем - во времена Д. Локка - общая
гносеология, в частности, сенсуализм и рационализм.
Этот взгляд показался странным, поскольку
ориентация на научное знание обычно связывается с
именем И. Канта, но после того, как обдумаешь
аргументы Е.П. Никитина, развернутые в статьях
"Теория познания или теория науки?
(соотношение гносеологии и науковедения)", "Сенсуализм и
рационализм", вспомнишь о философской
рефлексии о математическом знании в античности,
согласишься с его подходом и его расчленениями.
Несомненным достоинством данной книги
является то, что в ней собраны не только наиболее
известные статьи Е.П. Никитина, но и
воспоминания философов, работавших вместе с ним в
Институте философии РАН. Составители бережно
отнеслись к наследию Е.П. Никитина, опубликовав его
статьи, посвященные B.C. Грязнову и H.H.
Трубникову, часть из его литературного архива (его
иронические "хокку" и шаржи, афоризмы). Конечно,
можно сожалеть, что в сборник не вошли его
статьи, связанные с анализом эмпиристской
методологической программы ("Радикальный феноменализм
Э. Маха", "Нисходящий эмпиризм", "Теория и
эмпирия: проблема разграничения"), его работа о ретро-
сказании ("Метод познания прошлого").
Безусловная заслуга издателей книги - библиография работ
Е.П. Никитина. Составители смогли объединить
его разноплановые работы под общим
"космологическим" названием, представить проблемный,
интересный сборник, свидетельствующий об
актуальности предложенных им решений, о новизне осмысления
им гносеолого-методологических и
экзистенциальных проблем. Изданная книга без всяких натяжек
составляет честь и автору, и Институту философии РАН,
и ΡΓΉΦ, поддержавшего издание работ Е.П.
Никитина. Да и всей отечественной философии.
Л.П. Огурцов
комментариях к данной книге. Прибавлю, что он
принадлежал к тому поколению одаренных
русских людей конца XIX - начала XX в., благодаря
чьим трудам возникло небывалое в нашей истории
явление - Русский Ренессанс. Оно обнаружило -
при всей его культурно-исторической
закономерности и типологичности - перспективы страны, от
которых буквально захватывало дух. Февральская
революция стала одним из подтверждений этой не-
бывалости, политическим выражением надежд,
возбужденных Русским Ренессансом. По этой,
надо полагать, причине революцию поддержали
разные слои общества, хотя у каждого были, конечно,
свои мотивы.
Н. УСТРЯЛОВ. Национал-большевизм. М.: Эксмо. Алгоритм", 2003, 655 с. Сост.,
примеч., комментарии СМ. Сергеева.
180
Почти столь же единодушно люди Ренессанса
восприняли октябрь 1917 г. - национальная
трагедия. Устрялов уходит в белое движение, занимает
видные посты в правительстве A.B. Колчака,
после его разгрома уезжает в Харбин. Пишет
публицистические и аналитические работы, становится
одним из наиболее последовательных идеологов
сменовеховства (от названия сборника статей
"Смена вех", 1921) - возникшего в эмиграции
течения, участники которого считали большевиков
единственной силой, способной восстановить
былую мощь России. В ноябре 1921 г. Устрялов
писал: "Мы призываем русскую интеллигенцию
отказаться от политического максимализма и пойти
на службу русскому государству в его наличном
состоянии" (с. 181 рецензируемого издания).
Верный своим взглядам, Устрялов в конце
концов возвращается на родину в 1935 г. и
начинает работать с большевиками, которые в 1937 г. его
расстреляли.
Как же случилось, что человек,
безоговорочно оценивший большевистский переворот
национальной трагедией, стал сотрудничать с
большевиками, сделался (и продолжает оставаться)
подлинным теоретиком национал-большевизма, ибо
нынешнее время ничего не прибавило к его доводам?
Труды Устрялова превосходили все, что писали
сами большевистские вожди в защиту своей
доктрины, и можно сказать, он являлся большим
большевиком, чем они сами.
Мало того, будущие коммунистические
теоретики напрямую заимствовали аргументы
Устрялова (или, не зная, повторяли). Тот, к примеру,
писал: "На наших глазах формируется советская
государственная нация, а поскольку исторически и
политически "советизм" есть русская форма,
образ "российской" нации, - вывод напрашивается
сам собой..." (с. 347. Здесь и далее жирный шрифт
автора).
Немолодой читатель без труда узнает
брежневское: "Новая историческая общность людей -
советский народ".
Казалось бы, большевикам и приблизить
Устрялова, ведь он поддерживал их не из страха, а по
совести, и как поддерживал! В этом "как" все дело.
Режиму были нужны не единомышленники, а не-
рассуждающие исполнители, которые не задают
вопросов, а делают, что велено, как бы
сегодняшние повеления ни противоречили вчерашним.
Именно таких людей режим селекционировал -
единственная причина, объясняющая, почему за
десятилетия большевистской власти произошло
явное падение человеческого типа, примитивизация
массового сознания, последствия чего предстоит
испытывать еще долго.
Спустя десятилетия, когда стало известным то,
о чем Устрялов не мог знать, поражает верность
некоторых оценок, с годами только укрепившаяся.
20 марта 1920 г. он пишет: "Или советская власть
принуждена будет в экономической сфере пойти
на величайшие компромиссы, или опасность
будет угрожать уже самой основе ее бытия.
Очевидно, предстоит экономический Брест
большевизма" (с. 60).
Через год так и произошло: в марте 1921 г.
X съезд РКП(б) принял новую экономическую
политику (НЭП). Большевики пошли на компромисс,
чтобы удержать власть. Единственное, чего не
предвидел Устрялов и в чем допустил ошибку, -
НЭП оказалась передышкой, а не курсом. Тем не
менее уже после принятия НЭПа Устрялов
произнес слова, не только не потерявшие смысла и
сегодня, но все еще остающиеся задачей наших дней:
"Только в изживании, преодолении коммунизма -
залог хозяйственного возрождения государства"
(с. 147).
Он был если не первым, то среди первых,
сразу и безоговорочно признавших не
интернациональный, но сугубо национальный характер
событий 1917-1920 гг.: "Нет, ни нам, ни "народу"
невместно снимать с себя прямую ответственность за
нынешний кризис - ни за темный, ни за светлый
его лики, он - наш, он - подлинно русский, он весь
в нашей психологии - и ничего подобного не
может быть и не будет на Западе" (с. 93).
Эта оценка все еще не утратила значения, ибо
до сих пор нет внятного, убедительного
(объективного, а не идеологизированного) определения и
происшедшего в октябре 1917 г., и последующих
событий.
А это, написанное в апреле 1923 г.: "Или
Россия воистину вступает в "полноту исторического
возраста", пробуждается к жизни всемирной,
всечеловеческой, - или революционный смерч, ее
закруживший, есть не что иное, как историческое
увядание, национальная смерть" (с. 455).
Замечательно по отчетливости
формулирования, проникновению к смысловой сердцевине
явления, главное же - названная дилемма, несмотря
на 80-летнюю давность, по-прежнему
своевременна, хотя, следует честно признать, сегодня мало
найдется людей, готовых (не по конъюнктурным
расчетам или по самому заурядному недомыслию)
во всеуслышанье говорить о всемирном и
всечеловеческом призвании России. Куда больше поводов
задуматься об историческом увядании.
«...В большевизме как целостном жизненном
явлении очень много "славянофильских мотивов"»
(с. 538, 1920 г.).
Тонкие, интуитивно пронзительные
наблюдения частенько попадаются в работах Устрялова;
не удержусь еще от одного - от оценки декабризма
и декабристов. В статье, посвященной 100-летию
восстания на Сенатской площади, Устрялов писал
о Пестеле: "Он крепко отстаивал мысль, что
основные необходимые реформы нужно проводить
не через формальную процедуру "всенародного"
обсуждения и утверждения, а через диктатуру
Верховного управления". "...Пестель... - несомненный
и ярко выраженный большевик" декабризма
(с. 468, 469).
Все же требуется оговорка: Пестель говорил о
реформах, которые превратят Россию в
республику, он был революционером, и власть (диктатура)
служила ему средством. Однако чем бы его
революционность стала на деле, мы никогда не узнаем,
разве что по устряловской аналогии с
большевизмом, но тогда Пестель не революционер, а
заговорщик.
У большевиков власть сделалась целью, а
средством были рассуждения о всемирное™
коммунизма и всечеловеческом благе. Демагогии больше-
181
визма Устрялов не разглядел. Отдаю себе отчет:
легко быть "пророком назад", когда история
большевизма известна от начала и до конца. Но как раз
поэтому ошибки Устрялова, за которые он
заплатил жизнью, не теряют исторической
поучительности, и, выясняя причины его личной трагедии, не
коснемся ли чего-нибудь, относящегося в первую
очередь к нынешней России и придающего книге
какую-то страдальческую актуальность.
О причинах поддержки большевизма
Устрялов писал неоднократно, и почти всегда это
связывалось в его мысли с оценкой октябрьских
событий 1917 г. В статье "О будущей России" (октябрь,
1922) сказано: "Революция выводит Россию на
мировую авансцену. На вечереющем фоне западной
культуры "русский сфинкс" выделяется теперь
едва ли не лучом всемирной надежды". "Я не только
не считаю неминуемой рецепцию Россией
западных конституционных канонов, но верю, что в
результате текущих событий России самой удастся
создать культурно-государственный тип,
авторитетный для Запада" (с. 247, 246).
Через несколько лет он подтверждает
прежний вывод: "Советский Союз добровольно
порывает с империалистическими навыками политики
старой России и полагает в основу своей
дипломатии начала высокой международной
справедливости" (с. 32).
Сейчас не нужно доказывать, что Устрялов
ошибся. Но почему он так думал? Потому что
считал, что в "ужасном кровавом хаосе зарождались
основы нового народного самосознания и новой
государственной жизни" (с. 387).
А если так, необходимо любыми средствами
укреплять Россию как новое государство, иначе не
сбудутся всемирные надежды. В тогдашних
условиях, утверждал Устрялов, только большевики
решали эту задачу - как же не поддержать их,
невзирая на все эксцессы, хорошо известные Устрялову.
"С точки зрения русских патриотов, русский
большевизм, сумевший влить хаос революционной
весны в суровые, но четкие формы своеобразной
государственности <...>, должен считаться
полезным для данного периода фактором в истории
русского национального дела" (с. 59, 1920 г.).
Одних этих слов достаточно, чтобы понять,
почему автор вернулся на родину в 1935 г., когда
многое, даже в глазах человека тех лет,
свидетельствовало, что русская революция отнюдь не заря
новой жизни; и большевизм совсем, совсем не то,
что вообразил его национал-теоретик; и что НЭП,
в которой Устрялов находил оправдание своим
постулатам, бесследно исчезла; что, наконец, уже не
было никаких признаков, будто большевики все
еще намерены "раскрепостить труд,
заинтересовать население в труде..." (с. 369).
Не то чтобы Устрялов не замечал упомянутых
симптомов - такой ум не может не видеть. Он
лишь, в отличие от человека наших дней, иначе
расставлял исторические акценты.
Великодержавное русское государство оставалось для него
неколебимым идеалом, и он, не отворачиваясь от
преступлений этого государства, полагал, что все
окупится, и сильная Россия первая во всемирной
истории осуществит вековечные чаяния
человечества. "Ключом бьет интенсивная, бурная жизнь и
своеобразен ее размах, вся она насыщена соками
большой истории. Нужно только ощутить
перспективу и, не игнорируя частностей, помнить о
великом целом. И радость и гордость берет тогда
за Россию" (с. 562), - записывает он, посетив СССР
в 1925 г.
Отдаю должное, он не игнорировал
частностей, но целое перевешивало, и частности, без
которых нет целого, как-то блекли, может быть,
невольно для Устрялова. Это вполне объяснимо, если
отбросить возражения и безоговорочно оставаться
на его позициях: "Государство нужно...
преображающейся России не как отвлеченная самоцель, а как
средство выявления некой всемирно-исторической
истины, ныне открывающейся человечеству ярче
всего через русский народ и его крестные страдания
<...> И если было нечто символическое в русской
революционной анархии, в русском уходе от войны
и "неприятии победы", то еще более вещим
смыслом проникнута русская революционная
государственность с ее неслыханной философско-историчес-
кой программой и с ее невиданным
политико-правовым строением..." (с. 390-391).
Стоило вообразить, что большевистский
переворот открывал путь государственности с
неслыханной исторической программой, как делалось
самоочевидным: только заскорузлые ортодоксы,
пленники кабинетной логики могли уйти в сторону
или сопротивляться.
Советская и российская действительность
опровергла все чаяния Устрялова. Существовало
какое-то психологическое препятствие, мешавшее
ему разглядеть, что теория и жизнь, откуда он
черпал материал для своих понятий, разительно не
совпадают. И чем больше он открывал в
советской жизни того, что наполняло его радостью и
гордостью, тем меньше и меньше этого в ней
оставалось, сейчас же кажется, что этого никогда в ней
и не было.
Порой суждения Устрялова попросту являлись
результатом веры, а не анализа, так сказать, credo
quia absurdum. Прочтем-ка: "Русский народ - народ
глубоко и стихийно государственный. В
критические моменты своей истории он неизменно
обнаруживал государственную находчивость и
организаторский разум. Проявлял несокрушимую упорис-
тость, умел выдвигать подходящих людей и выходил
из исторических бурь, на первый взгляд,
губительных, здоровым и окрепшим" (с. 390).
Хочется спросить, сохраняя пафос и
стилистику автора, а почему такой народ доводил свою
историю до критических моментов, из которых
только на первый взгляд выходил здоровым и
окрепшим? Почему в некритическое, обычное время
его находчивость и разум бездействовали? Умел
выдвигать подходящих людей? Ну и ну, а сколько
среди его высших руководителей, и до и после
октября 1917г., было неподходящих, кто-нибудь
считал, и поддается ли это счету? Да и кого считать
подходящим? Нельзя ли взглянуть иначе: как раз с
подходящими не везло, в противном случае надо
признать, что многие и многие, ни на что не
годные, и были подходящими.
Возражать здесь можно без конца и без
какого-либо результата, поскольку аргументы
Устрялова носят, повторяю, вероисповедный характер.
182
Между тем подлинность исторических суждений
подтверждается/опровергается самой историей, и
тут надо с огорчением признать: ни один из
долгосрочных прогнозов Устрялова, ни его
историософские грезы, так напоминающие мысль
славянофилов, не оправдались. Они все опрокинуты
действительностью, которой, правда, Устрялов уже не мог
наблюдать, хотя началось и развивалось все еще
при его жизни.
Основная причина роковых (для личной
судьбы Н.В. Устрялова) ошибок состоит в том, что он
не разглядел истинного лица русской
государственности, неизменного столетиями, будь то Иван
IV, Петр I, Ленин, Сталин или Хрущев с
Брежневым. Сильное государство в России - всегда
тотальное, в противном случае анархия, хаос, ибо
нет никаких иных механизмов управления, кроме
государственных. И то, и другое оборачивается
неисчислимыми несчастьями. Но есть еще один
вариант сильной государственности, всегда,
впрочем, подавляемый в России, его Устрялов даже не
рассматривает - местное самоуправление. С одной
стороны, оно - надежное препятствие хаосу, с
другой - столь же надежная преграда
государственному абсолютизму и произволу. Средство это
проверено историей и современностью западных стран,
а некоторые русские исследователи полагали, что
и в России существовал подобный тип
взаимоотношений центра и мест, пока не был уничтожен
Иваном IV. Известный историк А.П. Щапов говорил в
1860 г. на вступительной лекции в Казанском
университете: "У нас доселе господствовала в
изложении русской истории идея централизации <...> а в
общинных летописях раздается самый
энергический протест, вопль областных жителей против
насилия москвичей, против централизации, против
собирания русской земли. Так, областной элемент
был самым жизненным... началом, главным
мотивом исторического движения до централизации..."1
В небольшой рецензии нет возможности
говорить о деталях проблемы "центр-места", но ее
следует обозначить, чтобы понять причины
несбывшихся прогнозов Устрялова: в любую эпоху -
прошлую, настоящую, грядущую - централизованное
русское государство без местного самоуправления
- единственная преграда историческому развитию
страны.
И вновь обращаю внимание на характерную
черту мышления Устрялова: от многого в
отечественной действительности, что противоречит его
суждениям, он не отворачивался и всегда
корректировал мысль жизнью. Однако последнее слово у
него всегда оставалось за мыслью - вот в чем беда.
"...Присмотришься кругом, - и вдруг начинает
мерещиться, что этот новый мир целиком из старого
материала, что plus ça change - plus ça reste la même
chose...[чем больше это меняется, тем больше
остается тем же]. Но и это, конечно, неверно"
(с. 563).
Отчего же неверно? Может быть, как раз
новизна этого мира померещилась? Во всяком слу-
1 Цит. по: Маджаров A.C. Афанасий Щапов.
Иркутск. 1992. С. 237, 238. - Курсив Щапова.
чае, варианты равны, почему же столь жестко
предпочитать один? Потому что он соответствует
устряловской вере во всемирное призвание России.
Только что цитированное замечание содержит
смысл, который автор поторопился отбросить
(слова о новом мире из старого материала):
большевистский переворот - рецидив старой России,
"новое самодержавие", но не династическое (то
рухнуло), а партийно-идеологическое, так сказать,
"партодержавие" - неудивительно, что Устрялов
нашел родство между большевиками и
славянофилами, хотя следовало бы указать и разницу.
Славянофилы были людьми убеждения, для
большевиков, если брать их эволюцию, идея всегда была
только средством власти.
С этой точки зрения октябрь 1917 г. не
великая революция, как характеризует Устрялов, а
переворот. От такого различия в оценке прошлого
зависит, странно ли, нет ли, определение
нынешнего пути страны.
Сегодня те события видятся, конечно, с
отчетливостью, какой, скорее всего, не было у
современников, хотя и тогда находились люди,
безошибочно оценившие происшедшее. Все же это можно
классифицировать как разные мнения: многое
оставалось предположительным, на всякое "нет"
находилось свое "да". Однако к 1935 г. - моменту
возвращения Устрялова на родину - тенденции
обозначились бесповоротно, чего стоит
коллективизация, вернувшая в деревню крепостничество,
на сей раз крепостником сделалось государство.
Можно лишь гадать, отчего Устрялов не
прислушался к такой критике собственных взглядов.
Чем же отличается революция от переворота?
Революция открывает в перспективе новый путь,
так было в английской революции 1640 г., во
французской 1789. С последней любили
сравнивать переворот 1917 г. - ничего общего, разве что
террор, да и то: во Франции он длился месяцы, в
России - десятилетия.
Переворот меняет власть и оставляет по
существу неизменным прежний порядок, что и
произошло в октябре 1917 г.: сохранилось неравенство,
насилие, подавление политических и гражданских
свобод - все, свойственное векам самодержавия
(по этим причинам рухнувшего за несколько дней).
Если же сохранять понятие революции при
характеристике октябрьских событий, то они являются
одним из исторических примеров
контрреволюции, ибо после революции Февральской перед
Россией открывался путь демократического развития
- во всех отношениях новый для нее. Октябрь же
вернул страну в старые колеи.
Этого не увидел Устрялов, ослепленный, по
моему разумению, идеей великодержавия, хотя,
повторяю, у него немало наблюдений,
свидетельствующих, что он думал о неблагоприятных
исторических последствиях Октября. В статье 1921 г.
"Над бездной" сказано: "Ближайшие месяцы,
вероятно, принесут ответ на мучительный для
всякого русского человека основной вопрос
современности: ужелн суждено России ее воистину великую
революцию купить у Духа истории лишь
страшною ценою национального обмельчания и
государственного распада?" (с. 134).
183
Значит, допускал "обмельчание и распад" - не
по этой ли причине выбрал "русскую
государственность... с ее невиданным политико-правовым
строением"? Оказалось, ничего невиданного, а
давно известное из истории и теории
абсолютистского государства, только лишь с чертами
национального своеобразия, причем именно те
признаки, которые вызывали в Устрялове надежду на
будущее России, и в первую очередь большевизм,
были этим же большевизмом задушены.
Что ж, большевизм умер и не воскреснет.
Однако до сих пор очень сильна идея, что целью
народа является сильное государство; что ее
достижение невозможно без неограниченной власти
центра. Не в последнюю очередь поэтому в совре-
Изгнанные или бежавшие из советской России
философы оказались в Западной Европе. Разброс
по странам оказался невероятным: тут и
Чехословакия, и Югославия, и Болгария (Бицилли), и
Германия, и Франция, и Англия, позднее многие
эмигрировали еще дальше - в США (Сорокин,
Федотов). Но две страны стали надолго подлинным
прибежищем беглецов - Германия и Франция.
Правда, с 1933 г. немецкое убежище стало больше
походить на ловушку, но Франция еще держалась.
Многие уехали дальше, а иным бежать уже не
было сил. Так Степун остался в Германии, а Койре во
Франции.
Конечно, Франция все же была самым
главным местом приложения духовных сил русской
эмиграции. Даже живший в Германии Степун
печатал свои тексты в парижских эмигрантских
журналах. Но для некоторых эмигрантов Франция и
вправду стала Родиной. Александр Владимирович
Койранский (во Франции - Койре, 1892-1964)
даже воевал в Первую мировую на французской
стороне, а потому, покинув в 1919 г. Россию, он в 1922 г.
получил французское гражданство. При этом
любопытно, что прошел он, как и многие другие
русские философы, немецкую философскую школу.
Он был последовательным учеником Гуссерля,
которого прочитал еще в тюрьме, после чего решил
бросить революцию и заняться философией. Хотя
он пару лет слушал французских философов, в
том числе Бергсона, феноменология все же
навсегда осталась основным методом мышления для
Койре. Прославился он при этом как мыслитель,
сумевший прочитать историю науки в контексте
религиозной культуры. Однако в книге о начале
русской философии, о любомудрах и
государственных чиновниках вроде Магницкого и Уварова,
пытавшихся построить национальную духовность,
он решал совсем другую задачу.
Надо сказать, что перед Октябрьской
революцией просыпается у русских философов вкус и
интерес к своим истокам. Вслед за историей России,
историей русской литературы возникает как некая
менной России уничтожено местное
самоуправление, едва успевшее поднять голову в начале 90-х
гг., а то, что им называют сейчас, правильнее
именовать местным самоуправством. Так было и
будет всегда, если стремиться к абсолютизации
центральной власти, к великодержавию - идеологии
этого абсолюта.
Между тем подобная форма правления давно
исчерпала все свои ресурсы. Она рухнула и в
феврале 1917 г., и - в новой, коммунистической,
модификации - в декабре 1993.
Национал-большевистское мученичество Н.В. Устрялова - весьма
своевременное свидетельство тупика великодержавия,
его идеологии, а главное, практики.
В.И. Мильдон
проблема и история русской философии. Бердяев
пишет книгу о Хомякове, Эрн о Сковороде, Гер-
шензон о Чаадаеве, Е. Трубецкой о Вл. Соловьеве.
Впрочем, Соловьев был фигурой близкой, и книги
о нем говорили, что впервые современника
оценили как фигуру исторического масштаба. Весьма
интересны статьи неозападника Степуна о раннем
славянофильстве, в котором он видел подлинное
начало русского философствования. Вообще на
определенном духовном уровне разница в
общественно-культурной позиции никогда не мешала
благородству в оценках противников. В статье 1913 г.
Степун писал: "Преимущество славянофильства
заключается в его органичности. Философски <...>
беспомощное и зависящее прежде всего от идей
немецкого романтизма, славянофильство, со стороны
личного переживания своих творцов и защитников,
опиралось на самое существенное, чем создавалась
духовная Россия - на внутренний опыт всего
русского народа. Психологически философия
славянофильства так же тесно связана с православием,
как Платон с орфиками и Кант с
протестантизмом"1. Столь же широк и благороден, как увидим,
был западник Койре. Но ему пришлось решать
другую проблему. Ведь в одночасье философия
была из страны вдруг изгнана. И вставал вопрос: а
насколько философия вообще была органична для
России, не есть ли это заморский и привозной
продукт, быть может, не случайно власти всегда ее
притесняли.
Койре в своей книге решал задачу, которая
встала тогда перед всеми русскими философами,
эмигрировавшими и оставшимися в России. Он
пытался понять, была ли в России философия,
укоренилась ли она в этой стране, а потому имеют
ли право наследники этой традиции именовать се-
1 Степун Ф.А. Прошлое и будущее
славянофильства // Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОС-
СПЭН, 2000. С. 829.
Александр КОЙРЕ. Философия и национальная проблема в России начала XIX века.
Пер. с франц. A.M. Руткевича. М: Модест Колеров, 2003, 304 с.
184
бя философами. Конечно, философы были
гонимы весьма часто, начиная с античной Греции, но,
пожалуй, никогда не совершалась такая
грандиозная подмена свободного философствования
государственной философией. Особенно внятна эта
ситуация стала после большевистской революции
и утверждения в качестве государственной, а
потому единственной - марксистско-ленинской
философии. Несогласных с такой позицией либо
выгнали, либо уничтожили. Те же, кто не подчинился
этому бреду, какой традиции они принадлежали?
Есть ли на что опереться тем, кто продолжал
считать себя русскими философами?
Оставшийся в России Шпет, несмотря на
многие свои иллюзии, написал абсолютно
беспощадную книгу о русской философии, в его пафосе
слышится горечь публициста, обращающего
критику к современности, хотя пишет он о первых
шагах русской мысли. Койре история Шпета
показалась слишком жестокой, и, опираясь во многом на
его оценки, порой и на его материалы, Койре дает,
тем не менее, другой взгляд, более научный, что
ли. Он был вообще весьма академичен. И эта его
книга, изданная по-французски в 1929 г., выросла из
цикла лекций, который Койре читал в 1924-25 гг.
Книгу Шпета "Очерк развития русской философии"
(М., 1922) он знал и называл "превосходным
трудом", замечая, что "Шпету можно бросить упрек
лишь в связи с его чрезмерно суровой оценкой
русских философов, да и судит он их с точки зрения,
которая никак не могла быть их собственной. Как
бы то ни было, "Очерк..." Шпета представляет
собой первый по-настоящему научный и полный
труд о первых этапах философии в России"
(с. 165). Но сам Койре при этом попытался
показать, как русская философия отстаивала себя и
выстаивала в столкновении с властью.
По справедливой мысли автора послесловия
(он же переводчик): "Историческое знание
обновляется не столько в результате открытия новых
документов, сколько из-за того, что изменилось
настоящее, поменялась перспектива историка,
задающего новые вопросы" (с. 294-295). Как она
поменялась? Как мы возникли - мыслящие люди? Это
и есть проблема книги. Именно эта задача и
позволила в значительной степени обновить взгляд на
первые шаги русской философии. Это была
проблема, вставшая после Октября, когда прервалось
трудное, но уже почти четверть века органическое
развитие философской мысли в России.
Койре сразу жестко определяет временное
начало, от которого он ведет отсчет, когда, по его
мнению, произошло зарождение философии в
России и постепенное превращение ее в русскую
философию: "История философского образования в
России, как и история философии в России (что не
равнозначно "русской философии"), восходит к
началу XIX в. Философии обучали, правда, в
Славяно-Греко-Латинской академии, ее преподавали и в
Московском университете, основанном в 1755 г.
Но что это было за обучение - да и какой
философии учили! Весь научный багаж первого штатного
преподавателя кафедры философии, Н.
Поповского, сводился к переводу "Опыта о человеке" Попа,
притом с французского" (с. 56). Койре
практически вычеркивает период Киево-Могилянской
академии, где философии уделялось немалое место,
которой наследовали духовные академии XIX в.
Он рассматривает только светскую линию в
философии. В известной степени, это справедливо,
поскольку выход философской проблематики из
духовных академий в светскую жизнь (Несмелов, Та-
реев) происходит к концу XIX в.
Стоит обратить внимание на еще одну тему,
весьма важную для Койре. Русская культура до
появления в 2(КЗО-е гг. XIX в. любомудров была гал-
ломанствующей. Французские просветители,
Вольтер, Монтескье и через этот язык античная
философская классика. Но, как показал исторический
опыт, французская культура была более
политизированной, философский взлет, равный
древнегреческому, переживала в этот момент Германия.
Франция не дала России философского языка,
способного освоить новые философские структуры
мышления. Даже сразу после Карамзина, пишет
Койре, "научный и философский язык еще долгое
время находился в жалком состоянии - именно
этим, по нашему мнению, объясняется почти
полное отсутствие в ту эпоху влияния немецкой
философии, что означало одновременно и отсутствие в
России философской мысли" (с. 34). Но процесс
взаимообусловленный: философский язык возник
вместе с влиянием немецкой философии, когда
русских дворян с большей охотой стали отпускать в
спокойную Германию, нежели в по-прежнему не
очень спокойную Францию. Надо это сопоставить с
тем, что русская профессура в большинстве своем
состояла из немцев. Да и учились русские студенты
в лучших германских университетах. "В
университете, - писал, скажем, К.Д. Кавелин, - я со всем
увлечением, к какому только был способен, отдался
влиянию немецкой науки2, которая с 1835 г. стала
талантливо преподаваться целым кружком
талантливых и свежих молодых профессоров"3.
Философия в любой культуре получает шанс
на существование только при определенном
условии: когда утверждается национальное
самосознание и просыпается самосознание личности. Она
возможна только на этом пафосе. Такова была
ситуация в Античной Греции после победы над
персами. Россия как Рим усваивала чужое, вырастая
на победе над Западом. Только победив
Наполеона, русские осмелились взяться за
самостоятельную работу. И, конечно, естественным был ход к
немцам, союзникам в борьбе с Наполеоном.
Если раньше противостояние России и Запада
воспринималось как противостояние варварства и
цивилизации, то у юношей, в детстве переживших
победу над Наполеоном, настроение было иное.
"Проблема отношений с Западом виделась им в
другом свете: речь шла уже не о
противопоставлении русского варварства и европейской цивилиза-
Следует заметить, что для Кавелина всю
жизнь именно Германия представлялась
"классической страной университетской науки и жизни"
(Кавелин К.Д. Собр. соч. в 4-х томах, т. 3. Стлб.
93).
3 Там же. Т. 3. Стлб. 1083-1084.
185
ции, но об установлении отношений между
цивилизацией русской и цивилизацией Запада. Но
разве сами они не были до мозга костей пропитаны
европейской цивилизацией, разве не чувствовали
себя в Европе как дома? Разве они не были
Европейцами? Своей миссией, своей исторической
задачей они считали не перенесение западной
цивилизации в Россию, но обоснование и выражение
новой цивилизации, призванной занять почетное
место рядом с западными нациями, обогатив
новыми ценностями общую сокровищницу
человечества, - новой цивилизации, которая, будучи
наследницей европейской цивилизации, должна нести
дальше врученный ей факел. Проблема
российской цивилизации с самого начала ставилась ими
как проблема мировой цивилизации" (с. 47-48).
Соображение в известном смысле ключевое.
Российская цивилизация не антитеза, но наследница
европейской цивилизации. Но дело-то в том, что
именно с таким пафосом и начиналось русское
философствование. Здесь Койре абсолютно точен.
Излом, перелом пойдет дальше. И пойдет он по
двум направлением: 1) страх власти перед
свободой мысли, которую несла философия; 2) чувство
соперничества с западной мыслью. Россия, как и
Рим у древнегреческой мысли, много
заимствовала у мысли западноевропейской. Рим, однако,
владычествовал над Грецией, брал оттуда все по
праву победителя, не утруждая себя всякими
комплексами. Россия была сильна, недавно победила
Наполеона, но Запад был сам по себе, она сама по
себе. Поэтому интеллектуальное соперничество
волновало русские умы не меньше, чем
соперничество военное волновало государственную власть.
Глава 2 книги называется "Борьба с
философией". И первая ее фраза такова: "Увлечение
московской молодежи философией, и прежде всего
теориями немецкого идеализма, любопытным
образом совпадает с эрой преследования этих самых
теорий, когда главная задача правительства
заключалась чуть ли не в борьбе с философией и
духом философии - если не с духом как таковым"
(с. 56). Власть боялась духа свободы. Поэтому
"Голицын, Магницкий и Рунич в конечном счете
действовали не без оснований, полагая, что философия -
разрушительное начало, а потому следует либо
попытаться создать новую философию,
специально приспособленную к социально-политическому
строю России, либо, если первое окажется
невозможным, полностью упразднить преподавание
философии" (с. 59).
Койре подробно рассматривает и
рассказывает (с обильными цитатами) взгляды первых
русских профессоров философии. Начинает он с
фихтеанца, затем шеллингианца Иоганна Баптиста
Шада, бывшего католического монаха,
перешедшего в лютеранство, ставшего учеником Фихте,
который и рекомендовал его русскому
правительству для преподавания философии. За его
проповедь философской свободы, как основы
мышления, совет министров в специальной резолюции
объявил, что профессор Шад "не может быть
вовсе терпим в России". Резолюция была подписана
императором и "8 декабря 1816 г. бедный Шад в
сопровождении двух жандармов был поспешно
вывезен из Харькова и препровожден за границу
России" (с. 71).
Воистину, философия была у нас
государственным делом, и даже европеист Александр не мог
переварить ту дозу свободы и независимости,
которую несла в себе философия. Русская культура
не была еще готова к усвоению философии как
способа мышления, мышления личностного и
свободного. Впрочем, процесс этот и везде был долог.
Вспомним казнь Сократа, изгнание Анаксагора и
Спинозы, эмиграцию Декарта и Локка. Но Россия
не переваривала и привозной философии, более
того, именно потому, что она была привозной,
собственных Сократов еще не было, с тем
большим основанием отказывались от нее. Вскоре
самобытный русский мыслитель будет объявлен
сумасшедшим. Слава Богу, не казнят. В отношении к
философии, в неприятии ее сходились и
либеральные, и казенно-патриотические русские монархи.
Александр I, "Благословенный", выслал Шада,
Николай I объявил сумасшедшим Чаадаева,
Александр II подписал каторгу Чернышевского, при
Александре III был вынужден покинуть кафедру
Владимир Соловьев.
Не без иронии пишет Койре, что вирус
философии поразил не только провинциальные
университеты Харькова и Казани, он проник и в Санкт-
Петербург, где свободно преподавались столь
вредоносные учения о так называемом естественном
праве, о правах человеческого разума и пр. В
ответ "ученый комитет при главном управлении
училищ" предложил программу "целостного
православия" вместо германской метафизики.
"Требовалось найти нечто новое, даже неслыханное, -
пишет Койре. - Но где было взять его?
Сравнительно легко запретить преподавание в
университете пагубной философии; но как изгнать то, чему
не находится замены? И как найти замену, иначе
говоря, как создать философскую систему,
моральные следствия которой не оказывались бы
неприемлемыми для самодержавия? Как вообще
можно создать философию, покорную цензуре?
По самой своей сущности философия может жить
и развиваться только в условиях свободы. Но
свобода мысли, как и любая другая свобода, и даже
более других, считалась врагом" (с. 96).
Свобода философствования проникает путями,
которые не сразу улавливаются властью. Власть
может только реагировать на результат, т.е. на уже
случившийся элемент свободы. Власть опробовала
свои методы, предвещая специфику
большевистского террора в области мысли. Мысль шла
тропками странными: ведь не заглянешь в голову
профессора или студента, чтоб понять, как на него
воздействовали порой самые информативные, отнюдь
не подрывные философские идеи. Кант считался
неприемлемым: "Философия Канта официально
рассматривалась как атеистическая" (с. 58).
Шеллинг вроде бы проповедовал "философию
откровения". Но происходила любопытная подмена. Для
молодежи, увлеченной идеями романтиков и
Шеллинга, учение немецкого мыслителя стало
специфической формой религии. У архивных юношей
"метафизика по существу заменила религию,
сделалась настоящей религией. "Немецкие мудрецы"
были для молодых "любомудров" апостолами но-
186
вого Евангелия. Философия была их Богом,
Шеллинг - пророком" (с. 44). Вскоре они перебрались с
помощью немецкой метафизики к настоящему
Богу. Правда, привкус этого пути оставался в их
сочинениях, что давало некоторые основания
Флоренскому называть Хомякова "протестантом". Но
вернемся к 20-30 гг. XIX в. Нельзя не согласиться
с исследователем, что если в истории литературы
и идей в России и существует какая-то
общепринятая истина, то ею, несомненно, является
преобладающее или даже исключительное влияние
философии Шеллинга на мышление поколения 1820-х гг.
У историков этой эпохи термин "русский
шеллингианец" является самым распространенным. "Само
имя Шеллинга и его философия занимали умы,
насколько одни желали видеть в нем Учителя, а
другие - орудие Сатаны, источник самых пагубных и
опасных заблуждений" (с. 116).
Но были ли шеллингианцами профессора,
излагавшие его идеи? Койре весьма убедительно
показал, что они были простыми излагателями его
идей, приноравливающимися к запросам
университетской аудитории. И поэтому резонным выглядит
его парадоксальное, непривычное для наших
учебников заключение: "Присоединяясь к общему
согласию относительно действительности влияния
Шеллинга и признавая в Галиче, Велланском,
Давыдове и Павлове проводников этого влияния, мы
сталкиваемся со странным фактом: всякий раз,
как мы пытаемся рассмотреть этих мыслителей по
отдельности и более глубоко, мы приходим к
результату, который поначалу кажется
удивительным: ни один из них, собственно говоря, не был
шеллингианцем" (с. 117)4. Они даже, строго
говоря, не были его учениками, а лишь историками,
реагировавшими на запросы слушателей. В умах этих
слушателей и зарождалась философская свобода.
Профессоров можно было согнать с кафедры, но
довольно трудно было уследить за тем, что
творилась в головах материально независимой от
правительства дворянской молодежи.
Но почему так притягательной показалась
молодым и неподготовленным умам немецкая
философия, что они увидели в ней новое Евангелие?
Койре отвечает на это: "Мы указали на те
причины, которые, по нашему мнению, объясняют
неожиданное увлечение московской молодежи
романтической метафизикой - учениями Шеллинга, Оке-
на, Шлегеля и т.д. Они с легкостью поддавались
популяризации, поощряли философский
дилетантизм; с другой стороны, главенствующая роль в них
отводилась искусству. Молодые люди видели в них
4 Койре в примечаниях добавляет:
"Истинным шеллингианцем в собственном смысле слова
был Вл. Соловьев" (165). И это правда: Койре,
разумеется, не знал соловьевской "Софии", где
русский мыслитель писал, что миру предназначено
вместить три Завета: первый - евангельский,
второй - Шеллинга, и третий - его, Владимира
Соловьева. Очевидно, было нечто в шеллинговой
философии, что заставляло любомудров видеть в ней
новое Евангелие.
summum свободной и творческой деятельности
человеческого духа, точку его соприкосновения с
абсолютом. Вполне естественно, что философия,
которая отождествляет себя с искусством и делает
эстетику фундаментом метафизики, явилась
откровением для юных любомудров. Наконец,
философский и эстетический романтизм позволял придать
метафизическую ценность национальному началу,
дать разумное основание стремлению создать
национальное искусство, национальную литературу
и философию" (с. 185).
Именно дилетантская вера, что национальную
культуру можно создать, как произведение
искусства, что ее вообще можно и нужно строить,
родила великий пафос, задала невероятной силы энер-
гийность всему последующему жизне-и культуро-
строительству в России. Разумеется, изъяснять
свои проблемы своим языком они пока не умели,
языка не было, было только ощущение. Но
ощущение, стоившее много. Койре, по справедливому
замечанию A.M. Руткевича, "описал
возникновение поля, в котором происходило в дальнейшем
столкновение "западников" и "славянофилов" -
российских "западников" ничуть не меньше
интересовала "национальная проблема"
взаимоотношения России и Европы, они поначалу говорили
тем же языком немецкого романтизма, Шеллинга
и Гегеля" (с. 298).
Однако раньше русских любомудров к
проблеме национального философствования обратилось
русское чиновничество, хотя бы в лице графа
Уварова. Именно Уварову принадлежит та почти
удавшаяся попытка "создать философию,
покорную цензуре и самодержавию", национальную в
том смысле, чтобы она отвечала всем
предписаниям правительства. Надо сказать, что в своей
попытке он лишь "озвучивал" пожелание
самодержца, весьма внимательно отслеживавшего и
направлявшего духовную жизнь державы. Койре, правда,
пишет, что "восшествие на трон Николая I вряд ли
внесло глубокие перемены в состояние умов
российского общества. <...> Конечно, произошло
серьезное изменение государственной политики,
которое было важно и в высшей степени значимо с
точки зрения истории идей: замена политики
международной реакции, вдохновляемой Священным
Союзом, на политику национальной реакции,
связанной с желанием "возврата" к ортодоксии, идет
ли речь о православной религии или о политике.
Но на практике эта перемена была почти
неощутима" (с. 206-207).
Утверждение странное и вряд ли
справедливое. Эту перемену очень даже заметили
современники нового монарха. О торжестве грубой
солдатчины писал СМ. Соловьев, чудовищем, отнявшим
30 лет жизни, назвал Николая К.Д. Кавелин,
эпохой моровой язвы назвал тридцатилетие его
правления Герцен. Примеры можно умножать до
бесконечности, но и сам Койре говорит о реальной
смене парадигм. Ведь Священный Союз, если не
придерживаться шаблонно-ученической точки
зрения о его реакционности, был прообразом Лиги
Наций, ООН и пр. Это был всеевропейский Союз для
борьбы с теми явлениями, которые казались тогда
чем-то вроде нынешнего терроризма. Николай же
повернул русскую внешнюю политику, определяв-
187
шую всегда в России и внутреннее состояние
общества, ибо дипломаты были носителями определенного
отношения к Европе, против всяких союзов,
обособил Россию и поставил умы перед этим выбором.
На него надо было реагировать. Русская мысль и
реагировала спором трех направлений -
официальной народности, славянофильства и западничества.
Разумеется, это не было причиной возникновения
философского самосознания в России, но окраску
некую ему безусловно придало. Самое
замечательное, что свои аргументы все эти три направления
черпали в западноевропейской мысли, о чем писали
не раз, пишет об этом и Койре.
Уваров поднял тему о тесной связи
"православия, самодержавия и народности", практически
растворив православие в государственности (что
соответствовало в значительной мере истине, но
не так, как хотелось бы Уварову). Отказав
православию в самостоятельной сущности, он отчасти
спровоцировал те споры, которые до нынешних
времен длятся под названием евразийских. Койре
не мог не слышать идей евразийцев о
благотворности для Руси татарского ига. Было немало
противников этого взгляда. Койре среди них, но сама
тема его исследования не позволяла ему как
ученому академическому вступить в прямую
полемику с противоборствующими сторонами. Но он
высказывает свою точку зрения на эту проблему,
комментируя статью И.В. Киреевского
"Девятнадцатый век" из журнала "Европеец", в которой
говорилось о недостатке "классического мира" как
причине необразованности русской церкви, не
сумевшей - в отличие от западной - вовремя стать
центром, единящим Русь против
татаро-монгольского нашествия. Койре пишет: "Было бы
неверно, однако, возлагать на татарское иго
ответственность за отсутствие цивилизации в России. Сама
победа татар стала возможной только из-за
недостаточного духовного единства, поскольку в
России уделы были столь же чужды друг другу, как
совершенно независимые государства. Именно
внутренняя слабость России позволила монголам
господствовать, а эта слабость объясняется в
конечном счете тем же разъединением, тем, что
русская церковь не могла и не умела играть ту
объединяющую роль, какую церковь играла на Западе.
Победоносное в Европе, христианство было
побеждено в России" (с. 240-241).
"Побежденное в России христианство" - такой
вывод вряд ли мог ожидать граф Уваров, хотя
именно он напрашивается при последовательном
развитии его позиции. Поэтому, будучи
реальными патриотами, без официозного привкуса в этом
слове, славянофилы и западники заняли антиува-
ровскую позицию, попытавшись вернуть в Россию
так не хватавшее ей классическое наследие и
личностное восприятие и переживание христианства.
"Не надо быть верующим христианином, - писал
уже в середине XX в. Степун, - чтобы видеть, что
корни европейской культуры таятся в
христианстве с его двумя Ветхими Заветами: еврейским и
античным"5. Значит, задача была усвоить христиан-
5 Степун Ф.А. Нация и национализм //
Степун Ф.А. Сочинения. С. 942.
ство, понятое не казенно-патриотически, а как
центр стяжения всех нитей европейской культуры.
При чем усвоить очень лично, пропустив через
душу и разум. Именно этому процессу и положили
начало любомудры, о которых написал Койре.
Койре, хорошо знавший книгу Шпета и его
идею, подхваченную Федотовым и Степуном, о
вреде древнеболгарского языка, не пустившего на Русь
античную культуру, замечает, что идея о
"недостатке классического мира" в России (И. Киреевский)
возникла в самом начале российского любомудрст-
вования, когда проснулось философское
самосознание и был поставлен вопрос о месте России "в
общем порядке мира" (П. Чаадаев). Тем самым исто-
рико-метафизическая тоска Шпета, которого Койре
очень ценил и книге которого много обязан, была
поставлена в должный историко-культурный ряд.
Скажем, Койре пишет, рассуждая о позиции
Н.И. Надеждина: "Одной из бед русского
просвещения, каковой объясняется и характер русской
литературы, является незнание классической культуры.
Практически одновременно с ним (Надеждиным. -
В.К.) о важности классической культуры еще
настойчивее писали Киреевский и Чаадаев" (с. 226).
А комментируя статью Киреевского, он
высказывает и собственное понимание становления
русской культуры, очевидно корреспондируя здесь
со Шпетом, оживившим старую идею о нехватке в
России классического наследия. Эту проблему,
впрочем, понимали и Петр I, и Екатерина II, и даже
Александр I, открывший лицей, где воспитался на
античных произведениях среди скульптур Камеро-
новой галереи возрожденческий Пушкин. Койре
пишет: "Отсутствие классического наследия - вот
беда России; им объясняются все особенности ее
развития, бедность ее цивилизации. <...> Именно
классическая культура делала возможным
постоянное и органическое взаимодействие между
многочисленными народами, составлявшими Европу, что
делало всех их частями этого сверхнационального
единства. Цивилизация народа измеряется не
суммой познаний, не утонченностью и сложностью
машины, именуемой société civique (civitas,
гражданственность, Bürgertum), но лишь степенью участия
его в человеческой цивилизации в целом, тем
местом, какое он занимает в общем ходе
человеческого развития. Ибо замкнутая цивилизация вроде
китайской окажется столь же ограниченной, как
китайская: у нее не будет ни жизни, ни ценности,
поскольку будет отсутствовать прогресс; успех
здесь достижим лишь общими усилиями
человечества" (с. 238-239).
Этими словами Койре, пожалуй, стоит
закончить рецензию. В них и констатация ситуации, и путь
выхода из нее. Те из русских мыслителей, что сумели
обрести независимость от властей и собственным
усилием, как говорил Чаадаев, связать нить
"семейственного предания", встроиться в контекст
европейской философии, оказались носителями подлинного
философского сознания, доказав своим бытием, что
философия в России возможна. Разумеется, со всеми
сложностями и противоречиями, которые присущи
философии, как и любому живому явлению.
В.К. Кантор
188
I Лев Николаевич Митрохин]
Российская наука и культура понесли тяжелую утрату: 7 января 2005 г. ушел из
жизни академик РАН, доктор философских наук, профессор Лев Николаевич Митрохин -
яркий, самобытный ученый, видный общественный деятель, чуткий, отзывчивый
человек. Он принадлежал к замечательной плеяде советских философов-шестидесятников,
которые возродили отечественную философию, обогатили ее новыми идеями и
подняли на мировой уровень.
Менее двух месяцев не дожил Лев Николаевич до своего 75-летия, которое
готовились торжественно и радостно отметить и он сам, и его многочисленные коллеги,
друзья, ученики. Годы, прожитые им, это годы большой, плодотворной, но зачастую и
весьма сложной жизни.
Л.Н. Митрохин родился 1 марта 1930 г. В 1953 г. окончил философский факультет
МГУ, в 1956 г. - аспирантуру того же факультета. И с 1958 г. его судьба оказалась
связанной с Институтом философии, где он начал тогда работать. Л.Н. Митрохин
несколько раз уходил из Института: ряд лет работал в США представителем Всесоюзного
агентства по охране авторских прав, работал в Институте международного рабочего
движения. Но в итоге с 1987 г. он вновь в ИФ АН СССР. За время работы в Институте
Л.Н. Митрохин в разные годы был заместителем директора по науке, заведующим
Отделом аксиологии и философской антропологии, заведующим сектором философии
культуры и философии религии, председателем Диссертационного совета и др. Но вся
эта большая научно-организационная работа не заслоняла для него главного - его
научно-исследовательской деятельности в области философии религии и
религиоведения. Эта область философских исследований в силу ряда объективных и субъективных
моментов трудно развивалась как в Советском Союзе, так и в новой России. Эта
бездонная тема, отмечал Л.Н. Митрохин, до сих пор научно не освоена, обросла
мифологемами, желательными иллюзиями. Своими многочисленными трудами он внес
существенный вклад в ее научно-философское становление. Л.Н. Митрохин исследовал место
религии в системе культуры в сопоставлении с наукой, политикой, моралью, искусством.
Он исходил из понимания религии как особого типа экзистенциального знания, одного
из исторически закономерных способов решения фундаментальных проблем
существования и предназначения человека. Труды академика Митрохина способствовали
углубленной разработке целого ряда проблем религиоведения, получивших ныне особую
актуальность. Настало время признать, полагал Л.Н. Митрохин, что человечество
подошло к такому этапу, когда его самосознание не может ограничиваться абсолютизацией
земного опыта "овладения" природой, представлениями о разуме, духовности, свободе
как уникальных и существующих в изоляции от общих процессов во Вселенной. Речь
следует вести о серии "сумасшедших идей", бросающих вызов прежнему культу
рационализма, о признании невосполнимой ценности вненаучного и ненаучного знания.
Пока светская культура внятно и деятельно не ответит на смысложизненные
(экзистенциальные) проблемы, интимно переживаемые каждым, для значительной части
человечества вера в Бога или богов останется символом и основной надеждой на торжест-
189
во добра, на приобщенность к высшим истинам бытия, потому что, утверждал Л.Н.
Митрохин, человечество обречено на вечное стремление сомкнуть звездное небо и
категорический императив в душе.
Нетривиальные философские идеи ученого успешно сочетались с его
многообразной общественной деятельностью на постах члена Президиума Российского
философского общества, главного редактора журнала Президиума РАН "Social Sciences",
председателя Экспертного совета по философии, социологии, культурологии ВАК
Российской Федерации. Л.Н. Митрохин был давним членом редколлегии и постоянным
желанным автором журнала "Вопросы философии".
Признанием научных достижений Льва Николаевича Митрохина стало его избрание
членом-корреспондентом (1994) и академиком (2000) Российской академии наук.
По характеру своей многообразной деятельности Л.Н. Митрохин общался с очень
большим кругом людей, пользовался уважением в философском сообществе. Всегда
старался помочь своим друзьям и коллегам. Но при этом Лев Николаевич был весьма
принципиален. Умел отстаивать свои убеждения.
Мы потеряли выдающегося человека, одного из лидеров российской философской
мысли. Утрата эта невосполнима. Светлая память о Льве Николаевиче Митрохине, его
щедром таланте ученого, организатора науки, о его прекрасных человеческих
качествах навсегда сохранится в сердцах всех знавших и любивших его.
190
Наши авторы
ФЕДОТОВА - доктор философских наук, профессор, академик РАЕН, заведующая
Валентина Гавриловна сектором социальной философии Института философии РАН
СИМОНЯН - доктор социологических наук, директор Российско-Балтийского центра
Ренальд Хикарович Института социологии РАН
ОСИПОВ - академик РАН, научный руководитель Института социально-политических
Геннадий Васильевич исследований РАН
АХИЕЗЕР - доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института
Александр Самойлович народнохозяйственного прогнозирования РАН
ШУРОВСКИЙ - кандидат экономических наук
Михаил Аркадьевич
ЯКИМОВИЧ - доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Российского инсти-
Александр Клавдианович тута культурологии Министерства культуры РФ
ЮЛЕН - профессор Парижского университета Сорбонна (Франция)
Мишель
МЕРКУЛОВ - доктор философских наук, заведующий сектором эволюционной эписте-
Игорь Петрович мологии Института философии РАН
ПЕРМИНОВ - доктор философских наук, профессор кафедры философии и методологии
Василий Яковлевич науки факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова
КУРАКИН - доктор физико-математических наук, профессор, проректор
Анатолий Львович Международного славянского института им. Г.Р. Державина
ГАЙДЕНКО - член-корреспондент РАН, член редколлегии журнала "Вопросы филосо-
Пиама Павловна фии"
ГАВРЮШИН - кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института
Николай Константинович истории естествознания и техники РАН
ДУШИН - кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии
Олег Эрнестович философского факультета Санкт-Петербургского государственного
университета (Санкт-Петербург)
191
CONTENTS
V.G. FEDOTOVA. Apathy in the West and in Russia. R.KH. SIMONIAN. From National
State Unions to Regions. G.V. OSIPOV. To the 70-th Anniversary of Academician
V.S. Stepin. V.L. RABINOVICH. Nonsense as Kind of Sense. Futuristic Diptych.
A.S. AKHIEZER, M.A. SHUROVSKY. From Dialogue to Dialogisation. A.K. YAKIMOVICH.
New Time Painters. To the Description of Social-Psychological Type. M. HULIN. Are
Sensitiv Qualia a Challenge to Materialistic Consciousness Theories? LP. MERCULOV. Do Our
Cognitive Abilities Evolve? V.Ia. PERMINOV. Apriority of Mathematic. A.L. KURAKIN.
Cognition Process and World Outlook Questions in Mathematical Statistics Terms.
P.P. GAIDENKO. Postmetaphysic Philosophy as Process Philosophy. N.K. GAVRIUSHIN.
Mystical Neoellinism and "Aesthetic Church" Ideal. O.E. DUSHIN. Conscience Models:
Aquinas and V. Soloviev. K.N. LUBUTIN - 70-th Anniversary. LETTERS TO EDITORS.
SCIENTIFIC LIFE. BOOK REVIEWS.
Сдано в набор 15.12.2004. Подписано к печати 03.02.2005 Формат 70 х 10θ'/ι6
Офсетная печать Усл.-печ.л. 15,6 Усл.-кр. отт. 61,1 тыс. Уч.-изд.л. 18,9 Бум. л. 6,0
Тираж 3861 экз. Зак. 9090
Свидетельство о регистрации № 011086 от 26 января 1993 г.
в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители:
Российская академия наук, Президиум РАН
Адрес издателя: 117997 Москва, Профсоюзная, 90
Адрес редакции: 119991 Москва. ГСП-1, Мароновский пер., 26
Телефон 230-79-56
Оригинал-макет подготовлен МАИК "Наука/Интерпериодика"
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099 Москва, Шубинский пер., 6
192
АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ!
Готовится к печати первый выпуск нового ежегодного альманаха
"Вестник истории, литературы и искусства". В составе редакционного совета
известные российские историки, филологи, искусствоведы: академики -
В.Л Янин, Г.М. Бонгард-Левин, М.Л. Гаспаров, Д.В. Сарабьянов, H.H.
Покровский, А.Б. Куделин, член-корреспондент М.Б. Пиотровский и другие. Свою
задачу авторы этого междисциплинарного издания видят в попытке
преодолеть «цеховые» барьеры между гуманитарными науками. Новый альманах
будет отличаться комплексным подходом к изучению общественной жизни
и культуры, соединяя воедино статьи по социальной и политической
истории, истории философии и общественной мысли, литературоведению,
истории искусств: живописи, архитектуры, театра, кино и др. На страницах
альманаха будут публиковаться архивные и музейные материалы.
В первый выпуск войдут статьи об уникальных археологических
открытиях на Тамани, роли рукописных книг в истории русской культуры,
особенностях китайской поэзии и взаимовлиянии русского и японского искусства.
Предполагается публикация дневников российских императриц Елизаветы
Петровны и Марии Федоровны, новых материалов о творчестве Бодлера,
Гоголя, Пастернака, Мандельштама, Стравинского, по истории русского и
зарубежного театра, живописи и литературы.
Альманах рассчитан на специалистов, знатоков и любителей русской и
зарубежной культуры.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: Москва, 119334,
Ленинский проспект, 32А. Телефон (095) 938-52-28, факс 938-19-12, электронный
адрес vdi@igh.ru