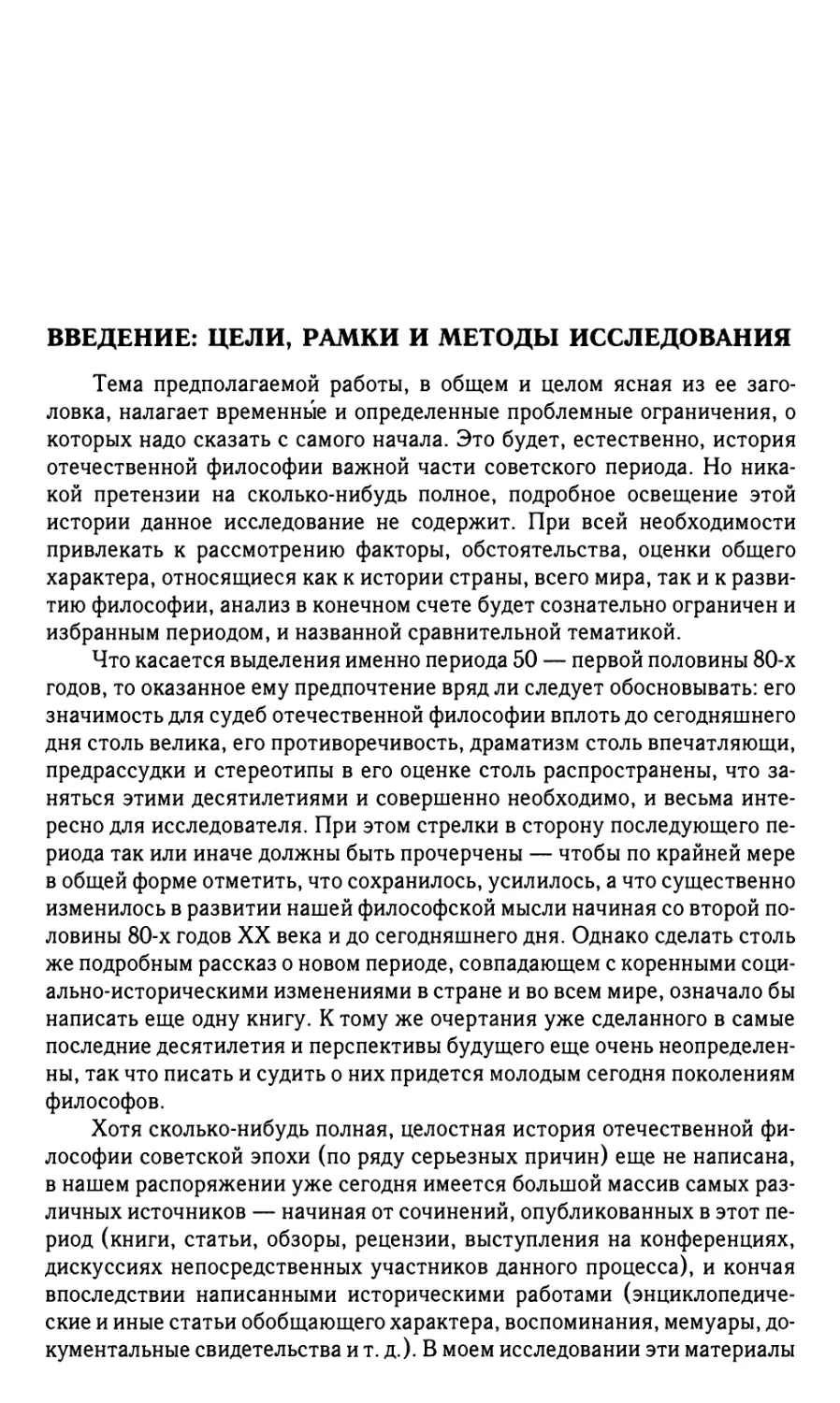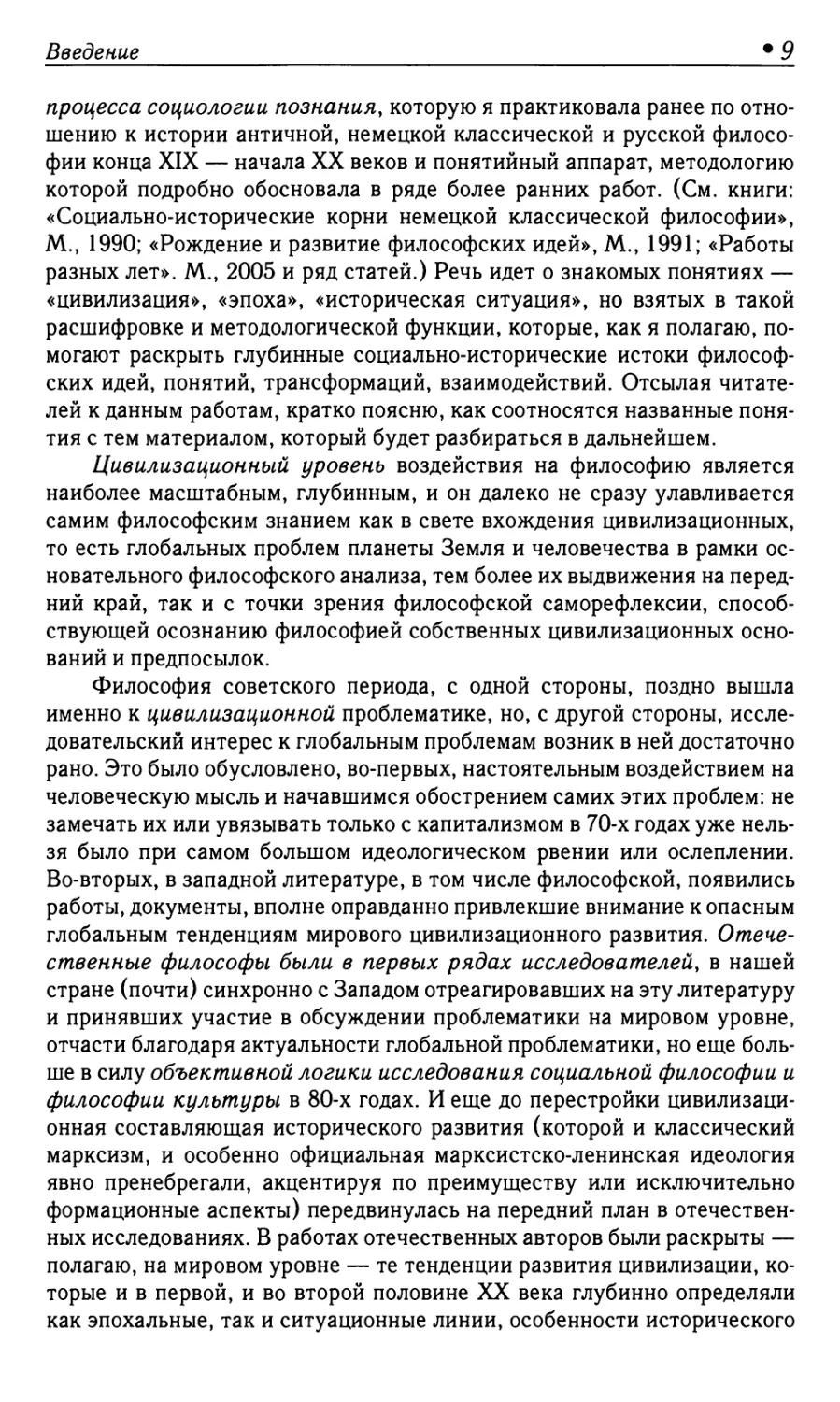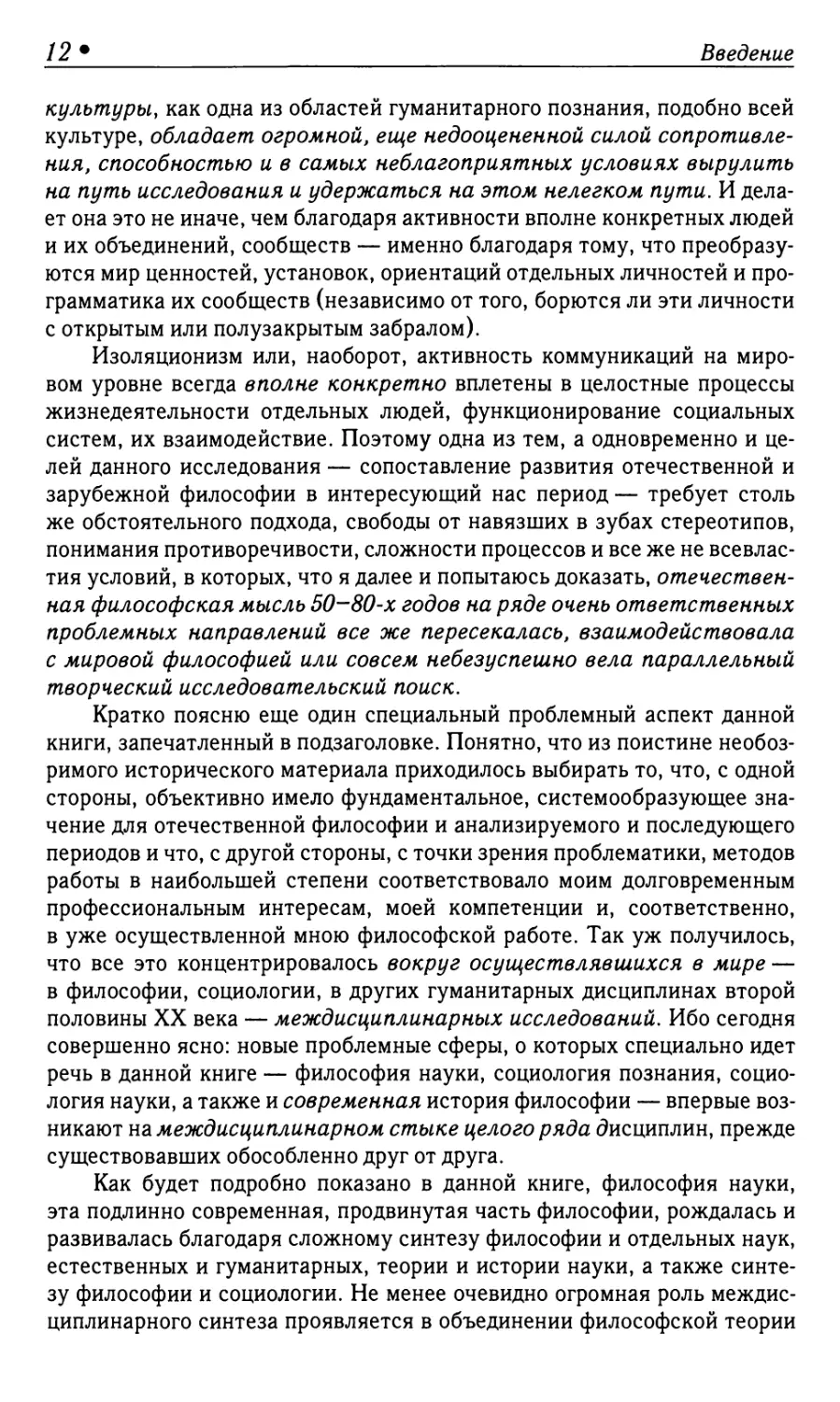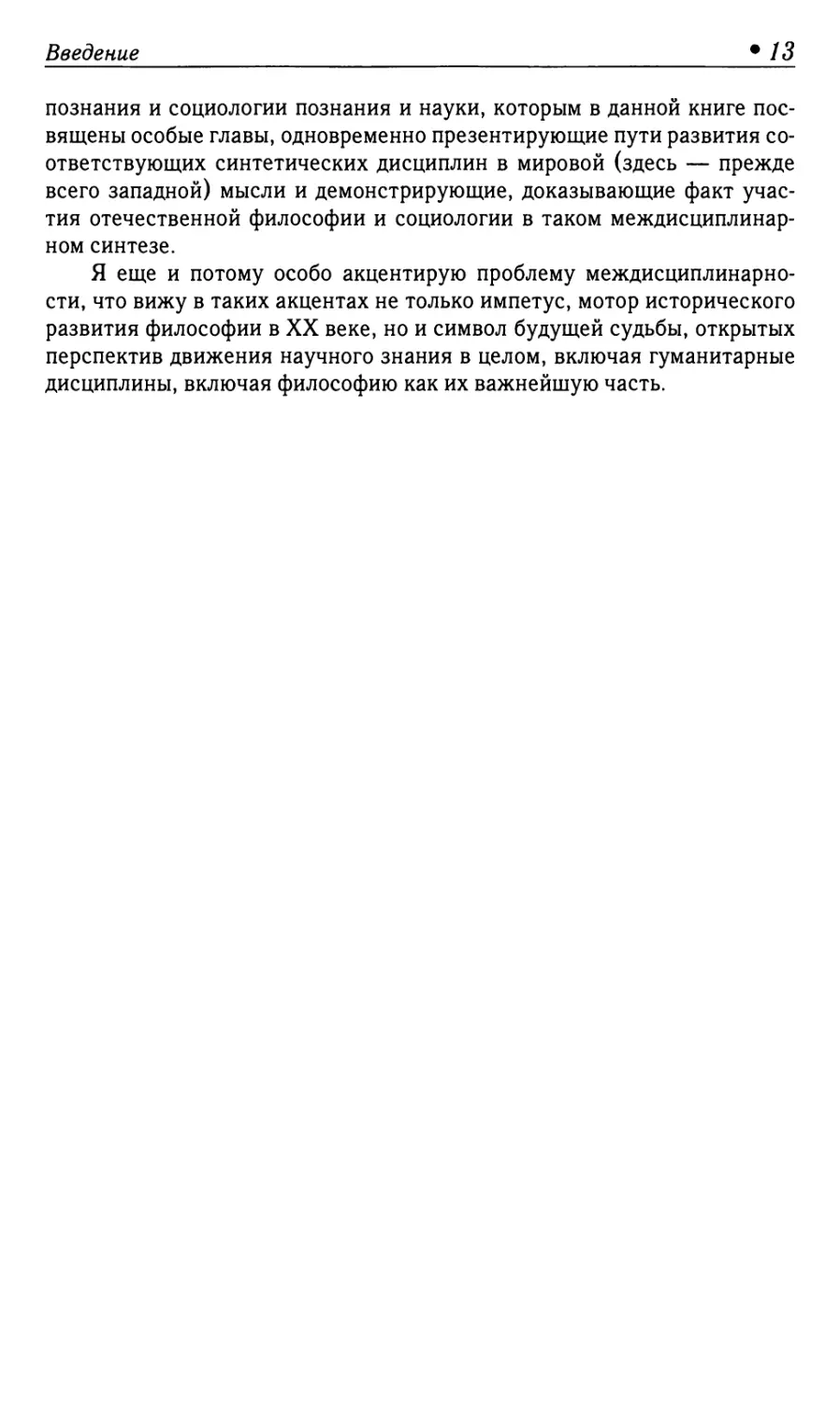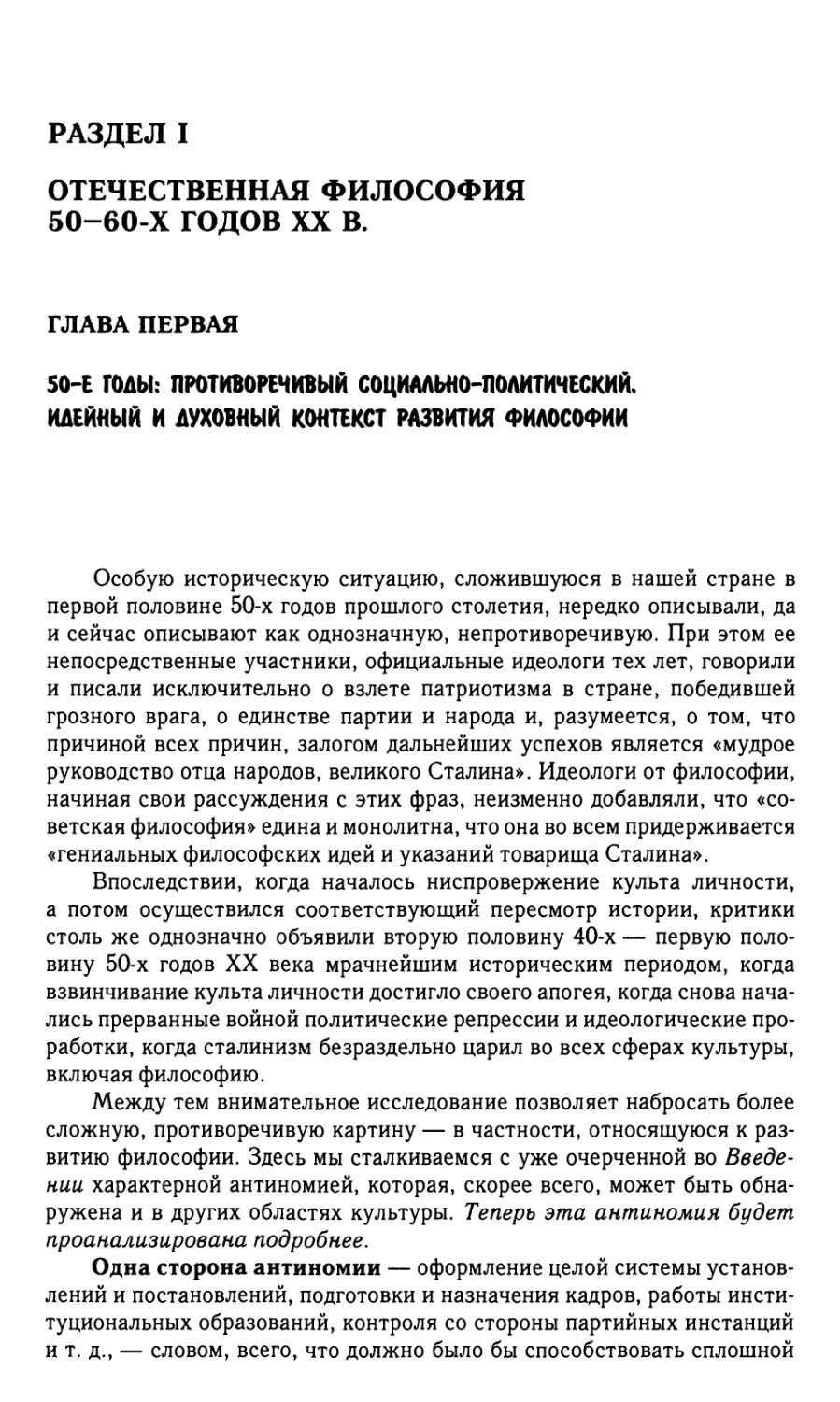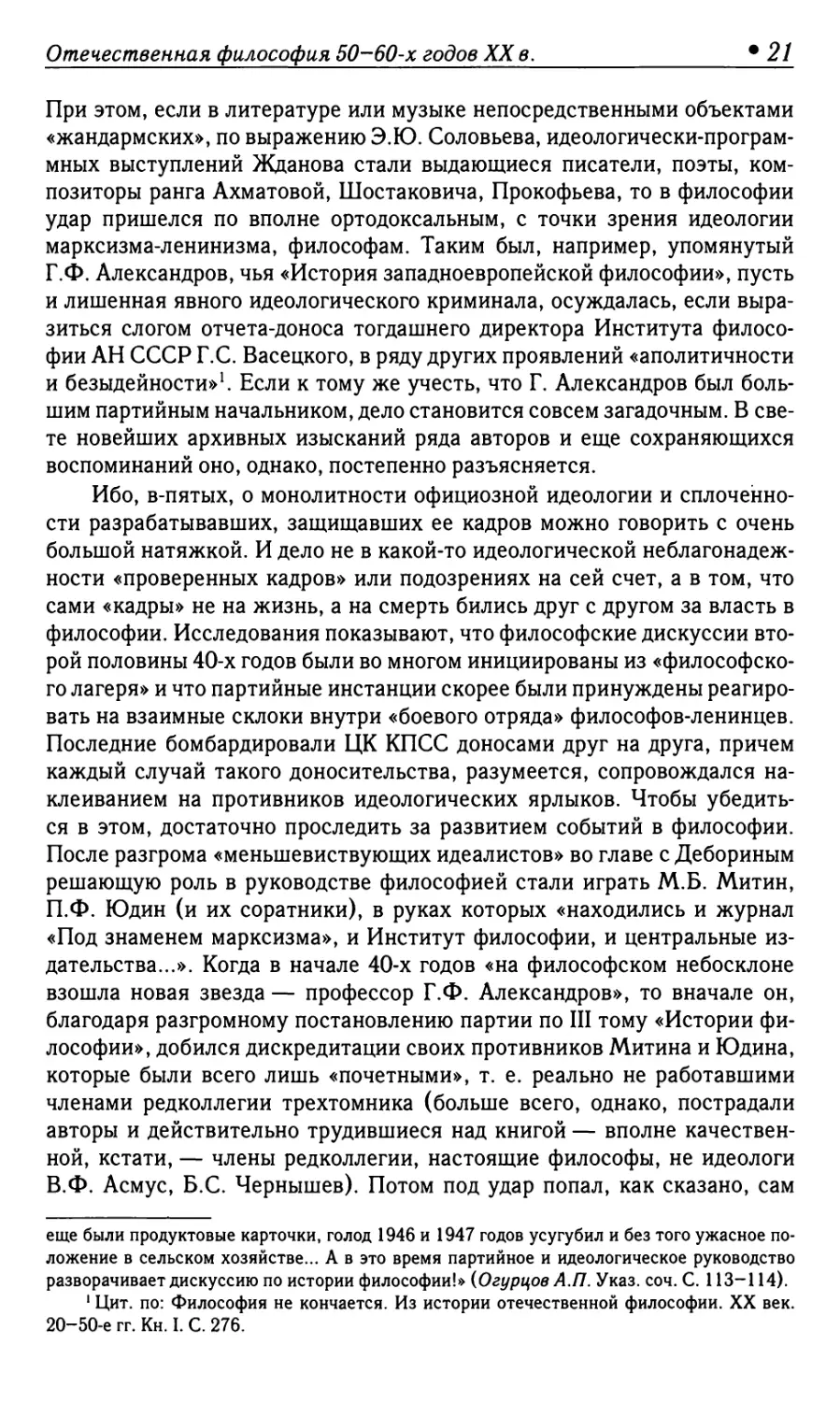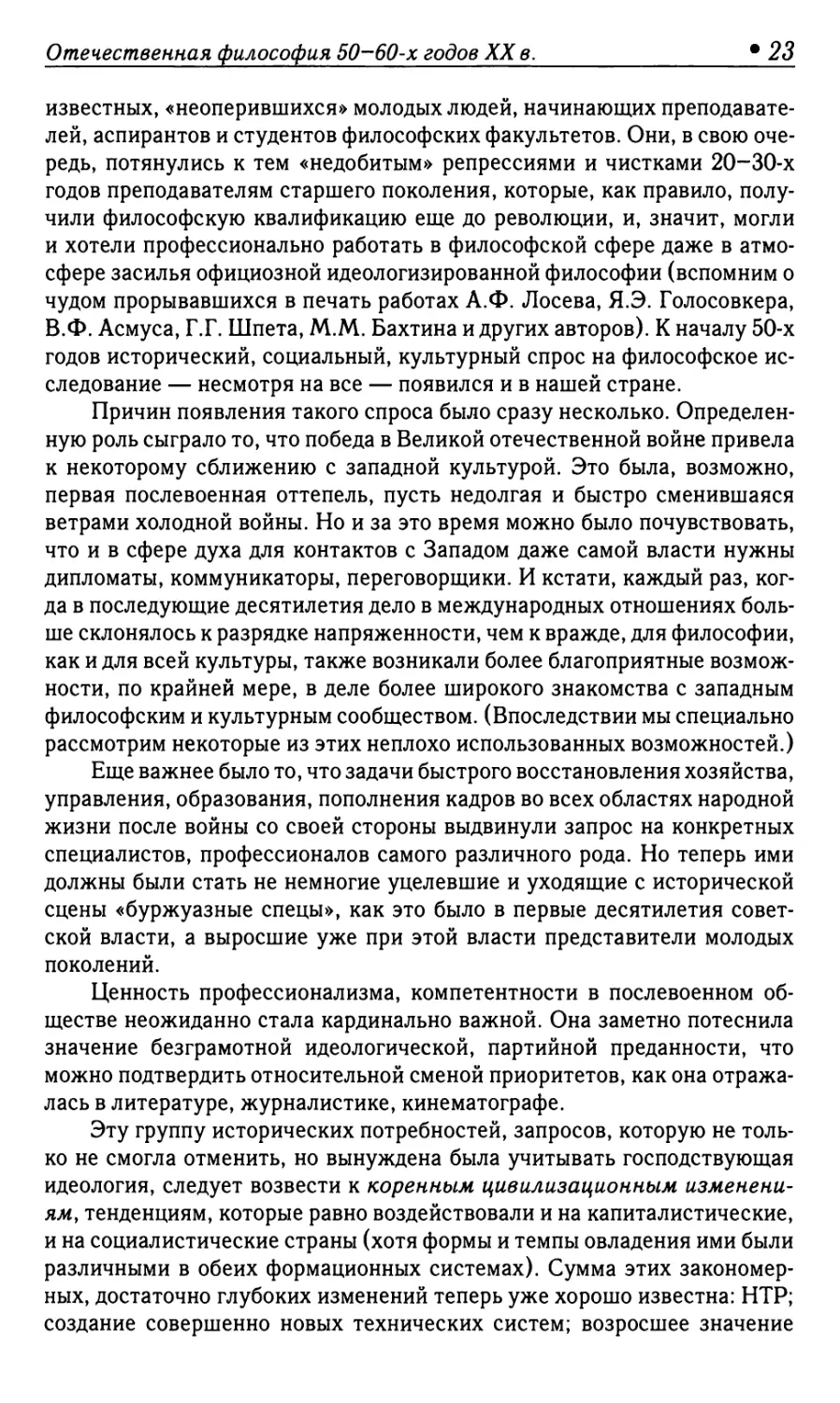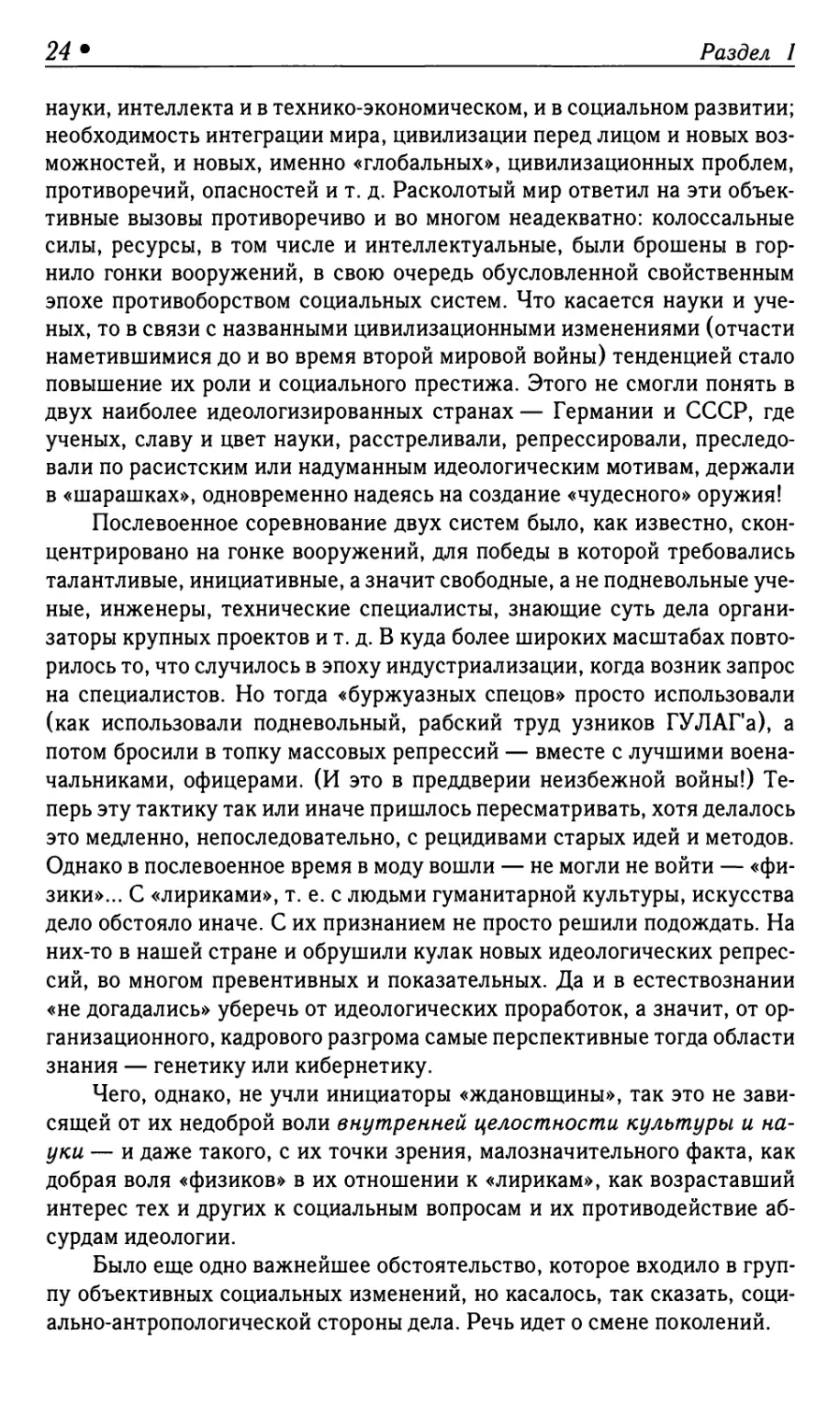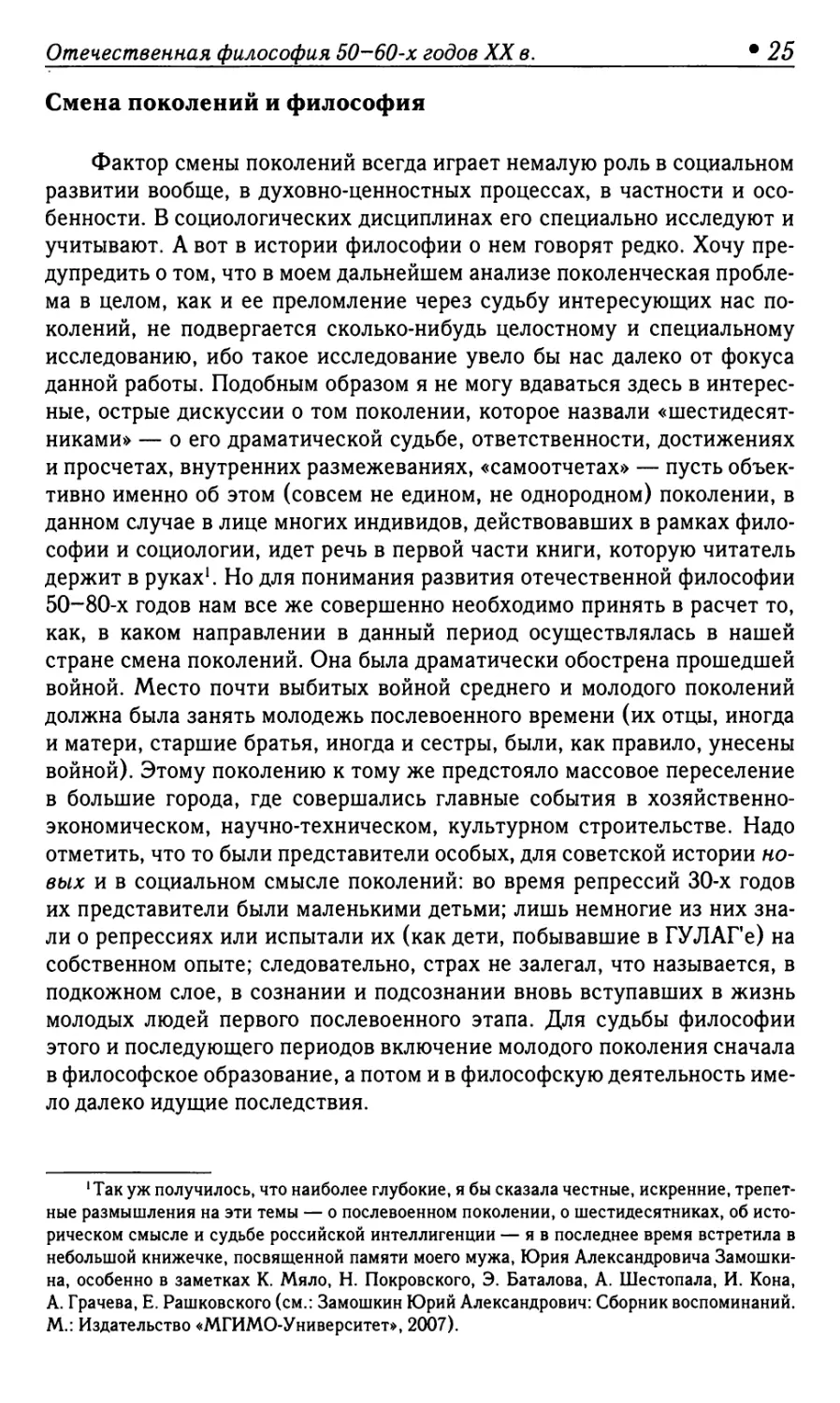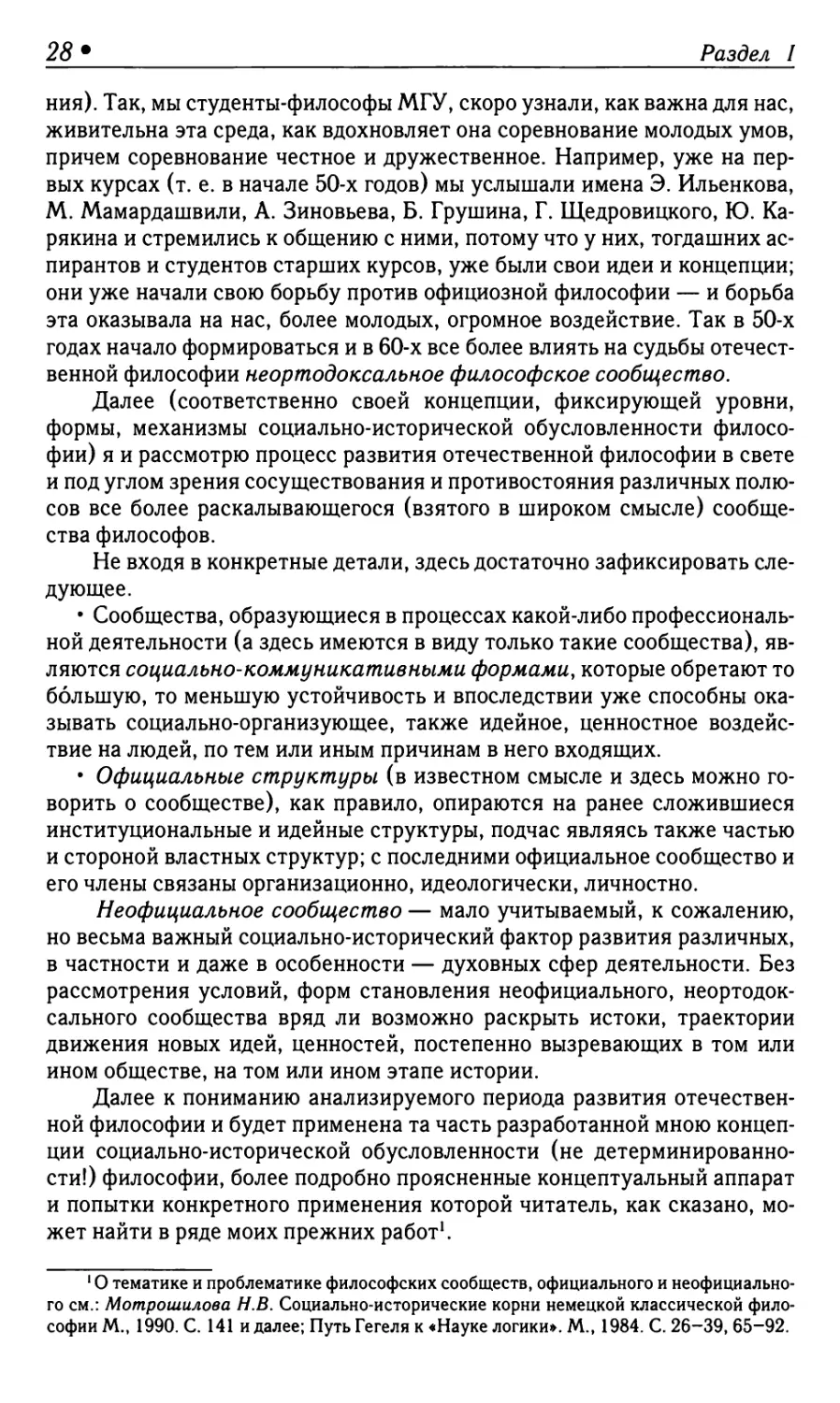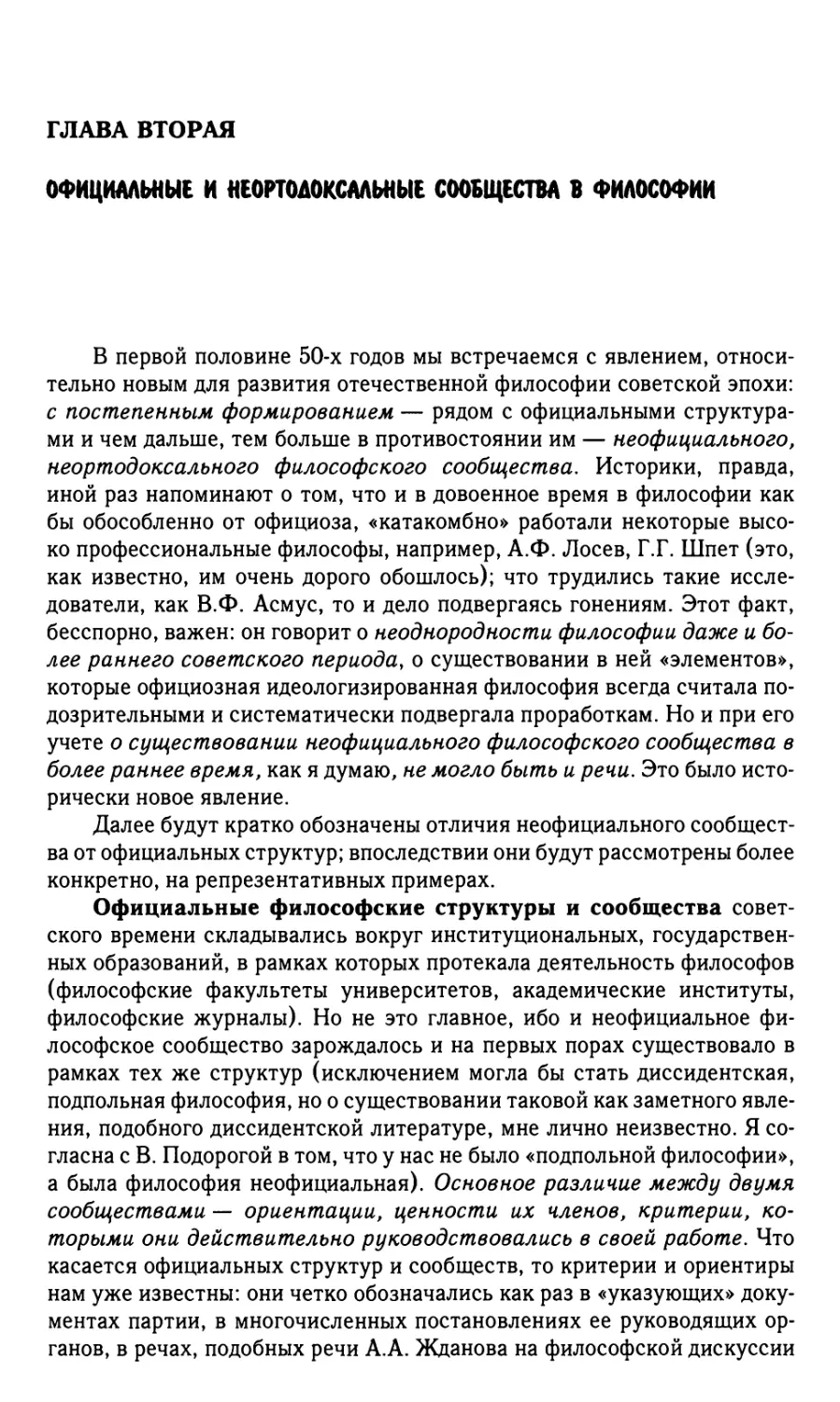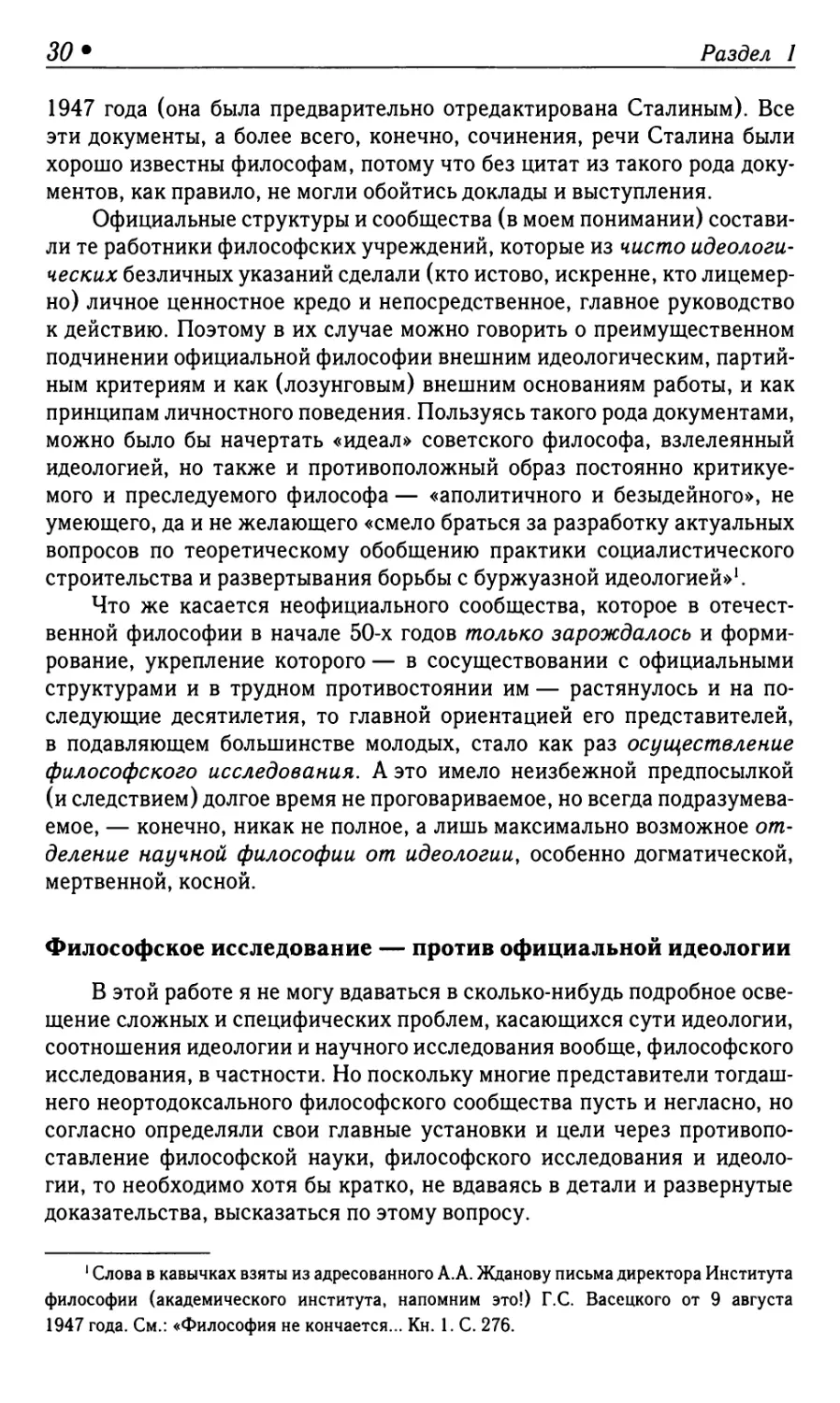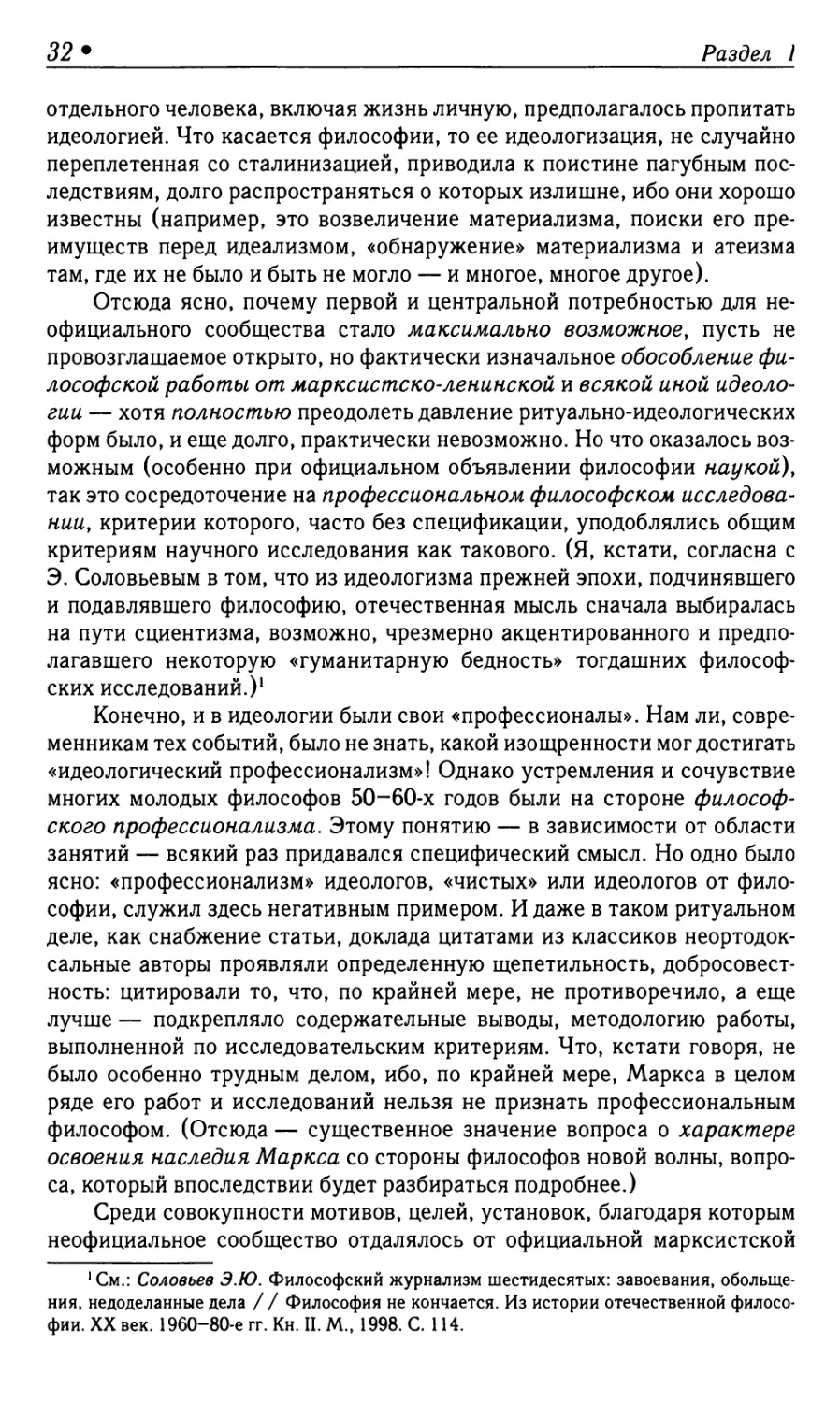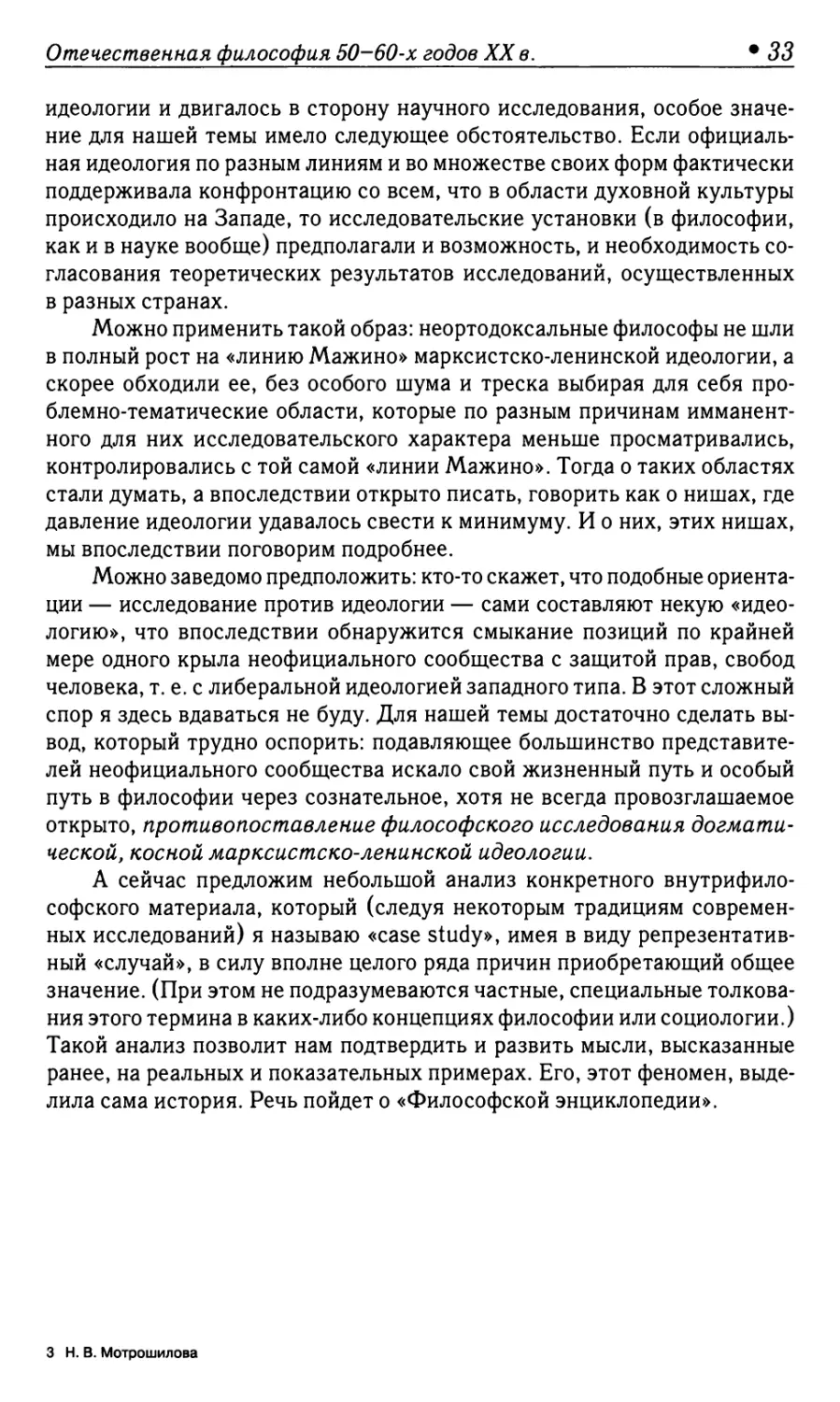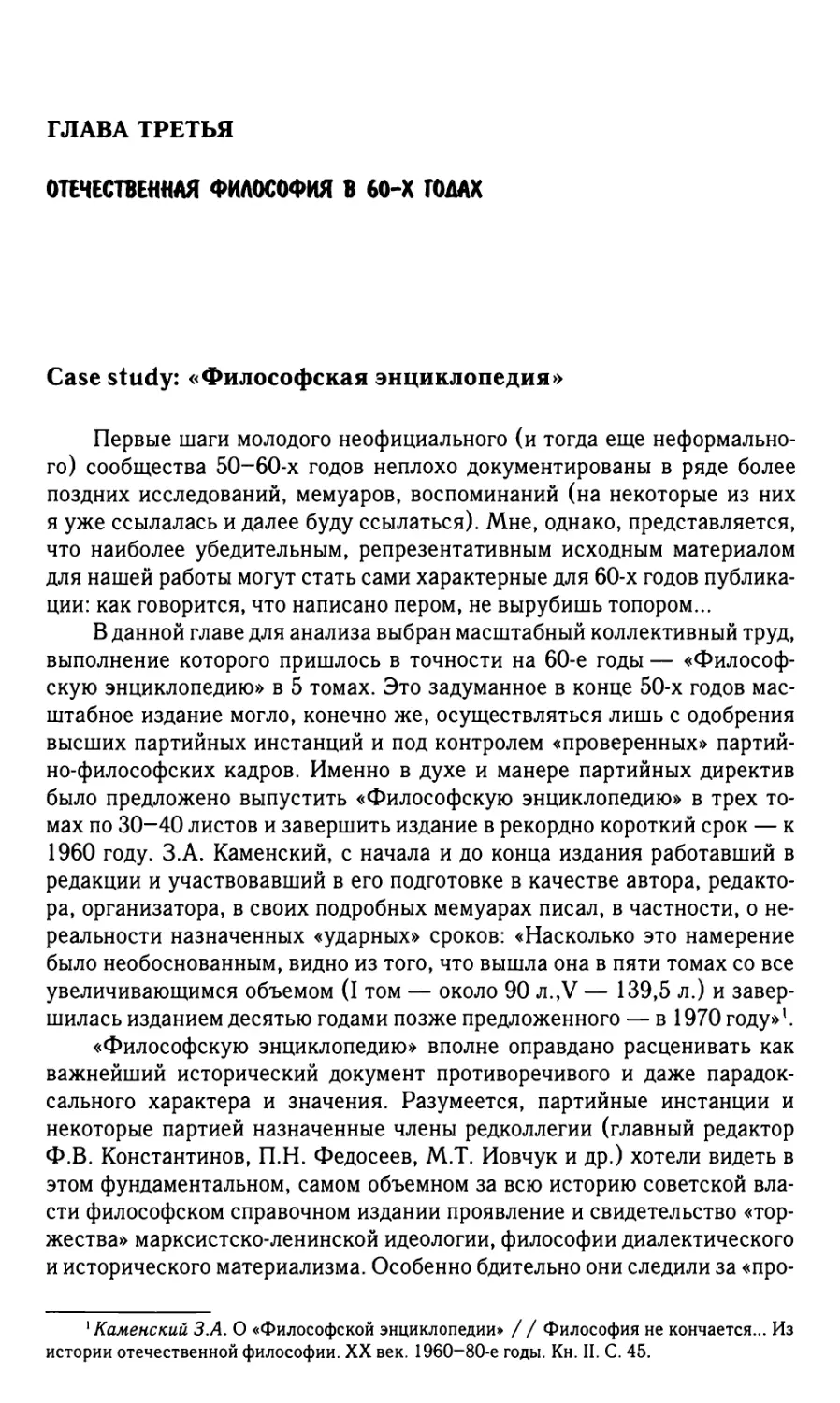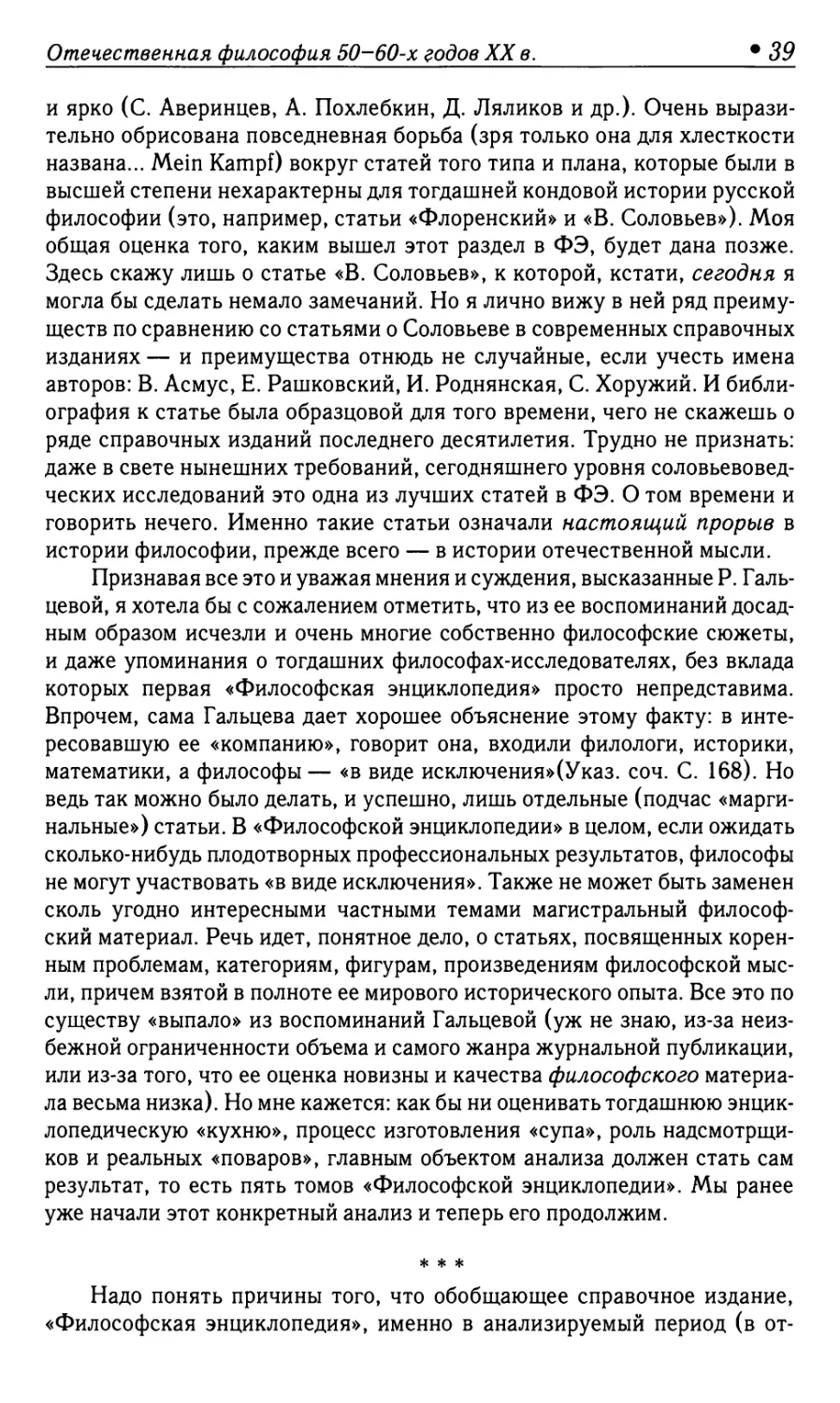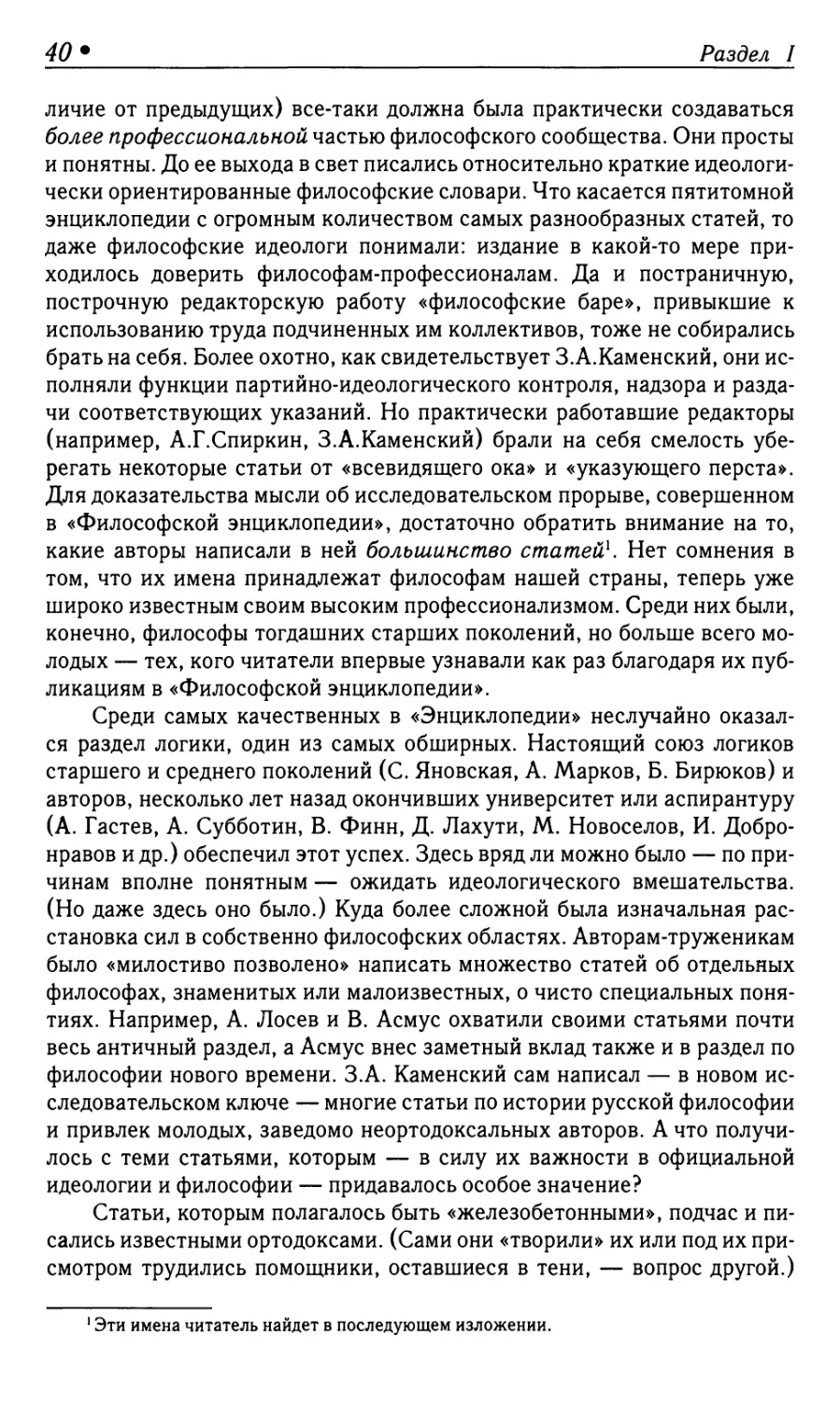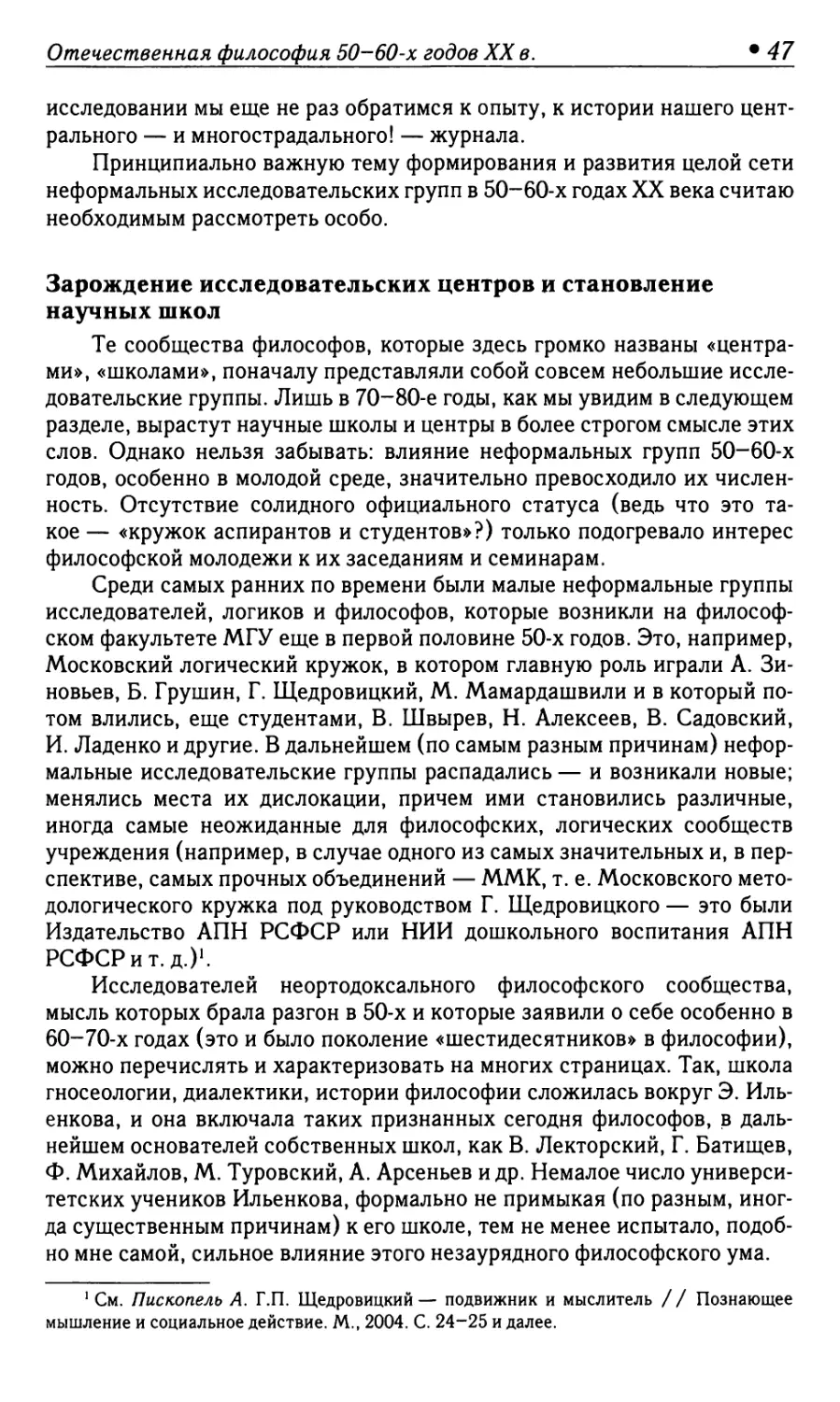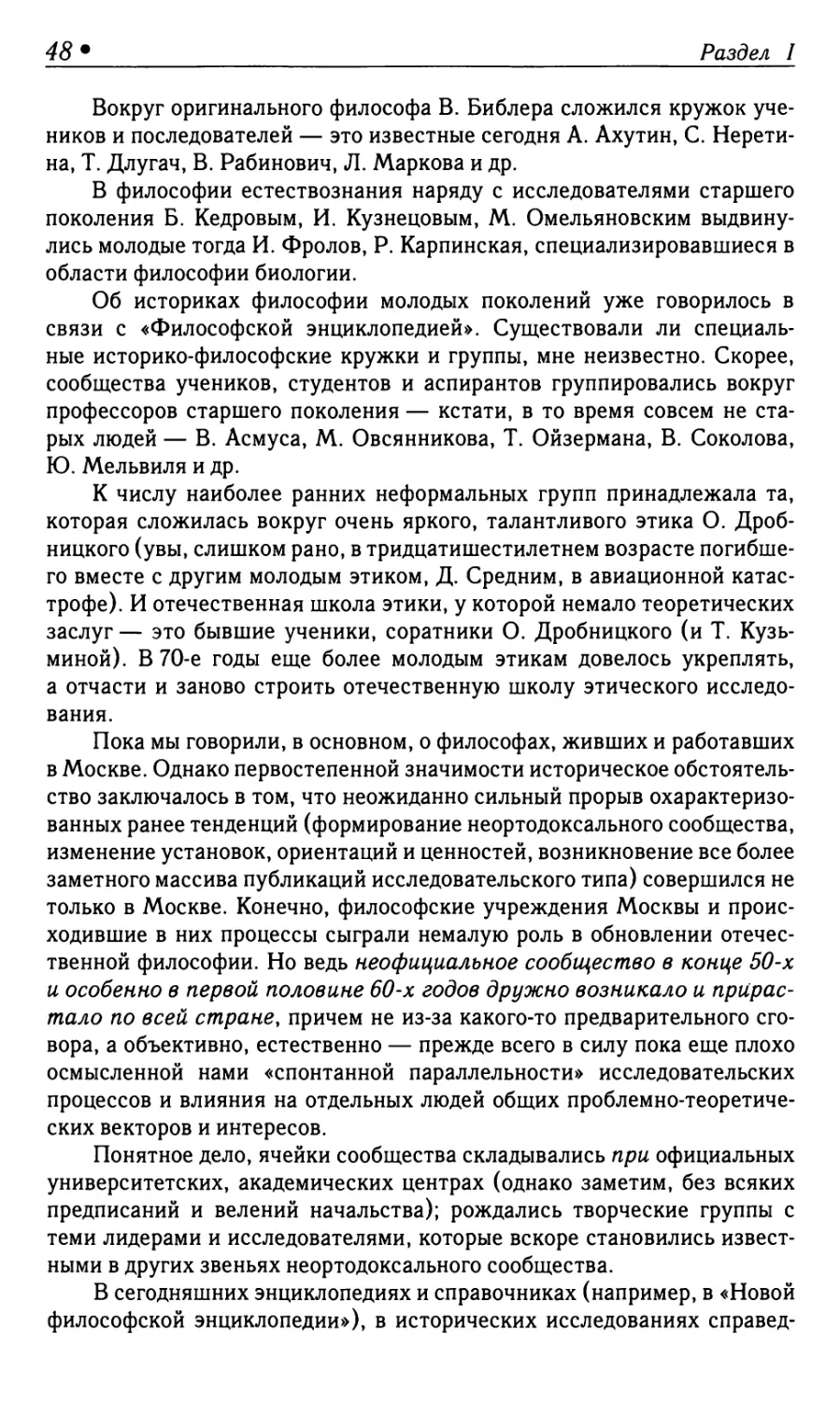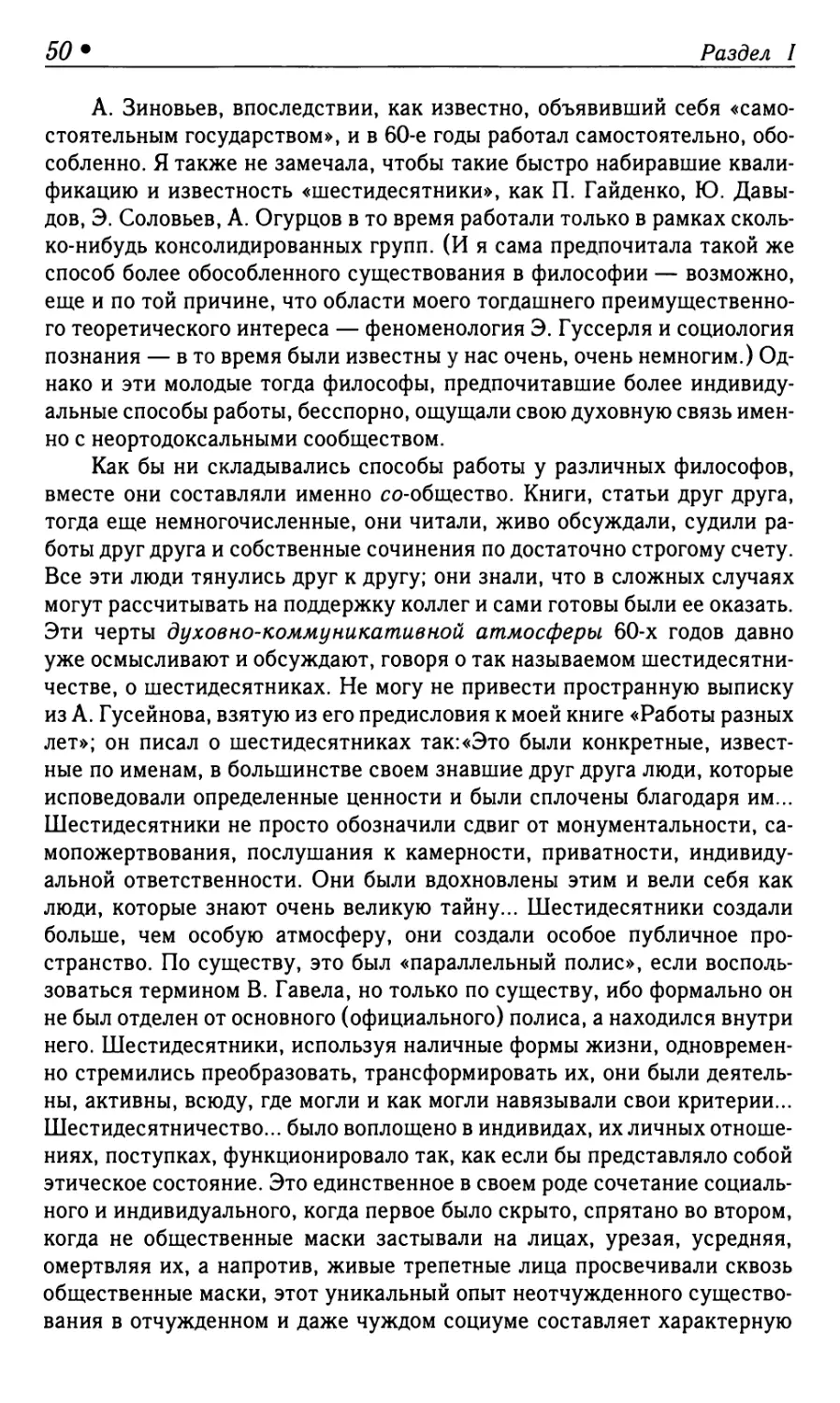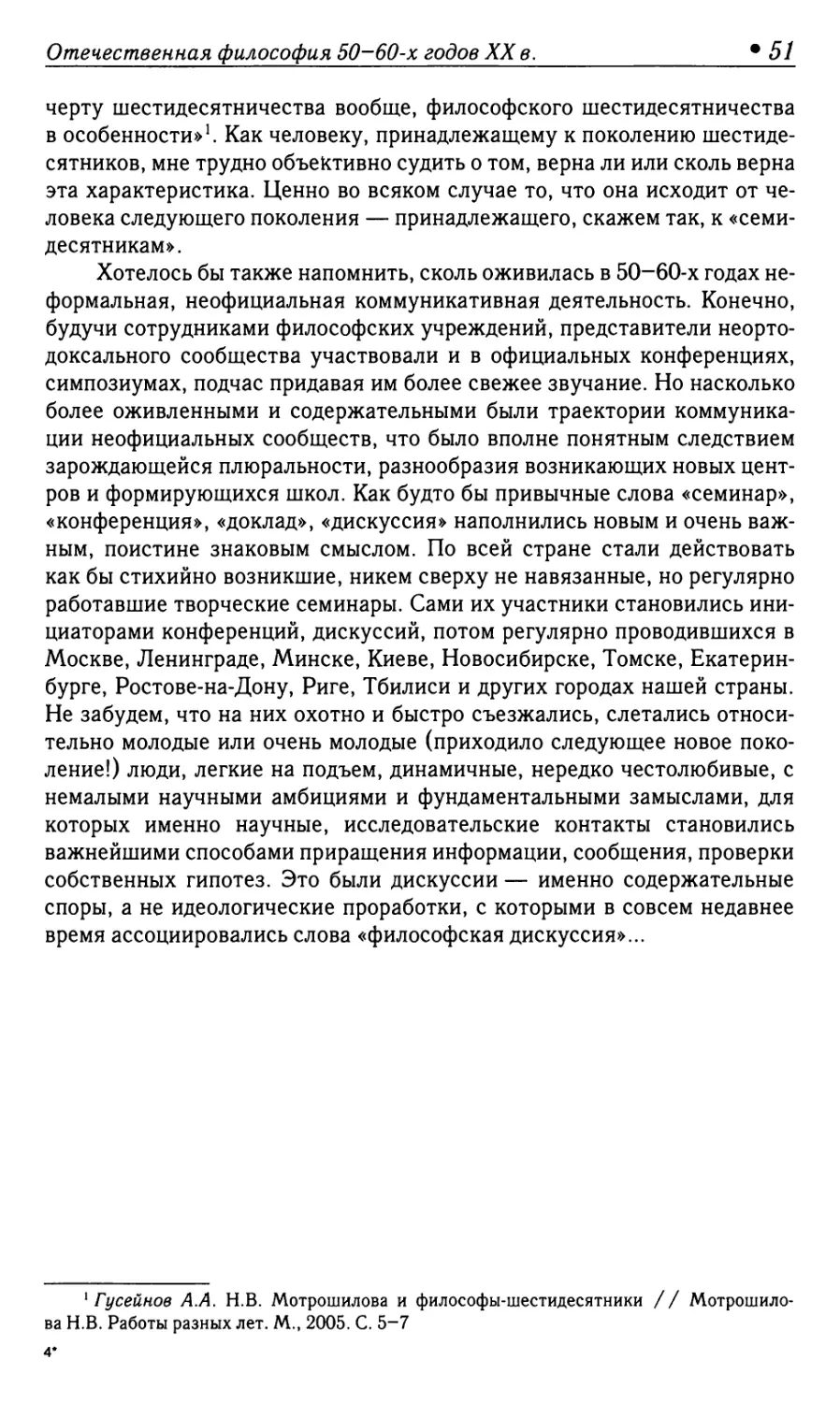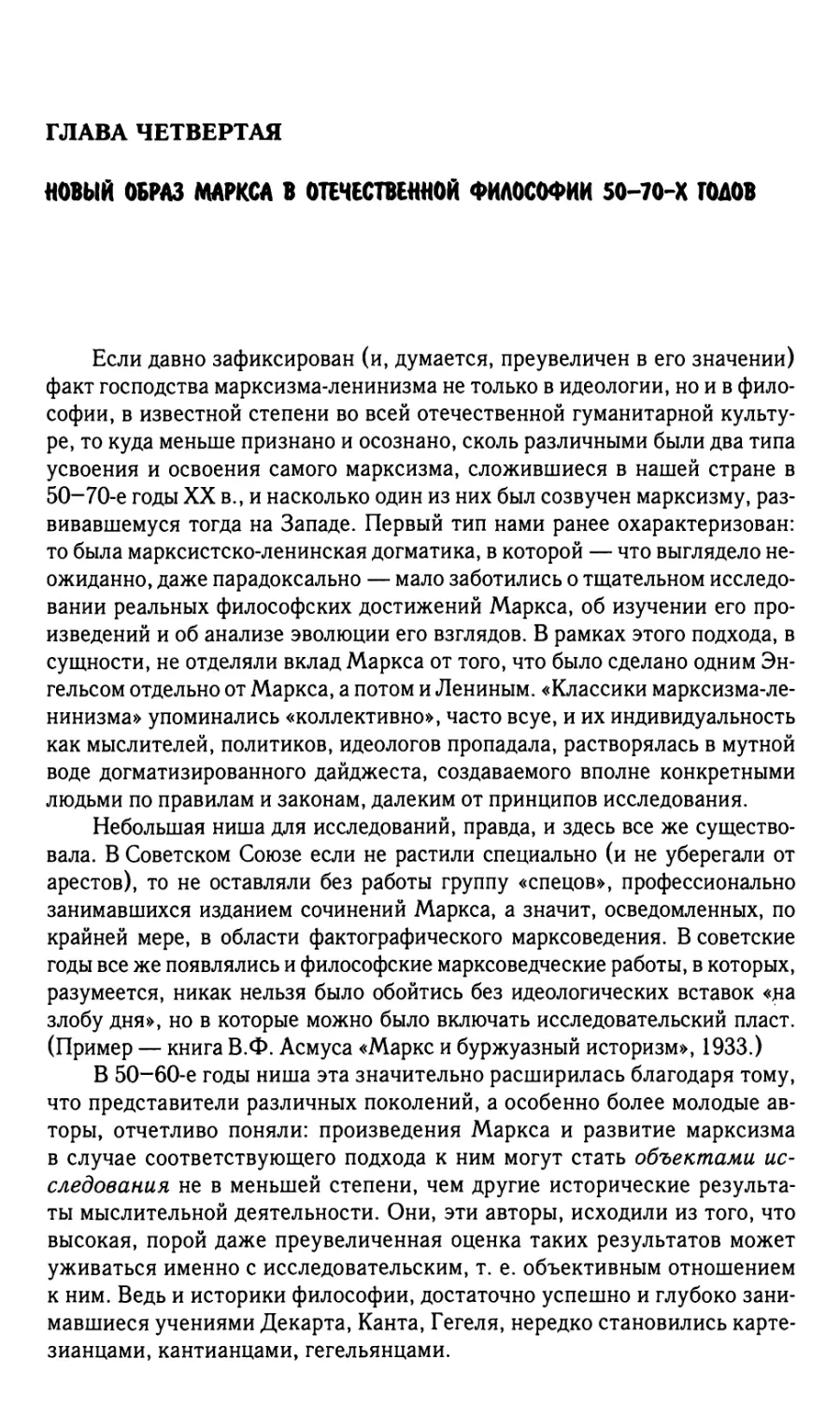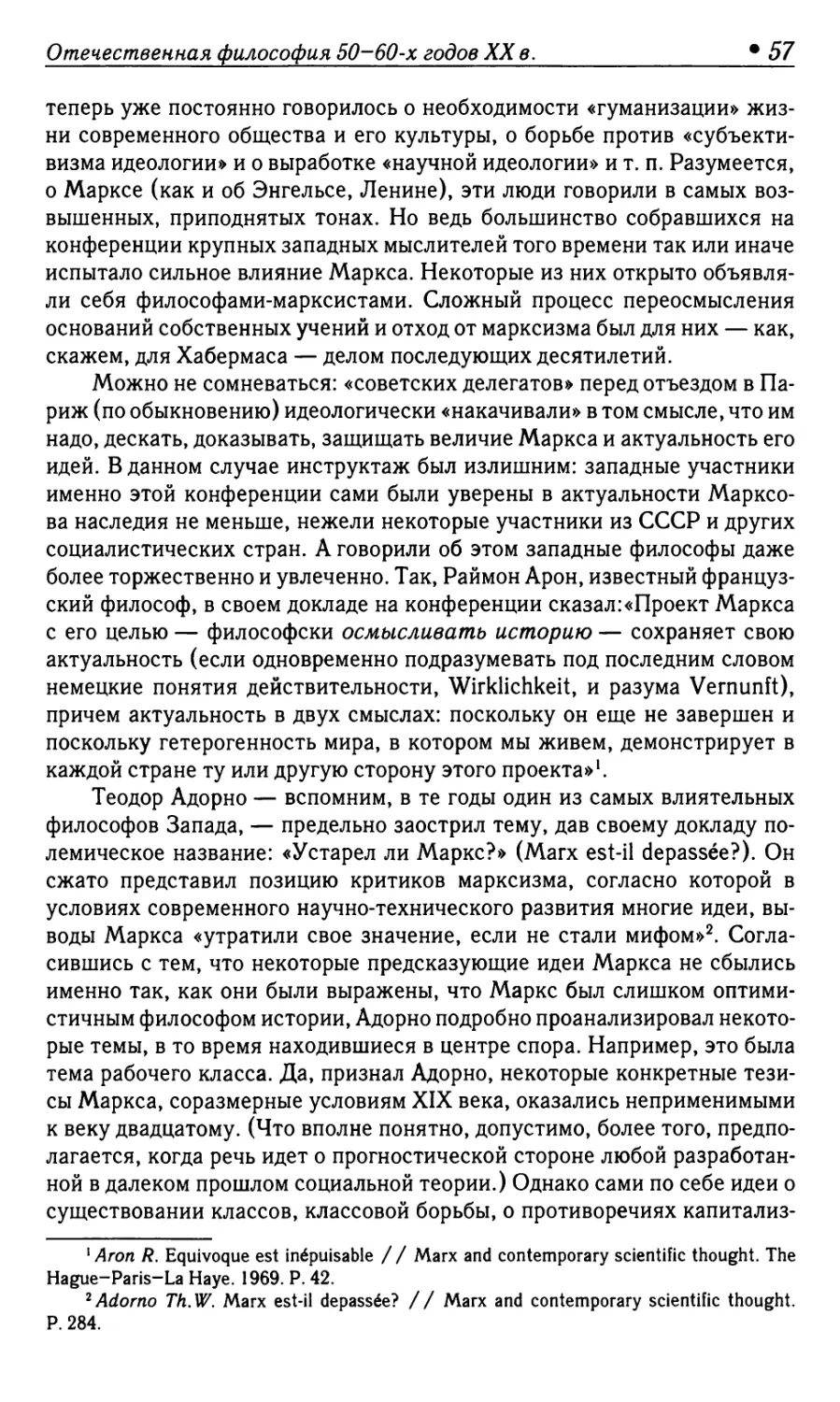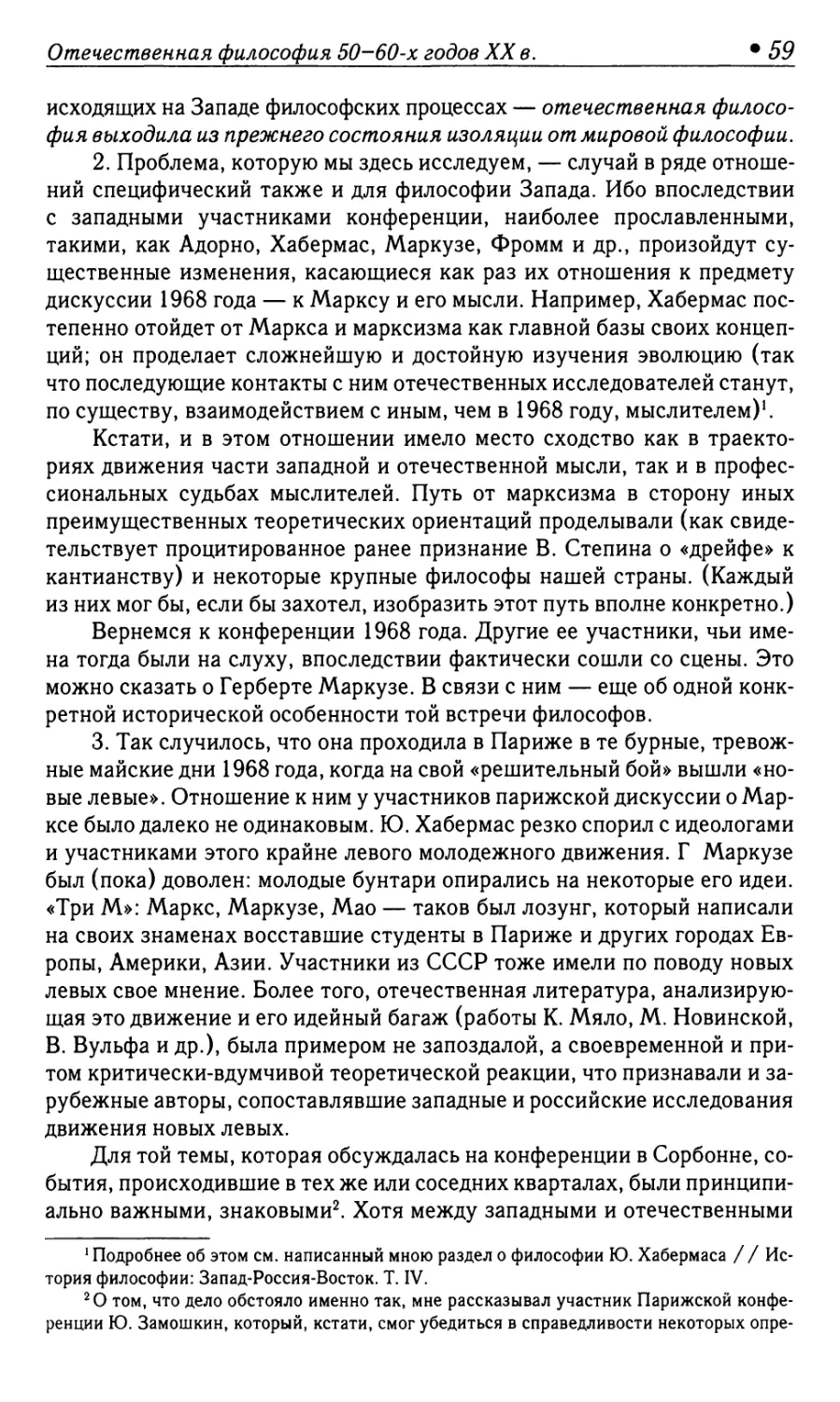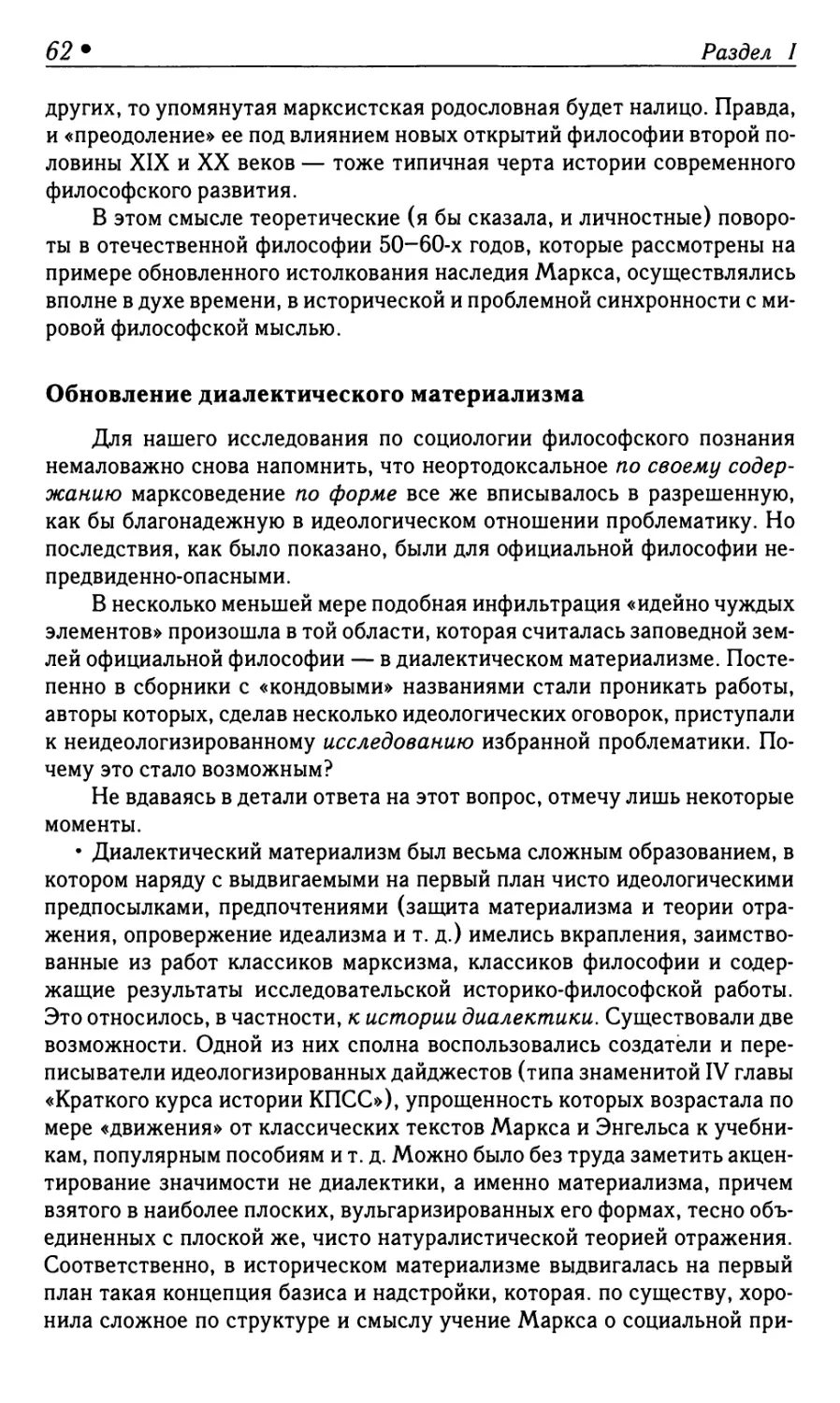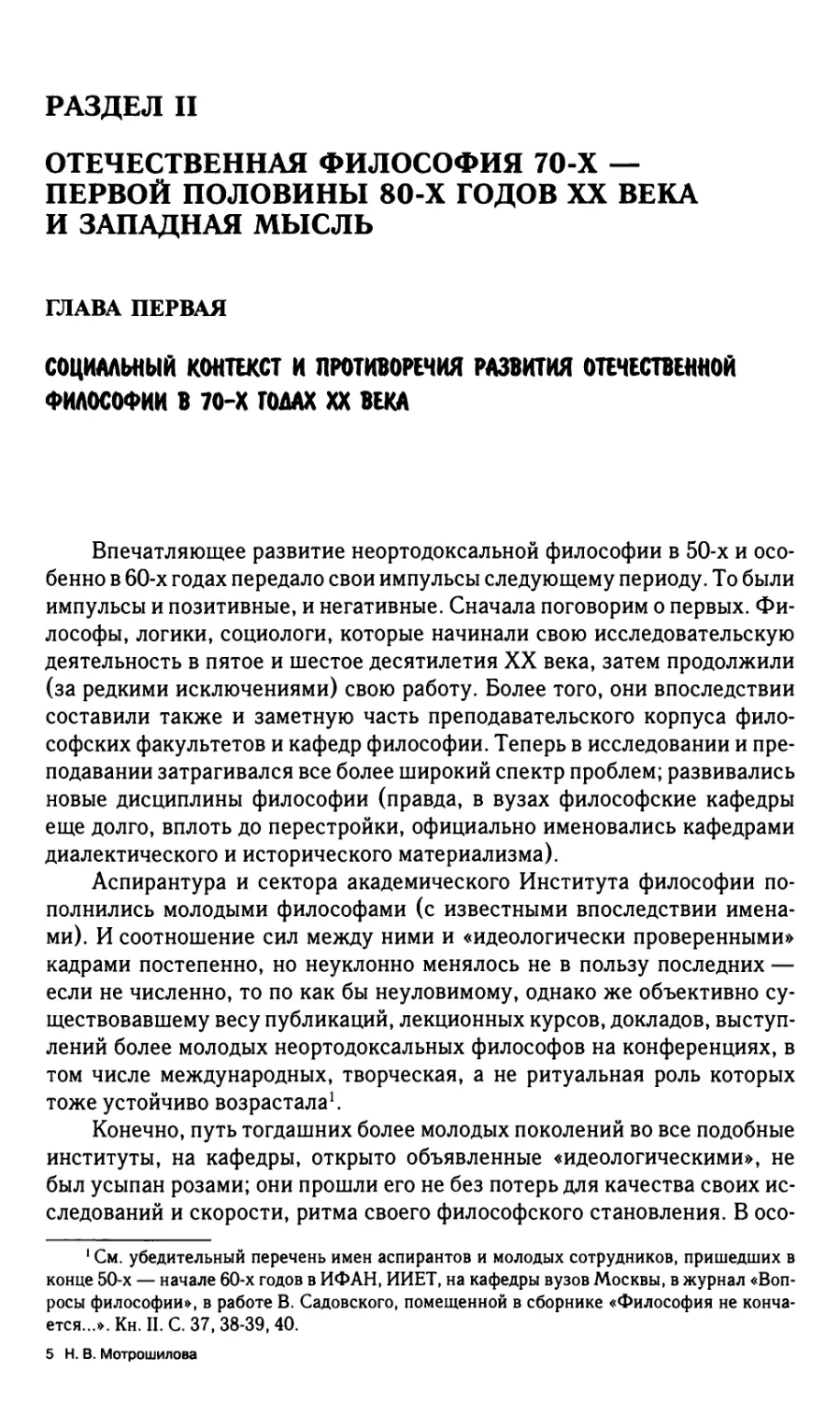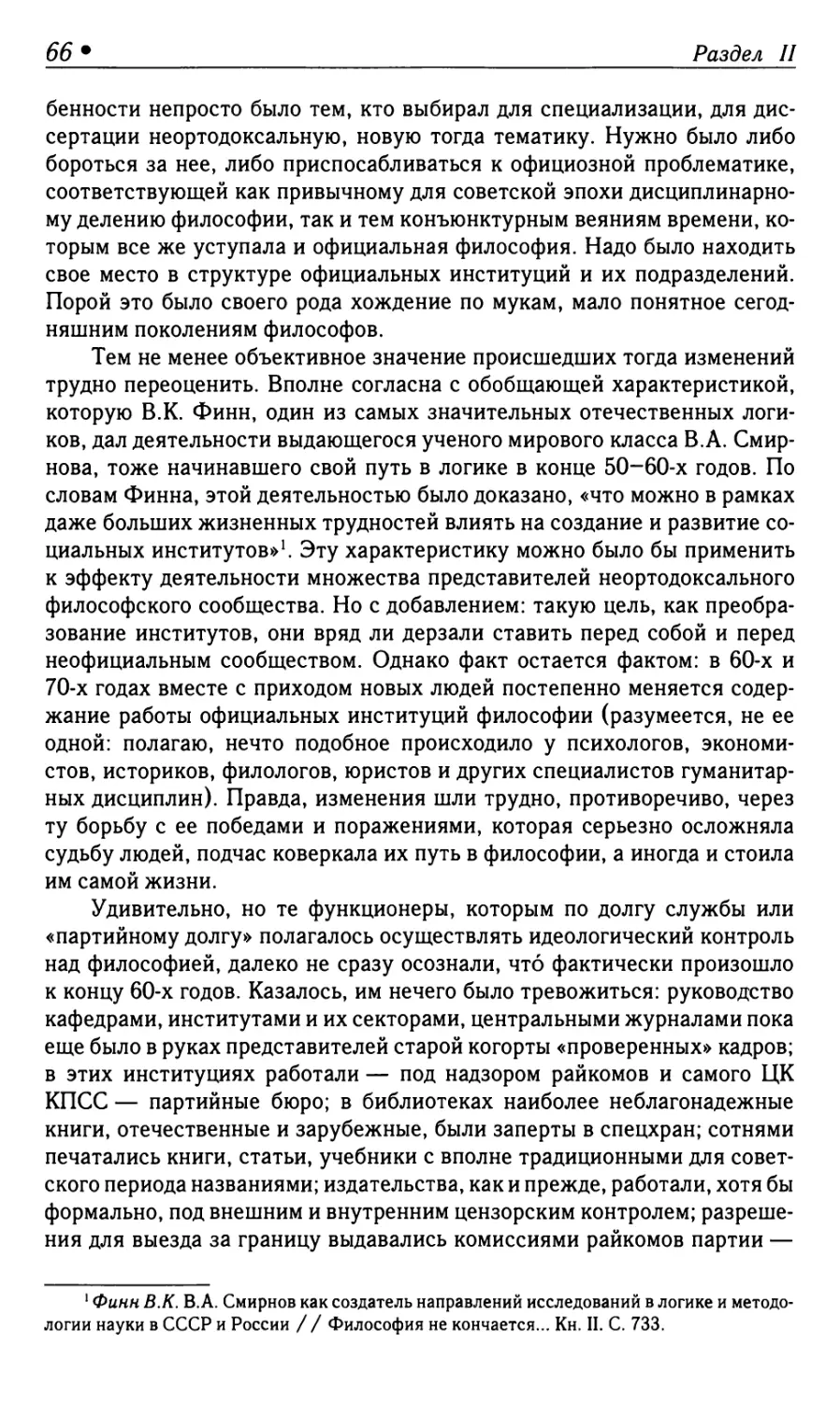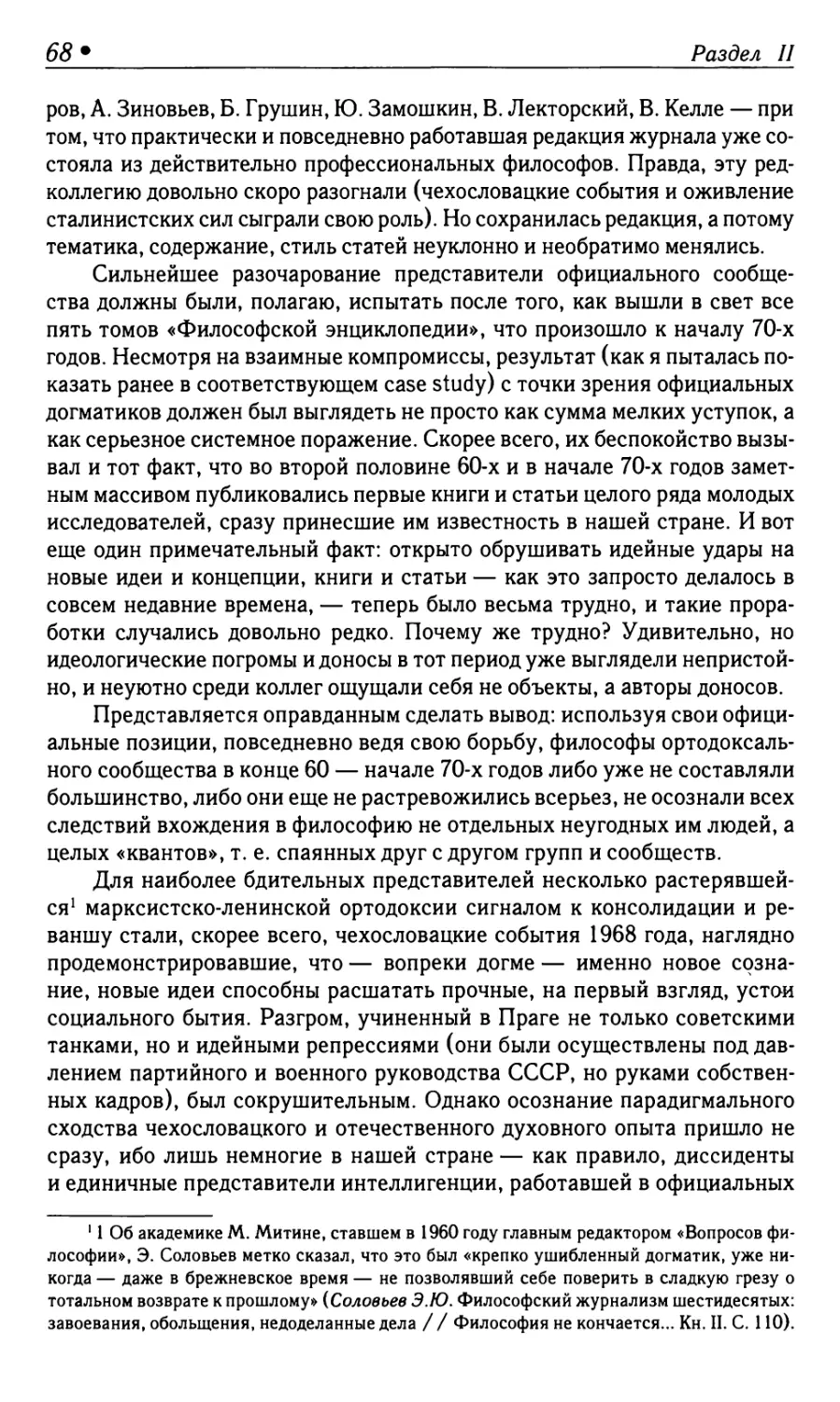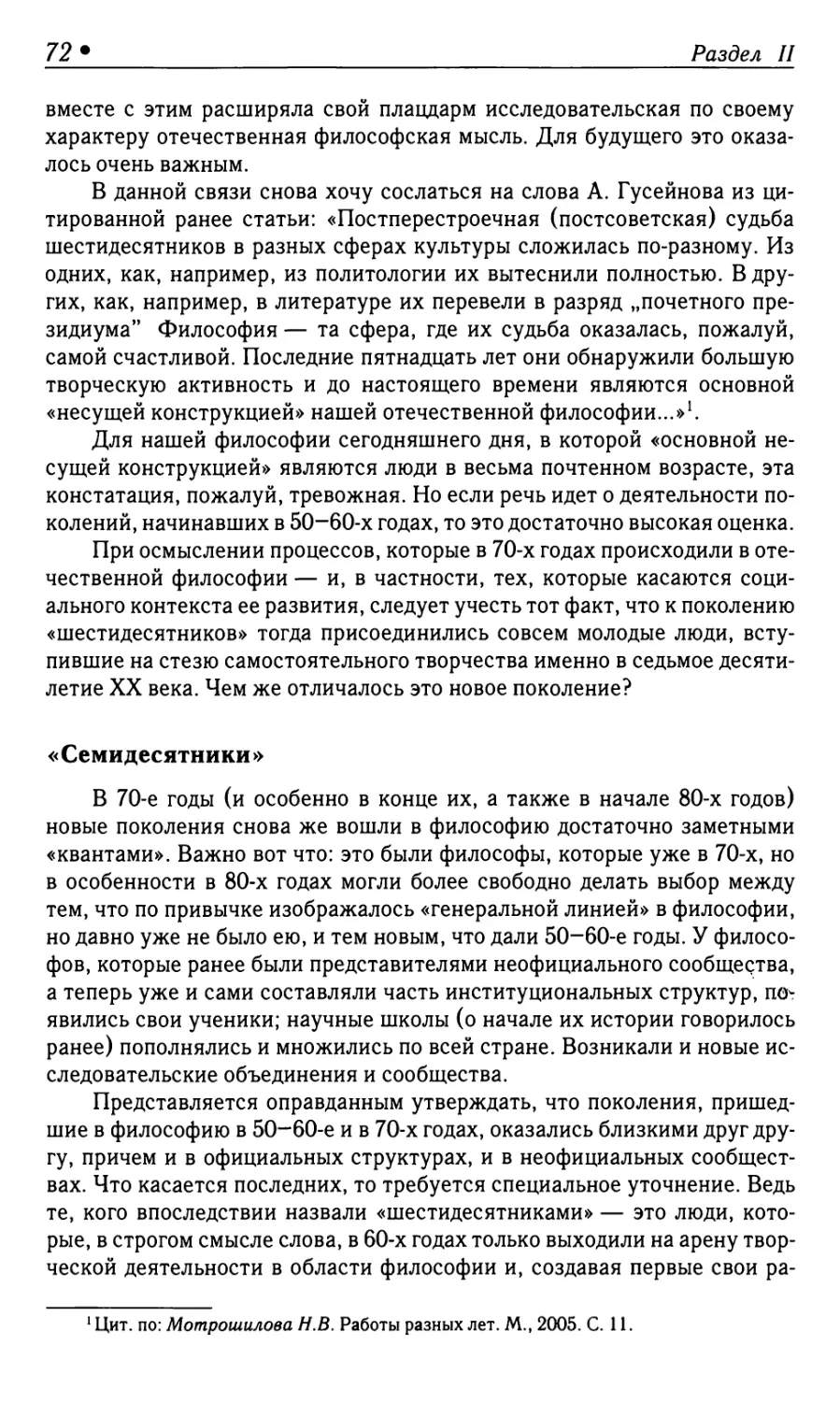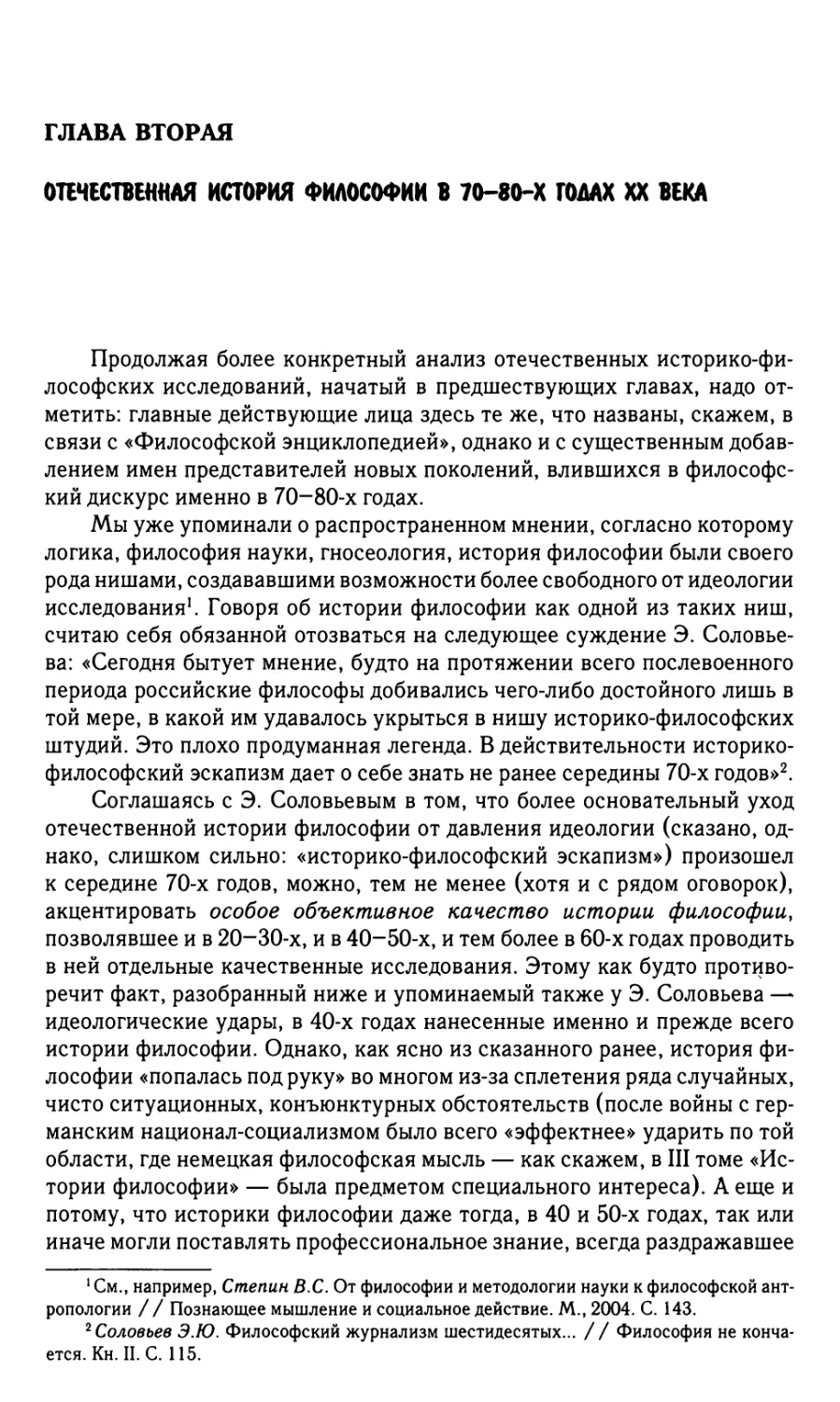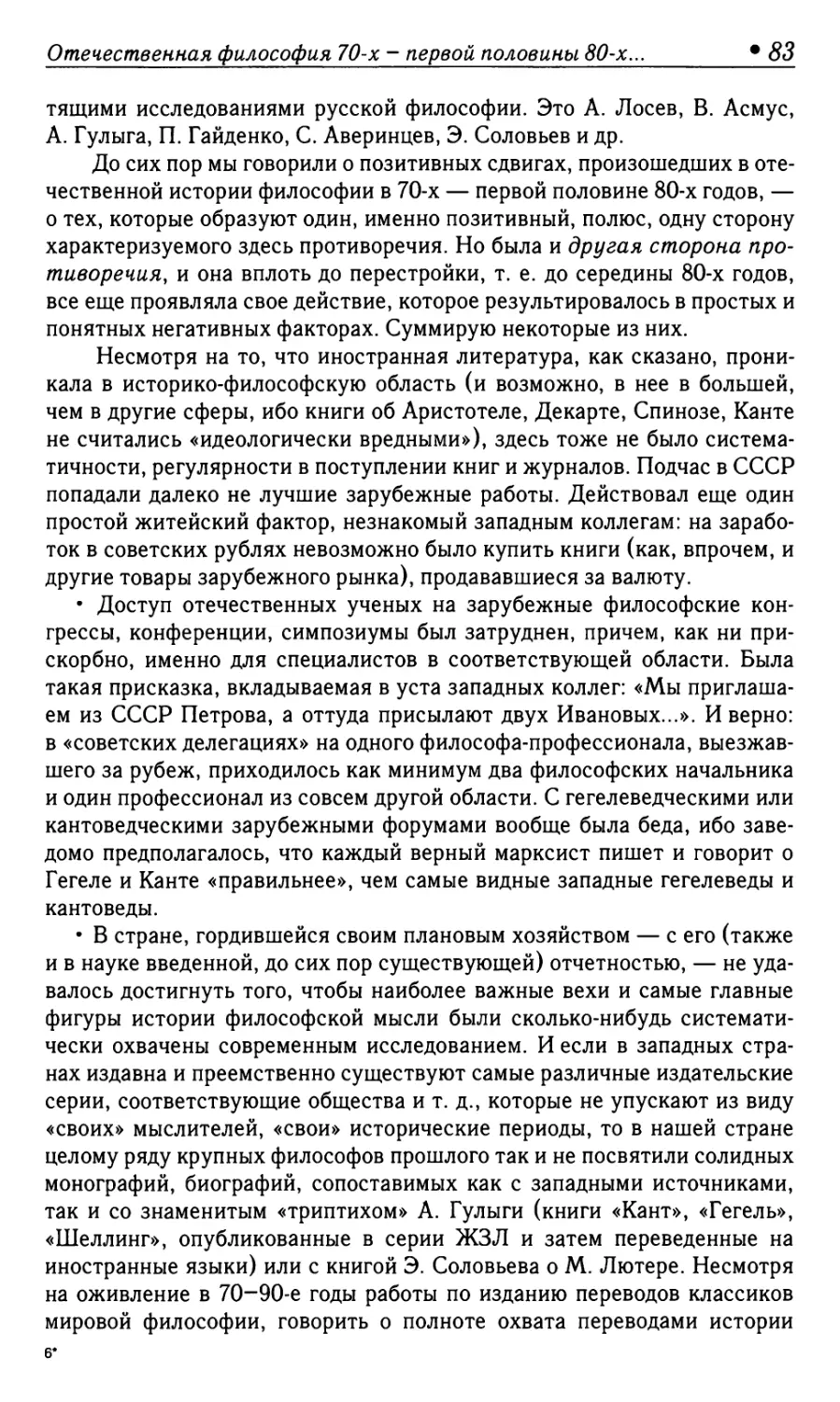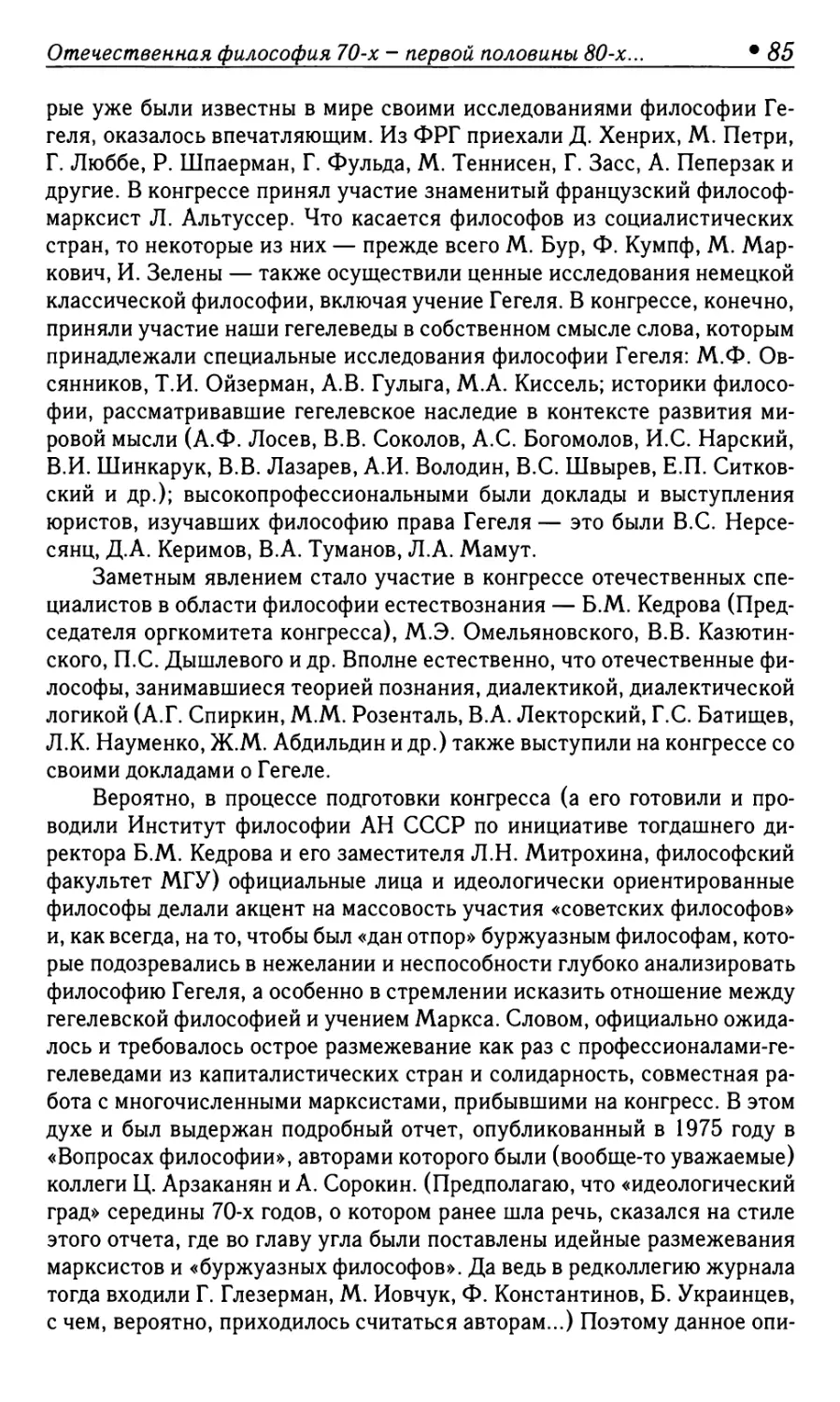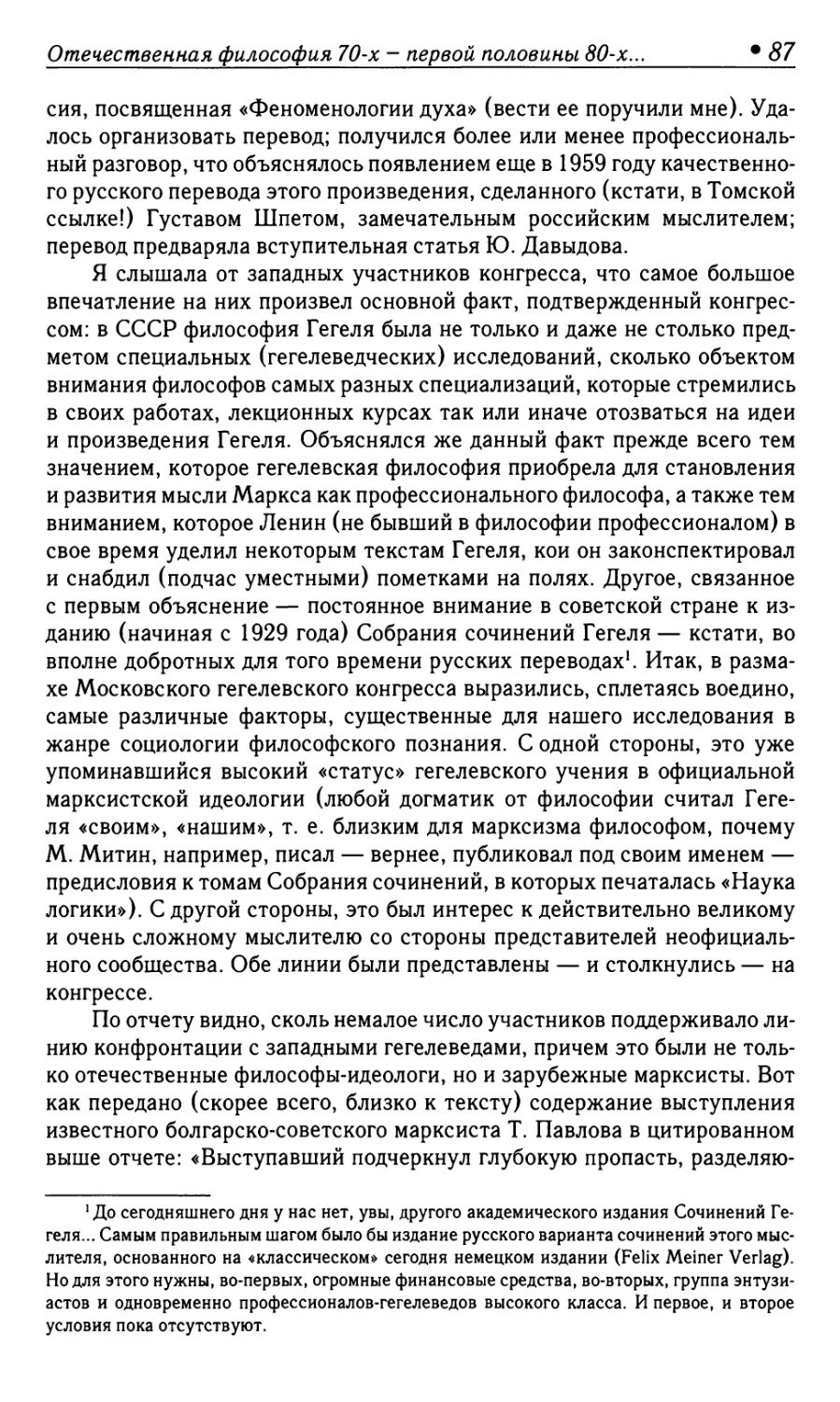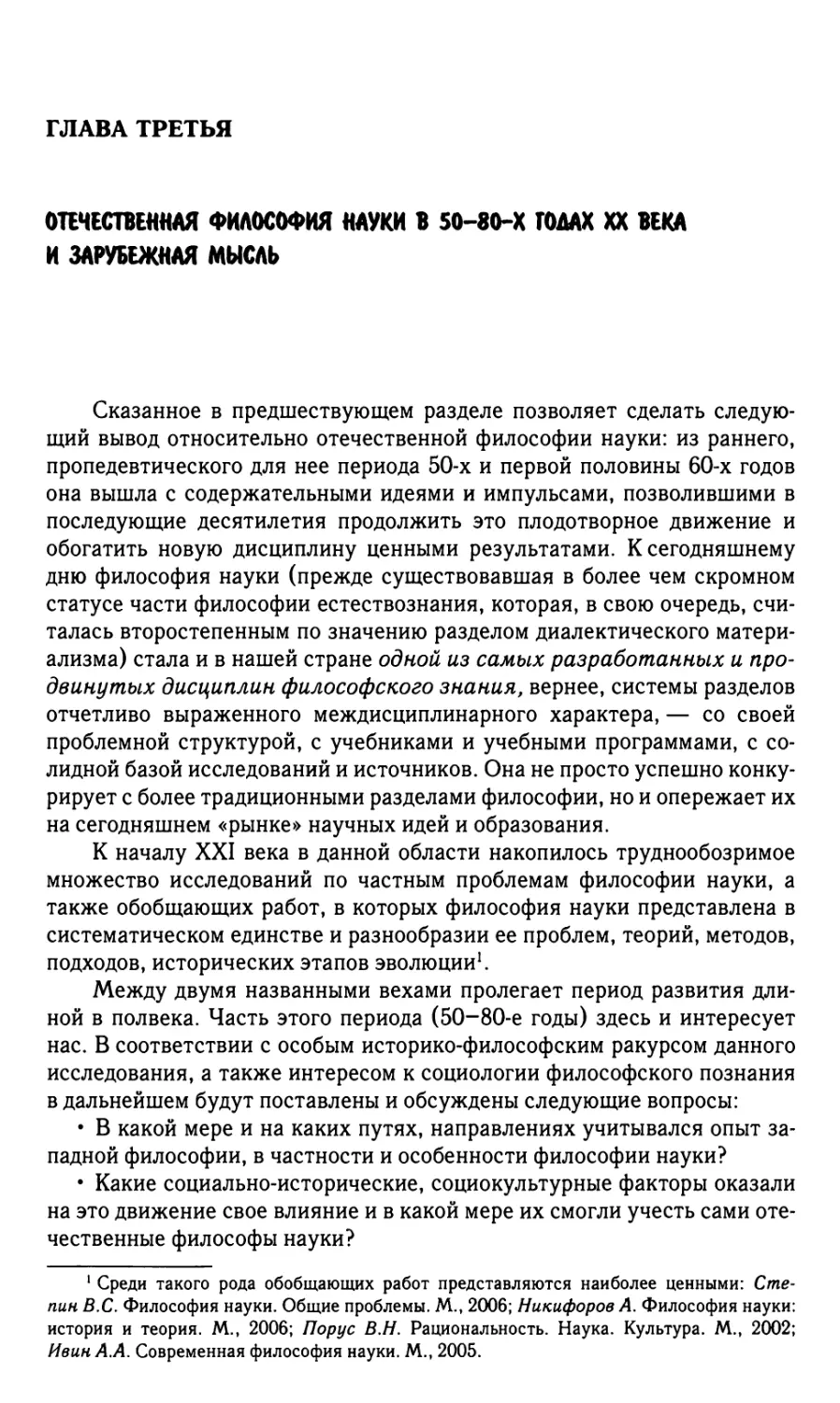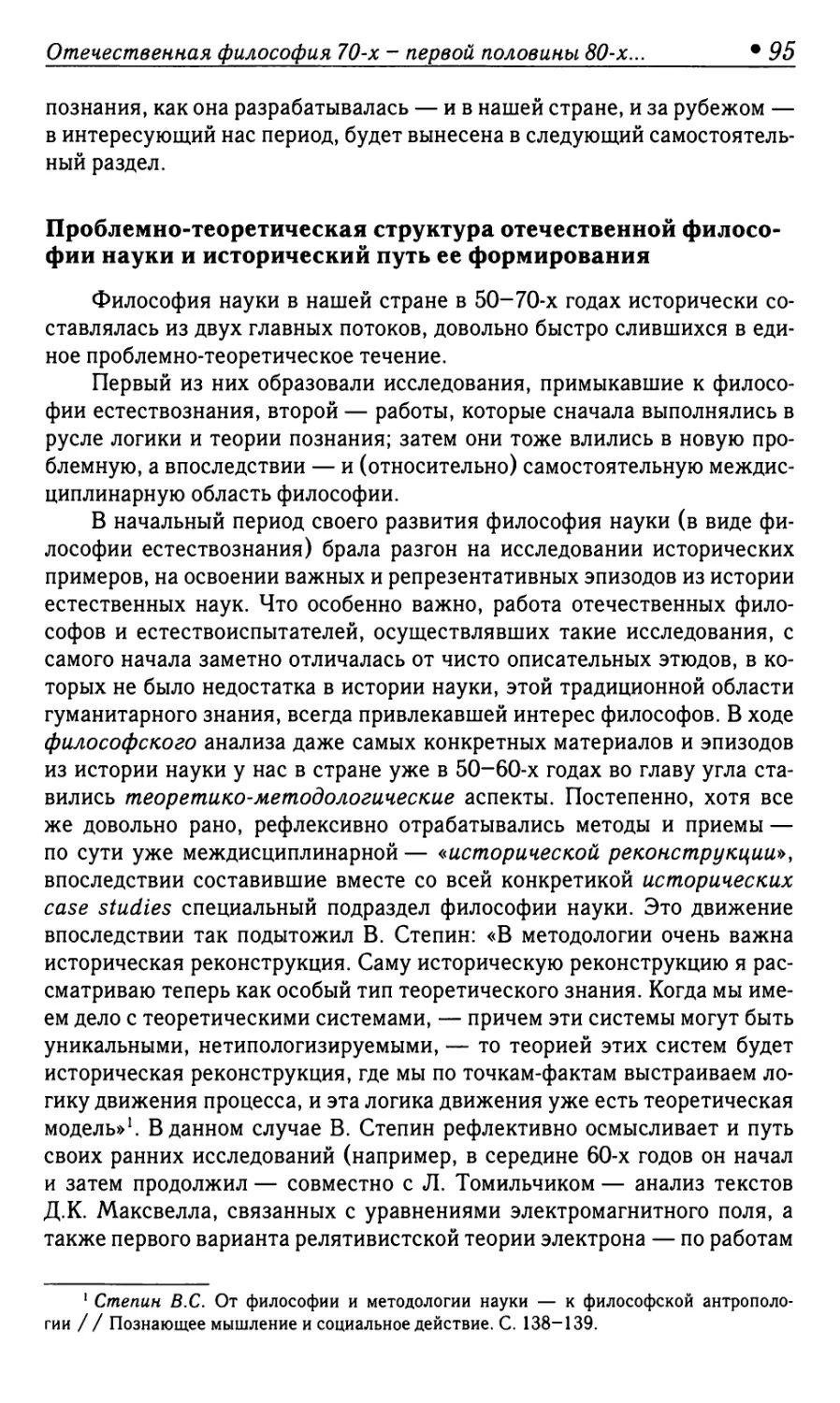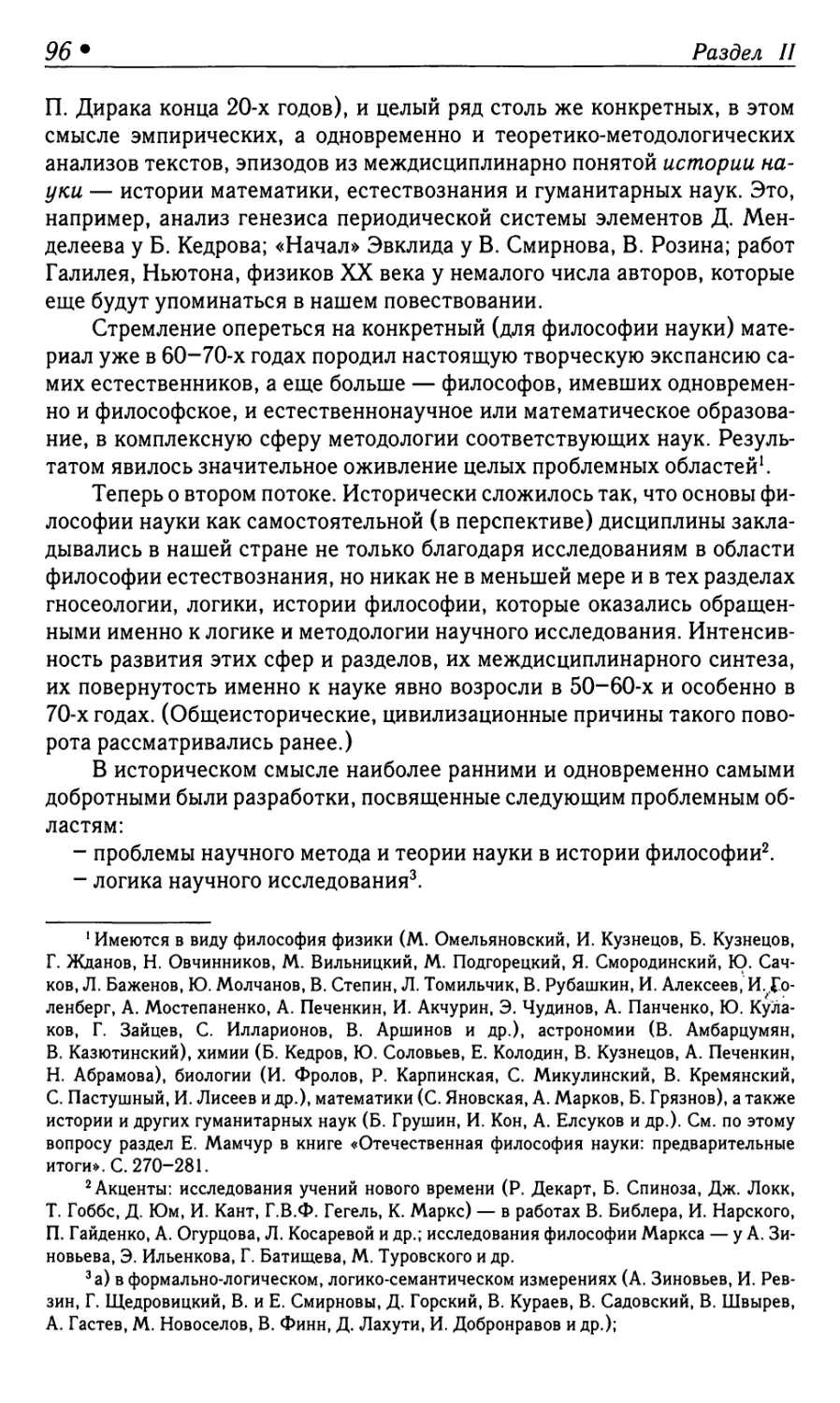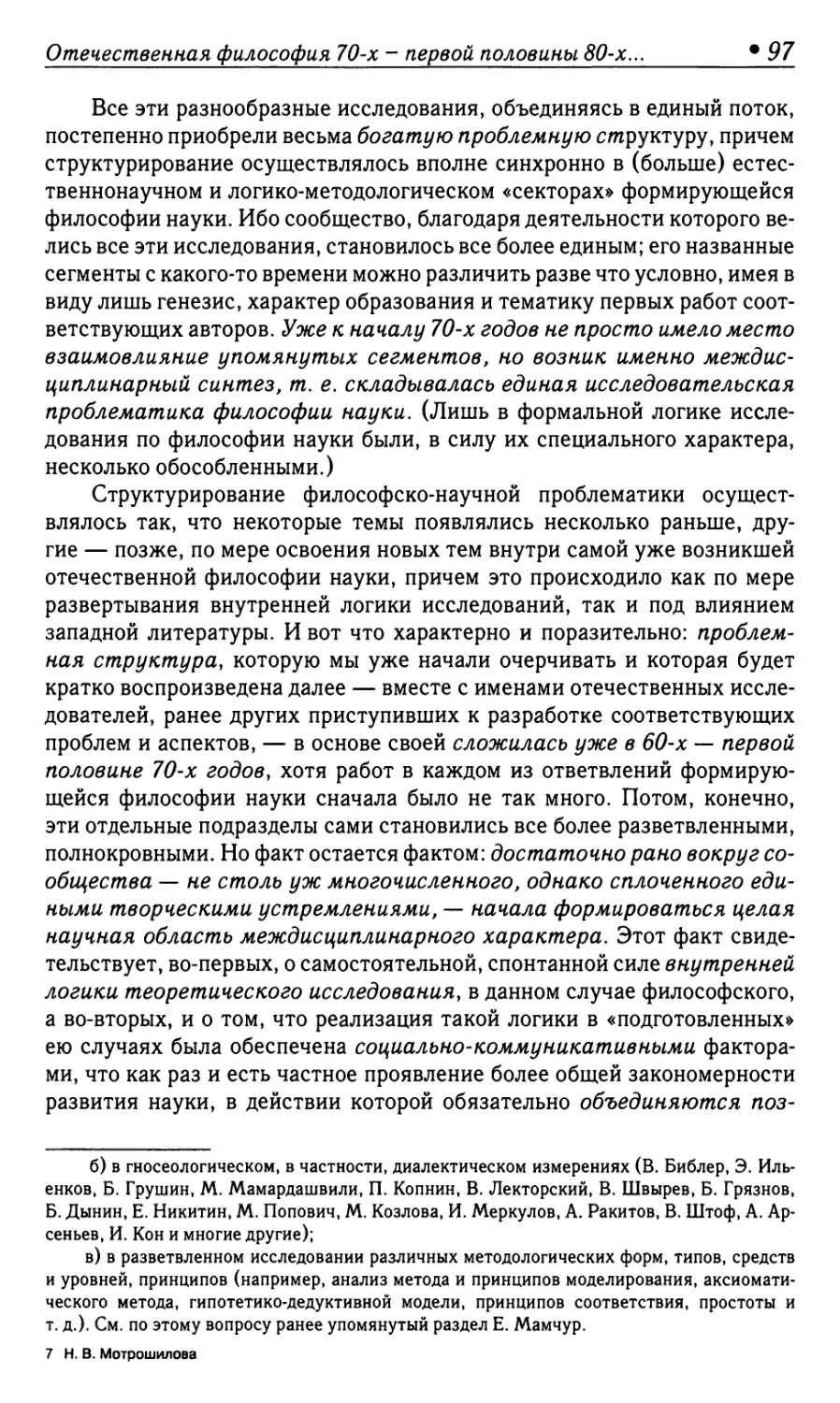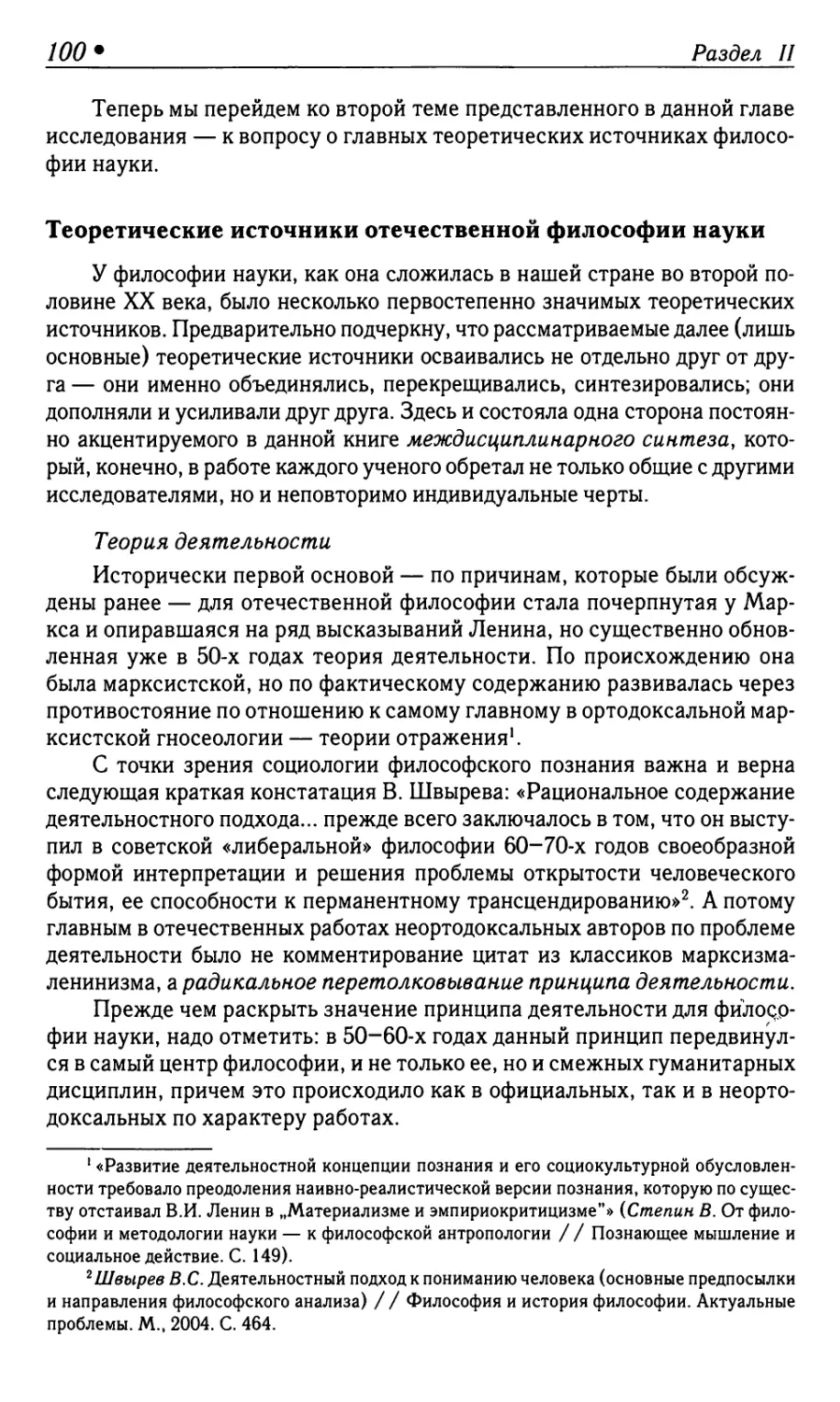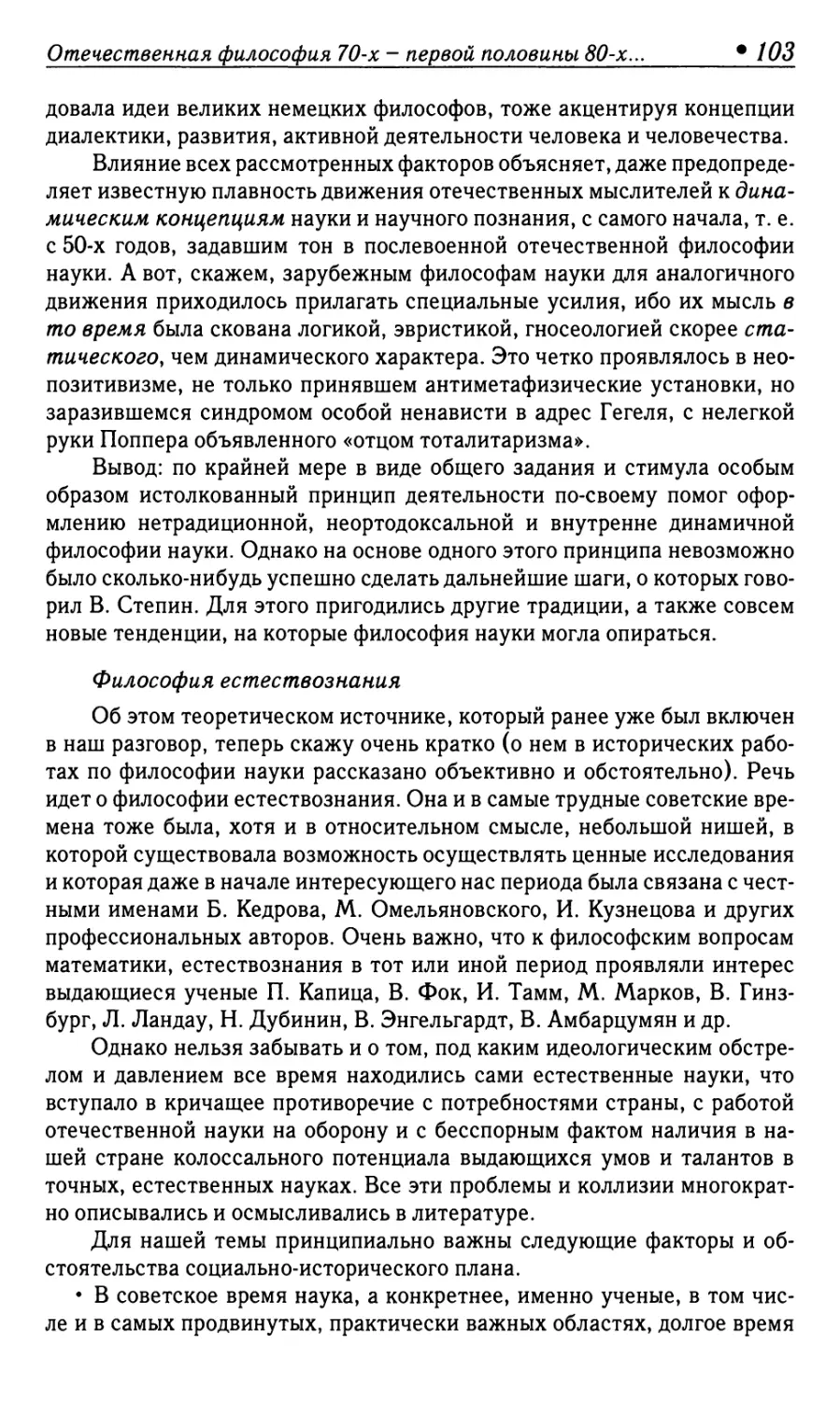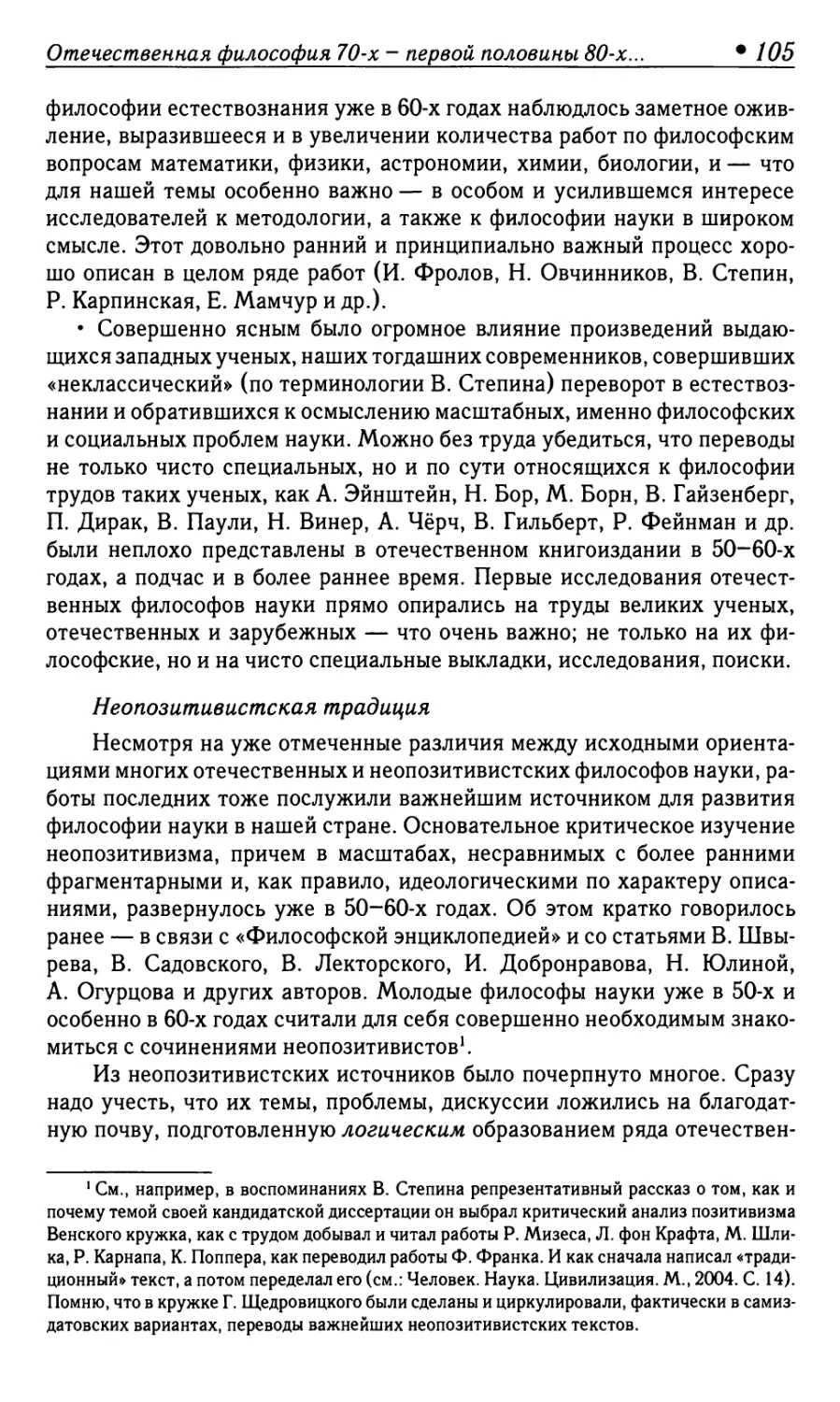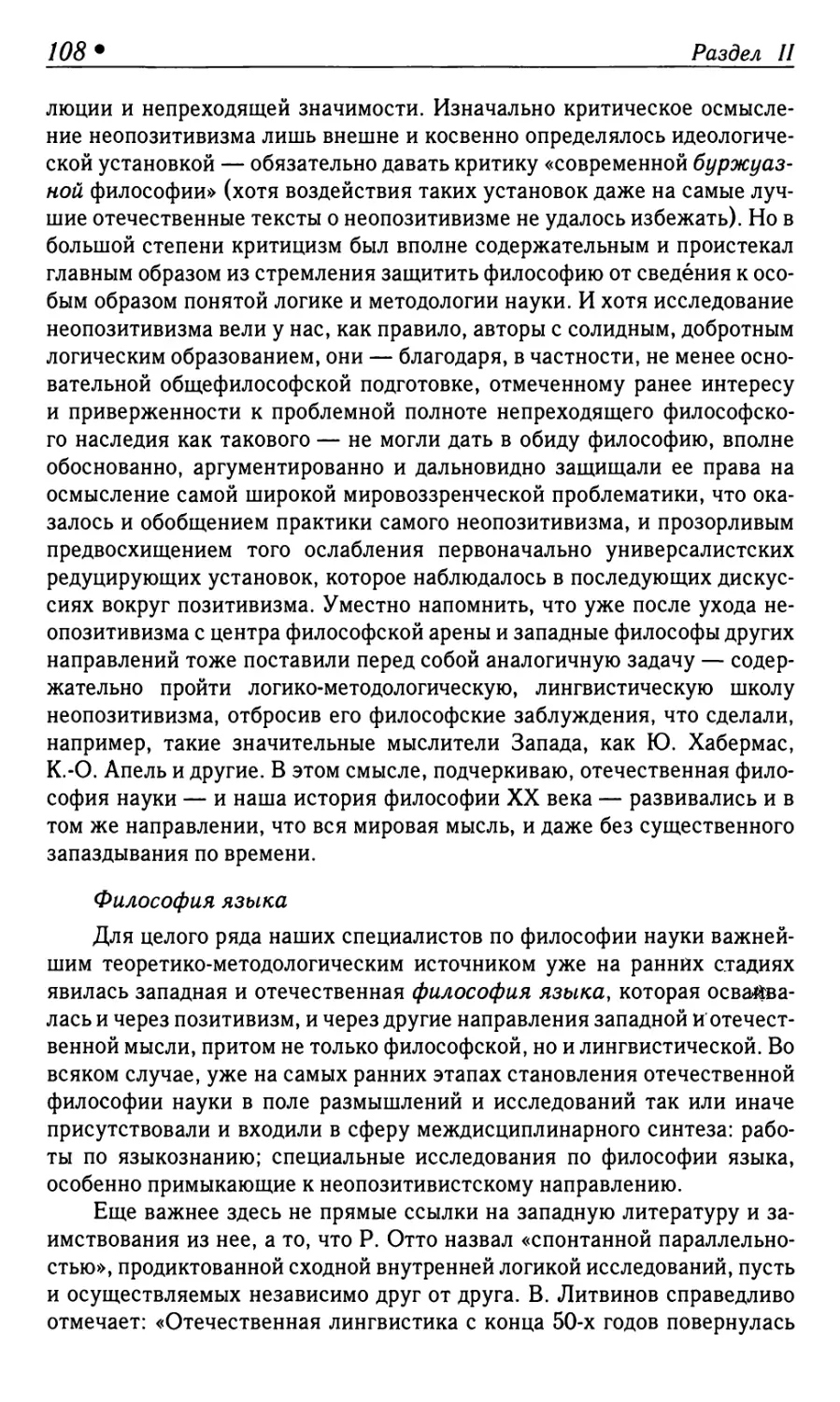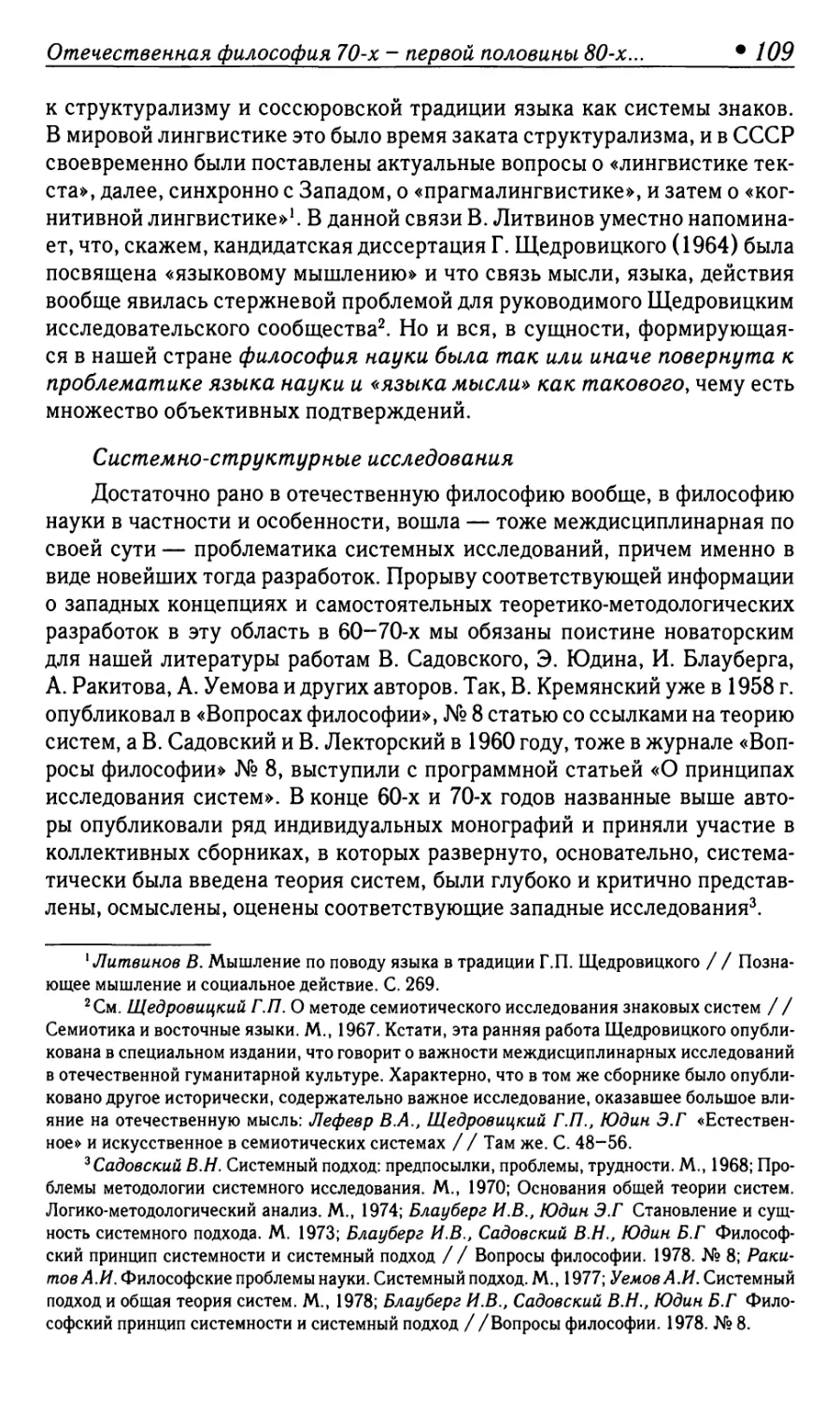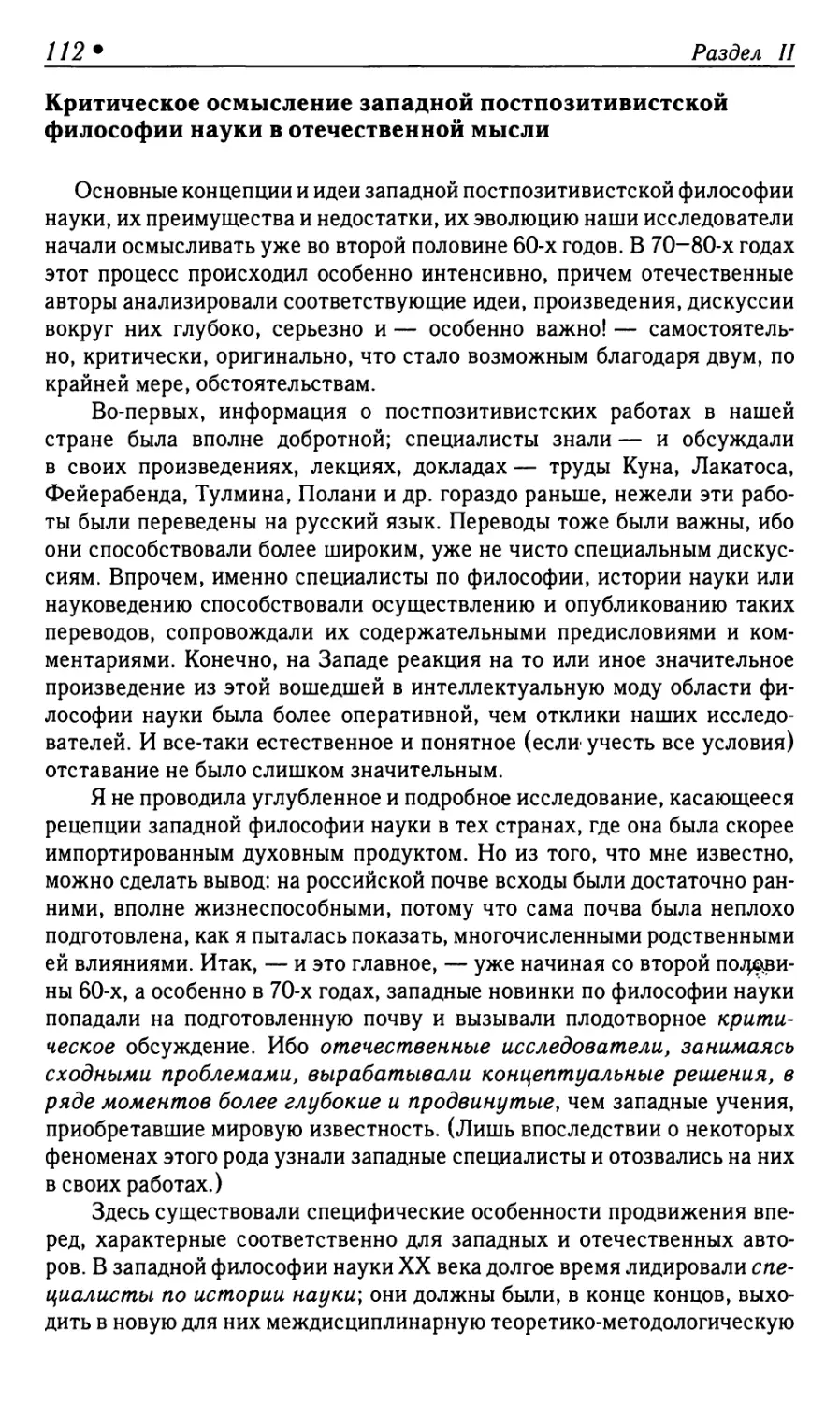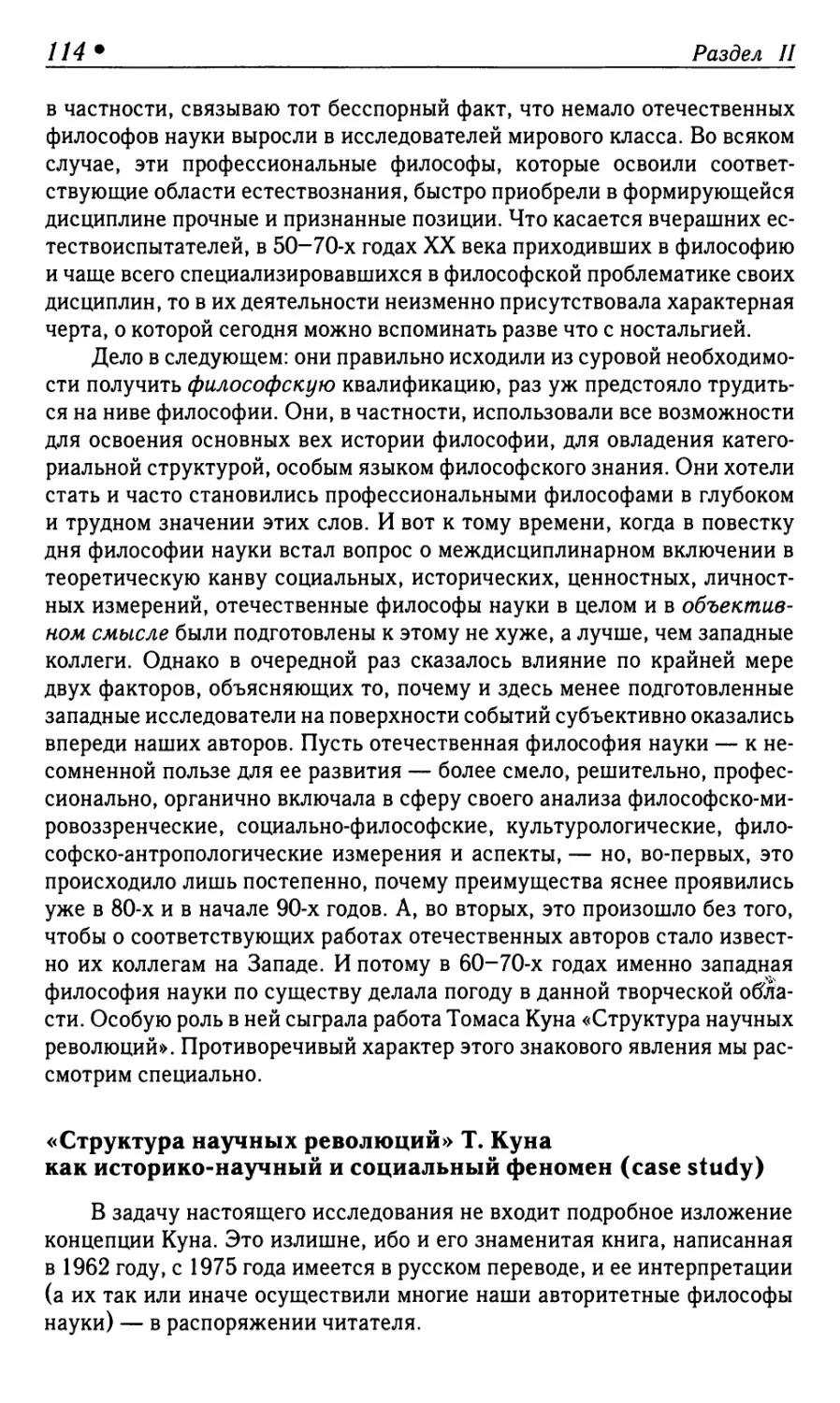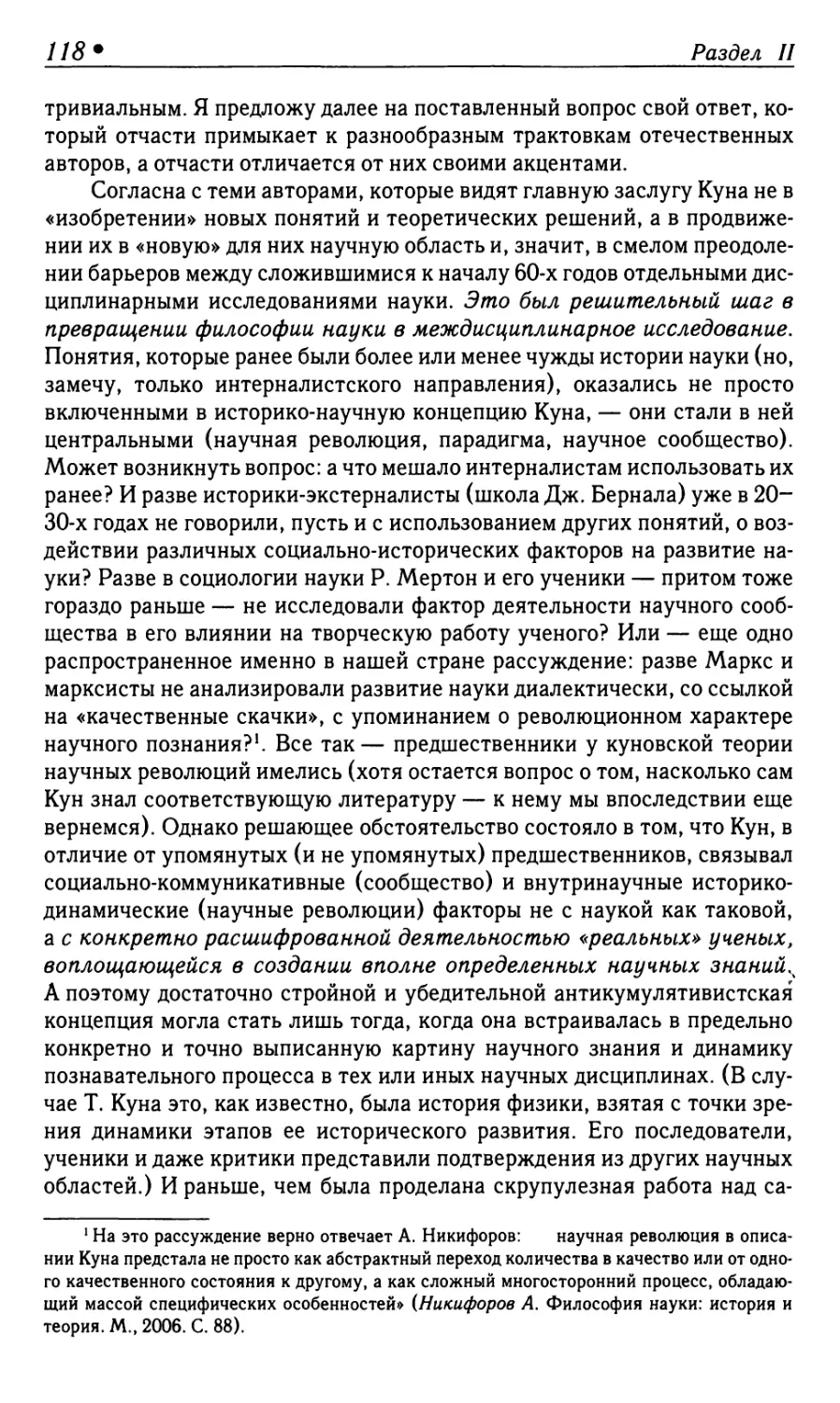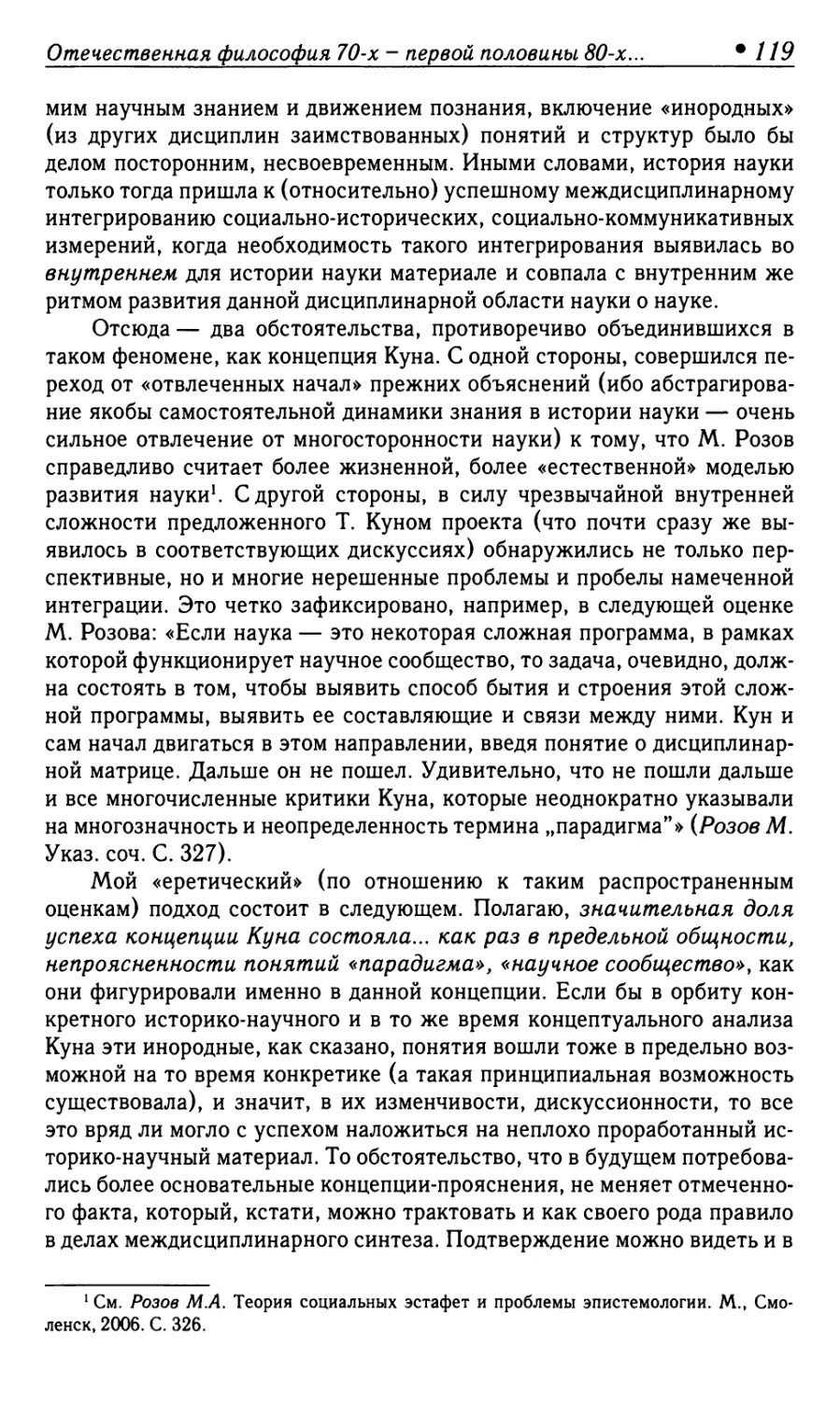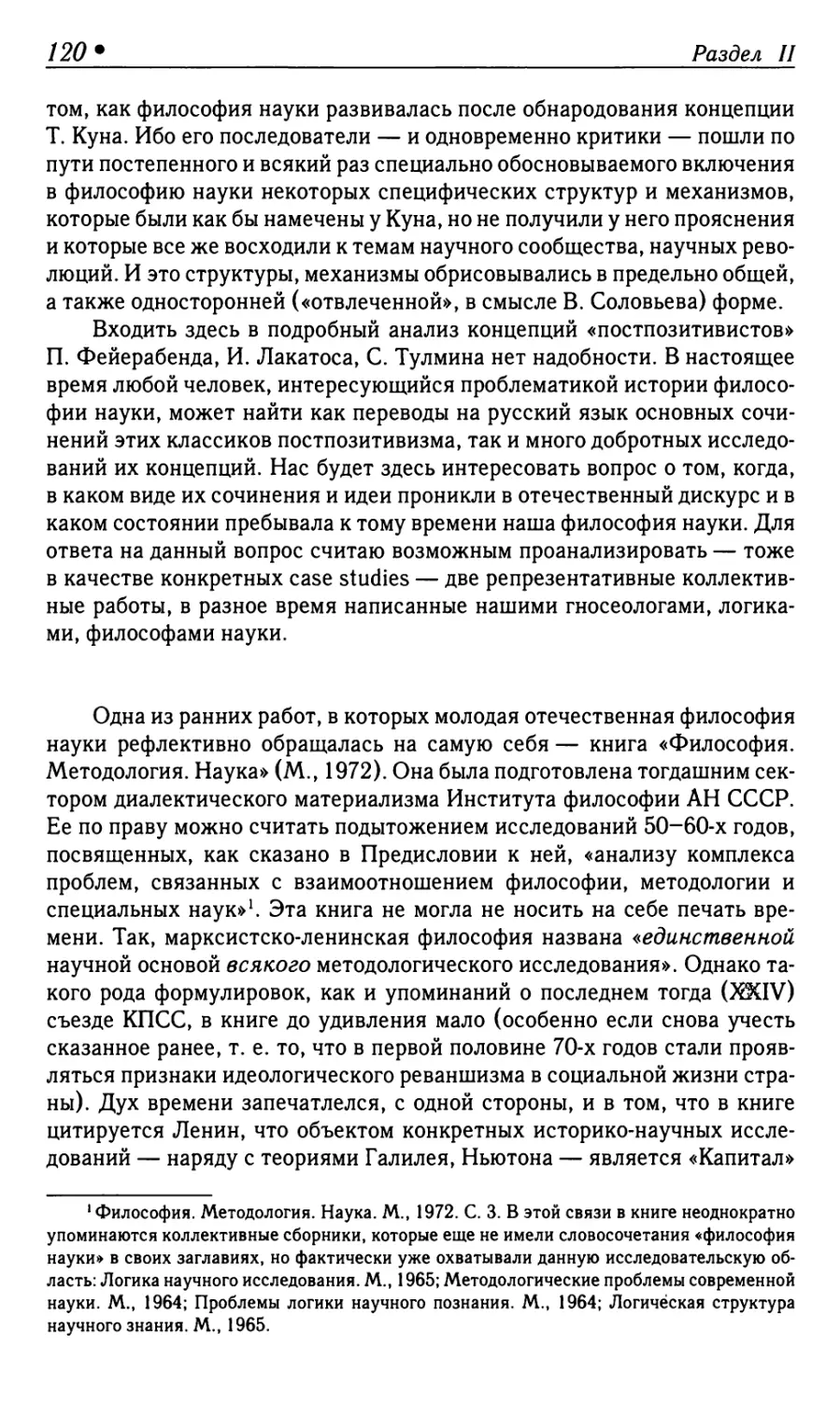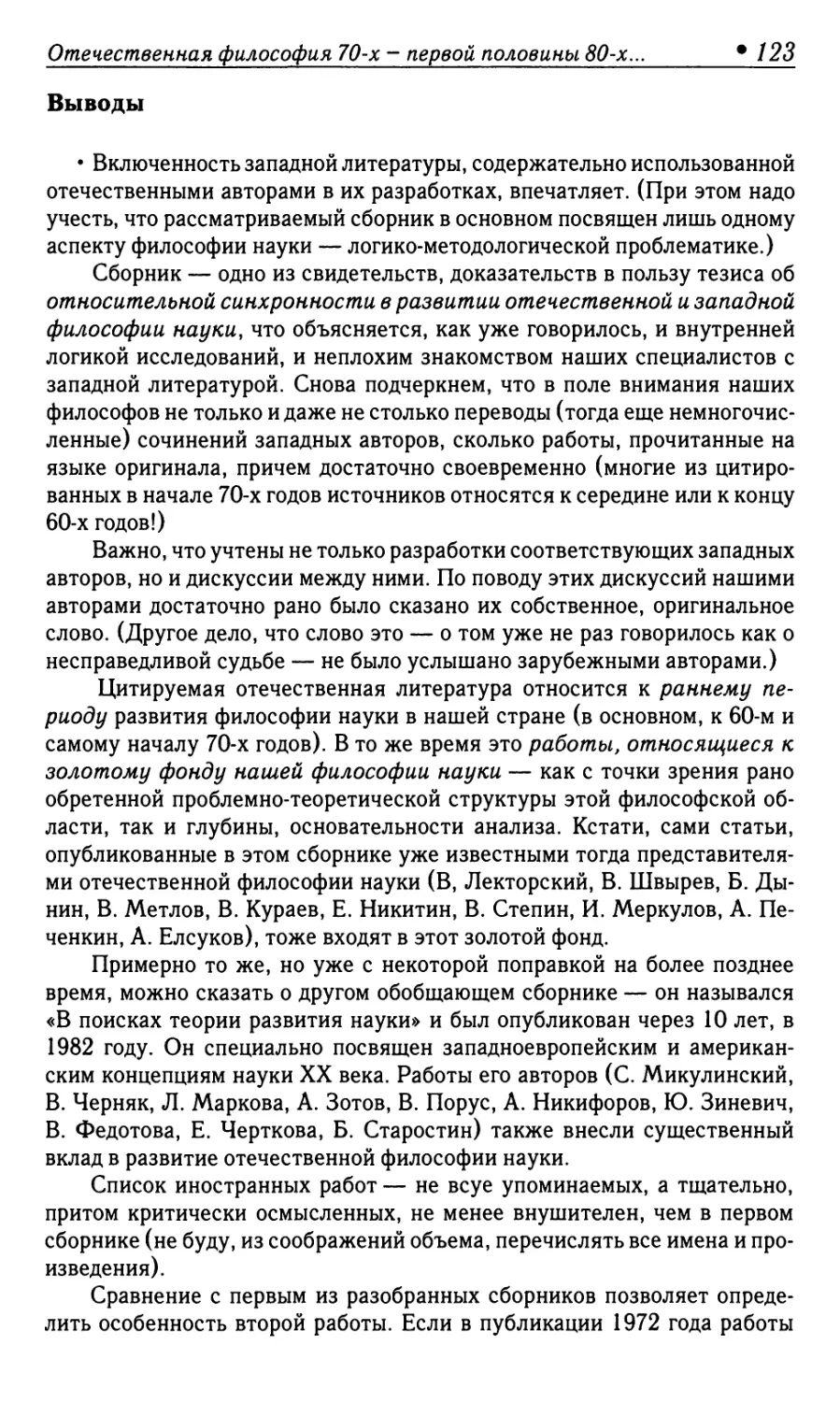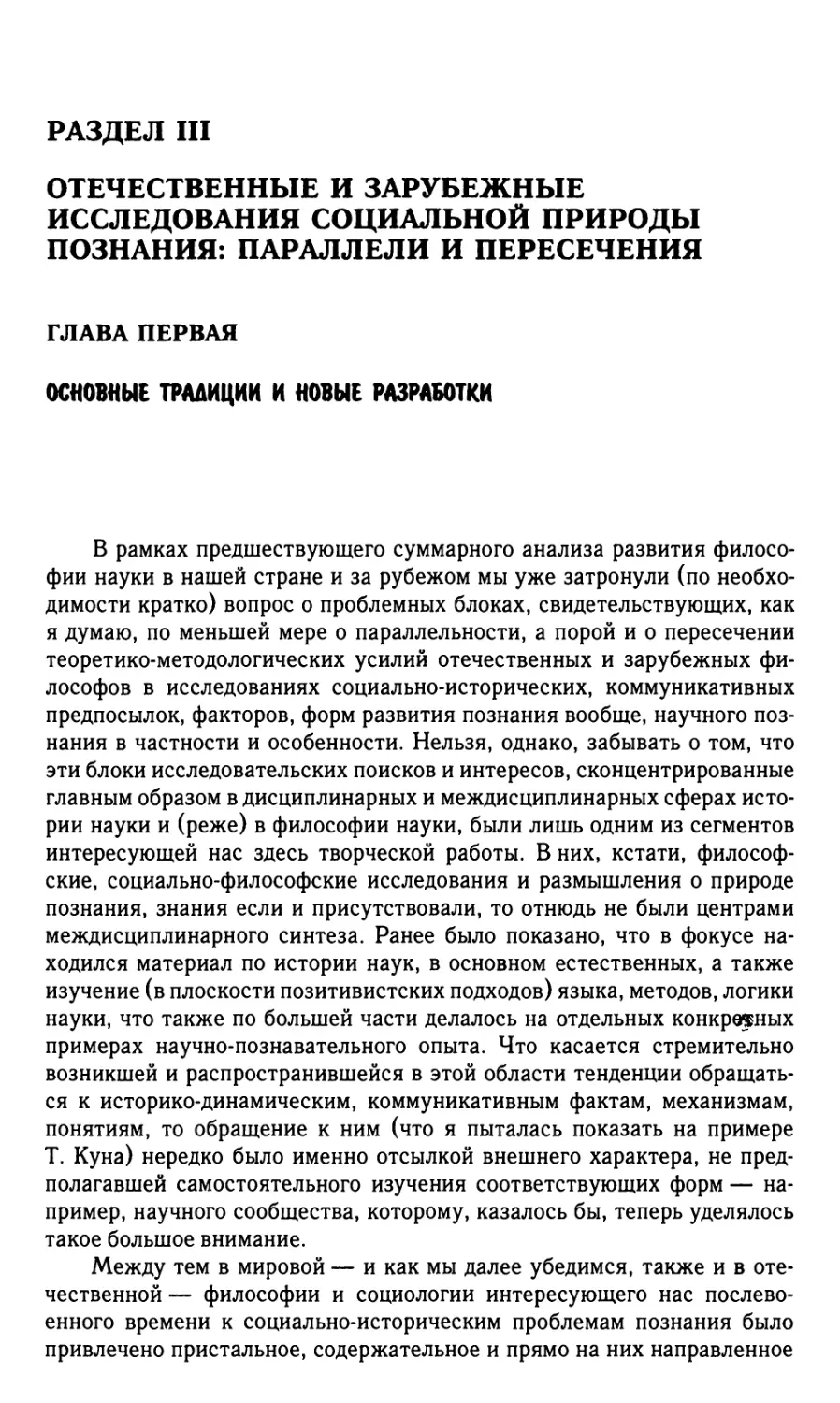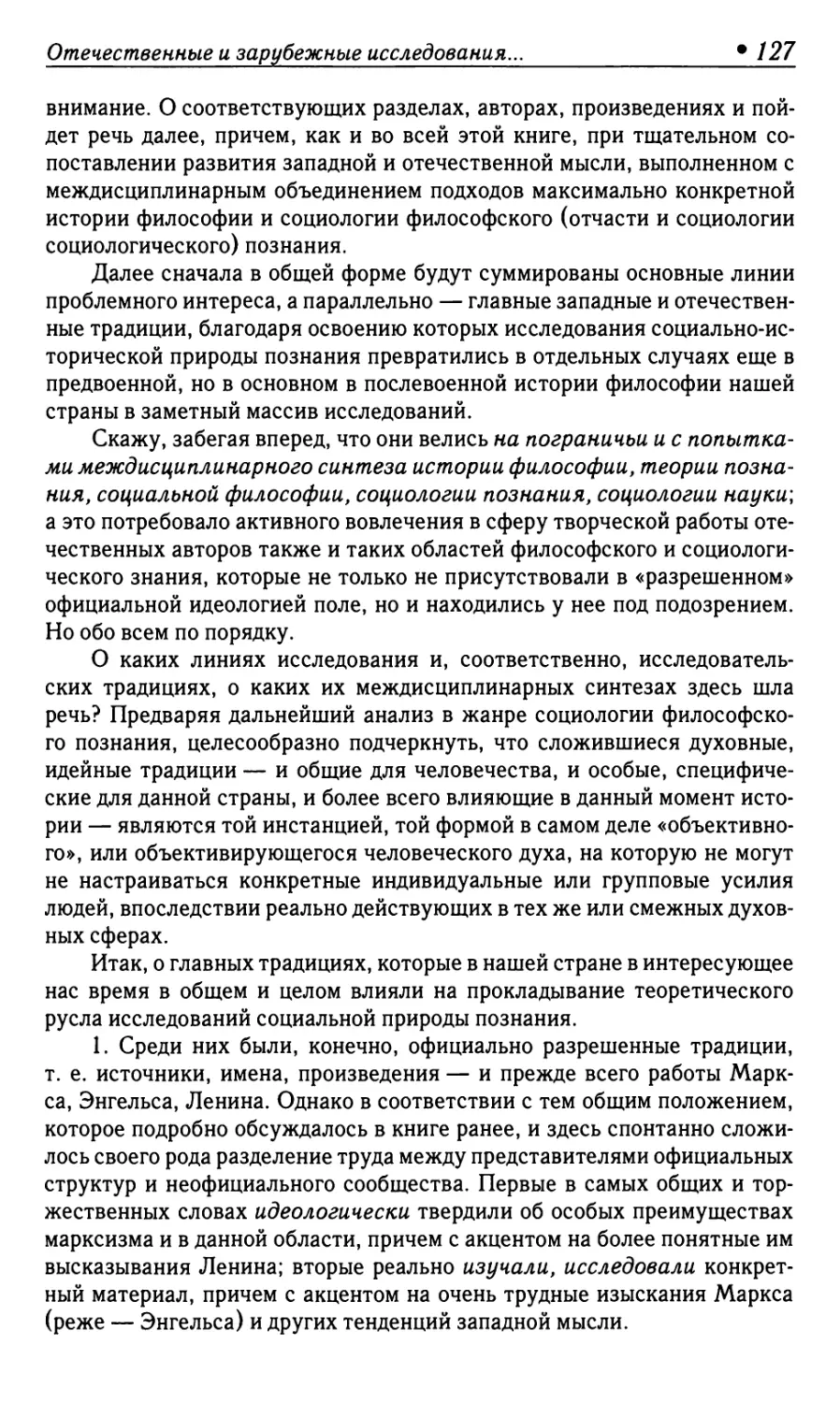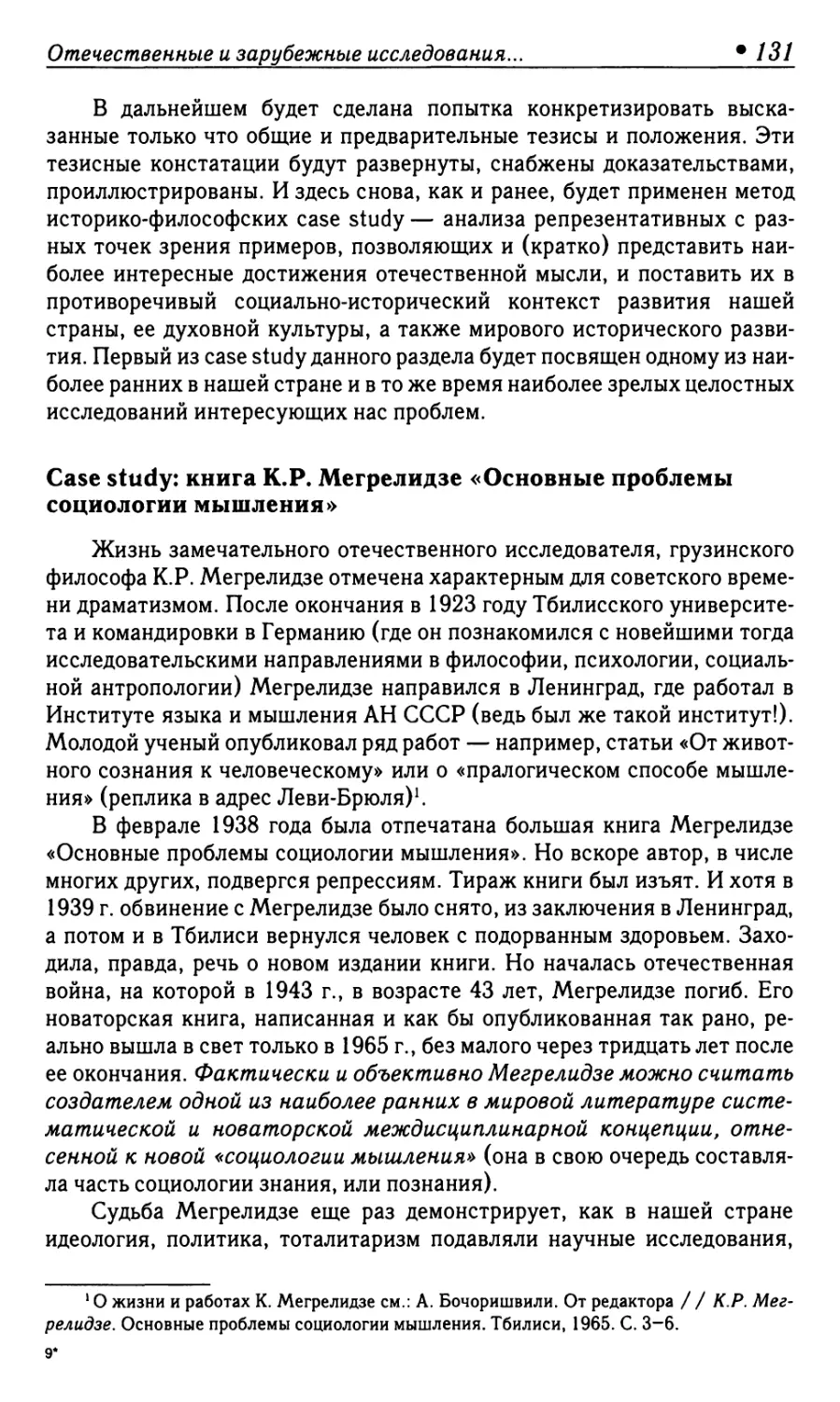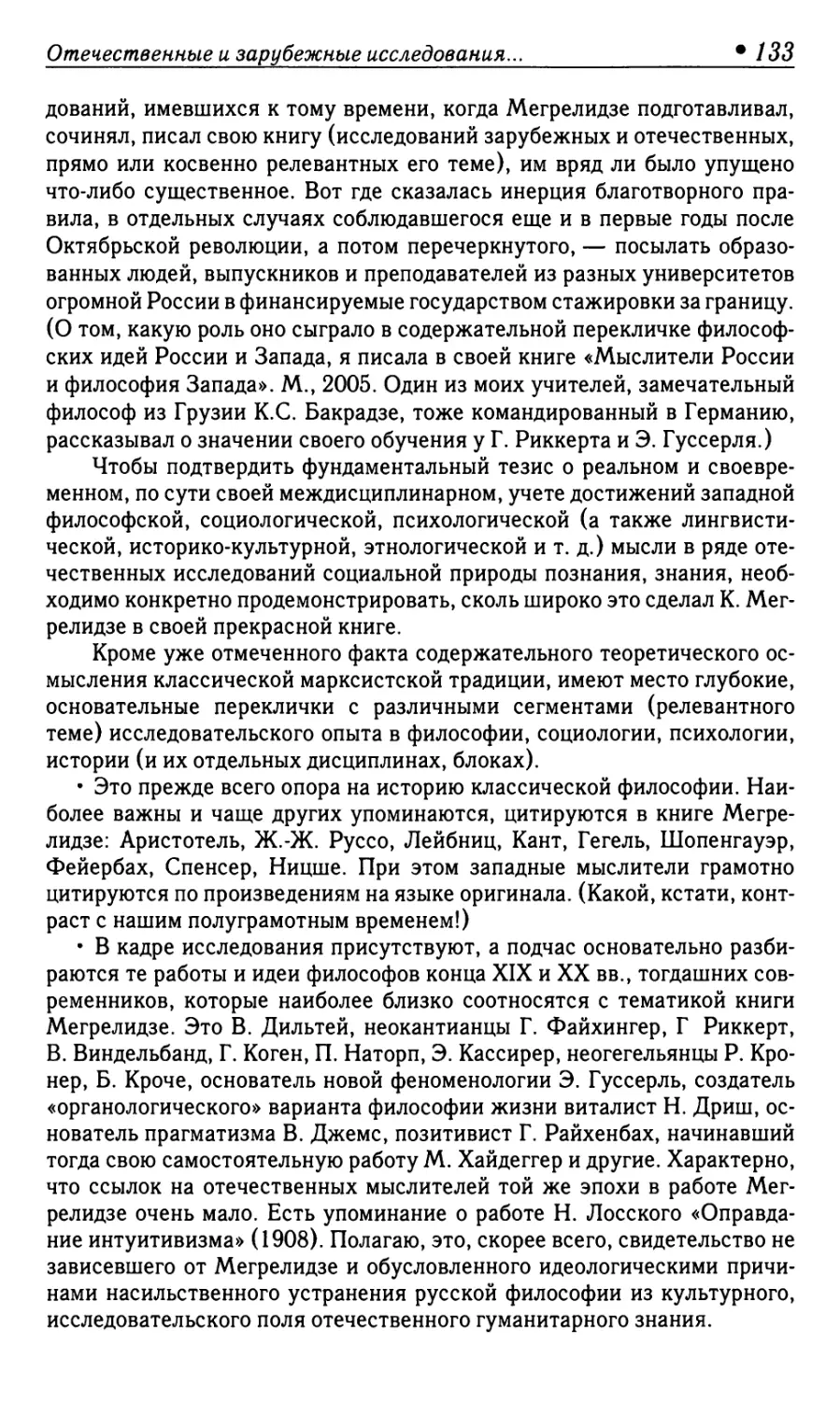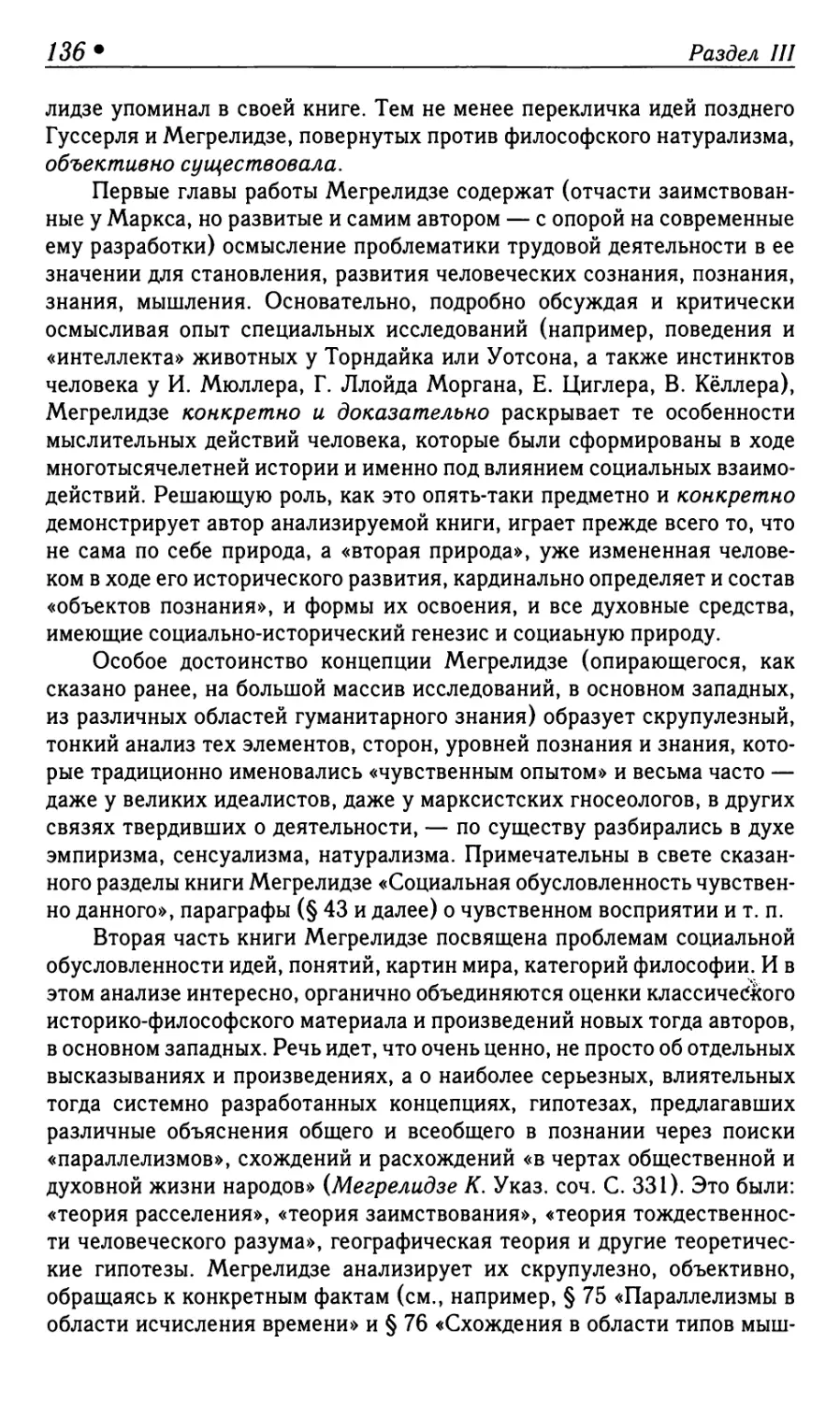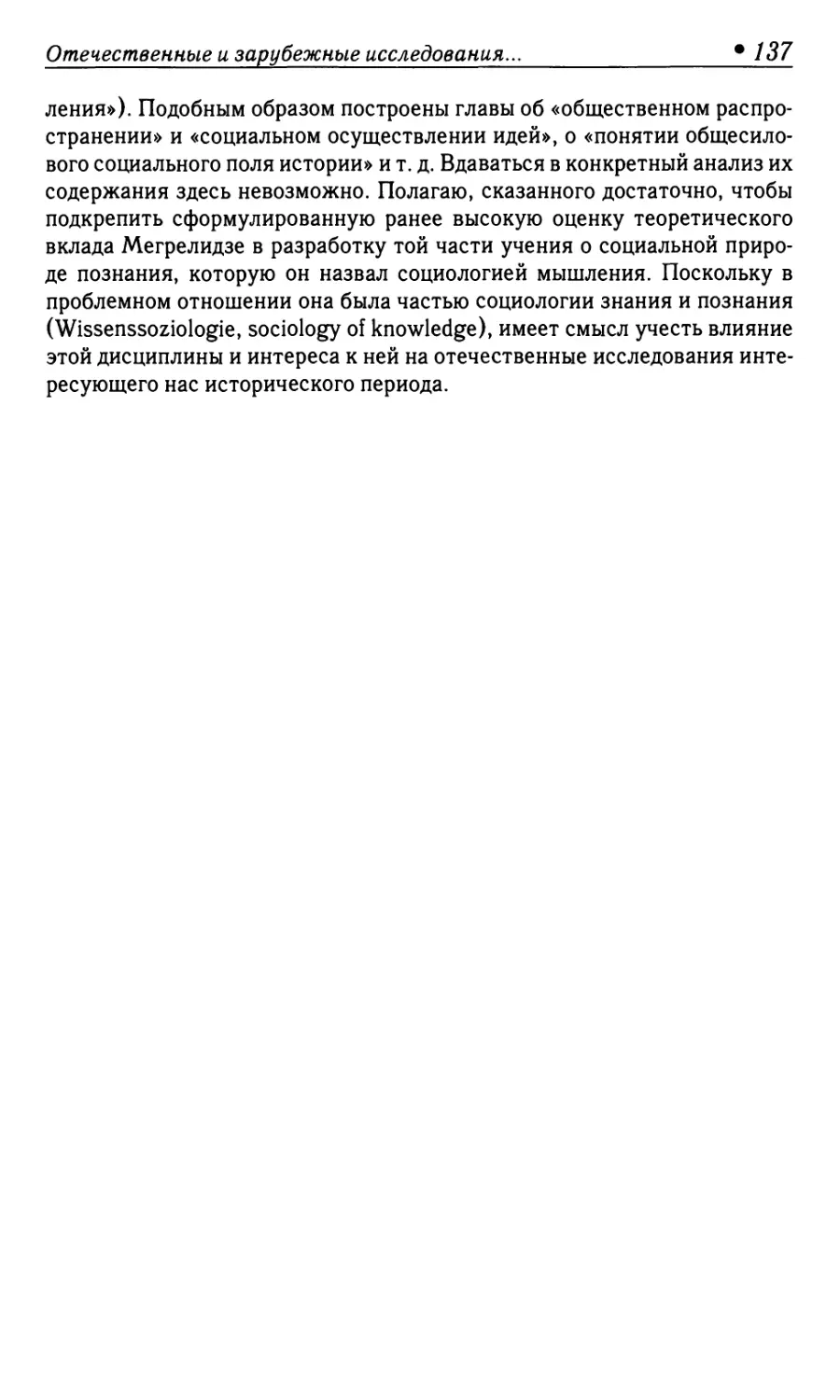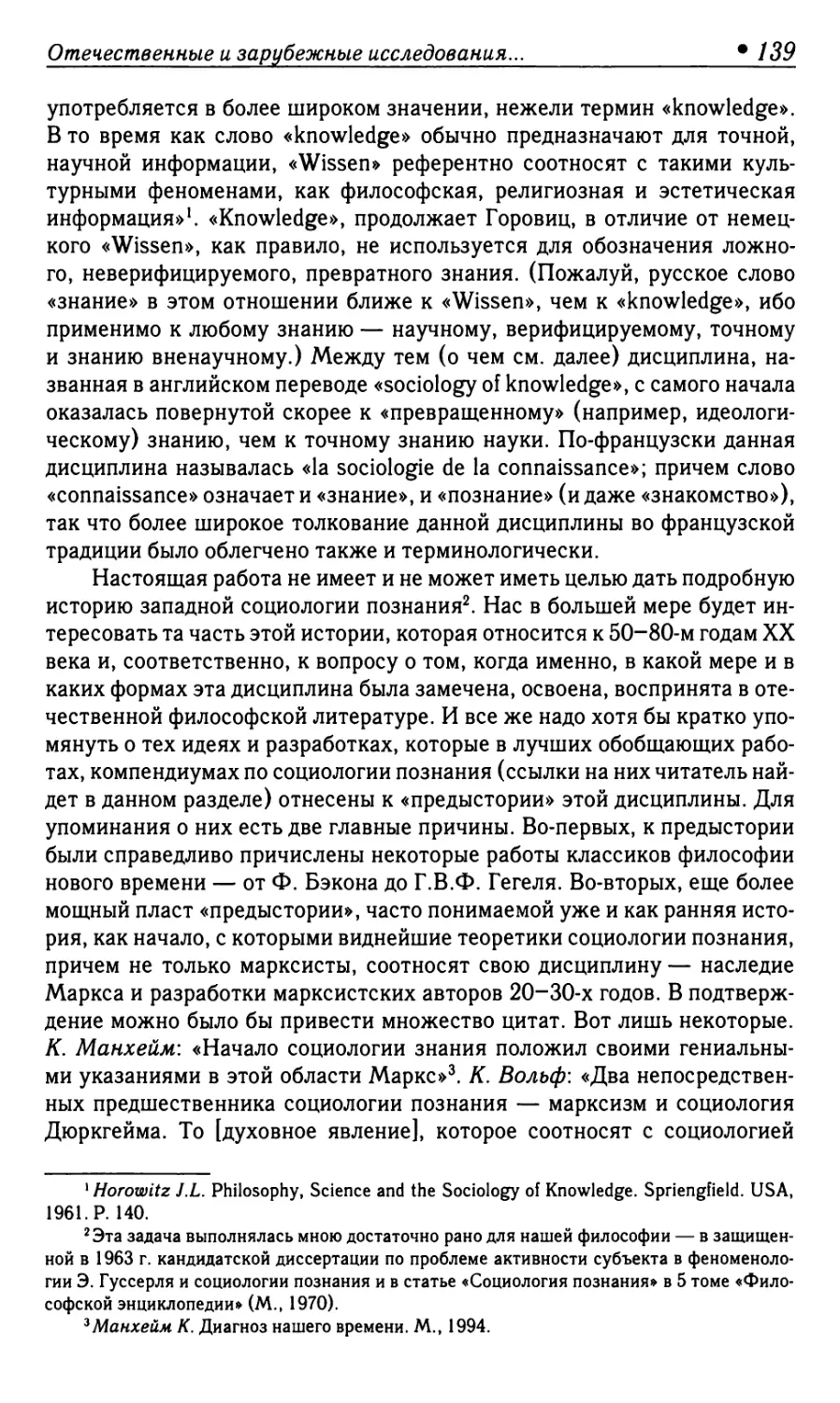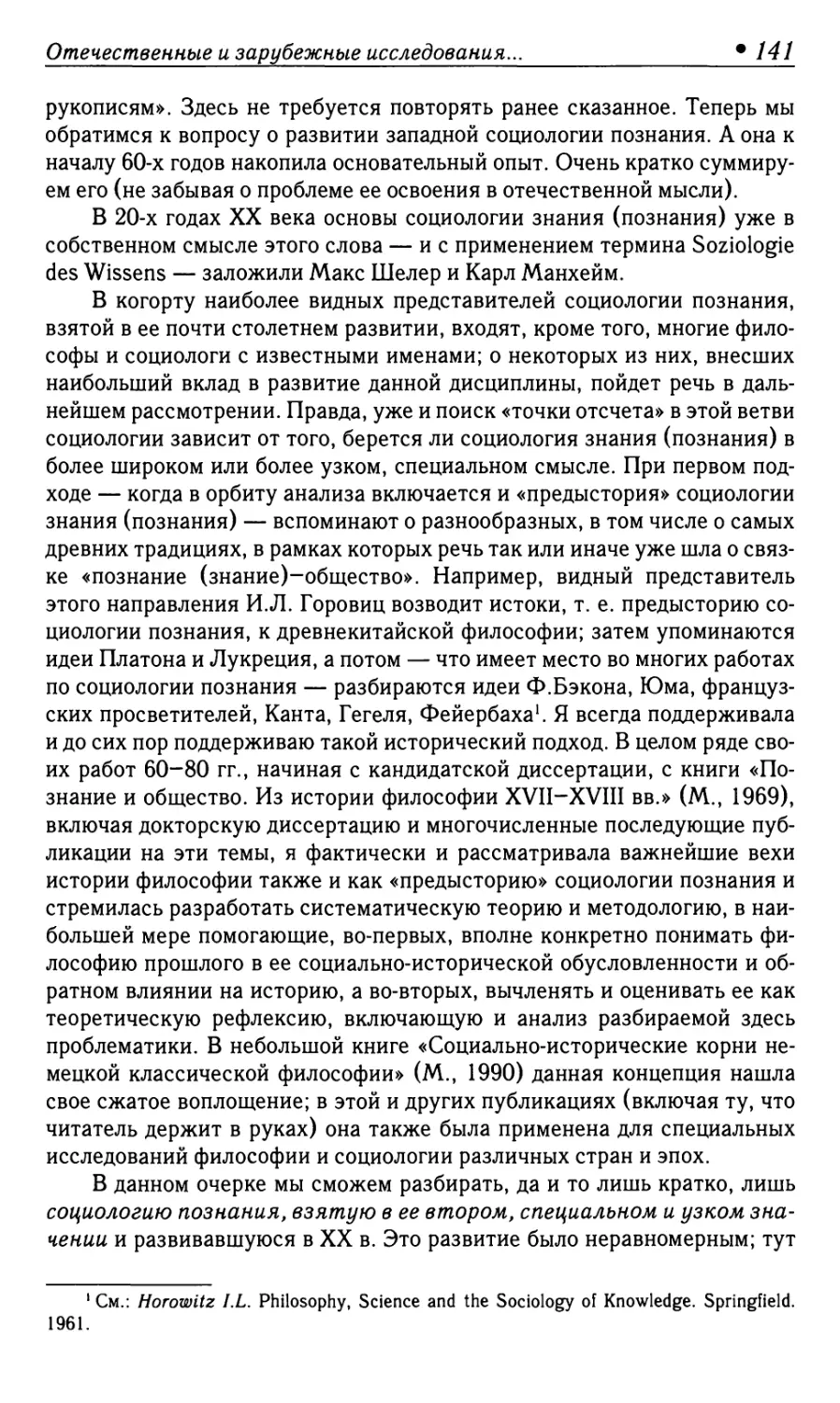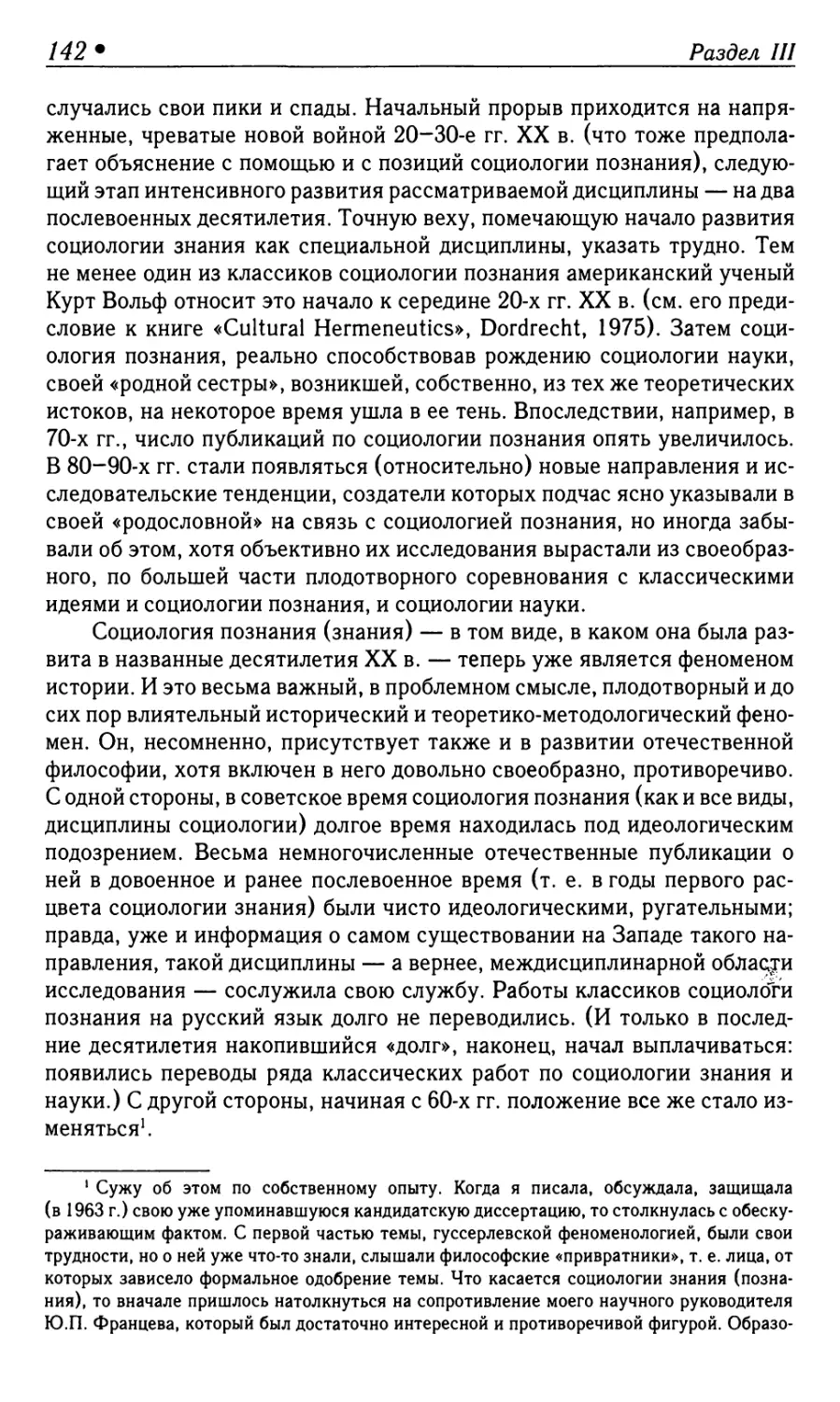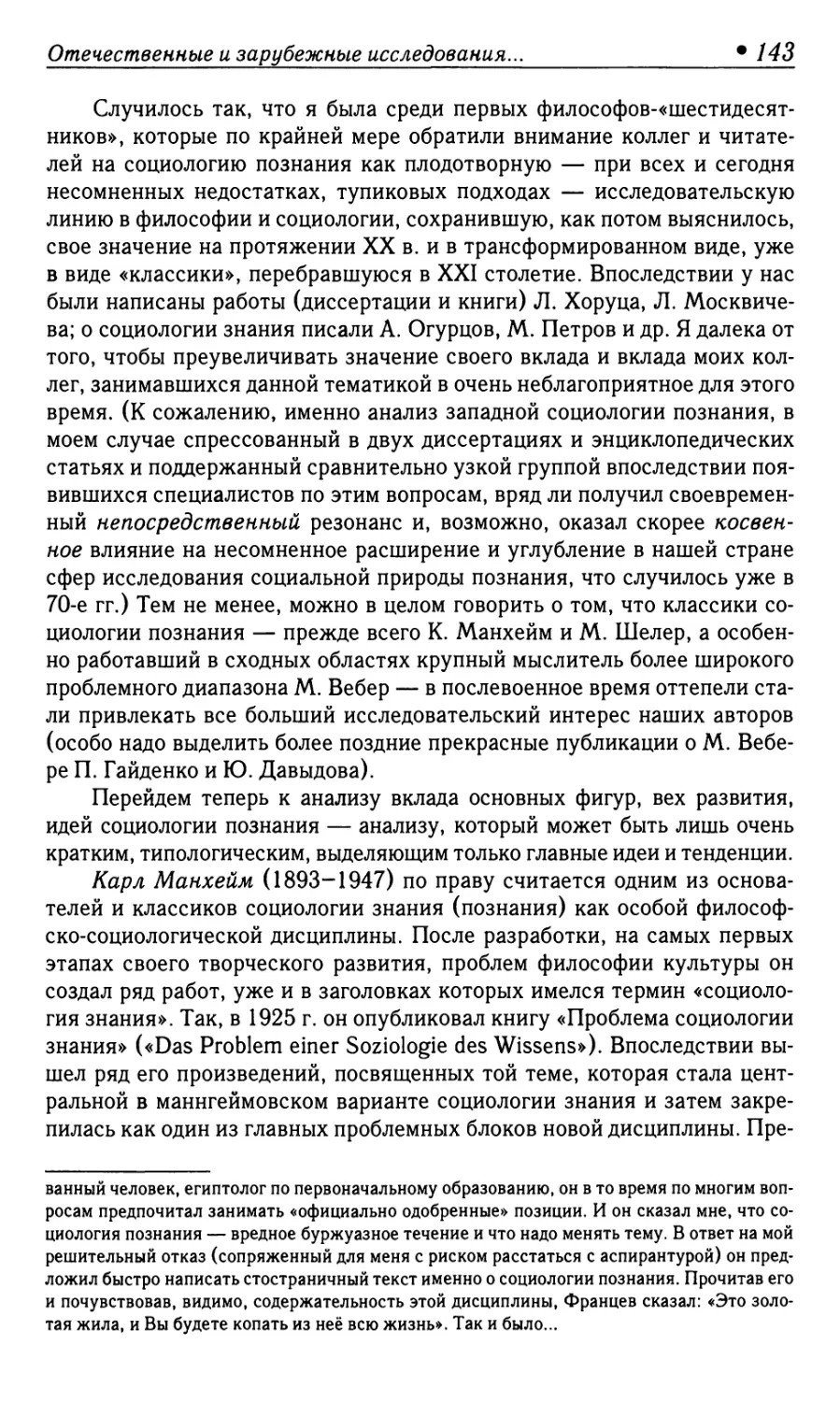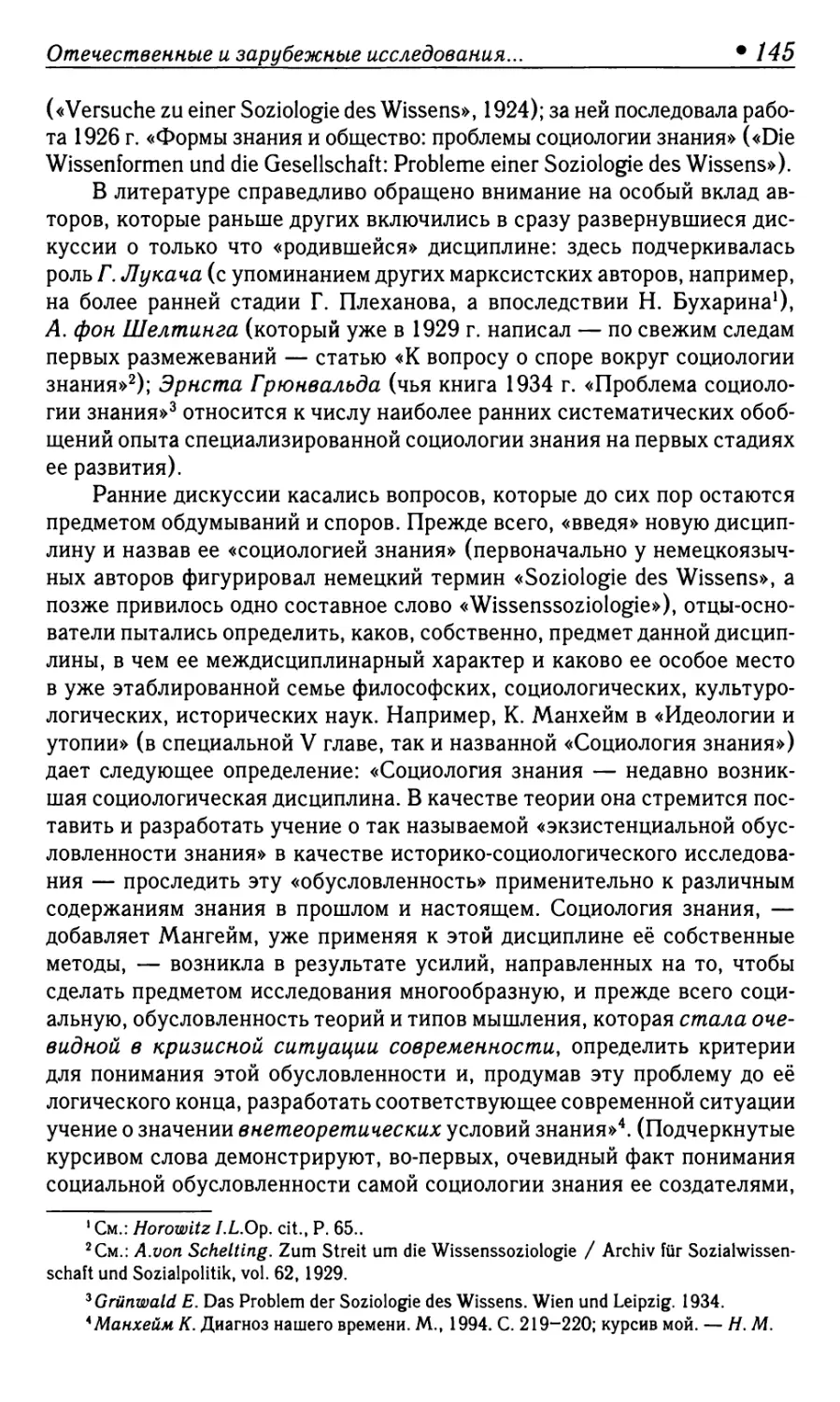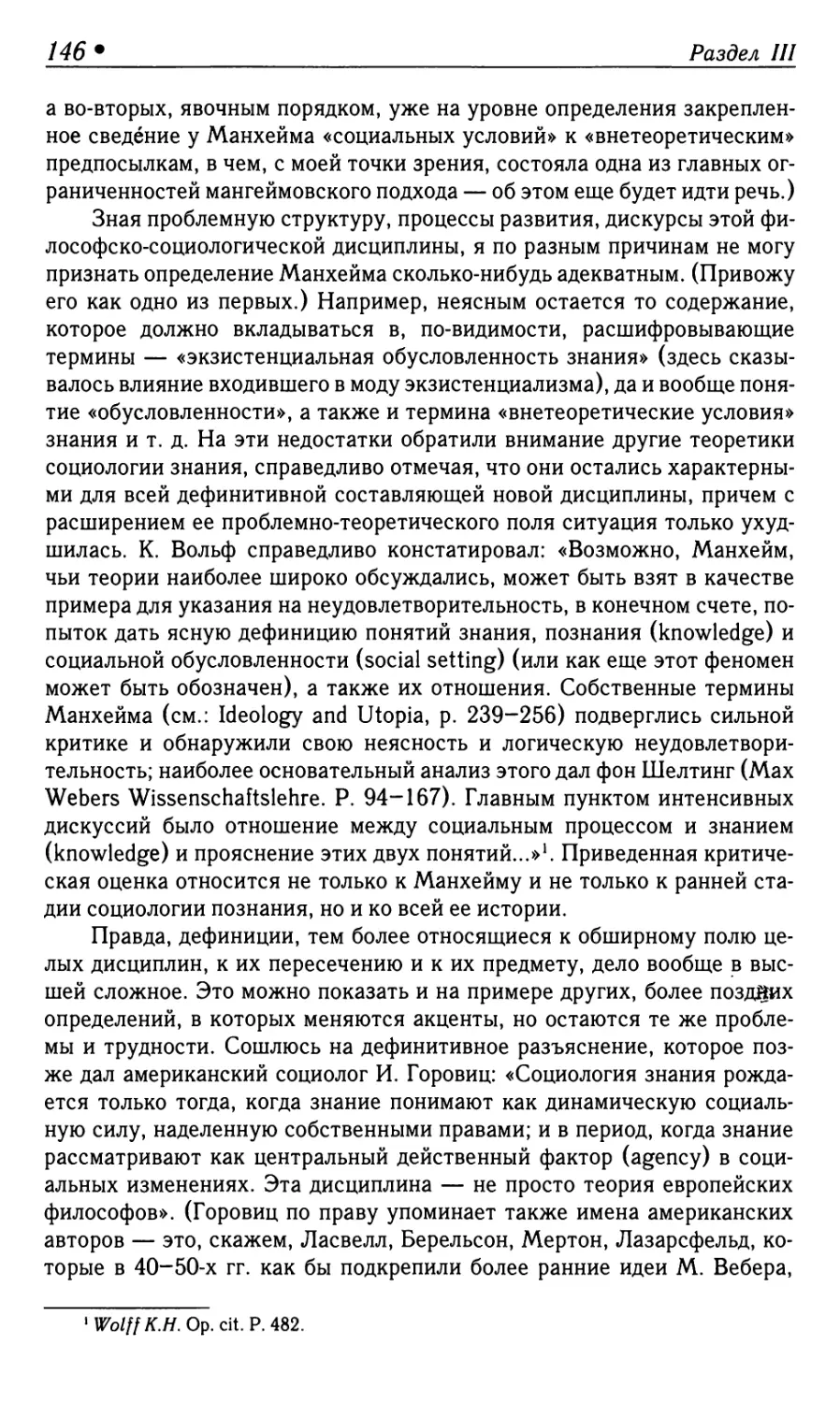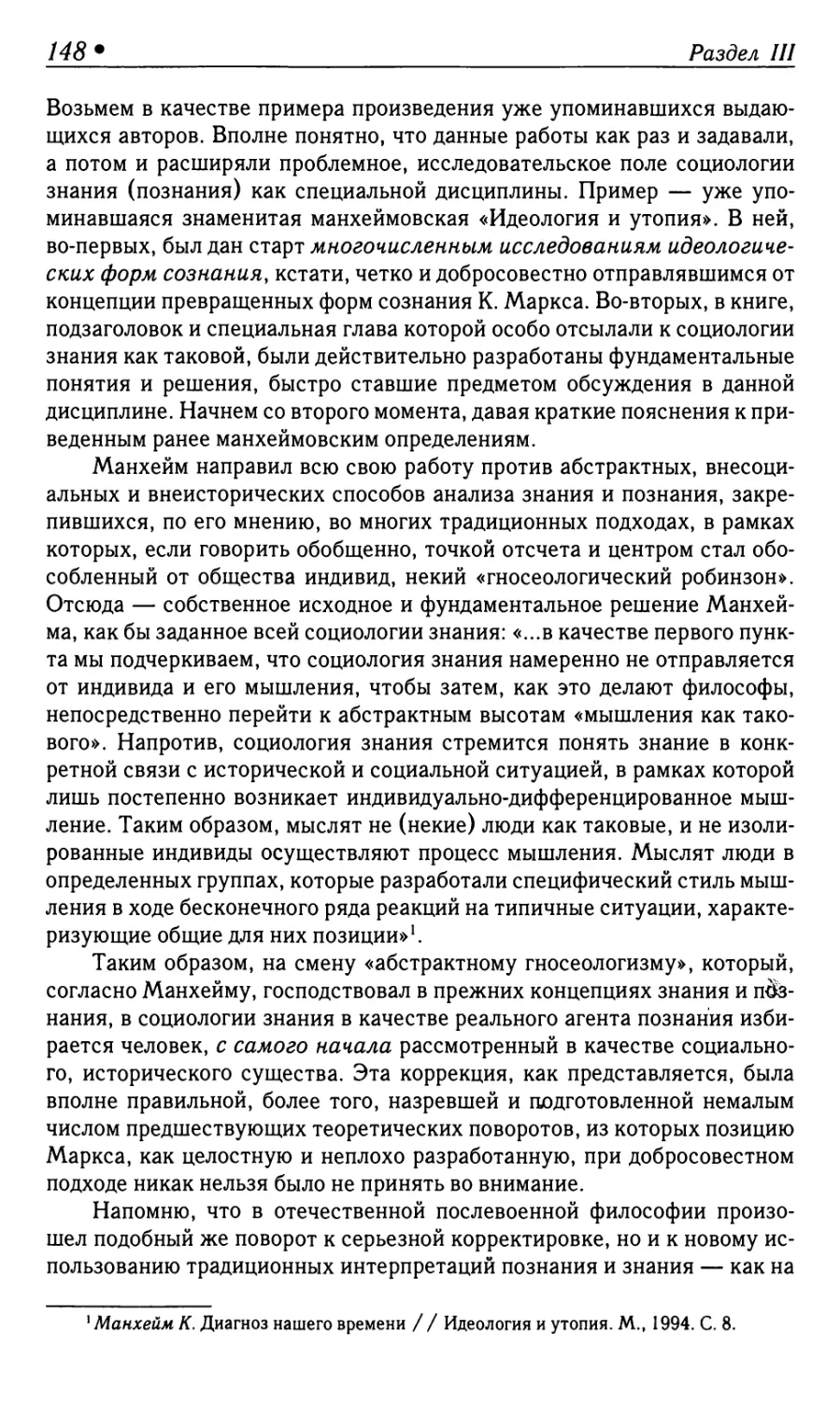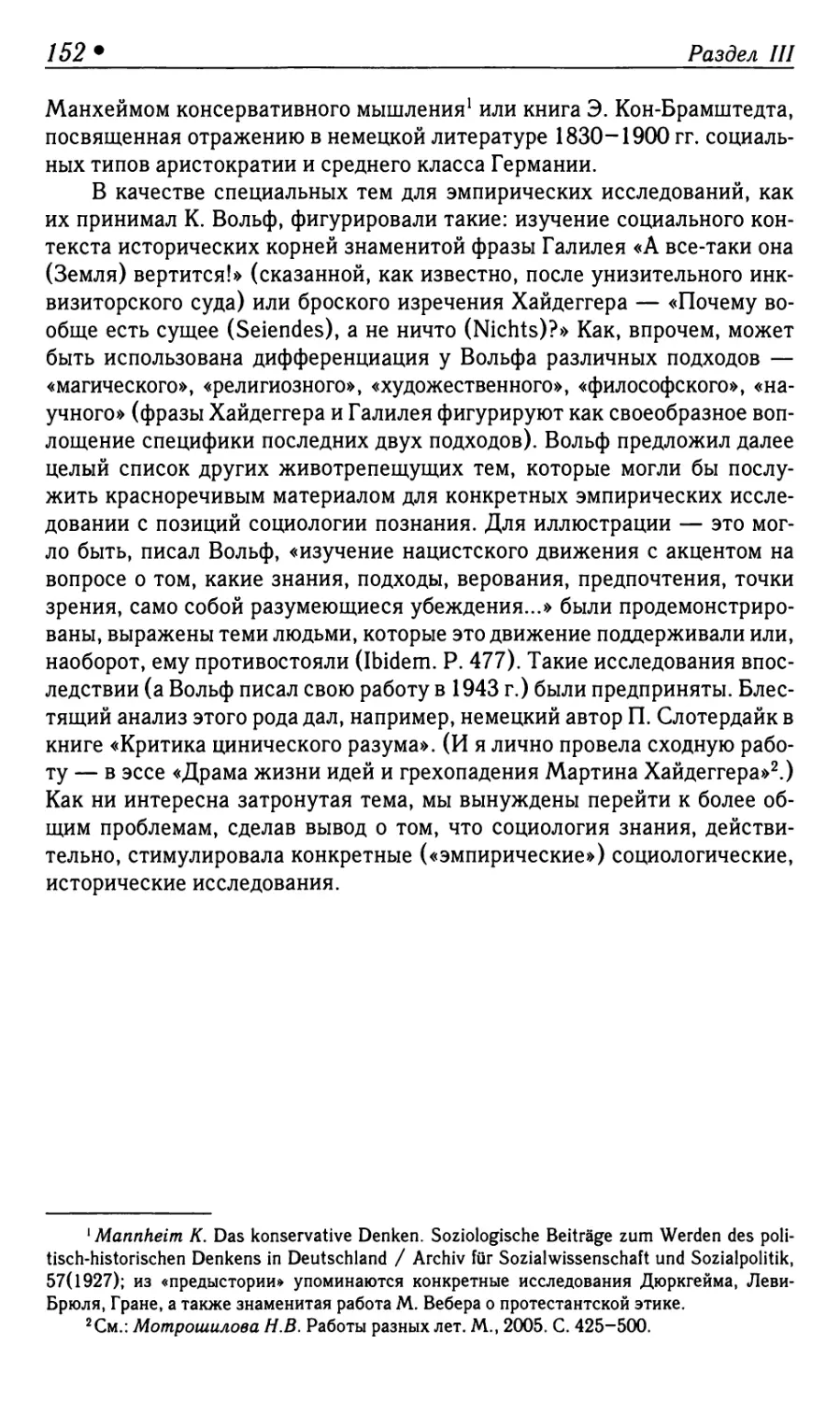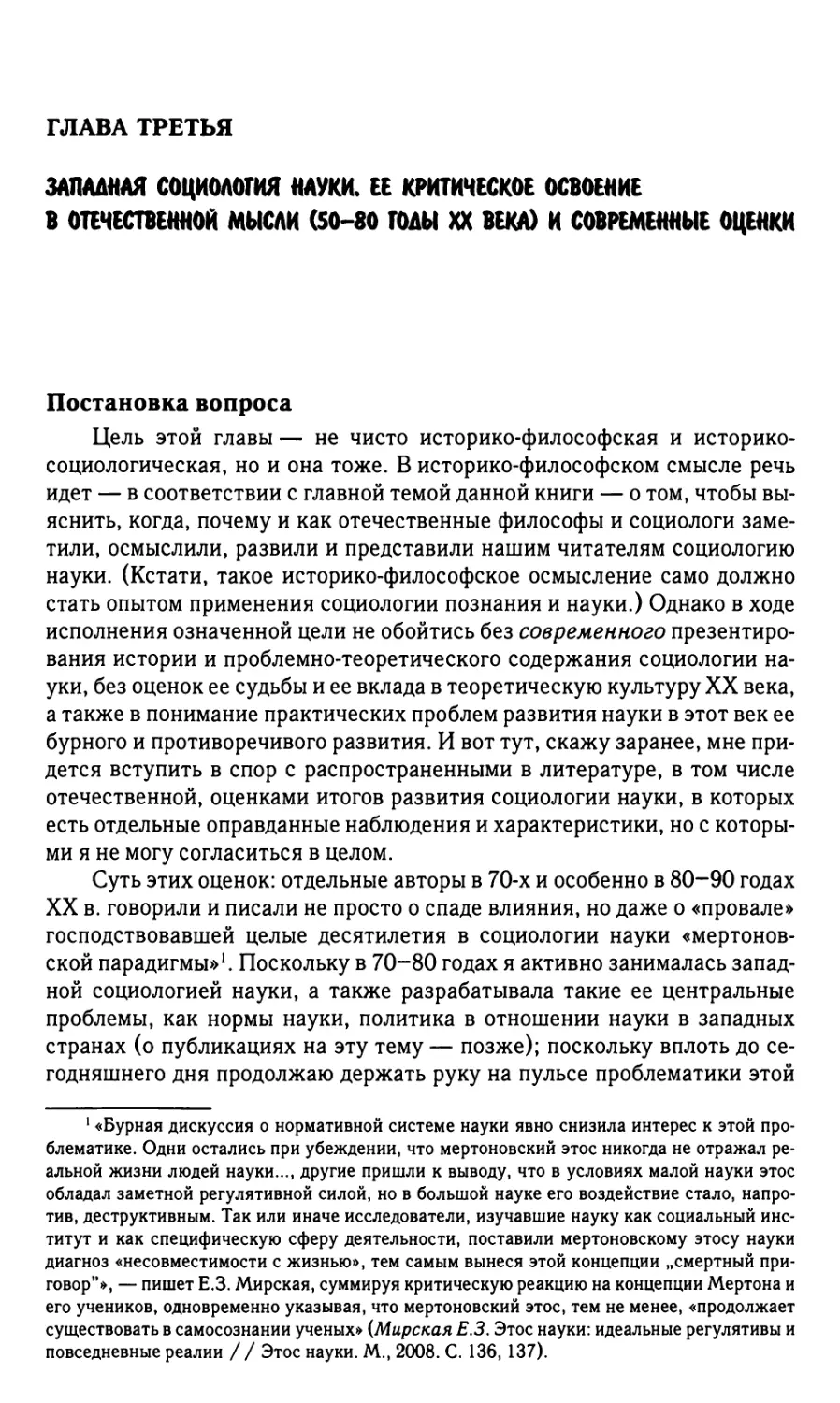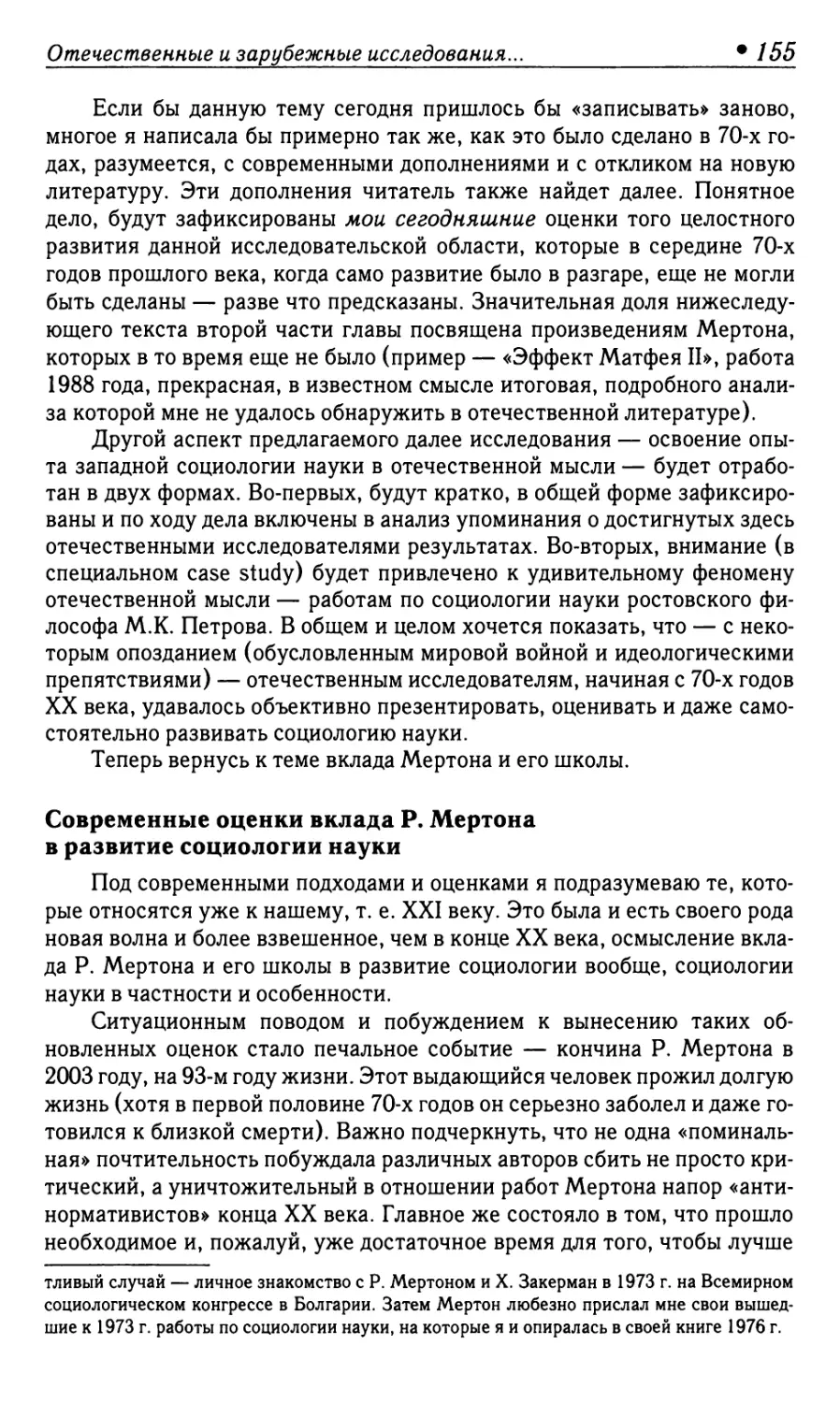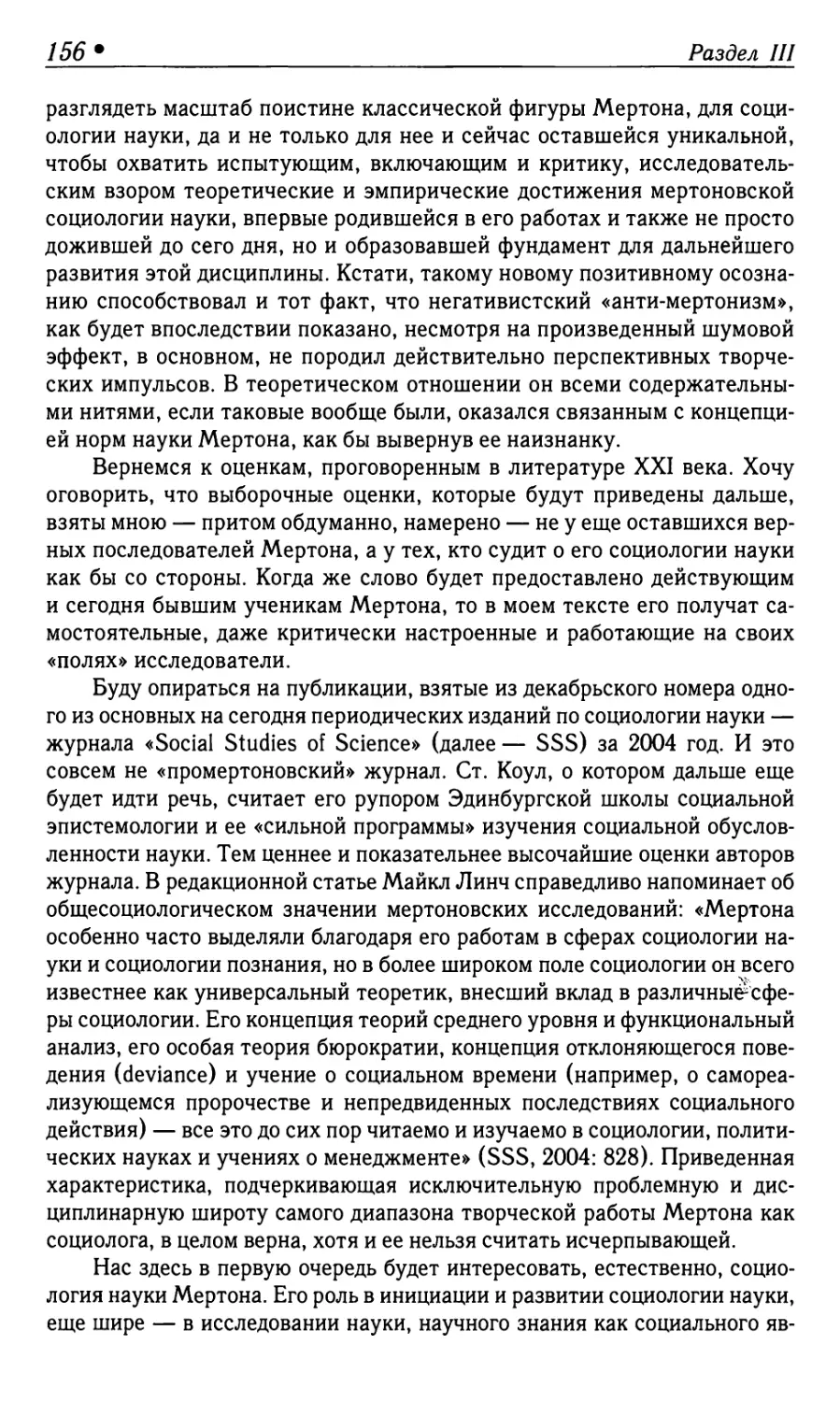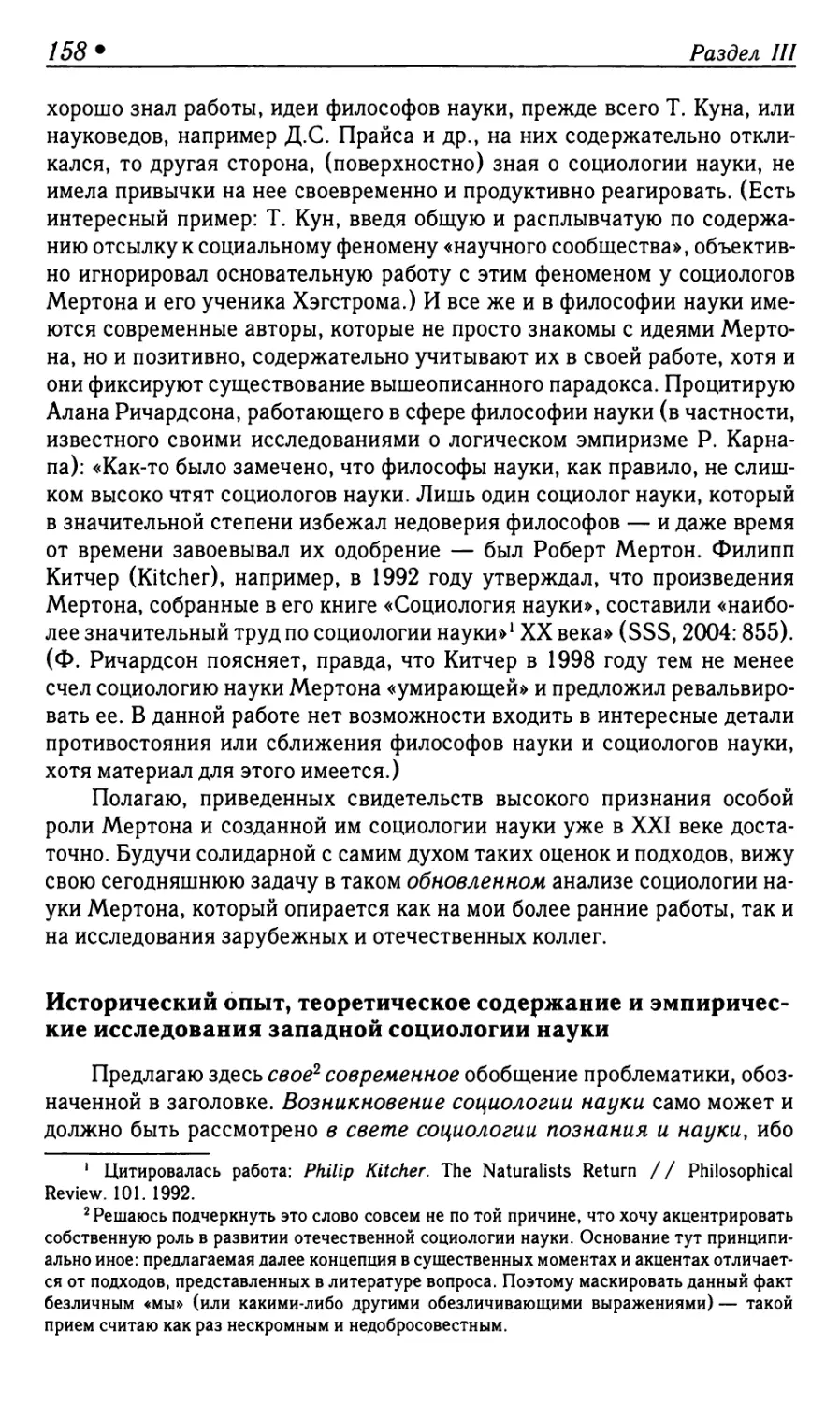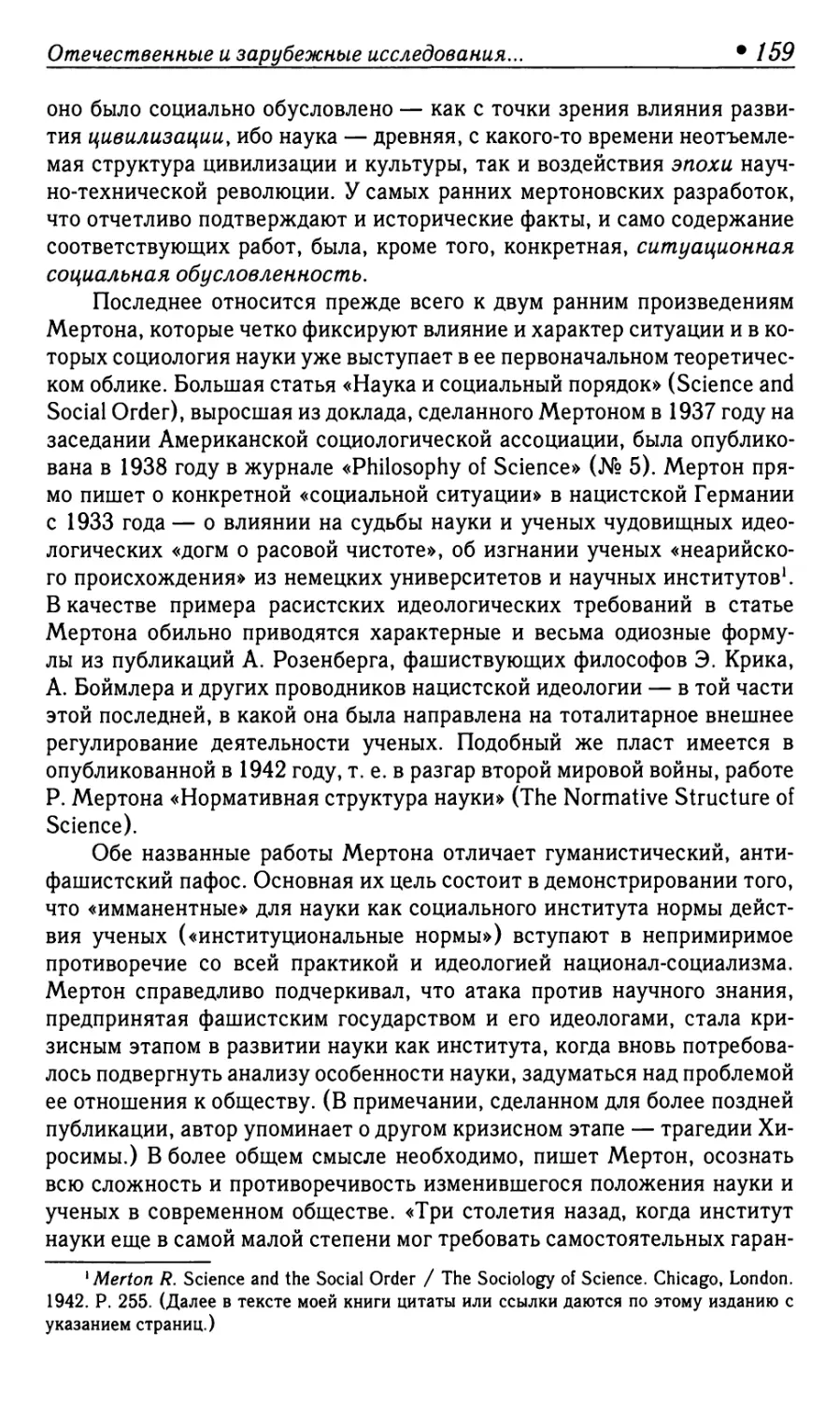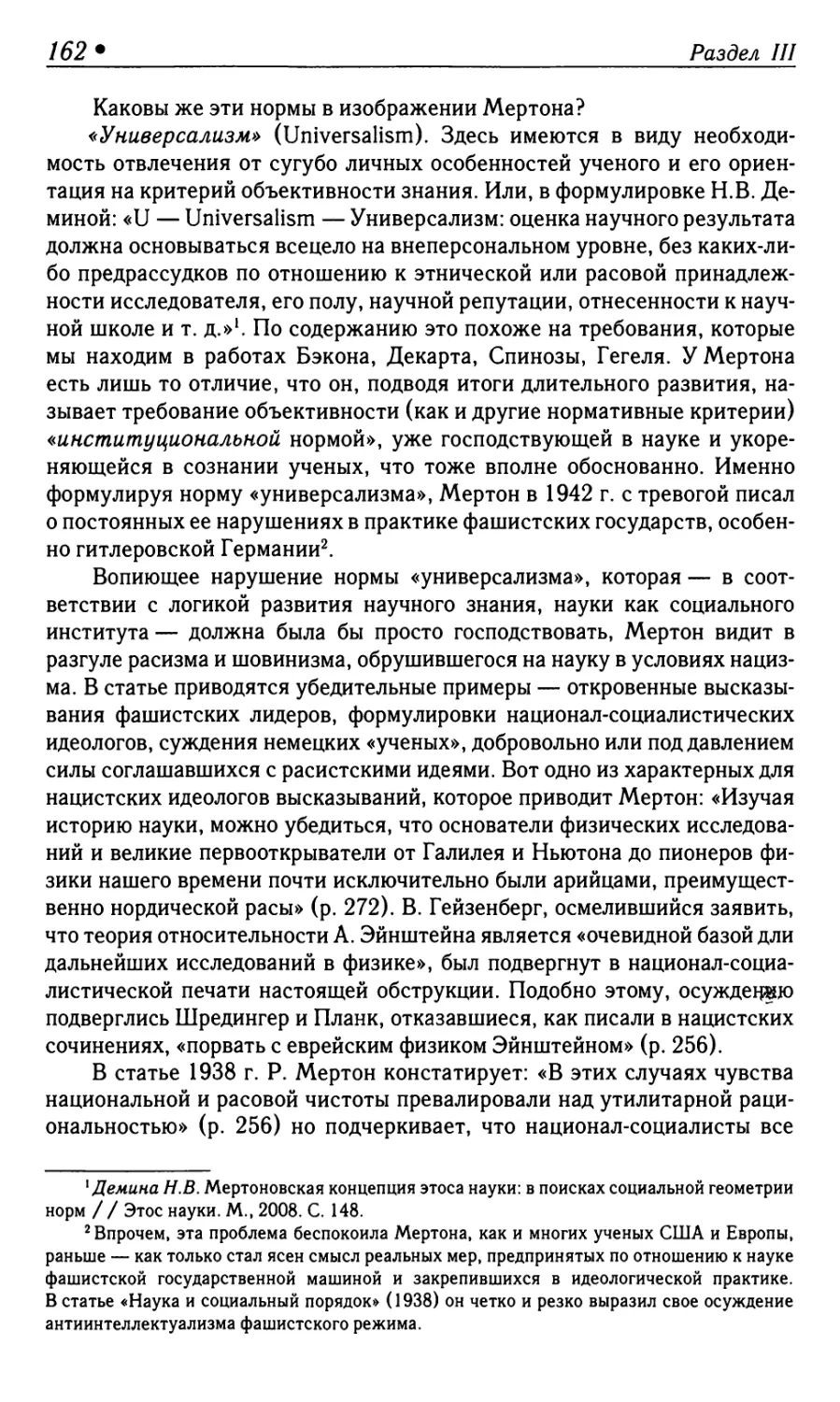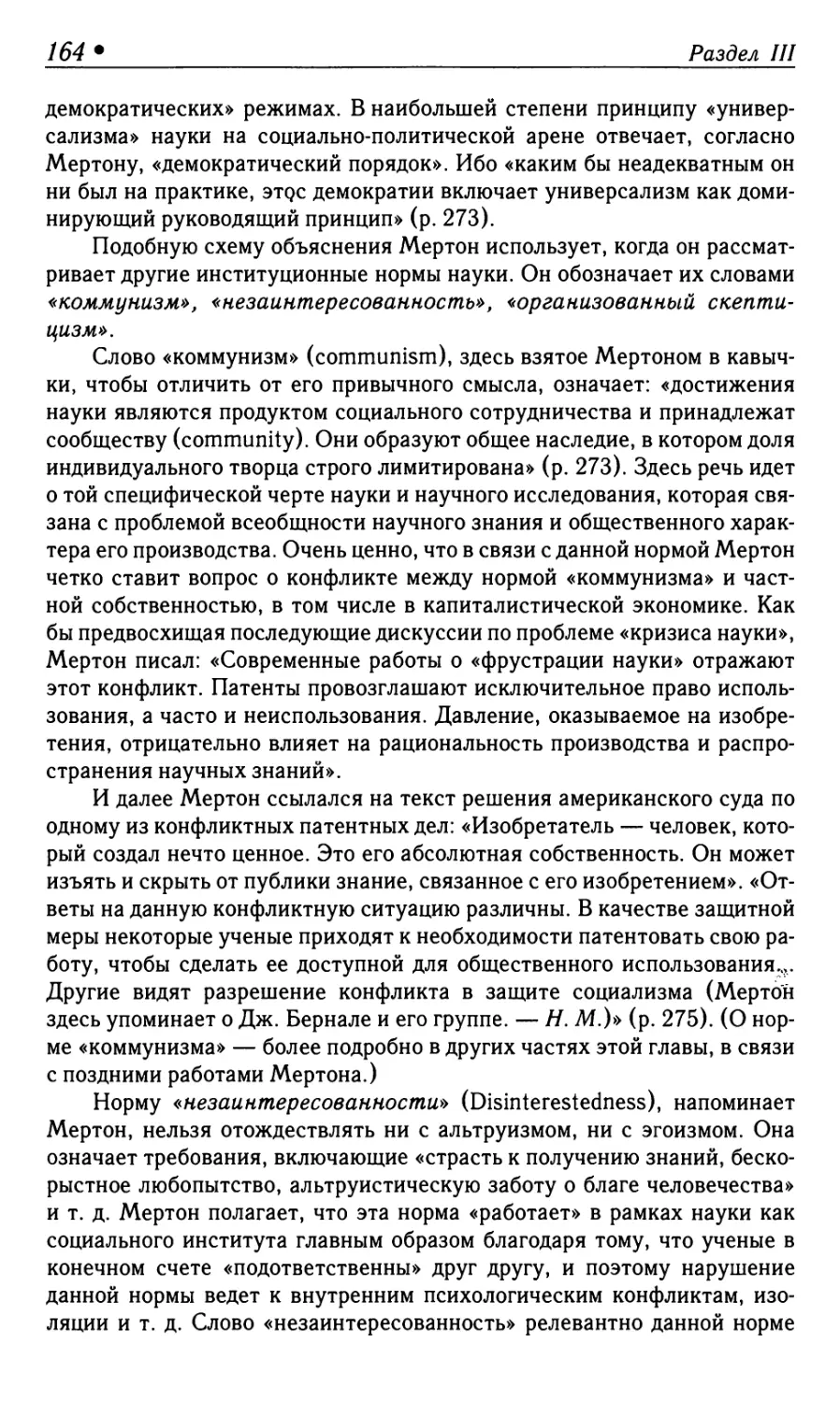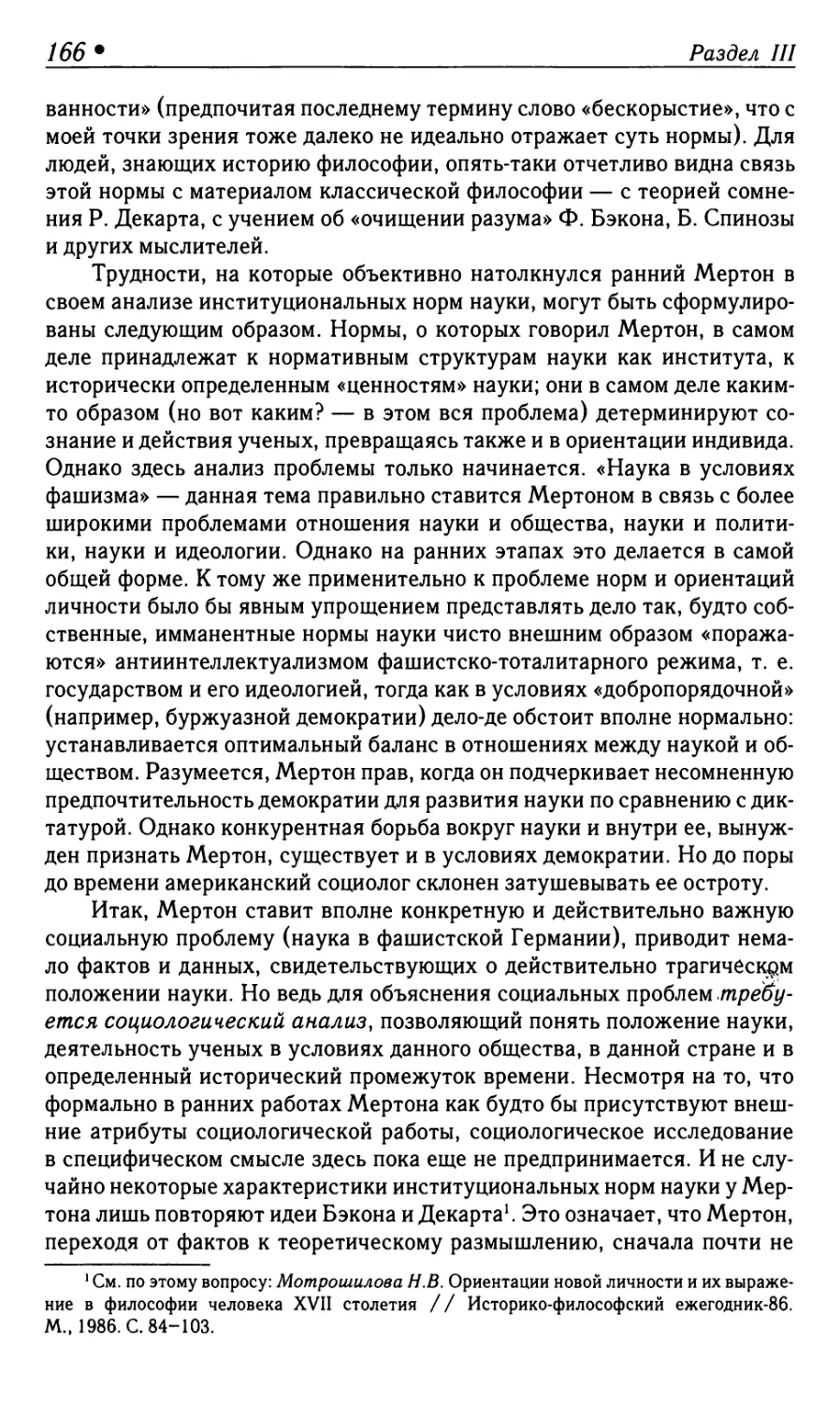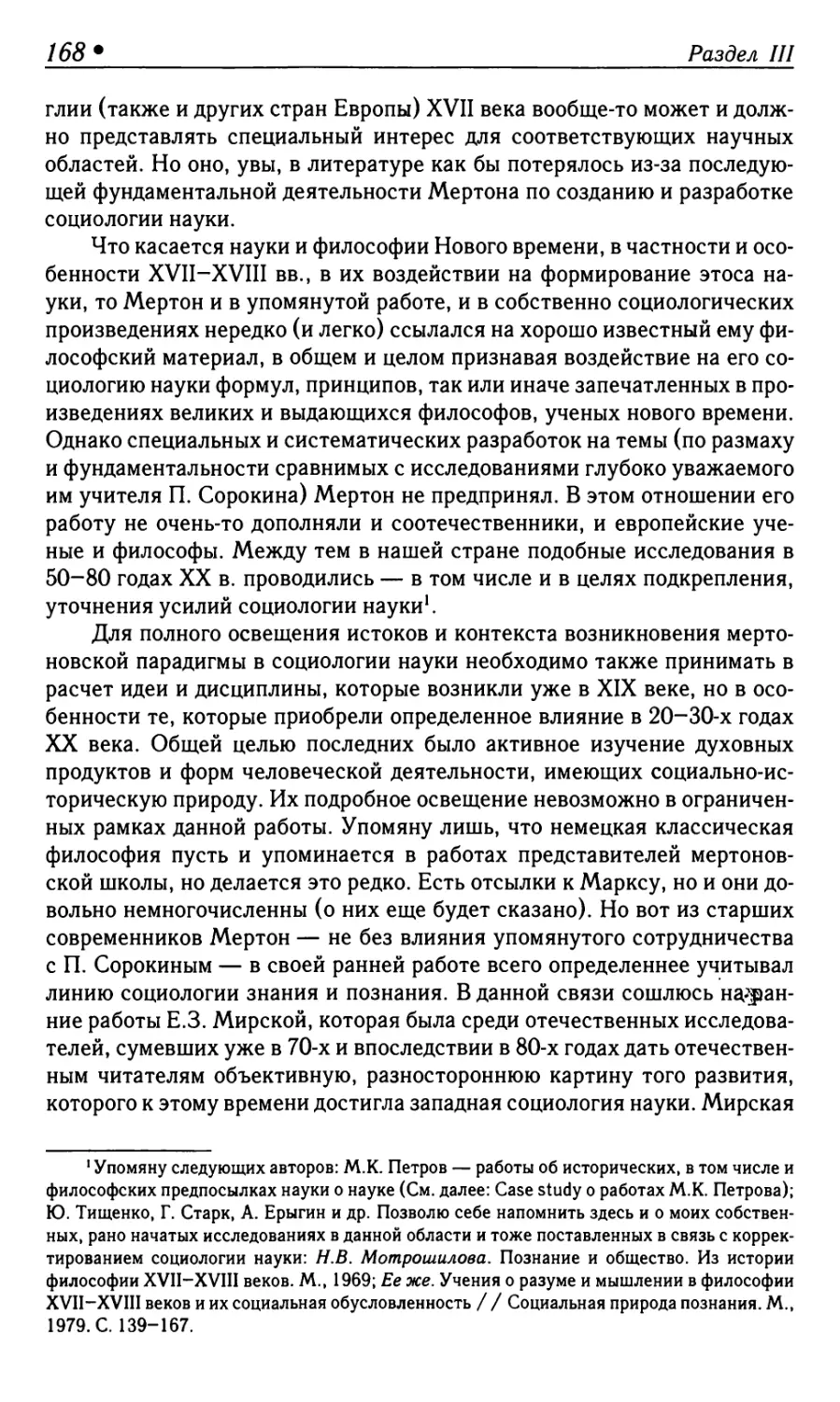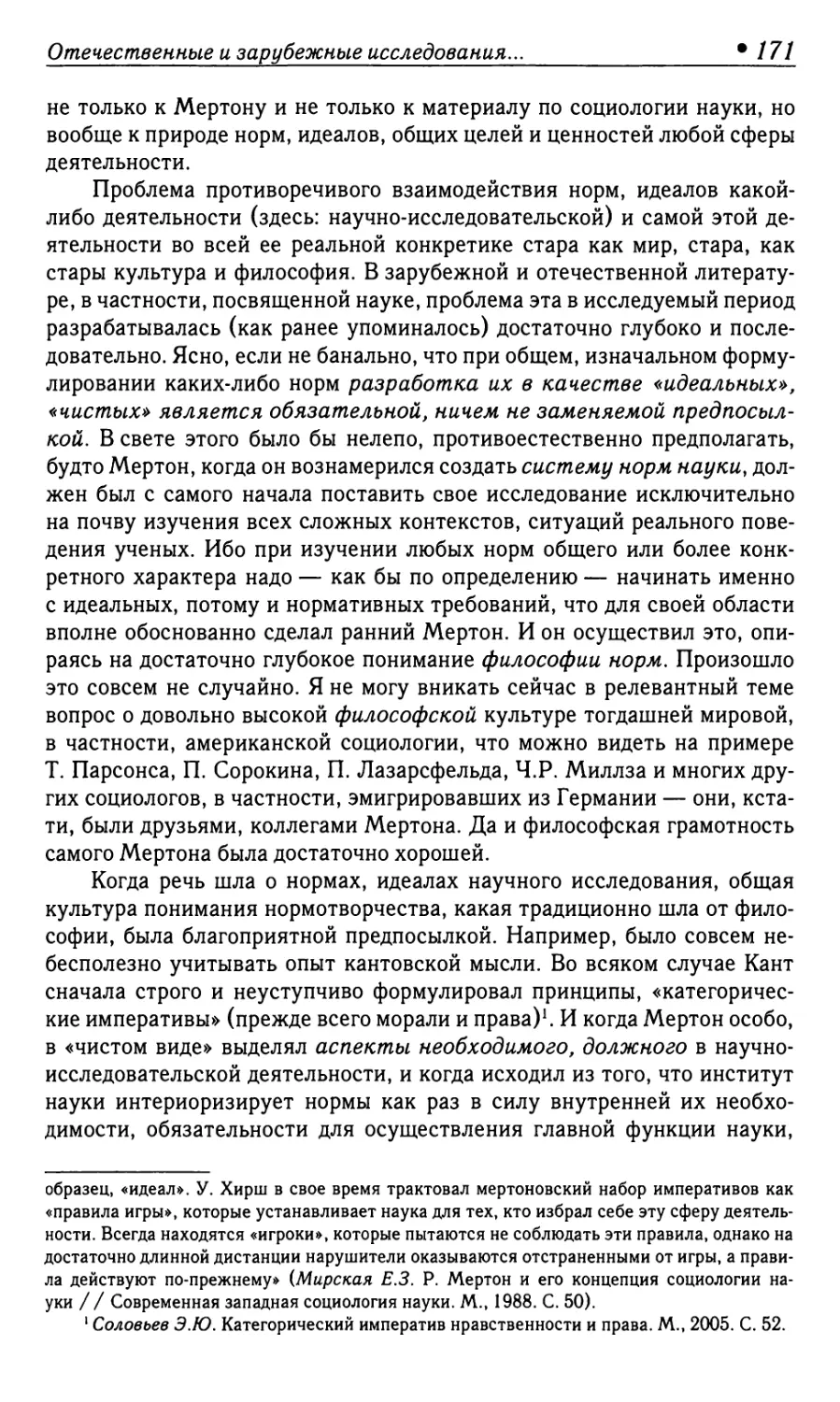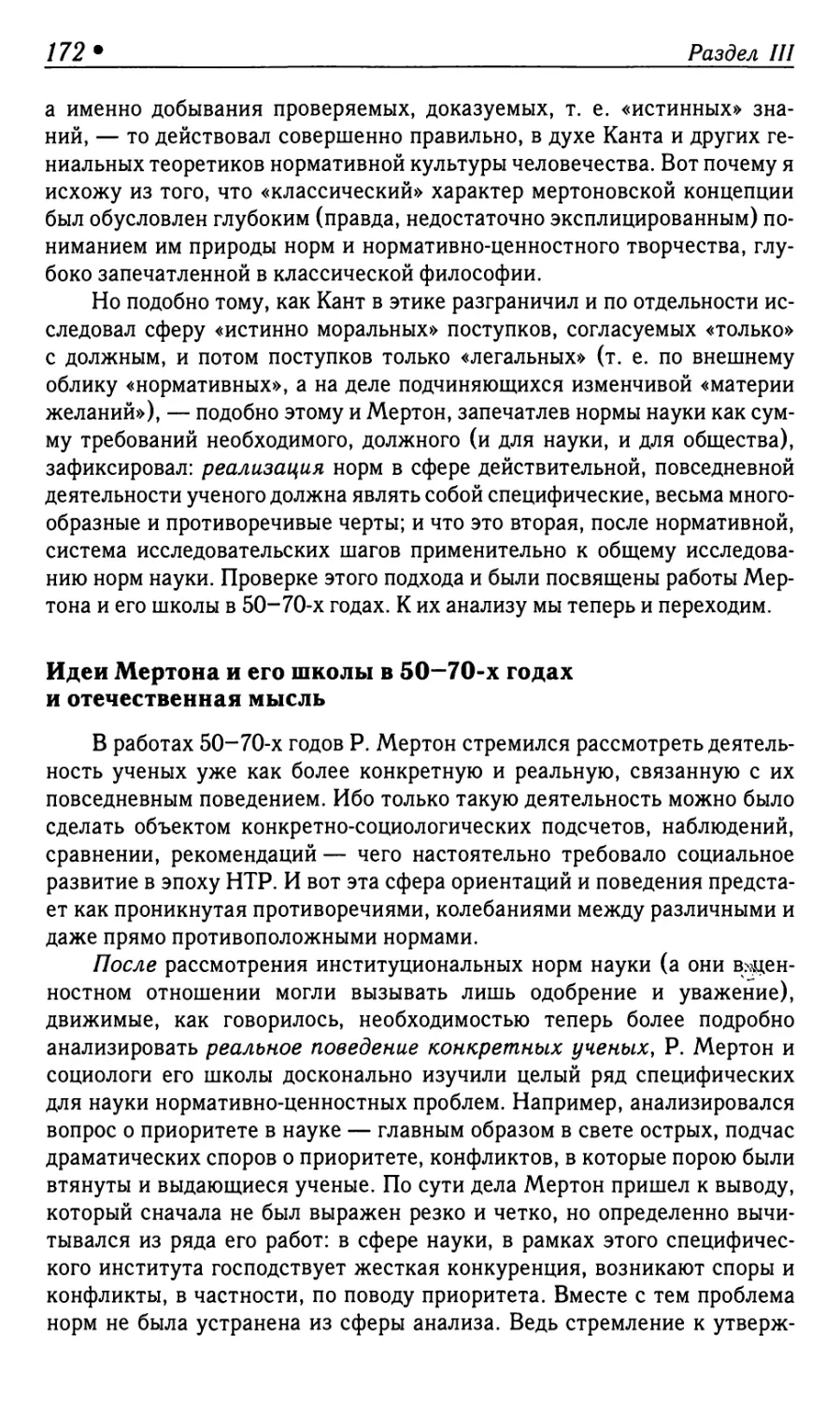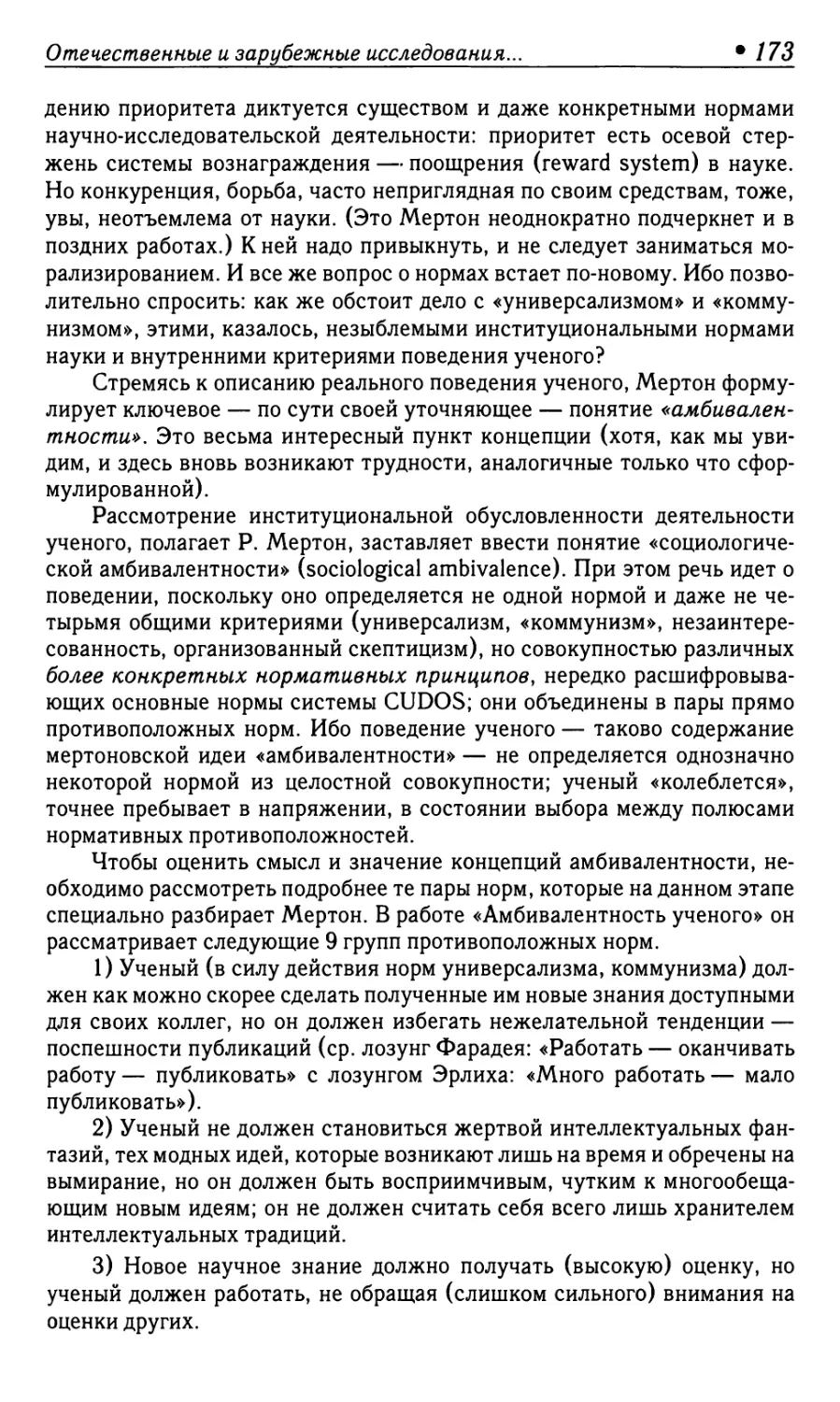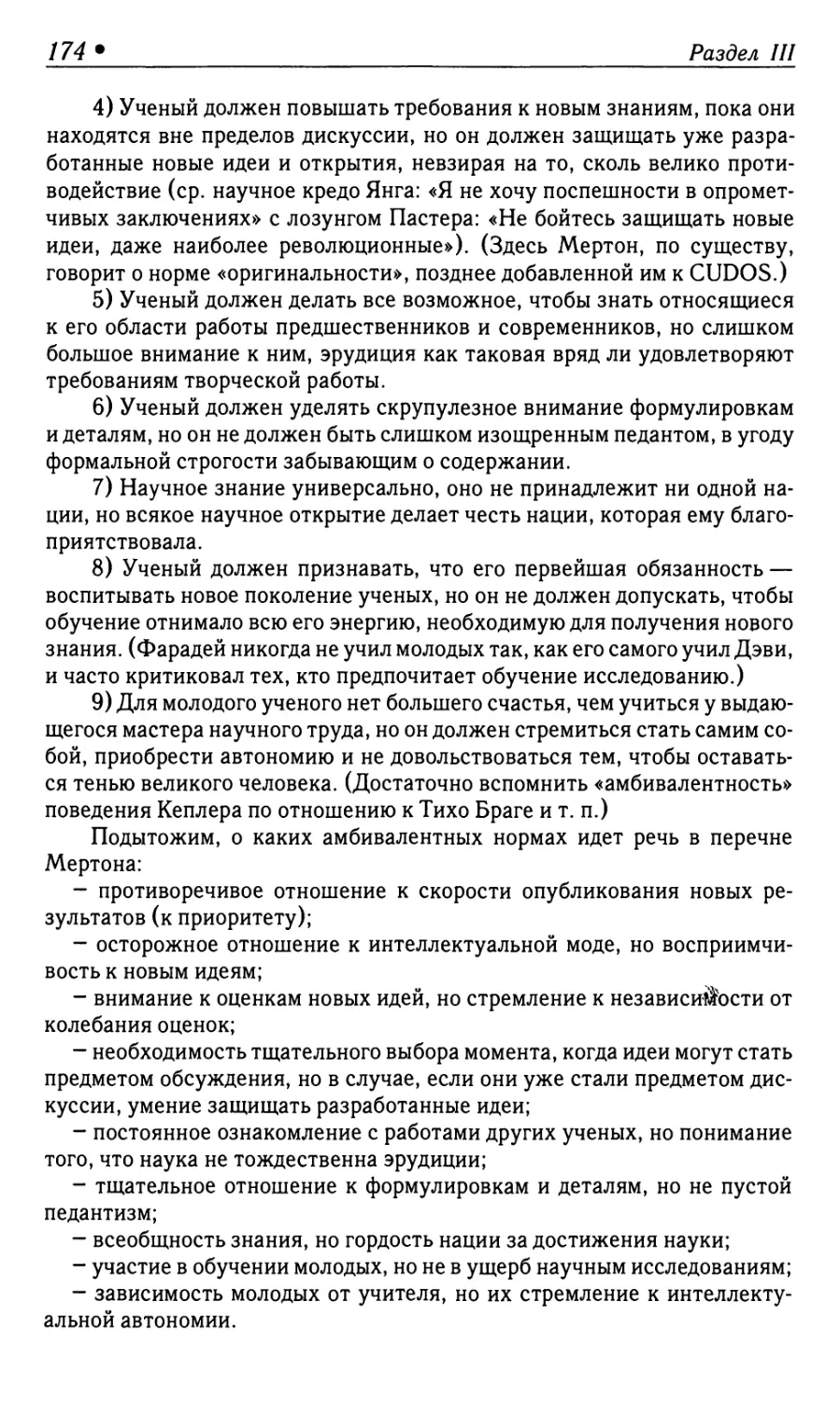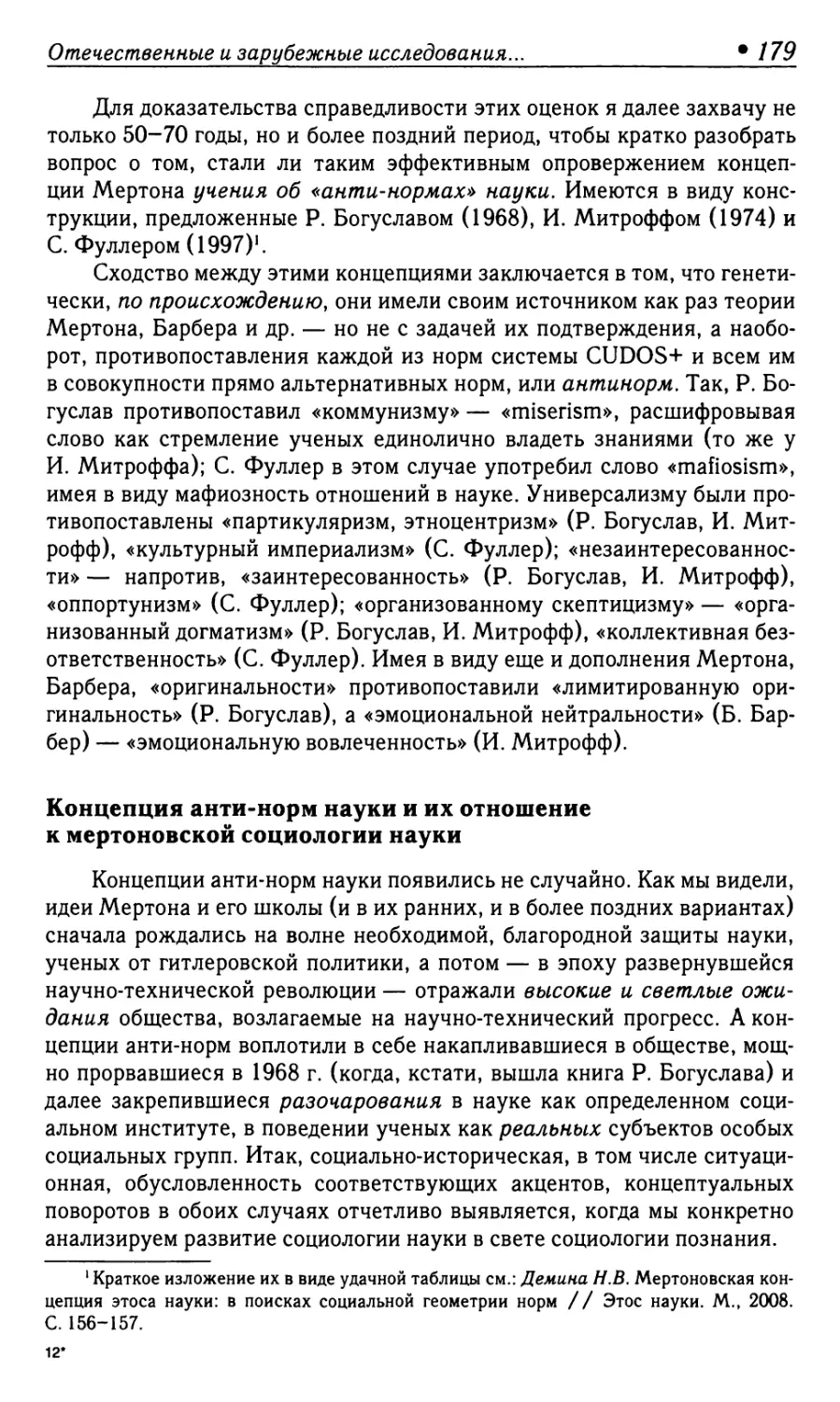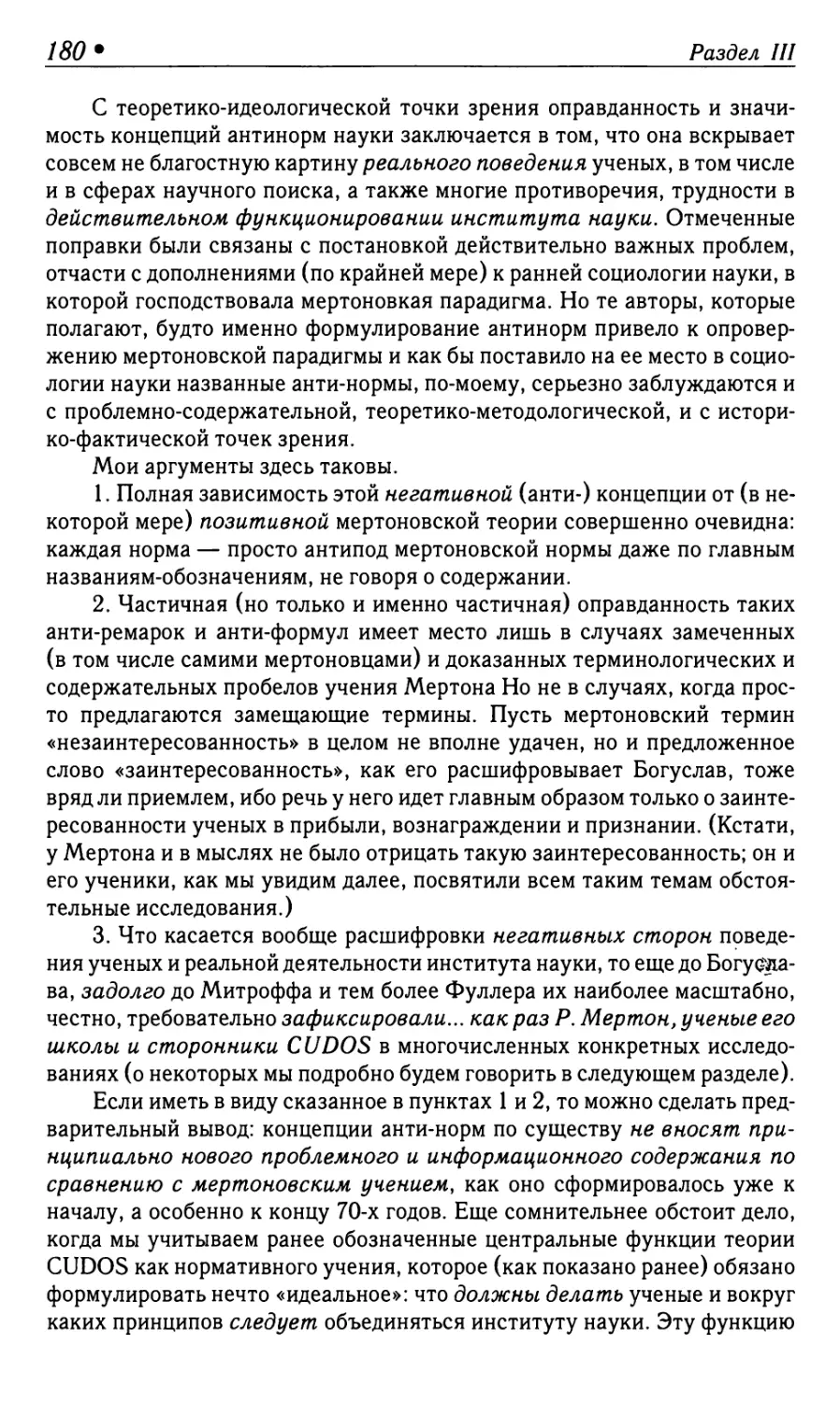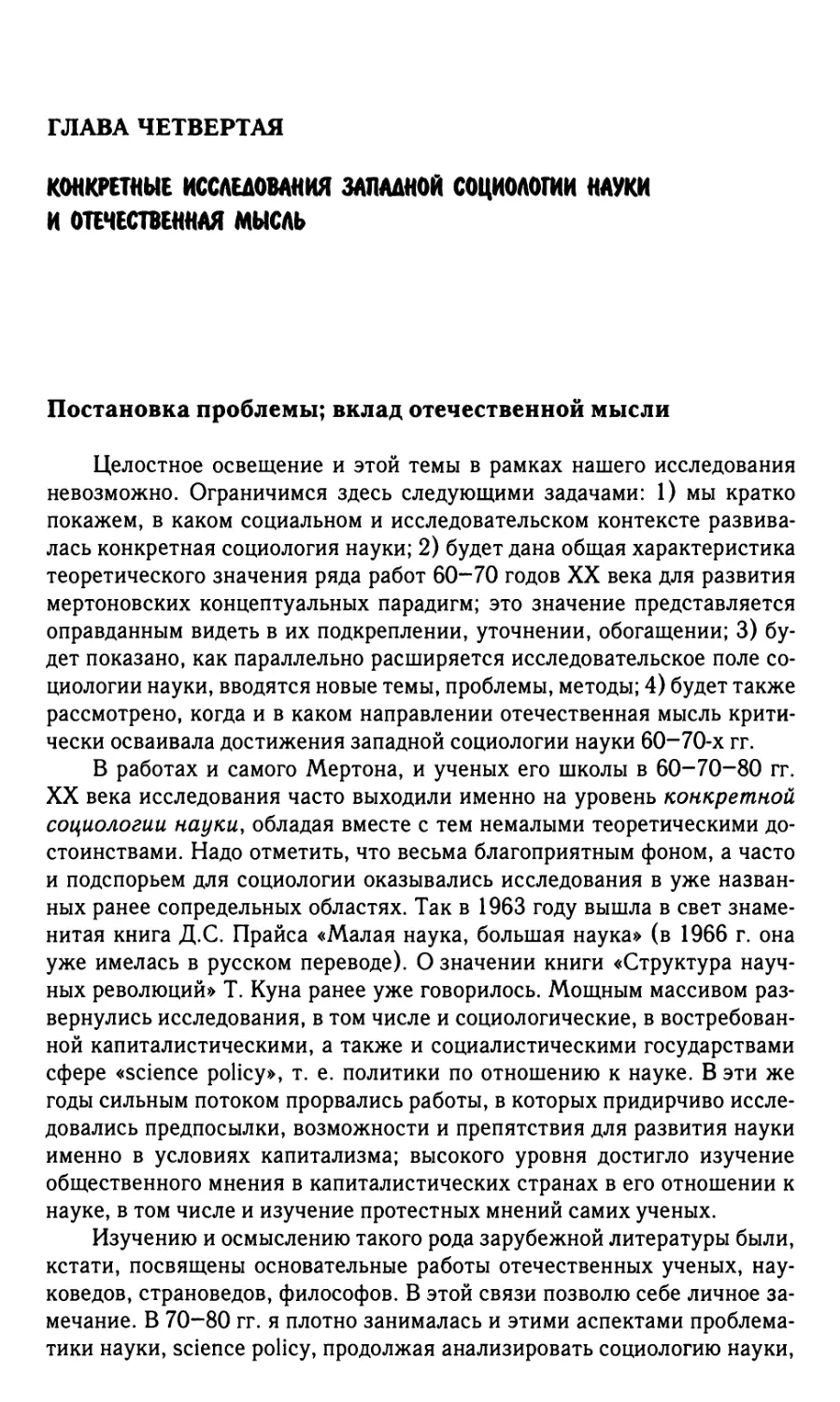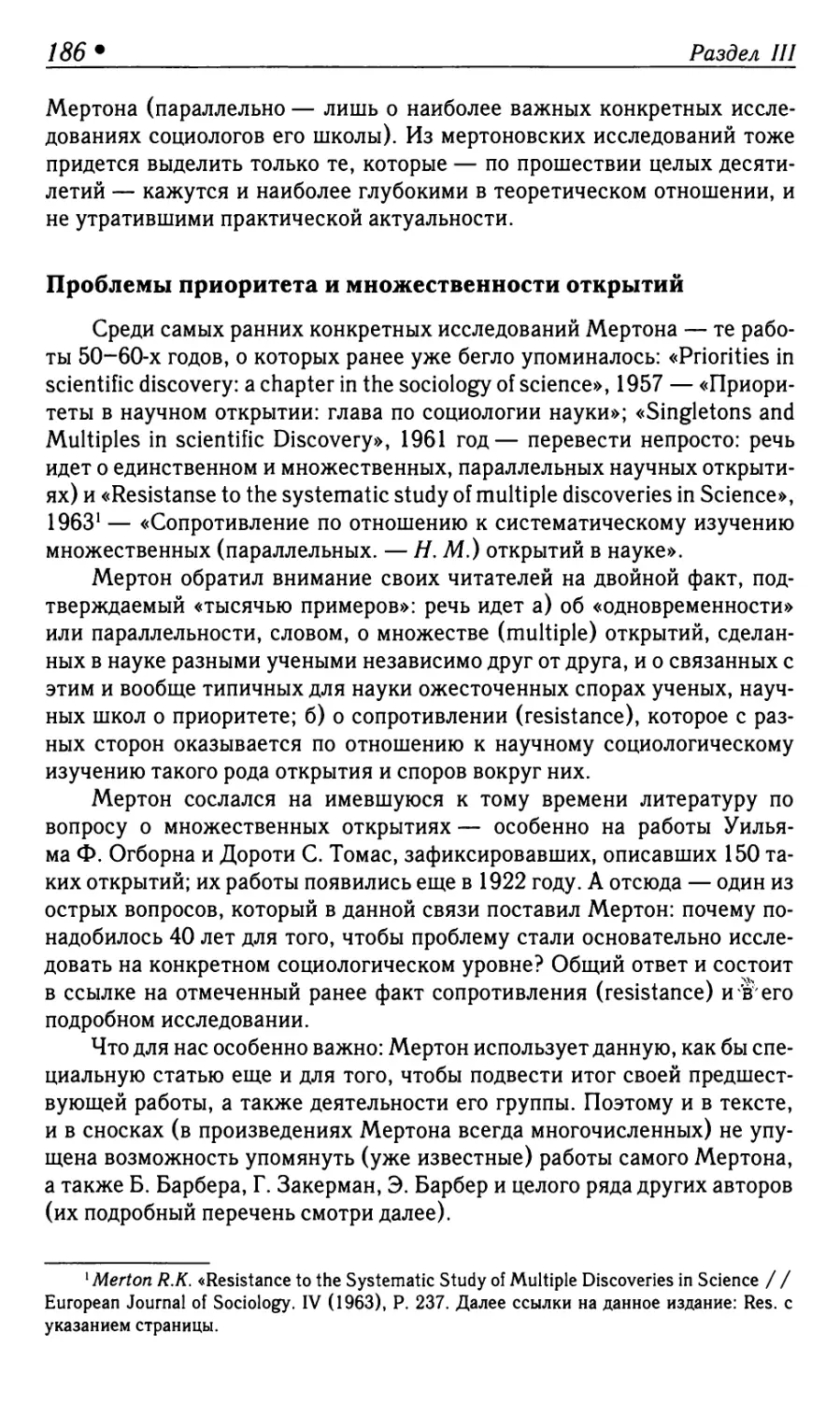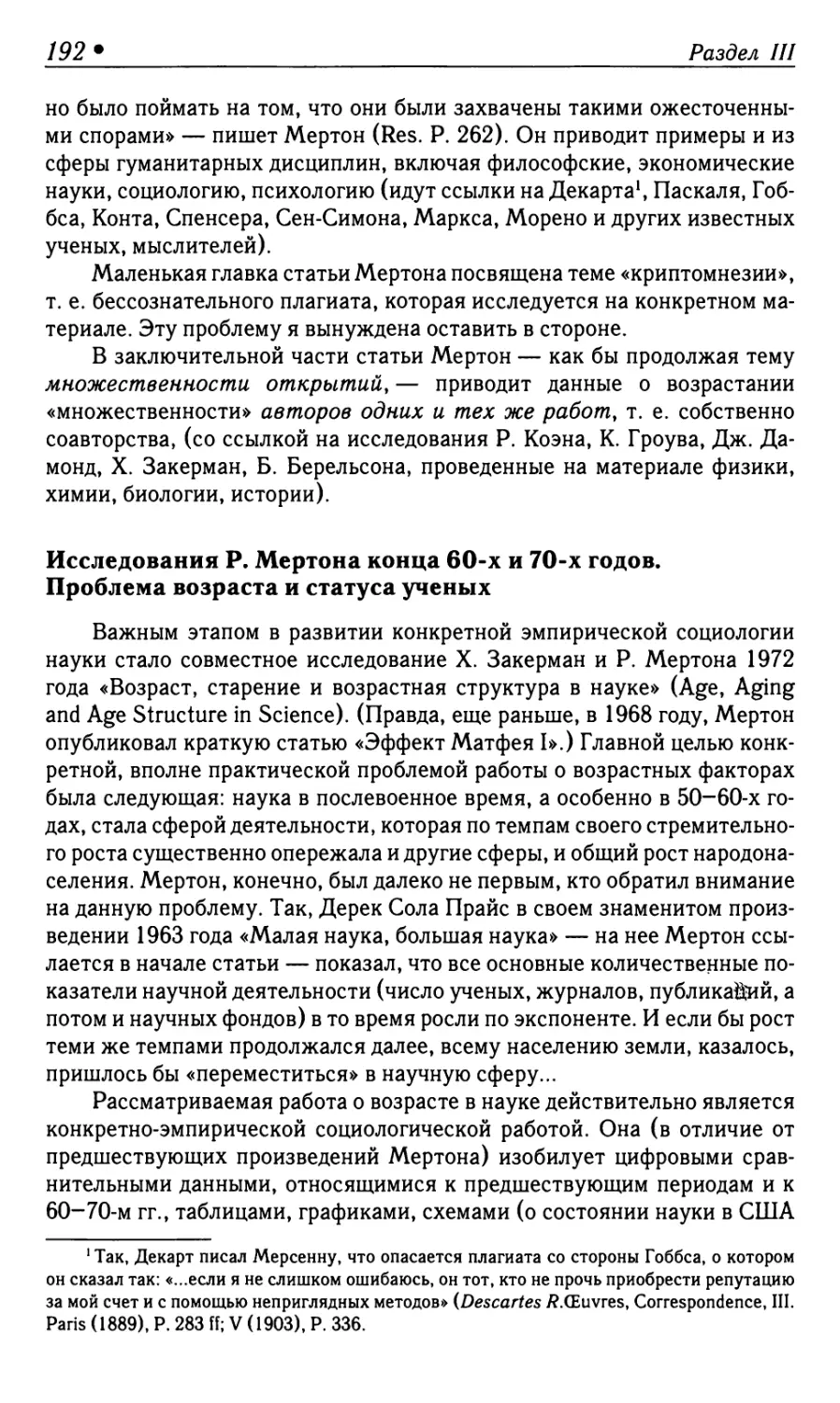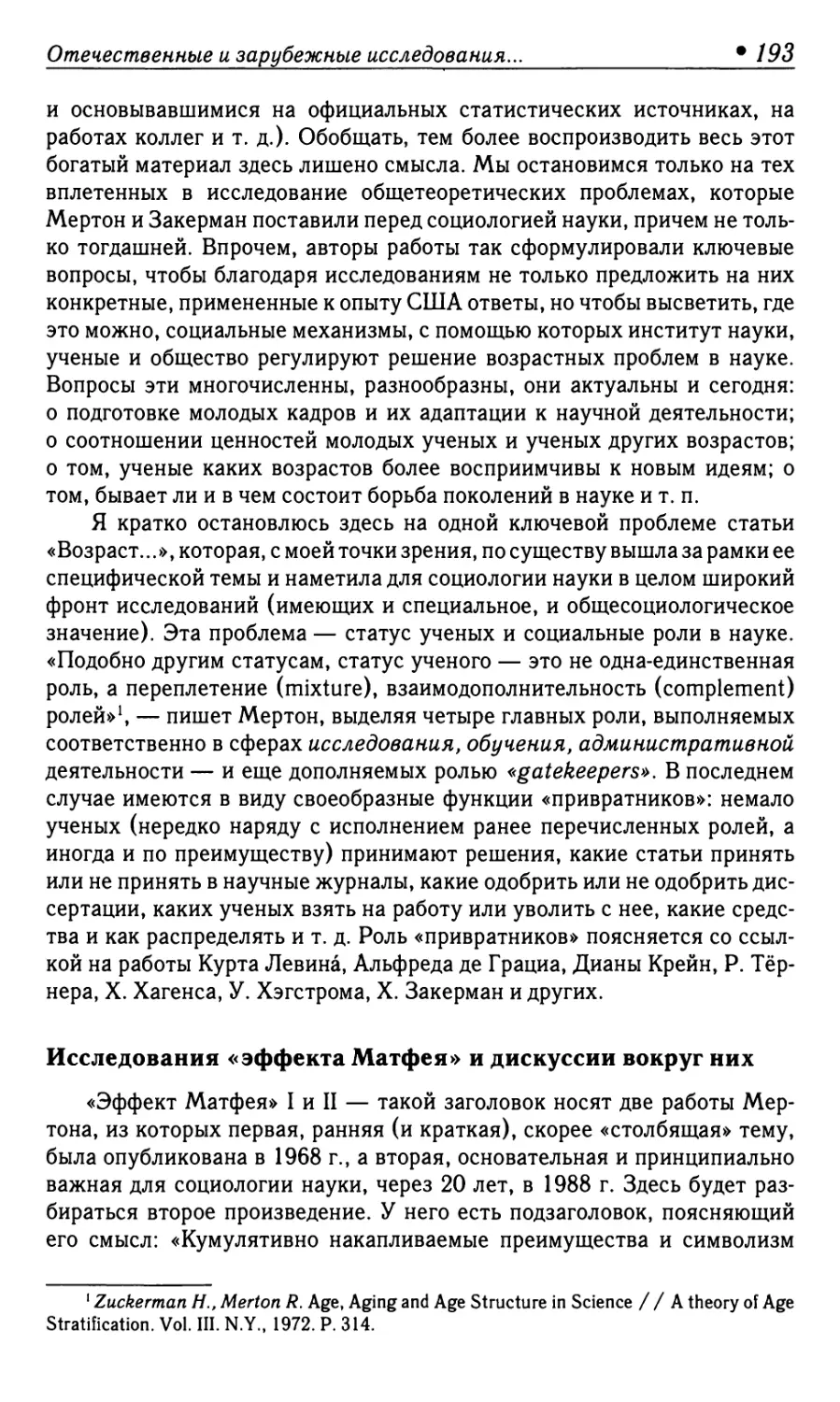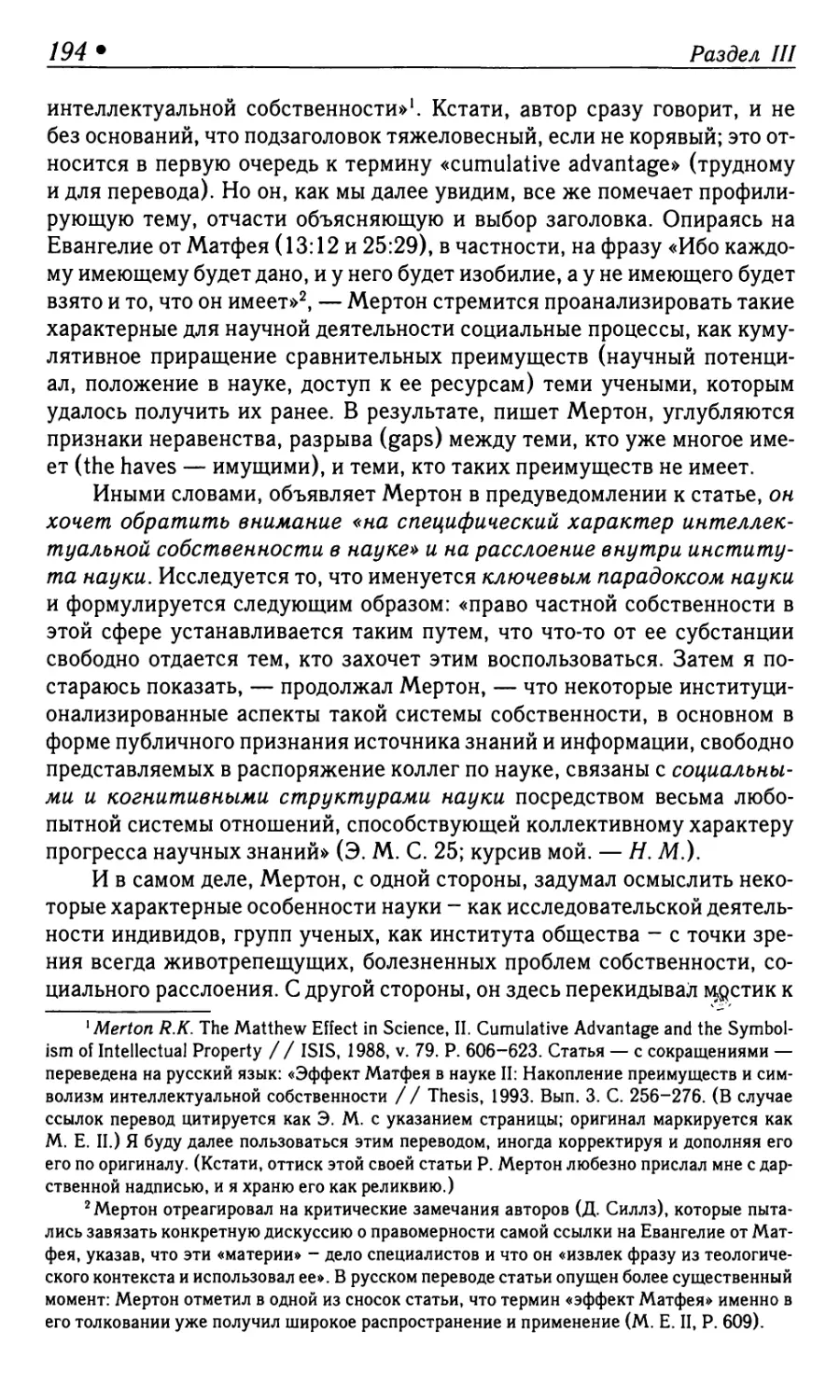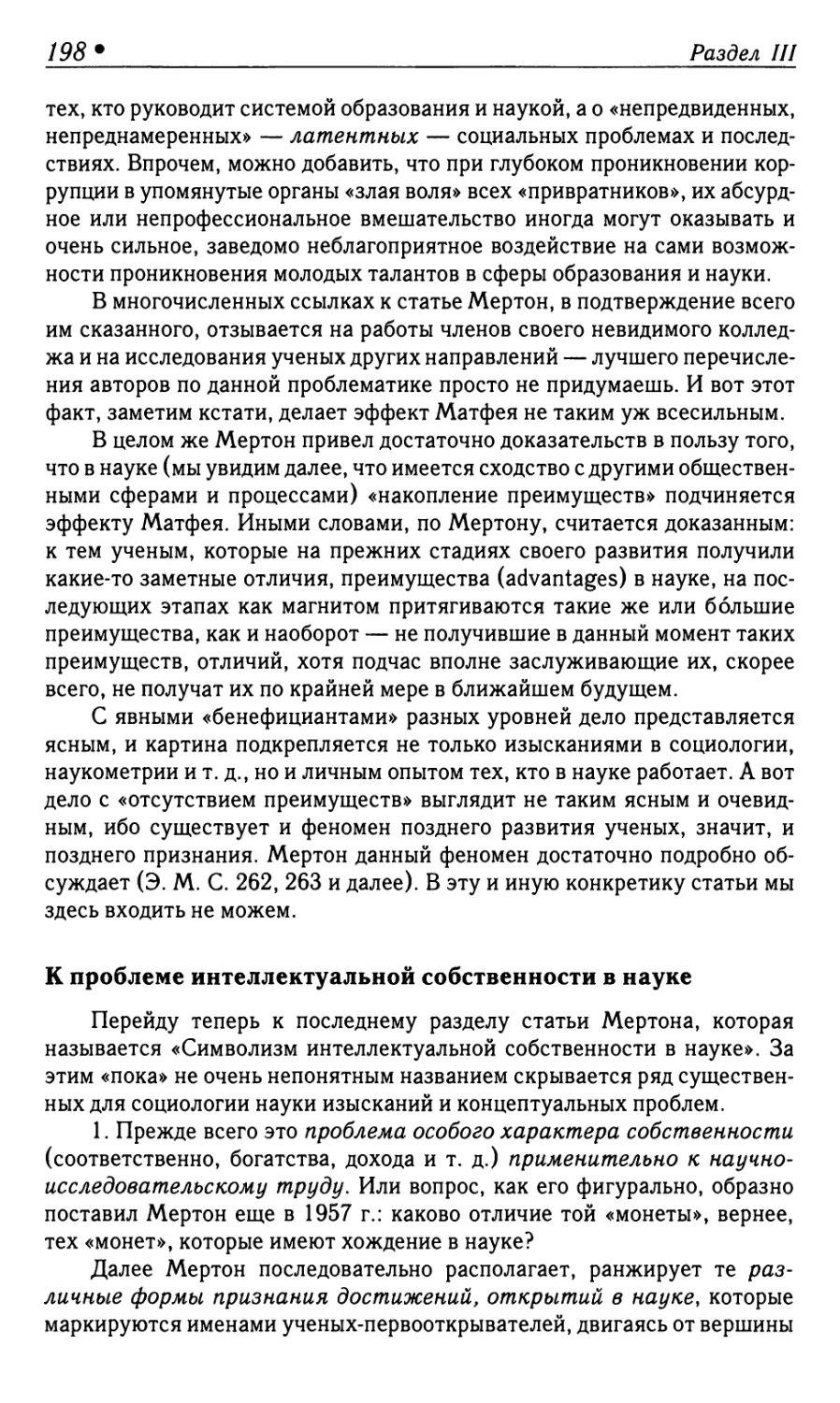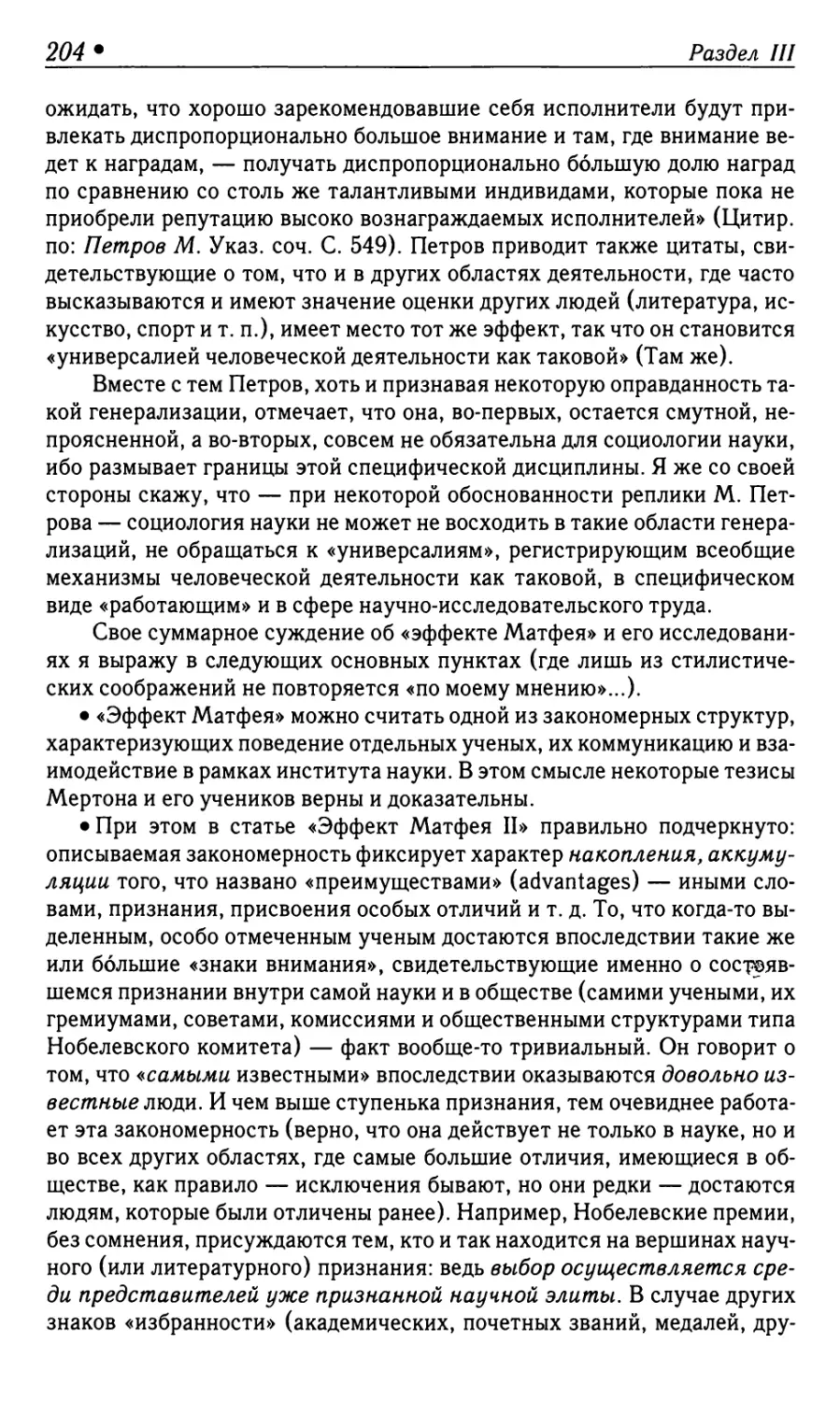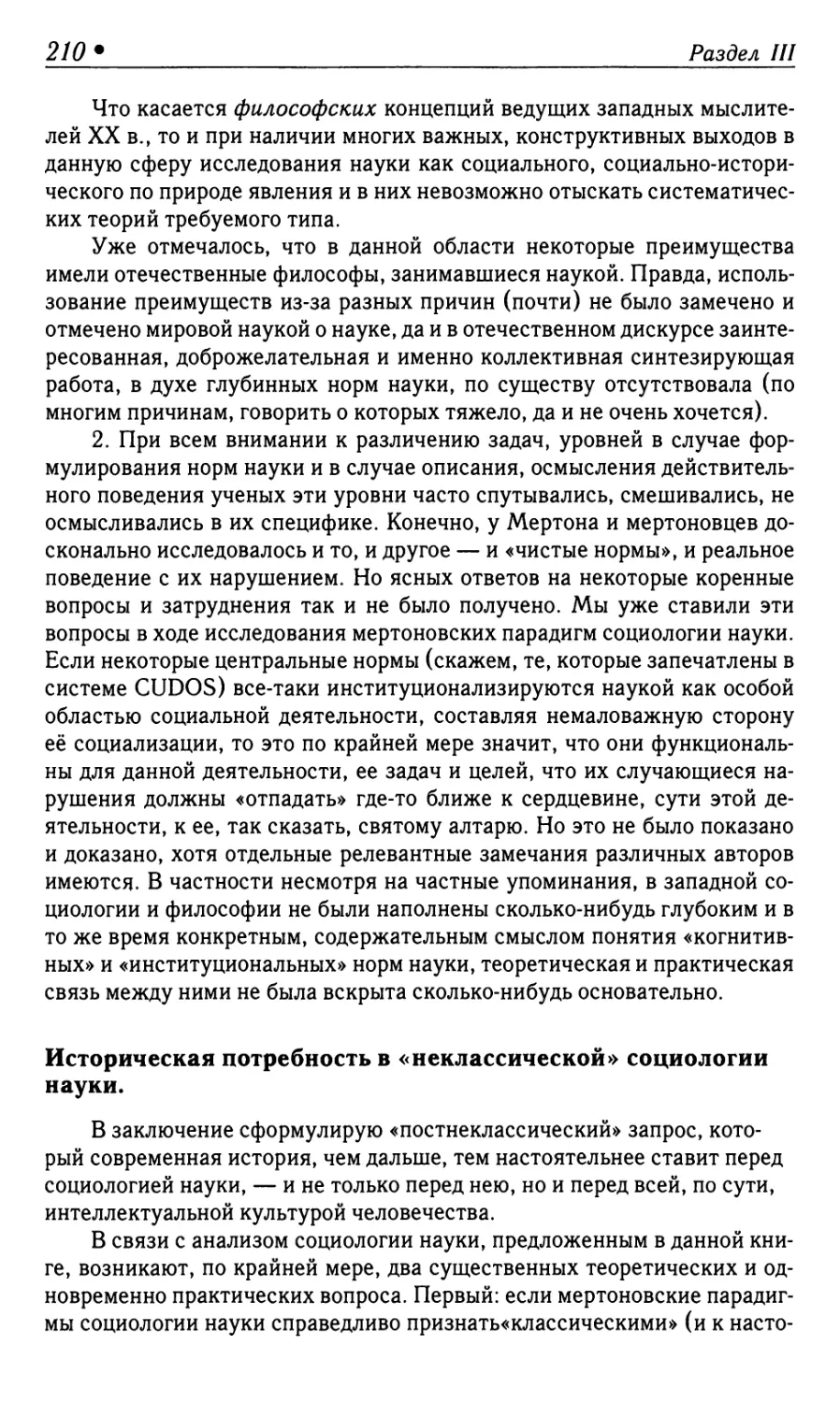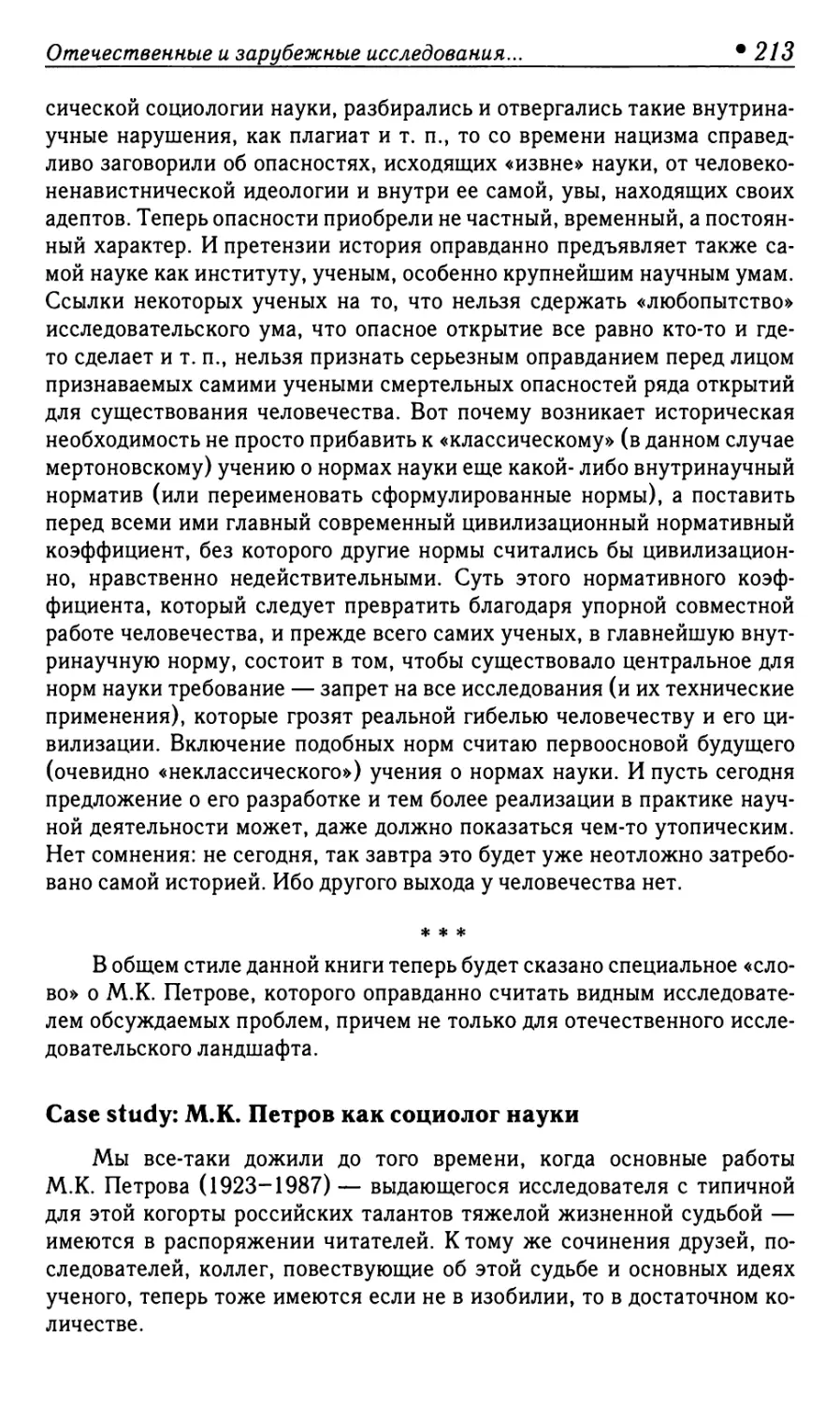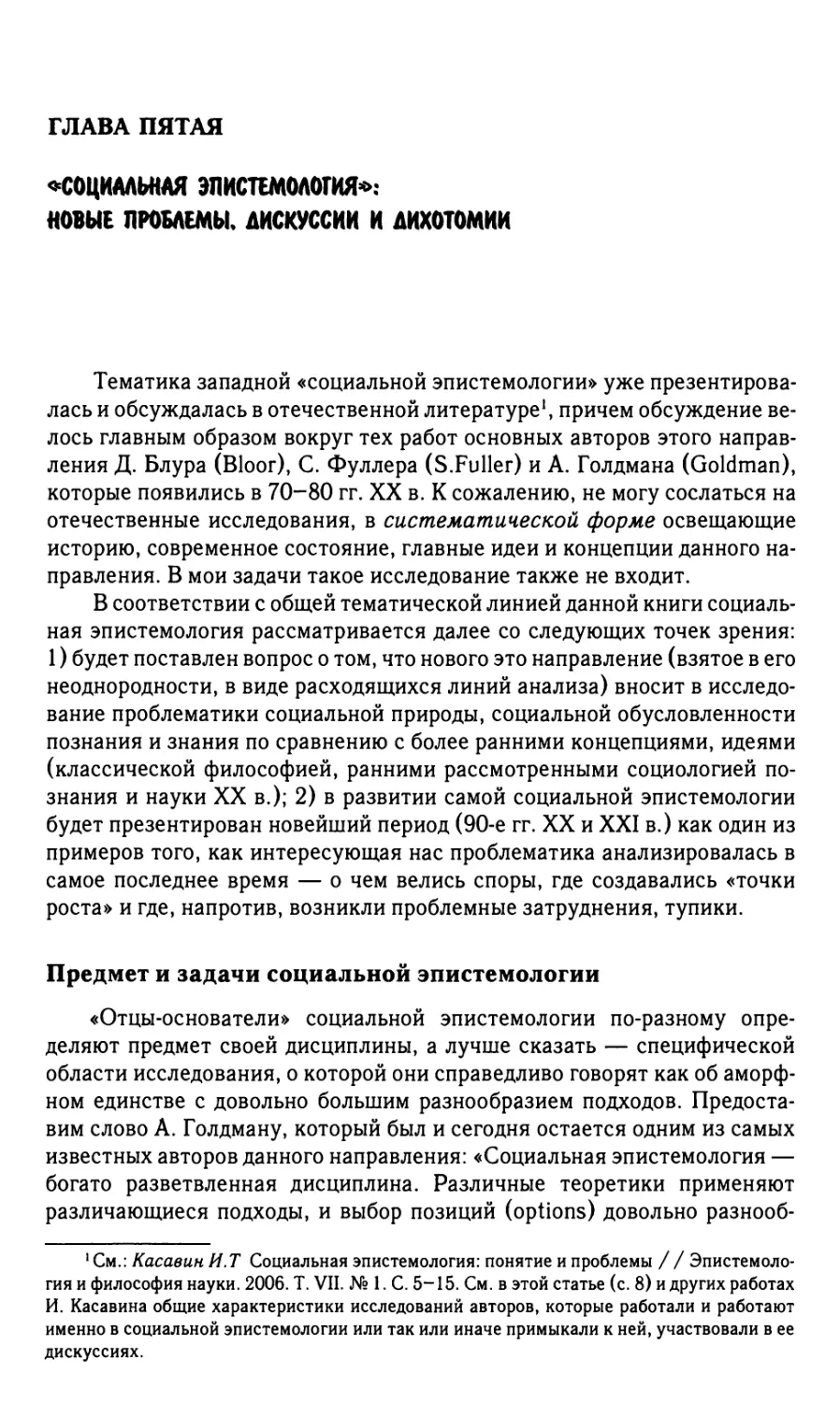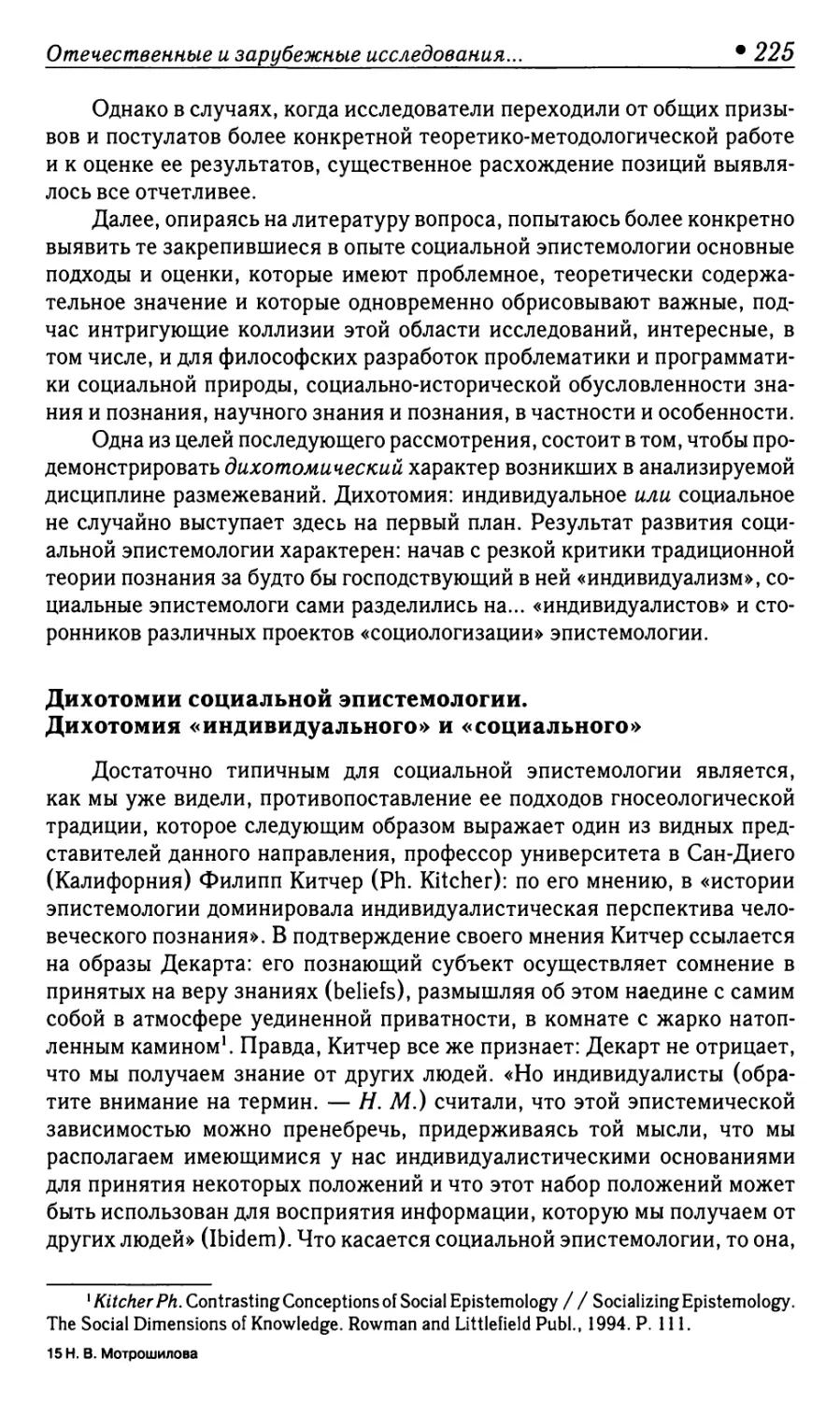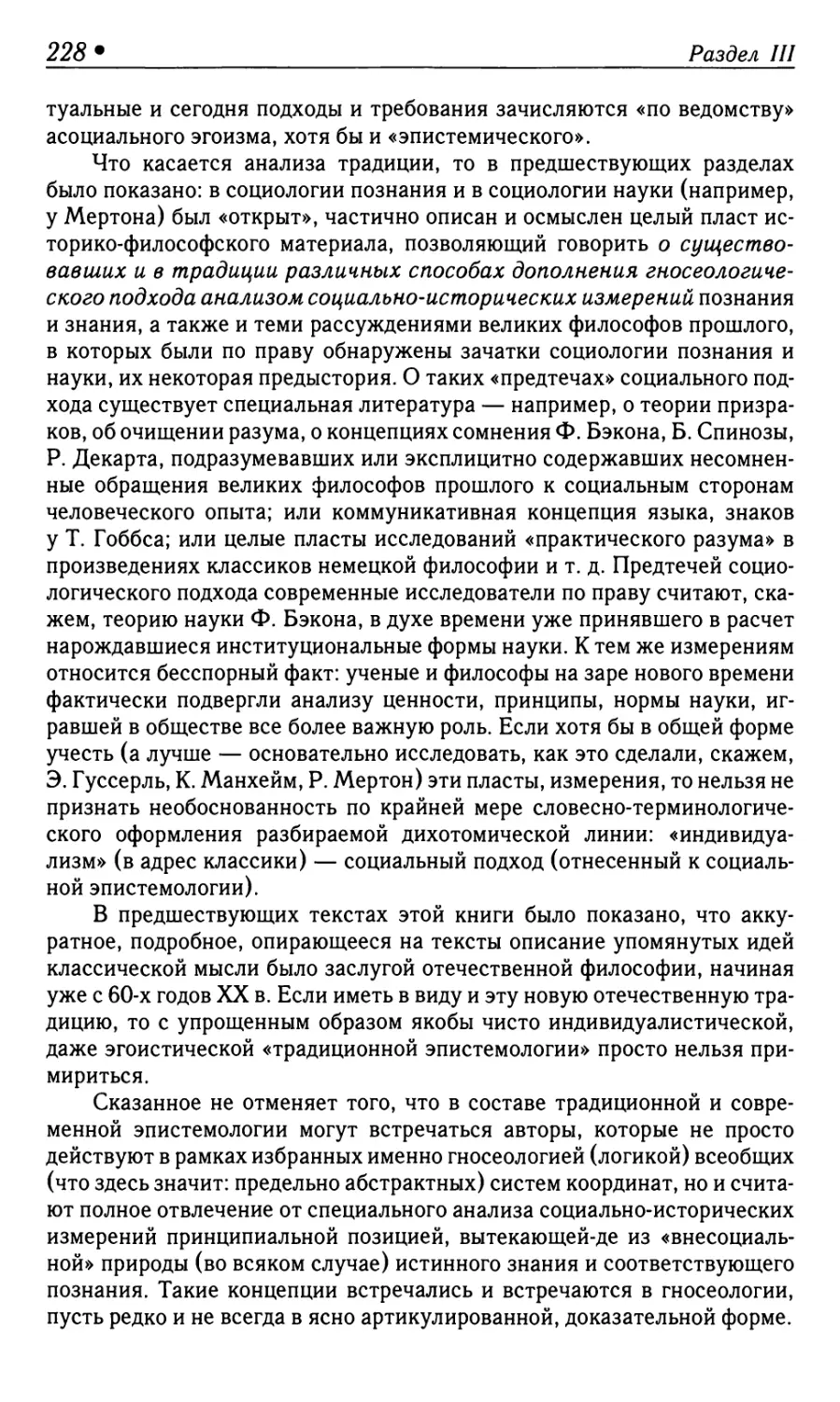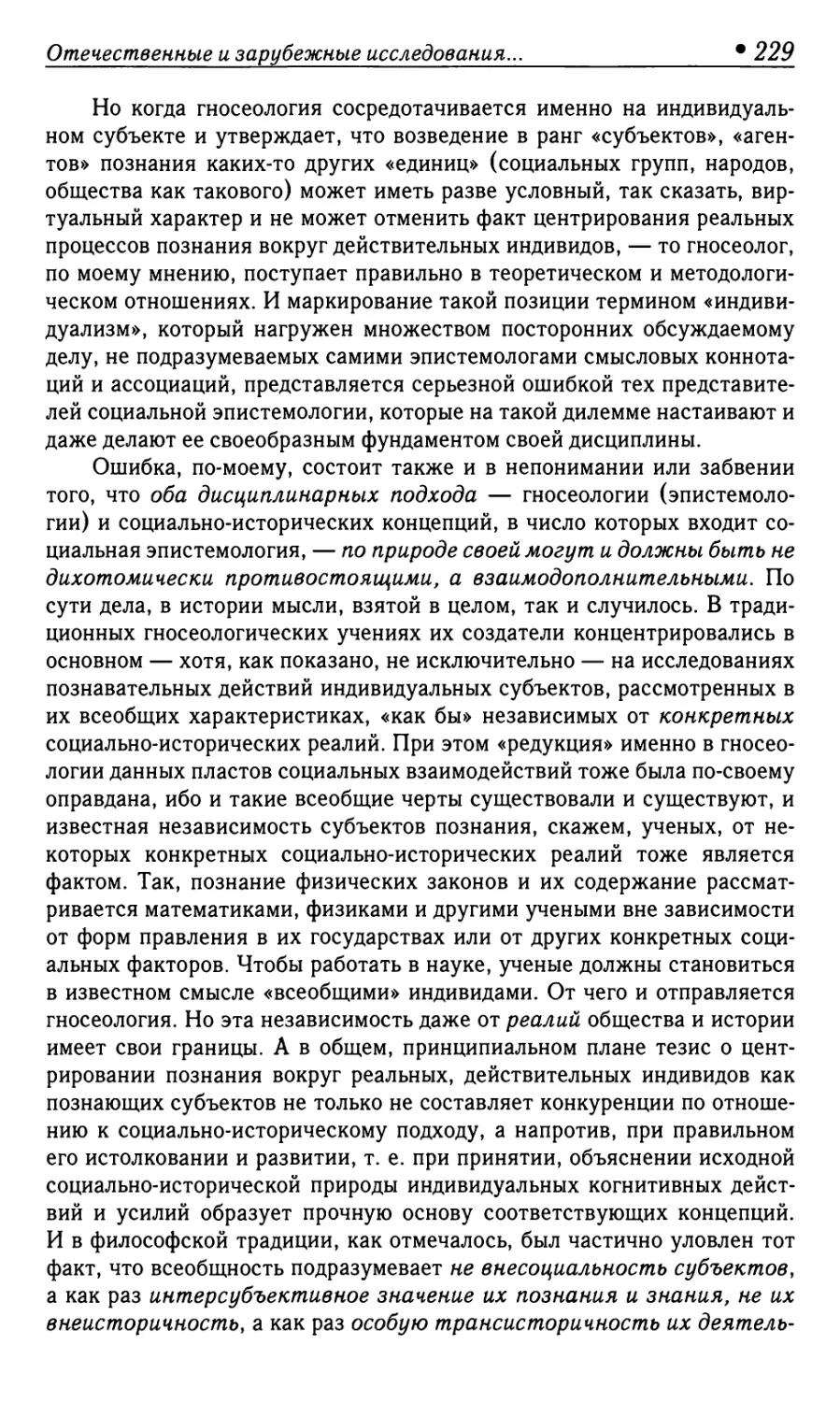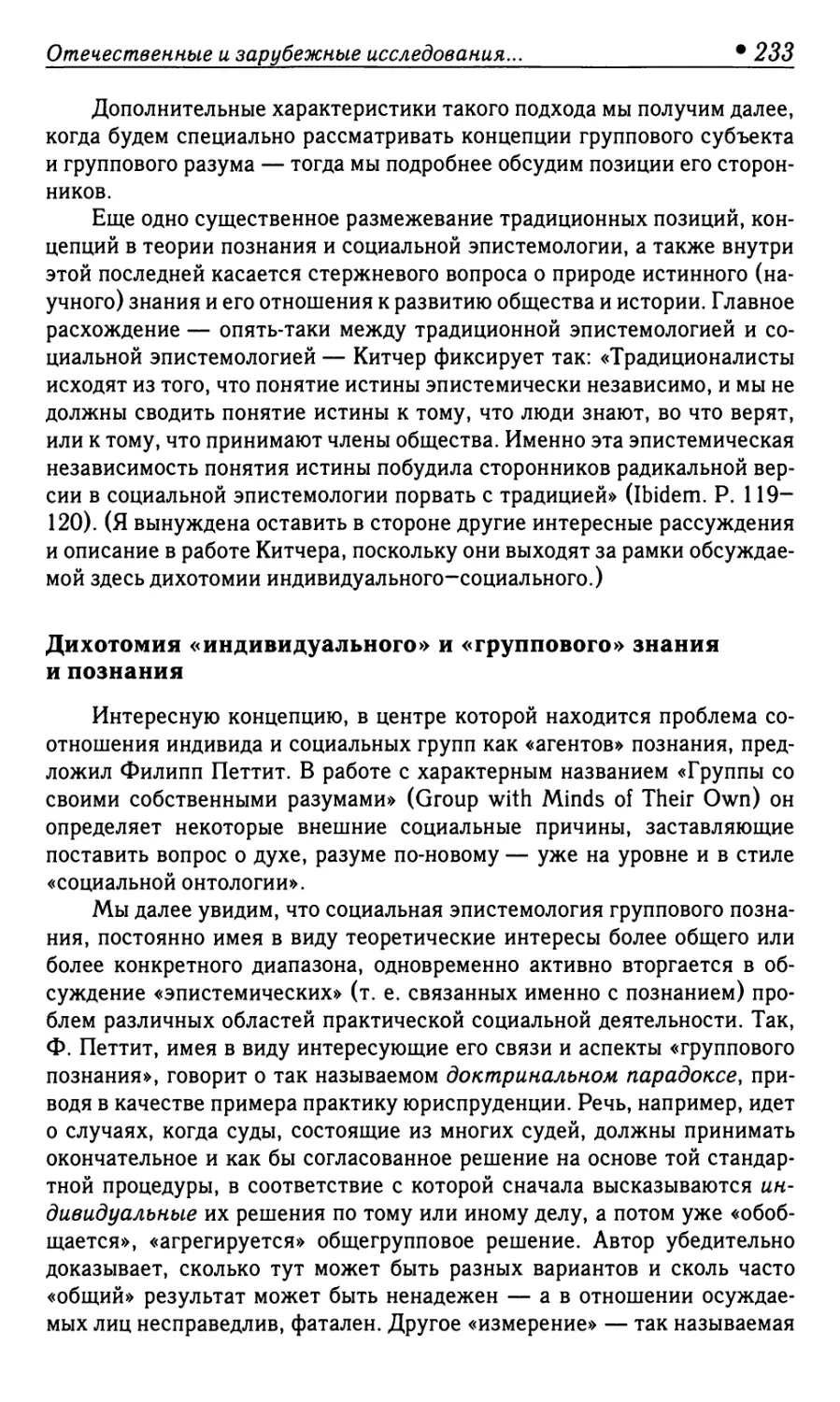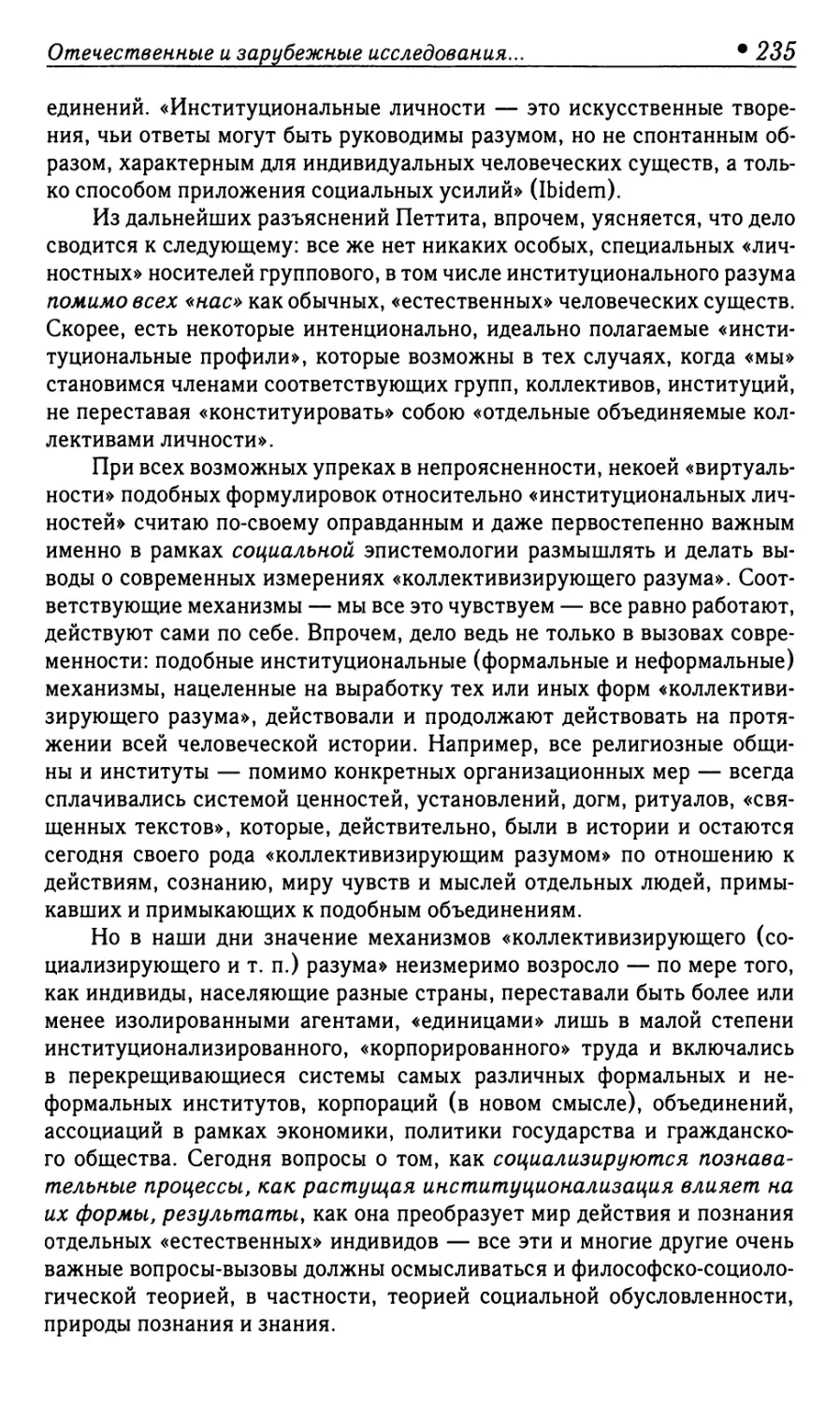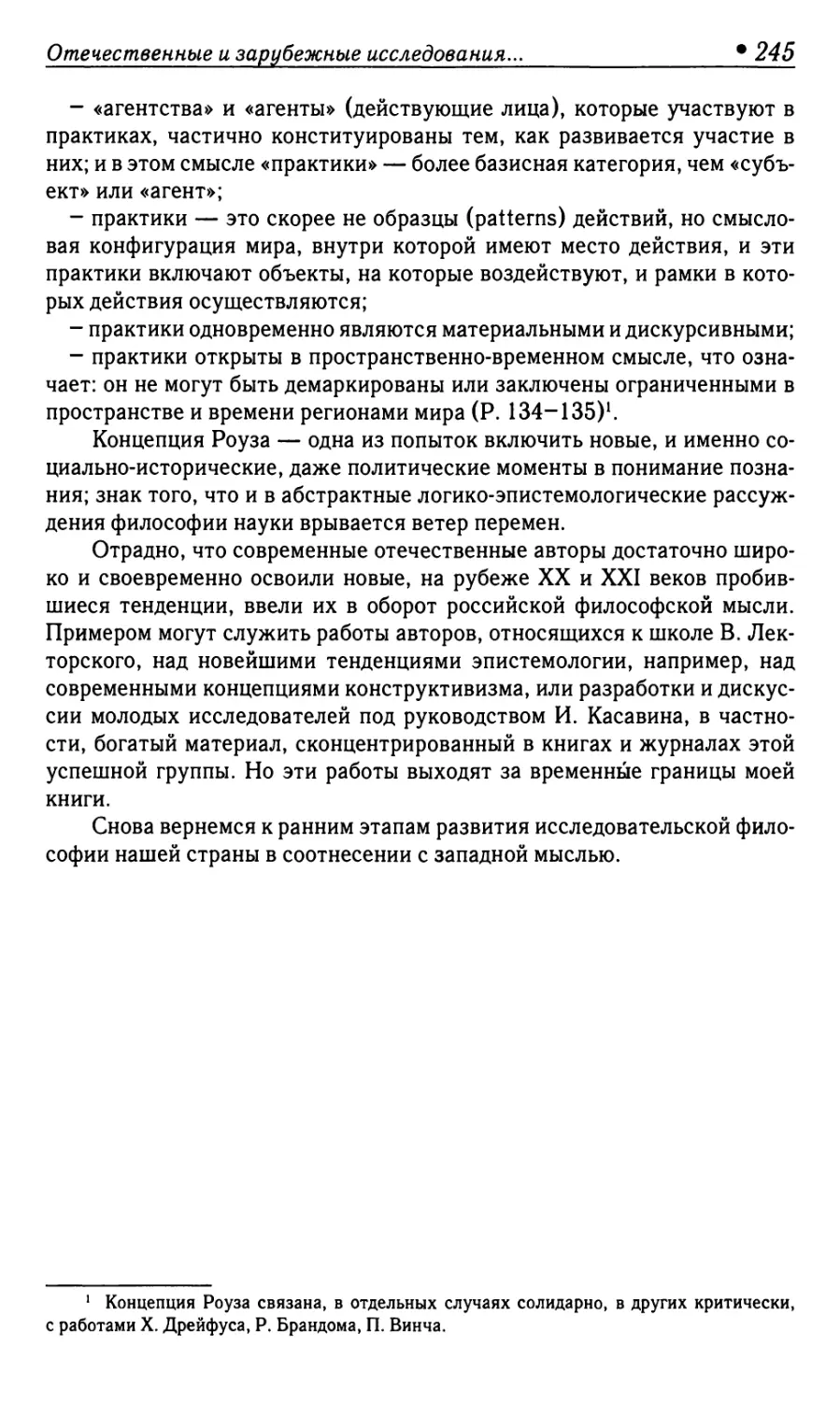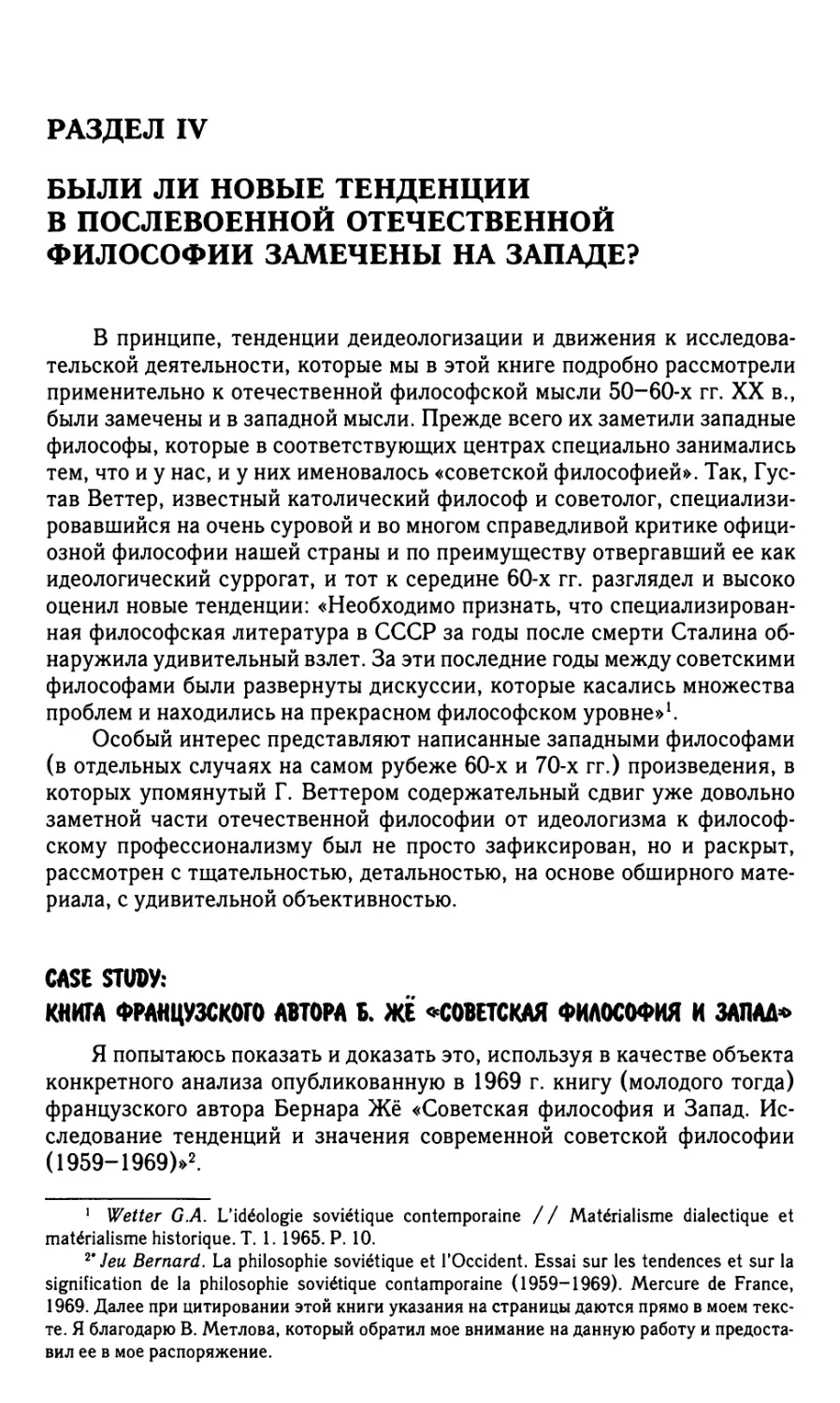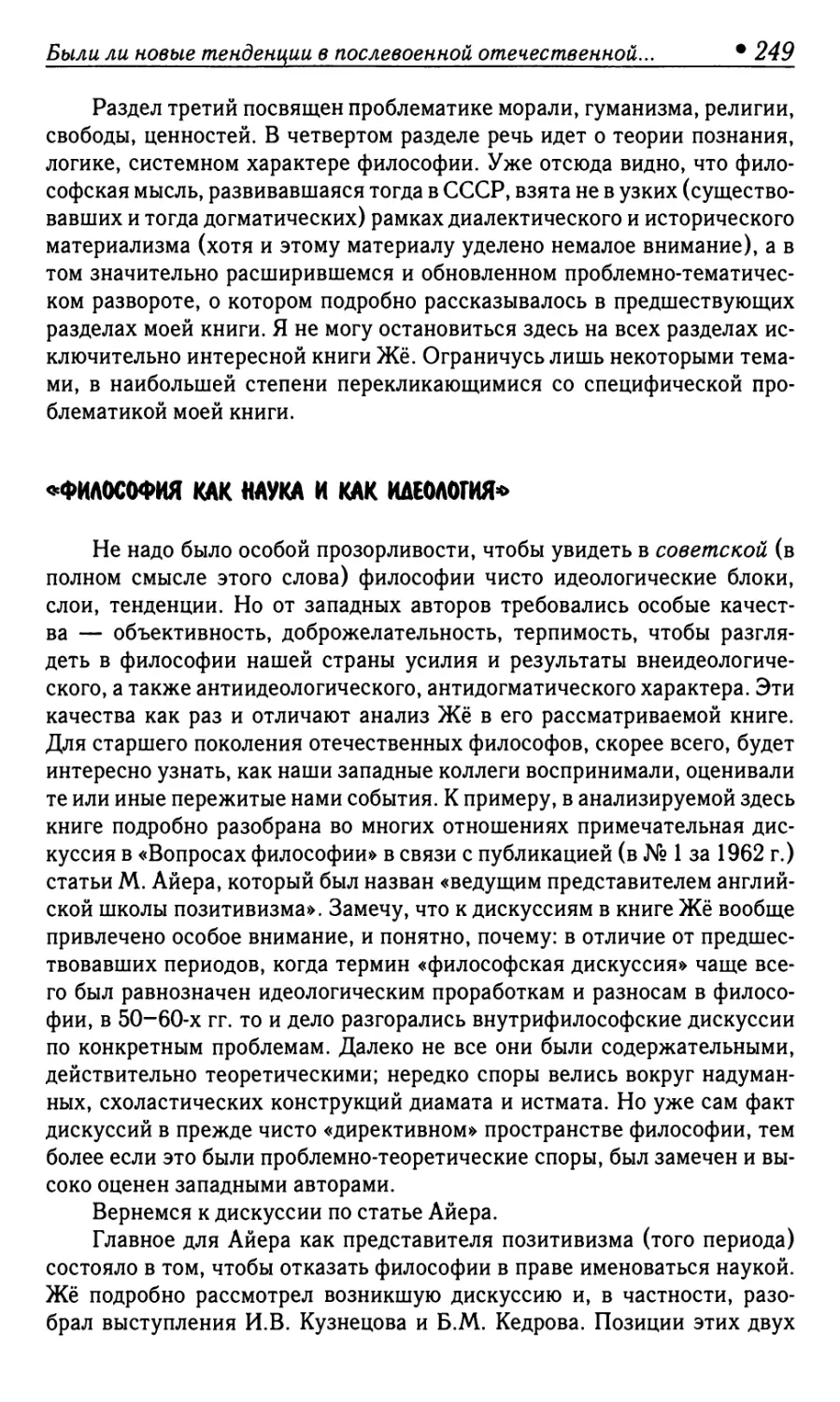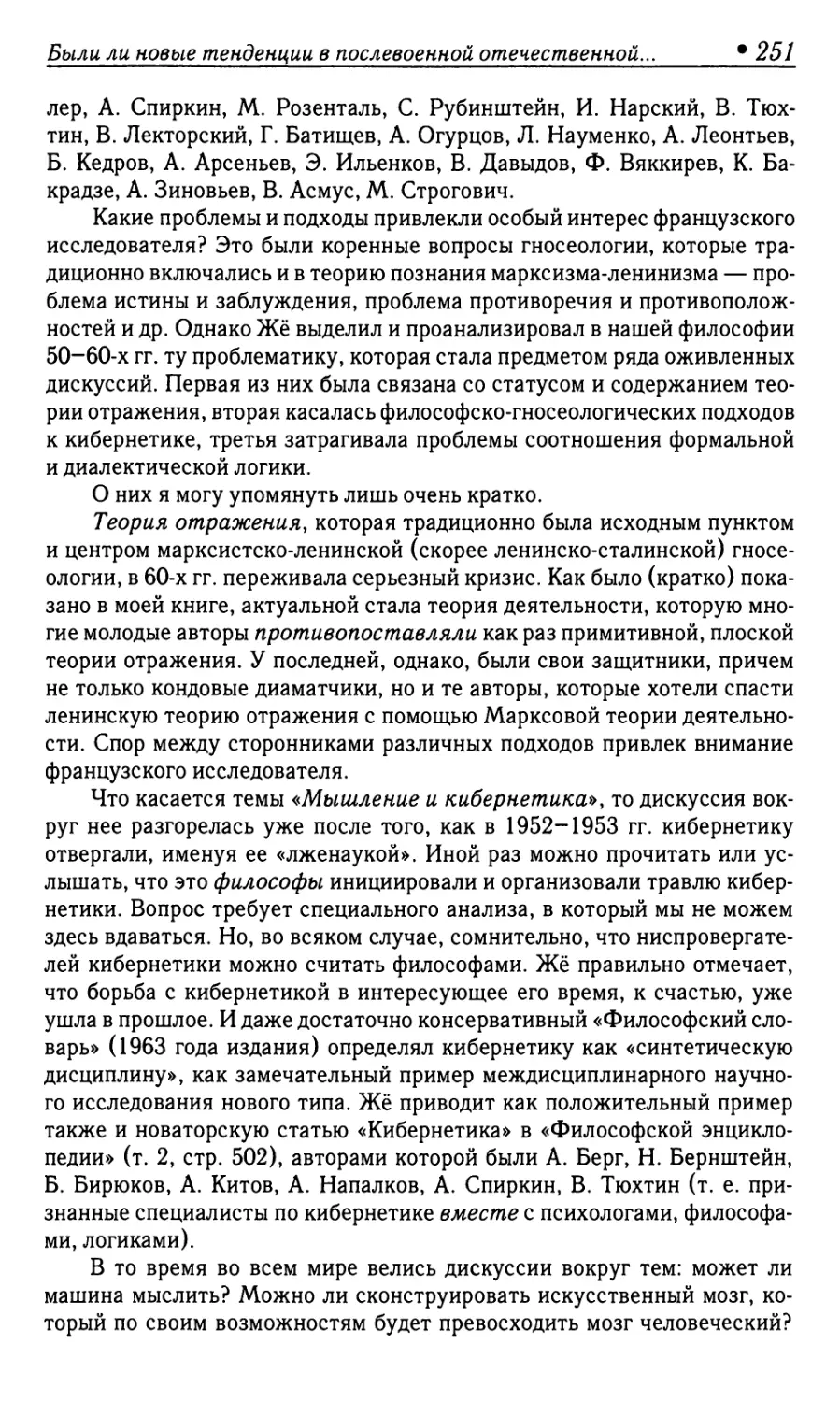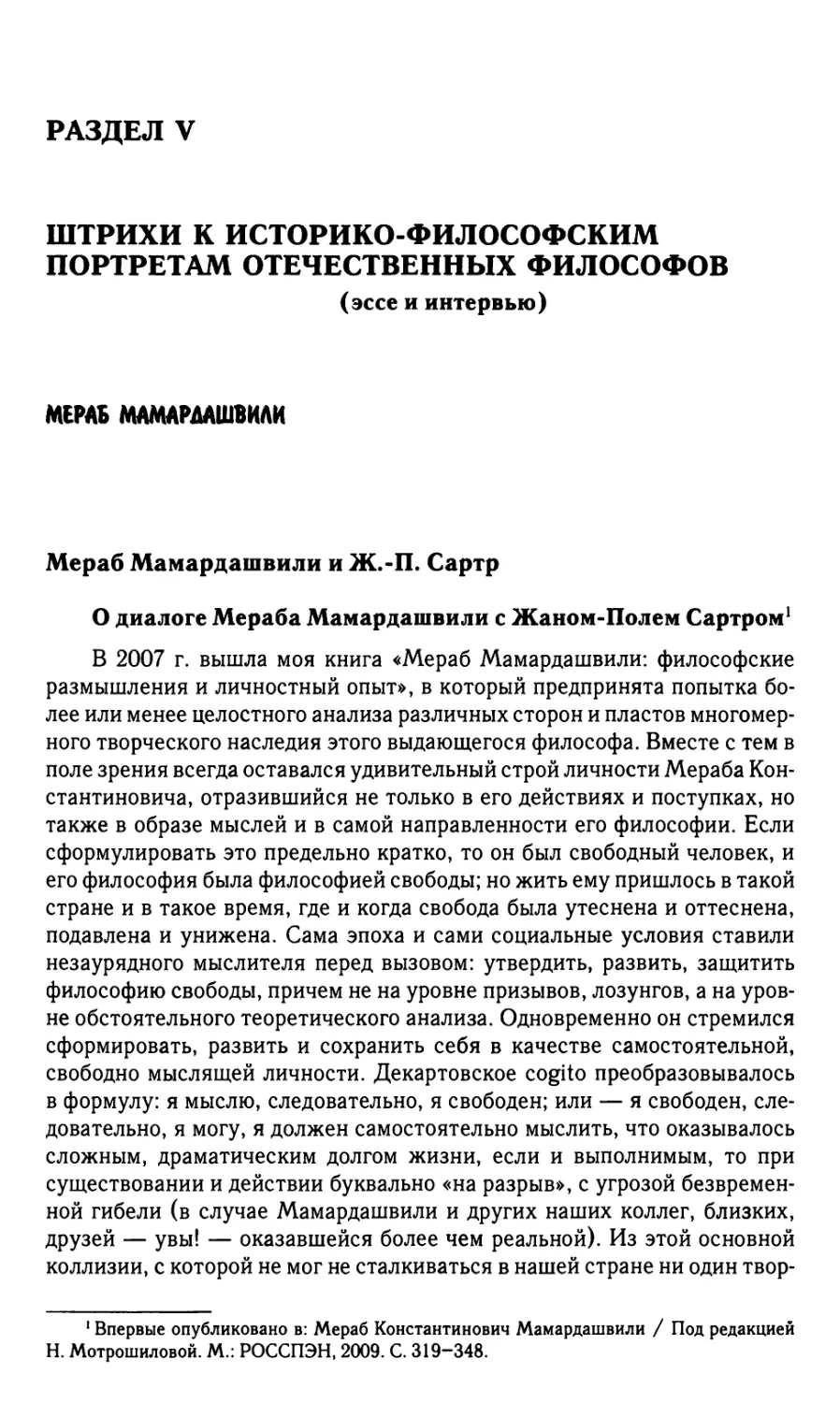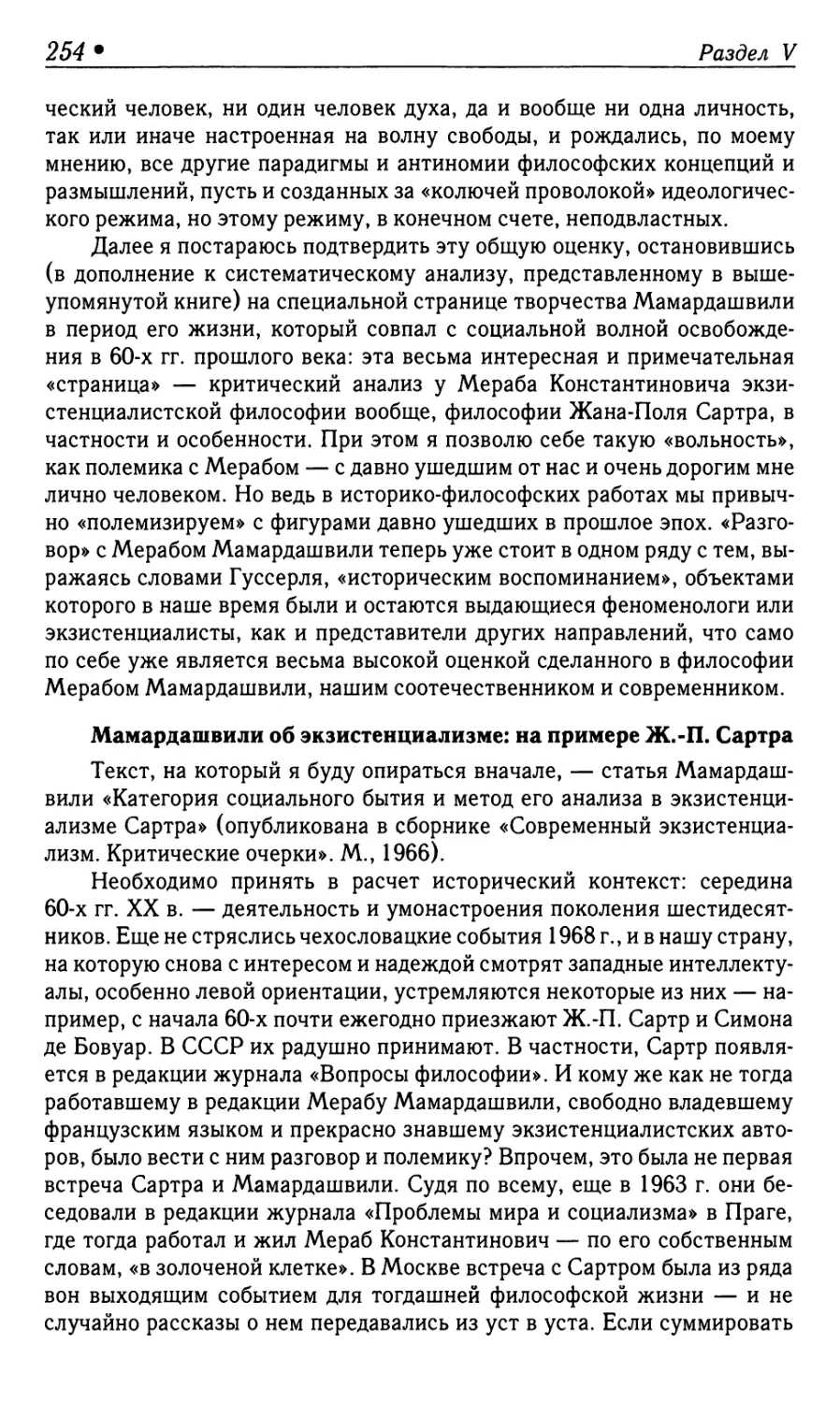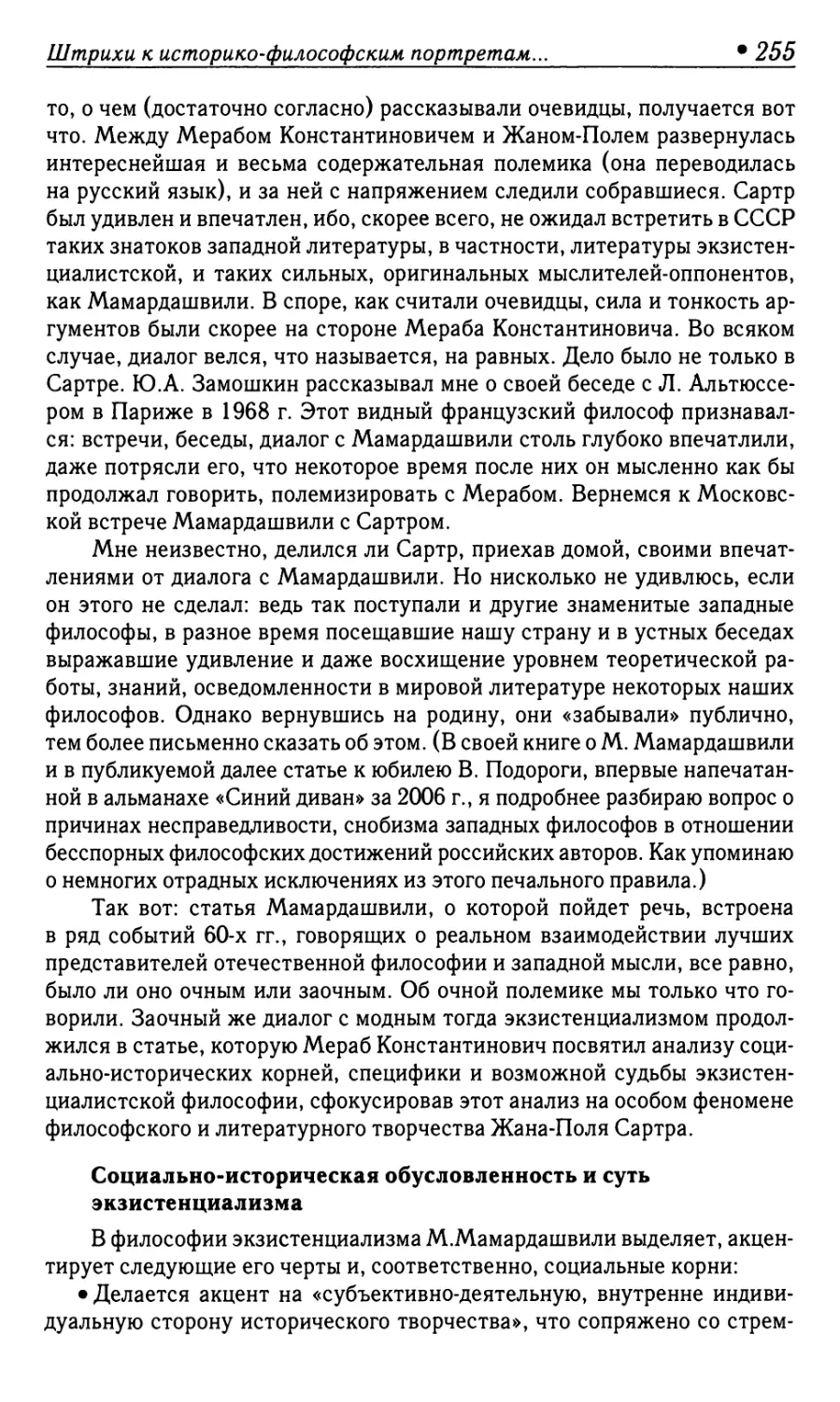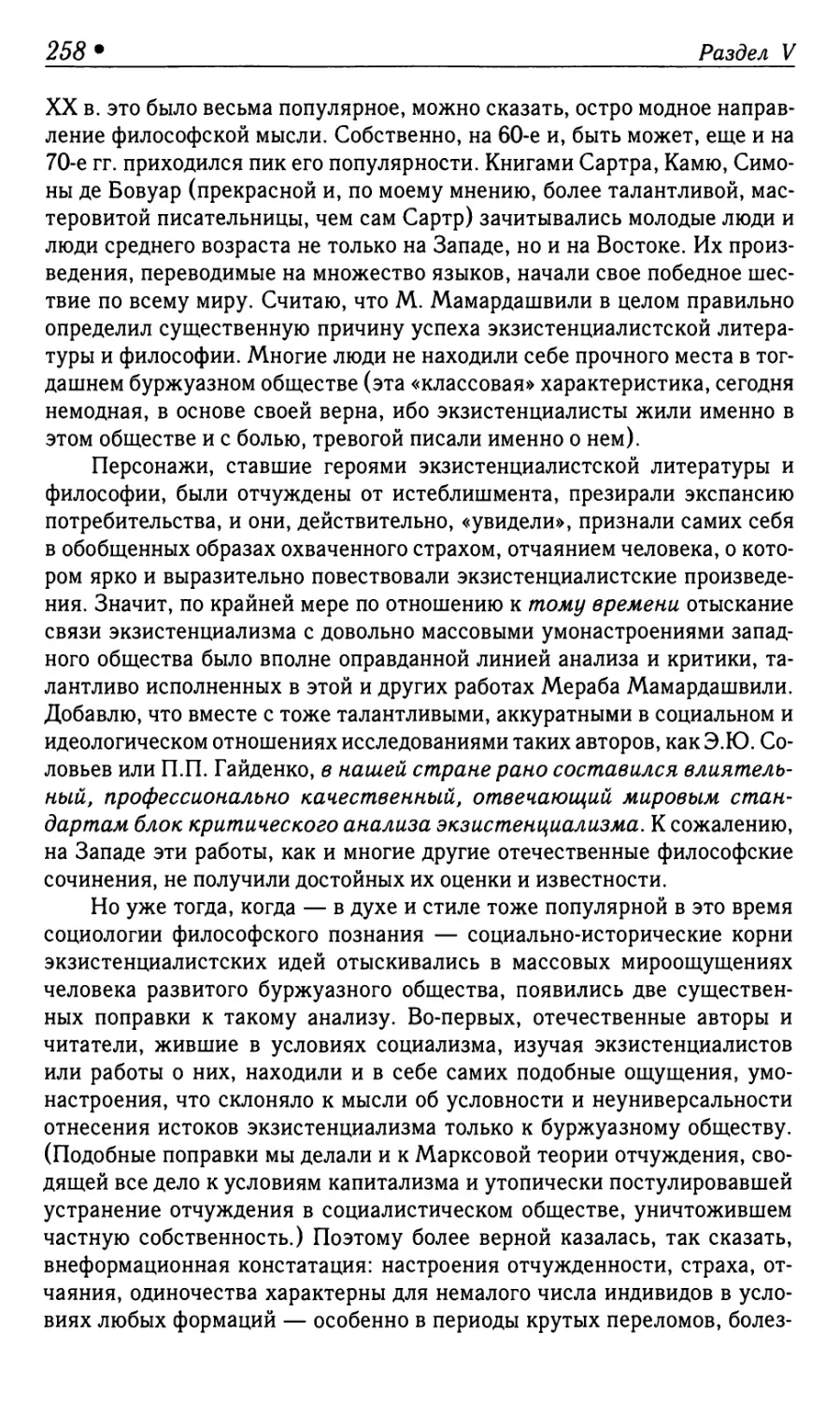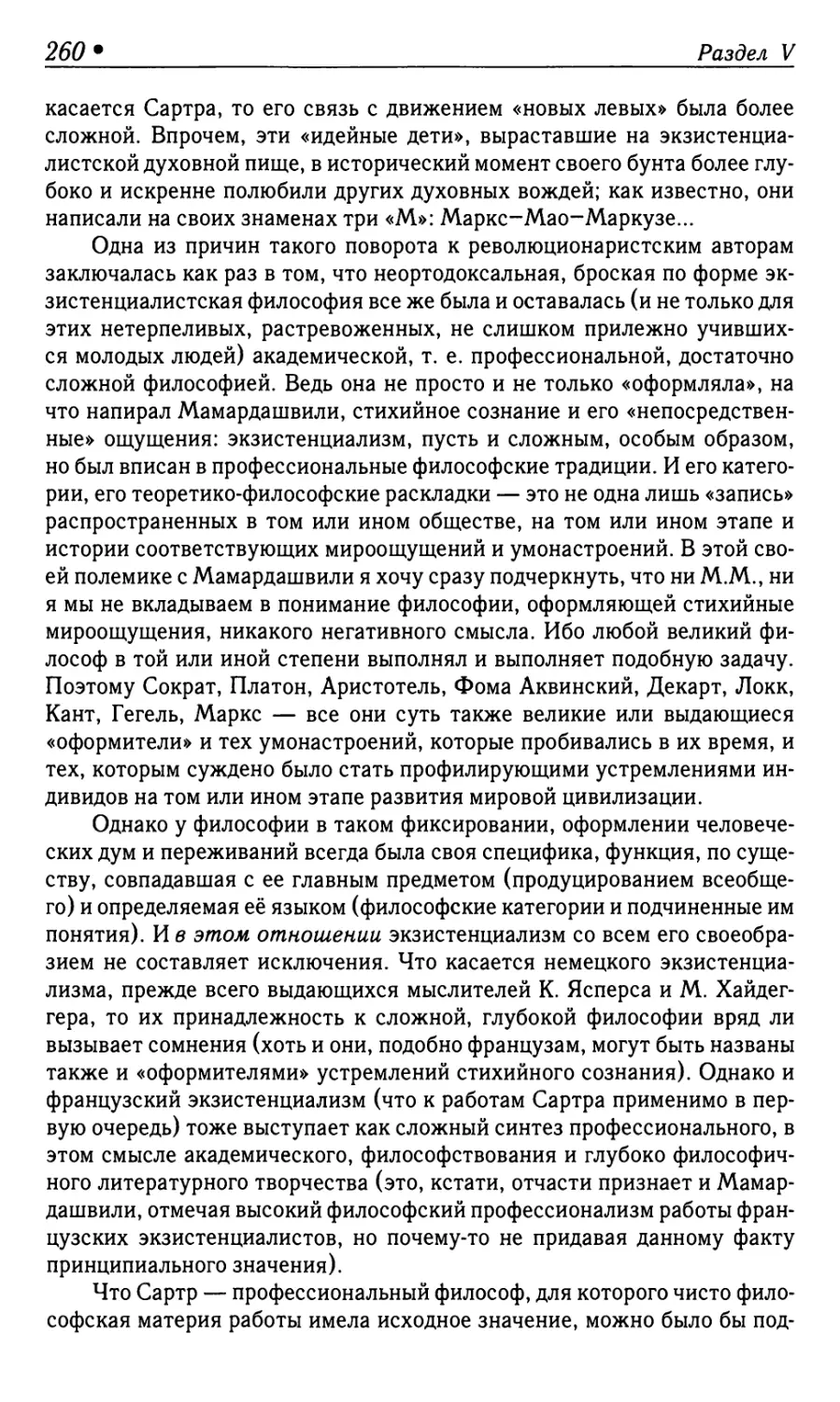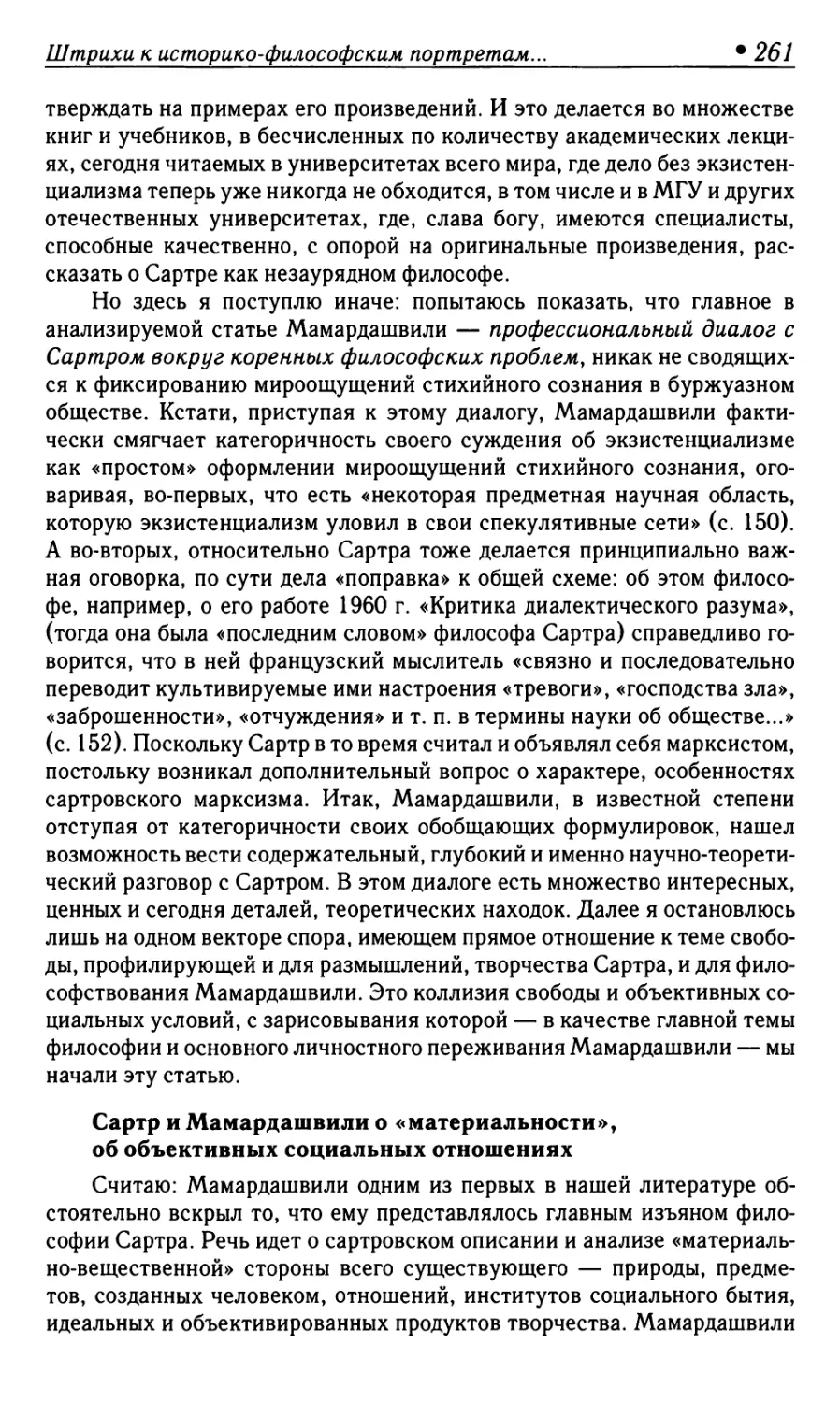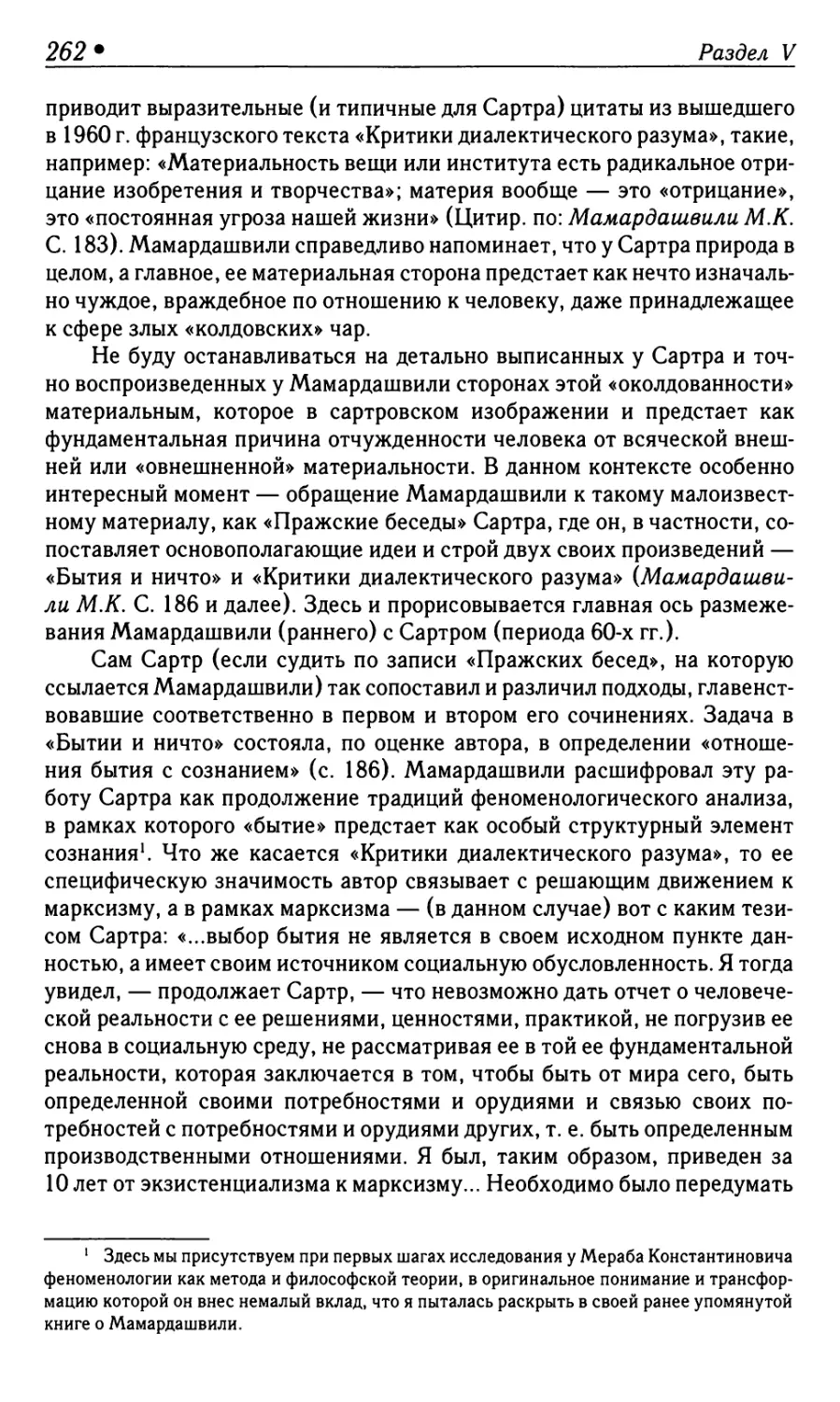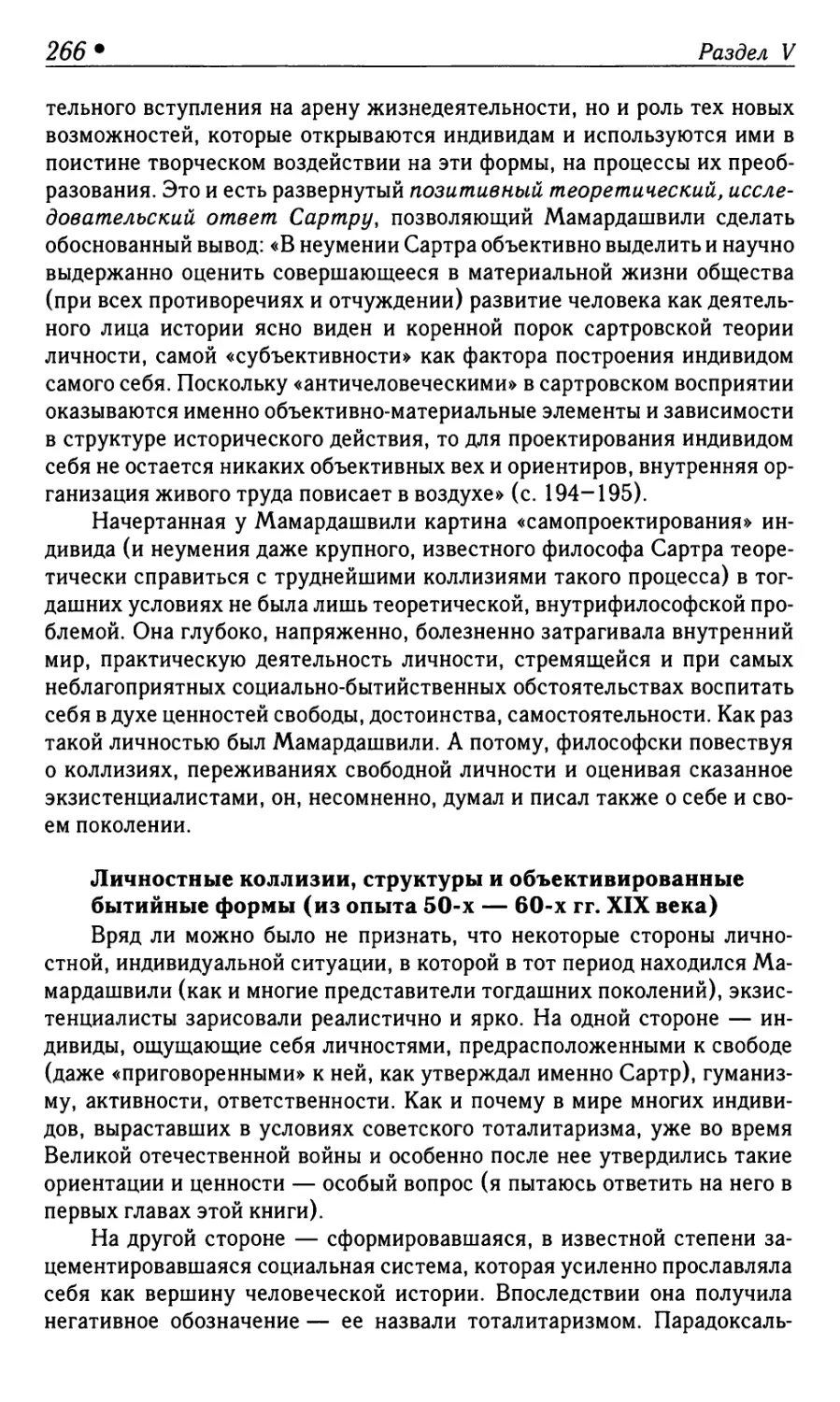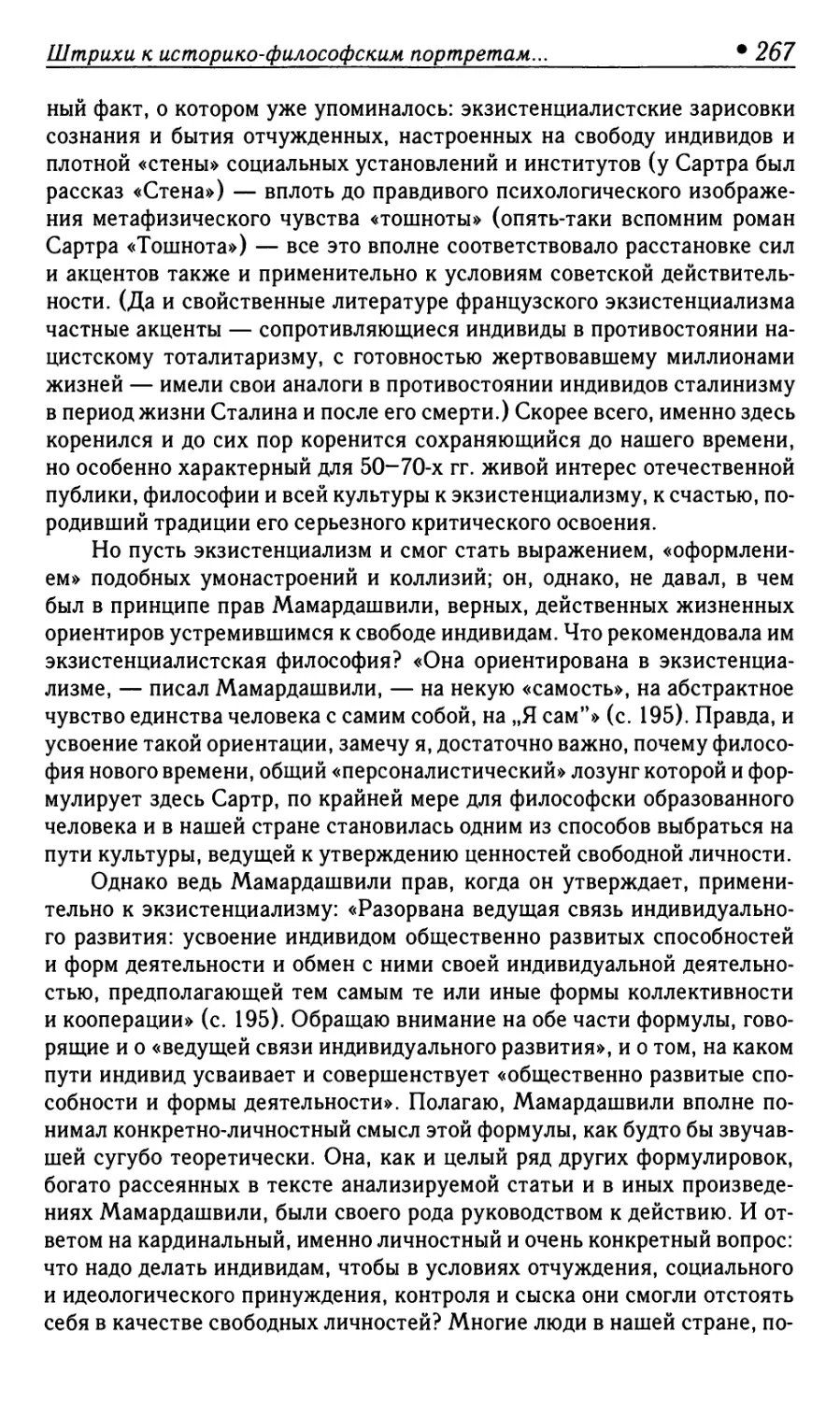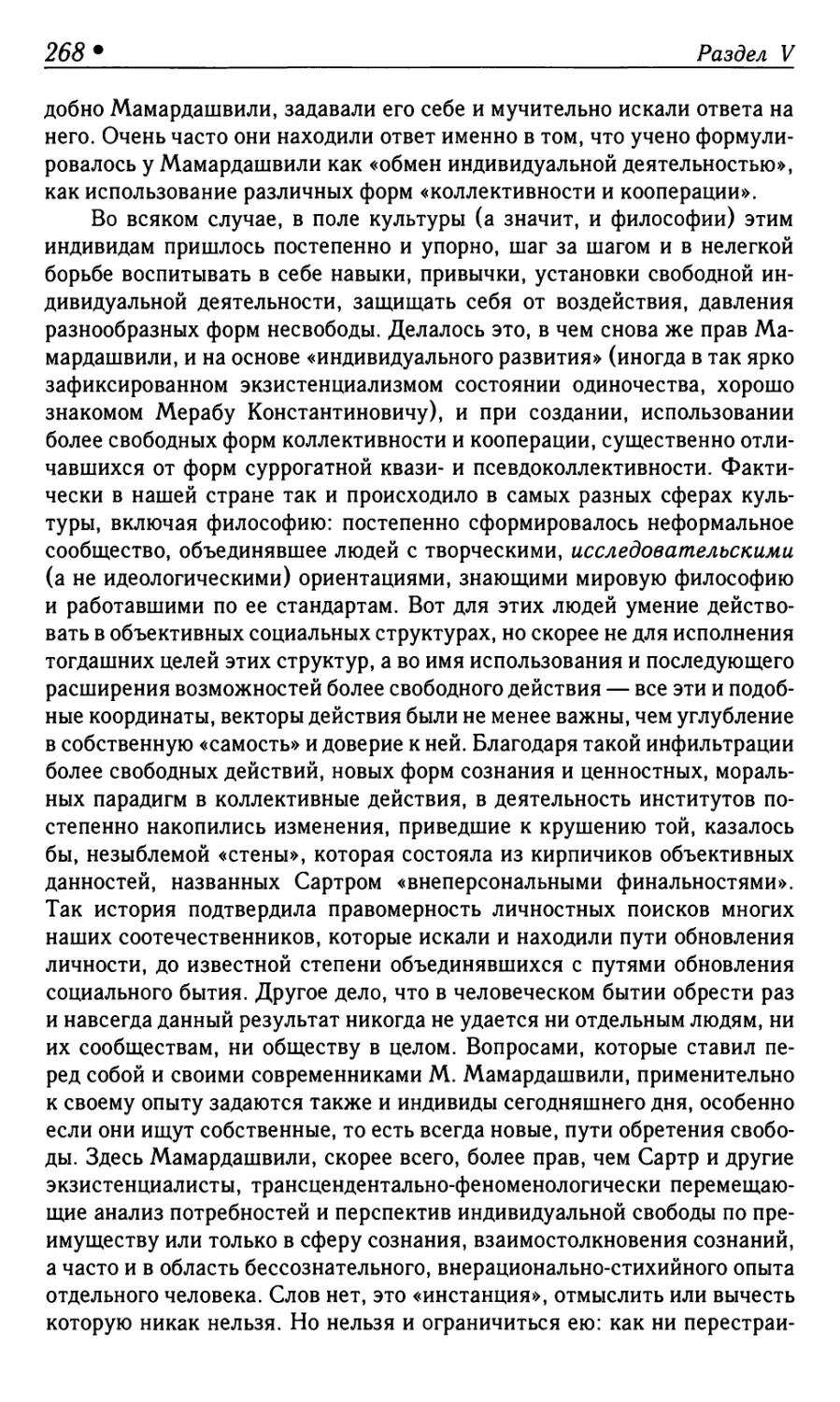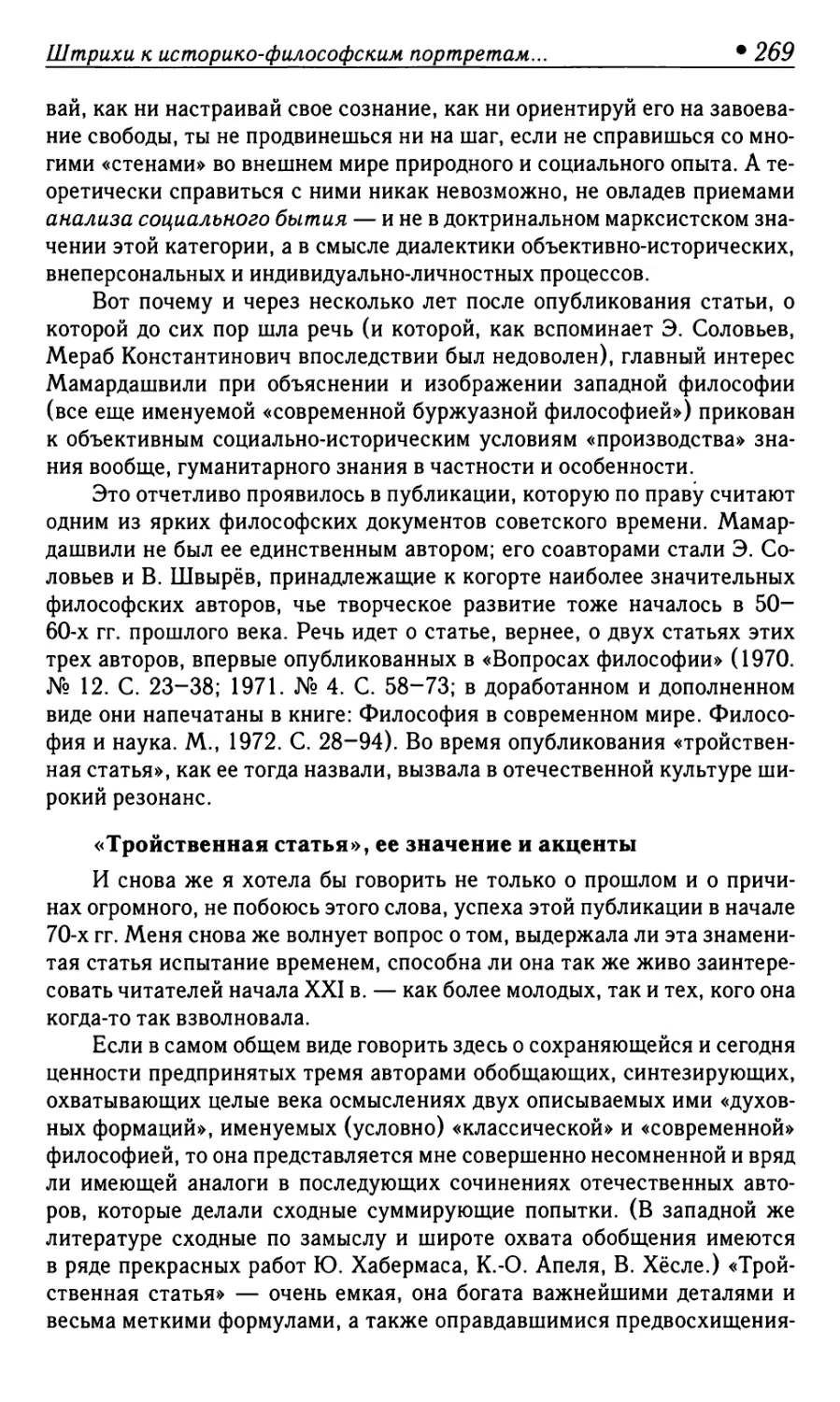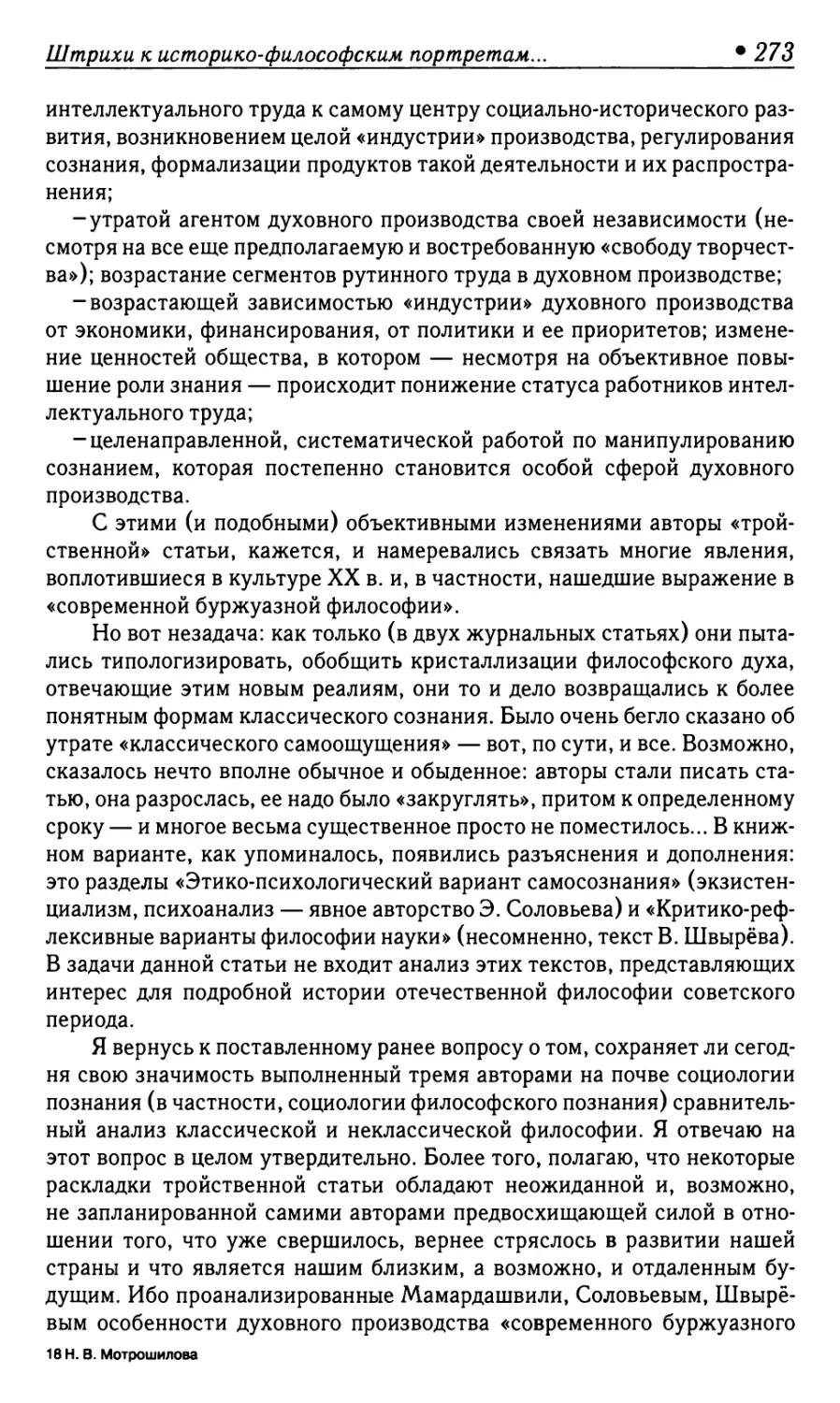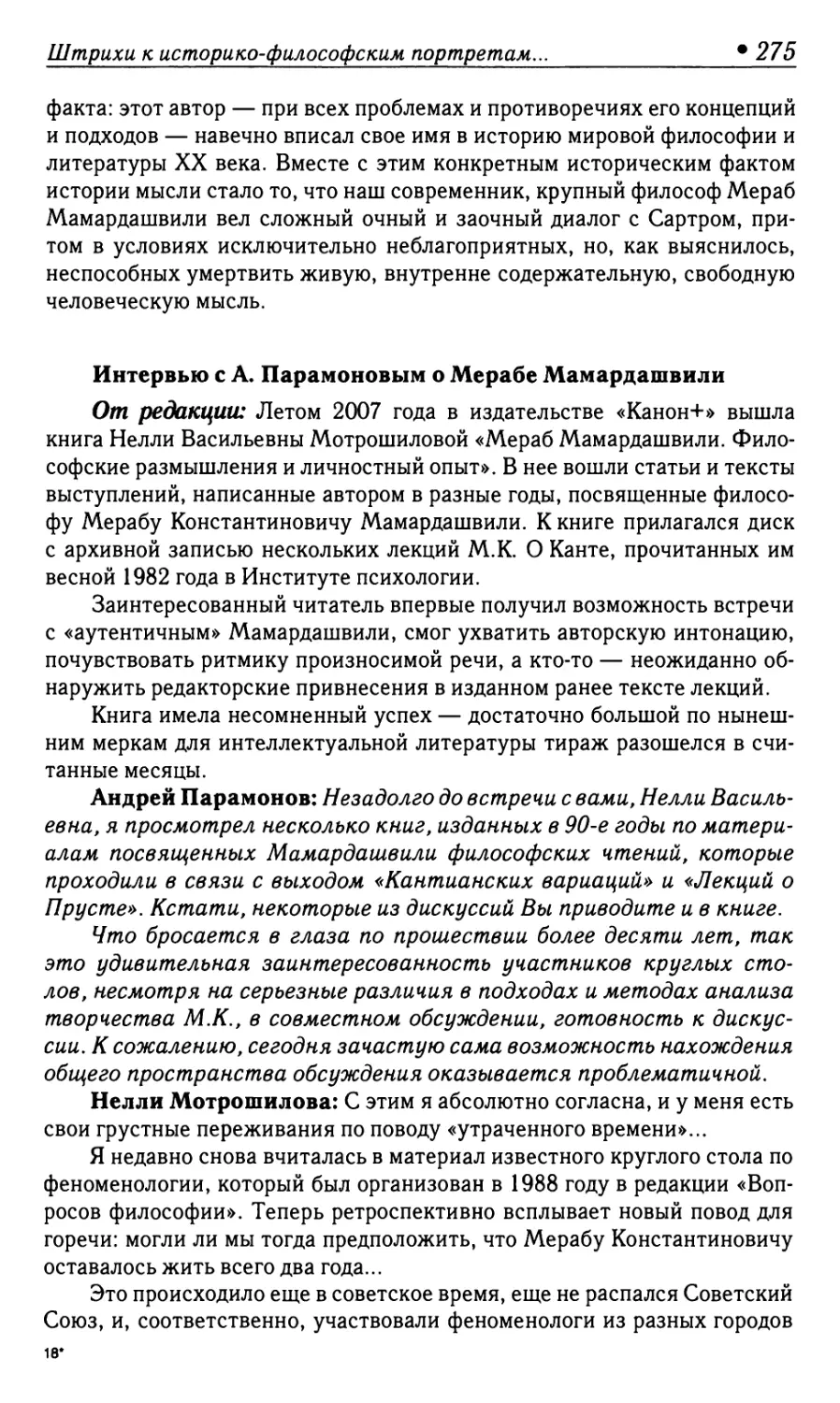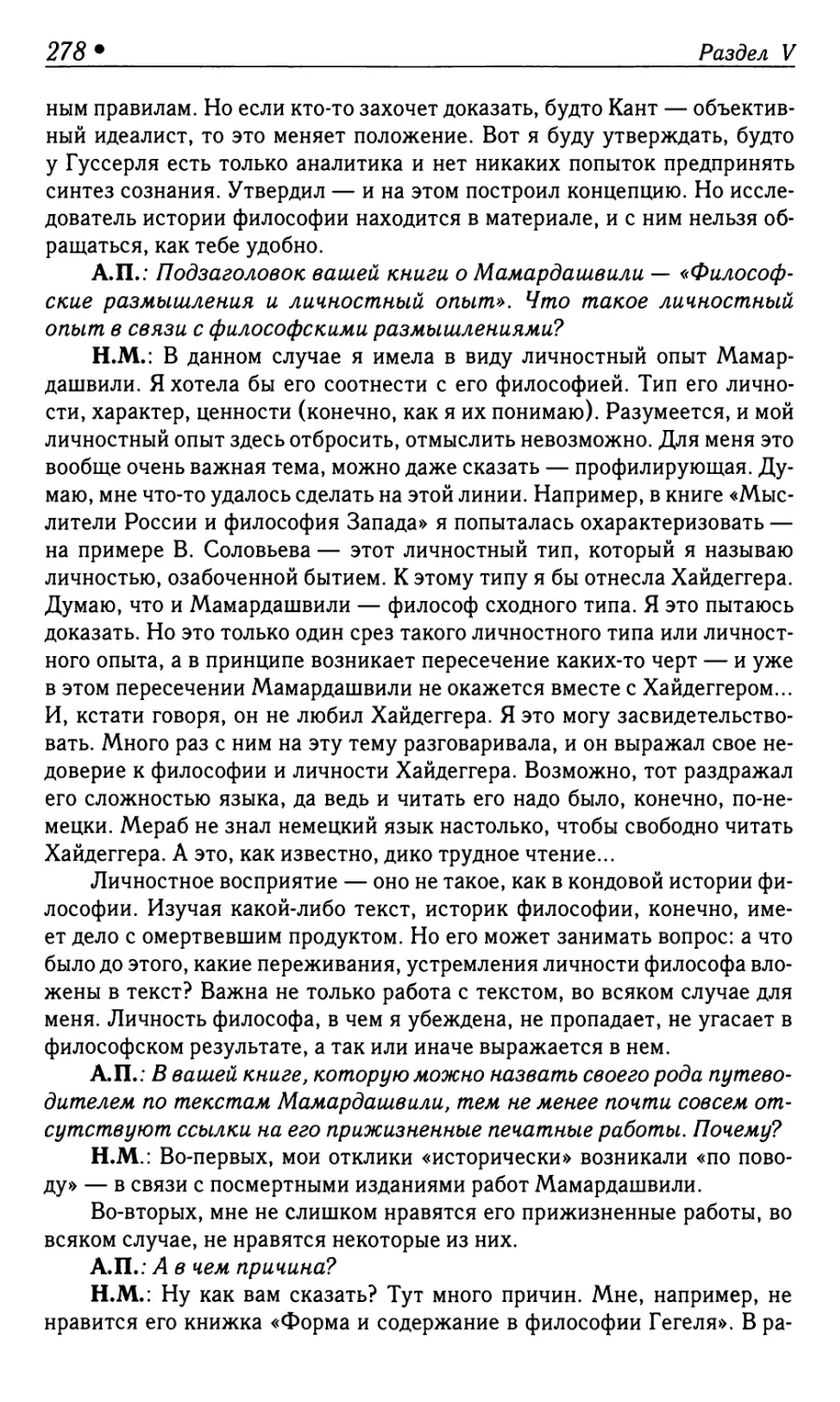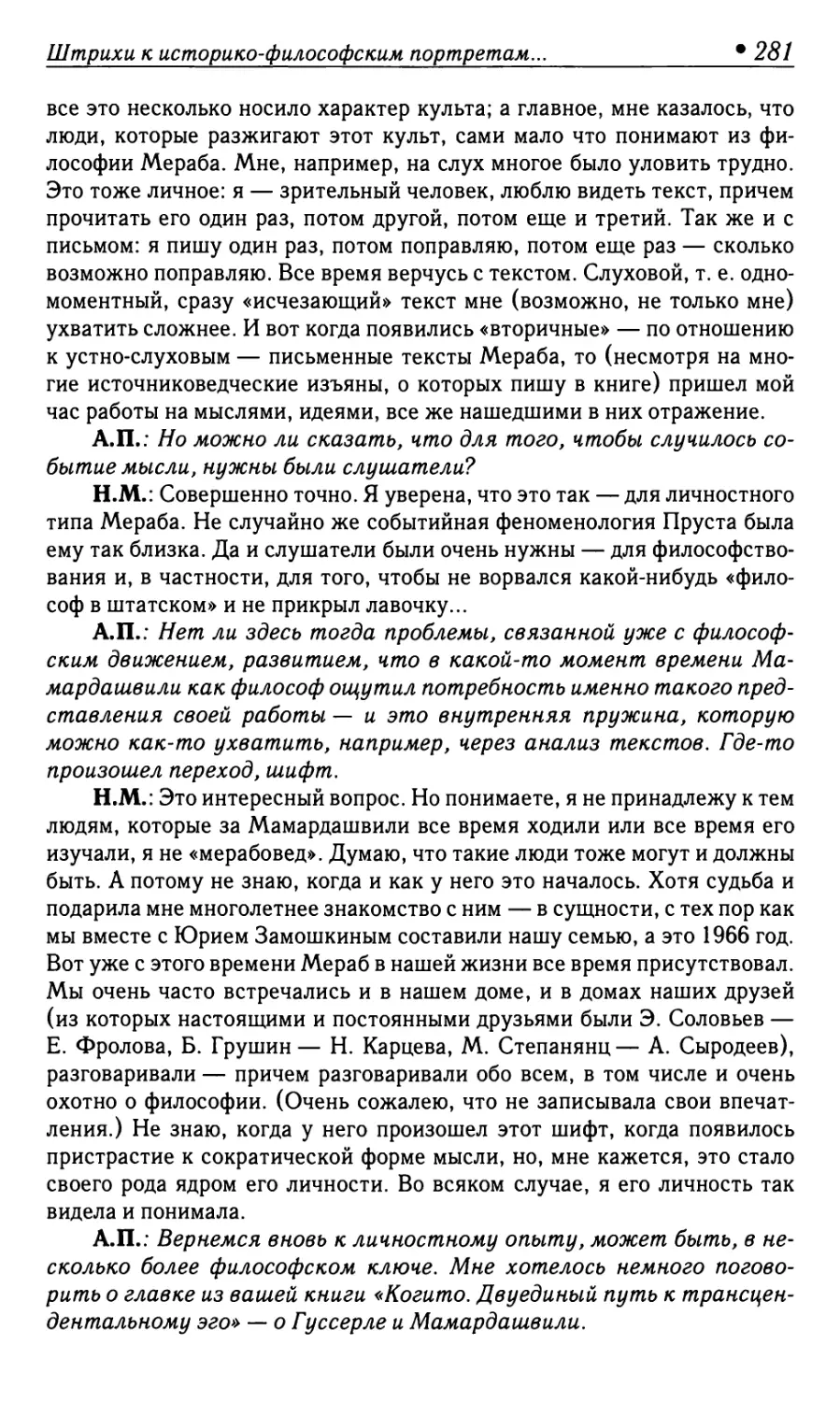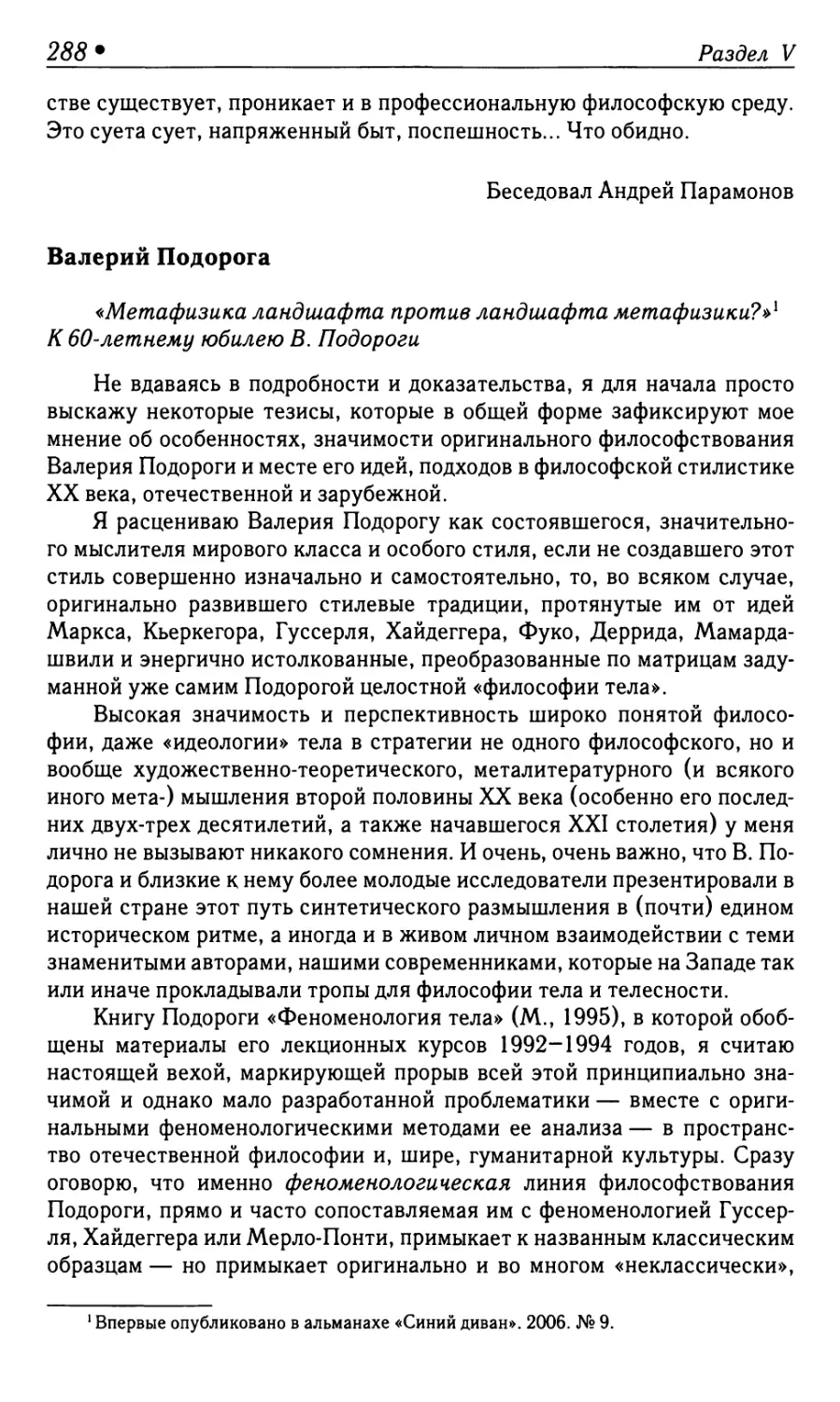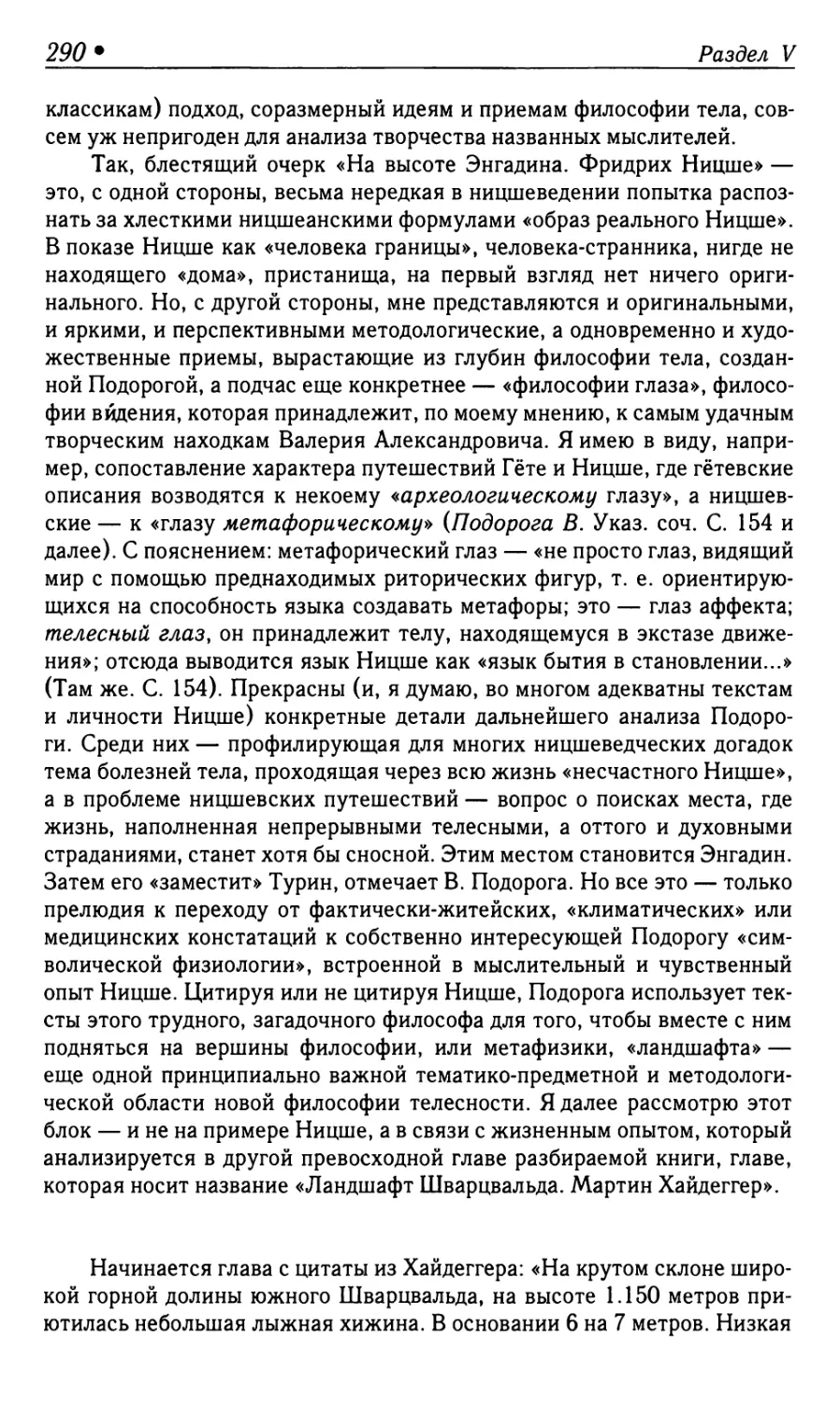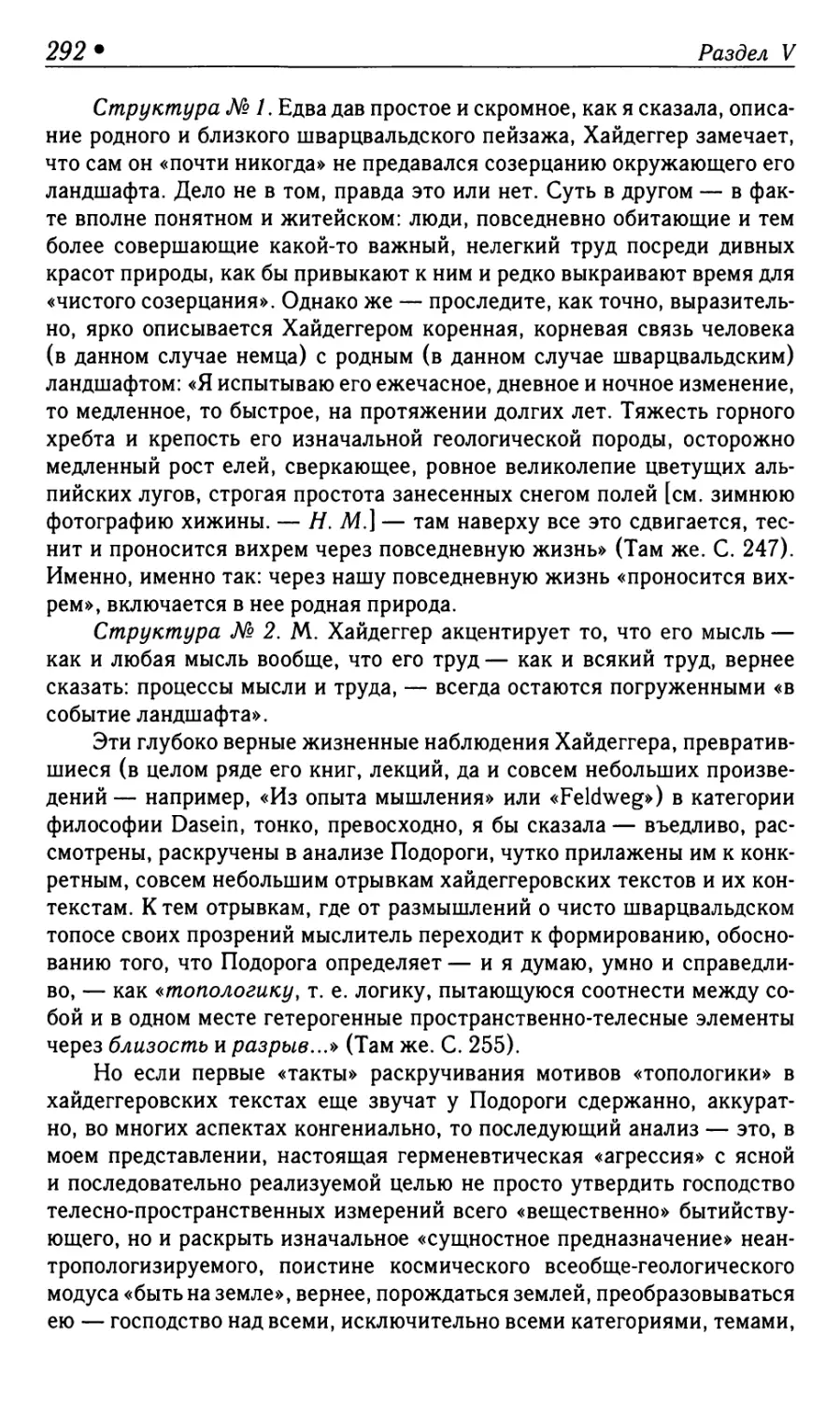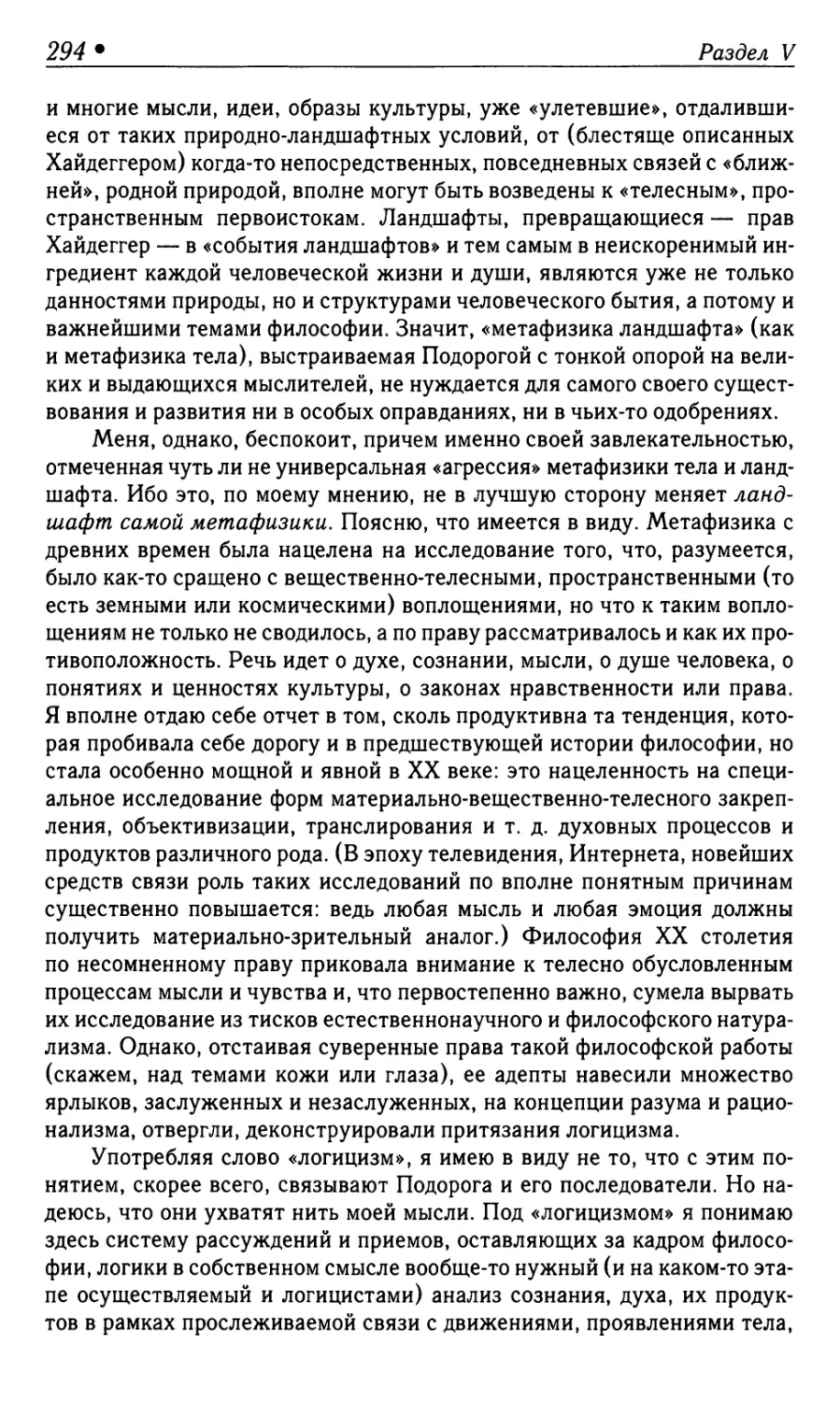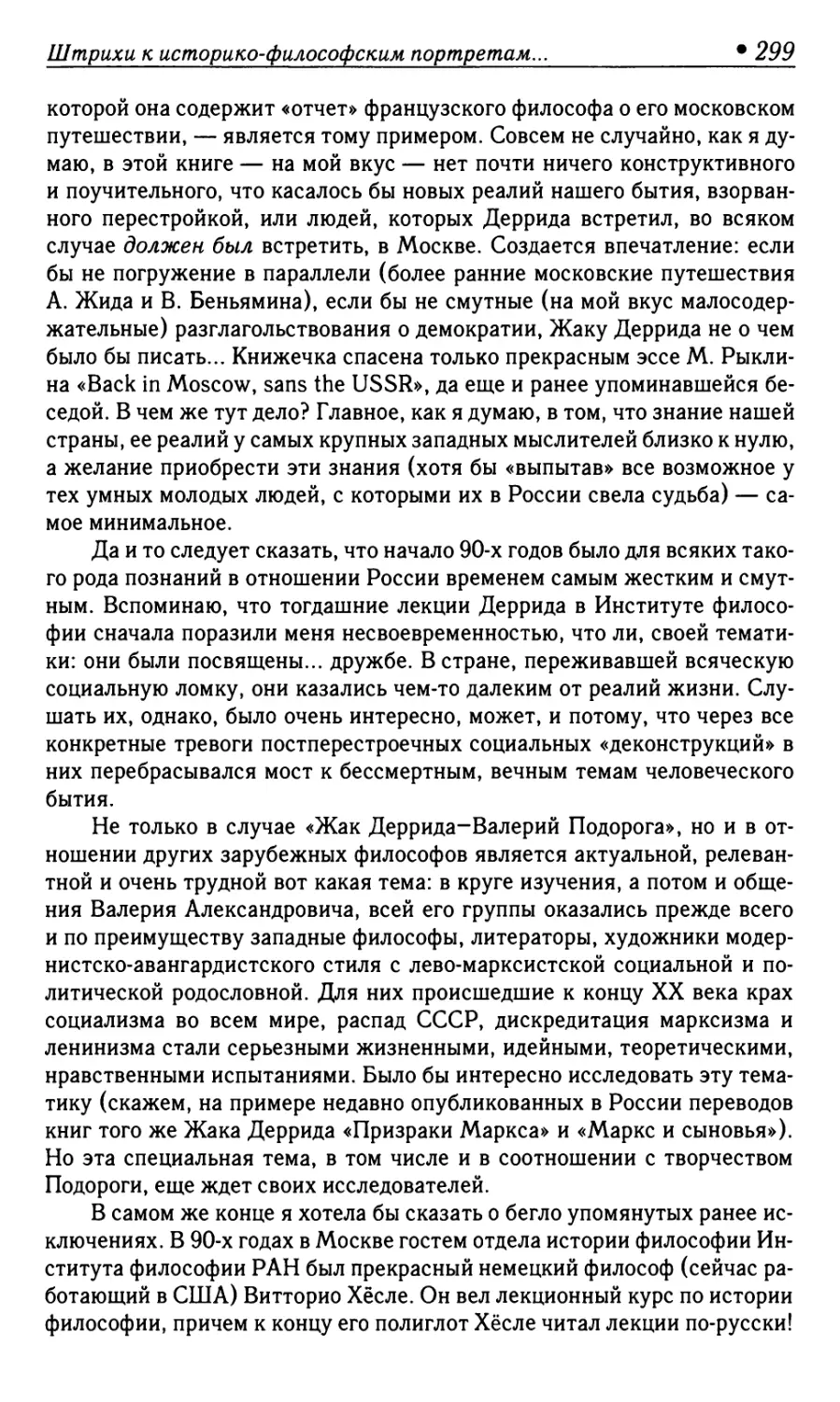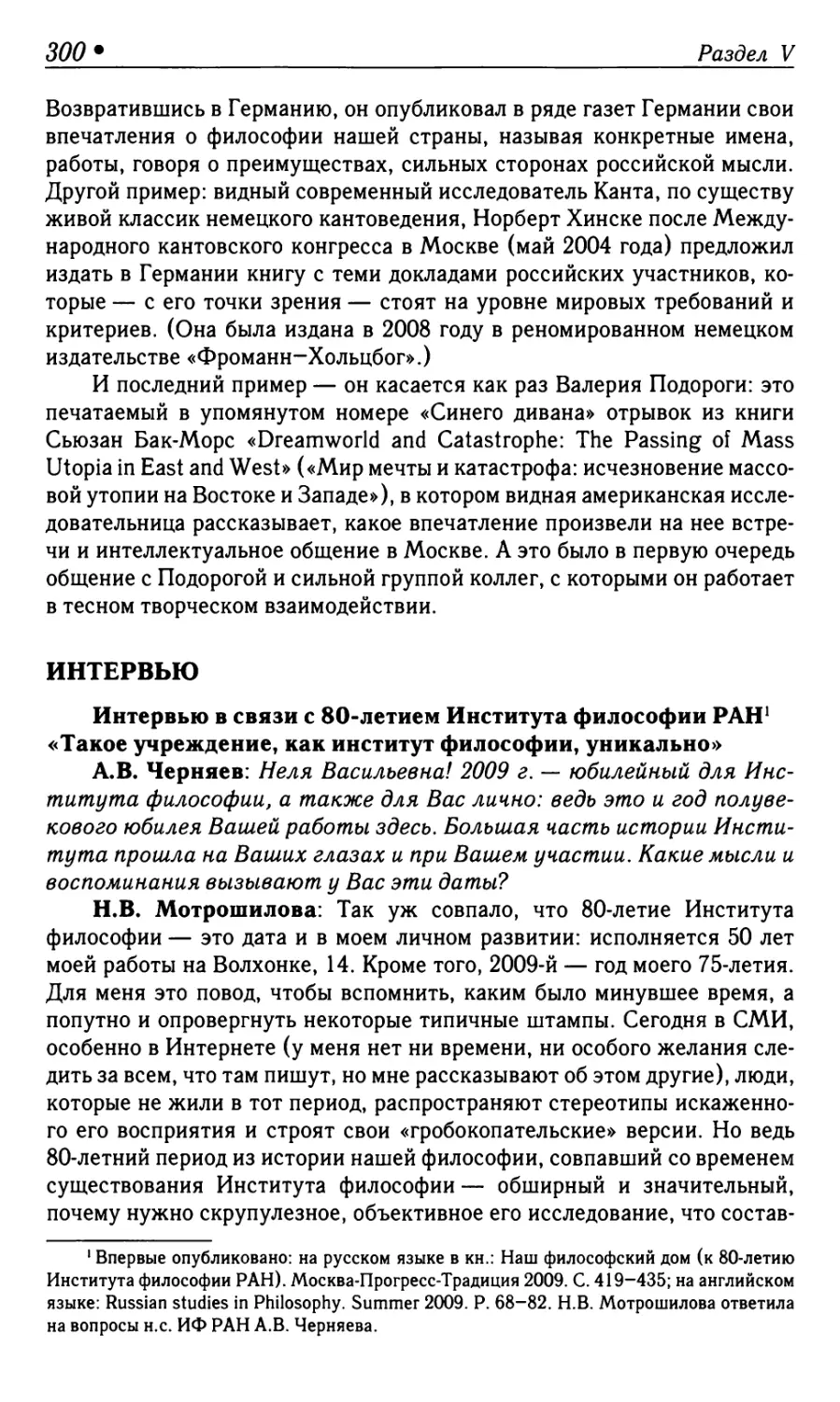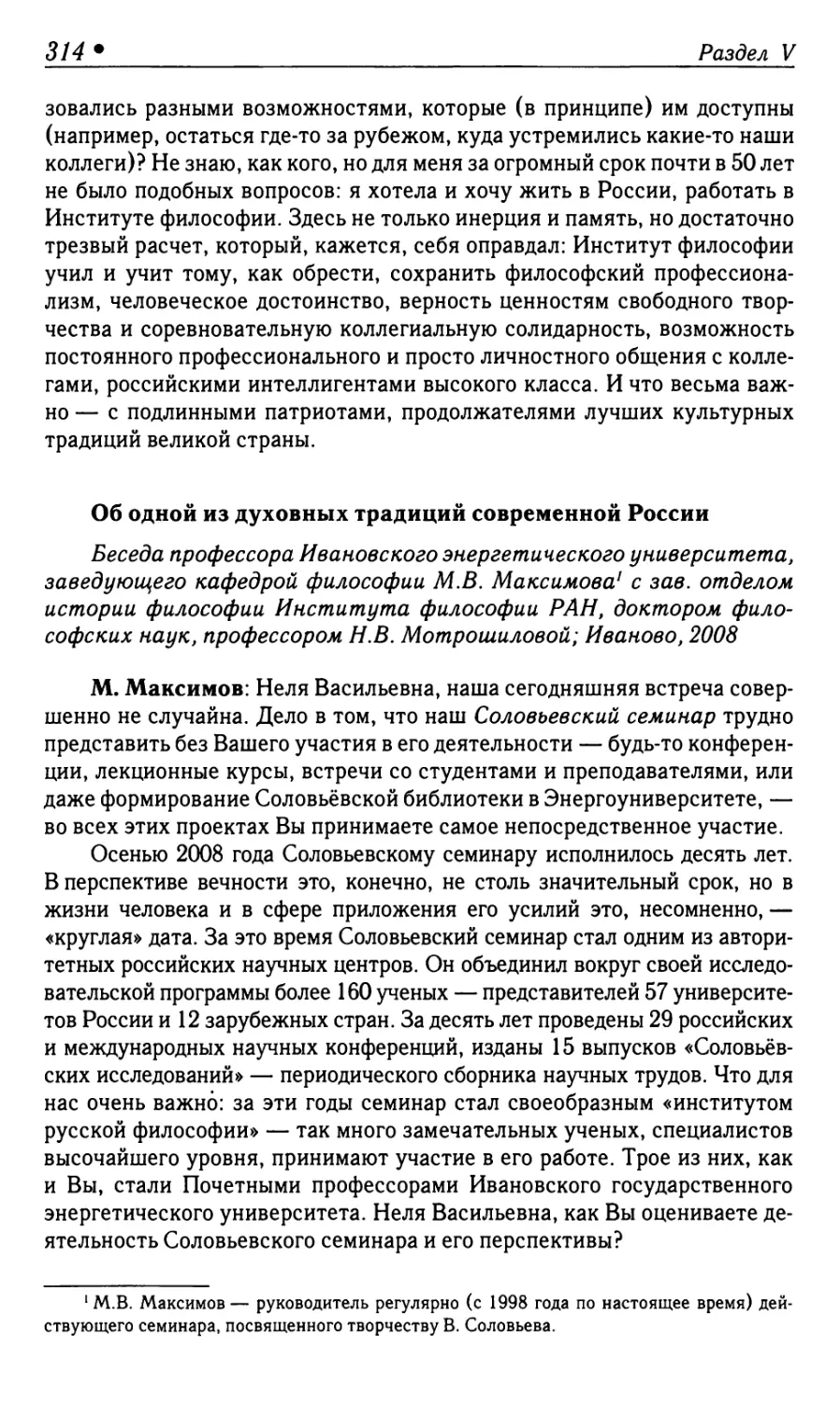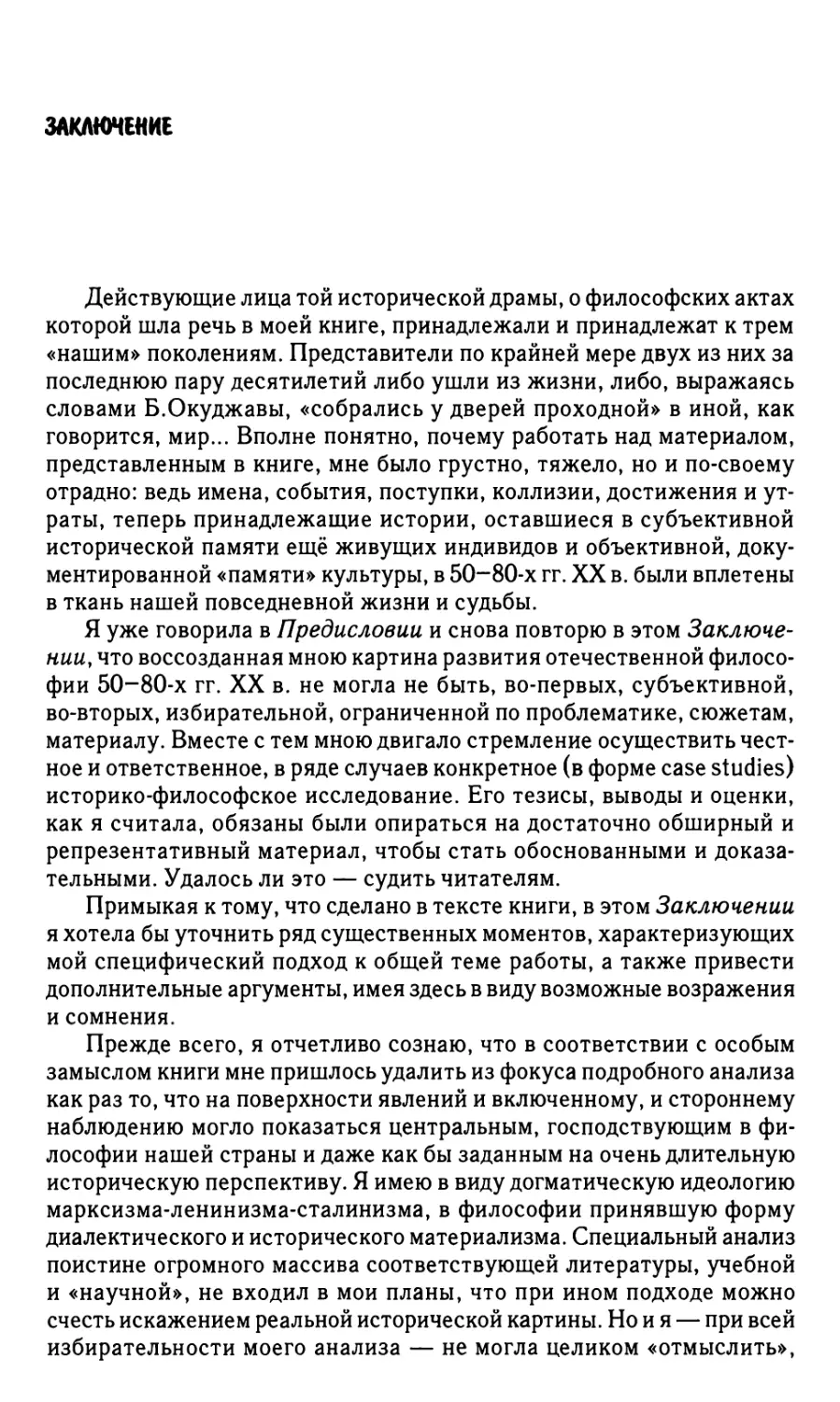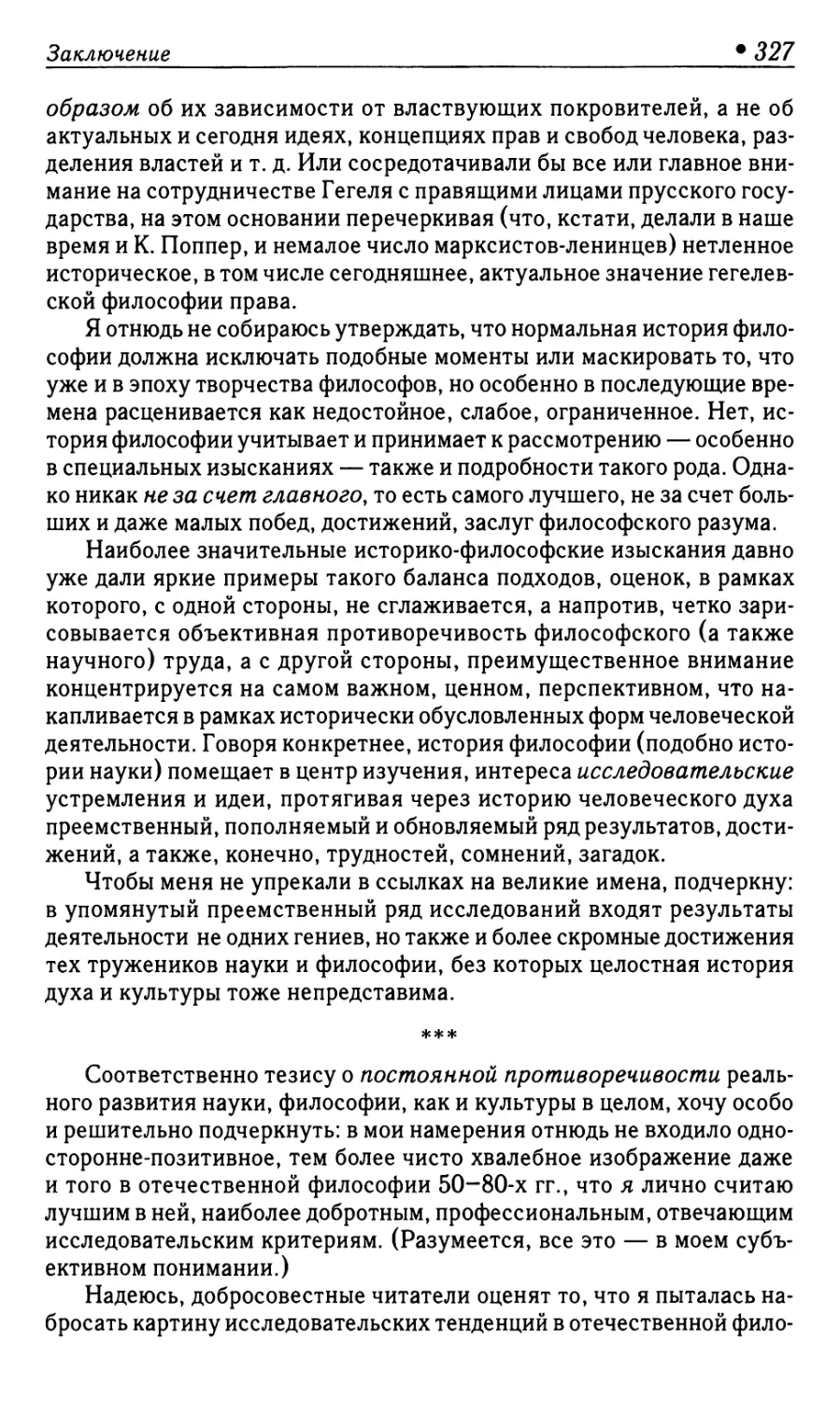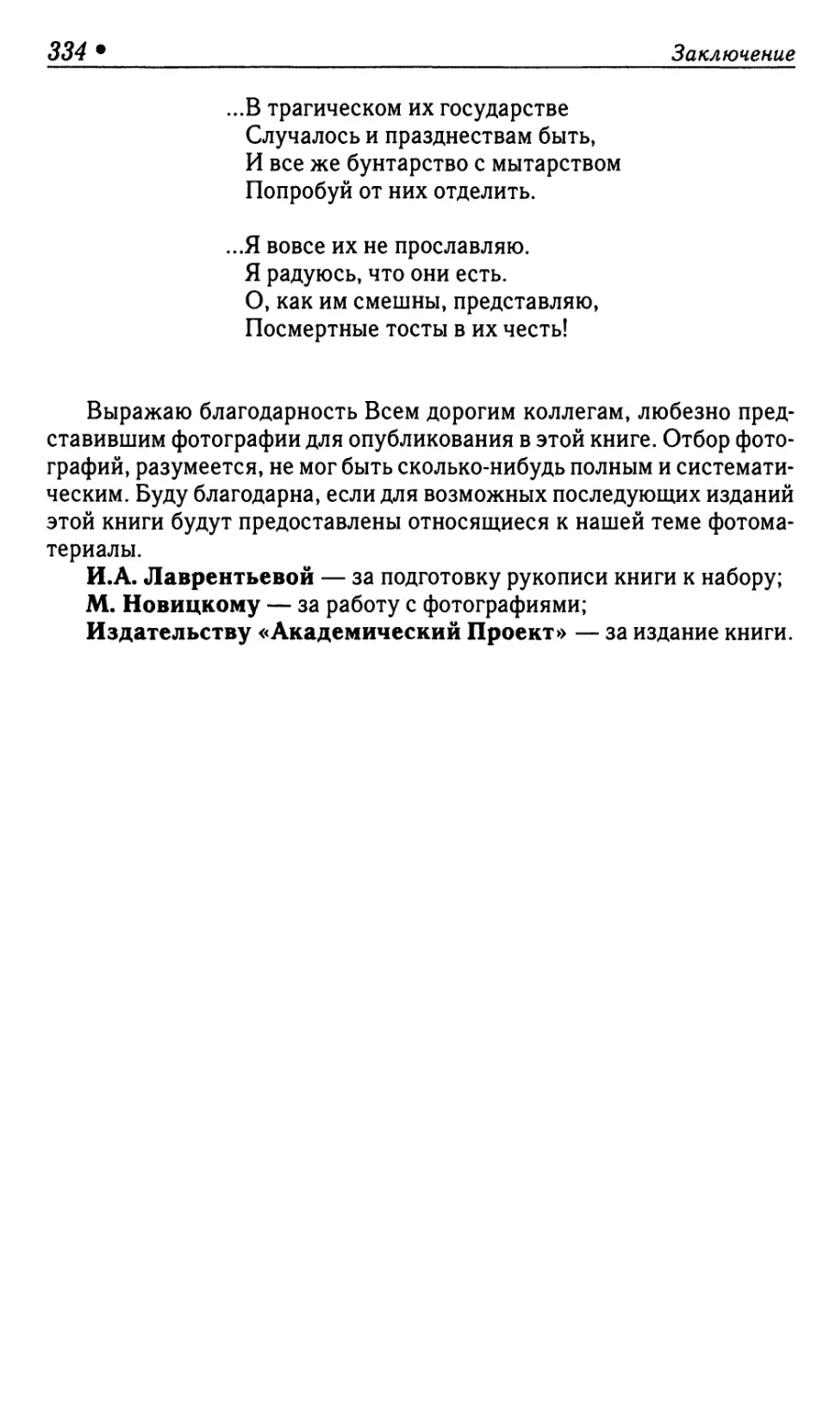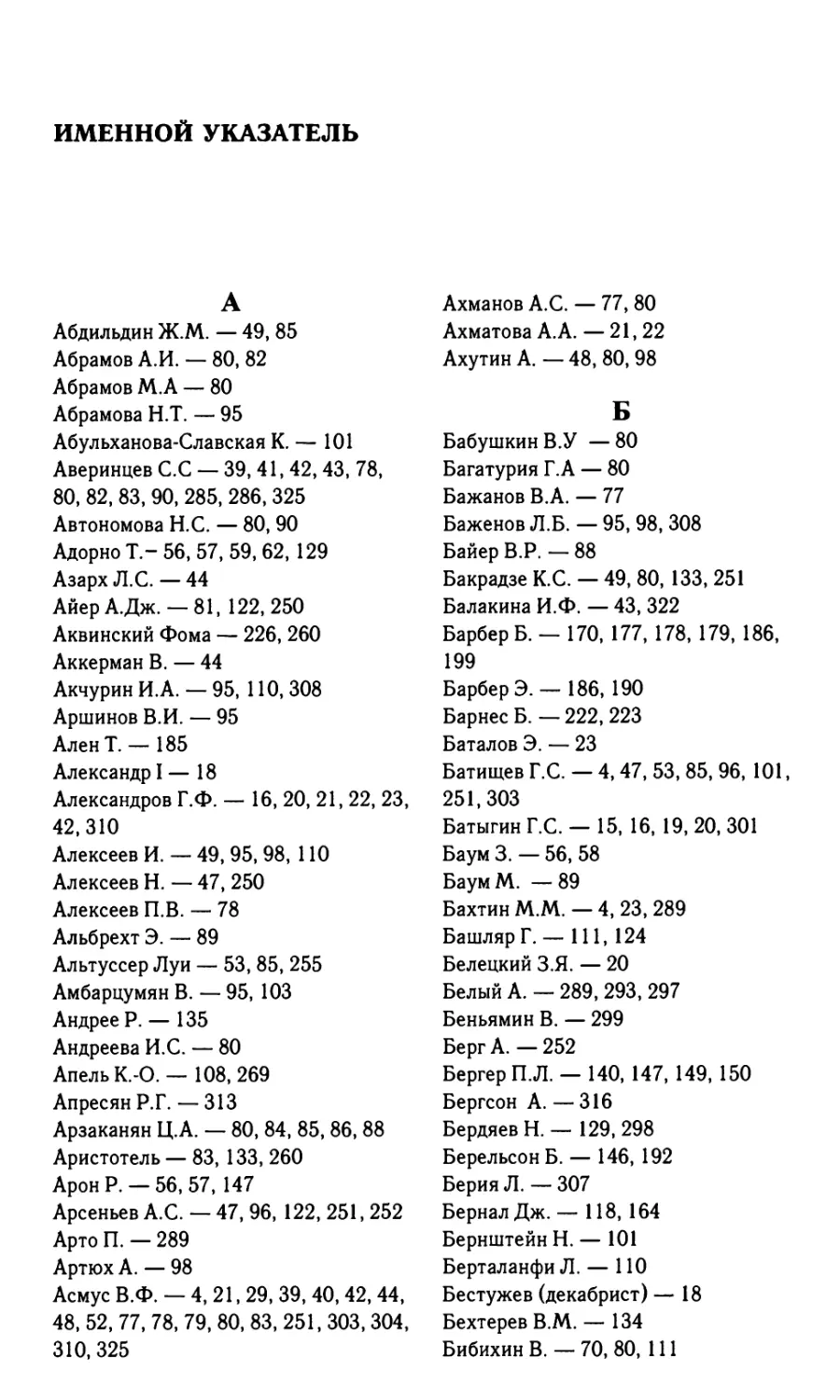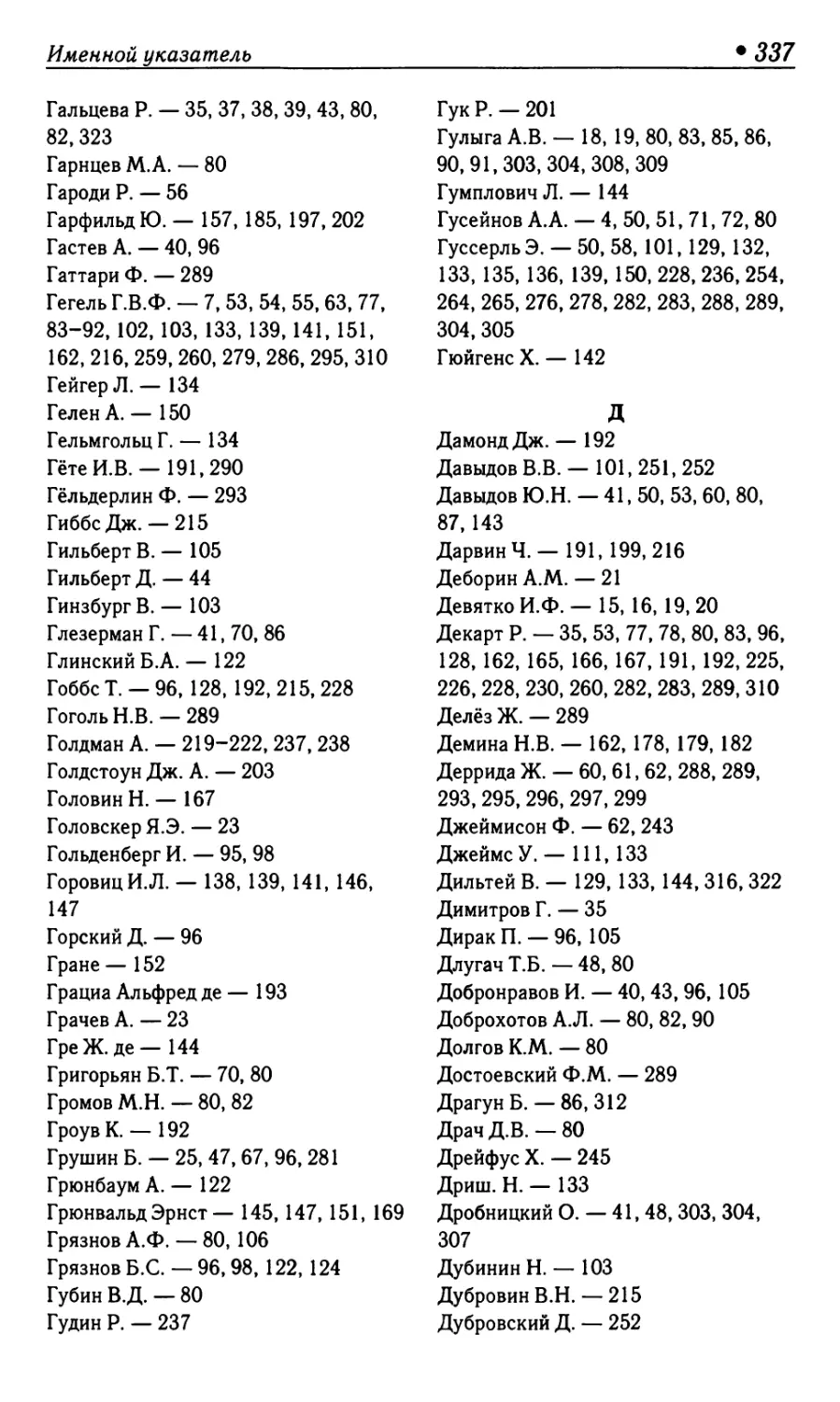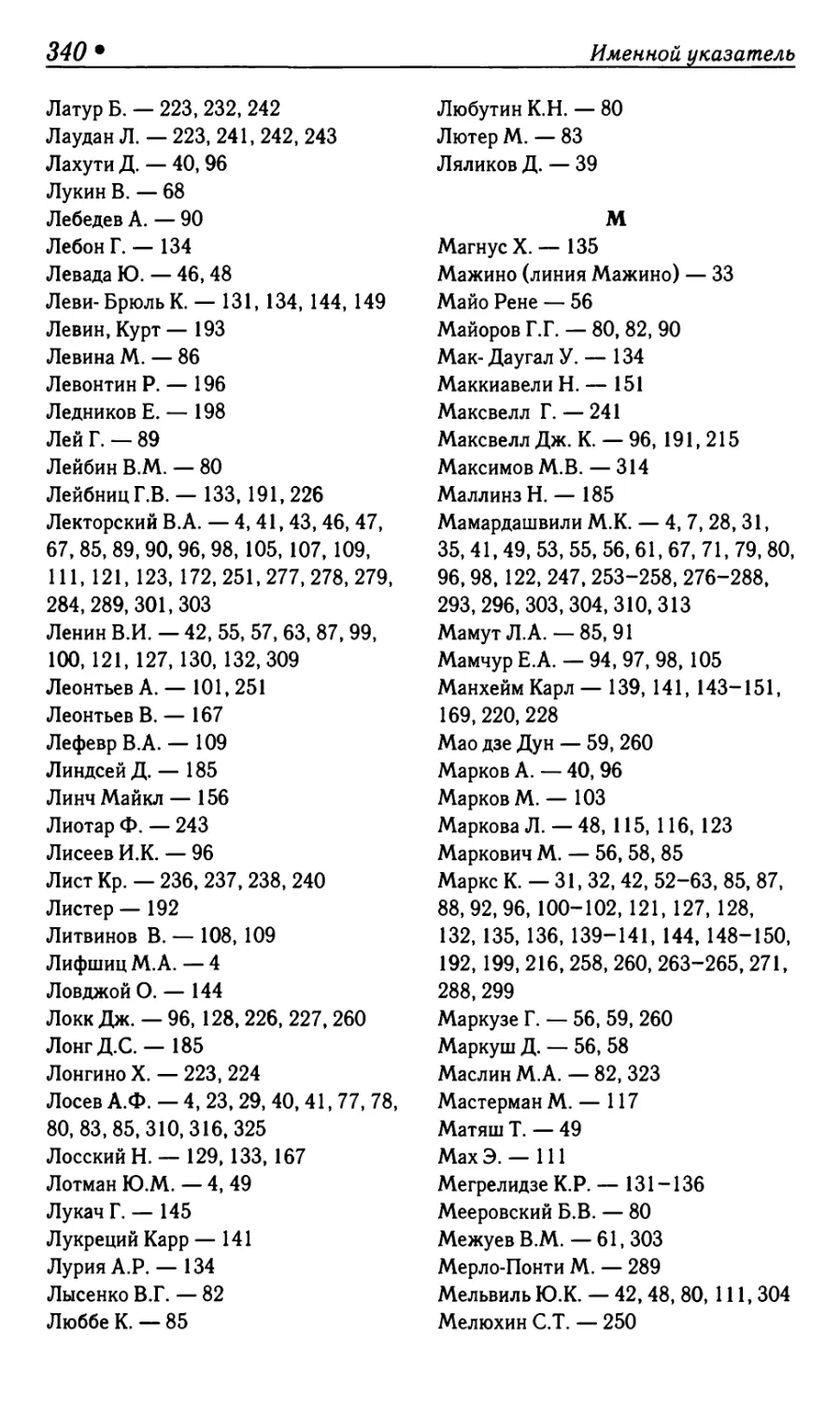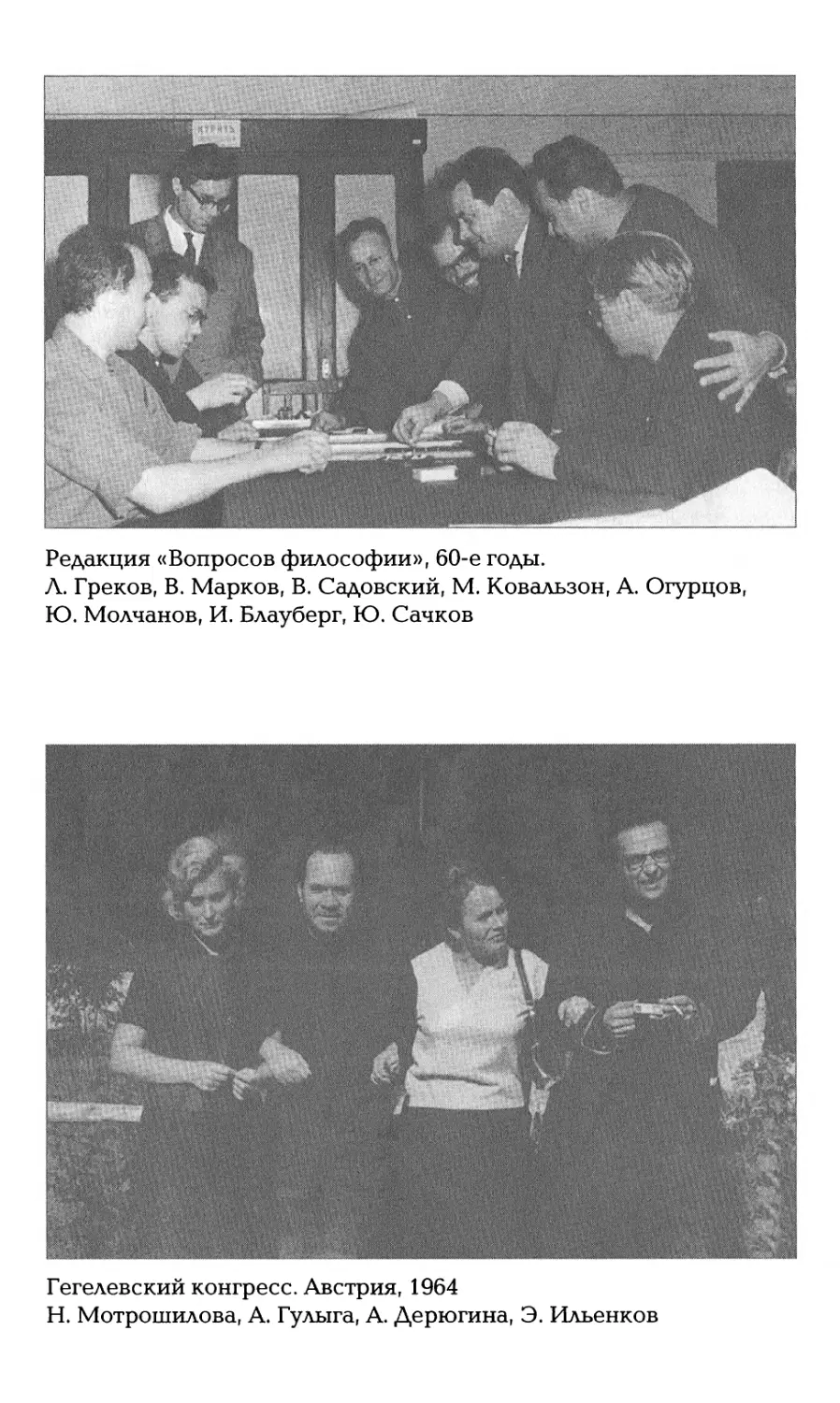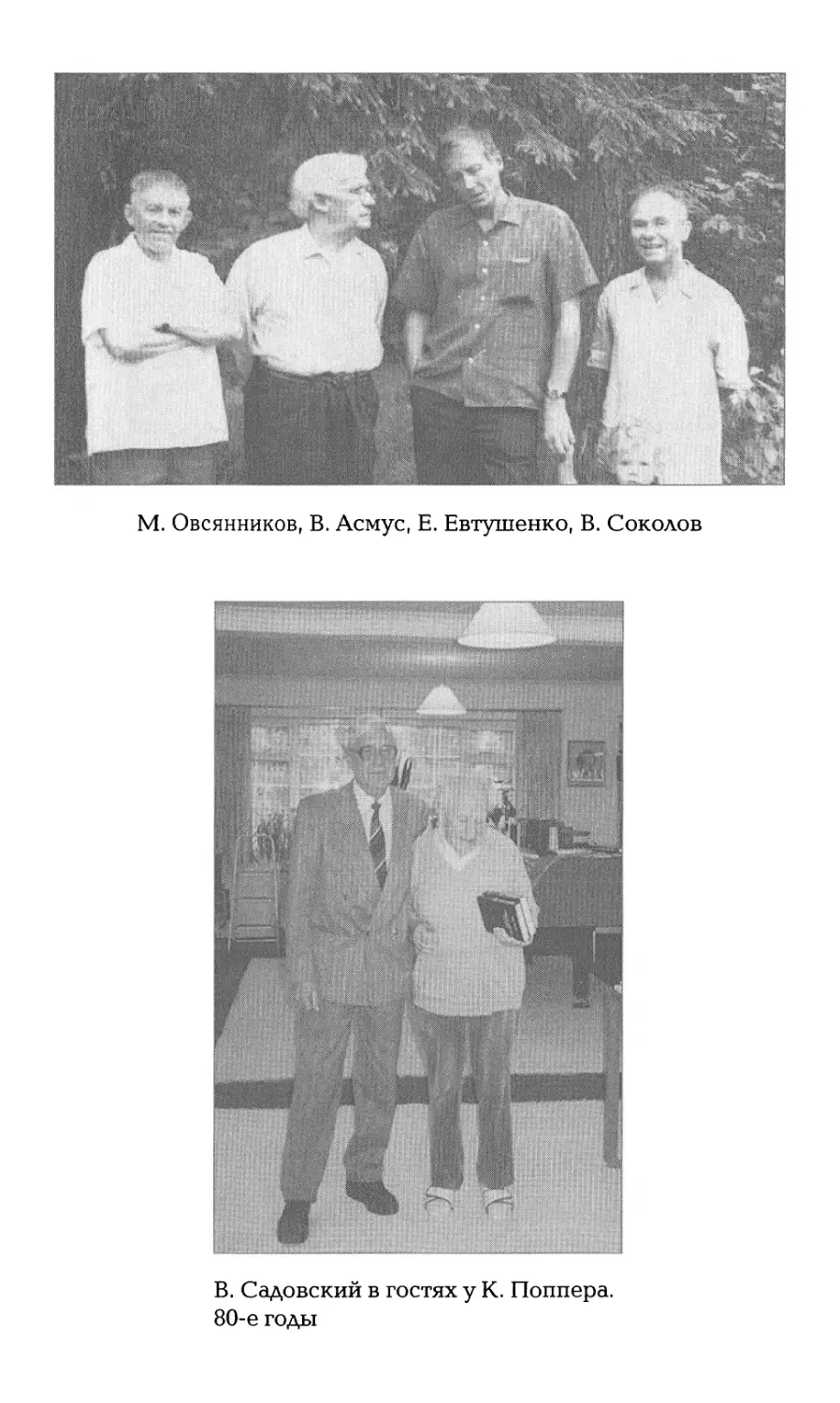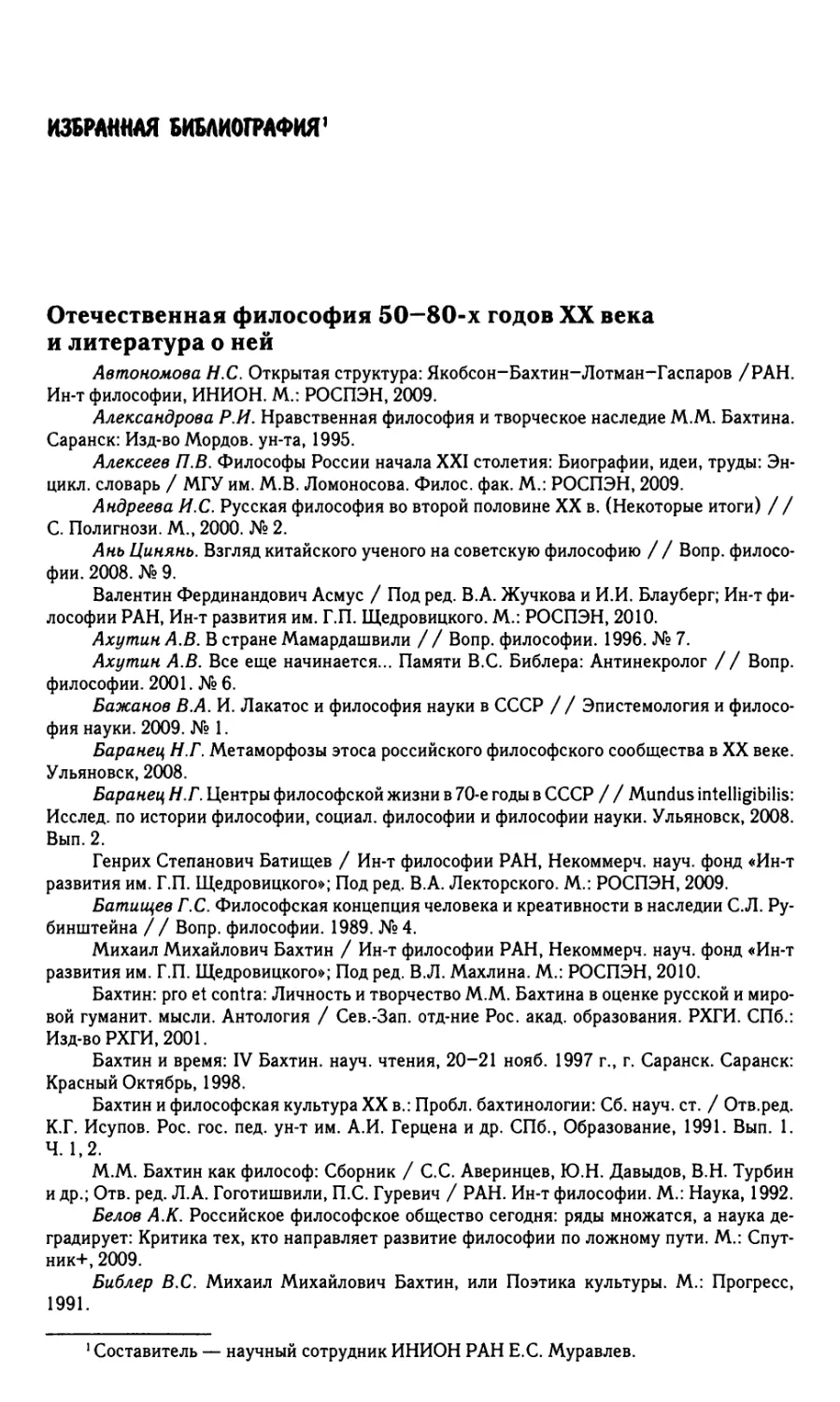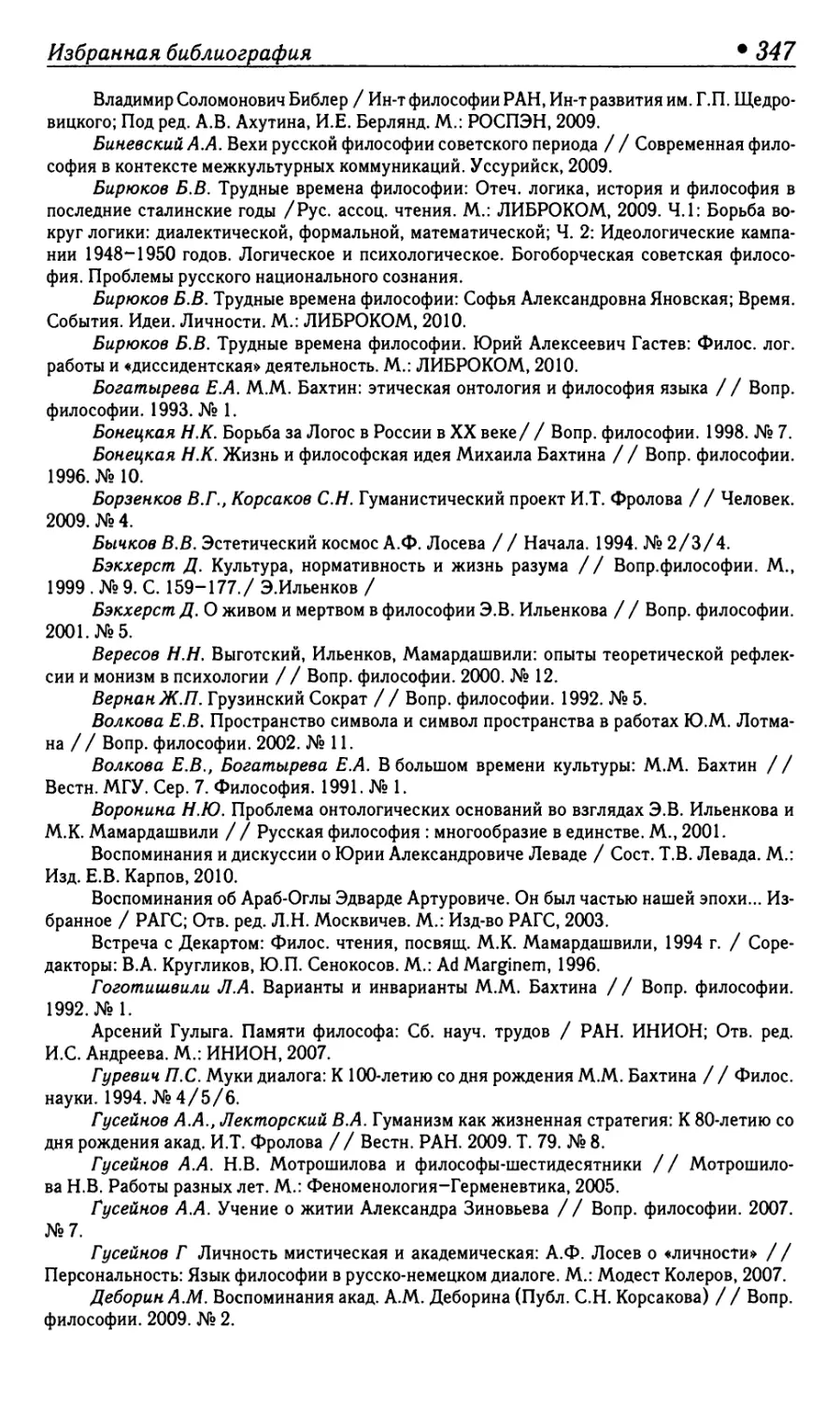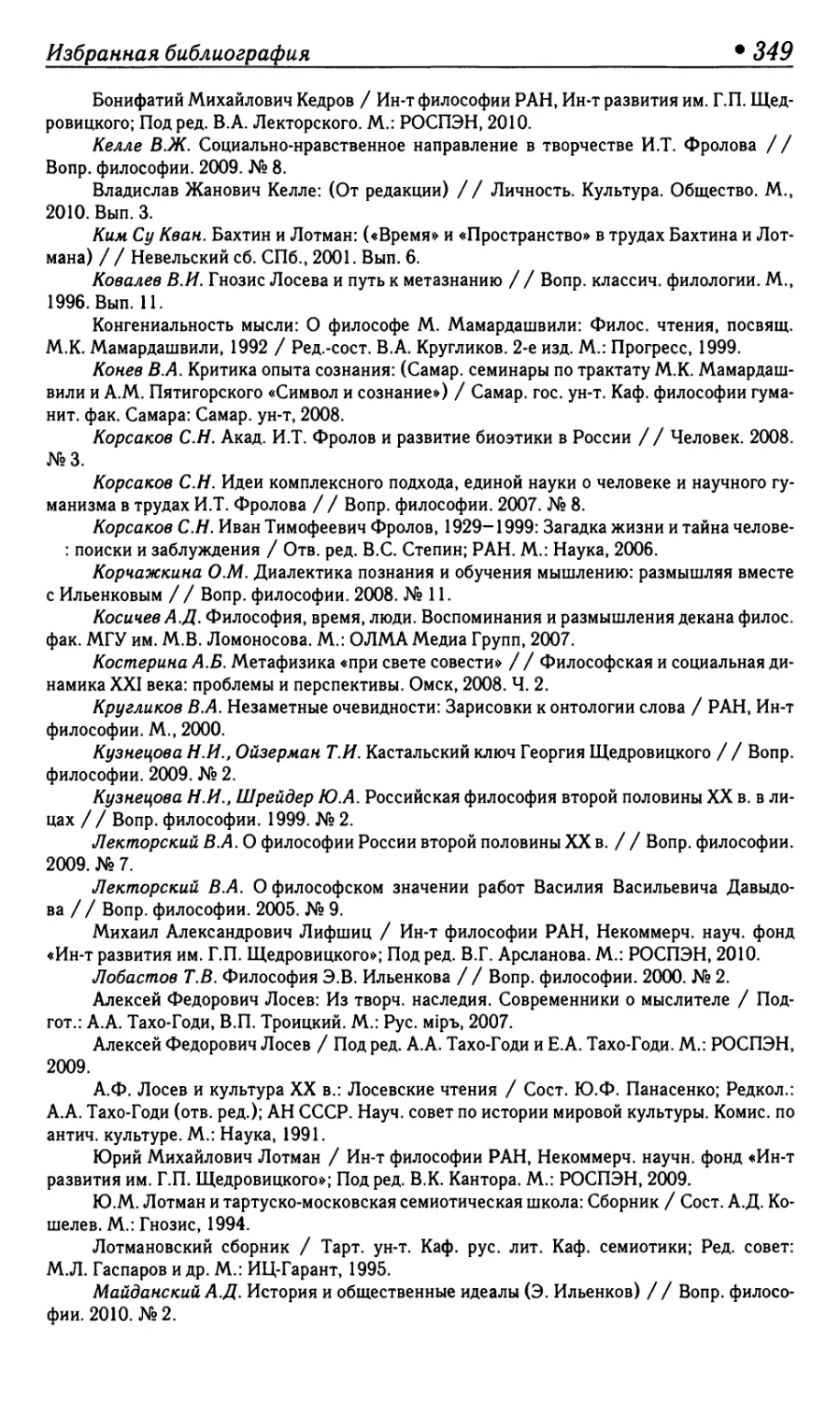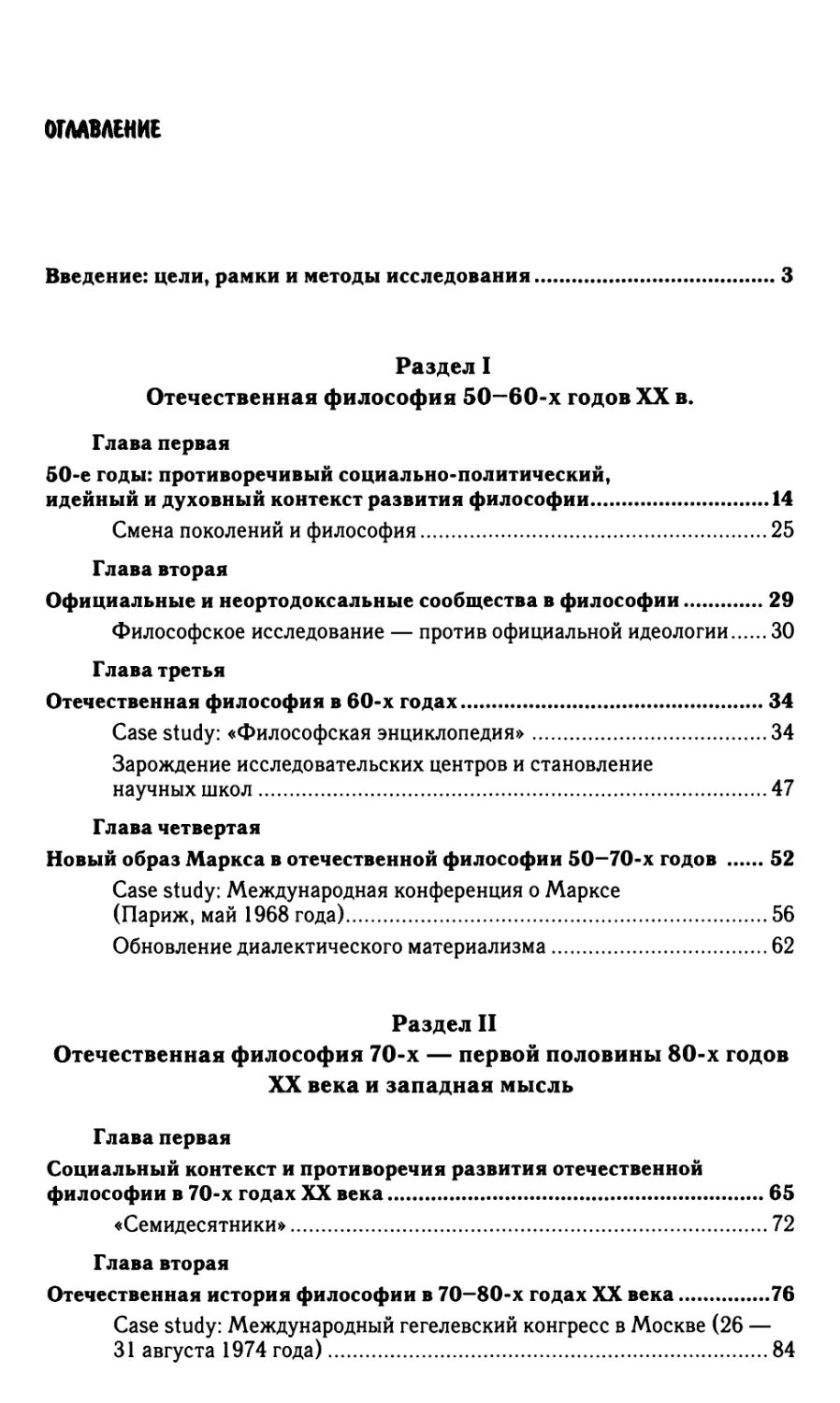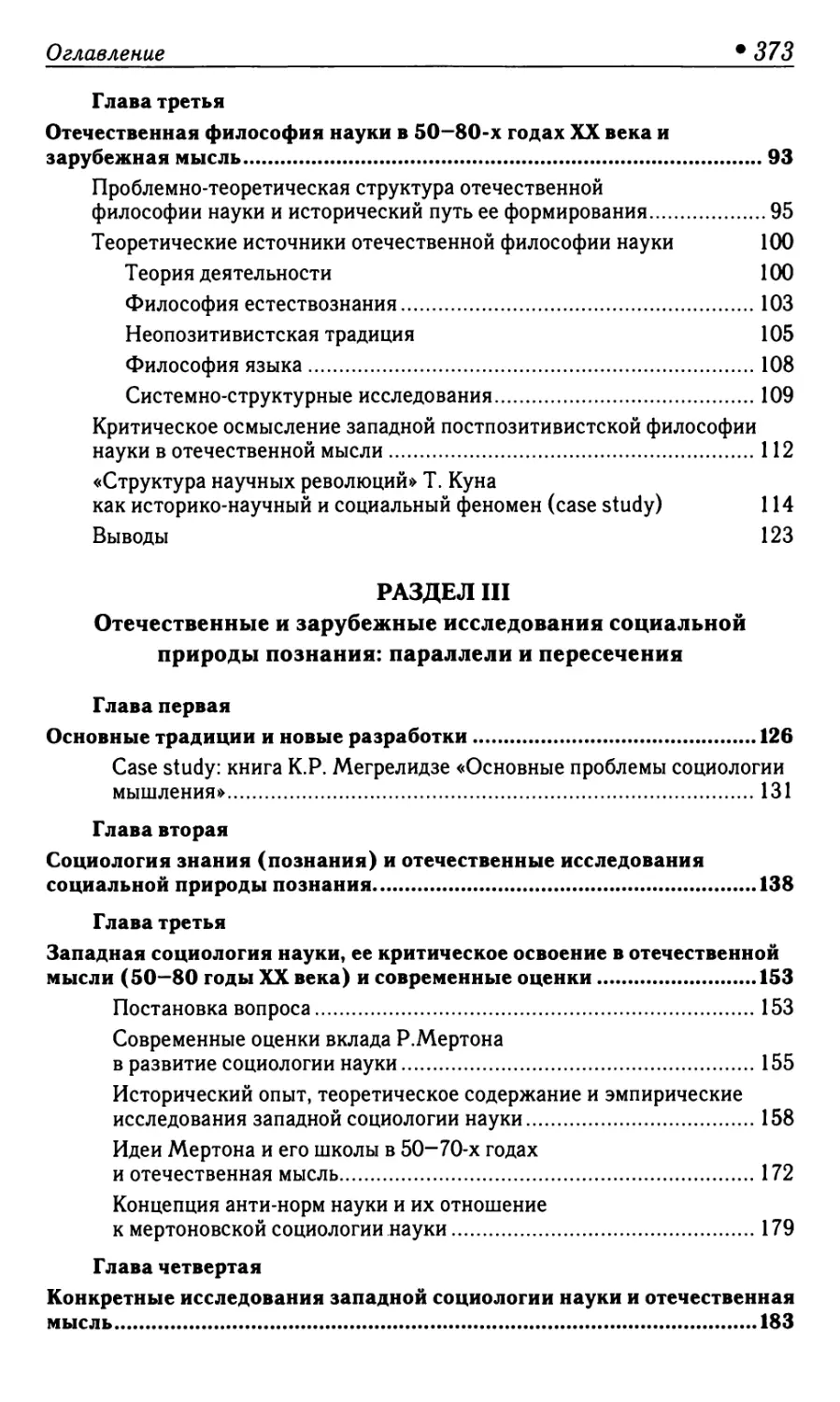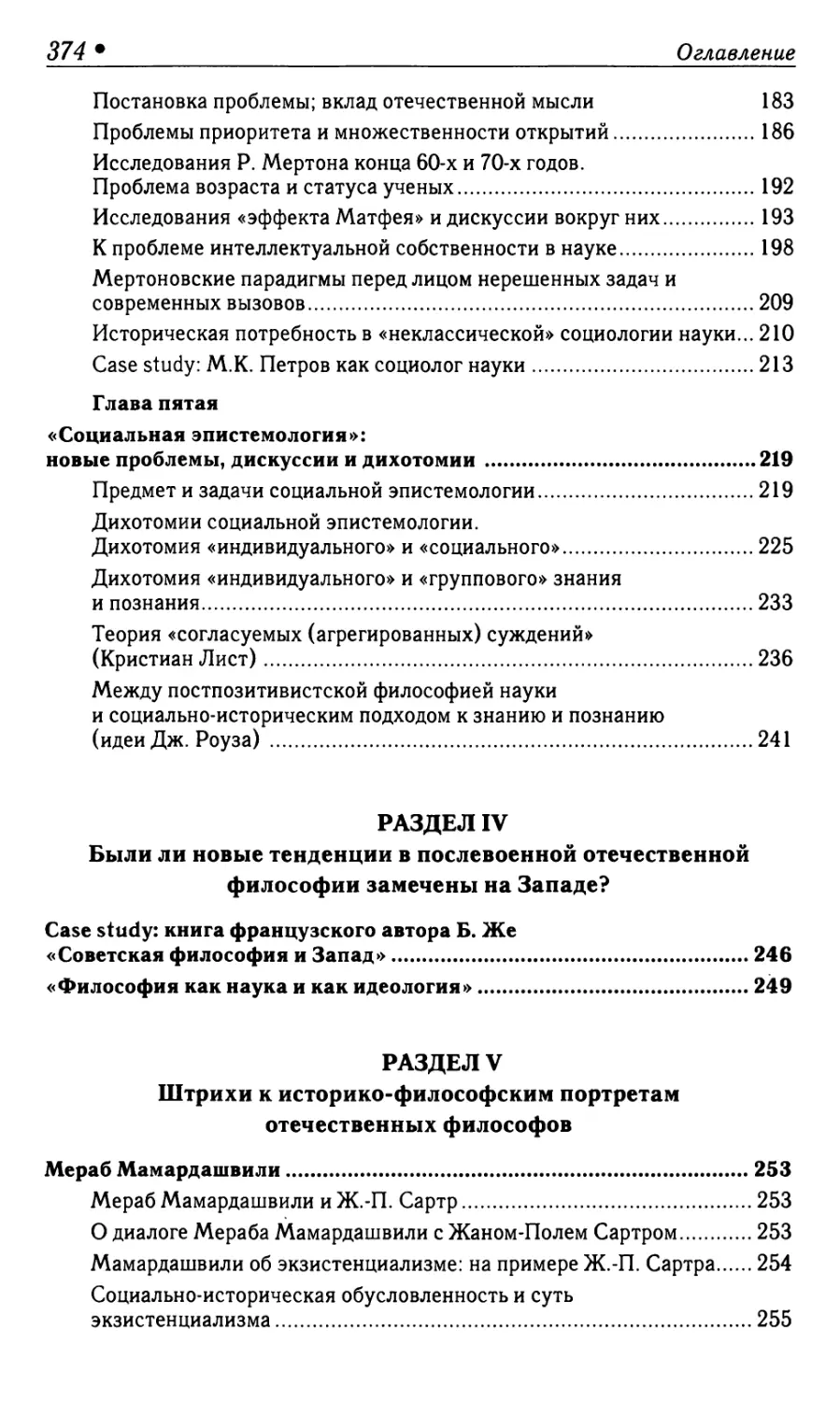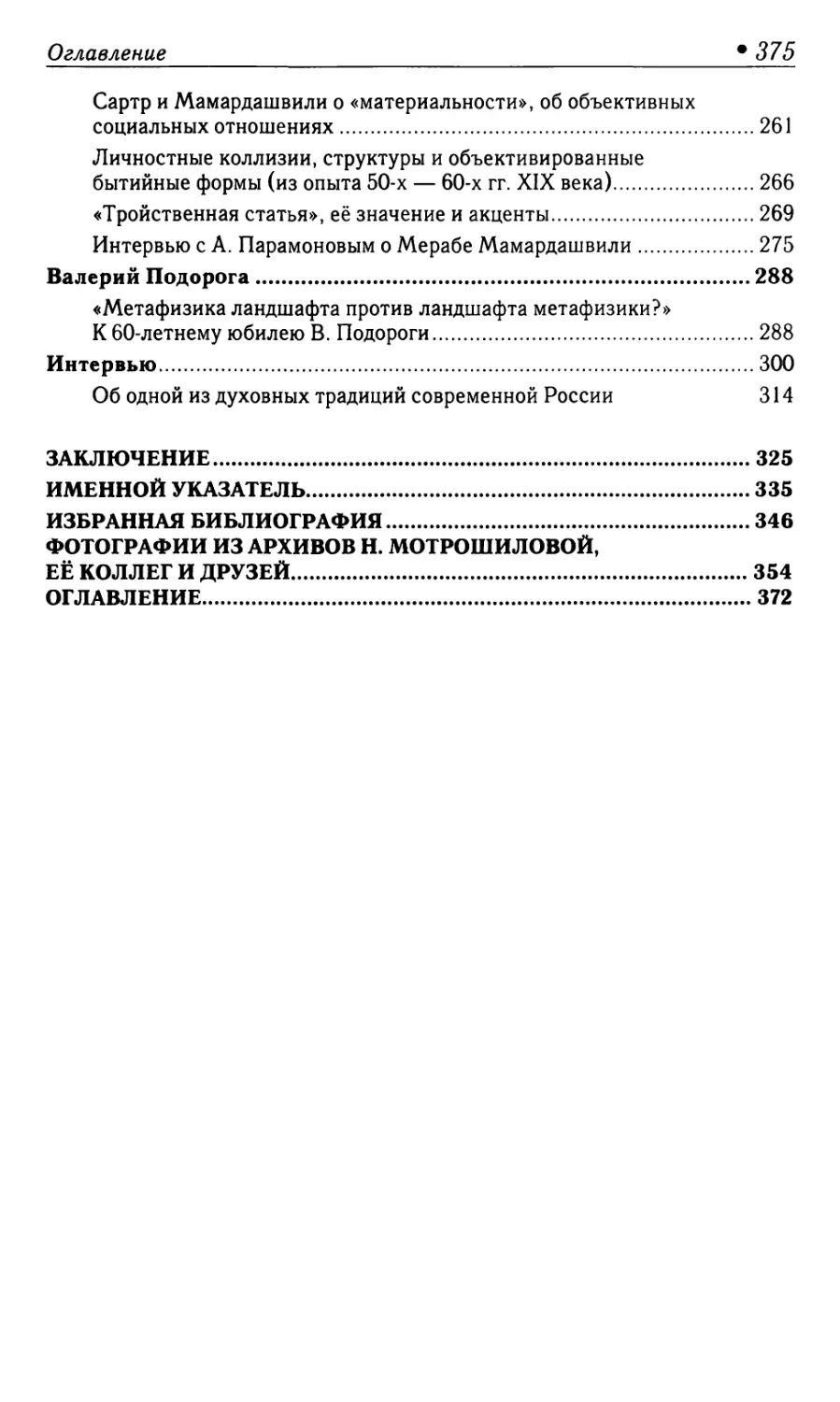Автор: Мотрошилова Н.В.
Теги: философия психология история философии современная философия русская философия
ISBN: 978-5-8291-1397-1
Год: 2012
Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
Н.В. МОТРОШИЛОВА
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ
50 - 80-х ГОДОВ XX ВЕКА|
И ЗАПАДНАЯ МЫСЛЬ
междисциплинарный поиск
в свете социологии философского познания
Москва
Академический Проект
2012
Редакционный совет серии:
A.A. Гусейнов (акад. РАН), В.А. Лекторский (акад. РАН),
Т.Н. Ойзерман (акад. РАН), B.C. Степин (акад. РАН, председатель совета),
П.П. Гайденко (чл.-корр. РАН), В.В. Миронов (чл.-корр. РАН),
A.B. Смирнов (чл.-корр. РАН), ВТ. Юдин (чл.-корр. РАН)
Мотрошилова Н.В.
Отечественная философия 50-80-х годов XX века и западная
мысль. — М.: Академический Проект, 2012. — 376 с. —
(Современная русская философия).
ISBN 978-5-8291-1397-1
Ключевые тексты по истории философии, написанные Нелли Васильевной
Мотрошиловой, объединяет концепция места философии и философов в
исторически развивающемся обществе. Ядро этой концепции составляют три основных
принципа. Первый — это понятие работающей идеи, второй — это то, что сама
Н.В. Мотрошилова называет «личностный принцип», и третий — это различение
трех уровней исторического развития общества: цивилизация, эпоха,
историческая ситуация. Такой подход применен автором и в данной книге. Это одна из
первых попыток осмыслить роль философов в советском и постсоветском обществе, да
и в обществе в целом.
Для студентов и преподавателей вузов, а также для всех интересующихся
историей отечественной культуры.
© Мотрошилова Н.В., 2012
© Оригинал-макет, оформление.
ISBN 978-5-8291-1397-1 Академический Проект, 2012
ВВЕДЕНИЕ: ЦЕЛИ, РАМКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема предполагаемой работы, в общем и целом ясная из ее
заголовка, налагает временные и определенные проблемные ограничения, о
которых надо сказать с самого начала. Это будет, естественно, история
отечественной философии важной части советского периода. Но
никакой претензии на сколько-нибудь полное, подробное освещение этой
истории данное исследование не содержит. При всей необходимости
привлекать к рассмотрению факторы, обстоятельства, оценки общего
характера, относящиеся как к истории страны, всего мира, так и к
развитию философии, анализ в конечном счете будет сознательно ограничен и
избранным периодом, и названной сравнительной тематикой.
Что касается выделения именно периода 50 — первой половины 80-х
годов, то оказанное ему предпочтение вряд ли следует обосновывать: его
значимость для судеб отечественной философии вплоть до сегодняшнего
дня столь велика, его противоречивость, драматизм столь впечатляющи,
предрассудки и стереотипы в его оценке столь распространены, что
заняться этими десятилетиями и совершенно необходимо, и весьма
интересно для исследователя. При этом стрелки в сторону последующего
периода так или иначе должны быть прочерчены — чтобы по крайней мере
в общей форме отметить, что сохранилось, усилилось, а что существенно
изменилось в развитии нашей философской мысли начиная со второй
половины 80-х годов XX века и до сегодняшнего дня. Однако сделать столь
же подробным рассказ о новом периоде, совпадающем с коренными
социально-историческими изменениями в стране и во всем мире, означало бы
написать еще одну книгу. К тому же очертания уже сделанного в самые
последние десятилетия и перспективы будущего еще очень
неопределенны, так что писать и судить о них придется молодым сегодня поколениям
философов.
Хотя сколько-нибудь полная, целостная история отечественной
философии советской эпохи (по ряду серьезных причин) еще не написана,
в нашем распоряжении уже сегодня имеется большой массив самых
различных источников — начиная от сочинений, опубликованных в этот
период (книги, статьи, обзоры, рецензии, выступления на конференциях,
дискуссиях непосредственных участников данного процесса), и кончая
впоследствии написанными историческими работами
(энциклопедические и иные статьи обобщающего характера, воспоминания, мемуары,
документальные свидетельства и т. д.). В моем исследовании эти материалы
4*
Введение
и источники постоянно используются как ценное подспорье. (Наиболее
важные из них приведены в Библиографии, помещенной в конце книги.)
В самое последнее время в этом отношении произошел настоящий
прорыв: издательством РОССПЭН опубликовано более 20 томов в
ценнейшей серии «Философия России второй половины XX века» благодаря
осуществлению совместного проекта Института философии РАН, фонда
«Институт развития им. Г.П. Щедровицкого» и названного издательства.
Книги посвящены А.Ф. Лосеву, М.М. Бахтину, В.Ф. Асмусу, С.Л.
Рубинштейну, Б.М. Кедрову, Э.В. Ильенкову, A.A. Зиновьеву, М.К. Ма-
мардашвили, И.Т. Фролову, П.В. Копнину, B.C. Библеру, Г.П. Щедро-
вицкому, М.А. Лифшицу, Г.С. Батищеву, М.К. Петрову, В.А. Смирнову,
Э.Г. Юдину, Ю.М. Лотману, Л.Н. Митрохину — тем уже ушедшим из
жизни мыслителям, чей крупный вклад в философию признан в нашей
стране и за рубежом. Один том называется «Из XX века в век XXI», и
посвящен он ныне живущим нашим философам мирового класса —
B.C. Степину, Т.И. Ойзерману, A.A. Гусейнову, В.А. Лекторскому.
Перечисленные имена фигурируют и в моей книге (кстати,
написанной раньше, чем были опубликованы тома серии), так что для восприятия
выполненного в ней анализа материал серии поистине неоценим. При
этом важно учесть, что в работе ограниченного объема не всегда
существовала возможность приводить цитаты из соответствующих публикаций,
давать на них прямые ссылки, но при необходимости они всегда могут
быть приведены, объективированы. Отдельные материалы, как сможет
убедиться читатель, в силу их особой репрезентативности и важности
будут проанализированы специально и более подробно. Вполне ясно,
однако, что здесь невозможно было привлечь к рассмотрению все
заслуживающие этого эпизоды, упомянуть хотя бы большую часть произведений,
имен, достойных упоминания. Это исследование — не описание, не
справочник, а типологическая историко-философская работа.
Систематическая же история философии советского времени,
включая интересующий нас период, еще ждет своих историков. Теперь уже
очевидно, что она будет (если вообще будет) написана историками более
молодых, новых поколений. Надо надеяться, что их анализ, по крайней
мере, не будет предвзятым. Он, разумеется, будет субъективным, ибо
иным историческое исследование никогда и не бывает. Так и я, пытаясь
опереться на источники, факты, свидетельства, оценки, находящие (как
мне кажется) объективные подтверждения, на большой массив
литературы, отчетливо осознаю и признаю, что нижеследующие обобщения,
размышления, характеристики имеют субъективный характер. И
притом они субъективны в разных смыслах слова. Особенно это касается
оценок, которых никак нельзя избежать и которые можно выносить
только от своего имени (конечно, и в согласии с теми коллегами, которые
оценивают наше философское прошлое сходным образом). Вот почему
перед всеми принадлежащими мне оценками и утверждениями можно,
да и нужно было бы поставить слова: «я думаю, полагаю», «с моей точки
Введение
•5
зрения» и т. п. Я не во всех случаях прибегаю к таким предуведомлениям
только из-за экономии места и стилистических соображений1.
Дело здесь, впрочем, не только в очевидной и неустранимой
пристрастности, которая особенно чувствительна, когда люди оценивают
деятельность своих поколений, итоги собственной работы, свои
жизненный выбор и судьбу. Ведь время, избранное здесь для исследования
и пережитое нашими соотечественниками, отмечено столь глубокими
потрясениями, столь фундаментальными историческими изменениями,
такими разительными противоречиями жизни и судьбы, что надеяться
на беспристрастно-объективное описание, тем более осмысление
прошедшей и нынешней истории по меньшей мере наивно. И если слово уже
не раз получали резвые и предельно резкие авторы постперестроечного
периода, которые в «праведном гневе» пытались и пытаются сравнять с
землей всю философию советского и нынешнего времени, то
справедливость требует, чтобы были выслушаны также и те, для кого прошедшие
десятилетия были временем их жизни, судьбы, надежд и страданий.
(Кстати, помимо «праведного гнева» от подавляющего большинства этих
авторов и их сегодняшних последователей читатели так и не дождались
«блестящих» философских произведений...)
Вот почему с самого начала хочу прямо и честно оговорить, что в
дальнейшем изложении, сфокусированном на процессах размежевания
ортодоксальной, идеологической по своим ориентациям, способу работы
«философии» и неортодоксального, по преимуществу исследовательски
ориентированного философского сообщества, мой интерес, сочувствие,
личностные предпочтения на стороне второго. Если кто-то скажет, что
это тоже своего рода «идеология» (пусть она предполагает размежевание
с традиционным для первых десятилетий истории нашей страны марк-
систско-ленинско-сталинским идеологизмом) — не стану возражать. Но
«идеология», возводящая в норму проверяемое, доказуемое, на мировом
уровне осуществляемое и транслируемое философское исследование,
отвечает, по моему мнению, внутреннему характеру, специфике
философии как особой формы человеческой культуры.
В этом Введении надо также объяснить, почему сравнительному
историческому анализу отечественной и западной философии в
предлагаемой работе придается принципиальное значение.
Во-первых, тому есть личные причины. Немало лет я исследовала
историю российской философии конца XIX — начала XX веков в ее
соотношении, в ее перекличке с историей западной философской мысли.
Этой обширной теме посвящен ряд моих публикаций 80-90-х годов,
продолжением, дополнением и обобщением которых стала книга
«Мыслители России и философия Запада» (М., 2006), так что предлагаемое далее
1 Возможно, я все же делаю подобные личностные оговорки чаще, чем другие авторы.
Причина совсем не в том, что я слишком высоко ставлю свое мнение. Как раз наоборот:
предпочитаю не приписывать некоторому безличному «мы» утверждения, ответственность
за которые нести только мне — и никому другому.
£•
Введение
исследование в известном смысле примыкает к моим прежним работам
по истории российской философии.
Во-вторых, и это главное: с первых своих шагов в философии я была
солидарна с теми, кто придерживался и до сих пор придерживается
простой и ясной мысли о том, что философия — не только достояние
работающих в различных странах отдельных людей, ее разрабатывающих,
сколь бы громкими ни были их имена и сколь бы значительными ни были
их интеллектуальные достижения. Философия, взятая в качестве
массива постоянно обогащаемых (кем-то подтверждаемых, а кем-то другим
опровергаемых) знаний, идей, — это совокупный продукт совсем не
мистического «мирового духа», общечеловеческого разума. Поэтому
реальная и объективная включенность в развитие мировой философии тех или
иных, в определенное историческое время и в той или иной стране
проведенных философских исследований — важнейший показатель,
одновременно и стимул достаточно высокого качества этих работ, их проверки
на достоверность, прочность, а иногда и свидетельство их
всемирно-исторического значения. И наоборот: изоляционизм в развитии философии
(как и культуры в целом) какой-либо страны есть безошибочный признак
неблагополучия в этой важнейшей области мыслительной,
теоретической деятельности, да и не только в ней.
Если иметь в виду обсуждаемую здесь центральную проблематику,
то при непредвзятом подходе трудно не признать, что развитие
отечественной философии советской эпохи вообще, периода 50-80-х годов
XX века в частности, отмечено существованием антиномии, которая
полностью не снята и сегодня.
Одна ее сторона, один полюс — воплотившееся в различных
формах господство официальной марксистско-ленинско-сталинской
идеологии и официальных политико-идеологических инстанций. Господство это
объективно, фактически (что бы ни провозглашалось на словах1) было
нацелено на то, чтобы по возможности оторвать деятельность
отечественных философов от продукции центров западной философии, от
контактов с ними, от дискурса и дискуссий международного, мирового
уровня. Временами это удавалось. Но в целом и в конечном счете оказалось,
что таковая цель не была достигнута. Ибо на протяжении всей советской
эпохи, в каждый из ее периодов существовал и действовал также другой
полюс антиномии. Эта была тенденция интернационализации
философского знания, взаимообмена его результатами на мировом
уровне — тенденция, которая по-разному проявлялась в различные периоды
1 Ведь на словах постулировалась претензия на уверенное и эффективное исполнение
марксистско-ленинским учением (включая философию) его центральной и
«всепобеждающей» роли на мировой арене. Однако на деле царил страх идеологов перед «совращающей»,
«соблазняющей» силой «буржуазного мира» и его «вредоносных» идей. При этом с особым
подозрением и опасением руководящие инстанции относились к зарубежному марксизму,
то есть, казалось, самому идейно близкому, родственному течению, к контактам с теми
марксистскими центрами Запада, в которых видели «рассадники ревизионизма».
Введение
•7
и в разных странах, а также в различных сферах, областях, дисциплинах
философии. Причины существования, усиления данной тенденции и ее
воздействия даже на философов, живших в СССР1, заключены, в
конечном счете, во всемирном значении развития человеческой культуры;
заключены в том, что обособленное «потребление» ее наследия, ее форм
противоречит всемирному характеру цивилизации и культуры.
Философия же, что сегодня вряд ли требует доказательств, — одна из
универсалистских структур человеческого духа, ибо она вычленяет,
формулирует, закрепляет, транслирует то, что B.C. Степин, примыкая к давним
традициям, называет «универсалиями», то есть всеобщими понятиями,
категориями культуры. А потому всякая попытка насильственно
пересадить философию — если она достойна этого имени — на «делянку»
идей одной страны, тем более одной идеологии (все равно, марксистско-
ленинской или националистической) в конечном счете обречена на
провал. (Тем не менее, такие попытки в истории то и дело предпринимались,
предпринимаются и, увы, скорее всего еще будут предприниматься.)
Даже в условиях общего господства изоляционистской идеологии
(а таковые условия как раз и существовали в интересующие нас первые
три, даже четыре послевоенных десятилетия) могут время от времени
складываться благоприятные обстоятельства для проявления
упомянутой универсалистской тенденции. Пресловутый «железный занавес» в
духовно-идеологической сфере, в коммуникации людей и институтов в
50-80-х годах так или иначе существовал. Однако он, этот занавес, все
же не был железным монолитом: в нем то и дело возникали какие-либо
бреши, что было результатом действия целой совокупности конкретных
исторических причин, которые подлежат конкретному исследованию.
1В данной работе знакомое словосочетание «советская философия» будет
применяться лишь к тем явлениям, которые в точности подпадают под это определение, т. е. к чисто
идеологическим продуктам, направленным на прославление, защиту советской власти.
К жизнедеятельности философов-исследователей мирового класса это клише, как правило,
неприменимо, подобно тому, как другой классово-идеологический термин — буржуазная
философия — неприменим к представителям западной философии, занятым подлинно
философским, исследовательским делом. Лишь в случаях, когда может быть доказано, что тот
или иной мыслитель (философ, историк, экономист и т. д.) идеологически защищает
интересы буржуазии как класса, к его работе — да и то, как правило, лишь к части его
взглядов — может быть приложено классовое определение. В книге «Социально-исторические
корни немецкой классической философии» (М., 1990) я пыталась конкретно доказать,
почему к Канту, Фихте, Шеллингу, Гегелю и их делу неприложим термин «буржуазная
философия», причем и в силу их осознанных (субъективных) универсалистских, а не частно-
классовых устремлений, ценностей, и в смысле объективного смысла их взглядов,
выходящих далеко за пределы интересов капитализма как системы и буржуазного класса.
Так и философы, жившие и работавшие в СССР, далеко не всегда были «советскими
философами». Нельзя же, в самом деле, приложить этот эпитет к таким мыслителям, как М. Ма-
мардашвили, отношение которого к социализму и советской власти смолоду было резко
отрицательным. После 1956 года такое негативное, отчужденное отношение к системе, в
которой приходилось жить, было достаточно массовым. Другое дело, что черты
«советского» образа мыслей могли незаметно разъедать и критическое сознание...
<?•
Введение
Главная причина, объясняющая нарастающее движение
отечественной философии в сторону центрального тракта мировой
философской мысли, заключалась в объективном характере дела тех, кто,
несмотря на все трудности, старался заниматься именно философским
исследованием. (Это относится не только к философии, но и к любой
области духовной культуры, к любой науке, в том числе гуманитарной,
социальной.) В упомянутой ранее книге «Мыслители России и
философия Запада» к анализу отечественной философии конца XIX — первых
десятилетий XX веков было применено понятие «спонтанной
параллельности» (термин Р. Отто) исследовательских поисков, идей, достижений
в философии. Здесь этот же принцип будет использован при конкретном
проблемном анализе отечественной философии второй половины XX
века. Будет предпринята попытка доказать, что философы нашей страны
нередко новаторски создавали исследовательские парадигмы,
подобные, параллельные тем, которые только что возникли в западной мысли
или складывались несколько раньше, но по разным причинам были
плохо известны в нашей стране. И в той мере, в какой в отечественной
философии возрастала доля работы преимущественно исследовательского
характера, расширялись и объективные возможности для встречи,
согласования ее результатов, форм, методов с мировыми философскими
исследованиями и достижениями. Кстати, все эти факты и обстоятельства
очень плохо просматривались из перспектив философии Запада,
создатели которой долгое время черпали свои знания о нас из философской
советологии, идеологическую предвзятость которой можно сравнить разве
что с жесткой необъективностью ее прямых советских контр-агентов,
занимавшихся критикой советологических критиков.
Завершая предварительные заметки, кратко обрисую специфику
предпринимаемого далее исследования с его
теоретико-методологической стороны и в контексте моей исследовательской работы. В
подзаголовке сказано, что читателю предлагается исследование пусть и
проводимого в рамках философии, но по сути своей междисциплинарного
поиска, причем осуществляемого в свете социологии философского
познания. Поясню, что имеется в виду1. Сначала о втором аспекте, т. е. о
социологии познания, примененной к анализу философии. Читателя
ожидает не просто историко-философское исследование; это будет анализ
относительно небольшого периода истории отечественной философии,
выполненный в жанре той примененной к развитию философского
1 Считаю это пояснение необходимым вот по какой причине. Хотя в отечественной
литературе порой и упоминается о социологии познания, хотя ей посвящены некоторые
частные работы, предложенная мною концепция социологии познания и знания, которая
применена именно к философии и ее истории (после краткого периода внимания к ней в 70-х
годах со стороны молодых ростовских исследователей), не нашла продолжателей и
последователей. Есть упоминания о ней, но они очень редки. (См., например: Соловьев Э.Ю.
И. Кант: взаимодополнительность морали и права. М., 1992. С. 20.) Подробнее о проблемах
социологии познания, в частности, философского познания и их оригинальной разработке
в отечественной мысли исследуемого периода см. в III разделе данной книги.
Введение
•9
процесса социологии познания, которую я практиковала ранее по
отношению к истории античной, немецкой классической и русской
философии конца XIX — начала XX веков и понятийный аппарат, методологию
которой подробно обосновала в ряде более ранних работ. (См. книги:
«Социально-исторические корни немецкой классической философии»,
М., 1990; «Рождение и развитие философских идей», М., 1991; «Работы
разных лет». М., 2005 и ряд статей.) Речь идет о знакомых понятиях —
«цивилизация», «эпоха», «историческая ситуация», но взятых в такой
расшифровке и методологической функции, которые, как я полагаю,
помогают раскрыть глубинные социально-исторические истоки
философских идей, понятий, трансформаций, взаимодействий. Отсылая
читателей к данным работам, кратко поясню, как соотносятся названные
понятия с тем материалом, который будет разбираться в дальнейшем.
Цивилизационный уровень воздействия на философию является
наиболее масштабным, глубинным, и он далеко не сразу улавливается
самим философским знанием как в свете вхождения цивилизационных,
то есть глобальных проблем планеты Земля и человечества в рамки
основательного философского анализа, тем более их выдвижения на
передний край, так и с точки зрения философской саморефлексии,
способствующей осознанию философией собственных цивилизационных
оснований и предпосылок.
Философия советского периода, с одной стороны, поздно вышла
именно к цивилизационной проблематике, но, с другой стороны,
исследовательский интерес к глобальным проблемам возник в ней достаточно
рано. Это было обусловлено, во-первых, настоятельным воздействием на
человеческую мысль и начавшимся обострением самих этих проблем: не
замечать их или увязывать только с капитализмом в 70-х годах уже
нельзя было при самом большом идеологическом рвении или ослеплении.
Во-вторых, в западной литературе, в том числе философской, появились
работы, документы, вполне оправданно привлекшие внимание к опасным
глобальным тенденциям мирового цивилизационного развития.
Отечественные философы были в первых рядах исследователей, в нашей
стране (почти) синхронно с Западом отреагировавших на эту литературу
и принявших участие в обсуждении проблематики на мировом уровне,
отчасти благодаря актуальности глобальной проблематики, но еще
больше в силу объективной логики исследования социальной философии и
философии культуры в 80-х годах. И еще до перестройки цивилизаци-
онная составляющая исторического развития (которой и классический
марксизм, и особенно официальная марксистско-ленинская идеология
явно пренебрегали, акцентируя по преимуществу или исключительно
формационные аспекты) передвинулась на передний план в
отечественных исследованиях. В работах отечественных авторов были раскрыты —
полагаю, на мировом уровне — те тенденции развития цивилизации,
которые и в первой, и во второй половине XX века глубинно определяли
как эпохальные, так и ситуационные линии, особенности исторического
10 •
Введение
развития, оказавшие более непосредственное воздействие на динамику
трансформации философии во второй половине XX века. Но
отечественная философия, как это всегда бывало в ее истории, в гораздо большей
мере ощущала, а отчасти и осмысливала эпохальные и ситуационные
воздействия исторического развития. Значение многогранного,
многоаспектного понятия эпохи применительно к анализу отечественной
философии рассматриваемого периода связано со следующими
историческими обстоятельствами и факторами:
- с возникновением, построением социалистического строя в нашей
стране, со складыванием, а потом и крушением мировой
социалистической системы;
- с историческим соревнованием капитализма и социализма, борьбой
между которыми был наполнен анализируемый период.
Воздействие этих и аналогичных измерений, динамических
изменений эпохи на отечественную и мировую философию не подлежит
никакому сомнению. Оно — применительно к философии — как раз и
выразилось сначала в недальновидных (в свете последующих цивилизационных
и эпохальных сдвигов) попытках (в конечном счете неудавшихся)
тотальной идеологизации философии нашей страны (а потом и философии
других социалистических стран), в создании социальных институтов,
форм, целью которых стало обеспечение воздействия
марксистско-ленинской идеологии (еще в предшествующий период провозглашенной
главной составляющей всей духовной жизни социалистического
общества) на сознание, ценностный мир отдельных людей и программы
их общественных объединений. Но это объясняет лишь одну сторону
дела, один полюс развития философии. Ибо другой опознавательный
знак эпохи — переход от широких конфронтации стран и их коалиций,
переросших во вторую мировую войну, к периоду, когда опробовались
различные формы (относительно) мирного сосуществования различных
центров силы и влияния.
Тектонические изменения структур цивилизации, эпохи во второй
половине XX века привели хотя бы к ослаблению изоляционизма, к
повышению значимости науки, критериев научности, профессионализма,
к акцентированию ценностей гуманизма, свободы, достоинства
личности. А цивилизационные, эпохальные запросы не могли не воплотиться в
подвижки в мире индивидуальных устремлений, ценностей, ориентации,
приоритетов, которые объективно произошли, и не могли не произойти,
также и в советской стране, в странах социалистической системы.
При прослеживании динамики взаимодействий общих социальных
факторов цивилизационного и эпохального характера и специфических
процессов развития сфер духа, культуры (здесь — философии) особая
роль принадлежит также специфическим историческим ситуациям,
которые складываются, как правило, вокруг наиболее ярких и значимых
исторических событий, в свою очередь глубинно воздействующих и на
характер эпохи, взятой на ее данном историческом отрезке, и на разви-
Введение
•11
тие цивилизации в целом. Такие события обыкновенно бывают хорошо
известны, остро пережиты непосредственными их участниками.
События, ситуации предстают и в их неповторимом, единичном облике, и в
противоречивых реакциях, восприятиях, оценках — как со стороны тех,
кто был в них вовлечен, так и тех, кто анализирует их post factum.
Во второй половине XX века в развитии нашей страны можно
выделить ряд таких поворотных событий (и соответственно — исторических
ситуаций). Это: смерть И. Сталина в 1953 году; XX съезд КПСС (1956 г.)
и критика руководством КПСС культа личности — с последующим
периодом, получившим название «хрущевской оттепели»; пражская весна
1968 года; попытки сталинистского реванша в середине 70-х годов;
перестройка, начавшаяся в 1986 году и продолжавшаяся еще несколько лет;
распад СССР, крах социалистической системы в 90-х годах и
последующее развитие вплоть до сегодняшнего дня (эти периоды тоже можно
разделить на отдельные исторические ситуации). (Сделаю оговорку: из-за
ограниченного объема работы пришлось отказаться от вообще-то очень
важного конкретного анализа таких ситуаций и ограничиться общим
напоминанием о них.)
Центральная идея применяемой здесь концепции социологии
философского познания (главный противник которой — вульгарный,
идеологизированный социологизм) состоит в том, что социальный контекст и
его циливизационные, эпохальные и даже ситуационные измерения
воздействуют на развитие философии не прямо и непосредственно, а через
целый ряд опосредующих звеньев, в конце концов передающих
философии отдельные социальные, в том числе духовно-культурные, идейные
влияния. К числу социальных звеньев, наиболее близких к миру знания,
познания (здесь — философского познания), относятся, по моему
мнению, коммуникативные факторы, проявляющиеся в формировании и
изменении профессиональных сообществ. С одной стороны, это
официальные, так или иначе включенные в деятельность властных,
институциональных образований, а в советской стране ставшие, как мы увидим,
активным проводником марксистско-ленинско-сталинской идеологии.
Там были, конечно, и свои сообщества. С другой стороны, это
неофициальное, а при сравнении с господствующей идеологией и
неортодоксальное сообщество1. Зарождение и развитие последнего в отечественной
философии 50-70-х годов будет далее в центре нашего интереса.
Одна из целей последующего расмотрения — вполне конкретное,
основанное на историческом материале доказательство того уже
высказанного ранее тезиса, согласно которому при воздействии мощных
социально-исторических факторов (включая господствующую идеологию,
даже опирающуюся на репрессивный аппарат) философия как сфера
1 Концепция противостояния сообществ и роли неофициального, неортодоксального
сообщества применена мною при анализе немецкой классической философии. См.: Мот-
рошилова Н.В. Социально-исторические корни немецкой классической философии.
М., 1990. С. 142-150, 159 и далее.
12 •
Введение
культуры, как одна из областей гуманитарного познания, подобно всей
культуре, обладает огромной, еще недооцененной силой
сопротивления, способностью и в самых неблагоприятных условиях вырулить
на путь исследования и удержаться на этом нелегком пути. И
делает она это не иначе, чем благодаря активности вполне конкретных людей
и их объединений, сообществ — именно благодаря тому, что
преобразуются мир ценностей, установок, ориентации отдельных личностей и про-
грамматика их сообществ (независимо от того, борются ли эти личности
с открытым или полузакрытым забралом).
Изоляционизм или, наоборот, активность коммуникаций на
мировом уровне всегда вполне конкретно вплетены в целостные процессы
жизнедеятельности отдельных людей, функционирование социальных
систем, их взаимодействие. Поэтому одна из тем, а одновременно и
целей данного исследования — сопоставление развития отечественной и
зарубежной философии в интересующий нас период— требует столь
же обстоятельного подхода, свободы от навязших в зубах стереотипов,
понимания противоречивости, сложности процессов и все же не
всевластия условий, в которых, что я далее и попытаюсь доказать,
отечественная философская мысль 50-80-х годов на ряде очень ответственных
проблемных направлений все же пересекалась, взаимодействовала
с мировой философией или совсем небезуспешно вела параллельный
творческий исследовательский поиск.
Кратко поясню еще один специальный проблемный аспект данной
книги, запечатленный в подзаголовке. Понятно, что из поистине
необозримого исторического материала приходилось выбирать то, что, с одной
стороны, объективно имело фундаментальное, системообразующее
значение для отечественной философии и анализируемого и последующего
периодов и что, с другой стороны, с точки зрения проблематики, методов
работы в наибольшей степени соответствовало моим долговременным
профессиональным интересам, моей компетенции и, соответственно,
в уже осуществленной мною философской работе. Так уж получилось,
что все это концентрировалось вокруг осуществлявшихся в мире —
в философии, социологии, в других гуманитарных дисциплинах второй
половины XX века — междисциплинарных исследований. Ибо сегодня
совершенно ясно: новые проблемные сферы, о которых специально идет
речь в данной книге — философия науки, социология познания,
социология науки, а также и современная история философии — впервые
возникают на междисциплинарном стыке целого ряда дисциплин, прежде
существовавших обособленно друг от друга.
Как будет подробно показано в данной книге, философия науки,
эта подлинно современная, продвинутая часть философии, рождалась и
развивалась благодаря сложному синтезу философии и отдельных наук,
естественных и гуманитарных, теории и истории науки, а также
синтезу философии и социологии. Не менее очевидно огромная роль
междисциплинарного синтеза проявляется в объединении философской теории
Введение
•13
познания и социологии познания и науки, которым в данной книге
посвящены особые главы, одновременно презентирующие пути развития
соответствующих синтетических дисциплин в мировой (здесь — прежде
всего западной) мысли и демонстрирующие, доказывающие факт
участия отечественной философии и социологии в таком
междисциплинарном синтезе.
Я еще и потому особо акцентирую проблему междисциплинарно-
сти, что вижу в таких акцентах не только импетус, мотор исторического
развития философии в XX веке, но и символ будущей судьбы, открытых
перспектив движения научного знания в целом, включая гуманитарные
дисциплины, включая философию как их важнейшую часть.
РАЗДЕЛ I
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ
50-60-Х ГОДОВ XX В.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
50-Е ГОДЫ: ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ,
ИДЕЙНЫЙ И ДУХОВНЫЙ КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ
Особую историческую ситуацию, сложившуюся в нашей стране в
первой половине 50-х годов прошлого столетия, нередко описывали, да
и сейчас описывают как однозначную, непротиворечивую. При этом ее
непосредственные участники, официальные идеологи тех лет, говорили
и писали исключительно о взлете патриотизма в стране, победившей
грозного врага, о единстве партии и народа и, разумеется, о том, что
причиной всех причин, залогом дальнейших успехов является «мудрое
руководство отца народов, великого Сталина». Идеологи от философии,
начиная свои рассуждения с этих фраз, неизменно добавляли, что
«советская философия» едина и монолитна, что она во всем придерживается
«гениальных философских идей и указаний товарища Сталина».
Впоследствии, когда началось ниспровержение культа личности,
а потом осуществился соответствующий пересмотр истории, критики
столь же однозначно объявили вторую половину 40-х — первую
половину 50-х годов XX века мрачнейшим историческим периодом, когда
взвинчивание культа личности достигло своего апогея, когда снова
начались прерванные войной политические репрессии и идеологические
проработки, когда сталинизм безраздельно царил во всех сферах культуры,
включая философию.
Между тем внимательное исследование позволяет набросать более
сложную, противоречивую картину — в частности, относящуюся к
развитию философии. Здесь мы сталкиваемся с уже очерченной во
Введении характерной антиномией, которая, скорее всего, может быть
обнаружена и в других областях культуры. Теперь эта антиномия будет
проанализирована подробнее.
Одна сторона антиномии — оформление целой системы
установлений и постановлений, подготовки и назначения кадров, работы
институциональных образований, контроля со стороны партийных инстанций
и т. д., — словом, всего, что должно было бы способствовать сплошной
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•15
«большевизации», а вернее, «сталинизации» процесса деятельности в
духовной, в частности, философской сфере. Эти замыслы в известной
степени реализовались. Г.С. Батыгин и И.Ф. Девятко в ряде своих
прекрасных исследований, основанных на документах, в том числе архивных,
пришли к выводу: «К началу второй половины XX столетия советская
философия приняла завершенную форму. Еще до войны были разработаны
и утверждены программы по диалектическому и историческому
материализму, заново созданы философские факультеты, во многих институтах
организованы кафедры диалектического и исторического материализма.
Вообще сталинский режим придавал большое значение философскому
образованию не только в вузах, но и в системе партийно-политической
учебы, и в школах»1. И вот если говорить о целом «мире»
диамата-истмата как, с одной стороны, «искусственной, призрачной реальности» (там
же, с. 171), а с другой стороны, как реальности жесткой, властно
навязанной извне, но также и глубоко внедрившейся в сознание индивидов,
то «мир» этот, в самом деле, получил свое наиболее полное, ясное
оформление как раз к началу 50-х годов прошлого века.
Действия, отношения в сфере официальной марксистско-ленинской
идеологии — а значит, и в философии, поскольку ее развитие подпадало
под влияние идеологии, — приобрели почти что религиозные черты.
Во-первых, значение главной «философской Книги» придавалось
канонизированной IV главе «Краткого курса истории ВКП(б)», авторство
которой приписывалось Сталину, а также другим работам «великого
вождя», особенно появившимся после войны. Их цитирование, к месту, а
чаще и не к месту, сделалось обязательным ритуалом.
Во-вторых, философское и, шире, идеологическое значение
непосредственно и заведомо приписывалось партийным документам, и
прежде всего — решениям съездов КПСС и пленумов ЦК КПСС. Эта
практика закрепилась столь прочно, что просуществовала вплоть до 80-х годов
и надолго пережила развенчание культа личности. Все, кому пришлось
тогда защищать диссертации, хорошо помнят, что их, независимо от
темы и области знания, непременно следовало начинать со ссылок на
такие решения — иначе бдительная Аттестационная комиссия могла
диссертацию «зарубить». Партийно-директивные тексты тоже, по существу,
канонизировались, причем заведомо, задолго до их появления и невзирая
на то, что последующие съезды, пленумы нередко дезавуировали
решения тех, что им предшествовали.
В-третьих, все единицы печатной продукции по проблемам
философии (а также экономики, истории, права и т. д.) — книги, статьи,
рецензии и т. д. — следовало оснащать цитатами из классиков
марксизма-ленинизма, указаниями на якобы несомненные и заведомые преимущества
марксизма-ленинизма и его философии перед «буржуазной философией
1 Батыгин Г.С, Девятко И.Ф. Советское философское сообщество в сороковые годы:
Почему был запрещен третий том «Истории философии? / / Философия не кончается... Из
истории отечественной философии. XX век. 1920-50-е годы. Кн. I. М., 1998. С. 127-173.
16 •
Раздел I
эпохи империализма». Мало кто мог обойти эти «правила», которые,
возможно, не были где-то записаны черным по белому, но на практике
соблюдались неукоснительно и свято. Фактически главная обязанность
руководства и редакторов издательств заключалась в том, чтобы следить
за их соблюдением. Но и авторы в тот период (а также и в
последующие десятилетия) часто соблюдали эти и подобные предписания; одни
искренне верили в их необходимость, а другие (думаю, таких было куда
больше) прагматически расценивали такой ритуальный жест как
относительно небольшую жертву во имя публикации и сообщения некоторого
проблемного содержания.
В-четвертых, преподавания философии, совершенно свободного
от обязательных диаматовско-истматовских программ, не
существовало и существовать не могло. Это в особенности касалось
профилирующих лекционных курсов (тогда как семинары, спецкурсы, спецсеминары
предоставляли несколько большую свободу, которой в 50-60-х годах
широко пользовалось — помню по собственному опыту — немало
преподавателей). И когда в университетах и вузах уже читались (причем,
как будет показано, довольно рано) лекции, проводились семинары
более свободного стиля, преподаватели все-таки должны были считаться с
возможностью идеологических проверок, опасных и для них самих, и для
студентов. (Именно отсюда проистекало стремление молодых
неортодоксальных философов организовывать семинары при каких-либо
«маргинальных», менее бдительно контролируемых институциях.)
В-пятых, отряд обществоведов, включавший «философские кадры»,
был к началу 50-х годов столь значительным, что правящая партия не
жалела сил для контроля — по всей системе партийных и министерских
вертикалей — за его работой. «По данным единовременного обследования
преподавателей общественных наук, проведенного Министерством
высшего образования в 1948 году, в стране насчитывалось 4836 преподавателей,
125 профессоров, в том числе 44 доктора наук... В вузах СССР действовала
41 кафедра философии диалектического и исторического
материализма» — свидетельствуют Г.С. Батыгин и И.Ф. Девятко (Указ. соч. С. 174).
В-шестых, контроль был предельно жестким и неусыпным в случаях,
когда речь шла о центральных философских учреждениях или об
учебниках по философии, рекомендуемых для широкого пользования. Поэтому
Институт философии АН СССР, философские факультеты крупных
университетов находились под особым контролем. Для всего этого нужен
был мощный аппарат в партийных инстанциях и министерствах. И он
постоянно пополнялся и расширялся. Например, к концу 40-х годов в
Управлении агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) работало около 300
сотрудников. Что характерно, с 1939 по 1947 год управлением руководил
историк философии Г.Ф. Александров. Высокий пост, кстати, не спас его
самого от идеологических проработок (об этом далее).
В-седьмых, надо специально сказать про такого рода идеологические
проработки. Именно в конце 40-х годов под бдительным руководством
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•17
самых высоких органов партии неоднократно проходили, даже гремели
на всю страну идеологические процессы вокруг философских тем,
причем — поразительно! — и таких специальных, как история философии.
Партийный аппарат (а за кулисами всегда был «мудрый вождь»)
«вникал» и в частные процессуальные детали1.
В-восьмых, вся атмосфера довоенных и послевоенных лет
способствовала тому, чтобы из среды тех, кого именовали «философами»,
выделился «боевой отряд» ревностных идеологических работников —
«советских философов» в полном смысле этого слова: они добровольно брали
на себя нелегкий, вообще-то говоря, «труд» партийно-идеологического
надзора за развитием отечественной философии (и не только ее, но еще
естествознания, искусства), выполняя его весьма ревностно.
Об одном из таких деятелей, М.Б. Митине, Э.Ю. Соловьев
справедливо сказал: «сталинский фаворит, активный проводник партийно-
идеологических чисток середины 30-х годов»2. Совсем не краткий список
соратников Митина по надзору за философией составлять излишне: их
имена хорошо известны и зафиксированы в различных документах.
Важно то, что это были люди, которые поднялись на вершину управления
философией вместе с волной репрессий второй половины 30-х годов и
закрепились в ней на ключевых руководящих постах. И, кстати, на этих
постах они частенько оставались и в последующие десятилетия.
Перечень горестных примет исторической ситуации, сложившейся
в концу 40-х и в первой половине 50-х годов в идеологии, в духовных
сферах, включая философию, можно было бы продолжить.
В плане проводимого нами в этой работе исследования — в духе
социологии познания, социологического, социально-философского анализа
развития философии — важно отметить: все перечисленные и
подразумеваемые обстоятельства, факты, аспекты характеризуют объективно
существовавшие социально-политические и в то же время
институционализированные структуры, которые сложились в эпоху после
Октября и образовали ту часть «советской власти» (не путать с ролью
безвластных Советов), которая была непосредственно повернута в сторону
духовной деятельности, науки, культуры. В то же время существовали и
не институциональные, а обращенные к индивидам, частично
внедрившиеся в их сознание, добровольно или и под давлением принятые нормы-
рамки действия, поведения.
Не означает ли все сказанное, что дело философии как
профессионального исследования оказалось безнадежно проигранным? Может
1 Из ряда исследований, помещенных в двух книгах «Философия не кончается...»,
видно, сколь «конкретным», детальным был стиль высокого партийного «руководства»
философией, сколько постановлений было принято, сколько директивных писем написано,
сколько совещаний проведено... И, кстати, сами «работники философского фронта» проявили
могучую активность в том, чтобы вызвать огонь партийного гнева на философию!
2 Соловьев Э.Ю. Философский журнализм шестидесятых: завоевания, обольщения,
недоделанные дела // Философия не кончается... Из истории отечественной философии.
XX век. 1960-80-е годы. Кн. II. М., 1998. С. 110.
2 Н. В. Мотрошилова
18 •
Раздел I
быть и об этом периоде следовало говорить то же, что А.П. Огурцов
сказал о ситуации 30-х годов: «Философская жизнь на одной шестой части
планеты была подавлена»1? Как это ни покажется парадоксальным,
удивительным, неожиданным после всего ранее перечисленного, но как раз
в 50-е годы наметились и особенно в 60-е годы стали пробиваться, а затем
и укрепляться, шириться тенденции, на разных проблемных
направлениях способствовавшие оформлению исследовательских начал и
критериев в философии, чему способствовали некоторые конкретные
особенности сложившейся исторической ситуации и более общие черты
российской культурной жизни, российского духа и культуры. Говоря об
этих особенностях и чертах, мы кратко обрисуем вторую сторону
ранее упомянутой антиномии, как она обнаружилась в философии, и не
только в ней. Заранее скажу, что речь далее пойдет главным образом не
об институциональных, т. е. (в большей мере) объективированных
социальных формах, а о противоречивых процессах, происходивших в «мире»
сознания, ценностей, устремлений, мотивов, в межличностных
коммуникациях людей, т. е. о факторах, в марксизме обычно именуемых
субъективными. Однако нам предстоит убедиться, что они тоже способны
приобретать на первый взгляд неожиданную объективно-историческую
силу. Перечислю лишь некоторые из этих факторов.
Во-первых, победа в Великой отечественной войне способствовала
укреплению патриотизма, чувства единства с народом, а вместе с тем и
веры в себя, чувства собственного достоинства тех людей, которые на
полях сражений и в тылу благодаря своей самоотверженности,
величайшему напряжению всех физических и духовных сил добывали
нечеловечески трудную победу. Не в первый раз в истории наши
соотечественники, выковывавшие победу в общеевропейской войне, возвращались
с европейских полей сражений с недоуменными вопросами и
сомнениями2: если в значительной степени благодаря жертвам, понесенным
нашим народом, Европе была возвращена свобода от нацистского рабства,
то почему так плачевно обстоит дело со свободой в нашей собственной
деятельности и свободой мысли? Официальная пропаганда так или иначе
учитывала это. Приходилось считаться с тем, что бывшие фронтовики
принесли с поля боя новые устремления, ценности, среди которых на
первое место выдвинулись ценности самоуважения и свободы. Судьба
философов — вчерашних фронтовиков З.А. Каменского, Т.Н. Ойзерма-
на, В.Ж. Келле, Э.В. Ильенкова, A.C. Богомолова, A.B. Гулыги, Е.Г. Пли-
мака и многих, многих других — является убедительным тому подтверж-
1 Огурцов АЛ. Подавление философии // Философия не кончается... Из истории
отечественной философии. XX век. 1920-50-е годы. Кн. I. М., 1998. С. 110.
2 В книге «Александр I» Д. Мережковский вкладывает такой вопрос в уста декабриста
Бестужева: «И неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в
войне отечественной, — русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеонова, не свергнут
собственного ига...?» (Мережковский Д. Павел I. Пьеса. Александр I. Роман. М., 1991.
С. 328).
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•19
дением. Так, война забросила A.B. Гулыгу в Кенигсберг, на могилу
Канта — и это в немалой степени стало стимулом к появлению
отечественного кантоведа мирового класса.
Во-вторых, по целому ряду причин, вдаваться в которые здесь
невозможно, последние всплески сталинизма, попытки самых крайних
тоталитаристских сил прибегнуть к репрессиям уже не шли ни в какое
сравнение с размахом и смертоубийством довоенных репрессивных
акций, в ходе которых политические, идеологические преследования, как
правило, заканчивались казнями или ГУЛАГом. Уже к началу 50-х годов,
еще до смерти Сталина, стал постепенно уходить страх за саму жизнь;
теперь люди не были готовы любой ценой доказывать свою лояльность
по отношению к репрессивной власти и ее беззакониям. А после смерти
Сталина в 1953 году вообще стала рассасываться накрывавшая все
черная тень (хотя многие, многие люди эту зловещую тень искренне
оплакивали...). Итак, принципиально важный, именно эпохальный момент
жизни нашего народа состоял в следующем: если до войны любое
проявление свободы в идейной области было опасно для самой жизни, то
теперь непосредственная опасность для людей, бравших на себя, скажем
так, дело более свободного размышления и исследования, не исчезла
полностью, однако значительно смягчилась, что объективно
способствовало расширению свободы духа в различных областях жизни и
творчества. Значит, не на пустом месте, а на фундаменте различных попыток
первого послевоенного поколения реализовать возможности духовной
свободы возникла оттепель второй половины 50-х и 60-х годов.
Bo-третьих, нельзя не учитывать, сколь мало склонны и сколь мало
умеют российские люди безупречно выполнять постановления,
инструкции, веления свыше, особенно в духовных, творческих областях. Немцы,
скажем, способны к этому в значительной степени (почему, в частности,
философия в ГДР была куда более идеологически гомогенной и
послушной, чем в СССР). Отсюда парадоксальное, на первый взгляд, явление:
чем шире и, казалось, плотнее становилась — напомним, в условиях
повышения ценностного значения свободы — сеть
партийно-идеологического контроля над философией, тем большим было недовольство
партийных, государственных чиновников достигнутыми результатами. Ранее
упоминалось о том, что именно к началу 50-х годов эта сеть могла
считаться наиболее разветвленной. И что же? Каков был результат? Гадать
не приходится: он никак не мог удовлетворить блюстителей, ревнителей
«партийной чистоты и идейной зрелости философии». Ни о какой
тоталитарной результативности идеологических контроля и сыска говорить
не приходится.
Любопытен факт, который описывается в цитированной ранее
статье Г Батыгина и И. Девятко. Вначале 1949 года Минвуз осуществил
проверку кафедр общественных наук 213 университетов крупных
городов СССР. Проверявшие сигнализировали: 23 % преподавателей «не
внушают политического доверия»; из 2018 проверенных преподавателей
2*
20 •
Раздел I
81 примыкал ранее к антипартийным оппозициям, 57 привлекались к
суду по политическим мотивам, 65 состояли в других партиях, 117
исключались из ВКП(б), 150 имели партийные взыскания «за притупление
бдительности» (Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Указ. соч. С. 175). Да и
как могло быть иначе при широте развернувшихся накануне войны
репрессий? Но ведь получался весьма досадный для идеологов парадокс: при
жестком, неусыпном контроле «прокол» — с точки зрения требований
власти — произошел именно на политико-идеологическом фронте!
Другой факт, о котором упоминают те же авторы: «...С января
1940 года, когда в Институте философии стали проводиться защиты
кандидатских и докторских диссертаций, предпочтение отдавалось
историческим темам...» (Там же. С. 177). И даже в самые страшные 1937-1938
годы из 36 защищенных кандидатских диссертаций 27 были посвящены
истории философии (большая часть, правда, истории философии
народов СССР) и только 15— диалектическому и историческому
материализму. Неудивительно, что добровольные доносчики и проверяющие из
различных инстанций постоянно докладывали, что имеет место «отрыв
философской работы от практики социалистического строительства»
(Там же. С. 178).
В-четвертых, удары высших инстанций и идеологических
доносчиков нередко обрушивались как раз на наиболее благонадежных в
идеологическом отношении работников «философского фронта». Одних били за
то, что они слишком «умничали» (партработника Г. Александрова
взгрели за «академизм»!); других — за отсутствие так или иначе
предполагаемого элементарного уровня квалификации; третьих, что любопытно и по-
своему неожиданно — за одиозный марксистский, вернее, «ленинский»
фанатизм, перераставший в неудобные, крайние формы вульгаризации
и доносительства (случай проф. З.Я. Белецкого, которого Г. Батыгин и
И. Девятко1 справедливо, полагаю, назвали «отчаянным комиссаром»
в душе). Отсюда — пришедшееся как раз на конец 40-х — начало 50-х
изобилие громких публичных разборок, так называемых дискуссий,
партийных постановлений, обращенных в сторону философских дисциплин.
Это, например, постановление ЦК ВКП(б) от 1944 года «О недостатках и
ошибках в освещении истории немецкой философии конца XVIII и начала
XIX веков»; дискуссия по книге Г.Ф. Александрова «История
западноевропейской философии» (январь 1947 года). «Ждановщина»
распространяла свой разрушительный контроль на всю культуру. Но несомненно,
что один из самых сильных ударов пришелся именно по философии.
(Вспомним: вся эта возня, суета в «идеологии», а вернее, в сфере духа,
культуры была развязана в те годы, когда только что вышедшая из войны
страна задыхалась от насущных проблем элементарного выживания)2.
1 См. Батыгин Г.С, Девятко И.Ф. Дело профессора З.Я. Белецкого // Философия
не кончается... Из истории отечественной философии. XX век, 20-50-е годы. Кн. I. С. 219.
2 Сколь же прав А.П. Огурцов, акцентировавший мысль об исторической
неуместности, если говорить мягко, философской дискуссии 1947 года: «Громадные территории
страны лежали в развалинах. Не было пищи, крова над головой, не хватало одежды. В стране
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•21
При этом, если в литературе или музыке непосредственными объектами
«жандармских», по выражению Э.Ю. Соловьева,
идеологически-программных выступлений Жданова стали выдающиеся писатели, поэты,
композиторы ранга Ахматовой, Шостаковича, Прокофьева, то в философии
удар пришелся по вполне ортодоксальным, с точки зрения идеологии
марксизма-ленинизма, философам. Таким был, например, упомянутый
Г.Ф. Александров, чья «История западноевропейской философии», пусть
и лишенная явного идеологического криминала, осуждалась, если
выразиться слогом отчета-доноса тогдашнего директора Института
философии АН СССР Г.С. Васецкого, в ряду других проявлений «аполитичности
и безыдейности»1. Если к тому же учесть, что Г. Александров был
большим партийным начальником, дело становится совсем загадочным. В
свете новейших архивных изысканий ряда авторов и еще сохраняющихся
воспоминаний оно, однако, постепенно разъясняется.
Ибо, в-пятых, о монолитности официозной идеологии и
сплоченности разрабатывавших, защищавших ее кадров можно говорить с очень
большой натяжкой. И дело не в какой-то идеологической
неблагонадежности «проверенных кадров» или подозрениях на сей счет, а в том, что
сами «кадры» не на жизнь, а на смерть бились друг с другом за власть в
философии. Исследования показывают, что философские дискуссии
второй половины 40-х годов были во многом инициированы из
«философского лагеря» и что партийные инстанции скорее были принуждены
реагировать на взаимные склоки внутри «боевого отряда» философов-ленинцев.
Последние бомбардировали ЦК КПСС доносами друг на друга, причем
каждый случай такого доносительства, разумеется, сопровождался
наклеиванием на противников идеологических ярлыков. Чтобы
убедиться в этом, достаточно проследить за развитием событий в философии.
После разгрома «меньшевиствующих идеалистов» во главе с Дебориным
решающую роль в руководстве философией стали играть М.Б. Митин,
П.Ф. Юдин (и их соратники), в руках которых «находились и журнал
«Под знаменем марксизма», и Институт философии, и центральные
издательства...». Когда в начале 40-х годов «на философском небосклоне
взошла новая звезда — профессор Г.Ф. Александров», то вначале он,
благодаря разгромному постановлению партии по III тому «Истории
философии», добился дискредитации своих противников Митина и Юдина,
которые были всего лишь «почетными», т. е. реально не работавшими
членами редколлегии трехтомника (больше всего, однако, пострадали
авторы и действительно трудившиеся над книгой — вполне
качественной, кстати, — члены редколлегии, настоящие философы, не идеологи
В.Ф. Асмус, B.C. Чернышев). Потом под удар попал, как сказано, сам
еще были продуктовые карточки, голод 1946 и 1947 годов усугубил и без того ужасное
положение в сельском хозяйстве... А в это время партийное и идеологическое руководство
разворачивает дискуссию по истории философии!» (Огурцов А.П. Указ. соч. С. 113-114).
1 Цит. по: Философия не кончается. Из истории отечественной философии. XX век.
20-50-е гг. Кн. I. С. 276.
22 •
Раздел I
Александров, чем не преминули воспользоваться для своего группового
реванша Митин и Юдин. (См.: Философия не кончается... Из истории
отечественной философии. XX век. 20-50-е годы. Кн. I. С. 195 и далее.
С. 209 и далее.)
Другое дело, что борьба внутри верхушки официального
философского сообщества в конце 40-х годов (как, впрочем, и раньше) была
более чем на руку верхушке идеологически-партийной. Что касается конца
40-х годов, то в тот период (по причинам, которые здесь не могут быть
проанализированы) партийная верхушка собрала все силы для той
масштабной идейной акции, которая по имени главного исполнителя была
названа «ждановщиной». Необходимо держать в памяти все формы и
стадии, свидетельствующие о задуманном размахе «партийной» борьбы
против того лучшего, что постоянно рождала история нашего народа —
против отечественной культуры, против самых талантливых людей,
составивших великую славу страны. «Из постановлений», как выразился
кто-то в разговоре с A.A. Ахматовой, была и она сама, и другие светила
российской духовной культуры. Вспомним: «прорабатывали» не только
поэтов, композиторов, философов, но и столь нужных для подъема
благосостояния и обороноспособности страны физиков или биологов.
Философия (как выясняется, больше всего история философии — что
показательно) была одним из постоянных объектов для идеологического битья.
Вся идеологическая кампания планировалась как поистине
разрушительная и была бы таковой, если бы... Если бы уже не было поздно.
Такое утверждение («уже поздно») относительно второй половины 40-х
и начала 50-х годов может показаться сущим преувеличением. Между
тем — хотя бы в свете ретроспективы — факт остается фактом: в
истории уже накопились первые признаки, предвещавшие «начало конца»
полновластного, тоталитарного правления идеологии, в том числе и над
философией. Обыкновенно все эти идейные разгромы и погромы
однозначно расцениваются как свидетельства тоталитарной власти
единственной партии, ее аппарата — и, конечно, ее вождя, — в том числе и
над сферами культуры. Полагаю, надо бы задуматься вот над каким
вопросом: а не была ли описываемая послевоенная идеологическая
экспансия проявлением острого беспокойства по поводу того, что несмотря на
все «принятые меры» в духовной области, в науке и культуре все идет не
так, как «требуется» и как планируется? Людям, которые по должности
или «по зову сердца» контролировали все духовные сферы, надо отдать
должное: они обладали сверхчувствительностью даже по отношению
к лишь назревавшим неортодоксальным тенденциям. Не отсюда ли —
мощь и частота идеологических ударов в самое, казалось бы, «славное»
для сталинизма время?
Здесь-то и хочется привлечь особое внимание к самому важному, с
моей точки зрения, свидетельству неоднородности «философского
фронта», как он выглядел в конце 40-х — первой половине 50-х годов. У
ортодоксальной философии появились противники... в лице пока мало кому
Отечественная философия 50-60-х годов XX в. * 23
известных, «неоперившихся» молодых людей, начинающих
преподавателей, аспирантов и студентов философских факультетов. Они, в свою
очередь, потянулись к тем «недобитым» репрессиями и чистками 20-30-х
годов преподавателям старшего поколения, которые, как правило,
получили философскую квалификацию еще до революции, и, значит, могли
и хотели профессионально работать в философской сфере даже в
атмосфере засилья официозной идеологизированной философии (вспомним о
чудом прорывавшихся в печать работах А.Ф. Лосева, Я.Э. Голосовкера,
В.Ф. Асмуса, Г.Г. Шпета, М.М. Бахтина и других авторов). К началу 50-х
годов исторический, социальный, культурный спрос на философское
исследование — несмотря на все — появился и в нашей стране.
Причин появления такого спроса было сразу несколько.
Определенную роль сыграло то, что победа в Великой отечественной войне привела
к некоторому сближению с западной культурой. Это была, возможно,
первая послевоенная оттепель, пусть недолгая и быстро сменившаяся
ветрами холодной войны. Но и за это время можно было почувствовать,
что и в сфере духа для контактов с Западом даже самой власти нужны
дипломаты, коммуникаторы, переговорщики. И кстати, каждый раз,
когда в последующие десятилетия дело в международных отношениях
больше склонялось к разрядке напряженности, чем к вражде, для философии,
как и для всей культуры, также возникали более благоприятные
возможности, по крайней мере, в деле более широкого знакомства с западным
философским и культурным сообществом. (Впоследствии мы специально
рассмотрим некоторые из этих неплохо использованных возможностей.)
Еще важнее было то, что задачи быстрого восстановления хозяйства,
управления, образования, пополнения кадров во всех областях народной
жизни после войны со своей стороны выдвинули запрос на конкретных
специалистов, профессионалов самого различного рода. Но теперь ими
должны были стать не немногие уцелевшие и уходящие с исторической
сцены «буржуазные спецы», как это было в первые десятилетия
советской власти, а выросшие уже при этой власти представители молодых
поколений.
Ценность профессионализма, компетентности в послевоенном
обществе неожиданно стала кардинально важной. Она заметно потеснила
значение безграмотной идеологической, партийной преданности, что
можно подтвердить относительной сменой приоритетов, как она
отражалась в литературе, журналистике, кинематографе.
Эту группу исторических потребностей, запросов, которую не
только не смогла отменить, но вынуждена была учитывать господствующая
идеология, следует возвести к коренным цивилизационным
изменениям, тенденциям, которые равно воздействовали и на капиталистические,
и на социалистические страны (хотя формы и темпы овладения ими были
различными в обеих формационных системах). Сумма этих
закономерных, достаточно глубоких изменений теперь уже хорошо известна: НТР;
создание совершенно новых технических систем; возросшее значение
24 •
Раздел I
науки, интеллекта и в технико-экономическом, и в социальном развитии;
необходимость интеграции мира, цивилизации перед лицом и новых
возможностей, и новых, именно «глобальных», цивилизационных проблем,
противоречий, опасностей и т. д. Расколотый мир ответил на эти
объективные вызовы противоречиво и во многом неадекватно: колоссальные
силы, ресурсы, в том числе и интеллектуальные, были брошены в
горнило гонки вооружений, в свою очередь обусловленной свойственным
эпохе противоборством социальных систем. Что касается науки и
ученых, то в связи с названными цивилизационными изменениями (отчасти
наметившимися до и во время второй мировой войны) тенденцией стало
повышение их роли и социального престижа. Этого не смогли понять в
двух наиболее идеологизированных странах — Германии и СССР, где
ученых, славу и цвет науки, расстреливали, репрессировали,
преследовали по расистским или надуманным идеологическим мотивам, держали
в «шарашках», одновременно надеясь на создание «чудесного» оружия!
Послевоенное соревнование двух систем было, как известно,
сконцентрировано на гонке вооружений, для победы в которой требовались
талантливые, инициативные, а значит свободные, а не подневольные
ученые, инженеры, технические специалисты, знающие суть дела
организаторы крупных проектов и т. д. В куда более широких масштабах
повторилось то, что случилось в эпоху индустриализации, когда возник запрос
на специалистов. Но тогда «буржуазных спецов» просто использовали
(как использовали подневольный, рабский труд узников ГУЛАГа), а
потом бросили в топку массовых репрессий — вместе с лучшими
военачальниками, офицерами. (И это в преддверии неизбежной войны!)
Теперь эту тактику так или иначе пришлось пересматривать, хотя делалось
это медленно, непоследовательно, с рецидивами старых идей и методов.
Однако в послевоенное время в моду вошли — не могли не войти —
«физики»... С «лириками», т. е. с людьми гуманитарной культуры, искусства
дело обстояло иначе. С их признанием не просто решили подождать. На
них-то в нашей стране и обрушили кулак новых идеологических
репрессий, во многом превентивных и показательных. Да и в естествознании
«не догадались» уберечь от идеологических проработок, а значит, от
организационного, кадрового разгрома самые перспективные тогда области
знания — генетику или кибернетику.
Чего, однако, не учли инициаторы «ждановщины», так это не
зависящей от их недоброй воли внутренней целостности культуры и
науки — и даже такого, с их точки зрения, малозначительного факта, как
добрая воля «физиков» в их отношении к «лирикам», как возраставший
интерес тех и других к социальным вопросам и их противодействие аб-
сурдам идеологии.
Было еще одно важнейшее обстоятельство, которое входило в
группу объективных социальных изменений, но касалось, так сказать,
социально-антропологической стороны дела. Речь идет о смене поколений.
Отечественная философия 50-60-х годов XX в. • 25
Смена поколений и философия
Фактор смены поколений всегда играет немалую роль в социальном
развитии вообще, в духовно-ценностных процессах, в частности и
особенности. В социологических дисциплинах его специально исследуют и
учитывают. А вот в истории философии о нем говорят редко. Хочу
предупредить о том, что в моем дальнейшем анализе поколенческая
проблема в целом, как и ее преломление через судьбу интересующих нас
поколений, не подвергается сколько-нибудь целостному и специальному
исследованию, ибо такое исследование увело бы нас далеко от фокуса
данной работы. Подобным образом я не могу вдаваться здесь в
интересные, острые дискуссии о том поколении, которое назвали
«шестидесятниками» — о его драматической судьбе, ответственности, достижениях
и просчетах, внутренних размежеваниях, «самоотчетах» — пусть
объективно именно об этом (совсем не едином, не однородном) поколении, в
данном случае в лице многих индивидов, действовавших в рамках
философии и социологии, идет речь в первой части книги, которую читатель
держит в руках1. Но для понимания развития отечественной философии
50-80-х годов нам все же совершенно необходимо принять в расчет то,
как, в каком направлении в данный период осуществлялась в нашей
стране смена поколений. Она была драматически обострена прошедшей
войной. Место почти выбитых войной среднего и молодого поколений
должна была занять молодежь послевоенного времени (их отцы, иногда
и матери, старшие братья, иногда и сестры, были, как правило, унесены
войной). Этому поколению к тому же предстояло массовое переселение
в большие города, где совершались главные события в хозяйственно-
экономическом, научно-техническом, культурном строительстве. Надо
отметить, что то были представители особых, для советской истории
новых и в социальном смысле поколений: во время репрессий 30-х годов
их представители были маленькими детьми; лишь немногие из них
знали о репрессиях или испытали их (как дети, побывавшие в ГУЛАГе) на
собственном опыте; следовательно, страх не залегал, что называется, в
подкожном слое, в сознании и подсознании вновь вступавших в жизнь
молодых людей первого послевоенного этапа. Для судьбы философии
этого и последующего периодов включение молодого поколения сначала
в философское образование, а потом и в философскую деятельность
имело далеко идущие последствия.
'Так уж получилось, что наиболее глубокие, я бы сказала честные, искренние,
трепетные размышления на эти темы — о послевоенном поколении, о шестидесятниках, об
историческом смысле и судьбе российской интеллигенции — я в последнее время встретила в
небольшой книжечке, посвященной памяти моего мужа, Юрия Александровича Замошки-
на, особенно в заметках К. Мяло, Н. Покровского, Э. Баталова, А. Шестопала, И. Кона,
А. Грачева, Е. Рашковского (см.: Замошкин Юрий Александрович: Сборник воспоминаний.
М.: Издательство «МГИМО-Университет», 2007).
26 •
Раздел I
Здесь и несколько далее я буду говорить о тех двух-трех
поколениях, к которым сама принадлежу и которые уже начиная с 50-х годов и
особенно в 60-х составили «критическую массу» философского, потом и
социологического сообщества, а в известной (хотя, возможно, уже и не в
решающей) степени еще и сегодня оказывают на него свое влияние.
Есть факт, который мне лично представляется фундаментальным.
Я тщательно проверила его, обратившись к целому ряду
энциклопедических, биографических, мемуарных и иных источников (это, например,
книга «Философы России XIX-XX столетий»; аналогичный справочник
по Российской академии естественных наук; сборники МГИМО,
посвященные различным выпускам этого вуза и т. д.). Дело вот в чем: из
представителей поколений, вошедших в отечественную философию и
социологию в 50-60-х годах, 90-95 % составляли те люди, которые родились и
(часто) проводили свое школьное детство в деревнях, поселках,
небольших городках. Рожденные и выросшие в Москве, Ленинграде, Киеве,
т. е. в столице и самых крупных городах, составили не более 5-8 % от
общего числа тех, из кого потом образовались ряды кандидатов,
докторов философских наук, то есть — по крайней мере в формальном
отношении — ряды элиты философских, социологических дисциплин (а также
ряды тех, кто, обладая философскими учеными степенями, трудился на
иных поприщах). Со сказанным тесно связано следующее: в
подавляющем большинстве это были выходцы из простых семей. Лишь в очень,
очень редких случаях — дети из семей с давними интеллектуальными
традициями и корнями. Оно и понятно: такие семьи, начиная с
Октябрьской революции, постоянно и упорно устранялись с основной сцены
социальной жизни гражданской войной, эмиграцией, репрессиями. Более
распространенным был такой случай, когда наши родители в своих
семьях принадлежали к первому поколению, получившему среднее и (реже)
высшее образование. Но к несчастью, война многих из нас лишила отцов,
их влияния и попечительства.
Тем не менее, в силу стечения самых разных благоприятных
обстоятельств юноши и девушки наших поколений к началу 50-х годов
оказались вовлеченными в процесс урбанизации; весьма заметная часть
молодежи — в силу мощного и объективного социального запроса — смогла
демократически устремиться не куда-нибудь, а в обе столицы, Москву
и Ленинград, напористо завоевать их! Наиболее способные и
трудолюбивые юноши и девушки, еще вчера жившие и учившиеся в деревнях,
поселках, городках и городах провинции, с успехом поступали в
московские, ленинградские, киевские, минские университеты, другие лучшие
вузы страны и столь же успешно их оканчивали. А потом значительная
их часть не вернулась на малую родину и осталась в Москве,
Ленинграде, других крупных городах, начав здесь свой путь в науке, в нашем
случае — в философии, социологии, в близких им дисциплинах.
Отсюда — другие существеннейшие, с моей точки зрения, штрихи к
портрету первых послевоенных поколений. Многие из тех, кто во второй
половине XX в. определил сложный, противоречивый облик российской
Отечественная философия 50-60-х годов XX в. * 27
философии и социологии (думаю, что так же обстояло дело и в других
областях отечественной культуры) — это люди из породы «сделавших
самих себя». Они должны были много и упорно трудиться над своим
образованием, над формированием своей личности.
Разумеется, в образовании, знаниях представителей первых
послевоенных поколений было много существенных пробелов, объясняемых
упомянутыми фактами — происхождением, сложившейся системой
образования, тяготами военного времени, на которое пришлись школьные
годы. Думаю, абитуриенты нашего поколения не выдержали бы
сравнения с выпускниками гимназий и студентами дореволюционного
времени. Но к чести своих сверстников хотела бы отметить: лишенные
преимуществ рождения и произрастания в образованной интеллектуальной
среде, они почти всё, чего достигли в такой сложной дисциплине, как
философия, должны были добывать и подготавливать своим
собственным трудом. Это люди, которые много, очень много, жадно читали — и
потом они нередко обладали основательными знаниями в области
литературы, отечественной и зарубежной; их весьма интересовала история;
познания в области искусства тоже накапливались незаурядные. Было
немало таких, кто — опять-таки без всяких семейных предпосылок и
корней — с упорством изучал иностранные языки и здесь добился
заметных успехов. (Однако со всем сказанным были связаны немалые
трудности, о которых хорошо знают даже и наиболее эрудированные, знающие,
популярные авторы из философской области: у них есть все основания
не удовлетворяться уровнем своей философской и всякой иной
образованности и на любом жизненном этапе восполнять досадные пробелы...)
Фундаментальной причиной поворота к интенсивному освоению
знаний и культуры человечества стал тоже совершившийся к началу 50-х
(к сожалению, мало исследованный) процесс переоценки ценностей,
благодаря которому значимость знаний, культуры, систематического и
солидного образования все больше выдвигалась на передний план и уже
не оттеснялась неким «классовым, партийным чутьем» и т. п.
Подспудные толчки поворота цивилизации к научно-технической
эре (подтвержденные, как сказано, соревнованием социальных систем
на переднем крае гонки новейших вооружений в предвоенные, военные
и особенно первые послевоенные годы) нельзя было не ощутить даже в
идеологизированной стране. При этом война подтвердила мощную силу
неидеологизированных духовных факторов: ведь для победы в ней
идеологам пришлось напоминать об истории страны и народа, о религиозных
верованиях людей, что способствовало интересу послевоенных
поколений к целостным историческим корням народной жизни.
И вот что очень существенно для философии: еще в студенческие
годы (по крайней мере, на философском факультете МГУ и факультетах
других университетов) сложилась одна характерная экзистенциальная
черта наших поколений, сохранившаяся и впоследствии — это
кристаллизация молодого сообщества вокруг наиболее ярких, талантливых, смелых
сверстников (а иногда — вокруг некоторых философов старшего поколе-
28 •
Раздел I
ния). Так, мы студенты-философы МГУ, скоро узнали, как важна для нас,
живительна эта среда, как вдохновляет она соревнование молодых умов,
причем соревнование честное и дружественное. Например, уже на
первых курсах (т. е. в начале 50-х годов) мы услышали имена Э. Ильенкова,
М. Мамардашвили, А. Зиновьева, Б. Грушина, Г. Щедровицкого, Ю. Ка-
рякина и стремились к общению с ними, потому что у них, тогдашних
аспирантов и студентов старших курсов, уже были свои идеи и концепции;
они уже начали свою борьбу против официозной философии — и борьба
эта оказывала на нас, более молодых, огромное воздействие. Так в 50-х
годах начало формироваться и в 60-х все более влиять на судьбы
отечественной философии неортодоксальное философское сообщество.
Далее (соответственно своей концепции, фиксирующей уровни,
формы, механизмы социально-исторической обусловленности
философии) я и рассмотрю процесс развития отечественной философии в свете
и под углом зрения сосуществования и противостояния различных
полюсов все более раскалывающегося (взятого в широком смысле)
сообщества философов.
Не входя в конкретные детали, здесь достаточно зафиксировать
следующее.
• Сообщества, образующиеся в процессах какой-либо
профессиональной деятельности (а здесь имеются в виду только такие сообщества),
являются социально-коммуникативными формами, которые обретают то
большую, то меньшую устойчивость и впоследствии уже способны
оказывать социально-организующее, также идейное, ценностное
воздействие на людей, по тем или иным причинам в него входящих.
• Официальные структуры (в известном смысле и здесь можно
говорить о сообществе), как правило, опираются на ранее сложившиеся
институциональные и идейные структуры, подчас являясь также частью
и стороной властных структур; с последними официальное сообщество и
его члены связаны организационно, идеологически, личностно.
Неофициальное сообщество — мало учитываемый, к сожалению,
но весьма важный социально-исторический фактор развития различных,
в частности и даже в особенности — духовных сфер деятельности. Без
рассмотрения условий, форм становления неофициального,
неортодоксального сообщества вряд ли возможно раскрыть истоки, траектории
движения новых идей, ценностей, постепенно вызревающих в том или
ином обществе, на том или ином этапе истории.
Далее к пониманию анализируемого периода развития
отечественной философии и будет применена та часть разработанной мною
концепции социально-исторической обусловленности (не
детерминированности!) философии, более подробно проясненные концептуальный аппарат
и попытки конкретного применения которой читатель, как сказано,
может найти в ряде моих прежних работ1.
10 тематике и проблематике философских сообществ, официального и
неофициального см.: Мотрошилова Н.В. Социально-исторические корни немецкой классической
философии М., 1990. С. 141 и далее; Путь Гегеля к «Науке логики». М., 1984. С. 26-39, 65-92.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ И НЕОРТОДОКСАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА В ФИЛОСОФИИ
В первой половине 50-х годов мы встречаемся с явлением,
относительно новым для развития отечественной философии советской эпохи:
с постепенным формированием — рядом с официальными
структурами и чем дальше, тем больше в противостоянии им — неофициального,
неортодоксального философского сообщества. Историки, правда,
иной раз напоминают о том, что и в довоенное время в философии как
бы обособленно от официоза, «катакомбно» работали некоторые
высоко профессиональные философы, например, А.Ф. Лосев, Г.Г. Шпет (это,
как известно, им очень дорого обошлось); что трудились такие
исследователи, как В.Ф. Асмус, то и дело подвергаясь гонениям. Этот факт,
бесспорно, важен: он говорит о неоднородности философии даже и
более раннего советского периода, о существовании в ней «элементов»,
которые официозная идеологизированная философия всегда считала
подозрительными и систематически подвергала проработкам. Но и при его
учете о существовании неофициального философского сообщества в
более раннее время, как я думаю, не могло быть и речи. Это было
исторически новое явление.
Далее будут кратко обозначены отличия неофициального
сообщества от официальных структур; впоследствии они будут рассмотрены более
конкретно, на репрезентативных примерах.
Официальные философские структуры и сообщества
советского времени складывались вокруг институциональных,
государственных образований, в рамках которых протекала деятельность философов
(философские факультеты университетов, академические институты,
философские журналы). Но не это главное, ибо и неофициальное
философское сообщество зарождалось и на первых порах существовало в
рамках тех же структур (исключением могла бы стать диссидентская,
подпольная философия, но о существовании таковой как заметного
явления, подобного диссидентской литературе, мне лично неизвестно. Я
согласна с В. Подорогой в том, что у нас не было «подпольной философии»,
а была философия неофициальная). Основное различие между двумя
сообществами — ориентации, ценности их членов, критерии,
которыми они действительно руководствовались в своей работе. Что
касается официальных структур и сообществ, то критерии и ориентиры
нам уже известны: они четко обозначались как раз в «указующих»
документах партии, в многочисленных постановлениях ее руководящих
органов, в речах, подобных речи A.A. Жданова на философской дискуссии
30 •
Раздел I
1947 года (она была предварительно отредактирована Сталиным). Все
эти документы, а более всего, конечно, сочинения, речи Сталина были
хорошо известны философам, потому что без цитат из такого рода
документов, как правило, не могли обойтись доклады и выступления.
Официальные структуры и сообщества (в моем понимании)
составили те работники философских учреждений, которые из чисто
идеологических безличных указаний сделали (кто истово, искренне, кто
лицемерно) личное ценностное кредо и непосредственное, главное руководство
к действию. Поэтому в их случае можно говорить о преимущественном
подчинении официальной философии внешним идеологическим,
партийным критериям и как (лозунговым) внешним основаниям работы, и как
принципам личностного поведения. Пользуясь такого рода документами,
можно было бы начертать «идеал» советского философа, взлелеянный
идеологией, но также и противоположный образ постоянно
критикуемого и преследуемого философа — «аполитичного и безыдейного», не
умеющего, да и не желающего «смело браться за разработку актуальных
вопросов по теоретическому обобщению практики социалистического
строительства и развертывания борьбы с буржуазной идеологией»1.
Что же касается неофициального сообщества, которое в
отечественной философии в начале 50-х годов только зарождалось и
формирование, укрепление которого — в сосуществовании с официальными
структурами и в трудном противостоянии им — растянулось и на
последующие десятилетия, то главной ориентацией его представителей,
в подавляющем большинстве молодых, стало как раз осуществление
философского исследования. А это имело неизбежной предпосылкой
(и следствием) долгое время не проговариваемое, но всегда
подразумеваемое, — конечно, никак не полное, а лишь максимально возможное
отделение научной философии от идеологии, особенно догматической,
мертвенной, косной.
Философское исследование — против официальной идеологии
В этой работе я не могу вдаваться в сколько-нибудь подробное
освещение сложных и специфических проблем, касающихся сути идеологии,
соотношения идеологии и научного исследования вообще, философского
исследования, в частности. Но поскольку многие представители
тогдашнего неортодоксального философского сообщества пусть и негласно, но
согласно определяли свои главные установки и цели через
противопоставление философской науки, философского исследования и
идеологии, то необходимо хотя бы кратко, не вдаваясь в детали и развернутые
доказательства, высказаться по этому вопросу.
1 Слова в кавычках взяты из адресованного A.A. Жданову письма директора Института
философии (академического института, напомним это!) Г.С. Васецкого от 9 августа
1947 года. См.: «Философия не кончается... Кн. 1. С. 276.
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•31
Идеология в рамках этой моей работы трактуется как система
представлений, идей (и действий соответствующих учреждений, институтов
и т. д.), главной и заведомой (предшествующей исследованию и часто
заменяющей его) целью которой является выражение интересов тех или
иных классов, партий, общественных движений и идейная помощь им в
завоевании, удержании государственной власти. Было бы беспредметно
спорить о том, существуют ли идеологии и идеологи. В советской стране
с непомерной властью идеологии, как, впрочем, и во всем
идеологизированном современном мире, проблема для философии и философов
заключалась в другом — в оценке сути идеологии как особой формы знания и
деятельности, а также в понимании специфики философии в сравнении
с идеологией. Для представителей неофициального сообщества
анализируемого здесь периода чрезвычайно важным был тот факт, что молодые
К. Маркс и Ф. Энгельс отнесли «идеологию» к превращенным,
иллюзорным, хотя и влиятельным формам сознания и знания. (Отсюда — более
общее принципиальное значение темы «превращенных форм сознания»,
которое раньше других было уловлено М. Мамардашвили.) Что не
помешало самим «классикам» создать новые формы идеологии
(«Коммунистический манифест» — идеологический продукт и документ sui generis).
Для официозных философов это был весьма трудный пункт. «Выход»
они нашли в том, чтобы отличить от всех прежних идеологий «научную»,
т. е., конечно, марксистско-ленинскую, пролетарскую идеологию.
Идеологию стали понимать как «совокупность взглядов, основанных на
общих мировоззренческих предпосылках и систематизированных в видах
идеологии (политические взгляды, право, мораль философия и пр.),
отражающих объективные, материальные отношения с позиций интересов
определенных классов». Эта цитата взята из той части статьи
«Идеология» в «Философской энциклопедии», которая была написана М. Игитха-
няном1. Ясно видно, что официозная позиция и состояла в заведомом
превращении философии (и не только ее — такая же участь постигла
мораль, политические идеи, даже право!) в один из подвидов идеологии.
Итак, в официозном понимании философия становилась идеологией, так
сказать, по самому своему определению. Ей, правда, милостиво
разрешалось «отражать объективные, материальные(!) отношения» — но после и
на основе защиты позиций определенного класса.
Нет сомнения в том, что официозная философия целиком
принимала за основу тезис о приоритете марксистско- ленинской идеологии во
всей системе знания (причем не только гуманитарного, но и
естественнонаучного), а также, конечно, и в системе образования. Да и всю жизнь
1 Игитханян М. Идеология // Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1962. С. 230.
Правда, во второй части этой статьи В. Келле и М. Ковальзон пытались смягчить
жесткость, прямолинейность фактического, заведомого превращения философии в вид
идеологии. Но «правда», суть официозного марксизма-ленинизма состояла не в таких смягчающих
оговорках, а в заведомой и прямой идеологизации философского и всякого иного
гуманитарного знания.
32 •
Раздел I
отдельного человека, включая жизнь личную, предполагалось пропитать
идеологией. Что касается философии, то ее идеологизация, не случайно
переплетенная со сталинизацией, приводила к поистине пагубным
последствиям, долго распространяться о которых излишне, ибо они хорошо
известны (например, это возвеличение материализма, поиски его
преимуществ перед идеализмом, «обнаружение» материализма и атеизма
там, где их не было и быть не могло — и многое, многое другое).
Отсюда ясно, почему первой и центральной потребностью для
неофициального сообщества стало максимально возможное, пусть не
провозглашаемое открыто, но фактически изначальное обособление
философской работы от марксистско-ленинской и всякой иной
идеологии — хотя полностью преодолеть давление ритуально-идеологических
форм было, и еще долго, практически невозможно. Но что оказалось
возможным (особенно при официальном объявлении философии наукой),
так это сосредоточение на профессиональном философском
исследовании, критерии которого, часто без спецификации, уподоблялись общим
критериям научного исследования как такового. (Я, кстати, согласна с
Э. Соловьевым в том, что из идеологизма прежней эпохи, подчинявшего
и подавлявшего философию, отечественная мысль сначала выбиралась
на пути сциентизма, возможно, чрезмерно акцентированного и
предполагавшего некоторую «гуманитарную бедность» тогдашних
философских исследований.)1
Конечно, и в идеологии были свои «профессионалы». Нам ли,
современникам тех событий, было не знать, какой изощренности мог достигать
«идеологический профессионализм»! Однако устремления и сочувствие
многих молодых философов 50-60-х годов были на стороне
философского профессионализма. Этому понятию — в зависимости от области
занятий — всякий раз придавался специфический смысл. Но одно было
ясно: «профессионализм» идеологов, «чистых» или идеологов от
философии, служил здесь негативным примером. И даже в таком ритуальном
деле, как снабжение статьи, доклада цитатами из классиков
неортодоксальные авторы проявляли определенную щепетильность,
добросовестность: цитировали то, что, по крайней мере, не противоречило, а еще
лучше — подкрепляло содержательные выводы, методологию работы,
выполненной по исследовательским критериям. Что, кстати говоря, не
было особенно трудным делом, ибо, по крайней мере, Маркса в целом
ряде его работ и исследований нельзя не признать профессиональным
философом. (Отсюда — существенное значение вопроса о характере
освоения наследия Маркса со стороны философов новой волны,
вопроса, который впоследствии будет разбираться подробнее.)
Среди совокупности мотивов, целей, установок, благодаря которым
неофициальное сообщество отдалялось от официальной марксистской
'См.: Соловьев Э.Ю. Философский журнализм шестидесятых: завоевания,
обольщения, недоделанные дела // Философия не кончается. Из истории отечественной
философии. XX век. 1960-80-е гг. Кн. II. М., 1998. С. 114.
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•33
идеологии и двигалось в сторону научного исследования, особое
значение для нашей темы имело следующее обстоятельство. Если
официальная идеология по разным линиям и во множестве своих форм фактически
поддерживала конфронтацию со всем, что в области духовной культуры
происходило на Западе, то исследовательские установки (в философии,
как и в науке вообще) предполагали и возможность, и необходимость
согласования теоретических результатов исследований, осуществленных
в разных странах.
Можно применить такой образ: неортодоксальные философы не шли
в полный рост на «линию Мажино» марксистско-ленинской идеологии, а
скорее обходили ее, без особого шума и треска выбирая для себя
проблемно-тематические области, которые по разным причинам
имманентного для них исследовательского характера меньше просматривались,
контролировались с той самой «линии Мажино». Тогда о таких областях
стали думать, а впоследствии открыто писать, говорить как о нишах, где
давление идеологии удавалось свести к минимуму. И о них, этих нишах,
мы впоследствии поговорим подробнее.
Можно заведомо предположить: кто-то скажет, что подобные
ориентации — исследование против идеологии — сами составляют некую
«идеологию», что впоследствии обнаружится смыкание позиций по крайней
мере одного крыла неофициального сообщества с защитой прав, свобод
человека, т. е. с либеральной идеологией западного типа. В этот сложный
спор я здесь вдаваться не буду. Для нашей темы достаточно сделать
вывод, который трудно оспорить: подавляющее большинство
представителей неофициального сообщества искало свой жизненный путь и особый
путь в философии через сознательное, хотя не всегда провозглашаемое
открыто, противопоставление философского исследования
догматической, косной марксистско-ленинской идеологии.
А сейчас предложим небольшой анализ конкретного внутрифило-
софского материала, который (следуя некоторым традициям
современных исследований) я называю «case study», имея в виду
репрезентативный «случай», в силу вполне целого ряда причин приобретающий общее
значение. (При этом не подразумеваются частные, специальные
толкования этого термина в каких-либо концепциях философии или социологии.)
Такой анализ позволит нам подтвердить и развить мысли, высказанные
ранее, на реальных и показательных примерах. Его, этот феномен,
выделила сама история. Речь пойдет о «Философской энциклопедии».
3 Н. В. Мотрошилова
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ В 60-Х ГОШ
Case study: «Философская энциклопедия»
Первые шаги молодого неофициального (и тогда еще
неформального) сообщества 50-60-х годов неплохо документированы в ряде более
поздних исследований, мемуаров, воспоминаний (на некоторые из них
я уже ссылалась и далее буду ссылаться). Мне, однако, представляется,
что наиболее убедительным, репрезентативным исходным материалом
для нашей работы могут стать сами характерные для 60-х годов
публикации: как говорится, что написано пером, не вырубишь топором...
В данной главе для анализа выбран масштабный коллективный труд,
выполнение которого пришлось в точности на 60-е годы —
«Философскую энциклопедию» в 5 томах. Это задуманное в конце 50-х годов
масштабное издание могло, конечно же, осуществляться лишь с одобрения
высших партийных инстанций и под контролем «проверенных»
партийно-философских кадров. Именно в духе и манере партийных директив
было предложено выпустить «Философскую энциклопедию» в трех
томах по 30-40 листов и завершить издание в рекордно короткий срок — к
1960 году. З.А. Каменский, с начала и до конца издания работавший в
редакции и участвовавший в его подготовке в качестве автора,
редактора, организатора, в своих подробных мемуарах писал, в частности, о
нереальности назначенных «ударных» сроков: «Насколько это намерение
было необоснованным, видно из того, что вышла она в пяти томах со все
увеличивающимся объемом (I том — около 90 л.,У — 139,5 л.) и
завершилась изданием десятью годами позже предложенного — в 1970 году»1.
«Философскую энциклопедию» вполне оправдано расценивать как
важнейший исторический документ противоречивого и даже
парадоксального характера и значения. Разумеется, партийные инстанции и
некоторые партией назначенные члены редколлегии (главный редактор
Ф.В. Константинов, П.Н. Федосеев, М.Т. Иовчук и др.) хотели видеть в
этом фундаментальном, самом объемном за всю историю советской
власти философском справочном издании проявление и свидетельство
«торжества» марксистско-ленинской идеологии, философии диалектического
и исторического материализма. Особенно бдительно они следили за «про-
1 Каменский ЗА. О «Философской энциклопедии» // Философия не кончается... Из
истории отечественной философии. XX век. 1960-80-е годы. Кн. II. С. 45.
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•35
граммными», т. е. идеологически важными статьями; и порой, особенно
поначалу, им удавалось сделать некоторые из них сугубо
догматическими, так сказать, железобетонными. Но от года к году, от тома к тому
идеологическая хватка ослабевала; даже центральные по своим темам статьи,
не говоря уже об идеологически-второстепенных (число которых росло
в геометрической прогрессии), выходили не из-под пера признанных
философских идеологов, а либо новых авторов, принадлежавших к
неофициальному сообществу, либо тех представителей старшего и среднего
поколений, которые ранее были объектами идеологических проработок
и подозрений. Этим группам авторов и редакторов нередко приходилось
идти на компромиссы, иначе издание было бы закрыто до его завершения.
Если судить по строгому историческому («гамбургскому», как
принято говорить) счету, то представляется необходимым сказать:
«Философская энциклопедия» носит на себе следы идейно-ценностного
компромисса между идеологизированной и научно-ориентированной
философией. Ясно, почему случилось именно так. Достаточно
прочитать Мемуары З.А. Каменского и других непосредственных участников
процесса1, чтобы увидеть, что поле борьбы пролегало, по существу,
через каждую сколько-нибудь важную статью, что требовались терпение,
хитрость, даже своего рода изворотливость, чтобы защитить, сохранить
от посягательств идеологических цензоров первые завоевания
тогдашнего философского исследования. Но ведь важно, что люди, делавшие
это, уже были, и их в процессе работы становилось все больше. Иногда
им приходилось признавать свои поражения. Так, свыше было решено
(а может, предложено упомянутыми философскими начальниками), что
будут помещены статьи, посвященные всем руководителям «братских
компартий» и выискивающие у них (чаще всего несуществующие)
философские заслуги! Это правило было соблюдено во всех пяти томах, и
результат выглядел особенно нелепым, когда рядом экономили печатное
пространство за счет мыслителей, действительно вписавших свое имя в
философию. (Так, очень подробная статья о Г Димитрове соседствовала
с предельно краткой статьей «Досократики». Или другой пример: после
статьи «Декарт» в 5 полос следовала занимавшая 3 полосы статья
«Декларация совещания представителей коммунистических и рабочих партий»!)
Самое примечательное, что абсурдность подобной установки
понимали все и, думаю, так или иначе осознавали сами ее инициаторы.
Сложилась типичная ситуация, о которой позднее красноречиво писал
М. Мамардашвили: всем было ясно, что это абсурд, «тягомотина», как
выразился Мераб Константинович; подмигивали друг другу — и
разводили руками: а что делать? Ситуации подобного рода Мамардашвили
впоследствии определит как «кафкианские» и справедливо увяжет не
только с нашей жизнью, но с общими противоречиями современной
цивилизации.
1 См., например, далее цитируемые воспоминания Р. Гальцевой, М. Новоселова.
з*
36 •
Раздел I
И тем не менее, подводя предварительно общий итог, можно
утверждать: компромисс, что кому-то из идеологов должно было
показаться нежелательным и неожиданным, был все же не в пользу
надзирающих защитников идеологизированной философии, а в пользу
сторонников философии исследовательского типа. Лучшим доказательством
сказанного может служить то, что множеством статей первой
«Философской энциклопедии» и сегодня можно пользоваться как
материалами весьма добротными по своей фактуре, по глубине и объективности
раскрытия темы, по охвату имевшейся тогда литературы вопроса и т. д.
Далее я хотела бы на отдельных примерах подтвердить и раскрыть
сделанный вывод. Конкретный анализ позволит показать, как и почему
неортодоксальному, неофициальному сообществу философов удалось
отвоевать у идеологов хотя бы часть почвы, на которой и в нашей
стране можно было развертывать философское исследование. Надо также
понять, какие потери им неизбежно пришлось понести в процессе
противостояния (для философской редакции «Энциклопедии», как сказано,
повседневного и изматывающего).
Полагаю, что оценка такого масштабного исторического дела, как
пятитомная «Философская энциклопедия», сегодня требует от нас
возвратиться к совершенно конкретному анализу ее текстов, что
предполагает большой труд, к коему в напряженности и суете сегодняшнего бытия
мало кто склонен. Такой анализ мы должны провести, с одной стороны,
учитывая изменившиеся условия, громадным массивом накопившиеся
философские знания, нынешние критерии и требования, а с другой
стороны, так или иначе соразмеряя сделанное в те далекие годы с
возможностями эпохи, с тогдашним состоянием как мировой, так и отечественной
философии.
Есть еще одно важное «смотровое окно», через которое сегодня
целесообразно взглянуть на философию прошлого. Это перспективность тех
тенденций, направлений исследовательского поиска, которые в 50-60-х
годах в отечественной (да и мировой) философии только наметились, а
в последующие десятилетия (что мы способны увидеть только сегодня)
привели к более явным и плодотворным результатам. Речь при этом идет
о сложнейших проблемах, методах, концепциях «высокого»
философского знания, которые, как мы еще покажем в дальнейшем, совершенно
неверно сводить к противоборству отдельных идейных линий (например,
марксизма и антимарксизма, догматизма и идейного «либерализма»,
атеизма и религиозности и т. д.). Сказанное относится, разумеется, не
только к «Философской энциклопедии», но и к другим обсуждаемым в нашей
работе философским произведениям прошлого.
Прежде чем перейти далее к конкретному анализу «Философской
энциклопедии» (на основе предпринятого мною в последнее время
нового прочтения большого массива ее материалов), хочу сделать
уточняющую оговорку, существенную для понимания предшествующих и по-
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•37
следующих размышлений об этом принципиально важном и
репрезентативном издании. Мне хорошо известно, сколь разнятся оценки того, что
сделано нашими философами в советское время — ив частности,
оценки, подходы к тому, что происходило в процессе создания
«Философской энциклопедии» и что получилось в результате всех очень сложных,
разнонаправленных противостояний людей, в этот процесс
непосредственно вовлеченных. Тем более различаются оценки, сделанные людьми,
лично и непосредственно пережившими те далекие годы, и
представителями нынешних поколений, которые обладают исторической
привилегией смотреть на свершившееся с высоты сегодняшнего дня и бесспорного
права строго судить об ошибках, промахах предшествующих генераций.
Что же до воспоминаний участников событий 50-60-х годов, то разброс
оценок и описаний нельзя не счесть делом нормальным, даже
неизбежным, ибо сама историческая ситуация объективно вобрала в себя (что
отчасти было показано ранее) множество неоднородных измерений. Среди
них необходимо учитывать размежевания (обусловленные многими
объективными причинами, субъективными пристрастиями, личными
амбициями и отношениями) внутри тех групп, представители которых до сих
пор чисто условно были отнесены мною к одному «лагерю». В случае ФЭ
имелось в виду их объективное противостояние мощному тогда лагерю
ортодоксальной, догматической марксистско-ленинской философии в
очень нелегкой повседневной борьбе за качественное, (более)
профессиональное справочное издание по философии. Однако этот «лагерь» вовсе
не был единым и однородным (что, кстати, касается не только
энциклопедических дел, но и немалого числа других сюжетов развития
отечественной философии).
Вот почему так различаются (по описаниям событий, оценкам,
акцентам, называемым именам) мемуары, связанные с ФЭ. Ничего
неожиданного здесь нет: их авторы (З.А. Каменский, P.A. Гальцева, М.М.
Новоселов) — люди разных поколений, жизненных судеб; уже в то далекое
время существенно различались области их профессиональных
интересов, философские и в целом гуманитарные знания, идейные и
политические ориентации, наконец, личностные пристрастия и темпераменты.
Очень важно, что по ряду функций и ответственности в ФЭ им
приходилось решать относительно разные задачи, общаться, работать с
несходными группами людей. (Кроме того, во взаимном общении они,
возможно, поворачивались друг к другу не самыми лучшими своими сторонами,
что не способствует ни «светлым» воспоминаниям, ни
беспристрастности характеристик...)
Так, З.А. Каменский — заведующий редакцией, отвечавший, как и
А.Г. Спиркин, за издание в целом, — должен был держать в поле
зрения весь в высшей степени противоречивый контекст тематики и
проблематики, сложных противостояний (которые далее будут рассмотрены
подробнее). Именно Спиркин и Каменский были принуждены общаться
с теми философскими «генералами», официальными и формальными ру-
38 •
Раздел I
ководителями издания, о которых упоминалось ранее и которых Р. Галь-
цева метко назвала «Parteigenossen». Не забыв правдиво оговорить, что
она сама, как и другие члены редакции, встречались с Parteigenossen,
«слава Богу, не каждый год». А вот Спиркину и Каменскому пришлось
практически искать и находить компромиссы, чем обыкновенно бывают
недовольны обе стороны.
Воспитанный в традициях марксизма и оставаясь марксистом до
конца своей жизни, а в своей философской работе склонный и способный
к достаточно добротному профессиональному исследованию, З.А.
Каменский совсем не случайно оставил после себя многочисленные
работы по истории русской философии, которые, как и все на свете, можно
критиковать, но которые, полагаю, совершенно несправедливо было бы
недооценивать, тем более перечеркивать или отбрасывать.
Сказанное отношу и к его деятельности в ФЭ, в частности, к его собственным
статьям по истории русской философии. Не думаю также, что
обрисованные в мемуарах Каменского трудности, проблемы, перипетии в ходе
работы над ФЭ были результатом вымысла или просто искаженной
идейной»оптики»1.
В то же время мне вполне понятны и совершенно иная, чем в
воспоминаниях З.А. Каменского, оптика мемуаров Р. Гальцевой, ее
недовольство тем, как энциклопедическая работа предстала в изображении
старшего коллеги («...мне почудилось, что речь ведется о каком-то другом
издательском предприятии, а не о том, в котором и которому я
служила — см.: Указ. соч. С. 170-171). Рената Гальцева появилась в редакции
ФЭ под «занавес» издания и внесла в последний его том немало очень
ценных инноваций. Вполне верен чей-то (ею дополненный) образ:
огромное издание было подобно супу, который варился под одной крышкой,
но в кастрюле с разными отсеками... Тут, кстати, и объяснение того,
отчего опыт, переживания были столь разными. Так вот, «отсек», который
(по роду специализации и характеру ее яркого таланта, темперамента)
выпал на долю Гальцевой, — это были отдельные вехи истории русской
философии, до той поры обруганной, и статьи экзистенциального плана
(«Любовь», «Счастье» и т. д.). Забегая вперед, отмечу: эти и другие
экзистенциальные статьи, которые раньше сочли бы просто излишними для
ФЭ, являются, по моему мнению, изюминками в обсуждаемом
«издательском предприятии». Соответственно сложился круг авторов, с которыми
она непосредственно сотрудничала — о некоторых она написала тепло
1 Допускаю, что в работе с Каменским как руководителем редакции были немалые
трудности, что он твердо отстаивал свои убеждения — например, убежденность в
нефилософском характере формальной логики, в ее обновленном (математическом) смысле, о чем
с осуждением рассказал М.М. Новоселов; а это могло создавать трудности для публикации
в «Философской энциклопедии» логических статей. Но, во-первых, такой подход Захара
Абрамовича разделяли и до сих пор разделяют многие ученые, в том числе и логики с
громкими именами. А, во-вторых, и это главное, раз уж логика в ФЭ заняла столь заметное
место, значит, убеждение это не навязывалось, и необходимый компромисс был все-таки
найден.
Отечественная философия 50-60-х годов XX в. * 39
и ярко (С. Аверинцев, А. Похлебкин, Д. Ляликов и др.). Очень
выразительно обрисована повседневная борьба (зря только она для хлесткости
названа... Mein Kampf) вокруг статей того типа и плана, которые были в
высшей степени нехарактерны для тогдашней кондовой истории русской
философии (это, например, статьи «Флоренский» и «В. Соловьев»). Моя
общая оценка того, каким вышел этот раздел в ФЭ, будет дана позже.
Здесь скажу лишь о статье «В. Соловьев», к которой, кстати, сегодня я
могла бы сделать немало замечаний. Но я лично вижу в ней ряд
преимуществ по сравнению со статьями о Соловьеве в современных справочных
изданиях — и преимущества отнюдь не случайные, если учесть имена
авторов: В. Асмус, Е. Рашковский, И. Роднянская, С. Хоружий. И
библиография к статье была образцовой для того времени, чего не скажешь о
ряде справочных изданий последнего десятилетия. Трудно не признать:
даже в свете нынешних требований, сегодняшнего уровня соловьевовед-
ческих исследований это одна из лучших статей в ФЭ. О том времени и
говорить нечего. Именно такие статьи означали настоящий прорыв в
истории философии, прежде всего — в истории отечественной мысли.
Признавая все это и уважая мнения и суждения, высказанные Р. Галь-
цевой, я хотела бы с сожалением отметить, что из ее воспоминаний
досадным образом исчезли и очень многие собственно философские сюжеты,
и даже упоминания о тогдашних философах-исследователях, без вклада
которых первая «Философская энциклопедия» просто непредставима.
Впрочем, сама Гальцева дает хорошее объяснение этому факту: в
интересовавшую ее «компанию», говорит она, входили филологи, историки,
математики, а философы— «в виде исключения»(Указ. соч. С. 168). Но
ведь так можно было делать, и успешно, лишь отдельные (подчас
«маргинальные») статьи. В «Философской энциклопедии» в целом, если ожидать
сколько-нибудь плодотворных профессиональных результатов, философы
не могут участвовать «в виде исключения». Также не может быть заменен
сколь угодно интересными частными темами магистральный
философский материал. Речь идет, понятное дело, о статьях, посвященных
коренным проблемам, категориям, фигурам, произведениям философской
мысли, причем взятой в полноте ее мирового исторического опыта. Все это по
существу «выпало» из воспоминаний Гальцевой (уж не знаю, из-за
неизбежной ограниченности объема и самого жанра журнальной публикации,
или из-за того, что ее оценка новизны и качества философского
материала весьма низка). Но мне кажется: как бы ни оценивать тогдашнюю
энциклопедическую «кухню», процесс изготовления «супа», роль
надсмотрщиков и реальных «поваров», главным объектом анализа должен стать сам
результат, то есть пять томов «Философской энциклопедии». Мы ранее
уже начали этот конкретный анализ и теперь его продолжим.
* * *
Надо понять причины того, что обобщающее справочное издание,
«Философская энциклопедия», именно в анализируемый период (в от-
40 •
Раздел I
личие от предыдущих) все-таки должна была практически создаваться
более профессиональной частью философского сообщества. Они просты
и понятны. До ее выхода в свет писались относительно краткие
идеологически ориентированные философские словари. Что касается пятитомной
энциклопедии с огромным количеством самых разнообразных статей, то
даже философские идеологи понимали: издание в какой-то мере
приходилось доверить философам-профессионалам. Да и постраничную,
построчную редакторскую работу «философские баре», привыкшие к
использованию труда подчиненных им коллективов, тоже не собирались
брать на себя. Более охотно, как свидетельствует З.А.Каменский, они
исполняли функции партийно-идеологического контроля, надзора и
раздачи соответствующих указаний. Но практически работавшие редакторы
(например, А.Г.Спиркин, З.А.Каменский) брали на себя смелость
уберегать некоторые статьи от «всевидящего ока» и «указующего перста».
Для доказательства мысли об исследовательском прорыве, совершенном
в «Философской энциклопедии», достаточно обратить внимание на то,
какие авторы написали в ней большинство статей1. Нет сомнения в
том, что их имена принадлежат философам нашей страны, теперь уже
широко известным своим высоким профессионализмом. Среди них были,
конечно, философы тогдашних старших поколений, но больше всего
молодых — тех, кого читатели впервые узнавали как раз благодаря их
публикациям в «Философской энциклопедии».
Среди самых качественных в «Энциклопедии» неслучайно
оказался раздел логики, один из самых обширных. Настоящий союз логиков
старшего и среднего поколений (С. Яновская, А. Марков, Б. Бирюков) и
авторов, несколько лет назад окончивших университет или аспирантуру
(А. Гастев, А. Субботин, В. Финн, Д. Лахути, М. Новоселов, И.
Добронравов и др.) обеспечил этот успех. Здесь вряд ли можно было — по
причинам вполне понятным — ожидать идеологического вмешательства.
(Но даже здесь оно было.) Куда более сложной была изначальная
расстановка сил в собственно философских областях. Авторам-труженикам
было «милостиво позволено» написать множество статей об отдельных
философах, знаменитых или малоизвестных, о чисто специальных
понятиях. Например, А. Лосев и В. Асмус охватили своими статьями почти
весь античный раздел, а Асмус внес заметный вклад также и в раздел по
философии нового времени. З.А. Каменский сам написал — в новом
исследовательском ключе — многие статьи по истории русской философии
и привлек молодых, заведомо неортодоксальных авторов. А что
получилось с теми статьями, которым — в силу их важности в официальной
идеологии и философии — придавалось особое значение?
Статьи, которым полагалось быть «железобетонными», подчас и
писались известными ортодоксами. (Сами они «творили» их или под их
присмотром трудились помощники, оставшиеся в тени, — вопрос другой.)
1 Эти имена читатель найдет в последующем изложении.
Отечественная философия 50-60-х годов XX в. * 41
Во всяком случае, статьи «Классы», «Классовая борьба» были написаны,
причем в самом кондовом стиле, Г. Глезерманом, «Базис и надстройка» —
Ф. Константиновым, «Формация общественная» — Д. Чесноковым.
Ярким примером работы такого же рода явилась статья «Философская
наука в СССР», написанная М. Иовчуком, В. Богдановым, В. Кагановым
в худших ортодоксально-догматических традициях, хотя уже и с
необходимым по тем временам упоминанием о критике партией культа и
ошибок Сталина — однако же и с фактической реабилитацией репрессивных
философских дискуссий 30-40-х годов. Всего этого следовало ожидать.
Но вот что стало просто удивительным — и настолько
неожиданным, что ортодоксы, в том числе и непосредственно причастные к
«Энциклопедии», осознали все это, скорее всего, после выхода в свет всех
пяти томов: таких «железобетонных» статей было позорное для них
меньшинство! А большинство статей по центральным проблемам,
традиционно причисляемым к диамату и даже к истмату, были созданы
относительно молодыми авторами или «неблагонадежными»
представителями старших и средних поколений. Так, Э. Ильенков написал статьи
«Идеальное», «Единичное», «Идеал», «Количество», «Действительность»
и другие; их я лично отношу к самым значительным работам этого автора.
Из-под пера А. Спиркина вышли статьи «Единство и борьба
противоположностей», часть статей «Диалектический материализм», «Сознание»,
которые заметно отличались от диаматовской ортодоксии. В. Лекторский
написал статьи «Субъект», «Субъективное», «Теория познания». В
этическом разделе центральные темы «Справедливость», «Добро и зло»,
«Добродетель» осветил молодой автор О. Дробницкий, которому
довелось написать и обобщающую статью «Этика». М. Мамардашвили
опубликовал в «Философской энциклопедии» одну из лучших своих работ —
«Превращенные формы сознания». Подобных примеров много.
Молодые авторы не только выполняли заказы редакции, но,
по-видимому, и сами предлагали ряд категориальных, концептуальных тем,
которые в прежних справочных изданиях не были возможны или, во
всяком случае, не удостаивались подробных и притом неортодоксальных
статей. Так, в «Энциклопедии» появились прекрасные статьи «Судьба»,
«Спасение», «Теодицея», «Теократия» (С. Аверинцев),
«Существование», «Смерть» (П. Гайденко), «Сциентизм» (В. Швырев, Э. Юдин).
По счастливому стечению обстоятельств обширная и, быть может,
самая главная статья «Философия», помещенная в V томе, создавалась
на пике, взлете всей работы, так что ее и ее подразделы (философия
анализа, жизни, истории, культуры и т. д.) вполне добротно написали
А. Спиркин, А. Огурцов, В. Швырев, П. Гайденко, Ю. Давыдов, Ю.
Попов, В.Туманов.
Особо скажу об историко-философском разделе, который по
понятным причинам оказался в «Философской энциклопедии» самым
обширным. Уже упоминалось об активном участии в его написании прежде
опального А. Лосева, для которого то был поистине звездный час нового
42 •
Раздел I
появления на философском небосклоне, и В. Асмуса, которые сделали
античный раздел одним из лучших в «Энциклопедии». (Правда, в связи
с первоначально определенными объемами многие статьи по античности
оказались досадно краткими.) Еще меньше повезло разделу о
средневековье — за исключением ряда блестящих публикаций С. Аверинцева. Но
ведь и в мировой мысли философская медиевистика была в то время не
самой яркой областью. (Прорыв, который произошел впоследствии в ней
и в востоковедной философии, объективирован только в «Новой
философской энциклопедии».)
Западная философия нового и новейшего времени, на мой взгляд,
получила в «Энциклопедии» неплохое освещение, хотя необходимость
непременно следовать далеко не всегда верным оценкам Маркса,
Энгельса, Ленина все же портила эти, по сути своей ценные, статьи. Но в целом
можно говорить об определенном успехе историко-философского
раздела, который объяснялся тем, что даже в предшествующую сталинскую
эпоху так или иначе велась исследовательская историко-философская
работа, что профессора философии В. Асмус, В. Соколов, Т. Ойзерман,
Ю. Мельвиль, М. Овсянников были профессионалами в своих
исследовательских областях, и этот профессионализм они принесли также и в
«Энциклопедию».
Замечу попутно, что упоминавшийся ранее III том «Истории
философии» или учебник Александрова попали под идеологический удар совсем
не потому, что были худшими, совсем непрофессиональными
философскими книгами. Как раз наоборот: историко-философский учебник, за
цвет своей обложки шутливо названный «серой лошадью» (в противовес
идеологизированным пяти томам иовчуковского издания, не случайно
поименованным «красными ослами»), принадлежал к числу наиболее
качественных учебных пособий советского времени. Вот почему
профессора старшего и среднего поколений без особых проблем объединились
на энциклопедической платформе с новым поколением философов.
Последнее, еще в годы учебы, многое почерпнуло от профессиональных
историков философии и логиков.
Несомненным и во многом неожиданным достижением
«Философской энциклопедии» стало, в основном, достойное по объему и
содержанию освещение истории русской философии. Здесь надо было начинать
не просто с нуля, а с результата со знаком «минус» — с очищения поля
исследования от хотя бы наиболее злостных сорняков. Сейчас это может
показаться неожиданным и парадоксальным, но факт остается фактом:
из всех областей историко-философского знания кондовая марксистско-
ленинская идеология всего больнее ударила... по истории отечественной
философии! Так случилось, что в данную область устремились и заняли
в ней прочные позиции наиболее ревностные философские идеологи.
Кафедра истории русской философии философского факультета МГУ
(помню по своим студенческим годам) в 50-60-х годах даже на факультете,
нашпигованном марксистско-ленинскими догматиками, выделялась осо-
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•43
бой философской малограмотностью, да и просто бездарностью,
серостью преподавательского состава. В 60-х годах возникла идеологическая
тенденция непременно «открыть» не менее чем выдающиеся
философские достижения в истории любого народа СССР. И вот на фоне всего
этого «Философская энциклопедия», ее статьи о российской философии
выглядели не просто явным, но необъяснимым контрастом. Здесь надо
вспомнить не только З.А. Каменского, профессионала высокого класса,
и Р. Гальцеву, о прекрасных статьях которой уже шла речь, но и все
более активно участвовавших в написании статей о русских философах
молодых тогда авторов (И. Пантин, Е. Плимак, А. Поляков, И. Балакина
и др.). Примечательно, что философские идеи всех сколько-нибудь
заметных мыслителей России, включая идеалистов, получили в
«Энциклопедии» достаточно подробное и объективное освещение. Дальнейший и
еще более заметный сдвиг в изучении отечественной философии,
порожденный перестройкой, был подготовлен всей этой энциклопедической
работой. (А вот в обобщающей статье «История философии» «героями»
исследования отечественной мысли по-прежнему объявлялись Иовчук,
Васецкий, Кружков, Щипанов, Евграфов и др.; заметим, что одним из
авторов статьи был сам М. Иовчук.)
Шаг вперед1, как я полагаю, был сделан и в статьях раздела,
который тогда и впоследствии, вплоть до 90-х годов, именовался «критикой
современной буржуазной философии». Статьи П. Гайденко по
экзистенциализму, С. Аверинцева по религиозной философии, В. Лекторского,
В. Швырева, В. Садовского, И. Добронравова по философии
неопозитивизма, А. Огурцова, В. Швырева по западной философии науки вводили в
орбиту философской работы зарубежных авторов XX века, в то время не
имевших в нашей стране сколько-нибудь широкой известности.
На этом моменте необходимо остановиться специально. Перед нами
объективный, документально подтвержденный факт: уровень
осведомленности авторов «Энциклопедии», а значит, и соответствующей
области истории философии (носившей кондовое название «критика
современной буржуазной философии») о зарубежной мысли конца XIX —
первой половины XX века оказался, и тоже неожиданно, довольно высоким.
Заслугу надо, прежде всего, приписать составителям словника, которые
включили в него множество имен, то более, то менее известных в нашей
стране, а то и вовсе неизвестных2. Откуда же черпались знания и сведе-
1 Говоря о «шагах вперед», мы должны понимать, что многое в их оценке зависит от
точек отсчета. Если сравнивать с написанной в XXI веке в условиях свободы от идеологии
«Новой философской энциклопедии», то успехи 60-х годов могут показаться более
скромными. И все-таки дело не только в том, что для тех условий новые статьи были шагом
вперед. Полагаю, что без первой «Философской энциклопедии» не было бы, скорее всего, и
второй, которая в основе своей удовлетворяет многим мировым критериям и стандартам.
23. Каменский писал о том, какие требования редакцией предъявлялись к словнику:
«Задача состояла в том, чтобы обогатить сам набор понятий, проблем, имен. Обогатить,
поскольку в сталинские времена философия была чрезвычайно обеднена,
вульгаризирована» {Каменский З.А. Философия не кончается... Кн. И. С. 45).
44 •
Раздел I
ния? Вопрос этот особый, и он рассматривается в нашей книге
конкретно — применительно к главным областям философской работы. Здесь
могу напомнить о некоторых фактах.
По своему опыту недолгой (1957-1958 гг.), но очень полезной для
меня работы во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной
литературы знаю: превосходные библиографы, знатоки своего дела,
делали все возможное (а с 1956 года возможности расширились), чтобы
заказывать в библиотеки страны из-за рубежа различные, в том числе
философские справочники, словари, специальные издания. Часть
поступающей литературы, которую считали идеологически одиозной,
оседала в спецхранах (получить доступ в которые, впрочем, было не так уж
трудно), а часть — включая справочную литературу — была в
открытом доступе. Вопреки расхожему суждению о тотально эффективном
железном занавесе, переводы зарубежных книг по философии так или
иначе издавались даже в мрачные, в целом изоляционистские годы, что
почти всегда было результатом чьих-либо конкретных усилий и
требовало настойчивости, использования благоприятных моментов, а порою
и практической сметки. Так, в издательстве иностранной литературы в
1947-1949 годах вышли три книги по логике — «Основы теоретической
логики» Д. Гильберта и В. Аккермана, «Введение в логику и
методологию дедуктивных наук» А. Тарского. В.Ф. Асмус в 1948 году издал
книгу Шарля Серрюса «Опыт исследования значения логики». А. Субботин
связал также и с этим обстоятельством «перелом», наступивший в
логическом образовании и происшедший, в частности, на философском
факультете МГУ: «Московских студентов начали знакомить с тем, что уже
давно вошло в программы учебных заведений многих стран»1.
Самых добрых слов заслуживает библиография к немалому числу
статей «Философской энциклопедии». Ее, разумеется, готовили авторы.
Одно из требований редакции состояло в том, чтобы в списки литературы
включалась и зарубежная литература вопроса. Особая заслуга
принадлежала, как отмечает З.А. Каменский (Указ. соч. С. 53), Л.С. Азарху,
специалисту-библиографу, готовившему библиографию для отдельных статей.
Кому-то может показаться удивительным, но в этот период, который
прочно ассоциируется с «железным занавесом» между нашей страной и
Западом, в руки отечественных философов попадало немало зарубежных
книг2. (В дальнейшем при анализе различных областей исследования
будут представлены более конкретные доказательства этого тезиса.)
Так и получилось, что, по крайней мере, по охвату главных
направлений и отдельных фигур, подвизавшихся на арене философии в XX
веке, отечественная «Философская энциклопедия» сопоставима
1 См.: Философия не кончается. Кн. И. С. 323.
2 Вспоминаю, как в «Вопросах философии» мне в начале 60-х годов дали на рецензию
вышедшую в те годы книгу Герда Брандта «Классическая онтология числа», которую я и
сегодня считаю одной из лучших работ авторов феноменологического круга. Рецензия,
опубликованная в «Вопросах», была моей первой публикацией.
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•45
с тогдашними западными аналогами1. А как обстояло дело с
качеством осмысления, подачи соответствующего материала? В ответ на этот
вопрос я могу изложить свое мнение. Целый ряд статей о западных
философах XX века оказался, я полагаю, вполне на уровне мировых
исследовательских требований, так что их можно без скидок
сопоставлять с тем, что о Хаидеггере, Сартре или Ясперсе писалось на Западе, и
с тем, что авторы соответствующих статей продолжали писать и думать
позже, когда давление идеологических стереотипов ослабло или сошло
на нет. Вместе с тем нельзя не признать, что идеологические,
ритуальные фразы, скажем мягко, не украшали те статьи, в которых таких фраз
было больше, чем исследовательского содержания. Дело самих
авторов — критически оценить в свете требований сегодняшнего дня свои
статьи, которые для некоторых из нас вообще были первыми печатными
работами. (Например, я лично не считаю удачными некоторые свои
статьи, опубликованные в «Философской энциклопедии». И не только из-за
ритуальных фраз, которые редко, но все-таки вкрадывались, но и потому,
что сложнейшее содержание ряда понятий, скажем, понятия
«онтология», тогда, на начальной стадии нашей исследовательской философской
работы, не удалось раскрыть так, как они того заслуживали.)
В самое трудное положение, понятное дело, попала социальная
философия, которую полагалось излагать по канонам исторического
материализма. (Я отвлекаюсь сейчас от вопроса о том, в каких
тематических разделах истмата все-таки существовала пусть ограниченная,
но возможность исследования общественного развития и его реалий.)
Но даже в разделе по историческому материализму в статьях В. Келле,
М. Ковальзона, А. Бутенко, А. Бовина, Ф. Бурлацкого и др. все-таки
пробивалось стремление внести критические подходы, рожденные в период
оттепели. Было еще одно — специальное — обстоятельство,
способствующее обновлению анализа социальной проблематики в «Философской
энциклопедии». Речь идет о трудном, болезненном, но перспективном
и плодотворном процессе, в ходе которого отечественная социология
постепенно отпочковывалась от философии и складывалась в
самостоятельную дисциплину. Но в 50-60-х годах мы присутствуем в самом
начале данного процесса. Ортодоксальная философия никак не хотела
«отпустить» социологию и социологов в самостоятельное плавание.
Необходимость оставаться в формально-дисциплинарных и институциональных
рамках философии имела, правда, и свои позитивные следствия. Одно
из них— участие социологов (которые тогда тоже по большей части
рекрутировались из философского корпуса) в написании «Философской
энциклопедии».
1 Для того, чтобы лишь перечислить персоналии и понятия, относящиеся к западной
философии XX века, понадобилось бы несколько страниц. Читатели могут сами проверить
это — или поверить мне на слово: наиболее существенное из известного в данной области
мировой мысли не было упущено.
46 •
Раздел I
Следует заметить, что и через работы социологов в «Философскую
энциклопедию», как и в философскую науку в целом, вторгся опыт
мировой социологической мысли, взятой ив ее истории, и в виде
новейших тогда социологических разработок. Социологи сами должны
сказать об этом свое слово, да и говорят его. Что же касается философии,
остается несомненным: сотрудничество с обновленным
социологическим знанием внесло в отечественную философию многие
теоретико-методологические элементы, позволившие философам построить и развить
новые тогда концепции. Социологи, в частности, способствовали тому,
что раздел социальной философии приобрел — в явном
противостоянии догматике — современные черты, например, в таких
принципиально важных статьях, как «Социология», «Философия истории» (И. Кон),
«Христианство», «Управление» (Ю. Левада), а также благодаря статьям
В. Ядова, А. Здравомыслова, Н. Ланды и других авторов. Но в эту тему,
как бы она ни была близка и известна мне по личному опыту, я не могу
углубляться — как не могу вдаваться в существенный вопрос о
тогдашнем сотрудничестве философии и психологии (репрезентативно
отразившемся в «Энциклопедии») и последующем отпочковании последней от
философии.
Резюмируя сказанное, правомерно, как я думаю, сделать
обобщающий вывод: к концу 50-х и началу 60-х годов в философии нашей
страны наметился, а в 60-х годах уже развернулся, хотя и нелегкий,
противоречивый, но в целом продуктивный процесс переоценки ценностей,
преобразования ориентации, изменения стиля, форм, методов
философствования, результатом которого оказалось возникновение своего рода
плацдармов для исследовательской деятельности в философии. И их
оказалось столь немало, что началось формирование целой сети
неформальных и именно исследовательских — а не идеологически
ориентированных — творческих сообществ.
«Философская энциклопедия» объективно (и, возможно,
неожиданно для ее редакции и ее авторов) выполнила — в этот трудный
переходный период — роль своеобразного объединяющего центра,
сплачивавшего, а отчасти и защищавшего еще слабое неформальное философское
сообщество.
Ситуация 60-х годов оказалась благоприятной еще и потому, что этот
центр оказался далеко не единственным. В те же годы одним из наиболее
действенных инструментов обновления отечественной философии — и
тоже в упорной борьбе, с ее победами и поражениями — стал достаточно
молодой, но уже довольно активный журнал «Вопросы философии». И на
его примере можно было бы провести «case studies», да они, собственно,
уже имеются — в исторических исследованиях, воспоминаниях И.
Фролова, Л. Митрохина, В. Садовского, И. Блауберга, В. Лекторского, Э.
Соловьева и других авторов, знавших работу журнала изнутри1. И в данном
См. список соответствующих работ в Библиографии.
Отечественная философия 50-60-х годов XX в. • 47
исследовании мы еще не раз обратимся к опыту, к истории нашего
центрального — и многострадального! — журнала.
Принципиально важную тему формирования и развития целой сети
неформальных исследовательских групп в 50-60-х годах XX века считаю
необходимым рассмотреть особо.
Зарождение исследовательских центров и становление
научных школ
Те сообщества философов, которые здесь громко названы
«центрами», «школами», поначалу представляли собой совсем небольшие
исследовательские группы. Лишь в 70-80-е годы, как мы увидим в следующем
разделе, вырастут научные школы и центры в более строгом смысле этих
слов. Однако нельзя забывать: влияние неформальных групп 50-60-х
годов, особенно в молодой среде, значительно превосходило их
численность. Отсутствие солидного официального статуса (ведь что это
такое — «кружок аспирантов и студентов»?) только подогревало интерес
философской молодежи к их заседаниям и семинарам.
Среди самых ранних по времени были малые неформальные группы
исследователей, логиков и философов, которые возникли на
философском факультете МГУ еще в первой половине 50-х годов. Это, например,
Московский логический кружок, в котором главную роль играли А.
Зиновьев, Б. Грушин, Г. Щедровицкий, М. Мамардашвили и в который
потом влились, еще студентами, В. Швырев, Н. Алексеев, В. Садовский,
И. Ладенко и другие. В дальнейшем (по самым разным причинам)
неформальные исследовательские группы распадались — и возникали новые;
менялись места их дислокации, причем ими становились различные,
иногда самые неожиданные для философских, логических сообществ
учреждения (например, в случае одного из самых значительных и, в
перспективе, самых прочных объединений — ММК, т. е. Московского
методологического кружка под руководством Г. Щедровицкого — это были
Издательство АПН РСФСР или НИИ дошкольного воспитания АПН
РСФСР и т. д.)1.
Исследователей неортодоксального философского сообщества,
мысль которых брала разгон в 50-х и которые заявили о себе особенно в
60-70-х годах (это и было поколение «шестидесятников» в философии),
можно перечислять и характеризовать на многих страницах. Так, школа
гносеологии, диалектики, истории философии сложилась вокруг Э.
Ильенкова, и она включала таких признанных сегодня философов, в
дальнейшем основателей собственных школ, как В. Лекторский, Г. Батищев,
Ф. Михайлов, М. Туровский, А. Арсеньев и др. Немалое число
университетских учеников Ильенкова, формально не примыкая (по разным,
иногда существенным причинам) к его школе, тем не менее испытало,
подобно мне самой, сильное влияние этого незаурядного философского ума.
1 См. Пископель А. Т.П. Щедровицкий— подвижник и мыслитель // Познающее
мышление и социальное действие. М., 2004. С. 24-25 и далее.
48 •
Раздел I
Вокруг оригинального философа В. Библера сложился кружок
учеников и последователей — это известные сегодня А. Ахутин, С.
Неретина, Т. Длугач, В. Рабинович, Л. Маркова и др.
В философии естествознания наряду с исследователями старшего
поколения Б. Кедровым, И. Кузнецовым, М. Омельяновским
выдвинулись молодые тогда И. Фролов, Р. Карпинская, специализировавшиеся в
области философии биологии.
Об историках философии молодых поколений уже говорилось в
связи с «Философской энциклопедией». Существовали ли
специальные историко-философские кружки и группы, мне неизвестно. Скорее,
сообщества учеников, студентов и аспирантов группировались вокруг
профессоров старшего поколения — кстати, в то время совсем не
старых людей — В. Асмуса, М. Овсянникова, Т. Ойзермана, В. Соколова,
Ю. Мельвиля и др.
К числу наиболее ранних неформальных групп принадлежала та,
которая сложилась вокруг очень яркого, талантливого этика О. Дроб-
ницкого (увы, слишком рано, в тридцатишестилетнем возрасте
погибшего вместе с другим молодым этиком, Д. Средним, в авиационной
катастрофе). И отечественная школа этики, у которой немало теоретических
заслуг — это бывшие ученики, соратники О. Дробницкого (и Т.
Кузьминой). В 70-е годы еще более молодым этикам довелось укреплять,
а отчасти и заново строить отечественную школу этического
исследования.
Пока мы говорили, в основном, о философах, живших и работавших
в Москве. Однако первостепенной значимости историческое
обстоятельство заключалось в том, что неожиданно сильный прорыв
охарактеризованных ранее тенденций (формирование неортодоксального сообщества,
изменение установок, ориентации и ценностей, возникновение все более
заметного массива публикаций исследовательского типа) совершился не
только в Москве. Конечно, философские учреждения Москвы и
происходившие в них процессы сыграли немалую роль в обновлении
отечественной философии. Но ведь неофициальное сообщество в конце 50-х
и особенно в первой половине 60-х годов дружно возникало и
прирастало по всей стране, причем не из-за какого-то предварительного
сговора, а объективно, естественно — прежде всего в силу пока еще плохо
осмысленной нами «спонтанной параллельности» исследовательских
процессов и влияния на отдельных людей общих
проблемно-теоретических векторов и интересов.
Понятное дело, ячейки сообщества складывались при официальных
университетских, академических центрах (однако заметим, без всяких
предписаний и велений начальства); рождались творческие группы с
теми лидерами и исследователями, которые вскоре становились
известными в других звеньях неортодоксального сообщества.
В сегодняшних энциклопедиях и справочниках (например, в «Новой
философской энциклопедии»), в исторических исследованиях справед-
Отечественная философия 50-60-х годов XX в. * 49
ливо отмечается, что из появившихся в анализируемое время небольших
неортодоксальных (и часто неформальных, т. е. ни при каких
институциях не состоявших) сообществ впоследствии выросли научные школы в
логике, философии науки, истории философии, а потом этике, эстетике,
социологии и в других дисциплинарных разделах философии. Среди них
наибольшую известность приобрели: минская школа философии науки
(под руководством В. Степина); киевская школа теории познания,
логики, теории диалектики (П. Копнин, М. Попович, С. Крымский и др.);
ленинградская школа логиков (В. Бранский, И. Бродский) и гносеологов,
историков философии (М. Козлова, М. Киссель, Л. Микешина);
новосибирская группа исследователей теории и истории науки (И. Алексеев,
М. Розов, Л. Сычев); школа науковедов, историков и социологов науки в
Ростове-на-Дону (М. Петров, Ю. Тищенко, Г Старк, Т. Матяш); томская
школа логиков и методологов, из которой вышли наши крупнейшие
логики В. и Е. Смирновы и др.
Нельзя забыть о формировании — тогда же или несколько позже —
подобных достаточно консолидированных философских групп и ярких
персонажей в республиках СССР. Иногда это происходило под
влиянием московских ученых (школа Э. Ильенкова в Казахстане — А. Касым-
жанов, Ж. Абдильдин), а иногда — при самостоятельной специализации
исследователей. Это были, например, историко-философская школа в
Тбилиси, акцентировавшая проблемы немецкого классического
идеализма, неокантианства, феноменологии, экзистенциализма — К. Бакрад-
зе, Г. Тевзадзе, 3. Какабадзе и др.; эстетическая, культурологическая
специализация философов, работавших в Эстонии — тартуская школа:
Л. Столович, Я. Ребане, Ю. Лотман и др.; минская школа историков
философии — А. Михайлов и др. При этом я не замечала в общении
неортодоксальных сообществ москвичей и философов из республик, идет ли
речь о Тбилиси или Риге, ни тени, ни единственного знака всего того, о
чем сейчас как о «духовной оккупации», «русификации» твердят
крикливые политические спекулянты в иных новых самостоятельных
государствах.
Говоря о школах и сообществах, надобно отметить и то, что ряд
наших первоклассных, мирового уровня философов по разным, в том числе
по личностным, причинам и основаниям предпочитали работать если не
обособленно от неортодоксального сообщества, в которое они
объективно входили и которому субъективно симпатизировали, то, во всяком
случае, не в рамках организованных групп с их дисциплиной,
обязательствами и т. д. Пример — М. Мамардашвили, который именно в 60-70-х годах
приобрел широкую известность в нашей стране (и отчасти за рубежом)
и не столько благодаря публикациям, которые плохо пробивались даже
через более либеральную тогдашнюю цензуру, сколько благодаря курсам
лекций, собиравших огромную для философа аудиторию. (Сам
Мамардашвили не раз доходчиво объяснял, почему не примыкает к кружкам,
семинарам уважаемых коллег и друзей.)
4 Н. В. Мотрошилова
50 •
Раздел I
А. Зиновьев, впоследствии, как известно, объявивший себя
«самостоятельным государством», и в 60-е годы работал самостоятельно,
обособленно. Я также не замечала, чтобы такие быстро набиравшие
квалификацию и известность «шестидесятники», как П. Гайденко, Ю.
Давыдов, Э. Соловьев, А. Огурцов в то время работали только в рамках
сколько-нибудь консолидированных групп. (И я сама предпочитала такой же
способ более обособленного существования в философии — возможно,
еще и по той причине, что области моего тогдашнего
преимущественного теоретического интереса — феноменология Э. Гуссерля и социология
познания — в то время были известны у нас очень, очень немногим.)
Однако и эти молодые тогда философы, предпочитавшие более
индивидуальные способы работы, бесспорно, ощущали свою духовную связь
именно с неортодоксальными сообществом.
Как бы ни складывались способы работы у различных философов,
вместе они составляли именно со-общество. Книги, статьи друг друга,
тогда еще немногочисленные, они читали, живо обсуждали, судили
работы друг друга и собственные сочинения по достаточно строгому счету.
Все эти люди тянулись друг к другу; они знали, что в сложных случаях
могут рассчитывать на поддержку коллег и сами готовы были ее оказать.
Эти черты духовно-коммуникативной атмосферы 60-х годов давно
уже осмысливают и обсуждают, говоря о так называемом
шестидесятничестве, о шестидесятниках. Не могу не привести пространную выписку
из А. Гусейнова, взятую из его предисловия к моей книге «Работы разных
лет»; он писал о шестидесятниках так:«Это были конкретные,
известные по именам, в большинстве своем знавшие друг друга люди, которые
исповедовали определенные ценности и были сплочены благодаря им...
Шестидесятники не просто обозначили сдвиг от монументальности,
самопожертвования, послушания к камерности, приватности,
индивидуальной ответственности. Они были вдохновлены этим и вели себя как
люди, которые знают очень великую тайну... Шестидесятники создали
больше, чем особую атмосферу, они создали особое публичное
пространство. По существу, это был «параллельный полис», если
воспользоваться термином В. Гавела, но только по существу, ибо формально он
не был отделен от основного (официального) полиса, а находился внутри
него. Шестидесятники, используя наличные формы жизни,
одновременно стремились преобразовать, трансформировать их, они были
деятельны, активны, всюду, где могли и как могли навязывали свои критерии...
Шестидесятничество... было воплощено в индивидах, их личных
отношениях, поступках, функционировало так, как если бы представляло собой
этическое состояние. Это единственное в своем роде сочетание
социального и индивидуального, когда первое было скрыто, спрятано во втором,
когда не общественные маски застывали на лицах, урезая, усредняя,
омертвляя их, а напротив, живые трепетные лица просвечивали сквозь
общественные маски, этот уникальный опыт неотчужденного
существования в отчужденном и даже чуждом социуме составляет характерную
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•51
черту шестидесятничества вообще, философского шестидесятничества
в особенности»1. Как человеку, принадлежащему к поколению
шестидесятников, мне трудно объективно судить о том, верна ли или сколь верна
эта характеристика. Ценно во всяком случае то, что она исходит от
человека следующего поколения — принадлежащего, скажем так, к
«семидесятникам».
Хотелось бы также напомнить, сколь оживилась в 50-60-х годах
неформальная, неофициальная коммуникативная деятельность. Конечно,
будучи сотрудниками философских учреждений, представители
неортодоксального сообщества участвовали и в официальных конференциях,
симпозиумах, подчас придавая им более свежее звучание. Но насколько
более оживленными и содержательными были траектории
коммуникации неофициальных сообществ, что было вполне понятным следствием
зарождающейся плюральности, разнообразия возникающих новых
центров и формирующихся школ. Как будто бы привычные слова «семинар»,
«конференция», «доклад», «дискуссия» наполнились новым и очень
важным, поистине знаковым смыслом. По всей стране стали действовать
как бы стихийно возникшие, никем сверху не навязанные, но регулярно
работавшие творческие семинары. Сами их участники становились
инициаторами конференций, дискуссий, потом регулярно проводившихся в
Москве, Ленинграде, Минске, Киеве, Новосибирске, Томске,
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Риге, Тбилиси и других городах нашей страны.
Не забудем, что на них охотно и быстро съезжались, слетались
относительно молодые или очень молодые (приходило следующее новое
поколение!) люди, легкие на подъем, динамичные, нередко честолюбивые, с
немалыми научными амбициями и фундаментальными замыслами, для
которых именно научные, исследовательские контакты становились
важнейшими способами приращения информации, сообщения, проверки
собственных гипотез. Это были дискуссии — именно содержательные
споры, а не идеологические проработки, с которыми в совсем недавнее
время ассоциировались слова «философская дискуссия»...
1 Гусейнов A.A. Н.В. Мотрошилова и философы-шестидесятники // Мотрошило-
ва Н.В. Работы разных лет. М., 2005. С. 5-7
4*
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
НОВЫЙ ОБРАЗ МАРКСА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 50-70-Х ГОДОВ
Если давно зафиксирован (и, думается, преувеличен в его значении)
факт господства марксизма-ленинизма не только в идеологии, но и в
философии, в известной степени во всей отечественной гуманитарной
культуре, то куда меньше признано и осознано, сколь различными были два типа
усвоения и освоения самого марксизма, сложившиеся в нашей стране в
50-70-е годы XX в., и насколько один из них был созвучен марксизму,
развивавшемуся тогда на Западе. Первый тип нами ранее охарактеризован:
то была марксистско-ленинская догматика, в которой — что выглядело
неожиданно, даже парадоксально — мало заботились о тщательном
исследовании реальных философских достижений Маркса, об изучении его
произведений и об анализе эволюции его взглядов. В рамках этого подхода, в
сущности, не отделяли вклад Маркса от того, что было сделано одним
Энгельсом отдельно от Маркса, а потом и Лениным. «Классики
марксизма-ленинизма» упоминались «коллективно», часто всуе, и их индивидуальность
как мыслителей, политиков, идеологов пропадала, растворялась в мутной
воде догматизированного дайджеста, создаваемого вполне конкретными
людьми по правилам и законам, далеким от принципов исследования.
Небольшая ниша для исследований, правда, и здесь все же
существовала. В Советском Союзе если не растили специально (и не уберегали от
арестов), то не оставляли без работы группу «спецов», профессионально
занимавшихся изданием сочинений Маркса, а значит, осведомленных, по
крайней мере, в области фактографического марксоведения. В советские
годы все же появлялись и философские марксоведческие работы, в которых,
разумеется, никак нельзя было обойтись без идеологических вставок «на
злобу дня», но в которые можно было включать исследовательский пласт.
(Пример — книга В.Ф. Асмуса «Маркс и буржуазный историзм», 1933.)
В 50-60-е годы ниша эта значительно расширилась благодаря тому,
что представители различных поколений, а особенно более молодые
авторы, отчетливо поняли: произведения Маркса и развитие марксизма
в случае соответствующего подхода к ним могут стать объектами
исследования не в меньшей степени, чем другие исторические
результаты мыслительной деятельности. Они, эти авторы, исходили из того, что
высокая, порой даже преувеличенная оценка таких результатов может
уживаться именно с исследовательским, т. е. объективным отношением
к ним. Ведь и историки философии, достаточно успешно и глубоко
занимавшиеся учениями Декарта, Канта, Гегеля, нередко становились
картезианцами, кантианцами, гегельянцами.
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•53
Есть еще один момент, который нам следует принять в расчет. Дело
в том, что новое обращение к Марксу еще в предвоенные, а особенно
в первые послевоенные десятилетии сделалось одним из центральных
феноменов мирового философского развития. Через влияние
обновленного марксизма прошли многие выдающиеся представители
западной мысли, впоследствии признанные ее классиками. Вот почему у ряда
влиятельных направлений философии Запада, зародившихся до Второй
мировой войны, но особое влияние приобретших во время войны и после
нее, четко просматривалась марксистская родословная (о чем в нашем
исследовании еще будет идти речь). Для 40-60-х годов была
характерной особая увлеченность достаточно крупных, популярных тогда
западных авторов работами молодого Маркса, что не случайно объединялось
с погружением в наследие Гегеля. Несколько позже к центру интереса
придвинулся «Капитал». И вот ровно то же в 50-60-е годы стало
происходить в стране за «железным занавесом»!
Марксоведческие работы молодых тогда, но быстро приобретавших
известность отечественных авторов некоторое время находились в
центре их исследовательского интереса — и интереса группировавшейся
вокруг них творческой молодежи. Среди первых работ такого рода поистине
знаковыми стали: упомянутая диссертация А. Зиновьева и книга Э.
Ильенкова, обе посвященные «Капиталу», хотя и написанные по-разному;
первые статьи М. Мамардашвили о проблемах сознания и
«превращенных формах сознания» у Маркса; книга Ю. Давыдова «Труд и свобода»;
исследование Н. Лапина «Молодой Маркс»; произведения М.
Туровского, Г. Батищева и других авторов. М. Розов, один из заметных наших
авторов, чей творческий путь также начался в 50-х годах, сравнительно
недавно так написал об оригинальном отечественном методологе Г. Щед-
ровицком:«... Он считал Маркса великим мыслителем, в чем и я,
безусловно, согласен, и опирался на Маркса в своих поисках»1.
М. Розов последовательно доказал этот свой тезис, выявив в работах
Щедровицкого «по крайней мере пять принципов марксизма», коими
явились: установка на поиск социальной субстанции; понимание социальной
природы человека и человеческого познания; метод восхождения от
абстрактного к конкретному; первый тезис о Фейербахе; толкование
последнего, XI тезиса о Фейербахе как деятельностно-проективного принципа.
Полагаю, что многие отечественные философы (все равно, считают ли
они себя марксистами сегодня) прошли через восприятие, влияние,
продумывание этих принципов, тем более что они увязывали такие
исследовательские установки и максимы также и с совокупными достижениями
философии Нового времени, а особенно — немецкой классической
философии. (Что я, в частности, могу сказать о самой себе: поскольку один из
плодотворных источников социологии познания в ее историческом вариан-
1 Розов М. Проблема способа бытия в гуманитарных науках / / Познающее мышление
и социальное действие. Наследие Г. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой
философской мысли. М., 2004. С. 231.
54 •
Раздел I
те — идеи Маркса, моя собственная работа в социологии познания и науки
пересекалась и до сих пор пересекается с этими идеями; поскольку
истолкование Марксом Гегеля — один из важнейших феноменов истории
философии, в гегелеведческой работе я принимала и принимаю это в расчет.)
Нельзя было не заметить, что наши авторы, в том числе и считающие
себя марксистами, частенько вкладывали в толкование философии Маркса
дорогие им самим идеи, сглаживая острые углы и прямо возводя марксизм,
порой искусственно, на уровень самых современных проблем и
требований. Казалось бы, в случае марксоведческих работ их объект мог считаться
более чем «благонадежным». Однако философские догматики (с их
удивительным идеологическим нюхом) постоянно держали под подозрением
неугодное им новое отечественное «марксоведение». Со своей позиции они
были правы. От названных сочинений, идей исходила опасность прежде
всего для догматики, потому что по мотивации и содержанию эти работы,
как сказано, были исследованиями, а не набором идеологических штампов.
Немалую угрозу для догматики несло в себе почти всегда
заключенное в акцентировании Марксовой мысли противопоставление ее
«ленинскому этапу». (Правда, были и такие молодые авторы, которые пытались
модернизировать ленинское наследие, отделив идеи «подлинного»
Ленина от последующих идеологических наслоений, что не заключало и не
заключает в себе, по моему мнению, исследовательского потенциала,
сравнимого со значимостью марксоведения. Таких истовых «новых
ленинцев» в молодой философии было совсем немного, значительно меньше,
чем тех, кто увлекался Марксом.) Но внутри исследовательского поля
существовала серьезная проблема для самих авторов марксоведческих
и марксистских работ. В недалеком будущем им предстояло разобраться
в том, хотят ли, могут ли они оставаться именно марксистами; им
предстояло понять, сопрягаются ли главенствующие принципы их творчески
разработанных концепций только или по преимуществу с классической
философией марксизма или им куда ближе другие учения, от которых
марксизм существенно отличался. Любопытно, в свете сказанного,
признание В. Степина: «Но когда я проделал свою работу в сфере философии
науки, то к концу 70-х — началу 80-х годов понял, что я не столько
марксист, сколько кантианец. Думаю, что этот дрейф в сторону неокантианства
не был случайным» (Указ. соч. С. 145). Что-то подобное могли бы сказать
о себе и другие, начинавшие в 50-60-х годах, авторы. «Дрейф» в сторону
от марксизма они могли переживать трудно, даже драматически. Легче
было тем, кто достаточно рано принял для себя ряд простых
теоретических максим: в философии марксизм — лишь одно из явлений ее истории;
К. Маркс — видный и значительный философ, идеи которого подлежат
такому же объективному исследованию, какому подвергаются другие
историко-философские феномены; это значит, что следует зафиксировать
и новые для марксовой эпохи идеи, концепции Маркса, и ограниченности
его учения; превращение же марксизма в господствующую идеологию,
т. е. вытеснение других идей, концепций, подходов из поля их возможной
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•55
исторической конкуренции — особое явление, тоже подлежащее
специальному объяснению и преодолению.
Открыто высказывать, защищать такие максимы в нашей стране
долгое время было невозможно. Но чем дальше, тем больше людей
фактически руководствовались ими в своей работе, что обеспечивало если
не полную, то относительную, притом внутреннюю свободу в реальной
философской деятельности, шла ли речь о книгах, статьях или о
преподавании философии. Вот почему для немалого числа философов тех
поколений, которые во второй половине 80-х и в 90-х годах стали
поколениями старшими, свобода творчества, открывшаяся благодаря
перестройке, не была каким-то даром, который надо было заново осваивать
и к которому надо было специально приспосабливаться. Очень хорошо
и весьма важно, считали они, что перестройка естественным образом
устранила те внешние догматические, идеологические требования,
ритуалы, о которых у нас уже шла речь. Что же касается достаточно
высоких внутренних исследовательских замыслов, критериев, оценок, то у
философов, которые здесь имеются в виду, данные установки
фактически превалировали на протяжении всего рассматриваемого периода. Эти
подходы и критерии не стали, как иногда думают, результатом одной
перестройки. Напротив, сама перестройка оказалась совокупным
результатом перекрещивания многих подобных процессов завоевания свободы
во внутреннем мире и в реальной деятельности значительной массы
людей на огромной территории нашей страны.
Итак, благодаря возникновению неортодоксального сообщества
в нашей стране именно из философского учения Маркса (отчасти при
противопоставлении Энгельсу и Ленину) были заботливо вычленены,
тщательно исследованы и творчески развиты лучшие его элементы,
к которым можно отнести идеи и концепции гуманизма, отчуждения,
превращенных форм сознания; учение о науке, например, о науке,
превращенной в непосредственную производительную силу; концепцию
социально-исторической обусловленности познания и знания, критики
идеологии, а также анализ философских идей и методов Гегеля,
Фейербаха и других мыслителей. Марксоведческий исследовательский
потенциал отечественной философии 50-60-х годов оказался столь сильным,
что западные философы, марксисты по своему генезису или марксоведы
по объекту исследований, — когда они стали встречаться на
зарубежных конференциях с учеными из СССР или бывать в нашей стране, — с
удивлением констатировали очень высокий и именно исследовательский
уровень работ о Марксе в тот же период, т. е. во временной
исследовательской синхронности, появившиеся у нас на родине1.
1 Например, Л.Н. Митрохин писал, ссылаясь на свою встречу в 1974 году (во время
X Международного Гегелевского конгресса в Москве) с видным французским философом-
марксистом Луи Альтюссером:«В 1965 году он опубликовал книги «За Маркса» и «Читать
«Капитал», в которых вместе с группой своих учеников изложил нетривиальное понимание
марксизма, в том числе результаты анализа понятийного строя «Капитала». Как-то во
время нашей встречи М.К. Мамардашвили подробно рассказал ему о дискуссиях на факульте-
56 •
Раздел I
Нельзя забывать и том, что после 1956 года нашим исследователям
можно было время от времени надеяться на непосредственные контакты
с западными коллегами. Об одном из таких событий будет кратко
рассказано далее.
Case study: Международная конференция о Марксе
(Париж, май 1968 года)
Как и ранее в этой работе, я предлагаю case study как исследование
вполне конкретного, но вместе с тем репрезентативного события,
имеющего более общее значение.
Конференция, о которой пойдет речь, состоялась в мае 1968 года в
Париже и проводилась в честь 150-летия со дня рождения Карла Маркса,
которого Рене Майо, тогдашний Генеральный директор ЮНЕСКО, в
своей вступительной речи назвал «великим немецким мыслителем».
Список участников из стран Запада говорит сам за себя: Т. Адорно, Р. Арон,
Ф. Фераротти, Э. Фромм, Ж. Ипполит, Р. Гароди, Ю, Хабермас, Э. Хобс-
баум, Г. Маркузе — это мыслители, не только завоевавшие известность
в тогдашнем мире, но и впоследствии вписавшие свои имена в историю
мировой мысли XX века. Имена тех философов и социологов, которые
приехали из социалистических стран, тоже были достаточно известными
в своих странах, иногда и в мировом сообществе — 3. Бауман, А. Шафф,
Т. Ойзерман, И. Зелены, Д. Маркуш, М. Маркович, Ю. Замошкин.
Советская группа включала, конечно, официальных руководителей, но в
1968 году это были люди недогматичные, а подчас и профессиональные в
своих областях (А. Румянцев, В. Шинкарук, А. Виноградов).
Для судьбы философии, а также и социологии, даже у нас в стране
постепенно приобретавшей свою относительную самостоятельность,
подобные события имели очень большое значение. Во-первых, на
международные конференции в 60-х годах уже предполагалось ездить не некой
компактной ортодоксальной группой: начальству приходилось— и под
влиянием международного сотрудничества, и под растущим воздействием
неортодоксального сообщества внутри страны — включать в состав
«советской делегации» философов и социологов, профессионально знавших
свой предмет и владевших иностранными языками. Конечно,
руководителями делегаций оставались люди с официальными регалиями, которым
поручалось выступать с «заглавными» докладами. Однако времена менялись.
Ибо даже в официальных речах советских представителей, наполненных
идеологическими штампами («величие социализма состоит....»1 и т. д.),
те в 50-е годы. Надо было видеть изумление знаменитого философа. Получалось, что
французские ученые фактически повторили то, что 10 лет назад уже было проделано молодыми
философами МГУ, на мой взгляд, в более универсальной и строгой форме»
(Митрохин Л.Н. «Докладная записка» — 74 / / Философия не кончается. II. С. 124).
1 Здесь и далее цитаты даются по объемистому тому «Marx and contemporary scientific
thought. The Hague-Paris-La Haye, 1969. (Здесь: P. 10.)
Отечественная философия 50-60-х годов XX в. • 57
теперь уже постоянно говорилось о необходимости «гуманизации»
жизни современного общества и его культуры, о борьбе против
«субъективизма идеологии» и о выработке «научной идеологии» и т. п. Разумеется,
о Марксе (как и об Энгельсе, Ленине), эти люди говорили в самых
возвышенных, приподнятых тонах. Но ведь большинство собравшихся на
конференции крупных западных мыслителей того времени так или иначе
испытало сильное влияние Маркса. Некоторые из них открыто
объявляли себя философами-марксистами. Сложный процесс переосмысления
оснований собственных учений и отход от марксизма был для них — как,
скажем, для Хабермаса — делом последующих десятилетий.
Можно не сомневаться: «советских делегатов» перед отъездом в
Париж (по обыкновению) идеологически «накачивали» в том смысле, что им
надо, дескать, доказывать, защищать величие Маркса и актуальность его
идей. В данном случае инструктаж был излишним: западные участники
именно этой конференции сами были уверены в актуальности Марксо-
ва наследия не меньше, нежели некоторые участники из СССР и других
социалистических стран. А говорили об этом западные философы даже
более торжественно и увлеченно. Так, Раймон Арон, известный
французский философ, в своем докладе на конференции сказал:«Проект Маркса
с его целью — философски осмысливать историю — сохраняет свою
актуальность (если одновременно подразумевать под последним словом
немецкие понятия действительности, Wirklichkeit, и разума Vernunft),
причем актуальность в двух смыслах: поскольку он еще не завершен и
поскольку гетерогенность мира, в котором мы живем, демонстрирует в
каждой стране ту или другую сторону этого проекта»1.
Теодор Адорно — вспомним, в те годы один из самых влиятельных
философов Запада, — предельно заострил тему, дав своему докладу
полемическое название: «Устарел ли Маркс?» (Marx est-il dépassée?). Он
сжато представил позицию критиков марксизма, согласно которой в
условиях современного научно-технического развития многие идеи,
выводы Маркса «утратили свое значение, если не стали мифом»2.
Согласившись с тем, что некоторые предсказующие идеи Маркса не сбылись
именно так, как они были выражены, что Маркс был слишком
оптимистичным философом истории, Адорно подробно проанализировал
некоторые темы, в то время находившиеся в центре спора. Например, это была
тема рабочего класса. Да, признал Адорно, некоторые конкретные
тезисы Маркса, соразмерные условиям XIX века, оказались неприменимыми
к веку двадцатому. (Что вполне понятно, допустимо, более того,
предполагается, когда речь идет о прогностической стороне любой
разработанной в далеком прошлом социальной теории.) Однако сами по себе идеи о
существовании классов, классовой борьбы, о противоречиях капитализ-
1 Aron R. Equivoque est inépuisable // Marx and contemporary scientific thought. The
Hague-Paris-La Haye. 1969. P. 42.
2Adorno Th.W. Marx est-il dépassée? // Marx and contemporary scientific thought.
P. 284.
58 •
Раздел I
ма, как и многие другие постулаты Маркса, и сегодня сохраняют,
согласно Адорно,свое значение.
В том же духе высказывались другие западные участники,
акцентируя и именно актуализируя различные стороны Марксова «проекта».
И по существу многие идеи о гуманизме философии Маркса, об
отчуждении и критике капитализма во всех докладах звучали согласованно, чуть
ли не синхронно.
При этом участники из СССР и социалистических стран не
отставали от западных коллег в постановке острых проблем современности,
в выборе для обсуждения серьезных научных вопросов философии и
социологии, увязываемых с наследием Маркса. В те годы в этом наследии
они на первый план выдвигали уже не только и даже не столько
«классические темы» идеологии, исторического материализма, миссии
рабочего класса, значения общественной собственности (которые, кстати,
в докладах А. Румянцева, И. Кучинского, Т. Тимофеева, Т. Ойзермана,
А. Милейковского, В. Виноградова нередко трактовались по-новому),
сколько проблематику и идеи гуманизма, прав и свобод человека,
критериев рациональности и научности (доклады М. Марковича, А. Шаффа,
И. Зелены, Ю. Замошкина, 3. Баума, Д. Маркуша). Относительно
актуальности проблем гуманизма известный тогда польский
философ-марксист Адам Шафф четко высказал мысль, которую, в сущности, разделяли
все участники конференции: те элементы гуманизма в мысли Маркса,
которые «долгое время оставались не замеченными», которыми
пренебрегали, «сегодня (то есть в 60-х годах. — Н.М.) достигли ранга
центральных проблем марксизма»; они способны, по словам Шаффа, вдохновить
тех, кто до сих пор не разделял положений марксовой доктрины1.
Резюмируя сказанное в рамках этого case study, можно сделать ряд
общих выводов.
1. В 60-х годах вполне нормальным явлением стали такие контакты
отечественных и западных коллег, в ходе и результате которых
происходили интересные профессиональные философские дискуссии, весьма
плодотворные и полезные для наших философов: они знакомились, и что
называется, из первых рук, с состоянием мыслей и умов на Западе, с новейшими
тогда тенденциями, получали ориентации относительно литературы (а
часто и привозили с собой те новые зарубежные издания по философии,
которые еще долго или вообще не появлялись в нашей стране)2. Поэтому
по крайней мере с одной стороны — со стороны информации, знания о про-
1 Schaff A. Marx et l'humanisme contemporain // Marx and contemporary scientific
thought. P. 447.
2 Могу судить об этом по личному опыту. Так, мне еще во второй половине 60-х годов
выпал счастливый случай познакомиться на одной из конференций с Людвигом Ван Бреда,
директором Лувенского гуссерлевского архива. Понимая, сколь трудно в нашей стране со
специальной западной литературой, он распорядился о присылке мне томов Гуссерлианы и
серии «Phaenomenologica». В результате начиная с 60-70-х годов я могла исследовать
феноменологию Гуссерля по немалому числу новейших тогда первоисточников и вторичных
текстов, опубликованных за рубежом.
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•59
исходящих на Западе философских процессах — отечественная
философия выходила из прежнего состояния изоляции от мировой философии.
2. Проблема, которую мы здесь исследуем, — случай в ряде
отношений специфический также и для философии Запада. Ибо впоследствии
с западными участниками конференции, наиболее прославленными,
такими, как Адорно, Хабермас, Маркузе, Фромм и др., произойдут
существенные изменения, касающиеся как раз их отношения к предмету
дискуссии 1968 года — к Марксу и его мысли. Например, Хабермас
постепенно отойдет от Маркса и марксизма как главной базы своих
концепций; он проделает сложнейшую и достойную изучения эволюцию (так
что последующие контакты с ним отечественных исследователей станут,
по существу, взаимодействием с иным, чем в 1968 году, мыслителем)1.
Кстати, и в этом отношении имело место сходство как в
траекториях движения части западной и отечественной мысли, так и в
профессиональных судьбах мыслителей. Путь от марксизма в сторону иных
преимущественных теоретических ориентации проделывали (как
свидетельствует процитированное ранее признание В. Степина о «дрейфе» к
кантианству) и некоторые крупные философы нашей страны. (Каждый
из них мог бы, если бы захотел, изобразить этот путь вполне конкретно.)
Вернемся к конференции 1968 года. Другие ее участники, чьи
имена тогда были на слуху, впоследствии фактически сошли со сцены. Это
можно сказать о Герберте Маркузе. В связи с ним — еще об одной
конкретной исторической особенности той встречи философов.
3. Так случилось, что она проходила в Париже в те бурные,
тревожные майские дни 1968 года, когда на свой «решительный бой» вышли
«новые левые». Отношение к ним у участников парижской дискуссии о
Марксе было далеко не одинаковым. Ю. Хабермас резко спорил с идеологами
и участниками этого крайне левого молодежного движения. Г Маркузе
был (пока) доволен: молодые бунтари опирались на некоторые его идеи.
«Три М»: Маркс, Маркузе, Мао — таков был лозунг, который написали
на своих знаменах восставшие студенты в Париже и других городах
Европы, Америки, Азии. Участники из СССР тоже имели по поводу новых
левых свое мнение. Более того, отечественная литература,
анализирующая это движение и его идейный багаж (работы К. Мяло, М. Новинской,
В. Вульфа и др.), была примером не запоздалой, а своевременной и
притом критически-вдумчивой теоретической реакции, что признавали и
зарубежные авторы, сопоставлявшие западные и российские исследования
движения новых левых.
Для той темы, которая обсуждалась на конференции в Сорбонне,
события, происходившие в тех же или соседних кварталах, были
принципиально важными, знаковыми2. Хотя между западными и отечественными
1 Подробнее об этом см. написанный мною раздел о философии Ю. Хабермаса //
История философии: Запад-Россия-Восток. Т. IV.
2 О том, что дело обстояло именно так, мне рассказывал участник Парижской
конференции Ю. Замошкин, который, кстати, смог убедиться в справедливости некоторых опре-
60 •
Раздел I
марксистами были немалые различия в способах толкования наследия
Маркса, они должны были убедиться в том, что на арену социального
действия и социальной мысли вновь (и не в последний раз!) выступает
экстремизм, революционаризм анархистского, бунтарского типа,
прикрываемый именем Маркса. И размежевания с последним оказались, по
крайней мере в перспективе, существеннее, принципиальнее, чем
тонкие теоретические разногласия между философами-исследователями из
двух социальных систем.
4. Вопрос о том, сумели ли сами западные философы заметить и
оценить изменения, происшедшие в философии нашей страны, и уловить
различия между представителями официальных структур и
неофициального сообщества, чрезвычайно труден. Признаки того, что различия
улавливаются, уже были. Так, Франко Ферраротти, известный тогда
итальянский марксист, в своем докладе ссылался не только на работы
М. Хайдеггера, А. Турена, но и на книгу Ю. Давыдова «Труд и свобода»,
вышедшую у нас в 1962 году. Но это был единичный случай. Тенденцией
же стало другое: наши западные коллеги, даже если они замечали
подобные различия, не спешили об этом распространяться, тем более в печати.
Мне лично приходилось слышать от коллег с Запада такое объяснение:
они предполагали, и не без оснований, что проведение ими каких-либо
дифференции и тем более противопоставление официозным фигурам
из советской России более молодых представителей неортодоксального
сообщества может принести вред этим последним... Как бы то ни было,
уже тогда, в 50-х и 60-х, сложилась печальная для нас традиция, из-за
которой не было и до сих пор нет симметрии, настоящей взаимности в
наших взаимодействиях с западными коллегами (позднее мы вернемся к
этому вопросу).
Подводя итог этой стадии анализа — рассмотрения меняющегося
в 50-60 годах отношения представителей неофициального сообщества
к Марксу с идеологического (по преимуществу) на исследовательское
(тоже по преимуществу)1, необходимо отметить, что с тех пор сколько-
нибудь значимая веха в развитии общества, культуры, философии
связана, и будет связана, с уточнением, переосмыслением наследия
основателя марксизма. Для философов это, разумеется, означает определение
их отношения к философии Маркса. Сказанное верно далеко не только
для отечественной, но также и для всей мировой философии. Недаром
же некоторые видные философы Запада уже в наше время снова и снова
делений, предсказаний, которые мы с ним высказали в наших совместных работах о новых
левых, написанных несколько раньше, но вполне своевременно опубликованных в том же
1968 году.
1 «По преимуществу» сказано потому, что «чистых» типов в жизни не бывает. Филосо-
фы-марксоведы, в целом принадлежавшие к исследовательскому лагерю, тоже различались
в зависимости от того, были ли они тогда и оставались ли в своем последующем развитии
(идеологически) убежденными марксистами, что заметно модифицировало достигаемые
результаты.
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•61
размышляли о Марксе. Приведу в качестве примера книги Жака Дерри-
да «Призраки Маркса» (Париж, 2002; рус. пер.: М., 2006) и «Маркс и
сыновья» (Париж, 2002; рус. пер.: М., 2006). Деррида пишет:«Не читать, не
перечитывать и не обсуждать Маркса всегда будет ошибкой. И даже
несколькими ошибками — ибо мы имеем в виду не школьное «прочтение»
и не школьную дискуссию... Без Маркса — ничего, никакого будущего.
Без памяти о Марксе и без наследия Маркса, без его гения, по меньшей
мере, без одного из его духов. Ибо в этом и заключается наша гипотеза,
или скорее, та позиция, которую мы разделяем: таких духов больше чем
один, их должно быть больше одного»1.
Гипотеза Ж. Деррида находит подтверждение хотя бы в том опыте
анализируемого периода развития отечественной философии, который
мы сейчас обсуждаем. Вместе с тем считаю показательным тот факт,
что наиболее интересные, глубокие исследования философии Маркса (в
тот же или последующие периоды) предложили у нас именно
мыслители, которым предстояло совершить «дрейф» в сторону от марксизма и
вообще в сторону от приверженности «отвлеченным началам» (термин
В. Соловьева) каких бы то ни было «измов». Так, концепция
превращенных форм сознания, разработанная М. Мамардашвили сначала с опорой
на Маркса, уже в ранний период, в особенности впоследствии, в 70-80-х
годах, значительно переросла рамки Марксовых предпосылок и выводов,
превратившись в развернутую самостоятельную теорию2. (По моему
мнению, эта концепция по теоретической глубине превосходит весьма
яркую, но вряд ли основательную «призракологию» Ж. Деррида.)
Подобно этому В. Степин, сначала отталкиваясь от ряда идей
Маркса, но еще более учитывая исторические реалии и теоретические
позиции XX века, разовьет свою целостную теорию, объяснявшую
различные феномены: надбиологические программы человеческой
деятельности; исторические этапы развития науки; саморазвивающиеся системы
так называемого постнеклассического этапа; философия и
универсалии культуры; типы рациональности и т. д. Но «духи Маркса», в самом
деле, различны. Поэтому и философы, оставшиеся верными марксизму
(Э. Ильенков, В. Келле, В. Межуев, В. Толстых и др.), также внесли
свой вклад в исследовательский потенциал отечественной философии.
В последующие периоды (80-90-е годы) сложились исследовательские
группы, которые — во взаимодействии с западными философами,
имевшими и марксистскую родословную, и марксистские пристрастия (тот
же Ж. Деррида, Ф. Джеймисон и др.) — протянули от Маркса, а в
немалой степени и от Мамардашвили, нить весьма оригинальной «философии
тела» (В. Подорога, М. Рыклин, Е. Петровская, Е. Ознобкина и др.). Да
что там говорить: если взять многих крупных философов, мыслителей
XX века — Т. Адорно, Ж.-П. Сартра, Ю. Хабермаса, Э. Фромма и многих
1 Деррида Ж. Призраки Маркса. Мм 2006. С. 28.
2См.: Мотроишлова Н.В. Мераб Мамардашвили: философские размышления и
личностный опыт. М., 2007. С. 16, 17.
62 •
Раздел I
других, то упомянутая марксистская родословная будет налицо. Правда,
и «преодоление» ее под влиянием новых открытий философии второй
половины XIX и XX веков — тоже типичная черта истории современного
философского развития.
В этом смысле теоретические (я бы сказала, и личностные)
повороты в отечественной философии 50-60-х годов, которые рассмотрены на
примере обновленного истолкования наследия Маркса, осуществлялись
вполне в духе времени, в исторической и проблемной синхронности с
мировой философской мыслью.
Обновление диалектического материализма
Для нашего исследования по социологии философского познания
немаловажно снова напомнить, что неортодоксальное по своему
содержанию марксоведение по форме все же вписывалось в разрешенную,
как бы благонадежную в идеологическом отношении проблематику. Но
последствия, как было показано, были для официальной философии
непредвиденно-опасными.
В несколько меньшей мере подобная инфильтрация «идейно чуждых
элементов» произошла в той области, которая считалась заповедной
землей официальной философии — в диалектическом материализме.
Постепенно в сборники с «кондовыми» названиями стали проникать работы,
авторы которых, сделав несколько идеологических оговорок, приступали
к неидеологизированному исследованию избранной проблематики.
Почему это стало возможным?
Не вдаваясь в детали ответа на этот вопрос, отмечу лишь некоторые
моменты.
• Диалектический материализм был весьма сложным образованием, в
котором наряду с выдвигаемыми на первый план чисто идеологическими
предпосылками, предпочтениями (защита материализма и теории
отражения, опровержение идеализма и т. д.) имелись вкрапления,
заимствованные из работ классиков марксизма, классиков философии и
содержащие результаты исследовательской историко-философской работы.
Это относилось, в частности, к истории диалектики. Существовали две
возможности. Одной из них сполна воспользовались создатели и пере-
писыватели идеологизированных дайджестов (типа знаменитой IV главы
«Краткого курса истории КПСС»), упрощенность которых возрастала по
мере «движения» от классических текстов Маркса и Энгельса к
учебникам, популярным пособиям и т. д. Можно было без труда заметить
акцентирование значимости не диалектики, а именно материализма, причем
взятого в наиболее плоских, вульгаризированных его формах, тесно
объединенных с плоской же, чисто натуралистической теорией отражения.
Соответственно, в историческом материализме выдвигалась на первый
план такая концепция базиса и надстройки, которая, по существу,
хоронила сложное по структуре и смыслу учение Маркса о социальной при-
Отечественная философия 50-60-х годов XX в.
•63
роде и обусловленности познания, о специфике форм духовной
деятельности человека и человечества.
Но существовала и вторая возможность, вполне согласующаяся с
некоторыми идеями Маркса, Энгельса и даже Ленина («даже» сказано
потому, что он, в отличие от Маркса, Энгельса не был
профессиональным философом, хотя интересовался философией и прочел несколько
философских книг). Это было акцентирование активной стороны
человеческой деятельности, человеческого познания, т. е. тех моментов
нового диалектического подхода, которые и составляли заслугу
немецкой классической философии, сердцевину тех идей Канта, Фихте,
Гегеля, которым не был чужд Маркс. И вот в 50-60-х годах XX века даже
классические «диаматчики» советской философии стали расставлять в
своих работах несколько измененные акценты. Другое дело, что
представители неортодоксального сообщества предпочитали исследовать идеи
активности, деятельности на их «собственной» теоретической почве.
Примерно такую же историко-философскую, марксоведческую
родословную имели диаматовские разработки такой классической для
диамата темы — «законы и категории диалектики». Понятно, что
разработка категорий (в том числе «активистских» категорий, или категорий
деятельности) — это сердцевина философии со времен ее
возникновения и до наших дней. Поэтому и здесь для «марксистской диалектики»
открывались две возможности. Одна — рассуждения о философских
категориях по преимуществу или исключительно на
«марксистско-ленинском» материале и в идеологическом ключе. Другая возможность — хотя
бы некоторые выходы в историю философии, в методологию конкретных
наук, что могло несколько модернизировать, «облагораживать»
кондовый диамат и к чему в 50-60-х годах прибегали некоторые авторы.
Однако для представителей неофициального сообщества
открывалась иная перспектива: как правило, они оставляли в стороне, как бы
«заключали в скобки» уже довольно обширную, часто запутанную,
схоластическую дисциплинарную систематику диалектического
материализма (не говоря уже об историческом материализме) и строили свои
исследования деятельности и познания, диалектики категорий на иной
теоретико-методологической основе. (Правда, официальные диамат и истмат,
испытывая дефицит «свежих идей», порою достаточно охотно
«интегрировали» в сборники, учебники с традиционными названиями работы
иного, неортодоксального, в большей степени исследовательского типа.)
В результате всего, что было ранее отмечено, отечественная
философия 50-60-х годов XX века представляла собой очень пестрый
конгломерат произведений, где при невнимательном взгляде непросто было
провести разграничительные линии между старыми и новыми
подходами, ориентациями. И все-таки изменения были, и главное среди них
затронуло, по моему мнению, именно темы и проблемы, которые
представители неофициального сообщества избирали для своих исследований.
Проблемно-тематический сдвиг особенно отчетливо фиксировал факт
64 •
Раздел I
обновления отечественной философии, следствием, а отчасти и
средством которого как раз и стало преодоление прежнего изоляционизма и
хотя бы частичное ее включение в процесс развития мировой
философской мысли.
Ниши для философского исследования, о которых уже упоминалось,
надо представить подробнее и в именно с проблемно-теоретической
точки зрения. Но мы пока отложим этот анализ, перенеся его в следующий,
II раздел. И вот почему: с содержательной точки зрения работа в этих
проблемных, дисциплинарных нишах в 50-60-х годах только началась.
О сколько-нибудь серьезных, основательных
теоретико-методологических итогах можно говорить (исключения очень редки), имея в виду
также и панораму исследований 70-х — первой половины 80-х годов,
которые были не только и даже не столько продолжением замыслов 50-60-х,
сколько их в более позднее время осуществленной реализацией. Иными
словами, то был единый, преемственный процесс, который и надо взять
в его целостности. А чтобы охарактеризовать его, в этой нашей работе в
жанре социологии философского познания надо сначала хотя бы кратко
осветить вопрос о весьма своеобразном и снова же напряженном,
драматическом социальном контексте, в котором в 70-х и первой половине 80-х
годов развивалась отечественная философия.
РАЗДЕЛ II
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ 70-Х —
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 80-Х ГОДОВ XX ВЕКА
И ЗАПАДНАЯ МЫСЛЬ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ И ПРОТИВОРЕЧИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ В 70-Х ГОЛАХ XX ВЕКА
Впечатляющее развитие неортодоксальной философии в 50-х и
особенно в 60-х годах передало свои импульсы следующему периоду. То были
импульсы и позитивные, и негативные. Сначала поговорим о первых.
Философы, логики, социологи, которые начинали свою исследовательскую
деятельность в пятое и шестое десятилетия XX века, затем продолжили
(за редкими исключениями) свою работу. Более того, они впоследствии
составили также и заметную часть преподавательского корпуса
философских факультетов и кафедр философии. Теперь в исследовании и
преподавании затрагивался все более широкий спектр проблем; развивались
новые дисциплины философии (правда, в вузах философские кафедры
еще долго, вплоть до перестройки, официально именовались кафедрами
диалектического и исторического материализма).
Аспирантура и сектора академического Института философии
пополнились молодыми философами (с известными впоследствии
именами). И соотношение сил между ними и «идеологически проверенными»
кадрами постепенно, но неуклонно менялось не в пользу последних —
если не численно, то по как бы неуловимому, однако же объективно
существовавшему весу публикаций, лекционных курсов, докладов,
выступлений более молодых неортодоксальных философов на конференциях, в
том числе международных, творческая, а не ритуальная роль которых
тоже устойчиво возрастала1.
Конечно, путь тогдашних более молодых поколений во все подобные
институты, на кафедры, открыто объявленные «идеологическими», не
был усыпан розами; они прошли его не без потерь для качества своих
исследований и скорости, ритма своего философского становления. В осо-
1 См. убедительный перечень имен аспирантов и молодых сотрудников, пришедших в
конце 50-х — начале 60-х годов в ИФАН, ИИЕТ, на кафедры вузов Москвы, в журнал
«Вопросы философии», в работе В. Садовского, помещенной в сборнике «Философия не
кончается...». Кн. II. С. 37, 38-39, 40.
5 Н. В. Мотрошилова
66 •
Раздел II
бенности непросто было тем, кто выбирал для специализации, для
диссертации неортодоксальную, новую тогда тематику. Нужно было либо
бороться за нее, либо приспосабливаться к официозной проблематике,
соответствующей как привычному для советской эпохи
дисциплинарному делению философии, так и тем конъюнктурным веяниям времени,
которым все же уступала и официальная философия. Надо было находить
свое место в структуре официальных институций и их подразделений.
Порой это было своего рода хождение по мукам, мало понятное
сегодняшним поколениям философов.
Тем не менее объективное значение происшедших тогда изменений
трудно переоценить. Вполне согласна с обобщающей характеристикой,
которую В.К. Финн, один из самых значительных отечественных
логиков, дал деятельности выдающегося ученого мирового класса В.А.
Смирнова, тоже начинавшего свой путь в логике в конце 50-60-х годов. По
словам Финна, этой деятельностью было доказано, «что можно в рамках
даже больших жизненных трудностей влиять на создание и развитие
социальных институтов»1. Эту характеристику можно было бы применить
к эффекту деятельности множества представителей неортодоксального
философского сообщества. Но с добавлением: такую цель, как
преобразование институтов, они вряд ли дерзали ставить перед собой и перед
неофициальным сообществом. Однако факт остается фактом: в 60-х и
70-х годах вместе с приходом новых людей постепенно меняется
содержание работы официальных институций философии (разумеется, не ее
одной: полагаю, нечто подобное происходило у психологов,
экономистов, историков, филологов, юристов и других специалистов
гуманитарных дисциплин). Правда, изменения шли трудно, противоречиво, через
ту борьбу с ее победами и поражениями, которая серьезно осложняла
судьбу людей, подчас коверкала их путь в философии, а иногда и стоила
им самой жизни.
Удивительно, но те функционеры, которым по долгу службы или
«партийному долгу» полагалось осуществлять идеологический контроль
над философией, далеко не сразу осознали, что фактически произошло
к концу 60-х годов. Казалось, им нечего было тревожиться: руководство
кафедрами, институтами и их секторами, центральными журналами пока
еще было в руках представителей старой когорты «проверенных» кадров;
в этих институциях работали — под надзором райкомов и самого ЦК
КПСС — партийные бюро; в библиотеках наиболее неблагонадежные
книги, отечественные и зарубежные, были заперты в спецхран; сотнями
печатались книги, статьи, учебники с вполне традиционными для
советского периода названиями; издательства, как и прежде, работали, хотя бы
формально, под внешним и внутренним цензорским контролем;
разрешения для выезда за границу выдавались комиссиями райкомов партии —
1 Финн В.К. В.А. Смирнов как создатель направлений исследований в логике и
методологии науки в СССР и России // Философия не кончается... Кн. И. С. 733.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 67
и все понимали, что за ними стояли спецслужбы; за границу
отправлялись делегации, состав которых, как и раньше, контролировался и т. д.
Тем не менее жизнь брала свое, и многое в том, что касалось не
только содержания, стиля, проблематики философской работы (здесь
еще в 60-е годы произошли решительные сдвиги), но и ее формально-
институционального содержания, стало меняться.
Один пример из жизни Института философии. Сошлюсь на
воспоминания и характеристики Л.Н. Митрохина, одного из наиболее ярких,
талантливых и независимых исследователей судьбы поколения
«шестидесятников»: «Символом особой идеологической бдительности была
Е.Д. Модржинская, заведовавшая сектором критики современной
буржуазной философии. В прошлом кадровая кэгэбешница, она
специализировалась на критике антикоммунизма и космополитизма, неутомимо
выискивала и разоблачала идейные шатания»1. В Институте
Модржинская была, увы, не одинока. Казалось бы, власть в Институте таких, как
Модржинская, можно было считать прочной. Но вот в 1968 году
тогдашний директор ИФАН академик Ф.В. Константинов назначил на ее место
Л.Н. Митрохина, который фактически уже был лидером молодого
коллектива исследователей западной мысли. Примерно в то же время
сектором диамата стал заведовать В.А. Лекторский, сектором истмата —
В.Ж. Келле, истории философии — Т.И. Ойзерман. «Эти сектора, —
писал Митрохин, — считались основными, между ними сложились
деловые дружеские отношения, которые еще более укрепились, когда мы
стали членами редколлегии, заведующими соответствующими отделами
„Вопросов философии"» (См.: Там же).
Итак, дело стало доходить до того, что «менялась власть» — хотя бы
руководящие позиции среднего звена стали ускользать из рук прежнего
философского начальства. В дополнение ко всему у него уходил из рук
журнал «Вопросы философии», что по праву представлялось изменением
еще более существенным. В очень сложном 1968 году главным
редактором нашего центрального журнала стал И. Фролов, а его заместителем —
М. Мамардашвили. Обновилась редколлегия: теперь в нее входили Б. Кед-
1 Митрохин Л.Н. «Докладная записка» - 74 / Философия не кончается... Кн. И. С. 126.
Со своей стороны хорошо помню эту бдительную даму. Я не работала в ее секторе, но первые
исследования по феноменологии должна была обсуждать именно там. Сама Модржинская
высказывала самые строгие идеологические оценки моей работы: «льет воду на мельницу
империализма...» — или восклицала: «как можно называть Э. Гуссерля, буржуазного
идеолога, честным философом?» и т. п. Но полностью отвергнуть мою первую книгу и ряд статей
было уже не в ее силах. По той простой причине, что в секторе работали такие философы
новой формации, как Л. Митрохин, Н. Юлина, О. Дробницкий, Т. Кузьмина, Э. Баталов,
М. Степанянц и др. Теперь уже-, т. е. в 60-х годах, они составляли большинство и могли не
допустить идеологической расправы; они охотно, горячо ратовали за то, что отвергала
Модржинская. Кстати, это понял тогдашний директор ИФАН академик Ф.В. Константинов.
Припоминаю, как на одном из заседаний Е.Д. Модржинская выступила против кого-то в
привычной форме идеологического доноса. Константинов неожиданно прервал ее. Его реплика
дорогого стоила. Он сказал что-то вроде: оглядитесь вокруг, Елена Дмитриевна, и Вы
увидите молодые лица людей, которые думают и пишут иначе, чем Вы и я. С этим надо считаться...
5*
68 •
Раздел II
ров, А. Зиновьев, Б. Грушин, Ю. Замошкин, В. Лекторский, В. Келле — при
том, что практически и повседневно работавшая редакция журнала уже
состояла из действительно профессиональных философов. Правда, эту
редколлегию довольно скоро разогнали (чехословацкие события и оживление
сталинистских сил сыграли свою роль). Но сохранилась редакция, а потому
тематика, содержание, стиль статей неуклонно и необратимо менялись.
Сильнейшее разочарование представители официального
сообщества должны были, полагаю, испытать после того, как вышли в свет все
пять томов «Философской энциклопедии», что произошло к началу 70-х
годов. Несмотря на взаимные компромиссы, результат (как я пыталась
показать ранее в соответствующем case study) с точки зрения официальных
догматиков должен был выглядеть не просто как сумма мелких уступок, а
как серьезное системное поражение. Скорее всего, их беспокойство
вызывал и тот факт, что во второй половине 60-х и в начале 70-х годов
заметным массивом публиковались первые книги и статьи целого ряда молодых
исследователей, сразу принесшие им известность в нашей стране. И вот
еще один примечательный факт: открыто обрушивать идейные удары на
новые идеи и концепции, книги и статьи — как это запросто делалось в
совсем недавние времена, — теперь было весьма трудно, и такие
проработки случались довольно редко. Почему же трудно? Удивительно, но
идеологические погромы и доносы в тот период уже выглядели
непристойно, и неуютно среди коллег ощущали себя не объекты, а авторы доносов.
Представляется оправданным сделать вывод: используя свои
официальные позиции, повседневно ведя свою борьбу, философы
ортодоксального сообщества в конце 60 — начале 70-х годов либо уже не составляли
большинство, либо они еще не растревожились всерьез, не осознали всех
следствий вхождения в философию не отдельных неугодных им людей, а
целых «квантов», т. е. спаянных друг с другом групп и сообществ.
Для наиболее бдительных представителей несколько
растерявшейся1 марксистско-ленинской ортодоксии сигналом к консолидации и
реваншу стали, скорее всего, чехословацкие события 1968 года, наглядно
продемонстрировавшие, что — вопреки догме — именно новое
сознание, новые идеи способны расшатать прочные, на первый взгляд, устои
социального бытия. Разгром, учиненный в Праге не только советскими
танками, но и идейными репрессиями (они были осуществлены под
давлением партийного и военного руководства СССР, но руками
собственных кадров), был сокрушительным. Однако осознание парадигмального
сходства чехословацкого и отечественного духовного опыта пришло не
сразу, ибо лишь немногие в нашей стране — как правило, диссиденты
и единичные представители интеллигенции, работавшей в официальных
11 Об академике М. Митине, ставшем в 1960 году главным редактором «Вопросов
философии», Э. Соловьев метко сказал, что это был «крепко ушибленный догматик, уже
никогда — даже в брежневское время — не позволявший себе поверить в сладкую грезу о
тотальном возврате к прошлому» (Соловьев Э.Ю. Философский журнализм шестидесятых:
завоевания, обольщения, недоделанные дела // Философия не кончается... Кн. II. С. 110).
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 69
институциях, — решились, подобно Ю. Леваде или В. Лукину,
критически отозваться о советском вторжении в мятежную Чехословакию.
В нашей стране, где не только философию, но и всю культуру
продолжали держать под идеологическим прицелом, после событий в
Чехословакии следовало ожидать основательных идеологических заморозков,
которые по сути своей были запоздалой реакцией на хрущевскую оттепель,
пусть и она была отмечена противоречиями и непоследовательностями.
Надо было ждать попыток идеологического, в том числе сталинистского,
реванша. С некоторой оттяжкой по времени такие попытки были
предприняты. «С одной стороны, — справедливо отметил Л. Митрохин, — в
конце 60-х обозначилось понятное движение к идеологическому
деспотизму — не легкие заморозки, а крупный град...» (Митрохин Л.Н. Указ.
соч. С. 132). А что же было «с другой стороны»? Как подтверждает тот же
Митрохин, наступление на Институт философии, журнал «Вопросы
философии», «главным организатором которого выступил секретарь МГК
КПСС по идеологии В. Ягодкин», оказалось пусть очень болезненной для
многих людей, но бесплодной — с точки зрения целей и замыслов ее
организаторов — попыткой сталинистского реванша, которая провалилась
вместе с множеством наступлений на свободу творчества и
исследования, предпринятых на других духовных фронтах. Провал произошел как
раз благодаря повсеместному и повседневному сопротивлению, которое
всем подобным попыткам было оказано представителями самых разных
профессий, включая философов. Борьбу вели, правда, куда более
осторожно, даже в ЦК КПССС, — вели те люди, которые не хотели допустить
сталинистского реванша. Все подобные усилия фактически
способствовали перестройке, которая, не забудем этого, была инициирована
руководством КПСС и соответствующими кадрами в главных органах партии.
Но ведь и сама инициатива сверху реализовалась благодаря новым
процессам смены ценностей, умонастроений, благодаря тому
противостоянию, о котором мы говорили применительно к философии.
Однако до провала реваншистских усилий еще надо было дожить.
Во второй половине 70-х годов начался и до середины 80-х протянулся
один из самых трудных в смысле идеологического давления периодов
развития для науки и культуры нашей страны, о чем почти не знают
молодые поколения и западные коллеги. То была повседневная, вязкая
обстановка борьбы, нападок из-за угла, придирок и всего прочего, что
не замедлило сказаться на качестве обретшей было свой стиль и ритм
философской исследовательской работы. А где есть борьба, там есть и
жертвы. Жертвами противостояния в Институте философии стали
яркие, достойные философы, причем, что и парадоксально, и характерно,
твердо стоявшие именно на марксистско-ленинских позициях — такие,
как Б. Кедров, П. Копнин, Э. Ильенков1.
1 Казалось бы, о каких жертвах тут можно говорить? Ведь ГУЛАГов уже не было...
Однако были — скажу, например, об Э. Ильенкове — повседневные преследования
тогдашнего директора ИФАН, весьма далекого от философии Б. Украинцева и его
приспешников (они восемь лет терроризировали Институт). И некоторые люди не выдерживали посто-
70 •
Раздел II
В связи с попытками реванша идеологов в 70-х годах можно было
бы провести целый ряд конкретных исследований (в духе «case study»).
Да некоторые из них и осуществлены. Сошлюсь на цитировавшийся
ранее превосходный небольшой очерк Л.Н. Митрохина «„Докладная
записка" - 74» (он был опубликован в 1997 году в журнале «Вопросы
философии»). После позиционных боев в начале 70-х годов в Институте
философии; после того как, по справедливому определению Митрохина,
«фактически затравили П.В. Копнина» в борьбе за директорское кресло,
которое, после недолгого директорства Б.М. Кедрова, досталось
уволенному из ЦК КПССС инженеру B.C. Украинцеву — «руки дошли» и до
журнала «Вопросы философии». Бой был дан не в самом журнале, не в
Институте философии. Редколлегия журнала — в духе «славных»
традиций — была вызвана на ковер в партийно-идеологическую инстанцию,
в Академию общественных наук при ЦК КПСС, где часть собравшихся
(при поддержке или молчании остальных) устроила журналу
идеологическую проработку. Не буду описывать случившееся: обо всем точно,
выразительно рассказано в воспоминаниях Митрохина. А главное, в
приложении к публикации Митрохина опубликован донос — «Докладная
записка», подписанная образцовым догматиком Г. Глезерманом, тогда —
Председателем Ученого совета при АОН, а также его заместителем по
Совету X. Момджяном (на заседании этого Совета и проходила печально
знаменитая, в духе старых времен, идеологическая проработка). Стиль
«Записки», ее убойные идеологические штампы говорят сами за себя.
В 70-х годах то и дело наблюдались вспышки подобных же
наступлений на новую философскую мысль. Есть немало горьких
воспоминаний о таких историях. Так, И. Блауберг, В. Садовский и другие тогда уже
признанные специалисты в новой и весьма перспективной, как оказалось
впоследствии, области системных исследований рассказали о попытках
«доброхотов» из философии, поддерживаемых сверху, обрушиться на
саму проблематику их работы1.
Ветры догматического сталинистского реванша раньше всего подули
на философском факультете МГУ, потому что упомянутый ранее
московский партийный секретарь В. Ягодкин свою идеологически-репрессивную
«методику» отрабатывал сначала в бытность секретарем парткома
Московского университета. На философском факультете у него быстро
нашлись убежденные единомышленники, давно уже недовольные новыми
векторами развития отечественной философии. Ими был предпринят
целый ряд мер, призванных напомнить о старых временах и методах2. (Мне
янной травли, утрачивали работоспособность, здоровье, душевный баланс. Так ушел из
жизни Э. Ильенков — и мы, его коллеги и друзья, точно знаем, что непосредственным
поводом стали упомянутые преследования.
1 См. Блауберг И.В. Из истории системных исследований в СССР: попытка
ситуационного анализа // Философия не кончается. Кн. II. С. 152-170.
2 Вспоминается печальный эпизод— неожиданно развязанная в МГУ травля авторов
«Философского энциклопедического словаря», имевшая характер чисто идеологической
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 71
кажется, последствия идеологических заморозков 70-х годов еще и потом
воздействовали на университетскую философию, в частности, из-за того,
что более молодые кадры, допущенные к преподаванию в это время,
проходили проверку именно у приспешников Ягодкина — как бы иные из них
ни искажали действительную картину в своих сегодняшних мемуарах.)
Но, как отмечалось, у всех подобных историй была другая
сторона, — и она-то в перспективе оказалась куда сильнее первой. Так, даже
в упомянутой «Докладной записке - 74» проработчики с гневом, но и с
удивлением вполне объективно зафиксировали отсутствие страха у тех,
кого они так напористо прорабатывали. Вот выразительный отрывок из
«сочинения» добровольных идеологических цензоров: «В своих речах
на обсуждении И.Т. Фролов, по существу, не согласился с
подавляющим большинством сделанных выступавшими критических замечаний.
То же следует сказать и о выступлении члена редколлегии журнала
Л.Н. Митрохина»1. А как можно было соглашаться с замечаниями
такого, например, стиля: статья трех авторов — М. Мамардашвили, Э.
Соловьева, В. Швырева «Классическая и современная буржуазная
философия» (к слову: важнейшая статья, вызвавшая широкий резонанс, — а
какое «традиционное» название!) объявлялась «ошибочной в своей
основе». Аргументация, с позволения сказать, была типичной для прежних
времен: «в этой и других статьях по критике буржуазной философии нет
по существу критики, а имеется лишь нарочито усложненное (!)
изложение взглядов буржуазных философов». И дальше — насчет «крупных
пороков» других статей, воспроизводящих-де «всевозможные
фидеистические и буржуазные измышления» (Там же. С. 146).
Итак, те люди, которым по заведенному ранее идеологическому
ритуалу полагалось каяться, признавать «идейные ошибки», не
собирались этого делать — даже под угрозой (тогда вполне реальной) ухода с
каких-то постов и позиций. Ибо их опорой — тоже вполне реальной —
была та часть отечественной философии, которая уверенно шла по
исследовательскому пути. Общий вывод: социальный контекст, в котором
в 70-х — первой половине 80-х годов развивалась философия, был
противоречивым. С одной стороны, многие условия, в силу которых
существовал идеологический прессинг в философии, сохранились и в 70-х —
первой половине 80-х годов; в некоторые годы и в некоторых отношениях
эти условия даже ухудшились по сравнению со второй половиной 50-х
и с 60-ми годами. С другой же стороны, неортодоксальное философское
сообщество удержало и даже расширило, укрепило свои позиции — а
проработки и захватившая — в роли обличителей — иных почтенных историков
философии, которым никак не надо было выступать в этом качестве. (Возможно, им показалось,
что посыпавшийся идеологический град— всерьез и надолго...) В статье, написанной
тремя авторами из ИФАН (В. Бибихин, Б, Григорьян, Н. Мотрошилова), был выражен
решительный протест против возврата к стилю и методам печально знаменитых «философских
дискуссий».
'См. Философия не кончается... Кн. И. С. 148.
72 •
Раздел II
вместе с этим расширяла свой плацдарм исследовательская по своему
характеру отечественная философская мысль. Для будущего это
оказалось очень важным.
В данной связи снова хочу сослаться на слова А. Гусейнова из
цитированной ранее статьи: «Постперестроечная (постсоветская) судьба
шестидесятников в разных сферах культуры сложилась по-разному. Из
одних, как, например, из политологии их вытеснили полностью. В
других, как, например, в литературе их перевели в разряд „почетного
президиума" Философия — та сфера, где их судьба оказалась, пожалуй,
самой счастливой. Последние пятнадцать лет они обнаружили большую
творческую активность и до настоящего времени являются основной
«несущей конструкцией» нашей отечественной философии...»1.
Для нашей философии сегодняшнего дня, в которой «основной
несущей конструкцией» являются люди в весьма почтенном возрасте, эта
констатация, пожалуй, тревожная. Но если речь идет о деятельности
поколений, начинавших в 50-60-х годах, то это достаточно высокая оценка.
При осмыслении процессов, которые в 70-х годах происходили в
отечественной философии — и, в частности, тех, которые касаются
социального контекста ее развития, следует учесть тот факт, что к поколению
«шестидесятников» тогда присоединились совсем молодые люди,
вступившие на стезю самостоятельного творчества именно в седьмое
десятилетие XX века. Чем же отличалось это новое поколение?
« Семидесятники »
В 70-е годы (и особенно в конце их, а также в начале 80-х годов)
новые поколения снова же вошли в философию достаточно заметными
«квантами». Важно вот что: это были философы, которые уже в 70-х, но
в особенности в 80-х годах могли более свободно делать выбор между
тем, что по привычке изображалось «генеральной линией» в философии,
но давно уже не было ею, и тем новым, что дали 50-60-е годы. У
философов, которые ранее были представителями неофициального сообщества,
а теперь уже и сами составляли часть институциональных структур,
появились свои ученики; научные школы (о начале их истории говорилось
ранее) пополнялись и множились по всей стране. Возникали и новые
исследовательские объединения и сообщества.
Представляется оправданным утверждать, что поколения,
пришедшие в философию в 50-60-е и в 70-х годах, оказались близкими друг
другу, причем и в официальных структурах, и в неофициальных
сообществах. Что касается последних, то требуется специальное уточнение. Ведь
те, кого впоследствии назвали «шестидесятниками» — это люди,
которые, в строгом смысле слова, в 60-х годах только выходили на арену
творческой деятельности в области философии и, создавая первые свои ра-
1 Цит. по: Мотрошилова Н.В. Работы разных лет. М., 2005. СП.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 73
боты, известность, авторитет, влияние обретали уже в 70-х годах. Здесь
было (ясно отмеченное А. Гусейновым, одним из ведущих современных
философов, вошедших в отечественную мысль именно в 70-х годах)
отличие от литературы, публицистики, то есть от тех областей, где
бурление идей, умонастроений, общественно-политических страстей
происходило именно в шестидесятые годы. Яркие звезды там зажигались быстро,
вдруг, неожиданно — и, увы, нередко очень скоро угасали или пропадали
с культурного небосклона. Философия же 60-х, в которой были сделаны
первые шаги, требовала — как всякая сфера преемственного
исследования — шагов последующих. И они были сделаны, несмотря на все
трудности и препятствия. А поколение, только вступавшее на дорогу
творческого, духовного развития в 70-е годы, скорее в 80-х стало более
уверенно заявлять о себе в различных областях науки и культуры,
включая философию. В частности, и этими обстоятельствами объяснялось
духовное родство двух-трех поколений наших философов,
принадлежавших к неортодоксальному сообществу.
Вместе с тем философы, которые в 70-80-х годах были не
относительно, а действительно молодыми, уже отличались от пятидесятников-
шестидесятников целым рядом особенностей работы, сама возможность
которых была бы немыслимой без противоречивого опыта
шестидесятников. Им уже не нужно было проходить через борьбу, трагедии; им можно
было не бояться прежних опасностей или не принимать их всерьез. В
философию пришли люди, которые могли не отдавать дань идеологической
ритуалистике, не идти окольными тропами к изучению западного
опыта — одним словом, они могли не тратить время, силы на идеологические
вненаучные околичности и были способны сконцентрироваться на самой
сути дела. Эффект был простым и весьма существенным, хотя во всей его
значимости проявился лишь в наше время: если авторам, начинавшим
в 50-60-е годы, при перепечатке своих первых работ хотелось и подчас
приходилось кое-что, а порой и многое, исправлять именно из-за
идеологической «орнаменталистики», то авторам 70-х и 80-х вряд ли надо было
делать подобные купюры.
Еще более значимым было изменение, затронувшее освоение той
западной литературы, которая появлялась в те же 70-80-е годы. Наши
более молодые коллеги после провала реваншистских проб сталинистов
уже могли, особенно в 80-х годах, отправляться на учебу и стажировку
на Запад и Восток, знакомиться с видными зарубежными коллегами,
учиться у них, писать о них, беря информацию и оценки не из вторых
рук, да и во многих других отношениях действуя более свободно и
самостоятельно, чем мы, шестидесятники, в пору нашей молодости.
Соответственно изменилось положение с овладением иностранными
языками. Наши молодые коллеги могли, выезжая за рубеж по стипендиям (как
правило, иностранным), самыми простыми, эффективными способами
усовершенствовать разговорный и письменный язык, что называется, на
месте, так что свободное владение двумя-тремя языками сделалось яв-
74 •
Раздел II
лением совсем не редким. Доступ к литературе, взаимодействие с
мировой философией было, конечно, следствием одаренности, трудолюбия
молодежи 70-80-х годов. Но это было и следствием трудных завоеваний
предшествующих периодов.
Здесь хотелось бы сформулировать ряд общих тезисов, которые в
свете сказанного в предшествующей главе о противоречиях, трудностях
развития философии могут выглядеть слишком оптимистичными, но
которые я постараюсь вполне конкретно подтвердить в ходе дальнейшего
анализа.
В 70-80-е годы в отечественной философии на первый план
выдвинулись исследовательские усилия в самых различных проблемных
областях, результаты которых оправдано считать
научно-теоретическими, методологическими достижениями, точками роста для
дальнейшего развития философского знания.
В результате современных (post factum проведенных)
исследований обнаружилось, что существовала «спонтанная параллельность» или
прямая содержательная перекличка парадигмальных идей, которые либо
синхронно по времени появлялись в нашей стране и на Западе, либо
разрабатывались у нас на родине вслед за новейшими тогда западными
концепциями — и очень нередко с критических и самостоятельных позиций.
• В конкретных взаимодействиях отечественных и западных
философов в 70-х— первой половине 80-х годов были свои взлеты и падения,
зависевшие, в конечном счете, от перипетий в сфере международных
отношений. Но именно в 70-х состоялись события, завязались контакты,
вплоть до совместных исследований и публикаций отечественных и
зарубежных философов, которые приобрели относительную
самостоятельность по отношению к колебаниям политической конъюнктуры. (Такие
события и взаимодействия в дальнейшем будут выборочно рассмотрены.)
Хочу снова оговорится, что для полного отображения истории
исследуемого периода даже с особой проблемной точки зрения пришлось
бы писать работу огромного объема. Выход здесь был один — выбрать
лишь отдельные области философских исследований, в которых
достигнутые результаты были теоретически значимыми, признанными
отечественным, а отчасти и мировым сообществом, и которые наиболее
понятны, близки автору этих строк.
Для дальнейшего более конкретного историко-философского
исследования, теперь уже в большей мере обращенного не к внешним, а к
внутрифилософским — и именно к эвристическим,
теоретико-методологическим факторам, были выбраны следующие главные проблемные
сферы. Это, прежде всего, самые близкие мне области — история
философии; далее, это философия и методология науки (с выходом в социально-
философскую и социологическую проблематику науки). Выбор только
данных областей не означает какой-либо недооценки достижений в
других сферах отечественного философского знания. Так, среди дисциплин,
которые у нас в стране долгое время развивались в рамках философии,
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 75
да и сегодня существуют институционально, а отчасти и
проблемно-теоретически, в союзе с ней, на первое место нельзя не поставить логику.
Далеко не случайно ранее не раз упоминалось о философском
значении дискуссий в логике, о научном вкладе крупнейших отечественных
логиков и их роли в неортодоксальном сообществе. Вполне
закономерно и то, что две важнейшие вехи развития нашей науки —
«Философская энциклопедия» 60-х годов и «Новая философская энциклопедия»
начала XXI века — отразили и выразили объективное мировое значение,
а отчасти и мировое признание разработок отечественных логиков, всей
длительной истории их исследовательских усилий. Но я не специалист в
области логики, почему не могу взять на себя задачу подводить итог ее
развития в нашей стране. К счастью, сами логики осветили и
продолжают освещать историю развития своей дисциплины в интересующий нас
период (на часть этих работ ранее уже делались и еще будут делаться
ссылки).
Итак, за кадром последующего анализа останется очень многое. Да
и о том, что сохранится в кадре, придется говорить обобщенно, скорее в
типологическо-резюмирующем ключе, нежели в конкретном
повествовательном стиле. Еще одна оговорка. При анализе неофициальной
философии 50-60-х годов акцент был сделан на достижениях, сдвигах,
которые она с собой принесла. Что и понятно, если учесть, какие трудности,
препятствия — внешние и внутренние (связанные с преобразованием
собственных мыслей, установок, ценностей) — пришлось преодолеть на
пути к новому знанию. Теперь же, скажем, применительно к более
свободному периоду 80-х годов, уместно поговорить не только о сдвигах и
достижениях, но и о том, что не удалось, что не было сделано или
доделано. Поговорить о возможностях, которые, увы, оказались упущенными...
ГЛАВА ВТОРАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ В 70-80-Х ГОДАХ XX ВЕКА
Продолжая более конкретный анализ отечественных
историко-философских исследований, начатый в предшествующих главах, надо
отметить: главные действующие лица здесь те же, что названы, скажем, в
связи с «Философской энциклопедией», однако и с существенным
добавлением имен представителей новых поколений, влившихся в
философский дискурс именно в 70-80-х годах.
Мы уже упоминали о распространенном мнении, согласно которому
логика, философия науки, гносеология, история философии были своего
рода нишами, создававшими возможности более свободного от идеологии
исследования1. Говоря об истории философии как одной из таких ниш,
считаю себя обязанной отозваться на следующее суждение Э.
Соловьева: «Сегодня бытует мнение, будто на протяжении всего послевоенного
периода российские философы добивались чего-либо достойного лишь в
той мере, в какой им удавалось укрыться в нишу историко-философских
штудий. Это плохо продуманная легенда. В действительности историко-
философский эскапизм дает о себе знать не ранее середины 70-х годов»2.
Соглашаясь с Э. Соловьевым в том, что более основательный уход
отечественной истории философии от давления идеологии (сказано,
однако, слишком сильно: «историко-философский эскапизм») произошел
к середине 70-х годов, можно, тем не менее (хотя и с рядом оговорок),
акцентировать особое объективное качество истории философии,
позволявшее и в 20-30-х, и в 40-50-х, и тем более в 60-х годах проводить
в ней отдельные качественные исследования. Этому как будто
противоречит факт, разобранный ниже и упоминаемый также у Э. Соловьева —
идеологические удары, в 40-х годах нанесенные именно и прежде всего
истории философии. Однако, как ясно из сказанного ранее, история
философии «попалась под руку» во многом из-за сплетения ряда случайных,
чисто ситуационных, конъюнктурных обстоятельств (после войны с
германским национал-социализмом было всего «эффектнее» ударить по той
области, где немецкая философская мысль — как скажем, в III томе
«Истории философии» — была предметом специального интереса). А еще и
потому, что историки философии даже тогда, в 40 и 50-х годах, так или
иначе могли поставлять профессиональное знание, всегда раздражавшее
1 См., например, Степин B.C. От философии и методологии науки к философской
антропологии // Познающее мышление и социальное действие. М., 2004. С. 143.
2 Соловьев Э.Ю. Философский журнализм шестидесятых... // Философия не
кончается. Кн. II. С. 115.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 77
идеологов. Значит, история философии (и не только по моему мнению)
все же была нишей, позволявшей вести исследовательскую работу.
Это происходило и благодаря доброй воле самих исследователей, но
также и в силу специфических особенностей историко-философского труда,
прежде всего касавшегося истории западной философии. (С историей
русской философии дело до определенного времени обстояло куда хуже:
отдельные источники при желании мог добыть всякий, кто читал
по-русски, хотя бы и по складам...) Писать же о Декарте, Канте, Гегеле,
соответственно учить студентов истории философии нельзя было без
соответствующей квалификации. И далеко не всякий идеологический цензор
или добровольный доносчик мог последовать за выдающимися
историками философии А. Лосевым, В. Асмусом, Б. Чернышевым, В. Соколовым
в сферы их исследований. Поэтому и 20-30-е, а особенно в 50-60-е годы
появлялись историко-философские книги, статьи, разделы — в том
числе в раскритикованных (!) учебниках, которые сохранили свое значение
до сего времени. Разумеется, то была совсем небезопасная ниша,
которая не давала гарантированного укрытия — ну а какая другая
предоставляла его? Ведь и в логике, не говоря о теории познания, о философии
естествознания и науки, то и дело гремели свои бури1. Впрочем, я думаю,
что мой небольшой спор с Э. Соловьевым не отменяет ни реального
значения отмеченных им осложняющих обстоятельств, ни акцентирования
значимости все же достигнутых в истории философии результатов. А
теперь перейду к более подробной характеристике тех достижений
отечественной истории философии, которые считаю наиболее важными, вполне
сопоставимыми с западными исследованиями в тех же проблемных
областях и по сходным темам.
Именно в 70-х годах благодаря пусть относительной, но все-таки
отвоеванной свободе, был напечатан ряд весьма ценных работ известных
отечественных историков философии старших поколений. На первое
место здесь надо поставить поистине фундаментальные труды не раз
упоминавшегося Алексея Федоровича Лосева, которые он вынашивал
всю свою творческую жизнь, наполненную испытаниями, внутренним
драматизмом. Это была, прежде всего, «История античной эстетики»
1 Время как бы сгладило все особенно острые углы, оставив будущему, в основном,
позитивные исследовательские результаты. Но ведь в каждом звене деятельности, в
каждой, условно говоря, «нише» новое с большим трудом завоевывало свое место именно в
борьбе со старым — с идеологическим догматизмом марксистско-ленинской философии.
Уж на что, казалось бы, далека была от идеологии логика, формальная и математическая.
Однако, как вспоминал В.А. Смирнов, на кафедре логики МГУ, где в 1949 году работали
известные профессионалы (В. Асмус, П. Попов, А. Ахманов, Н. Воробьев, Е. Войшвилло),
все же «доминировали «диалектические логики»; по образному выражению Н.В. Воробьева,
руководство кафедры пришло с заданием разоблачить логический менделизм-морганизм»
(См. выступление В.А. Смирнова на круглом столе, посвященном В.Ф. Асмусу / /
Философия не кончается. Из истории отечественной философии. XX век, 60-80-е гг. С. 315).
Более подробно об идеологических гонениях, направленных против формальной логики, см.:
Бажанов В.А. Партия и логика. К истории одного судьбоносного постановления ЦК
ВКП(б) 1946 года //Логические исследования. Выпуск 12. М., 2005. С. 32-48.
78 •
Раздел II
(т. I—VI. M., 1963-1980, в последующие годы были опубликованы также
VII и VIII тома); началось опубликование также и тех лосевских работ
довоенного советского времени, которые идеологические надсмотрщики
долго пытались перечеркнуть, опорочить, предать забвению. Благодаря
всей совокупности работ Лосева (к которым надо присоединить
небольшую многострадальную книгу «Владимир Соловьев и его время»,
опубликованную только в 1990 году) в конце концов возвысился, несмотря на
все преследования и препятствия, целый исследовательский «лосевский
континент». Вместе с публикациями A.A. Тахо-Годи, а также крупнейших
наших философов, пытавшихся (если воспользоваться заглавием одной
из работ С.С. Аверинцева) обеспечить «подступы к явлению Лосева» и
продолжить его дело, мы располагаем здесь целым массивом историко-
философских, историко-культурных исследований, которым — без
всяких сомнений и скидок — принадлежит почетное место в мировой
истории философии как науке.
Отвлекаюсь сейчас от всегда трудного вопроса о том, насколько
это известно самой философской науке Запада и признано ею. В случае
А. Лосева, впрочем, можно одновременно говорить и о состоявшемся
признании, и о том, что оно могло быть более широким, ясным и четким1.
Я же считаю, что А. Лосев — фигура не меньшего масштаба, чем Г.-Г. Га-
дамер, широко признанный на Западе выдающимся философом XX века.
Поскольку о А.Ф. Лосеве уже много написано2, позволю себе
ограничиться вышесказанным.
Подобным образом применительно к другой крупной фигуре
отечественной истории философии, В.Ф. Асмусу, можно, полагаю,
удовлетвориться, в силу полной ясности его весомого научного вклада,
нижеследующими констатациями. Кроме уже упомянутых статей в «Философской
энциклопедии», в 50-70-х годах он опубликовал ряд важных монографий
по истории философии и логике, которые являются работами мирового
класса: «Декарт» (М., 1956); «Проблема интуиции в философии и
математике» (М., 1963, 2-е издание — 1965); учебное пособие «Античная
философия» (М., 1968, 2-е издание — 1976); «Иммануил Кант» (М., 1973);
«Платон» (М., 1975); «Избранные философские труды» (Т. 1-2. М., 1969т*
1971). В эти же годы В.Ф. Асмус активно участвовал в издании трудов
классиков мировой философии — Платона, Канта, В. Соловьева и др.
Учитывая также книги и статьи, все-таки просочившиеся в печать в
подцензурное советское время и в определенной мере пострадавшие от
жесткой необходимости приспосабливаться к идеологической цензуре
1 Так, в международном индексе философских сочинений, имеющемся в Библиотеке
Конгресса США, насчитывается около 30 работ, посвященных А.Ф. Лосеву и написанных в
последние 20 лет. Учитывая, что заметную их часть написали наши соотечественники,
результат, увы, можно считать довольно скромным.
2См.: Лосев. М., 1997. См. также статью «Лосев» и библиографию к ней //
Алексеев П.В. Философы России XIX-XX столетий. М., 2002. С. 564-567. См. работы о Лосеве,
приведенные в Библиографии.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 79
(«Диалектика Канта», М., 1929; «Маркс и буржуазный историзм». М.-Л.,
1933 и др.), принимая в расчет документально засвидетельствованные
заслуги в педагогической деятельности, — можно говорить и о
творчестве В.Ф. Асмуса как о крупном явлении, вполне сопоставимом с
вкладом ряда известных западных историков философии и культуры. Что
же касается непосредственного влияния на коллег и учеников этого
высокообразованного университетского профессора, подлинного
интеллигента, незаурядной личности, то нельзя не согласиться с Т. Ойзерманом,
сказавшим: «Все мы, российские историки философии, являемся прямым
или косвенным образом учениками профессора Асмуса»1. (Кстати, то же
можно сказать о самом Т. Ойзермане или В. Соколове — применительно
к последующим поколениям отечественных историков философии.)
О том, сколь драматически складывались в раннее советское время
судьбы подвергавшегося репрессиям А. Лосева и систематически
«прорабатываемого» В. Асмуса, хорошо известно из множества свидетельств
и публикаций. Но даже в 60-70-х годах, когда, казалось, наступило их
время, когда их подчас демонстрировали западным коллегам и когда
стали выходить (пусть после преодоления различных препятствий) их
работы, классические для истории отечественной философии, обстановка
для них не стала простой, а оставалась противоречивой и напряженной.
Например, по свидетельству В. Смирнова, «В.Ф. Асмус был
«невыездным». Он был хорошо известен за рубежом, избран действительным
членом Международного института философии в Париже еще в 50-е годы,
но не мог принять ни одного приглашения, так как не имел разрешения
на выезд»2. А после того, как Асмус произнес крамольную, с точки
зрения идеологов, речь на могиле своего друга, опального Нобелевского
лауреата Б. Пастернака, он сам в очередной раз попал в опалу... А ведь за
опалой стояли другие удары3.
1 См. Философия не кончается... Кн. И. С. 304. См. также: В.Ф. Асмус. Москва. РОС-
ПЭН. 2010. В. Асмус был и моим учителем: я писала у него дипломную работу о втором
томе "Логических исследований" Э. Гуссерля; он был рецензентом моей первой книги,
оппонентом на защите докторской диссертации.
2 Смирнов В А. Выступление на круглом столе «Вопросов философии» / / Философия
не кончается... Кн. П. С. 319. Кстати, на вопрос о причине такого запрета вряд ли
существовал вразумительный ответ: Асмус всегда вел себя вполне лояльно. И тем не менее всегда
был под подозрением... Но ведь этим средством — отказом выдать разрешение на выезд за
границу (для участия в чисто научных мероприятиях) — власть пользовалась весьма
широко, чтобы выразить недоверие «неблагонадежным», с чьей-то точки зрения, ученым и
деятелям культуры. (Формально это делалось через ревностные, однако, подставные комиссии
пенсионеров при РК КПСС.) Так, «невыездным» немало лет был М. Мамардашвили. После
назначения в ИФАН директором Б. Украинцева, верного приспешника В. Ягодкина,
некоторым сотрудникам сразу перекрыли возможности выезда в капиталистические страны
(в течение восьми лет, в 1974-1981 годах, и я была в их числе).
3 Помню одну встречу с Валентином Фердинандовичем. На нем, что называется, не
было лица. Спросила о причине. Учитель рассказал — с огромной горечью — о том, что «они
рассыпали набор» книги с критическими статьями Б. Пастернака, к которой Асмус написал
обширную аналитическую вводную статью. Кто «они», было ясно без лишних слов...
80 •
Раздел II
Очень важно, что и А. Лосев, и В. Асмус в своих
историко-философских работах так или иначе принимали в расчет западную литературу
освещаемых ими тем и вопросов — а добыть эту литературу для ученых
нашей страны в то время было чрезвычайно трудно. Так, в классической
книге «Декарт», вышедшей в 1956 году, Асмус опирается на весь корпус
известных к тому времени сочинений великого французского философа
(как на латинском, так и на французском языках); он также привлекает к
рассмотрению важнейшие источники (переписку, мемуары, биографии и
т. д.) Работы о Декарте, вышедшие на Западе к началу 50-х годов XX века,
в книге Асмуса осмыслены, притом с вполне самостоятельных позиций.
Так, в книге (с. 361) имеется содержательная полемика с Ж.-П. Сартром
относительно толкования проблемы свободы у Декарта. В монографии
«Иммануил Кант» особенно впечатляет перекличка с тогдашней западной
литературой, посвященной кантовской «Критике способности суждения».
Что касается именно сравнительного аспекта нашей темы —
сопоставления развития отечественной мысли 50-80-х годов с философией
Запада, то здесь можно говорить о существовании исторического
противоречия. Сначала об одной его стороне.
С одной стороны, в отечественной истории философии работали
разные поколения, представители которых по самому предмету своих
занятий (особенно если это была философия Запада или Востока) должны
были владеть иностранным языком, подчас не одним, читать первичную
литературу (первоисточники) в оригинале, прибегать к вторичным
зарубежным источникам и т. д. И весьма немалое число историков
философии уже удовлетворяло этим требованиям, для истории мысли
необходимым, элементарным.
В 60-80-е годы появились произведения, прочно вошедшие в
исследовательский фонд отечественной истории философии. По большей
части их писали авторы, которые (по основному месту работы или по
совместительству) преподавали историю философии, создавали учебники и
учебные пособия. Перечисление имен всех отечественных
авторов-исследователей и преподавателей истории философии, ставших
известными к середине 80-х годов, а также их сочинений, заняло бы не одну
страницу1. История философии, конечно, не полностью укрывала их от чисто
1 Приведу неполный перечень имен историков философии, сочинения которых, с моей
точки зрения, к середине 80-х годов заняли свое место именно в исследовательской
истории отечественной, а в ряде случаев и мировой философской мысли: А.И. Абрамов,
М.А. Абрамов, С.С. Аверинцев, Н.С. Автономова, И.С. Андреева, Ц.Г. Арзаканян, В.Ф.
Асмус, A.C. Ахманов, A.B. Ахутин, В.У. Бабушкин, Г.А. Багатурия, K.C. Бакрадзе, В.В. Биби-
хин, A.C. Богомолов, В.М. Богуславский, Т.В. Васильева, И.С. Вдовина, В.П. Визгин,
А.И. Володин, P.M. Габитова, Н.К. Гаврюшин, П.П. Гайденко, P.A. Гальцева, М.А. Гарнцев,
Б.Т. Григорьян, М.Н. Громов, А.Ф. Грязнов, В.Д. Губин, A.B. Гулыга, A.A. Гусейнов,
Ю.Н. Давыдов, Т.Б. Длугач, А.Л. Доброхотов, K.M. Долгов, Г.В. Драч, А.Н. Ерыгин,
В.А. Жучков, Г.А. Заиченко, А.Ф. Зотов, Л.А. Калинников, З.А. Каменский, В.К. Кантор,
A.M. Каримский, Ф.Х. Кессиди, М.А. Киссель, Л.А. Коган, М.С. Козлова, B.C. Костюченко,
В.Н. Кузнецов, Т.А. Кузьмина, В.В. Лазарев, В.М. Лейбин, А.Ф. Лосев, К.Н. Любутин,
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 81
идеологических давлений (да, кстати, не все считали необходимыми от
них уберегаться), но объективная сила сопротивления по отношению
к идеологии, которая исходила от самого предмета занятий — мировой
философии в ее развитии, была достаточно велика. (Здесь, кстати,
идеологический «орнамент» было легко отделить от содержательного текста,
и читатели быстро научились его отсмысливать, «заключать в скобки»...)
В силу разных причин в 60-70-е годы значительно расширились
возможности непосредственных контактов философов нашей страны
с коллегами из стран Запада. Т. Ойзерман (в то время заведующий
кафедрой истории философии философского факультета МГУ)
свидетельствует: «В первой половине 60-х годов гостями профессоров
философского факультета были такие известные западные философы, как А. Айер,
П. Рикёр, Ж. Ипполит, Э. Вейль»1. Более того, в интересующий нас здесь
период 50-80-х годов произошло немало событий, свидетельствующих
о начавшемся преодолении изоляционизма в жизни философов
нашей страны. (Ключевому историко-философскому событию этого рода,
Международному гегелевскому конгрессу, состоявшемуся в Москве в
1974 году, далее будет посвящено case study.)
Так или иначе, отечественные историки философии к 80-м годам
накопили хотя и трудный, но в целом позитивный исследовательский опыт,
выразившийся в значительном расширении регионов исследования, в
углублении профессиональной работы, в учете результатов, накопленных
в мировой историко-философской науке. Это можно, например, сказать
об исследованиях античной философии, немецкой классической мысли,
западной философии XX века.
Зарубежная литература по разным каналам все же проникала в
исследовательское поле отечественной истории философии. Чтобы убе-
Г.Г Майоров, M.K. Мамардашвили, Б.В. Мееровский, Ю.К. Мельвиль, A.B. Михайлов,
A.A. Михайлов, В.И. Молчанов, А.Г. Мысливченко, И.С. Нарский, А.П. Огурцов, Т.И.
Ойзерман, А.Т. Павлов, В.А. Подорога, В.Ф. Пустарнаков, A.M. Руткевич, K.A. Свасьян,
A.B. Семушкин, В.В. Сербиненко, Я.А. Слинин, З.В. Смирнова, В.В. Соколов, З.А. Сокулер,
Э.Ю. Соловьев, М.Т. Степанянц, Г.Я. Стрельцова, А.Л. Субботин, А.Д. Сухов,
Г.М. Тавризян, A.A. Тахо-Годи, Н.Ф. Уткина, Е.А. Фролова, А.Н. Чанышев, С.А. Чернов,
Н.С. Юлина и др.
Примечание: здесь (в соответствии с временными рамками моей книги) не упомянуты
авторы, чьи основные работы начали выходить позже 1985 года.
1 Ойзерман Т.И. Выступление на круглом столе / / Философия не кончается... Кн. II.
С. 304. Приведу также свидетельство В. Садовского о международных контактах журнала
«Вопросы философии»: «Постепенно установились серьезные научные контакты с
видными зарубежными учеными и философами: еще в конце 50-х — начале 60-х годов журнал
посетили Н. Винер, Ж.-П. Сартр и другие; в 60-е годы мы принимали Ж. Пиаже, У. Росс
Эшби, большую группу ведущих зарубежных психологов — участников проведенного в
1966 году в Москве XVIII Международного психологического конгресса, и др.» (Садовский
В.Н. «Вопросы философии» в шестидесятые годы // Философия не кончается... Кн. И.
С. 96-97.) Особая история — почти ежегодные в 60-х годах визиты в СССР Ж.-П. Сартра и
Симоны де Бовуар; они продлились ровно до вторжения в Чехословакию в августе
1968 года, вообще нанесшего огромный урон всем научным, культурным контактам с
Западом. К счастью, полностью контакты и взаимодействия не прекратились.
6 Н. В. Мотрошилова
82 •
Раздел II
диться в этом, достаточно взять книги и статьи любого, в сущности, из
наших признанных (перечисленных ранее в одной из сносок) историков
философии, появившиеся в 60-70-е годы: в их поле зрения, как правило,
попадала западная литература вопроса, и она чаще всего освещалась
основательно, содержательно, серьезно.
Фактически к началу 80-х годов у нас в стране существовала
совсем неплохая информация о самых новых тогда направлениях и
наиболее крупных, к тому времени проявивших себя западных философах XX
века, относимых к неокантианству, неогегельянству, философии жизни,
прагматизму, неопозитивизму, неотомизму, неореализму, критическому
реализму, операционализму, феноменологии, экзистенциализму,
структурализму и другим направлениям западной философии.
Необходимо особо упомянуть о тех историко-философских
исследованиях, в которых именно в 70-80-х годах наметился, а в 90-х годах
произошел кардинальный сдвиг. Я имею в виду прежде всего отечественную
историко-философскую медиевистику. В 70-80-х годах новую жизнь в
нее вдохнули В. Соколов, С. Аверинцев, Г. Майоров и другие авторы.
Кстати, здесь наша философская медиевистика шла рука об руку с
западной мыслью, где в те же годы (то есть сравнительно поздно) наметилось
новое оживление в исследовании этой важнейшей традиционной сферы
истории философии.
Другая область истории философии, в которой радикальные
изменения совершились уже к концу XX — началу XXI веков, — это
история восточной философии. В данной сфере в русской мысли были свои
ценные традиции. Однако только в указанное время востоковедная
философия превратилась в самостоятельную исследовательскую и
учебную дисциплину, в чем огромную роль сыграли М.Т. Степанянц и
сотрудники руководимого ею Центра восточных философий ИФАН, при
котором выросли в исследователей мирового класса Е. Фролова, В.
Шохин, В. Лысенко, А. Смирнов, А. Кобзев и другие философы. Поскольку
становление этого Центра происходило в (относительно) свободный от
давления идеологии период, выполнялись и сейчас выполняются
впечатляющие своим масштабом и своей содержательностью совместные
.проекты с восточными и западными коллегами.
Совсем иначе сегодня — и именно в результате того, что
произошло в 80-90-х годах — выглядит история русской философии. Настоящий
перелом в этой области произошел, правда, только благодаря
перестройке, но и в 70-х — первой половине 80-х годов здесь постепенно
накапливался исследовательский потенциал благодаря работам 3. Каменского,
3. Смирновой, Л. Когана, Н. Уткиной, А. Сухова, В. Горского, В. Ничик,
Р. Гальцевой, И. Роднянской, М. Громова, В. Пустарнакова, С. Половин-
кина, С. Хоружего, Б. Емельянова, В. Кантора, М. Маслина, А.
Абрамова, А. Доброхотова, В. Сербиненко, А. Ермичева,А. Евлампиева, В. Гав-
рюшина, С. Роцинского, С. Семеновой и др.
Нельзя забывать и о том, что известные историки западной
философии, чьи имена названы ранее, одновременно известны своими блес-
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 83
тящими исследованиями русской философии. Это А. Лосев, В. Асмус,
А. Гулыга, П. Гайденко, С. Аверинцев, Э. Соловьев и др.
До сих пор мы говорили о позитивных сдвигах, произошедших в
отечественной истории философии в 70-х — первой половине 80-х годов, —
о тех, которые образуют один, именно позитивный, полюс, одну сторону
характеризуемого здесь противоречия. Но была и другая сторона
противоречия, и она вплоть до перестройки, т. е. до середины 80-х годов,
все еще проявляла свое действие, которое результировалось в простых и
понятных негативных факторах. Суммирую некоторые из них.
Несмотря на то, что иностранная литература, как сказано,
проникала в историко-философскую область (и возможно, в нее в большей,
чем в другие сферы, ибо книги об Аристотеле, Декарте, Спинозе, Канте
не считались «идеологически вредными»), здесь тоже не было
систематичности, регулярности в поступлении книг и журналов. Подчас в СССР
попадали далеко не лучшие зарубежные работы. Действовал еще один
простой житейский фактор, незнакомый западным коллегам: на
заработок в советских рублях невозможно было купить книги (как, впрочем, и
другие товары зарубежного рынка), продававшиеся за валюту.
• Доступ отечественных ученых на зарубежные философские
конгрессы, конференции, симпозиумы был затруднен, причем, как ни
прискорбно, именно для специалистов в соответствующей области. Была
такая присказка, вкладываемая в уста западных коллег: «Мы
приглашаем из СССР Петрова, а оттуда присылают двух Ивановых...». И верно:
в «советских делегациях» на одного философа-профессионала,
выезжавшего за рубеж, приходилось как минимум два философских начальника
и один профессионал из совсем другой области. С гегелеведческими или
кантоведческими зарубежными форумами вообще была беда, ибо
заведомо предполагалось, что каждый верный марксист пишет и говорит о
Гегеле и Канте «правильнее», чем самые видные западные гегелеведы и
кантоведы.
• В стране, гордившейся своим плановым хозяйством — с его (также
и в науке введенной, до сих пор существующей) отчетностью, — не
удавалось достигнуть того, чтобы наиболее важные вехи и самые главные
фигуры истории философской мысли были сколько-нибудь
систематически охвачены современным исследованием. И если в западных
странах издавна и преемственно существуют самые различные издательские
серии, соответствующие общества и т. д., которые не упускают из виду
«своих» мыслителей, «свои» исторические периоды, то в нашей стране
целому ряду крупных философов прошлого так и не посвятили солидных
монографий, биографий, сопоставимых как с западными источниками,
так и со знаменитым «триптихом» А. Гулыги (книги «Кант», «Гегель»,
«Шеллинг», опубликованные в серии ЖЗЛ и затем переведенные на
иностранные языки) или с книгой Э. Соловьева о М. Лютере. Несмотря
на оживление в 70-90-е годы работы по изданию переводов классиков
мировой философии, говорить о полноте охвата переводами истории
6*
84 •
Раздел II
мысли и о строгом соблюдении критериев академических изданий до сих
пор не приходится.
• В каждой из конкретных областей истории философии у нас и на
Западе сложились относительно различные традиции. Наши авторы, даже
если они вели исследовательскую работу, далеко не всегда могли ранее
и не могут сегодня вписаться в контекст западных исследований,
посвященных тому же философу или периоду истории философии.
• На всех этапах развития отечественной философии, включая
сегодняшний, не было предпринято и ныне не предпринимается решительно
никаких усилий для того, чтобы наиболее значительные,
фундаментальные работы наших философов переводились на иностранные языки.
Более того, инициативы западных коллег, заинтересованных в таких
переводах, у нас в стране сразу же пресекались властью на разных ее
уровнях. Поэтому западные исследователи, лишь в очень редких случаях
владея русским языком, издавна привыкли работать, не обращая
внимания на результаты и достижения философов нашей страны (и это даже в
случаях, когда имена последних так или иначе становились известными
на Западе).
Высказанные здесь мысли и оценки, принимающие во внимание оба
полюса отмеченного противоречия, хочу доказать и развернуть далее на
конкретном примере.
Case study: Международный гегелевский конгресс в Москве
(26 — 31 августа 1974 года)
То был настоящий исторический прецедент: в Москве провело свой
очередной, X конгресс Международное гегелевское общество! Нет
сомнения в том, что уже сам этот факт явился совокупным результатом
рассмотренных ранее изменений, произошедших в 50-60-х годах в духовной
культуре нашего отечества, в международных отношениях; он также был
проявлением интереса, который западные коллеги стали испытывать по
отношению к философскому развитию огромной, незнакомой им страны.
Мало сказать, что конгресс был представительным; для философскрго
форума, посвященного одному философу (даже если этот философ —
Гегель), он был весьма многочисленным. «В работе конгресса, — писали в
«Вопросах философии» Ц.Г Арзаканян и A.A. Сорокин, — участвовало
свыше 500 ученых из 22 стран, в том числе 200 философов из
капиталистических стран, более 300 — из социалистических, из них свыше 200
участников из Советского Союза»1.
Сразу скажу, что столь многочисленное собрание вряд ли могло на
всех своих заседаниях обсуждать специальные проблемы гегелеведения
на действительно высоком профессиональном уровне. Тем не менее
количество тех участников конгресса из капиталистических стран, кото-
1X Международный гегелевский конгресс / / Вопросы философии. 1975. № 2. С. 130.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... • 85
рые уже были известны в мире своими исследованиями философии
Гегеля, оказалось впечатляющим. Из ФРГ приехали Д. Хенрих, М. Петри,
Г. Люббе, Р. Шпаерман, Г. Фульда, М. Теннисен, Г. Засс, А. Пеперзак и
другие. В конгрессе принял участие знаменитый французский философ-
марксист Л. Альтуссер. Что касается философов из социалистических
стран, то некоторые из них — прежде всего М. Бур, Ф. Кумпф, М.
Маркович, И. Зелены — также осуществили ценные исследования немецкой
классической философии, включая учение Гегеля. В конгрессе, конечно,
приняли участие наши гегелеведы в собственном смысле слова, которым
принадлежали специальные исследования философии Гегеля: М.Ф.
Овсянников, Т.И. Ойзерман, A.B. Гулыга, М.А. Киссель; историки
философии, рассматривавшие гегелевское наследие в контексте развития
мировой мысли (А.Ф. Лосев, В.В. Соколов, A.C. Богомолов, И.С. Нарский,
В.И. Шинкарук, В.В. Лазарев, А.И. Володин, B.C. Швырев, Е.П. Ситков-
ский и др.); высокопрофессиональными были доклады и выступления
юристов, изучавших философию права Гегеля — это были B.C. Нерсе-
сянц, Д.А. Керимов, В.А. Туманов, Л.А. Мамут.
Заметным явлением стало участие в конгрессе отечественных
специалистов в области философии естествознания — Б.М. Кедрова
(Председателя оргкомитета конгресса), М.Э. Омельяновского, В.В. Казютин-
ского, П.С. Дышлевого и др. Вполне естественно, что отечественные
философы, занимавшиеся теорией познания, диалектикой, диалектической
логикой (А.Г. Спиркин, М.М. Розенталь, В.А. Лекторский, Г.С. Батищев,
Л.К. Науменко, Ж.М. Абдильдин и др.) также выступили на конгрессе со
своими докладами о Гегеле.
Вероятно, в процессе подготовки конгресса (а его готовили и
проводили Институт философии АН СССР по инициативе тогдашнего
директора Б.М. Кедрова и его заместителя Л.Н. Митрохина, философский
факультет МГУ) официальные лица и идеологически ориентированные
философы делали акцент на массовость участия «советских философов»
и, как всегда, на то, чтобы был «дан отпор» буржуазным философам,
которые подозревались в нежелании и неспособности глубоко анализировать
философию Гегеля, а особенно в стремлении исказить отношение между
гегелевской философией и учением Маркса. Словом, официально
ожидалось и требовалось острое размежевание как раз с профессионалами-ге-
гелеведами из капиталистических стран и солидарность, совместная
работа с многочисленными марксистами, прибывшими на конгресс. В этом
духе и был выдержан подробный отчет, опубликованный в 1975 году в
«Вопросах философии», авторами которого были (вообще-то уважаемые)
коллеги Ц. Арзаканян и А. Сорокин. (Предполагаю, что «идеологический
град» середины 70-х годов, о котором ранее шла речь, сказался на стиле
этого отчета, где во главу угла были поставлены идейные размежевания
марксистов и «буржуазных философов». Да ведь в редколлегию журнала
тогда входили Г. Глезерман, М. Иовчук, Ф. Константинов, Б. Украинцев,
с чем, вероятно, приходилось считаться авторам...) Поэтому данное опи-
86 •
Раздел II
сание не передает, по моему мнению, духа и значения Московского
гегелевского конгресса. Поскольку я была его участницей, позволю
поделиться некоторыми своими впечатлениями (разумеется, субъективными).
Гегелевский конгресс 1974 года был живым и интересным форумом.
Правда, само количество докладов (200!) было чрезмерным; к тому же
было организовано немало вечерних встреч и дискуссий. Существовали
и другие трудности, главной из которых была, пожалуй, языковая,
причем и в том смысле, что приезжие не понимали русского языка, а наши
философы редко когда воспринимали на слух немецкую или английскую
речь, и в том, что философский язык у отечественных и западных коллег
часто был весьма несхожим. Случалось, что на заседаниях, где доклады
произносились по-русски и где не было переводов, присутствовали лишь
наши участники. И наоборот... Тем не менее диалог состоялся!
Наиболее интересными и содержательными были встречи и
заседания, на которых обсуждались конкретные проблемы гегелеведения.
Например, когда А. Гулыга выступил с докладом «Молодой Гегель.
Формирование концепции», то по докладу и, главное, по представленной в
нем проблематике состоялась оживленная дискуссия с активным
участием западных и отечественных гегелеведов. Причины особого
внимания к этому докладу коренились прежде всего в особой актуальности
тематики: на 50-60-е годы пришлось возрождение интереса мировой
философии к работам молодого Гегеля, выразившееся в изменении
текстологической основы (вновь найденные гегелевские тексты и новые
академические издания наследия молодого Гегеля), в появлении различных
подходов и интерпретаций. Все это к началу 70-х годов стало известным
и в России. И известным как раз благодаря А. Гулыге. Он к этому
времени издал двухтомник (Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: В 2 т. Т. 1.
М., 1970; Т. 2. М., 1971), в котором большинство ранних гегелевских
произведений и писем впервые публиковалось в русском переводе
(переводчики — Ц. Арзаканян, А. Михайлов, Б. Драгун, А. Гулыга, П. Гайден-
ко, Э. Ильенков, Е. Фролова, И. Нарский, В. Рубин, М. Левина и др. — в
целом хорошо выполнили свою работу). Значение этого двухтомника для
перехода отечественного гегелеведения на новую исследовательскую
ступень трудно переоценить. Кроме того, А. Гулыга в 1970 году
опубликовал (в серии ЖЗЛ) свою книгу «Гегель», которая стала первой в его
впоследствии знаменитом, переведенном в Германии и других странах
биографическом «триптихе» (Кант. М., 1977; Шеллинг М., 1982). Во
время гегелевского конгресса 1974 года Гулыга был скорее в первой фазе
своего творческого пути, но уже тогда по праву воспринимался как ге-
гелевед мирового класса. Вот почему его доклад стал одним из наиболее
ярких явлений Московского конгресса. К тому же Гулыга прекрасно
говорил по-немецки, что облегчало разговор о Гегеле, его текстах,
терминологии с западными участниками, в большинстве своем
немецкоязычными или знавшими немецкий язык благодаря занятию гегелеведением.
Могу засвидетельствовать, что большой интерес вызвала также дискус-
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 87
сия, посвященная «Феноменологии духа» (вести ее поручили мне).
Удалось организовать перевод; получился более или менее
профессиональный разговор, что объяснялось появлением еще в 1959 году
качественного русского перевода этого произведения, сделанного (кстати, в Томской
ссылке!) Густавом Шпетом, замечательным российским мыслителем;
перевод предваряла вступительная статья Ю. Давыдова.
Я слышала от западных участников конгресса, что самое большое
впечатление на них произвел основной факт, подтвержденный
конгрессом: в СССР философия Гегеля была не только и даже не столько
предметом специальных (гегелеведческих) исследований, сколько объектом
внимания философов самых разных специализаций, которые стремились
в своих работах, лекционных курсах так или иначе отозваться на идеи
и произведения Гегеля. Объяснялся же данный факт прежде всего тем
значением, которое гегелевская философия приобрела для становления
и развития мысли Маркса как профессионального философа, а также тем
вниманием, которое Ленин (не бывший в философии профессионалом) в
свое время уделил некоторым текстам Гегеля, кои он законспектировал
и снабдил (подчас уместными) пометками на полях. Другое, связанное
с первым объяснение — постоянное внимание в советской стране к
изданию (начиная с 1929 года) Собрания сочинений Гегеля — кстати, во
вполне добротных для того времени русских переводах1. Итак, в
размахе Московского гегелевского конгресса выразились, сплетаясь воедино,
самые различные факторы, существенные для нашего исследования в
жанре социологии философского познания. С одной стороны, это уже
упоминавшийся высокий «статус» гегелевского учения в официальной
марксистской идеологии (любой догматик от философии считал
Гегеля «своим», «нашим», т. е. близким для марксизма философом, почему
М. Митин, например, писал — вернее, публиковал под своим именем —
предисловия к томам Собрания сочинений, в которых печаталась «Наука
логики»). С другой стороны, это был интерес к действительно великому
и очень сложному мыслителю со стороны представителей
неофициального сообщества. Обе линии были представлены — и столкнулись — на
конгрессе.
По отчету видно, сколь немалое число участников поддерживало
линию конфронтации с западными гегелеведами, причем это были не
только отечественные философы-идеологи, но и зарубежные марксисты. Вот
как передано (скорее всего, близко к тексту) содержание выступления
известного болгарско-советского марксиста Т. Павлова в цитированном
выше отчете: «Выступавший подчеркнул глубокую пропасть, разделяю-
1 До сегодняшнего дня у нас нет, увы, другого академического издания Сочинений
Гегеля... Самым правильным шагом было бы издание русского варианта сочинений этого
мыслителя, основанного на «классическом» сегодня немецком издании (Felix Meiner Verlag).
Но для этого нужны, во-первых, огромные финансовые средства, во-вторых, группа
энтузиастов и одновременно профессионалов-гегелеведов высокого класса. И первое, и второе
условия пока отсутствуют.
88 •
Раздел II
щую марксистско-ленинскую философию и буржуазную в оценке
положительного содержания философии Гегеля, и отметил ту титаническую
работу мысли, которую проделали классики марксизма-ленинизма для
материалистической переработки идеалистической диалектики Гегеля»
(Арзаканян Ц., Сорокин А. Указ. раб. С. 131). Кстати, дух
конфронтации исходил также от главного западного организатора конгресса —
Президента Международного гегелевского общества В.Р. Байера,
воинствующего марксиста и материалиста, враждовавшего с другим
представленным на конгрессе сообществом — Hegel-Vereinigung, Гегелевским
Объединением, в которое входили виднейшие гегелеведы Германии и
всего мира. Один из лучших докладов на конгрессе сделал тогдашний
Президент Гегелевского объединения Дитер Хенрих (ФРГ). Тема
доклада (о типах отрицания в логике Гегеля) и концепция докладчика вызвали
оживленную дискуссию (я была, кстати, одной из участниц спора,
который был, по моим воспоминаниям, вполне конструктивным).
Одним словом, Международный гегелевский конгресс в Москве стал
значительной вехой в истории отечественной мысли. От него, полагаю,
выиграла прежде всего история философии, но не только она:
знакомство с широчайшим спектром проблематики, с актуальными западными
концепциями и подходами, увязываемыми с наследием Гегеля, должно
было существенно обогатить исследовательскую работу гносеологов,
логиков, этиков, социальных философов, философов права и других
специалистов. Это тоже было подтверждением междисциплинарного — для
самой философии — характера историко-философских исследований.
(Отмечу: как гегелевед, я даже с ностальгией вспоминаю о том времени,
когда коллеги из других философских дисциплин считали необходимым
основательно изучать главные работы и Гегеля, и Канта, и других
корифеев истории мысли.) Наиболее ценный опыт на конгрессе приобрели,
конечно, наши исследователи немецкой классической мысли, а
гегелеведы — в особенности.
В противовес официозной идеологической ориентации наши
философы, специально занимавшиеся учением Гегеля, почувствовали, сколь
плодотворным для их работы явилось знакомство именно с
профессиональными западными гегелеведами, представлявшими
исследовательские центры, в центре внимания и деятельности которых находилась
немецкая философская классика. Оказалось, что даже в вопросе, который
акцентировался на официальном уровне, — о соотношении мысли Гегеля
и Маркса, — именно гегелеведы из капиталистических стран достигли
важных творческих результатов. (Кстати, наши идеологи бросались
опровергать этих коллег в любом случае — сближали ли они Маркса с
Гегелем или подчеркивали существенные различия между ними.) Мы еще
лучше поняли, сколь важны, плодотворны содержательные творческие
контакты историков философии и в сколь значительной степени
проблематика, стиль, выводы исследований (в данном случае — Гегеля и
немецкой философской классики) сопоставимы, взаимодополнительны.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 89
К счастью, такой же вывод сделали для себя известные и влиятельные
западные историки философии. Во всяком случае, с этого года, с этого
конгресса ведет свой отсчет уже не прерывающееся тесное
сотрудничество российских и западных историков философии. Оно нашло
свое выражение в постоянных, с того времени, совместных
конференциях, симпозиумах, которые с нашей стороны организовывал ИФАН, а с
западной — упомянутое Гегелевское объединение, руководимое Д. Хен-
рихом. В 1981 году в Риге состоялся Международный кантовский
симпозиум, а годом раньше, в 1980 году, в Москве был проведен Московский
симпозиум на тему ««Наука логики» Гегеля: проблемы диалектики». По
ряду привходящих обстоятельств книга с материалами симпозиума на
русском языке — она называлась «Философия Гегеля: проблемы
диалектики» — вышла лишь в 1987 году. Очень важно и любопытно, что на
немецком языке материалы симпозиума были опубликованы в солидном
издательстве «Клетт-Котта» раньше — в 1986 году (Hegels Wissenschaft
der Logik. Formation und Rekonstruktion. Stuttgart, 1986). Со статьями в
обеих книгах выступили российские философы Т. Ойзерман, А.
Богомолов, В. Лекторский, Н. Мотрошилова, И. Нарский, В. Погосян, В. Нер-
сесянц. Тогдашний вице-президент АН СССР П.Н. Федосеев,
поддержавший саму идею симпозиума, поместил в обеих книгах краткий текст
«Значение диалектики Гегеля». Что касается западных участников, то
докладчиками, а потом и авторами упомянутых книг, стали
исследователи, которых — что вполне ясно сегодня — можно без преувеличения
назвать выдающимися представителями гегелеведения, а в более
широком смысле — крупнейшими исследователями немецкой классической
мысли в западной философии второй половины XX — начала XXI веков.
Это Д. Хенрих, К. Дюзинг, М. Баум, Ж.-П. Лабарьер, М. Вольф, Ч.
Тейлор, П. Гайер, В. Эсслер, Л. Пунтель, X. Киммерле, Р. Виль, Г.Ф. Фульда.
В числе авторов были также известные философы из социалистических
стран Г. Лей, П. Рубен, Э. Альбрехт (ГДР). И. Зелены (Чехословакия).
И на последующие годы, включавшие первое десятилетие XXI века, эти
и другие виднейшие исследователи немецкой классической мысли стали
нашими постоянными и верными партнерами при проведении
совместных конференций, конгрессов, симпозиумов, при создании
международных трудов1 и выполнении крупных совместных проектов2. Никак нельзя
забывать, как рано это сотрудничество началось — в 1974 году, в разгар
советского времени!
В дальнейшем наше сотрудничество с гегелевским объединением
(а также с образовавшимся в 1982 году «Международным обществом
диалектической философии — Societas Hegeliana») продолжилось. Замечу
1 См книги: Иммануил Кант: наследие и проект. М., 2007; «Феноменология духа»
Гегеля в контексте современного гегелеведения. М., 2010.
2 Например, это двуязычное издание Собрания [основных] сочинений И. Канта (под
редакцией Б. Тушлинга и Н. Мотрошиловой) — вышло 4 тома в 5 книгах; готовится
очередной том.
90 •
Раздел II
«в скобках»: в моей личной судьбе профессиональные контакты с геге-
леведами, членами этих обществ, имели огромное значение. Благодаря
знакомству с западной литературой, дискуссиям с западными коллегами
оформилось то понимание гегелевской философии, которое получило
отражение в книге «Путь Гегеля к „Науке логике"» (М., 1984) и в целом ряде
моих гегелеведческих статей (см., например, две из них по гегелевской
философии права в книге «Работы разных лет». М., 2005). По
предложению Гегелевского объединения я собрала, а потом издала в популярном
западногерманском издательстве «Зуркамп» книгу статей отечественных
историков философии, которых причисляю к философам мирового класса
(С. Аверинцев, П. Гайденко, А. Лебедев, Э. Соловьев, М. Козлова, В.
Лекторский, Г. Майоров, А. Доброхотов, А. Володин, Н. Автономова).
Эта книга (Studien zur Geschichte der westlichen Philosophie. Elf
Arbeiten jüngerer sowjetischer Autoren. Hrsg. Von Nelly Motroschilova.
Fr. a/M, 1986 — «Очерки по истории западной философии. 11 работ
более молодых советских авторов») была задумана и сдана в
издательство в 1976 году, вскоре после Гегелевского конгресса, но вышла в свет
только в 1986 году. Она встретила в ФРГ немалый интерес. В
рецензиях Х.-Е. Шиллера (Frankfurter Rundschau, 6.12.1986) и M. Остена
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.06.1986) были отмечены высокие
профессиональные качества работ отечественных исследователей. Но
поскольку статьи не писались специально для заграничных изданий,
рецензенты обратили внимание на подчас встречавшуюся в них
идеологическую орнаменталистику («и только марксистская философия...»)
и советовали западным читателям ее просто отбрасывать, — благо что
основного содержания статей она не затрагивала1.
Однако никак нельзя отрицать, что Московский конгресс 1974 года
и последующие форумы выявили слабости, серьезные недостатки нашей
работы над немецкой классикой вообще, над философией Канта и
Гегеля, в частности. Они лежали, прежде всего, в плоскости использования
первоисточников, разумеется, на языке оригинала, причем освоения
всего их массива, включая вновь открытые тексты. Столь же
неудовлетворительно обстояло дело с освоением вторичной мировой литературы
вопроса, в чем наши интересные, глубокие кантоведы или гегелеведы (за
очень редкими тогда исключениями, каким был А. Гулыга) не могли, что
называется, тягаться даже с «рядовыми» западными исследователями.
Объяснений и даже оправданий этому факту было немало: сказать, что
в Советском Союзе было трудно достать такие книги, значит не сказать
ничего. Да и изучение иностранных языков в стране было поставлено из
рук вон плохо... Поэтому приходилось удивляться не тому, что в
означенных плоскостях и смыслах мы не могли соревноваться с западными кол-
1Я издала в «Зуркампе» еще одну книгу — с материалами русско-немецкого
симпозиума 1991 года по проблеме свободы в немецком идеализме. (Zum Freiheitsverständnis des
kantischen und nachkantischen Idealismus. Neue Arbeiten russischer Autoren. Herausgegeben
von Nelli Motroschilova. Fr. am Main. 1998).
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... • 91
легами, а скорее тому, что хоть какой-то профессионализм, какая-то
информированность все же существовали. (Так, к Гегелевскому конгрессу
1974 года отдел информации ИФАН и Институт информации умудрились
выпустить очень добротную серию справочных материалов о западных
участниках, об их работах, о прежних гегелевских конгрессах, о
гегелевских обществах и т. д.)
Болезнь отставания, о которой идет речь, длилась так долго, была
столь хронической, что рецидивы ее устойчиво сохраняются до сего
времени1. Но это уже особый разговор, выходящий за временные рамки
настоящего очерка.
Вернемся к нашей теме — отечественному гегелеведению,
которое, как показано, после Московского конгресса получило позитивные
импульсы для дальнейшего развития. Из гегелеведческих работ второй
половины 70-х — первой половины 80-х годов следует упомянуть
исследования A.M. Каримского по философии истории Гегеля, А.И.
Володина и о влиянии учения Гегеля на русскую социалистическую мысль XIX
века. В 1978 году появилось ценное издание — Гегель. «Политические
произведения», в котором опубликованы первые русские переводы ряда
сочинений великого немецкого философа. Эдиторами издания были уже
упоминавшиеся философы права — Д. Керимов, Л. Мамут, В. Нерсе-
сянц2. Кроме того, важным обстоятельством стало появление в 80-х
годах молодых исследователей, которые с самого начала стремились — и
располагали такой возможностью — освоить лучшее из обеих традиций
гегелеведения, отечественной и зарубежной. Имею в виду, например,
работы М. Быковой, А. Кричевского (горжусь: оба мои бывшие ученики) и
других исследователей молодых тогда поколений3.
1 Более того, когда предпринимаются попытки помочь в ее лечении (что, в частности,
хотели сделать мы, кантоведы университета Марбурга и ИФАН, выпустив на двух языках,
немецком и русском, основные сочинения И. Канта), помощь частенько не принимается...
2 Позволю себе напомнить о моей статье (Вопросы философии. 1984. № 7), в которой
информация о новейших тогда изданиях текстов Гегеля, его лекций, о работах и форумах
западных гегелеведов соединялась с концептуальными идеями, касающимися понимания
принципиальных гегелевских понятий духа, разума, рассудка.
3В частности, М. Быкова издала в 2000 году в «Науке» важнейшее сочинение Гегеля
«Феноменологию духа». Перевод Г. Шпета остался без изменений. Вместе с тем я
рекомендую сегодняшним читателям в изучении и работе пользоваться именно изданием 2000 года.
Причина прежде всего в том, что М. Быкова воспроизвела на русском языке обширные
Примечания, которые имеются в каноническом на сегодняшний день издании
«Феноменологии духа»— в 9 томе гамбургского Собрания сочинений Гегеля {Hegel G.W.F.
Phänomenologie des Geistes // Hegel G.W.F. Gesammelte Werke / Hrsg. v. Wolfgang
Bonsiepen. Hamburg. Felix Mainer Verlag. 1980. Bd. 9). (Кстати, именно это издание в наши
дни полагается цитировать, если говорить о практике мирового гегелеведения. Однако в
нашей стране данное требование вряд ли выполнимо: издание это публикуется знаменитым
издательством Felix Mainer в чрезвычайно дорогом варианте, вряд ли доступном даже для
отечественных библиотек.) Обширные примечания, переведенные и частично
дополненные М. Быковой, помогают чтению и пониманию сложнейшего сочинения Гегеля, что
можно сказать также и о ее прекрасной заключительной статье «„Феноменология духа" как
набросок новой концепции субъективности».
92 •
Раздел II
Однако как раз отечественное гегелеведение последних десяти-пят-
надцати лет убедительно демонстрирует зависимость темпов,
импульсов, форм развития самого специального, тонкого философского знания
от внешних перипетий, противоречий и даже от судеб конкретных
людей. Наибольшее же влияние на спад отечественного гегелеведения
оказала... идеология. Да, идеология, поскольку она проникала в философию,
и не только в отечественную. Правда, теперь это была не марксистская,
а антимарксистская идеология. Говоря коротко, в мировой философии,
прежде всего под влиянием агрессивного антигегелизма К. Поппера и его
учеников, сложился синдром поистине роковой ненависти к Гегелю. Он
повлиял и на нашу страну, способствуя искаженному восприятию
гегелевских идей, особенно в социальной философии. К этому в последние
десятилетия прибавилось то, что я бы назвала примитивным «бытовым
антимарксизмом» (не путать с необходимой критикой марксизма),
который рикошетом ударил по авторитету Гегеля: раз ниспровергался Маркс,
то под подозрение и удар попал также и философ, для истории Марк-
совой философии наиболее значимый. Нечего и говорить, что знания
Маркса или сколько-нибудь основательного изучения работ Гегеля для
такой ненависти не требовалось. Однако на отечественных историков
философии эта чисто идеологическая ситуация все-таки повлияла. Если
в 50-60-х годах в неофициальном отечественном философском
сообществе было принято, отчасти даже модно читать, изучать Гегеля, то теперь
сложилось нечто противоположное — манера недооценивать, даже
третировать Гегеля, противопоставлять его Канту и т. д.
В силу сказанного перед отечественным гегелеведением снова стоит
задача новой работы над философией Гегеля, обобщения весьма
солидных итогов мировых гегелеведческих исследований последних
десятилетий1.
Здесь приходится оборвать краткое конкретное исследование, на
примере которого хотелось подтвердить ранее сделанные выводы и
обобщения, касающиеся противоречивого развития отечественной истории
философии в 70-х — первой половине 80-х годов. Подобное же case study
можно, да и нужно было бы посвятить нашему кантоведению, но
приходится отложить это до другого раза.
1В библиографии публикаций о Гегеле приведено 19 507 источников только за 1971 —
1991 годы (Hegel-Bibliographie. Part II. Teil II. Vol. 1, 2. München, 1998). Библиография
включает и публикации, появившиеся в нашей стране.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ В 50-80-Х ГОЛАХ XX ВЕКА
И ЗАРУБЕЖНАЯ МЫСЛЬ
Сказанное в предшествующем разделе позволяет сделать
следующий вывод относительно отечественной философии науки: из раннего,
пропедевтического для нее периода 50-х и первой половины 60-х годов
она вышла с содержательными идеями и импульсами, позволившими в
последующие десятилетия продолжить это плодотворное движение и
обогатить новую дисциплину ценными результатами. К сегодняшнему
дню философия науки (прежде существовавшая в более чем скромном
статусе части философии естествознания, которая, в свою очередь,
считалась второстепенным по значению разделом диалектического
материализма) стала и в нашей стране одной из самых разработанных и
продвинутых дисциплин философского знания, вернее, системы разделов
отчетливо выраженного междисциплинарного характера, — со своей
проблемной структурой, с учебниками и учебными программами, с
солидной базой исследований и источников. Она не просто успешно
конкурирует с более традиционными разделами философии, но и опережает их
на сегодняшнем «рынке» научных идей и образования.
К началу XXI века в данной области накопилось труднообозримое
множество исследований по частным проблемам философии науки, а
также обобщающих работ, в которых философия науки представлена в
систематическом единстве и разнообразии ее проблем, теорий, методов,
подходов, исторических этапов эволюции1.
Между двумя названными вехами пролегает период развития
длиной в полвека. Часть этого периода (50-80-е годы) здесь и интересует
нас. В соответствии с особым историко-философским ракурсом данного
исследования, а также интересом к социологии философского познания
в дальнейшем будут поставлены и обсуждены следующие вопросы:
• В какой мере и на каких путях, направлениях учитывался опыт
западной философии, в частности и особенности философии науки?
• Какие социально-исторические, социокультурные факторы оказали
на это движение свое влияние и в какой мере их смогли учесть сами
отечественные философы науки?
1 Среди такого рода обобщающих работ представляются наиболее ценными: Сте-
пин B.C. Философия науки. Общие проблемы. М., 2006; Никифоров А. Философия науки:
история и теория. М., 2006; Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура. М., 2002;
Ивин A.A. Современная философия науки. М., 2005.
94 •
Раздел II
На стыке каких дисциплин или дисциплинарных разделов
появлялись междисциплинарные исследования?
Отечественные исследователи, которые давно занимаются
философией науки, в той или иной мере затрагивали эти вопросы. В
дальнейшем, в чем сможет убедиться читатель, я буду (с благодарностью)
опираться на исторические исследования, воспоминания специалистов по
философии науки. Среди них особое значение приобрела
систематическая работа «Отечественная философия науки: предварительные итоги»
(М., 1997), авторы которой Е.А. Мамчур, Н.Ф. Овчинников, А.П.
Огурцов как раз и принадлежат к когорте исследователей, в наибольшей мере
способствовавших развитию данной научной дисциплины в нашей
стране. Высокой ценностью обладают, в частности, уникальные изыскания
А. Огурцова, касающиеся самой ранней отечественной философии науки
(середина XIX — начало XX века); благодаря им эта малоизвестная в
наше время традиция предстала неожиданно интересной, плодотворной,
перспективной. Не менее важной является новаторски
воспроизведенная Огурцовым панорама исследования и осмысления науки в СССР в
20-40-е годы XX века (раздел «Образы науки в советской культуре»;
глава «Знание и космос. Гносеология космизма»). Я буду, разумеется,
опираться также на свой опыт и свои исследования1.
Итак, далее будет предпринят обобщающий анализ исторической
динамики, становления и формирования отечественной философии
науки в 50-х — первой половине 80-х годов в сопоставлении с
проблемными и временными трансформациями западной философии науки. При
этом историческое исследование — а одновременно и исследование по
социологии философского познания — будет включать ряд
последовательных шагов.
Сначала будут сжато представлены главные
проблемно-теоретические траектории движения отечественной философии науки и
поставлен немаловажный вопрос о том, как и когда именно они оформились.
Затем будут кратко рассмотрены главные теоретические источники,
отечественные и зарубежные, философии науки. И в частности, будет
конкретно доказан, продемонстрирован междисциплинарный
характер многих, притом наиболее продвинутых и перспективных,
общемировых и отечественных исследований, получивших титул «философии
науки». В заключение данного раздела мы рассмотрим вопрос о том, как
дискуссии западной философии науки постпозитивистского периода
запечатлелись в развитии отечественной философской мысли.
Проблематика социокультурной природы и обусловленности науки и научного
1Я не специалист в философии естествознания, но все же имею отношение к
философии науки как теоретической области через рано начатые исследования социальной
природы научного познания, западной социологии познания, социологии науки, в частности и
особенности норм науки, через исследования истории философии и науки Нового времени.
Кроме того, во всех своих ранних разработках я неизменно опиралась на важнейшие
исследования отечественных философов науки.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 95
познания, как она разрабатывалась — ив нашей стране, и за рубежом —
в интересующий нас период, будет вынесена в следующий
самостоятельный раздел.
Проблемно-теоретическая структура отечественной
философии науки и исторический путь ее формирования
Философия науки в нашей стране в 50-70-х годах исторически
составлялась из двух главных потоков, довольно быстро слившихся в
единое проблемно-теоретическое течение.
Первый из них образовали исследования, примыкавшие к
философии естествознания, второй — работы, которые сначала выполнялись в
русле логики и теории познания; затем они тоже влились в новую
проблемную, а впоследствии — и (относительно) самостоятельную
междисциплинарную область философии.
В начальный период своего развития философия науки (в виде
философии естествознания) брала разгон на исследовании исторических
примеров, на освоении важных и репрезентативных эпизодов из истории
естественных наук. Что особенно важно, работа отечественных
философов и естествоиспытателей, осуществлявших такие исследования, с
самого начала заметно отличалась от чисто описательных этюдов, в
которых не было недостатка в истории науки, этой традиционной области
гуманитарного знания, всегда привлекавшей интерес философов. В ходе
философского анализа даже самых конкретных материалов и эпизодов
из истории науки у нас в стране уже в 50-60-х годах во главу угла
ставились теоретико-методологические аспекты. Постепенно, хотя все
же довольно рано, рефлексивно отрабатывались методы и приемы —
по сути уже междисциплинарной — «исторической реконструкции»,
впоследствии составившие вместе со всей конкретикой исторических
case studies специальный подраздел философии науки. Это движение
впоследствии так подытожил В. Степин: «В методологии очень важна
историческая реконструкция. Саму историческую реконструкцию я
рассматриваю теперь как особый тип теоретического знания. Когда мы
имеем дело с теоретическими системами, — причем эти системы могут быть
уникальными, нетипологизируемыми, — то теорией этих систем будет
историческая реконструкция, где мы по точкам-фактам выстраиваем
логику движения процесса, и эта логика движения уже есть теоретическая
модель»1. В данном случае В. Степин рефлективно осмысливает и путь
своих ранних исследований (например, в середине 60-х годов он начал
и затем продолжил — совместно с Л. Томильчиком — анализ текстов
Д.К. Максвелла, связанных с уравнениями электромагнитного поля, а
также первого варианта релятивистской теории электрона — по работам
1 Степин B.C. От философии и методологии науки — к философской
антропологии // Познающее мышление и социальное действие. С. 138-139.
96 •
Раздел II
П. Дирака конца 20-х годов), и целый ряд столь же конкретных, в этом
смысле эмпирических, а одновременно и теоретико-методологических
анализов текстов, эпизодов из междисциплинарно понятой истории
науки — истории математики, естествознания и гуманитарных наук. Это,
например, анализ генезиса периодической системы элементов Д.
Менделеева у Б. Кедрова; «Начал» Эвклида у В. Смирнова, В. Розина; работ
Галилея, Ньютона, физиков XX века у немалого числа авторов, которые
еще будут упоминаться в нашем повествовании.
Стремление опереться на конкретный (для философии науки)
материал уже в 60-70-х годах породил настоящую творческую экспансию
самих естественников, а еще больше — философов, имевших
одновременно и философское, и естественнонаучное или математическое
образование, в комплексную сферу методологии соответствующих наук.
Результатом явилось значительное оживление целых проблемных областей1.
Теперь о втором потоке. Исторически сложилось так, что основы
философии науки как самостоятельной (в перспективе) дисциплины
закладывались в нашей стране не только благодаря исследованиям в области
философии естествознания, но никак не в меньшей мере и в тех разделах
гносеологии, логики, истории философии, которые оказались
обращенными именно к логике и методологии научного исследования.
Интенсивность развития этих сфер и разделов, их междисциплинарного синтеза,
их повернутость именно к науке явно возросли в 50-60-х и особенно в
70-х годах. (Общеисторические, цивилизационные причины такого
поворота рассматривались ранее.)
В историческом смысле наиболее ранними и одновременно самыми
добротными были разработки, посвященные следующим проблемным
областям:
- проблемы научного метода и теории науки в истории философии2.
- логика научного исследования3.
1 Имеются в виду философия физики (М. Омельяновский, И. Кузнецов, Б. Кузнецов,
Г. Жданов, Н. Овчинников, М. Вильницкий, М. Подгорецкий, Я. Смородинский, Ю.
Сачков, Л. Баженов, Ю. Молчанов, В. Степин, Л. Томильчик, В. Рубашкин, И. Алексеев, И..fo-
ленберг, А. Мостепаненко, А. Печенкин, И. Акчурин, Э. Чудинов, А. Панченко, Ю.
Кулаков, Г. Зайцев, С. Илларионов, В. Аршинов и др.), астрономии (В. Амбарцумян,
B. Казютинский), химии (Б. Кедров, Ю. Соловьев, Е. Колодин, В. Кузнецов, А. Печенкин,
Н. Абрамова), биологии (И. Фролов, Р. Карпинская, С. Микулинский, В. Кремянский,
C. Пастушный, И. Лисеев и др.), математики (С. Яновская, А. Марков, Б. Грязнов), а также
истории и других гуманитарных наук (Б. Грушин, И. Кон, А. Елсуков и др.). См. по этому
вопросу раздел Е. Мамчур в книге «Отечественная философия науки: предварительные
итоги». С. 270-281.
2 Акценты: исследования учений нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Дж. Локк,
Т. Гоббс, Д. Юм, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс) — в работах В. Библера, И. Нарского,
П. Гайденко, А. Огурцова, Л. Косаревой и др.; исследования философии Маркса — у А.
Зиновьева, Э. Ильенкова, Г. Батищева, М. Туровского и др.
За) в формально-логическом, логико-семантическом измерениях (А. Зиновьев, И. Рев-
зин, Г. Щедровицкий, В. и Е. Смирновы, Д. Горский, В. Кураев, В. Садовский, В. Швырев,
А. Гастев, М. Новоселов, В. Финн, Д. Лахути, И. Добронравов и др.);
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... • 97
Все эти разнообразные исследования, объединяясь в единый поток,
постепенно приобрели весьма богатую проблемную структуру, причем
структурирование осуществлялось вполне синхронно в (больше)
естественнонаучном и логико-методологическом «секторах» формирующейся
философии науки. Ибо сообщество, благодаря деятельности которого
велись все эти исследования, становилось все более единым; его названные
сегменты с какого-то времени можно различить разве что условно, имея в
виду лишь генезис, характер образования и тематику первых работ
соответствующих авторов. Уже к началу 70-х годов не просто имело место
взаимовлияние упомянутых сегментов, но возник именно
междисциплинарный синтез, т. е. складывалась единая исследовательская
проблематика философии науки. (Лишь в формальной логике
исследования по философии науки были, в силу их специального характера,
несколько обособленными.)
Структурирование философско-научной проблематики
осуществлялось так, что некоторые темы появлялись несколько раньше,
другие — позже, по мере освоения новых тем внутри самой уже возникшей
отечественной философии науки, причем это происходило как по мере
развертывания внутренней логики исследований, так и под влиянием
западной литературы. И вот что характерно и поразительно:
проблемная структура, которую мы уже начали очерчивать и которая будет
кратко воспроизведена далее — вместе с именами отечественных
исследователей, ранее других приступивших к разработке соответствующих
проблем и аспектов, — в основе своей сложилась уже в 60-х — первой
половине 70-х годову хотя работ в каждом из ответвлений
формирующейся философии науки сначала было не так много. Потом, конечно,
эти отдельные подразделы сами становились все более разветвленными,
полнокровными. Но факт остается фактом: достаточно рано вокруг
сообщества — не столь уж многочисленного, однако сплоченного
едиными творческими устремлениями, — начала формироваться целая
научная область междисциплинарного характера. Этот факт
свидетельствует, во-первых, о самостоятельной, спонтанной силе внутренней
логики теоретического исследования, в данном случае философского,
а во-вторых, и о том, что реализация такой логики в «подготовленных»
ею случаях была обеспечена социально-коммуникативными
факторами, что как раз и есть частное проявление более общей закономерности
развития науки, в действии которой обязательно объединяются поз-
б) в гносеологическом, в частности, диалектическом измерениях (В. Библер, Э.
Ильенков, Б. Грушин, М. Мамардашвили, П. Копнин, В. Лекторский, В. Швырев, Б. Грязнов,
Б. Дынин, Е. Никитин, М. Попович, М. Козлова, И. Меркулов, А. Ракитов, В. Штоф, А. Ар-
сеньев, И. Кон и многие другие);
в) в разветвленном исследовании различных методологических форм, типов, средств
и уровней, принципов (например, анализ метода и принципов моделирования,
аксиоматического метода, гипотетико-дедуктивной модели, принципов соответствия, простоты и
т. д.). См. по этому вопросу ранее упомянутый раздел Е. Мамчур.
7 Н. В. Мотрошилова
98 •
Раздел II
навательные и социальные измерения научного исследования как
такового. (Впоследствии мы рассмотрим еще и фактор воздействия более
раннего или параллельного проблемно-теоретического опыта западной
философии науки.)
Итак, основными проблемными темами (областями), рано
возникшими в отечественной философии науки (и располагаемыми здесь
отчасти в историческом порядке их вхождения в философию науки), были:
- анализ эмпирических наук и эмпирических методов исследования1.
- суть, структура, типы научных теорий2;
- предметы, объекты науки3;
- язык науки4;
- картина мира в науках5;
- научная революция6;
- научная рациональность7;
- наука, научное познание и знание в контексте
социально-исторического и социокультурного развития;
- наука как социальный институт, идеалы и нормы науки (двум
последним проблемным аспектам и авторам соответствующих
исследований, как уже говорилось, будет специально посвящен заключительный
раздел нашей работы).
Разумеется, каждая из названных проблемных областей философии
и логики, новой эпистемологии науки может быть рассмотрена в более
конкретной расшифровке, что, собственно, и делалось в работах ранее
названных авторов, в обобщающих монографиях и учебных пособиях.
Ибо раз возникнув, проблемная сеть той или иной «синтезированной»
дисциплины обретает удивительную способность разветвляться,
дробиться, порождать новые исследовательские линии, тенденции и их
переплетения. (Гегель гениально зафиксировал это, сказав о способности
«понятия» — в данном случае понятийно-категориальных структур
науки — к саморазвитию.)
Поскольку моя работа выполняется в жанре социологии
философского познания, попутно отмечу: рассмотренная исследовательская
деятельность молодых (тогда) философов науки (вместе с исследованиями
ранее упомянутых представителей старшего поколения философов ес-
1 В, Степин, В. Швырев, М. Розов и др.
2 В. Степин, В. Швырев, В. Садовский, И. Кузнецов, В. Лекторский, Л. Баженов, Е.
Никитин, Ю. Сачков, Н. Овчинников, Г. Рузавин, Ю. Молчанов, Е. Ледников, П. Йолон,
И. Алексеев, А. Турсунов, В. Тюхтин, А. Печенкин, Е. Мамчур, А. Никифоров, В. Порус и др.
3В. Степин, В. Лекторский, Б. Грязнов, А. Артюх, И. Гольденберг, Н. Степанов и др.
4 Г. Щедровицкий, М. Попович, М. Козлова, В. Кураев и др.
5В. Степин, Л. Кузнецова, Б. Пахомов, П. Дышлевой, Е. Бляхер, Л. Волынская, В. Ка-
зютинский и др.
6 И. Родный, В. Степин, Л. Томильчик, В. Федоров, П. Дышлевой, А. Огурцов, М.
Розов, Б. Юдин, Н. Кузнецова, В. Казютинский, В. Визгин, А. Ахутин и др.
7М. Мамардашвили, В. Лекторский, В. Швырев, Б. Грязнов, П. Гайденко. Позднее —
Б. Пружинин, Н. Автономова, И. Касавин и др.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 99
тествознания) уже в 60-70-х годах способствовала постепенному
преодолению недоверия к философии со стороны ученых — того недоверия,
которое было вызвано идеологическими проработками прежних
десятилетий. И хотя в последних, как правило, участвовали «философы» лишь
по названию (по сути они были идеологами), и хотя от подобных
проработок, что было ранее показано, немало пострадала сама философия,
доверительные отношения сотрудничества естественников и философов
пришлось строить заново.
Наиболее объективные философски мыслившие ученые, к счастью,
заметили и поддержали происшедшие в философии перемены. Вот
почему в журнале «Вопросы философии» стали публиковаться — без страха
перед проработками и без упрека за прошлое — наши видные физики,
биологи, математики, кибернетики. Вместе с философами
естествоиспытатели участвовали в конференциях, дискуссиях, печатались в
коллективных трудах, организованных философами. Сложились центры, в
работе которых взаимодействие философов и естествоиспытателей
было особенно конкретным и интенсивным — Дубна, Обнинск,
Новосибирск, в Москве — Институт имени Курчатова, ФИАН, Стекловский
математический институт и др. И опять парадокс: в важнейших
институтах обязательные для тогдашней системы «партийной учебы» фило-
софско-методологические семинары как раз и превратились в небольшие
центры такого сотрудничества1.
Иными словами, не вследствие каких-либо постановлений, а
благодаря добротной, качественной работе философов науки и встречному
движению оценивших ее философски мыслящих естествоиспытателей
70-80-е годы стали, возможно, лучшим периодом, когда на деле
складывался и укреплялся союз отечественной философии и
естествознания. Об этом —- с опорой на опыт «Вопросов философии» — прекрасно
рассказал И. Фролов2. К слову, сложившиеся тогда добрые традиции,
увы, оказались почти утраченными (таково мое мнение) на рубеже XX
и XXI веков, причем скорее всего в силу внешних социальных
обстоятельств, приведших к обескровливанию всей отечественной науки и
особенно больно ударивших по естественным, математическим,
техническим наукам. И, казалось бы, их представителям теперь не до
философии... Однако же как раз сейчас на философию обрушился гнев тех
обретших определенную власть академиков из математических или
физических наук, в пору молодости которых в вузах и в аспирантуре
пичкали кондовым диаматом и истматом. Гнев этот обрушился, разумеется,
не на сошедшую со сцены псевдофилософию, а на сегодняшнюю
философию — в ее во многом новом и достойном облике.
1 Хорошо известно, какую роль в укреплении этого союза сыграли философы,
упоминаемые в данном разделе: Н. Овчинников, И. Фролов и др. в Москве; В. Степин — в
Минске; И. Алексеев, М. Розов — в Новосибирске; Б. Грязнов — в Обнинске и многие,
многие другие.
2См. Фролов И.Т. Сочинения, указанные в Библиографии.
т
100 •
Раздел II
Теперь мы перейдем ко второй теме представленного в данной главе
исследования — к вопросу о главных теоретических источниках
философии науки.
Теоретические источники отечественной философии науки
У философии науки, как она сложилась в нашей стране во второй
половине XX века, было несколько первостепенно значимых теоретических
источников. Предварительно подчеркну, что рассматриваемые далее (лишь
основные) теоретические источники осваивались не отдельно друг от
друга — они именно объединялись, перекрещивались, синтезировались; они
дополняли и усиливали друг друга. Здесь и состояла одна сторона
постоянно акцентируемого в данной книге междисциплинарного синтеза,
который, конечно, в работе каждого ученого обретал не только общие с другими
исследователями, но и неповторимо индивидуальные черты.
Теория деятельности
Исторически первой основой — по причинам, которые были
обсуждены ранее — для отечественной философии стала почерпнутая у
Маркса и опиравшаяся на ряд высказываний Ленина, но существенно
обновленная уже в 50-х годах теория деятельности. По происхождению она
была марксистской, но по фактическому содержанию развивалась через
противостояние по отношению к самому главному в ортодоксальной
марксистской гносеологии — теории отражения1.
С точки зрения социологии философского познания важна и верна
следующая краткая констатация В. Швырева: «Рациональное содержание
деятельностного подхода... прежде всего заключалось в том, что он
выступил в советской «либеральной» философии 60-70-х годов своеобразной
формой интерпретации и решения проблемы открытости человеческого
бытия, ее способности к перманентному трансцендированию»2. А потому
главным в отечественных работах неортодоксальных авторов по проблеме
деятельности было не комментирование цитат из классиков марксизма-
ленинизма, а радикальное перетолковывание принципа деятельности.
Прежде чем раскрыть значение принципа деятельности для
философии науки, надо отметить: в 50-60-х годах данный принцип
передвинулся в самый центр философии, и не только ее, но и смежных гуманитарных
дисциплин, причем это происходило как в официальных, так и в
неортодоксальных по характеру работах.
1 «Развитие деятельностной концепции познания и его социокультурной
обусловленности требовало преодоления наивно-реалистической версии познания, которую по
существу отстаивал В.И. Ленин в „Материализме и эмпириокритицизме"» (Степин В. От
философии и методологии науки — к философской антропологии / / Познающее мышление и
социальное действие. С. 149).
2Швырев B.C. Деятельностный подход к пониманию человека (основные предпосылки
и направления философского анализа) / / Философия и история философии. Актуальные
проблемы. М., 2004. С. 464.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 101
Не могу здесь вдаваться в конкретный вопрос о том, как в 50-60-х
годах разрабатывался принцип деятельности1, как отдельные ручейки
исследований (а не идеологических заклинаний!) соединялись в заметный
поток, который лишь по форме и только для невнимательного глаза имел,
так сказать, официальную «диаматовскую» природу. Это были: работы,
тщательно анализировавшие — в свете теории деятельности — идеи,
произведения Маркса, а также немецкую классическую философию (Э.
Ильенков, Г. Батищев, Г. Щедровицкий, В. Сагатовский, Э. Юдин, В. Швырев,
М. Каган и др.); исследования мышления как деятельности на стыке
философии и психологии (Э. Ильенков, традиции Н. Бернштейна, Л.
Выгодского и его школы, С. Рубинштейн и его школа — А. Брушлинский, К. Абуль-
ханова-Славская; А. Леонтьев, П. Гальперин, В. Давыдов и др.);
толкование деятельности как системы проективных процедур (Г. Щедровицкий).
Итак, в интересующее нас время о деятельности чрезвычайно
много писали и говорили, причем далеко не всегда эти писания и говорения
носили творческий, исследовательский характер. Кстати,
«торжественным» марксистским славословием подчас грешили и молодые авторы.
Вполне понятны сомнения и тревоги относительно теории
деятельности, которые (впоследствии, но, возможно, уже в то время) высказывал
В. Зинченко, имея в виду прежде всего психологические концепции2.
(Хорошо помню: я лично уже в 60-е годы испытывала сходные тревоги по
поводу выхолащивания этой вообще-то важной понятийной области, что
не в последнюю очередь подтолкнуло меня к новому освоению глубокой
и содержательной концепции сознания Э. Гуссерля, в которой принцип
деятельности не акцентировался, и «торжественные» ссылки на данную
категорию даже пресекались, но сознание фактически и конкретно
рассматривалось как многослойная деятельность.)
Полагаю, можно утверждать, что именно философия науки спасла
от выхолащивания и обогатила марксистскую концепцию деятельности3.
В данном контексте для нас еще важнее понять, что именно в принципе
1 См по этому вопросу процитированную статью В. Швырева, обращая внимание на
упоминаемых в нем авторов и их работы.
2 «Бедность психологической и схематизм методологической интерпретации
категории «деятельность» далеко не безобидны. Дело даже не в том, что психологи с помощью
одного скудного по содержанию понятия пытаются объяснить другие, значительно более
содержательные. Кажущаяся понятность и простота деятельности, в свою очередь, создает
иллюзию легкости ее проектирования (или воспроизведения?), конструирования,
программирования, управления и т. п.» {Зинченко В. Комментарий психолога к трудам Г. Щедро-
вицкого / / Познающее мышление и социальное действие. С. 388).
3 Впоследствии свою роль сыграли и критические предостережения авторитетных
философов науки. Так, в 1976 году В. Швырев писал о своего рода «магии деятельности» в
отечественной литературе (См.: Швырев B.C. Задачи разработки категории деятельности
как теоретического понятия / / Эргономика. Методологические проблемы исследования
деятельности. М. Труды ВНИИТЭ. 1976). О более поздних подходах к этой теме см.:
Швырев B.C. Деятельностный подход к пониманию человека (основные предпосылки и
направления современного анализа) / / Философия и история философии, актуальные
проблемы. М., 2004. С. 449-465.
102 •
Раздел II
деятельности привлекло философов науки и как они использовали сумму
соответствующих идей для своих формирующихся концепций.
Об одной из причин выразительно сказал В. Степин: «Идея
деятельного подхода формировалась, несомненно, как освоение первого тезиса
Маркса о Фейербахе. Мы, тогдашняя молодежь послевоенной генерации
советских философов, искренне прокламировали и пропагандировали
этот тезис, потому что он был очень удобен. С одной стороны, это —
марксизм, к чему не придерешься. С другой стороны, отталкиваясь от него,
можно было совершать следующие шаги»1. Как раз в «следующих шагах»
и было все дело.
Принцип деятельности так или иначе помогал выбраться из
проблемных тупиков тогдашних учений о научном знании, зарубежных и
отечественных. Ведь под влиянием господствовавшего в 30-50-х годах
XX века неопозитивизма западная философия науки зациклилась на
изучении формальных структур готового знания, лишь в редких случаях
выходя к познанию, его структурам и процедурам. И даже история
науки в ее чисто «западном» исполнении грешила тем, что — как это ни
парадоксально — не-исторически, статично трактовала научное знание,
накопленное на определенном этапе развития данной научной
дисциплины. Принцип деятельности же побуждал переходить к акцентированию
и структуированию познавательного процесса в науке. Это, впрочем,
давно делала философская мысль в теории познания, в эпистемологии;
последняя развивалась и в ту эпоху, причем нередко в противостоянии
неопозитивизму. Отечественные философы науки уже в 60-70-х годах
учитывали и пытались синтезировать все те традиции, которые в
западной мысли, в силу ее очень дробной специализации, по большей части
развивались обособленно друг от друга.
Лишь кратко, так сказать, пунктиром прочерчу еще одну
традиционную линию, которая именно в отечественной философии науки
анализируемого периода была очень сильной, значимой и которую наши
специалисты в то время воспринимали в тесной связи с понятиями
деятельности, развития, с историей Марксовой мысли: речь идет о
немецкой классической философии.
В более ранний период многие наши философы науки — вместе с
молодыми исследователями других философских специализаций —
зачитывались Гегелем, причем в центре внимания были его «Наука
логики» и «Феноменология духа»; затем внимание все больше перемещалось
к Канту. Воздействие этих западных историко-философских традиций,
которые в России издавна были довольно влиятельными, облегчалось
благодаря идеологизированной ленинской формуле о немецкой классике
как одном из теоретических источников марксизма. Но также и
благодаря тому, что отечественная история философии (о чем говорилось в
предшествующем разделе) неплохо, а в ряде аспектов основательно иссле-
1 Степин B.C. От философии и методологии науки... С. 145.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 103
довала идеи великих немецких философов, тоже акцентируя концепции
диалектики, развития, активной деятельности человека и человечества.
Влияние всех рассмотренных факторов объясняет, даже
предопределяет известную плавность движения отечественных мыслителей к
динамическим концепциям науки и научного познания, с самого начала, т. е.
с 50-х годов, задавшим тон в послевоенной отечественной философии
науки. А вот, скажем, зарубежным философам науки для аналогичного
движения приходилось прилагать специальные усилия, ибо их мысль в
то время была скована логикой, эвристикой, гносеологией скорее
статического, чем динамического характера. Это четко проявлялось в
неопозитивизме, не только принявшем антиметафизические установки, но
заразившемся синдромом особой ненависти в адрес Гегеля, с нелегкой
руки Поппера объявленного «отцом тоталитаризма».
Вывод: по крайней мере в виде общего задания и стимула особым
образом истолкованный принцип деятельности по-своему помог
оформлению нетрадиционной, неортодоксальной и внутренне динамичной
философии науки. Однако на основе одного этого принципа невозможно
было сколько-нибудь успешно сделать дальнейшие шаги, о которых
говорил В. Степин. Для этого пригодились другие традиции, а также совсем
новые тенденции, на которые философия науки могла опираться.
Философия естествознания
Об этом теоретическом источнике, который ранее уже был включен
в наш разговор, теперь скажу очень кратко (о нем в исторических
работах по философии науки рассказано объективно и обстоятельно). Речь
идет о философии естествознания. Она и в самые трудные советские
времена тоже была, хотя и в относительном смысле, небольшой нишей, в
которой существовала возможность осуществлять ценные исследования
и которая даже в начале интересующего нас периода была связана с
честными именами Б. Кедрова, М. Омельяновского, И. Кузнецова и других
профессиональных авторов. Очень важно, что к философским вопросам
математики, естествознания в тот или иной период проявляли интерес
выдающиеся ученые П. Капица, В. Фок, И. Тамм, М. Марков, В.
Гинзбург, Л. Ландау, Н. Дубинин, В. Энгельгардт, В. Амбарцумян и др.
Однако нельзя забывать и о том, под каким идеологическим
обстрелом и давлением все время находились сами естественные науки, что
вступало в кричащее противоречие с потребностями страны, с работой
отечественной науки на оборону и с бесспорным фактом наличия в
нашей стране колоссального потенциала выдающихся умов и талантов в
точных, естественных науках. Все эти проблемы и коллизии
многократно описывались и осмысливались в литературе.
Для нашей темы принципиально важны следующие факторы и
обстоятельства социально-исторического плана.
• В советское время наука, а конкретнее, именно ученые, в том
числе и в самых продвинутых, практически важных областях, долгое время
104 •
Раздел II
не имели реального социального авторитета и престижа, их достойного.
Имеется в виду вот что. «На обложке» жизни нашей страны, разумеется,
всегда красовался парадный портрет профессора или академика — как
правило, наделяемого традиционной, еще «дореволюционной»,
благородной внешностью, человека несколько чудаковатого, непрактичного,
но непременно лояльного по отношению к советским порядкам. Кстати,
обязательным антуражем при создании, скажем, кинематографических
образов «советских ученых» были материальное благополучие,
например, более чем просторные профессорские апартаменты. Что-то из этих
образов и антуражей соответствовало действительности. Но в кадр,
разумеется, не попадало то, насколько талантливость, даже гениальность
ученых, их продуктивность, известность в международном сообществе
не обеспечивали им ни реального веса в обществе, ни личной
безопасности. А немалое число ученых пропадало в ГУЛАГ'ах или пребывало в
«шарашках»... С этой точки зрения бедственное положение науки и
ученых в современной России — продолжение описываемых обстоятельств,
традиций, увы, столь же горестных, сколь и прочных...
• Соответственно, и в обсуждаемой нами конкретной сфере
философия естествознания в советское время не имела подлинного веса, если
говорить об официозной системе философского знания; она отступала на
задний план, скажем, перед чисто идеологической проблематикой.
Ситуация, правда, сложилась противоречивая. С одной стороны, философы
естествознания не занимали в официальном сообществе руководящих
позиций. (И в повседневной жизни идеологические философские
«генералы» безусловно начальствовали над скромными профессионалами из
философии естествознания.) С другой стороны, сама сфера философии
естествознания (подобно логике или истории философии) требовала
специальной подготовки — по крайней мере, профессионального
знакомства с какой-либо научной областью. Так и получилось, что философами
естествознания становились, в основном, хорошо образованные,
преданные науке люди, которые пользовались уважением внутри
философского сообщества1, потому что им, как сказано, удалось осуществить
немало исследований, не потерявших значения и сегодня.
Для той части неофициального сообщества, которая обратилась к
философии науки, исследования по философии и истории науки,
проведенные и специалистами в конкретных науках, и философами,
совершенно естественным образом стали опорой при формировании их
дисциплины. О том, какое значение имели для них поистине классические книги
и статьи названных ранее ученых и философов естествознания старших
поколений, написано во многих работах (и в частности, в упомянутой
книге А. Огурцова, Е. Мамчур, Н. Овчиникова — в разделе
последнего). В результате объединения усилий старшего и молодого поколений в
1 Исключения были: некоторые «философы» с естественнонаучным образованием
бросались громить то физику, то биологию, то кибернетику.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... • 105
философии естествознания уже в 60-х годах наблюдлось заметное
оживление, выразившееся и в увеличении количества работ по философским
вопросам математики, физики, астрономии, химии, биологии, и — что
для нашей темы особенно важно — в особом и усилившемся интересе
исследователей к методологии, а также к философии науки в широком
смысле. Этот довольно ранний и принципиально важный процесс
хорошо описан в целом ряде работ (И. Фролов, Н. Овчинников, В. Степин,
Р. Карпинская, Е. Мамчур и др.).
• Совершенно ясным было огромное влияние произведений
выдающихся западных ученых, наших тогдашних современников, совершивших
«неклассический» (по терминологии В. Степина) переворот в
естествознании и обратившихся к осмыслению масштабных, именно философских
и социальных проблем науки. Можно без труда убедиться, что переводы
не только чисто специальных, но и по сути относящихся к философии
трудов таких ученых, как А. Эйнштейн, Н. Бор, М. Борн, В. Гайзенберг,
П. Дирак, В. Паули, Н. Винер, А. Чёрч, В. Гильберт, Р. Фейнман и др.
были неплохо представлены в отечественном книгоиздании в 50-60-х
годах, а подчас и в более раннее время. Первые исследования
отечественных философов науки прямо опирались на труды великих ученых,
отечественных и зарубежных — что очень важно; не только на их
философские, но и на чисто специальные выкладки, исследования, поиски.
Неопозитивистская традиция
Несмотря на уже отмеченные различия между исходными ориента-
циями многих отечественных и неопозитивистских философов науки,
работы последних тоже послужили важнейшим источником для развития
философии науки в нашей стране. Основательное критическое изучение
неопозитивизма, причем в масштабах, несравнимых с более ранними
фрагментарными и, как правило, идеологическими по характеру
описаниями, развернулось уже в 50-60-х годах. Об этом кратко говорилось
ранее — в связи с «Философской энциклопедией» и со статьями В. Швы-
рева, В. Садовского, В. Лекторского, И. Добронравова, Н. Юлиной,
А. Огурцова и других авторов. Молодые философы науки уже в 50-х и
особенно в 60-х годах считали для себя совершенно необходимым
знакомиться с сочинениями неопозитивистов1.
Из неопозитивистских источников было почерпнуто многое. Сразу
надо учесть, что их темы, проблемы, дискуссии ложились на
благодатную почву, подготовленную логическим образованием ряда отечествен-
1 См., например, в воспоминаниях В. Степина репрезентативный рассказ о том, как и
почему темой своей кандидатской диссертации он выбрал критический анализ позитивизма
Венского кружка, как с трудом добывал и читал работы Р. Мизеса, Л. фон Крафта, М. Шли-
ка, Р. Карнапа, К. Поппера, как переводил работы Ф. Франка. И как сначала написал
«традиционный» текст, а потом переделал его (см.: Человек. Наука. Цивилизация. М., 2004. С. 14).
Помню, что в кружке Г. Щедровицкого были сделаны и циркулировали, фактически в самиз-
датовских вариантах, переводы важнейших неопозитивистских текстов.
106 •
Раздел II
ных специалистов в области философии науки. Ибо в логике или в
философии математики исследователи раньше других вникли в западные
дискуссии, которые довольно часто велись с участием неопозитивистских
авторов. Сделаю оговорку: вполне разделяя оправданность выделения и
отделения «аналитической философии» (Б. Рассел, Ф. Рамсей, Р. Кар-
нап, Ф. Вайсман) от общего течения неопозитивизма, на чем настаивали
в нашей философии такие авторитетные исследователи, как М. Козлова
и А. Грязнов, я далее буду более традиционно говорить о неопозитивизме
в самом широком смысле этого понятия, обнимающем также и
«аналитиков» XX века.
Суммирую те линии исследования, которые были инициированы
неопозитивистами (в широком смысле слова) и которые в наибольшей
степени повлияли на отечественную философию науки. Я следую в этом
суммировании за формулировками и характеристиками отечественных
философов науки, чтобы одновременно показать, как именно они
оценивали (и оценивают) теоретико-методологический вклад наиболее
важных неопозитивистских авторов и в чем они достаточно рано усмотрели
ограниченности неопозитивизма как одного из первоначальных
вариантов западной философии науки XX века.
Борьба неопозитивистов за изгнание «метафизики» из философии,
за универсально верифицируемое философское знание, за поворот
преимущественно (если не исключительно) к логике и методологии
науки — с отбрасыванием как ненаучных и антинаучных, широких
мировоззренческих, смысложизненных, экзистенциальных и т. д.
философских проблем, с сосредоточением на анализе языково-символических
форм научного знания — с самого начала оценивалась нашими авторами
критически. Неуспех позитивизма в достижении этих редукционистских
целей они уже в 50 — начале 60-х годов, по существу, предвидели и
предсказывали, солидаризируясь в этом с антипозитивистски настроенными
западными философами других течений и направлений. Характерно, что
критические ранние оценки такого рода совпадают с теми, которые
делаются сегодня — и часто теми же авторами1.
Тем не менее уже в 60-е и тем более в 70-е годы именно наши
Молодые тогда специалисты в области логики, гносеологии, в философии
науки не позволили идеологическим клише закрепиться в работах,
главным образом или частично касавшихся анализа неопозитивизма. Это
направление у нас было воспринято, описано, оценено глубоко и серьезно.
Правда, масштабность, глубина, основательность такого анализа
пришли в нашу литературу значительно позже того периода (30-40-е годы),
когда неопозитивизм достиг на Западе пика своего расцвета и влияния,
1 Швырев B.C. Неопозитивистская концепция эмпирического знания и логический
анализ научного знания // Философские вопросы современной формальной логики.
М., 1962; Швырев B.C. Неопозитивизм и проблемы эмпирического обоснования науки.
М., 1966; Швырев B.C. Неопозитивизм // Новая философская энциклопедия. Т. III.
М., 2001. С. 68.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 107
значит, не по свежим следам. Но ведь в эти более ранние годы — сначала
из-за идеологического давления, а потом из-за войны — содержательный
анализ неопозитивизма и не был возможен. (Хотя, замечу в скобках,
некоторые авторы этого направления придерживались левых, даже
просоветских убеждений в политике — показателен пример Л. Витгенштейна,
характерны его контакты с учеными СССР1.) В 50-х и 60-х годах, когда
отечественные авторы начали глубоко вникать в произведения
классических неопозитивистов, само представленное последними направление
по существу уже уступило центр арены мирового философского
дискурса антипозитивистским, экзистенциально-персоналистским течениям.
И в философии науки наибольшее влияние стали приобретать
«постпозитивистские» тенденции, так или иначе восходившие к
неопозитивизму, но сильно отличавшиеся от него по объектам, проблематике, методам
и стилю исследований.
И все-таки тот факт, что многие отечественные философы науки
прошли через школу неопозитивизма, сделав это, как сказано,
критически и самостоятельно, имел исключительное значение. Ибо если
время развенчало широковещательные претензии неопозитивизма на роль
единственной или главной концепции и в философии вообще, и в
философии науки в частности, то все же в составе будущей философии науки
как развитой специальной дисциплины навсегда остались — в качестве
составной части — некоторые разработки неопозитивистов, в основном
тяготевшие к проблематике логики и методологии науки, к
логико-философской теории языка. Поистине классическими для нашей
философии науки (и соответственно для той части истории философии, которая
кондово именовалась «критикой современной буржуазной философии»)
стали опубликованные в 60-70-х годах вдумчивые, основанные на
тщательной проработке исходного материала исследования о
неопозитивизме, об аналитической философии И. Нарского, В. Швырева, Н. Юлиной,
М. Козловой, В. Садовского, В. Лекторского, В. Кураева. Надо, в
частности, обратить внимание на примечательный факт: в работах названных
авторов осмысливались не только и даже не столько произведения
неопозитивистов, уже переведенные на русский язык2, сколько обширная
западная литература по данной теме на языках оригиналов.
В произведениях этих авторов неопозитивистская мысль была
введена в орбиту отечественных философских исследований в полноте ее
главных достижений и несомненных просчетов, в ее исторической эво-
1 См. по этому вопросу замечательную работу Б.В. Бирюкова и Л.Г. Бирюковой
«Людвиг Витгенштейн и Софья Александровна Яновская. «Кембриджский гений» знакомится с
советскими математиками 30-х годов» // Логические исследования. Вып. 11. М., 2004.
С. 46-94.
2 Примеры переводов на русский язык, появившихся в 50-60-х гг.: Карнап Р.
Значение и необходимость. Исследования по семантике и модальной логике / Общая редакция
Д.А. Бочвара. Предисловие С.А. Яновской. М., 1959; Б. Рассел История западной
философии. М., 1959.
108 •
Раздел II
люции и непреходящей значимости. Изначально критическое
осмысление неопозитивизма лишь внешне и косвенно определялось
идеологической установкой — обязательно давать критику «современной
буржуазной философии» (хотя воздействия таких установок даже на самые
лучшие отечественные тексты о неопозитивизме не удалось избежать). Но в
большой степени критицизм был вполне содержательным и проистекал
главным образом из стремления защитить философию от сведения к
особым образом понятой логике и методологии науки. И хотя исследование
неопозитивизма вели у нас, как правило, авторы с солидным, добротным
логическим образованием, они — благодаря, в частности, не менее
основательной общефилософской подготовке, отмеченному ранее интересу
и приверженности к проблемной полноте непреходящего
философского наследия как такового — не могли дать в обиду философию, вполне
обоснованно, аргументированно и дальновидно защищали ее права на
осмысление самой широкой мировоззренческой проблематики, что
оказалось и обобщением практики самого неопозитивизма, и прозорливым
предвосхищением того ослабления первоначально универсалистских
редуцирующих установок, которое наблюдалось в последующих
дискуссиях вокруг позитивизма. Уместно напомнить, что уже после ухода
неопозитивизма с центра философской арены и западные философы других
направлений тоже поставили перед собой аналогичную задачу —
содержательно пройти логико-методологическую, лингвистическую школу
неопозитивизма, отбросив его философские заблуждения, что сделали,
например, такие значительные мыслители Запада, как Ю. Хабермас,
К.-О. Апель и другие. В этом смысле, подчеркиваю, отечественная
философия науки — и наша история философии XX века — развивались и в
том же направлении, что вся мировая мысль, и даже без существенного
запаздывания по времени.
Философия языка
Для целого ряда наших специалистов по философии науки
важнейшим теоретико-методологическим источником уже на ранних стадиях
явилась западная и отечественная философия языка, которая
осваивалась и через позитивизм, и через другие направления западной и
отечественной мысли, притом не только философской, но и лингвистической. Во
всяком случае, уже на самых ранних этапах становления отечественной
философии науки в поле размышлений и исследований так или иначе
присутствовали и входили в сферу междисциплинарного синтеза:
работы по языкознанию; специальные исследования по философии языка,
особенно примыкающие к неопозитивистскому направлению.
Еще важнее здесь не прямые ссылки на западную литературу и
заимствования из нее, а то, что Р. Отто назвал «спонтанной
параллельностью», продиктованной сходной внутренней логикой исследований, пусть
и осуществляемых независимо друг от друга. В. Литвинов справедливо
отмечает: «Отечественная лингвистика с конца 50-х годов повернулась
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 109
к структурализму и соссюровской традиции языка как системы знаков.
В мировой лингвистике это было время заката структурализма, и в СССР
своевременно были поставлены актуальные вопросы о «лингвистике
текста», далее, синхронно с Западом, о «прагмалингвистике», и затем о
«когнитивной лингвистике»1. В данной связи В. Литвинов уместно
напоминает, что, скажем, кандидатская диссертация Г. Щедровицкого (1964) была
посвящена «языковому мышлению» и что связь мысли, языка, действия
вообще явилась стержневой проблемой для руководимого Щедровицким
исследовательского сообщества2. Но и вся, в сущности,
формирующаяся в нашей стране философия науки была так или иначе повернута к
проблематике языка науки и «языка мысли» как такового, чему есть
множество объективных подтверждений.
Системно-структурные исследования
Достаточно рано в отечественную философию вообще, в философию
науки в частности и особенности, вошла — тоже междисциплинарная по
своей сути — проблематика системных исследований, причем именно в
виде новейших тогда разработок. Прорыву соответствующей информации
о западных концепциях и самостоятельных теоретико-методологических
разработок в эту область в 60-70-х мы обязаны поистине новаторским
для нашей литературы работам В. Садовского, Э. Юдина, И. Блауберга,
А. Ракитова, А. Уемова и других авторов. Так, В. Кремянский уже в 1958 г.
опубликовал в «Вопросах философии», № 8 статью со ссылками на теорию
систем, а В. Садовский и В. Лекторский в 1960 году, тоже в журнале
«Вопросы философии» № 8, выступили с программной статьей «О принципах
исследования систем». В конце 60-х и 70-х годов названные выше
авторы опубликовали ряд индивидуальных монографий и приняли участие в
коллективных сборниках, в которых развернуто, основательно,
систематически была введена теория систем, были глубоко и критично
представлены, осмыслены, оценены соответствующие западные исследования3.
1 Литвинов В. Мышление по поводу языка в традиции Г.П. Щедровицкого / /
Познающее мышление и социальное действие. С. 269.
2 См. Щедровицкий Г.П. О методе семиотического исследования знаковых систем //
Семиотика и восточные языки. М., 1967. Кстати, эта ранняя работа Щедровицкого
опубликована в специальном издании, что говорит о важности междисциплинарных исследований
в отечественной гуманитарной культуре. Характерно, что в том же сборнике было
опубликовано другое исторически, содержательно важное исследование, оказавшее большое
влияние на отечественную мысль: Лефевр В.А., Щедровицкий ГЛ., Юдин Э.Г
«Естественное» и искусственное в семиотических системах // Там же. С. 48-56.
3 Садовский В.Н. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. М., 1968;
Проблемы методологии системного исследования. М., 1970; Основания общей теории систем.
Логико-методологический анализ. М., 1974; Блауберг И.В., Юдин Э.Г Становление и
сущность системного подхода. М. 1973; Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Б.Г
Философский принцип системности и системный подход // Вопросы философии. 1978. № 8; Раки-
товА.И. Философские проблемы науки. Системный подход. М., 1977; УемовА.И. Системный
подход и общая теория систем. М., 1978; Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Б.Г
Философский принцип системности и системный подход //Вопросы философии. 1978. № 8.
110 •
Раздел II
С 1969 года стал регулярно публиковаться ежегодник «Системные
исследования» (он выходит и сегодня), в котором появились самые
существенные для данной области работы западных и отечественных
авторов. Философы и логики, приобщившие отечественную философию к
мировой линии системных исследований (в частности, к работам Л. Бер-
таланфи, Е. Ласло, Д. Сутерлэнда и других «системников»), с первых
своих шагов в философии были включены в процесс разработки логики
и философии науки. Они, подобно некоторым западным авторам,
подчас параллельно им и глубже их, сполна использовали разработки
теории систем для обогащения той части философии науки, где речь шла о
системах науки. (Это, например, исследование языка науки как особой
системы или природы формальных систем, анализ специфики
теоретических систем конкретных наук, значение системного подхода в
общественных науках и т. д.)
Системные исследования, как известно, были тесно связаны со
структурным подходом. (Это имело место и в логике, философии, и
в социологии, что также подчеркивало значение междисциплинарного
синтеза.) В отечественной философии науки рано стали оперировать
понятием «структуры», причем, оперировать методологически и логически
содержательно1. Применительно к анализу научного материала, и в его
эмпирической конкретике, и в его логике, понятие «структур» (структур
научной теории, логических структур и т. д.) наполнялось глубоким и
разветвленным смыслом, определялось и осмысливалось специально.
• Среди теоретических источников надо обязательно назвать и
обязательно разобрать историю науки и социологию'науки, особенно в
западных вариантах. Как сказано раньше, этой проблематике и
сложному перекрещиванию взаимных влияний будет далее посвящен III раздел
данной работы. Другие направления и тенденции западной философии
как источники философии науки будут очерчены очень кратко.
• К. Поппер, отчасти примыкавший к неопозитивистскому
направлению, — фигура во многих отношениях особая. Его влияние на развитие
философии науки, как зарубежной, так и отечественной, несомненно.
Критическое освоение его работ в отечественной философии — несйоль-
ко более поздний феномен. Но и его надо учесть, коль скоро речь идет о
постепенном оформлении отечественной философии науки как особой и
1 См., например: Степин B.C. К проблеме структуры и генезиса научных теорий //
Философия. Методология. Наука. М., 1972; Зотов А.Ф. Структура научного мышления.
М., 1973; Кузнецов И.В. Структура физической теории. М., 1975; Алексеев И.С.
Возможная модель структуры физического знания / / Проблемы истории и методологии научного
познания. М., 1974; Он же. О структуре боровского принципа соответствия // Принцип
соответствия. М., 1979; Акчурин И.А. Возможность обобщения принципа соответствия на
существенно неколичественные структуры // Принцип соответствия. М., 1979;
Купцов В.И. Структура научного знания //На пути к единству науки. М., 1983;
Молчанов Ю.Б. Временные параметры в структуре физических теорий / / Физическая теория
(философско-методологический анализ). М., 1980; в той же книге: Акчурин И.А.
Топологические структуры физики.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... • ///
относительно самостоятельной дисциплины. Презентация в нашей
стране книг К. Поппера и попперианцев — еще одна заслуга В. Садовского и
его школы.
• Далее я лишь перечислю отдельных западных авторов XX века,
которые также оказали влияние на философию науки и назову тех
отечественных исследователей (ими были не только логики, философы, но и
психологи, историки науки и т. д.), которые ввели данных авторов в орбиту
исследований в нашей стране. Речь идет о таких важных для философии
науки ученых и мыслителях, как Ж. Пиаже (ему посвящали свои
исследования философы В. Лекторский, В. Садовский и др.); Г. Башляр (о нем
у нас достаточно рано писали А. Зотов, В. Визгин и др.).
• При анализе других, отличающихся от неопозитивизма
направлений западной философии XX века тоже акцентировались идеи,
касающиеся науки и научного познания. Это можно сказать о концепциях науки
Э. Маха, А. Пуанкаре, о прагматизме У Джеймса, Ч. Пирса, Дж. Дьюи
(соответственно об исследованиях Ю. Мельвиля, Н. Юлиной А. Зотова и
др.), о реалистических и инструменталистских теориях (У. Куайн, Э.
Нагель, П. Бриджмен и др.), о неореалистических концепциях А.Н. Уайтхе-
да (в работах А. Богомолова, Н. Юлиной и др.).
• Немалое воздействие на весь дискурс в философии науки оказала
критика сциентизма и жесткого рационализма со стороны философии
жизни, экзистенциализма, персонализма и других западных
направлений, которые интересно и сильно исследовались у нас в работах Э.
Соловьева, П. Гайденко, И. Вдовиной, В. Бибихина и других авторов.
• Сложнее обстояло дело с феноменологией Э. Гуссерля — с ее
лозунгом философии как строгой науки и одновременно с концепцией «кризиса
европейских наук». С сожалением (глубоко личным) должна заметить:
хотя добротный материал по феноменологии, релевантный философии
науки, был введен в отечественную философию достаточно рано, а потом
постоянно поставлялся благодаря работам московских, ростовских,
прибалтийских феноменологов, отечественные философы науки, в отличие
от западных коллег, реально начали учитывать феноменологические
тенденции достаточно поздно — после того, как стали выходить в русском
переводе работы Гуссерля и представителей его школы.
• По мере того, как на Западе приобретали вес те или иные новые
направления, наши философы науки извлекали из их концепций —
соответственно, из их презентации в отечественной философской
литературе — новые идеи, так или иначе значимые для их области. Это
относится, например, к структурализму, постмодернизму и другим новейшим
течениям, от чего мы здесь отвлечемся, так как их освоение относится к
более позднему периоду. На первое место среди всех дискуссий, с 60-х
годов оказывавших и до сих пор оказывающих свое влияние на
отечественную философию науки, надо поставить так называемый
постпозитивизм, представленный Т. Куном, И. Лакатосом, П. Фейерабендом и
другими западными авторами. Этот вопрос далее будет рассмотрен особо.
112 •
Раздел II
Критическое осмысление западной постпозитивистской
философии науки в отечественной мысли
Основные концепции и идеи западной постпозитивистской философии
науки, их преимущества и недостатки, их эволюцию наши исследователи
начали осмысливать уже во второй половине 60-х годов. В 70-80-х годах
этот процесс происходил особенно интенсивно, причем отечественные
авторы анализировали соответствующие идеи, произведения, дискуссии
вокруг них глубоко, серьезно и — особенно важно! —
самостоятельно, критически, оригинально, что стало возможным благодаря двум, по
крайней мере, обстоятельствам.
Во-первых, информация о постпозитивистских работах в нашей
стране была вполне добротной; специалисты знали — и обсуждали
в своих произведениях, лекциях, докладах— труды Куна, Лакатоса,
Фейерабенда, Тулмина, Полани и др. гораздо раньше, нежели эти
работы были переведены на русский язык. Переводы тоже были важны, ибо
они способствовали более широким, уже не чисто специальным
дискуссиям. Впрочем, именно специалисты по философии, истории науки или
науковедению способствовали осуществлению и опубликованию таких
переводов, сопровождали их содержательными предисловиями и
комментариями. Конечно, на Западе реакция на то или иное значительное
произведение из этой вошедшей в интеллектуальную моду области
философии науки была более оперативной, чем отклики наших
исследователей. И все-таки естественное и понятное (если учесть все условия)
отставание не было слишком значительным.
Я не проводила углубленное и подробное исследование, касающееся
рецепции западной философии науки в тех странах, где она была скорее
импортированным духовным продуктом. Но из того, что мне известно,
можно сделать вывод: на российской почве всходы были достаточно
ранними, вполне жизнеспособными, потому что сама почва была неплохо
подготовлена, как я пыталась показать, многочисленными родственными
ей влияниями. Итак, — и это главное, — уже начиная со второй пощри-
ны 60-х, а особенно в 70-х годах, западные новинки по философии науки
попадали на подготовленную почву и вызывали плодотворное
критическое обсуждение. Ибо отечественные исследователи, занимаясь
сходными проблемами, вырабатывали концептуальные решения, в
ряде моментов более глубокие и продвинутые, чем западные учения,
приобретавшие мировую известность. (Лишь впоследствии о некоторых
феноменах этого рода узнали западные специалисты и отозвались на них
в своих работах.)
Здесь существовали специфические особенности продвижения
вперед, характерные соответственно для западных и отечественных
авторов. В западной философии науки XX века долгое время лидировали
специалисты по истории науки; они должны были, в конце концов,
выходить в новую для них междисциплинарную теоретико-методологическую
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 113
область, по ее внутреннему содержанию тяготевшую к объединению
философии, ее теории познания, социальной философии, социологии.
Однако можно было видеть, как они этому противились, как
«противилась» этому их далекая от философии подготовка, какую роль к тому же
сыграла антиметафизическая атака на философию, инициированная
неопозитивистами. Один пример. Как видно из Предисловия Т. Куна к его
важнейшей работе «Структура научных революций» (1962), более чем
пятнадцатилетний период становления представленной в ней концепции
был отмечен влиянием трудов историков науки (в особенности А. Кой-
ре и его школы), работ Ж. Пиаже, Б.Л. Уорфа, У Куайна, Л. Флека,
Ф.Х. Саттона и др.; во время написания книги Кун обсуждал ее тезисы
с П. Фейерабендом, Э. Нагелем и др. Иными словами, в круге влияния
была, в основном, история науки (особенно физики) и методология
науки (особенно позитивистская). «Структура научных революций» и
предшествующие ей работы (также упоминаемые в Предисловии в одной
из сносок), в сущности, не обнаруживают сколько-нибудь явных следов
влияния философской или социологической литературы.
Я хочу особо подчеркнуть специфику отечественной ситуации,
дававшую объективные теоретико-методологические преимущества
нашим исследователям — правда, скорее, в смысле глубины и
основательности их концепций, чем в плане международного признания. В тот
период, о котором идет речь, на Западе наиболее популярные теории
науки, так или иначе привлекавшие к рассмотрению исторические,
социальные, духовно-ценностные факторы, создавались (по преимуществу)
естествоиспытателями или историками науки, далекими от философии,
социологии, от исследований общества, его истории, культуры, сферы
ценностей. (О том, как это сказывалось на содержании
соответствующих концепций, будет сказано позже.) Что же касается отечественных
концептуальных подходов к науке, к научному познанию, то они с самого
начала формировались главным образом на почве философии и
социологии науки. При этом уже в то время можно было опираться на быстро
обновляемую философию, испытавшую до некоторого времени латентный,
но потом быстро проявившийся интерес к проблематике цивилизации,
культуры и ее универсалий, к социологии науки, к проблематике
ценностных и нормативных аспектов научного познания.
К важнейшим факторам внешнего характера принадлежала особая
атмосфера, сложившаяся в неортодоксальном отечественном
философском сообществе. В нем с большим уважением относились ко вчерашним
математикам, физикам, астрономам, биологам и т. д., пришедшим
работать в философию. А таких было немало, что само по себе тоже было
индикатором возросшего авторитета философской исследовательской
работы. В это же время немало философов по первому образованию прошло
основательную выучку в естественных науках. Суть в том, что требуемый
междисциплинарный синтез наши авторы осуществляли на более
широком основании, чем их западные коллеги. С данным обстоятельством я,
8 Н. В. Мотрошилова
114 •
Раздел II
в частности, связываю тот бесспорный факт, что немало отечественных
философов науки выросли в исследователей мирового класса. Во всяком
случае, эти профессиональные философы, которые освоили
соответствующие области естествознания, быстро приобрели в формирующейся
дисциплине прочные и признанные позиции. Что касается вчерашних
естествоиспытателей, в 50-70-х годах XX века приходивших в философию
и чаще всего специализировавшихся в философской проблематике своих
дисциплин, то в их деятельности неизменно присутствовала характерная
черта, о которой сегодня можно вспоминать разве что с ностальгией.
Дело в следующем: они правильно исходили из суровой
необходимости получить философскую квалификацию, раз уж предстояло
трудиться на ниве философии. Они, в частности, использовали все возможности
для освоения основных вех истории философии, для овладения
категориальной структурой, особым языком философского знания. Они хотели
стать и часто становились профессиональными философами в глубоком
и трудном значении этих слов. И вот к тому времени, когда в повестку
дня философии науки встал вопрос о междисциплинарном включении в
теоретическую канву социальных, исторических, ценностных,
личностных измерений, отечественные философы науки в целом и в
объективном смысле были подготовлены к этому не хуже, а лучше, чем западные
коллеги. Однако в очередной раз сказалось влияние по крайней мере
двух факторов, объясняющих то, почему и здесь менее подготовленные
западные исследователи на поверхности событий субъективно оказались
впереди наших авторов. Пусть отечественная философия науки — к
несомненной пользе для ее развития — более смело, решительно,
профессионально, органично включала в сферу своего анализа философско-ми-
ровоззренческие, социально-философские, культурологические, фило-
софско-антропологические измерения и аспекты, — но, во-первых, это
происходило лишь постепенно, почему преимущества яснее проявились
уже в 80-х и в начале 90-х годов. А, во вторых, это произошло без того,
чтобы о соответствующих работах отечественных авторов стало
известно их коллегам на Западе. И потому в 60-70-х годах именно западная
философия науки по существу делала погоду в данной творческой
области. Особую роль в ней сыграла работа Томаса Куна «Структура научных
революций». Противоречивый характер этого знакового явления мы
рассмотрим специально.
«Структура научных революций» Т. Куна
как историко-научный и социальный феномен (case study)
В задачу настоящего исследования не входит подробное изложение
концепции Куна. Это излишне, ибо и его знаменитая книга, написанная
в 1962 году, с 1975 года имеется в русском переводе, и ее интерпретации
(а их так или иначе осуществили многие наши авторитетные философы
науки) — в распоряжении читателя.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 115
Мы поставим здесь другие вопросы — одновременно
содержательного и исторического характера: в чем состояли особенности концепции
Куна, объясняющие громкий успех — сначала на Западе, а потом в
нашей стране — его публикации 1962 года? Что почерпнули из нее наши
авторы, разрабатывавшие проблематику философии науки? И когда она
вообще попала в поле зрения отечественных авторов?
На эти вопросы сами наши исследователи давали ответы и
разъяснения, различающиеся в деталях, но совпадавшие в главном. О
главном у нас начали говорить, правда, с определенным опозданием — уже
после того, как на Западе развернулась жаркая полемика вокруг книги
Куна, ее центральных понятий и теоретических схем, и после того, как,
по справедливому выражению И. Касавина, «книга «Структура научных
революций» стала чуть ли не библией целого поколения»1. Кстати, это
историческое опоздание имело определенные преимущества. Трудно
сказать, что было бы, если бы с книгой Куна наши теоретики философии
науки ознакомились сразу по ее выходу в свет. Но дистанция в несколько
лет привела к тому, что выкладки Куна теперь уже встраивались в более
развитые, развернутые, детальные концепции отечественных авторов.
Об этом применительно к своему развитию сказал В. Степин: «К тому
времени, как я познакомился с книгой Т. Куна, а это произошло где-то
к концу 60-х, у меня уже были разработаны идеи
генетически-конструктивного развертывания физической теории»2. Этот отрезок— конец
60-х — середина 70-х годов — и можно считать временем более
широкого знакомства философского сообщества нашей страны с книгой и
идеями Куна. Возможно, какие-то специалисты по истории науки — ибо Кун
был одним из историков физики — еще раньше заметили его труды. Но
они не разглядели контуров и значимости будущего учения, во всяком
случае, не сообщили об этом читателям. Впрочем, и сам автор концепции
«парадигм» в 50-х годах лишь постепенно пробивался к ней сквозь чащу
самых обычных для того времени историко-научных изысканий.
Еще одно (относительное, конечно) преимущество запаздывающей
рецепции появилось потому, что наши авторы уже имели возможность
принять в расчет упомянутые оживленные дискуссии вокруг
популярного произведения ставшего знаменитым автора. Дело не только в том, что
в дискуссиях указывалось, подчас вполне справедливо, на недостатки и
просчеты его концепции. М. Розов определил и другую причину: «Эта
полемика, с одной стороны, несомненно, сделала эту книгу знаменитой,
а с другой, в силу большой конкретности и многообразия полемических
придирок, заслонила от нас то главное, что сделал Кун»3. Вот почему
«главное» стало яснее проступать уже после того, как полемические бои
отгремели. Понятно, что в определении этого главного все равно были
разночтения.
1 Цит. по: Человек. Наука. Цивилизация. М., 2004. С. 48.
2Там же.
3Розов МЛ. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. М., 2006. С. 321.
8*
116 •
Раздел II
В 1975 году, когда вышел русский перевод знаменитой книги, ее
научные редакторы и авторы послесловия С. Микулинский и Л. Маркова
справедливо усмотрели успех «Структур научной революции» в
воздействии ряда внешних и внутренних для философии науки обстоятельств.
О чем именно шла речь?
Во-первых, об «удивительной своевременности» появления книги,
о «влиянии эпохи» научно-технической революции1, обусловившей
пристальный интерес к философии науки.
Во-вторых, об особой ситуации, сложившейся в истории и в
философии науки к моменту появления книги Куна в связи с кризисом
прежде господствовавшей позитивистской концепции. В этом смысле книга
Куна, «открыто порывавшая с „позитивистской традицией"» (с. 267), для
кого-то знаменовала прорыв тенденций, которые представлялись новыми
для философии науки. С. Микулинский и Л. Маркова обращали
внимание, в частности, на отход Куна от чисто структурного, т. е. статичного
и кумулятивистского подхода к научному знанию. «Позитивисты, —
писали наши авторы, — рассекали науку и изучали ее отдельные
элементы, как анатомы прошлого рассекали и изучали трупы, пока они не
научились видеть за каждым органом, тканью и т. д. их связь с целым и их
функцию в живом организме. Кун же видит науку как развивающееся,
изменяющееся живое целое. Он возвращается к принципу историзма не
просто в смысле обращения к истории, а как средству постижения
исследуемых явлений» (с. 268)
В третьих, речь идет об эффекте теоретического вторжения в исто-
рико-научную концепцию Куна понятия «научная парадигма» и такого
совсем уж «инородного» (для теорий, сосредоточенных на анализе
знаний) элемента, как «научное сообщество». В результате, замечают наши
авторы, Кун вышел за узкие рамки истории научных идей,
придерживавшейся интерналистской ориентации и «ввел в свою концепцию
человека» (с. 272). При этом они особо акцентировали включение в историю
и философию науки второго измерения, т. е. связанного с механизмами
влияния научного сообщества на динамику научного познания, время от
времени приводящей к кардинальным изменениям, т. е. к научным рев^:
люциям.
Однако при всем том в тексте статьи С. Микулинского и Л.
Марковой была зафиксирована проблемная трудность, причем для
отечественной философии науки она была особенно важной, можно сказать,
животрепещущей. Обрисовав движение мысли Куна к более живой,
историчной концепции науки, наши исследователи справедливо отметили, что
для некоторых традиций — скажем, в свете историзма Маркса, — эти
мысли отнюдь не новы. (Более того, С. Микулинский имел право огово-
1 Микулинский СР., Маркова Л Л. Чем интересна книга Куна? / / Кун Т. Структура
научных революций. М., 1975. С. 266. Далее страницы данной работы Микулинского и
Марковой указываются в моем тексте..
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 117
рить, что в одной из своих статей 1964 года, еще не зная книги Куна, он
развивал сходные мысли, пусть и не употребляя тех же понятий.)
Можно сформулировать эту проблему и в более общем виде.
Понятие «научной революции» отнюдь не было новым (его, вспомним,
употреблял уже Кант в «Критике чистого разума»); и термин «парадигма»
фигурировал в культуре испокон веков. Понятие «научное
сообщество» — тоже не изобретение Куна. (Впоследствии мы вернемся к вопросу
о том, что в социологии науки еще до Куна исследовали тему научного
сообщества.) Да и само по себе включение социальных, тем более ис-
торицистских факторов в сферу исследования истории (!) науки после
прекрасных работ историков науки уже хорошо известного к тому
времени экстерналистского направления вряд ли можно было счесть
теоретическим новшеством. К тому же упреки, которые были сделаны в адрес
концепции Куна западными авторами (Дж. Уоткинсом, К. Поппером,
И. Лакатосом, П. Фейерабендом, М. Мастерманом и др.) по свежим
следам, а нашими исследователями высказывались позже (и
высказываются вплоть до сегодняшнего дня)1, отнюдь не были праздными. Совсем не
случайно в «Дополнении 1969 года» Кун представил свои разъяснения,
ответы критикам, где именно проблемы парадигм, сообщества, научной
революции снова выдвинулись на передний план. Дискуссия с Куном,
между прочим, с тех пор стала чуть ли не постоянным элементом в
современной философии науки. Вы вряд ли найдете какой-либо учебник или
обобщающую книгу в этой дисциплине, где бы обошли вниманием
исторический вклад Куна и где бы не полемизировали с ним.
Для нашей темы считаю показательным факт, о котором
рассказывает В. Степин. Сообщив о своих изысканиях, сделанных еще до чтения
книги Куна и касавшихся методологии превращения теоретических
научных схем в научные образцы, Степин пишет: «У меня был случай
обсудить это с Т. Куном. Я встречался и дискутировал с ним дважды — в
самом начале 90-х годов в Москве и затем в Бостоне. Вначале он
скептически воспринял мое утверждение о том, что поставленная им
проблема образцов мною решена логико-методологическими средствами.
Но затем, по мере углубления дискуссии, он убедился в справедливости
сказанного. Я довольно твердо объяснил, почему проблема не могла быть
решена в рамках западной традиции и выработанных ею
методологических средств»2. Т. Кун обещал продумать сказанное Степиным и
попросил прислать соответствующие работы (разумеется, на английском
языке). Болезнь, а потом и смерть Куна помешали продолжению этого очень
важного обсуждения. (Кстати, здесь перед нами — еще один пример той
ассиметрии и, в конечном счете, исторической несправедливости,
которая выпала на долю наших исследователей; о ней говорилось ранее.)
В свете сказанного, повторю, ответ на вопрос о сути вклада Куна
и причине успеха его книги становится особенно трудным и совсем не
1 Имеются в виду многие авторы, упомянутые в данном разделе.
2Цит. по: Человек. Мировоззрение. Наука. С. 50-51.
//<?•
Раздел II
тривиальным. Я предложу далее на поставленный вопрос свой ответ,
который отчасти примыкает к разнообразным трактовкам отечественных
авторов, а отчасти отличается от них своими акцентами.
Согласна с теми авторами, которые видят главную заслугу Куна не в
«изобретении» новых понятий и теоретических решений, а в
продвижении их в «новую» для них научную область и, значит, в смелом
преодолении барьеров между сложившимися к началу 60-х годов отдельными
дисциплинарными исследованиями науки. Это был решительный шаг в
превращении философии науки в междисциплинарное исследование.
Понятия, которые ранее были более или менее чужды истории науки (но,
замечу, только интерналистского направления), оказались не просто
включенными в историко-научную концепцию Куна, — они стали в ней
центральными (научная революция, парадигма, научное сообщество).
Может возникнуть вопрос: а что мешало интерналистам использовать их
ранее? И разве историки-экстерналисты (школа Дж. Бернала) уже в 20-
30-х годах не говорили, пусть и с использованием других понятий, о
воздействии различных социально-исторических факторов на развитие
науки? Разве в социологии науки Р. Мертон и его ученики — притом тоже
гораздо раньше — не исследовали фактор деятельности научного
сообщества в его влиянии на творческую работу ученого? Или — еще одно
распространенное именно в нашей стране рассуждение: разве Маркс и
марксисты не анализировали развитие науки диалектически, со ссылкой
на «качественные скачки», с упоминанием о революционном характере
научного познания?1. Все так— предшественники у куновской теории
научных революций имелись (хотя остается вопрос о том, насколько сам
Кун знал соответствующую литературу — к нему мы впоследствии еще
вернемся). Однако решающее обстоятельство состояло в том, что Кун, в
отличие от упомянутых (и не упомянутых) предшественников, связывал
социально-коммуникативные (сообщество) и внутринаучные историко-
динамические (научные революции) факторы не с наукой как таковой,
а с конкретно расшифрованной деятельностью «реальных» ученых,
воплощающейся в создании вполне определенных научных знаний^
А поэтому достаточно стройной и убедительной антикумулятивистская
концепция могла стать лишь тогда, когда она встраивалась в предельно
конкретно и точно выписанную картину научного знания и динамику
познавательного процесса в тех или иных научных дисциплинах. (В
случае Т. Куна это, как известно, была история физики, взятая с точки
зрения динамики этапов ее исторического развития. Его последователи,
ученики и даже критики представили подтверждения из других научных
областей.) И раньше, чем была проделана скрупулезная работа над са-
1 На это рассуждение верно отвечает А. Никифоров: научная революция в
описании Куна предстала не просто как абстрактный переход количества в качество или от
одного качественного состояния к другому, а как сложный многосторонний процесс,
обладающий массой специфических особенностей» (Никифоров А. Философия науки: история и
теория. М., 2006. С. 88).
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 119
мим научным знанием и движением познания, включение «инородных»
(из других дисциплин заимствованных) понятий и структур было бы
делом посторонним, несвоевременным. Иными словами, история науки
только тогда пришла к (относительно) успешному междисциплинарному
интегрированию социально-исторических, социально-коммуникативных
измерений, когда необходимость такого интегрирования выявилась во
внутреннем для истории науки материале и совпала с внутренним же
ритмом развития данной дисциплинарной области науки о науке.
Отсюда — два обстоятельства, противоречиво объединившихся в
таком феномене, как концепция Куна. С одной стороны, совершился
переход от «отвлеченных начал» прежних объяснений (ибо
абстрагирование якобы самостоятельной динамики знания в истории науки — очень
сильное отвлечение от многосторонности науки) к тому, что М. Розов
справедливо считает более жизненной, более «естественной» моделью
развития науки1. С другой стороны, в силу чрезвычайной внутренней
сложности предложенного Т. Куном проекта (что почти сразу же
выявилось в соответствующих дискуссиях) обнаружились не только
перспективные, но и многие нерешенные проблемы и пробелы намеченной
интеграции. Это четко зафиксировано, например, в следующей оценке
М. Розова: «Если наука — это некоторая сложная программа, в рамках
которой функционирует научное сообщество, то задача, очевидно,
должна состоять в том, чтобы выявить способ бытия и строения этой
сложной программы, выявить ее составляющие и связи между ними. Кун и
сам начал двигаться в этом направлении, введя понятие о
дисциплинарной матрице. Дальше он не пошел. Удивительно, что не пошли дальше
и все многочисленные критики Куна, которые неоднократно указывали
на многозначность и неопределенность термина „парадигма"» (Розов М.
Указ. соч. С. 327).
Мой «еретический» (по отношению к таким распространенным
оценкам) подход состоит в следующем. Полагаю, значительная доля
успеха концепции Куна состояла... как раз в предельной общности,
непроясненности понятий «парадигма», «научное сообщество», как
они фигурировали именно в данной концепции. Если бы в орбиту
конкретного историко-научного и в то же время концептуального анализа
Куна эти инородные, как сказано, понятия вошли тоже в предельно
возможной на то время конкретике (а такая принципиальная возможность
существовала), и значит, в их изменчивости, дискуссионности, то все
это вряд ли могло с успехом наложиться на неплохо проработанный ис-
торико-научный материал. То обстоятельство, что в будущем
потребовались более основательные концепции-прояснения, не меняет
отмеченного факта, который, кстати, можно трактовать и как своего рода правило
в делах междисциплинарного синтеза. Подтверждение можно видеть и в
1 См. Розов МЛ. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. М.,
Смоленск, 2006. С. 326.
120 •
Раздел II
том, как философия науки развивалась после обнародования концепции
Т. Куна. Ибо его последователи — и одновременно критики — пошли по
пути постепенного и всякий раз специально обосновываемого включения
в философию науки некоторых специфических структур и механизмов,
которые были как бы намечены у Куна, но не получили у него прояснения
и которые все же восходили к темам научного сообщества, научных
революций. И это структуры, механизмы обрисовывались в предельно общей,
а также односторонней («отвлеченной», в смысле В. Соловьева) форме.
Входить здесь в подробный анализ концепций «постпозитивистов»
П. Фейерабенда, И. Лакатоса, С. Тулмина нет надобности. В настоящее
время любой человек, интересующийся проблематикой истории
философии науки, может найти как переводы на русский язык основных
сочинений этих классиков постпозитивизма, так и много добротных
исследований их концепций. Нас будет здесь интересовать вопрос о том, когда,
в каком виде их сочинения и идеи проникли в отечественный дискурс и в
каком состоянии пребывала к тому времени наша философия науки. Для
ответа на данный вопрос считаю возможным проанализировать — тоже
в качестве конкретных case studies — две репрезентативные
коллективные работы, в разное время написанные нашими гносеологами,
логиками, философами науки.
Одна из ранних работ, в которых молодая отечественная философия
науки рефлективно обращалась на самую себя — книга «Философия.
Методология. Наука» (М., 1972). Она была подготовлена тогдашним
сектором диалектического материализма Института философии АН СССР.
Ее по праву можно считать подытожением исследований 50-60-х годов,
посвященных, как сказано в Предисловии к ней, «анализу комплекса
проблем, связанных с взаимоотношением философии, методологии и
специальных наук»1. Эта книга не могла не носить на себе печать
времени. Так, марксистско-ленинская философия названа «единственной
научной основой всякого методологического исследования». Однако
такого рода формулировок, как и упоминаний о последнем тогда (XXIV)
съезде КПСС, в книге до удивления мало (особенно если снова учесть
сказанное ранее, т. е. то, что в первой половине 70-х годов стали
проявляться признаки идеологического реваншизма в социальной жизни
страны). Дух времени запечатлелся, с одной стороны, и в том, что в книге
цитируется Ленин, что объектом конкретных историко-научных
исследований — наряду с теориями Галилея, Ньютона — является «Капитал»
1 Философия. Методология. Наука. М., 1972. С. 3. В этой связи в книге неоднократно
упоминаются коллективные сборники, которые еще не имели словосочетания «философия
науки» в своих заглавиях, но фактически уже охватывали данную исследовательскую
область: Логика научного исследования. М., 1965; Методологические проблемы современной
науки. М., 1964; Проблемы логики научного познания. М., 1964; Логическая структура
научного знания. М., 1965.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 121
Маркса. С другой стороны, и цитаты выбраны так, что они относятся к
сути дела, не подменяют исследования, и «Капитал» анализируется
содержательно-методологически, а не ритуально-идеологически.
Еще важнее то, о чем уже говорилось: в книге, вышедшей в
начале 70-х годов, проблемы методологии науки, поставленные в центр
исследования, предстают в их разветвленности и в удивительной для
того времени разработанности, что запечатлено в обобщающей статье
В. Лекторского и В. Швырева «Методологический анализ науки. (Типы
и уровни)», в которой рассматривается важнейший — и именно в
отечественной философии науки рано, глубоко осмысленный — вопрос: какое
вполне конкретное, содержательное значение именно философия имеет
для становления и развития философии науки. И почему в сложном
междисциплинарном синтезе знаний о научном познании и самом знании
именно философия объективно уже сыграла роль первой скрипки.
Кстати, данный факт еще надо специально осмысливать и акцентировать.
Ведь философия науки — общепризнанная, высоко оцененная область
междисциплинарной мысли XX и XXI веков. Это одно из явных и ярких
свидетельств совсем не утрачивающегося, а напротив, возрастающего
значения философии в мировой культуре и науке. Но вернемся к
анализируемой книге. Как показали ее авторы, суть дела, во-первых, в том,
что в исследованиях логики и методологии научного познания
неизбежно задействованы такие философские понятия, как «знание», «объект» и
«субъект познания», «образ», «действительность» и многие другие. Во-
вторых, в то время в нашей стране начинает интенсивно развиваться и
специальная, частная «синтетическая научная дисциплина» — наука о
науке, или науковедение, в которой применяются и самые конкретные, в
том числе количественные методы анализа науки как деятельности
ученых. Неизбежно всплывают кардинальные вопросы о науке как форме
общественного сознания и как социальном институте, со своей стороны
выводящие в сферы (социальной) философии и социологии1.
Авторы уместно и оправданно анализируют ситуацию как взаимную:
учение о науке нуждается в философии, но и для философии, причем для
различных ее разделов, обращение к науке как объекту исследования,
использование научных методов, а также исследование науки в контексте
общества и истории чрезвычайно важны. Достоинством анализа наших
исследователей является также и то, что в отличие от позитивистски
настроенных философов науки они смело и широко опирались на идеи
классических мыслителей, которых на Западе некоторое время
опрометчиво клеймили как представителей «бесплодной», антинаучной
метафизики. Но и новейшие исследования по логике и методологии науки уже
были приняты в сферу отечественной философии науки. В этом можно
убедиться, проследив за тем, работы каких западных и отечественных ав-
1 См.: Философия. Методология. Наука. М., 1972. С. 16. Далее страницы указываются
в тексте.
122 •
Раздел II
торов цитируются в разбираемой книге. Я не поленилась составить и
привести здесь обширный (и в то же время неполный!) список цитированной
литературы, ибо считаю его показательным1; он предметно доказывает
мои выводы и обобщающие тезисы, относящиеся к данному case study и
формулируемые далее.
1 Это следующие статьи и книги: Р. Карнап. Значение и необходимость. М., 1959;
F. Waismann. The principles of linguistic philosophy. London, 1965; А. Зиновьев. Основа
логической теории научных знаний. М., 1967; А. Зиновьев и И.И. Ревзин. Логическая модель
как средство научного исследования // Вопросы философии. 1960. № 1; Philosophical
Problems of Natural Science, ed. by D. Shapere. N.Y., 1965; И. Лакатос. Доказательство и
опровержения. M., 1967; /. Lakatos. Falsification and Methodology of Research Programs / /
Criticism and the Groth of Knowledge. Cambridge, 1970; M. Мамардашвили. Формы и
содержание мышления. M., 1968; Б.А. Глинский, B.C. Грязное, B.C. Дынин, Е.П. Никитин.
Моделирование как метод научного исследования. М., 1965; B.C. Дынин Метод и теория.
М., 1968; Г. Рейхенбах. Направление времени. М., 1962; Н. Бор. Атомная физика и
человеческое познание. М., 1961; W Quine. On what there is/ From a logical point of view.
Cambridge (Mass.), 1953; H. Curry. Outlines of Formalist Philosophy of Mathematics.
Amsterdam, 1951; (цитируются и другие работы Карри, в том числе Х.В. Карри. Основания
математической логики. М., 1969); Е. Husserl. Die Krisis der europäischen Wissenschaften
und die transzendentale Phänomenologie. Haag, 1954; N. Rescher. Recent Developments in
Philosophical Logic / Contemporary Philosophy, vol. 1. Firenze, 1968; С. Клини. Введение в
математику; С.А. Яновская. О математической строгости / Вопросы философии. 1966.
№ 8; R. Carnap. Logical Syntax of Language. L., 1959; L.Wittgenstein. Philosophical
Investigation. Oxford, 1953; A. Tarsky. Logic, Semantics, Metamathematics. Oxford, 1958; R.
Rogers. A Survey of formal Semantics / Synthese. 1964, vol. XV, № 1; R. Strawson. Truth //
Analysis. 1949, vol. 9, № 6; M. Black. Problem of Truth / Philosophy and Analysis. L., 1954;
А. Черч. Введение в математическую логику. M., 1960. Дж. фон Нейман и О. Моргенш-
терн. Теория игр и экономическое поведение. М., 1970; K.R. Popper. Logik der Forschung.
Wien, 1935; H. Reichenbach. The Rise of Scientific Philosophy. Berkeley and Los Angeles, 1957;
А. Дж. Айер. Философия и наука / Вопросы философии. 1962. № 1; UP. Kneale. Probability
and Induction. Oxford, 1949; D.L. Miller. Explanation versus Description / The Philosophical
Review. 1947, vol. 56, № 3; B.A. Смирнов. Генетический метод построения научной
теории // Философские вопросы современной формальной логики. М., 1962; Е. Nagel.
Structure of Science. N.Y., 1961; В.С. Степин Проблема субъекта и объекта в опытной
науке / Вопросы философии. 1970. № 1; B.C. Степин uJJ.H. Томильчик. Практическая
природа познания и методологические проблемы современной физики, Минск, 1970; N.
Goodman. Axiomatic measurement of simplicity / / The Journal of Philosophy. 1955, vol. HI, № 23;
А. Сухотин. Гносеологический анализ ёмкости знания. Томск, 1968; G. Schlesinger.
Method in the Physical Sciences. L., 1963; А. Грюнбаум. Философские проблемы пространства и
времени. М., 1969; А. Grünbaum. The Falsifiability of the Lorenz — Fitzgerald Contration
Hypothesis / / The British Journal for Philosophy of Sciencce. 1959, vol. 10, № 37; A. Grünbaum.
Temporally — Assymetric Principles Party Between Explanation and Prediction and
Mechanism versus Teleology / / Philosophy of Science. 1962, vol. 29, № 2; Н.Ф. Овчинников.
Принципы сохранения. M., 1963; Дж. Роберте. Расчеты по методу молекулярных орбит.
М., 1963; Е.П. Никитин. Структура научного объяснения / Методологические проблемы
современной науки. М., 1964; А.И. Ракитов. Логическая структура научной теории //
Вопросы философии. 1966. № 1; В.А. Смирнов. Уровни знания и этапы процесса
познания / / Проблемы логики и методологии научного познания. М., 1964; В. Рассел.
Человеческое познание. М., 1957; В.Л. Уорф. Наука и наукознание // Новое в лингвистике.
Вып. 1. М., 1960; A.C. Арсеньев, B.C. Виблер, В.М. Кедров. Анализ развивающегося
понятия. М., 1967; С. Hempel. Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy
of Science. N.Y., 1965; И.С. Кон. Неопозитивизм и вопросы логики исторической науки //
Вопросы истории. 1963. № 9.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 123
Выводы
• Включенность западной литературы, содержательно использованной
отечественными авторами в их разработках, впечатляет. (При этом надо
учесть, что рассматриваемый сборник в основном посвящен лишь одному
аспекту философии науки — логико-методологической проблематике.)
Сборник — одно из свидетельств, доказательств в пользу тезиса об
относительной синхронности в развитии отечественной и западной
философии науки, что объясняется, как уже говорилось, и внутренней
логикой исследований, и неплохим знакомством наших специалистов с
западной литературой. Снова подчеркнем, что в поле внимания наших
философов не только и даже не столько переводы (тогда еще
немногочисленные) сочинений западных авторов, сколько работы, прочитанные на
языке оригинала, причем достаточно своевременно (многие из
цитированных в начале 70-х годов источников относятся к середине или к концу
60-х годов!)
Важно, что учтены не только разработки соответствующих западных
авторов, но и дискуссии между ними. По поводу этих дискуссий нашими
авторами достаточно рано было сказано их собственное, оригинальное
слово. (Другое дело, что слово это — о том уже не раз говорилось как о
несправедливой судьбе — не было услышано зарубежными авторами.)
Цитируемая отечественная литература относится к раннему
периоду развития философии науки в нашей стране (в основном, к 60-м и
самому началу 70-х годов). В то же время это работы, относящиеся к
золотому фонду нашей философии науки — как с точки зрения рано
обретенной проблемно-теоретической структуры этой философской
области, так и глубины, основательности анализа. Кстати, сами статьи,
опубликованные в этом сборнике уже известными тогда
представителями отечественной философии науки (В, Лекторский, В. Швырев, Б. Ды-
нин, В. Метлов, В. Кураев, Е. Никитин, В. Степин, И. Меркулов, А. Пе-
ченкин, А. Елсуков), тоже входят в этот золотой фонд.
Примерно то же, но уже с некоторой поправкой на более позднее
время, можно сказать о другом обобщающем сборнике — он назывался
«В поисках теории развития науки» и был опубликован через 10 лет, в
1982 году. Он специально посвящен западноевропейским и
американским концепциям науки XX века. Работы его авторов (С. Микулинский,
В. Черняк, Л. Маркова, А. Зотов, В. Порус, А. Никифоров, Ю. Зиневич,
В. Федотова, Е. Черткова, Б. Старостин) также внесли существенный
вклад в развитие отечественной философии науки.
Список иностранных работ — не всуе упоминаемых, а тщательно,
притом критически осмысленных, не менее внушителен, чем в первом
сборнике (не буду, из соображений объема, перечислять все имена и
произведения).
Сравнение с первым из разобранных сборников позволяет
определить особенность второй работы. Если в публикации 1972 года работы
124 •
Раздел II
постпозитивистов, правда, появившиеся уже в 60-х годах, еще не были
в фокусе внимания отечественных исследователей, то в начале 80-х
годов наши авторы смогли представить уже достаточно глубокий и
многосторонний анализ концепций Т. Куна, П. Фейерабенда, И. Лакатоса,
С. Тулмина — при том, что теперь более основательно осваивались и
работы К. Поппера. (Поскольку сборник выходил под редакцией известных
историков науки и науковедов С. Микулинского и В. Черняка,
определенное внимание было уделено вкладу А. Койре, Р. Мертона, Г. Башля-
ра, Дж. Сартона и др.) Что касается постпозитивистов, то в 80-е годы
отечественная философия науки учитывала актуальные дискуссии их с
К. Поппером, друг с другом, с зарубежными авторами иных направлений.
Заслуживает быть отмеченным и следующее обстоятельство:
специалисты по философии науки интенсивно обсуждали массив работ К.
Поппера и позитивистов (и дискуссии вокруг них) гораздо раньше, нежели
вышли в свет их переводы на русский язык. Так, вышедшие в начале и
середине 70-х годов, но переведенные у нас только в 1986 году основные
работы П. Фейерабенда1, подробно обсуждались нашими авторами
раньше (имеются в виду исследования Ю. Зиневича и В. Федотовой, А.
Никифорова, И. Меркулова, В. Черняка и др.)
Некоторые работы И. Лакатоса2 были, между прочим, переведены у
нас раньше, чем книга Т. Куна «Структура научной революции»; вместе
с тем, главные сочинения Лакатоса (или Лакатоша — в другом, видимо,
более адекватном для венгерской фамилии написании) на русском языке
появились позже, чем исследования о нем отечественных авторов
(имеются в виду В. Садовский, В. Швырев, И. Меркулов, Б. Грязное, В.
Черняк, В. Порус, А. Никифоров и др.). Это же относится и к С. Тулмину.
Одна из его статей была опубликована в журнале «Философские науки»
еще в 1953 году. Но если главное сочинение Тулмина «Человеческое
познание» появилось в русском переводе только в 1984 году, то
основательный критический анализ его взглядов в работах В. Поруса и Л.
Чертковой относится к 1982 году и охватывает массив сочинений этого автора
1953, 1961, 1970, 1972, 1974 годов3.
Только за неимением места здесь не разбирается аналогичная
Ситуация, связанная с освоением у нас в стране работ других западных
философов, логиков и методологов науки (частично упомянутых в списке
авторов, цитированных в сборнике 1972 года).
Я думаю, что конкретного историко-философского анализа,
проведенного во всем разделе о развитии в 50-х — первой половине 80-х годов
отечественной философии науки, достаточно, чтобы обоснованно
сформулировать итоговый общий вывод о непростом, противоречивом, но в
целом плодотворном, потенциально богатом процессе ее движения по
1 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.
2Лакатос И. Доказательство и опровержения. М., 1967.
3 Порус В.Н., Черткова Е.Л. «Эволюционно-биологическая» модель науки С.
Тулмина // В поисках теории развития науки. М., 1982. С. 260-278.
Отечественная философия 70-х - первой половины 80-х... * 125
той же совсем нелегкой дороге, по которой исследования в данной
области двигались на Западе и в остальном мире.
Никак нельзя забывать, что во взаимодействии с философско-науч-
ными исследованиями в более узком, специальном смысле этих слов в
нашей стране в тот же (а иногда и в более ранний) период оформились
в относительно самостоятельные пограничные разделы, даже
дисциплины философии и социологии и были предприняты творческие усилия,
благодаря которым познание вообще, научное познание в частности,
анализировалось как человеческая деятельность,
социально-историческая по своей природе, вписанная в развитие общества, как соотнесенная
с функционированием соответствующих социальных институтов. Здесь,
как мы увидим, взаимодействие, пересечение отечественных
исследований с соответствующими мировыми, в частности, западными традициями
и новейшими тогда, «современными» теоретико-методологическими
траекториями было органическим и предопределенным самой сутью дела.
Это происходило, в частности, и потому, что соответствующие идеи и
концепции не post factum, а в самом процессе творческой работы были
освоены, проработаны — притом критически — нашими авторами.
РАЗДЕЛ III
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ
ПОЗНАНИЯ: ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОСНОВНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
В рамках предшествующего суммарного анализа развития
философии науки в нашей стране и за рубежом мы уже затронули (по
необходимости кратко) вопрос о проблемных блоках, свидетельствующих, как
я думаю, по меньшей мере о параллельности, а порой и о пересечении
теоретико-методологических усилий отечественных и зарубежных
философов в исследованиях социально-исторических, коммуникативных
предпосылок, факторов, форм развития познания вообще, научного
познания в частности и особенности. Нельзя, однако, забывать о том, что
эти блоки исследовательских поисков и интересов, сконцентрированные
главным образом в дисциплинарных и междисциплинарных сферах
истории науки и (реже) в философии науки, были лишь одним из сегментов
интересующей нас здесь творческой работы. В них, кстати,
философские, социально-философские исследования и размышления о природе
познания, знания если и присутствовали, то отнюдь не были центрами
междисциплинарного синтеза. Ранее было показано, что в фокусе
находился материал по истории наук, в основном естественных, а также
изучение (в плоскости позитивистских подходов) языка, методов, логики
науки, что также по большей части делалось на отдельных конкретных
примерах научно-познавательного опыта. Что касается стремительно
возникшей и распространившейся в этой области тенденции
обращаться к историко-динамическим, коммуникативным фактам, механизмам,
понятиям, то обращение к ним (что я пыталась показать на примере
Т. Куна) нередко было именно отсылкой внешнего характера, не
предполагавшей самостоятельного изучения соответствующих форм —
например, научного сообщества, которому, казалось бы, теперь уделялось
такое большое внимание.
Между тем в мировой — и как мы далее убедимся, также и в
отечественной — философии и социологии интересующего нас
послевоенного времени к социально-историческим проблемам познания было
привлечено пристальное, содержательное и прямо на них направленное
Отечественные и зарубежные исследования...
•127
внимание. О соответствующих разделах, авторах, произведениях и
пойдет речь далее, причем, как и во всей этой книге, при тщательном
сопоставлении развития западной и отечественной мысли, выполненном с
междисциплинарным объединением подходов максимально конкретной
истории философии и социологии философского (отчасти и социологии
социологического) познания.
Далее сначала в общей форме будут суммированы основные линии
проблемного интереса, а параллельно — главные западные и
отечественные традиции, благодаря освоению которых исследования
социально-исторической природы познания превратились в отдельных случаях еще в
предвоенной, но в основном в послевоенной истории философии нашей
страны в заметный массив исследований.
Скажу, забегая вперед, что они велись на пограничьи и с
попытками междисциплинарного синтеза истории философии, теории
познания, социальной философии, социологии познания, социологии науки;
а это потребовало активного вовлечения в сферу творческой работы
отечественных авторов также и таких областей философского и
социологического знания, которые не только не присутствовали в «разрешенном»
официальной идеологией поле, но и находились у нее под подозрением.
Но обо всем по порядку.
О каких линиях исследования и, соответственно,
исследовательских традициях, о каких их междисциплинарных синтезах здесь шла
речь? Предваряя дальнейший анализ в жанре социологии
философского познания, целесообразно подчеркнуть, что сложившиеся духовные,
идейные традиции — и общие для человечества, и особые,
специфические для данной страны, и более всего влияющие в данный момент
истории — являются той инстанцией, той формой в самом деле
«объективного», или объективирующегося человеческого духа, на которую не могут
не настраиваться конкретные индивидуальные или групповые усилия
людей, впоследствии реально действующих в тех же или смежных
духовных сферах.
Итак, о главных традициях, которые в нашей стране в интересующее
нас время в общем и целом влияли на прокладывание теоретического
русла исследований социальной природы познания.
1. Среди них были, конечно, официально разрешенные традиции,
т. е. источники, имена, произведения — и прежде всего работы
Маркса, Энгельса, Ленина. Однако в соответствии с тем общим положением,
которое подробно обсуждалось в книге ранее, и здесь спонтанно
сложилось своего рода разделение труда между представителями официальных
структур и неофициального сообщества. Первые в самых общих и
торжественных словах идеологически твердили об особых преимуществах
марксизма и в данной области, причем с акцентом на более понятные им
высказывания Ленина; вторые реально изучали, исследовали
конкретный материал, причем с акцентом на очень трудные изыскания Маркса
(реже — Энгельса) и других тенденций западной мысли.
128 •
Раздел III
Особая историческая удача, выпавшая именно на долю
исследователей, состояла в том, что как раз интересовавшие их идеи — социально-
историческая обусловленность познания и знания, превращение науки в
непосредственную производительную силу, наука как сфера духовного
производства, противоречия в развитии науки при капитализме —
принадлежали (о чем уже упоминалось) к числу наиболее сильных
теоретических разработок Маркса, что было и остается признанным не
только в марксистской литературе, и свидетельства такого признания
будут приведены в дальнейшем. Поэтому опора отечественных
исследователей (по преимуществу философов, но также и социологов) на весь
этот материал из наследия Маркса и марксистов в целом привела к
хорошим результатам, создав новую отечественную традицию, которую, к
слову, совсем неправильно было бы утрачивать в нынешних условиях.
2. В нашей стране в интересующее нас время при анализе
социальной природы познания основательно принимались в расчет историко-
философские традиции. Из последних особое внимание привлекали
те, которые так или иначе включали в орбиту своего рассмотрения
следующие темы: «социальная природа» человека, «познание и общество»,
«наука и общество» и т. д., что было связано с более основательным, чем
прежде, изучением — с этих точек зрения — наследия таких
философов, как Ф. Бэкон, Р. Декарт, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм, французские
просветители; особое значение имели, конечно, исследования именно
в данном ключе идей и концепций классиков немецкой философии. По
моей оценке, которую постараюсь подкрепить в дальнейшем, в
детальном, доказательном, достаточно широком (часто междисциплинарном)
анализе историко-философского наследия как предыстории, ведущей к
современной развернутой теории социальной природы и
социально-исторической обусловленности познания, знания, отечественная философия
в 60-80-х годах во многом опередила соответствующую западную
литературу по интенсивности, добротности, основательности, конкретности
исследований. (Что в отдельных случаях признавали и западные
авторы.) К большому сожалению, в том числе и личному, должна отметить,
что в последние десятилетия эстафета не была подхвачена более
молодыми историками философии.
3. В поле исследовательского поиска отечественной философии
достаточно рано попали и были в него вовлечены традиции (постмарксист-
ской, но нередко ведущей свое происхождение и от Маркса) западной
социологии знания и познания (Wissenssoziologie).
4. Несколько позже внимание наших исследователей — причем
интересно, что среди них большинство тогда составляли философы —
привлекла западная социология науки, относительно которой
отечественные авторы достаточно рано (уже в начале 70-х годов) не только имели
хорошую информацию, но и самостоятельные теоретические суждения.
5. Уже в 70-х годах философия в ее интересующих нас здесь разделах
получила новые импульсы от (продуктивно освоенных рядом авторов)
Отечественные и зарубежные исследования...
•129
новых в то время конкретных социологических дисциплин (социология
искусства, религии), а также прикладных исследований науки, широко
затребованных эпохой научно-технической революции — например, на-
уковедческих, наукометрических разработок; бурно развивавшихся
исследований science policy, т. е. управления наукой со стороны
государственных институтов; конкретного изучения
социально-институциональных условий развития науки в различных странах (особенно
интенсивно в США) и т. д. Вот здесь тенденция междисциплинарного синтеза
(в том числе и даже в особенности осуществляемого философами)
приобрела совершенно четкое проявление.
6. Еще более важными и влиятельными именно для философов
оказались традиции, восходящие к тем крупным философским учениям XX
века, зарубежным и отечественным, часть из которых рождалась и
приобретала влияние в наше время, что называется, на наших глазах, —
учениям, в которых познание анализировалось как бытийная, в том числе
как социально-историческая деятельность и реальность. Имеются в виду
идеи, концепции, произведения и выдающихся философов нашего
отечества первой половины XX столетия (Н. Бердяев, С. Франк1, Н. Лос-
ский, И. Ильин и др.)2, и таких великих или выдающихся западных
мыслителей, как В. Дильтей, Э. Гуссерль, К. Ясперс, М. Вебер, М. Хайдег-
гер, Т. Адорно, П. Рикёр, Ю. Хабермас. Здесь названы лишь отдельные,
но весьма влиятельные исследователи из большой когорты тех, кому
культура (включая философию) обязана глубокими и тревожными
раздумьями о социально-исторических предпосылках, формах
существования, развития духовных, идеальных, ценностных, эвристических
результатов, продуктов, средств человеческой деятельности и человеческого
существования, о «кризисе европейских наук», (если воспользоваться
формулой Э. Гуссерля), его исторических предпосылках, формах и
следствиях. По мере того как в нашей стране шло усвоение, вернее,
критическое исследовательское освоение многогранного опыта, накопленного
в упомянутых сегментах западной мысли (такое освоение долгое время
неадекватно именовалось «критикой современной буржуазной
философии»), — по мере этого учитывались, находили развитие и творческое
продолжение фундаментальные идеи мировой мысли, относящиеся к
теме «знание, познание и общество».
7. В тот же исторический период в орбиту философского внимания
оказались так или иначе включенными наиболее ценные западные и
отечественные исследования человеческой культуры, ее форм,
разновидностей, структур, ее истории — как в виде весьма конкретных работ по
социально-культурной антропологии, этнологии, древней и современной
истории, истории искусства и т. д., так и в форме теоретических пост-
1 См. об этом: Мотрошилова Н.В. «Мыслители России и философия Запада». М., 2005.
2Эти традиции, правда, стали глубоко исследоваться позже, лишь начиная с с 70-80-х
годов, ибо в России аутентичная, неискаженная русская философия больше других
была под идеологическим запретом.
9 Н. В. Мотрошилова
130 •
Раздел III
роений (например, структуралистских), отвечавших на потребность в
общих концепциях культуры, при сравнении оставшихся в истории и
современных типов цивилизации, и культуры. И опять подчеркну: это
был междисциплинарный синтез, в высшей степени перспективный.
Отсюда тоже тянулись нити к построению объемлющих, синтезирующих
концепций социальной природы человеческого познания, в которых
измерения цивилизации и культуры представляли особый интерес для
социально-исторического, социально-философского подходов к познанию,
знанию, к их социально кристаллизующимся формам.
8. И в мировой, и в отечественной мысли XX века возрастало
внимание к новым разработкам вопроса о том, в чем суть и специфика
социально-исторической обусловленности философии, т. е. собственно,
философского познания и знания. Предпринимались попытки обобщения,
актуализации вековых традиций социально-исторического
самоопределения, саморефлексии философского труда, исследования, познания.
Во всех этих разнообразных, но внутренне взаимосвязанных сферах
проблемного интереса уже нельзя было удовлетворяться общими
словами и заверениями. В рассматриваемые десятилетия было трудно
отрицать или игнорировать тот факт, что философия (как и другие области
духовной деятельности) зависит от развития общества и его истории.
Правда, тут были свои трудности: ведь не отрицая этого, некоторые
философы, в частности, историки философии в нашей стране, — помню это
хорошо, — подозрительно относились к соответствующим изысканиям
коллег. Им мерещился здесь «вульгарный социологизм» наподобие
развенчанных Лениным писаний Шулятикова... Однако занимавшиеся этой
тематикой остро чувствовали: общей констатации социальной
обусловленности знания, познания, в том числе философского, далеко
недостаточно. Считаю, что отечественные философы, опираясь на означенные
ранее традиции, в 60-80-х годах XX века в большей степени, чем
философы Запада, продвинулись вперед в ответах на вопросы о том, какие
именно влияния развития общества и истории, через какие механизмы
(личностные, коммуникативные, институциональные,
духовно-ценностные) передаются философии, с одной стороны, воздействуя на ее й^еи,
концепции, а с другой стороны, парадоксальным образом не только не
препятствуя, но даже способствуя исторически-длительной, не частной,
субъективной, а транснациональной, интерсубъективной и
трансисторической значимости наиболее крупных философских идей и концепций.
Было очень важно и отрадно получать подтверждения такой оценки
от западных философов. Так, известный немецкий философ Витторио
Хёсле (в настоящее время он живет и работает в США), среди многих
языков знающий также и русский, знакомящийся с нашими работами и
читавший лекции в Институте философии РАН, отметил: глубокая
разработка проблем социально-исторической обусловленности философии
принадлежит к числу преимуществ наших философских исследований
по сравнению с западными.
Отечественные и зарубежные исследования...
•131
В дальнейшем будет сделана попытка конкретизировать
высказанные только что общие и предварительные тезисы и положения. Эти
тезисные констатации будут развернуты, снабжены доказательствами,
проиллюстрированы. И здесь снова, как и ранее, будет применен метод
историко-философских case study — анализа репрезентативных с
разных точек зрения примеров, позволяющих и (кратко) представить
наиболее интересные достижения отечественной мысли, и поставить их в
противоречивый социально-исторический контекст развития нашей
страны, ее духовной культуры, а также мирового исторического
развития. Первый из case study данного раздела будет посвящен одному из
наиболее ранних в нашей стране и в то же время наиболее зрелых целостных
исследований интересующих нас проблем.
Case study: книга K.P. Мегрелидзе «Основные проблемы
социологии мышления»
Жизнь замечательного отечественного исследователя, грузинского
философа K.P. Мегрелидзе отмечена характерным для советского
времени драматизмом. После окончания в 1923 году Тбилисского
университета и командировки в Германию (где он познакомился с новейшими тогда
исследовательскими направлениями в философии, психологии,
социальной антропологии) Мегрелидзе направился в Ленинград, где работал в
Институте языка и мышления АН СССР (ведь был же такой институт!).
Молодой ученый опубликовал ряд работ — например, статьи «От
животного сознания к человеческому» или о «пралогическом способе
мышления» (реплика в адрес Леви-Брюля)1.
В феврале 1938 года была отпечатана большая книга Мегрелидзе
«Основные проблемы социологии мышления». Но вскоре автор, в числе
многих других, подвергся репрессиям. Тираж книги был изъят. И хотя в
1939 г. обвинение с Мегрелидзе было снято, из заключения в Ленинград,
а потом и в Тбилиси вернулся человек с подорванным здоровьем.
Заходила, правда, речь о новом издании книги. Но началась отечественная
война, на которой в 1943 г., в возрасте 43 лет, Мегрелидзе погиб. Его
новаторская книга, написанная и как бы опубликованная так рано,
реально вышла в свет только в 1965 г., без малого через тридцать лет после
ее окончания. Фактически и объективно Мегрелидзе можно считать
создателем одной из наиболее ранних в мировой литературе
систематической и новаторской междисциплинарной концепции,
отнесенной к новой «социологии мышления» (она в свою очередь
составляла часть социологии знания, или познания).
Судьба Мегрелидзе еще раз демонстрирует, как в нашей стране
идеология, политика, тоталитаризм подавляли научные исследования,
10 жизни и работах К. Мегрелидзе см.: А. Бочоришвили. От редактора / / K.P.
Мегрелидзе. Основные проблемы социологии мышления. Тбилиси, 1965. С. 3-6.
9*
132 •
Раздел III
которые при иных условиях могли бы своевременно завоевать передовые
позиции в мировой гуманитарной культуре. Поделюсь личными
воспоминаниями. Книга Мегрелидзе попала мне в руки во второй половине 60-х
годов — через несколько лет после того, как я (в 1963 году) защитила
кандидатскую диссертацию о проблематике активности субъекта в
феноменологии Гуссерля и в социологии познания. Помню, я подивилась
тому, сколь основательно и целостно Мегрелидзе разработал свою
концепцию, и в частности, сколь очевидные творческие преимущества она
имела перед многими известными мне (часто фрагментарными)
разработками западных специалистов в данной области.
Книга Мегрелидзе — объемное, многостороннее произведение.
Рассмотреть ее сколько-нибудь подробно в кратком разделе моей книги не
представляется возможным. Отмечу лишь отдельные особенности
работы, позволяющие включить ее в разряд наиболее ранних произведений
на исследуемую тему и считать ее исследованием мирового класса.
1. Мегрелидзе был убежденным марксистским философом. Если бы
это было не так, ему вряд ли удалось выжить, тем более защитить свои
идеи в репрессивной идеологической мясорубке 30-х годов, не ссылаясь
на Маркса. Честный исследователь Мегрелидзе выбрал вот какой путь: он
взял из наследия Маркса (а также Энгельса и Ленина) те идеи и
концептуальные решения, которые он сам мог принять и доказательно
отстаивать. Не случайно его выбор пал на теоретический блок, о котором
раньше было сказано как о признанном тогдашним мировым сообществом
вкладе Маркса в разработку особо интересовавших Мегрелидзе и
интересующих нас здесь проблем. При бесспорной марксистской ориентации
книга Мегрелидзе отличается от массовой в нашей стране философской
продукции второй половины 30-х годов полным отсутствием
бессодержательного цитатничества, догматизма и других не менее характерных
чисто идеологических черт. Существенно, что написанная в 1938 году книга
(во всяком случае в опубликованном варианте) не содержит никаких
реверансов перед «гением вождя народов» Сталина. (Не из-за этого ли
пострадал автор?) Отсюда частный совет читателю: если вы хотите
поучить наиболее полное, доказательное представление о том, какой
вполне реальный теоретический вклад К. Маркс (отчасти также Ф. Энгельс
и даже В.И. Ленин) внесли в становление и разработку тех областей,
которые позже были отнесены к социологии познания, знания, мышления
и социологии науки, читайте, изучайте книгу Мегрелидзе. (Впрочем,
достать эту книгу сегодня вряд ли возможно; настоятельно
требуется ее переиздание) Ценно, что идеи, высказывания Маркса вплетены
в содержательный и систематический анализ проблематики социологии
мышления, как ее понимал и выстраивал Мегрелидзе.
2. Весьма ценно и то, что автор анализируемой книги опирался не
только на классические традиции марксизма, но и на наиболее глубокие,
притом свежие для того времени западные исследования весьма
широкого проблемного диапазона. В целом оправданно утверждать: из иссле-
Отечественные и зарубежные исследования...
•133
дований, имевшихся к тому времени, когда Мегрелидзе подготавливал,
сочинял, писал свою книгу (исследований зарубежных и отечественных,
прямо или косвенно релевантных его теме), им вряд ли было упущено
что-либо существенное. Вот где сказалась инерция благотворного
правила, в отдельных случаях соблюдавшегося еще и в первые годы после
Октябрьской революции, а потом перечеркнутого, — посылать
образованных людей, выпускников и преподавателей из разных университетов
огромной России в финансируемые государством стажировки за границу.
(О том, какую роль оно сыграло в содержательной перекличке
философских идей России и Запада, я писала в своей книге «Мыслители России
и философия Запада». М., 2005. Один из моих учителей, замечательный
философ из Грузии К.С. Бакрадзе, тоже командированный в Германию,
рассказывал о значении своего обучения у Г. Риккерта и Э. Гуссерля.)
Чтобы подтвердить фундаментальный тезис о реальном и
своевременном, по сути своей междисциплинарном, учете достижений западной
философской, социологической, психологической (а также
лингвистической, историко-культурной, этнологической и т. д.) мысли в ряде
отечественных исследований социальной природы познания, знания,
необходимо конкретно продемонстрировать, сколь широко это сделал К.
Мегрелидзе в своей прекрасной книге.
Кроме уже отмеченного факта содержательного теоретического
осмысления классической марксистской традиции, имеют место глубокие,
основательные переклички с различными сегментами (релевантного
теме) исследовательского опыта в философии, социологии, психологии,
истории (и их отдельных дисциплинах, блоках).
• Это прежде всего опора на историю классической философии.
Наиболее важны и чаще других упоминаются, цитируются в книге
Мегрелидзе: Аристотель, Ж.-Ж. Руссо, Лейбниц, Кант, Гегель, Шопенгауэр,
Фейербах, Спенсер, Ницше. При этом западные мыслители грамотно
цитируются по произведениям на языке оригинала. (Какой, кстати,
контраст с нашим полуграмотным временем!)
• В кадре исследования присутствуют, а подчас основательно
разбираются те работы и идеи философов конца XIX и XX вв., тогдашних
современников, которые наиболее близко соотносятся с тематикой книги
Мегрелидзе. Это В. Дильтей, неокантианцы Г. Файхингер, Г Риккерт,
В. Виндельбанд, Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер, неогегельянцы Р. Кро-
нер, Б. Кроче, основатель новой феноменологии Э. Гуссерль, создатель
«органологического» варианта философии жизни виталист Н. Дриш,
основатель прагматизма В. Джемс, позитивист Г. Райхенбах, начинавший
тогда свою самостоятельную работу М. Хайдеггер и другие. Характерно,
что ссылок на отечественных мыслителей той же эпохи в работе
Мегрелидзе очень мало. Есть упоминание о работе Н. Лосского
«Оправдание интуитивизма» (1908). Полагаю, это, скорее всего, свидетельство не
зависевшего от Мегрелидзе и обусловленного идеологическими
причинами насильственного устранения русской философии из культурного,
исследовательского поля отечественного гуманитарного знания.
134 •
Раздел HI
• В ряде специальных глав своей книги Мегрелидзе вполне
конкретно и в духе междисциплинарного синтеза принимает в расчет те
исследования из психологии, физиологии XIX и XX веков, которые
проливали дополнительный свет на проблемы социальной природы познания и
мышления. Очевидно основательное знакомство Мегрелидзе с работами
В. Вундта, Г. Гельмгольца, с новыми тогда исследованиями гештальт-
психологов (В. Келлера и др.), а также авторов, изучавших «интеллект»
животных (Е. Торндайк, тот же Келлер, О. Цур-Штрассен), проблемы
инстинктов (И. Мюллер, Г. Ллойд Морган, Е. Цигрер), психологию
развития ребенка (К. Бюллер), психопатологию (В. Хорхгеймер). Все это
позволило Мегрелидзе глубоко проанализировать вопрос о различиях
между «интеллектуальными», квазимыслительными действиями
животных и мыслительной деятельностью человека. Из отечественных
психологов того времени упоминаются А. Лурия и Ю. Войтонис.
• Особый интерес для философа, создавшего проект целостной
социологии мышления, естественно, представляли социология вообще, а в
частности и особенности те ее разделы, которые были повернуты именно
к изучению социальной обусловленности духовной, мыслительной
деятельности. Надо учесть, что в первые десятилетия XX века на Западе
подобные исследования проводились интенсивно, достаточно широким
фронтом. Отсюда ссылки Мегрелидзе на релевантные его темам работы
социальных философов, социологов В. Зомбарта, Г. Зиммеля, Э. Дюрк-
гейма, Г. Фрейера (Н. Freyer) и других авторов. В этом же ряду
исследователей, привлекших особое внимание Мегрелидзе, стояли создатели
социальной психологии: Мак-Даугал (с его книгой «Основные
проблемы социальной психологии» — она еще в 1916 году была переведена на
русский язык), создатели «психологии масс», или психологии толпы,
Г. Тард, Г. Лебон (имеются ссылки на их работы конца XIX века). Из
русской литературы Мегрелидзе учел разработки, как он сказал, «таких
далеких друг от друга авторов», как Михайловский (с его известной книгой
«Герой и толпа») и Бехтерев («Коллективная рефлексология», 1921 год).
• Мегрелидзе также весьма тщательно проработал и (тоже
междисциплинарно) использовал в своей книге специальные исследования
историков, социальных антропологов, этнографов, лингвистов, относящиеся
к проблемам мышления, познания, языка, мифологии. В книге
поистине впечатляюще освоены, притом критически, идеи таких авторов, как
Л. Гейгер (L. Geiger — книга «Происхождение и развитие человеческого
языка и разума», 1872), Л. Нуаре (L. Noire — исторические работы о
языке, о технических инструментах и их значении для развития мышления
и языка). В кадре анализа — исследования К. Леви-Брюля (1922, 1923,
1927), работы по лингвистике Ф. де Соссюра, Э. Тейлора о первобытной
культуре (русский перевод был выполнен еще в 1899) и другие
источники.
При этом немало в высшей степени конкретных, на первый взгляд
совершенно частных исследований этнографов, языковедов, фолькло-
Отечественные и зарубежные исследования... * 135
ристов органично вошли в обобщающую, синтезирующую философ-
ско-социологическую теорию Мегрелидзе (примеры: ссылки на работы
В. Бретта, изучавшего мир индейцев Гвианы, К. фон Штайнера,
исследователя «примитивных народов» Бразилии, или Ф. Боаса,
проводившего аналогичные изыскания в Колумбии). И скажем, ту часть теории,
в которой Мегрелидзе очень интересно разбирал проблемы социально-
исторической обусловленности чувственного опыта, замечательно
подкрепляли работы Р. Андрее или X. Магнуса об особенностях восприятий
и обозначений цвета у «примитивных» народов. Этот далеко неполный
перечень содержательно использованных в книге Мегрелидзе западных
работ сам по себе впечатляет, свидетельствует о реальной
включенности разработок этого отечественного философа в мировой контекст
междисциплинарных исследований, здесь являющихся предметом
нашего интереса. Работа, проделанная К. Мегрелидзе, которая, увы, долгое
время оставалась неизвестной, невостребованной, стала одним из
теоретических стимулов для отечественной философии 50-60-х годов XX
века, когда началось, чуть ли не с нуля, восстановление насильственно
перерубленных корней и традиций духовной культуры.
Не менее впечатляет то, что удивительная эрудированность,
начитанность Мегрелидзе, широкий охват избранного исследовательского
поля соединились с оригинальным выстраиванием целостной
концепции, а можно даже сказать, с новаторским устремлением создать
(объективно — в рамках социологии познания) синтезирующую специальную
дисциплину, оправданно названную социологией мышления. Об этой
теоретически целостной, систематической дисциплине, как ее задумал,
представил в своем труде Мегрелидзе, здесь приходится говорить лишь
очень кратко.
В теоретической преамбуле «Общая экспозиция вопроса о
мышлении», опираясь прежде всего на традиции и работы Маркса (и делая это,
как сказано, не ритуально-идеологически, а в исследовательском ключе),
Мегрелидзе прежде всего дает бой «натуралистическим установкам» —
в частности, в их форме биологизма, физиологизма в понимании
мышления. Примером последних для Мегрелидзе служит позиция Г. Спенсера
(представленная, увы, бегло и бледно). Но вообще-то в философии
конца XIX и первых десятилетий XX века натурализм, как и борьба с ними,
были заметными, влиятельными тенденциями. И, скажем, в работе
Гуссерля «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология»,
которая, напомню, писалась приблизительно в то же время, что и книга
Мегрелидзе (середина и вторая половина 30-х годов XX века), было
предложено глубокое понимание цивилизационной, социально-исторической
опасности натуралистических болезней в философии и шире — в
гуманитарной культуре. Но в те годы (когда Германия впала в нацистское
варварство) в России вряд ли существовала возможность знакомиться
с поздними работами Гуссерля, философа, о котором уже знали в нашей
стране (и прежде всего в Грузии) и о феноменологии которого Мегре-
136 •
Раздел III
лидзе упоминал в своей книге. Тем не менее перекличка идей позднего
Гуссерля и Мегрелидзе, повернутых против философского натурализма,
объективно существовала.
Первые главы работы Мегрелидзе содержат (отчасти
заимствованные у Маркса, но развитые и самим автором — с опорой на современные
ему разработки) осмысление проблематики трудовой деятельности в ее
значении для становления, развития человеческих сознания, познания,
знания, мышления. Основательно, подробно обсуждая и критически
осмысливая опыт специальных исследований (например, поведения и
«интеллекта» животных у Торндайка или Уотсона, а также инстинктов
человека у И. Мюллера, Г. Ллойда Моргана, Е. Циглера, В. Келлера),
Мегрелидзе конкретно и доказательно раскрывает те особенности
мыслительных действий человека, которые были сформированы в ходе
многотысячелетней истории и именно под влиянием социальных
взаимодействий. Решающую роль, как это опять-таки предметно и конкретно
демонстрирует автор анализируемой книги, играет прежде всего то, что
не сама по себе природа, а «вторая природа», уже измененная
человеком в ходе его исторического развития, кардинально определяет и состав
«объектов познания», и формы их освоения, и все духовные средства,
имеющие социально-исторический генезис и социаьную природу.
Особое достоинство концепции Мегрелидзе (опирающегося, как
сказано ранее, на большой массив исследований, в основном западных,
из различных областей гуманитарного знания) образует скрупулезный,
тонкий анализ тех элементов, сторон, уровней познания и знания,
которые традиционно именовались «чувственным опытом» и весьма часто —
даже у великих идеалистов, даже у марксистских гносеологов, в других
связях твердивших о деятельности, — по существу разбирались в духе
эмпиризма, сенсуализма, натурализма. Примечательны в свете
сказанного разделы книги Мегрелидзе «Социальная обусловленность
чувственно данного», параграфы (§ 43 и далее) о чувственном восприятии и т. п.
Вторая часть книги Мегрелидзе посвящена проблемам социальной
обусловленности идей, понятий, картин мира, категорий философии. И в
этом анализе интересно, органично объединяются оценки классического
историко-философского материала и произведений новых тогда авторов,
в основном западных. Речь идет, что очень ценно, не просто об отдельных
высказываниях и произведениях, а о наиболее серьезных, влиятельных
тогда системно разработанных концепциях, гипотезах, предлагавших
различные объяснения общего и всеобщего в познании через поиски
«параллелизмов», схождений и расхождений «в чертах общественной и
духовной жизни народов» (Мегрелидзе К. Указ. соч. С. 331). Это были:
«теория расселения», «теория заимствования», «теория
тождественности человеческого разума», географическая теория и другие
теоретические гипотезы. Мегрелидзе анализирует их скрупулезно, объективно,
обращаясь к конкретным фактам (см., например, § 75 «Параллелизмы в
области исчисления времени» и § 76 «Схождения в области типов мыш-
Отечественные и зарубежные исследования... * 137
ления»). Подобным образом построены главы об «общественном
распространении» и «социальном осуществлении идей», о «понятии
общесилового социального поля истории» и т. д. Вдаваться в конкретный анализ их
содержания здесь невозможно. Полагаю, сказанного достаточно, чтобы
подкрепить сформулированную ранее высокую оценку теоретического
вклада Мегрелидзе в разработку той части учения о социальной
природе познания, которую он назвал социологией мышления. Поскольку в
проблемном отношении она была частью социологии знания и познания
(Wissenssoziologie, sociology of knowledge), имеет смысл учесть влияние
этой дисциплины и интереса к ней на отечественные исследования
интересующего нас исторического периода.
ГЛАВА ВТОРАЯ
СОЦИОЛОГИЯ ЗНАНИЯ (ПОЗНАНИЯ) И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ПОЗНАНИЯ.
Социология знания (и познания) — область исследований,
исторически возникшая на границе теории познания, гносеологии и
социологии, затем оформившаяся в относительно самостоятельную
дисциплинарную область научно-теоретического и эмпирического познания и
положившая начало дальнейшей дифференциации соответствующих
исследований.
Прежде чем обсуждать проблемы, обозначенные в заголовке
раздела, необходимо прояснить вопрос о трудностях перевода самого
названия этой дисциплины на русский язык, что имеет также и
содержательное значение для понимания ее предмета, идей и методов. В 20-30-х
годах отцы-основатели, — а то были немецкие авторы, о которых речь
впереди, — ввели для обозначения новой дисциплины сначала термин
«Soziologie des Wissens», потом «Wissenssoziologie», произведенный, как
это нередко бывает в немецком языке, от двух слов, именно от «Wissen»,
«знание» и «Soziologie», «социология». На русский язык оба термина
правильно переводить словами «социология знания». Тут как будто и не
могло быть чисто лингвистических трудностей. Но появились проблемы
содержательного характера. Фактически оказалось, что
социологической, социально-философской интерпретации подвергалось не только и
даже не столько знание как готовый продукт, сколько познавательная
деятельность, процессы познания, ведущие к тем или иным знаниям
как результатам. Поэтому в отечественной литературе, релевантной той
проблематике, которую мы будем обсуждать, на равных правах
употребляются два термина — «социология знания» и «социология познани'а»,
что можно считать вполне оправданным с содержательно-проблемной
точки зрения. (Я по большей части употребляю термин «социология
познания», фактически имея в виду социологию знания и познания; другие
наши авторы предпочитают говорить о «социологии знания».)
Далее, есть трудности в переводе термина Wissenssoziologie на
английский язык — и соответственно в его толковании. Их важно
учитывать и российским исследователям, поскольку нам приходится работать
с теперь уже богатой англоязычной литературой по социологии познания
и социологии науки. О трудностях пишет один из классиков социологии
знания (и познания) И.Л. Горовиц: «Немецкое слово „Wissenssoziologie"
обычно переводится на английский как «sociology of knowledge».
Неясность, возникающая при переводе, коренится в том, что термин «Wissen»
Отечественные и зарубежные исследования... * 139
употребляется в более широком значении, нежели термин «knowledge».
В то время как слово «knowledge» обычно предназначают для точной,
научной информации, «Wissen» референтно соотносят с такими
культурными феноменами, как философская, религиозная и эстетическая
информация»1. «Knowledge», продолжает Горовиц, в отличие от
немецкого «Wissen», как правило, не используется для обозначения
ложного, неверифицируемого, превратного знания. (Пожалуй, русское слово
«знание» в этом отношении ближе к «Wissen», чем к «knowledge», ибо
применимо к любому знанию — научному, верифицируемому, точному
и знанию вненаучному.) Между тем (о чем см. далее) дисциплина,
названная в английском переводе «sociology of knowledge», с самого начала
оказалась повернутой скорее к «превращенному» (например,
идеологическому) знанию, чем к точному знанию науки. По-французски данная
дисциплина называлась «la sociologie de la connaissance»; причем слово
«connaissance» означает и «знание», и «познание» (и даже «знакомство»),
так что более широкое толкование данной дисциплины во французской
традиции было облегчено также и терминологически.
Настоящая работа не имеет и не может иметь целью дать подробную
историю западной социологии познания2. Нас в большей мере будет
интересовать та часть этой истории, которая относится к 50-80-м годам XX
века и, соответственно, к вопросу о том, когда именно, в какой мере и в
каких формах эта дисциплина была замечена, освоена, воспринята в
отечественной философской литературе. И все же надо хотя бы кратко
упомянуть о тех идеях и разработках, которые в лучших обобщающих
работах, компендиумах по социологии познания (ссылки на них читатель
найдет в данном разделе) отнесены к «предыстории» этой дисциплины. Для
упоминания о них есть две главные причины. Во-первых, к предыстории
были справедливо причислены некоторые работы классиков философии
нового времени — от Ф. Бэкона до Г.В.Ф. Гегеля. Во-вторых, еще более
мощный пласт «предыстории», часто понимаемой уже и как ранняя
история, как начало, с которыми виднейшие теоретики социологии познания,
причем не только марксисты, соотносят свою дисциплину — наследие
Маркса и разработки марксистских авторов 20-30-х годов. В
подтверждение можно было бы привести множество цитат. Вот лишь некоторые.
К. Манхейм: «Начало социологии знания положил своими
гениальными указаниями в этой области Маркс»3. К. Вольф: «Два
непосредственных предшественника социологии познания — марксизм и социология
Дюркгейма. То [духовное явление], которое соотносят с социологией
1 Horowitz J.L. Philosophy, Science and the Sociology of Knowledge. Spriengfield. USA,
1961. P. 140.
2 Эта задача выполнялась мною достаточно рано для нашей философии — в
защищенной в 1963 г. кандидатской диссертации по проблеме активности субъекта в
феноменологии Э. Гуссерля и социологии познания и в статье «Социология познания» в 5 томе
«Философской энциклопедии» (М., 1970).
3Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
140 •
Раздел III
познания в виде Wissenssoziologie, достигло расцвета в Германии в 20-х
годах XX века и было по преимуществу ориентировано марксистски или
антимарксистски»1. Р. Бергер, Т. Лакменн: «Именно у Маркса
социология познания берет свою коренную предпосылку — положение о том, что
сознание человека детерминировано его социальным бытием. Конечно,
было много дебатов о том, какой именно вид детерминации Маркс имел
в виду. Правильно будет сказать, что «борьба с Марксом», в
значительной степени характеризующая не только начальный этап, но и
«классическую эру» социологии вообще (в частности, это проявляется в работах
Вебера, Дюркгейма), реально была борьбой с ложной интерпретацией
Маркса последующими марксистами»2. Бергер и Лакменн напоминают
о том, что напечатанные в 1932 году марксовы «Экономическо-философ-
ские рукописи 1844 года» вызвали более широкий резонанс (в том числе
в социологии познания) только после второй мировой войны. И
продолжают: «Как бы то ни было, социология познания унаследовала от Маркса
не только центральную проблему, но также некоторые свои ключевые
понятия, среди которых должны быть названы понятия «идеологии» (это
идеи, служащие орудием реализации социальных интересов), и
«превращенного сознания» (мысль, которая отчуждена от реального
социального бытия того, кто мыслит»)3. (Бергер и Лакменн упоминают также о
марксовых понятиях базиса и надстройки.)
Специально обратим внимание вот на какое обстоятельство.
Процитированная работа американских авторов (последователей А. Шютца, в
свою очередь испытавшего влияние гуссерлевской феноменологии)
вышла в свет в 1966 году. Авторы обобщали опыт исследований,
накопившийся к тому времени в западной социологии познания. Судя по
библиографии и именам, фигурирующим в этой работе, Бергер и Лакменн не
имели никакого понятия о том, что происходило в тот период в
философии нашей страны. Наверное, они удивились бы, узнав, что некоторые
исследования философии, существовавшей за «железным занавесом» и
как бы по идеологическим лишь причинам ориентированные на наследие
Маркса, не были ограничены марксистскими рамками и
сконцентрировались буквально на тех же проблемах, которые акцентировала западная
социология познания, причем нередко это делалось уже и с прямым
использованием ее опыта.
В первых разделах данной монографии была специально исследована
деятельность целой плеяды отечественных философов, которые
стремились взять самое лучшее, само актуальное из переживших свое время идей
Маркса. Среди них также были идеи, темы, понятия, которые
впоследствии взяла на вооружение социология познания. И не случайно в центр
исследовательской работы над наследием Маркса в те же послевоенные,
а особенно в 50-60-е годы переместился к «Экономическо-философским
1 Wolff К.Н. Trying Sociology. N.Y., London, Sidney, Toronto, 1974. P. 555.
2Berger P.L., Luckmann Th. The Social Construction of Reality. N.Y., 1966. P. 5-6.
3Ibidem. P. 6.
Отечественные и зарубежные исследования...
•141
рукописям». Здесь не требуется повторять ранее сказанное. Теперь мы
обратимся к вопросу о развитии западной социологии познания. А она к
началу 60-х годов накопила основательный опыт. Очень кратко
суммируем его (не забывая о проблеме ее освоения в отечественной мысли).
В 20-х годах XX века основы социологии знания (познания) уже в
собственном смысле этого слова — и с применением термина Soziologie
des Wissens — заложили Макс Шелер и Карл Манхейм.
В когорту наиболее видных представителей социологии познания,
взятой в ее почти столетнем развитии, входят, кроме того, многие
философы и социологи с известными именами; о некоторых из них, внесших
наибольший вклад в развитие данной дисциплины, пойдет речь в
дальнейшем рассмотрении. Правда, уже и поиск «точки отсчета» в этой ветви
социологии зависит от того, берется ли социология знания (познания) в
более широком или более узком, специальном смысле. При первом
подходе — когда в орбиту анализа включается и «предыстория» социологии
знания (познания) — вспоминают о разнообразных, в том числе о самых
древних традициях, в рамках которых речь так или иначе уже шла о
связке «познание (знание)-общество». Например, видный представитель
этого направления И.Л. Горовиц возводит истоки, т. е. предысторию
социологии познания, к древнекитайской философии; затем упоминаются
идеи Платона и Лукреция, а потом — что имеет место во многих работах
по социологии познания — разбираются идеи Ф.Бэкона, Юма,
французских просветителей, Канта, Гегеля, Фейербаха1. Я всегда поддерживала
и до сих пор поддерживаю такой исторический подход. В целом ряде
своих работ 60-80 гг., начиная с кандидатской диссертации, с книги
«Познание и общество. Из истории философии XVII—XVIII вв.» (М., 1969),
включая докторскую диссертацию и многочисленные последующие
публикации на эти темы, я фактически и рассматривала важнейшие вехи
истории философии также и как «предысторию» социологии познания и
стремилась разработать систематическую теорию и методологию, в
наибольшей мере помогающие, во-первых, вполне конкретно понимать
философию прошлого в ее социально-исторической обусловленности и
обратном влиянии на историю, а во-вторых, вычленять и оценивать ее как
теоретическую рефлексию, включающую и анализ разбираемой здесь
проблематики. В небольшой книге «Социально-исторические корни
немецкой классической философии» (М., 1990) данная концепция нашла
свое сжатое воплощение; в этой и других публикациях (включая ту, что
читатель держит в руках) она также была применена для специальных
исследований философии и социологии различных стран и эпох.
В данном очерке мы сможем разбирать, да и то лишь кратко, лишь
социологию познания, взятую в ее втором, специальном и узком
значении и развивавшуюся в XX в. Это развитие было неравномерным; тут
1 См.: Horowitz I.L. Philosophy, Science and the Sociology of Knowledge. Springfield.
1961.
142 •
Раздел III
случались свои пики и спады. Начальный прорыв приходится на
напряженные, чреватые новой войной 20-30-е гг. XX в. (что тоже
предполагает объяснение с помощью и с позиций социологии познания),
следующий этап интенсивного развития рассматриваемой дисциплины — на два
послевоенных десятилетия. Точную веху, помечающую начало развития
социологии знания как специальной дисциплины, указать трудно. Тем
не менее один из классиков социологии познания американский ученый
Курт Вольф относит это начало к середине 20-х гг. XX в. (см. его
предисловие к книге «Cultural Hermeneutics», Dordrecht, 1975). Затем
социология познания, реально способствовав рождению социологии науки,
своей «родной сестры», возникшей, собственно, из тех же теоретических
истоков, на некоторое время ушла в ее тень. Впоследствии, например, в
70-х гг., число публикаций по социологии познания опять увеличилось.
В 80-90-х гг. стали появляться (относительно) новые направления и
исследовательские тенденции, создатели которых подчас ясно указывали в
своей «родословной» на связь с социологией познания, но иногда
забывали об этом, хотя объективно их исследования вырастали из
своеобразного, по большей части плодотворного соревнования с классическими
идеями и социологии познания, и социологии науки.
Социология познания (знания) — в том виде, в каком она была
развита в названные десятилетия XX в. — теперь уже является феноменом
истории. И это весьма важный, в проблемном смысле, плодотворный и до
сих пор влиятельный исторический и теоретико-методологический
феномен. Он, несомненно, присутствует также и в развитии отечественной
философии, хотя включен в него довольно своеобразно, противоречиво.
С одной стороны, в советское время социология познания (как и все виды,
дисциплины социологии) долгое время находилась под идеологическим
подозрением. Весьма немногочисленные отечественные публикации о
ней в довоенное и ранее послевоенное время (т. е. в годы первого
расцвета социологии знания) были чисто идеологическими, ругательными;
правда, уже и информация о самом существовании на Западе такого
направления, такой дисциплины — а вернее, междисциплинарной области
исследования — сослужила свою службу. Работы классиков социологи
познания на русский язык долго не переводились. (И только в
последние десятилетия накопившийся «долг», наконец, начал выплачиваться:
появились переводы ряда классических работ по социологии знания и
науки.) С другой стороны, начиная с 60-х гг. положение все же стало
изменяться1.
1 Сужу об этом по собственному опыту. Когда я писала, обсуждала, защищала
(в 1963 г.) свою уже упоминавшуюся кандидатскую диссертацию, то столкнулась с
обескураживающим фактом. С первой частью темы, гуссерлевской феноменологией, были свои
трудности, но о ней уже что-то знали, слышали философские «привратники», т. е. лица, от
которых зависело формальное одобрение темы. Что касается социологии знания
(познания), то вначале пришлось натолкнуться на сопротивление моего научного руководителя
Ю.П. Францева, который был достаточно интересной и противоречивой фигурой. Образо-
Отечественные и зарубежные исследования...
•143
Случилось так, что я была среди первых философов-«шестидесят-
ников», которые по крайней мере обратили внимание коллег и
читателей на социологию познания как плодотворную — при всех и сегодня
несомненных недостатках, тупиковых подходах — исследовательскую
линию в философии и социологии, сохранившую, как потом выяснилось,
свое значение на протяжении XX в. и в трансформированном виде, уже
в виде «классики», перебравшуюся в XXI столетие. Впоследствии у нас
были написаны работы (диссертации и книги) Л. Хоруца, Л. Москвиче-
ва; о социологии знания писали А. Огурцов, М. Петров и др. Я далека от
того, чтобы преувеличивать значение своего вклада и вклада моих
коллег, занимавшихся данной тематикой в очень неблагоприятное для этого
время. (К сожалению, именно анализ западной социологии познания, в
моем случае спрессованный в двух диссертациях и энциклопедических
статьях и поддержанный сравнительно узкой группой впоследствии
появившихся специалистов по этим вопросам, вряд ли получил
своевременный непосредственный резонанс и, возможно, оказал скорее
косвенное влияние на несомненное расширение и углубление в нашей стране
сфер исследования социальной природы познания, что случилось уже в
70-е гг.) Тем не менее, можно в целом говорить о том, что классики
социологии познания — прежде всего К. Манхейм и М. Шелер, а
особенно работавший в сходных областях крупный мыслитель более широкого
проблемного диапазона М. Вебер — в послевоенное время оттепели
стали привлекать все больший исследовательский интерес наших авторов
(особо надо выделить более поздние прекрасные публикации о М. Вебе-
ре П. Гайденко и Ю. Давыдова).
Перейдем теперь к анализу вклада основных фигур, вех развития,
идей социологии познания — анализу, который может быть лишь очень
кратким, типологическим, выделяющим только главные идеи и тенденции.
Карл Манхейм (1893-1947) по праву считается одним из
основателей и классиков социологии знания (познания) как особой философ-
ско-социологической дисциплины. После разработки, на самых первых
этапах своего творческого развития, проблем философии культуры он
создал ряд работ, уже и в заголовках которых имелся термин
«социология знания». Так, в 1925 г. он опубликовал книгу «Проблема социологии
знания» («Das Problem einer Soziologie des Wissens»). Впоследствии
вышел ряд его произведений, посвященных той теме, которая стала
центральной в маннгеймовском варианте социологии знания и затем
закрепилась как один из главных проблемных блоков новой дисциплины. Пре-
ванный человек, египтолог по первоначальному образованию, он в то время по многим
вопросам предпочитал занимать «официально одобренные» позиции. И он сказал мне, что
социология познания — вредное буржуазное течение и что надо менять тему. В ответ на мой
решительный отказ (сопряженный для меня с риском расстаться с аспирантурой) он
предложил быстро написать стостраничный текст именно о социологии познания. Прочитав его
и почувствовав, видимо, содержательность этой дисциплины, Францев сказал: «Это
золотая жила, и Вы будете копать из неё всю жизнь». Так и было...
144 •
Раздел III
жде всего надо назвать знаменитую, вызвавшую сильнейший резонанс,
породившую целый поток исследований, переведенную на многие языки
книгу Манхейма «Идеология и утопия: введение в социологию знания»
(1929). Ее можно смело отнести к числу наиболее известных,
влиятельных философско-социологических произведений XX в. В официальной
советской философии эта книга об идеологии считалась исключительно
вредной именно в идеологическом отношении — несмотря на тот факт,
что Манхейм, как мы уже убедились, оправданно, с научной
добросовестностью возводил истоки этой ветви социологии знания (познания) к
марксовой критике идеологии.
Более поздние теоретики и историки социологии познания
справедливо указывали на то, что эта специальная дисциплина не просто
возникла на фоне глубокого интереса духовной культуры, в частности, «наук о
духе» эпохи между двумя мировыми войнами, к социально-исторической
трактовке знания, познания. Она, по существу, опиралась на
междисциплинарный синтез и в то же время вычленялась из более обширного
массива разработок, исследований ученых самых различных
дисциплин (тогдашних философов, социологов, политологов, культурологов,
историков), решительно повернувшихся к блоку тем, охватываемых
поистине безбрежной проблематикой связи познания, знания и общества.
Превосходный американский социолог (познания) Курт Вольф в одной
из своих работ с примечательным заголовком (дальше мы его
специально разъясним) «Социология познания: акцент на эмпирическом подходе»
(1943) обратил внимание на этот массив, упомянув исследования 20-х,
30-х, начала 40-х гг. Т. Парсонса, Р. Мертона, Ч.Р. Миллза, О. Ловджоя,
Ж. де Гре и других, менее известных широкой публике авторов1.
Постоянно упоминаются в литературе и такие мыслители, которые куда
раньше начали разрабатывать темы данного комплекса как на философской,
так и на социологической почве — это прежде всего, как уже говорилось,
К. Маркс, многими признанный праотцом социологии знания; К.
Манхейм называет также имена Ницше, Фрейда, Парето, Раценгофера,
Гумпловича, Оппенгеймера. Им же и другими авторами названы также
Леви-Брюль, Дюркгейм, Дильтей, Зиммель, М. Вебер, Зомбарт и др.
Упомянуты и менее известные имена: например, немецкого автора В. Еруза-
лема (Jerusalem), который еще в 1921 г. опубликовал работу «Soziologie
des Erkennens» («Социология познавания»). Итак, идеи, потом давшие
начало социологии знания, буквально носились в воздухе европейской
гуманитарной культуры 20-30 гг. XX в., а потому были быстро оформ-
ленны уже названными ее основателями в специальную дисциплину,
находившуюся на междисциплинарном пограничьи.
Что касается непосредственного начала специальной истории
социологии познания, то к числу ее отцов-основателей, кроме К. Манхейма,
справедливо относят М. Шелера, который еще до Манхейма, а именно в
1924 г., выпустил книгу с ясным заголовком «Опыты социологии знания»
1 Wolff К.Н. Trying Sociology. N.Y., London, Toronto. 1974. P. 461-462, 480.
Отечественные и зарубежные исследования...
•145
(«Versuche zu einer Soziologie des Wissens», 1924); за ней последовала
работа 1926 г. «Формы знания и общество: проблемы социологии знания» («Die
Wissenformen und die Gesellschaft: Probleme einer Soziologie des Wissens»).
В литературе справедливо обращено внимание на особый вклад
авторов, которые раньше других включились в сразу развернувшиеся
дискуссии о только что «родившейся» дисциплине: здесь подчеркивалась
роль Г. Лукача (с упоминанием других марксистских авторов, например,
на более ранней стадии Г. Плеханова, а впоследствии Н. Бухарина1),
А. фон Шелтинга (который уже в 1929 г. написал — по свежим следам
первых размежеваний — статью «К вопросу о споре вокруг социологии
знания»2); Эрнста Грюнвалъда (чья книга 1934 г. «Проблема
социологии знания»3 относится к числу наиболее ранних систематических
обобщений опыта специализированной социологии знания на первых стадиях
ее развития).
Ранние дискуссии касались вопросов, которые до сих пор остаются
предметом обдумываний и споров. Прежде всего, «введя» новую
дисциплину и назвав ее «социологией знания» (первоначально у
немецкоязычных авторов фигурировал немецкий термин «Soziologie des Wissens», а
позже привилось одно составное слово «Wissenssoziologie»),
отцы-основатели пытались определить, каков, собственно, предмет данной
дисциплины, в чем ее междисциплинарный характер и каково ее особое место
в уже этаблированной семье философских, социологических,
культурологических, исторических наук. Например, К. Манхейм в «Идеологии и
утопии» (в специальной V главе, так и названной «Социология знания»)
дает следующее определение: «Социология знания — недавно
возникшая социологическая дисциплина. В качестве теории она стремится
поставить и разработать учение о так называемой «экзистенциальной
обусловленности знания» в качестве историко-социологического
исследования — проследить эту «обусловленность» применительно к различным
содержаниям знания в прошлом и настоящем. Социология знания, —
добавляет Мангейм, уже применяя к этой дисциплине её собственные
методы, — возникла в результате усилий, направленных на то, чтобы
сделать предметом исследования многообразную, и прежде всего
социальную, обусловленность теорий и типов мышления, которая стала
очевидной в кризисной ситуации современности, определить критерии
для понимания этой обусловленности и, продумав эту проблему до её
логического конца, разработать соответствующее современной ситуации
учение о значении внетеоретических условий знания»4. (Подчеркнутые
курсивом слова демонстрируют, во-первых, очевидный факт понимания
социальной обусловленности самой социологии знания ее создателями,
1 См.: Horowitz I.L.Op. cit., P. 65..
2См.: A.von Schelting. Zum Streit um die Wissenssoziologie / Archiv für
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. 62, 1929.
3 Grünwald E. Das Problem der Soziologie des Wissens. Wien und Leipzig. 1934.
4Манхейм К. Диагноз нашего времени. M., 1994. С. 219-220; курсив мой. — H. М.
146 •
Раздел III
а во-вторых, явочным порядком, уже на уровне определения
закрепленное сведение у Манхейма «социальных условий» к «внетеоретическим»
предпосылкам, в чем, с моей точки зрения, состояла одна из главных ог-
раниченностей мангеймовского подхода — об этом еще будет идти речь.)
Зная проблемную структуру, процессы развития, дискурсы этой фи-
лософско-социологической дисциплины, я по разным причинам не могу
признать определение Манхейма сколько-нибудь адекватным. (Привожу
его как одно из первых.) Например, неясным остается то содержание,
которое должно вкладываться в, по-видимости, расшифровывающие
термины — «экзистенциальная обусловленность знания» (здесь
сказывалось влияние входившего в моду экзистенциализма), да и вообще
понятие «обусловленности», а также и термина «внетеоретические условия»
знания и т. д. На эти недостатки обратили внимание другие теоретики
социологии знания, справедливо отмечая, что они остались
характерными для всей дефинитивной составляющей новой дисциплины, причем с
расширением ее проблемно-теоретического поля ситуация только
ухудшилась. К. Вольф справедливо констатировал: «Возможно, Манхейм,
чьи теории наиболее широко обсуждались, может быть взят в качестве
примера для указания на неудовлетворительность, в конечном счете,
попыток дать ясную дефиницию понятий знания, познания (knowledge) и
социальной обусловленности (social setting) (или как еще этот феномен
может быть обозначен), а также их отношения. Собственные термины
Манхейма (см.: Ideology and Utopia, p. 239-256) подверглись сильной
критике и обнаружили свою неясность и логическую
неудовлетворительность; наиболее основательный анализ этого дал фон Шелтинг (Мах
Webers Wissenschaftslehre. P. 94-167). Главным пунктом интенсивных
дискуссий было отношение между социальным процессом и знанием
(knowledge) и прояснение этих двух понятий...»1. Приведенная
критическая оценка относится не только к Манхейму и не только к ранней
стадии социологии познания, но и ко всей ее истории.
Правда, дефиниции, тем более относящиеся к обширному полю
целых дисциплин, к их пересечению и к их предмету, дело вообще в
высшей сложное. Это можно показать и на примере других, более поздйих
определений, в которых меняются акценты, но остаются те же
проблемы и трудности. Сошлюсь на дефинитивное разъяснение, которое
позже дал американский социолог И. Горовиц: «Социология знания
рождается только тогда, когда знание понимают как динамическую
социальную силу, наделенную собственными правами; и в период, когда знание
рассматривают как центральный действенный фактор (agency) в
социальных изменениях. Эта дисциплина — не просто теория европейских
философов». (Горовиц по праву упоминает также имена американских
авторов — это, скажем, Ласвелл, Берельсон, Мертон, Лазарсфельд,
которые в 40-50-х гг. как бы подкрепили более ранние идеи М. Вебера,
lUro///tf.//.Op.cit.P.482.
Отечественные и зарубежные исследования... * 147
Манхейма, Шелера.) Проблемное содержание социологии знания Го-
ровиц суммирует (как он говорит, избирательно) в следующих пунктах:
«а) эмпирическое исследование путей, на которых идеи обычно
оказывают гальванизирующее действие; Ь) социальный базис идей
независимо от их истинности или ложности; с) духовные, идеальные (ideational)
условия для сохранения социальной мотивации; d) использование идей
и ценностей для установления новых форм социальных отношений, и
использование контр-идей и контр-ценностей для разрушения новых форм;
е) соответствующие функции науки, религии, мифа и логики в деле
создания идеологических концепций универсума; 0 трактовка знания как
независимой переменной с его уникальной динамикой изменений. Такое
подытожение, — продолжает Горовиц, — со всей очевидностью
отправляется от само собой разумеющейся ценности науки. Как констатирует
К. Вольф, социология знания — вместо того, чтобы напористо защищать
приоритет той или иной формы социального действия — исследует саму
природу и легитимность (тех или иных) установленных приоритетов»1.
Это определение приоткрывает завесу над некоторыми проблемами
социологии знания, но, действительно, является «селективным», т. е.
выбирает лишь некоторые темы из очень широкого поля проблем и
направлений социологии знания.
В качестве дополнения к ранее приведенным определениям могу
предложить ту (рабочую) формулировку, которая была дана мною в
начале статьи «Социология познания» в V томе «Философской
энциклопедии» (1970 г.): «Социология познания (нем. — Wissenssoziologie,
англ. — sociology of knowledge, франц. — sociologie de la connaissance) —
отрасль теоретических и эмпирических исследований знания и познания
как социальных явлений. Социология познания изучает главным
образом социальную детерминацию форм знания, а также форм его хранения,
распространения и использования в обществе; социальную
обусловленность типов мышления, характерных для определенных исторических
периодов; социальную структуру духовного производства,
институциональные формы, в которых оно осуществляется, и типологию
производителей знания»2.
Все приведенные (и другие возможные) определения социологии
знания и познания, конечно, требуют дальнейшей расшифровки как раз
важнейших включенных в них понятий («социальная обусловленность»,
«социальная детерминация» — понимаемая не жестко и т. д.). Но иной
возможности рабочие, исходные определения, даже и удачные, не
предоставляют — иначе дефинициями исчерпывалось бы содержание
соответствующих исследований. А вот из работ ученых, трудившихся в
данной области, уже полнее, четче уясняются темы, проблемы,
центральные понятия, методы, достижения и поле дискуссий данной дисциплины.
1 См.: Horowitz IL. Op. cit. P. 37-38.
2Мотрошилова H.B. Статья «Социология познания» / Философская энциклопедия.
Т.5.М., 1970.С. 100.
ю*
148 •
Раздел III
Возьмем в качестве примера произведения уже упоминавшихся
выдающихся авторов. Вполне понятно, что данные работы как раз и задавали,
а потом и расширяли проблемное, исследовательское поле социологии
знания (познания) как специальной дисциплины. Пример — уже
упоминавшаяся знаменитая манхеймовская «Идеология и утопия». В ней,
во-первых, был дан старт многочисленным исследованиям
идеологических форм сознания, кстати, четко и добросовестно отправлявшимся от
концепции превращенных форм сознания К. Маркса. Во-вторых, в книге,
подзаголовок и специальная глава которой особо отсылали к социологии
знания как таковой, были действительно разработаны фундаментальные
понятия и решения, быстро ставшие предметом обсуждения в данной
дисциплине. Начнем со второго момента, давая краткие пояснения к
приведенным ранее манхеймовским определениям.
Манхейм направил всю свою работу против абстрактных, внесоци-
альных и внеисторических способов анализа знания и познания,
закрепившихся, по его мнению, во многих традиционных подходах, в рамках
которых, если говорить обобщенно, точкой отсчета и центром стал
обособленный от общества индивид, некий «гносеологический робинзон».
Отсюда — собственное исходное и фундаментальное решение Манхей-
ма, как бы заданное всей социологии знания: «...в качестве первого
пункта мы подчеркиваем, что социология знания намеренно не отправляется
от индивида и его мышления, чтобы затем, как это делают философы,
непосредственно перейти к абстрактным высотам «мышления как
такового». Напротив, социология знания стремится понять знание в
конкретной связи с исторической и социальной ситуацией, в рамках которой
лишь постепенно возникает индивидуально-дифференцированное
мышление. Таким образом, мыслят не (некие) люди как таковые, и не
изолированные индивиды осуществляют процесс мышления. Мыслят люди в
определенных группах, которые разработали специфический стиль
мышления в ходе бесконечного ряда реакций на типичные ситуации,
характеризующие общие для них позиции»1.
Таким образом, на смену «абстрактному гносеологизму», который,
согласно Манхейму, господствовал в прежних концепциях знания и
познания, в социологии знания в качестве реального агента познания
избирается человек, с самого начала рассмотренный в качестве
социального, исторического существа. Эта коррекция, как представляется, была
вполне правильной, более того, назревшей и подготовленной немалым
числом предшествующих теоретических поворотов, из которых позицию
Маркса, как целостную и неплохо разработанную, при добросовестном
подходе никак нельзя было не принять во внимание.
Напомню, что в отечественной послевоенной философии
произошел подобный же поворот к серьезной корректировке, но и к новому
использованию традиционных интерпретаций познания и знания — как на
1 Манхейм К. Диагноз нашего времени // Идеология и утопия. М., 1994. С. 8.
Отечественные и зарубежные исследования...
•149
путях теории активной деятельности субъектов познания, так и на
платформе социально-исторического понимания познания, его
результатов и форм. Как уже было показано в моих предшествующих главах,
в нашей стране корректировка базировалась, главным образом, на
соответствующих изысканиях Маркса, а также на новом, нетривиальном
для философии прошлого и для западной мысли XX в. истолковании,
скажем, немецкой классической философии. Освоение западной
социологии познания некоторыми отечественными философами было частью
этого процесса.
Общую (селективную, конечно) оценку ценных моментов и
недостатков ранних вариантов социологи знания можно дать с помощью
(пространной) цитаты из работы уже упоминавшихся представителей
данной дисциплины американцев П. Бергера и Т. Лакменна. В известной
книге «Социальная реконструкция реальности» они пишут: «Интерес
Шелера к социологии знания и к социологическим вопросам в целом был
преходящим эпизодом в его философской карьере. Его конечной целью
было создание философской антропологии, которая преодолевала бы
границы релятивности специфических исторически — и социально
локализованных точек зрения. Социология знания должна была служить
инструментом для этой цели, и ее главной задачей было устранение,
прояснение трудностей, порожденных релятивизмом... Социология
знания Шелера — это, в весьма реальном смысле, ancilla philosophiae
(служанка философии), притом весьма специфической философии. В связи
с такой ориентацией (Шелера) его социология знания — по существу
негативный метод. Шелер доказывает, что отношение между
«идеальными факторами» (Idealfaktoren) и «реальными факторами» (Realfaktoren)
(термины, которые явно напоминают понятия «базиса» и «надстройки»
у Маркса), является только регулятивным. Следовательно, «реальные
факторы» регулируют условия, при которых определенные «идеальные
факторы» могут возникнуть в истории, но они не воздействуют на
содержание этих последних. Иными словами, общество детерминирует
наличное бытие (Dasein), но не бытийную природу (Sosein) идей. Итак,
социология знания является процедурой, благодаря которой должна
изучаться социально-историческая селекция идеационного (духовного,
идеального. — H. М.) содержания; при этом надо понять, что само
содержание независимо от социально-исторической причинности и,
следовательно, недоступно социологическому анализу. ...Вслед за шелеровским
«изобретением» социологии знания в Германии разгорелись жаркие
дебаты относительно ценности, поля охвата и применимости этой
дисциплины1... Понимание социологии знания у Манхейма более широкое, чем
у Шелера, — возможно потому, что конфронтация с марксизмом
играет более важную роль в манхеймовских работах. Общество понимается
1 В данной связи Бергер и Лакменн отсылают к работам Р. Арона, 3. Ландсгута,
Э. Грюнвальда, А. фон Шелтинга.
150•
Раздел 111
так, что оно определяет не только внешние стороны, но и содержание
человеческих идеаций — за исключением математики и по крайней мере
части естествознания. Социология знания становится, следовательно,
позитивным методом для изучения почти всех разновидностей
человеческой мысли. Имеет существенное значение то, что ключевой интерес
Манхейма был направлен на феномен идеологии»1.
Ссылаясь на проблемы, дистинкции, формулировки концепции
идеологии Манхейма, Бергер и Лакменн заключают, что немецкий мыслитель
стал трактовать идеологию уже не в чисто политическом контексте, а
сделал ее «всеобщей проблемой эпистемологии и исторической
социологии». Далее сказано об известной манхеймовской концепции «свободно
парящей интеллигенции» (сам термин «freischwebende Intelligenz» был
заимствован у социолога А. Вебера). «Манхейм также подчеркнул, —
продолжают американские социологи, — силу «утопического»
мышления, которое (подобно идеологии) продуцирует искаженный образ
социальной реальности, но которое (в отличие от идеологии) содержит в себе
достаточно динамизма, чтобы трансформировать реальность в
соответствии со своим ее образом» (Ibidem. Р. 10).
Это описание американских авторов в целом представляется верным
и для общей ориентации полезным. Впрочем, оригинальное значение
процитированной работы в другом: Бергер и Лакменн, опираясь на
исследования Э. Дюркгейма, X. Плесснера, А. Гелена, но больше всего —
своего учителя А. Шютца, который сам был последователем Э. Гуссерля
и одним из основателей феноменологической социологии, повернули
внимание социологии знания к процессам «формирования знания в
повседневной жизни», в «жизненном мире» (Lebenswelt — важнейший
термин позднего Гуссерля), вообще к духовным, идейным («идеационным»)
составляющим «реальности повседневной жизни» (op. cit., Р. 19 и др.).
Но вернемся к общему вопросу о предмете, проблемах, структурах,
понятиях социологии знания. Имеет смысл кратко суммировать главные
проблемные линии, теоретические решения, заслуги и недостатки идей
(ранней)социологии знания.
На первый план интерпретаторы справедливо выдвигают теорию
идеологии Манхейма, о которой бегло уже говорилось (и подробно
ознакомиться с которой читатель может по наконец-то переведенному
на русский язык труду «Идеология и утопия»). Она вплетена в более
общую концепцию, исследующую суть политического мышления, с
одной стороны, и восходящего к темам «ложного» — «превращенного»
(verkehrtes), в терминологии Маркса — сознания. Манхейм различает
понятия «частичной» и «тотальной» идеологии. В первом случае,
разъясняет Манхейм, мы не верим отдельным, определенным идеям
«противника», во втором случае — всей целостности (нем. Totalität) его главных
1 Berger P.L., Luckmann Th. The Social Construction of Reality. A Treatise in the
Sociology of Knowledge. N.Y., 1966.
Отечественные и зарубежные исследования... * 151
тезисов и утверждений. Общность обоих понятий усматривается в том,
что утверждения, мысли, идеи определенного лица воспринимаются не
столько в их «прямо» высказанном смысле, а в отношении к
«конкретному положению» их носителей в социальной сфере (Манхейм К. Op. cit.
Р. 56, 57). Говоря о понятии и феномене идеологии, Манхейм по праву
вспоминает о концепции идолов Ф. Бэкона, о некоторых сходных идеях
Н. Маккиавели (в palazzo, т. е. во дворце мыслят иначе, чем на piazza,
т. е. на площади), о возникновении философии сознания (с включением
размышлений о специфике, даже уникальности позиции, а стало быть,
сознания каждого субъекта), об историзации «видения идеологии» в
школе Гегеля и т. д. (Там же. С. 60, 62, 63).
Цель социологии знания в данном пункте — помогать людям если не
избавиться от релятивизма, то во всяком случае не упорствовать в нем.
2. Теоретический выход, имеющий большое практическое значение,
Манхейм и его последователи видят именно в том, чтобы доказать:
«Человеческое мышление конституируется не в свободном парении внутри
социального вакуума; напротив, оно всегда уходит своими корнями в
определенную социальную сферу» (Там же. С. 73). Так была намечена
и стала успешно реализовываться широчайшая междисциплинарная
теоретическая программа на стыке философии, в частности, ее теории
познания, социальной философии, и социологии, в частности,
социологии идеологии, социологии знания и науки в широком смысле, целью
которой как раз считалось и считается отыскание разных социальных
корней — или, иначе, изучение социально-исторической
обусловленности разных видов, форм, результатов, процессов мысли. Можно и нужно
учитывать также роль других гуманитарных дисциплин и сфер (истории,
наук о культуре и т. п.) в становлении междисциплинарного научного
синтеза социологии познания. (Эти аспекты, однако, мы вынуждены
опустить в нашем изложении.)
3. Уже на ранних этапах, а еще более в последующем развитии
социологии познания подчеркивалось, что исследования в данной
дисциплине должны быть не только теоретическими, но и «эмпирическими».
В чем тут проблема, хорошо разъяснил К. Вольф: «Два различных
подхода были приняты исследователями в сфере социологии знания. Один
может быть назван спекулятивным, другой — эмпирическим.
Центральный интерес исследователей с теоретической направленностью
заключен в развитии теории социологии познания. Центральный интерес
исследователей, придерживающихся эмпирического подхода, заключен в
нахождении или в объяснении конкретных феноменов; теория для таких
целей [тоже] применяется, эксплицитно или имплицитно»1. В качестве
примеров первого подхода названы, как и можно было предположить,
исследования Шелера, Манхейма, фон Шелтинга, Грюнвальда. Примерами
же второго типа анализа служат, например, специальное исследование
1 Wolff К.Н. Trying Sociology. P. 461.
152 •
Раздел III
Манхеймом консервативного мышления1 или книга Э. Кон-Брамштедта,
посвященная отражению в немецкой литературе 1830-1900 гг.
социальных типов аристократии и среднего класса Германии.
В качестве специальных тем для эмпирических исследований, как
их принимал К. Вольф, фигурировали такие: изучение социального
контекста исторических корней знаменитой фразы Галилея «А все-таки она
(Земля) вертится!» (сказанной, как известно, после унизительного
инквизиторского суда) или броского изречения Хайдеггера — «Почему
вообще есть сущее (Seiendes), а не ничто (Nichts)?» Как, впрочем, может
быть использована дифференциация у Вольфа различных подходов —
«магического», «религиозного», «художественного», «философского»,
«научного» (фразы Хайдеггера и Галилея фигурируют как своеобразное
воплощение специфики последних двух подходов). Вольф предложил далее
целый список других животрепещущих тем, которые могли бы
послужить красноречивым материалом для конкретных эмпирических
исследовании с позиций социологии познания. Для иллюстрации — это
могло быть, писал Вольф, «изучение нацистского движения с акцентом на
вопросе о том, какие знания, подходы, верования, предпочтения, точки
зрения, само собой разумеющиеся убеждения...» были
продемонстрированы, выражены теми людьми, которые это движение поддерживали или,
наоборот, ему противостояли (Ibidem. Р. 477). Такие исследования
впоследствии (а Вольф писал свою работу в 1943 г.) были предприняты.
Блестящий анализ этого рода дал, например, немецкий автор П. Слотердайк в
книге «Критика цинического разума». (И я лично провела сходную
работу — в эссе «Драма жизни идей и грехопадения Мартина Хайдеггера»2.)
Как ни интересна затронутая тема, мы вынуждены перейти к более
общим проблемам, сделав вывод о том, что социология знания,
действительно, стимулировала конкретные («эмпирические») социологические,
исторические исследования.
1 Mannheim К. Das konservative Denken. Soziologische Beiträge zum Werden des
politisch-historischen Denkens in Deutschland / Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik,
57(1927); из «предыстории» упоминаются конкретные исследования Дюркгейма, Леви-
Брюля, Гране, а также знаменитая работа М. Вебера о протестантской этике.
2См.: Мотрошилова Н.В. Работы разных лет. М., 2005. С. 425-500.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ, ЕЕ КРИТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ (50-80 ГОЛЫ XX ВЕКА) И СОВРЕМЕННЫЕ ОЦЕНКИ
Постановка вопроса
Цель этой главы — не чисто историко-философская и историко-
социологическая, но и она тоже. В историко-философском смысле речь
идет — в соответствии с главной темой данной книги — о том, чтобы
выяснить, когда, почему и как отечественные философы и социологи
заметили, осмыслили, развили и представили нашим читателям социологию
науки. (Кстати, такое историко-философское осмысление само должно
стать опытом применения социологии познания и науки.) Однако в ходе
исполнения означенной цели не обойтись без современного презентиро-
вания истории и проблемно-теоретического содержания социологии
науки, без оценок ее судьбы и ее вклада в теоретическую культуру XX века,
а также в понимание практических проблем развития науки в этот век ее
бурного и противоречивого развития. И вот тут, скажу заранее, мне
придется вступить в спор с распространенными в литературе, в том числе
отечественной, оценками итогов развития социологии науки, в которых
есть отдельные оправданные наблюдения и характеристики, но с
которыми я не могу согласиться в целом.
Суть этих оценок: отдельные авторы в 70-х и особенно в 80-90 годах
XX в. говорили и писали не просто о спаде влияния, но даже о «провале»
господствовавшей целые десятилетия в социологии науки «мертонов-
ской парадигмы»1. Поскольку в 70-80 годах я активно занималась
западной социологией науки, а также разрабатывала такие ее центральные
проблемы, как нормы науки, политика в отношении науки в западных
странах (о публикациях на эту тему — позже); поскольку вплоть до
сегодняшнего дня продолжаю держать руку на пульсе проблематики этой
1 «Бурная дискуссия о нормативной системе науки явно снизила интерес к этой
проблематике. Одни остались при убеждении, что мертоновскии этос никогда не отражал
реальной жизни людей науки..., другие пришли к выводу, что в условиях малой науки этос
обладал заметной регулятивной силой, но в большой науке его воздействие стало,
напротив, деструктивным. Так или иначе исследователи, изучавшие науку как социальный
институт и как специфическую сферу деятельности, поставили мертоновскому этосу науки
диагноз «несовместимости с жизнью», тем самым вынеся этой концепции „смертный
приговор"», — пишет Е.З. Мирская, суммируя критическую реакцию на концепции Мертона и
его учеников, одновременно указывая, что мертоновскии этос, тем не менее, «продолжает
существовать в самосознании ученых» (Мирская Е.З. Этос науки: идеальные регулятивы и
повседневные реалии // Этос науки. М., 2008. С. 136, 137).
154 •
Раздел III
дисциплины — постольку позволю себе достаточно подробно высказать
и подтвердить свою оценку исторического опыта и значения этой
важнейшей для XX-XXI веков области исследований. И вот для начала моя
оценка в кратком, суммарном виде.
Представляется, что тот вид, который социология науки —
действительно, во многом благодаря таланту главы ее американской школы
Роберта Мертона, спаянности, активности объединившихся вокруг
него исследователей, а также благодаря удивительной своевременности
проведенной работы, ее теоретико-методологической глубине и
практической значимости — благодаря всему этому социология науки как
специальная социологическая дисциплина (с хорошим
историко-философским и общеисторическим оснащением) стала своего рода образцом
классически разработанной, парадигмальной, объемной, широко
подтвержденной, внутренне самокритичной и постоянно
обогащаемой дисциплины, сначала больше концептуальной, а потом еще и
поставляющей, объединяющей целые массивы конкретных
исследований. Не согласна и с теми авторами, которые полагают, будто в па-
ре-другой работ 80-90 годов XX в. «парадигмы» Мертона и его школы,
относящиеся к нормам науки, были опровергнуты и будто взамен были
предложены «более адекватные» концепции норм (вернее, анти-норм)
науки. Но обо всем по порядку. Далее в свете уточненных оценок будет
представлен этот — в моем понимании, классический — опыт западной
социологии науки1; одновременно будет показано, как он осмысливался
в отечественной мысли 50-80-х гг. XX века.
Одно предуведомление о характере дальнейшего анализа, которое
имеет отношение к общей теме данной книги.
Когда впоследствии будет воспроизводиться и оцениваться ранняя
и далее модифицировавшаяся мертоновская концепция науки, в основу
первой части данной главы будет положен уточненный и значительно
расширенный текст, который представлял собой главу моей монографии
«Наука и ученые в условиях современного капитализма» (М., 1976).
Делаю это по целому ряду соображений. Прежде всего потому, чтои
сегодня считаю данный текст вполне добротным, выдержавшим проверку
временем. К тому же он принадлежал к числу самых ранних в
отечественной литературе более или менее систематических рассмотрений
этого важного материала2.
1 Это, кстати, приходится сделать еще и потому, что я считаю: в последние пару
десятилетий отечественные специалисты работают в данной области не так успешно и
интенсивно, как в 70-80 годы, когда они сумели достаточно широко и глубоко, притом
критически освоить тогдашний опыт западной социологии науки. Сегодня они, в основном,
повторяют ими сделанное. К тому же я не могу порекомендовать отечественному читателю
уже опубликованного у нас целостного современного очерка социологии науки,
приближенного к литературе и взвешенным оценкам сегодняшнего дня, и предлагаю данную
работу в качестве попытки восполнить образовавшийся пробел.
2 Использую этот ранний текст еще и потому, что он — одно из свидетельств наших
контактов с западными исследователями в этот период. Мне, в частности, очень помог счас-
Отечественные и зарубежные исследования...
•155
Если бы данную тему сегодня пришлось бы «записывать» заново,
многое я написала бы примерно так же, как это было сделано в 70-х
годах, разумеется, с современными дополнениями и с откликом на новую
литературу. Эти дополнения читатель также найдет далее. Понятное
дело, будут зафиксированы мои сегодняшние оценки того целостного
развития данной исследовательской области, которые в середине 70-х
годов прошлого века, когда само развитие было в разгаре, еще не могли
быть сделаны — разве что предсказаны. Значительная доля
нижеследующего текста второй части главы посвящена произведениям Мертона,
которых в то время еще не было (пример — «Эффект Матфея II», работа
1988 года, прекрасная, в известном смысле итоговая, подробного
анализа которой мне не удалось обнаружить в отечественной литературе).
Другой аспект предлагаемого далее исследования — освоение
опыта западной социологии науки в отечественной мысли — будет
отработан в двух формах. Во-первых, будут кратко, в общей форме
зафиксированы и по ходу дела включены в анализ упоминания о достигнутых здесь
отечественными исследователями результатах. Во-вторых, внимание (в
специальном case study) будет привлечено к удивительному феномену
отечественной мысли — работам по социологии науки ростовского
философа М.К. Петрова. В общем и целом хочется показать, что — с
некоторым опозданием (обусловленным мировой войной и идеологическими
препятствиями) — отечественным исследователям, начиная с 70-х годов
XX века, удавалось объективно презентировать, оценивать и даже
самостоятельно развивать социологию науки.
Теперь вернусь к теме вклада Мертона и его школы.
Современные оценки вклада Р. Мертона
в развитие социологии науки
Под современными подходами и оценками я подразумеваю те,
которые относятся уже к нашему, т. е. XXI веку. Это была и есть своего рода
новая волна и более взвешенное, чем в конце XX века, осмысление
вклада Р. Мертона и его школы в развитие социологии вообще, социологии
науки в частности и особенности.
Ситуационным поводом и побуждением к вынесению таких
обновленных оценок стало печальное событие — кончина Р. Мертона в
2003 году, на 93-м году жизни. Этот выдающийся человек прожил долгую
жизнь (хотя в первой половине 70-х годов он серьезно заболел и даже
готовился к близкой смерти). Важно подчеркнуть, что не одна
«поминальная» почтительность побуждала различных авторов сбить не просто
критический, а уничтожительный в отношении работ Мертона напор «анти-
нормативистов» конца XX века. Главное же состояло в том, что прошло
необходимое и, пожалуй, уже достаточное время для того, чтобы лучше
тливый случай — личное знакомство с Р. Мертоном и X. Закерман в 1973 г. на Всемирном
социологическом конгрессе в Болгарии. Затем Мертон любезно прислал мне свои
вышедшие к 1973 г. работы по социологии науки, на которые я и опиралась в своей книге 1976 г.
156 •
Раздел III
разглядеть масштаб поистине классической фигуры Мертона, для
социологии науки, да и не только для нее и сейчас оставшейся уникальной,
чтобы охватить испытующим, включающим и критику,
исследовательским взором теоретические и эмпирические достижения мертоновскои
социологии науки, впервые родившейся в его работах и также не просто
дожившей до сего дня, но и образовавшей фундамент для дальнейшего
развития этой дисциплины. Кстати, такому новому позитивному
осознанию способствовал и тот факт, что негативистский «анти-мертонизм»,
как будет впоследствии показано, несмотря на произведенный шумовой
эффект, в основном, не породил действительно перспективных
творческих импульсов. В теоретическом отношении он всеми
содержательными нитями, если таковые вообще были, оказался связанным с
концепцией норм науки Мертона, как бы вывернув ее наизнанку.
Вернемся к оценкам, проговоренным в литературе XXI века. Хочу
оговорить, что выборочные оценки, которые будут приведены дальше,
взяты мною — притом обдуманно, намерено — не у еще оставшихся
верных последователей Мертона, а у тех, кто судит о его социологии науки
как бы со стороны. Когда же слово будет предоставлено действующим
и сегодня бывшим ученикам Мертона, то в моем тексте его получат
самостоятельные, даже критически настроенные и работающие на своих
«полях» исследователи.
Буду опираться на публикации, взятые из декабрьского номера
одного из основных на сегодня периодических изданий по социологии науки —
журнала «Social Studies of Science» (далее — SSS) за 2004 год. И это
совсем не «промертоновский» журнал. Ст. Коул, о котором дальше еще
будет идти речь, считает его рупором Эдинбургской школы социальной
эпистемологии и ее «сильной программы» изучения социальной
обусловленности науки. Тем ценнее и показательнее высочайшие оценки авторов
журнала. В редакционной статье Майкл Линч справедливо напоминает об
общесоциологическом значении мертоновских исследований: «Мертона
особенно часто выделяли благодаря его работам в сферах социологии
науки и социологии познания, но в более широком поле социологии он всего
известнее как универсальный теоретик, внесший вклад в различные
сферы социологии. Его концепция теорий среднего уровня и функциональный
анализ, его особая теория бюрократии, концепция отклоняющегося
поведения (deviance) и учение о социальном времени (например, о
самореализующемся пророчестве и непредвиденных последствиях социального
действия) — все это до сих пор читаемо и изучаемо в социологии,
политических науках и учениях о менеджменте» (SSS, 2004: 828). Приведенная
характеристика, подчеркивающая исключительную проблемную и
дисциплинарную широту самого диапазона творческой работы Мертона как
социолога, в целом верна, хотя и ее нельзя считать исчерпывающей.
Нас здесь в первую очередь будет интересовать, естественно,
социология науки Мертона. Его роль в инициации и развитии социологии науки,
еще шире — в исследовании науки, научного знания как социального яв-
Отечественные и зарубежные исследования...
•157
ления, столь грандиозна, что отрицать ее решаются либо плохо
осведомленные, либо совсем безответственные люди. Ст. Коул пишет: «23 февраля
2003 года Роберт К. Мертон умер, достигнув 92-летнего возраста. Перед
смертью он, несомненно, был не только самым известным из живших тогда
социологов науки, но и вообще самым известным в мире социологом.
Именно потому, что Мертон был столь широко известен и что главным полем
исследования в его поздние годы была наука, он обеспечил замеченность
и легитимность самой этой специальности — социальному исследованию
науки» (SSS, 2004: 829). Важно, что Коул, один из наиболее замеченных
и продуктивных бывших учеников и ассистентов Мертона, написал свою
статью о бывшем учителе не в парадно-поминальном, а в критическом
ключе. И все-таки заключительный тезис его весьма содержательной
критической статьи звучит так: «Мертон, несомненно, — самый важный
социолог науки. Его работа, со всеми ее неудачами, обладает способностью
пробудить интерес в других людях — интерес, который часто ведет этих
других к проведению эмпирических исследований» (SSS, 2004: 843).
Еще один известный автор, многим обязанный Мертону, Ю. Гарфильд
вспоминает, даже исповедуется: «В течение более чем 40 лет моего
сотрудничества (association) с Бобом Мертоном он стал для меня не
только ментором, учителем, советчиком, но и «суррогатным отцом». В самом
деле, когда в 1985 году родился мой младший сын, моя жена Катрин и я
решили дать ему имя — Александр Мертон Гарфильд» (SSS, 2004: 845).
В данном случае важны, конечно, не только личные воспоминания Гар-
фильда, но и специальная работа, которую он провел применительно к
сочинениям учителя — провел как признанный исследователь в
фактически основанной им и широко развернувшейся к сегодняшнему дню
области — это «Social Science Citation Index», т. е. «Индекс цитирования по
социальным наукам». Гарфильд пишет: «То, что Мертон один из наиболее
цитируемых ученых XX столетия — это трюизм. Его воздействие на
социологию очевидно; его влияние за пределами этого домена менее очевидно,
но оно достаточно значительно, как подтверждают соответствующие
данные» (SSS, 2004: 848). Входить в освещение и анализ этих данных (р. 848
и далее в статье Ю. Гарфильда) здесь не представляется возможным.
Достаточно сказать, что они убедительно подтверждают вывод Гарфильда
об исключительно широком признании вклада Мертона как внутри
социологии, так и за её пределами. (Очень важно также и то, что
исследование Гарфильда не ограничивается учетом влияния в более ранние
периоды творчества Мертона, но охватывает и первые годы XXI века.)
Что касается воздействия исследований Мертона на сопредельные,
скажем, философские области, то здесь дело обстоит, что естественно,
сложнее. Ибо в таких случаях предполагаются осведомленность, добрая
воля, интердисциплинарный интерес к социологии науки — например,
философов науки. В данной книге и ее выводах я опираюсь на конкретный
материал, который скорее говорит в пользу интердисциплинарного
интереса Мертона, чем известных философов науки. А именно: если Мертон
/55*
Раздел III
хорошо знал работы, идеи философов науки, прежде всего Т. Куна, или
науковедов, например Д.С. Прайса и др., на них содержательно
откликался, то другая сторона, (поверхностно) зная о социологии науки, не
имела привычки на нее своевременно и продуктивно реагировать. (Есть
интересный пример: Т. Кун, введя общую и расплывчатую по
содержанию отсылку к социальному феномену «научного сообщества»,
объективно игнорировал основательную работу с этим феноменом у социологов
Мертона и его ученика Хэгстрома.) И все же и в философии науки
имеются современные авторы, которые не просто знакомы с идеями
Мертона, но и позитивно, содержательно учитывают их в своей работе, хотя и
они фиксируют существование вышеописанного парадокса. Процитирую
Алана Ричардсона, работающего в сфере философии науки (в частности,
известного своими исследованиями о логическом эмпиризме Р. Карна-
па): «Как-то было замечено, что философы науки, как правило, не
слишком высоко чтят социологов науки. Лишь один социолог науки, который
в значительной степени избежал недоверия философов — и даже время
от времени завоевывал их одобрение — был Роберт Мертон. Филипп
Китчер (Kitcher), например, в 1992 году утверждал, что произведения
Мертона, собранные в его книге «Социология науки», составили
«наиболее значительный труд по социологии науки»1 XX века» (SSS, 2004:855).
(Ф. Ричардсон поясняет, правда, что Китчер в 1998 году тем не менее
счел социологию науки Мертона «умирающей» и предложил
ревальвировать ее. В данной работе нет возможности входить в интересные детали
противостояния или сближения философов науки и социологов науки,
хотя материал для этого имеется.)
Полагаю, приведенных свидетельств высокого признания особой
роли Мертона и созданной им социологии науки уже в XXI веке
достаточно. Будучи солидарной с самим духом таких оценок и подходов, вижу
свою сегодняшнюю задачу в таком обновленном анализе социологии
науки Мертона, который опирается как на мои более ранние работы, так и
на исследования зарубежных и отечественных коллег.
Исторический опыт, теоретическое содержание и
эмпирические исследования западной социологии науки
Предлагаю здесь свое2 современное обобщение проблематики,
обозначенной в заголовке. Возникновение социологии науки само может и
должно быть рассмотрено в свете социологии познания и науки, ибо
1 Цитировалась работа: Philip Kitcher. The Naturalists Return // Philosophical
Review. 101. 1992.
2 Решаюсь подчеркнуть это слово совсем не по той причине, что хочу акцентрировать
собственную роль в развитии отечественной социологии науки. Основание тут
принципиально иное: предлагаемая далее концепция в существенных моментах и акцентах
отличается от подходов, представленных в литературе вопроса. Поэтому маскировать данный факт
безличным «мы» (или какими-либо другими обезличивающими выражениями) — такой
прием считаю как раз нескромным и недобросовестным.
Отечественные и зарубежные исследования...
•159
оно было социально обусловлено — как с точки зрения влияния
развития цивилизации, ибо наука — древняя, с какого-то времени
неотъемлемая структура цивилизации и культуры, так и воздействия эпохи
научно-технической революции. У самых ранних мертоновских разработок,
что отчетливо подтверждают и исторические факты, и само содержание
соответствующих работ, была, кроме того, конкретная, ситуационная
социальная обусловленность.
Последнее относится прежде всего к двум ранним произведениям
Мертона, которые четко фиксируют влияние и характер ситуации и в
которых социология науки уже выступает в ее первоначальном
теоретическом облике. Большая статья «Наука и социальный порядок» (Science and
Social Order), выросшая из доклада, сделанного Мертоном в 1937 году на
заседании Американской социологической ассоциации, была
опубликована в 1938 году в журнале «Philosophy of Science» (№ 5). Мертон
прямо пишет о конкретной «социальной ситуации» в нацистской Германии
с 1933 года — о влиянии на судьбы науки и ученых чудовищных
идеологических «догм о расовой чистоте», об изгнании ученых
«неарийского происхождения» из немецких университетов и научных институтов1.
В качестве примера расистских идеологических требований в статье
Мертона обильно приводятся характерные и весьма одиозные
формулы из публикаций А. Розенберга, фашиствующих философов Э. Крика,
А. Боймлера и других проводников нацистской идеологии — в той части
этой последней, в какой она была направлена на тоталитарное внешнее
регулирование деятельности ученых. Подобный же пласт имеется в
опубликованной в 1942 году, т. е. в разгар второй мировой войны, работе
Р. Мертона «Нормативная структура науки» (The Normative Structure of
Science).
Обе названные работы Мертона отличает гуманистический,
антифашистский пафос. Основная их цель состоит в демонстрировании того,
что «имманентные» для науки как социального института нормы
действия ученых («институциональные нормы») вступают в непримиримое
противоречие со всей практикой и идеологией национал-социализма.
Мертон справедливо подчеркивал, что атака против научного знания,
предпринятая фашистским государством и его идеологами, стала
кризисным этапом в развитии науки как института, когда вновь
потребовалось подвергнуть анализу особенности науки, задуматься над проблемой
ее отношения к обществу. (В примечании, сделанном для более поздней
публикации, автор упоминает о другом кризисном этапе — трагедии
Хиросимы.) В более общем смысле необходимо, пишет Мертон, осознать
всю сложность и противоречивость изменившегося положения науки и
ученых в современном обществе. «Три столетия назад, когда институт
науки еще в самой малой степени мог требовать самостоятельных гаран-
1 Merton R. Science and the Social Order / The Sociology of Science. Chicago, London.
1942. P. 255. (Далее в тексте моей книги цитаты или ссылки даются по этому изданию с
указанием страниц.)
160 •
Раздел III
тий социальной поддержки, философы естествознания были склонны
оправдывать науку как средство реализации культурнозначимых целей —
экономической полезности и прославления бога. Развитие науки не было
самоочевидной ценностью. Однако вместе с бесконечным потоком
достижений инструментальное превратилось в конечное, средства — в цель.
Побуждаемые этим процессом, ученые стали считать себя
независимыми от общества и рассматривать науку как самоценную деятельность,
которая существует в обществе, но не зависит от него. Фронтальная атака
на автономию науки потребовала, чтобы этот оптимистический
изоляционизм был заменен реалистическим участием в революционном
конфликте культуры. Объединение проблем привело к новому прояснению и
утверждению этоса современной науки» (р. 268).
Итак, мы видим, что Мертон здесь борется против фашизма — как
политического «тоталитаризма», по его терминологии. Но как он это
делает? Ответом исследователя на фашистско-тоталитаристские выпады
против науки и ученых стали не абстрактные отстаивания некоей
автономии науки, а конкретная разработка социологии науки, т. е.
дисциплины, с одной стороны, признающей и изучающей взаимозависимость
науки и социально-исторического развития, а с другой, доказывающей,
что наука как социальный организм (с некоторого времени — как
особый социальный институт) только тогда успешно выполняет свои
функции в обществе, когда вырабатывает строго отвечающие этой функции
внутренние нормы регуляции деятельности индивидов, групп, научных
сообществ, во многом долженствующие определять и работу науки как
института. Совокупность таких норм, принципов, регулятивов и была
обозначена понятием «этос науки». Понятие «этос», примененное здесь
к науке, было заимствовано Р. Мертоном у В. Самнера, Н. Шпейера и
М. Шелера. «Этос науки» — это, по Мертону, «комплекс ценностей и
норм, которые удерживаются и становятся обязательными для человека
науки. Нормы выражаются в форме предписаний, осуждений,
предпочтений и разрешений. Они узакониваются в терминах институциональных
ценностей. Эти императивы, передаваемые через предписание и пример
и усиливаемые санкциями, в разной степени усваиваются, инт'ер^али-
зуются учеными. Хотя этос науки не кодифицирован, его можно выявить
из согласия (consensus) ученых, найти его проявление в установившихся
обычаях, в бесконечных произведениях о научном духе и в моральных
негодованиях, обращенных против нарушений этоса» (р. 269).
Мы видим, что для целей самоопределения и самозащиты науки
Мертон считает необходимым выявить не просто некоторые частные
требования «чистоты» истины, научного знания, а более общие, именно
основные «институциональные нормы» науки — неписанные, однако все
же действующие, настоятельные для ученых правила, ценности,
предписания, специфические для научно-исследовательской деятельности.
Такая постановка вопроса вполне обоснована. В самом деле, наука,
подобно другим сферам и областям человеческой деятельности, подчиняется
Отечественные и зарубежные исследования...
•161
различным формам социальной регуляции — и среди них той, которую
можно назвать ценностно-нормативной. Можно до известной степени
отвлечься от особенностей исторического процесса формирования норм
современной науки и исходить из того, что определенная структура норм
и ценностей (в какое-то время) уже складывается, приобретает значение
для индивидов, работающих в науке, т. е. в целом обладает
институциональным характером. Мертон исходит из того, что нормы, ценности
науки как социального института обусловлены прежде всего и главным
образом двумя факторами: спецификой научного знания и его методов
(«технические нормы» в его терминологии), а также целями и
социальными функциями науки.
«Институциональные императивы (mores),— пишет он,— выводятся
из цели и методов. Целостная структура технических и моральных норм
обеспечивает выполнение конечной цели. Техническая норма
эмпирической очевидности, адекватная и надежная, является предпосылкой для
доказательного точного предсказания; техническая норма логической
последовательности также есть основание для систематического и
значимого предсказания. Нравы (mores) науки обладают методологической
рациональностью, но они становятся обязательными не только потому, что
они эффективны в процедурном смысле, а и потому, что они считаются
правильными и хорошими. Они одновременно являются моральными и
техническими предписаниями» (р. 270). С этой констатацией также
можно согласиться: нормы, ценности, значимые для науки как социального
института, отражают особый характер научной деятельности и в то же
время, будучи нормативными предписаниями, регулирующими
поведение людей, приобретают моральное — в известном смысле —
выражение, воплощаются в виде ценностных представлений и регулятивов.
Верно фиксируя в ранних работах некоторые особенности
институциональных норм науки, Р. Мертон, однако, пока не задается важным,
необходимым в данном контексте вопросом — и это обстоятельство, как
мы увидим, в дальнейшем приведет к существенному пробелу в анализе,
к его незавершенности и противоречивости. (Это впоследствии подметят
не только критики, но осознают сам Мертон и его последователи.) Мы
имеем в виду вопрос о том, что «имманентные» нормы науки
формируются под воздействием конкретно-исторического развития определенного
общества. У раннего Мертона по существу получалось (и это
противоречило вполне резонному опровержению «оптимистического
изоляционизма»), что нормы науки формируются, развиваются и существуют
как бы «в себе», автономно по отношению к обществу, и лишь в периоды
грубых, насильственных внешних вторжений сталкиваются с
противоположными устремлениями социальной системы, государства, тех или
иных политических сил. Хотя некоторые общие нормативные структуры
института науки были описаны Мертоном верно, на наш взгляд,
подобная предпосылка исследования впоследствии должна была обнаружить
свою ошибочность.
11 Н. В. Мотрошилова
162 •
Раздел III
Каковы же эти нормы в изображении Мертона?
«Универсализм» (Universalism). Здесь имеются в виду
необходимость отвлечения от сугубо личных особенностей ученого и его
ориентация на критерий объективности знания. Или, в формулировке Н.В.
Деминой: «U — Universalism — Универсализм: оценка научного результата
должна основываться всецело на внеперсональном уровне, без
каких-либо предрассудков по отношению к этнической или расовой
принадлежности исследователя, его полу, научной репутации, отнесенности к
научной школе и т. д.»1. По содержанию это похоже на требования, которые
мы находим в работах Бэкона, Декарта, Спинозы, Гегеля. УМертона
есть лишь то отличие, что он, подводя итоги длительного развития,
называет требование объективности (как и другие нормативные критерии)
«институциональной нормой», уже господствующей в науке и
укореняющейся в сознании ученых, что тоже вполне обоснованно. Именно
формулируя норму «универсализма», Мертон в 1942 г. с тревогой писал
о постоянных ее нарушениях в практике фашистских государств,
особенно гитлеровской Германии2.
Вопиющее нарушение нормы «универсализма», которая — в
соответствии с логикой развития научного знания, науки как социального
института — должна была бы просто господствовать, Мертон видит в
разгуле расизма и шовинизма, обрушившегося на науку в условиях
нацизма. В статье приводятся убедительные примеры — откровенные
высказывания фашистских лидеров, формулировки национал-социалистических
идеологов, суждения немецких «ученых», добровольно или под давлением
силы соглашавшихся с расистскими идеями. Вот одно из характерных для
нацистских идеологов высказываний, которое приводит Мертон: «Изучая
историю науки, можно убедиться, что основатели физических
исследований и великие первооткрыватели от Галилея и Ньютона до пионеров
физики нашего времени почти исключительно были арийцами,
преимущественно нордической расы» (р. 272). В. Гейзенберг, осмелившийся заявить,
что теория относительности А. Эйнштейна является «очевидной базой дли
дальнейших исследований в физике», был подвергнут в
национал-социалистической печати настоящей обструкции. Подобно этому, осуждению
подверглись Шредингер и Планк, отказавшиеся, как писали в нацистских
сочинениях, «порвать с еврейским физиком Эйнштейном» (р. 256).
В статье 1938 г. Р. Мертон констатирует: «В этих случаях чувства
национальной и расовой чистоты превалировали над утилитарной
рациональностью» (р. 256) но подчеркивает, что национал-социалисты все
1 Демина Н.В. Мертоновская концепция этоса науки: в поисках социальной геометрии
норм / / Этос науки. М., 2008. С. 148.
2 Впрочем, эта проблема беспокоила Мертона, как и многих ученых США и Европы,
раньше — как только стал ясен смысл реальных мер, предпринятых по отношению к науке
фашистской государственной машиной и закрепившихся в идеологической практике.
В статье «Наука и социальный порядок» (1938) он четко и резко выразил свое осуждение
антиинтеллектуализма фашистского режима.
Отечественные и зарубежные исследования...
•163
же вынуждены были с течением времени все настоятельнее обращать
внимание на развитие естествознания. Так, национал-социалистская,
расистская атака на науку (которая, скажем, была более резкой по
отношению к физике, чем к химии) лишь вначале осуществлялась в четкой,
однозначно-декларативной форме (ибо отвечала задаче «тотального»
идеологического наступления и манифестации целей, линии нацистской
политики). В дальнейшем отношение фашистского государства к
естествознанию (в том числе и к «еврейским физикам») стало, как правильно
отмечает Р. Мертон, «амбивалентным и нестабильным», ибо
обнаружилась необходимость использовать научные открытия для военных,
экономических и политических целей. А в этом случае, естественно,
пришлось опираться и на открытия «неарийских» ученых.
Но как и почему случилось, что, казалось бы, твердая,
обусловленная логикой науки норма «универсализма» (объективный подход в
противовес субъективизму, «партикуляризму») в стране с давними и
глубокими научными традициями грубо попиралась, уступая место прямо
противоположному, очевидно нелепому критерию «расовой чистоты»?
Пытаясь ответить на эти вопросы применительно к особой проблеме
фашизма, Мертон правильно подмечает, что обращенный против науки
антиинтеллектуализм национал-социалистической практики и
идеологии коренится в более широких изменениях политической структуры,
является неотъемлемым, хотя и «побочным продуктом» фашистской
идеологии в целом. В изложении Мертона имплицитно содержится и такой
аспект: из высказываний национал-социалистических идеологов видно,
как грубо и вульгарно трактуют они саму по себе правильную идею
социальной обусловленности науки и научного знания, превращая науку
в несамостоятельный придаток господствующего строя и его идеологии.
Красноречиво, например, заявление присяжного гитлеровского идеолога
Эрнста Крика: «В будущем уже не станут больше принимать вымысел о
демобилизующей нейтральности науки в правовой, экономической,
государственной или, в целом, общественной жизни. Ведь метод науки есть
лишь отражение метода правительства» (Ibidem. Р. 259). Мертон,
наконец, высказывает ряд интересных соображений о том, что ученые в
известной мере причастны к осложняющимся социальным ситуациям — хотя
бы потому, что в более спокойные времена они, как правило,
успокаиваются различными мифами об «абсолютной свободе» науки,
психологически противятся неудержимому процессу технологического и социального
применения науки. И хоти «экзальтацию по поводу чистой науки» можно
понять как реакцию против вторжения чуждых научному исследованию
давлений и мотивов, все же, подчеркивает Мертон, такие мифы
разоружают ученых и снижают их чувство социальной ответственности.
Все эти замечания верны и достаточно интересны. Однако в ранних
работах Мертон, скорее, полагал, что «этос науки», ее ценности сами по
себе безупречны. Они-де достаточно четко детерминируют действия
самих ученых, но вот цели общества могут вступать в конфликт с нормами
науки, что случается, главным образом, при «тоталитаристских», «анти-
ir
164 •
Раздел III
демократических» режимах. В наибольшей степени принципу
«универсализма» науки на социально-политической арене отвечает, согласно
Мертону, «демократический порядок». Ибо «каким бы неадекватным он
ни был на практике, stqc демократии включает универсализм как
доминирующий руководящий принцип» (р. 273).
Подобную схему объяснения Мертон использует, когда он
рассматривает другие институционные нормы науки. Он обозначает их словами
«коммунизм», «незаинтересованность», «организованный
скептицизм».
Слово «коммунизм» (communism), здесь взятое Мертоном в
кавычки, чтобы отличить от его привычного смысла, означает: «достижения
науки являются продуктом социального сотрудничества и принадлежат
сообществу (community). Они образуют общее наследие, в котором доля
индивидуального творца строго лимитирована» (р. 273). Здесь речь идет
о той специфической черте науки и научного исследования, которая
связана с проблемой всеобщности научного знания и общественного
характера его производства. Очень ценно, что в связи с данной нормой Мертон
четко ставит вопрос о конфликте между нормой «коммунизма» и
частной собственностью, в том числе в капиталистической экономике. Как
бы предвосхищая последующие дискуссии по проблеме «кризиса науки»,
Мертон писал: «Современные работы о «фрустрации науки» отражают
этот конфликт. Патенты провозглашают исключительное право
использования, а часто и неиспользования. Давление, оказываемое на
изобретения, отрицательно влияет на рациональность производства и
распространения научных знаний».
И далее Мертон ссылался на текст решения американского суда по
одному из конфликтных патентных дел: «Изобретатель — человек,
который создал нечто ценное. Это его абсолютная собственность. Он может
изъять и скрыть от публики знание, связанное с его изобретением».
«Ответы на данную конфликтную ситуацию различны. В качестве защитной
меры некоторые ученые приходят к необходимости патентовать свою
работу, чтобы сделать ее доступной для общественного использования,.,.
Другие видят разрешение конфликта в защите социализма (Мертон
здесь упоминает о Дж. Бернале и его группе. — H. М.)» (р. 275). (О
норме «коммунизма» — более подробно в других частях этой главы, в связи
с поздними работами Мертона.)
Норму «незаинтересованности» (Disinterestedness), напоминает
Мертон, нельзя отождествлять ни с альтруизмом, ни с эгоизмом. Она
означает требования, включающие «страсть к получению знаний,
бескорыстное любопытство, альтруистическую заботу о благе человечества»
и т. д. Мертон полагает, что эта норма «работает» в рамках науки как
социального института главным образом благодаря тому, что ученые в
конечном счете «подответственны» друг другу, и поэтому нарушение
данной нормы ведет к внутренним психологическим конфликтам,
изоляции и т. д. Слово «незаинтересованность» релевантно данной норме
Отечественные и зарубежные исследования... * 165
лишь в том смысле, что призывает если не исключить (что невозможно),
то минимизировать влияние на научные исследования вненаучных
(религиозных, политических, чисто личных) интересов самих
исследователей. Вместе с тем американский социолог уже в ранних работах был
вынужден признать, что норма «незаинтересованности» скорее может быть
приписана науке в целом, чем повседневному поведению конкретных
ученых. Ибо и в сфере наук существует конкуренция, которая
усиливается из-за того, что приоритет в науке является своеобразным
подтверждением продуктивности. В условиях конкуренции, отмечает Мертон,
вполне может возникать побуждение именно защитить чисто личные
интересы, обмануть конкурентов при помощи недозволенных приемов.
«И все же такие импульсы могут находить в сфере научного исследования
лишь ограниченные возможности для выражения. Склонность к культу,
неформальные клики, профилирующие, но тривиальные публикации —
эти и другие методы могут использоваться для самовозвеличения. Но в
целом обнаруживается, что такие фальшивые претензии отвергаются и
являются неэффективными» (р. 276). Здесь Мертон приоткрывает
завесу над конкурентной борьбой, которая проявляется и в рамках института
науки. Но едва зафиксировав вторжение противоположной нормы
(зародыш анти-нормы), Мертон спешит заверить, что в науке она
неэффективна. При рассмотрении нормы, обозначаемой словами «организованный
скептицизм», по существу повторяется то, о чем подробно говорят Бэкон
и Декарт, призывая «очиститься от призраков» и осуществить
«методическое сомнение». Данная норма, отмечает Мертон, получает
одновременно и методологический, и институциональный мандат.
Суть такой нормы, как «организованный скептицизм»1 у хорошо
прояснена в работах видного отечественного специалиста по
социологии науки Е.З. Мирской. В одной из последних работ (опираясь на свои
ранние исследования по данной тематике) она пишет, обобщая и ранние
разработки Мертона, и вклад последующих авторов: «Это
одновременно и методологическая, и институциональная норма. Сам Мертон
рассматривал именно первый аспект — организованный скептицизм метода
естественных наук, требующего по отношению к любому предмету
детального объективного анализа и исключающего возможность
некритического приятия (тех или иных утверждений, постулатов. — H. М.). Для
науки нет ничего «святого», огражденного от критического анализа. В то
же время норма организованного скептицизма является и директивным
требованием по отношению к ученым. В таком аспекте данная норма
рассматривалась Н. Сторером.... Норма скептицизма предписывает ученому
подвергать сомнению как свои, так и чужие открытия и выступать с
публичной критикой любой работы, если он обнаружил ее ошибочность»2.
Е.З.Мирская справедливо увязывает эту норму с нормой «незаинтересо-
1 Термин опять-таки не идеален из-за многозначности понятия «скептицизм».
2Мирская Е.З. Этос науки: идеальные регулятивы и повселневные реалии // Этос
науки. М., 2008. С. 127.
166 •
Раздел HI
ванности» (предпочитая последнему термину слово «бескорыстие», что с
моей точки зрения тоже далеко не идеально отражает суть нормы). Для
людей, знающих историю философии, опять-таки отчетливо видна связь
этой нормы с материалом классической философии — с теорией
сомнения Р. Декарта, с учением об «очищении разума» Ф. Бэкона, Б. Спинозы
и других мыслителей.
Трудности, на которые объективно натолкнулся ранний Мертон в
своем анализе институциональных норм науки, могут быть
сформулированы следующим образом. Нормы, о которых говорил Мертон, в самом
деле принадлежат к нормативным структурам науки как института, к
исторически определенным «ценностям» науки; они в самом деле каким-
то образом (но вот каким? — в этом вся проблема) детерминируют
сознание и действия ученых, превращаясь также и в ориентации индивида.
Однако здесь анализ проблемы только начинается. «Наука в условиях
фашизма» — данная тема правильно ставится Мертоном в связь с более
широкими проблемами отношения науки и общества, науки и
политики, науки и идеологии. Однако на ранних этапах это делается в самой
общей форме. К тому же применительно к проблеме норм и ориентации
личности было бы явным упрощением представлять дело так, будто
собственные, имманентные нормы науки чисто внешним образом
«поражаются» антиинтеллектуализмом фашистско-тоталитарного режима, т. е.
государством и его идеологией, тогда как в условиях «добропорядочной»
(например, буржуазной демократии) дело-де обстоит вполне нормально:
устанавливается оптимальный баланс в отношениях между наукой и
обществом. Разумеется, Мертон прав, когда он подчеркивает несомненную
предпочтительность демократии для развития науки по сравнению с
диктатурой. Однако конкурентная борьба вокруг науки и внутри ее,
вынужден признать Мертон, существует и в условиях демократии. Но до поры
до времени американский социолог склонен затушевывать ее остроту.
Итак, Мертон ставит вполне конкретную и действительно важную
социальную проблему (наука в фашистской Германии), приводит
немало фактов и данных, свидетельствующих о действительно трагическим
положении науки. Но ведь для объяснения социальных проблем
требуется социологический анализ, позволяющий понять положение науки,
деятельность ученых в условиях данного общества, в данной стране и в
определенный исторический промежуток времени. Несмотря на то, что
формально в ранних работах Мертона как будто бы присутствуют
внешние атрибуты социологической работы, социологическое исследование
в специфическом смысле здесь пока еще не предпринимается. И не
случайно некоторые характеристики институциональных норм науки у
Мертона лишь повторяют идеи Бэкона и Декарта1. Это означает, что Мертон,
переходя от фактов к теоретическому размышлению, сначала почти не
1 См. по этому вопросу: Мотрошилова Н.В. Ориентации новой личности и их
выражение в философии человека XVII столетия // Историко-философский ежегодник-86.
М., 1986. С. 84-103.
Отечественные и зарубежные исследования... * 167
выходил за пределы абстрактного философского и
абстрактно-социологического подходов. Поэтому поставленные им социально-исторические
проблемы, приведенные конкретные факты и теоретические
размышления на том этапе часто не сопрягались друг с другом.
Что касается историко-философских и историко-научных
предпосылок мертоновского способа анализа в социологии науки, то в общем
и целом они были солидными и неплохо проработанными. Немного и
кратко скажем об этой тематике — и потому, что, как отмечено,
разработки ученых и философов XVII-XVIII веков (в виде наиболее развитых
образцов, например, у Ф. Бэкона) правильно расценены Мертоном как
предыстория социологии науки, но еще и потому, что данные темы тесно
связаны с отечественной рецепцией западной социологии науки.
Обращение к историческому материалу было обусловлено историей
становления Мертона как ученого. Его докторская диссертация «Наука,
технология и общество в Англии XVII века» (1933) — солидная работа,
выполненная на стыке истории общества, в частности и особенности истории
Англии, истории философии и истории науки, науки о науке, философии
науки, социологии познания. Она испытала на себе влияние
соответствующих новых, социально ориентированных дисциплин — в том виде,
какой они приобрели в первой половине 30-х годов XX в. (и в дальнейшем
исследования Мертона и его группы постоянно перекликались с
наиболее важными идеями Д.С. Прайса, Т. Куна и др. авторов).
Из названых влияний и взаимовлияний надо особо выделить один
конкретный феномен, о котором упоминают гораздо реже: это работа
молодого Мертона под руководством Питирима Сорокина, нашего
изгнанного с родины соотечественника, впоследствии ставшего видным
«американским социологом» (вот так мы выбрасывали, да еще и сегодня
«бесплатно» раздаем, а вернее, разбазариваем едва ли не лучшие умы нашей
нации!). В I томе своего фундаментального четырехтомного труда
«Культурная динамика», формально посвященного новому социологическому
анализу европейской культуры первых столетий нового времени,
выражая благодарность целому ряду помощников, коллег, П. Сорокин
специально называет и Р. Мертона (в числе других имен упомянуто немало
русских — Н. Лосский, И. Лапшин, Н. Тимашев, Н. Головин, П. Остроухое,
И. Савицкий. В. Леонтьев, будущий крупный экономист, — и этих
талантливых, высокообразованных людей Россия потеряла для развития науки
и культуры в нашей стране)1. Так вот: работа в группе Сорокина дала
молодому Р. Мертону поистине несравненные знания многочисленных
фактов, обстоятельств истории человеческого духа, включая науку, а также
приобщила к исследованиям науки, культуры в социально-философских,
социально-исторических, отчасти и в социологических аспектах.
Поэтому упомянутое собственное исследование Р. Мертона по
истории взаимодействия науки с более широкими социальными реалиями Ан-
xSorokin P.F. Social and Cultural Dinamics. Vol. 1. N.Y., 1962. P. vii.
168 •
Раздел III
глии (также и других стран Европы) XVII века вообще-то может и
должно представлять специальный интерес для соответствующих научных
областей. Но оно, увы, в литературе как бы потерялось из-за
последующей фундаментальной деятельности Мертона по созданию и разработке
социологии науки.
Что касается науки и философии Нового времени, в частности и
особенности XVII—XVIII вв., в их воздействии на формирование этоса
науки, то Мертон и в упомянутой работе, и в собственно социологических
произведениях нередко (и легко) ссылался на хорошо известный ему
философский материал, в общем и целом признавая воздействие на его
социологию науки формул, принципов, так или иначе запечатленных в
произведениях великих и выдающихся философов, ученых нового времени.
Однако специальных и систематических разработок на темы (по размаху
и фундаментальности сравнимых с исследованиями глубоко уважаемого
им учителя П. Сорокина) Мертон не предпринял. В этом отношении его
работу не очень-то дополняли и соотечественники, и европейские
ученые и философы. Между тем в нашей стране подобные исследования в
50-80 годах XX в. проводились — в том числе и в целях подкрепления,
уточнения усилий социологии науки1.
Для полного освещения истоков и контекста возникновения мерто-
новской парадигмы в социологии науки необходимо также принимать в
расчет идеи и дисциплины, которые возникли уже в XIX веке, но в
особенности те, которые приобрели определенное влияние в 20-30-х годах
XX века. Общей целью последних было активное изучение духовных
продуктов и форм человеческой деятельности, имеющих
социально-историческую природу. Их подробное освещение невозможно в
ограниченных рамках данной работы. Упомяну лишь, что немецкая классическая
философия пусть и упоминается в работах представителей мертонов-
ской школы, но делается это редко. Есть отсылки к Марксу, но и они
довольно немногочисленны (о них еще будет сказано). Но вот из старших
современников Мертон — не без влияния упомянутого сотрудничества
с П. Сорокиным — в своей ранней работе всего определеннее учитывал
линию социологии знания и познания. В данной связи сошлюсь назран-
ние работы Е.З. Мирской, которая была среди отечественных
исследователей, сумевших уже в 70-х и впоследствии в 80-х годах дать
отечественным читателям объективную, разностороннюю картину того развития,
которого к этому времени достигла западная социология науки. Мирская
1 Упомяну следующих авторов: M.K. Петров — работы об исторических, в том числе и
философских предпосылках науки о науке (См. далее: Case study о работах М.К. Петрова);
Ю. Тищенко, Г. Старк, А. Ерыгин и др. Позволю себе напомнить здесь и о моих
собственных, рано начатых исследованиях в данной области и тоже поставленных в связь с
корректированием социологии науки: Н.В. Мотрошилова. Познание и общество. Из истории
философии XVII—XVIII веков. М., 1969; Ее же. Учения о разуме и мышлении в философии
XVII—XVIII веков и их социальная обусловленность / / Социальная природа познания. М.,
1979. С. 139-167.
Отечественные и зарубежные исследования... • 169
справедливо акцентировала роль изучения Мертоном социологии
знания (познания) в возникновении его собственной концепции. Говоря о
первых этапах становления идей Мертона, Мирская отметила: «Вообще,
в это время основные интересы Мертона были связаны с социологией
знания (которая тоже находилась тогда в стадии интенсивного
развития. — Н. М.). В 1935 г. он опубликовал обзор новых работ М. Шелера,
К. Манхейма, А. Шелтинга и Э. Грюнвальда по социологии знания; в
следующем году — статью „Цивилизация и культура", в которой сделал
знание предметом социологического анализа в соответствии с концепциями
А. Вебера и Р. Макивера»1.
Теперь подведем предварительные итоги, которые касаются облика
западной социологии науки на ранней стадии ее развития. При этом речь
не случайно идет о мертоновской ее парадигме, ибо ни тогда, на ранней
стадии, ни после в этой области не появилось ничего такого, что было бы
сопоставимо с нею по глубине и систематичности. Многие авторы,
возражавшие Мертону, тоже — мы это увидим, — остались «прикованными»
к его теориям. Главный фактор сохраняющихся силы и влияния данного
направления состоял в том, что автор парадигмы не только не возражал
против ее корректировки, усовершенствования, но и сам уже в ранних
работах (мы отчасти пытались это показать) как бы высветил
непроясненные или уязвимые пункты своей концепции, по существу наметил
будущие проблемные линии и теоретико-методологические
тенденции развития социологии науки.
Поэтому не могу согласиться с такими описаниями, в которых дело
изображалось и изображается так, будто Мертон просто должен был
столкнуться с неприятием своей теории слишком «идеальных» норм науки и под
влиянием критики взялся-де за выписывание «реальных» норм науки.
На самом деле ситуация — и конкретно-историческая, и
теоретическая, во многом была иной. Ибо, во-первых, социология науки уже в
30-40-х годах сделала первые и вполне успешные теоретические
шаги. Ведь учение о нормах науки, хотя бы и вчерне, уже было
«сбито» в первых работах, т. е. в 40-х годах. Примем в расчет, что и
впоследствии ядро этого учения (его позднее назвали CUDOS —
объединением первых букв английских слов, обозначавших каждую из норм:
С — «Communism», U — «Universalism», D — «Disinterestednes», OS —
«Organised Scepticism») очень мало изменялось — несмотря на целый
ряд как терминологическо-грамматических, так и содержательных
замечаний. Высказывая эту частную оценку, я отчасти и иду «против потока»
тех, кто утверждает — думаю, неверно и несправедливо, — что мерто-
1 Мирская Е.З. Р. Мертон и его концепция социологии науки / / Современная
западная социология науки. Критический анализ. М., 1988. С. 43. Здесь непосредственно
цитируется довольно поздняя публикация (конец 80-х годов): подобные же характеристики есть
в более ранних работах Е.З. Мирской.
170 •
Раздел III
новское формулирование норм было отвергнуто и, будучи неудачным,
кем-то отменено, заменено или «обогащено» чем-то другим, например,
учением об антинормах. (Более подробные доказательства в пользу этой
своей оценки я буду приводить и в ходе всего последующего изложения.)
Во-вторых, трудности, противоречия, пробелы, заключенные в этой
первоначальной мертоновской концепции, лучше всего видели ее
создатель и его близкие ученики. Поэтому наиболее успешные
корректировки в учение о нормах науки внесли сам Мертон и ученые его группы,
такие, как Б. Барбер, X. Закерман (другие имена будут приведены
впоследствии). Надо, в-третьих, более основательно разобраться с
распространенным в литературе упреком-утверждением, будто ранний Мертон
излагал только «идеальные», «чистые», «светлые» нормы науки и что он
лишь впоследствии и лишь под влиянием критики извне стал
задумываться о «реальных» научных нормах. Неверным в этих утверждениях
считаю следующее.
Уже приведенные ранее цитаты, взятые из ранних работ Мертона,
свидетельствуют, что его формулировки, расшифровки норм науки
(каждой нормы и их совокупности) включают:
a) «идеальный», т. е. именно нормативно-указующий аспект: что и
как следует, должно делать ученому;
aj) целевой, аргументативный аспект, иными словами, разъяснения,
почему ученому следует поступать именно так (ибо это
благоприятствует поискам истины) и что такую норму наука по сути укоренила, став
социальным институтом;
b) и напротив, предостерегающие установления, показывающие,
чего и почему не следует делать в науке, но что в реальной жизни
науки и в действительном поведении ученых нередко встречается;
c) общее обозначение того, что эти нормы соответствуют
внутренним технико-инструментальным задачам науки и в то же время
соотносятся с морально-ценностными, идущими от общества регулятивами.
Итак, уже и у раннего Мертона рассмотрение норм науки носит
своего рода комплексный характер, включает понимание зависимости
деятельности ученого от внутренних целей, задач науки и от
функционирования ее как социального института, а также изначально содержит
необходимое, понятное допущение, согласно которому «идеальные»
нормативные установки и реальная деятельность ученых объединяются
совсем не «идеально». Однако необоснованно упрекать раннего Мертона в
том, что он будто бы вообще не видел этого факта и что его-де вразумили
лишь его критики1. Есть еще одно важное обстоятельство, относящееся
1 Считаю верным следующее возражение мертоновским критикам, которое приводит
Е.З. Мирская. «С начала 70-х годов возникают первые возражения. Наиболее
распространенный метод критики заключается в том, что оппоненты последовательно разбирали
основные нормы научной деятельности и набором примеров показывали их несоответствие
реальной практике ученых... Однако такая критика непродуктивна, ибо она не принимает
во внимание характер норм: это не статистически наблюдаемое поведение в науке, а его
Отечественные и зарубежные исследования...
•171
не только к Мертону и не только к материалу по социологии науки, но
вообще к природе норм, идеалов, общих целей и ценностей любой сферы
деятельности.
Проблема противоречивого взаимодействия норм, идеалов какой-
либо деятельности (здесь: научно-исследовательской) и самой этой
деятельности во всей ее реальной конкретике стара как мир, стара, как
стары культура и философия. В зарубежной и отечественной
литературе, в частности, посвященной науке, проблема эта в исследуемый период
разрабатывалась (как ранее упоминалось) достаточно глубоко и
последовательно. Ясно, если не банально, что при общем, изначальном
формулировании каких-либо норм разработка их в качестве «идеальных»,
«чистых» является обязательной, ничем не заменяемой
предпосылкой. В свете этого было бы нелепо, противоестественно предполагать,
будто Мертон, когда он вознамерился создать систему норм науки,
должен был с самого начала поставить свое исследование исключительно
на почву изучения всех сложных контекстов, ситуаций реального
поведения ученых. Ибо при изучении любых норм общего или более
конкретного характера надо — как бы по определению — начинать именно
с идеальных, потому и нормативных требований, что для своей области
вполне обоснованно сделал ранний Мертон. И он осуществил это,
опираясь на достаточно глубокое понимание философии норм. Произошло
это совсем не случайно. Я не могу вникать сейчас в релевантный теме
вопрос о довольно высокой философской культуре тогдашней мировой,
в частности, американской социологии, что можно видеть на примере
Т. Парсонса, П. Сорокина, П. Лазарсфельда, Ч.Р. Миллза и многих
других социологов, в частности, эмигрировавших из Германии — они,
кстати, были друзьями, коллегами Мертона. Да и философская грамотность
самого Мертона была достаточно хорошей.
Когда речь шла о нормах, идеалах научного исследования, общая
культура понимания нормотворчества, какая традиционно шла от
философии, была благоприятной предпосылкой. Например, было совсем
небесполезно учитывать опыт кантовской мысли. Во всяком случае Кант
сначала строго и неуступчиво формулировал принципы,
«категорические императивы» (прежде всего морали и права)1. И когда Мертон особо,
в «чистом виде» выделял аспекты необходимого, должного в научно-
исследовательской деятельности, и когда исходил из того, что институт
науки интериоризирует нормы как раз в силу внутренней их
необходимости, обязательности для осуществления главной функции науки,
образец, «идеал». У. Хирш в свое время трактовал мертоновский набор императивов как
«правила игры», которые устанавливает наука для тех, кто избрал себе эту сферу
деятельности. Всегда находятся «игроки», которые пытаются не соблюдать эти правила, однако на
достаточно длинной дистанции нарушители оказываются отстраненными от игры, а
правила действуют по-прежнему» (Мирская Е.З. Р. Мертон и его концепция социологии
науки // Современная западная социология науки. М., 1988. С. 50).
1 Соловьев Э.Ю. Категорический императив нравственности и права. М., 2005. С. 52.
172 •
Раздел III
а именно добывания проверяемых, доказуемых, т. е. «истинных»
знаний, — то действовал совершенно правильно, в духе Канта и других
гениальных теоретиков нормативной культуры человечества. Вот почему я
исхожу из того, что «классический» характер мертоновской концепции
был обусловлен глубоким (правда, недостаточно эксплицированным)
пониманием им природы норм и нормативно-ценностного творчества,
глубоко запечатленной в классической философии.
Но подобно тому, как Кант в этике разграничил и по отдельности
исследовал сферу «истинно моральных» поступков, согласуемых «только»
с должным, и потом поступков только «легальных» (т. е. по внешнему
облику «нормативных», а на деле подчиняющихся изменчивой «материи
желаний»), — подобно этому и Мертон, запечатлев нормы науки как
сумму требований необходимого, должного (и для науки, и для общества),
зафиксировал: реализация норм в сфере действительной, повседневной
деятельности ученого должна являть собой специфические, весьма
многообразные и противоречивые черты; и что это вторая, после нормативной,
система исследовательских шагов применительно к общему
исследованию норм науки. Проверке этого подхода и были посвящены работы Мер-
тона и его школы в 50-70-х годах. К их анализу мы теперь и переходим.
Идеи Мертона и его школы в 50—70-х годах
и отечественная мысль
В работах 50-70-х годов Р. Мертон стремился рассмотреть
деятельность ученых уже как более конкретную и реальную, связанную с их
повседневным поведением. Ибо только такую деятельность можно было
сделать объектом конкретно-социологических подсчетов, наблюдений,
сравнении, рекомендаций — чего настоятельно требовало социальное
развитие в эпоху НТР. И вот эта сфера ориентации и поведения
предстает как проникнутая противоречиями, колебаниями между различными и
даже прямо противоположными нормами.
После рассмотрения институциональных норм науки (а они вдон-
ностном отношении могли вызывать лишь одобрение и уважение),
движимые, как говорилось, необходимостью теперь более подробно
анализировать реальное поведение конкретных ученых, Р. Мертон и
социологи его школы досконально изучили целый ряд специфических
для науки нормативно-ценностных проблем. Например, анализировался
вопрос о приоритете в науке — главным образом в свете острых, подчас
драматических споров о приоритете, конфликтов, в которые порою были
втянуты и выдающиеся ученые. По сути дела Мертон пришел к выводу,
который сначала не был выражен резко и четко, но определенно вычи-
тывался из ряда его работ: в сфере науки, в рамках этого
специфического института господствует жесткая конкуренция, возникают споры и
конфликты, в частности, по поводу приоритета. Вместе с тем проблема
норм не была устранена из сферы анализа. Ведь стремление к утверж-
Отечественные и зарубежные исследования...
•173
дению приоритета диктуется существом и даже конкретными нормами
научно-исследовательской деятельности: приоритет есть осевой
стержень системы вознаграждения — поощрения (reward system) в науке.
Но конкуренция, борьба, часто неприглядная по своим средствам, тоже,
увы, неотъемлема от науки. (Это Мертон неоднократно подчеркнет и в
поздних работах.) К ней надо привыкнуть, и не следует заниматься
морализированием. И все же вопрос о нормах встает по-новому. Ибо
позволительно спросить: как же обстоит дело с «универсализмом» и
«коммунизмом», этими, казалось, незыблемыми институциональными нормами
науки и внутренними критериями поведения ученого?
Стремясь к описанию реального поведения ученого, Мертон
формулирует ключевое — по сути своей уточняющее — понятие
«амбивалентности». Это весьма интересный пункт концепции (хотя, как мы
увидим, и здесь вновь возникают трудности, аналогичные только что
сформулированной).
Рассмотрение институциональной обусловленности деятельности
ученого, полагает Р. Мертон, заставляет ввести понятие
«социологической амбивалентности» (sociological ambivalence). При этом речь идет о
поведении, поскольку оно определяется не одной нормой и даже не
четырьмя общими критериями (универсализм, «коммунизм»,
незаинтересованность, организованный скептицизм), но совокупностью различных
более конкретных нормативных принципов, нередко
расшифровывающих основные нормы системы CUDOS; они объединены в пары прямо
противоположных норм. Ибо поведение ученого — таково содержание
мертоновской идеи «амбивалентности» — не определяется однозначно
некоторой нормой из целостной совокупности; ученый «колеблется»,
точнее пребывает в напряжении, в состоянии выбора между полюсами
нормативных противоположностей.
Чтобы оценить смысл и значение концепций амбивалентности,
необходимо рассмотреть подробнее те пары норм, которые на данном этапе
специально разбирает Мертон. В работе «Амбивалентность ученого» он
рассматривает следующие 9 групп противоположных норм.
1) Ученый (в силу действия норм универсализма, коммунизма)
должен как можно скорее сделать полученные им новые знания доступными
для своих коллег, но он должен избегать нежелательной тенденции —
поспешности публикаций (ср. лозунг Фарадея: «Работать — оканчивать
работу — публиковать» с лозунгом Эрлиха: «Много работать — мало
публиковать»).
2) Ученый не должен становиться жертвой интеллектуальных
фантазий, тех модных идей, которые возникают лишь на время и обречены на
вымирание, но он должен быть восприимчивым, чутким к
многообещающим новым идеям; он не должен считать себя всего лишь хранителем
интеллектуальных традиций.
3) Новое научное знание должно получать (высокую) оценку, но
ученый должен работать, не обращая (слишком сильного) внимания на
оценки других.
174 •
Раздел III
4) Ученый должен повышать требования к новым знаниям, пока они
находятся вне пределов дискуссии, но он должен защищать уже
разработанные новые идеи и открытия, невзирая на то, сколь велико
противодействие (ср. научное кредо Янга: «Я не хочу поспешности в
опрометчивых заключениях» с лозунгом Пастера: «Не бойтесь защищать новые
идеи, даже наиболее революционные»). (Здесь Мертон, по существу,
говорит о норме «оригинальности», позднее добавленной им к CUDOS.)
5) Ученый должен делать все возможное, чтобы знать относящиеся
к его области работы предшественников и современников, но слишком
большое внимание к ним, эрудиция как таковая вряд ли удовлетворяют
требованиям творческой работы.
6) Ученый должен уделять скрупулезное внимание формулировкам
и деталям, но он не должен быть слишком изощренным педантом, в угоду
формальной строгости забывающим о содержании.
7) Научное знание универсально, оно не принадлежит ни одной
нации, но всякое научное открытие делает честь нации, которая ему
благоприятствовала.
8) Ученый должен признавать, что его первейшая обязанность —
воспитывать новое поколение ученых, но он не должен допускать, чтобы
обучение отнимало всю его энергию, необходимую для получения нового
знания. (Фарадей никогда не учил молодых так, как его самого учил Дэви,
и часто критиковал тех, кто предпочитает обучение исследованию.)
9) Для молодого ученого нет большего счастья, чем учиться у
выдающегося мастера научного труда, но он должен стремиться стать самим
собой, приобрести автономию и не довольствоваться тем, чтобы
оставаться тенью великого человека. (Достаточно вспомнить «амбивалентность»
поведения Кеплера по отношению к Тихо Браге и т. п.)
Подытожим, о каких амбивалентных нормах идет речь в перечне
Мертона:
- противоречивое отношение к скорости опубликования новых
результатов (к приоритету);
- осторожное отношение к интеллектуальной моде, но
восприимчивость к новым идеям;
- внимание к оценкам новых идей, но стремление к независимости от
колебания оценок;
- необходимость тщательного выбора момента, когда идеи могут стать
предметом обсуждения, но в случае, если они уже стали предметом
дискуссии, умение защищать разработанные идеи;
- постоянное ознакомление с работами других ученых, но понимание
того, что наука не тождественна эрудиции;
- тщательное отношение к формулировкам и деталям, но не пустой
педантизм;
- всеобщность знания, но гордость нации за достижения науки;
- участие в обучении молодых, но не в ущерб научным исследованиям;
- зависимость молодых от учителя, но их стремление к
интеллектуальной автономии.
Отечественные и зарубежные исследования...
•175
(Понятно, что к мертоновскому перечню можно, в принципе,
добавить и другие пары подобных более конкретных норм.)
Мертон описывает пары норм в императивной форме (ученый
«должен» или «не должен»). Обсуждаются, согласно Мертону, такие
нормативные критерии, которые порождаются специфическими условиями
науки как социального института и в то же время реально заданы
личности, ибо фактически стимулируют, детерминируют ее поведение. Сама
по себе идея об амбивалентности, противоречивости, напряженности,
порождаемой ориентацией на противоположные нормы,
представляется верной. Если речь идет о реальной деятельности ученого, о ее
формировании, развитии и преобразовании, то, скорее всего, справедливо
утверждение, что определенная нормативная тенденция действует на
ученого не однозначно, прямолинейно и бесконфликтно, но через
противоречия, через столкновение нормативно-ценностных ориентации и
через напряженный выбор, осуществляемый личностью.
Нельзя также не согласиться с тем, что перечисленные Мертоном
проблемы нормативного выбора, амбивалентности в большей степени
вводят нас в реальный мир поведения ученого, его разноплановых
ориентации и разносторонней, многоаспектной деятельности. Можно сказать,
что принцип амбивалентности применим и к другим сферам
человеческой деятельности, поскольку она регулируется нормами, принципами,
вырабатываемыми для этих сфер.
Конкретная идея «амбивалентного механизма» иллюстрируется у
Мертона при помощи материалов о приоритете, причем споры о
приоритете, о которых он писал ранее (в 1957 г.), теперь приводятся в связь с
проблемой противоречивого, сложного, конфликтного выбора,
осуществляемого ученым. В статье «Singletons and Multiples in Science» (p. 343-
370) Мертон собрал большой фактический материал из прошлой и
современной истории науки для доказательства довольно простой мысли:
одно и то же (или родственное) открытие в силу единой логики развития
научных дисциплин может быть одновременно сделано и часто
делается в разных местах различными авторами. Поскольку же сама наука как
социальный институт делает сильнейший акцент на оригинальность,
на признание открытия другими (это тоже норма, требование, стимул,
ценность), то создается предпосылка для остро конфликтной,
стрессовой ситуации. Ученому трудно смириться с тем, что его собственный,
претендующий на оригинальность вклад в науку, результат
многолетнего тяжелого труда — только повторение или дублирование чьего-либо
открытия. (Наблюдать такие ситуации для социолога важно и полезно,
считает автор теории «аноми»: «отклоняющееся» поведение в состоянии
стресса позволяет понять и некоторые другие, более нормальные
ситуации.) В результате: секретность на ранних стадиях работы сменяется
резким конфликтом в связи с приоритетом; потоки поспешных,
незрелых публикаций предназначены для того, чтобы «застолбить делянку»
и непременно «быть первым» (р. 80-81). «Все это, я полагаю, — пишет
176 •
Раздел III
Мертон, — нормальный ответ на плохую интегрированностъ института
науки, так что мы можем лучше понять, почему в моделях
американского «человека науки, увенчанного наградами», «личное любопытство» как
стимул его труда часто соседствует с „конкуренцией"» (р. 80-81).
Такого рода высказываний, выводов в работах Мертона немало.
От описаний исторических примеров внутренних конфликтов ученых,
их споров о приоритете (например, известных разногласий Лейбница и
Ньютона по поводу открытия дифференциального исчисления) Мертон
прямо переходит к современным случаям, взятым из практики
американской науки. Тогда он с большой убедительностью пишет об острейшей
конкуренции, о погоне ученых за престижем, о влиянии карьерных
соображений, о стремлении к более высокому «социальному статусу» и т. п.
Порою Мертон в самой общей форме утверждает мысль о связи этих
явлений с социальной системой. Однако тщетно искать в его работах
сколько-нибудь обстоятельный социологический анализ, вскрывающий
связи и взаимозависимости между ориентациями ученых и характером
социальной системы (например, капиталистического общества).
Когда Р. Мертон в ранних работах рассматривал особенности «это-
са» науки, претендуя на исследование институциональных норм, то его
размышление нередко было абстрактно-философским,
социально-философским, по сути дела повторяющим идеи, высказанные много раньше
мыслителями нового времени. Мы отнюдь не хотим сказать, что
философское размышление об ориентациях ученых, принимающее во
внимание в основном проблему истинного знания, не имеет значения.
Напротив, оно имеет теоретическое значение и исторический смысл — более
глубокий, чем это выразилось в работах по социологии науки. Но ведь
Мертон претендовал на то, что рассматривает институциональные
нормы, т. е. нормы, обусловленные развитием науки в обществе,
общением людей в процессе научно-исследовательской деятельности. Такой
анализ в его полноте не был осуществлен в ранних работах
американского социолога. Исследование почти не выходило на социологический
уровень. Это произошло позже, в 60-70-х годах.
Прежде чем проанализировать работы этого этапа, хочу
поставить — в виде резюме к предшествующему рассмотрению — та&ой
общий вопрос: устарела ли мертоновская концепция норм науки? На него я
отвечаю (в целом) отрицательно: нет, концептуальная парадигма не
устарела и не отброшена. Считаю, что социология науки сегодня и в будущем
имеет все основания положить в основу своих концепций, обращенных
к этой теме, мертоновскую парадигму. Что в принципе соответствует
исторической реальности развития науки вообще, в которой любые
сильные парадигмы, центральные для определенного периода (не навечно,
конечно), ни тогда, ни позднее не воспринимаются буквально,
неизменно, некритически; но объективные, поверенные — именно «парадигмаль-
ные знания» — не отбрасываются и тогда, когда иные парадигмы
(«неклассические» по отношению к первым) приходят им на смену. Кстати,
в социологии науки другие парадигмы, по-моему, пока не просматрива-
Отечественные и зарубежные исследования...
•177
ются. (О чем скромно говорил сам Мертон: в социологии науки, по его
мнению, не вырос свой Эйнштейн, потому что в ней еще не было своего
Галилея.) Более того, Мертон предлагает критические замечания,
уточнения, указания на слабые места и трудные проблемы. Иными словами,
здесь тоже соблюдается норма организованного скептицизма. Однако не
только она, а целый ряд внутринаучных эвристических норм, которые
касаются оценки, использования подтвержденных, признанных научных
теорий, сохраняют свою значимость и при условии их продолжающегося
критического уточнения, даже перехода на другой (скажем,
пост-классический) этап научного развития. Ведь и законы Ньютона, сохраняя ядро
знаний, выработанных «первым» и «главным» автором, в дальнейшем
развитии науки, как известно, дополнялись и даже модифицировались,
однако на следующих, в том числе неклассических, этапах развития
не были «отменены». Правда, некоторые авторы, например, Н. Сторер,
предсказывали: произойдет же когда-нибудь в самой социологии науки
миниатюрная «научная революция», и она утвердит какие-то иные
парадигмы (что такой «революцией» не стала и не могла стать концепция ан-
ти-норм, будет показано впоследствии).
Итак, возникает вопрос: что же действительно произошло с теорией
норм науки уже после того, как она была развита и предъявлена
коллегам и публике?
Обращу внимание на следующие обстоятельства, которые, кстати,
демонстрируют самокритичность Мертона и его готовность так или
иначе учитывать замечания критиков.
1. Среди критических замечаний были
терминологически-лингвистические. Так, рано стали говорить, что, скажем, обозначение одной из
норм словом «коммунизм» неудачно, ибо это слово, как известно,
приобрело иное опорное значение. В принципе замечание было правильным.
Но здесь, как и в ряде других случаев, легче было сделать замечание,
нежели найти другой термин, более удачный, приемлемый для
спорящих сторон. Были предложены другие обозначения для той же нормы.
Б. Барбер вместо термина «коммунизм» предложил «коммунализм»
(communalism). Мертон, кстати, сам признавал, что термин
«коммунизм» в данном контексте совсем не идеален. (О других
терминологических затруднениях, например, с понятиями «незаинтеесованности»
или «организованного скептицизма», говорилось ранее.) Однако вновь
предложенные термины как-то не привились. И не случайно. Здесь есть
своего рода «закон», относящийся к научной (и не только научной)
терминологии. Вспомним о термине «атом», что по-гречески, как известно,
означает «неделимый». Сразу после того, как обнаружилась как раз
делимость того, что назвали атомом, о неадекватности термина
заговорили, но «отменять» его уже было поздно. Нечто подобное случилось с
мертоновскими обозначениями норм системы CUDOS: они все-таки
закрепились скорее в первоначальных обозначениях, причем вместе с
достаточно ясными, рационально-логическими пояснениями.
12 Н. В. Мотрошилова
178 •
Раздел III
Среди работ мертоновцев 50-х гг., уже содержавших другие
уточнения, стоит упомянуть произведения того же Б. Барбера — его книгу
«Наука и социальный порядок» (1952), которую теперь также причисляют к
«классике» социологии науки. Цель Барбера состояла, с одной стороны, в
подкреплении основоположений мертоновской концепции норм науки, а
также в особом прояснении ценностных, в частности, моральных регуля-
тивов научной деятельности. С другой стороны, Барбер внес некоторые
критические уточнения в фундаментальную концепцию учителя.
Главные мотивы обновления были: а) стремление придать всей концепции,
которая была осознана как «социальная статика норм науки», более
динамический характер. Что это было правильной идеей, фактически
признали и сам Мертон, написавший прекрасное предисловие к книге
Барбера, и другие члены группы (далее мы еще проясним этот аспект); б)
удерживая одни формулировки и обозначения норм науки, Барбер предложил
внести следующие коррективы: оставив без изменения нормы и термины
«универсализм», «незаинтересованность», изменив, как сказано,
неудобный термин «коммунизм» на «коммунализм» (communalism)1, Барбер
добавил также другие нормы: «индивидуализм» (принимающий форму
анти-авторитаризма); «вера в моральную добродетель рациональности»
и «эмоциональная нейтральность». Дальнейшая история показала, что
предложения Барбера, при их внешней оправданности и замеченности
со стороны специалистов, в целом не были приняты. Правда, поправку —
«коммунализм» вместо «коммунизма» — некоторые авторы приняли,
особенно, как показывает Н. Демина, в 50-х годах, в период маккартизма,
когда само слово «коммунизм» в США стало неудобным по
идеологическим причинам (См.: Этос науки. С. 163). Итак, поправки не закрепились.
И понятно почему. Ведь «коммунализм» — слово, быть может, еще более
неудобное, чем «коммунизм» (по противоположной причине: оно — не
общеупотребительное). Что касается двух добавленных норм в текстах
Барбера, то они скорее носили характер частных
дополнений-расшифровок, каковых можно было бы сделать немало. Перед ними обобщающие,
лапидарные формулировки и расшифровки Мертона имели куда больше
преимуществ. >_
Но даже сам Мертон, как бы уступая ученикам и критикам, в
1957 году добавил к своей системе норм еще две— оригинальность
(originality) и скромность (humility) (так что в литературе дополненную
систему CUDOS порой называют CUDOS +). Правда, это тоже
выглядело прибавлением, прояснением частностей — пусть возможным, но
совсем не необходимым для ядра концепции. В дальнейшем при
формулировании оснований концепции эти и подобные добавления, в сущности, не
прижились и тем более не привели, по моему мнению, к опровержению
или существенному изменению концепции, обозначенной как CUDOS.
1 Е.З. Мирская в данном контексте предлагает термин «коллективизм», но мне лично
он кажется не более походящим, чем «коммунизм» — оба сильно перегружены своими
специфическими значениями.
Отечественные и зарубежные исследования...
•179
Для доказательства справедливости этих оценок я далее захвачу не
только 50-70 годы, но и более поздний период, чтобы кратко разобрать
вопрос о том, стали ли таким эффективным опровержением
концепции Мертона учения об «анти-нормах» науки. Имеются в виду
конструкции, предложенные Р. Богуславом (1968), И. Митроффом (1974) и
С. Фуллером(1997)1.
Сходство между этими концепциями заключается в том, что
генетически, по происхождению, они имели своим источником как раз теории
Мертона, Барбера и др. — но не с задачей их подтверждения, а
наоборот, противопоставления каждой из норм системы CUDOS+ и всем им
в совокупности прямо альтернативных норм, или антинорм. Так, Р. Бо-
гуслав противопоставил «коммунизму» — «miserism», расшифровывая
слово как стремление ученых единолично владеть знаниями (то же у
И. Митроффа); С. Фуллер в этом случае употребил слово «mafiosism»,
имея в виду мафиозность отношений в науке. Универсализму были
противопоставлены «партикуляризм, этноцентризм» (Р. Богуслав, И. Мит-
рофф), «культурный империализм» (С. Фуллер);
«незаинтересованности» — напротив, «заинтересованность» (Р. Богуслав, И. Митрофф),
«оппортунизм» (С. Фуллер); «организованному скептицизму» —
«организованный догматизм» (Р. Богуслав, И. Митрофф), «коллективная
безответственность» (С. Фуллер). Имея в виду еще и дополнения Мертона,
Барбера, «оригинальности» противопоставили «лимитированную
оригинальность» (Р. Богуслав), а «эмоциональной нейтральности» (Б. Бар-
бер) — «эмоциональную вовлеченность» (И. Митрофф).
Концепция анти-норм науки и их отношение
к мертоновской социологии науки
Концепции анти-норм науки появились не случайно. Как мы видели,
идеи Мертона и его школы (и в их ранних, и в более поздних вариантах)
сначала рождались на волне необходимой, благородной защиты науки,
ученых от гитлеровской политики, а потом — в эпоху развернувшейся
научно-технической революции — отражали высокие и светлые
ожидания общества, возлагаемые на научно-технический прогресс. А
концепции анти-норм воплотили в себе накапливавшиеся в обществе,
мощно прорвавшиеся в 1968 г. (когда, кстати, вышла книга Р. Богуслава) и
далее закрепившиеся разочарования в науке как определенном
социальном институте, в поведении ученых как реальных субъектов особых
социальных групп. Итак, социально-историческая, в том числе
ситуационная, обусловленность соответствующих акцентов, концептуальных
поворотов в обоих случаях отчетливо выявляется, когда мы конкретно
анализируем развитие социологии науки в свете социологии познания.
1 Краткое изложение их в виде удачной таблицы см.: Демина Н.В. Мертоновская
концепция этоса науки: в поисках социальной геометрии норм // Этос науки. М., 2008.
С. 156-157.
12*
180 •
Раздел III
С теоретико-идеологической точки зрения оправданность и
значимость концепций антинорм науки заключается в том, что она вскрывает
совсем не благостную картину реального поведения ученых, в том числе
и в сферах научного поиска, а также многие противоречия, трудности в
действительном функционировании института науки. Отмеченные
поправки были связаны с постановкой действительно важных проблем,
отчасти с дополнениями (по крайней мере) к ранней социологии науки, в
которой господствовала мертоновкая парадигма. Но те авторы, которые
полагают, будто именно формулирование антинорм привело к
опровержению мертоновской парадигмы и как бы поставило на ее место в
социологии науки названные анти-нормы, по-моему, серьезно заблуждаются и
с проблемно-содержательной, теоретико-методологической, и с истори-
ко-фактической точек зрения.
Мои аргументы здесь таковы.
1. Полная зависимость этой негативной (анти-) концепции от (в
некоторой мере) позитивной мертоновской теории совершенно очевидна:
каждая норма — просто антипод мертоновской нормы даже по главным
названиям-обозначениям, не говоря о содержании.
2. Частичная (но только и именно частичная) оправданность таких
анти-ремарок и анти-формул имеет место лишь в случаях замеченных
(в том числе самими мертоновцами) и доказанных терминологических и
содержательных пробелов учения Мертона Но не в случаях, когда
просто предлагаются замещающие термины. Пусть мертоновский термин
«незаинтересованность» в целом не вполне удачен, но и предложенное
слово «заинтересованность», как его расшифровывает Богуслав, тоже
вряд ли приемлем, ибо речь у него идет главным образом только о
заинтересованности ученых в прибыли, вознаграждении и признании. (Кстати,
у Мертона и в мыслях не было отрицать такую заинтересованность; он и
его ученики, как мы увидим далее, посвятили всем таким темам
обстоятельные исследования.)
3. Что касается вообще расшифровки негативных сторон
поведения ученых и реальной деятельности института науки, то еще до Богу<жа-
ва, задолго до Митроффа и тем более Фуллера их наиболее масштабно,
честно, требовательно зафиксировали... как раз Р. Мертон, ученые его
школы и сторонники С UDOS в многочисленных конкретных
исследованиях (о некоторых мы подробно будем говорить в следующем разделе).
Если иметь в виду сказанное в пунктах 1 и 2, то можно сделать
предварительный вывод: концепции анти-норм по существу не вносят
принципиально нового проблемного и информационного содержания по
сравнению с мертоновским учением, как оно сформировалось уже к
началу, а особенно к концу 70-х годов. Еще сомнительнее обстоит дело,
когда мы учитываем ранее обозначенные центральные функции теории
CUDOS как нормативного учения, которое (как показано ранее) обязано
формулировать нечто «идеальное»: что должны делать ученые и вокруг
каких принципов следует объединяться институту науки. Эту функцию
Отечественные и зарубежные исследования... * 181
мертоновская концепция выполнила и даже... перевыполнила, ибо, как
мы видели, наряду с чисто позитивными принципами должного в ней
было «альтернативно» упомянуто о предупреждающих, остерегающих
функциях и акцентах норм, показывающих, чего не следует, не должно
делать ученым и науке в строгом смысле этих слов (а ведь в рамках
института науки могут действовать также и люди, которые вообще не имеют
отношения к добыванию истинных знаний).
4. Мы показали также, что Мертон разработал — наряду с чисто
нормативным учением — также и теоретическую, а потом
конкретизированную на уровне практической социологии концепцию,
демонстрирующую, по крайней мере, противоречивость, амбивалентность,
неоднозначность реального поведения ученых и действительного
функционирования института науки по ряду существенных для нее измерений
и параметров. С теоретико-методологической точки зрения концепция
анти-норм была, по моей оценке, шагом назад, ибо ее создатели в
критическом запале изобразили это поведение одномерно, однозначно, притом
сугубо негативно (подобное изображение, кстати, было бы неверным по
отношению к любому открыто функционирующему социальному
институту, а не только к науке).
При изучении концепций анти-норм мог возникнуть и до сих пор не
устарел очень существенный вопрос: как же индивиды,
ориентированные исключительно или по преимуществу такими, с позволения сказать,
«нормами», как «мизеризм», корыстолюбие, догматизм, «мафиозность»,
способны производить — и ведь исправно производят! — объективное,
подтверждаемое, именно всеобщее знание? На почве подобных
антиконцепций ответ давался, но после разоблачающего пафоса выглядел
весьма неубедительным. Правда, шумный пафос разоблачения всегда
производит особый эффект. Вот почему у целого ряда читателей
(конечно, далеко не у всех) и сформировалась идея о «провале» мертоновской
парадигмы социологии науки — учения о нормах науки. На деле же
атака «анти-норматистов» захлебнулась, и не случайно.
Интересен более взвешенный современный материал, например,
подтверждающее-корректирующие работы Дж. Займена (J. Ziman),
который признает, что концепция Р. Мертона «представляет «наилучшую
теоретическую рамку» для понимания сути академической науки,
производящей «знание, которое мы называем чисто научным»». Это с одной
стороны. С другой же, Займен выступил за модификацию мертоновских
норм применительно к «неакадемическим» областям и институциям
научной деятельности. Имея в виду особенности этих структур, Займен
предложил модифицированную и дополнительную нормативную систему
PLACE. Ее нормы: Р — «proprietary work», т. е. акцентирование «права
собственности»; L — local work, т. е. необходимость решения локальных
задач; А — authoritarian work, т. е. особая, «начальственная» система
управления в ряде научных областей; С — commissioned work, т. е работа
182 •
Раздел III
на заказ; Е — expert work, т. е. решающая роль групп экспертов1. В
самом деле, конкретизация, модификация норм применительно к
различным разновидностям научно-исследовательской деятельности нужна.
(И не случайно подобная конкретизация и стала одной из точек роста
конкретной социологии науки в последние годы.) Но она в целом не
противоречит мертоновскои парадигме и уж во всяком случае не отменяет
ее. Небезосновательна и идея Займена о том, что парадигма Мертона
стоит ближе к «академическим» формам, областям научного труда и
лучше коррелирует с жизнедеятельностью соответствующих типов ученых,
занятых по преимуществу именно в академической науке.
В целом же я думаю, что сегодняшним объективным результатом
развития социологии науки все-таки является подтверждение очень
высокого — по моей оценке, «классического» — статуса мертоновскои
концепции норм науки. Из чего, конечно, не вытекает никакой ее дог-
матизации с моей стороны или со стороны тех, кто дает оценку,
сходную с только что высказанной. Есть пункты, в которых, как я пыталась
показать уже в ранних своих работах, обнаруживается необходимость
серьезного критического дополнения к тому, что сделано Мертоном, его
учениками и последующими критиками. Одну линию дополнения
обнаружила сама эта школа (хотя не только она), когда предложила целую
массу первоклассных конкретных работ по социологии науки, в
которых, разумеется, уже нельзя было не осуществлять тщательный анализ
поля реального поведения ученых, реальной практики
функционирования института науки, но в которых (скажу, забегая вперед) мертоновцам
также удалось доказать, что при всей противоречивости реального опыта
нормы науки не только действуют, но даже не могут не проявлять свою
власть, во всяком случае там, где удается реализовать главные цели и
задачи науки, т. е. добывать знания, которые мы имеем обыкновение
именовать «истинными». Но сопряжение «идеальных» норм и реальности
действия, поведения оказывается самым проблемным, трудным как для
самой науки, так и для ее осмысления в социологии науки, что
попытаюсь показать в дальнейшем рассмотрении, которое будет по
необходимости кратким.
Теперь мы перейдем, как и обещано, к анализу конкретных
исследований Мертона и его школы в 60-70-х годах XX века.
1 См.: Демина Н. Указ. раб. С. 159, 160.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
КОНКРЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАПАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ НАУКИ
И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ
Постановка проблемы; вклад отечественной мысли
Целостное освещение и этой темы в рамках нашего исследования
невозможно. Ограничимся здесь следующими задачами: 1) мы кратко
покажем, в каком социальном и исследовательском контексте
развивалась конкретная социология науки; 2) будет дана общая характеристика
теоретического значения ряда работ 60-70 годов XX века для развития
мертоновских концептуальных парадигм; это значение представляется
оправданным видеть в их подкреплении, уточнении, обогащении; 3)
будет показано, как параллельно расширяется исследовательское поле
социологии науки, вводятся новые темы, проблемы, методы; 4) будет также
рассмотрено, когда и в каком направлении отечественная мысль
критически осваивала достижения западной социологии науки 60-70-х гг.
В работах и самого Мертона, и ученых его школы в 60-70-80 гг.
XX века исследования часто выходили именно на уровень конкретной
социологии науки, обладая вместе с тем немалыми теоретическими
достоинствами. Надо отметить, что весьма благоприятным фоном, а часто
и подспорьем для социологии оказывались исследования в уже
названных ранее сопредельных областях. Так в 1963 году вышла в свет
знаменитая книга Д.С. Прайса «Малая наука, большая наука» (в 1966 г. она
уже имелась в русском переводе). Означении книги «Структура
научных революций» Т. Куна ранее уже говорилось. Мощным массивом
развернулись исследования, в том числе и социологические, в
востребованной капиталистическими, а также и социалистическими государствами
сфере «science policy», т. е. политики по отношению к науке. В эти же
годы сильным потоком прорвались работы, в которых придирчиво
исследовались предпосылки, возможности и препятствия для развития науки
именно в условиях капитализма; высокого уровня достигло изучение
общественного мнения в капиталистических странах в его отношении к
науке, в том числе и изучение протестных мнений самих ученых.
Изучению и осмыслению такого рода зарубежной литературы были,
кстати, посвящены основательные работы отечественных ученых,
науковедов, страноведов, философов. В этой связи позволю себе личное
замечание. В 70-80 гг. я плотно занималась и этими аспектами
проблематики науки, science policy, продолжая анализировать социологию науки,
184 •
Раздел III
что получило отражение во второй части моей книги «Наука и ученые в
условиях современного капитализма» (М., 1976) и ряде других
публикаций, посвященных политике США в отношении науки. В то время это
позволяло находиться на переднем крае дискуссий по означенной
проблематике. (Почему, кстати, могу рекомендовать— как наиболее
основательную и сегодня не устаревшую — библиографию к книге «Наука и
ученые», где собрана наиболее релевантная теме тогдашняя литература
в объеме 340 источников.)
Дополнительное обстоятельство, заставляющее нас вспомнить об
этих исследованиях, отечественных и зарубежных, состоит в
следующем. Если в 70-х гг. нам и в голову не приходило, что животрепещущая
для Запада тема «Наука и капитализм» когда-нибудь станет внутренней
проблемой и для нашей страны, то теперь, в XXI веке, с утверждением
в России капиталистических отношений (притом в форме стихийного,
дикого капитализма) и с их поначалу разрушительным воздействием на
достаточно развитую науку советского периода — со всем этим
выстраданные и высказанные американскими учеными, организаторами,
исследователями науки суждения о соотношении науки и капитализма
неожиданно стали релевантными и для России наших дней. Не устарело и то,
что по этому поводу думали и говорили отечественные исследователи.
Размах, многосторонность, конкретность, критичность западных,
прежде всего американских, исследований науки в 60-80 гг. XX в. были
беспрецедентными, с чем в определенной степени можно связывать и
общий бесспорно высокий уровень развития науки в США, и целый ряд ее
особенностей организационно-управленческого характера. Например,
завидную, для нас недосягаемую эффективность научных идей, через
ряд хорошо отлаженных звеньев и механизмов НИОКР находящих
выход в практику.
Хочу снова подчеркнуть: ряд отечественных специалистов на очень
высоком уровне освоили и сообщили нашим читателям о наиболее
важных достижениях различных — новых тогда — дисциплин. Хороший
обзор этого этапа конкретного исследования науки со стороны разных
дисциплин (науковедения, социологии науки, в частности, социологии
организации науки и управления ею и т. д.) дали отечественные авторы
АА. Игнатьев, С.Д. Хайтун, Э.М. Мирский, Б.Г. Юдин — особенно
объемно (в более поздней, 1988 г.) книге «Современная западная
социология науки»1, которую считаю лучшим, до сих пор не превзойденным кри-
1 Например, в статье A.A. Игнатьева «Полевые исследования исследовательского
труда: эволюция проблем и методов» (названная выше книга, с. 120-161, с превосходной
библиографией) дается, в частности, хорошо обоснованная оценка вклада в конкретную
социологию науки принадлежавших к школе Мертона ученых. Например, это анализ
исследований У. Хэгстрома, который в начале 60-х годов — почти одновременно с куновской
чисто отсылочной апелляцией к научному сообществу — разработал многостороннюю
социологическую концепцию такого сообщества. Когда речь далее пойдет о работах других
социологов школы Мертона, мы также будем (очень кратко) говорить об их замеченности
и оценках в отечественной мысли.
Отечественные и зарубежные исследования...
•185
тическим отечественным трудом на данную тему. Можно рекомендовать
эти обобщающие работы тем, кто хочет представить в едином контексте
одновременные, так или иначе увязываемые самой логикой понимания
науки исследования и усилия известных авторов — П. Лазарсфельда,
Т. Куна, М. Полани, Д.С. Прайса, Д. Пельца и Ф. Эндрюса, А. Койре,
Д. Блура, Ю. Гарфильда, А. Мидоуса, Д. Крантца и Н. Маллинза, Т.
Алена и его группы, Д.С. Лонга, К. Кнорра, Д. Линдсея, К. Стадера и Д.
Чубина, Г. Смола и др. (Прекрасна также обширная библиография к статьям
названных отечественных авторов.) Именно в единстве, постоянной
перекличке с идеями, произведениями авторов, принадлежащих этой
мощной когорте, работали Р. Мертон и его сотрудники, как правило,
внимательно изучавшие сопредельные области и постоянно ссылавшиеся на
релевантные идеи коллег.
Интересно, что опыт развития западной социологии науки (мерто-
новской, в частности) в нашей стране сразу воспринимался и оценивался
вместе с работами 60-70-х годов, а также с опорой на западные
публикации, подводивших промежуточные итоги развития этой дисциплины.
Среди последних заслуженное внимание привлекли обобщающая книга
Н. Сторера «Социология науки» и другие публикации этого автора. Нет
нужды специально писать о публикациях Сторера, т. к., во-первых, его
работы по социологии науки уже с начала 70-х годов переводились на
русский язык, а во-вторых, в ряде отечественных исследований,
например, выполненных Э.М. Мирским, роль Сторера в презентировании,
уточнении парадигм, «инвентаризации» социологии науки была оценена
весьма добротно и точно (в том числе и в свете известных расхождений
между оценками Мертона, его ближайших учеников и Н. Сторера)1.
В частности, для общего обзора, сделанного школой Мертона (и с
учетом уточняющих замечаний Э. Мирского), полезна следующая
характеристика Сторера: «На основе мертоновской парадигмы были
поставлены вопросы, породившие эмпирическое исследование многих сторон
научного сообщества: конкуренции и сотрудничества в научной работе
(У. Хэгстром), влияния на получение профессионального признания вне-
научных факторов (С. и Дж. Коуэлы, Д. Крейн), последствия получения
признания (X. Закерман), структуры сетей нормальных коммуникаций
(Д. Крейн, Н. Маллинз, Д.С. Прайс), таких, как порядок имен при
соавторстве (X. Закерман) и дискриминационный характер
противопоставления фундаментальных и прикладных исследований (Н. Сторер)... Они
представляют изучение вопросов, вытекающих из парадигмы, что не
лишает их творческого, приносящего удовлетворения начала»2.
В дальнейшем анализе главное внимание будет сосредоточено
на конкретных, а одновременно теоретических исследованиях самого
1 См.: Мирский Э.М. Развитие мертоновской парадигмы в 60-е и 70-е годы //
Современная западная социология науки. Критический анализ. М., 1988. С. 62, 63 и далее.
2 Сторер Н. Отношение между научными дисциплинами / / Научная деятельность:
структура и институты. М., 1980. С. 64-65.
186 •
Раздел III
Мертона (параллельно — лишь о наиболее важных конкретных
исследованиях социологов его школы). Из мертоновских исследований тоже
придется выделить только те, которые — по прошествии целых
десятилетий — кажутся и наиболее глубокими в теоретическом отношении, и
не утратившими практической актуальности.
Проблемы приоритета и множественности открытий
Среди самых ранних конкретных исследований Мертона — те
работы 50-60-х годов, о которых ранее уже бегло упоминалось: «Priorities in
scientific discovery: a chapter in the sociology of science», 1957 —
«Приоритеты в научном открытии: глава по социологии науки»; «Singletons and
Multiples in scientific Discovery», 1961 год— перевести непросто: речь
идет о единственном и множественных, параллельных научных
открытиях) и «Resistanse to the systematic study of multiple discoveries in Science»,
19631 — «Сопротивление по отношению к систематическому изучению
множественных (параллельных. — Н.М.) открытий в науке».
Мертон обратил внимание своих читателей на двойной факт,
подтверждаемый «тысячью примеров»: речь идет а) об «одновременности»
или параллельности, словом, о множестве (multiple) открытий,
сделанных в науке разными учеными независимо друг от друга, и о связанных с
этим и вообще типичных для науки ожесточенных спорах ученых,
научных школ о приоритете; б) о сопротивлении (resistance), которое с
разных сторон оказывается по отношению к научному социологическому
изучению такого рода открытия и споров вокруг них.
Мертон сослался на имевшуюся к тому времени литературу по
вопросу о множественных открытиях — особенно на работы
Уильяма Ф. Огборна и Дороти С. Томас, зафиксировавших, описавших 150
таких открытий; их работы появились еще в 1922 году. А отсюда — один из
острых вопросов, который в данной связи поставил Мертон: почему
понадобилось 40 лет для того, чтобы проблему стали основательно
исследовать на конкретном социологическом уровне? Общий ответ и состоит
в ссылке на отмеченный ранее факт сопротивления (resistance) и S'его
подробном исследовании.
Что для нас особенно важно: Мертон использует данную, как бы
специальную статью еще и для того, чтобы подвести итог своей
предшествующей работы, а также деятельности его группы. Поэтому и в тексте,
и в сносках (в произведениях Мертона всегда многочисленных) не
упущена возможность упомянуть (уже известные) работы самого Мертона,
а также Б. Барбера, Г. Закерман, Э. Барбер и целого ряда других авторов
(их подробный перечень смотри далее).
lMerton R.K. «Resistance to the Systematic Study of Multiple Discoveries in Science / /
European Journal of Sociology. IV (1963), P. 237. Далее ссылки на данное издание: Res. с
указанием страницы.
Отечественные и зарубежные исследования...
•187
В первом разделе работы «Resistance...» Мертон подчеркивает
стратегическоеу как он говорит, одновременно теоретическое и
практическое значение названных исследований для социологии науки, для
других дисциплин, изучающих науку, а также для процессов управления
научной деятельностью. Он фиксирует 8 пунктов, показывающих, как
можно практически использовать и теоретически истолковывать данные
социологические исследования.
1. Мертон видит здесь необходмое дополнение к
распространившимся в его время психологическим и иным осмыслениям «креативности
в науке», сосредоточившимся главным образом на изучении
деятельности индивидов и их способностей в эндопсихическом ключе. Здесь же, на
уровне социологии науки, исследователи естественно «фокусируются на
интерперсональных отношениях, в которые включены ученые в
процессе их работы» (Res. Р. 240; курсив мой. — Н.М.). При этом
социологически используется (с опорой на Ч.Р. Миллза, Т. Каплоу (Caplow) и на
собственные разъяснения Мертона) понятие «среды» (milieu) и
уточняется, что преимущественным объектом социологического исследования
станут «малые группы» ученых.
2. Вместе с тем в поле исследовательской работы должны
включаться, по Мертону, такие вопросы, как приспособление новых концепций,
методов науки к установившимся (в данной науке) традициям, к
формальной и иной организации творческой, продуктивной работы ученых.
3. Мертон поднимает далее важнейшую проблему «сообщества
ученых» (the community of scientists) и применительно к началу 60-х
годов верно отмечает, что это понятие в литературе по большей части
остается метафорой, а не оперативным концептом и потому нуждается
в серьезном социологическом уточнении. Правда, именно в данной
статье понятие «научного сообщества» во всей его полноте не разбирается,
зато в целостном корпусе исследований самого Мертона и его учеников
(прежде всего У. Хэгстрома) это впоследствии делается. Но уже и в
рассматриваемой работе Мертон проясняет следующий момент:
сообщество ученых — это скорее дисперсное (рассеянное) в географическом
смысле, чем только «географически компактный коллектив». Мертон
заключает: «Робинзон Крузо в науке — такая же фикция (figment), как
и Робинзон Крузо в экономике старого образца. Это иллюзия,
порожденная той схемой мысли, которая требует от нас погружаться внутрь
мыслительного процесса и тем самым целиком абстрагироваться от
более широких социальных и культурных контекстов этих процессов»
(Res. Р. 242).
4. Обращение к «множественным» (параллельным) открытиям,
продолжает Мертон, помогает вскрыть и сходство, и различия между
типами, отраслями науки. В определенной степени благодаря их сходству,
подчеркивает социолог, мы можем привлекать к рассмотрению не только
сходные логику, методы исследовательской мысли, но и сходство в
«актуальном поведении ученых в каждом из главных подразделений науки»,
188 •
Раздел 111
делая акцент на соответствующую социокультурную среду (environment)
(Res. P. 243; курсив мой. — HM).
5. Ключевое значение в исследовании интересующих его аспектов
поведения Мертон приписывает тому «моменту», когда ученый
«внезапно» узнает: открытие, которое он сделал в результате многолетнего труда
и, как он думал, сделал только (only) он — в то же или почти в то же время
сделано другими учеными. Что это вызывает стресс, вряд ли можно
подвергнуть сомнению. И вот изучению поведения человека науки в
состоянии такого именно стресса Мертон и социологи его школы придали
особое значение, ибо поведение это, как правило, оказывается «девиант-
ным», т. е. отклоняющимся, не вполне «нормальным» и, однако, совсем не
беспричинным. Сильный толчок к нему, по Мертону, дает тот
«патогенный акцент на оригинальность», который характерен для деятельности
института науки и отдельных ученых (Res. Р. 244). (Почему такой акцент
именуется «патогенным» и как это согласуется с добавленной самим
Мертоном нормой оригинальности, мы обсудим впоследствии.)
6. Еще один конкретный аспект, обсуждаемый Мертоном в
рассматриваемой работе, связан с финансовой поддержкой, оказываемой науке и
ученым как различными фондами, так и государственными органами,
которые не поощряют «расточительного дублирования» при распределении
денег. А значит, они заведомо негативно относятся к самой возможности
«множественных» открытий. Между прочим, Мертон пишет, что
подобную заботу о преодолении «расточительности» раньше всего проявили в
«плановом хозяйстве» СССР, а уж затем — «во внеплановой экономике
Запада». При этом со стороны управляющих инстанций, фондов стали
раздаваться призывы «улучшить коммуникацию ученых» и создать
специальные гремиумы, функцией которых стала бы нормализация обмена
информацией. Но не только «множественность» открытий попала здесь в
поле зрения. Как было сказано в одном из документов, соответствующие
гремиумы должны оградить ученых от стремления тех или иных
исследователей воспрепятствовать продвижению рукописей, отчетов других
ученых — на том только основании, что где-то делаются работы, по теме
и результатам близкие к их собственным. ^
Приходится отвлечься от интересных, но частных проблем и
трудностей, возникающих в связи с темой «расточительного дублирования» и
самым конкретным образом обсуждаемых Мертоном. Отмечу только:
замечания Мертона о том, что проблема «излишнего», «расточительного»
применительно к науке плохо разрешена теоретически и практически,
относится не только к его, но и к нашему времени. И если с точки
зрения тех, кто управляет наукой и распределяет финансы, множественные
(параллельные) исследования и открытия — единственно лишь признак
«расточительства», то для самой науки и ее коренных функций они
продуктивны, по крайней мере в двух смыслах.
Во-первых, открытия как бы подтверждают, подкрепляют друг друга,
что особенно ценно, когда они осуществляются в самом деле независи-
Отечественные и зарубежные исследования...
•189
мо, действительно параллельно. Тем более, что совершенно идентичных
открытий и особенно ведущих к ним путей, методов их обоснования не
бывает даже в математических, естественных науках. Знаменитый спор
о приоритете между ньютоновцами и лейбницианцами подтверждает это:
Ньютон и Лейбниц шли к открытию дифференциального и интегрального
исчисления несходными путями, оперировали относительно различными
методами, аргументами. И для науки оказалось по-своему продуктивным
изучение, осмысление обоих путей. Во-вторых, как справедливо
отмечает Мертон, в условиях несовершенства информационной системы науки,
наличия в ней многих «шумов» параллельность открытий дает им больше
шансов быть замеченными на ранних стадиях, быть «услышанными»
научным сообществом, которое, не забудем этого, ныне включает
миллионы ученых, работающих на разных континентах, в разных странах.
7. «Методологическое исследование множественности [открытий], —
продолжает Мертон, — помогает нам развить социологическую теорию
о роли научного гения в развитии науки. Эта новая теория порывает с
ложной дизъюнкцией между героической теорией науки, которая
приписывает гениям все базисные достижения, и теорией среды (an enviromental
theory), согласно которой без этих гениев, взятых вместе, можно было бы
обойтись, и если бы их не было, положение дел сложилось бы так же, как
с их участием» (Res. Р. 249). В обновленной теории, полагает Мертон,
«гением» можно (условно) назвать такого ученого, открытия и теории
которого, если бы они остались неизвестными его современникам,
впоследствии все равно были бы сделаны, «переоткрыты», пусть не одним, а
многими учеными.
8. Вот почему можно и нужно иметь в виду, считает Мертон,
«терапевтическую функцию» рассматриваемых исследований.
Во второй части статьи Мертон более подробно характеризует
важное для него понятие «resistance» — сопротивления, взятое в разных
взаимосвязанных значениях, прежде всего в виде сопротивления,
оказываемого уже и исследованию множественных открытий. Из
разъяснений Мертона вытекает, что такое сопротивление является своего рода
закономерной, хотя и преувеличенной, подчас экстремальной реакцией
отдельных ученых и их малых групп, которая вытекает из неверного
усвоения, понимания норм и принципов науки, из неточного осознания ее
социальной роли. «Такое сопротивление, — пишет Мертон, — является
знаком неверной интерпретации социального института науки, которая
подразумевает потенциальную несовместимость [некоторых] ценностей:
среди них — ценность, приписываемая оригинальности, которая ведет
ученых к тому, что они хотят, чтобы их приоритет был признан, и такой
ценности, как скромность, которая заставляет их настаивать на
понимании того, сколь малого они, в сущности, смогли добиться. Эти ценности,
разумеется, не являются контрадикторно противоположными..., но они
вызывают противоположные виды поведения. Соединить эти
несовместимости в единую ориентацию и примирить их на практике — вещь
190 •
Раздел III
отнюдь не простая. Скорее, мы должны теперь увидеть, что
напряжение между этими видами ценностей создает внутренний конфликт
среди людей науки, которые усвоили обе ценности. Вместе с другими
факторами такое напряжение порождает ощутимое сопротивление по
отношению к систематическому изучению множественности открытий, а
часто и по ассоциации напоминает конфликт, связываемый с проблемой
приоритета» (Res. Р. 250; курсив мой. — H. М.). Мертон в изобилии
приводит конкретные примеры такого «патогенного» сопротивления, взятые
из литературы по истории науки.
Эта часть исследования Мертона представляется важным
моментом дополнения и расширения его концепции норм науки. Подчас
разговор о нормах, принципах, идеалах в философии и даже социологии
склоняет соответствующих исследователей к парадному, что ли,
разговору. И в ранней мертоновской концепции подчас слышались подобные
же нотки. Не то у Мертона 60-70-х годов: он показывает, во-первых, что
в конкретных процессах деятельности ученых как раз ревностное
следование интериоризированным нормам науки — при условии их
неточного, смутного или просто неверного («патогенного») толкования —
может привести к конфликтам между учеными, к фрустрациям во
внутреннем мире тех или иных исследователей. Во-вторых,
выясняется, что особой трудностью является согласование, прилаживание друг
к другу норм, ценностей, которые по отдельности приняты, интериори-
зированы учеными. В-третьих, когда социологи и другие специалисты в
процессе их исследования привлекают внимание к таким больным
точкам поведения, жизнедеятельности ученых, последние способны
оказывать и часто действительно оказывают явное сопротивление подобным
исследованиям.
На последующих страницах работы Мертон, кстати, нередко
обращается к конкретному исследованию истории открытия психоанализа
3. Фрейдом. Это исследование, отмечу, по своему основному замыслу
является не просто историко-научным, а тоже становится одной из «глав»
социологии науки. Материал, на который здесь опирались Мертон и его
ученица Элинор Барбер, довольно внушительный (разумеется,'в том
виде, в каком он существовал к началу 60-х годов XX века). Одной из
целей здесь был ответ на ряд вопросов, интересных в общей связи
анализируемого комплекса мертоновских исследований. Например, вопроса о
том, интересовали ли 3. Фрейда споры о приоритете. «Фактически, —
отмечал Мертон, — д-р Э. Барбер и я нашли более 150 случаев, когда
Фрейд проявил интерес к проблеме приоритета. Сам Фрейд сообщает,
что ему даже снились сны о приоритете» (Res. Р. 253). (Целые
страницы — 254 и далее — содержат извлечения из различных материалов
на эту тему, демонстрирующие сложность, многомерность проблемы, а
также амбивалентность ориентации Фрейда по отношению к
приоритету, р. 258.) «Верно и то, что Фрейд, по видимости, не менее заботился
о приоритете, чем Ньютон или Галилей, Лаплас или Дарвин или другие
Отечественные и зарубежные исследования... * 191
гиганты науки, относительно которых биографы и другие авторы
заявляли, что у них-де полностью отсутствовал интерес к приоритету — пока
честные ученые не представили нам в изобилии свидетельства
обратного» (Res. Р. 258). Это ироническое замечание Мертон, с одной стороны,
адресует тем отдельным ученым, историкам науки и социологам,
которые поначалу дружно бросились доказывать, будто столь «постыдное»
дело, как заботы о приоритете, чужды «святой обители» научного труда.
С другой стороны, социолог с благодарностью упоминает тех достаточно
многочисленных авторов, которые подтвердили выводы из изысканий о
приоритете Мертона и его школы.
Согласно Мертону, сложившиеся традиции отношения самих
(исследуемых) ученых и исследователей науки тоже являются одним из
доказательств упомянутого сопротивления. «Поведение коллег-ученых,
включенных в споры по поводу множественных открытий и приоритета,
скорее восхваляется или осуждается, чем анализируется. Оно
оценивается морально, а систематически не исследуется» (Res. Р. 259).
В качестве примера и доказательства реакции первого рода
приводится не «рядовое» мнение, а изречение великого Гёте, который с
негодованием говорит обо всех этих «глупых спорах относительно более
ранних или более поздних открытий, о плагиате и квази-воровстве»
(Res. Р. 260). При всем уважении к авторам подобных суждений Мертон
не готов признать такие споры, коллизии простой «глупостью», в чем,
я думаю, он совершенно прав. В подтверждение того, что эти и другие
беспокойства ученых, поскольку они обусловлены восприимчивостью
к нормам, ценностям, в том числе моральным, совсем не «глупость», а
особенность действительного, притом разумного и обоснованного
поведения отдельных людей, Мертон приводит выразительные слова
выдающегося физика Дж. К. Максвелла: «То был крупный шаг вперед в науке,
когда люди пришли к убеждению, что для понимания природы вещей они
должны были задавать вот какие вопросы: является ли данная вещь
хорошей или плохой, вредной или полезной, и какого рода эти вредность или
полезность?» (Res. Р. 260).
Если речь идет о спорах, коллизиях относительно приоритета,
трудно, вообще говоря, отрицать, что здесь гнездится немало проявлений
корыстного, морально непристойного поведения (об этих примерах у
Мертона говорится подробно, в том числе и с упоминанием громких в
науке имен). Да и вообще «разбирательствами» по поводу приоритета,
плагиата и т. д., как известно, полна история науки, что подтверждает
правоту Мертона: сама проблема принадлежит к числу очень важных,
коль скоро речь идет о реальном поведении ученых и, в частности, о
том, какими противоречиями, амбивалентностями отмечены процессы
усвоения, истолкования норм науки и адаптации по отношению к ним
отдельных индивидов и групп ученых. «Почти всех, кто занимает
прочное место в пантеоне наук, — Ньютон, Декарт, Паскаль, Лейбниц или
Гюйгенс, Листер, Фарадей, Лаплас или Дэви, — время от времени мож-
192 •
Раздел III
но было поймать на том, что они были захвачены такими
ожесточенными спорами» — пишет Мертон (Res. Р. 262). Он приводит примеры и из
сферы гуманитарных дисциплин, включая философские, экономические
науки, социологию, психологию (идут ссылки на Декарта1, Паскаля, Гоб-
бса, Конта, Спенсера, Сен-Симона, Маркса, Морено и других известных
ученых, мыслителей).
Маленькая главка статьи Мертона посвящена теме «криптомнезии»,
т. е. бессознательного плагиата, которая исследуется на конкретном
материале. Эту проблему я вынуждена оставить в стороне.
В заключительной части статьи Мертон — как бы продолжая тему
множественности открытий, — приводит данные о возрастании
«множественности» авторов одних и тех же работ, т. е. собственно
соавторства, (со ссылкой на исследования Р. Коэна, К. Гроува, Дж. Да-
монд, X. Закерман, Б. Берельсона, проведенные на материале физики,
химии, биологии, истории).
Исследования Р. Мертона конца 60-х и 70-х годов.
Проблема возраста и статуса ученых
Важным этапом в развитии конкретной эмпирической социологии
науки стало совместное исследование X. Закерман и Р. Мертона 1972
года «Возраст, старение и возрастная структура в науке» (Age, Aging
and Age Structure in Science). (Правда, еще раньше, в 1968 году, Мертон
опубликовал краткую статью «Эффект Матфея I».) Главной целью
конкретной, вполне практической проблемой работы о возрастных факторах
была следующая: наука в послевоенное время, а особенно в 50-60-х
годах, стала сферой деятельности, которая по темпам своего
стремительного роста существенно опережала и другие сферы, и общий рост
народонаселения. Мертон, конечно, был далеко не первым, кто обратил внимание
на данную проблему. Так, Дерек Сола Прайс в своем знаменитом
произведении 1963 года «Малая наука, большая наука» — на нее Мертон
ссылается в начале статьи — показал, что все основные количественные
показатели научной деятельности (число ученых, журналов, публикаций, а
потом и научных фондов) в то время росли по экспоненте. И если бы рост
теми же темпами продолжался далее, всему населению земли, казалось,
пришлось бы «переместиться» в научную сферу...
Рассматриваемая работа о возрасте в науке действительно является
конкретно-эмпирической социологической работой. Она (в отличие от
предшествующих произведений Мертона) изобилует цифровыми
сравнительными данными, относящимися к предшествующим периодам и к
60-70-м гг., таблицами, графиками, схемами (о состоянии науки в США
1 Так, Декарт писал Мерсенну, что опасается плагиата со стороны Гоббса, о котором
он сказал так: «...если я не слишком ошибаюсь, он тот, кто не прочь приобрести репутацию
за мой счет и с помощью неприглядных методов» (Descartes A.Œuvres, Correspondence, III.
Paris (1889), P. 283 ff; V (1903), P. 336.
Отечественные и зарубежные исследования... * 193
и основывавшимися на официальных статистических источниках, на
работах коллег и т. д.). Обобщать, тем более воспроизводить весь этот
богатый материал здесь лишено смысла. Мы остановимся только на тех
вплетенных в исследование общетеоретических проблемах, которые
Мертон и Закерман поставили перед социологией науки, причем не
только тогдашней. Впрочем, авторы работы так сформулировали ключевые
вопросы, чтобы благодаря исследованиям не только предложить на них
конкретные, примененные к опыту США ответы, но чтобы высветить, где
это можно, социальные механизмы, с помощью которых институт науки,
ученые и общество регулируют решение возрастных проблем в науке.
Вопросы эти многочисленны, разнообразны, они актуальны и сегодня:
о подготовке молодых кадров и их адаптации к научной деятельности;
о соотношении ценностей молодых ученых и ученых других возрастов;
о том, ученые каких возрастов более восприимчивы к новым идеям; о
том, бывает ли и в чем состоит борьба поколений в науке и т. п.
Я кратко остановлюсь здесь на одной ключевой проблеме статьи
«Возраст...», которая, с моей точки зрения, по существу вышла за рамки ее
специфической темы и наметила для социологии науки в целом широкий
фронт исследований (имеющих и специальное, и общесоциологическое
значение). Эта проблема — статус ученых и социальные роли в науке.
«Подобно другим статусам, статус ученого — это не одна-единственная
роль, а переплетение (mixture), взаимодополнительность (complement)
ролей»1, — пишет Мертон, выделяя четыре главных роли, выполняемых
соответственно в сферах исследования, обучения, административной
деятельности — и еще дополняемых ролью «gatekeepers». В последнем
случае имеются в виду своеобразные функции «привратников»: немало
ученых (нередко наряду с исполнением ранее перечисленных ролей, а
иногда и по преимуществу) принимают решения, какие статьи принять
или не принять в научные журналы, какие одобрить или не одобрить
диссертации, каких ученых взять на работу или уволить с нее, какие
средства и как распределять и т. д. Роль «привратников» поясняется со
ссылкой на работы Курта Левина, Альфреда де Грациа, Дианы Крейн, Р.
Тернера, X. Хагенса, У. Хэгстрома, X. Закерман и других.
Исследования «эффекта Матфея» и дискуссии вокруг них
«Эффект Матфея» I и II — такой заголовок носят две работы Мер-
тона, из которых первая, ранняя (и краткая), скорее «столбящая» тему,
была опубликована в 1968 г., а вторая, основательная и принципиально
важная для социологии науки, через 20 лет, в 1988 г. Здесь будет
разбираться второе произведение. У него есть подзаголовок, поясняющий
его смысл: «Кумулятивно накапливаемые преимущества и символизм
1 Zuckerman H., Merton R. Age, Aging and Age Structure in Science / / A theory of Age
Stratification. Vol. III. N.Y., 1972. P. 314.
194 •
Раздел III
интеллектуальной собственности»1. Кстати, автор сразу говорит, и не
без оснований, что подзаголовок тяжеловесный, если не корявый; это
относится в первую очередь к термину «cumulative advantage» (трудному
и для перевода). Но он, как мы далее увидим, все же помечает
профилирующую тему, отчасти объясняющую и выбор заголовка. Опираясь на
Евангелие от Матфея (13:12 и 25:29), в частности, на фразу «Ибо
каждому имеющему будет дано, и у него будет изобилие, а у не имеющего будет
взято и то, что он имеет»2, — Мертон стремится проанализировать такие
характерные для научной деятельности социальные процессы, как
кумулятивное приращение сравнительных преимуществ (научный
потенциал, положение в науке, доступ к ее ресурсам) теми учеными, которым
удалось получить их ранее. В результате, пишет Мертон, углубляются
признаки неравенства, разрыва (gaps) между теми, кто уже многое
имеет (the haves — имущими), и теми, кто таких преимуществ не имеет.
Иными словами, объявляет Мертон в предуведомлении к статье, он
хочет обратить внимание «на специфический характер
интеллектуальной собственности в науке» и на расслоение внутри
института науки. Исследуется то, что именуется ключевым парадоксом науки
и формулируется следующим образом: «право частной собственности в
этой сфере устанавливается таким путем, что что-то от ее субстанции
свободно отдается тем, кто захочет этим воспользоваться. Затем я
постараюсь показать, — продолжал Мертон, — что некоторые
институционализированные аспекты такой системы собственности, в основном в
форме публичного признания источника знаний и информации, свободно
представляемых в распоряжение коллег по науке, связаны с
социальными и когнитивными структурами науки посредством весьма
любопытной системы отношений, способствующей коллективному характеру
прогресса научных знаний» (Э. М. С. 25; курсив мой. — Н. М.).
И в самом деле, Мертон, с одной стороны, задумал осмыслить
некоторые характерные особенности науки - как исследовательской
деятельности индивидов, групп ученых, как института общества - с точки
зрения всегда животрепещущих, болезненных проблем собственности,
социального расслоения. С другой стороны, он здесь перекидывал м$стик к
xMerton R.K. The Matthew Effect in Science, II. Cumulative Advantage and the
Symbolism of Intellectual Property // ISIS, 1988, v. 79. P. 606-623. Статья — с сокращениями —
переведена на русский язык: «Эффект Матфея в науке И: Накопление преимуществ и
символизм интеллектуальной собственности // Thesis, 1993. Вып. 3. С. 256-276. (В случае
ссылок перевод цитируется как Э. М. с указанием страницы; оригинал маркируется как
M. Е. II.) Я буду далее пользоваться этим переводом, иногда корректируя и дополняя его
его по оригиналу. (Кстати, оттиск этой своей статьи Р. Мертон любезно прислал мне с
дарственной надписью, и я храню его как реликвию.)
2Мертон отреагировал на критические замечания авторов (Д. Силлз), которые
пытались завязать конкретную дискуссию о правомерности самой ссылки на Евангелие от
Матфея, указав, что эти «материи» - дело специалистов и что он «извлек фразу из
теологического контекста и использовал ее». В русском переводе статьи опущен более существенный
момент: Мертон отметил в одной из сносок статьи, что термин «эффект Матфея» именно в
его толковании уже получил широкое распространение и применение (M. Е. II, Р. 609).
Отечественные и зарубежные исследования... * 195
фундаментальным проблемам социологии науки, а также философии
науки, гносеологии, учения о научных методах, ибо восходил в своем
анализе к связке «социальных и когнитивных структур науки», в частности
к такой теме, как «коллективный характер прогресса научных знаний».
Судя по замыслам и заявкам, Мертону и мертоновцам прежде всего
следовало предметно доказать, что дело в научной области — при
«распределении» преимуществ признания в науке и вне ее, при установлении
индивидуального статуса, вознаграждения — действительно обстоит
так, что слова «эффект Матфея» оказываются к ней полностью
применимыми. А вот здесь Мертон мог опереться на целый ряд
предшествовавших или параллельных по времени конкретных исследований учеников и
коллег. На первое место выделились работы ученицы и
последовательницы Мертона Харриет Закерман (Zuckerman).
В 60-70 гг. она проделала серию интересных и к тому же весьма
эффектных социологических исследований; прежде всего она провела
социологические интервью, объектами которых стали американские
нобелевские лауреаты и другие представители научной топ-элиты1.
Проблематика работ этой замечательной исследовательницы (в том числе
выполненных совместно с Р. Мертоном) достаточно однородна,
компактна, но теоретическое содержание столь разносторонне, что их
подробный анализ здесь невозможен.
К тематике «эффекта Матфея» относится прежде всего следующее
резюме к работам Закерман, которое дает ее учитель Мертон: «Начнем с
той темы, которая пронизывает все многочасовые интервью Харриет
Закерман с лауреатами Нобелевской премии, записанные в начале 60-х гг.
В этих интервью неоднократно повторяется мысль, что знаменитым
ученым воздаются несоразмерно большие почести за их вклад в науку, тогда
как заслуги относительно мало известных ученых часто оцениваются
несоразмерно низко, хотя вклад их нередко бывает сопоставимым...».
Так думают, отмечает Мертон, не только лауреаты Нобелевской
премии — и ссылается на работы другого своего ученика и
последователя, У. Хэгстрома, который зафиксировал то же мнение, но уже в среде не
имеющих громкого имени ученых, которые, естественно, воспринимают
подобные формы признаний, типичные для науки, как несправедливость.
Правда, Мертон подчеркивает особую значимость суждений тех, кто
получил «наивысшее признание современников — Нобелевскую премию»:
они выступают при этом не как обиженные жертвы, а как увенчанные
лаврами «бенефицианты», и подтверждение ими действенности
«эффекта Матфея» в сфере признания научных заслуг дорогого стоит. Можно
согласиться с Мертоном: дело ведь не только в благородстве
нобелевских лауреатов (хотя и в нем тоже), а в том, что нобелевская, как и
другие премии в науке — это «вознаграждение» тем, кто (за очень редкими
1 См. библиографию ее работ к статье «Э. М. II» / / Thesis, 1993. Вып. 3. С. 276.
Обобщение этих исследований содержится в книге: Zuckerman H. Scientific elite: Nobel lauréats
in the United States. N.Y., 1977.
13*
196 •
Раздел HI
исключениями) уже находится как бы на вершине пирамиды
увенчанного признанием научного труда, а не тем, кто трудится у ее основания.
Мертон приводит и другие примеры и доказательства (кстати, эти
части его статьи выпущены в русском переводе). Например,
рассказывается о том, сколь несправедливо оценивались и цитировались
совместные работы двух авторов из сферы биологических наук: более известный
соавтор (Р. Левонтин) воспринимался как «главный член группы», а
менее известный (Дж. Хабби) — как чисто вспомогательный исполнитель,
хотя на деле оба внесли по крайней мере равный вклад в исследование.
Об этом, кстати, сообщили сами Левонтин и Хабби — с прямой ссылкой
на мертоновский «эффект Матфея» (M. Е. II, Р. 608).
В следующем небольшом подразделе, который называется «The
accumulation of advantage and disadvantage for scientists», Мертон
описывает основные проявления неравномерностей, неравенства в
распределении преимуществ. (Кстати, в русском переводе заголовка
«Накопление преимуществ в среде ученых» — выпущено трудное для
передачи на русском языке подчеркнутое мною курсивом очень важное слово
«disadvantange».) Ибо Мертон считает: на одном полюсе, т. е. среди
известных, так или иначе «облагодетельствованных» ученых,
накапливается то, что именуется «преимуществами» (количество публикаций, размер
вознаграждений, степени и звания, премии и т. д.), тогда как на другом
полюсе тоже идет своего рода аккумуляция, но только «disadvantages»,
т. е. отсутствия или сугубой малости таких преимуществ и отличий.
Но еще до этого Мертон кратко упоминает об истории исследований
проблемы такого «социального расслоения» в науке (с явной, хотя и
побочной целью не допустить в данной исследовательской области какой
бы то ни было несправедливости в отношении своих ближайших
последователей, т. е. как раз не поддаться «эффекту Матфея»). Вехи
коллективного исследования таковы. 1. Первый интерес к проблеме со
стороны Мертона был проявлен еще в начале 40-х гг.; но для того времени еще
характерна неясность этого «прото-понятия» (Э. М. С. 259) и
невостребованность соответствующих размышлений. 2. Более глубокое
исследование процесса накопления преимуществ «началось в конце 60-х гг.
с созданием исследовательской группы в Колумбийском университете, в
которую вошли четыре человека — X. Закерман, Ст. Коул, Дж. Коул и я
сам...»(Э.М.С259)1.
1 Считаю необходимым запечатлеть здесь — кроме ранее названных — совокупность
имен, которые Роберт Мертон, замечательный глава прекрасной школы, в этой (в
известном смысле) итоговой статье 1988 г. причислил к своему «невидимому колледжу» (так его
раньше других назвал Д.С. Прайс): Paul D. Allison, Bernard Barber, Stephen I. Bensman,
Judith Blau, Walter Broughton, Daryl E. Chubin, Dale Dannefer, Simon Dunkan, Mery Frank
Fox, Eugen Garfield, Jerry Gaston, Jack A. Goldstone, Warren O. Hagstrom, Lowell L. Hagens,
Karrin K. Knorr, Ted Krawze, I. Scott'Long, Robert Mc Qinnis, Volker Mega, Roland
Mettermeier, Edgar W. Mills, Jr., Nicolas С Mullins, Barbara Reskin, Leonard Rubin, Dean K.
Somonton, Nico Stehr, John A. Steward, Norman W. Storer, Stephen P. Turner, Herbert I.
Walber (The Math. Eff., P. 611. В русском переводе этот перечень имен отсутствует).
Отечественные и зарубежные исследования... * 197
A propos: в контексте обсуждения эффекта Матфея Мертон
исправляет некоторую несправедливость в отношении своей ученицы (потом
близкого друга) X. Закерман: «Сегодня [в 1973 г.] я с опозданием
понимаю, что я настолько широко использовал интервью и другие материалы
исследования Закерман, что работу, конечно, следовало опубликовать
как работу двух авторов» (Э. М. С. 257).
Из множества исследований, которые для Мертона убедительно
засвидетельствовали факт неравномерного накопления преимуществ или
их отсутствия (disadvantiges), т. е. воздействие «эффекта» Матфея на
научную деятельность, упомянуты следующие:
• Неравномерность по числу публикаций (говорится о том, что
результаты тех обладающих научной степенью ученых, которые за всю
жизнь опубликовали одну работу или вообще не имели печатных трудов,
контрастируют с большим числом публикаций других ученых, и
особенно таких «чемпионов», как, скажем, математик Артур Кэли, который
публиковал по статье в каждые пару недель и к концу жизни накопил почти
тысячу работ).
• Неравномерность распределения публикаций была много раньше
зафиксирована А. Лоткой (1926), а потом и Д.С. Прайсом (1966): «во
многих научных дисциплинах примерно половина публикаций
приходится на 5-6 % ученых» (Э. М. С. 260 — проценты взяты не от общего числа
ученых, а только от тех, кто имеет печатные работы).
• Неравномерность цитирования произведений тех или ученых в
работах коллег. Мертон ссылается на литературу по индексам
цитирования, в частности и особенности, на результаты, полученные Е. Гарфиль-
дом, тоже членом его «невидимого колледжа».
• При этом с прямой привязкой к работам об эффекте Матфея
Мертон обращается к исследованиям выборки американских физиков,
осуществленным в 1970 г. его учеником Ст. Коулом, который обнаружил
(по словам Мертона): «чем выше научная репутация автора, тем более
вероятно, что среди других статей одинакового качества (оцениваемого
по числу позднейших ссылок на эти статьи) его статьи получат быстрое
признание в научных кругах (измеряемое по количеству ссылок на эти
статьи в течение первого года после публикации). Прежние заслуги
авторов в определенной мере ускоряют распространение их последующих
результатов» (Э. М. С. 262).
• Неравномерное распределение «ресурсов и отдачи», отмечает
Мертон, имеет место «и в мире научных учреждений» (делается ссылка
на новые и новейшие в 80-х гг. статистические данные).
• Неравенство в сфере доступа молодых ученых в институты
образования и науки связано, как прямо пишет Мертон, с
принадлежностью «к различным классам и социальным группам» (Э. М. С. 264). И вот
общий вывод: «...многие из [вероятно] более многочисленных одаренных
выходцев из бедных семей, по-видимому, навсегда оказываются
потерянными для науки» (Там же). Речь идет, по Мертону, [скорее] не о злой воле
198 •
Раздел III
тех, кто руководит системой образования и наукой, а о «непредвиденных,
непреднамеренных» — латентных — социальных проблемах и
последствиях. Впрочем, можно добавить, что при глубоком проникновении
коррупции в упомянутые органы «злая воля» всех «привратников», их
абсурдное или непрофессиональное вмешательство иногда могут оказывать и
очень сильное, заведомо неблагоприятное воздействие на сами
возможности проникновения молодых талантов в сферы образования и науки.
В многочисленных ссылках к статье Мертон, в подтверждение всего
им сказанного, отзывается на работы членов своего невидимого
колледжа и на исследования ученых других направлений — лучшего
перечисления авторов по данной проблематике просто не придумаешь. И вот этот
факт, заметим кстати, делает эффект Матфея не таким уж всесильным.
В целом же Мертон привел достаточно доказательств в пользу того,
что в науке (мы увидим далее, что имеется сходство с другими
общественными сферами и процессами) «накопление преимуществ» подчиняется
эффекту Матфея. Иными словами, по Мертону, считается доказанным:
к тем ученым, которые на прежних стадиях своего развития получили
какие-то заметные отличия, преимущества (advantages) в науке, на
последующих этапах как магнитом притягиваются такие же или большие
преимущества, как и наоборот — не получившие в данный момент таких
преимуществ, отличий, хотя подчас вполне заслуживающие их, скорее
всего, не получат их по крайней мере в ближайшем будущем.
С явными «бенефициантами» разных уровней дело представляется
ясным, и картина подкрепляется не только изысканиями в социологии,
наукометрии и т. д., но и личным опытом тех, кто в науке работает. А вот
дело с «отсутствием преимуществ» выглядит не таким ясным и
очевидным, ибо существует и феномен позднего развития ученых, значит, и
позднего признания. Мертон данный феномен достаточно подробно
обсуждает (Э. М. С. 262, 263 и далее). В эту и иную конкретику статьи мы
здесь входить не можем.
К проблеме интеллектуальной собственности в науке
Перейду теперь к последнему разделу статьи Мертона, которая
называется «Символизм интеллектуальной собственности в науке». За
этим «пока» не очень непонятным названием скрывается ряд
существенных для социологии науки изысканий и концептуальных проблем.
1. Прежде всего это проблема особого характера собственности
(соответственно, богатства, дохода и т. д.) применительно к научно-
исследовательскому труду. Или вопрос, как его фигурально, образно
поставил Мертон еще в 1957 г.: каково отличие той «монеты», вернее,
тех «монет», которые имеют хождение в науке?
Далее Мертон последовательно располагает, ранжирует те
различные формы признания достижений, открытий в науке, которые
маркируются именами ученых-первооткрывателей, двигаясь от вершины
Отечественные и зарубежные исследования... * 199
своеобразной пирамиды признания к ее основанию. Для Мертона это
одновременно и проблема специфического распределения
«собственности» в науке — собственности на ту общую «субстанцию» знаний, о
которой говорилось в начале статьи, символического, а не буквального
закрепления ее за поименованными создателями «общего» научного
богатства.
1. а) Сначала речь идет о «монетах» самого высокого достоинства.
«Самая дорогая и редкая — это то высокое признание, символом
которого является присвоение имени ученого целой научной эпохе — так,
например, мы говорим об эпохах Ньютона, Дарвина, Фрейда, Кейнса»
(Э. М. II С. 296). Впрочем, такое «присвоение» происходит, как правило,
после смерти обладателей имен...
б) Далее следует планка более низкая, но все же близкая к
вершине — Нобелевская премия. «Другие формы и эшелоны «эпономии» (или
«ономастики», в другом словоупотреблении), т. е. присвоения имени
ученого сделанному им открытию или отдельному аспекту этого
открытия, включают тысячи законов, теорий, теорем, гипотез и констант,
носящих имя их создателей» (Э. М. С. 269) (далее следуют примеры).
в) Другие градации, более «мелкие», как говорит Мертон —
присуждение разнообразных специальных премий, медалей, грамот,
избрание почетными членами разнообразных обществ, почетными докторами
университетов и т. д. И «наконец, самая распространенная и базовая по
существу форма признания ученого — использование другими учеными
его трудов и открытое признание его авторства» (Там же).
2. Чрезвычайно важной чертой разбираемой работы, позволяющей
причислить ее к лучшим произведениям Мертона и всей социологии
науки, является увязывание богатого конкретного материала с самыми
фундаментальными теоретическими вопросами этой дисциплины, и не
только ее.
а) Прежде всего, это увязывание, соотнесение с нормой
«коммунизма» (упомянуто о «более нейтральном» термине «коммунальность»,
предложенном Б. Барбером). В работе 1988 года, когда ушли в прошлое
времена маккартизма, Мертон смог более спокойно и объективно
пояснить, почему он избрал именно термин «коммунизм», упомянув (в духе
«ономастики») имя Карла Маркса. При этом основатель социологии
науки даже подчеркнул первородство науки в деле утверждения
«идеальных» принципов коммунизма. «На самом деле еще задолго до того, как
в XIX в. Карл Маркс сформулировал лозунг идеального
коммунистического общества — «от каждого по способностям, каждому по
потребностям» — этот лозунг уже являлся институционализированной
практикой в системе научных связей. И дело здесь не в человеческой природе
или естественном альтруизме. В науке сложилось институциональное
устройство, призванное мотивировать ученых добровольно вносить свой
вклад в общее богатство знаний в соответствии со своими [специально]
развиваемыми способностями и также позволяющее свободно черпать
200 •
Раздел III
из этой общей копилки все, в чем у них возникает потребность. Более
того, поскольку фонд знаний не исчерпывается из-за весьма
интенсивного использования членами научной общественности (collectivity) — на
деле он предположительно возрастает, поскольку это виртуальное
бесплатное и общее благо не подвержено тому, что Г. Харден назвал
трагедией всего общего (of the commons) (когда общий ресурс разрушается и
уничтожается в ходе индивидуально-рациональной и
коллективно-иррациональной его эксплуатации)» (М. Е. II. Р. 620; перевод исправлен. —
H. М). Полагая теоретически ценным этот мертоновский экскурс,
считаю, что для теории норм и для социологи науки данный пункт, в самом
деле, имел фундаментальное значение и мог бы стать (однако не стал)
точкой роста и движения к более глубокой концепции.
б) От столь общего утверждения (оставленного, однако, без
углубленной проработки) Мертон переходит к ранее высказанному тезису о
базовом значении признания со стороны коллег, называя таковое
признание формой внешнего вознаграждения в науке и отличая ее от
внутреннего удовлетворения ученого проделанной им творческой работой,
которое тоже определено как «мощный стимул» к ревностному,
напряженному труду.
3. Переходя к теме норм и стимулов научной деятельности, Мертон
развивает вот какой важный ее аспект. Нормы науки в целом
фактически ставят в центр научно-исследовательской деятельности публикации
и другие формы сообщения, т. е. добровольной отдачи добытых
результатов в копилку общенаучной собственности, при условии
предварительного свободного доступа к ней любого ученого — что также
регулируется всей совокупностью норм (здесь, по сути, идет дальнейшее
прояснение норм, больше всего — нормы «коммунизма»). А раз это так,
то в специфической деятельности по созданию и освоению публикаций
тоже требуется соблюдать дополнительные и специфические
поощряющие, а также запрещающие нормы.
В свете подобных общетеоретических предпосылок понятны
замечания Мертона о том, что такие подчиненные, специфицирующие нормы,
как запрет на плагиат, правила цитирования и т. д. все-таки относятся
к существенным нормативным конкретизациям научного труда. Они
потому и приобретают в науке институционализированный характер,
что все «это вовсе не мелочь» (в оригинале: «is not a trivial matter»),
хотя иные ученые считают подобные требования «досадной помехой».
Дополняя идею Мертона, можно было бы отметить, что тип оснований
и мотивов у тех ученых, которые оценивают все такие требования как
«мелочи», «досадные помехи», различен. Встречаются крупные,
продуктивные исследователи, следящие за литературой, но не отличающиеся
аккуратностью в оформлении ссылок на другие публикации, особенно
при создании «собственных», оригинальных теорий. Но большинство
работ, лишенных видимой связи с литературой, все же отражают факт
оторванности данного автора от основного массива исследований в его
Отечественные и зарубежные исследования...
•201
области (причины чего могут быть различными: индивидуальными —
небрежность, леность, нередко сопряженные с высокомерием, незнание
иностранных языков и т. д. или социальными — скажем, изоляция
ученых целой страны за «железным занавесом»).
Что касается Мертона, то его формулы в данном случае категоричны:
«...ссылки и сноски, — пишет он, — являются главным элементом
системы стимулирования научного труда и лежащих в ее основе
представлений о справедливом распределении, которые во многом способствуют
ускорению научного прогресса» (Э. М. С. 271). Кстати, сам Мертон как
ученый может служить своего рода образцом выполнения этих
дополнительных правил, которым он, как мы видим, приписывает весьма
значительную роль не просто в обеспечении эффективного развития науки, но
и в поддержании в сфере научного труда таких высоких ценностей, как
справедливость. Но не преувеличивает ли Мертон (вместе со многими
другими коллегами по социологи науки, наукометрии и т. д.) значимость
этих элементов научной деятельности, которые не просто часто, но чаще
всего оцениваются как нечто второстепенное по сравнению с
добыванием научной истины, как то, чем вполне можно пренебречь?
Главный аргумент Мертона в их пользу — это апелляция как
раз к коренным функциям науки, во имя выполнения которых следует
ориентироваться также на эти (и другие) дополнительные нормы,
регулирующие процессы признания, оценок вклада отдельных научных
коллективов в «общую копилку» науки вообще и ее отдельных дисциплин в
частности. Вот принципиальный постулат Мертона: «Как часть системы
интеллектуальной собственности в науке и сфере обучения (scholarship),
ссылки и сноски выполняют два типа функций: инструментальные
когнитивные и институционально-символические функции. Функции первого
типа заключаются в отсылке читателей к источникам знаний, к которым
автор припадал в своей работе. Это позволяет читателям
исследовательского склада, если им будет угодно, самостоятельно оценить притязания
знаний (идей и выводов) цитированных источников, оценить другие
материалы данных источников, которые не были использованы в цитатах,
отсылках промежуточных публикаций...» (М. Е. П. Р. 621, русский
перевод исправлен).
4. В контексте разбора этой темы Мертон вновь и вновь ставит
заявленную проблему особого характера собственности в науке.
Здесь приводятся знаменитые слова, то ли принадлежащие
Ньютону, то ли повторенные им (из письма Гуку): «Если я и видел дальше,
то лишь потому, что стоял на плечах гигантов». Мертон пользуется ими
для того, чтобы, во-первых, сформулировать здесь общий теоретический
постулат о специфическом характере научного труда и о собственности
в науке; во-вторых, чтобы показать, что из этого характера как раз и
вытекают (так или иначе осознанные) соответствующие нормы; в-третьих,
чтобы подчеркнуть, что наука как институт закрепляет, именно
институционализирует такие нормативные принципы; в-четвертых, создает и
202 •
Раздел III
увековечивает для кого-то «мелкие», не слишком значимые формы —
такие, как статус книги, научной статьи или «институт» ссылок и сносок
и т. д.; в-пятых, чтобы провести конкретные исторические исследования,
показывающие, когда именно, в каких странах и в деятельности каких
исторических фигур все это впервые приобретает отчетливое выражение.
«Этот исторически сложившийся кодекс взаимно дополняющих
друг друга ролевых обязательств пустил глубокие институциональные
корни. Комбинированная система когнитивных и этических норм
требует систематического использования ссылок и цитат». И если кто-то
возразит, что эта пусть и неплохая, но идеальная норма отнюдь не всегда
выполняется, у Мертона есть свой ответ: «Серьезность и важность
морального обязательства давать ссылку на первоисточник, как и любой
другой этической нормы в обществе, особенно наглядно проявляется
тогда, когда эта норма нарушается (и факт нарушения сомнений не
вызывает)» («Э. М. С. 272; курсив мой. — H. М.). Тут снова поднимается
вопрос о плагиате и других нарушениях норм. Мертон оговаривает, что
не может ввести в данную статью весь имеющийся материал (отсылая
читателей к своим работам 1968, 1979 гг. и к сочинениям известного
специалиста по проблеме цитирования, цитатного индекса Э. Гарфильда,
испытавшего, как мы показали ранее, немалое влияние школы Мертона).
Существенное дополнение к прежним исследованиям Мертона
(скажем, о приоритете и т. д.) вытекает из определения высокого, притом
институционального значения описанных основных и
дополнительных нормативных факторов. «Если мы поймем, что единственный
способ установить право собственности ученого на сделанное им
открытие традиционно заключается в признании этого права научной
общественностью и в вытекающем из этого признания уважении коллег,
мы сможем лучше понять, почему ученые так стремятся быть первыми и
утвердить приоритет. Тогда это стремление предстает как «нормальная»
реакция на институционализированную систему ценностей. Привычка
судить об истинной ценности своей работы по компетентным оценкам
других и та кажущаяся аномалия, что даже в капиталистическом
обществе ученые публикуют свои работы, не получая за это никакого
вознаграждения — во всяком случае непосредственного, — способствовали
росту коллективных знаний...» («Э. М. С. 274; курсив мой. — H. М.).
Мертон правильно подчеркивает, что наука как социальный институт,
(я добавлю — как сфера культуры и важнейшая институция
человеческой цивилизации), создает неплохую в принципе — потому и
работающую веками — «систему социальных стимулов», в целом
обеспечивающих не расхищение, а обогащение, разрастание богатейшей копилки
научных знаний, их применение на практике. (Сбои в этой системе,
многочисленные трудности не только не отменяют, а еще и оттеняют
грандиозность результата.)
Достаточно краткая характеристика работы Мертона «Эффект
Матфея II» заканчивается. Моя высокая ее оценка содержится внутри данно-
Отечественные и зарубежные исследования...
•203
го раздела и вытекает из всего сказанного. Ее прекрасная прилаженность
ко всему массиву исследований и публикаций Мертона, его школы, как и
работ авторов из других школ и дисциплин, тоже не вызывает сомнения
(и это тоже было хотя бы кратко прочерчено в нашем анализе). Но у меня
есть к ней критические замечания, дополнения и сомнения.
Прежде чем сформулировать свои главные сомнения и
возражения по поводу ранее проанализированной работы Мертона и его
учеников, предоставлю слово тем, кто сделал такие возражения значительно
раньше меня. Такая критика, например, была аккумулирована в начале
80-х гг. нашим выдающимся ученым М.К. Петровым в его книге
«Предмет социологии науки»1.
М.Петров в свою очередь опирается на критический анализ
Дж.А. Голдстоуна (его имя сам Мертон упоминает среди ученых,
причисляемых к «невидимому колледжу», работавшему в том же, «мертоновс-
ком», направлении), который тот дал в статье «Дедуктивное объяснение
«эффекта Матфея» в науке» (статья 1979 г.; следует учесть: и Голдстоун,
и Петров в упомянутых публикациях работают с кратким мертоновским
текстом «Эффект Матфея I», 1968 г., ибо разобранная мною пространная
статья «Эффект Матфея II», опубликованная, напомню, в 1988 г., тогда,
естественно, не существовала).
Голдстоун прежде всего обнаруживает в рассуждениях Мертона
логическую ошибку: на основе только вероятных утверждений
делается вывод о непропорционально высокой доле престижа и наград,
получаемой учеными высокого ранга. «Такой подход, по Голдстоуну, не
отражает степень общности эффекта Матфея и не определяет область его
действия», — пишет М. Петров2. Далее Петров показывает, что
Голдстоун не ставит своей целью отвержение идеи о существовании «эффекта
Матфея», а скорее стремится исправить серьезные неточности в его
описании, обосновании и восприятии у Мертона. Сам Голдстоун
выстраивает довольно подробную и сложную систему предварительных посылок,
шагов дедукции, которую мы не можем воспроизводить здесь в деталях3.
Петров приводит в качестве генерализирующего вывода следующие
слова Голдстоуна: «Из общих утверждений о деятельности мы
вправе дедуцировать, что индивиды в поиске наград в форме деятельности
других индивидов обнаруживают тенденцию фокусировать свое
внимание на тех индивидах, которые уже зарекомендовали себя в качестве
исполнителей награждаемой деятельности; таким образом, мы вправе
1 См.: Петров М.К. Философские проблемы «науки о науке». Предмет социологии
науки. М., 2006. С. 544 и далее. Следующие далее части моего текста прошу воспринимать
как (частный) пролог к последующему анализу (в виде специального Case Study) вклада
этого нашего соотечественника в социологию науки.
2 Петров М.у op. cit. С. 544.
3 Отсылаем заинтересованного читателя к работе: Goldstone LA. A deductive
exploration of the Mattheaw effect in science: An international comparative study / / Zeitschrift
für Soziologie. Bd. 8. 1979. S. 28-49, а также к используемому здесь тексту М. Петрова.
204 •
Раздел III
ожидать, что хорошо зарекомендовавшие себя исполнители будут
привлекать диспропорционально большое внимание и там, где внимание
ведет к наградам, — получать диспропорционально большую долю наград
по сравнению со столь же талантливыми индивидами, которые пока не
приобрели репутацию высоко вознаграждаемых исполнителей» (Цитир.
по: Петров М. Указ. соч. С. 549). Петров приводит также цитаты,
свидетельствующие о том, что и в других областях деятельности, где часто
высказываются и имеют значение оценки других людей (литература,
искусство, спорт и т. п.), имеет место тот же эффект, так что он становится
«универсалией человеческой деятельности как таковой» (Там же).
Вместе с тем Петров, хоть и признавая некоторую оправданность
такой генерализации, отмечает, что она, во-первых, остается смутной,
непроясненной, а во-вторых, совсем не обязательна для социологии науки,
ибо размывает границы этой специфической дисциплины. Я же со своей
стороны скажу, что — при некоторой обоснованности реплики М.
Петрова — социология науки не может не восходить в такие области
генерализаций, не обращаться к «универсалиям», регистрирующим всеобщие
механизмы человеческой деятельности как таковой, в специфическом
виде «работающим» и в сфере научно-исследовательского труда.
Свое суммарное суждение об «эффекте Матфея» и его
исследованиях я выражу в следующих основных пунктах (где лишь из
стилистических соображений не повторяется «по моему мнению»...).
• «Эффект Матфея» можно считать одной из закономерных структур,
характеризующих поведение отдельных ученых, их коммуникацию и
взаимодействие в рамках института науки. В этом смысле некоторые тезисы
Мертона и его учеников верны и доказательны.
• При этом в статье «Эффект Матфея II» правильно подчеркнуто:
описываемая закономерность фиксирует характер накопления,
аккумуляции того, что названо «преимуществами» (advantages) — иными
словами, признания, присвоения особых отличий и т. д. То, что когда-то
выделенным, особо отмеченным ученым достаются впоследствии такие же
или большие «знаки внимания», свидетельствующие именно о
состоявшемся признании внутри самой науки и в обществе (самими учеными, их
гремиумами, советами, комиссиями и общественными структурами типа
Нобелевского комитета) — факт вообще-то тривиальный. Он говорит о
том, что «самыми известными» впоследствии оказываются довольно
известные люди. И чем выше ступенька признания, тем очевиднее
работает эта закономерность (верно, что она действует не только в науке, но и
во всех других областях, где самые большие отличия, имеющиеся в
обществе, как правило — исключения бывают, но они редки — достаются
людям, которые были отличены ранее). Например, Нобелевские премии,
без сомнения, присуждаются тем, кто и так находится на вершинах
научного (или литературного) признания: ведь выбор осуществляется
среди представителей уже признанной научной элиты. В случае других
знаков «избранности» (академических, почетных званий, медалей, дру-
Отечественные и зарубежные исследования... • 205
гих премий) — даже когда они специально выделяются для более
молодых или совсем молодых ученых — дело обстоит подобным же образом:
чтобы пройти через следующий, более «высокий» барьер отбора, ученый
должен предварительно преодолеть другие барьеры, что тоже возможно
благодаря хотя бы начальному признанию. Итак, речь идет, скорее всего,
о фактическом положении вещей.
Однако то, что социология науки Мертона акцентировала значение
факта, представила дополнительные доказательства
конкретно-социологического характера, а главное, связала его с нормами, со спецификой
собственности в науке, с ее больными проблемами — большая и в
целом также признанная заслуга этой научной школы. Мертон и мертонов-
цы поставили вопрос о ценностном осмыслении факта, причем главной
здесь стала ценность справедливости, примененная к научной
жизнедеятельности. Не является ли действие закономерности, описанной в
качестве «эффекта Матфея», проявлением того, что в науке, притом у
самых ее вершин, господствуют несправедливость,
диспропорциональность? Вот вопрос, который остро поставили социологи мертоновской
школы. Они предпочли зафиксировать признаки несправедливости,
непропорциональности, элитарности, причем проявленные по отношению
к тем группам ученых, которые по идее должны быть резервом,
надеждой, будущим науки. Более того, были зафиксированы приметы
социального расслоения, неравенства, которые проистекают не от отсутствия
таланта, усердия, добросовестности, а от других причин. И здесь, в таких
констатациях, подтвержденных, вспомним, конкретными
социологическими исследованиями, проявились честность, смелость, социальная
зрелость Мертона и близких к нему ученых. Однако на ситуацию с
эффектом Матфея можно посмотреть и несколько иначе.
Начать можно с того, что полной справедливости, как известно,
нет и быть не может и что данная диспропорциональность — никак не
большая, нежели в других социальных сферах. А в условиях
современной цивилизации разрыв в таких позициях признания, которые
выражаются в материальных показателях (деньги, доходы и т. д.), между
группами ученых (если они не дельцы от науки) несравненно меньше, чем
в других областях жизнедеятельности людей. И еще одно: надеяться на
«равенство», и в этом смысле «справедливость», в науке — где многое
решают талант, одаренность, даже гениальность, которые, как известно,
«распределяются» между людьми далеко не поровну, — так вот,
надеяться на все это вообще нереалистично, а в науке даже дисфункционально.
Самые различные перекосы, ошибки в признании — поскольку решения
принимают конкретные, живые люди, не свободные от предубеждений,
недостатка информации и т. д. — возможны и время от времени имеют
место по всему миру. Но ведь как раз в науке высокие достижения
нередко говорят сами за себя и в солидном большинстве случаев все же
пролагают себе дорогу, рано ли, поздно ли признаются, высоко
оцениваются (в том числе премируются — в случае наиболее известных премий,
206 •
Раздел III
потому и называемых «высшими» и «престижными»). А значит, в этом
смысле в науке есть своя справедливость.
Другое дело, что, как правило, и в этих случаях делается выбор
среди равных, из которых все же приходится выбирать «более равных»,
«самых равных», а это может расцениваться (и переживаться вполне
достойными «менее равными») как несправедливость,
диспропорциональность в распределении отличий, т. е. преимуществ.
• Еще резче диспропорциональность, соответственно,
несправедливость проявляются в тех условиях и случаях, когда распределение
отличий, преимуществ внешне, формально обставлено вполне прилично,
а по существу определяется не рангом действительных научных заслуг,
а посторонними науке соображениями (идеологическими, расовыми,
националистическими, коррупционно-мафиозными и т. д.).
Проявляется ли в науке слишком большая (истинно
диспропорциональная) и явная несправедливость? Сомнительно. Представьте себе:
из равнодостойных ученых А, В, С высшего отличия удостоен А, и это
расценивается учеными В, С (и их почитателями) как несправедливость.
Но если бы выбрали В или С, обиделись бы обделенные и т. д. Еще одно:
ведь ученые, в конце концов восходящие к вершинам признания,
известности, в какое-то время были начинающими и безвестными. И возможно,
они уже тогда объективно значили в науке больше, чем иные увенчанные
лаврами коллеги. Динамика признания вместе с ростом (научных)
заслуг — дело обычное и в науке, и вне ее. Вряд ли тут есть именно
социальная несправедливость, вопиющая диспропорциональность.
Ряд свидетельств если не идеальности, то «нормальности»
положения с «высшим» признанием именно в науке представили ...сам Мертон,
а также и социологи его школы. Это прежде всего связано с идеально-
символическим характером признания в науке (как, впрочем, и в других
областях духовно-интеллектуальной, творческой деятельности). Под
идеально-символическим характером признания здесь понимается
(и за ним скрывается) то, что «заимствованные» тем или иным ученым из
«общей копилки», из общей «субстанции» науки знания, идей, методы,
концепции: 1) остаются в сокровищнице навечно и доступны еще и всем
другим (без заведомых ограничений) индивидам, которые захотят и
смогут ими воспользоваться; 2) это идеальное заимствование становится
основой дальнейшего наращивания знаний, т. е. увеличения, разрастания
упомянутой «субстанции»; 3) что служит закреплению высокого статуса
проверенного знания, а в отдельных случаях — отбрасывания лже-ис-
тин, лже-теорий; и это также плодотворно, ибо правильно считается, что
в подлинной сокровищнице знаний, как и во всякой сокровищнице, не
место подделкам.
Поскольку реальным субъектом, агентом познания вообще,
научного познания в частности, всегда является конкретный индивид, то за
многие века, тысячелетия добывания знаний выработались — ив науке,
возможно, более эффективно, чем в других сферах — способы стимули-
Отечественные и зарубежные исследования...
•207
рования индивидуальной деятельности, закрепления, учета вклада того
или иного индивида. Совершенно согласна с Мертоном в том, что он
выдвигает на первый план такие моменты, как признание другими людьми
вклада «этого» индивида (или «этих» групп индивидов, если
результаты их работы непосредственно коллективны), хотя другим людям такие
критерии могут представляться как призрачные, шаткие,
субъективированные. Поддерживаю и то, что Мертон акцентирует такие, казалось бы,
«незначительные», «второстепенные» моменты, как публикации,
ссылки, сноски, цитирование и т. д.
Сказанное не значит, что я питаю иллюзию относительно господства
этих и подобных идеальных стимулов «чисто символического» участия
в распределении «собственности» науки в реальном поведении ученых
и действительном функционировании института науки. Или что я не
вижу погони за материальными благами разного рода (что часто связано
с различными формами признания, почему их порою ревностно
добиваются), игры страстей, амбиций, самолюбий, отнюдь не мирного
«соревнования» враждующих клик в науке — и многого другого, на что конкретно
и предметно обращали и обращают внимание и историки науки, и
социологи, и психологи, и другие специалисты, исследующие науку. Согласна,
подчас даже выдающиеся ученые не демонстрируют этически
достойного поведения; бывает, что они нарушают нормы научного «этоса». К тому
же внутри науки как совокупного социального института работает
множество людей, которые вообще не имеют отношения к продуктивному,
многотрудному научному поиску, однако бывают увенчаны — именно
несправедливо, именно диспропорционально в сравнении с
подлинными учеными — высокими «научными» степенями, званиями, премиями,
лаврами.
Все так, однако... Однако есть правда в рассуждениях Мертона и
мертоновцев, ставящих на вершину «advantages» в науке именно
идеальные факторы действительного признания, прежде всего со
стороны научного сообщества, а иногда и страны, нации, человечества. Есть
«справедливость» в развитии истории духа, культуры — и состоит она
в том, что наука как институт, как «сумма» различных, то более, то
менее взаимосвязанных сообществ имеет своего рода невидимый «храм
науки» — то виртуальное, однако, постоянно находимое, «посещаемое»
место, где «хранятся» (через разные механизмы «памяти
человечества») научные знания. И как сказано, они постоянно берутся на пробу,
используются и обогащенными возвращаются в общую копилку научных
достижений. Допуск туда вообще-то непрост, но он и не бывает заведомо
закрытым для кого бы то ни было — в том числе и для тех, кто посещает
его в конечном счете всуе, не будучи в состоянии ни взять оттуда что-то
существенное, ни тем более внести вклад в виде единственной «монеты»,
там свободно принимаемой — нового так или иначе подтвержденного
знания, всегда специализированного и однако всеобщего по своей
значимости. От тех, кто входит в этот храм, многое требуется — но им и что-то
208 •
Раздел III
прощается из их, возможно, не лучших личных качеств. Потому что в
самом «храме», если человек сподобился войти, вернее, входить туда по
делу, никого — в том числе себя — обмануть не удается.
В таком «святом», конечно, условном, идеальном, виртуальном, но
и «действительно существующем» месте науки дело идет, во-первых,
о диалоге ученого с «самой сутью дела», и все постороннее,
несущественное именно для данной цели (пол, возраст, национальность,
происхождение и т. д.) естественным образом редуцируется. Во-вторых, имеет
место диалог с теми другими учеными, которые способны «вопрошать
суть дела» — и делиться полученными ответами и решениями. В
процессе второго диалога (или после него, в сообщениях о сделанном) учеными
делаются ремарки типа: «я исхожу из законов, открытых Ньютоном,
Эйнштейном» — или «я не согласен с ними в том-то и том-то», причем могут
упоминаться и великие имена прошлого, и имена современников,
соответственно публикации, формулы, расчеты и т. д. Вот эти (для кого-то
чисто субъективные, второстепенные) «ремарки» Мертон и считает
высшей формой признания в науке, а для каждого отдельного индивида
здесь фактически — способ быть действительно причисленными к
когорте ученых-исследователей. «Высший суд» в науке все-таки существует, и
его в конечном счете осуществляет история науки, но ведь не как что-то
безличное, а как постоянно объективирующиеся и проверяемые другими
суждения, оценки научного сообщества. Пока такой суд работал
исправно и достаточно объективно, хотя, конечно, допускались и допускаются
в отдельных случаях те или иные несправедливости. Но вот именно
последние, прав Мертон, бывают более впечатляющими, чем «чистые»
нормы и законы. Что уже «находящиеся в храме науки» (виртуально
находящиеся) могут ошибаться или упоминать в своих публикациях заведомо
не достойных того людей, что печально знаменитый и так характерный
для современной жизни «закон тусовки» тоже действует, едва ученые
выходят из своего «храма» и нередко сбиваются в кланы, клики, — тоже
факт. Но ведь во время научного, т. е. доказательного исследования,
перед лицом других коллег, способных твою «ссылку» проверить,
неправедное дело оказывается объективно нелегким, да и субъективно
накладным. Ибо есть еще, как говорил по другому поводу Кант, приговоры той
удивительной способности в нас, которая называется совестью...
Но с Мертоном и его коллегами нельзя не согласиться, когда они
фиксируют в сфере признания — т. е., собственно до, после, вне
исследования, уже не в храме исследований, а в примыкающих «зданиях», а
особенно в их «коридорах» — немало проявлений, даже типичных
механизмов несправедливости, диспропорций, расслоения.
В самом деле, есть множество простых фактов: удовлетворение,
радость по поводу признания уважаемых коллег-профессионалов,
особенно признания интернационального, или, наоборот, огорчения от того, что
твоими усилиями, определенными (кем-то все же признанными)
результатами коллеги пренебрегают в силу каких-то сложившихся, как тебе
подчас кажется, «тусовочных», т. е. несправедливых традиций; обида —
Отечественные и зарубежные исследования...
•209
особенно на закате жизни или в начале творческого пути — от того, что
твоя постоянная упорная и добросовестная работа как бы не замечается,
а «информационный шум» идет вокруг имен коллег, не умеющих или
давно переставших работать в науке; досадное засилие в сфере признания
ученых центра — с пренебрежением к не менее достойным коллегам из
провинции; обида «за державу», когда из системы интернационального
признания просто в силу существования языковых, политических и иных
барьеров «выпадает» отечественная наука — это и многое другое говорит
о правоте тех авторов, которые, подобно Мертону, как раз и
подчеркивали никакими материально-престижными отличиями не восполняемую,
не отменяемую первостепенную важность идеального, символического
признания вклада ученого со стороны научного сообщества.
Мертоновские парадигмы перед лицом нерешенных задач
и современных вызовов
В заключение этого анализа (объединяющего мои ранние и самые
последние исследования) не могу не сказать о том, что — как мне
представляется — не удалось Мертону и его школе, а также другим
исследователям науки в анализируемый период 50-80-х гг. XX века, который не
без основания называют «веком науки».
1. Несмотря на междисциплинарные попытки представителей
различных дисциплин, специализаций объединить «когнитивные»
(познавательные — традиционно исследуемые философией, и именно
гносеологией, логикой), общесоциальные (исследуемые социальной философией,
социологией познания), в частности, институционально-научные
(исследуемые социологией науки, социально ориентированными областями
науки о науке) измерения научной деятельности, их синтез на современном
уровне пока не удался. Можно, впрочем, сказать, что задачи объединения
даже и не ставились, не могли ставиться в каждой из этих исторически
востребованных в XX в. дисциплин и специализаций, перед которыми
выдвигались требования отвечать на вполне конкретные проблемы
развития науки, управления ею в эпоху научно-технического прогресса. Такие
задачи различные дисциплины, включая социологию науки, выполняли и
до сих пор выполняют вполне профессионально и оперативно.
Вместе с тем (и мы видели это из анализа работ исследователей мер-
тоновского направления) в целом ряде пунктов, достаточно конкретных,
дело упиралось не просто в прочерчивание, а в разработку самых общих
и всеобщих, именно философских линий, причем не на назывательно-от-
сылочном уровне, а в виде разветвленной теории социальной природы
научного познания. Но подобная теория, которая бы со своей стороны
интегрировала достижения более конкретных, частных
исследовательских областей и была бы на их уровне по доказательности, детальности
и т. д., — такая теория «в пространстве» частного знания наук о науке,
социологии науки и не могла быть предложена.
210 •
Раздел III
Что касается философских концепций ведущих западных
мыслителей XX в., то и при наличии многих важных, конструктивных выходов в
данную сферу исследования науки как социального,
социально-исторического по природе явления и в них невозможно отыскать
систематических теорий требуемого типа.
Уже отмечалось, что в данной области некоторые преимущества
имели отечественные философы, занимавшиеся наукой. Правда,
использование преимуществ из-за разных причин (почти) не было замечено и
отмечено мировой наукой о науке, да и в отечественном дискурсе
заинтересованная, доброжелательная и именно коллективная синтезирующая
работа, в духе глубинных норм науки, по существу отсутствовала (по
многим причинам, говорить о которых тяжело, да и не очень хочется).
2. При всем внимании к различению задач, уровней в случае
формулирования норм науки и в случае описания, осмысления
действительного поведения ученых эти уровни часто спутывались, смешивались, не
осмысливались в их специфике. Конечно, у Мертона и мертоновцев
досконально исследовалось и то, и другое — и «чистые нормы», и реальное
поведение с их нарушением. Но ясных ответов на некоторые коренные
вопросы и затруднения так и не было получено. Мы уже ставили эти
вопросы в ходе исследования мертоновских парадигм социологии науки.
Если некоторые центральные нормы (скажем, те, которые запечатлены в
системе CUDOS) все-таки институционализируются наукой как особой
областью социальной деятельности, составляя немаловажную сторону
её социализации, то это по крайней мере значит, что они
функциональны для данной деятельности, ее задач и целей, что их случающиеся
нарушения должны «отпадать» где-то ближе к сердцевине, сути этой
деятельности, к ее, так сказать, святому алтарю. Но это не было показано
и доказано, хотя отдельные релевантные замечания различных авторов
имеются. В частности несмотря на частные упоминания, в западной
социологии и философии не были наполнены сколько-нибудь глубоким и в
то же время конкретным, содержательным смыслом понятия
«когнитивных» и «институциональных» норм науки, теоретическая и практическая
связь между ними не была вскрыта сколько-нибудь основательно.
Историческая потребность в «неклассической» социологии
науки.
В заключение сформулирую «постнеклассический» запрос,
который современная история, чем дальше, тем настоятельнее ставит перед
социологией науки, — и не только перед нею, но и перед всей, по сути,
интеллектуальной культурой человечества.
В связи с анализом социологии науки, предложенным в данной
книге, возникают, по крайней мере, два существенных теоретических и
одновременно практических вопроса. Первый: если мертоновские
парадигмы социологии науки справедливо признать«классическими» (и к насто-
Отечественные и зарубежные исследования...
•211
ящему времени относительно завершенными), то следует ли, возможно
ли заняться поиском неклассических неклассических»(в терминологии
Степина, постнеклассических) парадигм социологии науки? На этот
вопрос, как представляется, оправдано дать положительный ответ. Вопрос
второй: предложены ли в настоящее время сколько-нибудь развернутые
концептуальные ответы на первый вопрос? Полагаю, основываясь на
литературе по социологии науки и смежным областям, ответ пока, увы,
напрашивается отрицательный.
Решаюсь (в краткой форме) предложить некоторые соображения в
ответ на первый из поставленных вопросов. Возникновение мертонов-
ского учения о нормах науки, как показано в первой части статьи, имело
свою историко-ситуационную обусловленность— взрыв варварства в
форме национал- социализма, обращенный, в том числе, против науки
и ученых. Нормы науки, как их осмыслили Р. Мертон и социологи его
школы, отвечали предпосылкам и условиям длительной эпохи в
развитии цивилизации, начиная с Нового времени, когда наука превращалась
во все более мощный фактор социально-исторического движения, а
впоследствии и в непосредственную производительную силу. Следует
отметить, что эти цивилизационные предпосылки, условия, формы в мерто-
новской концепции предполагались, отчасти учитывались, но не
осмысливались в систематической теоретической форме. Вместе с тем сила и
оправданность учения Мертона о науке, в особенности о ее внутренних
институциональных нормах, состояла в том, что нормы эти для
добывания научного знания функциональны и потому в целом действительно
работали и «работают», несмотря на все отклонения от них в реальном
поведении ученых. (Отсюда, кстати, удивительная синхронность того
описания норм науки, ориентации ученых, которая имеется в текстах
великих ученых, философов XVII века и в работах Мертона.)
В течение целых столетий наука была и сегодня остается одной из
самых главных сфер деятельности, благодаря использованию
достижений которой изменялись все, по сути, условия человеческой
жизнедеятельности. В целом у ученых были основания думать и говорить, что
наука — это движущая сила и технического прогресса, и
усовершенствования других сфер человеческого бытия. Правда, нельзя было не
заметить постоянного участия науки и целого ряда видных ученых в
«совершенствовании» средств ведения войн, которые, в свою очередь, были
постоянными спутниками развития цивилизации. Однако до поры до
времени войны оставались локальными и, даже превратившись в мировые,
порождая многомиллионные жертвы, не означали реальной опасности
тотального уничтожения всего человечества и самой Земли.
На этой стадии развития человечества нормы науки могли
оставаться, да фактически и оставались — ив действительном
функционировании института науки, и в их осмыслении социологией науки — главным
образом внутринаучными нормами. В самом процессе научного поиска
пока не было настоятельной, непререкаемой необходимости чем-то и
14*
212 •
Раздел III
как-то нормативно ограничивать исследовательскую деятельность
ученого, хотя кризисные явления уже имели место1.
На нынешнем этапе развития цивилизации (что теперь достаточно
ясно и наиболее ответственным ученым, и прозорливым философам,
социологам, и мыслящим людям из других областей деятельности) назрела
необходимость внести в число норм науки нормативные же требования
к индивидам, сообществам ученых, к институту науки не предпринимать
(соответственно приостанавливать) исследования, результатами
которых является или может стать создание не просто средств массового
уничтожения, но средств, грозящих реальной гибелью человечеству,
человеческой цивилизации и самой нашей планеты. Могут сказать:
хотя внести такие требования в принципе возможно, но выполнить их
нереально; мощные и сверхмощные средства уничтожения существуют
и, увы, уже применялись (вспомним Хиросиму и Нагасаки). Еще более
грозное вооружение, а также другие средства воздействия на человека
и человечество лихорадочно создаются в разных странах, — и именно в
процессе «соревновательного творчества» лучших научных и
технических умов человечества. Все верно, однако есть существенное,
принципиальное отличие опасностей современного этапа цивилизационного
развития. Ведь раньше ученые были мотивированы, понуждаемы (или
принуждаемы) работать над подобными средствами «на благо» своей
страны, «сил мира или сдерживания», надеясь на масштабность
проектов, на контроль над ними, а потому недоступность для «посторонних»
коллективных «сил зла» или отдельных злоумышленников. Теперь же, на
этапе миниатюризации разрушительных средств, на фоне нового
всплеска варварства (в форме терроризма и т. п.), возможностей любого сбоя,
неоправданно питать надежды на то, что кто-то или что-то вовне науки
действительно остановит вполне реальные угрозы тотального
уничтожения человечества и всей планеты. Напротив, многие кризисные
тенденции современного бытия заставляют предположить новое
нарастание гибельного соревнования социально-политических центров силы
современного мира в деле создания и монопольного обладания наиболее
опасными средствами не просто массового, а глобального уничтожения.
Считаю важным отстаивать следующую идею: решение проблем
преодоления таких глобальных смертельных опасностей впервые в
истории человечества становится неотложным, настоятельным вызовом,
предъявляемым самой историей к науке и ученым. Если раньше, в клас-
1В этом кратком тексте вынуждена отвлечься от анализа важного и релевантного теме
исторического феномена — всплеска активности выдающихся ученых, способствовавших
созданию атомной бомбы, после бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки.
И недаром же один из них, Нильс Бор, после бомбардировки опубликовал статьи под
красноречивым названием «Наука и цивилизация», «Вызов цивилизации». В них он говорил об
«устрашающих средствах разрушения», о «смертельной угрозе цивилизации» и
необходимости «соглашения», «международного контроля» над такими средствами и т. п. (См.:
Бор Н. Избранные научные труды. Т. 2. М.: Наука, 1971. С. 377).
Отечественные и зарубежные исследования... * 213
сической социологии науки, разбирались и отвергались такие внутрина-
учные нарушения, как плагиат и т. п., то со времени нацизма
справедливо заговорили об опасностях, исходящих «извне» науки, от
человеконенавистнической идеологии и внутри ее самой, увы, находящих своих
адептов. Теперь опасности приобрели не частный, временный, а
постоянный характер. И претензии история оправданно предъявляет также
самой науке как институту, ученым, особенно крупнейшим научным умам.
Ссылки некоторых ученых на то, что нельзя сдержать «любопытство»
исследовательского ума, что опасное открытие все равно кто-то и где-
то сделает и т. п., нельзя признать серьезным оправданием перед лицом
признаваемых самими учеными смертельных опасностей ряда открытий
для существования человечества. Вот почему возникает историческая
необходимость не просто прибавить к «классическому» (в данном случае
мертоновскому) учению о нормах науки еще какой- либо внутринаучный
норматив (или переименовать сформулированные нормы), а поставить
перед всеми ими главный современный цивилизационный нормативный
коэффициент, без которого другие нормы считались бы цивилизацион-
но, нравственно недействительными. Суть этого нормативного
коэффициента, который следует превратить благодаря упорной совместной
работе человечества, и прежде всего самих ученых, в главнейшую внут-
ринаучную норму, состоит в том, чтобы существовало центральное для
норм науки требование — запрет на все исследования (и их технические
применения), которые грозят реальной гибелью человечеству и его
цивилизации. Включение подобных норм считаю первоосновой будущего
(очевидно «неклассического») учения о нормах науки. И пусть сегодня
предложение о его разработке и тем более реализации в практике
научной деятельности может, даже должно показаться чем-то утопическим.
Нет сомнения: не сегодня, так завтра это будет уже неотложно
затребовано самой историей. Ибо другого выхода у человечества нет.
* * *
В общем стиле данной книги теперь будет сказано специальное
«слово» о М.К. Петрове, которого оправданно считать видным
исследователем обсуждаемых проблем, причем не только для отечественного
исследовательского ландшафта.
Case study: М.К. Петров как социолог науки
Мы все-таки дожили до того времени, когда основные работы
М.К. Петрова (1923-1987)— выдающегося исследователя с типичной
для этой когорты российских талантов тяжелой жизненной судьбой —
имеются в распоряжении читателей. К тому же сочинения друзей,
последователей, коллег, повествующие об этой судьбе и основных идеях
ученого, теперь тоже имеются если не в изобилии, то в достаточном
количестве.
214 •
Раздел III
Исследовательская работа талантливого ученого, посвященная
различным темам, проблемам философского и социологического плана, в
полном ее объеме и во всех аспектах ее значения не может разбираться
в данном кратком очерке. Даже и более частную тему, обозначенную в
заголовке, здесь невозможно осветить сколько-нибудь подробно.
Акцентируем лишь главные моменты.
Важно то, что уже в периоды, когда даже общие понятия «наука о
науке», «социология науки» только еще проникали в отечественную
философскую культуру, М.К. Петров быстро стал одним из немногих
отечественных профессионалов в данных областях. И если бы не
проклятый изоляционизм, если бы выдающемуся ученому, свободно знавшему
(а в трудные времена даже преподававшему) иностранные языки,
«дозволяли» выезжать за границу, контактировать с зарубежными коллегами,
он, без сомнения, мог бы получить широкое интернациональное
признание. Впрочем, сколько было таких «если бы» в рассматриваемый период
истории...
Примером интересующих нас здесь исследований Петрова станет
его относительно позднее произведение «Предмет социологии науки» —
объемистая (450 страниц) книга, написанная в 1983 году, но
опубликованная только в нашем веке под одной обложкой с другой его работой —
более ранним (диссертационным) сочинением 1967 года «Философские
проблемы „науки о науке"»1.
Прежде всего адресуясь к сегодняшнему читателю и имея в виду
дистанцию в четверть века, отделяющую нас от времени написания
Петровым его фундаментального труда, т. е. уже с более поздней смотровой
площадки наших дней, попытаюсь частично подытожить сделанное
Петровым — с ответом на конкретный вопрос: в чем именно состоял
объективный вклад отечественного ученого в социологию науки и почему
оправданно назвать его одним из наиболее значительных специалистов
в данной области.
Особенности, а одновременно и достижения исследовательской
работы М.К. Петрова в сфере социологии науки вижу в следующем.
1. Подобно Мертону и другим крупным западным представителям
социологии науки, Петров прекрасно знал и самостоятельно оценивал
развитие таких сопредельных, часто пересекающихся друг с другом
областей как социология познания, наука о науке, наукометрия и т. д.
Свидетельством является его кандидатская диссертация «Философская
проблема „науки о науке"», защищенная в Университете
Ростова-на-Дону в 1967 году. Нетрудно видеть, что это одна из самых ранних
отечественных работ на данную тему. Мне выпала честь выступить на защите
одним из официальных оппонентов (хотя я сама защитила свою первую
диссертацию в 1963 году). Помню атмосферу защиты: то была именно за-
1 Петров М.К. Философские проблемы «науки о науке». Предмет социологии науки.
М., 2006 (далее при цитировании и ссылках страницы данного издания указываются в
тексте моей книги).
Отечественные и зарубежные исследования... * 215
щита, и она прошла в борьбе с теми догматиками от
марксизма-ленинизма, которые очень хотели «завалить» защиту талантливого, но
«неблагонадежного» ученого, а тем самым преградить ему путь в науку. Ведь за
плечами Петрова, участника Отечественной войны, в то время уже были
исключение из партии (за повесть «Экзамен не состоялся», которая была
объявлена «непартийной»), увольнение с прежних должностей,
безработица, постоянные проработки по всем «линиям», подозрения в
неблагонадежности и т. д. А главное, ему была блокирована возможность
публиковать основные, оригинальные и фундаментальные произведения,
которые тем не менее создавались, писались этим выдающимся ученым
(но попадали в ящик его стола). Некоторые из них, в том числе работы
по науковедению, социологии науки только в недавнее время нашли или
еще должны найти путь к широкому читателю1.
На протяжении десятилетий поддерживая постоянные контакты и
с М.К. Петровым, и с другими замечательными ростовскими
философами (о чем уже упоминалось в данной книге), могу засвидетельствовать:
желая загнать талантливого ученого в «угол», далекий от официального
признания и одобрения официальных структур, догматики, тогдашние
«генералы» от философии оказались не в силах отвратить Михаила
Константиновича и от свободного творческого труда, и отлучить от
высокого, постоянного признания, в чем-то и поддержки со стороны
неофициального сообщества. Не будучи знакомыми этому сообществу в деталях,
его идеи и труды (через самые разные каналы — личные контакты,
конференции, участие в коллективных книгах, чтение рукописей Петрова,
которые тоже, как оказалось, «не горят») были реально включены в
развитие отечественной философии и социологии. И ведь это были, как мы
увидим в дальнейшем на примере социологии науки, фундаментальные
исследования, возникавшие в едином, ритме с мировой наукой и
объективно ставшие работами мирового класса.
2. Что касается именно социологии науки, то обсужденное нами
ранее мертоновское направление тоже попало в кадр исследования
Петрова, хотя не было в нем главным сюжетом. Так, подводя в 1983 году итоги
развертывания мертоновских парадигм, Петров начертал
неоднозначную, противоречивую картину. С одной стороны, он привел сдержанную
оценку самого Мертона, который (в духе нормы «скромности») в 1967 г.
писал, имея в виду многие еще пробелы социологии науки и социологии
вообще: «социология, возможно, пока еще не готова к своему Эйнштейну
просто потому, что она не нашла еще своего Кеплера, не говоря уже о
Ньютоне, Лапласе, Гиббсе, Максвелле и Планке»2.
10 жизненном пути М.К. Петрова см: Дубровин В.Н., Тищенко Ю.Р. М.К. Петров —
философ и социолог науки // М.К. Петров. Философские проблемы «науки о науке».
Предмет социологии науки. М., 2006. С. 3 и далее. См. также: Неретина С.С. О концепции
культуры. М.К. Петров// Философия не кончается. Из истории отечественной
философии. XX век. 1960-80-е годы. М., 1998. С. 596-619.
2Цит. по: Петров М.К. Указ. соч. С. 176.
216 •
Раздел III
С другой стороны, Петров посвятил немало страниц своего труда и
конкретным исследованиям школы Мертона, и проблемам, в освещении
которых результаты этих исследований были положены в основу. Так,
работа братьев С. и Дж. Коулов, опубликованная в 1967 году и
посвященная системе вознаграждения в науках, особенно в физике, а также
другие исследования школы Мертона, в свою очередь подвергаются
Петровым фундаментальному, притом придирчивому самостоятельному
анализу (Петров М. Указ. соч.: о Коулах — с. 183-239; с. 298 — о
Шубине, Хагстроме, Закерман). Поэтому и сегодня можно рекомендовать
эти части книги нашего соотечественника как удачные по изображению
и оценкам данного материала не только в российской, но и в мировой
литературе. (Об освещении Петровым проблемы «эффекта Матфея» речь
шла ранее.)
Вместе с тем мертоновская модель в книге Петрова не является
главной — пусть не по объему внимания к ней, а по принципиальному
значению, в чем также можно видеть оригинальность подходов и
критериев выбора отечественного ученого. А в центр ставится значительно
более ранняя «модель Лайеля-Дарвина», в которой, во-первых,
большее внимание уделено не социальной статике, как в школе Мертона, а
историко-динамическим координатам, и в которую, во-вторых, более
основательно «вписываются» историко-социальные основы объяснения
идей вообще, научных идей, открытий в особенности. Петров
совершенно прав, когда он включает модель Лайеля-Дарвина в общий контекст
осмысления науки XIX века, в частности, в первые масштабные
объяснения науки, научного познания в произведениях немецкой классической
философии, например, у Канта и Гегеля, затем и у Маркса, концепции
которого в этих вопросах плодотворно примыкали к философской
классике. Более подробно данная историко-философская проблематика —
в ее объективном проблемном воздействии на науки и науку о науке
XX века — оригинально, глубоко осмысливается в книге М.К. Петрова
«Философские проблемы „науки о науке"» на примере вклада И. Канта
и Г.В.Ф. Гегеля (Петров М. Указ. соч. С. 38-63); в книге по социологии
науки эти разработки уже взяты за основу. Что касается модели Лайе-
ля — Дарвина, то суть ее объясняется в начале первой работы
(Петров М. Указ. соч. С. 176 и далее), а уже в конце книги «вплетается» в
собственные попытки Петрова синтезировать достижения мировой
(особенно более развитой западной) социологии науки.
Но еще прежде предложенного синтеза, который мы
проанализируем в заключении данного case study, следует проведенное Петровым
первоклассное, многостраничное конкретное социологическое, а
одновременно историческое исследование, в центре которого —
деятельность «Британской ассоциации по продвижению науки» (The Britisch
Association for the Advancement of Science — далее BAAS). В широком
же замысле — это анализ механизмов деятельности ученых в рамках
научных институтов. Кратко рассмотрим данное исследование — с задачей
Отечественные и зарубежные исследования...
•217
доказать, почему его оправданно считать весьма ценным, хотя по чисто
внешним социальным причинам (пока) не причисленным к золотому
фонду мировой социологии науки.
Первоклассна — удивительно конкретна, точна, масштабна —
источниковедческая основа этой работы М.К. Петрова: это и исторические
данные, представленные и собранные самой BAAS, причем также о ее
деятельности за рубежом, и исторические, социологические, науковед-
ческие и т. д. исследования. Выполнить такую конкретную обобщающую
работу лучше, чем это сделал М.К. Петров, вряд ли возможно (и если
сама до сих пор существующая BAAS не смогла познакомиться с этим
исследованием российского ученого или не сумела его по достоинству
оценить, об этом остается лишь пожалеть). А вот наша страна, в которой
ученые ранга М. Петрова, в основном, уничтожались или
преследовались, должна как можно скорее выплатить долг, в этом случае —
перевести на английский язык (по крайней мере) книгу «Предмет социологии
науки» или хотя бы анализируемый здесь раздел.
Теперь — исходя, конечно, из моих собственных концептуальных
представлений о наиболее перспективных тенденциях социологии
науки, — попытаюсь кратко представить отдельные, наиболее ценные идеи
и предложения Петрова. (Параллельно будут помечены и те мысли
нашего соотечественника, с которыми я не могу согласиться, или те линии
анализа, которые оказались, на мой взгляд, менее проработанными.)
• М.К. Петров, опираясь на мировую литературу, заострил целый ряд
частных, однако весьма важных проблем науки и, соответственно,
социологии науки. Например, это вопрос о связке «ученые-инженеры»,
имеющий особое значение на самых разных плоскостях выхода научных
достижений в практику создания продвинутой техники — технологии,
а также в повседневную жизнь людей современного мира (Петров М.
Указ. соч. С. 514-524). Например сейчас, когда в России ставится вопрос
об инновационных прорывах, это актуальная проблематика (ибо в
России, где недальновидно, если не преступно, допустили, чтобы был
«вымыт» из производства сильный в советские времена слой инженерных
кадров и высококвалифицированных рабочих и чтобы «попутно» была
также разрушена система их планомерной государственной подготовки).
• Интересно ставятся вопросы, относящиеся к сложившейся и
имеющей многие недостатки, пробелы системе подготовки кадров для науки,
часто стихийной и не учитывающей, например, то, в каком именно
«сегменте» института науки станет работать соответствующий специалист,
или то, насколько расходятся мотивации, ожидания студентов,
аспирантов и т. д., затем устремляющихся в науку, с теми фактическими ролями,
которые они реально играют и могут играть в науке, и т. д.
• Петров опирается на массив наиболее поздних (осуществленных к
концу 80-х годов) и продвинутых исследований по социологии науки, в
которых процессы научной деятельности и подготовки к ее исполнению
соотносятся с общими тревожными социальными процессами-тенден-
218 •
Раздел III
циями (Петров M. Указ. соч. С. 533 и далее — со ссылками на работы
К. Клера, Р. Нисбета и др.)
• Актуально звучит также резонное предостережение М. Петрова
о том, что социология науки к последним десятилетиям XX века — и,
добавлю, в первое десятилетие XXI века — не учла, что относительно
«спокойные» послевоенные периода взлета науки, НТР как будто
неожиданно и парадоксально уступают место нарастанию многих кризисных
явлений, тенденций в развитии самой науки и диспропорций, коллизий
в ее отношении к обществу. Это происходит в наши дни, особенно в
России, и резко контрастирует с постоянными призывами вступить,
наконец, на инновационный путь развития — что совершенно нереально при
закрепившейся системе пренебрежительного отношения к науке и
ученым на самых разных уровнях.
Немало других ценнейших идей, тезисов, предложений М.К.
Петрова приходится, увы, оставить за ограниченными рамками этого краткого
текста — с надеждой, что будущие историки развития в нашей стране
философии и социологии осветят тему подробнее, основательнее1.
1 Хочу сделать и общее замечание. В данной главе, посвященной вкладу школы Мерто-
на, естественно, не ставилась, не могла ставиться задача поставить в параллель развитие
отечественной социологии науки как таковой (особенно в ее конкретно-социологическом
исполнении).
ГЛАВА ПЯТАЯ
«СОЦИАЛЬНАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ*:
«ОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ДИСКУССИИ И ДИХОТОМИИ
Тематика западной «социальной эпистемологии» уже презентирова-
лась и обсуждалась в отечественной литературе1, причем обсуждение
велось главным образом вокруг тех работ основных авторов этого
направления Д. Блура (Bloor), С. Фуллера (S.Fuller) и А. Голдмана (Goldman),
которые появились в 70-80 гг. XX в. К сожалению, не могу сослаться на
отечественные исследования, в систематической форме освещающие
историю, современное состояние, главные идеи и концепции данного
направления. В мои задачи такое исследование также не входит.
В соответствии с общей тематической линией данной книги
социальная эпистемология рассматривается далее со следующих точек зрения:
1 ) будет поставлен вопрос о том, что нового это направление (взятое в его
неоднородности, в виде расходящихся линий анализа) вносит в
исследование проблематики социальной природы, социальной обусловленности
познания и знания по сравнению с более ранними концепциями, идеями
(классической философией, ранними рассмотренными социологией
познания и науки XX в.); 2) в развитии самой социальной эпистемологии
будет презентирован новейший период (90-е гг. XX и XXI в.) как один из
примеров того, как интересующая нас проблематика анализировалась в
самое последнее время — о чем велись споры, где создавались «точки
роста» и где, напротив, возникли проблемные затруднения, тупики.
Предмет и задачи социальной эпистемологии
«Отцы-основатели» социальной эпистемологии по-разному
определяют предмет своей дисциплины, а лучше сказать — специфической
области исследования, о которой они справедливо говорят как об
аморфном единстве с довольно большим разнообразием подходов.
Предоставим слово А. Голдману, который был и сегодня остается одним из самых
известных авторов данного направления: «Социальная эпистемология —
богато разветвленная дисциплина. Различные теоретики применяют
различающиеся подходы, и выбор позиций (options) довольно разнооб-
1 См.: Касавин И.Т Социальная эпистемология: понятие и проблемы / /
Эпистемология и философия науки. 2006. Т. VII. № 1. С. 5-15. См. в этой статье (с. 8) и других работах
И. Касавина общие характеристики исследований авторов, которые работали и работают
именно в социальной эпистемологии или так или иначе примыкали к ней, участвовали в ее
дискуссиях.
220 •
Раздел III
разен, часто ортогонален по отношению друг к другу. Подход, который
я предпочитаю, состоит в исследовании социальных практик в терминах
их воздействия на процесс приобретения знаний (Goldman A. Knowledge
in a Social World. Oxford, 1999). Мой подход обладает по крайней мере
двумя преимуществами: он сохраняет преемственность по отношению
к традиционной эпистемологии, которая исторически фокусируется на
знании; и он пересекается с интересом к практической жизни, которая
многосторонне воздействует на то, что люди знают или чего они не
знают. Сделав такой выбор, я, однако, не проявляю слепоты по отношению к
альтернативным подходам»1. Это определение имеется в статье А. Голд-
мана 2004 г., само название которой настраивает на полемику:
«Групповое знание против групповой рациональности: два подхода к социальной
эпистемологии». К полемическим аспектам мы еще вернемся. А сейчас
отметим, что определения предмета и направленности социальной
эпистемологии, которые встречаются и у Голдмана, и у других его коллег,
могут выступать как слишком общие, пока мы не получаем дальнейших
разъяснений и расшифровок. В самом деле, если говорится, как в
приведенном выше определении Голдмана, о «социальных практиках» и их
воздействии на процессы приобретения знаний, то понятие
«социальных практик» совсем не является чем-то само собой разумеющимся и в
свою очередь требует основательных пояснений. Фр. Шмит, другой
известный теоретик этого направления, пишет: «Социальная
эпистемология — это концептуальное и нормативное исследование релевантности
знанию социальных отношений, ролей, интересов и институтов». Желая
дать пояснения и имея в виду тех, кто сколько-нибудь ориентируется в
исследуемой проблематике, Фр. Шмит добавляет, что социальная
эпистемология «отличается от социологии знания, которая является
эмпирическим изучением совокупности социальных условий или причин знания
или изучением того, что со знанием происходит в обществе — речь идет
об исследовании, инициированном К. Манхеймом. Социальная
эпистемология сосредотачивается на вопросе, следует ли понимать знание
индивидуалистически или социально... Все это скорее свободно
соотносится с целой «семьей» споров, каждый из который обращается к
различным видам знания или различным путям, на которых знание может быть
социальным»2. Опустим пока сомнительное определение социологии
знания или познания как исключительно «эмпирического изучения». Не
станем придираться и к неясности определения, вряд ли преодолимой на
начальном уровне знакомства с данной областью последований. Но вот
определение у Шмита направленности исследований социальной
эпистемологии через дихотомию («или-или») индивидуального и социального
пометим — оно еще потребует нашего особого внимания.
1 Goldman A. Group knowledge versus group rationality: two approaches to social episte-
mology / / A Journals of Social Epistemology 1:11 -22(2004). P. 1.
2 Schmitt Fr. F. Socializing Epistemology: // Socializing Epistemology. The Social
Dimensions of Knowledge. Ed. by Fr. F. Schmitt. Rowman a. Littlefield publ., Inc., 2004. P. 1.
Отечественные и зарубежные исследования...
•221
В процессе расшифровки своего исходного определения (вернее,
определений, ибо в разных работах они варьируются) А. Голдман считает
необходимым прежде всего ответить на вопрос, в самом деле исходный:
«What is knowledge» — «Что такое знание?». Тут (о чем уже говорилось
при анализе социологии познания) нетривиальный для российских
читателей момент состоит в понимании и переводе английского термина
«knowledge»: идёт ли речь о знании — и каком именно — или knowledge
в сочетании с «theory», theory of knowledge, оправданно понимать и
переводить словосочетанием «теория познания». А. Голдман, отвечая на
этот вопрос, задает читателю (по крайней мере российскому) новую
загадку: «Knowledge, как оно понимается здесь, есть «истинное верование
(true belief)», полученное с помощью пригодных для этого средств,
методов или источников. В частности, подходящими методами или
средствами являются такие, на которые можно положиться; они едины с
общими свойствами добываемых истинных верований (Goldman 1986, 1992,
2002 b)» (Goldman A. Op. cit. P. 1). Надо учесть, что «true belief» в
данном контексте не имеет религиозного смысла, а просто подразумевает,
как верно поясняет И. Касавин (Указ. раб. С. 7), «то, во что верится»;
в случаях «justified beliefs» имеют в виду подтвержденные, проверенные
знания, которые в какое-то время принимались на веру. Только в этом
смысле мы далее при анализе социальной эпистемологии будем
употреблять русский эквивалент «верование».
Этот понятийный момент надо принять в расчет сразу же, ибо в
материалах по социальной эпистемологии (особенно в англоязычных
публикациях) нам будут постоянно встречаться эти термины — «beliefs»,
«true beliefs», «justified beliefs», впрочем, широко распространенные в
англоязычной философской литературе разных времен и различных фи-
лософско-логических дисциплин. В свете наших традиций данные слова
можно читать как обозначение знаний самого широкого диапазона —
от таких знаний, в которых фиксируются предположение, вера в то, что
некое содержание имело, имеет или будет иметь место, до
подтверждаемой уверенности в этом (justified beliefs, «true beliefs»). Когда
употребляется термин «knowledge», то диапазон сомнений или неуверенности как
бы редуцируется, и знание понимается как более или менее
подтвержденное, объективированное, общезначимое. В дальнейшем осмыслении
социальной эпистемологии неверно было бы смазывать различия —
в случае употребления то «knowledge», то «belief'Cs)» — между
описываемыми в обоих случаях эпистемическими проблемными сферами.
(Поэтому при употреблении в оригинале «knowledge» мы будем
пользоваться в переводе словами «знание», «познание», а в случае «belief(s)» будем
использовать слово «верование», ожидая от читателей его восприятия,
как сказано, не в религиозном, а в только что разъясненном смысле.)
Вернемся к проблеме определения содержания и статуса социальной
эпистемологии. Возьмем еще одно общее определение. «Социальное, —
пишет У Элстон, — входит в эпистемологию во множестве обличий.
222 •
Раздел III
И прежде всего вводит различные социальные содержания (social subject
matters). Вместо того, чтобы иметь в виду эпистемолога, обращающегося
к тому, во что верят (beliefs), и к индивидуальным когнитивным
объектам, как это обычно было в данной дисциплине, социальная
эпистемология может изучать то, что мы (члены определенной социальной группы)
знаем или во что верим. Или она может рассматривать знание,
«собранное» или «воплощенное» в определенных институциях, дисциплинах
или организациях. Следовательно, имеются социально установленные
(передаваемые, санкционированные) процедуры и методы, которые
направлены на приобретение знания или рациональные (подтвержденные)
верования, и в результате имеет место эпистемический импорт»1.
Итак, при анализе литературы по социальной эпистемологии
бросается в глаза — в чем прав Голдман, — значительный разброс линий
исследования, концептуальных и методологических решений в
зависимости от того, какое именно «обличие», какие стороны, сферы,
механизмы социального мира (по определению многоаспектного) имеются в
виду и специально изучаются в их влиянии на процессы приобретения и
обработки знания, т. е. собственно на процессы познания, а также в
зависимости от того, к каким именно видам знания/познания привлечено
преимущественное или специальное внимание. К тому же надо учесть,
что при всем разноречии подходов авторы, все же относящие себя к
рассматриваемому направлению, нередко печатают работы и под одной
обложкой, постоянно полемизируя также и друг с другом. Это делает
социальную эпистемологию живой, подвижной областью исследований,
пронизанной полемикой, дискуссиями.
Многое в содержательном исполнении проектов социальной
эпистемологии зависит от того, к каким преимущественно теоретическим
источникам, «классическим» или современным, соответствующие авторы
данного направления относят свои исследования.
Согласно Фр. Шмиту, социальная эпистемология в целом была
инспирирована двумя главными теоретическими источниками. Характерно,
что при фиксировании первого из них Шмит говорит о влиянии
сторонников социологии (по)знания (sociologists of knowledge), а конкретнее
называет имя Б. Барнеса (В. Barnes), видного автора из области
социологии науки с его известной книгой 1977 года «Интересы и рост знания»
(Interests and the Grorth of Knowledge). Возможно, в данном аспекте
различение двух совсем не тождественных, дисциплинарно не совпадавших,
по большей части представленных разными исследователями областей
научного знания почему-то утратило значение. Кроме Барнеса
упомянута С. Хардинг (S. Harding), представительница феминизма в социологии
науки. Шмит говорит в этой связи о «сильной программе социологии
науки», которую описывает так: «...социальные интересы
переплетаются, взаимодействуют с методами, направленными в сторону истины или
Alston W.P. Belief-forming Practices and the Social // Socializing Epistemology. P. 29.
Отечественные и зарубежные исследования...
•223
эмпирической адекватности; некоторые [авторы] предлагают подход,
согласно которому знание должно быть понято не как верование (belief),
[построенное] в соответствии с истинными методами..., но как верование,
[построенное] в соответствии с социальными интересами. Эта работа
побудила эпистемологов с серьезностью отнестись к идее, согласно
которой знание есть дело консенсуса или согласования исходя из множества
перспектив» (Schmitt. Op. cit. P. 3-4). Поскольку мы не вдаемся здесь в
предысторию и историю социальной эпистемологии, кратко отметим, что
Шмитт фактически имеет здесь в виду эдинбургскую школу социологии
науки, представленную, кроме Барнеса, также Д. Блуром. В их работах
начала оформляться и социальная эпистемология. Нередко в
исследованиях по социальной эпистемологии содержатся отсылки и к другим
источникам, на которые новая дисциплина так или иначе опиралась.
Так, X. Лонгино упоминает, кроме исследований эдинбургской
школы, о релевантных социальной эпистемологии разработках философов
науки — М. Хессе (Hesse) с ее работой «Революции и реконструкции в
философии науки» (1980) и Л. Лаудана (L. Laudan) с его полемической
работой «Псевдонаука о науке?» (1984). Это была реакция философов
науки как раз на «сильную» эдинбургскую программу. X. Лонгино
следующим образом описывает суть возникшей полемики. «Согласно сильной
программе, наука — и хорошая, и плохая, и успешная, и неуспешная —
должна быть объяснена одним и тем же способом. Хорошую науку можно
объяснять, апеллируя к рациональности, а плохую науку — апеллируя
к создающим помехи социальным факторам. В обоих случаях
объясняющая работа ведется в терминах интересов:
идеологических/политических интересов, профессиональных интересов и тех, что связны с
индивидуальной карьерой. Наука конструирована социально в том смысле, что
совместимость гипотез или теорий с социальными интересами членов
научного сообщества определяет их принятие сообществом и определяется
сообществом в большей степени, чем совместимостью гипотез и теорий с
миром»1. М. Хессе, тщательно изучив предлагаемую концепцию, в
частности, ее специальные case studies, пришла к выводу: «Они не
демонстрируют того, что в каждом случае научных суждений их защитники
движимы только интересом в осуществляемом ими выборе» (Ibidem).
Многие представители социальной эпистемологии ссылаются и на
другие источники — например, эмпирические исследования группы
антропологов: это К. Кнорр-Цетина, Б. Латур и др. X. Лонгино резюмирует:
«Хотя имеются различные рамки, в которых они презентируют свои
исследования, последние показывают, что наука социальна в ином смысле, чем
это определено в сильной программе теоретиков: наука социальна в смысле
вовлечения социальных взаимодействий. ...Эти теоретики делают вывод,
что невозможно отличить чисто когнитивные и социальные — или отягчен-
1 Longino H. The Fate of knowledge in Social Theories of Science // Socializing
Epistemology. P. 136.
224 •
Раздел HI
ные интересами — базы гипотез. Нормативная озабоченность философов
является, следовательно, тщетной: колеса предписаний могут вращаться в
философии. Но они буксуют, когда речь идет о включенности [таких]
механизмов в актуальные эпистемические сообщества» (Ibidem. Р. 136-137).
Сама X. Лонгино представляет ту специфическую ветвь социальной
эпистемологии, которую она — вместе с другими исследовательницами,
а также с авторами, к ней не примыкающими, — именует
«феминистской». (В чем тут состоит именно «феминистская» особенность, мы
сейчас, в этом вводном разделе, разбирать не будем.) Что касается общего
подхода, то в споре философов науки и социальных эпистемологов
Лонгино — на стороне последних. Эту солидарную позицию она фиксирует
следующим образом: «И феминистов, и социологов (здесь: социальных
эпистемологов. — H. М.) можно понимать как отрицающих то, что
можно назвать «необусловленным субъектом» («unconditioned subject»), т. е.
отрицающих [концепцию] познающего [человека], руководимого только
методологическими правилами, нейтральными по отношению к
содержанию и ценностям1. Вместо этого берутся познающие индивиды (individual
knowers), обусловленные различными аспектами их социальной
локализации — начиная с их зависимости от государственных агентств и
индустрии, с точки зрения поддержки, до их расположения на
интеллектуальной линии, до их позиций с точки зрения расы, пола и классовой сетки их
общества» (Ibidem. Р. 138-139).
В дополнение к сказанному Лонгино подчеркивает, что немало
споров и недоразумений, препятствующих углублению в действительное
исследование такой обусловленности, проистекают из-за
«приверженности индивидуализму в социальной эпистемологии» (Ibidem. Р. 139).
И действительно, не только размежевание с традиционной или
традиционалистской гносеологией, но и споры внутри «социальной»
эпистемологии, как мы только что видели, по-прежнему ведутся на линии той же
дихотомии: индивидуальное или социальное?
Примерно через четверть века интенсивного развития
анализируемого здесь направления исследователи (как говорилось,
придерживавшиеся несходных, часто противоположных позиций) стали подводить
первые итоги. Естественно, что и оценки итогов у разных авторов
существенно различались по содержанию и характеру. Правда, был по крайней
мере один пункт, в котором — хотя бы на уровне пары постулатов —
сходились участники дискуссии. Этот пункт обозначил, например, Хилари
Корнблайт: «Невозможно отрицать, что социальные факторы играют
важную роль в человеческом познавании (in human cognition).
Эпистемологи часто игнорировали этот факт, и эпистемология страдала от
этого. Я, следовательно, хочу присоединиться к хору тех, кто убеждает
эпистемологов уделять серьезное внимание социологии (по)знания»2.
1 Longino H. Science, Power, Knowledge: Description and Prescription in Feminist
Philosophy of Science // Feminist Epistemology. Lnd., 1993.
2 Kornblith H. A Conservative Approach to Social Epistemology / / Socializing Episte-
mology. P. 93.
Отечественные и зарубежные исследования... * 225
Однако в случаях, когда исследователи переходили от общих
призывов и постулатов более конкретной теоретико-методологической работе
и к оценке ее результатов, существенное расхождение позиций
выявлялось все отчетливее.
Далее, опираясь на литературу вопроса, попытаюсь более конкретно
выявить те закрепившиеся в опыте социальной эпистемологии основные
подходы и оценки, которые имеют проблемное, теоретически
содержательное значение и которые одновременно обрисовывают важные,
подчас интригующие коллизии этой области исследований, интересные, в
том числе, и для философских разработок проблематики и программати-
ки социальной природы, социально-исторической обусловленности
знания и познания, научного знания и познания, в частности и особенности.
Одна из целей последующего рассмотрения, состоит в том, чтобы
продемонстрировать дихотомический характер возникших в анализируемой
дисциплине размежеваний. Дихотомия: индивидуальное или социальное
не случайно выступает здесь на первый план. Результат развития
социальной эпистемологии характерен: начав с резкой критики традиционной
теории познания за будто бы господствующий в ней «индивидуализм»,
социальные эпистемологи сами разделились на... «индивидуалистов» и
сторонников различных проектов «социологизации» эпистемологии.
Дихотомии социальной эпистемологии.
Дихотомия «индивидуального» и «социального»
Достаточно типичным для социальной эпистемологии является,
как мы уже видели, противопоставление ее подходов гносеологической
традиции, которое следующим образом выражает один из видных
представителей данного направления, профессор университета в Сан-Диего
(Калифорния) Филипп Китчер (Ph. Kitcher): по его мнению, в «истории
эпистемологии доминировала индивидуалистическая перспектива
человеческого познания». В подтверждение своего мнения Китчер ссылается
на образы Декарта: его познающий субъект осуществляет сомнение в
принятых на веру знаниях (beliefs), размышляя об этом наедине с самим
собой в атмосфере уединенной приватности, в комнате с жарко
натопленным камином1. Правда, Китчер все же признает: Декарт не отрицает,
что мы получаем знание от других людей. «Но индивидуалисты
(обратите внимание на термин. — И. М.) считали, что этой эпистемической
зависимостью можно пренебречь, придерживаясь той мысли, что мы
располагаем имеющимися у нас индивидуалистическими основаниями
для принятия некоторых положений и что этот набор положений может
быть использован для восприятия информации, которую мы получаем от
других людей» (Ibidem). Что касается социальной эпистемологии, то она,
1 Kitcher Ph. Contrasting Conceptions of Social Epistemology / / Socializing Epistemology.
The Social Dimensions of Knowledge. Rowman and Littlefield Publ., 1994. P. 111.
15 H. В. Мотрошилова
226 •
Раздел III
согласно Китчеру, начинает свои исследования с отвержения
«индивидуалистической редукции» (Ibidem. Р. 112).
Итак, вот она — одна из линий дихотомического
противопоставления: социальная эпистемология выходит на бой ни много ни мало как со
всей «гносеологической традицией», которая просто и однозначно
определена как чисто «индивидуалистическая», а ее носители без обиняков
названы «индивидуалистами». А вклад социальной эпистемологии, как
его оценивают сами сторонники данного направления, можно выразить
формулой, которая стала заголовком одной из их цитируемых нами
программных коллективных книг: «Socializing Epistemology», т. е.
«социализируя эпистемологию», что наталкивает на мысль, будто в
гносеологической (эпистемологической) традиции социально-исторического
измерения вообще не было.
Это представление (скажу заранее — упрощенное, утрачивающее
преимущества куда более тонкого анализа данной традиции,
предпринятого, скажем, в социологии познания и науки) заставляет нас прежде
всего присмотреться к тому, в каком объеме и с точки зрения какого
содержания классические концепции знания и познания попали в кадр
анализа социальной эпистемологии. Здесь бросается в глаза следующее:
хотя в специализированных Библиографиях работ по социальной
эпистемологии (например, в составленной Фр. Шмиттом и Дж. Спеллманом и
опубликованной в названной выше книге1) приводятся и «источники» из
философской традиции (упомянуты работы Платона, Фомы Аквинского,
Ф. Бэкона, Кондильяка, Декарта, Юма, Канта, Лейбница, Локка, Дж. Ст.
Милля, а также более поздних авторов —Джеймса, Пирса, Рассела,
Витгенштейна), сколько-нибудь основательной проработки
«социальными эпистемологами» истории философии в свете рассматриваемой
проблемы не удалось обнаружить, по крайней мере, в известных мне
работах главных представителей данного направления. Отсюда, как я думаю,
выросла первая сомнительная дилемма: «индивидуализм» гносеологии
(эпистемологии)-социальный подход социальной эпистемологии. Такое
дихотомическое разделение (характерное, впрочем, не только для
анализируемого направления) представляется упрощенным. Оно,
во-первых, игнорирует одну из достаточно важных, тоже «социализирующих»
тенденций классической мысли; во-вторых, хлестко и неоправданно
именует «индивидуализмом» совершенно верный тезис классических и
современных гносеологов о неотменимости центральной роли индивида
в реальных процессах познания. В-третьих, недостаточно осмыслено то,
что сосредоточение гносеологии именно на всеобщих чертах
деятельности индивидов как субъектов познания (с немаловажным выходом
в сферы взаимодействия людей, в сферы социальности, «объективного
духа», культуры и т. д.) было и остается особым подходом, углом зре-
1 Schmitt Fr., Spellman /. Socializing Epistemology: A Bibliography // Socializing
Epistemology. P. 289-310.
Отечественные и зарубежные исследования... * 227
ния гносеологии как философской дисциплины; это ее modus vivendi, что
сопоставимо с выбором системы исследовательских координат в любой
другой науке (в этом отношении гносеология особенно близка к
логике). Традиционные размышления о «чистом разуме», о «чистых формах»
мысли — это отнюдь не обязательно выпад против факта социальности
познания, а обоснование законных для научного познания отвлечений
и выполнения особых исследовательских программ, необходимость и
значимость которых не могут отменить никакие другие дисциплины, с
самого начала ориентированные на социально-исторический,
социологический анализ.
Фактически это признано в тех версиях социальной эпистемологии
(о них поговорим позже), в которых исходным тоже становится тезис о
первичном значении индивида как действительного субъекта познания.
Тем более несостоятельным представляется выстраивание
соотношений социальной эпистемологии с гносеологией, эпистемологией по
типу дилеммы, дихотомии (с однозначными ярлыками вроде
«индивидуализма»). Это, полагаю, ложный ход, который опровергается и более
тщательным, многосторонним анализом традиции, и
теоретико-методологическими соображениями.
«Индивидуализм» как определение позиций всех представителей
классической эпистемологии становится своего рода
термином-обвинением. И это еще не самый жесткий термин. Так, известный автор
анализируемого направления американский профессор философии Ричард
Фоли (R. Foley) скопом обвинил классических эпистемологов в том,
что они были «эгоистами», защитниками «эпистемического эгоизма».
«Эпистемический эгоизм, — пишет он, — не вымышленная позиция.
Некоторые из наиболее влиятельных эпистемологов были эгоистами —
например, им был Джон Локк. Его эгоизм вырос из его этики. Он
полагал: подобно тому, как у нас есть обязанность подчинять наше поведение
моральным стандартам, мы обязаны также согласовывать наши мнения
с эпистемическими стандартами. Выполнение этой интеллектуальной
обязанности требует, чтобы мы критически осмысливали операции
наших интеллектуальных способностей и чтобы мы доверяли только тем
способностям, относительно которых у нас есть причины считать их
надежными. Подобно этому мы не должны некритически доверять
способностям других людей. У нас есть обязанность скорее осмысливать вещи
самостоятельно (for ourselves), чем доверяя общепринятым мнениям»1.
В том же духе выражены характеристики «эгоизма» применительно к
концепциям Юма, Рида. Из работы Фоли так и осталось непонятным,
почему призыв классиков философии критически относиться к
унаследованным мнениям (а это, действительно, альфа и омега классической
традиции философии нового времени) и одновременно не менее
критично проверять собственные суждения, — почему эти замечательные, ак-
Forley R. Egoism in Epistemology. P. 57
15*
228 •
Раздел III
туальные и сегодня подходы и требования зачисляются «по ведомству»
асоциального эгоизма, хотя бы и «эпистемического».
Что касается анализа традиции, то в предшествующих разделах
было показано: в социологии познания и в социологии науки (например,
у Мертона) был «открыт», частично описан и осмыслен целый пласт
историко-философского материала, позволяющий говорить о
существовавших и в традиции различных способах дополнения
гносеологического подхода анализом социально-исторических измерений познания
и знания, а также и теми рассуждениями великих философов прошлого,
в которых были по праву обнаружены зачатки социологии познания и
науки, их некоторая предыстория. О таких «предтечах» социального
подхода существует специальная литература — например, о теории
призраков, об очищении разума, о концепциях сомнения Ф. Бэкона, Б. Спинозы,
Р. Декарта, подразумевавших или эксплицитно содержавших
несомненные обращения великих философов прошлого к социальным сторонам
человеческого опыта; или коммуникативная концепция языка, знаков
у Т. Гоббса; или целые пласты исследований «практического разума» в
произведениях классиков немецкой философии и т. д. Предтечей
социологического подхода современные исследователи по праву считают,
скажем, теорию науки Ф. Бэкона, в духе времени уже принявшего в расчет
нарождавшиеся институциональные формы науки. К тем же измерениям
относится бесспорный факт: ученые и философы на заре нового времени
фактически подвергли анализу ценности, принципы, нормы науки,
игравшей в обществе все более важную роль. Если хотя бы в общей форме
учесть (а лучше — основательно исследовать, как это сделали, скажем,
Э. Гуссерль, К. Манхейм, Р. Мертон) эти пласты, измерения, то нельзя не
признать необоснованность по крайней мере
словесно-терминологического оформления разбираемой дихотомической линии:
«индивидуализм» (в адрес классики) — социальный подход (отнесенный к
социальной эпистемологии).
В предшествующих текстах этой книги было показано, что
аккуратное, подробное, опирающееся на тексты описание упомянутых идей
классической мысли было заслугой отечественной философии, начиная
уже с 60-х годов XX в. Если иметь в виду и эту новую отечественную
традицию, то с упрощенным образом якобы чисто индивидуалистической,
даже эгоистической «традиционной эпистемологии» просто нельзя
примириться.
Сказанное не отменяет того, что в составе традиционной и
современной эпистемологии могут встречаться авторы, которые не просто
действуют в рамках избранных именно гносеологией (логикой) всеобщих
(что здесь значит: предельно абстрактных) систем координат, но и
считают полное отвлечение от специального анализа социально-исторических
измерений принципиальной позицией, вытекающей-де из «внесоциаль-
ной» природы (во всяком случае) истинного знания и соответствующего
познания. Такие концепции встречались и встречаются в гносеологии,
пусть редко и не всегда в ясно артикулированной, доказательной форме.
Отечественные и зарубежные исследования... * 229
Но когда гносеология сосредотачивается именно на
индивидуальном субъекте и утверждает, что возведение в ранг «субъектов»,
«агентов» познания каких-то других «единиц» (социальных групп, народов,
общества как такового) может иметь разве условный, так сказать,
виртуальный характер и не может отменить факт центрирования реальных
процессов познания вокруг действительных индивидов, — то гносеолог,
по моему мнению, поступает правильно в теоретическом и
методологическом отношениях. И маркирование такой позиции термином
«индивидуализм», который нагружен множеством посторонних обсуждаемому
делу, не подразумеваемых самими эпистемологами смысловых
коннотаций и ассоциаций, представляется серьезной ошибкой тех
представителей социальной эпистемологии, которые на такой дилемме настаивают и
даже делают ее своеобразным фундаментом своей дисциплины.
Ошибка, по-моему, состоит также и в непонимании или забвении
того, что оба дисциплинарных подхода — гносеологии
(эпистемологии) и социально-исторических концепций, в число которых входит
социальная эпистемология, — по природе своей могут и должны быть не
дихотомически противостоящими, а взаимодополнительными. По
сути дела, в истории мысли, взятой в целом, так и случилось. В
традиционных гносеологических учениях их создатели концентрировались в
основном — хотя, как показано, не исключительно — на исследованиях
познавательных действий индивидуальных субъектов, рассмотренных в
их всеобщих характеристиках, «как бы» независимых от конкретных
социально-исторических реалий. При этом «редукция» именно в
гносеологии данных пластов социальных взаимодействий тоже была по-своему
оправдана, ибо и такие всеобщие черты существовали и существуют, и
известная независимость субъектов познания, скажем, ученых, от
некоторых конкретных социально-исторических реалий тоже является
фактом. Так, познание физических законов и их содержание
рассматривается математиками, физиками и другими учеными вне зависимости
от форм правления в их государствах или от других конкретных
социальных факторов. Чтобы работать в науке, ученые должны становиться
в известном смысле «всеобщими» индивидами. От чего и отправляется
гносеология. Но эта независимость даже от реалий общества и истории
имеет свои границы. А в общем, принципиальном плане тезис о
центрировании познания вокруг реальных, действительных индивидов как
познающих субъектов не только не составляет конкуренции по
отношению к социально-историческому подходу, а напротив, при правильном
его истолковании и развитии, т. е. при принятии, объяснении исходной
социально-исторической природы индивидуальных когнитивных
действий и усилий образует прочную основу соответствующих концепций.
И в философской традиции, как отмечалось, был частично уловлен тот
факт, что всеобщность подразумевает не внесоциальность субъектов,
а как раз интерсубъективное значение их познания и знания, не их
внеисторичность, а как раз особую трансисторичность их деятель-
230 •
Раздел III
ности. (Попутно отмечу, что в современных исследованиях немецкой
классической философии основательно проработан и обобщен материал,
свидетельствующий о содержательной включенности измерений
интерсубъективности в различные, по видимости лишь метафизические или
гносеологические, работы Канта, Фихте, Шеллинга и, быть может, в
особенности Гегеля.)
Уже в XIX, но еще больше в XX вв. принципиальная
взаимодополнительность обоих подходов сделалась и «междисциплинарной»
взаимодополнительностью: наряду с гносеологией (эпистемологией), никак ее не
отменяя и не подменяя, стали появляться, разрастаться в своем объеме
и значении социально-философские, социологические (иногда на погра-
ничьи с философией, логикой) дисциплины или дисциплинарные
области. Что они самоопределялись в отличие от существовавших ранее
подходов и дисциплин, — факт вполне естественный. Но что на этом пути
возникли резкие дихотомии, в том числе обсуждаемого здесь типа,
принадлежит, по моему мнению, к числу издержек и ошибок в целом
плодотворного процесса обогащения исследований знания и познания учетом
социально-исторических измерений и форм.
Вернемся к более конкретному контексту концепций
представителей социальной эпистемологии. Ф. Китчер, с постулата которого мы
начали данный параграф, констатирует: от дилеммы индивидуального-
социального, от осуществленного-де только в социальной эпистемологии
«отрицания редукции социального» (Ph. Kitcher. Op. cit. P. 112) можно
двигаться разными путями. Эти расходящие, даже «контрастирующие
концепции социальной эпистемологии» названный автор описывает
следующим образом.
Имеется, говорит Китчер, «минимальная (minimal) социальная
эпистемология». Главное исходное ее утверждение: «Индивид —
первичный субъект познания. Приписывание знаний (какому-либо)
сообществу означает, что делается допущение относительно эпистемическо-
го статуса членов сообщества» (Ibidem. Р. 113). Другое, уже более
частное допущение, принадлежащее к этому же типу, касается надежности
(reliability) знаний, почему вся концепция именуется «версией,
принимающей в расчет надежность знания» (a version of a reliabilist account of
knowledge). Допущение это состоит в следующем: надежность
процессов (познания), которые приводят некоего субъекта X к его
верованиям, зависят от некоторых свойств и действий других агентов (Ibidem).
Ф. Китчер дает здесь ряд полезных разъяснений. Если речь идет о
теории знания/познания, то различие в подходах ее и социальной
эпистемологии зависит, по его мнению, от того, к каким именно из различных
типов процессов, генерирующим верования (belief-generating processes),
обращается исследователь. Есть «частные стандарты надежности»
знаний — например, правила функционирования суда и судебных процедур,
работы лабораторий, повседневного распространения информации — и
эти «аспекты идентификации, несомненно, включают вопросы социаль-
Отечественные и зарубежные исследования... * 231
ной эпистемологии», пишет Китчер (Ibidem. Р. 114), ссылаясь на
теоретически и практически важную работу А. Голдмана 1991 года «Эписте-
мический патернализм: коммуникационный контроль в правовой сфере
и общество»1. Но самое существенное — в том, что, по Китчеру, в целом
«социально-эпистемологический проект состоит в исследовании
надежности различных типов социальных процессов. Раз мы признаем, что
индивид формирует верования, основываясь на информации, собранной
другими, возникают серьезные вопросы относительно тех условий,
которые должны быть созданы, чтобы сообщество имело своей обязанностью
формировать консенсус по какой-либо особой проблеме — это вопросы,
касающиеся разделения мнений и когнитивного усилия внутри
сообщества, и вопросы о правильной атрибуции власти». Китчер
предупреждает, что будет обращаться к обрисованному полю проблем, определяя его
как «изучение организации когнитивного труда» (Ibidem. Р. 114).
Нельзя не увидеть и не отметить своевременности и
притягательности проекта социальной эпистемологии в этих описанных Китчером
более конкретных аспектах. Надежность знания и информации,
надежность их источников — важнейший вопрос в обществе, которое именует
себя информационным. От надежности знаний, получаемых каждым из
нас, передаваемых другим индивидам и звеньям разделения труда, и,
соответственно, от надежности знаний и информации, получаемых нами от
других индивидов, в прямом и глубоком смысле зависят не только
благосостояние людей, но, вместе с накоплением чрезвычайных ситуаций,
и сама их жизнь. Между тем при различных информационных же
шумах относительно значения информации и теоретические, и
практические исследования систем разделения, организации, совершенствования
именно когнитивного труда и когнитивных сторон всякого труда пока
еще весьма немногочисленны, фрагментарны. Отсутствует
артикулированный запрос обществ, государств и различных сфер деятельности на
такое изучение. Социальная эпистемология здесь идет в фарватере —
по крайней мере в том отношении, что она отстаивает необходимость,
значимость таких исследований и сейчас делает акцент на проблеме
надежности знания, информации и выработке соответствующих
критериев. Не лишена смысла и идея о том, что следует сплачивать в особые,
междисциплинарные сообщества (communities) людей, специально
занятых в различных сферах сбора, артикулирования, обобщения знаний
и информации, но реализующих немало сходных или однородных чисто
когнитивных, организационных и иных задач. Китчер называет их
«сообществами тех, кто занимается познанием» (communites of knowers).
(Отвлекаюсь здесь от того, что примеры реализации если не данного
предложения, то самой объективной потребности уже имеются. Они
проявились, например, в консолидации так называемой когнитологии и
1 Goldman A. Epistemic paternalism: Communication control in law and Society//
Journal of philosophy. 88. 1991. P. 113-131.
232 •
Раздел III
быстро сплачивающегося сообщества «когнитологов». Оценка степени
содержательности или, наоборот, скороспелости, поверхностности «ког-
нитологических» работ не входит в мою задачу.) Что касается проекта
Китчера, то напрашивается (помимо одобрения) и критическое
замечание. Ведь надежность знания — при всей огромной значимости этого
фактора — далеко не единственный аспект, который может и должен
волновать современное общество. Поэтому обоснованы возражения тех
авторов, которые считают абсолютизирование данного или какого-либо
другого аспекта неоправданным. Между тем, что еще будет доказано
далее, немало конкретизированных проектов социальной эпистемологии
страдает тем недостатком, о котором применительно к философии
говорил В. Соловьев, критикуя метод «отвлеченных начал». Он состоит в
том, что какому-то одному аспекту, «отвлеченному» от множества
других и самостоятельно изучаемому (а в науке и не может быть иначе),
придается значение главного, иногда и единственного «первоначала» — что
может стать препятствием для развития той или иной научной,
философской области.
Вернемся к рассуждениям Китчера.
Его разобранные разъяснения и собственные тезисы вписываются
в рамки подхода первого типа, все-таки опирающегося на постулат об
индивидуальном субъекте как единственном «первичном» субъекте
познания.
Второй подход, как его презентирует Китчер, связан прежде всего с
пересмотром исходной — он считает: «индивидуалистической» —
предпосылки. Из отсылок видно, что автор имеет здесь в виду целую
когорту авторов, а именно Дж. Роуза (Rouse)1, Б. Латура (Latour)2 и Д. Блура
(Bloor)3. Согласно Китчеру, позиция этих авторов «приглашает нас
коренным образом преобразовать традиционную картину, согласно
которой знание продуцируется индивидами, могущими быть зависимыми в их
эпистемических усилиях от других индивидов, и [заменить эту картину
другой], согласно которой индивид получает знание, распространенное в
сообществе (community-wide knowledge), посредством признания
характеристик того, что было произведено индивидами» (Ibidem. Р. 117).
Описывая этот подход, Китчер справедливо отмечает, что он часто остается
плохо проясненным. Собственные прояснения и дополнения Китчера
состоят в следующем: точкой отсчета в рамках второго подхода становятся
не индивид и его знания, познания, как это было в традиционной (или
современной традиционалистской) эпистемологии и как все же обстоит
дело в концепциях сторонников первого подхода, а сообщество и «знание
сообщества» (community knowledge).
1 Rouse J. Knowledge and Power: Toward a Political philosophy of Science. Ithaca: Cornell
University Press, 1987.
2Latour В. Science in Action. Cambr., Hass. 1987.
3 Bloor D. Knowledge and Social Imagery. London, 1976; 2 edn. Chicago, 1991.
Отечественные и зарубежные исследования... * 233
Дополнительные характеристики такого подхода мы получим далее,
когда будем специально рассматривать концепции группового субъекта
и группового разума — тогда мы подробнее обсудим позиции его
сторонников.
Еще одно существенное размежевание традиционных позиций,
концепций в теории познания и социальной эпистемологии, а также внутри
этой последней касается стержневого вопроса о природе истинного
(научного) знания и его отношения к развитию общества и истории. Главное
расхождение — опять-таки между традиционной эпистемологией и
социальной эпистемологией — Китчер фиксирует так: «Традиционалисты
исходят из того, что понятие истины эпистемически независимо, и мы не
должны сводить понятие истины к тому, что люди знают, во что верят,
или к тому, что принимают члены общества. Именно эта эпистемическая
независимость понятия истины побудила сторонников радикальной
версии в социальной эпистемологии порвать с традицией» (Ibidem. Р. 119-
120). (Я вынуждена оставить в стороне другие интересные рассуждения
и описание в работе Китчера, поскольку они выходят за рамки
обсуждаемой здесь дихотомии индивидуального-социального.)
Дихотомия «индивидуального» и «группового» знания
и познания
Интересную концепцию, в центре которой находится проблема
соотношения индивида и социальных групп как «агентов» познания,
предложил Филипп Петтит. В работе с характерным названием «Группы со
своими собственными разумами» (Group with Minds of Their Own) он
определяет некоторые внешние социальные причины, заставляющие
поставить вопрос о духе, разуме по-новому — уже на уровне и в стиле
«социальной онтологии».
Мы далее увидим, что социальная эпистемология группового
познания, постоянно имея в виду теоретические интересы более общего или
более конкретного диапазона, одновременно активно вторгается в
обсуждение «эпистемических» (т. е. связанных именно с познанием)
проблем различных областей практической социальной деятельности. Так,
Ф. Петтит, имея в виду интересующие его связи и аспекты «группового
познания», говорит о так называемом доктринальном парадоксе,
приводя в качестве примера практику юриспруденции. Речь, например, идет
о случаях, когда суды, состоящие из многих судей, должны принимать
окончательное и как бы согласованное решение на основе той
стандартной процедуры, в соответствие с которой сначала высказываются
индивидуальные их решения по тому или иному делу, а потом уже
«обобщается», «агрегируется» общегрупповое решение. Автор убедительно
доказывает, сколько тут может быть разных вариантов и сколь часто
«общий» результат может быть ненадежен — а в отношении
осуждаемых лиц несправедлив, фатален. Другое «измерение» — так называемая
234 •
Раздел HI
дискурсивная дилемма, связанная с различными способами, методами
генерализации в случаях значительного разброса суждений.
Ф. Петтит мыслит если не разрешить, то предложить одно из
разрешений подробно описанных трудностей и дилемм, опираясь на новые
теоретические, методологические процедуры именно в духе социальной
эпистемологии.
Перед лицом многих трудностей, похожих на описанные дилеммы,
группы могут выбирать разные стратегии. Первая из них — повышение
индивидуальной ответственности членов группы (Ibidem. Р. 175). Но они
могут предложить и «дисциплину разума на коллективном уровне» —
тем самым избегнув риска «коллективно» прийти к решению, которое
большинство их или даже все они отвергают на индивидуальном
уровне. «Коллективизация разума» и предложена Ф. Петтитом как
альтернатива, при которой, во-первых, группы удостаиваются «онтологического
признания в качестве интенционального и персонального субъектов»
(Ibidem.); во-вторых, выстраивается тщательное исследование
особенностей «группового разума», имеющее большое и теоретическое, и
практическое значение.
Описывая типы социальных групп в их разнообразии, Петтит
специально выделяет «purposive groups», т. е. группы, преследующие
совершенно определенные, артикулированные цели. Относительно их
деятельности подробно выписывается стратегия действий, которые в конечном
счете — через дискуссии, проверки, обновления процедур и т. д. — как
раз и ведут к выработке «коллективного разума», основанного на
коллективных осуждениях, которые постоянно приводятся в согласованную и
обновляемую целостность.
Затем Петтит вводит различение «естественных» (natural) и
«институционализированных» (institutional) личностей. Здесь —
теоретический (и для самого автора практически важный) ход, требующий нашего
особого внимания.
О «естественных», т. е. (как бы) реально существующих и
действующих личностях, всегда говорила и говорит теория познания. А вот
разговор об «институциональных личностях» может показаться по меньшей
мере необычным.
Это на первый взгляд странное решение аргументируется
следующим образом. «Здесь защищается требование, согласно которому
социальные объединения (integrates) должны рассматриваться в
качестве личностей (persons), на равных с индивидуальными
человеческими существами. Но это, разумеется, совмещается с
признанием того, что институциональные личности отличаются от естественных
личностей столь же сильно, сколь они напоминают друг друга» (Ibidem.
Р. 188; курсив мой. — Н. М.). Различия ясны: «институциональные
личности» — это не центры восприятия, или памяти, верований и желаний.
Институциональные «личности» формируют свой коллективный разум
(mind), но делают это в ограниченном смысле ответа на цели своих объ-
Отечественные и зарубежные исследования...
•235
единений. «Институциональные личности — это искусственные
творения, чьи ответы могут быть руководимы разумом, но не спонтанным
образом, характерным для индивидуальных человеческих существ, а
только способом приложения социальных усилий» (Ibidem).
Из дальнейших разъяснений Петтита, впрочем, уясняется, что дело
сводится к следующему: все же нет никаких особых, специальных
«личностных» носителей группового, в том числе институционального разума
помимо всех «нас» как обычных, «естественных» человеческих существ.
Скорее, есть некоторые интенционально, идеально полагаемые
«институциональные профили», которые возможны в тех случаях, когда «мы»
становимся членами соответствующих групп, коллективов, институций,
не переставая «конституировать» собою «отдельные объединяемые
коллективами личности».
При всех возможных упреках в непроясненности, некоей
«виртуальности» подобных формулировок относительно «институциональных
личностей» считаю по-своему оправданным и даже первостепенно важным
именно в рамках социальной эпистемологии размышлять и делать
выводы о современных измерениях «коллективизирующего разума».
Соответствующие механизмы — мы все это чувствуем — все равно работают,
действуют сами по себе. Впрочем, дело ведь не только в вызовах
современности: подобные институциональные (формальные и неформальные)
механизмы, нацеленные на выработку тех или иных форм
«коллективизирующего разума», действовали и продолжают действовать на
протяжении всей человеческой истории. Например, все религиозные
общины и институты — помимо конкретных организационных мер — всегда
сплачивались системой ценностей, установлений, догм, ритуалов,
«священных текстов», которые, действительно, были в истории и остаются
сегодня своего рода «коллективизирующим разумом» по отношению к
действиям, сознанию, миру чувств и мыслей отдельных людей,
примыкавших и примыкающих к подобным объединениям.
Но в наши дни значение механизмов «коллективизирующего
(социализирующего и т. п.) разума» неизмеримо возросло — по мере того,
как индивиды, населяющие разные страны, переставали быть более или
менее изолированными агентами, «единицами» лишь в малой степени
институционализированного, «корпорированного» труда и включались
в перекрещивающиеся системы самых различных формальных и
неформальных институтов, корпораций (в новом смысле), объединений,
ассоциаций в рамках экономики, политики государства и
гражданского общества. Сегодня вопросы о том, как социализируются
познавательные процессы, как растущая институционализация влияет на
их формы, результаты, как она преобразует мир действия и познания
отдельных «естественных» индивидов — все эти и многие другие очень
важные вопросы-вызовы должны осмысливаться и философско-социоло-
гической теорией, в частности, теорией социальной обусловленности,
природы познания и знания.
236 •
Раздел III
Особое внимание исследователей, представляющих социальную
эпистемологию, привлекла сфера выработки суждений. Если в логике,
эпистемологии суждения, в самом деле, рассматриваются как
формируемые, используемые, преобразуемые отдельными индивидами (и этот
подход вполне правомерен), то социальная эпистемология справедливо
подчеркивает значимость других факторов, от коих теория познания и
логика традиционно отвлекались. (Правда, современная логика их уже
отчасти учитывает.) Эти факторы столь же реальны: ведь индивиды в
практике своей жизни не просто и не только вырабатывают суждения
«для себя», но так или иначе согласовывают их с суждениями других
людей о тех же вопросах и проблемах. В случае учета данных факторов
вырабатывается специфический социальный подход к теме суждений,
как раз и интересующий социальную эпистемологию.
Теория «согласуемых (агрегированных) суждений»
(Кристиан Лист)
Профессор Лондонской школы экономики и политических наук
Кр. Лист приобрел известность благодаря целому ряду книг и статей,
опубликованных в XXI в. и посвященных проблемам «агрегирования»,
т. е. согласования знаний и суждений, а в более общем смысле —
осмыслению «публичного разума» с точки зрения поисков согласия в
коллективно-групповых процессах познания, действия, когда (если
использовать заглавие его работы) многие действуют как один (the Many
as One1). Сам Кр. Лист относит свои исследования к социальной
эпистемологии, определяя специфику теории «согласуемых (агрегированных)
суждений» как «рамку для изучения институционального оформления в
социальной эпистемологии»2.
Проблематика, исследуемая и обсуждаемая Кр. Листом, достаточно
важна и интересна. Ведь в современном обществе (в определенном
смысле также и в обществе как таковом, включая традиционное) реальный
процесс познания, осуществляемый действительными индивидами,
неотделим от включенности «этого» (и любого) индивида в какие-либо
социальные группы. Более того, как отмечает Лист, «многие эпистемические
задачи выполняются не индивидами, а группами со множеством
участников — такими, как панели экспертов, комитеты и организации» (Ibidem),
что подразумевает необходимость учета самых различных структур,
форм, процедур познания, «дополнительных» к чисто индивидуальным
познавательным действиям. Например, это специально изучаемые
Листом «„процедуры согласования" (агрегации), т. е. механизм для
согласования индивидуальных верований или суждений и их превращения в
1 List Christian. On the Many as One / / Philosophy and Public Affairs. 33 (4). P. 377-390.
2 List Chr. Group Knowledge and Group Rationality: A Jadgment Aggregation
Perspective / Episteme; a Journal of social epistemology. 2005 / Vol. 2. № 1. P. 25.
Отечественные и зарубежные исследования...
•237
соответствующие коллективные верования или суждения, одобряемые
группой как целым» (Ibidem. Р. 25).
Эти институциональные проблемы и процессы, отмечает Лист, уже
привлекли внимание исследователей (дается отсылка к обзору работ,
которые даны в книге «The Theory of Institutional Design». Cambr., 1996, —
ее эдитором был P. Гудин (R. Goodin)). Социальная эпистемология тоже
уделяла внимание данной проблематике, свидетельствует Кр. Лист,
ссылаясь на работу А. Голдмана «Групповое знание против групповой
рациональности»1, в которой автор, один из «столпов» социальной
эпистемологии, пришел к ряду важных заключений, касающихся
животрепещущих исторических событий последнего десятилетия. «Например, провал
секретных служб США в вычленении некоторых выводов из доступной
информации, имевшейся перед 11 сентября, часто приписывался
трещинам в их институциональных структурах, и в ответ на события 9 сентября
были предложены различные институциональные реформы» (Ibidem).
Мне представляется, что западные «социальные эпистемологи»
нащупали здесь весьма важную линию исследований, выводящих в
социальную практику и помогающих осмыслить неудачи в формировании
фундаментальных для общества ценностей, оценок, суждений,
предложений, которые часто являются результатами групповой деятельности и
должны быть таковыми, однако содержат серьезные погрешности против
внутренних законов «групповой рациональности». Социальная
эпистемология пытается внести свой конкретный вклад в нормализацию таких
процессов и процедур, предлагая теоретические, а одновременно
практически ориентированные разработки.
Кр. Лист привлекает внимание к двуединым
социально-историческими процессам, которые он называет соответственно «вызовом
рациональности» и «вызовом (по)знания» («rationality challenge», «knowledge
challenge»). «„Вызов рациональности" возникает тогда, когда группы
коллективно разделяют те верования или суждения, которые должны
быть согласованы. „Вызов знания" возникает тогда, когда эти верования
и суждения должны следовать определенным истинам» (Ibidem). Иными
словами, о «вызовах рациональности» для Листа речь идет в случае
согласования именно групповых суждений, а о «вызовах знания» — в
случаях, когда осмысливаются требования, внутренним образом исходящие
от самого («истинного») знания.
Для оправдания, прояснения выстраиваемой специальной
концепции, опирающейся на эти понятия, Лист — что для нас здесь
представляет особый интерес — определяет ее отношение к общей проблематике
и методам социальной эпистемологии, как она сложилась к настоящему
времени. «Эпистемология — это изучение процессов, через посредство
которых приобретаются и обосновываются (justified) знания. В традици-
1 См.: Goldman A. Group Knowledge versus Group Rationality: Two Approaches to Social
Epistemology // Episteme. 1. P. 11-22.
238 •
Раздел III
онной эпистемологии агентами, обретающими верования или знания,
являются индивиды, и релевантные процессы обычно включают
отдельного (single) индивида. Примеры таких процессов — восприятие, память,
рассуждение», — пишет Лист (снова ссылаясь на упомянутую работу
Голдмана 2004 года).
Социальная эпистемология выступает то в более, то в менее
радикальных формах. «В социальной эпистемологии менее радикальной
формы эпистемическим агентом все еще является индивид, но в фокус
помещаются процессы усвоения верований или знаний, включающие
социальное взаимодействие. Примеры таких процессов — свидетельства,
дискурсы и распространение информации в социальных сетях» (Ibidem.
Р. 26). В этом случае Лист ссылается на «классическую» для данного
направления книгу Голдмана «Knowledge in a Social World» («Знание в
социальном мире». Oxf., 1999). Если речь идет о концепциях социальной
эпистемологии в «более радикальной форме», то в них, по утверждению
Листа, «эпистемическими агентами» считаются состоящие из многих
лиц социальные группы, которые способны добывать верования или
знания. Ибо именно группы «рассматриваются, — как пишет Голдман, —
как субъекты для атрибуции знания» (Goldman А, 2004. Р. 12).
Поднятый здесь Листом (вслед за А. Голдманом, Ф. Петтитом, — он
также и соавтор Листа — и другими авторами) вопрос принадлежит к
центральным проблемам дискуссий не только внутри
анализируемого направления, но и внутри разнообразных учений с более широкими
рамками, так или иначе принимающих в расчет факторы социальной
обусловленности, природы знания и познания. В самом деле,
исследования нередко приводят к необходимости точнее, определеннее ответить
вот на какую сторону вопроса о реальных агентах познания: следует
ли утверждать, что ими только и единственно являются индивиды или
что «агентами» познавательных процессов являются также социальные
группы?
Кр. Лист, не разделяющий постулатов наиболее радикальной
групповой теории относительно «агентов» познания, приводит ряд
возражений против самых крайних тезисов — о том, что «истинными» агентами,
реальными субъектами познания являются-де только социальные
группы. Он (полагаю, справедливо) указывает, что многие группы
определенного вида (ad hoc формирующиеся, диффузные, случайные — например,
толпа, собравшаяся на какой-то площади) по большей части не имеют
и не могут иметь сколько-нибудь оформленного коллективного знания.
«Эпистемическими агентами», считает Лист, могут быть только так или
иначе институционально оформленные, формальные или неформальные
групповые структуры. Их примером может быть, скажем, «панельная»
работа группы экспертов, которая публикует совместный отчет о
некоторых научных проблемах, или какой-либо комитет (центрального) банка,
делающий финансовые предсказания, и т. д. (Ibidem. Р. 26).
Отечественные и зарубежные исследования...
•239
Оценивая рассмотренные ранее дискуссии в свете моей концепции
социальной природы познания, очень кратко сформулирую ряд тезисов.
• Следует, как я считаю, четко подчеркнуть мысль о том, что
единственными реальными агентами, субъектами (по)знания всегда были
и сегодня остаются действительные, живущие в то или иное время, в той
или иной социальной среде конкретные индивиды — т. е. человеческие
существа, одновременно обусловленные природой и
социально-исторические как по своей сущности, так и по всем предпосылкам,
условиям, процессам, структурам, результатам своей познавательной
деятельности. Этот тезис сохраняет силу и применительно к индивидам,
объединенным в социальные группы, в том числе институционализированные.
В обоих случаях, как мы видим, индивид как субъект, агент всякого и
в любое время осуществляемого познания сразу, изначально
характеризуется как социальное по своей природе человеческое существо.
Причем обе взаимосвязанные черты — что он именно индивид, живое,
смертно-конечное существо и что он одновременно имеет
социально-историческую природу — в развитой концепции должны быть подробно,
тщательно, структурно рассмотрены и в их специфике, значимости, и в
их взаимосвязи.
• Но если объединение индивидов в группы, коллективы, организации
(от семей до институтов, формальных и неформальных ассоциаций) не
снимает первостепенного значения ранее высказанного тезиса о
реальном субъекте познания как индивидуальном существе, то
применительно к групповому познанию оно означает различные необходимые
модификации.
Да, и в социальных группах реальными «агентами» познания,
добывающими знания и далее обрабатывающих их, все равно являются
конкретные индивиды. Однако, объединяясь в те или иные, в высшей степени
разнообразные группы, эти реальные индивидуальные агенты иногда
специально, целенаправленно и именно вместе, коллективно производят —
в ответ на те или иные частные задачи, вызовы — именно «групповое
знание» (в неисчислимо многих случаях, на некоторые из коих указали
«социальные эпистемологи»). Полагаю, что говорить в данном случае о
«групповом знании» отчасти оправдано и практически важно. И все
же — повторю еще раз — мы серьезно ошибемся, как теоретики, как
«социальные эпистемологи», если забудем, что реальными агентами и здесь
всегда остаются вполне конкретные индивиды, что они играют свою
(неодинаковую) роль в оформлении якобы безличного, «общего», «единого»
результата. И мы ошибемся как граждане общины, государства, мира,
если поддадимся чрезвычайно опасной тенденции современной
цивилизации — анонимизации, обезличивания знания, в том числе
экспертного, что ведет к безответственности, к сокрытию того бесспорного
факта, что у каждого по видимости группового, коллективного суждения,
предложения, объяснения имеются по крайней мере главные «авторы».
Поэтому в происходящем в отдельных ветвях социальной эпистемологии
240 •
Раздел HI
узаконивании и выдвижении на первый план некоего анонимного
«группового субъекта» таятся немалые практические опасности.
Сказанное не отменяет большой теоретической и практической
значимости того вопроса, который поднимает и анализирует Кр. Лист —
вопроса о том, каковы процессы, механизмы «согласовывания»
(агрегирования) суждений. И ведь они имеют значение не только в
непосредственно-групповых процессах действия и познания, но и тогда, когда
любой индивид выходит как бы «один на один» с миром, его вещами,
событиями, процессами и познает их. Ведь и тогда он так или иначе «имеет
в виду», интендирует других людей, другие группы, а в конечном счете
весь социум, поскольку предпосылки, формы, методы и т. д. для
формирования «своих», «новых» суждений восходят к неисчислимо многим
процессам деятельности практически бесконечного числа индивидов1.
Вместе с тем, если «агрегация», согласование с суждениями других людей в
«моих» внутренних познавательных действиях могут до поры до времени
оставаться скрытыми, то в непосредственно-групповых действиях они
становятся и первостепенно важными, и более явными, именно
актуальными и непосредственно уловимыми.
Не случайно же Кр. Лист анализирует интересующие его
механизмы согласования, взяв в качестве примера реальный акт — голосование
людей, которые должны принять большинством голосов весьма
ответственные решения, в коих речь иногда идет буквально о жизни и смерти
людей (скажем, в случае экологических и иных катастроф). Я не могу
здесь вдаваться в конкретику анализа Листа. Можно лишь в общем виде
представить его позицию и поле поисков.
Предположим, эксперты должны были вынести решение
относительно каких-то конкретных экологических угроз. Причем решение
быстрое, важное, оперативное. И вот они существенно разошлись в своих
мнениях и суждениях. Дополнительная трудность тут в том, что от
каждого из них, с одной стороны, ожидалось «универсальное», т. е. научно
обоснованное суждение, что требовалось его систематическое
обоснование и что каждому из экспертов была обещана анонимность. Лист
исходит из того, что невозможность достигнуть согласованного,
«агрегированного» суждения может подвигнуть к отказу от одного, двух, а то и
трех поставленных условий, т. е. универсальности, систематичности или
анонимности. Иными словами, познавательные, эвристические,
эпистемологические стороны вынесения коллективных (скажем, экспертных)
суждений, с одной стороны, приобрели огромное значение, несравнимое
с прежними этапами и эпохами, а с другой стороны, они очень плохо
изучены на теоретических уровнях. К сожалению, от практических
(например, экспертных) сфер заказы на такие осмысления и изучения почти не
1 Эти проблемы применительно к естествознанию, математике активно
разрабатывались Э. Гуссерлем в его поздних произведениях, причем они брались во всей их
противоречивости (что я показываю в ряде своих работ последнего времени).
Отечественные и зарубежные исследования... • 241
исходят. Социальные эпистемологи исследуют их скорее по собственной
инициативе, исходя из внутренних потребностей своих концепций и
методов.
До сих пор мы — в соответствии со свойственным всему нашему
исследованию общим теоретическим, близким к философии интересам —
разбирали некоторые теоретические подходы, дискуссии, решения
социальной эпистемологии. Есть немало других ее исследований, которые
я, увы, была вынуждена оставить за кадром данной работы. (Планирую
более обширную, в том числе основанную на самых новых материалах
работу о социальной эпистемологии.) В заключение данной главы
поставлю вот какой вопрос: какие философские, логические учения и
исследования последних десятилетий и как именно вписались в осмысление
интересующей нас здесь проблематики социальной природы и
обусловленности знания и познания? Разумеется, здесь ответ на этот, заведомо
широкий, вопрос не может быть полным, тем более исчерпывающим.
Между постпозитивистской философией науки
и социально-историческим подходом к знанию и познанию
(идеи Дж. Роуза)
Новейшие интерпретации знания и познания, включая социально
ориентированные концепции типа социальной эпистемологии, так или
иначе опираются на опыт философии и логики XX в. — в том смысле,
что они используют малейшие подвижки в сторону понимания
когнитивных измерений человеческой деятельности как коллективных,
социальных, исторически обусловленных. С этой точки зрения интересно поды-
тожение подобных подвижек у одного из наиболее значительных авторов
80-90-х гг. прошлого века и нашего столетия Дж. Роуза (Rouse), которое
можно найти в его книге с красноречивым названием «Ангажируя
науку: как понимать ее практики философски» (Engaging Science. How to
Understand its Practices Philosophically. Ithaca and London, 1996).
Философские дискуссии о науке, отмечает Роуз, оформились к
концу XX в. в четыре главных подхода. Один восходит к философии Венского
кружка, охватывая логический эмпиризм довоенного периода,
программы К. Поппера и его последователей в США и Великобритании, включая
постпозитивистскую традицию, воплотившуюся во влиятельных работах
М. Хэнсона, Т. Куна, Ст. Тумлина, П. Фейерабенда, М. Полани, И. Ла-
катоса, М. Хессе, Л. Лаудана. Второй подход назван у Роуза
«историческим рационализмом» и увязан с концепциями X. Патнема, а также
И. Смарта, Г. Максвелла. Третий определен как «научный реализм» и
соотнесен с работами Д. Шапере (Shapere), Р. Миллера, П. Галисона,
А. Файна (Fine), позднего Л. Лаудана. Четвертый подход назван
«социальным конструктивизмом», и к нему отнесена как раз обсуждавшаяся
ранее «сильная программа» Эдинбургской школы, а также уже
упоминавшиеся антрополого-этнографические исследования (К. Кнорр-Цети-
16 Н. В. Мотрошилова
242 •
Раздел III
на), «дискурсивный анализ» (Б. Латур и С. Вулгар) и другие специальные
направления.
Движение вместе с Роузом в его анализе всего этого трудно
обозримого и высоко специализированного материала не соответствует теме
данной работы. Вместе с тем далее я предполагаю (опираясь на книгу
Роуза и другие работы) обсудить вопросы, которые напрашиваются из
предшествующего рассмотрения социальной эпистемологии. В этой
отрасли современных исследований знания и познания есть свои увязки с
новыми и новейшими (конца XX и начала XXI вв.) философскими
учениями, включая философию науки, философию научного знании и
познания. И вот здесь приходится иметь в виду то, что социальная
эпистемология приняла в расчет позитивистскую или постпозитивистскую
традиции. Ссылки на соответствующих авторов есть у всех, по сути, главных
представителей социальной эпистемологии, как бы они ни спорили друг
с другом.
Вместе с тем социальная эпистемология и другие
социально-исторические подходы к науке во многом родились на волне разочарования
в позитивизме, вернее, в постпозитивизме, господствовавшем в
философии во второй половине XX в. Об этом пишет Роуз: «Философы науки в
последние годы все больше разочаровывались в том наследии, которое
было последовательно накоплено центральными традициями
логического эмпиризма, постэмпирического историзма и конвергентного
реализма. Несмотря на фундаментальные конфликты среди приспешников этих
философских традиций, многие критики обратили внимание на то, что у
них общего. Все три традиции предложили единую нарративную
структуру, чтобы внутри ее писать интерналистскую или философскую
историю науки. Все эти традиции исходили из того, что фундаментальные
методологические понятия для [анализа] науки (например, объяснение
и редукция/трансляция) в их важных отношениях инвариантны
применительно к различным дисциплинам и их историческому развитию. Все
они настаивали на унитарных и иерархических отношениях... между
теорией и наблюдением и экспериментом. Наконец — и это, возможно,
наиболее важно — все три традиции находили, что общая теория
значения (meaning) и /или референтности (reference) доказала: без нее нельзя
обойтись в философском понимании науки»1.
Среди тех, кто возражал против этих традиций, Роуз упоминает
известных авторов, пишущих о проблемах философии науки, которые были
активны уже 20 лет назад: это, например, Р. Миллер, Л. Лаудан, Д. Ша-
пере, П. Галисон, А. Файн, которые ратовали за то, чтобы мнимо
«унитарные» и «всеобщие» методы, отработанные позитивизмом и
постпозитивизмом, специфицировать применительно к различным научным
доменам. Далее, эти авторы открыто выступили против аисторических ориен-
1 Rouse Joseph. Engaging Science. How to Understand Its Practices Philosophically.
Cornell University. 1996. P. 43.
Отечественные и зарубежные исследования...
•243
таций других представителей постпозитивизма: в отличие от последних,
они сочли необходимым соотнести методологические размышления, как
будто «чисто» философские и методологические, с историческим
размежеванием «модерна» и «постмодерна» — а это перекликалось, отмечает
Роуз, с изысканиями Ю. Хабермаса, Ф. Лиотара, Ф. Джемисона.
Роуз считает, что для социально-исторического объяснения не
только традиционных нововременных, но и «современных» (XX в.) духовно-
интеллектуальных продуктов, включая исследуемые здесь концепции
знания и науки, важно выяснить, какие основополагающие
эвристические ценности характеризуют «modernity» т. е. это самое «новое время»
(о трудностях перевода «modernity» на русский язык я уже говорила в
своих работах). Роуз дает удачный (хотя не исключающий критики и
дополнений) свод этих ценностей:
(1) секуляризация, т. е. отделение важнейших сфер человеческой
жизни от религии и теологии; (2) конституирование «человечества»
(humanity) как единства индивидов и превращение его в «субъекта»
познания, источник всех ценностей и «владельца» всех прав и
человеческого достоинства; (3) развитие различных доменов знания и
практики (право, экономика, наука), автономия которых институционально
признается и защищается; (4) рационализация — формальные
процедуры познания, исчисления распространяются все более интенсивно и
широко; (5) быстрый рост науки и технологии как квинтэссенции
человеческих практик и соответствующего понимания природы как
инертного объекта познания; (6) экспансия и концентрация продуктивных
ресурсов; (7) распространение нововременной («modern») европейской
культуры по всему земному шару; (8) самореферентная нарративная
легитимация «модерна» как прогрессивной реализации свободы и истины
(Ibidem. Р. 49).
Вопреки тому, что позитивистские и постпозитивистские
программы бывают отнесены не к модерну, а к сменившему его постмодерну,
Роуз считает: «они вполне дома в нарративном поле модерна» (р. 51 ). Мы
отвлечемся здесь от этого по-своему интересного спора, не относящегося
к непосредственно обсуждаемым здесь темам.
Для нас здесь важен вопрос о том, объединилась ли критика
позитивизма с движением в сторону комплексного социально-исторического
понимания знания, познания, науки. Определенная поддержка такого
движения есть, хотя она в случае названных выше авторов не привела к
существенному пересмотру тезиса о решающем значении «методологии»
в деле продуцирования научных истин. Роуз описывает ситуацию
следующим образом: «Шапере раскрывает сложность в отношениях
между теорией и наблюдением, которую не признавали ни позитивисты, ни
постпозитивисты. Но все они (названные ранее авторы, а также Лаудан,
Галисон. — H. М.) настаивают на том, что такие факторы могут быть
решающими в понимании эпистемического или когнитивного развития
научного познания. Такие факторы как сети и формы коммуникации,
16*
244 •
Раздел III
институты, ресурсы или материальная культура..., несомненно влияют
на то, что в какой-то данный момент (actually) говорят и делают ученые,
но они концептуально отличаются от методологических факторов,
которые управляют (или идеально управляют) научной практикой; и они не
вносят вклада ...в прогресс, рациональность и/или истинность научных
достижений» (Ibidem. Р. 61).
Критикуя по разным линиям концепции названных авторов, Роуз
видит их главный теоретический изъян в том, что попытка
«переориентировать», «поправить» позитивизм в его теориях науки, знаний, методов
окончилась, по существу, ничем, потому что собственные теории этих
авторов остались вне главного требования времени — выйти за пределы
отграниченной сферы науки в социально-историческое поле, причем как
для целей объяснения самой науки, ее принципов, методов и знаний, так
и для научного понимания социальных реалий. Конечно, Роуз не забыл
об «интервенциях» ряда позитивистов, прежде всего Поппера, в сферы
общественно-политической жизни. Однако, как пишет Роуз,
«постпозитивистская философия науки сильнейшим образом выступила против
такой политической ангажированности. Многие социологи все еще
критикуют нормативные установления философии науки, но как убежденно
доказывал Стив Фуллер (Fuller), ее ценностные заботы по большей части
остаются ретроспективными и эстетическими. Современная философия
науки может предлагать легитимацию современной научной практики,
но это предоставляет минимальные ресурсы для критицизма и
трансформации» (Р. 120). Роуз весьма красноречиво и остроумно выписывает
ходячие возражения философов, методологов науки против «выхода»
исследований в социально-историческое пространство. Ну зачем, дескать,
перемещать научное знание и познание в социальный и исторический
контекст, «открывать границы» теорий философии науки (to open their
borders), если можно, наоборот, привычно держать эти границы на замке?
Роуз признает: эта задача — «открыть границы» — сложная и
деликатная, но решать её нужно. Ученый полагает решать её с помощью
своей теории, в центре которой — понятие «научных практик» (scientific
practies), которое он начал вводить и прояснять в книге «Знание и власть.
К политической философии науки. (Knowledge and Power; Toward a
Political Philosophy of Science. Ithaca, 1987.)
Содержание понятия «практика» Роуз определяет с помощью
следующих тезисов:
- практики состоят из длящихся во времени событий или процессов;
- практики — это образцы (patterns) вовлеченностей в отношения с
миром, но они существуют благодаря их повторению или продолжению;
- эти образцы поддерживаются только благодаря установлению и
усилению «норм»;
- практики, следовательно, поддерживаются только в борьбе с
(оказываемым им) сопротивлением; он всегда включают отношения к власти;
- конститутивная роль сопротивления — дополнительная причина,
почему практики открыты постоянному преобразованию;
Отечественные и зарубежные исследования... * 245
- «агентства» и «агенты» (действующие лица), которые участвуют в
практиках, частично конституированы тем, как развивается участие в
них; и в этом смысле «практики» — более базисная категория, чем
«субъект» или «агент»;
- практики — это скорее не образцы (patterns) действий, но
смысловая конфигурация мира, внутри которой имеют место действия, и эти
практики включают объекты, на которые воздействуют, и рамки в
которых действия осуществляются;
- практики одновременно являются материальными и дискурсивными;
- практики открыты в пространственно-временном смысле, что
означает: он не могут быть демаркированы или заключены ограниченными в
пространстве и времени регионами мира (P. 134-135)1.
Концепция Роуза — одна из попыток включить новые, и именно
социально-исторические, даже политические моменты в понимание
познания; знак того, что и в абстрактные логико-эпистемологические
рассуждения философии науки врывается ветер перемен.
Отрадно, что современные отечественные авторы достаточно
широко и своевременно освоили новые, на рубеже XX и XXI веков
пробившиеся тенденции, ввели их в оборот российской философской мысли.
Примером могут служить работы авторов, относящихся к школе В.
Лекторского, над новейшими тенденциями эпистемологии, например, над
современными концепциями конструктивизма, или разработки и
дискуссии молодых исследователей под руководством И. Касавина, в
частности, богатый материал, сконцентрированный в книгах и журналах этой
успешной группы. Но эти работы выходят за временные границы моей
книги.
Снова вернемся к ранним этапам развития исследовательской
философии нашей страны в соотнесении с западной мыслью.
1 Концепция Роуза связана, в отдельных случаях солидарно, в других критически,
с работами X. Дрейфуса, Р. Брандома, П. Винча.
РАЗДЕЛ IV
БЫЛИ ЛИ НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ПОСЛЕВОЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ ЗАМЕЧЕНЫ НА ЗАПАДЕ?
В принципе, тенденции деидеологизации и движения к
исследовательской деятельности, которые мы в этой книге подробно рассмотрели
применительно к отечественной философской мысли 50-60-х гг. XX в.,
были замечены и в западной мысли. Прежде всего их заметили западные
философы, которые в соответствующих центрах специально занимались
тем, что и у нас, и у них именовалось «советской философией». Так,
Густав Веттер, известный католический философ и советолог,
специализировавшийся на очень суровой и во многом справедливой критике
официозной философии нашей страны и по преимуществу отвергавший ее как
идеологический суррогат, и тот к середине 60-х гг. разглядел и высоко
оценил новые тенденции: «Необходимо признать, что
специализированная философская литература в СССР за годы после смерти Сталина
обнаружила удивительный взлет. За эти последние годы между советскими
философами были развернуты дискуссии, которые касались множества
проблем и находились на прекрасном философском уровне»1.
Особый интерес представляют написанные западными философами
(в отдельных случаях на самом рубеже 60-х и 70-х гг.) произведения, в
которых упомянутый Г. Веттером содержательный сдвиг уже довольно
заметной части отечественной философии от идеологизма к
философскому профессионализму был не просто зафиксирован, но и раскрыт,
рассмотрен с тщательностью, детальностью, на основе обширного
материала, с удивительной объективностью.
CASE STUDY:
КНИГА ФРАНЦУЗСКОГО АВТОРА Б. ЖЕ «СОВЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЗАПАД*
Я попытаюсь показать и доказать это, используя в качестве объекта
конкретного анализа опубликованную в 1969 г. книгу (молодого тогда)
французского автора Бернара Же «Советская философия и Запад.
Исследование тенденций и значения современной советской философии
(1959-1969)»2.
1 Wetter G.A. L'idéologie soviétique contemporaine // Matérialisme dialectique et
matérialisme historique. T. 1. 1965. P. 10.
20 Jeu Bernard. La philosophie soviétique et l'Occident. Essai sur les tendences et sur la
signification de la philosophie soviétique contamporaine (1959-1969). Mercure de France,
1969. Далее при цитировании этой книги указания на страницы даются прямо в моем
тексте. Я благодарю В. Метлова, который обратил мое внимание на данную работу и
предоставил ее в мое распоряжение.
Были ли новые тенденции в послевоенной отечественной... * 247
Книга Же в целом ряде отношений уникальна. Мало сказать, что она
опирается на обширный материал: охват персоналий и произведений,
характеризующих развитие философии нашей страны за десятилетие
с 1959 по 1969 гг. и взятой, в частности, с точки зрения новаторских,
профессиональных философских тенденций, тогда по сути дела не имел
прецедентов. Да и сейчас он в ряде отношений остается
непревзойденным. Достаточно упомянуть для начала, что «Био-библиографический
указатель», помещенный в конце рассматриваемой книги, занимает
более 100 страниц (!) убористого шрифта, включает перечень важнейших
действующих лиц отечественной философии и их появившихся в 60-е гг.
книг, статей, выступлений в дискуссиях. Знатоки истории
отечественной философии 60-х гг. XX в. вряд ли обнаружат в этой Библиографии
какие-либо существенные упущения. Надо учесть, что сегодня многие
из этих работ стали библиографической редкостью и вряд ли доступны
нашим, а тем более зарубежным читателям. Итак, можно с
уверенностью утверждать: даже у нас в стране ни тогда, к концу 60-х гг., ни
позже — вплоть до сего дня — не появилось подобного же по объему,
охвату многостороннего и тщательного историко-философского обобщения,
подтверждающего интересовавший нас факт существенного обновления
философской мысли нашего отечества. То обстоятельство, что
обобщения и оценки сделаны западным автором и что философия,
развивавшаяся тогда в СССР, была предметно сопоставлена с философской мыслью
Запада, повышает специфическую ценность исследования, проделанного
Б. Же. Фундаментальную книгу, им написанную, можно сравнить разве
что с более поздней работой Э. Ван дер Звеерде. Если бы работы обоих
авторов были своевременно переведены на русский язык!
Что касается моей книги, которую читатель держит в руках, то
имеет место прямая тематико-содержательная перекличка моей работы и
исследования французского автора. Замечу, что о книге Б. Же я
узнала после того, как раздел моей работы о 50-60-х гг. уже был написан, и
подивилась тому, сколь многое роднит наши подходы и оценки. Здесь,
кстати, еще один пример «спонтанной параллельности», о коей раньше
уже шла речь по иным поводам.
Между нашими книгами, вместе с тем, имеются существенные
различия. Книга Б. Же вышла уже в 1969 г., так что автор не мог знать о
последующем развитии и философии, и всего мира. В 50-60-х гг. только
начали обнаруживаться те тенденции, которые меня интересовали в
первую очередь и трудное, противоречивое развитие которых я могу
проследить вплоть до наших дней. Б. Же по самым свежим следам уловил их
с удивительной проницательностью. Он с одобрением упоминал,
цитировал первые работы философов молодых тогда поколений. Но его — в
отличие от меня — интересовал весь массив нашей философской
литературы 50-60-х гг. XX в. А в ней оттенки различий между
ортодоксальной, идеологически ориентированной литературой и философией новой
волны еще не проступили вполне явно. Особую роль здесь сыграли два
248 •
Раздел IV
противоречиво связанных обстоятельства. С одной стороны, под
влиянием XX съезда КПСС и оттепели 60-х гг. в официозной философии также
произошли некоторые изменения; и даже философские идеологи,
известные своим крайним догматизмом, заговорили о необходимости
«творческих подходов», о «свободе» мысли, «плюрализме» мнений, о гуманизме.
С другой стороны, начинающие авторы, как сказано, писали и
публиковали свои первые книги и статьи, в которых их неортодоксальные
исследовательские устремления и творческие возможности ещё не были
выражены столь чётко и явно, как это было сделано несколько позже. В целом
книга Же может быть полезна тем, кто интересуется как раз целостным
реальным контекстом развития нашей философии в 50-60-х гг.
Кратко упомянув об основных этапах развития «советской
философии» после Октябрьской революции, выделив самый длительный и
«наименее интересный» догматический период (1932-1956), Же
сосредоточил свое внимание исследователя на десятилетии 1959-1969 гг. — тогда
самом новом, именно «современном» периоде. Несмотря на
сохраняющееся официальное господство марксистско-ленинской идеологии и
философии, период этот заметно отличался от предшествовавших этапов.
О нем французский исследователь сказал так: этот период
«характеризуется антидогматизмом и децентрализацией философии» (р. 27). Факт
децентрализации, или «географической дисперсии», как выражается Же,
подтверждаемый ссылками на работы наших авторов и на конкретные
данные (они взяты, например, из журнала «Вопросы философии» —
1966, № 2, № 9; 1967, № 1), уже обсуждался в моей книге в его
принципиальной значимости. Города с философскими центрами, о которых
подробно писал Же, —это, наряду с Москвой, Ленинград, Минск, Киев,
Томск, Ростов, Алма-Ата, Тбилиси, Ереван, Ташкент, Душанбе, Баку,
Свердловск, Красноярск, Пермь, Харьков и др. В частности,
французский исследователь ссылается на подсчеты экспертов, касающиеся
количества статей в «Вопросах философии» за 1952-1967 гг. с
распределением по городам; в этом списке лидируют, наряду с Москвой,
Ленинград, Киев, Свердловск, Тбилиси, Ростов, Алма-Ата. Упомянуто также о
наличии активно работавших отделений философии в Академиях наук
союзных республик.
Конечно, заключает Же, это пока только внешние факты и
проявления. Требуется вникнуть в содержание работы (увеличившегося отряда)
докторов, кандидатов философских наук, сотрудников университетов и
академических учреждений. Французский исследователь и посвящает
такому содержательному анализу свою объемистую (около 500 страниц)
книгу. Ее первая часть называется «Советская философия, понятая как
исторический факт» (с главой «Философия как наука и как идеология»).
Вторая часть — «Бесконечность и значимость» — включает главы с
рассмотрением проблематики материи в естественнонаучном и
философском ключе; с анализом науки в философии науки и в учении о науке как
общественно-историческом явлении.
Были ли новые тенденции в послевоенной отечественной... * 249
Раздел третий посвящен проблематике морали, гуманизма, религии,
свободы, ценностей. В четвертом разделе речь идет о теории познания,
логике, системном характере философии. Уже отсюда видно, что
философская мысль, развивавшаяся тогда в СССР, взята не в узких
(существовавших и тогда догматических) рамках диалектического и исторического
материализма (хотя и этому материалу уделено немалое внимание), а в
том значительно расширившемся и обновленном
проблемно-тематическом развороте, о котором подробно рассказывалось в предшествующих
разделах моей книги. Я не могу остановиться здесь на всех разделах
исключительно интересной книги Же. Ограничусь лишь некоторыми
темами, в наибольшей степени перекликающимися со специфической
проблематикой моей книги.
«ФИЛОСОФИЯ КАК НАУКА И КАК ИДЕОЛОГИЯ»
Не надо было особой прозорливости, чтобы увидеть в советской (в
полном смысле этого слова) философии чисто идеологические блоки,
слои, тенденции. Но от западных авторов требовались особые
качества — объективность, доброжелательность, терпимость, чтобы
разглядеть в философии нашей страны усилия и результаты внеидеологиче-
ского, а также антиидеологического, антидогматического характера. Эти
качества как раз и отличают анализ Же в его рассматриваемой книге.
Для старшего поколения отечественных философов, скорее всего, будет
интересно узнать, как наши западные коллеги воспринимали, оценивали
те или иные пережитые нами события. К примеру, в анализируемой здесь
книге подробно разобрана во многих отношениях примечательная
дискуссия в «Вопросах философии» в связи с публикацией (в № 1 за 1962 г.)
статьи М. Айера, который был назван «ведущим представителем
английской школы позитивизма». Замечу, что к дискуссиям в книге Же вообще
привлечено особое внимание, и понятно, почему: в отличие от
предшествовавших периодов, когда термин «философская дискуссия» чаще
всего был равнозначен идеологическим проработкам и разносам в
философии, в 50-60-х гг. то и дело разгорались внутрифилософские дискуссии
по конкретным проблемам. Далеко не все они были содержательными,
действительно теоретическими; нередко споры велись вокруг
надуманных, схоластических конструкций диамата и истмата. Но уже сам факт
дискуссий в прежде чисто «директивном» пространстве философии, тем
более если это были проблемно-теоретические споры, был замечен и
высоко оценен западными авторами.
Вернемся к дискуссии по статье Айера.
Главное для Айера как представителя позитивизма (того периода)
состояло в том, чтобы отказать философии в праве именоваться наукой.
Же подробно рассмотрел возникшую дискуссию и, в частности,
разобрал выступления И.В. Кузнецова и Б.М. Кедрова. Позиции этих двух
250 •
Раздел IV
ведущих тогда специалистов, успешно работавших в сфере философии
науки, воспроизведены в их объективной логике и с акцентом на
специфическую и в то же время несомненную, а для специалистов в области
философии естествознания и первостепенно важную, внутреннюю
научность философии (р. 39-44). И хотя Же не дал своих четких оценок
развернувшейся полемике, его изображение позиций наших ученых вполне
сочувственное. (Правда, без каких-то интервалов и переходов
французский исследователь дал своего рода «врезку» с материалом из довоенного
периода — о столкновении «механицистов» и «диалектиков», от чего мы
здесь отвлечемся.)
Особое внимание в первом разделе Же уделил «борьбе с
догматизмом». В предшествующих главах моей книги я смогла лишь упомянуть об
этом весьма интересном измерении, о принципиально важной тенденции
в развитии отечественной философии 50-60-х гг. XX в. В своей книге Же
представил богатый материал на эту тему, тщательно разобрав,
многократно процитировав работы П. Копнина (р. 64, 79), Э. Ильенкова (р. 65,
78), А. Зотова, Н. Алексеева, Э. Юдина (р. 66), И. Нарского (р. 67). Он
заметил, что даже Ф. Константинов или М.Иовчук, которые и тогда, и
после были своего рода профессиональными догматиками в философии,
в 60-е гг. заговорили о «творческой и независимой мысли», о
«плюрализме» и т. д. Же обратился к тем статьям, конференциям,
документам, которые свидетельствовали о критике в отечественной философии
«сталинистского схематизма». Характерен самый пристальный интерес
к статьям в «Вопросах философии» середины 60-х гг. (например, к
прекрасным антисталинистским статьям П. Копнина и других авторов). Же
правильно подметил и то, что для ряда наших авторов формой отказа от
сталинизма было обращение к наследию Ленина как якобы теоретически
плодотворному теоретическому противовесу.
Большой раздел книги Же посвящен проблемам философии науки
(глава II «Бесконечность. Проблемы и контроверзы», глава IV «Наука и
значимость прогресса»). В нем разбираются, цитируются произведения
Е. Чудинова, С. Мелюхина, Т. Свечникова, П. Копнина, академика Г. На-
ана, Н. Овчинникова, В. Свидерского, А. Кармина, М. Омельяновского,
А. Вострикова и других известных тогда исследователей. Что же
касается работ целого ряда авторов этой специализации, которые
только-только начали публиковаться, причем зачастую не в московских или
петербургских изданиях, то к концу 60-х гг. они, к сожалению, еще не попали,
да и вряд ли могли попасть в руки французского исследователя.
Я опущу большой раздел книги Же, посвященный проблемам
религии и веры, который в ту пору развития отечественной философии
проходил, в основном, по ведомству «атеизма».
Для специалистов может представлять большой интерес
тщательный разбор в книге Же материала, проблем теории познания и логики
(секция IV, главы VIII—X). Здесь разбираются работы и идеи широкого
круга авторов. Это А. Востриков, А. Касымжанов, П. Копнин, В. Биб-
Были ли новые тенденции в послевоенной отечественной... * 251
лер, А. Спиркин, М. Розенталь, С. Рубинштейн, И. Нарский, В. Тюх-
тин, В. Лекторский, Г. Батищев, А. Огурцов, Л. Науменко, А. Леонтьев,
Б. Кедров, А. Арсеньев, Э. Ильенков, В. Давыдов, Ф. Вяккирев, К. Ба-
крадзе, А. Зиновьев, В. Асмус, М. Строгович.
Какие проблемы и подходы привлекли особый интерес французского
исследователя? Это были коренные вопросы гносеологии, которые
традиционно включались и в теорию познания марксизма-ленинизма —
проблема истины и заблуждения, проблема противоречия и
противоположностей и др. Однако Же выделил и проанализировал в нашей философии
50-60-х гг. ту проблематику, которая стала предметом ряда оживленных
дискуссий. Первая из них была связана со статусом и содержанием
теории отражения, вторая касалась философско-гносеологических подходов
к кибернетике, третья затрагивала проблемы соотношения формальной
и диалектической логики.
О них я могу упомянуть лишь очень кратко.
Теория отражения, которая традиционно была исходным пунктом
и центром марксистско-ленинской (скорее ленинско-сталинской)
гносеологии, в 60-х гг. переживала серьезный кризис. Как было (кратко)
показано в моей книге, актуальной стала теория деятельности, которую
многие молодые авторы противопоставляли как раз примитивной, плоской
теории отражения. У последней, однако, были свои защитники, причем
не только кондовые диаматчики, но и те авторы, которые хотели спасти
ленинскую теорию отражения с помощью Марксовой теории
деятельности. Спор между сторонниками различных подходов привлек внимание
французского исследователя.
Что касается темы «Мышление и кибернетика», то дискуссия
вокруг нее разгорелась уже после того, как в 1952-1953 гг. кибернетику
отвергали, именуя ее «лженаукой». Иной раз можно прочитать или
услышать, что это философы инициировали и организовали травлю
кибернетики. Вопрос требует специального анализа, в который мы не можем
здесь вдаваться. Но, во всяком случае, сомнительно, что
ниспровергателей кибернетики можно считать философами. Же правильно отмечает,
что борьба с кибернетикой в интересующее его время, к счастью, уже
ушла в прошлое. И даже достаточно консервативный «Философский
словарь» (1963 года издания) определял кибернетику как «синтетическую
дисциплину», как замечательный пример междисциплинарного
научного исследования нового типа. Же приводит как положительный пример
также и новаторскую статью «Кибернетика» в «Философской
энциклопедии» (т. 2, стр. 502), авторами которой были А. Берг, Н. Бернштейн,
Б. Бирюков, А. Китов, А. Напалков, А. Спиркин, В. Тюхтин (т. е.
признанные специалисты по кибернетике вместе с психологами,
философами, логиками).
В то время во всем мире велись дискуссии вокруг тем: может ли
машина мыслить? Можно ли сконструировать искусственный мозг,
который по своим возможностям будет превосходить мозг человеческий?
252 •
Раздел IV
В отечественной науке и философии подобные дискуссии тоже велись,
причем противоположные точки зрения сталкивались весьма резко. Же
анализирует, например, внутрифилософские споры между Д.
Дубровским, с одной стороны, и А. Арсеньевым, Э. Ильенковым, В. Давыдовым,
с другой стороны, а также дискуссии с участием других авторов (С. Ива-
нов, Л. Тепловидр.).
В заключение этого case study хотела бы отметить, что при всей
тонкой, конкретной проблемной дифференцированности анализа
французский автор книги о «советской философии» в целом воспринимает ее как
единую, монолитную, именно «советскую». Это был, кстати,
распространенный советологический штамп, так или иначе сохранявшийся даже
в серьезных, добросовестных работах, о чем свидетельствует также
заключительная глава, в которой Же, рассуждая о возможном будущем
«советской философии», сводит все к вопросу о грядущих судьбах
марксизма-ленинизма, в частности и особенности его философского домена.
С таким подходом, как выяснилось, не удалось заглянуть в будущее. Но
ведь более ясно для стороннего взгляда это стало не в 60-е гг., а
десятилетиями позже. Впрочем, и мы сами в те десятилетия — могли ли мы
предвидеть, что придется пережить нашей стране, а вместе с нею и
отечественной философии?
РАЗДЕЛ V
ШТРИХИ К ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИМ
ПОРТРЕТАМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФИЛОСОФОВ
(эссе и интервью)
МЕРАБ МАМАРДАШВИЛИ
Мераб Мамардашвили и Ж.-П. Сартр
О диалоге Мераба Мамардашвили с Жаном-Полем Сартром1
В 2007 г. вышла моя книга «Мераб Мамардашвили: философские
размышления и личностный опыт», в который предпринята попытка
более или менее целостного анализа различных сторон и пластов
многомерного творческого наследия этого выдающегося философа. Вместе с тем в
поле зрения всегда оставался удивительный строй личности Мераба
Константиновича, отразившийся не только в его действиях и поступках, но
также в образе мыслей и в самой направленности его философии. Если
сформулировать это предельно кратко, то он был свободный человек, и
его философия была философией свободы; но жить ему пришлось в такой
стране и в такое время, где и когда свобода была утеснена и оттеснена,
подавлена и унижена. Сама эпоха и сами социальные условия ставили
незаурядного мыслителя перед вызовом: утвердить, развить, защитить
философию свободы, причем не на уровне призывов, лозунгов, а на
уровне обстоятельного теоретического анализа. Одновременно он стремился
сформировать, развить и сохранить себя в качестве самостоятельной,
свободно мыслящей личности. Декартовское cogito преобразовывалось
в формулу: я мыслю, следовательно, я свободен; или — я свободен,
следовательно, я могу, я должен самостоятельно мыслить, что оказывалось
сложным, драматическим долгом жизни, если и выполнимым, то при
существовании и действии буквально «на разрыв», с угрозой
безвременной гибели (в случае Мамардашвили и других наших коллег, близких,
друзей — увы! — оказавшейся более чем реальной). Из этой основной
коллизии, с которой не мог не сталкиваться в нашей стране ни один твор-
1 Впервые опубликовано в: Мераб Константинович Мамардашвили / Под редакцией
Н. Мотрошиловой. М.: РОССПЭН, 2009. С. 319-348.
254 •
Раздел V
ческий человек, ни один человек духа, да и вообще ни одна личность,
так или иначе настроенная на волну свободы, и рождались, по моему
мнению, все другие парадигмы и антиномии философских концепций и
размышлений, пусть и созданных за «колючей проволокой»
идеологического режима, но этому режиму, в конечном счете, неподвластных.
Далее я постараюсь подтвердить эту общую оценку, остановившись
(в дополнение к систематическому анализу, представленному в
вышеупомянутой книге) на специальной странице творчества Мамардашвили
в период его жизни, который совпал с социальной волной
освобождения в 60-х гг. прошлого века: эта весьма интересная и примечательная
«страница» — критический анализ у Мераба Константиновича
экзистенциалистской философии вообще, философии Жана-Поля Сартра, в
частности и особенности. При этом я позволю себе такую «вольность»,
как полемика с Мерабом — с давно ушедшим от нас и очень дорогим мне
лично человеком. Но ведь в историко-философских работах мы
привычно «полемизируем» с фигурами давно ушедших в прошлое эпох.
«Разговор» с Мерабом Мамардашвили теперь уже стоит в одном ряду с тем,
выражаясь словами Гуссерля, «историческим воспоминанием», объектами
которого в наше время были и остаются выдающиеся феноменологи или
экзистенциалисты, как и представители других направлений, что само
по себе уже является весьма высокой оценкой сделанного в философии
Мерабом Мамардашвили, нашим соотечественником и современником.
Мамардашвили об экзистенциализме: на примере Ж.-П. Сартра
Текст, на который я буду опираться вначале, — статья
Мамардашвили «Категория социального бытия и метод его анализа в
экзистенциализме Сартра» (опубликована в сборнике «Современный
экзистенциализм. Критические очерки». М., 1966).
Необходимо принять в расчет исторический контекст: середина
60-х гг. XX в. — деятельность и умонастроения поколения
шестидесятников. Еще не стряслись чехословацкие события 1968 г., и в нашу страну,
на которую снова с интересом и надеждой смотрят западные
интеллектуалы, особенно левой ориентации, устремляются некоторые из них —
например, с начала 60-х почти ежегодно приезжают Ж.-П. Сартр и Симона
де Бовуар. В СССР их радушно принимают. В частности, Сартр
появляется в редакции журнала «Вопросы философии». И кому же как не тогда
работавшему в редакции Мерабу Мамардашвили, свободно владевшему
французским языком и прекрасно знавшему экзистенциалистских
авторов, было вести с ним разговор и полемику? Впрочем, это была не первая
встреча Сартра и Мамардашвили. Судя по всему, еще в 1963 г. они
беседовали в редакции журнала «Проблемы мира и социализма» в Праге,
где тогда работал и жил Мераб Константинович — по его собственным
словам, «в золоченой клетке». В Москве встреча с Сартром была из ряда
вон выходящим событием для тогдашней философской жизни — и не
случайно рассказы о нем передавались из уст в уста. Если суммировать
Штрихи к историко-философским портретам... * 255
то, о чем (достаточно согласно) рассказывали очевидцы, получается вот
что. Между Мерабом Константиновичем и Жаном-Полем развернулась
интереснейшая и весьма содержательная полемика (она переводилась
на русский язык), и за ней с напряжением следили собравшиеся. Сартр
был удивлен и впечатлен, ибо, скорее всего, не ожидал встретить в СССР
таких знатоков западной литературы, в частности, литературы
экзистенциалистской, и таких сильных, оригинальных мыслителей-оппонентов,
как Мамардашвили. В споре, как считали очевидцы, сила и тонкость
аргументов были скорее на стороне Мераба Константиновича. Во всяком
случае, диалог велся, что называется, на равных. Дело было не только в
Сартре. Ю.А. Замошкин рассказывал мне о своей беседе с Л. Альтюссе-
ром в Париже в 1968 г. Этот видный французский философ
признавался: встречи, беседы, диалог с Мамардашвили столь глубоко впечатлили,
даже потрясли его, что некоторое время после них он мысленно как бы
продолжал говорить, полемизировать с Мерабом. Вернемся к
Московской встрече Мамардашвили с Сартром.
Мне неизвестно, делился ли Сартр, приехав домой, своими
впечатлениями от диалога с Мамардашвили. Но нисколько не удивлюсь, если
он этого не сделал: ведь так поступали и другие знаменитые западные
философы, в разное время посещавшие нашу страну и в устных беседах
выражавшие удивление и даже восхищение уровнем теоретической
работы, знаний, осведомленности в мировой литературе некоторых наших
философов. Однако вернувшись на родину, они «забывали» публично,
тем более письменно сказать об этом. (В своей книге о М. Мамардашвили
и в публикуемой далее статье к юбилею В. Подороги, впервые
напечатанной в альманахе «Синий диван» за 2006 г., я подробнее разбираю вопрос о
причинах несправедливости, снобизма западных философов в отношении
бесспорных философских достижений российских авторов. Как упоминаю
о немногих отрадных исключениях из этого печального правила.)
Так вот: статья Мамардашвили, о которой пойдет речь, встроена
в ряд событий 60-х гг., говорящих о реальном взаимодействии лучших
представителей отечественной философии и западной мысли, все равно,
было ли оно очным или заочным. Об очной полемике мы только что
говорили. Заочный же диалог с модным тогда экзистенциализмом
продолжился в статье, которую Мераб Константинович посвятил анализу
социально-исторических корней, специфики и возможной судьбы
экзистенциалистской философии, сфокусировав этот анализ на особом феномене
философского и литературного творчества Жана-Поля Сартра.
Социально-историческая обусловленность и суть
экзистенциализма
В философии экзистенциализма М.Мамардашвили выделяет,
акцентирует следующие его черты и, соответственно, социальные корни:
• Делается акцент на «субъективно-деятельную, внутренне
индивидуальную сторону исторического творчества», что сопряжено со стрем-
256 •
Раздел V
лением экзистенциалистов «дать анализ внутренней, духовно-волевой
организации действия его индивидуальных субъектов»1.
• Главный мотив, а также предмет и задача этой философии — «стать,
так сказать, «внутренней совестью» всякого общественного и
индивидуального действия» (с. 150).
• Фундаментальная идея М. Мамардашвили, касающаяся объяснения
сути, равно как и социальных корней экзистенциализма, состоит, говоря
коротко и тезисно, в следующем: пусть экзистенциализм и достаточно
профессионален в философском отношении, но он не дает ни
рациональной постановки, ни тем более разрешения занимающих его проблем. Это
зависит от самого типа экзистенциалистской философии.
«Экзистенциалисты просто условным и символическим образом оформляют
непосредственные ощущения, порождаемые реальным общественным процессом
в людях, и сообщают их друг другу и публике так же непосредственно,
как это делают птицы, перекликающиеся на ветках друг с другом; они как
бы обмениваются сигналами и шифрами: «экзистенция», «раскрытость
бытия», «подлинность», «страх», «заброшенность», «другое» и т. д. —
магические слова понятного им обряда!» (с. 151).
• Далее Мамардашвили фактически зарисовывает проистекающий
отсюда характерный парадокс, антиномию экзистенциализма. С одной
стороны, экзистенциализм «как идейное течение» есть лишь
систематизация «определенного стихийного опыта сознания в буржуазном
обществе» (с. 150). С другой стороны, дорогие представителям этого течения
«сигналы и шифры», которые отработаны в сложных для восприятия ква-
зи-философских терминах, непонятны для непосвященных и делают из
экзистенциализма своего рода философскую «масонскую ложу», к коей
могут быть фактически причастны лишь представители интеллигенции,
да и из них только те, что профессионально имеют дело «с сознанием (со
своим собственным или чужим)» (с. 151). Мамардашвили вместе с тем
считал, что экзистенциализм — это не академическая философия,
«которую излагают с кафедр и уточняют с помощью профессорских
словопрений (хотя и словопрений здесь много)» (с. 151). Снова и снова говорится:
экзистенциаизм — «способ фиксирования определенных
умонастроений, достаточно широко распространенных в буржуазном обществе»
(с. 151-152).
Итак, Мамардашвили (в этой относительно ранней своей работе)
соотнес понятия и категории экзистенциализма скорее не с
традиционными философскими сюжетами, а с «самовыражением» личности
определенного типа, с некоторым ее особым душевным складом — и, в
частности отсюда он вывел склонность экзистенциализма, прежде всего
французского, к использованию языка литературы и искусства во имя
1 Мамардашвили М.К. Категория социального бытия и метод его анализа в
экзистенциализме Сартра // Современный экзистенциализм. Критические очерки. М., 1966.
С. 149-150. Далее при цитировании страницы в моем тексте приводятся по этому изданию.
Штрихи к историко-философским портретам...
•257
«массового распространения своих идей, какого не знала, пожалуй, ни
одна буржуазная философия» (с. 152).
Какой же это человек, какая это личность? Ответ Мамардашвили —
сообразованный как с текстами самих экзистенциалистов (в пример не
случайно приводятся литературно-философские сочинения: «Тошнота»
Сартра, «Миф о Сизифе» Камю), так и с достаточно типичными
формулами авторов, писавших в то время об экзистенциализме (в том числе
и в нашей стране — вспомним ранние работы П.П. Гайденко, Э.Ю.
Соловьева, Г.М. Тавризян) — выглядит следующим образом. Объект и
герой экзистенциализма — это человек, «вытесняемый из исторического
мира именно объективными социальными отношениями, раздавленный
ими, отчуждаемый от самого себя, разрушаемый как личность стихийной
игрой вещественных сил в обществе». Вместе с тем поиски
экзистенциалистов велись, согласно Мамардашвили, с той целью, чтобы и такая
личность обретала историческую самостоятельность, возможности
«реализации и развития своего активного индивидуально-творческого начала»
(с. 153-154) и начал гуманизма, человечности.
Теперь зададимся непростым вопросом: сохраняют ли свою
значимость в наше время эти формулировки и определения — через 40 лет
после того, как они были высказаны и выстраданы? А выстраданы
они были потому и в том смысле, что в отличие от ходячей
марксистской чисто идеологической критики экзистенциализма, объявившей его
«реакционной философией страха и отчаяния», выражавшей интересы
буржуазии1, Мамардашвили и другие наши авторы — идя против таких
официозных установок — на путях глубокой, тонкой социологии
познания увязали эту философию с умонастроениями критически и
гуманистически ориентированных, борющихся за свою свободу и
самостоятельность, отчужденных от буржуазного миропорядка
индивидов и общественных групп. Эти идеи разрабатывались столь смело,
умело, активно, с таким творческим напором, что уже с 60-х гг. они если
не полностью доминировали, то были весьма влиятельными в поле того
дискурса, который — увы! — и тогда, и в последующие пару десятилетий
кондово именовался «критикой буржуазной философии». Но это
противоречие, к сожалению, характеризовало все сочинения наших авторов о
западной философии XX века, в том числе и тех лучших, что не устарели
и сегодня. Увы, самой долговременной и прочной всегда бывает извне
навязанная культуре и науке идеологическая рамка, поддержанием
которой бдительно занимались вполне определенные люди и инстанции.
Однако в наше время историческое положение экзистенциализма
в западной и мировой культуре существенно изменилось. В 50-60-х гг.
1 Примером такого подхода является написанная Б.Э. Быховским глава о Сартре в
учебнике «Современная буржуазная философия» (М., 1972), в которой разбор конкретного
материала вплетен в плотную канву идеологических обличений: «отрицание диалектики»,
«разрыв с детерминизмом, рационализмом, объективным научным пониманием
«действительности» (с. 574), «иррационалистическая тенденция» (с. 579) и т. д.
17 Н. В. Мотрошилова
258 •
Раздел V
XX в. это было весьма популярное, можно сказать, остро модное
направление философской мысли. Собственно, на 60-е и, быть может, еще и на
70-е гг. приходился пик его популярности. Книгами Сартра, Камю,
Симоны де Бовуар (прекрасной и, по моему мнению, более талантливой,
мастеровитой писательницы, чем сам Сартр) зачитывались молодые люди и
люди среднего возраста не только на Западе, но и на Востоке. Их
произведения, переводимые на множество языков, начали свое победное
шествие по всему миру. Считаю, что М. Мамардашвили в целом правильно
определил существенную причину успеха экзистенциалистской
литературы и философии. Многие люди не находили себе прочного места в
тогдашнем буржуазном обществе (эта «классовая» характеристика, сегодня
немодная, в основе своей верна, ибо экзистенциалисты жили именно в
этом обществе и с болью, тревогой писали именно о нем).
Персонажи, ставшие героями экзистенциалистской литературы и
философии, были отчуждены от истеблишмента, презирали экспансию
потребительства, и они, действительно, «увидели», признали самих себя
в обобщенных образах охваченного страхом, отчаянием человека, о
котором ярко и выразительно повествовали экзистенциалистские
произведения. Значит, по крайней мере по отношению к тому времени отыскание
связи экзистенциализма с довольно массовыми умонастроениями
западного общества было вполне оправданной линией анализа и критики,
талантливо исполненных в этой и других работах Мераба Мамардашвили.
Добавлю, что вместе с тоже талантливыми, аккуратными в социальном и
идеологическом отношениях исследованиями таких авторов, как Э.Ю.
Соловьев или П.П. Гайденко, в нашей стране рано составился
влиятельный, профессионально качественный, отвечающий мировым
стандартам блок критического анализа экзистенциализма. К сожалению,
на Западе эти работы, как и многие другие отечественные философские
сочинения, не получили достойных их оценки и известности.
Но уже тогда, когда — в духе и стиле тоже популярной в это время
социологии философского познания — социально-исторические корни
экзистенциалистских идей отыскивались в массовых мироощущениях
человека развитого буржуазного общества, появились две
существенных поправки к такому анализу. Во-первых, отечественные авторы и
читатели, жившие в условиях социализма, изучая экзистенциалистов
или работы о них, находили и в себе самих подобные ощущения,
умонастроения, что склоняло к мысли об условности и неуниверсальности
отнесения истоков экзистенциализма только к буржуазному обществу.
(Подобные поправки мы делали и к Марксовой теории отчуждения,
сводящей все дело к условиям капитализма и утопически постулировавшей
устранение отчуждения в социалистическом обществе, уничтожившем
частную собственность.) Поэтому более верной казалась, так сказать,
внеформационная констатация: настроения отчужденности, страха,
отчаяния, одиночества характерны для немалого числа индивидов в
условиях любых формаций — особенно в периоды крутых переломов, болез-
Штрихи к историко-философским портретам,..
•259
ненных переходов от одних социальных порядков к другим.
Подтверждение оправданности такого хода мыслей можно найти в «Феноменологии
духа» Гегеля — в его как бы срисованном с римской истории (периода
возникновения христианства), но подходящем и ко многим другим
эпохам образе «несчастного сознания». И недаром же во Франции — в тот
же период и в рамках того же экзистенциализма — предпринимались
столь же яркие и даже сенсационные попытки нового, именно
экзистенциального прочтения этого великого произведения Гегеля.
Вторая поправка касалась почти однозначного отнесения
экзистенциализма к «стихийному» сознанию и попытки как бы отлучить его от
академической философии. Тут были немалые фактические трудности
и противоречия, которые не замедлили проявиться в
непоследовательности анализа Мамардашвили в разбираемой статье. (Кстати, прочитав
в 1966 г. данную статью, я на полях сборника сделала некоторые свои
критические пометки, которые отчасти совпадают с излагаемыми здесь
поправками.)
Экзистенциализм, в чем я, например, была уверена уже тогда, все
же был академической философией — даже на ранней стадии развития,
когда консерваторы на философских кафедрах, действительно,
встречали его в штыки. Но ведь французский экзистенциализм стал особенно
влиятельным как идейное знамя движения Сопротивления в годы Второй
мировой войны, а также вскоре после неё, когда и в академической
философии ощущалась нужда в преобразованиях, в сближении с «языком
улицы», с обычной жизнью людей, с их обостренными и тревожными
переживаниями, о чем, кстати, прекрасно писал в своих работах Э.Ю.
Соловьев. И впоследствии, когда в 50-70-х гг. Европа, вспомним, стала
двигаться к разрекламированному «государству всеобщего
благосостояния», нашлись довольно широкие слои населения, умонастроениям
которых опять-таки отвечала философия экзистенциализма.
В то время это были, в основном, не обездоленные пролетарии
(которых, к слову, в европейских странах становилось все меньше), а те
обескураженные потребительскими бумами люди с ранее усвоенными (в
том числе благодаря экзистенциализму) духовно-ценностными ориента-
циями, которые принадлежали к старому или новому среднему классу.
По всем прикидкам прежних социальных теорий не они должны были
протестовать, бунтовать в конце 60-х гг. XX в. И тем не менее если не
они сами, то их «избалованные дети» вышли на баррикады,
манифестации в Париже и других столицах Европы в 1968 г. Они были идейными
детьми экзистенциализма — и не только, даже не столько потому, что в
большинстве своем читали, изучали тогда уже преподававшиеся с
большинства философских кафедр и Европы, и Америки, и Азии
произведения ведущих экзистенциалистов, сколько потому, что последним удалось
загодя угадать, описать черты их бунтарского, протестующего сознания.
Ведь это Камю так перефразировал декартовское cogito: я бунтую,
следовательно, я существую; это он написал книгу «Бунтующий человек». Что
17*
260 •
Раздел V
касается Сартра, то его связь с движением «новых левых» была более
сложной. Впрочем, эти «идейные дети», выраставшие на
экзистенциалистской духовной пище, в исторический момент своего бунта более
глубоко и искренне полюбили других духовных вождей; как известно, они
написали на своих знаменах три «М»: Маркс-Мао-Маркузе...
Одна из причин такого поворота к революционаристским авторам
заключалась как раз в том, что неортодоксальная, броская по форме
экзистенциалистская философия все же была и оставалась (и не только для
этих нетерпеливых, растревоженных, не слишком прилежно
учившихся молодых людей) академической, т. е. профессиональной, достаточно
сложной философией. Ведь она не просто и не только «оформляла», на
что напирал Мамардашвили, стихийное сознание и его
«непосредственные» ощущения: экзистенциализм, пусть и сложным, особым образом,
но был вписан в профессиональные философские традиции. И его
категории, его теоретико-философские раскладки — это не одна лишь «запись»
распространенных в том или ином обществе, на том или ином этапе и
истории соответствующих мироощущений и умонастроений. В этой
своей полемике с Мамардашвили я хочу сразу подчеркнуть, что ни М.М., ни
я мы не вкладываем в понимание философии, оформляющей стихийные
мироощущения, никакого негативного смысла. Ибо любой великий
философ в той или иной степени выполнял и выполняет подобную задачу.
Поэтому Сократ, Платон, Аристотель, Фома Аквинский, Декарт, Локк,
Кант, Гегель, Маркс — все они суть также великие или выдающиеся
«оформители» и тех умонастроений, которые пробивались в их время, и
тех, которым суждено было стать профилирующими устремлениями
индивидов на том или ином этапе развития мировой цивилизации.
Однако у философии в таком фиксировании, оформлении
человеческих дум и переживаний всегда была своя специфика, функция, по
существу, совпадавшая с ее главным предметом (продуцированием
всеобщего) и определяемая её языком (философские категории и подчиненные им
понятия). И в этом отношении экзистенциализм со всем его
своеобразием не составляет исключения. Что касается немецкого
экзистенциализма, прежде всего выдающихся мыслителей К. Ясперса и М. Хайдег-
гера, то их принадлежность к сложной, глубокой философии вряд ли
вызывает сомнения (хоть и они, подобно французам, могут быть названы
также и «оформителями» устремлений стихийного сознания). Однако и
французский экзистенциализм (что к работам Сартра применимо в
первую очередь) тоже выступает как сложный синтез профессионального, в
этом смысле академического, философствования и глубоко
философичного литературного творчества (это, кстати, отчасти признает и
Мамардашвили, отмечая высокий философский профессионализм работы
французских экзистенциалистов, но почему-то не придавая данному факту
принципиального значения).
Что Сартр — профессиональный философ, для которого чисто
философская материя работы имела исходное значение, можно было бы под-
Штрихи к историко-философским портретам... * 261
тверждать на примерах его произведений. И это делается во множестве
книг и учебников, в бесчисленных по количеству академических
лекциях, сегодня читаемых в университетах всего мира, где дело без
экзистенциализма теперь уже никогда не обходится, в том числе и в МГУ и других
отечественных университетах, где, слава богу, имеются специалисты,
способные качественно, с опорой на оригинальные произведения,
рассказать о Сартре как незаурядном философе.
Но здесь я поступлю иначе: попытаюсь показать, что главное в
анализируемой статье Мамардашвили — профессиональный диалог с
Сартром вокруг коренных философских проблем, никак не
сводящихся к фиксированию мироощущений стихийного сознания в буржуазном
обществе. Кстати, приступая к этому диалогу, Мамардашвили
фактически смягчает категоричность своего суждения об экзистенциализме
как «простом» оформлении мироощущений стихийного сознания,
оговаривая, во-первых, что есть «некоторая предметная научная область,
которую экзистенциализм уловил в свои спекулятивные сети» (с. 150).
А во-вторых, относительно Сартра тоже делается принципиально
важная оговорка, по сути дела «поправка» к общей схеме: об этом
философе, например, о его работе 1960 г. «Критика диалектического разума»,
(тогда она была «последним словом» философа Сартра) справедливо
говорится, что в ней французский мыслитель «связно и последовательно
переводит культивируемые ими настроения «тревоги», «господства зла»,
«заброшенности», «отчуждения» и т. п. в термины науки об обществе...»
(с. 152). Поскольку Сартр в то время считал и объявлял себя марксистом,
постольку возникал дополнительный вопрос о характере, особенностях
сартровского марксизма. Итак, Мамардашвили, в известной степени
отступая от категоричности своих обобщающих формулировок, нашел
возможность вести содержательный, глубокий и именно
научно-теоретический разговор с Сартром. В этом диалоге есть множество интересных,
ценных и сегодня деталей, теоретических находок. Далее я остановлюсь
лишь на одном векторе спора, имеющем прямое отношение к теме
свободы, профилирующей и для размышлений, творчества Сартра, и для
философствования Мамардашвили. Это коллизия свободы и объективных
социальных условий, с зарисовывания которой — в качестве главной темы
философии и основного личностного переживания Мамардашвили — мы
начали эту статью.
Сартр и Мамардашвили о «материальности»,
об объективных социальных отношениях
Считаю: Мамардашвили одним из первых в нашей литературе
обстоятельно вскрыл то, что ему представлялось главным изъяном
философии Сартра. Речь идет о сартровском описании и анализе
«материально-вещественной» стороны всего существующего — природы,
предметов, созданных человеком, отношений, институтов социального бытия,
идеальных и объективированных продуктов творчества. Мамардашвили
262 •
Раздел V
приводит выразительные (и типичные для Сартра) цитаты из вышедшего
в 1960 г. французского текста «Критики диалектического разума», такие,
например: «Материальность вещи или института есть радикальное
отрицание изобретения и творчества»; материя вообще — это «отрицание»,
это «постоянная угроза нашей жизни» (Цитир. по: Мамардашвили М.К.
С. 183). Мамардашвили справедливо напоминает, что у Сартра природа в
целом, а главное, ее материальная сторона предстает как нечто
изначально чуждое, враждебное по отношению к человеку, даже принадлежащее
к сфере злых «колдовских» чар.
Не буду останавливаться на детально выписанных у Сартра и
точно воспроизведенных у Мамардашвили сторонах этой «околдованности»
материальным, которое в сартровском изображении и предстает как
фундаментальная причина отчужденности человека от всяческой
внешней или «овнешненной» материальности. В данном контексте особенно
интересный момент — обращение Мамардашвили к такому
малоизвестному материалу, как «Пражские беседы» Сартра, где он, в частности,
сопоставляет основополагающие идеи и строй двух своих произведений —
«Бытия и ничто» и «Критики диалектического разума»
(Мамардашвили М.К. С. 186 и далее). Здесь и прорисовывается главная ось
размежевания Мамардашвили (раннего) с Сартром (периода 60-х гг.).
Сам Сартр (если судить по записи «Пражских бесед», на которую
ссылается Мамардашвили) так сопоставил и различил подходы,
главенствовавшие соответственно в первом и втором его сочинениях. Задача в
«Бытии и ничто» состояла, по оценке автора, в определении
«отношения бытия с сознанием» (с. 186). Мамардашвили расшифровал эту
работу Сартра как продолжение традиций феноменологического анализа,
в рамках которого «бытие» предстает как особый структурный элемент
сознания1. Что же касается «Критики диалектического разума», то ее
специфическую значимость автор связывает с решающим движением к
марксизму, а в рамках марксизма — (в данном случае) вот с каким
тезисом Сартра: «...выбор бытия не является в своем исходном пункте
данностью, а имеет своим источником социальную обусловленность. Я тогда
увидел, — продолжает Сартр, — что невозможно дать отчет о
человеческой реальности с ее решениями, ценностями, практикой, не погрузив ее
снова в социальную среду, не рассматривая ее в той ее фундаментальной
реальности, которая заключается в том, чтобы быть от мира сего, быть
определенной своими потребностями и орудиями и связью своих
потребностей с потребностями и орудиями других, т. е. быть определенным
производственными отношениями. Я был, таким образом, приведен за
10 лет от экзистенциализма к марксизму... Необходимо было передумать
1 Здесь мы присутствуем при первых шагах исследования у Мераба Константиновича
феноменологии как метода и философской теории, в оригинальное понимание и
трансформацию которой он внес немалый вклад, что я пыталась раскрыть в своей ранее упомянутой
книге о Мамардашвили.
Штрихи к историко-философским портретам... * 263
все в свете марксизма. Поэтому я написал «Критику диалектического
разума». Я не потерял своей начальной точки зрения» (с. 186-187).
К этой внутренней тенденции развития и трансформации философии
Сартра в поворотные и для него 50-е-60-е гг. Мамардашвили отнесся
серьезно и вместе с тем очень строго. Он как бы отвечал Сартру: это правильно
и хорошо, что взгляд переместился в социально-историческую плоскость,
без чего нельзя анализировать беспокоящие экзистенциалистов
настроения отчужденности, тревоги, страха. Мамардашвили, в то время
увлеченный Марксом и писавший о нем ярко, интересно (это увлечение
разделяли в 50-х-60-х гг. многие наши философы), приветствует движение
Сартра в сторону освоения Марксовых идей. Но оказывается, что одного
только продвижения к социально-историческому объяснению еще очень
мало. Все упиралось в обстоятельное понимание того мира объективных,
материально-вещественных данностей, который и противостоит человеку
в его реальной деятельности, и творится им. Даже в «марксистский
период», когда Сартр обратил свой взор к социально-историческим
измерениям жизнедеятельности человека, он, как полагает Мамардашвили (и
как признает Сартр в самом конце приведенной ранее цитаты), по
существу, не отошел от своей более ранней схемы, согласно которой все, что
обретает материально-вещные, объективированные формы, безусловно и
контрадикторно противостоит, даже противоречит началам активности,
творчества, индивидуальности, одним словом, человеческой свободе. Во
всех отношениях взаимодействия как взаимозависимости (природы и
человека, предметной реальности и человека, одного индивида и Другого,
Иного, социальных институтов и индивидов) на первый план выдвигаются
моменты, элементы поистине фатальной, угрожающей, роковой
зависимости индивида от внешних, объективных по отношению к нему
формообразований. Эти моменты, элементы у Сартра подробно, красноречиво
описываются, даже расписываются — и поскольку фундаментальная
зависимость действительно имеет место, описания оказываются
уместными, а часто весьма яркими и одновременно трагическими констатациями,
свидетельствующими об ограничении, подавлении свободы, о тех самых
умонастроениях покинутости, заботы, страха, в изображениях которых,
философских и литературных, экзистенциалисты, особенно французские,
были великими мастерами. На мой взгляд, Мамардашвили, тогда
слишком увлеченный социологизмом, историзмом Маркса, не разглядел
высокой философской себестоимости трех тревог Сартра, которые связаны
с неустранимой привязанностью человека к природно-материальным
основаниям бытия и — как это ни парадоксально — с особым драматизмом
этой зависимости как раз на взлетах научно-технического развития
(пример этого — экологический кризис XX века).
Однако одновременно, что конкретно и аргументировано доказывает
Мамардашвили, происходит немало искажений, теоретических
смещений, чреватых пагубными практическими последствиями. В отношениях
взаимозависимости, в конечном счете, элиминируется эффект «взаим-
264 •
Раздел V
ности» — взаимодействия, взаимовлияния, взаимообмена между
жизненным миром индивидов и объективированными формами, которые ведь
в значительной мере генетически проистекают из мира живых,
наделенных сознанием и реально действующих индивидов. Или, если говорить на
философском языке марксизма, на котором в 60-х гг. пока еще
изъяснялись Сартр и Мамардашвили, французский мыслитель плохо проработал
формально заимствованные у Маркса понятия общественного бытия,
общественных отношений, т. е. всего того, на объяснение чего в то время
претендовал исторический материализм. И это подводит нас к вопросу об
отношении обеих мыслителей к наследию Маркса — вопросу, имеющему
и историко-философский, и актуальный смысл. Вопрос этот, кстати, очень
сложен и по отношению к Сартру, и применительно к Мамардашвили.
Сначала о Сартре. Когда ортодоксальные марксисты во Франции или
в СССР не поверили в глубину и искренность «марксистского
обращения» Сартра, они были по-своему правы. Ибо Сартр в 50-60-х гг., в
самом деле, не столько фундаментально осваивал работы Маркса (с той же
ученической тщательностью, с какой он, например, в предвоенные годы
изучал Гуссерля и Хайдеггера), сколько искал некоторые
дополнительные краски и формы, которые могли бы обогатить и углубить уже
сложившуюся философскую картину «гуманистического экзистенциализма»
при изображении им отношения отдельного человека, индивида и
окружающего его мира. Вот почему Сартр правдиво зафиксировал в 1963 г.:
«Я не потерял своей начальной точки зрения». Это отметили в своих
критических сочинениях о Сартре и ортодоксальные марксисты; ту же мысль
на своем языке выразил Мамардашвили, причем достаточно энергично.
Вот одна из формулировок: «Принимая по видимости марксистский
тезис, что человек в такой же мере является продуктом обстоятельств, в
какой он сам изменяет и создает обстоятельства, и даже настаивая на нем
в противовес «некоторым догматическим марксистам», Сартр на самом
деле придает ему совершенно иной смысл, перечеркивая как раз
деятельную, созидательную сторону человеческих связей в самой
объективности этих обстоятельств, и видит в материализме фактически философию
отчужденного мира, годную только для него» (с. 197). Может создаться
впечатление, что Мамардашвили, подобно «догматическому марксизму»,
задался главной целью все-таки отлучить Сартра от марксизма.
Чтобы развеять это впечатление, надо, по-моему, четко поставить и
прояснить вопрос об отношении к Марксу и марксизму самого
Мамардашвили.
Хорошо известно и не нуждается в особом обосновании то
обстоятельство, что Мамардашвили, подобно очень многим профессиональным
философам нашей страны, формировавшимся в 50-60-е гг. XX в. (и идя
рука об руку с ними, пребывая с ними в одном неофициальном,
неортодоксальном философском сообществе1), прошел философскую школу
1 Анализ этого сложного и противоречивого исторического процесса см. в
соответствующих главах книги, которую читатель держит в руках.
Штрихи к историко-философским портретам... * 265
Маркса, т. е. основательно изучил его сочинения и извлек из них, по
крайней мере1, две главные темы своего творчества — учение о сознании
и концепцию превращенных форм. Если и есть искушение толковать этот
этап развития Мамардашвили как впоследствии оставленный им позади
и преодоленный, то всего вернее такому искушению не поддаться.
Причем дело здесь не просто в теоретических исканиях Мамардашвили, что
теперь можно было бы счесть лишь историко-философским моментом,
а в актуальном тогда вопросе о значении философии Маркса, которое
сохраняется и сегодня, в кардинально изменившихся
социально-политических условиях. Выскажу свое мнение. Полагаю, те идеи Маркса,
которые были акцентированы в философии советского периода 50-х-70-х гг.
именно представителями неортодоксального философского сообщества,
и сегодня неконъюнктурно и уже без всякого «обожествления» можно
сохранить, определить как очень важные достижения философской
мысли XIX в. Среди них: подход Маркса к познанию как
социально-исторической по своей природе деятельности индивидов, их групп и сообществ;
анализ — на этой платформе — структур и форм сознания; критика
превращенных форм сознания; исследование социально-исторической
сущности объективированных форм и продуктов духовного производства,
человеческой культуры; понимание науки как «производительной силы»
и важнейшего социального института.
Что касается Мамардашвили, то он, во-первых, с самого начала
обратился (как и другие его коллеги и друзья) как раз к этой проблематике,
в постановке и решении которой Маркс (хотя не он один) имеет
непреходящие заслуги. Во-вторых, что еще важнее, и в самый ранний период
Мамардашвили, когда он говорил о Марксе и марксизме, не был данником
Марксовых текстов, а весьма смело для тогдашних условий
имплантировал в то, что именовал «марксистским подходом»,
собственные идеи, решения, теоретические догадки, выходящие за пределы
и рамки классического марксизма и решительно противостоящие
догматическому марксизму, широко распространенному не только в
СССР, но и в Европе, в том числе на родине Сартра. Ортодоксальные
марксисты у нас на родине были тоже вполне правы, когда подозревали
Мамардашвили в резком «отходе» от привычного для них оглупленного,
опошленного, догматизированного марксизма.
И вот именно такой собственный, оригинальный подход
Мамардашвили противопоставил экзистенционалистской схеме Сартра, к 60-м
годам поверхностно увязанной с идеями Маркса. В этом легко убедиться,
внимательно вчитавшись в те страницы статьи Мераба
Константиновича, где он обстоятельно, глубоко, оригинально рассматривает не только
значение объективных, бытийственных социально-исторических форм,
как бы «заданных» индивидам уже с момента их более или менее созна-
1 Но даже о своем освоении феноменологического метода Мамардашвили позже
сказал, что в его творческом развитии оно шло скорее не через Гуссерля, а через Маркса.
266 •
Раздел V
тельного вступления на арену жизнедеятельности, но и роль тех новых
возможностей, которые открываются индивидам и используются ими в
поистине творческом воздействии на эти формы, на процессы их
преобразования. Это и есть развернутый позитивный теоретический,
исследовательский ответ Сартру, позволяющий Мамардашвили сделать
обоснованный вывод: «В неумении Сартра объективно выделить и научно
выдержанно оценить совершающееся в материальной жизни общества
(при всех противоречиях и отчуждении) развитие человека как
деятельного лица истории ясно виден и коренной порок сартровской теории
личности, самой «субъективности» как фактора построения индивидом
самого себя. Поскольку «античеловеческими» в сартровском восприятии
оказываются именно объективно-материальные элементы и зависимости
в структуре исторического действия, то для проектирования индивидом
себя не остается никаких объективных вех и ориентиров, внутренняя
организация живого труда повисает в воздухе» (с. 194-195).
Начертанная у Мамардашвили картина «самопроектирования»
индивида (и неумения даже крупного, известного философа Сартра
теоретически справиться с труднейшими коллизиями такого процесса) в
тогдашних условиях не была лишь теоретической, внутрифилософской
проблемой. Она глубоко, напряженно, болезненно затрагивала внутренний
мир, практическую деятельность личности, стремящейся и при самых
неблагоприятных социально-бытийственных обстоятельствах воспитать
себя в духе ценностей свободы, достоинства, самостоятельности. Как раз
такой личностью был Мамардашвили. А потому, философски повествуя
о коллизиях, переживаниях свободной личности и оценивая сказанное
экзистенциалистами, он, несомненно, думал и писал также о себе и
своем поколении.
Личностные коллизии, структуры и объективированные
бытийные формы (из опыта 50-х — 60-х гг. XIX века)
Вряд ли можно было не признать, что некоторые стороны
личностной, индивидуальной ситуации, в которой в тот период находился
Мамардашвили (как и многие представители тогдашних поколений),
экзистенциалисты зарисовали реалистично и ярко. На одной стороне —
индивиды, ощущающие себя личностями, предрасположенными к свободе
(даже «приговоренными» к ней, как утверждал именно Сартр),
гуманизму, активности, ответственности. Как и почему в мире многих
индивидов, выраставших в условиях советского тоталитаризма, уже во время
Великой отечественной войны и особенно после нее утвердились такие
ориентации и ценности — особый вопрос (я пытаюсь ответить на него в
первых главах этой книги).
На другой стороне — сформировавшаяся, в известной степени
зацементировавшаяся социальная система, которая усиленно прославляла
себя как вершину человеческой истории. Впоследствии она получила
негативное обозначение — ее назвали тоталитаризмом. Парадоксаль-
Штрихи к историко-философским портретам... * 267
ный факт, о котором уже упоминалось: экзистенциалистские зарисовки
сознания и бытия отчужденных, настроенных на свободу индивидов и
плотной «стены» социальных установлений и институтов (у Сартра был
рассказ «Стена») — вплоть до правдивого психологического
изображения метафизического чувства «тошноты» (опять-таки вспомним роман
Сартра «Тошнота») — все это вполне соответствовало расстановке сил
и акцентов также и применительно к условиям советской
действительности. (Да и свойственные литературе французского экзистенциализма
частные акценты — сопротивляющиеся индивиды в противостоянии
нацистскому тоталитаризму, с готовностью жертвовавшему миллионами
жизней — имели свои аналоги в противостоянии индивидов сталинизму
в период жизни Сталина и после его смерти.) Скорее всего, именно здесь
коренился и до сих пор коренится сохраняющийся до нашего времени,
но особенно характерный для 50-70-х гг. живой интерес отечественной
публики, философии и всей культуры к экзистенциализму, к счастью,
породивший традиции его серьезного критического освоения.
Но пусть экзистенциализм и смог стать выражением,
«оформлением» подобных умонастроений и коллизий; он, однако, не давал, в чем
был в принципе прав Мамардашвили, верных, действенных жизненных
ориентиров устремившимся к свободе индивидам. Что рекомендовала им
экзистенциалистская философия? «Она ориентирована в
экзистенциализме, — писал Мамардашвили, — на некую «самость», на абстрактное
чувство единства человека с самим собой, на „Я сам"» (с. 195). Правда, и
усвоение такой ориентации, замечу я, достаточно важно, почему
философия нового времени, общий «персоналистический» лозунг которой и
формулирует здесь Сартр, по крайней мере для философски образованного
человека и в нашей стране становилась одним из способов выбраться на
пути культуры, ведущей к утверждению ценностей свободной личности.
Однако ведь Мамардашвили прав, когда он утверждает,
применительно к экзистенциализму: «Разорвана ведущая связь
индивидуального развития: усвоение индивидом общественно развитых способностей
и форм деятельности и обмен с ними своей индивидуальной
деятельностью, предполагающей тем самым те или иные формы коллективности
и кооперации» (с. 195). Обращаю внимание на обе части формулы,
говорящие и о «ведущей связи индивидуального развития», и о том, на каком
пути индивид усваивает и совершенствует «общественно развитые
способности и формы деятельности». Полагаю, Мамардашвили вполне
понимал конкретно-личностный смысл этой формулы, как будто бы
звучавшей сугубо теоретически. Она, как и целый ряд других формулировок,
богато рассеянных в тексте анализируемой статьи и в иных
произведениях Мамардашвили, были своего рода руководством к действию. И
ответом на кардинальный, именно личностный и очень конкретный вопрос:
что надо делать индивидам, чтобы в условиях отчуждения, социального
и идеологического принуждения, контроля и сыска они смогли отстоять
себя в качестве свободных личностей? Многие люди в нашей стране, по-
268 •
Раздел V
добно Мамардашвили, задавали его себе и мучительно искали ответа на
него. Очень часто они находили ответ именно в том, что учено
формулировалось у Мамардашвили как «обмен индивидуальной деятельностью»,
как использование различных форм «коллективности и кооперации».
Во всяком случае, в поле культуры (а значит, и философии) этим
индивидам пришлось постепенно и упорно, шаг за шагом и в нелегкой
борьбе воспитывать в себе навыки, привычки, установки свободной
индивидуальной деятельности, защищать себя от воздействия, давления
разнообразных форм несвободы. Делалось это, в чем снова же прав
Мамардашвили, и на основе «индивидуального развития» (иногда в так ярко
зафиксированном экзистенциализмом состоянии одиночества, хорошо
знакомом Мерабу Константиновичу), и при создании, использовании
более свободных форм коллективности и кооперации, существенно
отличавшихся от форм суррогатной квази- и псевдоколлективности.
Фактически в нашей стране так и происходило в самых разных сферах
культуры, включая философию: постепенно сформировалось неформальное
сообщество, объединявшее людей с творческими, исследовательскими
(а не идеологическими) ориентациями, знающими мировую философию
и работавшими по ее стандартам. Вот для этих людей умение
действовать в объективных социальных структурах, но скорее не для исполнения
тогдашних целей этих структур, а во имя использования и последующего
расширения возможностей более свободного действия — все эти и
подобные координаты, векторы действия были не менее важны, чем углубление
в собственную «самость» и доверие к ней. Благодаря такой инфильтрации
более свободных действий, новых форм сознания и ценностных,
моральных парадигм в коллективные действия, в деятельность институтов
постепенно накопились изменения, приведшие к крушению той, казалось
бы, незыблемой «стены», которая состояла из кирпичиков объективных
данностей, названных Сартром «внеперсональными финальностями».
Так история подтвердила правомерность личностных поисков многих
наших соотечественников, которые искали и находили пути обновления
личности, до известной степени объединявшихся с путями обновления
социального бытия. Другое дело, что в человеческом бытии обрести раз
и навсегда данный результат никогда не удается ни отдельным людям, ни
их сообществам, ни обществу в целом. Вопросами, которые ставил
перед собой и своими современниками М. Мамардашвили, применительно
к своему опыту задаются также и индивиды сегодняшнего дня, особенно
если они ищут собственные, то есть всегда новые, пути обретения
свободы. Здесь Мамардашвили, скорее всего, более прав, чем Сартр и другие
экзистенциалисты, трансцендентально-феноменологически
перемещающие анализ потребностей и перспектив индивидуальной свободы по
преимуществу или только в сферу сознания, взаимостолкновения сознаний,
а часто и в область бессознательного, внерационально-стихийного опыта
отдельного человека. Слов нет, это «инстанция», отмыслить или вычесть
которую никак нельзя. Но нельзя и ограничиться ею: как ни перестраи-
Штрихи к историко-философским портретам...
•269
вай, как ни настраивай свое сознание, как ни ориентируй его на
завоевание свободы, ты не продвинешься ни на шаг, если не справишься со
многими «стенами» во внешнем мире природного и социального опыта. А
теоретически справиться с ними никак невозможно, не овладев приемами
анализа социального бытия — и не в доктринальном марксистском
значении этой категории, а в смысле диалектики объективно-исторических,
внеперсональных и индивидуально-личностных процессов.
Вот почему и через несколько лет после опубликования статьи, о
которой до сих пор шла речь (и которой, как вспоминает Э. Соловьев,
Мераб Константинович впоследствии был недоволен), главный интерес
Мамардашвили при объяснении и изображении западной философии
(все еще именуемой «современной буржуазной философией») прикован
к объективным социально-историческим условиям «производства»
знания вообще, гуманитарного знания в частности и особенности.
Это отчетливо проявилось в публикации, которую по праву считают
одним из ярких философских документов советского времени.
Мамардашвили не был ее единственным автором; его соавторами стали Э.
Соловьев и В. Швырёв, принадлежащие к когорте наиболее значительных
философских авторов, чье творческое развитие тоже началось в 50-
60-х гг. прошлого века. Речь идет о статье, вернее, о двух статьях этих
трех авторов, впервые опубликованных в «Вопросах философии» (1970.
№ 12. С. 23-38; 1971. № 4. С. 58-73; в доработанном и дополненном
виде они напечатаны в книге: Философия в современном мире.
Философия и наука. М., 1972. С. 28-94). Во время опубликования
«тройственная статья», как ее тогда назвали, вызвала в отечественной культуре
широкий резонанс.
«Тройственная статья», ее значение и акценты
И снова же я хотела бы говорить не только о прошлом и о
причинах огромного, не побоюсь этого слова, успеха этой публикации в начале
70-х гг. Меня снова же волнует вопрос о том, выдержала ли эта
знаменитая статья испытание временем, способна ли она так же живо
заинтересовать читателей начала XXI в. — как более молодых, так и тех, кого она
когда-то так взволновала.
Если в самом общем виде говорить здесь о сохраняющейся и сегодня
ценности предпринятых тремя авторами обобщающих, синтезирующих,
охватывающих целые века осмыслениях двух описываемых ими
«духовных формаций», именуемых (условно) «классической» и «современной»
философией, то она представляется мне совершенно несомненной и вряд
ли имеющей аналоги в последующих сочинениях отечественных
авторов, которые делали сходные суммирующие попытки. (В западной же
литературе сходные по замыслу и широте охвата обобщения имеются
в ряде прекрасных работ Ю. Хабермаса, К.-О. Апеля, В. Хёсле.)
«Тройственная статья» — очень емкая, она богата важнейшими деталями и
весьма меткими формулами, а также оправдавшимися предвосхищения-
270'•
Раздел V
ми, прозрениями. Подробнее говорить о них в ограниченных рамках этой
моей работы невозможно. И хотя, признаюсь сразу, мне лично больше
нравятся блоки анализа, относящиеся к классической философской
мысли, к ее «решающим абстракциям»1, ограничусь теми определениями,
характеристиками, которые касаются современной западной философии,
в частности, ее феноменологических и экзистенциалистских
направлений. Я обращусь, словом, к тому материалу, в котором усматриваю связь
и преемственность со статьей Мамардашвили о Сартре и в коем
распознается мамардашвилиевский стиль (возможно, скорректированный,
особенно в книжном варианте, искусным и — по собственному опыту
знаю — властным редакторским пером Эрика Соловьева).
Материал этот опять-таки объединен поисками наиболее близких
социально-исторических оснований, предпосылок, следствий типичного
для XX в., особенно его второй половины, растревоженного, подчас уже
больного и «несчастного сознания», которое было зафиксировано,
выписано, оценено во многих литературных и философских произведениях,
сегодня уже признанных «классикой» современной эпохи. Что же
удалось обнаружить, раскрыть, выявить Мерабу Мамардашвили и его
соавторам? Прежде чем позитивно ответить на этот вопрос, скажу о главном
препятствии, которое может помешать современному читателю уловить,
распознать глубину и сохраняющуюся еще и сегодня теоретическую
значимость ответов и решений, предложенных в «тройственной статье».
Мешает, как я думаю, пронизывающая всю статью идеологическая
по форме фразеология, так типичная для советского периода «рамка»,
которая в те времена должна была охватывать все философско-литератур-
ные опыты, касавшиеся современной западной мысли. Последнюю
требовалось, полагалось именовать «современной буржуазной философией» и
обязательно увязывать с появлением «в современном буржуазном
обществе государственно-монополистических структур» (с. 126). Я не знаю
ни одного писавшего в то время о западной философии отечественного
автора, который был бы способен, если бы даже очень захотел, в
опубликованных текстах уберечься от такого «обрамления». Предположим, он
избежал бы употребления подобных терминов. Тогда это сделали бы за
него бдительные редакторы и издатели.
Но в случае «тройственной» статьи обстоятельства, как я думаю,
сложились в более причудливую констелляцию. Выражения
«современное общество» и «современная буржуазная философия» отнюдь не
были для самих соавторов статьи идеологически-ругательными клише.
Для них такие словосочетания скорее подразумевали объективную и
1 См., например, описание образа «чистого» и «универсального сознания» и
характеристик «конструкции самосознания» классической философии (Мамардашвили М.К.,
Соловьев Э.Ю., Швырёв B.C. Классическая и современная буржуазная философия (Опыт
эпистемологического сопоставления) / / Мамардашвили M.K. Классический и
неклассический идеалы рациональности. М., 2004. С. 112, 113-115. В дальнейшем цитаты даются
по этому изданию.
Штрихи к историко-философским портретам...
•271
даже банальную историческую констатацию, согласно которой западная
философия XX в., т. е. неклассическая философская мысль, существует
в формационном пространстве развитого капитализма. Отсюда
объективно вытекало следствие, о котором авторы не только не говорили, но,
возможно, и не мыслили и само предположение о котором 35 лет назад
могло показаться столь же идеологически дерзким, сколь и нереальным.
Речь идет вот о чем: когда социализм, вопреки всем марксистским
прогнозам, в нашей стране и других странах мира уступает место
капитализму, принципиальные выводы статьи относительно «современного
буржуазного общества» и «современной буржуазной философии» начинают
относиться и к нашим реалиям! Итак, под формулировкой
«современное буржуазное общество» подразумевалось наиболее развитое на
том историческом этапе социальное пространство. А в нем авторов
тройственной статьи более всего интересовали кардинально
изменившиеся — в сравнении с «классической» эпохой нового времени — условия,
предпосылки, формы производства знаний, символов, языка, смыслов
культуры, где сама тема статьи заставляла отыскивать те связи, которые
в наибольшей степени относились именно к философии, и которые
имели то более прямое, то более опосредованное влияние на возникновение
и характер философских идей, особенно самых новых, непривычных для
вековых традиций философии. Такой анализ, примыкающий к
социологии познания (в том числе коренящийся в Марксовом исследовании
духовного производства), можно считать главной линией и основным
теоретическим достижением тройственной статьи. Эта линия четко
зафиксирована авторами: «изменения в способах философствования могут
быть связным и понятным образом ухвачены через «смотровое окошко»
изменения в формализме духовного производства» (с. 106).
В сравнении с этой линией, явно превалирующей и по объему, и по
значимости расставляемых акцентов, материал, конкретно и реально
характеризующий западную философию XX в., ее основные направления,
просто отступает на задний план — особенно в журнальном варианте
(в последующей книжной версии все-таки делается попытка хотя бы что-
то «типологическое» сказать о феноменологии, экзистенциализме,
позитивизме). В разделе, посвященном классической мысли, обобщения,
касающиеся условий и форм духовного производства, и те, что относятся
к внутреннему философскому опыту, к его идеям и методам, объединены
более интересно и органично.
Поэтому я и говорю, что социология познания как социология
духовного производства — самое богатое, интересное и подробно
развернутое, оригинальное содержание статьи. В чем
распознаются: 1) бесспорное влияние Мамардашвили на мыслительный стиль,
основные ориентации, тематический план статьи — как и то, что в этом
отношении она стала продолжением, развитием мыслей, выраженных
в мамардашвилиевской статье о Сартре; 2) участие Э. Соловьева и
В.Швырёва в написании тройственной статьи, но также и их понятное
272 •
Раздел V
желание далее прояснить, развернуть более близкие им сюжеты —
экзистенциализм, неопозитивизм и т. п., что отчасти удалось реализовать в
упомянутом книжном варианте.
Сравнение классических и неклассических типов
философствования, красной нитью проходящее через всю статью, прежде всего
опирается, стало быть, на фундаментальное, с точки зрения авторов, различие
(в «классическую» и «неклассическую» эпохи) форм духовного
производства и объективное положение в нем «производителей», агентов
этого производства. Основные оси сопоставления выглядят так.
Классическая эпоха, согласно схеме авторов, характеризуется:
-атомизацией агентов социально-экономической жизни, их
относительно слабой связью друг с другом, причем преимущественно через
частный интерес;
-периферическим положением производства знания в реальном
жизненном процессе и его осуществлением в деятельности сравнительно
узкого круга людей; отсутствием развитой системы организации знания
вокруг тех или иных практических целей;
-вытекающей отсюда «высвобожденностью» самого агента познания.
«Поэтому свободная, беспрепятственная духовная деятельность,
суверенность мышления кажется чем-то естественным, вытекающим из
истинной природы человека» (с. 118);
-свободной, неоднозначной связью агентов духовного производства с
основными классами, слоями общества;
-отсутствием «направленной организации сознания» в масштабах
общества (с. 119), узкие возможности управления, манипуляции
сознанием.
Вот на эти (и подобные) предпосылки, основания объективно
опирается классическая философия нового времени, «рационализируя» их и
создавая концептуальные образы «человеческой сознательности в
качестве свободного и органического фактора жизни, общественного
устройства и миропознания, соразмерного с атомарным, сознательно и разумно
действующим индивидом и неотъемлемого от нее. В этом основная
идейная форма всей классической философии, в этом же источник ее
непреходящего значения и влияния» (с. 107-108).
В противовес всему этому, неклассическую эпоху и,
соответственно, ее философию (конец XIX и XX вв.) авторы статьи наделяют
следующими характерными чертами, говорящими прежде всего о коренной
перестройке современного духовного производства и механизмов культуры:
-возрастающей взаимозависимостью всех областей человеческой
жизнедеятельности, их усложнением, модификацией, ростом
принудительности труда и занятости, разрастанием регулирующих
общесоциальных функций по отношению к индивидам, профессиональным и иным
группам;
- растущей потребностью общества в выработке различных видов
знания и информации, а отсюда — все большим приближением духовного,
Штрихи к историко-философским портретам...
•273
интеллектуального труда к самому центру социально-исторического
развития, возникновением целой «индустрии» производства, регулирования
сознания, формализации продуктов такой деятельности и их
распространения;
-утратой агентом духовного производства своей независимости
(несмотря на все еще предполагаемую и востребованную «свободу
творчества»); возрастание сегментов рутинного труда в духовном производстве;
-возрастающей зависимостью «индустрии» духовного производства
от экономики, финансирования, от политики и ее приоритетов;
изменение ценностей общества, в котором — несмотря на объективное
повышение роли знания — происходит понижение статуса работников
интеллектуального труда;
-целенаправленной, систематической работой по манипулированию
сознанием, которая постепенно становится особой сферой духовного
производства.
С этими (и подобными) объективными изменениями авторы
«тройственной» статьи, кажется, и намеревались связать многие явления,
воплотившиеся в культуре XX в. и, в частности, нашедшие выражение в
«современной буржуазной философии».
Но вот незадача: как только (в двух журнальных статьях) они
пытались типологизировать, обобщить кристаллизации философского духа,
отвечающие этим новым реалиям, они то и дело возвращались к более
понятным формам классического сознания. Было очень бегло сказано об
утрате «классического самоощущения» — вот, по сути, и все. Возможно,
сказалось нечто вполне обычное и обыденное: авторы стали писать
статью, она разрослась, ее надо было «закруглять», притом к определенному
сроку — и многое весьма существенное просто не поместилось... В
книжном варианте, как упоминалось, появились разъяснения и дополнения:
это разделы «Этико-психологический вариант самосознания»
(экзистенциализм, психоанализ — явное авторство Э. Соловьева) и «Критико-реф-
лексивные варианты философии науки» (несомненно, текст В. Швырёва).
В задачи данной статьи не входит анализ этих текстов, представляющих
интерес для подробной истории отечественной философии советского
периода.
Я вернусь к поставленному ранее вопросу о том, сохраняет ли
сегодня свою значимость выполненный тремя авторами на почве социологии
познания (в частности, социологии философского познания)
сравнительный анализ классической и неклассической философии. Я отвечаю на
этот вопрос в целом утвердительно. Более того, полагаю, что некоторые
раскладки тройственной статьи обладают неожиданной и, возможно,
не запланированной самими авторами предвосхищающей силой в
отношении того, что уже свершилось, вернее стряслось в развитии нашей
страны и что является нашим близким, а возможно, и отдаленным
будущим. Ибо проанализированные Мамардашвили, Соловьевым, Швырё-
вым особенности духовного производства «современного буржуазного
18 Н. В. Мотрошилова
274 •
Раздел V
общества» сегодня определяют и нашу судьбу, причем противоречия,
сбои, кричащие контрасты в России здесь особенно болезненны, если не
мучительны. В противовес первостепенному, центральному социально-
историческому значению духовного, интеллектуального производства
в современном мире (так или иначе понятому и освоенному наиболее
развитыми капиталистическими странами) отечественное движение к
капитализму на рубеже XX и XXI веков нанесло особенно сильный удар
по этим областям труда и деятельности, лишив агентов и институции
духовного производства поддержки, признания со стороны государства и
общества. Под «аккомпанемент» всяческих призывов и заклинаний были
принесены в жертву даже половинчатые достижения советского
времени. Вместе с тем на потребу всплывшим на поверхность слоям, группам,
индивидам разрослась «индустрия» всяческих манипуляций сознанием,
как и «индустрия» пошлого, безвкусного псевдоискусства. Все это
явления, хорошо нам знакомые. Но ведь три наших замечательных автора
уже в эпоху идеологических манипуляций советского времени
проницательно разглядели контуры того, что для Запада тогда было настоящим
и что коренилось в глубинных структурах бытия, складывавшихся в
сферах духовного производства. Итак, тройственная статья актуальна и в
начале XXI в. — конечно, для вдумчивых, внимательных, объективных
читателей, а не для тех философски малограмотных «кочевников
Интернета», у которых для оценки прошлого, впрочем, и настоящего, нашей
философии вообще нет воспринимающего органа.
Размышления Мамардашвили над различиями между классической
и неклассической (современной) философией, начатые в 60-70-х гг., в
дальнейшем, как известно, продолжились. В работе «Классический и
неклассический идеалы рациональности» (Тбилиси, 1984) фокус
исследования переместился, да и сам жанр анализа изменился. Если
рассмотренные ранее статьи выполнялись, в основном, в жанре социологии
философского познания, то в книге 1984 г. главенствует гносеологический,
логический и отчасти историко-философский подходы; выстраивается и
практикуется — в созвучии с акцентами отечественной и западной
мысли того же времени — очень интересная концепция философии науки.
Эта очень сложная для понимания, расшифровки, но весьма глубокая,
оригинальная книга, уже служившая объектом анализа наших
известных авторов, еще ждет прочтения и истолкования, о которых можно
было бы сказать, что они соразмерны богатству, глубине, новаторству
данного труда.
Между статьей 1966 года, «тройственной» статьей и книгой об
идеалах рациональности поместился лекционный курс о западной философии
XX века, который Мамардашвили в 1978 году читал во ВГИК'е. В нем
он продолжал анализировать философию Сартра. Последнему, тогда
достигшему семидесятитрехлетнего возраста, оставалось жить два года.
В 1980 году Сартра хоронил «весь Париж», его провожали в последний
путь многие тысячи людей, что явилось закреплением исторического
Штрихи к историко-философским портретам... * 275
факта: этот автор — при всех проблемах и противоречиях его концепций
и подходов — навечно вписал свое имя в историю мировой философии и
литературы XX века. Вместе с этим конкретным историческим фактом
истории мысли стало то, что наш современник, крупный философ Мераб
Мамардашвили вел сложный очный и заочный диалог с Сартром,
притом в условиях исключительно неблагоприятных, но, как выяснилось,
неспособных умертвить живую, внутренне содержательную, свободную
человеческую мысль.
Интервью с А. Парамоновым о Мерабе Мамардашвили
От редакции: Летом 2007 года в издательстве «Канон+» вышла
книга Нелли Васильевны Мотрошиловой «Мераб Мамардашвили.
Философские размышления и личностный опыт». В нее вошли статьи и тексты
выступлений, написанные автором в разные годы, посвященные
философу Мерабу Константиновичу Мамардашвили. К книге прилагался диск
с архивной записью нескольких лекций М.К. О Канте, прочитанных им
весной 1982 года в Институте психологии.
Заинтересованный читатель впервые получил возможность встречи
с «аутентичным» Мамардашвили, смог ухватить авторскую интонацию,
почувствовать ритмику произносимой речи, а кто-то — неожиданно
обнаружить редакторские привнесения в изданном ранее тексте лекций.
Книга имела несомненный успех — достаточно большой по
нынешним меркам для интеллектуальной литературы тираж разошелся в
считанные месяцы.
Андрей Парамонов: Незадолго до встречи с вами, Нелли
Васильевна, я просмотрел несколько книг, изданных в 90-е годы по
материалам посвященных Мамардашвили философских чтений, которые
проходили в связи с выходом «Кантианских вариаций» и «Лекций о
Прусте». Кстати, некоторые из дискуссий Вы приводите и в книге.
Что бросается в глаза по прошествии более десяти лет, так
это удивительная заинтересованность участников круглых
столов, несмотря на серьезные различия в подходах и методах анализа
творчества М.К., в совместном обсуждении, готовность к
дискуссии. К сожалению, сегодня зачастую сама возможность нахождения
общего пространства обсуждения оказывается проблематичной.
Нелли Мотрошилова: С этим я абсолютно согласна, и у меня есть
свои грустные переживания по поводу «утраченного времени»...
Я недавно снова вчиталась в материал известного круглого стола по
феноменологии, который был организован в 1988 году в редакции
«Вопросов философии». Теперь ретроспективно всплывает новый повод для
горечи: могли ли мы тогда предположить, что Мерабу Константиновичу
оставалось жить всего два года...
Это происходило еще в советское время, еще не распался Советский
Союз, и, соответственно, участвовали феноменологи из разных городов
18*
276•
Раздел V
и сейчас уже бывших советских республик, теперь независимых
государств. Так, среди других выступали: Мераб Мамардашвили (тогда, как
известно, уже живший и работавший в Тбилиси), Т. Тузова из
Белоруссии, А. Рубенис, Ю. Розенвальд, Р. Кулис, М. Кулэ, Э. Буцениеце — все
из Риги, целый десант из Латвии! Шла, как мне кажется, дружная
взаимополезная — через дискуссии равных — исследовательская, научная,
проблемная философская работа. И как-то не предчувствовалось, что
скоро наши молодые коллеги из Прибалтики, работавшие с нами,
приглашавшие нас к себе, об этом как бы забудут...
Была предпринята попытка подвести какие-то итоги: что мы сейчас
делаем, что было бы хорошо сделать. Поскольку я организовывала этот
круглый стол, передо мной, естественно, стояла задача во вступлении
показать, как я вижу панораму мирового феноменологического
исследования; где, в каких точках, городах, изданиях воплощена деятельность
феноменологов, и т. д. Могу себя похвалить: я это сделала добротно.
А ведь тогда еще не было такой открытости информации, так что не так
просто было ее собрать. И можно вот что сказать о коллективной работе
отечественного феноменологического сообщества: там был большой
разброс собственных позиций — при этом серьезный интерес к идеям,
публикациям, высказываниям друг друга. Создавалось совершенно явное
ощущение, что все же есть именно сообщество, сообщество
феноменологов, которые работали в нашей стране. Центрированность этого
сообщества вокруг Мамардашвили вырастала естественно. Я помню: Мераб
восседал вальяжно, он явно подзаводил, в добром смысле слова
провоцировал аудиторию своими замечаниями, рассуждениями. Изрекал что-то
такое, что могло быть малопонятным или требовало каких-то
разъяснений, интерпретаций, что возбуждало споры. Помню, между мной и им
случилась такая дискуссия. Мераб утверждал, что настоящая
феноменология — феноменология прустовского типа: когда мы находимся в поле
живой работы с феноменом и, следовательно, как только пропадает
неповторимость ситуации, невозможна и феноменологическая работа. А я
ему возражала: ведь есть различие между тем, как описывает феномен
Пруст, и тем, как работает с ним Гуссерль, — это очень плодотворное
различие, которое выливается в разнообразие видов феноменологии. Но
даже если феноменология построена по-прустовски: если речь идет о
каком-то живом, неповторимом феномене (церковь в Комбре или попытка
«вот теперь» вглядеться в свое восхищение и т. д.), то все равно никуда
не уйти от какой-то типологизации, обобщения, т. е. движения ко
всеобщности. Когда это философская работа, то ничего другого не дано.
Я прочитала материал встречи, дискуссии 1988 года с чувством
ностальгии и грусти, ибо сейчас ничего подобного представить себе не могу.
Это был какой-то живой, совместный дискурс. Да, мы были более
молодыми, и время было другое. Мы тогда ценили общение; наши разговоры о
философии были для той поры достаточно смелыми, необычными;
объективно они были вполне на уровне дискуссий, которые велись в западной
феноменологии. Мы очень ценили это наше общение. Из него рождались
Штрихи к историко-философским портретам... * 277
книги. С упомянутыми рижскими феноменологами, например, мы
сделали вместе три книги. Итак, общение было живое и продуктивное.
А.П.: На мой взгляд, в вашей книге о Мамардашвили тоже
проступает то, что ощущается как «живое и продуктивное»,
удивительный сплав личного сопереживания и точного анализа. В
каком-то месте вы прямо говорите, что ваш подход к философии и
личности Мамардашвили «не просто субъективен, а пристрастен».
Я думаю, что та пристрастность, которую вы имеете в виду, это
пристрастность особого рода, с которой вряд ли соотносится
представление о необъективности.
Н.М.: Очень важный для меня пункт. Это и сейчас меня занимает.
Когда я начинаю описание, исследование того, что было, но что уже
исчезло и не может быть повторено (наблюдение, жизненный опыт — а то
был наш опыт, и мы вспоминаем его в связи с другими людьми, их
жизнью, их — увы! — уходом от нас, понимая, что и наша жизнь уходит), —
то я уверена, что тут нет и не может быть внесубъектного,
беспристрастного описания или воспоминания. Поэтому лучше сразу признаться в
этом. А вот есть ли тут что-то объективное — судить читателям,
особенно тем, кто все это сам пережил...
А.П.; Но вы же не хотите признаться в том, что ваши
рассуждения о М.К. ненаучны?
Н.М.: Насчет «научности» — не знаю, ибо многое зависит от ее
понимания. Но, во всяком случае, в историко-философской работе я ценю
то, что можно назвать качеством, проверенным, подтвержденным
результатом и т. д. Меня смущают такие описания, которые нельзя
верифицировать. Очень часто можно опровергнуть вранье, непроверенные
утверждения. Допустим, в одной работе Мочульского о В. Соловьеве, в
частности об «Оправдании добра», написано, что в данной книге не
фигурирует категория бытия. А любой указатель к «Оправданию добра»
покажет вам многочисленные употребления понятия, категории бытия.
Если работаешь с текстом, то не следует делать каких-то утверждений,
которые не могут быть документально подтверждены. И не надо писать о
чем-то, если ты не владеешь соответствующим материалом. Один
коллега пишет, что Кант не употреблял понятие «дух». Но Кант употреблял это
понятие. Редко, но употреблял. Такие неточности, впрочем, легко
устранить. Но бывают другие неточности, — когда очень хочется развить свою
концепцию, не учитывая фактов или перевирая их. Я помню, когда в
прежние времена кто-то из круга наших философов (кажется, это был Эрик
Юрьевич Соловьев) как-то сказал, что тоскует по такому человеку,
который придет и скажет: он хочет философствовать на основе утверждения,
что верной точкой зрения является объективный идеализм. Я понимаю,
в то время сказать или написать такое было невозможно, поэтому можно
было и тосковать. Конечно, философ имеет право на любую концепцию:
и объективный идеализм, и мистику, и все что угодно. Любая концепция
имеет право на существование, лишь бы она была развита по определен-
278 •
Раздел V
ным правилам. Но если кто-то захочет доказать, будто Кант —
объективный идеалист, то это меняет положение. Вот я буду утверждать, будто
у Гуссерля есть только аналитика и нет никаких попыток предпринять
синтез сознания. Утвердил — и на этом построил концепцию. Но
исследователь истории философии находится в материале, и с ним нельзя
обращаться, как тебе удобно.
А.П.: Подзаголовок вашей книги о Мамардашвили —
«Философские размышления и личностный опыт». Что такое личностный
опыт в связи с философскими размышлениями?
Н.М.: В данном случае я имела в виду личностный опыт
Мамардашвили. Я хотела бы его соотнести с его философией. Тип его
личности, характер, ценности (конечно, как я их понимаю). Разумеется, и мой
личностный опыт здесь отбросить, отмыслить невозможно. Для меня это
вообще очень важная тема, можно даже сказать — профилирующая.
Думаю, мне что-то удалось сделать на этой линии. Например, в книге
«Мыслители России и философия Запада» я попыталась охарактеризовать —
на примере В. Соловьева — этот личностный тип, который я называю
личностью, озабоченной бытием. К этому типу я бы отнесла Хайдеггера.
Думаю, что и Мамардашвили — философ сходного типа. Я это пытаюсь
доказать. Но это только один срез такого личностного типа или
личностного опыта, а в принципе возникает пересечение каких-то черт — и уже
в этом пересечении Мамардашвили не окажется вместе с Хайдеггером...
И, кстати говоря, он не любил Хайдеггера. Я это могу
засвидетельствовать. Много раз с ним на эту тему разговаривала, и он выражал свое
недоверие к философии и личности Хайдеггера. Возможно, тот раздражал
его сложностью языка, да ведь и читать его надо было, конечно,
по-немецки. Мераб не знал немецкий язык настолько, чтобы свободно читать
Хайдеггера. А это, как известно, дико трудное чтение...
Личностное восприятие — оно не такое, как в кондовой истории
философии. Изучая какой-либо текст, историк философии, конечно,
имеет дело с омертвевшим продуктом. Но его может занимать вопрос: а что
было до этого, какие переживания, устремления личности философа
вложены в текст? Важна не только работа с текстом, во всяком случае для
меня. Личность философа, в чем я убеждена, не пропадает, не угасает в
философском результате, а так или иначе выражается в нем.
А.П.: В вашей книге, которую можно назвать своего рода
путеводителем по текстам Мамардашвили, тем не менее почти совсем
отсутствуют ссылки на его прижизненные печатные работы. Почему?
Н.М.: Во-первых, мои отклики «исторически» возникали «по
поводу» — в связи с посмертными изданиями работ Мамардашвили.
Во-вторых, мне не слишком нравятся его прижизненные работы, во
всяком случае, не нравятся некоторые из них.
А.П.: А в чем причина?
Н.М.: Ну как вам сказать? Тут много причин. Мне, например, не
нравится его книжка «Форма и содержание в философии Гегеля». В ра-
Штрихи к историко-философским портретам... * 279
курсе истории философии советского периода (отнюдь не истории
«советской философии» — к ней Мераб, да и некоторые другие авторы не
имели отношения) эта работа существенна как результат и форма
свободной исследовательской мысли. Но думаю, как гегелеведческая
работа она отнюдь не блестящая. Я многие годы занимаюсь гегелеведением
профессионально и знаю многое из того, что делается в мировой
литературе, каковы здесь историко-философские, теоретические достижения.
У меня аллергия на такие писания о Гегеле, в которых нет переклички с
интересными рассуждениями и идеями мирового класса. К сожалению,
при большой содержательности — у Мераба там немало интересных
рассуждений и идей, которые потом проросли у него в концептуальные,
самостоятельные решения — эта книга, посвященная Гегелю, лучших
качеств мирового гегелеведения не имеет. Если бы мне предложили
назвать добротные отечественные гегелеведческие работы советского
периода, то я бы эту книгу в перечень (куда бы вошли книги Бакрадзе,
Гулыги) не включила. Хотя, повторяю, там есть немало интересного с
теоретической точки зрения, сказанного «по поводу» Гегеля.
Работа М.К. «О рациональности» мне нравится гораздо больше.
Я ею пользуюсь, на нее ссылаюсь.
А.П.: Вы говорите о «Классическом и неклассическом идеале
рациональности»?
Н.М.: Да-да, об этой работе. Но она, на мой взгляд, трудно, даже
коряво написана. Книга как бы не отделана. Она сложна не только потому,
что сложна сама материя, а потому, что она как черновик, над которым
еще можно было бы поработать. Хотя в ней бездна интересных
самостоятельных идей, к последним надо пробираться сквозь частокол не самой
лучшей формы изложения.
А.П.: А вот «Символ и сознание»?
Н.М.: Что касается «Символа и сознания», то это для меня,
пожалуй, самая трудная работа. В своей книге я сделала оговорку, что не все в
произведениях Мамардашвили мне (сегодня) понятно. «Символ и
сознание» — именно такая работа.
А.П.: Вы разделяете для себя письменные работы
Мамардашвили и то, что было опубликовано позднее: его публичные
выступления, лекции. Не видите ли вы внутреннюю потребность самого
М.К. перейти на публичный характер философствования? В какой
мере смену характера философствования можно объяснить своего
рода попыткой уйти от репрессивных ситуаций, связанных с
трудностью публикации? Нет ли более глубоких философских причин
такого ухода?
Н.М.: Думаю, что только одна сторона объяснения состоит в том,
что Мамардашвили не публиковали. Все же публикации были
возможны, они отчасти состоялись. Я полагаю, главная причина была в том, что
Мераб действительно был внутренне склонен к сократическому типу,
характеру философствования. Во всяком случае, я знаю такие эпизоды,
280 •
Раздел V
когда работа над предварительным текстом выглядела для него как бы
«насилием» над теперешним временем, уникальными переживаниями и
пр. И ведь каждому (также и говорящему) автору это знакомо.
Прочитаны лекции, сделан доклад, состоялась дискуссия — многое
проговорено, пережито. А когда сказанное расшифровано, слегка переработано в
текст, уже неохота со всем этим возиться.
Тут есть одна страница, о которой я просто хочу рассказать, как все
это было, ибо вокруг были несправедливые инсинуации. «Кантианские
вариации» в изначальном виде подобной записи Мераб дал в наш сектор
истории западной философии на обсуждение. Там не было двух мнений:
надо печатать, это очень интересная работа. (Я оставлю сейчас в
стороне вопрос о том, как она выглядела на фоне мирового кантоведения. Это
острый вопрос вообще не обсуждался.) Вместе с тем рукопись не была
полностью готова к публикации. Над ней нужно было посидеть самому
Мерабу. Не кому-нибудь, а ему и не повинуясь чьим-то рекомендациям, а
лишь следуя своим стандартам. Притом на обсуждении, что обычное дело
при любом обсуждении, высказывались пожелания, замечания. И Эрих
Соловьев, как человек, который очень тщательно работает над
текстами, наиболее ясно выразил мысль о том, что над редактированием текста
надо поработать. И ничего другого не было сказано. Правда, у меня
хватило в то время ума сказать, что, скорее, это дело Мераба — как хочет,
пусть так и делает. А хватило у меня ума просто потому, что я видела:
Мераб охладел к сделанному, он не хочет корпеть над текстом. Он сам мне
сказал об этом: кто-то расшифровал стенограмму; а дальше ему с этим
материалом возиться не хотелось. Тем не менее «Кантианские вариации», о
чем я писала, вновь и вновь возвращаясь к этому тексту, — знаменательное
событие, причем скорее не как письменный, а как устный «текст». Вот
почему я рада, что моей книге приложен упомянутый диск. Что дает нам поворот
к совершенно новой теме об издании трудов Мераба в аудиоварианте.
Это существенный момент: Мераб свои мысли о Канте проговорил,
сообщил устно, в контакте с аудиторией. Он с этим очень сжился, ему
было так сподручнее, вернее, он действительно возлагал особые
надежды на «звучание» мысли. И здесь вещь тоже очень личностная. Да и как
тут не связать результат с личностью? Мераб ощущал себя вольготно в
стихии устного «текста», проговаривания (хотя там, конечно, было
много своих проблем, было немало специфических трудностей). И поэтому,
если уж так поставить вопрос (хотя, может быть, в форме «или-или» он
поставлен неправильно): стал ли он «устным» философом потому, что
запрещали, или потому, что он сам так хотел, я бы ответила, что тут и
то и другое было. Но главной с некоторого времени стала внутренняя
потребность говорить, проговаривать философию и «говорить» свою
философию, как бы раскручивать мысль, идею во время разговора, живого
контакта с аудиторией.
Тут уж я заодно признаюсь, что я почти не слушала его лекции.
Пришла один раз, другой, третий — мне не понравилась сама атмосфера:
Штрихи к историко-философским портретам... * 281
все это несколько носило характер культа; а главное, мне казалось, что
люди, которые разжигают этот культ, сами мало что понимают из
философии Мераба. Мне, например, на слух многое было уловить трудно.
Это тоже личное: я — зрительный человек, люблю видеть текст, причем
прочитать его один раз, потом другой, потом еще и третий. Так же и с
письмом: я пишу один раз, потом поправляю, потом еще раз — сколько
возможно поправляю. Все время верчусь с текстом. Слуховой, т. е.
одномоментный, сразу «исчезающий» текст мне (возможно, не только мне)
ухватить сложнее. И вот когда появились «вторичные» — по отношению
к устно-слуховым — письменные тексты Мераба, то (несмотря на
многие источниковедческие изъяны, о которых пишу в книге) пришел мой
час работы на мыслями, идеями, все же нашедшими в них отражение.
А.П.: Но можно ли сказать, что для того, чтобы случилось
событие мысли, нужны были слушатели?
Н.М.: Совершенно точно. Я уверена, что это так — для личностного
типа Мераба. Не случайно же событийная феноменология Пруста была
ему так близка. Да и слушатели были очень нужны — для
философствования и, в частности, для того, чтобы не ворвался какой-нибудь
«философ в штатском» и не прикрыл лавочку...
А.П.: Нет ли здесь тогда проблемы, связанной уже с
философским движением, развитием, что в какой-то момент времени
Мамардашвили как философ ощутил потребность именно такого
представления своей работы — и это внутренняя пружина, которую
можно как-то ухватить, например, через анализ текстов. Где-то
произошел переход, шифт.
Н.М.: Это интересный вопрос. Но понимаете, я не принадлежу к тем
людям, которые за Мамардашвили все время ходили или все время его
изучали, я не «мерабовед». Думаю, что такие люди тоже могут и должны
быть. А потому не знаю, когда и как у него это началось. Хотя судьба и
подарила мне многолетнее знакомство с ним — в сущности, с тех пор как
мы вместе с Юрием Замошкиным составили нашу семью, а это 1966 год.
Вот уже с этого времени Мераб в нашей жизни все время присутствовал.
Мы очень часто встречались и в нашем доме, и в домах наших друзей
(из которых настоящими и постоянными друзьями были Э. Соловьев —
Е. Фролова, Б. Грушин— Н. Карцева, М. Степанянц— А. Сыродеев),
разговаривали — причем разговаривали обо всем, в том числе и очень
охотно о философии. (Очень сожалею, что не записывала свои
впечатления.) Не знаю, когда у него произошел этот шифт, когда появилось
пристрастие к сократической форме мысли, но, мне кажется, это стало
своего рода ядром его личности. Во всяком случае, я его личность так
видела и понимала.
А.П.: Вернемся вновь к личностному опыту, может быть, в
несколько более философском ключе. Мне хотелось немного
поговорить о главке из вашей книги «Когито. Двуединый путь к
трансцендентальному эго» — о Гуссерле и Мамардашвили.
282 •
Раздел V
Н.М.: Да, мне очень дорога эта работа — как и важны тема,
проблематика.
А.П.: Правильно ли я понимаю, что, говоря о двуедином пути
cogito, вы выбираете в качестве образца такого двуединого пути
Декарта?
Н.М.: Нет, я в данном случае имела в виду другое. Я понимала под
таким двуединством путь, с одной стороны, Гуссерля, с другой стороны,
Мамардашвили: разные пути, но ведущие к одной цели.
А.П.: Насколько я понимаю, оба эти пути присутствуют у
Декарта.
Н.М.: В какой-то мере. Декартовское cogito — это то, что оба
философа хотят осмыслить и, главное, что они хотят использовать и для
своей философии, и для развития своей личности. «Аутентичный» ли
это Декарт — другой вопрос. Так вот, в декартовском cogito оказалось
еще много всего зашифровано, и это как бы проговаривалось —
проговаривалось и Гуссерлем, и Мерабом. А что-то не проговаривалось, но
explicite как бы само проявлялось. И получается разнообразие аспектов,
в том числе и тот, о котором вы говорите. А мне что было важно? Прежде
всего показать два типа феноменологического движения, потому что и
в данном случае меня волновала моя любимая феноменология больше,
чем только философия Мераба сама по себе. Почему феноменология
здесь значила для меня больше? Потому что, условно говоря, есть две
принципиальные для философии возможности описывать путь cogito как
его (возможно) задумал Декарт. При одном описании может быть
совершенно безразлично, что именно Декарт «придумал», открыл cogito. Это
и есть путь Гуссерля. Есть некоторые структуры, сознание как бы
осознает себя само — и для этого оно избирает рупором Декарта; но это в
принципе мог быть и другой человек. Ибо этот путь всеобщ — его можно
научно доказать, повторить. А у Мераба другая картина: у него cogito
совершенно неотделимо от того, что размышление осуществляет француз,
что француз это делает вот в таких условиях, что это дело личности, у
которой есть такие-то и такие-то задачи. То есть если говорить, немножко
огрубляя, то это как раз включение (Мамардашвили) или редуцирование
(Гуссерль) личностно-исторического контекста.
А.П.: Но событие cogito, его нельзя совершить усилием или
достичь желанием дойти до него. Оно случается.
Н.М.: Оно в самом деле случается, но тот же Мераб говорит, и
справедливо, что оно случается только благодаря большому участию воли.
Он даже говорит, что мужчина должен это сделать, хотя он имеет в виду
просто мужество совершить cogito — на свой страх и риск, один на один
с миром. Иными словами, он имеет в виду просто долг, мужество, подвиг
философской личности. И очень важно, что это происходит в условиях,
когда всё — против такого cogito. Гуссерлю, строго говоря, это не столь
важно. Ему важно лишь то, о чем вы говорите: это имеет абсолютно
всеобщий характер. Если мы сказали: cogito ergo sum, то дальше мы можем
Штрихи к историко-философским портретам... * 283
так и только так его рассматривать, приходить к этому cogito, — вот что
для Гуссерля существенно. Короче говоря, ему все моменты
личностного, ситуационного мужества, сопротивления такой-то и такой-то среды
не важны. А вот с точки зрения Мераба, cogito невозможно, если ты не
говоришь себе: я это могу и я это должен сделать. Неслучайно такое
понимание родилось у Мераба в стране, где (и здесь созвучие с ситуацией
самого Декарта) не так-то элементарно было всякие такие cogito
помыслить, из них твердо исходить, т. е. опираться на собственную свободную
мысль.
Я помню, что когда первый раз читала эти тексты Мераба, то
ощутила созвучие — я тоже так думала и так думаю сейчас. Более того, в
моей ранней книге, где речь отчасти идет о Декарте (это книга 1969 года
«Познание и общество»), есть аналогичные заходы. Отмечаю это не для
того, чтобы сказать, что я раньше написала об этом, просто было сходное
восприятие некоторых историко-философских ситуаций. Нам было в тех
условиях важно, что из этого (и любого другого) философского акта
рождается свобода или акт мысли рождается потому, что есть свобода. А
кроме свободы — еще и то, что Мераб выражает словами: «Есть мужество
держать мысль». Полагаю: почувствовать значение этой всеобщей
структуры по-настоящему можно тогда, когда ты знаешь, что многое, если не
все, тебе мешает «держать мысль», отклоняет от этой цели. То, на что ты
хочешь опереться, от тебя ускользает, ты рассчитываешь на какую-то
помощь, а это окажется не помощь, а обязательно сопротивление и т. д.
Возвращаясь к сопоставлению и различению «Гуссерль-Мамардашвили»:
я полагала, что из-за некоторой фундаментальной феноменологической
предпосылки и движения к трансцендентализму оба способа
размышления над Декартом (и Гуссерля, и Мераба) имеют между собой немало
общего. Это — во-первых. Во-вторых, каждый из них понимает
размышления над Декартом как абсолютную неизбежность для
философствования, без чего нельзя обойтись. Это элемент всякого философствования.
То же можно сказать о феноменологии. Мераб на упомянутом уже
круглом столе по феноменологии сказал точно так же о феноменологии:
«Феноменология — необходимый элемент всякого философствования». Вот
это я и имела в виду.
А.П.: Разбирая путь cogito, вы говорите, что в ситуации
движения в безвоздушном пространстве чистой мысли есть все же некие
подпорки, которые позволяют удерживать мысли. Что это за
подпорки? Что это такое?
Н.М.: В этом случае уместно вспомнить Канта, вернее, мамардашви-
левские акценты в понимании великого философа. У Мераба часто
встречается такая формула мысли, когда он говорит: «Этого не должно было
бы быть, это не должно было произойти, это не должно было бы
случиться». Например, когда Кант говорит о категорическом императиве, то для
него удивительно совсем не то, что это чистый принцип, который нигде и
никогда не реализуется. Для него удивительно то, что этот чистый прин-
284 •
Раздел V
цип все-таки рождается, хотя бы в безвоздушном пространстве мысли.
Почему? Мераб часто обыгрывает этот ход мысли на разные лады. Нет
ничего, что должно было бы неминуемо, полностью создать ситуацию
выполнения категорического императива. Человек — и по Канту, и по
Мамардашвили — никак не является добрым, никак не является
нравственным изначально. Но в царстве интеллигибельного, в чистом царстве
мысли категорический императив надо помыслить, «положить» (setzen),
как выражаются немцы. При том, что у человека нет ни перед кем
никакой обязанности для выполнения чего-то подобного чистому императиву.
Мамардашвили так, по-моему, толкует Канта, и мне лично это
помогает читать великого философа. Я вижу,что упреки Канту — насчет того,
что у него бессильный категорический императив, — это упреки, на мой
взгляд, лишены смысла. Потому что императив, повторяю, из
интеллигибельного мира, и другим он быть не должен. Если его «чистые»
требования сопоставить с жизнью отдельного человека, с развитием
человечества, все более драматичным, если их сопоставить вообще с соотношением
добродетели и преступления, то легко можно составить мнение о полном
«бессилии» всех категорических императивов. Собственно говоря, нет
ни одного события, ни одного поступка и нет ни одного человека, о
которых можно было бы говорить как о «воплощениях» или носителях
императива. Недаром Кант так отчаянно восстает против того, чтобы такими
«воплощениями», такими образцами императива, морали считать святых,
праведников и т. д. Для него это совершенно неподходящая материя для
разговора о нравственности. Значит, получается, что все как бы
безнадежно. Ничего морального не должно случиться. Но что-то все же
случается? Почему императив категорический? Потому что мыслить его
неуступчивым — значит вскрывать его смысл и телос. И вот это — реальная
подпорка. Подпоркой он становится в качестве формы (о чем много
говорит Мераб, толкуя Канта). Получается даже, что кроме знания о самой
форме, о том, что это есть требования, что они нас к чему-то обязывают,
ничего другого нет — как данности, как гаранта. Но для Канта уже форма
должного — реальная подпорка. Вот почему, по Канту, мы все же
вспоминаем о приговорах «удивительной способности в нас», а именно
совести. Если мы говорим себе: «Да, я нарушил все правила» или «Я нарушил
большую часть правил, и я грешник» и т. д., — то уже это значит: мы
знаем о законе, долге, что уже немало. Мне кажется, что такую же картину,
которую можно было бы назвать своего рода этическим пессимизмом или
философско-историческим пессимизмом, выстраивает и Мераб. Иными
словами: нет и никогда не будет «чистого» воплощения морали, есть и
будет отклонение от всех нравственных образцов, но само
существование этических императивов, знание о них и хоть какая-то ориентация на
должное — подпорка, не всесильная, но и не бессильная. Я это разбираю
в книге, конкретно показывая, что Мамардашвили даже благие
намерения не принимает в расчет. Кант их все-таки отчасти в расчет принимает,
а Мераб идет по пути этического пессимизма еще дальше.
Штрихи к историко-философским портретам...
•285
А.П.: Можете ли вы назвать среди работ Мераба
Константиновича самые любимые?
Н.М.: Конечно, могу. Это те, о которых идет речь в книге. Это
значит, что я предполагаю: быть может, мне удалось в них что-то понять.
А какие-то другие работы не то что не любимы, они для меня пока еще (а
может, уже навсегда) закрыты.
А.П.: Вы иногда указываете на сложности работы с
материалами по Мамардашвили. С одной стороны,
проблемно-содержательного, а с другой — источниковедческого характера. Что вы имеете в
виду под проблемами источниковедческого характера?
Н.М.: Я эти проблемы считаю совершенно неразрешимыми сейчас,
после смерти Мераба. Но вырисовывается совершенно новая,
прямо-таки ошеломляющая надежда: если появится Собрание сочинений
Мамардашвили на дисках — я не знаю, как это может называться, — тогда
возникает ситуация, которая, с одной стороны, очень неожиданная (думаю,
о ней не мог, в эпоху магнитофонных записей, мечтать и сам Мераб),
с другой стороны, полностью аутентичная. Есть произнесенные устные
тексты, и есть современный слушатель. И тогда между автором и
слушателем может возникнуть пусть заочный, но все же «непосредственный»
контакт, возможна «совместная» работа. И я бы очень хотела дожить
до того времени, когда появится поле понимания и интерпретации,
основанные на этом контакте. Тут возникает еще один вопрос: как будет
различаться восприятие тех людей, которые видели и слышали Мераба
раньше, и тех, кто услышит его впервые только сейчас (но, увы, не
увидит)? Будет контакт слушателя с голосом того, кого уже нет на земле?
Тут нет посредника (кроме техники и ее качества). Согласитесь, это
совсем новая эпоха в «поле» понимания — и она, конечно, затребует
особого слушателя. Снова завидую тем, кто обживется в этой эпохе и увидит
ее результаты. Возможно, тогда и мыслители «сократовского типа»
будут особенно востребованы...
Теперь возвращаюсь к вопросу о том, что существуют не только
тексты, произнесенные самим М.К., но и положенные на бумагу. Они
требуют, как и любые тексты, авторской корректировки. (А вышло, что
коррекции предпринимают другие люди.)
Знаете, в своей жизни я встречала лишь одного человека, который
говорил и писал одинаково, на мой взгляд. Это был С.С. Аверинцев. Он
говорил какими-то отточенными фразами и так, как, вероятно,
говорили наши интеллигентные предки. Я помню, что меня в Аверинцеве это
просто поражало. Я слышала его пространный доклад; он говорил три
часа. Для меня удивительно интересной была тема. Аверинцев
рассказывал о реальных жизненных структурах, отношениях, институциях и
т. д., благодаря которым в Древнем Риме рождалась духовная культура.
И говорил он так, что создавалось впечатление: здесь «текст», который
надо без всякой правки перенести на бумагу. Но сколько бы других
людей я ни слышала, причем прекрасных лекторов и ораторов (каким был,
286 •
Раздел V
например, мой муж Юрий Замошкин), такого впечатления неразрывного
единства речи и письма не возникало.
Я понимаю, что «приглаживание» высказанных мыслей к бумаге —
проблема, которую приходится решать в 99 % случаев. Текст надо править.
Правил и сам Мераб. В одной из публикаций представлен снимок
его рукописи с его собственными, весьма обильными исправлениями. Но
одно дело, когда правит сам автор, а другое — когда правит даже очень
уважаемый редактор. Вот, например, Елена Ознобкина проделала с
лекциями о Прусте самую деликатную работу. Априорно можно исходить из
того, что любое редактирование, любая правка, нацеленная на то,
чтобы придать сложному, неприглаженному тексту «благородную» (с
точки зрения редактора) форму, — эта попытка уже искажает первичный
текст, делает из него вторичный источник. (Это даже не та тема, которую
мы знаем по классической философии, когда, скажем, ученики за
Гегелем записывали лекции, когда Гегель многое надиктовывал.) Вот почему
последние, тбилисские, лекции Мераба, о которых — последняя часть
моей книги, я почти не цитировала.
А.П.: Сейчас ведется работа по восстановлению этих
тбилисских лекций.
Н.М.: Я знаю и понимаю необходимость этого. Но хочу твердо
сказать: без ошибок здесь не обойтись. Или вы должны говорить читателям:
мы не меняем ничего, мы только правильно расставляем знаки
препинания, просто «даем» сам текст.
А.П.: Это то, что сейчас сделано с несколькими лекциями этого
цикла: практически оставлен текст, каким он был произнесен.
Н.В.: Ну и как он выглядит?
А.П.: Мне трудно судить об этом непредвзято. Я слышу в
тексте голос М.К., поскольку присутствовал в свое время на его лекциях.
Человек, не слышавший Мамардашвили, возможно, должен будет с
определенным тактом отнестись к прочтению стенограммы.
Н.М.: Знаете, здесь возникает другая трудность. Есть люди,
которые на этом основании выносят суждение о том, что связываться с
текстами Мамардашвили вообще не следует. А иные говорят: ну что вы с ним
носитесь!
А.П.: Наверное, здесь возможна такая стратегия чтения:
нужно попытаться уловить ритмику произносимой речи.
Н.М.: Во всяком случае, мыслим такой вариант, когда
«публикуется» нечто двойное: электронная запись и текст. Этот вариант будет в
наибольшей степени аутентичным, дающим возможность читателю при
желании стать слушателем или наоборот. И может быть, в этом —
выход. Читатель-слушатель — этот возможный «кентавр» — сам выберет,
что ему сподручнее. Это что-то совершенно новое и, кстати говоря,
выполнимое в свете сегодняшних возможностей. Я была просто-таки
поражена тем, что удалось перенесение магнитофонной записи на диски.
А.П.: Да, сейчас это технически возможно.
Штриха к историко-философским портретам...
•287
Н.М.: Мы сделали сейчас коллективную международную
монографию о Мамардашвили1. Есть там такой феномен, который мне хотелось
бы акцентировать. Речь идет об интересе международного сообщества.
Некоторое время назад мне казалось, что популярность Мераба
Константиновича сильно пошла на спад и у нас, и на Западе. Например, немцы так
и не пристрастились к его философии. Зато это демонстрируют, скажем,
современные французы, американцы, итальянцы, канадцы, болгары, а
сейчас финны (в Финляндии — своеобразный центр) и австралийцы.
А.П.: Просматривая публикации материалов круглых столов
по Мамардашвили, я столкнулся с таким мнением: когда
Мамардашвили выступал на Западе, он встречался в определенной степени
с непониманием, поскольку слушатель, который существовал в
Советском Союзе, там отсутствовал.
Н.М.: Это не соответствует действительности. На самом деле во
Франции и, по крайней мере, в Италии Мераб очень даже прозвучал, его
хорошо заметили, на французском, итальянском языках он
действительно хорошо говорил. И по-английски он, по-моему, говорил совсем
неплохо. Его услышали там. Но просто когда людям приходит на ум
рассуждать о популярности, то они представляют себе огромную толпу, которая
«бежит» за философом. Но на самом деле число людей, которые читают
философские книги, слушают философские лекции, ограничено. Это,
пожалуй, не относится к отдельным философам, которых в мире очень
мало (например, Хабермас). Но вообще-то профессиональные философы
соприкасаются с достаточно ограниченной аудиторией. Нужно честно
признаться, что философа слушают и читают в основном философы.
А.П.: Но аудитория Мамардашвили была шире. Его слушали не
только философы.
Н.М.: Совершенно верно. Он имел в нашей стране необыкновенную
популярность. Это, кстати, было время, когда был затребован Философ.
И так получилось, что ответ от «философии» был дан в «лице» Мераба.
Сейчас это почти пропало. Возможно, здесь прорывается
разочарование, но я скажу: не время сейчас ни для философии, ни для таких
философов, как Мамардашвили. От нас «плохого» слышать не хотят, а
«хорошего» мы сейчас и сами не скажем. Обидно, что охлаждение к
философии пришло тогда, когда отечественная философия — таково мое
мнение — вышла на очень хороший, в отдельных случаях на мировой
уровень.
Сейчас порой кажется, что написанная тобой книга как бы падает в
пустоту. Хотя я понимаю, что это не так, потому хотя бы, что мы,
философы, читаем друг друга. Но и здесь, увы, много грустного. Отчасти это
объясняется тем, что «тусовочный» характер общения, который в обще-
1 См.: Мераб Мамардашвили / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. Москва, РОССПЭН,
2009
288 •
Раздел V
стве существует, проникает и в профессиональную философскую среду.
Это суета сует, напряженный быт, поспешность... Что обидно.
Беседовал Андрей Парамонов
Валерий Подорога
«Метафизика ландшафта против ландшафта метафизики?»1
К 60-летнему юбилею В. Подороги
Не вдаваясь в подробности и доказательства, я для начала просто
выскажу некоторые тезисы, которые в общей форме зафиксируют мое
мнение об особенностях, значимости оригинального философствования
Валерия Подороги и месте его идей, подходов в философской стилистике
XX века, отечественной и зарубежной.
Я расцениваю Валерия Подорогу как состоявшегося,
значительного мыслителя мирового класса и особого стиля, если не создавшего этот
стиль совершенно изначально и самостоятельно, то, во всяком случае,
оригинально развившего стилевые традиции, протянутые им от идей
Маркса, Кьеркегора, Гуссерля, Хайдеггера, Фуко, Деррида, Мамарда-
швили и энергично истолкованные, преобразованные по матрицам
задуманной уже самим Подорогой целостной «философии тела».
Высокая значимость и перспективность широко понятой
философии, даже «идеологии» тела в стратегии не одного философского, но и
вообще художественно-теоретического, металитературного (и всякого
иного мета-) мышления второй половины XX века (особенно его
последних двух-трех десятилетий, а также начавшегося XXI столетия) у меня
лично не вызывают никакого сомнения. И очень, очень важно, что В.
Подорога и близкие к нему более молодые исследователи презентировали в
нашей стране этот путь синтетического размышления в (почти) едином
историческом ритме, а иногда и в живом личном взаимодействии с теми
знаменитыми авторами, нашими современниками, которые на Западе так
или иначе прокладывали тропы для философии тела и телесности.
Книгу Подороги «Феноменология тела» (М., 1995), в которой
обобщены материалы его лекционных курсов 1992-1994 годов, я считаю
настоящей вехой, маркирующей прорыв всей этой принципиально
значимой и однако мало разработанной проблематики — вместе с
оригинальными феноменологическими методами ее анализа — в
пространство отечественной философии и, шире, гуманитарной культуры. Сразу
оговорю, что именно феноменологическая линия философствования
Подороги, прямо и часто сопоставляемая им с феноменологией
Гуссерля, Хайдеггера или Мерло-Понти, примыкает к названным классическим
образцам — но примыкает оригинально и во многом «неклассически»,
1 Впервые опубликовано в альманахе «Синий диван». 2006. № 9.
Штрихи к историко-философским портретам... * 289
что заслуживало бы специального анализа. В принципе мне было бы
интересно поразмыслить на феноменологические темы в связи с текстами
Подороги, но это потребовало бы работы иных жанра и формата, чем мои
нижеследующие заметки.
Я понимаю философию тела, разрабатываемую В. Подорогой (и
отчасти другими членами его замечательной исследовательской группы)
как явную, незашифрованную, но, однако, и не слишком подробно
обоснованную оппозицию по отношению к целому ряду философских
традиций, в нашей стране пустивших особенно глубокие и прочные корни.
Противник № 1 — это, по-моему, идеализм крайнего логицистского
типа (à la Гегель), получивший парадоксальное закрепление в
бездумно-подражательных образцах якобы материалистической
диалектики. Она фактически стала противником № 2, ибо была в высшей степени
равнодушна как раз к темам телесности, вещности, да и вообще ко всем
бесконечно разнообразным формам телесно-пространственного
существования и чисто природных, и духовных по своей сути явлений.
(О более конкретных противниках говорить не буду, ибо это
предполагает вхождение в частные темы и рассуждения — например, в вопрос о
том, сколь сложно включен в работы Подороги прямой или
опосредованный диалог с Фрейдом.)
В противостоянии этим традициям Подорога использует, привлекает
на сторону философии как феноменологии тела не только тех более
близких по времени авторов, которые в самом деле могут быть причислены, да
и сами подчас причисляли себя к этому (напомню, широко понятому)
направлению: речь идет о Фуко, Делёзе, Лакане, Гаттари, Деррида и других,
скажем так, современных философствующих авторах, а также о
литераторах XX века — Арто, Бахтине, Прусте, Кафке. В «союзники» призваны
многие и многие великие умы прошлого и настоящего — уже упомянутые
Гуссерль, Хайдеггер, классики Декарт и Кант, бунтари Ницше и Кьерке-
гор, гениальные писатели Достоевский, Гоголь, выдающиеся литераторы
Белый, Платонов. Не беда, что они не подозревали о своей роли в
обосновании феноменологии тела (даже «феноменологии кожи» или
«феноменологии лица»). Все замечания о теле или телесности, в буквальном
или переносном смысле появлявшиеся в их творчестве ad marginem, у
Подороги идут в дело. И я не вижу в такой энергичной и «предвзятой»
экспансии в классическое культурное наследие, в намеренной его
«модернизации» (в точном смысле прилаживания к образцам философского
или литературно-художественного модерна) ничего плохого. Более того,
помещенные в книге «Выражение и смысл» (М., 1995) очерки о Кьерке-
горе, Ницше, Прусте и Кафке отношу к числу лучших текстов Подороги,
которые по-новому разворачивают для читателей (все равно,
специализируются они в кьеркегоро-, ницше-, прусто-, кафко-ведении или нет)
поистине бессмертные идеи и образы перечисленных авторов, делая их
актуальными и провокативными. При этом неверно было бы утверждать,
что избранный Подорогой совершенно специальный (и неизвестный этим
19 Н. В. Мотрошилова
290 •
Раздел V
классикам) подход, соразмерный идеям и приемам философии тела,
совсем уж непригоден для анализа творчества названных мыслителей.
Так, блестящий очерк «На высоте Энгадина. Фридрих Ницше» —
это, с одной стороны, весьма нередкая в ницшеведении попытка
распознать за хлесткими ницшеанскими формулами «образ реального Ницше».
В показе Ницше как «человека границы», человека-странника, нигде не
находящего «дома», пристанища, на первый взгляд нет ничего
оригинального. Но, с другой стороны, мне представляются и оригинальными,
и яркими, и перспективными методологические, а одновременно и
художественные приемы, вырастающие из глубин философии тела,
созданной Подорогой, а подчас еще конкретнее — «философии глаза»,
философии ведения, которая принадлежит, по моему мнению, к самым удачным
творческим находкам Валерия Александровича. Я имею в виду,
например, сопоставление характера путешествий Гёте и Ницше, где гётевские
описания возводятся к некоему «археологическому глазу», а ницшев-
ские — к «глазу метафорическому» (Подорога В. Указ. соч. С. 154 и
далее). С пояснением: метафорический глаз — «не просто глаз, видящий
мир с помощью преднаходимых риторических фигур, т. е.
ориентирующихся на способность языка создавать метафоры; это — глаз аффекта;
телесный глаз, он принадлежит телу, находящемуся в экстазе
движения»; отсюда выводится язык Ницше как «язык бытия в становлении...»
(Там же. С. 154). Прекрасны (и, я думаю, во многом адекватны текстам
и личности Ницше) конкретные детали дальнейшего анализа Подоро-
ги. Среди них — профилирующая для многих ницшеведческих догадок
тема болезней тела, проходящая через всю жизнь «несчастного Ницше»,
а в проблеме ницшевских путешествий — вопрос о поисках места, где
жизнь, наполненная непрерывными телесными, а оттого и духовными
страданиями, станет хотя бы сносной. Этим местом становится Энгадин.
Затем его «заместит» Турин, отмечает В. Подорога. Но все это — только
прелюдия к переходу от фактически-житейских, «климатических» или
медицинских констатации к собственно интересующей Подорогу
«символической физиологии», встроенной в мыслительный и чувственный
опыт Ницше. Цитируя или не цитируя Ницше, Подорога использует
тексты этого трудного, загадочного философа для того, чтобы вместе с ним
подняться на вершины философии, или метафизики, «ландшафта» —
еще одной принципиально важной тематико-предметной и
методологической области новой философии телесности. Я далее рассмотрю этот
блок — и не на примере Ницше, а в связи с жизненным опытом, который
анализируется в другой превосходной главе разбираемой книги, главе,
которая носит название «Ландшафт Шварцвальда. Мартин Хайдеггер».
Начинается глава с цитаты из Хайдеггера: «На крутом склоне
широкой горной долины южного Шварцвальда, на высоте 1.150 метров
приютилась небольшая лыжная хижина. В основании 6 на 7 метров. Низкая
Штрихи к историко-философским портретам... * 291
крыша перекрывает три комнаты: кухню, спальню и кабинет. В узкой
горловине долины видны разбросанные тут и там по одной стороне склона
свободно расположившиеся крестьянские усадьбы с большой
выступающей кровлей. Горный склон спускается от альпийских лугов и пастбищ
вплоть до леса с его старыми, высоко вздымающимися, темными елями.
И над всем этим — ясное летнее небо, в сияющем просторе которого
широкими кругами парят два ястреба.
Таков мир моего труда, увиденный склонными к созерцанию глазами
гостей и отдыхающих» (Там же. С. 246).
Свидетельствую как один из таких гостей: простое, скупое описание,
сделанное с натуры и относящееся к кусочку шварцвальдской земли, на
котором примостилась как бы приросшая к горному склону знаменитая
«хижина» (Hütte) Хайдеггера в Тодтнауберге, полностью достоверно и
сегодня. Мне выпала большая жизненная удача 24 сентября 1994 года
приехать сюда из Фрайбурга в Брейсгау вместе со старшим сыном
Хайдеггера Йоргом, в доме и радушной семье которого посчастливилось
погостить пару недель. Йорг открыл хижину, и я своими глазами
увидела упомянутые М. Хайдеггером «три комнаты», вернее, три крохотные
комнатушки, в числе которых — та, которая поименована «кабинетом».
Но вмещает она всего лишь небольшой стол с лампой, стул, несколько
полок. Считается, что за этим столом Мартин Хайдеггер писал «Бытие
и время». Но Йорг Хайдеггер поведал мне, что его отец по большей
части работал над книгой внизу, в деревне («В хижине жили и шумели мы,
дети», — заметил Йорг). В деревню Мартин Хайдеггер уходил рано
утром, поднимаясь в домик к обеду или ужину.
Есть дорогая мне фотография, снятая Йоргом: я сижу на одном из
резных стульев, вынесенных из хижины. (Почти наверняка на нем
сиживал Мартин Хайдеггер...) Впечатления от посещения этого уголка
Шварцвальда были очень, очень сильными и глубокими. Я и раньше,
конечно, понимала умом (да и писала об этом), что значила шварцвальд-
ская «почва» для творчества Хайдеггера, но тут почувствовала все это,
что называется, душой и сердцем. (Тогда же мною были по свежим
следам сделаны наброски путевых заметок. К ним присоединились и те, что
возникли благодаря посещению — с помощью того же Йорга — родного
города Мартина Хайдеггера, Мескирха. Все никак не соберусь
опубликовать их — вместе с поистине драгоценными для меня фотографиями...)
Еще в написанной мною биографии Хайдеггера, опубликованной в
1990 году (и перепечатанной в книге «Работы разных лет», М., 2005), я
цитировала слова Подороги, касающиеся хайдеггеровского шварцваль-
дского топоса мысли. Книга «Метафизика ландшафта» (М., 1993), где
впервые появился (позднее перепечатанный и рассматриваемый здесь)
очерк о Хайдеггере, показывает, сколь важен для Подороги и его
философии «хайдеггеровский прецедент». Он разбирается подробно и
тщательно, во всей значимости, выразительности и всеобщности его как будто
бы частных структур. О некоторых из них стоит поразмыслить.
19*
292 •
Раздел V
Структура M 1. Едва дав простое и скромное, как я сказала,
описание родного и близкого шварцвальдского пейзажа, Хайдеггер замечает,
что сам он «почти никогда» не предавался созерцанию окружающего его
ландшафта. Дело не в том, правда это или нет. Суть в другом — в
факте вполне понятном и житейском: люди, повседневно обитающие и тем
более совершающие какой-то важный, нелегкий труд посреди дивных
красот природы, как бы привыкают к ним и редко выкраивают время для
«чистого созерцания». Однако же — проследите, как точно,
выразительно, ярко описывается Хайдеггером коренная, корневая связь человека
(в данном случае немца) с родным (в данном случае шварцвальдским)
ландшафтом: «Я испытываю его ежечасное, дневное и ночное изменение,
то медленное, то быстрое, на протяжении долгих лет. Тяжесть горного
хребта и крепость его изначальной геологической породы, осторожно
медленный рост елей, сверкающее, ровное великолепие цветущих
альпийских лугов, строгая простота занесенных снегом полей [см. зимнюю
фотографию хижины. — H. М.] — там наверху все это сдвигается,
теснит и проносится вихрем через повседневную жизнь» (Там же. С. 247).
Именно, именно так: через нашу повседневную жизнь «проносится
вихрем», включается в нее родная природа.
Структура M 2. M. Хайдеггер акцентирует то, что его мысль —
как и любая мысль вообще, что его труд — как и всякий труд, вернее
сказать: процессы мысли и труда, — всегда остаются погруженными «в
событие ландшафта».
Эти глубоко верные жизненные наблюдения Хайдеггера,
превратившиеся (в целом ряде его книг, лекций, да и совсем небольших
произведений — например, «Из опыта мышления» или «Feldweg») в категории
философии Dasein, тонко, превосходно, я бы сказала — въедливо,
рассмотрены, раскручены в анализе Подороги, чутко прилажены им к
конкретным, совсем небольшим отрывкам хайдеггеровских текстов и их
контекстам. К тем отрывкам, где от размышлений о чисто шварцвальдском
топосе своих прозрений мыслитель переходит к формированию,
обоснованию того, что Подорога определяет — и я думаю, умно и
справедливо, — как «топологику, т. е. логику, пытающуюся соотнести между
собой и в одном месте гетерогенные пространственно-телесные элементы
через близость и разрыв...» (Там же. С. 255).
Но если первые «такты» раскручивания мотивов «топологики» в
хайдеггеровских текстах еще звучат у Подороги сдержанно,
аккуратно, во многих аспектах конгениально, то последующий анализ — это, в
моем представлении, настоящая герменевтическая «агрессия» с ясной
и последовательно реализуемой целью не просто утвердить господство
телесно-пространственных измерений всего «вещественно» бытийству-
ющего, но и раскрыть изначальное «сущностное предназначение» неан-
тропологизируемого, поистине космического всеобще-геологического
модуса «быть на земле», вернее, порождаться землей, преобразовываться
ею — господство над всеми, исключительно всеми категориями, темами,
Штрихи к историко-философским портретам... • 293
рассуждениями Хаидеггера. Упомянутая «агрессия» осуществляется,
сохрани Господь, не грубо, а тонко, даже элегантно, часто очень
убедительно — с привлечением богатого арсенала философских, художественных,
литературных средств. Подорога изящно соотносит тексты Хаидеггера с
идеями и образами Ф. Гёльдерлина, Р.-М. Рильке, Ф. Ницше, А. Белого,
П. Сезанна, К.-Д. Фридриха, П. Клее. (Здесь он, замечу в скобках, как бы
нарушает другие свои методические правила, а также инструктивный
совет Жака Деррида, сделанный им, кстати, в Москве в беседе с Подорогой
и другими нашими превосходными философами, М. Рыклиным и Н. Ав-
тономовой: «...мы должны ввести запрет на некоторую
интертекстуальную стратегию, если под ней подразумевается немедленное созывание
других для прочтения Ницше: конечно, ведь читая какого-нибудь автора,
я читаю именно этого автора и не пытаюсь созывать других»1. Но ведь и
сам Деррида не был последователен: кого только он ни «созывал»,
интерпретируя тексты того же Ницше и других авторов...)
Чем больше вчитываешься в рассматриваемый текст Подороги,
тем больше подпадаешь под обаяние красиво выписанных деталей и под
власть общей схемы, порожденной, несомненно, замыслом и жестко
соблюдаемой «идеологией» философии тела, пространства и земли как
«твердой», исторически (относительно) постоянной части космоса.
Последний момент я хотела бы подчеркнуть особо. Этот момент —
постоянство, пусть и относительное. В быстротечности изменений,
радикальности крушений и уничтожений современной эпохи все же сохраняются
уголки земли, подобные Шварцвальду (или другим горным ландшафтам),
где время как бы течет иначе, чем в других местах; где время сохраняет,
хотя бы отчасти консервирует окружающее пространство; где связь
человека с землей не затемняется, не закатывается в асфальт урбанизма,
а удерживается и высвечивается в коренном, как бы внеисторическом
значении. Когда я увидела знаменитую хижину в Шварцвальде и
окружающую ее природу, меня как молния поразила мысль: ведь у меня
перед глазами примерно тот же ландшафт, что открывался взору Мартина
Хаидеггера. Вспомнила Гёльдерлина: герой его поэмы «Гиперион»,
обуреваемый тоской о навсегда ушедшем прекрасном мире древней Греции,
согревался душою, памятуя о том, что плывет вдоль берегов и островов,
в основном сохранивших прежние древние очертания...
В принципе, искать в этих «почвенных» связях тайну и исток
философии Хаидеггера, как это делает Подорога, я считаю оправданным и
продуктивным. Более того, выводить из таких связей некоторые
структуры мышления, чувствования человека, в том числе и современного, тоже,
как я думаю, важно и полезно. И конечно, не один Хайдеггер
напоминает нам обо всем этом. Описанием и осмыслением таких или подобных
структур полна литература, в частности, великая литература России. Но
•Жак Деррида в Москве: Пер. с фр. и англ. / Предисл. M.K. Рыклина. М.: РИК
«Культура», 1993. С.182.
294 •
Раздел V
и многие мысли, идеи, образы культуры, уже «улетевшие»,
отдалившиеся от таких природно-ландшафтных условий, от (блестяще описанных
Хайдеггером) когда-то непосредственных, повседневных связей с
«ближней», родной природой, вполне могут быть возведены к «телесным»,
пространственным первоистокам. Ландшафты, превращающиеся — прав
Хайдеггер — в «события ландшафтов» и тем самым в неискоренимый
ингредиент каждой человеческой жизни и души, являются уже не только
данностями природы, но и структурами человеческого бытия, а потому и
важнейшими темами философии. Значит, «метафизика ландшафта» (как
и метафизика тела), выстраиваемая Подорогой с тонкой опорой на
великих и выдающихся мыслителей, не нуждается для самого своего
существования и развития ни в особых оправданиях, ни в чьих-то одобрениях.
Меня, однако, беспокоит, причем именно своей завлекательностью,
отмеченная чуть ли не универсальная «агрессия» метафизики тела и
ландшафта. Ибо это, по моему мнению, не в лучшую сторону меняет
ландшафт самой метафизики. Поясню, что имеется в виду. Метафизика с
древних времен была нацелена на исследование того, что, разумеется,
было как-то сращено с вещественно-телесными, пространственными (то
есть земными или космическими) воплощениями, но что к таким
воплощениям не только не сводилось, а по праву рассматривалось и как их
противоположность. Речь идет о духе, сознании, мысли, о душе человека, о
понятиях и ценностях культуры, о законах нравственности или права.
Я вполне отдаю себе отчет в том, сколь продуктивна та тенденция,
которая пробивала себе дорогу и в предшествующей истории философии, но
стала особенно мощной и явной в XX веке: это нацеленность на
специальное исследование форм материально-вещественно-телесного
закрепления, объективизации, транслирования и т. д. духовных процессов и
продуктов различного рода. (В эпоху телевидения, Интернета, новейших
средств связи роль таких исследований по вполне понятным причинам
существенно повышается: ведь любая мысль и любая эмоция должны
получить материально-зрительный аналог.) Философия XX столетия
по несомненному праву приковала внимание к телесно обусловленным
процессам мысли и чувства и, что первостепенно важно, сумела вырвать
их исследование из тисков естественнонаучного и философского
натурализма. Однако, отстаивая суверенные права такой философской работы
(скажем, над темами кожи или глаза), ее адепты навесили множество
ярлыков, заслуженных и незаслуженных, на концепции разума и
рационализма, отвергли, деконструировали притязания логицизма.
Употребляя слово «логицизм», я имею в виду не то, что с этим
понятием, скорее всего, связывают Подорога и его последователи. Но
надеюсь, что они ухватят нить моей мысли. Под «логицизмом» я понимаю
здесь систему рассуждений и приемов, оставляющих за кадром
философии, логики в собственном смысле вообще-то нужный (и на каком-то
этапе осуществляемый и логицистами) анализ сознания, духа, их
продуктов в рамках прослеживаемой связи с движениями, проявлениями тела,
Штрихи к историко-философским портретам... * 295
материальными объективациями. Например, у Гегеля — это некоторые
разделы «Феноменологии духа» и симметричные им подразделы
«философии духа»: антропология, феноменология, психология. Логицистские
«измерения» (соответственно: темы, анализы, подходы, методы) я
считаю не менее правомерными, важными для философии, нежели
антропологические или телесно-феноменологические (в любом — гегелевском,
гуссерлевском или хайдеггеровском смысле). Что же касается сюжетов
хаидеггероведения, то и здесь «ландшафт метафизики» представляется
мне куда более широким, разноплановым, нежели (доминирующие у
Подороги) метафизика ландшафта и феноменология тела. Здесь я снова
улавливаю то, что и в других текстах Подороги, всегда оригинальных,
интересных и провоцирующих (в лучшем смысле этого слова), вызывает
настороженность из-за содержащихся в них универсалистских,
«экспансионистских» притязаний.
В заключение этих моих чисто субъективных заметок хочу
вернуться к тому, с чего начала — к теме значимости, причем значимости
мировой, интернациональной, идей, образов, мыслей и замыслов Валерия
Подороги.
Обращусь к небольшой, но, как сейчас принято говорить, знаковой
книге — «Жак Деррида в Москве». Я не собираюсь анализировать ее
особое содержание. Этот ценный во многих отношениях документ здесь взят
мною лишь для того, чтобы подтвердить факт присутствия российской
мысли в «ландшафте метафизики», взятой в ее европейском или
американском, словом мировом, ракурсе. В книге опубликована (уже бегло
процитированная ранее) беседа Жака Деррида с отечественными
философами В. Подорогой, М. Рыклиным, Н. Автономовой; беседа состоялась
в феврале 1990 года. На этот факт можно посмотреть по-разному. Теперь
он стал в ряд других обстоятельств подобного рода. После перестройки в
Москве, в частности в Институте философии РАН, побывали известные,
а то и действительно выдающиеся западные мыслители — Ю. Хабермас,
П. Рикёр, Ж. Деррида. (Я не говорю о других известных в своей области
философах Запада и Востока, которые участвовали в многочисленных,
состоявшихся на московской земле международных и российских
конгрессах, конференциях, симпозиумах.) Сегодня все это — события,
которым мало кто удивляется; они считаются, слава богу, нормальными, само
собой разумеющимися.
Однако в случае Подороги и его группы упомянутая беседа с Ж.
Деррида — это отдельное звено в цепи, которая выковывалась еще до
перестройки. Для меня несомненно и очень ценно то, что российские
собеседники Деррида ведут разговор со знаменитым философом
профессионально, компетентно, остро. Понятное дело, в центре диалога — сам Деррида
(ибо он — приглашенный, почетный и интересный гость), вопросы к
нему и его разъяснения. Российские собеседники — основательные и
296 •
Раздел V
тонкие знатоки текстов, идей Жака Деррида, способствовавшие, в
частности, переводу, пониманию, толкованию некоторых из этих текстов.
Их знакомство с оригинальными и влиятельными идеями, концепциями
французского философа началось задолго до того, как Деррида
появился в Москве. Надо думать, будущих историков современной
отечественной философии заинтересует любопытнейший и важный вопрос о том,
как еще в Советском Союзе не только отдельные философы, но и целые
группы исследователей, ускользая от «надзирающего ока» вплоть до
середины 80-х годов функционировавших марксистско-ленинских
идеологов, серьезно и методично изучали те работы западных авторов,
которые казались им наиболее интересными, глубокими, близкими по темам
и идеям. Если давать обобщенные формулировки, то, как я полагаю,
В. Подорога и его группа с особым интересом и сочувствием отнеслись к
тем исследованиям западных философов (французских и американских
по преимуществу), которые оказались созвучными частично
обсужденным выше собственным темам и проблемам этих российских авторов.
(Сейчас я отвлекаюсь от специальных биографических вопросов о том,
какие именно влияния, отечественные и западные, они испытывали в
более ранних процессах своего профессионального выбора. Если бы об
этом пришлось говорить специально, то на первый план, наверное,
вышла бы линия «Мамардашвили-Подорога», что заставило бы войти в
рассмотрение вопросов очень тонких, чувствительных — и для меня
лично отчасти означало бы вступить в дискуссию с Валерием
Александровичем по поводу его толкования оригинального философствования Мераба
Константиновича1.) Что же касается Ж. Деррида, то факт остается фак-.
том: с ним в 1990 году беседуют (в определенной степени)
сформировавшиеся и известные в своей стране философы, пусть еще не написавшие
всех своих главных работ — они появились позже, в 90-е годы XX века и
в начале XXI столетия, в годы их творческого расцвета. Беседуют, быть
может, не «равные» (учитывая, что Деррида — старший и всемирно
известный коллега), но спорят и рассуждают они «на равных», что значит:
они, по моему мнению, не уступают Жаку Деррида в знании проблем, в
глубине «взрыхления почвы» рассуждения, в оригинальности и тонкости
трактовки обсуждаемых вопросов. Ощущает ли это сам знаменитый
собеседник? Думаю, что ощущает, а порой и признает, так или иначе
объективирует это. Приведу пример. В. Подорога, опираясь на работы Жака
Деррида (в частности, на раннее его произведение «Голос и феномен»),
предложил свою трактовку подходов, методов своего собеседника. Он
поставил перед Деррида (и самим собой) вопрос: «...где или на каком
уровне текстовой реальности разворачивается драма Вашего чтения?»
(с. 176). А также сопоставил эту «драму» с «пространственно-языковой
экспериментацией» Андрея Белого, которому (в стиле уже упомянутой
1Я уже вступила в такую дискуссию в своей книге «Мераб Мамардашвили:
философские размышления и личностный опыт». М., 2007.
Штрихи к историко-философским портретам... * 297
«экспансии» философии тела) почти однозначно «присвоил» «задачу-
максимум: не дать языку отойти от тела, все время держать язык вместе
с телом, удерживать хрупкую нить их референции, хотя это и кажется
делом безнадежным» (с. 177).
Ответ Жака Деррида на вопрос и толкование Подороги очень
характерен — по крайней мере, в некоторых интересующих меня здесь
смыслах и аспектах. Деррида признал: «Это очень интересно...» (с. 178).
Более того, в словах Подороги, отнесенных к А. Белому и его роману
«Петербург» («не дать языку отойти от тела...»), французский философ
увидел также «адекватное описание» того, что он, Деррида, пытался
делать применительно к использованию, толкованию текстов (с. 179).
Деррида добавил, что сам не читал А. Белого, однако полностью
«доверяет» описанию и толкованию Подороги. Это, как говорится, дорогого
стоит и подтверждает мой тезис о беседе «на равных». Обсуждается и
другая, как бы противоположная судьба языка — непременно «отходить
от тела». В процессе обсуждения этого частного вопроса Деррида чутко
и тонко реагирует на то, что ранее было выражено Подорогой (например,
на его относящееся к текстам и стилю Деррида замечание относительно
«способа письма» как не- или антикоммуникативного). Начинается
разбор весьма значимого аспекта философии Деррида — проблемы «следа»
как, с одной стороны, части тела, но такой, которая, с другой стороны,
обособляется, «отходит от тела» (с. 180).
Книга Деррида, о которой здесь идет речь, далее провоцирует меня
на обсуждение того, что я считаю печальной стороной все же
состоявшегося в последние десятилетия XX и в начале XXI века диалога
отечественной и западной философии. Здесь, конечно, один из лучших эпизодов
диалога, встраивающийся в ряд с другими событиями, о коих уже
упоминалось — с приездами в Москву Ю. Хабермаса, П. Рикёра, В. Хёсле,
Р. Рорти, то есть современных мыслителей первой величины или других
известных западных и восточных философов мирового класса, диалог с
которыми стал для нашей философии одним из источников внутреннего
обновления и дальнейшего развития. Но в этом процессе диалога есть
очень досадная асимметричность. К нам в Москву, Санкт-Петербург, в
другие города приезжают авторы, чьи работы у нас очень неплохо знают,
по крайней мере, те философы, которые вступают в упомянутый диалог.
Я очень сомневаюсь в том, что тут есть симметрия, то есть что наши
гости действительно знают работы тех, с кем они встречаются и беседуют.
И совсем не из-за языковых барьеров, ибо, скажем, у Подороги, как и у
других российских философов, достаточно публикаций на европейских
языках. Как видно, и не из-за того, что западные коллеги считают
знакомство с сочинениями наших авторов потерянным временем.
И еще один горестный штрих к общей картине. Побывав в Москве,
наши именитые философские гости затем, порою, писали о своих
путешествиях, давали интервью — как правило, для российских изданий.
Но мне почти неизвестны факты, которые говорили бы об их желании
298 •
Раздел V
по возвращении на родину рассказать сколько-нибудь содержательно, с
указанием имен, идей и сочинений, о тех философах нашей страны, с
которыми им довелось вести диалог, беседуя, как сказано, на равных. (Были
и исключения, и о них я дальше еще скажу.) В результате получившая
свободу, порою отмеченная немалыми достижениями отечественная
философия, объективно, то есть по тематике, глубине философских
исследований уже вписанная в контекст мировой мысли, до сегодняшнего дня
так и осталась — по серьезному счету — без субъективного признания
этого реального факта со стороны западных партнеров. Сложилась
досадная и несправедливая асимметрия: у нас лучшие (и даже средние)
зарубежные, в основном западноевропейские, мыслители достаточно
хорошо известны соответствующим специалистам, включены в наш
философский дискурс; часто их работы переведены, и неплохо, на русский язык; в
учебные курсы университетов, и не только на философских факультетах,
включено изучение современной зарубежной философии. А на Западе
(даже и при наличии многочисленных переводов российской
философской классики — работ В. Соловьева, Н. Бердяева, С. Франка, Л. Шесто-
ва и многих других; даже и при существовании западных специалистов
по русской философии, число которых, увы, сокращается) ни в
преподавании, ни в исследовании российская мысль не признана, не
представлена как предмет, достойный изучения и анализа. Причины сложившейся
ситуации многообразны, и здесь не место их обсуждать во всей полноте.
Но нельзя не сказать о нашей собственной вине: это вина не отдельных
людей, а пагубной, так и не меняющейся на протяжении многих
десятилетий государственной культурной политики. Говоря кратко, после
Октябрьской революции, вернее через несколько лет после нее, в культуре,
в мире идей все определялось идеологическим изоляционизмом.
Считалось необходимым по всем линиям противопоставлять «буржуазному
Западу» то, что говорилось и делалось в Советской России. (В этой книге,
полагаю, удалось доказать, что таковой замысел в нашей стране так и не
удался, ибо целостная человеческая культура имеет в себе
сопротивляющийся внешнему насилию потенциал самосохранения и взаимодействия
ее региональных фрагментов.) Однако и Запад внес свой «вклад» в
искажение идейно-культурных взаимодействий, учредив советологические
центры, в которых «отлавливали» и демонстрировали западной публике
самое худшее, что в сфере идей производилось в Советском Союзе.
Так в системе западного образования и других сферах идейного,
культурного пространства сформировались устойчивые стереотипы,
не только препятствовавшие познанию того, что реально происходило
в нашей стране, но и отшибавшие всякий интерес к такому познанию.
С подобными стереотипами вырастали целые поколения. А когда после
десятилетий изоляционизма кто-то из персонажей, влиятельных в
культуре, философии Запада, оказывался в России, то работа над
совершенно новым для них материалом уже оказывалась или очень трудной, или
вообще невозможной. Книга «Жак Деррида в Москве» — в той части, в
Штрихи к историко-философским портретам... • 299
которой она содержит «отчет» французского философа о его московском
путешествии, — является тому примером. Совсем не случайно, как я
думаю, в этой книге — на мой вкус — нет почти ничего конструктивного
и поучительного, что касалось бы новых реалий нашего бытия,
взорванного перестройкой, или людей, которых Деррида встретил, во всяком
случае должен был встретить, в Москве. Создается впечатление: если
бы не погружение в параллели (более ранние московские путешествия
А. Жида и В. Беньямина), если бы не смутные (на мой вкус
малосодержательные) разглагольствования о демократии, Жаку Деррида не о чем
было бы писать... Книжечка спасена только прекрасным эссе М. Рыкли-
на «Back in Moscow, sans the USSR», да еще и ранее упоминавшейся
беседой. В чем же тут дело? Главное, как я думаю, в том, что знание нашей
страны, ее реалий у самых крупных западных мыслителей близко к нулю,
а желание приобрести эти знания (хотя бы «выпытав» все возможное у
тех умных молодых людей, с которыми их в России свела судьба) —
самое минимальное.
Да и то следует сказать, что начало 90-х годов было для всяких
такого рода познаний в отношении России временем самым жестким и
смутным. Вспоминаю, что тогдашние лекции Деррида в Институте
философии сначала поразили меня несвоевременностью, что ли, своей
тематики: они были посвящены... дружбе. В стране, переживавшей всяческую
социальную ломку, они казались чем-то далеким от реалий жизни.
Слушать их, однако, было очень интересно, может, и потому, что через все
конкретные тревоги постперестроечных социальных «деконструкций» в
них перебрасывался мост к бессмертным, вечным темам человеческого
бытия.
Не только в случае «Жак Деррида-Валерий Подорога», но и в
отношении других зарубежных философов является актуальной,
релевантной и очень трудной вот какая тема: в круге изучения, а потом и
общения Валерия Александровича, всей его группы оказались прежде всего
и по преимуществу западные философы, литераторы, художники модер-
нистско-авангардистского стиля с лево-марксистской социальной и
политической родословной. Для них происшедшие к концу XX века крах
социализма во всем мире, распад СССР, дискредитация марксизма и
ленинизма стали серьезными жизненными, идейными, теоретическими,
нравственными испытаниями. Было бы интересно исследовать эту
тематику (скажем, на примере недавно опубликованных в России переводов
книг того же Жака Деррида «Призраки Маркса» и «Маркс и сыновья»).
Но эта специальная тема, в том числе и в соотношении с творчеством
Подороги, еще ждет своих исследователей.
В самом же конце я хотела бы сказать о бегло упомянутых ранее
исключениях. В 90-х годах в Москве гостем отдела истории философии
Института философии РАН был прекрасный немецкий философ (сейчас
работающий в США) Витторио Хёсле. Он вел лекционный курс по истории
философии, причем к концу его полиглот Хёсле читал лекции по-русски!
300 •
Раздел V
Возвратившись в Германию, он опубликовал в ряде газет Германии свои
впечатления о философии нашей страны, называя конкретные имена,
работы, говоря о преимуществах, сильных сторонах российской мысли.
Другой пример: видный современный исследователь Канта, по существу
живой классик немецкого кантоведения, Норберт Хинске после
Международного кантовского конгресса в Москве (май 2004 года) предложил
издать в Германии книгу с теми докладами российских участников,
которые — с его точки зрения — стоят на уровне мировых требований и
критериев. (Она была издана в 2008 году в реномированном немецком
издательстве «Фроманн-Хольцбог».)
И последний пример — он касается как раз Валерия Подороги: это
печатаемый в упомянутом номере «Синего дивана» отрывок из книги
Сьюзан Бак-Морс «Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass
Utopia in East and West» («Мир мечты и катастрофа: исчезновение
массовой утопии на Востоке и Западе»), в котором видная американская
исследовательница рассказывает, какое впечатление произвели на нее
встречи и интеллектуальное общение в Москве. А это было в первую очередь
общение с Подорогой и сильной группой коллег, с которыми он работает
в тесном творческом взаимодействии.
ИНТЕРВЬЮ
Интервью в связи с 80-летием Института философии РАН1
«Такое учреждение, как институт философии, уникально»
A.B. Черняев: Неля Васильевна! 2009 г. — юбилейный для
Института философии, а также для Вас лично: ведь это и год
полувекового юбилея Вашей работы здесь. Большая часть истории
Института прошла на Ваших глазах и при Вашем участии. Какие мысли и
воспоминания вызывают у Вас эти даты?
Н.В. Мотрошилова: Так уж совпало, что 80-летие Института
философии — это дата и в моем личном развитии: исполняется 50 лет
моей работы на Волхонке, 14. Кроме того, 2009-й — год моего 75-летия.
Для меня это повод, чтобы вспомнить, каким было минувшее время, а
попутно и опровергнуть некоторые типичные штампы. Сегодня в СМИ,
особенно в Интернете (у меня нет ни времени, ни особого желания
следить за всем, что там пишут, но мне рассказывают об этом другие), люди,
которые не жили в тот период, распространяют стереотипы
искаженного его восприятия и строят свои «гробокопательские» версии. Но ведь
80-летний период из истории нашей философии, совпавший со временем
существования Института философии — обширный и значительный,
почему нужно скрупулезное, объективное его исследование, что состав-
1 Впервые опубликовано: на русском языке в кн.: Наш философский дом (к 80-летию
Института философии РАН). Москва-Прогресс-Традиция 2009. С. 419-435; на английском
языке: Russian studies in Philosophy. Summer 2009. P. 68-82. Н.В. Мотрошилова ответила
на вопросы н.с. ИФ РАН A.B. Черняева.
Штрихи к историко-философским портретам... • 301
ляет научную, историко-философскую задачу. Почему-то мы не всегда
это понимаем. Никто не сомневается: скажем, для постижения немецкой
классической философии необходимо хорошо знать тексты, доподлинно
выявить исторические обстоятельства того времени. Но разве не то же
самое требуется для изучения отечественной философии — очень
трудного и противоречивого советского времени, а также и того периода,
который мы переживаем сейчас?
А.Ч.: Существуют ли в современной историко-философской
науке отвечающие таким требованиям разработки?
Н.М.: В настоящее время я заканчиваю работу над книгой, которая
называется «Отечественная философия 50-80-х гг. XX в. и западная мысль
(опыт социологии философского познания)»1. В своей книге я опираюсь
на уже существующий массив очень добротных исследований, например,
изданный под редакцией В.А. Лекторского двухтомник «Философия не
кончается». Там есть ряд блестящих публикаций. Достаточно упомянуть
имена Г.С. Батыгина, А.П. Огурцова, В.А. Лекторского, В.Н. Садовского,
Л.Н. Митрохина. Есть множество воспоминаний, мемуаров,
исследований. Я на все это внимательнейшим образом опираюсь, но стремлюсь
сделать исследование еще более конкретным. Например, у меня есть такой
исследовательский прием (освоенный в разных общественных
дисциплинах): case studies, связанные с тщательным обобщающим анализом
конкретных примеров. Скажем, возникает необходимость по-новому изучить
контекст пятитомной «Философской энциклопедии»: как она создавалась,
какие были трудности, каково ее значение сегодня? В итоге, как мне
кажется, получается достаточно высокая историческая оценка данного
издания: эта энциклопедия для своего времени стала прорывом, плацдармом,
фундаментальной основой для развития отечественной философской
мысли. Кстати говоря, молодые тогда сотрудники ИФ принимали в создании
«Энциклопедии» очень деятельное и горячее участие.
А.Ч.: Если не ошибаюсь, эту Вашу работу по социологии
философского познания можно рассматривать как продолжение Вашей книги
«Наука и ученые в условиях современного капитализма» 1976 г!?
Н.М.: Совершенно верно. Стой работой по социологии науки,
социологии философского познания нынешняя связана в
теоретико-методологическом отношении; но хотелось сделать эту книгу шагом вперед.
Я вижу свою цель в том, чтобы очень конкретно, опираясь на тексты, на
сравнительное историко-философское исследование, показать, что
действительно происходило в нашей философии и как это соотносилось с
развитием тех или иных тенденций в западной мысли.
А.Ч.: Ваша коллега Н.С. Юлина пишет о «монологизме»
советской философии. Как Вы полагаете, была ли такая проблема?
Н.М.: В определенной мере Юлина права. Не было тогда
настоящего диалога с западной мыслью. В каком-то смысле его нет и сейчас. Ведь
1 Речь шла о книге, которую читатель держит в руках.
302 •
Раздел V
диалог всегда, естественно, двусторонен: это не только когда мы знаем
их и о них говорим, но и обратное — когда они знают нас, обращаются к
нам, дискутируют с нами. Но даже и в этом отношении были очень
яркие исключения. Я их описываю в упомянутой (данной. — Н.М.) книге.
В качестве примера вспоминается, скажем, наше сотрудничество — еще
в 70-80-х гг. — с Международным гегелевским объединением.
Совместно мы опубликовали 4 книги — одновременно в России и в Западной
Германии. Я издала книгу текстов по истории отечественной философии
советского периода в 1986 г. в издательстве «Зуркамп» — том самом
издательстве, которое печатает Ю. Хабермаса и других ведущих
философов современности. Две из упомянутых совместных работ — гегелевед-
ческие: в них есть и публикации, и дискуссии виднейших исследователей
философии Гегеля из разных стран, в том числе из нашей, которая в ту
пору звалась СССР. Уже не монолог! Проблема монологизма, повторяю,
существовала, но не была абсолютно фатальной. Ведь так называемый
железный занавес всегда был дырявым.
А.Ч.: Расскажите, каким образом Вы пришли в философию, что
повлияло на выбор философского факультета и такого
неординарного жизненного поприща?
Н.М.: Мой собственный путь на философский факультет поначалу
определялся совершенно случайными причинами. Один мальчик, с
которым мы учились в параллельных школах — тогда ведь девочки и
мальчики обучались раздельно, — сообщил мне, что собирается поступать на
философский факультет. Признаться, я тогда слабо представляла себе,
что есть философия, но меня это заинтриговало. И вот, пошла. Первое
время меня одолевали сомнения насчет правильности такого выбора.
А.Ч.: Сейчас это звучит невероятно!
Н.М.: Возможно... Если бы я была более склонна к мистике и ко
всяким разговорам о судьбе, я бы, наверное, сказала, что какое-то
вмешательство в мою судьбу было. Где-то на 2-3 курсе я почувствовала:
философия — это мое призвание. И уже тогда стало ясно, что меня
больше всего привлекает история философии... Я окончила очень хорошую
московскую школу; многие наши педагоги имели еще дореволюционную
выучку. Когда же в 1951 году я поступила на философский факультет,
меня поразило, насколько слабым и бездарным оказалось там
преподавание многих предметов. Тогдашний декан факультета проф. А.П. Гагарин
не умел грамотно высказать ни единого предложения; начиная фразу, он
совершенно не представлял, куда он вырулит в конце ее. Когда я
впервые услышала его речь, то спросила себя — куда я попала? — настолько
это диссонировало с высокой культурой наших школьных
преподавателей. Для философского факультета это были не лучшие времена, к тому
же — самый пик культа личности Сталина. И тем не менее именно
учебе на философском факультете я обязана тем, что философия стала
моей судьбой. Ибо там все-таки были и такие выдающиеся педагоги, как
В.Ф. Асмус, М.Ф. Овсянников, молодые Э.В. Ильенков и В.И. Коровиков.
Штрихи к историко-философским портретам... * 303
Признаться, Ильенков был не очень хорошим преподавателем в
узко-методологическом понимании; но он жил философией, философски
мыслил на наших глазах. Это был захватывающий, судьбоносный пример
для нас, его учеников. Кроме того, на старших курсах тогда же учились
люди, имена которых говорят сами за себя: М. Мамардашвили, А.
Зиновьев, Л. Митрохин, И. Фролов, Г. Щедровицкий, В. Лекторский — всех
трудно перечислить. А сокурсники: В. Садовский, В. Швырев, Г. Бати-
щев, В. Межуев — это только некоторые имена; на следующем курсе
учились П. Гайденко, Э. Соловьев, О. Дробницкий, Т. Кузьмина и др. На
факультете уже была хорошая духовная, именно философская среда.
Истинная тайна, почему все эти замечательные люди собрались тогда
вместе, что вдруг привело их в философию — сначала в МГУ, а затем и в
Институт философии Академии наук, сотрудниками которого стали почти
все из перечисленных философов милостью Божьей... И так получилось,
что молодое и новое для своего времени сообщество приобрело то особое
значение, благодаря которому наша философия не пропала и развивалась
очень достойно, в целом ряде отношений достигнув мирового уровня.
А.Ч.: И как Вы думаете, почему же это смогло произойти?
Н.М.: Очевидно, это было связано с некоторыми важными
социально-историческими тенденциями. Во-первых, в послевоенный период
наша страна вступила в научно-техническое соревнование, в условиях
которого приобретали особую важность ценности научного познания,
объективной истины. К сожалению, эти идеалы никогда не стояли у нас
на первом месте. Но после войны они все же заметно придвинулись к
переднему плану по сравнению с ценностям номенклатурно-партийной
преданности, господствовавшими прежде — все-таки ядерную бомбу
надо было кому-то делать... А это имело значение для всего общества в
целом — и для технической, и для гуманитарной интеллигенции.
Сказалось и то, что культура и наука обладают внутренним единством, что
конкретно-научная и гуманитарная культура тоже едины, что философия
нужна культуре. Во-вторых, сыграл свою важную роль фронтовой опыт
будущих философов. Это, кстати, давний российский феномен, о
котором, в частности, писал Д.С. Мережковский на примере декабристов: их
умонастроение изменилось после знакомства с Европой и европейской
культурой в ходе военных походов начала XIX века. То же самое
произошло с русскими людьми и в середине XX в. Наши
фронтовики-философы — Эвальд Ильенков, Александр Зиновьев, Арсений Гулыга, Вадим
Келле и многие другие вернулись на родину с другим сознанием. В конце
войны Гулыга оказался перед могилой Канта в Кенигсберге — и совсем
не случайно впоследствии стал выдающимся кантоведом, крупным
специалистом по немецкой классической философии. Был еще и третий
фактор. Как показал проведенный мною анализ, лишь незначительная часть
(около 3-5 %) пришедших тогда в философию талантливых людей были
из Москвы и других центральных городов. В основном они были
уроженцами глубинки, маленьких городков и деревень. Но они приехали в
304 •
Раздел V
Москву с очень хорошей, глубокой и разносторонней подготовкой.
Провинция вдохнула молодые свежие силы — с уже изменившимися,
обновленными ценностями — в духовную культуру страны. Ведь в городе Гори
родился не только Иосиф Сталин; в Гори родился и Мераб Мамардашви-
ли. Он окончил тбилисскую школу, и с прекрасным интеллектуальным
багажом пришел на философский факультет, где сразу же выказал себя
блистательным мыслителем и незаурядной личностью. Некоторые уже
на студенческой скамье стали выступать с критикой устаревших
подходов — например, занимавшиеся русской философией Ю.Ф. Карякин и
Е.Г. Плимак. Вот такая была обстановка.
А.Ч.: Расскажите, пожалуйста, как Вы попали в Институт
философии?
Н.М.: В 1956 г. я окончила МГУ, защитив диплом по феноменологии
Э. Гуссерля. Подобный выбор темы сам по себе выглядел
экстравагантно — ведь тогда это имя было практически неизвестно. Когда я пришла
к В.Ф. Асмусу с просьбой, чтобы он стал научным руководителем моей
дипломной работы и назвала ему тему: 2-й том «Логических
исследований» Э. Гуссерля, примерно на 3 минуты воцарилось молчание. Я уже
подумала, что он меня сейчас выгонит с такой темой. И вдруг он говорит:
я столько лет мечтал, что придет кто-то из студентов и захочет
заняться такой темой! В этих условиях я ведь выбрала тему своей жизни, что
относится не только ко мне. Так же П. Гайденко и Э. Соловьев выбрали
экзистенциализм, О. Дробницкий — свою проблематику в этике.
Менялась сама тематика отечественной философии, и это очень важно.
Когда я окончила МГУ, В.Ф. Асмус и Ю.К. Мельвиль рекомендовали
меня в аспирантуру, но в то время вышел указ — брать людей в
аспирантуру только со стажем работы. Надо сказать, что довольно непросто и
даже проблематично проходило мое последующее поступление в
аспирантуру — несмотря на то, что на экзаменах у меня были все «пятерки»
и уже имелись печатные работы. Итак, только через 3 года после
окончания университета, в 1959 г. я смогла поступить в аспирантуру
Института философии и продолжить работу над своей темой. Диссертация была
посвящена феноменологии Гуссерля и социологии познания.
А.Ч.: А что Вы делали в течение 3 лет между учебой в
университете и аспирантурой?
Н.М.: Самое важное дело, которое я тогда сделала, — родила сына...
А в философском плане занималась самообразованием, читала
литературу по античной философии на русском и на немецком языках; последний
я к тому времени усвоила уже достаточно, чтобы читать сложнейшие
философские тексты.
А.Ч.: Очевидно, свою прекрасную подготовку по иностранным
языкам Вы получили еще в школе или в университете?
Н.М.: Нет. В основном я благодарна времени учебы в аспирантуре
Института философии, где была хорошая возможность изучать языки. И я
решила, кроме немецкого, изучить еще английский и французский. По ан-
Штрихи к историко-философским портретам...
•305
глийскому языку у меня уже была некоторая самодеятельная подготовка,
а французский начинала «с нуля», думала: как-нибудь да что-нибудь
выучу. Но мне несказанно повезло. Моей учительницей была Наталья
Васильевна Мешковская-Светлова — известный автор учебников по
французскому языку, совершенно особый человек. Если ты не выполнял какое-то
задание, она так переживала, так страдала, что ничего не оставалось, как
серьезно учить язык. В результате за эти три семестра я научилась читать
не только специальную литературу, но даже художественную, и теперь
«для души» могу читать в оригинале Стендаля, Мопассана, Симону де
Бовуар, Сартра и т. д. Аспирантура Института философии вообще была
интереснейшим и плодотворнейшим временем; преподавание вели такие
люди, как Константин Спиридонович Бакрадзе, которого я считаю одним
из своих учителей. Он много рассказывал о своем пребывании у Гуссерля,
у Риккерта — была у него такая страница жизни в 1920-е годы...
Я закончила аспирантуру в 1963 г., в 1964 г. защитила диссертацию.
И после этого началась моя трудовая деятельность в Институте
философии, которая продолжается и сейчас.
А.Ч.: Хочется от всей души пожелать Вам столь же успешного
продолжения Вашей научно-творческой деятельности! Кстати, Вы
ведь не сразу оказались в отделе истории философии?
Н.М.: Да. Сначала я оказалась в секторе диалектического
материализма (диамата). Прямо скажу, это соответствовало моему желанию,
потому что в секторе диамата тогда работал Ильенков и трудилось еще
несколько очень интересных философов. Название «Сектор
диалектического материализма» было чисто формальным. Некоторые
сотрудники, правда, были «диаматчиками» и хотели ими быть. Но для других там
было обширное поле работы над теорией познания, причем велась
наиболее творческая философская работа из всего того, что делалось в
институте. Вспоминаю, что для «Философской энциклопедии» мне поручили
написать статью «Идеальное». Я ее написала и показала у Ильенкову —
у нас в то время было с ним очень тесное сотрудничество. Эвальд
Васильевич мою статью очень мягко и деликатно раскритиковал. И я поняла,
что он сам увлечен этой темой и что у него давно есть концепция
идеального. И тогда я приняла решение отказаться от написания этой статьи в
пользу Ильенкова (хотя он и не сразу на такое мое решение согласился).
В итоге «Идеальное» для «Философской энциклопедии» написал
Ильенков — и то была одна из лучших, по мнению многих, его работ. Такова
была атмосфера жизни Института: постоянное взаимодействие,
нелицеприятное обсуждение. Ведь мы все, и сотрудники, и аспиранты,
постоянно ходили в институт, причем без всякого принуждения, и не только в
присутственные дни, а практически ежедневно. Философские проблемы
обсуждались даже за обедом. В институте была прекрасная столовая, мы
шли туда все вместе, сдвигали столы и продолжали научное общение.
Это был своеобразный ритуал. И институтская библиотека была для того
времени очень хорошая.
20 Н. В. Мотрошилова
306 •
Раздел V
Правда, не только Ильенков, и не только такие, как он, работали в
Институте философии. Едва ли не большую часть сотрудников в начале 60-х
составляли люди «старой закалки», догматические марксисты-ленинцы,
которые ничего другого не могли и не знали. Однако так произошло, что
к концу 1960-х — началу 1970-х уже не эти люди определяли то главное,
что происходило в Институте. Сложилась структура, которую я называю
неофициальным сообществом. Такой феномен время от времени
возникает в культуре. Для нашего неофициального сообщества основными
принципами были не идеологические, а исследовательские критерии. И это
главное, чему меня научил Институт философии — то, что выработалось
у нас, в частности, у меня, в молодости и с тех пор никогда не изменялось.
А.Ч.: Неля Васильевна! А с какими трудностями Вам как
сотруднику Института философии приходилось сталкиваться?
Н.М.: Трудности в Институте философии были немалые, и они
отражали сложные процессы, происходившие в стране. Особенно трудной,
как ни странно, была вторая половина 1970-х гг., когда руководить
Институтом пришел человек, который, по сути дела, стремился уничтожить
все то, что в неофициальном сообществе понимали под философией, —
по фамилии Украинцев. Он был инженером по образованию, затем
работал в ЦК КПСС, там защитил докторскую по брошюре (написанной в
соавторстве еще с двумя людьми), которая называлась «Переход
количественных изменений в качественные при социализме». Потом его решили
из ЦК убрать — и не нашли другого применения, как дать ему возглавить
Институт философии АН. И он 8 лет, как ржавый гвоздь, здесь торчал;
многим людям он испортил жизнь, заставил уйти из Института, а кого-то
и из жизни. Я считаю, что именно при нем здесь произошло то, что
вынудило Ильенкова прервать свою жизнь. Украинцев пришел в Институт в
1974 г., а вторая половина 70-х совпала в нашей стране с реваншем
сталинизма, который возник не случайно — он поддерживался московской
партийной организацией, в частности, человеком по фамилии Ягодкин,
который был секретарем в МГК, руководил духовной сферой. Он пришел
из университета, хорошо знал ситуацию в науке и культуре, которую
считал крамольной, неблагонадежной. У него был очень «конкретный»
стиль руководства: он знал по именам буквально всех, кого считал
нужным убирать из науки или преследовать. Главными врагами он считал
именно таких людей, какими были члены нашего неофициального
сообщества. Начались настоящие гонения, которые в ИФ АН сказались на
судьбе многих людей (например, мне не давали издавать книгу о Гегеле,
8 раз вычеркивали ее изо всех планов). Были и другие преследования,
повседневные придирки. И я уже серьезно задумывалась о том, чтобы
покинуть Институт. Но этого мне не позволил сделать мой муж, Юрий
Замошкин. И еще я с благодарностью вспоминаю, как меня поддержал
Валентин Толстых, который говорил: я пережил уже 6 или 7
директоров, и этого тоже переживу, и ты переживешь. Так оно и получилось.
В 1983 г. Украинцева как ветром сдуло предперестроечной волной.
Штрихи к историко-философским портретам...
•307
Тем не менее, несмотря на все трудности, шаг за шагом
обстановка оздоровлялась, и крепло влияние упомянутого неофициального
сообщества. Со временем оно утвердилось и институционально. Примером
может служить сектор современной философии. Некогда это
подразделение возглавляла дама по фамилии Модржинская, которая до
прихода в наш Институт была начальником референтуры у Берия (вот какие
«кадры» присылали в академические учреждения!). Когда-то она была
разведчицей, знала языки, и ее пристроили возглавлять этот сектор. А в
секторе в то время работали Митрохин, Дробницкий, Юлина, Кузьмина,
Степанянц, Баталов. То есть это был потрясающий сектор по своему
научному потенциалу. Кстати, я должна была обсуждать там свою первую
книгу — «Принципы и противоречия феноменологической философии»,
которая вышла в 1967 г. Но прежде, чем ее опубликовать, я должна была
получить одобрение в Институте. Я сдала рукопись, естественно, в этот
сектор. На обсуждении Модржинская категорически заявила: я эту
книгу не пропущу ни за что, потому что она антимарксистская. Потом
начинают выступать другие сотрудники, которые все в один голос говорят,
что книгу следует опубликовать. И что было делать Модржинской? Она
уже ничего не могла сотворить, ибо соотношение сил изменилось. Через
некоторое время Федор Васильевич Константинов, который тогда был
директором нашего Института — сложный, противоречивый человек,
марксист до мозга костей — понял, что Модржинская не может
руководить таким сектором, и назначил на эту должность Митрохина. Кстати,
хотя я не думаю, что моя книга действительно была антимарксистская,
после публикации меня спрашивали: Неля Васильевна, а как Вы
получили разрешение на то, чтобы не привести в своей книге ни одной цитаты
из классиков марксизма-ленинизма? Конечно, там были марксистские
оговорки, некий орнамент марксистских рассуждений, но ни одной
цитаты из «классиков», в самом деле, не было. Сама удивляюсь, как это мне
тогда удалось. Книга публиковалась в издательстве «Высшая школа», и
там редактором был Ю.М. Бородай, он нас и пригласил туда — все тех
же коллег из неофициального сообщества.
А.Ч.: А кто еще входил в этот круг единомышленников?
Н.М.: Трудно всех здесь перечислить, хотя, конечно, можно и
нужно воспроизвести подобный список. Надо идти по специализациям.
Возьмем философию науки. В Институте философии АН в аспирантуре
учились, а потом работали такие специалисты, как Л. Баженов, Ю. Сачков,
И. Акчурин, В. Казютинский (последний учился со мной вместе в
аспирантуре). Про философию науки надо сказать особо: ведь туда пришли
молодые люди из разных отраслей естествознания, из точных наук. Они
были математиками, физиками, химиками, астрономами и т. д., но они
твердо знали, что им надо стать профессионалами в философии. К
философии и философам они относились с глубоким внутренним уважением.
А.Ч.: Можно сказать, что в лице этих людей произошло
преодоление известного противостояния «физиков и лириков»?
20*
308 •
Раздел V
Н.М.: Да, да. Надо добавить также, что мы общались и дружили с
действующими физиками. Например, я была от философии
консультантом в философско-методологическом семинаре Института ядерной
физики имени И.В. Курчатова. Руководителем семинара был известный
физик, ныне академик РАН Ю.М. Каган. Там участвовали ученые-физики,
и они мне сказали: пожалуйста, у нас говорите свободно. А ведь мы и без
такого напоминания умели говорить свободно — на наших
конференциях, обсуждениях и т. д., для нас это уже не было чем-то особенным. С тех
пор у нас сложились прекрасные дружеские отношения (я до сих пор
время от времени встречаюсь с теми самыми физиками, которые сейчас
стали очень известными академиками).
А.Ч.: Неля Васильевна! Расскажите, пожалуйста, еще о том, как
развивалось неофициальное сообщество в Институте философии.
Н.М.: Как бы странно это кому-нибудь ни показалось, такое
сообщество создалось в секторе исторического материализма (истмата), куда
меня пригласил работать Владислав Жанович Келле. Замечательный
человек, он был, конечно, убежденный марксист (впрочем, это личное дело
каждого). Келле — удивительная личность, человек, который всегда был
настроен на новаторство, на творчество. Он меня пригласил на должность
старшего научного сотрудника (в секторе диамата тогда такой вакансии
не было, и я согласилась). Келле собрал прекрасную команду: Е. Плимак,
Н. Новиков (замечательный мой однокурсник, который занимался
социологией и социальной философией, потом он эмигрировал в Германию),
Э. Соловьев, Ю. Бородай, А. Гулыга... Я тогда занималась социологией
науки, для меня это было продолжением работы над социологией познания.
В силу ранее сказанного: когда говорят, что в советское время Институт
философии был исключительно оплотом застойного марксизма, я могу
засвидетельствовать: это ложь, удобный кому-то штамп. В Институте
было напряженное противостояние свободного, творческого познания и
марксистского догматизма, который с какого-то времени, причем
довольно раннего, уже и не преобладал, не доминировал. Но борьба постоянно
шла. И сектору Келле досталось особенно сильно. По нему «долбанули»,
когда к ленинскому юбилею Келле и Плимак решили издать книгу о
Ленине (думаю, не самую лучшую в творчестве этих философов, у
которых были глубокие и интересные работы). В ней они пытались раскрыть
прогрессивную, гуманистическую сторону ленинского наследия, в чем,
конечно, была большая натяжка, и я лично этому предприятию
изначально не сочувствовала. К тому же, «покусившись» на такую тему, авторы
внедрялись на «чужую территорию»: ведь тогда считалось, что право
писать о Ленине еще надо было заслужить. За что и поплатились сполна.
Как написал по этому поводу наш замечательный поэт Э. Соловьев, удар
пришелся «прямо по темени, по юбилейному прямо труду».
Однако реальным поводом послужило другое обстоятельство. Дело
в том, что как раз тогда началось диссидентство, начались отъезды за
рубеж. Из нашего сектора уехал в Канаду прекрасный социальный фи-
Штрихи к историко-философским портретам...
•309
лософ Михаил Виткин. И вот тогда началось! Ведь согласно тогдашней
партийной логике, за все отвечать должен был начальник — и значит,
отдуваться пришлось Келле. Украинцев решил разогнать сектор истмата в
том виде, каким он был под руководством Келле и с нашим «крамольным»
участием. Но нет худа без добра: часть сотрудников Украинцев решил
«сослать» в отдел истории философии, за что я лично ему благодарна.
Ведь я уже давно тяготела к социально-философским исследованиям
именно в историко-философском аспекте. В отдел истории философии,
который возглавлял Т.И. Ойзерман, мы пришли втроем: Соловьев, Гулы-
га и я. Правда, Гулыга вскоре ушел, он вообще не мог долго «сидеть на
одном месте», а мы с Соловьевым остались. В 1987 г. Теодор Ильич
предложил мне сменить его на посту руководителя отдела, что и состоялось.
Таким образом, я имею опыт работы в разных секторах, отделах
Института философии и уверена, что этот опыт послужил мне только на пользу.
А.Ч.: Вы — историк философии с мировым именем, руководитель
отдела истории философии ИФ РАН с большим опытом работы в
данной специальности. Существует распространенное мнение, что
в советское время историко-философский жанр оказался
своеобразной «нишей», обеспечивавшей наибольшую свободу творчества
в области философии вообще, находившейся под жестким
идеологическим прессингом. В какой-то мере, сказать что-то свое было легче
всего путем обращения к классикам, к их истолкованию. Насколько
такое представление соответствует действительности, каковы
были реалии историко-философской работы?
Н.М.: Что касается «ниши», то ее тогда образовывали те части
философской работы, которые были наиболее конкретно
профессионализированы. Это, прежде всего, философия науки, логика и история
философии — области философского знания, более-менее (хотя далеко
не полностью) независимые от идеологии и защищенные от
некомпетентного вмешательства. Правда, на практике это отнюдь не всегда было
так (почему, например, Э. Соловьев не разделяет суждение об истории
философии как такой «нише»). Ведь если вспомнить партийные погромы
и разгромы в философии, то их объектом зачастую становилась именно
история философии — как было, скажем, со знаменитым третьим томом
коллективного учебника (в просторечии именуемого «серой лошадью»)
или с трудами Г.Ф. Александрова. Но во всех этих случаях история
философии становилась объектом нападок достаточно случайно: третий том
стали критиковать в связи с началом войны — дескать, там
недостаточно показана реакционная сущность немецкой классической философии.
Александрова тоже громили не как историка философии, а чтобы свести
с ним личные счеты, спихнуть с идеологического «Олимпа». Также и в
логике постоянно были «громы и молнии», так что даже логическая
проблематика не была вполне свободной от идеологического прессинга. Как
иначе объяснить, почему у нас многие логики были «невыездными», да и
какие идеологические ошибки они могли совершить? Ни одна область не
310 •
Раздел V
была вполне свободной, так что если и были «ниши», то весьма
относительные. Но все же контролировать историю философии было совсем не
просто. Чтобы вторгаться в эту область, надо было обладать известным
профессионализмом: знать языки, исторический контекст,
первоисточники. Поэтому даже советское время оказалось по-своему плодотворным
для историко-философской работы, так что многие книги тех лет можно
и теперь переиздавать без всяких изменений. В связи с этим можно
назвать десятки имен исследователей, которые всем известны: они
занимались античностью, средневековьем, Декартом, Кантом, Гегелем...
Многие наиболее выдающиеся философы советского времени — это именно
специалисты-историки философии: Асмус, Лосев, Мамардашвили, Биб-
лер, Ильенков и очень многие другие.
А.Ч.: Неля Васильевна! Каково, по Вашему мнению, место
истории философии в системе философских наук?
Н.М.: Сейчас нередко можно услышать, как некоторые
«Геростраты от философии» говорят, будто изучение истории философии вредно,
ибо оно якобы сковывает воображение, мешает генерировать новые идеи
и т. п. Есть еще мнение, согласно которому история философии нужна,
но что это чисто учебная, вспомогательная подготовка, не более того.
Я же придерживаюсь той точки зрения, согласно которой история
философии — это и есть сама философия, в которой время осуществило
свой отбор и поставило знак философского качества. Ведь что для нас,
скажем, идеи Канта: это лишь факт истории философии или факт
философии как таковой, теоретического анализа познания, мира ценностей,
этики, философии права и т. д.? Притом познания, не утрачивающего
своей актуальности? Сейчас известный немецкий философ Ю. Хабермас
занимается делами Евросоюза, и как Вы думаете, кто его главный
«собеседник»? Кант! Кант не только предсказал глобальное объединение,
но и «предугадал» направления дискуссий, которые будут сопровождать
этот процесс. В частности, дискуссий о том, будет ли Евросоюз единым
государством или союзом государств. В этом вопросе Хабермас спорит
с Кантом, как если бы кенигсбергский мыслитель был его современным
оппонентом...
А.Ч.: Ваши историко-философские труды всегда
воспринимались как слово не только о прошлом, но и о настоящем, в них
неизменно выражается социальная, гражданская позиция автора. Что
Вы думаете о нынешней социально-культурной ситуации, прежде
всего в России, когда философия и философы оказались в некоей
общественной изоляции, а в роли «учителей жизни» выступают
журналисты и звезды шоу-бизнеса? Голос философа почти не слышен в
публичном пространстве, он маргинализован. Неужели современная
ситуация убивает у людей всякую потребность в философии?
Н.М.: Верное наблюдение, меня эта проблема тоже очень
беспокоит. И здесь мы не в лучшую сторону отличаемся от Запада, где сегодня
такие философы, как уже упомянутый Хабермас, находятся в центре
Штрихи к историко-философским портретам... • 311
общественного внимания, буквально не имеют отбоя от предложений
выступить по телевидению, в журналах, в ежедневных газетах — люди
действительно хотят услышать, что же скажет философ. Некоторые
люди считают, что наши российские философы не способны выступать
на таком же уровне. Но я давно работаю в философии и точно знаю, что и
у нас есть люди, которым есть что сказать соотечественникам и
предложить современному обществу...
А.Ч.: И что же именно следовало бы сказать?
Н.М.: У каждого, конечно, свои темы и подходы. Лично я уже давно
«болею» проблематикой, которая отразилась в моей недавней, 2010 года,
книге «Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кризисов».
Считаю, что нужно существенно скорректировать весь разговор,
политический и социальный, который ведется и на уровне государственном, и на
уровне политико-политологическом, с точки зрения осмысления того,
что такое современная цивилизация, каковы ее требования, ее
противоречия. Чтобы понять, по каким вообще критериям можно судить о тех
или иных мероприятиях, например, о национальных проектах. К
сожалению, тенденция такова, что все ограничится подсчетом: сколько
потратили денег, сколько и куда завезли компьютеров и т. д. Это, конечно, очень
важно, но критерий должен быть более строгий: каково реальное
качество жизни людей, можно их жизнь назвать цивилизованной или нет.
Боятся они жить в этой местности, в своей стране или нет, с какими
мыслями они смотрят в будущее, что происходит с молодежью и т. д. С этой
точки зрения я предлагаю разработать — при помощи философской
методологии, на основе философской теории цивилизации — концепцию
цивилизационных коэффициентов, которая позволила бы оценивать
эффективность реформ и проектов. К сожалению, у нас пока вообще не
выработался такой социальный механизм, который заставляет общество
прислушиваться к философским размышлениям и выводам. Правда, и
на Западе в диалоге общественности с философами тоже есть серьезные
проблемы. Если цивилизация, провозглашающая себя
научно-технической, реально ценит «человека знания» — даже в ранге лауреата
Нобелевской премии — несопоставимо ниже, чем футболиста или популярную
певицу, это не может не вселять тревогу насчет фундаментальных
ценностей этой цивилизации, притом действительных, а не декларируемых.
А.Ч.: Вернемся к истории и жизни Института философии. В свое
время усилиями сотрудников Института регулярно готовилась
яркая и оригинальная стенгазета — со стихами, карикатурами,
сатирическими статьями. К счастью, несколько экземпляров
стенгазеты разных лет сохранилось до сих пор. По некоторым сведениям, Вы
также принимали участие в создании институтской стенгазеты.
Каков был ваш вклад? Чем была стенгазета в жизни института?
Н.М.: Да, я очень дорожу этой частью моей судьбы. Хотя с моей
стороны-то вряд ли был «вклад». Просто молодых тогда сотрудниц
редколлегия любила привлекать к своей деятельности. Вот так там оказа-
312 •
Раздел V
лись и Н. Юлина, и я. Опять-таки, существовала не дарованная кем-то,
а реально отвоеванная свобода, в силу которой можно было делать
такую «скандальную» — с официальной точки зрения — стенгазету. В ее
создании участвовали необычайно одаренные художники: Борис
Драгун (портретист), Зиновьев (карикатурист), Ильенков (шаржист,
мастер композиции) и фантастически одаренный поэт Э. Соловьев. Я очень
хорошо помню такой момент в работе редколлегии. Как и полагалось в
структуре марксистско-ленинской философии, у нас был сектор атеизма,
деятельность которого постоянно служила предметом насмешек, причем
не всегда добродушных. И вот, в газете рисуют 3 или 4 сотрудников этого
сектора атеизма с узнаваемыми, но уже шаржированными лицами. Эту
работу обычно делал Зиновьев. Тут приходит Ильенков и с ходу начинает
смеяться — но не над уже готовым шаржем, а над тем, что он придумал.
И вот он облачает нарисованную компанию в одну рясу, чем-то там
подпоясывает, подрисовывает ноги. Женя Никитин все это раскрашивает,
и картинка готова. Вот так спонтанно совершалось коллективное
творчество. Были тогда в Институте люди, которые ужасно боялись выхода в
свет каждого номера газеты. Они добились того, что редколлегию
вызвали «на ковер» в Ленинский райком партии, и газету запретили.
А.Ч.: Что есть Институт философии с Вашей точки зрения, в
чем состоит его историческое значение, его современная научная и
культурная миссия?
Н.М.: Я очень люблю Институт философии. Пока я жива, я ни за что
не дам Институт в обиду. Главное: в очень сложных, противоречивых и
даже опасных исторических условиях в Институте философии возникла,
а потом сохранялась и развивалась творческая, результативная
философская мысль. Все достижения отечественной философии советского
периода возникали через огромные трудности. Впрочем, так развивалась
философия во всех странах и во все времена. Люди за всю историю
хорошо научились упрекать, ругать философию и философов — за «заумь»,
непрактичность, непонятность, еще за многое другое. Но пока не
научились хотя бы слушать философов при их жизни, уважать их. А чтобы
способствовать развитию философии, помогать философам, поддерживать
их при их жизни — такого мир, наверное, не дождется... В России с этим
всегда было особенно туго. Надо ли напоминать факты? Разве слушали
В. Соловьева, Б. Чичерина, П. Новгородцева, И. Ильина? И не лучших ли
мыслителей России увозил на Запад печально известный «философский
пароход»? А что сделали с Г. Шпетом? И происшедшее в советское
время — увы, продолжение традиции, которая, как рок, тяготеет над
Россией: в стране с остервенением уничтожают, унижают, распластывают
людей духа, знания, таланта, совести... А судьба Мамардашвили?
Парадокс, однако, в том, что все названные и неназванные
личности все же состоялись как философы, несмотря ни на какие притеснения.
Все равно даже в самые мрачные годы была своя свобода. Теперь,
конечно, свободы от притеснений больше. А для философии и философов сво-
Штрихи к историко-философским портретам... • 313
бода — «альфа и омега» всего творчества. Скажу о последних,
постперестроечных годах. Это время тоже было и остается непростым. Сейчас в
Институте философии работает, по меньшей мере, несколько десятков
философов мирового класса. Только недоразумением можно объяснить
новый парадокс: теперь, когда наша философия достигла самого
благоприятного и продуктивного этапа своего развития, она оказалась менее,
чем когда-либо, востребованной и оцененной. Между тем в 90-е годы,
когда не было ни денег, ни нормальной возможности публиковаться, в
Институте было сделано и все-таки опубликовано много прекрасных
работ. И сейчас Институт философии РАН находится в очень хорошей
интеллектуальной форме. Можно с уверенностью сказать: наш Институт
уже прочно вписан в мировую структуру философского знания, и у нас
есть очень много доказательств этого.
А.Ч.: Неля Васильевна! Что бы Вы хотели пожелать коллективу
Института философии в преддверии институтского юбилея?
Н.М.: Старшему поколению — прожить дольше и быть в это время в
творческом подъеме, завершить какие-то планы — я по себе знаю, что и
планов, и заделов много. Среднему поколению, которое у нас тоже очень
хорошее (очень яркие люди этого поколения — такие, как Р. Апресян,
В. Подорога, А. Руткевич, А. Смирнов, В. Шохин — довольно много
можно назвать имен), я желаю прийти к ключевым позициям в Институте, в
философии вообще, что уже достаточно успешно происходит. С
творческой работой, с международной известностью у них все в порядке. Ну и
наконец: очень хотелось бы видеть в Институте философии самое
молодое поколение. Хотелось бы, чтобы больше способной молодежи
приходило к нам сразу со студенческой и аспирантской скамьи. Сейчас, к
сожалению, этот процесс очень затруднен: дело постоянно наталкивается
на отсутствие ставок, на сокращения штатов в РАН. Самому Институту
хочется пожелать сохранить свой дом.
Еще я хотела бы пожелать даже не Институту, а влиятельным
людям нашей страны, нашей культуры, чтобы они осознали: такое
учреждение, как Институт философии РАН — в мире уникально, другого такого
нет. Ведь случается, что почтенные люди из отечественной культуры
хотят реализовать свои цели, по существу «опрокидывая» Институт
философии и желая стереть с лица земли историческое,
восьмидесятилетнее место его существования. Им я хотела бы сказать следующее. Много
поездив по миру, особенно по Европе, я не видела подобного
института: ни в одном учреждении мира не сосредоточен такой многосторонний
комплекс философских исследований. Это уникальное учреждение, и не
беречь его и не поддерживать — было бы очень большим
культурно-историческим промахом.
Иногда приходится слышать еще вот какие примерно вопросы. Что
людей с мировыми именами и редкими знаниями держало и держит в
Институте, в бедной Академии наук — в наше время, когда есть
высокооплачиваемые университеты, коммерческие ВУЗ'ы? Почему они не восполь-
314 •
Раздел V
зовались разными возможностями, которые (в принципе) им доступны
(например, остаться где-то за рубежом, куда устремились какие-то наши
коллеги)? Не знаю, как кого, но для меня за огромный срок почти в 50 лет
не было подобных вопросов: я хотела и хочу жить в России, работать в
Институте философии. Здесь не только инерция и память, но достаточно
трезвый расчет, который, кажется, себя оправдал: Институт философии
учил и учит тому, как обрести, сохранить философский
профессионализм, человеческое достоинство, верность ценностям свободного
творчества и соревновательную коллегиальную солидарность, возможность
постоянного профессионального и просто личностного общения с
коллегами, российскими интеллигентами высокого класса. И что весьма
важно — с подлинными патриотами, продолжателями лучших культурных
традиций великой страны.
Об одной из духовных традиций современной России
Беседа профессора Ивановского энергетического университета,
заведующего кафедрой философии М.В. Максимова1 с зав. отделом
истории философии Института философии РАН, доктором
философских наук, профессором Н.В. Мотрошиловой; Иваново, 2008
М. Максимов: Неля Васильевна, наша сегодняшняя встреча
совершенно не случайна. Дело в том, что наш Соловъевский семинар трудно
представить без Вашего участия в его деятельности — будь-то
конференции, лекционные курсы, встречи со студентами и преподавателями, или
даже формирование Соловьёвской библиотеки в Энергоуниверситете, —
во всех этих проектах Вы принимаете самое непосредственное участие.
Осенью 2008 года Соловьевскому семинару исполнилось десять лет.
В перспективе вечности это, конечно, не столь значительный срок, но в
жизни человека и в сфере приложения его усилий это, несомненно, —
«круглая» дата. За это время Соловьевский семинар стал одним из
авторитетных российских научных центров. Он объединил вокруг своей
исследовательской программы более 160 ученых — представителей 57
университетов России и 12 зарубежных стран. За десять лет проведены 29 российских
и международных научных конференций, изданы 15 выпусков «Соловьёв-
ских исследований» — периодического сборника научных трудов. Что для
нас очень важно: за эти годы семинар стал своеобразным «институтом
русской философии» — так много замечательных ученых, специалистов
высочайшего уровня, принимают участие в его работе. Трое из них, как
и Вы, стали Почетными профессорами Ивановского государственного
энергетического университета. Неля Васильевна, как Вы оцениваете
деятельность Соловьевского семинара и его перспективы?
'М.В. Максимов— руководитель регулярно (с 1998 года по настоящее время)
действующего семинара, посвященного творчеству В. Соловьева.
Штрихи к историко-философским портретам... * 315
Н. Мотрошилова: Цифры, которые Вы привели, не только
убедительны, они просто фантастические. Да, они свидетельствуют о том, что
Ивановский Соловьевский семинар стал одним из крупных, аторитет-
ных научных центров, деятельность которого, интенсивная,
многообразная, ритмичная, заслужила высокое признание философов в стране и за
рубежом. Вот так начать, можно сказать, на пустом месте, с ничего, с
нуля — и сотворить примечательную уже, даже богатую традицию, — и
всего-то за десять лет, — как не высказать по этому поводу удивление и
восхищение. Я очень благодарна Вам за то, что Вы втянули меня в работу
семинара. К сожалению, в последние годы я меньше, чем хотелось бы,
езжу по стране. Но Иваново теперь уже занимает в моем сердце особое
место. Когда Вы зовете к себе, я обязательно приезжаю. И благодарна
Вам за всяческие инспирации. Вот пример: тот лекционный курс,
который Вы упомянули, дал мне возможность в особом жанре (стенограммы
или переработанных записей лекций) развить идеи, очень важные для
меня именно в связи с Соловьевым, да и не только с ним. По крайней
мере, «Ивановские лекции» (в сокращенном виде опубликованные в
моей книге 2005 года) соединились с разработкой профилирующей для
меня темы в исследовании русской философии, каковой является
сравнение развития отечественной мысли и философии Запада.
Меня очень вдохновляла та аудитория, в которой я читала лекции.
Очень хорошо это помню. Мне очень хотелось сделать все
доказательно, определенно, конкретно. В Иванове же, в Вашем семинаре я сделала
чрезвычайно важный для всей моей работы в области русской философии
доклад о философии жизни Вл. Соловьева. Вы знаете, что в моей книге
«Русские мыслители и философия Запада» выполняется одна из
стержневых задач: я считаю, что в российской мысли были попытки создать
специфические варианты философии жизни. Специфика этих
вариантов — в их довольно сильной религиозности, в том, что они
противостоят позитивизму и биологизму в понимании жизни, предлагают именно
философское понимание жизни. И в этом фактически вступают в диалог
с отдельными вариантами философии жизни, которые приблизительно
в то же время развивались на Западе. Идея эта совсем не простая,
дискуссионная. Например, в высшей степени уважаемая мною Рената Галь-
цева в рецензии на мою книгу, за которую я ей чрезвычайно благодарна,
сказала, правда без доказательств, а как бы походя, что утверждения об
особой философии жизни в русской мысли этого времени — просто
преувеличение, скорее façon de parler, а не обоснованная научная идея.
В будущем я предполагаю снова вернуться к этой теме и представить
дополнительные доказательства в пользу своего убеждения, снова
вернуться к подробному, еще более конкретному рассмотрению проблемы на
более обширном материале. Но вообще-то должна заметить, что у меня
и материалов, и знаний на эту тему достаточно много. Сопоставление с
западной философией жизни, понятное дело, надо производить,
обращаясь, прежде всего, к учениям Ницше, Дильтея, Бергсона. Над этими уче-
316 •
Раздел V
ниями я работала и работаю достаточно основательно. Осмеливаюсь
считать себя профессиональным ницшеведом. Во-первых, у меня есть немало
публикаций о Ницше (в том числе и в соотношении, в «перекличке» его
идей и идей Соловьева). В частности, я вместе с Ю. Синеокой — эдитор
и один из авторов книги «Фридрих Ницше и философия в России». Была
бы рада, если бы основательная работа кем-то была продолжена, но пока
этого не произошло. Во-вторых, сейчас я издаю в готовящемся Собрании
сочинений Ницше работы «По ту сторону добра и зла» и «Генеалогию
морали». Это специальный том. (Я работаю, кстати, с блестящим молодым
человеком — Алексеем Жаворонковым; дай Бог, чтобы у нас таких
больше было.) Мною осуществлена новая редакция переводов этих двух
произведений. Можете себе представить, что эта труднейшая работа требует
огромных усилий и целого арсенала профессиональных знаний об идеях,
языке, категориях Ницше. Так вот, этим я просто хочу сказать, что
философией Ницше занимаюсь достаточно давно, сейчас продолжаю эту
работу и, значит, ницшевский вариант философии жизни мне знаком.
Дильтеем и Бергсоном я тоже основательно занималась, ибо немало
лет читала лекционные курсы по истории западной философии XX века.
Поэтому мое сопоставление западного и российского вариантов
философии жизни не с потолка взято, а на самом деле является одним из разделов
очень конкретного и скрупулезного сравнительного
историко-философского исследования. Я буду и дальше этим заниматься и постараюсь, как
сказано, развернуть и доказать свои мысли. Меня очень порадовало, что
недавно Сергей Борисович Роцинский в рецензии на мою книгу упомянул
о том, что и он сам высказывал аналогичную мысль. А еще раньше это
сделал А.Ф. Лосев. Так что в этом своем утверждении я не одинока.
Все эти конкретные вещи я говорю для того, чтобы подтвердить
сказанное ранее: мне в Иванове очень хорошо думается. В той философской
аудитории, которую собирает Соловьевский семинар, есть аура, среда,
которая меня поддерживает и вдохновляет. Это чисто личные вещи, и
я упоминаю о них, поскольку Вы заговорили о них. Но в моем ответе на
Ваш вопрос не это главное. А главное вот что. Я опубликовала в 2008 г.
книжку «Цивилизация и варварство в современную эпоху». В 2010 году
она вышла вторым, вдвое расширенным изданием. Это — результат моих
многолетних раздумий над темой цивилизации. Там есть немало
понятийных определений, анализов, подходов, касающихся основных черт
и особенностей цивилизации. Там также выражена моя глубокая боль
из-за того, что тему цивилизования России в нашей стране как-то не
чувствуют, что относится к населению, к руководителям, к философам. Она
находится на периферии исследований, что я считаю причиной многих
наших бед. И, может быть, самым общим, но и самым коренным
ответом на вопросы, часто задаваемые: почему реформирование страны идет
так больно и трудно? Вроде стараемся, или, как говорил Черномырдин,
«хотим как лучше, а получается как всегда». Так почему? Я думаю, из-за
того, что задачи цивилизования страны в глубоком понимании этого
слова не осознаются, не ставятся, а потому откладываются очень надолго.
Штрихи к историко-философским портретам...
•317
И опять все эти общие вещи я ввожу в разговор не случайно.
Считаю, и это не только мое мнение (ибо, в принципе, то же присутствует в
теории цивилизации, в современных спорах), один из очень важных
признаков цивилизованности, и, следовательно, цивилизования страны, —
это стирание резких граней между центрами, столицами и т. д. и такими
городами, которые называют провинцией.
Если опять-таки образовывать общее понятие цивилизованной
страны, то и не отвлекаясь от других многих очень важных обстоятельств,
об этой черте нужно говорить обязательно. Живут ли люди в любом
городе — большом, маленьком, среднем, — в небольшом поселке так же
достойно, как живут в центре; могут ли они пользоваться благами
цивилизации, в том числе духовными, культурными благами примерно на
таком же уровне, как в центре, и т. д. и т. п.? Так вот, с этой точки зрения
положение нашей страны очень сложно и уязвимо. Я уже не говорю о
том, что есть у нас громадное число абсолютно гнилых местечек, в
которых люди не живут, а вымирают, спиваются — причем спиваются и
старшие, и средние, и молодые поколения, даже дети...
Но возьмем даже достаточно крупные города, каким является
Иваново. Когда я несколько лет назад в первый раз приехала в Иваново,
прошла по улицам города, и не таким далеким от центра, где масса домишек
с покосившимися, просевшими уже стенами, с какими-то невероятными
окнами, жуткими дворами, то у меня сердце сжалось от боли. Я надеюсь,
что такое уже понемногу уходит из города. Но первое мое впечатление
было удручающим. А ведь Иваново — крупный, губернский город,
имеющий для России историческое значение...
Конечно же, сюда относятся не только важнейшие цивилизационно-
материальные аспекты — какие дома, какие дороги и т. д. Есть и
другая сторона дела: а чем духовно живут люди в провинции? Могут ли они
читать те же книги, учиться в высокого качества университетах,
институтах и т. д.? И вот в этом отношении Ваш семинар— поразительное
явление с точки зрения присутствия и расширения очага цивилизации и
культуры.
Такой признак цивилизованности, признак культуры, как
оживленность, глубина, яркость духовной жизни — первостепенно важен для
цивилизации в целом. Высокая духовность заразительна в том смысле, что
помогает людям и в трудных условиях выживать и работать. Я как-то на
семинаре в Иванове вспоминала работу Розанова «Русский Нил», где он
рассказывал о своей поездке по Волге и о том, что наблюдал тогда в
городах России: как бы трудна ни была российская жизнь, почти каждый из
этих городов, городков, селений имел свой духовный центр. Именно это,
к сожалению, вытравливалось за годы советской власти, и
вытравливалось разными способами: коренную интеллигенцию устраняли, по сути
дела ставили на грань выживания целые слои населения.
В страшный этот процесс — умерщвления интеллигенции, того
слоя, который прославил нашу страну, — последние десятилетия внесли
318 •
Раздел V
свой «вклад»: людей знания, таланта, творческих людей загнали в тупики
бедности, выживания, унижения, утраты статуса. «Бедные люди» —
традиционные слои России (они, конечно, были и есть в остальном мире).
Но к настоящему времени побиты все «рекорды»: никогда в истории
российские бедные не обладали таким высоким образовательным
статусом, никода понятия «бедность» и «интеллигенция» по своему
объему так не покрывали друг друга! Будем надеяться, что новые шаги,
усилия власти (в том числе и в Иванове) будут исправлять это
положение, позорное для такой страны, как Россия.
Итак, результаты, к которым страна пришли за годы советской
власти, были «богато» дополнены бедствиями 90-х годов. И вот тот центр,
который Вы учредили буквально на рубеже двух столетий и тысячелетий, в
труднейшие годы не только выжил, но развивался, стал как бы магнитом
духовной жизни — и не только для тех, кто вокруг вас, вокруг Иванова,
но и для тех, кто к вам приезжает из Питера, из Москвы, из-за границы.
Это, конечно, удивительное явление. И опять-таки только самыми
плохими традициями нашей жизни можно объяснить то, что об этом знаем
только мы — в основном, философы. Где телевидение, которое могло бы
и должно бы об этом рассказать? Вот если у вас бандиты перебьют друг
друга, то пришлют корреспондентов, и они все это заснимут. А когда к
вам в Университет едут из разных городов и весей, если в Иваново
устремляются не только философы, но и историки, филологи, социологи,
литераторы и литературоведы; если собираются люди старших
поколений и молодежь; если издаются многочисленные Соловьевские
сборники — и все это поднимается на все более высокую ступень, то нет
никакого интереса со стороны mass media, инстанций, организаций и т. д. Это
тоже признак нецивилизованности и бескультурья — признак того, что
в стране, где так много болтают о духовности, о национальной культуре,
о ее преимуществах, плюют на то, что в этой области реально делается.
Как говорится, ваш праздник, для культуры высокий и значительный,
немного со слезами на глазах... Я бы хотела, чтобы о Вашем семинаре было
известно больше, известно и в вашем городе, и конечно, на
общероссийском уровне. Но это уже другая тема. Правда, и она связана с соловьев-
скими сюжетами, с особенностями российской культуры, повседневного
бытия и быта страны, ее населения.
М. Максимов: Действительно, одна из сильных сторон Соловьевс-
кого семинара состоит в том, что он сумел объединить не только тех, кто
профессионально занимается философией, но и представителей других
отраслей социально-гуманитарного знания — культурологов,
филологов, историков, социологов. Это в полной мере соответствует той
многогранности, которой обладает наследие Соловьева. Кроме того, огромное
количество проблем сегодняшнего российского общества просто
заставляют обращаться к Соловьеву как к глубокому мыслителю.
Неля Васильевна, с чем связан, прежде всего, Ваш интерес к
Соловьеву? Что Вы цените более всего в наследии Соловьева?
Штрихи к историко-философским портретам... * 319
Н. Мотрошилова. Это очень широкий вопрос. Вы сами в Вашем
вопросе стали на него отвечать. По сути, я уже на него ответила в своей
книге 2005 года. Прежде чем ответить на него в данном интервью, хотела
бы сказать о том, сколь по-разному смотрят на российскую философию,
например, западные и наши отечественные специалисты,
заинтересованные в философии читатели. У нас огромное преимущество работы
Соловьева в философии и вообще в гуманитарной культуре многие видят в
отчетливой религиозности его философии. Отрицать ее совершенно
невозможно, хотя есть много оттенков в понимании этих дискуссионных
вопросов. Но здесь я оставлю их, так сказать, за кадром. Конечно, это
преимущество для тех, кто уже сегодня осваивает философию
Соловьева. Потому что я очень хорошо помню, как в советское время, когда мы
в МГУ в студенческие годы слушали примитивные, я бы сказала
сильнее — гнусные лекции в рамках курса истории русской философии, то
в них самым главным пороком философии Соловьева — из-за чего его
почти не изучали и не издавали его работ — считалась как раз ее
основополагающая и профилирующая религиозность.
Но вот когда на Западе рассказываешь о Соловьеве, пишешь для
западных изданий, делаешь доклад или лекцию читаешь, то всегда
приходится рассчитывать на подозрительность и недоверие, разумеется, если
речь не идет о чисто теологической среде. Например, католические
философы в Германии, Франции — они очень даже повернуты к наследию
Соловьева, проявляют огромный к нему интерес и весьма ценят ее
религиозную профилированность. Но в принципе философия в западных
странах сильно секуляризована; фактически и преподаватели, и
студенты, и специалисты по философии — они всегда будут спрашивать: а вот
философское, чисто философское содержание, находится ли оно на
высоком уровне, или нет. Если оно так переплетено с религиозной
философией, с теологическими аспектами, то достойно ли это оставаться
не просто в истории мысли, а на высших уровнях всегда значимой
философии? Для меня преимущество Соловьева состоит как раз в том, что
ответить на этот вопрос положительно не представляет никакого труда.
В какой-то мере, оставляя в стороне даже теологические или
философско-религиозные проблемы, хотя в общем составе учения Соловьева их
никак нельзя оставить в стороне, — возможно рассказать о его «чистых»
философских достижениях. Можно потому, что философско-метафизи-
ческая глубина огромна, она достойна выдающегося или великого
философа.
Примеров очень много. Меня в Соловьеве всегда поражал глубоко
содержательный, непредвзято-проблемный подход. Скажем, он берет
философию Платона, изучает ее, но в процессе этого изучения или
писания о ней хочет ответить на главный вопрос: а с чем я, т. е.
философствующий индивид, могу безусловно согласиться с Платоном?
Это же относится и к философии Канта. Например, Соловьев
берет знаменитое учение о «вещи самой по себе», о явлениях — весь этот
320 •
Раздел V
пласт кантовской философии, который именуется
трансцендентализмом, и задает себе вопрос: что тут неопровержимо? Соловьев говорит:
трансцендентализм прежде всего содержит в себе трансцендентальный
факт (и он подробно описывает, что следует понимать под этим фактом),
и факт этот неопровержим. Критика, оговорки, поправки делаются уже
после признания факта.
Здесь только примеры, а на самом деле он каждое философское
учение «пробует на зуб» истинности. Даже если ты не примешь
одностороннюю доктрину как целостную — кантианство в целом, гегельянство в
целом, — там есть какие-то зерна, и эти зерна, образно говоря, в философии
могут прорастать как зерна истинной философии. Их Соловьев
вычленяет из философии. Такой способ работы с философскими текстами мне
очень нравится. Я сразу чувствую: вот здесь и я с ним согласна, я тоже
так думаю. Другими словами, в Соловьеве как мыслителе меня
привлекает его умение понять философское учение во всех метафизических
тонкостях, всей глубине, понять истоки тех или иных философских
категорий или тех построений. Соловьев, далее, учит мыслить так:
с этими утверждениями того или иного философа я не согласен. Но все
равно надо понять, почему он так сказал. И Соловьев пытается ответить
на такие вопросы.
То есть для меня — уже сводя это к более краткой формуле — в
Соловьеве как мыслителе главное суть поиски философской истины, которую
каждый из нас может подтвердить аргументами, возможно, даже большим
количеством аргументов, чем это сделали сами Кант, или Гегель, или
Гуссерль, — и как бы пропустить их мысли, поиски через себя. Вот этому он
учит. И таких философов не так-то и много. Он ищет то, что можно
считать кирпичиками истины. А тот или иной добротный кирпичик можно
изъять из той концепции, которая в ее односторонности, «отвлеченности»
целиком не подходит. Но кирпичики философия в целом использует для
построения величественного философского здания. Конечно, это далеко не
все, что привлекает меня в творчестве Соловьева.
М. Максимов: Существует точка зрения, в соответствии с которой
философию можно исследовать, не обращаясь к личности философа.
Неля Васильевна, на Ваш взгляд, личность Соловьева представляет
интерес для исследователя его творчества?
Н. Мотрошилова. Да, я так думаю, и из моей книги и из других работ
это совершенно ясно. Я вообще принадлежу к числу философов, которые
убеждены в том, что между личностью мыслителя и его философским
учением есть связь — не по линии того, что он-де «хороший» или, наоборот,
«плохой» человек, и тогда у него «хорошая» или «плохая» философия.
Дело в другом. Есть личности определенного типа, и особые черты
личности толкают ее к избранию и построению специфической в каждом
случае философии. Почему так отличаются философские учения логического
типа, формального типа, позитивистские? Философы, которые создают
эти учения, ценят логическую, формальную строгость мысли, специфиче-
Штрихи к историко-философским портретам...
•321
ские типы построения, доказательства философских концепций. А ведь
все это — уже личностные предпочтения (как и откуда они в каждом
случае вырастают, особый вопрос).
А есть личности иного, «метафизического» типа. Я поясню это на
примере Соловьева. Соловьев был личностью, глубоко озабоченной именно
метафизическими проблемами — вопросами бытия, всеединства, смысла
жизни, ответственности, свободы. Он жизнью своей доказал, что все это
его интересует первостепенно, что без этого он не может существовать
и мыслить. Соловьев — человек, который, например, настроен на
волну любви, причем любви даже не в каком-то конкретном, приземленном
смысле слова, а в смысле вселенско-метафизического чувства. Не
случайно понятие любви играет такую важную роль в его философии. Здесь
доказательств очень много, не говоря уже о том, что есть связь между
визионерством и склонностью к тому, чтобы ввести в философию элемент
мистики. (Что такое именно соловьевская мистика — другой вопрос.) И,
наконец, он все эти метафизические, как бы отвлеченные, вселенские
темы пропускает через себя. Говорит ли он о бытии и жизни —
чувствуется, что для него здесь вопросы жизни и смерти. Такие люди, кстати, долго
не живут... Соловьев хочет не философии школы, а философии жизни, что
соответствует жизненным потребностям его личности.
Кстати говоря, личности, о которых мы заговорили, могут быть
сведены в типы. Да и попытки построения подобной типологии уже
предпринимались — например, у В. Джеймса (применительно к
мировоззренческим размежеваниям идеализма и материализма), отчасти у Дильтея
(в своей книге «Мыслители России и философия Запада» я рассказала
про «типологизирующий» сон Дильтея), у Ясперса. Если бы мы строили
свою типологию, то Соловьев очень близко подошел бы к такому типу,
как Паскаль, Кант, т. е. типу людей, которые глубоко, внутренне
озабочены бытием. В какой-то мере сюда попал бы Хайдеггер.
И плюс еще одна особенность Соловьева как личности и
мыслителя — огромная поэтическая фантазия. Какой он поэт? Думаю, что не
очень сильный, хотя мне некоторые его стихи нравятся. Тем не менее
поэтическая фантазия имеет прямое отношение к тому, что он понимает
и под жизнью, и под философией. К характеристике личности Соловьева
относится и такой вопрос: почему он настроен на всеединство? Есть
философы, которые обожают всякие различия и расколы, они их
выписывают — при том, что единство их не очень интересует. А Соловьева —
философа, который хорошо понимал и видел существование различий,
расколов, еще больше, притом глубоко и внутренне интересовало именно
синтезирование, именно единство, причем вселенского, универсального
смысла и характера, как всеединство. Для него это было первостепенно,
именно личностно важно. Вот почему для меня личность и философия
Соловьева образуют нерасторжимое единство. Кстати, такой же
случай — великий Кант.
21 Н. В. Мотрошилова
322 •
Раздел V
M. Максимов: Неля Васильевна, Вы крупный специалист по
истории западной философии. Ваши книги по различным этапам и
персоналиям широко известны. У Вас это глубокое знание соединяется с огромным
интересом и вниманием к русской философии, к Вл. Соловьеву. Вы
обладаете возможностью взглянуть на русскую философию как бы «с того
берега» и поэтому, очевидно, Ваше восприятие Соловьева несколько иное,
нежели у тех, кто смотрит на Соловьева, не погрузившись в европейскую
философскую культуру. Есть ли какие-то нюансы, которые Вы увидели
именно благодаря тому, что Вы знаете европейскую мысль?
Н. Мотрошилова. На комплиментарную часть Вашего вопроса я бы
ответила одной древней китайской формулой: «не смею быть тем, за кого
вы меня принимаете». А уже по сути вопроса — да, это, действительно
мой угол зрения, действительно, мой подход. Я отметила в своей книге,
что о русской философии стала писать не раньше, нежели предметно и
доказательно смогла почувствовать, а потом и обосновать высокую
философичность, оригинальность русской философской мысли. Что
больше всего относится к Владимиру Соловьеву. То есть, из сопоставления и
благоприятного ответа на такое сопоставление родился мой конкретный
профессиональный интерес.
Изучала я русскую философию давно, со студенческих лет.
Вспоминаю те времена, когда моя близкая подруга Ира Балакина (она писала о
русской философии, например, в первой «Философской энциклопедии»
был ряд ее хороших статей) тайно приносила мне в каких-то
специальных упаковках работы Бердяева о коммунизме. Этого нельзя было
тогда ни читать, ни передавать другим. То есть, читала русских философов
я давно, но только в 80-х годах начала готовить и публиковать первые
тексты. С тех пор тоже прошло много времени. К слову, придя в
сообщество историков русской философии сравнительно поздно (когда там
уже сформировалось исследовательское поле со своими авторами,
книгами, кругами общения), я настроилась на очень серьезную работу по
«преодолению отставания». Работу эту я проделывала и проделываю до
сих пор. Полагаю, специалисты и широкие читатели могут объективно
засвидетельствовать мои внимание, уважительность, признательность
по отношению к тем, кто раньше освещал темы, меня в истории русской
философии особо интересующие. Но вообще-то должна признаться, что
застигнутый мною уровень историко-философского сопоставления
российской и западной философии меня отчасти разочаровал. Возможно,
причина именно в том, о чем Вы сказали: для сравнительного
исследования надо свободно ориентироваться в обоих пластах философского
материала, а это непросто. И я рада, что специалисты позитивно оценили
мою работу. Например, я имею в виду положительные рецензии на книгу
«Мыслители России и философия Запада», написанные Л. Новиковой,
Р. Гальцевой, М. Маслиным, С. Роцинским, немецкой исследовательн-
цей 3. Билфельдт. Мне действительно было очень важно всякий раз
работать над наследием такого отечественного философа, который вы-
Штрихи к историко-философским портретам...
•323
держивает сравнение с западной мыслью, о котором можно сказать: он
универсально философски образован. И таких философов в России было
совсем немало.
В моей книге 2005 года я выделила тех четырех мыслителей, которые
меня главным образом интересовали. О Соловьеве мы подробно
поговорили. Далее — Бердяев. Мне хотелось, кстати, за Бердяева
заступиться, потому что его в последнее время стали пренебрежительно называть
революционаристом, объявляя на весь свет, что он только публицист и
неглубокий философ. Я с этим не согласна; в книге попыталась показать
оригинальность и глубину размышлений Бердяева. Например, Бердяев
многосторонне анализирует проблему духа — одну из самых коренных,
глубоких и трудных в истории философии. Этому современные философы
могут у него поучиться.
Мне очень нравится Франк как профессионал высокого класса,
блестяще знавший западную мысль. Я хотела конкретно подтвердить эту
оценку применительно к «Предмету знания». Кстати, у нас говорят: ах,
какая у нас замечательная была философия. А восьмитомное собрание
сочинений Франка выходит не в России, а в Германии. Там, в Германии
мне предложили издать «Предмет знания» в первом томе этого
собрания сочинений, что я сочла за очень большую честь, ибо эту книгу очень
люблю. Вы понимаете — 1915 год; и книга полностью встроена в
контекст и традиционной, и новейшей западной мысли. Если бы ее издали
тогда на Западе, она, несомненно, имела бы резонанс. Франк знал все
главное, что происходило тогда в философии Германии, да и не только в
Германии — в Европе вообще. Он действовал на основе своей оценки —
очень оригинальной, очень строгой оценки — тогдашних философских
явлений.
Так вот, я люблю таких российских философов, которые именно
философы, философы sui generis, профессиональные мыслители, не
изобретающие велосипеды, а умеющие эксплицировать имеющиеся
философские идеи и развивать их дальше. В книге 2005 года я постаралась
(как мне кажется, по-новому и тщательно, текстологически) разобрать и
другие сочинения Франка. (Но в ответ, увы — полное умолчание об этом
анализе в работах российских коллег — франковедов...)
Еще меня интересуют такие философы, как Лев Шестов. Но уже по
другим причинам: их философия — чуткий барометр, барометр чувств и
умонастроений. Так же как Ницше предсказал множество катаклизмов
XX века (не дожив до них), так в самом начале века в некоторых своих
произведениях Шестов начал писать и рассуждать о том, о чем позже
заговорила вся западная экзистенциально-персоналистическая философия.
Нам нужно понимать и ценить это: выдающиеся отечественные
философы не только были в курсе философских идей и событий, но
существенные тенденции чувствовали наперед, раньше, чем они широко
распространялись на Западе. Никакого тут нет квасного патриотизма. Я вообще
считаю, что для нас, историков философии, принципиально важно точно
2Г
324 •
Раздел V
фиксировать факты, тенденции. Вышло такое-то произведение, вокруг
есть определенные работы, есть ссылки на них, есть перекличка идей и
т. д. Кстати, в этом смысле я теперь работаю также над историей
отечественной философии советского периода1. Удивительная вещь выясняется:
масса штампов, предрассудков, общих суждений (всё там, дескать, было
марксистское-размарксистское...).
Вот если говорить о Соловьеве, то статья о Соловьеве в
«Философской энциклопедии» 70-го года трудно рождалась, и это известно. Рената
Гальцева в своих воспоминаниях писала обо всех трудностях. Но ведь
эта статья, на мой взгляд, куда лучше, чем другие энциклопедические
статьи более позднего периода. Какая там библиография, в том числе
западная, какая фактура! Как это оказалось возможным? Ответ на вопрос
можно дать лишь посредством скрупулезного объективного историко-
философского исследования и сопоставления.
Думаю, что в этой теме — философия Запада и философия
России — есть очень много великолепных примеров. Возьмем, в частности,
наших российских исследователей античной или средневековой
философии. В этой области были первоклассные исследователи и труженики.
И совсем не так обстояло дело, будто они повторяли и перепевали то,
что делалось на Западе. Они сами все это читали на языках оригиналов,
глубоко исследовали. Думаю, что объективное раскрытие
основательности, заслуг и дореволюционного, и в советское время выживавшего,
развивавшегося антиковедения (блестящие примеры — Лосев, Асмус,
Аверинцев), еще ждет своих исследователей.
Но я думаю, Михаил Викторович, что наше интервью порядком
затянулось. В заключение я снова хочу уверить Вас — а Вы душа и ум всей
работы, — Ваших коллег, помощников (среди них в первую очередь Вашу
замечательную жену и неизменную помощницу во всех делах Соловьёв-
ского семинара Ларису), что искренне считаю многогранную соловьёво-
ведческую деятельность ивановцев выдающимся патриотическим вкладом
в отечественную и мировую духовную культуру. Она, увы, не оценена по
достоинству на формальном, официальном уровне, но это другой вопрос. Да
ведь нам, ученым России, ко всему такому, увы, не привыкать...
Пусть Вас согревает то, что коллеги-профессионалы, студенческая и
аспирантская молодежь думают о Соловьевском семинаре с теплотой,
признательностью и желают Вам дальнейших успехов.
М. Максимов: Спасибо, Неля Васильевна, за замечательную
беседу, за Ваши книги, вызывающие интерес не только у профессионалов, но
и у думающей молодежи.
1 Post scriptum: читатель держит в руках книгу, о которой в интервью я говорила в
будущем времени.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Действующие лица той исторической драмы, о философских актах
которой шла речь в моей книге, принадлежали и принадлежат к трем
«нашим» поколениям. Представители по крайней мере двух из них за
последнюю пару десятилетий либо ушли из жизни, либо, выражаясь
словами Б.Окуджавы, «собрались у дверей проходной» в иной, как
говорится, мир... Вполне понятно, почему работать над материалом,
представленным в книге, мне было грустно, тяжело, но и по-своему
отрадно: ведь имена, события, поступки, коллизии, достижения и
утраты, теперь принадлежащие истории, оставшиеся в субъективной
исторической памяти ещё живущих индивидов и объективной,
документированной «памяти» культуры, в 50-80-х гг. XX в. были вплетены
в ткань нашей повседневной жизни и судьбы.
Я уже говорила в Предисловии и снова повторю в этом
Заключении, что воссозданная мною картина развития отечественной
философии 50-80-х гг. XX в. не могла не быть, во-первых, субъективной,
во-вторых, избирательной, ограниченной по проблематике, сюжетам,
материалу. Вместе с тем мною двигало стремление осуществить
честное и ответственное, в ряде случаев конкретное (в форме case studies)
историко-философское исследование. Его тезисы, выводы и оценки,
как я считала, обязаны были опираться на достаточно обширный и
репрезентативный материал, чтобы стать обоснованными и
доказательными. Удалось ли это — судить читателям.
Примыкая к тому, что сделано в тексте книги, в этом Заключении
я хотела бы уточнить ряд существенных моментов, характеризующих
мой специфический подход к общей теме работы, а также привести
дополнительные аргументы, имея здесь в виду возможные возражения
и сомнения.
Прежде всего, я отчетливо сознаю, что в соответствии с особым
замыслом книги мне пришлось удалить из фокуса подробного анализа
как раз то, что на поверхности явлений и включенному, и стороннему
наблюдению могло показаться центральным, господствующим в
философии нашей страны и даже как бы заданным на очень длительную
историческую перспективу. Я имею в виду догматическую идеологию
марксизма-ленинизма-сталинизма, в философии принявшую форму
диалектического и исторического материализма. Специальный анализ
поистине огромного массива соответствующей литературы, учебной
и «научной», не входил в мои планы, что при ином подходе можно
счесть искажением реальной исторической картины. Но и я — при всей
избирательности моего анализа — не могла целиком «отмыслить»,
326 •
Заключение
опустить эту официальную и официозную составляющую философской
жизни страны: она была не только вне нас, и была повсеместно, но и
«внутри нас...» (Ее следы остались и сегодня, но это особая тема.)
Читатель найдет в книге повествование и об этом идеологическом
контексте, подчас перераставшем в «тексты» философии, хотя такое
повествование — не специальное, отнюдь не полное и тем более не
исчерпывающее. В соответствии с задачами и целями, которые с
самого начала мною ставились, я считала и необходимым, и возможным
сосредоточить свое внимание на иных, в известном смысле
противоположных траекториях движения отечественной философии — на ее
лучших, как полагаю, самой историей отобранных и сохраненных
результатах. Конечно, такой поворот внимания и интереса можно
было бы просто-напросто обосновать свободой субъективного выбора,
на которую имеет право любой автор. Но мне хотелось бы подчеркнуть,
насколько подобный подход отвечает также моему пониманию сути и
специфики истории философии как теоретической дисциплины.
Оправдание исследовательского выбора (преимущественно) в
пользу материала, персоналий и произведений, помещенных в центр
этой книги, вижу в следующих обстоятельствах.
В науках, в культуре в целом история достаточно часто
удерживает, накапливает те духовные результаты, которые имеют не чисто
идеологический характер и которые не остаются только данью и
приметой какого-либо периода истории, не погружаются в прошлое
безвозвратно вместе с породившими их общественными силами,
конкретными социальными обстоятельствами и социальными институциями.
Как в процессе исторического развития философии, так и в истории
философии, этой особой дисциплине, принято сосредотачивать
внимание на исследовательских устремлениях и на достижениях,
в тот или иной период постепенно и трудно накапливаемых в составе
философского знания. При этом уже выработались приемы и методы
сравнительного анализа и оценки тех идей, методов, оттенков мысли
и т. п., которые объективно оказываются неизбежной данью времени,
издержками исторически обусловленных компромиссов — и тех,
которые отлагаются, и столь же объективно, в «хранилище»
философского познания.
Скажу больше и резче. История философии, а также история науки,
культуры, были бы вообще невозможны, когда бы философам и ученым
прошлого только ставились в вину их ошибки, промахи, в частности,
всегда имевшая место подвластность ограниченностям, превратностям
эпохи и господствовавшим в тот или иной период конкретным
идеологическим институциям. Представим себе, что все пишущие или
говорящие о Декарте концентрировали бы свое главное внимание на его
униженных посвящениях своих книг всесильным на его родине
богословам Сорбонны. Или что в историко-философских повествованиях
о Ф. Бэконе, Локке или Гоббсе заводили речь только или главным
Заключение
•327
образом об их зависимости от властвующих покровителей, а не об
актуальных и сегодня идеях, концепциях прав и свобод человека,
разделения властей и т. д. Или сосредотачивали бы все или главное
внимание на сотрудничестве Гегеля с правящими лицами прусского
государства, на этом основании перечеркивая (что, кстати, делали в наше
время и К. Поппер, и немалое число марксистов-ленинцев) нетленное
историческое, в том числе сегодняшнее, актуальное значение
гегелевской философии права.
Я отнюдь не собираюсь утверждать, что нормальная история
философии должна исключать подобные моменты или маскировать то, что
уже и в эпоху творчества философов, но особенно в последующие
времена расценивается как недостойное, слабое, ограниченное. Нет,
история философии учитывает и принимает к рассмотрению — особенно
в специальных изысканиях — также и подробности такого рода.
Однако никак не за счет главного, то есть самого лучшего, не за счет
больших и даже малых побед, достижений, заслуг философского разума.
Наиболее значительные историко-философские изыскания давно
уже дали яркие примеры такого баланса подходов, оценок, в рамках
которого, с одной стороны, не сглаживается, а напротив, четко
зарисовывается объективная противоречивость философского (а также
научного) труда, а с другой стороны, преимущественное внимание
концентрируется на самом важном, ценном, перспективном, что
накапливается в рамках исторически обусловленных форм человеческой
деятельности. Говоря конкретнее, история философии (подобно
истории науки) помещает в центр изучения, интереса исследовательские
устремления и идеи, протягивая через историю человеческого духа
преемственный, пополняемый и обновляемый ряд результатов,
достижений, а также, конечно, трудностей, сомнений, загадок.
Чтобы меня не упрекали в ссылках на великие имена, подчеркну:
в упомянутый преемственный ряд исследований входят результаты
деятельности не одних гениев, но также и более скромные достижения
тех тружеников науки и философии, без которых целостная история
духа и культуры тоже непредставима.
***
Соответственно тезису о постоянной противоречивости
реального развития науки, философии, как и культуры в целом, хочу особо
и решительно подчеркнуть: в мои намерения отнюдь не входило
односторонне-позитивное, тем более чисто хвалебное изображение даже
и того в отечественной философии 50-80-х гг., что я лично считаю
лучшим в ней, наиболее добротным, профессиональным, отвечающим
исследовательским критериям. (Разумеется, все это — в моем
субъективном понимании.)
Надеюсь, добросовестные читатели оценят то, что я пыталась
набросать картину исследовательских тенденций в отечественной фил о-
328 •
Заключение
софии как неоднозначную, противоречивую — с прорывами, взлетами,
но и откатами, с оттепелями, но и с заморозками. Вполне понятно, что
буквально у каждого философа, который стремился трудиться на ниве
философского исследования, были не только достижения, заслуги, но
и — с неизбежностью — поражения, теоретические утраты,
вынужденные компромиссы с господствующей идеологией. Каким-то из
ценных замыслов вообще не суждено было реализоваться; какие-то
творческие намерения в процессе исполнения досадно
деформировались. Если вспомнить (как сделано в книге), через какую густую
паутину препятствий, прямых преследований и глухих, анонимных препон
исследователи пробивались к своей цели, то приходится удивляться
не сохранившимся досадным меткам жесткой и жестокой эпохи, а
скорее тому, что впоследствии выдержавшие испытание временем
книги и статьи все-таки поступали к читателям, сохранив
теоретическое содержание, проблемный смысл. Читателям тоже надо отдать
должное: они хотели и умели улавливать то самое существенное, ради
чего такие работы были написаны.
Но кроме содержания и смысла, бесспорно, существовала
ритуальная идеологическая форма, вернее, целая совокупность форм и
ритуалов. То были, если воспользоваться терминами Маркса,
объективированные, извне заданные «превращенные формы сознания».
В каждом случае их «творили» какие-то инстанции, конкретные
институции и, конечно, определенные индивиды. Но со временем формы
эти представили как анонимные, откуда-то «спущенные», даже как
«объективно необходимые».
Один пример: на всем протяжении изучаемого периода каждый,
кто защищал диссертацию по общественным (и, кажется, даже по
естественным) наукам, должен был в самой работе и в автореферате —
по крайней мере в обязательной преамбуле, говоря об «актуальности»
темы, — ссылаться на решения очередного съезда КПСС и последних
пленумов ЦК КПСС. (Как, когда появилось это «требование», через
какие «документы» внедрялось в практику — особый и, кстати,
небезынтересный вопрос для специального изыскания.) Не подчиниться
«правилу» — все равно, намеренно или по небрежности — тогда
означало риск по крайней мере не защитить диссертацию и даже стать
объектом идеологических проработок. Подобным образом обстояло
дело с публикациями. А без защиты диссертации было, в сущности,
невозможно, получить сколько-нибудь самостоятельную, достойную
исследовательскую или преподавательскую работу — причем так было
не только в философии, но и во всей системе труда в науках. (В
философии, которая к тому же считалась «партийной» дисциплиной,
требовался еще один «пропуск» для входа, а именно членство в
единственной партии.)
Итак, надо было делать жизненный выбор — или вообще не работать
в философии (примерно так же обстояло дело в других социогумани-
Заключение
•329
тарных дисциплинах) или соблюдать хотя бы в минимальной степени
некоторые ритуалы идеологического характера. Выбор в пользу
второго пути был для наших поколений непростым решением. По строгому
счету он был досадным и подчас очень болезненным компромиссом.
Тем не менее давление идеологических ритуалов именно в
послевоенное время рождало, причем в массовой форме, весьма характерное
противодействие: ритуалы хоть и исполнялись (и были, конечно,
ретивые их исполнители), но в основном это делалось как бы не всерьез.
Они повсеместно воспринимались как навязанная идеологическая
дань, чисто формально выплатив которую можно было, в принципе,
заняться исследованием. Поэтому, скажем, в философии 50-80-х гг.
было написано и защищено немало диссертаций, в целом — за вычетом
пары-другой ритуальных фраз — носивших исследовательский
характер и до сих пор сохранивших теоретическое значение.
Приведу еще один пример подобной противоречивости — область
философской работы, которой я сама занималась еще со студенческой
молодости. Зарубежную историю философии XX в. в нашей стране
полагалось изучать под рубрикой «критика современной буржуазной
философии». О трудностях, издержках и — все-таки — о немалой
значимости этой работы правильно, честно сказал видный отечественный
автор И. Кон, который и сам (в социологии) занимался подобной
«критикой»: «Это была весьма своеобразная, ни на что ни похожая сфера
деятельности. Если судить по названию, то стопроцентная идеология,
часто так и было на самом деле. Вместе с тем под видом критики «чужих
теорий» открывалась возможность знакомить с ними советских
читателей и обсуждать новые для них проблемы. «Критика» заменяла
советской интеллигенции недоступные первоисточники... На
поверхностный взгляд, это был типичный мазохизм. Люди критиковали
преимущественно то, чем втайне увлекались: философы, склонные к
экзистенциализму, критиковали Хайдеггера и Сартра, потенциальные
позитивисты «прорабатывали» Карла Поппера и т. д. На самом же деле
это было не столько сведение личных интеллектуальных счетов,
сколько закамуфлированное просветительство. В дальнейшем, по мере
ослабления цензурных запретов, «критическая критика» превращалась
в положительную разработку соответствующей проблематики, либо
в нормальную историю философии и науки»1. Здесь верно, на мой
взгляд, зарисовано противоречие — и издержки, ограниченности, и
постепенно накапливавшиеся исследовательские качества этой
области философской работы. Идя на определенные идеологические
компромиссы и вряд ли имея возможность избежать их, некоторые
работавшие в этой области авторы, тем не менее, добились серьезных
результатов: читатели получали в свое распоряжение достаточно
своевременную, профессиональную, объемную информацию об основ-
1 Кон И. 80 лет одиночества. М., 2008. С. 202.
330 •
Заключение
ных направлениях, о главных (и даже второго, третьего плана) фигурах
зарубежной философии и социологии XX в., что подтверждали
наиболее внимательные и объективные специалисты из других стран, если
они читали по-русски и тем самым имели возможность анализировать
наши источники.
К слову: некоторые учебные пособия (или их разделы) о зарубежной
философии XX в., созданные в советское время (как сказано, за вычетом
указанных идеологических наслоений), и сегодня выглядят, я думаю,
добротнее, солиднее, информативнее, нежели иные нынешние поделки,
которыми авторы-компиляторы завалили книжные прилавки. И
понятно, откуда такая разница: философы 50-80-х гг., писавшие разделы в
учебники, как правило, целые десятилетия изучали первоисточники,
добывали и достаточно глубоко перерабатывали информацию. (А
сегодня это нередко скрытый плагиат или краткий, не всегда осмысленный
пересказ чужих работ, иногда — тех же учебников и книг советского
времени.) Даже требуемая «критика» в книгах того времени далеко не
всегда была недостатком, ибо самостоятельность и критичность была
также отличительной чертой лучших мировых исследований на те же
темы. (Другое дело, что наши авторы подчас приписывали свои
критические идеи марксистской философии как таковой.)
Еще свободнее, чем писали, наши лучшие философы тех лет
говорили, публично и смело читая многочисленные лекционные курсы о
зарубежной философии, ведя семинары, делая доклады, выступая на
конференциях и т. д. Постепенно эти философы стали и в публикациях
вести себя более смело и напористо — в том числе в том, что касалось
идеологических ритуалов. Так, некоторые авторы еще до перестройки
явочным порядком отказались от упомянутых клише и стали писать не
о «буржуазной» философии и социологии, а о философии и социологии,
развивавшихся в капиталистических странах. Но и это было сделать
отнюдь не просто, причем возможность отказаться от таких клише (или
наоборот принуда сохранять их) во многом зависела от местных условий1.
1 Вспоминаю такой эпизод. Когда — после других опубликованных совместно с
рижскими, вообще с прибалтийскими коллегами работ — мы готовили впоследствии
вышедший в Риге сборник о феноменологии Гуссерля и его последователей, то я поставила
твердое условие, чтобы ни в заглавии, ни в тексте не фигурировал термин «буржуазная
философия». Но молодые латышские коллеги, которым решительно воспротивились
идеологически бдительные рижские издатели, в конце концов уступили — и вышла книга, по
содержанию достойная, но включившая этот идеологический штамп в само название
работы. А я тем самым была поставлена перед фактом, весьма досадным...
О том, какой «вклад» в подобное «редактирование» вносили издательства, их
редакторы, почти каждому автору есть что порассказать. Об анекдотической, но, увы, типичной
истории поведал И. Кон. Когда ему прислали «отредактированную» верстку одной из его
книг, он пришел в ужас: «к каждому имени, о котором не было сказано, кто он такой,
редактор добавил: «реакционный буржуазный социолог». Такая судьба постигла даже доктора
Бартоло из «Севильского цирюльника»: я назвал его старым брюзгой, а редактор сделал
«реакционным буржуазным социологом» (Кон И. Цитир. произв. С. 199). Это было бы
смешно, когда бы не было так грустно...
Заключение
•331
Я более подробно остановилась на этих моментах потому, что моя
книга посвящена сопоставлению развития отечественной и западной
философии 50-80-х гг. XX в. А здесь, понятное дело, многое зависело
уже и от достаточно добротной информации о современной западной
мысли, которая, как я подробно показала в книге, в нашей стране все-
таки существовала.
Еще раз подчеркну, что разговор о болезненных противоречиях
социальных условий я в Заключении снова затеяла совсем не для того,
чтобы оправдать ограниченности, издержки, подчас и «превращен-
ность» сделанного и сказанного представителями наших поколений,
включая и тех, кого (отправляясь, конечно, от своих субъективных,
но подтверждаемых и другими коллегами оценок) причисляю к
наиболее продуктивным, творческим философам 50-80-х гг. XX в.
Итак, мои конкретные интенции и подходы, запечатленные в
книге, определялись таким общим стремлением: не упуская из виду
отмеченные и иные издержки, ограниченности, слабости, ошибки, честно
положив и их на чашу исторических весов, все-таки не дать в легкую
обиду то лучшее, что, во-первых, нужно было положить на другую
чашу весов, а во-вторых, следовало подвергнуть доказательному
исследованию, причем на основе репрезентативного массива источников,
оставленных историей и доступных для заинтересованных
исследователей. А желающих нанести такую обиду в последние десятилетия
появилось весьма немало... В противоположность им я считаю, что
применительно к немалому числу работ философов (и социологов)
интересовавшего меня исторического периода анализ, проведенный в
книге, позволяет утверждать: ценные исследовательские достижения
в деятельности этой части философского сообщества перевешивают
ограниченности, издержки, сделанные из-за внешних давлений,
преследований и внутренних уступок.
Другое важное, на мой взгляд, дополнение проистекает из
необходимости ответить на ряд вопросов, которые уже выходят за рамки
исследуемого в книге периода и заставляют хотя бы кратко учесть
современное состояние отечественной философии. Один из таких
проблемных вопросов можно очертить следующим образом. Быть
может, сделанное даже в исследовательском поле было более или
менее значимо только «для своего времени», а «современная эпоха»
все это отбросила, перечеркнула (вместе с очевидно преданной
забвению массовой официальной «философской продукцией» советского
времени)?
***
Это очень серьезный вопрос, и отвечать на него надо специально
и обстоятельно, что тоже не является предметом и целью настоящей
работы. Свой ответ на него я дам в самом общем виде, имея в виду
(несомненную для меня) преемственность того лучшего, что было
332 •
Заключение
сделано в отечественной философии 50-80-х гг. XX в., и того, что
делается в наши дни. Тем более, что преемственность обеспечивается,
в частности, продолжающейся (пока) деятельностью тех
представителей философского сообщества, которые в 50-70-х гг. начали свой путь
в философии исследовательского типа, преодолевая немалые
трудности и препятствия. В 80-90-х гг. XX и в начале XXI столетий они
продолжили свою деятельность — тогда возникли, кстати, не только
новые возможности для свободной работы в философии, но и
несколько иные, тоже весьма серьезные трудности и препятствия.
В моей книге названо множество имен и произведений
отечественных авторов (разумеется, в основном из тех исследовательских
областей, которыми ограничивается данная работа). Не вдаваясь здесь в
конкретные доказательства, выскажу далее ряд тезисов относительно
их деятельности и в 50-80-х гг., и в последующие десятилетия.
Один только перечень имен тех (упомянутых в книге)
отечественных философов (и уже умерших, и еще, слава Богу, живых), как и тех
произведений, которые выдержали испытание временем, занял бы
много страниц.
Показательно, кстати, что эти авторы — а они составляют
достаточно многочисленную когорту — смогли или в принципе могут без
больших сомнений и сколько-нибудь существенных изменений
перепечатывать многие свои более ранние работы (советского времени).
Это возможно потому, что и сегодня эти их произведения не утратили
свое содержательное значение, и — став к тому же библиографической
редкостью — пользуются заслуженным спросом также у сегодняшних
читателей.
При этом речь идет о философах, которые (если они дожили до
нашего времени) и в последние десятилетия трудились весьма
интенсивно, честно, профессионально и — благодаря преимуществам новой
эпохи — более свободно, нередко в непосредственном сотрудничестве
с западными коллегами выполняя крупные, ответственные совместные
проекты.
Имело место также то нарастание качества в их работе, которое
было обусловлено как большей внешней свободой, так и творческой,
личностной зрелостью, которая приходит с годами. Поэтому можно
было бы — тоже целыми страницами — перечислять новые работы
(книги, статьи) тех же авторов, которые оправданно считать их
лучшими сочинениями, стоящими в одном преемственном ряду с их
наиболее значимыми прежними работами. (Почти у каждого были,
конечно, работы более слабые; были и такие, которые они сами считают
неудачными. Но ведь такое случается в любое время и в любой
области творчества.)
Еще в советское время, что подробно показано в моей книге,
тематическое, проблемное многообразие, оригинальность исследований
выходили далеко за рамки догматически-принудительного проблемно-
Заключение
•333
го «ассортимента» официальной философии. В настоящее время
дисциплинарное проблемно-теоретическое и методологическое
разнообразие отечественных философских исследований вполне
соответствует уровню переднего края мировой философии.
В своей книге я остановила особое внимание на тех областях
исследований, которые для философии были междисциплинарными.
Иными словами, они возникали на стыках философии с другими
науками, а также на взаимопересечении самих философских дисциплин
(так, философия науки возникла на средостениях философии с
историей и содержательными теориями наук, естественных и
общественных; социология познания — на стыке гносеологии и социологии
и т. п.). Это была отчетливо выраженная современная, продвинутая
(advanced) тенденция, аналогичная тем, которые в XX в. проявили свое
действие во всем составе научного знания и познания, способствовав
возникновению не известных прошлому наук и их разделов.
Несомненной заслугой отечественных философов явилось то, что они рано
и чутко уловили, поддержали и развили в философии эту тенденцию,
которой принадлежит будущее.
Что касается (бывших) «шестидесятников», «семидесятников», до
сих пор активно работающих в философии, то к чести многих из них
можно сказать также и следующее: они и сегодня вносят в свою
работу, а значит, и в отечественную философию, дух новаторства,
творчества, состязательности; они по-прежнему держат руку на пульсе
самого продвинутого мирового философского исследования. За последние
десятилетия многие из них освоили новые для них отрасли
философского знания, постепенно став в них признанными специалистами.
В целом же, опираясь на проделанное исследование, я делаю общий
вывод: в отечественной философии есть целая когорта (в том числе
живых и сегодня) исследователей, начавших свой творческий путь в
советское время, прошедших (как сказано, не без издержек и утрат) через
различные испытания и все-таки сумевших сохранить личностные честь
и достоинство, высокую человеческую и профессиональную
репутацию — людей, которых уважают, чтят, произведения которых знают и
изучают в философском сообществе нашего отечества и других стран.
В заключение еще раз скажу, что к своей работе над книгой,
которую читатель держит в руках, я относилась серьезно, ответственно,
увлеченно. К этому меня обязывала прежде всего память — о тех
близких, друзьях, коллегах, которых уже нет с нами и которые стали
главными героями всего повествования, а также обязывала
благодарная признательность тем, с кем и сегодня я остаюсь связанной узами
профессионального сообщества.
Поскольку же это были и есть люди, щедро наделенные чувством
юмора, я закончу книгу ироническими и теплыми словами Булата
Окуджавы (он их посвятил поэтам, но они вполне могут быть отнесены
к ушедшим от нас философам):
334 • Заключение
...В трагическом их государстве
Случалось и празднествам быть,
И все же бунтарство с мытарством
Попробуй от них отделить.
...Я вовсе их не прославляю.
Я радуюсь, что они есть.
О, как им смешны, представляю,
Посмертные тосты в их честь!
Выражаю благодарность Всем дорогим коллегам, любезно
представившим фотографии для опубликования в этой книге. Отбор
фотографий, разумеется, не мог быть сколько-нибудь полным и
систематическим. Буду благодарна, если для возможных последующих изданий
этой книги будут предоставлены относящиеся к нашей теме
фотоматериалы.
И.А. Лаврентьевой — за подготовку рукописи книги к набору;
М. Новицкому — за работу с фотографиями;
Издательству «Академический Проект» — за издание книги.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Абдильдин Ж.М. — 49, 85
Абрамов А.И. — 80, 82
Абрамов М.А — 80
Абрамова Н.Т. — 95
Абульханова-Славская К. — 101
Аверинцев С.С — 39, 41, 42, 43, 78,
80, 82, 83, 90, 285,286, 325
Автономова Н.С. — 80, 90
Адорно Т.- 56, 57, 59, 62, 129
Азарх Л.С. — 44
АйерА.Дж. — 81, 122,250
Аквинский Фома — 226, 260
Аккерман В. — 44
Акчурин И.А. — 95, 110, 308
Аршинов В.И. — 95
Ален Т. — 185
Александр I— 18
Александров Г.Ф. — 16, 20, 21, 22, 23,
42,310
Алексеев И. — 49, 95, 98, 110
Алексеев Н. — 47, 250
Алексеев П.В. — 78
Альбрехт Э. — 89
Альтуссер Луи — 53, 85, 255
Амбарцумян В. — 95, 103
Андрее Р. — 135
Андреева И.С. — 80
АпельК.-О. — 108,269
Апресян Р.Г. — 313
Арзаканян Ц.А. — 80, 84, 85, 86, 88
Аристотель — 83, 133, 260
Арон Р. — 56,57, 147
Арсеньев A.C. — 47, 96, 122,251,252
Арто П. — 289
Артюх А. — 98
Асмус В.Ф. — 4, 21, 29, 39, 40,42, 44,
48, 52, 77, 78, 79, 80, 83, 251, 303, 304,
310,325
Ахманов A.C. — 77, 80
Ахматова A.A. — 21, 22
Ахутин А. — 48, 80, 98
Б
Бабушкин В.У —80
Багатурия Г.А — 80
Бажанов В.А. — 77
Баженов Л.Б. — 95, 98, 308
Байер В.Р. — 88
Бакрадзе К.С. — 49, 80, 133, 251
Балакина И.Ф. — 43, 322
Барбер Б. — 170, 177, 178, 179, 186,
199
Барбер Э.— 186, 190
Барнес Б. — 222, 223
Баталов Э. — 23
Батищев Г.С. — 4, 47, 53, 85, 96, 101,
251,303
Батыгин Г.С. — 15, 16, 19, 20, 301
Баум 3. — 56, 58
БаумМ. —89
Бахтин М.М. — 4, 23, 289
БашлярГ. — 111, 124
Белецкий З.Я. — 20
Белый А. — 289, 293, 297
Беньямин В. — 299
Берг А. — 252
Бергер П.Л. — 140, 147, 149, 150
Бергсон А. —316
БердяевН. — 129,298
Берельсон Б. — 146, 192
Берия Л. — 307
Бернал Дж. — 118, 164
Бернштейн Н. — 101
Берталанфи Л. — 110
Бестужев (декабрист) — 18
Бехтерев В.М. — 134
Бибихин В. — 70, 80, 111
336
Именной указатель
Библер B.C. — 4, 48, 96, 122, 251,
310
Бильфельд 3. — 323
Бирюков Б.В. — 40, 107, 252
Бирюкова Л.Г. — 107
Блауберг И.В. — 46, 69, 70, 109
Блур Д. —185,219,223,232
Бляхер Е. — 98
БоасФ. — 135
Бовин А. — 45
Бовуар С. де — 81, 254, 258, 305
Богданов В. — 41
Богомолов A.C. — 18, 80, 85, 89, 111
БогуславР. — 179, 180
Богуславский В.М. — 80
Боймлер А. — 159
БорН. —105, 122,212
БорнМ. — 105
Бородай Ю.М. — 307, 308
БочварД.А. — 107
Бочоришвили А. — 131
Браге Тихо — 174
Брандом Р. — 245
Брандт Г. — 44
Бранский В. — 49
БреттаВ. — 135
Бриджмен П. — 111
Бродский И. — 49
Брушлинский А. — 101
Бур М. — 85
Бурлацкий Ф. — 45
Бутенко А. — 45
БухаринН. — 145
Буцениеце Э. — 276
Быкова М.Ф.— 91,92
Быховский Б.Э. — 257
Бэкон Ф. — 128, 139, 141, 151, 162,
165,166,167,226,228
БюллерК. — 134
В
ВайсманФ. — 106
Ван Бреда Людвиг — 58
Васецкий Г.С. — 21, 30, 43
Васильева Т.В. — 80
Вдовина И.С. — 80, 111
ВеберА. — 150
ВеберМ. — 129, 140,143, 144, 146,
149
ВейльЭ. — 81
Веттер Г. — 246
Визгин В.П. — 80, 11
Виль Р. — 89
Вильницкий М. — 95
Виндельбанд В. — 133
Винер Н. —81,105
Виноградов А. — 56, 58
Винч П. — 245
Витгенштейн Л. — 107, 226
Виткин М.А. — 309
Войтонис Ю. — 134
Войшвилло Е. — 77
Володин А.И. — 80, 85, 90, 91
Вольф Курт — 139, 142, 144, 146, 147,
151,152
Вольф М. — 89
Волынская Л. — 98
Воробьев Н.В. — 77
ВостриковА. — 250,251
Вулгар С. — 242
Вульф В. — 59
ВундтВ. — 134
Выгодский Л. — 101
Вякирев Ф. — 251
Габитова P.M. — 80
Гавел В. — 50
Гаврюшин В. — 80, 82
Гагарин А.П. — 302
Гадамер Г.-Г. — 78.
Гайденко П.П. — 41, 43, 50, 80, 83,
86, 90, 96, 98, 111, 143, 257, 258, 303,
304
Гайер П. — 89
ГейзенбергВ. — 105
Галилей Галилео — 96, 120, 152, 162,
177, 191
Галисон П. — 241, 242, 243
Гальперин П. — 101
Именной указатель
•337
Гальцева Р. — 35, 37, 38, 39, 43, 80,
82, 323
Гарнцев М.А. — 80
Гароди Р. — 56
Гарфильд Ю. — 157, 185, 197, 202
Гастев А. — 40, 96
Гаттари Ф. — 289
Гегель Г.В.Ф. — 7, 53, 54, 55, 63, 77,
83-92, 102, 103, 133, 139,141, 151,
162, 216, 259, 260, 279, 286, 295, 310
Гейгер Л.—134
Гелен А. — 150
Гельмгольц Г. — 134
Гёте И.В. —191,290
Гёльдерлин Ф. — 293
ГиббсДж. —215
Гильберт В. — 105
Гильберт Д. — 44
Гинзбург В. — 103
Глезерман Г. — 41, 70, 86
Глинский Б.А. — 122
Гоббс Т. —96, 128, 192,215,228
Гоголь Н.В. — 289
Голдман А. — 219-222, 237, 238
Голдстоун Дж. А. — 203
Головин Н. — 167
Головскер Я.Э. — 23
Гольденберг И. — 95, 98
Горовиц И.Л. — 138, 139, 141, 146,
147
Горский Д. — 96
Гране— 152
Грациа Альфред де — 193
Грачев А. — 23
ГреЖ.де—144
Григорьян Б.Т. — 70, 80
Громов М.Н. — 80, 82
ГроувК. — 192
Грушин Б. — 25, 47, 67, 96, 281
Грюнбаум А. — 122
Грюнвальд Эрнст— 145, 147, 151, 169
Грязнов А.Ф. — 80, 106
Грязнов Б.С. — 96, 98, 122, 124
Губин В.Д. — 80
Гудин Р. — 237
Гук Р. — 201
Гулыга A.B. — 18, 19, 80, 83, 85, 86,
90,91,303,304,308,309
Гумплович Л. — 144
Гусейнов A.A. — 4, 50, 51, 71, 72, 80
Гуссерль Э. — 50, 58, 101, 129, 132,
133, 135, 136, 139, 150, 228, 236, 254,
264, 265, 276, 278, 282, 283, 288, 289,
304, 305
Гюйгенс X. — 142
д
ДамондДж. — 192
Давыдов В.В. — 101, 251, 252
Давыдов Ю.Н. — 41, 50, 53, 60, 80,
87, 143
Дарвин 4.-191,199,216
ДеборинА.М. — 21
Девятко И.Ф. — 15,16,19, 20
Декарт Р. — 35, 53, 77, 78, 80, 83, 96,
128, 162, 165, 166, 167, 191, 192, 225,
226, 228, 230, 260, 282, 283, 289,310
Делёз Ж. — 289
Демина Н.В. — 162, 178, 179, 182
Деррида Ж. — 60,61, 62, 288, 289,
293,295, 296, 297,299
Джеймисон Ф. — 62, 243
Джеймс У. — 111, 133
Дильтей В. — 129, 133, 144, 316, 322
Димитров Г. — 35
Дирак П. — 96, 105
Длугач Т.Б. — 48, 80
Добронравов И. — 40, 43, 96, 105
Доброхотов А.Л. — 80, 82,90
Долгов K.M. — 80
Достоевский Ф.М. — 289
Драгун Б. — 86,312
ДрачД.В. — 80
Дрейфус X. — 245
Дриш. Н. — 133
Дробницкий О. — 41, 48, 303, 304,
307
Дубинины.— 103
Дубровин В.Н. — 215
Дубровский Д. — 252
338 «
Именной указатель
Дьюи Дж. — 111
ДынинБ.— 96,122, 123
Дышлевой П.С. — 85,98
Дэви Г.— 192
Дюзинг К. — 89
ДюркгеймЭ. — 134, 139, 140, 144,
149, 150
Евграфов В.Е. — 43
Евлампиев А. — 82
Елсуков А. — 96, 123
Емельянов Б. — 82
Ермичев А. — 82
ЕрузалемВ. — 144
Ерыгин А.Н. — 80,167
Ж
Жаворонков А. — 316
Жданов А. А. —21,29,30
Жданов Г. — 95
Же Бернар — 246, 247, 248, 249, 250,
251,252
Жид А. —299
Жучков В.А. — 80
Заиченко Г.А. — 80
ЗайменДж. — 181, 182
Зайцев Г. — 95
Заккерман Г. — 170, 186, 192, 193,
195,196,197,216
Замошкин Ю.А. — 25, 56, 58,67, 255,
281,286,307
Засс Г. — 85
Здравомыслов А. — 46
Зелены И. — 56, 58, 85, 89
ЗиммельГ. — 134, 144
ЗиневичЮ. — 123, 124
Зиновьев A.A. — 4,47, 50, 53,67, 96,
122,251,303,312
ЗинченкоВ.П. — 100,101
ЗомбартВ. — 134, 144
Зотов А.Ф. — 80,110,111,123, 250
И
Иванов С. — 252
Ивин A.A. — 93
ИгитханянМ. — 31
Игнатьев A.A. — 184
Илларионов С. — 95
Ильенков Э.В. — 4, 18, 28, 41,49, 53,
61, 68, 69, 86, 96, 101, 250, 251, 252,
303,305,306,310,312
Ильин И.—129,313
Иовчук М.Т. — 34, 41,43, 86, 250
Ипполит Ж. — 56, 81
Йолон П. — 98
Й
К
Каган М. —101
Каган Ю.М. — 308
Каганов В. —41
Казютинский В.В. — 85, 95, 98, 308
Какабадзе 3. — 49
Калинников Л.А. — 80
Каменский З.А. — 18, 34, 35, 38,40,
43,44,80, 82
Камю А. — 257, 258
Кант И. — 7, 8, 53, 63,11, 78, 80, 83,
86,88,89,91,96,102,117,133,141,
208,216, 226, 230, 260, 275,300,304,
310,320,322
Кантор В.К. — 80, 82
Капица П. — 103
КаплоуТ. — 187
КарриХ.В. —122
Каримский A.M. — 80, 91
Карнап Р. — 105, 106, 107, 122, 158
Кармин А. — 250
Карпинская P.C. — 48,95, 105
Карцева H. — 281
Карякин Ю. — 25, 304
КасавинИ.Т. —98, 115,219
КассирерЭ. — 133
Касымжанов А. — 49, 251
Кафка — 289, 290
Именной указатель
•339
Кедров Б.М. — 4, 48, 67, 69, 85, 95,
96,103,122,250,251
КейнсД.М. — 199
Келле В.Ж. — 18, 31, 45, 61, 67, 304,
308, 309
Кеплер И. —174,215
Керимов Д.А. — 85, 91
Кессиди Ф.Х. — 80
Келлер В. — 134, 136
Киммерле X. — 89
Кисель М.А. —49,80,85
Китов А. — 252
Китчер Филипп — 158, 225, 226, 230,
231,232,233
Клее П. — 293
КлерК. —218
КлиниС. — 122
Кнорр-Цетина К. — 185, 223, 241, 242
Кобзев А. — 82
Ковальзон М.Я. — 31, 45
Коган Л.А. — 80, 82
КогенГ. — 133
Козлова М.С. — 49, 80, 90, 96, 98,
106, 107
КойреА.—113, 124, 185
Кол один Е. — 95
Кон И. — 23,46,96, 122
Кон-Брамштедт Э. — 151, 152
Кондильяк Э. Б. де — 226
Константинов Ф.В. — 34, 41, 67, 86,
250, 307
КонтО. —192
Копнин П.В. — 4,49,69,96,250, 251
Корнблайт Хилари — 224
Коровиков В.И. — 303
Косарева Л. — 96
Костюченко B.C. — 80
КоулДж. —185, 196,216
Коул Ст. — 156, 157, 185, 196, 197,
216
КоэнР. —192
КранцД. — 185
Крафт Л. фон — 105
КрейнД. —185, 193
Кремянский В. — 95, 109
КрикЭ. — 159, 163
Кричевский A.B. — 91
КронерР. — 133
КрочеБ. — 133
Кружков В. — 41
Крузо Робинзон — 187
Крымский С. — 49
Куайн У. —111,113
Кузнецов Б. — 95
Кузнецов В.Н. — 80, 95
Кузнецов И.В. — 48, 95, 98,103, 110,
250
Кузнецова Н. — 98
Кузьмина Т. — 48, 80, 303, 307
Кулаков Ю. — 95
Кулис Р. — 276
КулэМ. — 276
Кумпф Ф. — 85
Кун Т. — 111,112, 113, 114, 115, 116,
117,118,119,120,124,126,158,167,
183,185,241
Купцов В.И.—ПО
КураевВ. —96,98, 107, 123
Курчатов И.В. — 308
Кучинский И. — 58
Кьеркегор С. — 288, 289, 290
Л
Лабарьер Ж.-П. — 89
Ладенко И. — 47
Лазарев В.В. — 80, 85
Лазарсфельд П. — 146, 171, 185
ЛайельЧ. — 216
Лакан Ж. — 289
Лакатос И. — 111,112, 117, 120, 122,
124,241
ЛакменТ. —140, 147, 149, 150
Ланд Н. — 46
Ландау Л. — 103
ЛандсгутЗ. — 147
Лапин Н.И. — 53
Лаплас П.С. — 191, 192, 215
Лапшин И. — 167
Ласвелл — 146
ЛаслоЕ. — 110
22*
340 •
Именной указатель
Латур Б. — 223, 232, 242
Лаудан Л. — 223, 241, 242, 243
ЛахутиД. — 40,96
Лукин В. — 68
Лебедев А. — 90
ЛебонГ. — 134
Левада Ю. — 46,48
Леви-Брюль К. — 131, 134, 144, 149
Левин, Курт—193
Левина М. — 86
Левонтин Р. — 196
Ледников Е. — 198
Лей Г. — 89
Лейбин В.М. — 80
Лейбниц Г.В.— 133,191,226
Лекторский В.А. — 4,41, 43, 46, 47,
67, 85, 89, 90, 96, 98, 105, 107, 109,
111,121,123, 172, 251,277,278, 279,
284,289,301,303
Ленин В.И. — 42, 55, 57, 63, 87, 99,
100,121,127,130,132,309
Леонтьев А. — 101,251
Леонтьев В. — 167
ЛефеврВ.А. — 109
ЛиндсейД. — 185
Линч Майкл — 156
Лиотар Ф. — 243
Лисеев И.К. — 96
Лист Кр. — 236, 237, 238, 240
Листер—192
Литвинов В. — 108, 109
ЛифшицМ.А. — 4
ЛовджойО. — 144
Локк Дж. — 96,128,226, 227,260
ЛонгД.С. — 185
Лонгино X. — 223, 224
Лосев А.Ф. — 4, 23, 29, 40, 41, 77, 78,
80,83,85,310,316,325
Лосский Н. — 129, 133, 167
Лотман Ю.М. — 4, 49
Лукач Г. — 145
Лукреций Kapp — 141
ЛурияА.Р. — 134
Лысенко ВТ. — 82
Люббе К. — 85
Любутин К.Н. — 80
Лютер М. — 83
Ляликов Д. — 39
M
Магнус X. — 135
Мажино (линия Мажино) — 33
Майо Рене — 56
Майоров Г.Г. — 80, 82, 90
Мак- Даугал У. — 134
Маккиавели Н. — 151
Максвелл Г. — 241
Максвелл Дж. К. — 96, 191, 215
Максимов М.В. — 314
МаллинзН. — 185
Мамардашвили М.К. — 4, 7, 28, 31,
35, 41, 49, 53, 55, 56, 61, 67, 71, 79, 80,
96,98,122, 247,253-258, 276-288,
293,296,303,304,310,313
Мамут Л.А. — 85,91
МамчурЕ.А. —94,97,98, 105
Манхейм Карл — 139, 141, 143-151,
169,220,228
Мао дзе Дун — 59, 260
Марков А. — 40,96
Марков М. — 103
Маркова Л. — 48, 115, 116, 123
Маркович М. — 56, 58, 85
Маркс К. — 31, 32,42, 52-63, 85, 87,
88,92,96, 100-102, 121, 127, 128,
132,135,136,139-141, 144, 148-150,
192,199,216, 258,260, 263-265, 271,
288, 299
Маркузе Г. — 56, 59, 260
Маркуш Д. — 56, 58
Маслин М.А. — 82, 323
Мастерман М. — 117
Матяш Т. — 49
МахЭ. —111
Мегрелидзе K.P. — 131-136
Мееровский Б.В. — 80
МежуевВ.М. — 61,303
Мерло-Понти М. — 289
Мельвиль Ю.К. — 42, 48, 80, 111, 304
Мелюхин СТ. — 250
Именной указатель
•341
Менделеев Д. — 96
Мережковский Д.С. — 18, 303
Меркулов И. — 96, 123, 124.
МерсеннМ. — 192
Мертон Р.К. — 118, 124, 144, 146,
153-218,228
МетловВ. — 123,246
Мешковская-Светлова Н.В. — 305
Мидоус А. — 185
Мизес Р. — 105
Микешина Л.А. — 49
Микулинский СР. — 95, 115, 116,
117,123,124
Милейковский А. — 58
Миллер Р. — 241,242
МиллзЧ.Р. —144, 171,187
Милль Дж. Ст. — 226
Мирская Е.З. — 153, 165,166,
168-171,178
Мирский Э.М. — 184, 185
МитинМ.Б. — 17,21,22,87
МитроффИ. — 179, 180
Митрохин Л.Н. — 4, 46, 53, 67, 69,
70,71,85,301,303,307
Михайлов A.A. — 49, 86
Михайлов A.B. — 80
Михайлов Ф.Т. — 47
Михайловский Н.К. — 134
Модржинская Е.Д. — 67, 307
Молчанов В.И. — 80
Молчанов Ю.Б. — 95, 98, 110
Момджян Х.Н. — 70
Мопассан Ги де — 305
Морган Г.Ллойд— 134,136
Моргенштерн О. — 122
Морено Я. — 192
Москвичев Л. — 143
Мостепаненко А. — 95
Мотрошилова Н.В. — 11, 28, 51, 61,
70, 71, 89, 129, 166, 168, 247, 253, 275,
287,300,307,314
Мысливченко А.Г. — 80
Мюллер И. — 134, 136
Мяло К. — 25, 59
H
Наан Г. — 250
Нагель Э. — 111,113
Напалков А. — 252
Наполеон (Бонапарт) — 18
Нарский И.С. — 80,85, 86, 89,96,
107,251
НаторпП. — 133
НауменкоЛ.К. — 85, 251
Нейман Дж. фон — 122
Неретина С.С. —48,215
Нерсесянц B.C. — 85, 89,91
Никитин Е. П. — 96, 98,122, 123, 312
Никифоров А.Л. — 93,98,118,123,124
НисбергР. — 218
Ницше Ф. — 133,144,289, 290, 293,
316,324
Ничик В. — 82
Новгородцев П. — 313
Новиков В.Н. — 308
Новикова Л. — 323
Новинская М. — 59
Новоселов М.М. — 35, 37, 38,40, 96
НуареЛ. — 134
Ньютон И.—96, 121, 162, 177,191,
199,215
Овсянников М.Ф. — 42,48, 85,122,
303
Овчинников Н.Ф. — 94,95, 98, 104,
105, 250
Огборн Уильям Ф. — 186
Огурцов А.П. — 18,20, 21, 41, 43, 50,
80,94,86,98,105,143,251,301
Ознобкина Е. — 62, 286
Ойзерман Т.Н. — 4, 18, 42, 48, 56, 58,
67,79,80,81,85,89,309
Омельяновский М.Э. — 48, 85, 95,
103, 250
Оппенгеймер Р. — 144
Остен М. — 90
Остроухов П. — 167
Отто Р. — 108
342 •
Именной указатель
П
Павел I— 18
Павлов А.Т. — 80
Павлов Т. — 88
Пантин И.К. — 43
Панченко А. — 95
Парамонов А. — 275
ПаретоВ. — 144
ПарсонсТ. — 144, 171
Паскаль Б. — 191, 192,322
ПастерЛуи — 174, 183
Пастернак Б. — 79
Пастушный С. — 96
ПатнемХ. — 241
Паули В. — 105
Пахомов Б. — 98
ПельцД. — 185
Пеперзак А. — 85
Петри М. — 85
Петров М.К. — 4,49, 143, 155, 167,
203,204,213-218
Петровская Е. — 62
Петит Филипп — 233,234, 235, 238
Печенкин А. — 95,98, 123
Пиаже Ж. —81,111,113
Пископель А. — 47
Пирс 4.-111,226
ПланкМ. — 163,215
Платон — 78, 141,226,260
Платонов А. — 289
ПлеснерХ. — 150
Плеханов Г. — 145
Плимак Е.Г. — 18, 43, 304,308
Погосян В. — 89
Подгорецкий М. — 95
Подорога В.А. — 29, 62, 80, 255,
288-290, 292-297, 299, 300, 313
Покровский Н.Е. — 23
ПоланиМ. — 118,185,241
Половинкин С. — 82
Поляков А. — 43
Поппер К. —92, 103, 105, 1110, 111,
117,124,241,244
Попов П. — 77
Попов Ю. — 41
Попович М. — 49, 96,98
Похлебкин А. — 39
Прайс Д.С. — 158, 167, 183, 185, 192,
196, 197
Прокофьеве. — 21
Пружинин Б. — 98
Пруст М. — 276, 286, 289, 290
Пуанкаре А. — 111
Пустарнаков В.Ф. — 80,82
ПунтельЛ. — 89
Пустарнаков В.Ф. — 80, 82
Р
Рабинович В. — 48
Ракитов А. — 96,109,122
РамсейФ. — 106
Рассел Б. — 106, 107, 122, 226
Рашковский Е. — 23, 39
Ребане Я. — 49
РевзинИ.И. —96,122
РейхенбахГ. — 122
Раценгофер Г. — 144
Рид Т. —227
Рикёр П. —81,129,295,297
РиккертГ. — 133, 305
Рильке P.M. — 293
Ричардсон А. — 158
Роберте Дж. — 122
Родный И. — 98
Роднянская И. — 39, 82
РозенбергА. — 159
Розенвальд Ю. — 276
Розенталь М.М. — 85, 251
Розин В. — 96
Розов М. — 49, 53, 97, 98, 115, 119
Рорти Р. — 297
Росс-ЭшбиУ —81
Роуз Дж. — 232, 241, 242, 243, 244,
245
Роцинский С. — 82, 316, 323
Рубашкин В. — 95
Рубен П. — 89
Рубенис А. — 276
Рубин В. — 86
Именной указатель
343
Рубинштейн С.Л. — 4, 101, 251
Рузавин Г. — 98
Румянцев А. — 56, 58
Руссо Ж.-Ж. —133
Руткевич A.M. — 80, 313
Рыклин М. — 62, 293, 295, 299
Савицкий И. — 167
Сагатовский В. — 101
Садовский В. — 43,46,47, 65, 70, 81,
96,98,105,107,109,111,124,301,
303
СамнерВ. — 160
Сартон Дж. — 124
Сартр Ж.-П. — 42, 62, 80, 81, 253-
258, 260-268, 270, 272, 275, 305
СаттонФ.Х. — 113
Сачков Ю.В. — 95, 98, 308
Свасьян К.А. — 80
Свечников Т. — 250
Свидерский В. — 250
Сезанн П. — 293
Семенова С. — 82
Сен-Симон К.А. — 192
Семушкин A.B. — 80
Сербиненко В.В. — 80, 82
Серрюс Ш. — 44
Сила Д. — 194
Синеокая Ю.В. — 316
Ситковский Е.П. — 85
Слинин Я.А. — 80
Слотердайк П. — 152
СмартИ. — 241
Смирнов A.B. — 82, 313
Смирнов В.А. — 4, 49, 66, 77, 79, 96,
122
Смирнова Е. — 49, 96
Смирнова З.В. — 80, 82
Смола Г. — 185
Смородинский Я. — 95
Сократ — 260
Соколов В.В. — 42, 48, 77, 79, 80, 82,
85
Сокулер З.А. — 80
Соловьев B.C. — 39,61, 78,120, 232,
277, 278, 292, 313, 315, 316, 319,320,
321,322,324
Соловьев Э.Ю. — 8, 17, 21, 32, 46,
50, 71, 76, 77, 80, 83, 90 119, 171, 257,
258, 269, 270, 272-274, 277, 278, 281,
303,304,308,309,312
Соловьев Ю. — 95
Сорокин A.A. — 84, 85, 88
Сорокин Питирим— 167,168, 171
СоссюрФ. де— 134
Спеллман Дж. — 226
Спенсер Г. —133, 135,192
Спиноза Б. — 83,96,162, 166, 228
Спиркин А.Г. — 37, 38,40,41, 85,
251,252
Средний Д. — 48
СтадерК. — 185
Сталин И.В. — 11,14, 19, 30, 41, 267,
303, 304
Старостин Б. — 123
СтаркГ. — 49, 167
Стендаль — 305
Степанов Н. — 98
СтепанянцМ.Т. ■— 80, 82, 281, 307
Степин B.C. — 4, 7, 49, 54,61, 76, 93,
85,87,98,99, 101, 102, 103, 105, ПО,
115,117,122,123,211
Столович Л. — 49
СторерН. —166,177, 185
Стрельцова Г.Я. — 80
Строгович М. — 251
Субботин А.Л. — 40,44, 80
СутерлэндД. — 110
Сухов А.Д. — 80, 82
Сухотин А. — 122
Сыродеев А. — 281
Сычев Л. — 49
Тавризян Г.М. — 80,257
Тамм И. — 103
ТардГ. —134
Тарский А. — 44
Тахо-Годи A.A. — 78, 80
344 •
Именной указатель
Тевзадзе Г. — 49
Тейлор Ч. —89
Тейлор Э. —134
Теннисен М. — 85
Теплов Л. — 252
Тернер Р. — 193
Тимашев Н. — 167
Тимофеев Т. — 58
Тищенко Ю.Р. — 49. 167.215
Толстых В.И. — 61,307
Томас Д.С. — 186
Томильчик Л. — 95, 96, 98, 122
Торндайк Е. — 134,136
Тузова Т. — 276
ТулминС — 112. 124.241
Туманов В.А. — 41, 85
Турен А. — 60
Туровский М. — 47, 53, 96
Турсунов А. — 98
Тушлинг Б. — 89
Тюхтин B.C. — 98,251, 252
Ферарорти Ф. — 56, 60
Финн В. — 40, 63, 96
Фихте И.Г. — 7, 63, 230
ФлекЛ. — ИЗ
Флоренский П. — 39
Фок В.—103
Фоли Ричард — 227
Франк С. — 129,298, 323, 324
Франк Ф. — 105
Францев Ю.П. — 140
ФрейерГ. — 134
Фрейд 3. — 144,190, 199,289
Фридрих К.-Д. — 293
Фролов И.Т. — 4, 48, 67, 71, 95, 98,
99,105,303
Фролова Е.А. — 80, 82, 86, 281
Фромм Э. — 56, 59, 62
Фуко Ж.Б. —288,289
Фуллер С. — 179, 180, 219, 244
Фульда Г.Ф. — 85, 89
Уайтхед А. — 111
УемовА. — 109
Украинцев Б. — 68, 70, 79, 86, 306,
307, 309
УорфБ.Л. —ИЗ, 122
Уоткинс Дж. — 117
Уотсон Дж. — 136
Уткина Н.Ф. — 80, 82
Файн А. —241,242
ФайхингерГ. — 133
Фарадей —173, 192
Федоров В. — 98
Федосеев П.Н. — 34, 89
Федотова В.Г. — 123, 124
Фейерабенд П. — 111, 112,113,117,
120,124,241
Фейербах Л. — 53, 54, 55, 102, 133,
141
Фейнман Р. — 105
ХаббиДж. —196
Хабермас Ю. — 56, 59, 60, 62, 108,
129. 243, 269, 287, 295,297, 302, 310
ХагенсХ.— 193
Хайдеггер Йорг — 291
Хайдеггер М. — 45, 60, 129, 133 152,
260, 264, 278, 288, 289, 291-294, 322
ХайтунС.Д. —184
Харден Г. — 200
Хардинг С. — 222
ХенрихД. — 85,88, 89
ХессеМ. —223,241
Хёсле В. —130.269,300
Хинске Н. — 300
ХиршУ. —171
Хобсбаум Э. — 56
Хоружий С. — 39, 82
ХоруцЛ. — 143
Хорхгеймер В. — 134
Хэгстром У. — 158, 184,185,187,
193,195,216
ХэнсонМ. — 241
Именной указатель
Ц
ЦиглерЕ.— 134, 136
Цур-Штрассен О. — 134.
Ч
Чанышев А.Н. — 80
Чернов С.А. — 80
Чернышев Б.С. — 21,77
Черняев A.B. — 300
Черняк В. — 123, 124
Черткова Е. — 123, 124
ЧесноковД. — 41
ЧёрчА. —105, 122
Чичерин Б. — 313
Чубин Д. —185
Чудинов Э. — 95, 250
Ш
Шафф А. — 56, 57, 58
Шапере Д. —241,242,243
Швырев В. С. — 41, 43, 47, 71, 85,
96-98, 100, 101, 105-107, 121, 123,
124,269,270,272-274,303
Шелер Макс— 141, 143, 145, 147,
149-151,160, 169
Шеллинг Ф.В. — 7, 83, 86
Шелтинг А. фон— 145, 146, 147, 151,
169
Шестов Л. — 298, 323
Шестопал А. — 23
Шиллер Х.-Е. — 90
Шинкарук В. — 56, 85
ШликМ. —105
Шмит Фр. — 220, 222, 223, 226
Шопенгауэр А. — 133
Шостакович Д. — 21
Шохин В.К. —82,313
Шпаерман Р. — 85
ШпейерН. — 160
•345
Шпет Г. —23,29,87,91,313
Шредингер Э. — 163
Штайнер К. фон — 135
Штоф В. — 96
Шубин О. —216
Шулятиков В.М. — 130
ШютцА. —140, 150
Щ
Щедровицкий Г.П. — 4, 28, 47, 53, 96,
98,100,101,105,109,303
Щипанов И.Я. — 43
Э
Эйнштейн А. — 105, 163, 177, 208,
215
ЭлстонУ. — 221
Энгельгардт В. — 103
Энгельс Ф. — 31,42, 55, 57, 62, 63,
127, 132
ЭндрюсФ. — 185
ЭрлихП. — 173
Эсслер В. — 89
Ю
ЮдинБ.Г. —98, 109, 184
ЮдинП.Ф. — 21,22
Юдин Э.Г. — 4,41, 101, 109, 250
Юлина Н.С. — 80, 105,107, 111, 302,
307,312
Юм Д. — 96, 128, 141,226,227
Я
Ягодкин В. — 69, 79
Ядов В. — 46
Янг—174
Яновская С.А. — 40, 96, 107, 122
ЯсперсК.—45, 129,260,322
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Отечественная философия 50—80-х годов XX века
и литература о ней
Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон-Бахтин-Лотман-Гаспаров /РАН.
Ин-т философии, ИНИОН. М.: РОСПЭН, 2009.
Александрова Р.И. Нравственная философия и творческое наследие М.М. Бахтина.
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1995.
Алексеев П.В. Философы России начала XXI столетия: Биографии, идеи, труды: Эн-
цикл. словарь / МГУ им. М.В. Ломоносова. Филос. фак. М.: РОСПЭН, 2009.
Андреева И.С. Русская философия во второй половине XX в. (Некоторые итоги) / /
С. Полигнози. М., 2000. № 2.
Ань Цинянь. Взгляд китайского ученого на советскую философию / / Вопр.
философии. 2008. № 9.
Валентин Фердинандович Асмус / Под ред. В.А. Жучкова и И.И. Блауберг; Ин-т
философии РАН, Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого. М.: РОСПЭН, 2010.
Ахутин A.B. В стране Мамардашвили / / Вопр. философии. 1996. № 7.
Ахутин A.B. Все еще начинается... Памяти B.C. Библера: Антинекролог // Вопр.
философии. 2001. № 6.
Бажанов В.А. И. Лакатос и философия науки в СССР // Эпистемология и
философия науки. 2009. № 1.
Баранец Н.Г. Метаморфозы этоса российского философского сообщества в XX веке.
Ульяновск, 2008.
Баранец Н.Г. Центры философской жизни в 70-е годы в СССР / / Mundus intelligibilis:
Исслед. по истории философии, социал. философии и философии науки. Ульяновск, 2008.
Вып. 2.
Генрих Степанович Батищев / Ин-т философии РАН, Некоммерч. науч. фонд «Ин-т
развития им. Г.П. Щедровицкого»; Под ред. В.А. Лекторского. М.: РОСПЭН, 2009.
Батищев Г.С. Философская концепция человека и креативности в наследии С.Л.
Рубинштейна // Вопр. философии. 1989. № 4.
Михаил Михайлович Бахтин / Ин-т философии РАН, Некоммерч. науч. фонд «Ин-т
развития им. Г.П. Щедровицкого»; Под ред. В.Л. Махлина. М.: РОСПЭН, 2010.
Бахтин: pro et contra: Личность и творчество М.М. Бахтина в оценке русской и
мировой гуманит. мысли. Антология / Сев.-Зап. отд-ние Рос. акад. образования. РХГИ. СПб.:
Изд-во РХГИ, 2001.
Бахтин и время: IV Бахтин, науч. чтения, 20-21 нояб. 1997 г., г. Саранск. Саранск:
Красный Октябрь, 1998.
Бахтин и философская культура XX в.: Пробл. бахтинологии: Сб. науч. ст. / Отв.ред.
К.Г. Исупов. Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена и др. СПб., Образование, 1991. Вып. 1.
4.1,2.
М.М. Бахтин как философ: Сборник / С.С. Аверинцев, Ю.Н. Давыдов, В.Н. Турбин
и др.; Отв. ред. Л.А. Гоготишвили, П.С. Гуревич / РАН. Ин-т философии. М.: Наука, 1992.
Белов А.К. Российское философское общество сегодня: ряды множатся, а наука
деградирует: Критика тех, кто направляет развитие философии по ложному пути. М.: Спут-
ник+,2009.
Библер B.C. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. М.: Прогресс,
1991.
1 Составитель — научный сотрудник ИНИОН РАН Е.С. Муравлев.
Избранная библиография
•347
Владимир Соломонович Библер / Ин-т философии РАН, Ин-т развития им. Г.П. Щедро-
вицкого; Под ред. A.B. Ахутина, И.Е. Берлянд. М.: РОСПЭН, 2009.
БиневскийАЛ. Вехи русской философии советского периода / / Современная
философия в контексте межкультурных коммуникаций. Уссурийск, 2009.
Бирюков Б.В. Трудные времена философии: Отеч. логика, история и философия в
последние сталинские годы /Рус. ассоц. чтения. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 4.1: Борьба
вокруг логики: диалектической, формальной, математической; Ч. 2: Идеологические
кампании 1948-1950 годов. Логическое и психологическое. Богоборческая советская
философия. Проблемы русского национального сознания.
Бирюков Б.В. Трудные времена философии: Софья Александровна Яновская; Время.
События. Идеи. Личности. М.: ЛИБРОКОМ, 2010.
Бирюков Б.В. Трудные времена философии. Юрий Алексеевич Гастев: Филос. лог.
работы и «диссидентская» деятельность. М.: ЛИБРОКОМ, 2010.
Богатырева ЕЛ. М.М. Бахтин: этическая онтология и философия языка // Вопр.
философии. 1993. № 1.
Бонецкая И.К. Борьба за Логос в России в XX веке/ / Вопр. философии. 1998. № 7.
Бонецкая Н.К. Жизнь и философская идея Михаила Бахтина / / Вопр. философии.
1996. №10.
Борзенков ВТ., Корсаков С.Н. Гуманистический проект И.Т. Фролова / / Человек.
2009. № 4.
Бычков В.В. Эстетический космос А.Ф. Лосева // Начала. 1994. №2/3/4.
Бэкхерст Д. Культура, нормативность и жизнь разума // Вопр.философии. М.,
1999 . № 9. С. 159-177./ Э.Ильенков /
Бэкхерст Д. О живом и мертвом в философии Э.В. Ильенкова // Вопр. философии.
2001. №5.
Вересов H.H. Выготский, Ильенков, Мамардашвили: опыты теоретической
рефлексии и монизм в психологии / / Вопр. философии. 2000. № 12.
Верная Ж.П. Грузинский Сократ // Вопр. философии. 1992. № 5.
Волкова Е.В. Пространство символа и символ пространства в работах Ю.М. Лотма-
на // Вопр. философии. 2002. № 11.
Волкова Е.В., Богатырева ЕЛ. В большом времени культуры: М.М. Бахтин //
Вестн. МГУ. Сер. 7. Философия. 1991. № 1.
Воронина Н.Ю. Проблема онтологических оснований во взглядах Э.В. Ильенкова и
М.К. Мамардашвили // Русская философия : многообразие в единстве. М., 2001.
Воспоминания и дискуссии о Юрии Александровиче Леваде / Сост. Т.В. Левада. М.:
Изд. Е.В. Карпов, 2010.
Воспоминания об Араб-Оглы Эдварде Артуровиче. Он был частью нашей эпохи...
Избранное / РАГС; Отв. ред. Л.Н. Москвичев. М.: Изд-во РАГС, 2003.
Встреча с Декартом: Филос. чтения, посвящ. М.К. Мамардашвили, 1994 г. /
Соредакторы: В.А. Кругликов, Ю.П. Сенокосов. M.: Ad Marginem, 1996.
Гоготишвили Л.А. Варианты и инварианты М.М. Бахтина // Вопр. философии.
1992. №1.
Арсений Гулыга. Памяти философа: Сб. науч. трудов / РАН. ИНИОН; Отв. ред.
И.С. Андреева. М.: ИНИОН, 2007.
Гуревич П.С. Муки диалога: К 100-летию со дня рождения М.М. Бахтина / / Филос.
науки. 1994. №4/5/6.
Гусейнов A.A., Лекторский В.А. Гуманизм как жизненная стратегия: К 80-летию со
дня рождения акад. И.Т. Фролова / / Вестн. РАН. 2009. Т. 79. № 8.
Гусейнов A.A. Н.В. Мотрошилова и философы-шестидесятники // Мотрошило-
ва Н.В. Работы разных лет. М.: Феноменология-Герменевтика, 2005.
Гусейнов A.A. Учение о житии Александра Зиновьева // Вопр. философии. 2007.
№7.
Гусейнов Г Личность мистическая и академическая: А.Ф. Лосев о «личности» //
Персональность: Язык философии в русско-немецком диалоге. М.: Модест Колеров, 2007.
ДеборинА.М. Воспоминания акад. A.M. Деборина (Публ. С.Н. Корсакова) // Вопр.
философии. 2009. № 2.
348 * Избранная библиография
День памяти А.Ф. Лосева: К 20-летию кончины. Торжественное заседание 24 мая
2008 г. / / Бюллетень библиотеки истории русской философии и культуры «Дом Лосева».
М., 2009. Вып. 8.
Длугач Т.Б. B.C. Библер как феномен философской культуры XX в. // Вопр.
философии. 2010. № 9.
Доброхотов A.J1. А.Ф. Лосев — философ культуры / / Доброхотов А.Л. Избранное.
М.: Территория будущего, 2008.
Доброхотов A.J1. Традиция бессмертия: Мамардашвили как философ культуры //
Доброхотов А.Л. Избранное. М.: Территория будущего, 2008.
Долинский В.А. Невольник свободы: О жизни и творчестве В.В. Налимова / /
Общественные науки и современность. 1997. № 6.
Драгалина-Черная Е.Г Логика и онтология в формулировании философии
В.А. Смирнова / / Вопр. философии. 2009. № 3.
Драма советской философии: Э.В. Ильенков (Книга-Диалог) / РАН. Ин-т
философии; Сост. и ред. В.И. Толстых. М., 1997.
Евлампиев И.И. Немарксистская философия в СССР: М. Бахтин, М.
Мамардашвили // Евлампиев И.И. История русской философии. М.: Высш. шк., 2002.
Елисеев Н. Мыслящие вслух: Гефтер, Померанц, Мамардашвили, Лосев // Знамя.
1993. №2.
Емельянов Б.В. Русская философия в портретах. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та,
2010.
Александр Александрович Зиновьев / Ин-т философии РАН, Некоммерч. науч. фонд
«Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого»; Под ред. A.A. Гусейнова. М.: РОСПЭН, 2008.
Александр Зиновьев — мыслитель и человек: (Материалы «круглого стола»).
Участвовали: В.А. Лекторский, Э. Неизвестный, A.A. Гусейнов и др. / / Вопр. философии. 2007.
№4.
Зинченко В.И. Опыт думания о думаний: К восьмидесятилетию В.В. Давыдова
(1930-1998) // Вопр. философии. 2010. №11.
Зинченко В.П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началам
органической психологии. М.: Новая шк., 1997.
Зись А.Я. У истоков журнала «Вопросы философии» // Вопр. философии. 1997.
№7.
Золоту хина-Аболина Е.В. Философский универсум В.В. Налимова // Человек.
2006. № 6.
Иванов O.E. Феномен Мамардашвили / / Начало. 2002. № 9.
Эвальд Васильевич Ильенков / Ин-т философии РАН, Некоммерч. науч. фонд «Ин-т
развития им. Г.П. Щедровицкого»; Под ред. В.И. Толстых. М.: РОСПЭН, 2008.
Ильенковские чтения: (1997. Москва). Тез. выступлений. М.: Мир кн., 1997.
Исаев A.A. Онтология мысли: введение в философию М.К. Мамардашвили / Сургут,
гос. ун-т. Каф. философии. Сургут, 1999.
История отечественной этической мысли: современное состояние, исторический
опыт, новые ориентиры: (Первые Хайкинские чтения) Материалы Всерос. науч. конф.,
21 нояб. 2008 / Тамбов, гос. ун-т им. Г.Р. Державина; Отв. ред. Н.В. Медведев, Н.М.
Аверин. Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009.
К 85-летию Э.В. Ильенкова [Статьи Л.К. Науменко, Т.В. Лобастова, A.A. Сорокина,
Э.В. Ильенкова] / / Вопр. философии. 2009. № 6.
Как это было: Воспоминания и размышления / Ин-т философии РАН, Некоммерч.
науч. фонд «Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого»; Под ред. В.А. Лекторского. М.:
РОСПЭН, 2010.
Каменский З.А. История философии как наука в России XIX-XX вв. М., 2001.
Каменский З.А. Утраченные иллюзии: (Воспоминания о начале издания «Вопросов
философии») // Вопр. философии. 1997. № 7.
Касьян A.A. Философский фронт // Идеология и наука. Дискуссии советских
ученых середины XX века. М.: Прогресс-Традиция, 2008.
Квашнина СП. Онтология текста Мамардашвили / / Философия и социальная
динамика XXI века: проблемы и перспективы. Омск, 2008. Ч. 2.
Избранная библиография
•349
Бонифатий Михайлович Кедров / Ин-т философии РАН, Ин-т развития им. Г.П.
Щедровицкого; Под ред. В.А. Лекторского. М.: РОСПЭН, 2010.
Келле В.Ж. Социально-нравственное направление в творчестве И.Т. Фролова //
Вопр. философии. 2009. № 8.
Владислав Жанович Келле: (От редакции) // Личность. Культура. Общество. М.,
2010. Вып. 3.
Ким Су Кван. Бахтин и Лотман: («Время» и «Пространство» в трудах Бахтина и Лот-
мана) / / Невельский сб. СПб., 2001. Вып. 6.
Ковалев В.И. Гнозис Лосева и путь к метазнанию / / Вопр. классич. филологии. М.,
1996. Вып. И.
Конгениальность мысли: О философе М. Мамардашвили: Филос. чтения, посвящ.
М.К. Мамардашвили, 1992 / Ред.-сост. В.А. Кругликов. 2-е изд. М.: Прогресс, 1999.
Конев В.А. Критика опыта сознания: (Самар. семинары по трактату М.К.
Мамардашвили и A.M. Пятигорского «Символ и сознание») / Самар. гос. ун-т. Каф. философии гума-
нит. фак. Самара: Самар. ун-т, 2008.
Корсаков С.Н. Акад. И.Т. Фролов и развитие биоэтики в России / / Человек. 2008.
№3.
Корсаков С.Н. Идеи комплексного подхода, единой науки о человеке и научного
гуманизма в трудах И.Т. Фролова // Вопр. философии. 2007. № 8.
Корсаков С.Н. Иван Тимофеевич Фролов, 1929-1999: Загадка жизни и тайна челове-
: поиски и заблуждения / Отв. ред. B.C. Степин; РАН. М.: Наука, 2006.
Корчажкина ОМ. Диалектика познания и обучения мышлению: размышляя вместе
с Ильенковым // Вопр. философии. 2008. №11.
КосичевА.Д. Философия, время, люди. Воспоминания и размышления декана филос.
фак. МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007.
Костерина А.Б. Метафизика «при свете совести» / / Философская и социальная
динамика XXI века: проблемы и перспективы. Омск, 2008. Ч. 2.
Кругликов В.А. Незаметные очевидности: Зарисовки к онтологии слова / РАН, Ин-т
философии. М., 2000.
Кузнецова Н.И., Ойзерман Т.И. Кастальский ключ Георгия Щедровицкого / / Вопр.
философии. 2009. № 2.
Кузнецова Н.И., трейдер Ю.А. Российская философия второй половины XX в. в
лицах // Вопр. философии. 1999. № 2.
Лекторский В.А. О философии России второй половины XX в. / / Вопр. философии.
2009. № 7.
Лекторский В.А. О философском значении работ Василия Васильевича
Давыдова// Вопр. философии. 2005. № 9.
Михаил Александрович Лифшиц / Ин-т философии РАН, Некоммерч. науч. фонд
«Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого»; Под ред. В.Г. Арсланова. М.: РОСПЭН, 2010.
Лобастое Т.В. Философия Э.В. Ильенкова // Вопр. философии. 2000. № 2.
Алексей Федорович Лосев: Из творч. наследия. Современники о мыслителе / Под-
гот.: A.A. Тахо-Годи, В.П. Троицкий. М.: Рус. мЕръ, 2007.
Алексей Федорович Лосев / Под ред. A.A. Тахо-Годи и Е.А. Тахо-Годи. М.: РОСПЭН,
2009.
А.Ф. Лосев и культура XX в.: Лосевские чтения / Сост. Ю.Ф. Панасенко; Редкол.:
A.A. Тахо-Годи (отв. ред.); АН СССР. Науч. совет по истории мировой культуры. Комис. по
антич. культуре. М.: Наука, 1991.
Юрий Михайлович Лотман / Ин-т философии РАН, Некоммерч. научн. фонд «Ин-т
развития им. Г.П. Щедровицкого»; Под ред. В.К. Кантора. М.: РОСПЭН, 2009.
Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа: Сборник / Сост. А.Д. Ко-
шелев. М.: Гнозис, 1994.
Лотмановский сборник / Тарт. ун-т. Каф. рус. лит. Каф. семиотики; Ред. совет:
М.Л. Гаспаров и др. М.: ИЦ-Гарант, 1995.
Майданский А.Д. История и общественные идеалы (Э. Ильенков) // Вопр.
философии. 2010. №2.
350 * Избранная библиография
Малахов В А. Парадигма общения в философском творчестве Г.С. Батищева //
Вопр. философии. 2008. № Ю.
Малахов В А., Чайка ТА. Рыцарь устремленности: О Г. Батищеве и его книге //
Вопр. философии. 1999. № 4.
Мераб Константинович Мамардашвили / Ин-т философии РАН, Некоммерч. науч.
фонд «Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого»; Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М.: РОСПЭН,
2009.
Мамчур ЕА., Овчинников Н.Ф., Огурцов А.П. Отечественная философия науки:
предварительные итоги. М.: РОСПЭН, 1997.
Мареев С. Встреча с философом Э. Ильенковым. М., 1997.
Мареев С.Н. Из истории советской философии: Лукач-Выготский-Ильенков. М.:
Культ, революция, 2008.
Мареев С.Н. От Канта и Кассирера к Ильенкову: Проблема идеальности
человеческих чувств / / Вопр. философии. 2009. № 9.
Мареева Е.В. О расколе среди ильенковцев / / Вопр. философии. 2010. № 2.
Маркова Л А. Нетождественное мысли бытие в философской логике: (B.C. Библер и
Ж. Делез) // Вопр. философии. 2001. № 6.
Микешина Л.А. Значение идей Бахтина для современной эпистемологии //
Философия науки. М., 1999. Вып. 5.
Миронов В.В. Наш Александр Зиновьев // Вестн. Моск. ун-та. Сер.7. Философия.
2008. № 5.
Митрохин Л.H. О феномене A.A. Зиновьева // Вопр. философии. 2007. № 4.
Михайлов А. Терминологическое исследование А.Ф. Лосева // Михайлов А.
Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. СПб.: Изд-во РХГА, 2006.
Мостинская А.Ю. Масштаб личности / B.C. Степин // Вопр. философии. 2009.
№9.
Мотрошилова Н.В. Мераб Мамардашвили: философские размышления и
личностный опыт / Ин-т философии РАН. М.: Канон +, 2007.
Мотрошилова Н.В. Цивилизация и феноменология как центральные темы
философии М. Мамардашвили // Филос. исследования. 1993. № 1.
«Мысль изреченная... : Сб. науч. статей / Под ред. В.А. Кругликова. М.: Изд-во Рос.
открытого ун-та, 1991.
На досках: Публичные лекции по философии Г.П. Щедровицкого. М.: Шк. культурн.
политики, 2004.
На пути к неклассической эпистемологии / РАН. Ин-т философии; Отв. ред.
В.А. Лекторский. М.: ИФ РАН, 2009.
Наука. Общество.Человек: К 75-летию со дня рождения И.Т. Фролова / РАН. Ин-т
человека; Отв. ред. B.C. Степин. М.: Наука, 2004.
Науменко Л.К. Эвальд Ильенков и мировая философия / / Вопр. философии. 2005.
№5.
Наш философский дом: К 80-летию Института философии РАН / Под ред. A.A.
Гусейнова и др. М.: Прогресс-Традиция, 2009.
Неретина С.С. Философские одиночества. М.: ИФ РАН, 2008.
Неретина С.С. Социокод философии: (О филос. работах М.К. Петрова) // Вопр.
философии. 2008. № 10.
О прошлом и настоящем: (Беседа Л.Н. Митрохина и В.А. Лекторского) // Вопр.
философии. 2002. N° 9.
Ойзерман Т.Н. Советская философия в середине 40—начале 50-х годов: Филос. фак.
МГУ / / Человек. 2007. N° 2, 3.
Отечественная философия: Опыт, проблемы, ориентиры, исследования / Редкол.:
А.И. Володин и др.; Акад. обществ, наук при ЦК КПСС. Каф. философии. М., 1991. Вып. 4:
Философия в тисках политики; Вып. 6: Изживая «ждановщину».
Отечественное философское наследие и современность: Идеи, проблемы, люди:
Материалы Володинских чтений. М., 2009.
Памяти философа / М.К. Мамардашвили // Вопр. философии. 1991. № 5.
Избранная библиография
•351
Парамонов Б. След: Философия. История. Современность. М.: Независимая газ.,
2001.
Михаил Константинович Петров / Под. ред. С.С. Неретиной; Ин-т философии РАН.
Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого. М.: РОСПЭН, 2010.
Петров-Стромский В. Идеи М.М. Бахтина в гуманитарной парадигме культуры / /
Вопр. философии. 2006. № 12.
Пешков И.В. М.М. Бахтин: От философии поступка к риторике поступка. М.:
Лабиринт, 1996.
Плимак Е.Г С фронтов Отечественной на фронт философский: (Из
воспоминаний) // Вопр. философии. 2000. № 2.
Подорога В.А. Проект и опыт: (Г. Щедровицкий и М. Мамардашвили:
Сравнительный анализ стилей мышления ) / / Познающее мышление и социальное действие:
(Наследие Г.П. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой филос. мысли). М., 2004.
Попович М.В. П.В. Копнин: Страницы философской биографии / / Вопр.
философии. 1997. №3.
Порус В.Н. Феномен «советской философии» // Порус В.Н. У края культуры. М.:
Канон +, РООИ «Реабилитация», 2008.
Посвящается Льву Николаевичу Митрохину: (Материалы заседания). Участвовали:
B.C. Степин, М.П. Мчедлов, В.А. Лекторский и др. // Вопр. философии. 2005. № 10.
Прат Н. Лосев и тоталитаризм / / Вопр. философии. 2001. № 5.
Произведенное и названное: Философские чтения, посвящ. М.К. Мамардашвили,
1995 г. / Соредакторы: В.А. Кругликов, Ю.П. Сенокосов. М., 1998.
Пущаев Ю.В. Диалектическая логика и философия Мераба Мамардашвили //
Вопр. философии. 2005. № 12.
Рашковский Е.Б. Лосев и Соловьев // Вопр. философии. 1992. № 4.
Рожанский М.Я. Между настоящим и реальностью: оптика советского
идеализма // Человек. 2010. № 5.
Розин В. Личность и вклад в науку Александра Зиновьева / / Розин В.М. Мышление
и творчество. М.: ПЕР СЭ, 2006.
Розин В. Становление и творческий путь Г.П. Щедровицкого / / Розин В.М.
Мышление и творчество. М.: ПЕР СЭ, 2006.
Розин В. Читая и обдумывая Мераба Мамардашвили / / Розин В.М. Мышление и
творчество. М.: ПЕР СЭ, 2006.
Российская философия продолжается: Из XX века в XXI / Ин-т философии РАН,
Некоммерч. науч. фонд «Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого»; Под ред. Б.И. Пружинина.
М.: РОСПЭН, 2010.
Сергей Леонидович Рубинштейн / Ин-т философии РАН, Некоммерч. науч. фонд
«Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого»; Под ред. К.А. Абульхановой. М.: РОСПЭН, 2010.
Русская философия во второй половине XX в.: Сб. обзоров и реф. / РАН. ИНИОН.
Центр гуманит. науч. информ. исслед. Отд. философии. М.: ИНИОН, 1999-2000. Ч. 1 /
Сост. И.С. Выхристюк-Андреева; Отв. ред. А.И. Панченко; Ч. 3 /Сост. И.С. Андреева; Отв.
ред. А.И. Панченко.
Свидерски Э. От «социального субъекта» к «личности»: неудавшаяся смена
парадигмы в советской философии / / Персональность: Язык философии в русско-немецком
диалоге. М.: Модест Колеров, 2007.
Седакова O.A. Апология разума / МГУ им. М.В. Ломоносова; Моск. гос. индустр.
ун-т. М., 2009.
Семенов B.C. Судьбы философии в сегодняшней России. М.: ЛИБРОКОМ, 2011.
Сенокосов Ю.П. Мераб Мамардашвили: вехи творчества // Вопр. философии.
2000. № 12.
Серегина Т.В. Творческий путь выдающегося русского философа М.М. Бахтина //
Философские традиции Орловщины. Орел: Изд-во Орлов, гос. ун-та, 2007.
Скворцова А.И., Скворцов В.Я. М.М. Бахтин: Образ мыслей — образ жизни //
Вестн. Волгогр. ун-та. Сер. 2. Филология. Волгоград, 1997. Вып. 2.
СкенленД.П. А.Ф. Лосев и мистицизм в русской философии // Вопр. классич.
филологии. М., 1996. Вып. 11.
352 * Избранная библиография
Владимир Александрович Смирнов / Ин-т философии РАН, Некоммер. науч. фонд.
«Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого»; Под ред. В.Л. Васюкова. М.: РОСПЭН, 2010.
Смирнова А.И. Русская натурфилософская проза второй половины XX века: Учеб.
пособие. М.: Флинта; Наука, 2009.
Соколов В.В. В.Ф. Асмус и драматические моменты его философского творчества и
философской жизни // Вопр. философии. 2009. № 2.
Соболева М.Е. Карнавал деконструкции: бахтинская концепция диалогического
разума // Вопр. философии. 2009. № 1.
Соколов В.В. Ответы (и комментарии) В.В. Соколова на вопросы журнала «Вопросы
философии» // Вопр. философии. 2009. №11.
Соловьев Э.Ю. Экзистенциальная сотериология Мераба Мамардашвили / /
Историко-философский ежегодник, 1998. М.: Наука, 2000.
Сорокин A.A. Идеальное, творчество и развитие человека / Э. Ильенков // Вопр.
философии. 2009. № 6.
Социальная философия Александра Зиновьева // Вопр. философии. 1992. №11.
Спектор Д. Обреченность предстоящим: (Читая М.М. Бахтина) // Филос.
исследования. 1995. №3.
Степан B.C. Российская философия сегодня: проблемы настоящего и оценка
прошлого // Вопр. философии. 1997. № 5.
Субъект, объект, деятельность: К 70-летию В.А. Лекторского / Редкол.: И.Т. Касавин
(отв. ред.) и др. М.: Канон +, 2002.
Сущность и слово: Сб. науч. ст. к юбилею проф. Н.В. Мотрошиловой / Сост. М.А. Со-
лоповой, М.Ф. Быковой. М.: Феноменология-Герменевтика, 2009.
Табаков В.И. К оценке «диаматической советской философии» // Новые идеи в
философии. Пермь, 2009. Вып. 18.
Тахо-Годи ЕЛ. А.Ф. Лосев и зарубежная литература / / Культура в зеркале языка и
литературы: Материалы междунар. науч. конф., 15-16 апр. 2008. Тамбов, 2008.
Тахо-Годи А. Лосев. М.: Мол. гвардия, 2007.
Тахо-Годи A.A., Тахо-Годи Е.А., Троицкий В.П. А.Ф. Лосев — философ и писатель:
К 110-летию со дня рождения / РАН. Науч. совет «История мировой культуры». М.: Наука,
2003.
Теоретик и практик системного мышления: К 80-летию Авенира Ивановича Уёмо-
ва // Труды членов РФО. М., 2008. Вып. 15.
Троицкий В.П. Разыскания о жизни и творчестве А.Ф. Лосева. М.: Аграф, 2007.
Урицкий В.М. «Предназначение человека...»: (Проблемы мысли и сознания в
философии М.К. Мамардашвили) // Вече. СПб., 1997. Вып. 9.
Философия в СССР: версии и реалии: Выступили: А.И. Володин, В.Ф. Пустарнаков,
З.А. Каменский и др. / Подгот. СБ. Роцинский // Вопр. философии. 1997. №11.
Философия и история философии: К 90-летию акад. Т.И. Ойзермана / РАН. Ин-т
философии. М.: Канон +, 2004.
Философия и этика: Сб. науч. тр.: К 70-летию акад. A.A. Гусейнова / РАН. Ин-т
философии; Отв. ред. и сост. Р.Г. Апресян. М.: Альфа М., 2009.
Философия М.М. Бахтина и этика современного мира: Сб. науч. ст. / Редкол.:
Р.И. Александрова (отв. ред.) и др. Саранск: Изд-во Морд, ун-та, 1992.
Философия, наука, культура: «Вопросам философии» 60 лет / Под ред. В.А.
Лекторского. М.: Вече, 2008.
Философия, наука, цивилизация: К 65-летию со дня рождения B.C. Степина / Отв.
ред. В.В. Казютинский. М.: Эдиториал УРСС, 1999.
Философия. Наука. Цивилизация: К 70-летию акад. B.C. Степина / РАН. Ин-т
философии; Отв. ред. и сост. И.Т. Касавин. М.: Канон +, 2004.
Философия не кончается... Из истории отечеств, философии. XX век: В 2 кн. / Под
ред. В.А. Лекторского. М.: РОСПЭН, 1998. Кн. 1: 1920-50-е годы; Кн. 2: 1960-80-е годы.
Философия, психология и педагогика Ф.Т. Михайлова: Публикация архив,
материалов / Сост., предисл. Л.К. Арсенкина, A.A. Воронина. М.: Индрик, 2009.
Философия сознания: классика и современность: Вторые Грязновские чтения /
Редкол.: В.В. Миронов, В.В. Васильев, В.И. Маркин и др. М.: Савин, 2007.
Избранная библиография
•353
Философское сообщество в России: проблемы исследования. Вып. 2 / Под ред.
Н.Г. Баранец. Ульяновск: Вектор-С, 2008.
Философы XX века: B.C. Степин: Материалы междунар. науч. конференции. Минск,
2004.
Философы XX века: Мераб Мамардашвили: Материалы респ. чтений-3. Минск:
Метод, изд. центр РИВЖ БГУ, 2000.
Академик Иван Тимофеевич Фролов: Очерки. Воспоминания. Материалы / Отв. ред.
B.C. Степин. М.: Наука, 2001.
Иван Тимофеевич Фролов / Ин-т философии РАН, Некоммерч. науч. фонд «Ин-т
развития им. Г.П. Щедровицкого»; Под ред. В.А. Лекторского. М.: РОСПЭН, 2010.
Цзя Цзэлинь. Изучение русской и советской философии в Китае // Воцр.
философии. 2007 № 5.
Чаадаев и Мамардашвили: перекличка голосов, проблем и перспектив. Пермь: Перм.
гос. техн. ун-т, 2000.
Чаплевич Э. Лосев, или титанизм XX в. // Вопр. классич. филологии. М., 1996.
Вып. 11.
Человек-наука-гуманизм: К 80-летию со дня рождения акад. И.Т. Фролова / Отв.
ред. A.A. Гусейнов; Ред. сост. Г.Л. Белкина. М.: Наука, 2009.
Человек. Наука. Цивилизация. К 70-летию акад. B.C. Степина / РАН. Ин-т
философии; Отв. ред. И.Т. Касавин. М.: Канон +, 2004.
Чикин Б.Н. Русская философия и современность / М-во внутр. дел РФ. Моск. ун-т.
М.,2006.
Чтения памяти Г.П. Щедровицкого. 2002-2003 гг.; Докл. и дискуссии / Отв. ред.
В.В. Никитаев. М., 2004.
Чтения памяти М.Б. Туровского // Филос. науки. 2001. № 2, 3.
Шевченко В.Н. К оценке философской мысли советского периода и перспективах
развития отечественной философии / / Первый российский философский конгресс
«Человек-Философия-Гуманизм». СПб., 1998. Т. 9.
Шевченко А.К. Проблема сознания в работах М.К. Мамардашвили: (От марксизма к
христианской философии) // Филос. и социол. мысль. 1991. № 8.
Георгий Петрович Щедровицкий / Ин-т философии РАН, Некоммерч. науч. фонд
«Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого»; Под ред. П.Г. Щедровицкого, В.Л. Даниловой. М.:
РОСПЭН, 2010.
Щукин ВТ. Дух карнавала и дух просвещения / / Вопр. философии. 2008. №11.
Этика: Новые старые проблемы: К 60-летию A.A. Гусейнова. М., 1999.
Эрик Григорьевич Юдин / Ин-т философии РАН, Некоммерч. науч. фонд «Ин-т
развития им. Г.П. Щедровицкого»; Под ред. Б.Г Юдина. М.: РОСПЭН, 2010.
23 Н. В. Мотрошилова
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение: цели, рамки и методы исследования 3
Раздел I
Отечественная философия 50—60-х годов XX в.
Глава первая
50-е годы: противоречивый социально-политический,
идейный и духовный контекст развития философии 14
Смена поколений и философия 25
Глава вторая
Официальные и неортодоксальные сообщества в философии 29
Философское исследование — против официальной идеологии 30
Глава третья
Отечественная философия в 60-х годах 34
Case study: «Философская энциклопедия» 34
Зарождение исследовательских центров и становление
научных школ 47
Глава четвертая
Новый образ Маркса в отечественной философии 50-70-х годов 52
Case study: Международная конференция о Марксе
(Париж, май 1968 года) 56
Обновление диалектического материализма 62
Раздел II
Отечественная философия 70-х — первой половины 80-х годов
XX века и западная мысль
Глава первая
Социальный контекст и противоречия развития отечественной
философии в 70-х годах XX века 65
«Семидесятники» 72
Глава вторая
Отечественная история философии в 70-80-х годах XX века 76
Case study: Международный гегелевский конгресс в Москве (26 —
31 августа 1974 года) 84
Оглавление • 373
Глава третья
Отечественная философия науки в 50—80-х годах XX века и
зарубежная мысль 93
Проблемно-теоретическая структура отечественной
философии науки и исторический путь ее формирования 95
Теоретические источники отечественной философии науки 100
Теория деятельности 100
Философия естествознания 103
Неопозитивистская традиция 105
Философия языка 108
Системно-структурные исследования 109
Критическое осмысление западной постпозитивистской философии
науки в отечественной мысли 112
«Структура научных революций» Т. Куна
как историко-научный и социальный феномен (case study) 114
Выводы 123
РАЗДЕЛ III
Отечественные и зарубежные исследования социальной
природы познания: параллели и пересечения
Глава первая
Основные традиции и новые разработки 126
Case study: книга K.P. Мегрелидзе «Основные проблемы социологии
мышления» 131
Глава вторая
Социология знания (познания) и отечественные исследования
социальной природы познания 138
Глава третья
Западная социология науки, ее критическое освоение в отечественной
мысли (50—80 годы XX века) и современные оценки 153
Постановка вопроса 153
Современные оценки вклада Р.Мертона
в развитие социологии науки 155
Исторический опыт, теоретическое содержание и эмпирические
исследования западной социологии науки 158
Идеи Мертона и его школы в 50-70-х годах
и отечественная мысль 172
Концепция анти-норм науки и их отношение
к мертоновской социологии науки 179
Глава четвертая
Конкретные исследования западной социологии науки и отечественная
мысль 183
374 •
Оглавление
Постановка проблемы; вклад отечественной мысли 183
Проблемы приоритета и множественности открытий 186
Исследования Р. Мертона конца 60-х и 70-х годов.
Проблема возраста и статуса ученых 192
Исследования «эффекта Матфея» и дискуссии вокруг них 193
К проблеме интеллектуальной собственности в науке 198
Мертоновские парадигмы перед лицом нерешенных задач и
современных вызовов 209
Историческая потребность в «неклассической» социологии науки... 210
Case study: M.К. Петров как социолог науки 213
Глава пятая
«Социальная эпистемология»:
новые проблемы, дискуссии и дихотомии 219
Предмет и задачи социальной эпистемологии 219
Дихотомии социальной эпистемологии.
Дихотомия «индивидуального» и «социального» 225
Дихотомия «индивидуального» и «группового» знания
и познания 233
Теория «согласуемых (агрегированных) суждений»
(Кристиан Лист) 236
Между постпозитивистской философией науки
и социально-историческим подходом к знанию и познанию
(идеи Дж. Роуза) 241
РАЗДЕЛ IV
Были ли новые тенденции в послевоенной отечественной
философии замечены на Западе?
Case study: книга французского автора Б. Же
«Советская философия и Запад» 246
«Философия как наука и как идеология» 249
РАЗДЕЛ V
Штрихи к историко-философским портретам
отечественных философов
Мераб Мамардашвили 253
Мераб Мамардашвили и Ж.-П. Сартр 253
О диалоге Мераба Мамардашвили с Жаном-Полем Сартром 253
Мамардашвили об экзистенциализме: на примере Ж.-П. Сартра 254
Социально-историческая обусловленность и суть
экзистенциализма 255
Оглавление • 375
Сартр и Мамардашвили о «материальности», об объективных
социальных отношениях 261
Личностные коллизии, структуры и объективированные
бытийные формы (из опыта 50-х — 60-х гг. XIX века) 266
«Тройственная статья», её значение и акценты 269
Интервью с А. Парамоновым о Мерабе Мамардашвили 275
Валерий Подорога 288
«Метафизика ландшафта против ландшафта метафизики?»
К 60-летнему юбилею В. Подороги 288
Интервью 300
Об одной из духовных традиций современной России 314
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 325
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 335
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 346
ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВОВ Н. МОТРОШИЛОВОЙ,
ЕЁ КОЛЛЕГ И ДРУЗЕЙ 354
ОГЛАВЛЕНИЕ 372
Научное издание
Мотрошилова Нелли Васильевна
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ 50-80-х ГОДОВ
XX ВЕКА И ЗАПАДНАЯ МЫСЛЬ
междисциплинарный поиск
в свете социологии философского познания
Компьютерная верстка
Н.В. Ефимова
Корректор
Е.Л. Тюрин
ООО «Академический Проект»
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU. АЕ51. H 15031 от 17.01.2011.
Орган по сертификации РОСС RU.0001.11AE51
ООО «ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ»
По вопросам приобретения книги
просим обращаться в ООО «Трикста»:
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.
Тел.: (495) 305 3702; 305 6092; факс: 305 6088
E-mail: info@aprogect.ru
Интернет-магазин: www.aprogect.ru
Подписано в печать 01.03.12.
Формат 60 х 90/16. Гарнитура Mysl. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,5. Тираж 1000 экз.
Заказ № 2394.
Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru, e-mail: order@gipp.kirov.ru