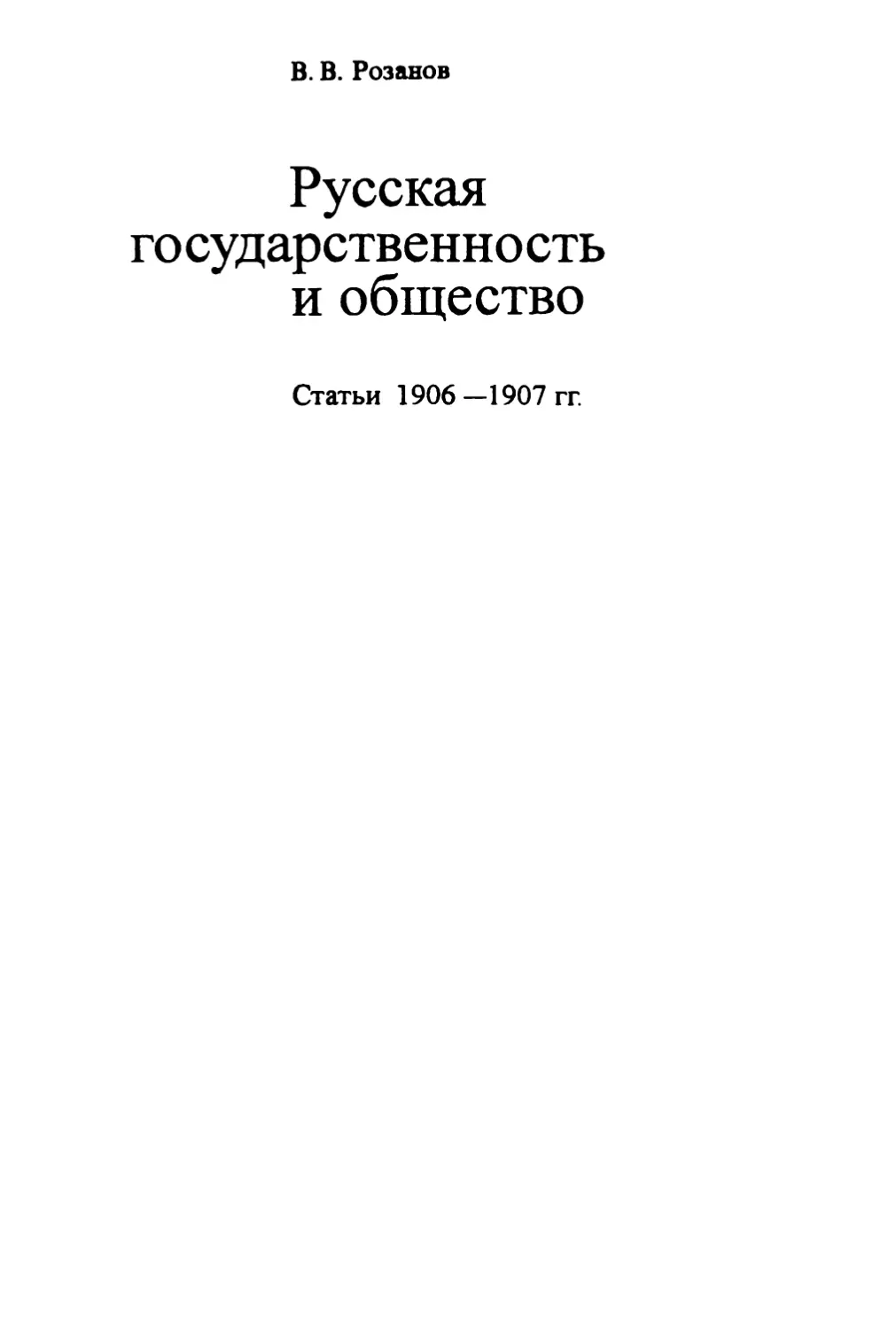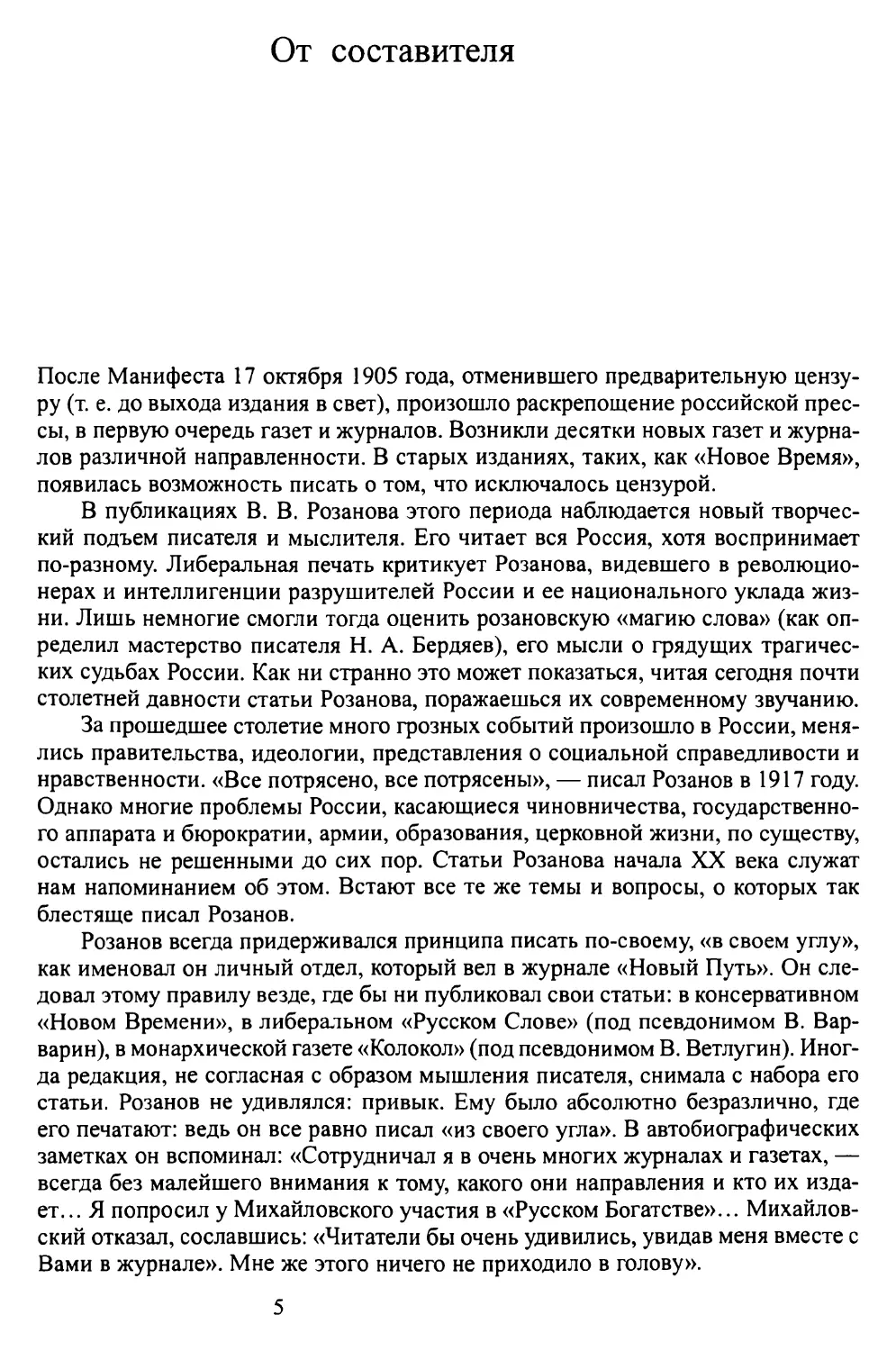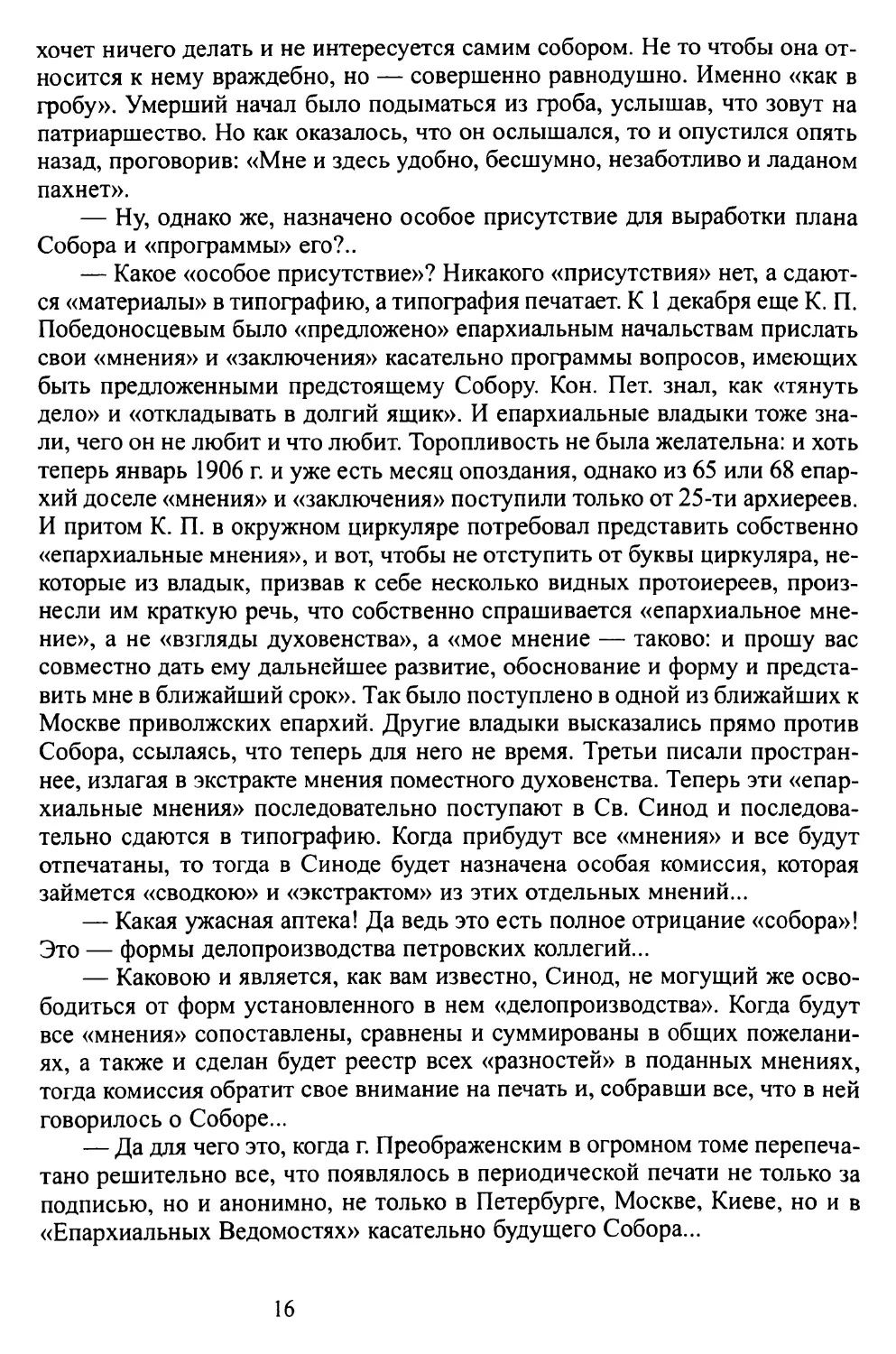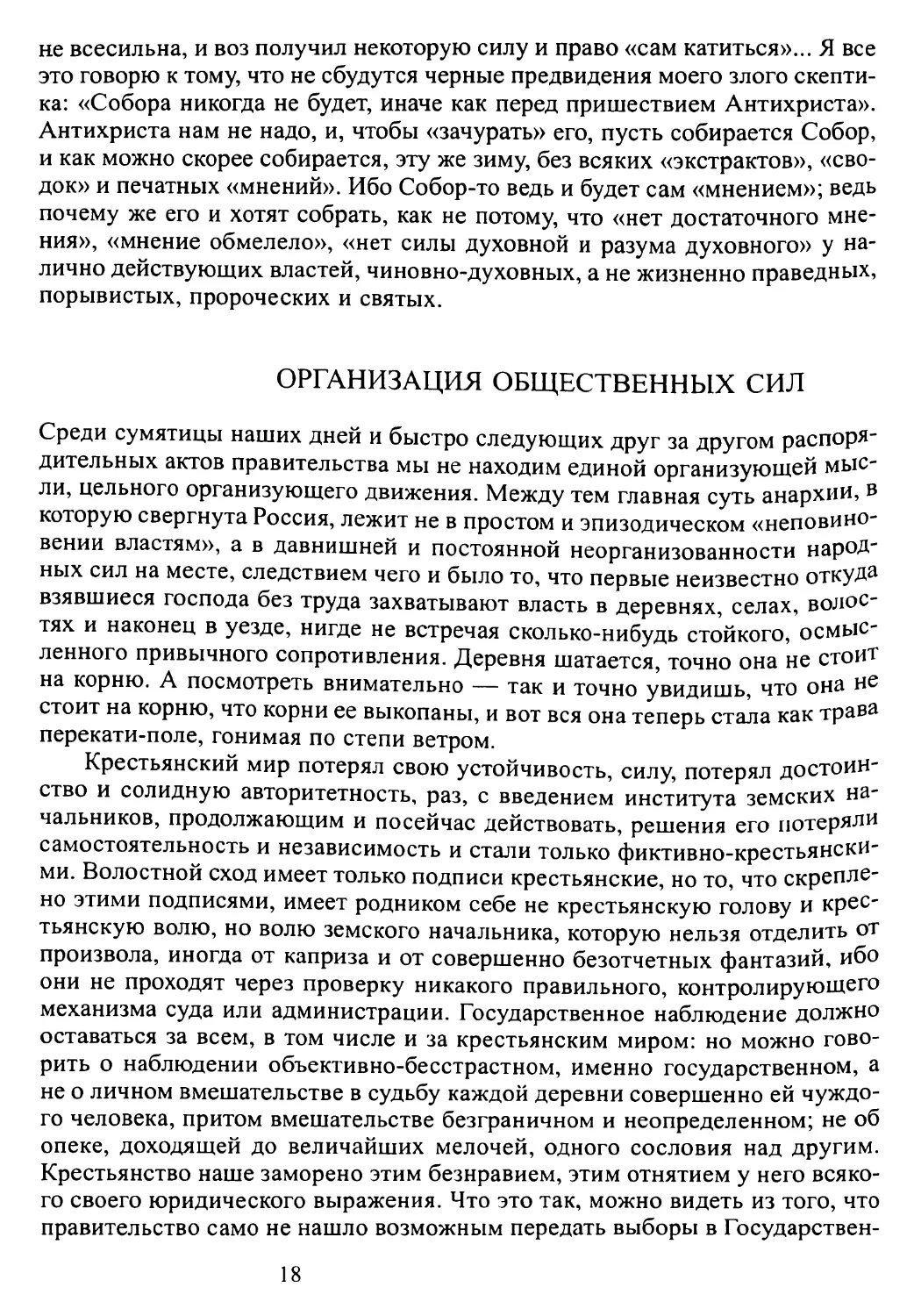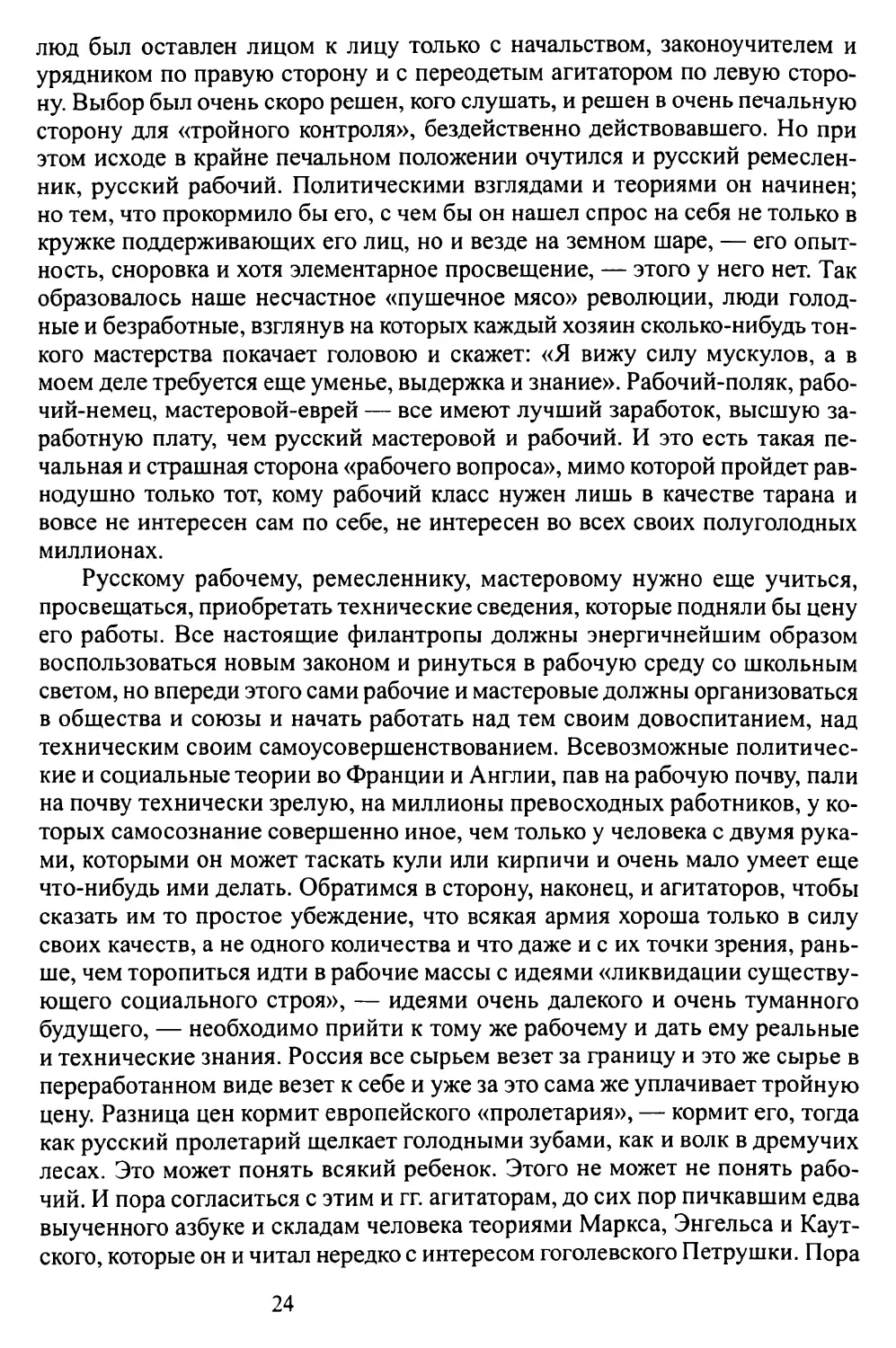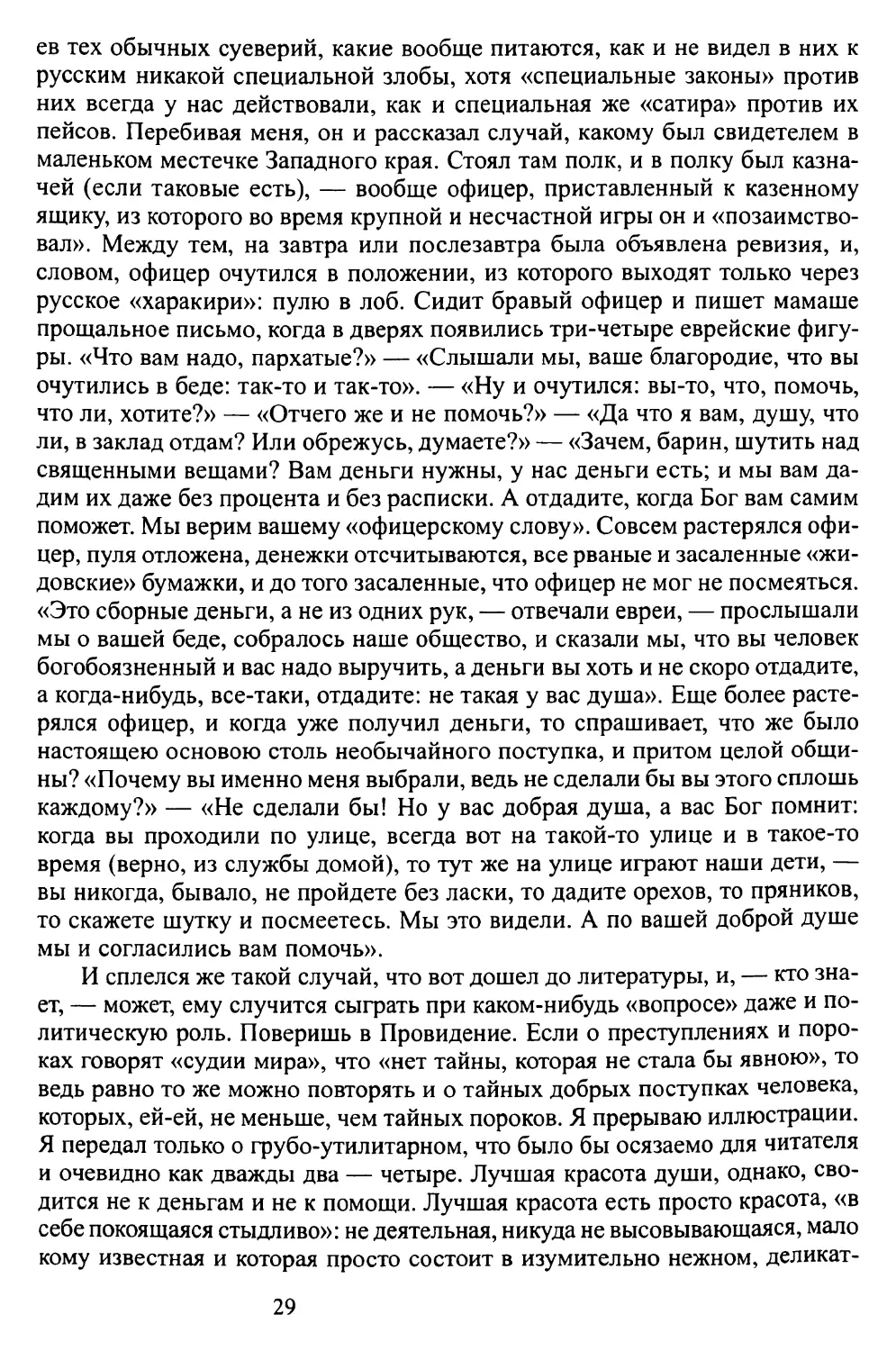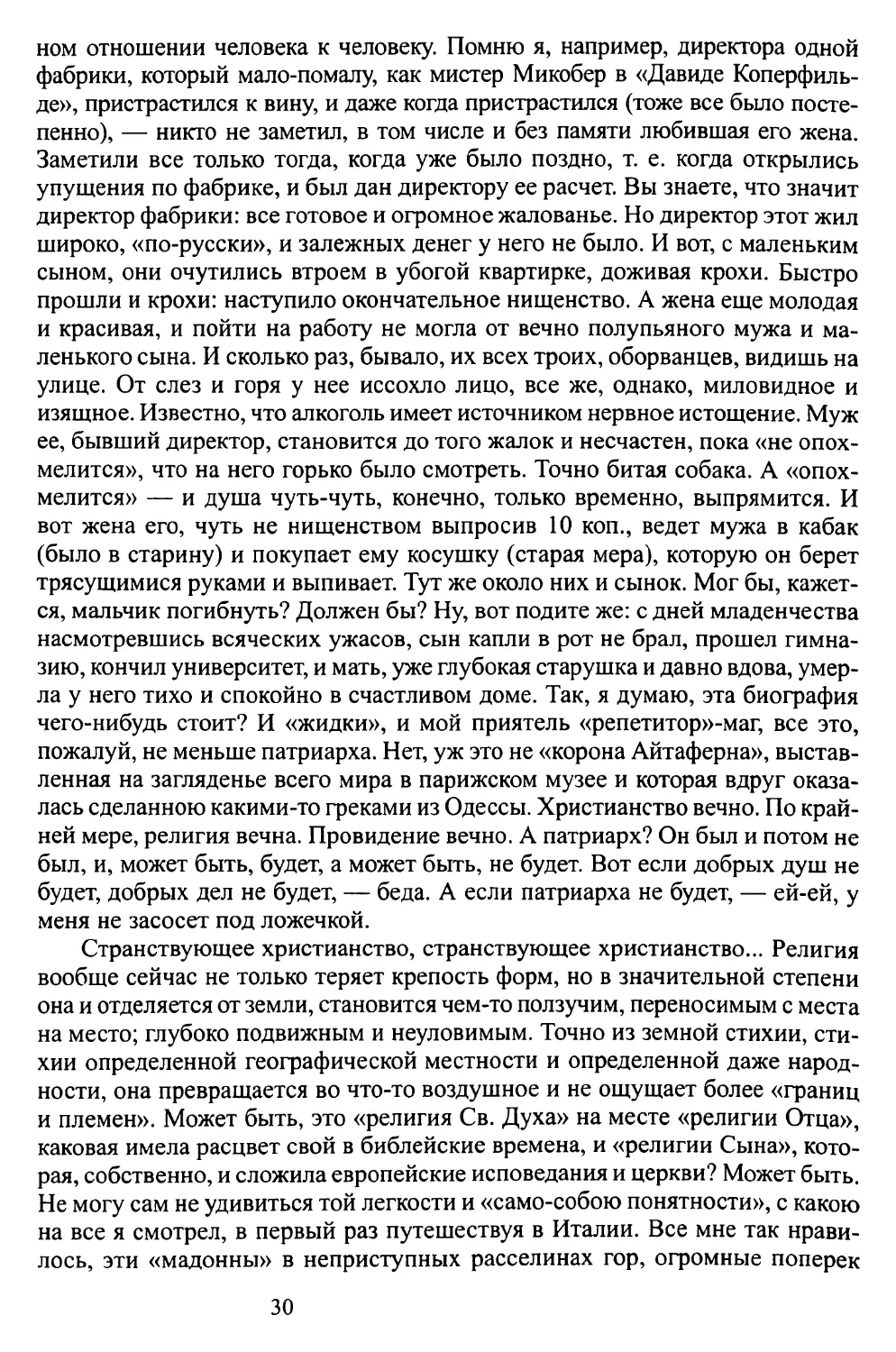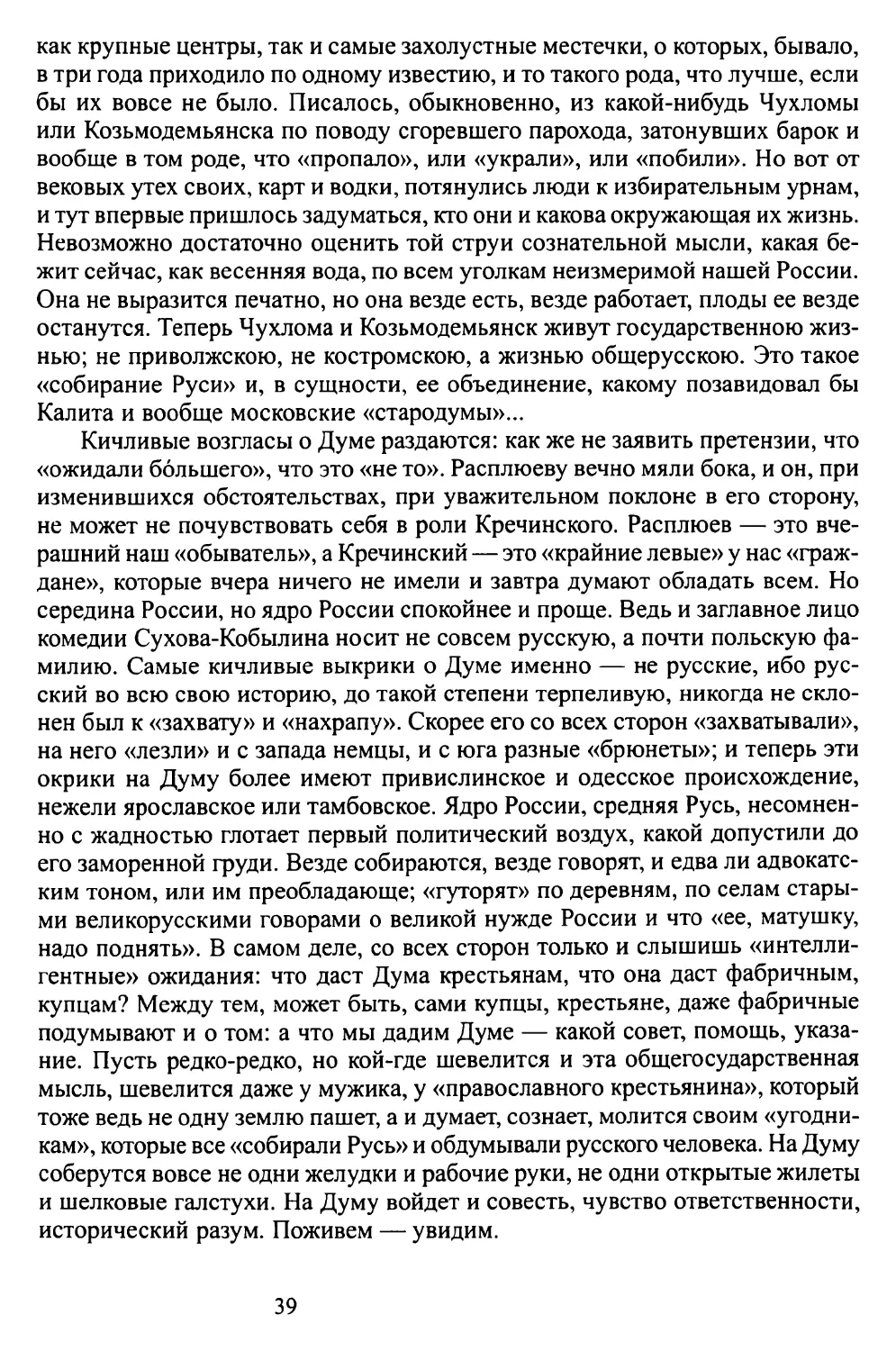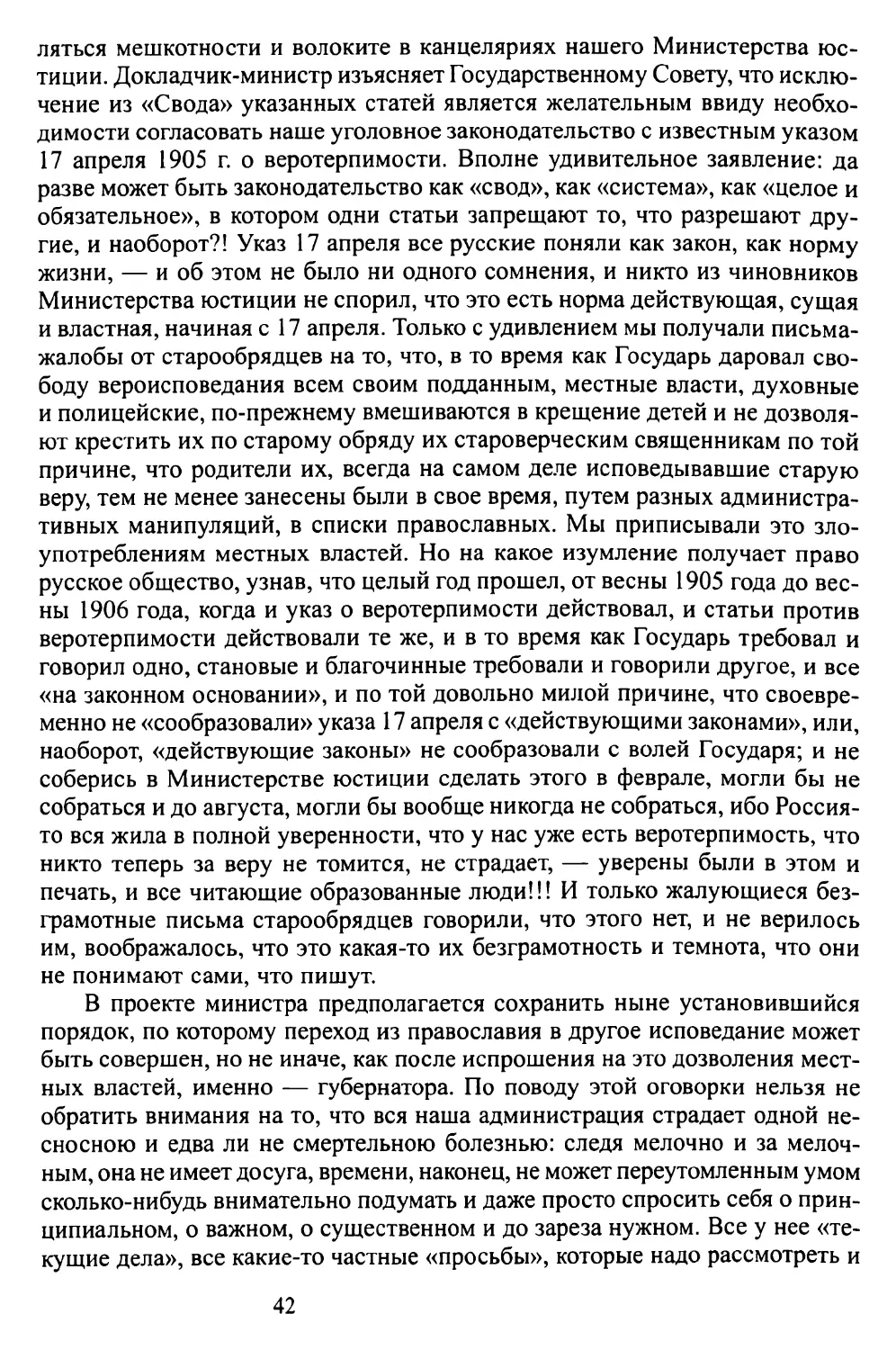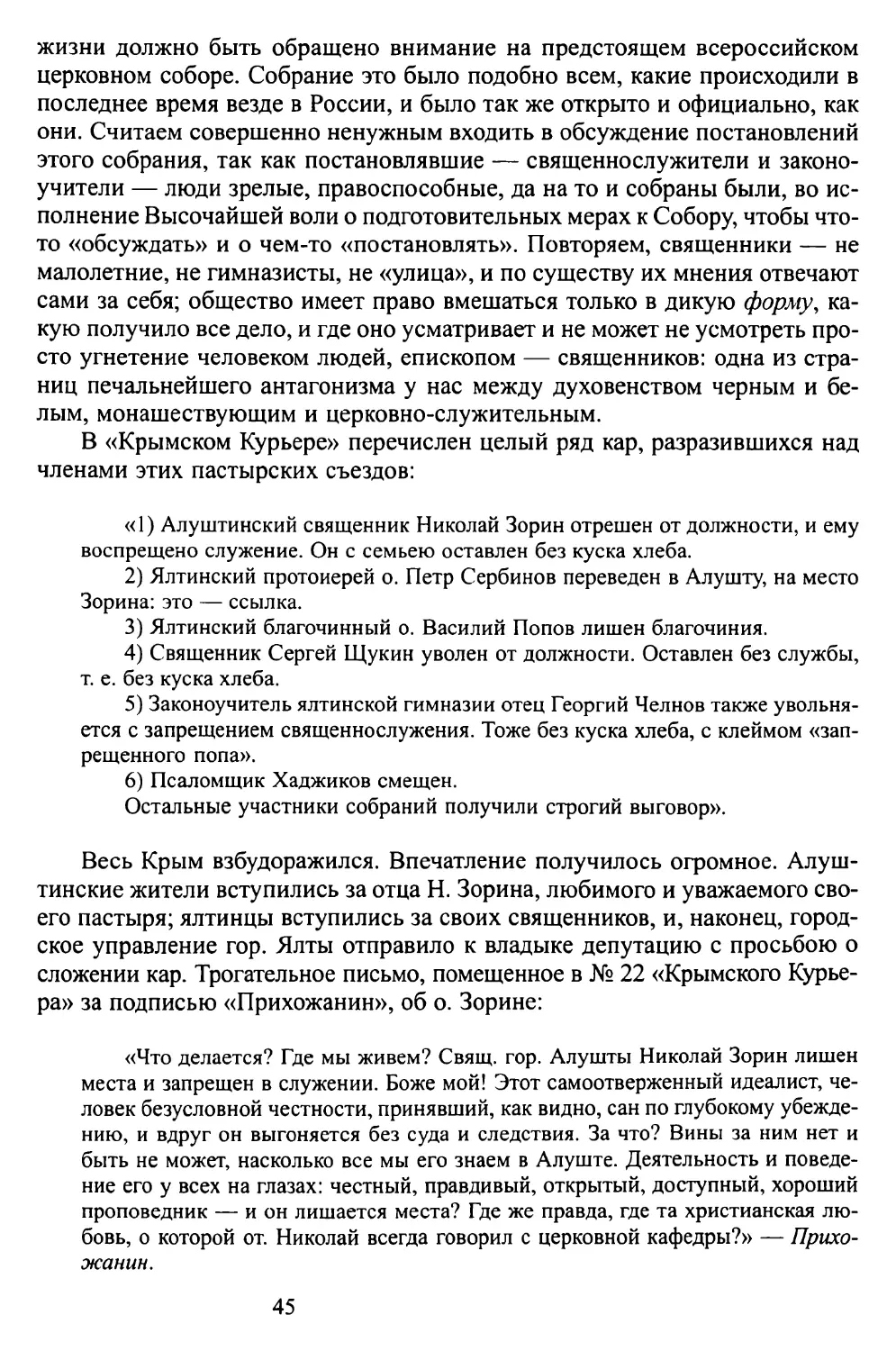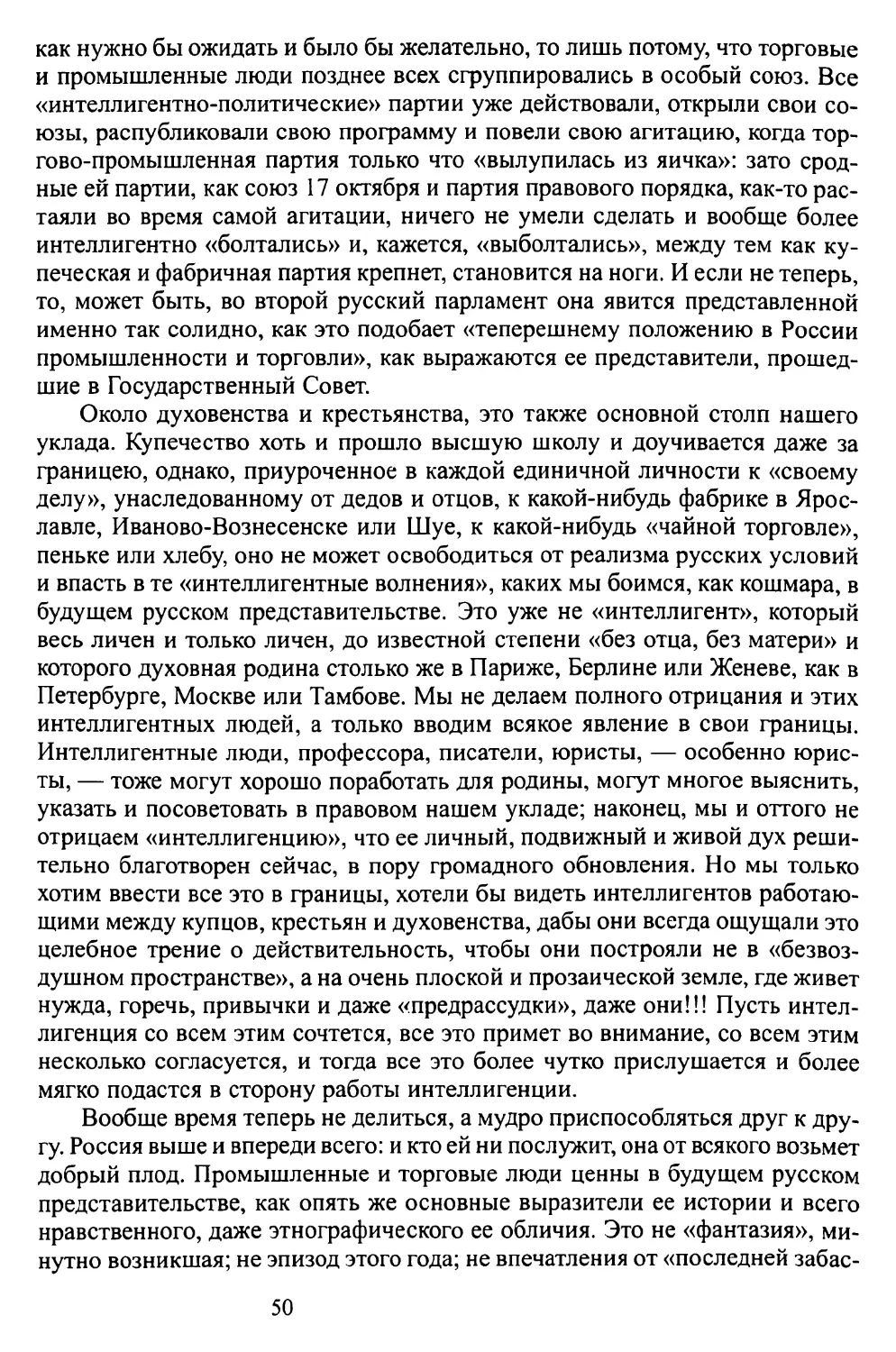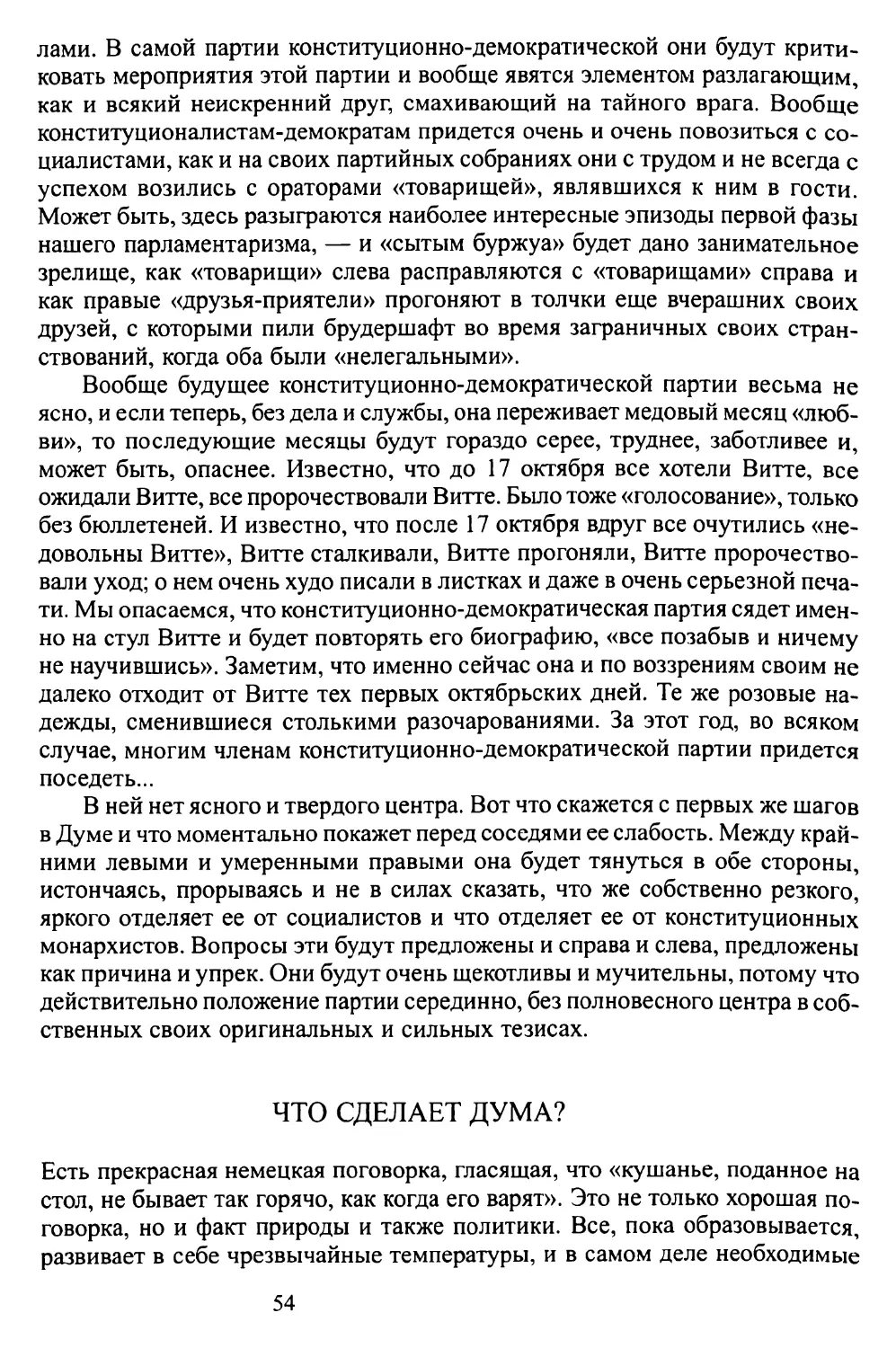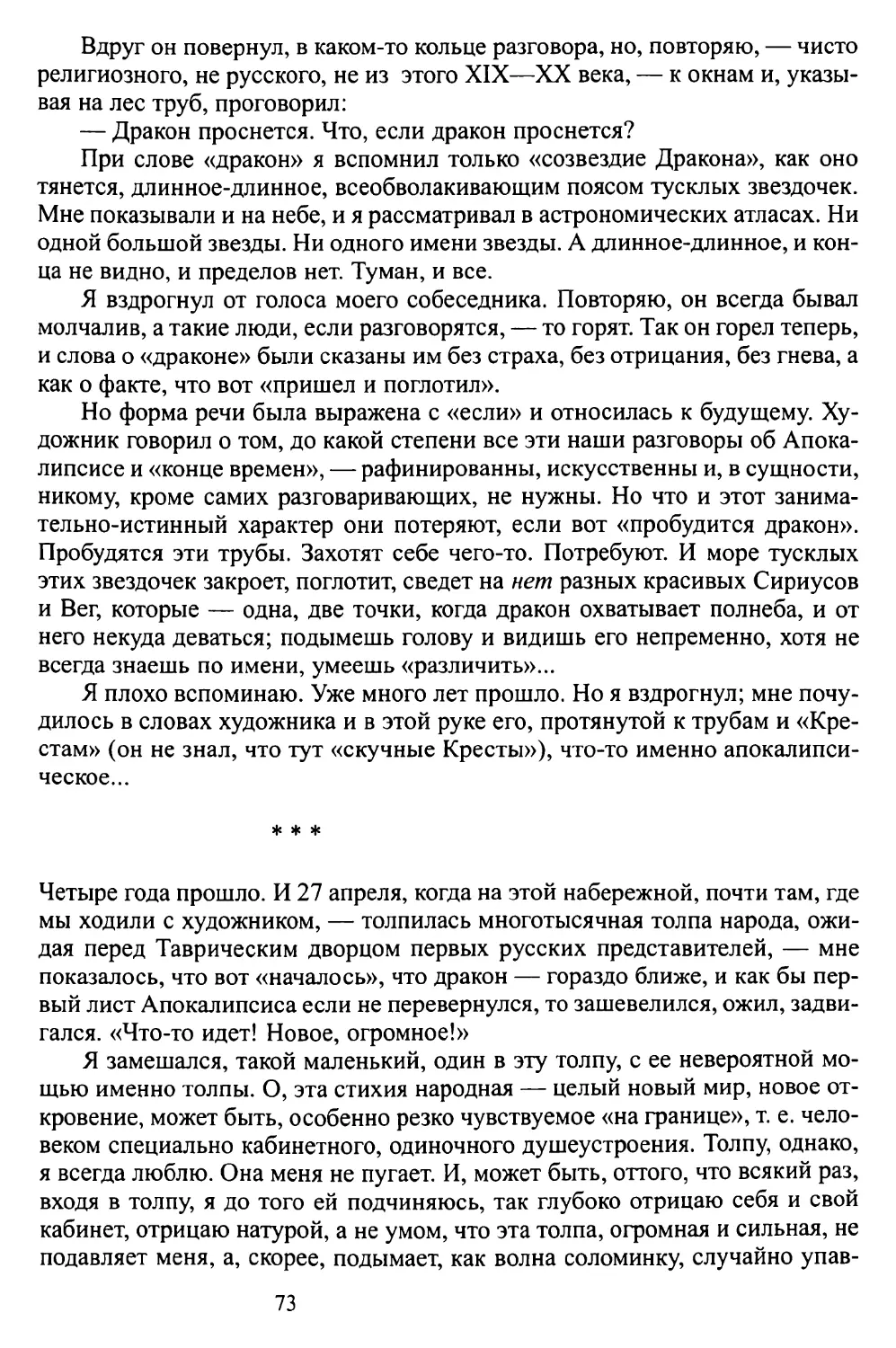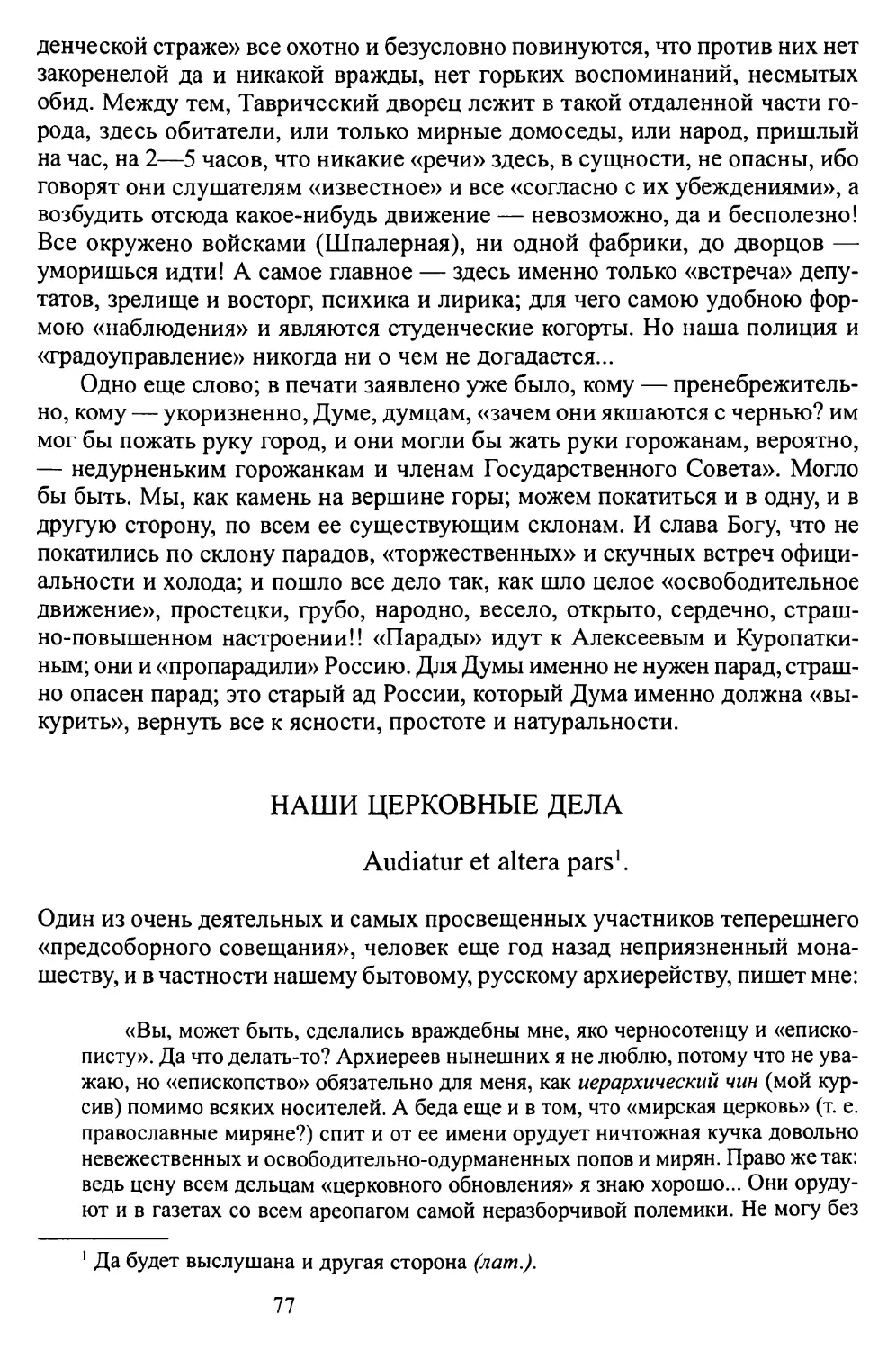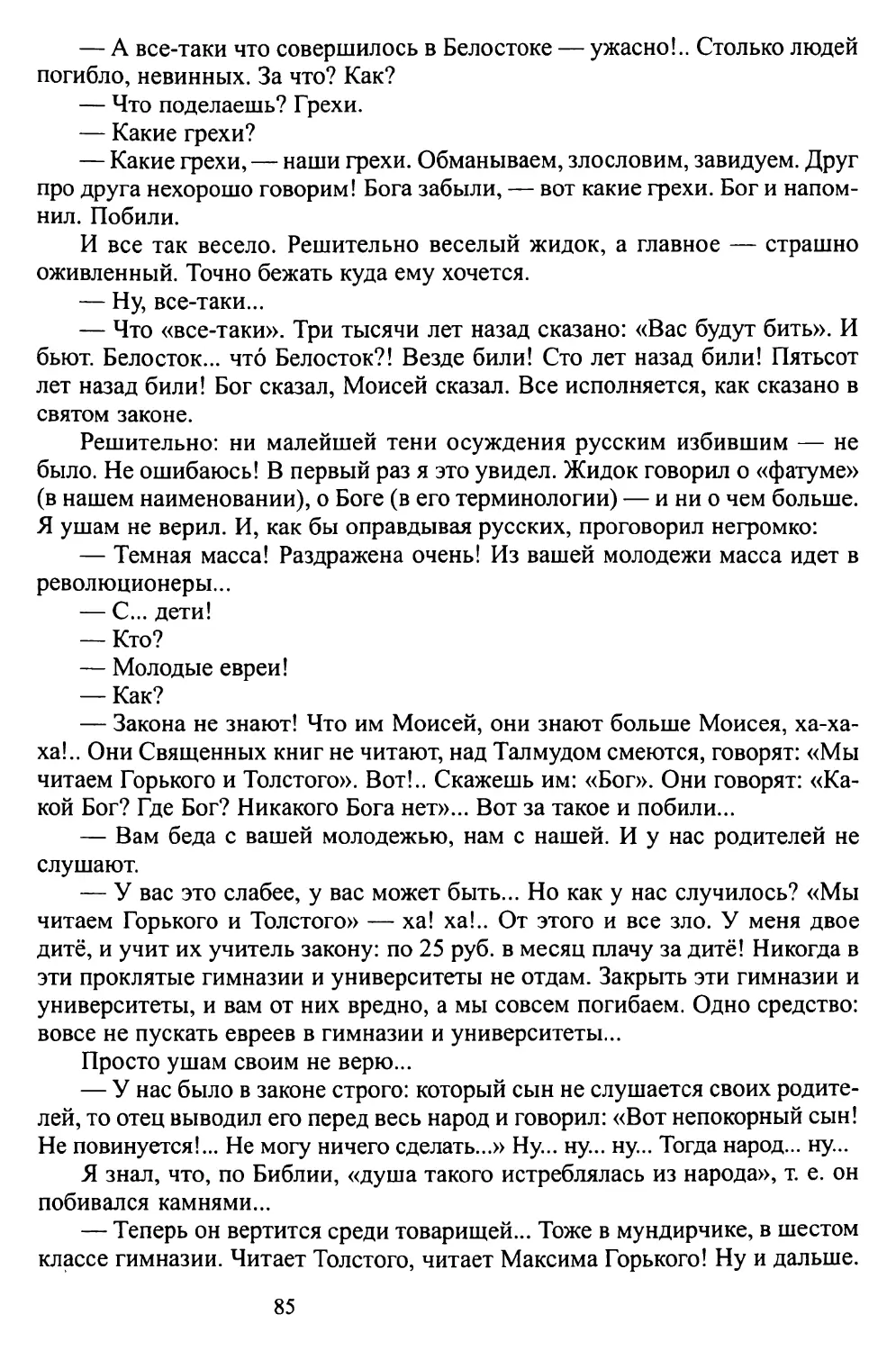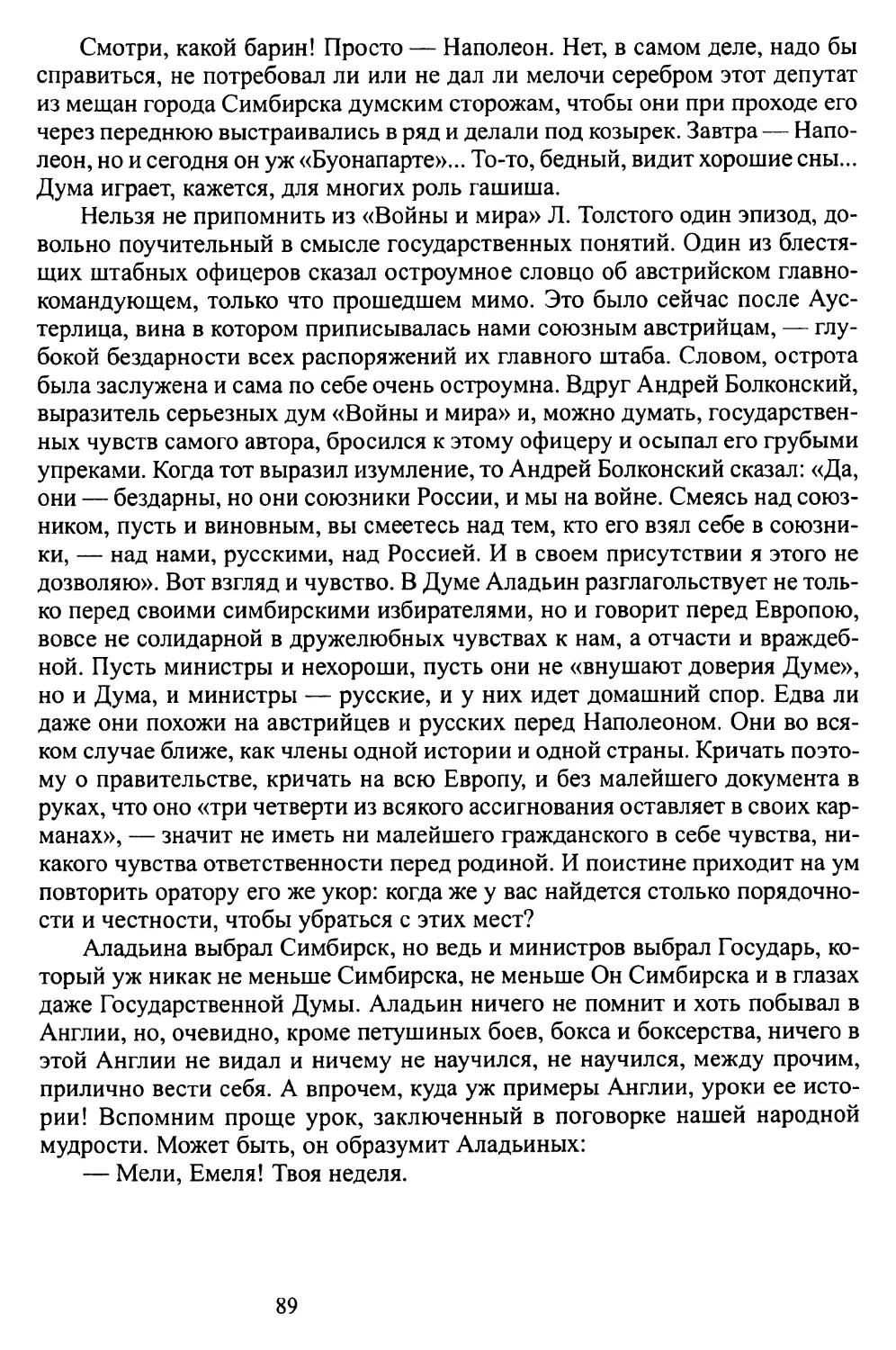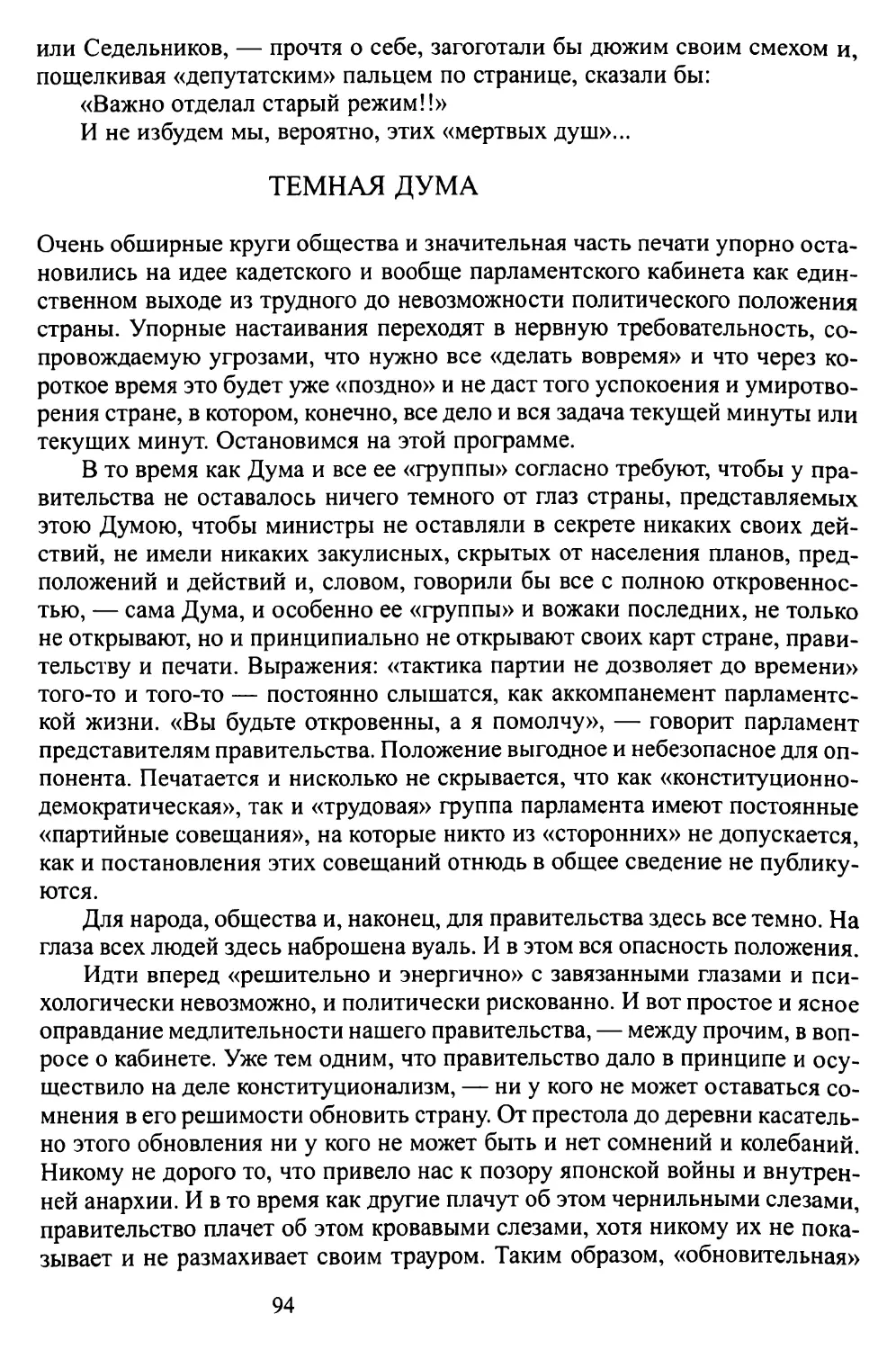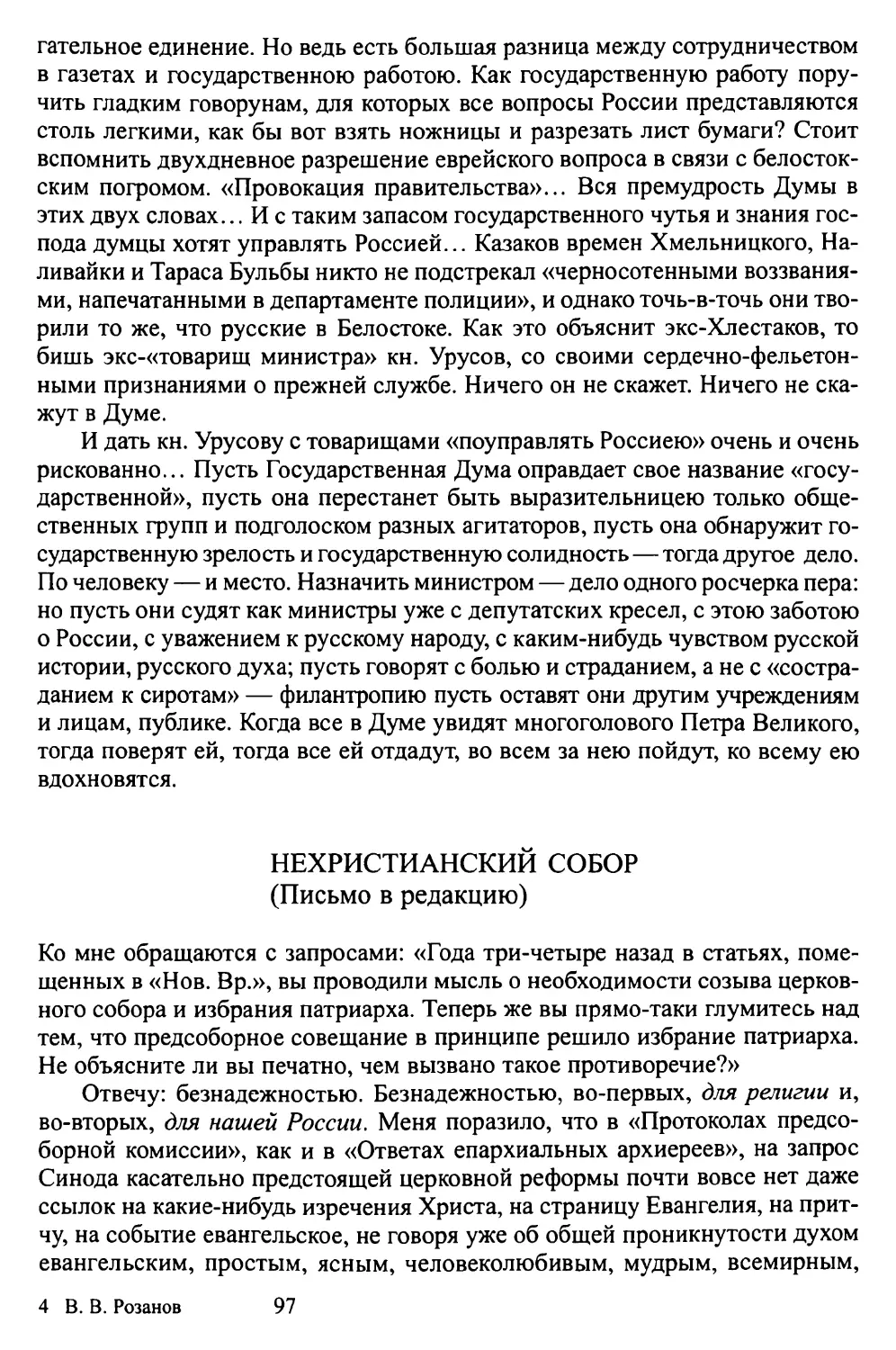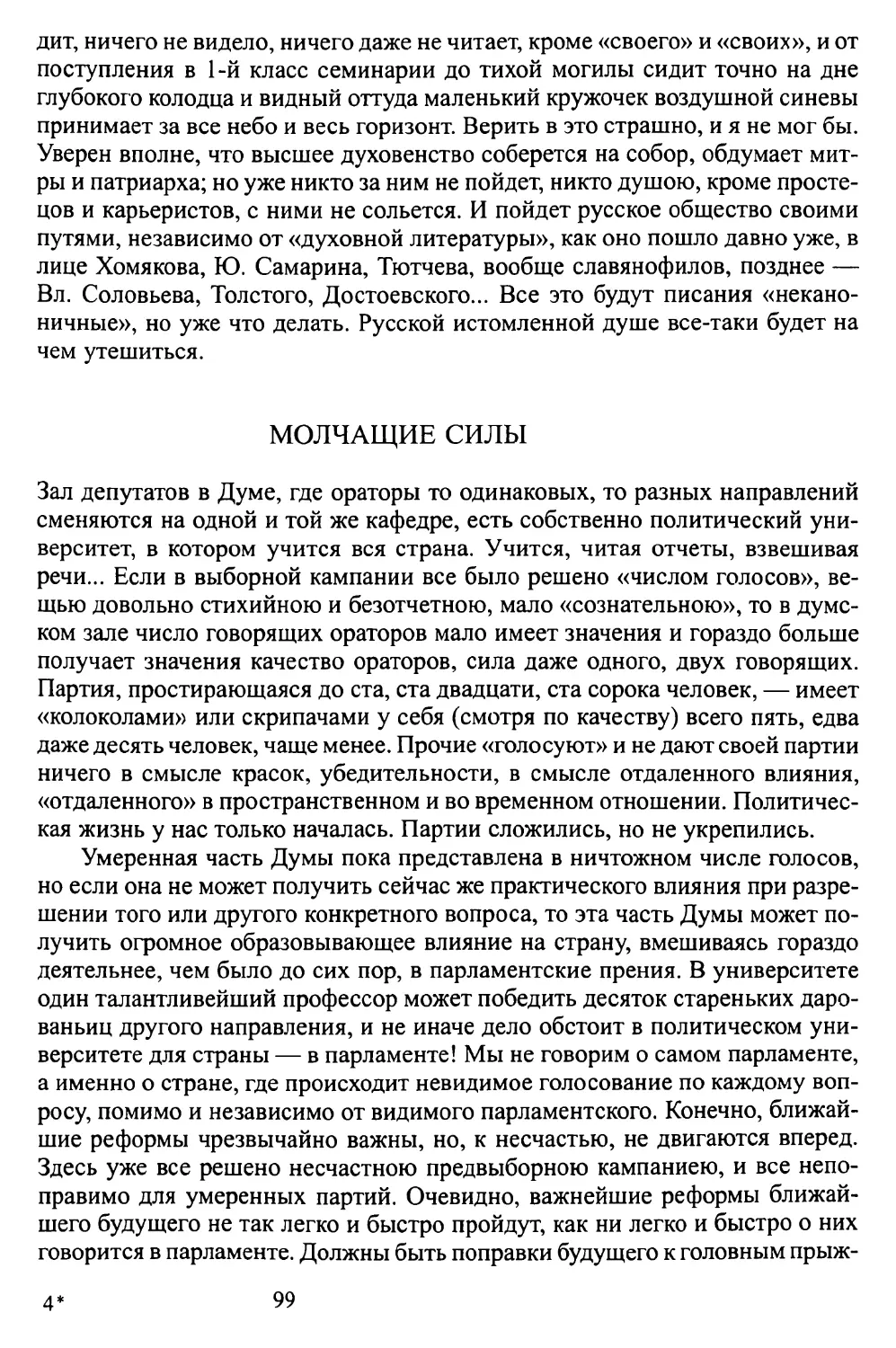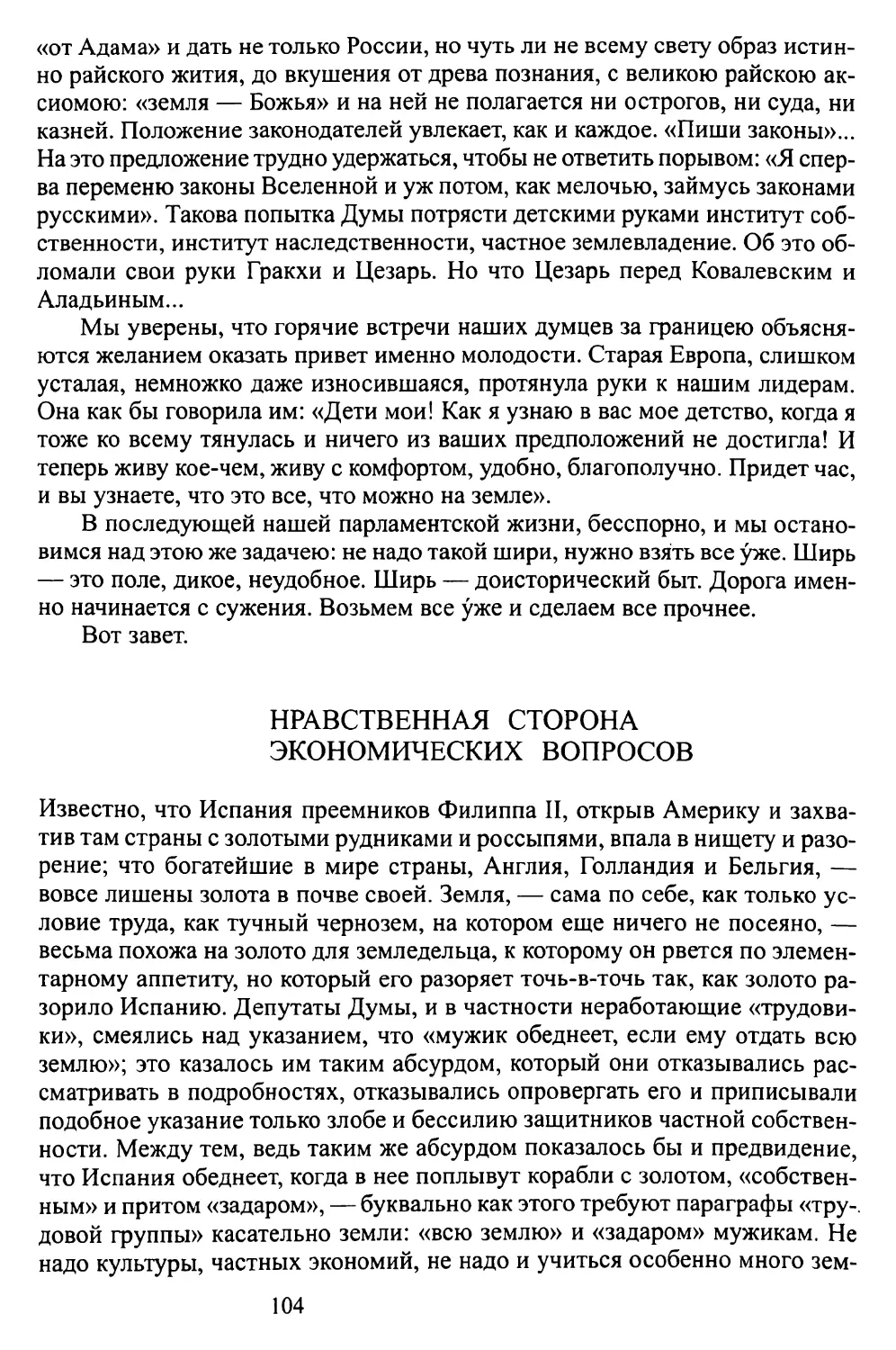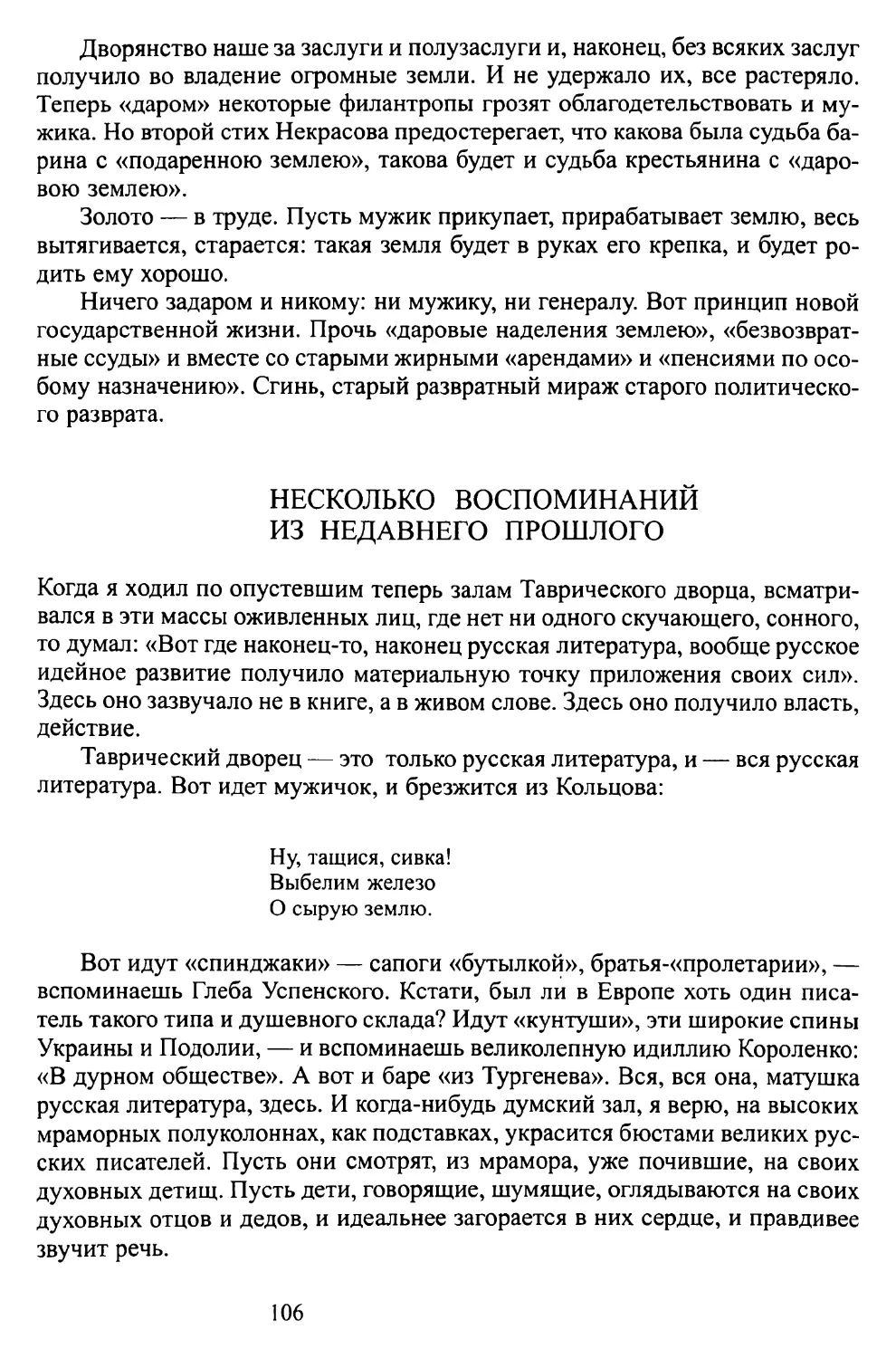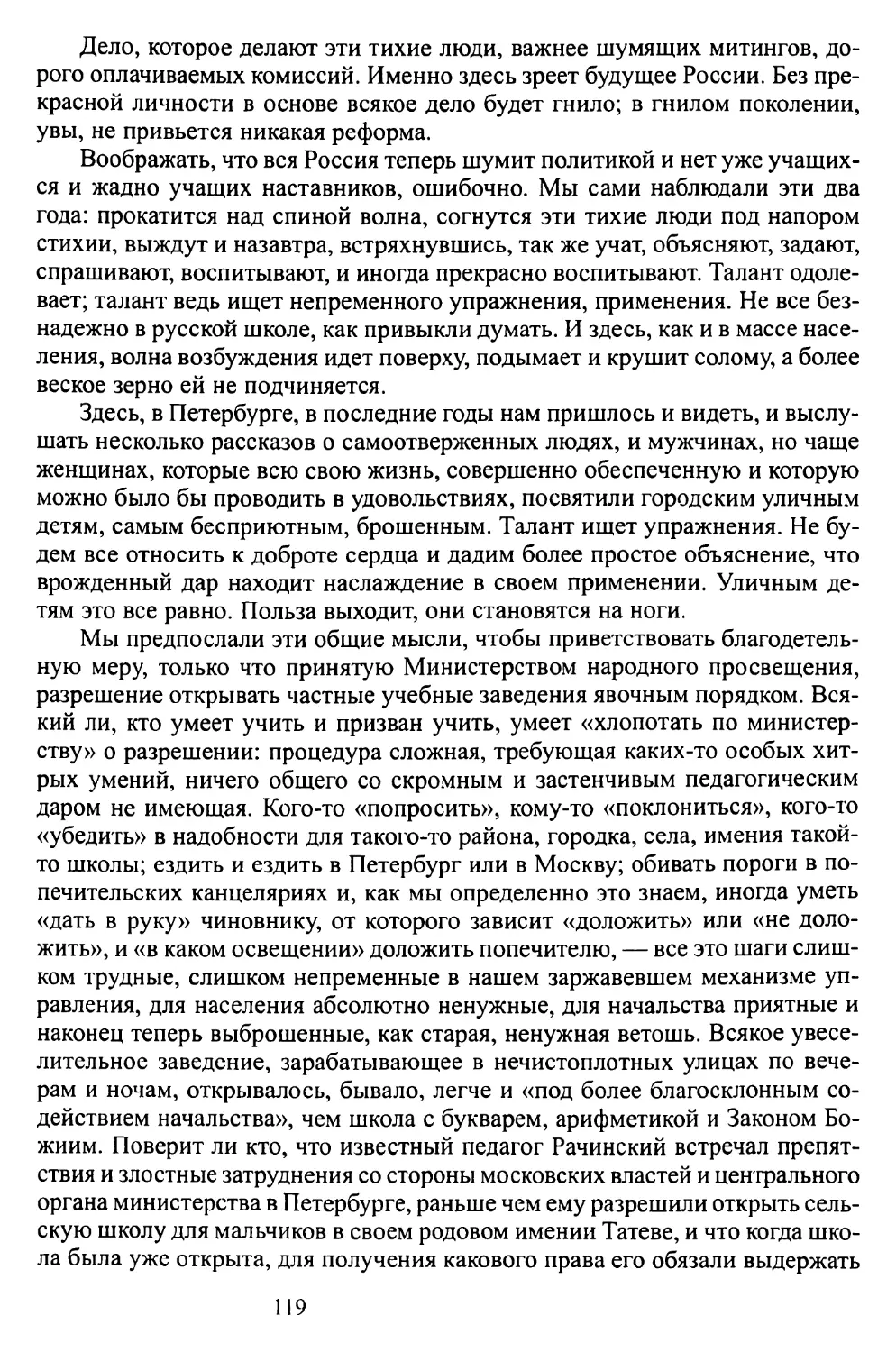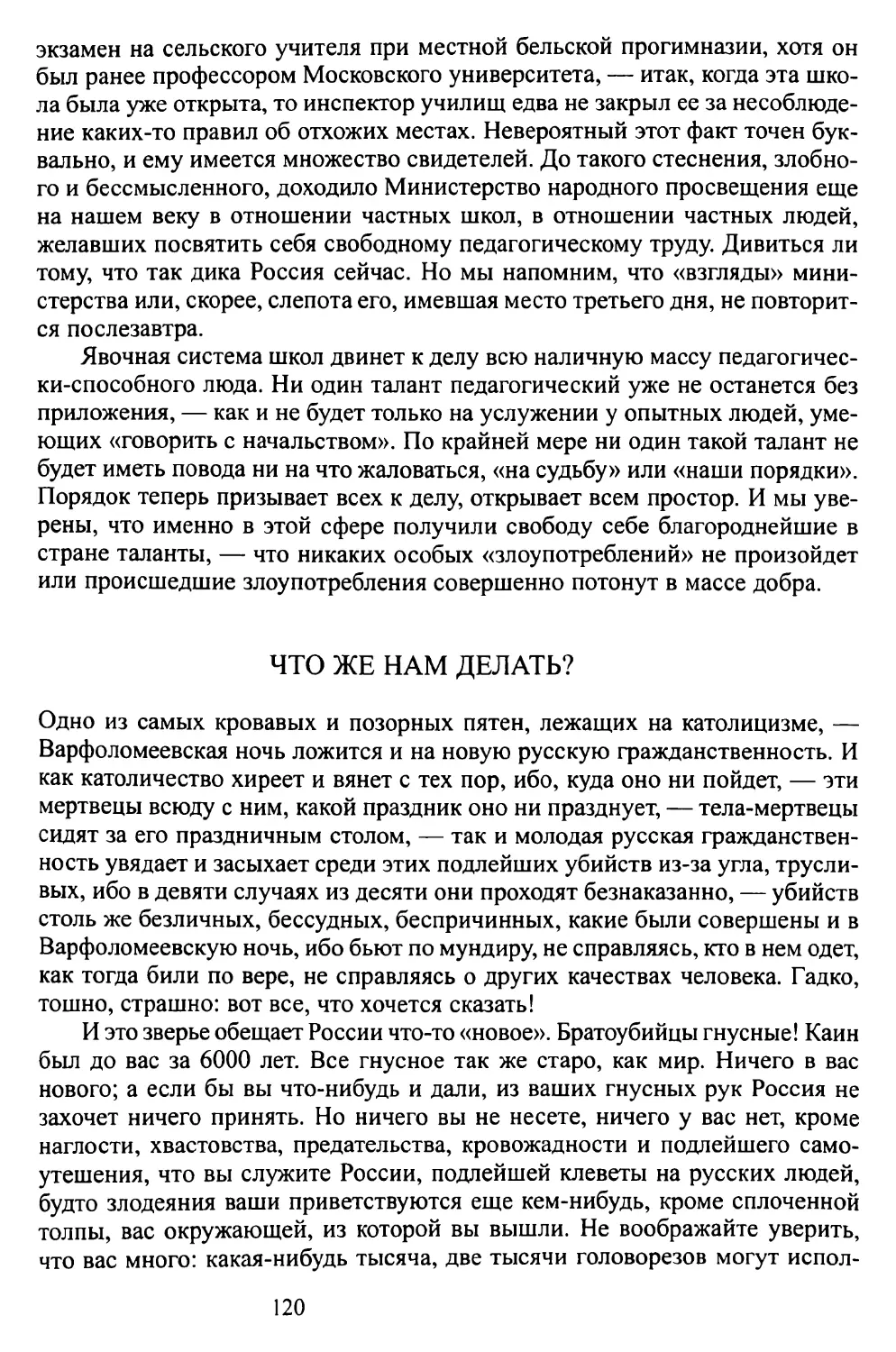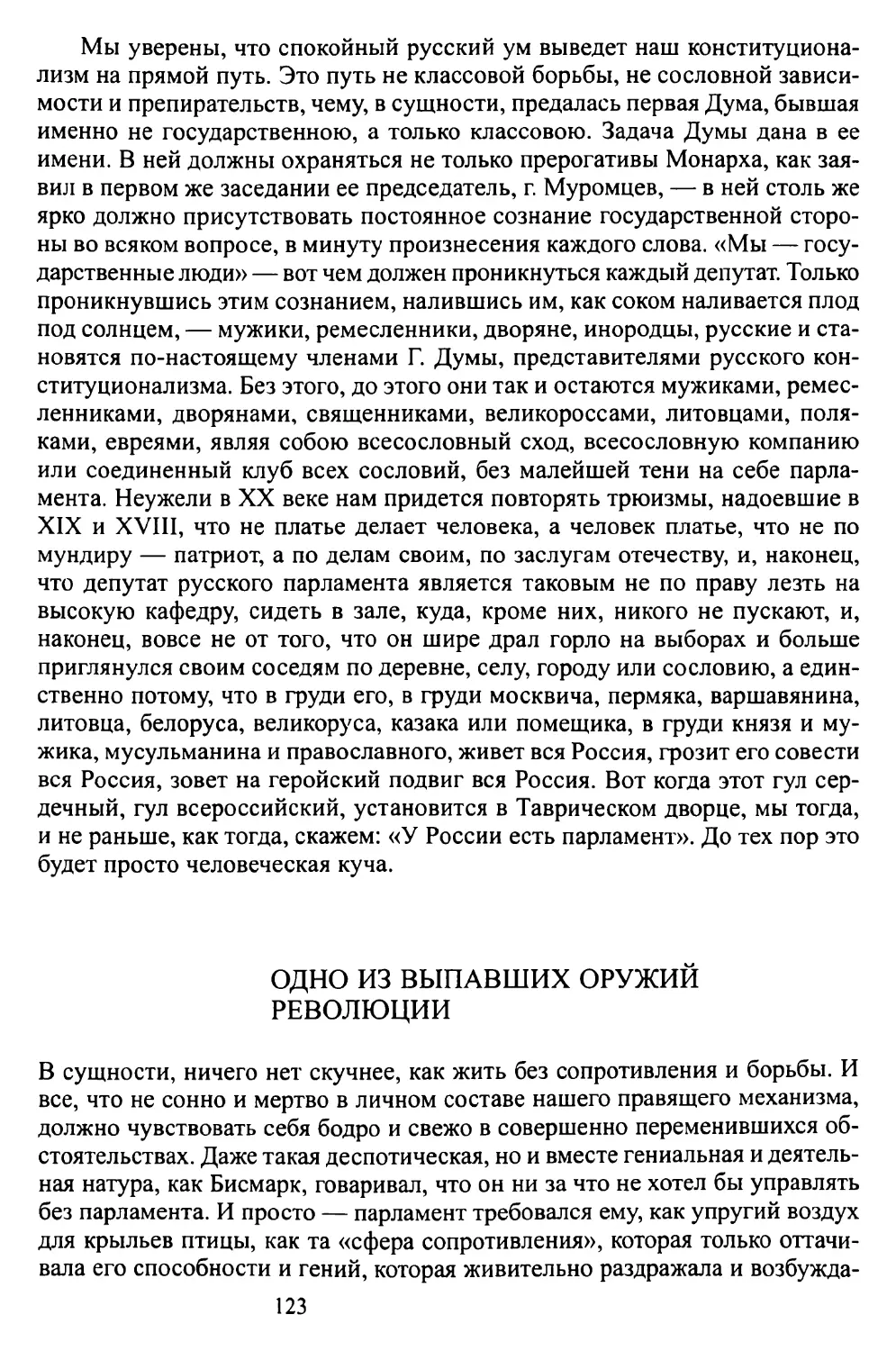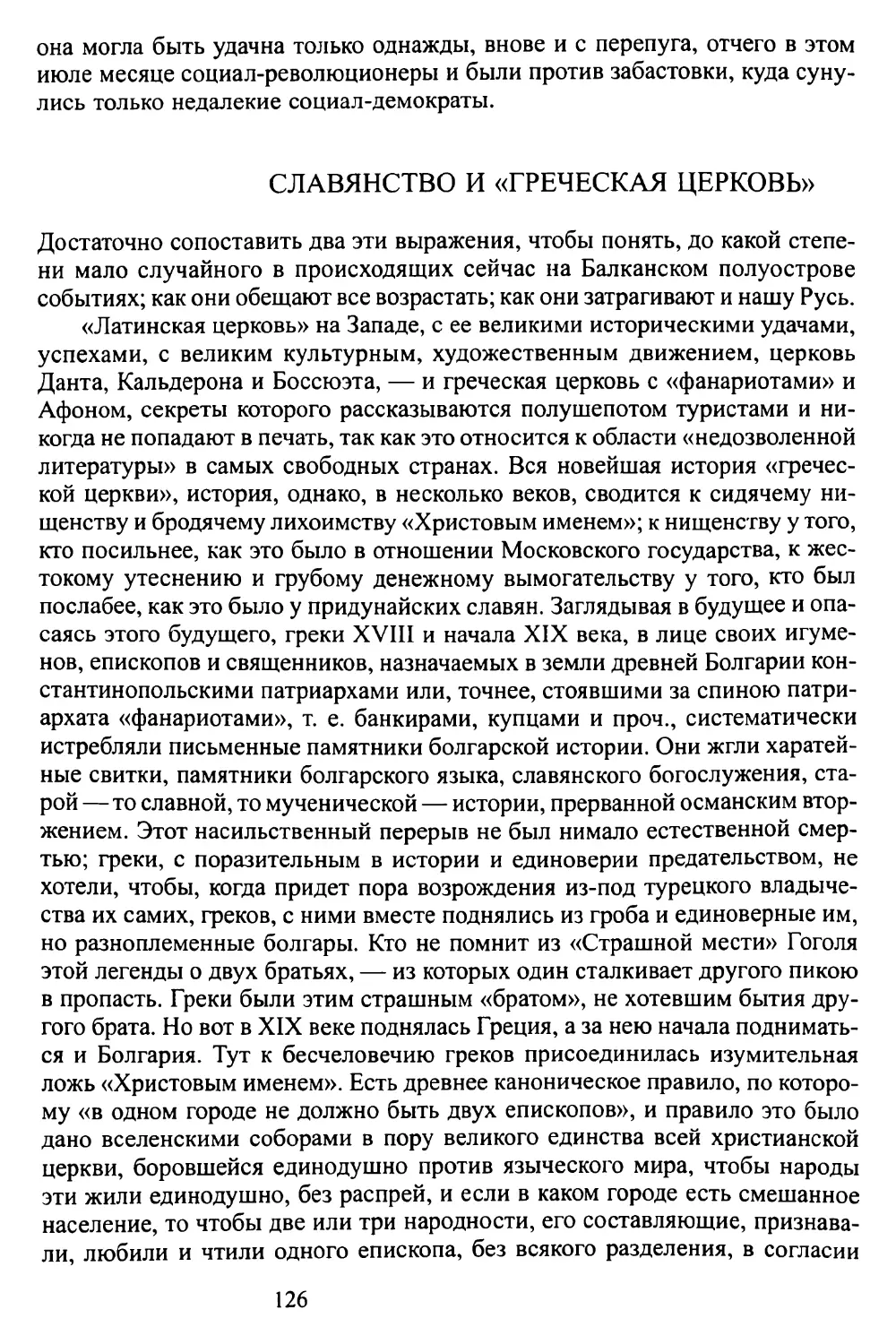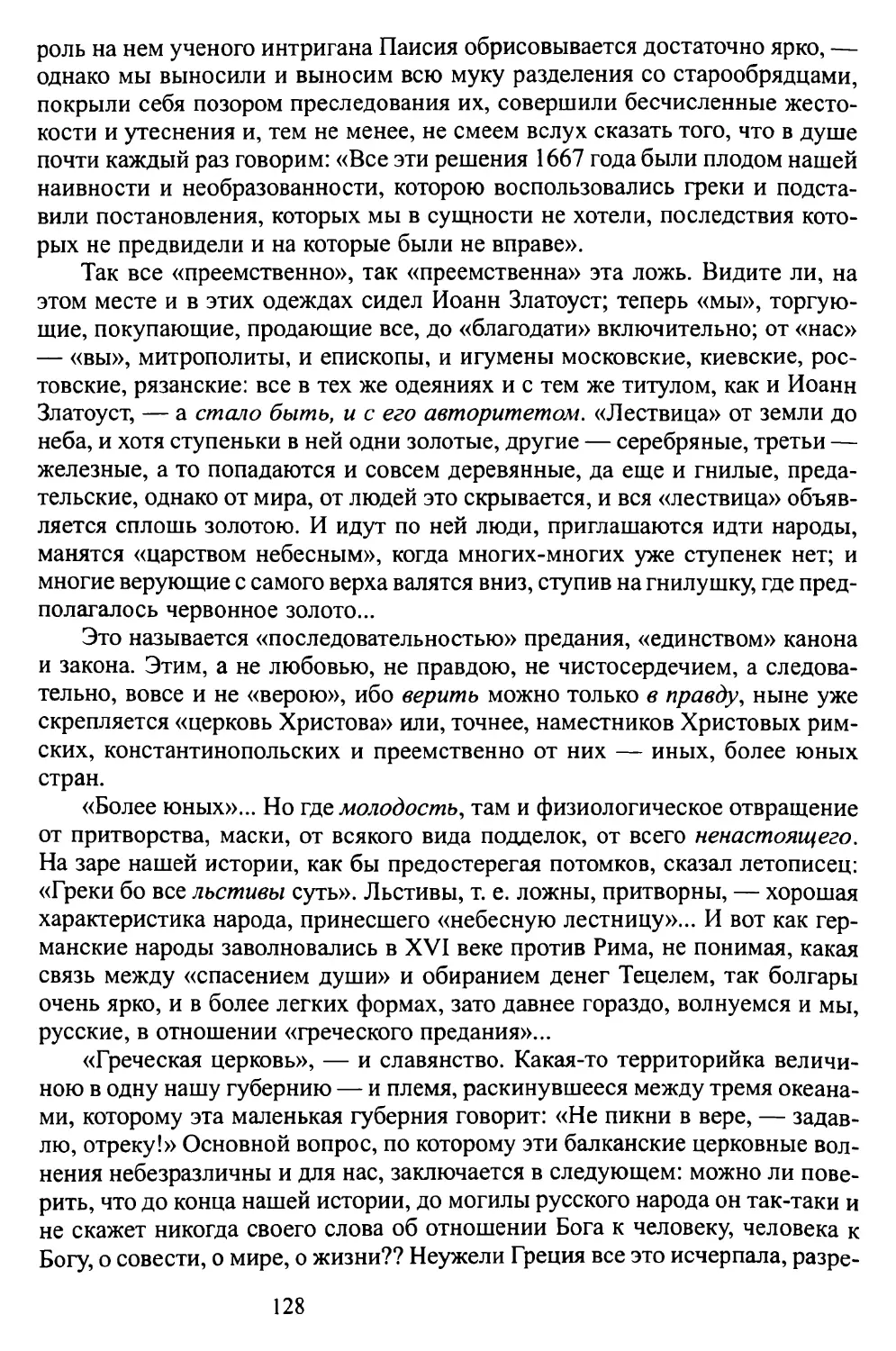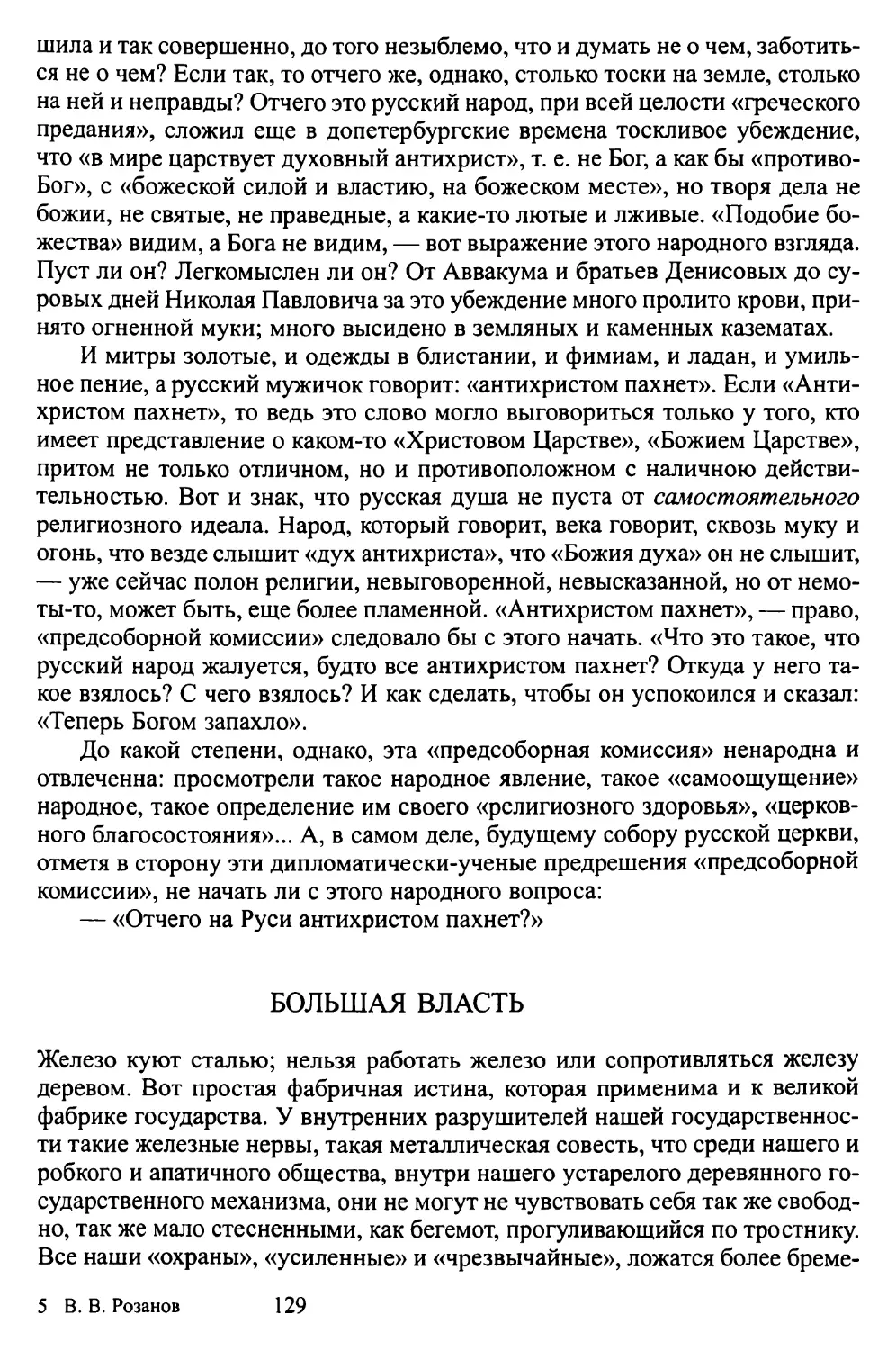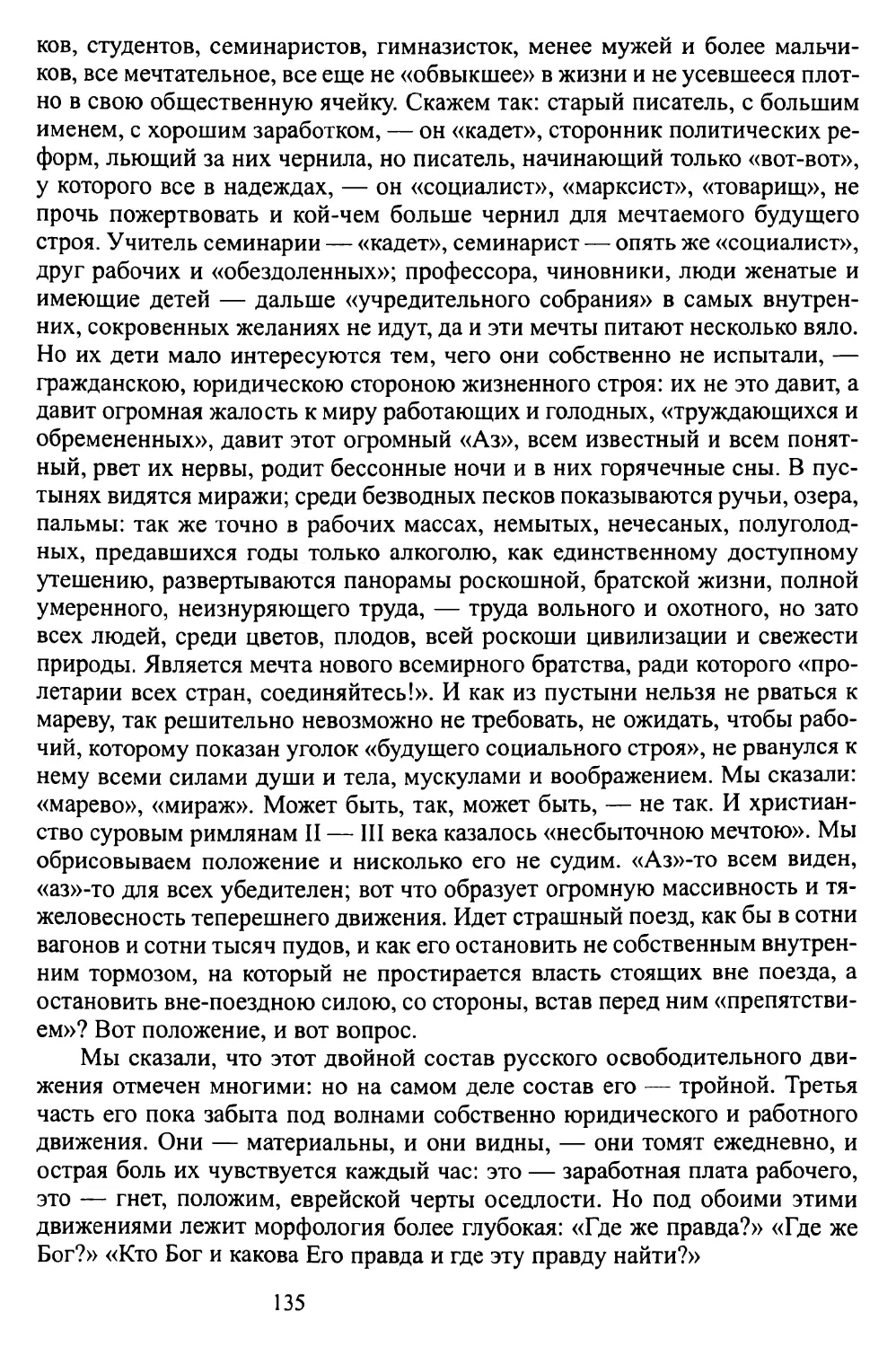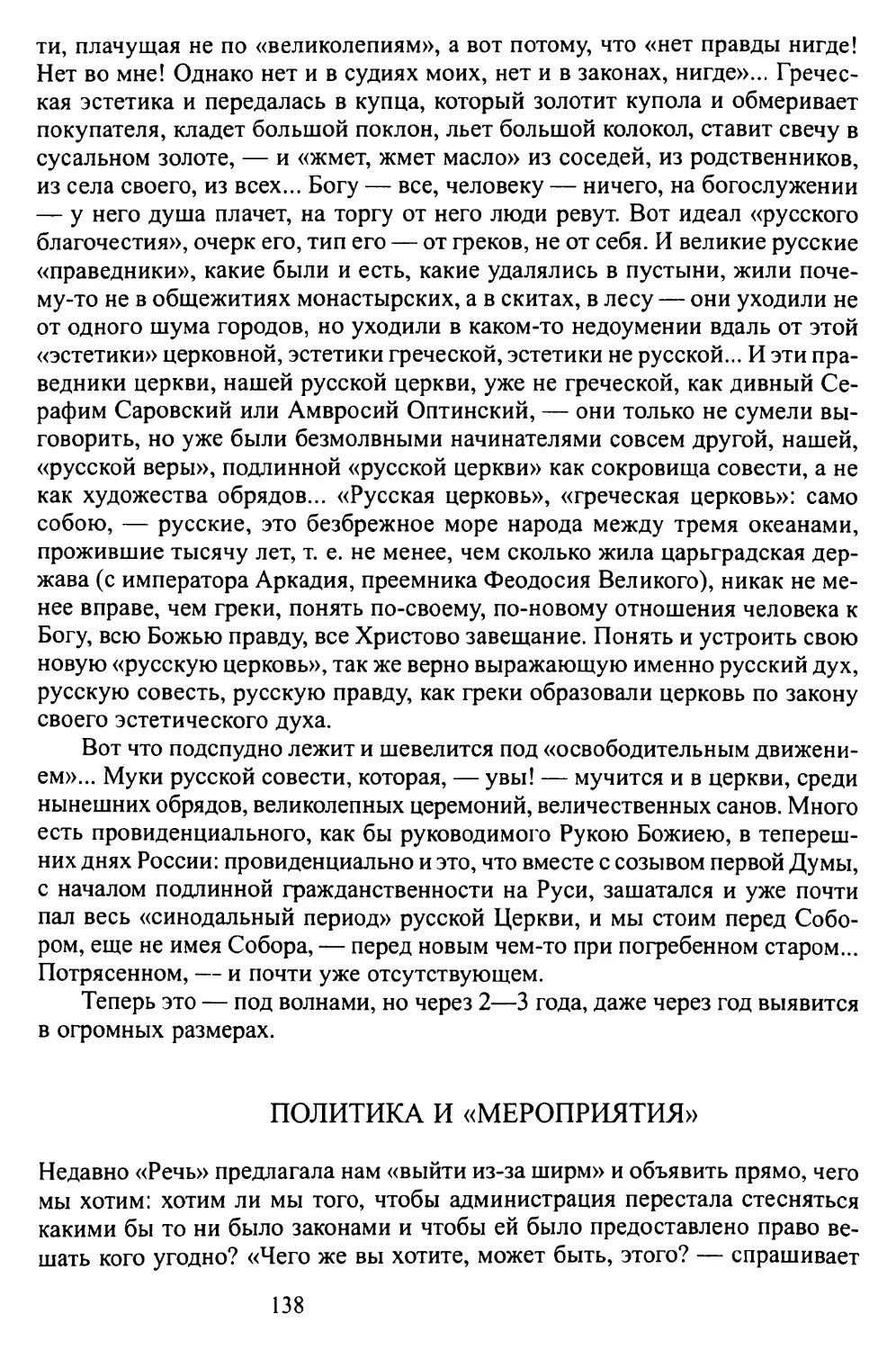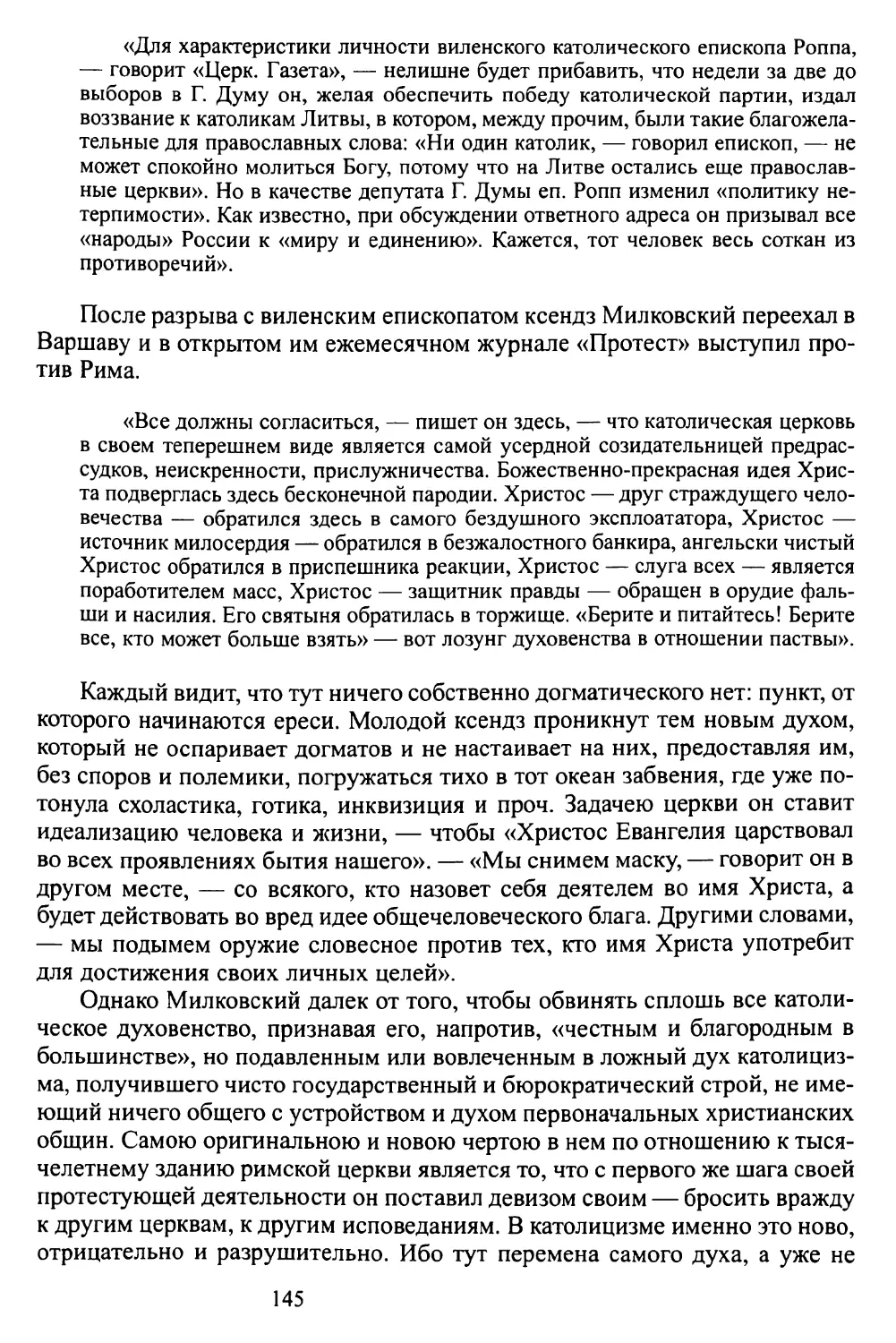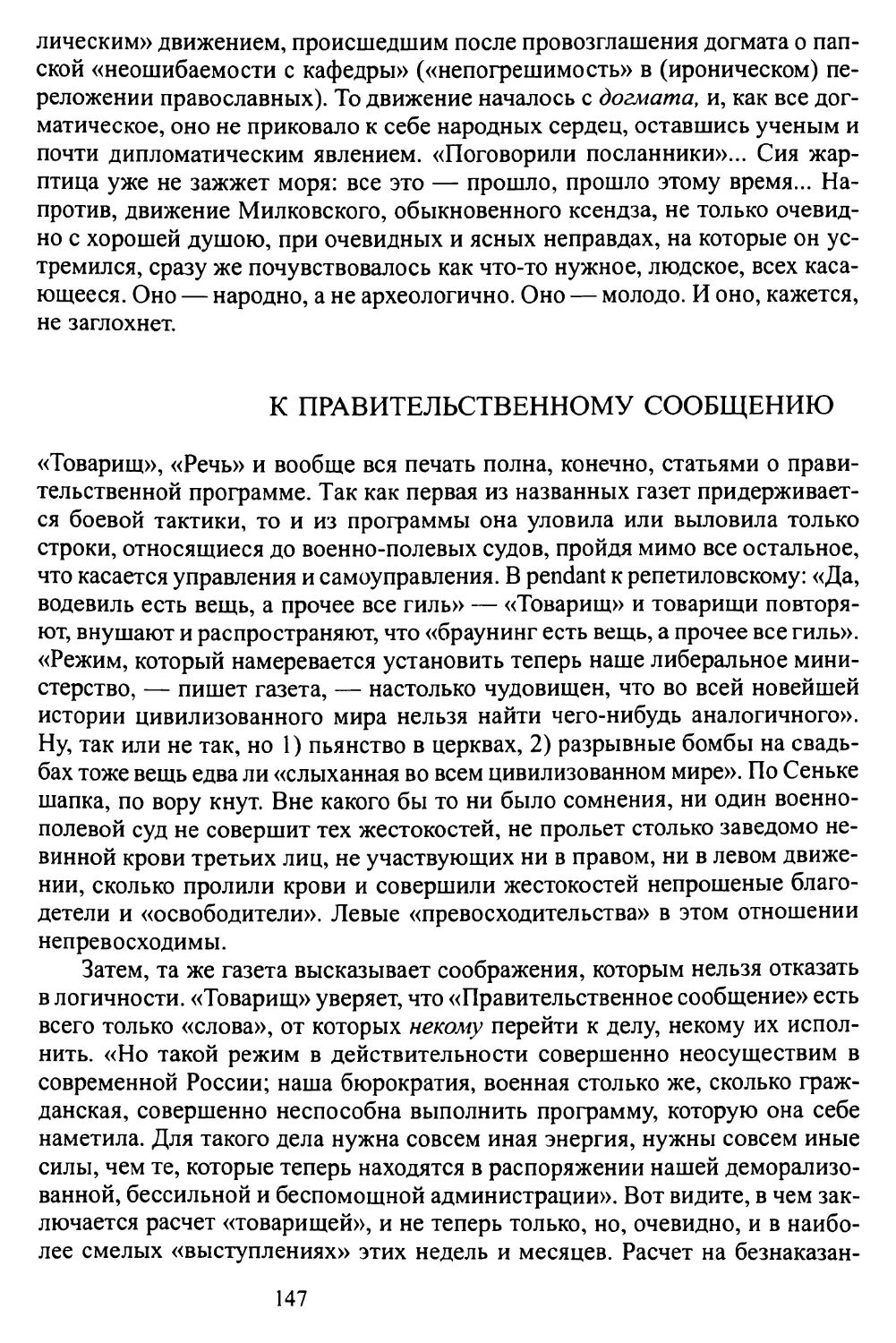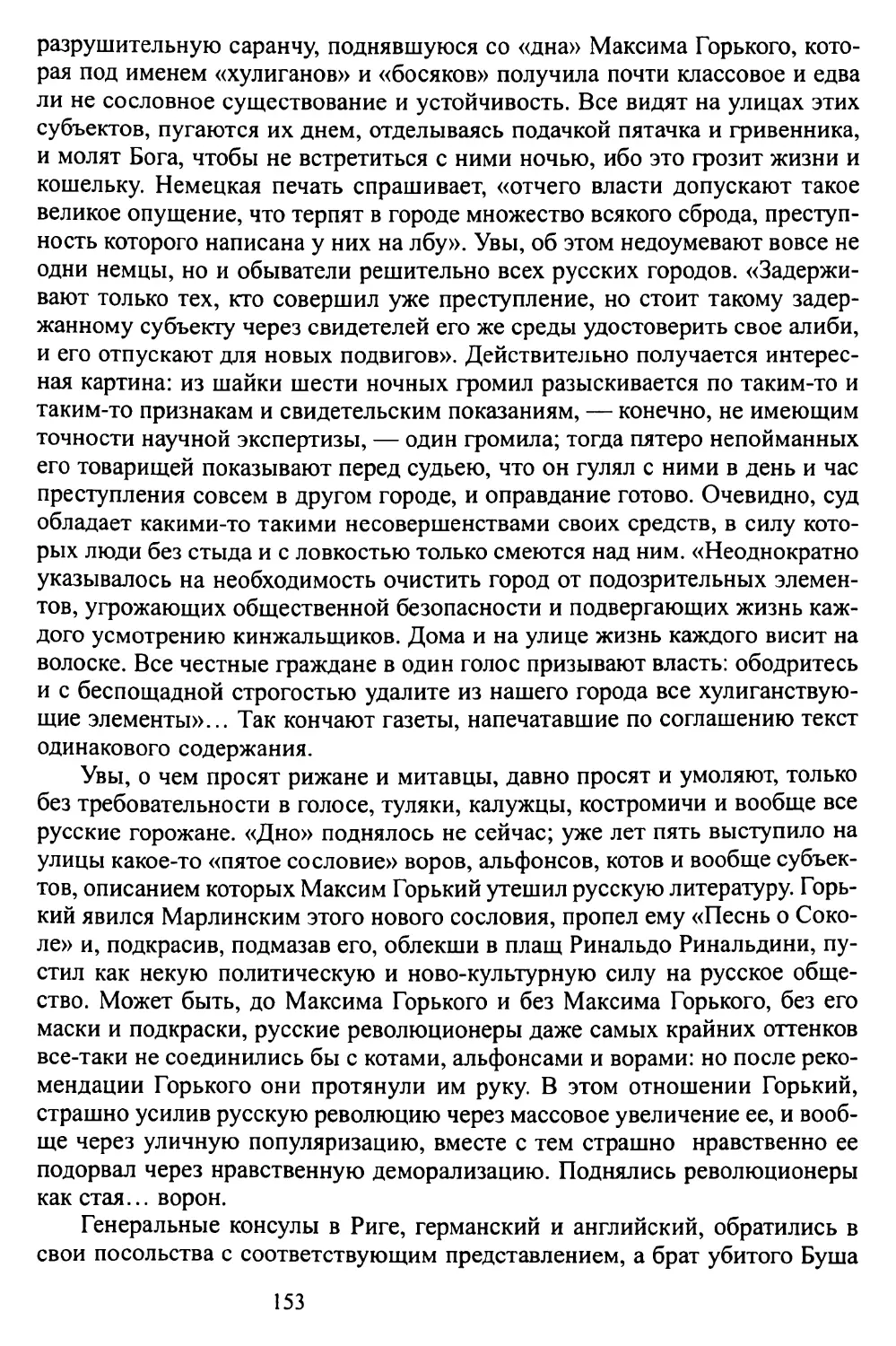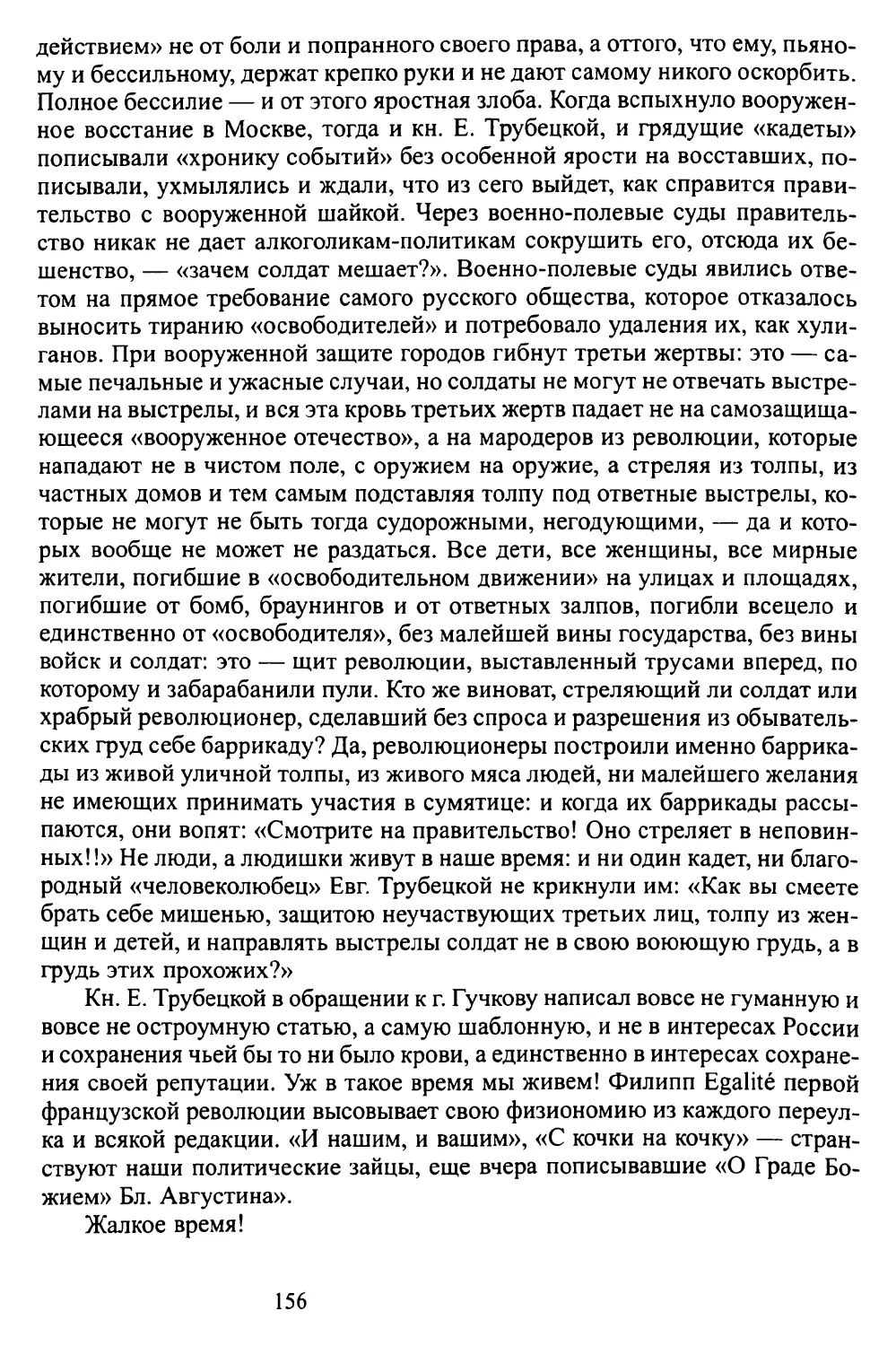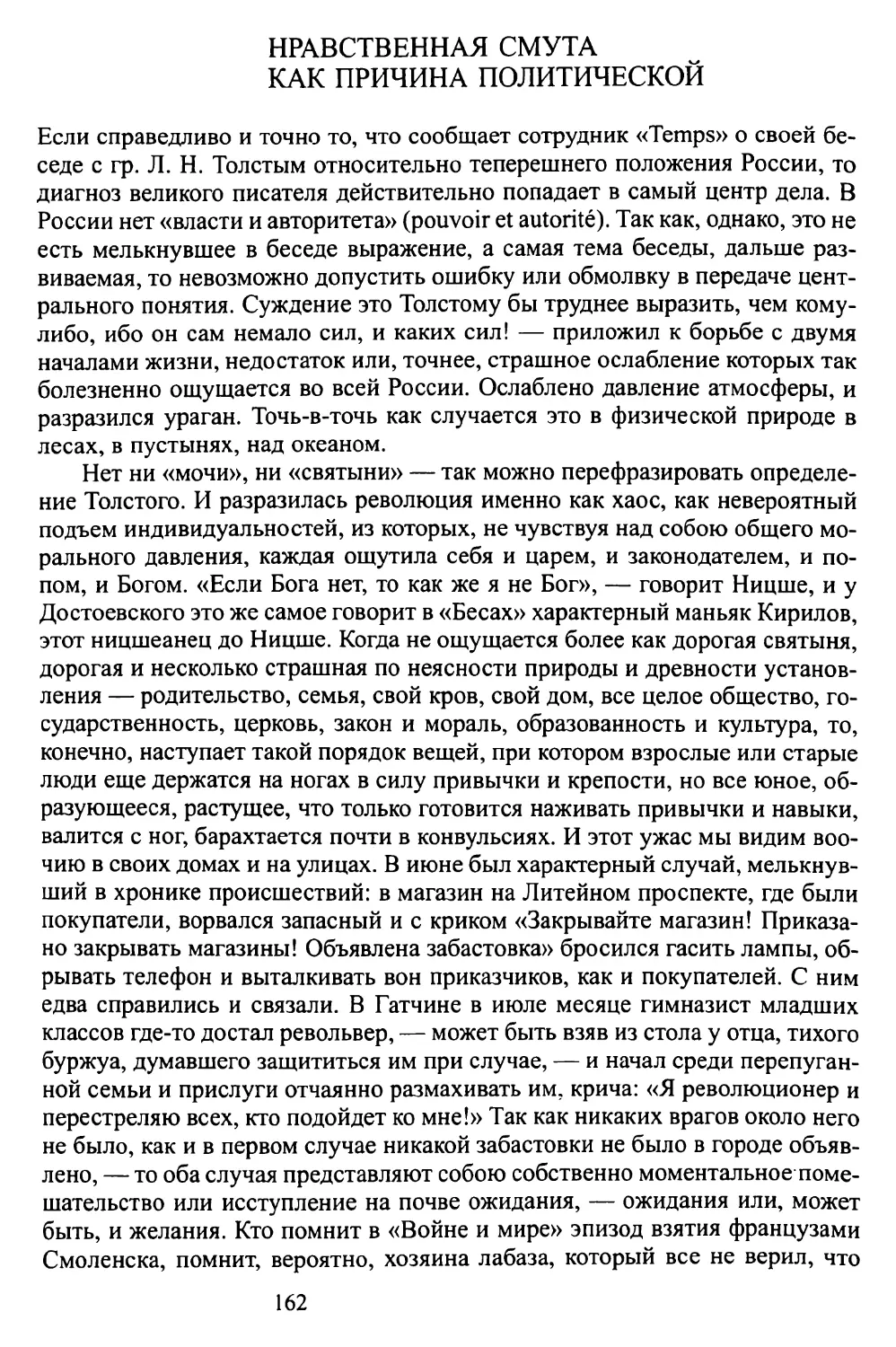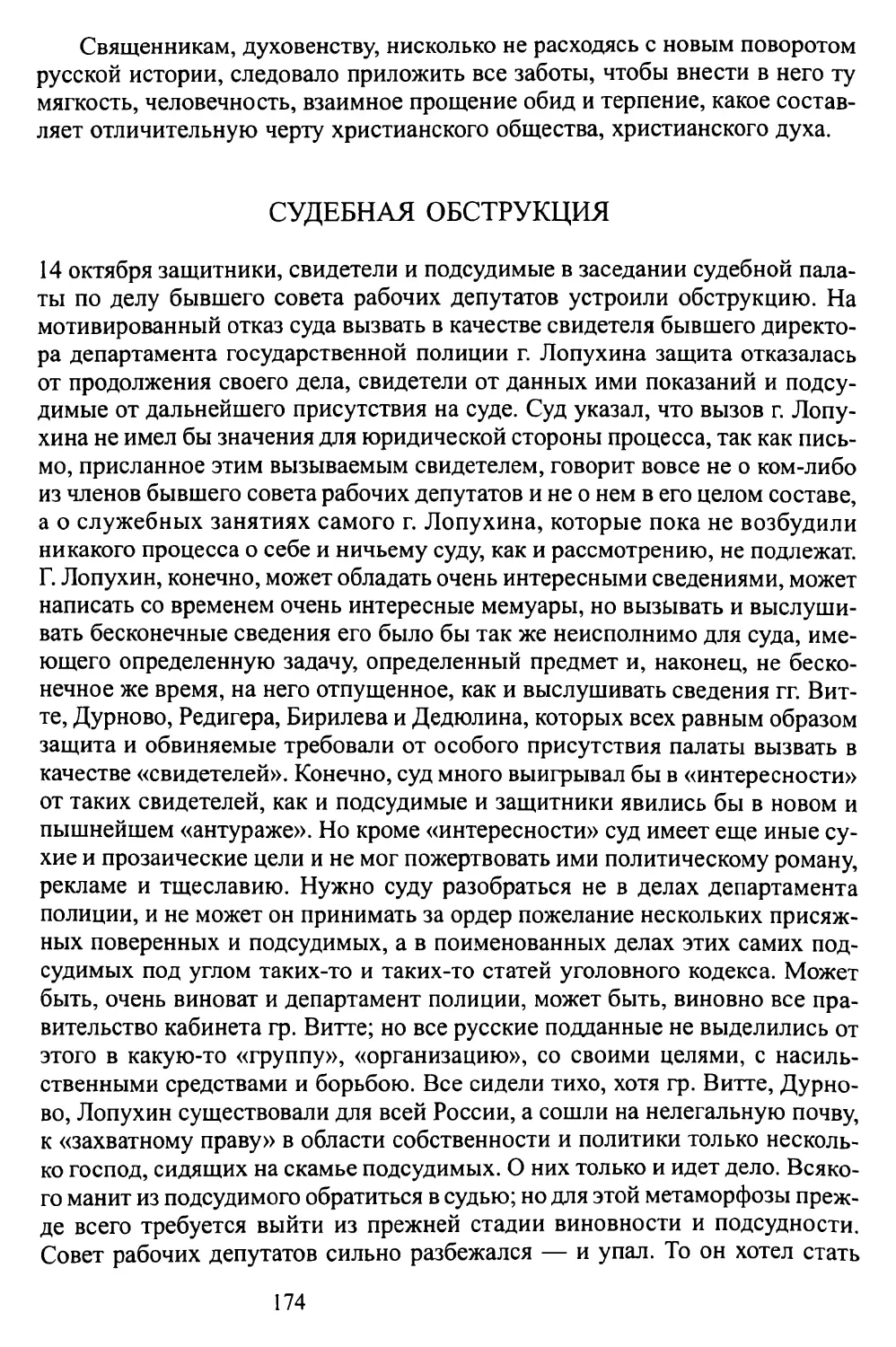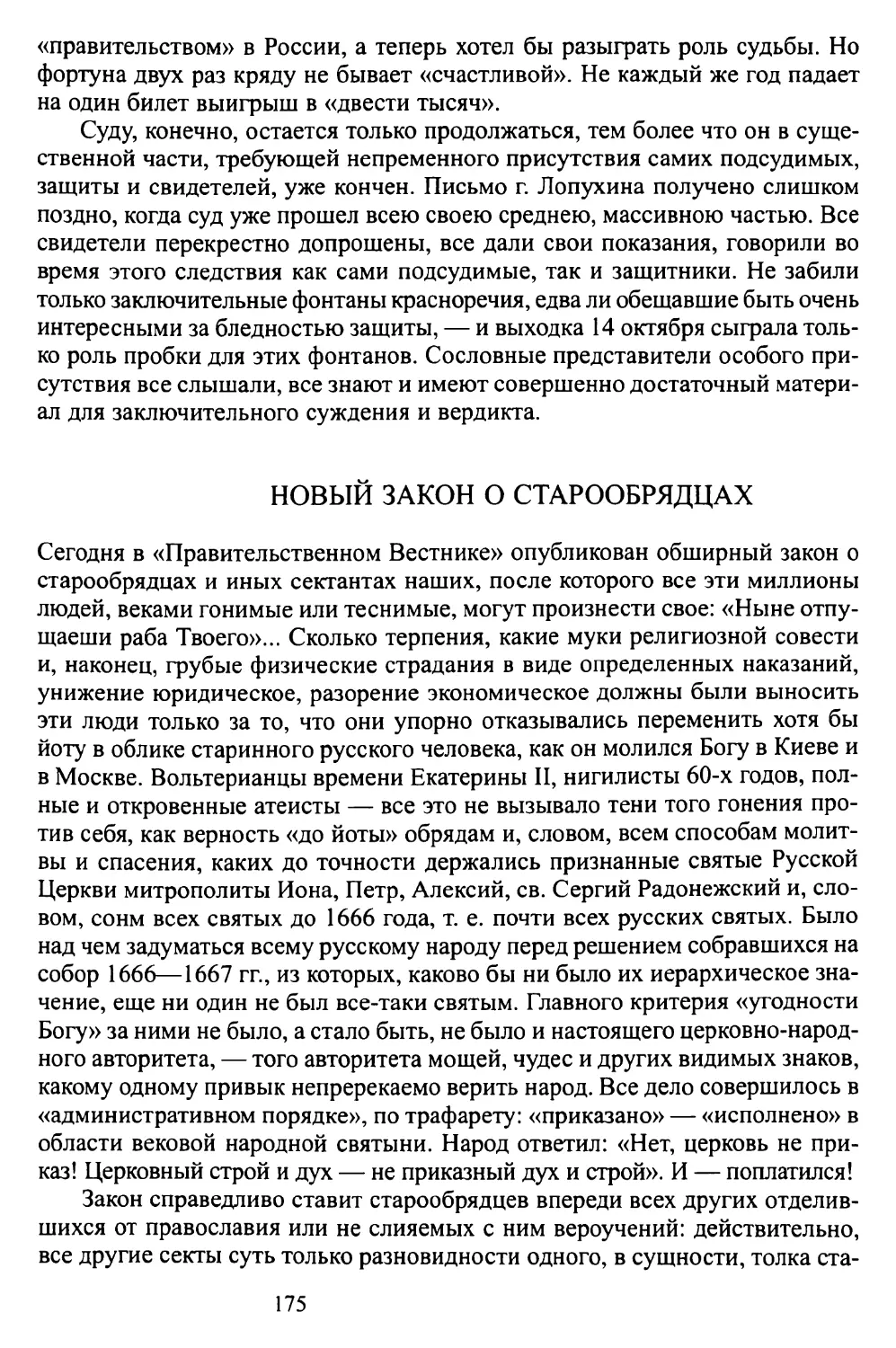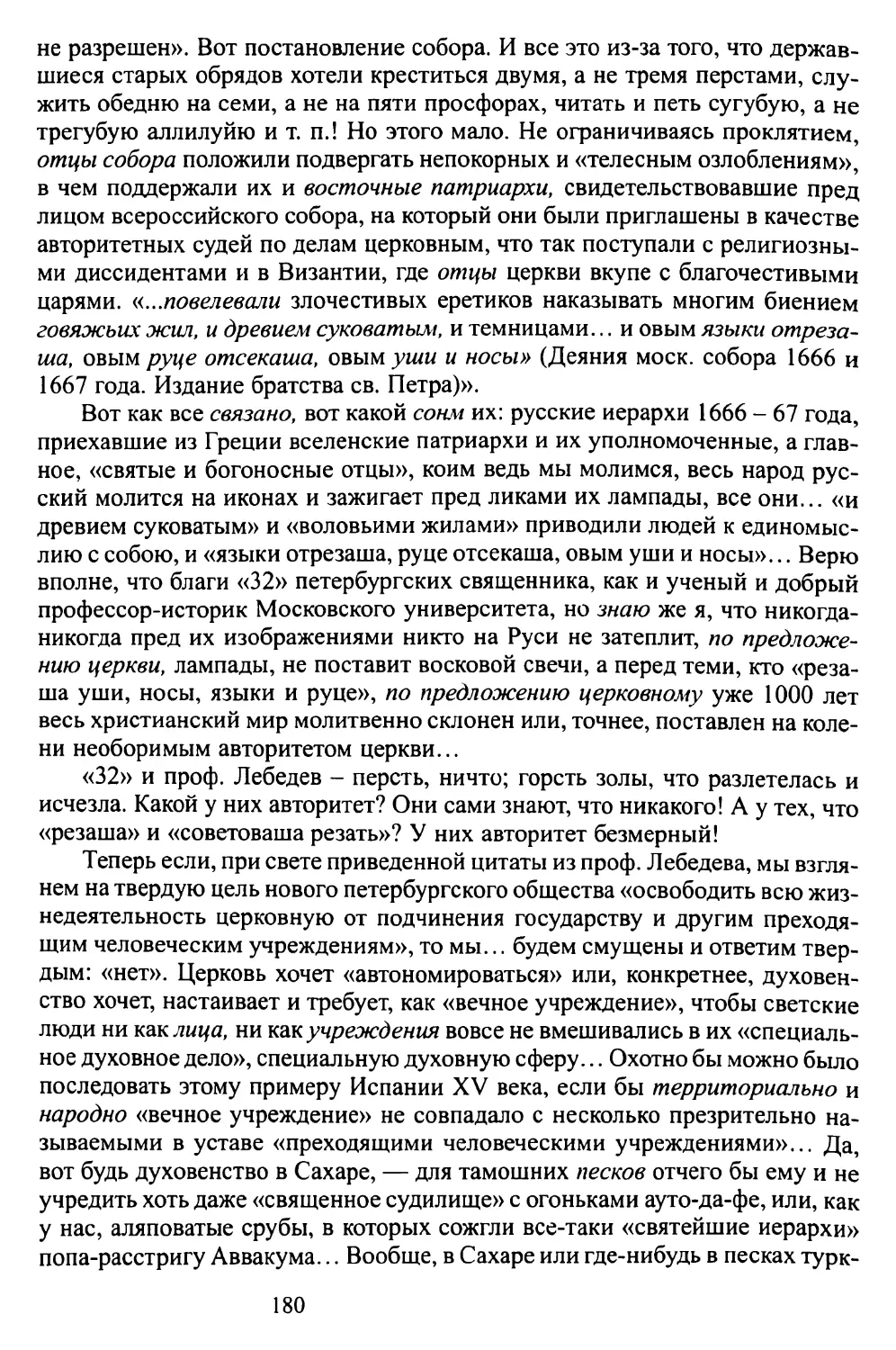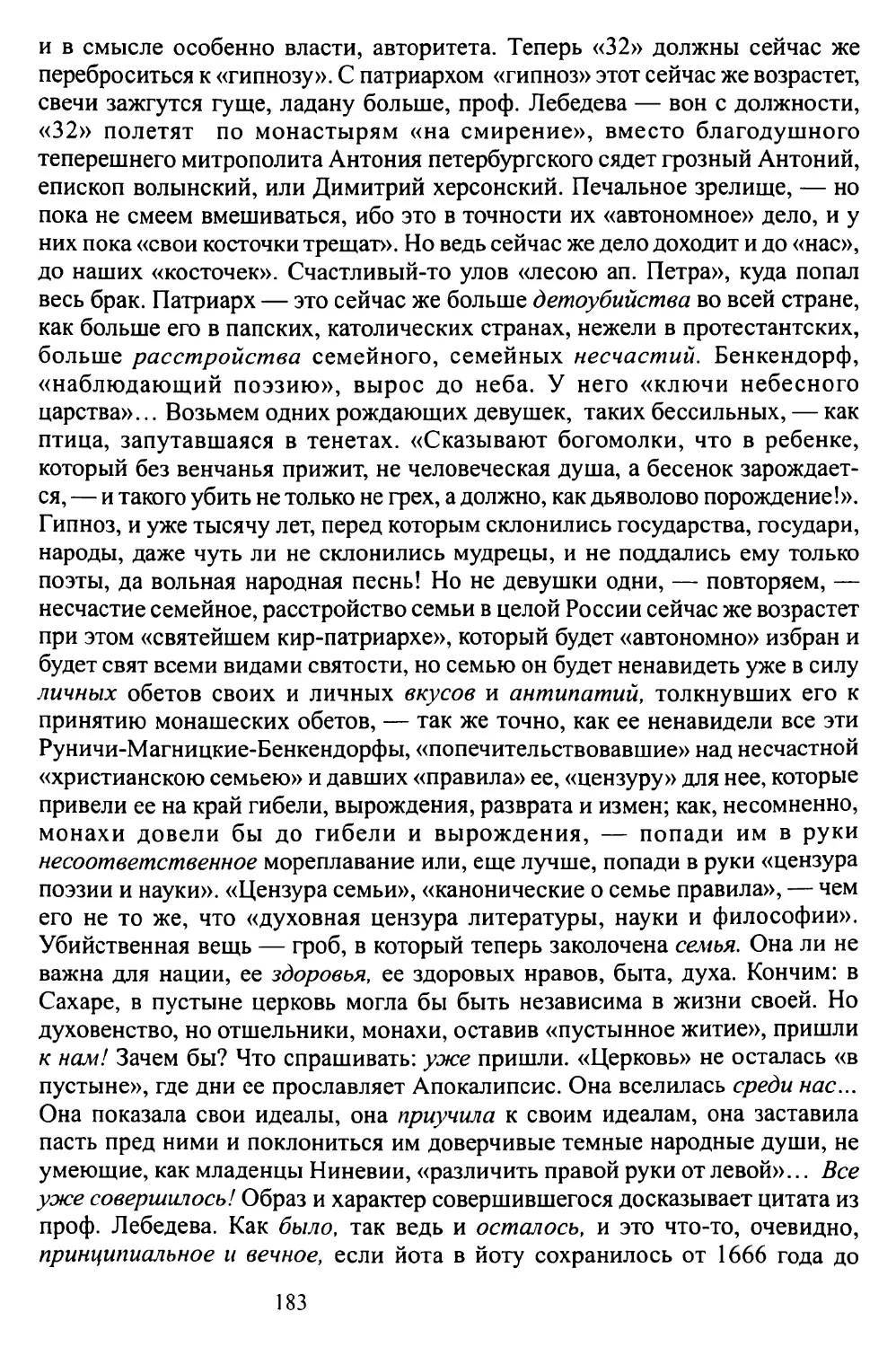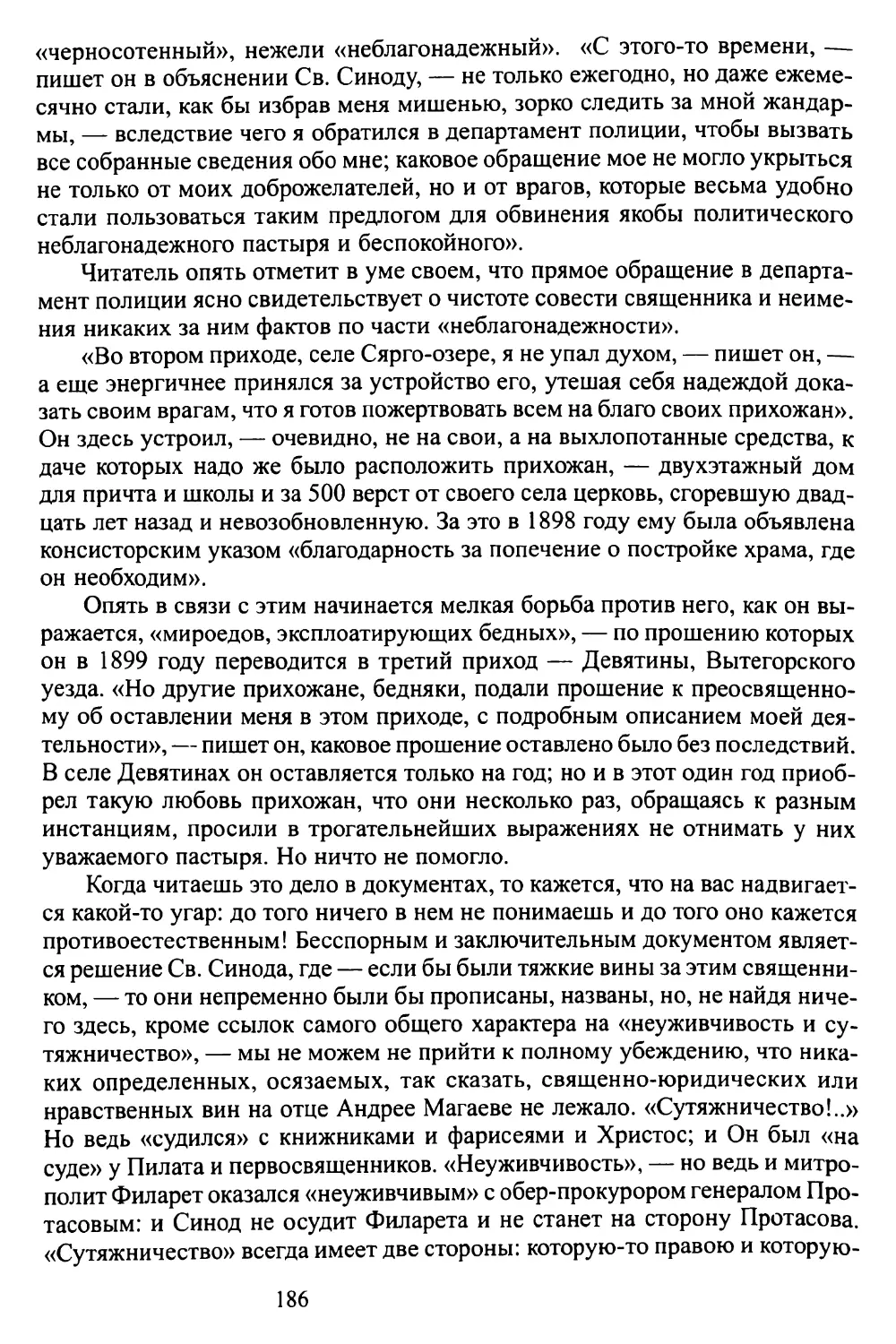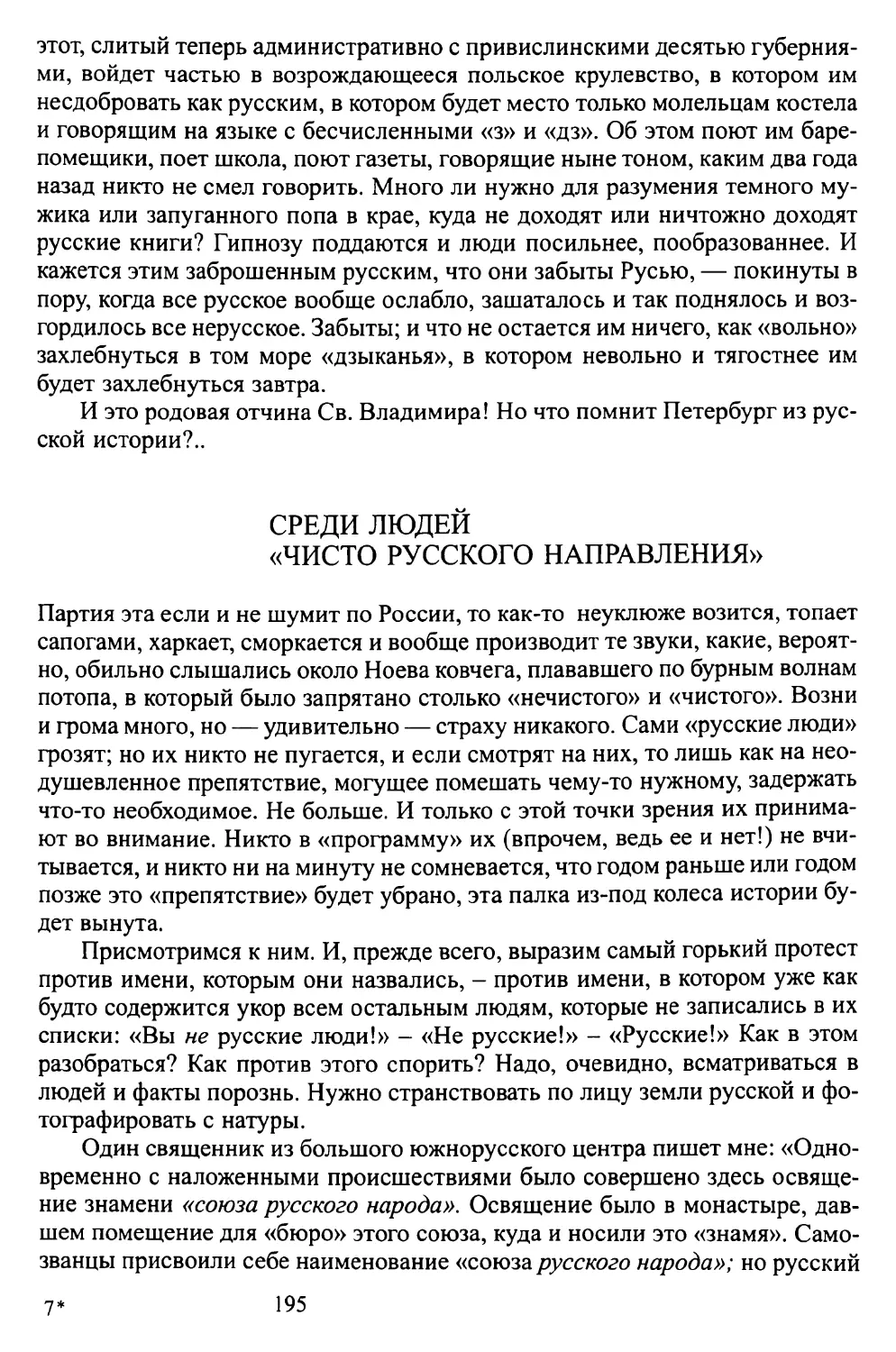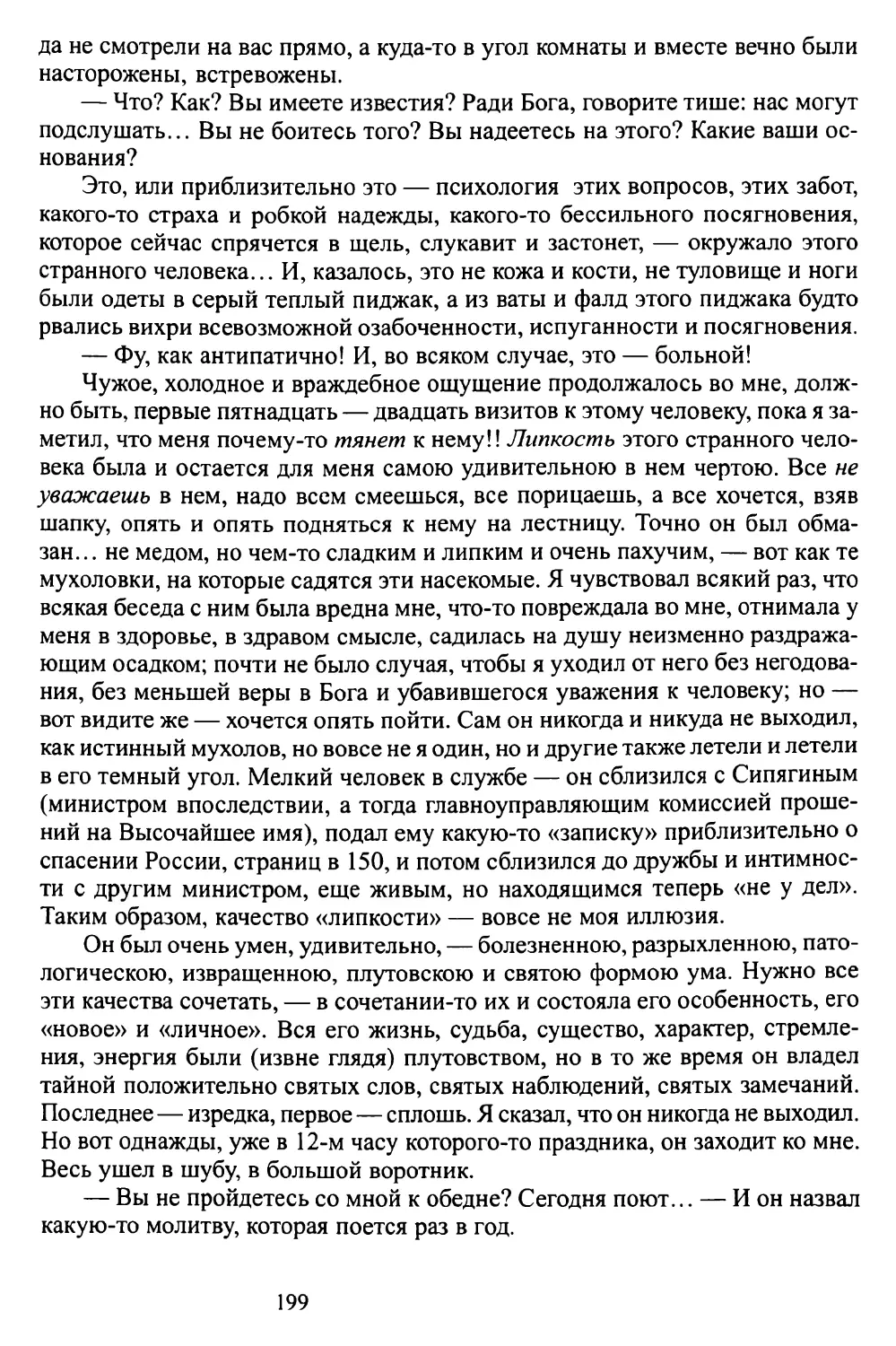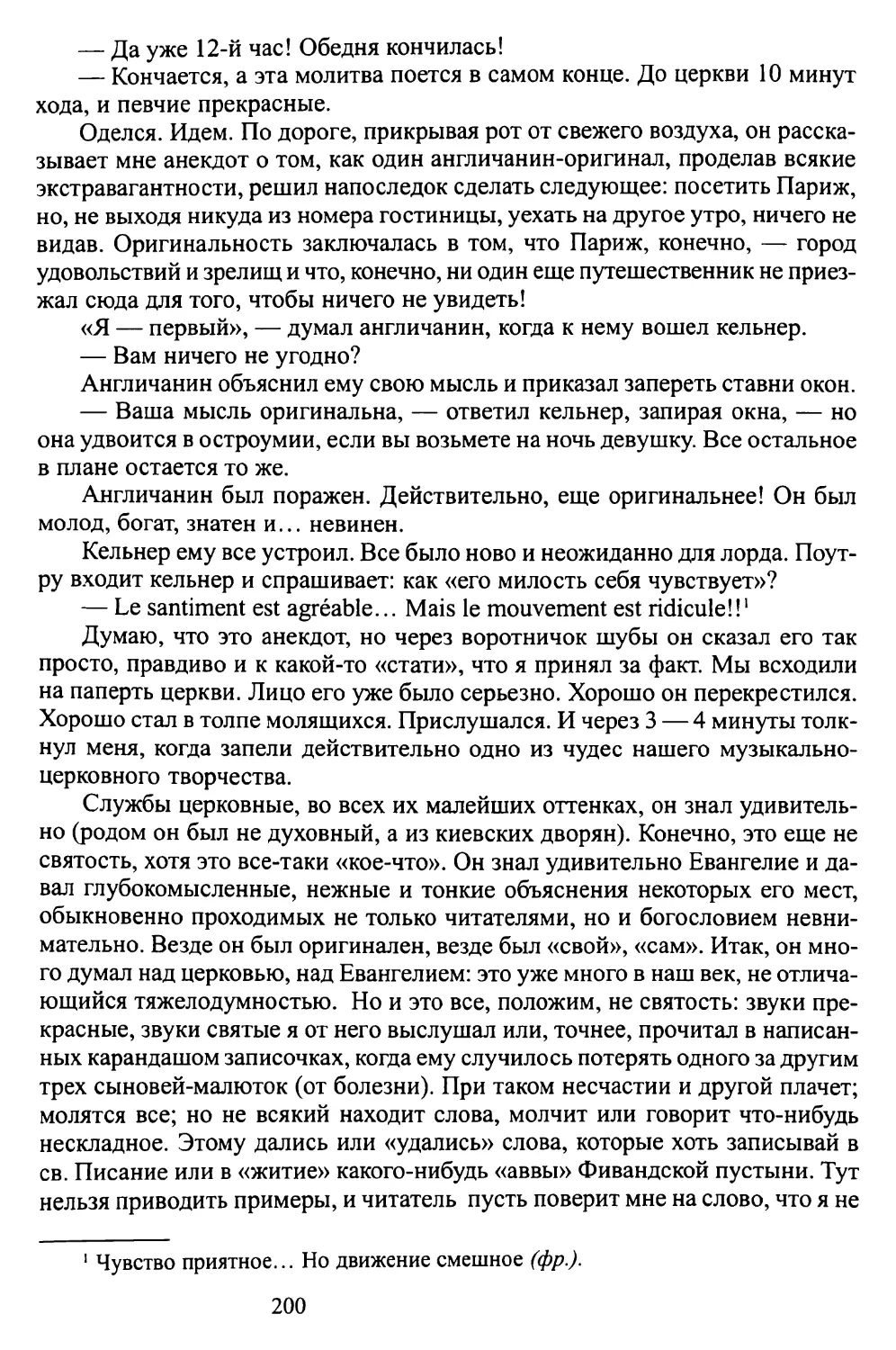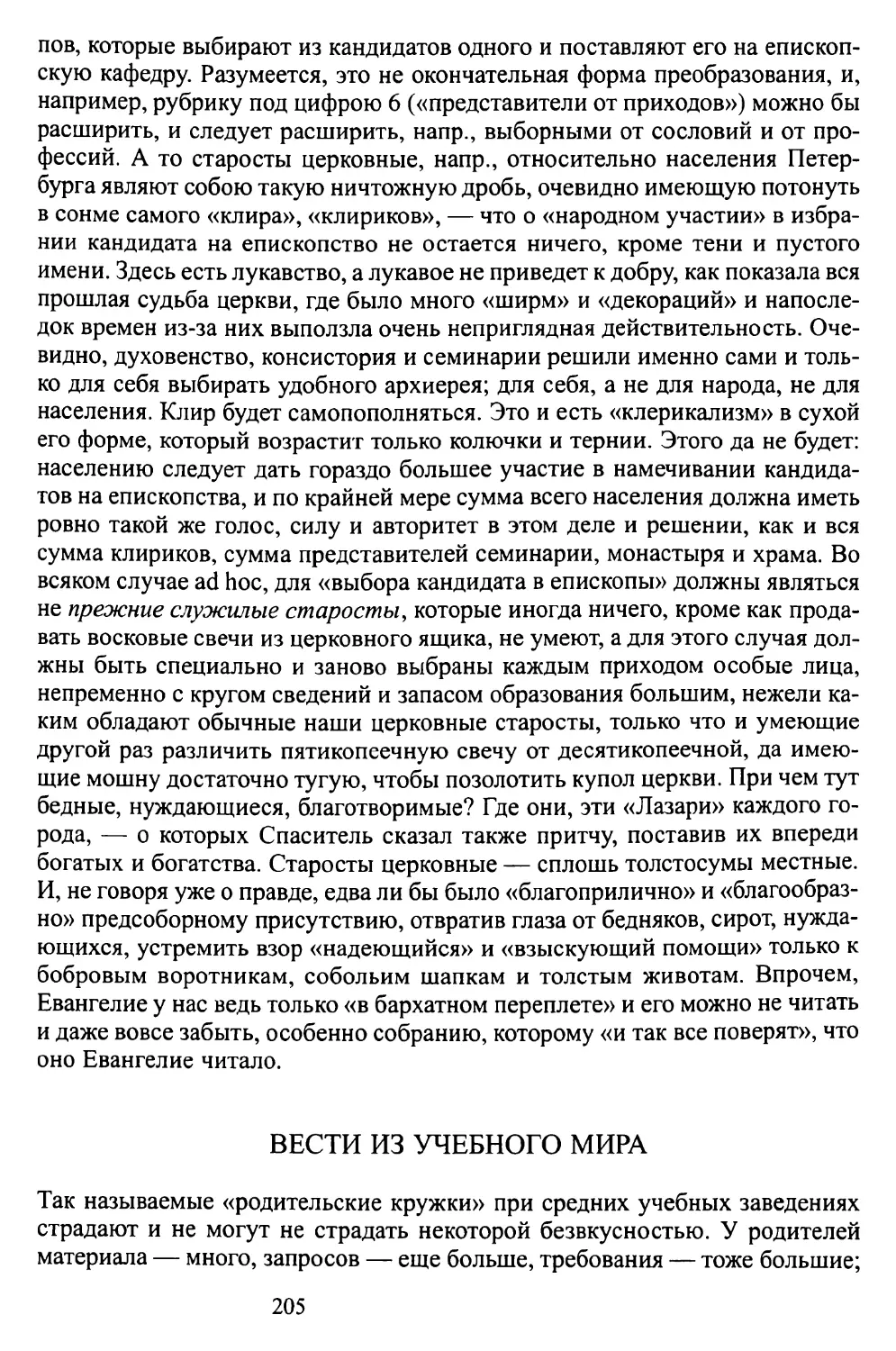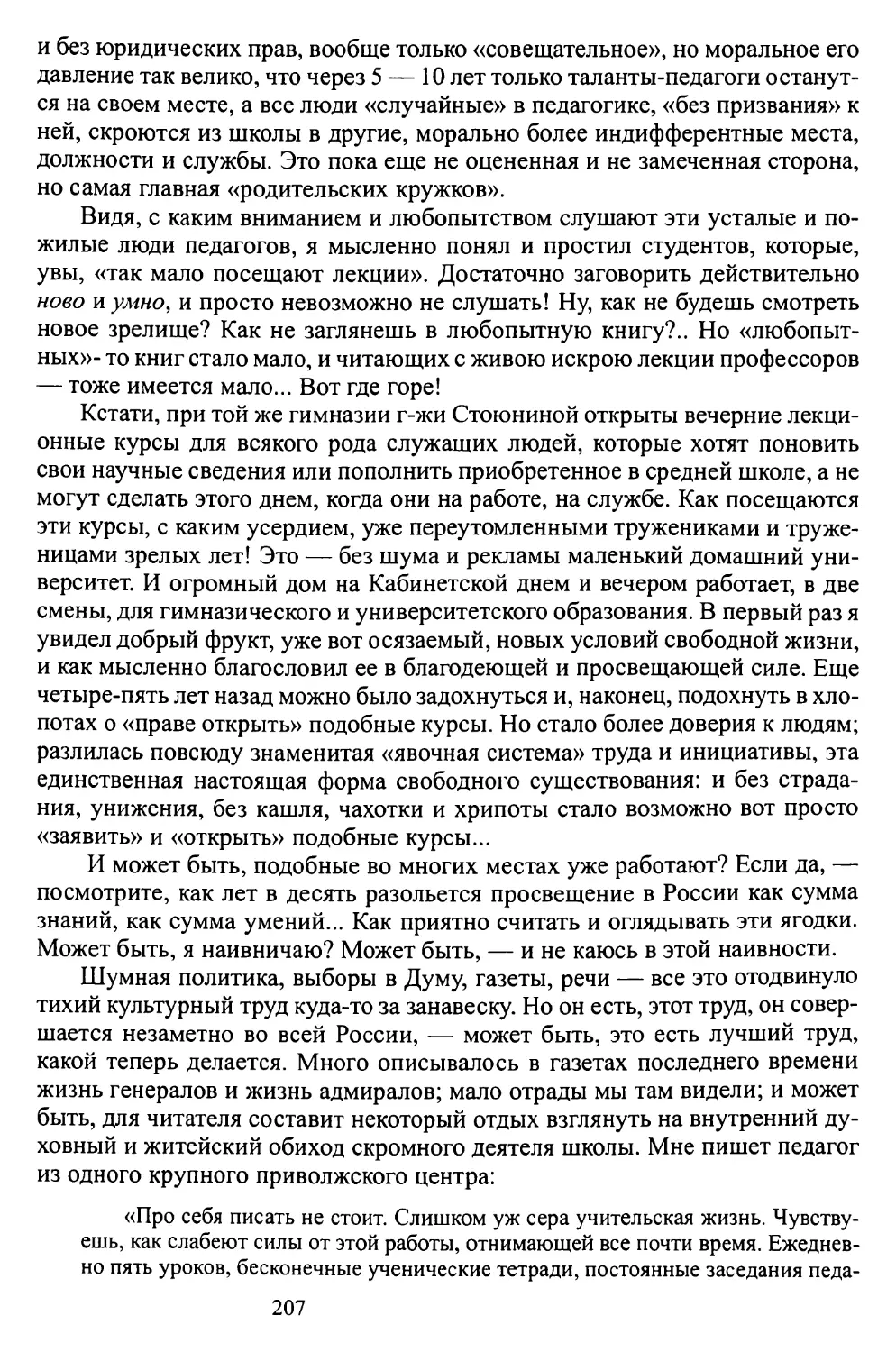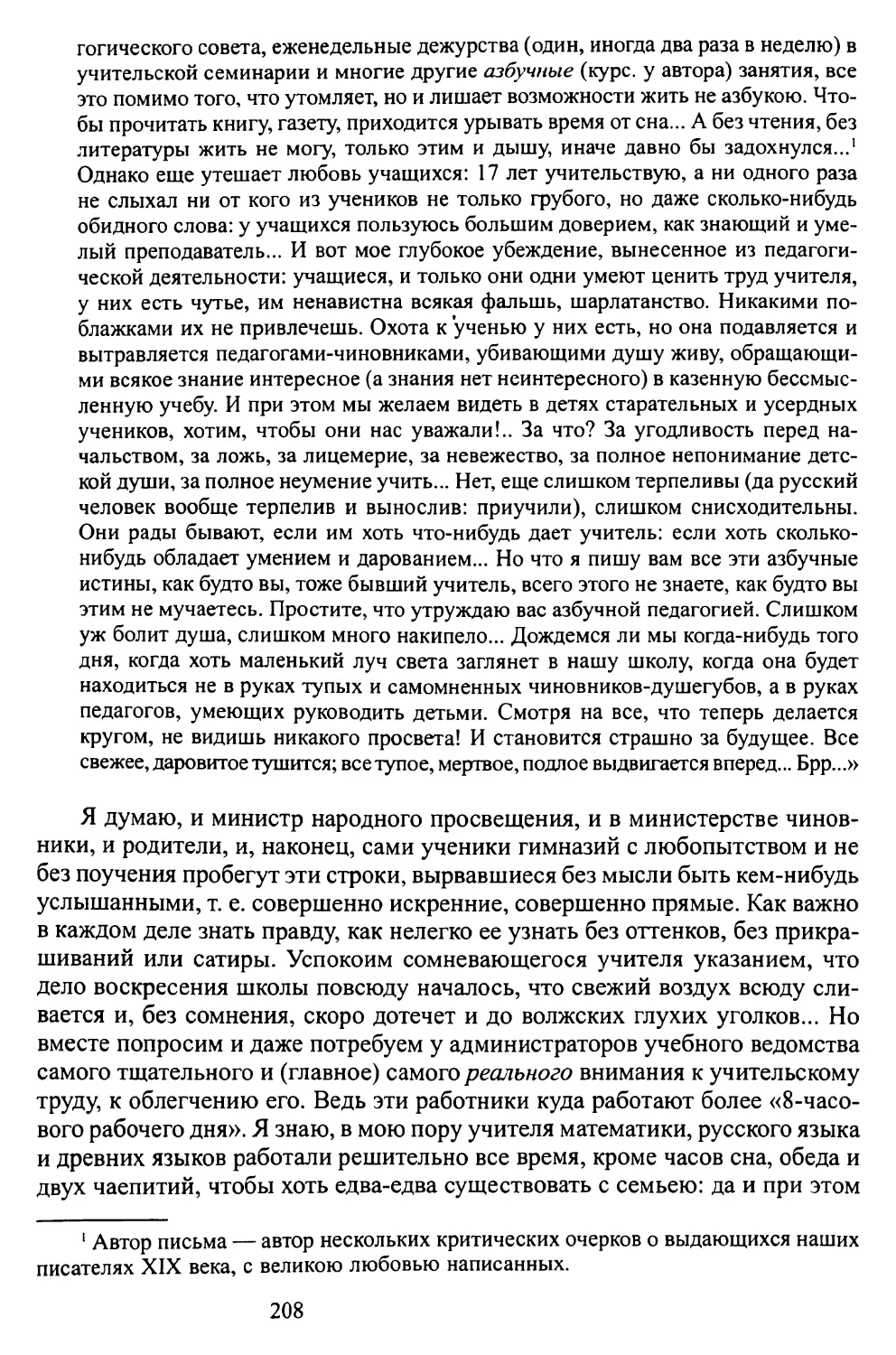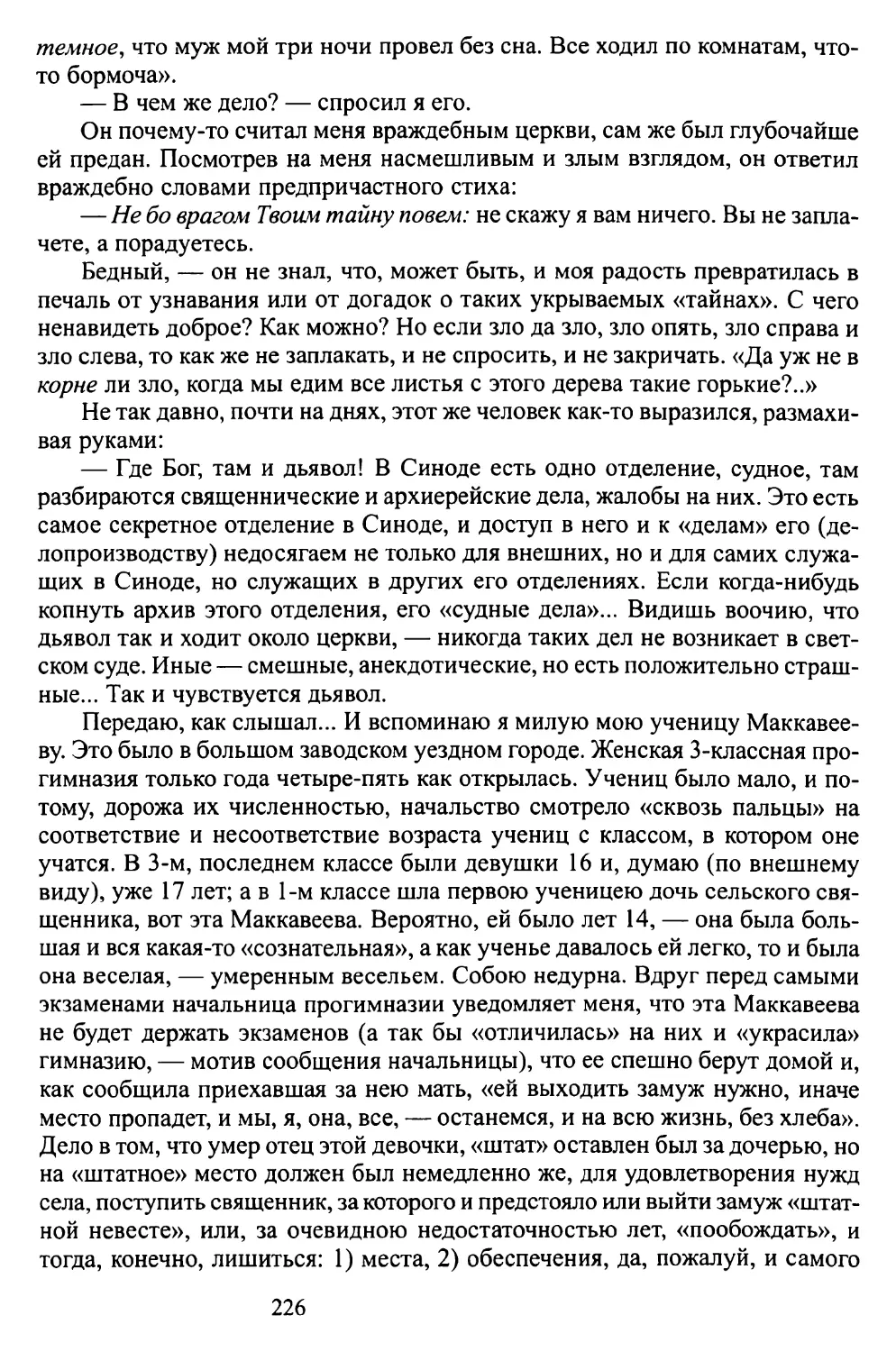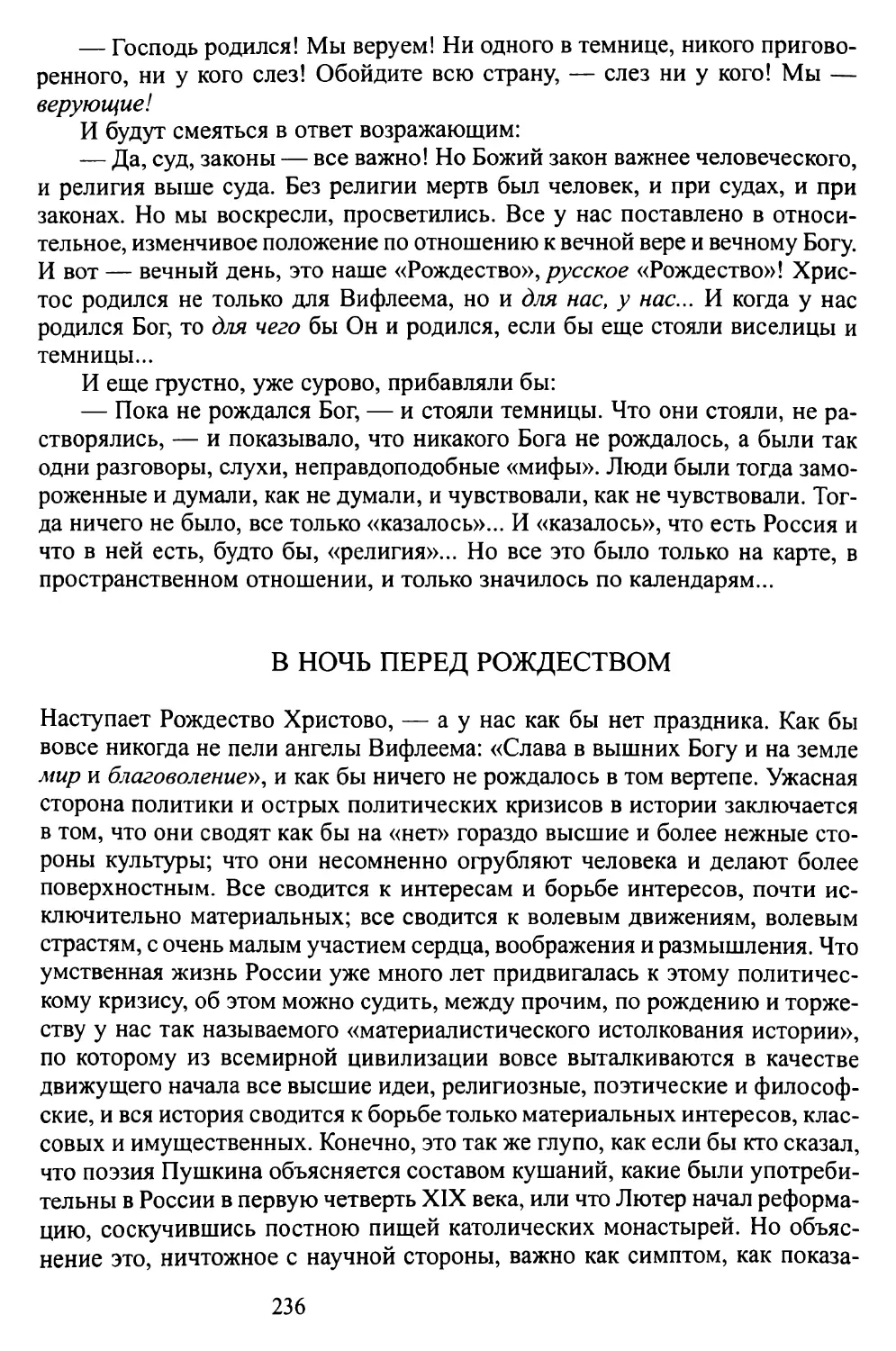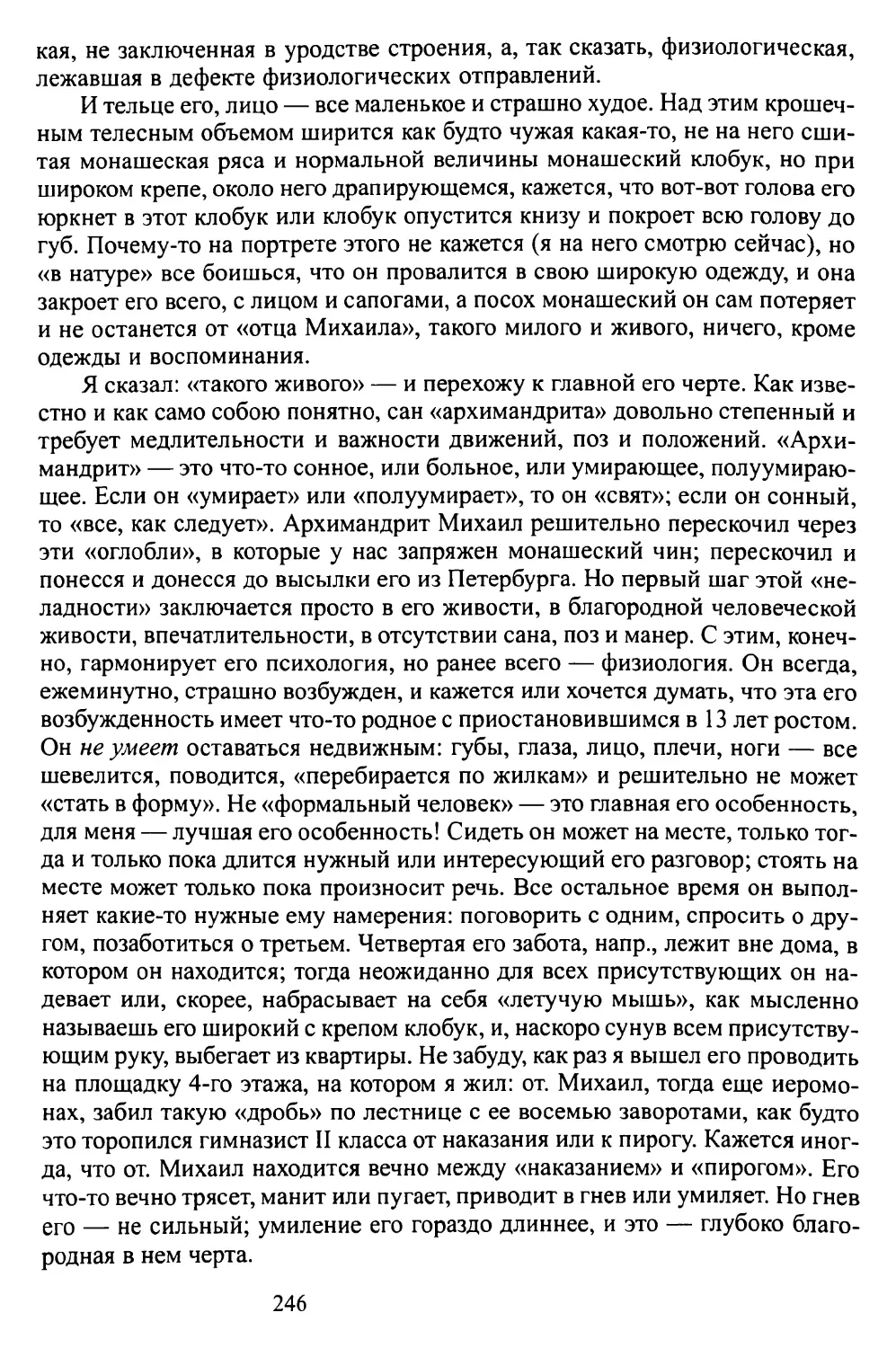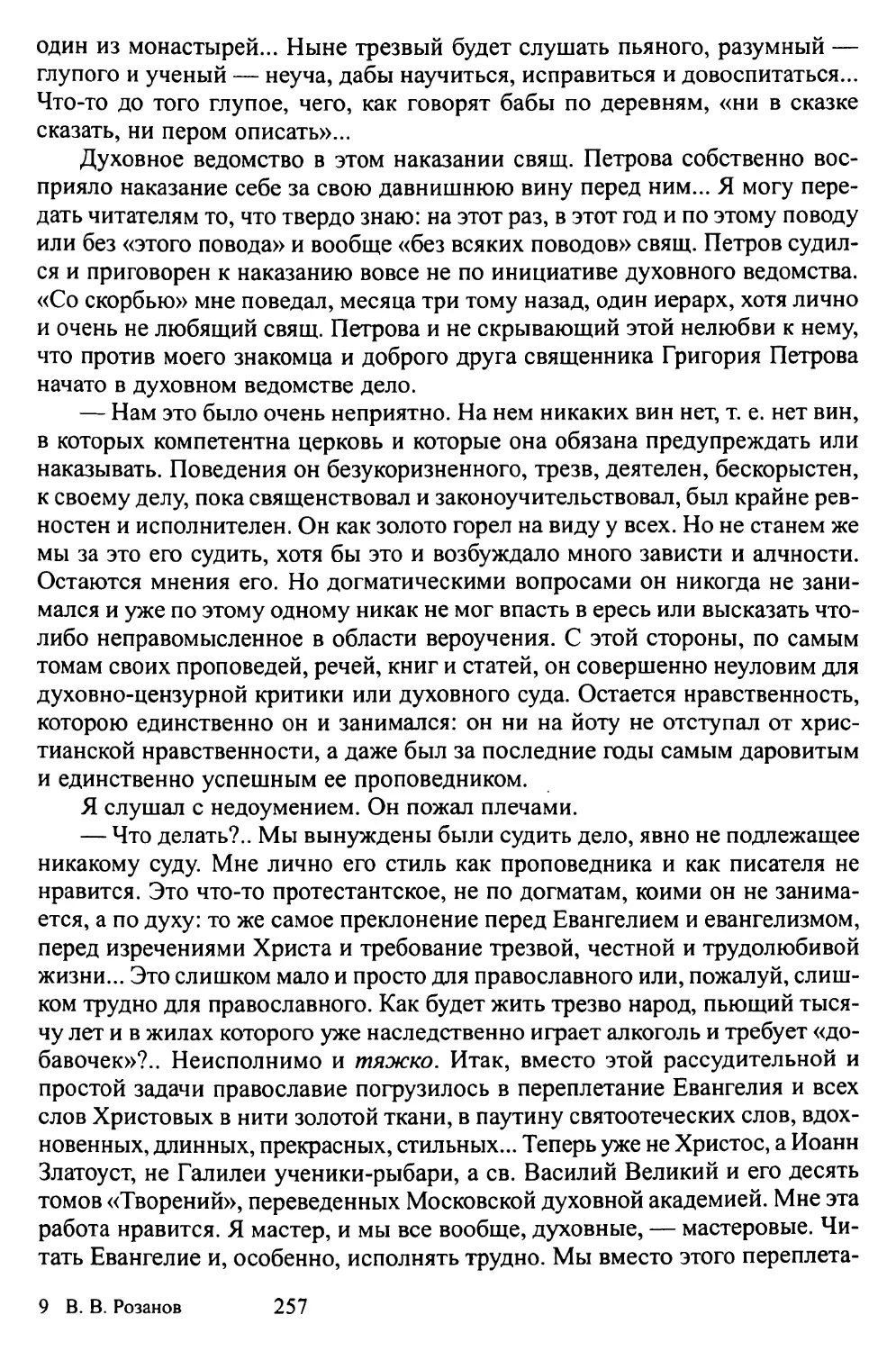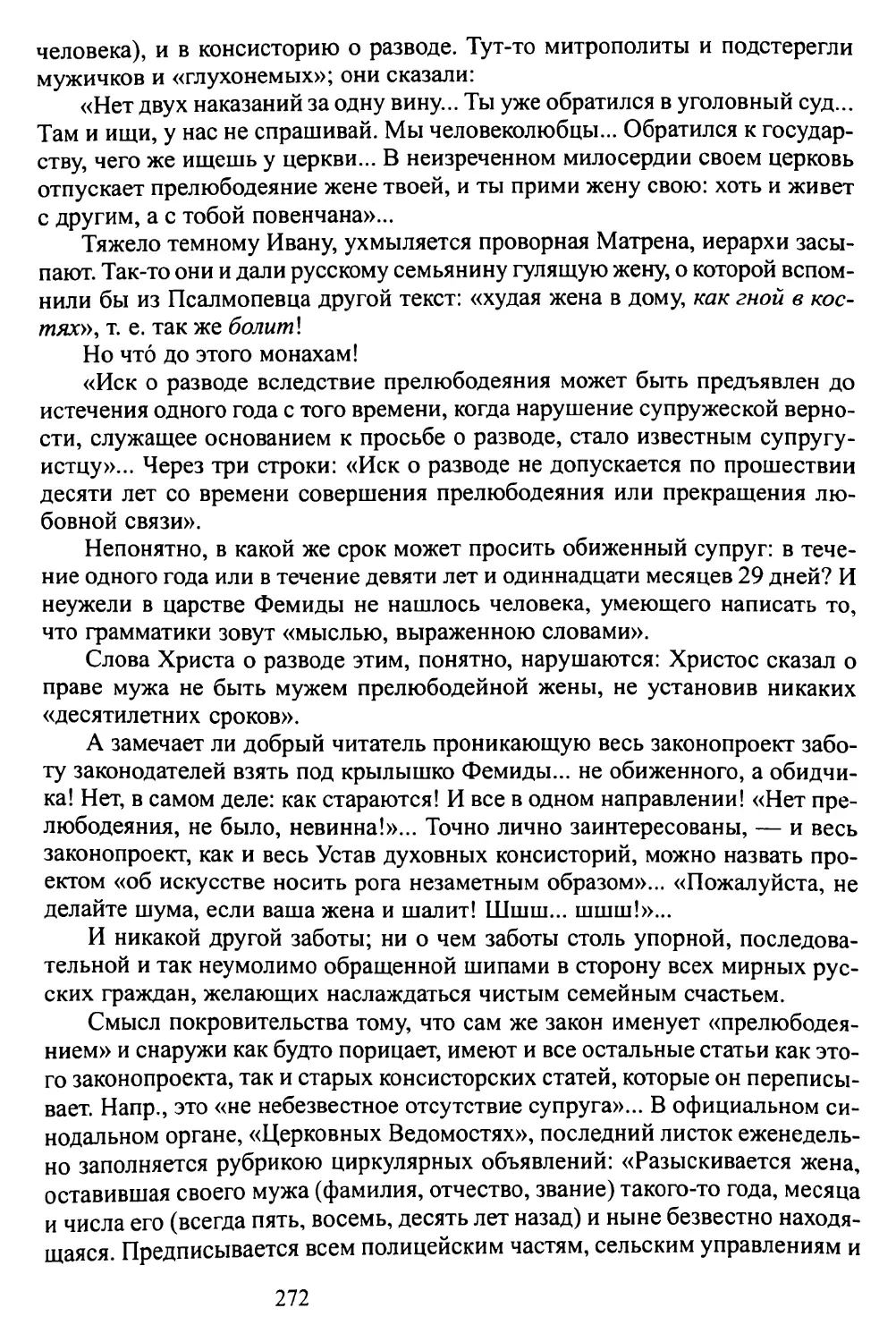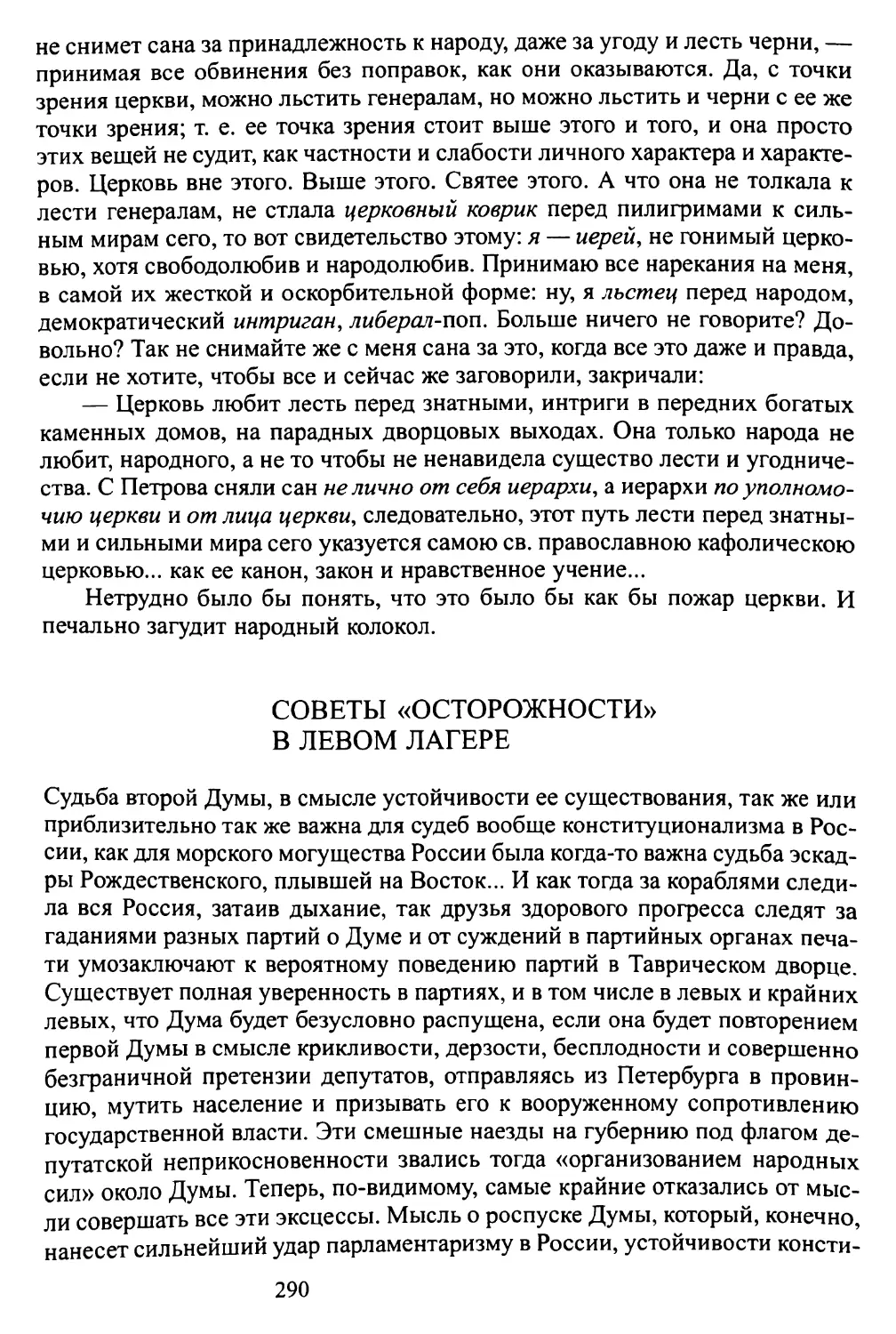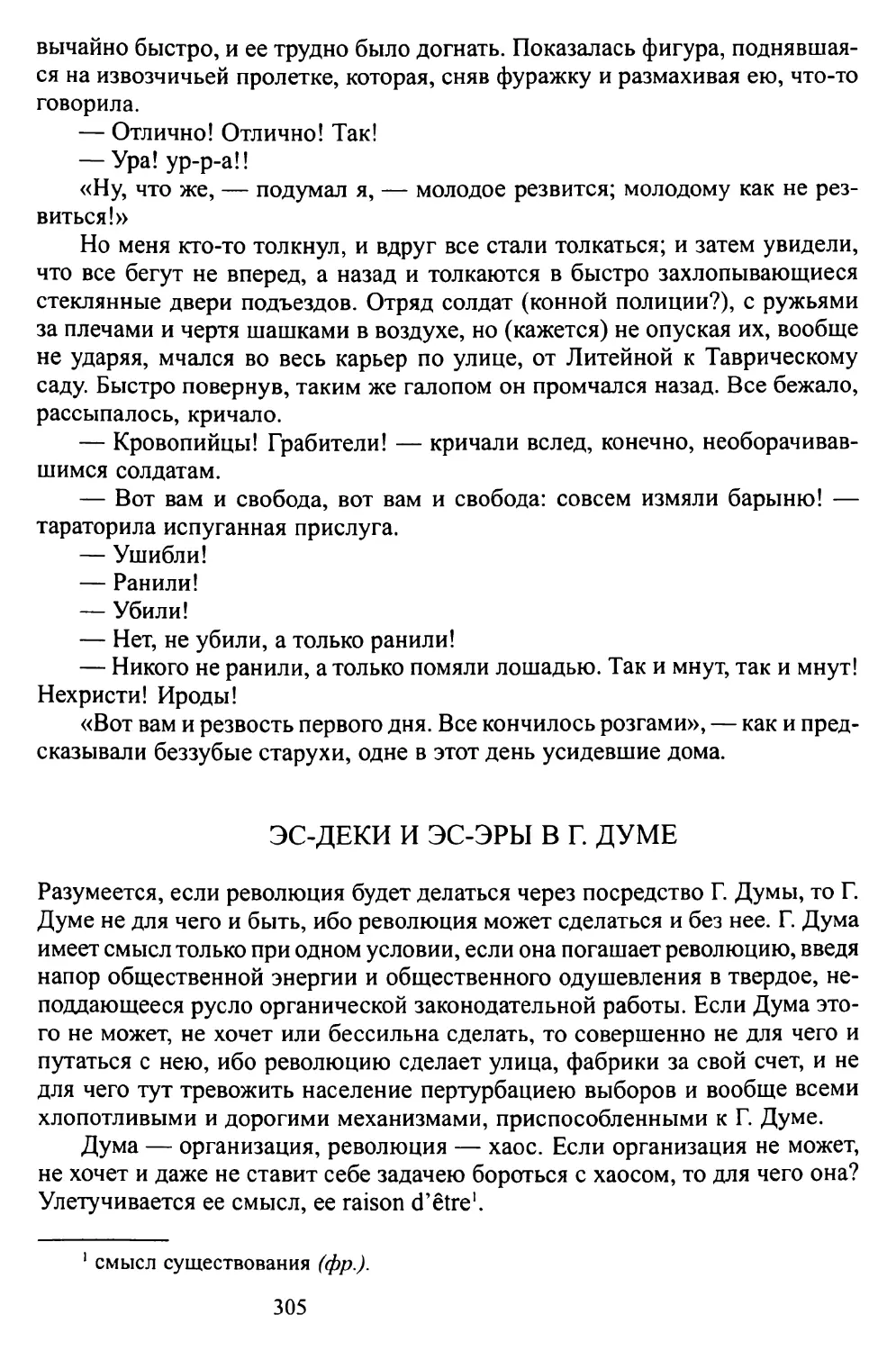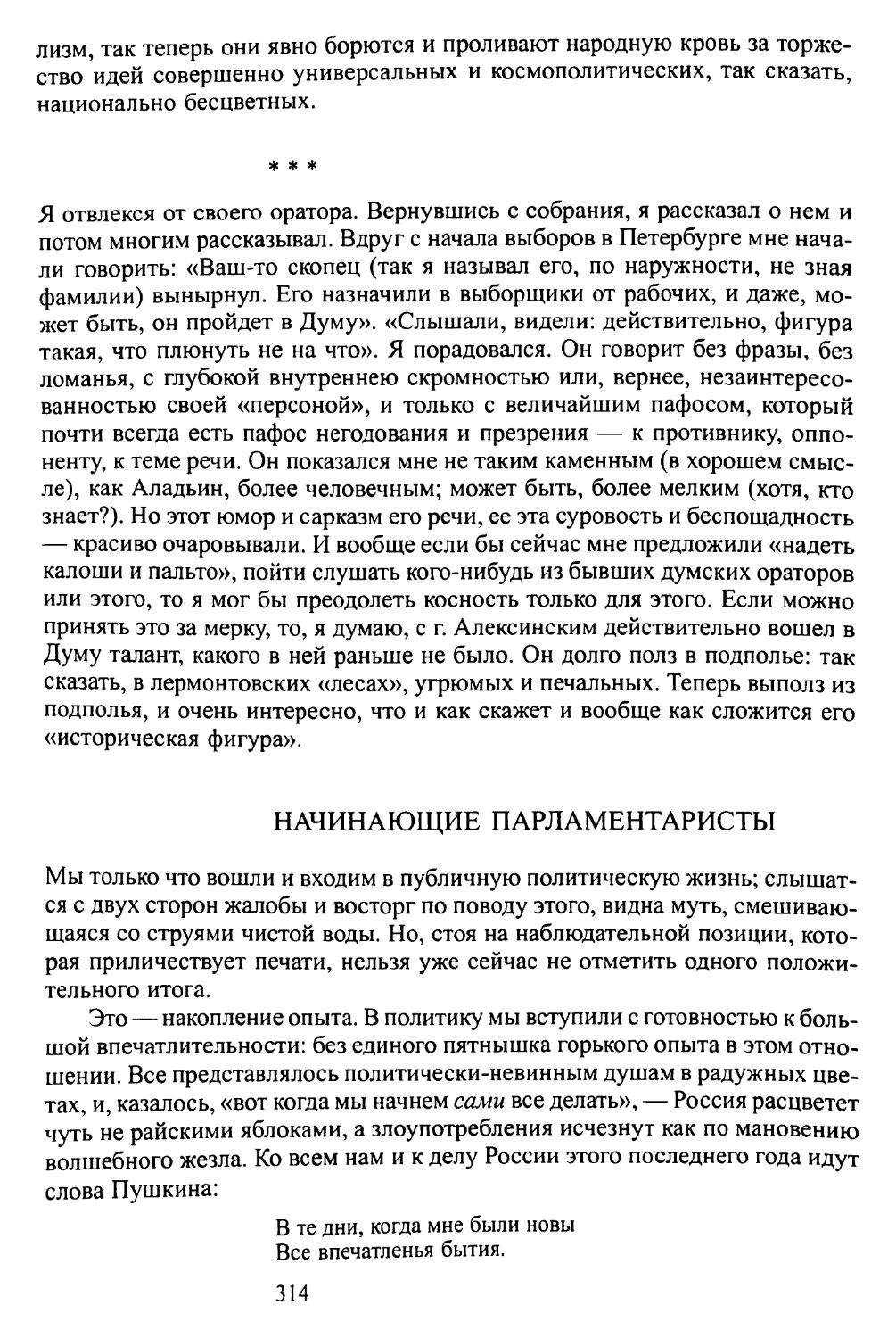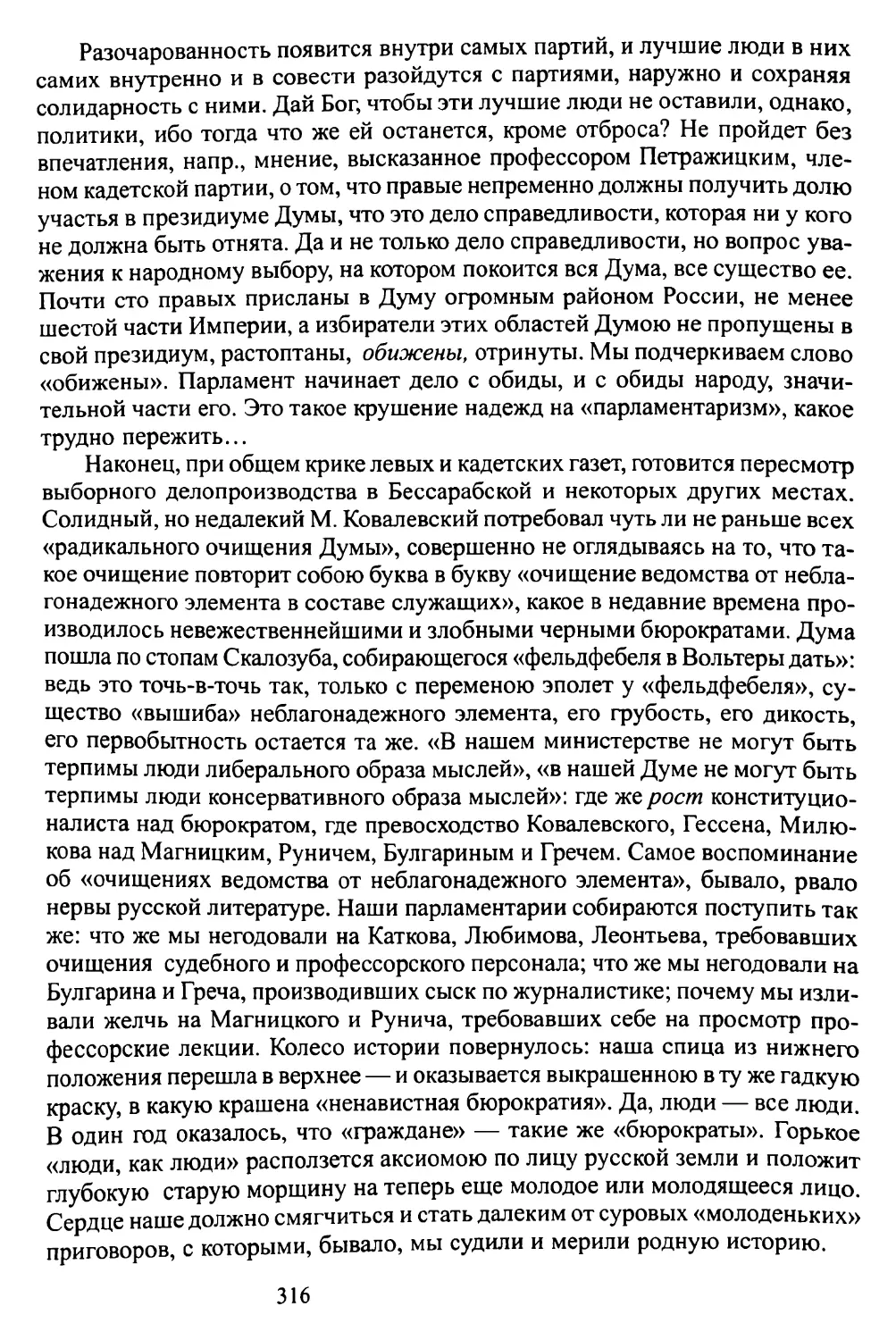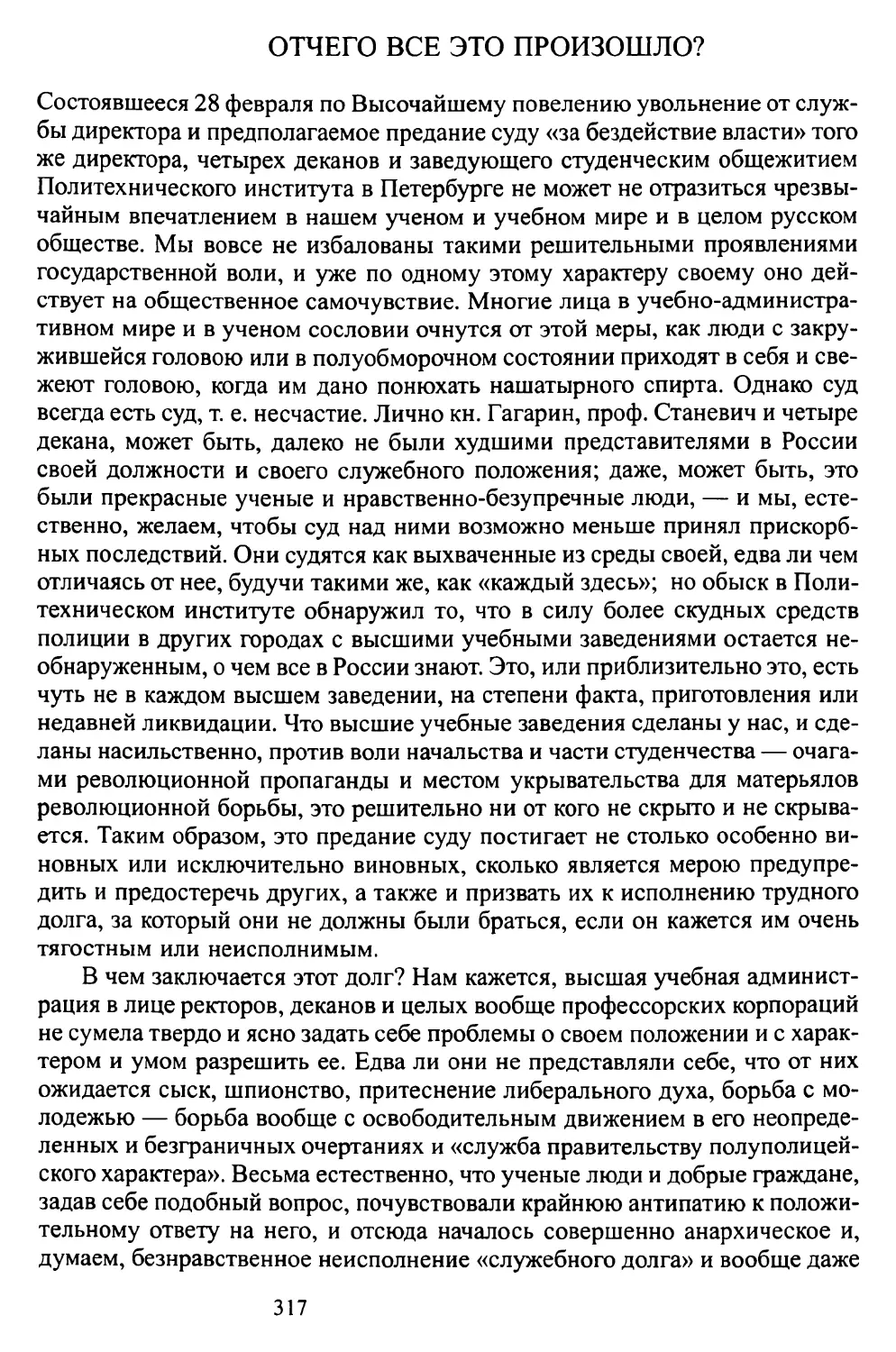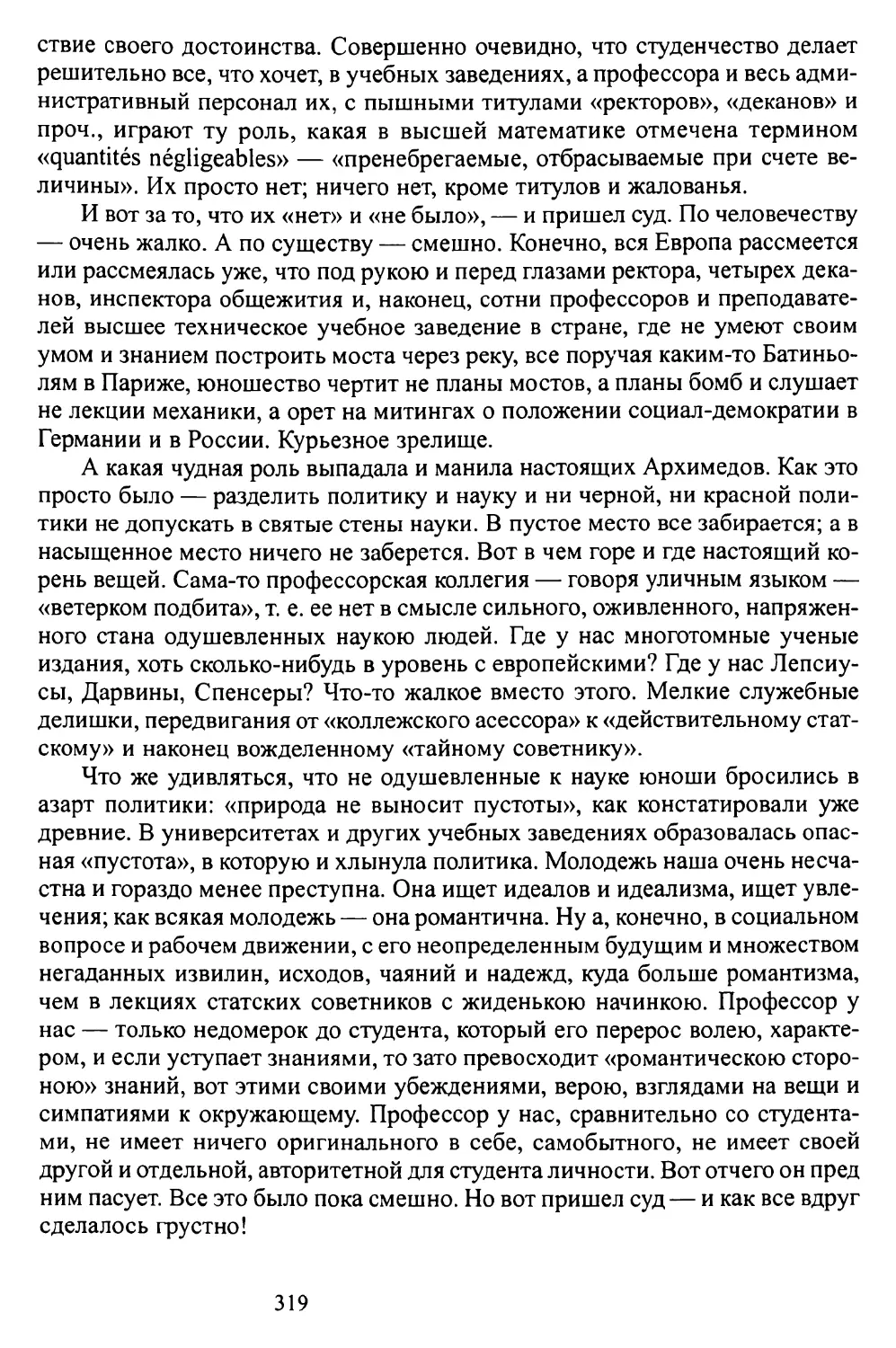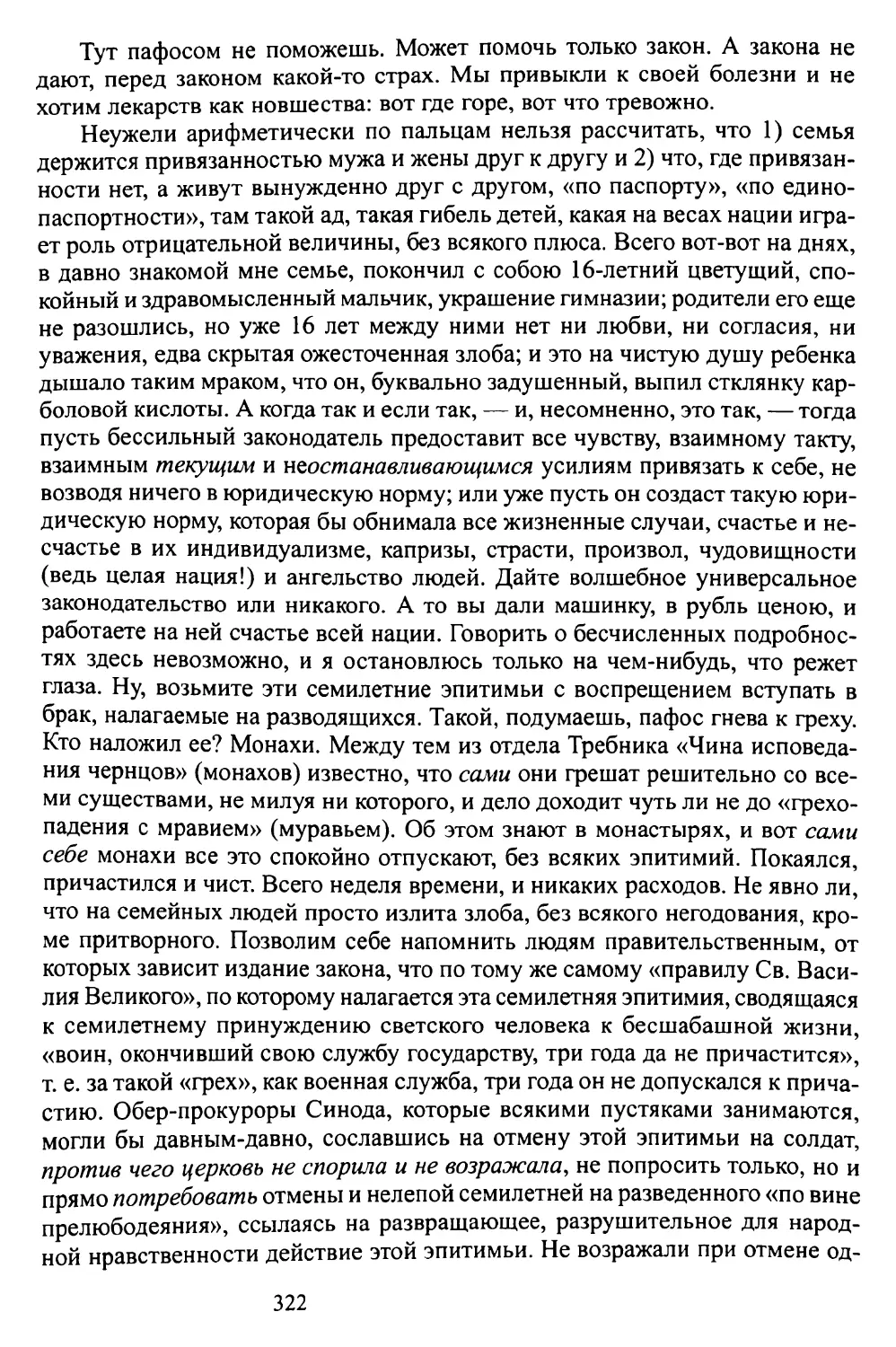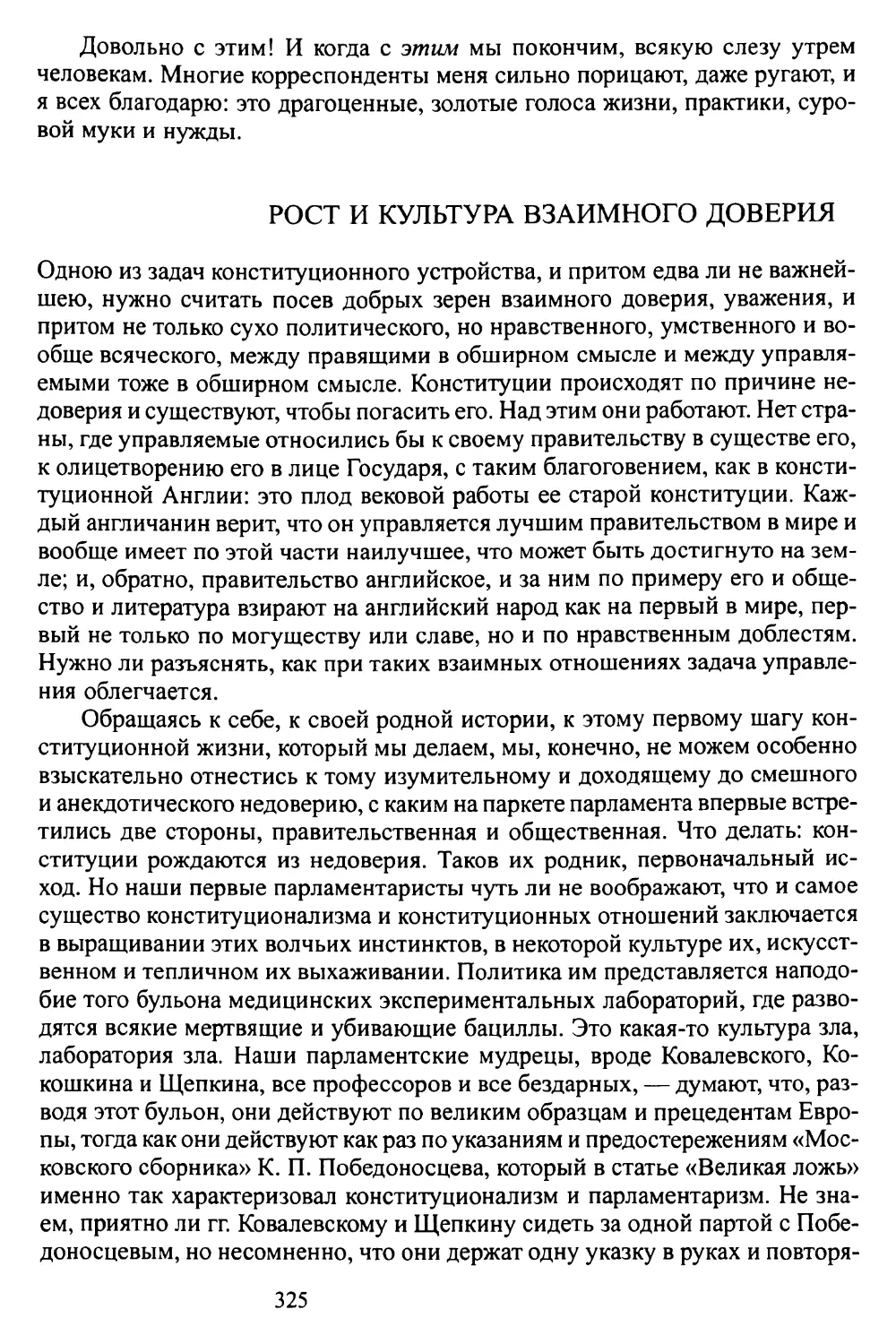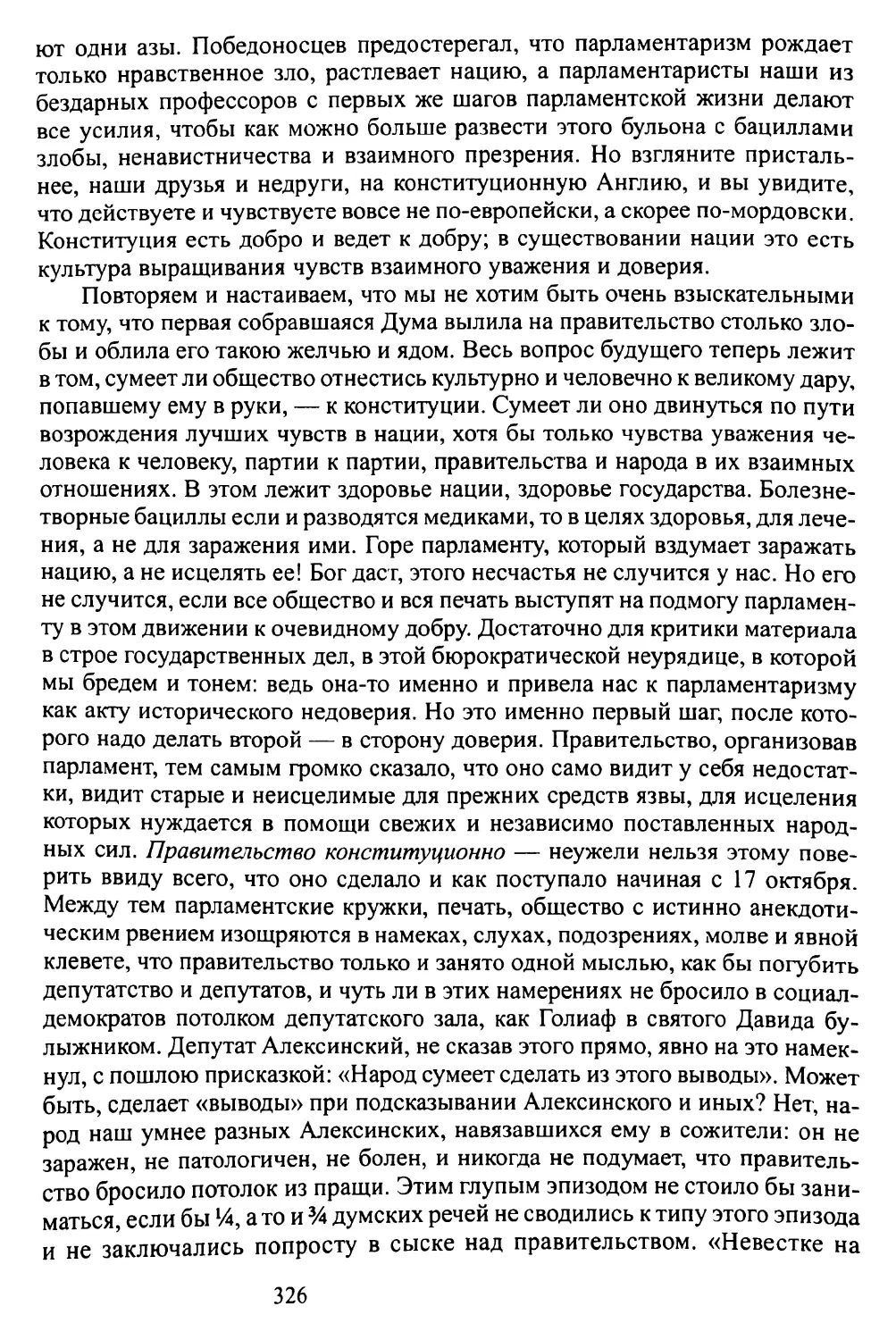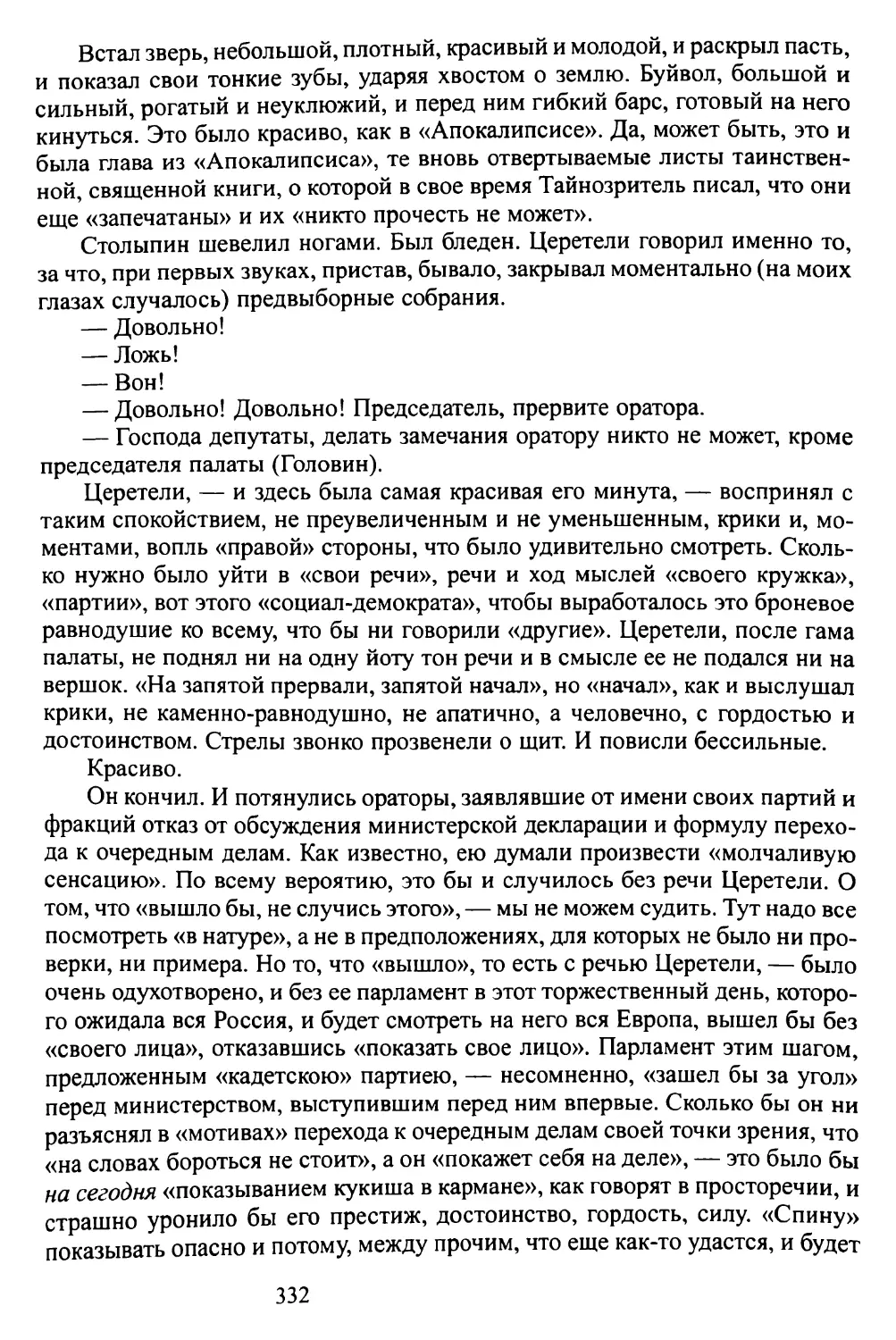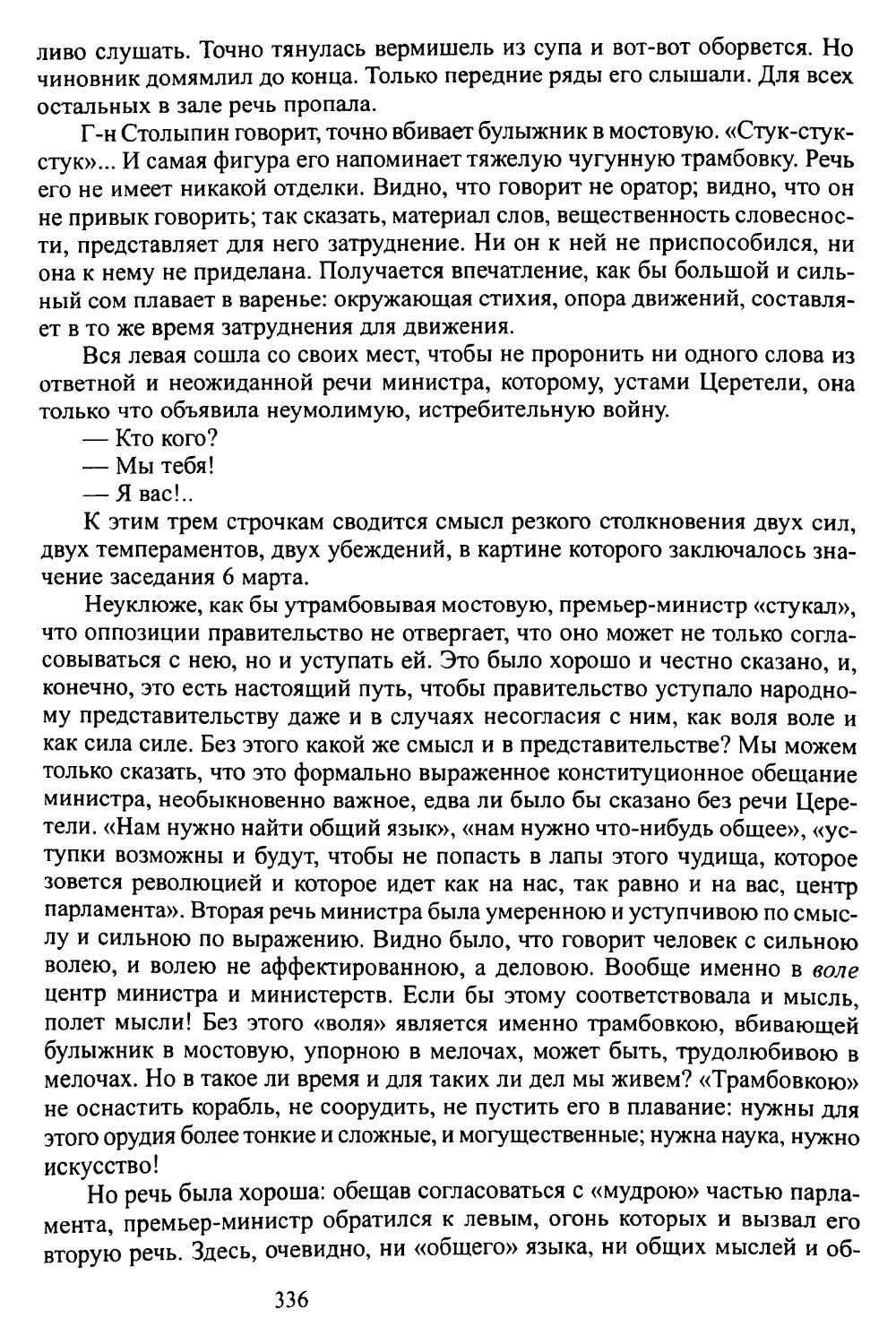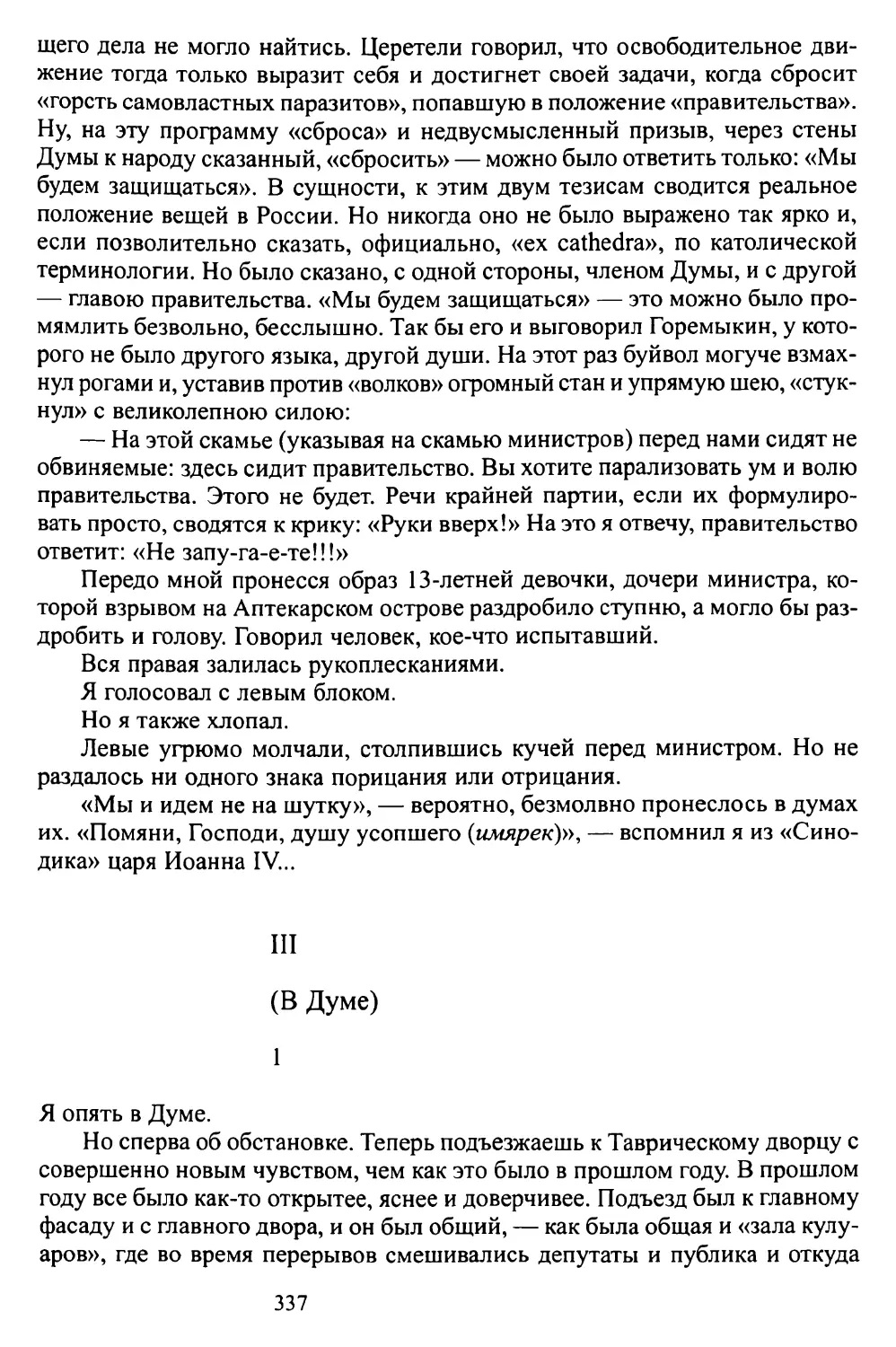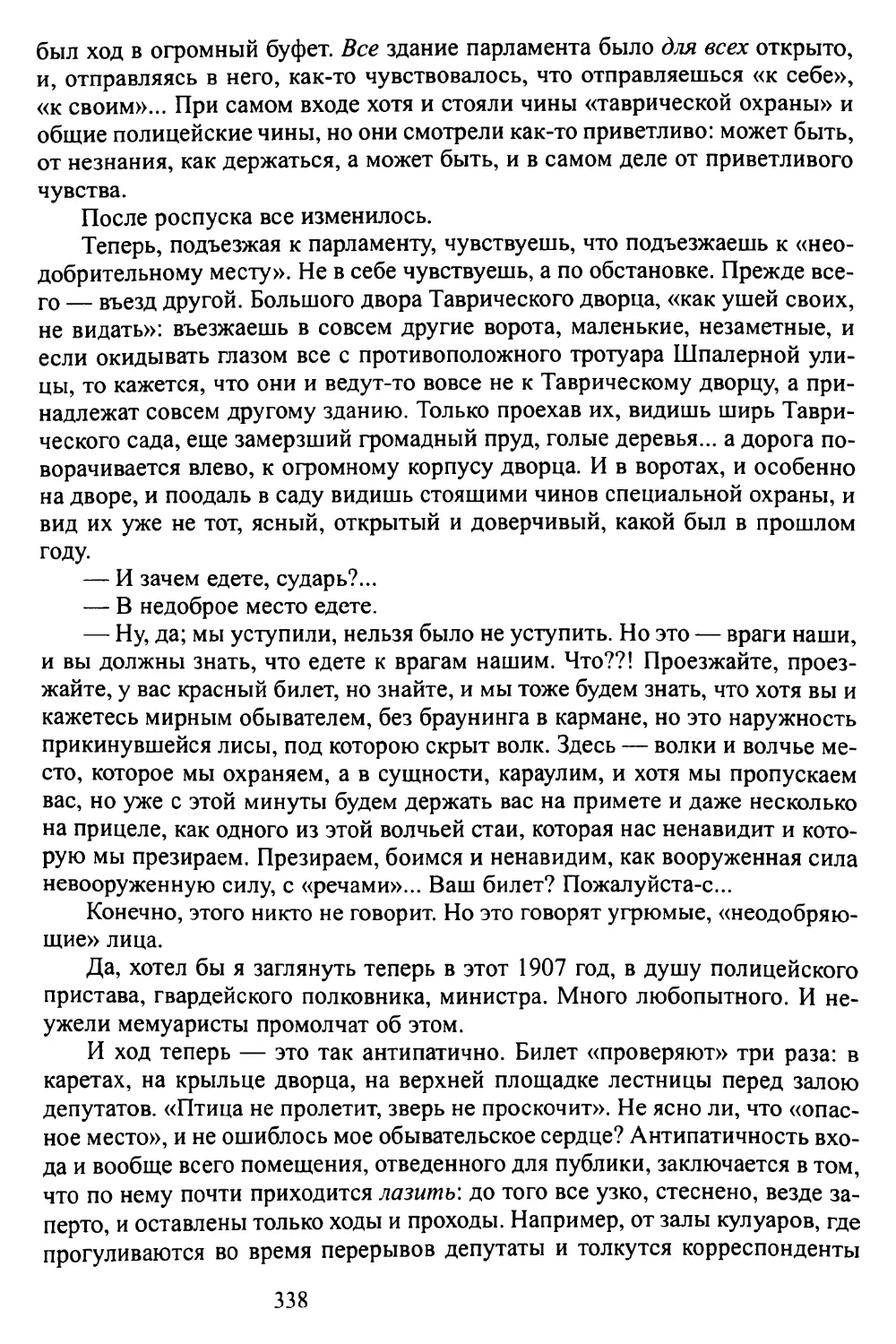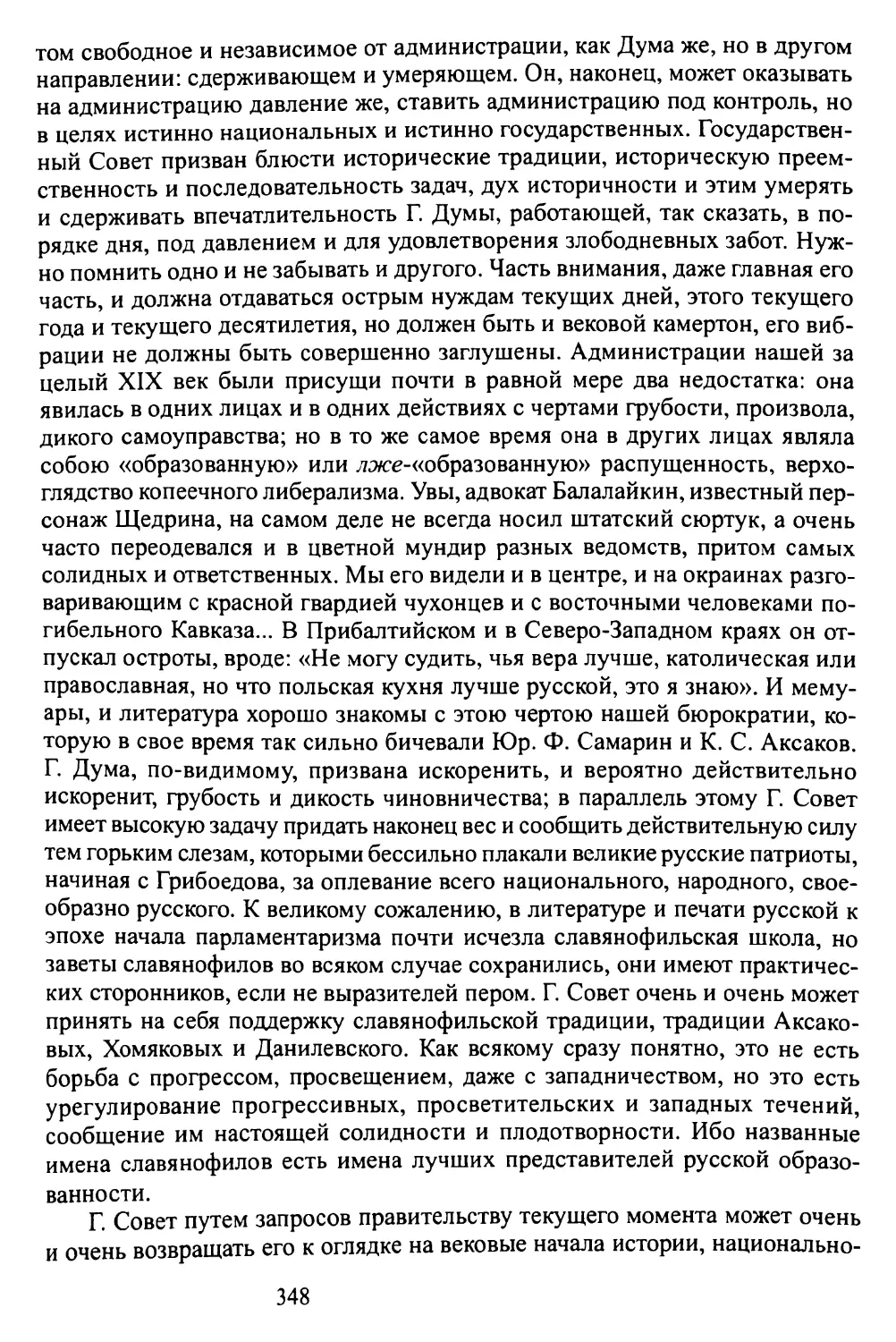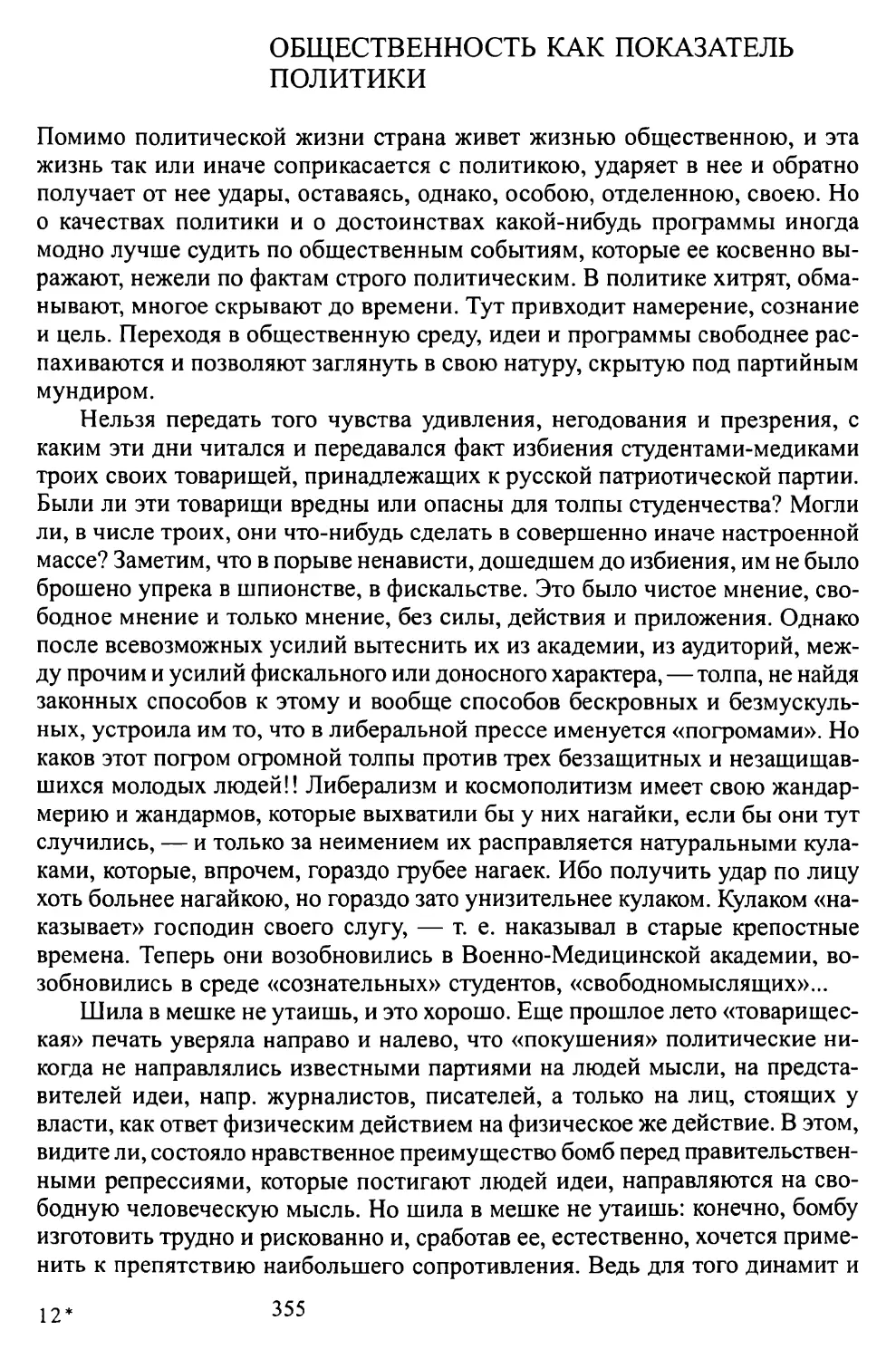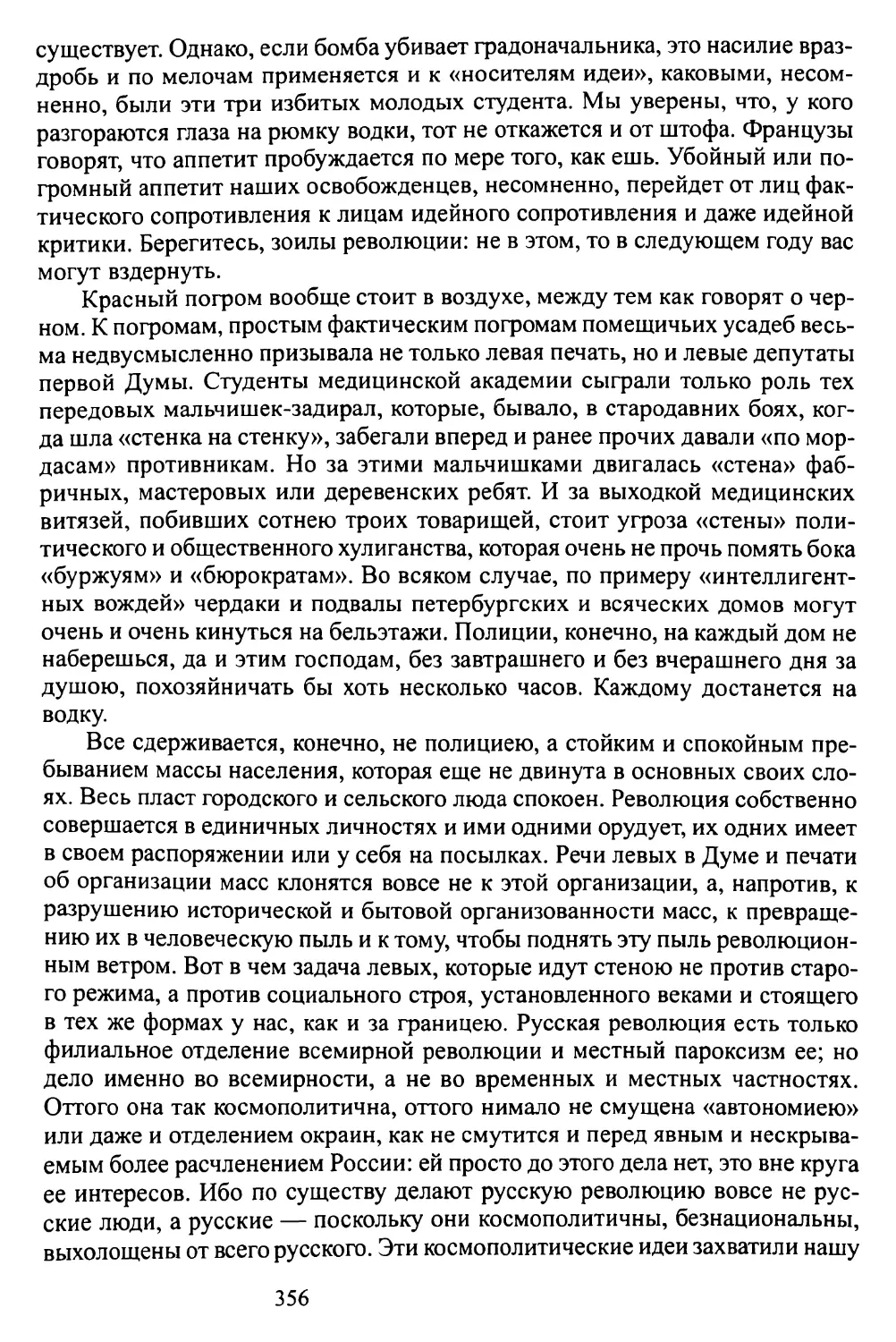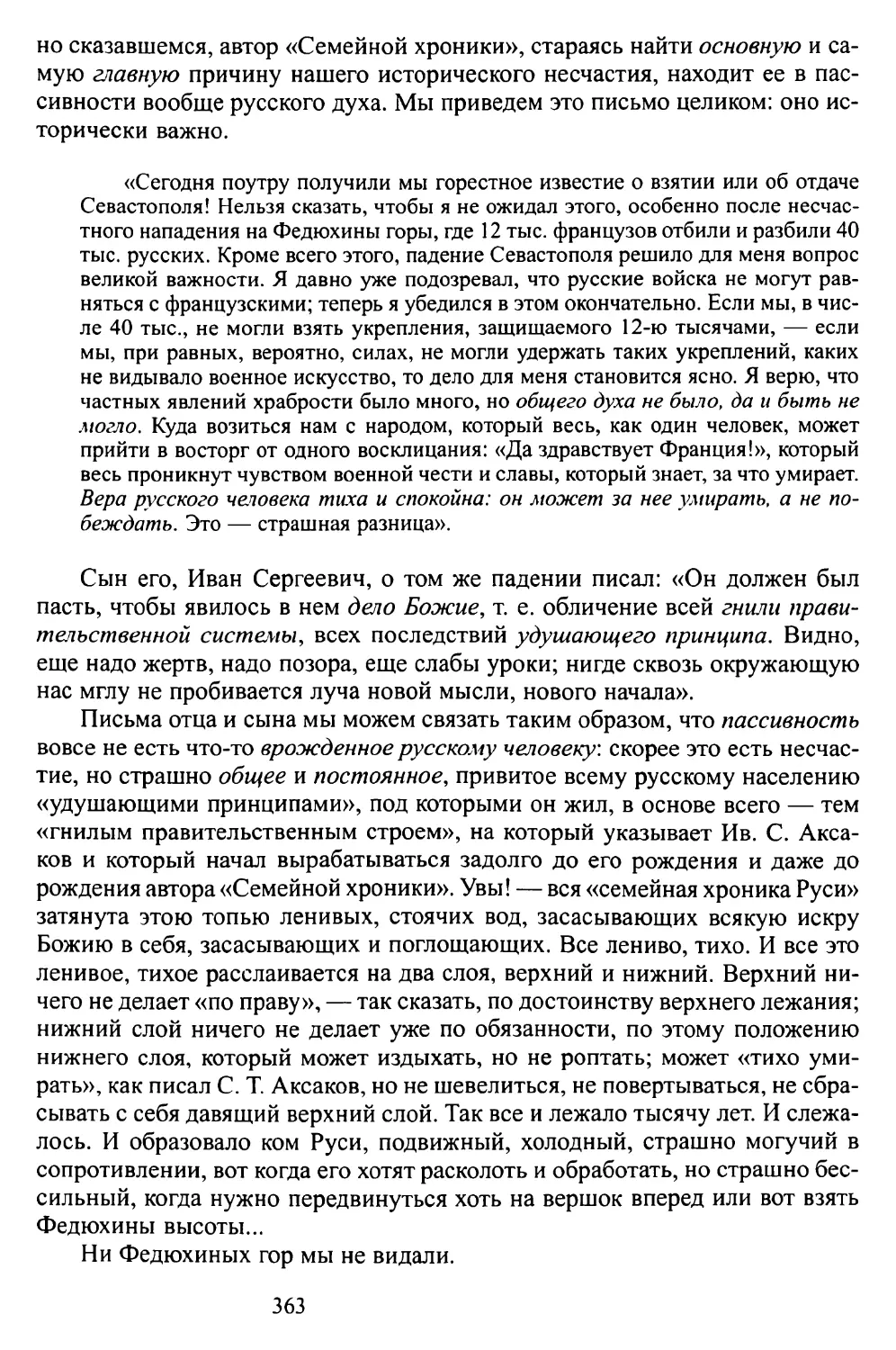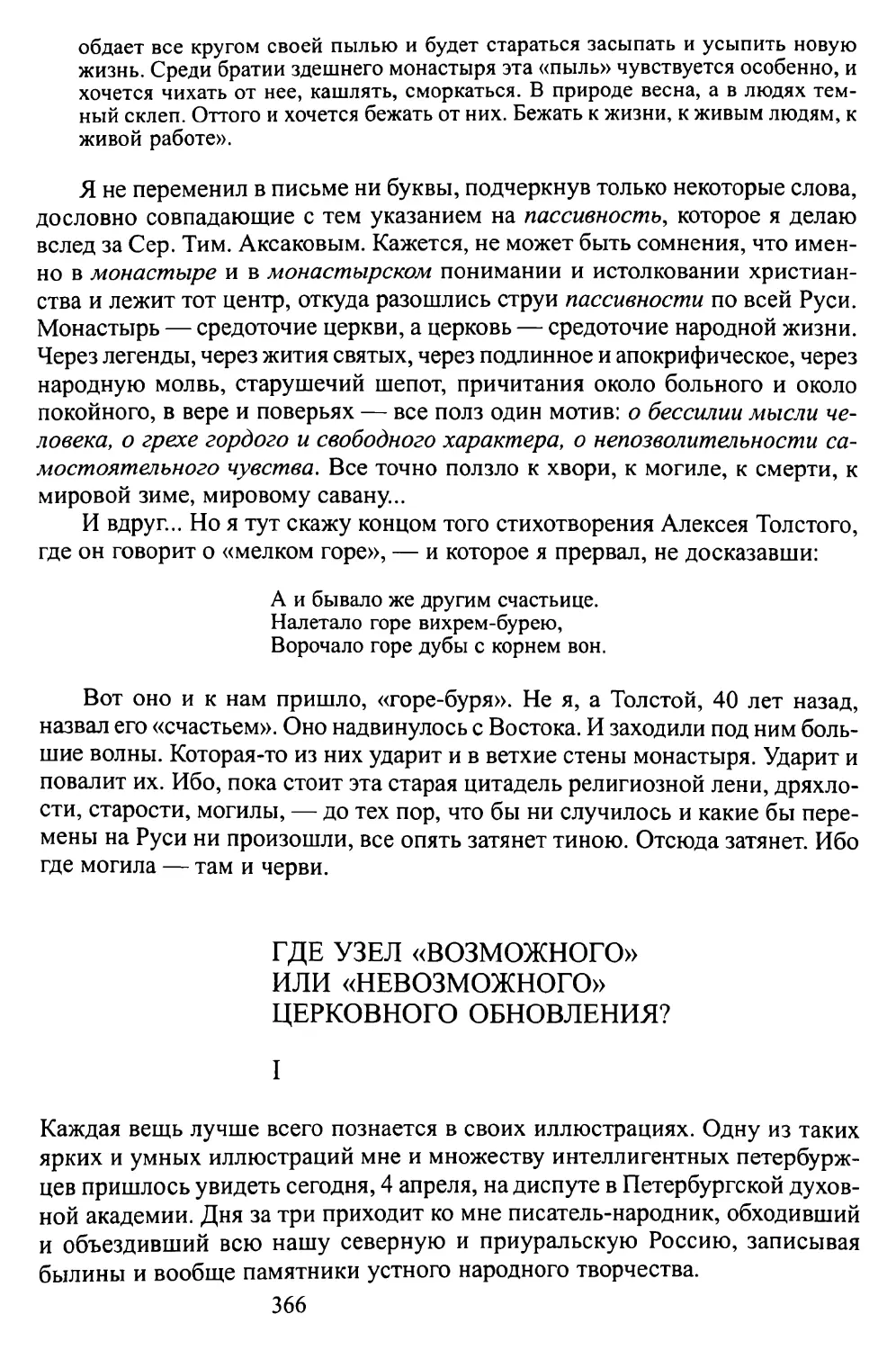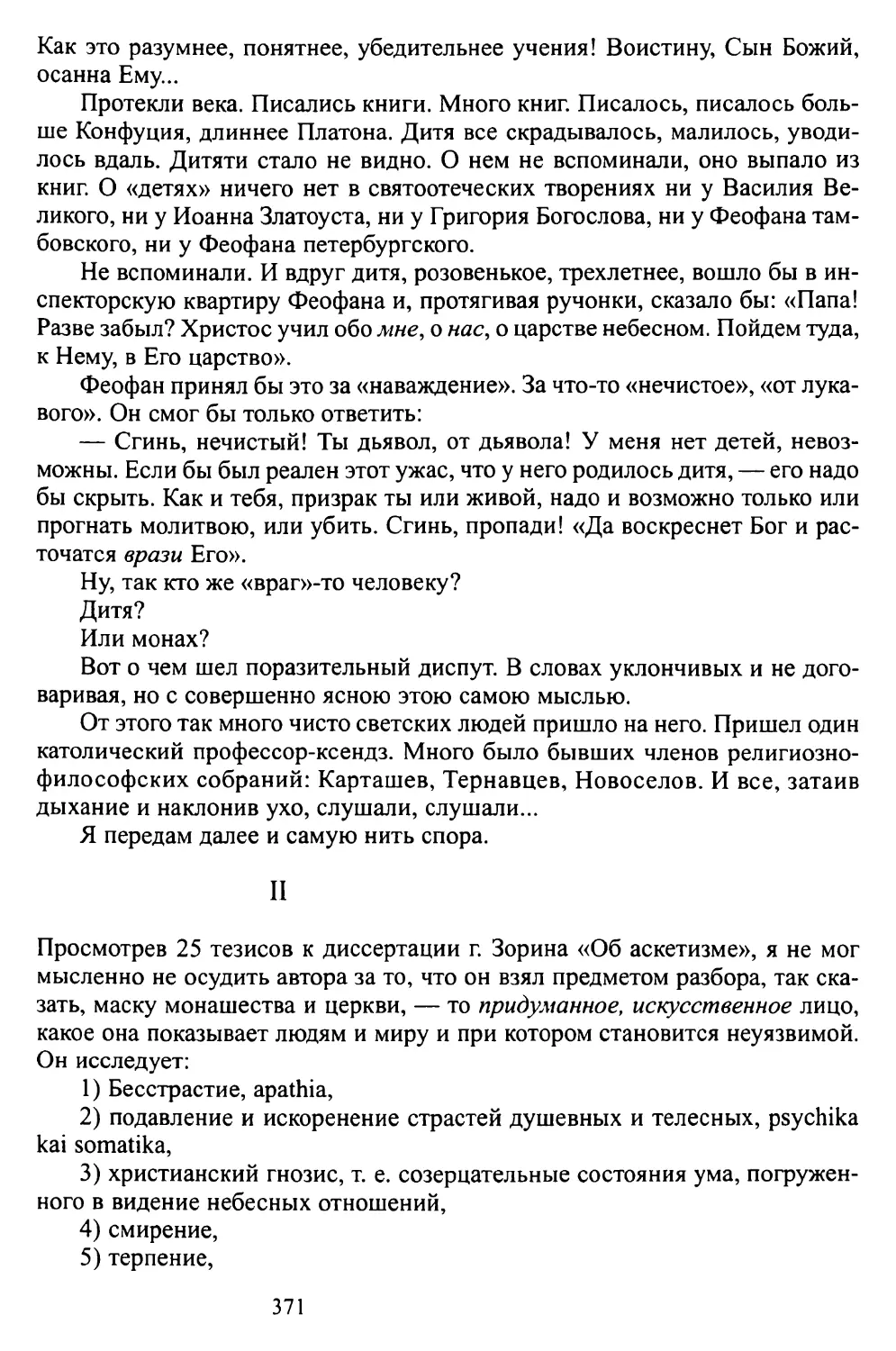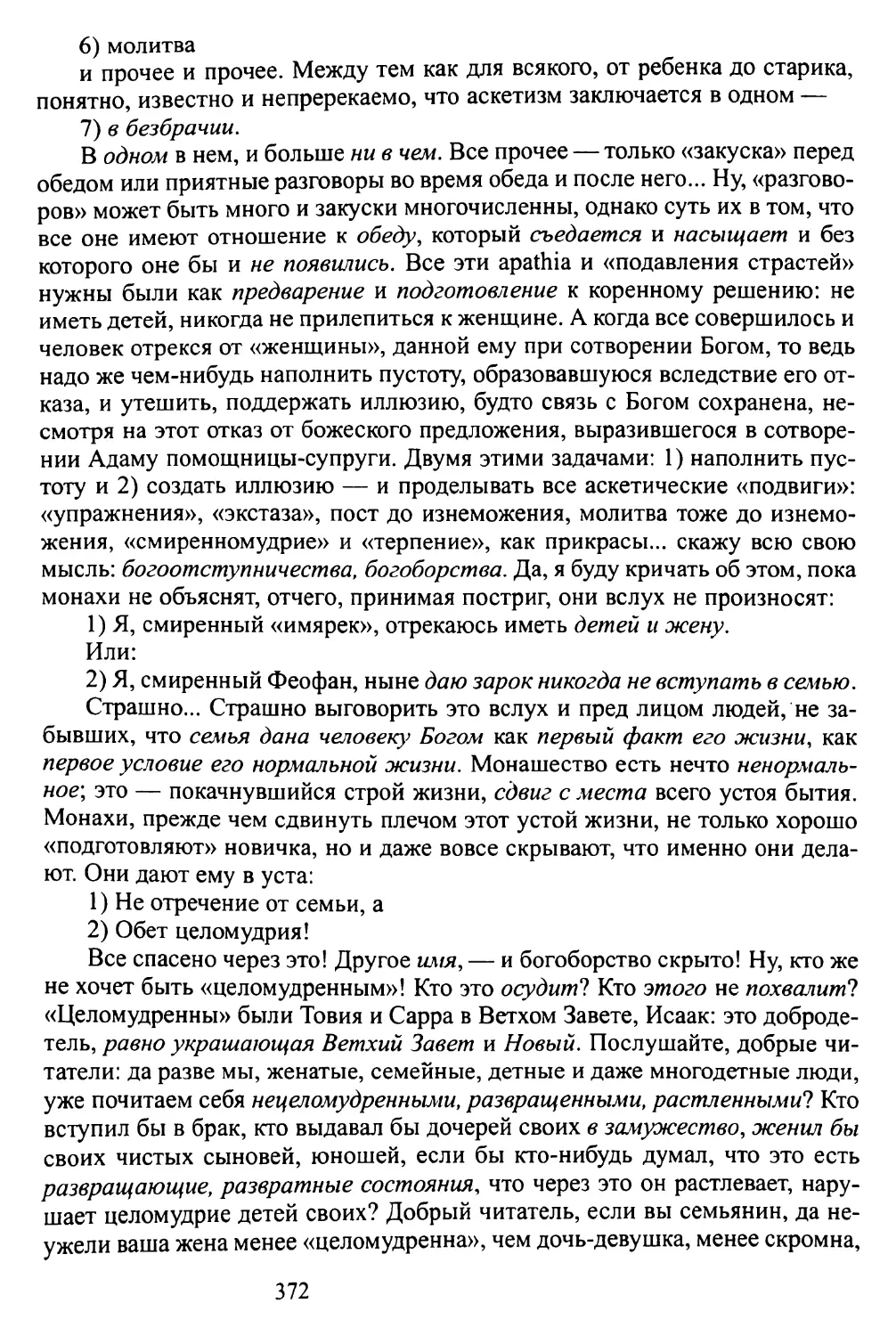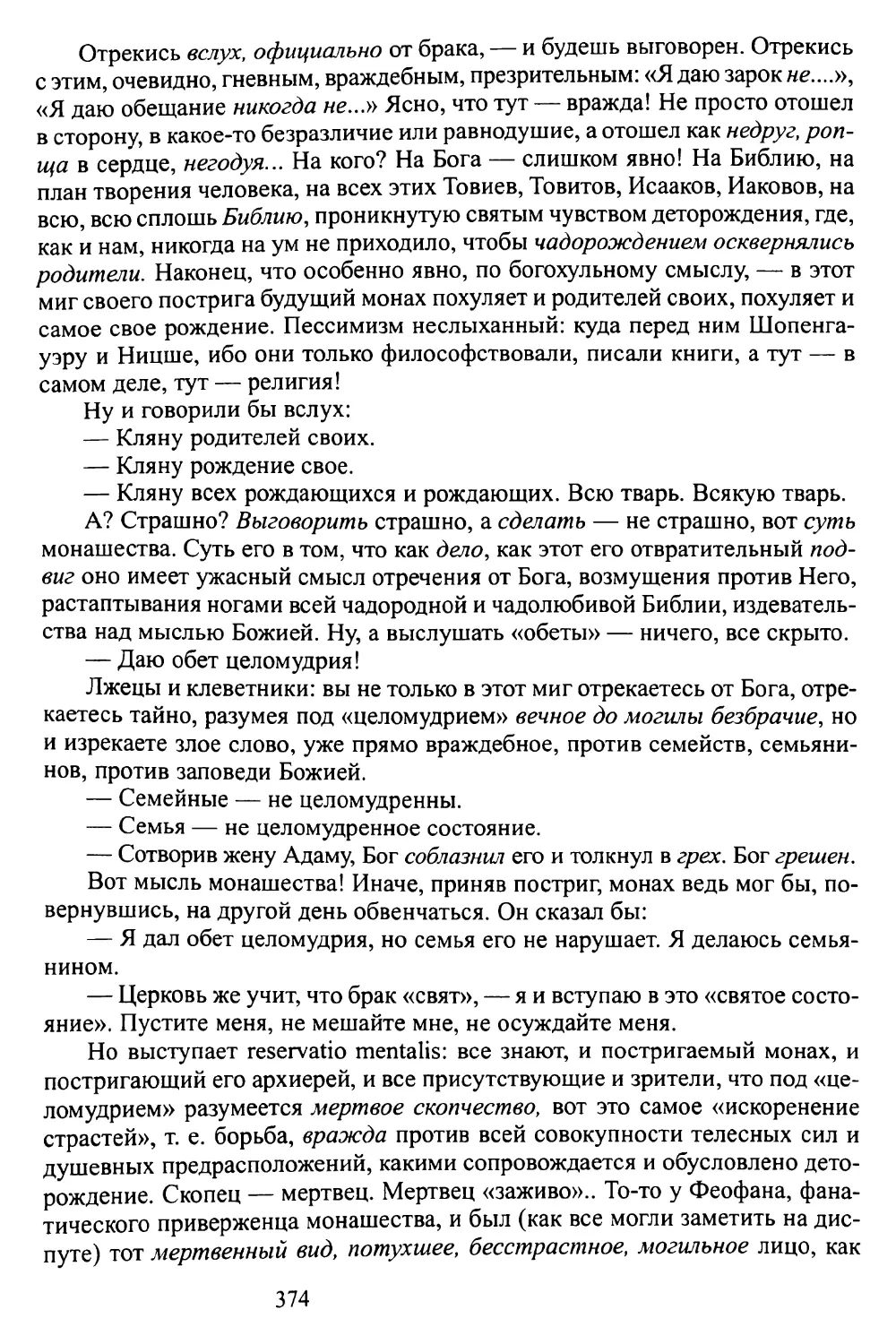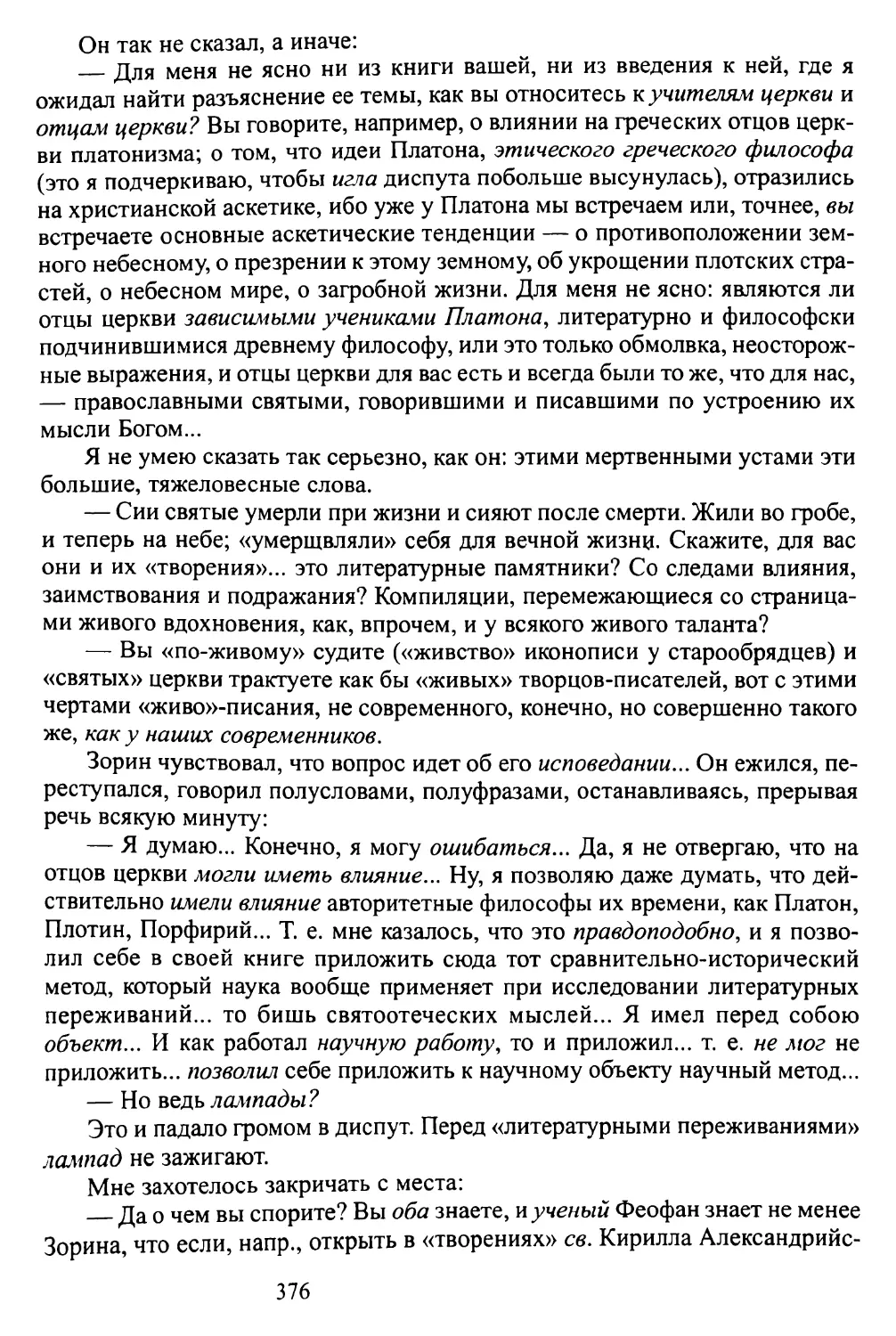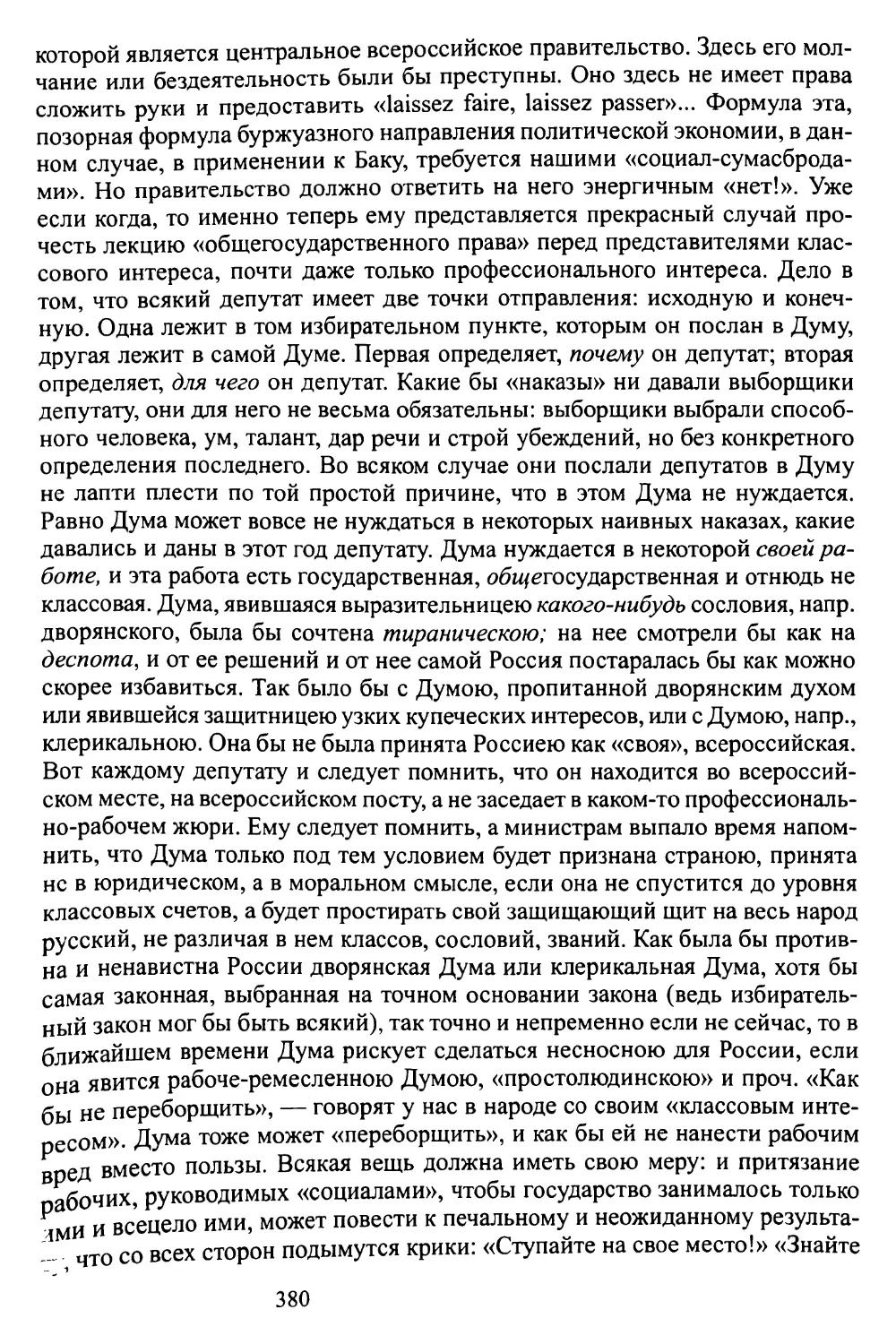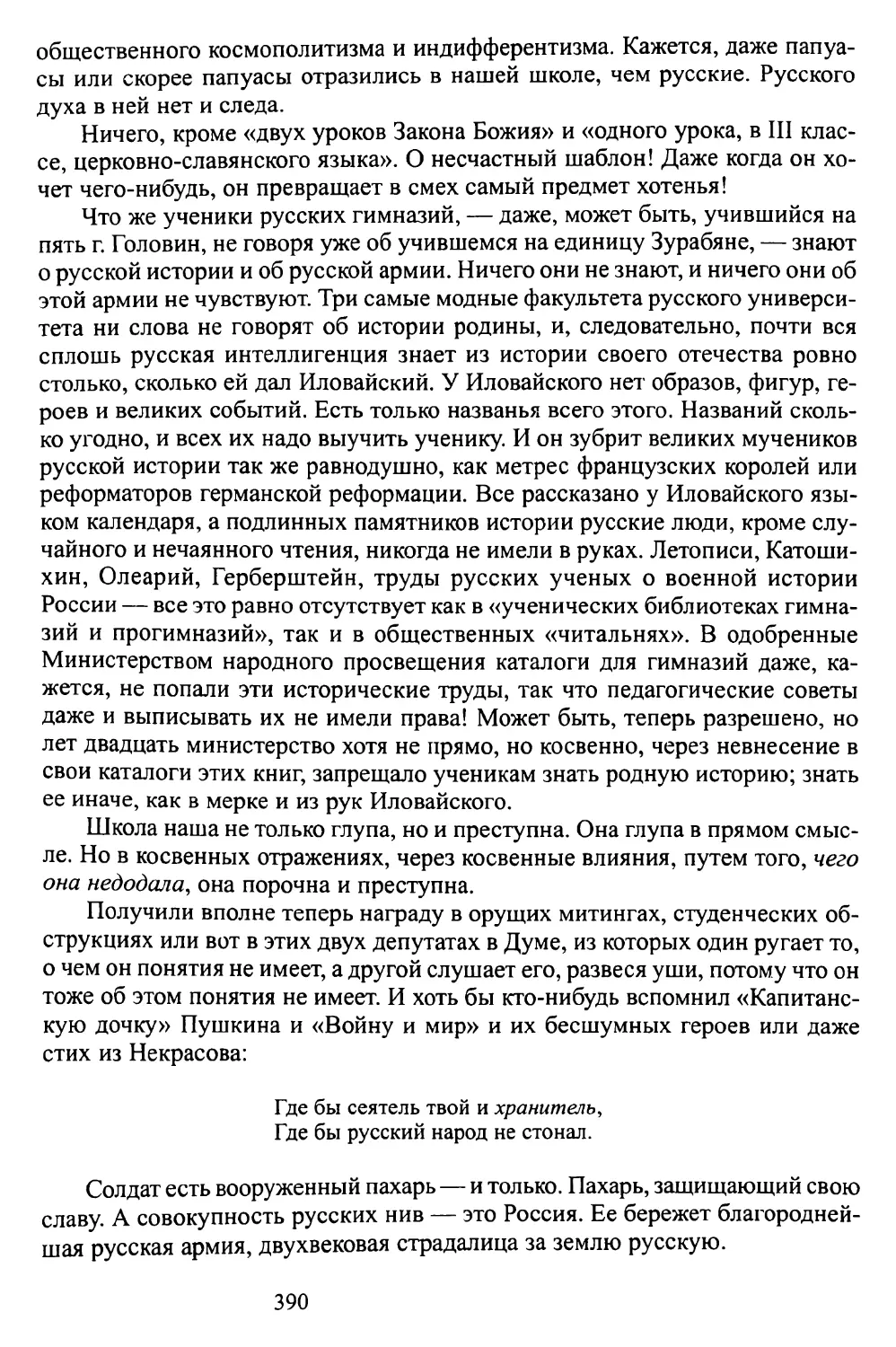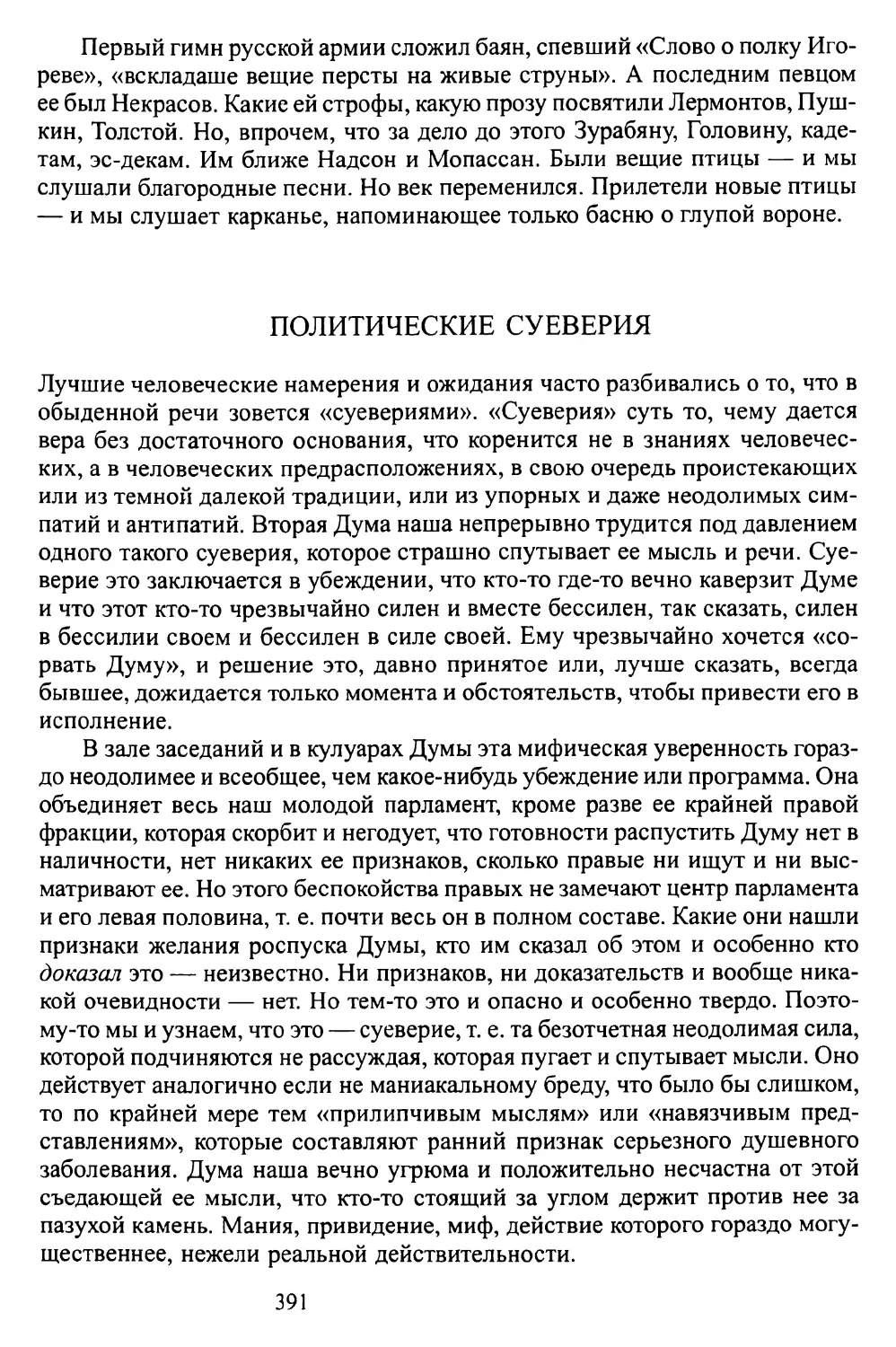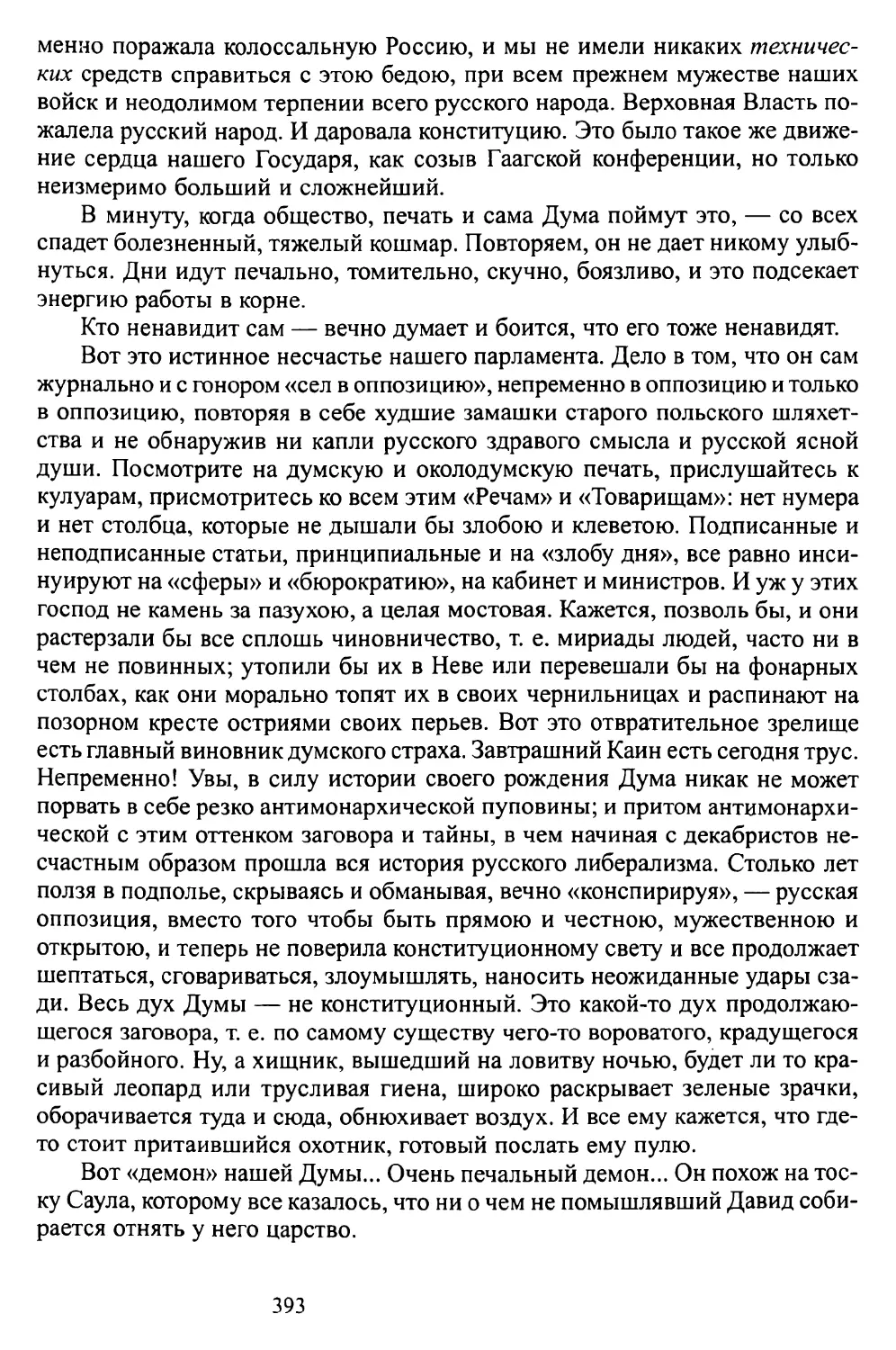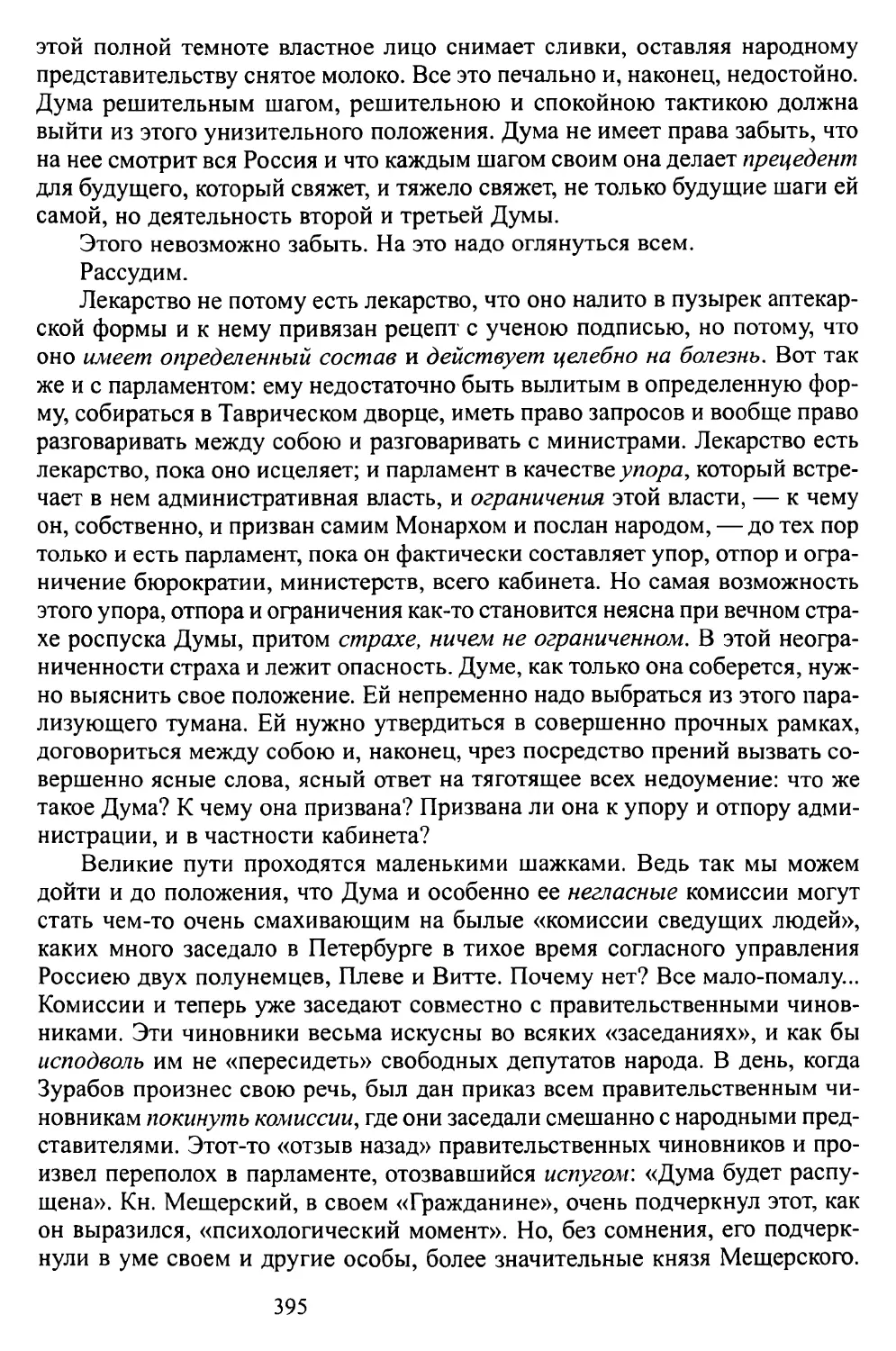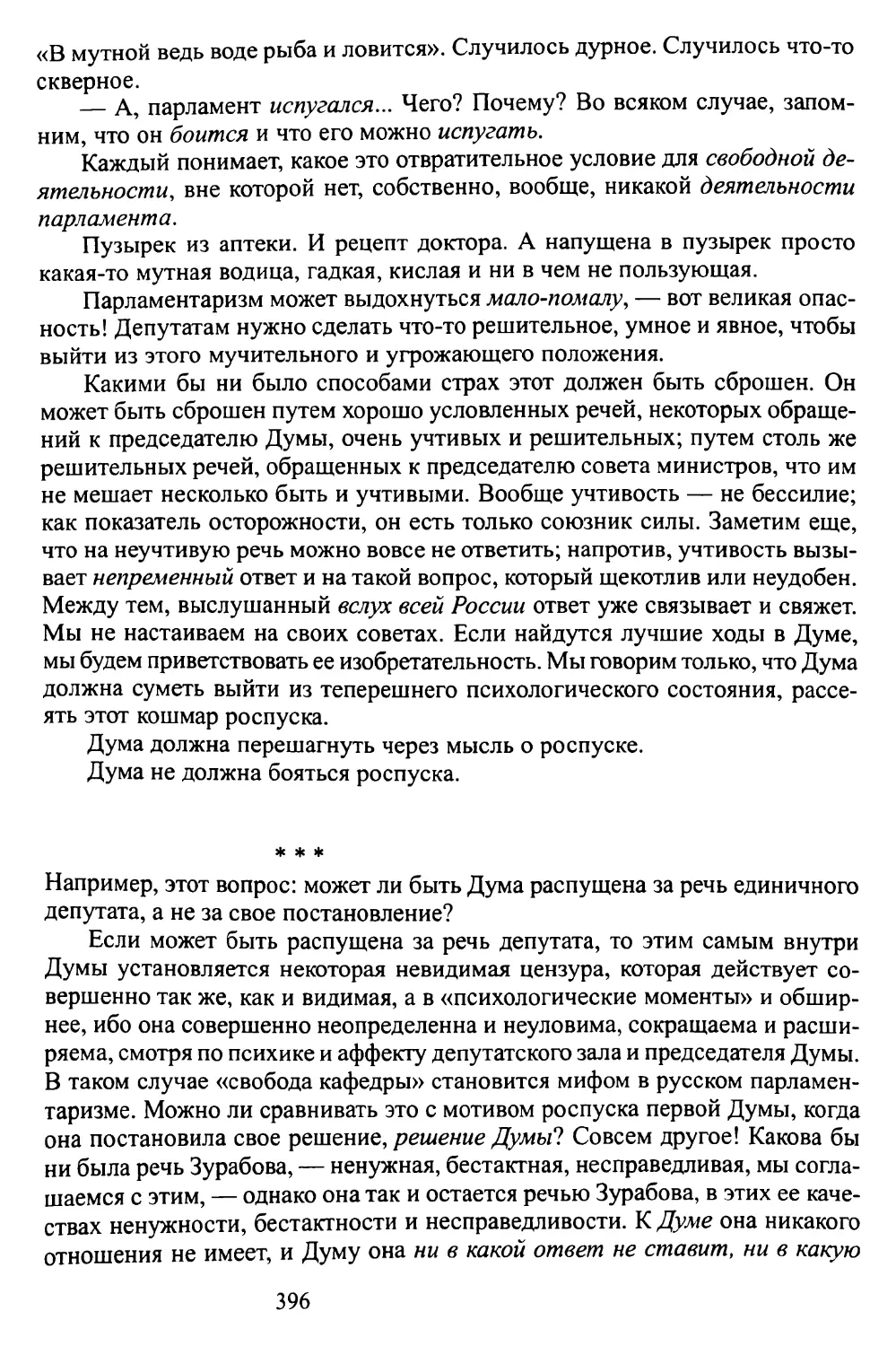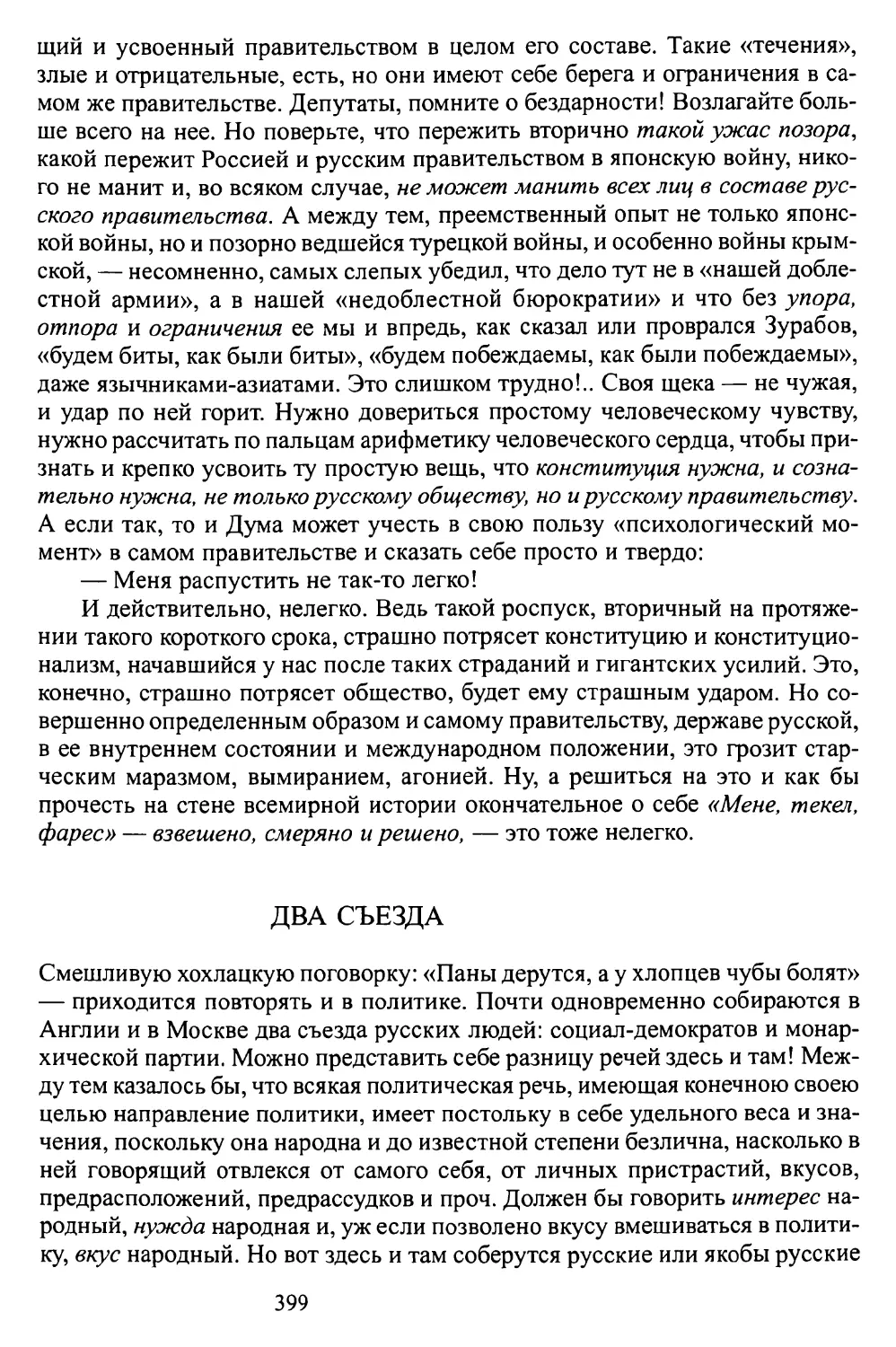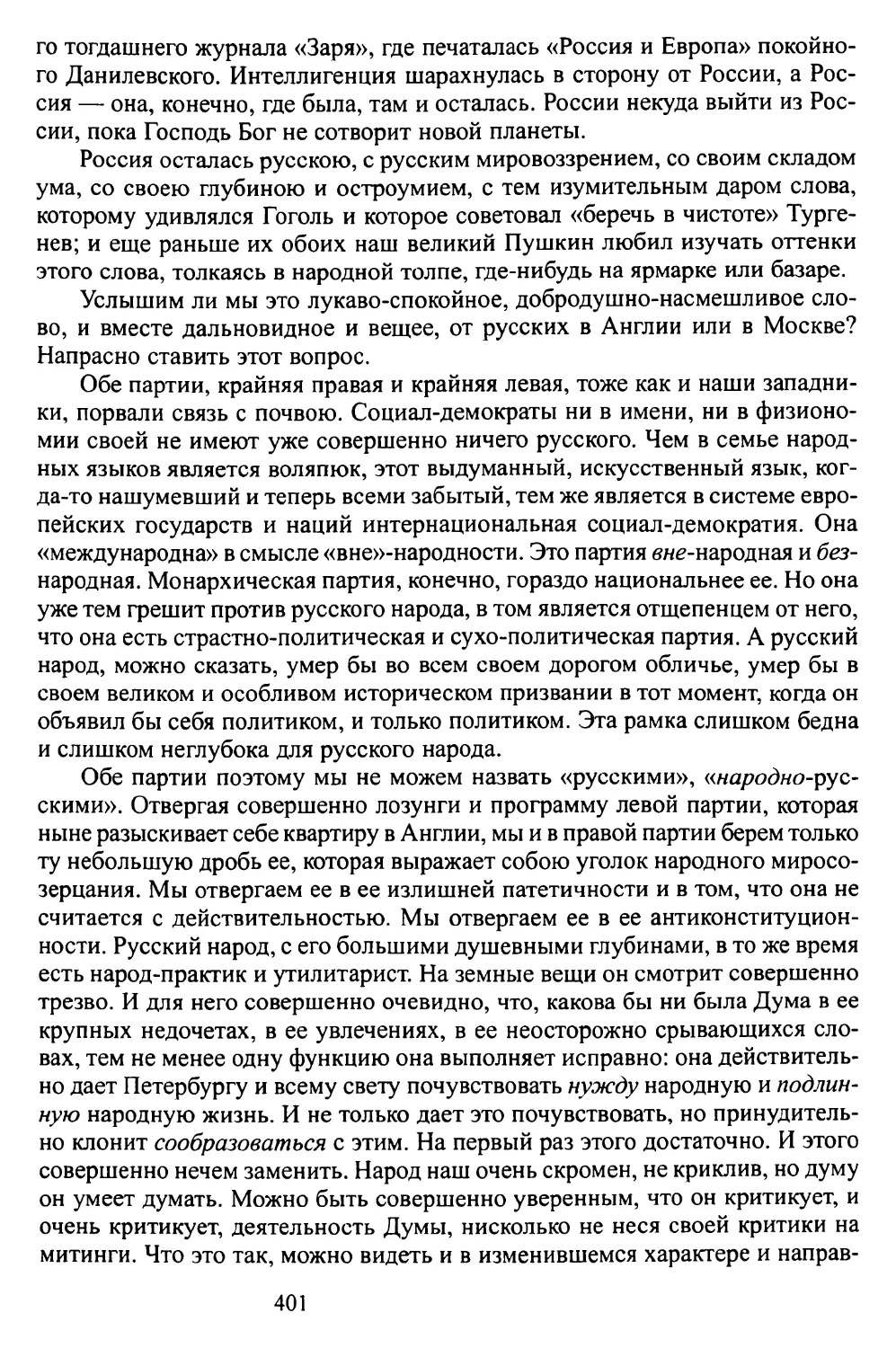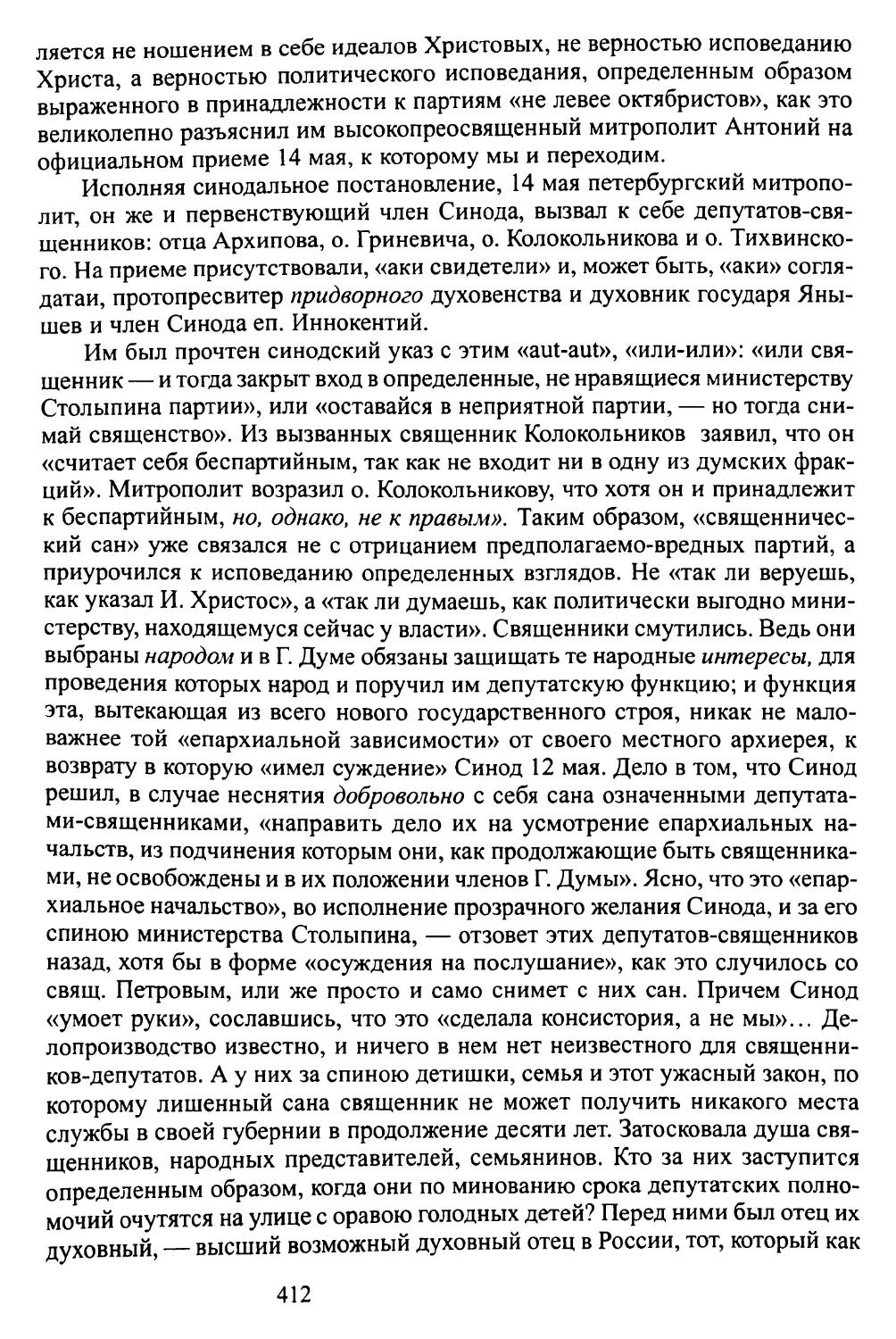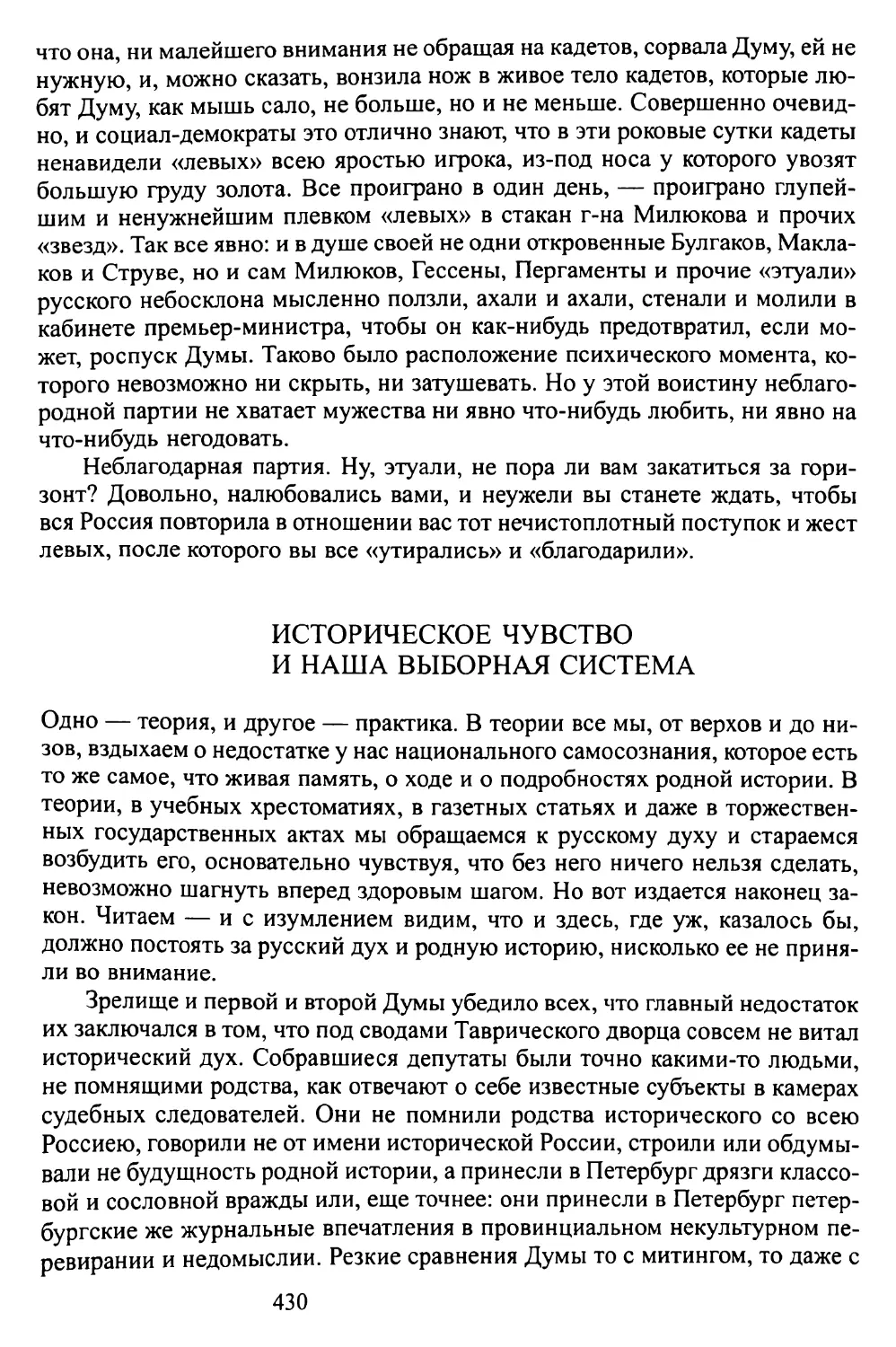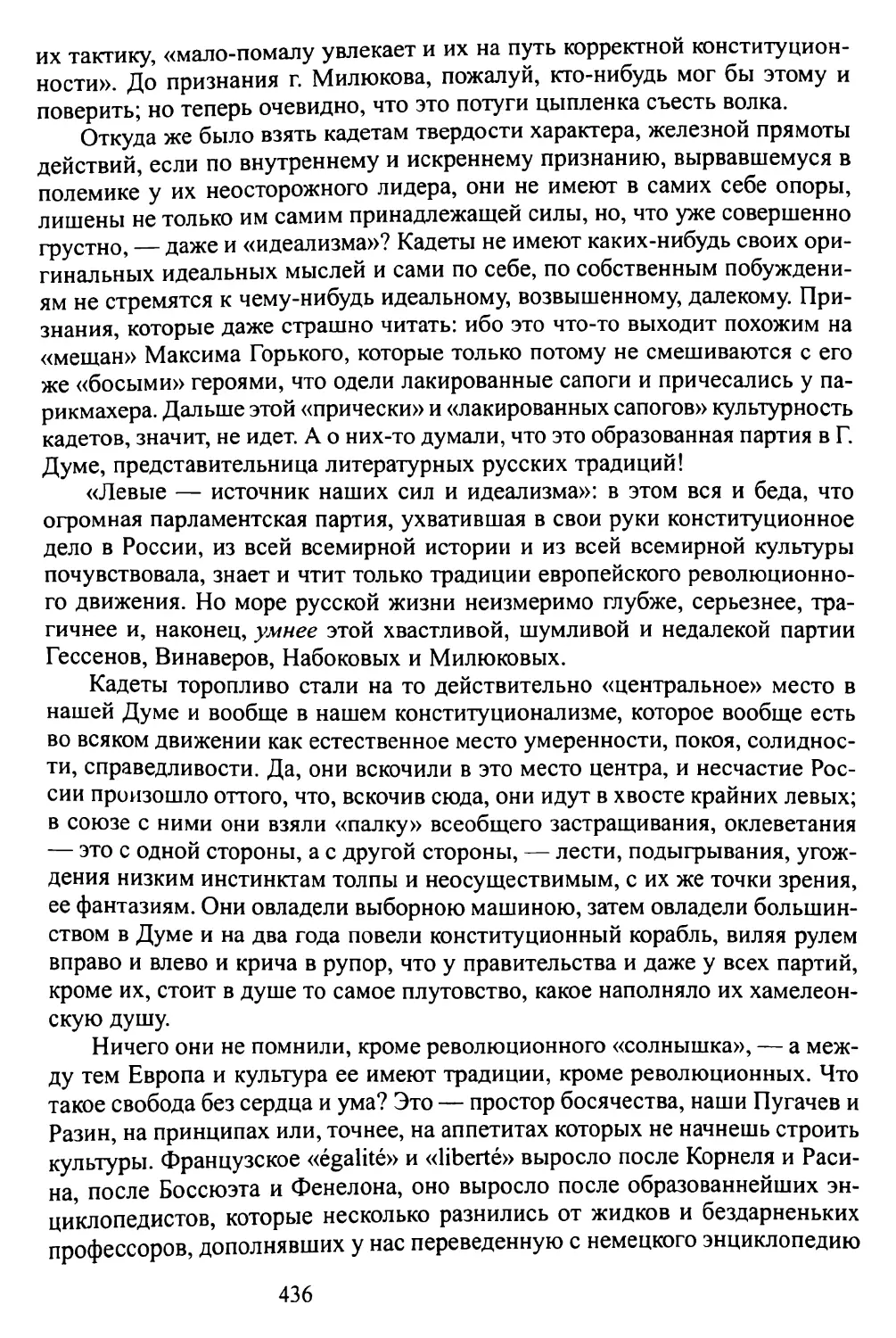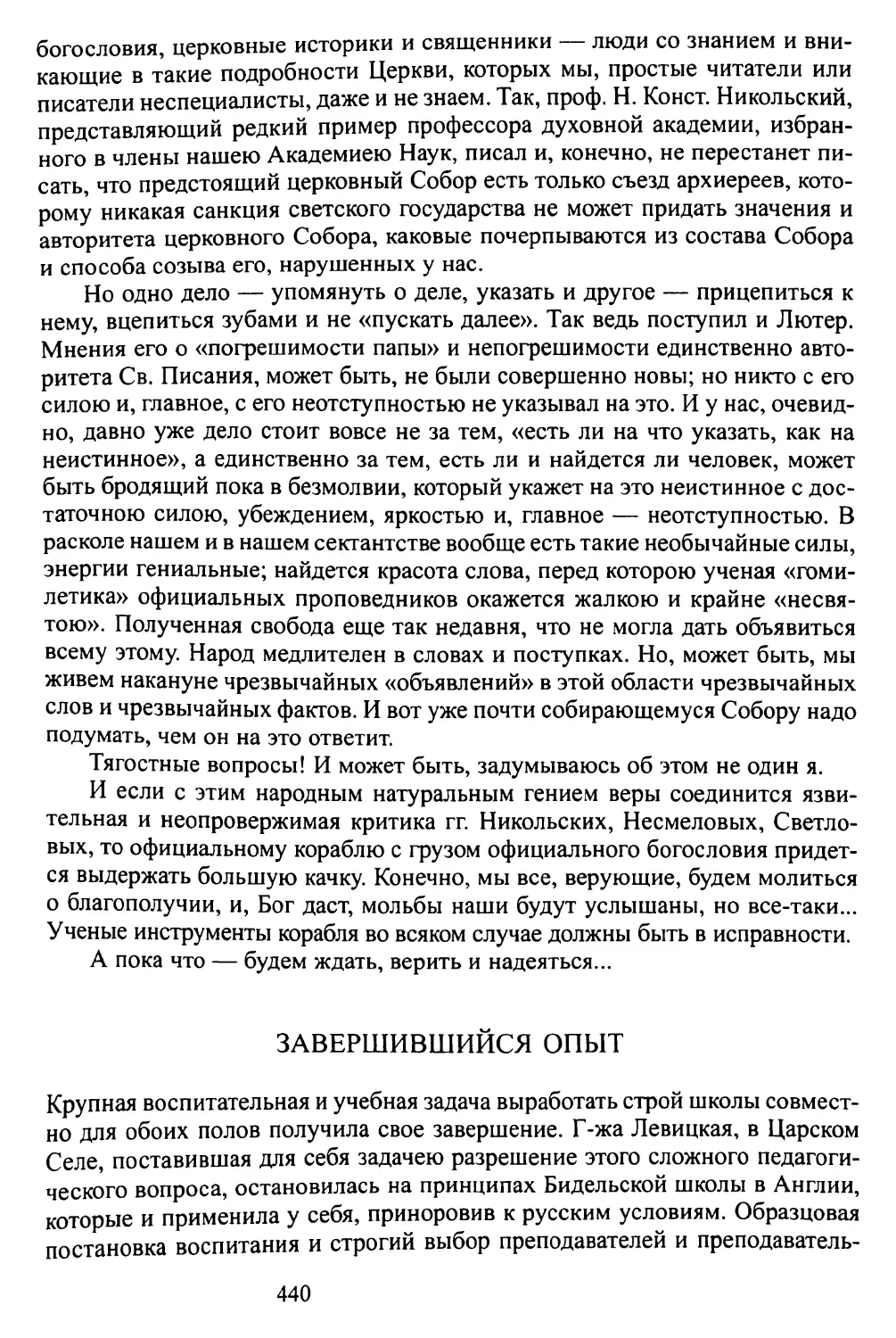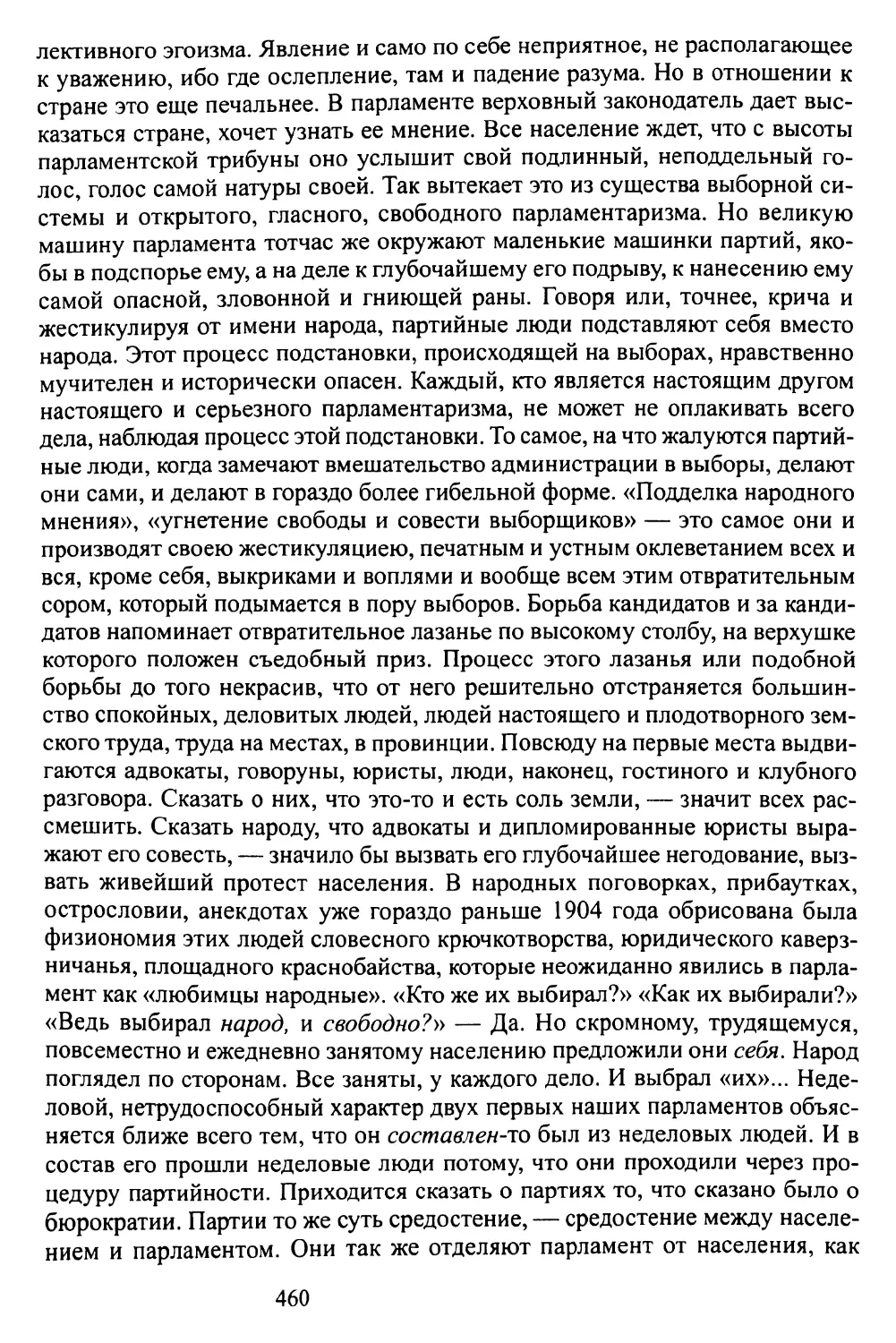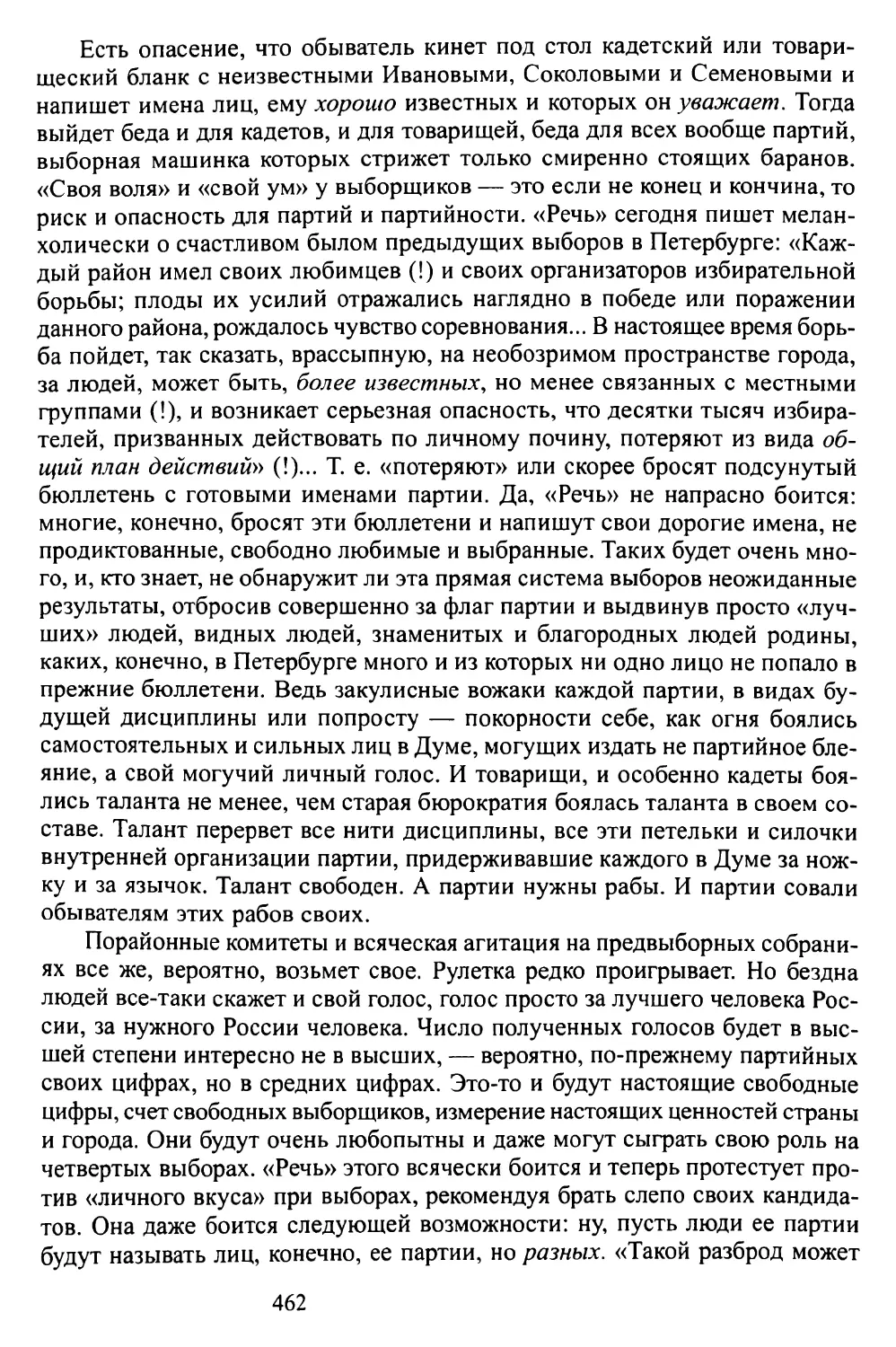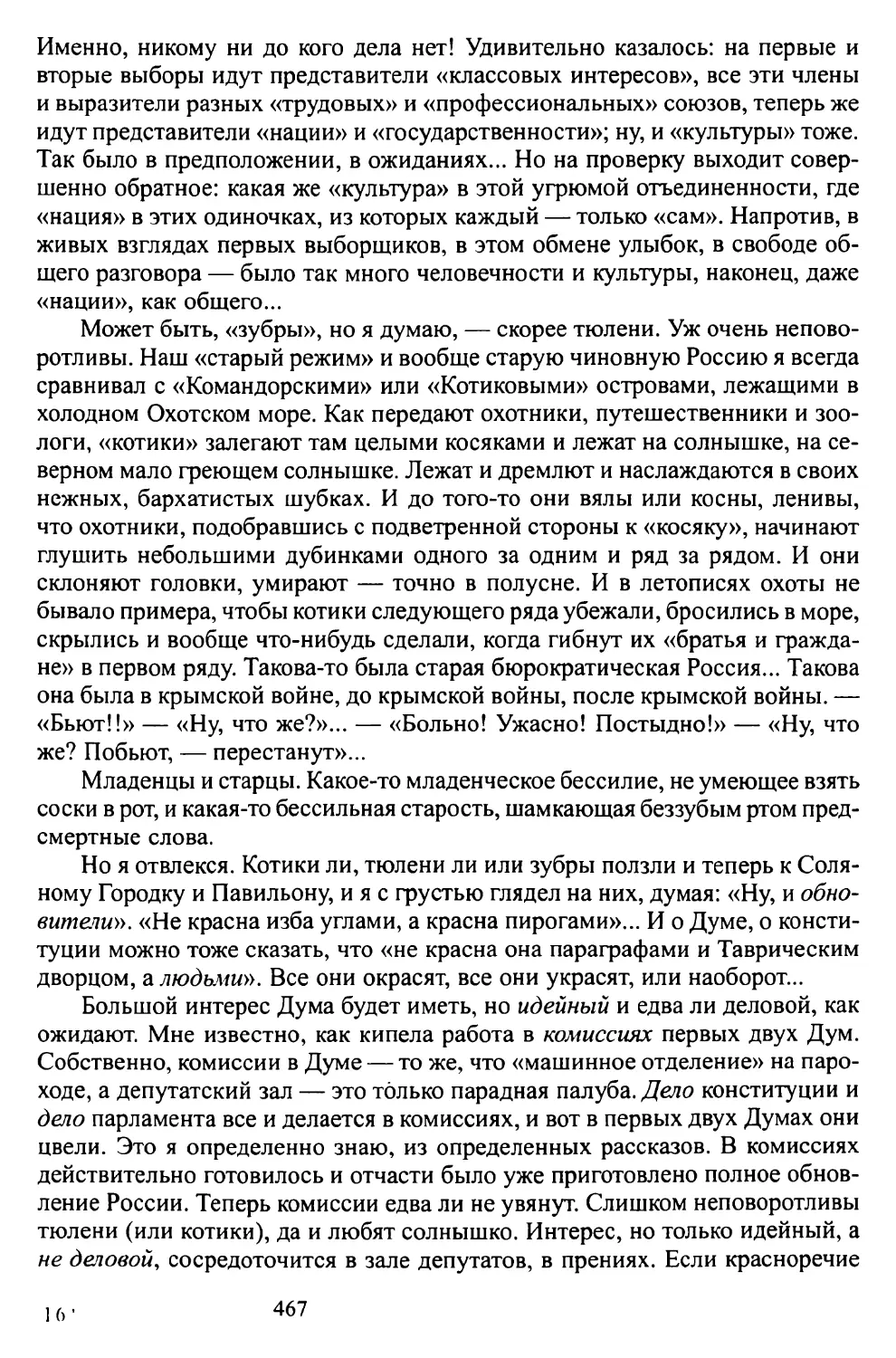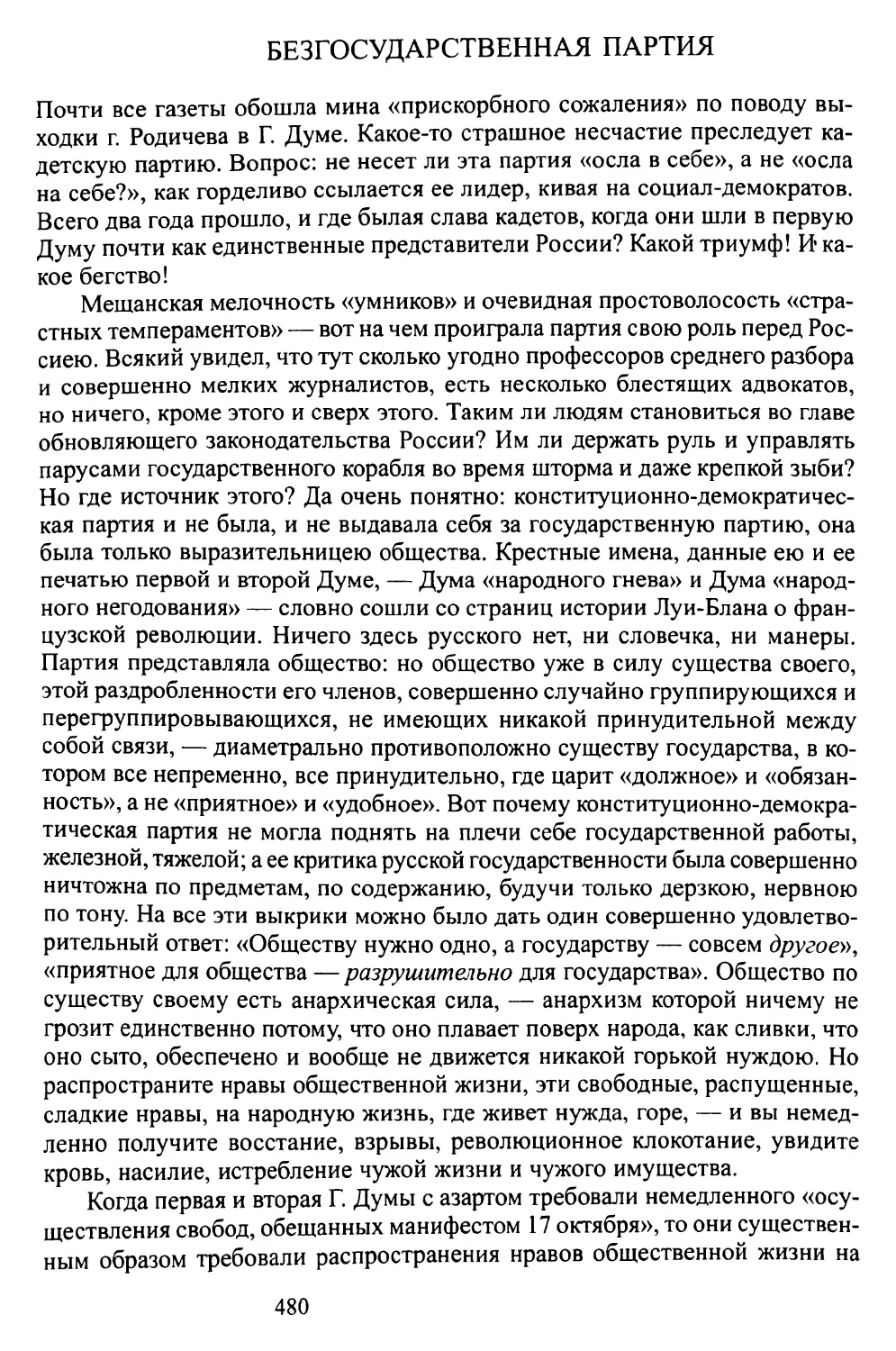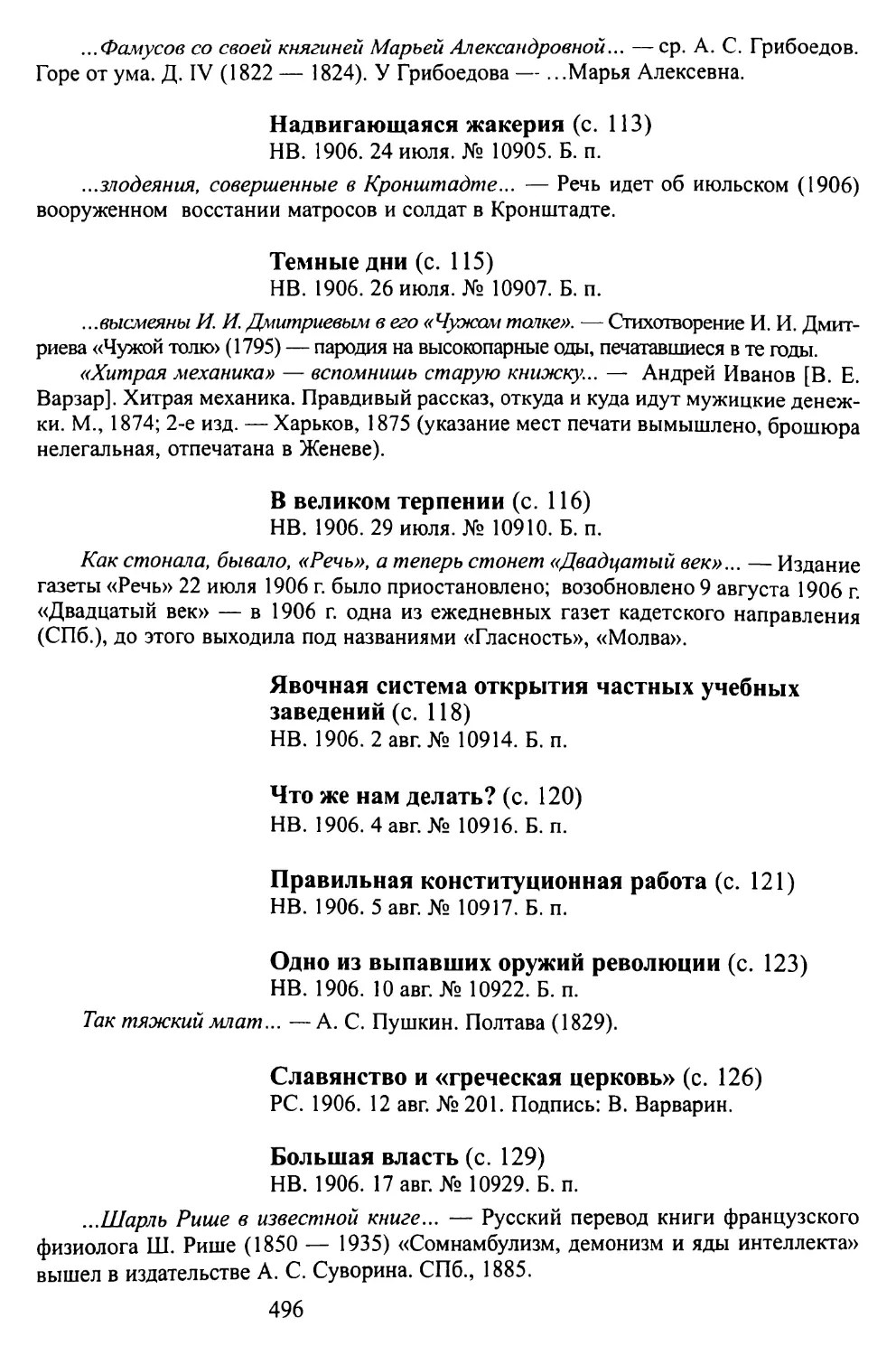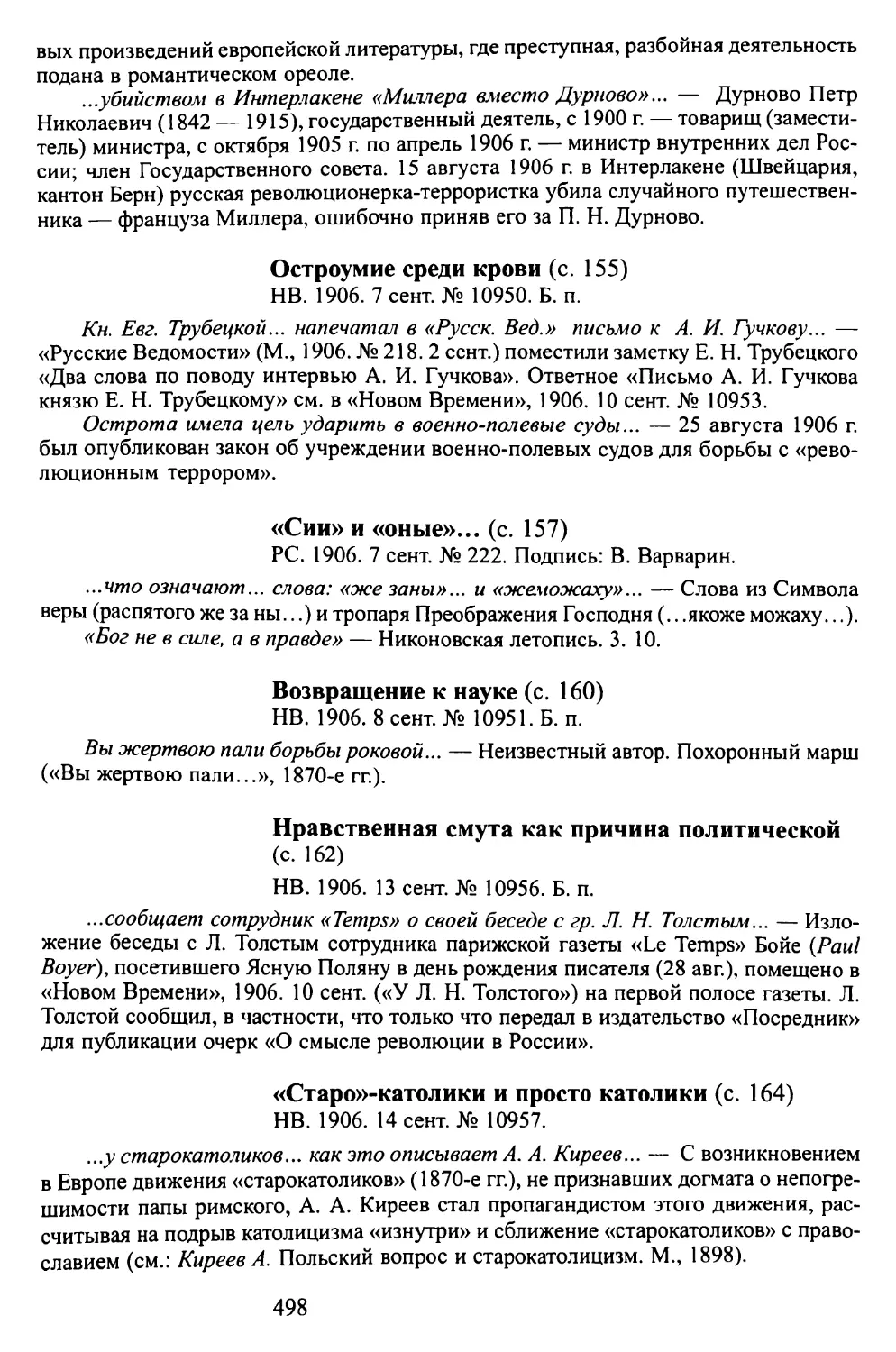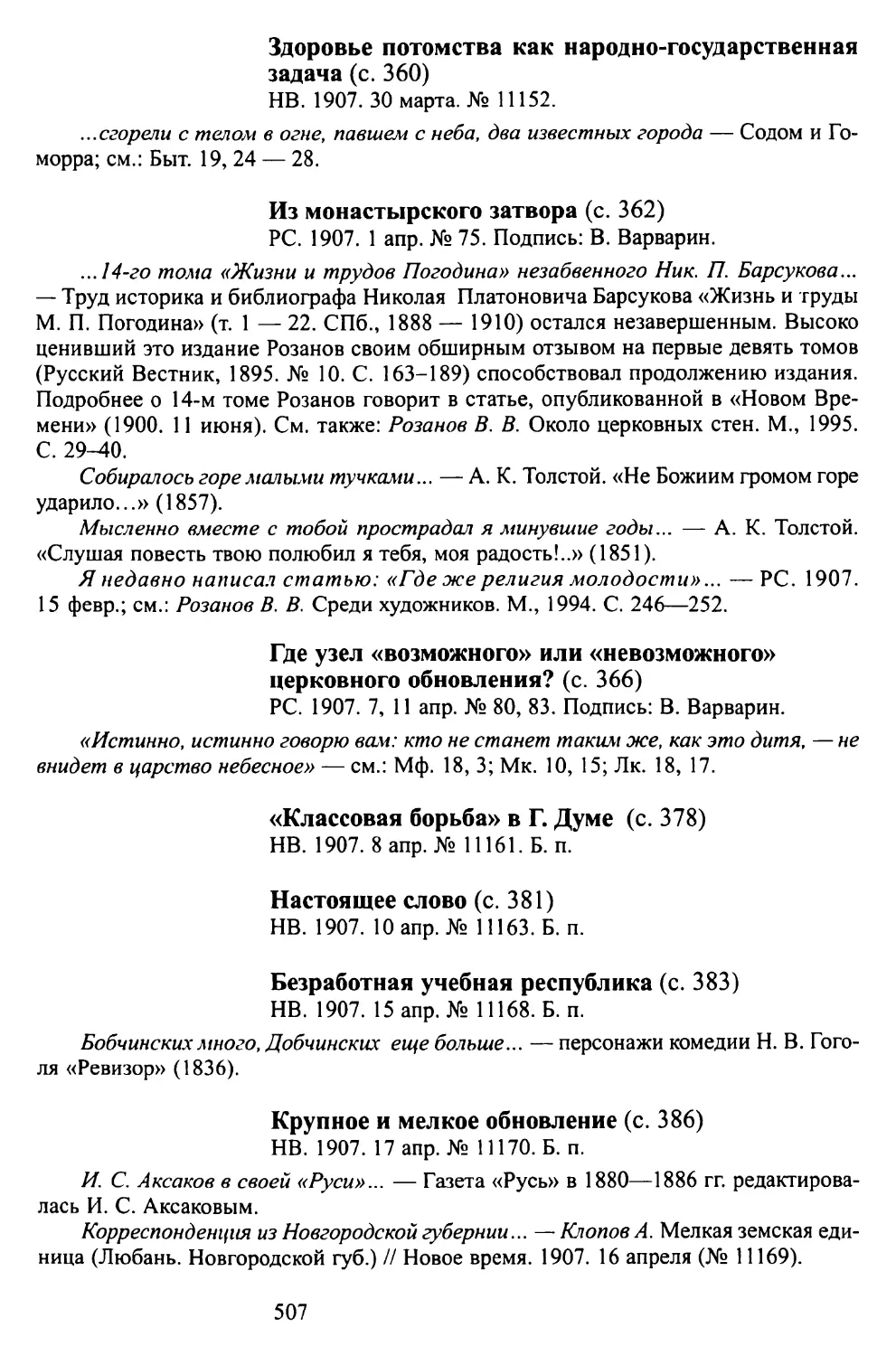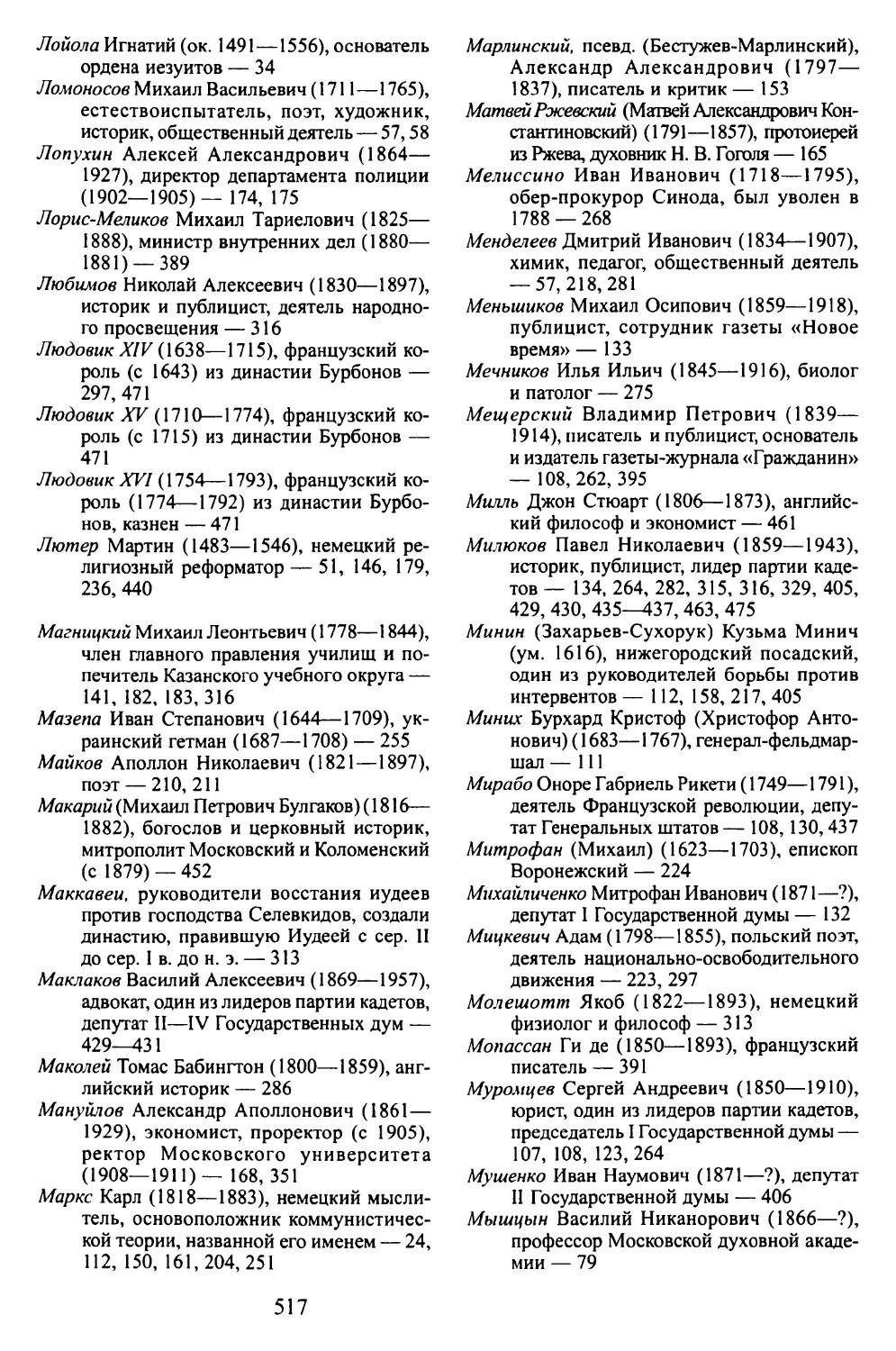Автор: Розанов В.В.
Теги: философия психология история философии история россии русская революция история российского государства издательство республика исторяия мысли
ISBN: 5—250—02321—5
Год: 2003
В.В. Розанов
В. В. Розанов
Русская
государственность
и общество
Статьи 1906—1907 гг.
В. В. Розанов
Собрание
сочинений
В. В. Розанов
Русская
государственность
и общество
Статьи 1906—1907 гг.
Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина
Москва
Издательство «Республика»
2003
УДК1
ББК 87.3
Р64
Российская академия наук
Институт научной информации
по общественным наукам
Составление и подготовка текста
А. Н. Николюкина, В. Н. Дядичева,
П. П. Апрыилко
Комментарии
В. Н. Дядичева
Проверка библиографии
В. Г. Сукача
Указатель имен
В. М. Персонова
Розанов В. В.
Собрание сочинений. Русская государственность и общество (Ста-
тьи 1906—1907 гг.) / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. — М.: Респуб-
лика, 2003. — 527 с.
ISBN 5—250—02321—5
Очередной том Собрания сочинений В. В. Розанова (ранее вышло 14 томов) соста-
вили статьи писателя за 1906—1907 гг., посвященные судьбам русской государствен-
ности. Они впервые собраны в отдельную книгу, представляющую собой по существу
продолжение его труда о первой русской революции «Когда начальство ушло... 1905—
1906 гг.». Большое внимание в книге уделено становлению парламентаризма в России,
деятельности Государственной думы, борьбе партий в обществе, национальному и
семейному вопросам.
Издание адресовано всем, кто интересуется литсрагурой, философией и истори-
ей общественно-политической мысли в России.
ББК 87.3
© Издательство «Республика», 2003
© А. Н. Николюкин, составление, 2003
ISBN 5—250—02321—5
От составителя
После Манифеста 17 октября 1905 года, отменившего предварительную цензу-
ру (т. е. до выхода издания в свет), произошло раскрепощение российской прес-
сы, в первую очередь газет и журналов. Возникли десятки новых газет и журна-
лов различной направленности. В старых изданиях, таких, как «Новое Время»,
появилась возможность писать о том, что исключалось цензурой.
В публикациях В. В. Розанова этого периода наблюдается новый творчес-
кий подъем писателя и мыслителя. Его читает вся Россия, хотя воспринимает
по-разному. Либеральная печать критикует Розанова, видевшего в революцио-
нерах и интеллигенции разрушителей России и ее национального уклада жиз-
ни. Лишь немногие смогли тогда оценить розановскую «магию слова» (как оп-
ределил мастерство писателя Н. А. Бердяев), его мысли о грядущих трагичес-
ких судьбах России. Как ни странно это может показаться, читая сегодня почти
столетней давности статьи Розанова, поражаешься их современному звучанию.
За прошедшее столетие много грозных событий произошло в России, меня-
лись правительства, идеологии, представления о социальной справедливости и
нравственности. «Все потрясено, все потрясены», — писал Розанов в 1917 году.
Однако многие проблемы России, касающиеся чиновничества, государственно-
го аппарата и бюрократии, армии, образования, церковной жизни, по существу,
остались не решенными до сих пор. Статьи Розанова начала XX века служат
нам напоминанием об этом. Встают все те же темы и вопросы, о которых так
блестяще писал Розанов.
Розанов всегда придерживался принципа писать по-своему, «в своем углу»,
как именовал он личный отдел, который вел в журнале «Новый Путь». Он сле-
довал этому правилу везде, где бы ни публиковал свои статьи: в консервативном
«Новом Времени», в либеральном «Русском Слове» (под псевдонимом В. Вар-
варин), в монархической газете «Колокол» (под псевдонимом В. Ветлугин). Иног-
да редакция, не согласная с образом мышления писателя, снимала с набора его
статьи. Розанов не удивлялся: привык. Ему было абсолютно безразлично, где
его печатают: ведь он все равно писал «из своего угла». В автобиографических
заметках он вспоминал: «Сотрудничал я в очень многих журналах и газетах, —
всегда без малейшего внимания к тому, какого они направления и кто их изда-
ет... Я попросил у Михайловского участия в «Русском Богатстве»... Михайлов-
ский отказал, сославшись: «Читатели бы очень удивились, увидав меня вместе с
Вами в журнале». Мне же этого ничего не приходило в голову».
5
УДК 1
ББК 873
Р64
Российская академия наук
Институт научной информации
по общественным наукам
Составление и подготовка текста
А. Н. Николюкина, В. Н. Дядичева,
П. П. Апрыилко
Комментарии
В. Н. Дядичева
Проверка библиографии
В. Г. Сукача
Указатель имен
В. М. Персонова
Розанов В. В.
р 64 Собрание сочинений. Русская государственность и общество (Ста-
тьи 1906—1907 гг.) / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. — М.: Респуб-
лика, 2003. — 527 с.
ISBN 5—250—02321—5
Очередной том Собрания сочинений В. В. Розанова (ранее вышло 14 томов) соста-
вили статьи писателя за 1906—1907 гг., посвященные судьбам русской государствен-
ности. Они впервые собраны в отдельную книгу, представляющую собой по существу
продолжение его труда о первой русской революции «Когда начальство ушло... 1905—
1906 гг.». Большое внимание в книге уделено становлению парламентаризма в России,
деятельности Государственной думы, борьбе партий в обществе, национальному и
семейному вопросам.
Издание адресовано всем, кто интересуется литературой, философией и истори-
ей общественно-политической мысли в России.
ББК 87.3
© Издательство «Республика», 2003
© А. Н. Николюкин, составление. 2003
ISBN 5—250—02321—5
От составителя
После Манифеста 17 октября 1905 года, отменившего предварительную цензу-
ру (т. е. до выхода издания в свет), произошло раскрепощение российской прес-
сы, в первую очередь газет и журналов. Возникли десятки новых газет и журна-
лов различной направленности. В старых изданиях, таких, как «Новое Время»,
появилась возможность писать о том, что исключалось цензурой.
В публикациях В. В. Розанова этого периода наблюдается новый творчес-
кий подъем писателя и мыслителя. Его читает вся Россия, хотя воспринимает
по-разному. Либеральная печать критикует Розанова, видевшего в революцио-
нерах и интеллигенции разрушителей России и ее национального уклада жиз-
ни. Лишь немногие смогли тогда оценить розановскую «магию слова» (как оп-
ределил мастерство писателя Н. А. Бердяев), его мысли о грядущих трагичес-
ких судьбах России. Как ни странно это может показаться, читая сегодня почти
столетней давности статьи Розанова, поражаешься их современному звучанию.
За прошедшее столетие много грозных событий произошло в России, меня-
лись правительства, идеологии, представления о социальной справедливости и
нравственности. «Все потрясено, все потрясены», — писал Розанов в 1917 году.
Однако многие проблемы России, касающиеся чиновничества, государственно-
го аппарата и бюрократии, армии, образования, церковной жизни, по существу,
остались не решенными до сих пор. Статьи Розанова начала XX века служат
нам напоминанием об этом. Встают все те же темы и вопросы, о которых так
блестяще писал Розанов.
Розанов всегда придерживался принципа писать по-своему, «в своем углу»,
как именовал он личный отдел, который вел в журнале «Новый Путь». Он сле-
довал этому правилу везде, где бы ни публиковал свои статьи: в консервативном
«Новом Времени», в либеральном «Русском Слове» (под псевдонимом В. Вар-
варин), в монархической газете «Колокол» (под псевдонимом В. Ветлугин). Иног-
да редакция, не согласная с образом мышления писателя, снимала с набора его
статьи. Розанов не удивлялся: привык. Ему было абсолютно безразлично, где
его печатают: ведь он все равно писал «из своего угла». В автобиографических
заметках он вспоминал: «Сотрудничал я в очень многих журналах и газетах, —
всегда без малейшего внимания к тому, какого они направления и кто их изда-
ет... Я попросил у Михайловского участия в «Русском Богатстве»... Михайлов-
ский отказал, сославшись: «Читатели бы очень удивились, увидав меня вместе с
Вами в журнале». Мне же этого ничего не приходило в голову».
5
Розанов предполагал издать в нескольких томах большой цикл своих очер-
ков и статей под названием «Общество и государство». Этой теме посвящены
многочисленные его статьи 1906—1917 годов, которые мы начинаем печатать в
Собрании сочинений. При этом в состав подготовленных к публикации томов
не входят те из них, которые включены автором в его книги «Когда начальство
ушло...», «Во дворе язычников», «Среди художников», «О писательстве и писа-
телях», уже вошедшие в Собрание сочинений.
В настоящем томе представлены в хронологической последовательности
очерки и статьи Розанова из «Нового Времени», «Русского Слова» и других из-
даний за 1906—1907 годы, в том числе подписанные псевдонимами. Не подпи-
санные Розановым статьи атрибутируются на основании рукописной библио-
графии писателя, хранящейся в Отделе рукописей РГБ и составленной его дру-
гом-библиографом С. А. Цветковым с участием самого Розанова.
А. Н. Николюкин
ОБЩЕСТВО И ПРАВИТЕЛЬСТВО
Еще черный год минул: вместе с 1904 годом это такое лихолетье, подобного
которому Россия не переживала с XIII века. Но тогда это была маленькая,
слабая, покрытая удельными княжествами страна, которая не имела самых
органов ощущения такой остроты, как теперь. Россия, при полной яркости
даже научного сознания и при всех средствах быть осведомленною о каж-
дом уголке своего отечества каждый день, пережила удары неслыханной силы
и неслыханного несчастья, под которыми дрожал ее корабль, как стена осаж-
денного города дрожит под ударами в нее тарана. Весь 1905 год прошел
собственно в сплошном освободительном движении. Если бы это движение
определенно, сознательно, твердо и бесповоротно началось год назад, при
первых же несчастиях нашей родины на Востоке, то, вне всякого сомнения,
Россия не пережила бы тех внутренних ужасов, какие заставили ее в 1905 го-
ду содрогнуться в некоторые дни проигранных битв. Правительство, вов-
ремя снявшись лагерем, шло бы в голове освободительного движения; на-
роду и обществу не оставалось бы ничего, как следовать за ним. Но прави-
тельство все благодушествовало и ждало добрых вестей с Востока, пока близ-
кий шум вокруг не показал ему, что возмущено самое гражданство, что это
гражданство менее считает виновником русских поражений «дерзкого и ко-
варного врага», нежели ленивых и беззаботных распорядителей судеб своих
у себя дома, в столице и по губерниям. Тогда, видя, что никого за него и все
против него, правительство поднялось и побежало. И все это движение при-
няло несчастнейшую форму бегства от трусости, вместо того чтобы быть
мужественным движением вперед: правительство то побежит, то остановит-
ся, то пытается обернуться и противостать напору негодования и презрения
сзади, то опять, показав спину, бежит далее и далее. Всяческие «свободы»,
«дозволения», «разрешения» оно выкидывало не с сознанием, что это нуж-
но, что это целительно для здоровья народного, что это точно спасительно
для государственного корабля, где вместе, в одной каюте и с одною судьбою
и будущим сидит правительство, общество и народ.
Все движение получило какой-то литературно-идейный или, точнее,
литературно-словесный характер, а не государственный, строгий и убеж-
9
денный вид. Все было страшно поспешно, нисколько не систематично и очень
мало обдумано. Все увидели правительство растерянным и нисколько не
увидели правительство, дружно и разом поведшее русскую жизнь вперед к
новым основаниям жизни, строя, к новым исцеляющим понятиям. Мы впа-
ли внутри в полную дезорганизацию, где общество и правительство смеша-
лись в какую-то толчею слов, где эти слова произносились без убеждения и
не в соответствии с нуждою и где собственно народ, и собственно государ-
ство во всей громаде его материального строя и страшных физических, эко-
номических язв, был весьма и весьма на втором плане. Выкидывая «подачки
свободы», правительство каждый раз запаздывало, иногда запаздывало оче-
видно на 2—3 месяца: так, в августе оно дало то, на что никак не решалось
в марте — апреле, и дало в октябре и декабре то, чего не хотело дать в августе.
В этом движении бюрократия русская показала себя такою же бездар-
ною, беспрограммною и неловкою, как и в технике обороны страны и внеш-
ней политики. При ослабевших и побежавших чиновных сферах стала все-
российски видною и всероссийски значительною Россия земская, граждан-
ская, земельная, обывательская. Она и стала более сознательно, убежденно
и систематично во главе освободительного движения, которое после всех
колебаний туда и сюда дошло до манифеста 17 октября, который можно было
бы назвать благодетельным переломом в страдальческой болезни внутрен-
ней России, если бы, к величайшему несчастью, незрелые русские «край-
ние» партии, и белая и красная, не поторопились в ожесточенной борьбе
между собой толкнуть Россию в такую кровавую смуту, где слова манифес-
та перестали читаться сколько-нибудь ясно и слышно, где померк рассудок
и закричали дикие страсти. Вся задача, и притом всего здорового в России,
заключается сейчас в том, чтобы вытащить из этой смуты манифест 17 ок-
тября целым и невредимым и положить его в основу новой русской граж-
данской и государственной жизни. «Никуда одно правительство, правитель-
ство без общества и без народа» — вот один лозунг нашего времени; «Нику-
да общество поверх правительства и без правительства» — вот другой ло-
зунг. Телега русская и конь русский точно разорвались в 1905 году,
распряглись. Конь — без тяжести за собою государственной телеги; телега
— без коня, без кровных сил народа и общества. Нужно их вновь соединить.
Нужно восстановить упряжь.
СОСТА В РУССКОГО ПОМЕСТНОГО СОБОРА
Судя по быстроте и энергии, с каковою весной 1905 года русская церковь в
лице иерархов, священства и монашества, светских лиц, постоянно посвя-
щающих свои труды церковным вопросам, заявила о безотложной нужде у
нас церковных преобразований, — можно быть уверенным, что теперь, ког-
да призывное слово к этому раздалось с высоты Престола, не будет сделано
ни малейшего промедления к созыву собора как органа проведения этих
10
преобразований. Они нужны не в одной области управления — области наи-
более ясной. Уже в 1903 году, при назначении из государственного казначей-
ства пенсий духовенству, Государем было выражено пожелание, чтобы пас-
тыри народные приложили все усилия к насаждению в душе народной вы-
соких понятий и правил христианской нравственности, которые всегда у нас
бывали оставляемы в тени всепоглощающей обрядности. Между тем обряд,
ритуал церковный есть собственно сфера иерархии и священства, область
служб его. Народ отраженно отвечает на эти службы и ритуалы высокою
нравственностью, через которую впереди всего и более всего выражает свою
связанность с Богом, «religio»; через нравственность личную и добрые нра-
вы общественные, гражданские, бытовые, семейные. Все это у нас страшно
запущено. Уже Стоглавый собор при Иоанне Грозном поднял и обсуждал
многие вопросы быта, обсуждал и осудил многие гнездившиеся в народе
язвы, вредные для него со стороны душевного и даже физического здоро-
вья. С тех пор мы голоса Церкви вовсе не слышим в сфере нравственности и
житейского сношения; не слышим его уже многие века.
Во исполнение Высочайшего зова, Святейший Синод «предположил
учредить с начала наступающего года особое присутствие из представите-
лей церковной иерархии и других духовных и светских лиц, известных сво-
ими учеными трудами и познаниями в области богословия, церковной исто-
рии, канонического права и церковной практики» для выработки програм-
мы предлежащего собора. Таким образом, не только на самый собор, но и в
предварительное присутствие, которое могло бы состоять из очень тесного
круга самих иерархов, ибо это присутствие еще ничего не решает, будут,
однако, позваны не только священники, но и профессора наших духовных
академий. С этим вместе совершенно падают все предположения и опасе-
ния, будто собор может быть созван только из представителей одного черно-
го, монашеского духовенства. Этого ни в каком случае не будет. Не будет по
определенно выраженному желанию Св. Синода, весьма осторожному и
дальновидному. Условия нашей общественности и образования ныне тако-
вы, что собор из одного монашества не получил бы должного авторитета, а
решения его, не получая при практическом осуществлении подмоги осталь-
ного духовенства и вообще всех мирян, остались бы лишь бумажными по-
желаниями и даже могли бы вызвать весьма определенное движение против
себя. Переходя к составу этого предварительного присутствия, нам думает-
ся, что он мог бы весьма быстро определиться, если бы Св. Синод, напри-
мер, допустил в него по 2 или по 3 депутата от четырех наших духовных
академий с предложением им указать равное число из мирян, посвящающих
свои труды интересам церковной жизни, и с приглашением депутатов, напр.
от 10—12 виднейших монастырей и по два священника от епархии: один от
городского и 1 от сельского духовенства. Если таковой состав особого при-
сутствия показался бы слишком многочисленным и громоздким, то можно
не брать непременно все епархии, но, напр., 10 епархий великорусских,
2 малорусских, белорусскую, далее — грузинский экзархат и Сибирь. При
11
таковом плане состав присутствия определился бы не более чем в 50 чело-
век, что уже не велико для комиссии такой особенной задачи, как определе-
ние круга вопросов, имеющих быть предложенными будущему собору.
Нам, впрочем, представляется это присутствие не весьма существенным,
и самые заседания его едва ли будут очень длительными. Во всем своем
авторитете русская Церковь встанет тогда, когда соберется. Возможно ли
предположить, что этот соборный авторитет будет во всем следовать и руко-
водствоваться комиссионным авторитетом, который был раньше его, но оче-
видно меньше его. Все это очень проблематично. И собственно, мы стоим
сейчас только перед одним вопросом, нетерпеливо ждущим решения: когда
собраться, «как собраться» и кому собраться. Таким образом, вся задача сей-
час — организационная, а не программная. Определяя же «программу» воп-
росов, особое присутствие, очевидно, будет исполнять роль собора, не буду-
чи им: ибо, в своем собственном «соборном» лице явившись, церковь, ко-
нечно, не будет незряча, не будет глуха или парализована и сама будет ви-
деть, что именно ей предложить рассматривать и обсуждать.
Можно думать поэтому, что особое присутствие быстро подведет итоги
уже собранным в Св. Синоде материалам «программы», и с этим так нужно
спешить, что, пожалуй, не для чего особенно и задумываться над составом
присутствия. Белое духовенство собственно имеет весьма надежных защит-
ников себе в лице профессоров духовных академий, без исключения сыно-
вей белого духовенства. И при спешности (которою не нужно пренебрегать)
можно бы ограничиться в качестве «светского элемента» 8 или 12 (т. е. по 2
или по 3 депутата) профессорами академий, депутатами от лавр и ставропи-
гиальных монастырей, или 8 или 12 священниками, но из них половина не-
пременно из сел по выбору епархий.
ЧИНОВНИЧЕСТВО И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПАРТИИ
С существенным изменением политического строя нашего отечества возни-
кает, среди других, и очень жгучий и практически важный вопрос о характе-
ре и положении нашего чиновничества. В России, в силу обширности стра-
ны и ее малокультурности, класс чиновничества чрезвычайно люден, и вме-
сте он на 73, на */2 и, может быть, даже больше поглощает образованных
людей. Три категории: 1) дворянство, 2) интеллигенция и 3) служилый класс
— у нас расходятся только в оконечностях и совпадают в центре, в огромной
своей массе. До сих пор никакого вопроса здесь не было: все чиновники
предполагаемы были «на правительственной стороне», и если в действи-
тельности они не всегда были таковыми, то лишь про себя, втихомолку, без
громких заявлений своей мысли, каковое «заявление» признавалось «небла-
гонадежным» и влекло за собою удаление со службы по знаменитому «тре-
тьему пункту». Правительство, как определенная машина, как система оп-
12
ределенных взглядов и убеждений, проводимых в жизнь, предполагало всех
работающих вместе с ним, т. е. у него на службе, солидарными с этими взгля-
дами и убеждениями. Но дело коренным образом изменяется, раз «взгляды
и убеждения, проводимые в жизнь» перестают быть чем-то вековым, од-
нажды и навсегда установленным; и раз чиновничество, оно же вместе с тем
и огромная дробь образованного и имущественного класса, получает право
дифференцироваться в партии, и в том числе в такие партии, которые прямо
враждебны наличному кабинету, т. е. сущему правительству, каково должно
быть и каково может быть отношение к ним правительства? Как смотрят на
свое положение сами чиновники? Как вообще устроится это дело, которое
на Западе, в странах давнишней свободы и срочных перемен правительства,
т. е. «кабинетов», решается далеко не одинаково.
Чиновничество, раз оно хочет жить активною политическою жизнью и
дифференцироваться в партии, частью враждебные наличному правитель-
ству, во всяком случае должно считаться с прецедентом Соединенных Шта-
тов, где, как известно, с выбором нового президента и переменою прави-
тельственной программы меняется весь состав чиновничества. Новый пре-
зидент приводит с собою новых людей, а все старые уходят. В Америке есть
куда уйти: там частная промышленность и торговля так сильно развиты, что
могут поглотить без обременения весь многотысячный состав «уволенных
от должности» лиц. Но будет ли куда уйти в России? Не будет ли здесь озна-
чать такой «уход» ухода в голод, нищету, безработицу? Президент ясно го-
ворит: «Я могу работать только с составом сотрудников солидарного образа
мыслей». И трудно отказать ему в этом праве, если, в сущности, такого же
образа мыслей и действий придерживается всякий журнал, газета, банк, вся-
кое товарищество. В других странах на европейском материке такой уни-
версальной «перемены чиновничества» нет, но и здесь во всяком случае вре-
менные правительства не допускают манифестаций против себя своих чи-
новников, предлагая в последнем случае им удалиться со службы. Таким
образом, этот образ действий приближается к практиковавшемуся доселе в
России. Во всяком случае и русским предстоит уяснить для себя этот воп-
рос, и, между прочим, этого требует даже чиновнический интерес, так как
пока они живут в полном неведении о том, что им можно и чего нельзя в
пределах развертывающейся на их глазах политической жизни. Им, есте-
ственно, хочется принять в ней участие; и никакой закон доселе не опреде-
ляет, насколько они могут это сделать, не вредя своему положению.
Нам думается, что следует в правительственной службе отделить долж-
ности, так сказать, идейные от чисто технических. И от технических служб
не требовать той солидарности с «правительственною программою», какой
качественно требуют идейные должности. Техник на службе правительства
должен быть связан только в своей технике, но не в образе мыслей: он дол-
жен быть совершенно пассивен в своей службе в исполняемой по высшему
приказанию работе, неся двойную и тройную ответственность за отказ ее
исполнить, за участие в стачке и вообще во всем, что касается купленной у
13
него работы. Но он может при выборах в Государственную Думу подавать
голос за какого угодно кандидата всех допущенных к существованию партий
или присоединяться к какой угодно программе. Иное дело высший чинов-
ник или чиновник идейного ведомства: он в точном смысле входит в «со-
став правительства», и оставаться в этом правительстве, в сущности изме-
няя ему, если ему и может дозволить собственная совесть, то может не доз-
волить уважающее себя правительство, простая порядочность службы.
БЕЗНАДЕЖНОЕ И БЕЗНАДЕЖНЫЕ
Известно, что когда к тяжко больному человеку посылают справиться о его
здоровье и посланный уже не застает больного в живых, то родственники
умершего уведомляют о его смерти такою формулою, как бы передаваемою
из уст покойника: «приказали долго жить». Т. е. покойник как бы говорит:
«Я сам умер, а вам желаю долго жить».
Чрезвычайно печальную эту формулу приходится вспомнить, вгляды-
ваясь в то, каким резонансом отдались слова Государя, обращенные к выс-
шей русской иерархии, о созыве поместного Собора. Слова эти услышаны
всею Россиею, и в ней они приняты как величайшее обещание, как вели-
чайшая надежда. Даже вовсе неверующие — и те призадумались и стали
скромнее в своих постоянных насмешках. Не знаю, что думает сейчас один
«совопросник» мой, человек, совершенно отшатнувшийся от церкви и прин-
ципиально ей враждебный, с которым в пору бывших «Религиозно-фило-
софских собраний в Петербурге» я много спорил; и почти все мои возраже-
ния на его насмешки над положением «духовных дел» в России сводились
к одному:
— Вот подождите, соберется собор и все исправит. Соберется все рус-
ское доброе духовенство, соберут и добрых, еще преданных церкви мирян,
все рассмотрят, обо всем подумают и все упорядочат...
Зелененькие огоньки, бывало, так и забегают в его глазах. Он, бывало,
всегда покатится со смеху на эти мои грустные и все же надеющиеся слова и
скажет:
— Собор русской церкви, ха-ха-ха... Да знаете ли, я буду веровать, как
деревенская русская баба, и в чет, и в нечет, и в дурной глаз, и в прочие
принадлежности вашего «православия» (он был совершенно дикий в рели-
гиозном отношении человек), если ваш этот «русский собор» соберется. И
так как я в «чет и нечет» не желаю верить, то и даю такой зарок только
оттого, что всеконечно и бесконечно уверен, что никогда никакого «собора»
не соберется. Повторяют все вслед за Достоевским, что «русская церковь со
времен Петра в параличе лежит». Было бы утешительно. Она вовсе не «в
параличе лежит», а знаете... с нею сделалось, что с Лазарем, о котором ска-
зала Марфа Христу, пришедшему навестить его: «Господи, три дня как умер
брат мой и уже смердит!»
14
— Ну, вот собор и «воскресит», ибо и Лазарь был воскрешен...
— Лазарь, Христос... То были дни необычайные, когда живой Бог ходил
между людей и воскрешал их «словом Своим». Наши ли дни таковы? Ни-
когда не воскреснет русская церковь, да и не надо вовсе, нечему воскресать.
В нем был точно бес, когда спорил:
— Наконец, я не хочу, чтобы она воскресала. Не хочу за все темное и
жестокое, что она сделала. Помните наши срубы, на Западе — инквизицию?
И попомните, попомните мое слово: церковь, но не наша русская, а всемир-
ная, и католическая, и лютеранская (тогда уже перестанут спорить, тогда
уже «примирятся») соберется еще только один раз, не теперь, а в довольно
отдаленном будущем, когда уже будет для всех и всё совершенно безнадеж-
но... Потянутся эти «последние верующие», согбенные старички, на после-
днее прибежище свое, «собор»... И это будет канун «светопреставления», то
есть перестановления, перемены всех «светов просвещающих», самых ис-
точников веры, самых категорий святого и грешного... «Последний собор»
нужен будет как последний срывающийся якорь, и, чтобы это было остро,
ярко, воочию, для этого перед «последним собором» должно быть оставле-
но совершенно пустое место, бессоборное, безжизненное, именно вот чи-
новническое, как сейчас. Пустыня и... зеленеющий оазис, который вдруг
окажется воздушным миражем, оптическим обманом. И тогда «плач и скре-
жет зубовный» по Писанию; по «вашему Писанию», должен прибавить, так
как сам я ничего этого не признаю.
Ужасный был еретик. И вот, мне думается, смутился и он и поколебался
в своем неверии в жизнь церкви, когда с высоты Престола отчетливо послы-
шались слова: «Быть собору! и быть — скорее!»
Однако когда я поспешил понаведаться, «что и как» с собором, как воз-
радовались вслед за истомившимся провинциальным, особенно сельским,
русским духовенством центральные наши духовные сферы, то пришел в
крайнее смущение и вспомнил горькое предсказание моего недруга-скепти-
ка. Судите сами. Передаю, как слышал:
— Вы хотите сведений? Никаких сведений. Спрашиваете, что делается?
Ничего не делается. Если в прошлом году вопрос о реформе церковного
управления пошел довольно быстро вперед, то оттого, что приманкою впе-
реди стояло патриаршество, которого кому же не хочется. К приманке и по-
шли скорыми шагами... Но ныне это более не улыбается, вопрос о патриар-
шестве отодвинут в сторону, ибо неосторожно масса людей высказалась в
том смысле, что канонична русская церковь, конечно, была и до патриархов,
при митрополитах московских и киевских, и что теперь России, в ее болях и
страданиях, не до новых бриллиантами украшенных митр и вообще всех
этих «переодеваний». Довольно основательно, но неосторожно это было
высказано. Со снятием с очереди вопроса о патриаршестве был вынут глав-
ный мотив движения у нашей высшей иерархии, с которой ведь приходится
начинать, без которой нельзя обойтись, через которую приходится все де-
лать «для созвания собора», а она, без награды патриаршеством, вовсе не
15
хочет ничего делать и не интересуется самим собором. Не то чтобы она от-
носится к нему враждебно, но — совершенно равнодушно. Именно «как в
гробу». Умерший начал было подыматься из гроба, услышав, что зовут на
патриаршество. Но как оказалось, что он ослышался, то и опустился опять
назад, проговорив: «Мне и здесь удобно, бесшумно, незаботливо и ладаном
пахнет».
— Ну, однако же, назначено особое присутствие для выработки плана
Собора и «программы» его?..
— Какое «особое присутствие»? Никакого «присутствия» нет, а сдают-
ся «материалы» в типографию, а типография печатает. К 1 декабря еще К. П.
Победоносцевым было «предложено» епархиальным начальствам прислать
свои «мнения» и «заключения» касательно программы вопросов, имеющих
быть предложенными предстоящему Собору. Кон. Пет. знал, как «тянуть
дело» и «откладывать в долгий ящик». И епархиальные владыки тоже зна-
ли, чего он не любит и что любит. Торопливость не была желательна: и хоть
теперь январь 1906 г. и уже есть месяц опоздания, однако из 65 или 68 епар-
хий доселе «мнения» и «заключения» поступили только от 25-ти архиереев.
И притом К. П. в окружном циркуляре потребовал представить собственно
«епархиальные мнения», и вот, чтобы не отступить от буквы циркуляра, не-
которые из владык, призвав к себе несколько видных протоиереев, произ-
несли им краткую речь, что собственно спрашивается «епархиальное мне-
ние», а не «взгляды духовенства», а «мое мнение — таково: и прошу вас
совместно дать ему дальнейшее развитие, обоснование и форму и предста-
вить мне в ближайший срок». Так было поступлено в одной из ближайших к
Москве приволжских епархий. Другие владыки высказались прямо против
Собора, ссылаясь, что теперь для него не время. Третьи писали простран-
нее, излагая в экстракте мнения поместного духовенства. Теперь эти «епар-
хиальные мнения» последовательно поступают в Св. Синод и последова-
тельно сдаются в типографию. Когда прибудут все «мнения» и все будут
отпечатаны, то тогда в Синоде будет назначена особая комиссия, которая
займется «сводкою» и «экстрактом» из этих отдельных мнений...
— Какая ужасная аптека! Да ведь это есть полное отрицание «собора»!
Это — формы делопроизводства петровских коллегий...
— Каковою и является, как вам известно, Синод, не могущий же осво-
бодиться от форм установленного в нем «делопроизводства». Когда будут
все «мнения» сопоставлены, сравнены и суммированы в общих пожелани-
ях, а также и сделан будет реестр всех «разностей» в поданных мнениях,
тогда комиссия обратит свое внимание на печать и, собравши все, что в ней
говорилось о Соборе...
— Да для чего это, когда г. Преображенским в огромном томе перепеча-
тано решительно все, что появлялось в периодической печати не только за
подписью, но и анонимно, не только в Петербурге, Москве, Киеве, но и в
«Епархиальных Ведомостях» касательно будущего Собора...
16
— Не может же Синод руководиться частными изданиями. С подобаю-
щим достоинством он соберет, через комиссию, отзывы и мнения печати, и
опять сводку, и опять экстракт и варианты...
— Господи, когда же это будет?!!
— И когда все это будет сделано, а к тому времени благопотребно и
общество поуспокоится, и возбуждение умов уляжется, и все придет в бла-
гочестивую тишину, то вот тогда Синод, на основании отчасти всего собран-
ного материала и параллельно ему, поставит уже от себя как бы третье и
нормативное мнение по тому же предмету: какие именно вопросы следует
предложить имеющему быть собранному Русскому поместному Собору. И
тогда на сем незыблемом фундаменте, если угодно будет Богу...
— А не слыхали ли вы о бывающих в дороге несчастиях; что когда ям-
щик на спуске горы или около оврага задремает, то лошади понесут, неуп-
равляемые вначале, а напоследок уже и бессильные повиноваться, послу-
шаться, хоть бы и хотели. Дело в том, что жизнь-то течет не по «регламенту
Петра Великого», особенно в наши далеко не петровские времена. Остав-
шись без руководства, жизнь не остановится, а пойдет вперед, но уже вне
руководства, и даже против руководства...
— Руководство есть — Синод.
— Я о нем и говорю. Уже давно религиозная и даже церковная жизнь у
нас пробила свою струю, текущую мимо Синода, обтекающую вокруг его и
подмывающую день за днем его фундамент. Вспомните-ка славянофилов.
Константин и Иван Аксаковы, Хомяков, Самарин — они ли не православ-
ные?! Конечно, это православнейшие из православных, столпы правосла-
вия, и так это всеми признано, литературою, богословскою наукою, обще-
ством, решительно всеми. Но были ли эти богословы «синодальными»?
Вопрос не смешной, ибо всякий «католик» есть «папист», а у нас всякий
«православный» должен бы быть «яко синодальный служка». Официально
это даже так и требуется, может быть, кое-кем так ожидается, но в действи-
тельности самая мысль, напр. о «синодальности» Хомякова, богословские
сочинения которого даже долго не разрешали печатать в России, — возбуж-
дает улыбку... Несовпадение «церкви» и «Синода» всегда было фактом об-
щерусского сознания, в том числе сознания и всего решительно духовенства
нашего, образованного и необразованного. Кому я ни высказывал, в много-
летних беседах, из духовенства: «Да ведь церковь есть Синод», все мне от-
вечали, и я не помню исключений: «Сказать это — значит кощунствовать».
Это говорит духовенство. Но пока это не официально, не законодательно, не
административно. Все так думают, но никто этого официально не заявляет.
И вот неосторожным сном своим, не вовремя, возницы ставят все в такое
положение, что, возможно, — «воз покатится сам собою». Я хочу указать на
ту печальную возможность, что, когда Синод покажет: «Я не хочу Собора»,
— отовсюду послышится: «Синод еще не есть церковь».
Государь сказал: «Пусть церковь живет и собирается». Это в том отно-
шении содержит великое обещание, что уже отныне дремота возниц будет
17
не всесильна, и воз получил некоторую силу и право «сам катиться»... Я все
это говорю к тому, что не сбудутся черные предвидения моего злого скепти-
ка: «Собора никогда не будет, иначе как перед пришествием Антихриста».
Антихриста нам не надо, и, чтобы «зачурать» его, пусть собирается Собор,
и как можно скорее собирается, эту же зиму, без всяких «экстрактов», «сво-
док» и печатных «мнений». Ибо Собор-то ведь и будет сам «мнением»; ведь
почему же его и хотят собрать, как не потому, что «нет достаточного мне-
ния», «мнение обмелело», «нет силы духовной и разума духовного» у на-
лично действующих властей, чиновно-духовных, а не жизненно праведных,
порывистых, пророческих и святых.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СИЛ
Среди сумятицы наших дней и быстро следующих друг за другом распоря-
дительных актов правительства мы не находим единой организующей мыс-
ли, цельного организующего движения. Между тем главная суть анархии, в
которую свергнута Россия, лежит не в простом и эпизодическом «неповино-
вении властям», а в давнишней и постоянной неорганизованности народ-
ных сил на месте, следствием чего и было то, что первые неизвестно откуда
взявшиеся господа без труда захватывают власть в деревнях, селах, волос-
тях и наконец в уезде, нигде не встречая сколько-нибудь стойкого, осмыс-
ленного привычного сопротивления. Деревня шатается, точно она не стоит
на корню. А посмотреть внимательно — так и точно увидишь, что она нс
стоит на корню, что корни ее выкопаны, и вот вся она теперь стала как трава
перекати-поле, гонимая по степи ветром.
Крестьянский мир потерял свою устойчивость, силу, потерял достоин-
ство и солидную авторитетность, раз, с введением института земских на-
чальников, продолжающим и посейчас действовать, решения его потеряли
самостоятельность и независимость и стали только фиктивно-крестьянски-
ми. Волостной сход имеет только подписи крестьянские, но то, что скрепле-
но этими подписями, имеет родником себе не крестьянскую голову и крес-
тьянскую волю, но волю земского начальника, которую нельзя отделить от
произвола, иногда от каприза и от совершенно безотчетных фантазий, ибо
они не проходят через проверку никакого правильного, контролирующего
механизма суда или администрации. Государственное наблюдение должно
оставаться за всем, в том числе и за крестьянским миром: но можно гово-
рить о наблюдении объективно-бесстрастном, именно государственном, а
не о личном вмешательстве в судьбу каждой деревни совершенно ей чуждо-
го человека, притом вмешательстве безграничном и неопределенном; не об
опеке, доходящей до величайших мелочей, одного сословия над другим.
Крестьянство наше заморено этим безнравием, этим отнятием у него всяко-
го своего юридического выражения. Что это так, можно видеть из того, что
правительство само не нашло возможным передать выборы в Государствен-
18
ную Думу этим лишь фиктивно-крестьянским «волостным сходам», допус-
тив для них новые сходы, устранив всякое вмешательство полиции и земс-
ких начальников.
Переходя затем к уездным земским собраниям, где можно было бы ожи-
дать встретить организованные местные силы, по существу охранительные,
то именно в последние десятилетия все здесь поставлено таким образом,
что крестьяне являются в этих собраниях какою-то немою мебелью, пере-
ставляемою туда и сюда, без возможности иметь здесь решающий голос, без
возможности заявить здесь свою нужду и самостоятельно напрячь усилия к
его удовлетворению. Коренной-то русский народ, исчисляемый десятками
миллионов, все ядро нашего царства, и оставлен без голоса, без рук, без ног,
с глухою своею нуждою, которую услышит барин — хорошо, а не услышит,
то «и так пройдет». Для глухого ропота в деревне это создавало слишком
много условий. Перенесясь в губернию, на губернское земское собрание, и
прислушавшись к речам на нем, мы встречали опять же полное отсутствие
крестьянского духа, чуткости и понимания крестьянских основательных
пожеланий. Здесь действовали и говорили, распоряжались деньгами и по-
становляли решения общероссийские знаменитости либерального и даже
радикального оттенка, у которых с деревнею не было никакой связи, кроме
отвлеченно-книжной, и которых деревня не сумела бы ни выслушать, ни
понять.
Эта глубокая неуклюжесть всего нашего внутреннего, местного пред-
ставительства ждет безотлагательно преобразования. Раз уже крестьянские
представители пойдут в Государственную Думу, нужно широко допустить
их в уездное земство, а затем нужно приучиться слушать крестьянские го-
лоса и в земстве губернском, где они непременно должны быть представле-
ны в большем или меньшем проценте выбранных гласных. Только тогда,
когда везде крестьянин почувствует себя лицом, и не пришибленным и при-
давленным лицом, — только там он станет крепко на ноги и уже не подчи-
нится, не побежит перед случайным порывом ветра, какой теперь повсюду
поднял мужиков, как сухие листья палого дерева.
ЗЕМСТВО ПЕРЕД НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Самым печальным образом в нашем земстве, как оно поставлено теперь,
недостает именно «земли», и не без основания раздаются иногда упреки,
что оно повторяет в приемах своей деятельности приемы той же бюрокра-
тии, которой должно бы быть во всем противоположно, которую призвано
заполнить и поправить. Не одно крестьянство, но и прочие классы населе-
ния, кроме дворянства, не играют в земстве сколько-нибудь значительной и
авторитетной роли. Но земство имеет в себе только то, что в него вложено.
Земство все время, целых сорок лет своего существования, стремилось к
расширению своей деятельности и к более авторитетной постановке своего
19
голоса; и это было не из простого честолюбия, но чтобы сообщить деятель-
ности своей какую-нибудь осмысленность, закругленность и целостность.
И целых сорок лет администрация полагала всю свою задачу в том, чтобы
теснить, ограничивать и обрывать эту деятельность земства; не допустить
ее не только до расширения, но по возможности еще сузить ее против закон-
ной мерки. Сорок лет внутренней жизни России ушло на бессмысленную
толчею на одном месте, на ряд толчков, получаемых справа и слева поездом,
стоящим на месте, не вышедшим со станции. Потрачены время, деньги, труд
без всякой пользы для народа и России.
Правительство должно немедленно же дать совершенно иное направле-
ние местной администрации в ее должном отношении к земству. После ма-
нифеста 17 октября само собою очевидно, что прежнее отношение к зем-
ству, проистекавшее из слепого недоверия к нему и опасения в нем кон-
ституционных вожделений, не имеет более никакого для себя основания,
никакой цели, никакой почвы. Раз Государственная Дума и конституцион-
ные основы вошли в план имперской организации, государство само заин-
тересовано в том, чтобы местные земства стали опорными столбами обнов-
ленного государственного строя, местными пособниками правительства и
Государственной Думы и вместе с тем главным слоем народной почвы, пи-
тающим эту единую большую реку. В лучшие времена и в лучшие моменты
правительство и прежде находило нужным запрашивать те или иные зем-
ства по вопросам общегосударственного значения, затрагивающим отдель-
ные районы России. Несомненно, и Государственная Дума станет поступать
не иначе же, но только она еще чаще и свободнее, как к своему брату, будет
обращаться к местным людям и их выразителю, земству. Для этой новой
задачи, пособника Государственной Думы, земства должны быть поставле-
ны гораздо самостоятельнее и авторитетнее, чем как они были поставлены
до сих пор. Без свободы нет и деятельности, при мелочной «поднадзорнос-
ти», нет и настоящего сознания долга и страха ответственности. «Надзира-
ющий» за все и отвечает, т. е. до сих пор у нас за все отвечала безответствен-
ная бюрократия, которую все ненавидели и никто не мог позвать на суд, не
мог даже печатно осудить. Теперь же необходимо расширить реестр пред-
метов, входящих в компетенцию земств, расширить и самую эту компетен-
цию, поставить ее тверже, дать право обращаться к центральным органам
государственной власти с ходатайствами, запросами, в некоторых случаях с
указаниями и советами (что сводится к тому же праву ходатайства), дать
возможность шире вмешаться в вопросы школы, открытия новых учебных
заведений и организации вообще всех их, в вопросы медицины, дорожного
и экономического хозяйства, и, словом, из маленькой и почти сословной,
почти только дворянской канцелярии превратить это дело в настоящее «зем-
ство», в полном и глубоком соответствии с этим прекрасным именем. Мы
опасаемся, что без этой подготовительной организующей работы Государ-
ственная Дума задышит одиноко в Петербурге и это дыхание, пожалуй, бу-
дет чахлым. Дума будет занята множеством чисто политических вопросов, а
20
не нужно забывать, что за государственною политикою стоит государствен-
ное хозяйство. Конституционная Россия должна не теоретически и красно-
речиво, в пышных фразах, но на самом деле стать на страже народной ко-
пейки, народного труда. А это можно сделать только через сеть учрежде-
ний, родственно и интимно связанных с Государственною Думою. Без мес-
тных, живых и самостоятельных, в одном тоне с нею действующих земств
Дума оказалась бы в очень и очень многом бессильною или призрачно силь-
ною. Это едва ли забыла администрация, и этого не нужно забывать и дру-
гой стороне — общественным и народным массам. Во всяком случае теперь
же, до созыва Государственной Думы, правительству следовало бы озабо-
титься выработкою подробного проекта реорганизации земства, ввиду но-
вого его положения и новых задач, чтобы немедленно же внести этот проект
на рассмотрение Думы, как только она соберется весною.
ВОЛОКИТА С ДЕНЕЖНЫМИ ВЫДАЧАМИ
ВДОВАМ УБИТЫХ ВОИНОВ
«Улита едет, когда-то будет», — говорит русская пословица. Пока бюрокра-
тию побранивают, бюрократы по-прежнему царственно сидят в своем поло-
жении и по-прежнему мутят и мучат сердце русского человека. Письмо вдо-
вы штабс-капитана корпуса инжен.-мех. флота г-жи Е. А. Носович говорит
о 3-месячном бесплодном хождении в морской штаб, в окружный суд и о
полном бессилии вдовы убитого под Порт-Артуром офицера дополучить за
один месяц жалованье своего покойного мужа и денежное вознаграждение
за потонувшее на миноносце «Стройный» имущество его, а также и за хо-
зяйство их, погибшее в Порт-Артуре. Деньги уже определены к выдаче: но
нужно штабу удостоверение в том, является ли вдова штабс-капитана, умер-
шего бездетным, единственною правопреемницею на его наследство? Тако-
вую бумагу может выдать, по разъяснениям ей, только окружный суд. Она
отправляется туда и с ужасом узнает, что на точном основании закона такое
удостоверение «может выдать только окружный суд того города, где умер-
ший имел последнее пребывание», т. е. не существующий более окружный
суд Порт-Артура, переданного японцам?! Пока вдова плачет, общество не
может не возмутиться безучастностью и формализмом морского ведомства,
— в частности, морского штаба, и не спросить себя: всегда ли оно относится
с такою скрупулезною строгостью ко всяким денежным выдачам и служа-
щим всех рангов, как этой беспомощной вдове рядового офицера, умерше-
го, однако, на службе России, а не на службе морскому штабу? Нужно заме-
тить, что ведь и пенсию, и всякие выдачи, в данном случае выдача за сто-
имость погибшего на войне офицерского имущества, делает тоже Россия и
российское государство, а не производит «из милости и доброты» морской
штаб. Может ли он требовать у вдовы недостижимых теперь «удостовере-
ний», чтобы передать ей деньги, не ему, а ей ассигнованные государствен-
21
ным казначейством? Добавим, что если вдова штабс-капитана Носовича
написала «Письмо в редакцию» газеты, то отовсюду приходится слышать,
как глух вообще морской штаб ко всяческим ходатайствам таких вдов и дру-
гих родственников погибших или раненых морских воинов, которые пла-
чутся по Петербургу, не получая или со странными затруднениями получая
пособия, пенсии или даже нужные сведения и разъяснения. «Улита морс-
кая» едет, и неизвестно, когда и куда она «прибудет». А можно было ожи-
дать, что в морском ведомстве после всех ужасов, пережитых не без его вины
Россиею, пронесутся некоторые покаянные и скорбные звуки и что оно ос-
тавит прежнюю беспечальность и беспечность беззаботного существования.
К РАЗГРОМУ ВЛАДИВОСТОКА
Трудно и ответить сразу, что более оскорблено, унижено и разорено в этом
ужасном разгроме, подробный рассказ о котором прислан нашим коррес-
пондентом, - частные ли люди, гражданственность или государственность?
Все опозорено, замарано, загажено в этом водовороте обид, ярости, бесчин-
ства и бессмыслицы, под конец сдобренных вином. Частные люди являют-
ся здесь «третьим пострадавшим» и, конечно, как совершенно невинные,
вызывают наибольшее сострадание. Бежавшие в лес офицеры, попрятав-
шаяся полиция, воинское начальство, окружившееся батальоном верных
солдат и пулеметами, когда 60-тысячная масса запасных, солдат и матросов
бушевала над мирным населением города, не встречая препятствий и отпо-
ра: все это такая картина «русских порядков» и силы и разума нашей адми-
нистрации, которым имеет причины дивиться Запад от Немана до Калифор-
нии. И будет дивиться. Как ни велики страдания частных людей, удар нашей
государственности, нанесенный этим позором, все же остается наибольшим.
И русская государственность, если она сколько-нибудь жива, не может не
реагировать на этот позор самым живым и энергичным образом. Коррес-
пондент, зритель всего происшедшего там, пишет в заключение, что «при-
чина события кроется в отсутствии сердечности к русскому солдату со сто-
роны высших, средних и непосредственных его начальников, в пренебреже-
нии к его скромным интересам, в полном невнимании к нуждам и потребно-
стям его духовной жизни, в приказах, подобных изданному генералом
Лашкевичем по поводу манифеста 17 октября». Была, однако, и другая, бо-
лее конкретная причина. Вот она: «По окончании войны повелено было уво-
лить призванных из запаса. В то же время была прекращена выдача пособий
их семействам. Но затем запасных оставили на службе до марта 1906 года, а
выдачу пособий семействам их не возобновили. Видя, что семьи обрекают-
ся на неизбежную голодовку, запасные заволновались». Вот основная, фак-
тическая, непосредственная причина. Что же мы скажем? Да то, что в таком
нетерпеливом, нервном деле, как увольнение запасных, людей частью по-
жилых и семейных, которые были угнаны за тысячи верст от родных сел и
22
деревень, что по этой надорванной струне нельзя водить пилой то взад, то
вперед, что здесь получает применение вся мудрость поговорки: «Семь раз
отмерь, один - отрежь». Но как назвать отнятие пособия семьям запасных?
Выдачу его со скупою торопливостью прекратили, как только решено было
их распустить, но еще ранее действительного роспуска запасные и вместе
кормильцы семей задержаны были на Востоке, все же прекращенные посо-
бия так и не возобновили - как назвать такое возмутительное распоряже-
ние? У нас, в России, это не имеет прецедентов, - нельзя назвать этого иначе
как насильственным отнятием жалованья; пенсии, ренты, чего угодно, но
вообще насилием в выдаче содержания, и при том действительно совершен-
но неимущим и с каким-то безнравственным, жестоким расчетом, что глу-
хой и немой, безграмотной деревне жаловаться некому и некуда!!
Вина этого необычайного распоряжения лежит, очевидно, на военном
министерстве, которое должно было предвидеть если и не те, какие случи-
лись, осложнения в армии, то все же непременно должно было ожидать очень
большого ропота и брожения. Очевидно, оно ничего не предвидело, да ни о
чем и не думало. И плодом этого халатного отношения к делу и странного
паралича мысли и был разгром Владивостока, во всем его ужасе, во всем
позоре для государства, во всех бедствиях для жителей.
САМОРАЗВИТИЕ РАБОЧИХ
И РЕМЕСЛЕННИКОВ
Рассмотренный Государственным Советом законопроект «О профессиональ-
ных обществах и союзах» обнимает чрезвычайно обширную рубрику пред-
метов и явлений трудовой жизни, правовое положение которых было до сих
пор отдано всецело на усмотрение администрации. Сюда входят вопросы
защиты профессиональных интересов, изучение экономических условий про-
фессии, установление форм третейского разбирательства между нанимате-
лями и нанимаемыми. Таким союзам и обществам дано право «открывать
профессиональные школы, библиотеки, курсы и различные чтения».
Известно, с какими чрезвычайными трудностями было еще не так давно
связано у нас не только открытие каждой школы по частному почину, но и
заведение самой крошечной библиотеки, куда дозволялось приобретать кни-
ги, только прошедшие сверх общей цензуры еще чуть ли не тройную цензу-
ру особых комиссий трех министерств: народного просвещения, духовного
ведомства и внутренних дел. У многих отпадала охота трудиться над этим
делом, затрудняемым на каждом шагу, охоты этой хватало только у людей,
избравших политическую пропаганду специальною своею профессиею и
уже заранее приготовивших себя ко всяким «затруднениям» и «прещени-
ям». Результат тройного контроля был тот, что от народа, от ремесленника,
от рабочего были оттолкнуты все спокойные прогрессивные силы общества,
все свободолюбивое без торопливости, все просто «либеральное». Рабочий
23
люд был оставлен лицом к лицу только с начальством, законоучителем и
урядником по правую сторону и с переодетым агитатором по левую сторо-
ну. Выбор был очень скоро решен, кого слушать, и решен в очень печальную
сторону для «тройного контроля», бездейственно действовавшего. Но при
этом исходе в крайне печальном положении очутился и русский ремеслен-
ник, русский рабочий. Политическими взглядами и теориями он начинен;
но тем, что прокормило бы его, с чем бы он нашел спрос на себя не только в
кружке поддерживающих его лиц, но и везде на земном шаре, — его опыт-
ность, сноровка и хотя элементарное просвещение, — этого у него нет. Так
образовалось наше несчастное «пушечное мясо» революции, люди голод-
ные и безработные, взглянув на которых каждый хозяин сколько-нибудь тон-
кого мастерства покачает головою и скажет: «Я вижу силу мускулов, а в
моем деле требуется еще уменье, выдержка и знание». Рабочий-поляк, рабо-
чий-немец, мастеровой-еврей — все имеют лучший заработок, высшую за-
работную плату, чем русский мастеровой и рабочий. И это есть такая пе-
чальная и страшная сторона «рабочего вопроса», мимо которой пройдет рав-
нодушно только тот, кому рабочий класс нужен лишь в качестве тарана и
вовсе не интересен сам по себе, не интересен во всех своих полуголодных
миллионах.
Русскому рабочему, ремесленнику, мастеровому нужно еще учиться,
просвещаться, приобретать технические сведения, которые подняли бы цену
его работы. Все настоящие филантропы должны энергичнейшим образом
воспользоваться новым законом и ринуться в рабочую среду со школьным
светом, но впереди этого сами рабочие и мастеровые должны организоваться
в общества и союзы и начать работать над тем своим довоспитанием, над
техническим своим самоусовершенствованием. Всевозможные политичес-
кие и социальные теории во Франции и Англии, пав на рабочую почву, пали
на почву технически зрелую, на миллионы превосходных работников, у ко-
торых самосознание совершенно иное, чем только у человека с двумя рука-
ми, которыми он может таскать кули или кирпичи и очень мало умеет еще
что-нибудь ими делать. Обратимся в сторону, наконец, и агитаторов, чтобы
сказать им то простое убеждение, что всякая армия хороша только в силу
своих качеств, а не одного количества и что даже и с их точки зрения, рань-
ше, чем торопиться идти в рабочие массы с идеями «ликвидации существу-
ющего социального строя», — идеями очень далекого и очень туманного
будущего, — необходимо прийти к тому же рабочему и дать ему реальные
и технические знания. Россия все сырьем везет за границу и это же сырье в
переработанном виде везет к себе и уже за это сама же уплачивает тройную
цену. Разница цен кормит европейского «пролетария», — кормит его, тогда
как русский пролетарий щелкает голодными зубами, как и волк в дремучих
лесах. Это может понять всякий ребенок. Этого не может не понять рабо-
чий. И пора согласиться с этим и гг. агитаторам, до сих пор пичкавшим едва
выученного азбуке и складам человека теориями Маркса, Энгельса и Каут-
ского, которые он и читал нередко с интересом гоголевского Петрушки. Пора
24
дать народу, или народу самому завести для себя, настоящую школу и по-
звать настоящих учителей с общечеловеческим просвещением. Вспомним
и то, что у народа не только две рабочие руки, но и душа, о которой его же
пословица говорит, что она «не пар». Не «пар», да и не пустой мешок для
пропаганды.
СТРАНСТВУЮЩЕЕ ХРИСТИАНСТВО
Ну, уж если что мне основательно надоело, то это вопрос о «патриарше-
стве», «поместном соборе» и пр. и пр. Со всех сторон получаю письма: «Пи-
шите, пожалуйста, об этом, пишите». Я, как впечатлительный человек, и
писал.
Пока я наконец опомнился и спросил себя: «Господи! Да когда я буду
умирать, ну, что мне в том, патриарх ли у нас сидит или другой кто? Когда я
слукавил, обидел, совершил грех, — опять, ну, какое дело мне, моей душе,
унылой и потемневшей, до того, какую митру, патриаршую или просто мит-
рополичью, носит самое высшее духовное лицо в России?» И я повторил с
Экклезиастом: «Суета сует» — и применил эту строку Экклезиаста ко всем
шумящим богословским томам последних дней. «Суета сует и томление
духа»...
Христианин ли я или христианин «с запинкой», каких теперь много.
«Вольный» ли «мыслитель», какими теперь тоже хоть мостовую мости. Кто
бы я ни был в мире сем, да и не я один, а мужик, купец, чиновник, — ну, что
душе моей бессмертной до всех этих вопросов о «соборе», «патриаршестве»?
Мне думается, и занялись-то мы все этими вопросами так горячо потому,
собственно, что все и давно уже мы стали просто эгоистами; что до того забы-
ли душу свою, совесть свою, звездочку свою особую у каждого в небе, кото-
рая ведет эту душу к неизбежному концу, что на место этих святых и чистых
тревог поставили какой-то хлам, вытащенный из старого чулана, — и ну его
передвигать с места на место. Нет, позвольте; если нет не только патриарха,
а даже и архиерея или архиереев, то что же, — Бог душу мою оставит, пре-
небрежет, забудет? Если я окаянен в своей совести, убил, обидел, своровал,
— поможет мне патриарх? Когда я спрашиваю это, неужели каждый не чув-
ствует, что точно «religio», «религия» есть соотношение между душою и
звездочкою, есть тайна между Звездным Сводом и нами; и что, вся она, эта
религия, сплетена из таких неосязаемых, неисследимых, сокровенных пау-
тинок, на которые... как только положить старую митру Никона, вытащен-
ную из «Ризничей» (комната церковных древностей в Московском Кремле),
так все и прервется и провалится.
Или «душа»? Или «соборы», «патриарх» и проч.?
Или «соборы» и «патриарх», но уже тогда, ради Бога, забудьте о душе,
не фарисействуйте, не притворяйтесь и скажите прямо: «Зачем нам душа,
когда у нас есть патриарх?»
25
* * *
«Странствующеехристианство»! «Странствующее христианство»!.. Сколько
раз эта тема приходила мне на ум; приходит уже годы... Жизнь так коротка и
тем так много, что куда их изложить все: впору только хоть перечислить.
Под заголовком «Странствующее христианство» я хотел отметить то, по-
жалуй, грустное и, пожалуй, и светлое наблюдение, что вообще кристалли-
ческие и твердые формы религиозной жизни, ну, напр., «католицизм», «пра-
вославие», «протестантизм», или, напр., «церковь пресвитерианская» или
какая еще, — ныне находятся в состоянии неудержимого таяния. Острые
углы кристалла, его грани «смазываются», вообще тупеют и уже поту пел и.
Кристаллы «религиозного сознания» ослабели, разрыхлели. У людей серь-
езных могло бы зародиться отчаяние: но тут привходит та вторая и светлая
половина моего общего наблюдения, что в громадной пустой форме «разру-
шенного кристалла» появились светлые духи, невидимые, неуловимые, кро-
шечные... Возродились те паутинки, связывающие душу с Небом, из кото-
рых чуть ли не через ученую переработку или через переработку ученую и
иерархическую и получены были огромные кристаллы, ныне находящиеся
в таянии. Ну, скажите, много ли людей с настоящим умом занято старокато-
лическим вопросом? Да и какая религиозная мера души этих людей? Просто
это «отдел науки и политики», т. е. все то «старокатоличество»; и занимать-
ся этим вопросом, хлопотливо и научно, заниматься им великолепно, — это
можно даже и не веря вовсе в Бога. Вообще заниматься «церковными вопро-
сами», с жаром высказываться «за» или «против» по такой-то частности цер-
ковных вопросов — очень и очень можно, даже не веря в Бога. Даже удоб-
нее: не потеряешь спокойствия и всегда приведешь всю линию требуемых
аргументов. Иногда высказывается тоска, что старокатолический вопрос «ни
вперед, ни назад». А мне кажется, это потому так и происходит, что реши-
тельно ни одной-то душеньке в мире он не нужен, не интересен, не важен.
Он так же важен, как вопрос о короне Айтаферна в парижском музее, т. е.
была она подделка или была настоящая. И все вопросы в сфере «установив-
шихся кристаллов» ныне весьма похожи на эти «гадания» около короны
Айтаферна. И ведутся ведь они о «подлинности» и подделках, «о достовер-
ности» и сомнительности. Старый чулан, несносный старый чулан; ну, ка-
кое дело душе моей, то угнетенной, то светлой, до всех этих раритетов дра-
гоценного музеума?
Но где же эти летающие эльфы в разрушающейся храмине? Тут я дол-
жен бы не рассуждать, а рассказывать о поразительных встречах с единич-
ными душами, с единичными лицами, передавать впечатление единичных
поступков, полных до того поразительной красоты, и именно красоты рели-
гиозной, пожалуй, христианской, и, пожалуй, и без специально христианс-
ких черт, — что, изумленный, бывало, остановишься: «Вот человек! Вот
жизнь! Вот к кому Бог близок! И кто о нем знает? Полная безвестность!»
В большом приморском городе с «испорченным русским населением»
я помню странного господина, у которого в доме ни разу не был. Он поче-
26
му-то стеснялся, чтобы у него бывали, и хотя письма по указанному адресу
всегда доходили, но никто из обширного круга его знакомых никогда у него
не бывал. Было ему лет 55, и занимался он репетиторством учеников. Был
ли он в университете, но не кончил курса или был только в гимназии, —
никто и ничего о нем определенного не знал, а на расспросы он отвечал
всегда смеясь, лениво и уклончиво: «Зачем вам это? Вы видите человека;
не нравлюсь, — простимся, а нужен я вам, — то зачем вам знать, где и когда
я родился и где получил диплом?» Так о нем и его прошлом решительно
никто и ничего определенного не знал. Бритый, с лицом, испорченным ос-
пою, с длиннейшими прямыми черными волосами, едва он входил в боль-
шое общество, как начинал смеяться уже на пороге, складывал благочести-
во руки, кланялся по-всячески и всем. Случись с кем беда, он давал каждо-
му человеку, приведенному в жизни в затруднение по части денег, службы,
несчастия и т. п., и т. п., надлежащие указания: к кому обратиться, что пред-
принять и т. д. Словом, это был советник своего района. Я его «магом»
потому и называл в душе, что слов «не могу», «не знаю» — не встречалось
в его словообороте. Знал ли он очень много или был очень изобретателен,
— не могу сказать. Так кончалось его утро, и уже он спешил к своим делам.
Кто его не знал и кого он не знал? И в этом море людей был кто-нибудь с
специально наступившей хлопотливостью, — и вот он именно шел туда,
где наступали хлопоты. Раз как-то его не видно было недели полторы. По-
неслись расспросы: куда девался? Оказалось, была больная старушка, лет
за 70, хоть очень бодрая, и он проводил все свободное время у ее кровати,
читая ей... да не думайте, — не жития святых, а им же приносимые газеты,
новости и выполняя все по части переписки с ее бесчисленными родными.
Старушка выздоровела и рассказывала: «Как ангел-утешитель он около меня
сидел. Когда бы не он, — яс тоски бы умерла. Все родные — далеко, а кто
и близко, — у всякого своя работа». Передам сжато еще о случае, когда
бедную учительницу, шедшую топиться после потери чужих денег, всего
нескольких сот рублей, он спас от смерти, выпросив в богатом доме, где
несколько сот рублей ничего не составляло, эту сумму «для спасения жиз-
ни человека». И выбрал дом богатый он умело: он во многих домах учил
детей, но, когда несчастная женщина объявила ему о своем горе, он (неда-
ром «маг») сказал, что вот в таком-то доме совершенно неожиданно наста-
ла большая радость, — ну, дочь хорошо выходит замуж, отец получил выс-
шее назначение, что, словом, «там дадут, и даже нетрудно будет дать». При-
шел, рассказал все, как есть, и получил все, что нужно было. Какой же маг
не доктор? И этот подлечивал, в подходящих случаях и подходящими спо-
собами. Он верил в гомеопатию, хотя без усилия, не «только в нее». Каково
было мое удивление, когда уже поздно ночью, при прощанье, когда зашла
речь у хозяйки дома о какой-то затяжной детской болезни, он неожиданно
вытащил из глубочайшего бокового кармана пальто какой-то учебник или
указатель по гомеопатии, подыскал признаки болезни и тут же списал из
книжки и дал рецепт. Уж не знаю, помогло ли, а была охота помочь. Впро-
27
чем, кажется, и помогло. Решительно, в его руках или из его рук все помо-
гало.
Священнически, руки к груди и неизменно произносил каким-то пре-
свитерианским, церковным голосом: «Мир всей вашей честной компании!»
И все шумно его приветствовали. Где бы он ни появлялся, с ним всегда
появлялся шум. Через пять минут уже вы слышали его громкую речь, мето-
дическую, доказательную, ярко расчлененную, — это он оспоривал или до-
казывал такую-то тезу. И о чем бы речь ни зашла, — о методах воспитания,
об отношении живописца-портретиста к рисуемому сюжету, о последней
проповеди в кафедральном соборе, о нашумевшей статье Вл. Соловьева, —
все-то он знал, обо всем был осведомлен, во всем был начитан; даже, ока-
зывается, обо всем уже размышлял и составил себе понятие. Мне он пока-
зался прямо магическим человеком, — до такой степени слова «не могу»,
«трудно» или «не знаю» отсутствовали в его лексиконе. Он был точно заря-
жен вечной и ко всему готовностью или скорее тысячью готовностей «по
надобности» и «на случай». Отдыхал он в гостях. Не забуду изумления,
когда, войдя в один обширный дом, я никого не застал и слуга, сказав: «Нет
никого дома», уже затворяя дверь, оговорился: «Впрочем, есть N, но только
он спит». — «Как N, да ведь это не его дом! И как же он спит, когда полдень
и это совсем чужая квартира?» Оказывается, он так же, как и я, «не застал
дома», а как в дому этом он был (как и во всех, впрочем, домах) «свой чело-
век», то попросился у слуги провести его в спальню хозяина и там залег
спать, не приказав себя будить «до прихода господ». Впрочем, этот един-
ственный раз я его и видел нуждающимся в отдыхе и сне. Зато в три часа
ночи его можно было встретить на улице: вот в свете фонарей размахивают
чьи-то руки, ближе — слышен говор. Весь город спит, а он идет с профес-
сором математики, а уж где N — там и шум и оживление. Он тут же просит
вас принять участие в споре и стать на его сторону или «уважаемого про-
фессора К.».
Я рисую человека, чтобы подчеркнуть, что ничего в нем церковного не
было, тоже ничего специфически христианского. Между тем, вся его био-
графия, личность, деятельность сложились в черты, которым я не умею дать
лучшего определения, как назвать это «светским пресвитерианством», свет-
ским «священничеством», непрерывным служением Богу. Оказалось, в его
бедной каморочке, куда, сказывают, он не принимал из знакомых никого,
потому что с ним жил дальний родственник, непоправимый алкоголик, с
утра набивались люди, как в добрую «комиссию прошений», а сам он играл
роль доброго римского патриция золотого времени республики. Именно, так
как ему было знакомо все влиятельное и сильное в городе, да и в смысле
сведений он был нагружен.
«Дедка за репку, бабка за дедку», — говорит поговорка, — и вот из уст
его услыхал я тоже рассказ о добрых людях, который рассказать будет даже
и к «политической» стати. Сижу я как-то в большом литературном обще-
стве, где было тоже много художников, и говорю, что не имею против евре-
28
ев тех обычных суеверий, какие вообще питаются, как и не видел в них к
русским никакой специальной злобы, хотя «специальные законы» против
них всегда у нас действовали, как и специальная же «сатира» против их
пейсов. Перебивая меня, он и рассказал случай, какому был свидетелем в
маленьком местечке Западного края. Стоял там полк, и в полку был казна-
чей (если таковые есть), — вообще офицер, приставленный к казенному
ящику, из которого во время крупной и несчастной игры он и «позаимство-
вал». Между тем, на завтра или послезавтра была объявлена ревизия, и,
словом, офицер очутился в положении, из которого выходят только через
русское «харакири»: пулю в лоб. Сидит бравый офицер и пишет мамаше
прощальное письмо, когда в дверях появились три-четыре еврейские фигу-
ры. «Что вам надо, пархатые?» — «Слышали мы, ваше благородие, что вы
очутились в беде: так-то и так-то». — «Ну и очутился: вы-то, что, помочь,
что ли, хотите?» — «Отчего же и не помочь?» — «Да что я вам, душу, что
ли, в заклад отдам? Или обрежусь, думаете?» — «Зачем, барин, шутить над
священными вещами? Вам деньги нужны, у нас деньги есть; и мы вам да-
дим их даже без процента и без расписки. А отдадите, когда Бог вам самим
поможет. Мы верим вашему «офицерскому слову». Совсем растерялся офи-
цер, пуля отложена, денежки отсчитываются, все рваные и засаленные «жи-
довские» бумажки, и до того засаленные, что офицер не мог не посмеяться.
«Это сборные деньги, а не из одних рук, — отвечали евреи, — прослышали
мы о вашей беде, собралось наше общество, и сказали мы, что вы человек
богобоязненный и вас надо выручить, а деньги вы хоть и не скоро отдадите,
а когда-нибудь, все-таки, отдадите: не такая у вас душа». Еще более расте-
рялся офицер, и когда уже получил деньги, то спрашивает, что же было
настоящею основою столь необычайного поступка, и притом целой общи-
ны? «Почему вы именно меня выбрали, ведь не сделали бы вы этого сплошь
каждому?» — «Не сделали бы! Но у вас добрая душа, а вас Бог помнит:
когда вы проходили по улице, всегда вот на такой-то улице и в такое-то
время (верно, из службы домой), то тут же на улице играют наши дети, —
вы никогда, бывало, не пройдете без ласки, то дадите орехов, то пряников,
то скажете шутку и посмеетесь. Мы это видели. А по вашей доброй душе
мы и согласились вам помочь».
И сплелся же такой случай, что вот дошел до литературы, и, — кто зна-
ет, — может, ему случится сыграть при каком-нибудь «вопросе» даже и по-
литическую роль. Поверишь в Провидение. Если о преступлениях и поро-
ках говорят «судии мира», что «нет тайны, которая не стала бы явною», то
ведь равно то же можно повторять и о тайных добрых поступках человека,
которых, ей-ей, не меньше, чем тайных пороков. Я прерываю иллюстрации.
Я передал только о грубо-утилитарном, что было бы осязаемо для читателя
и очевидно как дважды два — четыре. Лучшая красота души, однако, сво-
дится не к деньгам и не к помощи. Лучшая красота есть просто красота, «в
себе покоящаяся стыдливо»: не деятельная, никуда не высовывающаяся, мало
кому известная и которая просто состоит в изумительно нежном, деликат-
29
ном отношении человека к человеку. Помню я, например, директора одной
фабрики, который мало-помалу, как мистер Микобер в «Давиде Коперфиль-
де», пристрастился к вину, и даже когда пристрастился (тоже все было посте-
пенно), — никто не заметил, в том числе и без памяти любившая его жена.
Заметили все только тогда, когда уже было поздно, т. е. когда открылись
упущения по фабрике, и был дан директору ее расчет. Вы знаете, что значит
директор фабрики: все готовое и огромное жалованье. Но директор этот жил
широко, «по-русски», и залежных денег у него не было. И вот, с маленьким
сыном, они очутились втроем в убогой квартирке, доживая крохи. Быстро
прошли и крохи: наступило окончательное нищенство. А жена еще молодая
и красивая, и пойти на работу не могла от вечно полупьяного мужа и ма-
ленького сына. И сколько раз, бывало, их всех троих, оборванцев, видишь на
улице. От слез и горя у нее иссохло лицо, все же, однако, миловидное и
изящное. Известно, что алкоголь имеет источником нервное истощение. Муж
ее, бывший директор, становится до того жалок и несчастен, пока «не опох-
мелится», что на него горько было смотреть. Точно битая собака. А «опох-
мелится» — и душа чуть-чуть, конечно, только временно, выпрямится. И
вот жена его, чуть не нищенством выпросив 10 коп., ведет мужа в кабак
(было в старину) и покупает ему косушку (старая мера), которую он берет
трясущимися руками и выпивает. Тут же около них и сынок. Мог бы, кажет-
ся, мальчик погибнуть? Должен бы? Ну, вот подите же: с дней младенчества
насмотревшись всяческих ужасов, сын капли в рот не брал, прошел гимна-
зию, кончил университет, и мать, уже глубокая старушка и давно вдова, умер-
ла у него тихо и спокойно в счастливом доме. Так, я думаю, эта биография
чего-нибудь стоит? И «жидки», и мой приятель «репетитор»-маг, все это,
пожалуй, не меньше патриарха. Нет, уж это не «корона Айтаферна», выстав-
ленная на загляденье всего мира в парижском музее и которая вдруг оказа-
лась сделанною какими-то греками из Одессы. Христианство вечно. По край-
ней мере, религия вечна. Провидение вечно. А патриарх? Он был и потом не
был, и, может быть, будет, а может быть, не будет. Вот если добрых душ не
будет, добрых дел не будет, — беда. А если патриарха не будет, — ей-ей, у
меня не засосет под ложечкой.
Странствующее христианство, странствующее христианство... Религия
вообще сейчас не только теряет крепость форм, но в значительной степени
она и отделяется от земли, становится чем-то ползучим, переносимым с места
на место; глубоко подвижным и неуловимым. Точно из земной стихии, сти-
хии определенной географической местности и определенной даже народ-
ности, она превращается во что-то воздушное и не ощущает более «границ
и племен». Может быть, это «религия Св. Духа» на месте «религии Отца»,
каковая имела расцвет свой в библейские времена, и «религии Сына», кото-
рая, собственно, и сложила европейские исповедания и церкви? Может быть.
Не могу сам не удивиться той легкости и «само-собою понятности», с какою
на все я смотрел, в первый раз путешествуя в Италии. Все мне так нрави-
лось, эти «мадонны» в неприступных расселинах гор, огромные поперек
30
улицы, повешенные на цепях (протянутых с одного конца улицы на другой)
иконы. Вот настоящая демократия, — говорил я, толкаясь плечом среди мо-
нахов в грязном Неаполе. Все мне нравилось. Усердно я молился. Но ниче-
му не отдал сердца. Вернулся на родину, — и опять русский. Но специально
ли? Подчеркнуто ли? Люблю свои бедные хижины, и, словом, все, о чем пел
Тютчев:
Эта тусклая природа,
Эти бедные селенья...
Но вот начал я читать Шехеразаду, и до того мне там все понравилось,
что хоть сейчас обрить затылок, перерядиться в шелковые их халаты с «узо-
ром из тончайших золотых ниток», шляться по базарам и слушать их песен-
ки и побасенки. Да и я ли один таков? Все мы. А я только нашел имя для
явления: «странствующее, не кристаллическое христианство».
Что же это такое? Скажут: «Окончательная легкость души». Но ведь не
могу же я всеми фибрами души не чувствовать, что на всем этом лежит страш-
ная серьезность настроения, которая только никогда не переходит в угрю-
мость, печаль, отрицание, а сорадуется всему доброму в мире, и в мусульма-
нине, и в еврее, и уж, конечно, в христианине. Все принимает. А не исключа-
ет ничего, кроме, впрочем, одного: горя, вредительства.
И объясните, в самом деле, из чего не смешана наша религия и у кого мы
не учимся? Ей-ей, все эти «папы» и «патриархи» суть остаток той древности
состояния, когда народы и культуры были разделены до полного неведения
друг друга. А теперь, когда мы читаем Данте или Шекспира, да и наших
Гоголя и Толстого, слова такой религиозной содержательности, какой ни у
наших Иннокентиев и Филаретов не найдем, теперь что же нам особенного
скажут «короны Айтаферна»?.. Ничего. Даже слушать не станем. Человече-
ство нисколько не стало буйно, но оно стало, от всемирной слитности обра-
зования, до того мудро или, по крайней мере, зрело, что «шапкой» его не
удивишь, и никак оно не станет именно «из-под такой-то шапки» ожидать
особенно мудрых слов. Мы учимся у всех веков, у всех народов. Мы знаем
уже со школы, и знаем все, слова такой особенной мудрости и проникнове-
ния, к которым весьма трудно что-нибудь прибавить. Люди выросли. Шап-
ки понизились. Попробовать поднять «из древности одну шапку»... конеч-
но, в этом может быть заинтересована «Нива», ибо она даст иллюстрацию
«современного шествия на осляти», но что другим, но что вам всем до это-
го? Гудки на фабриках раздадутся, рабочие побегут к машинам, и патриарху
некого будет и благословлять, кроме, впрочем, статистов, которые «на сей
раз непременно тут будут». Ну, и, конечно, защелкают с балконов любитель-
ские фотографические приборы. Так что для «Нивы» да для любителей-фо-
тографов, — конечно, будет сюжет. А народного, национального, истори-
ческого? Едва ли. Не в этом тоска нашего времени. Не в этом тоска совре-
менного человека.
31
О «НЕМОТИВИРОВАННЫХ» АРЕСТАХ
И ВЫСЫЛКАХ
«Корреспонденция из Тамбова», помещенная у нас в № 10739, возбуждает
целый ряд серьезных вопросов. Что это за «аресты без объяснения причин»,
«держание в тюрьме около месяца учителя сельской школы, после чего он
был выпущен и теперь вновь учит в той же школе». Явно, что если бы он
был хоть в чем-нибудь виновен, то при сохраняющемся «положении уси-
ленной охраны» он не был бы вновь допущен к учительству. Явно, что он не
был ровно ни в чем виновен, что арест и тюрьма для него воспоследовали
просто по ошибке, за которую даже никто не извинился, хотя бы в лице ста-
нового пристава или земского начальника. Что это за высылка из Тамбов-
ской губернии такого страшного человека, как инспектор народных училищ
Тамбовского уезда г. Остроумов, который ранее «никаким взысканиям по
службе с занесением в формулярный список никогда не подвергался, и чи-
новный его мундир совершенно чист от пятен». Неужели только власть «уси-
ленной охраны» успела сразу рассмотреть «козни» этого инспектора, кото-
рых в течение многих лет не мог увидеть тройной надзор Министерства
народного просвещения, духовного ведомства и земства, под которым стоит
деятельность этих чиновников? Наконец, после 25 лет службы арестуется
больной в постели учитель Гагаринский, «имеющий две медали за службу».
Воображаем перепуг этого Акакия Акакиевича от такой «политики» и де-
монстрации его у дверей. Что особенно замечательно, то это сообщение на-
шего корреспондента, что в тамбовских народных школах вовсе не было
обычных теперь забастовок и где «будущие граждане не начинают своего
школьного дня без молитвы о спасении отечества и сохранении Царя». В
строках корреспонденции, касающихся высылки из губернии инспектора
Остроумова, говорится, что «в приказах об этом ничего не говорится о внут-
ренних мотивах, которыми вызваны эти суровые меры». Без сомнения, то
же и в «приказах» об еще меньших служащих и вообще всей этой арестуе-
мой «братии».
Вот что называется, в отношении пожара смуты, бегать, суетиться и очень
мало делать... Или арестующая власть действительно действовала без вся-
ких мотивов, — но этому мы отказываемся верить, это несбыточно не толь-
ко в цивилизованном обществе, но и нигде вообще, кроме домов умалишен-
ных. Нет, без сомнения, мотивы, реальные или предполагаемые, были, но
тогда каким образом их не сказать арестуемому? Это такая элементарная
справедливость! Неужели это страшно или чем-нибудь грозит отечеству?!
Ведь арестуемый, вот-вот входя в тюрьму или высылаемый из губернии,
уже во всяком случае не натворит новых «аграрных беспорядков» от того,
что узнает, что арестуется он за такое-то и там-то действие или за такие-то
свои необдуманные и дерзкие слова? Он прежде всего после момента ареста
или высылки безвреден, безопасен, и, конечно, не сказать ему о виновности
— значит просто получить удовольствие насмешки самому и не принести
32
никакой пользы «делу» по части тушения пожара. Это просто «ни почему»
и «ни для чего», и такого действия мы не можем не назвать бессмысленным.
Пожар от этих нервных, судорожных, отнюдь не систематичных и не
твердых (какая твердость!) действий не тухнет, а только может разгореться
и вообще может повести к затяжным последствиям. Ведь все эти лица спо-
койного уклада, ну, может быть, либерального и прогрессивного образа
мыслей, после таких личных приключений непременно повернут, как гово-
рят моряки, «на несколько румбов влево». Оскорбление, обида, все тяжелое,
явно несправедливое в личной биографии, — ведь это-то и складывает «убеж-
дения», и складывает их потверже и пострастнее, чем прочитанные книжки.
И мы не можем с глубоким прискорбием не сказать, что эти необдуманные
меры гг. администраторов не только глубоко оскорбляют вообще человечес-
кое достоинство, но и являются какою-то нелепою «пропагандою» крайних
политических воззрений, хотя и рикошетом.
ДВИЖЕНИЕ В РУССКО-ПОЛЬСКОМ
КАТОЛИЦИЗМЕ
Из Варшавы, из Плоцка и других центров нашего католического населения
идут вести о любопытном движении «мариавитов», новой секты, которая
отрицает папство и вообще ультрамонтанство в католичестве и представля-
ет как секта смешанные черты и усиленного католичества (особое почита-
ние Девы Марии), и старокатоличества (отрицание папского авторитета), и
кальвинизма (отрицание свободной воли и преувеличенное учение о пре-
допределении), и даже что-то общее с нашим сектантством (вера в «уже
родившегося Антихриста»), и в частности с хлыстовством («святая девица
Козловская», у которой даже увлеченные в секту ксендзы целуют руки).
Движение — чисто народное, упорное, фанатическое, чуждающееся всякой
нравственной распущенности, как и сторонящееся от всякой политической
пропаганды. Надо надеяться, что правительство наше не повторит старой
ошибки в отношении этого движения, которое даже сказывается не столь
новым, а скорее тлевшим под золою нашего же официального угнетения и
не будет «более католическим, чем сами вчерашние католики». Было глубо-
ким безрассудством употреблять русские средства и русскую силу для под-
держания римского «единства», которое и без того так сплочено, как нам не
удавалось установить это у себя ни в какой области, между прочим — и
веры; поддерживать то единство, которое сплошною силою шло на Россию
и русских, шло на государственность нашу и церковь еще со дней печаль-
ной памяти Поссевина, Лжедмитрия и разных Гонсевских. Само собою ра-
зумеется, что ни русская народность, ни русская государственность не име-
ют никаких интересов в этом «единстве» и что, с другой стороны, русское
общество, которое и всегда сочувствовало старокатолическому протесту
против папской «непогрешимости», может только сочувственно отнестись
2 В. В Pojaiio:.
33
к тем католическим священникам, которые высказывают тенденцию отде-
литься от «непогрешимого владыки» в Риме, а с ним и от таких явлений, как
пресловутый целибат, иногда разрешающийся во флирте во время таинства
(исповедь) или в более простое сожительство священников, но со служанка-
ми или с неопределенным множеством дам из «кающихся». Русские всегда
гнушались этими эксцентричностями католицизма и только с крайним со-
чувствием могут видеть, что время здравого пробуждения началось и для
самих католиков, и, что особенно ценно, не одних мирян, но и самих свя-
щенников. Без сомнения, явлению этому надо предоставить развиваться со-
вершенно свободно, и это даже implicite содержится в провозглашенной те-
перь в России свободе вероисповедных культов. Что бы из движения этого
ни вышло, чем бы оно ни разрешилось, во всяком случае получится нечто
более славянское, более русское, более восточное, чем романо-кельтичес-
кий католицизм, этот строй государственной религии, ни йоты не имеющий
в себе славянской крови и славянского духа. Мариавиты, каковы бы они ни
были, суть поляки, т. е. славяне, и притом только славяне и поляки, без вся-
кой тевтонской, испанской или итальянской примеси. Это славянское рели-
гиозное движение. Мы пока слышим только первый его звук. Оно, как и все
религиозные движения, напоминающие всегда Протея, может переродить-
ся, принять совершенно новые формы, однако непременно туземные, т. е.
польские; а главное — оно может быть только первым среди ряда других и
дальнейших. Что бы из этого ни вышло — более враждебного, чем католи-
цизм, для нас ничего не выйдет. Рим все сковал своим единством и недвижи-
мостью, но под этим свинцовым владычеством ватиканских старцев и при-
сылаемых ими «соглядатаев», конечно, не легко дышалось славянским гру-
дям на берегах Вислы и Вилии. И если они, вместе с общим русским про-
буждением, тоже пробудились к некоторому критическому взгляду на гнездо
Лойол и Торквемад, русское образованное общество может только протя-
нуть им руку. Католичество отживает и в странах коренного рождения свое-
го — в Италии, Франции, Испании. Не диво ли было бы, если бы в России
корни его оказались крепче, чем там. И повторяем, ошибки Екатерины, со-
хранившей иезуитский орден, когда он был уничтожен в католических стра-
нах, и Павла, надевшего сверх русской императорской мантии мантию маль-
тийских рыцарей, — неповторимы более. У России есть более реальные
нужды, чем покровительство католичеству, а в обществе, выдвинувшем
Хомякова, Самарина и Аксаковых, всякий протест против римских притяза-
ний может встретить только сочувствие.
ГОЛОС ЦЕРКВИ
Наконец наше высшее духовное управление заговорило языком сколько-ни-
будь достойным церкви и ее великого прошлого. Опубликованное вчера об-
ращение Синода «к пастырям православной церкви пред выборами в Госу-
34
дарственную Думу» полно того исторического духа, с которым решительно
невозможно разорвать духовенству, не потеряв в тот же момент всякое рав-
новесие, не утратив всякую силу и умелость действия. Традиции столь проч-
ные и столь долгие не сбрасываются в один час, не сбрасываются безнака-
занно для самого существа и целости души. В то же время, однако, стоя на
почве своей тысячелетней традиции — служения Евангелию, Государю и
Отечеству, — высшее духовное управление и не стало в острое противопо-
ложение новому курсу русской истории, на который она выступила под дав-
лением тяжких и страшных обстоятельств. Единственное для этого сред-
ство было — послушаться голоса Царя, почувствовать волю Самодержав-
ного Государя, как свою волю, отнесясь к ней без лукавства и недоверия,
прияв ее как вдохновение истинное и спасительное для Родины. Волю Царя
— разделить Царское Дело, государево делание, правительственную заботу
и ответственность с самим православным народом, в лице его доверенных
выборных — это святое решение почему было церкви не принять под свое
благословение, принять пассивно, соглашаясь «так и быть» только оттого,
что она никогда и прежде не перечила державной воле, но принять активно,
как вдохновение во вдохновение? До сих пор, шесть веков петербургского и
московского строительства, действительно Россия двигалась только в од-
ном направлении — крепости, единства и целости. Других направлений не
было, или они были слишком второстепенными и подчиненными. Но цер-
ковь и сама знает из собственной истории, что даже в сфере вечных и не-
движных заветов Христа невозможно было соблюсти полной единолиней-
ности движения, и церковь сама росла, как дуб, как дерево, а не двигалась,
как прямая линия. Были соборы в церкви; церковь Киева, Москвы и Петер-
бурга не есть тожесловие и слитность; церкви византийская и русская не
абсолютно тожественны. Это — в сфере вечных и недвижных, однажды
сказанных и навсегда сказанных слов Христа. Какая же в этом отношении
лежит великая нужда перемен в светском государстве, которое повинуется
не какой-нибудь непреложной традиции, а единственно голосу нужд, по-
требностей и спасительных трудов и забот! Salus Rei Publicae, — suprema
lex, спасение отечества — высший закон для отечества. И ныне, когда самим
Государем сознано в глубинах Его совести и провозглашено торжественно
во всеуслышание целого мира, что великие бедствия последней войны име-
ют в основании своем не слабость собственно воинского оружия, не сла-
бость душ воинских, а бедственное расстройство, застарелость и фальши-
вый ход всего внутреннего механизма управления, как бы испорченный ход
часов, «suprema lex», «высший закон» спасения требует пересмотра, чистки
и переделки всего механизма, чего нельзя сделать в темноте административ-
ной ночи, а нужно делать при свете, днем, явно, честно, не хоронясь в каби-
нетах и канцеляриях. В этом призыве дневного света, который осветил бы
все потайные и злоупотребительные уголки правящего механизма, и лежит
самая сущность народного представительства, именуемого парламентариз-
мом или конституционализмом. Шесть веков Русь шла к крепости, пока не
2
35
почувствовала слабость от недостатка света, — слабость, не исцелимую
никаким дальнейшим усилением, утолщением, укреплением самых органов
государственного организма. «Воздуха и света» — вот общее сознание. Вот
новый, на 7 век существования Руси, призыв ее Государя. Только слепые,
только люди, сами схоронившиеся в злоупотреблениях, не видят или упор-
но отрицают, что это действительно — так! Церковь безмолвствовала долго.
И все русские люди с радостью увидели, что она нашла достойный своего
исторического духа способ сказать: «Иереи, не становитесь сами в сторону
и не учите пасомых вами людей становиться в сторону от этого движения
родины к слиянию и к совместности работы Царской и работы народной,
разума правительственного и разума обывательского».
Немного пройдет времени, и самый дух как граждан, так, наконец, и
духовенства преобразуется, навыкнет к новым приемам судить, смотреть и
исследовать. Первые шаги поворота в традиции всегда страшно трудны. Нет
ни голоса, ни умения сказать. Все связано прошлым, все новое — неизвест-
но. Но в этом повороте то хорошо, что уже всякий второй шаг легче первого.
И мы убеждены, что церковь, выдвинувшая своих Гермогенов, Филиппов,
Алексеев на старомосковском пути силы и укрепления, выдвинет другие
великие светочи на этом предстоящем пути расширения дыхания родины,
удлинения ее крыльев и полета. Всегда да будет с нами церковь. И тогда мы
будем всегда с церковью. Единство и целость духа, целость чистоты намере-
ний — это оружие сильнее стального. В то же время — это щит христиани-
на. Не будем ронять этого щита. «К правде и к шири» — это так же нужно
церкви, как и государству, нужно всякой общине христианской, как и об-
ширному светскому обществу.
К ВОПРОСУ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ
ЗАПАСНЫХ
Письмо в редакцию г. Дашкевича касательно недоразумений между земства-
ми и возвращающимися с Востока запасными предупреждает всех, «кому
ведать надлежит», о возможности больших замешательств и неприятнос-
тей, которые из-за несвоевременного сбережения сотен рублей грозят унес-
ти тысячи и из-за экономии с тысячами грозят растратою или разорением на
десятки тысяч. Все имеет в основании своем смутность и сбивчивость, свя-
занную с таким неопределенным термином, как «пособие нуждающимся
семьям», которое в объяснениях военного начальства и особенно в пропис-
ке на отпускных билетах: «семьи призванных в запас обеспечиваются» —
получило такую уверительную форму и вместе с тем растяжимый смысл,
которые и толкнули запасных к чрезвычайно широким претензиям, к насто-
ятельным требованиям и, наконец, угрозам, с которыми земству, «обеспечи-
вающему семьи», чрезвычайно мудрено справиться. Денежный ящик земств
— не Крезова сокровищница. Земские деньги берутся с деревни же. Но за-
36
пасные этого не принимают в расчет и требуют уплаты, в сущности, за са-
мый призыв свой из запаса на действительную службу, уплаты почти в каче-
стве жалованья.
Автор письма говорит, что земствами были допущены невольные ошиб-
ки по неизбежно малому знакомству с подробностями дела в каждой еди-
ничной местности вследствие отсутствия всесословной земской волости или
надлежаще организованного церковного прихода, каковые мельчайшие зем-
ские единицы одни могли бы дать земству безошибочные сведения о «под-
линно нуждающихся» в каждом селе и деревне. Опять вина на нашей страш-
ной запоздалости и отсталости организации народных масс. Ни надлежаще-
го прихода, ни надлежащей волости у нас нет. Далее, указывает тот же автор
письма, одни земства выдавали пособия щедрее, другие скупее. Все это вол-
новало и волнует бедноту из запасных. Смуты слишком много в России,
чтобы где-нибудь и по каким бы то ни было поводам допускать ее еще. Нуж-
но быстро и совместно подумать об этом и военному министерству, и зем-
скому отделу при Министерстве внутренних дел, чтобы провести везде одни
и те же объединенные, не разноголосящие предупреждающие меры всего
лучше в направлении удовлетворения требований очень нуждающихся за-
пасных, действительно совершивших много труда для родины вторичною
своею службою.
НАЦИОНАЛЬНОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ УКАЗА О ДУМЕ
Приученное политическою бездеятельностью к критике, и только к крити-
ке, и действительно уже много раз разочаровавшееся в обещаниях наших
бюрократических правящих сфер, русское общество и теперь смотрит на
опубликованные указы о Государственном Совете и Государственной Думе,
выискивая только отрицательные стороны в этих указах и совершенно сле-
пое к тому, что оно могло бы взять там положительного, — взять, и укре-
питься на нем, и развить его далее. Увы, одна критика никогда и ничего не
создавала; да и имеет она смысл только около чего-нибудь положительного.
Что мы имели до сих пор в смысле политической свободы, политической
самодеятельности? Ничего, полный нуль. Что наше общество делало госу-
дарственного? Тоже ничего! Каково было историческое его положение? Оно
было без положения. Ничего не было, полная пустыня. Поэтому нельзя ина-
че как с впечатлением глубокого комизма видеть господ, которые, чуть ли не
в лупу рассматривая появившиеся указы, вытаскивают из них отдельные
пунктики и подвергают их подробнейшему разбирательству, не хуже, чем
сутяги на суде, разбирая какую-нибудь мелочь. Поистине, это именно адво-
катская мелочно-юридическая критика, в которой не содержится никакого
народного национального воззрения. Мы далеки от того, чтобы отрицать
недостатки, и даже крупные недостатки в новейшей регламентации Думы и
37
Совета. Но на то ведь и история, на то и борьба, чтобы из посредственного
выращивать хорошее и из хорошего совсем отличное. Мы смотрим с глубо-
ким негодованием на потуги повторить ту старуху, жену рыбака, в сказке о
Золотой Рыбке, которая не была довольна ни новым корытом, ни новою из-
бою, ни богатством и боярством, а хочет непременно, чтобы ей служила
сама золотая рыбка. Мы страшимся, что общество наше не сумеет остано-
виться на среднем прочном достатке, не сумеет разработать, и твердо разра-
ботать, элементы гражданской свободы и политической самодеятельности,
впадая взамен этого в деланный пафос и состязательное красноречие. Не
нужно, рассматривая деревья, — не видеть леса; не нужно забывать, что до
фактического собрания в Петербурге членов Думы мы находились и посей-
час находимся еще в полном и безответственном распоряжении бюрокра-
тии. В Думе и с Думою мы впервые получаем живой организм русского
общества с политическим голосом, правом и долгом: и это такая неизмери-
мая пропасть с вчерашним и сегодняшним днем, когда мы только считали
журавлей в небе, одновременно подставляя спину под дедовские розги, —
что трудно эту перемену и измерить умом. Неужели не дико было ожидать,
что первая же Дума в России соберется не из обывателей русских, а из ка-
ких-то странствующих и иммигрировавших социалистов, которые могут
перемеривать всю Россию французским метром с социалистическими дро-
бями; перемеривать и бурят в Сибири, и киргиз на Урале, и Волынь с
Польшею, и чухонца, и армянина, не говоря уже о терпеливой Великорос-
сии, над которою каких-каких опытов ни производили, и она все матушка
несла на спине своей. Отдельные люди могли подобным образом фантази-
ровать и относительно первой же Думы: для них это было только широкое
поле, куда они перенесли бы шум университетских аудиторий, коридоров и
столовых. Такого Эльдорадо не ждала ли вся Россия? Если, напротив, она
смиренно ожидала, что дадут передохнуть ее утружденной груди, дадут удов-
летворение ее усталому сердцу, позовут ее сказать простым голосом о про-
стых своих нуждах; сказать, да и «повелеть исполнить». Новое драгоценное
право! И неужели мы его расточим в пустой болтовне.
Оставьте адвокатские придирки и посмотрите государственным глазом
на государственное дело. Тогда вы вычитаете и в опубликованных указах
совсем другое, что, от страха, видите теперь. Sapienti sat1.
РУССКИЕ ВТЯГИВАЮТСЯ
В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ
Несмотря на кичливые возгласы о «бойкоте» Государственной Думы, как и
на недоверчивые темные слухи о том, что она никогда не будет собрана, на
самом деле вся Россия оживилась выборами, и заботою о них живут сейчас
1 Для понимающего достаточно (лат.).
38
как крупные центры, так и самые захолустные местечки, о которых, бывало,
в три года приходило по одному известию, и то такого рода, что лучше, если
бы их вовсе не было. Писалось, обыкновенно, из какой-нибудь Чухломы
или Козьмодемьянска по поводу сгоревшего парохода, затонувших барок и
вообще в том роде, что «пропало», или «украли», или «побили». Но вот от
вековых утех своих, карт и водки, потянулись люди к избирательным урнам,
и тут впервые пришлось задуматься, кто они и какова окружающая их жизнь.
Невозможно достаточно оценить той струи сознательной мысли, какая бе-
жит сейчас, как весенняя вода, по всем уголкам неизмеримой нашей России.
Она не выразится печатно, но она везде есть, везде работает, плоды ее везде
останутся. Теперь Чухлома и Козьмодемьянск живут государственною жиз-
нью; не приволжскою, не костромскою, а жизнью общерусскою. Это такое
«собирание Руси» и, в сущности, ее объединение, какому позавидовал бы
Калита и вообще московские «стародумы»...
Кичливые возгласы о Думе раздаются: как же не заявить претензии, что
«ожидали большего», что это «не то». Расплюеву вечно мяли бока, и он, при
изменившихся обстоятельствах, при уважительном поклоне в его сторону,
не может не почувствовать себя в роли Кречинского. Расплюев — это вче-
рашний наш «обыватель», а Кречинский — это «крайние левые» у нас «граж-
дане», которые вчера ничего не имели и завтра думают обладать всем. Но
середина России, но ядро России спокойнее и проще. Ведь и заглавное лицо
комедии Сухова-Кобылина носит не совсем русскую, а почти польскую фа-
милию. Самые кичливые выкрики о Думе именно — не русские, ибо рус-
ский во всю свою историю, до такой степени терпеливую, никогда не скло-
нен был к «захвату» и «нахрапу». Скорее его со всех сторон «захватывали»,
на него «лезли» и с запада немцы, и с юга разные «брюнеты»; и теперь эти
окрики на Думу более имеют привислинское и одесское происхождение,
нежели ярославское или тамбовское. Ядро России, средняя Русь, несомнен-
но с жадностью глотает первый политический воздух, какой допустили до
его заморенной груди. Везде собираются, везде говорят, и едва ли адвокатс-
ким тоном, или им преобладающе; «гуторят» по деревням, по селам стары-
ми великорусскими говорами о великой нужде России и что «ее, матушку,
надо поднять». В самом деле, со всех сторон только и слышишь «интелли-
гентные» ожидания: что даст Дума крестьянам, что она даст фабричным,
купцам? Между тем, может быть, сами купцы, крестьяне, даже фабричные
подумывают и о том: а что мы дадим Думе — какой совет, помощь, указа-
ние. Пусть редко-редко, но кой-где шевелится и эта общегосударственная
мысль, шевелится даже у мужика, у «православного крестьянина», который
тоже ведь не одну землю пашет, а и думает, сознает, молится своим «угодни-
кам», которые все «собирали Русь» и обдумывали русского человека. На Думу
соберутся вовсе не одни желудки и рабочие руки, не одни открытые жилеты
и шелковые галстухи. На Думу войдет и совесть, чувство ответственности,
исторический разум. Поживем — увидим.
39
Во всяком случае Россия уже втягивается в политическую жизнь, и ско-
ро эта жизнь получит своих «праведников», как их получил наш присяж-
ный суд, который многое пробудил в совести русского народа и много по-
лучил от этой совести. Мы убеждены, что политическая жизнь не выльется
у нас в западно-стереотипные формы, что скоро, очень скоро здесь появят-
ся свои родные краски, не непременно консервативные, не непременно ли-
беральные, но «свои» и «русские». Это — все, что нужно обещать, чего
хочется ожидать. Впрочем, за это мы можем быть спокойны. Тургенев, за-
падник, сказал: «Русского хоть в семи водах мой, — от него русской его
сути не отмоешь». На этом-то основании он и советовал нам безбоязненно
окунаться «в немецкое море», т. е. немецкую культуру; и на этом-то основа-
нии, что Дума наша останется непременно «русскою» Думою, — мы безбо-
язненно смотрим на первые движения конституционализма и парламента-
ризма в России.
И будем помнить скромный лозунг русских: «Не сразу в карету — надо
сперва поездить и в тележке». Не сразу сковались и железные дороги, долго
ездили «по проселочным»... Дума есть самое лучшее, самое вожделенное, о
чем не только исстрадалось множество русских сердец, но за мечту о кото-
рой многие и «живот свой положили». Вот это надо помнить.
БОЙКОТ
Особенно печально, что подзадоривание к бойкоту Государственной Думы
усердно распространяется среди фабричных рабочих, и хотя последние в
большинстве случаев набирают своих выборщиков, однако в некоторых ме-
стах агитация все же подействовала, и рабочие или колеблются, или вовсе
отказались от выборов. Нельзя, конечно, не пожалеть, и очень пожалеть, что
выборные права их очень сужены, и в особенности печально и едва ли бла-
горазумно, что лишены прав выбора рабочие самых небольших предприя-
тий, т. е. именно тех, где революционная пропаганда не свила себе гнезда и,
очевидно, не может свить по малой площади применения самой пропаганды,
т. е. по дешевизне ожидаемых от нее «результатов». Эти-то рабочие мелких
предприятий, ютящихся по уездным и губернским городам, живущие замк-
нутою своею жизнью и исключительно профессиональными своими инте-
ресами, вместе с тем не потерявшие в себе народной личности под нивели-
рующим действием больших фабрик, — и не положат своего шара в избира-
тельную урну. Вообще, конечно, наш новый конституционный строй полон
еще недоделок, и, как в данном случае, недоделок ко вреду всякой серьезной
устойчивости. Но не время теперь, в первые минуты, критиковать. Мы все
же имеем то, чего не имели ни в 60-х, ни в 80-х годах, чего и отдаленно не
обещала лорис-меликовская и игнатьевская «конституция», эти вялые сбо-
ры кого-то к чему-то, кажется, с заготовленным под сурдинкою планом со-
брать, немножко поговорить и навсегда распустить, «как преждевременное
40
явление, до которого мы не дозрели». Все дело идет теперь сильно, и Россия
так всколыхнулась, что уже нельзя ее усадить на прежний стул.
В этом подъеме сил, повторяем, печальным диссонансом звучит призыв
к бойкоту. Рабочие из крестьян, которые доверяются этому призыву, могли
бы, расспросив своих отцов и дедов, узнать, что уже однажды русский про-
стой человек испытал на своей спине сладость бойкота. Когда в 1861 году
объявлена была крестьянам «воля» и «земля», то приходилось за землю уп-
латить помещикам выкупные деньги, и тогда тоже находилось очень много
людей, которые подсказали крестьянам употребить нечто вроде теперешне-
го бойкота дарованных прав, т. е. отказаться от выкупной операции в пред-
ложенной государством форме. Может быть, и даже наверное, с этою реко-
мендациею соединялись, втемную, очень большие посулы разных благ, по-
слаблений и фантастических благоприобретений в будущем. Но поверив-
шие этим посулам мужички ровно ничего не получили от своих советников
и, не развязав вовремя мошны и не вынув из нее нескольких рублей, — оста-
лись навсегда при своем «сиротском» или «кошачьем наделе», не уплатив за
него ничего, но зато вне какой-нибудь возможности работать и жить на кро-
шечном кусочке надельной земли. Эти-то крестьяне и образуют наш дере-
венский пролетариат, — последнюю бедноту и нищенство деревни. Рабочие
фабрик должны принять во внимание судьбу своих дедов и отцов и от по-
вторения их безрассудного шага воздержаться. Дума не станет их дожидать-
ся. Дума будет проводить свои законоположения и без них, а те голоса, кото-
рые от их имени могли бы заговорить в Думе, могли бы выяснить и защи-
тить их интересы там, просто не раздадутся. Им очень много внушалось о
«классовой борьбе» и что все ныне построено на экономике, расчете и «сво-
ем интересе». Спросили бы они своих руководителей, какой же это «свой
интерес» взять да и выйти за дверь, когда пишутся условия работы и найма.
Плохая это «экономика», и не много выиграет в «борьбе» тот «класс», кото-
рый ляжет под лавку в то время, как его соперники, иные «классы», расса-
живаются по лавкам, и рассаживаются для обсуждения великих вопросов
отечества, и между прочим судьбы этого самого рабочего.
ЗАКОН О ВЕРОТЕРПИМОСТИ
В ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
В феврале месяце в Государственный Совет был внесен министром юсти-
ции доклад, которым проектировалось исключить из текста статей уголов-
ного уложения, во-первых, те, которые налагают кару на родителей за со-
вершение над новорожденными детьми обрядов и таинств не того испове-
дания, к какому они сами официально принадлежат и в каком должны, по
закону, быть воспитываемы их дети, и, во-вторых, статьи, которые налага-
ют наказание на духовных лиц инославных исповеданий за совершение ими
таинств исповеди и брака над православными. Поистине нельзя не удив-
41
ляться мешкотности и волоките в канцеляриях нашего Министерства юс-
тиции. Докладчик-министр изъясняет Государственному Совету, что исклю-
чение из «Свода» указанных статей является желательным ввиду необхо-
димости согласовать наше уголовное законодательство с известным указом
17 апреля 1905 г. о веротерпимости. Вполне удивительное заявление: да
разве может быть законодательство как «свод», как «система», как «целое и
обязательное», в котором одни статьи запрещают то, что разрешают дру-
гие, и наоборот?! Указ 17 апреля все русские поняли как закон, как норму
жизни, — и об этом не было ни одного сомнения, и никто из чиновников
Министерства юстиции не спорил, что это есть норма действующая, сущая
и властная, начиная с 17 апреля. Только с удивлением мы получали письма-
жалобы от старообрядцев на то, что, в то время как Государь даровал сво-
боду вероисповедания всем своим подданным, местные власти, духовные
и полицейские, по-прежнему вмешиваются в крещение детей и не дозволя-
ют крестить их по старому обряду их староверческим священникам по той
причине, что родители их, всегда на самом деле исповедывавшие старую
веру, тем не менее занесены были в свое время, путем разных администра-
тивных манипуляций, в списки православных. Мы приписывали это зло-
употреблениям местных властей. Но на какое изумление получает право
русское общество, узнав, что целый год прошел, от весны 1905 года до вес-
ны 1906 года, когда и указ о веротерпимости действовал, и статьи против
веротерпимости действовали те же, и в то время как Государь требовал и
говорил одно, становые и благочинные требовали и говорили другое, и все
«на законном основании», и по той довольно милой причине, что своевре-
менно не «сообразовали» указа 17 апреля с «действующими законами», или,
наоборот, «действующие законы» не сообразовали с волей Государя; и не
соберись в Министерстве юстиции сделать этого в феврале, могли бы не
собраться и до августа, могли бы вообще никогда не собраться, ибо Россия-
то вся жила в полной уверенности, что у нас уже есть веротерпимость, что
никто теперь за веру не томится, не страдает, — уверены были в этом и
печать, и все читающие образованные люди!!! И только жалующиеся без-
грамотные письма старообрядцев говорили, что этого нет, и не верилось
им, воображалось, что это какая-то их безграмотность и темнота, что они
не понимают сами, что пишут.
В проекте министра предполагается сохранить ныне установившийся
порядок, по которому переход из православия в другое исповедание может
быть совершен, но не иначе, как после испрошения на это дозволения мест-
ных властей, именно — губернатора. По поводу этой оговорки нельзя не
обратить внимания на то, что вся наша администрация страдает одной не-
сносною и едва ли не смертельною болезнью: следя мелочно и за мелоч-
ным, она не имеет досуга, времени, наконец, не может переутомленным умом
сколько-нибудь внимательно подумать и даже просто спросить себя о прин-
ципиальном, о важном, о существенном и до зареза нужном. Все у нее «те-
кущие дела», все какие-то частные «просьбы», которые надо рассмотреть и
42
решить их «не зря», — а в это же время в губернии народ мрет от повальных
болезней, больницы негодны или их мало, пашут землю, как при Гостомыс-
ле, дороги не проезжи весною и осенью и проч. Вся Россия, можно сказать,
«упущена» именно оттого, что администрация смотрела в три глаза... за пу-
стяками! Так вот и теперь губернаторы, наряду с первейшею необходимос-
тью следить за материальными, громоздкими нуждами и интересами губер-
нии, следить прежде всего за здоровьем, целостью и «благосостоянием»
вверенного края, — должны путаться в это тонкое, духовное и сложное дело
религиозной совести, едва ли что понимая в нем по крайней разнородности
вероисповедного вопроса со всем остальным кругом их забот и управления!
«Душу»-то какого-нибудь старообрядца, хлыста, штундиста и пр. они, мо-
жет быть, и спасут, а мост в это время провалится под носом; и переломают
себе руки и ноги «спасенные душеньки». Обыватели и даже петербургская
администрация негодуют: «Отчего губернатор не доглядел!», «О чем зем-
ство думало?» А губернатор между тем сидел за разрешением заданной ему
из Петербурга головоломной задачи: как различить, кому можно «разрешить»
и кому нельзя «разрешить» перехода из православия. До «мостов» ли им, и
губернатору и земству, — столько «текущих дел».
Печальная русская бессмыслица. Печальная на всем протяжении Рос-
сии, куда ни посмотришь.
Очевидно, если губернатору предложено «разрешать» переход из пра-
вославия, то уже этим самым ему предложено и «не разрешать». Нельзя это-
го оспорить, иначе была бы «явочная система». Но чем ограничен губерна-
тор в праве «не разрешать»? Никому не известно, русским гражданам не
известно. Губернатор должен чем-нибудь «руководствоваться». Чем? Толь-
ко и остается, что докладами исправников. Вот, значит, куда попадает воп-
рос о веротерпимости. Ясный для всех закон, поставленный на площади и
освещенный электричеством, при осуществлении своем катится по улицам,
закатывается в переулочки, попадает на дворик к становому приставу, кото-
рый, выходя, покрякивает с улыбкой: «Тебя-то я и ждал, голубчик, — новый
закон. Высочайшая милость! Но мои детки кушать хотят, жена наряды лю-
бит, а жалованье крохотное! Новый закон — для российских граждан: но
тебя зовут Иваном, и ты воспользоваться им можешь с разрешения губерна-
тора, а губернатор запросит у исправника, и тебе с исправником надо будет
поговорить мирком да ладком, а исправник снесется с благочинным, а бла-
гочинный отнесется в духовную консисторию, секретарь которой тоже че-
ловек многодетный, как и я, и все они снесутся со мною, и вот как я напишу,
что ты человек мирный, подати вносишь, ни в каких историях не был, то,
может быть, и г. исправник, и от. благочинный, и секретарь духовной конси-
стории, и, наконец, сам г. губернатор воззрят на твою просьбу снисходи-
тельно...»
И пока «пишет губерния», мост, тот самый мост, по которому ездит «вся
губерния», фатально проваливается, и может, быть, в заключение всех скор-
бей, проваливается и этот Иван, так-таки и не перешедший из официально-
43
го «православия», куда его кто-то когда-то записал, в «старообрядцы». «Одна
душа спасена все-таки», — решают благочинный, секретарь консистории,
становой, исправник и, наконец, министр юстиции, человек просвещенный
и воспитанный, европеец с головы до ног.
И общество утешено: «Мы сами ни во что не верим, это правда, и нам
некуда переходить: но отрадно, что вот эти бедные мужички, которых столько
теснили, — теперь после 15 апреля исповедуют Бога свободно по совести
каждого», и проч....
ЯЛТИНСКАЯ ИСТОРИЯ
В рассуждениях о нравственном законе и о разных ярусах человеческой нрав-
ственности Вл. Соловьев остроумно замечает, что первою ступенью добро-
детели и добропорядочности является вежливость и с человеком, который
ей не научился или ее не применяет, было бы совершенно бесполезно рас-
суждать о морали, о христианстве, об евангельском законе любви к ближне-
му и т. п. «Прежде умой руки и умой лицо, а потом уже будем говорить о
Боге» — так я перефразировал бы эту важную мысль Соловьева. И, Боже,
сколько теперь развелось господ «с Богом», но «без мыла», и от них только
зажимаешь нос и сворачиваешь в сторону. Стоит только вспомнить знаме-
нитого Сопоцко (вы не знаете?), который громко на всю Россию кричал,
печатал, что он не умывается, и вместе каждого чуть-чуть знакомого челове-
ка, даже встретив на улице, приглашал говорить с ним о Боге. Был в Мукде-
не, теперь в Иерусалиме, и оттуда, и отсюда шлет (печатные) письма, что он
не умывается. Бог с ним. Я хочу поговорить об ялтинской истории, наделав-
шей шуму во всей печати.
Все помнят, как епископ волынский Антоний сравнил русских священ-
ников и русское образованное общество с «тюрьмой каторжников», выра-
жая желание лучше видеть этих последних на будущем русском церковном
соборе, нежели представителей от иереев и профессоров духовных акаде-
мий. Вообще «владыки», как будто чем-то раздраженные теперь, начинают
говорить тоном, который пробуждает мысль не столько о Боге, сколько о
мыле. Не успело еще русское общество опомниться от пафоса волынского
епископа, как все газеты облетели слова, написанные (в резолюции) епис-
копом таврическим и симферопольским и обращенные к ялтинским свя-
щенникам:
«Ялтинское духовенство зажирело; излишне сыто. Оно выдвигает вместо
настоящих и законных нужд фальшивые нужды, выдуманные нужды. Ялтинс-
кое духовенство свои нужды высасывает из пальца».
Все это — в ответ на постановления пастырского собрания местного
духовенства, где оно обсуждало вопрос о том, на какие нужды церковной
44
жизни должно быть обращено внимание на предстоящем всероссийском
церковном соборе. Собрание это было подобно всем, какие происходили в
последнее время везде в России, и было так же открыто и официально, как
они. Считаем совершенно ненужным входить в обсуждение постановлений
этого собрания, так как постановлявшие — священнослужители и законо-
учители — люди зрелые, правоспособные, да на то и собраны были, во ис-
полнение Высочайшей воли о подготовительных мерах к Собору, чтобы что-
то «обсуждать» и о чем-то «постановлять». Повторяем, священники — не
малолетние, не гимназисты, не «улица», и по существу их мнения отвечают
сами за себя; общество имеет право вмешаться только в дикую форму, ка-
кую получило все дело, и где оно усматривает и не может не усмотреть про-
сто угнетение человеком людей, епископом — священников: одна из стра-
ниц печальнейшего антагонизма у нас между духовенством черным и бе-
лым, монашествующим и церковно-служительным.
В «Крымском Курьере» перечислен целый ряд кар, разразившихся над
членами этих пастырских съездов:
«1) Алуштинский священник Николай Зорин отрешен от должности, и ему
воспрещено служение. Он с семьею оставлен без куска хлеба.
2) Ялтинский протоиерей о. Петр Сербинов переведен в Алушту, на место
Зорина: это — ссылка.
3) Ялтинский благочинный о. Василий Попов лишен благочиния.
4) Священник Сергей Щукин уволен от должности. Оставлен без службы,
т. е. без куска хлеба.
5) Законоучитель ялтинской гимназии отец Георгий Челнов также увольня-
ется с запрещением священнослужения. Тоже без куска хлеба, с клеймом «зап-
рещенного попа».
6) Псаломщик Хаджиков смещен.
Остальные участники собраний получили строгий выговор».
Весь Крым взбудоражился. Впечатление получилось огромное. Алуш-
тинские жители вступились за отца Н. Зорина, любимого и уважаемого сво-
его пастыря; ялтинцы вступились за своих священников, и, наконец, город-
ское управление гор. Ялты отправило к владыке депутацию с просьбою о
сложении кар. Трогательное письмо, помещенное в № 22 «Крымского Курье-
ра» за подписью «Прихожанин», об о. Зорине:
«Что делается? Где мы живем? Свящ. гор. Алушты Николай Зорин лишен
места и запрещен в служении. Боже мой! Этот самоотверженный идеалист, че-
ловек безусловной честности, принявший, как видно, сан по глубокому убежде-
нию, и вдруг он выгоняется без суда и следствия. За что? Вины за ним нет и
быть не может, насколько все мы его знаем в Алуште. Деятельность и поведе-
ние его у всех на глазах: честный, правдивый, открытый, доступный, хороший
проповедник — и он лишается места? Где же правда, где та христианская лю-
бовь, о которой от. Николай всегда говорил с церковной кафедры?» — Прихо-
жанин.
45
И, наконец, комитет родителей, состоящий при ялтинской гимназии,
вошел с просьбою к преосвященному Алексею оставить на законоучительс-
кой должности свящ. Георгия Челнова.
Как мне пишут из Ялты, преосвященный Алексей ответил телеграмма-
ми на ходатайства:
а) Обществу: «В просьбе отказать, надеюсь, что я лучше знаю достойней-
ших пастырей».
б) Комитету родителей: «Волнение умов действительно произведено нека-
ноничным поведением сих отцов, за которых просят неосведомленные родите-
ли».
Все «ничего не знают», и «знает только владыка». Может быть, он и они
«владыками» и не назывались бы, особенно приняв во внимание обет «сми-
рения», даваемый перед постригом в монашество, если бы не двоилось их
сердце уже в момент этого пострига и принимался он в целях вовсе не сми-
рения, а, напротив, — безграничного властвования и вот этого «всезнай-
ства», притом без справок. «Земные ангелы, небесные человеки» — так ти-
тулуют себя, таково распространяют о себе в темном народе мнение.
«Всезнайство»... вот и из Ялты мне пишут:
«Владыка Алексий в Таврической епархии всего 10 месяцев (письмо от
3 марта); в Ялте был один раз и духовенство видел не более полчаса; в учебных
заведениях не был и многих из местных священников в лицо не представляет».
Оставлены с семьями без прихода, т. е. без куска хлеба. Что же, священ-
нику — не в дворники поступать?! А идти на службу именно священнику
никуда не возможно! А между тем каждый день надо есть ему, матушке,
детям. Каждый день, сейчас надо есть... Необходимо, чтобы это «запреще-
ние» и вообще все кары маленького «патриарха Никона» в Крыму были кас-
сированы впредь до разбора дела судом (чего не было, об этом пишут) из
Петербурга. Какая «неумытая» история. И неужели будущий церковный со-
бор не вырвет с корнем самую возможность повторения таких историй, не
переработает глубоким плугом всю эту сгнившую почву «греческих преда-
ний», откуда нам принесены жестокие законы вместе с пением миловидных
мальчиков в стихарчиках: «Eig лоХХа £тг|, Ат|олота», «Многая лета, наш вла-
дыко»... Жестокая Византия, грязная Византия.
ДУХОВЕНСТВО НА ВЫБОРАХ
Предварительные выборы в Государственную Думу являют разительное сви-
детельство, как просчитались наши интеллигентные партии, рассевшись по
клеточкам и строго замкнувшись в своих интеллигентных интересах, думах
и программах. Несколько месяцев реальной России, слагавшейся и жившей
46
1000 лет, как будто не существовало: ее закрыли облака красноречия, в кото-
рых все приурочивалось только к событиям этого последнего года, все исхо-
дило из этих событий; и можно было думать, что Россия не тысячелетний
старик, а всего годовалый ребенок, лепечущий только три слова: «папа»,
«мама» и «конституция». С первых же шагов выборов вдруг обнаружилось
то, чего еще за неделю никто не предвидел, никто не учитывал, никому это-
го не приходило в голову: выбранными от крестьян, мелких землевладель-
цев и вообще мелких собственников, как по уездам, так и по городам, яви-
лись священники. Духовное сословие решительно не входило ни в какие
расчеты партий: и вдруг оно выдвинулось на первый план.
Обнаружила жизнь свою и свое сознание историческая Россия. Обнару-
жили бытие свое те классы, на труде и терпении которых до известной сте-
пени и создалась Россия. Духовенство являет собою такой кряж народного
быта, который выбросить из политических счетов было решительным безу-
мием и отчасти преступлением. Все думали, что духовное сословие все же
слишком малочисленное в громаде народной и будет только избираемо сво-
ими же и, таким образом, в выборщики пройдет в ничтожном проценте; что
за него никто еще, со стороны и из других сословий, не подаст голоса, ибо
оно слишком «не политик» и в достаточной степени «черносотенно». О ра-
зобщении его с народом «из-за вымогательства платы за требы» было гово-
рено слишком много и, очевидно, наговорено преувеличенно. Очевидно,
антагонизма между духовенством и народом нет как общего явления, и он
встречается лишь в виде местного и исключительного факта. «Поп» для
мужика — свой человек, только грамотный, более развитой, и с городским,
а не с деревенским горизонтом вокруг себя, более речистый. В значитель-
ной доле еще «немая» деревня и двинула «попов» как речь свою, которая
будет говорить тем самым тоном и о тех самых нуждах и темах, которые
деревня считает натурально своими. И, конечно, сельский «батюшка» есть
такая же основная и древняя у нас фигура, как и идущий около него с сохою
пахарь, этот «Микула Селянинович» русской земли.
Само собой разумеется, что «поп», как и пахарь, не смогут быть только
«политиканами», а политиками — сколько угодно. Государственным здра-
вомыслием они обладают не меньше всякого другого, и что они целый год
не толклись по клубам, митингам и собраниям «перед выборами и в пред-
вкушении выборов» — это скорее есть преимущество их подготовки к «го-
сударственной службе» в Думе, нежели какой-нибудь недостаток. Чем мень-
ше в этой Думе будет навеянных или иных речей, которых, однако, неизбеж-
но будет много, тем лучше: мужик и «поп» сыграют роль якоря в оснастке
нашего государственного корабля, которому «интеллигенты» готовят толь-
ко паруса и паруса.
О «черносотенном» направлении нашего духовенства можно только го-
ворить в смысле каламбура, притом очень неостроумного. Духовенство вме-
сте с крестьянством являются самыми деловыми, практическими у нас со-
словиями, более всего исходящими из реальных нужд, очень остро ими ощу-
47
щаемых, и отнюдь не склонными вывозить на спине своей какую бы то ни
было идеологию, «черную» совершенно так же, как и «красную». Идеоло-
гия всякого рода есть плод отвлечения от земли и земных нужд, а духовен-
ство, можно сказать, по пояс зарыто в этих нуждах. Факты налицо: «Русское
собрание», ораторствующее на Троицкой улице, более имеет в составе сво-
ем даже «приват-доцентов» и журналистов, нежели духовенства. Весьма
многочисленные петербургские священники совершенно его игнорируют.
Кто следил и следит за духовною литературою, тот знает, как часто за подпи-
сью «священник такой-то» появляются статьи вполне здравомысленные,
полные обновительного духа. Духовенство, именно наше, в отличие от про-
тестантского и особенно католического, никогда не было доктринерским,
как никогда и не было «клерикальным», т. е. узкосословным в смысле инте-
ресов и миросозерцания, — «отпечаток» особливости более в нем внешний,
чем внутренний; это более относится до выговора на «о», до манер, сослов-
ных домашних привычек и вообще до подробностей своей личной жизни,
сложившейся до мелочей под давлением обязанностей и службы, нежели до
широких взглядов на жизнь, на будущее, на нужды народные и обязанности
членов Государственной Думы. Духовенство у нас именно и только народ-
но; это всегда знали «приблизительно», а теперь это стало так воочию.
В предпоследнем нумере «Церковного Вестника», за подписью «Сель-
ский иерей», была помещена интересная статья: «Кого мы должны выбирать
в Государственную Думу?». Автор говорит не вообще о духовенстве, а толь-
ко о сельском духовенстве и обращается к «сельским иереям», как собрат к
собратьям. Он говорит, что на первом месте должны для иерея стоять инте-
ресы церкви и на втором — народа и государства. Входя в защиту нужд церк-
ви, как и нужд духовного сословия, он замечает, что православие под со-
блазнительным лозунгом «господствующей церкви» всегда находилось на
самом деле в опеке светских властей, в опеке и даже под «наблюдением и
присмотром». Причем власти эти, не говоря о духе православия, не всегда
знали и «букву» его. Поэтому «сельские иереи», готовясь голосовать, от-
нюдь не должны подавать своего голоса за кандидатов, которые стоят на
почве государственного строя до 17 октября. Далее, из нужд собственно со-
словия на первый план выступает обеспечение его: и чем священник будет
обеспеченнее государством, тем он менее вынужден будет вымогать что-
нибудь у народа. Собственно «плата за требы», основательно говорит он,
есть «налог на веру и верующих», уплачиваемый при взимании требы. И это
есть в полном смысле государственный налог, который падает исключительно
на простой народ, обходя привилегированные классы, весьма мало прибега-
ющие к «требам». Нельзя здесь приводить всех его рассуждений, но заклю-
чение их то, что материальные интересы духовенства до последней буквы
совпадают с материальными интересами сельского крестьянства. По всем
этим соображениям «сельский иерей» предлагает голосовать за кандидата
приблизительно прежнего «народнического» склада, обегая равно социали-
стические партии, как «утопические», так и консервативные, у которых «ав-
48
торитет церкви» есть только «красное словцо» (выражение автора) в рас-
суждениях: ибо они в прежнее свое господственное положение ни йоты не
сделали для поддержания настоящего авторитета и настоящего достоинства
церкви, почти рассматривая ее как прислужницу своих программ и вожде-
лений. Все это очень внушительно.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТОРГОВЫЕ ЛЮДИ
В БУДУЩЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ
В Государственном Совете вот-вот появятся виднейшие представители рус-
ской промышленности и торговли. «Нас очень мало пропорционально зна-
чению, занимаемому в России промышленностью и торговлею, но даже по-
явление одного человека от нас, живого и деятельного, в высшем государ-
ственном учреждении уже многое может дать», — сказал уверенно один из
них. Поживем — увидим. Во всяком случае — дай Бог. Уже сейчас чувству-
ется, как все оживает кругом, как Россия расцвечивается лучшими надежда-
ми; и необыкновенно горько становится при мысли о том, сколько драго-
ценных лет было упущено в этом вялом, тоскливом прозябании старого
бюрократического строя, который ухитрился даже такое учреждение, как
Государственный Совет, свести к простому формальному существованию,
без творчества, без инициативы. Уже теперешние новые члены Государствен-
ного Совета заговорили о творчестве; о том, что это будет тяжелая страда; о
забвении сословных и классовых интересов и о службе только России; о
том, что западный капитал цепко ухватил нашу дорогую родину, что он не
захочет ее скоро и дешево выпустить и что, однако, бороться с этим нужно и
нужно это одолеть. Добрые речи!
Мы вообще уверены, что «капитальные» люди в России стали таковыми
не «без ума» и что ум этот, крепкий, устойчивый, широкорасчетливый, мо-
жет очень и очень поработать и на открывающемся перед ним поприще об-
щегосударственной деятельности. Люди эти прежде всего — огромного прак-
тического знания России. А в нужную минуту к ним явится и вдохновение;
вдохновение, может быть, не на красноречивое слово, а на дальновидное
предложение и высокий подвиг. Нельзя вообще не заметить, что в настоя-
щую минуту Россия ни в чем так не нуждается, как в забвении, по крайней
мере временном, профессиональных, классовых и сословных забот и в на-
пряжении всех сил ума и воли, чтобы вытащить самую «матушку свою», то
есть эту Россию, из того невозможного положения, в какое она попала и в
котором запуталась. «Вызволите Россию», а уж потом Россия, всем соста-
вом своим, подумает и о классах, и о профессиях, и о сословиях. Это надо
помнить впереди всего. Минута наша — государственная. Надо спасти го-
сударство, государственность. Все прочее «приложится».
Что касается Государственной Думы, то в выборщики ее кандидатов тоже
значительно проходят купцы и фабриканты, и если в меньшем числе, чем
49
как нужно бы ожидать и было бы желательно, то лишь потому, что торговые
и промышленные люди позднее всех сгруппировались в особый союз. Все
«интеллигентно-политические» партии уже действовали, открыли свои со-
юзы, распубликовали свою программу и повели свою агитацию, когда тор-
гово-промышленная партия только что «вылупилась из яичка»: зато срод-
ные ей партии, как союз 17 октября и партия правового порядка, как-то рас-
таяли во время самой агитации, ничего не умели сделать и вообще более
интеллигентно «болтались» и, кажется, «выболтались», между тем как ку-
печеская и фабричная партия крепнет, становится на ноги. И если не теперь,
то, может быть, во второй русский парламент она явится представленной
именно так солидно, как это подобает «теперешнему положению в России
промышленности и торговли», как выражаются ее представители, прошед-
шие в Государственный Совет.
Около духовенства и крестьянства, это также основной столп нашего
уклада. Купечество хоть и прошло высшую школу и доучивается даже за
границею, однако, приуроченное в каждой единичной личности к «своему
делу», унаследованному от дедов и отцов, к какой-нибудь фабрике в Ярос-
лавле, Иваново-Вознесенске или Шуе, к какой-нибудь «чайной торговле»,
пеньке или хлебу, оно не может освободиться от реализма русских условий
и впасть в те «интеллигентные волнения», каких мы боимся, как кошмара, в
будущем русском представительстве. Это уже не «интеллигент», который
весь личен и только личен, до известной степени «без отца, без матери» и
которого духовная родина столько же в Париже, Берлине или Женеве, как в
Петербурге, Москве или Тамбове. Мы не делаем полного отрицания и этих
интеллигентных людей, а только вводим всякое явление в свои границы.
Интеллигентные люди, профессора, писатели, юристы, — особенно юрис-
ты, — тоже могут хорошо поработать для родины, могут многое выяснить,
указать и посоветовать в правовом нашем укладе; наконец, мы и оттого не
отрицаем «интеллигенцию», что ее личный, подвижный и живой дух реши-
тельно благотворен сейчас, в пору громадного обновления. Но мы только
хотим ввести все это в границы, хотели бы видеть интеллигентов работаю-
щими между купцов, крестьян и духовенства, дабы они всегда ощущали это
целебное трение о действительность, чтобы они построяли не в «безвоз-
душном пространстве», а на очень плоской и прозаической земле, где живет
нужда, горечь, привычки и даже «предрассудки», даже они!!! Пусть интел-
лигенция со всем этим сочтется, все это примет во внимание, со всем этим
несколько согласуется, и тогда все это более чутко прислушается и более
мягко подастся в сторону работы интеллигенции.
Вообще время теперь не делиться, а мудро приспособляться друг к дру-
гу. Россия выше и впереди всего: и кто ей ни послужит, она от всякого возьмет
добрый плод. Промышленные и торговые люди ценны в будущем русском
представительстве, как опять же основные выразители ее истории и всего
нравственного, даже этнографического ее обличия. Это не «фантазия», ми-
нутно возникшая; не эпизод этого года; не впечатления от «последней забас-
50
товки»: это — реальная Россия, как она есть и была века. Вот что ценно в
наших глазах, и вот отчего видеть хорошо и основательно сплоченную груп-
пу торговцев и промышленников в Государственной Думе мы очень желаем.
И группа эта не должна растериваться от неудач ближайших выборов и во-
обще этого года; да, мы уверены — она и не растеряется, не такие это люди.
Вспомним, что в Москве, этом гнезде старого дворянства, с ее традициями
Кутузовых и Багратионов, Волконских и Оболенских, купечество сумело
сесть на первое место. Мы говорим о московском городском самоуправле-
нии. Может быть, от этого примера не далеко отойдет назад или в сторону и
общерусское самоуправление. И здесь частью старое и «боголюбивое купе-
чество», частью нового фасона «коммерсанты», но без излишних прибавле-
ний финансовых гениев из Израиля, займут солидные средние места, и зай-
мут так, — применяя остроту Гоголя, — что «скорее место под ними затре-
щит, нежели они полетят с места». Поживем — увидим.
ЗНАЧЕНИЕ СТОЛИЧНЫХ ВЫБОРОВ
Кадеты с Невского, с Морской и менее шикарных петербургских улиц тор-
жествуют. Событие той улицы, где стоит дом обывателя, естественно пре-
вращается в глазах его в событие города, а событие в столице Империи
превращается в имперское событие. На самом деле, однако, Петербург в
России — это одна точка на огромном белом листе. И заранее можно было
предвидеть, что партия конституционалистов-демократов нигде не имеет
так много шансов на победу, как в Петербурге, — что здесь победа их наи-
более обеспечена и, так сказать, ярка. Все эти два года томления России ни
одна точка ее не волновалась и не имела причин волноваться так сильно,
как Петербург: волноваться, несколько надеяться и столь страшно разоча-
роваться. В столице, где центр армии и флота, где изготовлялся флот, кото-
рого теперь уже нет, ужасные минуты русско-японской войны пережива-
лись с такою невыразимою болью, как этого не было и не могло быть ни в
каком уголке России. Даже крайние консерваторы говорили не о проступ-
ках, не о злоупотреблениях, а о «злодеяниях» администрации по поводу
нашей военной и дипломатической «неподготовленности». Если такими
горькими упреками отводили душу лица, поседевшие около придворных и
министерских сфер, то нужно ли припоминать и подчеркивать, что писа-
лось в более «молодых» и не в переносном, а в буквальном смысле «кадет-
ских» изданиях?! Если старцы определяли деятельность правительства,
действительно несчастную и гнилую, как «злодеяние», то люди с хорошей
шевелюрой и младенческим жизненным опытом задыхались в разъярен-
ных речах, особенно устных, без цензуры. К сожалению, все это имело для
себя основания, и «подготовленность» России не мы будем защищать. Сер-
дце обливалось кровью, а затем и негодовало. Увы, уже Лютер сказал, что в
Риме он потерял веру в папу. В центре администрации видишь ярко дефек-
51
ты этой администрации. После Цусимы, Лаояна, сдачи Порт-Артура «пой-
дешь в кадеты» и даже пойдешь куда угодно, ибо это — отчаяние, а в отча-
янии куда не бросишься, и можно ли спрашивать холодного и зрелого рас-
суждения от отчаянного? Повторяем, успех кадетов именно здесь, в Петер-
бурге, объясняется нервною почвою, которую представляла из себя столи-
ца последние два года; и избирательные бюллетени, здесь поданные, гораздо
более можно рассматривать как конвульсивное движение измученного боль-
ного, нежели как здоровое решение здорового человека, произносимое в
данной обстановке действительности. Здесь менее программы будущего и
более раздражения на прошлое. Это очень нужно помнить всем серьезным
и спокойным людям России, у которых не только у самих «зуб болит», но
которым нужно подумать о том, как же вылечить и поставить на ноги боль-
ную Мать-Родину.
Кадеты — пациенты, а не медики: вот слабая сторона их, которой не
замаскируешь никакими криками.
И наконец, Россия не Петербург. Пусть столица живет нервами, обшир-
ная страна с 140 миллионами населения живет и нервами, и желудком, лег-
кими, сердцем. Мы убеждены, что Россия не конституционно-демократич-
на даже в образованных своих классах, не говоря о простолюдинах, которые
едва ли сумеют выговорить без звуковой ошибки длинный и иностранный
титул этой партии. Вообще выборы в Петербурге лишь дробь выборов во
всей России, и если здесь данная партия получила до 60 проц, голосов, а по
некоторым районам и более, то, конечно, это только петербургское явление,
подавляемое совершенно другим соотношением или иными пропорциями
партий во всей остальной России. Не только невероятно, чтобы вся Россия
более думала о вчерашних горечах своих и некотором чувстве мести за эти
горечи, нежели о будущем своем, о будущем детей своих и внуков, о буду-
щем целого народа.
Кадеты — не строители; они только критики и разрушители: вот вторая
печальная особенность их политической физиономии, которую также не за-
тушуют никакие крики. Не затушуют, а даже подтвердят.
Вообще кричащая, а не делающая Дума была бы великим несчастьем.
Нужно строить, созидать, починять, и можно опасаться, что Дума, если в
самом деле в ней большинство оказалось бы кадетским, утонет в речах, ни
на вершок не двигая дела. Во всяком случае в самой Думе конституционно-
демократическая партия будет очень и очень уравновешена другими, более
устойчивыми, более, так сказать, хозяйственными и менее политиканству-
ющими. И этим другим партиям ради спасения России во что бы то ни стало
надо дать с первых же минут существования Думы перевес делу над фра-
зою, заботе над местью, будущему над прошлым. Нечего копать могил. Есть
высшая, лучшая обязанность и задача: строить дом, строить его на века, стро-
ить для детей наших, да и нам самим под старость. Кадеты — мастера рас-
таскивать, а принести что-нибудь в общую постройку — для этого они...
слишком нервны.
52
Дайте же дорогу творчеству, уму и сердцу перед нервами: вот требова-
ние исторической минуты.
РАССЛОЕНИЯ В ПАРТИЯХ
В конституции, как в конституции, и раз за кандидатов данной партии вы-
сказывается действительно много голосов, то к факту этому мы должны иметь
то серьезное отношение, какое вообще вызывает к себе течение обществен-
ной мысли.
Конституционно-демократическая партия вовсе не представляет в себе
той слитности, какая есть у «товарищей», стоящих на коротеньком переходе
от «получения в морду» к «даванию в морду», и где расходиться не на чем и
спорить не о чем. «Красные ряды» наши действительно объединены, но кон-
ституционно-демократическая партия едва ли не оттого и получает так мно-
го голосов, что берега ее не определены и внутренний состав не целостен,
отчего люди весьма несходных убеждений и весьма разных взглядов на бу-
дущее России получают возможность, не ломая совести, подать свой голос
за эту партию. Не неправдоподобно даже, что большинство подавших голо-
са за эту партию не столько подписывались под ее программою, в которую и
не вникали, сколько высказывались за два тезиса, содержащиеся в ее двой-
ном имени. При глубоко демократическом сложении русского общества и
при старой, исторической неприязни у нас ко всем аристократическим тен-
денциям, воспитанной еще Грозным и бироновщиной, кто же из русских не
за «демократию»? А при обнаруженной войною слабости и неумелости чи-
новничества кто теперь остался не за «конституцию»? А подавали голоса за
«конституцию» и «демократию», а при вопросе, где это содержится, ловкие
агитаторы, показывая на себя, говорили: «Мы за конституцию и демокра-
тию, и только мы», «мы — конституционалисты и демократы», «мы — кон-
ституционалисты-демократы». Соблазнительный ряд аналогий, которому мог
поддаться не только мужичок, но и чиновник, и учитель, и всякий вообще
интеллигент, читавший газеты, а не изучавший газеты эти последние месяцы.
Во всяком случае в самой Думе, когда поднимутся определенные, конк-
ретные вопросы, сейчас же обширная по числу членов конституционно-де-
мократическая партия разложится на довольно пестрый ряд цветов, собьет-
ся в ряд групп, которым дай Бог еще найти для себя «центр». Без сомнения,
здесь есть члены, которые только оттого примкнули к этой партии, что все
другие им еще более ненавистны. «Конституционалисты-демократы» — это
последняя, так сказать, легальная партия, с которою не борется все обще-
ство и все государство, которая терпима, признана официально, — словом,
«как все». За нею слева сейчас же начинается социализм, утопия и фантазия,
«кулак и расправа» с «существующим порядком вещей». И вот мы уверены,
что наиболее белые из этих красных смешались и пошли в ряды конститу-
ционно-демократической партии, в сущности имея все чаяния за ее преде-
53
лами. В самой партии конституционно-демократической они будут крити-
ковать мероприятия этой партии и вообще явятся элементом разлагающим,
как и всякий неискренний друг, смахивающий на тайного врага. Вообще
конституционалистам-демократам придется очень и очень повозиться с со-
циалистами, как и на своих партийных собраниях они с трудом и не всегда с
успехом возились с ораторами «товарищей», являвшихся к ним в гости.
Может быть, здесь разыграются наиболее интересные эпизоды первой фазы
нашего парламентаризма, — и «сытым буржуа» будет дано занимательное
зрелище, как «товарищи» слева расправляются с «товарищами» справа и
как правые «друзья-приятели» прогоняют в толчки еще вчерашних своих
друзей, с которыми пили брудершафт во время заграничных своих стран-
ствований, когда оба были «нелегальными».
Вообще будущее конституционно-демократической партии весьма не
ясно, и если теперь, без дела и службы, она переживает медовый месяц «люб-
ви», то последующие месяцы будут гораздо серее, труднее, заботливее и,
может быть, опаснее. Известно, что до 17 октября все хотели Витте, все
ожидали Витте, все пророчествовали Витте. Было тоже «голосование», только
без бюллетеней. И известно, что после 17 октября вдруг все очутились «не-
довольны Витте», Витте сталкивали, Витте прогоняли, Витте пророчество-
вали уход; о нем очень худо писали в листках и даже в очень серьезной печа-
ти. Мы опасаемся, что конституционно-демократическая партия сядет имен-
но на стул Витте и будет повторять его биографию, «все позабыв и ничему
не научившись». Заметим, что именно сейчас она и по воззрениям своим не
далеко отходит от Витте тех первых октябрьских дней. Те же розовые на-
дежды, сменившиеся столькими разочарованиями. За этот год, во всяком
случае, многим членам конституционно-демократической партии придется
поседеть...
В ней нет ясного и твердого центра. Вот что скажется с первых же шагов
в Думе и что моментально покажет перед соседями ее слабость. Между край-
ними левыми и умеренными правыми она будет тянуться в обе стороны,
истончаясь, прорываясь и не в силах сказать, что же собственно резкого,
яркого отделяет ее от социалистов и что отделяет ее от конституционных
монархистов. Вопросы эти будут предложены и справа и слева, предложены
как причина и упрек. Они будут очень щекотливы и мучительны, потому что
действительно положение партии серединно, без полновесного центра в соб-
ственных своих оригинальных и сильных тезисах.
ЧТО СДЕЛАЕТ ДУМА?
Есть прекрасная немецкая поговорка, гласящая, что «кушанье, поданное на
стол, не бывает так горячо, как когда его варят». Это не только хорошая по-
говорка, но и факт природы и также политики. Все, пока образовывается,
развивает в себе чрезвычайные температуры, и в самом деле необходимые
54
для приведения в движение дотоле косных, инертных масс. Но едва эти мас-
сы получили новые нужные формы, как оне неодолимо начинают стынуть.
Вспомним настроение Петербурга и России от сентября до января месяца:
можно ли сравнивать его с теперешним настроением? В сентябре и октябре
на митингах кричали во всеуслышание, что если Дума осмелится собраться,
то революционеры разгонят ее палками. Теперь глухо грозятся, что Дума
разгонит министров речами гг. Петрункевича и Родичева. Расстояние уже
огромное, и если оно пройдено от октября до марта, то, без сомнения, в
апреле и мае Россия пройдет еще дальше по этому же пути и, Бог даст, Дума
явится около министров только взыскательным и строгим критиком, чего ей
дай Бог и на что ее благословит и уже благословила вся Россия. Положение
министров, вынужденных во всеуслышание целого мира давать «разъясне-
ния» доверенным выборным русского народа по делам своего управления,
— это одно до того ново для них, до того само по себе многозначительно,
что члены Думы сейчас же оценят это как такое великое народное право.
Всякое право, пока оно без употребления, есть только обещание. Право ста-
новится чем-нибудь только тогда, когда им начали пользоваться, когда оно
вошло в дело, когда к нему хоть сколько-нибудь привыкли. Написанное на
бумаге право, и в том числе все теоретические или «законные» права Думы,
пока есть фикции и воображение, и они начнут превращаться во что-то ося-
зательное, видимое, ощутимое только с первого — второго — третьего дня,
как соберется Дума. Вот почему для всей России, для всей русской истории
жизнь Думы будет таким «рафинированием» народной свободы, государ-
ственного упорядочения, с каким, напр., не могут сравняться годы и десяти-
летия литературной работы на пользу свободы. Вот почему каждый день
Думы Россия будет считать своим выигрышем. И горе, если кто-нибудь по-
мешает этому выигрышу, если чье-нибудь личное самолюбие и словолюбие
подтолкнет большинство к таким необдуманным словам, предположениям,
проектам, заявлениям, которые фатально сомнут медленное и правильное
созревание свободы и приведут все дело к ломким, разрушительным движе-
ниям. «Левые» члены Думы должны хорошо помнить, с каким злорадным
нетерпением крайние правые будут ожидать и, может быть, будут вызывать
необдуманнейшие шаги с их стороны.
Есть все основания ожидать, что в Думе, т. е. перед конкретными, опре-
деленными задачами государственного строительства, и оппозиционные
партии почувствуют себя спокойнее и умереннее, чем было до Думы и вне
Думы. Дума все-таки власть, все-таки право, а всякая власть умеряет, и
пользование всяким правом замедляет шаг. Нельзя не заметить, что до сих
пор мы имели обращение со свободою и с освободительными идеями ис-
ключительно только литературное или гостинное. Речи, произносившиеся
на предвыборных собраниях, были продолжением этой литературы. В са-
мой Думе русский человек, русский ум, русский характер впервые войдут в
деловое, практическое, жизненное отношение к этим освободительным иде-
ям. И, мы уверены, это далеко не то же, что литературное к ним отношение...
55
Обращая слова об осторожности и спокойствии к членам Думы, мы с
тем же пожеланием обратимся и к бюрократии. Белый «раж» совершенно
так же не сносен нам, как и красный раж, а бестактность, резкость, гру-
бость, упрямство не в словах, но и в деле еще менее шло бы к министру, чем
оно шло бы к представителю Тамбова или Костромы. Нельзя с прискорбием
не сознаться, что самою судьбою министры наши привыкли только к двум
формам языка и обращения: крайне угодливой, когда они делают «доклады»
по адресу вверх, и крайне грубой и высокомерной, когда они делают распо-
ряжения по адресу вниз. Ничего третьего они не имеют в своем словооборо-
те, и Дума будет совершенно новым для них поприщем, где потребуется
язык и не угодливый, и не повелительный, но спокойный, трезвый. Поисти-
не государство наше впервые входит в культурные формы, и оно для них не
имеет ни языка, ни обращения. Ум министров, сила их, ловкость их скажет-
ся в более быстром или в менее быстром приспособлении к этим новым
условиям своего существования: в забвении, возможно быстром, прежних
то льстивых, то грубых, несколько восточных форм и в усвоении свободных
и спокойных, уважительных в сторону народа и его представителей форм
деятельности и слова. Тот трудный и мучительный порядок вещей, какой
составил недавнюю фазу репрессии и излишества, которые всего лучше сви-
детельствуются множеством сейчас выпускаемых, до судебного разбора, в
административном порядке, на свободу лиц по всем губерниям, этот мучи-
тельный порядок вещей не должен более иметь места, не должен никогда
повториться. Мы не оспариваем и вынужденности репрессии, но совершен-
но отрицаем эту нервность и торопливость ее, при которой, очевидно, в
тюрьмы попало множество людей или полувиновных, или совсем невин-
ных. Администрация, выпускающая ежедневно из тюрем десятки проси-
девших там 2—3 месяца, совершенно очевидно сознается в этом сама, и мы
не станем, к ее унижению, разрисовывать это очевидное дело, напомнив
только, что свобода всякого гражданина есть вещь святая, священная, кото-
рая не может быть нарушена по подозрению или из опасения от него чего-
нибудь «неблагонадежного», но только за поступок уже совершенный и по
закону наказуемый. Красная тряпка скверна в руке революционера, но еще
хуже, когда ею махает перед глазами обыватель неосторожный или самона-
деянный чиновник, мнящий себя калифом на час. Мы ожидаем, что Дума
немножко вольет в «чиновника и администратора» старую обывательскую
кровь: ибо ведь таковы прерогативы и права Думы, что она получает не-
сколько «головное» значение, будучи выбрана от народа, и что в дряхлую
кровь чиновничества и чиновников она же, эта Дума, вольет гражданскую
свежесть, ибо впервые чиновничество увидит перед собою обывателей, не
«снимающих шапку» перед ним, не сторонящихся, не запуганных и робких,
а стоящих прямо, никуда не сворачивая, и перед которым чиновничество
само будет вынуждено обнажить голову. Долго медведь лежал в берлоге и
сосал лапу. Согрелся в логове. Но пришла весна, время проснуться и выйти
на простор леса, к новой жизни и новым заботливым трудам.
56
ЖЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ
«Проект женского университета в Москве утвержден министерством. Для
университета будет построено здание на Миусской площади», — это крат-
кое телефонное уведомление, переданное из Москвы в Петербург 14 апреля,
вызовет большую радость в обширном круге лиц, десятки лет кропотливо
работавших на пользу женского высшего образования и стойко защищав-
ших его идею. «Вода точит камень»: и усилия этих людей, тянувшиеся со-
рок лет, сыграли роль такой воды, падающей капля за каплею в одну точку.
В противоположность мужскому университетскому образованию, имевше-
му за собою такие авторитеты и влияния, как Ломоносов и Ив. Ив. Шувалов,
женское высшее образование продвигалось вперед крошечными шагами,
через людей не очень видных, медленно напирая плечом на сопротивление:
и сопротивление пало. Его двигателем был не гений, а трудолюбие, — мо-
жет быть, в соответствии вообще женской природе, менее яркой и более
тягучей, цепкой, устойчивой. К женскому движению и примкнули люди также
этих качеств души — множество незаметных трудолюбцев, людей прекрас-
ного сердца, утонченной деликатности, которых оскорбляло самое положе-
ние дела в стране, по которому «девушке и женщине закрыт доступ к шко-
ле», «захлопнута перед нею книга», хотя бы это и были школа и книга высо-
кого ранга: тем это казалось оскорбительнее!
Стране нужны не одни Ломоносовы: стране более, чем Ломоносов, нужно
просто образованное общество, читающая и размышляющая масса, деятель-
ные и знающие члены; наконец, стране в высшей степени нужны мягкие
нравы, деликатные привычки, человечные взгляды по всем направлениям и
во всех областях. Всего этого решительно нельзя достигнуть, пока женская
половина общества будет признана каким-то ублюдком по самой организа-
ции своей (какая тут связь?!) неспособным к усвоению высших идей и зна-
ний. Нет более надежного и более ревностного распространителя вообще
всякого рода нововведений, чем женщины, — чего бы дело ни коснулось, от
покроя платья до философии, от удовольствий до религии! У нас Екатерина II
распространяла идею Дидеро, в Швеции королева Христина пропаганди-
ровала философию Декарта; Элоиза шла за Абелляром, как св. Клотильда и
Берта шли за христианскими учителями. Так было, и, можно думать, так
навсегда останется. Поэтому образование вообще в стране так же нуждает-
ся в помощи специально женского образования, как наука в учебнике, как
новая истина в популяризации. Женщины — вечные популяризаторы, талант-
ливейшие. Без помощи их специально мужское образование останется ка-
ким-то неходким, бескрылым, тяжеловесным, косным. Поэтому если новый
женский университет и не даст нам Ломоносовых или Менделеевых, кото-
рых совершенно и не нужно ждать, то он даст нечто большее: такое же под-
вижное, живое, благородно-веселое общество, каковое было в Греции перед
зарею христианства и было во Франции, Италии, Германии и всюду в Евро-
пе в пору Возрождения.
57
Прочитайте два тома интереснейшего «Дневника» г-жи Дьяконовой,
бывшей слушательницы Высших женских курсов (Бестужевских) в Петер-
бурге. Во-первых, до чего все это русское, «Русью пахнет», если сравнить
этот непритязательный «Дневник» с гениально-порочным «Дневником» по-
луфранцуженки Башкирцевой. Сколько здесь разлито души, дела, задумчи-
вости; какие прекрасные страницы посвящены религии, размышлениям о
смерти. Сколько заботы о народе, о детях, о семье, — заботы не фактичес-
кой (по бессилию), но по крайней мере в душе. Все это ей дали или, точнее,
в ней пробудили «курсы», куда ее не хотели пустить из такого «медвежьего
угла», как Нерехта (Костромской губернии), где эти «курсы» по всеобщему
говору тех лет представлялись «все равно что домом терпимости». Через
ряд хитростей и благодаря покровительству, найденному у доброго попечи-
теля петербургского учебного округа, покойного Капустина, девушка выр-
валась на волю и, занявшись высшим образованием, превратилась из наив-
ного ребенка в ту задумчивую, размышляющую и серьезную душу, которая
отражается в «Дневнике» ее. Десятки и, наконец, сотни и, наконец, тысячи
таких блуждающих по России, по ее уездам и губерниям и, наконец, по заг-
ранице душ засветят всюду тот фосфористый и мягкий свет, какой бросают
от себя кометы, эти тусклые и длинные тела с загадочным ходом и загадоч-
ной природой. Зачем только солнца, непременно и все солнца? Я вспоми-
наю о Ломоносове. Иной незаметный образованный человек, без печатных
трудов и ученых заслуг, распространяет такой образовательный свет вокруг
себя, какому хоть позавидовать и Ломоносову. Вспомним Станкевича... Вот
пример в мужчине чисто «женственного» влияния: но, конечно, к такому и
подобному влиянию еще гораздо более способны женщины, которым сама
природа определила эту область действия, этот характер действия. Не столько
«образование несвойственно женщине», сколько женщина самое образова-
ние, которое ведь может быть и грубым и жестким, перерабатывает в выс-
ший, изящнейший и вместе могущественнейший образовательный свет... У
мужчины — это стакан воды, определенный, веский, небольшой; женщина
этот самый объем преображает в пар, в туман, неуловимый, невесомый, но
наполняющий целый дом и проникающий во все его скважины. Задача ве-
ликая, необходимая.
Будем ждать этих не столько великих, сколько распространительных
последствий от первого женского университета в Москве. Вспомним, кста-
ти, «лигу сторонников академизма» в университете, ярко поддержанную и
на Высших женских курсах. Этому «академизму», т. е. лозунгу: «универси-
тет для науки», посвящена целая отдельная прекрасная книжка, которую
рекомендуем прочесть каждому. Теперь, когда дебаты политические перей-
дут в Государственную Думу, несомненно, университеты освободятся или
по крайней мере очень облегчатся от них. И во всяком случае университет, и
в том числе женский, останется в конце концов в обладании тех, кто сам
остался верен университету, т. е. науке. Еще один-два смутные года, и уни-
верситетское образование у нас зацветет как никогда. Кстати, нельзя не по-
58
мянуть добром Москву: в ней раньше всего возобновились в текущую весну
правильные университетские занятия. Она же энергичнее других городов
выступила и добилась удовлетворения с идеею женского университета. Пусть
Москва учится: это залог успеха и во всех других областях, а наконец, и в
области даже государственного прогресса, политики.
«УСИЛЕННЫЕ ОКЛАДЫ И ПЕНСИИ»
В ОСНОВНЫХ ЗАКОНАХ
Гражданское чувство и политическое развитие и сколько-нибудь сносный
уровень общего образования с понятием об «основных законах государства»
связывают представление о чем-то страшно важном, жизненно необходи-
мом, наконец, даже о чем-то величественном и прекрасном. «Основные за-
коны» являют собою если не вечность, то долгую жизнь в строе государ-
ства. Они не колеблются, о них не поднимается вопросов, иначе как по край-
ней и редкой нужде. В понятии всех русских подданных с «основными за-
конами» связывается самый дух государства и, зависимо, даже дух нации и
истории; уважение к ним чрезмерно, и они строго выделяются из ряда всех
других законов, издаваемых и измышляемых по указаниям практической
жизни, преходящих, временных. Конечно, все законы «строги»; законов все
«побаиваются». Но «основные законы» не строги, а святы; и их не боятся, а
благоговейно чтут.
Это высокое чувство русских об «основных законах» своего тысячелетне-
го отечества нельзя сказать чтобы не оскорблялось и не уничижалось 15-й
статьею напечатанного «проекта» их, из коего усматривается, что в «ос-
новные законы Империи» введено, между прочим, и «определение окладов
содержания и назначение размеров пенсий тем должностным лицам, коим
таковые не установлены законом, а также пожалование служащим усилен-
ных окладов и назначение усиленных пенсий и пособий служащим и их се-
мействам». Неужели в этом спасение отечества? Ибо «основные законы»
спасают отечество, стоят на страже его безопасности, целости и здоровья.
Мы совершенно отвергаем по самой мелочности предмета возможность вве-
дения цитированного закона в «основные»: своим соседством он прямо ро-
няет престиж величественных и важных «основных» законов. Король, кото-
рый взял бы щетку и начал мести пол, уже не король; равно не был бы коро-
лем тот, кто взял бы на себя обязанность «охорашивать» и тоже чистить ре-
галии, мундир и все одеяние своих собственных служащих. Нам думается,
введение в «основные законы» этого поистине мелочного обстоятельства
службы гг. чиновников, по которому они иногда и всегда обходными и льсти-
выми путями выпрашивают или, точнее, —выклянчивают себе разные «ми-
лости», сводящиеся к утолщению своего бумажника и утончению народно-
го кошеля (ибо откуда же берутся им деньги?!), совершенно разрушает серь-
езное и горделивое, безукоризненно чистое и благородное представление
59
безусловно всех русских о безусловно всех «основных законах» своей вели-
кой родины. В быту мы очень хорошо все знаем, что всякого рода «не по
закону и штату» пенсии и «усиленные оклады» выпрашиваются и получа-
ются «счастливчиками», «любимчиками», которые только тяготят своим
присутствием действительно суровую государственную службу, которые
засоряют государственный механизм, которые толкутся и остроумничают в
канцеляриях, а не работают в них, ибо работники, серые, угрюмые, уже от
самого труда желчные и нервные, обычно не представляют предмета для
ласкового взора, ласкового слова сверху, для улыбок, любезностей и т. п.
неслужебных вещей, но, к несчастию, замешанных и в службу. Словом, мы
знаем в быту все, что цитированный закон пригревает, и успокаивает, и навсе-
гда обеспечивает всех паразитов и тунеядцев государственной службы, от
которых и без такого «основного закона» плакало наше отечество.
Несомненно, об этой 15-й статье заговорят в обществе, и заговорят в
том смысле, что «вот об ограде каких аппетитов и каких людей пекутся
наши верховные законы»; что «хороша же эта статья и, может быть, не
лучше ее соседние статьи». Крайне не желательно, чтобы раздались такие
речи. А они, несомненно, раздадутся, и будет к ним основательный повод,
если за «основными законами» не сохранится их прежний седой, солид-
ный, почти религиозный характер; если в них будет введено хоть что-ни-
будь, что, по существу, даже не заслуживает критики, а вызывает только
улыбку и пересуды.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ
В ВЫСШЕМ ЖЕНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Министерство народного просвещения только дало свое утверждение дав-
но предложенному и давно желаемому в Москве женскому университету.
Это слишком платонично, а платонизм хорош в философии, но далеко не
так хорош и даже вовсе жесток в практике. Директор тамошних высших
курсов вошел в городскую Думу с прошением об отводе земли для пост-
ройки здания женского университета на 1800 слушательниц, что особенно
настоятельно нужно ввиду предстоящего вскоре открытия медицинского
факультета. Проектировано в ближайшую очередь соорудить кабинеты ана-
томический, гинекологический, физико-химический и физиологический.
При этом он сообщил, что университет уже обладает средствами в размере
300 000 руб.
Лучшую сторону высшего женского образования у нас составляет гро-
мадная частная инициатива, вложенная сюда нашим обществом и вообще
множеством добрых русских душ. С царствования Александра II и особен-
но со времен Александра III, который лично выразил мысль, что лучше от-
крыть русским девушкам возможность учиться на родине, нежели застав-
лять их блуждать по заграничным университетам, ежегодно зрела морфоло-
60
гия русского женского университета, выделяясь клеточка за клеточкою и
собирая на это рубль за рублем с неустанною заботливостью. Но как бы
резина ни тянулась, она может порваться, и нельзя думать, что в силу элас-
тичности кусочком ее обтянешь целый дом. По самому существу дела, «доб-
рохотное даяние» всегда останется только помощью около дела государства.
«Добровольные флоты», как и добровольные университеты, свидетельствуя
о благородстве чувств, о великом накопленном энтузиазме в известную сто-
рону, все же останутся хрупким и ненадежным явлением, пока его не подо-
прет плечом своим олицетворенная, собранная личность народная — госу-
дарство. Вот почему было бы очень желательно, чтобы министр народного
просвещения перешел от греческого платонизма к русскому реализму. Пора
оставить взгляд на университетское образование как на какую-то затею меч-
тательных женских головок и хлопоты нескольких профессоров по части
«женского вопроса».
Русскому народу нужны женщины-лекаря, и русскому государству в
высшей степени были бы полезны женщины, знающие сельское хозяйство.
Не перечисляем других профессий и видов деятельности. Вот та серьезная
почва, на которой должны вестись все рассуждения. Государству следует
дать не по филантропии и либерализму основной фонд средств на женский
университет, но чтобы получить себе прибыль на затраченное в виде полез-
ных работниц на всех поприщах жизни. Только ведь при этой государствен-
ной постановке дела у самих учащихся женщин рассеются последние остат-
ки, если они есть, «романтизма» на подкладке женского вопроса, и оне пой-
мут последующую свою деятельность как отдачу долга, и материального и
нравственного, родине и народу, да серьезнее почувствуют и задачи учения
как некоторой службы. Мы убеждены, что оне вполне к этому способны.
Вообще не нужно различать мужское и женское образование как что-то
«деловое» в одной части и «цветочное» в другой. Как Екатерина Великая с
страшною серьезностью посмотрела на среднее женское образование, едва
ли не серьезнее, чем на мужское, дав России институты, когда университет
был только один и возник еще недавно, так наше время совершенно созрело
до такого же серьезного взгляда на высшее женское образование. Более ста
лет прошло, и около екатерининских институтов пора подняться николаевс-
ким университетам, николаевским сельскохозяйственным женским инсти-
тутам, вызывая сестер наших к науке и на бодрый, веселый, а где нужно и
страдальческий труд на необозримой ниве нашей дорогой родины.
РАБОТЫ В ТЮРЕМНОМ ВЕДОМСТВЕ
Тюремному ведомству предложено озаботиться заменою Сахалинской ка-
торги чем-нибудь другим. Будут искать и, вероятно, найдут. Но эти далекие
и так или иначе все-таки лютые пансионы для уголовных и гражданских
преступников пробуждают две мысли: 1) о том, что все же они содержатся
61
на пенсии у народа, который сам живет впроголодь, 2) и о неиспользованно-
сти огромной физической силы, которая пропадает для народного труда и
народной экономики.
Преступление зарождается и созревает в душе. При чем тут тело? Толь-
ко машина, исполнившая то, что ей заказали. Между тем с «преступною
душой», которая нуждается в изоляции от здорового общества, да и наказу-
ется по черным замыслам ее, уходили на Сахалин и будут теперь уходить
куда-нибудь эти дюжие спины, широкие плечи, мускулистые руки, которые
никаких «черных замыслов» не питали и сами по себе были бы полезны
народу. Мы хотим сказать, что наказание должно заключаться в отнятии сво-
боды, которою не умел пользоваться преступник, но это лишение свободы
не должно сопровождаться совершенным устранением целого преступника,
души и тела его, из кругооборота экономической народной жизни. Преступ-
ник должен сам окупать себя, и тюремное ведомство не должно стоить госу-
дарству дороже, чем почта, т. е. ничего. За что, за какие добродетели и по
принципу какой справедливости крестьянин, сам еле-еле существующий,
не знающий отдыха ни летом, ни зимою, должен развязывать котомку и вы-
нимать из нее периодически несколько рублей на постройку гигантских кир-
пичных тюрем, которые фундаментальнее и долговечнее и барских домов,
не говоря уже о его собственных мужицких избах?! Непреступники трудят-
ся для преступников, ни в чем не повинные содержат на свой счет виновных
и опасных: достаточно дать формулу этому положению, чтобы понять, что
здесь содержится социальный абсурд.
Россия так мало культурна, до того вся необработана и запущена, что в
ней найдется необозримое количество работы самой элементарной, не
требующей никакого подготовления или выучки и вместе очень нужной,
очень полезной. Египет строил пирамиды, Голландия проводила каналы, а
мы не имеем дорог. Земство бедно, государственная казна истощена; меди-
цина и учение так слабы в уезде, что нет надежды «в ближайшем будущем»
надеяться на проведение новых нужных или исправление старых и негод-
ных дорог: и вот здесь арестантский труд, как самый дешевый и даже —.
временно и возможно — дорогой или в кредит сделанный, мог бы прийти на
помощь. Людей морят одиночкой в гигиенических камерах: принцип мести
едва ли достоин государства, да и преступления, текущие из «преступной
души», в огромном проценте есть продукт психической патологии. Оди-
ночное заключение, стоя очень дорого государству (сколько места! какой
строительный труд! какие ассигнования на постройку и ремонт!), доводит
этих патологических субъектов до сумасшествия, до чахотки, цинги, и нуж-
но же государству, т. е. в первой инстанции народу, кормить, поить и согре-
вать десятки тысяч этих и подобных людей по 10, 15, 20 лет каждого, без
всякого возврата, без отдачи за расход!
Мы назвали дороги, а есть еще оросительные каналы, как и лесонасаж-
дение с целью задержать движение песков или удержать влагу в нужных
местах, напр. в верховьях речек, ручьев, рек. В голодные годы государство
62
организовало же народные работы, чтобы дать заработок населению. Итак,
к этой организации оно способно. Все работы арестантов до настоящего
времени сводились к какой-то забаве, к шуточкам, почти пансионным иг-
рам: не пора ли взглянуть на них серьезным государственным оком и потре-
бовать от арестантов и вообще «отбывающих по суду наказание» не этих
пустяков, народу и государству не нужных, а ответственной тяжелой служ-
бы под присмотром, службы не на свободе. Часть платы, небольшая, могла
бы идти лично арестантам, чтобы возбудить в них могучую и заниматель-
ную сторону труда; возбудить добродетель и добросовестность труда, о ка-
кой здесь может идти речь. Остальное должно идти на содержание тюрем-
ного ведомства, как марки — на содержание почты. Дотоле это дело не под-
винется вперед, пока тюремное ведомство будет пассивно и лениво ожидать
ассигнований на себя из государственного казначейства, конечно, с вечной
присказкою: «чем больше, тем лучше». Но едва было бы проведено прави-
ло, по которому от казны это ведомство получает только пособие к основно-
му фонду своих средств, «специальных средств», говоря языком канцеля-
рий, — как моментально оно найдется и организует работы арестантов в
серьезных государственных размерах. Законы рынка, увы, приложимы и к
казенным ведомствам; и здесь кто обеспечен — не трудится, а кто в обеспе-
чении зависит от труда своего — живо побежит к работе, найдет ее на дне
морском. Так нужно поступить государству, посуровее, и с обширным тю-
ремным ведомством, отучив его от мысли смотреть на себя как на «департа-
мент в государственном строе» и приучив к той более здоровой и правиль-
ной мысли, что это есть организация подневольного труда, или труда полу-
невольного, под наблюдением, без свободы. И только никаких пансионов,
развращающего ничегонеделания и убийственной праздности в одиночных
или общих тюрьмах.
ГОСУДАРЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Поколение наше подошло ко дню, какого не переживала еще Россия, какого
не дано было увидеть ни одному поколению. Оставим шаблоны и не будем
говорить, что у нас «вводится конституция», «открывается парламент». В
эту минуту хочется почувствовать свое, родное; и мы думаем — это родное
есть в неизмеримом преобразовании, которому подвергается страна. В день
27 апреля, когда в великолепные залы Зимнего дворца войдут, — наряду с
высшим духовенством, с генералитетом, министрами, членами Государствен-
ного Совета, с придворными чинами и дамами в парадных «русских плать-
ях», — и серые, уездные и губернские русские люди, войдут сельчане, в
малой дроби даже неграмотные, войдет так называемая русская «интелли-
генция», столько раз осмеянная и, однако, страдальческая, часто гонимая и
всегда терпеливая, — в этот день все почувствуют, что совершилось что-то
великое, великое и умиротворяющее. «Ждали и дождались», — кто этого не
63
подумает? «Ждали» от 14 декабря 1825 года; «дождались» через 81 год.
«Ждали» князья, дворяне, офицеры, писатели, поэты, журналисты; ждали
узники в Сибири, о которых пелись тоже стихи. Ждали еще мрачнейшие
жертвы, о которых ужасно и горестно вспомнить. Но мы вспомним и их, и
вспомним все и всех с тем умиротворением, под действием которого когда-
то произнесены были слова: «Ныне отпущаеши, Владыко, раба Твоего с
миром»...
Нет, невозможно, чтобы движение, в которое вложено столько русской
души, русского энтузиазма, русского терпения и работы было «заморским
нововведением». Нет, Дума — наша, Дума — русская, Дума — плод русской
истории. Пусть — явление, параллельное движениям других, двигавшихся
к освобождению, народов; как ведь и Земские Соборы Московской Руси име-
ли в себе параллели в средневековых представительных учреждениях; и,
однако, были свои, родные, московские. Не менее этого Дума нисколько не
есть подражательное, повторительное явление; никто из самых беззаветных
западников не дерзнет сказать, что она есть «скопированное на Западе» уч-
реждение; всякий скажет, с торжеством или злобою, что это есть плод ог-
ромных и натуральных напряжений русских исторических сил. Но не луч-
ше ли сказать это одним, сливающимся, братским голосом, брося вчераш-
ние разделения, — сказать просто и с умилением: «Дума — наша, и мы ее
ниоткуда не взяли».
О, как не хочется на эти дни разделения! Не совершится ли чудо и не
пойдут ли вчерашние «октябристы», «кадеты» и проч, и проч, к одной ги-
гантской созидательной работе как просто «члены Думы», в этом одном и
общем ранге? Не бывает чудес, но как хочется чуда! А кто знает, может быть,
в Думе в самом деле умирится многое, сполируются острые края, улягутся
противоречия — и просто при взгляде, и близком взгляде друг на друга лю-
дей, всегда до сих пор разделенных и более предполагавших, нежели видев-
ших друг в друге враждебные или затаенные измерения...
Встретятся Государь и народ. Впервые — лицом к лицу. Не оставим
вспомнить нашего великодушного и доброго Государя и сказать слово бла-
годарности, надежды и ободрения, в каковом если не как Монарх, то как
человек Он может нуждаться. Скажем о всей этой уже пройденной смуте,
что в ней и от нее никто так много не страдал, как Государь. Всякий понима-
ет, что бюрократии, у которой брань «на вороту не виснет», вся эта смута
причинила ущерб более платонический. И хотя она нисколько против Госу-
даря не направлялась, однако нечто реальное унесено смутою именно отсю-
да, из дворцов. Все это совершилось само собою, вне всяких намерений; все
совершилось по роковому, мучительному и опасному сцеплению, в силу
которого монархическая власть перестала отделяться даже от мелочных чи-
новных распоряжений и слилась с последними колесами бюрократического
механизма в один неразрывный клубок. Все трясли «столы» этих столона-
чальств, стены «канцелярий»; перед зерцалом и портретом Государя сидели
эти чиновники и не стеснялись перед Ним творить свои мелочные, темные и
64
глупые дела. Да, Государь страдал. На Нем много отразилось. «Мыши из
подполья разбежались»; поели сыра и «были таковы». А Государь, — Он все
остается, когда другие уходят и проходят: и на Нем мучительнее, нежели на
ком-либо поименно, отразилось все, происшедшее за 1904, 1905 и 1906 годы.
При характере менее великодушном и более жестоком, при направле-
нии ума более эгоистическом сколько препятствий Он мог бы поставить;
сколько раз Он мог бы последовать, без сомнения, раздававшимся около Него
советам мрачного, упорного, реакционного характера. Да таковые не только
советы, но и почти требования были Ему высказываемы прямо в лицо депу-
тациями и посланиями из Петербурга, Москвы и из губерний. Но ум Его
озирал все положение вещей сверху, и Он видел и знал то, чего не видели и
не знали кружки, партии, отдельные люди. Вспомним слова нашего старца
Толстого, сказанные в конце «Анны Карениной», о решении Государя объя-
вить войну, и сказанные устами крестьянина, т. е. простого народа: «Госуда-
рю виднее». Да, трон выше всего. И много видно с него, чего не видно с
кресел, стульев, трибун и кафедр. Не забудем этого. Государь знает гораздо
больше каждого из нас, знает уже в силу своего положения и таких особен-
ных сведений, которые никогда не коснутся и края уха обыкновенного под-
данного или «гражданина».
Дай же, Боже, Государю и впредь этой ясности и высоты суждения, это-
го спокойствия и простоты решений, какие Им выказаны были в эти «страд-
ные» для трона два с четвертью года.
Одно мы вправе наблюдать как подданные, как граждане. В силу осо-
бых индивидуальных качеств, врожденных, ни который из доселе живших
государей русских не был в такой же или даже приблизительной мере так
способен ко «введению конституции» и «установлению парламента», как
ныне царствующий Государь Император. Вспомним Гаагскую конференцию
с ее программою, которая была личным порывом нашего Государя. Итак,
стремление к человеческому добру, готовность к состраданию — Его глубо-
кая врожденная черта. Будущий историк России бесспорно скажет, что если
одна половина русской «конституции» и «парламентаризма» объясняется
ходом японской войны, наступившею «смутою» и, наконец, вообще всем
освободительным русским движением, начиная от 14 декабря, то всему это-
му, однако, недоставало целой другой половины и эта половина дана была
личным характером Императора Николая II.
Возблагодарим Его. А если и не сумеет теперешнее поколение, в то-
ропливости мятущихся дней, оценить величие и индивидуальность подвига
Государя, то тем выше, в поправление настоящего, поднимет Его имя историк.
И еще последнее слово: Государь,— как ни один до Него монарх рус-
ский, — стоит, по всему о Нем известному и по тем решениям и словам,
какие опубликовывались, — чрезвычайно близко и родственно к общему
облику «русского образованного человека». Вот почему Он уловил звуки,
стонуще звеневшие в русской душе много лет, уловил, и дал им ясность, и
привел их в исполнение.
3 В. В. Розанов
65
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
История столько же живет гениальными мыслями, как и великими чувства-
ми. Что нам ожидать, в области творческой мысли, от Думы — это покажет
ближайшее будущее, даже ближайшие дни. Но пока мы радостно можем
отдаться тому чувству, которое подымает каждое сердце, всякий дом и се-
мью, и чувство это перельется волною и покатится по всей Руси. Весь Пе-
тербург в ликовании. Невозможно было без глубокого волнения смотреть,
как катеры, один за другим, подвозили по Неве депутатов из Зимнего дворца
к Таврическому: и вот, когда они проходили короткое расстояние от берега
до здания Государственной Думы, их приветствовали клики народные и
тысячи рук протягивались к ним, чтобы пожать им руки. Все было в волне-
нии, счастливом, радостном, доверчивом. Замечательно, что публика, осо-
бенно повышавшая голоса при виде какого-нибудь известного оратора, пе-
реходила к настоящему энтузиазму, когда показывались депутаты-крестья-
не, в костюмах далеких губерний, малороссийских, новороссийских, при-
уральских. Их целовали, с ними обнимались. Видно было, что центр радости
— далекая Русь, которую видят здесь, которая пришла поведать о себе, по-
просить себе, потребовать себе. Чувство, положение — совершенно новые!
Эта-то новизна и сообщила необыкновенную свежесть всему движению
около Таврического дворца. «Новые дни! новые дни!» Это чувствовалось во
всех сердцах.
День этот, встреча эта, мы верим, западет глубоко и в душу депутатов.
Сердце русское — отзывчивое, чуткое. Видя этот энтузиазм народный к себе,
русские люди, собравшиеся ныне на берегах Невы со всех отдаленнейших
уголков необозримой земли нашей, и сами почувствуют свое сердце под-
нявшимся и, Бог даст, совершат великие дела; найдут великие исходы из
тягостных обстоятельств, в которые неожиданным ходом истории втолкну-
та наша Родина.
Великие дни. Почва готова. Сеятель вышел с полной кошницей зерна.
Сеятель — Дума, готовая почва — наша бедная Русь, о которой поэт сказал:
Ты и убогая,
Ты и нарядная,
Матушка Русь!..
Тот же поэт, в другом стихотворении, сказал русским людям:
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! — спасибо вам скажет сердечное
Русский народ.
И вот пришел день, год великого сеяния. Отныне каждый день — шаг
истории, памятный, как бы со всех сторон освещенный снопами ярких лу-
66
чей. Все будет видно. Все будет запомнено. Недостатки, леность, медли-
тельность — запомнено будет и это! Какая ответственность! Какое величие
в этой ответственности.
ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ В «В. П. И.»
«В. П. И.» — это грустное сокращение, или преобразование, или извраще-
ние, какому подверглось слово «Церковь». «В. П. И.» употребляется в офи-
циальном языке, в деловых бумагах, только не в первых их строках, а в даль-
нейшем тексте; в первых строках и в штемпеле деловых бумаг значится без
сокращения: «Ведомство Православного Исповедания». Слово «Церковь»
больше не употребляется иначе как народом и в отношении определенных
отдельных храмов. «Церковь св. Покрова», «Церковь Косьмы и Дамиана»
или просто «Покровская церковь», «Косьмодемьянская церковь». Но «Пра-
вославная Церковь» в деловых бумагах, государственного значения, не упот-
ребляется иначе как в журнальных и газетных статьях, т. е. опять же не дело-
вых. Интересный вопрос: существует ли на деле то, именно чего в деловых
бумагах не употребляется, я оставляю на мудрое рассмотрение читателя.
Замечу, что, где не поможет мудрость, может еще пособить остроумие...
Никогда, как в эти дни, я не чувствовал так сильно сущность «В. П. И.».
Едва разнеслась весть о выходе в отставку министерского кабинета и в со-
ставе его синодального обер-прокурора кн. Оболенского, как ко мне один за
другим стали обращаться и священники, и друзья церковной реформы из
светских лиц со словами: «Что же будет? Кандидатами на пост обер-проку-
рора называют то Ширинского-Шихматова, то Игнатьева... Но ведь это рав-
нозначаще полной остановке всего начавшегося обновления в церкви и воз-
врату ко временам Победоносцева, коего Ширинский-Шихматов был вдох-
новенно-послушным исполнителем в Москве. Опять мрак, опять застой».
Я излагаю спокойно, но если бы кто-нибудь видел эти расстроенные лица.
Точно у них в дому стоял покойник. Точно безнадежно больна жена, ребенок...
Я успокаивал.
— Если Ширинский-Шихматов, то полная остановка реформы. Едва ли
даже соберется церковный собор. А соберется — ничего не сделает, ничего
не допустят сделать.
— А мне кажется, — возражал я, — что ничего и не нужно делать, ниче-
го невозможно делать. И собора — точно не нужно, или он ничего не сдела-
ет. Вы мертвы. До какой степени вы мертвы, видно по самому вашему ужа-
су: новый чиновник — и вы все до того перепугались, что вас уже не видно,
вы где-то под полом и скребете там, как мыши: «Боимся! Все кончено!! А
как хотелось!!!» Хотелось мышке сыра, да пришел хозяин сырной лавки.
Ну, послушайте: неужели же русская литература не то что испугалась, но
хотя смутилась от какого угодно назначения главноуправляющего по делам
печати? Или рабочие, крестьяне «из сознательных» и вообще «новые граж-
67
дане» забегали по редакциям газет с просьбою «о помощи», будь назначен
такой или иной директор департамента государственной полиции или ми-
нистр внутренних дел? А ведь, согласитесь, что вера и полиция — не одно и
что зависимость, ничтожество, слабость рабочего на фабрике пред мини-
стром внутренних дел неизмеримо больше, страшнее, мучительнее, нежели
зависимость священника или «деятеля по духовному ведомству» от обер-
прокурора Синода? Почему же те не боятся, а вы дрожите, как осиновый
лист? По легенде, на осине удавился несчастный Иуда, и с тех пор она дро-
жит листьями. Мне это напоминает ваше дрожание при вести, что назначен
«Ширинский-Шихматов», и вы все мне представляетесь листочками на Иуди-
ном дереве. Ну, а какое же «христианство» для осины и зачем Христос для
Иуды? С него достаточно обер-прокурора и «В. П. И.».
Слушавшие не очень стыдились. Видно было, что им все равно, что бы
я ни говорил. Понуро они вторили: «Неужели Ширинский-Шихматов? Не-
ужели Ширинский-Шихматов?..»
— У вас крест. У вас евангелие. Ведь вы же веруете??! Что вам Ширин-
ский-Шихматов??? Откройте страницу Евангелия, как мы — миряне — де-
лаем в беде, в горести, в унынии, при потере близкого человека. Откройте и
прочтите и успокойтесь и утешитесь. Святые слова успокаивают. Не хотите
ли, я прочту.
И я открываю от Иоанна, XI:
«Мария, пришедши туда, где был Иисус, и увидев Его, — пала к ногам Его,
и сказала Ему: Господи, если бы Ты был здесь — не умер бы брат мой...
Иисус Сам восскорбел духом и возмутился. И спросил: где вы положили его?
Иисус подходит ко гробу. То была пещера и камень лежал на ней.
Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему:
Господи! уже смердит: ибо четыре дня как он во гробе».
Так ведь Христос пришел, чтобы воскресить, чтобы воскрешать. Это не
каждый день делается, не с каждым новым обер-прокурором. То было гро-
мовое чудо один раз в истории. Но если и после Христа вы мертвы, то кто
же воскресит вас и даже нужно ли воскресение? Христос — вечная жизнь.
Но вы ее не испили. И оттого так дрожите, испуганы. Я не вижу человека, а
вижу осину. И ее просто надо выкопать и куда-нибудь бросить — если ее
вид кого-нибудь раздражает; но наш благодушный русский народ не не любит
и осины и благодушно видит ее в лесах, в огородах. Итак, растите, но только
уж, пожалуйста, без «реформы» и всяких этих кокетливых затей и претен-
зий, начавшихся у вас «вслед» освободительного движения, а не то чтобы у
самих и ранее «сердце точило»... Ведь никакой скорби ранее не было, и все
вы, бывало, на видном месте журналов цитировали «Московский Сборник»
К. П. Победоносцева наравне с Иоанном Златоустом. И опять будете цити-
ровать: сказываете сами, что Ширинский-Шихматов — друг его. Значит,
будете цитировать.
68
Но осина также дрожала. Не слыша, не видя, не чувствуя. И я со скор-
бью несу слова свои «светским безбожникам», которые, может быть, ока-
жутся впечатлительнее — ив самом деле чем-нибудь помогут, рабочие, му-
жики, студенты, курсистки, этим унылым духовным лицам и деятелям «цер-
ковного обновления», так перепуганным особою нового обер-прокурора.
Ну и еще вдруг беда: возьмет он в помощники себе Саблера? Пропала
Церковь!!!
Бедное «В. П. И.».
ЖИЗНЕННЫЕ ТРЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ
Авторитет Думы вырастает не от безапелляционных заявлений председате-
ля, что «Дума выше всяких укоризн», — даже как возможности. Подобным
образом о себе думала и принуждала к такой мысли о себе других и бюрок-
ратия, но это очень мало обеспечило ее авторитет.
Можно опасаться, чтобы Дума, расходясь с чиновничеством в колорите
программ, так сказать, в употреблении бумаги, на которой пишутся слова,
не совпала с нею в самых словах, т. е. в методах, в приемах государственной
работы. По-белому и по-красному мы, пожалуй, прочтем все одну и ту же
несвязную, «предначертывающую и приказующую», мечтательную и непрак-
тичную грамоту, речь... Вот этого можно опасаться.
«Кадеты» со всем пылом молодости, отвечающей их сокращенному
имени, на предварительных съездах поставили необыкновенно далекие цели
государственного переустройства, необыкновенно высокие идеалы, осуще-
ствления которых пока земля не видывала. Напр., г. Струве выразился об
аграрной программе, что «он, социалист, будет считать величайшею для себя
честью принадлежать к партии, которая добилась бы проведения на практи-
ке этой программы»; что ее «отбросить вправо можно, но отбросить ее вле-
во — не удастся никому и, по существу дела, невозможно, сохраняя кре-
пость законодательных и вообще государственных норм и функций». Таким
образом, «предначертания» господствующей в Думе партии, по формуле
одного из видных ее членов, местами переходят в социализм и вообще пред-
ставляют нечто самое «левое» и радикальное из всего, что можно себе пред-
ставить и назвать.
Драгоценное признание.
Известно, что, когда много запрошено, можно много и уступить. Но во-
обще всегда происходит торг, и цена упорством покупателя сбивается на
приблизительно настоящую и естественную свою цену. Кадеты, по собствен-
ному же признанию вождя своего, «заломили наибольшее» в программе, —
и, очевидно, будет предстоять очень внимательный с ними «торг» и государ-
ственного механизма в России, и, в частности, Государственного Совета.
Практическая Россия может указать партии: как же это все провести на
практике, не разрушая благосостояния и вообще бытовой и юридической
69
устойчивости огромной, миллионной группы населения? Ведь и Аракчеев
пытался облагодетельствовать Россию военными поселениями, этим казар-
менным социализмом, предшествовавшим Фурье и Оуэну. И он «предна-
чертывал»; и кадеты, а с ними, вероятно, и Дума, пока только «предначерты-
вают». Но нужно не только накласть высоко воз: нужно провезти его, и про-
везти очень далеко, по совершенно скверным, нисколько не приготовлен-
ным дорогам. Мы желали бы, чтоб практическое чувство, близость к земле
и действительной жизни подсказали членам Думы, что между теоретичес-
ким «накладыванием воза» и безопасным «провозом его» громадная разни-
ца. И то бывает, что чем выше наложен воз, тем, при конце дороги, менее на
нем останется: все растрясется на колдобинах, попадает, растеряется, ниче-
го не соберешь...
Чиновники, сановники, как, напр., и Аракчеев, ничего этого не разбира-
ли. Опираясь на волю монарха, они только «приказывали». Ведь монарх на
то и «самодержавный», чтобы было «исполнено». Упаси Боже, Думе пойти
по этому пути, опираясь на «самодержавие» народа... И для «самодержа-
вия» народа заключается ограничение в истинах таблицы умножения, в том,
что люди множатся, земли же не прибавится ни одного вершка и что, нако-
нец, при слабовольности нашего крестьянина, при его склонности к «зелену
вину», он может остаться так же беден, как сейчас, и получив земли монас-
тырские, удельные, частновладельческие... Богатство образуется получени-
ем и накоплением. О получении все хорошо и легко решили, тем более что
все это из чужого кармана. Ну, а как со сбережением и особенно гарантиями
его? Где гарантии того, что, получив землю, крестьянин по всей России бу-
дет наконец сыт, и устойчиво сыт, навсегда или на очень долгое время? Со-
гласитесь, что без полной в этом уверенности лишаться своего очень труд-
но: не легче, чем было крестьянам входить в военные поселения. Только там
была «аракчеевщина» над деревнею, мужиком; теперь эта социальная «арак-
чеевщина» пойдет над помещиком, дворянином, купцом, да даже и над тем
же крестьянином, насколько он в прежние десятилетия был бережлив и что-
нибудь прикупил к своему наделу.
Вообще с разделом, и таким легким (через приказ Думы), чужого как
бы не вышло не поощрения труда, что пока «предначертывается», а поощре-
ния тунеядства... Думе придется считаться не только с физикою экономи-
ческих вопросов, но и с их психологиею; а эта психология, на неизмеримых
пространствах России, останется все той же косною, той же отчасти легко-
мысленною и беспечною, как и сейчас, что бы ни говорилось в Таврическом
дворце.
ДАРМОЕДЫ ИЛИ НЕ ДАРМОЕДЫ?
Когда чиновник представляется к первому ордену, как равно и ко всем пос-
ледующим, и получает его, то при ордене прилагается патент, который и
составляет существо награждения за службу. В патенте этом неизменно про-
70
писывается, что «чиновник такой-то» награждается орденом Станислава или
Анны, как и прочих всех, «за отлично-усердную службу». Без этого нет на-
грады. А так как чиновники все получают ордена, то они предполагаемо и
обязательно и несут «отлично-усердную службу», и иначе как «отлично-усер-
дной службы» и нет никакой, не предполагается никакой, раз дело идет не о
службе частной, а о службе государственной.
Но, увы, на частной службе, решительно всякой, без всяких орденов и
чинов, без пенсии и эмеритуры действительно «отлично усердно служат», и
чтобы, например, в каком-нибудь частном банке клиенту сказали раз: «При-
дите за квитанцией завтра», а в действительности назавтра эту квитанцию
не изготовили, сказали то же в другой раз, в третий, и он все ходит, а квитан-
ция, которую «изготовить» требуется не более 5—10 минут времени, все не
готова: такой нелепости и представить себе нельзя! Конечно, этого нигде не
бывает... кроме казенной службы, где по патентам к орденам «отлично усер-
дно служат», а на самом деле лодырничают с папиросками, за чаем, за разго-
ворами об удовольствиях вчерашнего вечера или за сборами сегодня у кого-
нибудь из товарищей «повинтить». Эта картина, что клиенту казенного уч-
реждения назначают: «Придите тогда-то», он приходит, и ему отвечают: «Еще
не готово, придите в другой раз», кому же из обывателей не знакома? «Все
«ждут», все «ждем». Между тем если пять часов чиновника в учреждении
стоят казне 5—10 руб., то ведь и каждый час обывателя ему стоит то рубль,
то два; только это платит не казна за него, а он сам платит из кармана или
недополучает этот рубль. И вправе ли учреждение, назначив срок для полу-
чения документа и не приготовив его к сроку, в сущности, штрафовать обы-
вателя на 2—3—5 руб., смотря по лицу клиента и работоспособности его?
Штрафы налагаются мировыми судьями или полициею, по суду и за вину. И
то, что такие штрафы налагают без исключения все наши казенные учреж-
дения на обывателей ни в чем не повинных, кроме того, что они русские граж-
дане и что над «учреждениями» никакого, в сущности, суда нет, это все являет-
ся возмущающим душу зрелищем, тем более что оно везде и постоянно!!
Вот отчего имеет очень принципиальное значение протокол, который
через позванную полицию составил чиновник ссудного отделения Государ-
ственного банка в Москве г. Никольский: он услышал слово, сказанное не
ему, а соседу, но о нем, одним измотанным клиентом: «Этакие дармоеды».
Он, видите ли, находился «при исполнении служебных обязанностей» и изоб-
ражал собою священную персону. А что он несколько раз заставлял клиента
приходить за ничтожной квитанциею, назначая сам сроки и не изготовляя к
ним ее, — это с «исполнением служебных обязанностей» не расходится, и с
«отлично-усердной службою»?!! Какая же защита для клиента, которого
штрафуют временем, рублем и измором! Медики скажут, что «нервы раз-
дражаются», и вправе они раздражаться не только от речения: «Этакие дар-
моеды», но и от ходьбы или от тряски на конке или на извозчике семь раз по
одному делу! Нужно бы для удовлетворения клиентов завести какие-нибудь
простенькие «суды чести» во всех учреждениях, канцеляриях или какие-
71
нибудь «жалобные книги», вообще что-нибудь, чтобы оградить клиентов и
вообще русского обывателя от юпитерствующих Иванов Ивановичей, кото-
рые при «исполнении служебных обязанностей» пьют кофе, болтают, вспо-
минают, мечтают, конечно, тоже и работают, но никогда не до поту, а с про-
хладцей, и только приходят в раж, когда клиенты перебрасываются между
собою: «Это какое-то лодырничанье, а не государственная служба».
Ну, а как же сказать, объясните, господа чиновники? И как вы называете
сами того курьера, который нес да не донес бумаги, булочника, который то
доставит, то не доставит в нужный час утра булки, кухарку, которая не дова-
рила обеда? И еще одно, чтобы оправдать этого клиента и вообще клиентов:
как господа чиновники объяснят знаменитую поговорку, не о них, а у них,
внутри их департаментов и канцелярий сложившуюся: «Дело не медведь, в
лес не убежит». Кстати, г. Никольский, может быть, опубликовал бы в газе-
тах, сколько же времени требовалось ему на изготовление любопытной кви-
танции и что это была за квитанция, сколько строк в ее тексте? Вопросы
интересные и для обывателя, и для службы.
ПРОБУЖДЕННЫЙ ЛЕВИАФАН
...Из окон квартиры моей прямо видна Нева. И чудно бывает в черные сен-
тябрьские ночи смотреть, как она вся горит огнями, то неподвижными, то
быстро передвигающимися. Это — баржи на якоре или крошечные парохо-
дики, перевозящие пассажиров между «этою стороною», Выборгскою и
Васильевским островом. Прямо из окон видны «Кресты» — страшная оди-
ночная тюрьма для политических на Выборгской стороне. Они стоят, — два
здания, тожественные, «казенные», — между городком высоких фабричных
труб. В самом центре рабочего района они кажутся угрозою или насмеш-
кою. «Сперва поработай, а потом, как устанешь, разобьешься, изнервнича-
ешься, — сядешь в меня. Я успокаиваю». Действительно, успокоение... Ка-
зенный хлеб, никаких посетителей — месяцы, годы...
Вздрогнешь.
Я помню, однако, этот лес фабричных труб не в сентябрьскую черную, а
в белую майскую ночь. Шел третий час ночи; утомленные гости готовились
уже расходиться, никто не требовал внимания хозяина, и, пользуясь свобо-
дою, я быстро ходил по трем смежным комнатам с этими окнами на Неву,
разговаривая с одним художником. Он был средних лет, всегда молчалив,
угрюм. А когда, бывало, разговорится — как умен, какое разнообразие мыс-
ли! Это было года три-четыре назад, когда впервые зашевелилось рабочее
движение, и все поговаривали о «выборгском районе». Мы, однако, говори-
ли не о рабочем вопросе. Мы говорили, под впечатлением бывших в то вре-
мя в Петербурге «Религиозно-философских собраний», о мистической сто-
роне веры, о «конце всех вещей» и об Апокалипсисе. Шли такие годы, да,
может быть, и мы были такие люди. Говорил художник, и я заслушался...
72
Вдруг он повернул, в каком-то кольце разговора, но, повторяю, — чисто
религиозного, не русского, не из этого XIX—XX века, — к окнам и, указы-
вая на лес труб, проговорил:
— Дракон проснется. Что, если дракон проснется?
При слове «дракон» я вспомнил только «созвездие Дракона», как оно
тянется, длинное-длинное, всеобволакивающим поясом тусклых звездочек.
Мне показывали и на небе, и я рассматривал в астрономических атласах. Ни
одной большой звезды. Ни одного имени звезды. А длинное-длинное, и кон-
ца не видно, и пределов нет. Туман, и все.
Я вздрогнул от голоса моего собеседника. Повторяю, он всегда бывал
молчалив, а такие люди, если разговорятся, — то горят. Так он горел теперь,
и слова о «драконе» были сказаны им без страха, без отрицания, без гнева, а
как о факте, что вот «пришел и поглотил».
Но форма речи была выражена с «если» и относилась к будущему. Ху-
дожник говорил о том, до какой степени все эти наши разговоры об Апока-
липсисе и «конце времен», — рафинированны, искусственны и, в сущности,
никому, кроме самих разговаривающих, не нужны. Но что и этот занима-
тельно-истинный характер они потеряют, если вот «пробудится дракон».
Пробудятся эти трубы. Захотят себе чего-то. Потребуют. И море тусклых
этих звездочек закроет, поглотит, сведет на нет разных красивых Сириусов
и Вег, которые — одна, две точки, когда дракон охватывает полнеба, и от
него некуда деваться; подымешь голову и видишь его непременно, хотя не
всегда знаешь по имени, умеешь «различить»...
Я плохо вспоминаю. Уже много лет прошло. Но я вздрогнул; мне почу-
дилось в словах художника и в этой руке его, протянутой к трубам и «Кре-
стам» (он не знал, что тут «скучные Кресты»), что-то именно апокалипси-
ческое...
* * *
Четыре года прошло. И 27 апреля, когда на этой набережной, почти там, где
мы ходили с художником, — толпилась многотысячная толпа народа, ожи-
дая перед Таврическим дворцом первых русских представителей, — мне
показалось, что вот «началось», что дракон — гораздо ближе, и как бы пер-
вый лист Апокалипсиса если не перевернулся, то зашевелился, ожил, задви-
гался. «Что-то идет! Новое, огромное!»
Я замешался, такой маленький, один в эту толпу, с ее невероятной мо-
щью именно толпы. О, эта стихия народная — целый новый мир, новое от-
кровение, может быть, особенно резко чувствуемое «на границе», т. е. чело-
веком специально кабинетного, одиночного душеустроения. Толпу, однако,
я всегда люблю. Она меня не пугает. И, может быть, оттого, что всякий раз,
входя в толпу, я до того ей подчиняюсь, так глубоко отрицаю себя и свой
кабинет, отрицаю натурой, а не умом, что эта толпа, огромная и сильная, не
подавляет меня, а, скорее, подымает, как волна соломинку, случайно упав-
73
шую на нее. Ничего нет приятнее, как разговаривать в толпе. Никого не зна-
ешь, а как будто всех знаешь. Спрашиваешь, шутишь, надоедаешь — без
церемонии, как тебе без церемонии наступают на ноги. И все отлично. Нуж-
но немного иметь скромности, чтобы чувствовать себя в толпе всегда отлич-
но. Она вливает какую-то физиологическую силу от себя, оздоровляет; и я
советовал бы особенно всем болезненным, рахитичным, анемичным поча-
ще «спускаться в толпу», толкаясь плечом к плечу с мужиками, бабами, сту-
дентами, мещанством. Ей-ей, тут что-то есть не хуже березовой рощи и це-
лебной хвои. Однако не воображайте, что я, как больной, люблю толпу. Ни-
когда не хвораю. Я ее люблю за простоту и силу.
На этот раз она была ликующею. Удивительный вкус, предусмотритель-
ность, деликатность; каждый знает, как наше демократическое общество
небрежно к костюму, скромно до бедности, убогости или неряшливости.
Студенчество было, как и всегда, — в тужурках выцветающих цветов; но
множество здесь же толпившихся девушек и городских женщин, очевидно,
надело все лучшее, что имело, и надело внимательно, парадно, с целью си-
ять и почтить. Шпалерная улица, на которой стоит Таврический дворец, груба
и засорена. Она почти вся сплошь застроена или новыми высокими казар-
мами, или казармами же старинного аракчеевского типа, желтыми, неесте-
ственно низенькими и странно длинными. Известно, что на «парадах» и
вообще «при случаях» войска ставятся «шпалерами», и «Шпалерная ули-
ца», собственно, значит: «Военно-строевая улица», не имеет в имени ни
малейшего отношения к обоям, комнатным «шпалерам». Со скверной мос-
товой, скучная, монотонная, без единого деревца, — она была покрыта этой
нарядной толпой, не замечающей ничего в ней, ни этой угловатости, сухо-
сти всего тона, ни военного смысла. «Толпа, как толпа. Неумна и гениальна.
Свята в наивности, подымает и опускает».
Толпа поднимала народных депутатов. Это она их встретила, надев луч-
шее из костюмов, что имела дома. Улица быстро наполнялась народом. Се-
рая интеллигенция, «тусклые звездочки» дракона, стояла вперемежку с та-
кими же «без имени» мещанами, простолюдинами.
Через Миллионную, по набережной и далее по Шпалерной, из-за арсе-
нала, наконец, — с Литейной и других улиц, с нею смежных, стали показы-
ваться экипажи с раззолоченными фигурами сановников, которые между 11-ю
и 12-ю часами утра тянулись к Зимнему дворцу. Реже между ними проез-
жали статские фигуры депутатов Думы, которые в массе своей приезжали
на заготовленных пароходиках по Неве. Но доехать до самой Думы было
трудно. Депутаты далеко до нее соскакивали с экипажей и шли пешком, про-
бираясь через стену народа. Труднее было положение сановников: они не
привыкли ходить пешком. Идти по мостовой, просто, пешком? Едва ли они
умели это, если бы даже захотели.
Я продирался через толпу. Бездна оживления, — не движения, за невоз-
можностью, но вот этого сияния лиц, блуждающих улыбок, какое бывает на
заутрене в Светлое Воскресение в туго набитой церкви.
74
— Ну же, проезжай.
И, весь залитый золотом, сановник, с величественными бакенбардами,
слегка ударял в спину тростью кучера.
Лошади встали. Живая стена.
Послышались «свои», «кустарные», незаготовленные свистки. Всякий
раз и раньше, когда лошади под золоченою фигурою переходили из рыси в
шаг, я слышал, по сторонам «гражданских» шпалер, этот легкий насмешли-
вый свист, губами и неумелый. Точно соловушка напевал полупесню.
— Фредерикс! Барон Фредерикс! Министр Двора, — слышалось кругом
шепотом.
Свистки так же легко неслись. «Все равно какой министр! Фредерикс
или не Фредерикс! Yteypa же им кричать». Видно было, что ничего личного
в свистках не было, а так — встречали вообще «бюрократию».
Услышав свистки, министр резче крикнул кучеру. Лошади рванулись и
опять остановились. Куда же ехать? А до Таврического дворца оставалось
немного сажен.
В связи ли именно с этим экипажем или чтобы прочистить наконец путь,
— проехал полный отряд, пугая, отталкивая и, я думаю, ушибая стоящих.
Экипаж быстро проехал за ним. Послышалось негодование, крики, руга-
тельства в сторону отряда. Еще минута, еще неосторожность — и вышло бы
несчастие.
Вообще, едва я стал приближаться к Таврическому дворцу, как я почув-
ствовал, до чего несчастье близко! До половины улица загромождена была
конною и пешею полициею и воинскими, тоже конными, отрядами. Фигура
всадника занимает место 8-ми — 10-ти человек, и от них, сейчас же, стано-
вится тесно, куда их ни поставь. Здесь было страшно много светлых пуго-
виц, «просивших честью осадить», — невежливых, потому что лошадь не
может быть вежлива, и множество же «учащегося люда» и мещанства,
принципиально и традиционно враждебных им и вместе чувствующих, что,
встав здесь, около Думы, они наконец-то стали на своем месте, отвоеванном
и которому в будущем — шириться, а не узиться. Кто-то здесь был «кварти-
рантом», кто-то был «домохозяином», во всем городе полиция — домохозя-
ин, но на этом единственном пункте она уже становилась «квартирантом»,
коему при этом дан «краткий срок, чтобы очистить квартиру». Так было в
психике. Между тем, полицейские солдаты были так огромны, да и лошади
их тоже огромны, и вооружение, и светлые, т. е. «начальнические», пугови-
цы, — словом, все создавало из них того неудобного и свирепого «генера-
ла», который раньше, чем «выехать», пересчитает зубы у доискивающегося
своих «правое» домохозяина. «Еще немного, подымется патетическая ми-
нута» (а она здесь все время патетическая) — «и люди эти бросятся друг на
друга», — подумал я. Не сегодня — завтра, послезавтра, через неделю, че-
рез месяц, — все равно: но именно здесь, где студенты и мещанство опира-
ются в Думе на «своих людей», и эти «свои» им люди, — наконец-то, впер-
вые в истории, с юридическими правами, с юридическим положением, вла-
75
стительные, самостоятельные, которых опасаются все тронуть, да, кажется,
и нельзя тронуть.
— Да ее разгонят! Думу разгонят!
Я оглянулся; говорил мещанин — и нельзя передать оживленности его
лица. «Мы эти дела всегда решали кулаками; неужели же теперь дадут гово-
рить? Не дадут!» — так говорили его горящие глаза, и, мне казалось, он
сжимал опущенные вниз кулаки. «До нас дойдет. И мы решим».
Вообще, тень Разина и Пугачева, — далекая тень, на горизонте, даже за
горизонтом, — все время чувствуется, не теперь, а давно, за нашими «рус-
скими событиями» этих месяцев; она то удаляется, то приближается. Но как
предостережение она всегда присутствует, а даже невидимо и мощно она-то
и управляет видимыми событиями, одушевляя к натиску одних, диктуя ус-
тупку другим. Без этой «тени» события текли бы совсем иначе. Ее никто не
называет, но на нее все оглядываются.
В толпе подчеркнуто мелькали несколько красных юбок, при кофточ-
ках другого цвета. «Вот куда пошли красные флаги», — улыбнулся я. Кто не
помнит виленские траурные костюмы 63-го года? У нас все взято в верхних,
а не нижних нотах; и «движение», героическое, страшно траурное, страдаль-
ческое, иногда правовое, все время идет с самых 60 — 70-х годов, сквозь
улыбку, смех, песню, танец, — при страшно напряженной работе. Читайте
«Подпольную Россию» Степняка. Тут сказался характер Великороссии, не
меланхолический, не романтический, а практический, трезвый и открыто
ясный. «Песня работе не помеха». И, понятно, — так!! Поляки за три года
умаялись, хотя там была нация, целая бывшая государственность. У нас были
всегда кучки, редко переходившие за несколько десятков человек и, иногда,
за тысячу; и они не умаялись в течение тридцати лет, гибнув и возрождаясь,
всегда с песнею и удалью, никогда с аффектацией, вздохами и слезами. «Мыс-
лящие реалисты», — как не вспомнить из Писарева.
Едва показывались депутаты, сколько-нибудь известные по портретам,
— как перед ними снимали шапки и кричали «ура», называя фамилию. Кто-
то с возвышенного места говорил речь; уже около самой решетки Думы,
перед глазами официальной полиции... Полиция не трогалась. Арест здесь
вызвал бы моментальную свалку, со всеми последствиями, которых и пред-
видеть нельзя; ибо невозможно, еще при неустановившемся порядке в Думе,
при неустоявшемся порядке, что члены Думы, в значительном числе крес-
тьяне и мещане, и невольно продолжающие себя чувствовать именно ими,
выбежали бы из дворца и начали бы «вызволять» «своих»... А это — законо-
датели и «неприкосновенные». Самое элементарное благоразумие подска-
зывает объявить этот район Думы, т. е. Таврический дворец и сажен на 50 от
него в четыре стороны, подлежащими собственному думскому досмотру,
думской, что ли, полиции, надзору и охране студентов и проч. Полицию обыч-
ную, к которой враждебное настроение в населении есть факт, — нужно,
очевидно, убрать отсюда. Известно, как отлично «охраняли порядок» сту-
денты при похоронах кн. Трубецкого (в Петербурге). Дело в том, что «сту-
76
денческой страже» все охотно и безусловно повинуются, что против них нет
закоренелой да и никакой вражды, нет горьких воспоминаний, несмытых
обид. Между тем, Таврический дворец лежит в такой отдаленной части го-
рода, здесь обитатели, или только мирные домоседы, или народ, пришлый
на час, на 2—5 часов, что никакие «речи» здесь, в сущности, не опасны, ибо
говорят они слушателям «известное» и все «согласно с их убеждениями», а
возбудить отсюда какое-нибудь движение — невозможно, да и бесполезно!
Все окружено войсками (Шпалерная), ни одной фабрики, до дворцов —
уморишься идти! А самое главное — здесь именно только «встреча» депу-
татов, зрелище и восторг, психика и лирика; для чего самою удобною фор-
мою «наблюдения» и являются студенческие когорты. Но наша полиция и
«град оу правление» никогда ни о чем не догадается...
Одно еще слово; в печати заявлено уже было, кому — пренебрежитель-
но, кому — укоризненно, Думе, думцам, «зачем они якшаются с чернью? им
мог бы пожать руку город, и они могли бы жать руки горожанам, вероятно,
— недурненьким горожанкам и членам Государственного Совета». Могло
бы быть. Мы, как камень на вершине горы; можем покатиться и в одну, и в
другую сторону, по всем ее существующим склонам. И слава Богу, что не
покатились по склону парадов, «торжественных» и скучных встреч офици-
альности и холода; и пошло все дело так, как шло целое «освободительное
движение», простецки, грубо, народно, весело, открыто, сердечно, страш-
но-повышенном настроении!! «Парады» идут к Алексеевым и Куропатки-
ным; они и «пропарадили» Россию. Для Думы именно не нужен парад, страш-
но опасен парад; это старый ад России, который Дума именно должна «вы-
курить», вернуть все к ясности, простоте и натуральности.
НАШИ ЦЕРКОВНЫЕ ДЕЛА
Audiatur et altera pars1.
Один из очень деятельных и самых просвещенных участников теперешнего
«предсоборного совещания», человек еще год назад неприязненный мона-
шеству, и в частности нашему бытовому, русскому архиерейству, пишет мне:
«Вы, может быть, сделались враждебны мне, яко черносотенцу и «еписко-
писту». Да что делать-то? Архиереев нынешних я не люблю, потому что не ува-
жаю, но «епископство» обязательно для меня, как иерархический чин (мой кур-
сив) помимо всяких носителей. А беда еще и в том, что «мирская церковь» (т. е.
православные миряне?) спит и от ее имени орудует ничтожная кучка довольно
невежественных и освободительно-одурманенных попов и мирян. Право же так:
ведь цену всем дельцам «церковного обновления» я знаю хорошо... Они оруду-
ют и в газетах со всем ареопагом самой неразборчивой полемики. Не могу без
1 Да будет выслушана и другая сторона (лат.).
77
стыда вспомнить некоторые грязные статьи, написанные против архиепископа
(херсонского) Димитрия. Своеобразный, прямой и твердый человек с особыми
взглядами (мой курсив), не для всех приемлемыми, но по уму и характеру это
ныне чуть ли не самый выдающийся иерарх русской церкви. По крайней мере
таково мое мнение и впечатление. Сообщения и освещения занятий наших в
комиссиях, какие печатаются в газетах, почти всегда если не прямо лживы, то
тенденциозны, и идут от одной партии, которая не брезгает никакими средства-
ми, чтобы очернить противоположную»...
Оставим эти внутренние дрязги, которые тяжелы везде, а в церкви до
боли. О, сколько раз приходилось уже думать: «Где два или три соберутся во
имя Мое (Иисусово), Аз посреди их». Так сказал о будущих последователях
Своих Спаситель мира. Что же видим, чему свидетели, и не в наши дни, но
почти всегда в истории: «где два или три собраны во имя Его, там и вражда».
Секты, враждующие церкви (католики и мы), даже хоть маленькое собрание
христиан, еще пока говорит о хлебе и нужде, о прибытке и торговле, о суете
и удовольствиях — мирно, ласково друг к другу, а как заговорили о вере
(«собраны во имя Мое»), начались свары, вражда, ненависть!! И с самого
начала, с достопамятной вражды еще апостолов Петра и Павла, едва прими-
рившихся из-за отношения к ветхозаветному культу (ап. Петр его защищал,
ап. Павел отвергал)! Поразительно, фатально, таинственно...
И теперь вот эта вражда священников к епископам и, кажется, бесспор-
но — и обратная вражда епископов к священникам. Как все это зловеще! И
чувствуется, ничем не залить этой вражды, она пылает неугасимо...
Точно какой-то внутренний огонь сжигает внутренности. Кто не читал
изданную Погодиным за границею книгу священника Беллюстина «О сель-
ском духовенстве». Она написана с изумительною силою и яркостью (те-
перь следовало бы ее перепечатать в России). Н. П. Гиляров-Платонов пи-
шет в одном месте, что эта книга, не допущенная к изданию в России, тем не
менее составила эпоху в нашем государственном законодательстве о церк-
ви, ибо раскрыла истинное (бедственное и угнетенное) положение в России
белого духовенства, особенно сельского и провинциального, и перетянула
симпатии и уважение в светской бюрократии на сторону его от монашества
и архиерейства...
Да, это так! Книга удивительная и даровитая. Но читатель, сколько-ни-
будь способный к миру в сердце, заметит: а до чего эта даровитая книга
пропитана ненавистью! Гонимо, действительно гонимо (по крайней мере
было, а может быть, и есть? хоть кое-что и теперь?) священство: но если бы
его поставить над архиерейством: как начало бы оно его (архиерейство)
гнать?!!
Никакого прощения. Никакого мира. «Где два или три соберутся во имя
Мое, Аз посреди их»...
Обратимся к письму моего корреспондента. Не петербургский житель,
он один из самых ученых членов предсоборных комиссий. И рассматривает
все в порядке учености, в связи исторических данных, юридических (кано-
78
нических) документов. «Чин иерархический епископата для меня неколе-
бим». Но кто же хочет его поколебать? Об отмене этого чина, кажется, вов-
се и никем не поднималось вопроса, не только сейчас, но и никогда. Мы все,
русские, так привыкли к нему: и подобает удерживать все, к чему есть исто-
рический навык, если оно не начинает вредить и разрушать, вместо пре-
жнего созидания! Вот что нужно предупреждать: и лучший друг архиерей-
ства есть тот, кто укажет и предупредит возможные (ведь слаб человек! а
архиерей ведь — тоже человек!) извращения его. Да, чин «епископата» был
созидателен в крошечных византийских епископиях, территориально мень-
ших нашего уезда, в величину почти наших теперешних благочиний: когда
епископ был беден, слаб (не чиновен, не сановен), был другом, и защитни-
ком, и ходатаем перед светскими властями немногих священников своей
епископии, лично ему известных, известных из повседневного общения, со-
служения, сотрудничества!! Благие нравы древности! И до сих пор на Вос-
токе, особенно, напр., в Египте, епископы беднее и безвластнее наших про-
тоиереев. Заметим, что до VII вселенского собора они были, во исполнение
известных апостольских слов («Епископ должен быть единыя жены мужем»,
у апостола Павла), — женатые, семейные. Добавим, что, по расспросам про-
фессора В. Н. Мышцына, который со студентами Московской духовной ака-
демии прошлый год посетил Константинополь и Палестину, — итак, по рас-
спросам его, обращенным к его блаженству (счастливый титул) константи-
нопольскому патриарху, на всем греческом Востоке ни одного епископа нет
из монахов, ибо обет послушания, принимаемый монахом, и только послу-
шания — в корне разрушается должностью епархиального начальника (епис-
копа)... В этих благих обстоятельствах «чин епископата» прекрасен с обык-
новенной точки зрения, священен в документальной своей стороне; неопро-
вержим, ибо зиждителен. В зиждительных целях он и утвержден апостола-
ми; не правда ли, не правда ли??! Но виновны ли апостолы в том, что мы,
взяв только звук от них (имя: «епископ», «архиерей»), воссоздали сами, рус-
ские, такое окружение для этого чина, такое противоречие ввели в него, что
он... вот вызвал такую книгу, как Беллюстина, по которой вся церковь разде-
лена на два лагеря, черный и белый, епископский и священнический, мона-
шеский и семейный, — пылающие ненавистью друг к другу...
В Христовой ли Церкви ненависть? Увы, совершилось! — у нас, рус-
ских!!
Самая обер-прокуратура (при Синоде) возникла и должна сохраниться,
даже должна усилиться (да! да!), как единственная защита бедного, забито-
го, доведенного до отупения и вот до либерального «ража» (письмо моего
корреспондента), пока не будет в основах своих (при сохранении «чина»)
изменено положение епископата:
1) Через уменьшение епархий (Беллюстин называет епископов «церков-
ными сатрапами», по сравнению с высокомерием и произволом которых
персидские сатрапы суть кроткие агнцы и, пожалуй, «сущие христиане»).
2) Через разрыв связи епископата с монашеством.
79
О последнем уже поднимал вопрос император Александр II и позднее
гр. Д. А. Толстой в бытность обер-прокурором Синода. Несовместимость
епископата с монашеством до того ясна, связь эта для всей церкви (особен-
но для монашества!!!) до того губительна, совратительна, как если бы мона-
ху дать возлюбленную, да, да, не меньше!!! Монаху не только столь же стро-
го, как чувственная любовь, но еще гораздо строже запрещена, и не фор-
мально, а духовно, идеально, «похоть власти», желание господствовать, по-
ложение, вынуждающее повелевать, приказывать, судить, наказывать. Монах
и епископ — contradictio in adjecto1, как «кислый сахар» или «жидкий ка-
мень». И этого нигде нет, кроме Руси, это то «повреждение канонов», о ко-
тором раньше всего и практичнее всего должен позаботиться предстоящий
собор. Монашество всегда стояло в сердце Церкви как чистый идеал, крот-
кий, смиренный, безвластный, бессребреный, — чистый культ чистейших
христианских добродетелей. «Кроток сердцем есмь», «и лозы надломлен-
ной не сломлю». Монах — отшельник, житель пустыни, созерцатель звезд,
друг животных, друг мира и молитвенник за человечество, за все человече-
ство, даже за всю тварь!! Он — христианин по исповеданию, ибо носит об-
раз и память Христа в сердце; но по своему характеру и даже, пожалуй,
существу он — древний пантеист и вместе древний философ, как Эпиктет,
как Диоген (в серьезной его части). Нужен же во всяком учении и также для
Церкви — чистый идеал, не запятнанный житейским, вне «житейского по-
печения» стоящий, преданный всему (о всем молитвенник) и ничему не обя-
занный. Таковы и были древние «аввы» Фиваиды и Сирии. Что же мы, рус-
ские, сделали с этими «аввами», с этим святым «чином монашества», воис-
тину «равноапостольского». А вот что: 1) пройди семинарию; 2) поучись в
академии; 3) дай зарок (свободный ли, охотный ли?!) не вступать в брак, не
обзаводиться семьею; 4) будешь через три года иеромонахом, и тогда вместо
куколя более почетный клобук; 5) если с начальством не поссоришься, то
через шесть лет будешь архимандритом, и тогда на мантии золотая наши-
вочка, из позумента, как на воротнике и на плечах у статских советников и
гг. офицеров; при сем должность цензора с окладом в 1800 р. и казенная
квартира; 6) лет через 8, тоже если будешь послушен начальству, — викари-
ат епископский: нашивок больше, жалованья больше, квартира лучше;
7) через 12 лет (но упаси Бог не угодить начальству) — самостоятельный епис-
коп: одежды пышные, ездит на четверке, когда едет — в колокола звонят;
вместо квартиры — дворец; летом — дача-монастырь; подчиненных можешь
хоть живыми съесть: только с начальством будь опять-таки робок!
Украли «авв», древних, милых, святых! О, как хотелось у них поцело-
вать руку: у теперешнего архиерея — ни за что не поцелую. Не знаю, отку-
да пришел, кто такой: «чин» вижу, существа — не вижу. Хуже: я вижу, я
буду кричать на весь свет, что архиереи, по ненормальной, противоесте-
ственной связи своей с монашеством, развратили монашество, похитили
1 противоречие в определении (лат.).
80
из сердца церкви этот святой, тихий, безмолвный, созерцательный идеал.
Вынули из сердца церкви «авву», кроткого, простодушного, едва грамотно-
го, чудо психологии, чудо идеала, образец (ведь нужен же он!) для всего
христианского мира, посадив на место его иуду-алчного, иуду-гордого, иуду-
жестокого, который ныне предаст христианство (и обер-прокурорам пре-
дал), как древле предал Христа!! Да, да: совершилось великое извращение:
и, как угорелый, как обухом по голове ударенный, отшатнулся народ от бе-
зыдеальной церкви, в секты, в атеизм, в разврат, в светские плоские удо-
вольствия.
Деньги и власть: нет иных мотивов в церкви, «святейших» нет побужде-
ний!! Да и только этим фактически движутся, от нашивочки к нашивочке, от
скуфьи (какие названия!) к камилавке, к набедреннику, палице, митре. «Мит-
рофорный протоиерей!» И это царство, обещанное Христом! Нужно ли до-
говаривать, что нигде столько не «подмазывают» (взятки дают), как в сем
«духовном царстве», в «царстве благодати»...
Даром ли заплакал народ русский: только и есть святые, что «юроди-
вые», скитские «старцы», «Иванушки», малосмысленные, почти дурачки.
«Все-таки без нашивок».
Не знаю, как это поправит и поправит ли предстоящий собор. Святос-
ти нет, думают и говорят об управлении. Т. е. о нашивках??
Кстати, предсоборные совещания все хотят вернуть к точному исполне-
нию канонов древней Церкви. Но вот правило Царьградского собора 879 г.
«Хотя доныне некоторые архиереи, вступившие в монашеский образ, уси-
ливались пребывать в служении архиерейства, и таковые действия оставляе-
мы были без внимания: но сей святый вселенский собор, ограничивая такое
недосмотрение и возвращая сие вне порядка допущенное действие к церков-
ным уставам, определил: аще который епископ или кто иный архиерейского
сана восхощет внити в монашеское житие: таковый впредь уже да не взыскует
употребления архиерейского достоинства. Ибо обеты монашествующих содер-
жат в себе долг повиновения и ученичества, а не учительства или начальство-
вания: они обещаются не иных пасти, но пасомыми быти. Того ради, как выше
речено, постановляем: да никто из находящихся в сословии архиереев и пас-
тырей не низводит себя на место пасомых и кающихся (монахов). Аще же кто
дерзнет сотворити сие: таковой, сам себя устранив от архиерейского места, да
не возвратится к прежнему достоинству, которое самым делом отложил» (пра-
вило второе собора).
Вот каково было положение дел: архиерей не только не мог быть избран
из молодых, но если, уже будучи архиереем, он захотел бы принять монаше-
ство, то мог это сделать не иначе, как выйдя из архиерейства. Там была ясна
несовместимость этих двух чинов! Это было в эпоху патриарха Фотия, уже
после всех вселенских соборов, т. е. лежало венцом на вполне достроенном
и оконченном здании Церкви.
81
КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ
И НЕКОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ
Депутат Жилкин излагает в «Нашей Жизни»: «Передо мной сейчас лежит
груда приговоров и писем, полученных из разных мест России. Пишут не
мне, неизвестному для них человеку, а пишут депутату, представителю на-
селения, пишут с трогательным доверием в чистоту намерений и мужество
членов Г. Думы, требуют неотступной борьбы со старым режимом и обеща-
ют могучую народную поддержку»...
«Пишут» ему и, вероятно, Аладьину и Аникину после многочисленных
приглашений «писать», которые со страниц той же «Нашей Жизни», «Голо-
са», «Трудовой России», «Речи» и других дружественных изданий посыпа-
лись в провинциальную Россию после 13 мая. Со страниц этих органов не-
устанно проводилась и проводится та мысль, что Дума сама по себе ничто и
все значение свое почерпает из той поддержки, которую она находит в насе-
лении; что поэтому население в селах и городах должно собираться на ми-
тинги, постановлять приговоры и присылать эти приговоры на имя депута-
тов Думы, — т. е. все той же троицы из Аникина, Аладьина и Жилкина. И
посылают приговоры, а затем они печатаются в газетах, а то так и прямо
читаются в заседаниях самой Думы с кафедры. Конечно, какой же группе в
150—200 человек, не пишущих в газетах и не говорящих даже в уездном
земском собрании, не приятно прочесть в газете или в отчетах Думы свое
слово, свою мысль, свое пожелание с сознанием, что их читает вся Россия.
Перспектива авторства вообще заманчива; а такого авторства, на которое
будет обращено особенное внимание, которому придается адресатом значе-
ние документа, — заманчива втройне. И мы уверены, что в руках Жилкина
и двух его собратов скоро очутятся не груды, а горы телеграммной, почто-
вой и писчей бумаги с «приговорами», «мнениями» и т. п.
Все это так просто, так элементарно, что может показаться мудрым или
важным только мужику. Много ли, однако, «пишут»? Берем первую же ци-
тату из письма к депутату Жилкину:
«Мы, крестьяне Московской губернии, Звенигородского уезда, селений
Большой Вязьмы, Малой Вязьмы, Шараповки и Захарова, собравшись в числе
125 человек, обсуждали положение нашей родины» и т. п.
Нужно быть отуманенным каким-то туманом, чтобы не видеть, что если
в четырех селениях (не деревнях) собирались писать, под письмом собира-
лись подписи, — то, очевидно, были приглашены к подписанию «пригово-
ра» все сельчане, около четырех тысяч человек: но приблизительно 3875
отказались подписывать письмо, и нашлось всего 125 человек, т. е. кучка
совершенно незаметная, подписавшая письмо. Кто же этого не понимает,
что если пишут письмо не «совершенно не известному никому Жилкину», а
«члену Государственной Думы», т. е. что-то почти официальное, деловое,
— ив собирании подписей в высшей степени заинтересованы инициаторы
и авторы письма, ибо от числа подписей зависит сила письма, то, очевидно,
82
они не прошли мимо ни одного домика, не пригласив хозяев его подписать-
ся, — что тут пошло все в ход: дружба, родство, предварительные беседы,
просьбы, угощения, чаи. И все же в итоге только 125 человек: если считать
по три подписи с избы, то не выйдет и пятидесяти крестьянских изб из 4 не
деревень, а сел!! Ничтожное число. Между тем решение подписать шло, без
сомнения, семьями, избами, людей единомышленных: подписывается ста-
рик отец, подписываются и взрослые сыны, один, два, а то и три. Между тем
большие села заключают в себе до 4-х тысяч жителей: а чтобы село, имею-
щее церковь, окруженное бесцерковными деревнями, имело менее тысячи
жителей, — это вещь маловероятная, исключительная. Во всяком случае в
четырех этих селениях живет от 4 до 12 тысяч народу: какою же невидимою
горсточкою представятся эти 125 «пишущих», изб 40—50 «сродственников»
и «суседей», которые вопреки отказу всех прочих смастерили письмо депу-
тату Жилкину. И только четыре селения в Звенигородском уезде? а все про-
чие уезды губернии молчат? Неужели депутат Жилкин не замечает глубоко-
го комизма, в который он становится со своими 125 подписями среди мил-
лиона губернского крестьянства, которое ничего о нем, Жилкине, не думает
и вовсе не собирается ему ничего писать. А от 4 до 12 тысяч, уже опрошен-
ных и которым только предложили «подмахнуть фамилии» под написанным
письмом, сказали упорное «нет», т. е. сказали отрицание и порицание.
Да и вообще молчащих слишком много! Россия веками приучена к мол-
чанию. И тут, конечно, вина нашей старой бюрократии, которая, учитывая в
свою пользу молчание народное, не рассчитала возможности, что когда-ни-
будь эта привычка к молчанию сыграет роковую роль в отношении к ней
самой, бюрократии. Теперь вот и пришло такое время, что все выучившиеся
говорить говорят против нее, а кто если и мог бы что-нибудь сказать в защи-
ту если не бюрократии, то хоть терзаемой родины своей, — просто не уме-
ют или не решаются говорить. Повторяем, — молчащих слишком много,
миллионы против тысяч и, как вот в приведенном расчете, тысячи против
сотни с небольшим! Что же, эти молчащие лишены всяких прав? В них,
пожалуй, и души нет? Жилкин так и может их затоптать со своими «125
подписями»?..
Глубокий трагизм положения заключается в том, что наша беспечная
бюрократия не выучила население даже членораздельно выговорить, чего
оно хочет и что оно думает. И можно только догадываться по отказу подпи-
сать какой-нибудь «приговор», письмо или телеграмму — с чем именно не
согласны эти молчащие, чего они не хотят, и уже косвенно — заключить о
том, чего они хотят. Во всяком случае думать, что эти молчащие миллионы
не хотят более быть русскими, не хотят России, что они присоединяются к
религиозно-кощунственным возгласам, какие уже раздались в Думе вроде
слов о «сошествии Св. Духа на циркуляр губернатора», — думать все это
преждевременно. Поверить в сочувствие всему этому народа можно бы тог-
да только, если бы повсюду по селам совершался погром церквей. Этого
нет, этого не началось. И, следовательно, народ русский остается народом
83
русским. Самые аграрные беспорядки очень велики только в сконцентриро-
ванном газетном чтении, — где подряд стоит ежедневно 5 — 6, 10 — 15
(иногда больше) однородных извещений. Кажется, в чтении так много, а на
самом деле это совершенно тонущая в море капля. Сожигание помещичьих
риг, лесов, реже усадьб началось не сейчас, оно было все 25 лет, но только
на этом явлении не было сосредоточенного внимания, обо всем этом мень-
ше волновались газеты, меньше говорило общество. Газет так много теперь,
все они так возбуждают к «заявлению себя» беспокойных элементов, что
остается вполне удивительным, что призыв не находит гораздо более «го-
товности действовать», чем сколько есть. И Жилкиным остается показы-
вать «125 подписей», когда все хорошо понимают, что промолчали на при-
зыв его — миллионы.
ЕВРЕИ И НЕЕВРЕИ
Хотел рассуждать об евреях, а приходится рассказать о них полуанекдот,
полусплетню. Хотя и действительность.
Вхожу в вагон. 12 час. ночи. Темно. И вижу: встав с лавочки, уходит
смущенно и раздраженно русский, а два жидка, сидевшие с ним vis-a-vis,
покатываются со смеху. Слышу слово «Белосток» и сажусь против них.
Переждал, пока они перестали смеяться, и спрашиваю, серьезно и учти-
во, в чем дело.
В последующем разговоре жидок постарше все время дремал в углу,
изредка произнося одобрительное бурчанье своему соседу, и разговор под-
держивал только молодой еврей, лет 32—35, в сюртуке и галстухе, но серо-
та ужасная. Язык русский, но с затруднением. Кажется, из Ростова-на-Дону.
Старший был из Двинска, торговец дамскими ботинками.
— Что он? — спросил я об ушедшем с неудовольствием русском.
— Каварит: «Как вас в Белостоке били». А я ему: «А как вас в Москве
били?! Нас поленьями, а вас целыми пулеметами. Трррах! Пулеметы!.. В
Москве... И в Твери, и в Томске: целый дом сожгли. Сколько народу погиб-
ло...» Ха-ха-ха. Не любит! Убежал!
Я совершенно опешил... Русский ушедший, не необразованный по кос-
тюму и лицу, очевидно, хотел выразить соболезнование о несчастии евреев,
побитых в Белостоке. Но два жидка, не поняв тона и точки зрения русского,
приняли слова его за иронию, издевательство, злорадство, — и ответили
возражением, которое им самим показалось необыкновенно остроумным,
дальновидным, мудрым, и они хохотали своей удаче.
— Я всегда это каварю русским, которые каварят об Одессе, Гомеле,
Белостоке. Не в первый раз!.. Я знаю, что ответить! Нас в Белостоке, а вас в
Москве. Из пулеметов!.. Трррах! Вот чудо. Так чем русским думать о Бело-
стоке, лучше подумать об Москве.
Я держал все тот же учтиво-серьезный вид.
84
— А все-таки что совершилось в Белостоке — ужасно!.. Столько людей
погибло, невинных. За что? Как?
— Что поделаешь? Грехи.
— Какие грехи?
— Какие грехи, — наши грехи. Обманываем, злословим, завидуем. Друг
про друга нехорошо говорим! Бога забыли, — вот какие грехи. Бог и напом-
нил. Побили.
И все так весело. Решительно веселый жидок, а главное — страшно
оживленный. Точно бежать куда ему хочется.
— Ну, все-таки...
— Что «все-таки». Три тысячи лет назад сказано: «Вас будут бить». И
бьют. Белосток... что Белосток?! Везде били! Сто лет назад били! Пятьсот
лет назад били! Бог сказал, Моисей сказал. Все исполняется, как сказано в
святом законе.
Решительно: ни малейшей тени осуждения русским избившим — не
было. Не ошибаюсь! В первый раз я это увидел. Жидок говорил о «фатуме»
(в нашем наименовании), о Боге (в его терминологии) — и ни о чем больше.
Я ушам не верил. И, как бы оправдывая русских, проговорил негромко:
— Темная масса! Раздражена очень! Из вашей молодежи масса идет в
революционеры...
— С... дети!
— Кто?
— Молодые евреи!
— Как?
— Закона не знают! Что им Моисей, они знают больше Моисея, ха-ха-
ха!.. Они Священных книг не читают, над Талмудом смеются, говорят: «Мы
читаем Горького и Толстого». Вот!.. Скажешь им: «Бог». Они говорят: «Ка-
кой Бог? Где Бог? Никакого Бога нет»... Вот за такое и побили...
— Вам беда с вашей молодежью, нам с нашей. И у нас родителей не
слушают.
— У вас это слабее, у вас может быть... Но как у нас случилось? «Мы
читаем Горького и Толстого» — ха! ха!.. От этого и все зло. У меня двое
дитё, и учит их учитель закону: по 25 руб. в месяц плачу за дитё! Никогда в
эти проклятые гимназии и университеты не отдам. Закрыть эти гимназии и
университеты, и вам от них вредно, а мы совсем погибаем. Одно средство:
вовсе не пускать евреев в гимназии и университеты...
Просто ушам своим не верю...
— У нас было в законе строго: который сын не слушается своих родите-
лей, то отец выводил его перед весь народ и говорил: «Вот непокорный сын!
Не повинуется!... Не могу ничего сделать...» Ну... ну... ну... Тогда народ... ну...
Я знал, что, по Библии, «душа такого истреблялась из народа», т. е. он
побивался камнями...
— Теперь он вертится среди товарищей... Тоже в мундирчике, в шестом
классе гимназии. Читает Толстого, читает Максима Горького! Ну и дальше.
85
Пошел в университет: все ему не ладно, все не так. Слышит разговоры, сам
вступает в разговоры. Лет двадцать назад только ругали, — теперь стреля-
ют! Мы каждый шабаш молимся за царя: мы молимся, чтобы ему было хо-
рошо, чтобы Бог дал ему здоровья, во всем всего хорошо... ну, ну и как Бог
посылает мысли человеку, и царю особенно... ну, так мы молимся, чтобы
Бог и царю дал (он погладил с благодушием и аппетитом себя по груди)
хорошие мысли об евреях и чтобы внушил ему все делать хорошее для евре-
ев... а эти с... дети стреляют! не умеют держать в руках револьвера, а стреля-
ют!!! Ха, ха, ха!..
— Ну, не скажите, «не умеют стрелять». Мне передавали (действитель-
но передавали) революционеры, что евреи необыкновенно для них ценны и
они их страшно уважают за их смелость, дерзость, самопожертвование: все-
гда в первом ряду, ничего не боятся...
— Болваны!.. Если хотите (он понизил голос), я вам скажу, что еврей
никогда этого не может, потому что он (совсем тихо) — трус. Не верьте, не
верьте, всякий еврей боится! Почему, — не знаю! Мы не можем стрелять!
Это сдуру он стрельнет в бок, его и хватают: русский стреляет верно — и
убежал! Вот! Революционеры!!! Дураки, с... дети, развратники, погибшие, а
не революционеры.
А сам в европейском костюме. Правда, кажется, засаленном...
Прерывая нить разговора, интересного в других частях, приведу самый
конец его, сюда относящийся.
— Ведь вот, однако, что страшно: в Белостоке-то убивали вовсе не ре-
волюционеров-евреев: где их сыскать! Громили вас, вот именно вас, торгов-
цев, их жен, детей, молящихся — как вы говорите — каждый шабаш за Царя,
и, словом, почти солидарных во взглядах, в нравственных и религиозных
понятиях с самими убивавшими!..
И я развел руками, совершенно изумленный. Не скрою, что я был взвол-
нован: русский антиреволюционер бьет «жидов», черное их «гетто», за связь
с революциею, когда эти избиваемые целые тысячи лет, не в одной России,
являлись всегда крайними стоятелями закона и законности, царей и нрав-
ственности, домашнего благочестия и религиозности.
Я волновался, а жид был совсем спокоен. Даже улыбался:
— Что поделаешь? Всегда так! Вот украл: вы думаете — ловят вора?
Вор убежал, на то он и вор, припас себе лазейку, а хватают невинного и
сажают в острог. Всегда так!.. Бог... Бог возводит и низводит. Бог в каждом
шаге. Почему я сегодня пошел не вправо, где должник мой не уплатил бы
мне долга, ибо он неисправен, чего я и не знал, а влево — где получил свой
долг? Мне все равно, повернуть вправо или влево. Но Бог указал. Другого
повернул влево: наказал. Мы не понимаем, почему Бог наказывает и награж-
дает, и должны думать, что все — так, все следует! Грехи наши, вот главное!
Еврейство не помнит Бога, молодежь развратилась — и вот погром в Бело-
стоке! И еще будут погромы; много погромов... А тогда вспомним Бога. И
как вспомним, так перестанут погромы.
86
Я знал, что так говорит и Библия. В Библии на сотнях страниц только об
этом исключительно и говорится: что «несчастие, истребление, голод — все
от забвения Бога; вспомнили Бога — и все прошло». Но у этого еврея это
было так физиологично, так по-петербургски, так из современности и «от
своего нутра», что Библия, очевидно, ему и на ум в этот миг не приходила. А
такое согласие!
— Так вы говорите — все от Бога, а русские... почти ни при чем...
Мне было это так страшно, так невероятно, что я говорил робко. Он
совсем поднялся над лавкой:
— Зачем русские? Я сам люблю русских. Много знакомых, вместе дела
делаем и чай вместе пьем. Обедать с ними не стану...
— Обедать не станете?
— Не стану. Закон! У вас мясо с кровью, вы убиваете скот («убоины не
вкушай», «убитый», например, на охоте «зверь — не дозволяется к еде»,
законы Бога через Моисея), а мы не убиваем, а режем, и у нас кровь выпус-
кается, мы не смеем вкушать крови... Говорят, мы убиваем христианских
детей, чтобы употреблять их кровь. Ха, ха! Мы никакой крови не можем
употреблять и никогда не употребляли. Нельзя!
Действительно, великий грех приняло на душу наше духовенство, изу-
чающее в подробностях Св. Писание, которое не разъяснило в народе, пе-
ред судом и перед литературою этой очевидной, простой и азбучной исти-
ны, что у евреев не то чтобы нет этого факта, но нет самой возможности
«вкушания крови» и нет и не было к этому тенденции по всему складу (в
тысячах строк! в тысячах предписаний!) всей их религии и всего их законода-
тельства!! Евреи полувегетарианцы, насколько возможно вегетарианцы —
религиозные: ведь кровь — главное в живом существе, и они, выпустив ее,
непременно покрывают землею (хоронят); и употребляют только волокна
животного, безвкусные, почти растительные, «траву» организма, а не жизнь
его! Духовенство это знает, и ему просто лень было объяснить. Если бы мне
показали зарезанного христианского мальчика в дому еврейском, я ответил
бы, что это дом убийцы, преступника, душевнобольного, извращенного. И
совершенно отверг бы тут что-нибудь ритуальное, связанное с законом и
религиею и относящееся до общины еврейской'. И повторяю — это не пред-
мет одной строчки закона, в мысль всего законодательства!..
Они не могут и есть котлет наших. Причина — закон, и какой трога-
тельный!.. «Не вари козленка в молоке его матери» (одна из заповедей ни-
чуть не меньше 10-й). Они распространили это заповедание Божие с коз-
ленка на всякий домашний скот и запретили смазывать мясо маслом (мо-
лочный продукт), готовить мясо с маслом или в масле. Котлеты не вкусны:
но зато как избегнуто это действительно страшное сочетание, мысль, что
вот козленочек, теленочек поджаривается, чтобы побаловать наш вкус, мо-
жет быть, в самом деле в молоке именно своей матери. Беспримерная жес-
токость! Но жиды знают это уже кратко: «Нельзя есть христианских кот-
лет», и обобщеннее: «Нельзя с христианами есть», «нельзя с ними сесть за
87
один стол». Мы это принимаем за продукт вражды, смертельной вражды к
нам, «к христианам! ко Христу!». Тогда как под этим лежит трогательный
мир и с животными. Животные-то в храме их... Мы об этом забыли!..
САМООБЛАДАНИЕ И РАСПУЩЕННОСТЬ
Терпение воспитывает, а распущенность развращает, — вот вечная истина,
забытая в думском зале. Министры и «представители общества» поменя-
лись положением сравнительно с тем, как это было еще год назад. Год назад
«представители общества и населения», в лице земских и других деятелей,
в лице журналистики и проч., были под гнетом, терпели, и притом молча, и
в терпении закалялись и нравственно очищались, хотя и озлоблялись не-
вольно; напротив, представители власти дошли до всех своих безобразий,
хорошо раскрытых в японскую войну, именно тем, что власть более и более
распускалась в безответной стране, теряла всякие границы, перестала раз-
личать белое и черное, доброе и злое. Теперь, мы говорим, роли поменя-
лись: для власти настали дни терпения; министры переживают прямо дни
страдания и оскорбления: но забывается их беспощадными критиками и
отчасти прямыми ругателями, что именно в таком-то положении они и при-
обретают с каждым днем закал, твердость, нравственную ценность; что они
явно растут и будут расти, тогда как представители народа в ругательной
своей роли, увы, неудержимо падают и будут падать, расслабляются, рыхле-
ют нравственно и всячески. Пора опомниться и вовремя оглянуться на себя.
Когда Аладьин заявляет в Думе: «Наше министерство действует свое-
временно во всех тех случаях, когда речь заходит о многомиллионных ассиг-
нованиях: ведь три четверти денег всегда остаются у них в кармане (апло-
дисменты слева)', грабить наш народ русские министры никогда не опазды-
вают» (заседание 12 июня), — и все это в присутствии сидящих тут же ми-
нистров, не имея, как говорится в суде, никакого «вещественного
доказательства» в руках, то это напоминает худшие времена цензурного уг-
нетения, когда вооруженный простым карандашом цензор зачеркивал ста-
тьи журналистов, объясняя им в лицо, что они «щелкоперы» и что литерату-
ра — «щелкоперство», с которым он и не церемонится: литератор плакал,
цензор торжествовал; теперь министру хоть утирать слезы, а Аладьин рас-
хаживает в парламенте, как «малый» «в своем трактире». Посмотрите, ка-
кая спесь и высокомерие у господина, который еще полгода назад был про-
сто мещанином города Симбирска!
«— При таких условиях пусть министр внутренних дел имеет до-
стоинство и порядочность не являться сюда после того, как Дума лишила
его доверия».
И, кончая речь, опять то же:
«— Уходя с этой кафедры, я еще раз повторяю министрам: когда же у
вас найдется столько порядочности и честности, чтобы убраться с этих мест».
88
Смотри, какой барин! Просто — Наполеон. Нет, в самом деле, надо бы
справиться, не потребовал ли или не дал ли мелочи серебром этот депутат
из мещан города Симбирска думским сторожам, чтобы они при проходе его
через переднюю выстраивались в ряд и делали под козырек. Завтра — Напо-
леон, но и сегодня он уж «Буонапарте»... То-то, бедный, видит хорошие сны...
Дума играет, кажется, для многих роль гашиша.
Нельзя не припомнить из «Войны и мира» Л. Толстого один эпизод, до-
вольно поучительный в смысле государственных понятий. Один из блестя-
щих штабных офицеров сказал остроумное словцо об австрийском главно-
командующем, только что прошедшем мимо. Это было сейчас после Аус-
терлица, вина в котором приписывалась нами союзным австрийцам, — глу-
бокой бездарности всех распоряжений их главного штаба. Словом, острота
была заслужена и сама по себе очень остроумна. Вдруг Андрей Болконский,
выразитель серьезных дум «Войны и мира» и, можно думать, государствен-
ных чувств самого автора, бросился к этому офицеру и осыпал его грубыми
упреками. Когда тот выразил изумление, то Андрей Болконский сказал: «Да,
они — бездарны, но они союзники России, и мы на войне. Смеясь над союз-
ником, пусть и виновным, вы смеетесь над тем, кто его взял себе в союзни-
ки, — над нами, русскими, над Россией. И в своем присутствии я этого не
дозволяю». Вот взгляд и чувство. В Думе Аладьин разглагольствует не толь-
ко перед своими симбирскими избирателями, но и говорит перед Европою,
вовсе не солидарной в дружелюбных чувствах к нам, а отчасти и враждеб-
ной. Пусть министры и нехороши, пусть они не «внушают доверия Думе»,
но и Дума, и министры — русские, и у них идет домашний спор. Едва ли
даже они похожи на австрийцев и русских перед Наполеоном. Они во вся-
ком случае ближе, как члены одной истории и одной страны. Кричать поэто-
му о правительстве, кричать на всю Европу, и без малейшего документа в
руках, что оно «три четверти из всякого ассигнования оставляет в своих кар-
манах», — значит не иметь ни малейшего гражданского в себе чувства, ни-
какого чувства ответственности перед родиной. И поистине приходит на ум
повторить оратору его же укор: когда же у вас найдется столько порядочно-
сти и честности, чтобы убраться с этих мест?
Аладьина выбрал Симбирск, но ведь и министров выбрал Государь, ко-
торый уж никак не меньше Симбирска, не меньше Он Симбирска и в глазах
даже Государственной Думы. Аладьин ничего не помнит и хоть побывал в
Англии, но, очевидно, кроме петушиных боев, бокса и боксерства, ничего в
этой Англии не видал и ничему не научился, не научился, между прочим,
прилично вести себя. А впрочем, куда уж примеры Англии, уроки ее исто-
рии! Вспомним проще урок, заключенный в поговорке нашей народной
мудрости. Может быть, он образумит Аладьиных:
— Мели, Емеля! Твоя неделя.
89
НАЧАЛО ПАПСТВА В РОССИИ
Под шумок речей в Государственной Думе, пока внимание всего общества и
печати сосредоточено на громе и треске вопросов земельного, администра-
тивного и политического, пока костят губернаторов и министров, — «препо-
добные отцы» предсоборной комиссии, которая, в сущности, присвоила себе
права Собора, ибо уже все решила и предрешила до мельчайших подробно-
стей, так что Собору остается лишь «приложить печать» к ее «выработан-
ным мнениям»... ни более, ни менее как похерили все «старенькое и вялень-
кое», однако всему народу еще милое и дорогое православие, простенькое и
немудреное, но зато не хитрое и не властолюбивое... Правда, имя «право-
славия» останется: но ведь и паписты называют себя церковью «католичес-
кою», т. е. в греческой транскрипции «кафолическою», иначе сказать «пра-
вославною», как и наша... Имя — звук пустой! А сущность... ну, вот сущно-
сти-то «православия» и не оставлено: она подрыта, незаметно для народа,
для простецов, и тем опаснее... Доселе был один папа — западный. Теперь
будут два папы, западный и восточный. А если принять во внимание идеи
Вл. Соловьева, его зоркие предсказания, — то «папа» восточный, глава еди-
ного православного населения от Охотского моря до Балтики и Азовского
моря, конечно, будет повластительнее, повыше, погрознее западного, перу-
ны которого ослабли во Франции, в Италии, даже в Испании, везде...
Поздравляем Россию с новинкою. Богослужение, понятно, останется
православное: как католики и увещали нас все последние годы: останется
все по-старому, богослужение, книги, язык, догматы. Поклонитесь только
папе.
— Ну, зачем вашему папе? Мы поклонимся, т. е. заставим русский народ
поклониться, своему папе, из нас выбранному!..
Кого морочит предсоборная комиссия? Кому втирает она очки? Какой
же глупец не видит, что «патриарх всея Руси» в условиях новой образован-
ности, новых идей, среди всеобщей и даже всемирной горячки политичес-
кой и анархии социальной и нравственной — будет вовсе повторять собою
не старых младенцев Константинополя, Антиохии, Александрии и Иеруса-
лима, сих невинных «патриархов» над несколькими десятками тысяч тем-
ных арабов, коптов и греков, а явит силу новую, страстную, образованную,
политическую, опертую на такие авторитеты...
Очнись, Русь!..
Очнись, пока время!..
Оказывается, бесстыдство дошло даже до того, что уже перевели, в со-
ставе деловых бумаг и материалов будущих проектов, «Правила Index’a»,
этого хитрейшего творения иезуитов, которым они держат в темном рабстве
благочестивое население католических стран и проклинают науку и просве-
щение. Наши пошли даже дальше. В «Index'e» католическом содержатся
только книги, начиная с трудов Коперника и Галилея, от чтения которых
рекомендуется воздерживаться всем, кто хочет «спасти душу»... Наш «Index»
90
будет содержать сортировку книг, со всей радугой одобрений, похвал, пори-
цаний и запрещений, — вплоть до таких книг «вообще религиозного содер-
жания», против которых будущее духовное управление предоставляет себе
право возбуждать уголовные дела...
Все это пока, конечно, тихо, безвластно, бессильно... Но ведь времена
переменчивы... И в IV—V веке папы были только «благодетелями с претен-
зиями», из которых что выросло к IX, X—XIII веку!!!
Антоний, архиепископ волынский, главный вдохновитель совершаемой
«реформы», в одном из заседаний так приветствовал «конец печального вдов-
ства» церкви:
«Вмещающая в своем сердце полноту поместной церкви, облагодатство-
ванная личность (патриарха) почти непроизвольно отрешается от земного се-
бялюбия (?!) и, нося в своем сердце Христово достояние, отражает на лице
своем божественную славу, как Моисей Боговидец, сошедший с Синая после
беседы со Всемогущим. И этой красоты церкви мы были лишены в продолже-
ние двухсот лет, сперва чрез насилие, а потом по недоразумению. Коллегия не
может заменить Божия Пастыря, и без главы не бывает церковь в очах Божи-
их, но церковь наша пребывала в двухвековом пленении; ее глава был связан в
своих высших полномочиях, был вовсе лишен права их проявлять, так что и
узнать его было бы трудно христианам. Церковь поместная казалась обезглав-
ленною, а потому она не имела приличествующего ей одушевления и дерзнове-
ния, а лучшие силы ее удалялись в леса и пустыни, светильники скрывались под
спудом, и люди, лишенные света в храмине, отыскивая свет, бежали ночью из
ограды церкви. Но вот в ночи нашей засияла утренняя звезда надежды. Наше
собрание не вольно поставить патриарха, но уже то, что оно громко высказа-
лось за него вслед за прошлогодним заявлением о том же св. Синода, вселяет в
нас светлую надежду, что скоро «нощи прешедшей воссияет день» и обновит
чрез обновление церковного строя весь наш народный быт. Он повернул на лож-
ную дорогу заимствований нехристианских правил жизни от Запада вместе с
кончиной последнего патриарха и с тех пор развил с логическою последова-
тельностью себялюбивые, горделивые и чувственные начала быта языческого,
он выработал тип русского нигилиста, из размножения коего возник тепереш-
ний ужасающий всю вселенную безобразный мятеж против родины и против
христианской веры».
Не язык ли это пап IV—V века, — не их ли уподобления, сравнения,
угрозы? Конечно, тут никакой нет психологии старцев Антиохии и Алек-
сандрии, да и наших московских патриархов, тихих и малограмотных. По-
вторяем: патриарх в условиях нового образования и новых движений поли-
тических ничем не может быть, кроме папы. Ведь и римский епископ оттого
так отделился в своем колорите и стремлениях от обыкновенного типа свя-
щенника, архиерея, что в эпоху великого переселения народов и падения За-
падной Римской Империи стоял в центре всемирных событий, на мировом
месте, мировом пункте, среди мировых страстей. Буквально так предстоит
и «патриарху всея Руси» в XX—XXI—XXII веках, когда Россия будет иг-
91
рать бесспорно центрально-мировую роль и, может быть, наша территория
также увидит великие крушения, падения и зарождения чего-то нового.
Можно даже подумать о «папе» нового социализма, как воображал фантаст
Достоевский: «сии люди» склонны к большим перевертам и вывертам.
Во всяком случае, «соборность» православия, — мечта славянофилов,
— на факте и воочию оказывается просто вздором, который нужен был до
времени восточным богословам, чтобы колоть глаза католичеству. Но едва
открылась лазейка «поползновениям», как эти самые богословы и рвану-
лись к тому же папству, власти, гордыни. Собор, по предначертаниям «пред-
соборной комиссии», будет собираться «единожды» в 10 лет. Может быть, и
реже? Очевидно, что папа-патриарх не будет торопиться его созывать.
«Комиссия» решила собирать через 10 лет, а папа-патриарх, который «боль-
ше комиссии», решит и «единожды» в четверть века. Этак, «юбилейные»
соборы, к старости папы, для пущего прославления папы. Еще важная и уже
решенная особенность: обер-прокуратура, которая раньше ела, как дым, глаза
епископам и предназначена была ими на слом, — теперь дальновидно со-
храняется, но выделяется из состава кабинета министров, т. е. из связи с Г.
Д. и необходимости каких-либо объяснений с нею и перед нею. Прежде обер-
прокурор был «оком царевым» в составе церковного управления... Но ведь
идут гунны, Аладьины, Аникины, и «папа» восточный, при переменяющих-
ся обстоятельствах, может избрать себе роль умиротворителя между новы-
ми варварами и «умирающим режимом...» Обер-прокурор, не меняющийся
министр среди переменных и кратковременных, есть страшно нужная и та-
кая же скользкая, неуловимая, некритикуемая связь между церковью и госу-
дарством, как было от Петра Великого и до нас, но только с обратным на-
правлением и нажимом: «око церкви в светском правительстве». И, Бог даст,
как эта нога обер-прокурора, бывало, нажимала на алтарь, давила митропо-
литов, епископов, так теперь «преподобные» нажмут на трон, на светское
правительство. «Спасем от варваров», — что за выкуп.
Времена изменчивы,— времена, ох, как лукавы! Да не нелукав и духов-
ный чин.
Ну, барыньки русские, шейте туфлю! Обо всем предвыборная комиссия
позаботилась, но главное-то и забыла: где ж туфля?
Я хочу приложиться к туфле!! Червячок сосет: отрешаюсь от всех своих
сочинений, заранее прошу их поместить в Index и прошу только одного
блаженства:
— Приложиться к туфле его святейшества патриарха всероссийского.
ВОСКРЕСШИЕ ПОКОЙНИКИ
Великие испытания для здравого смысла... «По дороге городовые под-
прыгивали и старались уколоть штыками тех, кто смотрел в окна. Скобелев-
ский сквер — это сад, по преимуществу детский; много ребятишек и нянек.
92
Увидав городовых, они все бросились врассыпную. Городовые ловили убе-
гающих и избивали их прикладами». Так повествует казак и депутат Се-
дельников. Так как ни о ком, кроме нянек и детей, он не говорит, то очевид-
но, что городовые «избивали прикладами» нянек и детей. Так как у нянек
этих есть хозяева, а у детей родители, то, конечно, мы узнаем об этом улич-
ном происшествии из ближайшей городской хроники и из писем родителей.
Кто же будет молчать о своем ребенке, ударенном прикладом, да и много ли
от ребенка останется после удара прикладом?! Никто об этом или о подоб-
ном не слыхал, вероятно, никогда. Поверит ли кто-нибудь этому теперь и на
завтрашний день не выведет детей гулять в скверы? Сегодня по крайней
мере скверы по-прежнему полны детей и ни одна мещанка, ни одна горо-
жанка, ни одна попадья петербургская, не говоря уж об образованных мате-
рях, не поверила сказке об избиении прикладами детей и нянек, какую плел
«оренбургский казак» перед «народными представителями» в Думе! Никто
не поверил, кроме Аладьина: «Достаточно одного слова нашего депутата
Седельникова, чтобы ни одно показание полиции не могло быть противо-
поставлено ему; это — конституционный принцип. Пусть же министры не
являются сюда заявлять о своем недоверии к словам Седельникова». Какая
подозрительная торопливость. Мы говорим об Аладьине. Вот уж поистине
«подпрыгивает и кого-то хочет уколоть штыком», — а за неимением его —
хоть депутатским словом. Никто и ниоткуда еще не заявил о подозрении к
правдивости показаний Седельникова, когда он, конечно зная манеру языка
и мысли «сотоварища», торопится предупредить если не невольные в душе
подозрения, то по крайней мере гласные заявления недоверия в Думе. Из
сей торопливости можно сделать только одно заключение: что депутат Ала-
дьин не только касательно происшедшего инцидента с Седельниковым, но и
относительно чего бы то ни было и когда бы то ни было не ожидает от сего
«депутата» Седельникова ничего, кроме аляповатого вранья — отнюдь не
злостного, не намеренного: но потому, что человек так устроен! Есть натур-
ки... Разве мог Ноздрев не хвастать, не лгать? Разве он знал границы, где
правда, где ложь, где действительность, где вымысел? Вся аляповатая речь
Седельникова ему самому, наверное, и кажется правдивою, хотя в ней же
содержатся такие описания, каким невозможно поверить ни одному челове-
ку, у кого не ум Седельникова...
Бедная Россия, кого ты выбирала... Бедное оренбургское казачество...
Депутат твой побит: но, право, — это меньшее зло. Хуже, что ты прислало
такую «мертвую душу», каким напрасно вбивал в могилу «осиновый кол»
великий сатирик своею поэмою. Преспокойно эти «мертвые души» стран-
ствуют по России и вот забрели даже в Думу, — спасать наш государствен-
ный корабль. Уцепились за борт. И дивно ли, что он тонет.
«Моим горьким смехом посмеюся», — сказал бы Гоголь о зрелище. Но
этот «горький смех» и теперь, как и пятьдесят лет назад, воспринялся бы
только людьми тонкими, нервными, воспринялся бы душами живыми, кому
он и не нужен. А «мертвые души», почитав сатиру Гоголя, вот этот Ноздрев
93
или Седельников, — прочтя о себе, загоготали бы дюжим своим смехом и,
пощелкивая «депутатским» пальцем по странице, сказали бы:
«Важно отделал старый режим!!»
И не избудем мы, вероятно, этих «мертвых душ»...
ТЕМНАЯ ДУМА
Очень обширные круги общества и значительная часть печати упорно оста-
новились на идее кадетского и вообще парламентского кабинета как един-
ственном выходе из трудного до невозможности политического положения
страны. Упорные настаивания переходят в нервную требовательность, со-
провождаемую угрозами, что нужно все «делать вовремя» и что через ко-
роткое время это будет уже «поздно» и не даст того успокоения и умиротво-
рения стране, в котором, конечно, все дело и вся задача текущей минуты или
текущих минут. Остановимся на этой программе.
В то время как Дума и все ее «группы» согласно требуют, чтобы у пра-
вительства не оставалось ничего темного от глаз страны, представляемых
этою Думою, чтобы министры не оставляли в секрете никаких своих дей-
ствий, не имели никаких закулисных, скрытых от населения планов, пред-
положений и действий и, словом, говорили бы все с полною откровеннос-
тью, — сама Дума, и особенно ее «группы» и вожаки последних, не только
не открывают, но и принципиально не открывают своих карт стране, прави-
тельству и печати. Выражения: «тактика партии не дозволяет до времени»
того-то и того-то — постоянно слышатся, как аккомпанемент парламентс-
кой жизни. «Вы будьте откровенны, а я помолчу», — говорит парламент
представителям правительства. Положение выгодное и небезопасное для оп-
понента. Печатается и нисколько не скрывается, что как «конституционно-
демократическая», так и «трудовая» группа парламента имеют постоянные
«партийные совещания», на которые никто из «сторонних» не допускается,
как и постановления этих совещаний отнюдь в общее сведение не публику-
ются.
Для народа, общества и, наконец, для правительства здесь все темно. На
глаза всех людей здесь наброшена вуаль. И в этом вся опасность положения.
Идти вперед «решительно и энергично» с завязанными глазами и пси-
хологически невозможно, и политически рискованно. И вот простое и ясное
оправдание медлительности нашего правительства, — между прочим, в воп-
росе о кабинете. Уже тем одним, что правительство дало в принципе и осу-
ществило на деле конституционализм, — ни у кого не может оставаться со-
мнения в его решимости обновить страну. От престола до деревни касатель-
но этого обновления ни у кого не может быть и нет сомнений и колебаний.
Никому не дорого то, что привело нас к позору японской войны и внутрен-
ней анархии. И в то время как другие плачут об этом чернильными слезами,
правительство плачет об этом кровавыми слезами, хотя никому их не пока-
зывает и не размахивает своим трауром. Таким образом, «обновительная»
94
программа слишком ясно входит в планы правительства, — и вопрос для
него только в том, чтобы обновление не перешло в разрушение. Депутаты
собрались и разойдутся, поделали и перестанут делать, а правительство ос-
танется все с тою же, менее починенною, нежели поломанною, машиною, а
то так и окончательно испорченною. Говоря «правительство», конечно, мы
здесь не разумеем горемыкинского кабинета, в котором ничего принципи-
ального нет, и для верховного правительства он не дороже и не дешевле
всякого другого кабинета. Это — средство, а суть правительства в целях и
принципах, в связи с историею и в выражении духа народного, который да-
леко не одно и то же с нервно-демократическим и даже (местами и минута-
ми) прямо хулиганским настроением 1905—1906 годов. Если не «народ»
черная сотня, то ведь не народ и красные флаги. Был из народа Степан Ра-
зин, и был из народа Сергий Радонежский. В «народном» правительство,
конечно, может выбирать только народно-сознательное.
Вопрос о выборе кабинета из парламентского большинства не представ-
лял бы никакой трудности, если бы само это парламентское большинство не
сделало всех усилий, чтобы скрыть свою настоящую сущность, которая ре-
шительно ни для кого не ясна, между прочим даже и для друзей этого «боль-
шинства». Мы говорим о конституционно-демократической партии. Зачем
же, в премудростях своей «тактики», она была таким хамелеоном, настоя-
щий цвет которого есть все цвета и, пожалуй, отсутствие какого-нибудь цве-
та. Все это сознают, и правительство не может закрывать глаза на то, что все
видят. Кадеты немножко похожи на своего bete noire1, Витте. Как и он, они
имеют многие добродетели и большие способности, но связанные с тем не-
счастием, что им никто нравственно не верит. Вот их несчастье, как и быв-
шего премьера.
Например, для кого сколько-нибудь ясно отношение ее к «трудовой»
группе? И даже ясно ли для самих «трудовиков», что она им сочувствует
как партии, как людям и программе или она ее просто боится? Есть ли это
единство или почти единство из любви и «уважения», в котором кадеты
постоянно расписываются перед «трудовиками», или из страха и сквозь
злобу? Темная дума. И этой темной думе никак нельзя довериться. «Трудо-
вики» совершенно ясны. — Это революция, вооруженное восстание. Но
трудовики составляют всего пятую часть представительства. Темная Дума,
никто ей не верит, никто ее определенно не знает. Правда, она хочет «сво-
боды», «равноправности» и проч, и проч. Но ведь это знает и этого хочет
каждый репортер «Петербургского Листка» и всякая певичка загородного
сада. Программы нынче объединились. И нельзя же певичку посадить в
министры. И у кадетов только эти звонкие певички, — да еще, кажется, в
клетке у «трудовиков»...
Вот откуда, столько можно понять, нерешительность и медлительность
правительства. И вот над чем стоит задуматься обществу.
1 здесь: жупел (фр.).
95
ХОЗЯИН СТРАНЫ
Передать кабинет в руки какой-нибудь партии — это значит передать в ее
руки все реальные силы страны, всю государственную машину, словом, это
значит данную партию сделать хозяином России. Пока партия есть партия
Думы, пока она имеет ораторов, пока она говорит, еще ничего особенного не
происходит; есть кое-что, что надвигается, но еще ничего не пришло. «При-
шло», «наступило» — это когда партия взялась за государственный руль, ког-
да она от власти законодательной или, точнее, законопроектирующей пере-
шла к власти исполнительной, т. е. взяла то, чего не дано и не обещано пар-
ламенту. Таким образом, шаг, которого так многие желают в обществе и пе-
чати, есть чрезвычайно сложный шаг. Можно шагнуть в такое темное
будущее, из которого и не вытащить ноги.
Трудность и мучительность положения заключается в неясности дум-
ского большинства, т. е. тех же гг. кадетов и их союзников. Будь в них все
ясно, открыто и твердо, будь они очевидно и доказуемо не революционной
партиею или, точнее, не находись они в зависимости и гипнотическом стра-
хе от крайних левых, отчего же бы и не передать в их руки руль корабля?
Плыть бы вперед, но не на подводный камень. Но при скрытности и очевид-
ной трусливости кадетов, которые все приумолкли перед Аладьиными и
Аникиными и вообще дали не трудящимся «трудовикам» сесть себе на го-
лову, — создалось положение весьма темное и рискованное. Корабль медлен-
но идет, но оттого, что место такое, где все дно усеяно подводными камня-
ми: один неверный поворот, лишний ход машины — и корабль напорется на
такую беду, где ему и «скончать живот свой». Вот где трудность, и более
всего для государства и для верховного правительства, которому вверен ко-
рабль.
В Думе нет государственного смысла и государственного мужества. В
Думе нет ни одного государственного ума и ни одного государственного ха-
рактера. Вот в чем беда.
Все думские партии и все партийные лидеры суть общественные деяте-
ли, «земцы» в лучшем смысле, но не лица правительственные, которым
можно было бы вверить правительство. Посмотрите, напр., у кого есть забо-
та об армии? Произнесено ли хоть одно слово о флоте? И это после Цусимы
и Мукдена! Точно японской войны не бывало для нашей Думы! Точно она
не в России родилась, эта Дума. Вот в чем беда, и горькая беда, вот в чем
глубокая угроза будущему России. Страшно подумать: ну как передать Рос-
сию и все ее хозяйство людям, которые смотрят на флот только с точки зре-
ния экспериментов «Потемкина». И пусть бы так: но ведь ничего и за этим
не видится. Идеи есть только разрушительные, и никаких созидательных.
Злоба против старого режима ясна: но никакого нет нового правительства.
Нет его зародыша, зерна. Нет его обещания.
Все партии суть чисто общественные, пожалуй литературные. Дума есть
говорящие газеты, как газеты суть пишущая Дума: отсюда между ними тро-
96
гательное единение. Но ведь есть большая разница между сотрудничеством
в газетах и государственною работою. Как государственную работу пору-
чить гладким говорунам, для которых все вопросы России представляются
столь легкими, как бы вот взять ножницы и разрезать лист бумаги? Стоит
вспомнить двухдневное разрешение еврейского вопроса в связи с белосток-
ским погромом. «Провокация правительства»... Вся премудрость Думы в
этих двух словах... И с таким запасом государственного чутья и знания гос-
пода думцы хотят управлять Россией... Казаков времен Хмельницкого, На-
ливайки и Тараса Бульбы никто не подстрекал «черносотенными воззвания-
ми, напечатанными в департаменте полиции», и однако точь-в-точь они тво-
рили то же, что русские в Белостоке. Как это объяснит экс-Хлестаков, то
бишь экс-«товарищ министра» кн. Урусов, со своими сердечно-фельетон-
ными признаниями о прежней службе. Ничего он не скажет. Ничего не ска-
жут в Думе.
И дать кн. Урусову с товарищами «поуправлять Россиею» очень и очень
рискованно... Пусть Государственная Дума оправдает свое название «госу-
дарственной», пусть она перестанет быть выразительницею только обще-
ственных групп и подголоском разных агитаторов, пусть она обнаружит го-
сударственную зрелость и государственную солидность — тогда другое дело.
По человеку — и место. Назначить министром — дело одного росчерка пера:
но пусть они судят как министры уже с депутатских кресел, с этою заботою
о России, с уважением к русскому народу, с каким-нибудь чувством русской
истории, русского духа; пусть говорят с болью и страданием, а не с «состра-
данием к сиротам» — филантропию пусть оставят они другим учреждениям
и лицам, публике. Когда все в Думе увидят многоголового Петра Великого,
тогда поверят ей, тогда все ей отдадут, во всем за нею пойдут, ко всему ею
вдохновятся.
НЕХРИСТИАНСКИЙ СОБОР
(Письмо в редакцию)
Ко мне обращаются с запросами: «Года три-четыре назад в статьях, поме-
щенных в «Нов. Вр.», вы проводили мысль о необходимости созыва церков-
ного собора и избрания патриарха. Теперь же вы прямо-таки глумитесь над
тем, что предсоборное совещание в принципе решило избрание патриарха.
Не объясните ли вы печатно, чем вызвано такое противоречие?»
Отвечу: безнадежностью. Безнадежностью, во-первых, для религии и,
во-вторых, для нашей России. Меня поразило, что в «Протоколах предсо-
борной комиссии», как и в «Ответах епархиальных архиереев», на запрос
Синода касательно предстоящей церковной реформы почти вовсе нет даже
ссылок на какие-нибудь изречения Христа, на страницу Евангелия, на прит-
чу, на событие евангельское, не говоря уже об общей проникнутости духом
евангельским, простым, ясным, человеколюбивым, мудрым, всемирным,
4 В. В. Розанов
97
каковой проникнутости ведь можно было бы ожидать от этих рассуждений.
Точно рассуждающие вовсе уже не суть христиане, хотя они «канонисты»,
исправные, злые, ученые, компетентные. Это — поразительно, но так, я про-
верил. Высчитывал на десятках страницах, попадется ли где имя И. Христа,
и не находил. Во-вторых, во всех этих дебатах и трактатах видно такое ре-
шительное забвение России и теперешних довольно трудных и критических
ее обстоятельств, как бы предсоборная комиссия собиралась не в Петербур-
ге, а где-нибудь на о-ве Яве или на горе Афоне, и не XX, а в X веке. Это не
русское и не столичное совещание, а какое-то деревенско-схоластическое,
которое, кроме своей колокольни, ничего не видит и, кроме своего звона,
ничего не слышит. Но оставим Россию. Религиозная глубина дебатов и «За-
писок» близка к нулю. Ни тоски, ни отчаяния, ни запросов, ни веры, ни силь-
ного слова, ни воодушевления, ни поэзии, ни мудрости, ничего, ничего...
Впечатление такое, что духовенство русское менее религиозно, менее, так
сказать, теплоемко (термин физики), чем которое бы то ни было из сословий
наших, купцов, дворян, не говоря уже о мужиках, даже, пожалуй, офицеров
и, наверное, — солдат. Обмелела река русская, река церковная... Пустыня. И
только из всех строк торчит этот бедственный «патриарх», вожделеемый,
алкаемый, прославляемый, внушаемый. Никакого сердца и ни к чему... Напр.,
никаких забот собственно о нравственном состоянии народа. Ничего о жес-
токих его нравах, о грубости, темноте. Ничего о пьянстве. Ничего о положе-
нии семьи, о состоянии брака, о физиологическом измельчании и вырожде-
нии племени под влиянием недоедания и болезней. По-прежнему остается
«каноническая» истина: «вино дозволено — пей его, молоко — скоромное,
грех: воздерживайся от него Уг года». Полезнее бы, да и святее было поду-
мать, чем о патриархах, о том: нельзя ли водку и молоко поставить в обрат-
ное отношение: вино — грех, молоко — безгрешно. Вот такая «реформа»
церкви одна, право, более бы подняла ее авторитет в глазах общества и на-
рода, к ней любовь и общее религиозно-нравственное состояние населения,
нежели все проектированные мероприятия. Неужели на промену вина на
молоко нельзя решиться? Неужели это «христовая» и принципиальная «цер-
ковная истина», что водка и пьянство безгрешнее употребления круглый год
молока? Но «предсоборная комиссия», как и епархиальные архиереи, про-
ползая к митре патриаршей, даже об этом не вспомнили...
И такая меня одурь при этом взяла, что я... сказал, что сказал. Не сты-
жусь, не каюсь в противоречии. Дни меняются, и человек меняется. Он не
камень.
У нас есть только сословная церковь. И все церковное, все даже христи-
анское обращено на служение сословию, как бы какое-то майоратное запо-
ведное имущество. «И не дотрагивайтесь!» Грустно сказать шутку, но я ска-
жу: «Бог у нас в кармане спрятан, и попробуйте-ка его вынуть оттуда». Это
— язычество, это полное язычество, только с пристегнутым сюда именем
Христа. И язычество-то это маленькое, мещанское, уездное. Боже, до чего
нет всемирного в нашем духовенстве!.. Не оттого ли, что оно никуда не ез-
98
дит, ничего не видело, ничего даже не читает, кроме «своего» и «своих», и от
поступления в 1-й класс семинарии до тихой могилы сидит точно на дне
глубокого колодца и видный оттуда маленький кружочек воздушной синевы
принимает за все небо и весь горизонт. Верить в это страшно, и я не мог бы.
Уверен вполне, что высшее духовенство соберется на собор, обдумает мит-
ры и патриарха; но уже никто за ним не пойдет, никто душою, кроме просте-
цов и карьеристов, с ними не сольется. И пойдет русское общество своими
путями, независимо от «духовной литературы», как оно пошло давно уже, в
лице Хомякова, Ю. Самарина, Тютчева, вообще славянофилов, позднее —
Вл. Соловьева, Толстого, Достоевского... Все это будут писания «некано-
ничные», но уже что делать. Русской истомленной душе все-таки будет на
чем утешиться.
МОЛЧАЩИЕ СИЛЫ
Зал депутатов в Думе, где ораторы то одинаковых, то разных направлений
сменяются на одной и той же кафедре, есть собственно политический уни-
верситет, в котором учится вся страна. Учится, читая отчеты, взвешивая
речи... Если в выборной кампании все было решено «числом голосов», ве-
щью довольно стихийною и безотчетною, мало «сознательною», то в думс-
ком зале число говорящих ораторов мало имеет значения и гораздо больше
получает значения качество ораторов, сила даже одного, двух говорящих.
Партия, простирающаяся до ста, ста двадцати, ста сорока человек, — имеет
«колоколами» или скрипачами у себя (смотря по качеству) всего пять, едва
даже десять человек, чаще менее. Прочие «голосуют» и не дают своей партии
ничего в смысле красок, убедительности, в смысле отдаленного влияния,
«отдаленного» в пространственном и во временном отношении. Политичес-
кая жизнь у нас только началась. Партии сложились, но не укрепились.
Умеренная часть Думы пока представлена в ничтожном числе голосов,
но если она не может получить сейчас же практического влияния при разре-
шении того или другого конкретного вопроса, то эта часть Думы может по-
лучить огромное образовывающее влияние на страну, вмешиваясь гораздо
деятельнее, чем было до сих пор, в парламентские прения. В университете
один талантливейший профессор может победить десяток стареньких даро-
ваньиц другого направления, и не иначе дело обстоит в политическом уни-
верситете для страны — в парламенте! Мы не говорим о самом парламенте,
а именно о стране, где происходит невидимое голосование по каждому воп-
росу, помимо и независимо от видимого парламентского. Конечно, ближай-
шие реформы чрезвычайно важны, но, к несчастью, не двигаются вперед.
Здесь уже все решено несчастною предвыборною кампаниею, и все непо-
правимо для умеренных партий. Очевидно, важнейшие реформы ближай-
шего будущего не так легко и быстро пройдут, как ни легко и быстро о них
говорится в парламенте. Должны быть поправки будущего к головным прыж-
4
99
кам вперед наших тревожных дней. Бороться, и при практическом бесси-
лии, есть слишком много причин «сейчас в Думе». Наконец, даже при прак-
тическом решении отдельных вопросов постановления Думы могут сделаться
менее решительными, менее крайними, когда требования левых партий по-
лучат должное освещение в стойких и мужественных речах справа. Сама
Дума еще не вполне и не окончательно организовалась: в ней возможны пе-
реходы и колебания, в ней есть и теперь переходящие и колеблющиеся депу-
таты. Там не все кричащие крестьяне: есть и молчащие, но про себя думаю-
щие. Веское государственное слово, веское национальное слово и сейчас
может пробудить много глубоких чувств, прекрасных, народных, только ог-
лушенных радикальным звоном с бесчисленных думских колоколен, но не
умерших, не вытравленных. Это мы говорим уже о думских депутатах.
Достаточно было г. Стаховичу указать и вразумительно объяснить, ка-
кою «бедою» явился белостокский погром для правящих наших сфер в те-
перешних обстоятельствах перед лицом Думы и свободной печати, какое
это событие создало для них и нравственные, но более всего чисто прави-
тельственные затруднения, чтобы крики о «провокации правительства» вдруг
показались до того смешными, мальчишескими, каким никто решительно в
душе своей не может верить: не могут верить сами члены Думы, что бы они
ни говорили с ее кафедры. Есть сила аргумента, которая вдруг обращает в
ложь всякое красноречие. В самом деле, убить 70 — 80 безвредных для «пра-
вительства» стариков и детей, чтобы произвести всемирный скандал против
себя, чтобы получить прямые оскорбления себе не только в «родной» Думе
и «родной» печати, но и в чужеземных парламентах и газетах: такого «хара-
кири» над собой не сделает самый безмозглый японец или буйный поме-
шанный. Правительство предполагается слишком великодушным, чтобы
делать такие подарки своим врагам. Ведь белостокский погром явился на-
стоящею масляницею для радикалов, для Думы, для еврейской печати и на-
стоящею «Страстной седмицей» для министерства и вообще для правитель-
ства. Кто кого пытает? Кто кого взял в застенок? Будь мы так же бесстыжи,
как либералы, мы смогли бы не хуже их кричать: «Преступник тот, кому
выгодно преступление, — провокация к погрому шла от Думы, надеявшей-
ся свалить этим ударом кабинет». Мы, конечно, этого не скажем, потому что
все дело было гораздо глупее, чем преступнее. Думские дитяти в самом деле
не видели, что то, что могло еще быть выгодным при Плеве, сделалось губи-
тельным теперь. Но об этом надо было сказать слово, сказать его в Думе,
чтобы его разнесли по России десятки газет. Чтобы вся Россия сказала: «В
самом деле, это очевидно. Из-за чего же в Думе летели пух и перья?»
Сила думского запроса о белостокском погроме вдруг ослабла: и в ка-
ких бы страшенных словах запрос ни был составлен, всякий увидит, что
это уже охладевший пафос, что слова страшны, а тона над ними нет. Нет в
грозе электричества, и только льется оттуда бессильная вода. Вот сила ум-
ного аргумента. Но почему он не был сказан раньше? Почему г. Стахович
почти молчит в Думе? Почему так редко поднимает свой голос гр. Гейден?
100
И почему вообще «правые» почти не раскрывают рта? Они думают, что
уже не помогут «делу», не перетянут весов при решении того или другого
вопроса. Печальный и неосновательный ход мысли. Да разве они не знают,
наконец, что положения бессилия бывали в истории великими трагически-
ми положениями, — и тогда они снискивали себе великое сочувствие и де-
лались исходными точками нравственного возрождения обществ, стран,
государств. Скажем более: только теперь, когда консервативные, охрани-
тельные начала, наконец, начала национальные и государственные впер-
вые стали у нас в трагическое, гонимое, преследуемое положение, впервые
создалась возможность настоящей, идеалистической их защиты, оберега-
ния, развития. В этом отношении речи депутатов Стаховича и Способного
сослужили стране большую службу. Около монотонного и однообразного
трезвона радикального они чрезвычайно оттенились резкой личной ориги-
нальностью. Говорил человек, а не граммофон, куда партия запрятала и за-
готовила свои «арии». И посмотрите — эти речи печать разнесла и коммен-
тировала с такою обстоятельностью, как этого не было сделано в отноше-
нии никакой другой речи.
ПОЛЯКИ В ДУМЕ
«Баллотируют за отсрочку прений касательно обращения Думы к населе-
нию: правые с некоторыми исключениями, центральные кадеты и все поля-
ки».
Поляки все сплошь высказались за стойкое удержание порядка в стране,
тишины, как и самое предложение об этом изошло от поляка же проф. Пет-
ражицкого.
Знаменательно и поучительно это, как и то, что до сих пор Польский
край ведет себя несравненно спокойнее и благоразумнее, нежели Эсто-Ла-
тышский край с его знаменитою попыткою Латышской республики. Сопо-
ставим с этим то, что Кавказ прислал в Думу сплошь социал-демократов,
частью из неокончивших курса кутаисских семинаристов (Рамишвили), и
что только что прибывшие в Думу сибирские депутаты начали с того, что
прямо пригрозили кулаками министерству. В Сибири, очевидно, ничего не
выросло, кроме кулака, и нечем было похвалиться депутатам, кроме кулака.
Поляки последние сорок лет напряженно учились. Школы в Привис-
линском крае неизмеримо лучше поставлены, чем во внутренней Империи;
а главное, сами ученики этих школ, под воздействием семейств своих, зани-
мались гораздо старательнее. Мы говорим это не как фразу или предполо-
жение, но имеем об этом определенные сведения. Попечитель варшавского
учебного округа чуть не ежедневно посещает которую-нибудь гимназию,
сидит на уроках, следит за преподаванием; не полицейски следит за духом
преподавания, а педагогически следит за качеством преподавания. Нам это
известно из сведений не сверху, а из сведений снизу. Хорошо учась, польское
101
население хорошо и работало, прилежно и со вкусом; и промышленность
польская даже на внутренних русских рынках одолевает ленивую, пьяную и
эксплоататорскую промышленность великорусскую. Последняя всего жда-
ла от запретительных тарифов, от казенных заказов, а не от качеств труда, не
от образования рабочего. Словом, там культура, у нас — школьная лень и
общая дикость. Там — надежды на мирную законодательную работу в рус-
ском парламенте; а у самих русских, которые вместе с Рамишвили не чеса-
лись от Тиграна Великого, св. Нины и Ярослава Мудрого, все надежды на
прокламации, пожары и вообще разнос.
Есть основание правительству почесать себе затылок и сказать: «А я-то
думало, что от школ весь социализм, и бунты, и беспорядок».
Поляки вообще ведут себя отлично, — пусть в их специальных польских
интересах, со своею специальною польскою думкой, может быть, с замыс-
лами, нам враждебными. Пусть все так, хотя определенно мы этого не зна-
ем. Они являются в Думе во всяком случае организованною умною силой, а
не анархией, не нелепостью. С 1863 года, когда их восстание очень походи-
ло на наши теперешние революционные движения, они неизмеримо вырос-
ли и созрели, укрепились и посолиднели. Это уже не крикуны старых сей-
миков; это люди, умеющие молчать и быть скромными, выжидать и рабо-
тать. Каковы бы ни были их чувства к нам (хотя почему же они должны быть
враждебны и всегда только враждебны?), мы не забудем, что они — славяне,
и порадуемся упорядоченности и дисциплине одного из важнейших славян-
ских народов.
ВЧЕРА И ЗАВТРА
Нет никакого сомнения, что последние недели бывшей Думы нервы до та-
кой степени поднялись и в самой Думе, и в обществе, и в печати, наконец
даже на улице, что потерялся ясный взгляд на вещи и работа сделалась чрез-
вычайно трудна. Только этим можно объяснить последний ненужный, не-
принципиальный и нисколько не органичный шаг Думы, приведший к рос-
пуску ее. Назавтра же самим членам Думы, без сомнения, стало или станет
ясно, как много лишились и они сами, и страна из-за этой пустяшной меры,
в которой ничего не было, кроме желания бросить еще горсть шипов в ра-
зодранную хламиду нашей администрации. Еще мелочная месть, еще удов-
летворенное раздражение: и за это отсрочено семь месяцев необходимей-
шей органической работы! Вот уж чечевичная похлебка, за которую отдано
первородство. И там и здесь, у Исава и у нашей Думы, все попортил неуме-
ренный и торопливый аппетит...
Впрочем, Дума не могла не пропитаться нервозностью общества, как в
свою очередь общество нервировалось Думою, и обои они нервировались
печатью, которая забыла все пределы, все серьезные нужды государства и
страшную важность исторического момента играла ва-банк, ничего для себя
102
не теряя, ничем своим не рискуя. Похваляясь «свободой печати», «товари-
щеские листки» перед самым закрытием Думы похвалялись, что «они такое
говорят про министров и весь образ нашего правления, какого не говорят
даже газеты Англии и республиканские во Франции и Америке». Мы в свое
время отмечали это и указывали, что в подобной «свободе печатного слова»
нет никакой политики, а только одно литературное необразование. Между
тем члены Думы, слыша за собой этот хор печатных голосов с призывом
«Вперед! Скорей вперед!», легко могли принять, что это шумит и толкает их
вперед, толкает уторопленно сама страна! Поднялась пыль: и конституци-
онный обоз, которому бы ехать и ехать вперед по отлично проложенной до-
роге, свалился в канаву, мелкую и недалекую: подымать его и чиниться —
целых семь месяцев! До чего это не время, до чего это всему мешает!
Из Костромы и Москвы в телеграммах сообщается, что «в ликовании»
социалисты и... В. А. Гринмут! Трогательный союз. И стоило трудиться,
чтобы получить розовый венок на голову от Союза русского народа в епар-
хиальном московском доме и от наших полоумных уездных и губернских
анархистов. Посчитать бы, сколько между этими субъектами Репетиловых и
Загорецких из бессмертного «Горя от ума»...
Повторяем еще раз: в этой поднявшейся пыли, в этом бестолковом гаме
гораздо менее виновна сама Дума, чем окружающие ее условия. Вспомнишь
мудрое правило «не собираться толпою», «не устраивать митингов» в рас-
стоянии менее версты от здания парламента. Правило это нужно понять не
только физически, но и духовно: нельзя поднимать шума и гама около зако-
нодательной работы, требующей тишины как условия размышления и бес-
страстия. Печать и само общество, до некоторой степени деморализованное
митингами, этой новинкой нашей жизни, не рассчитало всех особенностей
парламента, тоже совершенно нового у нас, и устроило вокруг него шумный
и необузданный митинг, печатный и словесный. В парламенте было доста-
точно ума, гораздо больше благородства, молодого идеализма, но ему было
трудно, вследствие неблагоприятных внешних условий, не сорваться и не
заразиться всей психологией и нравами митингов же. Мы не хотим все-таки
сравнивать его с митингами, к чему в жару полемики прибегали некоторые,
но, несомненно, он вдохнул в себя, пусть и немного, этого митингового воз-
духа, горячего и безрассудного. И приходится повторить о нем бессмертный
скорбный стих Некрасова, что
Суждены нам благие порывы,
Но свершить ничего не дано.
Когда пыль уляжется, когда политик возьмет летописи первого русского
парламента, — все же светлая тень ляжет на его память. И мы эту память
должны строго хранить как некоторую национальную ценность. Наша мо-
лодость, политическая незрелость, безграничная вера и доверчивость отра-
зились в нем. Зрелые профессора приняли участие в затее перерешить все
103
«от Адама» и дать не только России, но чуть ли не всему свету образ истин-
но райского жития, до вкушения от древа познания, с великою райскою ак-
сиомою: «земля — Божья» и на ней не полагается ни острогов, ни суда, ни
казней. Положение законодателей увлекает, как и каждое. «Пиши законы»...
На это предложение трудно удержаться, чтобы не ответить порывом: «Я спер-
ва переменю законы Вселенной и уж потом, как мелочью, займусь законами
русскими». Такова попытка Думы потрясти детскими руками институт соб-
ственности, институт наследственности, частное землевладение. Об это об-
ломали свои руки Гракхи и Цезарь. Но что Цезарь перед Ковалевским и
Аладьиным...
Мы уверены, что горячие встречи наших думцев за границею объясня-
ются желанием оказать привет именно молодости. Старая Европа, слишком
усталая, немножко даже износившаяся, протянула руки к нашим лидерам.
Она как бы говорила им: «Дети мои! Как я узнаю в вас мое детство, когда я
тоже ко всему тянулась и ничего из ваших предположений не достигла! И
теперь живу кое-чем, живу с комфортом, удобно, благополучно. Придет час,
и вы узнаете, что это все, что можно на земле».
В последующей нашей парламентской жизни, бесспорно, и мы остано-
вимся над этою же задачею: не надо такой шири, нужно взять все уже. Ширь
— это поле, дикое, неудобное. Ширь — доисторический быт. Дорога имен-
но начинается с сужения. Возьмем все уже и сделаем все прочнее.
Вот завет.
НРАВСТВЕННАЯ СТОРОНА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
Известно, что Испания преемников Филиппа II, открыв Америку и захва-
тив там страны с золотыми рудниками и россыпями, впала в нищету и разо-
рение; что богатейшие в мире страны, Англия, Голландия и Бельгия, —
вовсе лишены золота в почве своей. Земля, — сама по себе, как только ус-
ловие труда, как тучный чернозем, на котором еще ничего не посеяно, —
весьма похожа на золото для земледельца, к которому он рвется по элемен-
тарному аппетиту, но который его разоряет точь-в-точь так, как золото ра-
зорило Испанию. Депутаты Думы, и в частности неработающие «трудови-
ки», смеялись над указанием, что «мужик обеднеет, если ему отдать всю
землю»; это казалось им таким абсурдом, который они отказывались рас-
сматривать в подробностях, отказывались опровергать его и приписывали
подобное указание только злобе и бессилию защитников частной собствен-
ности. Между тем, ведь таким же абсурдом показалось бы и предвидение,
что Испания обеднеет, когда в нее поплывут корабли с золотом, «собствен-
ным» и притом «задаром», — буквально как этого требуют параграфы «тру-,
довой группы» касательно земли: «всю землю» и «задаром» мужикам. Не
надо культуры, частных экономий, не надо и учиться особенно много зем-
104
леделию мужикам: чем бы ни ковырять уйму земли — сытым быть можно.
Но человек рождается с такими сложными аппетитами, что кроме «быть
сытым» хочется и «выпить», и проч.; и жирный кусок земли, особенно с
правом полной на нее собственности, — можно для выпивки если и не про-
дать, то заложить, и вообще как-нибудь пустить ее в такую аферу или полу-
аферу, законом не предусмотренную, а евреем выдуманную, что можно быть
полусытым, полупьяным, жить и с ленцою, и превесело. Изобретателен
человек, особенно когда ему выпить хочется. «Вся земля», перешедшая к
крестьянам, конечно, более полувека не удержалась бы у многих. Крестья-
не сыграли бы роль передатчиков земли, временных на ней пенсионеров:
вслед за тем настоящими собственниками земли, без сомнения, очутились
бы какие-нибудь обширные кредитные организации, союзы, общества, с
невидимыми нитями за спиною их, которые держат в крепких своих руках
незримые дельцы.
Богатит труд, энергия, предприимчивость, прилежание, бережливость:
вот — руда, которая не истощается и откуда выкапываются непропадающие
ценности. Из этой руды и накопали своих богатств Англия, Бельгия, Голлан-
дия, Германия; Россия же едва-едва притронулась к ним, а даровое наделе-
ние крестьян землею грозит и вовсе отвлечь несчастное русское население
от этих настоящих источников трудового обогащения. Как теперешние де-
ревенские кулаки говорят о мужике-заморыше, нажимая на него: «Ён най-
дет», так о русском правительстве и русском казначействе мужик тоже мо-
жет начать думать и говорить: «Они найдут, чем мне быть сытым, — что же
я буду сам стараться». Все — казна, ничего — он сам. И, наконец, благоде-
тельница-казна, по замыслу «трудовиков», энергично оспариваемому и «ка-
детами», должна будто бы, обобрав у всех классов населения всю землю,
раздать ее «задаром» талантливому Иванушке, которому можно только по-
чесывать затылок и вычесать из него какие угодно богатства. Увы, они все
не застрахованы: и как легко и быстро, «задаром» пришли бы, так же легко и
быстро и «ни по чем бы» ушли. Дача эта, развив и без того неодолимую
пассивность нашего народа, настоящий родник его бедности, — воистину
переоденет его из армяка в рубище и пошлет, через полвека, его потомков на
дорогу просить милостыню. Без труда приобретенное прахом пропадет. Ре-
форма должна действовать на условия труда, на условия и способы приоб-
ретения, но никогда, никогда насильственная реформа не должна передви-
гать богатства, перекладывать их из рук в руки и вообще не должна иметь
своим предметом то, что есть плод труда — самое имущество, самое богат-
ство. Это — ажиотаж, а не реформа; это — проделка, а не преобразование,
не государственная мера. Дело это — биржи и биржевых дельцов, а не му-
жей-законодателей.
Вспомним некрасовское определение освобождения крестьян, что оно
«ударило»
Одним концом по барину,
Другим по мужику.
105
Дворянство наше за заслуги и полузаслуги и, наконец, без всяких заслуг
получило во владение огромные земли. И не удержало их, все растеряло.
Теперь «даром» некоторые филантропы грозят облагодетельствовать и му-
жика. Но второй стих Некрасова предостерегает, что какова была судьба ба-
рина с «подаренною землею», такова будет и судьба крестьянина с «даро-
вою землею».
Золото — в труде. Пусть мужик прикупает, прирабатывает землю, весь
вытягивается, старается: такая земля будет в руках его крепка, и будет ро-
дить ему хорошо.
Ничего задаром и никому: ни мужику, ни генералу. Вот принцип новой
государственной жизни. Прочь «даровые наделения землею», «безвозврат-
ные ссуды» и вместе со старыми жирными «арендами» и «пенсиями по осо-
бому назначению». Сгинь, старый развратный мираж старого политическо-
го разврата.
НЕСКОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЙ
ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО
Когда я ходил по опустевшим теперь залам Таврического дворца, всматри-
вался в эти массы оживленных лиц, где нет ни одного скучающего, сонного,
то думал: «Вот где наконец-то, наконец русская литература, вообще русское
идейное развитие получило материальную точку приложения своих сил».
Здесь оно зазвучало не в книге, а в живом слове. Здесь оно получило власть,
действие.
Таврический дворец — это только русская литература, и — вся русская
литература. Вот идет мужичок, и брезжится из Кольцова:
Ну, тащися, сивка!
Выбелим железо
О сырую землю.
Вот идут «спинджаки» — сапоги «бутылкой», братья-«пролетарии», —
вспоминаешь Глеба Успенского. Кстати, был ли в Европе хоть один писа-
тель такого типа и душевного склада? Идут «кунтуши», эти широкие спины
Украины и Подолии, — и вспоминаешь великолепную идиллию Короленко:
«В дурном обществе». А вот и баре «из Тургенева». Вся, вся она, матушка
русская литература, здесь. И когда-нибудь думский зал, я верю, на высоких
мраморных полуколоннах, как подставках, украсится бюстами великих рус-
ских писателей. Пусть они смотрят, из мрамора, уже почившие, на своих
духовных детищ. Пусть дети, говорящие, шумящие, оглядываются на своих
духовных отцов и дедов, и идеальнее загорается в них сердце, и правдивее
звучит речь.
106
Например, «кадеты» и «трудовики», в их бывшей полуборьбе, полусо-
чувствии, в их недружной дружбе: да это 60-е годы, выступившие против
«прекраснодушия» 40-х годов. Поле соотношения характеров, тем, забот,
задач, интересов... И сколько подобных аналогий и воспоминаний можно
найти было в Думе.
Иногда как-то минутами переживалось там больше, чем за неделю. И
мне хочется договорить об одной из таких минут. Я сидел в почти пустой во
время перерыва ложе журналистов. Все отсутствовало или отдыхало. И на
отдыхе в громадном полукруглом отрезе депутатского зала, позади кафедры
председателя и лож министров и журналистов, стояли, переговариваясь и
ходя, Набоков, Аладьин, Стахович и Муромцев.
«Ведь вот — живая история! — подумал. — И сколько здесь скрыто
будущего! И какова их всех судьба в течение ближайших 10 — 15 лет? Что
сделают они, и сделают ли?»
Набоков — одно из самых живых лиц «кадетской» партии. Он как-то
весь лоснится, даже издали. Насколько угрюмый, вечно сосредоточенный
проф. Петражицкий весь сух, точно последняя возможная капля влаги или
пота снята нетерпимо с него пропускной бумагой, — настолько же юный
Набоков точно сочится весь маслом; и нет возможности ни стереть, ни смыть
с него этот лоск чего-то маслянистого. Таково физическое ощущение от чего-
то громадно-самоуверенного и громадно-довольного в нем: он и молод, и
силен, и умен, и образован; говорит отлично; это он первым был выдвинут
«кадетами», чтобы ответить Горемыкину на министерскую декларацию со
смыслом: «Во всем отказано». Он произнес тогда истинно-государственную
речь и по содержанию, и по тону. Он очень умен — это господствующая в
нем черта. И, кажется, ни в ком еще нет такой стойкой энергии, не нервной,
не порывистой, а именно стойкой, тягучей, как в нем. Нельзя его предста-
вить лежащим под чем-нибудь и плачущим, — я говорю о политическом
положении. «Ходу! Больше ходу! Шире, река!» — точно говорит это судно с
поднятыми парусами. Я любил смотреть на его лицо без увлечения: это —
вечная игра, движение льющейся и переливающейся улыбки. И улыбка мас-
ляная, и глаза масляные. На губах почти непрерывная перебегающая змей-
ка: то пропадет, то появится. Особенно я любил его видеть, когда он с кем-
нибудь ходит. Тогда он наклоняет свою шарообразную голову к собеседнику
и что-то шепчет ему, к чему-то соблазняет, лукавит и смеется, — над ним
смеется, потому что тот его не видит, и моментально лицо становится серь-
езным, когда собеседник обертывается к нему прямо. Он не идеалист, — это
видно. Он — просто борец, делец хороший, сильный игрок в хорошей боль-
шой игре. Главное в нем — молодость и сила; потребность куда-нибудь де-
вать свои эмоции. Речь его — самая ясная из ораторов, самая дельная, госу-
дарственная, — и со страшною ясностью произносимая (редкое качество).
Каждое слово — как подчеркнутое или точно написанное страшно больши-
ми буквами, так что видно за версту, и на великолепной глянцевитой бумаге,
«министерской» (есть такая в магазинах, для особо важных документов).
107
Так и этак он ходил с длиннобородым Стаховичем, угловатым й 1а мед-
ведь, хорошим рослым барином. Сам Набоков, весь овальный, краснова-
тый, без бороды, с подстриженными усами и коротко остриженной головой,
как бы в предусмотрении, чтобы после какой-нибудь передряги соперник не
смог ухватить его ни за один клок волос и вообще ни за что выдающееся, ни
за какой угол в этом абсолютно круглом и скользком существе, точно нали-
том кровью и мускулатурой.
Бороду эту Стахович отпустил недавно, может быть, после поездки на
Восток, в армию и вообще после некоторых «государственных» хлопот. Он
вообще весь сильно «погосударственел», — после того как долго был «край-
ним левым» или «очень левым» в нашей публицистике и общественной
жизни. Вообще, до чего все в России полевело вот за полтора года, за год!
Теперь в Думе Стахович и частью даже Петрункевич — охрана, «охранное
отделение», без полицейских обязанностей, а в министерстве Плеве это были
волки, за которыми правительство только и гонялось. Стахович, Петрунке-
вич, Родичев, Шипов — это были Мирабо, Дантон и Сен-Жюст русской ре-
волюции, которая, казалось, вот пришла и стоит за занавесом. Так о них
определенно писал кн. Мещерский в «Дневнике» своего «Гражданина».
Между тем, когда действительно «занавес поднялся», — там оказались сто-
ящими или правые, или центровики народного правительства, на которых
правительству и хотелось бы опереться, но уже теперь поздно. И их слиш-
ком немного, ничтожная кучка, и плечи их бессильны.
Мне от некоторых приходилось слышать (от евреев), что Стахович —
лучший оратор в Думе: «Чисто русская форма красноречия, и говорит с ве-
рой в свое слово и с большим чувством родины». Мне не показалось это так:
дикция его слаба и неясна сравнительно с дикцией Набокова, бесстрастна
около Родичева, бессильна около Аладьина.
Я навел бинокль на последнего — он разговаривал с Муромцевым. Это
был день, около 1—2 июля, когда все говорили, что министерство подало в
отставку и что будет министерство «кадетское». О том, что Горемыкин с
министрами «наверное, подали в отставку», — говорили лидеры партий как
о факте; прочее переходило в многоточие... Очевидно, не о другом чем, как
об этом, шла речь и у вождя «трудовиков» с председателем палаты. Около
Муромцева, как около слона, о чем-то его выспрашивая, коротко ходил Ала-
дьин. «Точно барс», — подумал я.
И все они, особенно правые, несколько менее — «кадеты» — какие-то
многокопытные, а «трудовики» — хищные. Все манеры, все сложение дру-
гое. Ни одного толстого, широкого. Рост средний, или меньше среднего, или
если высокий, то чуть-чуть. Узкие, сухие, твердые. Голова крепко сидит в
шее, не вихляет. Взгляд — прямо и твердо устремленный. Гораздо больше
одушевления, натиска во всей фигуре. Вот-вот кинется и вспрыгнет на шею
«многокопытного», и побегут «многокопытные», грузно, тяжело, неуклюже
падая. Нет, сорвалось, — и так же легко, мяукая, барсы уползут в заросли.
«Не сегодня, — завтра!» Вся партия «трудовиков» была объединена еще
108
плотнее, чем «кадетов»; и не силой дисциплины, а силой одного одушевле-
ния. Что придавало «трудовикам» больше прямоты и натиска, — это раз-
ность их задачи сравнительно с «кадетской» партией. «Кадеты» отстаивали
свободу, культуру, гражданственность, конституционность — цели слиш-
ком широкие и туманные, чтобы не расплыться. У трудовиков цель слиш-
ком близка, ясна, чтобы сбиваться. Один-два прыжка, но энергичные — и
они у цели.
Трудовики без кадетов — это культурная бедность... Их горячий союз
был бы прекрасен. Но, — увы, — и 60-е годы никак не сумели быть союзны-
ми с идеалистами «сороковых годов». Так было в литературе, буквально это
же отразилось и в Думе.
Быстрая, твердая походка, гибкие манеры, громадный голос, наполняю-
щий всю залу (без малейшего напряжения, усилия), речь сжатая, сильная,
— даже менее «речь», читаемая или произносимая, чем разговор какой-то
разрисованный, — вот особенности Аладьина. Тембр голоса его чуть-чуть
металлический, и это сообщает страшную силу и ясность его речам. Нельзя
в них ничего пропустить, недослушать. Совершенное отсутствие болтовни.
Вообще красивую сторону парламентского зала составляет этот выброс бол-
товни и красноречия — самой убийственной, и даже единственно убийствен-
ной, стороны всякого парламентаризма. Правда, парламент живет речами и
ничем иным жить не может. Но так как в то же время он есть жизнь, работа,
производительность, то из речей его должно быть отброшено все пустое,
ненужное, неработающее, безжизненное. Одно зерно и никакой шелухи. Пока
это есть — парламент, как паровик, — в стране все двигает. Едва в речах
парламентских появилась красивость как цель, щегольство, кокетство слова
— паровик сменился декорацией. Ее срывают и выбрасывают.
Члены Думы вообще все были одеты небрежно, в поношенных домаш-
них пиджаках. Редко-редко кто был одет хорошо, как бы «в гостях» или на
гулянье; такие ничего не делают и только голосуют. На кафедру взбираются
исключительно пиджаки и «спинджаки» (рабочие, простонародье). Хотя в
этом простом и небрежном нет утрировки и подчеркиванья. Аладьин не
выделяется из «простого и домашнего», но от других трудовиков он явно
отличается невольной склонностью к щегольству, — не пышному, но скорее
ловкому и быстрому. Так, я видел его (последние разы) с цветком желто-
белой ромашки в петличке. Это — не символ и вообще — ничего, но другой
трудовик прошел бы мимо цветника, не заметив его, а Аладьин нагнулся и
сорвал цветок. Это вкус и изящество.
Договорю об Аладьине. При небольшом росте, он кажется на оратор-
ской кафедре большого роста: столько силы и чего-то большого, громкого,
грозящего развивается всякий раз, когда он говорит, хочется сказать: течет
из него. Его нельзя представить себе просящим, выпрашивающим. Я не умел
бы представить его делающим поклон ни из вежливости, ни по нужде. Ко-
ротко остриженные волосы, немного торчащие в стороны уши — придают
вид чего-то насторожившегося, прислушивающегося и готового моментально
109
реагировать на услышанное. Густые брови, к носу приподнятые, так же при-
поднято сложен рот, и вся эта нижняя, говорящая часть лица точно сложена
для приказания, для распоряжения. Это — врожденный господин, распоря-
дитель, — сказал бы я, — нападающий, хищник. Припоминая, что в Сим-
бирске по весне не бывает, за широтою, видно противоположного берега
Волги и при ветре там развивается большой вал, — я представляю себе
этого лидера трудовиков сидящим «со товарищи» в утлой лодочке, на вес-
лах. Вот ныряет она в волнах, вот-вот скрылась... Но из сини вод с белыми
гребешками раздается могучее и дружное:
Как по Волге-реке,
С Нижня-Новгорода...
И проч. Так, я думаю, катался он гимназистом (первое их удовольствие!)
и, может быть, Волга напела ему своими волнами не один смелый мотив и
заложила в грудь своеобразный ропот бури.
ПРЕХОДЯЩИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Наивные люди предполагают Россию 1906 года слабее России 1775 года,
России времен Пугачева; слабее, дезорганизованнее и вообще менее само-
защищенною. Конечно, если не знать истории или воображать, что вся исто-
рия заключена в газетных телеграммах и, в частности, что она началась только
с нас и нашего освободительного движения, то можно самому гадать и вну-
шать другим, что ватаги крестьян навеселе, жгущие помещичьи имения, и
совершенно ничтожные бунты солдат и матросов с двумя-тремя изменника-
ми-офицерами чем-то угрожают России. Пожалуй, мальчики рассказывают,
что эти Яшка да Машка колеблют трон Российской державы и суть настоя-
щие подпоры русской конституции и даже заря республики. И подумать толь-
ко, что серьезные или хотевшие казаться серьезными русские конституцио-
налисты и в самом деле не брезгали помощью таких людей и не решались
высказать громкого порицания этим полупьяным, полу предательским явле-
ниям русской жизни. На самом деле Пугачев и пугачевщина, конечно, были
не чета лейтенанту Шмидту и его затее, хотя бы по знанию народа, по тог-
дашним обстоятельствам бесчеловечного крестьянского быта. И главное, весь
бунт опирался на иллюзии, что Пугачев не кто иной, как «батюшка импера-
тор Петр III». И все-таки Пугачев не долго погулял по тогдашней бездорож-
ной, непроезжей Руси и скоро-скоро сложил свою буйную головушку. Да
что Пугачев: не много сделал и Степан Разин, натура изумительная, натура
гениальная, в Московской Руси, бессильной, неуклюжей, вовсе дикой, без
регулярной армии и крепостей. Просто все дезорганизованное бессильно
против всего организованного. Всякий бунт, мятеж есть то же, что бесфор-
менная протоплазма около совершенного организма, с мускулами и мозгом,
110
с сознанием и силою. Что касается, в частности, армии, то не только Россия
знала страшный бунт военных поселений, прошедший ничтожною морщин-
кою по царствованию императора Николая I, но и ранее, в царствование Анны
Иоанновны и в пору Миниха, воинские бунты имели место даже во время
войны, причем совершал «приключение» не какой-нибудь батальон или рота,
а колебался и отказывал в повиновении целый военный строй, военный ла-
герь. Бунты военные всегда суть последствия плохого военного управления,
невнимания к солдату и далекости от солдата. Бунты эти всегда имеют при-
чиною не сегодняшний день и не вчерашний, а позавчерашний. За бунты
подобные должны быть ответственны командиры неисправной части, при-
чем командир данной минуты может быть вовсе и не виновен: он, напр.,
начал вводить дисциплину и порядок в части, переданной ему в распущен-
ном, безобразном виде. Это вызывает ропот, раздражение и, наконец, при-
ключение военного строя, вина которого всецело лежит на тихо служащем в
другом месте начальнике, а отнюдь не в теперешнем начальнике взбунто-
вавшейся части. Во всяком случае, все это только непорядки, безобразия, не
содержащие угрозы для прочности государства. Батальон есть сила, пока он
повинуется; но у того же батальона осталась всего одна четверть прежней
силы, чисто физической силы, физической мощи, как только он сделался
ордою, отказав в беспрекословном повиновении первому же отданному при-
казанию.
«Штыки уже начинают склоняться перед народными представителями»,
— заявлено было самонадеянно в Г. Думе. Ну, это склоняются не столько
штыки, сколько железные палки, в которые превращается всякий штык, как
только он изменил долгу и присяге. Железные палки — и не более; орда — и
не более. Орды у революционеров прибыло, а войска отнюдь у них не при-
было, и армия потеряла не часть себя, но от нее отпал только гнилой орган,
вышла из нее незаметно таившаяся в ней орда. Вполне виноват военный
министр и все высшие военные власти, если под покровом знамен в строй-
ных рядах христолюбивого воинства заводится эта орда, — заводится и воз-
растает численно. Ибо вовсе без нее никогда и нигде, ни в одной армии в
мире не обходится. Все армии во время войны дают известный процент де-
зертиров и мародеров. В мирное время революция выманивает к себе этих
дезертиров и мародеров. Дезертир и в битве трус, и в бунте трус, и на войне,
и у престола, и на побегушках у революции. Везде это жалкий человек. Не
нужен он армии, гадок свободе, гадок гражданству и мирному обывателю.
Ну а революция пусть им попользуется.
Вернемся к крестьянскому движению. У храбрецов, возбуждающих или,
точнее, подбивающих к нему, только одна ссылка, одна заманка: «в народ не
будут стрелять»; «народ — братья». Бывают семейки, где брат у брата кра-
дет, где брат брата жмет. Это не братство, а именно предательство братства,
измена братству. Страшно убить вообще, а убить брата, отца — вдесятеро
страшнее. Какие же это «братья» русскому народу те ватаги, что жгут рус-
ское добро, русское богатство, русский хлеб, — пусть и помещичьи, но ко-
111
торые ведь съедает-то не лично сам помещик, а непременно он съедает его,
в общем торговом обороте, вместе с народом, с мещанином, с купцом, с
солдатом. Такие черные вороны суть уже не дети русской земли, а антихри-
сты русской земли, как убийца отца родного есть уже вовсе не сынок, а Каин
и хуже Каина.
И напрасно эту гадость подымает революция. Напрасно! И пусть не
утешается кто-нибудь, не воображает, что уже «штыки опускаются» перед
этою гадостью. Они негодующе подымутся и растерзают эту каинскую
мерзость, этих «детушек», которых вспоила Мать-Родина, а они кусают ей
грудь, как аспиды. Государство пропорционально своим необъятным пра-
вам имеет и необъятные обязанности. Есть долг перед отечеством, но и
есть долг отечества перед гражданами: мирный труд и мирную жизнь оно
не может не защитить.
ЛЮДИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Неискренние старания премьера Столыпина привлечь в министерство об-
щественных деятелей не увенчались успехом — по-видимому, они не могли
договориться относительно приемлемой для них правительственной про-
граммы. Спасителей отечества у нас не видать, разве на Красной площади в
Москве бронзовый Минин. Но он молчит. Он как будто кому-то что-то напо-
минает, но тщетно: потомки Минина ничего общего с предками не имеют.
Вспомнишь невольно «Думу» Лермонтова о том, что
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И Лермонтов, и Фамусов со своей княгиней Марьей Александровной
невольно приходят на ум, когда думаешь о «героях» сегодняшнего дня, ко-
торых зовут и никак не могут дозваться в министры, которые решились «об-
новить Россию мирными реформами» и все как будто оглядываются в то
время, когда противная сторона стреляет из браунингов и идет коротать жизнь
на Кару и в Сибирь. Россия превращается на наших глазах в какую-то «Рес-
публику Карла Маркса», и, пока наши обновители все шепятилятся, как бы
им не измараться о министерский мундир Российской Империи, — голые
марксисты, чего доброго, свезут куда-нибудь в старый сарай, в Археографи-
ческую комиссию, монумент Минина и воздвигнут на месте его бюсты Кар-
ла Маркса, Каутского и Энгельса и зажгут перед ними новые лампады. А
обновители будут охать и охать: «Вот мы говорили», «вот, предвидели», «вот
мы готовились спасать», но нам «помешали».
В чем же, однако, дело и зерно дела? Россия переживает неслыханный
от начала истории ее перелом; правительство русское, эта осмеиваемая со
112
всех сторон и со всех углов «бюрократия», сделала героическое усилие: от-
рекается от власти своей, от самовластия своего, видя, что действительно до
хорошего это самовластие не довело Россию. И вот великим актом этого
полуотречения от себя является наличный, действительно уже делаемый шаг
к тому, чтобы смешать ряды свои с общественными и в парламенте, и, нако-
нец, даже в администрации, как раньше в земстве. При чем тут «министер-
ство» в его прежнем смысле? В их прежнем смысле министерства уже умер-
ли. Теперь министерство — это тягость, это ответственность, это обязан-
ность отвечать на самую ядовитую и бешеную критику, это вынужденность
выслушивать оскорбительные слова, подозрения, упреки. Это — тяжелый
крест в христианском смысле и пост часового около порохового погреба —
в государственном смысле. Тут бездна шипов и ни одной розы. Пост этот
всего на несколько месяцев и в счастливейшем случае на немного лет, не
могущий ни обогатить, ни доставить титулов и почестей. Кому же он нужен,
кроме страстотерпца, кроме действительно любителя Родины, который ради
нее терпит все? Кроме пошлого глупца, никто не может и никогда не сможет
упрекнуть человека, гражданина, члена партии: «Вы польстились на порт-
фель министра». Уж какое тут польстились! Все равно, что взять змею в
руки. Обольстительны теперь могут быть только должности директоров де-
партаментов и самое высшее товарищей министра — должности, сохранив-
шие свою стойкость в тихой заводи, где нет бурь, куда не доходит волнение.
Итак, обновителям никто никогда не смог бы бросить и никогда не бросит
серьезно упрека, что они «захотели попасть в министры», но все поняли бы
ту очевидную истину, что они любят свое отечество и честно послужили
ему в невыносимо трудную минуту, более: всякий понял бы, что они послу-
жили доброю и незаменимою службою русскому конституционализму, чтоб
упрочить новый государственный строй. Какие же соображения побудили
их отказаться от предложенной им крайне ответственной, но вместе с тем и
почетной роли?
НАДВИГАЮЩАЯСЯ ЖАКЕРИЯ
Отвратительные, гнусные злодеяния, совершенные в Кронштадте над неза-
щищавшимися офицерами, над старухою матерью одного из них и женою
другого, обнаруживают контуры нашей революции, которые могут утешить
явных и потаенных подстрекателей к активной или пассивной борьбе с пра-
вительством. Теперь они могут полюбоваться на дело своих рук.
К чему говорить о революции, этом цивилизованном явлении цивили-
зованных стран, в применении к России, когда для всех совершенно понят-
но, что по условиям русской жизни и русского просвещения, русского тем-
перамента и русской темноты никакой революции у нас не может быть ина-
че, как в роли частного эпизода, а в общем и целом все движение выразится
в повторении средневековой французской жакерии или немецких крестьян-
113
ских войн: т. е. совершенно пьяного, ни к чему не приводящего истребления
имущества страны и психопатического разлития крови. Кровь, грязь и огонь
— вот стихии русской революции. И в конце ее — ничего, решительно ни-
чего, никакого положительного результата, как это было после слепых на-
родных движений в Германии и Франции.
Революция и революционеры наши чрезвычайно облегчены одним ус-
ловием, не бывшим ни в Германии, ни во Франции, — это тем, что простова-
тое и благодушное правительство наше давно стало в положение какого-то
опекуна всех сословий, и преимущественно простонародья и крестьян. Что
же им не бастовать? В качестве бастующих они переименуются в безработ-
ных и поступят под попечение городских управлений, филантропических
комитетов и всякой интеллигенции. Отчего не бросить огонь в хлебные ам-
бары: правительство всегда прокормит, хоть в поле трава не вырасти. Таким
образом, нищенство и дикость нашей страны в сочетании с неистощимым
казенным хлебом необыкновенно облегчают у нас дело революции. Дирек-
тивы исходят то от ошалелых психопатов, которые не прочь посмотреть на
общий пожар, где сгорает и их имущество, или еще чаще и яростнее от мно-
жества у нас имеющейся молодежи «вне колеи» и «без колеи», от всех этих
неудачников и неврастеников. В России таких целые таборы, и из них-то и
комплектуется активная часть революции, интеллигенция ее, дух, направле-
ние и директивы... Эти играют в хаос, как играют в рулетку в Монако:
движение страстей там и здесь одинаковое, жгучее, обаятельное. Кому же
охота на медведя не нравится более, чем охота на лисицу; а для охоты на
тигров ездят специально в Индию. Что влечет? Опасность. В опасности для
неуходившейся крови заключается великое притяжение. А опасность рево-
люции, особенно нашей, где конец не так-то близок, где путь долог и при-
ключений много, привлекательна втройне. Тут и сражение в решительный
момент, и вся психология заговоров, быт заговорщиков, эта лихорадка опас-
ностей, эта ползучая, укрывающаяся жизнь: столько привлекательностей,
что у каждого гимназиста и гимназистки старших классов голова невольно
закружится! Где еще в благоустроенной и скучной Европе найдете такие
девственные леса для всяческих приключений! Большая охота, немножечко
войны, заговоры, какие встретишь лишь только в «Королеве Марго» Алек-
сандра Дюма, шум печати вокруг, возможность сделать знаменитое имя и
даже вскочить в историю вершковым Геростратиком — все это такие статьи,
каких не имеют ни отчаянные альпинисты, ни алжирские охотники на львов!
А бедная Россия, темный мужик, нищий народ — все это сделалось ру-
леткой всемирных страстей. Все эти шахматные турниры разыгрываются на
счет ее будущего, ее невспаханных полей, опустелых учебных заведений,
плачущих детей, которых покинули отцы, братья убитых старых родителей,
которые покинуты детьми.
И, как подумаешь, что Государственная Дума, в лице многих и многих,
бросала благосклонные взгляды на этих Джеков-потрошителей и не оттал-
кивала гнусной руки, ими протягиваемой.
114
Нет, много упрекали наше правительство, а впору подумать серьезно,
да как же управиться с этою ордою? Как вообще управлять в мирное ли, в
военное ли время населением с задатками таких милых инстинктов, вожде-
лений и понятий?..
О, крещеная Русь, — так и хочется поправиться: «некрещеная Русь»!..
ТЕМНЫЕ ДНИ
В городах, местечках, на больших дорогах, в столицах, около железнодо-
рожных поездов, в кредитных учреждениях и мелочных лавочках идут
стрельба, угрозы и грабежи. Отнимают даже по 25 руб., забирают «выруч-
ку». Знакомая картина Кавказа, как о нем читала Россия за все последние
годы; читала, удивлялась и презирала. Без сомнения, впечатление «неусми-
ренного и дикого Кавказа» мы производим теперь на всю Западную Европу.
Да и в самом деле, у нас наступает что-то подобное феодальному разложе-
нию, которое для Западной Европы пришло с падением Римской империи.
Власть центральная ослабела. И всюду объявилась своя власть. Всюду ка-
кие-то подземные темные союзы, кружки, кружочки, то с прописанным пас-
портом, то без прописанного паспорта. Легалыцина и нелегальщина пере-
путались. Выдвигается все, что смелее, что дерзостнее; все скромное пря-
чется, не находя законной защиты. Какая-то побитая градом нива, полная
зерна, а кверху торчат пустые колосья с осыпавшимся зерном, — солома.
Вот-вот август, начало ученья. Кто будет учиться? Грустный ответ пере-
ходит в многоточие... Да и как учиться среди этой сумятицы? «Свет» России
начинается тьмою; пока ожидаем света, перестукаемся до крови головами в
кромешной тьме.
Со всех сторон злоба, клевета, неумолимое заподазриванье, явная и бес-
стыдная ложь. Создалась и развилась «освободительная» реторика, такая
же напыщенная, ломаная и бездарная, как в тех «одах», какие были высмея-
ны И. И. Дмитриевым в его «Чужом толке» и после умерли разом. Но наше
время бедно сатирою и смехом, и в бездарной печати этот ложный пафос
расползается сальным пятном. В средние века было явление под именем
«кухонной латыни» — специальная литература на римско-готфском языке.
У нас какая-то идет «кухонная свобода», в которой ни зерна не осталось от
благородных освободительных идей.
Уже все так перепуталось, что стало неотделимо, неразличимо. Несом-
ненно, из городских отбросов и совершенно фантастических недоучек раз-
вилось нечто вроде итальянских bravo, убийство из искусства переходит в
мелкое ремесло, в ежедневный заработок голодного, алкоголика или вообще
человека с претензиями на удовольствие. Во всех газетах постоянно пишут:
«Преступник скрылся», «стрелявшего не удалось захватить». Если «не уда-
лось захватить» и вообще «не удается захватить», то и нет риска. Газеты все
читают. Всех эта «неуловимость» соблазняет. Стреляют не новички. Тут
115
видна профессия, опыт, «наторенность» привычной руки и привычных, очень
умелых способов укрываться. Видно ремесло и опытный план убийц, bravo.
Люди, «делающие свободу» через браунинги, без сомнения, не риску-
ют драгоценною особою сами, а «решили использовать в целях движения»
этих занимательных субъектов. Из хорошего куша на «освобождение» про-
цент отсчитывается работнику — bravo: и, право, иначе как такою «созна-
тельною организациею» невозможно объяснить этот слишком ловко пока-
тившийся ком повсюдных грабежей. Что-то похожее на систему, на план.
Ведь та же полиция, те же сидельцы винных лавок, те же буфетчики на
вокзалах были и раньше. Отчего же раньше не было этой системы, этой
линии, как бы удобной всеграбящей машинки? «Хитрая механика» — вспом-
нишь старую книжку. К инстинкту зверя прибавлена явно некая «интелли-
генция», как, в другой части, к дезертирству и буйству солдат прибавлен
красный флаг.
В ВЕЛИКОМ ТЕРПЕНИИ
Сказать, что русский человек потерял чувство родины, — это так же неле-
по, как если бы кто-нибудь стал уверять, что со всем населением страны
случился припадок острого малокровия. Такие вещи не делаются. Земля
никогда не перестанет тянуть к себе, и закон Ньютона никогда не имеет от-
мен. Совершенно очевидно, что огромные массы русского народа, да даже
множество людей и в образованном классе нимало не потеряли головы в
теперешней сумятице и не дрогнули в своих вековых привязанностях. Не-
счастие своего дома, даже позор дома заполняет сердца детей скорбью, со-
жалением, но и толкает их на возможную защиту старого гнезда. Не иначе и
в большом дому — в отечестве. Что же такое то зрелище, которое перед
нами разыгрывается? Что такое эти «шесть велосипедистов, устроивших в
церкви попойку», для чего им надо было взломать кузницу и забрать инст-
рументы, которыми они взломали решетку в церковном окне и после всех
этих все же хлопот устроили на месте молитвы дебош, с закусками и чет-
вертью водки? Что это такое? Нужда, голод «от недородов» или протест
против «репрессий правительства»? Как стонала, бывало, «Речь», а теперь
стонет «Двадцатый век», жалуясь читателям своим, что «в России жить нельзя
от правительственного произвола». Кому нельзя жить? Кто истинно угне-
тен, страдает, поруган, оплеван? Когда за господами на велосипедах погна-
лись на лошадях крестьяне, — они, обернувшись, пригрозили им револьве-
рами. Те вернулись, не рискуя жизнью. Кто же угнетен? Кто угнетает? Кто
приходит в чужой дом и начинает, с позволения сказать, сморкаться в чужие
гардины, в чужие салфетки и вытирать ноги о сорванные со стен фамиль-
ные портреты? Гг. велосипедисты — это не крестьяне, хотя бы и в гулящей
молодежи: велосипед дорог, да у крестьян и вообще нет привычки к велоси-
педу, нет этого «заведения». А с другой стороны, это и не хулиганы, не мазу-
116
рики: направо пол-оборота и поднятый револьвер — это не месть уличного
пропойцы. Тут интеллигентность... Боже, как стыдно, как больно произнес-
ти это слово! Бедное поруганное русское образование... Да и желание оскор-
бить, преднамеренно и вычурно, народную святыню — все это ясно как день
в своем смысле и называет оскорбителей по имени, хотя их и не изловили и
не заглянули в их паспорт...
Кто же измучивает русское народное чувство, кто вливает в него яд, ко-
торый и сказывается в ответных конвульсивных движениях, с этим ужас-
ным народным ревом, потрясающим города?.. Господа, вы всаживаете в брю-
хо медведя рогатину и кричите, чуть не жалуясь Европе, когда он ударяет
вас лапою...
Мнение России не все в газетах. Есть говор, есть ропот, народный и
общественный. Он тяжеловеснее газет, он независим от газет. Не думайте,
что вся Россия так и бежит за газетным листком, не имея других мнений,
чем какие сказаны в «Письмах в редакцию», поманенных из редакции же...
Все это выскочки; и шум в России, пена на волнах ее — посчитайте, сколько
тут героев «Мертвых душ», «Ревизора» и «Горя от ума». Ведь не умерли же
эти Репетиловы, Загорецкие, Добчинские и Бобчинские. Прежде ходили с
портфелем, теперь с браунингом, имели прежде Станислава в петличке, а
теперь рассказывают о рукопожатии какого-нибудь ех-депутата.
Когда же люди были не пусты, не тщеславны, не самолюбивы? Ничего
из старых пороков не умерло и только облеклось в новый мундир.
Но почему же молчит солидная Россия, которая есть, которая неизмери-
мо больше и тяжеловеснее этой цены? Увы, вечная слабость добродетели —
скромность. Один не помнит себя от радости, что его имя попало в газеты, а
другой, и лучший, считает это скандалом. Есть люди, которые положитель-
но несут неприятности, подвергаются невыгодам, даже иногда переносят
небольшое явное злословие и клевету — и все же мирятся со всем этим,
только чтобы вместе с именем обидчика или клеветника не попало в суд или
в печать и их имя. Если вы придете и своими засаленными сапогами истоп-
чете старый коврик, где такой уже годы становился на колени для молитвы,
он промолчит и уйдет в другое место, не затеяв с вами шума и истории.
Нахал может кричать, что он прогнал молившегося, что он победил, что место
осталось за ним... И сколько таких побед шумно празднует революция...
Скромная Русь — в тишине, но она имеет свое мнение о событиях. Дай
Бог, однако, чтобы она не простерла свое невмешательство до того предела,
чтобы через шесть месяцев не пойти к избирательным урнам. Вспомните,
скромные люди, великие в молчании, — что ваше молчание использовано
революциею и что под напором ее и главным образом всей той сторонней
грязи, какую она натащила на своих ногах, трещит Россия. Попамятуйте
это шесть месяцев: и, Бог даст, мы увидим другую Думу, которая спасет
Россию.
Нелепая мысль, что, кроме черной и красной, нет другой России. Всегда
Русь звалась белой Русью. Это — символ чистоты. На элементарной степе-
117
ни это просто символ опрятности, порядочности, — увы, так потерянной
теперь! — на высших степенях это символ высокого христианского подви-
га, чистой и прекрасной жизни. Воображать, что Россия вся сошлась на этих
двух ревах, — черном, какой проповедуется в патриотических чайных, и
красном, который выкрикается в студенческих столовых, воображать это —
значит утратить всякое чувство действительности. Неужели Русь так-таки и
не имеет где говорить и думать, кроме как в кухмистерских?! У ней есть,
слава Богу, дома, семьи, — есть кабинеты, гостиные, детские. Россия имеет
общество, а не одних студентов, — народ, и притом сидящий дома, а не
только лицедействующий на митингах. Россия не национальный трактир и
не балаган для международных состязаний, борцы которого совершенно
забыли, кто они и где они.
ЯВОЧНАЯ СИСТЕМА ОТКРЫТИЯ
ЧАСТНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
На взволнованной страстями поверхности нашей родины некоторая группа
людей делает тихое дело: воспитывает, нянчит, учит. Великое дело это в сво-
ей семье, но увеличивается сторицею, когда делается в школе. Есть благо-
датные люди с этим призванием к погружению в мелочи, в подробности, с
ежеминутно настороженным вниманием — не к себе, а к чужим человечес-
ким личностям. Это и есть составные части педагогического таланта, дара
редкого, потому что дара бескорыстного и самоотверженного. Что прошло,
того не воротишь: вот этих людей давно-давно следовало бы государству
поставить на высоту, обеспечить им всякую свободу, всячески снять фор-
мальности с благороднейшей их деятельности. Как разнообразятся по ин-
дивидуумам ученические способности, ученические души, так и у самих
учителей души вовсе не одного шаблона, и не надо этого требовать, вредно
это требовать. Между тем, кроме народных и городских училищ, ни в одном
ведомстве у нас чиновники не были так подтянуты, замурованы в застыв-
шую, недвижную форму, превращены в чиновников из чиновников: точно
городовой на посту. Ни ступить в сторону, ни ступить вперед или назад. И
прекраснейшие молодые люди, с любовью и надеждами, бывало, принимав-
шиеся за воспитание и обучение в гимназиях, через 5 — 8 лет службы ста-
новились мумиями, ненавидимыми, и основательно ненавидимыми, свои-
ми учениками.
Сколько здесь надежд погибло! Сколько засохло талантов только отто-
го, что в учителе не признавалась личность, свой характер, некоторое свое-
образие взглядов, приемов, убеждений, манер. Деревенская школа шла го-
раздо лучше, и лучше — городская. Здесь было открытее, «позволеннее»: и
мы не знаем ни меланхоликов учителей, ни застрелившихся или повесив-
шихся учеников.
118
Дело, которое делают эти тихие люди, важнее шумящих митингов, до-
рого оплачиваемых комиссий. Именно здесь зреет будущее России. Без пре-
красной личности в основе всякое дело будет гнило; в гнилом поколении,
увы, не привьется никакая реформа.
Воображать, что вся Россия теперь шумит политикой и нет уже учащих-
ся и жадно учащих наставников, ошибочно. Мы сами наблюдали эти два
года: прокатится над спиной волна, согнутся эти тихие люди под напором
стихии, выждут и назавтра, встряхнувшись, так же учат, объясняют, задают,
спрашивают, воспитывают, и иногда прекрасно воспитывают. Талант одоле-
вает; талант ведь ищет непременного упражнения, применения. Не все без-
надежно в русской школе, как привыкли думать. И здесь, как и в массе насе-
ления, волна возбуждения идет поверху, подымает и крушит солому, а более
веское зерно ей не подчиняется.
Здесь, в Петербурге, в последние годы нам пришлось и видеть, и выслу-
шать несколько рассказов о самоотверженных людях, и мужчинах, но чаще
женщинах, которые всю свою жизнь, совершенно обеспеченную и которую
можно было бы проводить в удовольствиях, посвятили городским уличным
детям, самым бесприютным, брошенным. Талант ищет упражнения. Не бу-
дем все относить к доброте сердца и дадим более простое объяснение, что
врожденный дар находит наслаждение в своем применении. Уличным де-
тям это все равно. Польза выходит, они становятся на ноги.
Мы предпослали эти общие мысли, чтобы приветствовать благодетель-
ную меру, только что принятую Министерством народного просвещения,
разрешение открывать частные учебные заведения явочным порядком. Вся-
кий ли, кто умеет учить и призван учить, умеет «хлопотать по министер-
ству» о разрешении: процедура сложная, требующая каких-то особых хит-
рых умений, ничего общего со скромным и застенчивым педагогическим
даром не имеющая. Кого-то «попросить», кому-то «поклониться», кого-то
«убедить» в надобности для такого-то района, городка, села, имения такой-
то школы; ездить и ездить в Петербург или в Москву; обивать пороги в по-
печительских канцеляриях и, как мы определенно это знаем, иногда уметь
«дать в руку» чиновнику, от которого зависит «доложить» или «не доло-
жить», и «в каком освещении» доложить попечителю, — все это шаги слиш-
ком трудные, слишком непременные в нашем заржавевшем механизме уп-
равления, для населения абсолютно ненужные, для начальства приятные и
наконец теперь выброшенные, как старая, ненужная ветошь. Всякое увесе-
лительное заведение, зарабатывающее в нечистоплотных улицах по вече-
рам и ночам, открывалось, бывало, легче и «под более благосклонным со-
действием начальства», чем школа с букварем, арифметикой и Законом Бо-
жиим. Поверит ли кто, что известный педагог Рачинский встречал препят-
ствия и злостные затруднения со стороны московских властей и центрального
органа министерства в Петербурге, раньше чем ему разрешили открыть сель-
скую школу для мальчиков в своем родовом имении Татеве, и что когда шко-
ла была уже открыта, для получения какового права его обязали выдержать
119
экзамен на сельского учителя при местной бельской прогимназии, хотя он
был ранее профессором Московского университета, — итак, когда эта шко-
ла была уже открыта, то инспектор училищ едва не закрыл ее за несоблюде-
ние каких-то правил об отхожих местах. Невероятный этот факт точен бук-
вально, и ему имеется множество свидетелей. До такого стеснения, злобно-
го и бессмысленного, доходило Министерство народного просвещения еще
на нашем веку в отношении частных школ, в отношении частных людей,
желавших посвятить себя свободному педагогическому труду. Дивиться ли
тому, что так дика Россия сейчас. Но мы напомним, что «взгляды» мини-
стерства или, скорее, слепота его, имевшая место третьего дня, не повторит-
ся послезавтра.
Явочная система школ двинет к делу всю наличную массу педагогичес-
ки-способного люда. Ни один талант педагогический уже не останется без
приложения, — как и не будет только на услужении у опытных людей, уме-
ющих «говорить с начальством». По крайней мере ни один такой талант не
будет иметь повода ни на что жаловаться, «на судьбу» или «наши порядки».
Порядок теперь призывает всех к делу, открывает всем простор. И мы уве-
рены, что именно в этой сфере получили свободу себе благороднейшие в
стране таланты, — что никаких особых «злоупотреблений» не произойдет
или происшедшие злоупотребления совершенно потонут в массе добра.
ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?
Одно из самых кровавых и позорных пятен, лежащих на католицизме, —
Варфоломеевская ночь ложится и на новую русскую гражданственность. И
как католичество хиреет и вянет с тех пор, ибо, куда оно ни пойдет, — эти
мертвецы всюду с ним, какой праздник оно ни празднует, — тела-мертвецы
сидят за его праздничным столом, — так и молодая русская гражданствен-
ность увядает и засыхает среди этих подлейших убийств из-за угла, трусли-
вых, ибо в девяти случаях из десяти они проходят безнаказанно, — убийств
столь же безличных, бессудных, беспричинных, какие были совершены и в
Варфоломеевскую ночь, ибо бьют по мундиру, не справляясь, кто в нем одет,
как тогда били по вере, не справляясь о других качествах человека. Гадко,
тошно, страшно: вот все, что хочется сказать!
И это зверье обещает России что-то «новое». Братоубийцы гнусные! Каин
был до вас за 6000 лет. Все гнусное так же старо, как мир. Ничего в вас
нового; а если бы вы что-нибудь и дали, из ваших гнусных рук Россия не
захочет ничего принять. Но ничего вы не несете, ничего у вас нет, кроме
наглости, хвастовства, предательства, кровожадности и подлейшего само-
утешения, что вы служите России, подлейшей клеветы на русских людей,
будто злодеяния ваши приветствуются еще кем-нибудь, кроме сплоченной
толпы, вас окружающей, из которой вы вышли. Не воображайте уверить,
что вас много: какая-нибудь тысяча, две тысячи головорезов могут испол-
120
нить все ваши подвиги, при этом постоянно сопутствующем примечании к
сообщению о ваших подвигах: «Злодеи не пойманы». Не пойманные сегод-
ня, конечно, не сидят сложа руки завтра; переехав по железной дороге, они
бросают бомбы или вонзают ножи в спину завтра в другом городе. Кто же не
читал о кавказских диких татарах, что банда в 18 человек, пока не пе-
реловлена, наполняет деяниями целый уезд, заставляя говорить о себе пе-
чать всей России и не давая спать десяткам тысяч жителей?
Само собою разумеется, что правительство русское не имеет ни малей-
шей нужды принимать в какое-нибудь соображение мысли и убеждения этих
убийц, какие-нибудь их требования. С висельниками не разговаривают, под-
лецу руки не протягивают. Убийца не в бою и не на дуэли есть предмет
тюремного ведомства, а никак не сюжет для государственных соображений.
Государственной власти нашей пора очнуться и сознать свое достоинство.
Оно может говорить с населением, а не с подонками населения.
Дурная трава — из поля вон. Если новая государственная власть не при-
ложит этой мудрой народной пословицы к своей политике, несчастная Русь
не перестанет зарастать невыносимейшим бурьяном.
ПРАВИЛЬНАЯ
КОНСТИТУЦИОННАЯ РАБОТА
Отсрочены на неделю заседания комиссии, которая предполагала первый
раз собраться 3 августа, чтобы приступить к обсуждению неотложных ре-
форм. Нужно предполагать и можно быть уверенным, что дело идет не о
введении «реформ», а о подготовке законопроектов, которые будут внесены
Кабинетом на рассмотрение Государственного Совета и Государственной
Думы немедленно, как только они соберутся. Выработка законопроекта во
всех его деталях, мотивировка каждой детали, обставление каждой же дета-
ли соответствующим статистическим материалом и сведениями из сравни-
тельного положения других законодательств — все это требует много вре-
мени, многих знаний, внимательного вникания в предмет и недюжинных
дарований. Это та самая работа, которую Государственная Дума начала было
производить в своих комиссиях и подкомиссиях, но которую следовало на
самом деле совершить министерству. Не иначе поступают и законодатель-
ные палаты западноевропейских стран, сессии которых проходят главным
образом в рассмотрении, критике, поправках и дополнениях к законопроек-
там, которые бывают уже предварительно заготовлены министрами. Только
при таком порядке деятельность палат сходит с неба на землю, вращается
около уловимых и ощутимых предметов и отвечает нуждам народным, нуж-
дам населения, выбиравшего депутатов, а не фантазиям самих депутатов.
Вся первая сессия Думы вышла оттого именно неудачною, а даже удач-
ною она и не могла быть, что кабинет г. Горемыкина встретил Думу с пусты-
ми руками, как встречаются двое знакомых на улице, причем между ними
121
разговор заходит Бог знает о чем, не повинуясь никакому плану и никакому
делу. Разговор — о «впечатлениях», а не о делах. И сессия Думы прошла вся
в этой «впечатлительности», в сообщении с обеих сторон своих впечатле-
ний и в реагировании на впечатления, — без всякой пользы для третьего,
для страны и государства. Только что назначенный кабинет г. Горемыкина
именно в силу новизны своей и не мог заготовить проектов, да, кажется, это
и на ум не приходило ни ему и никому другому. В пустом пространстве, без
всякого материала обсуждения, разгорелись страсти и пустое красноречие,
которому публика, т. е. читатели газет, внимала с тем же интересом, как если
бы она слушала монологи и диалоги актеров в какой-нибудь патетической
драме Шекспира, конечно, с меньшим талантом и в меньшем калибре. Но
едва ли кто-нибудь захотел чистосердечно возражать против этой очевид-
ной истины, что впечатление от первой Думы было именно театральное, не
жизненно-патетическое, а риторически-патетическое. И Думу в этом прихо-
дится винить не более, чем Кабинет. Он ничего ей не положил на зубы. И
она защелкала зубами ко вреду себе и не к славе министерства.
Само собою разумеется, что предварительная работа Кабинета нисколь-
ко не исключит законодательной инициативы и Г. Думы и Г. Совета, кото-
рый вообще во время первой Думы вел себя до странности пассивно и пла-
чевно пассивно. Все помнят, как в печати разыскивали, где его адрес! Это
было смешное положение, в которое он никак не должен был становиться и,
можно надеяться, не станет через несколько месяцев. Вернемся к законода-
тельной инициативе обеих палат. Не нужно депутатам приписывать худше-
го, чем что они имеют: имея уже заготовленный материал для суждения,
готовые детали закона, предложенные к их обсуждению, непременно и не-
вольно они и приступят к этому обсуждению, т. е. получат те рельсы для
хода, каких решительно в 1906 г. они не имели. Наконец, так как государ-
ство наше стоит действительно перед огромными преобразованиями, перед
обновлениями всего своего строя, что нимало не предстоит ни одному за-
падному государству в текущие дни, то слишком понятно, что роль Думы
при обсуждении министерских законопроектов, как и собственная ее зако-
нодательная инициатива, выразится активнее, бурнее и страстнее, чем мир-
ные парламентские будни братских западных палат. К этому уже надо быть
готовым, и это так естественно. Мы переживаем «именины» парламента-
ризма или «день рождения»: два годовых праздника в жизни всякого мирно-
го обывателя, которые уж не обходятся без шума и часто сопровождаются
«приключениями». Не надо только допускать, чтобы они переступали за
норму допустимого и приличного. Правительство наше, по-видимому, от-
лично сознает эту особенность наших дней: оно было терпеливо, и даже
изумительно терпеливо, в два месяца заседаний первой Думы, пока она не
перешла предел, преступив закон. «Законодательное» учреждение, показы-
вающее пример «нарушения закона», есть, конечно, бессмыслица и неприли-
чие, и Дума была не столько закрыта, сколько она сама закрылась, потеряв
самый стержень бытия своего.
122
Мы уверены, что спокойный русский ум выведет наш конституциона-
лизм на прямой путь. Это путь не классовой борьбы, не сословной зависи-
мости и препирательств, чему, в сущности, предалась первая Дума, бывшая
именно не государственною, а только классовою. Задача Думы дана в ее
имени. В ней должны охраняться не только прерогативы Монарха, как зая-
вил в первом же заседании ее председатель, г. Муромцев, — в ней столь же
ярко должно присутствовать постоянное сознание государственной сторо-
ны во всяком вопросе, в минуту произнесения каждого слова. «Мы — госу-
дарственные люди» — вот чем должен проникнуться каждый депутат. Только
проникнувшись этим сознанием, налившись им, как соком наливается плод
под солнцем, — мужики, ремесленники, дворяне, инородцы, русские и ста-
новятся по-настоящему членами Г. Думы, представителями русского кон-
ституционализма. Без этого, до этого они так и остаются мужиками, ремес-
ленниками, дворянами, священниками, великороссами, литовцами, поля-
ками, евреями, являя собою всесословный сход, всесословную компанию
или соединенный клуб всех сословий, без малейшей тени на себе парла-
мента. Неужели в XX веке нам придется повторять трюизмы, надоевшие в
XIX и XVIII, что не платье делает человека, а человек платье, что не по
мундиру — патриот, а по делам своим, по заслугам отечеству, и, наконец,
что депутат русского парламента является таковым не по праву лезть на
высокую кафедру, сидеть в зале, куда, кроме них, никого не пускают, и,
наконец, вовсе не от того, что он шире драл горло на выборах и больше
приглянулся своим соседям по деревне, селу, городу или сословию, а един-
ственно потому, что в груди его, в груди москвича, пермяка, варшавянина,
литовца, белоруса, великоруса, казака или помещика, в груди князя и му-
жика, мусульманина и православного, живет вся Россия, грозит его совести
вся Россия, зовет на геройский подвиг вся Россия. Вот когда этот гул сер-
дечный, гул всероссийский, установится в Таврическом дворце, мы тогда,
и не раньше, как тогда, скажем: «У России есть парламент». До тех пор это
будет просто человеческая куча.
ОДНО ИЗ ВЫПАВШИХ ОРУЖИЙ
РЕВОЛЮЦИИ
В сущности, ничего нет скучнее, как жить без сопротивления и борьбы. И
все, что не сонно и мертво в личном составе нашего правящего механизма,
должно чувствовать себя бодро и свежо в совершенно переменившихся об-
стоятельствах. Даже такая деспотическая, но и вместе гениальная и деятель-
ная натура, как Бисмарк, говаривал, что он ни за что не хотел бы управлять
без парламента. И просто — парламент требовался ему, как упругий воздух
для крыльев птицы, как та «сфера сопротивления», которая только оттачи-
вала его способности и гений, которая живительно раздражала и возбужда-
123
ла его силы. Мы уверены, что даровитые между нашими государственными
людьми нисколько не скучают довольно трудными временами и нимало не
сожалеют, что они не видят теперь перед собою толпы бледных от страха
столоначальников и других столоначальников, сияющих от раболепства. Все
пошло теперь по завету пушкинского двустишия:
...Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.
Невозможно не заметить, как много уже сейчас, всего через ничтожные
месяцы трудного положения, правительство наше избыло из себя этих стек-
лянных, хрупких частиц и сколько оно приобрело в себя качеств ковкого
металла, не ломающегося, а вытягивающегося под ударами молота. Вспом-
ним растерянное «братцы», истерическое «братцы», вырвавшееся у рус-
ского государственного человека, прежде такого ловкого и сильного, при
объявлении второй забастовки. Но вот время прошло, очень небольшое, и
никто при начале этой июльской забастовки не впадал в истерику и не кри-
чал как институтка, у которой заболел живот. Все смешное прошло... Совер-
шенно еще неизвестны были размеры забастовки, как она пойдет и чем кон-
чится; но решительно ни у кого не было ни малейшего испуга, ни капли
растерянности, не только у правительства, но и у общества, у частных лиц.
Все встретили ее спокойно и мужественно, и, вне сомнения, этот-то покой
общества и был главною силою, парализовавшею забастовку. Он не только
создал превосходную атмосферу действия для правительства, которое дела-
ло свое дело и могло его делать, потому что под рукою у него никто не сто-
нал, не плакал, не трусил; но и, кроме того, видя покой и готовность выно-
сить как угодно долго неудобства и убытки от забастовки, сами забастовав-
шие почувствовали, и не могли не почувствовать, что они ударили по возду-
ху и даже скорее еще — оглушили сами себя хорошею затрещиною. Ибо,
конечно, если за забастовочные дни не платить, то забастовка накладистее
всего ложится на рабочий люд, поденных работников. Другие терпят не-
удобства, они — непоправимый ущерб; купец теряет из богатства, рабочий
теряет последнее и единственное, что имеет. Забастовка и не может идти
иначе, как рука об руку с этим полуразбойническим, полуворовским криком
снизу: «Плати и за время, когда я тебе вредил, а не работал на тебя», на
который сверху отвечают этим слюнявым, расслабленным и трусливым: «Зап-
лачу и за то, что ты бил и разорял меня». Конечно, под угрозою браунингов,
этой ultima ratio1 революции, порознь фабриканты уплачивали и не могли не
уплачивать и за забастовочные дни; это в своем роде: «Руки кверху, джен-
тльмены, выворачивайте ваши карманы!» Но догадались по общему согла-
шению не платить за забастовочные дни — и рабочим невозможно стало гро-
зить самим фабрикантам. К тому же рабочие не лишены здравого смысла и
1 последний довод (лат.).
124
понимают как юридическую, так и нравственную и экономическую правоту
принципа: «коли не работал, так и не получил». Это понятнее «братцев» и в
глазах самих рабочих несравненно почтеннее их. Просто это правда, и это
— умно. Всякая жена скажет своему мужу, всякие дети скажут отцу: «Сидим
без хлеба, потому что не работаем», а не потому что «правительство винова-
то». Вот такими-то умными и лучше всего чисто экономическими путями и
нужно бороться с рабочим классом, как и с бунтующим крестьянством, вы-
кинув совершенно из головы, из обыкновений общественных и государствен-
ных такую безмозглую гадость, как «безработные пенсионеры» или «жгу-
щие чужой хлеб сироты», которых «правительство обязано прокормить»,
«общество обязано приласкать»... Никто и ни к чему не обязан в отношении
человека взрослого, здорового и работоспособного. Нет работы — поищи;
искал и нет — поищи удвоенно, утроенно, попроси, ступай в другое место,
где не бастуют и фабрик не закрывают. Дайте только эту повадку, и на казен-
ную шею все сядут. Кому охота искать работы, когда и без работы сыт бу-
дешь. Не работали у нас чиновники в старом режиме, «кормились» на хле-
бах у государства; удивляться ли, что туда же потянулся и простой люд, с
угрозой наконец разделить всю Россию на два параллельных отделения: вы-
бивающуюся из сил, которая не только себя кормит, обувает, одевает и ле-
чит, но и выплачивает еще чудовищные, смешные по величине налоги, явно
не за себя и не про себя, и на Россию ничего не делающую, неработающую,
неучащуюся.
Экономика — сурова и умна. Не трудишься — не ешь; хочешь есть —
трудись. Все здоровое и нравственное сразу поймет эту азбуку, никогда не
запротестует против этой азбуки. Может быть, что-нибудь вслух и пробор-
мочет против нее, но в душе всегда с нею согласится.
Вот отчего в странах Западной Европы, странах классического труда,
работоспособности, всеобщая политическая забастовка как мера политичес-
кой борьбы, гражданской борьбы, наконец, даже борьбы социальной при-
знается средством хотя теоретически могущественным, но практически не-
применимым, ибо совершенно неосуществимым. Читайте социалистов гер-
манских и французских! Она удалась только у нас, и удалась только однаж-
ды, можно сказать, с испугу, в психологическом расчете на испуг и
растерянность общества и глубоко неопытной бюрократии, которая писала
только «отношения» и практически ни с чем не умела еще бороться. Уда-
лась она еще и в расчете на специально русскую особенность, неизвестную
западным экономистам и социалистам: что в России вообще «всех кормят»,
паче же других — «безработных»; что у нас не столько государство, сколько
Сиротский Дом. Ну, в Сиротском Дому вечные законы политической эконо-
мии действительно извращены и неприложимы. Тут не Адам Смит, а кали-
ки перехожие... Какая тут «экономика», какой «спрос и предложение», ре-
гулирующие «цены», когда все «по протекции» и «по знакомству». Так и
удалась большая октябрьская забастовка, которая больше никогда не повто-
рится, да, по-видимому, и сами революционеры совершенно это знают, что
125
она могла быть удачна только однажды, внове и с перепуга, отчего в этом
июле месяце социал-революционеры и были против забастовки, куда суну-
лись только недалекие социал-демократы.
СЛАВЯНСТВО И «ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ»
Достаточно сопоставить два эти выражения, чтобы понять, до какой степе-
ни мало случайного в происходящих сейчас на Балканском полуострове
событиях; как они обещают все возрастать; как они затрагивают и нашу Русь.
«Латинская церковь» на Западе, с ее великими историческими удачами,
успехами, с великим культурным, художественным движением, церковь
Данта, Кальдерона и Боссюэта, — и греческая церковь с «фанариотами» и
Афоном, секреты которого рассказываются полушепотом туристами и ни-
когда не попадают в печать, так как это относится к области «недозволенной
литературы» в самых свободных странах. Вся новейшая история «гречес-
кой церкви», история, однако, в несколько веков, сводится к сидячему ни-
щенству и бродячему лихоимству «Христовым именем»; к нищенству у того,
кто посильнее, как это было в отношении Московского государства, к жес-
токому утеснению и грубому денежному вымогательству у того, кто был
послабее, как это было у придунайских славян. Заглядывая в будущее и опа-
саясь этого будущего, греки XVIII и начала XIX века, в лице своих игуме-
нов, епископов и священников, назначаемых в земли древней Болгарии кон-
стантинопольскими патриархами или, точнее, стоявшими за спиною патри-
архата «фанариотами», т. е. банкирами, купцами и проч., систематически
истребляли письменные памятники болгарской истории. Они жгли харатей-
ные свитки, памятники болгарского языка, славянского богослужения, ста-
рой —то славной, то мученической — истории, прерванной османским втор-
жением. Этот насильственный перерыв не был нимало естественной смер-
тью; греки, с поразительным в истории и единоверии предательством, не
хотели, чтобы, когда придет пора возрождения из-под турецкого владыче-
ства их самих, греков, с ними вместе поднялись из гроба и единоверные им,
но разноплеменные болгары. Кто не помнит из «Страшной мести» Гоголя
этой легенды о двух братьях, — из которых один сталкивает другого пикою
в пропасть. Греки были этим страшным «братом», не хотевшим бытия дру-
гого брата. Но вот в XIX веке поднялась Греция, а за нею начала поднимать-
ся и Болгария. Тут к бесчеловечию греков присоединилась изумительная
ложь «Христовым именем». Есть древнее каноническое правило, по которо-
му «в одном городе не должно быть двух епископов», и правило это было
дано вселенскими соборами в пору великого единства всей христианской
церкви, боровшейся единодушно против языческого мира, чтобы народы
эти жили единодушно, без распрей, и если в каком городе есть смешанное
население, то чтобы две или три народности, его составляющие, признава-
ли, любили и чтили одного епископа, без всякого разделения, в согласии
126
Христовой любви. В эпоху вселенских соборов, в тогдашней мировой Рим-
ской империи, большинство городов имели именно такое смешанное насе-
ление. Но вообще правило это было дано в золотую пору единодушной люб-
ви как просто выражение факта, — того, что есть, что всем нравилось, ни в
ком не вызывало протеста. Это никому не было больно и всем было сладко.
Есть «правило», и есть «принцип». Правило: «Не надо другого епископа»,
принцип: «Потому что все живут в согласии и любви». Но греки, владея
патриаршеством, первые нарушили принцип «любви», не захотя жизни бра-
та. Как было «брату», видевшему эти старания, истребить самые следы его
самостоятельности, жизни, истории, — продолжать «христиански любить»
и патриархат, и пришельцев-греков? Греки, пожалуй, и не заботились об этой
«любви», как вещи слишком неуловимой, — да и, очевидно, не заботились,
когда такое и столь явно на глазах народа делали. Но вот Болгария из племе-
ни превратилась в княжество, и по городам болгарским уже сидели назна-
ченные константинопольским патриархатом игумены, епископы, митропо-
литы, священники. Те самые, которые ненавидели болгар и как племя, и,
еще более, как княжество. Болгары, с чистотою сердца, сказали: «Мы не
любим этих гнавших нас епископов, не в силах их любить; мы хотим, поэто-
му, иметь епископов своих, народных, рядом с этими греческими». Тогда
патриархия заявила, что она — хранительница церковных преданий, цер-
ковных законов и порядка, что она есть кафедра Иоанна Златоуста и иных
столпов церкви, и, умалчивая, что теперь она есть только гнездо денежных
фанариотов, потребовала, под угрозою отлучения болгарского народа от
церкви, чтобы в городах Болгарии, где есть уже греческий епископ, не на-
значался рядом с ним болгарский. Принцип был нарушен, — о принципе не
было и вопроса. Это — принцип любви. Но личина принципа — «правило»
— оно должно быть исполнено! Болгария возмутилась: «Вы же нас ненави-
дите: как мы будем притворяться любящими вас, любящими даже до неже-
лания иметь своих епископов». Но старый денежный мешок в Цареграде не
растрогался: «Сижу на месте Иоанна Златоуста, сужу, как Иоанн Златоуст, с
его авторитетом: до чувств ваших мне дела нет, а епископ должен быть грек.
Или — «анафема».
И «анафема» была принята болгарами, все сердце которых трепетало от
негодования и презрения к этой смеси лжи и «каноничности».
Вот происхождение болгарской «схизмы». В сущности, в истории «гре-
ческой церкви» она не представляет ничего нового. Так же всегда было. Надо
читать историю большого Московского собора 1667 года и роль на нем гре-
ков: до знакомства с подробностями московских отношений, пока они еще
ехали в Москву, они составили мнение по существу вопроса, но, едва при-
ехав сюда, переменили суждение сообразно обстоятельствам и были истин-
ными виновниками образования «раскола» в русской церкви. И до такой
степени робки русские, робки сказать простую правду, так они заколочены
этим «преданием, из грек идущим», что хотя в историях собора московского
нисколько не скрыта подпочва его решений и руководящая и решительная
127
роль на нем ученого интригана Паисия обрисовывается достаточно ярко, —
однако мы выносили и выносим всю муку разделения со старообрядцами,
покрыли себя позором преследования их, совершили бесчисленные жесто-
кости и утеснения и, тем не менее, не смеем вслух сказать того, что в душе
почти каждый раз говорим: «Все эти решения 1667 года были плодом нашей
наивности и необразованности, которою воспользовались греки и подста-
вили постановления, которых мы в сущности не хотели, последствия кото-
рых не предвидели и на которые были не вправе».
Так все «преемственно», так «преемственна» эта ложь. Видите ли, на
этом месте и в этих одеждах сидел Иоанн Златоуст; теперь «мы», торгую-
щие, покупающие, продающие все, до «благодати» включительно; от «нас»
— «вы», митрополиты, и епископы, и игумены московские, киевские, рос-
товские, рязанские: все в тех же одеяниях и с тем же титулом, как и Иоанн
Златоуст, — а стало быть, и с его авторитетом. «Лествица» от земли до
неба, и хотя ступеньки в ней одни золотые, другие — серебряные, третьи —
железные, а то попадаются и совсем деревянные, да еще и гнилые, преда-
тельские, однако от мира, от людей это скрывается, и вся «лествица» объяв-
ляется сплошь золотою. И идут по ней люди, приглашаются идти народы,
манятся «царством небесным», когда многих-многих уже ступенек нет; и
многие верующие с самого верха валятся вниз, ступив на гнилушку, где пред-
полагалось червонное золото...
Это называется «последовательностью» предания, «единством» канона
и закона. Этим, а не любовью, не правдою, не чистосердечием, а следова-
тельно, вовсе и не «верою», ибо верить можно только в правду, ныне уже
скрепляется «церковь Христова» или, точнее, наместников Христовых рим-
ских, константинопольских и преемственно от них — иных, более юных
стран.
«Более юных»... Но где молодость, там и физиологическое отвращение
от притворства, маски, от всякого вида подделок, от всего ненастоящего.
На заре нашей истории, как бы предостерегая потомков, сказал летописец:
«Греки бо все льстивы суть». Льстивы, т. е. ложны, притворны, — хорошая
характеристика народа, принесшего «небесную лестницу»... И вот как гер-
манские народы заволновались в XVI веке против Рима, не понимая, какая
связь между «спасением души» и обиранием денег Тецелем, так болгары
очень ярко, и в более легких формах, зато давнее гораздо, волнуемся и мы,
русские, в отношении «греческого предания»...
«Греческая церковь», — и славянство. Какая-то территорийка величи-
ною в одну нашу губернию — и племя, раскинувшееся между тремя океана-
ми, которому эта маленькая губерния говорит: «Не пикни в вере, — задав-
лю, отреку!» Основной вопрос, по которому эти балканские церковные вол-
нения небезразличны и для нас, заключается в следующем: можно ли пове-
рить, что до конца нашей истории, до могилы русского народа он так-таки и
не скажет никогда своего слова об отношении Бога к человеку, человека к
Богу, о совести, о мире, о жизни?? Неужели Греция все это исчерпала, разре-
128
шила и так совершенно, до того незыблемо, что и думать не о чем, заботить-
ся не о чем? Если так, то отчего же, однако, столько тоски на земле, столько
на ней и неправды? Отчего это русский народ, при всей целости «греческого
предания», сложил еще в допетербургские времена тоскливое убеждение,
что «в мире царствует духовный антихрист», т. е. не Бог, а как бы «противо-
Бог», с «божеской силой и властию, на божеском месте», но творя дела не
божии, не святые, не праведные, а какие-то лютые и лживые. «Подобие бо-
жества» видим, а Бога не видим, — вот выражение этого народного взгляда.
Пуст ли он? Легкомыслен ли он? От Аввакума и братьев Денисовых до су-
ровых дней Николая Павловича за это убеждение много пролито крови, при-
нято огненной муки; много высидено в земляных и каменных казематах.
И митры золотые, и одежды в блистании, и фимиам, и ладан, и умиль-
ное пение, а русский мужичок говорит: «антихристом пахнет». Если «Анти-
христом пахнет», то ведь это слово могло выговориться только у того, кто
имеет представление о каком-то «Христовом Царстве», «Божием Царстве»,
притом не только отличном, но и противоположном с наличною действи-
тельностью. Вот и знак, что русская душа не пуста от самостоятельного
религиозного идеала. Народ, который говорит, века говорит, сквозь муку и
огонь, что везде слышит «дух антихриста», что «Божия духа» он не слышит,
— уже сейчас полон религии, невыговоренной, невысказанной, но от немо-
ты-то, может быть, еще более пламенной. «Антихристом пахнет», — право,
«предсоборной комиссии» следовало бы с этого начать. «Что это такое, что
русский народ жалуется, будто все антихристом пахнет? Откуда у него та-
кое взялось? С чего взялось? И как сделать, чтобы он успокоился и сказал:
«Теперь Богом запахло».
До какой степени, однако, эта «предсоборная комиссия» ненародна и
отвлеченна: просмотрели такое народное явление, такое «самоощущение»
народное, такое определение им своего «религиозного здоровья», «церков-
ного благосостояния»... А, в самом деле, будущему собору русской церкви,
отметя в сторону эти дипломатически-ученые предрешения «предсоборной
комиссии», не начать ли с этого народного вопроса:
— «Отчего на Руси антихристом пахнет?»
БОЛЬШАЯ ВЛАСТЬ
Железо куют сталью; нельзя работать железо или сопротивляться железу
деревом. Вот простая фабричная истина, которая применима и к великой
фабрике государства. У внутренних разрушителей нашей государственнос-
ти такие железные нервы, такая металлическая совесть, что среди нашего и
робкого и апатичного общества, внутри нашего устарелого деревянного го-
сударственного механизма, они не могут не чувствовать себя так же свобод-
но, так же мало стесненными, как бегемот, прогуливающийся по тростнику.
Все наши «охраны», «усиленные» и «чрезвычайные», ложатся более бреме-
5 В. В. Розанов
129
нем на мирных обывателей, на зазевавшихся дворников и от роду простово-
лосых домохозяек, нежели составляют сколько-нибудь серьезное препятствие
для злоумышленников, искусившихся в опыте и действующих всякий раз
по плану. Вагоны, паровозы мы давно имеем «заграничных образцов», но
охранение мирных жителей у нас ведется по-домашнему, по-старинному:
идут допотопные предупреждения обывателям, чтобы они «береглись сами»,
а если они, будучи свидетелями преступления, не оказали помощи или не
дали свидетельских показаний, то подлежат такому-то наказанию; чтобы
«ночные сторожа при домах дежурили ночью у ворот, но не были вооруже-
ны». Чем же им сопротивляться, если они не вооружены? И если их боятся
вооружить, то для чего их назначают, для чего заставляют домохозяек пла-
тить им жалованье?
Все мирное у нас безоружно, все революционное вооружено. Полиция
смотрит во все глаза; но так как ей не дано никакой защиты, не дано даже
элементарных панцирей, которые рижане решили покупать несчастным по-
лицейским на свой счет, то их и стреляют или режут, как куропаток и как
куриц. Все это допотопно, первобытно, неуклюже, очевидно, домашнего
образца, а не английских или французских усовершенствованных систем.
«Речь» и другие левые органы печати, как бы издеваясь над жертвами
злодеяний, говорят: «Снимите военное и другие положения, ибо вы видите,
что они ничему не помогают». Но если «не помогают», то только потому,
что слабы и неумелы. А что «Речь» дает в поручительство, что со снятием
охраны злодеяния прекратятся? Жалкие и бездушные фразеры, стоя сами в
безопасности, кричат ледяные фразы гражданам: «Не закрывайте горла ру-
ками, когда по нему чиркает нож анархиста; ведь все равно он ловчее и силь-
нее вас — и вы будете зарезаны». Милые советы, милая печать!
Грустно и страшно то, что трудящийся и мирный слой русского населе-
ния, конечно прекрасный в своем основном составе, здоровый и спокойный,
дал подняться над собою этим двуличным господам в политике и прессе,
которые, не овладев русскою мыслью, — клонят слабую ее верхушку туда и
сюда, по злому своему сердцу, по лживому характеру, в стороны — враж-
дебные азбуке социального здоровья. Только и читаешь известия, что где-
нибудь на Дону или в Чухломе какая-то газета, «Луч» или в этом роде, «кон-
фискована со второго нумера». То-то стараются чухломские либералы. По-
думаешь, в каждом заштатном городе сидит теперь Мирабо. Между тем,
конечно, основной стан Руси спокоен и здравомыслен: но отчего он не ше-
велится, молчит? Политики мы не имеем; от «политиканства» захлебывает-
ся Русь.
Несчастная Русь! Кто этого не повторяет, не думает? Чье сердце не об-
ливается кровью при виде жертв, падающих внезапно, поражаемых «втем-
ную», попутно, при усилиях достать до человека, который далеко и крепко
сидит.
Ну если революционеры — львы, то львов укрощают каленым железом:
простая логика. Государство наше обязано защитить культуру, цивизизацию,
130
да, наконец, просто жизнь ни в чем не повинных третьих людей, не прини-
мающих участия ни в какой политике. Никто из самых левых особенно не
возмущался, когда в краткие недели «латышской республики» в минувшем
году революционеры практиковали короткий и решительный суд: за кражу
во второй раз — расстрел уличенного. Не знаем, по-европейски это или по-
азиатски, из XXVI века европейской цивилизации или из XI. Кратко и вразу-
мительно. При такой краткости естественно, что они добивались моменталь-
ного повиновения, и население сидело под революционным начальством
тише воды, ниже травы. Конечно, предлагать возвратиться к такой элемен-
тарности — значило бы оскорбить тот авторитет, к которому обращаешься.
Мы этого и не делаем, но мы решительно указываем, что нигде в Западной
Европе или Америке нет этой бесконечной бумажной возни, этой протоколь-
ной и следственной формалистики, которая у нас окружает всякое уличное
безобразие, всякого нахала, оскорбителя, вора, вплоть до злодея и злодеев!
Насколько у нас власти грубы и невнимательны к мирным людям, будто они
железные, настолько те же самые власти вдруг проникаются сознанием «прав
человека», «прав гражданина», как только им приходится схватить на Не-
вском альфонса, «кота», грабителя, вора, ножовщика. Это уже годы ведется,
что с такими господами поступают как с сахарными, боясь, как бы они не
растаяли в руках полицейского или не разбились от ответного тумака. Ежед-
невно целые роты таких господ вывозятся по Николаевской дороге, кажет-
ся, до станции Любани, и оттуда эти господа возвращаются в столицу безби-
летными под лавкой. Ни работы им нет, ни принуждения. Настанут холода,
и стоит им стянуть что-нибудь, чтобы попасть на казенный харч и казенную
топленую квартиру, именуемую усовершенствованною тюрьмою. Это бе-
зобразие и распущенность практикуются годы. Дивно ли, что все наглое,
нахальное, воровское, бесшабашное стало у нас дерзко, как нигде в Европе,
а с революциею, подав ей руку, все это поднялось на верх положения, прим-
кнув и слившись с освободительным движением. Кто он, Беленцов? Вор?
Революционер? Хулиган или герой освобождения? Краски смешались, цве-
тов не различишь. И бедная Русь стонет под гнетом печали и ужаса. Желез-
ною лопатою надо соскрести всю эту гадость, весь этот человеческий навоз
с лица русской земли, которая прежде всего оскорблена им. Ибо Россия лица
человеческого в себе не утратила. Затем, по уборе этого сора, остается то,
что Шарль Рише в известной книге назвал «ядами интеллекта», поставив
эти умственные, духовные яды рядом с отравлением гашишем и другими
наркотиками. Это люди, обыкновенно юноши, напитанные революционным
ядом и действующие под влиянием его как лунатики, как белогорячечные,
как курители опиума или индийской конопли. Увы, дома сумасшедших име-
ют суровую прислугу, а не филантропических сестер милосердия. И с этими
людьми уместна только сила и сила, железо и железо. Вовсе они не «поли-
тики», и бесполезно с душевнобольными вести политические разговоры. «Все
захватить, все поделить» — ну, какая тут политика; «что твое, то мое»; и это
плохая экономика. Не нужно этим господам конституции, даже не нужно им
131
и республики; да и это — только первая страница их поэмы. Они несутся
бредом, несутся в трансе, как вертящиеся дервиши Востока. Им дорог именно
этот бред, этот блаженный наркоз своей фантазии: и единственно сердоболь-
ное к ним отношение заключается в надевании на них халата с двухаршин-
ными рукавами, которые завязываются в удобный узел за спиною. Прави-
тельство именно это и обязано сделать. Оно обязано скрутить революцию,
— иначе оно восстановит против себя и мирных обывателей. Кто слаб, того
презирают: это пусть не забудется и в низах, и в верхах наших. Кто слаб,
того сбрасывают; это тоже надо помнить.
ЛЕВЫМ РЕПТИЛИЯМ
Можно было бы чему-нибудь поверить в нашем «освободительном движе-
нии», не будь оно так бездарно представлено в печати. Но голос человека,
как и партии, выражает душу и человека и партии. И печать силою, ярко-
стью и оригинальностью или, напротив, бессилием, шаблоном и бесцветно-
стью хорошо показывает, имеем ли мы дело и в партии с тигром или гие-
ною. Трудовики и газеты трудовиков в пору думской сессии были так же
определенны, а со своей точки зрения были так же и талантливы, как самая
партия в Думе, которой всего доставало, кроме образования. Писали в газе-
тах и говорили в Думе «ребята», а не господа, и, пожалуй, «молодцы» даже
без гостинодворского оттенка. Партия эта была чисто политическая и нис-
колько не литературная. Ее членам просто и не пристало держать книгу в
руках. Их дело было «палить» — и они палили словами, воззваниями, крика-
ми, инсинуациями, поступками, проступками и, судя по внедумской их де-
ятельности и аресту многих «б. д.» (бывших депутатов), преступлениями.
Браунинг — дело ясное, короткое и до известной степени прямое. «Или я
тебя, или ты меня» — так и заявили с «непорочной кафедры» Аладьины,
Аникины, Жилкины, Михайличенки и Седельниковы в лицо министрам,
говоря о России. Их дело. Во всяком случае, это не плутовство, как не были
плутовством, а весьма серьезными явлениями истории в Свеаборге, Кронш-
тадте и проч.
Но читайте изо дня в день безотечественную «Страну» или беззубую
«Речь» и получите впечатление уже не полосатого, стелющегося по земле
тигра, в котором все красиво и великолепно, хоть он и опасен, но впечатле-
ние именно пятнистой гиены или, пожалуй, длинноухого осла, которого со
всех сторон толкают в бока, когда, потеряв из виду поводыря, он забрел в
уличную толпу. Поводырем у этих газеток была Дума, и raison d’etre их был
в том, чтобы своими словами разжевать то, что иногда невразумительно
или уж очень безграмотно говорилось в Думе, или анонсировать то, что
там будут говорить завтра. Так и текли дни и «нумера» этих швейцаров
Таврического дворца. Но Думы нет. Наступили долгие вакации. И осел заб-
лудился.
132
«Официозная пресса, — говорит сегодня «Речь», — разделилась... «Но-
вое Вр.» выступило против «России» и в статьях г. Меньшикова и редакци-
онной горячо защищает идею диктатуры, отвергаемую «Россиею». Что это
означает? Произошел ли раскол в среде самого министерства? Или назрел
раскол между министерством и теми «сферами», которые инспирируют орган
г. Суворина?
Ничего не случилось, пятнистая гиена, — ничего нового: все старые, врож-
денные вкусы ночного трусливого зверя, который бродит около могил, об-
нюхивает алчно трупы мертвых и боится света дня и вида живого человека.
Гиена должна знать то, что знает вся Россия: что «официозы» никогда не
нападают на людей во власти, на правительство или части его и что «Нов.
Время» в свое время говорило такие горькие истины правительству и час-
тям его, которые уже по политичности своей и определенному адресу были
куда больнее, чем огульное и сплошное вранье целого ряда новых органов,
на которые никто не обращал внимания, и никому оно не было страшно,
потому что все видели, что оно продиктовано злобой и состоит из клеветы.
Критика как военных, так и морских порядков, напр., в статьях г. Кладо, —
критика учебных порядков, критика финляндских и кавказских порядков
была больнее всем, до кого это относилось, — это видно уже из того, что
критикуемые администраторы и целые органы управления отвечали нам,
чего они никогда не делали при нападках слева, ибо они именно были болез-
ненны. Может быть, газетка этого не знает? Но она все знает. Заблудивший-
ся осел ныне ступает без пути, куда глаза глядят, и щеголяет только общим
колоритом своей шкуры или, говоря без сравнений, щеголяет только либе-
рализмом, между прочим заключающимся в киваниях, что вот «сосед не так
либерален, как я». И сколько в этом мещанства, литературного мещанства!
Какое убожество пера и головы!
Ну, хорошо, если мы «официозы правительства», то, уж во всяком слу-
чае, это не правдоподобнее, нежели то, что «Речь» изображает собою репти-
лию, подыгрывающуюся к громилам винных лавок, банков и вообще господ
лозунга: «Руки вверх». Почему нет? С той резкостью, с какою мы говорили
о правительстве, «Речь» ни разу не говорила о грабителях почты. «Связь
явная», — сказала бы «Речь», коснись это «Нов. Вр.» и его тона о правитель-
стве. Итак, мы будем считать доказанным, что если не по корысти, то по
некоторому сердечному расположению и единству образа мыслей «Речь»
находится в негласном союзе с грабителями табачных и кабачков. Конечно,
эти «Социологи», «Изгоевы» и «Азовы» (великие писатели земли русской и
«Речи») не ходили на Аптекарский остров с бомбой; но они полизали крови
на трупах тамошних трупов и сказали: «Вкусно! Нашим пахнет». Вот вели-
кий писатель земли русской, Влад. Азов (не жид ли?), написал же, на виду
полусотни убитых и искалеченных всего вчера, такое шутовство: «Надо, в
первую голову, закрыть все заведения, отдающие экипажи напрокат. Надо
обязать всех портных записывать все принимаемые ими заказы в особую
шнуровую книгу с обозначением фамилии, звания и адреса заказчика. Надо
133
организовать особую инспекцию по надзору за портновскими (портняжны-
ми) заведениями, вроде инспекции, наблюдающей за типографиями. Надо
всех швейцаров заменить военными караулами и всех приезжих, откуда бы
то ни было, подвергать обыску и содержанию в особых карательных тюрь-
мах».
Остановись, шут, над кровью шутишь! Над раздробленными ногами
неживых и полуживых, над стариками и несовершеннолетними. Это, види-
те ли, газетка, инспирируемая профессором русской истории Милюковым,
шутит в речах своего выходного клоуна над горем России о жертвах 12 авгу-
ста, над растерянностью и гневом ее. Он уськает и хихикает около мертвых,
он пересмеивает возможные меры строгости; и, хотя никаких еще не приня-
то, он бежит вперед, как истинная рептилия, и пародирует и лает около вся-
кой меры, какая может быть принята. «У революционеров превосходные
паспорты и блестящие формы», — не устыдился он написать десятью стро-
ками выше приведенного места. Да, «наши удирают», кричит рептилия; «не
изловишь!» И бегут эти гиены. Скверные тени, ночные тени их перебегают
повсюду. Попали в печать, имеют вид литераторов. Якубзоны и Азовы ста-
ли на месте Щедрина и Успенского, как те стали на место Тургенева и Гого-
ля. Со ступеньки на ступеньку идем мы в гнилой погреб... И копают могилу
эти гиены. И лижут запекшуюся кровь ее жертв...
Славное время.
ЦЕРКОВЬ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
И ЦЕРКОВЬ СОВЕСТЛИВАЯ
Многими сознано и отмечено, что, кроме политического движения, у нас
происходит и социальное; кроме борьбы за реформы гражданские, юриди-
ческого характера, в последнем идеале за реформы «учредительные», —
совершается борьба во имя коренной социальной справедливости, какой,
собственно, никогда не видала история, которая не была осуществлена в
жизни ни одного народа, но сознание которой неугасимо живет в каждом
человеческом сердце. Справедливость эта имеет свой большой «Аз»: «кто
трудится — вправе быть сыт, кто не трудится — может и поголодать». В
жизни как раз наоборот устроено: изморенные в труде — илоты в Спарте,
пролетарии в Риме, рабочие и мужики во всей Европе и у нас — живут впро-
голодь, а иногда и голодают, тогда как спартиаты, патриции, капиталисты
если и трудятся, то лишь по желанию, и проживают и роскошествуют даже
и в тех единицах, которые вовсе и никогда не трудятся. Таково уже второе
поколение или третье, четвертое — богачей-приобретателей. Этот «Аз» вся-
кому понятен; и вот почему в то время, как политическая часть освободи-
тельного движения обнимает только зрелых граждан России, состоятель-
ных отцов семей, рекомых «буржуа» («кадетские» партии), — социальная
часть движения взбудоражила всех, подняла всю Россию, рабочих, мужи-
134
ков, студентов, семинаристов, гимназисток, менее мужей и более мальчи-
ков, все мечтательное, все еще не «обвыкшее» в жизни и не усевшееся плот-
но в свою общественную ячейку. Скажем так: старый писатель, с большим
именем, с хорошим заработком, — он «кадет», сторонник политических ре-
форм, льющий за них чернила, но писатель, начинающий только «вот-вот»,
у которого все в надеждах, — он «социалист», «марксист», «товарищ», не
прочь пожертвовать и кой-чем больше чернил для мечтаемого будущего
строя. Учитель семинарии — «кадет», семинарист — опять же «социалист»,
друг рабочих и «обездоленных»; профессора, чиновники, люди женатые и
имеющие детей — дальше «учредительного собрания» в самых внутрен-
них, сокровенных желаниях не идут, да и эти мечты питают несколько вяло.
Но их дети мало интересуются тем, чего они собственно не испытали, —
гражданскою, юридическою стороною жизненного строя: их не это давит, а
давит огромная жалость к миру работающих и голодных, «труждающихся и
обремененных», давит этот огромный «Аз», всем известный и всем понят-
ный, рвет их нервы, родит бессонные ночи и в них горячечные сны. В пус-
тынях видятся миражи; среди безводных песков показываются ручьи, озера,
пальмы: так же точно в рабочих массах, немытых, нечесаных, полуголод-
ных, предавшихся годы только алкоголю, как единственному доступному
утешению, развертываются панорамы роскошной, братской жизни, полной
умеренного, неизнуряющего труда, — труда вольного и охотного, но зато
всех людей, среди цветов, плодов, всей роскоши цивилизации и свежести
природы. Является мечта нового всемирного братства, ради которого «про-
летарии всех стран, соединяйтесь!». И как из пустыни нельзя не рваться к
мареву, так решительно невозможно не требовать, не ожидать, чтобы рабо-
чий, которому показан уголок «будущего социального строя», не рванулся к
нему всеми силами души и тела, мускулами и воображением. Мы сказали:
«марево», «мираж». Может быть, так, может быть, — не так. И христиан-
ство суровым римлянам II — III века казалось «несбыточною мечтою». Мы
обрисовываем положение и нисколько его не судим. «Аз»-то всем виден,
«аз»-то для всех убедителен; вот что образует огромную массивность и тя-
желовесность теперешнего движения. Идет страшный поезд, как бы в сотни
вагонов и сотни тысяч пудов, и как его остановить не собственным внутрен-
ним тормозом, на который не простирается власть стоящих вне поезда, а
остановить вне-поездною силою, со стороны, встав перед ним «препятстви-
ем»? Вот положение, и вот вопрос.
Мы сказали, что этот двойной состав русского освободительного дви-
жения отмечен многими: но на самом деле состав его — тройной. Третья
часть его пока забыта под волнами собственно юридического и работного
движения. Они — материальны, и они видны, — они томят ежедневно, и
острая боль их чувствуется каждый час: это — заработная плата рабочего,
это — гнет, положим, еврейской черты оседлости. Но под обоими этими
движениями лежит морфология более глубокая: «Где же правда?» «Где же
Бог?» «Кто Бог и какова Его правда и где эту правду найти?»
135
Это — вопрос о церкви. «Церковь» — это и есть «правда Божия на зем-
ле», «правда Божия в осуществлении»; духовенство, «преемники апосто-
лов», суть глашатаи, вестники, мудрецы и мученики этой «правды». В са-
мом деле?.. Читатель улыбнется. Улыбка эта и есть революция, — самый
глубокий ее корень, топкий, ядовитый, и он-то мучительнее и нервнее и,
пожалуй, обширнее всего и поднял люд в волнение, в движение. Можно так
сказать, что, если бы «мудрецы и мученики правды Божией» действительно
жили у нас по деревням, бродили из города в город, заседали в судбищах,
палатах, участвовали в составлении законов, в установлении налогов, ну...
ну, тогда Россия и не была бы доведена до теперешнего состояния, не имела
бы нищего народа, ничего не делавшей десятилетия бюрократии, да, пожа-
луй, и японской войны; и тогда все «движение» было бы просто паломниче-
ством к этим «Божиим людям», «правдолюбцам», и опросом их.
Глубокая тоска Русской земли заключается в сознании и очевидности,
что «церковь» есть, а «осуществления на земле правды Божией» нет; что
некуда пойти, некуда паломничать. Ну, шествуй за «правдой», русский че-
ловек, русский мужичок. Куда пошел? — «В церковь — там правда». Т. е.?
— «Иду в духовную консисторию: она — палец от руки Синода, а Синод —
целая рука церкви, рука да и голова и сердце церкви: иной главы, руки и
сердца церковного не вижу». — «Ступай, ступай, дружок: не ошибся адре-
сом». Пришел мужичок, запел каликой перехожею, запел о том, что пахать
ему не на чем, лошаденка не кормлена, коровушка пала, детушки от чер-
ствого хлеба — без молока в пост — животом болят и самой земли так мало,
что плюнуть есть на что, а работать — нет на чем. И поет-поет об этом
калика перехожая, поет перед столом, крытым зеленою скатертью, за кото-
рым сидят хорошие люди, одни с длинными волосами, в долгополом платье,
с широкими рукавами — и эти как будто не чесаны, и на других синие сюр-
туки, нарядные галстуки и светлые пуговицы — и эти как будто причесаны.
Поет калика. И кончил. Чесаные и нечесаные слушатели переглянулись: «Что
же вам, собственно, копейку, рубль подать? Христа ради? Об этом просят
под окном, а не в правительственном учреждении. Туда и приходите...» «Зем-
ли мало? Это — в ведомстве Министерства земледелия...» «Законы неспра-
ведливы — на это есть министр юстиции»... «Что? Что? На Руси правды
нет? Трудно жить? Верно, студента слушал, плохие книжки читал... Что-о-
о? Что-о-о? Поп много за требы берет? Верно, с штундистами снюхался,
хочешь церковь покинуть?? Может, и в Бога не веришь!!!» И, мигнув сторо-
жу за спиною, препровождают, можно сказать, из «царства небесного» пря-
мо в полицейское управление сего «калику», распевшегося о себе, и о Руси,
и о правде Божией, и горе человеческом...
— Что такое священник?
— Человек, у которого архиерей отстриг пук волос.
— Не может быть? Это — «преемник апостолов», проповедник рели-
гии, любви, Христовой правды! Это... это...
— Ничего не «это», а просто у которого отстрижен пук волос.
136
— Только?
— Только! Несомненно, бесспорно!! Пока не отстрижен пук волос — то
хоть он тут разлейся в «правде Христовой», раздай все нищим, ходи по тюрь-
мам, исполни весь, весь «закон Христов», до «йоты», — а литургий, где свя-
щенник «изображает собою Христа», ему отслужить не позволят, пропове-
ди с амвона, т. е. авторитетно, произнести не позволят же. И ничего священ-
нического не дадут, святого, служебного, апостольского, «по стопам Христа
и мучеников». Напротив, если человек и выпивает, не прочь в картишки пе-
рекинуться — не явно, но и не тайно — если денежку любит, к людям черств,
совсем черств, довольно лукав и льстив и низкопоклонен, — но, однако же,
стоял перед архиереем на коленях, а он стриг ему волос прядь: и все так
медлительно, величественно, что хотя все добродетели его ни от кого не
укрыты, — однако после сего он «изображает Христа», и учит, и наставляет,
и «разрешает грехи», как и совершает другие воистину «страшные таин-
ства». Отстрижен клок волос — все может; не отстрижен — ничего реши-
тельно не может, каких бы добродетелей ни был! Сделайте вычитание: все
добродетели минус стрижка волос — нет священства; многие явные пороки
плюс стрижка волос — священник. Следовательно, «священник» — просто
стриженый... Ну, архиереем в торжественной церемонии, и вообще все так
красиво, величественно, эстетично...
Эстетика, а не совесть! Великие творцы Парфенона и дивных статуй,
которые дали «канон» художеству всего мира, — греки — и религию дали
миру, завещая миру как сумму великих эстетических приемов, эстетичес-
ких движений, эстетических положений, как великую художественную ар-
хитектуру — художественное убранство храмов, художественную санови-
тость, художественные одежды и, наконец, великое художество слова —
речи, поучения, напевы... Но более всего — «процессий», повторивших
древние «хоры», на которых трепетали, религиозно трепетали современни-
ки Эсхила и Софокла... Вот в чем дело! Вот что дали Руси греки, о которых
первый летописец заметил: «Греки издревле льстивы (лживы) суть» — ио
которых новые люди повторяют: «Можно не поддаться обману еврея, мож-
но не поддаться обману армянина, но грек вас наверно проведет, и притом
всякий проведет». Замечают историки, что характер галлов, описанных
подробно Юлием Цезарем, сохраняется до сих пор во французах, без вся-
кой перемены. Черты народные бессмертны, не умирают вовсе. И если та-
кова теперь характеристика греков, если она не иная у Нестора, в XI веке,
то, очевидно, не иным был их характер в VIII, VII, VI, V, IV веке. Да хро-
нографы так об этом и говорят: великолепный храм св. Софии, построен-
ный 6 бок с великолепными же конскими ристалищами, этими «олимпийс-
кими играми» Византии, где соперничали партии «голубых» и «зеленых» и
увлекали в соперничество все общество, двор, всех... Дивные литургии —
и около них роскошная, умная, хитрая, развратная Феодора... Богомоление,
и эстетика, и плутовство... Ну, по плечу ли это Руси? Такова ли наша ду-
шенька неуклюжая, косолапая, медлительная, ленивая, но... чуткая в совес-
137
ти, плачущая не по «великолепиям», а вот потому, что «нет правды нигде!
Нет во мне! Однако нет и в судиях моих, нет и в законах, нигде»... Гречес-
кая эстетика и передалась в купца, который золотит купола и обмеривает
покупателя, кладет большой поклон, льет большой колокол, ставит свечу в
сусальном золоте, — и «жмет, жмет масло» из соседей, из родственников,
из села своего, из всех... Богу — все, человеку — ничего, на богослужении
— у него душа плачет, на торгу от него люди ревут. Вот идеал «русского
благочестия», очерк его, тип его — от греков, не от себя. И великие русские
«праведники», какие были и есть, какие удалялись в пустыни, жили поче-
му-то не в общежитиях монастырских, а в скитах, в лесу — они уходили не
от одного шума городов, но уходили в каком-то недоумении вдаль от этой
«эстетики» церковной, эстетики греческой, эстетики не русской... И эти пра-
ведники церкви, нашей русской церкви, уже не греческой, как дивный Се-
рафим Саровский или Амвросий Оптинский, — они только не сумели вы-
говорить, но уже были безмолвными начинателями совсем другой, нашей,
«русской веры», подлинной «русской церкви» как сокровища совести, а не
как художества обрядов... «Русская церковь», «греческая церковь»: само
собою, — русские, это безбрежное море народа между тремя океанами,
прожившие тысячу лет, т. е. не менее, чем сколько жила царьградская дер-
жава (с императора Аркадия, преемника Феодосия Великого), никак не ме-
нее вправе, чем греки, понять по-своему, по-новому отношения человека к
Богу, всю Божью правду, все Христово завещание. Понять и устроить свою
новую «русскую церковь», так же верно выражающую именно русский дух,
русскую совесть, русскую правду, как греки образовали церковь по закону
своего эстетического духа.
Вот что подспудно лежит и шевелится под «освободительным движени-
ем»... Муки русской совести, которая, — увы! — мучится и в церкви, среди
нынешних обрядов, великолепных церемоний, величественных санов. Много
есть провиденциального, как бы руководимого Рукою Божиею, в тепереш-
них днях России: провиденциально и это, что вместе с созывом первой Думы,
с началом подлинной гражданственности на Руси, зашатался и уже почти
пал весь «синодальный период» русской Церкви, и мы стоим перед Собо-
ром, еще не имея Собора, — перед новым чем-то при погребенном старом...
Потрясенном, — и почти уже отсутствующем.
Теперь это — под волнами, но через 2—3 года, даже через год выявится
в огромных размерах.
ПОЛИТИКА И «МЕРОПРИЯТИЯ»
Недавно «Речь» предлагала нам «выйти из-за ширм» и объявить прямо, чего
мы хотим: хотим ли мы того, чтобы администрация перестала стесняться
какими бы то ни было законами и чтобы ей было предоставлено право ве-
шать кого угодно? «Чего же вы хотите, может быть, этого? — спрашивает
138
газетка своим шаблонно-фарисейским языком, писавшая в утро того самого
дня, когда было совершено преступление на Аптекарском острове. — Гра-
бежи и анархические действия совершаются совершенно беспрепятственно
при наличности военных положений, чрезвычайных и усиленных охран» и
проч. Таким образом, газетка хорошо видит, что не доделано чрезвычайно
много и даже, пожалуй, ничего не сделано по пути требования об исполне-
нии закона, и, следовательно, никакой нет нужды, за исчерпыванием облас-
ти законного, перепрыгивать в какую-то воображаемую область отмены всех
законов, чего, видите ли, будто бы мы страстно желаем. Но безнаказанность
грабителей и убийц, по мнению ex-думской газеты, «кажется, убедительно
доказала», что этих недействующих охран и военных положений не надо
вовсе и их следует отменить. Казалось бы, если из худого кармана вывали-
ваются деньги, то надо починить карман, а не то чтобы вовсе оторвать его,
полагаясь «на милость Божию» и добродетель воришек, которые, подняв
деньги, принесут их владельцу.
Сама же газета называет все эти ежедневные убийства, разгромы и гра-
бежи «партизанскою войною революции», где революция является напада-
ющей стороною. Но слыхано ли где и когда-нибудь, чтобы в то время, как
одна сторона нападает, другая не защищалась? «Речь» и подобные ей орга-
ны требуют мертвенности от России; а мы требуем, напротив, чтобы Россия
жила, действовала, — и на войну отвечала войною, раз она ей объявлена
хотя бы в партизанской форме. Не настоящею, конечно, войною, — потому
что какие же вояки эти революционеры, стреляющие из подворотни и из-за
бабьей спины: но вот именно объявлением на военном положении некото-
рых районов. Не хочешь быть «караемым» — не совершай преступления.
Не хочешь, чтобы тебя покарали быстро, энергично и без проволочек — не
совершай преступления злодейского, беспримерного, наглого, массового,
каковы были избиения сонных солдат и действительно беспримерные гра-
бежи и анархические действия. Уж если кто, то только одно государство
обладает правом оружия и правом даже крови, по праву: salus reipublicae
suprema lex — на всем протяжении, где звучит русская речь и видно русское
лицо. «Руки вверх» оно предлагает подержать разным сорванцам и оборван-
цам, пока агенты полиции посмотрят, нет ли у них в кармане револьверов и
бомб, с которыми эти «политики» и «герои свободы» шарят в обыватель-
ских карманах залежавшиеся кредитки.
Всего на днях в № 240 «Русск. Слова», в корреспонденции из Одессы,
сообщалось, что множество зажиточных обитателей города получили угро-
жающие письма, от воров или революционеров — корреспондент отказыва-
ется разобрать, с предупреждением, что если к известному сроку они не
сделают денежного взноса, каждый в определенной сумме, «на нужды рево-
люции», то они будут убиты. Каковы эти «взносы», видно из того, что у
одного богача потребовано... пол миллиона рублей!! Что же, нельзя винить,
если многие дадут: есть между богачами старые, слабые, есть, наконец, ма-
лодушные, боязливые. Все эти качества души, в просторечии именуемые
139
«слабостями», еще не есть мотив, чтобы новому порядку вещей кричать о
них: «Голову долой!» Но «заря новой России» именно кричит: «Голову до-
лой, или выворачивай карман!» Об этом вести ежедневно печатаются, —
буквально об этом, в этих самых словах! Неужели же «Речь» не видит или
откажется признать, что для «оставления церемоний», судебных и админист-
ративных, действительно накопилось много человеческого матерьяла в наши
скверные дни. Повторяем еще раз, что России и правительству русскому
совершенно неприлично принимать анархистов-революционеров за поли-
тическую партию или политическое мнение и считаться с ними как с поли-
тическою силою во всем правительственном составе, in согроге. Этот сквер-
ный оттенок ворам и убийцам придают только газетные их прихвостни, но
достаточно понять, что собственное-то литературное и умственное значе-
ние этих газеток убого, — чтобы взять все это дело в одни скобки, поставить
над ним ярлык: «уголовщина» — и отнести это к ведению только той власти,
которая специально «уголовщиной» занимается. Половина дерзости рево-
люционной, у нас — хулигански-революционной, объясняется тем, что в
собственных глазах они играют роль «политиков», чего-то «историческо-
го», многозначительного, и робкая или неумелая власть помогает этому их
самогипнозу. Сведите их с этой высоты, и эти хулиганствующие подонки из
интеллигенции бросят заниматься таким «неинтересным делом». И это не-
обходимо, чтобы они бросили, ибо занятие это действительно есть сквер-
ное, воровское и разбойническое, раз что есть Дума, есть конституция, кото-
рая и без мальчишек и хулиганов может добиться всего для России, что нуж-
но, что целесообразно и благотворно.
Политика России in согроге, правительства русского, государства рус-
ского — только одна, теперь и на ближайшие годы: укрепление и развитие
конституции. Не велика вещь «дать» ее, велик труд — приучить к ней; закон
перевести в обычай, в «дух» каждой хижины и всякой улицы. Вот что требу-
ется, вот задача России. Поэтому г. Столыпин, высказавшийся, что красный
террор никоим образом не поведет к белому террору, высказал то самое, что
нужно, и единственное, что нужно. Но, конечно, исключение белого терро-
ра из правительственной программы не равнозначаще с распущенностью
полиции или бессилием и неловкостью департамента государственной по-
лиции, где на глазах восьми жандармов убегает грабитель-революционер.
Вообще бездарность нашей полиции феноменальна и почти соперни-
чает с знаменитой адмиральской и адмиралтейской опытностью и искусст-
вом.
Задача большого правительства, центрального правительства, не борь-
ба с этими шарлатанами революции, но неуклонное шествование по пути,
взятому 17 октября. Конституция и парламент: вне этих имен и этих звуков
нет пути, и не нужно. На правительстве лежит страшно тяжелая обязан-
ность воспитать конституционное общество, — общество, к великому со-
жалению, какое-то неурожайное в эти годы, мелочное, самолюбивое. Дос-
таточно вспомнить жалкий отказ общественных деятелей вступить в каби-
140
нет, — отказ, в котором так поразительно сказался даже в видных, казалось
бы, людях самолюбивый расчет «как бы себя не уронить». Мерялись и тор-
говались, а родина в опасности! Скверно то, что стан России, громадная
масса, даже масса образованного общества — конечно, здорова, добропо-
рядочна, может быть, даже к героизму способна! Способна, поверьте, это-
му есть признаки. Но гордый высокий колос выронил зерно. Вершинка-то
у этого общества никуда не годится: пуста, легковесна, малосодержатель-
на. Вот где горе России!
ГУГЕНОТЫ — «ОСВОБОДИТЕЛИ»
Прекрасное понятие и прекрасное слово «образование», «образованность»,
«образованные люди», вовлеченное в водоворот политики и политиканства,
полный мути и сора, превратилось в русской жизни в специальный термин:
«интеллигенция», «интеллигент». «Интеллигент» — это не значит действи-
тельно образованный человек, вдумчивый, анализирующий, сомневающий-
ся, — наследник Фауста и Гамлета. О, далеко не то. Это — ходячая «про-
грамма», коротко обрубленная и набранная такими огромными буквами, что
за версту можно читать. «Интеллигент» — это человек, давший себя «на
подержание» которой-нибудь из левых партий, для вывески и ношения ее
плакатов. Год назад, когда в Петербурге ожидались черносотенные «выс-
тупления», эта интеллигенция имела скорбно-саркастический вид, как Авель,
приготовившийся быть убитым Каином, и жаловалась, что «по полиции и
среди подонков столичного населения дан лозунг — бить интеллигенцию»,
с каковым криком если не на этой, то на той неделе пойдут по домам и ули-
цам хулиганы и начнут избивать студентов, курсисток, вообще людей в оч-
ках и сюртуках. «Бей интеллигенцию» — это было живое слово, насмешли-
во передававшееся в Петербурге всю предшествовавшую зиму.
Но ничего подобного не случилось. Авели остались целы, а повалились
«Каины», т. е. обозванные Каинами, люди черной окраски, старого образа
мыслей, «не интеллигенты». Вся Россия разделилась на сторонников «осво-
бодительного движения» и не сторонников его. Явился террор мысли, иско-
ренение «старого образа мыслей», притом такое искоренение, какого и не
снилось не то что пугалам прежнего времени, хотя бы проклятым на всех
литературных перекрестках Руничам, Магницким и пр., но даже и самому
Аракчееву. Читаете телеграмму из Митавы от 22 августа, и у вас волосы
дыбом станут: «В квартире убитых пастора Циммермана и жены его найде-
но объявление, что он приговорен был к смерти за осуждение революции.
Раньше появились прокламации, что пасторы, осуждающие в проповедях
революцию, подлежат расстрелу»... Сын этого пастора был только что при-
везен в гимназию отцом и узнал об умерщвлении отца и матери на акте в
гимназии. Предоставляем всем, предоставляем особенно «Речи» вдуматься
в чувства мальчика, вдуматься в то, какие чувства к «свободе» и «освободи-
141
тельному движению» и к «свободной жизни» закладываются в 10 — 11 -лет-
нюю грудь... Что вырастет из сегодняшних событий через 10 — 15 — 20 лет!
С лицемерием, которому трудно подыскать параллели, в «освободитель-
ной» печати указывается при малейшем проявлении где-нибудь националь-
но-русского чувства, что «замышляется настоящая Варфоломеевская ночь»
на бедную, гонимую интеллигенцию. Помните ли вы сон Митрофана из
«Недоросля», где сему сынку своей матери привиделось, как мамаша его
била папашу и «так намучалась бивши». Сожаления Митрофана совершен-
но совпадают со скорбью нашей интеллигенции, которая бьет, бьет «истин-
но русских людей», как она насмешливо зовет просто русских людей, и все
еще остается много этой «недобитой темноты», любящей свое отечество и
верящей в него. «Так устали рученьки», — произносит г-жа «интеллиген-
ция», обновляя бельгийские браунинги. Варфоломеевская ночь давно уже
настала, и нечего «Речи», «Стране», «Товарищу», «Понедельнику» и пр. и
пр. плутовски косить глаза на сторону и жаловаться в притворном страхе:
«Как бы нас не убили!», «Собираются убивать!», «Чиновники полиции пе-
чатают черносотенные воззвания», а в «Правительственном Вестнике» те-
леграммы на Высочайшее Имя — того же содержания: «После этого нас
непременно станут убивать черносотенцы, как католики гугенотов в Варфо-
ломеевскую ночь».
И бумага терпит. И люди не краснеют... Целые столбцы газет ежедневно
наполнены характернейшими случаями Варфоломеевской ночи, сущность и
ужас которой и заключались именно в том, что борьба религиозная переве-
дена была в остервенелое разбойничье нападение ночью, буквально точь-в-
точь, как у нас, где борьба политическая переведена тоже в пальбу и резьбу.
Только режут и стреляют на этот раз гугеноты-«освободители» при благо-
словениях «святейшей заграницы», которая на этот раз уподобляется папе
римскому.
«Речь» в одном из первых нумеров по возобновлении своем напечатала
докторальным тоном длинную статью, где, жеманно порицая революцион-
ные злодеяния, проводила, «однако же, ту разницу между ними и прави-
тельственными репрессиями, что покушения революционеров никогда не
простирались на выразителей идеи, какова бы она ни была, на представите-
лей мысли и слова, а только на людей, у власти стоящих, т. е. на представи-
телей и осуществителей силы и действия: и этим они гуманно возвышаются
над старым режимом, который казнил за мысль, преследовал слово, «идею».
Так пел соловушка, и с таким самогипнозом, что, читая, — верилось. Теперь
мы предлагаем органу «кадетов» в свою очередь «выйти из-за ширм», как
звал он нас, и рассмотреть случай гибели пастора Циммермана и его жены
из-за «порицания в проповедях революции», чистосердечно сознаться, что в
той длинной принципиальной статье он лгал и что революционеры людей
враждебного образа мыслей убивают не только самих, но и убивают их с
женами, уже решительно ни к чему не причастными.
142
МЛАДОКАТОЛИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Среди торопливых, измученных и нервных движений нашего времени, ко-
нечно, нельзя от каждого движения ожидать холодной рассчитанности и
уравновешенного бесстрастия. И сюда, и туда попадает не всегда по заслу-
гам и по преступлениям. Иногда кажется опасный умысел там, где его и не
бывало, а самое большее если что и было, то неосторожность, неумелость.
Я думаю, к числу таких ошибок взмаха принадлежит закрытие в начале ав-
густа администрациею, в «порядке усиленной охраны», «Церковной Газе-
ты», начавшей выходить с начала этого года в Харькове еженедельными тет-
радями. Я читал ее с самого начала и понять не могу, что было «опасного» в
газете, которая боялась политики, как огня, и принципиально не печатала
вообще никаких статей по политике. Так, ее редактор и мой друг, священник
о. Иоанн Филевский, вернул мне какую-то невинную статью о Г. Думе «не
по несогласию, а потому, что статья касается государственного положения
России, о чем газета не считает себя вправе и не считает себя компетентною
говорить». Воззрение достаточно скромное. Газета посвящала себя исклю-
чительно церковным, церковно-культурным и церковно-общественным воп-
росам. Дух церкви и религии повсюду она старалась слить в одно течение с
духом культуры в широком смысле, с наукою, искусством и просвещенною
общественностью. Но редактор ее, автор громадной в 500 стр. книги «О цер-
ковном предании», не только не был новатором, но скорее мог показаться
«черносотенником», — черносотенность коего только не кидалась в глаза
потому, что она смягчена была у него чрезвычайно деликатным, можно ска-
зать, нежным отношением ко всем движениям живой истории, если только
они были чистосердечны и не своекорыстны. Он ничего не умел ругать, ни о
чем не мог кричать, но его мягкая речь всегда клонилась к этой теме его
книги: «Любите церковное предание; всмотритесь в него — и вы увидите,
что его можно только любить». Мне кажется, я кончу этот вопрос, если со-
общу два сведения, года 3 — 4 назад сообщенные мне в частной переписке.
«Люблю я, — писал мне этот священник-редактор, законоучительствующий
в харьковском коммерческом училище и с прошлого года в университете, —
чтобы ученики мои имели особые тетрадочки: сюда они заносят изречения
святых отцов, особенно замечательные и прекрасно сказавшиеся, какие во
время классного преподавания мне приходится случайно приводить им». И
в другой раз, только что познакомясь со мною, он писал: «К церкви привела
меня мать, когда еще до грамоты, маленьким мальчиком, водила меня к служ-
бе церковной. С тех пор и под этим впечатлением, а не по книжному бого-
словствованию, я церковь люблю и чту». Судя по письмам, очень длинным,
лирико-черносотенным, он мне казался, и я до сих пор смотрю на него —
как на первого в нашей духовной литературе лирического писателя по цер-
ковным вопросам или, точнее, философско-религиозно-церковным. Любовь
его к христианам, к Христу, к духу «Матери-Церкви» (он всегда звал ее —
«Матерь») трогала меня до глубины души.
143
И вдруг «закрыта»! За «неблагонадежностью»!! Ошибка, которую, мо-
жет быть, можно будет поправить, может быть, администрация найдет воз-
можным поправить.
Но я отвлекся в сторону «надгробного рыдания» от очень интересного
предмета, который затронут в последнем вышедшем № этой «Церковной
Газеты» и имеет значительный общерусский интерес. Это факты, приведен-
ные в статье г. К. Витошинского: «Новые течения в польском католическом
духовенстве». Известно, что до сих пор у католиков не было ничего, кроме
вражды к «русской вере», вражды и глухого, темного непонимания и невни-
мания. Поляки, насколько они были католики, не знали, не читали, не инте-
ресовались ничем, что являлось в России в области религиозного мышле-
ния. Просто не было вкуса: и эта обширная и неуловимая эмоция действова-
ла властительнее всяких рассуждений. Движение мариавитов, народное и
страстное, впервые соприкоснулось некоторыми своими сторонами с явле-
ниями религиозной русской мысли, особенно сектантской. Начавшееся дви-
жение, о котором сообщает г. К. Витошинский, стоит совершенно вне мари-
авитов и также сближается или по крайней мере не враждебно русским те-
чениям.
Во главе его стоит, ведя за собою значительную массу польской интел-
лигенции, молодой 25-летний ксендз Эдуард Милковский. В настоящее вре-
мя он начал издавать журнал «Protest». Теперь он отлучен от церкви и запре-
щен к священнослужению католическим виленским епископом Э. Роппом,
общерусским знакомцем по речам в Госуд. Думе, и особенно по грустному
обвинению им русских виленских старообрядцев. Мотив отлучения и зап-
рещения — «безнравственное поведение и преступная деятельность». Кара,
постигшая молодого священника, тем любопытнее, что еп. Ропп до тех пор,
пока Милковский действовал «сообразно видам епископской кафедры», от-
личал его, и настолько быстро, что, несмотря на почти юный возраст, назна-
чил его исполняющим обязанности благочинного в городе Вельске. Отлича-
ла его и польская национальная печать, называя «мужественным польским
народным борцом». В то же время на него обращено было и внимание Ми-
нистерства внутренних дел, отправившего его на два года в монастырский
затвор. Но картина быстро переменилась, когда, увлекаемый, может быть,
молодостью, Милковский высказал некоторые резкие суждения о состоя-
нии католической паствы, о направлении господствующего у католического
клира учения, поучений, вообще всего нравственного, духовного склада,
скованного страшною дисциплиною извне и нездорового внутри. В пору
эту он уже вышел из затвора. Тут епископ Ропп не только произнес над ним
отлучение, но и лично просил Виленского генерал-губернатора «арестовать
заблудшую овцу». Ниже мы увидим качества «заблуждений», из коих со-
вершенно понятно, что генерал-губернатор не последовал рекомендации еп.
Роппа и оставил Милковского в покое.
144
«Для характеристики личности виленского католического епископа Роппа,
— говорит «Церк. Газета», — нелишне будет прибавить, что недели за две до
выборов в Г. Думу он, желая обеспечить победу католической партии, издал
воззвание к католикам Литвы, в котором, между прочим, были такие благожела-
тельные для православных слова: «Ни один католик, — говорил епископ, — не
может спокойно молиться Богу, потому что на Литве остались еще православ-
ные церкви». Но в качестве депутата Г Думы еп. Ропп изменил «политику не-
терпимости». Как известно, при обсуждении ответного адреса он призывал все
«народы» России к «миру и единению». Кажется, тот человек весь соткан из
противоречий».
После разрыва с виленским епископатом ксендз Милковский переехал в
Варшаву и в открытом им ежемесячном журнале «Протест» выступил про-
тив Рима.
«Все должны согласиться, — пишет он здесь, — что католическая церковь
в своем теперешнем виде является самой усердной созидательницей предрас-
судков, неискренности, прислужничества. Божественно-прекрасная идея Хрис-
та подверглась здесь бесконечной пародии. Христос — друг страждущего чело-
вечества — обратился здесь в самого бездушного эксплоататора, Христос —
источник милосердия — обратился в безжалостного банкира, ангельски чистый
Христос обратился в приспешника реакции, Христос — слуга всех — является
поработителем масс, Христос — защитник правды — обращен в орудие фаль-
ши и насилия. Его святыня обратилась в торжище. «Берите и питайтесь! Берите
все, кто может больше взять» — вот лозунг духовенства в отношении паствы».
Каждый видит, что тут ничего собственно догматического нет: пункт, от
которого начинаются ереси. Молодой ксендз проникнут тем новым духом,
который не оспаривает догматов и не настаивает на них, предоставляя им,
без споров и полемики, погружаться тихо в тот океан забвения, где уже по-
тонула схоластика, готика, инквизиция и проч. Задачею церкви он ставит
идеализацию человека и жизни, — чтобы «Христос Евангелия царствовал
во всех проявлениях бытия нашего». — «Мы снимем маску, — говорит он в
другом месте, — со всякого, кто назовет себя деятелем во имя Христа, а
будет действовать во вред идее общечеловеческого блага. Другими словами,
— мы подымем оружие словесное против тех, кто имя Христа употребит
для достижения своих личных целей».
Однако Милковский далек от того, чтобы обвинять сплошь все католи-
ческое духовенство, признавая его, напротив, «честным и благородным в
большинстве», но подавленным или вовлеченным в ложный дух католициз-
ма, получившего чисто государственный и бюрократический строй, не име-
ющий ничего общего с устройством и духом первоначальных христианских
общин. Самою оригинальною и новою чертою в нем по отношению к тыся-
челетнему зданию римской церкви является то, что с первого же шага своей
протестующей деятельности он поставил девизом своим — бросить вражду
к другим церквам, к другим исповеданиям. В католицизме именно это ново,
отрицательно и разрушительно. Ибо тут перемена самого духа, а уже не
145
формы догматов. «Будем веротерпимы, — пишет он в первой книжке «Про-
теста», — и дадим друг другу возможность жить свободно». Что это не есть
простое заявление, коротенькая строчка для вида, — видно из того, что в
том же первом томе польского журнала он дал перевод статьи известного
священника о. Григория С. Петрова «Евангелие и жизнь» и обещает дать
полные переводы всех касающихся вероучения сочинений гр. Л. Н. Толсто-
го и первой книги о. Г. Петрова «Евангелие как основа жизни», выдержав-
шей на русском языке двадцать изданий.
Один известный прелат церкви обратился к нему с письмом, предосте-
регая от пути Лютера, «который причинил церкви более вреда, чем пользы».
Известный католический взгляд! Но церкви он причинил действительно
«больше вреда», зато германскому народу он причинил «больше пользы». И
Милковский стоит на крепкой национальной почве. «Рим, — пишет он, —
настолько поддерживает с нами родственные отношения, насколько мы щедро
их оплачиваем. Но теперь мы обеднели и Риму больше не нужны. Для нас
теперешний Рим — груда развалин, плесень и гниль! Только черви стремят-
ся к трупу и в нем находят пищу».
Подходя конкретнее к своей задаче, он ставит вопрос: «Итак, неужели
мы пойдем разрушать костелы, пойдем выгонять католических ксендзов?»
И отвечает: «Мы пойдем со словами правды Христовой. Пойдем работать
над духом, а не разрушать камни! Под темные склепы костелов мы понесем
новую жизнь, вдохнем новую жизнь и в души духовенства».
Движение это сильно волнует польское образованное общество. Что
католичество действительно нуждается в обновлении, невольно высказал и
прелат-публицист, обратившийся с упомянутым письмом к Милковскому.
«Я понимаю, — пишет он, — что могло вооружить вас против католичес-
кой церкви. Много в ней отталкивающего, много устаревшего, много пережит-
ков! Все это нужно устранить. Но незачем разрывать с Римом родственных от-
ношений. Реформа действительно необходима, но без разрыва; реформа внутри
самой церкви, но отнюдь не начатая вне ее».
Известная польская писательница Э. Оржешко первоначально относи-
лась недружелюбно к начатому ксендзом Милковским движению. «Не рано
ли начинать протест? — писала она. — Стоит ли этот убогий, слепой и на-
гой еще польский народ отрывать от холодных плит костела, к которым он
до сих пор склоняет свое страдальческое чело, в надежде найти там душев-
ный покой». Она боялась смуты без всякого положительного результата.
Таково бы и было следствие «догматического» или «костельного» разрыва
со стариною; но никакой ведь архитектурной ломки в старом здании не
делается: «камни» остаются лежать по-прежнему, а только в них вносится
новый дух. Узнав движение ближе, та же Э. Оржешко писала издателю
«Protest»: «Работайте, Бог вам в помощь!»
Мы назвали это движение «младокатолическим», чтобы оттенить глу-
бокую его разницу с великим было, но все более засыхающим «старокато-
146
лическим» движением, происшедшим после провозглашения догмата о пап-
ской «неошибаемости с кафедры» («непогрешимость» в (ироническом) пе-
реложении православных). То движение началось с догмата, и, как все дог-
матическое, оно не приковало к себе народных сердец, оставшись ученым и
почти дипломатическим явлением. «Поговорили посланники»... Сия жар-
птица уже не зажжет моря: все это — прошло, прошло этому время... На-
против, движение Милковского, обыкновенного ксендза, не только очевид-
но с хорошей душою, при очевидных и ясных неправдах, на которые он ус-
тремился, сразу же почувствовалось как что-то нужное, людское, всех каса-
ющееся. Оно — народно, а не археологично. Оно — молодо. И оно, кажется,
не заглохнет.
К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ СООБЩЕНИЮ
«Товарищ», «Речь» и вообще вся печать полна, конечно, статьями о прави-
тельственной программе. Так как первая из названных газет придерживает-
ся боевой тактики, то и из программы она уловила или выловила только
строки, относящиеся до военно-полевых судов, пройдя мимо все остальное,
что касается управления и самоуправления. В pendant к репетиловскому: «Да,
водевиль есть вещь, а прочее все гиль» — «Товарищ» и товарищи повторя-
ют, внушают и распространяют, что «браунинг есть вещь, а прочее все гиль».
«Режим, который намеревается установить теперь наше либеральное мини-
стерство, — пишет газета, — настолько чудовищен, что во всей новейшей
истории цивилизованного мира нельзя найти чего-нибудь аналогичного».
Ну, так или не так, но 1) пьянство в церквах, 2) разрывные бомбы на свадь-
бах тоже вещь едва ли «слыханная во всем цивилизованном мире». По Сеньке
шапка, по вору кнут. Вне какого бы то ни было сомнения, ни один военно-
полевой суд не совершит тех жестокостей, не прольет столько заведомо не-
винной крови третьих лиц, не участвующих ни в правом, ни в левом движе-
нии, сколько пролили крови и совершили жестокостей непрошеные благо-
детели и «освободители». Левые «превосходительства» в этом отношении
непревосходимы.
Затем, та же газета высказывает соображения, которым нельзя отказать
в логичности. «Товарищ» уверяет, что «Правительственное сообщение» есть
всего только «слова», от которых некому перейти к делу, некому их испол-
нить. «Но такой режим в действительности совершенно неосуществим в
современной России; наша бюрократия, военная столько же, сколько граж-
данская, совершенно неспособна выполнить программу, которую она себе
наметила. Для такого дела нужна совсем иная энергия, нужны совсем иные
силы, чем те, которые теперь находятся в распоряжении нашей деморализо-
ванной, бессильной и беспомощной администрации». Вот видите, в чем зак-
лючается расчет «товарищей», и не теперь только, но, очевидно, и в наибо-
лее смелых «выступлениях» этих недель и месяцев. Расчет на безнаказан-
147
ность и бессилие власти, притом психологическое, а не материальное бесси-
лие, очевидно, играет главную роль в соображениях «крылатой» револю-
ции. Это необходимо иметь в виду всякий раз, когда виляющая «Речь» рас-
пускает широкие вещания о совершенной якобы «неукротимости» и «не-
преоборимости» левых страшилищ. «Нельзя справиться!» «Вы видите,
никогда не справлялись!» Напротив, всегда справлялись, когда была твердая
решимость справиться.
«Чтобы установить режим крови и железа, необходимо — железо, твер-
дая сталь; но то, что еще осталось у нашей бюрократии, настолько заржаве-
ло, что при первом серьезном испытании разобьется вдребезги».
Таков голос партии, когда-то рвавшейся к «диктатуре пролетариата», к
диктатуре подлинно железных людей, которые, по недосказанной мысли
газеты, сумели бы сделать то, чего — по расчетам ее — правительство никак
не сумеет и не решится сделать. Диктатура пролетариата показала бы Рос-
сии, конечно, такие цветочки, такие картинки, от которых Россия застонала
бы, а Европа ахнула. Но «Бог не выдал, и свинья не съела», — как говорит
русский народ.
Как видите, «Товарищ» не против «железа и крови» в принципе, но про-
тив железа и крови у врагов. У них он желал бы патоки с молоком и даже
уверен, что только патока с молоком и есть у них. Со своей стороны мы
хотим железной воли, но совсем не хотим крови, не хотим ее даже как кары,
наказания, и совершенно убеждены, что железная политика, не меняющаяся
каждый месяц, убежденная, и есть настоящая политика и вполне верное сред-
ство против крови, против необходимости доходить до этого.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫЕЗДЫ ЗА ГРАНИЦУ
Телеграммы уведомляют, что в Харькове присяжный поверенный Шидлов-
ский, приговоренный к ссылке в Якутскую область, взамен получил разре-
шение и обязательство выехать за границу; в Киеве книгопродавец Соколов-
ский, вместо ссылки в Сибирь, получил подобное же распоряжение оста-
вить отечество на три года. Это недавняя новая мера. Несколько раньше эти
распоряжения сопровождались разъяснением, что в случае досрочного воз-
вращения на родину высылаемые будут заключаться в тюрьму на то время,
которое им остается до окончания срока определенного наказания и что по
взгляду высшей власти, остановившейся на этой идее, означенное наказа-
ние тяжелее практиковавшейся до сих пор и ставшей классическою «ссылки
в места не столь отдаленные».
Мера эта проста, удобна и совершенно достигает тех целей, ради кото-
рых она назначалась. Это своего рода древний остракизм, которому были
подвергнуты в Афинах столько известных и неизвестных лиц; и в класси-
ческом мире она применялась так же, как и у нас, к людям, недовольным
установившимся строем и от которых ожидались попытки поколебать этот
148
строй. Наказание это в древности действительно считалось самым тяжелым:
человек умирал для гражданской жизни, своего города или городка, т. е. он
вообще культурно умирал, так как, куда бы он ни являлся, он везде был чу-
жой, вследствие чрезвычайной замкнутости эллинских маленьких общин.
Теперь это гораздо легче, ибо мы живем по пословице «ubi bene, ibi patria»1.
Но как только с этим космополитическим странствием будет соединено не-
пременное срочное обязательство, — оно, вероятно, и у нас почувствуется
как очень тяжелое лишение. Мы уже не упоминаем, что оно очень тяжело
почувствуется всеми неимущими лицами, которые должны будут в весьма
тяжелых для себя условиях среди чужеродной и иноязычной среды сниски-
вать работу и пропитание. Это иногда в Петербурге доводит до отчаяния и
будет еще труднее в Берлине или где-нибудь в швейцарском городке.
Государство через эту меру совершенно отказывается от какого бы то ни
было мщения в виде физической боли или даже лишения свободы, как рав-
но физическим освобождением себя от данного субъекта оно прекращает
какие бы то ни было с ним споры и словопрения на умственной, идейной и
политической почве. Всякий хозяин дома может предложить квартиранту,
который будирует против своей квартиры, требуя в ней переделок, выехать
из нее, освободив комнаты для таких жильцов, которым они нравятся. Это
— разъезд, развод, где передвигается легчайший и малейший физически. Не
может Россия никуда уйти от революционеров, — пусть они уйдут от нее.
Тут ни мщения, ни наказания, вообще — ничего, кроме возвращения свобо-
ды или автономии сторонам. Выехавшей из России стороне решительно не
на что роптать, жаловаться, ибо она в собственном смысле не несет никакой
репрессии. С тем вместе государство не тратит для такого благополучия себя
ни одной копейки из страшно ценных народных денег и избавляется от хло-
пот ссылки и наблюдения за сосланным, что тоже чрезвычайно важно в наше
время, когда число таких субъектов сделалось удручающе обременитель-
ным. С политической, судебной стороны все это чрезвычайно удобно. Но
здесь есть еще важная сторона общественная и духовная.
Такая прохладительная прогулка по загранице — высококультурной,
спокойной и трудолюбивой — обратится невольно если не для всех, то для
многих, и именно для наиболее даровитых, в прекрасное образовательное
путешествие. В три года можно многое передумать, много увидеть неожи-
данного и нового среди людей и порядков и вообще многому поучиться.
Даже при упорном отказе учиться некоторых «метафизиков» во вкусе Хем-
ницера, метафизиков революции, — учение все-таки произойдет само со-
бой и невольно. Ученик невольно, принудительно получает самое превос-
ходное условие для учения — спокойствие, ничегонеделание, выход из при-
вычной обстановки и привычного труда, который на родине сводился к той
или иной форме мягкой или грубой пропаганды. Там проповедовать будет
некому или почти некому, не все же Бакунины по успеху и талантам, и при-
1 «где хорошо, там и родина» (лат.).
149
ведется невольно читать, слушать и размышлять. Путешествие превратится
в некоторый вид подвижного интерната, духовного интерната. Политика,
пропаганда, и особенно когда она связана уже с определенным действием и
планом действия, — похожа на затяжную азартную игру, где игрок слепнет
умственно и перестает владеть собою. Невольная, принудительная, физи-
ческая выемка из этого водоворота воспаленных и недодуманных мыслей и
разгоряченных отношений, которые давят на человека и сплошь и рядом
заставляют его делать такое, на что он никогда бы не решился, видя себя со
стороны или в зеркале, — необыкновенно целительная в духовном отноше-
нии, да даже спасительна и в смысле сохранения карьеры, судьбы, биогра-
фии. До чрезвычайной степени печально, что с самого же начала революци-
онного брожения в России, еще с 70-х годов прошлого века, мера эта не
была широчайшим образом применена к тогдашним «народникам», вдруг
переставшим стричь волосы и начавшим ходить в народ. Небезызвестны
случаи, когда долгое вынужденное пребывание за границею таких «мирных
революционеров» оканчивалось тем, что они превращались в народников
по названию, в народников настоящих, почти не отличавшихся от славяно-
филов. Большое перерождение в смысле приближения к народности пере-
жили в невольном заграничном отчуждении Герцен и Достоевский. О нем в
известных словах о «дыме отечества» хотя с иронией говорит Чацкий у Гри-
боедова, но под иронией этой лежит настоящее дело. Между тем не только
половина болезни русских революционеров, но почти вся их болезнь и зак-
лючается в разрыве с народным духом, что они живут в России какими-то
иностранцами, пичкаясь переводами Карла Маркса и Каутского и своими
родными компиляциями «по Каутскому». У Каутского есть нечто даже о
России, в которой он никогда не бывал, что-то о судьбе ее. Известно, что ни
о чем немцы так не любят писать, как о луне и об ассиро-вавилонянах. Рус-
ские юноши зачитываются ими, и как они люди уже зрелые и практичные,
то применяют это в направлении проектов конституции на луне и социал-
демократии в Чухломе. Для перемены мыслей в этом направлении нет луч-
шего средства, как погулять по улицам Берлина, так хорошо вымощенным и
где стоят на каждом перекрестке такие выхоленные вахмистры, любовь и
гордость императора Вильгельма.
О «ЗАЯВЛЕНИЯХ» И ЗАЯВИТЕЛЯХ
Трудно сказать, нужно ли и можно ли верить чистосердечию и даже подлин-
ной действительности резолюций Московского комитета социал-демокра-
тической рабочей партии и еврейского Бунда против «экспроприации част-
ной собственности». Дело идет о похождениях с браунингами и финскими
ножами в табачных лавочках и частных квартирах, но, очевидно, не идет о
таковых же похождениях в винных лавках и около почты, т. е. около имуще-
ства «казенного», что прямо видно из ограничительного постановления и
150
комитета, и Бунда. Очевидно, так как правительство вознаграждает почто-
вые утраты частных людей, то, по соображениям Бунда и комитета, вынуть
«в целях освобождения» деньги, положим, крестьянина Семена Комарова
из почтового конверта — вовсе не значит «ограбить» этого крестьянина, а
только воспрепятствовать довезти в целости по назначению его безграмот-
ное письмо, конечно пропадающее вместе с деньгами, что уже не составля-
ет чего-нибудь важного. Мы не знаем, насколько вообще нужно и можно
верить «заявлениям» и «резолюциям» этих господ, столь далеко разошед-
шихся с всемирными понятиями о нравственности, о чести, о позволитель-
ном и непозволительном. Кто нарушает шестую заповедь и половину
восьмой, почему тот будет удерживаться перед малюсенькой второй поло-
виной этой восьмой заповеди. Частная собственность?.. Но «частная жизнь»
еще дороже, и, однако, при «политически важных» покушениях преспокой-
но дробятся ноги и размозжаются головы множеству частных людей, жен-
щин и даже детей. Все «во славу революции». Что же тут задумываться пе-
ред портмоне с красной десятирублевкой? «И веревочку подай, — как рас-
суждает Осип в «Ревизоре», подбирая все нужное, — и веревочка пригодит-
ся». Надо же и Бунду, и комитету содержать на свой счет сотни фанатиков,
исполняющих разные более или менее щекотливые поручения их; содер-
жать армию революционную, которая во всяком случае не работает, а ест,
пьет и одевается, а в исключительных случаях нуждается в весьма дорогих
мундирах и занимает недурные номера в гостиницах, — для всего этого ну-
жен постоянный приток, и притом очень больших денег. День революции
стоит тысячи рублей: это надо заработать. А так как это все «безработные»,
от верхов до низов, то, очевидно, приходится добывать эти средства маро-
дерством.
Бунд мотивирует отказ от «экспроприации», т. е. попросту от краж, тем,
что грабежи эти «деморализовали партию и сделали членов ее равнодуш-
ными к ней». Не слишком ли поздно?.. Да и что такое «деморализация», не
слишком ли устарелое понятие? «Пой светик, не стыдись», — сказали бы
мы революционерам. Удивительно: режет человек ближнего — деморализа-
ции еще нет; крадет пакет с деньгами — политическая заслуга; изменит оте-
честву, народу, государству — все «Вперед! вперед! вперед!», как поется в
русской марсельезе. Но вот такой молодец, изменивший России и выкрав-
ший деньги, изменил еще и Бунду: и тогда Бунд кричит: «Это — невозмож-
но! Деморализация! Мы гибнем!» Но, друзья человечества и наши, не «по-
гибли» ли вы гораздо раньше, когда еще только замышляли быть «черными
воронами» России?
Всякий беспорядок тает в самом себе, тает потому именно, что он бес-
порядок. И революционеры, пока переживающие еще медовый месяц, по-
лучат самое тягчайшее себе наказание не в правительственных репрессиях,
а вот от этой «анархии в анархии», «революции в революции», какую, без
сомнения, скоро им придется увидеть и пережить. Тогда только революцио-
неры и поймут теперешние чувства России к ним как к изменникам народ-
151
ного порядка и врагам государственного закона. «Свой опыт» не только до-
роже всего, но он единственно чего-нибудь стоит. Вот когда революционеры
увидят хулиганство в своих рядах, хулиганство в пределах собственной тео-
рии и учения, тогда поймут и точку зрения на себя как на хулиганов и на-
учатся первым складам политической зрелости. Не следовало бы забывать
литературных предтеч теперешнего движения: пропойца-босяк у Максима
Горького говорит, что он никого так не ненавидит, как крестьянина-мужика;
ненавидит его за грош собственности, которого у босяка нет, за свой дом, за
свое поле, за свою семью и вообще за весь бытовой покой и хоть какую-
нибудь упорядоченность, которой босяк не только не видит у себя, но, оче-
видно, никогда и не увидит, ибо его никуда не тянет, кроме кабака. «Этого
мужика я до глубины кишок ненавижу», — говорит он, и чувства его едва
ли изменятся от того, что мужик получит еще несколько «дополнительных»
благополучий из казенного сундука.
Революционеры должны бы понимать, что, однажды и где-нибудь всту-
пив на путь «экспроприации» из чужого кошелька, решительно никогда и
нигде нельзя остановиться. Сегодня возбуждено «аграрное» движение про-
тив землевладельцев, назавтра бедная часть деревни «громыхает» более за-
житочную и менее пьяную, пока на третий день их самих, пьяных мужиков,
не перережут «босяки», часть которых уже открыто состоит из воров, аль-
фонсов, котов и убийц и в общей массе состоит из людей, потерявших вся-
кую способность к труду и трезвости.
Восторжествует у нас в конце концов «азбука социальных наук», — аз-
бука гражданского строя, первые теоремы всемирной цивилизации. Одною
из главных таких теорем является принцип непоколебимости частной соб-
ственности как простого выражения частного труда, фотография частного
труда. «Я имею то, что наработал, и этого наработанного никто отнять у
меня не может, за что ответствует и за что ручается весь работающий обще-
ственный строй и все работающее государство». Государство есть некото-
рый род круговой поруки — и только. И эту круговую поруку не разорвать
ни босякам, ни «аграриям», ни Максиму Горькому, ни Аникину со товари-
щи, как не прорвали ее ранее ни Пугачев, ни Разин.
РУССКАЯ КАРАМАЗОВЩИНА
Полное негодующего красноречия обращение к властям прибалтийских не-
мецких газет по поводу убийства в Риге германского фабриканта Буша дол-
жно произвести впечатление не только на эти власти, но и на русское обще-
ство. Немцы, потомки старого рыцарства, насадившие в эсто-латышском крае
семена порядка, трудолюбия, просвещения и веры, совершенно не могут
понять соображений русской полиции и русской администрации, по кото-
рым она как в этих немецко-латышских провинциях, так и всюду в России
подпустила к обывательскому хлебу и обывательскому труду голодную и
152
разрушительную саранчу, поднявшуюся со «дна» Максима Горького, кото-
рая под именем «хулиганов» и «босяков» получила почти классовое и едва
ли не сословное существование и устойчивость. Все видят на улицах этих
субъектов, пугаются их днем, отделываясь подачкой пятачка и гривенника,
и молят Бога, чтобы не встретиться с ними ночью, ибо это грозит жизни и
кошельку. Немецкая печать спрашивает, «отчего власти допускают такое
великое опущение, что терпят в городе множество всякого сброда, преступ-
ность которого написана у них на лбу». Увы, об этом недоумевают вовсе не
одни немцы, но и обыватели решительно всех русских городов. «Задержи-
вают только тех, кто совершил уже преступление, но стоит такому задер-
жанному субъекту через свидетелей его же среды удостоверить свое алиби,
и его отпускают для новых подвигов». Действительно получается интерес-
ная картина: из шайки шести ночных громил разыскивается по таким-то и
таким-то признакам и свидетельским показаниям, — конечно, не имеющим
точности научной экспертизы, — один громила; тогда пятеро непойманных
его товарищей показывают перед судьею, что он гулял с ними в день и час
преступления совсем в другом городе, и оправдание готово. Очевидно, суд
обладает какими-то такими несовершенствами своих средств, в силу кото-
рых люди без стыда и с ловкостью только смеются над ним. «Неоднократно
указывалось на необходимость очистить город от подозрительных элемен-
тов, угрожающих общественной безопасности и подвергающих жизнь каж-
дого усмотрению кинжальщиков. Дома и на улице жизнь каждого висит на
волоске. Все честные граждане в один голос призывают власть: ободритесь
и с беспощадной строгостью удалите из нашего города все хулиганствую-
щие элементы»... Так кончают газеты, напечатавшие по соглашению текст
одинакового содержания.
Увы, о чем просят рижане и митавцы, давно просят и умоляют, только
без требовательности в голосе, туляки, калужцы, костромичи и вообще все
русские горожане. «Дно» поднялось не сейчас; уже лет пять выступило на
улицы какое-то «пятое сословие» воров, альфонсов, котов и вообще субъек-
тов, описанием которых Максим Горький утешил русскую литературу. Горь-
кий явился Марлинским этого нового сословия, пропел ему «Песнь о Соко-
ле» и, подкрасив, подмазав его, облекши в плащ Ринальдо Ринальдини, пу-
стил как некую политическую и ново-культурную силу на русское обще-
ство. Может быть, до Максима Горького и без Максима Горького, без его
маски и подкраски, русские революционеры даже самых крайних оттенков
все-таки не соединились бы с котами, альфонсами и ворами: но после реко-
мендации Горького они протянули им руку. В этом отношении Горький,
страшно усилив русскую революцию через массовое увеличение ее, и вооб-
ще через уличную популяризацию, вместе с тем страшно нравственно ее
подорвал через нравственную деморализацию. Поднялись революционеры
как стая... ворон.
Генеральные консулы в Риге, германский и английский, обратились в
свои посольства с соответствующим представлением, а брат убитого Буша
153
телеграфировал в Берлин министерству иностранных дел. Вместе с убий-
ством в Интерлакене «Миллера вместо Дурново», — как изъясняют и оправ-
дываются наши болваны, — это послужит вообще темою некоторых размыш-
лений для заграницы, которая так охотно ссужала «освободителей» ружья-
ми, браунингами и если не ссужала финскими ножами, то только потому,
что своих в продаже довольно. Заграница вообще расшевелила на нашем
дворе горящие уголья, по той циничной мудрости, что чем соседу хуже, тем
«мне лучше». Но сальное пятно имеет свойство расплываться, а искра пере-
летает через забор и, конечно, через канавку на границе. Было что-то эле-
ментарно-неуемное в поддержке, денежной и ружейной, заграницы русской
революции: ибо можно было рассчитать по пальцам месяцы и немногие года,
когда она переползет через Эйдткунен, Границу и Ла-Манш.
Удивительно, как и в этом случае сумел быть пророком Достоевский,
наблюдавший вообще очень внимательно русский революционный дух. Он
предвидел, что эта смесь или эта помесь XI и XXI века, помесь дикого по-
ловца с социальными романтиками Запада, приведет когда-нибудь в содро-
гание Европу, которая потребует от России «укротить своих». В «Братьях
Карамазовых», изображая зал суда, он влагает речи в уста прокурора и за-
щитника. Прокурор делает анализ всей той гнилой, прогнившей и преступ-
ной почвы, из которой произрастают юридические казусы, подобные суди-
мому, и, переносясь мыслью к знаменитой «тройке», с которою Гоголь срав-
нивает Россию, «несущуюся вперед», обращается к присяжным заседате-
лям со словом, которое так и просится в параллель с теперешним обращением
остзейцев к русскому суду и русской власти: «Вспомните, что вы защитники
правды нашей, защитники священной нашей России, ее основ, ее семьи, ее
всего святого. Да, и приговор ваш раздастся не только здесь, но и на всю
Россию, и вся Россия выслушает вас, как защитников и судей своих, и будет
ободрена или удручена приговором вашим. Не мучьте же Россию и ее ожи-
дания, — роковая тройка наша несется вперед и, может, к погибели. И давно
уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную, бес-
пардонную скачку. И если сторонятся еще другие народы от скачущей сло-
мя голову тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось
поэту, а просто от ужаса. От ужаса, а, может быть, еще и от омерзения к ней,
да и то еще хорошо, что сторонятся, а пожалуй, возьмут да и перестанут
сторониться и станут твердою стеной перед стремящимся видением и сами
остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения
себя, просвещения и цивилизации. Эти тревожные голоса из Европы мы
уже слышим, они уже начинают раздаваться».
В революции нашей сверх политики, конечно, много этой «карамазов-
щины», и даже политика, пожалуй, составила только приличный предлог
вылиться наружу этой «карамазовщине», которая до сих пор скучала вза-
перти и томилась бездействием. Много этой наследственной порчи крови,
издерганных нервов и всякой нервопатии. Профессор Герье очень верно ука-
зывает, что эксцессы революционеров напоминают собою самые темные
154
изуверные секты, с человеческими жертвоприношениями и со сладострас-
тием собственного самозакалывания; напоминают персидских дервишей и
шаманов монгольских пустынь. Хорошо известно из истории культуры, что
все эти изуверства имеют подпочвою себя ту же нервную психопатию, ум-
ственные и нравственные извращения. Революция — менее политика и бо-
лее болезнь. «Программы» только для нее предлог: а разжигающий уголек в
душе революционеров, и именно стяжающих наибольшую известность, есть
зачастую садическое наслаждение кровью и страданием, примеры которого
наполняют страницы истории медицины.
ОСТРОУМИЕ СРЕДИ КРОВИ
Нравственное слабоумие, двуличность и даже троеличность людей есть на-
стоящая причина скверных времен, какие мы переживаем. Кн. Евг. Трубец-
кой, который в «Москов. Еженедельнике» имел мужество ударить бичом
негодования по революционным убийцам, как бы спохватившись, что он
зашел слишком «вправо» и, пожалуй, лишился «доверия общества» и «сим-
патий» молодых людей и юных дев в шлеме Паллады Афины, напечатал в
«Русск. Вед.» письмо к А. И. Гучкову, где, выражая негодование за одобре-
ние им последнего «Правительственного сообщения», ядовито спрашивает
его, принадлежит ли он, Гучков, «к партии мирного, или военного, обновле-
ния». Острота имела цель ударить в военно-полевые суды и вместе в партию
мирного обновления. «Речь», которая сама остроумием не обладает, помес-
тила целую передовую статью с изумлением к этому остроумию, — без вся-
кого содержания и именно только с изумлением и чтобы перепечатать все
эти словечки.
Кн. Евг. Трубецкой, с своим остроумием насчет «военного обновления»,
не хочет понять того, что есть разница между профессором, мирно пописы-
вающим статейки в своем кабинете, и ответственною государственною вла-
стью, которая обязана обеспечить населению покой, — хотя бы вооружен-
ною силою. Государство, как прекрасно определил покойный Б. Н. Чиче-
рин, есть «организованное отечество». Принимая во внимание Рим, прото-
тип государства, мы дорисуем определение Чичерина, сказав, что
государство есть и «вооруженное отечество». В понятие его входит вся теп-
лота отечества и вместе вся сила, принудительность и гроза оружия. Армия
есть постоянное указание, что закон вооружен. Нормальное население лю-
бит отечество и повинуется ему добровольно; исключительные отбросы
его принуждаются к повиновению судом и полициею. Однако за чиновни-
ком и судьею стоит солдат с ружьем, который мирен до тех пор, пока никто
не подымает палки на судью и чиновника. Раз это совершилось, и судья и
чиновник отходят в сторону, предоставляя напавшей стороне иметь дело с
солдатом. Собственно революционеры и их прихвостни напоминают того
бессильного алкоголика, который кричит и жалуется на «оскорбление его
155
действием» не от боли и попранного своего права, а оттого, что ему, пьяно-
му и бессильному, держат крепко руки и не дают самому никого оскорбить.
Полное бессилие — и от этого яростная злоба. Когда вспыхнуло вооружен-
ное восстание в Москве, тогда и кн. Е. Трубецкой, и грядущие «кадеты»
пописывали «хронику событий» без особенной ярости на восставших, по-
писывали, ухмылялись и ждали, что из сего выйдет, как справится прави-
тельство с вооруженной шайкой. Через военно-полевые суды правитель-
ство никак не дает алкоголикам-политикам сокрушить его, отсюда их бе-
шенство, — «зачем солдат мешает?». Военно-полевые суды явились отве-
том на прямое требование самого русского общества, которое отказалось
выносить тиранию «освободителей» и потребовало удаления их, как хули-
ганов. При вооруженной защите городов гибнут третьи жертвы: это — са-
мые печальные и ужасные случаи, но солдаты не могут не отвечать выстре-
лами на выстрелы, и вся эта кровь третьих жертв падает не на самозащища-
ющееся «вооруженное отечество», а на мародеров из революции, которые
нападают не в чистом поле, с оружием на оружие, а стреляя из толпы, из
частных домов и тем самым подставляя толпу под ответные выстрелы, ко-
торые не могут не быть тогда судорожными, негодующими, — да и кото-
рых вообще не может не раздаться. Все дети, все женщины, все мирные
жители, погибшие в «освободительном движении» на улицах и площадях,
погибшие от бомб, браунингов и от ответных залпов, погибли всецело и
единственно от «освободителя», без малейшей вины государства, без вины
войск и солдат: это — щит революции, выставленный трусами вперед, по
которому и забарабанили пули. Кто же виноват, стреляющий ли солдат или
храбрый революционер, сделавший без спроса и разрешения из обыватель-
ских груд себе баррикаду? Да, революционеры построили именно баррика-
ды из живой уличной толпы, из живого мяса людей, ни малейшего желания
не имеющих принимать участия в сумятице: и когда их баррикады рассы-
паются, они вопят: «Смотрите на правительство! Оно стреляет в неповин-
ных!!» Не люди, а людишки живут в наше время: и ни один кадет, ни благо-
родный «человеколюбец» Евг. Трубецкой не крикнули им: «Как вы смеете
брать себе мишенью, защитою неучаствующих третьих лиц, толпу из жен-
щин и детей, и направлять выстрелы солдат не в свою воюющую грудь, а в
грудь этих прохожих?»
Кн. Е. Трубецкой в обращении к г. Гучкову написал вовсе не гуманную и
вовсе не остроумную статью, а самую шаблонную, и не в интересах России
и сохранения чьей бы то ни было крови, а единственно в интересах сохране-
ния своей репутации. Уж в такое время мы живем! Филипп Egalite первой
французской революции высовывает свою физиономию из каждого переул-
ка и всякой редакции. «И нашим, и вашим», «С кочки на кочку» — стран-
ствуют наши политические зайцы, еще вчера пописывавшие «О Граде Бо-
жием» Бл. Августина».
Жалкое время!
156
«СИИ» И «ОНЫЕ»...
Лет восемь назад тому мне привелось посетить Тифлис... Огромный южный
город шумел не русским шумом. Массы смуглых темных лиц, черные, как
смоль, волосы, нигде русского слова на улицах... Стояла невыносимая жара,
и по улицам были сделаны деревянные будочки, где, за довольно, впрочем,
высокую цену, можно было получить ледяной душ. Это было хорошо. Мне
захотелось окончательно «хорошо», и я решил съесть окрошку с квасом.
Захожу в один ресторан: «Окрошку с квасом! Ботвинья с квасом!» Служи-
тель мычит. «Квас? Есть у вас квас?» Разводит руками и опять мычит. «Квас,
черт возьми, — дайте мне квасу». — «Quasu?» Что-то бормочет, и в чужой
речи, чужой цивилизации я слышу несколько раз бессильное, изломанное
«Quasu»... — «Э, черт, азиатчина! Дайте мне черного хлеба, noire pain». —
«Chleba?» И опять разводит руками и что-то бормочет, где опять бессильно
вращается несколько раз «Chleba». — Фу, дьяволы. Ну, какой это к черту
русский город, где ни кваса, ни хлеба нет, где вас не понимают и где рожи до
того черны, точно их по ночам чистят ваксой. По улицам тихие-тихие брели
грузинки, но милые, всегда с опущенными вниз глазами; и такая скорбь,
задумчивость, невыразимая историческая мука была на этих застывших
лицах. Я вспомнил, что в десятилетия, предшествовавшие отдаче в русское
подданство последним грузинским царем своего царства, — Грузия, и в ча-
стности город Тифлис, не однажды были наводняемы полчищами курдов,
горцев, турок, которые разоряли все, сжигали дома, умерщвляли мужчин и
детей и уводили скот и женщин к себе, в горы и степи...
Грустный вид этих женщин, бедно одетых, но с какой-то и странной
аристократичностью истории на лице, сжимал мне душу. «Нина, св. Нина!..»
С крестом, сплетенным из виноградных лоз, она за много веков да нашего
Владимира св. проповедовала христианство на этих равнинах, облитых
южным солнцем. Как это красивее, нежнее нашего: «Руси есть веселие пити,
не может без того быти». Квас и оливы, благородный виноградный сок и
сивушный запах... «Разит».
— Какие мы бедные! И все-то от нас «разит». Когда же мы отмоем от
себя этот запах Петрушки, слыша который Чичиков все советовал слуге «схо-
дить в баню». Где наша баня? Когда она настанет?
Мне захотелось войти в грузинскую церковь. «Я увижу народ древний,
почтенный, так прекрасно положивший свое царство к подножию северно-
го колосса, — в его тихих молитвах, древних воспоминаниях, в его бессмер-
тной смерти»...
— Это какая церковь? — спросил я сторожа, проходя по улице. Был праз-
дник. Почти наверное это не был собор. Церковь была низенькая, и надо
было сделать еще несколько шагов вниз, по каменным ступеням, чтобы вой-
ти в нее. Фундамент или пол ее был ниже улицы.
— Грузинская, — отвечал мне сторож московским басом.
157
«Ну, наконец-то русский «квас», — подумал я, глядя на бритого или,
скорее, небритое, со щетиной, лицо его.
— Может быть, русская? — переспросил я, видя явную Великороссию в
стороже.
— Нет, грузинская. Русская там, дальше, на площади, если повернуть
через две улицы направо. А это грузинская.
Я вошел. «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй... би-
ма-би-ли-ли... Господи помилуй». Надо 40 раз вычитать.
— Ну, Россия! Как у нас, в Москве.
Я стоял, смотрел, слушал. Да, это скромные, такие красивые их голов-
ные накидочки, влияние чадры или остаток мусульманской чадры; тихо-тихо
молились усталые женщины. Русских нет.
— «И о еже»... — возгласил громадным басом диакон, подымая орарь.
— Москва! Москва! Мы! Что же, однако, оне понимают в этом «и о
еже», в котором уже Щедрин ничего не понимал. Известно недоумение од-
ного его героя, который, придя из-за литургии домой, все спрашивал при-
ятеля, что означают слышанные им в церкви слова: «жезаны» (же за ны — за
нас) и «жеможаху» (же можаху). Приятель не знал, он сам не знал, Щедрин не
знал; и едва ли можно думать, что их лучше понимали грузинские женщины.
Церковь была не чиновная, не начальническая; и как в Тифлисе только
начальство — русское, то среди богомольцев и не было никого, кроме свя-
щенника, диакона, дьячка и сторожа, кто разбирался бы в этих «жезаны» и
«жеможаху»... Бедные грузинки, стоящие рядами, не густыми, но и не ред-
кими: они пришли посмотреть только древние священные жесты. «Поднял
орарь», «прошел в северные двери»; «священник показался в Царских вра-
тах и что-то сказал на непонятном языке». «У священника в руках чаша с
дарами, а диакон держит блюдо над головой, и в руках у него кадило»; «у
диакона — бас, у священника — тенор».
Вот все, что было оставлено бедным грузинам от христианства. «Погля-
дите на нас», «у нас бас и тенор», «а ризы хорошей парчи, московской рабо-
ты, жертвованы благодетелями»...
И грузинки смотрели и тихо молились. Выстоял я всю истовую москов-
скую обедню, и клал хорошие поклоны, и крестился большим крестом. Ду-
шенька отдохнула: все по-московски. Точно вот смотрит на меня Минин с
Красной площади.
«Хорошо. По-нашему. Квас».
Душа отдыхала.
«И как, значит, мы покорили эту азиатчину, то что же с азиатчиной и
разговаривать? Нам капитал и власть. Пришли — и нету никого. Св. Нина,
что такое св. Нина? Святая Ольга — да, это есть, наше, точно «святая», в
Москве учили, в семинарии проходили. С крестом из виноградных лоз про-
поведовала христианство? Так мало ли легенд в этом роде у разных наро-
дов. Забавное невежество, которому, конечно, честный народ верит, но как в
семинарии у нас не проходилось этого, то, вероятно, ничего этого и не было,
158
и мы не имеем основания это знать и этому верить. Что св. Ольга была — то
это точно, и грузины обязаны это знать, зазубрить по Иловайскому и Соко-
лову, которых мы им привезли в ящиках, в издании братьев Салаевых, от-
крыв жалостливо школы для этих нищих. Потому мы благодетели. А что у
этих нищих, будто бы, была тоже св. Нина, — то этого мы, как начальство,
не обязаны знать, да и им лучше об этом забыть. Вредные воспоминания.
Мало ли что «было» да «сплыло»... Надобно приобыкать им к «нашему» и к
«нам»; подходить к деснице, лобызать ее с почтением. Потому — началь-
ство. Духовное начальство. Ну, и не одно духовное, — всякое»...
Непроизнесенные речи... Тем оне могущественнее. В свете-то этой веры,
московской, вековой, твердой, и надо читать... эту грустную страницу из
истории христианства:
«Сюда прибыл новый экзарх Грузии. По пути следования от вокзала до
Сионского собора стояли войска. Движение трамвая, экипажей, местами и
пешеходов было приостановлено. Перед коляской экзарха ехал полицеймей-
стер со взводом жандармов, за экипажем следовали конвой наместника и
взвод казаков. Грузинское духовенство отказалось встречать экзарха. В гру-
зинских церквах не было звона колоколов. Перезвон был только в русских
церквах и кафедральном соборе, где экзарха встретили причт собора, воен-
ное духовенство и русские священники. Епископ Петр алавердский, грузин,
исполняющий должность экзарха, приветствовал нового экзарха речью, по-
желав, чтобы он содействовал достижению Грузией автокефалии. Экзарх
отвечал в том смысле, что автокефалия не есть конечная цель церкви и что
он будет управлять паствою на основании существующих законов. Затем
экзарх проследовал в свой дом, где ему представились генералитет и граж-
данские чины. В этот же день экзарх и наместник обменялись визитами. В
городе спокойно». (Телеграмма 27 августа.)
Вероятно, еще никогда в истории «русской церкви» так не въезжал «па-
стырь добрый, полагающий душу за овцы свои», на «паству»... Робко огля-
дывали его, вероятно, с тротуаров тихие женские фигуры, тихие молчали-
вые и скорбные, какие врезались мне в память восемь лет назад. «Что-то
будет? Опять смятение»... Автокефалия грузинской церкви, более древней,
гораздо более, нежели русская церковь, и бывшей «автокефальной» все вре-
мя своего исторического существования, по грамотам патриархов, иеруса-
лимского и антиохийского, началась этого 27 августа 1906 года. Скорбная
страница, великая страница истории...
«Бог не в силе, а в правде», — сказали русские устами святого своего
князя, когда были слабы, «не в силе»... Но прошли века. Сельцо Москва, со
Спасом на Бору, выросло в город, в стольный город, и под конец передало
венец Петербургу, однако завещав ему «то же». Теперь она сильна. Нужен
ли афоризм: «Не в силе Бог, а в правде»? Его может поднять Грузия... Опас-
ные мечтания. И, кажется, торжественный въезд в Тифлис, переданный в
телеграмме, несет... на знамени или хоругви новый современный афоризм:
«Бог в силе, а не в правде»...
159
ВОЗВРАЩЕНИЕ К НАУКЕ
Кто говорит — того слышно, но кто молчит — того как будто нет. От этого
плачевного положения вещей получается то, что единичные наблюдатели
общества всегда имеют о нем гораздо худшее и, так сказать, гораздо более
беспокойное представление, чем как дело обстоит на самом деле. О гимна-
зисте, решившемся расстрелять из браунинга «русскую Державу» и вообще
«весь мир», кричат газеты, даже за границею, а о десяти его товарищах, ре-
шающих алгебраические задачи, никто не говорит, не пишет, и, конечно,
представляется, что их вовсе нет. Читая о сходках в высших учебных заведе-
ниях, впрочем никогда не достигающих половины общего числа всех уча-
щихся, и о резолюциях, принятых на этих сходках, как и изложение речей и
тем ораторов, общество и, может быть, министерство думают, что «занятия
невозможны» или «занятий не будет», потому что «университет беспоко-
ен». Между тем не сосчитаны все те, которые остались дома, не придя на
сходку, которых гораздо больше и которые таковым неприходом резко и твер-
до выразили свое желание заниматься наукою. Не сосчитаны и те третьи
лица, которые, не столько придя на сходку, сколько попав на нее, — потому
что студенту место в университете и сходка собирается в университете же,
— спокойно молчат и зевают на ней, если даже и не протестуют. Третьего
пассивного элемента всегда много во всякой шумной толпе, во всяком дви-
жении. Это просто «замешавшиеся», «попавшие». Приняв все это во внима-
ние, и общество и министерство спокойно могут быть уверены, что «неуча-
щаяся молодежь», как эпитет вообще всей университетской молодежи, есть
сатирическое преувеличение, ни мало не выражающее действительности, и
могут твердо опереться на не шумящую, а делающую часть этой молодежи.
Она есть, и даже в большинстве, может быть, подавляющем, но ее просто не
слышно, она не имеет себе печатной и стоустой рекламы. Кстати, если бы
возможно было студенческие, уже легализированные теперь сходки устроять
где-нибудь в стороне от здания университета, так, чтобы спокойного третье-
го элемента на них не попадало, а беспокойные товарищи в свою очередь не
мутили бы аудиторий, зал, кабинетов и проч., то поле университета сразу бы
очистилось и зрелище его сразу бы прояснилось. Теперь мы просто не уме-
ем судить и не знаем, как судить. Все смешано, все вповалку, и один крича-
щий студент кажется десятиголовым, а десять молчащих студентов кажутся
безголовыми.
В связи ли с открытием Г. Думы и вообще с установившимся уже факти-
чески конституционным строем, по другим ли таким причинам — мы не
знаем, но отовсюду доносятся слухи о весьма настойчивом и притом не раз-
розненном стремлении студенчества вернуться к серьезным занятиям. Слу-
хи эти несутся со стороны именно возбуждающих элементов, жалующихся,
что они не находят прежней удобной почвы в университетах и других выс-
ших учебных заведениях. Может быть, не без причины здесь одно этичес-
кое соображение, скорее — зрелище; множество из вновь подавших проше-
160
ния о принятии на 1-й курс как мужских, так и особенно женских высших
учебных заведений, где прием очень ограничен за недостаточностью помеще-
ний, получили, как известно, отказ. В газетах не печаталось, но устно очень
хорошо всем известна причина наибольшего числа отказов: она заключает-
ся в том, что учение стало, масса учащихся не двигается вперед, и получил-
ся, так сказать, затор молодых сил, как бывает во всяком движении, когда
впереди что-нибудь мешает и когда остановилась какая-нибудь частица дви-
жущихся предметов или двигавшихся людей. За недостатком свободных
вагонов образуются хлебные залежи на станциях, а от бойкота науки созна-
тельным элементом получились человеческие залежи, причем горькая доля
«лежать» и дожидаться неизвестно сколько времени и неизвестно чего вы-
пала поистине пассивным и невинным образом на те именно молодые силы,
которые в нынешнем году окончили курс в средних учебных заведениях,
которые ни в какой «сознательности» никакого участия не принимали и,
может быть, из которых некоторые горят серьезным интересом к науке и
серьезною способностью к ней. Рассказывают об определенных случаях,
когда серьезнейшие молодые люди и молодые девушки, приехавшие в Пе-
тербург именно для науки и с полным равнодушием к студенческой полити-
ке, получили обратно прошения «за недостатком вакансий» и должны воз-
вращаться на Волгу и на Урал, в то время как в аудиториях толкутся, срывая
лекции, захватившие в прошлом и позапрошлом году юнцы и юницы, кото-
рые из всех наук знают и признают только Карла Маркса и на вопрос «сколь-
ко дважды два» отвечают: «Пролетарская республика». Представляет собою
некоторое элементарное бесстыдство и, наконец, даже прямую потерю чес-
ти — занимать место, собственно для политики безразличное, — потому
что для чего же именно о пролетарской республике рассуждать в аудитори-
ях? Тема нисколько не требует непременно данного зала и не пускать на это
место окончивших курс гимназистов и гимназисток, которые нигде, кроме
как в данном зале, не могут услышать лекции по математике, медицине, по
философии или истории или праву! Во всяком случае много обид отвергну-
тыми уже теперь затаено; по скромности и привычной тишине они не жалу-
ются. Есть ночные слезы о своей судьбе. И те, которые, счастливо неся сту-
денческий мундир на своих плечах, в какой-нибудь процессии напевают из-
вестный стих:
Вы жертвою пали борьбы роковой,
не подумают никогда о тех «павших в борьбе роковой», которые просто-
напросто не приняты в высшие учебные заведения и лет через десять будут
стоять третьим помощником у разжиревшего инженера, который будет стро-
ить дорогу, а неудачник, которому он не давал места своею персоною, будет
бегать у него на побегушках и подбирать крохи, падающие с его стола.
6 В. В. Розанов
161
НРАВСТВЕННАЯ СМУТА
КАК ПРИЧИНА ПОЛИТИЧЕСКОЙ
Если справедливо и точно то, что сообщает сотрудник «Temps» о своей бе-
седе с гр. Л. Н. Толстым относительно теперешнего положения России, то
диагноз великого писателя действительно попадает в самый центр дела. В
России нет «власти и авторитета» (pouvoir et autorite). Так как, однако, это не
есть мелькнувшее в беседе выражение, а самая тема беседы, дальше раз-
виваемая, то невозможно допустить ошибку или обмолвку в передаче цент-
рального понятия. Суждение это Толстому бы труднее выразить, чем кому-
либо, ибо он сам немало сил, и каких сил! — приложил к борьбе с двумя
началами жизни, недостаток или, точнее, страшное ослабление которых так
болезненно ощущается во всей России. Ослаблено давление атмосферы, и
разразился ураган. Точь-в-точь как случается это в физической природе в
лесах, в пустынях, над океаном.
Нет ни «мочи», ни «святыни» — так можно перефразировать определе-
ние Толстого. И разразилась революция именно как хаос, как невероятный
подъем индивидуальностей, из которых, не чувствуя над собою общего мо-
рального давления, каждая ощутила себя и царем, и законодателем, и по-
пом, и Богом. «Если Бога нет, то как же я не Бог», — говорит Ницше, и у
Достоевского это же самое говорит в «Бесах» характерный маньяк Кирилов,
этот ницшеанец до Ницше. Когда не ощущается более как дорогая святыня,
дорогая и несколько страшная по неясности природы и древности установ-
ления — родительство, семья, свой кров, свой дом, все целое общество, го-
сударственность, церковь, закон и мораль, образованность и культура, то,
конечно, наступает такой порядок вещей, при котором взрослые или старые
люди еще держатся на ногах в силу привычки и крепости, но все юное, об-
разующееся, растущее, что только готовится наживать привычки и навыки,
валится с ног, барахтается почти в конвульсиях. И этот ужас мы видим воо-
чию в своих домах и на улицах. В июне был характерный случай, мелькнув-
ший в хронике происшествий: в магазин на Литейном проспекте, где были
покупатели, ворвался запасный и с криком «Закрывайте магазин! Приказа-
но закрывать магазины! Объявлена забастовка» бросился гасить лампы, об-
рывать телефон и выталкивать вон приказчиков, как и покупателей. С ним
едва справились и связали. В Гатчине в июле месяце гимназист младших
классов где-то достал револьвер, — может быть взяв из стола у отца, тихого
буржуа, думавшего защититься им при случае, — и начал среди перепуган-
ной семьи и прислуги отчаянно размахивать им, крича: «Я революционер и
перестреляю всех, кто подойдет ко мне!» Так как никаких врагов около него
не было, как и в первом случае никакой забастовки не было в городе объяв-
лено, — то оба случая представляют собою собственно моментальное поме-
шательство или исступление на почве ожидания, — ожидания или, может
быть, и желания. Кто помнит в «Войне и мире» эпизод взятия французами
Смоленска, помнит, вероятно, хозяина лабаза, который все не верил, что
162
французы дойдут до ихнего Смоленска, но, когда бомбы начали разрывать-
ся на улице и все стало очевидно, — пришел в исступление и с воплем:
«Решилась Рассея» — начал рубить топором все в своей лавке. Накануне
при толках, что вот-вот французы подходят, он реагировал на это тем, что
без всякой причины больно исколотил свою жену. Вообще психология населе-
ния представляет самые разные степени устойчивости: и в эпохи, подобные
нашей, когда психика колеблется особенно сильно, огромный процент лю-
дей теряет всякое равновесие и творит вещи, поистине неслыханные и неви-
данные.
Вся литература русская, уже более века, увы, была сплошь почти отри-
цательная! Все боролось против того, что назвал Толстой, — против pouvoir
и autorite1. Боролись меланхолически, с грустными нотами в голосе, — в
песне, в рассказе, не говоря уже о публицистике, и от этого-то грустно-
бессильного, страждущего тона, побежденного, и безнадежно побежден-
ного, действие этой литературы было еще могущественнее. «Все русское
грустно! Все русское безнадежно!» — так формулировали западные наблю-
датели. Собрался громадный запас горечи, какой-то беспредметной, туман-
ной, неопределенной; неопределенной, т. е. беспредметной. Все шло в раз-
дражение, щемящее, тоскливое. И все это текло, ползло, летело на... autorite,
pouvoir! Летело — безнадежно, с мыслью о своей смерти, о гибели или
дома в злой чахотке, или в Шлиссельбурге. Вдруг события двух последних
лет создали возможность, моментально перешедшую в уверенность, не по-
гибнуть, а погубить, не сломиться, а сломить, не разбиться, а разбить. Все
пассивное, хмурое, безнадежное, все болезненное и чахоточное рванулось
с такою силой вперед, как бы надеялось вместо грустной «Истории одного
города», начертанной Щедриным, получить себе волшебную биографию
Аладина! «Все сразу будет получено, найдено, осуществлено!» Никакого
авторитета позади, зато — неслыханные авторитеты впереди, авторитеты
мечты, надежды, самой безумной фантазии, маниакального бреда. Вчера
— нуль, сегодня — скверно, завтра — все! Можно представить себе, как
хорошо править социальным кораблем при этом расположении психичес-
ких стихий. Собственно, управление почти невозможно. Все дело заключа-
ется в удержании равновесия. Требуются огромные силы не для того уже,
чтобы куда-нибудь привести корабль, но чтобы просто не дать рулю и не
дать волнам, совершенно стихийным и безумным, опрокинуть тысячелет-
нюю постройку на бок. При этом положении мы считаем совершенно мел-
ким зубоскальство над autorite и pouvoir, которые все же стоят у руля, и
только тем, что они этого руля из рук не выпускают, считаем их не мало
делающими. Вспомним мещанина в Смоленске с его воплем: «Решилась
Рассея», с его топором, остервенением. Безумцы, кричащие против «тира-
нии» власти, не догадываются, что в минуту, как ее бы не стало, взяла бы
топор вся Россия, весь ее черный стомиллионный слой, неученый, нечеса-
1 сила и власть (фр.).
6
163
ный, ужасный, сумасшедший, отчаявшийся, и с криком: «Решилась вера»,
«Решился Бог», «Решились мы все животов своих» — бросился бы... на
кого? как? Прежде всего он сам, народ, не захотел бы и не смог бы решить
этого, — прямо не захотел бы разбираться в этом, — как и тот мещанин,
столь проницательно угаданный Толстым, столь пластически показанный.
Вот какого медведя зовут на себя те, кто все еще точит молодые зубы около
старых pouvoir и autorite.
«СТАРО»-КАТОЛИКИ
И ПРОСТО КАТОЛИКИ
Если у старокатоликов все обстоит так благополучно, как это описывает А.
А. Киреев, то я, конечно, этому первый радуюсь, как и вообще всякому вез-
де благополучию. О старокатоликах я обстоятельнее, чем можно сделать в
газете, высказался в I томе своей книги: «Около церковных стен» (статье
«Из-за чего сыр-бор загорелся»), куда я не могу не отослать моего всегдаш-
него критика. В частности, на полуобращение, полувопрос его мне отвечу
следующее. Религия, конечно, — это и догмат, и культ, и молитва, даже пре-
дания, легенды, наконец, вымыслы, те благочестивые и поэтические вымыс-
лы, которым не хочется не верить и нет причины с ними особенно бороться.
Религия не может быть достоверна, как алгебра, и не должна. Религия есть
жизнь, а все живое неуловимо и даже не очень «доказуемо». Все это (дока-
зуемое) — ниже этажом, чем религия. Спрашивается, у смлро-католиков
где же все это свое, оригинальное, продолжающее твориться? Где у них
прекрасные полудостоверности, как Лурд? Те полудостоверности, без кото-
рых человечество не захотело бы жить, хотя бы его со всех сторон обложили
учебниками математики. Увы, у с/иаро-католиков все это — просто католи-
ческое, за вычетом, за сухим вычитанием одного догмата о «непогрешимос-
ти» пап. Таким образом, я не против догматов и догматизма, как меня упре-
кает А. А. Киреев, но решительно против того, чтобы сводить всю религию
к догмату или надеяться, что из одного только догмата и догматизма произ-
растет что-нибудь живое, религиозное. Перехожу к этому единому догмату
о «непогрешимости пап», на отвержении которого зиждется старокатоличе-
ство. Конечно, я его не разделяю: но совершенно не могу понять, обязанный
верить «непогрешимости» отцов нашего Собора 1667 г., наложивших клят-
вы на старые обряды русской церкви, почему я более счастлив, свободен и
менее раб (тезисы А. А. Киреева), раб веры и авторитета, нежели католик,
обязанный признавать «непогрешимость» Пия IX, Льва XIII и Пия X, ниче-
го особенно ужасного не постановивших?! Тут, мне кажется, г. Киреев нахо-
дится в каком-то «логическом кругу», бессильно в нем вращаясь, почитая на
Западе всех «рабами» вследствие нового догмата, а на Востоке всех «сво-
бодными» за отсутствием этого догмата. Суть не в том, «один» непогрешим
или — многие; суть, устраняющая свободу, лежит в «непогрешимости». Тут,
164
мне кажется, происходит подмена Бога человеком; отмена древней запове-
ди: «Не сотвори себе кумира», «да не будут тебе бози инии разве Мене». И
это совершенно так же сделано в отношении «многих», как и «одного», кол-
лективного решения или единоличного. Мне решительно все равно, «мно-
гих» я раб или «одного»: суть в том, что я — раб. Суть в том, что я не имею
более этого счастливого заповедания, по которому ничто человеческое с аб-
солютностью не господствует надо мною, ничто — смертное, конечное, вре-
менное, одного костяного и плотяного состава со мною. «Не сотвори себе
кумира» — раз и навсегда запретило иерархию церковную, в том смысле,
объеме и значении, как это выработалось и принято на Западе и у нас. Вспом-
ним запрещение И. Христа, еще сильнее оградившего эту свободу: «Вы же
(ученики, апостолы) не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель —
Христос, и отцом не называйте никого, ибо один у вас Отец, который на
небесах» (Ев. Матфея, гл. 28). Вот слова, которые я нахожу нарушенными на
Западе и на Востоке. Суть не в «папизме», а в «иерархизме»; первый есть
только частный случай и местное обнаружение второго. Где поле — там и
трава; и где «иерархия» — вырастет и папа: недаром наши так рванулись на
предсоборном присутствии к патриаршеству и скрытно к папству. Это все-
гда было, это — заложено. По моему глубокому убеждению, «папа» есть
только хорошо развернувшийся священник, — «хорошо» в смысле свободы
и удачи; а священник есть папа — только со связанными крылами. Вспом-
ните отца Матвея Ржевского и отношение его к Гоголю: в уездном священ-
нике, совершенно православном, благочестивом, почти святом, — жил уже
Григорий VII Гильдебрандт, без тени существенной разницы. Только посох
был покороче. Но этот «посох» — он у всех есть, это — душа «священства».
Есть «иерей», будет лро/ио-«иерей»; и где-нибудь обнаружится «патриарх»
и «папа». Идея первенства, иерво-началия в христианстве, естественно за-
вершающаяся в едмно-началии. А как это было запрещено Христом! Кто не
помнит? Конечно, я не борюсь против этого (куда мне!), но я не чувствую
особенного негодования именно к «папам» за их «непогрешимость»: «иереи»
все «непогрешимы», и были такими всегда. В частности, папы были «непог-
решимы» и ранее, но без ученых формул (как данная на Ватиканском собо-
ре), по вере, по склонению перед ними народному. Грешному человеку, ог-
раниченному, пришло ли бы на ум «разрешать грехи», отворять врата Не-
бесного царства? А «иереи», они это делают, все. Значит, — все непогреши-
мы. А я — просто раб их. Ну, так не лишайте же меня по крайней мере
знания географии своего положения. Не отнимайте у меня компас всемир-
ного плавания, по которому я могу ориентироваться. Возвращаюсь к част-
ной теме. Если старокатоличество засыхает (может быть, — нет, и тогда я
очень рад), то не оттого, что оно догматично, или не только от этого, а отто-
го, что не оригинально, не ново, не самобытно и вообще мало содержит
движущих паров в себе. Ни — Лурда, ни — Гуса, ни — «цвиккаусских бра-
тьев», ни — индепендентов, сотворивших новый строй Англии. Доброде-
тельно и благоразумно, умеренно-демократично, — как это описывает, а на
165
последнем трижды настаивает А. А. Киреев. Все «общества трезвости», и
даже лучше. Будь бы я алкоголик — пошел бы к ним — научиться, испра-
виться. К великому сожалению, я тоже трезвый, благоразумный и довольно
добродетельный человек, каких, впрочем, тысячи, какова вся буржуазная
Европа: и я, и мы просто не понимаем, чего же пойдем искать к старокато-
ликам нового, любопытного, манящего, поражающего, очаровывающего?
Папа стоит «соблазнительный, как демон» в своей «непогрешимости»: а
старокатолики — это мещане в рясах, к которым не кинется мещанская Ев-
ропа по отсутствию контраста и отдаления. Ведь все религиозное «несбы-
точно», отдаленно... Вот о чем забыл г. Киреев в своих торопливых, демок-
ратическо-утилитарных рекомендациях.
ДУМСКИЕ ПЕРЕПЕВЫ В ПЕЧАТИ
За временным перерывом парламентской жизни, она продолжается в печа-
ти, и здесь мы наблюдаем, что те же узлы, оставшиеся неразвязанными в
зале Таврического дворца, продолжают спутывать мысль писателей, чита-
телей, обывателей, граждан. Парламент как бы расползся по всей стране, но
прения — те же и о том же. Исторический отказ Г. Думы выразить порица-
ние убийцам слева, жадное выискивание думскими Аяксами, Щепкиным и
Якубсоном «правительственной руки» в белостокском погроме и проч, и проч.
— все это повторилось около последнего Правительственного сообщения и
письма А. И. Гучкова по поводу его. Кн. Евг. Трубецкой спрашивает в пись-
ме, напечатанном в «Русск. Ведом.», г. Гучкова: «Неужели он искренно ве-
рит серьезности обещаний правительства касательно реформ...»
«Искренно»... какие злоупотребления именно этим словом! Ни в Думе,
ни сейчас в печати «искренности» нет ни у кого, она даже не приходит на ум
никому; стоит на уме только тактика партий, по которой требуется заушить
одного, прокричать «vivat» другому, — и эта шумиха выходит тем внуши-
тельнее, чем чаще около нее звякает прицепленное слово об «искреннем» и
«самом искреннем». Доконать правительство, — а там все средства хороши.
Какой азарт в нападении на г. Гучкова, в сущности, за один тезис, что он
высказался о горькой необходимости военно-полевых судов. Это, однако,
высказывание и есть то самое выражение негодования к убийцам и убий-
ствам слева, к чему была приглашена Г. Дума М. А. Стаховичем и на что
устами г. Родичева и других она выразила отказ, совершенно тожественный
с приглашением «продолжать действовать в том же роде», т. е. взрывать и
стрелять, к чему теперь в таком обилии присоединились «экспроприации» и
дело окончательно слилось с разбоем и грабежом на большой дороге. Г. Гуч-
ков иного ничего не сказал, кроме того, что сказал г. Стахович этим своим
предложением в Думе, оставаясь правоверным октябристом: ибо требова-
ние военно-полевого суда для господ, захваченных на месте преступления,
и есть выражение негодования к злодеяниям, если только это негодование
166
искренно, а не сделано из видов тактики, если оно не есть пустое висящее в
воздухе слово, а выражает настоящий акт живой души, почувствовавшей
отвращение к злодеяниям. Как же иначе? Не все ли равно сказать часовому,
поставленному около порохового погреба: «Сохрани его, чего бы ни сто-
ило!» или: «Стреляй во всякого, кто будет пытаться внести в него огонь».
Две формы, конкретная и абстрактная, одного распоряжения, одной мысли.
Правды, правды — вот чего нам недостает, недоставало в Думе, недо-
стает в печати. Хочется сказать эту правду гг. кадетам в лицо: им нисколько
не жалко жертв военно-полевых судов, никакого ужаса перед десятком-дву-
мя расстрелянных за неделю преступников. Все это шумиха слов, при кото-
рой сердце остается в ледяном спокойствии. Ну, такая ли партия кадеты,
чтобы кто-нибудь из нее стал жертвой военно-полевого суда. Эта партия
«сохранения капитала и приобретения репутации» не потерпит ради идей
своих даже булавочного укола. Источник пафоса другой: слова шумят около
правительства, которое — «не мы», и военно-полевые суды осуждаются не
за то, что они таковые, как есть, и применяются к убийцам и ворам, а потому,
что их применяет правительство, а не они, кадеты, которые принципиально
высказались с большой беззастенчивостью, что в случае, если они будут
поставлены у власти, они также вынуждены будут царящею анархиею при-
бегнуть к «суровым репрессиям». «Там-то мы, а не они»\ Обществу русско-
му, народу русскому и остается это запомнить: что дело не в жестокости и не
в военно-полевых судах, а в этом старом вздохе, прежнем вздохе: «Ах, поче-
му министерство не из нас!»
МОСКОВСКИЕ ПРОФЕССОРА
И СТУДЕНЧЕСТВО
Телефон одновременно принес из Москвы два известия: о том, что слуша-
тельницы высших женских кусов постановили на сходне открыть научные
занятия, но с условием отдать аудитории для революционных целей по пер-
вому требованию «революционного народа»; и о том, что в университете,
после некоторой неурядицы, лекции начали правильно читаться во всех ауди-
ториях, как только профессорская коллегия вынесла решение немедленно
закрыть университет и признать всех студентов исключенными, если сход-
ки студенческие, не довольствуясь отведенным для них актовым залом, ста-
нут собираться в аудиториях, прерывая лекции и не допуская их. Таким
образом, «сестры» высказались более или менее равнодушно к науке, во
всяком случае не горячо, в то же время не делая активно и политики, ибо
оне собираются только «уступать место» другим; напротив, студенты, по
крайней мере что касается университета, высказались горячее за науку,
совершенно основательно придя к заключению, что теперь, когда мы име-
ем парламент и конституцию и когда в «движение» выступили фабрики со
статысячным своим населением, — студенчеству по справедливости над-
167
лежит вернуться к науке: это задача истории. Тут много поучительного, и
притом для разных сторон. Коллегия московских профессоров, сколько из-
вестно, всего менее подлежит упреку за недостаток либерализма; она тра-
диционно либеральна, была и остается, — даже либеральна с переходом
в радикализм. Такова традиция и двух последних ректоров, покойного
кн. С. Н. Трубецкого и теперешнего, г. Мануйлова. Совершенная надежность,
так сказать, паспорта с этой стороны и совершенная невозможность как для
студенчества, так и для общества бросить убийственный по теперешним
временам упрек в консерватизме и создали условие для самостоятельного
и твердого решения профессорской коллегии, теперь совершенно автоном-
ной. Не для чего либеральничать тому, кто по существу либерал, и приоб-
ретать какую-нибудь репутацию тому, кто ее имеет. Увы, мы живем в такое
странное и смешанное время, когда необузданный либерализм, — либера-
лизм при всех условиях и во всяком положении, — исходит именно от лю-
дей без чувства свободы в себе, от людей слабой воли и без твердого обще-
ственного за собою признания, а сдержанные голоса раздаются и естествен-
но могут раздаваться только со стороны людей, абсолютно свободомысля-
щих и которые не нуждаются ни в каком дальнейшем упрочении своего
положения. Коллегия профессоров поставила решение, вытекающее толь-
ко из существа дела: что если аудитории занимаются для сходок, имеющих
обеспеченное другое помещение, занимаются самими учащимися, то, оче-
видно, лекции и не нужны этим учащимся, не дороги им, и тогда им не для
чего продолжаться, не для кого, и их, естественно, надо прекратить и ео
ipso1 университету надо закрыться за отсутствием занятий и занимающих-
ся. Пустое место не имеет имени, и, когда нет муки, — нельзя испечь пирог.
Это последовательность мысли и хода дел. Коллегия профессоров, не ока-
зывая никакой репрессии на студентов и нисколько не борясь против их
влечения к политике, только дала ей выразиться в чистом виде, без привхо-
дящих третьих элементов, между прочим, и без своего участия, отрица-
тельного или положительного. Она устранилась, хотя бы для того, чтобы
кинуться и самой в политику, во взрослую политику, например в выборную
и предвыборную агитацию, пусть даже самого радикального направления.
Это уж дело профессоров, как профессора предоставили самим студентам
их собственную политику. Но они не соединили этих двух политик, они
разобщили политику свою, гражданскую, от политики невольно подполь-
ной по учебному положению юношества.
Наконец, коллегия профессоров выразила, что она имеет свое «я», свое
достоинство, и не допускает оскорблять себя в своих научных занятиях и в
своей готовности руководить занятиями учащихся, — не допускает этого
так же, как не вмешивается сама в политику студентов. Само собой разуме-
ется, что если студенты собирают сходку в аудиториях, и притом в лекци-
онное время, то они просто ставят калоши на письменный стол чужого ка-
1 тем самым (лат.).
168
бинета, не уважая ни этого кабинета, ни его хозяина. Так как это нисколько
им самим не нужно (есть актовый зал) и нисколько не требуется политикою
или свободою страны, то это, так сказать, есть оскорбление pur sang1, выра-
жение презрения к чужой личности и к чужим занятиям, к чужим интере-
сам, к чужому делу. Профессора не могли не почувствовать всей оскорби-
тельности таких поступков, этих претензий, и им оставалось или уступить
и снять с себя всякое «лицо», заявив, что такой вещи, как «лицо человечес-
кое», у них не имеется, а есть на месте его пустое место, где могут топтать-
ся чужие калоши и сапоги, — или, напротив, ответно стать во весь рост и
сказать, что если студенты не хотят в них видеть своих наставников, то в
них еще остаются граждане, ученые, члены общества... Профессора поста-
вили все дело довольно формально или, как говорится теперь, «коррект-
но», т. е. неуязвимо правильно с внешней стороны, устранив келейность,
субъективизм и сантиментализм, это наследие прежних «домашних» вре-
мен, времен рабских и начальнических, где жали и ненавидели друг друга,
жалели и прикрывали, обманывали и снисходили до полной распущеннос-
ти и развращения всего строя дела. Профессора разумно не приняли на себя
и роли менторов, педагогов, наказующей власти: все это не идет к тепереш-
ней минуте и не нашло бы себе внимания или уступки. Студенты это по-
чувствовали и наполнили аудитории как слушатели, а не как политики.
Политики будут стараться сорвать все дело, но, надо думать, и профессора
не побегут от них в щель.
Слушательницы высших курсов едва ли дали себе отчет, что, «предо-
ставляя аудитории для революционного народа, как только он этого потребу-
ет», — оне распоряжались не совсем своей собственностью, или не только
своею. Это походит на угощение в чужом доме, на запродажу чужой вещи,
— факт в русском обывательстве не незнакомый и чрезвычайно смешной.
Высшие женские курсы в Москве, учрежденные частным образом проф. Вл.
И. Герье, суть дорогое, долго росшее дерево, посаженное отнюдь не руками
курсисток, и особенно не руками этого набора курсисток 1906, 1905, 1904
годов. Оне, как листья на дереве, только меняются. Есть корни у дерева: был
кто-то, кто посадил дерево. Не могут же оне не сознавать, что каким-то ста-
рым теперь человеком оно выращено ценою неусыпных трудов, забот, борь-
бы с министерством еще Толстого и Делянова и что в них должно быть про-
буждено чувство глубокой благодарности к тому, что им предоставлены ус-
ловия для научных занятий, пособия, профессорские лекции, что оне полу-
чили все это даром, нисколько сами не трудясь и только сев в вагон и приехав
в Москву. Мы убеждены, что слушательницы возьмут свое решение назад,
не опасное, но оскорбительное, такое неделикатное и противоречащее все-
му, что мы знаем о женщине по ее прошлому, что мы думаем о ней и чего
надеемся...
подлинное (фр.).
169
О ПРЕДМЕТНОЙ СИСТЕМЕ ЭКЗАМЕНОВ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Как нам приходилось слышать, большим толчком к энергическим занятиям
во всех высших учебных заведениях, и особенно в технических, послужило
введение с нынешнего года так называемой предметной системы экзаменов.
Согласно этой системе, отменяется прежняя форма экзаменов, с назначени-
ем для каждого экзамена определенного дня, в который проэкзаменовывал-
ся весь курс, иногда в 200—300 человек, и экзамены по всем предметам
курса шли непрерывно, заполняя собою месяц или полтора месяца экзаме-
национного времени. Все это теперь отменено; никакого определенного эк-
заменационного времени не будет, и порознь каждый студент сам избирает
себе время экзамена, заявляя об этом предварительно профессору, как равно
он может держать экзамен хоть сразу из всех предметов или из небольшой
группы их и, наконец, только из одного. Словом, собственно руль прохожде-
ния курса наук вложен в руки самого проходящего; профессора ограничива-
ют себя только готовностью экзаменовать и главным образом чтением пред-
метных курсов. Нельзя не заметить, что это не есть что-нибудь совершенно
новое даже у нас. В сухопутном шляхетском (т. е. дворянском) корпусе еще
в середине XVIII века науки проходились приблизительно этим способом:
там не было каменных, завершенных форм и программ и в аттестатах кори-
феев нашей псевдоклассической литературы, Сумарокова, Хераскова, Княж-
нина и др., точно обозначалось, до какого именно отдела он прошел, поло-
жим, геометрию или историю, а не то чтобы обще, бесхарактерно и доволь-
но лукаво, как стали это делать потом, обозначалось, что данный воспитан-
ник «прошел столько-то классов гимназии» или «вышел с такого-то курса
университета», — где ничего определенного не говорится. Всякий знает, какая
неизмеримая разница в знаниях, подготовке и специальном развитии быва-
ет у обладателей одинаковых дипломов одного и того же учебного заведе-
ния. Земля и небо, — круглое невежество, непереработанная врожденная
тупость и живой ум при солидных сведениях. Диплом все прикрывал, скра-
дывал и путал, как и пресловутый паспорт.
Последствия введения предметной системы экзаменов будут неисчис-
лимы. Конечно, нарушится эта форма и кажущаяся упорядоченность, когда,
бывало, стройными рядами весь курс в один день подходил к экзаменацион-
ному столу и когда к 5 — 10 июня вся статистическая часть учебного заведе-
ния была закончена, подведена и выведена в точных цифрах «перешедших»
и «оставшихся». Но вся эта былая и вековая «упорядоченность» — то же,
что лакированная поверхность. Не было никаких сил проэкзаменовать вни-
мательно 100 или 150, даже хотя бы 60—80 студентов даже в десятичасовой
рабочий педагогический день. Экзамены, парадные снаружи, обращались в
игру случайностей для студента, и эта случайность манила к себе и успешно
приманивала всякие недостойные проделки, глубоко унизительные для сту-
дента, но слишком соблазнительные, чтобы на них не поддаться. Дело дохо-
170
дило, — на многолюдных курсах, — до держания экзамена одним лицом
вместо другого (т. е. со сказыванием не собственной фамилии экзаменую-
щимся, а того студента, за которого держался экзамен). Мелких и более из-
винительных проделок избегали лишь редкие студенты, и все вообще игра-
ли «в лотерею» и, рассчитывая на эту лотерею, т. е. подготовившись кое-как
из половины билетов, шли смело на экзамен в надежде вынуть счастливый
билет и, конечно, в половине случаев вынимали таковой. Законы теории ве-
роятностей ведь действовали и тут. Наконец, по благодушию русскому экза-
менаторы всегда допускали вынуть второй билет, когда, вынув черную не-
удачу, студент заявлял, не моргая глазом, что это «единственный билет, ко-
торого он не успел приготовить». Русские — способный народ и даже чест-
ный; но это расположение к ухарству, к хвастовству ничегонеделанием, эта
жажда рискнуть и немного подсмеяться над профессором и экзаменами,
«проводя начальство за нос», — сделало то, что занятия в университете во-
обще стали в значительной степени мнимыми и студенты не только пере-
стали посещать лекции, но и из литографированного или печатного курса
наскоро готовили к экзамену половину или четверть. Профессора это хоро-
шо знали, студенты знали отлично, но все шло на «авось», и «Бог не выдаст
— свинья не съест»... Все уходило в надежду, часто честную, но легкомыс-
ленную надежду «наверстать науку потом», — медику, на практике, юристу
— тоже, учителю — на преподавании. Известно, «мудрый всю жизнь учит-
ся». И ломалась же практика об этих менее ученых, нежели продолжавших
учиться недоучившихся университантов.
С предметною системою вся эта нечисть, все эти длинные полы азиат-
ских халатов и халатного отношения к делу радикально выметается вон. Пси-
хологически невозможно, чтобы студент, не дочитавший курса и которому
ничто не препятствует еще отложить экзамен, предложил профессору экза-
меновать его. Он непременно «отложит», т. е. непременно дочитает курс, —
«что и требовалось доказать», как шутят гимназисты о заключительных сло-
вах теорем. Внимание сейчас же возрастет и оттого, что экзамен потеряет
характер стадный, массовый, превратившись в дело личное, одного студен-
та с одним профессором, или профессора с очень небольшою группою сту-
дентов, согласившихся экзаменоваться одновременно. Тут профессор не
может не всмотреться в лица студентов, да и обилие времени и неутомлен-
ность экзаменатора изменит экзамен из ряда беглых вопросов, из 5 — 10-ми-
нутного ответа в обстоятельную беседу учителя с учеником о содержании
всего прочитанного курса. Так как, далее, лишь в очень редких случаях и
лишь очень смелые студенты будут держать экзамен разом по нескольким
предметам, то вообще подготовление к экзамену, невольно и у всякого ин-
тенсивное, растянется на весь год, т. е. весь год занятия будут идти довольно
интенсивно, — и опять-таки это «только и требовалось доказать», т. е., без
сравнений, только и требовалось придумать какую-нибудь систему, чтобы
сообщить слушателям высших учебных занятий энергию, прилежание в за-
нятиях. Наконец, «все торопятся жить», а молодежь в особенности: по но-
171
вым правилам студент может держать в один год экзамен не только из курса
этого года, но и из следующего старшего, т. е. из курса, читаемого старшим
студентам, и таким образом сократит время учения, напр., из четырех лет в
три, из пяти — в четыре. Это чрезвычайно рванет энергию вперед. На сход-
ках все думают об «общих делах», но про себя и дома всякий думает, и при-
том очень энергично, о себе и о семье своей, думает о будущей службе, во-
обще о предстоящем деле и деятельности. При рассыпных экзаменах, держа
руль учения, т. е. карьеры, в своих руках, каждый будет стараться проплыть
как можно скорее и без крушений курс университетского плавания. Ника-
кие «общие сходки» этой заботе каждого о себе не помешают, ибо общая
сходка и вообще студенчество как толпа вовсе даже не будут видеть, как и
кто экзаменуется, т. е. как и кто делает свое дело, какие и у кого есть отноше-
ния к профессору. Давление толпы ослабнет неудержимо, фатально, и про-
порционально этому чрезвычайно вырастет личность в студенте, совершен-
но пока забитая толпою и «товарищеским духом», обязанностями товари-
щества. Делает большую честь автономной профессуре, что она ввела эту
меру, делающую каждого порознь студента «головою» собственных заня-
тий, их ответственным и претерпевающим от неудач хозяином, словом, —
тоже автономным. Вот что значит разумная свобода: она от периферии под-
вигается к центру, к подробностям дела. И оживит студенчество после того,
как очевидно оживила профессорство.
ХРИСТИАНСКАЯ СВОБОДА
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА
«Смута» есть до известной степени «сумятица», т. е. та болезненная утороп-
ленность мыслей, чувств и дел, в которой они теряют правильное располо-
жение и нормальные очертания, сталкиваются, искажаются, ломаются. Это
— как ветер, который ворошит и перевертывает солому на крестьянских
избах; ветер смуты также перевертывает мозги, миросозерцания, инстинк-
ты, убеждения. Пустое и легкое при смуте взлетает вверх, но все ценное,
ценные мысли, ценные чувства западают куда-то вниз и как будто на некото-
рое время вовсе теряются из исторического багажа нации. Наше духовен-
ство, без всякого помысла о возможности и необходимости для него само-
стоятельного своего положения и своего независимого и оригинального го-
лоса в текущих делах, разделилось и перебежало в два лагеря, равно чуж-
дые церкви и враждебные евангельскому духу, — крайний радикальный и
крайний черносотенный. Одно и другое в равной мере антипатично, в од-
ном и другом перебегании равно сказалось отсутствие какого-либо собствен-
ного достоинства, какого-либо о себе самом сознания. Церкви как будто и не
бывало, и, не находя своего храма, своего дома, священники и епископы
разбежались по чужим квартирам, где они и приняты-то едва ли с достаточ-
ным уважением. Речи епископа волынского Антония в Г. Совете и священ-
172
ников Афанасьева и Пояркова в Г. Думе не стяжали славы духовному сосло-
вию. С другой стороны, и политические партии, к лозунгам, программам и
даже к жаргону которых присоединились или применились эти духовные
лица, конечно, не были так наивны, чтобы не понимать, что это вовсе не
церковь стала на их сторону, церковь во всем своем мировом и историчес-
ком значении, а всего три голоса не особенно сильных умом людей, нося-
щих рясу, но далее этой внешности не простирающих своей связи с церковью.
Обо всем этом напоминает одна строка синодального определения от
29 сентября касательно торжественного благодарственного молебствия 17 ок-
тября: именно та строка, где говорится о «Христовой свободе», которая от-
нюдь не смешивается со своеволием. Давно пора вспомнить! Пора вспом-
нить, что Христос все свое учение именовал «освобождением», освобожде-
нием от всяческих уз, угнетения и насилия; таким образом, даже по форме
Евангелие никак не допускает к себе черносотенных подползаний, якобы
воздвигающих стяг борьбы между прочим и «за веру». Но еще сильнее Еван-
гелие отталкивает и ту анархию духа, которую носят социализм и револю-
ция. Христос призывал всех людей к «свободе» прежде всего и впереди все-
го от желчных, гневливых, завидующих и всяких вообще братоненавидя-
щих собственных чувств, к свободе от черной капли яда, которую, увы, каж-
дый почти человек носит в груди своей, и уже после всего этого к свободе
внешних отношений. «Сперва заслужи свободу, а потом и пользуйся ею» —
так на прозаический житейский язык можно было бы перевести высокое
христианское учение о свободе. Всякое другое учение о свободе и даже вся-
кое другое приобретение свободы нисколько не обогатило бы человека, как
выигрыш большого куша в карты не упрочит благосостояния завзятого иг-
рока и мота. Способ приобретения вообще сокровища так же важен, как и
самое сокровище, даже важнее; богатство без труда не богатит, свобода без
самообладания или без известной доли кротости, братства и миролюбия —
только простор для дебошей. Бесконечная разница между свободою, прине-
сенною Христом на землю, принесенною для благоустроения земли и на
которой действительно построилась вся европейская цивилизация, и между
свободою, какая с диким завыванием выползла из якобинских нор и начала
рубить головы всем инакомыслящим. Очень хорошо это выразил покойный
Достоевский, который говорил о французских коммунарах, что они предло-
жили соотечественникам и затем, по международному характеру коммуниз-
ма, целому миру на выбор: «La liberte ou la mort»1... Да, «будь свободен или
ложись на плаху», «становись республиканцем, или голову долой». Конеч-
но, это сатанинская, дьявольская свобода; полная противоположность тому
братолюбию и миролюбию, какое принес на землю Христос.
Мы вошли 17 октября в конституционализм, можно сказать, не только
не перекрестясь, но и не сняв шапки; точно ничего великого, радостного,
вызывающего на благоговение не совершилось. Пора опомниться.
1 «Свобода или смерть» (фр.).
173
Священникам, духовенству, нисколько не расходясь с новым поворотом
русской истории, следовало приложить все заботы, чтобы внести в него ту
мягкость, человечность, взаимное прощение обид и терпение, какое состав-
ляет отличительную черту христианского общества, христианского духа.
СУДЕБНАЯ ОБСТРУКЦИЯ
14 октября защитники, свидетели и подсудимые в заседании судебной пала-
ты по делу бывшего совета рабочих депутатов устроили обструкцию. На
мотивированный отказ суда вызвать в качестве свидетеля бывшего директо-
ра департамента государственной полиции г. Лопухина защита отказалась
от продолжения своего дела, свидетели от данных ими показаний и подсу-
димые от дальнейшего присутствия на суде. Суд указал, что вызов г. Лопу-
хина не имел бы значения для юридической стороны процесса, так как пись-
мо, присланное этим вызываемым свидетелем, говорит вовсе не о ком-либо
из членов бывшего совета рабочих депутатов и не о нем в его целом составе,
а о служебных занятиях самого г. Лопухина, которые пока не возбудили
никакого процесса о себе и ничьему суду, как и рассмотрению, не подлежат.
Г. Лопухин, конечно, может обладать очень интересными сведениями, может
написать со временем очень интересные мемуары, но вызывать и выслуши-
вать бесконечные сведения его было бы так же неисполнимо для суда, име-
ющего определенную задачу, определенный предмет и, наконец, не беско-
нечное же время, на него отпущенное, как и выслушивать сведения гг. Вит-
те, Дурново, Редигера, Бирилева и Дедюлина, которых всех равным образом
защита и обвиняемые требовали от особого присутствия палаты вызвать в
качестве «свидетелей». Конечно, суд много выигрывал бы в «интересности»
от таких свидетелей, как и подсудимые и защитники явились бы в новом и
пышнейшем «антураже». Но кроме «интересности» суд имеет еще иные су-
хие и прозаические цели и не мог пожертвовать ими политическому роману,
рекламе и тщеславию. Нужно суду разобраться не в делах департамента
полиции, и не может он принимать за ордер пожелание нескольких присяж-
ных поверенных и подсудимых, а в поименованных делах этих самих под-
судимых под углом таких-то и таких-то статей уголовного кодекса. Может
быть, очень виноват и департамент полиции, может быть, виновно все пра-
вительство кабинета гр. Витте; но все русские подданные не выделились от
этого в какую-то «группу», «организацию», со своими целями, с насиль-
ственными средствами и борьбою. Все сидели тихо, хотя гр. Витте, Дурно-
во, Лопухин существовали для всей России, а сошли на нелегальную почву,
к «захватному праву» в области собственности и политики только несколь-
ко господ, сидящих на скамье подсудимых. О них только и идет дело. Всяко-
го манит из подсудимого обратиться в судью; но для этой метаморфозы преж-
де всего требуется выйти из прежней стадии виновности и подсудности.
Совет рабочих депутатов сильно разбежался — и упал. То он хотел стать
174
«правительством» в России, а теперь хотел бы разыграть роль судьбы. Но
фортуна двух раз кряду не бывает «счастливой». Не каждый же год падает
на один билет выигрыш в «двести тысяч».
Суду, конечно, остается только продолжаться, тем более что он в суще-
ственной части, требующей непременного присутствия самих подсудимых,
защиты и свидетелей, уже кончен. Письмо г. Лопухина получено слишком
поздно, когда суд уже прошел всею своею среднею, массивною частью. Все
свидетели перекрестно допрошены, все дали свои показания, говорили во
время этого следствия как сами подсудимые, так и защитники. Не забили
только заключительные фонтаны красноречия, едва ли обещавшие быть очень
интересными за бледностью защиты, — и выходка 14 октября сыграла толь-
ко роль пробки для этих фонтанов. Сословные представители особого при-
сутствия все слышали, все знают и имеют совершенно достаточный матери-
ал для заключительного суждения и вердикта.
НОВЫЙ ЗАКОН О СТАРООБРЯДЦАХ
Сегодня в «Правительственном Вестнике» опубликован обширный закон о
старообрядцах и иных сектантах наших, после которого все эти миллионы
людей, веками гонимые или теснимые, могут произнести свое: «Ныне отпу-
щаеши раба Твоего»... Сколько терпения, какие муки религиозной совести
и, наконец, грубые физические страдания в виде определенных наказаний,
унижение юридическое, разорение экономическое должны были выносить
эти люди только за то, что они упорно отказывались переменить хотя бы
йоту в облике старинного русского человека, как он молился Богу в Киеве и
в Москве. Вольтерианцы времени Екатерины II, нигилисты 60-х годов, пол-
ные и откровенные атеисты — все это не вызывало тени того гонения про-
тив себя, как верность «до йоты» обрядам и, словом, всем способам молит-
вы и спасения, каких до точности держались признанные святые Русской
Церкви митрополиты Иона, Петр, Алексий, св. Сергий Радонежский и, сло-
вом, сонм всех святых до 1666 года, т. е. почти всех русских святых. Было
над чем задуматься всему русскому народу перед решением собравшихся на
собор 1666—1667 гг., из которых, каково бы ни было их иерархическое зна-
чение, еще ни один не был все-таки святым. Главного критерия «угодности
Богу» за ними не было, а стало быть, не было и настоящего церковно-народ-
ного авторитета, — того авторитета мощей, чудес и других видимых знаков,
какому одному привык непререкаемо верить народ. Все дело совершилось в
«административном порядке», по трафарету: «приказано» — «исполнено» в
области вековой народной святыни. Народ ответил: «Нет, церковь не при-
каз! Церковный строй и дух — не приказный дух и строй». И — поплатился!
Закон справедливо ставит старообрядцев впереди всех других отделив-
шихся от православия или не слияемых с ним вероучений: действительно,
все другие секты суть только разновидности одного, в сущности, толка ста-
175
рообрядчества: «беспоповщины». Не руководимая священниками, попами,
эта ветвь старообрядцев ушла в безграничное разнообразие личного и иног-
да фантастического творчества. Появились «бегуны», «морелыцики», «не-
моляки», «глухая нетовщина» и другие, иногда крошечные и всегда страш-
но фанатические секты. Появились «хлысты», «штундисты», «баптисты» —
секты мистические и рациональные. Но закон имеет и должен иметь дело
всегда с наибольшею массою, — и новый закон по справедливости озаглав-
лен как относящийся до «старообрядцев» и уже попутно и вслед за старооб-
рядцами дающий права гражданства и вообще признание и другим сектан-
там, притом не только сущим, но и имеющим вновь образовываться в буду-
щем. Не следует, однако, забывать, что без многомиллионного и в высшей
степени культурно и политически ценного старообрядчества едва ли зако-
нодательство и администрация озаботились бы этим быстрым и многообъ-
емлющим признанием вообще свободы вероисповедания за всеми сектами,
за всем вообще сектантством: ни штундисты, ни хлысты не вызвали бы но-
вого закона просто потому, что государство мало имеет причин считаться с
ними, принимать в особенное внимание их мелочные и экстравагантные
нужды или желания. Таким образом, не будет несправедливым, если мы ска-
жем, что именно старообрядцы великим терпением своим и стойкостью до-
бились свободы религиозной совести вообще для русских, для России. Этой
заслуги их и этой бытовой мощи никак нельзя забыть.
Они были лишены не только прав вероисповедных, но и гражданских.
Не было допущено не только знаменитое «оказательство», т. е. они обязаны
были «быть», но не «оказываться», жить какою-то подземною жизнью, —
но и в этой потаенной, подземной жизни за ними признавалось только зоо-
логическое существование, без прав гражданских. Так как не признавалась
их церковная иерархия, то не признавались и таинства, совершаемые их «лже-
попами» по милой официальной терминологии: поэтому брачующиеся были
как бы небрачующимися и, напр., с переходом в православие которого-ни-
будь одного из супругов он мог вступать в новый брак, нисколько не считая
себя связанным «староверческим браком» с «староверкою». Можно пред-
ставить, какие семейные истории на этой почве разыгрывались. Закон ниче-
го не щадил и не останавливался ни перед какою циничною приманкою,
вроде обирания жен, покидания их и детей своих от них, чтобы только сма-
нить хотя единую «овцу» или одну «ревизскую душу» в лоно православия.
Совершенно удивительно, что наша духовная власть нимало не гнушалась
такими способами привлечения к себе и принимала если не с радостью, то с
жадностью этих обманщиков, плутов и ренегатов.
Весь этот смрад теперь кончился, — смрад веры, быта, юриспруденции
и администрации. Кто, можно сказать, не обмарался о старообрядцев, со-
блазняемый их беззащитностью и легкой поэтому возможностью запустить
пальцы в их пух. Кто тут не наживался около этого золотого дна.
Нельзя не поражаться, как, беспощадно разоряемые и оптом, и по мело-
чам, старообрядцы, однако, постоянно богатели: точно им Бог посылал!
176
Крупнейшие русские состояния и солиднейшие фирмы, торговые и промыш-
ленные, — зауряд-старообрядческие. Богатство явилось результатом того,
что, лишенные внешней юридической защиты, они стали под защиту внут-
реннего нравственного закона, выработав быт такой строгости и стойкости,
такой скромности и бережливости, какого и помину не было у членов «гос-
подствующего исповедания». Постоянный труд, трезвость, сбережение сво-
его «одноверца», солидность и прочность семейного уклада жизни, и все
это не единолично, а общею массою, не спорадически, а всегда, сделалось
такою золотою рудою, из которой старообрядцы добывали гораздо более
сокровищ, чем сколько успевали вычерпать у них всякие «опекатели» и «со-
глядатаи», духовные и гражданские.
Теперь конец всему этому: и старообрядческие церкви и соборы засия-
ют золотыми маковками среди православных на видных улицах и площадях
наряду с католическими, лютеранскими и кальвинистскими, которым все-
гда давалось необъяснимое преимущество перед родною верою киево-мос-
ковского типа и склада. И заживут свободною жизнью эти родные нам ста-
рообрядческие общины, которых мы всегда чувствовали братьями, хотя их
и не пускали, как якобы «блудных сынов», «на глаза» наши (пресловутое
«оказательство»). Придите же, сядьте среди нас, братья наши: мы не пойдем
к вам и с вами, но мы будем горячею радостью радоваться, куда бы вы ни
пошли к своему счастью. Ибо верим мы, что, как и в истекшие века, вы
всюду понесете дорогой русский дух, дорогой старый русский дух. Вы при-
бавите Москвы и Киева к Петербургу: и это слишком вовремя.
МОНАШЕСТВО И СЕМЬЯ,
ЦЕРКОВЬ И НАЦИЯ
Оформилось, т. е. выработало устав себе и получило утверждение «братство
ревнителей церковного обновления» в Петербурге. Зерно его или активную
и вместе хозяйскую часть составляют те «32» священника, которые соста-
вили и подали года Р/г назад митрополиту Антонию известную «записку», в
которой указывалось на неканоничность теперешнего строя церкви или,
собственно, церковного высшего управления, и говорилось о нужде вернуться
к канонам, все «обновить» в согласии с ними (т. е. «постарить», а не «поно-
вить»?), — и, в частности, предлагалось созвать для произведения этих пе-
ремен всероссийский церковный собор. «Все от них пошло», — скажет ког-
да-нибудь история об этих «32-х», как в другом месте она говорит это о
троянцах и еще в третьем месте — о Рюрике, Синеусе и Труворе. Во всяком
случае, эти «32» составляют действительно энергичную молодую часть пе-
тербургского духовенства, совершенно чуждую сословной замкнутости и
также высокомерия и повелительности, весьма нередких в духовенстве, ког-
да дело касается специальной его сферы. В этих «32-х» общество может
смело видеть друзей своих и может сказать им, с надеждою быть выслушан-
177
ным, такие вещи, которых или не поняли бы, или остались бы глухими к
ним другие представители духовного класса. Некоторых из этих «32-х» знаю
и я, и мне хочется по душе сказать им одну мысль, давно лежащую у меня на
сердце и относящуюся к главному основанию всего ими начатого движения.
Основание это очень точно и решительно формулировано в «статье А», —
т. е. первой и начальной, — только что утвержденного их «устава». Я приведу
ее, чтобы читатель видел, о чем я хочу рассуждать, и слушателями этого
рассуждения я прошу быть все русское духовенство. Дальнейшие мои стро-
ки могут быть приняты как бы за открытое письмо к нашему духовенству.
«Цель братства ревнителей церковного обновления определяется сле-
дующими руководящими положениями:
А) Веруя в церковь, как учреждение вечное, имеющее вечную и безус-
ловную, а не временную и условную цель, братство стремится как к осво-
бождению самого понятия о церкви от примешиваемых к нему чуждых и
государственных понятий и представлений (Луки XXII, 25 - 26), так и всей
жизнедеятельности церковной от подчинения государству и другим прехо-
дящим человеческим учреждениям (Матф. XXII, 21), — через установление
таких отношений церкви к государству, которые соответствовали бы ее
самостоятельности, равно как и истинной свободно-учительной природе ее».
Заметим, что о «свободе» самого государства и вообще «временных че-
ловеческих учреждений» от духовенства и от церкви ни слова не сказано
как в этом пункте, так и в следующих.
Далее, в пунктах Б, В, Г и Д устав говорит о задачах всекультурных и
всеобъединительных с другими христианскими церквами и со всеми вооб-
ще элементами образованного гражданского общества, — под которыми,
вероятно, каждый христианин и каждый гражданин охотно подписал бы свое
имя с прибавкой: «верую»...
И пункт А, мы нисколько не сомневаемся, подписан этими «32-мя» свя-
щенниками с такими мыслями, пожеланиями и вожделениями, какие пред-
ставляют собою в этом 1906-м году и в среде этих именно лично ревните-
лей церковного обновления только один свет, одно добро и одну правду.
Они тут не видят ничего худого, лично совпадая во всем миросозерцании с
просвещенным русским обществом. Это как бывает с поздравлениями и
пожеланиями: «желаю вам в наступающем году всего, всего хорошего: все-
го, чего вы сами желаете». С этим доверчивым и любящим «чего вы сами
желаете» «32» пастыря подходят и к светскому обществу, к науке, искусст-
ву, культуре, гражданственности (пункты Б, В, Г, Д). Но ведь они не бес-
смертны, эти «32» священника? Устав всякого общества переживает его
основателей или имеет тенденцию пережить их, как что-то более постоян-
ное и устойчивое, — как «истина» и тезис, имеющие и потом объединять
на согласии с собою других людей. А «тезис» этот, выраженный в пункте
А, который собственно объявляет церковь «автономною» в государстве, вовсе
от нее, от церкви, не автономном (юридически и особенно морально, гип-
нотически), — пункт этот не только не верен, но и губителен, смертелен
178
для всего, к чему с такой любовью пока подходят эти «32» священника в
этом счастливом 1906 году...
Будут иные дни... Были иные дни... Между прочим, о них выразитель-
но и кстати напомнил в сентябрьской книжке «Московского Еженедельни-
ка» (№ 27) профессор церковной истории в Московском университете
А. Лебедев в статье: «Раскол, старообрядчество и православие». Опять цити-
рую, ибо это лучше рассуждений и пересказов:
«Причина раскола1 лежит глубже, нежели обыкновенно полагают: она
касается самого существа церкви и основ церковного устройства и управ-
ления» (NB: темы «Общества ревнителей обновления». — В. В.). Различие в
обрядах, само по себе, не привело бы к расколу, если бы дело обрядового
исправления велось не так, как повело его иерархическое всевластие. «Нич-
то же тако раскол творит в церквах, яко же любоначалие во властях», —
писал известный вождь старообрядчества протопоп Аввакум в своей чело-
битной к царю Алексею Михайловичу. И вот это-то любоначалие, угнетаю-
щее церковь1 2, попирающее церковную свободу3, извращающее самое поня-
тие о церкви (церковь - это я), и вызвало в русской церкви раскол, как про-
тест против иерархического произвола. Любоначалие было виною, что для
решения религиозно-обрядового спора, глубоко интересовавшего и волно-
вавшего весь православный люд, собран был собор из одних иерархов без
участия народа4, и старые, дорогие для народа обряды, которыми, по веро-
ванию народа, спасались просиявшие в русской церкви чудотворцы, беспо-
щадно были осуждены; а на ревнителей этих обрядов, не покорившихся ве-
лениям собора, изречена страшная клятва, навеки нерушимая: «Если кто, —
читаем в постановлении собора относительно этих ревнителей старообряд-
ства, — не вразумится и пребудет в упрямстве своем до скончания своего, да
будет и по смерти своей отлучен, и часть его и душа его да будут с Иудою
предателем и с распявшими Христа жидами, и с Арием, и с прочими про-
клятыми еретиками. Железо, камни и древеса да разрушатся, а тот да будет
1 Не добавить ли: «и вообще расколов», напр., хоть лютеранства, отделившегося
от католичества? Сперва пришел Гус, и его сожгли. Гус просил, молил... Тогда при-
шел Лютер и дал «по уху» тем, которые сожгли, потребовал, закричал, насканда-
лил... И имел успех... Не так ли вообще происходит история еще «от троянцев» и
«Рюрика»?..
2 Неожиданно: да когда же церковь, начиная с Константина Великого и до сих
пор, чувствовала себя «угнетенною собственным любоначалием»? Невероятно и не-
возможно, как сытому невозможно проклинать еду, которою он сыт.
3 Опять досадная обмолвка: «попирающее гражданскую, государственную, во-
обще натуральную человеческую» свободу, а вовсе не «церковную», ибо от Кон-
стантина Вел. никогда, ни у одного народа и ни в каком веке церковь к «свободе» и
не стремилась, ее и не искала иначе, как для себя, т. е. желала «свободы» именно
«угнетать»...
4 Что за совпадение: и теперь, в 1906 году решено собор собрать «из одних
иерархов»! Что за одна не умирающая тенденция в 1667 году и в 1906, т. е. от 1667
до 1906 года!
179
не разрешен». Вот постановление собора. И все это из-за того, что держав-
шиеся старых обрядов хотели креститься двумя, а не тремя перстами, слу-
жить обедню на семи, а не на пяти просфорах, читать и петь сугубую, а не
трегубую аллилуйю и т. п.! Но этого мало. Не ограничиваясь проклятием,
отцы собора положили подвергать непокорных и «телесным озлоблениям»,
в чем поддержали их и восточные патриархи, свидетельствовавшие пред
лицом всероссийского собора, на который они были приглашены в качестве
авторитетных судей по делам церковным, что так поступали с религиозны-
ми диссидентами и в Византии, где отцы церкви вкупе с благочестивыми
царями. «... повел евали злочестивых еретиков наказывать многим биением
говяжьих жил, и древием суковатым, и темницами... и овым языки отреза-
ша, овым руце отсекаша, ъъымуши и носы» (Деяния моек, собора 1666 и
1667 года. Издание братства св. Петра)».
Вот как все связано, вот какой сонм их: русские иерархи 1666 - 67 года,
приехавшие из Греции вселенские патриархи и их уполномоченные, а глав-
ное, «святые и богоносные отцы», коим ведь мы молимся, весь народ рус-
ский молится на иконах и зажигает пред ликами их лампады, все они... «и
древием суковатым» и «воловьими жилами» приводили людей к единомыс-
лию с собою, и «языки отрезаша, руце отсекаша, овым уши и носы»... Верю
вполне, что благи «32» петербургских священника, как и ученый и добрый
профессор-историк Московского университета, но знаю же я, что никогда-
никогда пред их изображениями никто на Руси не затеплит, по предложе-
нию церкви, лампады, не поставит восковой свечи, а перед теми, кто «реза-
ша уши, носы, языки и руце», по предложению церковному уже 1000 лет
весь христианский мир молитвенно склонен или, точнее, поставлен на коле-
ни необоримым авторитетом церкви...
«32» и проф. Лебедев - персть, ничто; горсть золы, что разлетелась и
исчезла. Какой у них авторитет? Они сами знают, что никакого! А у тех, что
«резаша» и «советоваша резать»? У них авторитет безмерный!
Теперь если, при свете приведенной цитаты из проф. Лебедева, мы взгля-
нем на твердую цель нового петербургского общества «освободить всю жиз-
недеятельность церковную от подчинения государству и другим преходя-
щим человеческим учреждениям», то мы... будем смущены и ответим твер-
дым: «нет». Церковь хочет «автономироваться» или, конкретнее, духовен-
ство хочет, настаивает и требует, как «вечное учреждение», чтобы светские
люди ни как лица, ни как учреждения вовсе не вмешивались в их «специаль-
ное духовное дело», специальную духовную сферу... Охотно бы можно было
последовать этому примеру Испании XV века, если бы территориально и
народно «вечное учреждение» не совпадало с несколько презрительно на-
зываемыми в уставе «преходящими человеческими учреждениями»... Да,
вот будь духовенство в Сахаре, — для тамошних песков отчего бы ему и не
учредить хоть даже «священное судилище» с огоньками ауто-да-фе, или, как
у нас, аляповатые срубы, в которых сожгли все-таки «святейшие иерархи»
попа-расстригу Аввакума... Вообще, в Сахаре или где-нибудь в песках турк-
180
менских они могли бы быть «автономными»... Но на Руси, среди русского
народа, уже поставленного на колена перед теми, что «секоша» и «резаша»,
и богомольно века склоненного пред идеалами, духом и, наконец, поэзиею
(да, да, вспомним наших самосожигателей!) этого «усекания» и «резания»...
Нет, среди этого народа мы им автономии не можем дать!.. Позвольте, гип-
нотизер, который загипнотизировал, — обязан и разгипнотизировать. Проф.
Лебедев это делает, хотя бы в названной статье; готовы и будут делать «32»,
— они честные люди, добрые граждане: но этого слишком мало, эти не-
сколько строк в этом 1906 «освободительном» году! Гипноз продолжался
для России с 988 года все в одних идеалах, без малейшего послабления и
колебания, — и «разгипнотизирование» продолжится очень долго, может быть,
века 2—3. И как общество, так и государство и вообще «преходящие чело-
веческие учреждения» вправе не только не уйти в сторону от духовенства и
духовных, якобы «специальных дел», но и обязаны все время остаться вни-
мательно следить, наконец, властно следить за процессом обратной разгип-
нотизации народа... Ведь в гипнозе люди не только думают, но и действу-
ют: скопцы, самосожигатели, морелыцики, эти острые «иглы» самозавер-
шившегося хребта православия. Пусть оно порицает и отрицает эти свои
вершины: скопятся и жгут себя не читатели Дарвина и Бюхнера, а читатели,
горячие читатели «богоносных отцов», что «резаша»... На Западе была инк-
визиция, у нас поглубже - самоинквизиция.
Возьмем, напр., семью, чтобы перейти от черного прошлого к тревожно-
му будущему... «Автономинировалось» бы духовенство, — то, понятно, весь-
ма скоро оно получило бы и главу себе, естественного вождя своих сил и
сберегателя своих «специальных» идеалов, — идеалов и также «преимуществ»
и «прерогатив». Это уж непременно, это вошло мотивом и в «записку» 32-х,
где говорится о «неканоничности» высшего управления, т. е. иносказатель-
но, об обер-прокуроре. Итак, будем говорить о «прерогативах». В числе пос-
ледних находится та поразительная вещь, в силу которой церковь, будучи по
строю своему, по идеалам своим, по всем вкусам, воспитанию, обучению и
проч, и проч., исключительно черною, монашескою, бессемейною и безбрач-
ною, однако взяла себе одной исключительное право разрешать всякому
человеку семейную жизнь; разрешать и не разрешать, брачить и запрещать
брачиться. Тут нельзя не остановиться на одной особенности «благопопе-
чения». Кажется, со времен Константина Великого еще не было ни одного
случая, чтобы церковь какую-нибудь пару, чету влюбленных (даже непри-
лично и говорить о «влюбленности» перед духовенством) «свела», «сгово-
рила», «уговорила» к браку, чтобы она поманила, соблазнила, повлекла к
любви и соединению. Даже и представить этого невозможно! Ну, ърастор-
жение брака? — Сколько угодно! Повсюду, ежегодно! Иногда счастливей-
ших браков и уже от которых родились дети! И расторжений по тому сло-
весному, бумажному обстоятельству, что при заключении брака не были со-
блюдены хотя бы малейшие «йоты» в правилах тех отцов, что «резаша» носы
и «бияша суковатым древием»... Не свела - ни одного! Расторгла - тысячи!
181
Почему? Да потому, что черна, монашеска, что для монаха «семья» и «брак»
то же, что для овцы вареная говядина или для волка каша: не нужно, непо-
нятно и не интересно! Но как же и для чего монахи взяли в свои руки се-
мью, брак? Власть, сила, прерогатива, т. е. влечение ко всему этому, столь
же цепкое, как к «монастырским угодьям». В опору взят софизм: видите ли,
И. Христос, «пастыреначальник» всего последующего духовенства, «пошел
на брак в Кане Галилейской и сотворил там чудо». Казалось бы, ведь Он
«сотворил чудо и при ловитве рыбы», — наконец, Сам вкушал особенно
часто рыбу и ходил чудесно по морю. Связь, поэтому, христианства и церк-
ви с морем и морским делом и особенно с рыбными промыслами легко было
бы, по аналогии с браком, утвердить духовенству. Поистине, «не убо при-
шел час их», и только вовремя не догадались они этого сделать во времена
младенчества народного: такое же точно основание у них было и на исклю-
чительное право рыбной ловли или еще хлебопечения (чудесное накормле-
ние пятью хлебами 5000 народа), как и на венчание и вообще на разрешение
и неразрешение браков, семей. Софизм! Но в этом софизме уже воспитан
народ и им гипнотически усыплен до такой степени, что «расторгаемые»
супруги, — имеющие детей! — и вправду расходятся иногда, а прежде и всегда
расходились «по бумаге», полученной из «духовного» управления. А девуш-
ки, рождавшие и рождающие без венчания, сотнями и тысячами ежегодно
или умерщвляют своих детей, или отвозят их тайно в воспитательные дома.
Церковь, монахи, папа, будущий возможный патриарх относятся к деторож-
дению и роднинкам его — семье и браку — так же «благопопечительно»,
как известные «попечители» казанского и петербургского учебных округов
Рунич и Магницкий относились к «опекаемым» ими университетам и вообще
просвещению, к книгам; или как «цензировавший» Пушкина Бенкендорф
относился к стихам и прозе великого поэта: «Не надо!» «Как можно мень-
ше!» «Вредно!» «Опасно!». Теперь церковь по желанию «общества ревни-
телей церковного обновления» пусть «автономировалась» бы; «автономи-
ровавшись», она, к прискорбию и недоумению сего «общества», и не посо-
ветовавшись, конечно, с ним, избрала бы «патриарха». Это, — утверждает
заранее общество пунктом А, — «никого не касается», и «светским преходя-
щим учреждениям» тут нет предлога для вмешательства. Все «по святым
канонам»... Хорошо. Патриарх уж, конечно, будет монах, сколько бы ни
чихали от этого «32» и вообще все русские бессильные, безгласные, не зако-
нодательствующие и не администрирующие русские священники... У них
все это отнято только оттого, что они с семьею, семейные, в семье: настолько
велика ненависть к семье у власти, «благопопечительствующей» ее... Те-
перь патриарх, уже бессильный (в XX веке!) забрать себе и хлебопекарни, и
каспийское рыболовство по основанию «чудесного хождения по водам»
Спасителя и «чудесного накормления пятью рыбами и пятью хлебами 5000
народа», — удесятеренно жадно сожмет в деснице «хоть что есть», прежде
всего семейную, брачную жизнь всех ста миллионов «поставленных на ко-
лена» простецов. Это побогаче каспийских уловов и в смысле доходности,
182
и в смысле особенно власти, авторитета. Теперь «32» должны сейчас же
переброситься к «гипнозу». С патриархом «гипноз» этот сейчас же возрастет,
свечи зажгутся гуще, ладану больше, проф. Лебедева — вон с должности,
«32» полетят по монастырям «на смирение», вместо благодушного
теперешнего митрополита Антония петербургского сядет грозный Антоний,
епископ волынский, или Димитрий херсонский. Печальное зрелище, — но
пока не смеем вмешиваться, ибо это в точности их «автономное» дело, и у
них пока «свои косточки трещат». Но ведь сейчас же дело доходит и до «нас»,
до наших «косточек». Счастливый-то улов «лесою ап. Петра», куда попал
весь брак. Патриарх — это сейчас же больше детоубийства во всей стране,
как больше его в папских, католических странах, нежели в протестантских,
больше расстройства семейного, семейных несчастий. Бенкендорф,
«наблюдающий поэзию», вырос до неба. У него «ключи небесного
царства»... Возьмем одних рождающих девушек, таких бессильных, — как
птица, запутавшаяся в тенетах. «Сказывают богомолки, что в ребенке,
который без венчанья прижит, не человеческая душа, а бесенок зарождает-
ся, — и такого убить не только не грех, а должно, как дьяволово порождение!».
Гипноз, и уже тысячу лет, перед которым склонились государства, государи,
народы, даже чуть ли не склонились мудрецы, и не поддались ему только
поэты, да вольная народная песнь! Но не девушки одни, — повторяем, —
несчастие семейное, расстройство семьи в целой России сейчас же возрастет
при этом «святейшем кир-патриархе», который будет «автономно» избран и
будет свят всеми видами святости, но семью он будет ненавидеть уже в силу
личных обетов своих и личных вкусов и антипатий, толкнувших его к
принятию монашеских обетов, — так же точно, как ее ненавидели все эти
Руничи-Магницкие-Бенкендорфы, «попечительствовавшие» над несчастной
«христианскою семьею» и давших «правила» ее, «цензуру» для нее, которые
привели ее на край гибели, вырождения, разврата и измен; как, несомненно,
монахи довели бы до гибели и вырождения, — попади им в руки
несоответственное мореплавание или, еще лучше, попади в руки «цензура
поэзии и науки». «Цензура семьи», «канонические о семье правила», — чем
его не то же, что «духовная цензура литературы, науки и философии».
Убийственная вещь — гроб, в который теперь заколочена семья. Она ли не
важна для нации, ее здоровья, ее здоровых нравов, быта, духа. Кончим: в
Сахаре, в пустыне церковь могла бы быть независима в жизни своей. Но
духовенство, но отшельники, монахи, оставив «пустынное житие», пришли
к нам! Зачем бы? Что спрашивать: уже пришли. «Церковь» не осталась «в
пустыне», где дни ее прославляет Апокалипсис. Она вселилась среди нас...
Она показала свои идеалы, она приучила к своим идеалам, она заставила
пасть пред ними и поклониться им доверчивые темные народные души, не
умеющие, как младенцы Ниневии, «различить правой руки от левой»... Все
уже совершилось! Образ и характер совершившегося досказывает цитата из
проф. Лебедева. Как было, так ведь и осталось, и это что-то, очевидно,
принципиальное и вечное, если йота в йоту сохранилось от 1666 года до
183
1906 года, повторилось у испанцев и у русских... Все та же «власть», то же
«любоначалие», та же «иерархия» без народа и вопреки народу, кажется,
опирающаяся на евангельское «паси овцы Мои» и «кого разрешите вы на
земле, — будет разрешен и на небесах, а кого вы (духовенство) свяжете, —
будет связан и на небе»... При этих условиях требовать для «вечного и бе-
зусловного учреждения» автономии среди «преходящих» людишек, царств,
законов, наук, искусства, семьи, рождения, болезней, голода, нужды, страстей,
коллизий, — чтобы оно было «свободно» и ни с чем, кроме себя, не сообра-
зовалось... кажется, жестоко... Я знаю, «32» не жестоки: но они сказали
жестокое слово, и с самого начала своего выступления руководились не только
совершенно ошибочною и неосновательною мыслью, но и мыслью жесто-
кою...
Сперва «разгипнотизируйте», а уж потом и «автономируйтесь».
СУДЬБА СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА
Богатою иллюстрациею к тому, к каким последствиям ведет исключительно
монашеское управление церковными делами, — с устранением от этого уп-
равления белого духовенства и мирян, — служит чрезвычайно интересное и
характерное дело сельского священника Олонецкой губернии Андрея Мага-
ева. Об нем уже начали появляться сведения в печати («Голос Правды» и
«Юридическая Газета»), — но мы думаем, что печать русская, как вырази-
тельница общества русского, должна не ограничиться одним «сообщением»
об этом деле, но и активно добиться его пересмотра и отмены глубокой и
грубой несправедливости, сделанной «какому-то попу», кажется, только в
уверенности, что он не запищит, не закричит, если через него и переедет
начальство. Священник сельский есть не только «низший служащий» свое-
го ведомства, «последняя спица в колеснице» перед очами всемогущей ду-
ховной консистории и центрального духовного управления в Петербурге:
он — служитель и пастырь народа, соработник общества, нужная сила в
государстве и вообще очень почтенное лицо в истории, — все такие каче-
ства и функции, которых никак нельзя приписать духовной консистории, ни
— одной, ни — всем. Общество, и в частности печать, очень и очень вправе
заступиться за этого своего члена и сотрудника.
Но изложим факты и дело, как они содержатся в объяснительном про-
шении его, поданном 3 ноября 1905 года в Святейший Синод. Крестьянский
сын Новгородской губернии Андрей Магаев окончил курс в Вытегорской
учительской семинарии и затем учительствовал в земских училищах в тече-
ние десяти лет. Стремление расширить свою деятельность и дать ей лучшее
основание заставило его в 1892 году рукоположиться в священники. Назна-
чен он был в Отоозерский приход — беднейший и отдаленнейший в Оло-
нецкой губернии, откуда в летнее время не только не было проезда даже
верхом, но нельзя было и пройти далее 25 верст от окруженного лесами и
184
болотами села. Деятельный священник принялся за работу и в четырехлет-
нее пребывание здесь прорубил с прихожанами просеку для дороги и зало-
жил мосты, выстроил с ними же новую деревянную церковь, двухэтажный
дом для причта и школы, открыл две школы грамотности: одну за 18 верст и
другую за 7 верст от церкви и, наконец, начал постройкою здание для боль-
шой церковно-приходской школы. Читатель отметит в уме своем, что все
эти работы только и могли быть предприняты и исполнены через посред-
ство расположения сельчан к своему священнику, который сумел одушевить
их и вместе приобрести их доверие. Подчеркиваем это: ибо кары, постиг-
шие его вскоре, все официально мотивируются «неуживчивым характером»
его и «нерасположением к нему прихода, доведенным до степени, могшей
повести к оскорблению священнического сана». Сам он приписывает свои
несчастия «страшному недовольству» местного благочинного и окружаю-
щего духовенства, раздраженного тем, что епархиальное начальство за ста-
рания его «на пользу благолепия церкви» наградило его набедренником:
обычная и мелкая рядовая награда священников. Кто знает обстановку глу-
хой провинциальной жизни и как часто «Иван Иванович ссорится с Иваном
Никифоровичем» — поймет сразу полную возможность раздражения про-
сто ленивого и косного к трудолюбивому и предприимчивому. В 1895 г. он
был награжден, а уже в следующем 1896 г., по доносу земского начальника
Путяты преосвященному, был переведен за 300 верст, в другой приход, в
Сярго-озеро, Лодейнопольского уезда, как «неблагонадежный политически».
Вероятно ли, чтобы «политическая неблагонадежность» совмещалась с церк-
востроительством, — предоставляем судить читателю. Но шел 1896 год,
время было тяжкое, и преосвященный, очевидно, торопливо подался перед
голословным оговором по такому опасному пункту, не желая навлечь и на
себя подозрение или обвинение в «защите неблагонадежного человека». Зем-
ские же начальники в ту пору пользовались непререкаемым авторитетом,
как судьи и администраторы местной жизни. Словом, здесь обычная «ду-
ховная» уступчивость перед гражданской властью и уверенность последней,
что не будут же критиковать и проверять ее по поводу «какого-нибудь попа
Андрея». Несмотря на ходатайство прихожан перед преосвященным об ос-
тавлении им любимого священника, он был переведен.
Здесь он сделал, может быть, неосторожность: несмотря на состоявше-
еся решение о переводе, он подал прошение на Высочайшее имя, указав в
нем, что так как недостроенная церковно-приходская школа строится «в па-
мять Царя-Миротворца Александра III», то переводом его в другой приход и
оставлением в недостроенном виде школы, посвященной такому Имени, «сие
имя позорится». По нашему чувству, тут больше наивности сельского ба-
тюшки, чем определенной вины. Но именно с этого времени начинается
постоянное вмешательство в его дела, уже в новом приходе, жандармского
управления, — как равно с этого же времени нарушилось к нему и благово-
ление местного преосвященного и местной духовной консистории. По все-
му, однако, видно, что батюшка был — по теперешнему жаргону — скорее
185
«черносотенный», нежели «неблагонадежный». «С этого-то времени, —
пишет он в объяснении Св. Синоду, — не только ежегодно, но даже ежеме-
сячно стали, как бы избрав меня мишенью, зорко следить за мной жандар-
мы, — вследствие чего я обратился в департамент полиции, чтобы вызвать
все собранные сведения обо мне; каковое обращение мое не могло укрыться
не только от моих доброжелателей, но и от врагов, которые весьма удобно
стали пользоваться таким предлогом для обвинения якобы политического
неблагонадежного пастыря и беспокойного».
Читатель опять отметит в уме своем, что прямое обращение в департа-
мент полиции ясно свидетельствует о чистоте совести священника и неиме-
ния никаких за ним фактов по части «неблагонадежности».
«Во втором приходе, селе Сярго-озере, я не упал духом, — пишет он, —
а еще энергичнее принялся за устройство его, утешая себя надеждой дока-
зать своим врагам, что я готов пожертвовать всем на благо своих прихожан».
Он здесь устроил, — очевидно, не на свои, а на выхлопотанные средства, к
даче которых надо же было расположить прихожан, — двухэтажный дом
для причта и школы и за 500 верст от своего села церковь, сгоревшую двад-
цать лет назад и невозобновленную. За это в 1898 году ему была объявлена
консисторским указом «благодарность за попечение о постройке храма, где
он необходим».
Опять в связи с этим начинается мелкая борьба против него, как он вы-
ражается, «мироедов, эксплоатирующих бедных», — по прошению которых
он в 1899 году переводится в третий приход — Девятины, Вытегорского
уезда. «Но другие прихожане, бедняки, подали прошение к преосвященно-
му об оставлении меня в этом приходе, с подробным описанием моей дея-
тельности», — пишет он, каковое прошение оставлено было без последствий.
В селе Девятинах он оставляется только на год; но и в этот один год приоб-
рел такую любовь прихожан, что они несколько раз, обращаясь к разным
инстанциям, просили в трогательнейших выражениях не отнимать у них
уважаемого пастыря. Но ничто не помогло.
Когда читаешь это дело в документах, то кажется, что на вас надвигает-
ся какой-то угар: до того ничего в нем не понимаешь и до того оно кажется
противоестественным! Бесспорным и заключительным документом являет-
ся решение Св. Синода, где — если бы были тяжкие вины за этим священни-
ком, — то они непременно были бы прописаны, названы, но, не найдя ниче-
го здесь, кроме ссылок самого общего характера на «неуживчивость и су-
тяжничество», — мы не можем не прийти к полному убеждению, что ника-
ких определенных, осязаемых, так сказать, священно-юридических или
нравственных вин на отце Андрее Магаеве не лежало. «Сутяжничество!..»
Но ведь «судился» с книжниками и фарисеями и Христос; и Он был «на
суде» у Пилата и первосвященников. «Неуживчивость», — но ведь и митро-
полит Филарет оказался «неуживчивым» с обер-прокурором генералом Про-
тасовым: и Синод не осудит Филарета и не станет на сторону Протасова.
«Сутяжничество» всегда имеет две стороны: которую-то правою и которую-
186
то виноватою. В это надо вникнуть: а то зачем же и «суды» устанавливать,
если самое обращение к суду именовать «сутяжничеством» и наказывать за
него, как за порок, пьянство или лихоимство! Св. Синод, очевидно, недоду-
мал думу.
Острота наказания заключалась в том, что священник Магаев был мест-
ною консисториею «запрещен к служению» (не лишась прихода), — о чем
последняя скрыла в своем изложении дела Синоду, — и отец восьмерых
детей «выстрадал почти целый год без места голодом» (его собственное
выражение): не правда ли, хороша награда за 14-летный труд, бесспорно
просветительный, культурный, пастырски верный народу и церкви?! Вот
вам и приложение слов ученической молитвы, какую он читал еще в учи-
тельской семинарии и потом учителем, с учениками и сам: о служении «Цер-
кви и Отечеству на пользу», — читал и, как видно по последующему, запе-
чатлевал в доверчивом детском сердце с юных лет...
Переведенный в четвертый приход, Пороги, Вытегорского прихода, не-
угомонный священник через хлопоты в Петербурге добивается открытия
здесь самостоятельного прихода и затем, совместно с начальником путей
сообщения г. Рывкиным, основывает церковно-приходскую школу. «Прихо-
жане, в особенности бедные, в течение более года до открытия самостоя-
тельного прихода аккуратно платили жалованье, кроме заправил, — каких-
нибудь семи человек, — которые постарались в сообщничестве с благочин-
ным и гражданскими властями довести меня до самой крайности: вооружи-
ли сторожа церковного и псаломщика, которые совершенно перестали меня
слушать» (из объяснения о. Магаева Свят. Синоду). Отсюда он построил, в
200-верстном расстоянии, церковь-школу. Очевидно, имя его и деятельность
широко разнеслись по округе, что он везде находил помощь, доброжела-
тельство и жертвователей. Что он в существе дела и молча ценился и епар-
хиальным начальством, можно видеть из того, что в 1903 г. оно его обратно
перевело в первоначальное место служения — Отоозеро: так как начатая им
постройкою большая церковно-приходская школа достраивалась последу-
ющими настоятелями прихода небрежно и неумело, — и другого исхода,
как поручить ее достроить самому начинателю, преосвященный и консисто-
рия не нашли. Наконец в 1905 году совместно с прихожанами от. Магаев
открывает маленькое сельскохозяйственное общество. В этом же году он
имел неосторожность, встретя противодействие в местном земском началь-
нике, в письменном заявлении, поданном ему, назвать его «анархистом», —
на что тот принес жалобу окружному суду, и суд приговорил его к заключе-
нию в тюрьму на один месяц и десять дней, каковое наказание, на основа-
нии 86-й ст. Уложения о наказаниях, заменено для него, как для духовного
лица, «заключением в монастырь по распоряжению духовного начальства».
Конечно, «анархист» — слово неуместное в прошении; это — проступок,
неучтивость, невежливость, грубость, но не преступление. Суд, на котором
не присутствовал обвиняемый и не сказал своих если и не оправдательных,
то объяснительных мотивов, очевидно, приговорил его (в июне 1905 года) к
187
наказанию, слишком превышающему вину, и, очевидно, подверг такому на-
казанию просто по единоклассности с земским начальником, по единству и
общности сословия и службы. Нужно заметить, что от. Магаев не только
обременен огромным семейством и совершенно неимущ, но от неоднократ-
ных странствований в этом болотном и холодном краю — приобрел тяже-
лый ревматизм ног: консистория, однако, приговорила его к заключению в
самый убогий и далекий монастырь, в местности нездоровой, которая угро-
жает обострить его болезнь.
Любопытна по языку и по тону резолюция Св. Синода, которою реше-
но это дело: «Для наущения священника Магаева смирению и кротости,
приличествующих пастырю церкви, и поведению, соответствующему свя-
щенническому сану, предписать олонецкому епархиальному начальству по-
местить названного священника в одну из обителей Олонецкой губернии,
предоставив преосвященному олонецкому, в случае твердого раскаяния Ма-
гаева в своем недостойном поведении и исправления, срок назначенной Ма-
гаеву эпитимии сократить до 3 месяцев по своему архипастырскому усмот-
рению».
Повторяем, — все это очень принципиально для характеристики исклю-
чительно монашеского управления церковными делами, — управления ке-
лейного, канцелярского и исключительно бумажного. Все судится и решает-
ся заочно, на основании бумажных донесений, без выслушания судимого
лица. А лицо и живая речь много говорит и менее могут скрыть, чем без-
душная бумага, не краснеющая, не бледнеющая. Наконец, что такое «сель-
ский священник» и вообще «священник» для высокопоставленного монаха,
— когда этому священнику противопоставлено светское лицо с некоторым
значением? Это — «свой человек», свой «низший служитель», которому легко
сказать: «Уйди в сторону», «скройся» — чтобы только не иметь лишних
разговоров с самостоятельным светским чиновником. Понятная, привычная
и грустная обстановка дела. Напротив, заседай в высшем управлении белые
священники, в равной силе с монашеством, они отстояли бы своего собрата
и против кляуз земских начальников, и против мелких придирок полиции,
и, наконец, против произвола местных духовных консисторий. Наконец, они
оценили бы, как живущие среди народа, культурную и просветительную
работу священника в глухом, диком краю.
ПРОГРАММА ЦЕРКОВНЫХ РЕФОРМ
Опубликованная «программа реформ по духовному ведомству» будет встре-
чена всем обществом с чувством самого живого внимания и интереса. Ин-
терес этот проистекает из разных сторон и мотивов. Общество хорошо зна-
ет, что «церковная жизнь» почти тожественна «народной жизни», так как,
почти лишенный гражданского и культурного просвещения, народ в своей
неизмеримой толще и неизмеримом объеме и людности вынужден вольно
188
и невольно жить церковным идеализмом, церковным духом, церковными
формами художества. Это — говоря с поверхностного взгляда, даже не уг-
лубляясь в вечные вопросы души, совести, загробного существования. Та-
ким образом, для всего общества совершенно очевидно, что малейшая пе-
ремена, движение вперед или движение вспять, в области церкви вовлекает
в движение же, попятное или прогрессивное, всю массу народную. Малей-
шее здесь улучшение, оживление или, напротив, застоялость и апатия раз-
ливает улучшение или отражается опущенностью и вялостью в самых глу-
хих деревнях и селах по мельчайшим притокам Камы, Оки, Днепра и Дона.
Что в области экономической хлебородность России, матушка-рожь, уро-
жай или неурожай, — то же самое в другой области православие, хороший
поп, внимательный и добрый архиерей, хорошие певчие, благолепие служ-
бы, упорядоченность сельско-церковной жизни. Одно и другое так же по-
вседневны и повсюдны, дороги и нужны мужику. А дороги они мужику, —
то дороги и всей России, от министра до газетного обозревателя и хронике-
ра. Здесь нет разделений; и атеист, и ревностный прихожанин какого-ни-
будь прихода воскликнут одинаково: «Пусть будет лучше, как можно луч-
ше в этой до трагизма важной области народного существования, — суще-
ствования в равной мере исторического, государственного и культурно-на-
ционального».
Таков главный мотив внимания сюда. К этому мотиву примешивалось
любопытство: сумеет ли духовенство почти одними своими силами спра-
виться с задачею чрезвычайно сложною, трудною и, при неумелости, даже
рискованною. Захочет ли оно обновиться? Сумеет ли? Мы сказали: «почти
одними своими силами». Действительно, все «церковное», доведенное до
последней степени «официальности», формализма и законности, до торже-
ственных слов и жестов, под которыми часто не бывало никакого чувства,
решительно отбило охоту у всех русских, у целого русского образованного
общества заниматься этим делом «мишуры и пустоты», шитых серебром и
золотом одежд и черной неправды суда и управления, ни от кого не скрытой.
В то время как каждый образованный католик и каждый просвещенный про-
тестант, от профессора до коммерсанта, интересуются и знают дела своей
церкви, «компетентны» в понимании этих дел, у нас в силу указанной при-
чины все перестали вникать в церковные дела и вопросы; и большое обще-
ство до такой степени потеряло даже самую возможность, силу и сведения,
чтобы судить, — что не могло бы оказать ни малейшей помощи духовен-
ству, если бы хоть началось разрушение церкви, приди реформация или «вре-
мена антихристовы», по предсказанию Вл. Соловьева. Во всякой области
можно делать, имея чутье к ней, да и запас некоторых предварительных све-
дений. Кроме славянофилов, которые считаются единицами или десятками
в России, такие необходимейшие «для реформы» люди, необходимые для
«да» или «нет», — исчезли вовсе. Исчезли по великой вине самого духовен-
ства, ревниво оберегавшего не только свой исключительный «авторитет» в
этой области, но и право исключительного «разговора» здесь. Все должны
189
были молчать: неудивительно, что все перестали и думать, а потом переста-
ли и интересоваться. Не нужно скрывать этой печальной и роковой истины,
что с великою задачею церковного обновления или, вернее, оживления, ожи-
вания — духовенство стоит перед фронтом общества, насмешливого к нему,
недоверчивого к нему и почти атеистического. Притом, — что странно, —
по вине именно его самого, «духовной» грубости и классового своекорыс-
тия и самомнения.
Но время этому малиться, убывать; время завязываться связям между
духовенством и обществом; время пробуждаться в обществе доверию к сво-
ему духовенству и хоть мало-помалу обогащаться теми сведениями, вкуса-
ми и чутьем, какие решительно необходимы для реальной помощи духовен-
ству в этом громадном угле народной жизни. Мы можем сказать с удоволь-
ствием, что тяжелейшие минуты этого положения разъединения уже про-
шли. За год жизни духовенство страшно много работало, — и порознь в
каждом священнике, и во всей церковной организации. Работало под глаза-
ми общества: и за год само общество столько раз «думало», и читало, и го-
ворило о специальных церковных делах, сколько этого не было прежде в
десятилетия. Редкий газетный лист не содержит хоть нескольких строк о
церкви, как до церкви относящихся, тогда как раньше, например, празднуя
свой 25-летний юбилей, «Вестник Европы» мог указать с гордостью, что за
25 лет «службы обществу, просвещению и науке» он не допустил на свои
страницы ни одной «духовной» строчки, ни от попов, ни о попах. Времена
изменчивы, и нельзя не сказать, что они стали лучше. Мертвой тиши уже
нигде не видно. Везде маленькая взволнованность.
«Проект реформ по духовному ведомству», который будет перенесен в
ближайшем будущем в Совет Министров, концентрирует собою годовую
работу над собою духовного сословия, работу, шедшую единолично и в мас-
се, шедшую особенно усиленно по всей линии духовной журналистики,
страшно возросшей и оживившейся. «Проект» этот дает впечатление несом-
ненно огромного движения вперед, и притом движения во всех направлени-
ях, по всем руслам церковной жизни. Не может быть никакого подозрения в
археологическом смысле общего движения: и опасения в этом направлении,
дружно раздававшиеся со всех сторон общества и печати, несомненно, сыг-
рали свою роль и во всяком случае не были бесполезны. «Проект» все дви-
гает, по крайней мере хочет все двинуть, и общество и печать должны по-
мочь этому движению, — повторяем, глубоко народному и национальному,
— вникнув в детали всего дела, которыми мы займемся. Нужно войти в «лес»
подробностей, тех «подробностей», через невнимание к которым захирел
лес, подернулся двувековою чахлостью, желтизною и, наконец, являет урод-
ство и смерть многих ценных когда-то зеленевших дерев. Мы говорим об
атеизме и атеистах, о вражде и враждующих к церкви. Вспомним судьбу
Толстого, которая была только симптом.
190
ПОЛОЖЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА
В ГОСУДАРСТВЕ
Вникнем подробнее в «Программу реформ по духовному ведомству», отме-
чая свое мотивированное «да» и «нет» в отдельных пунктах.
Во вводных словах к Программе говорится о «более правильных отно-
шениях церкви к государству», о необходимости «освободить ее от излиш-
ней государственной опеки». С. М. Соловьев, сам сын священника и верный
сын своей родины, когда дошел в «Истории России» до церковных преобра-
зований Петра Великого и задумался над ними всеми силами своей русской
души и европейского ума, то высказал замечательную теорию ктиторства.
«Ктитор» — это церковный термин для наименования «старост», тех се-
деньких старичков, большею частью из купечества, которые за обеднею стоят
возле свечного ящика и продают свечи, изредка торжественно идут с тарел-
кою за церковным подаянием. Ктитор, или староста, есть вообще полу цер-
ковное, полусветское лицо и полусветская, полуцерковная должность: он
имеет в руках своих и несет на плечах своих всю сумму вещественных, вне-
шних, материальных, денежных, хозяйственных и храмо-устроительных
обязанностей, забот и ответственности. Ктитор приглашает архиерея отслу-
жить всенощную или обедню в день церковного праздника, нанимает пев-
чих, устрояет хор, золотит купол, вешает тяжелый колокол, наводит позоло-
ту на иконы, приглашает более искусного живописца поновить живопись.
Священник является в храм, чистенький и убранный для него, где произно-
сит священные слова и совершает священные действия. Ктитор собственно
принял у нас все функции, принадлежащие в древности или долженствую-
щие принадлежать приходу, ктитор есть приход, в одном лице сосредото-
ченный, но который отнюдь не принял в состав своих прав ничего такого,
что не принадлежало бы приходу, не вышел, так сказать, из границ после-
днего. Ктиторы у нас чтятся, и немного религиозно чтятся: вечно они живут
около храма, главная их жизненная забота и мысль — о храме. Это несколь-
ко похоже на Симеона Богоприемца в Евангелии, который ведь тоже свя-
щенником не был, но вечно жил при храме и первый встретил и провозгла-
сил Христа. С. М. Соловьев и объяснил, что в XVIII и XIX веке государи
русские стали в положение ктиторов всероссийской церкви: чем является
какой-нибудь благочестивый купец, строитель и хозяин, около единичного
народного храма, тем является и в таком же положении стоит Государь рус-
ский, олицетворяющий в себе народ, собравший в себе всю власть народ-
ную и несущий права его, — около всего сонма русских храмов и около
всего духовенства. Он не «глава церкви», как злобно критикует царское по-
ложение часть духовенства и как критиковали славянофилы, но он немно-
жечко действительно «главенствует» над духовенством, как и старосты во-
обще имеют часто более практического значения и фактической власти, чем
приходский священник.
191
Следует заметить, что сам русский народ, который имеет же чувство
духа церковного, понимает стиль церкви глубоким вкусовым пониманием,
никогда не оскорблялся этим положением своих государей в церкви или около
церкви. Народ русский только и живет церковью, безмерно любит ее, благо-
говейно чтит, но это — глубокое его отличие от западных народов, что он в
массе никогда не был ханжею и не был никогда клерикалом. Это тема для
больших размышлений. Мы отмечаем здесь только краткий факт антипатии
народа к очень большому распространению власти духовенства, слишком
большого его влияния, авторитета и не только вмешательства в светские дела,
но и автономного, т. е. независимого «от иных», распоряжения собственно в
церковной области, к чему сводится клерикализм. Известно, что у старооб-
рядцев, хотя они и клянут светскую власть в церкви, — все-таки духовен-
ство не играет никакой большой распорядительной роли. Старообрядцы
клянут собственно чиновников в церковном управлении, т. е. начало фор-
мальное и официальное, но купцы и вообще богатеи, старички с деньгой
преспокойно взяли в свои руки все то, что принадлежит чиновничеству в
никонианской церкви или, вернее, в церкви Феофана Прокоповича. Т. е. кти-
торство осуществилось и у них, только в коллективной форме. Ктитор как
лицо разложился в приход как общину, потому что и возник-то он, собствен-
но, от того, что померкла, завалилась и умерла приходско-общинная жизнь в
последние два века.
Мы совершенно убеждены, что протесты против государственного вме-
шательства, постоянно слышимые со стороны духовенства, и притом слы-
шимые отнюдь не от своекорыстных клерикалов, а от людей светлого благо-
расположения к обществу, — являются плодом большого недоразумения и
почти только ошибкой языка, грамматики, а не мышления и воодушевлен-
ного убеждения. Сами эти люди, требуя сближения духовной школы со свет-
скою, свободы для духовной печати и проч, и проч., явно рвутся стать ближе
и, так сказать, роднее к мирянам, к людям без рясы, без посвящения. Но ведь
это и есть то самое, к чему рванулся и Петр, — и только рванулся к этому он
неосторожно, пойдя по пути чиновничества, бюрократизма, вместо того что-
бы пойти народно-общинным путем. Поэтому надо делать всегда граммати-
ческую поправку к словам духовных об излишестве государственной опеки:
они протестуют собственно против излишеств канцелярско-чиновническо-
го вмешательства в духовные дела и в жизнь духовенства, против этого не-
счастного склада синодальной обер-прокуратуры, в которой для них прак-
тически заключается все дело. Опыт этой обер-прокуратуры действительно
неудачен. Ктиторство выразилось фактически в умерщвлении всей самосто-
ятельности духовенства, самостоятельности его, личности его. Наступила
действительно летаргия церкви: при таком множестве дел церковных, со-
средоточившихся в руках обер-прокурора, которых он исполнить решитель-
но не в силах ни при каком старании. Отсюда эта затяжность и лежалый
характер всех дел церковных и то, что духовное ведомство вообще стало
примером застоя и устоем консерватизма для всей прочей жизни. Просто
192
дел так много в руках одного, что они поневоле текут медленно, ползет каж-
дое «дело» годы. И обер-прокуроры, несчастным образом и как бы увлекае-
мые каким-то роком, все более и более концентрировали в одних собствен-
ных руках и в руках выслуживающихся около них господ все мельчайшие
нити церковной деятельности; не только они назначают профессоров и учи-
телей в академии и семинарии, но, наконец, посылают светских людей мис-
сионерствовать. Решительно они взяли весь апостольский труд себе и вот
только-что только не благословляют в путь...
С этою большою поправкою, какую мы делаем, мы можем вполне при-
соединиться к пожеланиям духовенства избавиться от излишеств опеки, —
опеки бюрократизма собственно, и только. Время соединяться: и как обще-
ство идет навстречу духовенству, так и духовенству следует идти навстречу
обществу и этой законной его оболочке и юридическому выражению — го-
сударству. Церковь, государство должны стать независимыми друг от друга;
но не чтобы уединиться каждому в себя, но чтобы жить в дружном и уважи-
тельном соседстве, внимая друг другу, чтя друг друга. Независимость, ис-
кренность и дружелюбие сюртука и рясы — вот лозунг, на котором обе сто-
роны могут примириться.
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ
ВЫДЕЛЕНИИ ХОЛМЩИНЫ
Самая печальная медлительность и самая печальная нерешительность пе-
тербургских сфер, не чувствующих остроты и болезненности провинциаль-
ных нужд, связана с этим скорбным вопросом о 300 000 русских и право-
славных людей, населяющих Холмщину и которые тают с каждым днем под
напором польско-католической пропаганды. Мы имели случай ознакомить-
ся преемственно с официальными представлениями касательно положения
этих бывших униатов графа Н. П. Игнатьева (в краткие месяцы управления
им Министерством внутренних дел), К. П. Победоносцева, И. Л. Горемыки-
на и варшавских генерал-губернаторов Гурко, гр. Шувалова и ген.-адъют.
Черткова. Мнения двигались туда и сюда, так же энергично вперед, как и
энергично назад; бумага исписывалась, люди старались, но мертвая точка
не сдвинулась с места собственно по тому же внутреннему основанию, что
варшавские генерал-губернаторы, вероятно предполагая всю Россию вне-
надзорною, не хотели выпустить из-под личного своего рачительного над-
зора эти частицы русского уголка, неосторожно заплетенного в администра-
тивное управление компактного Царства Польского — католического,
сплоченного, фанатичного в каждом своем уголке и имеющего тысячи неза-
метных культурных средств, недосягаемых ни для какого надзора, давить и
наконец раздавить этих православных мужиков и попов в мощных объятиях
своего распаленного национализма. Все осталось по-прежнему, в прежнем
несносном положении, и нам, очевидно, предстоит накормить русскою кро-
7 В. В. Розанов 193
вью ширящуюся и поднявшую именно теперь голову польскую националь-
ность, если этот глупо заторможенный вопрос не получит теперь же быст-
рого и ясного решения в Петербурге и на месте. Дело идет о выделении
некоторых русских уездов, с русским и православным населением, Люб-
линской и Седлецкой губерний (так наз. Холмская Русь), в самостоятель-
ную административную единицу, которая присоединилась бы к рядовым
губерниям Империи, в то же время оторвавшись от неосторожной и неесте-
ственной связи с инородным и иноверным польским краем, с которым мы
их торопливо и непредусмотрительно соединили в отдаленную пору еще
разделов Польши и административного образования нового края. Вопрос
этот почти тот же, как вопрос об отдаче великому княжеству Финляндскому
части Выборгской губернии, лежащей рядом с Петербургом, которая была
завоевана Петром Великим и зачем-то отдана Финляндии при Александре I.
Что так неудобно в географическом и стратегическом отношении для Пе-
тербурга и составляло такую явную административную ошибку, то столько
же неудобно в национальном и религиозном отношении на юге и составляет
не меньшую ошибку, подлежащую быстрому исправлению. «Включением
русских частей Привислинского края в состав империи достигались бы, —
писал еще в 1889 г. Победоносцев, — столь важные в государственном отно-
шении выгоды как в религиозном, так и в других делах, что затруднения,
могущие встретиться при исполнении этой меры, должны отойти на второй
план при разрешении этого вопроса». Как бы ни были в некоторых частях
односторонни собственно идейные взгляды бывшего обер-прокурора Сино-
да, — нельзя отвергнуть самой большой его компетентности в практичес-
кой стороне национально-государственных вопросов.
Русское общество не может смотреть без самой острой сердечной боли
на положение русских людей в этом крае, очутившихся теперь именно, ког-
да «гонор» так поднялся, в положении русских или хохлов в австрийской
Галиции, так же теснимых, униженных и угнетенных. Нам это больно. И мы
ожидаем самых быстрых и энергичных мер, чтобы спасти этот русский ост-
ровок от затопления окружающим польско-католическим морем. Поляки,
не наученные историею или наученные ею отрицательно, не знают никакой
меры в своих пылких националистических стремлениях и, в противополож-
ность всем решительно другим славянам России, Австрии и Турции, не умеют
уживаться терпеливо, спокойно и уважительно около людей другого языка и
другой церкви. Им непременно надо обращать этих других или в быдло и
рабство, или сливать с своею национальною и религиозною личностью. Они
не выносят ння-личья, они выносят только edwwo-личность: принцип и прак-
тика, решительно ни для кого нестерпимые. В Холмщине же, к сожалению,
они не встречают никакого отпора: здесь какая и есть русская интеллиген-
ция из местных уроженцев, она под влиянием космополитического универ-
ситетского образования теряет связь собственно со своим краем и выезжает
на службу или практическую работу во внутреннюю Россию. Остаются одни
мужики и одно духовенство, которым со всех сторон напевают, что край
194
этот, слитый теперь административно с привислинскими десятью губерния-
ми, войдет частью в возрождающееся польское крулевство, в котором им
несдобровать как русским, в котором будет место только мол ельцам костела
и говорящим на языке с бесчисленными «з» и «дз». Об этом поют им баре-
помещики, поет школа, поют газеты, говорящие ныне тоном, каким два года
назад никто не смел говорить. Много ли нужно для разумения темного му-
жика или запуганного попа в крае, куда не доходят или ничтожно доходят
русские книги? Гипнозу поддаются и люди посильнее, пообразованнее. И
кажется этим заброшенным русским, что они забыты Русью, — покинуты в
пору, когда все русское вообще ослабло, зашаталось и так поднялось и воз-
гордилось все нерусское. Забыты; и что не остается им ничего, как «вольно»
захлебнуться в том море «дзыканья», в котором невольно и тягостнее им
будет захлебнуться завтра.
И это родовая отчина Св. Владимира! Но что помнит Петербург из рус-
ской истории?..
СРЕДИ ЛЮДЕЙ
«ЧИСТО РУССКОГО НАПРАВЛЕНИЯ»
Партия эта если и не шумит по России, то как-то неуклюже возится, топает
сапогами, харкает, сморкается и вообще производит те звуки, какие, вероят-
но, обильно слышались около Ноева ковчега, плававшего по бурным волнам
потопа, в который было запрятано столько «нечистого» и «чистого». Возни
и грома много, но — удивительно — страху никакого. Сами «русские люди»
грозят; но их никто не пугается, и если смотрят на них, то лишь как на нео-
душевленное препятствие, могущее помешать чему-то нужному, задержать
что-то необходимое. Не больше. И только с этой точки зрения их принима-
ют во внимание. Никто в «программу» их (впрочем, ведь ее и нет!) не вчи-
тывается, и никто ни на минуту не сомневается, что годом раньше или годом
позже это «препятствие» будет убрано, эта палка из-под колеса истории бу-
дет вынута.
Присмотримся к ним. И, прежде всего, выразим самый горький протест
против имени, которым они назвались, - против имени, в котором уже как
будто содержится укор всем остальным людям, которые не записались в их
списки: «Вы не русские люди!» - «Не русские!» - «Русские!» Как в этом
разобраться? Как против этого спорить? Надо, очевидно, всматриваться в
людей и факты порознь. Нужно странствовать по лицу земли русской и фо-
тографировать с натуры.
Один священник из большого южнорусского центра пишет мне: «Одно-
временно с наложенными происшествиями было совершено здесь освяще-
ние знамени «союза русского народа». Освящение было в монастыре, дав-
шем помещение для «бюро» этого союза, куда и носили это «знамя». Само-
званцы присвоили себе наименование «союза русского народа»; но русский
7
195
народ их и не знает, и знать не хочет. Замечательно, что в этот союз идут все
худшие элементы из всех классов здешнего общества, и, в частности, от ду-
ховенства идут сюда непримиримые фанатики. Очень жаль, что духовен-
ство так смело и явно заявляет о своем тяготении к этой дискредитирован-
ной в глазах всех политической партии. Ему следовало бы остаться выше
партий, примиряя их на почве религиозно-универсального идеала христи-
анства. Несколько дальше: «В прошлую среду университет чествовал ушед-
шего ректора (названа немецкая фамилия). Милый старик, честный, гуман-
ный, идеалист, каких редко встретишь в наш век. В адресе от студентов ска-
зано было: «Благодаря вам, у нас из памяти изгладились темные тени ректо-
ров-полицейских, составлявших проскрипционные списки студентам,
провинившимся в пустяках». Теплый адрес был подписан и профессорами.
«Черносотенцев»-профессоров ни одного не было на чествовании. Трога-
тельно было видеть, как приветствовали его служители, благодарившие его
за человеческое обращение с ними и за заботы о них и их детях. Речи, устно
сказанные во время чествования депутатами-служителями, вызвали общие
аплодисменты. Еще далее, в конце письма: «Я получил от одного знакомого
мне студента Киевской духовной академии, моего земляка по родине, изве-
стие такого рода: «Один монах, ректор семинарии, архимандрит Кирилл,
совратил девицу, растратил несколько тысяч казенных денег и послан в ка-
кую-то пустынь. А на другой день по получении письма я уже и сам прочел
в № 259 «Биржевых Ведомостей» (наклеена в письме печатная вырезка из
газеты): «Ректор киевской духовной семинарии, архимандрит Кирилл, за
развратное поведение сослан в Оптину пустынь». Несчастная Оптина пус-
тынь, долженствующая принять такого гостя к себе!
В самом деле, это — священник, отрекшийся от первого долга пастыр-
ства: сеять мир и любовь в пастве.
Это — монастырь, устраивающий у себя «бюро партии», т. е. уже только
личина монастыря, только его камни и стены, обращенные в воинственную
цитадель людьми под черным клобуком, даже и не помнящими, с какими
обетами они этот клобук надели.
Это — доктор без практики, как г. Дубровин.
Это — журналист без подписки, существующий на субсидии или казен-
ные объявления.
Во всех случаях это - человек, негодный к своему ремеслу, изменив-
ший своему призванию и даже званию, не лечащий врач, не умеющий пи-
сать журналист или, наконец, какой-нибудь архимандрит с пистолетом и
девицею.
* * *
Мне привелось узнать этих людей «истинно русского направления», когда
впервые я выехал из глухой провинции в столицу. Здесь у меня были пись-
менные связи если и не с корифеями славянофильства, которые уже все по-
коились в могиле, то с их последними эпигонами, с друзьями и почитателя-
196
ми Аксакова, Хомякова, Гилярова-Платонова и Константина Леонтьева. Я
ехал с глубокой любовью к памяти названных лиц, с горячею надеждой про-
должать или поддерживать их направление, — вообще с «верой и надеждою»
в самое славянофильство как доктрину целостного воззрения на свой народ
и свою историю. Кому не хочется быть русским? У кого вдали, так сказать,
от «канцелярии русизма» могла зародиться хоть на минуту мысль, что для
этого придется сжаться, съежиться в своем человеческом существе, в своих
прямых, естественных взглядах, чувствах, отношениях. «Россия — для рус-
ских», — думал я весело и был уверен, что уж где-где, а в славянофильстве,
как в идейной родине всякого русского, не придется надевать духовного кор-
сета, что здесь, прежде всего, будет говорить природа, должна говорить при-
рода, призывается говорить природа русского человека, как она есть и дана
рождением и талантом.
И я вступил в темь...
Для начинающего писателя, особенно провинциального, великое дело
— уже установившиеся, предварительные отношения; это как «взял билет и
сел в вагон». Письмо за письмом, маленький идейный спор, ласковые дру-
жеские слова в начале и в конце письма, сообщения «вне темы», — «друзья
моих друзей», — и, смотришь, уже катишься в теплом и удобном купе с са-
мыми приятными собеседниками. На билет и взглянуть некогда: «Разве в
кассе бывают ошибки?» Беседуешь, дремлешь, колеса стучат убаюкиваю-
ще; и не догадываешься, что вагон несет тебя вовсе не туда, куда нужно, а
что с каждою минутою ты улетаешь дальше и дальше от места, куда нужно,
и ближе и ближе к местам, о которых никогда не помышлял. «Друзья моих
друзей», и «журнал, в котором я печатаюсь, и редактор, который уже пред-
уведомлен о вас», делают роковое свое дело для неофита, рука которого не-
удержимо исписывает по ночам страницу за страницею, и он недоумевает
только: «Куда же я все это дену, когда не знаю никого здесь, кроме Ивана
Ивановича? »
И «Иван Иванович», круглый, теплый, ласковый, у которого такие ми-
лые детишки и любезная жена, делает свое дело, тоже не всегда помышляя о
его последствиях, «так, просто, по-русскому»... И несутся все двое туда,
куда «Ивану Ивановичу» нужно или куда он «привык» уже ходить и куда
несчастному Семену Сидоровичу отнюдь не нужно ездить.
Приехав в Петербург и не имея здесь ни единой души не только что
дружеской, но даже и знакомой, я прямо попал в гнездо славянофилов или,
точнее, эпигонов славянофильства, составлявших довольно тесный между
собою кружок. Мне и в голову не приходило, что «теснота» этого кружка
происходила собственно от того, что он решительно нигде и ни от кого не
был признан, — до некоторой степени не был «вхож» ни в какие сколько-
нибудь широкие и открытые общественные и литературные круги и, живя
изолированно, жил озлобленно против общества и литературы, питаясь иро-
нией, остроумием и высокомерием относительно людей, которым никогда
не выпадало ни счастья, ни несчастья пожать им руку...
197
Помню, как сейчас, эти 8 — 9 часов вечера, когда на Петербургской сто-
роне я дал звонок в квартиру заочного «кума»-друга. Мы, никогда не видав-
шись лично, так сдружились в письмах, что, когда Бог «даровал прибавле-
ние семейства» моему корреспонденту, он пригласил меня заочно быть кре-
стным отцом его дочери. Мне очень грустно писать это, потому что все,
собственно отсюда проистекшее, т. е. все личное, частное, домашнее, и по-
том сохранилось между нами в том прекрасном, теплом и изящном виде,
как первоначально легло. Но поэзия — поэзией, а дело — делом. Много раз
я замечал, и не на одном этом случае, что между «частными добродетелями»
и «общественною доблестью» не только нет прямой связи, но есть какая-то
раздирающая сердце противоположность, злостная несовместимость! Вои-
стину «первородный грех», в силу коего натура человеческая вечно остает-
ся какою-то недоделанною, однобокою, бессильною, незакругленною, не
универсальною... Лучший семьянин-народ, евреи, живут безгосударствен-
но — вот общий итог и на весь свет иллюстрации той истины, какую я здесь
отмечаю. Что касается упреков, какие я сейчас сделаю, то, конечно, мне их
невесело писать, хотя бы и анонимно; но оправданием мне служит то, что я
их делал и лично, никогда не скрывая своего недоумения и раздражения,
переходившего порой в негодование.
На звонок мне не сейчас отворили, и было видно, что дверь эта не при-
выкла часто распахиваться. «Живут укромно, про себя, и никуда не выхо-
дят». Едва полуотворилась, опасливо и недоверчиво, дверь, как с громким
лаем мне кинулась под ноги собачонка, до того маленькая и вертящаяся, что
ее невозможно было рассмотреть. «Фу, как неласково», — промелькнуло у
меня. Я назвал фамилию какой-то вышедшей в переднюю женщине.
— Купон! Купон! Назад! Пошел!
Меня поразило имя Купон. Никогда такого не слыхивал! Бывает Цезарь,
Барбос, что угодно, как угодно, но Купон — никогда! Я даже не понял сперва,
что называют собаку, и среди продолжавшегося громкого лая и опросов вы-
шедшей женщины стоял растерянный и недоумевающий, немного оглушен-
ный. Сейчас, однако, все объяснилось. Я прошел в комнату, небольшую,
уютную, почти бедную и, однако, изящную.
«Сейчас выйдет друг».
Тихо шаркая туфлями, мягкими, бесшумными, по паркету, в сером тол-
стом, теплом пиджаке, хотя было лето, как-то незаметно, будто выйдя из
стены, передо мною появилась толстая немолодая фигура, с остриженными
волосами, с глубоко смуглым цветом кожи, с большою головой. Большая,
очень большая голова, крупные руки, крупные уши, толстая шея, голос ба-
сом и маленькие, почти крошечные глаза, с узенькими прорезами век, час-
тое миганье которых усиливалось при разговоре. Смуглый цвет кожи дал во
многих местах желтизну, и вообще «друг» мой постарел, упадал, слабел, —
это видно было! И, главное, это миганье глаз и та странность, что они никог-
198
да не смотрели на вас прямо, а куда-то в угол комнаты и вместе вечно были
насторожены, встревожены.
— Что? Как? Вы имеете известия? Ради Бога, говорите тише: нас могут
подслушать... Вы не боитесь того? Вы надеетесь на этого? Какие ваши ос-
нования?
Это, или приблизительно это — психология этих вопросов, этих забот,
какого-то страха и робкой надежды, какого-то бессильного посягновения,
которое сейчас спрячется в щель, слукавит и застонет, — окружало этого
странного человека... И, казалось, это не кожа и кости, не туловище и ноги
были одеты в серый теплый пиджак, а из ваты и фалд этого пиджака будто
рвались вихри всевозможной озабоченности, испуганности и посягновения.
— Фу, как антипатично! И, во всяком случае, это — больной!
Чужое, холодное и враждебное ощущение продолжалось во мне, долж-
но быть, первые пятнадцать — двадцать визитов к этому человеку, пока я за-
метил, что меня почему-то тянет к нему!! Липкость этого странного чело-
века была и остается для меня самою удивительною в нем чертою. Все не
уважаешь в нем, надо всем смеешься, все порицаешь, а все хочется, взяв
шапку, опять и опять подняться к нему на лестницу. Точно он был обма-
зан... не медом, но чем-то сладким и липким и очень пахучим, — вот как те
мухоловки, на которые садятся эти насекомые. Я чувствовал всякий раз, что
всякая беседа с ним была вредна мне, что-то повреждала во мне, отнимала у
меня в здоровье, в здравом смысле, садилась на душу неизменно раздража-
ющим осадком; почти не было случая, чтобы я уходил от него без негодова-
ния, без меньшей веры в Бога и убавившегося уважения к человеку; но —
вот видите же — хочется опять пойти. Сам он никогда и никуда не выходил,
как истинный мухолов, но вовсе не я один, но и другие также летели и летели
в его темный угол. Мелкий человек в службе — он сблизился с Сипягиным
(министром впоследствии, а тогда главноуправляющим комиссией проше-
ний на Высочайшее имя), подал ему какую-то «записку» приблизительно о
спасении России, страниц в 150, и потом сблизился до дружбы и интимнос-
ти с другим министром, еще живым, но находящимся теперь «не у дел».
Таким образом, качество «липкости» — вовсе не моя иллюзия.
Он был очень умен, удивительно, — болезненною, разрыхленною, пато-
логическою, извращенною, плутовскою и святою формою ума. Нужно все
эти качества сочетать, — в сочетании-то их и состояла его особенность, его
«новое» и «личное». Вся его жизнь, судьба, существо, характер, стремле-
ния, энергия были (извне глядя) плутовством, но в то же время он владел
тайной положительно святых слов, святых наблюдений, святых замечаний.
Последнее — изредка, первое — сплошь. Я сказал, что он никогда не выходил.
Но вот однажды, уже в 12-м часу которого-то праздника, он заходит ко мне.
Весь ушел в шубу, в большой воротник.
— Вы не пройдетесь со мной к обедне? Сегодня поют... — И он назвал
какую-то молитву, которая поется раз в год.
199
— Да уже 12-й час! Обедня кончилась!
— Кончается, а эта молитва поется в самом конце. До церкви 10 минут
хода, и певчие прекрасные.
Оделся. Идем. По дороге, прикрывая рот от свежего воздуха, он расска-
зывает мне анекдот о том, как один англичанин-оригинал, проделав всякие
экстравагантности, решил напоследок сделать следующее: посетить Париж,
но, не выходя никуда из номера гостиницы, уехать на другое утро, ничего не
видав. Оригинальность заключалась в том, что Париж, конечно, — город
удовольствий и зрелищ и что, конечно, ни один еще путешественник не приез-
жал сюда для того, чтобы ничего не увидеть!
«Я — первый», — думал англичанин, когда к нему вошел кельнер.
— Вам ничего не угодно?
Англичанин объяснил ему свою мысль и приказал запереть ставни окон.
— Ваша мысль оригинальна, — ответил кельнер, запирая окна, — но
она удвоится в остроумии, если вы возьмете на ночь девушку. Все остальное
в плане остается то же.
Англичанин был поражен. Действительно, еще оригинальнее! Он был
молод, богат, знатен и... невинен.
Кельнер ему все устроил. Все было ново и неожиданно для лорда. Поут-
ру входит кельнер и спрашивает: как «его милость себя чувствует»?
— Le santiment est agreable... Mais le mouvement est ridicule!!1
Думаю, что это анекдот, но через воротничок шубы он сказал его так
просто, правдиво и к какой-то «стати», что я принял за факт. Мы всходили
на паперть церкви. Лицо его уже было серьезно. Хорошо он перекрестился.
Хорошо стал в толпе молящихся. Прислушался. И через 3 — 4 минуты толк-
нул меня, когда запели действительно одно из чудес нашего музыкально-
церковного творчества.
Службы церковные, во всех их малейших оттенках, он знал удивитель-
но (родом он был не духовный, а из киевских дворян). Конечно, это еще не
святость, хотя это все-таки «кое-что». Он знал удивительно Евангелие и да-
вал глубокомысленные, нежные и тонкие объяснения некоторых его мест,
обыкновенно проходимых не только читателями, но и богословием невни-
мательно. Везде он был оригинален, везде был «свой», «сам». Итак, он мно-
го думал над церковью, над Евангелием: это уже много в наш век, не отлича-
ющийся тяжелодумностью. Но и это все, положим, не святость: звуки пре-
красные, звуки святые я от него выслушал или, точнее, прочитал в написан-
ных карандашом записочках, когда ему случилось потерять одного за другим
трех сыновей-малюток (от болезни). При таком несчастии и другой плачет;
молятся все; но не всякий находит слова, молчит или говорит что-нибудь
нескладное. Этому дались или «удались» слова, которые хоть записывай в
св. Писание или в «житие» какого-нибудь «аввы» Фивандской пустыни. Тут
нельзя приводить примеры, и читатель пусть поверит мне на слово, что я не
1 Чувство приятное... Но движение смешное (фр.).
200
встречал более тонкой и разработанной культуры религиозной жизни, — по-
жалуй, даже «благочестивой» жизни, но подразумевая под «благочестием»
таяние сердца, жемчужные слова и как бы смазанные благовонным миром
формы ежедневной домашней жизни. Все тепло, прекрасно, — и эти зажжен-
ные лампадочки по углам, и Евангелие, старое, семейное Евангелие на сто-
ле-угольничке в спальне.
Живет и молится, как тихий ветер веет. Кажется, тишина-то, эта духов-
ная тишина и тянула меня и, может быть, и других в его дом. «Тут отдох-
нешь».
Он сумел преобразовать частную жизнь, жизнь семейную и чиновную,
в монастырь. Искусство не малое! Но... монастырь может не оплачиваться в
Африке, где тепло и фрукты растут в лесу. Он устроил все это в Петербурге,
и, кроме дара прекрасной молитвы, он имел... еще сотню вкусовых, обоня-
тельных, зрительных даров; а сии последние, — увы! — неотделимы от по-
зывов, от аппетита!
Последние в нем жили так же неотступно, властно, «монархически» и
так же заявляя право не только на бытие, но и почти претензии на святость,
как и вся церковность и благочестие. Однажды я ему передал, смеясь, что
такой-то мой знакомый никогда не отцепляет звезды от виц-мундира и, уж
надевая его, имеет и звезду на себе.
— Если бы я имел звезду, я бы с нею ходил даже в баню!!
Бедный, он не имел даже Станислава 3-й степени! Но каков аппетит!
Это для примера. В другой раз мне попалась в газете какая-то его статья (он
участвовал в мало распространенных изданиях, подписываясь «Ижица»), и
я был поражен рассуждением его о «полезном» и «неполезном в мире». Мне
кажется, тут он выразил весь нерв свой, и я приведу суть этой статьи:
Есть в мире прекрасные, полезные вещи. Да, но скорбь в том, что полез-
ное полезно не для себя, а прекрасное ничего не знает о своей прекрасности
и нисколько не наслаждается ею. Прекрасный сад, полный цветов, есть
самая пустая вещь, годная лишь для порубки, пока некому на них смотреть
и некому их обонять. Суть не в цветке, как бы роскошен он ни был, как бы
ни благоухал; суть в моем носе, который его будет нюхать!! Без носа —
ничего нет, ничего не началось, не нужно. Значит, мировая ценность вещей
начинается с их употребления в господине вещей... Сад, розы, красота, мо-
литвы — все это получает смысл... от этого громадного и универсального
органа, который их потребляет, — и баста!!
Рассуждение он так и завершает этим бесстыдным признанием, что «я
— калека, ничего не могу, не работаю, не произвожу: зато никто, как я, не
различает так тонко ароматов вселенной, живописи теней ее, а стало быть,
никто так универсально не ценен и не нужен, как я! И хотя бы все меня
называли эгоистом и сластолюбцем, но я — единственный, который и оп-
равдываю существование всего! Т. е. я — правда, венец и господин всего. И
просто оттого, что у меня нос с тысячею нервов, когда у всякой твари там
только один нерв, пол нерва».
201
Ужасное свинство и вместе, по убежденности, широте охвата и кажу-
щейся основательности, — почти религия. Религия неделания, лени, празд-
ности тунеядства, самого чудовищного эгоизма и, наконец, полного бессер-
дечия ко всем вещам мира, ко всем заявлениям мира. Если корня каждой
философии надо доискиваться не столько в разуме человеческом, сколько в
аппетитах человеческих, то, конечно, можно указать, что это есть только
рассуждение голодного волка об еде или прожившегося барина о былом или
возможном блаженстве. Оно так и было, в скудной и раздраженной натуре.
На самом деле, бедняк ничего не имел, проедая последние остатки бабуш-
киного состояния, — проедая в отчаянии, в страхе, что назавтра уже нече-
го будет есть. Все силы его, весь ум, знание света и человеческих отноше-
ний и были направлены к тому, чтобы сколько-нибудь еще протянуть еду,
чтобы разрешить проблему, бесчестную в самом основании, как устроить и
устроиться так, чтобы можно было и ничего не делать — и сладко есть, не
работать и — получать. Сюда были сведены все его хлопоты, знакомства,
заботы, служба или видимость службы, литература или карикатура литера-
туры и, наконец, молитвы, подлинные, настоящие, горячие!!
— Бог любит меня и — баста! Он делает мне не потому, что я заслужил,
но потому, что именно мне Ему угодно делать благотворение! Творить для
меня чудеса! Это я видел воочию в Киеве. Этою верою жил. Был счастлив,
молился, благодарил. Теперь все кончено; я нищ, дети мои погибли. Вся моя
вера поколеблена — и я не знаю, ни что думать, ни как жить...
Эти растерянные слова, почти буквально, я от него слышал... Но он опять
взял руль и поверил «в своего Бога», когда ему удалось найти опять шею, на
которой он сел, чтобы питаться от ее тука. Вся жизнь его была переползани-
ем от еды к еде, от жертвы к жертве, от эксплуатации к эксплуатации. Он
эксплуатировал равных, низших, высших; литературу, друзей, службу; для
разговора или жалованья; он менее, впрочем, любил жалованье, чем «на-
градные», «пособие», вообще — деньги просто «даром». Жалованье он по-
лучал угрюмо, как «должное»; «наградные» вызывали в нем слезы и молит-
ву. Так жил этот «черносотенец Иван», как он подписал одну записочку ко
мне в прошлом году, в эпоху забастовок и всяческого общественного шума,
который смутил его покой и эстетически, и морально.
ВЫБОРНЫЕ ЕПИСКОПЫ
В РУССКОЙ ЦЕРКВИ
Возвращаемся к обсуждению намеченных и уже решенных преобразований
в строе русской церкви.
Совершенно непостижимым образом синодальные обер-прокуроры, по
крайней мере часть которых, как, напр., К. П. Победоносцев, отличались
высокой религиозностью и глубокой преданностью церкви, совершенно изъя-
ли у церкви право самопополнения, изъяли у нее право выдвигать тех или
202
иных сильных, ярких и даровитых лиц на служение себе и взяли в свои руки,
в свое личное усмотрение назначение всех епископов, архиепископов и мит-
рополитов. Разумеется, простенький декорум при этом был соблюден: обер-
прокурор не сам, своими руками, за церковною службою хиротонисал вновь
посвящаемого епископа и не перед обер-прокурором посвящаемый читал
исповедание веры. Церемонии были оставлены самой церкви, но она их со-
вершала мертвыми руками и как мертвое дело, связанная и связанно. Са-
мое-то главное: над кем совершить церемонию — определял обер-прокурор,
и без его ведома и позволения не получал епископства ни один архимандрит,
митрополии — ни один епископ. Да мало сказать: «без ведома» — «с дозволе-
ния». Он указывал, указав — приказывал совершить церемонию; а уж мит-
рополиты и сонм епископов «чинили по уставу». Каким образом человек
такого ума, как К. П. Победоносцев, не видел, что через это вся наша мона-
шеская иерархия превращалась из служителей церкви в личных прислуж-
ников его, Победоносцева, почти в личный штат его маленького «духовного
двора», нельзя понять. От кого завишу, тому и служу: такая это очевидная
аксиома; кем назначен, тому и благодарен, кто меня может сместить, тому и
угождаю, льщу до польского «падам до ног»: неужели эти трюизмы всячес-
кой решительно службы не были известны справившему свой 50-летний
юбилей государственной службы мужу и автору политически-руководствен-
ного «Московского Сборника»? Непостижимо! И непостижимо, каким об-
разом он не видел, что обращенные почти в личный штат обер-прокурора
епископы, архиепископы и митрополиты несут уже только имя и тень свое-
го сана, потеряв все существо его, что они, угождающие не Христу, а чело-
веку, являются изменниками церкви, изменниками с первого же шага служ-
бы, и даже за дни и недели перед нею, ибо и самую эту торжественную
хиротонию они покупают ценою обещания и готовностью во всем повино-
ваться и слушаться человека, забыв или почти забыв Бога, чтя Его лишь
устами, а не сердцем и делом... Все это молчаливое предательство своего
дела должно было внести в души русских архиереев такую муку, поселить в
них такой безмолвный ад, о каком мы очень мало знаем, хотя не один раз
этот крик и прорывался у нас даже в прежней подавленной печати. Таковы
были посмертные «Записки из истории ученого монашества» архиепископа
одесского Никанора и «Книга бытия моего» еп. Порфирия Успенского, на-
зывавшего Синод и всю систему синодального управления «незаконнорож-
денным детищем церкви». Но эти два говорили, и то посмертно; прочие
молчали. И обер-прокурор был слишком хорошо вооружен правом «отослать
на покой» всякого архиерея, чтобы мог опасаться каких-нибудь левых голо-
сов в нашей церкви. Договорим о легальном декоруме: при всякой вновь
открывающейся епископской вакансии «составлялся список из трех канди-
датов и повергался на благовоззрение Государя». Если бы была здесь прав-
да, ну без всякой хиротонии и «трех кандидатов повергаемых» обер-проку-
рор просто бумагою за своим подписом возводил бы и низводил архиереев,
раздавал бы епархии монахам. Но этого не было. Почему? Потому, что это
203
неправда, возмутившая бы народ и воочию показавшая бы ему всю церковь
поверженною во прах. А по существу и на деле именно это и было.
Вот отчего со времен уже Филарета, митрополита московского, пере-
чившего иногда обер-прокурору Протасову, у нас уже не было на верхах
духовной иерархии и видных умов, и сильных характеров. Выдвигались
просто люди, умевшие хорошо править архиерейскую службу; без общего-
сударственного, общенационального, общецерковного круга зрения. Такие
были удобнее в качестве вторых и третьих чинов обер-прокурорского двора,
правых и левых рук обер-прокурора. Митрополит Иоанникий с неудоволь-
ствием вынужден был уйти из Москвы в Киев; Никанор из Одессы не был
позван ни в Москву, ни в Петербург; странствовал по Востоку Порфирий
Успенский. Все гасилось. Таланты затаптывались, энергия сламливалась. И
как ни обильна, конечно, «благодать» в православии, но и она против этих
манипуляций бюрократии ничего не могла поделать, и церковь буквально
не существовала, а влачилась.
Заметим, что все это нисколько не входило в замыслы Петра Великого
при его церковных преобразованиях; что это вообще никогда не входило в
цели и намерения наших государей. Все совершилось «само собой» и «мало-
помалу» путем естественного саморасширения обер-прокуратуры, как про-
сто известной «должности» и «чина», когда и священничество наше, с архи-
ерейством во главе, неосторожно стало на эту же площадку «должностей» и
«чинов» и было затерто на ней, затолкано в угол людьми более приспособ-
ленными, деятельными, зоркими, образованными и непосредственно ближе
стоящими к государям.
От «духовного царства», можно сказать, остались одни сапоги; а о заве-
тах Евангелия предоставлялось каждому самому прочесть по маленькой
книжке в бархатном переплете. На земле установилось нечто, не имевшее
никакого подобия ни с духовным царством, ни с Евангелием. И кинулись
все, еще веровавшие, — в секты и раскол, неверовавшие — в Дарвина, Бюх-
нера, Фохта и Маркса. И народ русский, и интеллигенция русская религиоз-
но осиротели.
Предсоборное присутствие энергично двинулось к уничтожению этого
коренного зла в строе русской церкви. Предположено установить такой по-
рядок: выбор епископов проходит две инстанции, предварительную и окон-
чательную. В предварительной инстанции намечается кандидат, и в собра-
нии, которое его намечает, участвуют с правом голоса: 1) все губернские
священники, 2) выборные от сельского духовенства, по одному от благочи-
ния, 3) настоятели монастырей и иеромонахи, — в губернском городе
все лично, а от уездных по одному представителю от каждого монастыря;
4) служащие духовно-учебных заведений, — в городе в полном составе, а от
уездных по одному представителю, 5) все служащие в консисториях и вооб-
ще епархиальных учреждениях; 6) представители от приходов, в лице цер-
ковных старост или приходских старост, по одному от прихода. Кандидаты,
намеченные этим собранием, подвергаются рассмотрению собора еписко-
204
пов, которые выбирают из кандидатов одного и поставляют его на епископ-
скую кафедру. Разумеется, это не окончательная форма преобразования, и,
например, рубрику под цифрою 6 («представители от приходов») можно бы
расширить, и следует расширить, напр., выборными от сословий и от про-
фессий. А то старосты церковные, напр., относительно населения Петер-
бурга являют собою такую ничтожную дробь, очевидно имеющую потонуть
в сонме самого «клира», «клириков», — что о «народном участии» в избра-
нии кандидата на епископство не остается ничего, кроме тени и пустого
имени. Здесь есть лукавство, а лукавое не приведет к добру, как показала вся
прошлая судьба церкви, где было много «ширм» и «декораций» и напосле-
док времен из-за них выползла очень неприглядная действительность. Оче-
видно, духовенство, консистория и семинарии решили именно сами и толь-
ко для себя выбирать удобного архиерея; для себя, а не для народа, не для
населения. Клир будет самопополняться. Это и есть «клерикализм» в сухой
его форме, который возрастит только колючки и тернии. Этого да не будет:
населению следует дать гораздо большее участие в намечивании кандида-
тов на епископства, и по крайней мере сумма всего населения должна иметь
ровно такой же голос, силу и авторитет в этом деле и решении, как и вся
сумма клириков, сумма представителей семинарии, монастыря и храма. Во
всяком случае ad hoc, для «выбора кандидата в епископы» должны являться
не прежние служилые старосты, которые иногда ничего, кроме как прода-
вать восковые свечи из церковного ящика, не умеют, а для этого случая дол-
жны быть специально и заново выбраны каждым приходом особые лица,
непременно с кругом сведений и запасом образования большим, нежели ка-
ким обладают обычные наши церковные старосты, только что и умеющие
другой раз различить пятикопеечную свечу от десятикопеечной, да имею-
щие мошну достаточно тугую, чтобы позолотить купол церкви. При чем тут
бедные, нуждающиеся, благотворимые? Где они, эти «Лазари» каждого го-
рода, — о которых Спаситель сказал также притчу, поставив их впереди
богатых и богатства. Старосты церковные — сплошь толстосумы местные.
И, не говоря уже о правде, едва ли бы было «благоприлично» и «благообраз-
но» предсоборному присутствию, отвратив глаза от бедняков, сирот, нужда-
ющихся, устремить взор «надеющийся» и «взыскующий помощи» только к
бобровым воротникам, собольим шапкам и толстым животам. Впрочем,
Евангелие у нас ведь только «в бархатном переплете» и его можно не читать
и даже вовсе забыть, особенно собранию, которому «и так все поверят», что
оно Евангелие читало.
ВЕСТИ ИЗ УЧЕБНОГО МИРА
Так называемые «родительские кружки» при средних учебных заведениях
страдают и не могут не страдать некоторой безвкусностью. У родителей
материала — много, запросов — еще больше, требования — тоже большие;
205
но тот огромный материал непосредственно домашнего наблюдения они не
имеют никаких сил переварить, так как не имеют никакой возможности, за
преданностью каждого своему профессиональному труду, — сосредоточить-
ся на нем безраздельно, всеми силами ума. Все они — эмпирики и в учебно-
воспитательном деле, как нередко и в запросах и претензиях своих, напоми-
нают «домашние лечебники» старого времени, очень старательные в наме-
рениях, но очень бессильные. Разговоры их, беседы, совопросничество —
старательно, первично, но похоже на недоваренное блюдо.
Как все оживилось, когда в женской гимназии уважаемой М. Н. Сто-
юниной, которая так преданно отдалась задачам воспитания и так велико-
лепно разрабатывает организационную сторону большого учебного заведе-
ния, решено было, неделю тому назад, по крайней мере иногда сливать в
одно собрание и педагогов и родителей. Родители, конечно, искренни и за-
душевны в пожеланиях, но у них нет науки, т. е. нет научно обдуманного
опыта целой жизни, посвященной делу, нет опыта в смысле литературного
сравнения результатов своего личного труда с трудом других педагогов, а
иногда педагогики других стран. Есть «домашние лечебники», есть наука
медицина. Во втором же смешанном собрании и педагогов и родителей двое
из них, преподаватель естественной истории и преподаватель физики, по-
святили конец почти четырехчасового заседания устным докладам о ходе
своих занятий с учениками, о плане и смысле всего курса преподавания, о
некоторых желаемых и пока трудно осуществимых переменах в нем. Не-
смотря на страшное утомление родителей, вызванное уже трехчасовым си-
дением, — все оживились, лица всех загорелись интересом: показывался
как бы «ключ», ведший к пониманию того и иного, что проделывается с их
детьми, что от них требуется, что ожидается, почему ожидается и требуется.
Школа осветилась светом: и какое наслаждение было видеть, как с каждою
минутою, вот-вот на глазах, растет у родителей уважение к школе, уважение
к преподавателям. Бедные труженики: ведь сколько они дают нашим детям!
Сколько мы сами, родители, — не умеем дать. И как редко труд преподавате-
ля бывает оценен: учениками — еще по неосмысленное™, родителями — по
склонности к брюзжанию «родительского возраста», этих усталых 40—50 лет...
Добрый пример, удачный опыт: и нам хотелось бы, чтобы он разлился
по России, чтобы и везде, где есть «родительские кружки» (а кажется, они
везде есть), они по крайней мере иногда дружелюбно и приветно сливались
с педагогами за обсуждением одних и общих дел. Нечего смотреть волком
друг на друга; грешно это в таком святом, невинном деле, как воспитание и
обучение. Мы, родители, должны свято поверить в учительский труд, в его
добросовестность, в его доблестность. Злоупотребления, конечно, есть, но
они, по-видимому, тают, им совершенно становится нечем дышать в новых
свободных условиях школы; и ничто так энергично и окончательно не выве-
дет злоупотребления ленью и бесталанностью, косностью и бездушием, как
эти, слава Богу, везде разлившиеся «родительские кружки», это зоркое, на
месте совершающееся, все знающее и неусыпное «ревизорство»... Хотя оно
206
и без юридических прав, вообще только «совещательное», но моральное его
давление так велико, что через 5 — 10 лет только таланты-педагоги останут-
ся на своем месте, а все люди «случайные» в педагогике, «без призвания» к
ней, скроются из школы в другие, морально более индифферентные места,
должности и службы. Это пока еще не оцененная и не замеченная сторона,
но самая главная «родительских кружков».
Видя, с каким вниманием и любопытством слушают эти усталые и по-
жилые люди педагогов, я мысленно понял и простил студентов, которые,
увы, «так мало посещают лекции». Достаточно заговорить действительно
ново и умно, и просто невозможно не слушать! Ну, как не будешь смотреть
новое зрелище? Как не заглянешь в любопытную книгу?.. Но «любопыт-
ных»- то книг стало мало, и читающих с живою искрою лекции профессоров
— тоже имеется мало... Вот где горе!
Кстати, при той же гимназии г-жи Стоюниной открыты вечерние лекци-
онные курсы для всякого рода служащих людей, которые хотят поновить
свои научные сведения или пополнить приобретенное в средней школе, а не
могут сделать этого днем, когда они на работе, на службе. Как посещаются
эти курсы, с каким усердием, уже переутомленными тружениками и труже-
ницами зрелых лет! Это — без шума и рекламы маленький домашний уни-
верситет. И огромный дом на Кабинетской днем и вечером работает, в две
смены, для гимназического и университетского образования. В первый раз я
увидел добрый фрукт, уже вот осязаемый, новых условий свободной жизни,
и как мысленно благословил ее в благодеющей и просвещающей силе. Еще
четыре-пять лет назад можно было задохнуться и, наконец, подохнуть в хло-
потах о «праве открыть» подобные курсы. Но стало более доверия к людям;
разлилась повсюду знаменитая «явочная система» труда и инициативы, эта
единственная настоящая форма свободного существования: и без страда-
ния, унижения, без кашля, чахотки и хрипоты стало возможно вот просто
«заявить» и «открыть» подобные курсы...
И может быть, подобные во многих местах уже работают? Если да, —
посмотрите, как лет в десять разольется просвещение в России как сумма
знаний, как сумма умений... Как приятно считать и оглядывать эти ягодки.
Может быть, я наивничаю? Может быть, — и не каюсь в этой наивности.
Шумная политика, выборы в Думу, газеты, речи — все это отодвинуло
тихий культурный труд куда-то за занавеску. Но он есть, этот труд, он совер-
шается незаметно во всей России, — может быть, это есть лучший труд,
какой теперь делается. Много описывалось в газетах последнего времени
жизнь генералов и жизнь адмиралов; мало отрады мы там видели; и может
быть, для читателя составит некоторый отдых взглянуть на внутренний ду-
ховный и житейский обиход скромного деятеля школы. Мне пишет педагог
из одного крупного приволжского центра:
«Про себя писать не стоит. Слишком уж сера учительская жизнь. Чувству-
ешь, как слабеют силы от этой работы, отнимающей все почти время. Ежеднев-
но пять уроков, бесконечные ученические тетради, постоянные заседания педа-
207
гогического совета, еженедельные дежурства (один, иногда два раза в неделю) в
учительской семинарии и многие другие азбучные (курс, у автора) занятия, все
это помимо того, что утомляет, но и лишает возможности жить не азбукою. Что-
бы прочитать книгу, газету, приходится урывать время от сна... А без чтения, без
литературы жить не могу, только этим и дышу, иначе давно бы задохнулся...1
Однако еще утешает любовь учащихся: 17 лет учительствую, а ни одного раза
не слыхал ни от кого из учеников не только грубого, но даже сколько-нибудь
обидного слова: у учащихся пользуюсь большим доверием, как знающий и уме-
лый преподаватель... И вот мое глубокое убеждение, вынесенное из педагоги-
ческой деятельности: учащиеся, и только они одни умеют ценить труд учителя,
у них есть чутье, им ненавистна всякая фальшь, шарлатанство. Никакими по-
блажками их не привлечешь. Охота к ученью у них есть, но она подавляется и
вытравляется педагогами-чиновниками, убивающими душу живу, обращающи-
ми всякое знание интересное (а знания нет неинтересного) в казенную бессмыс-
ленную учебу. И при этом мы желаем видеть в детях старательных и усердных
учеников, хотим, чтобы они нас уважали!.. За что? За угодливость перед на-
чальством, за ложь, за лицемерие, за невежество, за полное непонимание детс-
кой души, за полное неумение учить... Нет, еще слишком терпеливы (да русский
человек вообще терпелив и вынослив: приучили), слишком снисходительны.
Они рады бывают, если им хоть что-нибудь дает учитель: если хоть сколько-
нибудь обладает умением и дарованием... Но что я пишу вам все эти азбучные
истины, как будто вы, тоже бывший учитель, всего этого не знаете, как будто вы
этим не мучаетесь. Простите, что утруждаю вас азбучной педагогией. Слишком
уж болит душа, слишком много накипело... Дождемся ли мы когда-нибудь того
дня, когда хоть маленький луч света заглянет в нашу школу, когда она будет
находиться не в руках тупых и самомненных чиновников-душегубов, а в руках
педагогов, умеющих руководить детьми. Смотря на все, что теперь делается
кругом, не видишь никакого просвета! И становится страшно за будущее. Все
свежее, даровитое тушится; все тупое, мертвое, подлое выдвигается вперед... Брр...»
Я думаю, и министр народного просвещения, и в министерстве чинов-
ники, и родители, и, наконец, сами ученики гимназий с любопытством и не
без поучения пробегут эти строки, вырвавшиеся без мысли быть кем-нибудь
услышанными, т. е. совершенно искренние, совершенно прямые. Как важно
в каждом деле знать правду, как нелегко ее узнать без оттенков, без прикра-
шиваний или сатиры. Успокоим сомневающегося учителя указанием, что
дело воскресения школы повсюду началось, что свежий воздух всюду сли-
вается и, без сомнения, скоро дотечет и до волжских глухих уголков... Но
вместе попросим и даже потребуем у администраторов учебного ведомства
самого тщательного и (главное) самого реального внимания к учительскому
труду, к облегчению его. Ведь эти работники куда работают более «8-часо-
вого рабочего дня». Я знаю, в мою пору учителя математики, русского языка
и древних языков работали решительно все время, кроме часов сна, обеда и
двух чаепитий, чтобы хоть едва-едва существовать с семьею: да и при этом
1 Автор письма — автор нескольких критических очерков о выдающихся наших
писателях XIX века, с великою любовью написанных.
208
буквально «сибирском» (каторжном) труде, если семья у учителя велика,
жены их, урывая минуты у детей и хозяйства, вынуждались еще работать
швейную работу. Это слишком! Это — чрезмерно! Труд учителя — умствен-
ный, нервный; он и воспитательный, он и учебно-ученый. Он гораздо труд-
нее и тоньше профессорского труда, в котором профессор озабочен только
вопросом «хорошо прочесть лекцию» и уже не думает и неответственен за
то, как она усвоится... Учитель — за все ответствует; он творит не только
«урок», но — по всеобщему ожиданию и по своей справедливой и бескоры-
стной вере — творит и обязуется сотворить и «душу ученика», самое вос-
приятие, самое усвоение. Это — страшно тонко, одухотворенно, заботливо.
Пощады учителям, гг. публика, внимания к ним, заботы о них... Как они
думают и любят — как вот в этом любящем письме — наших детей...
БЕРЕГИТЕ ЗАПАДНУЮ РУСЬ
Неудержимо сердце обливается кровью, когда читаешь сообщение местно-
го жителя из Белоруссии (см. ниже «Тяжелое положение Западной Руси»).
Самый младший и самый слабый из трех братьев, составивших «отчий дом»
в нашей многоплеменной и многоверной стране, тот «отчий дом», которым
и живет наше «русское» государство, — белорусы, — они задыхаются под
натиском польской и католической пропаганды, острой, неотступной, лука-
вой, извилистой. Бедные белорусы: и все-то вообще русские не богаты же-
лезом в характере, уступчивы, мягки, деликатны и сторонятся перед нахаль-
ством и нахалами даже в тех случаях, когда умственно и вообще душевно
стоят неизмеримо выше наступающих; а эти тихие, молчаливые, грустные
белорусы точно имеют в крови своей еще утраченную дозу русской печаль-
ной пассивности и в рабстве выработавшегося «непротивления злу»...
Белорус и поляк!.. В одном все дышит самоуверенностью, переходящею
в хвастовство, в кичливость, — все дышит высокомерием, надменностью,
презрением к другим людям; в другом все говорит о великом терпении, скром-
ности, самоограничении. Нет материала лучшего для управления, чем бело-
русы, но позорная распущенность русской администрации, верхоглядство
из Петербурга и виляние во все стороны «впечатлительных» генералов и
губернаторов на берегах Немана и Вилии допустили же вечно готовых на
укус и лукавство поляков стать на горло и придушить этих забитых наших
братьев. В Пруссии, в Австрии, во Франции, в Англии были же взлелеяны
эти преданнейшие сыны родной страны, столь долго угнетенные историею;
администрация, законы, правила и распорядок местной жизни — все было
бы приноровлено, чтобы дать широкое и свободное дыхание этим беспритя-
зательным людям, которые пронесли русские предания сквозь все шипы и
тернии этнографической и религиозной злобы панствующего полонизма. Но
куда русским чиновникам до прусской мудрости, до истинно культурной
деликатности?! «Поскобли русского — увидишь татарина», — сказал Напо-
209
леон; эти «непоскобленные татары» в раззолоченных мундирах и с краси-
выми аксельбантами, приезжая в Ковну, в Вильну, в Гродну, в Минск и Ви-
тебск, и не воображают, что они приехали из России и к русским, приехали
от властительных частиц России к ее забитым, угнетенным частицам, что-
бы поднять и оживить их, чтобы ободрить их и вдохнуть энергию. Эти гос-
пода чуть не считают себя в «международном» положении и, нимало не
замечая народного слоя, стелющегося по деревням и селам, начинают иг-
рать почти дипломатические роли в отношении разных «бискупов» в кру-
жевных пелеринках, усатых панов и шуршащих шелком пани. И не догады-
ваются, бедные, как те, другие и третьи все равно и неизменно перешепты-
ваются о них как о наезжих «нескобленных татарах», как о ненавистных
«москалях», которых им предстоит провести в интересах «ойчизны»...
Мы хотим, настаиваем, и, наконец, мы будем требовать, чтобы высшие
административные сферы в Петербурге, и в частности Министерство внут-
ренних дел, вырабатывая какие угодно «освободительные», «уравнитель-
ные» и «автономные» законопроекты для привислинских губерний, сбере-
гали России как зеницу ока эти чисто русские и глубоко русские области по
Неману и Вилии. Полякам — польские права, но только в Польше; в России,
среди великорусов и совершенно на тожественных условиях, среди белору-
сов — полякам только русские обязанности, т. е. обязанности перед русски-
ми, обязанности деликатности, осторожности, междуплеменной и между-
верной вежливости. Никакого натиска, о каком пишут наши корреспонден-
ты и г. Белорус и говорят со всех сторон множество голосов, — допускаемо
не должно быть ни в отношении русской народности, ни в отношении пра-
вославной веры. Прочь все эти потаенные и явные пропагандирующие шко-
лы, занятые не грамотою, а политикою, — все эти «белорусские ламентари»
(буквари), печатаемые латино-польскою азбукою. И поумерьте, гг. бискупы
и ксендзы, ваше польское политиканство, хотя бы вспомнив Францию и
Италию, где за «политику» в религии приходилось рассчитываться так горько,
что об этом плачут и не наплачутся Ватикан и гордые кардиналы. А если
нужен полонизм и вы переодеваете Христа в польский «кунтуш», то уж не
поминайте же имени Божия всуе, оставьте Евангелие и действуйте открыто,
как агитаторы, политики и воины, сняв сутану и одев «конфедератку»... Во
всяком случае Россия никаких переодеваний не должна допустить, никакого
обмана у себя под рукою, и должна энергично указать свое место, совер-
шенно определенное и весьма скромное, и «кунтушам», и «конфедераткам»,
и «сутанам»...
«АВТОНОМНЫЙ» ДУХОВНЫЙ СУД
И НАШИ МАЛЕНЬКИЕ ДЕЛА
Всякий раз, как я прочитываю рубрику «В предсоборном присутствии», —
отодвинув газетный лист, я открываю прелестное стихотворение Майкова
«Приговор» и прочитываю из него один-два абзаца. Утешает и успокаивает.
210
Поэзия — великая утешительница, и что бы мы стали делать без нее с бого-
словами и богословием? Напр., это:
Сердце, зла источник, кинуть
На съеденье псам поганым,
А язык, как зла орудье,
Дать склевать нечистым вранам.
Это как бы говорит грозный Антоний, владыка волынский.
Так по пунктам, на цитатах,
На соборных уложеньях
Приговор свой доктор черный
Строил в твердых заключеньях.
Это как бы говорит «ученый справщик» предсоборного присутствия,
Н. Н. Глубоковский, и сонм канонистов, с профессорами Бердниковым, Суво-
ровым и Заозерским во главе. Менее ученые, нежели профессора, архиереи
и архимандриты «помавают главами»:
И, дивясь, как все он взвесил
В беспристрастном приговоре,
Восклицали: «Bene, Bene!»1
Люди, опытные в споре.
Каждый чувствовал, что смута
Многих лет к концу приходит.
А резвушка-пресса, так мешающая, по жалобе многих членов предсо-
борного присутствия, его серьезным занятиям, она мне напоминает того
соловья, который чуть было не спас жизнь Гусу. Но зачем мне говорить,
когда об этом так хорошо рассказал Майков:
Был при Кесаре в тот вечер
Пажик розовый, кудрявый,
В речи доктора немного
Он нашел себе забавы.
Вдруг в открытое окошко
Он взглянул и — оживился;
За пажом невольно Кесарь
Поглядел, развеселился...
Дело в том, что в это время
Вдруг запел в кусту сирени
Соловей пред темным замком,
Вечер празднуя весенний...
1 «Хорошо, хорошо!» (лат.)
211
«Розовый пажик» и соловей умилили, как известно, отцов Констанцско-
го собора, и они чуть было не вынесли Гусу оправдательного приговора. Да
«непщует» все поправило. Что такое «непщует» — никому не известно; но
как это никому не известно и никому не понятно, то «непщует», за совер-
шенной иррациональностью своей и мистичностью значения, как где заст-
рянет в дверях — так и не пролезешь через них. На «непщует» похожи все
те «соборные уложения» и прочие «словеса», в которых чем меньше что-
нибудь понимаешь, тем важнее и «непререкаемее» они каждому кажутся.
От «непщует» нельзя сделать отступления: если «непщует» не будет в бого-
словии, то ведь тогда что же от него останется? Тогда, значит, падет церковь:
а между тем сказано — «врата адовы не одолеют ее». Поэтому «непщует»
должно оставаться, ибо церковь должна остаться. Поэтому к «непщует» надо
еще прибавить: «непщевахом» — тогда будет крепче и «вратам адовым»
окончательно будет нечего делать с этой премудростью. А если все это еще
поставить под свод речений: «преизбыточествующая благодать» и «подставь
ланиту свою», — то все враги церкви обратятся в бегство или по крайней
мере зажмут уши. И тогда уже, всеконечно, предсоборная комиссия поста-
вит какие угодно решения, не встретя ни в ком решительно ни малейшего
сопротивления.
Итак, «непщевахом» и «непщует»... И «розовые мальчики», на одного
из которых загляделся кесарь на Констанцском соборе. Как я люблю таких
мальчиков за архиерейским богослужением... Это — католическая у нас чер-
та. Знаете, эти звонящие в колокольчик мальчики католического богослу-
жения, в белых рубашечках, с кружевным воротничком, как у девочек, —
лет одиннадцати и не старше четырнадцати. Я помню, как вид их тронул и
умилил меня, когда я впервые вошел в католический храм. Служил тол-
стый старый ксендз, и около него этот белый голубок. И у нас это составля-
ет поразительную какую-то «неземную» особенность архиерейского бого-
служения, сочетание как бы февраля и декабря старого-старого с самым
юным, с самым молоденьким. Утучненный «брадою» и пышными одеяни-
ями, среди церкви на высоком месте сидит старец как центр богослужения;
и там и здесь мелькают безбородые хорошенькие личики, эти как бы «лики
ангельские», восклицающие: «из полла ети деспота», eig лоХХа ётт| Зтрлота!
(«на многая лета»)... Заметили ли вы, кстати, что все «богослужебные одеж-
ды» и даже все вообще «духовные одежды» суть несколько женоподобные
одежды: и в этом заключается, с этого начинается их «духовность», со-
причастность клиру и церкви, знак и отличительная особенность церков-
ного и церковности; до этого, когда на мужчине чисто мужское платье, —
оно «не духовно». Но вот поширел рукав, опустились до полу цельные по-
лосы материи, как у женских капотов, — поболело «духовного». Фалды
выкинуты, покрой сюртука или фрака исчез, полотнища материи прямо па-
дают книзу, расширяясь в подоле, это почти утренний капот, запахиваю-
щийся спереди... и вместе это «совершенно духовное платье». Взят пояс,
именно не кушаком, как у мужиков, а широкою полосой, точь-в-точь, как у
212
женщин. Появился цвет, опять как в цветных женских платьях, — голубой,
коричневый, лиловый, когда мужчины знают только черный или серый цвет,
никогда ярких... Но все это — ступени, которые только подводят к харак-
терным и уже совершенно женским, женоподобным одеяниям архиерея: за
ним несут шлейф!.. Голубая мантия, такая прелестная, с тою роскошью, как
одеваются только женщины, как только оне одне имеют вкус к этому, влече-
ние к этому; и наконец, голова, покрытая за богослужением, головной убор,
камилавка, скуфья, клобук, митра: совершенное повторение того, как за
богослужением в шапках же стоят одни только женщины, и никогда муж-
чины. Думаете ли вы, что эти особенности, которые ниточка за ниточкою
создавались веками, всегда без протеста, без противоборства, всегда с со-
чувствием, всегда с влечением, не говорят о какой-то такой «музыке» и,
может быть, о такой «метафизике» архиерейства и вообще «духовенства» и
«духовного», «церкви» и «церковного», о которой, может быть, даже и ска-
зано специально, что «врата адовы не одолеют ее»... Особенный мотив, осо-
бое значение, особая миссия... Ну, кто, особенно у нас в России, был занят
архиерейством и монашеством за XIX век, вот до этого 1906 года; однако
собралась «предсоборная комиссия», начала судить о «духовных делах»,
как бы «поболеть духовному»: и стали одолевать «длинные мантии», «го-
лубые цвета», «широкие рукава», «женственное», «женоподобное»... Суть
церкви; и уже если поднимать «суть», то и свелось невольно все к тому,
чтобы поднимать этих характерных «мужчин в момент преобразования их
в женщин» — каковые, бесспорно, составляют новое, характерное и отли-
чительное явление в море народа и общества, в море резко выраженных
мужчин и резко выраженных женщин, выраженных, ограниченных и от-
граниченных. «Се творю все новое!» «Новая тварь! не слыханное! не ви-
данное!» Что такое. Пала «грань» между полами: вот — новый человек, ни
—муж более, ни — женщина', еще муж по виду, по формам, по седой «бра-
де», но со вкусами и влечениями женщины, и влекущийся, и, наконец, сде-
лавший для себя «каноническими» женские цветные материи, женские по-
крои платья и даже немножко, в идеале, — женскую психологию. Говорить
«басом» к нему не идет, октавой — неприлично, быть грубым, жестким,
кричать, греметь — неприлично же: все это «мужское» и будет все это «не
духовное»; голос должен быть нежным, душа мягкая, сострадательная, об-
ращение ласковое, деликатное... как у барышни, девушки. Чем «женопо-
добнее», «девоподобнее» архиерей, кардинал, папа, патриарх — тем они
ближе к идеалу, к завершению. «Дева с бородой» — чудо природы, и тогда
народ падает ниц, почти молится ему, любуется на него, любит его... Как
характерно и опять женственно это целование рук — неслыханное, невоз-
можное у мужчин, у министров, у королей, но так «идущее», так «к стилю»
подходящее у всего духовенства, уже начиная с низшего его слоя, и так
разлитое в кульминационном пункте его, архиерействе. «Духовное», «выс-
шее духовное лицо» — и протягивает бледную руку, с красивыми нежными
пальцами, теснящемуся народу, который лобызает ее... И так любят цело-
213
вать ее, и так они любят давать целовать ее. Это — не власть, не ин-
стинкт власти', он сказался бы окриками, командою. Это — нежность,
женственность. У царя, царей, министров просто нет влечения дать поце-
ловать руку, у архиерея и всех духовных — есть. «Мы — девы, начинаю-
щиеся девы! суть духовного! врата адовы не одолеют этого!»
Нет, пусть кто-нибудь подумает, нет ли в самом деле тут метафизичес-
кого. Пусть заглянет. Пусть сто читателей бросят под стол мою статью, но
сто первый подумает о ней ночью. Я же вспоминаю великое искусство древ-
ней Греции, что оно все давало — в совершеннейших своих идеалах — или
деву в момент ее перехода в юношу (тип Афины Паллады), или юношу де-
вообразного, как этот «Аполлон Мусагет» (предводитель муз и отец музы-
кального в космосе), с лежащими по плечам локонами или «косами» волос
— совершенно как у наших «духовных» — и даже в «духовной» женопо-
добной одежде... Да, у духовенства — и косы! Явно, что в женоподобности
целого сословия и заключается суть его «духовности»...
А мы все думаем и ожидаем, что какая-то «любовь к ближнему» и т. н.
мораль и мелочь. «Любовью к ближнему» и адвокат может щегольнуть, у
журналистов ее хоть отбавляй. А вот «косы» ни у кого нет; «капота» шерстя-
ного никто не оденет. С одной стороны, засмеют, с другой — не посмеет.
Это «смеет» только особенное лицо, «новая тварь», до известной степени
«исключение» в космосе: и когда мы ее встречаем, мы все... все без возраже-
ния целуем у него, у нее руки...
Еще замечание, последнее: архиерейство — из монашества, а монасты-
ри все или «общежительные», «кучкою», или одиночные в лесу келии... О,
теперь это «правило», «мундир» и «устав». Но было когда-то инстинктом,
необходимостью и влечением... «Новая тварь», «небывалый феномен при-
роды», северный «Аполлон Мусагет» бежит в лес, объятый психологией, о
которой мы ничего не знаем, в которой перемешаны и перепутаны глубо-
чайшие, первичные инстинкты и основы бытия. Он скрывается, «чужой»
между мужчин, «свой» между девами, но которые его гонят за бороду и усы...
смешной, ненужный, «юрод» между тварями. Бежит в лес: и в нежной душе
своей молится звездам, солнцу, Богу о всем, чего он в себе не понимает.
Придут к нему — он нежен и ласков, как дева. Или такие сходятся кучками,
«свой к своему», живут «общиною», живут «общежитием»... И все «мирс-
кое» им чуждо, они чужды «мирскому»... У них «свой мир». Это и дало
начало «духовному миру», «миру духовенства». «Мы не от мира» и «мир не
от нас»... мы — другое, противоположное...
А Евангелие тут весьма и весьма мало «при чем». Надо-де что-нибудь
говорить, откуда-нибудь брать слова. С Евангелием слился другой, гораздо
более древний, чем Евангелие, факт природы, явление натуры человечес-
кой, действительно «неслыханное» и «чудное», особенно распространен-
ное в тех южных и восточных странах, Сирии и Египте, где и зародилось и
сложилось «духовенство» и «церковь». Поэтому когда теперь общество и
печать, вообще «весенние соловьи» около Констанцского собора, напевают,
214
не понимают и негодуют: «А где же на предсоборном присутствии Еван-
гельские заветы о братской любви к миру?», «Где братство и сыновство у
церкви с миром, с мирянами», где «прощение обид» и пр. и проч, прописи:
то и слышат удивленный и удивляющий ответ: «Да нам-то что, с косами?
Что у нас с вами общего? Церковь не вами начата и не от вас существует.
Она начата нами, в мантиях, в капотах, при широких рукавах, с волосами,
лежащими по плечам и спине. Церковь вам вовсе и непонятна. Она вам не-
доступна. В церкви только мы, и мы можем вас только пустишь в наши
храмы посмотреть на нас, поцеловать у нас руку»... «Церковь — тайна,
метафизическая и нисколько не моральная, и этою тайною владеем мы одни.
Хотите вы быть приобщенными к церкви — повинуйтесь нам; не хотите
повиноваться, — убирайтесь вон»... «Но помните, что вы никогда без нас не
сотворите церкви, церковного, духовного, духовенства, — иначе как по па-
мяти о нас, по подражанию нам: ибо в вас нет метафизической церковной
природы, этой вот музыки, порыва, поэзии, что вырастили длинные волосы,
длинные покровы, длинные службы, нарядные одежды, наряд храмов, на-
рядность служб и вот это Eig лоНа ётц бтрлота херувимо-образных маль-
чиков. Тайна и страх. Вам мы и говорим: трепещите и повинуйтесь».
Все это прелестно, даже и при «непщевахом», или даже особенно при
«непщевахом», которое все закрыло и никому ничего не дало понять. Одна-
ко как же семья-то, «мир», «мирское»?.. Вот предсоборная комиссия реши-
ла, хотя и «начерно» покуда, что светские люди на «духовные» (длинново-
лосые) суды не будут пускаться, что представителя от государства сюда пус-
кать не нужно и не следует и что архиерей, т. е. из всех духовных особенно
«снисходительный, любящий, нежный», вообще особенно женоподобный,
будет в последней инстанции все решать и о семье. Но он... ко всему нежен
и любящ, кроме семьи. Тут — метафизический его поворот. В Москве, в
Кремле, есть один храм, «особенно чтимый», об основателе которого пере-
дают, что он запретил вовсе когда-нибудь пускать женщин в этот основан-
ный им храм; и это правило хотя и не исполняется, но любопытно, что оно
было дано. В алтарь может войти лихоимец, лжец, алкоголик, блудник; но
— не чистейшая девушка 11 лет! Они нежны ко всему миру, к зверям лес-
ным, к мальчикам, воинам, даже к воинам с их блестящим одеянием — осо-
бенно; но женщин и женского, спальни и кухни, пеленок и детского они
органически не выносят, до отвращения, до гадливости — как Содом и Го-
морру! Тут они непреклонны, в этом суть «духовного». Женатым священни-
кам, низшему в себе рангу, они не дозволяют носить обручального кольца
на руке. «С глаз долой признак и напоминание брака!» Жениться им дозво-
ляют наскоро, перед постригом, в две-три недели. «Пересчитал деньги, са-
лопы и серебро — и довольно. На девицу заглядываться — грех», не «духов-
ное». Так и женятся попы на деньгах, почти все сплошь. Как же такие брако-
фобы, женоненавидцы и детоненавидцы, но вместе действительно «высоко-
го духовного подвига» люди, — эстеты, но отнюдь не моралисты,
метафизики, но вовсе без прописей о «любви к ближнему», — станут все
215
решать у себя на суде между прочим и о семье, о семейных людях, без допу-
щения на этот суд мирян и представителей от государства?!!
Гражданский брак, — вот чего должно потребовать общество и государ-
ство в связи с решением духовенства автономироваться в суде своем от об-
щества и государства. О семье совершенно забыто было в новой законода-
тельной работе. О семье и Дума не обмолвилась ни словом. Предсоборная
комиссия «чуть-чуть касалась» и даже в сущности вовсе не касалась ужас-
ных семейных нравов в стране, вытекших из «безлюбовного брака», прото-
типа и нормы, допущенной и урегулированной всем вообще принципом и
«вдохновением» духовенства, «духовности», клира, «длинноволосости»...
«Еще вздумали бы любоваться друг на друга! нежиться! ласкаться! Это та-
кой ужасный грех! — против самой сущности идет духовного и духовен-
ства!» И в самом деле, это как бы Паллада Афина, выходящая замуж, или
женатый Аполлон!! Извращение дела, падение мифов! Даже невозможность
самого зарождения мифов и мифологического!! В церкви, кроме одиночно
стоящего венчания, этого как бы кусочка камня одной породы, врезанного в
состав совсем другой породы, — ни одной нет ниточки брачной, супружес-
кой, детской, пахнущей «спальнею» и «кухнею»... Брак в ней — противоес-
тествен и сам стоит в противоестественном положении, с бесконечной не-
ловкостью для себя и болью для себя, и скорее ко вреду, чем к пользе церк-
ви, «духовенства», «нежного в мужском». Венчание создалось только в по-
ловине IV века, а введено оно было в общество как привычный и напоследок
обязательный институт императорами Львом VI Философом и Алексеем
Комненом, — введено было искусственно и ненормально. Связь девствен-
ной церкви, всей девственной и сплошь девственной, с семьею повреждает
обеих, не нужно ни для семьи, ни для церкви. Пусть церковь девственная —
летит к своим целям, небесным, бесконечным. Пусть семья, земное явле-
ние, милое земле, нужное земле, — идет к своим целям, идет пешком, скром-
но, не торопясь.
Там — подвиг духовный, молитвы.
Здесь — труд и песня. Пеленки, запах кухни. Все до того «не церков-
ное...».
И хозяйка в дому — как малинка в саду,
И детишки при ней — точно пчелки в меду (Некрасов).
Ну, как это не похоже на «Господи, помилуй...». Зачем же эта какофония
ненужной и вредной связи? Брак есть «таинство» Деметры, как и учили гре-
ки, «Матери Земли»; Юноны Люцины — как подтверждали римляне; тут
ласки и улыбки «прекрасной Афродиты»... — без этого не обойдешься. Что
с ним делать архиереям? И им нужно честно с этим расстаться, а обществу
нужно сурово взять его у них. Об этом должна говорить печать. Об этом
должно заговорить общество. Это предлежит исполнить Думе.
216
ЕЩЕ ОБ «ИСТИННО РУССКИХ» ЛЮДЯХ
Когда в Киеве съехались люди «чисто русского направления» и взаимно ло-
бызались и обнимались, издали потрясали кулаками, грозились, ругались и
проч., и пр., то о многом хотелось их спросить, например:
1) Они могут сокрушить челюсти ближнего, но могут ли они победить
японцев?
2) Чем они ручаются и как обеспечивают, что на деньги, имеющие быть
отпущенными или уже отпускаемые на дорогие броненосцы, не будут опять
построены дешевые самотопы, а разница стоимости тех и других не будет
положена разными «анонимами» в карман?
3) Что Россия будет сильна?
4) Что Россия будет честна?
5) Что Россия не будет «своей вотчиной» хорошо спевшихся господ, ко-
торые поделили ее ресурсы, ее честь, ее славу — наживаются ее «1е
gouvemement»?1
Можно было, подойдя к отдельным лидерам партии, спросить:
— Ваши средства, милостивый государь?
— На что вы существуете, мой честный русский собрат?
— Ваши постоянные занятия, образ жизни, профессия?
Чествовали, превозносили и сажали на большое кресло большого Грин-
гмута... Пыхтя и отдуваясь, сей господин с «чисто русской фамилией» раз-
ливался в своих чисто русских чувствах и говорил «чисто русским языком»,
даже, вероятно, без акцента своего первоначального отечества и первона-
чального племени... Что, он из голландских евреев? из венгерских цыган?
«Родины у нас нет», — мог бы он сказать, как ответили о себе евреи Влади-
миру Святому: «За грехи отцов наших Бог рассеял нас по всей земле, и мы
странствуем ныне, одни в Голландии, другие в России, между Одессой и
Москвой, между Солянкой и Страстным бульваром»...
Это, впрочем, неинтересно, хотя имеет свою пикантность то явление,
что среди «чисто русских» людей главарями стоят не разные Поповы и Ива-
новы, а какие-то «волапюки» не то еврейского, не то венгерского или в са-
мом деле цыганского корня: Грингмуты, Крушеваны, Юзефовичи.
— Собрат мой и патриот, сколько вы казенных денег съели?
— Вы гремите, как Минин в Нижнем Новгороде, о недостатке русских
чувств, но где были ваши общечеловеческие чувства, когда двенадцать лет
тому назад вы бегали с заднего крыльца к звездоносным особам, выпраши-
вая аренду на казенную газету с казенными объявлениями? Сорок тысяч
чистой прибыли в год.
— Сорок тысяч за литературную бездарность.
— Сорок тысяч за ученую безвестность.
«управлением» (фр.).
217
— Сорок тысяч за отсутствие гражданских чувств, если их мерят обще-
человеческою меркою: прямоты, мужества, службы родной земле не золоче-
ными фразами, а железным делом.
Сорок тысяч «так» в то самое время, когда сельские учителя и учитель-
ницы во всей России почти умирали с голоду, и одна такая учительница,
г-жа Еремеева, в Новгородской губернии, не обедавшая по месяцам и питав-
шаяся чаем с булкой, в конце концов на самом деле умерла от хронического
истощения голодом, недоеданием. Об этом писали во всех газетах, кроме
«Московских Ведомостей», «Гражданина», «Света», «Южного Края» и «Бес-
сарабца». «Патриоты» промолчали.
Сорок тысяч за ученые заслуги Грингмуту, написавшему какую-то не-
удачную диссертацию по египтологии, не признанную Московским универ-
ситетом заслуживающею ученой степени (редкий случай!), когда Менделе-
ев, Бредихин, Буслаев, Тихонравов, на плечах которых держалась вся рус-
ская наука, не получали и четвертой доли этого; а начинающие профессора
университетских кафедр получали меньше учителя гимназии, меньше сто-
лоначальника в петербургских департаментах и вынуждались вместо солид-
ной подготовки к солидной науке или выть волком от нужды, или бегать по-
волчьи за куском мяса для еды. Это при миллионном бюджете, на переходе
из XIX в XX век, при невежестве страны, почти не тронутом со времен Гос-
томысла, иначе как поверхностно и кое-где.
«Патриоты» об этом не докладывали «куда следует» в своих статейках.
Они пели «славу» России; они набрасывались с пеною у рта на всякого, кто
качал головою при звуках этой «славы»; они хихикали и потирали руки, ког-
да сомневавшихся в этой «славе» рассаживали по казематам и угоняли в
Нарымский край.
Так песни о «славе» нашей носились над рабскою, нищею, тупою стра-
ною, пока Цусима и Мукден не перерезали певцам голосовых связок. Тогда
они захрипели, засопели, глаза налились кровью. Эти хриплые, сиплые, в
основе глубочайше бессильные голоса, раздаваясь разрозненно там и сям,
собрались скопом и раздались хором в Киеве.
Кому они грозят? — Только не японцам.
Что обещают? — Что угодно, только не упорядоченный бюджет.
Они несут фразы. Но Россия слишком голодна для фраз.
* * *
Тунеядство и бесчестность личного существования, неупорядоченность лич-
ного кошелька—вот паспортные, общие и крупные «приметы» всего нашего
умирающего прежнего режима, который отчаянно борется «за существова-
ние». Он борется цепко, страшно, как обедневший дворянин за последнее
пирожное, как алкоголик за последнюю рюмку водки. Тут нервы, страсть,
злоба. Тут ни капли правды. Отстаивают свои «животишки» промотавшие-
ся господа, которые не хотят отделить от своей промотанной «судьбы» су-
218
деб России: «Она жила нами, для нас и с нами должна умереть или если и
оживет, то с нами же и опять для нас»... Вот горький и узкий смысл всех
этих партий «17-го октября», «правового порядка» и проч., и проч., в кото-
рых под разными соусами приготовлено одно блюдо — «старая, дворянс-
кая, пассивная, ленивая Россия».
Не нужно им ни «манифеста 17-го октября», ни, в самом деле, «право-
вого порядка». Все это — соусы. Существенное — одно: «мы», склоняемое
во всех падежах и со всеми знаками препинания, по преимуществу вопро-
сительным и восклицательным. Дело идет о «нас»... С «нами» — хоть тыся-
ча реформ, мы во главе реформ. Без «нас» — никаких реформ не нужно, не
нужно самой России.
Между тем, Россия и нуждается, в сущности, в одной-единственной ре-
форме: обойтись без «них», устранить «их».
Центр реформы, ее сердцевина - перемена личного состава нашего
«gouvemement»’a. Не удивительное ли дело: мелкий гарнизонный офицер,
проигравший 500 — 600 р. казенных денег, стреляется. «Имя опозорено!
Честь потеряна! Не могу жить». И задыхающийся от стыда человек оставляет
после себя труп. «Мертвые срама не имут». Кончает с собою девушка,
покинутая возлюбленным; влюбленный юноша, получивший отказ невесты:
им не много лет, люди — не железные, казалось бы, еще гибкие, как
молоденький прут дерева, который так трудно сломить. Да, но в них есть
душа, совесть, сердце и то братское отношение к людям, по которому они
смотрят им прямо в глаза, только не уронив себя перед ними, не почувствовав
себя уроненными.
Ну а вот старые дубы, железные люди, несущие на плечах своих весь
государственный корабль, — те не то что «растратив 700 руб. казенных», а
уложив на дно океана 10 000 человеческих жизней и весь флот, объехав кру-
гом света и появившись в Петербурге, хлопочут о «повышении по служ-
бе».. . Ничего!! Ни воспоминаний! Ни угрызений! Ровнехонько ничего... Это
поручик Пирогов, о котором писал Гоголь, будучи высечен двумя мастеро-
выми немцами... но мы расскажем словами Гоголя:
«Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна
мысль о таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство. Сибирь и
плети он почитал самым малым наказанием для этих немцев. Он летел до-
мой, чтобы, одевшись, оттуда идти прямо к генералу, описать ему самыми
разительными красками буйство немецких ремесленников. Он разом хотел
подать и письменную просьбу в главный штаб; если же назначение наказа-
ния будет неудовлетворительно, тогда идти дальше и дальше.
Но все это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерс-
кую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной Пчелы» и
вышел уже не в столь гневном расположении. Притом довольно приятный
прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту,
к 9-ти часам он успокоился и нашел, что в воскресенье нехорошо беспоко-
ить генерала, притом он, без сомнения, куда-нибудь отозван, и потому он
219
отправился на вечер к одному правителю контрольной коллегии, где было
очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с удовольствием про-
вел он вечер и так отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам,
но даже и кавалеров»...
Не так же ли кончили деятели маньчжурской эпопеи и японской войны,
высеченные в Мукдене и при Цусиме, уложившие сотню тысяч жизней, про-
валившие богатство и честь России, но, «съев в кондитерской пирожок»,
успокоившиеся. Это была, однако, та «гвардия» государственности, те «орлы»
личного состава, которых наш старый «1е gouvemement» выслал на Восток,
на международное поприще, в угрожаемое место национального существо-
вания, перед лицом Европы и Азии и всемирной истории. Мера души пору-
чика Пирогова, мера ума поручика Пирогова. Так о чем же толки, пересуды,
из-за чего борьба? «Поручик Пирогов» пытается «удержаться в положении»
и в штатской половине своей деятельности благодетельствует Россию ре-
формами, обещает «обновления», обещает все преобразовать, улучшить и
явить миру на сей раз «уже настоящую Европу»...
— Что же вам нужно, неугомонные русские? — спрашивает поручик
Пирогов, всеконечно довольный своей деятельностью, просвещением и либе-
ральностью.
— От вас, господин поручик, нам ничего не нужно. Нам нужно, чтобы
не было вас!
Грингмут много лет управлял лицеем в Москве; однако его роль в педа-
гогике? Его труды по педагогике? Влияние на педагогический персонал в
Москве примером своим, идеями своими? Да никаких идей не было и ника-
кого примера не было, — был «истинно русский» человек, получавший ди-
ректорское жалованье и пронырливо лезший в редакторы газеты с казенны-
ми объявлениями.
Вот об этом бы ему прочитать реферат на съезде патриотических партий
в Киеве: «Кто такой я?». «Кто председательствует у «истинно русских»
людей?».
Какая-то перекрашенная цыганская лошадь: большая, работоспособная,
кому принадлежащая — неизвестно. «Грингмут» — это и не по-еврейски, и
не по-венгерски, и не по-цыгански, и не по-русски.
— Пиль, Грингмут! — можно сказать в одном случае.
— Цыц, Грингмут! — можно сказать в другом случае.
Этот международный язык есть единственный «национальный» язык у
Грингмута и у Грингмутов. Они его понимают, виляя хвостом в одном слу-
чае и огрызаясь в другом.
Казенные объявления, директорская должность, богатство, положение
— это на всех языках лакомо.
Какие же идеи и каким языком выразил Грингмут, получив газету? Да
никаких! Да ничего! «Россия для русских», «евреев надо гнать», «в Царские
дни надо служить молебны»... В Петербурге рассказывали в свое время, что
даже Плеве подсмеивался над «Московскими Ведомостями»:
220
— Газета так дорого стоит правительству и ничего не умеет сказать,
кроме того, что надо служить возможно больше молебнов Серафиму
Саровскому. Это не политика и не влияние.
* * *
«Истинно русские» люди несут с собой шумиху, а не дело. «Они не победят
японцев» — вот все, что можно сказать о них, и совершенно достаточно
этого одного! Они «разнесут зубы» каким-нибудь манифестанткам-гимна-
зисткам, «намнут бока» бастующим рабочим (если их немного): на демон-
страцию их хватит, на несение знамени. Но стрелять из пушек они не умеют
и, пожалуй, даже задрожат, если при них выстрелить... Вот уже много про-
шло месяцев крайней борьбы, и в разных станах много повалилось трупов
людей, положивших жизнь свою за идею. Но стан «истинно русских» лю-
дей не принес ни одной жертвы за идею. Я говорю — «за идею», а не «на
должности», ибо если на известной службе погибает человек, то ведь до
гибели он получал жалованье, имел положение, ему обещана пенсия, и со-
вершенно неясно, для чего или за что он погиб. Но «так», без жалованья и
без службы, кто же «умер за царя» из этих Сусаниных? Титул «Сусанина»
они берут себе. Труда Сусанина еще не взял никто.
А в другом лагере, в других лагерях сколько безвестных юных, без па-
мяти о себе в истории, без пенсии «своим детям», уже сложили кости в
борьбе. Мы не разбираем программ, — мы разбираем людей. Программы
— дело условное; сегодня — одна, через три года — «поизменилась» и
через десять лет — совсем другая. Но человеческий состав, но человеческая
личность — она зреет годами; это уже не «слова, слова и слова», как говорит
Гамлет, а — сила, которая будет действовать на протяжении всех лет, какие
отмерены жизни человека. Вот у «истинно русских» людей и нет этого че-
ловеческого состава; т. е. нет его в «гвардейском» смысле, а в каком-то
захудалом, гарнизонном, пенсионном. «Пенсионеры» своего отечества, ин-
валиды провалившегося порядка, — которые хлопочут все о том, чтобы за
ними сохранены были пенсии, аренды, мундиры и должности. Тот ли это
стан, как другой, который выстроился против них, который всегда был «не
у дел» и рвется к делу. Гораздо раньше, чем я пишу эти строки, поэт уже
сказал мысли этой статьи:
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, гения и славы палачи!
Таитесь вы под сению закона.
Пред вами суд и правда — всё молчи!
221
Но есть и Божий суд, наперсники разврата,
Есть грозный Судия, Он ждет,
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела Он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь.
Тут только вставить имена: «Грингмута», «Юзефовича», «Булгарина»,
«Бенкендорфа», и кто из них еще, бывших «истинно русских»... А на место
имени погибшего Пушкина можно подставить которое угодно имя из рус-
ской литературы и хоть ее всю целиком. Только о немногих счастливцах,
избежавших, вроде Жуковского или Державина, не придется повторить того,
что начинающий поэт сказал о своем предшественнике:
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом бесчувственных невежд,
И умер он с глубокой жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд...
Так умирали не люди «истинно русского направления», но настоящие
русские люди, — простые, неукрашенные, без павлиньих перьев на опере-
точном шлеме. Те, перед гробом которых не несли на шелковых подушках
ордена, вдовы которых не были утешены пенсией и души, которых не все-
гда соглашалась помянуть церковь.
Но мы не забудем, что и Нидерланды были спасены от испанского дес-
потизма «гёзами», «нищими», как прозвали их презрительно государство и
общество, — параллель нашим «народникам, пошедшим в деревню» 70-х го-
дов. И не забудем, что отечеством нашим так же завладела всевластно без-
дарная кучка хорошо спевшихся господ, как в былое время испанцы — Гол-
ландией: с теми же чувствами и с единственным интересом брать из страны
рекрутов и деньги. Кто не понимает, что «борьба за освобождение» в России
есть в то же время «борьба за отечество»: борьба за право получить себе
родину, назвать землю и народ «отеческими», «родными», «своими»? Ибо
они уже давно... инородные, чужие, не свои у русского: какие-то «бенкен-
дорфо-дубельто-грингмутовские».
ГДЕ И КАК ОСНОВЫВАТЬ УНИВЕРСИТЕТЫ
В наше нервное время не только нервно и иногда совершенно ненужно под-
нимаются вопросы, но они и решаются или предрешаются в этом же не-
рвном и торопливом настроении. Открылась возможность перемен, и нахо-
дятся толпы людей, которым хотелось бы все переделать, перекроить, пере-
нести с места на место. Подчинись Россия этому мозговому вихрю своих
222
городских, обеспеченных и читающих книжки граждан, и, кажется, ничего
бы у нас не сохранилось в прежнем виде, все поползло бы или полетело, и,
пожалуй, Россия, после тысячи лет стояния, явила бы собою какой-то коче-
вой лагерь монголов или гуннов. Было ли бы это очень большим прогрессом
или совершенным регрессом — предоставляем судить нашим читателям.
Снос русского университета в Варшаве, кажется, благоразумно откло-
нен где следует. Поляки, если им очень хочется, могут, пожалуй, добиваться
университета на польском языке, что нисколько не препятствует существо-
вать и остаться там и университету на русском языке. Пусть язык Пушкина
царит наряду с языком Мицкевича, как и они лично были друзьями, остава-
ясь каждый патриотом своей народности. У России слишком много хлопот
вне Польши, чтобы она стала или имела интерес задирать поляков; но пусть
и поляки отнесутся и относятся ко всему русскому, и в том числе к русской
государственной гордости, с той серьезностью, какая вообще приличеству-
ет серьезным людям. Варшава так или иначе сто лет связана с Россиею, Вар-
шава сто лет была окраинным русским городом; там есть немножко и рус-
ского отечества, и русские оттуда не имеют никакого намерения уйти, а следо-
вательно, могут иметь там и университетское образование на родном языке.
Однако в связи с вопросом о переносе Варшавского университета вновь
и вновь заныла старая болячка у себя дома: безуниверситетность старых,
почтенных и огромных городов внутренней России. Из Воронежа, Сарато-
ва, Нижнего, Смоленска, Минска, Витебска, Вильны протянулись руки, что-
бы принять великую ценность, безрассудно гонимую из Варшавы. Города
предлагают свою материальную помощь, конечно очень незначительную
сравнительно с тем, что требуется для полного обеспечения существования
университета с его многочисленными вспомогательными учреждениями. В
настоящее время крайнего финансового затруднения, ввиду тяжелого голо-
да и незалеченных ран последней войны, конечно, нечего и думать, чтобы
казначейство нашло совершенно свободный остаток средств для такого боль-
шого ассигнования на дело, обещающее хоть и большую уплату умствен-
ным трудом, однако уплату не сейчас, а в более или менее отдаленном буду-
щем. Тем не менее университетский голод внутренней России должен быть
памятуем государственным казначейством, министр народного просвеще-
ния должен не забывать напоминать об этом составу каждого Кабинета, а
мы с своей стороны думаем, что не невозможно придумать и способ, чтобы
положить начало такому удовлетворению, и даже в ближайшее время, на-
пример начиная с следующего года.
Четыре университетских факультета решительно ничем не связаны меж-
ду собою, — не связаны иначе, как идейно и духовно. Медики нисколько не
нуждаются в профессорах-юристах, а естественники и математики плохо
понимают язык пандектов и не требуют для себя амбулаторий и клиник. В
силу этого совершенно допустимо как бы распределить один новый универ-
ситет на несколько больших городов, дав каждому из них по факультету, не
совпадающему с факультетом другого города. Можно дать Воронежу фа-
223
культет естественных наук, применительно к земледельческой его культуре,
Витебску или Вильне — юридический, Саратову — медицинский: местных
средств, щедро предложенных городами, может быть, будет уже почти дос-
таточно для положения основания этому, так сказать, частичному универси-
тету, которому на помощь придет финансовое ведомство сейчас же, как только
оно оправится; и тогда эта дробь университета спокойно возрастет до пол-
ной единицы, т. е. около одного начального факультета возведутся недоста-
ющие три. Дело будет делаться не порывом, а многолетнею работою, и чем
большее участие возьмут здесь города, тем лучше, ибо они тем лучше при-
учатся ценить и дорожить высшим учебным заведением, которое им стоило
труда, забот, хлопот и денег. А то мы приучены все получать сверху, и без
излишних своих хлопот, как евреи манну в пустыне. Но мы должны все сами
себе заработать и приготовить.
В особенности нам больно становится всякий раз, когда мы думаем о
родине Кольцова и Никитина — Воронеже. Он имеет хорошие культурные,
литературные и педагогические традиции (деятельность известного Де-
Пуле), и вместе это большой религиозный центр Средне-Южной России:
край Тихона Задонского и преподобного Митрофана Воронежского. Огром-
ный и красивый город, утопающий в зелени садов, давно перерос средние
учебные заведения, какие одни в нем есть, давно ожидает себе высшего уче-
ного и учебного света.
НАРОДНОЕ СМУЩЕНИЕ
Случай со священником государственного банка в Петербурге Иоанном
Добровольским, который, по сообщениям газет, будто бы держал свою ду-
шевнобольную жену в запертой полутемной комнате, давая ей рубль в неде-
лю на прокормление, вызвал чрезвычайный шум около себя. Невозможно
передать страстности речей, в которых заговорили об этом деле: «Он пропо-
ведывал с церковного амвона о сострадании к ближнему», «он учил нрав-
ственности», «он отпускал на исповеди грехи», «все это — тогда, когда у
него за спиной стоял бесчеловечный поступок, замученная собственная
жена».
Поднялось чрезвычайное ожесточение сперва против него, и потом и
«против них»...
Лично я не знал и никогда не встречал этого священника. Но, справив-
шись по «всему Петербургу» об отчестве банковского священника Добро-
вольского, я увидел, что знаю, хоть и не близким знакомством, его отца (свя-
щенника), мать (недавно умершую), брата (священника же) и замужнюю (за
священником) сестру. Припоминаю, как в круге этих родных года три назад
я услышал о «несчастии в семье брата»: у него помешалась жена, имеющая
четырех маленьких детей, — и помешательство произошло на почве неудач-
ных родов. Произошло оно таким образом, что больная то обнаруживала
224
припадки буйного помешательства, то приходила в себя и была «ничего»,
разве-разве «неуравновешенна» и «ненормальна». Разговор был полувтем-
ную, ибо этот брат, с больною женою и многодетный, стоял далеко от семьи
своей, почти не посещая ее последние годы, уйдя куда-то «в себя» и «в свое».
Но должен сказать, что чрезвычайно открытый и ясный характер безуслов-
но всего его родства, характер несколько веселый, благодушный, смеющий-
ся и улыбающийся, исключает если не возможность, то желание подозре-
вать какую-нибудь мрачную драку. Все Добровольские читают, учатся (сес-
тра оканчивает медицинский институт), шутят, хлебосольны, чаепитны, и
просто нельзя вообразить, чтобы за спиною этого многоплодного рода сто-
яла злодейская драма. Почти не ошибаясь, можно сказать, что здесь имела
место наша русская распущенность, обломовщина, неряшество быта: забо-
лела жена, а «попу некогда». Дети, служба, главное — служба. Может быть,
при «инвалиде-жене» какое-нибудь новое увлечение, заставляющее (как
бывает в таких случаях) редко бывать дома. Духовная и нравственная связь
с душевнобольными потеряна, остается «присмотр», который мог быть не-
брежен и, увеличиваясь в небрежности, мог переходить в жесткость, в гру-
бость; можно допустить — в жестокость, но непреднамеренную, а «от спу-
стя рукава». «Тому» страшно больно, а «этот» не чувствует, и просто оттого,
что не тем занят, что ему «некогда», «служба», «требы», да и детишки. Суд в
этом разберется. Мы добавим еще, что некоторые подробности обстановки
больной, как и уединенное, изолированное ее содержание, могли объяснять-
ся причудливыми капризами психически больных людей и возможным опас-
ным влиянием психически больной матери на подрастающих детей. Как
известно, психозы и психиатрия заразительны и «прилипчивы». Впрочем,
суд все это разберет, — и мы оставляем этот единичный случай совершенно
вне «гранок» этой статьи, которая возбуждена была в нас той чрезвычайной
бурей негодования, которая шумно заговорила по Петербургу, как только
хроникеры газет дали первые отчеты об этом «деле».
«Они принимают грехи на исповеди».
«Они вяжут и разрешают совесть».
«Служат». «Совершают таинства».
«Кто такие они?!»
***
От одного из глав бывших в Петербурге (в 1902—1903 гг.) «религиозно-
философских собраний», — человека очень свободно мыслящего, но вместе
глубочайше преданного церкви, — мне привелось услышать года три назад
поразившие меня слова:
— Да, я три ночи не мог уснуть от одного священнического «дела», про-
изводимого в Синоде...
Слова эти он ответил на мой запрос; потому что через «домашних» я
узнал об этой жалобе его жены: «В Синоде производилось дело до того
8 В. В. Розанов 225
темное, что муж мой три ночи провел без сна. Все ходил по комнатам, что-
то бормоча».
— В чем же дело? — спросил я его.
Он почему-то считал меня враждебным церкви, сам же был глубочайше
ей предан. Посмотрев на меня насмешливым и злым взглядом, он ответил
враждебно словами предпричастного стиха:
— Не бо врагом Твоим тайну повем: не скажу я вам ничего. Вы не запла-
чете, а порадуетесь.
Бедный, — он не знал, что, может быть, и моя радость превратилась в
печаль от узнавания или от догадок о таких укрываемых «тайнах». С чего
ненавидеть доброе? Как можно? Но если зло да зло, зло опять, зло справа и
зло слева, то как же не заплакать, и не спросить, и не закричать. «Да уж не в
корне ли зло, когда мы едим все листья с этого дерева такие горькие?..»
Не так давно, почти на днях, этот же человек как-то выразился, размахи-
вая руками:
— Где Бог, там и дьявол! В Синоде есть одно отделение, судное, там
разбираются священнические и архиерейские дела, жалобы на них. Это есть
самое секретное отделение в Синоде, и доступ в него и к «делам» его (де-
лопроизводству) недосягаем не только для внешних, но и для самих служа-
щих в Синоде, но служащих в других его отделениях. Если когда-нибудь
копнуть архив этого отделения, его «судные дела»... Видишь воочию, что
дьявол так и ходит около церкви, — никогда таких дел не возникает в свет-
ском суде. Иные — смешные, анекдотические, но есть положительно страш-
ные... Так и чувствуется дьявол.
Передаю, как слышал... И вспоминаю я милую мою ученицу Маккавее-
ву. Это было в большом заводском уездном городе. Женская 3-классная про-
гимназия только года четыре-пять как открылась. Учениц было мало, и по-
тому, дорожа их численностью, начальство смотрело «сквозь пальцы» на
соответствие и несоответствие возраста учениц с классом, в котором оне
учатся. В 3-м, последнем классе были девушки 16 и, думаю (по внешнему
виду), уже 17 лет; а в 1-м классе шла первою ученицею дочь сельского свя-
щенника, вот эта Маккавеева. Вероятно, ей было лет 14, — она была боль-
шая и вся какая-то «сознательная», а как ученье давалось ей легко, то и была
она веселая, — умеренным весельем. Собою недурна. Вдруг перед самыми
экзаменами начальница прогимназии уведомляет меня, что эта Маккавеева
не будет держать экзаменов (а так бы «отличилась» на них и «украсила»
гимназию, — мотив сообщения начальницы), что ее спешно берут домой и,
как сообщила приехавшая за нею мать, «ей выходить замуж нужно, иначе
место пропадет, и мы, я, она, все, — останемся, и на всю жизнь, без хлеба».
Дело в том, что умер отец этой девочки, «штат» оставлен был за дочерью, но
на «штатное» место должен был немедленно же, для удовлетворения нужд
села, поступить священник, за которого и предстояло или выйти замуж «штат-
ной невесте», или, за очевидною недостаточностью лет, «пообождать», и
тогда, конечно, лишиться: 1) места, 2) обеспечения, да, пожалуй, и самого
226
замужества, ибо «духовные» женятся только на «штатных» девицах, т. е.
женятся собственно на «должности с таким-то доходом», беря девушку в
придачу к нему в качестве горькой или сладкой «приправы» к кушанью.
«Похлебка с попадьей — кутейнический брак». Уж пусть извинят отцы за
грубое сравнение, недалеко отходящее от истины. Хотя попадаются матуш-
ки и истинно счастливые, прекрасные, милые... Солнышко и осенью светит.
В селе метрики не особенно смотрят, вообще, условия брака там по-
вольготнее, да и архиерей, обещавший место молодому кандидату священ-
ства и венчающий священников, — все это уже «свое гнездо», «в одном гнез-
де», везде покровительство или «сквозь пальцы» обеспечено: и девушка едва
ли 14 лет вышла за какого-то семинариста, решившегося «хлебать ее со
щами»... эту милую Марию Маккавееву, так хорошо мне указывавшую по
карте «океаны и материки» и прочие премудрости первого класса. Перво-
классники-гимназисты (в маленьком городе, и обе гимназии почти vis-a-vis)
знали первоклассниц-гимназисток, и одного из таких сверстников, Григо-
рия Малофеева, я встретил в Москве, когда уже он был студентом первого
курса университета. Болтая с ним о том о сем и вспоминая старину, я спро-
сил нечаянно и о Маккавеевой.
— Из первого класса вышла замуж...
— Несчастная девушка, — проговорил он. — Муж оказался грубый,
жестокий. Она три раза давилась от отчаяния; спасали как-то случаем...
Три раза жена священника надевала петлю как лучший исход! Лучший
исход! Читатель, не задрожит ли ваше сердце от этого? Оставим безгранич-
ные мысли, отсюда рождающиеся, об этом подлом браке, установленном у
духовенства, брошенном, как гнилая падаль, священникам их «владыками»
и вообще «духовной властью», об этих подлых условиях, подлом законе, под-
лом «духе» всего дела, по коему действительно женятся там и не могут не
жениться (ибо все дело в «наскоро») на «похлебке с попадьей», «пачке ас-
сигнаций в кармане экспроприируемой девицы», — оставим это и ту груст-
ную мысль, что делает все это, установила все это «мать св. церковь», —
«скорбная и сострадающая всем людям», «всех пасущая», «собравшая под
крылья свои аки птенцов»...
Оставим мысли и останемся при факте: замученная женщина, замучен-
ная священником, который... «проповедует», «отпускает грехи», «дает при-
частие»... Об этом заговорили, именно об этом, и в связи с молвою о свя-
щеннике Добровольском. Совесть общества заклокотала, забурлила. И не
сегодня завтра, при первом открывшемся «судебном» деле какого-нибудь
священника, поднимутся все эти вопросы, которые, между прочим, подни-
мались и на упомянутых религиозно-философских собраниях, но уже под-
нимутся не академически и кабинетно, а народно.
Дело в том, что этот и подобные случаи задевают один отдел богосло-
вия, чрезвычайно смутно разработанный: вопрос о том, как смотрит цер-
ковь на свои «таинства». Как на формы, формальности? Или как на некото-
рые сущности, существенности?
8
227
Народная душа их принимает как существенности и сущности. Она
«верует» в них, а слово «верует» — святое, тяжеловесное. Между тем, столь
же очевидно, что церковь видит в таинстве прежде всего форму, формаль-
ную его сторону, а если кликнуть отчетливее, «допросить» дело, то окажет-
ся, что она видит «форму» не «прежде всего», а ее-то единственно одну и
видит, помнит, требует.
Напр., этот муж Маккавеевой «принимал грехи», «разрешал» их. Для
народа, для народной души, очевидно, важно не то, что «он, положим, Иван
Петрович Вознесенский» отпускал их, а что церковь научила его (народ)
веровать, и научила авторитетно и властно, как бы «поручившись», и клят-
венно, что если он чистосердечно обо всем расскажет этому Ивану Петро-
вичу Вознесенскому, правильно поставленному в священники, и принесет в
грехах своих покаяние, и священник простит их ему и произнесет отпусти-
тельную формулу, то эти грехи отпускаются ему самим Богом. «Самим Бо-
гом отпускаются» — вот центр таинства исповеди. Без этого его нет, без
веры в это никто бы и не пошел каяться к священнику.
— Так ведь «чистосердечно» «кается»... Конечно же, Бог отпустит и
не вменит в наказание такой грех, — воскликнут священники и все чисто-
сердечные миряне. Вторые воскликнут это очень искренно и с большою
преданностью священникам и, в частности, с преданностью таинству пока-
яния, очень любимому народом.
— А жена в петлю лезла? Сегодня он, вот, в шестом часу дня выслуши-
вает «грехи» и отпускает их, а жена, в неистовой муке от оскорблений его,
мучений его, издевательства его, дрожащими руками завязывает конец ве-
ревки на печной отдушине, неопытными руками делает петлю на другом
конце и сует простоволосую голову в эту петлю... Годы ее молодые, а лицо
старое. На кого же смотрит Бог: на попадью или попа, удавленницу или его
в золотистой епитрахили?
Все миряне в один голос воскликнут:
— На нее, на мученицу! Бог есть Бог мучеников и мучениц! Он — За-
щитник.
Но священники, всем учением своим, академией, семинарией, ссылаясь
на слово архиерейское, синодальное, на учение отцов церкви, на заповеда-
ние святых, не примкнут к этому восклицанию:
— Что же, по человечеству, конечно, жалко, и священника нельзя не
осудить, однако это — в порядке частного суждения. Есть общее и высшее
суждение; оно заповедано нам всею церковью, и вы, миряне, обязаны, как и
мы, принять его: священник этот поставлен правильно, в правильном архи-
ерейском богослужении, с произнесением известных молитв, с обстриже-
нием ему пучка волос архиерейскими ножницами и его святительско-архи-
ерейскою десницей. Все правильно, ошибки не было нигде. И священничес-
кий сан с него не снят. В правильном таинстве, по чину, он принял исповедь
грешника, и по чину же, не прибавляя ничего от себя, по священной форму-
ле, завещанной от отцов церкви, от святых церкви, он грехи «разрешил».
228
— Но Бог?
— Бог видит священника в сане, в епитрахили, правильно поставленно-
го в божественном церковном распорядке. И слушает Он, и согласуется свя-
щеннику, разрешающему грех, а не его скорбящей жене. И поступает по его
слову во исполнение обетования, данного самим Христом ученикам своим:
«и кого вы разрешите на земле, тот будет разрешен и на небе, а кого вы
свяжете на земле, — будет и на небе связан». У нас власть...
— Но правда? Правда? Замученная женщина, лютый священник?..
— Лютый, но в правильном суде правильно не лишенный сана. После
этого, т. е. новой отрицательной формы и формальности, разрушающей
предыдущую положительную форму и формальность, — он и не мог бы
«разрешать грехи», что хорошо и сам знает, и не стал бы тогда принимать к
себе людей на исповедь. Но теперь он принимает их и сознает свой автори-
тет принимать, действуя по уполномочию от церкви, которая есть форма,
и все ее таинства суть формы же, как и все действия, вся жизнь. Ничего
без формы в церкви не делается и не может быть сделано; форма — это и
есть ее сущность', если хотите, эстетика, формальное, пластическое начало,
перед которою и пал в трепет и умиление народ, в которую он влюбился
(простите грешное слово) и по влюблению поверовал всему, что связано с
этою формою и чему мы учим...
— Какой бы ни был священник, — его разрешение действует, и он знает
это, и церковь свято этому верует. Чистосердечие кающегося, конечно, важ-
но, как и его твердое намерение (впрочем, большею частью неисполняемое)
не грешить более, все это желаемые качества таинства, а не суть его, ибо как
бы порывисто и пламенно ни было покаяние в присутствии, положим, «дру-
га» пред лицом жены, отца, брата, общины христианской, — все это будут
слова...
Слова, а не «таинство», хотя Бог, конечно, может смилосердоваться и
отпустить и такой грех, после такого полного покаяния, ибо воля Божия бес-
предельна. Но совершенно нельзя предвидеть и сам грешный не может пред-
видеть: будет ему отпущен или не будет отпущен такой грех, ибо это —
сокрытые, а не открытые пути Божии, так сказать, в порядке сокровенного и
как частного же, не законодательного действования Божия. И в пустыне тра-
ва растет; капля бывает и на камне. Но это не закон: грешный может быть
вполне уверен в отпуске ему грехов только в одном случае, если эти грехи
им принесены: 1) в урочный час, 2) в урочной форме, 3) урочному человеку.
Система таких «уроков» и «уроченности» и есть церковь. Это — мы, наше.
Мы стоим твердо. Нам обещано...
Народ вопит... или, точнее, он недоумевает сегодня, но может завопить
завтра:
— Удавленница! Злодей муж! Будто бы Бог слушает злодея и глух к не-
винному... и все потому, что у «них» власть...
Не будет предела горю народному, не будет предела воплю народному,
когда он об этом узнает.
229
Не от этого ли, не в предвидении ли этого духовенство, в решениях пред-
соборного присутствия, и предрешило замкнуться в сословном суде своем,
так сказать, «затворить дверь за собою», когда будут рассказываться дела
его. «Соблазн выйдет! Соблазн миру!..» Но, — увы! — есть судии, и есть
свидетели. Мужа Маккавеевой даже и не судили, а вот я рассказал об этом
случае всему миру. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным», — не
знаем, семинарская ли это поговорка; нет, кажется, народная, поговорка сел
и деревень. А через какие «двери» выйдет тайна, — ведь это все одно. Кто
бы ни закричал: «Пожар!» — люди схватятся за ведра, за воду. И кто бы ни
воскликнул: «Гибнем!» — люди побегут от прежнего «спасения» и будут
искать спасения нового, другого. Вот чего не предвидит предсоборное присут-
ствие и, кажется, хватает огонь руками... Обожжется и ничего не затушит.
БОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
Отвратительные, несносные преступления... Мы не говорим о зверстве зло-
деяний, о пролитой крови, не напоминаем заповеди: «не убий». Уж какие
там заповеди в наше время. Отец едва помнит, что он «отец», и бегает на
побегушках у сына-гимназиста и чуть не прислуживает, стоя за столом, сыну-
студенту; дети давно забыли, что они «дети», и терроризируют папаш и ма-
маш не меньше, чем полицию. Отвратительная, несносная борьба, ведшая-
ся в семье русской между отцами и детьми еще со времен знаменитого тур-
геневского романа, закончилась полной победой детей. Родители, которые
не сдались детям, видят у себя ад в дому и даже ценою этого ада все же не
приобретают ничего, не достигают не только повиновения, но и простого
приличия у себя дома. Дети сделались квартирантами-хозяевами, отноше-
ние которых к родителям не отличается по деликатности и тону от отноше-
ний заносчивого жильца к дворникам и вообще к служащему персоналу дома:
они у них на побегушках, они, не рискуя глубочайшими неприятностями,
торопливо спешат исполнять всякие их капризы, фантазию, дурь. Безумное
время! Полная перепутанность понятий и отношений!
На этом просторе гуляет дикая воля. Учиться трудно и скучно, учение
требует терпения и способностей. Ни того, ни другого мы исторически не
накопили. Родители в свое время выполняли свою дикую волю над прислу-
гою, — волю грубую и глупую, не знающую берегов и правил. Теперь они
сами попали под такую же волю «господ» детей, также не знающую бере-
гов, правил и законов. Но их песенка спета, этих отживших и отживающих
родителей: родина имеет дело с воспитанными или, правильнее, с невоспи-
танными их детьми. В беспредельной свободе выросло в каждом из них без-
граничное «я», обожаемое, нежно носимое на руках, как принц-малютка в
кружевных пеленках. Не наблюдаем ли мы в каждом из этих политикан-
ствующих студентах, фланирующих гимназистах прежде всего безгранич-
ного самообожания, самовлюбленности, отсутствия какого-либо сознания в
230
себе, не говорим уже — недостатков, но хотя бы слабостей, общечеловечес-
ких слабостей. Это совершенно непогрешимые папы, куда блаженнее римс-
кого. Тот только по наружности, на глазах народа, исповедует свою непогре-
шимость: смелые русские юноши и девицы убеждены в ней самым чисто-
сердечным образом.
Без дела, без труда, не обремененные наукою и никакою ответственнос-
тью, они фиксируют праздное и необузданное воображение на какой-ни-
будь блестящей точке, — и впадают в сомнамбулизм совершенно так же, как
это бывает при сосредоточении физического глаза на каком-нибудь блестя-
щем предмете. Одни усыпляются монотонным видением одного предмета,
другие усыпляются монотонным чтением книжек по какому-нибудь одному
вопросу, по одному предмету. Все остальное, т. е. целый мир, не попадает в
поле зрения самовлюбленного маньяка. «Един есть Бог, и Магомет пророк
его», это исповедание узкого и фанатичного мусульманства очень походит
на исповедание детей несчастного русского общества: «Один есть вопрос
— это рабочий вопрос! И Маркс — пророк его». И как мусульмане кривыми
саблями срезали, бывало, головы христианам и вообще всем, противящим-
ся Аллаху и Магомету, так русские дети презирают, топчут и, наконец, ис-
требляют все, что стоит на пути утверждения их приблизительно «проле-
тарской республики»... Фанатизм здесь доходит до сомнамбулизма, до пол-
ной потери чувства действительности, до потери всяких связей с реальным
миром под действием какой-нибудь грезы, утопии. Господа экспроприаторы
и убийцы по всем действиям их — это совершенно невменяемые субъекты,
разгуливающие на просторе вместо того, чтобы скромно сидеть на Удель-
ной, и выполняющие намерения свои со всею отчетливостью и безостано-
вочно стью сумасшедшего, который имеет свой «пункт» и во всем осталь-
ном, кроме этого пункта, ничем не отличается от прочих людей.
Маньяки патологического времени, действующие среди совершенно
перевернутых вверх дном понятий и отношений, естественно, они находят
сочувствие среди окружающих, как больные среди заболевающих, как фор-
мально-сумасшедшие среди неврастеников и вообще страдающих или ос-
лаблением, или возбуждаемостью нервной системы. Трудность нашего вре-
мени заключается в том, что мы болеем не одною политическою и социаль-
ною болезнью, но болеем душевною болезнью и что болеют ими не отдель-
ные индивидуумы, а все общество, — только в разных степенях. От этого
именно больное общество выделяет из себя постоянно субъектов явно пато-
логических, с чувствительностью, притупленною в одних направлениях и
страшно возбужденною в других. Такой субъект кинет на страдание свою
собственную семью ради той иллюзорной надежды, что это нужно или что
это принесет кому-то облегчение. Бедность, болезнь и нужда у себя дома,
его родных, соседей его не трогает: он к ним совершенно безучастен; но
зато он истекает сердечною кровью при мысли о голодном или полуголод-
ном пролетариате, о котором знает почти только по книгам. Потеря чувства
действительности, притупленность осязания, зрения, слуха; замена всего
231
этого какими-то своими мозговыми иллюзиями, видениями — вот общая
картина субъекта с Удельной и субъекта, бегущего с браунингом навстречу
тому или иному высокопоставленному лицу. Какая связь между этим высо-
копоставленным лицом и между, положим, голодающими крестьянами Ка-
занской губернии? Связи нет никакой; но маньяк усматривает эту связь. Он
видит то, чего никто не видит, как не видит решительно ничего из того, что
для всех прекрасно видно.
ЛУКАВЫЕ СЛОВА
«И выпив цикуты, Сократ стал ходить по комнате, пока не почувствовал
тяжести в ногах. Тогда он лег и сказал окружающим: — Не забудьте прине-
сти в жертву (богу Асклептию) петуха», — так записано в «Федоне» Платона
о смерти Сократа, умершего по приговору несправедливого афинского суда.
«Жертвоприношение петуха»... какою это древностью звучит! Какая несбы-
точность для нас, христиан! Уже 2400 лет прошло с тех пор, — мы именуем-
ся «христианами»: и вот христианин-палач, окруженный для обеспечения
дела христианами-воинами, по приговору христианского суда и во исполне-
ние христианского закона «святой» Руси, затягивает петлю на горле челове-
ка и давит его, как кошкодер на живодерне.
Эти живодерни именуются отчего-то и обставлены в «делопроизводстве»
не своими словами, не собственными названиями, а уворованными чужими
словами из лексикона добропорядочных людей: «уголовный суд», «приго-
вор о смертной казни», «суд приговорил такого-то к повешению», «пригово-
рил к расстрелянию». Когда нужно говорить просто: «Мы, судьи, удавили
сегодня Петра», «мы приказали солдатам Николаю и Фаддею застрелить
мещанина Семена».
«Вешают» платье в гардероб, а человека давят. Кто же говорит о раз-
бойнике: «Он повесил домовладелицу такую-то и конфисковал ее имуще-
ство». Разве суд говорит: «Ванька Каин повесил такого-то мирного обыва-
теля и ограбил». Отчего же, когда вешают Ваньку Каина, он обязан упот-
реблять более мягкие термины: «Господа судьи изволили приговорить меня
к повешению». И он в праве сказать: «Я удавил помещицу Киселеву, а меня
завтра удавят судьи. И все мы — душители: я — вчера, судьи — завтра». И
уже читателю остается добавить: «И всем нам та же цена: отродья Сатаны,
дьяволы».
Дьявольская эта вещь, при свете дня, в торжественной обстановке, тво-
рится только государством. Его «регалия»... Все остальные, «последние
люди», стыдятся этого: и «средь бела дня зарезал» — это звучит как жалоба
на последнюю степень бесстыдства, вызова человеку и человечеству. Обык-
новенно ночью, где-нибудь в глубине дома, в гуще леса, в тайге «приканчи-
вает» человек человека... Бррр... ужас. Только государство, «милое отече-
ство», «седины» родины, барабанит в барабан, сзывает народ, душители
232
надевают мундир, все ордена, становятся, молчат, точно за обедом; и на гла-
зах их удавливают человека.
Черная месса.
Так «удавливают», а не «вешают». Вешают платье на гвоздь, и вообще
это термин — привычный, наш, городской, невинный, и этим-то словом при-
вычно-знакомым: «повесить карточку на стену», «повесить сюртук в гар-
дероб» прикрывается этот кошмар цивилизации, попрание христианства,
отречение от всякого Бога, перед которым остановились язычники и теперь
отскакивают назад турки. «Чтобы своими руками задушить человека: нет, я
не могу, я мусульманин», «не можем приговорить к этому мы, правоверные
турки1: есть Аллах»! «Ни мы, поклонники Аполлона и Деметры», — вторят
им из древности греки. Только статские и тайные советники в мундире ми-
нистерства юстиции, посморкавшись в меченый хорошей меткой платок,
недоумевают: «Не понимаем!.. Почему не задушить?.. Суеверие язычества,
тупость мусульман: мы сознательные христиане и спокойно душим. Потом
спим. Между сном и удушением — обедаем. И пищеварение — ничего, и
снов не видим».
В язычестве и теперь у турок посылают приговор умереть: но мысль
самому задавить человека, самим официально задушить, застрелить — это
дерет по коже, проходит морозом по мысли древних и новых не христиан.
Пропорционально этому ужасу перед «лишением человека жизни», там это
совершалось и совершается редко, как что-то исключительное и выходящее
из ряда вон. Не замечаете ли вы, что и у нас, при «христианском братстве»,
смертные приговоры собственно обширно практикуются лишь в отноше-
нии простонародья, которое гг. «привилегированные» не чувствуют как
«своего брата», а приблизительно чувствуют как человек кота, которого ему
предстоит «ободрать» и он при этом ничего не чувствует. Дворяне дворян не
«обдирают», и, например, чиновники чиновников никогда не «вешают», хотя
бедствия от чиновников, иногда ставящих государство на край гибели, пре-
восходят вред от воров и разбойников. Но «свой брат» — и мороз проходит
по коже при мысли. Ну, как тайный советник удавит тайного советника? Но
«тайный советник» мещанина Иванова? Это — кот, которого можно обо-
драть: «чужая кровь, чужая душа», не «мы» и не «наше».
Мне кажется, ужас смертной казни удерживается оттого в качестве «осо-
бой привилегии государства», что хотя мы и «сознательные христиане», а на
самом деле берем все целиком, в комке и не расчленяя, и вовсе не постигаем
живым воображением делаемого. И на первую ступень понимания нас не
пускают просто эти чужие, не верные, не фактичные слова и термины, кото-
рыми мы, как приличною капсюлею, обволокли вонючее и нестерпимое со-
держание.
1 Как и у древних греков, султан избегает «расправы своими руками», и имею-
щему умереть посылается шелковый шнур. Не спорим, ужасно, как и афинский суд;
однако в душе что-то было: страх, протест, ужас; и кровь не течет, удавленный не
корчится в судорогах вот перед глазами, как у нас, людей без нравственного обоняния.
233
В ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ
Виселица и каземат — вот что встретит коротенькие лучи декабрьского сол-
нца, когда оно выползет на невысокий горизонт завтра... И поползут эти не-
греющие лучи по обледенелым крышам этих казематов, по обмерзлым стол-
бам этих виселиц и, дальше, с них по равнодушным крышам мирных обыва-
телей, собирающихся к своей обедне...
И отслушают обедню. И мирно «разговеются»... Покушают, отдохнут,
заснут.
Второй день Рождества будет потусклее первого, третий — потусклее
второго; и так все перейдет в будни, сольется с буднями. И потянется опять
этот серый «обывательский год».
Да уж не стынет ли солнце? Движется ли земля? Наших сердец, во вся-
ком случае, оно не греет, наши души не движутся. Застыл человек.
И праздник, и религия — все это давно только обряд, по «воспомина-
нию», в «повторение»... Кружится колесо в 365 спиц, именуемых «обыва-
тельскими днями» и образующих «обывательский год»... Счастливые стра-
ны, как эта Сирия, этот Вифлеем, Иерусалим, которые сотворили событие
праздника, родили из себя вот «Рождество Христово», вот «вход в Иерусалим».
— Осанна Сыну Давидову! Благословен грядый во имя Господне!
И пальмы, и одежды — под ноги... У нас нет пальм, а только веники. Из
веников вынимают прутья и порют ими. Порют детей, женщин, солдат, му-
жиков. Я не говорю об этом годе, — долог ли он? — а вообще. Драная стра-
на, драные страны. Что нам Вифлеем? Какая-то вечная Голгофа...
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя...
Тусклая страна: и самое христианство, оно взято как какие-то слезы,
муки, стенания... Как-то оно перенесло и в самый Вифлеем Голгофу же...
И мы рождественское солнце встречаем видом Голгофы... Кресты, при-
гвожденные... Виселицы, казематы...
***
Идея праздника — она рождается из великой радости. Когда нет радования
в сердцах, — как оно будет в домах? Праздник, празднование, ликование;
«мы празднуем», «мы ликуем»... Поди «поликуй» на нашем 25-градусном
морозе.
Мерзлая страна, между 50-й и 60-й параллелью... Боже, ну, конечно, у
крещеных якутов есть тоже «Рождество Христово», но то ли у них оно, как в
Сирии, около Иерусалима?.. Беден наш климат, и беден человек в нем. Ни
пальм, ни звезд. Только розги. Бррр...
234
В странах, все-таки посноснее нашей, был установлен «Божий мир».
Люди, до сложения государств, в феодальной «анархии», вечно воевали.
Но от вечера четверга до утра понедельника они складывали оружие. «Бо-
жии дни! В эти дни Бог пострадал за грехи наши, и умер, и был погребен,
— вспомним же это и на эти дни прекратим войну». И серьезные люди
вводили перемену в серьезное дело. Но якуты и русские, — у них уже все
тусклее, мерзлее, и вот Вифлеемский день завтра, а разве отворится хоть
одна темница или не будет повешен который-нибудь «приговоренный к
повешению»? — «Праздник? Что такое праздник?!! Разве он может поме-
шать делу?»
«Дело» и «дела» — это приговоры и виселицы, а праздник — это толь-
ко «что-то», тень, маска, притворство лиц.
Как грустно, однако: люди без празднования, без праздника, — люди, у
которых религия никогда не была «делом», чем-то «настоящим». «Восточ-
ные мифы», «восточная мифология», о которой молва дошла и до якутов, —
тогда они «крестились», — и вот «празднуют»...
Все ненастоящее. И стоит великая грусть в сердце русского человека,
что у него все ненастоящее. Грусть эта давно стоит у него; давно сжимает
сердце все это «ненастоящее», «призрачное», «по воспоминанию» или «по
подражанию». «Где же я и где мое?» Великие тревоги наших дней, так по-
хожие на отчаяние, смешанные с отчаянием, суть разрешение этой вековой
грусти русского народа. Среди мерзлых фигур тусклой земли некоторые
оказались менее закоченелыми: внутреннее маленькое солнышко возмес-
тило недостаток внешнего солнца. Они стали искать «своего», «настояще-
го»...
— Мы хотим Рождества как Рождества!
— Мы хотим входа в Иерусалим как входа в Иерусалим!
— Христос — Он наш! Мы Его встречаем, и одежды под ноги, и пальмы
— все бросим!
— Пусть будет русская жизнь настоящею! И ликование, и празднова-
ние в сердцах, в домах... Все — как дело! Как наше дело!
Но замороженных людей было гораздо более, чем этих «оттаявших»...
Мертвыми, безжизненными глазами они тускло следили за тем, как те заше-
велились... И вот полезли мертвые на живых, замороженные на отогревшихся;
полезли, — и вот кресты, пригвождение, Голгофа вместо Вифлеема, казема-
ты в это «Рождество 1906 года».
Тусклое поползет солнце по обывательским крышам и не согреет ни
одной из них по-настоящему. Все — призрачное, все как пыль, как «приви-
дение» во сне... Спящая страна, сонная страна, с призраками, бродящими по
ней, пугающими или смешащими.
Пробудится ли когда-нибудь она? И вырастет ли когда-нибудь настоя-
щий русский человек? И будет ли он иметь когда-нибудь настоящий празд-
ник?
В тот год, светлый русский год, встречаясь на улицах, будут говорить:
235
— Господь родился! Мы веруем! Ни одного в темнице, никого пригово-
ренного, ни у кого слез! Обойдите всю страну, — слез ни у кого! Мы —
верующие!
И будут смеяться в ответ возражающим:
— Да, суд, законы — все важно! Но Божий закон важнее человеческого,
и религия выше суда. Без религии мертв был человек, и при судах, и при
законах. Но мы воскресли, просветились. Все у нас поставлено в относи-
тельное, изменчивое положение по отношению к вечной вере и вечному Богу.
И вот — вечный день, это наше «Рождество», русское «Рождество»! Хрис-
тос родился не только для Вифлеема, но и для нас, у нас... И когда у нас
родился Бог, то для чего бы Он и родился, если бы еще стояли виселицы и
темницы...
И еще грустно, уже сурово, прибавляли бы:
— Пока не рождался Бог, — и стояли темницы. Что они стояли, не ра-
створялись, — и показывало, что никакого Бога не рождалось, а были так
одни разговоры, слухи, неправдоподобные «мифы». Люди были тогда замо-
роженные и думали, как не думали, и чувствовали, как не чувствовали. Тог-
да ничего не было, все только «казалось»... И «казалось», что есть Россия и
что в ней есть, будто бы, «религия»... Но все это было только на карте, в
пространственном отношении, и только значилось по календарям...
В НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Наступает Рождество Христово, — а у нас как бы нет праздника. Как бы
вовсе никогда не пели ангелы Вифлеема: «Слава в вышних Богу и на земле
мир и благоволение», и как бы ничего не рождалось в том вертепе. Ужасная
сторона политики и острых политических кризисов в истории заключается
в том, что они сводят как бы на «нет» гораздо высшие и более нежные сто-
роны культуры; что они несомненно огрубляют человека и делают более
поверхностным. Все сводится к интересам и борьбе интересов, почти ис-
ключительно материальных; все сводится к волевым движениям, волевым
страстям, с очень малым участием сердца, воображения и размышления. Что
умственная жизнь России уже много лет придвигалась к этому политичес-
кому кризису, об этом можно судить, между прочим, по рождению и торже-
ству у нас так называемого «материалистического истолкования истории»,
по которому из всемирной цивилизации вовсе выталкиваются в качестве
движущего начала все высшие идеи, религиозные, поэтические и философ-
ские, и вся история сводится к борьбе только материальных интересов, клас-
совых и имущественных. Конечно, это так же глупо, как если бы кто сказал,
что поэзия Пушкина объясняется составом кушаний, какие были употреби-
тельны в России в первую четверть XIX века, или что Лютер начал реформа-
цию, соскучившись постною пищей католических монастырей. Но объяс-
нение это, ничтожное с научной стороны, важно как симптом, как показа-
236
тель того, куда клонят общественные умы. Нельзя не сказать с печалью, что
русский народ, который вечно был идеалистом-мечтателем, таким был в вере
и таким был в поэзии, — может быть, под реальным действием угнетенного
и нищенского состояния, забыл на время все и двинулся прежде всего к из-
менению своего экономического положения. На этой почве, на пути этого
движения померкли все высшие идеи, и вот уже второй год мы встречаем
великий праздник религиозного и всеобще-человеческого мира в кровавых
лучах ужаснейшего политического ожесточения, всеобщей борьбы, всеоб-
щего нежелания что-нибудь забыть и что-нибудь простить.
Долго ли продлится эта мука? Во всяком случае мы быстро дичаем в
этой сухой, исключительно политической борьбе. Трудность чрезвычайно
увеличивается тем, что политика по рубрике «что надо» осложняется дру-
гою рубрикою: «кому и за что отомстить». Теория «экономического матери-
ализма в истории» постоянно нарушается глашатаями этой же теории, со-
вершающими с величайшим рвением ряд дел и поступков, не имеющих ни-
какого в себе утилитарного содержания. Все это вводит слепоту и стихий-
ность в политику, — и ту повышенную температуру житейской атмосферы,
при которой ничего решительно делать нельзя. Правительство, общество,
партии, частные люди — все терпят в этой сумятице вещей и отношений без
какой-либо пользы для народа и вообще для кого-нибудь.
Еще раз спрашиваем, надолго ли затянется этот мучительный и по су-
ществу антикультурный процесс? В растерянности, лишенные самооблада-
ния, мы выделили почти как две главные партии — партию красного и партию
черного террора, равно лишенные способностей политических. Одни хотят
лететь, другие не хотят даже и ползти; одни кричат: «Все преобразовать»,
другие — «все оставить по-старому». Великое горе России заключается в
том, что ни одна, ни другая партия не считаются почти вовсе с реальными
нуждами России и даже почти не принимают в расчет Россию, смотря на
нее как на пустое поле, где могут разыграться ураганы их страсти и вообра-
жения. Россия уже построена, есть, существует: она не нуждается и даже
не вынесет ничего, кроме починки частей, некоего ремонта, который бы со-
здал лучшие условия для существования живых наличных ее частей. Но вер-
хоглядство и темнота сцепились друг с другом, отнимая друг у друга право
господствовать, повелевать, формировать.
Россия очевидно нуждается в преобразовании, — и нуждается в нем в
том самом направлении и в тех пределах, как это было указано и дано мани-
фестом 17 октября. Россия должна стать могущественною и честною: это
такие задачи, которых не достигнешь ни красными, ни черными фразами.
Россия должна переодеться в европейский удобный и ноский костюм, вза-
мен того полуевропейского, полуазиатского платья, какое она носила досе-
ле; носила его и износила. Ничего нет национального, ничего нет специаль-
но русского в той системе всепоглощающего бюрократизма, из-за которой, в
сущности, одинаково не было видно ни Царя, ни народа и которую и сталки-
вал манифест 17 октября, очищая поле для свободного, доверчивого и нрав-
237
ственного союза и единения населения и Царя. К великому сожалению, к
русскому народу быстро подскочили учителя-шептуны, которые по «после-
дней книжке» начали подсказывать ему совершенно нелепые и фантасти-
ческие мысли и пожелания, никогда самостоятельно не зарождавшиеся в
русском народе, нимало в манифесте 17 октября не содержавшиеся, нис-
колько не вытекающие из всех минувших событий нашей истории. Мани-
фест 17 октября нужно было развивать как зерно нашей свободы и новой
государственности; но его поняли и приняли совершенно не так, а как что-
то пустое само по себе, что убрало с дороги лежавшее на ней препятствие и
затем эту дорогу дало всяческим личным, безбрежно-свободным построе-
ниям. Получилось не политическое движение вперед нации и государства, а
какой-то сумбур почти личных столкновений, личной и групповой борьбы.
Манифест 17 октября был дорогою, путем, программою будущего. В
этом смысле, с этими намерениями он был дан. Между тем растерянное в те
дни правительство, как бы само не справившись с этим величайшим актом,
дало возможность принять его не как путь-дорогу, а как ворота, через кото-
рые общество вышло куда-то, и прошло их, и забыло о них, как о чем-то
позади лежащем и ненужном, неинтересном...
Свободная и просвещенная страна, страна, честная в мелком и в боль-
шом, — вот задача, лежащая перед Россиею, не достигнув которой она не
может успокоиться и не успокоится. Оба террора, и красный и черный, рав-
но должны быть сброшены, как не отвечающие ничему в России, как ни для
чего ей не нужные. Все это «манифестанты», люди криков и истерики, а не
дела. В обширном политическом движении — это только наездники, ничего
не решающие, хотя и видные издалека, шумящие, размахивающие краси-
вым оружием.
«Дело» решается тяжелым движением пехоты. И завоевание будущего
для нашей родины должно совершиться поступательным движением впе-
ред самого общества, всего общества, которое должно с силою откинуть в
сторону мнимых вожаков своих, этих гарцующих кавалеристов справа и
слева. К обществу мы и обращаем свои речи: девиз наш — просвещенная
свобода, культура, цивилизация, высшие ее идеи.
Политике — своя доля внимания. Но только доля. Выше ее блага вечно-
го просвещения души человеческой.
Вспомним же мирно этот день, не как он течет сейчас у нас, — в грусти,
слезах и злобе: вспомним, как он протек 1906 лет назад. И из святого «мира»
и «благоволения», необъятный запас которого принес этот день целому миру,
— направим хоть один луч на истерзанное тело нашей родины.
Если кто-нибудь загасит в своем сердце хоть одну каплю злобы, мести,
раздражения в этот день — вот и жертва Новорожденному.
О, как хотелось бы, чтобы таких погашенных капель было больше...
НА НОВЫЙ ГОД
Кровавое настоящее, смутное будущее, бесплодное прошлое — вот что ле-
жит вокруг нас в этот канун нового, 1907 года... Не за что поднять бокал и
выпить шампанского. Прошла тяжелая и унизительная война; но вместо того,
чтобы единым духом соединиться в гигантскую творческую работу, на
подъем своей родины, русские люди разбежались по разным углам и из этих
разных углов подняли невообразимый, мелочный, гадкий лай друг на друга.
Точно все и дожидались только японской войны, чтобы броситься друг на
друга если не с ножами, то с обвинениями, которые стоят ножей. Впрочем,
отчасти и буквально с ножами. Кровавое время: но еще более — время по-
шлое, несравнимое ни с каким другим по отсутствию великих характеров,
великих творческих мыслей, по отсутствию программы, способной зажечь
объединительным огнем страну.
Долго ли это протянется это наше безвременье, когда Россия ниже и
ниже опускается в какую-то топкую осеннюю грязь? Зреет ли где-нибудь
великий человек, великий гражданин, который с великою обновительною
энергиею соединял бы в душе своей беззаветную преданность к полям сво-
ей Родины, к лесам нашей Родины, к нашим захудалым деревням, к селам,
посадам, городишкам, городам. Сера Русь, бедна: но неужели же умерло
человеческое великодушие, человеческое благородство и уж нельзя эту «се-
рую, бедную Русь» полюбить тою же великою, святою любовью, как пре-
красные страны Юга и Запада находили великих «возлюбленных» в истори-
ческих героях своих?!
Мы этому не верим. И думаем, что где-то, где-то готовится настоящий
вождь своей страны; готовится к великому подвигу благородный рыцарь, о
котором грезит бедная невеста, невеста-бесприданница, эта наша плачущая
Русь. Сколько в ней оскорбленного, чего-то оставленного, покинутого...
Русские люди забыли Родину-Мать: это самая черная точка минувшего
года и наступающего. Все разбежались по «партиям» и соделали каждый из
своей «партии» себе родину. Наставили маленьких кумирчиков и курят пе-
ред ними жертвоприношения. И чем больше этих кумирчиков, чем мелоч-
нее они, чем недавнее, тем более забывается единственный подлинный ку-
мир каждого русского, его природная натуральная Мать-Родина. Нет рус-
241
ских, есть либералы и консерваторы, нет России, а только «лагери» кадетов,
обновленцев, октябристов, трудовиков, социал-демократов, социал-револю-
ционеров, анархистов.
Точно будто могилы Ярослава, Владимира, Святославов, Иоаннов, Алек-
сандров, Петра затянуло каким-то пологом тумана. И в этом тумане только
слышится лязг мечей, ножей. То в ослеплении бьются русские, проливая
драгоценную русскую кровь. А враги справа и слева, с Востока и с Запада,
желтые и белые смеются, говоря: «Не надо и бороться с русскими, надо выж-
дать только время, когда они истребят друг друга, съест брата брат».
Это — самое убийственное состояние.
Первый парламент прошел бесплодно. Мы до такой степени полны не-
нависти к ненависти, что не хотели бы в эту минуту говорить о нем ничего
дурного, однако рвется с языка это печальное воспоминание, что нужно же
было ухитриться «кадетам» выбрать в председатели первой парламентской
палаты бездарного экс-профессора и адвоката сомнительной практики!.. Это
что-то убийственное и самоубийственное; это такое testimonium paupertatis,
«свидетельство о бедности» целой партии, какое ярко определило ее содер-
жание или, лучше сказать, ее бессодержательность. «Кадеты», или «консти-
туционалисты-демократы», то же «партия народной свободы», — до чего
она характерна в этом троящемся своем имени! — испортила начало парла-
ментаризма в России; она скомпрометировала русскую способность к кон-
ституционализму. Впрочем, и партия-то эта совсем почти не русская... Сме-
ло и бесстыдно один из этой партии заявил, что слово «патриотизм» есть
постыдное, а другой заявил, что слово «русский» надо исключить из зако-
нодательных актов, так как «в России живут не одни русские»... Так шло все
crescendo и crescendo, пока этим умникам не сказали, чтобы они убирались
по домам. В самом деле: явно им Россия была не нужна; и России только
осталось сказать, что они, в свою очередь, не нужны ей.
Печальное воспоминание! Оставим его.
После унизительной, ужасной войны, в течение двух месяцев непрерыв-
ного словопроизношения не сказано было ни одного слова заботливого об
армии и флоте. Ни одного! Никакого! Японскому позору точно все обрадо-
вались, что он дал материал для сатиры; а как «сатиру» переделать в что-
нибудь сносное — об этом никто не подумал, просто это не составило пред-
мета ничьей заботы. Удивляться надо, каким образом скрылось от всеобщих
глаз, что если таков был первый русский парламент, то почему русская бю-
рократия, на смену которой он пришел, не имела права быть тоже такою,
какою она была и обнаружила себя в бедствиях японской войны. Незаботли-
вость о состоянии России и всех русских дел бюрократии: но ведь точно
такою же незаботливостью и даже как бы полным забвением России, дел
русских, русского положения, состояния страдал и первый парламент. Неза-
ботливость — там, незаботливость — здесь; безделье — в одном месте, без-
делье — в другом месте. Две кумушки, которые перегрызлись; и тем скры-
ли, что оне — одного поля ягоды.
242
Грустно состояние русского общества, которое родило из себя и бюрок-
ратию, и первый парламент. Легче вылечить и парламент, и бюрократию; но
как вы вылечите общество? Тут нужно что-то хроническое, медленное. Глав-
ный грех общества — его безделье. Нельзя отрицать, что в этом историчес-
ком безделье нашего общества виновата более всего бюрократия же и вооб-
ще корень грехов нашей действительности лежит именно в ней. Всемогу-
щая два века, она все взяла себе, все отняла для себя, не оставив обществу
ничего, кроме праздности и еще занятий литературою «в виде утешения».
Общество все же создало прекрасную литературу и этим показало присут-
ствие в себе духовной даровитости, огня, воображения, чувства. Да, но это
не то, что практическое дело; не то, что строить корабли, формировать ар-
мию, управлять провинциями. Увы, все это бюрократия взяла себе. И все
это испортила. А когда пришлось поправлять испорченное и для этого обра-
тились к обществу, оно оказалось так же бездарно, как и бюрократия. Прак-
тически и деловито бездарно... Утешение, однако, в том, что общество дей-
ствительно ни до чего не допускалось, что практически оно и не могло быть
сильно, деятельно, зорко, властно. Утешение в том, что год за годом, в но-
вых условиях свободы и будучи призвано к делу, к конституционному делу,
оно окрепнет, поздоровеет, избавится от фраз и фразистости и приучится
работать руками, умом, характером.
С этой точки зрения крайняя несостоятельность нашего первого парла-
мента может сыграть даже свою положительную роль: мы знаем, с чего на-
чали, мы знаем точку отправления. Всевластная, дошедшая до самозабве-
ния бюрократия испортила не только государственный механизм, но она
довела до известной степени вырождения и самое общество. Это общество,
при первом призыве к делу, показало глубокое бессилие, неумелость, пото-
нуло во фразе и в чувствах, не имевших никакой практической приложимо-
сти. Мы будем зорко следить за вторым парламентом: и всякая крупица на-
стоящего дела, какую он вложит в расшатанный, больной механизм нашего
государства, зачтется в великую ему заслугу и с тем вместе даст надежду,
что общество хоть медленно, но, однако, двинулось по пути выздоровления.
Предстоящая его сессия — это «да» или «нет» всего нашего будущего. Вто-
рая его сессия, в смысле показателя, в смысле симптома, будет неизмеримо
важнее первой сессии. То был только «опыт», «как выйдет»...
С точки зрения «первого опыта» мы не должны смотреть на этот пер-
вый парламент так отрицательно и гневно, как это усвоили себе очень мно-
гие. «Семь раз отмерь — один отрежь», — говорит русская пословица. Но
первая Дума даже преувеличила эту поговорку: она все «мерила» и «мери-
ла», ушла в совершенно воздушные дела, в иллюзии и разговоры, в фанта-
зии и истерику, — и так до конца ничего и не «отрезала». Т. е. она не сдела-
ла никакого дела и не скроила на озябшую Россию не только пышной одеж-
ды, но и никакой одежонки. Это — гипотетическая Дума, занимавшаяся
только гипотезами и, как гипотеза, получившая себе соответственное окон-
чание.
243
Не будем очень упрекать ее. Заметим, что иллюзии ее или «добрые по-
желания» имели хороший родник широких забот о благосостоянии народа и
гневной расправы с бюрократией), которая действительно заслуживала вся-
ческих упреков. Но только «облагодетельствование народа» пошло в ней
рука об руку с нелепым и злым желанием обобрать все другие классы, дру-
гие сословия, которые культурно все-таки кой-что накопили. Все это уже
грозило вандальством, разором. Государь, Который стоит заботою над всею
Россиею, над всем тысячелетним ее зданием, распустил, и должен был рас-
пустить, Думу, двинувшуюся по вандальско-татарскому пути, хотя и с «бла-
городными намерениями»...
Тут, в двухмесячном «первом опыте», было слишком много историчес-
ки возбужденной, может быть и правой, озлобленности и слишком много
иллюзорности, непрактичности, исторически тоже слишком объяснимой. Но
ни из того, ни из другого не могло ничего получиться. «Руки» оказались все
же «слишком коротки» для настоящей расправы, а иллюзии — оне породи-
ли жаркие слова, какие мы слушали в минувшее жаркое лето. То была июль-
ская Дума: теперь будет Дума мартовская. Немножко похолоднее и соответ-
ственнее русскому характеру.
Все спасено и ничего не потеряно, пока общество хранит в себе энер-
гию. Минувший год, однако, создал такую брешь в старом двухвековом рус-
ском укладе, что восстановление и даже защита проломанной стены — вещь
совершенно невозможная теперь. Это — потерянная позиция, с которой нуж-
но только убираться. Мы говорим о старом бюрократизме, о самовластии и
чванливом самомнении чиновничества. Свобода прессы, которая есть все-
таки наш наличный факт, лучше всего обеспечивает против всякой возмож-
ности возврата к прошлому, которое и сохраняться-то могло только при по-
давленном молчании печати. Итак, общество действительно стоит или по-
ставлено на новые пути, — и это в истории нашей государственности и об-
щественности составляет такое громадное движение, в котором совершенно
незаметными величинами становятся недочеты двухмесячного существова-
ния первой Думы и хроническое недомогание наших сословий и классов.
Мы переживаем вторую «эпоху преобразований», как назвал С. М. Соловь-
ев царствование Петра Великого. Она затянется не на одно десятилетие. В
ней глубочайше переработается весь внутренний организм России. Мы не
можем кончить всех этих мыслей, не сказав слова глубокой благодарности
нашему Государю, великой и великодушной решимости Которого принад-
лежит все же первый шаг в движении, — и Он положил в него самый боль-
шой камень и принес самую большую жертву. Он расстался с тем, что было
всего ценнее русским монархам. Он расстался с «подручницею»-бюрокра-
тиею, этим «чего изволите» около Русского Престола.
Он с доверием и надеждою пошел навстречу России народной и обще-
ственной.
И Россия народная должна ответить таким же доверием своему Госуда-
рю: вот в чем спасение.
244
АРХИМАНДРИТ МИХАИЛ
Сильное движение, в которое приведена наша общественная и государствен-
ная жизнь, выбрасывает неожиданно на глаза всех то одну фигуру, то дру-
гую, — дотоле в безвестности или полуизвестности трудившуюся, и, про-
держав ее несколько минут как бы на историческом экране, снова опускает в
прежнюю безвестность. Но, разумеется, хотя бы и одною ниткою эта личность
уже войдет в историческое тканье нашей свободы, — и будет всегда поминать-
ся добрым словом одними, черным словом другими. Участь прекрасная.
Около безыменной и полуанонимной группы «32 петербургских священ-
ников», подавших известную «записку» митрополиту Антонию о настоя-
тельной нужде церковной реформы, около священника Г. С. Петрова и епис-
копа Антония, прямо и резко ставших на сторону свободы, и нескольких
членов-священников в первой Государственной Думе, потерпевших за про-
изнесенные там речи, в декабре месяце шумно пронеслось в печати и обще-
стве имя архимандрита Михаила, печатно заявившего, что он по убеждени-
ям своим принадлежит к «народно-социалистическому направлению», и за
это претерпевшего известную «расправу в 24 часа». Увы, «Христос» его не
защитил, а полицейский справился... Обер-прокурору Синода слишком по-
здно разъяснили, что «народно-социалистическое направление» — это со-
всем не то, которое начиняет бомбы и ходит с пистолетами, что это направ-
ление совершенно мирное, к которому принадлежал и известный берлинс-
кий придворный проповедник пастор Штёкер. За множеством «входящих»
и «исходящих» бумаг куда обер-прокурору разбираться в партиях... И когда
административная операция над монахом была уже произведена, он мелан-
холически произнес: «Ошибка? Как жаль! Но, впрочем, он не генерал, не
тайный советник. Он монах, и дал обет послушания и терпения, и пусть
перенесет все, хотя бы и без вины, как претерпел и не жаловался наш Боже-
ственный Учитель».
Хорошая фразеология. По ней, как по сказке о «белом бычке», сложено
тысяча сказок и рассказов и, главным образом, подлинных историй у нас на
Руси. Известно: «претерпевый до конца тот и спасен будет». Чего другого, а
текстов у нас на всякий раз хватит.
Бедный архимандрит Михаил... На большом портрете в № 50 журнала
«Искры» он кажется таким большим, между тем, «в натуре» он не только
мал ростом, но мал до странности, до некрасивого впечатления. Над сме-
шанною толпою гимназистов III и II классов он не поднялся бы головою,
уступая ростом хорошо развитым и сравниваясь только со средними. Иметь
возраст гимназиста II класса магистру церковного права, профессору, архи-
мандриту, — конечно, это странно. При этом необыкновенная его малорос-
лость не связывается (как это бывает) ни с каким недостатком организации,
горбом и проч. Как будто лет около 13 он вдруг и беспричинно перестал
расти, — растя дальше в мозг, в дух, в воображение, в чувство. Всего этого у
него много. Может быть, причина остановки роста была, но не анатомичес-
245
кая, не заключенная в уродстве строения, а, так сказать, физиологическая,
лежавшая в дефекте физиологических отправлений.
И тельце его, лицо — все маленькое и страшно худое. Над этим крошеч-
ным телесным объемом ширится как будто чужая какая-то, не на него сши-
тая монашеская ряса и нормальной величины монашеский клобук, но при
широком крепе, около него драпирующемся, кажется, что вот-вот голова его
юркнет в этот клобук или клобук опустится книзу и покроет всю голову до
губ. Почему-то на портрете этого не кажется (я на него смотрю сейчас), но
«в натуре» все боишься, что он провалится в свою широкую одежду, и она
закроет его всего, с лицом и сапогами, а посох монашеский он сам потеряет
и не останется от «отца Михаила», такого милого и живого, ничего, кроме
одежды и воспоминания.
Я сказал: «такого живого» — и перехожу к главной его черте. Как изве-
стно и как само собою понятно, сан «архимандрита» довольно степенный и
требует медлительности и важности движений, поз и положений. «Архи-
мандрит» — это что-то сонное, или больное, или умирающее, полуумираю-
щее. Если он «умирает» или «полуумирает», то он «свят»; если он сонный,
то «все, как следует». Архимандрит Михаил решительно перескочил через
эти «оглобли», в которые у нас запряжен монашеский чин; перескочил и
понесся и донесся до высылки его из Петербурга. Но первый шаг этой «не-
ладности» заключается просто в его живости, в благородной человеческой
живости, впечатлительности, в отсутствии сана, поз и манер. С этим, конеч-
но, гармонирует его психология, но ранее всего — физиология. Он всегда,
ежеминутно, страшно возбужден, и кажется или хочется думать, что эта его
возбужденность имеет что-то родное с приостановившимся в 13 лет ростом.
Он не умеет оставаться недвижным: губы, глаза, лицо, плечи, ноги — все
шевелится, поводится, «перебирается по жилкам» и решительно не может
«стать в форму». Не «формальный человек» — это главная его особенность,
для меня — лучшая его особенность! Сидеть он может на месте, только тог-
да и только пока длится нужный или интересующий его разговор; стоять на
месте может только пока произносит речь. Все остальное время он выпол-
няет какие-то нужные ему намерения: поговорить с одним, спросить о дру-
гом, позаботиться о третьем. Четвертая его забота, напр., лежит вне дома, в
котором он находится; тогда неожиданно для всех присутствующих он на-
девает или, скорее, набрасывает на себя «летучую мышь», как мысленно
называешь его широкий с крепом клобук, и, наскоро сунув всем присутству-
ющим руку, выбегает из квартиры. Не забуду, как раз я вышел его проводить
на площадку 4-го этажа, на котором я жил: от. Михаил, тогда еще иеромо-
нах, забил такую «дробь» по лестнице с ее восемью заворотами, как будто
это торопился гимназист II класса от наказания или к пирогу. Кажется иног-
да, что от. Михаил находится вечно между «наказанием» и «пирогом». Его
что-то вечно трясет, манит или пугает, приводит в гнев или умиляет. Но гнев
его — не сильный; умиление его гораздо длиннее, и это — глубоко благо-
родная в нем черта.
246
Мне нужно было зачем-то его видеть, и я зашел в его академическую
квартиру. Он читал лекцию, и мне пришлось его прождать целый час. Две
большие, почти огромные комнаты. Первая не знаю, чем была, вроде прием-
ной; на полу второй комнаты, в ящике и без ящика, лежали какие-то непе-
реплетенные книги. Их было так много, что они закрывали 1/3 пола. Я при-
сел, — и первое, что мне попалось в «растерзанной» книге, с вырванной
серединой и без заглавия, — это размножение растений. Я стал читать, и
было так интересно и, с моих точек зрения, важно, что, — не ожидая встре-
тить этих нужных сообщений в другом месте, — я вырвал всю статью и
положил в карман себе. Да не осудит меня читатель: я не делал никакого
вандальства или, точнее, я только продолжал то вандальство, которое начал
уже сам хозяин. Книга была действительно полуразорвана и не цела, и хозя-
ин, очевидно, тоже ее откуда-то «захватил на ходу», не дочитал или полу-
прочитал и кинул. Впрочем, этих кинутых на пол книг было половина всех,
находившихся в комнате. Остальные лежали на окнах, на стульях; не по-
мню, был ли книжный шкап. В составе книг были по медицине, путеше-
ствия, богословие, журналы, романы, гинекология; передо мною был какой-
то Парацельс-монах, который размышлял и писал, или хотел бы писать «de
omni re scibile», «обо всякой познаваемой вещи». На столе лежала рукопись
какой-то драмы с мужскими и женскими персонажами. «Откуда монах мо-
жет знать театр и театральное?» — подумал я. Да, монах не может знать, но
Парацельс должен интересоваться, а тут Парацельс явно перерастал мона-
ха. Самовар на столе не был убран, стакан — не выпит, с кружком спитого
лимона на дне; коробка с финиками начата; на окне, раскатившись, лежали
апельсины. Около стола и на столе было мокро. Чайного полотенца, как и
салфетки, на столе не было.
— Парацельс или свинья, и не знаю, которого больше, — бормотал я.
Да простит мне о. Михаил, — как он мне и многое прощал, — это выраже-
ние. Пишу для полноты, и резкое выражение пусть будет поставлено в ми-
нус мне, а не ему.
— Женщину, женщину бы сюда, — домовитую, с полотенчиком, в чис-
том фартучке, с крепко заплетенною косою, не простоволосую, миловид-
ную, аккуратную, зоркую, неутомимую! — продолжал я размышлять, и, все
дивясь, подошел к кровати.
Под подушкой была заткнута книга. Около кровати — стул и на нем
загашенная в ночь свеча и книги же; около кровати — книги. Одеяло не
было задернуто; оно, вместе с простынею, являло до того искомканный, ка-
кой-то «истертый» и «протертый» вид, точно тут — говоря по-простонарод-
ному — «черти в свайку играли». «Ах, хозяйки нет у профессора: высекла
бы она его за проказы, высекла да и приласкала потом». Я был в академии,
ученом учреждении, и в квартире профессора, со следами везде именно про-
фессуры, и чуть-чуть, краешком ума, помнил, что он вместе с тем и монах.
Этим объясняется ход моей мысли. Но в этой комнате я ярче, нежели когда-
нибудь, почувствовал, до чего ненормально, до чего неэстетично разделе-
247
ние полов в жизни, в быту, в каждой биографии, в каждом доме. И я донесу
до слуха читателя одну мысль, совершенно просто и серьезно сказанную,
какую с удивлением выслушал от одного епископа, притом (кажется) совер-
шенно чистого по этой части, но без pruderie1:
— Монаху без бабы никак нельзя.
Кажется, он хотел сказать об экономке, о бонне, о чистоте и приветливо-
сти всего вида монашеского жилья; он не хотел ни обвинять, ни клеветать,
ни соблазнять. Просто он сказал факт; просто он вздохнул, но вслух; а я
подслушал вздох и не передал бы его читателям, если бы глубочайше не
сочувствовал этим словам. Этот «жеваный» вид постели о. Михаила, это
«свинство» около стола, — все говорило, шептало, кричало о тех епископс-
ких словах, чуть внятно выговоренных. И для меня, для которого «безбра-
чие по обету» есть только религиозное преступление, борющееся против
божественного заповедания: «плодитесь, множитесь», — для меня эти сло-
ва епископские есть только возврат к наивной и детской покорности воле
Божией. Не забудем, что ап. Павел, давший девственные идеалы христиан-
ству, оговорился в конце, что это он дает их от себя: «О девстве (говоря) я
не имею повеления Божия». Но общины христианские двинулись по этому
частному и человеческому указанию пламенного апостола, забыв или зак-
рыв глаза на то, что этим оне выступили против основного, главного и пер-
вого заповедания Божия, сказанного сейчас после сотворения человека, еще
в раю и в невинном состоянии человека. Монашество объявило «заповедь
Божию» вне Бога, т. е. оно объявило какой-то свой частный человеческий
институт «божественным»... И так это искажение прошло века, дошло до
нас и сморщило, исказило, перекроило «по-своему» весь план церкви, весь
дух ее, вплоть до этих наших дней, когда гордые епископы не принимают «в
совет с собою» вообще всех «женатых людей», никого из «семейных», ни
мирян, ни даже священников... Гордыня и злоба, выросшая из изначального
и гордого семени бракоборства, богоборства.
В наше время относительной свободы я имею право сказать это; в наше
время свободы религиозной совести я имею право сказать, что белому духо-
венству давно пора переместить поле споров с угнетающим его епископ-
ством, поднять речи не против монахов и их частных личных недостатков,
против способов их администрации, но против монашества как принципа
и идеи. Здесь они будут гораздо сильнее. Здесь за ними Бог, Божеское слово.
Все эти соображения я привожу для оправдания себя в том простом и
сердечном согласии, каким внутренно ответил на приведенные выше епис-
копские слова, о которых, позднее расспрашивая, я узнал, что это — обыч-
ный в мужских монастырях афоризм. «Зачем здесь нет женщины?» — ду-
мал я, оглядывая квартиру профессора. Но о. Михаил — он монах «по зову
Господню». Хотя он много писал и публично говорил о таинстве брака, го-
ворил с глубоким сочувствием к семейной жизни и пониманием ее, и от-
1 лицемерие (фр.).
248
нюдь без монашеских тенденций, но говорил он это со стороны, как «пас-
тырь добрый, полагающий душу за овцы». Сам лично он монах по психоло-
гии и, может быть, монах по физиологии: живой, как огонек в ночи, — он то
мигает, то тлеет, то ярко вспыхивает пламенем «церковным, святоотечес-
ким, вселенско-соборным», — без всяких перекраиваний церкви, выступая
— в лекциях и в печати — ревностнейшим апологетом «свято-отеческого
строя» церкви византийской. Исключение его из академии и высылка из
Петербурга есть потому недоразумение приблизительно такое же, как если
бы Кронштадт изгнал от себя о. Иоанна Кронштадтского.
ОСТОРОЖНЕЕ, ПОЛЯКИ!..
С истинным негодованием вся Россия прочтет вчерашнее известие о том,
как толпа католиков, около 1000 человек, в местечке Зельне Волковышского
уезда напала на возчиков, доставивших камень для постройки православно-
го храма, строящегося на месте недостроенного костела, и что затем между
напавшею толпою и стражниками произошла перестрелка, оставившая на
месте шесть трупов и семерых раненых. Не о таких событиях молились два
года назад в костеле св. Екатерины в Петербурге на торжественном благо-
дарственном молебствии по поводу Высочайшего указа, даровавшего наро-
дам России вероисповедную свободу; не таков был смысл молитв, читав-
шихся на этом молебствии; не о том говорили лица многочисленного като-
лического духовенства, съехавшегося на это торжество. И самый указ был,
конечно, дан вне предвидения таких и подобных событий.
Но тогда небо было ясно. Теперь оно начинает хмуриться. Тогда католи-
ки получали, — теперь они уже получили; и, как всякий собственник, хотят
распорядиться свободою по-католически, не по-русски. «Вы, русские, тер-
пимы: но это не обязывает нас к терпимости»; «вы дали нам свободу: но
свобода — это только развязывание рук, и мы развязанными руками хотим
поколотить вас».
Мелкое, нервное чувство, — даже нервозное. Тут ни великой веры, ни
сколько-нибудь сносной политики.
И в теперешнюю пору всяческих несчастий и смут Россия может, одна-
ко же, сказать Польше и полякам, что она представляет собою и историчес-
ки, и политически, и даже церковно несравненно более солидную величину,
нежели она и они; да, — и церковно: ибо в этом отношении Польша и поля-
ки всегда представляли собою только захудалую провинцию католического
мира, без малейшего «я» в себе, без всякого оттенка оригинальности, само-
стоятельности и силы; тогда как русская церковь все же была саморазвива-
ющейся величиною, — а, принимая во внимание отделившиеся от нее сек-
ты и сектантства, религиозная жизнь русского народа куда ярче, самобыт-
нее и глубже польского повторения римских азов и вечного на побегушках у
кардиналов, пап и им послушных бискупов. Итак, если поляки сознают и
249
насколько они сознают в себе славянскую кровь, славянское имя, славянс-
кое достоинство, — мы и без претензий на братство можем им просто ука-
зать пример великой и старой славянской земли, где, при всех ошибках в
этом отношении правительства, чиновничества, — не было никогда в самом
народе, в населении угнетать кого бы то ни было за веру, мешать проявлять-
ся какому бы то ни было и чьему бы то ни было религиозному чувству. По-
ляки не могут указать ни единого случая, чтобы русские толпою, народом
мешали когда-нибудь и где-нибудь воздвижению костела, построению кир-
ки. В столице нашей и костелы и кирки расположены на самых аристократи-
ческих, модных и видных улицах: на Невском пр., Морской, Конюшенной,
Кирочной ул. Последняя улица, очень аристократическая, даже и имя полу-
чила от стоящей на ней протестантской кирки, и это по собственному наше-
му почину, как если бы варшавяне собственною инициативою назвали хоть
одну у себя улицу Православною, или Русско-православною, или более час-
тным образом, по примеру наших любимых наименований: Рождественская
улица, Вознесенская улица. Но этого нет! Самой тенденции к этому народно
нет. И стоит связь России и Польши, поляков и русских официально, казен-
но. А между тем развязаться им, и окончательно развязаться, — об этом едва
ли думают и сами поляки; да едва ли сколько-нибудь умные из них этого и
желают; увы, «самостоятельность политическая» есть такая дорогостоящая
вещь, на которую едва ли у поляков есть средства. Да и «естественных гра-
ниц» в виде морского берега нет тоже. Вот разве развалятся Россия, Герма-
ния и Австрия? Конечно, папа все может, но его благопожелания в сторону
такого развала едва ли будут сильны. Так что «пока солнышко взойдет, роса
глаза выест»: это насчет «ойчизны» и простого спокойного пребывания в
пределах Русской Империи.
Жить как-нибудь надо, и жить — вместе, и жить — уважая друг друга.
Нервозные попытки помешать русским строить себе церковь не вызовут
грозного ответа себе, как и вообще никакого ответа, кроме как освещения в
печати этого случая, — потому именно, что тут сказалась такая презренная
черта быта, культуры, населенческого понимания, на которую русские ни-
как не могут ответить «тем же». До этого мы никогда не унизимся, и на
такую пошлость никогда не пойдет русский православный мужик. Он хоро-
шо чувствует святость каждой веры: ибо она относится к Богу, на каком бы
языке и каким бы способом ни выражалась. И не допустить на каком бы то
ни было языке и в каком бы то ни было храме молитвы — это значит оскор-
бить самого Бога прежде всего и уже потом это значит оскорбить нацию и
национальную веру. Политиканствующие ксендзы, религиозность которых,
по-видимому, измеряется вершками, не сумели внушить народу эту азбуку
душевного и нравственного углубления; помня только «веры» и «вероиспо-
ведания», они совершенно забыли о Том, к Кому они относятся, взирая веч-
но на своего «папу в Риме», они точно потеряли способность загибать голо-
ву кверху и еще видеть небо и в нем Бога. Итак, бискупам и ксендзам нужно
поучиться у русских крестьян, которые не только уважают все христианские
250
вероисповедания, и в том числе ихнее, католическое, — но даже с уважени-
ем относятся и к нехристианским верам. И благодаря этому они не возбуди-
ли против себя ни одной веры. Бывали в нашем Поволжье случаи, что когда
в двух ближних деревнях строились церковь и мечеть, то татары помогали
православным в их постройке, а православные помогали татарам в их пост-
ройке. Так как в то же время русский простолюдин не раз показал, что он
предпочтет лишиться жизни, нежели отречься от своего православия, то та-
ковая взаимность услуг никак не может быть перетолкована в смысле рав-
нодушия к своей вере или безразличия во всех верах: это есть просто след-
ствие своей религиозной глубины и утонченности и, в меру этой личной
развитости, постижение религиозных состояний и других народов.
Католики грубы и неразвиты — вот что нам хочется сказать менее по
адресу населения и более по адресу католической иерархии.
«Римская церковь...» Но она только стоит своим центром в пределах
Вечного города и не имеет его универсально-терпимых тенденций. «Желез-
ный Рим» на самом деле никогда не угнетал чужие народности, а в религи-
озном отношении этот языческий Рим, прежде чем штурмовать вражеский
город, молил местных богов его покинуть, этот город, и перейти к ним, в их
лагерь, страну и город. Была борьба, но религиозной обиды никому не было.
Религиозная обида вообще началась с католичества, и это есть такой черный
крест на бытии его, который вызвал взрыв всех народов против него. Нако-
нец, мы не можем не обратить своего слова к польским писателям. Подобно
тому как русская художественная литература сыграла очень большую роль в
деле укрепления в русском сознании начал терпимости и свободы, начал
уважения ко всякой вере, что есть только уважение во всякой душе челове-
ческой, — так точно эту же благородную роль могла бы взять на себя и
польская словесность. А то они все проповедуют «отмстительные чувства»,
— ис этим узкопровинциальным багажом Польша никак не выступит на
всемирный путь. Навсегда она останется захудалым уездом Рима, «лесис-
тою Литвою» и «Привислинским краем», чем-то местным, исторически-
провалившимся, патологическим, нервозным. Так нервничает игрок, проиг-
рав большой куш: но ведь зачем же было и ставить «последний кунтуш» на
карту?
Польша в периоде возможного возрождения. Мы говорим добрые слова
ей, памятуя славянскую ее кровь. Всякая выходка римского фанатизма есть
не возрождение, не показатель силы и свежести в нации, а показатель, до
чего археологична эта старая руина, «ничему не научившаяся и ничего не
позабывшая» со времен Владиславов, Сигизмундов и проч., царствовавших
не на радость себе и другим!
К новому, к новому, Польша! Все, что старо в тебе, — только гибельно
для тебя!
251
СЕМЬЯ И ЦЕРКОВЬ
Читатель, которого не для одной реторики называют «благосклонным», мо-
жет быть, не забыл последней моей статьи, где я, рассуждая о заявленной на
предсоборном присутствии тенденции к «автономности» духовного суда от
вмешательства и участия светских людей, мирян, — высказал пожелание,
надежду и требование, чтобы в ответ на это миряне, в лице государства,
общества и печати, в свою очередь провели «автономию» семьи от церкви,
иначе говоря, — ввели так называемый «гражданский брак»... Suum cuique1...
«Вы не хотите и не допускаете участия нас, семейных христиан, в вашем
суде: тогда ту долю судимых вами наших дел, именно семейство, — мы изъем-
лем из вашего суда, администрации и вообще ведения».
Suum cuique... Справедливо, коротко и просто.
Нет сомнения, что в течение ближайших 3 — 5 лет в России будет введен
гражданский брак, как он введен уже во всех не только западных, католичес-
ких и протестантских странах, но также и во всех православных странах
Востока, в Греции, Румынии, Сербии и Болгарии, за исключением одной
России. Добавлю, что гражданский брак есть древняя, первоначальная фор-
ма христианской семьи: до половины IV века она существовала у христиан
(в Византии и Италии) исключительно, потом от IV до X века к церковному
венчанию прибегали по желанию верующих, без всякого принуждения к
этому церкви или государства (буквально как теперь везде вне России), и
только в X веке государство (отнюдь не церковь) потребовало законодатель-
ными распоряжениями византийских императоров Алексея Комнина и Льва
VI Философа, чтобы миряне-верующие не смели вступать в брак без цер-
ковного благословения. На Западе безусловное требование венчания было
введено только Тридентским собором, т. е. сравнительно совершенно недав-
но. Итак, христианство все эти века цвело, благоухало, развивалось, люди
верили, молились, ни малейше не подозревая, чтобы этому сколько-нибудь
мешал институт гражданского брака, что молодые люди вступают в брак,
любят, рождают детей, не спрашиваясь у священника. Священник имеет
слишком много забот и без этого. И без «позволения», испрошенного у него,
он может остаться, и оставался, и останется другом семейных людей, семьи,
отцов, матерей, детей; другом, воспитателем, наставником. Отчего нет? Что
за единственная форма отношения и связи — эта ленная, феодальная зави-
симость? Люди жили и без нее, до нее. При Николае Чудотворце люди вен-
чались гражданским браком; венчалась его паства, его овцы. Т. е. они не
венчались в церкви, вступая в брак. Святитель не протестовал, не находил
этого безбожным или безнравственным. Отчего же мы, среди которых уже
нет таких чудотворцев, мы, которые умеем только молиться на иконы, будто
бы «оскорбим Бога и церковь», восстановив этот древний, древнейший спо-
соб христианской семьи, христианской семейной жизни?
1 Каждому свое (лат.).
252
Конечно, ничего подобного нет! Тенденция к этому отнюдь не антире-
лигиозна, не антицерковна. Это просто вопрос удобства и пользы. Для брака
и для семьи так полезнее, удобнее. Но слишком легко догадаться, что так
«удобнее, полезнее» и для самой церкви, которая сейчас избавится от самых
горьких упреков в отношении себя и которая никакой славы себе не стяжала
через знаменитые «брачные истории», эти «разводы», «расторжения бра-
ков», «оклики», «обыски» ит. п., ит. п., что так уже некрасиво в имени
(«предбрачный обыск») и было совершенно безобразно в действительнос-
ти... Деньги, сутяжничество, подкупы, взятки, лжесвидетельства... лучше не
вспоминать!! Лучше не вспоминать этих черных, грязных страниц «истории
христианства», «истории церкви», «истории духовного суда». Вот уже нуж-
но произнести надмогильное «да будет ему земля легка»!
Но нужно пожелать, чтобы этот процесс взаимной автономии семьи и
церкви, т. е. их дружелюбной связанности, но их юридической развязаннос-
ти, протек мирно, безболезненно, без ломки и кому-нибудь вреда. Вот поче-
му около этого факта, который надвигается или надвинется, нужно убрать
все суеверия, предрассудки и вдуматься глубже в его, так сказать, теорию,
зерно и сущность.
Всего через несколько дней по напечатании моей статьи, где, — кажет-
ся, впервые в нашей печати этих двух лет, — был предложен гражданский
брак, я получил из Франции письмо с рядом возражений и недоумений, ко-
торые имею основание считать очень общими и распространенными. Итак,
я принимаю, что слышу себе это безмолвное возражение, как бы несущееся
из толпы и которое приняла на себя труд формулировать наша далекая со-
отечественница:
«Прочла я вашу статью касательно введения гражданского брака, — про-
чла и задумалась; и возникли у меня некоторые вопросы, которые глубоко вол-
нуют меня и которых никто не может разрешить, кроме вас, — так как вы и
возбудили их. Поэтому прошу вас не пожалеть времени и ответить мне на эти
вопросы. Меня волнует следующее:
1) Каким образом брак может быть чужд церкви, когда это таинство уста-
новлено Самим Спасителем, Главою Церкви; мало того что установлено; но слова
Спасителя указывают на важность и неразрывность брака. Слова эти следую-
щие: «Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут
оба в плоть едину. Яко же ктому несть два, но плоть едина: еже убо Бог сочета
— человек да не разлучает» (Евангелие от Матфея, глава XIX, стихи 5—6). Зна-
чит, брак имеет связь с церковью, если Спаситель говорит о нем. Ведь не о граж-
данском браке говорил Христос, потому что гражданский брак может быть рас-
торгнут в любой момент. Это — первый вопрос.
2) Разве настоящая христианская семья не должна иметь связь с церковью?
Разве все заботы матери должны уйти в кухню и пеленки? Разве отец должен
заниматься только трудом и песней? Разве молитва должна быть изгнана из хри-
стианской семьи? Так ли это или нет? Если так, то, может быть, мы уже не
христиане? Тогда зачем вообще нам церковь и религия? Не лучше ли совсем
упразднить их, изгнать их от нас и не вспоминать их? Вот вопросы, возбужден-
ные вашей статьей. Еще раз убедительно прошу вас, ответьте мне на них».
253
Каждый видит, до чего это серьезно; до чего это прекрасно в мотиве, в
грустном тоне. Я же говорю, что вопрос этот имеет свое зерно и метафизи-
ку, которых отнюдь не видели люди 60-х годов, тоже требовавшие шумно
«гражданского брака». Скажу сразу и целостно свой ответ корреспондентке
и очень многим читателям, которые следят за моею мыслью в печати и, в
частности, следят за моими статьями, касающимися, вот уже много лет, се-
мьи. Гражданский брак, по всему вероятию, будет проведен в России, так
сказать, силою общего демократического и обновительного движения, —
конечно, имеющего свой первый импульс еще в мысли и характере мысли
60-х годов. Мы, можно сказать, проедем лодочкою за тем большим кораб-
лем. Корабль этот имеет силу, ход. Он действует, как ледорез «Ермак», про-
бивая льды особенностями своих машин и хода. Но люди, сидящие на этом
корабле, при всех качествах силы, стойкости и упорства... слишком уж не
философы и не поэты! Гражданский брак мы возьмем через их руки, но от-
нюдь не с их намерениями, и даже с антипатиею к их намерениям. Семья —
это вечная религия, вечная святыня! Семья как только животная связь или
социальная, как «детоводство» и «основная государственная ячейка», со-
вершенно чужда внутреннему нашему воззрению. Но нужно проплыть хоть
в лодочке за тем большим кораблем: для семьи, безусловно, нужно добиться
лучших условий существования, лучшего положения, высшего признания и
санкции. Семья сейчас — это пациент, которого церковь отказывается ле-
чить, находя, что «все благополучно», и с которою совершенно бесполезно
о чем-нибудь договариваться, спорить, полемизировать, просить, умолять,
плакать, потому что она на всякую нужду, горе, слезы, муку и негодование
отвечает и уже исторически приучилась отвечать... текстами. У вас горло
болит, а она вам — текст: «не пецытеся убо на утре»... У детей дифтерит,
надо звать доктора, а она вам: «не ищите земного врача, а ищите небесного»,
«не тем спасаемся, что в уста входит (лекарство), а что из уст выходит». И
прочее. Везде — тексты, нигде — жизни. Это уже тысячу лет. Этого переме-
нить нельзя, перемен этому не будет. Что же делать в нужде, в горе? Что
делать сейчас, когда спасать надо? Оторваться, отделиться от этой «тек-
стоискательницы»... Тут не наша вина, не наше безбожие. Просто — силь-
ное, природное: «жить хочу!».
Итак, нужно оторвать от «текстов» и «тексто-приводителей» семью,
просто чтобы получить возможность и свободу впервые широко раскрыть
на нее зрячие глаза, чтобы поднести болящему микстуру и где надо хирур-
гический нож. Вот и все. Вот к чему и ведет «гражданский брак». Но затем
в нем, внутри семьи, автономировавшейся и свободной, может зародиться...
что зародится, но во всяком случае свое и самобытное. Одни потянут к ста-
рому «государственной ячейки» и просто «животной связи»: сюда мои сим-
патии вовсе не идут. Я думаю, в конце концов одолеет взгляд более глубокий
и содержательный: семья — сама святыня, само-светящаяся, само-религи-
озная. И из этого чувства, которого, кажется, вообще не чуждается русский
народ, и оно же, собственно, говорит и в письме моей корреспондентки,
254
разовьются новые религиозные чувства, новые религиозные мысли, я ду-
маю — новые лучшие молитвы. Я приведу пример, как у отца, потерявшего
детей, сказалась своя молитва, — до чего превосходящая смыслом и тоном
те «утренние» и «вечерние» и «перед учением», и «после учения», и «перед
обедом», и «после обеда» молитвы, каким единственно выучили семью ба-
тюшки и церковь:
Бывало, в глубокий полуночный час,
Малютки — приду любоваться на вас,
Бывало, люблю вас крестом знаменать,
Молиться, да будет на вас благодать
Любовь Вседержителя-Бога,
Стеречь умиленно ваш детский покой,
Подумать о том, как вы чисты душой,
Надеяться долгих и счастливых дней
Для вас, беззаботных и милых детей,
Как сладко, как радостно было!
Теперь прихожу я: везде темнота,
Нет в комнате жизни, кроватка пуста,
В лампадке погас пред иконою свет...
Мне грустно: малюток моих уже нет.
И сердце так больно сожмется.
(Хомяков)
Так вот как: ну, то ли это, что «окропиши мя иссопом и очищуся» и т. п.
премудрость по части «непщеваху», какою с 8-летнего возраста, «долбя сло-
ва и не понимая смысла», пичкаются наши несчастные дети, давясь этими
словами и ничего в них и к ним не чувствуя, ни «перед учением», ни «перед
обедом», ни «отходя ко сну». Казенная славянщина, «под титлами»... С се-
мьею войдет молитва частная, не общая, «моя» и «нашего дома»: польются
особые в каждом случае слова, ибо в семье нет «казенного» и она своя у
каждого и новая на всякий день. Нуте-ка припомните молитву для «начина-
ющих ссориться»? Чтобы Бог пролил мир в сердца их и дал силу прощения?
Не найдете, нет, — иерархическая церковь или монашеское (начальствен-
ное) духовенство об этом не подумало, ибо семьи у него, у всего духовного
начальства, — нет и такие молитвы ему просто на ум не приходят. А надо
бы. Ну, а молитва на утешение ревности, на укрощение ревнивца? Нет же!
Ничего нет! Для семьи вообще, кроме одного венчания, которое являет соб-
ственно духовную форму или, пожалуй, семинарскую форму гражданского
же брака: «разрешил», «позволил», — ничего решительно нет, никакой по-
эзии, звуков, живописи, музыки, ритуалов, ничего! Нуте-ка поищите «мо-
литву в утешение матери, потерявшей (умер) дитя»? Казалось бы, у всех
везде это, во всяком дому бывает? Можно бы придумать за тысячу-то лет
византийско-русской молитвенности: но нет этого! А вот «гражданская»
молитва об анафемствовании неверующих или плохо верующих, а паче «не
повинующихся властям», начиная с Гришки Отрепьева и кончая Мазепою,
255
__есть. И все в церкви: 1) или аскетически-пещерное, как бы из киевских
св. пещер, 2) или государственно-гражданское, так сказать, по типу «Алек-
сандра Невского», официальное, заботливое. Но этой интимности и тепло-
ты, какая проистекает из семьи и семейности или смешивается с семейным,
в церкви вовсе нет и никогда не было. Так семью ли винить, что она «пробу-
ет отделиться». Не приняли — вот и отделяется... Suum cuique...
В ТЕМНОМ И НЕСЧАСТНОМ СОСЛОВИИ
(К «делу» свящ. Г. С. Петрова)
Темная судьба все толкает и толкает наше «В. П. И.», т. е. «ведомство право-
славного исповедания», заменившее собою «Христову Невесту», «Церковь»,
к шагам более и более неверным и, наконец, смешным. Теперь уже что ни
решение, то смех, что ни шаг вперед, то провал... Только что, в необозримой
«кротости» своей, Синод издал циркулярное распоряжение, приказывающее
архиереям строжайше следить, дабы духовные лица не смели поступать на
медицинские и естественные факультеты университетов, так как при опера-
циях и опытах проливается кровь человеческая и животных... Это рядом с
защитою в Государственном Совете смертной казни епископом Антонием
волынским, который был там от лица Синода.
* * *
Шаг за шагом «В. П. И.» впадает в смешное... Только что вот я говорил об
архимандрите Михаиле, спешно высланном из Петербурга, как приходится
говорить о священнике Григории Петрове, который приговорен к такой же
временной высылке. Было два языка в Петербурге у духовенства, — и оно
оба прикусило.
В самом деле, и свящ. Гр. Спир. Петров, и о. Михаил, — оба непрестан-
но говорили — и притом непрестанно они одно говорили — в Петербурге и
на всю Россию. Все их слышали, знали. Их двоих из духовенства в после-
дние годы и читали. Они покачнули на сторону прежний схоластический,
отвлеченный, ни к какому времени и месту не относившийся стиль духовно-
го ораторствования, сей «семинарский звон», в котором слышалось:
— Нам все равно...
— Нам все равно...
— Нам все равно...
Автор книг: «Евангелие как основа жизни», «По стопам Христа», «К
свету», «Зерна добра», «Долой пьянство», «Божьи работники», «Христос
воскресе!», «Школа и жизнь», «Города и люди», часть которых, при всем их
глубоко русском, глубоко народном характере, переведена католиками и по-
ляками на язык своей веры и своей нации, — наказуется петербургскою епар-
хиальною властью и высылается из Петербурга на клиросное послушание в
256
один из монастырей... Ныне трезвый будет слушать пьяного, разумный —
глупого и ученый — неуча, дабы научиться, исправиться и довоспитаться...
Что-то до того глупое, чего, как говорят бабы по деревням, «ни в сказке
сказать, ни пером описать»...
Духовное ведомство в этом наказании свящ. Петрова собственно вос-
прияло наказание себе за свою давнишнюю вину перед ним... Я могу пере-
дать читателям то, что твердо знаю: на этот раз, в этот год и по этому поводу
или без «этого повода» и вообще «без всяких поводов» свящ. Петров судил-
ся и приговорен к наказанию вовсе не по инициативе духовного ведомства.
«Со скорбью» мне поведал, месяца три тому назад, один иерарх, хотя лично
и очень не любящий свящ. Петрова и не скрывающий этой нелюбви к нему,
что против моего знакомца и доброго друга священника Григория Петрова
начато в духовном ведомстве дело.
— Нам это было очень неприятно. На нем никаких вин нет, т. е. нет вин,
в которых компетентна церковь и которые она обязана предупреждать или
наказывать. Поведения он безукоризненного, трезв, деятелен, бескорыстен,
к своему делу, пока священствовал и законоучительствовал, был крайне рев-
ностен и исполнителен. Он как золото горел на виду у всех. Но не станем же
мы за это его судить, хотя бы это и возбуждало много зависти и алчности.
Остаются мнения его. Но догматическими вопросами он никогда не зани-
мался и уже по этому одному никак не мог впасть в ересь или высказать что-
либо неправомысленное в области вероучения. С этой стороны, по самым
томам своих проповедей, речей, книг и статей, он совершенно неуловим для
духовно-цензурной критики или духовного суда. Остается нравственность,
которою единственно он и занимался: он ни на йоту не отступал от хрис-
тианской нравственности, а даже был за последние годы самым даровитым
и единственно успешным ее проповедником.
Я слушал с недоумением. Он пожал плечами.
— Что делать?.. Мы вынуждены были судить дело, явно не подлежащее
никакому суду. Мне лично его стиль как проповедника и как писателя не
нравится. Это что-то протестантское, не по догматам, коими он не занима-
ется, а по духу: то же самое преклонение перед Евангелием и евангелизмом,
перед изречениями Христа и требование трезвой, честной и трудолюбивой
жизни... Это слишком мало и просто для православного или, пожалуй, слиш-
ком трудно для православного. Как будет жить трезво народ, пьющий тыся-
чу лет и в жилах которого уже наследственно играет алкоголь и требует «до-
бавочек»?.. Неисполнимо и тяжко. Итак, вместо этой рассудительной и
простой задачи православие погрузилось в переплетание Евангелия и всех
слов Христовых в нити золотой ткани, в паутину святоотеческих слов, вдох-
новенных, длинных, прекрасных, стильных... Теперь уже не Христос, а Иоанн
Златоуст, не Галилеи ученики-рыбари, а св. Василий Великий и его десять
томов «Творений», переведенных Московской духовной академией. Мне эта
работа нравится. Я мастер, и мы все вообще, духовные, — мастеровые. Чи-
тать Евангелие и, особенно, исполнять трудно. Мы вместо этого переплета-
9 В. В. Розанов
257
ем Евангелие, неторопливо, стильно, без страдания, кладя паутинку за пау-
тинкою на слова Христа, чеканим их, полируем, услащаем, так что они уже
суть золотые идолы, но крови-то в них нет. И не надо. Я — ученый, читаю
по-гречески и по-еврейски. Что же меня священник Петров, — к тому же
наш подчиненный, — зовет на площадь, к рабочим, к болящим детям их и
пьяным женам?.. Я не по тому одному не пойду, что многим и мне все это
неприлично, но потому, что я человек со вкусом, и мне все это гадко. Проме-
няю ли я все эти волюмы, ученые справки, древние тексты, новые переводы
на... вопросы кабака, заработной платы и неприличных болезней? Вот поче-
му его зов для меня противен и всей церкви он вообще глубоко мешает,
нарушая ее тихую и чистую работу переплетания слов Христовых в золотой
переплет... Это что-то действительное. Петров зовет нас к действительно-
му... и это глубочайший лом для православия, сущность коего, по заветам
всех учителей и отцов церкви, есть убегание от действительности, удале-
ние от мира, мирского, человеческого, народного. Не променяю же я Иоан-
на Дамаскина на Петрова. Пустынники Феодосий и Антоний Печерские,
Сергий Радонежский ушли из Киева и Москвы в пещеру и лес... Вот путь
тысячелетний... Теперь Петров нас зовет из пещер и леса войти обратно в
Киев, Москву, в города, в села. Положим, теперь мы не в пещерах и лесах
живем: утираемся салфеткой и ходим по ковру... Не в этом дело, а в том, что
и дворцы наши суть все же кельи, и суть их в одиночестве, молчании, удале-
нии от мира, безлюдности и безнародности. Я это люблю: скучно, но благо-
родно... Петров меняет стиль церкви, как бы снимая с нее золотые маковки и
ставя на место их фабричные трубы. Вы — его друг, но я его искренно за это
ненавижу. Однако, как человек не без ума, образования и не без юридичес-
кого вкуса, я хорошо понимаю, что я должен остаться при своем негодова-
нии, не имея повода вчинять какой-либо иск в суде.
— И притом в таком суде, как ваш, духовный: без прокурора, без защит-
ника, без свидетелей и даже без присутствия подсудимого, который мог бы
сказать свое слово в защиту себя...
— Да, да! Мы все это... по благодати.
Он улыбнулся.
— И вот, видите ли, переплетание слов Христовых в золотое кружево,
— разве они не блистают сами по себе?! Это переплетание рядышком с ал-
коголизмом и всенародным обманом в купле, продаже, в работе, конечно,
отвечает вашему покою и наукообразности, но священник Петров, не изме-
няя Христу и церкви, мог негодующе разойтись с вами именно в вкусовом
определении всего этого: сказать «гадость» про то, про что вы говорите «пре-
лесть». Киевские пещеры и московские леса, конечно, еще не исчерпывают
всемирной истории. В леса из городов бежали тысячу лет, — можно поворо-
тить дело и начать, действительно, выходить в города из «прекрасной пус-
тыни», о которой пели наши раскольники. Ведь в леса-то бежали для чего-
нибудь? Бегали для совершенства, уединения и очищения. И Христос перед
подвигом был в пустыне. Но если бы Христос так и остался в пустыне, ни-
258
когда из нее не вышел, — христианство и не началось бы. Ничего бы не
было и ничего бы не вышло. И христианство или «церковь» останутся втуне
и не принесут никакого плода, если церковь будет все звать «в пустыню»,
или «в келью», или, как вы и сами сознаетесь, в загородные дворцы. И если
церковь подобится Христу и хочет идти по Его пути, то, очевидно, за тыся-
челетием удаления от мира для нее наступит и уже наступило время повер-
нуть на обратный путь или, точнее, на вторую половину пути: выхода к миру,
в мир, к народам. Священник Петров это и делает, может быть безотчетно
повинуясь великим, мировым движениям истории, а вы со своим греческим
и еврейским языком...
— Археология?.. Знаю, знаю! — Он улыбнулся и прибавил: — Но и
власть. Священника Петрова все же мы судим, а не он — нас. Возвращаясь к
делу, скажу вам, что цензурному комитету было поручено рассмотреть все
его сочинения, и, конечно, никаких вин он в них не нашел. Совершенно глу-
пые писаки в духовных журналах годы травили его за то, что он не занима-
ется «и догматами». Занятия догматами, их историей или конструкцией —
такая тихая область академической жизни, что несчастен всякий профессор,
который ею не занимается. Квартира, отопление, освещение и догматы. Но
винить, как требовали писаки, Петрова за «нетрактование догматов» так же
нелепо, как винить Филарета за то, что он не оставил курса нравственного
богословия, или Победоносцева за то, что он писал прозою, тогда как Иоанн
Дамаскин писал «стихиры», стихи... Вообще многолетняя злоба на Петрова
принесла теперь свой горький плод: нас заставили юридически подписать
бумагу, с юридическим обвинением, после того как мы годы действительно
шумели против человека и всячески его поносили, но поносили, так сказать,
по эстетическим мотивам или, скорее, по бытовым, сословным и вообще
житейским и домашним. Сословие ело своего человека, выдавшегося над
ним головой.
ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА
НА НРАВЫ
Не все замечают глубокую связь, в которой народные и общественные нра-
вы находятся с формою заключения брака, вступления в семью. Причем не
нравы влияют на эту форму, а форма могущественно определяет собою нравы.
В древности, чем легче была форма вступления в семью, тем полновес-
нее, зернистее становилось содержание ее. Девушке, выйдя замуж, предсто-
яло заслужить любовь и уважение мужа, и мужу тоже предстояло внушить
к себе любовь и расположить к верности. Счастье зарабатывалось', брак
«работался» всю жизнь, работалась его солидность, теплота, поэзия, весь
смысл. Теперь ничего этого нет, и нет именно от того поглощающего значе-
ния, какое церковью и государством придано венчанию; «обвенчались»,
вспорхнули и разлетелись. Зачем работать? Все уже «есть». Особенно для
9
259
женщины. «Заработать» надо жениха и довести его до венчания: вот это
трудно, и на это положены все усилия. Как ни странно, что кокетство, флирт,
очарование невест и безобразие жен обязаны происхождением своим церк-
ви, и ей единственно, но это именно так: просто таково положение вещей,
таково расположение частей брака, важных и неважных в нем моментов, что
всё и все невольно толкнулись к беспутству. Молодые люди бегут от безоб-
разного брака, в котором жены могут их разорять, позорить, не повиновать-
ся им и прямо на все плюнуть и бежать на все четыре стороны. Так восста-
новленный брак — явно петля. «Разбежались» женихи — тягостно невес-
там. Все назначение жизни, вся организация женщины, поистине чудесная,
говорит, указывает, зовет к семье. Что же делать при этих разбежавшихся
женихах (и основательно разбежавшихся)? Целомудреннейшие начинают
прибегать к средствам, которые подсказывают и мамаши. Ведь не врожден-
но же все развратны, но все толкнуты обстоятельствами, положением ве-
щей, «организмом брака» к развращающим, лукавым поступкам. Нужно
«сыскать жениха» и довести его до венчания; нужно усыпить его (естествен-
ный и правый) испуг, нужно очаровать его, затуманить, привлечь, соблаз-
нить. Тут пускается все, о чем поет «Крейцерова соната»: джурсейки, обна-
женные плечи и более того — притворная скромность и все обещания доб-
родетелей. Духовного обмана здесь еще более, чем физического, и он хуже и
опаснее. Только Толстой ошибся адресом: все это относится не к плоти че-
ловеческой и не к существу брака, а к обстоятельствам, в которые он постав-
лен. И вот «молодой» доведен до него и стал на опасный шелковый коврик
перед священником. Как это совершилось — все кончено для девушки в
смысле усилий, идеала и обещаний; на завтра перед мужем, вместо вчераш-
него «ангела», стоит сварливая, властная, заносчивая, жадная «баба», на ко-
торую он будет всю жизнь работать, хотя бы она всю жизнь только и делала,
что мучила и издевалась над ним. Я говорю не о действительности, которая
гораздо лучше закона, а о законе, который толкает действительность и именно
и только к этому. Есть, однако, множество женщин, которые, при жизни бро-
сив мужей, по смерти их являются за их пенсией. И ничего. Общество него-
дует, но закон совершенно серьезно выдает им пенсию за беспутство, злобу
и омерзительное поведение в течение целой жизни. Один пожилой генерал,
женившийся полубольным (от контузий), рассказывал мне прямо с ужасом
о женщине молодой и властолюбивой, очень образованной и из блестящего
круга, которая, обвенчав его с собою, немедленно же бросила, даже не поте-
ряв девства, и вот лет семь жадно выжидает его смерти и крупной пенсии
(три тысячи в год). Хорошо положение отечества, вычитающего из народ-
ных грошей на содержание таких «особ»; тогда как, конечно, достаточно
самого азбучного законоположения, чтобы предупредить и уничтожить этот
разврат, безобразие и хищничество. Но законоположения не делается про-
сто из уважения к венчанию! Как же — «обвенчалась», «жена». Не впадая в
утомительные подробности, я укажу читателям только на ту общую истину
или зрелище, что 1) все мужчины ищут женщин и любви их даже «за свои
260
средства» и 2) все мужчины уклоняются от брака, даже «с их приданым»,
чтобы подвести тот итог, что 3) замужество всех девушек в стране было бы
абсолютно обеспечено, если бы не вмешалось сюда венчание с его осложне-
ниями и, следовательно, 4) что именно оно отняло у огромного контингента
девушек в стране их женихов, «судьбу», — детей, семью, отняло их нор-
мальное и естественное. И далее, что если бы венчания не было и «зараба-
тывать» мужа приходилось поведением в браке, а не до брака, то естествен-
но, что очарование невест перелилось бы в брак, в 20—30 лет последующей
жизни, изменив лишь колорит и преобразовавшись из обольстительности в
привлекательность. Вместо кокетства, вертлявости, заманивания развилась
бы теплота и поэзия каждого дня, всех дней: требуемые качества, которые
бы более и более укрепляли за женою мужа. Это было бы сперва только
усилием (как у невест), но необходимость повторения их и, наконец, вечная
нужда в них превратила бы их в самую натуру, соделав действительно вер-
ных, теплых и поэтических жен! Вот как много обещает «легкая вуаль» при
вступлении в брак: она обещает доброе зерно, повсеместную семью, всеобщ-
ность ее как нормального состояния, — и вместе семью солидную в тече-
нии своем, устойчивую по качествам ее, по нравам, невольно в ней выраба-
тывающимся...
Теперь мы имеем внешнюю нелюбимую норму, и никакого ей повино-
вения. Тогда явится всеобщее внутреннее усилие к идеалу, создастся — в
обычаях, в духе страны — как бы внутренняя, непрестанно действующая
норма. От этого-то при гражданском браке семьи и сложились всюду, в древ-
ности и теперь, теплее и поэтичнее, нежели у нас, у христиан; тогда как за
исключением семьи мы гениальнее всех прочих народов в науке, в филосо-
фии, в поэзии, искусстве, государственности. Явно, что не плоть и нравы у
нас худы, не человек сам по себе: но все это поставлено в худые условия и
получило кривой рост.
Улицы у нас шумны; дома холодны. «Цепей» гименея (почему «цепей»,
а не цветов?) все избегают: кто же вообще ищет «цепей»? Никто себе не
враг! Семья тает в стране, и с каждым годом вступающих в брак становится
меньше и меньше. Конечно, закон слишком бессилен переделать это, и он
может переделать только условия семьи. Ему предстоит починить или пост-
роить заново и по новому плану дверь семьи: пусть она будет не узкой ще-
лью, не капканом, не «петлей» (так и называют мужчины теперешний за-
конный брак), а совершенно своеобразною связью, которой в каждом еди-
ничном случае предоставлено укрепляться и вообще вырастать в своих ка-
чествах собственными усилиями и будущим течением. Пусть работают в
каждом доме, в каждой семье, не надеясь с одной, как и с другой стороны,
что кто-нибудь поможет, — судья, консистория, чиновник. Тогда перед за-
мужеством скорей покажут худые стороны, чтобы вовремя отбить ненасто-
ящего жениха и не обмануться. Девушки будут «так себе», но жены —
прелестницы. Так ведь это и было в Риме, в Греции, в библейские времена,
где был только гражданский брак.
261
РУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
И ОБЩЕСТВО
Близятся дни, и вот-вот вторично сойдутся лицом к лицу русская государ-
ственность и русское общество. Мы разумеем открытие второй Государствен-
ной Думы. Увы, первая Дума не пошла по государственному пути, не выра-
зила в себе государственного духа. Как в чаду, она кинулась на русскую го-
сударственность, рвала и позорила ее, представляя собою не людей русской
земли, а... читателей русских журналов! Не считая мужичков из подпевал,
которые вторили «господам» в английских пиджаках, вся эта сюртучная и
пиджачная часть первого русского парламента выражала не нужду русскую
и не горе русское и хоть бы какое-нибудь русское достоинство, а просто это
были читатели русских журналов. И в строгом соответствии с пропорцио-
нальным успехом нашей либеральной, радикальной и консервативной жур-
налистики уже за много лет, — преобладали читатели «Русского Богатства»,
«Русской Мысли», былого «Дела» и «Отечественных Записок», препирав-
шиеся с более солидными читателями «Вестника Европы». «Русский» же
«Вестник» и «Гражданин» кн. Мещерского не имели как читателей, так и
представителей в Думе.
Коренного русского человека не оказалось в Думе... Как все это грустно!
Эти читатели внесли в Думу весь тот жар «внутренних обозрений» на-
званных журналов, какой за цензурными условиями своего времени был
урезан. Бесцензурная литература — вот и все богатство, весь блеск Думы.
Все ее слова, речи — это в свое время брошенные в корзину или зачеркну-
тые красным карандашом цензора страницы журналов и столбцы газет, ко-
торые, взволновав редакцию, не взволновали читателей... Ни тени ориги-
нальности против русской журналистики Дума не выразила; никакого свое-
го слова, нового, от земли идущего. Русский народ промолчал в Думе и за
время Думы. Мы не считаем подголосков, которые какофонили для счету и
где не было ни русского остроумия, ни русской глубины.
Это русское общество, и только общество накинулось на русскую госу-
дарственность, получившую удар на Востоке. «Свои» обрадовались своему
горю. Все было забыто. Кричали «внутренние обозрения» и «передовицы»,
вдруг получившие свободу трепать имена министров и выгонять вон из зала
ближайших помощников министров. Забудем эти немногие темные груст-
ные дни... Люди русские забыли, что государственность русская не одно и
то же с Куропаткиным, Алексеевым, с Авеланом и еще с двумя-тремя десят-
ками людей случая, минуты и фавора. Люди русские не вспомнили безруких
и безногих солдат, которые после перевязки рвались вторично в бой, дорва-
лись и умерли. Люди русские размазывали всеми красками сдачу «Бедово-
го», деяния Небогатова и проч, и едва упоминали кратким словом офице-
ров-командиров, сходивших в каюту после спуска шлюпок с матросами,
чтобы вместе с командуемым судном выпить чашу смерти. Да мало ли было
героизма. Но читатели русских журналов помнили только соль и уксус внут-
262
ренних обозрений своих журналов и, придя в Думу, не обмолвились ни сло-
вом благодарности или воспоминания в сторону добрых частиц русской ис-
тории, русского государства, которые были и остаются, и с мелочностью
каких-то столоначальников без мундира требовали утопить в Японском море
Авелана и Алексеева за то, что у них так много орденов.
Недостойно. Мелочно. Неумно.
Точно каждый пришел со своей улицы, забыв, что в Думу он обязан при-
нести частицу русского сознания, т. е. сознания почти огромнейшего в мире
народа и почти длиннейшей в европейской истории государственности. Если
принять во внимание, что теперешняя Франция не имеет ничего общего с
Франциею Капетингов, что Англия пережила несколько внешних завоева-
ний и несколько революций, проходивших истребительно по всему прошло-
му, что Гогенцоллерны и Пруссия совершенно недавни, что Габсбурги при-
надлежат новым векам и что революция съела почти все внутреннее в этом
габсбургском содержании, то мы увидим, что Россия, единая в Москве и в
Петербурге, с теми же задачами, рвениями, молитвами, осторожностью, яв-
ляется в европейской истории едва ли не самою почтенною величиною, ко-
торую облили чернилами, но нимало не расшатали и не потрясли в сущнос-
ти совершенно ничтожные события русско-японской войны. С 90-х годов
прошлого века наше общество и печать восприняли в себя декадентскую
струю, и удар вытянулся по спине декадента, который закричал на два полу-
шария. Вот и все. Поколение вот этих полутора десятка лет какое-то болез-
ненное, рыхлое, преувеличенно впечатлительное; вырос картофель, а не хлеб.
Это картофельно-крахмальное поколение рассыпается в руках при всяком
деле. Воображать, что оно очень много значит в судьбах России и что-то
призвано решить, и бесповоротно решить, — значит воображать что-то не
отвечающее слабой действительности.
В тех верхах, которым было сказано слишком много упреков, никогда не
было характерной наполеоновской наглости, — обоих Наполеонов, первого
и третьего. Русский Престол почувствовал великую неловкость за все, что
произошло в России в эти печальнейшие два года; и этою трогательнейшею
и человечнейшею минутою застенчивости, горя и слабости воспользовались
наглецы и проходимцы чисто бонапартовской складки, чтобы надавать по-
щечин направо и налево и закричать чуть не всей России: «Руки вверх»...
Люди бронзовой совести начали давать тумаки всему, что старо и устало,
гоня все вон, чтобы очистить место своему молодому бесстыдству. И поду-
мать только, что эти архаровцы, получи они штатные назначения, дали бы
что-нибудь лучшее Авеланов и Куропаткиных.
Во всяком случае это не испытано. А русская государственность, — ко-
торую нужно чинить долго и радикально, — дала, однако, ряды такой стой-
кости и дисциплины, самопожертвования и героизма, которые и основали
организм самой большой политической величины в мире. Наш народ нищ,
но не развращен; это не пролетариат Рима, кричащий «хлеба и зрелищ».
Наш народ требует в горе не зрелищ, а молитвы: даже тот, кто скажет, что
263
тут суеверность, не отвергнет, однако, что тут нет ни римского, ни париж-
ского цинизма, а есть задатки и обещания чего-то лучшего. Наш народ только
не учили и не кормили или, точнее, его преступно оставили темным и по-
ставили в скверные условия экономическую его жизнь. Словом, за государ-
ственными людьми русскими, бесспорно, много вин, но это ни от народа, ни
от общества, ни от литературных критиков не должно закрыть той истины,
что все же в общем сонме своем государственные русские люди, работав-
шие около Престола, выковали почти первое в новой Европе могущество
или соперничающее с первыми. И можно без иронии повторить слова ста-
рика Фамусова:
— Вы, нынешние, ну-тка!
Нынешние во всяком случае ничего еще не сделали и только накричали
на весь свет. Да, и еще: Муромцев ехал в Выборг в особом вагоне 1-го клас-
са, т. е. занимая своей особой целый вагон; это напоминает некоторых гене-
ралов в Маньчжурии. И еще Милюков ездил в Париж, ездил специально,
чтобы подвергнуться расспросам интервьюера «Temps»... Так что не интер-
вьюеры ищут интересных особ будущей свободы, равенства и братства в
России, но интересные люди сей партии сами ищут интервьюеров и даже
платят бешеные деньги за проезд до них...
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ
ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ
Внесенные на рассмотрение Совета Министров г. обер-прокурором Св. Си-
нода предложения касательно внешних отношений и внутреннего устрой-
ства православной церкви проводят три взгляда:
1) Что православная греко-российская церковь отнюдь не перестала, —
как некоторые думают, подгоняемые своими желаниями, — быть «господ-
ствующею» в Российском государстве; что оно остается «на страже» не только
прав ее, но и преимуществ.
2) Что церковь сама устанавливает, блюдет и видоизменяет внутренние
порядки в себе.
3) Что органом и выражением будущей жизни церкви явится Собор.
Свобода совести единичных русских граждан, которые могут теперь при
желании перейти и в другое вероисповедание из православия, — ни малей-
ше не знаменует собою того, чтобы сама Россия, как народное и государ-
ственное целое, сколько-нибудь колебалась в тысячелетних своих религиоз-
ных устоях. Что вместе с Россиею и граждане ее остаются совершенно спо-
койными, это мы можем видеть из того собственно разительного явления,
что, несмотря на открывающуюся свободу переходить куда угодно из пра-
вославия, — никто, однако, и никуда из него не перешел. Были переходы из
мнимо-православия в католицизм в некоторых местностях Северо-Западно-
го края; но об этих перешедших гораздо ранее все знали, еще до издания
264
указа о веротерпимости, что они только духовными консисториями счита-
ются в списках православных, а на самом деле ходят в католический костел
и вообще суть подлинные католики. Переходы эти, собственно, только ис-
правили бумажную отчетность синодального и епархиального управлений,
приведя их в соответствие «с натурою», — но они решительно ничего не
изменили в самой натуре, в действительном положении вещей. Напротив,
исконно православные люди совершенно не дали из себя ренегатов. Этот
полный покой показывает, до какой степени поверхностны, детски и зло-
употребительны были страхи, ввиду которых русское правительство два века
отказывало честному и здравомысленному своему населению в свободе веро-
исповедания, в свободе перехода из православия в другие веры: оно держа-
ло в оковах, в действительных, тяжелых и унизительных оковах людей, ко-
торые никуда не собирались бежать. Нельзя <не> сказать достаточно силь-
ных порицаний и духовенству нашему, которое из-под руки всегда подска-
зывало светскому правительству, что если оно отменит уголовные кары за
отпадение от православия, то все пропадет, православие распадется, все рус-
ские люди разбегутся из своей церкви, кто куда. Из духовной среды совер-
шенно не поднималось голосов в защиту свободы вероисповедной совести,
не было примеров этого. И это только показывало, до какой степени духо-
венство нерадиво исполняло свое дело, хорошо об этом знало, а потому и
пугалось, что все разбегутся из той церкви, к которой оно не только не при-
вязывало, но скорее даже отталкивало от нее своей черствостью к населе-
нию и холодностью и небрежностью несения духовного сана. Но дело в том,
что, каково бы ни было духовенство, народ не смешивает его с «верою от-
цов», и в том самом селе, где крестьяне поголовно жалуются на поборы при-
чта и нерадивую его службу, не только никто не перейдет в католичество
или лютеранство, но, довелось бы случиться, — показали бы примеры му-
ченичества за свою веру. От нерадивости духовенства, как и от его темноты
и непросвещенности, люди уходили в секты, т. е. они заводили и начинали
что-нибудь свое, «нутряное», думая в этом новом найти потерянный идеал
православия; но именно православия, а не чего-нибудь другого, не протес-
тантства, не католичества и прочее. Вся наша народная жизнь полна траги-
ческими поисками этого «истинного православия», «настоящего правосла-
вия», «старой веры отцов и дедов»... Нужно поражаться, до чего было слепо
наше духовенство или равнодушно к делу, что не понимало и не оценивало
этого прекрасного, здорового, национального ядра в нашем сектантстве.
«Миссионеров» следовало посылать не к мужикам, а к гг. благочинным и в
консистории, чтобы пробудить в них сколько-нибудь христианскую совесть
и христианскую ответственность.
Итак, никто не двинулся из веры отцов: ни народ, ни образованные клас-
сы, кроме двух-трех чудаков, о которых писали в газеты, как когда-то о си-
амских близнецах; и это открывает, для правительства и опять же для духо-
венства, до какой степени нечего было им пугаться и дрожать при одной
мысли о свободной религиозной критике, свободном обсуждении в литера-
265
туре религиозных вопросов и положения церковных дел. Два века царила
здесь, под предлогом благочестивых целей, неумолимая, страшная, дове-
денная до бессмыслицы цензура. Над ней постарались иерархи русские и
обер-прокуроры Синода. Не всем известно, что были эпохи до того тем-
ные, что даже Катехизис Филарета возбуждал подозрение о своем право-
мыслии, что старославянский перевод Библии, как известно содержащий
множество неточностей и грубых погрешностей, было предложено «кано-
низировать в букве», т. е. признать «боговдохновенным», абсолютным и не
подлежащим пересмотрам или поправкам, и что протоиерей Павский, за-
коноучитель императора Александра II и преподаватель Ветхого Завета в
Петербургской духовной академии, был судим и едва позорно не лишен
сана за то, что на лекциях своих дозволил себе давать переводы отдельных
книг с древнееврейского языка, не совпадавшие с «боговдохновенным»
древлеславянским переводом. И под всем этим лежала как настоящая и
подлинная причина вовсе не «ревность о вере», а, напротив, полное к ней
равнодушие наших сонных, ленивых иерархов, — подвигавшихся «чин за
чином» по службе и едва ли владевших с достаточной осведомленностью
подлинным языком Библии, как и языком греческого перевода LXX толков-
ников. Ленивое «зачем пересматривать, когда уже раз перевели: много дела
и нового, консисторского, много синодальных неочищенных бумаг», — вот
настоящая почва, чуть не вызвавшая «канонизацию» ошибок. Чтобы оста-
новить ее, митрополит Филарет употребил величайшие усилия. И вот эта
страшная цензура теперь спала: ну, и кто же ушел из православия?! Оче-
видно, что «критиковать» православие и вообще «истины веры» — еще не
значит похолодеть к ним, сделаться равнодушным и вот-вот готовым пе-
рейти в другую веру. Духовенство наше многим не мило; история нашей
иерархии часто представляла сплошной позор; и однако всем русским милы
старые могилы своих дедов и бабок, отцов и матерей, к которым и они же-
лают «приложиться», говоря библейским языком. Об этом великом чувстве
сказал и Пушкин:
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому приделу
Мне все б хотелось почивать.
Вот что держит православие, а не юркие миссионеры и не «указы» епар-
хиальных консисторий. Дорога вера отцов наших нам, потому что дороги
могилы отцов наших нам и драгоценна их старенькая, седая психология, их
милый простой быт и все традиции, раздробленно дошедшие до нас. И дав-
но, века надо было это понять; надо было консисториям, миссионерам, бла-
гочинным, иерархам, обер-прокурорам спросить себя: да за что же и поче-
му же сражались с «бусурманами» запорожцы? И почему они отстаивали
«веру отцов» уж никак не холоднее, чем громогласие протоиерейских про-
поведей?
266
Свободный, религиозно-свободный русский народ еще крепче прежне-
го прильнет к своей вере; хотя и критиковать в ней будет крепче же. Критика
— не злоба; критику рождает интерес к делу и забота о нем. Критика и любовь
неразделимы.
По этому существу дела Россия остается теперь, и, Бог даст, до конца
дней своих останется, «православною», т. е. «православие» останется «рус-
скою верою», верой народа нашего, а следовательно, и государства нашего,
правительства нашего. Само собою разумеется, что правительство русское,
т. е. орган государства «на сей час», и государство русское, как проявление
воли русского народа в истории, не могут иметь воззрений иных, чем этот
русский народ: просто за недостатком иных воззрений или за чисто частны-
ми и личными воззрениями, какие у каждого остаются при исключении на-
родных идеалов. Государственные люди «служат»: т. е. самым положением
своим призываются к отречению от всего частного, личного, домашнего в
делах и государственном поведении. Потому лично и про себя каждый госу-
дарственный человек может держаться каких угодно церковных воззрений,
как и быть лично лютеранином или католиком: никто его веры и не обидит,
закон «свободы вероисповедания» охраняет и его веру, которую всякий по-
чтит. Но как свой личный кошелек с деньгами никто не смешает и не смеши-
вает с «ассигнованными по ведомству суммами», так во всяком русском го-
сударственном человеке умирает лютеранин или католик, как только он на-
девает форменный виц-мундир своего ведомства, отрасли русского государ-
ственного управления. Хотя бы министрами и бывали иногда лютеране, так
почему бы и не стать министром старообрядцу, молоканину или католику;
но правительство русское поверх всех этих дробей своих и, поглощая эти
дроби, остается и должно быть всегда правительством, «исповедующим
христианство» по догматам, духу и обрядам греко-российской церкви. И —
ничем другим. Т. е. в своих деяниях, программе, духе, поступках, намерени-
ях оно никогда не должно иметь на виду польз и выгод какого-нибудь друго-
го исповедания, другой веры, оставаясь ко всем исповеданиям и верам в
отношении соседства и дружелюбия, полной терпимости и признания за ними
свободы; и не упускать делать все, что может клониться к росту авторитета,
силы, блеска и, в основе всего конечно, правды и святости родного русского
исповедания веры.
Вот внешние отношения церкви: всем — свобода расти по их силам; но
свои силы русское царство и русский народ тратят на рост только православия.
ЕЩЕ О ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ
ПОЛОЖЕНИИ ЦЕРКВИ
Второй общий принцип, выраженный в предположениях обер-прокурора
Святейшего Синода, переданных на рассмотрение Совета Министров, зак-
лючается в том, что Церкви принадлежит «самоопределение», говоря язы-
267
ком теперешних событий; что Церковь сама о себе возбуждает вопросы и
сама же изыскивает решения их и решает их. В устах обер-прокурора Сино-
да это как бы намечает программу его личной деятельности: быть зрителем,
а не участником и в особенности не главою, не правящей силою церковной
жизни.
Конечно, этого все ожидали, этого все желают. Решительно нигде в рус-
ском обществе и в литературе русской, не говоря уже о простом народе, нет
неуважения к Церкви. А между тем вмешательство обер-прокурора в цер-
ковную жизнь было живым противоречием наружным словам о высоком
уважении государства к Церкви, и они приобретали совершенно странный и
совершенно комичный оттенок, напр. в «Московском Сборнике» К. П. По-
бедоносцева, который взывал urbi et orbi1 об уважении к церкви, между тем
как его автор, поставляя и свергая епископов (ссылка их «на покой») и мит-
рополитов, не допуская никого из духовной иерархии пошевелиться по-сво-
ему, первый являл пример неуважения к церкви. Возможно, что это имело
свои причины в бездеятельности и темноте наличного духовенства, но не-
сомненно, что не от подобного отношения к себе духовенство могло бы по-
светлеть, зашевелиться, начать образовываться и работать. Поистине, для
лени его была открыта вся свобода, а для деятельности его были поставле-
ны все препоны.
Заметим для исторической точности, что как при установлении обер-
прокуратуры, так и во все время ее существования главнейшим мотивом
выставлялось то, что «церковная область в некоторых точках соприкасается
с предметами государственного попечительства и государственных прав,
какова особенно область семейного права, — и что по этой именно причине
государство имеет право иметь свой наблюдательный и контролирующий
глаз в церковном управлении». Мотив этот всегда выдвигался, — ив насто-
ящем отношении г. Извольского в Совет Министров он также упомянут.
Между тем за исключением одного обер-прокурора XVIII века, Мелиссино,
ни один из них не употребил своего авторитета к побуждению русских иерар-
хов сделать хотя что-либо для облегчения или для смягчения суровостей и
узости церковного права в отношении семьи. Главный выдвигаемый мотив
существования обер-прокуратуры оставался всегда неиспользованным. На
примере обер-прокурора кн. Голицына мы видим, что главною причиною
этого было какое-то ханжество, в которое неизменно впадали обер-прокуро-
ры после сколько-нибудь продолжительного занятия своей должности. Кн.
Голицын на предложение императора Александра I занять пост обер-проку-
рора ответил, что он смущается принять эту должность, так как принадле-
жит к почитателям фернейского философа и в Бога не верит; но, принявши,
через несколько лет сделался самым фанатичным и сухим проводником ас-
кетически-византийских начал.
1 городу и миру (латп.).
268
Тут есть что-то специальное, и, может быть, не без влияния остается
«фимиам и ладан», непрерывно воскуряемый перед обер-прокурорами иерар-
хами церкви, как и вообще всем «священным синклитом», который сотруд-
ничает обер-прокурору и получает от него все награды. Близкое к кн. Голи-
цыну претерпел и Победоносцев.
Нам кажется, г. Извольскому следовало бы более жизненно и практи-
чески ощутимо провести мысль о «самоопределении» церкви, выделив из
ее ведома русское семейное право и затем, вне этой области, предоставив ей
действительно устраиваться и жить по духу и букве канонов и по разуму
наличного духовенства. Вообще внесенные на рассмотрение Совета Мини-
стров «соображения обер-прокурора» страдают отвлеченностью и безжиз-
ненностью. Они на каждом шагу вызывают недоумение читателя и вызовут
недоумение в духовенстве: «что именно?» и «каким образом?». Например,
совершенно очевидно, что обер-прокурору следовало бы уже теперь же, и
даже в истекшие месяцы этого года, устраниться от всякого участия при
замещении епископских кафедр, при перемещениях епископов из епархии в
епархию и вообще от личных назначений; далее, к настоящему времени сле-
довало бы уже видеть училищный совет при Св. Синоде переданным из под-
чинения лично обер-прокурору в ведение собственно Синоду в его налич-
ном составе. Мы хорошо знаем, как недостаточен этот личный состав по
малочисленности его и почти всецело монашескому составу. Но принцип
важнее всего, и сейчас же, до преобразования синодального управления, что
предлежит будущему собору, следовало бы «слуге Кесаря» не вмешиваться
в дело «Богово». Во всяком случае не обер-прокурор компетентен в назначе-
нии кандидатов на вакантные кафедры семинарий и академий, в рассмотре-
нии «правомыслия» ученых богословских диссертаций. Совершенно в пре-
делах власти г-на Извольского было несколькими недвусмысленными и ре-
шительными шагами выйти из этой не принадлежащей ему области, чего
он, однако, не сделал. И нам думается, предложения его, внесенные в Совет
Министров, вообще страдают малою конкретностью. Недоумения: «что же
именно» и «каким образом», которое овладеет духовенством при чтении
«предположений», внесенных в Совет Министров, этого недоумения не мо-
жет не разделить и печать. Как будто строки, исшедшие из-под пера г. Из-
вольского, все были написаны на мотив некрасовского стиха:
Суждены нам благие порывы,
Но свершить ничего не дано.
Это хорошо в поэзии, но не в государственном деле.
269
К ЗАКОНОПРОЕКТУ О РАЗВОДЕ
I
Проект о передаче из духовного суда в гражданский некоторых частей бра-
коразводного процесса наконец составлен Министерством юстиции и вне-
сен в Совет Министров. Чтение законопроекта в некоторых местах оставля-
ет впечатление полной неясности или совершенной неуловимости мотивов
законо-проектописателя (да простит читатель такое длинное слово), напр.:
«Супруг несовершеннолетний или состоящий под опекою за расточи-
тельность, или под попечительством вследствие глухонемоты или немоты,
может сам начать и вести начатое им или другим супругом дело о расторже-
нии брака».
Разве в России венчают несовершеннолетних? Проект говорит о «несо-
вершеннолетних супругах» как совершенно определенной и известной за-
кону группе людей, но таковых, бесспорно, не бывает, ибо основной закон о
браке говорит о совершеннолетии как первом его условии. Нужно заметить,
что закон говорит только о разводе «православных», и инородцы сюда не
входят.
Затем, каким образом будет «вести сам дело» глухонемой или немой?
Непонятно. И что это была бы за картина суда? И для чего законопроекту
путаться в такие подробности? Зачем он хочет определить каждый шаг и
каждый случай! Об этом следовало бы промолчать, т. е. предоставить это
воле и избранию самих тяжущихся: вести дело кому как удобнее, кому как
возможно.
Но если «глухонемой» может сам начать дело о разводе, то «в случае
его ответа по иску о разводе со стороны другого супруга он должен быть
представлен опекуном». Опять, почему? — Непонятно.
«Супруг не вправе просить о разводе вследствие прелюбодеяния, если
он ранее возбудил дело о наказании виновного в прелюбодеянии по уголов-
ным законам».
Это знаменитая старая статья бракоразводного законодательства, — зна-
менитая особенною своею бессмысленностью и прямым противоречием
словам И. Христа о разводе: «муж не может развестись с женою иначе как
по вине прелюбодеяния», т. е. «муж может развестись с женою по вине ее
прелюбодеяния». Мотивирована в старом законе статья тем, что «за одну
вину двух наказаний не бывает», что «не бывает двух наказаний» — об этом
в консисторском правиле, вслед за его текстом, приводится текст «из Псал-
мопевца» или откуда-то. Но ведь если «двух наказаний за одно» не бывает,
то как же это все виновные 1) несут и предварительное до суда наказание
темницею, и 2) после суда наказываются ссылкою или даже несут еще двой-
ное наказание: а) ссылку и б) лишение всех прав состояния. Вообще рассуж-
дение о «двух наказаниях» до такой степени младенчески глупо, что оно
могло прийти на ум только старым и особенно рясофорным судьям и зако-
270
подателям. Ну, чем думать, — привел текст, и баста. Неужели новые судьи
не могли приложить какого-нибудь старания к устранению этой бессмысли-
цы?
Да и не бессмыслицы только, а явного богохульства, насколько таковым
можно назвать издевательство над изречением Спасителя. Спаситель явно
сказал о праве мужа отказаться от жены-прелюбодейки. Суд, и это старый
духовный суд, судивший по текстам Евангелия, столь же явно и дерзко при-
нуждал мужа иметь прелюбодейную жену! Судьи и законодатели, исключи-
тельно монахи, совершенно не умели себе представить: что же такое в дому
семейном, с детьми, с родными, с знакомыми, с соседями являет собою «жена,
осужденная по уголовному суду за прелюбодеяние» и которая, отбыв его,
спокойно садится с детьми и мужем за обед, за чай!
Вот что значило, что законодательствовали и судили о семье бессемей-
ные люди, — бессемейные, да и враждебные семье. Надо же было подсу-
нуть такую «кость в горло» семейным людям, которой ни мужу, ни детям не
проглотить.
Удивительно. И удивительно, что слепая Фемида XX века вяло и без-
думно переписала эту чудовищность в новый законопроект.
И, наконец, этот «текст Псалмопевца», которого иерархи не захотели
нарушить и соблюли его даже ценою бунта против слов Христа: ведь рас-
торжение брака есть не «второе наказание» прелюбодею, а простое послед-
ствие, фактическое последствие факта же прелюбодеяния. Клею нет — бу-
мага расклеилась! Просто — факт!! Для прелюбодейки, которая «изменила
мужу», — ну, какое же «наказание», что она не будет больше спать с ним?
Никакого. Напротив, поразительным в беззаконии старым духовным судом
через этот отказ наказывался... невинный муж, пришедший у церкви искать
защиты себе от беззаконий жены, ее беспутства! Я думаю, ни в Сиаме, ни в
Китае нет таких судов, и иерархам можно припомнить только другой стих
из Псалмопевца: «в беззаконии зачат есмь, во грехах роди мя мати моя».
Слова эти о «беззаконном зачатии» и «греховном рождении» до буквы под-
ходят к духовному суду над браком: монахи в него вмешались, монахи его
выносили в утробе своей, — и родился гнилой, колючий, беззаконный плод.
Неужели в Министерстве юстиции некому разобраться в этих вопро-
сах? Неужели в них не разберется Госуд. Дума?
Монахам семья не нужна.
Поэтому они бессильны живо, физиологически и морально, предста-
вить себе необходимость семьи для кого-нибудь.
Потому они совершенно легко назначают семилетние епитимии, заклю-
чающиеся в запрещении брака на семь лет разведенному супругу. Это якобы
«в наказание за страшный грех прелюбодеяния». Но это неправда: они же
вовсе прощают прелюбодейку-жену, если муж ее второпях, в неведении или
по неопытности (ведь между такими истцами есть мужики, есть глупые и
«глухонемые», целая страна!) одновременно подал и в суд, чтобы наказать
оскорбительницу семьи, жену, за обиду детям и себе (естественное чувство
271
человека), и в консисторию о разводе. Тут-то митрополиты и подстерегли
мужичков и «глухонемых»; они сказали:
«Нет двух наказаний за одну вину... Ты уже обратился в уголовный суд...
Там и ищи, у нас не спрашивай. Мы человеколюбцы... Обратился к государ-
ству, чего же ищешь у церкви... В неизреченном милосердии своем церковь
отпускает прелюбодеяние жене твоей, и ты прими жену свою: хоть и живет
с другим, а с тобой повенчана»...
Тяжело темному Ивану, ухмыляется проворная Матрена, иерархи засы-
пают. Так-то они и дали русскому семьянину гулящую жену, о которой вспом-
нили бы из Псалмопевца другой текст: «худая жена в дому, как гной в кос-
тях», т. е. так же болит\
Но что до этого монахам!
«Иск о разводе вследствие прелюбодеяния может быть предъявлен до
истечения одного года с того времени, когда нарушение супружеской верно-
сти, служащее основанием к просьбе о разводе, стало известным супругу-
истцу»... Через три строки: «Иск о разводе не допускается по прошествии
десяти лет со времени совершения прелюбодеяния или прекращения лю-
бовной связи».
Непонятно, в какой же срок может просить обиженный супруг: в тече-
ние одного года или в течение девяти лет и одиннадцати месяцев 29 дней? И
неужели в царстве Фемиды не нашлось человека, умеющего написать то,
что грамматики зовут «мыслью, выраженною словами».
Слова Христа о разводе этим, понятно, нарушаются: Христос сказал о
праве мужа не быть мужем прелюбодейной жены, не установив никаких
«десятилетних сроков».
А замечает ли добрый читатель проникающую весь законопроект забо-
ту законодателей взять под крылышко Фемиды... не обиженного, а обидчи-
ка! Нет, в самом деле: как стараются! И все в одном направлении! «Нет пре-
любодеяния, не было, невинна!»... Точно лично заинтересованы, — и весь
законопроект, как и весь Устав духовных консисторий, можно назвать про-
ектом «об искусстве носить рога незаметным образом»... «Пожалуйста, не
делайте шума, если ваша жена и шалит! Шшш... шшш!»...
И никакой другой заботы; ни о чем заботы столь упорной, последова-
тельной и так неумолимо обращенной шипами в сторону всех мирных рус-
ских граждан, желающих наслаждаться чистым семейным счастьем.
Смысл покровительства тому, что сам же закон именует «прелюбодея-
нием» и снаружи как будто порицает, имеют и все остальные статьи как это-
го законопроекта, так и старых консисторских статей, которые он переписы-
вает. Напр., это «не небезвестное отсутствие супруга»... В официальном си-
нодальном органе, «Церковных Ведомостях», последний листок еженедель-
но заполняется рубрикою циркулярных объявлений: «Разыскивается жена,
оставившая своего мужа (фамилия, отчество, звание) такого-то года, месяца
и числа его (всегда пять, восемь, десять лет назад) и ныне безвестно находя-
щаяся. Предписывается всем полицейским частям, сельским управлениям и
272
благочинным, которым известно место ее пребывания, сообщить об оном в
такую-то духовную консисторию», — на предмет ответа мужу, вчинившему
иск о разводе «по причине безвестного отсутствия» дражайшей половины.
И вот волостные управления, благочинные и полицейские управления всех
городов, уездов и сел России, где «Церковные Ведомости» всюду получают-
ся, оглядываются, ищут и наконец находят «бедняжку», которую нужно за-
щитить, или скрывшегося от жены мужа, находящегося в таком же положе-
нии просьбы о защите. Достаточно было бы консисториям запрашивать: «и
по опросу соседей, или в дому, или у всей улицы, не живет ли такая-то» или
«такой-то в связи с кем-нибудь», чтобы во всей России и о всех таких бежав-
ших были сообщены сведения: «конечно живет, и очень счастливо, имеет
уже детей столько-то». Это обычно и не скрывается или скрывается чуть-
чуть. Но укрыватель, т. е. консистория, не задает опасного вопроса укрыва-
емому: почему-то, как и в случае жалобы обиженного супруга в светский
суд, духовный суд ищет наказать именно невинную сторону, обиженного,
того брошенного мужа или ту брошенную жену, которые пришли искать «у
Матери Св. Церкви» защиты. Опасного вопроса поэтому консистория и не
задает, а спрашивает просто и голо об адресе. Так как укрыться в России
негде, да и не для укрывательства, а для счастливой жизни на стороне дела-
ются такие побеги, то разыскиваемый, конечно, находится и обиженному
отвечается, что «жена ваша (или муж ваш) жива, находится там-то, и посе-
му» и проч, «в расторжении брака на основании статьи о безвестном отсут-
ствии отказано». Муж не «безвестно-отсутствующий», а «известно-отсут-
ствующий» продолжает ожидать счастливую супругу по истечении десяти
лет еще на новый десяток лет.
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...
Удивительно, каким образом профессора канонического права, прото-
иереи и весь «освященный синклит», не говоря уже о Фемиде, которая в
качестве светской женщины вправе ничему не верить, — почему духовные-
то не поверили, что Христос искренно и внутренне, а не одними внешними
устами сказал об этом настоящем и кровном и нравственном праве супру-
га, у которого другой супруг прелюбодействует, — «отпускать жену», по-
просту считать развод как бы уже fait accomplit, совершившимся фактом.
Духовный суд... не поверил Иисусу Христу, приписав ему в этом случае при-
творство и уловив (или думая, что уловляет) его тайную мысль и желание,
чтобы брак, однажды заключенный, не расторгался никогда! Католичество,
которое во многих случаях гораздо наивнее православия, так это и вырази-
ло, и провело. «Христос только для вида сказал о разводе, а настоящая Его
мысль была другая». У нас же на Востоке это так наивно не выражено: сде-
лан вид, что Христос сказал Свою настоящую мысль и что духовный суд
исполняет Его настоящую волю, но обставлено это такими подробностями,
273
примечаниями к статьям закона и такими судебными формальностями, что-
бы слова Христа, кроме редчайших исключений, никогда не исполнялись и
таким образом фактически и на деле была бы приведена в исполнение неко-
торая Его тайная мысль, совсем другая!
Не будь этой тайной мысли у духовного суда, прими он слово Христа в
самом деле за истину, да он бы бросился разыскивать случаи прелюбодея-
ния, облегчил бы дачу показаний, подозрительно прислушался бы к говору
соседей, показаниям друзей, свидетельству дневников, писем, как он это
делает в случае ереси, а то ведь он даже показаниям самих обвиняемых не
верит!! Невероятно, а так; жена говорит: «Я живу не с мужем, а с другом»,
«все соседи знают, прислуга» и проч. Духовный суд сто лет отвечает в по-
добных случаях: «Невинная женщина, вы сами на себя клевещете — вы це-
ломудренны!»
Тут же и муж плачет, стоит: «Живет не со мной, пять лет живет в кварти-
ре такого-то»...
Таким образом, словам Христа, искренности Его слов о нужде в этом
случае развода, не поверено. Формальности даны как бы во укрывательство
формального же ответа жестоковыйным иудеям, с которыми Он разговари-
вал, но ничего на деле не дано, как бы в словах Христа и не было дела, сути,
жизни.
Вот настоящая тайна европейского развода и того, что эти папы, биску-
пы, патриархи, митрополиты и еще ранее отцы церкви и вселенские собо-
ры — все согласно, на деле, не дают развода «и по вине любодеяния».
Субъективно, безмолвно они уверены, что тут не было сказано вслух прав-
ды, и как бы подземным ухом уловили другое тайное слово, только им про-
шептанное Спасителем...
II
Ну, хорошо, — оставим тонкости и скажем ту простую для семейных людей
истину, что невозможно для семьи становиться под покровительство и за-
щиту таких законов и такого суда, который принял на себя миссию защи-
щать и укрывать преступления против семьи, как было бы невозможно тор-
говле находиться при «Уставе о неплатеже долгов» и проч. Просто, — нельзя
семье так жить, не может\ Силами своими, силами чрезвычайными, ис-
ключительными, — всемирною любовью человеческой и инстинктом вер-
ности друг другу в браке (в этом единственно и состоит закон брака, —
других нет и никаких не нужно) она боролась против «Устава о покрови-
тельстве воров», который был дан ей «в помощь и наставление». Но в тыся-
челетие такой борьбы... устала. Теперь, когда столь очевиден и до прозрач-
ности читаем смысл как «духовного» суждения о семье, так и «глухонемо-
го», плетущегося за консисториею, каковую роль приняла на себя Фемида,
семье надо сказать обоим заботящимся:
274
— Врачи больные, исцелитесь сами! Я же здорова, вся покоюсь на люб-
ви, и на одной любви, без крошки сора здесь; вся покоюсь на верности —
нравственнейшей моей скрепе, вечном инстинкте моем. Совершенно здо-
рова! Мною цветет поэзия, жизнь, — я вхожу как счастье во все домы! Рожу
детей, — и стараюсь их рождать не от глухонемых супругов и не от сумас-
шедших жен, которые обое моим попечителям так нравятся, а от разумных
и крепких силами. Ваши лекарства — все какие-то ядовитые, и, пока я их
принимала, они вызывали во мне недомогание, бледную немочь, дрожание
рук и ног, головокружение. Верните же меня туда, где я всегда была: наро-
ду, народному быту, народному обрядовому творчеству. Мне здесь теплее,
уютнее, веселее. Я здесь расцвету, в природе, на людях... И пусть стоит
надо мною судьею и стражем народная, бытовая, семейная нравственность.
Ну, в виде суда старейшин сельских, которые все видят и все знают у себя
на селе, жизнь каждого... В виде выборных от каждого церковного прихо-
да... Суд, касающийся таких интимностей, вообще должен быть на месте,
местный, из местных жителей... Совсем тут нечего делать короне, митро-
политам, чиновникам: это не материальная область, область не веществен-
ных отношений... Воистину, это есть «таинство» не по обрядовому значе-
нию его, а по внутреннему содержанию: на таинственном станке брака ткется
вся жизнь человеческая, нервы, кости и душа целой нации. Вот если кого
следовало бы позвать сюда со стороны для советов, для всего, даже для
законов, то это врачей, биологов... Пусть придет Мечников: слово его важ-
но, оно полновеснее и нужнее, чем благоглаголание сонма иерархов. Но
медиков, радея о себе, и сами все позовут, так что и тут лучше бы не надо
правил, законов, предписаний, форм. Нужные друг другу люди сдружатся.
Никому дети так не дороги, как родителям: так судьбу детей вверьте роди-
телям. Им одним предоставьте определять законность и незаконность их.
Как родителям же молодых людей предоставьте определять законность и
незаконность браков и вообще нормальность и ненормальность здесь. Это
и будет проявлением государственного уважения к семье. А судьбу жен,
мужей, развод и неразвод — доверьте чему-нибудь вроде «присяжных су-
дов», составленных из сельчан, из горожан, из членов данного церковного
прихода, к которому супруги принадлежат. Доброе слово и совет священ-
ника тут будет необходим и желателен; но пусть и священник придет нрав-
ственно, придет как друг, а не с правами и привилегиями «по благодати»,
которая прикрывает «мзду»... Словом, переплетчик не всегда умеет читать
книгу, которую он переплетает. Государство и церковь занимались всегда
только «переплетом брака». Но это — великая книга, священного смысла.
Обоим им не дано было прочитать ее. Да и переплетая, они ее лишь истре-
пали и замазали. Пора скромному получить скромный удел... Семья долж-
на перейти к народу, в общенародное ведение, к общенародному смыслу,
пониманию, — к дедам, отцам, детям, бабкам, медикам. Они и время (воз-
раст) брака устанавливают, и формы заключения его, течение его, оконча-
ние его... Священник тут пусть придет, но морально, как друг, не как власть
и авторитет. Как и Христос входил как друг и гость на брак в Кане Гали-
лейской, не проявив здесь власти, какую в других случаях Он обнаруживал!
Подобает быть здесь так и духовенству. Что касается государства, то ему
следует лить пушки, чеканить монету, устраивать флот, организовать ар-
мию, рачительно писать законы... Ну, куда ему соваться в девичьи затеи, в
супружеские нервы, во влюбленье молодых!! Неприличие, какое трудно бы
и предположить, если бы оно не было действительностью и если бы мы к
нему не привыкли. Стоят двое: Александр Невский, победитель ливонцев и
шведов, охранитель Руси, и святой старец Феодосий Печерский. К обоим
им подходят современные нам люди, мудрецы века сего, и обоим приделы-
вают крылышки Амура, дают в руки стрелу Купидона и просят выслушать
о любви Ромео и Юлии!
Рассказа нет печальней и грустней,
Чем эта смерть веронских двух детей.
Вернем Купидону и Амуру поля и рощи; митрополиты пусть говорят
проповеди. Государство пусть кует железное вооружение страны, а Мини-
стерство юстиции... хоть пусть научится «выражать правильно мысль через
подлежащее и сказуемое», — чего никак нельзя сказать о внесенном им за-
конопроекте. Мы совершенно верим, что Совет Министров вернет этот про-
ект приблизительно с надписью: «Невразумительно, не мотивировано и во-
обще неизвестно для чего».
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
В нескольких письмах я получил упреки за то, что в статье, обсуждающей
законопроект, внесенный министром юстиции в Совет Министров касательно
расторжения брака, выразил недоумение перед термином: «несовершенно-
летние супруги». В письмах указывается, что гражданское совершенноле-
тие наступает в 21 год, а брак дозволен 18-летним (мужчине) и 16-летним. С
удовольствием исправляю эту ошибку, хотя причина ее коренится в законо-
дательной терминологии, разошедшейся с бытовою, народною, обществен-
ною и литературною терминологиею, каковою я, естественно, руководил-
ся. Решительно неудобно брать в законы или употреблять в законах слова
разговорного языка, придавая им новые оттенки значения. «21 год» в зако-
нах означает полноту гражданских прав, то есть имущественных, владель-
ческих, актовых; а 16 и 18 лет в разговорном языке именно определяет «зре-
лость возраста», возрастное «совершеннолетие». «Несовершеннолетний
муж», «несовершеннолетняя жена», «несовершеннолетняя мать» — это про-
сто дико звучит в ухе, этого нет и не бывает по общему убеждению людей,
ибо сущность возмужалости и определяется именно способностью к от-
цовству и материнству. Этих биологических терминов в законе следовало
276
избежать, заменив, напр., термином «полная гражданская правоспособ-
ность». А в новом министерском законопроекте следовало по крайней мере
дополнить термин «совершеннолетие» другим определительным и сужива-
ющим словом: «гражданское совершеннолетие». Во всяком случае закон
должен быть всем и сразу понятен, не иметь никакой мутности в себе, в
мысли своей и словах своих; и если я спутался, учившийся в университете,
то что сказать о безграмотных, малоумных, «глухонемых» и проч.?! К этому
редакторам законов следует быть внимательнее.
НОВЫЕ КАНДИДАТЫ
ОТ К.-Д. В ГОСУД. ДУМУ
В газетах появилось известие, что конституционно-демократическая партия
в Петербурге пополнила список своих кандидатов в Государственную Думу
двумя новыми именами — М. М. Ковалевским и свящ. Г. С. Петровым. Мож-
но надеяться, что первый в этот же год попадет в Государственную Думу, а
о. Петров, который отнюдь не торопится со своею кандидатурою, пройдет
если не в эти выборы, то в следующие.
Давно пора! Давно настоящее место ожидает настоящего человека!
Максим Максимович Ковалевский был в первой Думе и останется во
второй Думе очень видным членом по своим ученым заслугам, по профес-
сорской деятельности в Москве, а потом в Париже, — видным, но не ярким.
Увы! — тяжелая ученость за горбом не подымает крыл оратора. Ученость и
политический бой — почти несовместимые вещи. Это солидная величина,
солидная тяжесть на всякой чашке весов, на которую он ляжет, и вообще он
украшение всякой партии, к которой примкнет, но все это по «списку добро-
детелей», а не по списку талантов. Он не горюч, не блестящ, не искрист.
Слово у него не рождается само собою на кафедре, не зажигает. Остроумие,
пафос — этого всего он лишен. Но было бы положительно грустно, если бы
этот старый боец парламентаризма в России, каким Московский универси-
тет помнит его еще в 70-х и 80-х годах прошлого века, не сидел на скамейке
нашей Думы. Было бы печально за него, за его добрую прекрасную душу,
так говорящую в его глубоких, задумчивых глазах. «Почетный член парла-
мента» — так и хочется сказать о нем, если позволительно здесь применить
язык ученых академий.
«Почетный член» — да... Но и в академиях «почетные члены» более
украшают их, нежели работают в них.
Годы Максима Максимовича уже прошли! Золотые годы его были в
Москве, на кафедре... Там он гремел. Теперь, в Таврическом дворце, я уже
слышал его, близкого к старости, с голосом глухим, почти глухим.
Облетели цветы,
И угасли огни!
277
Что делать, — судьба всего живущего! Ее не побеждал ни гений Ньюто-
на, ни пафос Данте. Годы — это такой предел, взглянув на который можно
только заплакать...
* * *
Именно годы-то, при соответствии всего другого, и подымают свящ. Пет-
рова. Всегда мне казалось, что настоящее место его — не книга, не газета,
не частный разговор: везде здесь он виден, удачен, но не первенствует. Но
сейчас же, как он взошел на кафедру и оглянулся на волнующиеся ряды го-
лов, ждущих слова, — точно некий «дух» садится неприметно у него за пле-
чом и нашептывает слова иногда необыкновенной силы, красоты и значи-
тельности. Куда бы он ни вошел, где народ, публика, — он сразу и всем
виден; когда бы ни заговорил, — его все слушают. У него отсутствует «бол-
товня»: везде, в каждом слове — напор мысли, напор организации — так
хочется сказать. По всему вероятию, он сам не знает вполне своих качеств
оратора, как вообще мы редко знаем «наперечет» свои качества. Они виднее
со стороны. И «со стороны» можно сказать, что наш парламент и даже вооб-
ще парламентаризм получил бы в лице его звезду незаменимой яркости. Мы
боимся ошибиться. Конечно, и он сам должен собрать все свои силы. Да, мы
уверены, так и будет. С думской кафедры его будет слушать не только вся
Россия, но и будет слышать Европа. Все «само собою сделается», — мы
верим, и явится он «настоящим человеком» на этом «настоящем месте», ко-
торое как бы нарочно сделано для него.
Находчивость в речи, талант быстрой импровизации в самой мысли (он-
то и рождает находчивость речи), нередкое остроумие, талант легкой иро-
нии, наконец, и особенное личное обаяние для человеческих масс, какой-то
неясный гипноз, магнетизм глаз ли, фигуры ли, но вообще нервов, органи-
зации — все это делает его исключительною силою на кафедре и в полити-
ческих боях. Прибавьте сюда литературное образование, природный вкус к
вещам, словам, поступкам, событиям, отсутствие всего грубого, вульгарно-
го в человеке и в обращении и, — главное, главное! — какой-то постоянный
упорный натиск души его на душу слушателей, наконец, способность к ог-
ромной идеализации, к лучшему представлению людей, вещей, отношений,
— и вы получите очерк «огромного обещания» в парламенте и вообще в
парламентаризме русском. Дай Бог не ошибиться... Но насколько я люблю
Россию и мне хочется всего хорошего, цветущего ей в будущем, едва печат-
но появилось имя Петрова в «списках кандидатов в Думу», как я улыбнулся
и потер руки. «Наконец-то»...
Я нисколько не преувеличиваю его дары и вообще не «разукрашиваю
дела», как его понимаю и чувствую. Может быть, ошибаюсь, но кажется,
едва ли... Петров — народолюбец и народолюбимец. Это — не делано, это
настоящее. Он именно создан для большой, огромной толпы. Гостиная, ка-
бинет (если он в нем не готовится для публики), уединенная частная бесе-
278
да, «задушевная страница книги» — все это не его сфера. Как я сказал:
везде он виден, но здесь не первенствует. Итак, я нисколько не привязываю
и не навязываю ему излишних тяжестей; ничего не кладу в его котомку,
чего ему не принадлежит. Дело его — массовое. Он не может давать боль-
ному лекарство на ложечке, но двинуть транспорты поездов туда, где го-
лодно, — это он может, и прямо он кинется со страстью делать это, натирая
плечо, язвя свое тело. И никакой тут даже добродетели: просто — талант,
«к этому призван».
Нельзя не почувствовать некоторой «подслеповатости» «кадетов», ко-
торые в первый русский парламент ухитрились же двинуть от своей партии
думского болтуна Кедрина и профессора Н. Кареева, ни разу не раскрывших
в этом парламенте рта, — и проглядели такого возможного кандидата, как
свящ. Петров. Вероятно, слово «поп» их остановило, — и, вероятно, из ру-
ководителей этой партии ни один не знал лично о. Петрова и не имел пред-
ставления о нем как деятеле и ораторе. Но стоило ему всего несколько раз
появиться на «предвыборных собраниях» в Петербурге, чтобы все партии, и
они в том числе, прошептали: «Эврика!» Не исключая Родичева и проф.
Петражицкого, из которых первый слишком горласт для видного нужного
дела, а второй слишком бледнолиц для русской действительности, — о. Пет-
ров положительно для партии выгоднее всех ее прошлогодних кандидатов.
Но я почти уверен, что, помогая этой партии, Петров не сольется с нею «до
потери лица в себе». Этого не будет. По всему вероятию, он будет стоять в
партии, но не связан с партиею «кушаком». И опять здесь — натура: боль-
шое, «не умещающееся в партию» публичное «я» Петрова. Нельзя забыть и
того, что Петражицкого и Родичева создала партия, без которой один есть
тусклая тверская величина, другой — «задумчивая личность» в универси-
тетских аудиториях. Это слишком тихо, это никому не видно. Петров, книж-
ки которого имели по двадцати изданий и которого ранее знал весь Петер-
бург, кроме специфически парламентских кругов, будет обязан партии вы-
бором, но собственно широкою известностью и видностью для всей России
он ей не будет обязан.
Но он, среди именно «публичных» даров своих, имеет и прекрасный «ком-
панейский» характер: партии будет с ним легко, удобно, ходко, что ему не
помешает сохранить «свое себе на уме», стоя около нее или в ней, — это
«как вам угодно», говоря названием одной из шекспировских комедий.
Ну, в добрый путь, добрый человек! Помни нашу Россию, холодную,
необутую, безграмотную! Помни, что слово лишь предисловие к deny; что
слова парламентские — рубка просеки «до света». Вообще, великий парла-
ментаризм требует самоотречения, самозабвения. Да этого и все великое
требует. Как бы из узеньких прибрежных проливов ты теперь выходишь на
гладь океана: помни компас, не забывай берега оставленного и верь путе-
водной звезде, верь, пока ее пути совпадают со счастьем и честью челове-
ческою.
279
КОГО ОНИ ВЫБИРАЛИ???
Мучительный день измученной России... Потянутся к урнам партии, одни с
торжеством и злорадною насмешкой над противниками, а другие с уныни-
ем, раздражением и проклятием. «Удалось!» «Сорвалось!» — вот восклица-
ние, которое готово вырваться из тысяч грудей людей, несущих бюллетени к
урнам и которое через несколько часов сорвется с этих уст и понесется по
домам и улицам, оглашая наш город. «Удалось!» «Сорвалось!» — этот туман
азартной игры заволок собою от политиканов и политиков несчастья нашей
родины, а сами политиканы и политики заслонили собою от Европы и Рос-
сии здравый русский смысл, спокойный русский смысл.
Какое множество лиц появилось на фоне нашего парламентаризма, о
которых Россия ни разу не услышала до дня этого парламентаризма. И с
другой стороны, Россия не увидела в своем парламенте никого или почти
никого из тех, кого она привыкла чтить, уважать ранее парламентаризма.
Душа русская, талант русский во всяком случае в нем не представлены. Вот
наше горе! И как не представлены лично талантливые русские люди в пар-
ламенте — так, можно думать, в нем и вообще не представлены талантливые
стороны русской души. Кажется, больше всего в парламенте выражены свар-
ливость, бранчливость, крикливость улицы. О знаменитом русском благо-
душии и не слыхать! Как будто его и не бывало, как будто это был миф!
Благодушие русское вовсе «не представлено» в парламенте, и эта частица
русской души, не худшая, кажется, горько плачет где-то в уголке, совершен-
но «провалившись на выборах». И поделом тебе, скромница: ты не умела ни
кричать, ни орать, тебя и не приметили.
Без сомнения, сделаны огромные ошибки при установлении системы
выборов. Все было вновь. Всему мы только теперь учимся. Совсем иное
дело — прочитать о парламентаризме по книжке или испытать парламента-
ризм на деле. Напр., эта двухстепенная система выборов и то, что в выбор-
щики можно выбирать только лиц, живущих в том же выборном районе, где
и податчик бюллетеня, эта система имела последствием то, что весь образо-
ванный Петербург почти весь подает и завтра подаст голоса отнюдь не за
тех лиц, коих каждый считает наиболее желательными в народном предста-
вительстве, а за каких-то подсунутых им кандидатов от партий, о которых
подающий бюллетень обыкновенно не имеет никакого представления, ни-
какой с ними связи, не имел никогда личного общения! Подача голосов сде-
лалась «втемную», — и через это она сейчас же попала в руки сведущих
«знатоков дела», т. е. «партий» и их организаций. Голосует Россия: но голо-
сует-то она не за почетных в России людей, дорогих каждому русскому че-
ловеку, не за заслуги, не за талант, не за ум, не за высокую привязанность к
родине, а за «октябристов», «кадетов», «социалистов»... Это все подсунуто.
Это все сделалось и сделано помимо воли людей, которые понесут завтра
бюллетени. Именно этим, т. е. совершенною неизвестностью для выбираю-
щих людей тех лиц, которые указаны им со стороны партийных организа-
280
ций, и объясняется в значительной степени огромный процент лиц, вовсе
отказывающихся подать свой бюллетень, не участвующих в выборах, не-
смотря на принадлежащее им право. Просто русские люди оказались не так
глупы, как рассчитали партии: они оставляют бюллетень лежать у себя в
кармане, вместо того чтобы положить его в урну для чьего-то удовольствия,
и отнюдь не для своего удовольствия. Множество русских людей не хотят
«оказать любезности» партиям, может быть, равно презирая все партии и
любя горячо Россию; но вот для «любви-то к России» и нет бюллетеня, не
заготовлен бланк и, словом, нет никакого способа выразить свою любовь к
России через формы нашего парламентаризма.
Всей России известные люди часто и почти всегда неизвестны населе-
нию той улицы, на которой они живут. Улица их и не выбирает; с другой
стороны, «вся Россия» также не может их выбрать, ибо она обязана выби-
рать только по участкам. «Знаменитые люди» остаются «за флагом» парла-
ментаризма. А выбираются какие-то «известные своей улице» люди, юркий
адвокат Иванов или врач Петров, и «представляют русский народ». Где жил
Менделеев? Этого России и даже Петербургу неизвестно. Это известно было
только десятку и много сотне лиц, лично знакомых с ним семейно или кото-
рые к нему приходили по делам, но которые, к несчастью, жили все не на
Забал канском проспекте, где он жил. На Забал канском проспекте лавочни-
кам, домовладельцам, приказчикам, ремесленникам, даже учителям школ и
гимназий вовсе не известно было, что среди них живет автор книги «К по-
знанию России». Они бы его выбрали, — но не могут, ибо вовсе им не извест-
ны знаменитые люди, живущие в их участке. И они выбирают своих «уча-
стковых людей», в своем роде «не помнящих родства Иванов». Получилось
«участковое представительство», а не всероссийское. Им быстро овладели
партии, партийность, которая не справилась бы с русским умом; ну, а об-
стричь шерсть с участкового обывателя — это могут партии самые заваля-
щие. «Вы нас обмеривали на коленкоре, а мы вас обмеряем на парламента-
ризме». Так и случилось. Уже через год появилась разочарованность в пар-
ламентаризме; но она нисколько не относится к существу парламентаризма,
к существу конституционализма, а только к крайне неудачной системе вы-
боров, нами принятой. И все друзья русской свободы, настоящей ее свобо-
ды, через немного лет подадут свои бюллетени за единственную партию,
настоятельно нам нужную, которая лозунгом своим напишет одну строку:
«Реформа избирательной системы».
В прошлые выборы торжествовавшая кадетская партия провела в Г. Думу
двух безгласных кандидатов Н. Кареева и Кедрина. Кедрин пребывал со-
всем безгласным, а Кареев раскрывал рот для глупостей. Неужели кадеты,
прошедшие в огромном большинстве в выборщики, не могли назначить
никаких других имен? Неужели в Петербурге, где столько высших учебных
заведений, публичная библиотека, музеи, где сосредоточена печать, где есть
светила администрации, публицистики, финансов, промышленности, тор-
говли, где живет столько авторов замечательных или любопытных книг, —
281
неужели в этом Петербурге не нашлось пяти людей умнее двух болтунов,
Кедрина и Кареева, и одного дотоле никому не известного адвоката Винаве-
ра? Будь бы так, можно бы Петербург назвать самою скудоумною столицею
в Европе, ничтожнее Белграда и Бухареста. Но вот, видите ли, секретному
организационному комитету кадетской партии нужны в Г. Думе именно пеш-
ки, а не головы: ибо самостоятельная голова может и не пойти на привязи
этого организационного комитета, не поплестись вслед за «умницей» Ми-
люковым, уму которого, впрочем, Россия поверила в кредит. Этот честолю-
бец довольно мелкого разбора и «умница» не в широкой государственной
политике, а в закулисной интриге не захотел рисковать, выпустить из своих
рук ниточки, за которые он дергает кадетскую партию. Талант в кадетской
партии ему решительно не нужен; он, видите ли, сам талант, «я сам». Этот
«я сам» указал на безгласных рыб, Кедрина и Кареева, которые не могли не
поцеловать у него ручку за выбор и уж ни в чем не перечили своему барину.
Проф. Петражицкий, как поляк и католик, как тоже профессор и всего толь-
ко профессор, не мог составить противовеса Милюкову, который «страдал»
в тюрьме. Ниточки остались в руках Милюкова: ибо, сорганизовавшись рань-
ше и прочнее других, столичный организационный комитет кадетов, есте-
ственно, уже «принял в свои объятия» выбранных по другим городам каде-
тов и, таким образом, всю эту охапку пешек понес в место, какое ему нужно
было, к провозглашению лозунгов, требований, выкриков, какие ему были
нужны.
Что такое Милюков лично, «я сам» — это мы видели в «Речи», и вся
Россия, весь Петербург это видел. Совершенно обыкновенная форма ума.
Конечно, не глуп. Но ведь кто же особенно-то глуп теперь? Разве «пешки»
кадетской партии. Милюков есть что-то серое, тусклое, именно не яркое, не
гениальное. Ни черточки таланта, талантливости. Это сколок, но только воль-
ный общественный сколок с тех господ в нашей бюрократии, которые
передвигались от тайного советника к действительному тайному советнику
и умирали членами Государственного Совета. Точь-в-точь, ни тени отличия.
Только прежде заслуживались ордена, теперь заслуживается голосование, и
прежде это делалось на «выходах» во дворцах, на парадах и военных смотрах,
а теперь на митингах и еще вернее, безошибочнее — в «предварилке» или
«Крестах»... «Такой умный человек страдает»... «Умный человек»
помалкивает, и иной «умница», может быть, оттого и сидит полжизни по
тюрьмам, что у него талант весь скрыт, если позволительно так сказать, в
«органе сиденья». Вот это крепко и основательно. А во всей России кричат:
«Какая основательная голова!»
Ну, и пройдут завтра кадеты, и начнется опять «кадетская масленица»...
Но пока у кадетов «масленица», не прекратится у России великий пост.
282
ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ В Г. ДУМЕ
Все обещает, что зрелище новой Думы будет гораздо интереснее, поучи-
тельнее и содержательнее первой Думы, которая решительно вышла «не-
удачно испеченным первым блином». В той Думе раздавался монолог, весь-
ма скучная форма выражения человеческой души, если автор монолога не
имеет гения и если самый монолог становится продолжителен. Когда пер-
вая Дума собралась, явилось что-то похожее на растерянность даже у каде-
тов: «С кем же мы будем спорить, когда мы одни?» Задирающий тон кадет-
ских ораторов в отношении министров в значительной доле своей объясня-
ется именно тем, что парламент есть, естественно, арена борьбы и спора и
что в составе самого парламента вовсе не было условий для проявления та-
кой борьбы. Так было в последние майские и первые июньские дни прошло-
го лета, самые важные, когда определялся тон парламента. За неимением
условий для внутренней парламентской борьбы бросились во внешнюю, с
министрами и министерством, — и дело быстро дошло до конфликта. В
настоящее время эти условия вовсе изменились. И без министров у кадетов
будет много работы с «левыми» и «правыми», и уже сейчас мы не слышим в
тоне кадетской печати того расточения лести в сторону «друзей слева», ка-
кая была весною и летом прошлого года, в пору выборной кампании и сей-
час после нее. Комплименты пришлось бросить и назвать «врагами» и «опас-
ными врагами» тех, кто и никогда не был другом. С другой стороны, «трудо-
вики», голосуя с кадетами, как и обратно получая уступки от кадетов, не
нападали на них с думской кафедры даже и при наличности неприязненных
и острых чувств. Вторая Дума в этом отношении явит резкий контраст с
первою: уже при выборах обостренность вылилась наружу, и теперь две эти
партии бросятся друг на друга в самой Думе. Наши монтаньяры и жиронди-
сты заговорят своими натуральными голосами и более чистосердечно. На-
конец, те и другие должны будут оглянуться направо.
«Страна за месяцы столыпинского управления еще полевела», — заяви-
ли или неумно, или лицемерно кадетские лидеры и органы, учитывая в свою
пользу недогадливость простаков, забывших, что в прошлогодние выборы
все социалистические партии бойкотировали Думу и указали рабочим воз-
держаться от голосования. Теперь эти же рабочие были двинуты к урнам, —
и прошли едва ли не в меньшем количестве, чем прошли бы в прошлом году.
«Страна поправела» совершенно определенно и на всем своем протяжении,
и главною причиною этого следует считать поведение первой Думы, высоко
взвившейся кверху мыльным пузырем, который лопнул очень скоро. Год —
не малое время среди такой страды. Народ увидел ясно, что Дума не всемо-
гущественна и что она не воспользовалась тою долею могущества, которая
у нее явно была и была признана за нею правительством. Народ осудил Думу
и ее вождей прежде всего как неумных хозяев, не умевших распорядиться
своим достатком, своим наличным имуществом; из тона министерских от-
ветов он ясно видел, что правительство чрезвычайно считается с Думою,
283
считает для себя рискованным и нежелательным ее роспуск, старается избе-
жать его, насколько это возможно; и что в то же время думские ораторы
несутся вперед, как конь без узды в чистом поле, не видящий препятствий и
уверенный, что не будет препятствий. Вся Россия решительно осталась спо-
койною после роспуска первой Думы, когда ораторы ее кричали, что лишь
одна наличность Думы отделяет Россию от зарева кровавой анархии и все-
общего народного восстания, — это слишком памятно и непререкаемо. Бун-
ты кронштадтский и свеаборгский стояли вне всякой связи с наличностью
или с роспуском Думы: это были подготовленные во время самой Думы и
вне предвидения ее роспуска бунты, дело рук революционеров, действовав-
ших, не спросясь у Думы и нисколько не сообразуясь с ее судьбою. Словом,
это одна из сказок нашей революционной Шехерезады, рассказанная вне
курса парламентаризма. Народ был явно раздосадован за роспуск первой
Думы, основательно приписал этот роспуск поведению депутатов первой
Думы, скандально-шумливому, а не деловитому, и совершенно определенно
это выразил, не выбрав вторично прежних депутатов во вторую Думу. Нам
кажется, все эти признаки, обрисовывающие политическую физиономию
страны, до такой степени ясны, что можно лишь умышленно отводить от
них глаза в сторону.
Страна, несомненно, «поправела», и в депутаты Думы прошли такие
редкие фигуры старой России, которые ни в каком случае не будут там мол-
чать и скажут свою критику как крайним левым, так и кадетам. Историчес-
кая и национальная Россия не пребудет безгласна во второй Думе, как она
была безгласна и вовсе не представлена в первой Думе. Мы вообще радуем-
ся, что в нее вошло несколько резко очерченных лиц как справа, так, по-
видимому, и слева, и эта вторая Дума будет ярче первой, цветистее и, может
быть, талантливее. Она во всяком случае будет драматичнее, а судьба ее,
наверное, продолжительнее. Роспуск первой Думы, после которого ничего
не произошло, дал опыт правительству, и члены Думы будут знать, что этот
опыт у правительства есть и что второй шаг делается обыкновенно легче
первого. «Языков, дурно повешенных» будет поэтому там менее. Каждому
депутату, естественно, хочется просидеть в роли депутата два и три года,
может быть, пять лет и вовсе не хочется через несколько месяцев очутиться
в роли «разжалованного», как говорили мужички-депутаты, собиравшиеся
из Петербурга «восвояси» в июле месяце. Уже теперь «оппозиционные» га-
зеты все хором говорят, что «тактика новой Думы будет осторожнее», хотя,
добавляют, и «грознее». Добавление можно принять за «хорошую улыбку в
плохой игре», по известной французской пословице. Кто же говорит прямо:
«Я боюсь», «мы боимся». Всякий отступает «с намерением атаковать». «Оп-
позиция», несомненно, сошла с прежних позиций, и она отошла назад, от-
биваясь от натиска национальных чувств и государственного смысла. Все
это, несомненно, в России выросло. Число поданных бюллетеней за лиц
национального самосознания несоизмеримо с прошлым годом, и на этот факт
не могут не оглянуться и крайние левые.
284
Мы, несомненно, выходим из фазы политического романтизма и всту-
паем в фазу реальной политики. Поворот этот только что начался, но уже за
один год сделал огромные успехи. Вся надежда в нем. Государственность
русская — это дорогое тысячелетнее здание, которое стоит защищать. Госу-
дарственность русская — это сама Россия; и многомиллионное население
бессильно без государственности. Вот почему мы верим, что этнография
русская, выславшая сынов своих в Думу, не разойдется с государствен-
ностью, не бросит и не станет топтать свой железный щит.
ГРАНИЦЫ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
И ПАРТИЙ
Всякое время имеет свою задачу, и в настоящую минуту своей истории Рос-
сия и все русские, все наши партии и все слои и классы населения, должны
сосредоточиться на одной громадной работе: создании твердого и спокой-
ного, широкого и творческого конституционализма. Нужно, чтобы это вы-
разилось в законах, необходимо, чтобы это укрепилось в нравах; важно, что-
бы каждый русский развил в себе конституционную совесть, конституцион-
ную совестливость. Это — задача на ближайшее время. Перед этою задачею
все другие вопросы и вопросики, с которыми жадно устремились к Г. Думе
разные классы и профессии, состояния и сословия, разные партии и разные
степени культурного образования, должны отойти на второй план. Все это
— потом, всему этому — второй час, а первый час должен быть отдан кон-
ституционализму, конституционному утверждению. Развязанный получил
свободу ходить: нужно, чтобы он выучился ходить. Только с этой точки мы
критикуем все партии. Только с этой точки зрения мы критикуем кадетов,
находя в их оппортунизме и мелком политиканстве нездоровый элемент и
самый скверный залог будущего конституционализма. Не того ожидалось
от открытой и честной русской души. Каковы бы ни были политические
успехи этой партии, нравственная роль их кончилась, и, кажется, об этом
одном нет спора между крайними левыми и правыми. Кадеты не «предста-
вили» собою, говоря парламентарным языком, нравственной стороны рус-
ского народа; а за вычетом ее всякое другое представительство будет более
или менее мелким и недолговременным. Кадетская партия не живуча. Это
— не народная партия, а литературно-салонная или литературно-гостинная.
И во время первой Думы мы отдавали нравственное преимущество ле-
вой части ее. Но только — нравственное, так как эта группа была чужда
двоедушия, политиканства и притворства кадетов. Несчастие левых заклю-
чается в том, что они варятся только в собственном соку и изготовляются
только на собственном масле. Вследствие этого они могут быть очень хоро-
шими людьми, но это несчастие их изготовления делает их совершенно не-
годными к конституционной жизни и деятельности. Они не работают на
машине, а ломают машину. Самая суть конституционализма заключается в
285
способности к координации своих сил и своих даров, своих убеждений и
требований с силами, способностями и убеждениями других и даже враж-
дебных партий или людей. До известной степени конституционализм мож-
но определить как доброе соседство. Методы конституционализма суть ме-
тоды доброго соседства, согласного и разумного сожития, где никто не ба-
рин и никто не раб, где уступают друг другу, уважая один другого. Консти-
туционализм умеряет жар и лихорадку общества. Представьте же себе
конституционную машину, попавшую в руки господ, которые никакого со-
седства не признают, ничьими не хотят быть соседями, а хотели бы все разо-
рить и остаться на разоренном месте одни. Это — типичные монархисты в
той фазе монархизма, какая царила в Золотой Орде у Батыя. До некоторой
степени — наши и европейские «ордынцы». Их так и именуют на Западе
«ордою вандалов», а Спенсер, в предвидении их господства, написал проро-
ческую книгу «Грядущее рабство». Эти господа хотят своего господства и в
равной степени хотят угнетения и рабства всех других. Такие умы, как Ма-
колей и Карлейль, не расходились со Спенсером в оценке крайних левых.
Несчастие их, как мы заметили, заключается в том, что они варятся только в
собственном соку и не только не признают, но даже не видят никакой другой
психологии, не говоря уже о признании других интересов.
Вот эти-то монархисты слева, эти наши левые ордынцы, и угрожают
всего более утверждению конституционализма в России. Уже первую Думу
они бойкотировали, т. е. не пошли в нее вовсе, и, следовательно, отвергли в
принципе самый конституционализм. Во вторую Думу они не только по-
шли, но жадно хлынули. Предлагаем им оглянуться на то, почему они это
сделали. Только потому, что увидели, что Монарх сдержал свое слово, что
он не обманул народ свой, как они клеветали на него перед первою Думою,
оповещая весь свет, что эта Дума только подделка под парламент, что по-
прежнему у нас будут царить «становые, жандармы, исправники» и т. п. betes
noires1 всех левых. Вообще ордынцы представляют все себе в ордынских
чертах. Они во вторую Думу хлынули потому, что из судьбы первой Думы
увидели, что свобода — есть, что свобода — факт, что Дума неприкосно-
венна и что члены ее совершенно неприкосновенны, что бы ни говорили в
Думе. Тогда эти малые политики и симпатичные человеки, эта смесь озор-
ства и великодушия, хлынули на выборы. Но для чего? Весь Петербург слы-
шал и слушал на предвыборных собраниях, как они совершенно открыто
говорили, что Дума нужна им не сама по себе, но как кафедра для возвеще-
ния всему миру знаменитых их убеждений и еще как центр, около которого
может начаться «организация народных сил» для целей, ничего общего с
конституционализмом не имеющих и приблизительный очерк которых свет
узрел в Кронштадте и Свеаборге. «Сарынь-на-кичку», как уже формулиро-
вал Разин формулу «всероссийского пролетариата». В русском социалисте
удивительным образом смешались святой, разбойник и фантазер. Все эти
1 страшилища (фр.).
286
поползновения есть в партии. Что же делать с этим правильной государ-
ственности, конституционализму?
Быть осторожным, не играть с огнем и стоять, как на камне, на твердой
и великой задаче для этих ближайших лет — утверждения конституционно-
го строя в России. Конституционализм может сказать о себе то, что говорит
все живое и все убежденное: «Кто не со мною, тот против меня». Ни один
механизм, никакая партия, никакая организация, никогда не допустит в себя
с распорядительными функциями такую силу и такую власть, которая отно-
сится пренебрежительно или даже враждебно к существу этой организации
и к задачам ее существования. Этого не бывает, и никто этого не допустит.
Вправе не допустить этого и парламент, конституция. Пожаловали в Таври-
ческий дворец от имени конституции и по правам ее ведите себя конститу-
ционно; вошли в парламент — ведите себя в нем парламентарно. Это закон,
его же не прейдеши. Все неконституционное не должно быть терпимо в пре-
делах конституции; все антипарламентарное должно быть исключено из
парламента. Посему ни в какое орудие парламент не должен себя допускать
обращать. Это честь его и достоинство. Без этого он потеряет и честь и дос-
тоинство. Здесь находят свое ограничение и лозунги, раздавшиеся от левых
в первой Думе: «Мы — уполномоченные от народа»; «Мы — избранники
народные», «Народ нас послал, чтобы мы добыли ему» то-то и то-то, следу-
ют пункты социалистической программы. Все это вздор. Народ выбрал и
мог выбрать представителей в Думу только для законодательной работы, и
больше ни для чего; и вне этого воля народа, даже если бы она была и заяв-
лена и засвидетельствована документально, перестает быть волею полити-
ческою и становится волею сказочною. Народ, в такой массе еще безграмот-
ный, может, конечно, отправить депутатов достать ему Жар-птицу или не-
видимый град Китеж, с такою «волею народа» парламенту нечего делать и
вообще нечего делать русской государственности. Русская государственность
может отвечать на желания народа только государственные же слова, в пре-
делах государственности и государственным языком сказанные. Все прочее
вне языка и вне дел государства. Молочных рек с кисельными берегами, на
что так походит будущий социальный строй, парламент русский не может
открывать «народу» и его депутатам. Вернитесь к земле, гг. депутаты, к зем-
ным нуждам и делам. Иллюзии общего характера, которые едва ли и могли
возникнуть у народа самостоятельно и, без сомнения, навеяны на него в
предвыборную кампанию из марксистских книжек, должны быть оставле-
ны, как и град Китеж.
О «СНЯТИИ САНА» СО СВЯЩЕННИКОВ
В газетах прошло известие, что Св. Синод, рассматривая дело священника
Гр. С. Петрова, между различными против него «мероприятиями», возбу-
дил и вопрос о «снятии с него сана». Но по этому вопросу голоса раздели-
287
лисы тогда как прочие члены Синода стояли за эту «меру», против нее выс-
казались митрополит Антоний и обер-прокурор Синода г. Извольский. Воп-
рос остался в своей вопросительной форме, не получив ни твердой точки,
ни патетического восклицательного знака. Походим около него и мы.
Священник Петров имеет свои большие основания не снимать с себя
сана. Здесь вовсе не желание, как думают некоторые литературные мальчи-
ки, удержать рекламу для своих книг и публицистической деятельности, а
совсем другая мысль, очень глубокая: показать на личном примере, на прак-
тически-жизненном факте, что «священство», «благодать священства», цер-
ковное «иерейство» и, следовательно, сущность самой «церкви» в ее офи-
циально-служебном значении и открытом исповедании отнюдь не сливают-
ся с каким-то черносотенным обслуживанием приблизительно «союза рус-
ского народа» или «партии русских монархистов», а гораздо шире, свободнее
и вообще совсем иное, нежели сущность этих партий. Протоиерей Востор-
гов, в своем человеконенавидении, ведь как свободно плывет, «не снимая с
себя сана», не чувствуя расхождения «благодати священства» с программою
приблизительно д-ра Дубровина. Вот священник Петров и говорит, и имеет
должность сказать, чисто в апологетических целях, в целях защиты и ох-
ранения зерна христианства и зерна церкви: «Отец Восторгов выражает в
своих речах и деятельности не сан иерейства, а только свою личность; а что
это так, так вот и доказательство: я несу те же самые дары священства в
себе, ту же благодать, сан иерейства и между тем говорю и делаю совсем
иное, чем он, — люблю свободу, думаю о рабочем классе, не пекусь о бога-
тых и сильных, не раболепствую перед властью, не враждую с наукою и
искусством. Иерей — он, иерей — я; что же такое иерейство, церковность,
— это остается или сомнительным, или, во всяком случае, не подчиняется и
не сливается с восторговским исповеданием».
Вот почему о. Петров не снимает и не должен снимать с себя священ-
ства. На его месте, если бы с меня сняли священство, я немедленно объявил
бы: «Это — церемония; она совершена, но не значаща. Я посвящен в свя-
щенники, принял благодать Св. Духа, чту ее, ношу ее. И остаюсь священни-
ком по-прежнему, остаюсь им и в сюртуке, как ходят в сюртуке православ-
ные заграничные священники, отнюдь не лишаясь через эту перемену пла-
тья иерархического своего положения».
Словом, священник есть священник, докуда он сам, внутренно и сердеч-
но, не отрекается от него; не хулит внутренно в уме и сердце даров Св. Духа
им воспринятых. Позвольте, это слишком было бы просто и «бумажно», если
бы «благодать», «Св. Дух», «таинство» и все прочее, что связывается с на-
родным и церковным представлением «священства», двигалось туда и сюда
созидалось и разлеталось по мановению консисторской бумажки. Что это за
«Св. Дух», который сидит в консисторской чернильнице? Какой-то цинизм,
циничное представление дела. И вот, не перекрестясь и даже сплюнув на
сторону, секретарь духовной консистории поддевает «Святого Духа» кончи-
ком пера, пишет что-то, и, смотришь, «Дух Святой», и «благодать», и «свя-
288
щенство» слетели со священника Петрова. Очень элементарно все. Все так
просто, грубо и светско, что, очевидно, у думающих так ни малейшей нет
веры ни в «Святого Духа», ни в «благодать», ни в «священство». — «Так,
слова одни, которыми пользуемся на глазах дураков и в которые сами нис-
колько не верим».
Я пишу все это потому, что некогда, в старые годы, пережил глубокое
чувство «священства», — исповедание его, что вот «Св. Дух», и «благодать»,
и «сан» посредничества между человеком и Богом... Так что мне это, по
прежнему духовному опыту, понятно в своем внутреннем строении, понят-
но «посвящение в сан», «снятие сана»... Точнее: «посвящение»-то понятно,
но вот что можно «снять сан», отделить от «благодати», однажды восприня-
той, — это не только не понятно, но представляется такою дикою вещью, о
которой и ни мыслить, ни говорить не умею. С теперешних моих точек зре-
ния, — увы! — гораздо более грустных, — это можно, ибо ничего никогда и
не клалось, не воспринималось, иначе как словесно и церемониально. Но
ведь я — свободный писатель, а члены Синода суть члены Синода, и моей
логики они, конечно, не придерживаются. Не придерживаются, а по ней
поступают или думали поступить. С моих точек зрения, и на них самих ни-
какой «благодати» не лежит, никакого при них нет «Св. Духа», отчего, меж-
ду прочим, они и колеблются, как простые смертные: «поступить ли так,
поступить ли этак», стараются поступить «осторожнее», «не ошибиться».
«Дух Святой наставит вас во всем», — сказано апостолом о настоящем
посвящении и настоящих посвященных. А они колеблются. Итак, с моих
«грешных» точек зрения, с точек зрения ослабшего в вере человека, ника-
ких вообще «санов» нет, а когда нет, то опять же члены синода могут совер-
шить только процедуру, церемонию или написать бумагу, отчего или ничего
не произойдет, ибо и вообще тут нечему происходить, или если бы было
чему произойти, то оно не произошло бы по отсутствию в них самих насто-
ящего посвящения, настоящего апостольства...
Позволяю себе сказать все эти откровенные мысли, пользуясь законом
объявленной свободы религиозного исповедания и ни малейше не маня кого-
либо согласиться со мною. «Так, свои мысли», — без всякой пропаганды и
лишь по поводу священника Петрова.
Священник Петров выступил как истый апологет церкви и христиан-
ства:
— Не разбегайтесь! Куда вы? Стойте! Не все еще потеряно, и добро, и
зло вечность живут в церкви, даже иерархически живут, по должности, в
исповедании и в сане. Можно и иереям не только громить просвещение, —
чего никогда не возбранялось и за что ни один священник не был лишен
сана, — но можно, нося сан иерея и не снимая рясы, говорить и за просвеще-
ние. Низкопоклонство и чинолюбие всегда совмещалось с пастырством, с
епископством, и не было еще случая, чтобы со священника или архиманд-
рита сняли их сан за чрезмерную лесть вельможам, сановникам и милли-
онерам-купцам, но в этом исповедание церкви не лежит, и она так же точно
10 В. В. Розанов
289
не снимет сана за принадлежность к народу, даже за угоду и лесть черни, —
принимая все обвинения без поправок, как они оказываются. Да, с точки
зрения церкви, можно льстить генералам, но можно льстить и черни с ее же
точки зрения; т. е. ее точка зрения стоит выше этого и того, и она просто
этих вещей не судит, как частности и слабости личного характера и характе-
ров. Церковь вне этого. Выше этого. Святее этого. А что она не толкала к
лести генералам, не стлала церковный коврик перед пилигримами к силь-
ным мирам сего, то вот свидетельство этому: я — иерей, не гонимый церко-
вью, хотя свободолюбив и народолюбив. Принимаю все нарекания на меня,
в самой их жесткой и оскорбительной форме: ну, я льстец перед народом,
демократический интриган, либерал-поп. Больше ничего не говорите? До-
вольно? Так не снимайте же с меня сана за это, когда все это даже и правда,
если не хотите, чтобы все и сейчас же заговорили, закричали:
— Церковь любит лесть перед знатными, интриги в передних богатых
каменных домов, на парадных дворцовых выходах. Она только народа не
любит, народного, а не то чтобы не ненавидела существо лести и угодниче-
ства. С Петрова сняли сан нелично от себя иерархи, а иерархи по уполномо-
чию церкви и от лица церкви, следовательно, этот путь лести перед знатны-
ми и сильными мира сего указуется самою св. православною кафолическою
церковью... как ее канон, закон и нравственное учение...
Нетрудно было бы понять, что это было бы как бы пожар церкви. И
печально загудит народный колокол.
СОВЕТЫ «ОСТОРОЖНОСТИ»
В ЛЕВОМ ЛАГЕРЕ
Судьба второй Думы, в смысле устойчивости ее существования, так же или
приблизительно так же важна для судеб вообще конституционализма в Рос-
сии, как для морского могущества России была когда-то важна судьба эскад-
ры Рождественского, плывшей на Восток... И как тогда за кораблями следи-
ла вся Россия, затаив дыхание, так друзья здорового прогресса следят за
гаданиями разных партий о Думе и от суждений в партийных органах печа-
ти умозаключают к вероятному поведению партий в Таврическом дворце.
Существует полная уверенность в партиях, и в том числе в левых и крайних
левых, что Дума будет безусловно распущена, если она будет повторением
первой Думы в смысле крикливости, дерзости, бесплодности и совершенно
безграничной претензии депутатов, отправляясь из Петербурга в провин-
цию, мутить население и призывать его к вооруженному сопротивлению
государственной власти. Эти смешные наезды на губернию под флагом де-
путатской неприкосновенности звались тогда «организованием народных
сил» около Думы. Теперь, по-видимому, самые крайние отказались от мыс-
ли совершать все эти эксцессы. Мысль о роспуске Думы, который, конечно,
нанесет сильнейший удар парламентаризму в России, устойчивости консти-
290
туционных чувств в стране, нежели государственности и даже чем бюрок-
ратии, стоит над всеми партиями грозящим призраком. Левые и кадеты мо-
гут быть совершенно уверены, что ненавидимые ими октябристы совершенно
так же смущены и испуганы, как и они, этою возможностью в борьбе за
конституционный строй чего-то похожего на Цусиму. С чиновником, кото-
рый довел Россию до Севастополя и Мукдена, никому остаться не хочется.
Все хотят гражданства, свободы. И, может быть, вся разница между «октяб-
рем» и «маем» заключается в том, что октябрьская партия думает о России,
желает иметь государственный корабль, вообще держится государственных
точек зрения, тогда как все «майские» фракции ничуть не стесняются гово-
рить, что они выражают «классовую борьбу» и идут в Думу представить
«классовые интересы». Кто бы ожидал, что наши социал-демократы, обе-
щающие рай на земле, в сущности, стоят на почве архаического или, точнее,
догосударственного сословного представительства. Все эти «крестьянские
союзы» и «рабочий пролетариат», как и «латышская республика», отбрасы-
вают нас назад за десять веков, когда при печенегах и половцах было много
автономных земледельческих общин и в каждом городе была своя респуб-
лика. На невинные первобытные нравы, может быть, это было и ничего, не
было мукою и безобразием: ну, а в XX в. это обещает только «сарынь-на-
кичку» и всеобщую «экспроприацию» кошельков. Вообще это будет строй
хорошей бойни, и даже в случае полного «исполнения желаний» он распро-
странит такой запах дегтя, ваксы и машинного масла, от которого задохнут-
ся все остатки прежних свободных профессий... Конечно, при «исполнении
желаний» ни от науки, ни от художеств и литературы не останется и следа.
Зато печенегов будет много. «Кровушки» будет довольно, кровью ульются
все, пока какой-нибудь Японец или Китаец не придет к нам новым Батыем и
с монгольскою жестокостью не произведет «сарынь-на-кичку» самим ле-
вым, всем вообще и всех сообща, не вникая в разницу большевиков и мень-
шевиков.
Колесо истории вертится. Задержим взгляд на сегодняшнем его пово-
роте.
Кроме совершенно сумасшедших или совершенно не желающих ника-
кого добра России (можно и до этого дойти в «классовой борьбе», черной и
красной), все остальные члены партий и, следовательно, огромное большин-
ство членов имеющей собраться через несколько дней Г. Думы должны слить-
ся на этом желании: продлить вторую Думу насколько возможно дольше. С
этой точки зрения мы считаем исторически правильным и политически зре-
лым лозунг призыва к осторожности, даваемый почти всею левою печатью.
«Величайшая осторожность, — пишет сегодня «Товарищ», является тем
огромным приобретением, которое сделали за это время левые партии и ко-
торое сулит им верные победы». Газета оговаривается, что она разумеет «ос-
торожность в хорошем, а не в дурном смысле». Ну, кто же дает советы «в
дурном смысле». Оглянувшись на свою прошлогоднюю тактику, газета мо-
жет припомнить, что вместе со всеми другими левыми газетами, не исклю-
10
291
чая и кадетских, она именно подзадоривала Думу и ее членов, этих разных
Сидельниковых и друг., к задору, дерзости и выходкам, включительно до
драки с полицией на улицах. Мы тогда же осмеивали и негодовали на эти
совершенно шутовские эксцессы, абсолютно бессмысленные в политичес-
ком отношении и совершенно оскорбительные для свободы, если она сколь-
ко-нибудь нужна для человека: «Товарищ» и другие левые газеты кидались
на нас за это со злобою. Но сколь бы они ни ежились теперь, а порядочность
не может не заставить их сознаться, что право было именно «Нов. Вр.» со
своими предостережениями, а не они со своими потаканиями и что, сняв-
шись со своей слишком передовой и рискованной позиции, они отошли в
тактическом отношении на ту самую позицию, на которой всегда мы стояли
и с которой в нынешнем году мы не чувствуем надобности отступать ни на
шаг назад против прошлого года. Слова эти мы говорим без всякого злорад-
ства и без намерения обидеть левых: говорим просто как старшие младшим,
немножко с мыслью «молодо — зелено». За нами 30-летний опыт. «Мышо-
нок, не видавший света...» — эту строку из нравоучительной басенки Кры-
лова левым следует зарубить у себя на носу. Пусть они приходят в Думу и
излагают свои мысли не оскорбительным ни для кого языком. Страна их
послушает, рассудит. За вторыми выборами будут третьи и четвертые, и че-
рез выборы народ даст свой ответ левым. С Думой открыта безграничная
свобода слова и мысли. Зачем же мысли являться в отрепьях, в хулиганском
виде. Пусть и социальная и радикальная мысль оденется в золото настояще-
го ума, настоящей силы слова. Говорят, у них есть ораторы. Послушаем.
Джапаридзе и Рамишвили во всяком случае не нужны, ибо они оказались ни
для кого не интересными. Нужен ум, сила, логика и художественно выра-
женный темперамент. Последнего не нужно забывать, именно добиваясь
успеха, ибо пьяный темперамент никого не займет. Парламент — не улица.
Раз ошибиться не грех, но только дурак трижды ошибается на одном. Все
партии должны сойтись на одном лозунге: революция если и продолжается,
то только идейная; с открытием Думы закрылась физическая революция.
ПРОВОДИЛИ
14 февраля, в половине 1-го часа дня, громадное здание Варшавского вокза-
ла в Петербурге начало наполняться народом. Публика: простолюдины, уча-
щаяся молодежь обоих полов, писатели.
Разве не знаете: провожают свящ. Гр. С. Петрова.
И полиции много. Нет, однако, провожаемого. Недоумение, ожидание.
И вот минут за 20 до отхода поезда, поднимаясь серой шапкой над громад-
ною толпой, показалась фигура любимого священника: в оленьей дохе, мо-
лодая, здоровая, крепкая, народная. Точно «дегтем» пахнет от человека, се-
лом. А лицо образованное, книжное; только не утомленно-книжное, а под-
вижно-книжное, деятельное. И от проводов «деготком» попахивало: один
292
мужичок, все тыкая пальцем в доху священника Григория, кричал ему в спи-
ну: «Спасибо за проповеди! Большое наше спасибо! Не оставили словом!
Никогда не забудем!» Другой, с огненными глазами и цыганским лицом,
кажется сектант (я видел его возражающим на миссионерских собеседова-
ниях), говорил, обращаясь к народу, окружающим:
— Кабы тридцать или сто таких священников, как батюшка Григорий,
— большое бы дело можно сделать.
— Какое дело?
Глаза его бегали, лицо улыбалось. Почти наверное это был хлыст, хлыс-
товский пророк: я видал его в прениях именно по поводу «заблуждений»
хлыстов.
— Это что, — смеялся он, оглядываясь на собравшийся народ. — Цве-
точки! Да и цветочков мало! Но есть\ Будут ягодки, поверьте, будут.
Он совсем уходил. Движения быстрые, нервные.
— Будут, но какие яблоки!
Он хотел сказать что-то лукавое и неуловимое. Что-то грозящее, но имен-
но неуловимое. — «Большой бы человек был, да жаль, — жулик», — поду-
мал я.
Я протеснился к священнику Петрову и взял его под руку.
— Ничего?
Смеется. У него нет громкого смеха, а улыбка, переходящая в смех, зато
почти постоянно на лице.
— Значит, благополучно. Ну, а выборы в Думу? Сохранено право?
Он сделался упорно серьезен.
— Сохранено. Я оставил доверенность, и лидеры партии (названы име-
на) мне твердо сказали, что для кассации нет никакого основания. Сказали
юристы.
— Значит, все исправно?
Смеется.
— Пишите, батюшка. Не забывайте нас! — гудит народ.
— Ждем весточки!
— Ждем слова!
— Прощайте!
— Возвращайтесь!
— Шшш... Шшш... Стой! Куда? Билеты, вынимайте билеты: без билетов
нельзя выходить на платформы.
Громадная толпа была остановлена шеренгой жандармов, выстроившихся
перед узеньким и коротеньким коридорчиком, ведущим к выходу на дебар-
кадер вокзала. Точно Фермопилы. И знали же, где перехватить толпу! Как
перед камнем текучая вода, — она закружилась и забурлила.
— Ваши билеты, господа!
Вдруг все догадались и массой бросились к кассе 3-го класса брать би-
леты до «Александровской» (1-й полустанок). Это чтобы только получить
право выйти к поезду и проводить «вплотную».
293
Дебаркадер моментально был залит народом.
Пищала какая-то старушка, и басил старый генерал:
— Эти дамы! Эти дамы! Пройти к поезду нельзя. Позвольте! Пропусти-
те! Задавили!
Я оглянулся: и «дам» совсем немного, да и то чуть ли не родственницы
свящ. Петрова. Да и что в «даме», разве не душа? Разве она не христианка?
И почему «дама», если жертвует на монастырь, кладет на церковное блюдо
за обеднею или ставит восковую свечку, купленную у ктитора, — это «бла-
гопотребно» и «дама» представляется как жена мироносица, а вот если она
читает книжки свящ. Петрова: «Долой пьянство!» или «Зерна добра», — то
она уже просто «дама», и притом, в противоположность гоголевской, «не-
приятная во всех отношениях».
И я любящим взглядом оглянул и «дам», и мужиков, и студентов (было
много из духовной академии), мешая всех в кучу и думая, как в детской
игре: «Мала куча».
* * *
Проводили. И хочется мне вслед доброму священнику бросить листок из
его же книжки. Это только что появившийся сборник его статей под общим
заглавием: «Камо грядеши?» Тут, мне кажется, сказалось у автора что-то
автобиографическое: как бы анонимное его исповедание. Вот эти строки:
«Я прошлым летом познакомился с одним молодым священником, талант-
ливым проповедником, писателем и ученым богословом. Он был ранее на за-
видной дороге: занимал профессорскую кафедру, имел блестящие знакомства
среди высшей аристократии, ему пророчили редкую карьеру, сулили кардиналь-
ство.
Сын каменщика, молотобойца, который всю жизнь дробил щебень при до-
рогах, он был желанным гостем в княжеских и графских домах. И когда, не-
сколько лет тому назад, в стране поднялось сильное народное движение в за-
щиту угнетенного труда, он все бросил и пошел к народу. Высшие круги обще-
ства рассчитывали найти в нем сладкоречивого и успокаивающего погонщика
для народного стада, надеялись видеть в нем духовного охранителя своего ма-
териального благополучия и, обманутые в своей надежде, озлобились сверх меры
на него. Они его корили, клеймили волком в овечьей шкуре, обливали грязью,
осыпали угрозами. Иные его молили опомниться!
— Одумайтесь. Вернитесь к нам. Вы так нужны были нам. Мы так люби-
ли вас. Куда, на что идете вы? Подумайте, что вы теряете!
— Не теряю, а нахожу, — отвечал он им. — Здесь, с вами, я действитель-
но потерял бы самое дорогое и высокое. Я потерял бы себя. Да и начинал, пожа-
луй, терять среди вашей сытости и довольства собой. Теперь довольно. Я —
сын народа и иду к моим братьям. Вы все от них взяли. Взяли довольство, взяли
ум, взяли вдохновение, взяли даже религию. И наука с ее профессорами служит
только вам, — к народным массам не доходит. Вы пристроили к себе на службу,
как лакея, и искусство: музыка, пение, картины, статуи, театры, опера, концер-
294
ты, музеи, — все это вам служит, а народу неведомо и недоступно. Вы и религию
обрекли себе на службу: народу оставлено одно суеверие. Теперь вы и мою душу
хотите взять на послуги вам. Из служителя Божией правды вы хотите сделать
меня вашим слугой, утехой вашей духовной, приятным гладильщиком и ласка-
телем вашей себялюбивой души. Нет, я не с вами, я с народом. Народ страдает,
и я хочу страдать за него. Я хочу этих страданий за народ. Мне они будут в
радость. Я буду ими гордиться. Встречу их как сверхмерную награду».
Так он говорил.
Когда я познакомился с ним летом в маленьком селенье на берегу Неаполи-
танского залива, он отдыхал там, лечился после многомесячного тюремного
заключения. И нужно было видеть, с каким спокойным, светлым выражением
лица говорил он о своих мытарствах.
— Одна беда, огорчение, — мило улыбался он, — моя мать, чудная, но
простая темная старушка, не понимает меня, все вздыхает:
— Ах бамбино, бамбино (дитя мое), как ты глупо сделал. Был на такой
дороге. Так хорошо начал. И так кончил...
— Я еще не кончил, мам, — утешаю я ее. — Я еще начинаю. А кончу я,
мам, хорошо.
— Дай Бог, помоги Матерь Божия, — успокаивается простодушная
старушка».
Нельзя не заподозрить, что под именем итальянского профессора нало-
жил легкий грим на себя священник Петров и прокричал горькую и дерзкую
правду в лицо тем, которые тысячными толпами съезжались в каретах к ар-
тиллерийскому училищу, — где он был преподавателем, — слушать его пуб-
личные чтения, речи, а теперь грязными брызгами от этих же карет хотят
забросать его, когда он так явно «перешел улицу» и пошел не по барскому
правому тротуару, а по левому народному. В борьбе, — как в борьбе. И он
уже перебрасывает ядовитые стрелы на правый тротуар. В той же книжке
есть строки:
«Я получил только что письмо от одного прекрасного сельского священни-
ка, которого давно знаю и глубоко уважаю. Прекрасный пчеловод, устроил
хорошую школу, завел библиотеку, сам выдает книги и весь горит духовно, как
Божия свеча перед ликом Спасителя.
Пишет мне из тюрьмы.
«Порадуйтесь, я с моими прихожанами. Вы знаете, какие были у меня
хорошие мужики. Лучшие из них сейчас в тюрьме. И я с ними. Знаю, как вы
заняты. Не отрывайтесь от дела, мне не пишите. Напишите лучше моей жене.
Успокойте ее; разъясните, что нет никакого ужаса для меня в тюрьме».
После этого, полагаю, ясно, почему, думается мне, нет оснований прихо-
дить в ужас от участившихся якобы политических арестов одного лишь
духовенства. Место пастыря с труждающимися, с обремененными и
страдающими».
И в заключение — эта мысль, с которою человек идет в ссылку, идет на
это исповедание, не ad hoc сказанное:
295
«Но совместного пребывания еще мало, одной заступы за угнетенную па-
ству недостаточно. Это долг всякого доброго и честного христианина-гражда-
нина. Долг пастырский идет выше. Пастырь должен быть провозвестником
высшей, Божьей правды. Его призвание —расширять и углублять религиозное
понимание жизни, под все новые явления изменчивого общественного быта и
совершенствующегося государственного строя подводить вечные основы еван-
гельской истины».
Ну, отец Григорий, вам с этими мыслями и в ссылке будет весело. А у
тех, кто вас сослал, скучно, скучно на душе...
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОЙ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ СЕССИИ
Парламент открывается... И можно, забыв все партийные счеты, сказать ему
и сказать о нем несколько мыслей, какие открываются на высоте не партий-
ного, а национального сознания.
Собирающийся парламент есть первенец нашей свободы, нашей русской
свободы. Оставим в стороне всеобщие схемы исторического движения; наш
народ шел редко по ним, — он шел более страдальческою окольною дорогою.
Все народы осели в пределах роскошной древней цивилизации, и
средневековые общины потому именно и прошли эту красивую и свободную
жизнь, что они уже сели в ячейку древней римской муниципии, хорошо
заготовленную и разработанную. Германцы и кельты при самом основании
государственной и общественной жизни имели в распоряжении своем
фундамент и весь каменный материал неизмеримой прежней постройки. Все
им было легче, и в смысле техники, и в смысле строительного труда. Но
бедный русский народ, заняв последним Восточную Европу, не нашел здесь
ничего, кроме степей, лесов, плохих рек и крепких морозов. Первыми
зародыши культуры, полученные из Византии вместе с христианскою верою,
заглохли в долгий период татарского ига. После двухвекового застоя
пришлось начинать культурную работу с тех же первых начатков, где она
была приостановлена в XIII столетии. И только после Петра мы стали быстрее
нагонять Запад, от которого отстали на целые века.
Вот депутаты входят в Таврический дворец: и как не мешает каждому из
них на пороге его мысленно оглянуться на ту хижину, деревню, село, город,
поместье, фабрику, дворец, из которых отдельно каждый из них вышел, так
и России, входя в парламентаризм, нужно вспомнить скромное, малое,
темное, страдальческое житье-бытье, из которого она вышла. Нужно это
вспомнить, — и чтобы поблагодарить в горячей молитве Бога, и чтобы
приняться за труд парламентский именно как за труд, за страду, с тем
благоговением, как русский крестьянин берется за соху и борону.
Бог в помощь, добрые русские люди!
296
Перед великим делом нужно великое прощение. Будут ли к нему силы с
обеих сторон? Во всяком случае, чем более будет силы на это прощение, тем
успешнее сложится самый труд. Мы оттого и напомнили о малом и бедном
начатке Руси, ее своеобразном и страдальческом пути, чтобы на минуту про-
будить сознание, что многое из того жесткого и сурового, что видела Русь,
объясняется трудностью и жесткостью самого пути. Трудна была дорога.
Невозможно забыть, что наша громадная Империя кроме задач великого
самостроительства всегда была и необозримым приютом бедноты и несчас-
тия, и это в силу суровых условий страны и отсутствия роскошной и трудо-
вой цивилизации, которая легко и свободно кормила бы всех. В московское
время население русское, русский народ, крестьянство называло само себя
государевыми сиротами. Какое же здесь гражданство, его дух, его право, его
гордость? Сироты государевы сами ползли по земле, добровольно клонили
головы книзу, и все же на этой почве у нас не развилось ни классового и
сословного высокомерия, подобного западному феодальному праву, ни го-
сударей типа Людовика XIV, который жил и чувствовал себя, как Бог Все-
держитель. Все у нас было суровее. Но все и честнее. Суровое было, и дело
доходило до крови именно от суровости, и никогда оно не было жестокос-
тью утонченных и изнеженных народов древнего Востока и старого Запада.
Человечности никогда не забывал русский народ. И он не забывал ее во всех
ярусах своего существования, в хижинах и в дворцах. На это стоит огля-
нуться из всех партий.
Свобода, нами купленная теперь, куплена в чрезвычайных страданиях
нашей родины. Она пришла как случай и несчастие, — упала с неба, как
роса среди громов. Вся родина в государственном, финансовом, бытовом,
учебном, экономическом, культурном отношениях находится в таком развале
и разорении, о каком века не было слышно на Руси. Окраины уже не скрыва-
ют мысли о вожделенном отделении от России, которое может пройти под
шум лязга ножей наших внутренних партий, ожесточенно кинувшихся друг
на друга. Пока русские идеалисты мечтают о всеобщем рае для человече-
ства в пределах России, самые эти пределы могут улетучиться или пропасть
в глубоких карманах кавказских, привислинских и финляндских себялюб-
цев. Характерною чертою теперешнего движения является то, что русские
работают на почве универсальных, общечеловеческих и великодушных
чувств, а сотрудничающие им освободители с окраин все работают молча на
почве самых узких, глухопровинциальных и грубо эгоистических чувств.
История, впрочем, слишком старая на Руси: вспомним Пушкина и Мицкевича:
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами,
И песнями...
Но кончилось все с другой стороны «Валленродом» и заветами вечной
мести.
297
Тяжело вспоминать это. Русские, великодушные сами, чувствуют какое-
то безграничное доверие к великодушию и душевной ясности других. Дай
Бог, чтобы расчеты наших левых партий на то, что соработающие им евреи,
поляки и грузины так же отреклись от своего еврейства, от Польши и Гру-
зии, как сами русские похоронили в себе московские и киевские чувства,
чтобы эти расчеты не обманули их. Но не хочется об этом напоминать, не
хочется говорить...
Забудем партии и крепко и дружно встретим первенцев русской свобо-
ды, входящих в Таврический дворец для свободного слова, для свободной
работы над благом родины. Мы называем их первенцами, ибо первая и вто-
рая Дума, отделенные только месяцами, в панораме тысячелетий русской
истории сливаются в неразличимый один миг. И не будем вспоминать про-
рех первой Думы: поймем и мы великодушно, что великое дело не делается
сразу удачно. Что было, пусть будет забыто: и будем помнить и беречь толь-
ко наше сегодняшнее и наше завтрашнее. Все входят нынче в Таврический
дворец с мыслью об осторожности: великий и благой признак, которого в
прошлом году не было и следа. Даже проработав 12 месяцев, Дума очень
окрепнет, парламентаризм в России сильно укрепится. Все станет несколь-
ко привычнее, обносится, лучше ляжет на гражданские наши плечи. Мы
много давали советов народным представителям: и когда они вот собрались,
обратимся с последним советом и к администрации. От нее также слишком
много зависит, чтобы смягчить первую встречу с народным представитель-
ством, — первую и ближайшие за нею. Тон сухих отказов и глухого сопро-
тивления совершенно так же неуместен и неумен в устах администраторов
и администрации, как и задирательно-бранчливый тон у депутатов. Обе сто-
роны должны отказаться от своих недостатков. И администрации, уже по
тому одному, что она стара и многоопытна, нужно сделать первый шаг к
этому обоюдно-умному поведению. Пусть и она, со всем русским народом и
всею русскою печатью, встретит первенцев нашей свободы с тем ласковым,
приветным и уважительным чувством, как они того заслуживают по существу.
Конституция всем нужна: депутатам, народу, чиновничеству, Царю. Царю
и народу она более всего нужна, ибо первый держит в руках руль нашего
государственного корабля, и никл о, как Он, не испытал за последние годы,
до чего управление кораблем через механизм старого руля стало ненадеж-
ным и опасным, а второй... он слишком много вытерпел и по сию пору слиш-
ком много несет от чиновничества, от обеспеченных сословий и даже от
интеллигенции, в значительной доле правящей. Но бросим разделения, со-
единимся в одном чувстве воскресить пострадавшую родину к новой жизни.
298
СЛОВА ДУМЫ И ДЕЛА ДУМЫ
Самое существование Думы, одно простое существование — уже великое
благодеяние для страны. Это чувствуется по тому огромному поднятию на-
строения, которое разливается всюду с первого же дня и часа ее открытия.
Внимание народное, общественное, литературное получает свое сосредото-
чение. Не рассеивается по тысячам предметов и дел. В «правительственной
машине» сидят свои люди у общества: и оно ждет от них творчества в труд-
ном деле обновления государственного строя России.
Здесь все взаимно: и Дума не может в свою очередь не подчиниться,
volens-nolens, давлению всеобщего ожидания от нее. В этом ожидании, как
оно ни пестро, над всем выделяется общая, господствующая, строгая воля:
сохранить Думу, т. е. быть бережливее в отношении ее, т. е. быть в ней самой
сдержаннее, осторожнее, дисциплинированнее.
Депутаты о «наказах с места» уже говорят не то, что в первой Думе;
тогда говорили, будто они не могут не подчиниться воле выборщиков: «тре-
буйте земли и воли». Теперь, по промелькнувшим в печати известиям, те же
депутаты получили другой наказ: «во что бы то ни было — сохраните Думу».
Так как с большим правдоподобием этот анонимный «наказ», которого ведь
в Петербурге никто не проверяет, выражает просто намерение и настроение
самого депутата, то можно почти с уверенностью сказать, что сами депута-
ты не менее, чем общество и печать, находятся под смутным давлением тре-
воги о вторичном роспуске. Насколько русский народ любит свой молодой
парламент, — а он, очевидно, очень его любит, — настолько же он боится и
отводит в сторону самую мысль о его скором роспуске. Одна из газет оппо-
зиционного лагеря с оттенком отчаяния ставит вопрос: «Неужели мы опять
перед началом конца, неужели суждено нам снова, как в сказке, вернуться к
тому же, с чего начали, и снова очутиться перед старым разбитым коры-
том?»
Вот то же говорится в «Сказке о золотой рыбке», где неумная старуха-
рыбачка потребовала себе, сверх богатства и почета, еще того, чтобы ей при-
служивала за столом сама золотая рыбка. Именно эту сказку о золотой рыб-
ке мы припоминали в июне прошлого лета, когда депутаты первой Думы
сразу же зарвались и понесли вперед без удержу. Мы тогда напоминали им о
судьбе старухи, очутившейся после своих претензий снова в поломанной
лачуге перед разбитым корытом, составлявшим ее первоначальную собствен-
ность. Тогда нас не слушали. И теперь повторяют наше же. Русский человек
задним умом крепок.
И Дума, и правительство стоят друг перед другом с гораздо большею
убежденностью, чем в прошлом году, и кажется, обе стороны встретились с
большим уважением друг к другу. Мы совершенно убеждены, что если само
правительство будет безупречно требовательно к себе, то оно мало-помалу,
не на словах, а на деле разольет к себе уважение в парламенте и во всей
стране. А это — центр всего дела, узел положения вещей. Мы помним, как
299
даже первая Дума выслушала со вниманием и полным уважением длинную
речь товарища министра юстиции г. Соллертинского: речь сухого, строгого,
но добросовестного чиновника. Он разъяснил Думе, в ответ на сделанный
запрос, о положении политических заключенных; документами он доказал,
что некоторые из обвинений тюремной администрации были ложны; но об
одном случае, касающемся избиения арестанта, он сказал: «Да, это было»,
— конечно, сказал с прискорбием. Депутаты, сошедшие со своих мест и
жадно окружившие кафедру оратора, промолчали, как и весь зал. Это была
полоса шиканий и свистов, вообще буйного поведения палаты. И тем не
менее не раздалось ни одного неуважительного звука ни во время речи, ни
после речи товарища министра. Нам думается, что кабинет должен принять
во внимание эту способность депутатов глубже входить в дела правитель-
ственные, интересоваться самым механизмом их, начать чувствовать себя
частью правительства, его органом и вообще зарождать в себе государствен-
ные чувства, интересы, взгляды, манеры, точки зрения. Это чрезвычайно
важно, чрезвычайно многообещающе. Ведь депутаты — совершенно част-
ные люди: совершенно новые, взятые с земли, от плуга и из гостиной. Явно,
что им неоткуда взять государственности и государственного духа, но все
это может у них выработаться уже только в самой Думе, в звании и положе-
нии депутатов, от влияния этого положения. Будем надеяться, что в Думе
разовьются государственные взгляды, государственные приемы, весь госу-
дарственный дух, который станет крепнуть с каждым месяцем. Задача каби-
нета, главная — воспитать Думу в государственности, привить ей государ-
ственный дух и интерес.
Речь с кафедры — только одна часть Думы, показная и видная. Отсюда в
неопытной публике представление о «парламенте» сливается с понятием о
речах, речистости, публичном слове. Между тем гораздо важнее и существен-
нее скрытая часть Думы: это ее «комиссии», уже не видные публике, в кото-
рых разрабатываются вопросы, постановляются решения и где вообще и
делается настоящее парламентское дело. Нужно пожелать большей глас-
ности, оповещенности, распространения в публике сведений и вообще при-
вития интереса и вкуса публики к этой второй, не публичной части парла-
ментской жизни; части главной и существенной для страны, самой суще-
ственной. В то же время именно в комиссиях члены парламента и могут
войти в дух правительственной работы; это-то и есть для них настоящая
школа государственного, политического воспитания. Насколько кафедра сво-
ими соблазнами, в некоторых отношениях и на некоторых господ, может
оказать невольное расшатывающее влияние, настолько же заседание перед
лицом дела и в небольшой группе знающих дело людей, где придется не
произносить речи, а высказываться в простых словах о предлежащем деле,
— разливает во всем существе заседающего ум, сдержанность, внимание,
осторожность, сосредоточенность: настоящие государственные качества.
Сюда и должно быть направлено внимание. Парламент стоит перед ин-
женерной работою.
300
ВСЕМИРНЫЕ ДНИ РОССИИ
I
Не все русские чувствуют, но всем пора сознать, что вот третий год идет, как
мы, точно высшею волею, вытолкнуты на самую яркую, самую освещен-
ную, самую многозначительную точку всемирного зрелища, называемого
«всемирною историей». Или теперь, или никогда Россия скажет наконец свое
настоящее слово, долго вынашиваемое в молчании; свою настоящую прав-
ду, настоящее убеждение.
Начало парламентаризма, начало церковного обновления, пробуждение
общества и, наконец, самого народа до его глубочайших слоев — все это
только первые «азы» длинной и сложной речи, самое течение которой нача-
лось, но еще пока не определилось ни в смысле своем, ни в направлении.
Мы можем только судить об огромности наставшего явления по страшно-
му напряжению и возбуждению всех сил. Конечно, ничего подобного это-
му возбуждению никогда не было на тихих равнинах Руси, в ее молчали-
вых степях, унылых городах, праздно болтающих гостиных. Было что-то
«обыденное», была какая-то тысячелетняя «хроника» мелочных домашних
и уличных происшествий. Самые войны тихо начинались и тихо кончались
среди официальных молебнов, официальных бюллетеней и официальных
встреч возвращающихся войск. Жила, собственно, Россия официальная, а
неофициальная молчала. Теперь вдруг заговорила неофициальная Россия.
Вот сущность наставших всюду перемен, самая главная черта их. Эта черта
— в каждой улице, в каждом дому, в Москве, Ростове-на-Дону, в Вятке,
Тифлисе, Вологде, везде.
Ею дышит Россия, дышит нетерпеливо, огненно.
Все хотят сузить смысл явления, но сузить не удается. Все торопят: «Ну,
соберись, Дума, ну, начни упорядочивать армию, флот, управление»... Не
выходит дело: самая Дума есть только одно из отверстий, через которое ды-
шит вулкан. Правда, оно очень велико, самое главное жерло, через которое
он дышит. Но дело вовсе не в нем, а в той невидимой расплавленной массе,
которая скрыта под землею и приводит почву в содрогание... Все уже со-
гласны с тою очевидностью, что Дума — только «одна из точек приложения
силы» и что все-то дело именно в пробужденных силах, ищущих исхода,
ищущих слова... Об этом с глубокою основательностью говорилось про-
шлый год и перед Думою, и в Думе. Она собралась, в Думе говорили. Если
бы все дело было только в ней и мы переживали только «начало парламента-
ризма», и не более, то Русь, получив парламент, и успокоилась бы, начав
слушать. Но она далеко не успокоилась. Она вовсе не только «слушала»...
«Парламент» и «парламентаризм»—только одна из «точек приложения силы».
А где эта сила и что она, как далеко она распространена, каково ее точное
напряжение, в чем смысл, куда ее хотение, — об этом только одни догадки,
одни предчувствия. Мы все чувствуем, каким-то планетным почти чувством,
301
что «оторвалось» и «понесло». Больше ничего не знаем, не видим; не видят
мудрейшие и дальновиднейшие.
Как они все теперь слабы, эти наши «вчерашние мудрецы», знахари,
политики и дипломаты истории.
II
Один из друзей моих показал мне письмо, полученное им из Америки от
Джером-Джерома в июле прошлого лета:
«Когда вы писали мне последний раз, дорогой друг, я был в Америке и с
напряженным интересом следил за известиями, приходившими из России. Срав-
нительно с вашей страною наша еле-еле живет. При всей трагичности соверша-
ющихся у вас событий и глубокой жалости, какую вызывают некоторые из них,
— должно быть что-то прекрасное в сознании себя русским в настоящее время.
У всех вас напряжен каждый нерв и мускул, вы куете будущность мира, тогда
как мы бездеятельно и бесполезно сидим вне течения. В этом напряженном
нервном состоянии не может не быть радости жизни. Вокруг вас мир еще мо-
лод, — вы его строите, сражаетесь! Знаете ли, я вам почти завидую, живя в
здешних мирных краях, отяжеленный годами и уставший от долгого покоя! Читая
о французской революции, вы не испытывали ли желания очутиться среди нее,
не сознавали ли, что стоило жить в то время?! Радость есть известное состояние
ума, и ее, без сомнения, созидает умственная деятельность: надежда, страх,
энтузиазм, отчаяние, жизнь в ее апогее, усилия, экстаз...»
Далее следуют несколько слов об искусстве, — вне темы этих наших
строк. Но я приведу и эту часть письма, конец которого опять говорит об
общественных событиях в России и будет интересен читателям:
«То, что вы пишете об отношении нашего общества к искусству, — увы! —
справедливо в отношении и ко всем странам. Например, в Америке юмористов
именуют кузнецами шуток, и это хорошо характеризует отношение, вообще,
англосаксов к юмору как оттенку художественного творчества».
«Я так хотел бы поговорить с вами, — узнать все, что вы испытываете в эти
предрассветные часы! Я уверен, вы увидите и встающее над Россией солнце!
Да будет с вами сила и та радость, которая приходит с силою. Ваш любящий
Джером К. Джером».
Перевод, может быть, неуклюж, но совершенно точен. Мне это письмо
показалось любопытным в том именно отношении, что даже американцам
наша теперешняя жизнь кажется уже слишком живою, это всего через пять-
десят лет после того, как Гоголь написал свои «Мертвые души»; написал, и
заплакал, и умер от горечи!
А знаете ли, где родник этого неслыханного в истории напряжения? Мне
думается, он в том, что великие русские души умирали от горя за Россию,
302
они вовсе не переносили тоски о ней... Сами они сошли в землю, но из
могилы их поднялось растение такой огромной величины и силы, что оно
закрыло листвою небо и шумом листов своих наполнило мир.
Горькое дерево, великое дерево. Без литературы русской, без ее горечи и
тоски, без ее психологичности мы имели бы что-то маленькое, скучное и
мещанское в теперешнем движении. Тогда, действительно, было бы только
«начало парламентаризма в России»: Дума бы говорила, репортеры записы-
вали; читатели газет читали бы газеты, и чиновники заготовляли бы законо-
проекты. Но, я думаю, по поводу всего этого не о чем было бы Джером-
Джерому вздохнуть в Америке. Вот отчего письмо его показалось доказую-
щим симптомом.
ВСТРЕЧА ПАРЛАМЕНТА
Одна из стихий современного движения — необыкновенное оживление...
Все молодо было в это утро 20 февраля: молодое солнце, молодой снег,
молодые лица, массы молодого народа. Молодое чувство точно перелилось
из души на улицы, дома, природу, — и всему «скинуло лет двадцать с плеч»...
И все, почувствовав себя моложе, чем есть, засмеялось, развеселилось.
...Уже издали, по Литейной, Надеждинской, Знаменской улицам видне-
лись черные «кишки» народа; эти разорванные куски змеи, которые то сли-
вались в одних местах, то разрывались — в других. И чем ближе к Таври-
ческому дворцу, тем чаще они сливались и, наконец, превращались в сплош-
ной, движущийся черный тротуар. Конки полны народа, внутри и на импе-
риале. И все спешит в одном направлении. И все одни лица, приблизительно
одни: старше, моложе, все они «учатся», «читают книжку» (простонародье),
все гадают, думают, у всех складка на лбу. И вот все это «думающее» и «чи-
тающее» пришло взглянуть на то, что вышло, осуществилось из «чтения» и
«думок» всей России. Народ спешил к Таврическому дворцу именно с этим
чувством матери, торопящейся взглянуть на свое новорожденное дитя. Пра-
во, я не ошибаюсь: у толпы, частью необразованной, бесправной, не «штат-
ной» по рубрике «парламентаризм» и вообще совершенно частной и глубо-
ко частной, — Бог весть откуда родилось чувство старшинства и материн-
ства в отношении к депутатам, которые проехали или ожидались, и даже к
самой Думе, конституции и вообще «ко всему этому». Даже гимназисты,
студенты, подростки, курсистки, мастеровые точно гордились, как молодая
мать: «Смотрите, какой!» «Этот — мой!» «Я родила, выносила!» «Трудно
было девять месяцев, — но как теперь я счастлива».
Наплыв народа к Таврическому дворцу был значительно больше срав-
нительно с прошлым годом. Тогда образовалось два тока: к Зимнему дворцу,
где совершалось молебствие и откуда депутаты должны были выйти, и к
Таврическому дворцу. Во всяком случае, тогда совершенно свободен был
проход даже по Шпалерной улице, на которой стоит Таврический дворец,
303
почти вплоть до него. Теперь приходилось «пролезать» через толпу, и к часу
дня уже началась небольшая «давка», из которой тревожно спешили назад
все, кто послабее.
Едут кареты, много карет; коляски, пролетки. К открытию Думы спе-
шит и дипломатический корпус, и вся знать. Но толпа выглядывает «свое
дитя».
«Свое дитя», «депутата», она как-то инстинктивно узнает: «не свои»
сидят строго, чинно и холодно. Притом же упряжь, лошади и вся отделка
экипажа другая. Но вот едут двое, чумазые, старые, темные; что-то из Тур-
кестана, не ближе!
— Ура! ура-а!! ур-р-а-а!!!
Смеются, чуть не топают ногами. «Тюбетейки» снимают картузы и сме-
ются же. Едва ли по-русски, ясным словом и без акцента сумели бы отве-
тить. Дитя тоже обрадовалось, глядя на свою «мать» — толпу.
Этот обмен взглядов, ласки, какой-то междуплеменной и междуверный
или, точнее: соединенно-племенной и соединенно-верный, меня тронул до
слез. Впервые это видишь в России: на идее «свободы», «освобождения», на
инстинкте «дайте вздохнуть» — слились и обнялись народы России, веры
самые разные и племена такие, которые только по географическому слова-
рю отыщешь.
— Какой партии? Говорите, какой партии! Говорите! Говорите!
Это к депутатам, между которыми некоторые и в цилиндрах.
— Из какой партии (передразнивая)! Или не видите: в цилиндре! Вот те
и партия!
Визг, смех и свист. Свистели и визжали много; как только карета потор-
жественнее, а особливо с гербами или с лакеями в парадных красных ливре-
ях, — визг переходил в такой гам, что сидевшей в карете «персоне» едва ли
было по себе. «Пронес бы Бог». Но только не тронули, не обидели. Только
выразили «чувства» и манифестировали «левые убеждения». Толпа, очевид-
но, была «левая». Почему? Почему, в самом деле, гимназист, курсистка, ма-
стеровой, даже чиновник — все, однако, «слиянно и нераздельно» суть ле-
вые?
— Чем левее, тем моложе; чем левее, тем моложе! — точно звучал у
меня в голове ответ. — А кому молодости не хочется? Кто хочет быть ста-
рым грибом?
Я думаю, это самый общий и самый основательный ответ.
В четыре часа дня я опять выехал к Таврическому дворцу. Народу было
еще гуще, но он весь двигался назад. Очевидно, я опоздал к выходу депута-
тов из Думы. Не доезжая до нее, я увидал огромные черные массы, шедшие
по Фурштадской площади. Я направился туда. Занимая поперек всю улицу,
толпа шла, неся 3—4 очень маленьких красных флага. Как старый ревнивец
около молодой любовницы, сзади угрюмо следовала, тоже огромной тол-
пою, полиция. Но не вмешивалась. В нервном возбуждении толпа шла чрез-
304
вычайно быстро, и ее трудно было догнать. Показалась фигура, поднявшая-
ся на извозчичьей пролетке, которая, сняв фуражку и размахивая ею, что-то
говорила.
— Отлично! Отлично! Так!
— Ура! ур-р-а!!
«Ну, что же, — подумал я, — молодое резвится; молодому как не рез-
виться!»
Но меня кто-то толкнул, и вдруг все стали толкаться; и затем увидели,
что все бегут не вперед, а назад и толкаются в быстро захлопывающиеся
стеклянные двери подъездов. Отряд солдат (конной полиции?), с ружьями
за плечами и чертя шашками в воздухе, но (кажется) не опуская их, вообще
не ударяя, мчался во весь карьер по улице, от Литейной к Таврическому
саду. Быстро повернув, таким же галопом он промчался назад. Все бежало,
рассыпалось, кричало.
— Кровопийцы! Грабители! — кричали вслед, конечно, необорачивав-
шимся солдатам.
— Вот вам и свобода, вот вам и свобода: совсем измяли барыню! —
тараторила испуганная прислуга.
— Ушибли!
— Ранили!
— Убили!
— Нет, не убили, а только ранили!
— Никого не ранили, а только помяли лошадью. Так и мнут, так и мнут!
Нехристи! Ироды!
«Вот вам и резвость первого дня. Все кончилось розгами», — как и пред-
сказывали беззубые старухи, одне в этот день усидевшие дома.
ЭС-ДЕКИ И ЭС-ЭРЫ В Г. ДУМЕ
Разумеется, если революция будет делаться через посредство Г. Думы, то Г.
Думе не для чего и быть, ибо революция может сделаться и без нее. Г. Дума
имеет смысл только при одном условии, если она погашает революцию, введя
напор общественной энергии и общественного одушевления в твердое, не-
поддающееся русло органической законодательной работы. Если Дума это-
го не может, не хочет или бессильна сделать, то совершенно не для чего и
путаться с нею, ибо революцию сделает улица, фабрики за свой счет, и не
для чего тут тревожить население пертурбациею выборов и вообще всеми
хлопотливыми и дорогими механизмами, приспособленными к Г. Думе.
Дума — организация, революция — хаос. Если организация не может,
не хочет и даже не ставит себе задачею бороться с хаосом, то для чего она?
Улетучивается ее смысл, ее raison d’etre1.
1 смысл существования (фр.).
305
Вот почему в настоящее время есть только один политический вопрос:
— Быть ли Думе?
И он сводится к другому:
— Победит ли Дума революцию? Да и имеет ли она желание, энергию к
этому?
Нам кажется, в самой Думе все члены должны расслоиться на два лаге-
ря: людей, пришедших в Думу для нее самое, и на людей, вошедших в нее с
замыслом против самой Думы, ее хищников и провокаторов.
И первые должны вступить в борьбу с последними и победить их. Без
этого самоочищения, без этого подавления бунта против Думы в самой Думе
ей невозможно существовать, как не может жить человек с двумя головами,
или не может быть хозяин промышленного заведения, который сам у себя
ворует из кассы и сам ломает свои машины.
Если выборгское воззвание, заключающее в себе слабый призыв к неуп-
лате податей и недаче рекрутов, послужило для государства русского как
организованной нации поводом к отказу в легализации целой образованной
партии и недопущению ее предвыборных собраний, равно как к снятию кан-
дидатуры лиц, подписавших это воззвание, в члены законодательной Думы,
то не представляется ли совершенно непостижимым явлением, что социал-
демократическая и социал-революционная партии, призывающие население
к неповиновению вообще всем отечественным законам и к вооруженному
мятежу против всякой государственной власти, признаны легально суще-
ствующими, их собрания были всюду допускаемы, а кандидаты этих партий
в Г. Думу были признаны правоспособными стать законодателями страны.
Пусть нам не указывают на пример Германии и ее конституции: там обще-
ство давлением своего умственного и нравственного авторитета заставило
социал-демократов отказаться от оружия и сохранить только идейные аргу-
менты и с ними одними идти в рейхстаг. Русские эс-деки и эс-эры не имеют
ничего общего с немецкими и вообще европейскими мирными социалиста-
ми и являются в государстве мятежною, вооруженною, борющеюся сейчас
силою. Каким образом государство русское, не опасаясь быть смешным для
всех русских обывателей и для целой Европы, могло последовательно лега-
лизовать, затем допустить к выборам и наконец позвать в законодатели лю-
дей, призывающих к бунту против закона и отрицающих Г. Думу как Думу?!!
Совершилось одно из тех потемнений государственного рассудка, каких
было много в русско-японскую войну и которые привели нас к Цусиме и
Мукдену. Очевидно, нашу государственность, наш государственный строй
ждет тоже Цусима, тот же Мукден, если мы руль государственного корабля
передали в руки тайных пиратов, заранее и во всеуслышание составивших
план посадить корабль на камень и разграбить его груз.
Судят социал-революционеров, судят суды: отчего государство in pleno1
не произнесло своего вердикта над самой этой партийностью, над партиею
1 в полном составе (лат.).
306
в смысле программы действий. И, не преследуя ее прямо, не отказалось,
тем не менее, ее легализовать в том смысле, что примыкающим к
деятельности этой партии, задающейся разрушением государства,
государство не открывает в пользование своих учреждений, в том числе и
Г. Думы. Каким образом казначеем может оказаться вор? судьею —
преступник? священником — магометанин или язычник? Эти вопросы мо-
жет разрешить только тот, кто разрешит вопрос о том неумном государстве
и младенческом правительстве, которое позвало писать законы людей, по
взгляду которых никаких вообще законов не нужно и следует бунтовать
против всякого закона.
Русская революция — это вовсе не идея, не мысль, не система. Они и
называются эс-деками и эс-эрами, и не для чего им именоваться социал-
демократами, с которыми они не имеют ничего общего. Русская революция
есть темперамент и больше ничего. Она вся заключается в действии. Суть
этих действий заключается в противодействии всему упорядоченному, вся-
кой форме, порядку, системе. Для государства это есть то же, что для науки
«не учиться». Можно ли избирать в ректоры университета человека, кото-
рый из всей науки знает только одну фразу: «Господа, не учитесь! Наука не
нужна!» Также эс-деки и эс-эры твердят: государственность не нужна, госу-
дарство — это враг народа. Можно ли их допускать в государственность?
Странный вопрос, которому они сами смеются в глаза.
Они сами смеются пропуску их в Г. Думу: это все равно, как если бы они
на свои сходки и конспирации приглашали, с правом голоса и решения, аген-
тов охранного отделения. Они оттого и бойкотировали первую Думу, что
совершенно не могли поверить, чтобы государство русское дошло до такого
слабоумия, чтобы допустило в этой Думе говорить с кафедры на всю Рос-
сию то, что оно же преследует в печати, за что судит и за что ссылает, и
чтобы этих людей, проповедующих борьбу с существующим порядком, во
всем его объеме и неопределенных границах, этот существующий порядок
позвал писать для себя законы, позвал к власти и господству, обеспечив не-
прикосновенностью. Хорошо зрелище трех из неприкосновенных, захвачен-
ных полициею около динамита в петербургском политехникуме. Их, впро-
чем, сейчас же отпустили, узнав, что они депутаты Думы. «Ваши неприкос-
новенности свободны, вплоть до взрыва динамитом наших жилищ и хоть
самой Г. Думы».
Эс-деки и эс-эры не могли поверить этой глупости своего пропуска в Г.
Думу и свободы их в Думе по-своему говорить и хозяйничать, но, когда эта
глупость стала очевидною, они прямо с митингов ринулись сюда с криками
ура. Еще бы! Какой нелегальный не выправит себе легальнейшего паспор-
та? С пропискою: «неприкосновенен»?!
Что при этом темное сельское население и низы городского населения
были «оболванены» — и доказывать нечего. Образовалась «выборная кам-
пания» и «выборные комитеты», и все пошло согласно поговорке: «Кто рань-
ше встал, тот и капрал». Левые уже 35 лет «пропагандируют» и «агитиру-
307
ют»: с этою 35-летнею практикою встретилась, столкнулась и была, конеч-
но, разбита совершенно неопытная, всего только годовалая практика про-
паганды всех народно-государственных, национально-русских партий. Это
как бы на зеленом поле встретились домашние игроки в короли и в свои
козыри с завсегдатаями игорных клубов. Выборы имеют свою технику, пар-
ламентаризм имеет свою технику. Мирные обыватели Руси были пойманы в
невод опытными рыбаками просто потому, что они раньше всех и умелее
всех закинули этот невод. Ни о каком принципиальном согласии с левыми
русского народа не может быть и речи, как не может быть речи о том, знает
ли русский народ китайские иероглифы. Левые вожделения, являющиеся
продуктом вековой анархии, духа и бунта духа западноевропейской интел-
лигенции, начиная от французских энциклопедистов и атеистов и кончая
немецкими катедер-социалистами, так же мало вместимы в бородатую го-
лову великорусского крестьянина, как страсбургский пирог с трюфелями
мало вместим в русскую гречневую кашу. Левые навязали себя народу, объя-
вили себя, что они лучшие, подействовали на захватные, — конечно, минут-
ные, на минуту выборов, — инстинкты недоедающего крестьянства и про-
летариата и двинули за собою всю эту громаду вовсе не с тем, чтобы поста-
вить ее в лучшие условия прочного существования, а чтобы с помощью ее
произвести то движение общественных элементов, в котором их обществен-
ный темперамент получил бы достаточную работу и достаточное удовлет-
ворение. Как была когда-то теория «искусства для искусства» и люди толпа-
ми поклонялись ей, так наша эпоха, конем- э временно, предается идее
«революция для революции», «движение для движения», «анархия для анар-
хии» и после вековой вынужденной недвижности, после векового полицей-
ского покоя, жаждет размять члены впереди и прежде всего. И конечно, —
это временно, как всякое чистое искусство, без хлебного приложения.
Революция использовала все ошибки администрации, все злоупотребления
ее, все несчастие народа, нищенство и темноту его: но, увы, все это она
использовала в целях, говоря деревенским языком, какого-то всемирного
конокрадства! Плоха храмина — надо сжечь ее, стара изба — надо сломать
ее: вот их лозунг или, точнее, инстинктивное движение, о котором, конечно,
не догадывается население, иначе этих гг. «государственных конокрадов»
оно ни в каком случае не послало бы в Петербург для государственного
механизма. Эс-деков и эс-эров так и надо называть «государственными
конокрадами»: это совершенно точная их кличка, совершенно точное выра-
жение их нравственной и политической физиономии. Они так и говорят:
«Мы идем разорить», «мы покушаемся на государственную целость», на
«смысл отечества и нации». Это их точная программа. Люди эти живут
проклинанием. Все их орудие — в клевете. Сбросить только первую фразу
их завываний: «Правительство — враг народный», и вся тотальная их про-
грамма обращается в мертвую шелуху. Без этого они теряют raison d’etre.
Если правительство не «враг народный», то кого же громить, что же разру-
шать? А в этом все дело. Но как же можно поверить, если мы не в дому
308
умалишенных или сами не в белой горячке, чтобы не один, не два, не десять
человек, а целый класс людей всех степеней, положений, образования,
талантов и бесталанности, именуемых правительством, был врагом народа,
злокозненно умышлял против народа. Вот конокрад говорит: «Э, хозяин
собирается отравить свою лошадь! Стяну-ка я ее у него. Для ее пользы и
спасения, как бы член общества покровительства животных». Конечно,
пройдет очень немного времени, два-три года, и население рассмотрит этот
тупичок налево, и тогда только революция пройдет основательно и откроет-
ся возможность органической работы. Кстати: правые в Думе спокойствием
поведения и умеренностью речей обязаны устранить из зрения народного
этот левый песок, который обильно был всыпан в народный глаз специали-
стами и техниками смуты.
Думу, если ее не сдержат центр и кадеты, если она заработает в противо-
государственных целях, государству останется только распустить. Никто сам
с себя головы не снимает.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОЧИХ
ОТ ПЕТЕРБУРГА
Оказывается, я его видел, этого таинственного «Алексинского икса», кото-
рый так наскандалил в Петербурге при окончательном выборе депутатов в
Думу. В самом деле:
1) При вежливом вопросе, за которого кандидата от рабочей курии гос-
подствующая партия должна, т. е. любезно готова, подать свой голос, ей
вынесен был окрик: «Не вмешиваться в совещания рабочих».
2) Ни за одного кандидата господствующей «кадетской» партии рабо-
чие не подали ни одного своего голоса.
3) Таким образом, за одно наслаждение сказать и сделать дерзость они
рискнули остаться вовсе без представителя от себя в Думе. Ибо если бы
«кадеты» исполнили требование одной части своей партии — «прокатить
на вороных» депутата от рабочих, — то он и был бы забаллотирован при
ничтожном проценте выборщиков-рабочих среди совокупности всех дру-
гих выборщиков.
4) И, наконец, когда они все-таки сдались и, подавив гнев, подали голо-
са за «господина Алексинского», давно известного из печати их кандидата,
то на предложение на радостях «сняться группою» он ответил новой дерзо-
стью, что не хочет быть снятым вместе с «кадетскими» депутатами. И снял-
ся в группе со своими выборщиками-рабочими.
Сам он — филолог Московского университета, лет 28-ми.
По деятельности — один из корректоров одной из бесчисленных петер-
бургских типографий, т. е. — ничто, рабочий.
Для всех и всячески икс.
309
* * *
Это было в Соляном Городке великим постом прошлого года. Было собра-
ние, устроенное районным комитетом Литейной части конституционно-де-
мократической партии. Это одно из хороших демократичсски-интеллигент-
ных мест. Просторные залы, грубая мебель; по стенам огромные картины с
«деяниями Петра Великого», военными и работными. Там преобразователь
побеждает шведов, здесь смотрит войско, на третьей картине — строит ко-
рабль. На огромных столах, ничем не покрытых, деревянных, тесаных, раз-
дается чай. Все — учебно, дешево, народно. Точно место это нарочно созда-
но для «единения интеллигенции и народа». Всюду коллекции, приборы,
образцы технического и земледельческого труда. Все любят этот «Соляной
Городок», весь Петербург. И когда конституционно-демократическая партия
объявила собрание в этом месте, пошел и я посмотреть «любимцев публики
и народа», «первенцев» нашего конституционализма.
Однако не было очень интересно. Сейчас же условились, кого выбрать в
председателя. Выбрали Набокова — человека молодого, твердого и ясного.
Тут я увидал впервые этого лидера партии, который сказал очень короткое и
очень ясное слово и затем больше не произносил ничего, а только записывал
имена «ораторов», желающих говорить, и давал им в очередь слово. На ка-
федру преемственно поднимались: «кто-то», др. Добровольский, П. Б. Струве,
опять «кто-то» и еще «кто-то». Все были господа лет около сорока, немного
побольше, немного поменьше, с хорошими русыми или темными бородами,
в простых домашних пиджаках, очень домашних; и вообще все было про-
сто, как приличествует в Соляном Городке. Мешало делу то, что все они
«излагали», а не говорили и все немножко «жевали кашу» в техническом
отношении. Великое дело — политический борец. Им надо или родиться,
или «вывариться», т. е. прострадать, выносить лично и биографически ка-
кую-нибудь живую горечь, которая вот клокочет в груди и рвется наружу.
Политический «боец» есть именно боец, т. е. драгун, солдат, рыцарь, атлет,
— а не просто говорун или мыслитель или комбинация их двух. Между тем,
очевидно, все выходившие на кафедру были политиками по программе, а не
врожденно и не по «вываренности». В их биографию, или спокойную, или
лишь несколько тревожную, с «неудовольствиями», политика вошла как
эпизод, а не как сущность. Все они и были «при деле»: доктора, адвокаты,
журналисты, и притом не неуспевающие каждый на своем поприще. Сюда
они собрались, чтобы «изложить» свои мысли, мысли просвещенных рус-
ских людей, литературно-образованных, граждански-развитых, видавших и
оценивших конституционные порядки на Западе. Главною темою «изложе-
ния» были непорядки и безобразия нашего бюрократического строя: то, о
чем глухо или явно, спокойно или гневно, с усовещеванием или насмешкою
говорила вся русская печать за сорок лет, и говорила устами Салтыкова или
Аксакова, конечно, ярче и внушительнее, чем тогда в Соляном Городке. Ты-
сячная публика одобряла, смеялась, хлопала, сочувствовала, но энтузиазма
310
не было; и вообще ничего не было, если говорить серьезно. Ибо если я на-
дел калоши и пальто, чтобы куда-то ехать и слушать, то я должен услышать
что-нибудь интереснее газетной статьи, которую могу прочесть и не выходя
из дома. А здесь были только газеты, и ничего больше газет.
Энтузиазма не было.
Жизни не было, — вот этой нервной подкладки под говорящими.
Электричество не насыщало залу, и она не была слита в одно огромное
многоголовое чудище, которое так красиво и пугает, и ласкает, живя в каж-
дую секунду одною, всех соединяющею, мыслью.
* * *
После «кого-то» поднялся профессор математики в одном из высших техни-
ческих заведений Петербурга, господин Долбня. Бывают же такие роковые
фамилии.
— Профессор Долбня, — объявил Набоков публике.
— Кто?
— Не знаю, не ослышался ли, будто бы Долбня.
И, шушукаясь, улыбались слушатели, и слушали профессора, который
уже, как зрелый и даже перезрелый государственный муж и ученый, объяс-
нял публике, что, при всем уважении к душевным запросам нашей молоде-
жи и левых партий (перед ним говорил рабочий Абрамов, c.-д.), невозможно
с ними считаться, потому что они отвергают руководство разума и не счита-
ются с наукою. «Наука» показывает то-то, «наука» показывает это-то; стати-
стика говорит одно, а политическая экономия, сверх этого, говорит еще и
другое. А потому «зрелое суждение» и «долг гражданина» повелевают всем...
класть бюллетени в урны за к.-д. партию.
— Мне уже 48 лет, — кончал профессор, — ив свое время и я знал
увлечение левыми идеями, но наука мне показала и «рассказала» и проч.,
что нужно, вообще и в частности, держаться принципов конституционного
демократизма, а ближайшим образом «голосовать за конституционалистов-
демократов».
Ничего себе. Ни худо, ни хорошо. Как дядюшка, «уже заслуженный и в
чинах», о неслужилых племянниках.
Похлопали, — только жидко.
На кафедру поднялся скопческого вида господин. Даже и «господином»
нельзя назвать, до того мал и невзрачен. Малорослый, худенький, весь сжа-
тый каким-то боковым давлением, к тому же обтянутый в жалкий застегну-
тый пиджачишко.
— Ну, — думаю, — и козявка. Кто такого станет слушать?
А проф. Долбня был большой и мягкий. Широкая русская борода и вся
такая русская фигура, добрая, благодушная, снисходительная.
«Козявка» поводила носом в воздухе, направо, налево. Лицо выражало
глубокую насмешку и презрение.
311
— Так, когда мы, студенты, в Московском университете делали неудо-
вольствия нашему благодетельному начальству или отказывались слушать
таких высокодаровитых профессоров, как этот профессор (пауза и насмеш-
ка)... Долбня, попечитель округа, его сиятельство граф Капнист, бывало,
приходил к нам и внушал: «Послушайте, господа, и я был молод! Но вот мне
пятьдесят лет, я не только граф, но уже и тайный советник, и течение моих
мыслей гораздо тише, а характер стал гораздо спокойнее! Послушайте, гос-
пода, молодые люди, и вы все придете в возраст», и проч., и проч.
Конечно, я не помню содержания речи, мне кажется, не в теме речей и
даже не в содержании их заключается дело, но, как и в художественных
произведениях, все дело заключается в том, как оне сказаны. Я говорю «ска-
заны», а не «произнесены». «Произнесение речей», это — убийственный
стиль их, выработавшийся в политически мертвенной стране, где «произно-
сились» только застольные «спичи» или «речи» на торжественных актах, в
торжественных случаях и при торжественных встречах. «Речь» всегда что-
то закругляет и округляет, речь — для удовольствия слушателей, и вообще
это какое-то бланманже, подаваемое, когда все сыты и все собрались расхо-
диться. Ненужное, смешное и скучное.
Вся зала встрепенулась, когда до последних уголков ее стали катиться
как дробь эти «сказываемые», а не «произносимые» насмешки, язвы, иро-
ния, холодная, убийственная, казнящая, жестокая. Оратор-скопец (по виду)
был, очевидно, жесток: он мял и ломал эту оскорбительную снисходитель-
ность «дяденькиных суждений» и щепы их бросал обратно в лицо милосер-
дному «кадету». Повторяю, содержания не помню, но вся речь была как раз-
рисована этим жестоким юмором, который прогнал сонливость со всех глаз.
Вся зала была оживлена, возбуждена: вещь страшно трудная в многотысяч-
ной толпе и при многочасовом заседании или словесном турнире.
Корректор-рабочий... Очевидно, филолог Московского университета, и
с такими дарами к публичности мог найти себе нечто более видное, сытное,
легкое, чем расставлять букву «ять» и поправлять запятые в чужих газетных
статьях. Очевидно, он ушел сам в подполье, к подпольным людям, по суще-
ству своей подпольной натуры. «Рыба ищет, где глубже». И полз в этом под-
полье, очевидно, с намерением и скоротать жизнь в нем, и умереть там, ибо
ни Думы, ни парламентаризма никто еще тогда не ждал. Все несколько по-
хоже на фантастически-мстительные характеры ранних лермонтовских по-
вестей.
Но рабочий, среди рабочих условий, мог острее, нежели родовой и, так
сказать, «потомственный рабочий», почувствовать все острые углы рабоче-
го существования, тернии и шипы этого положения. А живя этою жизнью,
и живя не «на гастролях», мог узнать ее в таких изгибах и подробностях,
какие не известны никому, хотя бы из литературных «изобразителей» этой
среды и филантропических сострадальцев ее. Вообще тут все «настоящее».
И в программу «кадетов» «нужды меньшей братии», крестьянства и рабо-
чих, входят широкою полосою, но все это «глядя сверху вниз» и делая «для
312
них, но не через них». В этом вся разница, что левые суть сами и пациенты,
и доктора, кирпич и архитекторы и, вообще, ничего не «просят для себя», а
огромным массовым движением усиливаются перейти из одного положе-
ния, страдальческого, пассивного и обусловленного, в свободное, активное
и, если позволят обстоятельства, — в господственное. Вообще тут центр
дела в слове «сами»; «кадеты» говорят: «для них», левые — «для нас» и «мы
сами». Нижнее движение есть пробуждение великой «самости», великого
«я» русского народа в истории: без угнетения других народов, без ущерба
им, с веселым приобщением к себе этих других племен, от татарина до ев-
рея, не помня ничего из старого, не помня старых обид, но в основном мате-
рике это есть движение именно русское. Ведь началось дело как: пошли вот
такие «филологи Алексинские», недоучившиеся медики и проч, к народу, в
народ. К какому народу? Конечно, — к русскому. Русские и к русскому наро-
ду пошли. Это факт, записанный, тянущийся еще с 70-х годов XIX века. Но
в работе то в корректорской газете, то на фабрике, в больнице и проч, этот
«русский ходок» встречал, кроме длиннобородых русских, и пейсатого ев-
рея, и безбородого татарина, — «человека». И ко всем равно отнесся, — это
была уже универсальная тенденция тех 60-х годов; отнесся не национально,
а «по человечеству», отнесся не как ученик Хомяковых и Аксаковых, а как
ученик Писарева, Бюхнера и Молешотта. Таким образом, случалось, что
еврей, латыш, татарин, поляк впервые в русском «отрицателе» не нашли
отрицания себя и своей духовной или даже национально-обособленной лич-
ности. И так великодушно устроен человек, что на добро он отвечает удво-
енным добром: едва еврей, татарин, мордвин увидели, что они признаны в
«целом своем» этою странною бродячею Русью, этой бродячей интеллиген-
цией), как и обратно сами и пылко отреклись один от своего «литовства»,
другой от своего «еврейства». Русское нижнее движение впервые в истории
и единственно в истории пробуравило даже еврейскую замкнутость в себя,
еврейское недоверие и отчуждение к другим народам: чего не могли сделать
ни Рим, ни просвещение и литература Греции, ни христианство. Я говорил
это летом; всего с месяц назад в «Московском Еженедельнике» кн. Евг. Тру-
бецкого была переведена в извлечениях интересная статья одного германс-
кого еврея. Этот еврей с изумлением, негодованием и отвращением говорит,
что «случилось то, чего никогда в истории не было и чего невозможно было
ожидать, — именно, что коренное и старое еврейство, еврейство в массе
своей совершенно терроризировано своею молодежью, которая кинулась в
русское освободительное движение и приносит ему в жертву все староза-
ветное и дорогое у евреев, наконец, самую безопасность родной нации».
«Произносятся, — жалуется он, — такие жестокие слова, как сказанные
одним «бундистом» на каком-то народном скопище в Витебске или Вильне.
«Кровь, пролитая в еврейских погромах, — сказал этот бундист, — должна
быть рассматриваема как смазочное масло, пущенное в машину русской ре-
волюции». Слова беспримерны по жестокости к своей нации. Как Маккавеи
да и всегда евреи умирали и умели и могли умирать только за свой национа-
313
лизм, так теперь они явно борются и проливают народную кровь за торже-
ство идей совершенно универсальных и космополитических, так сказать,
национально бесцветных.
* * *
Я отвлекся от своего оратора. Вернувшись с собрания, я рассказал о нем и
потом многим рассказывал. Вдруг с начала выборов в Петербурге мне нача-
ли говорить: «Ваш-то скопец (так я называл его, по наружности, не зная
фамилии) вынырнул. Его назначили в выборщики от рабочих, и даже, мо-
жет быть, он пройдет в Думу». «Слышали, видели: действительно, фигура
такая, что плюнуть не на что». Я порадовался. Он говорит без фразы, без
ломанья, с глубокой внутреннею скромностью или, вернее, незаинтересо-
ванностью своей «персоной», и только с величайшим пафосом, который
почти всегда есть пафос негодования и презрения — к противнику, оппо-
ненту, к теме речи. Он показался мне не таким каменным (в хорошем смыс-
ле), как Аладьин, более человечным; может быть, более мелким (хотя, кто
знает?). Но этот юмор и сарказм его речи, ее эта суровость и беспощадность
— красиво очаровывали. И вообще если бы сейчас мне предложили «надеть
калоши и пальто», пойти слушать кого-нибудь из бывших думских ораторов
или этого, то я мог бы преодолеть косность только для этого. Если можно
принять это за мерку, то, я думаю, с г. Алексинским действительно вошел в
Думу талант, какого в ней раньше не было. Он долго полз в подполье: так
сказать, в лермонтовских «лесах», угрюмых и печальных. Теперь выполз из
подполья, и очень интересно, что и как скажет и вообще как сложится его
«историческая фигура».
НАЧИНАЮЩИЕ ПАРЛАМЕНТАРИСТЫ
Мы только что вошли и входим в публичную политическую жизнь; слышат-
ся с двух сторон жалобы и восторг по поводу этого, видна муть, смешиваю-
щаяся со струями чистой воды. Но, стоя на наблюдательной позиции, кото-
рая приличествует печати, нельзя уже сейчас не отметить одного положи-
тельного итога.
Это — накопление опыта. В политику мы вступили с готовностью к боль-
шой впечатлительности: без единого пятнышка горького опыта в этом отно-
шении. Все представлялось политически-невинным душам в радужных цве-
тах, и, казалось, «вот когда мы начнем сами все делать», — Россия расцветет
чуть не райскими яблоками, а злоупотребления исчезнут как по мановению
волшебного жезла. Ко всем нам и к делу России этого последнего года идут
слова Пушкина:
В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия.
314
Нельзя отрицать, что пережить новизну и свежесть еще не испытанно-
го порядка ощущений — большое счастье само по себе; пережить ее на ты-
сячелетнем году национальной истории — это редкое, исключительное сча-
стье.
Мы точно надели новенький мундир, поступив в школу заморского об-
разца, и смотрим, не налюбуемся на свой идейный парламентаризм. Мы
находимся в положении юного кадета и переживаем всю психику его, вы-
ражающуюся более всего в желании покутить, надебоширить и устроить
скандал, «как взрослые». Сюда относится множество эксцессов, уличных,
общественных, в печати и проч. Будущий историк, читая хронику наших
дней, будет по временам улыбаться, по временам краснеть, чувствуя психо-
логическую неловкость зрелого человека, ознакомляющегося с такими вы-
ходками зрелых же людей, которые возможно было подсмотреть, только
взглянув через щелку в детскую или в классную комнату. Сам г. Милюков,
автор «Очерков по истории русской культуры», покажется со своей угрю-
мой сосредоточенностью будущему и настоящему Милюкову таким малень-
ким, забавным...
Мы начинаем ряд опытов, и нам предстоит много психических испыта-
ний и разочарований. Прежде всего уже в один год у нас остался горький
осадок от политики вообще, которая в отвлечении и в далекой перспективе
представлялась такой заманчиво прекрасною. Сколько раз приходилось слы-
шать от людей, возвращавшихся с предвыборных собраний, многотысяч-
ных и шумных: «Какая, однако, гадость эта вообще и всякая политика! Сколь-
ко лжи льется с кафедр! Какое хвастовство собою и невежественная само-
уверенность ораторов». Приходилось отвечать на это горькое сетование: «Что
делать, — всех детей отдают в гимназию, где они, может быть, и развратятся,
но это совершенно неизбежно сделать». Парламентаризм — наставшая об-
щественная зрелость, с злоупотреблениями, с эксцессами, с сором...
На предвыборных собраниях каких-нибудь народных социалистов можно
было видеть от лица партии говорящих ораторов, на которых были такие
«преувеличенные воротнички», которые могли быть куплены только в луч-
шем магазине голландского белья. Хороший опыт этих социальных громил,
расчесанных, шикарных, точно приказчики из Jockey-Klub magazine. Ничто
другое, как это зрелище воочию, не могло бы убедить, что под проектами
социального разгромления лежит вовсе не забота о народе, а характерная
городская алчность «себе побольше, другому поменьше» или «отчего у дру-
гого много, когда у меня мало». Тот оратор в кулуарах Думы, оратор-кресть-
янин, который на крики левых:
— А что вы скажете об истории Гурко-Лидваля? — ответил: «Все мы
Гурки, и своего никто из нас не упустит», — сказал горькое слово, щедринское
слово, — и, без сомнения, накипело оно у него после толканий в партиях и
партийных собраниях, где он наслушался ораторов и насмотрелся людей.
Горький опыт!
Этот опыт расползется по деревням, по городам.
315
Разочарованность появится внутри самых партий, и лучшие люди в них
самих внутренне и в совести разойдутся с партиями, наружно и сохраняя
солидарность с ними. Дай Бог, чтобы эти лучшие люди не оставили, однако,
политики, ибо тогда что же ей останется, кроме отброса? Не пройдет без
впечатления, напр., мнение, высказанное профессором Петражицким, чле-
ном кадетской партии, о том, что правые непременно должны получить долю
участья в президиуме Думы, что это дело справедливости, которая ни у кого
не должна быть отнята. Да и не только дело справедливости, но вопрос ува-
жения к народному выбору, на котором покоится вся Дума, все существо ее.
Почти сто правых присланы в Думу огромным районом России, не менее
шестой части Империи, а избиратели этих областей Думою не пропущены в
свой президиум, растоптаны, обижены, отринуты. Мы подчеркиваем слово
«обижены». Парламент начинает дело с обиды, и с обиды народу, значи-
тельной части его. Это такое крушение надежд на «парламентаризм», какое
трудно пережить...
Наконец, при общем крике левых и кадетских газет, готовится пересмотр
выборного делопроизводства в Бессарабской и некоторых других местах.
Солидный, но недалекий М. Ковалевский потребовал чуть ли не раньше всех
«радикального очищения Думы», совершенно не оглядываясь на то, что та-
кое очищение повторит собою буква в букву «очищение ведомства от небла-
гонадежного элемента в составе служащих», какое в недавние времена про-
изводилось невежественнейшими и злобными черными бюрократами. Дума
пошла по стопам Скалозуба, собирающегося «фельдфебеля в Вольтеры дать»:
ведь это точь-в-точь так, только с переменою эполет у «фельдфебеля», су-
щество «вышиба» неблагонадежного элемента, его грубость, его дикость,
его первобытность остается та же. «В нашем министерстве не могут быть
терпимы люди либерального образа мыслей», «в нашей Думе не могут быть
терпимы люди консервативного образа мыслей»: где же рост конституцио-
налиста над бюрократом, где превосходство Ковалевского, Гессена, Милю-
кова над Магницким, Руничем, Булгариным и Гречем. Самое воспоминание
об «очищениях ведомства от неблагонадежного элемента», бывало, рвало
нервы русской литературе. Наши парламентарии собираются поступить так
же: что же мы негодовали на Каткова, Любимова, Леонтьева, требовавших
очищения судебного и профессорского персонала; что же мы негодовали на
Булгарина и Греча, производивших сыск по журналистике; почему мы изли-
вали желчь на Магницкого и Рунича, требовавших себе на просмотр про-
фессорские лекции. Колесо истории повернулось: наша спица из нижнего
положения перешла в верхнее — и оказывается выкрашенною в ту же гадкую
краску, в какую крашена «ненавистная бюрократия». Да, люди — все люди.
В один год оказалось, что «граждане» — такие же «бюрократы». Горькое
«люди, как люди» расползется аксиомою по лицу русской земли и положит
глубокую старую морщину на теперь еще молодое или молодящееся лицо.
Сердце наше должно смягчиться и стать далеким от суровых «молоденьких»
приговоров, с которыми, бывало, мы судили и мерили родную историю.
316
ОТЧЕГО ВСЕ ЭТО ПРОИЗОШЛО?
Состоявшееся 28 февраля по Высочайшему повелению увольнение от служ-
бы директора и предполагаемое предание суду «за бездействие власти» того
же директора, четырех деканов и заведующего студенческим общежитием
Политехнического института в Петербурге не может не отразиться чрезвы-
чайным впечатлением в нашем ученом и учебном мире и в целом русском
обществе. Мы вовсе не избалованы такими решительными проявлениями
государственной воли, и уже по одному этому характеру своему оно дей-
ствует на общественное самочувствие. Многие лица в учебно-администра-
тивном мире и в ученом сословии очнутся от этой меры, как люди с закру-
жившейся головою или в полуобморочном состоянии приходят в себя и све-
жеют головою, когда им дано понюхать нашатырного спирта. Однако суд
всегда есть суд, т. е. несчастие. Лично кн. Гагарин, проф. Станевич и четыре
декана, может быть, далеко не были худшими представителями в России
своей должности и своего служебного положения; даже, может быть, это
были прекрасные ученые и нравственно-безупречные люди, — и мы, есте-
ственно, желаем, чтобы суд над ними возможно меньше принял прискорб-
ных последствий. Они судятся как выхваченные из среды своей, едва ли чем
отличаясь от нее, будучи такими же, как «каждый здесь»; но обыск в Поли-
техническом институте обнаружил то, что в силу более скудных средств
полиции в других городах с высшими учебными заведениями остается не-
обнаруженным, о чем все в России знают. Это, или приблизительно это, есть
чуть не в каждом высшем заведении, на степени факта, приготовления или
недавней ликвидации. Что высшие учебные заведения сделаны у нас, и сде-
ланы насильственно, против воли начальства и части студенчества — очага-
ми революционной пропаганды и местом укрывательства для матерьялов
революционной борьбы, это решительно ни от кого не скрыто и не скрыва-
ется. Таким образом, это предание суду постигает не столько особенно ви-
новных или исключительно виновных, сколько является мерою предупре-
дить и предостеречь других, а также и призвать их к исполнению трудного
долга, за который они не должны были браться, если он кажется им очень
тягостным или неисполнимым.
В чем заключается этот долг? Нам кажется, высшая учебная админист-
рация в лице ректоров, деканов и целых вообще профессорских корпораций
не сумела твердо и ясно задать себе проблемы о своем положении и с харак-
тером и умом разрешить ее. Едва ли они не представляли себе, что от них
ожидается сыск, шпионство, притеснение либерального духа, борьба с мо-
лодежью — борьба вообще с освободительным движением в его неопреде-
ленных и безграничных очертаниях и «служба правительству полуполицей-
ского характера». Весьма естественно, что ученые люди и добрые граждане,
задав себе подобный вопрос, почувствовали крайнюю антипатию к положи-
тельному ответу на него, и отсюда началось совершенно анархическое и,
думаем, безнравственное неисполнение «служебного долга» и вообще даже
317
всякого «долга» людьми высокого и ответственного положения и высокого
образования. Между тем проблема была совершенно другая, истинно высо-
кая и благородная: сохранить для России науку, сберечь нетронутыми и не-
разрушенными, среди бури очаги ученых и учебных занятий, охранить по-
кой и свободу немногих, призванных к науке и настоящему учению голов в
России. Это то же, что на корабле компас и хронометр: каков бы ни был
шторм в океане и как хлопотливо команда корабля ни бегала бы по своим
службам, около машин и котлов, — никто не смеет тронуть хронометра и
компаса, ибо без них и вне бури корабль не может плавать и управляться и
спастись. Ректоры, деканы и прочий состав служащих в высших учебных
заведениях в полном его объеме и были призваны охранять «ученые инстру-
менты» национального существования, без которых нации вообще нельзя
существовать. Архимедовское: «Noli tangere meos circulos»1, каким гречес-
кий мудрец и геометр встретил римского воина, это архимедовское изрече-
ние предстояло русским ученым крикнуть и вправо, и влево: до освободи-
тельного движения, в пору гр. Д. А. Толстого и И. Д. Делянова, они должны
были неустанно и мужественно твердить это в сторону петербургской ми-
нистерской администрации, вмешивавшейся в дела науки и преподавания
собственно в ученой их части, а во время освободительного движения они с
тою же чистою и правдивою душою и так же упорно должны были сказать
это влево. Но, увы, русские — не древние греки, и наши профессора не Ар-
химеды. В этом, в слабости собственно ученой и «мудрой» в них части, и
лежит все горе их личное и затем, по связи службы, которая никогда не была
«служением» науке, чистым и идеальным, — и горе университетов. Ничего
наши профессора не сумели отстоять во время Толстого и Делянова; ничего
корпоративного они не противопоставили петербургским произвольным
распоряжениям, да и министрам ничего не показали вообще, кроме мелкого
либерализма, язвительных насмешечек и пересудов, что все, естественно, те
и презирали. Оппозиция была так мелка и духовно-бессодержательна, что
Толстой и Делянов действовали как в пустом пространстве. Ни в Германии,
ни в Англии, где наука действительно есть и где в силу настоящих качеств
она заставила всех уважать себя, такие «помпадуры»-просветители, как наши
министры просвещения приснопамятных времен, не были бы возможны и
были вовсе немыслимы. «Замашка» сверху явилась потому, что всегда была
ее возможность, таившаяся в составе людей снизу, вот этих деканов, ректо-
ров и профессоров. Пришло освободительное движение: и как наши не-Ар-
химеды, занявшие «служебное положение» Архимедов, прежде стлались
травою перед поступательным шагом раззолоченных помпадуров, так те-
перь они низко пригнулись к земле под напором революционного ветра и
так же мягки были, рыхлы, безвольны, «бессознательны», говоря револю-
ционным языком, когда с ними заговорили рабочие блузы и синие косово-
ротки. Безволие во всем, отсутствие сознания во всем. Всегда, везде отсут-
1 Не трогай моих чертежей (лат.).
318
ствие своего достоинства. Совершенно очевидно, что студенчество делает
решительно все, что хочет, в учебных заведениях, а профессора и весь адми-
нистративный персонал их, с пышными титулами «ректоров», «деканов» и
проч., играют ту роль, какая в высшей математике отмечена термином
«quantites negligeables» — «пренебрегаемые, отбрасываемые при счете ве-
личины». Их просто нет; ничего нет, кроме титулов и жалованья.
И вот за то, что их «нет» и «не было», — и пришел суд. По человечеству
— очень жалко. А по существу — смешно. Конечно, вся Европа рассмеется
или рассмеялась уже, что под рукою и перед глазами ректора, четырех дека-
нов, инспектора общежития и, наконец, сотни профессоров и преподавате-
лей высшее техническое учебное заведение в стране, где не умеют своим
умом и знанием построить моста через реку, все поручая каким-то Батиньо-
лям в Париже, юношество чертит не планы мостов, а планы бомб и слушает
не лекции механики, а орет на митингах о положении социал-демократии в
Германии и в России. Курьезное зрелище.
А какая чудная роль выпадала и манила настоящих Архимедов. Как это
просто было — разделить политику и науку и ни черной, ни красной поли-
тики не допускать в святые стены науки. В пустое место все забирается; а в
насыщенное место ничего не заберется. Вот в чем горе и где настоящий ко-
рень вещей. Сама-то профессорская коллегия — говоря уличным языком —
«ветерком подбита», т. е. ее нет в смысле сильного, оживленного, напряжен-
ного стана одушевленных наукою людей. Где у нас многотомные ученые
издания, хоть сколько-нибудь в уровень с европейскими? Где у нас Лепсиу-
сы, Дарвины, Спенсеры? Что-то жалкое вместо этого. Мелкие служебные
делишки, передвигания от «коллежского асессора» к «действительному стат-
скому» и наконец вожделенному «тайному советнику».
Что же удивляться, что не одушевленные к науке юноши бросились в
азарт политики: «природа не выносит пустоты», как констатировали уже
древние. В университетах и других учебных заведениях образовалась опас-
ная «пустота», в которую и хлынула политика. Молодежь наша очень несча-
стна и гораздо менее преступна. Она ищет идеалов и идеализма, ищет увле-
чения; как всякая молодежь — она романтична. Ну а, конечно, в социальном
вопросе и рабочем движении, с его неопределенным будущим и множеством
негаданных извилин, исходов, чаяний и надежд, куда больше романтизма,
чем в лекциях статских советников с жиденькою начинкою. Профессор у
нас — только недомерок до студента, который его перерос волею, характе-
ром, и если уступает знаниями, то зато превосходит «романтическою сторо-
ною» знаний, вот этими своими убеждениями, верою, взглядами на вещи и
симпатиями к окружающему. Профессор у нас, сравнительно со студента-
ми, не имеет ничего оригинального в себе, самобытного, не имеет своей
другой и отдельной, авторитетной для студента личности. Вот отчего он пред
ним пасует. Все это было пока смешно. Но вот пришел суд— и как все вдруг
сделалось грустно!
319
СВЯЗЬ ЧАСТНОЙ И НАРОДНОЙ
НРАВСТВЕННОСТИ
Я получал и продолжаю получать много писем от женщин, возмущенных
моим суждением о русской жене и матери (в статьях о гражданском браке),
о русской семьянинке', хотя я судил вовсе не о русской женщине, а о влиянии
формы заключения брака равно на оба пола. Гораздо раньше, по поводу ста-
тей о разводе, я получал такие же горькие жалобы мужчин на женщин и на
их страшную невоспитанность и неподготовленность к семье. «Мужчина
хоть служит, работает и на работе воспитывается; но праздная женщина» и
т. д., жаловались мужчины. И с обеих сторон правда. Глубоко трагичны эти
взаимные обвинения: бросаемые страстно и яростно в глаза друг другу, они
не обещают ничего хорошего, не обещают улучшения дела, не обещают ана-
лиза дела. Говорит страсть, а не разум. Прочитав эти взаимные упреки, мож-
но испугаться, что дело идет к окончательному развалу, к отречению рус-
ских людей от семьи, к истребительному: «мы не хотим жениться!», «мы не
станем выходить замуж!» Замечательно, что в качестве общего аргумента
два женских письма, из разных городов, указывают, и кажется довольно ос-
новательно, на наши народные несчастья последних лет, на наш государ-
ственный провал. Нельзя отказать этим словам в пафосе: «А до чего вы до-
вели бедную нашу родину?! Скоро мы все, женщины, устроим вам (мужчи-
нам) забастовку, потому что забота нас, матерей, — это будущее наших ма-
люток: а что нам сулит будущее с такими помощниками, потерпевшими
фиаско во всех отраслях? Старики уже умерли, а молодые — ничтожество
бездарное. Ничтожные рабы своей похоти, кричащие о свободе, — возьмите
ее, нам ваше рабство не нужно; а мы, гражданки будущего, сумеем быть
самостоятельными и дочерей своих так воспитаем, чтобы смотрели они на
вас как на трутней, способных лишь жужжать без толку. Россия выйдет из
затруднений, но благодаря нам, женщинам, скромным труженицам, живу-
щим по медвежьим уголкам, вносящим культуру и в дикой Башкирии, и на
Кавказе, и в далекой Сибири, в то время как вы наследственные свои состо-
яния проживаете в столицах около разных увеселительных мест, не чувствуя
позора и предоставляя нам одним бороться. Я удивляюсь, как можете вы
все, мужчины, жить после Мукдена, Цусимы и нашей Думы? Одно скан-
дальнее другого, и уже женщины тут ни при чем, разве звезды полусвета. Я
знаю мать, брошенную мужем с тремя детьми: всех она поставила на ноги,
дала образование, и не какое-нибудь, приучила к самостоятельности, без
всяких пенсий, пособий, а личным трудом, — это моя мать, которою я гор-
жусь. А генерал, о котором вы рассказываете, что он был брошен молодень-
кой женой, просто подлец, купивший себе молодое тело, будучи в полупара-
личном состоянии» и т. д.
Все это хорошо на бумаге: но как «воспитать своих малюток», о чем
трогательно и с сердцем пишет «русская женщина» (подпись на письме)
при «общей женской забастовке против мужчин»? Явное дело, что «русская
320
женщина» пишет не против семьи в существе ее, но именно о тех возмути-
тельных условиях, в какие семья поставлена и о которых единственно гово-
рю и я. Ну вот, напр., эта мать трех детей, брошенная мужем? Чем же ла-
ком?! Вообразите, молчит об этом Церковь? Вообразите: по учению отцов
церкви, согласно западных и восточных, «жене муж обязан простить, если
она покидает его дом, и должен принять ее обратно к себе, если она раскает-
ся и обратно вернется к нему; но только жена не должна это делать много
раз» (цитаты см. у проф. Казанской духовной академии Писарева: «Брак и
девство по учению св. отцов церкви»). Применительно к этому, по учению
церкви, конечно, и мужья вправе же бросать своих жен, хотя бы и с детьми.
А Филарет, митрополит московский, изъяснил «сие правило» так: «Жена
муже или муж жену может оставить, но только о Господе, для молитвы».
Так как совершенно неуловимо, «для молитвы» или чего другого, «оставля-
ют» супруги друг друга, то остается голое «правило свв. отец» и церкви, что
мужья жен и жены мужей могут бросать невозбранно, хотя бы и с детьми.
Малоизвестность в публике этого замечательного правила может объяснить
государственным людям и простым обывателям, отчего духовная власть, так
щедрая на мелочные правила и так вообще взыскательная, в сем кроваво-
горьком, мучительном, раздирающем душу случае не вмешала своего голо-
са, не утешила и не защитила оставленного супруга, а на оставляющего не
наложила даже простой эпитимии! Ничего!! Дело в том, что эти горькие
случаи предусмотрены, позволены и вообще каноничны...
Возвращаюсь к письму. В общем я должен сказать, что при обоюдном
упадке обоих полов все же женщины остаются скромнее и трудолюбивее
мужчин и причина этого — едва ли не страшная уличная распущенность, в
которую девушке замешаться довольно трудно, а мужчина в ней плавает,
«как в своем корыте», хорошо заготовленном «благопопечительной» влас-
тью. Вообще мужчина гораздо истасканнее женщины, отсюда бессильнее,
слабонервнее и расшатаннее. Однако где же основная причина этого? Не в
товаре, который покупается, а в купце, который его спрашивает и которому
он нужен. Увы, всему одна причина, которую я указываю: 1) поздние браки,
2) редкость браков; т. е. опять же причина этого — тяжелые для мужчины
условия вступления в брак (всю жизнь корми женщину, какая бы она ни
была, хотя бы разорила мужа, опозорила и бросила его). Это решительно
невозможное условие, и при нем число браков прогрессивно будет стано-
виться все меньше и они будут заключаться все позднее, в том зрелом возра-
сте, в котором сумеешь рассчитать, да и терпеть придется лет 15—20, а не
40—30, как при молодом браке. Тут что ни делайте, сколько ни проповедуй-
те — ничего не измените. Всякому своя рубашка ближе к телу, и автор, про-
поведующий «молодые здоровые браки», сам все же женится под старость
и не посоветует сыну жениться необдуманно в молодости. А без этого —
шумящая развратная улица, худые болезни, хилое потомство, вырождение
нации.
11 В. В. Розанов
321
Тут пафосом не поможешь. Может помочь только закон. А закона не
дают, перед законом какой-то страх. Мы привыкли к своей болезни и не
хотим лекарств как новшества: вот где горе, вот что тревожно.
Неужели арифметически по пальцам нельзя рассчитать, что 1) семья
держится привязанностью мужа и жены друг к другу и 2) что, где привязан-
ности нет, а живут вынужденно друг с другом, «по паспорту», «по едино-
паспортности», там такой ад, такая гибель детей, какая на весах нации игра-
ет роль отрицательной величины, без всякого плюса. Всего вот-вот на днях,
в давно знакомой мне семье, покончил с собою 16-летний цветущий, спо-
койный и здравомысленный мальчик, украшение гимназии; родители его еще
не разошлись, но уже 16 лет между ними нет ни любви, ни согласия, ни
уважения, едва скрытая ожесточенная злоба; и это на чистую душу ребенка
дышало таким мраком, что он, буквально задушенный, выпил стклянку кар-
боловой кислоты. А когда так и если так, — и, несомненно, это так, — тогда
пусть бессильный законодатель предоставит все чувству, взаимному такту,
взаимным текущим и постанавливающимся усилиям привязать к себе, не
возводя ничего в юридическую норму; или уже пусть он создаст такую юри-
дическую норму, которая бы обнимала все жизненные случаи, счастье и не-
счастье в их индивидуализме, капризы, страсти, произвол, чудовищности
(ведь целая нация!) и ангельство людей. Дайте волшебное универсальное
законодательство или никакого. А то вы дали машинку, в рубль ценою, и
работаете на ней счастье всей нации. Говорить о бесчисленных подробнос-
тях здесь невозможно, и я остановлюсь только на чем-нибудь, что режет
глаза. Ну, возьмите эти семилетние эпитимьи с воспрещением вступать в
брак, налагаемые на разводящихся. Такой, подумаешь, пафос гнева к греху.
Кто наложил ее? Монахи. Между тем из отдела Требника «Чина исповеда-
ния чернцов» (монахов) известно, что сами они грешат решительно со все-
ми существами, не милуя ни которого, и дело доходит чуть ли не до «грехо-
падения с мравием» (муравьем). Об этом знают в монастырях, и вот сами
себе монахи все это спокойно отпускают, без всяких эпитимий. Покаялся,
причастился и чист. Всего неделя времени, и никаких расходов. Не явно ли,
что на семейных людей просто излита злоба, без всякого негодования, кро-
ме притворного. Позволим себе напомнить людям правительственным, от
которых зависит издание закона, что по тому же самому «правилу Св. Васи-
лия Великого», по которому налагается эта семилетняя эпитимия, сводящаяся
к семилетнему принуждению светского человека к бесшабашной жизни,
«воин, окончивший свою службу государству, три года да не причастится»,
т. е. за такой «грех», как военная служба, три года он не допускался к прича-
стию. Обер-прокуроры Синода, которые всякими пустяками занимаются,
могли бы давным-давно, сославшись на отмену этой эпитимьи на солдат,
против чего церковь не спорила и не возражала, не попросить только, но и
прямо потребовать отмены и нелепой семилетней на разведенного «по вине
прелюбодеяния», ссылаясь на развращающее, разрушительное для народ-
ной нравственности действие этой эпитимьи. Не возражали при отмене од-
322
ного «правила», не могут возражать и при отмене другого. Тут полезно не-
которое принципиальное разъяснение. Св. Василий Великий — не бог, не
божество: он не знал, что земля кругла и что она движется, и вообще как в
географии, так и в биологии равно был погрешителен. «Правила» его в та-
кой области, как чуждый ему, монаху, брак, ровно никакого авторитета и
значения не имеют, наряду с его географическими понятиями, где он отра-
жал и повторял только свои темные времена. Он был свят подвигом своим,
личною своей жизнью', и это нисколько не подкрепляет авторитетность та-
ких его мнений, как, напр., известный его взгляд на пост, будто бы он и уч-
режден был еще в раю, для Адама и Евы, ибо «запрещение Адаму и Еве
вкушать от одного из райских древ было уже наложением поста». К святым
мы относимся совершенно бездумно, т. е. лениво: поставив вокруг головы
их золотой венчик, мы вместо того, чтобы чтить в них лицо, благого челове-
ка, чистоту и правду желаний, помыслов, т. е. качества нравственные, пред-
ставили их себе какими-то научнообразными Архимедами, «богами», кото-
рые «все знают», «всеведущи и непогрешимы», и в последнем анализе пред-
ставляем их «знахарями» («знание», «тайное знание» всех вещей). Это со-
вершенно языческое представление о святых отнимает всякую силу и доброе
нравственное действие на народ этой великой черты нашей религии (т. е.
почитания святых) и породило бесчисленные суеверия и злоупотребления.
Один Бог не ограничен и абсолютен, а святые подчинены законам времени
и места, имели тяготение к времени и к месту, несли на себе их тяжесть. Они
много не знали; будущего, напр. наших времен и наших нравов, нашего со-
циального строя они не знали же; наконец, они гневались, они восклицали;
и, напр., это: «прелюбодей-муж семь лет да будет запрещен к браку» есть
просто гневное восклицание, патетический возглас, вырвавшийся при зри-
тельном впечатлении какого-нибудь случая вот «мужа, бросившего жену с
тремя детьми» или еще худшего факта. Какой же это «закон», «принцип»,
«правило» на тысячу и даже более чем тысячу лет, «небесный глагол» orbi
terrarum. Ничего подобного: и Василий Великий именно как святой содрог-
нулся бы от того злоупотребления, какое неумные «иконопочитатели» его
образов сделали потом из его слова.
Со всем этим надо покончить. Но пока солнышко взойдет — роса глаза
выест: пока церковь соберется пересмотреть свои средневековые «запреще-
ния», все поставленные под «золотой венчик», в нимб тысячелетнего сия-
ния для человечества, — народы, люди, семьи ломаются в судьбе своей, гни-
ют, и гниют в неустройстве, развращении... Этого нельзя терпеть, этого не
должно терпеть ни государство, ни общество. Разрыв семьи и брака с мона-
шеством, которое одно представительствует собою церковь и говорит от ее
имени и не допускает никого говорить, кроме себя, знаменует освежение
всей зараженной почвы брака, призыв сюда новых методов суждения и ле-
чения, помощь медиков, биологов, социальных строителей, статистиков,
экономистов. Церкви ведь всего этого «не нужно». Ну, какая же статистика
там, где «таинство». Даже оскорбительно. Ну а семье статистика чрезвы-
11
323
чайно нужна: 1) сколько людей живет в браке, 2) сколько безбрачно, 3) сколько
в стране домов терпимости, 4) каков средний возраст в стране вступающих
в брак, 5) какой процент детей умирает на первом году жизни. Все нужно. И
статистика эта нужна с законодательными правами, с правами действовать
на закон, указывать ему, в чем измениться. При таинстве этого решительно
невозможно; таинство все отметает и само всему указывает путь и закон.
Поэтому для исцеления человечества (биологического) полезно на некото-
рое время обойтись без таинства, чтобы развязаться с тайнотворителями, с
которыми не сговоришься и для которых вообще ничего не нужно. Путь,
мною предлагаемый, простой и ясный. Объясню его аналогией: все мы рус-
ские, но не каждый русский, а только военный человек, «военная косточка»
может сделаться военным министром. Особый дух, исключительная тради-
ция, особые привычные воззрения, особое чувство чести и вся выправка.
Точно так же все мы христиане и православные, но над семьею православ-
ною и христианскою отнюдь не должны стоять хранителем и руководите-
лем монахи, хотя они тоже христиане и православные, но должны стоять
люди семейной традиции, семейного духа, семейных воззрений и вкусов,
которые бы всю жизнь сами и с дедами и бабками и друзьями и с соседями,
все кучею, дышали семьею, особым семейных воздухом, семейными нрава-
ми, семейной чуткостью и пониманием. Как военный лагерь — одно, так
монашеский сонм — другое, и семейная куча — третье. Всему свой закон и
свой дух. Губительно для каждого брать начальство из другого лагеря. По-
добно тому как генералы и чиновники в звании обер-прокуроров Синода
давили церковь и вредили ей, хотя они тоже были христиане и православ-
ные, так точь-в-точь давит и погубляет семью и семейную жизнь во всей
России правительствующая (монашеская) церковь. Просто не специальное
управление, не специальный дух. Как «опасно для души» читать в монасты-
ре роман, даже классический, Диккенса, Скотта или Толстого, ибо там упо-
минается про любовь и семью, так в семейном дому семейному человеку,
детям, матерям, отцам, воспитателям, грешно и «не полезно», разрушитель-
но и запретно держать в руках и в дому хотя бы самую лучшую, поэтичес-
кую и глубокомысленную, книгу их темного лагеря, «черной» братии, дав-
шей «зарок против семьи». Вот простой мой метод, простое требование.
Поступаю как врач, прописывающий простую хину при виде простой лихо-
радки. И уже как только русская семья и привязанные к ней русские люди (а
кто к ней не привязан?) получат свободу крыльев, разума, рассуждения, ле-
чения, — все болезни семейные будут вылечены; мы сыщем на дне моря
средства, и исцелим, и не допустим, или по крайней мере со всем нацио-
нальным вниманием вот «матери с тремя детьми, покинутой мужем», не до-
пустим ни детоубийства, ни женоубийств, ни мужеубийств, на что на все
равнодушно посматривает черный лагерь, затворяясь в вековечный тезис:
«мы не от мира сего, нам дела нет», добавляя его другим: «мы в золотых
венчиках, для людей недосягаемы, тайнотворцы, чудотворцы, и власти у
нас, пожалуйста, не отнимайте».
324
Довольно с этим! И когда с этим мы покончим, всякую слезу утрем
человекам. Многие корреспонденты меня сильно порицают, даже ругают, и
я всех благодарю: это драгоценные, золотые голоса жизни, практики, суро-
вой муки и нужды.
РОСТ И КУЛЬТУРА ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ
Одною из задач конституционного устройства, и притом едва ли не важней-
шею, нужно считать посев добрых зерен взаимного доверия, уважения, и
притом не только сухо политического, но нравственного, умственного и во-
обще всяческого, между правящими в обширном смысле и между управля-
емыми тоже в обширном смысле. Конституции происходят по причине не-
доверия и существуют, чтобы погасить его. Над этим они работают. Нет стра-
ны, где управляемые относились бы к своему правительству в существе его,
к олицетворению его в лице Государя, с таким благоговением, как в консти-
туционной Англии: это плод вековой работы ее старой конституции. Каж-
дый англичанин верит, что он управляется лучшим правительством в мире и
вообще имеет по этой части наилучшее, что может быть достигнуто на зем-
ле; и, обратно, правительство английское, и за ним по примеру его и обще-
ство и литература взирают на английский народ как на первый в мире, пер-
вый не только по могуществу или славе, но и по нравственным доблестям.
Нужно ли разъяснять, как при таких взаимных отношениях задача управле-
ния облегчается.
Обращаясь к себе, к своей родной истории, к этому первому шагу кон-
ституционной жизни, который мы делаем, мы, конечно, не можем особенно
взыскательно отнестись к тому изумительному и доходящему до смешного
и анекдотического недоверию, с каким на паркете парламента впервые встре-
тились две стороны, правительственная и общественная. Что делать: кон-
ституции рождаются из недоверия. Таков их родник, первоначальный ис-
ход. Но наши первые парламентаристы чуть ли не воображают, что и самое
существо конституционализма и конституционных отношений заключается
в выращивании этих волчьих инстинктов, в некоторой культуре их, искусст-
венном и тепличном их выхаживании. Политика им представляется наподо-
бие того бульона медицинских экспериментальных лабораторий, где разво-
дятся всякие мертвящие и убивающие бациллы. Это какая-то культура зла,
лаборатория зла. Наши парламентские мудрецы, вроде Ковалевского, Ко-
кошкина и Щепкина, все профессоров и все бездарных, — думают, что, раз-
водя этот бульон, они действуют по великим образцам и прецедентам Евро-
пы, тогда как они действуют как раз по указаниям и предостережениям «Мос-
ковского сборника» К. П. Победоносцева, который в статье «Великая ложь»
именно так характеризовал конституционализм и парламентаризм. Не зна-
ем, приятно ли гг. Ковалевскому и Щепкину сидеть за одной партой с Побе-
доносцевым, но несомненно, что они держат одну указку в руках и повторя-
325
ют одни азы. Победоносцев предостерегал, что парламентаризм рождает
только нравственное зло, растлевает нацию, а парламентариев наши из
бездарных профессоров с первых же шагов парламентской жизни делают
все усилия, чтобы как можно больше развести этого бульона с бациллами
злобы, ненавистничества и взаимного презрения. Но взгляните присталь-
нее, наши друзья и недруги, на конституционную Англию, и вы увидите,
что действуете и чувствуете вовсе не по-европейски, а скорее по-мордовски.
Конституция есть добро и ведет к добру; в существовании нации это есть
культура выращивания чувств взаимного уважения и доверия.
Повторяем и настаиваем, что мы не хотим быть очень взыскательными
к тому, что первая собравшаяся Дума вылила на правительство столько зло-
бы и облила его такою желчью и ядом. Весь вопрос будущего теперь лежит
в том, сумеет ли общество отнестись культурно и человечно к великому дару,
попавшему ему в руки, — к конституции. Сумеет ли оно двинуться по пути
возрождения лучших чувств в нации, хотя бы только чувства уважения че-
ловека к человеку, партии к партии, правительства и народа в их взаимных
отношениях. В этом лежит здоровье нации, здоровье государства. Болезне-
творные бациллы если и разводятся медиками, то в целях здоровья, для лече-
ния, а не для заражения ими. Горе парламенту, который вздумает заражать
нацию, а не исцелять ее! Бог даст, этого несчастья не случится у нас. Но его
не случится, если все общество и вся печать выступят на подмогу парламен-
ту в этом движении к очевидному добру. Достаточно для критики материала
в строе государственных дел, в этой бюрократической неурядице, в которой
мы бредем и тонем: ведь она-то именно и привела нас к парламентаризму
как акту исторического недоверия. Но это именно первый шаг, после кото-
рого надо делать второй — в сторону доверия. Правительство, организовав
парламент, тем самым громко сказало, что оно само видит у себя недостат-
ки, видит старые и неисцелимые для прежних средств язвы, для исцеления
которых нуждается в помощи свежих и независимо поставленных народ-
ных сил. Правительство конституционно — неужели нельзя этому пове-
рить ввиду всего, что оно сделало и как поступало начиная с 17 октября.
Между тем парламентские кружки, печать, общество с истинно анекдоти-
ческим рвением изощряются в намеках, слухах, подозрениях, молве и явной
клевете, что правительство только и занято одной мыслью, как бы погубить
депутатство и депутатов, и чуть ли в этих намерениях не бросило в социал-
демократов потолком депутатского зала, как Голиаф в святого Давида бу-
лыжником. Депутат Алексинский, не сказав этого прямо, явно на это намек-
нул, с пошлою присказкой: «Народ сумеет сделать из этого выводы». Может
быть, сделает «выводы» при подсказывании Алексинского и иных? Нет, на-
род наш умнее разных Алексинских, навязавшихся ему в сожители: он не
заражен, не патологичен, не болен, и никогда не подумает, что правитель-
ство бросило потолок из пращи. Этим глупым эпизодом не стоило бы зани-
маться, если бы %, а то и % думских речей не сводились к типу этого эпизода
и не заключались попросту в сыске над правительством. «Невестке на
326
отместку» — как говорит народная пословица: из депутатов, обществен-
ных деятелей и журналистов так многие и так часто подвергались в свое
время полицейскому, цензурному и всякому другому сыску, что потеряли
самый нюх и самый вкус к чему-нибудь другому, потеряли способность что-
нибудь другое делать и что-нибудь другое понимать. И, забравшись в Таври-
ческий дворец, на почетное место, хотели бы устроить в нем вместо настоя-
щего парламента былое III отделение, но только с агентами, чиновниками и
начальниками отделения «по уполномочию народа». Река пошла вспять: но
какая в ней грязная вода!
РЕЧИ ИЗ «РЕЧИ»
Русская оппозиция русскому правительству нам вовсе не претит, как есте-
ственное выражение двух точек зрения на одно и то же дело: точки зрения,
так сказать, помещающейся внутри государственной машины и точки зре-
ния, разлитой в самосознании и самочувствии русского народа и общества.
На плывущем корабле важно мнение капитана и команды, но важен, очень
важен, кроме того, и голос нужды, опасения и удобства пассажиров, ибо в
конце концов корабль плавает именно для них. В такой здоровой и ясной
оппозиции не только мы не находим, но, очевидно, и само правительство не
находит ничего дурного, опасного или ненормального: иначе для чего бы
ему и давать конституцию. Но послушайте эти речи из подворотни, то бишь
из «Речи», и вы покраснеете за профессорско-адвокатскую «оппозицию»,
которая смеет называться «оппозицией русского народа». В самый день выс-
лушания министерской декларации «Речь» пишет: «Таким образом, истин-
ное красноречие сегодняшнего заседания обнаружится не в шумных прени-
ях с бурными перерывами справа и слева, а в коротенькой и сухой парламент-
ской формуле перехода к очередным делам. Переведенный с парламентско-
го языка на обыкновенный житейский, этот переход будет означать: Г. Дума
вас знать не хочет, а кто вы такие, собирающиеся в ней совместно работать,
это мы скоро покажем, и покажем не тогда и не так, как вы хотите, а как
захотим мы сами».
«Речь» и кадеты, жиды, полужиды и жидовствующие никого не удивят
своим надменным тоном. По-видимому, эти храбрецы добились у «левого
блока» робкого и унизительного молчания в ответ на декларацию министер-
ства из страха, что критика этой декларации повела бы к роспуску Думы.
Друзья, выйдите из подворотни, куда вы так тревожно забрались, и огляни-
те спокойным взглядом все поле действительности, перед вами лежащее.
Правительство, гораздо менее растерянное, чем в прошлом году, и гораздо
лучше подготовившееся к перипетиям парламентской борьбы, конечно, спо-
собно к выжиданию и терпению еще более, чем прошлогоднее правитель-
ство; между тем и прошлогоднее правительство даже речи не подымало о
роспуске Думы в ответ на грубую и дерзкую критику декларации, прочитан-
327
ной И. Л. Горемыкиным, а распустило Думу только тогда, когда она вышла
из законных рамок и постановила обратиться непосредственно от себя с воз-
званием к народу, т. е. свернуть на явно революционный путь. Пока никто не
собирается «роспускать» Думу за резкую критику: такой шаг могла бы про-
диктовать жидовская впечатлительность к насмешке, к критике, к словесно-
му задору; русская государственная власть стоит гораздо выше этого. Но
знаете ли, в каком случае может последовать роспуск? Он может последо-
вать при совершенной тишине, без всяких вызывающих дерзостей, если
окажется, и притом, несомненно, окажется, в работах Думы, что члены ее в
подавляющем большинстве преследуют не дело, что она не помогает чи-
нить и укреплять русский государственный корабль, а занята исключитель-
но целью проявлять свои чувства, марать государственную власть, и притом
не имея в виду никакой другой более солидной цели. Увы, Дума имеет не
только права, но и обязанности довольно сурового смысла. Она должна имен-
но работать, трудиться, размышлять над данными государственного управ-
ления, исследовать, сверять и давать свои заключения. Хотя и грубо сказать,
но нельзя не сказать, что платить по 10 руб. ежедневно молчащим депута-
там за то, что они только сидят в Думе и по временам хлопают речам какого-
нибудь Аладьина или Алексинского, — это слишком дорого, и бедному рус-
скому народу не по карману. Вообще многие еще думают, что парламент
есть главным образом зрелище и аудитория. Нет, господа, он есть рабочая
мастерская, и потрудитесь поработать.
Вот если этот суровый долг работы выборное представительство под-
менит поползновением к краснобайству и пожинанию дешевых лавров пу-
тем язвительной словесности с трибуны, то, конечно, серьезные части рус-
ского общества потребуют роспуска Думы, а правительство последует это-
му требованию. Россия не в таком положении, чтобы краснобайствовать; да
и более или менее «смелых речей» она может начитаться в «товарищеской»
печати, так что для словесного излияния второго запаса таких же «речей» не
для чего было собирать с такими трудностями представителей со всей Рос-
сии и рассаживать их в Таврическом дворце. Вообще все это дешевле стоит.
Парламент — дорогое и трудное учреждение. Все в России переломилось,
переменилось, чтобы открыть эру парламентской и конституционной жиз-
ни, эру насущных преобразований. Это именно эра. Много пота и крови
сюда ушло, хоть и не всегда видных. И воображать, что это гигантское уси-
лие сделано Россиею для выполнения пошленькой «тактики», указываемой
со столбцов «Речи», — воображать это было бы ужасным уничижением для
России.
Нет у нас пока ни героев конституционализма, ни настоящих полити-
ческих бойцов. «Оппозиция» таковых была бы плодотворна для дела госу-
дарственного управления, она дисциплинировала бы, школила бюрократию
и научала бы политическому уму и смыслу общество. Такая «оппозиция»
всех бы воспитывала. Едва ли не роковым случаем для кадетской партии
было то, что ей навязались в «предводители» такие господа, как Винавер,
328
Гессены и Милюков, которые отстаивают одни только интересы еврейства и
нисколько не заботятся о нуждах русского народа. И едва ли не первым де-
лом оздоровления кадетской партии было бы развязаться с этими лидерами
и руководиться своими соображениями и свободным разумом. Мы, русские,
очень скромны и пасуем перед развязною речью; невероятно, чтобы среди
молчаливых членов кадетской партии не нашлось умов гораздо большего
роста, нежели у их пресловутых закулисных лидеров.
ЖИВЫЕ ШТРИХИ
I
Заседание Думы 6 марта было картинно. Да, как переменилось представи-
тельство сравнительно с прошлым разом! Узнать нельзя: совсем иные тоны,
краски.
Я люблю все красивое, сильное и определенное. Конечно, я имею свои
убеждения, но начало эстетическое господствует в моих характеристиках,
ибо, когда я пишу их, ведь я не «голосую», я не хочу, чтобы эти маленькие
мои миниатюры на полях думской хроники походили на черные и белые
шары, посредством которых «прокатывают» или «дают торжество» люби-
мым или нелюбимым мнениям и нужным или вредным людям.
Прежде всего, Дума не имеет того охлократического характера, характе-
ра «черни», какой ей приписали разные петербургские соглядатаи-свидете-
ли с явно тенденциозными целями. Она спокойна, тверда, очень уравнове-
шенна. Видно, что сильно развитые оба крыла взаимно сдерживают друг
друга. Центр побледнел, и очень. И кажется, что этому центру предстоит и в
будущем малиться. Золотая пора «кадетства», очевидно, прошла с 1906 го-
дом, — прошла и не возродится. Напротив, оба крыла, очевидно, в росте, и
будут отрастать именно крайние его перышки. «Октябристы», которые так
претенциозно выступали в предвыборной кампании и требовали, чтобы с
ними слились крайние правые, ибо «сами по себе они совершенно ничтож-
ные», — оказались «совершенно ничтожными» сами, тогда как крайние пра-
вые представлены ярко, красочно и, если хотите, веско. Но о подробностях
— ниже. Теперь же замечу, что все «крайнее» выросло в Думе, видно в ней,
говорит в ней. И все «среднее» затушевывается этими крайними голосами.
Увы! — может быть, такова природа парламентаризма и, по крайней мере, в
такой остро-ломкий период, как переживаемый нами. Парламент — что-то
большое, грузное. И мелкая работа, мелкое лицо, даже если оно одарено
умом, знаниями, ловкостью, — просто не видны.
Перехожу к подробностям. В Петербурге я голосовал за левый блок.
Тем не менее, должен сказать, что день 6 марта был победным днем Церетели
и Столыпина (премьер-министра). Густо вывалившая к подножию оратор-
ской кафедры вся левая сторона своим безмолвным вниманием при второй
329
речи министра и отсутствием хотя бы одного знака презрения, негодования,
— на что она весьма способна и нимало этим не стесняется, — отнеслась к
речи г. Столыпина точь-в-точь так, как и я, голосовавший с нею. Тут, я ду-
маю, оказалось единство эстетического воззрения. «Ну, война, так война!
Это, по крайней мере, ясно». Но буду говорить по порядку.
Я поспел в Думу как раз во время перерыва между двумя отделами «дня»,
т. е. к самому началу министерской декларации. Депутаты ходили по зале, и
тут же я не мог не выразить вслух удивления, что вовсе нет (как писали
«соглядатаи») оборванцев и диких лиц.
— Что же писали? Что же писали? Это все хорошие лица.
— Лучшие русские лица, — ответили мне вдумчиво и справа, и слева
наклоненные над залой головы.
И я думаю так.
Но вот стали усаживаться, и показалось «министерство».
Столыпин — большой, мягкий (в мускулатуре), грубый и неуклюжий
барин. Ничего щегольского, «с иголочки»; ничего обточенного и завершен-
ного. Большая голова при очень большом теле. Лоб очень большой, но с
гладкими очертаниями, без этих таинственных «извилин» линий лба и голо-
вы, обещающих и манящих. Все просто, определенно и несложно. «Я весь
тут, как сижу, так и есть. В кармане ничего: ни революции, ни контрреволю-
ции. Я этого не понимаю. Я — просто министр, и останусь министром. А вы
можете думать об этом как угодно. Мне все равно». Отсутствие не только
гениальности, но и простой талантливости человека и администратора ки-
далось в нем в глаза и, я думаю, не скрыто и от него самого. «Я знаю, что не
талантлив, и не ищу этого. Надо бы больше, но нет. Но я человек, министр,
и не уйду со своего кресла, как бы вы его ни ломали, и, кроме того, ударю
каждого, кто будет это кресло ломать. А? Что?» Тут есть немножко Пьера
Безухого и Анатоля Курагина, как эти бессмертные типы даны в «Войне и
мире» Толстого.
Сидит Столыпин ужасно неуклюже. Ворочает ногами. Спина — меш-
ком. Не паркетный человек, но в нем много поля, леса, барской усадьбы,
хорошего конского завода. Все это надышало в него свою землистую приро-
ду и дышит из него.
По предложению председателя Думы он прочел свою «декларацию».
Она была скучна, длинна, неинтересна. Изложение «законопроектов» едва
ли требовалось в речи, от которой все ждали принципов, принципиального
взгляда на положение России, резкого и нервного выражения, чем прави-
тельство хочет быть и как оно смотрит на народное представительство.
— «В принципах я не понимаю, это — не мой океан. А вот смотрите,
что я наворотил».
И медведь-министр показывал «дуги, которые он гнул», — все эти «за-
конопроекты». Тут и земство, и образование, и земские начальники, уездное
и губернское управление, суд, — все. Каша. Видно, что министерство запы-
халось от работы, и не ради того, чтобы работу, и именно эту работу, люби-
330
ло. Не видно, чтобы оно «вылелеяло» свои законопроекты: просто его увле-
кал самый вихрь «работы», работности, чтобы «дуг» было как можно боль-
ше, много до удивления.
Почти часовая речь министра была скучна. Это было перелистывание
«Иловайского» по рубрике административных вопросов. Все это известно и
переизвестно. Можно было только спросить министра после его речи:
— Отчего ж всю эту азбуку вы не сделали раньше, до народного пред-
ставительства? Не явна ли вина бюрократии из одного того, что она палец о
палец не ударила сто лет, чтобы дать населению эти элементы здравого уп-
равления. «Дуги» эти хорошие, но оне вчерашние. А «упущение времени
смерти подобно», это сказал великий Петр, родоначальник Петербурга и
самой бюрократии. За неверность заветам Петра, духу Петра бюрократию
следовало бы расказнить: да «революция», о которой вы мимолетно и него-
дующе упомянули, и есть такая пришедшая фатально казнь, пришедшая «сни-
зу», ибо «сверху» не было ничего, кроме «наград и повышений за служеб-
ные отличия», т. е. вот за этот возмутительный и нечестивый сон над «де-
лом» России и «делами» русских обывателей.
Столыпин кончил, и поднялся на кафедру Церетели.
После его речи, выйдя в коридор, я слышал от грузин, что это — неокон-
чивший студент Московского университета, депутат от Кутаиса. Совсем
молодой, но без излишества. Молод для жизни и очень стар для студенче-
ства. Лицо красивое, но тоже без излишества. Небольшого роста, плотный,
сжатый. Мускулы твердые, ожирения — никакого. Голос, как и у Столыпи-
на, — на всю же залу, но без «мешочков», неясностей и неуклюжестей пре-
мьера. Гладко, чеканно, невозмутимо спокойно (главная прелесть его речи),
прекрасным русским языком, почти без акцента (гимназия и университет
русские) он сказал, изложил, мотивировал и доказал, что... всего этого, о
чем говорил премьер-министр, России не нужно, и что Россия готовится и
будет готовиться совсем к другому, и когда она приготовится к этому друго-
му и сделает свое полезное дело, единственное нужное дело, тогда все деко-
рации переменятся и не будет никакой нужды объясняться с этим декора-
тивным министерством, сидеть в этом довольно декоративном парламенте
и пользоваться благодеяниями совершенно декоративной конституции. Я
передаю нерв речи, — подробности прочтут в газетах. Есть текст речи, и
есть дух речи. Дух этот был прекрасный, гордый, благородный, без уступоч-
ки назад, без уступочки в сторону. Я восхищался; как эстет, я восхищался. Я
думаю, эта речь была страшно поучительна и для министра; в тысячу раз
поучительнее, выразительнее, нужнее «страстно-европейских» речей Набо-
кова и Родичева, какими в прошлом году «кадеты» ответили на декларацию
Горемыкина. Столыпин и около него министры в первый раз в живом чело-
веческом голосе услышали то, что мы-то, обыватели, давно слышали и слу-
шаем на предвыборных и всяческих иных собраниях, но они никогда этого
не знали иначе, как в мертвых печатных строках, без живого дыхания.
Здесь было живое дыхание.
331
Встал зверь, небольшой, плотный, красивый и молодой, и раскрыл пасть,
и показал свои тонкие зубы, ударяя хвостом о землю. Буйвол, большой и
сильный, рогатый и неуклюжий, и перед ним гибкий барс, готовый на него
кинуться. Это было красиво, как в «Апокалипсисе». Да, может быть, это и
была глава из «Апокалипсиса», те вновь отвертываемые листы таинствен-
ной, священной книги, о которой в свое время Тайнозритель писал, что они
еще «запечатаны» и их «никто прочесть не может».
Столыпин шевелил ногами. Был бледен. Церетели говорил именно то,
за что, при первых звуках, пристав, бывало, закрывал моментально (на моих
глазах случалось) предвыборные собрания.
— Довольно!
— Ложь!
— Вон!
— Довольно! Довольно! Председатель, прервите оратора.
— Господа депутаты, делать замечания оратору никто не может, кроме
председателя палаты (Головин).
Церетели, — и здесь была самая красивая его минута, — воспринял с
таким спокойствием, не преувеличенным и не уменьшенным, крики и, мо-
ментами, вопль «правой» стороны, что было удивительно смотреть. Сколь-
ко нужно было уйти в «свои речи», речи и ход мыслей «своего кружка»,
«партии», вот этого «социал-демократа», чтобы выработалось это броневое
равнодушие ко всему, что бы ни говорили «другие». Церетели, после гама
палаты, не поднял ни на одну йоту тон речи и в смысле ее не подался ни на
вершок. «На запятой прервали, запятой начал», но «начал», как и выслушал
крики, не каменно-равнодушно, не апатично, а человечно, с гордостью и
достоинством. Стрелы звонко прозвенели о щит. И повисли бессильные.
Красиво.
Он кончил. И потянулись ораторы, заявлявшие от имени своих партий и
фракций отказ от обсуждения министерской декларации и формулу перехо-
да к очередным делам. Как известно, ею думали произвести «молчаливую
сенсацию». По всему вероятию, это бы и случилось без речи Церетели. О
том, что «вышло бы, не случись этого», — мы не можем судить. Тут надо все
посмотреть «в натуре», а не в предположениях, для которых не было ни про-
верки, ни примера. Но то, что «вышло», то есть с речью Церетели, — было
очень одухотворено, и без ее парламент в этот торжественный день, которо-
го ожидала вся Россия, и будет смотреть на него вся Европа, вышел бы без
«своего лица», отказавшись «показать свое лицо». Парламент этим шагом,
предложенным «кадетскою» партиею, — несомненно, «зашел бы за угол»
перед министерством, выступившим перед ним впервые. Сколько бы он ни
разъяснял в «мотивах» перехода к очередным делам своей точки зрения, что
«на словах бороться не стоит», а он «покажет себя на деле», — это было бы
на сегодня «показыванием кукиша в кармане», как говорят в просторечии, и
страшно уронило бы его престиж, достоинство, гордость, силу. «Спину»
показывать опасно и потому, между прочим, что еще как-то удастся, и будет
332
ли время и случай, повернуться «лицом». Во всяком случае, о «повороте
лицом» и будут говорить, когда он произойдет, а сейчас будут говорить имен-
но о том, что произошло, то есть что вот «увидели спину»...
Некрасиво. Прошла бы мертвая кисть по картине нашего парламента-
ризма, а «мертвое» не оживает.
Теперь ничего этого не случилось. Речь Церетели была так ярка, слож-
на, продолжительна, что совершенно (во впечатлении дня) закрыла собою
«очередные переходы к делам», да и бросившиеся на Церетели «правые»,
как и второе ответное слово премьер-министра, сделали день полным «пре-
ний». Хотели испечь пирог без начинки: да начинка откуда-то сама понаб-
ралась.
* * *
Церетели был беззаконник. Думаю, однако, что барс и всегда «беззаконник»
среди буйволов. Буйволы кинулись на него.
Речи правых заняли вторую половину заседания. Их было много. Но,
«в порядке дня», я должен упомянуть, что от левых говорил для чего-то еще
г. Озоль, — говорил бесцветно, тихо, вяло. «Жевал кашу», невразумительную
и безвкусную. В коридоре острили:
— Озоль натирает мозоль. Ну его... Кто такой?
— Не знаем!
Она не сделала впечатления.
«Правые» кинулись врассыпную, как и всегда буйволы. Уже некрасиво
было то, что их говорило много и все против одного «возмутительного»
Церетели. Сколько бы они его ни бодали, если бы даже и валяли по земле,
остается неизбежно это некрасивое впечатление, что их много, а он один и
что он один всех больно укусил. Им, очевидно, надо было ответить одной
равномерно-сильной речью. Но, по всему вероятию, такой не сыскалось. И
пришлось восполнить множеством.
Мне понравилась только одна из «правых» речей, — говорили потом, —
г. Бобринского из Тулы. Выйдя, он извинился, что сегодня «не в голосе», и,
действительно, раз у него смешно свистнуло горло, что вызвало смех пала-
ты и публики. Но смешное — смешным и делу не мешает. «Дело» же состо-
яло в том, что он говорил, как добрый и хороший русский человек, как мяг-
кий русский человек, приведенный в негодование «возмутительностями»
социал-демократического оратора. Нужно заметить, что «правое» направ-
ление имеет или могло бы иметь свою силу, красоту и пафос; это не было бы
пафосом жизни и будущего, по всему вероятию, — жизненно провалилось
бы. Но есть свои цветы у осени, свои песни у старости. Возможная бы кра-
сота «правого» направления вся лежит в элегии, в элегических чувствах че-
ловека, в элегических струнах истории. Но наши «правые», это «истинно-
русские люди», и понятия не имеют об элегии, не имеют никакого к ней
вкуса и едва ли знают ее название. Они грубы, неотесанны и жестки; они,
333
как Вильгельм перед китайской экзекуцией, грозятся «бронированным ку-
лаком». По этой части буйволово копыто всегда уступит когтю барса, — и
дело их исторически и всячески, я думаю, пропало.
У графа Бобринского (если не ошибаюсь в имени) был хороший тон
русского человека, и он слушался мягко, беззлобно. Единственное, что мо-
жет дать молочная порода. Единственное, чем она сильна и чем могла бы
охранить себя.
Кажется, и слушали его мягко, с уважением. Но тут не было мысли и не
было вообще запоминающегося.
Затем, срываясь с места, стали вылетать на кафедру поочередно почти
все «лидеры» правой стороны, — как-то остро, почти бегом, добегая до ка-
федры, страшно торопясь. Все было бы хорошо, если бы стрела долетала до
цели, но стрела была, да летела-то она как-то без цели и падала среди поля.
От всех речей получился шум, звон, моментами истерика. Крушеван кри-
чал, Пуришкевич визжал, Крупенский гремел. Еп. Платон почти заплакал,
что его обвиняют в погромах, «тогда как он» и т. д. Епископ Евлогий нежно
мел пол мягкой щеточкой направо и налево. «Хотя я и сижу среди правых,
но не подумайте, что это место моего стула показывает место моего сердца;
и хотя я возражаю против левых, но левые не должны думать, что я возра-
жаю против них». И т. д. «Ну, — думалось, — куда конь с копытом, туда и
рак с клешней. Куда это забрели епископы и что они тут станут делать? Вот
разве что посидят в переднем ряду. Все-таки честь».
Крушеван на меня не произвел отталкивающего впечатления. И кругом
говорили в публике, очевидно архи-радикального направления, люди:
— Крушеван хорош. Вот он!
Просто — определенное лицо. «Знаем, кто такой». Он бронзовый, тем-
ной бронзы, с желтизной и темнотой на лице. Ясно — молдаванин: весь
очерк лица нерусский. Речь, лицо, угрюмое молчание, недвижность, глубо-
кая недвижность в своем сиденье, отсутствие с кем-либо переговоров, болтов-
ни, отсутствие всякой суеты и всего мелочного — свидетельствуют о «пра-
вом» социал-революционере, о консервативном «бомбисте», фанатике упор-
ном, неумолимом. Это — фигура. И я, который люблю все определенное, не
могу ничего сказать против Крушевана. Очевидно, он ни от кого денег не
берет, а даже сам дает для каких бы то ни было проделок, для возбуждения
народного. «Его так Бог уродил», может быть, а даже наверное, для дела
вредного. Что делать, — считаться надо. В поле всякая трава растет, и эта
трава натуральная, не то, что бывший директор лицея Цесаревича Николая
Вл. А. Гринмут.
Но если Крушеван «ничего себе», без отталкивающего к себе впечатле-
ния, то совершенно иное впечатление дает Пуришкевич. Высокий, худой,
белобрысый, т. е. с остатками белобрысых волос на голом черепе, с адвокат-
скою жестикуляцией и по-адвокатски одетый, в белом галстуке и белом жи-
лете, — он кажется на кафедре явно патологическим субъектом: до того
жестикулирует и точно все хочет обратить на себя чье-то внимание. Он име-
334
ет вид «отвергнутого жениха», который «умирает на глазах экс-невесты»
или на ее же глазах «спивается с круга». Точнее, находится в нерешительно-
сти, — спиться ему или умереть; крики его переходят в визги, а «решитель-
ные» слова, употребляемые им, кажется, употребляются от бессилия и для
прикрытия его. Слова Лермонтова о витязе,
махающем мечом картонным,
точно сказаны в предвидении Пуришкевича и написаны специально «для
его роли».
II
(Дума 6 марта)
Что составляет слабость и неинтересность правого крыла парламента, — то
это то, что оно даже не догадывается о необходимости иметь свое и само-
стоятельное лицо, вовсе независимое от того, чем является правительство
данного момента, кабинет. По-настоящему как парламентская фракция, как
общественная группа правые в Думе должны бы быть чем-то более веским,
длительным, значительным и устойчивым, чем эти 20 человек министров и
их товарищей, которые совершенно случайно на этот год позваны к рулю
государственного корабля. У них должны бы быть программа, вдохновение,
— притом без мундира. Между тем, их белые галстуки, белые жилеты, на
некоторых фраки — все это кажется парламентскою заменою форменного
виц-мундира, который они вот-вот сняли на пороге в депутатский зал. Ведь
в нем и сам премьер-министр в черном сюртуке. Все правое крыло Думы —
точно столоначальники, вице-директора и директора разных министерств,
пришедшие в зал депутатов с единственным намерением и с единственною
мыслью — приветствовать, защищать и оправдывать «мероприятия его вы-
сокопревосходительства». Это — чисто правительственная партия, без со-
знания долга к чему-нибудь иному, более идейному и сложному. Все это
страшно неинтересно. Видно, что консерватизм в России вовсе не сложил-
ся. Идейно его вовсе нет. Он есть только практически. И практически он
состоит просто в служении сущей власти, — в ее идеализации и поддержке.
Как это было заметно 6 марта, сам кабинет и между ними г. Столыпин
вовсе не восхищены этою «поддержкою». Во время речей правых он иногда
разговаривал с соседями, чего ни разу не сделал во время речей левых.
Пожевав губами и потрогав ноги, г. Столыпин поднялся на кафедру, тя-
жело, неуклюже.
Я помню речь Горемыкина в Государственной Думе: приличное, крот-
кое, послушное «кверху» и вежливо отказывающее «книзу», это было что-
то до такой степени бесцветное, бесколоритное, бесправное, что было тоск-
335
ливо слушать. Точно тянулась вермишель из супа и вот-вот оборвется. Но
чиновник домямлил до конца. Только передние ряды его слышали. Для всех
остальных в зале речь пропала.
Г-н Столыпин говорит, точно вбивает булыжник в мостовую. «Стук-стук-
стук»... И самая фигура его напоминает тяжелую чугунную трамбовку. Речь
его не имеет никакой отделки. Видно, что говорит не оратор; видно, что он
не привык говорить; так сказать, материал слов, вещественность словеснос-
ти, представляет для него затруднение. Ни он к ней не приспособился, ни
она к нему не приделана. Получается впечатление, как бы большой и силь-
ный сом плавает в варенье: окружающая стихия, опора движений, составля-
ет в то же время затруднения для движения.
Вся левая сошла со своих мест, чтобы не проронить ни одного слова из
ответной и неожиданной речи министра, которому, устами Церетели, она
только что объявила неумолимую, истребительную войну.
— Кто кого?
— Мы тебя!
— Я вас!..
К этим трем строчкам сводится смысл резкого столкновения двух сил,
двух темпераментов, двух убеждений, в картине которого заключалось зна-
чение заседания 6 марта.
Неуклюже, как бы утрамбовывая мостовую, премьер-министр «стукал»,
что оппозиции правительство не отвергает, что оно может не только согла-
совываться с нею, но и уступать ей. Это было хорошо и честно сказано, и,
конечно, это есть настоящий путь, чтобы правительство уступало народно-
му представительству даже и в случаях несогласия с ним, как воля воле и
как сила силе. Без этого какой же смысл и в представительстве? Мы можем
только сказать, что это формально выраженное конституционное обещание
министра, необыкновенно важное, едва ли было бы сказано без речи Цере-
тели. «Нам нужно найти общий язык», «нам нужно что-нибудь общее», «ус-
тупки возможны и будут, чтобы не попасть в лапы этого чудища, которое
зовется революцией и которое идет как на нас, так равно и на вас, центр
парламента». Вторая речь министра была умеренною и уступчивою по смыс-
лу и сильною по выражению. Видно было, что говорит человек с сильною
волею, и волею не аффектированною, а деловою. Вообще именно в воле
центр министра и министерств. Если бы этому соответствовала и мысль,
полет мысли! Без этого «воля» является именно трамбовкою, вбивающей
булыжник в мостовую, упорною в мелочах, может быть, трудолюбивою в
мелочах. Но в такое ли время и для таких ли дел мы живем? «Трамбовкою»
не оснастить корабль, не соорудить, не пустить его в плавание: нужны для
этого орудия более тонкие и сложные, и могущественные; нужна наука, нужно
искусство!
Но речь была хороша: обещав согласоваться с «мудрою» частью парла-
мента, премьер-министр обратился к левым, огонь которых и вызвал его
вторую речь. Здесь, очевидно, ни «общего» языка, ни общих мыслей и об-
336
щего дела не могло найтись. Церетели говорил, что освободительное дви-
жение тогда только выразит себя и достигнет своей задачи, когда сбросит
«горсть самовластных паразитов», попавшую в положение «правительства».
Ну, на эту программу «сброса» и недвусмысленный призыв, через стены
Думы к народу сказанный, «сбросить» — можно было ответить только: «Мы
будем защищаться». В сущности, к этим двум тезисам сводится реальное
положение вещей в России. Но никогда оно не было выражено так ярко и,
если позволительно сказать, официально, «ех cathedra», по католической
терминологии. Но было сказано, с одной стороны, членом Думы, и с другой
— главою правительства. «Мы будем защищаться» — это можно было про-
мямлить безвольно, бесслышно. Так бы его и выговорил Горемыкин, у кото-
рого не было другого языка, другой души. На этот раз буйвол могуче взмах-
нул рогами и, уставив против «волков» огромный стан и упрямую шею, «стук-
нул» с великолепною силою:
— На этой скамье (указывая на скамью министров) перед нами сидят не
обвиняемые: здесь сидит правительство. Вы хотите парализовать ум и волю
правительства. Этого не будет. Речи крайней партии, если их формулиро-
вать просто, сводятся к крику: «Руки вверх!» На это я отвечу, правительство
ответит: «Не запу-га-е-те!!!»
Передо мной пронесся образ 13-летней девочки, дочери министра, ко-
торой взрывом на Аптекарском острове раздробило ступню, а могло бы раз-
дробить и голову. Говорил человек, кое-что испытавший.
Вся правая залилась рукоплесканиями.
Я голосовал с левым блоком.
Но я также хлопал.
Левые угрюмо молчали, столпившись кучей перед министром. Но не
раздалось ни одного знака порицания или отрицания.
«Мы и идем не на шутку», — вероятно, безмолвно пронеслось в думах
их. «Помяни, Господи, душу усопшего (имярек)», — вспомнил я из «Сино-
дика» царя Иоанна IV...
III
(В Думе)
1
Я опять в Думе.
Но сперва об обстановке. Теперь подъезжаешь к Таврическому дворцу с
совершенно новым чувством, чем как это было в прошлом году. В прошлом
году все было как-то открытее, яснее и доверчивее. Подъезд был к главному
фасаду и с главного двора, и он был общий, — как была общая и «зала кулу-
аров», где во время перерывов смешивались депутаты и публика и откуда
337
был ход в огромный буфет. Все здание парламента было для всех открыто,
и, отправляясь в него, как-то чувствовалось, что отправляешься «к себе»,
«к своим»... При самом входе хотя и стояли чины «таврической охраны» и
общие полицейские чины, но они смотрели как-то приветливо: может быть,
от незнания, как держаться, а может быть, и в самом деле от приветливого
чувства.
После роспуска все изменилось.
Теперь, подъезжая к парламенту, чувствуешь, что подъезжаешь к «нео-
добрительному месту». Не в себе чувствуешь, а по обстановке. Прежде все-
го — въезд другой. Большого двора Таврического дворца, «как ушей своих,
не видать»: въезжаешь в совсем другие ворота, маленькие, незаметные, и
если окидывать глазом все с противоположного тротуара Шпалерной ули-
цы, то кажется, что они и ведут-то вовсе не к Таврическому дворцу, а при-
надлежат совсем другому зданию. Только проехав их, видишь ширь Таври-
ческого сада, еще замерзший громадный пруд, голые деревья... а дорога по-
ворачивается влево, к огромному корпусу дворца. И в воротах, и особенно
на дворе, и поодаль в саду видишь стоящими чинов специальной охраны, и
вид их уже не тот, ясный, открытый и доверчивый, какой был в прошлом
году.
— И зачем едете, сударь?...
— В недоброе место едете.
— Ну, да; мы уступили, нельзя было не уступить. Но это — враги наши,
и вы должны знать, что едете к врагам нашим. Что??! Проезжайте, проез-
жайте, у вас красный билет, но знайте, и мы тоже будем знать, что хотя вы и
кажетесь мирным обывателем, без браунинга в кармане, но это наружность
прикинувшейся лисы, под которою скрыт волк. Здесь — волки и волчье ме-
сто, которое мы охраняем, а в сущности, караулим, и хотя мы пропускаем
вас, но уже с этой минуты будем держать вас на примете и даже несколько
на прицеле, как одного из этой волчьей стаи, которая нас ненавидит и кото-
рую мы презираем. Презираем, боимся и ненавидим, как вооруженная сила
невооруженную силу, с «речами»... Ваш билет? Пожалуйста-с...
Конечно, этого никто не говорит. Но это говорят угрюмые, «неодобряю-
щие» лица.
Да, хотел бы я заглянуть теперь в этот 1907 год, в душу полицейского
пристава, гвардейского полковника, министра. Много любопытного. И не-
ужели мемуаристы промолчат об этом.
И ход теперь — это так антипатично. Билет «проверяют» три раза: в
каретах, на крыльце дворца, на верхней площадке лестницы перед залою
депутатов. «Птица не пролетит, зверь не проскочит». Не ясно ли, что «опас-
ное место», и не ошиблось мое обывательское сердце? Антипатичность вхо-
да и вообще всего помещения, отведенного для публики, заключается в том,
что по нему почти приходится лазить: до того все узко, стеснено, везде за-
перто, и оставлены только ходы и проходы. Например, от залы кулуаров, где
прогуливаются во время перерывов депутаты и толкутся корреспонденты
338
газет, своих и заграничных, «проход для публики», идущий высоко над по-
лом этой залы, отделен не только перильцами, которыми можно было бы и
удовольствоваться, но еще и затянут матовым стеклом. «Нельзя смотреть»,
«непозволительно наблюдать». Отчего же? Какой преувеличенный страх.
Но «Лидваль везде поможет». Этот нарицательный «Лидваль», т. е. попрос-
ту правительственный поставщик «имярек», на заказ «затянуть все непро-
ницаемым, непрозрачным стеклом» поставил стекла, правда, матовые, но с
тоненькою по краю каждого листа каемочкою прозрачного стекла. «Для кра-
соты»... Но мысль правительственная исполнилась только на Уг или на 3А.
Перед каемочкою, как дети перед щелкою забора, вечно стоят «прикинув-
шиеся невинными» посетители и смотрят через нее в злачную «залу кулуа-
ров», где так светло, широко, свободно...
Кстати, что это писали, будто «кулуары парламента» везде недоступны
для публики. Я был в венском парламенте и свободно гулял, как и множе-
ство посетителей, в громадном зале кулуаров. Думаю, что не иначе и в про-
чих европейских парламентах. Со временем Думе нужно будет добиться
пропуска публики в кулуары: неужели, простирая власть свою на Россию,
она не имеет власти в мельчайших деталях планировки и распределения
того помещения, где сама находится? Неужели она дозволит держать себя в
этом оскорбительном «запертом» помещении, каковым нельзя не назвать
помещения, куда нога человека «без службы здесь», «со стороны» не может
ступить, даже и имея разрешительный билет от секретариата Думы? Самая
зала депутатов не может не быть очень официальным местом. Здесь
говорится только заготовленное. Ни одного слова случайного. Почти ни
одного жеста «в натуре». Вообще депутата «в натуре» не видишь: от этого
около «лидвалевской щелочки» в матовом стекле и толпится вечно публика,
желающая увидеть депутата россиянина «как он есть». Это страшно
интересно, и отнюдь не в агитационных целях, не в целях «воздействовать
на депутатов», а просто интересно и важно для наблюдателя, психолога и
бытовика. И что депутаты за невинные овечки и за мокрые курицы или что
это за взволнованные психопаты, по предположениям министерства,
перестроившего за лето Думу, что на них может «воздействовать» и
«покорить их волю» всякий вид цветной женской кофточки или вот глаз
туриста, как я. Продолжить подозрительную мысль планировщиков
парламента, то придется депутатов, ради «изоляции от впечатлений»,
конвоировать классными дамами, как институток тут же виднеющегося
невдалеке Смольного монастыря. Унизительно это для публики, и для
депутатов унизительно. Нельзя не пожелать, чтобы кто-нибудь из депутатов
и, наконец, целая группа их обратили внимание на свое смешное,
«институтское» помещение в Таврическом дворце. Депутаты — они «наши»,
народные, общественные, и никто не смеет отделять их и «изолировать» от
смешивания с «нами» вне залы прений, где парламент официально работает
и постановляет решения. Вне этой одной залы частная жизнь, частный
быт, куда правительство не имеет права заглядывать.
339
Повторяю, психологически важно и даже политически важно (и опять
не в «агитационных целях»), чтобы парламент дышал одним воздухом со
страною, чтобы страна и он обменивались дыханиями. В этом ведь суще-
ство его, иначе для чего и «выборы», зачем все «от народа»? Но какой же
тут «обмен дыханиями», когда даже петербуржцу нельзя ступить в Таври-
ческом дворце на ту половицу пола, где прошел член парламента, и почти
нужно благодарить Бога и благодетельное начальство, что, по крайней мере,
на тротуаре улицы можно поздороваться со знакомым депутатом, не огля-
дываясь на сторожевого полицейского.
* * *
Я прополз в курятник для публики. Позволю себе назвать так эти затенен-
ные низко нависшим потолком и глубокие хоры, куда едва проникает свет от
слишком далеких в противоположном конце зала окон. Мест для публики
против прежнего утроено, ибо хоры теперь идут не только по линии задней
стены залы заседаний, а по всем трем стенам. Это хорошо, и публики соби-
рается почти столько же, сколько в зале сидит депутатов. Но опять осторож-
ность или подозрительность: каждая из трех линий хоров (задняя и две бо-
ковые) совершенно изолирована, и публика разделена на три части. Мне даже
не ясно, смешиваются ли оне в буфете, тесном, гаденьком, с отвратительны-
ми холодными пирожками, жидким кофе и без права закурить в нем папиро-
су: для этого надо пройти в «уборную», совершенно кпошечную и со све-
том, пробирающимся только поверх невысокой деревянной перегородки. Все
это так гадко и душно, как на третьестепенной станции железных дорог, —
неужели в наказание за «любовь к парламентаризму». «Захотели послушать
речей? Прекрасно! Но понюхайте же и запаха уборной». Неужели я не оши-
баюсь, и дух уездного «клоповника», где протрезвляют буянов, незаметно и
тонко, но проведен около нашего парламента насмешливою властью?
— Покурить? — В сортир!
— Скушать бутерброд? — В курятник!
— Выпить стакан кофе? — Вот попросите «гражданина», он вам усту-
пит четыре вершка из своего столика, и вы можете выкушать его стоя.
В самом деле, во время перерыва половина едящих и пьющих стоят:
сесть негде, ни столов, ни стульев, ни самого помещения. Так как сидение
(на нарах) очень утомительно по продолжительности, то хочется распра-
вить спину и хоть немножко пройтись, но это невозможно, ибо люди стоят
стеною.
И все это, чтобы... не «влиять на депутатов»! Какая кружевная инсти-
тутка этот Алексинский! Какие нервы у «трудовиков»...
Но мне кажется, «нервы» трусливые, жалкие «нервы» были только у
планировщиков парламента или, точнее, у тех, кто «давал указания» сверху.
«Не запугаете!»... И хочется насмешливо ответить: «Да вы уж запуганы!
Смотрите, как устроили залу».
340
2
Оратор говорил тихо. И я, в полудосаде, полунедоумении, опустился на стул.
Всякий человек эгоист, и судит и может судить только с точки зрения
своего интереса, занятости, выгоды и проч. Я думал, сидя на стуле: «Зачем
выходят на думскую кафедру ораторы, которых мы, публика, не можем слу-
шать, и сами они не могут не знать, что мы их услышать не можем?» Я
думаю, мысль эта довольно распространенна. Она совершенно неверна. Мы,
«публика», смотрим на думское заседание сбоку, имеем на нее боковой взгляд;
имеем к ней интерес проходящих мимо людей, которые, в свою очередь, для
Думы имеют тоже «мимо идущий» интерес, т. е. почти никакого, даже вовсе
никакого. Оратор обращается исключительно к товарищам-содепутатам, и
вот до них его речь, в силу акустических особенностей зала, доносится, хотя,
быть может, и не вполне внятно. Для меня, напр., речь оратора, социал-рево-
люционера, совсем пропала. Я из нее не слышал ничего, кроме десятков
двух разрозненных слов, совершенно ни во что не связываемых: между тем,
в некоторых местах речь его прерывали одобрения товарищей внизу, — те
особенные одобрения, которые, в самом начале срезываемые, показывают
напряженное внимание, ожидание и нетерпеливое желание продолжения.
Дело все в том, что почти вся публика приходит в Думу «для звона»: не
слыша тихоговорящего депутата, или даже когда она плохо его слышит, или
депутат говорит очень скучно, публике кажется, будто она мертва на этот
получас и даже час! Просто, — нечего делать! Когда кафедра «неинтерес-
на», то для публики вообще ничего нет! Но это только для хоров, играющих
в Думе ничтожную роль: депутаты говорят друг для друга, они убеждают
друг друга, они работают. И если мы примем во внимание, до какой степени
является редким совпадение, что очень большая деловитость сопровожда-
ется, — как говорят о певцах, — «концертным голосом», вообще голосом
того громадного, почти феноменального калибра, какой требуется для на-
полнения зала заседаний, обширного, как театр, то мы поймем безусловную
необходимость мириться с «не ораторами» на кафедре, с этими мертвыми,
несуществующими часами для публики. Если бы эти дельные, тихие люди,
эти «мямлящие», «шепелявящие» и «плетущиеся» (особый тип словопроиз-
ношения) ораторы не всходили на кафедру, Дума потеряла бы если не весь
ум свой, то большую часть этого ума и подлинно превратилась бы в тот
«звон», который, будучи очень «интересен» для публики, не существует, не
нужен и смешон для России. Дело в том, что слушаемые в думском заседа-
нии ораторы в России читаются: шепелявенье, картавенье, тихий голос,
плетущаяся речь — все это исчезает в чтении, и остается один смысл, золо-
той смысл. В то же время в России читаются, т. е. как бы слушаются, только
те депутаты, которые имели мужество подняться на кафедру; прочих депу-
татов, даже самых умных, дельных, способных разъяснить вопрос, — если
они промолчали, — для России просто не существует, ни в смысле ума, ни
как авторитета. Отсюда понятно, до какой степени всем присутствующим
341
на думских заседаниях, не только самим депутатам, но и корреспондентам,
репортерам, публике, нужно заранее приготовиться, как к чему-то не только
неизбежному, но и положительно доброму, нужному, к полосам «мертвящей
скуки» в этой зале, к речам совершенно не слышным (с хоров), к дикции
монотонной, вялой, безжизненной. Увы, — не везде огонь только нужен. В
парламенте, как и в публицистике, как в науке, нужны рассуждения, вык-
ладки, элемент расчета и математичности. Мы бросили бы через полчаса
книгу журнала, где не было бы прозы, а одни стихи; а парламент, где не
произносилось бы ничего, кроме патетических речей, пришлось бы бросить
же, бежать из него или закрыть его просто, так сказать, за его практическою
«несъедобностью». Представьте обед, состоящий из варенья, перцу и гор-
чицы: кто съел бы его?!
Так я думал и, ничего не слыша, смотрел в залу (вниз) тем привычно
любующимся взглядом, к какому привык. Я думаю, нужно сперва, a priori,
доверчиво полюбить депутатов, чтобы что-нибудь понять в Думе. Это сове-
товали в свое время и славянофилы, хотя никогда не умели они выполнить
своего же совета: «чтобы понять, надо (сперва) полюбить». Как известно,
славянофилы a priori не любили протестантства, католичества, вообще всех
вер, кроме «старомосковской», не любили русского образованного класса,
русской «прогрессивной» литературы: от этого, по правилам их же умозак-
лючений, они ничего из перечисленного не поняли и, естественно, умерли
тою смертью, какою умирает все, не понимающее действительности. Мир
праху их: их эпигоны — «истинно русские люди», т. е. смесь скандала, исте-
рики, «своих выгод» и кровожадности. Этот черный хвост заметает напы-
щенное, словесное и бесполезное существование когда-то громкой литера-
турной и общественной школы.
Зала депутатов никогда не остается недвижною. Прежде всего, судя по
одобрениям и неодобрениям, перерезывающим самые «мертвые» речи, де-
путаты, всею залою, чрезвычайно напряженно слушают. Это очень хоро-
шо, это надо отметить, этого могло бы и не быть, ибо дар слушания, внима-
ния — не малый, и далеко не все им обладают. Также я заметил, что хуже
слушают «лидеры»: как в прошлом году Гейдена, так в нынешнем году Ста-
ховича я вижу вечно то выходящим из зала, то входящего в него, и вообще
он мало слушает других. Лучше всего слушает «толпа» депутатов, та все-
таки большая их масса, которая никогда не подымается на кафедру. Далее,
кого слушают лучше? Это тоже немаловажно: внимательнее и как-то ува-
жительнее всего слушают все оригинальное, своеобычное, «натуральное»,
что совпадает в палате депутатов с «серым», серою деревнею, серым крес-
тьянством и тем, что подымается около крестьянства. Далее, важна разни-
ца оттенков, с которыми выслушиваются ораторы: крестьян слушают для
дела, лидеров — для удовольствия, поучения и аргументов. У крестьян ищут
«хлеба» конституционного: 1) что нужно народу, 2) как народ думает, ка-
кое у него «умоначертание», т. е. деревню «допытывают», как и что она,
какие там бродят мысли, в чем она подлинно нуждается. Видно, что и кре-
342
стьяне, и некрестьяне пришли сюда в значительной степени для крестьян,
более всего для них как народа, и это добровольно и без всякой фальши с
которой-либо стороны. Здесь сказалось просто наследство русской литера-
туры, парламент принял идеи, которые она ему завещала. Здесь я должен
сказать несколько слов в защиту «правых», и слова мои относятся также и к
«кадетам», насколько в рядах их есть крупные собственники. Конечно, каж-
дый класс населения сложился исторически, ниточка за ниточкою; сложи-
лось здание по камешку: поэтому «капиталист» есть просто капиталист,
потому что он родился в «капитальном» сословии. Но у нас в России мало
заметно и в парламенте совершенно отсутствует, так сказать, «агрессив-
ность» капиталистических аппетитов; рост их, искание нового захвата. Этого
совершенно нет, и с чрезвычайным давлением сказывается в парламенте
другая, обратная мысль: «поделить» — это энергично, и «удержать» — это
робко, застенчиво и вяло. Но нужно отдать честь и правой стороне, что как
только кто-нибудь кинет ей упрек, что эта сторона «враждебна крестьян-
ству», так она вскакивает, как ужаленная, и по чувству обиды, и по чувству
живого натурального протеста, который нельзя заподозревать и, по край-
ней мере, я не хочу заподозревать. В Думе обвинение, намек или подозре-
ние: «Вы идете против крестьян» — совершенно тожественны обвинению
среди администрации, на службе или перед судом в «политической небла-
гонадежности»: так же марает и губит. Вернусь к «правым»: они расходят-
ся с парламентом и, до известной степени, стоят вне его, стоят против мо-
гущественного общественного движения — всей печати не по классовым,
имущественным и личным интересам, а по вкусовым, нервным и частью
умственным симпатиям, традиционным или благоприобретенным. Тут,
правда, много дворян: но потому, что такова была всегда крупнодворянс-
кая традиция. Мелкопоместное дворянство сливалось с интеллигенциею и
работало в ее рядах, часто работало, как лучшие из поповичей и мещан-
ства; но крупно-земельное дворянство сюда, «влево», не шло, а шло «впра-
во», в высшую администрацию и ко Двору. И теперь все это принято про-
сто, «как наследство», без особенной личной привязанности, а как дух и
«заветы бабушки с дедушкою». Поэтому можно подвести вообще тот итог,
что хищного элемента в Думе нет или он совершенно ни в чем фактически
не сказывается. Такие люди, как Гринмут, ведь в Думу не прошли. Ну а,
например, такие, как Пуришкевич, — просто «неуравновешенные»: меди-
цина знает этот термин, которым отмечаются первые стадии серьезных ду-
шевных заболеваний. Пуришкевич никакого добра не наживет, никаких
капиталов не приумножит, но от него можно ожидать, что он предложит
руку и сердце какой-нибудь дочери городового, павшего «за веру, Царя и
отечество»; предложит и напечатает об этом в «Русск. Знам.», а пригласи-
тельные билеты на свадьбу разошлет всем членам Думы, «изменникам-ми-
нистрам» и, может быть, императору Вильгельму. Словом, тут смесь Боб-
чинского с Поприщиным. И — ни малейшего эгоизма.
343
Крестьянство может быть спокойно. Дума, как один человек, стоит за
крестьянство на почве крестьянских интересов. Может быть, в истории это
— самый великодушный парламент, какой когда-либо собирался.
БОГОУМИЛИТЕЛЬНОЕ «БУЛЬ-БУЛЬ-БУЛЬ»
Не могу лучше озаглавить прекрасное письмо, полученное мною от одного
из священников, сосланных в монастырь «на послушание». «Буль-буль-буль»
— это из самого письма, но я приведу весь текст. Оно прочтется с волнени-
ем и священниками, и несвященниками.
«...Вот уже почти две недели я в монастыре. Впереди еще десять недель.
Вы не можете представить, что такое неделя в монастыре. Длинно, скучно, од-
нообразно и, если хотите, бессмысленно. Служб ежедневно на 6, 7 и 8 часов.
Утомительно физически. Утомительно и умственно. Молитвы нет, есть одни
никому не нужные вычитывания. Какая-то трагическая религиозная тупость.
Смысла не ищут, о нем не думают. Только бы вычитать. Читают без пропусков.
Все, положенное по уставу. Но для скорости так лопочут, что ничего не понять.
Не понимает чтец, не понимают богомольцы. Слышны одни звуки:
— Буль-буль-буль! Буль-буль-буль!
Или другого чтеца:
— Тра-та-та! Тра-та-та! По-мило-ста, по-мило-ста, по-мило-ста!
Я вслушивался внимательно и с большим трудом редко уловлял смысл. Чту
же «простецы»? Когда-то, еще в семинарии, узнав, что у буддистов и ламаитов
есть молитвенные мельницы, ленточки с молитвами, заменяющие живую мо-
литву, я возмущался профанацией молитвы. Теперь вижу, что у нас и живые
чтецы — те же мельницы».
Поясню читателям, что буддийские «ленточки» и «мельницы», употре-
бительные в монастырях же и отшельниками Индии и Тибета, заключаются
в следующем: буддист тушью надписывает текст длинной молитвы на уз-
кую полоску прочной бумаги или на полотняную ленту, как это иногда и
вкратце у нас делается на шелковых поясках, которыми торгуют женские
монастыри. Затем ленту эту надевают на ручное колесо, т. е. обматывают
вокруг его ободка. Монах берется за ручку, повернул — и молитва прочита-
на. Так как самое большое колесо ничего не стоит повернуть, а лента, навер-
тываемая на него, может быть очень длинна, то можно вообразить усердие
буддистов и богоугодность их веры Богу! В две секунды повертывается це-
лый моток молитв, все их «богословие» сразу, —
Тут рокот экстаза,
Рыдания, слезы.
Все сразу «перед лицом Господа», который, обладая могуществом и все-
ведением, уже сумеет прочесть на скользящей ленте все, до Него относяще-
344
еся. Старая цивилизация, накопившая опыт и культуру, — у нас до этого еще
не дошли, но, можно надеяться, дойдут. В монастырях и у нас уже употре-
бительны лестовки и четки. Смотришь, тихо молящаяся монахиня спустила
одну косточку «четок», через две минуты — другую, через четыре — чет-
вертую. Это она «кладет по счетам», положим, «Отче наш» или «Верую»,
которую дала зарок прочитать «сорок раз» или — за сутки — двести раз; и
вот за четверть дня «сдает Господу» по полусотне. «И душе хорошо, и Богу
не обидно». Продолжу выдержку из письма сосланного священника:
«Когда читают или поют на клиросе, я слежу внимательно по книгам. Все
эти стихиры, тропари — какая жалкая византийская реторика! Водянистое мно-
гословие, вымученные сравнения и полное отсутствие живого одушевления.
Исключения очень редки. В Евангелии сказано: когда молитесь, — не будьте
многословны; а у нас наводнение слов. И только слов. И все эти византийские
риторические упражнения вычитываются. Звуки бьют воздух и ничего не гово-
рят уму, не волнуют душу. Только мертвечиной духа наших синодалов и можно
объяснить, что они довольствуются старым византийским шитьем словес, не
дают простора живому, самобытному творчеству. Об этом надо бы серьезно и
настойчиво заговорить. Вместо апостолов везде жалкие риторы. Риторы в дог-
матике. Риторы в нравственности. Риторы в проповеди. Риторы в молитве. Вез-
де пустословы. Вместо живого зерна одна шелуха».
Да, «вымолотилось» христианство; зерно куда-то ушло, и мы вращаем
одну солому его, пыльную, пухлую, емкую, золотистую, красивую, но кото-
рою и коровы накормить нельзя.
Кончу выдержку — и читатель увидит из нее, что пишет вовсе не раз-
драженный, не огорченный человек:
«Внешняя жизнь моя не тягостна. Монастырь — укромный, тихий уголок.
Пелена снегов вокруг. Чистый воздух. Чувствуется приближение весны».
Так пишет священник, без всякого раздражения на свое положение. Как
известно, в таком же положении, как автор этого письма, находится и извест-
ный священник Г. С. Петров, издававший «Правду Божию» в Москве. Бое-
вая политическая литература не прошла мимо этого случая и «использова-
ла», как теперь принято выражаться, его в своих специальных целях. Кста-
ти, по этому поводу я могу подчеркнуть вновь ту мысль, которую уже неод-
нократно высказывал: что «левое» движение, охватившее русскую жизнь, в
многосложном составе своего света имеет луч необыкновенного, казавше-
гося несбыточным на Руси, оживления. До сих пор «Русь» и «тишина» каза-
лись синонимами. И только теперь вдруг оказалось, что «Русь» и «буря»
могут стать синонимами. «Левые» нашли какого-то художника, который
мастерски передал их лейтмотивы в легких рисунках, и эти рисунки перепе-
чатаны на бланки открытых писем и продаются во всяком писчебумажном
магазине по 10 коп. На одном из этих бланков изображен «От. Григорий
Петров на послушании в Череменецком монастыре». В черной рамке изоб-
345
ражена церковь с толстыми старинными стенами; в окнах вставлены желез-
ные массивные решетки, что навевает на зрителя мысль, что «церковь — это
тюрьма». Но ведь и в самом деле, как вот в данном случае, она превращена
в тюрьму, и вольно же духовному начальству иметь этот вкус переделывать
церкви в темницы. Как на лубочных картинках сражений «генерал» всегда
представляется больше всего остального войска, так и здесь, принорови-
тельно к народному вкусу, огромный узник-священник стоит посередине
церкви. На нем короткий, какой-то «преступнический» подрясник, и вся
фигура имеет вид чего-то наказанного, скорбного и недоумевающего. Как
бы ища защиты, он обеими руками держится за висящий на груди его напер-
сный крест: «Вот мое исповедание!» Немного отступя назад, с левой сторо-
ны, читая вот это «буль-буль-буль» ему в спину, стоит монах перед аналоем,
на котором положена большая книга. Монах, очевидно, читает византий-
ские упражнения, о которых пишет мой корреспондент, другой священник.
Вся сатира «освободительного движения» хлестнула по этой фигуре мона-
ха. Она напоминает кусок жесткого, застывшего на морозе сала, обгрызен-
ного сверху (где голова и шея) мышами. Оттого, что его грызли мыши, и
вышла фигура человека. Но фигура эта вся облизана и зализана, ничего
шероховатого в краях, одежде, клобуке, все суживается сверху и дает впе-
чатление крепко обсосанной косточки чернослива, которую бросили, а по-
том нашли и поставили торчком и заставили читать «буль-буль-буль». При
маленькой фигуре монаха, вдвое меньшей, чем у Петрова, лицо у него толь-
ко в полтора раза меньше, и от этой пропорциональности оно кажется несо-
размерно огромным, «образиною». Каждый, вероятно, замечал, до чего ка-
жутся глупыми несоразмерно большие лица. Художник чуть-чуть тронул
кисточкой по нему: на большой-большой «образине» все значащие части
лица, говорящие и воспринимающие, глаза, нос, рот (уже не видно под кло-
буком), вышли крошечными-крошечными. Точно «лицо» в человеке скры-
лось куда-то или еще не развилось. И стоит этот византийский «обсос» точ-
но тысячу лет на одном месте, стоит и все читает «тра-та-та», «помило-ста»,
«буль-буль-буль». Просто задыхаешься, смотря только на картинку-то. В лице
монаха никакого спора, полемики. Он все победил, он всех победил. Теперь,
«придя убо во славе», он заснул, окаменел, его лижут мыши, и лицо его, и
вся фигура говорят самодовольно, сонно, блаженно: «Все прейдет, но я не
прейду; мир для меня стоит, для нас, для монастыря; акафистами подперта
св. Русь; на Русь не пришли враги, не пришел мор, не пришел голод, потому
что я и мне подобные по девяти часов в сутки читали акафисты. Что говори-
те: голод и мор есть? пришли враги? Ненадолго: голод пройдет, и скоро
враги уйдут, и скоро, ибо мы читаем акафисты, и им никак невозможно не
уйти».
Исповедание твердое, каменное, тысячелетнее. А вон и исповедники: на
заднем фоне картинки художник набросал «молящихся» мужиков и баб: бабы
__уже только тени, широкие книзу (подол), узкие вверху; вся картинка ма-
ленькая, и оне взяты кистью чуть-чуть. Бабы позади, у стены, и даже нельзя
346
рассмотреть, стоят ли оне на ногах или на коленах. Одни штрихи, сливаю-
щиеся со штрихами стены. Но впереди их, ибо «муж есть глава дома» и
«жена да боится своего мужа», стоят на четвереньках два мужика. Тут опять
ударил бич сатиры: только потом догадываешься, что это взят момент по-
клона стоящих на коленях богомольцев, и живописец не сделал собственно
ни ошибки, ни злоупотребления. Но при первом взгляде кажется ужасное
злоупотребление, ибо кладущие поклоны мужики представляются ползу-
щими на четвереньках по церковному полу, и здесь брошено в лицо зрителя
столько насмешки, глухого, непонимающего, искусственно и уже привычно
(тысячу лет!!) притупленного... Ибо, с одной стороны, мужики кажутся пол-
зающими на четвереньках, но как картина не движется, то, с другой сторо-
ны, представляется, что они (как бывает в игре маленьких детей) просто
стали на четвереньках, как коньки, лошадки, а монах читает-читает и нако-
нец закроет книгу и сядет им на спины, сперва на одного и потом на другого,
и покатается по церкви для отдыха и моциона. Так что, с одной стороны, как
бы темница, ибо вот решетки, а с другой — просто детская игра. И отец
Григорий, недоумевающий, среди всего этого...
Картинка делает впечатление, и ее нельзя забыть...
АКТИВНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
В первую сессию преобразованный Г. Совет проявил так мало личности и
инициативы, что без особенных преувеличений можно сказать, что он толь-
ко числился, а на самом деле отсутствовал в составе высшего управления.
Многие, вероятно, помнят, что, когда первая Дума уже открыла свои заседа-
ния и шумела на всю Россию и, пожалуй, на весь мир, в это самое время и в
печати и в обществе спрашивали: «Собирается ли Г. Совет?» И если «да», то
«где». «Где вообще его адрес». К концу сессии он, правда, оживился, но и
тогда не вышел из пассивной роли.
Все это было очень печально, и Г. Совет, очевидно, не стоял на высоте
своего положения, как принято выражаться на языке официальных бумаг.
Робкая, пассивная его роль, очевидно, не содержалась и действительно нис-
колько не содержится в узаконениях о нем; но та совершенно иная роль,
которая ему предначертывалась, очевидно, могла быть выполнена лишь че-
рез самосознание его членов и их решительность. Увы, не воинский устав
одерживает победы, но при одном и том же воинском уставе одна армия
одерживает победы, а другая терпит поражения. Г. Совет произвольно и бе-
зосновательно уклонился с первого шага своего существования от побед и
даже, кажется, «честного несения своего знамени». Припишем это его рас-
терянности и недоумению и обратимся с лучшими надеждами к будущему.
Государственный Совет, при мужестве и разуме его членов, очевидно,
может занять очень веское положение в составе высшего управления, при-
347
том свободное и независимое от администрации, как Дума же, но в другом
направлении: сдерживающем и умеряющем. Он, наконец, может оказывать
на администрацию давление же, ставить администрацию под контроль, но
в целях истинно национальных и истинно государственных. Государствен-
ный Совет призван блюсти исторические традиции, историческую преем-
ственность и последовательность задач, дух историчности и этим умерять
и сдерживать впечатлительность Г. Думы, работающей, так сказать, в по-
рядке дня, под давлением и для удовлетворения злободневных забот. Нуж-
но помнить одно и не забывать и другого. Часть внимания, даже главная его
часть, и должна отдаваться острым нуждам текущих дней, этого текущего
года и текущего десятилетия, но должен быть и вековой камертон, его виб-
рации не должны быть совершенно заглушены. Администрации нашей за
целый XIX век были присущи почти в равной мере два недостатка: она
явилась в одних лицах и в одних действиях с чертами грубости, произвола,
дикого самоуправства; но в то же самое время она в других лицах являла
собою «образованную» или лже-«образованную» распущенность, верхо-
глядство копеечного либерализма. Увы, адвокат Балалайкин, известный пер-
сонаж Щедрина, на самом деле не всегда носил штатский сюртук, а очень
часто переодевался и в цветной мундир разных ведомств, притом самых
солидных и ответственных. Мы его видели и в центре, и на окраинах разго-
варивающим с красной гвардией чухонцев и с восточными человеками по-
гибельного Кавказа... В Прибалтийском и в Северо-Западном краях он от-
пускал остроты, вроде: «Не могу судить, чья вера лучше, католическая или
православная, но что польская кухня лучше русской, это я знаю». И мему-
ары, и литература хорошо знакомы с этою чертою нашей бюрократии, ко-
торую в свое время так сильно бичевали Юр. Ф. Самарин и К. С. Аксаков.
Г. Дума, по-видимому, призвана искоренить, и вероятно действительно
искоренит, грубость и дикость чиновничества; в параллель этому Г. Совет
имеет высокую задачу придать наконец вес и сообщить действительную силу
тем горьким слезам, которыми бессильно плакали великие русские патриоты,
начиная с Грибоедова, за оплевание всего национального, народного, свое-
образно русского. К великому сожалению, в литературе и печати русской к
эпохе начала парламентаризма почти исчезла славянофильская школа, но
заветы славянофилов во всяком случае сохранились, они имеют практичес-
ких сторонников, если не выразителей пером. Г. Совет очень и очень может
принять на себя поддержку славянофильской традиции, традиции Аксако-
вых, Хомяковых и Данилевского. Как всякому сразу понятно, это не есть
борьба с прогрессом, просвещением, даже с западничеством, но это есть
урегулирование прогрессивных, просветительских и западных течений,
сообщение им настоящей солидности и плодотворности. Ибо названные
имена славянофилов есть имена лучших представителей русской образо-
ванности.
Г. Совет путем запросов правительству текущего момента может очень
и очень возвращать его к оглядке на вековые начала истории, национально-
348
сти и государственности, а отдельные ведомства и министерства понуждать
к принятию отдельных мер, которые выравняли бы его жизнь в настоящее
русло. Последние годы все русское общество возмущено положением, в ка-
кое стали наши казенные учебные заведения, первоначально высшие, а за-
тем, заражаясь их примером, и средние. Не все об этом имели мужество
высказываться громко, но не было, кажется, никого, кто про себя не возму-
щался бы фланированием «неучащихся учеников» и состоянием «неучащихся
учебных заведений», все за казенный счет, т. е. все за счет народный. Нако-
нец революция довольно естественно заняла эти пустопорожние каменные
корпуса с ничем не занятым составом молодых людей, и несколько тысяч
юношей и подростков вошли если и не прямо в ряды революции, то в ту
толчею, которая всегда образуется около большого движения. Есть актеры и
есть клакеры: учебные заведения давали единицы и в революцию, но гораз-
до хуже было, что они всею своею многотысячною массою составили кла-
керов революции. И самым печальным во всем этом было то, что они про-
сто не учились. Похоже было на то, как если бы все Министерство народно-
го просвещения село на ту заднюю скамейку, которая в «Очерках бурсы»
Помяловского звалась Камчаткою.
Это усаживание целого министерства в Камчатку, спуск его с удовлетво-
рительных успехов и поведения сперва в посредственные и наконец в ху-
дые, ученье на единицу и поведение тоже на единицу явились возмутитель-
ным и позорным явлением в глазах не одной России, но и целого света. Все-
го на днях печаталось сообщение, что представители-студенты всех выс-
ших учебных заведений в Петербурге собираются на коллективную сходку,
чтобы заявить протест или составить какой-то ответ представителям гер-
манской профессуры и германского студенчества на выраженное с их сторо-
ны островраждебное отношение к русским студентам, учащимся в Герма-
нии. Трудно этому помочь протестами и заявлениями: уважение и любовь
приобретаются натурою, зрелищем работоспособности и проявлением та-
ланта. И когда во всем этом у русского студенчества за границею обнаружи-
лась нехватка, то, что бы ни говорили и сколько бы ни говорили студенты в
Петербурге, Германия по праву останется к этому глуха. Вот разве что пе-
тербуржцы собираются поучить берлинцев и геттингенцев культуре?.. Толь-
ко едва ли, и, может быть, лучше удалась бы химическая обструкция, прак-
тике которой русские могли бы поучить немцев, если бы могли получить
хоть какую-нибудь надежду найти там практикантов ее...
Все русское общество горячо поблагодарит Г. Совет, если он через ис-
кусно составленный запрос и затем повторение и развитие его добьется от
Министерства народного просвещения, чтобы оно выползло из своей Кам-
чатки и село в места не столь отдаленные. Попросту, чтобы оно принялось
за свое дело. Мы совершенно уверены, что через умелые действия мини-
стерство вызовет свежее движение и в самом юношестве, которому годы
праздности не могли же не опротиветь. Со всех сторон и на все стороны
пора сказать: «Погуляли, — теперь пора и за дело».
349
СУДЬБА ПЕРВОГО ЗАПРОСА В Г. СОВЕТЕ
Как и можно было опасаться, первый приступ к делу и деловитости, к ре-
альному участию в жизни страны, встретил в Г. Совете тот глухой отзвук,
тот тупой шум, о котором говорят медики, что он показует болезнь сердца.
Не вовсе нов, или скорее очень стар, этот испуг старцев и полустарцев высо-
копоставленного учреждения перед свежей мыслью и призывом двинуться
вперед. «Куда двинуться? Зачем? Не гораздо ли удобнее сидеть или засе-
дать?». «Направил» решение Г. Совета «старейший член Г. Совета», как он
сам рекомендовал себя, поднявшись на кафедру «опираясь на палку», А. А.
Сабуров. Об этом А. А. Сабурове мы можем напомнить старым нашим чита-
телям и рассказать более молодым: он месяц с неделями занимал должность
управляющего Министерством народного просвещения в лорис-меликов-
скую эпоху и начал реформы в своем ведомстве с того, что стал являться на
ревизии учебных заведений «запросто», в пиджаке. Известно, что у Обло-
мова стояла в кабинете чернильница, — правда, без чернил, а с сухой мухой
вместо их: ее он показывал любопытным посетителям в удостоверение сво-
ей трудоспособности, рассказывая всем, что он «пишет сочинение». Такие
«домашние» доказательства многие предпочитают объективным доказатель-
ствам, так сказать, уличного и демократического характера; и почтенней-
ший А. А. Сабуров, ныне «с палкою», в ту относительно молодую пору сво-
его возраста вышел, как говорится, к верхам власти, не неся или не обнару-
жив никаких других преобразовательных идей, кроме этого не очень инте-
ресного «пиджака», о котором тогда шумела печать. Во всяком случае он не
довел преобразований до конца, получив большую неприятность от студен-
тов на публичном годовом акте Петербургского университета, который он
«осчастливил своим присутствием».
Случилось это 8 февраля 1881 г., на годовом акте в Петербургском уни-
верситете. Тогда же эта история была подробно рассказана в «Нов. Врем.», в
отчете об этом акте. Сабурову, управлявшему Министерством народного
просвещения, студент Подбельский публично в актовом зале нанес оскорб-
ление действием, а другой студент, Коган-Бернштейн, с хор прокричал про-
тест против новых университетских правил, вводившихся г. Сабуровым, и
бросил вниз пачку прокламаций. Историю эту не мешало бы вспомнить
именно теперь, когда активные выступления революционных студенческих
организаций стали заурядным явлением в жизни нашей высшей школы. Ведь
эта история к тому же состоит в близком родстве с нынешним революцион-
ным настроением студентов. В то время она была лишь первой пробой со
стороны тогдашних террористов (партии Народной воли) возбудить рево-
люционный дух среди студенчества, чтобы привлечь и учащуюся молодежь
к активному участию в терроризме. Об этом имеются теперь многочислен-
ные свидетельства в воспоминаниях народовольцев-террористов того вре-
мени. Они единогласно утверждают, что так называемая сабуровская исто-
рия была делом центрального университетского кружка, основанного по
350
мысли исполнительного комитета Народной воли в целях объединения ре-
волюционного студенчества. Кружок этот должен был служить звеном меж-
ду комитетом и центром студенчества. По свидетельству одного лица, впол-
не компетентного в начинаниях Народной воли, народовольцы, уполномо-
ченные вести сношения от имени партии террористов с университетом, на-
ходили настроение петербургских студентов слишком пассивным и потому
они предложили студентам протестовать против новых университетских
правил. «Организуя нападение на Сабурова, — пишет упомянутое лицо, —
исполнительный комитет имел в виду приучить студентов к активной борь-
бе против университетского режима, который воплощал в себе всю мудрость
политики Д. А. Толстого». Для этого-то активного выступления, при бли-
жайшем содействии Желябова, в студенческом кружке была специально со-
ставлена прокламация, брошенная на акте Коган-Бернштейном. Оба глав-
ных участника в сабуровской истории поплатились ссылкой в якутскую об-
ласть. Судьба их была очень трагична. Подбельский был убит в Якутске при
усмирении так называемой якутской истории 22 марта 1889 г., а Коган-Бер-
нштейн, тогда же раненный, был приговорен к смертной казни и повешен в
августе того же года.
Все эти подробности весьма полезно напомнить теперешним читателям
и самому А. А. Сабурову, который, быв сам плачевнейшим из министров
народного просвещения, ныне своим нетактичным вмешательством в дело
запроса 30 членов Г. Совета помешал этому последнему прийти на помощь
учебному делу в России.
Предложение о запросе все-таки имело последствием интересные пре-
ния, и уже по этому одному нужно желать, чтобы энергия в сторону запро-
сов в Государственный Совет продолжалась. Нельзя не запомнить краткой
реплики кн. Касаткина-Ростовского: «Поражаюсь предложением перейти к
очередным делам. Но какие же у нас, Государственного Совета, дела? Не
значит ли это перейти к обычному бездействию?» Увы!.. «Меа culpa, mea
culpa, mea maxima culpa»1, — как говорит какой-то персонаж в одной драме.
Речь Ф. Д. Самарина была истинно государственною, и каким лепетом
около нее кажутся речи ректора Московского университета г. Мануйлова и
особенно кн. Е. Н. Трубецкого. Последний дошел до какой-то истерики. Тут
и хвастовство, и угрозы, и вилянье; читая ее, все понимаешь; понимаешь,
почему студенты оседлали профессоров. «Мы водрузили академический знак
на пожарище, мы провозгласили: университет для науки! В университете
хозяйничала полиция, о призыве которой теперь опять мечтают. Нам прихо-
дится лавировать между революцией и полицией, как между Сциллой и
Харибдой... Если бы прошел настоящий запрос и осуществилась бы его про-
грамма, она осуществится на развалинах университета».
Если сопоставить по достоинству тона речь Самарина с речами Тру-
бецкого и Мануйлова, то придешь к мысли, что в университете еще не все
1 «Моя вина, моя вина, моя большая вина» (лат.).
351
безнадежно со стороны студенчества: несчастная наша молодежь просто не
имела до сих пор настоящего руководительства, она не имела над своими
взволнованными умами настоящего камертона и настоящего умственного
авторитета. Как только юношество почувствует, что с ними говорит и имеет
дело не подделывающийся к их тону «свой брат», а большая и инородная
духовная сила, они одумаются и оглядятся.
РАЗОЧАРОВАНИЯ И НАДЕЖДЫ
«Хороши курские соловьи, да уж очень долго поют», — к этому горькому
заключению сводятся впечатления «Товарища» от думских прений по аг-
рарному вопросу. «У Думы, несомненно, много чувства, у нее есть ораторы,
но все-таки если бы у нее было поменьше речей! Страшно подумать — ос-
талось еще около девяноста аграрных речей». Почти социалистическая га-
зета не может отделаться от «горького чувства досады».
Да, вступаем в куропаткинское терпение, терпение и терпение. И тре-
вожно бьется сердце у каждого, кто болит душою за парламент. И, пугливо
заглядывая в будущее, многие думают: неужели и в конституционной жизни
за терпением, терпением и терпением не последует ни одной даже и побе-
дишки, а все стратегические движения назад, к более укрепленным позици-
ям при Шахэ и Мукдене и уже совсем крепкой — при Цусиме. Неужели на
поле словесных и законодательных браней мы окажемся так же неудачливы,
простоволосы и неосведомленны, как и на поле браней военных?
Увы, все это предсказывает. Каждый взбирается на думскую кафедру,
чтобы заявить свои чувства, как будто Дума не законодательное учрежде-
ние, призванное обновить Россию своею работою, а какое-то кладбище с
надгробными памятниками, на коих выгравированы чувства и чувства...
Подумаешь, самое чувствительное место в России. И на кафедру взносятся
именно штатские чувства, совершенно приватные и личные, и какие-то свои
уездные наблюдения, интересные не менее, но и не более, чем рубрика го-
родских происшествий в каком-нибудь «Волгаре» или «Казанском листке»...
И слушанием всей этой дребедени занято полтысячи народных представите-
лей, вся печать и вся Россия. Рассказу или чувствам, которым редактор са-
мой захудалой газеты затруднился бы дать место на столбцах своего мало
читаемого органа, внимают полсотни стенографов. Их записывают; стара-
ются точно записать. И через несколько часов сотни и тысячи типограф-
ских наборщиков портят глаза, чтобы набрать и преподнести всему свету
это удивительное кушанье, отдающее салом и ворванью лапландского ди-
каря...
Терпение и терпение. Политика есть терпение, как и всякий труд. В пер-
вую Думу не было никакого огорчения от красноречия, как бы оно ни выра-
жалось и хотя бы курские соловьи пели еще дальше... Тогда мы взирали на
наш парламент с богомольным умилением, всему радуясь и всему восхища-
352
ясь, как люди начала XVIII века восхищались первым шитым кафтанам,
появившимся из-за границы, и первым пудреным парикам, привезенным
оттуда же. И дает некоторую надежду на будущее то, что даже радикальные
листки встречают огорчительно новые порывы красноречия во второй Думе.
Есть надежда, что эта словесность, чувства, и рассказы, и рассказики, пре-
тендующие занимать драгоценную думскую трибуну, с которой не должно
бы произноситься ни одного слова, не подвигающего дело вперед, будут к
концу первого же года второй Думы сокращены до надлежащих размеров.
Ораторы могут быть сокращены через обструкцию невнимания. Если те-
перь каждый депутат стремится использовать свое право на кафедру в целях
произвести впечатление у себя в уезде, то это впечатление станет очень пла-
чевным, если уездные читатели, его выбравшие, прочтут в отчете курсивом:
«Многие депутаты парламента, не дослушав речи такого-то, стали покидать
зал». Газеты умирают без читателей; ораторы невольно ограничат себя, если
почувствуют, что слушают лишь лучших и немногих из них.
Последний совет мы даем ввиду того, что даже «Товарищ» негодует по
поводу несоблюдения «фракционной дисциплины»: фракции решили не
выпускать более 18 ораторов по аграрному вопросу. Но едва открылись пре-
ния, как к председательскому месту потянулись обыватели с записочками,
что они тоже хотят говорить. План нарушился, и вместо обсуждения появи-
лась болтовня. Каждый из 90 непредвиденно появившихся думал о том, как
заявить себя, а не о том, чем помочь делу. Ну, это, конечно, театр, а не зако-
нодательное учреждение. И хорошая мера против этого — не смотреть зре-
лища.
Вторая Дума не может не чувствовать, что она работает или говорит
под давлением чрезвычайно обострившегося критического отношения стра-
ны. Парламент чрезвычайно дорог России, а теперешние его представите-
ли суть вовсе не владыки России, чем имели претензию считать себя депу-
таты первой Думы и чем они погубили себя и первый фазис парламента-
ризма в России, а временные представители парламентской жизни в Рос-
сии, на которых возложен страшный долг — не уронить парламентаризма в
России. Таким образом, депутаты имеют связь не только со своею губер-
ниею и обязаны показать не то, что эта губерния выбрала «молодцов», а
они имеют гораздо большую связь с парламентаризмом и духом парламен-
таризма в России и обязаны перед лицом истории и действительности оп-
равдать его. Нам думается, что самые неудачные, неверные и опасные или
пустые шаги каждой сессии парламента суть первые, пока у депутатов живо
впечатление выборов и выборной горячки, когда у них в ушах стоят еще
речи провожавших и угар проводов, по русскому обычаю всегда широких.
С каждою неделею и месяцем это впечатление будет стынуть, ослабевать и
затираться; и только по мере этого уездный обыватель мало-помалу станет
превращаться в настоящего депутата, каким он должен быть и для чего он
избран. Первоначально парламент, и может быть самый лучший, есть толь-
ко толпа, а существо парламента в нем образуется уже только на работе.
12 В. В. Розанов 353
Только там вырастают все качества такта, ума, приемов настоящей борьбы,
приемов полезной конституционной работы. Все это техника, все это ис-
кусство, и они вырабатываются: депутаты приходят в парламент только с
натуральным умом и натуральными качествами души, которые суть просто
дичок, из которого только со временем может что-нибудь выработаться.
Только по мере того как в депутатах будут ослабевать провинциальные впе-
чатления и провинциальные связи, в них будет зарождаться «вообще граж-
данин», т. е. государственник, с государственными точками зрения, с госу-
дарственными вкусами и честью. Правительство, очевидно, должно быть
страшно терпеливо в отношении к парламенту, пустоте и эксцессам первых
недель и даже месяцев работы. Когда кашу варят, то предварительно не-
сколько раз спускают воду. Болтовня, крики, истерика, дерзости обывателя
этой неспевшейся толпы еще будущего парламента есть только такая спус-
каемая мутная вода заваренной каши парламентаризма. Пусть она истекает
и стекает. С каждою неделею парламент будет более овладевать собою, сво-
ими чувствами, а эксцессов, истерик и дерзостей просто не станут слушать
его же члены, как банальностей. Революционные общие места утихнут, как
только они потеряют новизну, что будет через полгода, через год. Но прави-
тельство не ошиблось, заварив эту кашу: питательность ее останется в энер-
гии и свободе, чего недоставало бюрократии, чего в ней невозможно было
зародить. Парламентаризм всей массе национальной жизни и также госу-
дарственному кораблю сообщит энергию именно первоначальной натуры,
дичка: сок его обработается, а не исчезнет. Вот чем дорог парламентаризм,
необъяснимо дорог. Как ни огорчительна во многом вторая Дума, как ни
неудачны почти сплошь были дни первой Думы, все же нельзя ее сравни-
вать с вялым, безжизненным прозябанием в те же дни Государствен. Сове-
та. Этим все сказано. Этим мы говорим Думе самую большую похвалу, ка-
кую она вообще вызывает. Государственный Совет — сколок прежней го-
сударственности нашей. Ведь там работали или, точнее, не работали бес-
численные комиссии во всех наших министерствах, с комедиею сведущих
людей, позванных из провинции. Ведь и в Государственном Совете до по-
ловины членов — выборные. Но все мертво здесь, живого духа нет. Все
живое в нашей бюрократии, все, что в ней было государственного, а не
чиновнического, очень скоро само оценит эти драгоценные качества парла-
ментаризма, вот этот живой и энергичный дух в нем, хотя он и сопровожда-
ется сором, грязью, бесчисленными уколами самолюбию и даже чести бю-
рократии, — оценит и, дав спуститься мутной воде, обретет на дне консти-
туционализма настоящее золото.
Каша бывает хороша, когда она варится долго. То же и в политике: полу-
чает тот, кто терпит, выжидает. Строить иллюзий не нужно, но и терять на-
дежд нечего.
354
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛИТИКИ
Помимо политической жизни страна живет жизнью общественною, и эта
жизнь так или иначе соприкасается с политикою, ударяет в нее и обратно
получает от нее удары, оставаясь, однако, особою, отделенною, своею. Но
о качествах политики и о достоинствах какой-нибудь программы иногда
модно лучше судить по общественным событиям, которые ее косвенно вы-
ражают, нежели по фактам строго политическим. В политике хитрят, обма-
нывают, многое скрывают до времени. Тут привходит намерение, сознание
и цель. Переходя в общественную среду, идеи и программы свободнее рас-
пахиваются и позволяют заглянуть в свою натуру, скрытую под партийным
мундиром.
Нельзя передать того чувства удивления, негодования и презрения, с
каким эти дни читался и передавался факт избиения студентами-медиками
троих своих товарищей, принадлежащих к русской патриотической партии.
Были ли эти товарищи вредны или опасны для толпы студенчества? Могли
ли, в числе троих, они что-нибудь сделать в совершенно иначе настроенной
массе? Заметим, что в порыве ненависти, дошедшем до избиения, им не было
брошено упрека в шпионстве, в фискальстве. Это было чистое мнение, сво-
бодное мнение и только мнение, без силы, действия и приложения. Однако
после всевозможных усилий вытеснить их из академии, из аудиторий, меж-
ду прочим и усилий фискального или доносного характера, — толпа, не найдя
законных способов к этому и вообще способов бескровных и безмускуль-
ных, устроила им то, что в либеральной прессе именуется «погромами». Но
каков этот погром огромной толпы против трех беззащитных и незащищав-
шихся молодых людей!! Либерализм и космополитизм имеет свою жандар-
мерию и жандармов, которые выхватили бы у них нагайки, если бы они тут
случились, — и только за неимением их расправляется натуральными кула-
ками, которые, впрочем, гораздо грубее нагаек. Ибо получить удар по лицу
хоть больнее нагайкою, но гораздо зато унизительнее кулаком. Кулаком «на-
казывает» господин своего слугу, — т. е. наказывал в старые крепостные
времена. Теперь они возобновились в Военно-Медицинской академии, во-
зобновились в среде «сознательных» студентов, «свободномыслящих»...
Шила в мешке не утаишь, и это хорошо. Еще прошлое лето «товарищес-
кая» печать уверяла направо и налево, что «покушения» политические ни-
когда не направлялись известными партиями на людей мысли, на предста-
вителей идеи, напр. журналистов, писателей, а только на лиц, стоящих у
власти, как ответ физическим действием на физическое же действие. В этом,
видите ли, состояло нравственное преимущество бомб перед правительствен-
ными репрессиями, которые постигают людей идеи, направляются на сво-
бодную человеческую мысль. Но шила в мешке не утаишь: конечно, бомбу
изготовить трудно и рискованно и, сработав ее, естественно, хочется приме-
нить к препятствию наибольшего сопротивления. Ведь для того динамит и
12
355
существует. Однако, если бомба убивает градоначальника, это насилие враз-
дробь и по мелочам применяется и к «носителям идеи», каковыми, несом-
ненно, были эти три избитых молодых студента. Мы уверены, что, у кого
разгораются глаза на рюмку водки, тот не откажется и от штофа. Французы
говорят, что аппетит пробуждается по мере того, как ешь. Убойный или по-
громный аппетит наших освобожденцев, несомненно, перейдет от лиц фак-
тического сопротивления к лицам идейного сопротивления и даже идейной
критики. Берегитесь, зоилы революции: не в этом, то в следующем году вас
могут вздернуть.
Красный погром вообще стоит в воздухе, между тем как говорят о чер-
ном. К погромам, простым фактическим погромам помещичьих усадеб весь-
ма недвусмысленно призывала не только левая печать, но и левые депутаты
первой Думы. Студенты медицинской академии сыграли только роль тех
передовых мальчишек-задирал, которые, бывало, в стародавних боях, ког-
да шла «стенка на стенку», забегали вперед и ранее прочих давали «по мор-
дасам» противникам. Но за этими мальчишками двигалась «стена» фаб-
ричных, мастеровых или деревенских ребят. И за выходкой медицинских
витязей, побивших сотнею троих товарищей, стоит угроза «стены» поли-
тического и общественного хулиганства, которая очень не прочь помять бока
«буржуям» и «бюрократам». Во всяком случае, по примеру «интеллигент-
ных вождей» чердаки и подвалы петербургских и всяческих домов могут
очень и очень кинуться на бельэтажи. Полиции, конечно, на каждый дом не
наберешься, да и этим господам, без завтрашнего и без вчерашнего дня за
душою, похозяйничать бы хоть несколько часов. Каждому достанется на
водку.
Все сдерживается, конечно, не полициею, а стойким и спокойным пре-
быванием массы населения, которая еще не двинута в основных своих сло-
ях. Весь пласт городского и сельского люда спокоен. Революция собственно
совершается в единичных личностях и ими одними орудует, их одних имеет
в своем распоряжении или у себя на посылках. Речи левых в Думе и печати
об организации масс клонятся вовсе не к этой организации, а, напротив, к
разрушению исторической и бытовой организованности масс, к превраще-
нию их в человеческую пыль и к тому, чтобы поднять эту пыль революцион-
ным ветром. Вот в чем задача левых, которые идут стеною не против старо-
го режима, а против социального строя, установленного веками и стоящего
в тех же формах у нас, как и за границею. Русская революция есть только
филиальное отделение всемирной революции и местный пароксизм ее; но
дело именно во всемирности, а не во временных и местных частностях.
Оттого она так космополитична, оттого нимало не смущена «автономиею»
или даже и отделением окраин, как не смутится и перед явным и нескрыва-
емым более расчленением России: ей просто до этого дела нет, это вне круга
ее интересов. Ибо по существу делают русскую революцию вовсе не рус-
ские люди, а русские — поскольку они космополитичны, безнациональны,
выхолощены от всего русского. Эти космополитические идеи захватили нашу
356
учащуюся или неучащуюся молодежь, через выборную «тактику» оне по-
слали в парламент своих представителей. Везде мы имеем дело с русской
безнациональной интеллигенцией, с безземельными «умниками» или, по-
жалуй, свистунами. Вот эти господа говорят речи в Думе: это фасад. А с
заднего крыльца видно, как на кухне сто «освободителей» бьют по морде
троих невинных своих товарищей, осмеливающихся сохранять свое отдель-
ное мнение, самостоятельный свой взгляд на вещи.
Негодование на это избиение прошло широкой волной по обществу. Оно
забылось или через неделю забудется: так быстро сменяются важные собы-
тия. Но оно было очень остро, и благородная часть самой молодежи негодо-
вала на это бесчеловечие одной своей части еще сильнее, чем пожилые люди
из общества. Урок вовремя: шило революции высунулось преждевременно
из мешка, и побившая толпа в медицинской академии имеет заслугу хоро-
шей иллюстрированной программы «будущего представления», которое
полезно публике рассмотреть и оценить прежде, чем пойти на самое пред-
ставление. «Там будут бить по мордасам за чистые убеждения», «будут сво-
рачивать скулу на сторону тому, кто чтит свою родину»: это так вразуми-
тельно, что в подстрочных примечаниях не нуждается.
ИСПУГ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
К недостаткам нашего нового парламента принадлежит его чрезмерная впе-
чатлительность. Его пугают или чрезмерно радуют не только мысли, но и
слова. Нельзя не заметить, что речи некоторых депутатов только и рассчита-
ны на эффект слов, и не нужно объяснять, как это далеко от дела и деловито-
сти. Сюда в особенности относятся речи депутата от петербургских рабо-
чих Алексинского, который воображает, что парламент не имеет лучшей за-
дачи, как слушать его аффектированное, напряженное и деланное остроум-
ничанье, не имеющее ничего общего с нашим народным спокойным юмором,
как и с силой острого и меткого русского слова. Как Аладьина упрекали в
заимствовании приемов английского ораторского искусства, так об Алек-
синском можно сказать, что его остроумие перенесено в русскую Думу из
бульварных французских листков. Если этого искали петербургские рабо-
чие, они могут быть удовлетворены; но нельзя сказать, чтобы Россия была
удовлетворена их выбором.
Речь польского депутата Жуковского о «государственном капитализме»,
по-видимому, и на общество, и на печать произвела то действие, какого она
вовсе не заслуживала. Точнее, она должна бы вызвать то действие, обратное
полученному. Депутат Жуковский объяснял и объяснил, что охранительная
политика императора Александра III, двигаясь прямыми путями и к прямым
целям, имела и другое, фланговое движение — в области экономики стра-
ны. Государство русское в это 13-летнее царствование крепло не только по-
литически, административно, но оно чрезвычайно окрепло и экономически,
357
сделавшись могущественным собственником. Здесь разумеется прежде все-
го железнодорожное хозяйство, и депутат Жуковский не прибавил к своей
речи того подстрочного примечания или не дал ей того правильного заго-
ловка, который она должна была бы иметь: «Защита бывшего главного об-
щества российских железных дорог». Все люди не столь юного возраста,
как депутаты «левого блока» в Думе, помнят хорошо, как это главное обще-
ство, владевшее самыми длинными, деятельными и доходными линиями
железных дорог в России, в том числе даже Николаевскою дорогою, постро-
енною правительством, — являлось насосом, который беспрерывно вытяги-
вал из казны государственные и народные деньги. Это общество, с еврейс-
кими капиталистами во главе, стояло пауком над страною, и вся Россия, все
русские люди, прикосновенные к деловому миру и сохранявшие националь-
ное самосознание, облегченно вздохнули, когда совершился выкуп в казну
трех самых важных линий и последовала ликвидация знаменитого обще-
ства, уже отъевшегося и разжиревшего на русских хлебах. Все помнят это
время, помнят впечатление от этого события, с которым русские люди по-
здравляли друг друга на улицах. Мера эта, проведенная Витте, составляет
одну из огромных его заслуг, совершенно неоспоримую и против которой
не было никаких возражений. Поляки и польские евреи в огромном числе
обслуживали это главное общество, питались крохами, падавшими со стола
иерусалимских капиталистов, и речь польского депутата в Думе есть в сво-
ем роде «плач Иеремии» по этому павшему израильскому царству в России.
Но среди простачков парламента депутат Жуковский дал своей речи непо-
добающий заголовок: «Государственный капитализм», и особенно «левый
блок» вцепился зубами в оба слова этого заголовка: «капитализм» и «госу-
дарственный». Подумаешь, какое зло; уже «капитализм» сам по себе есть
преступление, по крайней мере в глазах людей без капитала или которые
оборвались в попытках приобрести капитал или даже сколотить какую-ни-
будь собственность; но что же сказать о «капитале», которым владеет нена-
вистное «правительство»... Ведь для нерусских русское правительство есть
враг, а «левый блок» есть какой угодно «блок», но только это не «русский
блок». Против этой истины не будут возражать все левые. Так как все «ле-
вые» идут сознательно против правительства, то сила правительства, напр.
капитал в руках правительства, есть, очевидно, для них зло! Но ведь тут
разговор страстей и партий, а не разговор разума и справедливости. Силы и
богатства мы желаем каждому, кого любим, и если бы в Думе говорилась
не пустозвонная фраза: «Мы, депутаты, — есть отечество», то эти депутаты
только бы приветствовали слова и мысль о том, что «отечество побогате-
ло», «отечество усилилось», «отечество — капиталист, получивший в руки
через ряд мудрых мер необозримую недвижимую собственность». Коня ов-
сом не испортишь, и за такие порицания можно поблагодарить. Они дела-
ются со зла, нисколько не удивительно, что речь эта вылилась из уст привис-
линского депутата, где не забыты разные Собесские и Сигизмунды. Но вполне
удивительно, неприятно и смешно видеть российских или «рассейских» де-
358
путатов, которые жуют с наслаждением эту жвачку, положенную им в рот
поляком. Видите ли, «государство русское — капиталист». — «Ну, что же,
слава Богу», — сказал бы о своем отечестве пруссак, венгерец, итальянец,
француз, но дело в том, что для «рассейских депутатов», или, по крайней
мере, огромного числа их, отечество есть социал-демократия, принесенная
с берегов Шпрее и Сены, а вовсе не Россия. «Мы, депутаты, — отечество»...
Но ведь это чисто фиктивно, это по захватному праву, осуществленному та-
тарами в XIII веке, и, через выборную агитацию, социал-демократиею, и
вообще космополитизмом в XX веке. Русская Дума есть чисто космополи-
тическое явление, это космополитический парламент на русской террито-
рии: можно ли в этом сомневаться? Ну, а космополитизму Россия весьма
мало нужна, и отсюда и вышел Иеремиин плач о том, зачем русское государ-
ство сделалось капиталистом. Так как «капиталистами» предосудительно
быть и вообще всем русским, как это пламенно изображали или картинно
описывали Островский и Щедрин, то, очевидно, «капиталистами» могут
оставаться только граждане с Вислы или граждане из Брюсселя. Русские,
как только при деньгах, именуются «чумазыми». Это — нехорошо. Русско-
му подобает быть с сумочкою и питаться милостыней. Напротив, название
«чумазый» не идет ни к бельгийцу, ни к Мендельсону, ни к Ротшильду. По
мнению Думы, рассматривавшей русский бюджет, России и подобает жить
и работать за счет иностранных «не чумазых» капиталистов, уплачивая им
хороший процент или «гешефт». Если в то же время эти члены Думы как
будто протестуют и против государственных долгов, то можно не только
подозревать, но и быть вполне уверенным, что этот протест направлен не
столько против существа долга, сколько против того или, точнее, потому,
что этот долг сделан «ненавистным правительством». «Зачем правительство
богато?» «Зачем правительство работает на чужие деньги?» В основе же
всего: «Зачем правительство существует?» Тут, по немецкой поговорке, и
«зарыта та дохлая собака», которую все ищут. Само собою разумеется, что
мы не смеем назвать так русское правительство, но поистине называем «дох-
лым» то вонючее чувство, с каким «патриоты» на Шпалерной все кружатся
около понятий: «Россия», «русское», «национальное», «государственное».
Выел им глаза этот дым «русского». Вот освободиться бы от этого «русско-
го»; и тогда деревенского мужичка, тут же и почесывающего голову в Думе,
можно посадить под такой оброк выхоленного кадета из тверских или иных
депутатов или под такой процент Мендельсона или какого-нибудь «авто-
номного» гражданина с тремя шипящими буквами в фамилии, от которых
он заежится лучше, чем от Плеве, Витте, Вышнеградского, Сипягина. Мо-
жет быть, чаша сия и не минет Руси. И, может быть, ее необходимо выпить,
чтобы наконец когда-нибудь имя «русского» перестало есть глаза русскому.
«Гром не грянет — мужик не перекрестится»: эту поговорку сказал о себе
сам русский народ. Печально это, и, кажется, мы стоим перед дорогою, усы-
панной не розами.
359
ЗДОРОВЬЕ ПОТОМСТВА КАК
НАРОДНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
Принципы принципами, но важна и практика, подробности каждого дела.
Мне приходилось много писать о принципиальной стороне развода как ре-
гулятора семейных нравов, как очистителя семьи. В III отделе предсобор-
ного присутствия, состоявшего из духовных особ и профессоров канони-
ческого права, не было обращено внимания на эту принципиальную сторо-
ну, как и вообще у предсоборного присутствия не заметно присутствия те-
ории развода и даже вообще теории брака. Счастливым исключением можно
считать речь знаменитого ученого Н. Н. Глубоковского, который в заседа-
нии, посвященном вопросу о смешанных браках с иноверцами, возражая гг.
Карееву, Горчакову, Буткевичу и др., высказался хоть и осторожно, но нис-
колько не двусмысленно, что брак образуется во всех своих существенных
частях простым и нравственным сожитием мужчины и женщины и что, сле-
довательно, так долго ведшийся в печати спор об этих сожитиях и прижива-
емых в них детях решается в пользу полного уравнения первых с обыкно-
венным (церковным) браком и с законными детьми, без какого-либо разли-
чения и правоограничения. Не имея подлинника под руками, я не могу ци-
тировать замечательной речи, но ее необходимо иметь в виду законодателям,
судьям и юристам. Авторитет Глубоковского как по учености, так и по его
охранительным тенденциям вне всякого подозрения в церковных сферах.
Улучшение положения семьи — этим вопросом вообще не задавалось
предсоборное присутствие в его III отделе. Оно боязливо или равнодушно
стояло на формально-традиционной почве и, если позволительно сказать
упрек, «отцеживало комара и поглощало верблюда». Шире его взглянуло на
дело совещание, образованное под председательством киевского митропо-
лита Флавиана при Св. Синоде, куда, между прочим, вошел почти весь свет-
ский состав сановников и высших чиновников, делопроизводительствую-
щих в Синоде. Совещание решило, не ограничиваясь каноническою сторо-
ною вопроса, призвать в помощь себе светил медицинского мира. Конечно,
брак — дело биологии, и голос медика здесь едва ли не первенствующий.
Призыв медиков сейчас же отозвался оживлением вопроса: повеяло здоро-
вьем, заботою о здоровье нации, как этого и следовало ожидать от учеников
Гиппократа и Галена. Россия и народ русский скажет историческое свое спа-
сибо проф. В. М. Бехтереву, Д. О. Отту и Л. Б. Бертенсону. Это, без сомне-
ния, их указаниям и разъяснениям обязано введение нового и важнейшего
всех прежних повода к разводу: «Болезненное состояние, устраняющее воз-
можность брачного сожития и вредно влияющее на потомство».
Слава Богу, наконец-то! Нужно удивляться только злоупотреблению
именем таинства, в силу которого Россия нацелилась больным потомством,
всеми этими врожденными калеками, эпилептиками, кликушами, какого
видишь немало по деревням и для которого запоздало мы строим приюты
под сердобольными названиями! Не надо калек, не надо их рождать! Лечить
360
их, этих врожденных эпилептиков, слабоумных, глухонемых, идиотов —
последствия отвратительных болезней не обоих (редчайшее совпадение!), а
которого-нибудь одного супруга, — уже поздно! Муж — форменный алко-
голик, и все потомство его, как учит медицина, как знает она через свои
внимательные наблюдения и статистику, является преступным и порочным.
Школа мается, наполняются тюрьмы: и все оттого, что в свое время, видите
ли, нельзя было, «из уважения к таинству церкви», отнять жену у человека,
впавшего в форменный, беспробудный и неисцелимый алкоголизм. Да, много
тюрем наполнено, сумасшедших домов, больниц из-за этого уважения. Ведь
такому алкоголику, как и страдающему известною неприличною болезнью,
ничто не препятствует каждый год рождать по ребенку. Батюшки этого не
знают, монахи еще менее, а что вытерпела от этого Россия, Российское госу-
дарство, общество, село и деревня! Страшно подумать об истекших веках,
уже о напорченной порче.
Мы смущаемся и даже имеем положительный испуг, как бы эта нацио-
нально-важная статья проектируемого закона о разводе не получила в прак-
тике единичных разводов опасного сужения. Напр., выражение «болезнен-
ное состояние, устраняющее возможность брачного сожития» можно пони-
мать до такой степени узкоанатомически, что под него почти невозможно
подвести никаких случаев. Напротив, если это понимать физиологически и
дополнить оговоркою о «нормальном брачном сожитии», которому препят-
ствует болезненное состояние одного из супругов, тогда эта статья получит
свой вес и применение. Я объясню все примером. Мне в личной жизни при-
велось узнать о двух семьях, молодых и, по-видимому, цветущих, где в од-
ном случае муж, а в другом жена страдали аномалией — пороком, за кото-
рый, по библейскому сказанию, сгорели с телом в огне, павшем с неба, два
известных города. Медицина хорошо знает, что недостатки эти бывают и
врожденные, в таком случае совершенно неодолимые и буквально устраня-
ющие возможность брачного сожития, если только нормальный супруг не
начнет свою супругу привязывать и вообще всякий раз фактически и физи-
чески насиловать. В отношении мужа даже и это бессильно. Между тем внеш-
него, анатомического признака эта аномалия никакого не имеет. В первом
известном мне случае муж — гвардеец, юный сам, имея красавицу жену и
от нее ребенка, был обучен и пристращен к пороку пожилым другом дома, к
которому подпал под влияние. Брак был расторгнут по Высочайшему пове-
лению вследствие просьбы родителей молодой женщины. Принуждаемая
мужем к этому пороку, она почувствовала начинающийся паралич ног, что и
заставило ее преодолеть стыд, открыть все матери. Любопытно, что такой
чудовищный случай страдания и порока для церкви не служил «причиною
развода», ибо Высочайшее повеление потому и требовалось, что «каноны»
молчали и отказывали, что приходилось нарушить каноны и постановления
вселенских соборов. В другом известном мне случае этого же заболевания
страдает врожденно жена, и муж хоть и плачется, но, жалея молодую жен-
щину, не принуждает ее к сожитию с собою. Развод же, однако, он взял, но
361
его дева-жена с церковной точки зрения «не подает никакого повода к разво-
ду», ибо анатомически она «способна к сожитию»; но она неспособна фи-
зиологически или, точнее, лшстиико-физиологически, так как это есть миро-
вая аномалия, появляющаяся с рождением и не сопровождаемая решитель-
но ничем ^&мзмческм-ощутимым, никакой болезнью, болью, уродством, ума-
лением сил,способностей и проч.
Без сомнения, медицинские авторитеты не преминули это разъяснить
духовным и недуховным особам Синода; разъяснить, что это не «слабость»,
«грех», «своеволие» и проч., как духовные об этом полагают, и вообще не
такое, что «было и пройдет и супружеству не мешает», а что это во врожден-
ной или благоприобретенной форме равно составляет постоянное препят-
ствие к брачному сожитию, а следовательно, и повод к расторжению брака
наравне с анатомическою причиною.
Нам кажется, из опасения возможных сужений этого медицинского по-
вода, авторитетам биологии следовало бы настоять в совещании на более
дробном формулировании его. Позволю себе предложить редакцию в виде
хотя бы канвы для рассуждений:
1) Брак расторгается вследствие болезненного состояния одного из суп-
ругов, добрачного или развившегося во время брака, которое неодолимо и
навсегда или на продолжении не менее трех лет препятствует нормальному
и безболезненному отправлению супружеских обязанностей.
2) Брак расторгается, если болезненное состояние одного из супругов,
не составляя прямого препятствия иметь потомство, соделывает это потом-
ство по показаниям медицинской науки, безусловно болезненным или в вы-
сокой степени предрасположенным к психическому и физическому вырож-
дению. Сюда принадлежат добрачные и послебрачные состояния психичес-
кого заболевания, тяжелые и продолжительные формы нервных заболева-
ний, все виды заболеваний половой системы, тяжелые формы алкоголизма.
В заключение пожелаем, чтобы в высшей степени интересные прения
этого важного совещания были потом обнародованы. Они могут служить
важным пособием и для справок в тех или иных запутанных случаях. Все-
гда полезно заглянуть судье в источник закона, по которому он действует,
дабы знать направляющий смысл закона.
ИЗ МОНАСТЫРСКОГО ЗАТВОРА
У меня все было на уме кинуть в ум читателя мысль, что, может быть, вели-
чайшую сторону теперешнего освободительного движения составляет то,
что Русь вообще переламывается, так сказать, с пассивных тонов бытия,
мотивов существования, — к активным. Давно заложена у меня 87-я стра-
ничка 14-го тома «Жизни и трудов Погодина», незабвенного Ник. П. Барсу-
кова, где он приводит письмо Сергея Тимофеевича Аксакова, написанное по
получении известия о падении Севастополя. В этом письме, непосредствен-
362
но сказавшемся, автор «Семейной хроники», стараясь найти основную и са-
мую главную причину нашего исторического несчастия, находит ее в пас-
сивности вообще русского духа. Мы приведем это письмо целиком: оно ис-
торически важно.
«Сегодня поутру получили мы горестное известие о взятии или об отдаче
Севастополя! Нельзя сказать, чтобы я не ожидал этого, особенно после несчас-
тного нападения на Федюхины горы, где 12 тыс. французов отбили и разбили 40
тыс. русских. Кроме всего этого, падение Севастополя решило для меня вопрос
великой важности. Я давно уже подозревал, что русские войска не могут рав-
няться с французскими; теперь я убедился в этом окончательно. Если мы, в чис-
ле 40 тыс., не могли взять укрепления, защищаемого 12-ю тысячами, — если
мы, при равных, вероятно, силах, не могли удержать таких укреплений, каких
не видывало военное искусство, то дело для меня становится ясно. Я верю, что
частных явлений храбрости было много, но общего духа не было, да и быть не
могло. Куда возиться нам с народом, который весь, как один человек, может
прийти в восторг от одного восклицания: «Да здравствует Франция!», который
весь проникнут чувством военной чести и славы, который знает, за что умирает.
Вера русского человека тиха и спокойна: он может за нее умирать, а не по-
беждать. Это — страшная разница».
Сын его, Иван Сергеевич, о том же падении писал: «Он должен был
пасть, чтобы явилось в нем дело Божие, т. е. обличение всей гнили прави-
тельственной системы, всех последствий удушающего принципа. Видно,
еще надо жертв, надо позора, еще слабы уроки; нигде сквозь окружающую
нас мглу не пробивается луча новой мысли, нового начала».
Письма отца и сына мы можем связать таким образом, что пассивность
вовсе не есть что-то врожденное русскому человеку', скорее это есть несчас-
тие, но страшно общее и постоянное, привитое всему русскому населению
«удушающими принципами», под которыми он жил, в основе всего — тем
«гнилым правительственным строем», на который указывает Ив. С. Акса-
ков и который начал вырабатываться задолго до его рождения и даже до
рождения автора «Семейной хроники». Увы! — вся «семейная хроника Руси»
затянута этою топью ленивых, стоячих вод, засасывающих всякую искру
Божию в себя, засасывающих и поглощающих. Все лениво, тихо. И все это
ленивое, тихое расслаивается на два слоя, верхний и нижний. Верхний ни-
чего не делает «по праву», — так сказать, по достоинству верхнего лежания;
нижний слой ничего не делает уже по обязанности, по этому положению
нижнего слоя, который может издыхать, но не роптать; может «тихо уми-
рать», как писал С. Т. Аксаков, но не шевелиться, не повертываться, не сбра-
сывать с себя давящий верхний слой. Так все и лежало тысячу лет. И слежа-
лось. И образовало ком Руси, подвижный, холодный, страшно могучий в
сопротивлении, вот когда его хотят расколоть и обработать, но страшно бес-
сильный, когда нужно передвинуться хоть на вершок вперед или вот взять
Федюхины высоты...
Ни Федюхиных гор мы не видали.
363
Ни всеобщей грамотности не завели.
Русский люд терпел, до убийства себя или убийства ближнего, от семей-
ных несчастий: и вот в 1907 году все же переносит, что вопрос о семье вру-
чен рассмотрению 60-летнего старца, никогда не знавшего семьи и имею-
щего в натуре своей что-то до того враждебно-неприязненное семье, что в
пору, когда все люди женятся, он принял монашество...
Пассивное общество...
Пассивное царство...
Литература, переполненная пассивными, тихими, кроткими, покорны-
ми идеалами. Это Платон Каратаев в «Войне и мире», Лиза Калитина в «Дво-
рянском гнезде», Татьяна у Пушкина.
Вспоминаешь из гр. Алексея Толстого:
Собиралось горе малыми тучками,
Затянули тучки небо ясное,
Посеяло горе мелким дождичком,
Мелким дождичком осенним.
А и сеет оно давным-давно,
И сечет оно без умолку,
Без умолку, без устали,
Без конца сечет, без отдыха...
* * *
Но откуда же распространяется эта пассивность, раздвинувшаяся на всю
ширину нашей Руси, охватившая все подробности нашего существования,
— наши думы, чувства, дела? Увы! — не быть тому «богом» на стране, кого
страна сама не назовет «богом». Мы потому покорились пассивности, что
мы полюбили ее. От лени? Не знаем от чего. Но великие наши писатели, это
— лучший пример, воистину полюбили эти пассивные идеалы какою-то со-
страдательной любовью. Тот же Алексей Толстой это чудно выразил в дру-
гом стихотворении:
Мысленно вместе с тобой прострадал я минувшие годы,
Все перечувствовал вместе с тобой, и печаль и надежды
Дороги мне твои слезы, и дорого каждое слово!
Бедное вижу в тебе я дитя, без отца, без опоры;
Рано познала ты горе, обман и людское злословье,
Рано под тяжестью бед твои преломилися силы!
Бедное ты деревце, поникшее долу головкой...
Я недавно написал статью: «Где же религия молодости?», вызвавшую,
между прочим, и много протестующей критики (в письмах ко мне). Тему
эту можно формулировать и иначе: «Где же религия силы?» «Где религия
деятельности?» А общее всего эту тему или этот тезис можно выразить
так: «Мы имеем пассивные идеалы, но неужели же нет идеалов активных?»
364
Если Бог есть творец мира, то Он, конечно, есть Вечный Двигатель;
религия должна бы, и истинная религия непременно должна быть центром
величайшего возбуждения нации. Религия — возбудитель, а пъ усыпитель\
Между тем, это ли мы имеем? По поводу статьи: «Где же религия молодос-
ти?» мне указывалось, что я неверно освещаю дело, что я переиначиваю
действительность. Но вот письмо, неделю назад мною полученное из мо-
настыря и от священника', как раз оно отвечает на нашу тему, и, кажется,
нельзя оспорить авторитетность этого ответа:
«...Весна — роскошь. Уже 35 лет я не видал весны лицом к лицу: все жил в
городе, среди каменных строений, на каменной улице. Теперь же видишь, как
все кругом тает, как на твоих глазах начинают чернеть пригорки. Прилетели
скворцы. Воздух, — не надышишься. Вечерами не хочется идти в дом. Но зато
самая монастырская жизнь! Это — какой-то ящик для битой посуды. Тут все
какие-то обломки от человека. На побережье Ледовитого океана волнами при-
бивает убогие, корявые деревца, из которых только и можно построить лачугу,
вроде берлоги, но никак не настоящее жилье. Так и иноки. На стройку жизни не
годятся. Это ее валежник. И какой еще отсыревший, намокший, заплесневелый.
Огня ни за что не добудешь: одна копоть и дым. Темнота отчаянная: и умствен-
ная, и религиозная. Я отсюда хорошо начал понимать черносотенность Почаев-
ской лавры. Там оказались только люди посмелее, Виталий, Илиодор. Очевид-
но, их поднял на дыбы Антоний волынский. Но и остальные монастыри на Руси
все такие же, как эта Почаевская лавра, только поменьше ростом. Бога Живого,
Христа светлого и воплощенного нет у них и в представлении. Полная личная
пассивность (мой курсив). И в молитве все: «Приди, очисти, помилуй! Спаси,
сохрани, огради!» Все сделай Бог! Все сделай Божия Матерь! Все сделайте
угодники! А сами они лежат колодой (подчеркиваю везде я). Народ их корми,
дай им сытую жизнь здесь, а Бог на даровщинку устрой им царство небесное.
Они же только будут сорок раз повторять «Господи, помилуй!» И вот настало,
что такие оклобученные колоды услыхали, как вокруг их люди начали требо-
вать саиоуправления, говорить о праве самостоятельно строить жизнь, о необ-
ходимости деятельности, кипучей активности. Там, в монастырях, привыкли,
чтобы у старцев быть в послушании, а в новой жизни свежие силы сами прут
вперед и других заставляют подыматься, приниматься за дело. Пассивному ва-
лежнику рост свежей зелени и кажется дьявольским наваждением, пришестви-
ем антихриста. Монашество и жмется пугливо в сторону, а когда раскрывает
рот, то только и может кричать свободной, активной работе: «Анафема тебе!
Смерть тебе! Давите свободу! Вешайте ее! Как же это мы сами все будем де-
лать». Так у Достоевского в «Легенде об инквизиторе» говорится о страхе ра-
бов, о страхе свободы... «Деятельной святости, светлой, радостной, бодрой, силь-
ной, строительной, — ее нет еще на Руси, и менее всего ее — в монастыре.
Здесь все инвалиды духа, трусы духовные. Они поворачивают к жизни не лицо,
а тыл, бегут от жизни. Увидят жизнь и до тыла уже чувствуют себя разбитыми.
Кричат: «Господи, спаси нас! Огради! Сохрани! Убереги!» Духовный туберку-
лез. Анемия. Белокровие. Живому человеку душно среди такого валежника.
Тесно. Вместо того, чтобы свободно, сильными ногами идти к Богу, чувству-
ешь себя в положении клади, которую положили в ящик и сдали в вагон для
доставки на станцию «Царство Небесное». И вдруг этот валежник слышит:
«Вставай, подымайся, рабочий народ!» Победа, конечно, за этим кличем «Вста-
вай, подымайся!». Но валежник, несомненно, как потревоженный на гнили гриб,
365
обдает все кругом своей пылью и будет стараться засыпать и усыпить новую
жизнь. Среди братии здешнего монастыря эта «пыль» чувствуется особенно, и
хочется чихать от нее, кашлять, сморкаться. В природе весна, а в людях тем-
ный склеп. Оттого и хочется бежать от них. Бежать к жизни, к живым людям, к
живой работе».
Я не переменил в письме ни буквы, подчеркнув только некоторые слова,
дословно совпадающие с тем указанием на пассивность, которое я делаю
вслед за Сер. Тим. Аксаковым. Кажется, не может быть сомнения, что имен-
но в монастыре и в монастырском понимании и истолковании христиан-
ства и лежит тот центр, откуда разошлись струи пассивности по всей Руси.
Монастырь — средоточие церкви, а церковь — средоточие народной жизни.
Через легенды, через жития святых, через подлинное и апокрифическое, через
народную молвь, старушечий шепот, причитания около больного и около
покойного, в вере и поверьях — все полз один мотив: о бессилии мысли че-
ловека, о грехе гордого и свободного характера, о непозволительности са-
мостоятельного чувства. Все точно ползло к хвори, к могиле, к смерти, к
мировой зиме, мировому савану...
И вдруг... Но я тут скажу концом того стихотворения Алексея Толстого,
где он говорит о «мелком горе», — и которое я прервал, не досказавши:
А и бывало же другим счастьице.
Налетало горе вихрем-бурею,
Ворочало горе дубы с корнем вон.
Вот оно и к нам пришло, «горе-буря». Не я, а Толстой, 40 лет назад,
назвал его «счастьем». Оно надвинулось с Востока. И заходили под ним боль-
шие волны. Которая-то из них ударит и в ветхие стены монастыря. Ударит и
повалит их. Ибо, пока стоит эта старая цитадель религиозной лени, дряхло-
сти, старости, могилы, — до тех пор, что бы ни случилось и какие бы пере-
мены на Руси ни произошли, все опять затянет тиною. Отсюда затянет. Ибо
где могила — там и черви.
ГДЕ УЗЕЛ «ВОЗМОЖНОГО»
ИЛИ «НЕВОЗМОЖНОГО»
ЦЕРКОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ?
I
Каждая вещь лучше всего познается в своих иллюстрациях. Одну из таких
ярких и умных иллюстраций мне и множеству интеллигентных петербурж-
цев пришлось увидеть сегодня, 4 апреля, на диспуте в Петербургской духов-
ной академии. Дня за три приходит ко мне писатель-народник, обходивший
и объездивший всю нашу северную и приуральскую Россию, записывая
былины и вообще памятники устного народного творчества.
366
— Не будете ли в среду на диспуте в духовной академии?
— Никогда не бывал и не собираюсь. А что?
— Некто Зорин будет защищать диссертацию «Об аскетизме». А оппо-
нентом назначен Феофан...
Я широко раскрыл глаза. Худой, бескровный, нервный, с острым взгля-
дом и прекрасной речью, Зорин выступил в 1902 и 1903 годах на бывших в
то время в Петербурге религиозно-философских собраниях неумолимым и
насмешливым критиком «высокопоставленного» аскетизма. Богатая бого-
словская ученость, спокойный, нераздражающийся и неволнующийся тон,
полное внутреннее убеждение и эта прекрасная, чуть-чуть заметная ирония
— все сразу обратило на него внимание. А на вопросы: «Кто? Кто?» — пос-
ледовало и разъяснение:
— Наш, академический. Залетел было высоко, да сковырнулся. Видите,
какой молоденький да тощий. По занятиям обещал из себя Оригена или Бо-
лотова (В. В. Болотов, светило Петерб. дух. академии, лет шесть назад умер-
ший), а по данным наружности и монаха. Начальство голубило его, все выд-
вигали вперед, он уже читал в академии лекции, получал и стипендии...
Мысленно надевали на него монашеский клобук, когда он вдруг, встретив
девушку по сердцу, женился. Конечно, никому это не запрещено. Не пори-
цали... Но с этих пор как-то так пошли его служебно-учебные дела, что те-
перь он преподает в духовном училище, сидит на грошовом жалованье, рож-
даются дети, прихварывает жена, что при безденежье ой-ой как трудно. А
вот он хоть здесь, в религиозно-философских собраниях отведет душеньку
над аскетизмом.
Значит, схватила удочка ерша под жабры; а у него, кроме жабр-то, еще
и колючие «ерши»... Впрочем, его критика всегда была изящна и, может
быть, именно поэтому сильна. Знал я и Феофана или, точнее, чуть-чуть
знал, видал.
Монах. Инспектор духовной академии. Очень молодой, с прекрасным,
привлекательным лицом, гораздо красивее Зорина. Раза два он появился на
религиозно-философских собраниях, начатых по инициативе целого ряда
светских писателей, но где появлялось также много и духовенства, а пред-
седательствовал ректор академии епископ Сергий (Старогородский). Во всей
громадной массе слушателей и дискутантов нельзя было сейчас же не заме-
тить этого монаха, с прозрачным, небесным (не шучу и не преувеличиваю)
лицом, который ни разу не поднял глаз на публику и не произнес в оба вече-
ра ни слова. Заметно было только, когда он входил и выходил из собрания,
до чего он женственно-неловок и застенчив, я бы сказал — институтски и
застенчив, и неловок. Больше он не появлялся. А я потом узнал, что он страш-
но редко покидает «затвор» свой, в который обратил свою квартиру, что он
поставлен инспектором не по надежде на его управление или руководство
студентами, но «для примера» им: чтобы был в академии светоч, свеча и
мерило того, «что ожидается от человека духовного званья», и чтобы они
если и не сообразовались с ним, то тогда все-таки оглядывались на него.
367
Затем мне было рассказано, как однажды, встретившись в квартире ректора
с несколькими из светских писателей, конечно державших себя по-мона-
шески (в гостях у архиерея) и даже не куривших, он через полчаса ушел
отсюда. И на вопрос, «почему он так поспешил оставить дружную беседу»,
он ответил, что «дух его смутился при виде людей не исключительно цер-
ковных». Он сказал немного резче, чем «смутился». В словах его был тот
оттенок, что «невидимо бес вошел ц комнату», когда вошли эти цветные
галстуки, хорошо сшитые сюртуки и следы в глазах и улыбках от чтения
Флоберов, Гюисмансов и т. п. Все эти мелочи я привожу без всякой иронии
и чтобы ответить, что против Зорина должен был выступить «цельный че-
ловек» — выступить глубокое, святое убеждение. Самое имя «Феофана» при
постриге в монашество он принял вслед и по почитанию знаменитейшего
из аскетических писателей наших XIX века, епископа Феофана тамбовско-
го, получившего в литературе и вообще среди духовенства имя «затворника».
— Убеждение встретится с убеждением. Как интересно! А по личнос-
тям, — и как ярко!
— Придет на диспут и Жилкин, лидер «трудовиков» в первой Думе, —
заманивал меня знакомый писатель-народник.
Но я замахал рукой:
— Что вы мне толкуете про Жилкина. Я знаю и Феофана, и Зорина. Это
— единственный по интересности диспут, и, конечно, я буду.
— То-то. Будет и митрополит. Будет много архиереев.
— Еще бы. Посмотрят ерша, которого они зацепили под жабры. Ну, я
посмотрю, как он станет рвать удочку.
* * *
Все обошлось тише, чем я думал. Я уже отвык от тишины и «благопристой-
ности», необходимых и невольных в ученых диспутах, и ожидал сшибки,
спора. Это было наивно. Конечно, ничего подобного не вышло. Но в тишине
ученого диспута прошли такие тонкие нити и острые иголочки вот уже мно-
го лет ведущегося в нашей печати спора о религиозных достоинствах, о хри-
стианской ценности и о религиозной постановке семьи и монашества, свет-
ского мира и церковного мира, что, как показалось мне в этот день, 4 апреля,
нигде в Петербурге, не исключая и Государственной Думы, не жилось так
интересно, так идейно, так полновесно и многозначительно в умственном и
даже историческом отношении, как в актовом зале Петербургской духовной
академии.
То, что я называю «сшибкой», «скандалом», обойдено было только бла-
годаря чрезвычайной учтивости Феофана и осторожности Зорина... Но с тем
вместе, если хотите, «скандал» случился, и невообразимый, но он был скрыт
под прекрасным тоном речей. Вообще он не выразился в крике и шуме. Но в
мысли, во всем ходе спора, в постановке вопросов и даче ответов, он уже
был, и даже слишком был...
368
— Настало время... вы не признаете авторитета отцов церкви...
— Отцы церкви, «святые» церкви, «учители» ее — для вас уже только
писатели, люди. Без золотых венчиков над главами, без лампад перед их
«ликами», без зажженных свечей...
— Где же храм? Где же православие? Где эти молебны «святителям»,
которые мы еще поем... «Святителю Отче Николае, моли Бога о нас». Не-
ужели это уже только слова, из которых вынуты душа и всякий смысл? Не-
ужели Русь 1000 лет молилась, собственно, кощунственными молитвами,
не имея права на них?
— Мы послали в монастырь «на послушание», «в наказание» священ-
ника Григория Петрова, который писал: «Долой пьянство», «Зерна добра»,
— послали, собственно, за то, что это он от себя и именем Христовым гово-
рил, но без ссылок на св. отцов церкви, а вы говорите, что на них и не надо
ссылаться...
— И говорите это не в газете, не в брошюре в 30 страничек, а в небыва-
лой по величине двухтомной диссертации, где изложены результаты много-
летнего изучения греческих и латинских отцов церкви, в греческом и латин-
ском подлинниках, не говоря уже о русской богословской и современной
западно-ученой литературе.
Книга эта так учена и авторитетна, что оба оппонента, и в том числе арх.
Феофан, сами сознались, что за нее следовало бы дать не магистерскую сте-
пень, для соискания которой она представлена, а прямо докторскую, выс-
шую степень. Наконец, едва она успела появиться в печати, как о ней дан
был исключительно похвальный отзыв в западной католической литературе
ученым членом иезуитского ордена, хотя диссертация эта враждебна всему
тому, чему учит католичество. Но западный критик вынужден был признать,
что никогда еще в тему вопроса об аскетизме не вводилось столько и так
хорошо обдуманного ученого материала.
— Все это слишком смутительно. И, наконец, смущение доходит до скан-
дала, потому что книга эта защищается в цитадели православного богосло-
вия, в духовной академии, перед лицом архиереев, монахов...
— Неужели церковь — ложь? Страшно сказать даже с убавкою: неуже-
ли в церкви есть ложь?
Читатель закричит:
— Но неужели, в самом деле, 4 апреля в Петербургской духовной акаде-
мии были сказаны эти слова? Такие ужасные слова, что, кажется, легче было
бы, если бы земля затряслась под Петербургом!..
— Слов этих точно не было сказано, но мысли, эти самые мысли, имен-
но тонкими иглами и крепкими шелковыми нитями пронизали диспут. Все
было спасено тем, что говорили тихо, арх. Феофан до того тихо, что с обыч-
ных мест публики (т. е. очень близко к официальным столам, за которыми
сидели профессора и оппоненты) ничего не было слышно, и совершилось
небывалое явление: вся публика, покинув места свои, окружила вплотную
кресло Феофана, стала между ним и диспутантом (он на высокой кафедре) и
369
выслушала, стоя, в плотном кольце, подставля ладони к ушам, весь очень
долгий спор. Надо же было, чтобы этот спор, такой потрясающий по мысли,
прошел почти шепотом. Что-то символическое, что-то вещее...
Как будто история продохнула:
— Сегодня об этом шепчутся. Через 2—3 года будут кричать с крыш.
Сколько задавленных!
Один ли Зорин? А вдовые попы?.. Какая судьба, сколько горечи! Нет,
сколько блуда, за который и осудить нельзя. Вот уж слова молитвы: «И не
введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Жестоким, этим бесче-
ловечным законом о недозволительности второго брака для священников
тысяча служителей алтаря толкнуты «во искушение», кинуты «во власть
дьявола». И чем же? Кем? Страшно выговорить: теми самыми, которым и
была вверена эта молитва, с этими словами: «Отче наш... и не введи нас во
искушение, но избави нас от лукавого».
А детоубийство? Его не знают евреи и магометане. Оно только у хрис-
тиан. «Истинно, истинно говорю вам: кто не станет таким же, как это дитя,
— не внидет в царство небесное». Прекрасное дитя, но если ты родилось в
монастыре, — тебе свернут голову. Непременно свернут, иначе и посту-
пить нельзя. Никогда еще монастырь не принял дитя, свое монастырское
дитя, себе на руки. Евангельское: «Таковых есть царство небесное» — в
монастыре переделалось: «таковых есть могила», «убейте его», «оно —
позор нам».
В том ли, что украшает царство небесное, — позор? Совершилось, да!
Повеяли черные крепы. Надвинулись на глаза черные клобуки... Скучно,
мрачно, тревожно. Этот Феофан... он праведник в своем пути. Но каков путь-
то этот, путь-то этот, где идет?
По пути этому сколько слез, рыданий: он не хочет, этот Феофан; но он
— сила, авторитет, власть. Он дал законы, между прочим, и вдове, и свя-
щенникам, и монастырю. Что в том, что «он не хочет», какой в этом интерес
для него? Но интерес вырастает в мировой спор, в мировую тяжбу за слезы
и кровь, со слезами и кровью. И не отвертеться от нее Феофану, не убежать
в свою келейную квартиру.
О, что в том, что он «своими руками» ничего не делал. Как будто не
палач, работник-мужик вешает, тогда как прокуроры-судьи и проч, «ничего
грешного и жестокого не делают, а только обмакивают перо в чернильницу
и что-то пишут». Вот так и Феофаны, теперешний и из Тамбова, «только
что-то писали»... Но ведь «письмом»-то и «вводится лукавый», и «вводятся
во искушение»...
Христос, желая показать обаятельность новой веры, желая показать
людям святость учения Своего и Своего идеала, сказал:
— Вот дитя! Я учу, чтобы все стали такими же, как ваши дети... Что? А?
И все ответили:
— Воистину, это — Сын Божий. Он указал пример, какого не приходило
на ум ни Сократу, ни Конфуцию, ни Будде. Он взял дитя и сказал: «Вот!»
370
Как это разумнее, понятнее, убедительнее учения! Воистину, Сын Божий,
осанна Ему...
Протекли века. Писались книги. Много книг. Писалось, писалось боль-
ше Конфуция, длиннее Платона. Дитя все скрадывалось, малилось, уводи-
лось вдаль. Дитяти стало не видно. О нем не вспоминали, оно выпало из
книг. О «детях» ничего нет в святоотеческих творениях ни у Василия Ве-
ликого, ни у Иоанна Златоуста, ни у Григория Богослова, ни у Феофана там-
бовского, ни у Феофана петербургского.
Не вспоминали. И вдруг дитя, розовенькое, трехлетнее, вошло бы в ин-
спекторскую квартиру Феофана и, протягивая ручонки, сказало бы: «Папа!
Разве забыл? Христос учил обо мне, о нас, о царстве небесном. Пойдем туда,
к Нему, в Его царство».
Феофан принял бы это за «наваждение». За что-то «нечистое», «от лука-
вого». Он смог бы только ответить:
— Сгинь, нечистый! Ты дьявол, от дьявола! У меня нет детей, невоз-
можны. Если бы был реален этот ужас, что у него родилось дитя, — его надо
бы скрыть. Как и тебя, призрак ты или живой, надо и возможно только или
прогнать молитвою, или убить. Сгинь, пропади! «Да воскреснет Бог и рас-
точатся врази Его».
Ну, так кто же «враг»-то человеку?
Дитя?
Или монах?
Вот о чем шел поразительный диспут. В словах уклончивых и не дого-
варивая, но с совершенно ясною этою самою мыслью.
От этого так много чисто светских людей пришло на него. Пришел один
католический профессор-ксендз. Много было бывших членов религиозно-
философских собраний: Карташев, Тернавцев, Новоселов. И все, затаив
дыхание и наклонив ухо, слушали, слушали...
Я передам далее и самую нить спора.
II
Просмотрев 25 тезисов к диссертации г. Зорина «Об аскетизме», я не мог
мысленно не осудить автора за то, что он взял предметом разбора, так ска-
зать, маску монашества и церкви, — то придуманное, искусственное лицо,
какое она показывает людям и миру и при котором становится неуязвимой.
Он исследует:
1) Бесстрастие, apathia,
2) подавление и искоренение страстей душевных и телесных, psychika
kai somatika,
3) христианский гнозис, т. е. созерцательные состояния ума, погружен-
ного в видение небесных отношений,
4) смирение,
5) терпение,
371
6) молитва
и прочее и прочее. Между тем как для всякого, от ребенка до старика,
понятно, известно и непререкаемо, что аскетизм заключается в одном —
7) в безбрачии.
В одном в нем, и больше ни в чем. Все прочее — только «закуска» перед
обедом или приятные разговоры во время обеда и после него... Ну, «разгово-
ров» может быть много и закуски многочисленны, однако суть их в том, что
все оне имеют отношение к обеду, который съедается и насыщает и без
которого оне бы и не появились. Все эти apathia и «подавления страстей»
нужны были как предварение и подготовление к коренному решению: не
иметь детей, никогда не прилепиться к женщине. А когда все совершилось и
человек отрекся от «женщины», данной ему при сотворении Богом, то ведь
надо же чем-нибудь наполнить пустоту, образовавшуюся вследствие его от-
каза, и утешить, поддержать иллюзию, будто связь с Богом сохранена, не-
смотря на этот отказ от божеского предложения, выразившегося в сотворе-
нии Адаму помощницы-супруги. Двумя этими задачами: 1) наполнить пус-
тоту и 2) создать иллюзию — и проделывать все аскетические «подвиги»:
«упражнения», «экстаза», пост до изнеможения, молитва тоже до изнемо-
жения, «смиренномудрие» и «терпение», как прикрасы... скажу всю свою
мысль: богоотступничества, богоборства. Да, я буду кричать об этом, пока
монахи не объяснят, отчего, принимая постриг, они вслух не произносят:
1) Я, смиренный «имярек», отрекаюсь иметь детей и жену.
Или:
2) Я, смиренный Феофан, ныне даю зарок никогда не вступать в семью.
Страшно... Страшно выговорить это вслух и пред лицом людей, не за-
бывших, что семья дана человеку’ Богом как первый факт его жизни, как
первое условие его нормальной жизни. Монашество есть нечто ненормаль-
ное', это — покачнувшийся строй жизни, сдвиг с места всего устоя бытия.
Монахи, прежде чем сдвинуть плечом этот устой жизни, не только хорошо
«подготовляют» новичка, но и даже вовсе скрывают, что именно они дела-
ют. Они дают ему в уста:
1) Не отречение от семьи, а
2) Обет целомудрия!
Все спасено через это! Другое ш/я, — и богоборство скрыто! Ну, кто же
не хочет быть «целомудренным»! Кто это осудит? Кто этого не похвалит?
«Целомудренны» были Товия и Сарра в Ветхом Завете, Исаак: это доброде-
тель, равно украшающая Ветхий Завет и Новый. Послушайте, добрые чи-
татели: да разве мы, женатые, семейные, детные и даже многодетные люди,
уже почитаем себя нецеломудренными, развращенными, растленными? Кто
вступил бы в брак, кто выдавал бы дочерей своих в замужество, женил бы
своих чистых сыновей, юношей, если бы кто-нибудь думал, что это есть
развращающие, развратные состояния, что через это он растлевает, нару-
шает целомудрие детей своих? Добрый читатель, если вы семьянин, да не-
ужели ваша жена менее «целомудренна», чем дочь-девушка, менее скромна,
372
воздержанна, умеренна, молитвенна, трудолюбива, боголюбива, человеко-
любива и, наконец, менее телесно-чиста, — я на этом настаиваю, — менее
плотски чиста, чем эта же дочь-девушка и ее подруги девушки? Более: все
общество рухнуло бы, народ не мог бы стоять, человечество сгибло бы, сгни-
ло и развалилось в сто лет, если бы божественный институт брака, богоуч-
режденная (в Адаме и Еве) семья сколько-нибудь развращали людей, нару-
шали целомудренный строй их души и тела, если бы наши милые и прекрас-
ные бабушки, окруженные внуками и внучатами, не сияли среди них, сами с
белыми седыми волосами, такою же телесною и духовною чистотою, как
они, эти их внуки, со своими детскими, белыми же, волосами. Все бы разва-
лилось, не будь этой тайны абсолютной чистоты брака. Тогда родители были
бы «погрязнее» своих детей; к серебряной свадьбе они были «прощалыги»,
а к золотой свадьбе — уже и совсем хулиганы, телесно-духовные хулиганы,
которых и в комнаты впустить скверно, гнусно. Помилуйте, 25 лет «осквер-
нения», 40 лет «осквернения»... Скорей же падай, маска, с монашества:
1) ты лжешь,
2) ты клевещешь.
Монашество, все монахи, каждый лжет в самом обете своем, в эту та-
инственную, святую минуту пострига, долженствовавшую бы быть святою,
и говорит неправду.
— Давай обет целомудрия, но подразумевай под ним неженитьбу.
Иезуитское reservatio mentalis1... Иезуиты, когда поставлены в необхо-
димость солгать, устраиваются «с думой своей» так: умственно, молча встав-
ляют, напр., «не», или другую краткую частицу, или целое добавочное слово
к произносимой вслух фразе, которая от них требуется или с помощью кото-
рой они обманывают. Напр., у них спрашивают и они обещают:
1) я буду верен королю и законам.
Или:
2) Я буду предан государственному строю и конституции.
Но, вставляя мысленно, внутренно «не», иезуит произносит пред лицом
Бога, который слышит внутренное и внешнее:
3) Я не буду верен королю.
4) Я не буду предан государственному строю.
И так как клятва связывает пред Богом, а не пред людьми, то иезуиты и
считали себя правыми, не сохраняя никакой «верности» и «преданности»
законам и королям, хотя и «клялись» (вслух) об этом.
Такое reservatio mentalis, осмеянное всеми православными богослова-
ми, Юрием Самариным, Хомяковым, всеми, и осужденное ими как величай-
шая безнравственность, ибо она касается внутреннего состояния души, вво-
дит ложь в самые помыслы ее, — у нас оно есть правило монашества, на
нем держится весь строй церкви. Ибо суть церкви — монашество, а суть
монашества — это reservatio mentalis.
1 мысленная оговорка (лат.).
373
Отрекись вслух, официально сгт брака, — и будешь выговорен. Отрекись
с этим, очевидно, гневным, враждебным, презрительным: «Я даю зарок не....»,
«Я даю обещание никогда не...» Ясно, что тут — вражда! Не просто отошел
в сторону, в какое-то безразличие или равнодушие, а отошел как недруг, роп-
ща в сердце, негодуя... На кого? На Бога — слишком явно! На Библию, на
план творения человека, на всех этих Товиев, Товитов, Исааков, Иаковов, на
всю, всю сплошь Библию, проникнутую святым чувством деторождения, где,
как и нам, никогда на ум не приходило, чтобы чадорождением осквернялись
родители. Наконец, что особенно явно, по богохульному смыслу, — в этот
миг своего пострига будущий монах похуляет и родителей своих, похуляет и
самое свое рождение. Пессимизм неслыханный: куда перед ним Шопенга-
уэру и Ницше, ибо они только философствовали, писали книги, а тут — в
самом деле, тут — религия!
Ну и говорили бы вслух:
— Кляну родителей своих.
— Кляну рождение свое.
— Кляну всех рождающихся и рождающих. Всю тварь. Всякую тварь.
А? Страшно? Выговорить страшно, а сделать — не страшно, вот суть
монашества. Суть его в том, что как дело, как этот его отвратительный под-
виг оно имеет ужасный смысл отречения от Бога, возмущения против Него,
растаптывания ногами всей чадородной и чадолюбивой Библии, издеватель-
ства над мыслью Божией. Ну, а выслушать «обеты» — ничего, все скрыто.
— Даю обет целомудрия!
Лжецы и клеветники: вы не только в этот миг отрекаетесь от Бога, отре-
каетесь тайно, разумея под «целомудрием» вечное до могилы безбрачие, но
и изрекаете злое слово, уже прямо враждебное, против семейств, семьяни-
нов, против заповеди Божией.
— Семейные — не целомудренны.
— Семья — не целомудренное состояние.
— Сотворив жену Адаму, Бог соблазнил его и толкнул в грех. Бог грешен.
Вот мысль монашества! Иначе, приняв постриг, монах ведь мог бы, по-
вернувшись, на другой день обвенчаться. Он сказал бы:
— Я дал обет целомудрия, но семья его не нарушает. Я делаюсь семья-
нином.
— Церковь же учит, что брак «свят», — я и вступаю в это «святое состо-
яние». Пустите меня, не мешайте мне, не осуждайте меня.
Но выступает reservatio mentalis: все знают, и постригаемый монах, и
постригающий его архиерей, и все присутствующие и зрители, что под «це-
ломудрием» разумеется мертвое скопчество, вот это самое «искоренение
страстей», т. е. борьба, вражда против всей совокупности телесных сил и
душевных предрасположений, какими сопровождается и обусловлено дето-
рождение. Скопец — мертвец. Мертвец «заживо».. То-то у Феофана, фана-
тического приверженца монашества, и был (как все могли заметить на дис-
путе) тот мертвенный вид, потухшее, бесстрастное, могильное лицо, как
374
ни у одного из присутствующих на диспуте. Это все видели, все могли рас-
смотреть. Да и что Феофан: в эпоху Никона чем возмущалось «старое пра-
вославие», потом сплотившееся и отделившееся в «староверие»:
— Вы пишете иконы по живству, как с живых людей, придавая им живое
жизненное выражение. Это — грех', так не было в старину, у греков и у нас,
«не было николи»...
Действительно, осмотрите вся старую, настоящую, подлинную, не по-
новленную и реформацированную, церковную живопись, — вы увидите, что
она вся мертвая, с потухшими глазами, со щеками, «как у трехдневного
Лазаря», пробывшего в гробу и в смерти три дня.
— Не смейте воскресать! Нехорошо, грех!
— Не смейте жить! Не имейте вида живого, живущего!
— Будьте как трупы, гробы!
Вот! Это — родник и всего населъного христианства', родник его в этой
монашеской «apathia», «апатии», «бесстрастии»... «Корни»-то страстей надо
вырвать, выкопать из человека, чтобы «земля» его была пустынна и бес-
плодна. Бог сказал Адаму: «Ты — земля, и в землю отыдеши». Да, земля, но
она и рождает, «кормилица». Ева наречена именем «жизни». Ева — значит:
«жизнь». Бог дал жизнь земле, сотворил живую землю. Но монашество по-
требовало мертвой земли. Бог дал Адаму Еву, соединив «землю и жизнь», а
монашество их разделило, разделив Адама и Еву. Неужели не явен сдвиг
всего дела Божия? Кто этого не слышит, — уже ничего не услышит; кто
этого не понимает, — никогда и ничего не поймет.
Феофан и выронил маску монашества. Оставив совершенно в стороне
весь уклончивый и осторожный смысл диссертации, разбирающейся в «за-
кусках», «десертах» и «разговорах» аскетизма, он повел речь прямо, как и
обязан делать каждый честный монах, искренний исповедник своего состо-
яния, — о безбрачии. Монашество — просто и только безбрачие, — «с при-
сказками». Он заговорил:
— Рассуждать об аскетизме — значит рассуждать о всей церкви. Ее об-
ряды, таинства, догматы, молитвы, весь ее строй, весь ее дух приноровлены
к аскетизму или вытекают из аскетизма. Она вся, все ее подробности окра-
шены аскетизмом. Мет святого не аскета. Никто не вошел в сонм церковных
«учителей», т. е. не был признан церковью за «наставника», «руководите-
ля», кто не был в то же время и наставником, руководителем в аскетической
жизни. Итак, диссертация наша, хотя названа «Об аскетизме», на самом деле
трактует о всем православии...
Тонкая игла диспута была подведена к вопросу о вере. Но мягкий, крот-
кий оппонент, с его потухшими, но страшно умными глазами, не спросил г.
Зорина:
— Вы написали диссертацию о православии. Принесли ее в православ-
ную духовную академию. Но православный ли вы?.. И веруете ли вы в ту
церковь, от имени которой будете, или готовитесь, или претендуете просве-
щать юношество?.. Ваше credo? Ваше исповедание?..
375
Он так не сказал, а иначе:
_____дЛя меня не ясно ни из книги вашей, ни из введения к ней, где я
ожидал найти разъяснение ее темы, как вы относитесь к учителям церкви и
отцам церкви? Вы говорите, например, о влиянии на греческих отцов церк-
ви платонизма; о том, что идеи Платона, этического греческого философа
(это я подчеркиваю, чтобы игла диспута побольше высунулась), отразились
на христианской аскетике, ибо уже у Платона мы встречаем или, точнее, вы
встречаете основные аскетические тенденции — о противоположении зем-
ного небесному, о презрении к этому земному, об укрощении плотских стра-
стей, о небесном мире, о загробной жизни. Для меня не ясно: являются ли
отцы церкви зависимыми учениками Платона, литературно и философски
подчинившимися древнему философу, или это только обмолвка, неосторож-
ные выражения, и отцы церкви для вас есть и всегда были то же, что для нас,
— православными святыми, говорившими и писавшими по устроению их
мысли Богом...
Я не умею сказать так серьезно, как он: этими мертвенными устами эти
большие, тяжеловесные слова.
— Сии святые умерли при жизни и сияют после смерти. Жили во гробе,
и теперь на небе; «умерщвляли» себя для вечной жизни. Скажите, для вас
они и их «творения»... это литературные памятники? Со следами влияния,
заимствования и подражания? Компиляции, перемежающиеся со страница-
ми живого вдохновения, как, впрочем, и у всякого живого таланта?
— Вы «по-живому» судите («живство» иконописи у старообрядцев) и
«святых» церкви трактуете как бы «живых» творцов-писателей, вот с этими
чертами «живо»-писания, не современного, конечно, но совершенно такого
же, как у наших современников.
Зорин чувствовал, что вопрос идет об его исповедании... Он ежился, пе-
реступался, говорил полусловами, полуфразами, останавливаясь, прерывая
речь всякую минуту:
— Я думаю... Конечно, я могу ошибаться... Да, я не отвергаю, что на
отцов церкви могли иметь влияние... Ну, я позволяю даже думать, что дей-
ствительно имели влияние авторитетные философы их времени, как Платон,
Плотин, Порфирий... Т. е. мне казалось, что это правдоподобно, и я позво-
лил себе в своей книге приложить сюда тот сравнительно-исторический
метод, который наука вообще применяет при исследовании литературных
переживаний... то бишь святоотеческих мыслей... Я имел перед собою
объект... И как работал научную работу, то и приложил... т. е. не мог не
приложить... позволил себе приложить к научному объекту научный метод...
— Но ведь лампады?
Это и падало громом в диспут. Перед «литературными переживаниями»
лампад не зажигают.
Мне захотелось закричать с места:
_____Дао чем вы спорите? Вы оба знаете, пученый Феофан знает не менее
Зорина, что если, напр., открыть в «творениях» св. Кирилла Александрийс-
376
кого рассуждение: «О поклонении и служении в духе и истине», то первые
строки этого рассуждения-диалога (как и у Платона греческого все изложе-
но в диалогах)'.
Кирилл. — Спрашивать, куда и откуда, считаю излишним, потому что
хорошо знаю, что ты, нимало не медля, сказал бы, что из дому и к нам.
Палладий. — Правда.
Кирилл. — А что это за книжица у тебя в руках?
Палладий. — Книга евангельская, писание Матфея и Иоанна.
Кирилл. — Но разве ты думаешь, что ее надобно носить везде и всякому.
Ведь, вышедши из дому, на дороге ты не станешь изучать ее, Палладий. За-
нятия эти более приятны дома и на досуге.
Палладий. — Хорошо говоришь. Но я пришел побеседовать с тобою...
Все это буквально, даже в манере изложения, — повторяет диалог Пла-
тона «Федр»: та же встреча юноши и мужа, то же свиток, который в «Федре»
юноша прячет под плащом, и весь тон беседы, все, все — платоновское...
Если св. Кирилл Александрийский был так увлечен Платоном, что даже в
манере и приемах копировал его диалоги, то что же скажем обо всем этом
знаменитом платоновском идеализме, что скажем касательно его учения о
сверхчувственном мире, о грехе падших душ, о том, что всякая душа на зем-
ле борется и раздирается между порывами к небесному и тяготением долу,
вниз, к грубому и чувственному. Неужели на Кирилла, который при жизни
отнюдь не считал себя святым, а видел в себе просто образованного челове-
ка, могли остаться без действия эти взгляды Платона, взгляды доказанные и
разъясненные. Неужели, бессильный перед образцами риторики у Платона,
Кирилл устоял перед его метафизикою, которая была так возвышенна, иде-
альна и «духовна», что обольстила, очаровала и покорила греков, римлян,
иудеев (Филон Александрийский), арабов, целую Западную Европу, средне-
вековый и наш новый мир? Да вот, видите ли, все были побеждены, а устоял
один Кирилл Александрийский, и для того, видите ли, устоял, чтобы не по-
мешать в Москве и Петербурге зажечь перед «иконами» своими лампадки с
деревянным маслом. Но тогда бы уже и в изложении писать бы ему все «по
образцам евангелистов», а не «по образцам Платона», деля трактаты на гла-
вы, а главы на «стихи», по 3 — 4 строки в стихе.
Для чего же чистосердечный Феофан притворялся, что он этого не знает?
Сказанное о Кирилле приложимо и к другим. Все компилировали. Все
копировали. Удачно, неудачно, хуже, лучше. Ведь св. Дух «лучше» и «хуже»
не знает. У св. Духа все — «лучше». Священные книги, Священное Писание
— везде равно, все сплошь равно. Никто не скажет, что в Библии одна поло-
вина лучше, другая — хуже. Но о творениях отцов церкви все повторяют,
что они «лучше», «сильнее», «слабее», «обыкновеннее». Значит, — не св.
Дух, значит, — обыкновенное. Наше, «живое», «по живству» написанное,
как говорят старообрядцы, или «литературные переживания», как усвоила
этот термин наука.
377
«КЛАССОВАЯ БОРЬБА» В Г. ДУМЕ
Государственная Дума несет на себе последствия своего происхождения,
«грехи вольные и невольные», как говорят у нас в народе. Этих «невольных
грехов» происхождения невозможно избежать, хотя и можно утешиться, что
всего ярче их действие сказывается в первую пору какого-нибудь институ-
та, а затем они слабеют. Однако пройдут годы, хотя бы и немногие, пока
новорожденный политический институт отделится окончательно от своей
пуповины. Такова связь нашей Г. Думы в том, что касается ее законодатель-
ных функций, с большой октябрьской забастовкой 1905 года и вообще с
рабочим классовым движением. Этот классовый характер, а не государствен-
ный характер носит и Дума, и именно это подкашивает ее значение как госу-
дарственного учреждения, отнимает здоровое и многообъемлющее направ-
ление у ее трудов. Бог знает, в который раз приходится повторять, что кон-
ституция пришла к нам слишком поздно, пришла в самый неблагоприятный
момент. Будь она дарована в первую треть царствования Александра III, ког-
да революционные силы были разгромлены у нас и за границею, когда насе-
ление было совершенно спокойно и престиж правительства стоял на недо-
сягаемой высоте внутри страны и в Западной Европе, и мы не только теперь
пожинали бы уже плоды свободы, но, наверное, избегли бы и злоключений
японской войны. Недалекость политических горизонтов Каткова, гр. Дм.
Толстого и Победоносцева ярко определилась в той слепой ненависти, с ка-
кою они отнеслись к мысли о конституции. Не будь тогда советов этих муд-
рецов, Россия не переживала бы теперешних ужасов, несчастий, настроений и
безобразий. Победоносцев, умирая, «болел за Россию», по словам письма
его вдовы, но Россия и не была бы так больна, если бы четверть века назад
она не «переболела» Победоносцева. Вот о чем следовало бы догадаться,
хоть умирая, знаменитому государственному человеку.
«Классовая борьба», острая, злобная, слепая, но самое главное — ме-
лочная и во всяком случае частичная в составе общей государственной сис-
темы, борьба, наконец, безыдейная, ибо это есть борьба желудков, выгод,
интересов одного класса, столкнувшегося с другим, — все это отразилось
несчастнейшим образом на нашем парламенте, который решительно не мо-
жет и не умеет подняться в сферу высшего идеализма. Первая пора парла-
ментаризма — самая золотая его пора. Это его юность, когда он запасается
идеализмом на всю последующую историческую жизнь. Так, пуритане вне-
сли высокое нравственное одушевление в английский парламент, став родо-
начальниками партии вигов. Эти виги на протяжении двух веков дали Анг-
лии величайшие реформы, и в то же время самим реформам они сообщили в
высшей степени здоровый, созидательный, а отнюдь не расшатывающий
смысл. У нас, в России, несчастнейшим образом самое понятие «реформы»
неразлучно слилось с понятием «расшатывания», большею частью — «рас-
шатывания» государственности, но не ее одной, а также и расшатывания
нравственности, семьи, нравов, быта. «Реформировать» — это у нас значит
378
«расшатывать»; хотя почему? Настоящий смысл реформы есть укрепление,
обновление, починка. Колебание «основ» давно стало насмешкою в устах
всероссийских Скалозубов: между тем, конечно, что же может быть ужас-
нее и преступнее «колебания основ»? И когда-то мы отбудем эту нелепость
и анархию нашего расстроенного духа. Может быть, для этого придется Рос-
сии хоть на несколько исторических минут попасть в руки форменных су-
масшедших. Подобные случаи бывали в истории. Ученый Лаборд в книге
«Les hommes et les actes d’insurrection de Paris, devant la psychologic morbide»
(вышла в 1872 г.) указывает, объясняет и доказывает, что в составе времен-
ного правительства коммунаров очутились несколько зарегистрированных
сумасшедших, страдавших разными формами мании, «государственные
акты» которых совершенно совпадали с обычными отметками «скорбных
листков» психиатрических лечебниц.
Чисто «наследственное происхождение» имеет тот привилегированный
вид и привилегированный гонор, с каким, подняв носы кверху, явились в
первый и второй русский парламент господа «левые», все эти социал-де-
мократы, социалисты-революционеры и народные социалисты, которых всех
очень удобно можно соединить в одну рубрику социал-сумасбродов. Кажет-
ся, имя это уже и попадалось в печати. Все эти социал-баре понятия не име-
ют о государственности, да и отвергают ее с простодушием травоядных и
плотоядных, которые отвертываются от вареного и жареного. Государствен-
ность — слишком искусственна для представителей классовых интересов.
Вот почему в парламенте нашем «левые» являются камнем, который тянет
все дело ко дну. Разумеем и парламентаризм вообще, и порознь каждое дело,
всякий вопрос в Г. Думе. Они чутки к интересам одного только класса, толь-
ко волнуются, когда дело зайдет о каких-нибудь непорядках в политической
тюрьме. Армия, флот, бюджет — все для них только поводы «задрать прави-
тельство», вставить ему шпильку. Что-нибудь сделать для бюджета, армии
или флота, вообще что-нибудь сделать для России, для государства Русского
— этого им даже на ум не приходит. А между тем ведь парламент всерос-
сийский...
До чего ярко это сказалось в отношении к рабочему движению в Баку!
Есть разные виды технической промышленности: более или менее обособ-
ленные и, так сказать, замкнутые в себе и другие — питающие и связанные
со всем промышленным курсом страны. Совершенно очевидно, что позво-
лительное в одной технике совершенно недопустимо в другой. Если рабо-
чие одного железоделательного завода или одной ситцевой фабрики остано-
вят его, то они ведут «классовую борьбу» за свой счет и за счет фабриканта,
и государство не имеет резона вмешиваться сюда. Но положение изменяет-
ся, когда, напр., дело касается нефти, которая на всю Россию берется из од-
ного района, и эта нефть служит топливом для бесчисленных пароходов,
локомотивов и фабрик на всем пространстве России. Ясно, что здесь рабо-
чие ведут борьбу уже не «за свой счет и счет фабриканта», а за счет целой
России, представителем, охранителем и защитником прав, выгод и удобств
379
которой является центральное всероссийское правительство. Здесь его мол-
чание или бездеятельность были бы преступны. Оно здесь не имеет права
сложить руки и предоставить «laissez faire, laissez passer»... Формула эта,
позорная формула буржуазного направления политической экономии, в дан-
ном случае, в применении к Баку, требуется нашими «социал-сумасброда-
ми». Но правительство должно ответить на него энергичным «нет!». Уже
если когда, то именно теперь ему представляется прекрасный случай про-
честь лекцию «общегосударственного права» перед представителями клас-
сового интереса, почти даже только профессионального интереса. Дело в
том, что всякий депутат имеет две точки отправления: исходную и конеч-
ную. Одна лежит в том избирательном пункте, которым он послан в Думу,
другая лежит в самой Думе. Первая определяет, почему он депутат; вторая
определяет, для чего он депутат. Какие бы «наказы» ни давали выборщики
депутату, они для него не весьма обязательны: выборщики выбрали способ-
ного человека, ум, талант, дар речи и строй убеждений, но без конкретного
определения последнего. Во всяком случае они послали депутатов в Думу
не лапти плести по той простой причине, что в этом Дума не нуждается.
Равно Дума может вовсе не нуждаться в некоторых наивных наказах, какие
давались и даны в этот год депутату. Дума нуждается в некоторой своей ра-
боте, и эта работа есть государственная, обм/егосударственная и отнюдь не
классовая. Дума, явившаяся выразительницею какого-нибудь сословия, напр.
дворянского, была бы сочтена тираническою; на нее смотрели бы как на
деспота, и от ее решений и от нее самой Россия постаралась бы как можно
скорее избавиться. Так было бы с Думою, пропитанной дворянским духом
или явившейся защитницею узких купеческих интересов, или с Думою, напр.,
клерикальною. Она бы не была принята Россиею как «своя», всероссийская.
Вот каждому депутату и следует помнить, что он находится во всероссий-
ском месте, на всероссийском посту, а не заседает в каком-то профессиональ-
но-рабочем жюри. Ему следует помнить, а министрам выпало время напом-
нить, что Дума только под тем условием будет признана страною, принята
нс в юридическом, а в моральном смысле, если она не спустится до уровня
классовых счетов, а будет простирать свой защищающий щит на весь народ
русский, не различая в нем классов, сословий, званий. Как была бы против-
на и ненавистна России дворянская Дума или клерикальная Дума, хотя бы
самая законная, выбранная на точном основании закона (ведь избиратель-
ный закон мог бы быть всякий), так точно и непременно если не сейчас, то в
ближайшем времени Дума рискует сделаться несносною для России, если
она явится рабоче-ремесленною Думою, «простолюдинскою» и проч. «Как
бы не переборщить», — говорят у нас в народе со своим «классовым инте-
ресом». Дума тоже может «переборщить», и как бы ей не нанести рабочим
воед вместо пользы. Всякая вещь должна иметь свою меру: и притязание
рабочих, руководимых «социалами», чтобы государство занималось только
ши и всецело ими, может повести к печальному и неожиданному результа-
- что со всех сторон подымутся крики: «Ступайте на свое место!» «Знайте
380
свое место!» Их пока любят, уважают, жалеют; но вожди их все усилия при-
лагают к тому, чтобы превратить их в какую-то всероссийскую «горькую
редьку». Пусть опомнятся.
НАСТОЯЩЕЕ СЛОВО
Сегодня едва ли не впервые с думской трибуны сказано по аграрному воп-
росу то слово, с которого следовало бы начать обсуждение этого вопроса.
Слово это сказано робко, с оговорками, с расшаркиваниями по адресу авто-
ров радикальных аграрных проектов, но все-таки сказано достаточно вразу-
мительно. Разумеем речь г. Капустина, который объяснил, что аграрный воп-
рос есть лишь часть другого вопроса, более общего и неизмеримо более важ-
ного, именно вопроса крестьянского, и что вне связи с этим последним воп-
росом земельная реформа сама по себе отнюдь не может считаться панацеей
против нынешней экономической слабости и захудалости крестьянства.
К сожалению, г. Капустин недостаточно осветил ту мысль, которая в
настоящем случае имеет кардинальное значение. Он только бросил эту мысль,
что одна прибавка земли не разрешает всего вопроса, если другие условия
экономической жизни крестьян останутся без коренных улучшений. Меж-
ду тем в этой бесспорной истине вся оценка тех легкомысленных проектов,
с которыми выступили левые партии, не исключая кадетов, и эта истина
может быть доказана собственным опытом, который у всех перед глазами и
о котором двух мнений быть не может.
В самом деле: как справедливо указал г. Капустин, если бы все земли
частного владения в Европейской России были обращены на дополнитель-
ное наделение крестьян, то эта прибавка к существующим наделам состави-
ла бы весьма незначительную величину по расчету на душу населения. В
подтверждение этой мысли мы можем сослаться на работу гг. Кутлера и А.
Кауфмана в объяснительной записке к их проекту принудительного отчуж-
дения, составленному в бытность их — первого — главноуправляющим зем-
леустройством и земледелием, а второго — членом ученого комитета в глав-
ном управлении землеустройства и земледелия. Сделанные ими погубернс-
кие расчеты показали, что в случае обращения всей частновладельческой
земли в надел крестьянам размер душевого надела во многих губерниях ока-
зался бы все-таки ниже того указного надела, который был принят при вы-
ходе крестьян из крепостного состояния. При осуществлении крестьянской
реформы 19 февраля 1861 г. огромное большинство бывших крепостных
крестьян получили наделы по этой указной норме, т. е. для многих губерний
в большем даже размере, чем можно теперь выкроить с прирезкой крестья-
нам всей частновладельческой земли. И если бы такой размер наделов обла-
дал сам по себе, помимо прочих условий, чудодейственной силой дать кре-
стьянам благосостояние, обеспечить им экономическое и всякое другое пре-
успеяние, то каким образом могло бы случиться, что в настоящее время,
381
спустя почти полвека после крестьянской реформы, мы не только не видим
крестьянского благосостояния и процветания, а, напротив, видим ужасаю-
щую картину скудости, экономической слабости, доходящей местами до
нищеты со всеми ее последствиями, о которых так красноречиво говорят
ныне с думской трибуны? Очевидно же, что дело не в одном том, составляет
ли крестьянский надел 3—4 десятины на душу, как было в большинстве
губерний в момент объявления воли и как в большинстве губерний не может
более быть даже при разделе крестьянам всей частновладельческой земли,
или же этот надел составляет 2—2/г и менее десятин. Это очевидно не толь-
ко из того, что крестьяне после воли стали оскудевать и беднеть; это еще
более очевидно из того, что и в настоящее время мы не видим крестьянского
благосостояния и преуспеяния в тех местностях, где наделы, как, напр., у
бывших государственных крестьян, и ныне по размеру не меньше указных
наделов 1861 года. Как мы уже не раз указывали, наша действительность
представляет немало и таких фактов, что на меньших наделах крестьяне
меньше знают горя и нужды, чем на больших. Например, в Киевской губ.,
где душевой надел в среднем не выше Р/г дес., крестьянское население в
общем живет лучше, чем в Самарской губ., где средний душевой надел и
теперь не меньше 41/г дес. и где тем не менее неурожаи и голодовки являют-
ся хроническим явлением.
Откуда же эта уверенность, что, стоит передать крестьянам частновла-
дельческие земли, которые далеко не везде могут довести размер душевого
надела до указной нормы 1861 года, и крестьянство будет поставлено на
ноги, излечится от экономической слабости и станет преуспевать? Если пол-
века назад наше крестьянство с указным наделом быстро покатилось под
гору, так что уже в 70-х годах, т. е. всего через 10 лет, возник тревожный
вопрос о причинах крестьянского оскудения, — где же ручательство, что
теперь прирезка дополнительных наделов поставит крестьянство на путь
благосостояния, если прочие условия экономической жизни крестьян оста-
нутся in statu quo?
Очевидно, такого ручательства нет и быть не может.
Эту именно мысль и выставил г. Капустин, указавший, что кроме до-
полнительного наделения малоземельных и безземельных, всеми призна-
ваемого неотложной государственной задачей, необходимо и еще многое, в
особенности необходимо распространение серьезного образования в крес-
тьянской среде, могущего дать нужные земледельцу знания, необходимо
поднятие культурности крестьянской среды, необходима правильная орга-
низация земледельческой промышленности в соответствии с условиями и
требованиями рынка, необходима и соответственная торговая организация,
которая обеспечивала бы земледельцу надежный сбыт его произведений.
Необходимо, далее, всемерное содействие (кредитом, профессиональными
школами, торговой политикой) развитию в крестьянской среде всякого рода
промыслов и ремесленности, так как никакое увеличение наделов не вос-
полнит той пустоты, которая является необходимой принадлежностью ны-
382
нешнего крестьянского хозяйства, обрекающего десятки миллионов рабо-
чего населения на полную праздность в течение 7—9 месяцев в году, что по
самой дешевой расценке незанятых рабочих рук составляет ежегодно поте-
рю не менее полумиллиарда рублей. Наконец, прибавим, если не самое глав-
ное, то одно из главнейших условий восстановления экономической силы
крестьянства и всей страны — это подъем нравственных сил его, той внут-
ренней энергии, которая двигает горами. А для этого надо как можно ско-
рее выбросить из крестьянского быта весь тот законодательный хлам, кото-
рым опутывалась его жизнь и деятельность в истекшее полустолетие, в виде
особых гражданских и уголовных законов, особых учреждений, админист-
ративных и судебных, в виде всесторонней опеки над всем обиходом крес-
тьянской жизни. Надо поспешить этими мерами, чтобы крестьянин почув-
ствовал себя действительно свободным и правомочным гражданином род-
ной земли. Не надо забывать, что не о хлебе едином жив человек. Мы все
сделали, чтобы угасить дух в крестьянстве. Надо поднять его дух — и он
лучше нас сумеет найти пути к своему благополучию, не ломая жизни, не
покушаясь на благополучие других.
БЕЗРАБОТНАЯ УЧЕБНАЯ РЕСПУБЛИКА
Не знаем, причисляет себя «Товарищ» к безработным или трудовикам, —
оба имени равно почтенны, — но в отношении учащегося юношества он
придерживается безработных лозунгов. И сам печатает и собирает из газет
ту мелко-шумную агитацию против переходных экзаменов в гимназиях, вво-
димых министерством, какую подняли родительские кружки и очень милые
педагогические советы. Оговоримся. Кто близко знаком с газетным миром,
не может не знать, что «письма в редакцию» по поводу какой-нибудь новой
меры свидетельствуют о движении против нее лишь в том случае, если они
появляются в чрезвычайном обилии, и притом начинают появляться в газе-
тах, не начавших уже ранее их собственную агитацию против той же меры.
Бобчинских много, Добчинских еще больше: и все таковые «пишут в редак-
цию» просто, чтобы прочли их имя, чтобы в Петербурге и в Москве знали,
что вот в Ярославле или в Костроме живет такой-то Иван Иванович и имеет
такие-то мнения. Писем же от родительских кружков и педагогических со-
ветов о новой мере Мин. нар. просвещения появляется так мало, что самая
простая арифметика непререкаемо убеждает, что громаднейшее число и ро-
дителей, и педагогических советов стоит на стороне новой меры. И не мо-
жет не быть разницы во взглядах на этот предмет «Товарища» и родителей
или педагогов. Ибо «Товарищ» в неучащихся гимназистах имеет лишних
несколько сот читателей и сочувственников, а родители и педагоги несут на
ученье русских мальчиков и девочек свой труд натурою. «Товарищ» мог бы
сообразить, что же именно обещает семье новая отмена экзаменов, чего он
всеми силами добивается, — или что давало старое отсутствие экзаменаци-
383
онного контроля? Слоняющихся девиц и юношей, шалящих и шумящих дома
мальчиков и девочек; а для педагогов — возня в последующие годы и в стар-
ших классах с учениками, вовсе не учившимися в младших классах.
Вдумаемся только в последнее обстоятельство, и мы поймем всю тя-
гость прежнего состояния безработной учебной республики, — жестокость
именно в отношении детей. Ни «Товарищ» и никто, конечно, не рассчитыва-
ет, что это безработное положение учебного мира продлится вечно и даже
что оно продлится очень долго. Ученья нет, ученики и ученицы вне контро-
ля, но ведь формальная процедура не останавливается, и ничего решитель-
но не знающие ученики и ученицы переходят в следующие классы. Река не
останавливается, — река мертвых, пустых вод. Все Министерство народи,
просвещения сплошь превратилось или стало напоминать собою самую за-
худалую и недобросовестную и невежественную гимназию где-нибудь в за-
холустье, в Сибири или на Кавказе. Но вот приезжает строгий ревизор или
назначается в эту захолустную гимназию свежий, образованный и, весьма
понятно, строгий директор. Это, — в смысле сравнения, — отвечает недале-
ким будущим временам, когда прекращено же будет «посещение» гимназий
и потребуется «учение» в гимназии. Каков будет результат этого именно для
учеников? Страна как будто вздохнет, некоторые родители — тоже, но ведь
это оздоровление школы, имеющее непременно наступить, скажется стона-
ми боли, страдания, изломанной судьбы для множества учеников, вот имен-
но тех, которые «без экзаменов» и вообще «без занятий» в годы смуты, в эти
два, три, четыре года, очутились, положим, в VII классе, не зная не только
основательно, но и почти вовсе не зная курса VI, V или которого-нибудь
класса, прохождение которого совпало с особенно большими смутами в стра-
не или в гимназии. Из редакции газеты этого не видно, но родители учени-
ков и сами педагоги отлично знают, что ничего нет ужаснее для гимназии,
как хотя бы временное распущенное состояние при слабом директоре или
слабом, излишне мягком составе учителей. Ибо никакой директор, никакой
состав учителей не вечен, а преемники их непременно предъявят не только
нормальные требования, но — по закону реакции и некоторому всеобщему
недружелюбию преемников к предшественникам — предъявляют требова-
ния повышенные и неумолимо строгие. Так всегда бывает везде. Но педаго-
гический мир тем особенно несчастен, что в нем эта гроза решительно ни на
кого не падает, — ни на умершего уже директора или ушедших учителей, ни
на самих родителей, — а единственно только на учеников, попадающих «как
курица во щи». Самые наивные люди не могут же предполагать, что экзаме-
на так-таки нигде и не будет. Не будет переходных экзаменов, — останется
выпускной, тем более тяжелый, строгий и обременительный, чем более ого-
лено было от экзаменов все предшествующее учебное время. Отменят вы-
пускной экзамен, — тогда высшая школа вынуждена будет устроить у себя
приемные экзамены, и их уже будут производить не свои учителя, знающие
ученика и, возможно, к нему снисходительные, а чужие и не имеющие ника-
кого повода к снисхождению. Наконец, если бы и средняя и высшая школа
384
отказались вовсе от системы экзаменов, являя собой какие-то коридоры и
дворы для гулянья, то всем питомцам таких нелепых и бессовестных школ
предъявили бы жесточайший экзамен те практические профессии и руково-
дители практических профессий, где захотят работать молодые невежды.
Экзамен будет, непременно он будет где-нибудь. И чем грубее и наглее вы
выносите его из одного места, тем беспощаднее и неумолимее он встретит
вас в другом месте. Избежите собаки, напоритесь на волка; скрылись от вол-
ка, съест медведь. Чтобы не быть съеденным, надо быть вооруженным. Во-
оружение для ученика, для юноши — это знания, при которых экзамены
есть ничто или удовольствие, есть только засвидетельствование этих зна-
ний от других людей и награда за них. И, конечно, вопрос теперь повелся
вовсе не об экзаменах, не о том, что за столик с зеленою скатертью сядут 2—3
учителя и начнут спрашивать, а о том и из-за того, что стоящему перед ними
ученику нечего будет отвечать.
Он не учился, а как бы учился. Вдруг обнаружится при свидетелях, —
каковыми являются на экзаменах весь класс и ассистент, — что он вовсе не
учился.
Вот что хочется скрыть или отложить. Потому что скрыть этого невоз-
можно, можно только отложить, но отложить уже не конфуз и оставление в
том же классе на повторительный курс, а отсрочить гибель всей судьбы,
выброс себя в безработные и бесхлебные, в тунеядцы и паразиты. Все эти
«не желающие теперь держать экзамен» есть кандидаты в «не кончивших
курса», в «неудачники», в «исключенные за малоуспешность». Только это
будет через 3—4 года, в VIII или VII классе, тогда как экзамен приходится
держать теперь в III или V классах и остаться довольно безвредно и невинно
в них на повторительный курс.
Не умеем представить себе ума и сердца тех, очевидно, немногих учите-
лей и родителей, которые опротестовывают введение экзаменов; о «Товари-
ще» наверное знаем, что он ничего в этом деле не понимает. Но нужно же
сказать от лица той огромной массы учителей и родителей, которые молчат
и этим самым выражают полное одобрение новой мере, что экзамен есть
просто контроль учебных занятий, — тот контроль, без которого не обходят-
ся и не претендуют обходиться взрослые, которые владеют собою и имеют
рассудительность, и совершенно было бы дико и преступно ставить вне это-
го контроля детей и юношей, которые еще не приучились владеть собою,
которых все соблазняет и увлекает, и прежде всего соблазняет возможность
лени и шалостей, свободного досуга для шалостей. Положите сахар перед
ребенком — и он его съест. Положите целую сахарницу, — и, если вы его не
остановите, он все съест, пока его не стошнит, и непременно испортит себе
зубы и желудок. Конечно, ребенку можно объяснить, что это «вредно». Но
вредно — далеко, а сахар — перед глазами. Между этим «далеко» и «близ-
ко» и взрослый не всегда имеет силу воли выбрать. Ребенок и юноша, совер-
шенно не имеющие представления о том, что такое безработица и бесхлеби-
ца, — никак не могут поддаться на этот единственный основательный аргу-
13 В. В. Розанов
385
мент в пользу занятий и против безделья. Они выбирают безделье, портя
всю будущую судьбу свою в 15—17 лет!
Мы не хотим спорить с невеждами и психопатами в печати. Нам хочется
верить, что неопытный ум есть вместе с тем чистый, неисковерканный ум.
К уму этого русского отрочества и юношества мы и обращаем простую речь:
Не страшитесь экзаменов, если вы точно серьезно занимались. Если же вы
не занимались или занимались худо, что при теперешних обстоятельствах и
в вашем возрасте слишком простительно, то не будьте трусливыми и поне-
сите прямо и честно последствия этого, т. е. в следующий год одолейте то,
чего не одолели в этот год.
Вот и все. Что такое учебные программы? Некоторое препятствие, кото-
рое нужно одолеть в год. Вся гимназия — восемь таких препятствий, кото-
рые берутся в восемь приступов. Вот что такое гимназия как испытание сил
и способностей учеников. Что же такое за дети в стране, за юношество в
стране, которое уклоняется от приступа и говорит: «Нет, вот если бы сзади и
потихоньку, то так. А на приступ у меня нет ни сил, ни способностей».
Не клевещите, гг. немногие педагоги и родители и наивные бездарные
«Товарищи»: такой гнусности о себе не скажет русское юношество. А вы,
дети, пристыдите-ка кой-кого из своих родителей и учителей, — пристыди-
те этим суровым возражением:
— Хочу хлеба, а не сахара.
КРУПНОЕ И МЕЛКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Пока рабочий и крестьянин будут искать возбуждения и утешения в водке,
пока мирской сход станет основывать свои приговоры на том же фундамен-
те, а кулак-мироед будет обдирать деревню, как медведь корову, какие бы
речи ни раздавались в Г. Думе и какие бы законопроекты там ни изготавли-
вались, — печальный образ нашей России не переменится. Всякий новый
закон можно сравнить с лекарством, поставленным на столике около крова-
ти больного. Изданный закон — только предложен. Лекарство нужно про-
глотить, а желудок и весь организм его должны усвоить — и только в этом
случае может последовать с больным желаемая перемена. Также и закон из
«написанного и отпечатанного» должен начать действовать, он должен встре-
тить охотное и понятливое согласование с собою миллионов человеческих
воль, — и лишь в этом случае живого психического ответа себе он прино-
сит, что нужно. Однако из бед теперешнего положения нужно считать то,
что страна наша слишком местно ослаблена; мало энергии, здравого смыс-
ла, понимания и самопомощи на местах. Людей — везде мало, талантливых
страшно мало. Все смотрят и слушают, что происходит в Думе, и меньше
замечают, что делается у себя под носом.
Между тем для всякого умственно и нравственно здорового человека
работа на месте может дать много наслаждения, едва ли не меньше, чем
386
деятельность в Думе. В Думе один взгляд встречается с множеством других,
разбивается и дробится около них, да еще и когда-то, когда-то перейдет он в
дело даже и в разбитом, дробном виде. Мы говорим о блестящей и успеш-
ной парламентской деятельности, не говоря о тусклом «сидении в думских
креслах», которое совсем теряется в значении и почти не существует для
страны. Совершенно иное происходит на месте. Там личная мысль не дро-
бится; энергия, если она хоть сколько-нибудь настойчива и устойчива, не-
пременно достигает своего, преодолевает сопротивление среды, обыкновенно
только косной, а не враждебной. И, что главное, получаемый результат так
осязателен, так нагляден, он выражается в таком крупном и на глазах проис-
ходящем улучшении народного благосостояния и в подъеме народной души,
что это может составить праздник и для героя, и для праведника, для неза-
метного героя и незаметного праведника.
С полной верой можно сказать, что таковых очень много на Руси. Не
прошла и не могла пройти даром наша литература за 100 лет, в которой слу-
жение народу, труд для народа выставлялся высшим идеалом. И труд имен-
но непосредственный, в среде самого народа, а не отдаленный и отвлечен-
ный, в канцеляриях и департаментах, и в том числе, пожалуй, не в комисси-
ях и подкомиссиях думских. Впрочем, работа их пока не видна, не ощути-
лась. Будем ждать отсюда лучшего; но пока мы имеем право оговорить, что
все это еще очень отдаленно...
И. С. Аксаков в своей «Руси» когда-то посвятил блестящий ряд статей
выяснению той истины, что настоящая земская работа может совершаться
только в уездном земстве, а не в губернском. Губерния — слишком обшир-
ный район, и работа здесь не может не свестись более или менее к словопре-
ниям, к соперничеству с губернаторским авторитетом, и проч., и к чему-то
очень мало осязательному собственно для народа, для деревни. Но, пожа-
луй, — слишком обширен и уездный район. Личная культурная работа всего
лучше, быстрее и осязательнее совершается в самом крошечном районе —
волости, селе, около фабрики, в приходе. Здесь все происходит воочию и
под руками. Это — такое возбуждение для сил, которое незаменимо.
Корреспонденция из Новгородской губернии г. А. Клопова, напечатан-
ная у нас в понедельник, дает очерк деятельности местного церковно-при-
ходского попечительства и народного союза, и автор справедливо ожидает и
желает, чтобы этот очерк подействовал «заразительно» и на других. Мы,
впрочем, уверены, что подобных, «оздоравливающих» районов местной
жизни очень много. Но, конечно, полезно, чтобы они оповещали друг друга
об удачах и неудачах своих, что не может не послужить лишним источником
ободрения и возбуждения. Мы же пока отметим, что все эти фактические и
цифровые отметки о выданных ссудах, об амбулаторных осмотрах больных
и о числе посещений на дому фельдшерицы-акушерки, о покупке попечи-
тельством и даче в аренду крестьянам улучшенных борон Риндаля и кое о
каких начавшихся работах по улучшению дорог, все это массою местного
русского люда прочтется с большой поучительностью.
13
387
Подъем души здесь, пожалуй, еще важнее улучшения материального
благосостояния. Оба течения идут параллельно. Никто себе не враг. Но кре-
стьянин от глубокой темноты не мог найтись, не знал, чем пособить себе, и,
наконец, на первый подъем не имел помощи, подмоги хотя бы в виде кро-
шечной ссуды. Человек, скот, земля — все вырождалось и западало. Конеч-
но, к этому западанию деревень сводился и упадок центра России, — явле-
ние слишком общее и громадное, чтобы ему можно было быстро помочь
какими-нибудь общими и особенно бумажными административными мера-
ми. Но мы начали с того, что никто себе не враг: и крестьянин, знающий, что
при добром совете и по проторенной дорожке каждые пять — десять рублей
могут осязательно двинуть к лучшему его хозяйство, уже не истратит из них
ни рубля. Он не выйдет в трактир или на улицу слушать бессмысленные
песни и не напьется сам «до положения риз». Все уйдет в упорную надежду
и сосредоточенную думу.
Заботливостью и бережливостью теперешнего французского крестья-
нина богата вся Франция. А когда-то французский крестьянин жил чуть ли
не хуже теперешнего русского и столь же примитивно работал. И России
предстоит этот огромный шаг. Все похоже на осушку громадного болота. И
всякая вот такая единичная деятельность добрых и разумных, а главное,
предприимчивых людей кладет одну дренажную трубу в это болото. Заме-
тим, что два — пять — десять человек на маленьком районе не могут не
добиться очень серьезных результатов в 4 — 6 лет. Плоды здесь вырастают
так быстро, что весело трудиться.
Свобода теперь дана, частной инициативе никто не помешает. Двинь-
тесь же, русские люди, дружною ратью на эту местную работу.
АРМИЯ И ПАРЛАМЕНТ
Само собою разумеется, что русская армия, которую не смог «обидеть»
Наполеон, не могла бы быть «обижена» не только кавказским армянином,
попавшим в Думу, но и целым вотумом всей Думы. Дума — представитель-
ница народа на сей год, армия — выразительница и представительница рус-
ского народа за два века. Разница неизмеримая. Увы, во второй раз Дума по
какому-то недоумению избирает себе в председатели чего-то такого или что-
то такое, что весьма мало напоминает умного и твердого человека и просве-
щенного гражданина. Робкая формула нерешительного извинения г. Голо-
вина: «Вчера по отношению нашей доблестной армии было высказано здесь
мнение, которое, конечно, должно быть признано для нее обидным» — пол-
на пороков языка и чувства. Г. Головину нужно было сказать совсем другое:
«Вчера по отношению русского народа, поскольку он выражен в своей ар-
мии, были произнесены здесь слова в высшей степени оскорбительные для
Г. Думы» или «для ума и слуха Г. Думы». Нам по крайней мере кажется, что
попытка г. Головина похвалить армию, которая в истории своей возбуждала
388
удивление величайших полководцев мира, начиная с Фридриха Великого и
европейских государей за два века, — эта попытка, в самонадеянности сво-
ей и пошловатой шаблонности, еще более забавна и, пожалуй, мелочно-ос-
корбительна, нежели дурманные речи некультурного армянина. Ах, эти кав-
казские депутаты, третьего дня торговавшие кишмишем, вчера поступив-
шие в русскую гимназию и университет и там начинившиеся всякой неле-
гальщиной и уже сегодня, на полях российского парламентаризма,
обнаруживающие все признаки расстройства головы. Несет человек пошлый,
нечистоплотный вздор, и все-то он пачкает, чего ни коснется. Невежды эти
кавказские депутаты, и все их мысли и недомыслия понахватаны из сквер-
ных русских книжонок копеечной цены. Этот Зурабян... что он знает в своей
Армении? Знает ли он ту народную, простонародную армянскую песню,
сложенную армянами-поселянами в годы, ближайшие к тем, как они пере-
шли из-под турецкого подданства в русское. Как известно, турки предостав-
ляли курдам, дикому горному племени, вырезывать то там, то сям армян-
ское население, избивать мужчин, отводить в плен женщин и обращать в
рабство детей. Положение было из тех ужасных, о которых история даже не
умеет рассказать. Вся скорбь стекается в народную песнь. И вот в этой ар-
мянской песне поет армянская женщина (от лица которой песня и сложена),
что если когда-нибудь избавитель русский солдат зайдет в ее хижину, уже
не как воин-защитник, а как дорогой гость, то она разует ему ноги, вымоет
их в воде и выпьет эту воду. Поэтому дикую речь Зурабяна нам не нужно
класть на счет всему армянскому народу. Это не сын своего народа, а выро-
док. Нам только очень грустно, отчего Грузия и Армения, имеющие в себе
те прекрасные, те солидные качества, не смогут выслать в русский парла-
мент настоящих представителей своей народности, почему они высылают
это свое отребье, до смерти надоевшее нам и у себя дома и не имеющее ни
зги в себе народного, туземного.
Как это грустно. И какое грустное просится на ум сравнение с русскою
бюрократиею. Бюрократия тянула с Кавказа Багратионов, Лазаревых, Ло-
рис-Меликовых, Тергукасовых... Она сумела их выбрать, найти и, поставив
в ряды свои, какой им дала закал, дисциплину и направление... Нет, верно
еще рано ругать сплеча бюрократию. Слишком поторопились.
По Зурабяну, который таким же является представителем Кавказа, вы-
разителем нужд и интересов Кавказа, мы можем судить и о том, какие пред-
ставители России заседают в Думе. Горе разгадывается, и мы видим при
раскрытых скобках, что все-то наше представительство представительству-
ет, собственно говоря, два укромных уголка нашего обихода: эту несчаст-
ную толстовско-деляновскую гимназию, с Кюнером на парте и Писаревым
под партою, да журналистику того типа, который подзадоривал на револю-
цию семинаристов, гимназистов и белошвеек. И кажется нам, что настоя-
щий корень русских злосчастий, в том числе и злосчастий конституцион-
ных, лежит в несчастнейшей русской школе, этом плачевнейшем порожде-
нии чиновнического шаблона, литературно-журнального европейничанья и
389
общественного космополитизма и индифферентизма. Кажется, даже папуа-
сы или скорее папуасы отразились в нашей школе, чем русские. Русского
духа в ней нет и следа.
Ничего, кроме «двух уроков Закона Божия» и «одного урока, в III клас-
се, церковно-славянского языка». О несчастный шаблон! Даже когда он хо-
чет чего-нибудь, он превращает в смех самый предмет хотенья!
Что же ученики русских гимназий, — даже, может быть, учившийся на
пять г. Головин, не говоря уже об учившемся на единицу Зурабяне, — знают
о русской истории и об русской армии. Ничего они не знают, и ничего они об
этой армии не чувствуют. Три самые модные факультета русского универси-
тета ни слова не говорят об истории родины, и, следовательно, почти вся
сплошь русская интеллигенция знает из истории своего отечества ровно
столько, сколько ей дал Иловайский. У Иловайского нет образов, фигур, ге-
роев и великих событий. Есть только названья всего этого. Названий сколь-
ко угодно, и всех их надо выучить ученику. И он зубрит великих мучеников
русской истории так же равнодушно, как метрес французских королей или
реформаторов германской реформации. Все рассказано у Иловайского язы-
ком календаря, а подлинных памятников истории русские люди, кроме слу-
чайного и нечаянного чтения, никогда не имели в руках. Летописи, Катоши-
хин, Олеарий, Герберштейн, труды русских ученых о военной истории
России — все это равно отсутствует как в «ученических библиотеках гимна-
зий и прогимназий», так и в общественных «читальнях». В одобренные
Министерством народного просвещения каталоги для гимназий даже, ка-
жется, не попали эти исторические труды, так что педагогические советы
даже и выписывать их не имели права! Может быть, теперь разрешено, но
лет двадцать министерство хотя не прямо, но косвенно, через невнесение в
свои каталоги этих книг, запрещало ученикам знать родную историю; знать
ее иначе, как в мерке и из рук Иловайского.
Школа наша не только глупа, но и преступна. Она глупа в прямом смыс-
ле. Но в косвенных отражениях, через косвенные влияния, путем того, чего
она недодала, она порочна и преступна.
Получили вполне теперь награду в орущих митингах, студенческих об-
струкциях или вот в этих двух депутатах в Думе, из которых один ругает то,
о чем он понятия не имеет, а другой слушает его, развеся уши, потому что он
тоже об этом понятия не имеет. И хоть бы кто-нибудь вспомнил «Капитанс-
кую дочку» Пушкина и «Войну и мир» и их бесшумных героев или даже
стих из Некрасова:
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский народ не стонал.
Солдат есть вооруженный пахарь — и только. Пахарь, защищающий свою
славу. А совокупность русских нив — это Россия. Ее бережет благородней-
шая русская армия, двухвековая страдалица за землю русскую.
390
Первый гимн русской армии сложил баян, спевший «Слово о полку Иго-
реве», «вскладаше вещие персты на живые струны». А последним певцом
ее был Некрасов. Какие ей строфы, какую прозу посвятили Лермонтов, Пуш-
кин, Толстой. Но, впрочем, что за дело до этого Зурабяну, Головину, каде-
там, эс-декам. Им ближе Надсон и Мопассан. Были вещие птицы — и мы
слушали благородные песни. Но век переменился. Прилетели новые птицы
— и мы слушает карканье, напоминающее только басню о глупой вороне.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СУЕВЕРИЯ
Лучшие человеческие намерения и ожидания часто разбивались о то, что в
обыденной речи зовется «суевериями». «Суеверия» суть то, чему дается
вера без достаточного основания, что коренится не в знаниях человечес-
ких, а в человеческих предрасположениях, в свою очередь проистекающих
или из темной далекой традиции, или из упорных и даже неодолимых сим-
патий и антипатий. Вторая Дума наша непрерывно трудится под давлением
одного такого суеверия, которое страшно спутывает ее мысль и речи. Суе-
верие это заключается в убеждении, что кто-то где-то вечно каверзит Думе
и что этот кто-то чрезвычайно силен и вместе бессилен, так сказать, силен
в бессилии своем и бессилен в силе своей. Ему чрезвычайно хочется «со-
рвать Думу», и решение это, давно принятое или, лучше сказать, всегда
бывшее, дожидается только момента и обстоятельств, чтобы привести его в
исполнение.
В зале заседаний и в кулуарах Думы эта мифическая уверенность гораз-
до неодолимее и всеобщее, чем какое-нибудь убеждение или программа. Она
объединяет весь наш молодой парламент, кроме разве ее крайней правой
фракции, которая скорбит и негодует, что готовности распустить Думу нет в
наличности, нет никаких ее признаков, сколько правые ни ищут и ни выс-
матривают ее. Но этого беспокойства правых не замечают центр парламента
и его левая половина, т. е. почти весь он в полном составе. Какие они нашли
признаки желания роспуска Думы, кто им сказал об этом и особенно кто
доказал это — неизвестно. Ни признаков, ни доказательств и вообще ника-
кой очевидности — нет. Но тем-то это и опасно и особенно твердо. Поэто-
му-то мы и узнаем, что это — суеверие, т. е. та безотчетная неодолимая сила,
которой подчиняются не рассуждая, которая пугает и спутывает мысли. Оно
действует аналогично если не маниакальному бреду, что было бы слишком,
то по крайней мере тем «прилипчивым мыслям» или «навязчивым пред-
ставлениям», которые составляют ранний признак серьезного душевного
заболевания. Дума наша вечно угрюма и положительно несчастна от этой
съедающей ее мысли, что кто-то стоящий за углом держит против нее за
пазухой камень. Мания, привидение, миф, действие которого гораздо могу-
щественнее, нежели реальной действительности.
391
Нам кажется, уже в интересах собственного здоровья, депутатам реши-
тельно необходимо отдать себе отчет в этом своем страхе. Вечно испорчен-
ное настроение духа, — что может быть тяжелее этого.
Данное политическое суеверие, как и все прочие, идет тоже: 1) из безот-
четной дали времен, 2) из симпатий и антипатий.
Это справедливо, что правительство наше два последних века почти без
перерывов покушалось на все «либеральное» и что так как Дума по суще-
ству своему есть учреждение либеральное, то у многих и зарождается мысль,
что правительство и теперь «покушается» против Думы, не только в том
виде и составе, как она есть, но вообще против самого существа Думы, про-
тив конституции и конституционализма. Правительство не конституцион-
но: вот «bete noire» наших депутатов, печати и общества. Между тем если
бы они всмотрелись в это: «почти непрерывно покушались на либерализм»,
то они задержались бы на этом коротеньком и многозначительном «почти».
Нельзя не заметить, что Грановский в предсмертных своих письмах горько
жаловался, что московское общество его времени было гораздо реакцион-
нее, нежели правительственные сферы: между тем это была самая мрачная
эпоха русской реакции, наступившей после 1848—1849 годов! Также в пору
освобождения крестьян русское правительство очень могло бы поддаться
наветам и подсказываниям партии Скарятина, графа Закревского и вообще
обширного слоя феодального дворянства, имевшего органом своим «Весть».
Но не поддалось, — и не поддалось именно в тех «сферах», в отношении
которых сейчас раздается столько инсинуаций. Если мы добавим сюда вре-
мена Александра I и Сперанского, почти все время царствования Екатерины II
и, наконец, великодушные и самобытные шаги ныне царствующего Госу-
даря в пользу европейского разоружения или ограничения вооружений, то
мы вынудим у всякого беспристрастного человека согласие, что русская
Верховная Власть весьма не однородна с западноевропейскими, действи-
тельно довольно эгоистическими, что она знала порывы чрезвычайного ве-
ликодушия, решительно становившиеся впереди даже либерального обще-
ства. Никто не захочет притворяться не ведущим и того обстоятельства, что
Государь Александр III в первые дни своего царствования совершенно по-
койно был готов на дарование России конституции и был переубежден толь-
ко чрезвычайными настояниями и запугивающими речами такого исключи-
тельного государственного человека, как Победоносцев, и такого исключи-
тельного публициста, как Катков. Все это убеждает нас и должно бы убе-
дить Думу и ее членов поверить, что после испытаний японской войны
Верховная Русская Власть совершенно твердо и бесповоротно выступила
на конституционный путь, как нормальный путь общеевропейского полити-
ческого развития, имеющий принести у нас те же плоды, как и в цветущих и
могущественных странах Запада. Она решилась на это не из либерализма,
не из уступки обществу или печати, но чтобы не пережить еще раз того мо-
рального ужаса, какой она переживала, когда маленькая азиатская и язычес-
кая держава, за несколько лет до нас обновленная путем конституции, неиз-
392
менно поражала колоссальную Россию, и мы не имели никаких техничес-
ких средств справиться с этою бедою, при всем прежнем мужестве наших
войск и неодолимом терпении всего русского народа. Верховная Власть по-
жалела русский народ. И даровала конституцию. Это было такое же движе-
ние сердца нашего Государя, как созыв Гаагской конференции, но только
неизмеримо больший и сложнейший.
В минуту, когда общество, печать и сама Дума поймут это, — со всех
спадет болезненный, тяжелый кошмар. Повторяем, он не дает никому улыб-
нуться. Дни идут печально, томительно, скучно, боязливо, и это подсекает
энергию работы в корне.
Кто ненавидит сам — вечно думает и боится, что его тоже ненавидят.
Вот это истинное несчастье нашего парламента. Дело в том, что он сам
журнально и с гонором «сел в оппозицию», непременно в оппозицию и только
в оппозицию, повторяя в себе худшие замашки старого польского шляхет-
ства и не обнаружив ни капли русского здравого смысла и русской ясной
души. Посмотрите на думскую и околодумскую печать, прислушайтесь к
кулуарам, присмотритесь ко всем этим «Речам» и «Товарищам»: нет нумера
и нет столбца, которые не дышали бы злобою и клеветою. Подписанные и
неподписанные статьи, принципиальные и на «злобу дня», все равно инси-
нуируют на «сферы» и «бюрократию», на кабинет и министров. И уж у этих
господ не камень за пазухою, а целая мостовая. Кажется, позволь бы, и они
растерзали бы все сплошь чиновничество, т. е. мириады людей, часто ни в
чем не повинных; утопили бы их в Неве или перевешали бы на фонарных
столбах, как они морально топят их в своих чернильницах и распинают на
позорном кресте остриями своих перьев. Вот это отвратительное зрелище
есть главный виновник думского страха. Завтрашний Каин есть сегодня трус.
Непременно! Увы, в силу истории своего рождения Дума никак не может
порвать в себе резко антимонархической пуповины; и притом антимонархи-
ческой с этим оттенком заговора и тайны, в чем начиная с декабристов не-
счастным образом прошла вся история русского либерализма. Столько лет
ползя в подполье, скрываясь и обманывая, вечно «конспирируя», — русская
оппозиция, вместо того чтобы быть прямою и честною, мужественною и
открытою, и теперь не поверила конституционному свету и все продолжает
шептаться, сговариваться, злоумышлять, наносить неожиданные удары сза-
ди. Весь дух Думы — не конституционный. Это какой-то дух продолжаю-
щегося заговора, т. е. по самому существу чего-то вороватого, крадущегося
и разбойного. Ну, а хищник, вышедший на ловитву ночью, будет ли то кра-
сивый леопард или трусливая гиена, широко раскрывает зеленые зрачки,
оборачивается туда и сюда, обнюхивает воздух. И все ему кажется, что где-
то стоит притаившийся охотник, готовый послать ему пулю.
Вот «демон» нашей Думы... Очень печальный демон... Он похож на тос-
ку Саула, которому все казалось, что ни о чем не помышлявший Давид соби-
рается отнять у него царство.
393
ПЕРЕД ВОЗОБНОВЛЕНИЕМ ДУМЫ
Вот-вот опять соберутся депутаты русского народа. Соберутся с трудными
задачами, после неясного прошлого и только что перенеся крупный толчок
перед самым пасхальным роспуском. Мы разумеем неприятный инцидент с
Зурабовым и те усилия, к каким должен был прибегнуть председатель Думы,
чтобы этот толчок не имел последствий... которых, впрочем, никто опреде-
ленно и наверное не знал.
— Депутаты, берегите Думу, — это мы все слышали.
Но отчего мы не слышали:
— Депутаты, храните достоинство Думы.
Безошибочно можно утверждать, что депутаты не слышали от выбор-
щиков этого наказа единственно потому, что он сам собою подразумевался;
что выборщики не рисовали в уме конкретных черт имеющей наступить
действительности, а вторая Дума предполагалась действующею с тем же
духом и, особенно, в тех же рамках, как Дума первая, которая в каждом
заседании вотировала недоверие кабинету, — и не распускалась за это, выс-
казывала неуважение к правящей бюрократии, — и не распускалась за это,
и, вообще, говорила во сто раз резче второй Думы, — и о роспуске не поды-
малось никакого слова, никто этим роспуском не угрожал, и никто реши-
тельно из самих депутатов его не предполагал и не боялся. Роспуск был со-
вершенно не предвиден, что доказывается уже тем, что выдающиеся вожди
обеих партий, «кадетов» и «трудовиков», спокойно уехали на эти дни в Лон-
дон, и он произошел тогда, когда парламент постановил решение о непос-
редственном, прямом обращении к народу, т. е., собственно, вышел из ра-
мок законодательного учреждения, хотя и был вызван на это непосредствен-
ным же обращением к народу кабинета, на что он также не имел права.
Во всяком случае, выборщики во вторую Думу предвидели только эти
же рамки, совершенно свободные, для деятельности своих депутатов. Ниче-
го иного, третьего не представлялось уму их. И так как рамки эти не унижа-
ли достоинства русского представительства, то естественно, что выборщи-
ки и не давали наказа за то, чего не предвидели и чего вообще невозможно
было ожидать.
Но невозможное или, точнее, совершенно непредвиденное случилось.
Этот ужасный кошмар роспуска Думы, — он повис над всем парламен-
том и сделался таким психическим условием его деятельности, которое ре-
шительно уничтожает достоинство Думы. Правительство очень хорошо
это чувствует и очень умело пользуется этим гипнозом, как рычагом. Ему
много помогает сложность и запутанность личных отношений. «Я всеми
силами против роспуска, но могут быть иные мнения...» — говорит власт-
ное лицо. «Мой авторитет ограничен другим высшим»... «Могут быть дру-
гие влияния, кроме моего»... И прочее, и прочее. Есть ли эти другие влия-
ния, ограничен ли его авторитет, — об этом решительно никто ничего не
знает, не знают в особенности этого члены Думы и председатель Думы. И в
394
этой полной темноте властное лицо снимает сливки, оставляя народному
представительству снятое молоко. Все это печально и, наконец, недостойно.
Дума решительным шагом, решительною и спокойною тактикою должна
выйти из этого унизительного положения. Дума не имеет права забыть, что
на нее смотрит вся Россия и что каждым шагом своим она делает прецедент
для будущего, который свяжет, и тяжело свяжет, не только будущие шаги ей
самой, но деятельность второй и третьей Думы.
Этого невозможно забыть. На это надо оглянуться всем.
Рассудим.
Лекарство не потому есть лекарство, что оно налито в пузырек аптекар-
ской формы и к нему привязан рецепт с ученою подписью, но потому, что
оно имеет определенный состав и действует целебно на болезнь. Вот так
же и с парламентом: ему недостаточно быть вылитым в определенную фор-
му, собираться в Таврическом дворце, иметь право запросов и вообще право
разговаривать между собою и разговаривать с министрами. Лекарство есть
лекарство, пока оно исцеляет; и парламент в качестве упора, который встре-
чает в нем административная власть, и ограничения этой власти, — к чему
он, собственно, и призван самим Монархом и послан народом, — до тех пор
только и есть парламент, пока он фактически составляет упор, отпор и огра-
ничение бюрократии, министерств, всего кабинета. Но самая возможность
этого упора, отпора и ограничения как-то становится неясна при вечном стра-
хе роспуска Думы, притом страхе, ничем не ограниченном. В этой неогра-
ниченности страха и лежит опасность. Думе, как только она соберется, нуж-
но выяснить свое положение. Ей непременно надо выбраться из этого пара-
лизующего тумана. Ей нужно утвердиться в совершенно прочных рамках,
договориться между собою и, наконец, чрез посредство прений вызвать со-
вершенно ясные слова, ясный ответ на тяготящее всех недоумение: что же
такое Дума? К чему она призвана? Призвана ли она к упору и отпору адми-
нистрации, и в частности кабинета?
Великие пути проходятся маленькими шажками. Ведь так мы можем
дойти и до положения, что Дума и особенно ее негласные комиссии могут
стать чем-то очень смахивающим на былые «комиссии сведущих людей»,
каких много заседало в Петербурге в тихое время согласного управления
Россиею двух полунемцев, Плеве и Витте. Почему нет? Все мало-помалу...
Комиссии и теперь уже заседают совместно с правительственными чинов-
никами. Эти чиновники весьма искусны во всяких «заседаниях», и как бы
исподволь им не «пересидеть» свободных депутатов народа. В день, когда
Зурабов произнес свою речь, был дан приказ всем правительственным чи-
новникам покинуть комиссии, где они заседали смешанно с народными пред-
ставителями. Этот-то «отзыв назад» правительственных чиновников и про-
извел переполох в парламенте, отозвавшийся испугом'. «Дума будет распу-
щена». Кн. Мещерский, в своем «Гражданине», очень подчеркнул этот, как
он выразился, «психологический момент». Но, без сомнения, его подчерк-
нули в уме своем и другие особы, более значительные князя Мещерского.
395
«В мутной ведь воде рыба и ловится». Случилось дурное. Случилось что-то
скверное.
— А, парламент испугался... Чего? Почему? Во всяком случае, запом-
ним, что он боится и что его можно испугать.
Каждый понимает, какое это отвратительное условие для свободной де-
ятельности, вне которой нет, собственно, вообще, никакой деятельности
парламента.
Пузырек из аптеки. И рецепт доктора. А напущена в пузырек просто
какая-то мутная водица, гадкая, кислая и ни в чем не пользующая.
Парламентаризм может выдохнуться мало-помалу, — вот великая опас-
ность! Депутатам нужно сделать что-то решительное, умное и явное, чтобы
выйти из этого мучительного и угрожающего положения.
Какими бы ни было способами страх этот должен быть сброшен. Он
может быть сброшен путем хорошо условленных речей, некоторых обраще-
ний к председателю Думы, очень учтивых и решительных; путем столь же
решительных речей, обращенных к председателю совета министров, что им
не мешает несколько быть и учтивыми. Вообще учтивость — не бессилие;
как показатель осторожности, он есть только союзник силы. Заметим еще,
что на неучтивую речь можно вовсе не ответить; напротив, учтивость вызы-
вает непременный ответ и на такой вопрос, который щекотлив или неудобен.
Между тем, выслушанный вслух всей России ответ уже связывает и свяжет.
Мы не настаиваем на своих советах. Если найдутся лучшие ходы в Думе,
мы будем приветствовать ее изобретательность. Мы говорим только, что Дума
должна суметь выйти из теперешнего психологического состояния, рассе-
ять этот кошмар роспуска.
Дума должна перешагнуть через мысль о роспуске.
Дума не должна бояться роспуска.
* * *
Например, этот вопрос: может ли быть Дума распущена за речь единичного
депутата, а не за свое постановление?
Если может быть распущена за речь депутата, то этим самым внутри
Думы установляется некоторая невидимая цензура, которая действует со-
вершенно так же, как и видимая, а в «психологические моменты» и обшир-
нее, ибо она совершенно неопределенна и неуловима, сокращаема и расши-
ряема, смотря по психике и аффекту депутатского зала и председателя Думы.
В таком случае «свобода кафедры» становится мифом в русском парламен-
таризме. Можно ли сравнивать это с мотивом роспуска первой Думы, когда
она постановила свое решение, решение Думы? Совсем другое! Какова бы
ни была речь Зурабова, — ненужная, бестактная, несправедливая, мы согла-
шаемся с этим, — однако она так и остается речью Зурабова, в этих ее каче-
ствах ненужности, бестактности и несправедливости. К Думе она никакого
отношения не имеет, и Думу она ни в какой ответ не ставит, ни в какую
396
вину. Можно ли же взыскивать с невинного? А роспуск Думы есть наказа-
ние Думы. Наказание без вины, павшее на голову того, кто ничего не делал.
Это пахнет военно-полевым судом или военно-полевою бессудностью: не
так жестоко, но так же глупо и элементарно. Впрочем, и жестоко: ибо опять
на несколько месяцев оставить страну без парламента и, например, сделать
опять возможными на эти месяцы военно-полевые суды — это жестоко не
менее, чем бессудное или мнимо-судное лишение жизни одного человека. И
за что? За речь Зурабова!
Вся Европа бы рассмеялась.
Депутаты явно поддались неосновательному страху. По этому поводу
Дума ни в каком случае не была бы распущена, ибо Дума армии не оскорбля-
ла, а за речь Зурабова она так же мало отвечает и ее так же мало возможно
привлечь к ответственности, фактической или моральной, как и за которую-
нибудь речь Пуришкевича.
Что бы Пуришкевич ни произнес, какое бы он безумие ни высказал,
можно ли представить себе, чтобы это было поводом поставить вопрос о
роспуске Думы?! Нелепо, но так же нелепо и в отношении речи Зурабова.
Нелепость действия исключает всякую его возможность. Ведь роспуск
Думы совершился бы пред глазами всей Европы, и на поступок явно неле-
пый, просто бестолковый, по немотивированности и невозможности мо-
тива на такой поступок, правительство наше, конечно, никогда не реши-
лось бы! Поэтому отзыв правительственных чиновников из думских комис-
сий был просто торопливым, азартным шагом, за которым ничего бы не пос-
ледовало. Председатель Думы совершенно правильно сказал, что речь
Зурабова «не имела того смысла, какой ему приписан». И хотя бы Зурабов
«повторил свое выражение в еще более резкой форме», тем не менее, мож-
но, — зажмурившись и зажав уши, т. е. втемную, — все же можно сказать,
что она действительно «не имела оскорбительного для армии» смысла. По-
чему? Да потому, что не могла иметь. Ведь не с неба же Зурабов брал слова,
понятия, чувства, всю свою психологию, всякие возможные и представи-
мые движения души своей и своего языка. Все это он мог взять только из
ходячих и привычных понятий и представлений своего времени, своего ме-
ста, своей партии. Скажите, пожалуйста, кто же это из социал-демократов
не только бы говорил, но хотя бы думал про себя, на душе, что русский сол-
дат, русская серая шинель труслива, бита и будет бита?! Ни в России, ни в
целом мире никто этого не думает, и вообще этой мысли на свете нет, и ее
нельзя высказать, потому что ее нет. Зурабов, очевидно, сказал: «Русская
армия» в том обычном грамматическом обороте, который именуется упот-
реблением «имени части вместо имени целого» или обратно «имени целого
вместо имени части». Он сказал именно как кавказец, не совладав с языком,
ту, можно сказать, висящую в воздухе фразу, что «русские войска, при бес-
порядках своего министерского управления, были побеждаемы и будут впе-
ред побеждаемы» или по-простонародному и солдатскому: «были биты и
будут биты». Военный министр, по сообщениям, оттого так и оскорбился на
397
это и так волновался в вечернем заседании Совета министров в тот же день,
что среди коллег-министров он почувствовал себя оскорбленным как ми-
нистр, как глава министерства, которому, — увы! — столько приписыва-
ют, и в печати и за спиною, а не так вот прямо в лицо и с думской официаль-
ной перед Россиею кафедры. И здесь он сказал, что «оскорблена серая ши-
нель», когда оскорблены были золотые эполеты. Все дело это до того ясно в
своем смысле, что заявление г. Головина о «неправильно понятом значении
речи г. Зурабова» не только было, но и остается правильным, а инцидент
только по форме, а не по существу взволновал гг. министров, вышедших из
зала депутатов. В чем они раскаялись бы назавтра же, так как тут «инциден-
та» никакого не было, просто — ничего не было, кроме недостаточного зна-
ния армянином духа и грамматики русского языка или, — если все взять
точнее и строже, — кроме незнания грамматики русского языка, совершен-
но допускающей употребление «имени целого вместо имени части», сами-
ми же гг. министрами, людьми торопливыми и, очевидно, давно забывшими
школьные уроки.
И из-за этого распустить Думу!! Ведь в России есть же люди, знакомые
с грамматикою и с логикою; ведь и после роспуска Думы не перестали бы
писать в газетах и разжевали бы господам «распустителям» весь «инцидент»
в его простой грамматической форме.
Дума должна вернуть себе достоинство. Прежде всего, конечно, нужно
пожелать, чтобы ничего резкого и особенно ругательного депутаты сами не
дозволяли себе в Думе. Не по опасности, а просто потому, что это нехорошо.
Нехорошо и бессильно. Речь г-на Церетели в ответ на министерскую декла-
рацию может служить в этом отношении руководящим примером: она была
совершенно учтива и была потрясающа по грозному смыслу. Вот этого уси-
ления смысла речей мы желали бы в Думе. Это — раз. Во-вторых, уважать
себя и требовать к себе уважения может только тот, кто сам охотно готов
уважать другого. Нам думается, в этом отношении царит несколько нездо-
ровый воздух в Думе. Она думает, что ограничивает собою величину слиш-
ком морально гадкую, способную не только ко всему злому, но и ко всему
низкому, коварному, бесчестному. Тут, я думаю, она берет через край. Пра-
вительство наше, в сущности, глубоко бездарно в целом и подробностях,
неумело, неспособно. Затем огромные полосы в нем, может быть, целые
ведомства, и уж, во всяком случае, обширные отделы в каждом ведомстве, и
бесчестны, каверзны, продажны и, так сказать, морально невменяемы. Все
это так. Однако совершенно невероятно, чтобы глубокое правительствен-
ное унижение, пережитое в японской войне, так-таки и не отразилось ника-
кою болью, страданием. Как мы «втемную» отвергаем невероятный смысл
речи Зурабова, так же «втемную» мы отвергаем и этот психический фено-
мен нераскаянности, безбольности, как совершенно невероятный. Итак, мы
полагаем, что Дума много укрепилась бы на своих ногах, если бы она взгля-
нула на дело проще и яснее. Несомненно, доля хитрого и плутоватого взгля-
да на Думу есть в правительстве, но это не есть взгляд всеобще-обнимаю-
398
щий и усвоенный правительством в целом его составе. Такие «течения»,
злые и отрицательные, есть, но они имеют себе берега и ограничения в са-
мом же правительстве. Депутаты, помните о бездарности! Возлагайте боль-
ше всего на нее. Но поверьте, что пережить вторично такой ужас позора,
какой пережит Россией и русским правительством в японскую войну, нико-
го не манит и, во всяком случае, не может манить всех лиц в составе рус-
ского правительства. А между тем, преемственный опыт не только японс-
кой войны, но и позорно ведшейся турецкой войны, и особенно войны крым-
ской, — несомненно, самых слепых убедил, что дело тут не в «нашей добле-
стной армии», а в нашей «недоблестной бюрократии» и что без упора,
отпора и ограничения ее мы и впредь, как сказал или проврался Зурабов,
«будем биты, как были биты», «будем побеждаемы, как были побеждаемы»,
даже язычниками-азиатами. Это слишком трудно!.. Своя щека — не чужая,
и удар по ней горит. Нужно довериться простому человеческому чувству,
нужно рассчитать по пальцам арифметику человеческого сердца, чтобы при-
знать и крепко усвоить ту простую вещь, что конституция нужна, и созна-
тельно нужна, не только русскому обществу, но и русскому правительству.
А если так, то и Дума может учесть в свою пользу «психологический мо-
мент» в самом правительстве и сказать себе просто и твердо:
— Меня распустить не так-то легко!
И действительно, нелегко. Ведь такой роспуск, вторичный на протяже-
нии такого короткого срока, страшно потрясет конституцию и конституцио-
нализм, начавшийся у нас после таких страданий и гигантских усилий. Это,
конечно, страшно потрясет общество, будет ему страшным ударом. Но со-
вершенно определенным образом и самому правительству, державе русской,
в ее внутреннем состоянии и международном положении, это грозит стар-
ческим маразмом, вымиранием, агонией. Ну, а решиться на это и как бы
прочесть на стене всемирной истории окончательное о себе «Мене, текел,
фарес» — взвешено, смеряно и решено, — это тоже нелегко.
ДВА СЪЕЗДА
Смешливую хохлацкую поговорку: «Паны дерутся, а у хлопцев чубы болят»
— приходится повторять и в политике. Почти одновременно собираются в
Англии и в Москве два съезда русских людей: социал-демократов и монар-
хической партии. Можно представить себе разницу речей здесь и там! Меж-
ду тем казалось бы, что всякая политическая речь, имеющая конечною своею
целью направление политики, имеет постольку в себе удельного веса и зна-
чения, поскольку она народна и до известной степени безлична, насколько в
ней говорящий отвлекся от самого себя, от личных пристрастий, вкусов,
предрасположений, предрассудков и проч. Должен бы говорить интерес на-
родный, нужда народная и, уж если позволено вкусу вмешиваться в полити-
ку, вкус народный. Но вот здесь и там соберутся русские или якобы русские
399
люди: посыплется фейерверк теорий, теоретических оценок, заговорят на-
дорванные нервы и затуманенные мозги, и много ли останется здесь здраво-
го русского смысла, спокойной русской речи, доброй русской души? Не нужно
и ставить этого вопроса. Каждый улыбнется и скажет, что всего можно здесь
ожидать, увидеть и услышать, кроме русского духа...
Глубокое вырождение и упадок русских чувств констатировал уже чет-
верть века тому назад Достоевский в «Дневнике писателя». В ту пору, в раз-
гар русско-турецкой войны, в противовес почти поголовному и уже старому,
даже очень старому увлечению нашего общества исключительно европейс-
кими воззрениями, теориями и вкусами, образовалась какая-то «русская
партия», кажется ничем ярко себя не выразившая. Кое-где были «коллектив-
ные постановления» бойкотировать английские товары и английские мага-
зины в Петербурге и Москве, да несколько русских женщин нерешительно
надели сарафаны и кокошники. И вот, когда это нерешительное движение
вылилось в сформирование русской партии, то Достоевский с глубокою тос-
кою и недоумением написал в «Дневнике» своем: «Боже! У нас есть русская
партия!» Он недоумевал: каким образом в стране, именуемой Россиею и
населенной русским народом, может возникнуть как что-то новое, обособ-
ленное и очевидно протестующее русская партия? Ибо ведь это знаменует
собою, что вся Россия — уже не русская; т. е. что вся Россия шарахнулась
куда-то в сторону от России же, т. е. от самой себя! Что же это такое?! И
Достоевский развел руками при виде этого буквально кошмара.
Представим себе Древнюю Грецию и в ней «греческую партию» или
современную Англию и в ней «английскую партию». Представим себе Фран-
цию с «французскою партиею». Невозможно представить! Не было никогда
и, очевидно, не будет! Но в России это случилось.
В пору Достоевского это было маленькое, протекшее бесшумно, явле-
ние. Теперь на моих глазах тот же протест вылился в дубровинскую партию,
проклинаемую в сотнях листков распивочно-радикальной печати и на всех
явных и тайных, разрешенных и запрещенных митингах, съездах и сходках.
Но во всяком случае, по явному недоразумению Достоевского о том, каким
образом «в России может существовать русская партия», так как «вся Рос-
сия есть бесспорно одна русская партия», — союз русского народа имеет
право считать нашего великого психолога и романиста как бы крестным от-
цом своей организации или своим дедушкою. По всей совокупности его воз-
зрений это, конечно, и было так. В «Дневнике писателя», который загорелся
такою яркою звездою над полем бесцветной либеральной публицистики того
времени, Достоевский поднял знамя «истинно русских чувств», которое те-
перь так топчется ногами.
В чем же дело? Как могло совершиться подобное явление?
«Шарахнулась в сторону от себя», конечно, только русская интеллиген-
ция, которую тот же Достоевский назвал «беспочвенною», «не имеющею
корней в народе». Так назвал интеллигенцию он и еще группа писателей,
примкнувшая к его журналу «Время», как и группировавшаяся около друго-
400
го тогдашнего журнала «Заря», где печаталась «Россия и Европа» покойно-
го Данилевского. Интеллигенция шарахнулась в сторону от России, а Рос-
сия — она, конечно, где была, там и осталась. России некуда выйти из Рос-
сии, пока Господь Бог не сотворит новой планеты.
Россия осталась русскою, с русским мировоззрением, со своим складом
ума, со своею глубиною и остроумием, с тем изумительным даром слова,
которому удивлялся Гоголь и которое советовал «беречь в чистоте» Турге-
нев; и еще раньше их обоих наш великий Пушкин любил изучать оттенки
этого слова, толкаясь в народной толпе, где-нибудь на ярмарке или базаре.
Услышим ли мы это лукаво-спокойное, добродушно-насмешливое сло-
во, и вместе дальновидное и вещее, от русских в Англии или в Москве?
Напрасно ставить этот вопрос.
Обе партии, крайняя правая и крайняя левая, тоже как и наши западни-
ки, порвали связь с почвою. Социал-демократы ни в имени, ни в физионо-
мии своей не имеют уже совершенно ничего русского. Чем в семье народ-
ных языков является воляпюк, этот выдуманный, искусственный язык, ког-
да-то нашумевший и теперь всеми забытый, тем же является в системе евро-
пейских государств и наций интернациональная социал-демократия. Она
«международна» в смысле «вне»-народности. Это партия ене-народная и без-
народная. Монархическая партия, конечно, гораздо национальнее ее. Но она
уже тем грешит против русского народа, в том является отщепенцем от него,
что она есть страстно-политическая и сухо-политическая партия. А русский
народ, можно сказать, умер бы во всем своем дорогом обличье, умер бы в
своем великом и особливом историческом призвании в тот момент, когда он
объявил бы себя политиком, и только политиком. Эта рамка слишком бедна
и слишком неглубока для русского народа.
Обе партии поэтому мы не можем назвать «русскими», «народно-рус-
скими». Отвергая совершенно лозунги и программу левой партии, которая
ныне разыскивает себе квартиру в Англии, мы и в правой партии берем только
ту небольшую дробь ее, которая выражает собою уголок народного миросо-
зерцания. Мы отвергаем ее в ее излишней патетичности и в том, что она не
считается с действительностью. Мы отвергаем ее в ее антиконституцион-
ности. Русский народ, с его большими душевными глубинами, в то же время
есть народ-практик и утилитарист. На земные вещи он смотрит совершенно
трезво. И для него совершенно очевидно, что, какова бы ни была Дума в ее
крупных недочетах, в ее увлечениях, в ее неосторожно срывающихся сло-
вах, тем не менее одну функцию она выполняет исправно: она действитель-
но дает Петербургу и всему свету почувствовать нужду народную и подлин-
ную народную жизнь. И не только дает это почувствовать, но принудитель-
но клонит сообразоваться с этим. На первый раз этого достаточно. И этого
совершенно нечем заменить. Народ наш очень скромен, не криклив, но думу
он умеет думать. Можно быть совершенно уверенным, что он критикует, и
очень критикует, деятельность Думы, нисколько не неся своей критики на
митинги. Что это так, можно видеть и в изменившемся характере и направ-
401
лении вторичных выборов во вторую Думу, куда послзно мною умеренных
и спокойных представителей, и в этом общем наказе новым депутатам: «Бе-
регите Думу». Ведь только глупый не видит в этом скромном наказе дели-
катного указания, что эксцессы первой Думы не пришлись по вкусу народа,
что он против крика и оскорблений правительства, что он хочет и ожидает
увидеть своих выборных за плодотворною и за дружелюбною с правитель-
ством работою над благом народным и государственным. Это вовсе не было
советом политической осторожности, — такие тонкие и кривые ходы вне
созерцания народного. Народ всегда прям; и он прямым словом сказал, что
ему просто не нравится шум и скандал, противно оскорбление для оскорб-
ления; что, признавая достоинство во всяком человеке, признавая его даже
в уголовном преступнике, он хочет, чтобы это человеческое достоинство было
признано, соблюдено и не оскорблено и в правительстве, в правительствен-
ных лицах, в министрах. Вот что сказал народ в скромном и деликатном
своем предостережении. Это предостережение не политика, не политикана.
Это напутственное слово нравственного, доброго, совестливого человечес-
кого существа. Но в нем целая программа.
Народ не живет и не может жить нервами, нервничаньем. Он живет нуж-
дами своими. Совершенно неоспоримо, что конституция приближает удов-
летворение народных нужд, что народом это почувствовано, и можно без
всякого риска сказать, что народ русский уже есть конституционный народ
по вкусам, по стремлению. А следовательно, и партия, собирающаяся в
Москве, есть только одним уголком своим народная, а в остальной програм-
ме своей, в своих нервах и эксцессах, тоже без-народная и продииво-народ-
ная. По доброму же наказу, данному своим депутатам, русский народ глубо-
ко и здраво конституционен и по всему духу своему, законному и упорядо-
ченному. Бог даст, и он сумеет быть конституционен не менее английского
народа, к которому в Европе он наиближе всего подходит по здравомыслию
и совестливости, по спокойствию и дару доброй шутки. Поверим этим зало-
гам, поверим им более, чем кадетским и товарищеским выкликам и трезво-
нам; напрасно они воображают, что «истинно конституционные» только они.
СУДЬБЫ РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА
«Помогай себе сам — и Бог тебе поможет», «умей сам бороться — и все побе-
гут тебе на помощь» — эти ходячие выражения хорошо объясняют психоло-
гию и механизм исторического успеха. Все как-то льнут к сильному борцу;
да, наконец, сильному борцу и судьба помогает. Сильный борец не может не
иметь в конце концов успеха, хотя бы ему и приходилось долго бороться за
него. В конце концов он занимает первенствующее или очень видное, влия-
тельное положение; его все видят, никто с ним не шутит, все с ним — охотно
или против воли — сообразуются. Вот уже полвека русский консерватизм
не имеет общественного успеха. В 13-летнее царствование императора Алек-
402
сандра III он имел перевес, но только правительственный, деловой, а не идей-
ный и общественный. Общество уступило силе, не согласившись с силою.
Казалось бы, этого времени было достаточно, чтобы консерватизм мог раз-
вернуть свои духовные силы, выдвинуть идейных своих обоснователей, со-
здать вокруг себя целую литературу и, наконец, вдохнуть свой дух в по-
эзию... Нужно ли говорить, что ничего подобного не случилось. «Московс-
кие Ведомости» редакции г. Грингмута и не только мало читаемые, но и
мало разрезаемые журналы «Русский Вестник», «Русское Обозрение» и
«Наблюдатель» составляли «литературное приложение» к торжествующей
реакции. Никто за ними не шел. Никто даже их не слушал. Консерватизм
был фактом, не перешедшим в идею. Он не рос, как растение, а лежал мерт-
вым камнем. И мертвым камнем давил на грудь русской земли. Именно в
это время начались хронические голодовки, начался упадок центральных
великорусских губерний, — и мы совершенно не помним, чтобы это отозва-
лось какою-нибудь нравственною болью или хотя бы государственною оза-
боченностью в консервативной литературе или печати. Она была озабочена
чисто полицейскою заботою: не пропускать в печать или оспаривать уже
появившиеся в печати сообщения об ужасных картинах народного голода,
заменить физиологический термин «голод» хозяйственным термином «не-
дород», да не допустить либеральные земства и либеральных частных лю-
дей до непосредственной, прямой помощи голодающим.
Народ видел и вся Россия пережила ужасное зрелище, что консервато-
ры, охранительная Россия завела, можно сказать, гнусный спор у деревенс-
кой заставы с людьми, пришедшими на помощь этой деревне. Очень может
быть, что помощь была неумела, недостаточна. Это в надлежащих размерах
и испытано не было. На глазах народа произошел отказ и уверенье охрани-
телей, что «голода нет, а есть недород». Факта этого невозможно забыть.
Давно ощущался в России недостаток надельной, крестьянской земли.
Создалось переселенческое движение. Опять же общество бросилось помо-
гать переселенцам, — мало ли, много ли, но помогать. Важно усилие и его
нравственный смысл. И опять же охранители и консерваторы стали попе-
рек этого усилия и около обнаженного и страдальческого факта народной
жизни, здорового и нормального передвижения великорусского населения
на Восток, устроили какую-то дипломатию и мелкое политиканство, пута-
ясь сами в недоумении, либерально или консервативно это переселенческое
движение и нужно ли помогать ему или задерживать его. И то помогали ему,
то задерживали. Все это связывалось с мелкою дворянскою политикою. Когда
уходили на Восток голодные желудки, то вместе с ними уходили и дешевые
руки, дешевый труд. А помещики, работавшие наемным трудом, естествен-
но, не хотели упускать дешевые руки.
Все это было слишком очевидно.
Консерватизм русский с минуты на минуту умирал, он хирел, как чахо-
точный, в этих усилиях оправдывать каждый шаг бездарного правительства,
которое само не имело твердой, решительной и, главное, сколько-нибудь
403
творческой политики. Книги, газеты, журналы консервативного направле-
ния сделались глубочайше антипатичны русскому обществу, которое, не бу-
дучи посвящено в подробности, все-таки не могло не заметить крупных кон-
туров государственной деятельности.
Практически консерватизм торжествовал, идейно умирал. Умирали вся-
кие симпатии к нему. В Англии есть тори: но много ли бы от них осталось,
если бы они вздумали хотя раз прикрыть в печати факт голода переименова-
нием его в «недород»? Там консерваторы-тори борются с либералами-вига-
ми; но Англия говорит об обеих своих великих партиях, что они сопернича-
ют между собою в любви к Англии, в сбережении английского счастья и
чести.
Вот этой-то любви к народу и нет у русского консерватизма. И от этого-
то русский консерватизм слабее консерватизма всех западных стран, не го-
воря уже о классической в этом отношении Англии. У нас он не имеет ника-
кого общественного распространения. А между тем в политике консерва-
тизм является тем же, чем груз в корабле. Он есть и драгоценная ноша ко-
рабля, и сообщает стойкость и ровность его ходу. Консерватизм, ни малейше
не служа правительству, и уж особенно правительству своего переходного
момента, не имея вообще прямых с правительством связей, охраняет все
доблестное национальное, все накопленные веками сокровища культуры,
быта, веры, государственности, и вместе уже простым фактом привязаннос-
ти к этому прошлому и сущему, к наличной действительности и реальной
истории, дает не только могущественный, но и всемогущий отпор всячес-
ким фантазиям, всяким личным порывам, ветрам и бурям партийного и круж-
кового происхождения.
Англия свободна, культурна, консервативна. Мы особенно настаиваем
на том, что она есть классическая страна гражданской и личной свободы; и
вместе с этим, в глубокой связи с этим, она есть классически-консерватив-
ная, классически-охранительная страна.
Россия — глубоко рабская страна, в исповедании, в печати, в обществен-
ных движениях, в публичном слове. Мы говорим, конечно, не об этих пос-
ледних двух годах, мы очерчиваем «профиль страны», как он сложился у
нас за два последние века. И с этим глубоким, униженным рабством связано
то, что Россия есть самая «либеральная» страна, где, говоря вульгарным язы-
ком, всякий гимназист 6-го класса «за пояс заткнет» Вольтера, Руссо, Бюх-
нера, Ренана и вообще всех западных «свободных мыслителей», сколько их
там ни было и где бы они ни были. Конечно, «за пояс заткнет» не умом и
талантом. Нет! Ни писать, ни говорить он не умеет. Не в этом дело. Но «Бог»,
«правительство», «законы», «государь», «Евангелие», «Библия» — все это
им так раскритиковано, что и не снилось никакому Ренану.
Страна бесталанная. Страна рабская. Страна либеральная или, точнее,
«ух как либеральная».
Вот наша милая дичь, которую преодолеть предстоит нашей новой граж-
данственности. Сколько десятилетий на это потребуется! Скольких усилий,
404
каких подробных, в каждом доме, в каждой семье! Это мелочная, упорная
борьба, которая лежит на каждом гражданине; но одна только эта борьба и
может вывести Россию на свет Божий из теперешнего болота.
Мы глубоко нуждаемся не в политическом консерватизме, а в культур-
но-народном консерватизме. Не в том консерватизме, которому служил Кат-
ков, а в том консерватизме, которому, напр., служил В. И. Даль, собиравший
всю жизнь народную мудрость в пословицах и собравший свой изумитель-
ный «Толковый словарь великорусского языка», в том консерватизме, кото-
рому служил Пушкин, который сказался в «Войне и мире» и в произведени-
ях Достоевского. Вне сомнения, они первые поднялись бы против «полити-
ки» и, в конце концов, даже мелкого политиканства Каткова и Грингмута и с
отвращением отвернулись бы от «партийной тактики» кадетов, сочиненной
для умной партии неумным профессором. Мы серьезно думаем, что советы
г. Милюкова составляют несчастье для той образованной группы русских
людей, которые, может быть, против воли скрещены в узенькую кличку «к.-д.»
и, вероятно, показались бы гораздо умнее, чем теперь, если бы они про-
сто и решительно захотели быть только русскими образованными, культур-
ными и свободными людьми. Но оставим их и вернемся к той основной
нашей мысли, что в политическое формование России, какое началось после
17 октября, не вошло почти ничего из того классически умного, что нам
завещали в духе своем и в творениях своих люди пушкинского склада, пуш-
кинского духа, — духа пушкинских творений. Мы надеемся, что говорим
нечто совершенно конкретное и вместе всеобъемлющее, произнося
единственное имя Пушкина. Это определеннее всякой программы, и вместе
это так далеко, что хватило бы до конца нашей истории.
О всех этих темах весьма и весьма следует подумать на съезде монархи-
стов в Москве. Их будут слушать, их будут критиковать. И у населения, к
которому монархисты будут обращаться и писать ему в своем роде манифе-
сты или прокламации, и у целой России, которая будет к ним присматри-
ваться, естественно возникнет вопрос: «Что же именно сделали монархис-
ты для России?» Они указывали на монумент Минина и Пожарского, вспо-
минали Сусанина. Но и сами Минин и Пожарский были до всяких съездов,
и вообще их великий подвиг был просто русский подвиг, честное и доблес-
тное русское дело, без всякой партийности. Они служили русской земле, в ее
всеобъемлющем значении.
ДУМСКИЕ ИДЕОЛОГИ
Нет сомнения, что в текущую фазу прения по земельному вопросу, почему-
то именуемому «аграрным» вопросом, проходят в Думе свою литературную
стадию. Нужно депутатам изложить мнения, сказать свой взгляд, т. е. устно
произнести две-три страницы печатной статьи. И время Думы уходит на
выслушивание этих произносимых статей, без всякой мысли самих произ-
405
носящих ораторов о том, чтобы их речи имели какое-нибудь практическое,
жизненное значение. Так, от имени группы социалистов-революционеров в
лице 102 депутатов г. Мушенко «сотрясает воздух» тою алгеброю простей-
ших юридических и экономических понятий, с которою единственно и ис-
ключительно оперирует вообще всякий социалист и весь социализм. Для
социализма люди — не живые личности, а немые пешки; для него нет нем-
ца, француза, нет также и русского, а есть какой-то «человек», homunculus.
Человек этот — без рода, племени и истории. Голова и сердце если не срезы-
ваются в нем, то отрицаются в какой-либо своей значительности. Сердце —
орган кровообращения, а голова... Ну, голова нужна постольку, поскольку на
ней растут уши, которыми будущий индивид станет некогда выслушивать
приказания своего социального начальства. Значащи в гомункуле только
желудок и руки, потребительный желудок и производительные руки. На этой
стадии, при отрицании истории, при отрицании государства, при небытии
отечества и цивилизации, кому вообще и чему нужны эти выхолощенные,
опустошенные, глубочайше бездарные по самому принципу «потребители-
производители»? Никому и ничему они не нужны. Себе нужны. Но, спра-
шивается, почему десятки миллионов русского живого народа, живых рус-
ских лиц, сейчас обитающих на нашей земле, должны из кожи вылезать вон
и быть готовыми произвести кровавую резню или подвергнуться таковой
ради благополучия таких десятков миллионов, но уже очевидных дикарей,
которые на вопрос, что такое «государство» и «отечество», что такое «вера»
и «Бог» — моргают глазами и отвечают элементарными: «Мы умеем есть» и
еще: «Мы умеем работать». В самом деле, это довольно принципиальный
вопрос: почему мир живых наций, сейчас обитающих Европу, может быть,
и несчастных, но одухотворенных, но благородных, которым, по старому
выражению, «ничто человеческое не чуждо», должен удобрять землю, дол-
жен стать мостовою, по которой пройдет к своим завтракам и обедам это
«человечество будущего», со своими ручищами и брюшищами, необразо-
ванное, некультурное? Ведь других тем, кроме своей утробы, у социализма
нет?! Ну, какие темы? Превращение коровы, то есть мяса коровы, в челове-
ка, то есть в человеческое мясо. Из одной говядины вырастает другая говя-
дина — вот и все.
Смоленский депутат г. Опочинин сказал, что все «отрицающие право
собственности в Думе поднялись бы с топорами на китайцев, которые при-
шли бы занимать русские земли», — и следовательно, что эти отрицатели
признают право собственности, но приурочивают его к государству. Но он
мог бы досказать, что если, может быть, и не придут китайцы с Востока, то
во всяком случае придут «пролетарии» с Запада; придут безземельные из
Германии, из Австрии, из Италии и из Финляндии, где земля камениста и
холодна, на обильную Россию, чтобы занять ее поля или огромную часть
полей, а русские социалисты с бомбами и «мирные» никак не дадут «под-
нять топоров» против них. Дело в том, что отрицание частной и личной
собственности — это и есть социализм, его суть; а социализм — явление
406
всемирное и государств и наций не знает. «Пролетарии всех стран — со-
единяйтесь!» и «В борьбе обретешь ты право свое». Торжество социализма
в России, выразившееся хотя бы в социализации земли, приведет сейчас же
в движение социальные массы всего Запада, где пока еще у них претензии
есть, а руки коротки; и все «братья-пролетарии» потянутся к русской зем-
ле, на которой им ничего не ответят и нечего будет ответить с социалисти-
ческой точки зрения. «У вас есть, у нас нет: давайте делить ваше». Совер-
шенно точь-в-точь так же и по тем же мотивам, как теперь крестьяне пред-
полагают поступить с помещичьею и вообще с частновладельческою зем-
лею. Социализм — всемирная идея, точнее, — всемирное движение. Отрицая
суть государств, он снимает границы государств. «Земля Божия», т. е. там-
бовская земля, не есть непременно русская, но, напр., и немецкая. Мужич-
ки в Г. Думе на это должны оглянуться и к этому приготовиться. На русские
«топоры», несомненно, найдутся покрепче сделанные немецкие «топоры»,
и так как техника и сноровка ни в коем случае не на русской стороне, то
русским во всяком случае придется очень плохо. Да и населения в Запад-
ной Европе 300 миллионов, так что «золотая заря» социализма выйдет та-
кою кровавою зарею для России, перед которою кровопускание монголов в
XIII веке было сущею шуткою. Пока длятся в Думе или на столбцах «Това-
рища» литературные беседы о «дарах Божиих для человека», все выходит
гладко и сладко; но когда дело дойдет до окончательного дележа «даров
Божиих», — и угрюмый финн, и желтолицый китаец, и дюжий немец или
латыш столкнутся плечом к плечу с русским недоедающим крестьянином,
тогда около социальных роз, которыми пока все одуряются, покажутся и
социальные шипы, от которых все завизжат. Но визжать будет поздно и
просить и молить некого, ибо — в случае успеха — никого не останется,
кроме командующих «товарищей», для которых немец, конечно, все едино,
что русский. Да и в команде вообще окажутся международные человеки,
большею частью смуглых физиономий. Вот тогда русские «социалисты»
деревенского пошиба изопьют горечь со дна чаши, с которой они пока сли-
зывают верхние сливки.
Бог спасет, мы верим, Россию от этого несчастья и безумия.
КАДЕТСКАЯ КРИТИКА РЕЧИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
Кроме голоса государственной необходимости и народной нужды, в аграр-
ном вопросе замешалось и сильнейшее «классовое чувство» — классовое
или сословное соревнование, зависть, недоброжелательство, которое хло-
почет не о том одном, как себе помочь, но как «доехать» другого, своего
векового недруга. Государство, которое не знает «врагов», а знает только
подданных и граждан, не только не может стать на эту точку зрения, но не
может и допустить ее к властному участию в разрешении вопросов государ-
407
ственной и народной важности. П. А. Столыпин в своей речи по земельному
вопросу совершенно ясно выразил, что у нас «хиреет» крестьянство, что у
нас мужицкий мир — «больной» мир, и больной от малоземелья. Тон его
слов в этой части речи гораздо многозначительнее и, смеем думать, нрав-
ственнее дешевеньких патетических выкликов газет и многих депутатов:
дешевых, мы говорим потому, что эти выклики ни к чему не обязывают вык-
ликающих, ничего у них не отнимают и, словом, не содержат активного или
пассивного риска. Это голоса тротуарных фланеров, которые указывают го-
лытьбе на богатых: «Чего не пользуетесь моментом». Напротив, в устах пре-
мьер-министра слова о «больном, хиреющем крестьянстве» звучат и гроз-
ной тревогой, и нравственной болью, и политическою готовностью посто-
рониться перед этою «болью» до пределов крайней возможности. Только
целость, величие и устойчивость России выше нужды «многочисленнейше-
го класса» населения, но все же — класса, коего выше стоит целое. Целость,
величие и устойчивость России и составляют те «пределы возможного», до
которых правительство может отступить и далее которых оно не вправе от-
ступить, оставаясь верным себе и не становясь предателем целых истори-
ческих классов населения, менее численных, чем крестьянство, но ни ма-
лейше ни в чем не повинных, чтобы их приносили «на заклание» кому бы то
ни было и чему бы то ни было. Право, справедливость имеют свои «авто-
номные» принципы, которые никак не могут уступить никакой материаль-
ной нужде. Голод просит о помощи; но когда голодный отнимает у имуще-
го кошелек с деньгами, он из объекта филантропии переходит в объект уго-
ловного права.
«Речь» в передовой статье называет речь П. А. Столыпина «крупным
событием дня как по своему содержанию, так и по внешним условиям ее
произнесения». Указывая на то место ее, где премьер-министр признал воз-
можною и полезною «принудительность отчуждения» для уничтожения че-
респолосицы, или свободного доступа крестьянам к водопою, и вообще для
урегулирования мелких сельских и деревенских нужд, газета едва ли с ис-
кренним торжеством трубит, что это знаменует собою отступление от заяв-
ления, что принудительное отчуждение недопустимо. Неужели газета серь-
езно не усматривает, что и в первой декларации перед первою Думою пра-
вительство не отвергало возможности частичных отчуждений, решительно
всегда практиковавшихся им, а отвергло оно только общую идею широкого
отчуждения, совершенно отвергнутую и П. А. Столыпиным. Но газета, ста-
рясь что-то затушевать, принимает вид победителя, не одержав никакой по-
беды. Она по обычаю взбалтывает уксус и мед, мешает желчь и сахар, хва-
лит и порицает, шипит и льстит в одно и то же время и видом какой-то одер-
жанной победы едва ли не прикрывает намерение серьезного отступления.
Она очень хорошо понимает и предвидит, что решительные и бурные насто-
яния Г. Думы на «ограбном праве», которые уже составили бы не предваре-
ния социальной революции, а самую фазу социальной революции, всенеп-
ременно и безусловно будут иметь последствием роспуск Думы; что устами
408
председателя Совета Министров правительство заявило, что оно ни в каком
случае не допустит насилия одного класса населения над другими, и что,
пока у кормила власти находится человек с твердым умом, — оно от этого
своего заявления не отступит; и что, следовательно, нет другого выбора для
теперешнего состава Думы, как или разойтись в качестве частных обывате-
лей по домам, или принять ту точку зрения на аграрный вопрос, которую
выразил П. А. Столыпин в словах, что вопрос этот можно не «разрешить», а
«разрешать». Все должно уйти в процесс, в работу; все должно идти в фор-
ме системы законоположений и мероприятий, постепенных, последователь-
ных; и, словом, что Думе нужно отказаться от метода: «разом налегли и раз-
решили», «ограбили и осчастливили». Газета, затушевывая эту необходи-
мость отказаться от пламенных чаяний «левых» и, в сущности, выражая со-
гласие с приглашением премьер-министра работать долго и постепенно над
улучшением быта крестьян, — говорит, что речь такими-то и такими-то не-
достатками и неосторожностями (очень темными в изложении газеты), к
сожалению, «произвела впечатление совершенно обратное тому, какое она
объективно могла бы вызвать», и приглашает думцев и свою партию «серь-
езно и долго поработать», прибавляя и предостерегая, что «бросать эту ра-
боту в ответ на речь Столыпина было бы явной нелепостью». Словом, «мы
вас не уважаем и вас ругаем, хотя втайне согласны с вами» — этот постоян-
ный свой тон и свой смысл «Речь» выдержала и на этот раз. Совсем бы хоро-
шая партия эти кадеты, да только не разберешь, маска ли в них говорит или
то, что под маскою. Всегда два языка, два голоса, — наружу и шепотком.
Обещая позднее приступить к выяснению «научной и практической
ценности» взглядов на земельный вопрос, высказанных П. А. Столыпиным,
газета дает место как бы для ответной речи пресловутому Кутлеру. Но что
же это за выцветший оратор, за полинялая бездарность. Этот ex-министр и
ex-социалист есть вовсе не критик чужих мыслей и взглядов, как полагает о
нем газета и партия, а жалчайший типографский корректор, путающийся в
описках и недомолвках, поправляющий почти стиль чужой речи, ее отделку,
— без всякой попытки спорить по существу и без всякой цельной мысли в
собственной голове. Г-н-де Столыпин грешит тем, что считает социалистов
недостаточно «государственниками», тогда как они-де вполне государствен-
ники. Точно г-н Столыпин защищал в Думе ученую диссертацию, а Кутлеру
предоставлено утвердить или не утвердить его в степени магистра по поли-
тической экономии! Далее, видите ли, у г-на Столыпина опять встречается
противоречие: с одной стороны, он приветствует ту часть программы каде-
тов, где они говорят, что крестьянам следует предоставить самим на местах
выработать полезную им форму землевладения и вообще самим устроиться
с полученною землею, а с другой стороны, он говорит о наследственном
закреплении за крестьянами земельных участков. Но ведь он говорит об этом
как о желательном, а не как о чем-то принудительном, обязательном! Он
ясно и раздельно указал в своей речи, что община пусть сохраняется там,
где она жизнеспособна и приносит свой древний хороший плод; но что не
409
надо держать насильственно в общинных формах землевладения те местно-
сти, где община, так сказать, уже выветрилась, исторически омертвела, где
она всем вредит, всех отягощает, никому не приносит пользы, кроме тунеяд-
цев, лентяев и дармоедов. В-третьих, г. Столыпин противоречит себе в том,
что, с одной стороны, настаивает на сохранении частной собственности, а с
другой — признает принудительное отчуждение в тех случаях, когда оно
нужно для уничтожения чересполосицы и проч. Г. Кутлер торжествует. «Если,
— аргументирует он, — принудительное отчуждение нарушает идею соб-
ственности, то, очевидно, оно должно быть отвергнуто как для расширения
крестьянского землепользования, так и для его улучшения. И наоборот, если
отчуждение допустимо для устранения чересполосицы, то нельзя отвергать
его для расширения крестьянского землепользования».
Ах, мудрец, мудрец! Любой гимназист мог бы ему объяснить, что в од-
ном случае будут взяты у землевладельцев кусочки земли, не жизненные
для их владений, а в другом случае будет взята вся земля целиком, и разве-
разве будут оставлены обрезки прежним владетелям. И что есть разница в
возгласе: «Снимите сюртук», когда это говорит портной, желающий снять
мерку или взять сюртук в починку, и когда говорит это «экспроприатор»,
уносящий снятый сюртук под полою.
Линялый человек и линялые речи...
«ПРИСЯЖНЫЕ» СВЯЩЕННИКИ
И «ПРИСЯЖНЫЙ» МИТРОПОЛИТ
К инциденту
с депутатами-священниками
Судьба нашей церкви слепо и неудержимо толкается к какому-то роковому
исходу... События, люди, общий ход дел и частности каждого дела, все скла-
дываются так, что в недалеком будущем, очевидно, будет всенародно по-
ставлен вопрос о смысле церкви и правде в церкви... Ибо во множестве слу-
чаев русское сердце не видит в церкви даже и той наименьшей меры осмыс-
ленного и правдивого, без которой люди не находят возможным ведение ка-
кого бы то ни было житейского, обыкновенного дела.
12 мая «святейший правительствующий Синод», как он официально
именуется, имел суждение о священниках-депутатах, «принадлежащих к
крайним революционным партиям», которые в заседании Думы 7 мая доз-
волили себе «показно отсутствовать при обсуждении запроса по поводу за-
говора, угрожавшего жизни государя императора, и этим действием явно
уклонились от порицания замыслов цареубийства».
Таково обвинение, едва ли не содержащее в себе несколько предумыш-
ленных клевет. Что значит «показно отсутствовать» и чем таковое отсут-
ствие отличается от обыкновенного отсутствования, конечно никому не воз-
410
браняемого? «Крайние революционные партии» имеют в программе своей
вовсе не одну «революцию», в смысле покушения на пресловутое «ниспро-
вержение» драгоценных «основ», но и еще целый ряд совершенно мирных
пожеланий, напр. в области аграрных отношений, урегулирования труда,
урегулирования отношений между капиталом и рабочими, и проч, и проч.,
каковые, конечно, позволено разделять всякому, и в том числе священнику.
Наконец, только в «крайних революционных партиях» из всех фракций Думы
содержится отрицание или, вернее, ослабление принципа частной, личной
собственности, тот призыв к «общению в имуществах», который составлял
пафос древнехристианской жизни, который и до сих пор остается в церкви
заветом первоапостольского века. Священники — члены Думы, нисколько
не отрицаясь идеалов священничества, имели право по всем этим пунктам
примкнуть к «крайним революционным партиям», так сказать, примкнуть к
нравственно-идеалистической, «духовной» стороне их.
Итак, Синод собрался и судит. «Исходя из положения, — сообщает пе-
чать, — что по существу пастырского служения со священным саном нераз-
рывно связано уважение к существующей государственной власти и госу-
дарственному строю, а тем более уважение и нелицемерная преданность
государю императору, как помазаннику Божию, на верность которому свя-
щеннослужители не только присягают сами, но и обязаны приводить дру-
гих к присяге, — Святейший Синод нашел недопустимою принадлежность
священников к политическим партиям, забывшим долг присяги и стремя-
щимся к ниспровержению государственного и общественного строя и даже
царской власти».
Вот в чем дело, значит. Священники-депутаты недостаточно ярко по-
мнили, а Синод им напомнил теперь, что они суть «присяжные священники»,
— «принесшие сами и приводящие других к присяге», содержащей некото-
рое верноподданническое исповедание, конечно, чисто политического и
нисколько не религиозного характера. Казалось бы, священник сообщает
политической присяге религиозную санкцию. Но русский народ отныне не
без смущения должен узнать, что, по разъяснению иерархов церкви, напро-
тив, сам священник заимствует свое священство от той присяги, к которой
он приводит людей; что эта присяга, так сказать, автономна, свята и до того
небесна и божественна, что не только стоит сама по себе, но на нее опирает-
ся и священнический сан.
В самом деле, Синод поручил своему первоприсутствующему, митро-
политу петербургскому, вызвать означенных священников-депутатов и по-
требовать от них: 1) объяснения отсутствия в упомянутом заседании Думы,
2) выхода из партий, к которым они принадлежат, с объявлением о том пуб-
лично, 3) или, в противном случае, лишения сана.
Русский народ, таким образом, не без смущения узнает, что зерно «свя-
щенничества», по которому определяется возможность или невозможность
для человека совершать литургию, крестить, исповедовать, причащать и
хоронить, его правоспособность или неправоспособность на это, — опреде-
411
ляется не ношением в себе идеалов Христовых, не верностью исповеданию
Христа, а верностью политического исповедания, определенным образом
выраженного в принадлежности к партиям «не левее октябристов», как это
великолепно разъяснил им высокопреосвященный митрополит Антоний на
официальном приеме 14 мая, к которому мы и переходим.
Исполняя синодальное постановление, 14 мая петербургский митропо-
лит, он же и первенствующий член Синода, вызвал к себе депутатов-свя-
щенников: отца Архипова, о. Гриневича, о. Колокольникова и о. Тихвинско-
го. На приеме присутствовали, «аки свидетели» и, может быть, «аки» согля-
датаи, протопресвитер придворного духовенства и духовник государя Яны-
шев и член Синода еп. Иннокентий.
Им был прочтен синодский указ с этим «aut-aut», «или-или»: «или свя-
щенник — и тогда закрыт вход в определенные, не нравящиеся министерству
Столыпина партии», или «оставайся в неприятной партии, — но тогда сни-
май священство». Из вызванных священник Колокольников заявил, что он
«считает себя беспартийным, так как не входит ни в одну из думских фрак-
ций». Митрополит возразил о. Колокольникову, что хотя он и принадлежит
к беспартийным, но, однако, не к правым». Таким образом, «священничес-
кий сан» уже связался не с отрицанием предполагаемо-вредных партий, а
приурочился к исповеданию определенных взглядов. Не «так ли веруешь,
как указал И. Христос», а «так ли думаешь, как политически выгодно мини-
стерству, находящемуся сейчас у власти». Священники смутились. Ведь они
выбраны народом и в Г. Думе обязаны защищать те народные интересы, для
проведения которых народ и поручил им депутатскую функцию; и функция
эта, вытекающая из всего нового государственного строя, никак не мало-
важнее той «епархиальной зависимости» от своего местного архиерея, к
возврату в которую «имел суждение» Синод 12 мая. Дело в том, что Синод
решил, в случае неснятия добровольно с себя сана означенными депутата-
ми-священниками, «направить дело их на усмотрение епархиальных на-
чальств, из подчинения которым они, как продолжающие быть священника-
ми, не освобождены и в их положении членов Г. Думы». Ясно, что это «епар-
хиальное начальство», во исполнение прозрачного желания Синода, и за его
спиною министерства Столыпина, — отзовет этих депутатов-священников
назад, хотя бы в форме «осуждения на послушание», как это случилось со
свящ. Петровым, или же просто и само снимет с них сан. Причем Синод
«умоет руки», сославшись, что это «сделала консистория, а не мы»... Де-
лопроизводство известно, и ничего в нем нет неизвестного для священни-
ков-депутатов. А у них за спиною детишки, семья и этот ужасный закон, по
которому лишенный сана священник не может получить никакого места
службы в своей губернии в продолжение десяти лет. Затосковала душа свя-
щенников, народных представителей, семьянинов. Кто за них заступится
определенным образом, когда они по минованию срока депутатских полно-
мочий очутятся на улице с оравою голодных детей? Перед ними был отец их
духовный, — высший возможный духовный отец в России, тот, который как
412
бы над всею ею несет крест и Евангелие. Священники обратились к нему с
недоумением, — неужели они вправе входить только во фракцию монархи-
стов, как известно украшенную несколькими погромщиками, т. е. людьми,
возбуждающими к пролитию массовой крови? Высший пастырь душ в Рос-
сии в ответ на это указал им, что кроме партии Пуришкевича и Крушевана
еще есть партия октябристов, вождем которой состоит А. А. Столыпин, род-
ной брат премьер-министра П.А. Столыпина: «И если священники объявят
себя членами этой партии и будут голосовать с нею и говорить в один тон с
нею, то это также душеспасительно, священно, божественно и гармонирует
с тем, чтобы они исповедовали умирающих, причащали грешников и крес-
тили младенцев: ибо тогда руки их не загрязнятся ни в чем нечистом и со-
хранят силу претворять вино и хлеб в кровь и тело Христово».
Священники были утешены... Отец — отцом, но и начальник — началь-
ником. К 18 мая митрополит предписал «духовным сыновьям своим» дать
определенный письменный ответ о том, что они «по совести отказываются
от своего прежнего образа мыслей и действий». И в заключение указал, что
«формальный выход из фракции при сохранении настоящего образа мыслей
будет лицемерием, которое усугубит их вину. Если же к 18 мая они не дадут
удовлетворительного ответа на предложение изменить свой образ мыслей,
то им будет предложено снять сан свой».
В церкви и в святоотеческой литературе есть понятие «духовного опы-
та». По «духовному опыту» поступают святые отцы и на основании его
дают советы. «Так испытали и вот говорим вам»... От 14 мая, когда митро-
полит Антоний «духовно» беседовал со священниками, осталось только
четыре дня до 18 мая, когда ответ должен быть получен: и в эти четыре
дня они должны «изменить свой образ мыслей», без сомнения вырабаты-
вавшийся у них всю их зрелую жизнь, с оговоркою поступить так «по сове-
сти» и «не лицемерно», что усугубило бы их священническую и христиан-
скую вину...
И нельзя удержаться от мысли, что так советовавший и требовавший от
них митрополит Антоний сам знал «по внутреннему духовному опыту» эти
четырехдневные перемены всех убеждений... Что когда-нибудь и, может
быть, даже всегда он в четверг «верил» уже не в то, во что верил в понедель-
ник, и даже, может быть, к вечеру он вообще уже имеет только три четверти
утренних своих убеждений... Быстро изменяющийся митрополит! Так быс-
тро, что «верующие», весь русский народ, не могут не быть жизненно заин-
тересованы в вопросе, — в которую же по крайней мере сторону он так быстро
изменяется в «вере и убеждениях», дабы что-нибудь предугадать и с чем-
нибудь сообразоваться... «Пастырь душ»... «всех ведущий»... «По личному
опыту» мы, простые смертные, знаем только один способ такого быстрого
«преображения всех убеждений»: это когда их не было ни до «преображения»,
ни после «преображения», и вообще когда ничего не было, в том числе, ко-
нечно, и «преображения», а были... слова, слова и слова! — как говорит
Гамлет, или — маски, маски и маски! — как говорит Ницше.
413
Это в вере! В религии! Как стукает их «убежденный» язык, в понедель-
ник — «убежденный» в одном и в четверг — «убежденный» в совершенно
противоположном, и у этих «священников», у которых не без прецедентов
же, не без бывавших «опытов» спрошена эта перемена, и у спрашивающего
первенствующего члена церкви.
Все «по духовному опыту»: чьему? когда? Обнаружилось это в 1907 году,
когда вообще так многое «обнаружилось». Ну, а было сколько лет? «Живем
по преданию», «как святые отцы»: и как рассеять мысль, что обнаружив-
шееся в 1907 году было приблизительно тысяча девятьсот лет. С которого
времени началось? Когда неизвестно начало, — оно отодвигается в безвест-
ную даль.
«Так живем», «всегда так было»: «в понедельник — одно», «в четверг —
другое»; ибо как в понедельник, так и в четверг, во все дни недели — «ничего!»...
«Ничего», «маски и слова — это церковь»...
КАК МЫ ВСТРЕТИЛИ СВЯЩ. Г. С. ПЕТРОВА
— Неумолимая ненависть с одной стороны.
— Мстительный восторг с другой.
— Восторг именно к ненавидимому, гонимому.
— Гонение именно любимого, уважаемого.
Как эти две волны чувств встретились, столкнулись, высоко поднялись,
зашипели — и раскатились в разные стороны сегодня у варшавского вокзала.
Встречали священника Петрова. Впрочем, не встречали, а не дали встре-
тить. Но я расскажу по порядку.
Справившись по телефону, когда Григорий Спиридонович приезжает в
Петербург, я еще за полчаса до прихода поезда подъезжал к высокому и кра-
сивому вокзалу варшавской железной дороги. Верх коляски поднят. И, не-
смотря на это, какая-то мразь, сыплющаяся с неба, — не то дождь, не то грязь,
не то тающие снежинки, — течет по рукам, лицу, пачкает пальто. Пронзи-
тельный холод: утром, в 8 ч. утра, крыши домов были белые, — от снега или
от измороси — не знаю. Ветер. От раздражения и тоски я все курил, меняя
папиросу за папиросой. Наконец, вот и вокзал. Вхожу. Все пусто. Взглянул
на циферблат часов: еще полчаса осталось! «На таком холоду?!» И я разоз-
лился на себя, что не взглянул на часы, выезжая. Все от тоски и непогоды.
— Ну, ничего! Все же лучше, чем опоздать к встрече. Да и увижусь с
знакомыми литераторами. Поболтаем.
И я вошел в обширную, не очень светлую и тихую комнату, где дожида-
ется отхода поездов семейная публика I и II класса. Никого нет. «Верно,
литераторы в буфете I класса». И я поспешил туда. Но и там не было литера-
торов, и приблизительно никого не было. «Что такое?» И я вдруг с испугом
догадался, что ведь это — «станция отправления», куда меня натурально
подвез извозчик, и что, конечно, Григорий Спиридонович выйдет не на этой
414
же станции, а на «станции прибытия». Я заторопился. «Станция прибытия»
— это в том же здании, но только нужно пройти широкий, крытый стеклом
прямоугольник, куда влетают и откуда вылетают поезда, и зайти с другой,
противоположной стороны. Все меняя папироски и ежась от холода, я по-
спешил на дебаркадер и, мельком взглянув на отправляемый поезд с жи-
денькою публикою, направился в «тупичок» прямоугольника, чтобы оттуда
перейти на ту, «противоположную, сторону», около которой лежат рельсы
«прибытия». «Там, конечно, и дожидаются литераторы». И действительно,
«там», в неясной дали, где вот-вот остановиться поезду, чернело какое-то
многолюдство. — «Верно, встречу Немировича-Данченко и еще раз посмот-
рю на его красивую шубу». И забыл, что теперь уже не зимнее время, когда
мы на этом же вокзале прощались с Григорием Спиридоновичем и когда я
видел Василия Ивановича и любовался на его шубу, и что теперь уже ника-
ких шуб не носят. Но мне было так холодно, что бессознательно, шкурою, я
чувствовал зиму.
— Назад! Назад!
Я поднял голову.
— Пшел назад!
Я таращил глаза, ничего не понимая, и сделал шага два вперед, когда
моя грудь уперлась в живот серой шинели громадного человека.
Серая шинель — это полиция.
— Я, голубчик, иду встретить знакомых к подходящему поезду. Сейчас
подойдет...
— Вам сказано — назад!
— Да отчего?
— Не извольте рассуждать, а извольте исполнить, что вам приказано.
— Кем приказано? Тобой приказано? Да я на тебя и внимания обращать
не хочу.
И делаю два шага вперед. Я бы не решился так твердо, если бы не был
вполне уверен, что поезд, конечно, подходит и что, конечно, родные будут
же встречать своих родных, может быть выехавших, положим, из Варшавы
налегке, привезя им навстречу пледы и вообще теплое платье. В поезде ведь
едут женщины с детьми, может быть, едут больные и недомогающие, кото-
рым встреча необходима. Встреча, конечно, будет! Разве может подойти по-
езд без «встречающих», «ожидающих»? Ведь не случилось же в Петербурге
никакого землетрясения, чтобы отменилась или ограничилась такая обык-
новеннейшая вещь! «Нельзя встречать родных» — это все равно как «нельзя
завтракать», «нельзя обедать». «Мое естественное право», — решил я и
шагнул еще вперед.
Полицейский уже поднял руку, чтобы схватить меня за плечо; как я ни-
чего незаконного не делал, а к тому же вспомнил, что у нас есть конститу-
ция, собрался парламент и в нем обсуждается «закон о неприкосновенности
личности», то все это меня возмутило самым непритворным образом, и, дол-
жно быть, с грозящим лицом я сказал полицейскому:
415
— Попробуй дотронуться!
Не дотронувшись, он вскипел:
— Что же вы нахально лезете?
— Не сметь употреблять таких выражений! (Конституция все не выхо-
дила у меня из головы.)
— Я вас отведу...
Куда, — я не расслышал или забыл от волнения.
— Попробуй дотронуться. Там же стоят люди?
Я показал на чернеющее многолюдство, где, вероятно, был Немирович-
Данченко.
— Не велено пускать.
Помня обычные приемы либералов, я повторил их:
— Покажи письменное распоряжение не пускать!
— Какое вам письменное распоряжение?
— Такое. От начальства. Я могу думать, что твое «непусканье» есть твой
незаконный произвол.
Попутала меня конституция.
— Мне приказано не пускать. А распоряжения у меня нет. И я вас ни на
шаг не пропущу далее. Вы стойте. И я буду стоять.
Сердце у меня билось, а при бьющемся сердце неясный ум. Я бросился
в проходец за спиною у меня, снял с какой-то дверцы железный крюк и
вышел наружу, на улицу, чтобы, так сказать, обходом попасть куда нужно.
На тротуаре много полиции и вообще людно и почему-то взволнованно.
Спешу к крыльцу, к тому нормальному крыльцу, к которому подъезжают
все «встречающие приезжающих» и куда, если бы я вовремя сказал извоз-
чику, он подвез бы меня. Вокруг крыльца стоит несколько полицейских
офицеров.
С возможною учтивостью, касаясь шляпы, обращаюсь к одному из них:
— Мне нужно встретить родных. Можно пройти на вокзал?
— Это от меня не зависит. Потрудитесь обратиться к жандарму. Вот
сейчас...
И с тротуара он указал на высокую площадку крыльца, где, действи-
тельно, стояло несколько офицеров и солдат совсем другой формы и цвета
формы.
— Можно мне пройти на вокзал?
— Нельзя...
— Но другие?
— Никого не пропущено. Никому нельзя.
И так тихо, вежливо и твердо.
По «тихости»-то я и понял, что, действительно, что-то совершилось,
вроде петербургского землетрясения, в силу чего отменились обыкновен-
нейшие, непререкаемые вещи, вроде «завтраков» или вот «встречи родных»,
и что все этому повинуются, точно в ожидании какой-то грозы, вроде начала
штурма или вот что «появятся японцы»... Я оглянулся. Подходили. Отходи-
416
ли. Неудовольствие. Громкие речи. Полиции, вижу, слишком много, чуть ли
не столько же, сколько публики. Спускаюсь с крыльца, и как пронзительный
холод точно гнал куда-то, то я быстро пошел по тротуару, сталкиваясь с под-
ходившим людом, и встретил доктора, милейшего человека и «народного
демократа», — по фракции, к которой он примыкает.
Торопливо говорю ему:
— Не пускают. По-пустому пройдете.
— Но как же встретить? Я приехал с женой и дочкой встретить Григория
Спиридоновича.
— На него-то и устроена вся эта облава. Нужно как-нибудь окольным
путем.
— Идемте к тому подъезду, на станцию отправления. А там обойдем по
внутренней стороне.
Это мой путь!
— Но там тоже не пускают!
— Но не стоять же под дождем и на этаком ветру!
Мы все двинулись. И, быстро пройдя внутреннюю часть вокзала, напра-
вились к двери, выводящей на дебаркадер, к «отходящему поезду». Всего
десять минут назад я прошел здесь свободно. Но теперь стеклянная дверца
была закрыта, и перед нею в коротеньком и узеньком проходе стояло множе-
ство вокзальных служащих (не полиции).
— Нам, голубчик, пройти.
— Никого не велено пропускать.
Какой-то заговор: полиция, жандармы и, наконец, «граждански постав-
ленные» носильщики и сторожа вокзала в каком-то таинственном и диком
заговоре против общества, людей, всех приходящих и приезжающих, про-
тив всех с улицы и из публики. «Coup d’etat»1, да и только!
— Ну, и история. До чего это дико! Приезжает Петров, священник, де-
путат, ну, человек популярный. Так неужели из-за каждого популярного чело-
века, — просто оттого, что вот он «проехал» или «приехал», — чуть не
выворачивать булыжник из мостовых и не снимать рельсов конки, чтобы ни
проезду, ни проходу не было? Что это за трясение земли от такого события?
И я обратился к доктору-демократу:
— Послушайте, как это там у вас: febris intermittens — «перемежающаяся
лихорадка». Мне кажется, надо ввести еще оттенок ее: febris politialis, что
ли. Полицию трясет ознобом, как только кого-нибудь любят, почтили, ува-
жают, как только появилось что-нибудь выдающееся, поднявшееся над се-
рой толпой, как только в толпе замечаются оживление, жизнь, как только
народ улыбается, радуется. Мертв народ, — полиция живет. Как только ожи-
вает народ, — полиция начинает умирать, умирать от беспокойства, тоски и
страха за что-то, перед чем-то, чего ни назвать, ни определить даже не уме-
ет. Что за дикое явление. И как все это гадко и неумно.
1 «Государственный переворот» (фр.).
14 В. В. Розанов
417
Как чистую и солидную публику, нас не трогали. Но сбоку раздался раз-
дирающий скандальный крик, дерзкий, не жалобный. Ясно — кричал «граж-
данин».
Гражданину этому было десять лет, много — одиннадцать, и он сидел,
усталый, перед дверью, на скамейке. Верно, был послан, и вообще это был
рабочий человек, отправленный за каким-нибудь делом, с каким-нибудь по-
ручением из мастерской или от торговца к отходящему поезду. Сторожа и
ему сказали: «Уходи». Но как он был за делом послан, и, очевидно, не за
своим, то он сказал, что ему нужно дождаться, когда станет садиться публи-
ка в поезд, и тогда он сделает такое-то дело. Не разбирая и не слушая его
слов, сторожа кричали ему: «Убирайся вон!» Но как он ничего беспокойно-
го не делал и не шел в закрытую дверь, а был на «узаконенном месте», где
толпилась публика, мы, то он и сказал своим пискляво-дерзким тоном, с
этими детскими нотками в голосе, что «не уйду». К шивороту его протяну-
лась рука. «Не уйду! Не уйду! Не уйду!» — кричал он уже дерзко, скандаль-
но, страшно громко, точно в горле у него сидело сто мастеровых. «Как не
уйдешь, сволочь этакая!» И не успели мы оглянуться, как мальчонок куба-
рем полетел вдоль коридорчика.
Шум, гам, гадость. Сторожа разошлись.
— А ты чего тут?
На них поднял глаза не то мальчишка, не то барчук, в этом детском кар-
тузике с крупной надписью: «Ермак».
— Пошел вон!
— Да я ничего...
— Пошел! Пошел!
И он тоже полетел, не так энергично, как демократический его собрат,
но все-таки довольно энергично.
— Пойдемте! Какая гадость! И все это оттого, что с той стороны вокзала
сейчас прибудет священник Петров. Для чего же здесь-то, не говорю уже о
пропуске на дебаркадер, не позволяют даже сидеть или стоять внутри вокза-
ла. Озноб полиции, лихорадка потерявших голову людей или, лучше ска-
зать, у которых голова не выросла на том месте, где она у всех растет.
Мы вышли из вокзала.
— Что же, ехать домой? Такой холод!
— Но ведь поезд придет сейчас, через пять минут. И мы столько уже
зябли.
И мы побрели на «ту сторону вокзала».
— Во всяком случае, он прибудет с той стороны. И если невозможно
встретить священника Петрова, мы ему поклонимся на улице.
Говорившие, очевидно, очень любили Петрова, простой человеческой
любовью, почти без политического оттенка.
Пошли.
Навстречу бежит фигура, огромная и неуклюжая. Что-то негодующее в
самом шаге-беге.
418
— Смотрите, это Родичев, — удивился я, увидев характерное лицо ли-
дера «кадетской» партии.
— Родичев! Родичев!
— Верно, «там» не пустили, и он негодующе бежит сюда, но и здесь,
конечно, не пустят. «Прерогативы члена Государственной Думы». Ха-ха-ха!
Не пропускают встретить знакомого на вокзале! Но это хорошо, что он при-
шел и увидит все безобразие это и, конечно, зарядится негодованием на це-
лую неделю! Отлично, отлично! Нас гнали, — пускай и всех гонят! Пусть
гонят, это к лучшему, ибо озлобляет! А злоба слишком нужна!
— Злоба нужна!
И на всех лицах, под моросящим дождем, видна была эта злоба.
— У, как холодно!
— Какой ветер!
Плетемся. А тротуары уже совершенно полны народом. Перебираемся
«на ту сторону», опять к «станции прибытия», но задалеко до нее, смотрим,
гуськом едут три конных полицейских по каменному тротуару, едут и стал-
кивают народ прямо на рельсы конки. А конки так здесь и мелькают, непре-
рывно звоня.
— Нельзя даже на тротуаре стоять? Это что еще за свинство!
— Проходите! Проходите!
— Мы и идем вперед...
— Позвольте, вперед нельзя!
Это говорит полицейский офицер, тут же около конных полицейских
солдат.
— Ну, тогда мы будем стоять.
— Стоять нельзя на тротуаре, можно только проходить. Проходите, про-
ходите!
— Да куда нам проходить? На небо, что ли?
Ибо со всех сторон было сперто. Но, очевидно, идти надо было «назад»,
т.е. — попросту — брать извозчика и отправляться домой. Меня взяла досада.
И как я совершенно исправный гражданин, без революции в душе, а потому
и без страха перед охранниками, очевидно толкущимися здесь в народе, то я
сказал насмешливо учтиво:
— Что вы, г. офицер, беспокоитесь: вот мы встретим священника Пет-
рова и уйдем домой.
Он даже опешил и сказал тихо, почти учтиво:
— Пожалуйста, проходите. Мы что же, имеем приказание! Нам велено
не допускать скопища, не допускать толпящихся, толпы...
Но около него ехавший верхом (по панели!) солдат действовал без уве-
щаний, но реальнее: под мордой его большой и дорогой лошади публика
сплывала с тротуара. Я поддержал чуть не упавшего доктора-старика. Это
был один из хороших петербургских докторов, ученый. Морда лошади всех
толкала.
Все ругались.
14
419
______Вы видели: на той стороне, при «станции прибытия», солдатские лица
торчали из всех подвалов (какие-то углубления под фундаментом здания
вокзала). Везде напихано, — и точно, в самом деле, ждут нападения японцев.
В Артуре дремали, здесь настороже. Там проспали врага, но здесь удесяте-
рили внимание и уж не проспят приезда священника Петрова.
— Да что он, динамит с собой везет?
— Может, вооружен пушкой?
— Собирается стрелять? Возмущать? Бунтовать? Просто приедет со-
сланный духовным начальством священник, которого встретить приехали
его родные, друзья и многие читатели и почитатели его книг! Просто, ясно и
невинно. Для чего же полиция всех озлобляет и восстановляет против себя?
— Ничего, ничего, отлично! Чем больше злобы, тем лучше! Злоба слиш-
ком нужна!
Улица все полнела и полнела народом. Интеллигенция, рабочие, мужчи-
ны, женщины, учащиеся разных цветов мундира.
Я перешел на мостик через Обводный канал, — сейчас перед вокзалом.
Вот и этот булыжник, который я рассматривал немного лет назад, в день,
когда убит был Плеве. Это самое место мостовой, и я не могу забыть этого
вдавленного в землю, неразбитого и не разбросанного по сторонам, булыж-
ника! Камни, на протяжении полутора аршина в ширину и в длину, ушли на
вершок, на полтора в землю. Какая сила удара! Все стекла тогда у соседних
домов были выбиты, а тротуары были засыпаны точно иссеченным мель-
чайшим стеклом. Виднелось очень немного крови, чуть-чуть. Я приехал ча-
сов шесть спустя после события. Как полиция, — очень реденькая, не то что
сейчас, — была угрюма, печальна и тиха!
Я погрузился в думы...
— Ура! Ура!
— Уррра!
Громадная волна народных криков поднялась! «Слава Богу, вот все-таки
дождался!» И я быстро оглянулся назад. Широкой дугой (направление), под-
нимаясь на тот же мостик, пересекая бесчисленные здесь рельсы конок, мчал-
ся открытый экипаж. Я сейчас же узнал седую веселую, страшно оживлен-
ную голову Григория Спиридоновича, с этой вечно присущей ему лаской
взгляда и улыбки.
— Уррра-а-а!!
Народ решительно грохотал. Я и не помню такой встречи, решительно
никому не помню. Народ бежал за экипажем, вокруг экипажа. Он ехал поче-
му-то быстро, очень быстро. Священник Петров всем кланялся, держа ши-
рокую шляпу в руках.
Я снял шляпу и поклонился даровитому и любимому русскому че-
ловеку.
— Ну, теперь мы услышим его речи в Думе. Много ли взяли: все же он
будет там и будет говорить.
— Как хорошо, что мы все обозлились!
420
— Отлично, что обозлились.
— И дождь кстати, и ветер, и холод! Все вали сюда, чтобы кипела злоба,
— тем лучше!
Все смеялись. Разом почему-то всем сделалось весело.
— Это они, черти, такую встречу устроили из ненависти к Думе. Тут не
Петров, а то, что он — член Думы, и вот когда можно ему подгадить еще до
Таврического дворца, то и подгадили. О, как мы верим всему, на что жалова-
лись провинциальные депутаты, когда отправлялись сюда. Если в Петер-
бурге возможна такая гадость, под самым носом Думы и перед глазами ино-
странных корреспондентов и всего дипломатического корпуса, то что же
творится по губерниям, по уездам! Что, наконец, творится по селам!
Я выглядывал извозчика. Далеко вдали гудело «ура». Послышался то-
пот, и огромный отряд конной полиции (жандармов) показался сзади. Впе-
реди ехал в туго затянутом пальто жандармский офицер. Я загляделся. Он
был очень красив этой суровой мужской красотой, и лицо у него было раз-
гневанное и умное. Усы огромные. Голова опущенная. Он был чем-то явно
недоволен, почти разъярен.
Уж не сделал ли он «упущения по службе» и каялся? Не жалел ли, что
допустил все-таки демонстрацию, которая вышла как-то экспромтом, и выш-
ла, в сущности, удивительно, одушевленно, явно удачно, хотя и вполне не-
предвиденно? Не жалел ли, что не пустил «команду» вскачь, чтобы «очис-
тить улицу» перед самым проездом? Или, по крайней мере, наказать толпу
сейчас же вслед?
Конечно, сотни тайных глаз наблюдали и за его распоряжениями, и че-
рез час в двух-трех местах «будет доложено» об этих распоряжениях со всей
аккуратностью, точностью и, может быть, оттенком клеветы. У всех есть
«враги», не исключая даже и жандармских офицеров.
Он совсем ехал близко. Совсем серьезное лицо, ей-ей, государственное,
по крайней мере, гораздо солиднее и политичнее, нежели у Ив. Н. Дурново.
Вдруг он, не оглядываясь назад, высоко махнул левою рукою и в ту же мину-
ту стал заворачивать лошадь. Едет прямо на меня! Воображая, что он сейчас
велит ударить публику «в нагайки», я, не торгуясь, вскочил в пролетку и дал
адрес извозчику. Но задержался. Оказалось, он скомандовал назад и так же,
впереди отряда, повел его обратно куда-то, к вокзалу или куда еще, — я уже
не видел.
На этот раз «конституция» была спасена: я не был побит.
Мне казалось, что когда кричали «ура», так народно и хорошо, то
слышалась именно месть грубому и дикому, месть нелюбящему и не-
навидящему:
— Любим! Любим! Ругайтесь и плюйтесь, грозите, морозьте на холоду,
— мы все же его любим и не боимся сказать, что любим!
— И будем ждать хоть на холоду, стоять в грязи, под дождем, чтобы пока-
зать именно вам, как мы любим ненавидимого вами, кого вы считаете вра-
гом своим! За что вы нас заставили маяться, дрожать, простуживаться? Кто
421
и что вам сделал дурного, вредного? У, вы всех ненавидите! И за это вас все
ненавидят.
Для встречи своих, какого-нибудь своего архигенерала, устройте хоть
оранжерею, хоть теплицу с цветами, — никто его встретить не пойдет, никто
за экипажем его не побежит. И вы это знаете. И за это так ненавидите «встре-
чи» наших. Но перед самым вашим носом кричим «ура» и бежим по грязи,
падаем и все же бежим, с восторгом, радостью, с гневом и яростью к вам!
Все это слышалось. И я вспомнил из «Цыган» Пушкина эту песнь Зем-
фиры:
Грозный муж!
Старый муж!
Режь меня,
Жги меня, —
Ненавижу тебя!
Право, эта сцена из Пушкина точно разыгралась сегодня передо мною.
Да ведь не в том ли романтическая сущность и всего освободительного дви-
жения, что молодая цыганка-Русь разлюбила «старого мужа», которого дол-
го любила и была ему верна, и бурною страстью вспыхнула к прекрасному
юноше.
С одной стороны:
Его любовь постыла мне:
Мне скучно, сердце воли просит...
И с другой:
Он свежее весны,
Жарче летнего дня!
Как он молод и смел!
Как он любит меня!
Так обнялась молодая Россия с весной, с ожиданием, со свободой, нау-
кой. .. И пусть скрежещет зубами бессильная старость...
ПРЕТЕНЗИЯ Г. ДУМЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ
Политическая сумятица вызывает и умственную. Воспаленные ожидания
порождают самые фантастические мысли, в которых мы не находим соблю-
дения элементарнейших аксиом. Уже перед первою Думою на кадетских
собраниях, которые во множестве посещались и членами нынешнего «лево-
го блока», делилась и переделялась земля, не принадлежащая ни кадетам,
ни «пролетариям», — переделялась без всякого обращения внимания на ее
действительных хозяев, как пустующая, дикая. Так как сами кадеты по об-
щественному и имущественному положению суть буржуа, то трудно не за-
422
подозрить, что все эти мирные обещания с кафедры выкладывались ими при
полной затаенной уверенности, что правительство никогда не допустит по-
добной нелепости и несправедливости, как переложение миллиардов иму-
щества из одних карманов в другие, переложение, как говорится, «здорово
живешь», за одно «спасибо» и без всякого труда и задержки. У пролетариев
в блузах и армяках, внимавших этим медовым речам, разгорались глазки на
чужое имущество, и, бывало, они пускали злобные окрики на тех кадетских
ораторов, которые хоть что-нибудь недодавали крестьянам, например удер-
живали при прежних владетелях виноградники, вообще куски земли, заня-
тые или под растения высокой культуры, напр. находящиеся при свеклоса-
харных плантациях при соответственных заводах. «Всю, всю землю давай!»
— кричали товарищи в блузах и армяках, — и кадеты слабо возражали или
уговаривали, что высококультурных кусочков так мало, что из-за них не
следует поднимать спора с «бюрократией», так как это все равно, что ниче-
го. Но пролетарии мстительно настаивали на отнятии и культурных кусоч-
ков; земля делилась и переделялась с такою полною уверенностью, что ник-
то этому «экспроприаторскому» движению не осмелится поставить преде-
ла. В течение более нежели года мысль эта до такой степени носилась в
воздухе, что к ней все привыкли, и, как все привычное, она не оказалась
необыкновенною и не делала впечатления новизны. Повторяем, кадеты лично
и про себя каждый отлично рассчитали, что никакое правительство этой экс-
проприации не допустит и что, следовательно, они, как буржуа, и «капитал
сохранят», и «репутацию приобретут», столь необходимую в «пролетар-
ских массах» для успеха на выборах.
Много хитрости, мало чести. Но и то сказать: чему же пролетарии с
фабрик и из деревень поверили? Их поманили голым и ничтожным обеща-
нием, вся сказочность которого была бы совершенно очевидна для них, если
бы они не отвлекались от своего деревенского реализма и не вошли в харак-
терный городской туман мысли, где все понятия о земле крайне тусклы.
Что обещали кадеты? Чего требуют трудовики, пролетарии и наши трех-
цветные социалисты — «революционеры», «демократы» и «народники»?
Тут замешалась очень неточная терминология. Крестьяне требуют земли.
Им говорят: «Землю можно купить и вообще заработать; и, сознавая нужду
крестьян в земле, правительство создает условия, помогающие этой кресть-
янской работе в направлении приобретения земли, увеличения наделов. В
выработке же самых условий будут критически и творчески участвовать и
парламент, и крестьяне-депутаты». Все, что можно сделать, — очевидно,
здесь содержится. И, кроме того, очевидно, здесь содержится и все, что нужно
крестьянству. Уже в настоящее время сверх удельных и кабинетских земель,
предназначенных для увеличения крестьянского землепользования, государ-
ство в тех же целях сосредоточило в своих руках громадное количество ча-
стновладельческой земли, спешно продававшейся в этот последний год. И
можно быть уверенным, что лет через 10 очень много земель перейдут к
крестьянам. Процесс медленный и бескровный, никого не разоряющий и не
423
разрушающий национальной культуры. Но, видите ли, бескровность-то про-
екта возбуждает всего более тех, которые самое радение о крестьянской нужде
взяли в предлог для того, чтобы пустить огонь и кровь по стране, для кото-
рых «великое потрясение» земли нашей, говоря словами премьер-министра,
нужно как картина, как зрелище и игра страстей. Прожектерам революции
это, может быть, нужно; но это никак не может стать нужным обществу.
Кадеты притворно и левые довольно чистосердечно настаивают, чтобы пра-
вительство, всеми способами высмеиваемое, порицаемое и обессиленное
ими, проявило какую-то необычайную, так сказать, аграрно-диктаторскую
власть. Свои земли, в форме удельных и кабинетских, правительство уже
передало в крестьянский фонд. Лир отдал наследство дочерям, а дочери все
еще чего-то требуют. Перед чем же остановилось правительство? Тут мы и
входим в забвение такой нравственной аксиомы, без которой поступки че-
ловека или общества превращаются в сумасшествие. С напором, наивнос-
тью и наглостью «оппозиция» требует, чтобы правительство взяло что-либо
чужое и этим чужим наделило их. Правительство говорит: «Я не могу за-
конно и en masse1 сделать то, за что единолично каждый наказывается, и
наказывается по моему и вместе по всемирному закону». Если правитель-
ство, только опираясь на силу свою, сегодня экспроприирует не на свои го-
сударственные и не какие-нибудь мелочи, вроде ленты земли под постройку
железной дороги, и сделает это отвлеченно, потому что «одни богаты, а дру-
гие бедны, — и нужно помочь, бедным», то этим как бы отвлеченно арифме-
тическим поступком оно показывает путь и разрешает всякому взять «сколько
ему, богатому, нужно», взять от «чужого богатого избытка». Что нравствен-
но позволительно для государства, очевидно, позволительно нравственно и
для частного человека. Государство и остановилось, уперлось всей силой
своего государственного тела перед этой бессмыслицей и уголовщиной, бо-
лее — перед этим сумасшествием. «Пролетарии» ему говорят: «Дай нам
земли». Оно отдало, всю свою отдало. «Пролетарии» теперь говорят: «Возьми
чужую и отдай нам же!» Но как же государство возьмет чужое, когда оно
ему не принадлежит, когда это именно есть чужое, не свое! Государство мо-
жет только ответить: «Я не привыкло воровать».
Легче и рассудительнее десять раз распустить Думу, чем пойти на та-
кое дело. Это вовсе не «новый закон», проводить которые вправе Дума. Эта
повальная конфискация имуществ есть такое «землетрясение» всего соци-
ального строя, перед которым даже коренной государственный переворот
показался бы делом сравнительно малым, менее волнующим все и всех.
Ибо не забудем, что в устойчивости земельной собственности через по-
средство закладных листов земельных банков заинтересовано и все город-
ское население, вплоть до мелких собственников. Обобрать придется и их,
— обобрать мелких торговцев, врачей, адвокатов, учителей. Народ пого-
воркою своею требует: «Семь раз отмеряй — раз отрежь». Эта тысячелет-
1 в целом (фр.).
424
няя народная мудрость уж никак не менее выразительна, чем горяченькие
статейки преходящих господ в левых газетах. И, конечно, правительство
им не последует. Оно — не эфемерида, которая утром родилась и к вечеру
умирает.
«ТОВАРИЩ» О ЛОКАУТАХ
Первобытная нравственность отличается от позднейшей не тезисами свои-
ми, а применением. «Не убий» — это знает и дикарь; но применяет только к
себе и своим. «Не убий меня», «не украдь у меня», «не обмани меня». Уни-
версальная нравственность откидывает личные местоимения и применяет
заповеди к человечеству. Напротив, дикарь считает очень хорошим делом,
когда это он убивает другого, крадет у другого и обманывает другого. Это
почти воинские добродетели. Распадение общества на резко и страстно враж-
дующие партии, на классы и сословия, поставленные в отношении антаго-
низма, обычно сопутствуется и разложением в нем универсальных нравствен-
ных понятий. Вечные и всеобщие заповеди заменяются партийными выкри-
ками, в которых господствуют личные местоимения, как у полинезийского
дикаря. «Нехорошо, когда враг у меня украдет корову или отнимет жену»,
но «хорошо, когда я у него украду корову и отниму жену». Вл. Соловьев
высмеивал эту дикую мораль, указав, что ее придерживаются и политичес-
кие и религиозные фанатики Европы.
«Товарищ» — газета и «товарищи» — интеллигенты, в свое время под-
мыливавшие рабочих на забастовки, бывало, с свирепым видом приветство-
вали объявления их и отмечали ход их, не скрывая, что чем сильнее забас-
товка бьет капиталистов, затрудняет общество и вредит правительству —
тем лучше. Кто не помнит злобного подуськиванья: «Выбирайте деньги из
сберегательных государственных касс и требуйте их золотом, ибо государ-
ство накануне банкротства»?!
Кого жалели эти поджигатели государства и государственности? Нико-
го. Они думали о себе и своей партии, — совершенно как дикарь, который
не может ничего понять вне сферы своего имущества. Свирепые «товари-
щи» с желтыми лицами и искривленными ртами толкали все и всех вперед,
чтобы только насладиться разгромом капитала и капиталистов, общества и
чиновничества и за ними стоящего невидимого правительства. Они крича-
ли, что закон и государство не вправе вмешиваться в стачечное движение,
так как-де это сфера частных отношений хозяев и рабочих. И вообще на
этом «частном характере» стачек и забастовок и покоится правовое, юриди-
ческое положение их, строжайше охраняемое «борцами за свободу» или,
точнее, гладиаторами за власть.
Но вот появились локауты, — и как изменились песни о «свободе отно-
шений хозяев и рабочих».
Локаут явился стачкою сверху, ответным ударом на удар, и это есть в
точности «стачка» же, но не рабочих, а капиталистов. Дело свободной кон-
425
куренции, свободной дачи труда, как свободно предложение труда. Но по-
смотрите, что пишет о локаутах «Товарищ» в статье, характерно названной
«Лодзинский террор». «Террором» называет эта газета именно мероприя-
тия фабрикантов, и то в проекте. Прежде всего, и к настоящему террору, с
кусками искрошенного человеческого мяса, с убитыми отцами семей, «То-
варищ» в прессе и «товарищи» в действии не выказывали никакого особен-
ного ужаса, не произносили по поводу его никаких политических речей и
уж во всяком случае не требовали правительственных мер против него, как
и не подсказывали обществу выразить ему негодование. Вся «товарищес-
кая» линия уклончиво молчала при виде льющейся крови, как и согласно
ликовала при «дружном ходе» стачек и забастовок. Но вот стряслась беда:
лодзинские фабриканты по поводу убийства директора Розенталя готовы
были объявить второй локаут и не привели намерения в исполнение только
по ходатайству «Общества польской культуры», по уполномочию от которо-
го вел с ними переговоры г. Ст. Патек. Но, давая отчет уполномочившим его,
г. Патек передал решение фабрикантов не объявлять второго локаута «пока»,
в зависимости от последующего поведения рабочих. Кажется, заявление не
«террористическое», ибо кладет судьбу рабочих в их собственные руки.
Однако это словечко «пока», в четыре буквы, разъярило петербургскую ра-
дикальную газету, как красное сукно быка. Самую угрозу локаутом «Това-
рищ» считает государственно недозволительной и общественно-нетерпимой.
Газета взывает к обществу и даже, — ужасно поверить, — прячется за спину
городового! — того самого городового, против расстрелов которого рабочи-
ми она едва ли что-нибудь особенно имеет, по крайней мере, не имеет горя-
чего слова. Глупый городовой, который обязан стоять недвижно, как ми-
шень, пока в него палит рабочий или «внепартийный» социалист, должен
превращаться в живого человека и хватать за шиворот фабриканта, когда тот
же социалист жалуется ему, что этот фабрикант не принимает обратно на
фабрику бастовавших рабочих. Так именно произошло в Лодзи после пер-
вого локаута, когда с фабрики, где совершены были самые крупные беспо-
рядки, из уволенных 980 рабочих не были приняты обратно 10%, т. е. 98
рабочих, по жребию. Жребий во всяком случае никого лично не обидел, ус-
транил возможность придирок по мотивам мести и вообще служебно-поли-
цейским, дисциплинарным. Эти 98 рабочих, не находя работы в Лодзи, мог-
ли найти ее за 12, за 20 верст от Лодзи, и вообще никакого «ужаса» в этом не
содержится, но «Товарищ» заявляет, что это «политический террор», и об-
ращается за содействием... к правительству П. А. Столыпина и министра
внутренних дел! Он пишет: «Мы считаем, что владельцы шести фабрик,
объединенные на почве промышленного терроризма, не могут быть предо-
ставлены самим себе (?!). Произвольное и открытое (!) увольнение рабочих
по жребию за чужую вину (?) стоит в явном противоречии с современным
правовым сознанием (?!). С такими явлениями государственная власть мо-
жет и должна бороться на почве права». «Неужели нет средств наложить
узду на нескольких фанатиков (?), явно вредящих интересам промышленно-
426
сти и даже собственного класса»... «Следует усмирить, хотя бы и принуди-
тельными мерами, зарвавшихся фанатиков классовой борьбы, попирающих
самые элементарные требования гражданственности»...
Ах, товарищ, товарищ! Если бы те же песни ты пел, когда забастовка
лишила Петербург света и грозила отнять у него воду, когда забастовщики в
студенческих мундирах, руководившие блузами, потребовали закрытия ра-
боты даже в аптеках, желая взять город умором больных и умирающих, уже
ни в чем не повинных перед рабочими и перед социал-демократиею. И по-
мните эти ликующие голоса «товарищеских» газеток: «Электричество по-
тухнет! Город погрузится во мрак!» и т. д. Захлебывались от восторга, захле-
бывались даже над постелями умирающих, которым не приносили лекарств.
Ну, как эти ужасы на ваш демократический зубок? Это почище уволенных
98 рабочих, которые потому только не находят новой работы, что им лень
передвинуться за час езды от Лодзи. Нет, после тех ваших цинических песен
и теперешние статейки о лодзинских «террористах» останутся гласом вопи-
ющего в пустыне.
Локаут — грозный факт. Мы не за локауты, — да они и применяются
вообще очень редко, гораздо сдержаннее, чем как применяются забастовки.
Но мы потому против локаутов, что и против забастовок, и вообще против
массовой, стачечной борьбы. Однако на начинающего Бог: локаут остается
и останется исключительным средством обороны во всех случаях, когда
обезумевшая в самонадеянности рабочая масса снова пустит стачечное дви-
жение в ход, уснащая это движение убийствами из-за угла.
НОВЫЕ ПОТУГИ КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ
Политиканство и политика так же относятся между собою, как кокетство и
красота. Одно явление — нормально, здорово, разумно и прекрасно, другое
— уродливо, патологично и на все взгляды отвратительно. Молодой наш
конституционализм больше всего терпит от того, что, страшно запоздав ис-
торически и введясь в пору широкого разлития так называемой «интелли-
гентности», он мало принял в себя живой воды от источников народности и
государственности и обильно хлебнул мертвой воды вот этого кокетничаю-
щего политиканства, на которое только и способен выветрившийся слой
нашей интеллигенции. Этим объясняется, отчего главная наша думская
партия, конституционно-демократическая, которая на все стороны хваста-
ется, что в нее вошли «лучшие интеллигентные силы страны», и которая
трогательным образом верует, что в ней столько же изумительных талантов,
сколько звезд на небе, на самом деле представляет всею своею историею
скучнейшее и бесплоднейшее политиканство. Это отразилось даже в самом
названии, которое она кокетливо выбирала: «партия конституционно-демок-
ратическая», «партия народной свободы». «Я и Машенька, я и Марья Ива-
нова»... Хотелось захватить в свое имя как можно больше красивых эпите-
427
тов. Но история показала, что как у заправской кокетки есть только одно
настоящее желание — преуспеть, так и у наших «кадетов» есть одно насто-
ящее намерение — очутиться во власти, попасть во властное, распоряди-
тельное положение: а и с конституционализмом, и с демократиею они толь-
ко кокетничали.
Один из сотрудников «Русского Богатства», г. Елпатьевский, расточая
разные любезности этой партии, оговорился недавно, что она не получила в
России нравственного авторитета, и не получила его потому, что по всему
своему духу она расходится с русским духом. Г. Елпатьевский не высказал
здесь ничего нового, а сказал ту вещь, которая всеми в России сознавалась,
и, между прочим, наша газета многократно указывала, что кадеты лишены
русского здравомыслия и русской простоты. Сотруднику «Рус. Бог.» отвечал
один из Гессенов в «Речи», конечно отвергая это обвинение. Заметим скром-
но, что, конечно, кому же и судить о «русском духе», как не еврею Гессену:
ведь Талмуд и русская сказка, песня и пословица — это одного поля ягоды...
Но в то время, как г. Гессен строил свою защиту в нижнем этаже газеты, в
верхнем ее этаже, в руководящих передовицах, самым плачевным образом
опровергалась эта его аргументация. Нет, прав был г. Елпатьевский, как пра-
ва и вся Россия, не доверяя нравственному духу кадетов...
В этих передовицах кадетский орган, ввиду нового закона о выборах и в
естественном предвидении, что он приведет в третью Думу значительное
число октябристов, заговорил о возможности «технических соглашений» с
партиею 17 октября. И каким иезуитизмом и тошнотворною внутреннею
фальшью повеяло уже от одного этого термина «технические соглашения»...
Вот уж лисий хвост, под которым ничего не видно или видно что-то сквер-
ное... Что значит: «технические соглашения?» В прямом смысле — ничего
не значит. Разумей, что хочешь. «Соглашение» говорит о какой-то связи,
указывает на протянутую руку, а щепетильная оговорка: «технические» по-
казывает скверную гримасу на лице, имеющую успокоить «левых», что сер-
дце кадетов по-прежнему обращено к ним и остается столь же кристально
чистым, как было и до манифеста 3 июня. Рука протягивается к «октябрис-
там», а физиономия отворачивается от них же с этим лицемерным «фи»!
Кадеты слишком небрезгливы сами и предполагают такую же небрезгли-
вость в других партиях. Они всегда пили с удовольствием из стакана, в кото-
рый им плевали «друзья слева», и воображают, что октябристы станут с та-
ким же удовольствием пить из стакана, поданного им кадетами, в который
они предварительно тоже поплевали.
Кадетов губит и погубило отсутствие нравственного идеализма, и, по-
жалуй, в этом-то и лежит коренная черта их «нерусского духа». Ибо рус-
ские, при всех недочетах ума, характера, сообразительности, тем не менее
были и остаются, может быть, наивными, но нравственно-идеальными людь-
ми, от простого народа, с его верой в религиозные легенды, до образован-
ных верхов, с заветами Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого. Право,
нельзя себе представить какого-нибудь героя из русской литературы, от Ма-
428
рьи Ивановны Мироновой в «Капитанской дочке» до Левина и даже пья-
ненького Мити Карамазова, которому могло бы прийти на ум вступить в
важном и глубоком вопросе жизни в «технические соглашения» с кем-ни-
будь. Самый термин не мог прийти на ум в этой своей скверной фразеоло-
гии: это — пахнет явным плутовством, это какая-то адвокатская «штучка»,
которую может выказывать наружу и хвастать ею медный лоб, беспробуд-
ная совесть. Да, Митенька Карамазов, вечно пьяный и несчастный, — и тот
сказал бы горькое «фи» по адресу всех этих Милюковых, Гессенов и tutti
quanti1, которые, видите ли, сверкают на русском горизонте, как звезды на
небе...
«Технические соглашения»... Жалкая политика в ломаный грош ценою,
на которой нет ни здравого смысла, ни простой добропорядочности! И эта-
то алтынная политика, такие-то адвокатские «штучки» беззастенчиво про-
возглашаются в трагичнейший час родной истории, когда все колеблется,
все подвержено сомнению, когда страна залита кровью, разорена и униже-
на. Но что этим господам до отечества? «Ubi bene, ibi patria»1 2...
«Технические соглашения»... Ну, а отчего не честная уступка части сво-
ей программы, явно неосуществимой, с целью войти в соглашение с партиен),
тоже конституционною, для проведения в жизнь других и осуществимых
частей этой своей программы. Мена услуг, совершенно открытая и честная.
Всякий договор есть соглашение, всякий договор есть уступка: это честное
политическое дело, каких между прочим тысячи переделал мужественный
и добродетельный Рим. Тут ни капли упрека для совести. Но эта жалкая
протягиваемая из-под фалды рука и вместе брезгливая, отворачивающаяся
мина, чтобы не плюнули лишний раз в лицо «левые» плеваки, — фу, как это
гадко, как это салонно-гадко, как это пахнет износившимся барином, веду-
щим кухонную интрижку. И еще этих господ называли нашими «жирондис-
тами»... Но жирондисты первой французской революции — это точно были
цвет интеллигенции своего времени, «esprits forts»3 эпохи, это были благо-
родные энтузиасты, лирики, мечтатели тогдашней Франции... И к ним пле-
чом к плечу придвигаются наши «кадеты»... Хороши кумушки.
И все так же льстиво и двулично у этой партии. Она печатала и кричала,
опять заискивая перед левыми плеваками, что ее центральный комитет не
уполномочивал гг. Маклакова, Булгакова и Струве ездить к премьер-мини-
стру накануне роспуска Думы в целях предупредить этот роспуск и проч.
«Было очень бурное заседание», печатали в кадетских газетках, желая ска-
зать плюнувшему в их стакан Алексинскому, что «мы их пробрали»... За что
пробрали? Почему? Ведь для всех ясно, как дважды два четыре, что социал-
демократическая фракция Думы совершенно беззастенчиво плюнула на рус-
ский парламент, доведя его позорнейшим своим поведением до роспуска;
1 всех прочих (ит.).
2 Где хорошо, там и родина (лат.).
3 вольнодумцы (фр.).
429
что она, ни малейшего внимания не обращая на кадетов, сорвала Думу, ей не
нужную, и, можно сказать, вонзила нож в живое тело кадетов, которые лю-
бят Думу, как мышь сало, не больше, но и не меньше. Совершенно очевид-
но, и социал-демократы это отлично знают, что в эти роковые сутки кадеты
ненавидели «левых» всею яростью игрока, из-под носа у которого увозят
большую груду золота. Все проиграно в один день, — проиграно глупей-
шим и ненужнейшим плевком «левых» в стакан г-на Милюкова и прочих
«звезд». Так все явно: и в душе своей не одни откровенные Булгаков, Макла-
ков и Струве, но и сам Милюков, Гессены, Пергаменты и прочие «этуали»
русского небосклона мысленно ползли, ахали и ахали, стенали и молили в
кабинете премьер-министра, чтобы он как-нибудь предотвратил, если мо-
жет, роспуск Думы. Таково было расположение психического момента, ко-
торого невозможно ни скрыть, ни затушевать. Но у этой воистину неблаго-
родной партии не хватает мужества ни явно что-нибудь любить, ни явно на
что-нибудь негодовать.
Неблагодарная партия. Ну, этуали, не пора ли вам закатиться за гори-
зонт? Довольно, налюбовались вами, и неужели вы станете ждать, чтобы
вся Россия повторила в отношении вас тот нечистоплотный поступок и жест
левых, после которого вы все «утирались» и «благодарили».
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО
И НАША ВЫБОРНАЯ СИСТЕМА
Одно — теория, и другое — практика. В теории все мы, от верхов и до ни-
зов, вздыхаем о недостатке у нас национального самосознания, которое есть
то же самое, что живая память, о ходе и о подробностях родной истории. В
теории, в учебных хрестоматиях, в газетных статьях и даже в торжествен-
ных государственных актах мы обращаемся к русскому духу и стараемся
возбудить его, основательно чувствуя, что без него ничего нельзя сделать,
невозможно шагнуть вперед здоровым шагом. Но вот издается наконец за-
кон. Читаем — и с изумлением видим, что и здесь, где уж, казалось бы,
должно постоять за русский дух и родную историю, нисколько ее не приня-
ли во внимание.
Зрелище и первой и второй Думы убедило всех, что главный недостаток
их заключался в том, что под сводами Таврического дворца совсем не витал
исторический дух. Собравшиеся депутаты были точно какими-то людьми,
не помнящими родства, как отвечают о себе известные субъекты в камерах
судебных следователей. Они не помнили родства исторического со всею
Россиею, говорили не от имени исторической России, строили или обдумы-
вали не будущность родной истории, а принесли в Петербург дрязги классо-
вой и сословной вражды или, еще точнее: они принесли в Петербург петер-
бургские же журнальные впечатления в провинциальном некультурном пе-
ревирании и недомыслии. Резкие сравнения Думы то с митингом, то даже с
430
кабаком (московский депутат Маклаков) заключали в себе ту долю истины,
что Дума действительно стояла ниже культурно, нежели вся вообще читаю-
щая и мыслящая Россия, как мы ее знаем; и что в общем она действительно
являла кусочек улицы, приведенной в ажитацию каким-то событием, где все
живо, резко, горячо, но горячо исключительно страстями и интересами те-
кущего дня и вот этой ажитированной минуты. Дума не могла никак «уми-
ротворить» Россию, утишить революцию: ибо она сама не была умиротво-
рена и более всего заключала в себе гама, шума. Более чем разума и во вся-
ком случае более чем исторического сознания. Но отчего? Возможно ли ду-
мать, чтобы в России в самом деле не нашлось людей, помнящих родную
историю? Какой вздор! Конечно, такие люди есть, и может быть, их много и
они сильны: но выборный закон был так мудро составлен, что он уронил и
выбросил на сторону всю историческую Россию, все зерно ее, позвав к го-
сударственному строительству людей дневной заботы, относительно легкую
солому. Солома вспыхнула и загорелась: вот краткая история наших двух
первых Дум.
Пришли интеллигентные рабочие, сознательные крестьяне и городские
интеллигенты, пришли и принесли, естественно, свои интересы, уровень
своей начитанности, и только. Не только нашему, но и никакому правитель-
ству нечего делать; ибо это были не работающие головы, а работающие язы-
ки, люди именно митинга, сходки и клуба. И вот издан новый закон о выбо-
рах, — с вожделением позвать в Думу людей русского духа. Естественная
тенденция, вытекшая прямо из опыта первых двух Дум. Но мы читаем закон
и, переходя к расписанию членов Государственной Думы, поражаемся, до
чего в ней забыта родная история.
Что такое Лодзь в культуре России? В истории России? Ничего! Польско-
немецкий фабричный центр, притом возникший совершенно искусственно
в обход таможенной системе русского государства. В 80-х годах Россия вве-
ла высокие пошлины на германские фабрикаты; тогда немецкие фабрикан-
ты сообразили, что им гораздо выгоднее перенести свои фабрики через гра-
ницу сюда, в Россию, и, работая немецким умом, немецким капиталом и
даже немецкими рабочими руками, не платить ввозных пошлин и в то же
время побить и замять московский фабричный район. Таким образом, в са-
мом своем возникновении и во всей сути это есть полурусский город. Какая
его роль должна бы быть в представительстве? Что он принесет русскому
государственному сознанию? Какая у него есть забота о русских интересах?
Смешно и спрашивать об этом. Всякий мальчишка на улицах Лодзи нам ска-
жет, что Лодзи до России никакого дела нет, так как это есть просто прус-
ский плутоватый выселок на русской территории и не более. Но читайте
«расписание», и вы с изумлением увидите, что если Лодзь не помнит о Рос-
сии, то Россия помнит о Лодзи: наравне с чрезвычайно немногими города-
ми, получившими в Думе отдельное представительство, получила его и Лодзь,
— этот город, где не вышло ни одной русской книги и где не произошло ни
одного русского события.
431
Культурный и духовный нуль шлет своего отдельного депутата в Думу.
А шлют ли его Новгород и Псков, города великие в нашей истории, великие
именно в истории раннего политического самосознания? Молчание. Выбор-
ный закон ничем не отметил, не отделил, не выделил этих городов. Он про-
шел мимо их исторического значения, сосчитал жителей и подвел скудное
арифметическое заключение. И больше ничего. Никакого самосознания. Что
же мы будем говорить об Алексинских, которые кричат: «Нас много, и мы
требуем», «российский пролетариат выступает», когда и сам выборный
закон не имеет другой меры вещей, как множественность людского соста-
ва, и только перед этою множественностью раскланивается, сажает ее на
первое место; а другие более благородные элементы выталкивает вон за две-
ри. Лодзь имеет представителя, а Казань, о которой можно повторить слова
великого поэта, что «тень Грозного ее усыновила», этого отдельного пред-
ставителя не имеет. Между тем там есть университет, и этот университет
выслал во вторую Думу одно из лучших ее украшений, проф. Капустина.
Таким образом, бескультурную Думу сделал сам же выборный закон, этот
тупой арифметический счет, и полное забвение частностей русской исто-
рии, полное пренебрежение к великим, ярким и благородным ее моментам.
Да, Новгород и Псков увяли сейчас, но ведь выборная система не для сейчас
существует, она говорит до некоторой степени векам, и в ней должен бы
слышаться голос и разум веков. Увядшие, хотя не окончательно, сейчас Нов-
город и Псков могут начать подниматься. Да и сейчас, если населенность их
не огромна, то, однако, ничем не доказано, чтобы среди тихого, бесшумного
и небольшого населения их не находилось хоть небольшой группы истинно
культурных и истинно образованных русских людей, от которых иметь от-
дельного выборного в Думе было бы важно с общегосударственной точки
зрения. Наконец, возьмем Нижний: неужели всемирно-значительная его яр-
марка меньше значит для России, чем фабрики берлинских жидов в Лодзи?
Неужели вообще Нижний, этот царь Верхнего Поволжья, этот город, род-
ной каждому русскому, — менее значителен в России и для русского сознания,
для русского чувства, чем переехавшая через границу под лавкою вагона Лодзь?
Университетские города, как Харьков и Томск, города такого историчес-
кого значения, как Тверь, Нижний, Владимир-на-Клязьме, Казань, Псков и
Новгород, все они склонились перед новыми фабричными выскочками, жизни
которых и века нет. Между тем выборная система должна бы поклониться
историческому значению городов, ибо эта выборная система есть зычный
голос на всю Россию, призывающий ко вниманию всю Россию. Нельзя и
представить себе, какие бы высокие чувства зародились в населении этих
городов при виде, что отечество не забыло их особенного положения в исто-
рии; да и решительно во всех русских городах зародилось бы это чувство:
отечество не забывает коллективных заслуг, не забывает и после долгих ве-
ков. Похвала и преимущество, данные этим гордым точкам высшего русско-
го исторического существования, зажгли бы благороднейшее соревнование
в русских сердцах на протяжении целой России.
432
НЕМИЛОСТЬ СВ. СИНОДА
К МЕЛКОМУ КРЕДИТУ
Мелкому кредиту нанесен весьма серьезный удар с той стороны, откуда все-
го менее можно было ожидать. Именно, недавно Св. Синод особым цирку-
лярным распоряжением категорически воспретил сельскому духовенству
принимать на себя какие-либо административные должности (т. е. членов
правлений и советов) в учреждениях мелкого кредита, разрешив быть лишь
рядовыми пайщиками. Таким образом, лучшая часть сельской интеллиген-
ции отстраняется от участия в заведывании и руководительстве делами уч-
реждений мелкого кредита.
Это уже не в первый раз Св. Синод простирает карающую десницу к
мелкому кредиту, ни в чем, казалось бы, ни перед церковью, ни пред верою
не повинному. Как раз тридцать лет назад, когда организовались у нас пер-
вые ссудо-сберегательные товарищества, Св. Синод, воспользовавшись од-
ним частным случаем, издал подобное же распоряжение о воспрещении кли-
ру участвовать в этих товариществах в звании членов правления и совета.
Хотя указ этот (1877 г.), как и следовало ожидать, с течением времени кой-
где был позабыт, так что немало сельских иереев с некоторым, впрочем,
риском приносили свои знания и труд на пользу народа в учреждениях мел-
кого кредита, но вредное влияние запретительного циркуляра все-таки вып-
лывало то тут, то там, создавая досадливый тормоз развитию учреждений
мелкого кредита. Чаще все бывало так, что какой-нибудь темный деревенс-
кий делец из типа Колупаевых, недовольный тем, что сельский «банк» про-
цветает под руководством батюшки и делает ему, Колупаеву, конкуренцию,
посылал на батюшку куда следует донос. Консистория волей-неволей ры-
лась в архиве и выкапывала злополучный циркуляр 1877 г., который затем
применялся к делу, конечно, к вящей радости Колупаева и к немалому огор-
чению деревенской клиентуры банка. Бывало иногда и так, что по поводу
таких частных случаев более ревностные владыки издавали по епархии под-
твердительные указы. Так, еще недавно в епархиях харьковской и воронежс-
кой изданы были подобные указы, вызвавшие вынужденный уход лучших
распорядителей из сельских товариществ.
Столь нежелательное влияние устарелого синодского циркуляра всего
виднее было Министерству финансов, в котором по закону 1904 г. сосредо-
точено заведывание всеми учреждениями мелкого кредита. При каждом по-
сещении товариществ, где во главе дела стояли священники, агентам Мини-
стерства финансов приходилось выслушивать сетование, что они, священ-
ники, живут под вечным страхом консисторских или владычных гонений.
Равным образом при организации новых товариществ сплошь и рядом слу-
чалось так, что священник прямо заявлял: от всей, мол, души рад бы пора-
ботать на пользу хорошему делу, да вот беда — запрещено ведь нам. А так
как архаичность и безосновательность трактуемого указа были слишком
очевидны, то Министерство финансов сделало попытку вовсе упразднить
433
его и с этою целью вошло с представлением к обер-прокурору Св. Синода
об отмене указа 1877 г. Говорят, некоторые прозорливые люди еще и тогда
предостерегали Министерство финансов от этого шага, доказывая, что это
даст повод Св. Синоду лишь «возгреметь трубою новою» против мелкого
кредита. К сожалению, прорицание пессимистов оправдалось вполне. Не
довольствуясь бичами, Св. Синод вооружается против мелкого кредита, как
увидим ниже, скорпионами.
Распространяться о том громадном ущербе, какой причинит всему делу
мелкого кредита новый запретительный указ Св. Синода, мы считаем из-
лишним. Нас интересует иной вопрос: насколько представляется уместным
и основательным ограничивать права духовенства на участие в столь важ-
ном народном деле, как народный кредит?
Св. Синод в решении этого вопроса не мог исходить из общепринятых
представлений о народном благе, ибо очевидно с точки зрения этих пред-
ставлений оставалось бы одно: благословить пастырей церкви трудиться в
области мелкого кредита, как, например, сделал это покойный папа Лев XIII,
издавший в 1890-х годах особую энциклику о желательном участии католи-
ческого духовенства в кооперативных кредитных организациях. Для реше-
ния вопроса в отрицательном смысле пришлось выдвинуть заржавелый ар-
сенал особого рода аргументов в виде отрывков из церковных канонов отда-
ленных веков. В новом синодском циркуляре приведены ссылки на разные
правила IV и VII Всел. Соб., воспрещающие клирикам и монашествующим
«вступать в распоряжение мирскими делами», так как при этом неизбежно
развивается страсть «гнусного прибытка» и «низкой корысти», а также пол-
ностью приведено 19 пр. Карфагенского собора, гласящее так: «Да не быва-
ют епископы, пресвитеры и диаконы откупателями ради корысти и да не
приобретают пропитание занятиями бесчестными и презрительными».
Все эти правила и каноны очень святы и непорочны, но беда в том, что
они в настоящее время никем не соблюдаются, даже... самим Св. Синодом.
Как известно, Св. Синод с успехом и не без прибыли ведет крупное книгоиз-
дательское дело, издавая не одни только богослужебные книги и Свящ. Пи-
сание на правах монополии, но и разные мирские сочинения и при этом
содержит несколько книжных складов и лавок. Засим Св. Синод является
обладателем весьма крупных капиталов, которые приходится приращать, т. е.
заботиться о прибытке, но для этого случая его не считают ни гнусным, ни
низким. Правда, этим делом ведает особое светское учреждение, имену-
емое «хозяйственным управлением при Св. Синоде», чиновникам которого,
очевидно, Св. Синод попускает, говоря словами Карфагенского собора, «при-
обретать пропитание занятиями бесчестными и презрительными». Но ведь
существо дела от этого едва ли меняется. Наконец, Св. Синод владеет важ-
ной торговой монополией — продажей так называемых венчиков и разре-
шительных молитв при погребении. То же самое отношение к приведенным
каноническим правилам мы встречаем и в дальнейших ступенях духовного
мира. Большинство монастырей владеют земельными угодьями, и все мир-
434
ские заботы о лучшей эксплуатации их приходится нести на себе той же
монашествующей братии. А если бы у сельского духовенства отнять право
предаваться мирским заботам о церковной земле и сельском хозяйстве, то
ему пришлось бы идти с сумой по миру. Наконец, всем очевидно, что при
выработке закона о Г. Думе приведенные каноны уступили место более жиз-
ненным и разумным соображениям, раз «к распоряжению мирскими (госу-
дарственными) делами» допущены и монашествующие, и иереи.
Чего же такая немилость к мелкому кредиту?
Все соображения о низком прибытке в этом деле звучат каким-то курье-
зом, ибо в большинстве товариществ священники за свой труд ничего не
получают, в немногих — получают гроши (3 — 10 руб. в месяц). Притом же
всем известно, что учреждения мелкого кредита вовсе не преследуют ком-
мерческих целей. Задача их не в том, чтобы зашибить побольше прибылей,
а в том, чтобы давать ссуды за возможно дешевый процент, чтобы прийти в
самую трудную минуту, чтобы спасти его от лихоимства и лиходея.
Задача христианская, вполне достойная пастыря церкви. И нам кажется,
при решении трактуемого вопроса едва ли следовало обращаться к канони-
ческим постановлениям VI — VIII вв., гораздо справедливее и целесообраз-
нее было бы обратиться к чистому и светлому источнику христианского уче-
ния — Евангелию, которое никогда и нигде не запрещает приходить на по-
мощь ближнему и даже разрешает жертвовать святостью субботнего дня,
если это необходимо для блага не только человека, но и бессловесной скоти-
ны. Тогда вопрос об участии духовенства в столь важном народном деле
получил бы иное, более справедливое решение.
ОБ «ИСТОЧНИКЕ СИЛ
И ИДЕАЛИЗМА» КАДЕТОВ
Есть слова, которые долго помнятся. К числу подобных слов относится при-
знание, вырвавшееся у г. Милюкова в его ответе на первое письмо кн. Евг.
Трубецкого. Разъясняя в этом своем ответе отношение конституционно-де-
мократической партии к левым в Г. Думе, он выразился, что партия эта не
могла разделиться с левыми, так как это значило бы для нее «отделиться от
источника собственных своих сил и собственного идеализма». Вот слова,
прочтя которые в признании кадетского лидера, всякий может воскликнуть:
«эврика», «отыскал»!
В самом деле, они являются ключом к пониманию всего поведения ка-
детов в Думе и даже вне Думы, к пониманию всего их характера. Бедная
луна, светящая не своим светом, а отраженным; и отраженным светом того
именно светила, с которым будто бы эта несчастная, маленькая и темная во
всем своем существе луна находится в «противостоянии»! Бедный «спут-
ник» революционеров, уверяющий на все стороны, что он своими силенка-
ми более всего сдерживает революцию, мешает революционерам, сбивает
435
их тактику, «мало-помалу увлекает и их на путь корректной конституцион-
ности». До признания г. Милюкова, пожалуй, кто-нибудь мог бы этому и
поверить; но теперь очевидно, что это потуги цыпленка съесть волка.
Откуда же было взять кадетам твердости характера, железной прямоты
действий, если по внутреннему и искреннему признанию, вырвавшемуся в
полемике у их неосторожного лидера, они не имеют в самих себе опоры,
лишены не только им самим принадлежащей силы, но, что уже совершенно
грустно, — даже и «идеализма»? Кадеты не имеют каких-нибудь своих ори-
гинальных идеальных мыслей и сами по себе, по собственным побуждени-
ям не стремятся к чему-нибудь идеальному, возвышенному, далекому. При-
знания, которые даже страшно читать: ибо это что-то выходит похожим на
«мещан» Максима Горького, которые только потому не смешиваются с его
же «босыми» героями, что одели лакированные сапоги и причесались у па-
рикмахера. Дальше этой «прически» и «лакированных сапогов» культурность
кадетов, значит, не идет. А о них-то думали, что это образованная партия в Г.
Думе, представительница литературных русских традиций!
«Левые — источник наших сил и идеализма»: в этом вся и беда, что
огромная парламентская партия, ухватившая в свои руки конституционное
дело в России, из всей всемирной истории и из всей всемирной культуры
почувствовала, знает и чтит только традиции европейского революционно-
го движения. Но море русской жизни неизмеримо глубже, серьезнее, тра-
гичнее и, наконец, умнее этой хвастливой, шумливой и недалекой партии
Гессенов, Винаверов, Набоковых и Милюковых.
Кадеты торопливо стали на то действительно «центральное» место в
нашей Думе и вообще в нашем конституционализме, которое вообще есть
во всяком движении как естественное место умеренности, покоя, солиднос-
ти, справедливости. Да, они вскочили в это место центра, и несчастие Рос-
сии произошло оттого, что, вскочив сюда, они идут в хвосте крайних левых;
в союзе с ними они взяли «палку» всеобщего застращивания, оклеветания
— это с одной стороны, а с другой стороны, — лести, подыгрывания, угож-
дения низким инстинктам толпы и неосуществимым, с их же точки зрения,
ее фантазиям. Они овладели выборною машиною, затем овладели большин-
ством в Думе и на два года повели конституционный корабль, виляя рулем
вправо и влево и крича в рупор, что у правительства и даже у всех партий,
кроме их, стоит в душе то самое плутовство, какое наполняло их хамелеон-
скую душу.
Ничего они не помнили, кроме революционного «солнышка», — а меж-
ду тем Европа и культура ее имеют традиции, кроме революционных. Что
такое свобода без сердца и ума? Это — простор босячества, наши Пугачев и
Разин, на принципах или, точнее, на аппетитах которых не начнешь строить
культуры. Французское «egalite» и «liberte» выросло после Корнеля и Раси-
на, после Боссюэта и Фенелона, оно выросло после образованнейших эн-
циклопедистов, которые несколько разнились от жидков и бездарненьких
профессоров, дополнявших у нас переведенную с немецкого энциклопедию
436
Брокгауза и Ефрона. Французская революция вообще поднялась на плечах
огромной науки, блестящего ряда великих естествоиспытателей, математи-
ков, мыслителей, — вспомним Порт-Рояль и Паскаля! — и сама двигалась
великими талантами вроде Мирабо, Дантона, Карно и Бонапарта... У нас?
Но не будем растравлять сердца родными воспоминаниями!
Будь они поумнее и вообще будь они настояще культурными людьми,
конституционалисты-демократы не стали бы искать «идеализма и сил» у
Алексинского, Озоля и Аладьина. Подумаешь, вдохновители! «Они напле-
вали в наш стакан, но зато они нас вдохновили!» Непонятно, как такое ла-
кейское «самосознание» уместилось в голове г. Милюкова. Этому вершко-
вому представителю вершковой русской науки напомним, что «централь-
ная» партия в нашем освободительном движении, если бы оно было в то же
время благо/годно-освободительным, должна бы опереться не на «левых то-
варищей» в Думе, почти безусых и нигде не учившихся, которые вошли туда
обманом и для обмана, а на начала всемирной образованности, на начала
науки, на начала философии, на начала общечеловеческой гражданственно-
сти. Мы преднамеренно не упоминаем о русских началах, — ибо уж что
делать, если русские все такие космополиты; хотя, конечно, при великом
обновлении России не мешало бы что-нибудь вспомнить и из русского, из
великих реформ при Петре, Екатерине и Александре II.
Свое хорошее забыто! Вот где наше несчастие; и когда-то мы его избудем?
В ОЖИДАНИИ СОБОРА
РУССКОЙ ЦЕРКВИ
Только что опубликованное положение о составе предстоящего чрезвычай-
ного Собора Русской Церкви, получившее Высочайшее утверждение, дела-
ет более осязательным приближение этого Собора, который всею Россиею
ожидается с чрезвычайным нетерпением. Так как все принципиальное уже
решено на предсоборном присутствии, а теперь санкционирована и формаль-
ная сторона процедуры выборов, то мы уверены, не позже августа или сен-
тября начнутся и самые выборы, которые не могут не быть продолжитель-
ными, имея три степени или фазы: первый ярус — приходские выборы, вто-
рой — выборы по благочиниям и третий — выборы епархиальные.
Собственно говоря, уже предсоборное присутствие, обсудившее малей-
шие детали церковного управления, имевшее прения, голосования и приня-
тые «резолюции», можно вполне считать Собором Русской Церкви «начер-
но», только без подобающей торжественной обстановки и без официальной
санкции его «резолюций». Но вся работа, все дело предстоящего Собора в
этом присутствии уже проработано, обдумано и во всяком случае получило
себе твердые рельсы, с которых не так легко будет сойти. Не легко прежде
всего в умственном отношении, ибо в присутствии работали все, или почти
все выдающиеся наши канонисты, ученые, равно как и иерархические авто-
437
ритеты. Чтобы уклониться от «предрешений» этого присутствия, нужно за-
тратить большую свою умственную энергию, проявить ученость и логику,
но противоположно направленную, и, словом, обнаружить такой запас воле-
вых и умственных даров, какого, может быть, у Собора «набело» и не най-
дется. Не найдется прежде всего потому, что в состав Собора войдут почти
все члены бывшего предсоборного присутствия, а также и все авторы —
епархиальные архиереи, — уже подавшие в Св. Синод свои докладные запис-
ки касательно желаемых перемен и улучшений в духовном ведомстве.
Словом, личный состав нового Собора не представит большой новизны для
России: сонм архиереев, практиков церковного управления, заслонит в нем
остальных «выборных членов», мирян и клириков, которые будут и немно-
гочисленны, и ограничены в правах. Ибо соборные определения не только
«подписываются», но — что гораздо важнее и на что следует обратить вни-
мание — и «составляются» только одними архиереями.
Таким образом, самому молящемуся русскому народу, — тому вот, кото-
рый собирается в храмах на службу, который горел, тосковал и в тоске «ук-
лонялся в расколы», — дано будет только поговорить в присутствии архи-
ереев, но поговорить без всяких осязательных последствий. А на случай очень
громких или неудобных «разговоров» сделано в «Положении» предостере-
жение, что, во-первых, заседания могут быть и «закрытые», причем послед-
ние очень и очень можно растянуть, а открытые очень можно сократить; а
во-вторых, что его работы «публикуются секретариатом в виде кратких со-
общений или стенографических отчетов». Так как последние всегда под-
робны и дают для чтения все то, что было говорено на собрании, то, очевид-
но, роковое «или» вставлено здесь на тот возможный и предусматриваемый
случай, когда удобнее будет «сократить» изложение прений и отдельных
речей или даже ограничиться «краткими отметками» о последних. При та-
ком положении вещей, напр., профессор богословия Киевского университе-
та известный протоиерей Светлов, кажется много крови испортивший сво-
им оппонентам на предсоборном присутствии, будет на настоящем откры-
том Соборе более скромен и молчалив, чем как был в комиссиях этого при-
сутствия. Впрочем, поживем — увидим.
Духовенство наше привыкло все делать высокоофициально и высоко-
торжественно. И через «Положение о выборах на предстоящем Соборе»
проходят красною нитью эта забота и опасение, чтобы каким-нибудь обра-
зом и что-нибудь не испортило этой торжественности, официальности и
вообще «блистания риз». Собор будет происходить, как можно ожидать или
предвидеть, наподобие некоего церковного служения или приближаться к
его типу и духу; он будет с речами, близящимися к «торжественно произно-
симым речам» по разным торжественным же случаям. Во всяком случае едва
ли на нем будет много интимного, внутреннего — разверзшихся уст и рас-
крытых сердец. Судя по предсоборному присутствию, его прототипу и ру-
ководительному образцу, — едва ли он растрогает и взволнует Россию. Ко-
нечно, здесь есть положительные качества: мы нуждаемся в успокоении. Но
438
здесь есть и тяжелый и большой вопрос: будет ли Собор нравственно авто-
ритетен? И его постановления или резолюции не получат ли одну только
юридическую силу, без всякого восторга любви, с которым молящиеся встре-
тили бы эти постановления?
Если Собор получил значение только юридического момента в истории
Русской Церкви, а не момента нравственно-волнующего, нравственно-зах-
ватывающего, то едва ли можно ошибиться, предсказав, что он вообще ос-
танется малым событием в истории Церкви, не говоря уже об истории рус-
ского религиозного сознания. Скажем яснее. Уже теперь в Церкви можно
различать две стороны: ее как бы Святая Святых — совесть, веру, религию
духа. И как бы прокравшуюся в Церковь своего рода государственность.
Здесь мы разумеем под этим словом нечто совсем особое. В самой Церкви
отвердел и заморозился, или как бы принял в себя костяной твердый состав,
этот ее «дух», «совесть», вероучение. Церковь медленно и постоянно пере-
рождалась в крепкий и твердый, как бы костяной организм веры, тезисов,
положений, упований. «Сказано — и баста», «уповаю — и баста», «так верю
— и баста», «так приказываю верить — и баста». Вот этот повелительный,
распорядительный тон в Церкви я и называю ее огосударствлением, ибо суть
государства заключается в том, что оно повелевает, а не усовестливает. И
насколько Церковь в области веры, совести, сердца повелевает, а не влечет,
умиляя собою и своим, настолько в самую веру она ввела государство же. И
словом, сама сделалась государством веры, вероисповедным государством,
вероисповедною государственностью.
По-видимому, судя по сборам и подготовлениям, предстоящий Собор и
станет только моментом быта церковной государственности; в предсобор-
ном присутствии только и шла речь о разных законоположениях, о нормах и
анормальностях церковно-юридического уклада. Область духа не задевалась,
и вторжениям духа не то чтобы была положена преграда, но он как-то и не
вторгался сюда, не рвался сюда. Это общеизвестно и по сообщениям, и по
подробным напечатанным протоколам. Так вот если Собор выразит собою и
в себе только эту твердую, закостеневшую государственность Церкви, то он
только еще уплотнит и утяжелит все положение вещей, так сказать, соста-
рит, а не помолодит Церковь и с тем вместе как бы лезвием ножа разделит
этот твердый остов ее от живых, деятельных, томящихся, алчущих и жажду-
щих частиц церковных и народных, какие, например, уже теперь ушли в
раскол и сектантство или стоят на опасной границе колебания между Церко-
вью и сектами и вообще «своим умствованием». До сих пор это было для
церковной государственности «все равно». Но нельзя забывать, что теперь
при свободе совести и отпадения от Церкви и при свободе печати, которая
может начать и уже начала критику Церкви, положение дел совсем измени-
лось, и на эту перемену нельзя не оглянуться предстоящему Собору.
Тревожный признак составляет и то, что уже теперь к этому созываемо-
му Собору недружелюбно относится половина церковно-богословской пе-
чати, — недружелюбно, скептически и иронично. И все это — профессора
439
богословия, церковные историки и священники — люди со знанием и вни-
кающие в такие подробности Церкви, которых мы, простые читатели или
писатели неспециалисты, даже и не знаем. Так, проф. Н. Конст. Никольский,
представляющий редкий пример профессора духовной академии, избран-
ного в члены нашею Академиею Наук, писал и, конечно, не перестанет пи-
сать, что предстоящий церковный Собор есть только съезд архиереев, кото-
рому никакая санкция светского государства не может придать значения и
авторитета церковного Собора, каковые почерпываются из состава Собора
и способа созыва его, нарушенных у нас.
Но одно дело — упомянуть о деле, указать и другое — прицепиться к
нему, вцепиться зубами и не «пускать далее». Так ведь поступил и Лютер.
Мнения его о «погрешимости папы» и непогрешимости единственно авто-
ритета Св. Писания, может быть, не были совершенно новы; но никто с его
силою и, главное, с его неотступностью не указывал на это. И у нас, очевид-
но, давно уже дело стоит вовсе не за тем, «есть ли на что указать, как на
неистинное», а единственно за тем, есть ли и найдется ли человек, может
быть бродящий пока в безмолвии, который укажет на это неистинное с дос-
таточною силою, убеждением, яркостью и, главное — неотступностью. В
расколе нашем и в нашем сектантстве вообще есть такие необычайные силы,
энергии гениальные; найдется красота слова, перед которою ученая «гоми-
летика» официальных проповедников окажется жалкою и крайне «несвя-
тою». Полученная свобода еще так недавня, что не могла дать объявиться
всему этому. Народ медлителен в словах и поступках. Но, может быть, мы
живем накануне чрезвычайных «объявлений» в этой области чрезвычайных
слов и чрезвычайных фактов. И вот уже почти собирающемуся Собору надо
подумать, чем он на это ответит.
Тягостные вопросы! И может быть, задумываюсь об этом не один я.
И если с этим народным натуральным гением веры соединится язви-
тельная и неопровержимая критика гг. Никольских, Несмеловых, Светло-
вых, то официальному кораблю с грузом официального богословия придет-
ся выдержать большую качку. Конечно, мы все, верующие, будем молиться
о благополучии, и, Бог даст, мольбы наши будут услышаны, но все-таки...
Ученые инструменты корабля во всяком случае должны быть в исправности.
А пока что — будем ждать, верить и надеяться...
ЗАВЕРШИВШИЙСЯ ОПЫТ
Крупная воспитательная и учебная задача выработать строй школы совмест-
но для обоих полов получила свое завершение. Г-жа Левицкая, в Царском
Селе, поставившая для себя задачею разрешение этого сложного педагоги-
ческого вопроса, остановилась на принципах Бидельской школы в Англии,
которые и применила у себя, приноровив к русским условиям. Образцовая
постановка воспитания и строгий выбор преподавателей и преподаватель-
440
ниц преодолели недоверие, с каким общество и учебное начальство смотре-
ли первоначально на опыт совместного обучения и воспитания мальчиков и
девочек. Было подвержено большому сомнению, удастся ли он, и не допус-
калась мысль, чтобы он завершился созданием полного, законченного сред-
него учебного заведения для обоих полов. Но, благодаря энергии, преду-
смотрительности и осторожности инициаторши этого дела, оно получило
завершение. В нынешнем году открывается последний выпускной класс, и с
тем вместе школа получила для своих учащихся все права, даваемые прави-
тельственными гимназиями, т. е. право поступления во все высшие учебные
заведения Империи, мужские и женские, без исключения. Программа шко-
лы — мужских гимназий, с латинским языком, и, следовательно, ученицы,
окончившие в школе г-жи Левицкой, имеют безусловное право поступления
на высшие женские курсы и в Женский медицинский институт. Соглашени-
ем совета учителей и родителей учеников и учениц весною минувшего года
был принят законченный курс учения в 7/2 лет. Это признано возможным в
смысле выполнения программы благодаря малому числу учеников и учениц
в каждом классе, и вместе с тем это даст оканчивающим курс возможность
без торопливости выбрать себе дальнейшую образовательную дорогу и под-
готовиться к ней путем серьезного чтения или, для кого это доступно, путем
образовательного путешествия. Выпускные экзамены будут происходить в
декабре месяце, в конце восьмого полугодия, и весна выиграется для здоро-
вья. А те окончившие, которые выберут для себя специальные технические
заведения, будут иметь в шестимесячном досуге достаточный запас време-
ни для приготовления себя к конкурсному экзамену. Нельзя не отнестись с
признательностью к Министерству народного просвещения за то, что оно
дарованием всех прав питомцам этой школы санкционировало и признало
возможным и нормальным совместное обучение мальчиков и девочек, юно-
шей и девиц, вплоть до самых дверей университета. Вполне можно надеять-
ся, что и они скоро растворятся для обоих полов, как они не затворены для
обоих полов в церкви и решительно во всех общественных и частных поме-
щениях. Старому предрассудку, очевидно, существовать недолго. И к пре-
одолению этого предрассудка школа Левицкой приложила большое свое уси-
лие. Общество вправе поблагодарить энергическую русскую женщину, еще
одну в стае славной таких же, которая не убоялась ни труда, ни препятствий
и шла и дошла к цели, зрело обдуманной и действительно разумной.
К ОЗДОРОВЛЕНИЮ ЦЕРКОВНОЙ школы
Фасон вещи всегда отвечает ее содержанию, форма речи выражает и строй
мысли, за нею скрытый, или, пожалуй, расстройство или неупорядоченность
мысли. Нельзя без некоторого прискорбия читать обширного «определения»,
совместно выработанного обер-прокурором Синода и его иерархическими
членами в назидание нашим семинариям, которые, конечно, давно нужда-
441
ются в таком назидании, а еще более — в лучшем руководстве и управле-
нии, но едва ли подымутся и теперь в духе и формах. Весь этот указ или
«определение» о некоторых мероприятиях... «к надлежащему установле-
нию», как он напоминает неясностью и туманностью всеми нами в детстве
слышанные рассказы о «некотором царстве», где «что-то» надо сделать, и
тогда в этом «царстве» водворится надлежащий покой или порядок! Только
фантастические «царства» детских сказок не болели от туманного языка
сказок, тогда как весьма реальные наши семинарии с населением взбунто-
ванным, озлобленным, распущенным и развращенным (всего этого есть) если
и не заболят сильнее, то во всяком случае и не выздоровеют от «некоторых
мероприятий», туманно преподанных ведомством православного исповеда-
ния безусым бунтарям и их наставникам...
В том случае, если ведомство располагает в составе членов своего учи-
лищного совета надежным контингентом не духовных чиновников, а насто-
ящих педагогов, людей с призваньем и талантом, ему давно следовало бы
разослать этих педагогов на ревизию полувзбунтованных и взбунтованных
семинарий. О назначении таких ревизий не было слышно в последние два
года. Ревизоры без всяких слов, без всякого писания из Петербурга сделали
бы на месте нужное дело, почистив учащий и управляющий персонал семи-
нарий, улучшив порядки управления и интернатской семинарской жизни,
поговорив с массами родительского состава, т. е. духовных же лиц, повлияв
на ректоров и архиереев, сказав разумное, доброе и строгое слово самим
семинаристам, которые могут ведь что-нибудь понимать из разумно сказан-
ного. Но вот, верно, у духовного ведомства, в его центральном петербургс-
ком управлении, нет подготовленных педагогов: ну, а чиновники духовные,
конечно, что же и могут посоветовать, кроме как написать «еще бумажку» и
за авторитетными подписями разослать ее в провинцию, которая давно сме-
ется и не над такими бумажками. Позволим себе напомнить как духовному
ведомству, так и обратить внимание всего образованного общества, что все-
го месяца два назад вышла из-под пера профессора Н. Н. Глубоковского,
деятельного члена предсоборного присутствия, книга «По вопросам духов-
ной школы, средней и высшей, и об учебном комитете при Св. Синоде»...
«Питаю единственную надежду, что мой выстраданный и искренний труд
будет небесполезен хоть для возбуждения важнейших духовно-учебных воп-
росов, как плод опыта и наблюдения со стороны человека, жизнь которого
во всяком случае принадлежит духовной школе и богословской науке всеце-
ло, неизменно и безраздельно»... Книга эта во всяком случае содержит нечто
большее и, главное, более ясное, чем «определение» Св. Синода, но она едва
ли была принята к некоторому «сведению» как его иерархическими члена-
ми, так и обер-прокурором Синода и особенно учебным комитетом, иначе
это отразилось бы на составлении «определения»... Во второй половине этой
книги подробно и документально излагается история этого учебного коми-
тета, на ответственности которого лежало управление учебно-воспитатель-
ным’делом в духовных училищах и семинариях, но который, считая, долж-
442
но быть, низким для себя возиться только со средними учебными заведени-
ями, принял на себя вовсе не положенную перед ним задачу — вмешиваться
в академическую жизнь, подчинить себе профессуру и даже направление,
исправление и неодобрение магистерских и докторских диссертаций. Но не
это важно, а именно то, что учебный комитет непростительно пренебрегал
учебно-воспитательною стороною в средних учебных заведениях, что и по-
служило едва ли не главною причиною семинарских «нестроений», а нако-
нец, и бунтов, начавшихся вовсе не эти два года, как указывает «определе-
ние» Синода, но уже лет 8—10 назад и хроническою волною переходивших
из епархии в епархию. Все это не может не быть известно Синоду из «дел»,
имеющихся при нем; например, из дела о ревизии одной семинарии в Цент-
ральной России, ученики которой взбунтовались не вследствие внешних
инородных влияний, на что ссылается определение, виня во всем их, но от
того, что в столовую учеников в интернате ни ректор, ни инспектор много
лет ни разу не заходили и что здесь была положена одна салфетка на восемь
учеников, причем, конечно, она менее походила на салфетку, нежели на гряз-
ную мочалку, которою можно было обтирать только свиней. Результатом этой
ревизии, приведшей в негодование покойного К. П. Победоносцева, было
увольнение ректора и инспектора семинарии и «на покой» местного архи-
ерея. Сколько помнится, это случилось в рязанской семинарии. О «деле»
этом говорилось во всем духовенстве Петербурга, куда были переведены на
«теплые места» уволенные обер-прокурором протоиереи-администраторы
«крамольной» семинарии, и оно, конечно, не безызвестно и Синоду, не бе-
зызвестно и епархиальной петербургской власти, пригревшей гонимых Пе-
сталоцци духовной школы. Из этого примера и, без сомнения, многих по-
добных духовная власть не может не знать очень хорошо, что главная при-
чина нестроения в провинциальных семинариях лежит здесь, в Петербурге,
и лежит она в крайне скверном исполнении воли Государя, между прочим
прекрасно и настойчиво выраженной в указе о даровании жалованья свя-
щеннослужителям и церковно-служителям: Государь призывал духовенство,
— конечно, не только с кафедры и в проповедях, но и в быту, в жизни, и
конечно, в школе и школьном управлении, оказывать воздействие на нрав-
ственную сторону человеческой души, пробуждать совесть и ответствен-
ность в народе. Но нужно ли говорить, что голос Государя остался гласом
вопиющего в пустыне, нужно ли напоминать, что когда, например, зашел
вопрос об оживлении и улучшении преподавания Закона Божия во всех учи-
лищах, между прочим в светских, то петербургские священники усиленно
начали писать в газетах «Письма в редакцию», где «изъяснялось», что боль-
шее воздействие законоучителя на учеников может получиться только при
большей близости законоучителя к ученикам, а после уже недостижимо, если
законоучитель «не получит казенной квартиры при гимназиях»... Итак, «квар-
тирка» или «не можем»... Нельзя не обратить внимания, как на застарелую
язву всего нашего духовного ведомства, притом язву, сильнее всего разрос-
шуюся именно в Петербурге, на крайнюю материализацию его, на совер-
443
шенное подчинение в нем духовной стороны жизни интересу материально-
му, почти меркантильному. Сколько лет толкуется о восстановлении прихо-
да... Болят об этом души у множества светских лиц. Но как отозвалось на
это духовенство? В собраниях этого духовенства, которое, уж кажется, хо-
рошо материально обставлено, заявлено было, что приход восстановить,
конечно, хорошо: для этого Петербург надо поделить на строжайшие терри-
тории, с подчинением в отношении «треб», и, следовательно, «доходов ду-
ховенства» (о чем, конечно, умалчивалось), обитателей каждого такого «ду-
ховного участка» только участковому священнику, т. е. «приходскому», един-
ственному и исключительному. В Петербурге есть много домовых церквей
при учреждениях, при богадельнях и проч.; эти домовые церкви с состоя-
щими при них штатными священниками как бельмо на глазу «приходского»
духовенства, т. е. самого многочисленного, влиятельного и богатого. Миря-
не выбирают их для исповеди, т. е. дают им плату, и следовательно, недода-
ют платы «своим приходским священникам». Идея организации прихода,
так занявшая Россию, схвачена была духовенством с этой меркантильной
стороны, и схвачена со стороны обещания, ожидания. «Приход? Отлично!
Мы не будем делиться с нашими братьями» (священниками домовых церк-
вей). Жаловаться, что среди этой гангрены питомцы духовной школы где-
нибудь в Сарапуле не благоухают благочестием, что они даже — даже! —
иногда «не посещают божественной службы при семинариях», — значит
вызвать улыбку у всех знающих дело. Семинаристам не менее ведомо, чем и
всякому учителю всякой семинарии, изречение св. Тихона Задонского, что
«много есть священнослужителей, которые служат не ради Иисуса, а ради
хлеба куса». Добавим, по нынешним временам, что ради «куса, смазанного
хорошим маслом»... Увы, в отравленной атмосфере не растет здоровых рас-
тений — вот главный, общий, неуловимый и всюду обоняемый источник
«нестроений» в наших семинариях. Это какой-то бунт морального отчаяния
и одичания. Договорим о материальной стороне: этот лейтмотив всякого
«духовного» начинания, всякого нового слова в духовном ведомстве звучит
так же и в синодском «определении». Ну, разве есть мало мотивов, чтобы
сказать семинаристу, что он готовится служить церкви, что мысль о церкви
есть первая и самая естественная мысль питомца семинарии. Но Синод из
всех мотивов первым поставил денежную зависимость: «Согласно § 1 уста-
ва духовных семинарий, они суть учебно-воспитательные заведения для
приготовления юношества к служению православной церкви». И Синод про-
должает: «И иною не может быть задача духовной школы, устроенной цер-
ковью и содержимой на средства церкви».
Значит, чей хлеб едите, того и песни пойте!
Грустно. Но как естественно... Когда церковь почувствует в семинарис-
тах детей своих, когда церковь не на словах скажет, а на деле почувствует,
что Христос есть «глава ее», к убоится этого... право же, бунты после этого
исчезнут.
444
ВОСПИТЫВАЮТСЯ ЛИ СЕМИНАРИСТЫ?
Введение в семинариях некоторого подобия классных наставников, суще-
ствующих при гимназиях, и приглашение архиереев к большему админист-
ративному вмешательству в семинарскую жизнь — вот две меры, которые
при неоднократном чтении «Определения» Св. Синода от 31 августа —
5 сентября за № 5379 начинают вырисовываться как некоторое «сущее» среди
«несущего», чем является остальной туман общих фраз и общих пожеланий
в этом «Определении». Но и то мы не можем сказать, учреждаются или не
учреждаются эти классные наставники. «Определение» говорит: «б) Жела-
тельно осуществление, по возможности во всех семинариях, состоявшегося
распоряжения Святейшего Синода об учреждении, в видах более правиль-
ной постановки воспитательного дела, должности классных воспитателей
из наличных преподавателей по выбору правления семинарии и с утвержде-
ния местного преосвященного; в) но если бы, по обстоятельствам, не оказа-
лось возможным учреждение института классных воспитателей, — пред-
ставляется полезным» и т. д. Невозможно понять, «учреждается» тут что-
нибудь или «не» учреждается... Из последующих в пункте в слов: «Если бы,
по обстоятельствам, не оказалось возможным таковое учреждение» — явно,
что оно не учреждается; а между тем в пункте б выше говорится «о состояв-
шемся ранее распоряжении Святейшего Синода» касательно этого учреж-
дения и о «желательности осуществления его» теперь. Решительно что-то
непонятное:
1) Св. Синод сперва «делает распоряжение», но его никто не исполняет,
и он сам знает, что оно остается неисполненным.
Так дело идет до «некоторых обстоятельств», которые если не настанут,
то ничего и не произойдет, кроме накопления лишнего документа за нуме-
ром в синодском архиве и обыкновенного ничегонеделанья в семинариях
или другой отрасли духовного управления.
Но если «некоторые обстоятельства» настанут, напр., если где-нибудь
побьют, или убьют, или ранят ректора или инспектора, тогда настанет вто-
рая фаза волевого выражения: Святейший Синод напишет и разошлет по
епархиям:
2) «Желательно осуществление» того «распоряжения, которое было сде-
лано», но никем исполнено не было.
Но оговорит:
3) «А если бы, по обстоятельствам, не оказалось возможным», — и этим
сам откроет дверь к новому неисполнению.
Можно ли сомневаться, что, судя по этим «волеизъявлениям», духовное
ведомство, и в том числе семинарии, вовсе никак не управляются, а все идет,
«как Бог на душу положит», — и ныне дошли до того состояния, коего мы
все являемся опечаленными зрителями. Но, возвращаясь к данному «Опре-
делению», кажется, мы можем подсмотреть настоящую подкладку этого «нам
хотелось бы», но «может быть, не окажется возможным». Увы, она очень
445
печальна, эта подкладка, и состоит в пожелании получить некоторый труд,
определенный, тяжелый и ответственный, задаром или, говоря народно,
«Христа ради», причем получающий очень богат, а имеющий положить «ми-
лостыню» от своего трудолюбия — очень беден. В самом деле, раскроем
скобки, и мы все поймем в одну минуту.
Должность классных наставников введена была в гимназиях приблизи-
тельно в 1871 или 1872 годах, и, конечно, введена сразу, одним распоряже-
нием графа Д. А. Толстого, который установил для нее штаты и назначил
за труд жалованье. Очень все просто и реально. Без «идеализма». «Ты дай
мне, а я дам тебе». Ну, конечно, этот принцип — «ты дай, и я дам» слишком
низмен для святых высот такого ведомства, и оно предпочло предложить
семинарским преподавателям «потрудиться», но потрудиться «для души
своей», «душеспасительно» и не ожидая пошлых земных наград. Вот раз-
гадка слов: «если бы, по обстоятельствам, не оказалось возможным»... И
вот, когда «по обстоятельствам, не окажется возможным», то на этот слу-
чай Синод предлагает устроить следующее: «Если бы, по обстоятельствам,
не оказалось возможным учреждение института классных воспитателей,
то представляется полезным поручение помощникам инспектора, для бли-
жайшего и постоянного наблюдения, определенных классов, независимо
от общего очередного дежурства по инспекции и в дополнение к такому
дежурству; при этом ректор и инспектор семинарии, кроме общего надзора
и руководства, могли бы взять под свое ближайшее наблюдение определен-
ные классы».
Конечно, поморщатся и согласятся. Наверно согласятся. Особенно при
оговоренном в конце «Определения» праве архиереев увольнять и назна-
чать по своему усмотрению почти весь служебный персонал семинарий. В
таком случае наверное «согласятся».
Вдумаемся в подробности. Институт классных наставников, введенный
в гимназиях, действительно совершенно преобразовал ученический строй,
если не всегда успешно с внутренней стороны, то безусловно успешно с
внешней стороны. Все эти безобразия, прежде творившиеся, — преследова-
ния учениками нелюбимого товарища, избиения, пошлые и цинические вы-
ходки, грязные истории внутри класса — все стало невозможным, как толь-
ко к каждому классу близко подошел с воспитательными или наблюдатель-
ными целями отдельный преподаватель. Внешнее безобразие улеглось, спря-
талось, исчезло — это везде — безусловно. Но кое-где в лучших случаях
ввелось и внутреннее благообразие. В удачных гимназиях удачные клас-
сные наставники умели настоящим образом входить во внутренний мир уче-
ников, становиться руководителями и старшими друзьями взрослых учени-
ков и настоящими отцами-опекунами маленьких учеников, — и скольких из
них предохранили они от кривого пути, от падения, от легкомысленных и
опасных выходок! Все это основано было на том, что классный наставник
уже мог лично всмотреться в каждого ученика, ибо таковых в классе немно-
го, а он почти ежедневно имеет случай войти в класс во внеурочное время и
446
говорить с учениками неофициально и попросту, говорить иногда задушев-
но, что невозможно делать на уроке, ибо всему своя задача. Это — одна
причина влияния. Другая заключалась в том, что классным наставником был
именно учитель, человек университетского образования и почти всегда сам
семьянин. Все это делало речь его просвещенною и мягкою. Через институт
классного наставничества таким образом достигалось настоящее реальное
сближение учеников с учителями, управляемых с управляемыми: это «уп-
равление» растаивало, исчезало и, оставаясь по существу, получало харак-
тер семьи, семейности. Но что же из него взяло духовное ведомство? Только
то и взяло, чтобы ученики семинарий в воспитательном отношении были
тоже «поклассно разделены» и подведены под надзор этими небольшими
группами, где все и всех можно рассмотреть или, точнее, «за всеми можно
уследить». Вот это «выслеживание» вместо воспитания и предуказывается
семинариями синодским «определением». Кому оно поручается? На даров-
щинку, тому же ректору и инспектору, которым невозможно отказаться от
какого бы то ни было предписания свыше, и помощникам инспектора, т. е.
по переводе на гимназический язык классным надзирателям. Устранены лица
с высшим образованием, точнее, неловко было лицам специально учебного
дела поручить нелегкие и ответственные воспитательные обязанности зада-
ром; и предложено было взять функции лицам административной и надзи-
рательской службы, которым все можно предложить без видной неловкос-
ти, ибо они увольняются и назначаются «по милости» или «по немилости»
архиерея или учебного комитета. Таким образом, из благотворного и благо-
родного института классного наставничества, который действительно мог
бы нравственно и религиозно оздоровить семинарии, уничтожить там гру-
бость и цинизм, — вместо всего этого, ради горького сбережения «сребре-
ников», которых не хочется вынуть из неревизуемых общим контролем «спе-
циальных (многомиллионных) средств» духовного ведомства, оставлена была
только одна форма, формальность, вот это приурочение специального глаза
к каждому порознь классу. Но как тут все воспитательное выброшено, ибо
«глаз»-то этот будет не учительский и образованный, мягкий, прилегающий
к науке, а грубый, подсматривающий, фискалящий, доносящий обо всем
«отцу-ректору» и, словом, только взыскующий и наказующий, — то можно
быть уверенным, что этот не «образ и подобие классного наставничества», а
гримаса и карикатура на классное наставничество достигнет результатов
совершенно обратных.
Как горько!
И все оттого, что было жаль денег...
Святые, лежащие в раках монастыря и лавр, заплакали бы горькими сле-
зами, если бы увидели, что из золота, льющегося в кружки, поставленные
над их мощами, ничего не отсчитано в такой опасный момент для церкви,
как наш, дабы призвать настоящих воспитателей к настоящему воспитанию
будущих священнослужителей.
447
В ДУХОВНЫХ СЕМИНАРИЯХ
На днях духовное ведомство опубликовало «определение», в котором обра-
тилось к начальству и учительскому персоналу семинарий и духовных учи-
лищ, преподавая им ряд указаний касательно того, в каком духе должно
вестись воспитание юных семинаристов. Указания не отличаются новиз-
ною и едва ли вызовут в ком-нибудь чувство неожиданности и удивления.
«Поставляя основною задачею подготовление юношества к служению пра-
вославной церкви, духовная школа держится на тех же педагогических на-
чалах, на каких зиждется всякая школа. Начала эти: а) порядок, дисципли-
на и б) авторитет лиц начальствующих и учащих». Нельзя сказать, чтобы
иные правила действовали и в дисциплинарных батальонах военного ве-
домства или чтобы иные правила внушались и уголовным преступникам,
сидящим по тюрьмам. Как же? Конечно, так! В таком случае является со-
вершенно непонятным, чем же отличается приуготовление священнослу-
жителя от приуготовления солдата. Дисциплина — там, и дисциплина —
здесь. Из дальнейших слов, однако, видно, что эта железная дисциплина
снаружи будет смазываться елейным деревянным маслом. Определение Св.
Синода продолжает: «Весь учебно-воспитательный состав духовной шко-
лы должен стоять на страже этих основ правильного течения жизни учеб-
ного заведения. В частности: а) все преподаватели должны принимать дея-
тельное участие в воспитании, подавая учащимся живой пример во всем, и
особенно в усердии к посещению храма Божия». И далее, через несколько
строк, опять: «Воспитательным надзором за учащимися, при общем содей-
ствии всех преподавателей, должно быть обращено особое внимание на
следующие стороны жизни учащихся: на усердное посещение ими бого-
служения, небрежение к чему не может быть терпимо в школе, поставляю-
щей задачею готовить к служению церкви; на целесообразное употребле-
ние внешкольного времени; на безусловное недопущение среди учащихся
сходок и собраний» и т. д. Итак, «паки и паки» посещение богослужения.
Можно быть вполне удивленным, каким образом в то время, когда по всей
России богослужение так охотно посещается народом, без всякого напоми-
нания и принуждения, и зимою можно иногда видеть, что молящиеся до
того переполняют храм, что часть их, за невозможностью протесниться
внутрь его, стоит на улице, на холоду, и все же молится, — каким образом
одни только семинаристы остаются равнодушны к богослужению, так что
им неоднократно повторно приходится твердить: «Ходите на богослуже-
ние, ибо вы готовитесь к священнослужению». Предмет, над которым сто-
ит задуматься. Народ любит богослужение, восхищен им, умилен им, — и
от этого, очевидно, и ходит, ибо ведь ничто другое его не гонит туда. «Не
гонит»... Не заключается ли в этом простом слове вся разгадка дела?! Пред-
ставим себе, что в крепостную пору какой-нибудь помещик-святоша начал
бы понуждать крестьян ходить ко всенощной и к обедне, установил бы
штрафы за непосещение «божественной службы», да и не только штрафы,
448
а поставил бы именно эти штрафы за непосещение храма впереди всех и
взыскивал бы их строже, чем всякие другие. Или, положим, какой-нибудь
строгий директор департамента или какого-нибудь казенного заведения на-
чал бы награждать по службе за усердное посещение церковных служб,
давать им награды, представлять их к ордену или повышал бы в чине. Ник-
то не усомнится, что и у помещика-ханжи, и у сановника-ханжи получи-
лись бы точь-в-точь те самые результаты, которые, очевидно, наблюдает у
себя в семинариях духовное начальство: развитие отвращения к тому, что в
народе свободно так любится и чтится, пренебрежение к этому, когда оно
по обстоятельствам безопасно, и тайная насмешка над этим, если внешний
страх заставляет скрывать настоящие чувства. Последнее, очевидно, и на-
станет теперь в семинариях, когда ректор, инспектор и все учителя по пред-
писанию из Петербурга начнут усиленно следить за посещением семина-
ристами церковных служб, штрафовать их за «небывку» и, понижая отмет-
ку по поведению, затруднять таким ученикам поступление в духовную ака-
демию или университет. Можно спросить: да каким образом дело с
посещением богослужения дошло до такого положения? Или, еще опреде-
леннее: каким образом духовное ведомство, очевидно, мало-помалу, очень
постепенно привело эту самоважнейшую свою задачу в такое положение, в
котором она не достигается, а совершенно отрицается, — не осуществляет-
ся, а ее вовсе нет?! Вот вопрос, который непременно должен представиться
духовному ведомству, и он, во всяком случае, очень ясно представляется
светскому обществу. Светское общество не может не прийти к убеждению,
что к любимейшему народному явлению — церковной службе, которая
чтится от детей до стариков, куда торопятся матери и сестры семинарис-
тов, торопились и они сами до поступления в семинарию, что к этому доро-
гому и милому для всех явлению семинария и дух ее, издавна установив-
шийся, относится до того казенно, формально и бездушно, вот именно по-
чти по-солдатски и острожно, что вытравили из молоденьких семинарис-
тов всякое уважение и привязанность к ней. Вот где корень зла. И если
теперь ректор, инспектор и все учителя, устанавливаясь на «божественной
службе» позади учеников, станут еженедельно пересчитывать их спины и
зорко следить, достаточно ли они кладут поклонов и достаточно ли низко
при этом наклоняют голову, со внесением в штрафную книгу всех здесь
недочетов, то, очевидно, это не только не улучшит дела, а почти оконча-
тельно его погубит. С мучением, со скрежетом зубовным семинаристы, ко-
нечно, подчинятся требованию, но внутри души они затаят еще большее
ожесточение против всего этого, и не только против самого гнета, что не
очень важно, но и против тех драгоценных и прекрасных предметов, к ко-
торым их нагнетали, в сторону которых их так грубо и мучительно толка-
ли. И какой же получится результат? Что скроется в семинарии, то пока-
жется на свет Божий в церковной службе этих будущих священников. Смир-
ные, с наклоненными головами семинаристы, усердные в часы семинар-
ского богослужения, на свободе, в селе и городе, будут циничны, грубы,
449
15 В. В. Розанов
нерадивы и распущенны в собственном богослужении, в собственном от-
правлении церковной службы: здесь уже за ними не будет следить отец-
ректор. Для России, для всего русского народа, конечно, во сто раз хуже
иметь нерадивых к своей службе священников, нежели нерадивых в посе-
щении богослужения семинаристов. Кому, кому можно не знать, а уж чле-
нам Св. Синода, монахам, митрополитам и епископам, невозможно не знать
из истории церкви, до какой степени легкомысленные юноши, в ранние годы
относившиеся или нерадиво, или враждебно к религии и церковному куль-
ту, в зрелые годы делались великими столпами церкви, жаркими проповед-
никами религии. Блаж. Августин — великий тому пример. Да ведь И. Хри-
стом и рассказана была притча о блудном сыне и его старшем брате, расска-
зана именно точно для нас и наших теперешних затруднений с непосещаю-
щими церковной службы семинаристами. Как можно было не припомнить
этой притчи, — не припомнить ее при составлении синодского «определе-
ния». В противоположность блудному сыну, вернувшемуся в дом отчий,
иерархи Синода могли бы вспомнить Вольтера, который прошел курс иезу-
итской школы. Там он все поклоны выполнил, держал голову по-иезуитс-
ки, опустив вниз и немножко набок, как следует благочестивому и доброму
католику. Ну, а выйдя — показал когти...
Да минет Россию эта чаша, и грубая, жесткая и вместе лишь наружно
святошеская дисциплина да не отразится лет через 8 — 10 в России вольте-
ровским смехом.
ЦЕРКОВНЫЙ СОБОР В МОСКВЕ
Опубликованное «Положение о составе предстоящего чрезвычайного собо-
ра русской церкви и о порядке производства дел на оном» счастливым обра-
зом отличается от других правительствующих актов как духовного нашего
ведомства, так и министерств: оно сжато, ясно и просто и не оставляет мес-
та никаким недоразумениям и вообще неясностям в уме читающего.
Итак, в ближайшее время будет собран церковный Собор в Москве. Не-
возможно измерить умом всей важности этого события. За весь петербургс-
кий период, т. е. за целый фазис нашей истории, церковь наша не собиралась
in pleno, так как Синод, куда вызывались или, что то же, назначались члены,
конечно, не был «собором», хотя и были попытки истолковывать его в этом
смысле. С другой стороны, съезды духовенства, созывавшиеся последние
годы с миссионерскими целями и главным образом из миссионерствующих
священников и чиновников духовного ведомства, не имели сколько-нибудь
общего значения и интереса уже по специальности своего назначения, по
профессиональности, так сказать, собравшихся. Перед лицом народа рус-
ского и общества русского никогда не поднимался голос самой церкви, не
поднимался и в смысле авторитета, и в смысле нравственного наставления.
И нет нужды разъяснять, какие это имело печальные последствия.
450
Отразилось это прежде всего упадком вообще религиозного духа, цер-
ковного духа, утратой в обществе интереса ко всему духовному и церковно-
му, наконец, отразилось утратою самого смысла о том, что же такое «цер-
ковь». Народ привык считать, и общество следовало за ним в этом отноше-
нии, что церковь — это просто ряд храмов с золотыми маковками, где по
воскресеньям собирается народ и там молится. Это с одной стороны. А с
другой — это ряд каких-то заношенных канцелярий, именуемых духовны-
ми консисториями, где никакого толку добиться нельзя, где никакое дело не
кончается ближе, чем через несколько лет, и где «подмазывают» (дают взят-
ки чиновникам). Таким образом, богослужение и взяточничество были дву-
мя единственными конкретными, осязаемыми выразителями «духовного» и
«духовенства», «церковности» и «церкви», и обывателю, или по-церковно-
му «мирянину», было очень трудно разобраться, где тут «настоящее» и где
«ненастоящее». В ту и в другую сторону, в духовную и светскую, это отра-
зилось крайнею материализацией), огрублением понятий, чувств и отноше-
ний. Духовные лица, суженные в рамках одного богослужения и треб, нача-
ли более и более исполнять все это машинально, и все православие мало-
помалу превратилось в необозримый обряд. Православный обряд и право-
славие отождествились; иметь веру — это и значило исполнять обряды, а
кто не исполнял их — считался «неверующим» или, еще хуже, — «отступ-
ником», «безбожником». И все это грубое и даже грубейшее смешение про-
изошло оттого, что над миром обрядов, т. е. художественного творчества
церкви, уже не носилась мысль о самой церкви; точнее, общецерковная мысль
иссякла, прекратилось общецерковное сознание, как некоторая высокая фило-
софия, созданная учителями церкви и обработанная на вселенских соборах.
Теперь все это должно и может воскреснуть, точнее: всему этому пред-
стоит оживать, хотя бы медленно, преодолевая двухвековой сон и уже при-
вычную, устойчивую сонливость. Нельзя, однако, не заметить, что с перво-
го же момента, когда произнесено было слово «собор» и явилась надежда на
его созыв, все в духовенстве оживилось, все стали подымать головы, точно
из сомнамбулического сна, начались разговоры, толки, собрания, суждения,
сперва сословно-материальные, но затем стали пробиваться и суждения те-
оретические, более помышлявшие «о горнем». Нужно заметить, что вслед-
ствие отсутствия побуждений в духовенстве нашем вообще чрезвычайно упал
богословский дух, богословский смысл, интерес и чуткость к богословию.
Духовенство окончательно сколотилось в сословие, в касту: и кастовые ин-
тересы и заботы, «наступления» и «отступления» по части прав, жалованья,
пенсий, наград, прерогатив и проч., и прочее заняли все поле духовного вни-
мания, т. е. поглотили если не всю мысль, то все сердце духовенства. Даже в
светском обществе сохранилось больше религиозной чуткости, религиоз-
ного искания, религиозного размышления. Разительное свидетельство это-
го мы получили в славянофильстве: по признанию даже и самих духовных,
высшим выразителем православно-христианской мысли был в XIX веке
Хомяков, светское лицо. Если мы назовем около него Ив. В. Киреевского,
15
451
С. А. Рачинского, К. П. Победоносцева, то мы вообще назовем вождей право-
славия и настоящих учителей его в сферах педагогики и церковной полити-
ки. Около них и их труда и писаний каким жалким представляется сослов-
ное проповедование в храмах или жалкие схоластические труды, прежде всего
не читаемые никем, даже не читаемые и самим духовенством.
Но все это пройдет. Явится двигатель, будет и движение. Собор, несом-
ненно, явится в роли огромного двигателя духовенства, и очень скоро оно
вынуждено будет перейти от материальных и практических забот своего
сословия к рассуждениям и более высоким, общим и для всех интересным.
Мы совершенно уверены, что и светское общество, которое первоначально,
быть может, отнесется довольно равнодушно к темам Собора, как носящим
слишком специфический характер, затем внимательнее будет прислушиваться
к суждениям на Соборе по мере того, как самые эти суждения станут при-
ближаться к общечеловеческой интересности. За «Догматическое богосло-
вие» митрополита Макария довольно лениво брались; но у всех в памяти, до
чего живо, а иногда и пламенно отозвалось и вообще отзывалось якобы «не-
верующее» общество на религиозные запросы сперва Достоевского и затем
Толстого. Ни Толстого, ни Достоевского уже никто не назовет «безбожника-
ми». Дело в том, что русское общество все-таки кровно происходит от рус-
ского народа, религиознейшего в мире, и само оно хотя и далеко от обрядо-
вого духа, но мысль религиозная, но искание религиозное в нем сохрани-
лось очень живо. Река этого искания никогда не пересыхала, никогда не ос-
танавливалась.
Не сейчас ответит, но, без сомнения, все-таки ответит на запросы этих
ищущих русских умов, русских душ церковный Собор в Москве. Он уже
потому будет вынужден ответить, что иначе он сам обмелеет: вопросы цер-
ковного устроения и вообще «своего устроения» слишком скудное содержа-
ние для явления такого объема, как Собор. Большому кораблю и большой
груз: иначе, по одному составу собравшихся и без всяких великих тем об-
суждения он естественно и сам собою умалится, станет легким, останется
явлением без интереса и значительности. По грузу именуется и корабль, по
грузу ему отводится и место: и тут очень мало значит чин капитана...
Собор не может не получить вообще большого культурного, образова-
тельного значения. Область религиозных интересов, т. е. касающихся са-
мых возвышенных и самых тонких сторон душевной жизни, была и всегда
останется областью высшего идеализма, особенно нравственного, но также
и умственного. Сюда примыкает и метафизика и философия. Но в сближе-
нии с религиею и метафизика и философия получают какой-то живой смысл,
наливаются соком и кровью, становятся народными. Это надо очень помнить.
В средние века церковь была величайшею двигательницею философии, ибо
последняя вынуждена была так или иначе ответить на вопросы, поставлен-
ные для нее церковью и церковною метафизикою, которая тоже есть. Цер-
ковь двигала и государственное право, вообще юриспруденцию, уже тем,
что вынуждала ее к самозащите. При отсутствии соборов и вообще при уни-
452
женном, упавшем значении клира и также при его огрубелости подобных
параллельных явлений не развилось у нас. У нас церковь всегда была более
бытом, нежели правом, более привычкою и традициею, нежели разумом. Но
первый же Собор русской церкви собирается во времена довольно созна-
тельные: и духовенство силою вещей, всею окружающею обстановкою вы-
нуждено будет все более и более переходить с почвы традиции и «бывшего»
на почву разума и «надобного».
Собор, без сомнения, встретит и очень большую оппозицию, между про-
чим, и в самом духовенстве. Клирики, т. е. белое духовенство, «не подписы-
вают их постановлений», как равно не подписывают его и «миряне», входя-
щие в состав членов Собора. Это, уже до начала собрания его, раскалывает
его состав. Несомненно, в таком разделении содержатся обиды. Если я член
Собора и не подписываю его постановления, а между тем приглашен на него
и мне позволено высказываться на нем, то, очевидно, я приглашен не в оди-
наковой чести с другими, позван с молчаливыми оговорками, с некоторыми
умственными reservatio mentalis, как определяют подобное дело иезуиты.
Тут нет прямоты, открытости и ясности. Если священники и миряне не под-
писывают решений, то, значит, подпись их и не считается важною, автори-
тетною. Но тогда почему их суждения авторитетны? Очевидно, если подпись
не нужна, то и самые суждения неавторитетны. Но тогда вообще для чего же
они позваны? Явно, что они позваны только в качестве драпировки, чтобы
задрапировать что-то печальное. Что это такое? Да, Собор есть собор одних
монахов, монашеский собор, и это скрадено только величественным
выражением: «епископ», «одни епископы подписывают постановления».
Выразись правила определеннее, что на Соборе к настоящему вниманию
призываются или допускаются одни только монашеские взгляды, монашес-
кие мнения, монашеские требования, — и его чересчур односторонний и
почти даже тенденциозный характер забил бы всем в глаза. Скрыть эту тен-
денциозность, его как бы предрешенный уже характер и направление, ха-
рактер не свободный — это и составило задачу правил, которые и позвали
клириков и мирян в таком числе и с таким порядком их выборов, что они не
получат значения и с тем вместе придадут вид, что это есть трехсоставный
или всесоставный Собор христианской Руси, православной Руси, когда на
самом деле это будет собор монашеский.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СОБОР РУССКОЙ
ЦЕРКВИ И ЕЕ БУДУЩНОСТЬ
Опубликование «Положения о составе предстоящего чрезвычайного собора
русской церкви и о порядке производства дел на нем» вдруг приблизило и
сделало почти реальным то, что еще вчера для всех, и заинтересованных, и
незаинтересованных, казалось чем-то туманным, отдаленным и не очень
вероятным. Встречаясь, и духовные и светские люди спрашивали и отвеча-
453
ли еще этот месяц: «Что же, соберется собор?» — «Едва ли». — «Да нужен
ли он?» — «Отчего же? Хотя, впрочем, и без него жили». Что же он «особен-
ного скажет?» «Соберется ли?» «Надобен ли?» «Полезен ли?» — около этих
тем вертелось колесо разговоров. Но господствующею нотою в разговорах
звучала уверенность, что «если их соберут, то они и соберутся, а если их не
соберут, то они и не соберутся». «Они» — это были духовные лица, духо-
венство. Все, и в том числе лица духовного происхождения, до такой степе-
ни привыкли видеть духовенство инертным, неподвижным, ко всему гото-
вым и вместе ни к чему не готовым, вялым, безжизненным, что и в деле
созыва собора его воле не приписывалось никакого значения. «Если их со-
берут, то и соберутся». «А сами они никогда не соберутся, да и вообще они
не начнут сами никакого дела». «Если их уже после всех приготовлений,
разговоров и писаний все-таки не соберут, то они все-все промолчат и ста-
нут молчать тысячу лет, до второго пришествия Христова»... Вся эта народ-
ная и общественная молва интересна и важна в том отношении, что показы-
вает, в какое время будет созван собор и кто на него соберется... Не без
причины такие авторитетные лица и вместе знатоки церковного вопроса,
как член второй Государственной Думы С. Н. Булгаков, сам сын ливенского
(Орл. губ.) протоиерея и профессор, решительно высказались за нежела-
тельность созыва церковного собора в такое время, как наше, и в таких
обстоятельствах. А взгляд этот был высказан им незадолго до созыва второй
Думы. Всякий знает, до какой степени с тех пор обстоятельства изменились.
Собор будет безнародным. Это как обухом ушибет всех, да уж и ушиб-
ло. «Соборные определения и постановления составляются и подписыва-
ются одними епископами или заместителями их» — вот громовое слово
пункта 4-го «правил», которым все, собственно, решено и зарыты в одну
могилу и миряне, и белые священники. Предшествующая этому громовому
слову фраза того же 4-го пункта: «Клирики и миряне, приглашенные на со-
бор, участвуют в обсуждении всех соборных дел и вопросов» — уже являет-
ся только фразою, звенящею в воздухе. Поговорить они поговорят, погово-
рить они могут, но ни на йоту их участие не выразится в том, что является
завершением речей, плодом их, что составит дело собора. К делу соборному
они допущены не будут. Спрашивается, что одушевит их к речам? Для чего
они будут говорить? Да и для чего вообще явятся на собор?
Таково правило, выработанное на предсоборном присутствии, где, как
известно, взгляды членов резко разделились, и проект только епископского
участия в составлении решений собора и подписи их получил перевес всего
одного или двух голосов. Но уже все решено, и теперь все получило и имеет
такой вид, что на предсоборном присутствии это все духовенство и все уче-
ные мирские люди, участвовавшие в нем, после зрелого суждения и раз-
мышления пришли к выводу, что должно быть именно так. Что тут боро-
лись партии, — все это затушевалось. Что в этом правиле о «подписи и
составлении постановлений собора одними епископами» едва половина ду-
ховенства наступила ногою на другую половину духовенства, наступила и
454
раздавила, — это тоже будет все скрыто. Сами несчастные белые священни-
ки будут отныне участвовать в затаптывании себя: своим присутствием на
соборе и произнесением речей (а мы уже знаем, какие речи бывают у свя-
щенника в присутствии архиерея, а тут будет еще целый сонм архиереев!)
они придадут всему делу такой вид, что это не епископы их давят, а что это
весь собор, вся русская церковь, все православное веросознание, и в том
числе сами они, священники, ну, например, запретили себе второй брак в
случае раннего вдовства, потребовали, чтобы ректорами семинарий и акаде-
мий были только монахи, чтобы священник при всей своей учености, уме и
нравственности не мог никогда сравниться в значении, положении, сане,
чести и средствах обеспечения с самым что ни на есть плохоньким монаш-
ком, неучем и неумным. До сих пор все это терпелось как некоторый вре-
менный, по злоупотреблению, гнет монашеской власти над спинами семей-
ного духовенства, но теперь через собор все это получит санкцию общего
церковного авторитета и вид как бы согласия и даже требования самих свя-
щенников! А следовательно, все это укрепится в вечность.
Священники ведь были на соборе? Были! Ну, а «собор поставил и опре-
делил» лишить их того-то и того-то, отнять еще то-то и то-то из их прав.
Значит, и они согласились, значит, ничего без их желания. В этом общем
изложении дела, которое одно и без подробностей перейдет в века, перейдет
в историю, станет делом жизни, — не будет вставлена оговорка: «состави-
ли и подписывали одни епископы».
Вот в чем опасность положения, которую в общем очерке предвидел и
С. Н. Булгаков. Печальное теперешнее перейдет в вечность. Что теперь очень
печально положение вещей в духовном сословии, что священство как-то
упало, огрубело, потеряло разум, стало безвольно и безмолвно и заботится
только о материальном обеспечении себя, о «хлебе едином», — это общеиз-
вестно, и все ждали, что этому наступит же конец. «Конец» должен был
начаться с изменения правового положения белого, женатого священства в
самой церкви; в уравнении прав его с бессемейным или, вернее, с антисе-
мейным (монашествующим) духовенством. Изменились бы права, — изме-
нилось бы положение; изменилась бы с этим речь, голос, мнение, взгляд
священника, стал бы он выпрямляться из теперешнего скрюченного состо-
яния своего и возрастать в разуме, в силе, в просвещении. Все это теперь
ему не нужно, ибо он призван только править требы. Для этого ни разума,
ни учености, ни какого-нибудь характера не требуется. Думает за него и де-
лает все дела, даже и его касающиеся, епископ, которому и нужен этот разум
и воля. Не говорим о действительности, а о той царствующей теории, кото-
рая не может не давить и на действительность, не могла не изуродовать ее.
Но теперь, с этим призывом священников и мирян на собор и, следователь-
но, с санкциею их авторитетом «решений и постановлений собора», которо-
го они, однако, не составляют и к составлению этому не допущены, — явно,
455
что они из теперешнего состояния уже никогда не подымутся. Оно может
только еще малиться, еще грубеть, еще упадать нравственно и умственно до
«убожества». Вероятно, направление дел мало-помалу, очень постепенно и
осторожно, все исключительно практическим путем, т. е. без шума, пойдет
к установлению целибата, т. е. к совершенному вытеснению из состава церкви
женатого духовенства. Уже и теперь (впервые по мысли митрополита
Филарета) допущены в некоторых исключительных случаях неженатые свя-
щенники. Митрополит Филарет, всегда высказывавший большие симпатии
к католичеству, побудил своего подчиненного и своего друга А. И. Горского,
знаменитого ученостью ректора Московской духовной академии, принять
священство. В ту пору потаповского управления синодскими делами в рек-
торы назначались иногда не только не монахи, но даже и не священники.
Таким отшельником-ученым, описателем древних рукописей был А. И. Гор-
ский, которого чтила вся Россия. Он был отшельник-ученый, который так
же мало мог и сумел бы жениться, как и философ Кант. Вдруг ему Филарет
предлагает стать священником. Отчего он не предложил ему стать монахом,
что было бы так естественно и для него легко? Горский, без сомнения, не
проницал в дальновидность Филаретову: так как Горский не мог и не умел
жениться, то с настойчивым (подсказанным) желанием его принять сан свя-
щенника создалась коллизия — посвятить во священники без предваритель-
ного брака. Высокие заслуги Горского, бесспорная правоспособность его к
священству — все устраняло всякие возражения, и просто казалось смеш-
ным требование, что ко всем личным и нравственным своим качествам, вы-
сокодуховным, он для чего-то обязан прибавить и брак, плотское соедине-
ние с женщиною, чтобы стать способным служить литургию и причащать!
Филарет именно и взял это особенное сочетание, чтобы сломить традицию.
И сломил. Это был первый неженатый священник в русской церкви. А те-
перь они вообще уже попадаются. Традиция сломлена практически, без спо-
ров, без шума, т. е. целибат уже вошел к нам в церковь, без шума, без теорий
и не встречая возражений по той простой причине, что нет и тезиса его.
Никто не может считать, следить, охранять количественное отношение же-
натых и неженатых священников, и «подписывающему соборные постанов-
ления» епископству не составит никакого препятствия давать лучшие места
в епархии именно неженатым священникам и тем создать уже реальный
мотив к учащению безбрачного духовенства. Он будет находить почву в
том естественно существующем равнодушии к браку, какое есть в человече-
стве. И равнодушие это роковым образом возрастет, чем печальнее, чем для
священника мучительнее будет обстановка и условия священнической се-
мьи и особенно начало священнического брака (торопливый выбор невесты
перед посвящением). «Чем хуже, тем лучше» — это слишком ясная истина
для двух борющихся станов, безбрачия и монахов, брака и семейных.
456
КАК РАЗРЕШАЕТСЯ НЕДОУМЕНИЕ
У Тютчева есть стих:
Мысль изреченная есть ложь...
В свете стиха этого удивительно легко разрешаются все те вопросы или,
лучше сказать, вся та путаница недоумений, которою занят автор «Пробуж-
дения весны» и которую он вытаскивает перед зрителями и слушателями
своей пьесы, — неудачной, ломаной, неприличной, нереальной. Оставим
пьесу и будем говорить о теме, которою, по-видимому, занята публика и ко-
торая действительно занимательна.
— Отчего не говорят, не пишут и не обсуждают альковные стороны се-
мейной жизни? Почему это считается неприличным и безнравственным?
Почему подобные разговоры между детьми, хотя бы и подрастающими, все
вообще считают безнравственными, школа считает их порочными и пре-
ступными, родители возмущаются, пугаются и негодуют на возможность
подобных разговоров.
На все эти «отчего» только и можно ответить стихом Тютчева:
Мысль изреченная есть ложь.
Преступление, грех и безнравственность нисколько не лежит в деле этих
отношений: иначе никто бы и не выдавал дочерей замуж, не женил бы сыно-
вей; иначе бабушки и внуки оплакивали бы и стыдились появления у них
внуков и внучек. Конечно, ничего подобного нет, т. е. весь свет, кроме ис-
ключительных уродов, смотрит на это нормальное, закономерное, здоровое
и в высшей степени нравственное явление, нравственные процессы одобри-
тельно, благожелательно. Но и взрослые между собою не говорят же о них,
кроме как с доктором, когда бывает нужда. Вы замечаете новый оттенок,
допускающий речь: нужда, т. е. серьезное, наука, т. е. бесстрастное.
С доктором не говорят о страсти и страстным языком, т. е. к нему обра-
щают речь в нужных и серьезных случаях, и лишь настолько, насколько
она обнимает медицинскую сторону «дела», т. е. одну наружность, анато-
мию и физиологию, без привкуса страсти. «Привкус страсти» в разгово-
рах, писаниях и составляет то, что всемирно отмечено именем «порногра-
фии» и что молчаливо и без соглашения, по вполне согласно всемирному
инстинкту, отвергается, как недостойное и унижающее человека. Но «отче-
го? отчего?» — спрашивают Ведекинд, публика и двое несчастных погиб-
ших детей.
— Да оттого, — отвечаем, — что этого нельзя передать, не извратив.
Страсть испытывается; и «дело» это испытывается. Г-жа Бергман, мать за-
мужней дочери и дочери-подростка, нимало ведь не смущается, не негодует,
что в семье ее замужней дочери все это «происходит», «испытывается», и ей
нечего было смущаться и краснеть при расспросах малолетней дочери о спо-
457
собе появления племянницы, от этих ее вопросов. Она могла ей отвечать
совершенно просто так:
— Я не имею для этого слов, уменья. И никто не имеет, моя мать тоже мне
ничего не разъяснила. Она мне предоставила испытать, когда настанет время.
И я испытала. И испытанного не могу, не умею передать, как и никто не умеет
передать. Все переданное будет лживо, потому что не будет содержать глав-
ного — чувства, ощущений, которые невыразимы. А второстепенное и по-
бочное, что я сумела бы тебе передать (анатомию и физиологию), получает
без главного совершенно ложный вид. Ты почувствуешь, моя малютка, от-
вращение, когда должна чувствовать и со временем почувствуешь влечение.
Вот этого-то влечения я и не могу разрушать, считаю грехом разрушать не-
соответственной холодной передачею. Как хороши коровы в живом стаде:
ты их ласкаешь, кормишь травой. Но как они отвратительны, когда, с обо-
дранными шкурами, красные, с перерезанным горлом и отрубленными но-
гами, они везутся как туши в мясную лавку. Ты говоришь «фи, гадость».
Отворачиваешься. Ты не должна от этого отворачиваться, и никто не дол-
жен, и поэтому никто из людей об этом не говорит: ибо разговор будет то же,
что «туша коровы» в отношении «живой коровы»: безобразен, не похож,
наконец, лжив в отношении предмета, которого касается и не может опи-
сать. Это невыразимо. Разве нет невыразимых вещей? Много, и не худшие.
Душа невыразима, совесть невыразима, грех невыразим. Бога разве мож-
но выразить? Никто не нашел для Него определения, слова. Все высшее,
тончайшее, глубочайшее невыразимо. Я многое перечитала, но забыла по-
чти главное: невыразима самая жизнь. Вот ты, малютка, живешь: но как я
это выражу, опишу? Если я скажу, что ты «играешь, учишься, спишь, ешь»,
то это будут названия определенных вещей — еды, сна, школы, игр. Во всем
этом есть жизнь, все это ты совершаешь или, точнее, совершается с тобою
оттого, что ты живешь. Но вот этого-то «живешь» и не уцепишь клещами,
словом, даже не уцепишь мыслью. И понять нельзя, постигнуть нельзя. Те-
перь будь же внимательна, малютка: если нельзя постигнуть «жизни», то
еще менее можно постигнуть источник ее, собранный в кратком времени и
кратком месте: это потрясает, восхищает... но я уже говорю и впадаю в ложь.
Оно богаче и полнее всего этого, но оно вполне непередаваемо и непости-
жимо. Конечно, тебя обманывали, когда говорили, что «новорожденный
младенец приносится аистом». И во всем народе обманывают. Но это не по
желанию обмануть: а оттого, что взрослые, испытавшие это, хорошо знают,
что этого нельзя выразить и передать, и так как глупыши вроде тебя приста-
ют с вопросами: «откуда», то им и отвечают что-нибудь. Глупыши о всем
спрашивают: «Откуда звезды? Откуда солнце?» Что на это ответить? Взрос-
лым прочтешь науку и узнаешь; будешь взрослою, будешь иметь детей и
тогда узнаешь, что и как это, и не будешь рассказывать своим детям, как и я
тебе не рассказываю. Остановись на том первоначальном и отдаленном, что
«Бог сотворил солнце», «Бог сотворил небо», «Бог сотворил человека», «Бог
сотворяет душу, т. е. жизнь, каждого младенца». Оттого дети рождаются
458
разумными, добрыми, — и так задумываются и любят, когда им объясняют
о Боге и мире. Откуда вышел — предчувствие или воспоминание того и
несешь всегда в себе.
Вот и все. К этому я добавил бы, что «объяснять это детям» не нужно,
так же как утенку мать его не объясняет способов плавания. Есть память
физиологическая, память организации. Весна именно «пробуждается» в от-
роках и отроковицах, и не надо будить ее ни стихами, ни учебником из кос-
мографии. Все истинно прекрасное должно приходить само собою. Этого
«само собою» не нужно предупреждать и в особенности не нужно ускорять
преждевременными разговорами. Ведь разговоры торопят? В торопливос-
ти-то и заключается скверная цель порнографии, «безнравственная». Здесь
«безнравственность» ни малейше не относится к «делу», а только к слову,
которое мешается куда не следует и, мешаясь, сбивает источник жизни с
его надлежащего места и от необходимой обстановки. Мать перед своею
умирающею дочерью-подростком, как и перед дураком «в маске» (есть та-
кое лицо у Ведекинда), который цинично замечает о девочке 14 лет, уже о
трупе, что она «хорошо была сложена и могла бы отлично родить», — эта
мать могла бы закричать:
— Да ведь ребенка надо воспитать. И лучше, слаще, счастливее иметь
детей от одного отца, который сохранил бы долголетнюю верность тебе и
ты сама сохранила бы долголетнюю верность ему одному. Чтобы вы были
счастливы, и долгим счастьем. Ведь если счастье есть счастье, то чем доль-
ше оно, тем лучше? А чем скоропреходяще, тем хуже? Этот дурак «в маске»
ничего не понимает; а ты, мое умирающее несчастное дитя, сама видишь,
что ты избрала себе действительно худшее, что выпила яд: ибо твой гимна-
зист убежал в Америку и не вернется для тебя, да и сама ты, еще играющая
в куклы, какая же ты воспитательница! Ничего ты безнравственного не
совершила, но есть безнравственность в том, куда, в какие условия ты поло-
жила великий акт и с ним ребенка своего и себя. Купить корову и заморить
ее с голода — грех; поступить в гимназию не приготовившись — глупо. В
материнстве ни греха, ни безнравственности нет. Но именно оттого, что
оно так высоко и свято, — к нему нужно хорошо приготовиться. Т. е. со-
зреть, вырасти, воспитаться, выучиться. Ты погубила себя, упав в яму, в
действительную яму, и преждевременно, вместо того чтобы, как и старшая
сестра твоя, войти в благоухающий, душистый сад, которому нет имени и
описания.
ЛЮДИ «СВОЕГО УМА» НА ВЫБОРАХ
Как ни коротко у нас время существования парламентаризма, но некоторые
темные стороны его, издали и отвлеченно казавшиеся легко переносимыми
и неважными, вблизи и на практике дали почувствовать всю свою горечь.
Сюда относится партийность, доходящая до слепоты и глубочайшего кол-
459
лективного эгоизма. Явление и само по себе неприятное, не располагающее
к уважению, ибо где ослепление, там и падение разума. Но в отношении к
стране это еще печальнее. В парламенте верховный законодатель дает выс-
казаться стране, хочет узнать ее мнение. Все население ждет, что с высоты
парламентской трибуны оно услышит свой подлинный, неподдельный го-
лос, голос самой натуры своей. Так вытекает это из существа выборной си-
стемы и открытого, гласного, свободного парламентаризма. Но великую
машину парламента тотчас же окружают маленькие машинки партий, яко-
бы в подспорье ему, а на деле к глубочайшему его подрыву, к нанесению ему
самой опасной, зловонной и гниющей раны. Говоря или, точнее, крича и
жестикулируя от имени народа, партийные люди подставляют себя вместо
народа. Этот процесс подстановки, происходящей на выборах, нравственно
мучителен и исторически опасен. Каждый, кто является настоящим другом
настоящего и серьезного парламентаризма, не может не оплакивать всего
дела, наблюдая процесс этой подстановки. То самое, на что жалуются партий-
ные люди, когда замечают вмешательство администрации в выборы, делают
они сами, и делают в гораздо более гибельной форме. «Подделка народного
мнения», «угнетение свободы и совести выборщиков» — это самое они и
производят своею жестикуляциею, печатным и устным оклеветанием всех и
вся, кроме себя, выкриками и воплями и вообще всем этим отвратительным
сором, который подымается в пору выборов. Борьба кандидатов и за канди-
датов напоминает отвратительное лазанье по высокому столбу, на верхушке
которого положен съедобный приз. Процесс этого лазанья или подобной
борьбы до того некрасив, что от него решительно отстраняется большин-
ство спокойных, деловитых людей, людей настоящего и плодотворного зем-
ского труда, труда на местах, в провинции. Повсюду на первые места выдви-
гаются адвокаты, говоруны, юристы, люди, наконец, гостиного и клубного
разговора. Сказать о них, что это-то и есть соль земли, — значит всех рас-
смешить. Сказать народу, что адвокаты и дипломированные юристы выра-
жают его совесть, — значило бы вызвать его глубочайшее негодование, выз-
вать живейший протест населения. В народных поговорках, прибаутках,
острословии, анекдотах уже гораздо раньше 1904 года обрисована была
физиономия этих людей словесного крючкотворства, юридического каверз-
ничанья, площадного краснобайства, которые неожиданно явились в парла-
мент как «любимцы народные». «Кто же их выбирал?» «Как их выбирали?»
«Ведь выбирал народ, и свободно?» — Да. Но скромному, трудящемуся,
повсеместно и ежедневно занятому населению предложили они себя. Народ
поглядел по сторонам. Все заняты, у каждого дело. И выбрал «их»... Неде-
ловой, нетрудоспособный характер двух первых наших парламентов объяс-
няется ближе всего тем, что он составлен-чо был из неделовых людей. И в
состав его прошли неделовые люди потому, что они проходили через про-
цедуру партийности. Приходится сказать о партиях то, что сказано было о
бюрократии. Партии то же суть средостение, — средостение между населе-
нием и парламентом. Они так же отделяют парламент от населения, как
460
бюрократия отделяла верховную власть от населения. Они похожи на жир-
ные и, пожалуй, на сальные пятна, плавающие в народном котле, которые не
сливаются с остальною массою содержимого, всегда наверху и всегда вид-
ны. Они не открывают, а закрывают народ. Выборы, попавшие в выборную
машинку партий, естественно, и выражают их. Народ тут ни при чем. Ни
при чем народная душа, народный ум, народный характер.
Великие идеалисты западного конституционализма, и в числе их Дж.
Ст. Милль, скорбя об этом бедственном последствии выборной техники,
предлагали поправку к системе выборов в том смысле, чтобы по крайней
мере некоторое число депутатов было избираемо подачею голосов, и изби-
раемо не непременно из «депутатов» своего округа или города, но из насе-
ления, напр., всей Англии. При этой поправке в парламент попадали бы са-
мые знаменитые люди страны, т. е. люди, предварительною жизнью и дея-
тельностью заслужившие уважение в целой стране, чего при обычной сис-
теме выборов решительно не бывает. Этот проект Д. С. Милля остался его
благим пожеланием без осуществления. В Англии и всюду, в парламентах
собираются не великие люди страны, но парламент и его кафедра сам дает
впервые известность или знаменитость дотоле неизвестным или полуизвес-
тным лицам. Он творит знаменитости, а не пользуется знаменитостями. Раз-
ница огромная! Без него никогда и никто не узнал бы Рамишвили, Алексин-
ского, Аладьина, людей, о которых можно сказать, что у них, «кроме горла,
ничего нет». Так, имя «пролетарий» первоначально означало человека, «ко-
торый имеет только детей». Времена и обстановка изменились, и теперь по
крайней мере пролетарские ораторы имеют только «горло». Насколько бы
выиграла солидность парламентаризма, если бы в Г. Думе нашей вместо
этих говорунов сидели лучшие представители нашей профессуры, торгов-
ли, промышленности, техники. Алексинский и Аладьин, или Гессен и Вина-
вер усердно предлагали себя, подавали себя публике под сладким соусом на
предвыборных собраниях. Их видели, их слушали, их и выбирали. Толочься
во всей этой кутерьме не могли такие люди, как Ключевский или Герье, хотя
их знает вся Россия, хотя они имеют положительный и ценный взгляд на
положение России и могли бы умом и советом помочь ей выбраться из труд-
ных обстоятельств; но имени их никто не назвал, и никто даже не пытался
их провести в парламент, благодаря партиям и партийности, благодаря про-
цедуре выборов.
Хотя, к сожалению, только немногим пунктам закон 3 июня дает населе-
нию право прямого выбора, но им будет пользоваться и Петербург. Партий-
ность уже теперь беспокойно зашевелилась против этого права граждан прямо
осуществить свою волю, право каждого назвать непосредственно то лицо,
которое он хочет видеть в Г. Думе. При подобном порядке районные комите-
ты, рассылающие жителям свои бланки с пропечатанными фамилиями гос-
под, хорошо известных партии и вовсе неизвестных России и Петербургу,
грозят не дать тех блистательных результатов, какие они принесли при пер-
вых и вторых выборах.
461
Есть опасение, что обыватель кинет под стол кадетский или товари-
щеский бланк с неизвестными Ивановыми, Соколовыми и Семеновыми и
напишет имена лиц, ему хорошо известных и которых он уважает. Тогда
выйдет беда и для кадетов, и для товарищей, беда для всех вообще партий,
выборная машинка которых стрижет только смиренно стоящих баранов.
«Своя воля» и «свой ум» у выборщиков — это если не конец и кончина, то
риск и опасность для партий и партийности. «Речь» сегодня пишет мелан-
холически о счастливом былом предыдущих выборов в Петербурге: «Каж-
дый район имел своих любимцев (!) и своих организаторов избирательной
борьбы; плоды их усилий отражались наглядно в победе или поражении
данного района, рождалось чувство соревнования... В настоящее время борь-
ба пойдет, так сказать, врассыпную, на необозримом пространстве города,
за людей, может быть, более известных, но менее связанных с местными
группами (!), и возникает серьезная опасность, что десятки тысяч избира-
телей, призванных действовать по личному почину, потеряют из вида об-
щий план действий» (!)... Т. е. «потеряют» или скорее бросят подсунутый
бюллетень с готовыми именами партии. Да, «Речь» не напрасно боится:
многие, конечно, бросят эти бюллетени и напишут свои дорогие имена, не
продиктованные, свободно любимые и выбранные. Таких будет очень мно-
го, и, кто знает, не обнаружит ли эта прямая система выборов неожиданные
результаты, отбросив совершенно за флаг партии и выдвинув просто «луч-
ших» людей, видных людей, знаменитых и благородных людей родины,
каких, конечно, в Петербурге много и из которых ни одно лицо не попало в
прежние бюллетени. Ведь закулисные вожаки каждой партии, в видах бу-
дущей дисциплины или попросту — покорности себе, как огня боялись
самостоятельных и сильных лиц в Думе, могущих издать не партийное бле-
яние, а свой могучий личный голос. И товарищи, и особенно кадеты боя-
лись таланта не менее, чем старая бюрократия боялась таланта в своем со-
ставе. Талант перервет все нити дисциплины, все эти петельки и силочки
внутренней организации партии, придерживавшие каждого в Думе за нож-
ку и за язычок. Талант свободен. А партии нужны рабы. И партии совали
обывателям этих рабов своих.
Порайонные комитеты и всяческая агитация на предвыборных собрани-
ях все же, вероятно, возьмет свое. Рулетка редко проигрывает. Но бездна
людей все-таки скажет и свой голос, голос просто за лучшего человека Рос-
сии, за нужного России человека. Число полученных голосов будет в выс-
шей степени интересно не в высших, — вероятно, по-прежнему партийных
своих цифрах, но в средних цифрах. Это-то и будут настоящие свободные
цифры, счет свободных выборщиков, измерение настоящих ценностей страны
и города. Они будут очень любопытны и даже могут сыграть свою роль на
четвертых выборах. «Речь» этого всячески боится и теперь протестует про-
тив «личного вкуса» при выборах, рекомендуя брать слепо своих кандида-
тов. Она даже боится следующей возможности: ну, пусть люди ее партии
будут называть лиц, конечно, ее партии, но разных. «Такой разброд может
462
рассыпать голоса избирателей и привести к самым неожиданным результа-
там». Газета подсказывает, что нужно ничего своего и от себя не писать на
бланке, а просто опускать в урну уже один, для всего Петербурга отпечатан-
ный бланк, где будут значиться «знаменитости» Семенов и Иванов, люди
покладистые и от Милюкова не бегающие. Но все вправе спросить партию:
где же если не европейские принципы, то общечеловеческая идея, что выбо-
ры не по форме только, но и по существу должны быть свободными, т. е.
независимыми и личными; наконец, свободными хоть в том элементарном
смысле, что члены парламента не должны быть ставленниками ни открытой
правительственной власти, ни закулисного властолюбия партийного царька
или князька.
Есть подрывы конституции политические. Но хуже их нравственные.
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ УРНАМИ
Осторожность, — вот, кажется, лозунг, который, за выключением крайней
правой партии, объединяет теперь все остальные партии, не исключая и тех,
кто вольно и невольно были если не причиною, то поводом к роспуску вто-
рой Думы. Точнее, имели неосторожность дать повод распустить ее.
Обстановка выборов и перипетии политической борьбы за два после-
дние года сделали необыкновенно легким самый выбор программы и лица
каждым избирателем. Печаталось и говорилось много о «всеобщем попра-
вении». Может быть, мы обнаружим настоящее зерно этого явления, если
скажем, что не столько все поправели, сколько почувствовали историчес-
кую необходимость положить выборный шар немного правее, чем куда хо-
чется. Это, действительно, явление всеобщее. История немножко «отжала»
всех назад: разумеется, всем хочется разжаться, раздвинуться в стороны и
вперед. Но, с трудом переводя дыхание, все стоят на месте и даже еще ото-
двигаются назад перед очевидною невозможностью или опасностью. Вот и
все. Выборы этого года покажут не столько настроение страны, сколько меру
сознания ею слишком «ответственного» времени.
Положить шар правее, чем куда хочется, вписать в бюллетень имена
более спокойных, чем к каким чувствуешь настоящую симпатию, — это,
вероятно, управит собою выборы и определит кандидатов в Думу. Третья
Дума менее всего должна быть принципиальной Думой, и она ни в каком
случае ею не будет и не может быть. Она будет Думою переходного време-
ни, спорного времени. Вот это и определит, думается, ее состав. Нужны
люди не далекого подхода, а крепких позиций. Это совсем другая задача, и
для нее не столько требуется храбрость, натиск, запас энергии и сил, сколь-
ко искусство маневрирования, уменье выиграть время и укрепиться и на
позициях, которые все-таки заняты и с которыми никак не хочет помирить-
ся враг.
463
Конституционно-демократическая партия есть наиболее практическая
партия, и этим определяется ее положение в текущий момент серьезных
практических затруднений и даже опасностей. Несомненно, она лучше всех
других партий проведет затертый льдами безвременья конституционный
корабль в открытое море будущего. В этом будущем возможны и даже жела-
тельны оспаривания ее тактики, ее приемов, ее программы. Но все это не
для «теперь». Теперь надо провести ближайшие задачи упорядочения мест-
ной жизни, судебной, административной и хозяйственной, нужно очистить
воздух в запертом помещении внутренней жизни, чтобы уже затем, во вто-
ром шаге, опереться на человека, сложившегося в этих менее подавленных
условиях существования. Наконец, рядом вторичных подпорок надо как-
нибудь закрепить фактическое осуществление тех новых начал жизни, ка-
кие теоретически были получены 17 октября. Все мы знаем и видим, до
какой степени наличная картина России не имеет ничего общего с предпо-
ложениями и ожиданиями тех дней. Россия напоминает пока бессильно ле-
жащего Икара с обгоревшими крыльями и сломанными ногами. Полететь
не удалось, да и ходить нельзя. И сил, и способности, и внешних условий
дано лишь настолько, чтобы ползать...
Все левые задачи временно отходят — или, лучше сказать, оттеснены,
— на задний план, и перед русским обывателем есть только одна задача —
прояснения гражданского своего положения, возвращения себе человечес-
кой личности. Кроме лозунга «назад», громкого в правых группах, есть только
лозунг: «немного вперед» или «ни в каком случае не назад». Левые партии
сыграли бы великую историческую роль, если бы на ближайшие два-три
года они великодушно отказались от своей игры, которой все равно теперь
не выиграть, в пользу игры своих ближайших соседей, которая и для них
будет небесполезна в смысле: «больше воздуха». «Воздух» всем нужен. Без
«воздуха» не обойтись и левым. Дверь слишком крепко заперта, и пока в нее
ломиться — только испортить себе плечо. Время открыть форточку, и стра-
на не забудет этой услуги, если левые, согнув дюжие спины, послужат ле-
сенкой, чтобы дать добраться до этой форточки тем, кто ее сумеет отворить.
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ВЫБОРЫ
Как и ожидалось, результаты выборов в Г. Думу совершенно иные, чем это
было в прошлом и позапрошлом году. И это нужно отнести столько же к
новому порядку выборов, сколько к переутомлению страны «борьбою» и
жажде ее правильного законодательства. «Оппозиция» и ее гласная возмож-
ность была лакомым блюдом при первых и вторых выборах: но теперь эта
«оппозиция» набила оскомину и наконец просто приелась. «Оппозицион-
ных» речей и «оппозиционной» тактики было так много в обеих Думах, и
оба министерства, гг. Горемыкина и Столыпина, настолько дали высказать-
ся ораторам левых и полулевых партий, что Россия совершенно достаточно
464
вкусила этого добра и решительно не чувствует позыва глотать опять это же
кушанье. Вот главным образом что решает исход выборов. Состав членов
Думы явно меняется, и это свидетельствует, что Россия явно не желает ни
прежнего зрелища, ни прежних дел или, точнее, прежнего безделья, царив-
шего среди кровавой смуты. «К законодательству! к работе! к здоровому
обновлению России!» — вот лозунг, который и без слов слишком явно зву-
чит в выборах. Это и есть наставление Думе, народный «приказ» ей, притом
выразившийся совершенно определенно и властно через выбор именно та-
ких, а не иных лиц.
Две первые Думы прошли как чад, как угар: от них голова болит. Третья
Дума стоит перед совершенно новыми задачами, и ее дух определяется как
совершенно иной. Об этом говорят имена и партийная принадлежность из-
бираемых членов.
Консерватизм русский стоит перед великим экзаменом. До сих пор он
был в положении критика, бессильного, нервного и хотя иногда очень та-
лантливого литературно, но именно только литературно. Консерватизм все-
гда был «не у дел». И если, например, Катков и имел большое влияние на
политику, то влияние через газетные статьи — это совсем не то, что «прило-
жить свою руку к делам», участвовать в законодательных комиссиях, со-
ставлять законопроекты. И теперь люди, не только горячо любящие Россию,
но и уважающие ее, впервые подходят к кормилу власти, через полвека поч-
ти сплошного высмеивания и гонения.
Конечно, это великий экзамен!
Думается, что этот экзамен будет всего успешнее сдан, если русское на-
циональное сознание, которое мощно войдет в третью Думу, пойдет само-
стоятельно к творческим задачам своим, не впадая в идейную войну с пер-
выми двумя Думами, — не сделается, так сказать, оппозициею оппозиции.
Нужно заметить, что русскому обществу надоела самая эта позиция спора,
словесных прений и извержений. За два года решительно все переутоми-
лись этим и жаждут дела, закона, жаждут твердых решений и успокоения
страны. Если третий парламент в гармонии с Верховною Властью даст это
России — надолго утвердится здоровый исторический консерватизм. Ни-
чем так, как деловитостью 3-й Думы, не будут сбиты с позиции кадеты и
левые. Ибо они хвастливо уверяют, что обновить Россию могли бы только
они, что национальные партии имеют за собою только националистичес-
кую фразеологию и никакой практической трудоспособности, никаких го-
сударственных талантов. Показать ошибочность этих расчетов, обнаружить
здесь клевету — это и значило бы наголову разбить противников. Это будет
сильнее всяких речей.
Сами кадеты и левые, пройдя в слабом числе в Думу, судя по печати,
собираются говорить и говорить. Они и в первой и во второй Думе говорили
и говорили, так что это не ново, и речи их падут на крайне утомленный слух.
Сверх этого, опять же судя по печати, они собираются «раскрыть глаза стра-
ны» на национальные партии. Против «раскрытия глаз» никто ничего не
16 В. В. Розанов
465
возразит, но, кажется, они собираются не столько «раскрывать глаза» стра-
не, сколько «втирать очки» в глаза ей. И вот это должно получить и, конечно,
получит надлежащий отпор. И опять же отпор этот должен выразиться в
том, чтобы население с «широко раскрытыми глазами» увидело истинно
доблестную, истинно государственную деятельность третьей Думы, нацио-
нально-русскую и неотделимо от этого — европейски просвещенную. Русь
— сложное целое: начала варяжское и византийское, идеи и замыслы Петра
Великого — все это давно и кровно сделалось стихиями, частицами «истин-
но русских начал». И уже давно благородный поэт гр. Алексей Толстой ска-
зал, что «никогда Русь не повернется лицом к печенегам и спиною к Запа-
ду». Не было этого, и невозможно это. Да и не надо, и нисколько ниоткуда
не угрожает, кроме исключительных голосов, которые в сумме прочих пото-
нут, как ничтожество. Но желательно, чтобы они вовсе и не раздавались.
НА ВЫБОРАХ В ПЕТЕРБУРГЕ
Толстые лица, хороший рост и... сытость, сытость и сытость: вот впечатле-
ние 17 октября. Какая разница с выборщиками в первую и во вторую Думу!
И не в одних лицах или, лучше сказать, корпуленции, но и в самой походке.
На первые и вторые выборы бежали, летели, точно ветерок всех нес, — это
несло всех одушевление. У тех, кого несло это одушевление, были легкие,
воздушные, нервные фигурки. Небольшой рост, молодое лицо, одежонка так
себе, сухощавое сложение, неширокие плечи. Это труд шел говорить о себе
или шел, чтобы начать говорить... Если господин с пакетом был на пролет-
ке, то он подкатывал к подъезду, а не подъезжал...
Какая перемена сегодня утром: не идут, а ползут. Никто не спешит, не
торопится, не улыбается. Нет общей всех связанности, как было в первые
выборы. Той прекрасной и благородной связанности, какая сказывалась в
обмене улыбок совершенно незнакомых лиц. Дума, выборы, парламента-
ризм — ведь это великое объединение всех, это минуты, когда вдруг нация,
классы, профессии живут одним комком, дышат одним дыханием, ибо у всех
одно общее желание и одна мысль, разная в оттенках, но одна в устремле-
нии, в содержании.
Теперь все разрознено. Одиночки с угрюмыми лицами ползут по троту-
арам, выползают из карет, сползают с пролеток. Никому ни до кого дела нет.
Каждый «сам»... Все эти «сами», — должно быть, домохозяева, владельцы
пачек процентных бумаг, по крайней мере, начальники отделений в департа-
ментах.
— Брат-избиратель, какое тебе до меня дело?
— Никакого дела. И вовсе ты мне не брат.
Вот это ужасное чувство отброшенности, ненужности для нового изби-
рателя моего частного, бедного существования — не раз защемило у меня
холодком около сердца, когда я взглядывал кругом на неприветливые лица.
466
Именно, никому ни до кого дела нет! Удивительно казалось: на первые и
вторые выборы идут представители «классовых интересов», все эти члены
и выразители разных «трудовых» и «профессиональных» союзов, теперь же
идут представители «нации» и «государственности»; ну, и «культуры» тоже.
Так было в предположении, в ожиданиях... Но на проверку выходит совер-
шенно обратное: какая же «культура» в этой угрюмой отъединенности, где
«нация» в этих одиночках, из которых каждый — только «сам». Напротив, в
живых взглядах первых выборщиков, в этом обмене улыбок, в свободе об-
щего разговора — было так много человечности и культуры, наконец, даже
«нации», как общего...
Может быть, «зубры», но я думаю, — скорее тюлени. Уж очень непово-
ротливы. Наш «старый режим» и вообще старую чиновную Россию я всегда
сравнивал с «Командорскими» или «Котиковыми» островами, лежащими в
холодном Охотском море. Как передают охотники, путешественники и зоо-
логи, «котики» залегают там целыми косяками и лежат на солнышке, на се-
верном мало греющем солнышке. Лежат и дремлют и наслаждаются в своих
нежных, бархатистых шубках. И до того-то они вялы или косны, ленивы,
что охотники, подобравшись с подветренной стороны к «косяку», начинают
глушить небольшими дубинками одного за одним и ряд за рядом. И они
склоняют головки, умирают — точно в полусне. И в летописях охоты не
бывало примера, чтобы котики следующего ряда убежали, бросились в море,
скрылись и вообще что-нибудь сделали, когда гибнут их «братья и гражда-
не» в первом ряду. Такова-то была старая бюрократическая Россия... Такова
она была в крымской войне, до крымской войны, после крымской войны. —
«Бьют!!» — «Ну, что же?»... — «Больно! Ужасно! Постыдно!» — «Ну, что
же? Побьют, — перестанут»...
Младенцы и старцы. Какое-то младенческое бессилие, не умеющее взять
соски в рот, и какая-то бессильная старость, шамкающая беззубым ртом пред-
смертные слова.
Но я отвлекся. Котики ли, тюлени ли или зубры ползли и теперь к Соля-
ному Городку и Павильону, и я с грустью глядел на них, думая: «Ну, и обно-
вители». «Не красна изба углами, а красна пирогами»... И о Думе, о консти-
туции можно тоже сказать, что «не красна она параграфами и Таврическим
дворцом, а людьми». Все они окрасят, все они украсят, или наоборот...
Большой интерес Дума будет иметь, но идейный и едва ли деловой, как
ожидают. Мне известно, как кипела работа в комиссиях первых двух Дум.
Собственно, комиссии в Думе — то же, что «машинное отделение» на паро-
ходе, а депутатский зал — это только парадная палуба. Дело конституции и
дело парламента все и делается в комиссиях, и вот в первых двух Думах они
цвели. Это я определенно знаю, из определенных рассказов. В комиссиях
действительно готовилось и отчасти было уже приготовлено полное обнов-
ление России. Теперь комиссии едва ли не увянут. Слишком неповоротливы
тюлени (или котики), да и любят солнышко. Интерес, но только идейный, а
не деловой, сосредоточится в зале депутатов, в прениях. Если красноречие
16’
467
было довольно безразлично в первых двух Думах, то теперь оно получит
единственную значительность, какую вообще может теперь получить дум-
ская деятельность. Мы прожили два года конституционализма и теперь толь-
ко вступаем в парламентаризм, т. е. такой строй или порядок жизни, где речь
получает колоссальное значение... Будет зрелище идейной битвы немногих
с множеством, где эти немногие не будут иметь за собою ничего, кроме сло-
ва, доказательств, пафоса... Если Русь талантлива, если бы она была та-
лантлива, — пришла минута Питтов. Прежде это было не нужно, просто не
нужно. Зачем Питт, да и о чем стараться Питту, если «большинство» обеспе-
чено, если большинство всегда «за» обновительную меру? Но теперь совер-
шенно иное положение. Рыцарей обновления и исцеления России немного,
и из них каждый будет иметь против себя десяток нападающих... Опустив
крепкие лбы вниз, уставившись широкими плечами, роя копытом землю, —
вот они двигаются стеной, готовые смять противника. Положение вынужда-
ет. Или погибай, или говори, как Питт...
ЧАСТНЫЙ И ОБЩИЙ ИНТЕРЕС В Г. ДУМЕ
Что было несносно и в первой, и во второй Думе — это их безгосударствен-
ность. Но что такое сама государственность? Это — завершение обществен-
ности. Государственность поглощает частный интерес, требует жертвы от
частного интереса. Государство требует служения, т. е. отречения, отрече-
ния от себя и своего частного интереса. В этом отношении две безгосудар-
ственные Думы были и антиобщественными. Это кажется дико сказать, но
это так. Кричали, молились, теряли целые дни на разбирательство не столько
«дела» о каком-нибудь тюремном злоупотреблении, сколько сплетен о ка-
ком-нибудь арестанте, против которого употреблена была сила после того,
как он никакому слову не повиновался. Четыреста слишком законодателей
изображали столько же слушателей какого-нибудь частного письма, об ав-
торе которого не было известно ни того, не психопат ли он, ни того, не зло-
дей ли он. Все это было бы хорошим упражнением в фельетоне провинци-
ального листка и решительно было смешно, когда претендовало занять вни-
мание целого мира.
Частный интерес, частные претензии и претенциозность, частные стра-
сти заняли весь фон еще неопытной парламентской жизни. Разумеется, к
числу частных интересов мы относим и партийные: ибо каждая партия уже
тем одним, что она противополагает себя всем прочим партиям, т. е. всем с
нею несогласным частям населения, выделяется из этого общего населения
и становится чем-то обособленным и частным. А если мы прибавим, что
каждая партия составляет в сущности штат служащих около какого-нибудь
политического выскочки и честолюбца, очень нередко около политического
проходимца, — то совершенно частный характер партий сделается в выс-
шей степени ясен. Это суть частные, внегосударственные и вненациональ-
468
ные явления, хотя они и хлопочут с таким жаром о политике. Они хлопочут
о политике, стараясь не помочь политике государства и нации, а подчинить
ее своим партийным интересам и предубеждениям. Столько потратив жара
на одного побитого арестанта, Дума ни одним словом не обмолвилась об
убитых и убиваемых не арестантах. Она не занялась и вопросом вообще о
тюрьмах и тюремном ведомстве, — об этих десятках тысяч порочных и пре-
ступных пансионеров, которых за какие-то добродетели должны кормить,
одевать и отоплять ничем против них не провинившиеся труженики народа.
Воры грабят чужое имущество, и за это ограбляемые обязываются кормить
и поить их всю жизнь в особых пансионах, откуда они не могли бы убежать
и кого-нибудь вновь ограбить. Слишком много расшаркивания перед поро-
ком и злодейством, перед шулерством и ничегонеделанием.
После войны, обнаружившей бесчисленные язвы флота и армии, в обе-
их Думах ни разу и ни одного голоса не поднялось об армии и флоте. Как
будто или армия и флот — не русские или уж обе Думы были не русские. Но
они были, конечно, русские, но только какие-то наивно-русские, книжно-
русские. Они в том же духе и направлении выражали «русское» и служили
«русскому», как былые «Отечественные Записки» или газетка «Сын Отече-
ства» служили отечеству, патриотизму и народности. Название было одно, а
занятие — совсем противоположное. У нас, русских, это уживается.
Конечно, в этом не приходится очень винить обе интеллигентные или,
вернее, полуинтеллигентные Думы. Оторванная от почвы и от реальной за-
нятости, никогда не допускавшаяся до политики и едва допущенная до гу-
бернского и уездного хозяйства интеллигенция, собравшись в Думе, и не
могла дать другого, нежели что дала. Собрались частные люди, которые и
принесли сюда частный интерес. Собрались читатели своих журналов, ко-
торые и принесли сюда мнения этих журналов. Как и самая жизнь, Дума
очень напоминает собою бойкие полемики 60-х годов и сокрушительные
передовицы некоторых газет. Все это, уместное в печати и абсолютно не-
уместное в политике, было принесено в политику. Серьезным образом и
надолго подчинить законодательство страны такому составу людей — зна-
чило все равно что начать расснащивать корабль: снимать с него паруса,
подпиливать мачты, ломать машину, приводы, портить руль и винт. На такое
самоубийство русская государственность не могла решиться. История во
второй Думе с социал-демократическою фракциею до очевидности обнару-
жила, в чем дело, с именем и правомочием законодателей прошли в высшее
государственное учреждение люди, и тайно, и почти явно боровшиеся про-
тив самого принципа закона и законности. «Закон — у того, кто не хочет
закона». На это «не хочу» законодателей только и можно было ответить
встречным «не хочу», но уже по адресу самих псевдозаконодателей. В этом-
то «псевдо» и заключалось все дело. Собрался или, точнее, был выбран не-
опытным населением парламент. Может ли служить обедню не верующий в
Бога священник? Может ли служить в армии офицер, передающий врагу
планы крепостей? Может ли заседать, положим, в центральном комитете
469
социал-демократической партии Крушеван или Пуришкевич с правом ре-
шающего голоса и «директив». Последний пример может быть всего убеди-
тельнее. Как поступила бы социал-демократия с сочленом Крушеваном, —
так точно, но только более мягко русская государственность поступила с
обеими Думами. «Вы против государственности, и этим самым вы государ-
ственности не нужны». А новыми правилами 3 июня она прочла урок и на-
селению, что оно имеет право выбирать каких угодно лиц, но чтобы оно
смотрело на эти выборы не как на игру, а как на государственную обязан-
ность, как на что-то государственное по источнику и по цели своей. Так как
и на первых, и на вторых выборах население действовало негосударственно,
то правительство исправило самые выборы, придав им государственную
сообразованность, государственный дух. Вот и все.
Самое важное отличие третьей Думы от двух первых заключается в том,
что она будет государственною Думою, а не общественною Думою. Она
потеряет черты «вольного клуба» и приобретет черты национально-русско-
го представительства. Критики поубавится, творчества прибавится. Но са-
мое главное — прольется новый дух в творчество. Самые заядлые полемис-
ты против третьей Думы не могут отвергнуть, что она прежде всего гораздо
образованнее двух первых Дум в своем личном составе. Это чего-нибудь
стоит, и против этого никакой архилиберал ничего не найдется возразить.
Остается скрежет зубовный досады и неудачи, и никакого мотивированного
довода. Затем, личный состав третьей Думы гораздо зрелее возрастом, т. е.
он богаче опытом и имеет более расширенный горизонт суждения. Возрас-
ты — как лестница. Мы по ней подымаемся, и никто не скажет, чтобы мы по
ней опускались. Было решительно смешным зрелище, что вся седая старая
Русь, что люди серьезнейших должностей и профессий, призваны самим
государством выслушивать как что-то поучительное разный вздор, какой,
поднявшись на думскую кафедру, мелет какой-нибудь Рамишвили или Зура-
бянц с Кавказа. Это было похоже на то, как если бы серьезный орган печати
отдали в распоряжение каких-нибудь институток, — да и отдали еще с обя-
зательной подпиской и почти с казенными объявлениями. На казенный счет
и в казенном помещении Аладьины, Зурабянцы и Рамишвили мололи соци-
ально-гимназический вздор, который будто бы служит пропедевтикою к
законодательству. Нельзя не вспомнить знаменитого стиха о том, что есть
вещи, над которыми хочется смеяться, если бы от них не приходилось плакать.
Ссылаются и жалуются, что правилами 3 июня было выдвинуто всего
несколько десятков тысяч населения, голос которых будет определять со-
став последующих Дум. Это, конечно, преувеличение, но примем его в ре-
дакции обвинителей и ответим: что же делать, если даже оказалось невоз-
можным набрать 450 действительно серьезных людей в члены Думы? Зна-
чит, вообще страна некультурна и необразованна, и пришлось переделать
одежду парламентаризма по небольшому росту того, кто ее носит. Зрелую
функцию можно вручить только зрелым людям: и не было ли бы странно,
если бы во время шторма к попорченному механизму корабля были призва-
470
ны не механики, хотя бы и в небольшом числе, но все пассажиры парохода,
«потому что их много». Не в числе спасение: эта нравственная аксиома есть
вместе и политическое правило. Оно и стало программою в новом курсе,
который до известной степени берет Россия.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ
ТРЕТЬЕЙ ДУМЫ
Из знаменитой поговорки: «Кто сеет ветер, пожнет бурю» — вытекает реко-
мендация того, что можно было бы назвать политическою гигиеною. Гигие-
на предупреждает заболевания, медицина лечит болезни. Века существова-
ла одна медицина, изнемогавшая в борьбе с бесчисленными и часто нелепы-
ми, от нелепых причин происходящими болезнями, пока в XIX веке люди
догадались, что гораздо рассудительнее не вести себя нелепым образом, не
становиться в нелепое положение и нелепые условия и не хворать вовсе,
кроме некоторых роковых и неизбежных случаев и моментов, вытекающих
из существа нашего организма. Простая эта мысль развилась в систему, т. е.
в науку; захватила не только единоличное, но и общественное внимание,
оздоровила города, жилища, питье, пищу, одежду, труд; число болезней со-
кратилось вдвое, если не втрое, и здоровье человечества возросло на боль-
шой процент без рецептов и до рецептов. Все это очень похоже на то, что
могло бы быть в политике. «Кто посеет ветер, пожнет бурю», — показывает
отсутствие в политике вот этой здравой гигиенической предусмотрительно-
сти, которая в тысяче случаев помогла бы нам избежать положения мельни-
ка, бегающего около прорванной плотины и утекшей воды. Сколько работы,
чтобы починить мельницу! А между тем достаточно было в свое время там
подсыпать земли, в другом месте подложить хворосту и щебня и всегда за
всем внимательно смотреть.
Революции всегда суть прорывы плотины, наказующие небрежение мель-
ника. Всегда это «ветер, посеянный политиками» прежних лет и десятиле-
тий. Только надо помнить, что соответственно активному характеру поли-
тики и вообще человеческой жизни, соответственно вечному прогрессу, в
каком находится, так сказать, человеческая машина, здесь сеянье ветра про-
исходит чаще всего не через излишние дела, а через недостаток дел, не че-
рез суетливость, торопливость и даже поверхностность, а скорее и чаще че-
рез дремоту, сон, лежанье, непотизм и тому подобные скверные привычки
политиков и худые болезни политики. Электричество медленно накопляет-
ся в слоях социальной атмосферы, и накопляется оно за время тишины, пол-
ного штиля и знойного удушья.
В этом заключается самая опасная сторона политики, и часто в этом
единственно лежит причина падения наций, крушения эпох и политических
систем. Людовики XIV и XV блаженствовали, а Людовик XVI пошел на
эшафот. Это самая бросающаяся в глаза иллюстрация, а подобных и мень-
471
ших миниатюр в истории, все на ту же тему, не оберешься. Уроки, которые
не должны бы пройти даром, увы, всегда проходили даром.
Конечно, в нашей русской истории явления происходят не иначе, чем во
всем мире, и буря двух последних лет сеялась блаженным сном среди рус-
ских администраторов, от министра до столоначальника, в течение века. Все
это предчувствовал, но почему-то не предупреждал уже император Николай I.
Все вопросы были задержаны, и «сдерживание» и было сутью русской
политики, пока все не «прорвалось». Благородные славянофилы твердили о
недостатке общественной свободы: их высылали из Москвы, запрещали им
печататься, пока не очутились лицом к лицу с «захватным правом» и вместо
благообразной фигуры Константина Аксакова в знаменитой «мурмолке»
получили перед собою патологическую фигуру «товарища» Алексинского.
Не хотели «иметь дела» с барами, получили «историю» с прислугою. Вот
история нашей полупугачевщины, полуреволюции, среди которой и, к счас-
тью, кажется, в конце которой мы живем.
Может быть, следует видеть особое благословение судьбы над Россиею
в том, что Дума государственного строительства, какую хотелось бы уви-
деть и есть надежда увидеть в третьей Думе, собралась после речей и отча-
сти после деяний двух Дум, в которых погуляла буря. Корабль наш, очевид-
но, вышел из нее, испытав неприятности, но не дойдя до опасности. Она
вовремя была прервана, но никому не следует забывать тех определенных
толчков, тех определенных и точных угроз, какие были произнесены и отча-
сти начинали приводиться в действие в двух первых Думах. Программу и
кадетов, и более левых партий следует твердо держать в уме, чтобы знать те
подводные камни, каких следует избежать в нашем будущем плавании. Вся
деятельность третьей Думы должна быть предупредительною: именно она
должна разрешить те же вопросы, которые были поставлены этими партия-
ми, но поставлены в качестве революционной борьбы, революционного воз-
буждения, но разрешить их в умиротворяющем, в успокаивающем направ-
лении. Вопрос земельный — это прежде всего. Положение крестьянства,
конечно, должно быть улучшено, — и прямым образом через увеличение
площади крестьянской земельной собственности, и косвенным путем через
улучшение юридического строя в деревне и селе, через уничтожение неле-
пой чересполосицы в землепользовании, а более всего через просвещение
крестьянской массы и разлитие в ней более культурных отношений к земле
и культурной работы на ней. Культура должна расти ввысь, а не вширь. Кре-
стьянин, да, пожалуй, и всякий русский трудящийся человек, должен пола-
гать впредь свое обогащение или улучшение своего положения не в том,
чтобы теснить соседа и гнать его, как доселе, а в том, чтобы самому рабо-
тать лучше, интенсивнее, упорнее и несколько научнее. Печальнейшая наша
история развила отвратительнейшую привычку строить свое богатство на
обнищании другого и других, ширить себе простор на счет стеснения дру-
гих, что в общем немало послужило причиною всеобщего, всех против всех,
ожесточения и жажды кровавой расправы, во что и перешла наша «револю-
472
ция» с ее «иллюминациями» и разгромом культурных хозяйств. Вся эта эко-
номическая и моральная мерзость, или скорее необразованная дикость, дол-
жна исчезнуть бесследно, т. е. нужно ее вымести дочиста. Но вымести от-
нюдь или не только мерами полиции, взыскания, суда и казни, а мерами со-
вершенно нового в самой администрации метода деликатного отношения ко
всякой чужой личности, чужой собственности, чужой свободе. Величайшая
есть жажда увидеть наше правительство во главе всего культурного движе-
ния: самым культурным хозяином в своем хозяйстве и самым просвещен-
ным деятелем в своей деятельности. Личное возвеличение правительства
есть одна из величайших теперь задач. Когда лица правительства станут не
только первою властью в государстве, но и первым умом в государстве, тог-
да дело сделано или наполовину сделано.
Землевладение и земельная культура у крестьян — это одно, и серии
других сторон в городской и губернской жизни, в сфере самоуправления и
суда, особенно сельского, в сфере чиновной службы, в сфере ограждения
частной личности и жизни от административного вмешательства и произво-
ла, — всеми этими темами или, лучше сказать, «выкриками» двух первых
Дум должна заняться и третья, но разрешить их в государственном смысле,
в интересе общенациональной гармонии. Нужно, чтобы удовлетворитель-
ное решение всех этих трудностей положительною властью однажды и на-
всегда предупредило возможность сделать из них орудие борьбы для пре-
тендентов отрицательной власти. В этом и будет заключаться настоящая,
не эффектная, победа над революциею. Кто хочет, чтобы она не встала, дол-
жен встать сам: встать в силе и разуме, в бодрствовании и неусыпных делах,
наконец, — в доблести, в настоящей национальной доблести. Трудности,
вкратце названные выше, должны быть не только разрешены «удовлетвори-
тельно» во внешнем формальном смысле, чтобы «заморить червячка»: они
должны быть разрешены охотно и любовно, чтобы население своим подо-
зрительным глазом увидело и убедилось, что благосостояние народное по-
нятно и дорого не одним «товарищам», но и людям мундира и шпаги, лю-
дям достатка и благосостояния; что к независимости стремятся не одни за-
висимые, но что ее хотят независимые. Только тогда они поймут, что в на-
ции нет врагов, что низшие и высшие слои в ней питают одно и то же дерево,
корни которого одни лежат выше, а другие лежат ниже, оставаясь везде род-
ными и слитыми в одну систему.
Вот великая утвердительная задача, стоящая перед третьей Думой. От
нее зависит понять эту задачу и повести Россию к лучшим дням.
СРЕДИ «СИМПТОМОВ»
Их много, этих «симптомов»... Князь М. Шаховской, председатель русско-
го собрания, предлагает «свое помещение, свои сады и свои средства в рас-
поряжение всех членов Думы, провозглашающих руководящими началами
473
своей деятельности православную веру, самодержавного Царя и русский
народ». Совсем как Ерогин перед первой Думой. Только Ерогин действо-
вал прикровенно, а князь действует откровенно. Это на Троицкой улице, 13,
«телефон № 220—97». С другой стороны, было объявлено, что в день и час
открытия Думы не будет дозволено останавливаться на тротуарах и про-
ходить группами по Шпалерной и другим прилегающим к Таврическому
дворцу улицам. Все это не ново в слоге и мыслях. И, наконец, положение
прессы в Думе... Все это старо, как мир, или, пожалуй, старо... как старый
порядок.
Он и возвращается, его приемы, его дух. Самые яркие птицы из правых
уже кричат тревожно, что, пожалуй, новая Дума застоится, и тогда произой-
дет великое зло: население освоится с народным представительством, при-
выкнет к нему, почувствует вкус к нему. Ерогин-Шаховской, со своим «те-
лефоном № 220—97», по которому ему можно заказывать квартиры и завт-
раки, вещает в объявлении «Нового Времени»: «Октябристы, не имея ни
программы, ни единства, ни ясных задач, несомненно, примкнут в значи-
тельной части к правым, но еще более в значительной части — к левым,
усиливая последних и вместе с тем удерживая их от крайностей, грозящих
новым роспуском. Дума с таким большинством во главе грозила бы вели-
чайшей опасностью началу самодержавия, постепенно прививая умам чуж-
дые России начала конституционного правления».
— Не надо его!
— Не надо ничего нового!
— Не надо самого 17 октября!
Трезвая действительность заключается в том, что ни Синадино, ни Пу-
ришкевич, ни двое или хотя бы десять Бобринских ничем не помогли Рос-
сии во время японской войны, ни разу и ни в каком случае не помогли ей
вытащить телегу России из того засоса грязи, в котором она тонула, — сло-
вом, палец о палец не ударили для дела. Они патетичны не в делах, а в сло-
вах. Ну, а Россия слишком много страдала весь предыдущий век и получила
слишком сокрушительные удары в последние четыре года, чтобы почувство-
вать себя счастливою от одних слов.
России нужно встать с одра болезни, но какие же лекаря Пуришкевич и
Синадино? Они все время уверяли, что никакой болезни у пациента нет, что
он валяется только от самодурства и каприза и вместо всякого рецепта боль-
ному надо «закатить розог».
Вот и вся «истинно русская программа».
Интересно посмотреть, проявят ли многочисленные члены Государ-
ственной Думы от крестьянства и от духовенства ожидаемый от них «во-
сторг быть высеченными». Ибо «правая программа», разделяя всех на се-
кущих и секомых, не включает в себя параграфа о равноправии, особенно в
сем щекотливом случае, и никогда ни одним словом «даже не воображала»,
чтобы можно бы высечь и дворянина. Это привилегия мужиков и кутейни-
ков.
474
К хорошим симптомам относится вопрос, с которым один член Думы от
крестьянства обратился к партийным товарищам своим на одном из интим-
ных собраний их, — правда ли, что многие из членов их партии входят в
Гос. Думу с намерением вызвать как можно скорее роспуск ее и затем по-
кончить совсем с представительным правлением в России. Партийные това-
рищи уверяли депутата-крестьянина, что между ними таких членов нет, что
все они «свято повинуются воле Государя и в этом пункте касательно народ-
ного представительства».
«Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь»: единолично умный
крестьянин произвел накануне открытия Думы опрос-экзамен дворянам —
членам Думы. Конечно, на «экзамене» они ответили удовлетворительно,
иначе вышел бы громкий скандал. Ответ произнесен, разнесен по всем га-
зетам, закреплен в памяти общества. Ответ этот содержит чрезвычайные
обязательства, которые внутри души, конечно, противно выполнить мно-
жеству правых, иначе они и не были бы правыми. Ведь Шаховской-Ерогин
пишет как о «величайшем зле» о возможности или угрозе «привиться в
России началам конституционного правления», и он не предлагал бы квар-
тиры, завтраков и телефона «съехавшимся в Петербург членам Думы», если
бы среди них не было таких, которые совершенно разделяют его вкус к
конституции. Очевидно, ответ умному крестьянину такие члены Думы дали,
ненавидя и этот ответ, и вопрос, и самого этого крестьянина. Но дали, — и
уж не возьмешь назад. Этому крестьянину и многим его товарищам в Думе
придется только зорко следить за делами, которые не расходились бы со
словом. Третья Дума явит интересное зрелище явной и тайной борьбы на
почве основных начал конституционности между серым, мужицко-попов-
ским ее элементом, очень численным в Думе, и тоже очень численным вы-
сокодворянским составом ее. Мужики и баре «поговорят между собою», а
свидетелями будет целый мир. Могут быть чрезвычайные откровенности с
той и с другой стороны, и, вообще, эта сторона дела обещает чрезвычай-
ный интерес. Так как крестьянство, вообще, чрезвычайно отощало у нас и
стало похоже на некормленую селедку, то его очень трудно, как говорится,
«прижать к стене»: сколько ни сдавливай, все такой же останется. Напро-
тив, другая сторона понакопила жиру за век, и если ее хорошо потеснить,
то получится то «масло», которое так любят шалуны в школе. Но в школе
это кончается смехом, а в Думе, может быть, кому-нибудь придется и запла-
кать.
Впрочем, дворяне всегда были благовоспитанны и умели потихоньку
утирать слезы. Как, мы уверены, они отерли первую слезу и при умном спросе
партийного «друга» из крестьян:
— Мы все конституционалисты...
Чего доброго, перед напором крестьянства и духовенства в Думе они
произнесут и не этакие еще слова и, пожалуй, удивят «кадетистостью» са-
мого Милюкова. В таком случае, кроме тайных слез, будет много и явного
смеха. Отчего нет? Уже произнес кто-то, что «теперь все возможно...».
475
УСПОКОЕНИЕ КАК СИСТЕМА
Почти самое видное последствие смены бюрократических начал в управле-
нии страною началами конституционными заключается в огромности и мед-
лительности всех движений политики. И это чувствуется уже теперь, всего
на 3-й год после 17 октября. Все стало массивно с тех пор, как массы призва-
ны, через подачу голосов, к участию в политической жизни. Бывало, все
сводилось к тому, чтобы «заготовить бумагу», высшего или низшего ранга и
наименования, и изложить ее в «подобающих важности дела» выражениях.
Бумага выпускалась, перуны летели, но опытный и привычный обыватель,
почесав за ухом, ухмылялся, бывало, и бумаге, и перунам. И болотистая,
тинистая поверхность обывательской и гражданской жизни оставалась не
возмущенною и не очищенною никакими правительственными актами, ни
грозными, ни умилительными. Жизни не было; перемен не было. Едва нача-
лась жизнь с участием больших масс, как почувствовалось, что главное из-
менение заключается в том, до какой степени сделалось вдруг трудным про-
извести какое-нибудь малейшее движение в определенном, желательном
каким-нибудь лицам направлении; но раз движение совершилось, — до ка-
кой степени оно становится влиятельным на массу индивидуальных воль,
способно подчинить себе жизнь страны. Хорошею иллюстрациею к этому
может служить вопрос с «успокоением» страны, частью которого было и
осуждение террористических актов, к которому призывались обе Думы час-
тью общества и печати: они обе отклонили от себя это предложение, в сущ-
ности поддаваясь давлению другой молчавшей части общества и молчав-
шей части печати. Думою руководили кадеты, т. е. оппортунисты, имевшие
«источником сил и идеализма своего левые партии», впоследствии назван-
ные ими же самими «ослами». Хотя «ослами» и с комментариями. Но и при
таком соусе ослиное мясо жестко и безвкусно, а кадеты сыграли самую за-
бавную роль, громко сознавшись в конце, что они притворялись и в первой
и во второй Думе, вдохновляемые людьми, которые втайне им казались «ос-
лами». Положение трагическое, если бы оно не было так комично. Левые же
партии, конечно, не могли осудить террора, практикуемого самыми передо-
выми и самыми смелыми членами их, авангардом их. Кадеты сыграли здесь
нулевую роль, как и подобает партии, не имеющей «источника сил и идеа-
лизма» в самой себе. Затем в качестве прихвостня при других партиях они к
началу третьего года своего существования низвелись к тому почти «нет», с
каковым вошли в третью Думу. Как бы то ни было, два томительных, мучи-
тельных года прошли, когда Россия стояла под впечатлением кровавого ту-
мана, застилавшего ей очи. И представители народа, вопившего в ужасе от
убийств и грабежей, не могли выразить осуждения этому! Но нет худа без
добра: уклончивое поведение кадетов в таком ясном вопросе, как осужде-
ние убийств и грабежей, нанесло такой нравственный удар космополити-
ческой интеллигенции, выславшей в Думу первых депутатов, от которого
она десятки лет не оправится.
476
Вопрос стоял два года перед лицом каждого обывателя. Два года вся
Россия видела, как ломаются над ним и упираются перед ним гг. кадеты,
подыгрываясь под «ослов». Все это запомнилось. Все это легло неизглади-
мым впечатлением на Россию. И престиж адвоката, профессора, врача и во-
обще интеллигентного обывателя в вопросах бытовой и государственной
этики был так уронен, как этого не в состоянии были сделать никакие пра-
вительственные акты и изречения, никакая критика в литературных лагерях
консерваторов и славянофилов. Два года думской болтовни и выкриков, то-
ропливости в одних вопросах и медлительности в других дали больше ре-
зультата для отрезвления страны от космополитического одурения, чем сколь-
ко дали Катков и Аксаков в сотнях талантливейших своих статей. Таковы
даже и шипы парламентаризма, о чем никак не следует забывать правым в
нашей Думе. Население, возмущенное многим в поведении депутатов пер-
вых двух Дум, и особенно возмущенное этим явным потаканием царивше-
му над страною кровавому туману, послало в третью Думу депутатов совер-
шенно иного подбора. И хотя осуждение террору еще не произнесено, но
как-то для всех ясно, что словесного выражения его почти и не требуется.
Вся страна всею массою населения так явно им произнесла осуждение са-
мым выбором депутатов, что ни у кого ни малейшего не может сохраниться
убеждения, будто гг. с браунингами и бомбами действуют «по уполномочию
народного гнева», а не по уполномочию своей душевной психопатии и пре-
ступной нравственности. Революция отделилась от народа: конечно, и все-
гда было так, никогда народ не высылал подобных уполномоченных, это
совершенно не в духе нашего простого и доброго, великодушного и скром-
ного народа; но было худо то, что здесь возможна была софистика, и она с
70-х годов прошлого века постоянно имела место вследствие того, что рево-
люционеры вечно ссылались на «волю народа». Участие народного пред-
ставительства в управлении страною разоблачило обман. Оно отобрало на-
зад незаконно захваченный паспорт. Отобрало репутацию и сняло всю ли-
чину с дела. «Кровавая революция» совершается не по «уполномочию от
народа», а по произволу тайных организаций, психопатических в одной по-
ловине своей и порочных в другой половине. Это совсем другое дело, и рас-
права или управа с таким делом гораздо короче. Таким образом, призыв к
«успокоению» или, что то же, «разоружение» революции, к чему немало раз
призывало правительство общественные слои, начиная с 1876—78 годов, и
всегда безуспешно, этот призыв не повторится при новом конституционном
строе, но самое успокоение общества и разоружение революции сделалось
почти наставшим фактом, которому никто не имеет силы противиться. Если
бы кто-нибудь стал читать даже архилиберальные и, наконец, радикальные
органы печати, он равно увидел бы везде бегство от революции! Бегство от
революции — оно сделалось всеобщим движением печати и общества. Даже
после ужасного 1 марта многие органы печати, просто «европейские», вели
себя в отношении революционных идей и аппетитов так, как Думы в отно-
шении вопроса об «осуждении политических убийств»: как будто и горева-
477
ли о событии, но осудить убийц, властно и негодующе, уклонялись. Теперь
бегство от революции не только стало всеобщим: оно стало искренним, чего
никогда решительно не было и чего решительно никогда нельзя было до-
биться. В некоторых органах печати появились сообщения о чтениях в Па-
риже о русском революционном движении г. Хрусталева-Носаря, Онипка,
Щербака и других героев движения. Все чтения сводятся, в сущности, к теме
о «разбитом корыте», которое одно осталось в сказочке перед глупою ба-
бою с невероятными претензиями. Напр., Хрусталев-Носарь осыпает сар-
казмами русских максималистов, хотя он сам был одним из отцов этого мак-
симализма. Все это характерный симптом. «Назад!» — стало таким всеоб-
щим лозунгом, который не задерживается никаким противодействием. Вот
это общее, массовое движение — оно несравненно мощнее всяческих «по-
рицаний политических убийств». Ждать, терпеть пришлось два года, но зато
выжданный результат есть нечто осязаемое и вещественное.
Начиная с покушения Соловьева, затем после 1 марта и, наконец, через
каждые 2—3 года потом сколько было призывов к «успокоению»! Но все
было не действительно, потому что не работала масса. Печаталось «Прави-
тельственное сообщение» в «Правительственном Вестнике»; печаталось —
и тонуло в Лете всеобщего забвения. Все было глухо. Потому что все не
жило. Жила администрация, та пресловутая бюрократия, которая одна гово-
рила, одна распоряжалась в стране, как в мертвой пустыне. Пустыня и не
отвечала ничем на стоны, жалобы и истерические приказания администра-
ции, которая себе одной разрешила жить. Таким образом, все разрастаясь,
бюрократия, так сказать, переросла нормальные размеры своего роста, со-
старилась и повалилась на бок от своей неестественной тяжести. И как только
это совершилось, вдруг неосуществимое для нее и вместе благое, целебное,
— стало осуществимо. Россия вдруг «поправела», стала национальною: кос-
мополитическая безличность быстро сбегает с ее огромной фигуры и из-
под нее вырисовывается родная фигура великой славянской державы.
«ПЕТРУШКА» В ДУМЕ
Началось...
Келеповский. — Есть, господа, такой пирог, который именуется Россией...
Крики слева. — Долой! Вон!
Келеповский. — Г. председатель, предложите этим господам не мешать
мне... Делить этот пирог без согласия с партиями, стремящимися съесть его,
нельзя.
Взрыв негодования, крики, шум.
Этот кусочек третьей летописи парламента характерен.
478
Отчего закричали «Долой! Вон!»? Г. Келеповский ведь не сказал ничего
политического, никакой опасной мысли, никакого неприятного предложе-
ния. Собственно, никакой мысли. Отчего же «вон» и «долой»? Он, пользу-
ясь выражением Гоголя, «повел себя нехорошо» на думской кафедре, и всех
стошнило. И тошнота эта сказалась криками председателю: «Уберите с глаз
наших это зрелище». Келеповский представлял собою не мысль, а зрелище,
которого никто вынести не мог.
Это первый «говорильный» день Думы...
Есть политика, и движения в ней туда или сюда могут быть опасны,
могут быть мучительны, как операция. Но это благородная мука. Кроме по-
литики, есть еще эстетика, вещь более универсальная, ибо она некоторою
долею примешивается ко всему и всему сообщает, так сказать, известный
приваж, отталкивающий или притягивающий вид. Есть она и в политике.
Без доли эстетичности не может существовать, — по крайней мере, не мо-
жет долго просуществовать, — ни монархия, ни республиканский или кон-
ституционный строй. На эстетическое начало, наконец, должны оглядываться
и политические партии, ибо недостаток этого начала, явная «какофония»
может погубить самую даже справедливую и утилитарную партию. Замеча-
тельно, что «зубры» начали даже не с рычания, не с рева, а прямо с «деяния»
г. Келеповского.
— Господин председатель, потрудитесь распорядиться, чтобы не меша-
ли мне...
И это с таким апломбом или, лучше сказать, с чисто животною бессоз-
нательностью...
Ну, приходило ли на ум кому-нибудь из «изменников своего отечества»
— всем этим кадетам, эс-декам, трудовикам и пр. — говорить о великой
России этим тоном, этим жаргоном, в этих сравнениях, как о ней неожидан-
но с первого же дня парламента заговорил торжествующий истинно рус-
ский?! Ничего подобного. Сам Рамишвили говорил о кавказской админист-
рации, т. е. о части, о проявлении России, да даже и не России, а почти о
лицах, дозволяющих себе злоупотребления в России. Целого ее никто не тро-
гал, всем она была мать. Вдруг истинно русский повернул дело иначе: «Не
мать, а пирог, который мы здесь делим». И это совершенно серьезно, эта-то
грошовая, сальная его мысль была совершенно серьезна! И собрание в не-
сколько сот человек, собранных со всей России, не вынесло, застучало нога-
ми, закричало!
Несколько таких сценок, и состав парламента перегруппируется. И те-
перь уже правые и октябристы раскалываются... «Нет сил выносить»... этот
Петрушкин запах. Кстати, Петрушка из «Мертвых душ» не был ли истинно
русским? Нам даже кажется, что многие из состава правых незаметно про-
таскивают с собою в зал думских заседаний знаменитый тюфяк, от которого
почему-то так скверно пахло.
479
БЕЗГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАРТИЯ
Почти все газеты обошла мина «прискорбного сожаления» по поводу вы-
ходки г. Родичева в Г. Думе. Какое-то страшное несчастие преследует ка-
детскую партию. Вопрос: не несет ли эта партия «осла в себе», а не «осла
на себе?», как горделиво ссылается ее лидер, кивая на социал-демократов.
Всего два года прошло, и где былая слава кадетов, когда они шли в первую
Думу почти как единственные представители России? Какой триумф! И ка-
кое бегство!
Мещанская мелочность «умников» и очевидная простоволосость «стра-
стных темпераментов» — вот на чем проиграла партия свою роль перед Рос-
сией). Всякий увидел, что тут сколько угодно профессоров среднего разбора
и совершенно мелких журналистов, есть несколько блестящих адвокатов,
но ничего, кроме этого и сверх этого. Таким ли людям становиться во главе
обновляющего законодательства России? Им ли держать руль и управлять
парусами государственного корабля во время шторма и даже крепкой зыби?
Но где источник этого? Да очень понятно: конституционно-демократичес-
кая партия и не была, и не выдавала себя за государственную партию, она
была только выразительницею общества. Крестные имена, данные ею и ее
печатью первой и второй Думе, — Дума «народного гнева» и Дума «народ-
ного негодования» — словно сошли со страниц истории Луи-Блана о фран-
цузской революции. Ничего здесь русского нет, ни словечка, ни манеры.
Партия представляла общество: но общество уже в силу существа своего,
этой раздробленности его членов, совершенно случайно группирующихся и
перегруппировывающихся, не имеющих никакой принудительной между
собой связи, — диаметрально противоположно существу государства, в ко-
тором все непременно, все принудительно, где царит «должное» и «обязан-
ность», а не «приятное» и «удобное». Вот почему конституционно-демокра-
тическая партия не могла поднять на плечи себе государственной работы,
железной, тяжелой; а ее критика русской государственности была совершенно
ничтожна по предметам, по содержанию, будучи только дерзкою, нервною
по тону. На все эти выкрики можно было дать один совершенно удовлетво-
рительный ответ: «Обществу нужно одно, а государству — совсем другое»,
«приятное для общества — разрушительно для государства». Общество по
существу своему есть анархическая сила, — анархизм которой ничему не
грозит единственно потому, что оно плавает поверх народа, как сливки, что
оно сыто, обеспечено и вообще не движется никакой горькой нуждою. Но
распространите нравы общественной жизни, эти свободные, распущенные,
сладкие нравы, на народную жизнь, где живет нужда, горе, — и вы немед-
ленно получите восстание, взрывы, революционное клокотание, увидите
кровь, насилие, истребление чужой жизни и чужого имущества.
Когда первая и вторая Г. Думы с азартом требовали немедленного «осу-
ществления свобод, обещанных манифестом 17 октября», то они существен-
ным образом требовали распространения нравов общественной жизни на
480
жизнь и быт 140-миллионного народа, со всеми степенями дикости и темно-
ты, живущими в нем. Требовали они этого на несчастие себе: ибо, осуще-
ствись их желание, и события пошли бы таким образом, что от зачаточной
культуры России камня на камне бы не осталось. Движение открылось зна-
менитыми «иллюминациями» и таким вандальством в культурных поместь-
ях, о котором вспомнить омерзительно. А из Думы слали им поощрение.
Падение государственной ренты встречалось ликованием по всей линии
газет, и так как его невозможно объяснить ни из какой степени бессмыслен-
ности, то настоящей разгадки ликования следует искать в бешеной наживе,
которая велась на бирже многими коммерческими тузами из «угнетенного
племени», издававшими красные и полукрасные листки. Всему этому со-
чувствовала «культурная партия» кадет, наивные профессора, третьестепен-
ные журналисты и беззаботные насчет всего адвокаты «Балалайкины», как
окрестил их Щедрин. Россия, если бы пошла дальше под парусами и при
руле кадетской партии, несомненно, пришла бы к полному крушению своей
государственности. Теперь это очевидно для всякого.
Очень печальная сторона нашей истории, что у нас выросла и окрепла
действительно только бюрократия и только она технически умела в ведении
государственных дел. Но ей недостает могучего земского ума, земской души.
Сумеют ли показать в себе эту душу правые партии в Думе, пока очень неяс-
но и даже сомнительно. Нервничанье, выкрики — во всяком случае плохие
предвестники. По-видимому, хорошее представительство в России — не
налицо, а в процессе формирования. По-видимому, много терпения у Рос-
сии потребует и эта Дума. Утешением может, однако, служить то, что пред-
ставительство все-таки «формируется» и что явления, ежедневные в первых
двух Думах, в третьей становятся скандальным эпизодом.
ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО
Можно ли представить себе суд, можно ли представить себе судей, «почтен-
ных статских советников», и, наконец, «солидный закон» в таком благоуст-
роенном государстве, как Россия, которые... взяли бы да и зарезали челове-
ка! Нет, больше, противнее, жесточе: зарезали священника, да еще надру-
гавшись. Опрокинули ему на голову из лохани какую-то мерзость, сорвали
рясу, плюнули в лицо и потом зарезали: среди бела дня и ничуть не смуща-
ясь негодованием улицы...
«Поп» этот один из почтеннейших в Петербурге и вообще, сколько мне
приходилось видеть на моем веку, — одна из высокоидеальных личностей,
идеальных нашим здоровым, практическим русским идеализмом. «Судили»
его жиды Геллерсон и Хвольсон и петербургский окружный суд, — да будет
им чихаться и в сем свете, и в будущем. Но о судьях потом, сперва — о попе.
Служил он в Юрьеве, теперь переведен в Петербург, законоучительствовал
481
там, теперь законоучительствует и вместе настоятельствует в церкви здесь,
в Смольном институте. Но раньше, по окончании курса в Петербургской
духовной академии, он в товариществе с двумя друзьями по академии, тоже
посвятившимися в священничество, решил отдать всего себя труду пастыр-
скому и педагогическому среди рабочих петербургского района. Так они втро-
ем дружно работали. Он был счастливый семьянин. Матушка его, с которою
не часто, но иногда он бывал у меня, была молчаливая, тихая женщина, ми-
ловидная собою. Но от нее, по застенчивости или другим причинам, я не
слыхал ни слова. Он был очень умен и энергичен; имел философские пред-
расположения, — без излишества. Явно, что он неизмеримо выше ее стоял
образованием, подвижностью, инициативою. Но, бывало, среди самого раз-
гара речей, едва она сделает жест «идти домой», как он, прерывая сладкую
беседу и иногда обрывая свою собственную речь, — брал шапку и уходил.
Видно, что он лелеял ее. Товарищи его по академии передавали мне, что еще
студентом он полюбил дочь одного кладбищенского сторожа; и, как ни да-
леко было ходить из академии, — всегда, бывало, чуть не каждый день от-
правлялся после лекции в семью молодой невесты. Пишу все эти подробно-
сти, ибо лишь в свете их решение окружного суда и вся работа адвокатов
предстает пред читателями в своем жестоком виде.
У них были дети, что-то двое или трое.
Года два назад разнеслась в Петербурге весть, сопровождаемая глубо-
чайшим и всеобщим негодованием, что от такого примерного, любящего,
молодого и (по-моему) изящного священника ушла жена, кинув его и детей
на произвол судьбы. Ушла или, точнее, уведена была юным Дон-Жуаном из
только что окончивших Медицинскую академию врачей, который сотрудни-
чал ее мужу и был принят и обласкан им как помощник и младший друг.
Все подробности этой истории известны всему петербургскому духо-
венству, в котором чрезвычайно много и громко говорилось об этом порази-
тельном происшествии. Слышал об этом деле я и от владыки митрополита.
Он принял участие в священнике: по страшным каноническим правилам,
священник, у которого оказывается «неверною» жена, извергается из сана
священства, с него снимается ряса!! Отчего так, отчего наказывается невин-
ный, — это известно только «святым угодникам», писавшим каноны. Но это
действительно так: наказывается не жена, ну, напр., разводом, а муж-свя-
щенник, во исполнение ветхозаветного правила, по которому священник
должен быть «без физического порока», и вот дополнительно к физической
непорочности — оговаривалась в Ветхом Завете и «непорочность» его био-
логической жизни, безукоризненная верность жены. Почему, при отступле-
нии от всех правил ветхозаветного культа, «угодники» только эту одну чер-
ту его перенесли в христианство и требованием ее начали наказывать ни в
чем не повинных мужей-священников — это Аллах ведает. В данном случае
невинность священника, отца И. Ф. Егорова, была до того очевидна, до того
трогательна, что ему было обещано расторжение брака и без лишения свя-
щенства, и без лишения законоучительства. Я помню, как все петербургское
482
духовенство было удовлетворено этим решением петербургской епархиаль-
ной власти, — кажется, лично митрополита.
В зерне всего этого дела лежало то, что я назвал бы нравственною «не-
вменяемостью» как молодой женщины, очевидно и умственно неразвитой,
так и медика, ее уведшего к себе и потом увезшего с собою куда-то в Северо-
Западный край. Термин «невменяемость» я позволяю употребить после раз-
говора с счастливым возлюбленным. И его весь Петербург знает, т. е. в ду-
ховных сферах: ибо вся их деятельность, совместно с обиженным священ-
ником, около рабочих была слишком громка и известна. Нужно заметить,
что после этой истории свящ. Егоров замкнулся у себя дома и почти год
никуда не показывался к знакомым и друзьям. Такие семейные «положе-
ния» не из красивых, и является, кроме скорби, и желание не быть «посме-
шищем» для ближних. Не знаю, как оценивают это Гиллерсон, Хвольсон и
чиновники петербургского окружного суда; но на суд простых людей такое
положение является тягостным и мучительным, таких мужей все называют
«опозоренными». И естественно, что никто не хочет показывать «позора»
своего.
Однако священника все жалели, и, зная личные качества его, — никто
не перестал его уважать. Напротив, на юного врача все ожесточились: и как
служебное лицо (он — военный врач) — его попросили удалиться из Петер-
бурга куда-то в Виленскую или Ковенскую губернию, в уезд. Совершилось
это не по просьбе потерпевшего мужа, но по естественному негодованию
всей окружающей обширной среды. Во многих знакомых домах врача пере-
стали принимать, да и он, зная, «чья кошка мясо съела», — перестал являть-
ся в них. Но вот в одном из таких домов, где он, по возвращении в Петер-
бург, был опять принят, — он встретился со мною и... сейчас же стал жало-
ваться на Егоровых'."
— Они повредили моей служебной карьере!!
Я думал, что или ослышался, или с ума схожу: до того эта жалоба «по-
терпевшего» страдальца была невероятною:
— Послушайте, Н. Павлович: вы говорите, что они двое сделали вас
несчастным, заставили прослужить год в провинции и лишили столичной
практики, т. е. возможности ее, ибо вы только что кончили академию. Но
ведь и вы, батюшка, увезли у священника его жену: что же, это-то вы ни во
что не ставите?!
Сколько я ни говорил, он ничего не понимал. Он не переставал жало-
ваться, что они его обидели! Что священник, у которого он увел и потом увез
жену, обидел его: ибо этот казус был причиною, что его перевели в провинцию!
Нельзя не заметить, что у него глубокий, «берущий за душу» баритон и
грустные голубые глаза. И так он глядел, и так говорил, что нельзя было
усомниться, что он всех считал виновными, кроме себя. «Невменяем, со-
всем невменяем», — думал я.
Но вот эти «невменяемые» обратились к окружному суду и встретили
счастливое поле целого ряда тоже до известной степени «невменяемых»
483
обстоятельств: глухие и слепые судьи, а главное совершенно «невменяе-
мый» закон. Судите сами, что произошло. Я перепечатываю из газеты:
«Законоучитель Смольного института для благородных девиц и настоятель
церкви при этом институте, священник Егоров, предъявил в с.-петербургском
окружном суде иск к своей жене о признании незаконности рождения младенца
Павла (NB. счастливого обладателя чужой жены зовут Н. Павлович, и счастли-
вые любовники назвали новорожденного по имени отца Дон-Жуана). Согласно
возражениям поверенного ответчицы Егоровой прис. повер. Гиллерсона, суд
оставил иск священника Егорова без рассмотрения и в то же время постановил
войти в рассмотрение встречного иска Егоровой на содержание ее и младенца
Павла в сумме 50 р. в месяц. В заседании от 3 декабря поверенный Егоровой
прис. повер. Гиллерсон просил суд в разъяснение вопроса об имущественной
состоятельности Егорова вызвать, в качестве свидетеля, священника Гр. Петро-
ва и протоиерея Розанова, а также выдать ему свидетельство на получение све-
дений из Смольного института о содержании, получаемом свящ. Егоровым. В
ответ на это ходатайство поверенный Егорова, прис. пов. Хвольсон, представил
удостоверение из с.-петербургской консистории о том, что его доверитель, свящ.
Егоров, предъявил в консистории иск о расторжении брака вследствие неверно-
сти его жены и просил настоящее дело производством приостановить впредь до
разрешения консисторией вопроса о расторжении брака.
Против этого ходатайства возражал прис. повер. Гиллерсон, доказывая, что
по нашим законам даже внебрачное сожитие дает не только младенцу, но и
матери право отыскивать алименты. В данном же случае речь идет о законно-
рожденном младенце. Что же касается иска свящ. Егорова о расторжении бра-
ка, то этот иск характерен для самого истца (?!), но он ровно ничего не предре-
шает по существу. Окружной суд ходатайство защитника свящ. Егорова оста-
вил без последствий, в удовлетворение же ходатайства прис. повер. Гиллерсона
постановил вызвать указанных им свидетелей и выдать ему просимое свиде-
тельство» («Русь» № 327 от 6 декабря).
Вот кому аплодировал бы Шемяка: петербургскому окружному суду. Нет,
в самом деле, как это величественно: «оставил без рассмотрения»... Ну, за-
чем «рассматривать» Фемиде: она и с завязанными глазами все видит! Ведь
она свята, чудодейственна. Это какой-то Лурд справедливости, Серафим
Саровский всеведения... Такое важное министерство: кому его судить, оно
само всех судит. «В данном же случае идет речь о законнорожденном мла-
денце», — изрекает «аблакат» Гиллерсон, из тех «ходатаев по делам», о коих
Достоевский выразился, что у них всех «купленная совесть». Ну, а почему
знает о «законнорожденности» по существу Гиллерсон? Суд, вот эти госпо-
да статские советники в мундирах Министерства юстиции, могли бы оста-
новить «ходатая по делам», спросив на очной ставке г-жу Егорову и священ-
ника Егорова: «Чей ребенок Павел, священника ли Ивана Федоровича или
того Н. Павловича С—а, который, без сомнения, указан в бракоразводном
иске мужа, в делах духовной консистории?» Да, без сомнения, виновник
рождения этого младенца не скрыл от своего адвоката и не скрыл бы от суда,
что это ребенок не от мужа, а от него, как он этого не скрывал в разговорах
ни от кого в Петербурге. Ни он не скрывал, ни г-жа Егорова, — и вообще все
484
это дело до того громко, до того улично, что, кроме единственно Фемиды,
которую по этому случаю позволительно переименовать в Матрену, бабу
косоглазую и глупую, — кроме ее одной, весь Петербург, по крайней мере в
огромном составе его духовенства, знает, что этот ребенок «незаконнорож-
денный». Уж если что назвать «блудом», то этот случай; если что назвать
«незаконнорожденностью», то подобное рождение, какое-то дьявольское по
жестокому и насмешливому над несчастным мужем характеру...
«Незаконно... — прерывает адвокат-еврей Гиллерсон, — но ведь закон
именно определяет, что измена жены своему мужу законна, и плод такой
измены, ребенок, законен же»... «Священный закон рукою отечества закры-
вает рот мужу, которого бросила жена, и не дозволяет ему ни кричать, ни
жаловаться. Священный закон в великом милосердии к несчастной измен-
нице повелевает даже мужу поить и кормить ушедшую от него беглую жену,
ее ребенка и вообще всех детей, не от него рожденных, да и прикармливать
того мужчину, который ее увел от него, от мужа... Теперь, вдвоем, они счаст-
ливы: и когда же им думать о хлебе и работе? Пусть он и работает на них. А
если он заартачится, скажет: «Не хочу кормить чужих детей, не хочу кор-
мить любовника своей жены», то муженька можно и сократить. Величествен-
ный закон с ним разговаривать не станет, такая дрянь этот муж, и такая дрянь
вообще мужья-рогоносцы. То ли дело любовнички, счастливые победители.
Закон, руками его исполняющего суда, даст в руки еврею-адвокату бумажку,
распоряженьице, до некоторой степени «обыскать» брошенного супруга, и
затем вслед выдает другую бумажку — «экспроприировать из карманов его
некоторую собственность и переложить в нераздельный карман юных влюб-
ленных, насадивших оленьи рога на лоб мужа и священника».
Тут уж я не знаю, где кончается и начинается Шемяка: мне кажется,
бессовестная его физиономия с наглою усмешкою над законами Божескими
и законами совести человеческой расплывается в широкую, необозримую
образину вообще русской «юстиции», что она сливается с физиономиями
знаменитых «законоведов» русских, Сергеевича-Сергиевского-Таганцева-
Петражицкого-Кони-Андреевского и всех «прежде почивших» до сего дня,
которые никогда-то, никогда не возразили против этого в философском от-
ношении безумия, а в нравственном отношении — надругательства над че-
ловеческою личностью, — расплывается, сливается и говорит:
— Вот мы, юристы... Суд, «вечные нормы» права... Священное «есте-
ственное право» человека и народов... Ничего нет, чепуха: есть Шемяка,
простой Шемяка, но в мундире от IV до VI класса, но в шляпе с плюмажем,
но с многотысячным жалованьем... По обстановке и почет: никто теперь не
смеет назвать Шемяку — Шемякою, а все говорят: «просвещенный юрист»,
«ваше превосходительство»... Людям даже хуже, чем при Шемяке, ибо мы
не имеем его прямоты и здравого русского смысла: но зато нам гораздо луч-
ше, чем Шемяке, ибо мы знаем, что уже никто из подсудимых теперь не
держит в узелке камня, обещая взятку и готовясь убить. Мы гипнотизирова-
ли величием несчастное население: и вместо того, чтобы прогнать нас с та-
485
буретов, стульев и кресел, эти рабы, труся перед ореолом науки, ну и перед
мундирами, готовы подставить нам троны.
Дело тут не в «аблакатах»... Они только «по зернышку клюют»... Дело
явно в возмутительном, оскорбляющем семью законе, который предраспо-
лагает холостых людей к уводу и увозу чужих жен, ставя их не только в
безопасное, неподсудное положение, но и обеспечивая их с материальной
стороны: они вместе с забранною женою становятся вечными пенсионера-
ми обиженного мужа, который всю жизнь обязан работать на своих оскор-
бителей, на разрушителей своего дома, разрушителей своей семьи.
Неужели никто из юристов не возьмется осветить эту бестолковщину?
Неужели общественное негодование не заставит переменить направление
этих дел в том смысле, чтобы «алименты» (прокормление роженицы и ее
ребенка) взыскивались не с покинутого женою мужа, а с счастливого похи-
тителя его жены; и, наконец, чтобы подобные бытовые дела, где все спле-
тено из страсти, нервов, оскорбления и чести, рассматривались не в фор-
мальном гражданском суде, чутком лишь к имущественным интересам, а
судились судом народной совести, людьми быта и жизни — присяжным
судом!
ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
После политической метелицы двух лет устанавливается ясная погода, и
впервые день Рождества Христова русские люди могут встретить задушев-
ным: «Слава в Вышних Богу»... Перемена большая. Как будто сами празд-
ники отменились в революционном чаду и крови, и смешался весь смысл
года, обратившись в одну мглу, без перемен, без остановок. Ничто так не
противоречит народному быту, народному складу, как подобные политичес-
кие смятения, ибо ничто так не марает и не ломает этот быт. Вот почему
революция всегда тягостна для народа, что бы она ни обещала. Ободок коле-
са ее всегда катится по народным слезам. И эти слезы высыхают, когда это
противное, античеловеческое колесо не издает больше своего треска, гама и
не брызжет грязью.
Политика умиротворяется, страна умиротворяется. И города и села рус-
ские лучше встретят вековой, тысячелетний праздник! От него веет пасто-
ралью, невинностью, первобытностью, — от самых форм его, от окружив-
ших историческое событие легенд. Но легенды всегда выражают смысл со-
бытия. Христос в самом деле принес мир на землю: он, как бы кинувшись
среди борющихся племен, царств, партий, — своею святою кровью заста-
вил всех опустить свое оружие. В Христе совершилось последнее жертво-
приношение, после чего всякие кровавые жертвоприношения прекратились
в храмах. И Бог ждет, когда они прекратятся и вне храмов.
Смысл христианства есть погашение всяческой борьбы, злобы, гнева в
людях. Пусть борьба останется только в смысле соперничества усилий к
486
лучшему: борьба состязания, а не борьба насмерть. Оттого мирные народы
с такою радостью приняли христианство и дали ему распуститься в себе.
Много говорят и излишне много приписывают принятию христианства Кон-
стантином Великим; между тем это есть совершенно ничтожное событие в
сравнении с принятием христианства народами, этнографическою массою,
— множеством вот частных душ, честных семей, одинаковых людей, не за-
вещавших истории своего имени. Здесь-то христианство и свило себе по-
эзию, увилось здесь поэзиею. Христианство — оно все обращено к частной
душе человеческой, говорит ей, беседует с нею. Шумная общественность,
жесткая государственность — все это гораздо дальше от христианства, чем
простая семья, чем частный народный быт.
От этого все праздники христианской церкви суть народные и бытовые
праздники. Праздник есть отдых всего лучшего в стране, всего тихого в стра-
не, всего нравственного, чистого. Отдых и даже торжество. Женщины и дети,
старики и больные, эти тихие и чистые люди вдруг объявляются в праздник
как первые. Среди приусмиревших политиков и излишне ретивых чиновни-
ков эти люди, все остальное время скрывавшиеся за спиною их, выходят
вперед и говорят: «Жизнь существует и для нас».
Шумное работает для бесшумного, сильное для слабого, и даже, пожа-
луй, будень вообще работает для праздника, чтобы было хорошо празднику,
чтобы было хорошо в праздник. Так уж устроена душа человеческая. Встре-
тим же этот день Рождества Христова с тем покоем и твердостью, какие
подобают не промежуточному дню, не очередной остановке работы, а само-
стоятельному, сияющему дню народной радости.
Отдадим всю глубину сердца воспоминанию великого события, когда в
одну ночь над бедным вертепом остановилась вещая звезда, разверзлось небо
и запели ангелы. В самом же вертепе в эту ночь родился Предвечный Мла-
денец. К Нему притекли и цари-волхвы, принесшие дары от власти и богат-
ства своего. Все принесено было сюда как жертва умиления Тому, Кто при-
нес всему мир. Прекрасный символ того, до чего земля извечно нуждалась в
мире; до чего в самой борьбе она всегда оплакивала эту борьбу, как несовер-
шенство, как скорбь и болезнь.
День этот — день русской семьи, русских домов. Это не праздник госу-
дарства, а праздник быта. Быт же родит поэзию, сказки, песню, танцы и
милое дружелюбие людей. Быт гораздо выше политики. Из быта родилась
вся литература, все литературы: политика не сложила в ней ни одной стра-
ницы или сложила не многие и не лучшие. Бог с нею, с политикою, забудем
на сегодня ее и отдадимся всею душою быту и бытовому, народному и наци-
ональному. Будем проводить его в столицах и городах с тою простотою, как
в деревнях: ведь смысл праздника — в самом деле пастораль и первобыт-
ность!
КОММЕНТАРИИ
В настоящий том вошли газетные и журнальные статьи В. В. Розанова 1906—
1907 гг. общественно-политического характера. Статьи этих лет о культуре и лите-
ратуре войдут в следующий том Собрания сочинений.
В периодических изданиях Розанов часто публиковался под различными псев-
донимами. В газете «Новое Время» многие материалы Розанова печатались без
подписи. Издатель «Нового Времени» А. С. Суворин писал Розанову: «В неподписан-
ных статьях Вы трезвее, если можно так выразиться, но их почти всегда узнаешь»
(Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову. СПб., 1913. С. 115). Авторство Розанова
устанавливается по библиографии его произведений, составленной С. А. Цветко-
вым при участии самого писателя (Отдел рукописей РГБ. Ф. 249; Гос. лит. музей.
Ф. 362). Учтены также результаты последующих розановедческих исследований.
Сохраняются те же принципы публикации и комментирования, что и в вышед-
ших ранее томах Собрания сочинений. Особенности написания Розановым некото-
рых терминов и собственных имен не унифицируются.
Принятые сокращения: НВ — «Новое Время»; PC — «Русское Слово»; ЗР —
«Золотое Руно»; Б. п. — без подписи.
В том не включены статьи Розанова 1906—1907 гг., уже опубликованные в вы-
шедших томах Собрания сочинений:
«СРЕДИ ХУДОЖНИКОВ» (1994) — Археология древних миниатюр (НВ. При-
лож. 1906. 18 февр. и 29 марта); Александр Андреевич Иванов... (ЗР. 1906. № 11—12,
в книге с измененным названием); Молящаяся Русь (НВ. 1907. 23 янв.); М. В. Несте-
ров (ЗР. 1907. № 2); Где же «религия молодости»? (PC. 1907. 15 февр.); Наброски:
Ибсен и Пушкин... (Русская Мысль. 1907. № 8, в книге с измененным названием).
«В ТЕМНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ЛУЧАХ» (1994) — Русская церковь (Полярная
Звезда. 1906. 3 февр. № 8).
«О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ» (1995) — Памяти Ф. М. Достоевского
(НВ. 1906. 28 янв.); Толстой и Достоевский об искусстве (НВ. 1906. 21 и 28 нояб.,
6 дек.); На закате дней (PC. 1907. 12 сент., 5 и 30 окт.).
«ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО» (1996)
— Экономический и социальный вопрос у Достоевского (PC. 1906. 28 и 30 янв.);
Одна из русских поэтико-философских концепций (ЗР. 1906. № 7-9); Послесловие
к комментарию «Легенды о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (ЗР. 1906.
№ 11-12); То же, но другими словами (ЗР. 1907. № 1); К. П. Победоносцев (PC. 1907.
13, 18 и 27 марта).
«КОГДА НАЧАЛЬСТВО УШЛО...»(1997) — Переживание и перерождение (PC.
1906. 7 янв., в книге с измененным названием); Гамлет в роли администратора (НВ.
1906. 17 февр.); Новые люди (PC. 1906. 20 февр., в книге с измененным названием);
488
К светлому празднику (НВ. 1906. 2 апр., в книге с измененным названием, как пер-
вая часть статьи «В пасхальную ночь 1906 года»); С кем похристосоваться? (PC.
1906. 2 апр., в книге с измененным названием, как вторая часть статьи «В пасхаль-
ную ночь 1906 года»); Пегий человек (НВ. 1906. 19 апр.); Последнее похождение
Кречинского (Свобода и культура. 1906. 23 апр. № 4); На заре парламента (PC. 1906.
28 апр.); Об амнистии (НВ. 1906. 10 мая); Из-за деревьев не видим леса (НВ. 1906.
28 мая, в книге с измененным названием); В Таврическом дворце (НВ. 1906. 4 и
5 июня); Кадеты и трудовики в Думе (PC. 1906. 6 и 7 июля); Старые москвичи в
Думе (PC. 1906. 8 июля); В русском подполье (PC. 1906.23 и 28 июля); В настроениях
дня (PC. 1906. 22 и 23 сент.).
«ВО ДВОРЕ ЯЗЫЧНИКОВ» (1999) — Египет (ЗР. 1906. № 5); Станислав Пшибы-
шевский. Заупокойная месса (ЗР. 1906. № 7—9); Возрождение (Звонарь. 1907. № 2).
Значительная часть статей настоящего тома касается событий, связанных с дея-
тельностью I, II и III Государственной думы. I Дума работала 27 апреля — 8 июля
1906 г. (одна сессия; выборы в Думу состоялись в феврале — марте 1906 г.). Заседа-
ния II Государственной думы проходили с 20 февраля по 2 июня 1907 г. (одна сессия;
выборы в Думу состоялись в январе — феврале 1907 г.). III Дума работала в период
с 1 ноября 1907 г. по 9 июня 1912 г. (пять сессий, действовала полный положенный
срок — пять лет; выборы в Думу проходили осенью 1907 г.).
1906
Общество и правительство (с. 9)
НВ. 1906. Зянв. № 10706. Б. п.
Состав русского поместного собора (с. 10)
НВ. 1906. 4 янв. № 10707. Б. п.
...Стоглавый собор... — церковно-земский собор, созванный (1551) по инициа-
тиве царя Ивана IV и митрополита Макария. Свод постановлений собора включает
100 глав (отсюда название), регламентирующих различные стороны общественной
и церковной жизни России и народного быта в духе православия.
Чиновничество и политические партии (с. 12)
НВ. 1906. 6 янв. № 10709. Б. п.
...удаление со службы по знаменитому «третьему пункту». — Пункт третий
Закона Российской империи от 7 ноября 1850 г. о государственной службе разре-
шал начальству увольнять подчиненных чиновников без объяснения причин и пра-
ва обжалования.
Безнадежное и безнадежные (с. 14)
НВ. 1906. 7 янв. № 10710.
«Гэсподи, три дня как умер брат мой и уже смердит!» — Ин. 11, 39 (в Еванге-
лии — «четыре дня»).
Организация общественных сил (с. 18)
НВ. 1906. 16 янв. № 10719. Б. п.
489
Земство перед новыми задачами (с. 19)
НВ. 1906. 18 янв. № 10721. Б. п.
Волокита с денежными выдачами вдовам убитых
воинов (с. 21)
НВ. 1906. 21 янв. № 10724. Б. п.
Письмо вдовы штабс-капитана... г-жи Е. А. Носович... — «Письмо в редак-
цию» Е. А. Носович опубликовано в «Новом Времени» 20 января 1906 г.
К разгрому Владивостока (с. 22)
НВ. 1906. 25 янв. № 10728. Б. п.
30 октября — 1 ноября 1905 г. во Владивостоке произошло вооруженное выс-
тупление солдат и матросов местного гарнизона, после окончания войны с Японией
ожидавших увольнения в запас, но задержанных на службе. Обширная корреспон-
денция об этих событиях И. Маковского «Разгром Владивостока» была опубликова-
на в газете «Новое Время» 24 января 1906 г.
... в приказах, подобных изданному генералом Лашкевичем... — В приказе этого
владивостокского начальника говорилось, что «во избежание всяких превратных
толкований последнего Высочайшего манифеста» (17 октября 1905 г.) требуется четко
разъяснить «нижним чинам», что «дарование гражданской свободы является новой
Монаршей милостью к гражданскому населению Империи» и «никакого отношения
к армии не имеет», учреждение Государственной думы «никакого отношения к ар-
мии не имеет» и т. п.
Саморазвитие рабочих и ремесленников (с. 23)
НВ. 1906. 27 янв. № 10730. Б. п.
Странствующее христианство (с. 25)
PC. 1906. 1 февр. № 31. Подпись: Орион.
...в первый раз путешествуя в Италии. — Розанов побывал в Италии в 1901 г.,
написав об этом путешествии серию статей для «Нового Времени», позднее собран-
ных им в книгу «Итальянские впечатления» (СПб., 1909).
Эта тусклая природа... — Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья...» (1855).
О «немотивированных» арестах и высылках (с. 32)
НВ. 1906. 7 февр. № 10741. Б. п.
Корреспонденция из Тамбова, помещенная у нас в № 10739... — 5 февраля
1906 г. в заметке «Усердие и недоразумения» в «Новом Времени» сообщалось из
Тамбова об арестах и высылке из города нескольких адвокатов и учителей.
Движение в русско-польском католицизме (с. 33)
НВ. 1906. 16 февр. № 10749. Б. п.
...идут вести о... движении «мариавитов»... — В следующем номере газеты
(НВ. 1906. 17 февр. № 10750. С. 4) опубликована статья «Краткое описание союза
мариявитов и их цели». Название секты происходит от имени Пресвятой Богороди-
цы — Мария — и лат. слова vita (жизнь).
490
Ультрамонтанство — от лат. ultra montes (за горами, т. е. за Альпами). Одно
из наиболее последовательных направлений в клерикализме, утверждавшее, что
власть папы римского не только в церковной сфере, но и в светской жизни должна
стоять выше королей и вообще правителей государств.
Голос церкви (с. 34)
НВ. 1906. 19 февр. № 10752. Б. п.
...обращение Синода... — «От Святейшего Синода к пастырям православной
церкви перед выборами в Государственную Думу» (НВ. 1906. 18 февраля).
К вопросу о вознаграждении запасных (с. 36)
НВ. 1906. 20 февр. № 10753. Б. п.
Письмо в редакцию г. Дашкевича... — Письмо Л. Дашкевича «Земства и за-
пасные», опубликованное в этом же номере «Нового Времени», описывало ситуацию
с возвращающимися из армии запасными на примере Кирсановского уезда Там-
бовской губернии.
Национальное и юридическое значение указа
оДуме (с. 37)
НВ. 1906. 25 февр. № 10758. Б. п.
...указы о Государственном Совете и Государственной Думе... — Закон об
учреждении и выборах Государственной думы был объявлен 11 декабря 1905 г.
Манифестом 20 февраля 1906 г. существовавший и ранее при императоре Государ-
ственный совет (большинство членов которого не избиралось, а назначалось) был
преобразован во вторую законодательную палату с правом вето на решения Госу-
дарственной думы.
Русские втягиваются в политическую жизнь (с. 38)
НВ. 1906. 3 марта. № 10764. Б. п.
...Расплюев... Кречинский... — персонажи пьесы А. В. Сухово-Кобылина «Свадь-
ба Кречинского» (1854).
Бойкот (с. 40)
НВ. 1906. 4 марта. № 10765. Б. п.
...подзадоривание к бойкоту... — К бойкоту выборов в Государственную думу
призывали социал-демократическая рабочая партия (большевиков) и партия социа-
листов-революционеров (эсеров).
...выборные права их очень сужены... — Выборы в Государственную думу, про-
ходившие в феврале — марте 1906 г., проводились по так называемым избирательным
«куриям». В рабочей курии один выборщик избирался от 90 тыс. избирателей (в
крестьянской — от 30 тыс., в землевладельческой — от 2 тыс. человек).
...лишены прав выбора рабочие самых небольших предприятий... — В рабочей
курии к выборам допускались лишь мужчины, занятые на предприятиях, имевших
не менее 50 рабочих (этим лишались права голоса около 2 млн мужчин).
...лорис-меликовская и игнатьевская «конституция»... — Проект (1881, неточ-
но называемый «конституцией») привлечения представителей земских собраний к
491
обсуждению необходимых в государстве реформ, подготовленный министром внут-
ренних дел при Александре II М. Т. Лорис-Меликовым. По свидетельствам совре-
менников (см., например, «Мои воспоминания» князя В. П. Мещерского), проект
рассматривался императором утром 1 марта 1881 г. Через несколько часов Алек-
сандр II был убит бомбой, брошенной народовольцами. Сменивший Лорис-Мели-
кова на посту министра внутренних дел граф Н. П. Игнатьев внес в 1882 г. предло-
жение о созыве земского собора, после чего вынужден был уйти в отставку.
Закон о веротерпимости в его осуществлении (с. 41)
НВ. 1906. 9 марта. № 10770.
Ялтинская история (с. 44)
НВ. 1906. 13 марта. № 10774.
...Вл. Соловьев... замечает, что первою ступенью добродетели... является веж-
ливость... — см. В. С. Соловьев. Оправдание добра (1894—1897).
«Крымский Курьер» — газета, выходившая в Ялте с 1898 по май 1907 г.
Духовенство на выборах (с. 46)
НВ. 1906. 18 марта. № 10779. Б. п.
«Церковный Вестник» — журнал, издававшийся в Петербурге в 1875—1917 гг.
при Святейшем синоде.
Промышленные и торговые люди в будущем
представительстве (с. 49)
НВ. 1906. 19 марта. № 10780. Б. п.
...«скорее место под ними затрещит, нежели они полетят с места» —
Н. В. Гоголь. Мертвые души. Т. 1. Гл. 1 (1841).
Значение столичных выборов (С. 51)
НВ. 1906. 22 марта. № 10783. Б. п.
Расслоения в партиях (с. 53)
НВ. 1906. 24 марта. № 10785. Б. п.
Что сделает Дума? (с. 54)
НВ. 1906. 12 апр. № 10803. Б. п.
Женский университет в Москве (с. 57)
НВ. 1906. 16 апр. № 10807.
...Элоиза шла за Абелляром... — Средневековый французский богослов, фило-
соф и поэт Пьер Абеляр нарушил монашеский обет безбрачия из-за любви к своей
ученице Элоизе. В наказание был оскоплен. В монастырь ушла и Элоиза. В письмах
стойкая Элоиза всячески утешала и подбадривала своего отчаявшегося учителя (Абе-
ляр П. История моих бедствий. СПб., 1902).
...два тома интереснейшего «Дневника» г-жи Дьяконовой... — «Дневник»
Е. А. Дьяконовой (1847 — 1902) был опубликован посмертно ее братом (в 1904 — 1905).
492
Упоминая о 4-м издании этого «Дневника» (М., 1912), назвал его «явлением глубоко
национальным, русским» (НВ. 1914. 18 нояб.).
...«Дневник»... полуфранцуженки Башкирцевой... — С 13 лет жившая во Фран-
ции русская художница М. К. Башкирцева (1860-1884) вела свой очень откровен-
ный дневник на французском языке. Опубликованный в русском переводе в 1892—
1893 гг. «Дневник» выдержал множество изданий.
Вспомним Станкевича... — Философский кружок Н. В. Станкевича в России
1830-х гг. способствовал становлению взглядов таких разных мыслителей, как
В. Г. Белинский, К. С. Аксаков, В. П. Боткин, М. А. Бакунин, М. Н. Катков и др.
«Усиленные оклады и пенсии»
в основных законах (с. 59)
НВ. 1906. 17 апр. № 10808. Б. п.
Государственное участие в высшем женском
образовании (с. 60)
НВ. 1906. 18апр. № 10809. Б. п.
Работы в тюремном ведомстве (с. 61)
НВ. 1906. 20 апр. № 10811. Б. п.
Государь и Государственная Дума (с. 63)
НВ. 1906. 27 апр. №10818. Б. п.
...день 27 апреля... — начало работы I Государственной думы.
Государственная Дума (с. 66)
НВ. 1906. 28 апр. № 10819. Б. п.
Ты и убогая... — Н. А. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо. Часть IV (1881).
Сейте разумное, доброе, вечное... — Н. А. Некрасов. Сеятелям (1877).
Виды на будущее в «В. П. И.» (с. 67)
НВ. 1906. 29 апр. № 10820.
Жизненные трения в политике (с. 69)
НВ. 1906. 4 мая. № 10825. Б. п.
Дармоеды или не дармоеды? (с. 70)
НВ. 1906. 4 мая. № 10825. Б. п.
Эмеритура — от лат. emeritus, заслуженный. Специальная пенсия уволенным в
отставку госслужащим, составлявшаяся из обязательных отчислений от жалованья
государственных служащих.
Пробужденный Левиафан (с. 72)
PC. 1906. 7 мая. № 122. Подпись: В. Варварин.
Из окон квартиры моей прямо видна Нева. — В 1899—1906 гг. Розанов жил на
Шпалерной улице, дом 39, на четвертом, верхнем, этаже дома (у Литейного моста
493
через Неву). На этой квартире у Розанова стали проходить воскресные литературно-
философские вечера.
...виленские траурные костюмы 63-го года... — Речь идет о поражении польско-
го восстания 1863 г. В результате само название «царства Польского» было заменено
названием «Привислинский край».
«Мыслящие реалисты» — понятие, сформулированное Д. И. Писаревым в ра-
ботах «Реалисты» (1864) и «Мыслящий пролетариат» (1865).
Наши церковные дела (с. 77)
НВ. 1906. 26 мая. № 10846.
...«где два или три соберутся во имя Мое...» — Мф. 18, 20.
...изданную Погодиным за границею книгу священника Беллюстина «О сельс-
ком духовенстве». — Имеется в виду книга «Описание сельского духовенства» (Лей-
пциг, 1858), изданная без указания имени автора — Ивана Степановича Беллюстина.
Корреспондирующие и некорреспондирующие (с. 82)
НВ. 1906. 13 июня. № 10864. Б. п.
«Наша Жизнь» — ежедневная политическая газета, выходившая в Петербурге с
ноября 1904 по июль 1906 г., близкая к левому крылу партии кадетов.
«Гэлос» — ежедневная газета партии эсеров, выходившая в Петербурге в апреле
— июле 1906 г.
«Речь» — ежедневная газета, центральный орган кадетской партии; выходила в
Петербурге с февраля 1906 по 1917 г.
...посыпались в провинциальную Россию после 13 мая... — 13 мая 1906 г. Госу-
дарственная дума после выступления премьера И. Л. Горемыкина (с отказом в удов-
летворении ранее направленных Думой требований) большинством голосов вынес-
ла «формулу недоверия» правительству и потребовала его отставки.
Евреи и неевреи (с. 84)
НВ. 1906. 15 июня. № 10866.
«Не вари козленка в молоке его матери» — Исх. 23, 19; 34, 26; Вт. 14, 21.
Самообладание и распущенность (с. 88)
НВ. 1906. 16 июня. № 10867. Б. п.
Начало папства в России (с. 90)
НВ. 1906. 18 июня. № 10869.
«Правила Index’a». — Index librorum prohibitorum, список запрещенных книг.
Перечень книг, признанных католической церковью еретическими и запрещенных
для чтения верующих. Впервые издан в 1559 г. и вплоть до середины XX в. система-
тически пополнялся.
Воскресшие покойники (с. 92)
НВ. 1906. 24 июня. № 10875. Б. п.
Темная Дума (с. 94)
НВ. 1906. 25 июня. № 10876. Б. п.
494
Хозяин страны (с. 96)
НВ. 1906. 27 июня. № 10878. Б. п.
Нехристианский собор (с. 97)
НВ. 1906. 3 июля. № 10884.
Молчащие силы (с. 99)
НВ. 1906. 4 июля. № 10885. Б. п.
Поляки в Думе (с. 101)
НВ. 1906. 9 июля. № 10890. Б. п.
...Эсто-Латышский край с его знаменитою попыткою Латышской республи-
ки. — В ноябре — декабре 1905 г. местная власть в Лифляндской и Курляндской
губерниях фактически находилась в руках революционных распорядительных ко-
митетов, заменивших собой волостные управления царской России.
Вчера и завтра (с. 102)
НВ. 1906. 12 июля. № 10893. Б. п.
...шаг Думы, приведший к роспуску ее. — 6 июля 1906 г. Дума постановила об-
ратиться к населению России с «разъяснением», что не отступит от принципа при-
нудительного отчуждения частных земель для раздачи их крестьянам. 8 июля царским
манифестом I Государственная дума была распущена и назначены новые выборы.
Суждены нам благие порывы... — Н. А. Некрасов. Рыцарь на час (1863).
Нравственная сторона экономических вопросов
(с. 104)
НВ. 1906. 16 июля. № 10897. Б. п.
Одним концом по барину... — Н. А. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо. Часть 1.
Гл. 5 (1865).
Несколько воспоминаний из недавнего прошлого
(с. 106)
PC. 1906. 16 июля. № 181. Подпись: В. Варварин.
Ну, тащися, сивка! — А. В. Кольцов. Песня пахаря (1831).
...писал кн. Мещерский в «Дневнике» своего «Гражданина». — Литературно-
политическое издание монархического направления «Гражданин» выходило в Пе-
тербурге в 1872—1914 гг.; основано писателем и публицистом В. П. Мещерским,
регулярно печатавшим на его страницах свой «Дневник» и другие произведения.
Преходящие величины (с. НО)
НВ. 1906. 18 июля. № 10899. Б. п.
Люди нашего времени (с. 112)
НВ. 1906. 22 июля. № 10903. Б. п.
...старания премьера Столыпина... — Одновременно с роспуском I Государ-
ственной думы новым премьер-министром был назначен министр внутренних дел
П. А. Столыпин.
495
...Фамусов со своей княгиней Марьей Александровной... — ср. А. С. Грибоедов.
Горе от ума. Д. IV (1822 — 1824). У Грибоедова — ...Марья Алексевна.
Надвигающаяся жакерия (с. 113)
НВ. 1906. 24 июля. № 10905. Б. п.
...злодеяния, совершенные в Кронштадте... — Речь идет об июльском (1906)
вооруженном восстании матросов и солдат в Кронштадте.
Темные дни (с. 115)
НВ. 1906. 26 июля. № 10907. Б. п.
...высмеяны И. И. Дмитриевым в его «Чужом толке». — Стихотворение И. И. Дмит-
риева «Чужой толк» (1795) — пародия на высокопарные оды, печатавшиеся в те годы.
«Хитрая механика» — вспомнишь старую книжку’... — Андрей Иванов [В. Е.
Варзар]. Хитрая механика. Правдивый рассказ, откуда и куда идут мужицкие денеж-
ки. М., 1874; 2-е изд. — Харьков, 1875 (указание мест печати вымышлено, брошюра
нелегальная, отпечатана в Женеве).
В великом терпении (с. 116)
НВ. 1906. 29 июля. № 10910. Б. п.
Как стонала, бывало, «Речь», а теперь стонет «Двадцатый век»... — Издание
газеты «Речь» 22 июля 1906 г. было приостановлено; возобновлено 9 августа 1906 г.
«Двадцатый век» — в 1906 г. одна из ежедневных газет кадетского направления
(СПб.), до этого выходила под названиями «Гласность», «Молва».
Явочная система открытия частных учебных
заведений (с. 118)
НВ. 1906. 2 авг. № 10914. Б. п.
Что же нам делать? (с. 120)
НВ. 1906. 4 авг. № 10916. Б. п.
Правильная конституционная работа (с. 121)
НВ. 1906. 5 авг. № 10917. Б. п.
Одно из выпавших оружий революции (с. 123)
НВ. 1906. 10 авг. № 10922. Б. п.
Так тяжкий млат... — А. С. Пушкин. Полтава (1829).
Славянство и «греческая церковь» (с. 126)
PC. 1906. 12 авг. № 201. Подпись: В. Варварин.
Большая власть (с. 129)
НВ. 1906. 17 авг. № 10929. Б. п.
...Шарль Рише в известной книге... — Русский перевод книги французского
физиолога Ш. Рише (1850 — 1935) «Сомнамбулизм, демонизм и яды интеллекта»
вышел в издательстве А. С. Суворина. СПб., 1885.
496
Левым рептилиям (с. 132)
НВ. 1906. 19 авг. № 10931. Б. п.
... Читайте... безотечественную «Страну»... —Ежедневная газета (СПб.), орган
партии демократических свобод, выходила в 1906 — 1907 гг. При выборах в Думу
призывала отдать голоса кадетам.
Конечно, эти... не ходили на Аптекарский остров с бомбой... — 12 августа 1906 г.
на даче П. А. Столыпина на Аптекарском острове произошел взрыв, которым было
убито свыше 30 человек и столько же ранено; сам Столыпин не пострадал.
...Влад. Азов...написал же на виду полусотни убитых и искалеченных всего вче-
ра... — Розанов цитирует «маленький фельетон» Влад. Азова «К абсурду» («Речь».
1906. 17 августа, № 140).
Церковь эстетическая и церковь совестливая (с. 134)
PC. 1906. 20 авг. № 207. Подпись: В. Варварин.
Политика и «мероприятия» (с. 138)
НВ. 1906. 23 авг. № 10935. Б. п.
Гугеноты — «освободители» (с. 141)
НВ. 1906. 25 авг. № 10937. Б. п.
«Товарищ» — ежедневная газета (СПб.), издавалась с 15 марта 1906 г. по январь
1908 г., отражала позицию левых кадетов.
Младокатолическое движение (с. 143)
НВ. 1906. 27 авг. № 10939.
«Церковная Газета» — еженедельное издание, выходившее в Харькове в феврале
— июле 1906 г. Розанов опубликовал в этом издании несколько статей.
К правительственному сообщению (с. 147)
НВ. 1906. 27 авг. № 10939. Б. п.
Обязательные выезды за границу (с. 148)
НВ. 1906. 31 авг. № 10943. Б. п.
...о «дыме отечества» хотя с иронией говорит Чацкий... — А. С. Грибоедов.
Горе от ума. Д. I, явл. 7 (1824).
О «заявлениях» и заявителях (с. 150)
НВ. 1906. 3 сент. № 10946. Б. п.
...пропойца-босяк у Максима Горького говорит, что он никого так не ненави-
дит, как крестьянина-мужика... — см. М. Горький. Челкаш (1895).
Русская карамазовщина (с. 152)
НВ. 1906. 6 сент. № 10949. Б. п.
...плащ Ринальдо Риналъдини... — Роман немецкого писателя К. А. Вульпиуса
«Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников» (1800, рус. пер. 1804) — одно из пер-
497
17 В. В. Розанов
вых произведений европейской литературы, где преступная, разбойная деятельность
подана в романтическом ореоле.
...убийством в Интерлакене «Миллера вместо Дурново»... — Дурново Петр
Николаевич (1842 — 1915), государственный деятель, с 1900 г. — товарищ (замести-
тель) министра, с октября 1905 г. по апрель 1906 г. — министр внутренних дел Рос-
сии; член Государственного совета. 15 августа 1906 г. в Интерлакене (Швейцария,
кантон Берн) русская революционерка-террористка убила случайного путешествен-
ника — француза Миллера, ошибочно приняв его за П. Н. Дурново.
Остроумие среди крови (с. 155)
НВ. 1906. 7 сент. № 10950. Б. п.
Кн. Евг. Трубецкой... напечатал в «Русск. Вед.» письмо к А. И. Гучкову... —
«Русские Ведомости» (М., 1906. № 218. 2 сент.) поместили заметку Е. Н. Трубецкого
«Два слова по поводу интервью А. И. Гучкова». Ответное «Письмо А. И. Гучкова
князю Е. Н. Трубецкому» см. в «Новом Времени», 1906. 10 сент. № 10953.
Острота имела цель ударить в военно-полевые суды... — 25 августа 1906 г.
был опубликован закон об учреждении военно-полевых судов для борьбы с «рево-
люционным террором».
«Сии» и «оные»... (с. 157)
PC. 1906. 7 сент. № 222. Подпись: В. Варварин.
...что означают... слова: «же заны»... и «жеможаху»... — Слова из Символа
веры (распятого же за ны...) и тропаря Преображения Господня (.. .якоже можаху...).
«Бог не в силе, а в правде» — Никоновская летопись. 3. 10.
Возвращение к науке (с. 160)
НВ. 1906. 8 сент. № 10951. Б. п.
Вы жертвою пали борьбы роковой... — Неизвестный автор. Похоронный марш
(«Вы жертвою пали...», 1870-е гг.).
Нравственная смута как причина политической
(с. 162)
НВ. 1906. 13 сент. № 10956. Б. п.
...сообщает сотрудник «Temps» о своей беседе с гр. Л. Н. Толстым... — Изло-
жение беседы с Л. Толстым сотрудника парижской газеты «Le Temps» Бойе {Paul
Boyer), посетившего Ясную Поляну в день рождения писателя (28 авг.), помещено в
«Новом Времени», 1906. 10 сент. («У Л. Н. Толстого») на первой полосе газеты. Л.
Толстой сообщил, в частности, что только что передал в издательство «Посредник»
для публикации очерк «О смысле революции в России».
«Старо»-католики и просто католики (с. 164)
НВ. 1906. 14 сент. № 10957.
...у старокатоликов... как это описывает А. А. Киреев... — С возникновением
в Европе движения «старокатоликов» (1870-е гг.), не признавших догмата о непогре-
шимости папы римского, А. А. Киреев стал пропагандистом этого движения, рас-
считывая на подрыв католицизма «изнутри» и сближение «старокатоликов» с право-
славием (см.: Киреев А. Польский вопрос и старокатолицизм. М., 1898).
498
...прекрасные полудостоверности, как Лурд... — Городок на юге Франции, в
Пиренеях, объект религиозного паломничества: согласно легенде, в гроте около Лурда
в 1858 г. явилась Божья Матерь. Розанов имеет в виду роман Эмиля Золя «Лурд»
(1894), в котором эти события описаны с антиклерикальных позиций, как спекуля-
ция церковников на невежестве простых людей, торговля «чудом».
...ни — «цвиккаусских братьев»... — или «цвиккаусских пророков», родона-
чальников анабаптистов, или перекрещенцев, одной из религиозных сект эпохи Ре-
формации (начало XVI в.). Движение первоначально возникло в г. Цвиккау
(Саксония), во многом сходно с баптистами.
Думские перепевы в печати (с. 166)
НВ. 1906. 17 сент. № 10960. Б. п.
Московские профессора и студенчество (с. 167)
НВ. 1906. 20 сент. № 10963. Б. п.
О предметной системе экзаменов в высших
учебных заведениях (с. 170)
НВ. 1906. 28 сент. № 10971. Б. п.
Христианская свобода и политическая свобода (с. 172)
НВ. 1906. 1 окт. № 10974. Б. п.
Судебная обструкция (с. 174)
НВ. 1906. 15 окт. № 10988. Б. п.
Новый закон о старообрядцах (с. 175)
НВ. 1906. 18 окт. № 10991. Б. п.
«Правительственный Вестник»... — официальный орган правительства,
издававшийся в Петербурге с 1869 по 1917 г. «Правила о порядке устройства...»
старообрядческих и сектантских общин были утверждены Николаем II 17 октября
1906 г.
Монашество и семья, церковь и нация (с. 177)
PC. 1906. 18 окт. № 255. Подпись: В. Варварин.
...те «32» священника... — Речь идет о созданном в начале 1905 г. группой либе-
рально настроенного духовенства (А. Д. Введенский, Г. С. Петров, П. В. Раевский и
др.) кружке «тридцати двух священников», сторонников церковного обновления; см.:
О необходимости перемен в русском церковном управлении. СПб., 1905.
...Христос... «вышел на брак в Кане Галилейской и сотворил там чудо» — см.
Ин. 2, 1-11.
...Он «сотворил чудо и при ловитве рыбы» — см. Лк. 5, 4 — 9.
Судьба сельского священника (с. 184)
НВ. 1906. 9 нояб. № 11013.
«Гзлое Правды» — либеральная газета, выходившая в Петербурге в 1905—1910 гг.
499
17'
Программа церковных реформ (с. 188)
НВ. 1906. 17 нояб. № 11021. Б. п.
Положение духовенства в государстве (с. 191)
НВ. 1906. 18 нояб. № 1022. Б. п.
Об административном выделении холмщины (с. 193)
НВ. 1906. 23 нояб. № 11027. Б. п.
Среди людей «чисто русского направления» (с. 195)
PC. 1906. 24 нояб. № 286. Подпись: В. Варварин.
«Союз русского народа» — массовая монархическая партия, оформившаяся в
ноябре 1905 г. в Петербурге, вобравшая в себя многие общественно-политические
объединения, «лиги», группы правого, монархического направления. Главный совет
«Союза» возглавил доктор медицины А. И. Дубровин.
...в квартиру заочного «кума»-друга... — Далее Розанов, не раскрывая подлин-
ного имени, описывает одного из своих многолетних друзей — писателя, позднего
славянофила И. Ф. Романова (1861 — 1913), печатавшегося под псевдонимом «Рцы»
(по Розанову — «Ижица»). Первая квартира Розанова по приезде в 1893 г. в Петер-
бург находилась в том же доме, где жил Романов — Рцы.
Выборные епископы в русской церкви (с. 202)
НВ. 1906. 26 нояб. № 11030. Б. п.
...политически-руководственного «Московского Сборника»... — Пятое издание
составленного обер-прокурором Синода К. П. Победоносцевым «Московского Сбор-
ника» вышло в 1901 г.
...посмертные «Записки...» архиепископа одесского Никанора... — Никанор
(А. И. Бровкович), архиепископ Одесский и Херсонский. «Из истории ученого мо-
нашества 60-х годов». Год и место издания не указаны (1890-е).
...«Книга бытия моего» еп. Порфирия Успенского... — Порфирий (К. А. Успен-
ский, 1804— 1885), епископ Чигиринский, известный археолог, организатор первой
русской духовной миссии в Иерусалиме. Его дневники изданы посмертно академи-
ей наук: «Книги бытия моего». Т. 1—8. СПб., 1894 — 1902.
Вести из учебного мира (с. 205)
НВ. 1906. 3 дек. № 11037.
...в женской гимназии уважаемой М. Н. Стоюниной... — В гимназии М. Н.
Стоюниной (в 1906 г. — в подготовительном классе) училась старшая дочь Розанова
Татьяна (1895 — 1975), позднее — дочь Вера (1896 — 1920).
Берегите Западную Русь (с. 209)
НВ. 1906. 3 дек. № 11037. Б. п.
«Автономный» духовный суд и наши
маленькие дела (с. 210)
НВ. 1906. 12 дек. № 11046.
...отцов Констанцского собора...- Собор католических иерархов проходил в
г. Констанце (Германия) в 1414—1418 гг. По решению Констанцского собора, в
500
порядке искоренения ереси, в 1415 г. были сожжены Ян Гус и его ученик Иероним
Пражский.
И хозяйка в дому — как малинка в саду... — Н. А. Некрасов. Песня («У людей-то
в дому — чистота, лепота...») (1866).
Еще об «истинно русских» людях (с. 217)
PC. 1906. 14 дек. № 303. Подпись: В. Варварин.
...поручикПирогов, о котором писал Гоголь... —Н. В. Гоголь. Невский проспект
(1834).
А вы, надменные потомки... — М. Ю. Лермонтов. Смерть поэта (1837).
Где и как основывать университеты (с. 222)
НВ. 1906. 16 дек. № 11050. Б. п.
Снос русского университета в Варшаве... — Императорский Варшавский уни-
верситет с преподаванием на русском языке был открыт в Варшаве в 1869 г. В 1915 г.
был эвакуирован в Ростов-на-Дону, где стал основой Ростовского университета.
Народное смущение (с. 224)
PC. 1906. 20 дек. № 308. Подпись: В. Варварин.
Больное общество (с. 230)
НВ. 1906. 24 дек. № 11058. Б. п.
...вместо того, чтобы скромно сидеть на Удельной... — На станции Удельной
Финляндской ж. д. под Петербургом находилась больница и дом призрения для ду-
шевнобольных (ныне — в черте города).
Лукавые слова (с. 232)
В книге: Против смертной казни. Сб. статей под ред. М. Н. Гернета и др. М.,
1906. С. 45 — 48.
В предрождественскую ночь (с. 234)
PC. 1906. 25 дек. №313. Подпись: В. Варварин.
В ночь перед Рождеством (с. 236)
НВ. 1906. 25 дек. №11059. Б.п.
... пели ангелы Вифлеема: «Слава в вышних Богу и на земле мир и благоволе-
ние» — Лк. 2, 13 — 14.
1907
На Новый год (с. 241)
НВ. 1907. 1 янв. № 11065. Б. п.
...выбрать в председатели первой парламентской палаты бездарного экс-про-
фессора... — Председателем первой Государственной думы был избран кадет про-
фессор-правовед С. А. Муромцев.
501
Архимандрит Михаил (с. 245)
PC. 1907. 6 янв. № 4. Подпись: В. Варварин.
...в№ 50-м журнала «Искры»... — Иллюстрированный художественно-литера-
турный еженедельник «Искры» выходил в Москве в 1901-1917 гг. в качестве вос-
кресного приложения газеты «Русское слово»; на обложке (№ 50, 17 дек. 1906 г.) —
портрет: «Архимандрит Михаил, лишенный профессорской кафедры в С.-петербург-
ской духовной академии». Фото К. К. Булла.
...ап. Павел: «о девстве (говоря) я не имею повеления Божия»... — 1 Кор. 7, 25.
Осторожнее, поляки!., (с. 249)
НВ. 1907. 7 янв. №11071. Б. п.
...толпа католиков, около 1000 человек... — Об этих событиях, случившихся в
Зельве 2 января, сообщалось в телеграмме из Гродно (НВ. 1907, 5 янв.).
Семья и церковь (с. 252)
НВ. 1907. 9 янв. № 11073.
Бывало в глубокий полуночный час... — А. С. Хомяков. К детям (1839).
В темном и несчастном сословии (с. 256)
PC. 1907. 18 янв. № 13. Подпись: В. Варварин.
Влияние формы заключения брака на нравы (с. 259)
НВ. 1907. 19 янв. № 11083.
Русская государственность и общество (с. 262)
НВ. 1907. 24 янв. № 11088. Подпись: Конституционалист.
«Русское Богатство» — литературный и общественно-политический журнал,
издававшийся в Петербурге в 1876 — 1918 гг.; с 1890-х гг. — орган легального
народничества.
«РусскаяМысль» — журнал, издававшийся в Москве в 1880-1918 гг.; в 1890-х гг.
— издание либерально-народнического направления, после революции 1905 г. —
орган кадетской партии.
...государственность русская не одно и то же с Куропаткиным, Алексеевым, с
Авеланом... — А. Н. Куропаткин, генерал от инфантерии, М. В. Алексеев, генерал от
инфантерии, в период русско-японской войны руководили военными действиями
русской армии на Дальнем Востоке, Ф. К. Авелан — управляющий морским мини-
стерством. В июне — декабре 1906 г. проходили судебные заседания (в Особом при-
сутствии морского суда Кронштадтского порта) по оценке вины ряда военачальни-
ков в поражении России в войне с Японией в 1904 — 1905 гг.
... сдачу «Бедового», деяния Небогатова... — Речь идет об эпизодах Цусимского
морского сражения в мае 1905 г. На миноносце «Бедовом» к моменту его сдачи нахо-
дился тяжелораненный командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой 3. П. Рожествен-
ский, переправленный туда с потерявшего ход и управление флагмана, таким обра-
зом, оказавшийся в плену у японцев. Небогатов Николай Иванович, контр-адмирал,
командовал в Цусимском сражении 1-м отдельным отрядом судов Тихого океана,
сдал свой броненосец, не исчерпав всех резервов сопротивления; осужден на 10 лет
крепости с лишением звания и дворянства.
... слова старика Фамусова: «Вы. Нынешние, ну-тко!» — А. С. Грибоедов. Горе
от ума. Д. II, явл. 2 (1822 — 1824).
502
Внешние и внутренние отношения церкви (с. 264)
НВ. 1907. 26 янв. № 11090. Б. п.
... И хоть бесчувственному телу... — А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц
шумных...» (1829).
Еще о внутреннем и внешнем положении церкви
(с. 267)
НВ. 1907.31 янв. № 11095. Б. п.
... фернейского философа... — т. е. французского философа и публициста Вольтера.
... Суждены нам благие порывы... — Н. А. Некрасов. Рыцарь на час (1862).
К законопроекту о разводе (с. 270)
НВ. 1907. 2 и 3 февр. № 11097 и 11098.
... «муж не может развестись с женою иначе как по вине прелюбодеяния» —
ср. Мф. 19, 9.
...«худая жена в дому, как гной в костях»... — Пр. 12, 4.
Все это было бы смешно... — М. Ю. Лермонтов. А. О. Смирновой (1840).
Рассказа нет печальней и грустней... — У. Шекспир. Ромео и Джульетта (1595).
Юридическая терминология (с. 276)
НВ. 1907. 6 февр. № 11101.
Дополнение к предыдущей статье — «К законопроекту о разводе» (НВ. 2 и 3 февр.).
Новые кандидаты от к.-д. в Госуд. думу (с. 277)
PC. 1907. 2 февр. № 26. Подпись: В. Варварин.
Облетели цветы... — С. Я. Надсон. «Умерла моя муза!..» (1885).
Кого они выбирали??? (с. 280)
НВ. 1907. 7 февр. № 11102. Б. п.
В газете, вслед за этой статьей, помещено сообщение «Результаты сегодняшних
выборов», в котором приводятся предварительные цифры распределения 182 мест в
Думе по 26 партиям, фракциям и группам.
Виды на будущее в Г. Думе (с. 283)
НВ. 1907. 10 февр. № 11105. Б. п.
...монтаньяры и жирондисты... — правая и левая политические группировки
в период французской буржуазной революции конца XVIII в.
Бунты кронштадтский и свеаборгский... — революционные восстания матро-
сов и солдат в июле 1906 г. крепостей Кронштадт (в Финском заливе) и Свеаборг (в
Хельсинкской гавани).
Границы парламентаризма и партий (с. 285)
НВ. 1907. 13 февр. № 11108. Б. п.
...Спенсер... написал пророческую книгу... — рус. пер. с англ.: Спенсер Г. Гряду-
щее рабство. СПб., 1884.
503
«Сарынь-на-кичку» — «Толпу — на нос корабля!», по преданию, клич-приказ
волжских разбойников при захвате судна.
«Кто не со мною, тот против меня» — Мф. 12, 30.
О «снятии сана» со священников (с. 287)
PC. 1907. 13 февр. № 34. Подпись: В. Варварин.
«Дух святой наставит вас во всем» — Ин. 16, 13.
Советы «осторожности» в левом лагере (с. 290)
НВ. 1907. 17 февр. № 11112. Б. п.
...судьба эскадры Рождественского... — правильно: 3. П. Рожественский, вице-
адмирал. Сформированная из кораблей Балтийского флота 2-я Тихоокеанская эс-
кадра под командованием Рожественского в мае 1905 г. в Цусимском проливе потер-
пела поражение от японского флота.
«Мышонок, не видавший света...» — Розанов цитирует басню И. И. Дмитриева
«Петух, Кот и Мышонок» (1802).
Проводили (с. 292)
PC. 1907. 17 февр. № 38. Подпись: В. Варварин.
...провожают свящ. Гр. С. Петрова. — 9 января 1907 г. духовная консистория
издала указ о высылке Г. С. Петрова на послушание в Череменецкий монастырь.
14 февраля Петров отбыл туда из Петербурга.
В первый день новой парламентской сессии (с. 296)
НВ. 1907. 20 февр. № 11115. Б. п.
20 февраля 1907 г. состоялось первое заседание II Государственной думы.
Он посещал беседы наши... — А. С. Пушкин. «Он между нами жил...» (1834).
Но кончилось все с другой стороны «Валленродом» и заветами вечной мести...
— Имеются в виду произведения Адама Мицкевича: поэма «Конрад Валленрод»
(1828), третья часть драмы «Дзяды» (1832), «Книги польского народа и польского
пилигримства» (1832). В них явственно звучат мотивы польского «мессианизма»,
выпады против русской государственности и исторических деятелей России.
Слова Думы и дела Думы (с. 299)
НВ. 1907. 22 февр. № 11117.
Всемирные дни России (с. 301)
PC. 1907. 22 февр. № 42. Подпись: В. Варварин.
...письмо... от Джером-Джерома... — Английский писатель Джером К. Дже-
ром в 1899 г. посетил Россию; свои впечатления изложил в очерке «Люди будущего.
Мнение популярного английского писателя о России». СПб., 1906.
Встреча парламента (с. 303)
PC. 1907. 23 февр. № 43. Подпись: В. Варварин.
Все молодо было в это утро 20 февраля... — т. е. в день открытия II Государ-
ственной думы.
504
Эс-деки и эс-эры в Г. Думе (с. 305)
НВ. 1907. 25 февр. №11120. Б. п.
Если выборгское воззвание... послужило... поводом к отказу в легализации це-
лой образованной партии... — В июле 1906 г., после роспуска I Гос. думы, около 180
ее членов собрались в Выборге и обратились к населению России с призывом не
платить правительству податей и не давать солдат в армию. В сентябре 1906 г. влас-
ти отказали в легальной регистрации партии народных социалистов, в оргкомитет
которой входили А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин, Н. Ф. Анненский и др. — публи-
цисты, ученые, члены редколлегии легального народнического журнала «Русское
богатство».
...кончая немецкими катедер-социалистами... — Течение среди немецких уче-
ных-экономистов 1870-х гг., проповедовавших с университетских кафедр (откуда
название: Katheder — кафедра) социалистическое учение реформистского толка.
Представитель рабочих от Петербурга (с. 309)
PC. 1907. 27 февр. № 46. Подпись: В. Варварин.
...я говорил это летом... — см. статьи Розанова «Надвигающаяся жакерия» и
«Темные дни» (НВ. 1906. 24 и 26 июля) — с. 113—116 наст. тома.
...статья одного германского еврея... — Речь идет о статье, подписанной аст-
ронимом — *** — «Грозные предзнаменования (из берлинской газеты «Jiidische
Presse» 7 декабря 1906 г. № 49)» (Московский еженедельник. 1907. № 3.20 янв. С. 13—21).
Начинающие парламентер исты (с. 314)
НВ. 1907.28 февр. № 11123. Б. п.
В те дни, когда мне были новы... — А. С. Пушкин. Демон (1823).
...что вы скажете об истории Гурко —Лидваля... — Товарищ (т. е. заместитель)
министра внутренних дел В. И. Гурко, ответственный за снабжение местностей, по-
страдавших от неурожая в 1906 г., передал подряд на поставку хлеба сомнительной
фирме («товариществу на вере») «Торговый дом Э. Л. Лидваль и Компания»... По-
чти все выделенные государством средства (по сообщениям печати — до 2 млн руб.)
были расхищены.
...«фельдфебеля в Вольтеры дать»... — А. С. Грибоедов. Горе от ума. Д. IV,
явл. 5 (1824).
Отчего все это произошло? (с. 317)
НВ. 1907. 2 марта. № 11125. Б. п.
Связь частной и народной нравственности (с. 320)
НВ. 1907. 3 марта. № 11126.
Рост и культура взаимного доверия (с. 325)
НВ. 1907. 6 марта. № 11128. Б. п.
...правительство... чуть ли... не бросило в социал-демократов потолком депу-
татского зала... — В период между заседаниями I и II Государственной думы был
произведен спешный ремонт и перепланировка внутренних помещений Тавричес-
кого дворца. В дни начала работы II Думы обвалилась часть потолочной штукатур-
ки депутатского зала (в расположении левых фракций).
505
Речи из «Речи» (с. 327)
НВ. 1907. 7 марта. № 11129. Б. п.
В самый день выслушания министерской декларации «Речь» пишет... — 6 марта
1907 г. в Думе выступил с правительственной декларацией премьер-министр
П. А. Столыпин. Розанов далее цитирует редакционную статью из «Речи» —
«Сегодня, наконец, состоится настоящее «открытие» думы...»(Речь. 1907. № 54. 6 марта).
Живые штрихи (с. 329)
PC. 9, 11 марта, 3 апреля. № 55, 57, 76. Подпись: В. Варварин.
...листы таинственной, священной книги... «запечатаны», и их «никто про-
честь не может»... — Откр. 5, 1 — 4.
...Головин... — Ф. А. Головин, член Государственной думы от Московской гу-
бернии (кадет), был избран председателем Думы 20 февраля большинством —
356 голосов «за», 102 «против».
...о витязе, махающем мечом картонным... — М. Ю. Лермонтов. Не верь себе
(1839).
Богоумилительное «буль-буль-буль» (с. 344)
PC. 1907. 9 марта. № 55. Подпись: В. Варварин.
«Правда Божия» — газета, выходившая в Москве с января по июнь 1906 г.
До сих пор «Русь» и «тишина» казались синонимами. И только теперь вдруг...
«буря»... — Кадетского толка газета «Русь» (СПб.), выходила в 1903—1905 гг.; в
1906-1908 гг. вновь стала выходить как издание кадетского направления.
Активное выступление Государственного Совета
(с. 347)
НВ. 1907. 10 марта. № 11132. Б. п.
...адвокат Балалайкин... — тип продажного беспринципного адвоката-
приспособленца Балалайкина выведен М. Е. Салтыковым-Щедриным в серии сати-
рических очерков «В среде умеренности и аккуратности» (1873—1878) и «Совре-
менная идиллия» (1877—1883).
Судьба первого запроса в Г. Совете (с. 350)
НВ. 1907. 17 марта. № 11139. Б. п.
...у Обломова стояла в кабинете чернильница... — А. А. Гончаров. Обломов.
Часть 1, гл. 1 (1859).
Разочарования и надежды (с. 352)
НВ. 1907. 22 марта. № 11144. Б. п.
«Волгарь» — газета, издававшаяся в Нижнем Новгороде с 1892 по 1917 г.
«Казанский листок» — очевидно, имеется в виду газета «Волжский листок»,
выходившая в Казани в 1904-1909 гг.
Общественность как показатель политики (с. 355)
НВ. 1907. 24 марта. № 11146. Б. п.
Испуг парламентариев (с. 357)
НВ. 1907. 27 марта. № 11149. Б. п.
506
Здоровье потомства как народно-государственная
задача (с. 360)
НВ. 1907. 30 марта. № 11152.
... сгорели с телом в огне, павшем с неба, два известных города — Содом и Го-
морра; см.: Быт. 19, 24 — 28.
Из монастырского затвора (с. 362)
PC. 1907. 1 апр. № 75. Подпись: В. Варварин.
...14-го тома «Жизни и трудов Погодина» незабвенного Ник. П. Барсукова...
— Труд историка и библиографа Николая Платоновича Барсукова «Жизнь и труды
М. П. Погодина» (т. 1 — 22. СПб., 1888 — 1910) остался незавершенным. Высоко
ценивший это издание Розанов своим обширным отзывом на первые девять томов
(Русский Вестник, 1895. № 10. С. 163-189) способствовал продолжению издания.
Подробнее о 14-м томе Розанов говорит в статье, опубликованной в «Новом Вре-
мени» (1900. 11 июня). См. также: Розанов В. В. Около церковных стен. М., 1995.
С. 29-40.
Собиралось горе малыми тучками... — А. К. Толстой. «Не Божиим громом горе
ударило...» (1857).
Мысленно вместе с тобой прострадал я минувшие годы... — А. К. Толстой.
«Слушая повесть твою полюбил я тебя, моя радость!..» (1851).
Я недавно написал статью: «Где же религия молодости»... — PC. 1907.
15 февр.; см.: Розанов В. В. Среди художников. М., 1994. С. 246—252.
Где узел «возможного» или «невозможного»
церковного обновления? (с. 366)
PC. 1907. 7, 11 апр. № 80, 83. Подпись: В. Варварин.
«Истинно, истинно говорю вам: кто не станет таким же, как это дитя, — не
внидет в царство небесное» — см.: Мф. 18, 3; Мк. 10, 15; Лк. 18, 17.
«Классовая борьба» в Г. Думе (с. 378)
НВ. 1907. 8 апр. № 11161. Б. п.
Настоящее слово (с. 381)
НВ. 1907. 10 апр. № 11163. Б. п.
Безработная учебная республика (с. 383)
НВ. 1907. 15 апр. № 11168. Б. п.
Бобчинскихмного, Добчинских еще больше... — персонажи комедии Н. В. Гого-
ля «Ревизор» (1836).
Крупное и мелкое обновление (с. 386)
НВ. 1907. 17 апр. № 11170. Б. п.
И. С. Аксаков в своей «Руси»... — Газета «Русь» в 1880—1886 гг. редактирова-
лась И. С. Аксаковым.
Корреспонденция из Новгородской губернии... — Клопов А. Мелкая земская еди-
ница (Любань. Новгородской губ.) // Новое время. 1907. 16 апреля (№ 11169).
507
Армия и парламент (с. 388)
НВ. 1907. 19 апр. № 11172. Б. п
Где бы сеятель твой и хранитель... — Н. А. Некрасов. Размышления у пара-
дного подъезда (1858).
Политические суеверия (с. 391)
НВ. 1907. 26 апр. № 11177. Б. п.
...которому все казалось, что... Давид собирается отнять у него царство —
1 Цар. 18,6 — 30; 19, 1 —22.
Перед возобновлением Думы (с. 394)
PC. 1907. 27 апр. № 96. Подпись: В. Варварин.
«Мене, текел, фарес»... — см.: Дан. 5. 24-28.
Два съезда (с. 399)
НВ. 1907. 28 апр. № 11179. Б. п.
Судьбы русского консерватизма (с. 402)
НВ. 1907. 2 мая. № 11183. Б. п.
Думские идеологи (с. 405)
НВ. 1907. 9 мая. № 11190. Б. п.
«Пролетарии всех стран — соединяйтесь!» — девиз Российской социал-де-
мократической рабочей партии. Восходит к заключительным словам «Манифеста
коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса (1848).
«В борьбе обретешь ты право свое» — девиз партии эсеров. Восходит к поло-
жениям философии права И. Г. Фихте.
Кадетская критика речи председателя
Совета Министров (с. 407)
НВ. 1907. 13 мая. № 11194. Б. п.
«Присяжные» священники и «присяжный» митро-
полит (с. 410)
Трудовой путь. 1907. № 5. Май. С. 60-63. Подпись: В. В.
Как мы встретили свящ. Г. С. Петрова (с. 414)
PC. 1907. 18 мая. № 113. Подпись: В. Варварин.
Претензия Г. Думы на социальные перевороты (с. 422)
НВ. 1907. 20 мая. № 11201. Б. п.
«Товарищ» о локаутах (с. 425)
НВ. 1907. 23 мая. № 11204. Б. п.
...в статье, характерно названной «Лодзинский террор»... — см.: Товарищ.
1907, 22 мая, редакционная статья (без подписи). 24 мая 1907 г. в газете «Товарищ»
появилась ответная реплика на статью Розанова в «Новом Времени».
508
Новые потуги кадетской партии (с. 427)
НВ. 1907. 23 июня. № 11234. Б. п.
1 июня 1907 г. правительство потребовало от Государственной думы лишения
депутатской неприкосновенности членов социал-демократической фракции для при-
влечения их к суду за организацию военного заговора (так интерпретировалась ра-
бота социал-демократов в войсках). Дума передала это требование в комиссию для
выяснения его обоснованности. 3 июня 1907 г. появился Манифест о роспуске Думы
(по обвинению в подготовке государственного переворота) и о новых изменениях
избирательного закона. Не успевшие скрыться социал-демократические депутаты в
ночь со 2 на 3 июня были арестованы.
Один из сотрудников «Русского Богатства», г. Елпатъевский... — Речь идет о
статье С. Я. Елпатьевского «Облетели цветы, догорели огни» (Русское Богатство.
1907. № 5, май).
Сотруднику «Рус. Бог.» отвечал один из Гессенов в «Речи»... — Гессен И. Ста-
рый друг («Облетели цветы») // Речь. 1907. 8 июня. № 133.
...до Левина и даже пьяненького Мити Карамазова... — персонажи романов
Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (1873—1877) и Ф. М. Достоевского «Братья
Карамазовы» (1878—1880).
Историческое чувство и наша выборная система
(с. 430)
НВ. 1907. 26 июня. № 11237. Б. п.
Немилость Св. Синода к мелкому кредиту (с. 433)
НВ. 1907. 8 июля. № 11249. Б. п.
Об «источнике сил и идеализма» кадетов (с. 435)
НВ. 1907. 9 июля. № 11250. Б. п.
В ожидании Собора Русской Церкви (с. 437)
НВ. 1907. 16 июля. № 11257.
Завершившийся опыт (с. 440)
НВ. 1907. 9 сент. № 11312.
Г-жа Левицкая, в Царском Селе... — В Царскосельской школе Е. С. Левицкой
учились дочери Розанова Варя и Вера.
К оздоровлению церковной школы (с. 441)
НВ. 1907. 9 сент. № 11312. Б. п.
...вышла из-под пера профессора Н. Н. Глубоковского... книга — Глубоковский Н. Н.
По вопросам духовной школы (средней и высшей) и об учебном комитете при Свя-
тейшем Синоде. СПб., 1907.
Воспитываются ли семинаристы? (с. 445)
НВ. 1907. И сент. № 11314. Б. п.
В духовных семинариях (с. 448)
PC. 1907. 14 сент. № 211. Подпись: В. В.
509
Церковный Собор в Москве (с. 450)
НВ. 1907. 16 сент. № 11319. Б. п.
...«Догматическое богословие» митрополита Макария... — Макарий (Булгаков
Михаил Петрович). Православно-догматическое богословие. Т. 1-5. СПб., 1849-1853;
4-е изд., 1883.
Чрезвычайный Собор русской церкви
и ее будущность (с. 453)
PC. 1907. 20 сент. № 215. Подпись: В. В.
...С. Н. Булгаков... за нежелательность созыва церковного собора... — см.: Бул-
гаков С. Н. К вопросу о церковном соборе (Московский еженедельник, 1906, №
13, 17 июня. С. 387-389).
Как разрешается недоумение (с. 457)
НВ. 1907. 29 сент. № 11332.
...автор «Пробуждения весны»... — Речь идет о драме (1891) немецкого писа-
теля Франка Ведекинда (1864—1916).
Мысль изреченная есть ложь... — Ф. И. Тютчев. Silentium (1830).
Люди «своего ума» на выборах (с. 459)
НВ. 1907. 6 окт. № 11339. Б. п.
Перед избирательными урнами (с. 463)
PC. 1907. 6 окт. № 229. Подпись: В. В.
Выборы в III Государственную думу проходили осенью 1907 г. Новым избира-
тельным законом (от 3 июня 1907 г.) были созданы заметные преимущества правым
движениям. В 2 — 3 раза было сокращено представительство от окраин государства;
курия землевладельцев избирала 50,5 % выборщиков (вместо 31 % на предыдущих
выборах), крестьянская курия — 22,5 % (вместо 42 %); городские избиратели теперь
были разделены на две курии, причем большинство мест выборщиков было предос-
тавлено так называемой «цензовой» (т. е. обладающей капиталом) курии. Рабочая
курия сохранилась только в шести промышленных губерниях.
О чем говорят выборы (с. 464)
НВ. 1907. 16 окт. № 11349. Б. п.
...результаты выборов в Г. Думу совершенно иные... — Состав III Государ-
ственной думы оказался значительно более консервативным, чем в I и II Думе.
Фракции «правых», «умеренно-правых» и «националистов» получили 147 мест;
«Союз 17 октября» и примыкавшие к нему — 154 места; левее октябристов:
«прогрессисты» — 28, кадеты — 54, социал-демократы — 20, поляки и литовцы —
18 и т. д. Главную роль в III Думе играли октябристы, от которых избирались и
председатели Думы.
На выборах в Петербурге (с. 466)
PC. 1907. 20 окт. № 241. Подпись: В. Варварин.
510
Частный и общий интерес в Г. Думе (с. 468)
НВ. 1907. 26 окт. № 11359. Б. п.
...есть вещи, над которыми хочется смеяться, если бы от них не приходилось
плакать... — ср.: М. Ю. Лермонтов. А. О. Смирновой (1840):
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...
Предупредительная роль третьей Думы (с. 471)
НВ. 1907. 2 нояб. № 11366. Б. п.
Среди «симптомов» (с. 473)
PC. 1907. 3 нояб. № 253. Подпись: В. Варварин.
Успокоение как система (с. 476)
НВ. 1907. 8 нояб. № 11372. Б. п.
Даже после ужасного 1 марта... — Имеется в виду убийство народовольцами
императора Александра II 1 марта 1881 г.
«Петрушка» в Думе (с. 478)
PC. 1907. 11 нояб. № 260. Подпись: В. Варварин.
Безгосударственная партия (с. 480)
НВ. 1907. 22 нояб. № 11386. Б. п.
...выходки г. Родичева в Г. Думе. — 17 ноября 1907 г., выступая в Думе о военно-
полевых судах и об усиливающихся правительственных ограничениях
демократических свобод, депутат Ф. И. Родичев (кадет) использовал выражение
«столыпинские галстуки», за что был исключен из состава Думы на 15 заседаний.
...словно сошли со страниц истории Луи Блана о французской революции... —
Имеются в виду «История французской революции 1789 г.» и «История революции
1848 г.» французского социалиста-утописта Луи Блана.
Возмутительное дело (с. 481)
НВ. 1907. 11 дек. № 11405.
Это какой-то Лурд справедливости... — Здесь: театр, действо, основанное на
обмане, на подмене понятий. О Лурде см. коммент, к статье «Старо»-католики и
просто католики (наст. изд. С. 499).
День Рождества Христова (с. 486)
НВ. 1907. 25 дек. № 11419. Б. п.
«Слава в Вышних Богу...» — Лк. 2, 14. Стих неоднократно повторяется в литур-
гических песнопениях.
В. Н. Дядичев
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абелляр (Абеляр) Пьер (1079—1142), француз-
ский теолог, философ, поэт — 57
Аввакум (1620/1621—1682), протопоп, писа-
тель, глава старообрядчества—129,179,180
Августин Аврелий (354—430), христианский
церковный деятель, теолог, философ,
писатель — 156, 450
Авелан Федор Карлович (1839—1916), адми-
рал, временно управлял морским мини-
стерством — 262, 263
Азов (наст, имя и фам. Владимир Александ-
рович Ашкинази) (1873 — не ранее
1941), журналист, фельетонист, перевод-
чик — 133, 134
Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), пуб-
лицист, издатель, общественный деятель
— 17,34, 197,310,313,348,363,387,477
Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860),
публицист, историк, лингвист, поэт —
17, 34, 348, 472, 477
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859),
писатель — 362, 363, 366
Аладьин Алексей Федорович (1873—1927),
публицист, депутат I Государственной
думы от крестьянской курии (трудовик)
— 82, 88, 89, 92, 93, 96, 104, 107—109,
132,314, 328, 357, 437, 461,470
Александр I (1777—1825), российский импе-
ратор (с 1801) — 194, 242, 268, 392
Александр //(1818—1881), российский импе-
ратор (с 1855) — 60, 80, 242, 266, 437
Александр III (1845—1894), российский им-
ператор^ 1881) —60,185,242,357,378,
392, 402
Александр Невский (1220/1221—1263), князь
Новгородский (1236—1251), великий
князь Владимирский (с 1252), полково-
дец — 256, 276
Алексеев Михаил Васильевич (1857—1918),
генерал от инфантерии, участник русско-
японской войны — 36, 77, 262, 263
Алексей 1 Комнин (ок. 1048—1118), византий-
ский император (с 1081) — 216, 252
Алексей Михайлович (1629—1676), русский
царь (с 1645) — 179
Алексий, митрополит русской православной
церкви (90-е гг. XIII в. — 1378) — 175
Алексий (Алексей Васильевич Молчанов)
(1853—?), епископ Таврический — 46
Алексинский Григорий Алексеевич (1879—
1967), депутат II Государственной думы
(большевистское крыло социал-демокра-
тической фракции) — 309, 313,314, 326,
328, 340, 357, 429, 432, 437, 461, 472
512
Амвросий Оптинский (Александр Михайло-
вич Гренков) (1812—1891), иеросхимо-
нах, старец Оптиной пустыни, духовный
писатель — 138
Андреевский Иван Ефимович (1831—1891),
юрист — 485
Аникин Степан Васильевич (1868—1919), де-
путат I Государственной думы (трудо-
вик) — 82, 92, 96, 132, 152
Анна Иоанновна (Анна Ивановна)’(1693—
1740), российская императрица (с 1730),
племянница Петра I — 111
Антоний (Александр Васильевич Вадковс-
кий) (1846—1912), митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский (с 1898) —
136, 183,245, 288,412,413
Антоний (Алексей Павлович Храповицкий)
(1863—1936), епископ и архиепископ
Волынский и Житомирский (1902—
1906) —44, 91, 172, 174, 183,211,245,
256, 365
Антоний Печерский (983—1073), основатель
Киево-Печерского монастыря (1051),
один из родоначальников русского мона-
шества — 258
Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834),
политический и военный деятель,
пользовался большим влиянием при
Александре I — 70, 141
Арий (256—336), александрийский пресвитер
— 179
Аркадий (377—408) император Восточной
Римской империи (с 395) — 138
Архимед (ок. 287—212 до н. э.), древнегречес-
кий ученый — 318,319, 323
Архипов Александр Викторович (1875—?),
священник, депутат II Государственной
думы — 412
Афанасьев Клавдий Иванович (1875—?), свя-
щенник, депутат I Государственной
думы — 173
Багратион Петр Иванович (1765—1812), ге-
нерал от инфантерии, главнокомандую-
щий армией в Отечественную войну
1812 — 51,389
Барсуков Николай Платонович (1838—1906),
историк и археограф — 362
Батый (1208— 1255), монгольский хан — 286,
291
Башкирцева Мария Константиновна (1860—
1884), художница, автор «Дневника» — 58
Беллюстин Иван Степанович (ок. 1820—
1890), священник, публицист — 78, 79
Бенкендорф Александр Христофорович
(1781/1783—1844), шеф корпуса жан-
дармов и начальник III отделения — 182,
183,222
Бердников Илья Степанович (1841—?), про-
фессор, богослов, занимался проблемами
церковного (канонического) права — 211
Берта (VI в.), франкская принцесса, жена
англосаксонского (Кентского) короля
Этельберта — 57
Бертенсон Лев Бернгардович (1850—1925),
врач, курортолог — 360
Бехтерев Владимир Михайлович (1857—
1927), невролог, психиатр, психолог —
360
Бирилев Алексей Алексеевич (1844—1915),
член Государственного совета — 174
Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815—1898),
первый рейхсканцлер Германской импе-
рии — 123
Блан Луи (1811—1882), французский социа-
лист — 480
Бобринский Владимир Алексеевич (1867—
1927), земский деятель, депутат II—IV
Государственных дум — 333, 334, 474
Болотов Василий Васильевич (1853—1900),
церковный историк — 367
Боссюэт (Боссюэ) Жак Бенинь (1627—1704),
французский церковный деятель, теолог,
писатель — 126, 436
Бредихин Федор Александрович (1831 —
1904), астроном — 218
Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944),
экономист и философ, депутат II Госу-
дарственной думы — 429, 430, 454, 455
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859),
писатель, журналист — 222, 316
Буслаев Федор Иванович (1818—1897), язы-
ковед, фольклорист, литературовед, ис-
торик искусства — 218
Буткевич Тимофей Иванович (1854—?), про-
тоиерей, профессор богословия, член
Государственного совета — 360
Бюхнер Людвиг (1824—1899), немецкий врач,
естествоиспытатель, философ — 181,
204,313,404
Василий Великий (ок. 330—379), христианс-
кий церковный деятель, богослов — 257,
323,371
Ведекинд Франк (1864—1918), немецкий пи-
сатель — 457, 459
Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941), гер-
манский император и прусский король
(1888—1918) — 150, 334, 343
Винавер Максим Моисеевич (1863—1926),
юрист, один из основателей и теорети-
513
ков партии кадетов, депутат I Государ-
ственной думы — 282,300,328,436,461
Витошинский К., религиозный публицист —
144
Витте Сергей Юльевич (1849—1915), пред-
седатель Совета министров (1905—
1906) — 54, 95, 174, 358, 359, 395
Владимир I Святой (ум. 1015), князь Новго-
родский (с 969/970), великий князь Ки-
евский (с 980), ввел как государственную
религию христианство (988—989) —
157, 195,217, 242
Вольтер (наст, имя и фам. Франсуа Мари
Аруэ) (1694—1778), французский писа-
тель и философ — 316, 404, 450
Восторгов Иоанн Иоаннович (1864—1918),
протоиерей, проповедник-миссионер —
288
Вышнеградский Иван Алексеевич (1831/
1832—1895), ученый, министр финансов
(1888—1892) — 359
Гагарин Андрей Григорьевич (1855—1921),
ученый и инженер, директор Политех-
нического института в Петербурге — 317
Гален (ок. 130 — ок. 200), римский врач и ес-
тествоиспытатель — 360
Галилей Галилео (1564—1642), итальянский
естествоиспытатель — 90, 257
Гейден Петр Александрович (1840—1907),
один из лидеров партии октябристов, де-
путат I Государственной думы — 100,342
Герберштейн Зигмунд фон (1486—1566), не-
мецкий дипломат — 390
Герцен Александр Иванович (1812—1870),
писатель, публицист, философ, обще-
ственный деятель — 150
Герье Владимир Иванович (1837—1919), ис-
торик — 154, 169, 461
Гессен Владимир Матвеевич (1868—1920),
юрист, публицист, член ЦК партии ка-
детов, депутат II Государственной думы
— 329, 430, 436
Гессен Иосиф Владимирович (1865, по др.
данным 1866—1943), юрист, публицист,
один из основателей и лидеров партии
кадетов, депутат II Государственной
думы, редактор газеты «Речь» — 316,
329, 428—430, 436, 461
Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824—
1887), философ, историк религии, публи-
цист, издатель — 78, 197
Гиппократ (ок. 460 — ок. 370 до н. э.), древ-
негреческий врач — 360
Глубоковский Николай Никанорович (1863—
1937), богослов, историк религии — 211,
360, 442
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852),
писатель — 31,51,93,126,134,154, 165,
219, 302, 402, 428, 479
Голицын Александр Николаевич (1773—
1844), обер-прокурор Синода (1810—
1817) —268, 269
Головин Федор Александрович (1867, по др.
данным 1868—1937), член ЦК партии
кадетов, председатель II Государствен-
ной думы — 332, 388, 390, 391, 398
Гонсевский Александр-Корвин (ум. ок. 1645),
польский военный и политический дея-
тель — 33
Горемыкин Иван Логгинович (1839—1917),
председатель Совета министров (апрель
— июль 1906, 1914—1916)— 107, 108,
121, 122, 193, 328, 331,335, 337, 464
Горский Александр Васильевич (1814—1875),
филолог, историк, ректор Московской духов-
ной академии — 456
Горчаков Михаил Иванович (1838—1910),
протоиерей, профессор церковного пра-
ва, член Государственного совета — 360
Горький Максим (наст, имя и фам. Алексей
Максимович Пешков) (1868—1936), пи-
сатель— 85, 152, 153, 436
Гракхи, братья: Тиберий (162—133 до н. э.) и
Гай (153—121 до н. э.), римские народ-
ные трибуны — 104
Грановский Тимофей Николаевич (1813—
1855), историк, общественный деятель
— 392
Греч Николай Иванович (1787—1867), писа-
тель, публицист, филолог — 316
Грибоедов Александр Сергеевич (1790/1795—
1829), писатель и дипломат — 150, 348
Григорий VII Гильдебранд (между 1015 и
1020—1085), папа римский (с 1073) — 165
Григорий Богослов (Григорий Назианзин) (ок.
330 — ок. 390), христианский церковный
деятель, богослов, философ, поэт, епис-
коп г. Назианз (Малая Азия) — 371
Грингмут Владимир Андреевич (1851 —
1907), публицист, педагог, редактор-из-
датель газеты «Московские ведомости»
(с 1896) — 103, 217, 218, 220, 334, 343,
403, 405
Гриневич Антон Иустинович (1875—?), свя-
щенник, депутат II Государственной
думы — 412
Гурко Иосиф Владимирович (1828—1901),
генерал-фельдмаршал — 193
Гурко Владимир Иосифович (1862—1927),
товарищ министра внутренних дел, член
Государственного совета — 315
Гус Ян (1371—1415), чешский религиозный
реформатор — 165, 179, 211, 212
514
Гучков Александр Иванович (1862—1936),
лидер октябристов, предприниматель,
председатель III Государственной думы
— 155,156, 166
Гюисманс Шарль Мари Жорж (1848—1907),
французский писатель — 368
Даль Владимир Иванович (1801—1872), пи-
сатель, лексиограф, этнолог — 405
Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885),
социолог, философ, публицист—348,401
Данте Алигьери (1265—1321), итальянский
поэт —31, 126, 278
Дантон Жорж Жак (1759—1794), деятель
Французской революции, один из руко-
водителей якобинцев — 108, 437
Дарвин Чарлз Роберт (1809—1882), английс-
кий естествоиспытатель — 181,204, 319
Дедюлин Владимир Александрович (1858—
1913), генерал-адъютант, петербургский
градоначальник (с 1905) — 174
Декарт Рене (1596—1650), французский фи-
лософ и естествоиспытатель — 57
Делянов Иван Давыдович (1818—1897), ми-
нистр просвещения (с 1882) — 169, 318
Денисовы, братья: Андрей (1664—1730) и
Семен (1682—1747), деятели старооб-
рядчества — 123
Де-Пуле Михаил Федорович (1822—1885),
писатель и публицист — 224
Державин Гавриил Романович (1743—1816),
поэт — 222
Джапаридзе Сергей Давыдович (1870—?),
присяжный поверенный, депутат I Госу-
дарственной думы — 292
Джером Джером Клапка (1859—1927), анг-
лийский писатель — 302, 303
Дидеро (Дидро) Дени (1713—1784), французс-
кий философ и писатель — 57
Диккенс Чарлз (1812—1870), английский пи-
сатель — 324
Диоген Синопский (ок. 400 — ок. 325 до н. э.),
древнегреческий философ-киник — 80
Дмитриев Иван Иванович (1760— 1837), поэт,
государственный деятель — 115
Дмитрий (Михаил Георгиевич Ковальниц-
кий) (1839—1913), епископ Херсонский
и Одесский — 78, 183
Дмитрий Шемяка (1420—1453), великий князь
Московский (1446—1447) — 484, 485
Добровольский Константин Эрастович
(1867—?), врач-гигиенист — 310
Долбня Иван Петрович (1853—1912), матема-
тик, писатель — 311,312
Достоевский Федор Михайлович (1821 —
1881), писатель и мыслитель — 14,92,99,
150, 154, 162, 173, 365, 400,405, 428, 452
Дубровин Александр Иванович (1855—1921),
врач, один из организаторов «Союза рус-
ского народа» — 196, 288
Дурново Иван Николаевич (1834—1903), ми-
нистр внутренних дел (1889—1895) —
421
Дурново Петр Николаевич (1842, по др. дан-
ным 1845—1915), министр внутренних
дел (1905—1906)— 154, 174
Дьяконова Елизавета Александровна (1874—
1902), автор «Дневника», публицистка,
погибла в горах Тироля — 58
Дюма Александр (Дюма-отец) (1802—1870),
французский писатель — 114
Евлогий (1868—?), епископ, депутат II и III
Государственных дум — 334
Екатерина II (1729—1796), российская им-
ператрица (с 1762) — 34,57,61,175,392,
437
Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—
1933), писатель и публицист — 428
Ерогин Михаил Михайлович (1862—?), депу-
тат I Государственной думы — 474
Желябов Андрей Иванович (1851—1881), ре-
волюционный народник, организатор
покушения на Александра II — 351
Жилкин Иван Васильевич (1874—1958), де-
путат I Государственной думы (трудо-
вик)—82—84, 132,368
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852),
поэт — 222
Жуковский Владислав Владиславович
(1860—?), депутат II и III Государствен-
ных дум — 357, 358
Закревский Арсений Андреевич (1783—1865).
генерал от инфантерии, московский гене-
рал-губернатор (1848—1859) — 392
Заозерский Николай Александрович (1851 —
1919), профессор церковного права Мос-
ковской духовной академии — 211
Зорин (Зарин) Сергей Михайлович (1875—
1941), богослов, участник Религиозно-
философских собраний — 367—371,
375,376
Зурабян (Зурабов) Аршак Герасимович
(1873—1919), депутат II Государствен-
ной думы — 389—391, 394—399, 470
Иван I Калита (до 1296—1340), великий
князь Московский (с 1325), великий
князь Владимирский (1328—1331, с
1332) —39
Игнатьев Николай Павлович (1832—1908),
генерал от инфантерии, дипломат, ми-
нистр внутренних дел (1881—1882) —
67, 193
Извольский Петр Петрович (1863—1928),
обер-прокурор Синода (1906—1909) —
268, 269, 288
Изгоев (наст. фам. Ланде) Александр Соломо-
нович (1872— 1935), публицист, член ЦК
партии кадетов — 133
Иловайский Дмитрий Иванович (1832— 1920),
историк — 159, 330, 390
Иннокентий, епископ, член Синода — 412
Иоанн (Иван) IV Грозный (1530—1584), пер-
вый русский царь (с 1547) — 11,53,337,
432
Иоанн Дамаскин (ок. 675 — ок. 740), визан-
тийский богослов, философ, церковный
поэт — 258, 259
Иоанн Златоуст (между 344 и 354—407), ар-
хиепископ Константинопольский (397—
404), проповедник — 68, 127,128,257, 371
Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сер-
гиев) (1829—1908), православный про-
поведник, писатель, настоятель Андре-
евского собора в Кронштадте — 249
Иоанникий (Иван Максимович Руднев)
(1826—1900), митрополит Московский,
с 1891 — Киевский — 204
Иона, митрополит Московский и всея Руси
(1448—1461)— 175
Кальдерон де Ла Барка Педро (1600—1681),
испанский драматург — 126
Кант Иммануил (1724—1804), немецкий
философ — 456
Капнист Павел Алексеевич (1842—1904), по-
печитель Московского учебного округа
— 312
Капустин Михаил Николаевич (1828—1899),
попечитель Санкт-Петербургского учеб-
ного округа (с 1891) — 58
Капустин Михаил Яковлевич (1847—?), про-
фессор Казанского университета, депу-
тат II и III Государственных дум — 381,
382, 432
Кареев Николай Иванович (1850—1931), ис-
торик и социолог — 279, 281, 282, 360
КарлейльГом&с (1795—1881), английский
публицист, историк, философ — 286
Карно Лазар Никола (1753—1823), француз-
ский математик, политический и воен-
ный деятель — 437
Карташев Антон Владимирович (1875—
1960), историк церкви и общественный
деятель — 371
Касаткин-Ростовский Николай Федорович
(1848—1908), член Государственного со-
вета — 351
515
Катков Михаил Никифорович (1818—1887),
публицист, издатель, критик — 316, 378,
392, 405, 465, 477
Катошихин (Котошихин) Григорий Карпович
(ок. 1630—1667), подьячий Посольско-
го приказа, в 1664 бежал в Литву, затем
в Швецию — 390
Каутский Карл (1856—1938), один из лидеров
и теоретиков германской и международ-
ной социал-демократии — 24, 112, 150
Кауфман Александр Аркадьевич (1864—
1919), экономист и статистик — 381
Кедрин Евгений Иванович (1852—?), присяж-
ный поверенный, депутат I Государ-
ственной думы — 279, 281, 282
Келеповский Сергей Ипполитович (1873—?),
депутат II и III Государственных дум —
478, 479
Киреев Александр Алексеевич (1838—1910),
генерал от кавалерии, публицист — 164,
166
Киреевский Иван Васильевич (1806—1856),
философ, литературный критик, публи-
цист, общественный деятель — 451
Кирилл, архимандрит, ректор Киевской духов-
ной семинарии — 196
Кирилл Александрийский (ум. 444), христиан-
ский церковный деятель и теолог—376,377
Кчадо (псевд. Прибой) Николай Лаврентье-
вич (1862—1919), публицист, военно-
морской теоретик — 133
Клотильда (475—545), жена франкского ко-
роля Хлодвига I, которого она обратила
в христианина — 57
Ключевский Василий Осипович (1841—1911),
историк — 461
Княжнин Яков Борисович (1742/1740—1791),
драматург и поэт — 170
Ковалевский Максим Максимович (1851 —
1916), историк, юрист, социолог — 104,
277,316, 325
Колокольчиков Константин Александрович
(1871—?), священник, депутат II Госу-
дарственной думы — 412
Кокошкин Федор Федорович (1871—1918),
юрист, депутат I Государственной думы
— 325
Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842),
поэт— 106, 224
Кони Анатолий Федорович (1844—1927),
юрист — 485
Константин 1 Великий (ок. 285—337), римс-
кий император (с 306)— 179—181,487
Конфуций (Кун-цзы) (ок. 551—479 до н. э.),
древнекитайский мыслитель, основатель
этико-политического религиозного тече-
ния — конфуцианства — 370, 371
516
Коперник Николай (1473—1543), польский
астроном — 90
Корнель Пьер (1606—1684), французский дра-
матург — 436
Короленко Владимир Галактионович (1853—
1921), писатель, публицист, обществен-
ный деятель —106
Крупенский Павел Николаевич (1863 — пос-
ле 1927), землевладелец, депутат II—IV
Государственных дум — 334
Крушеван Павел Александрович (1860—
1909), редактор-издатель, депутат II Го-
сударственной думы — 217,334,413,470
Куропаткин Алексей Николаевич (1848—
1925), генерал от инфантерии, военный
министр (1898—1904) — 77, 262, 263
Кутлер Николай Николаевич (1859—1924),
политический деятель, юрист, предпри-
ниматель, депутат II и III Государствен-
ных дум — 381, 409, 410
Кутузов Михаил Илларионович (1745—
1813), полководец, генерал-фельдмар-
шал, главнокомандующий русской арми-
ей, разгромившей армию Наполеона — 51
Кюнер Рафаэль (1802—1878), немецкий фи-
лолог и педагог, автор учебников гречес-
кого и латинского языков — 389
Лаборд Жан Батист, французский физиолог и
психиатр — 379
Лазаревы (Лазарян), дворянский род, ос-
нователь — Лазарь Назарович Лазарян,
переселившийся в 1747 из Ирана в Рос-
сию — 389
Лебедев Алексей Петрович (1845—1908), ис-
торик церкви— 179—181, 183
Лев XIII (Джоаккино Печчи) (1810—1903),
папа римский (с 1878) — 164, 434
Лев VI Мудрый (866—912), византийский им-
ператор (с 886) — 216, 252
Левицкая Елена Сергеевна (ум. 1915), дирек-
тор школы в Царском Селе, знакомая
Розанова — 440, 441
Леонтьев Константин Николаевич (1831—
1891), философ, писатель, публицист,
литературный критик — 197
Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874),
журналист, филолог, педагог — 316
Лепсиус Карл Рихард (1810—1884), немецкий
искусствовед и языковед — 319
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841),
поэт и прозаик — 112, 335, 391
Лжедимитрий I (ум. 1606), русский царь (с 1605),
предположительно Г. Отрепьев — 33
Лидваль Э. Л. — крупный спекулянт, постав-
щик продовольствия в голодающие рай-
оны, был связан с В. И. Гурко — 315,339
Лойола Игнатий (ок. 1491—1556), основатель
ордена иезуитов — 34
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765),
естествоиспытатель, поэт, художник,
историк, общественный деятель — 57,58
Лопухин Алексей Александрович (1864—
1927), директор департамента полиции
(1902—1905)— 174, 175
Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825—
1888), министр внутренних дел (1880—
1881) — 389
Любимов Николай Алексеевич (1830—1897),
историк и публицист, деятель народно-
го просвещения — 316
Людовик XIV (1638—1715), французский ко-
роль (с 1643) из династии Бурбонов —
297, 471
Людовик XV (1710—1774), французский ко-
роль (с 1715) из династии Бурбонов —
471
Людовик XVI (1754—1793), французский ко-
роль (1774—1792) из династии Бурбо-
нов, казнен — 471
Лютер Мартин (1483—1546), немецкий ре-
лигиозный реформатор — 51, 146, 179,
236, 440
Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1844),
член главного правления училищ и по-
печитель Казанского учебного округа —
141, 182, 183,316
Мазепа Иван Степанович (1644—1709), ук-
раинский гетман (1687—1708) — 255
Майков Аполлон Николаевич (1821—1897),
поэт — 210, 211
Макарий (Михаил Петрович Булгаков) (1816—
1882), богослов и церковный историк,
митрополит Московский и Коломенский
(с 1879) —452
Маккавеи, руководители восстания иудеев
против господства Селевкидов, создали
династию, правившую Иудеей с сер. II
до сер. I в. до н. э. — 313
Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957),
адвокат, один из лидеров партии кадетов,
депутат II—IV Государственных дум —
429—431
Маколей Томас Бабингтон (1800—1859), анг-
лийский историк — 286
Мануйлов Александр Аполлонович (1861 —
1929), экономист, проректор (с 1905),
ректор Московского университета
(1908—1911)— 168, 351
Маркс Карл (1818—1883), немецкий мысли-
тель, основоположник коммунистичес-
кой теории, названной его именем — 24,
112, 150, 161,204,251
Марлинский, псевд. (Бестужев-Марлинский),
Александр Александрович (1797—
1837), писатель и критик — 153
Матвей Ржевский (Матвей Александрович Кон-
стантиновский) (1791—1857), протоиерей
из Ржева, духовник Н. В. Гоголя — 165
Мелиссино Иван Иванович (1718—1795),
обер-прокурор Синода, был уволен в
1788 — 268
Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907),
химик, педагог, общественный деятель
— 57,218, 281
Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918),
публицист, сотрудник газеты «Новое
время» — 133
Мечников Илья Ильич (1845—1916), биолог
и патолог — 275
Мещерский Владимир Петрович (1839—
1914), писатель и публицист, основатель
и издатель газеты-журнала «Гражданин»
— 108, 262, 395
Милль Джон Стюарт (1806—1873), английс-
кий философ и экономист — 461
Милюков Павел Николаевич (1859—1943),
историк, публицист, лидер партии каде-
тов — 134, 264, 282, 315, 316, 329, 405,
429, 430, 435—437, 463, 475
Минин (Захарьев-Сухорук) Кузьма Минич
(ум. 1616), нижегородский посадский,
один из руководителей борьбы против
интервентов — 112, 158, 217, 405
Миних Бурхард Кристоф (Христофор Анто-
нович) (1683— 1767), генерал-фельдмар-
шал — 111
Мирабо Оноре Габриель Рикети (1749—1791),
деятель Французской революции, депу-
тат Генеральных штатов — 108,130,437
Митрофан (Михаил) (1623—1703), епископ
Воронежский — 224
Михайличенко Митрофан Иванович (1871—?),
депутат I Государственной думы — 132
Мицкевич Адам (1798—1855), польский поэт,
деятель национально-освободительного
движения — 223, 297
Молешотт Якоб (1822—1893), немецкий
физиолог и философ — 313
Мопассан Ги де (1850—1893), французский
писатель — 391
Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910),
юрист, один из лидеров партии кадетов,
председатель I Государственной думы —
107, 108, 123, 264
Мушенко Иван Наумович (1871—?), депутат
II Государственной думы — 406
Мышцын Василий Никанорович (1866—?),
профессор Московской духовной акаде-
мии — 79
517
Набоков Владимир Дмитриевич (1869—1922),
один из лидеров партии кадетов, депутат
I Государственной думы, погиб при по-
кушении на П. Н. Милюкова — 107, 108,
310,311,331,436
Надсон Семен Яковлевич (1862—1887), поэт
— 391
Наливайко Северин (ум. 1597), руководитель
крестьянско-казацкого восстания
(1594—1596) —97
Наполеон I (Наполеон Бонапарт) (1769—
1821), французский император (1804—
1814, март— июнь 1815) — 89,209,210,
263, 388, 437
Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт)
(1808—1873), французский император
(1852—1870) —263
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877/
1878), поэт — 103, 106, 390, 391
Немирович-Данченко Василий Иванович
(1848/1849—1936), писатель — 415, 416
Несмелое Виктор Иванович (1863—1937), ре-
лигиозный мыслитель — 440
Нестор (XI — нач. XII в.), монах Киево-Пе-
черского монастыря, летописец — 137
Никанор (Александр Иванович Бровкович)
(1827—1890/1891), архиепископ Хер-
сонский и Одесский, богослов, религи-
озный писатель — 203, 204
Никитин Иван Саввич (1824—1861), поэт —
224
Николай I (1796—1855), российский импера-
тор (с 1825) — 111, 129, 472
Николай II (1868—1918), российский импе-
ратор (1894—1917) —65
Николай Чудотворец (Николай Мирликийс-
кий), епископ г. Миры в Ликии (Малая
Азия), облик которого в значительной
степени мифологизирован, считается,
что он жил в 260—343 гг. — 252
Никольский Николай Константинович (1863—?),
историк литературы и историк церкви —
440
Никон (Никита Минов) (1605—1681), патри-
арх Московский и всея Руси (1652—
1666) —25, 46,375
Нина (276—310), распространительница хри-
стианства в Грузии — 102, 157—159
Ницше Фридрих (1844—1900), немецкий фи-
лософ — 162, 374, 413
Новоселов Михаил Александрович (1864—
1938), религиозный мыслитель, публи-
цист, издатель — 371
Ньютон Исаак (1643—1727), английский ма-
тематик, астроном, физик — 116, 278
Оболенский Алексей Дмитриевич (1855—
1933), обер-прокурор Синода (1905) —
67
Озоль Иван Петрович (1878—1968), эконо-
мист, депутат II Государственной думы
— 333,437
Олеарий Адам (1600—1671), немецкий уче-
ный и дипломат — 390
Ольга (ум. 969), княгиня, жена киевского кня-
зя Игоря, ок. 957 приняла христианство
— 158,159
Онипко Федот Михайлович (1880—1938), ак-
тивный участник революции 1905—1907,
вел революционную агитацию среди
матросов (1906) — 478
Опочинин Николай Николаевич (1853—?), де-
путат II—IV Государственных дум — 406
Оржешко (Ожешко) Элиза (1841 —1910),
польская писательница— 146
Ориген (ок. 185—253/254), христианский те-
олог, философ, филолог — 367
Островский Александр Николаевич (1823—
1886), драматург — 359
Отрепьев Григорий Богданович, беглый дья-
кон Чудова монастыря, который будто бы
выдавал себя за царевича Дмитрия, сына
Ивана IV Грозного — 255
Отт Дмитрий Оскарович (1855—1929), врач
акушер-гинеколог, создатель научной
школы — 360
Оуэн Роберт (1771—1858), английский мыс-
литель, сторонник социалистического
переустройства общества — 70
Павел /(1754—1801), российский император
(с 1796) —34
Павский Герасим Петрович (1787—1863),
протоиерей, филолог, востоковед, рели-
гиозный писатель — 266
Паисий Лигарид (1609—1678), миссионер, за-
тем митрополит Газы Иерусалимской,
способствовал низложению патриарха
Никона— 128
Парацельс (наст, имя и фам. Филипп Ауреол
Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм)
(1493—1541), врач и естествоиспытатель
— 247
Паскаль Блез (1623—1662), французский ма-
тематик, физик, философ, писатель — 437
Пергамент Осип (Иосиф) Яковлевич (1868—
1909), адвокат, депутат II и III Государ-
ственных дум — 430
Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827),
швейцарский педагог — 443
Петр I Великий (1672—1725), российский
царь (с 1682, правил с 1689), первый рос-
сийский император (с 1721)— 14, 17,92,
518
97, 191, 192, 194, 204, 242, 244, 296,310,
331,437
Петр III (1728—1762), российский импера-
тор (с 1761)— ПО
Петр (ум. 1326), митрополит всея Руси
(с 1308) — 175
Петр, епископ Алавердский в Грузии — 159
Петражицкий Лев Иосифович (1867—1931),
юрист, представитель психологической шко-
лы права—101, 107, 279,282,316,485
Петров Григорий Спиридонович (1868—
1925), священник, публицист, депутат
II Государственной думы, в 1908 был ли-
шен сана — 146, 245, 256—259, 277—
279, 287—290, 292—296, 345—347, 369,
412, 414, 415, 417—420, 484
Петрункевич Иван Ильич (1844—1928), зем-
ский деятель, один из основателей
партии кадетов, депутат I Государствен-
ной думы — 55, 108
Пий IX (Джованни Мария Мастаи-Ферретти)
(1792—1878), папа римский (с 1846) —
164
Пий X (Джузеппе Сарто) (1835—1914), папа
римский (с 1903) — 164
Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868),
публицист и литературный критик — 76,
313,389
Писарев Леонид Иванович, профессор Казан-
ской духовной академии, религиозный
писатель — 321
Питт Уильям Младший (1759—1806), пре-
мьер-министр Великобритании (1783—
1801, 1804—1806) —468
Платон (428/427—348/347 до н. э.), древне-
греческий философ — 232, 371, 376, 377
Платон (1866—?), епископ Чигиринский,
ректор Киевской духовной академии,
депутат II Государственной думы — 334
Плеве Вячеслав Константинович (1846—
1904), министр внутренних дел и шеф
корпуса жандармов (с 1902) — 100, 108,
220, 359, 395,420
Плотин (ок. 203/205—269/270), древнегречес-
кий философ — 376
Победоносцев Константин Петрович (1827—
1907), юрист, обер-прокурор Синода
(1880—1905)— 16, 67,68, 193, 194,202,
203,259,268,269,325,326,378,392,443,
452
Погодин Михаил Петрович (1800—1875), ис-
торик и писатель — 78, 362
Пожарский Дмитрий Михайлович (1578—
1642), один из руководителей борьбы
против интервентов — 405
Помяловский Николай Герасимович (1835—
1863), писатель — 349
519
Порфирий (ок. 233 — ок. 304), древнегречес-
кий философ-неоплатоник — 376
Порфирий Успенский (1804—1885), церков-
ный деятель, археолог — 203, 204
Поссевин Антоний (1534—1611), папский
(апостольский) викарий — 33
Поярков Алексей Владимирович (1868—?),
священник, депутат I Государственной
думы— 173
Преображенский Иван Васильевич (1854—?),
религиозный публицист, магистр бого-
словия, начальник отдела канцелярии
Синода — 16
Протасов Николай Александрович (1799—
1855), обер-прокурор Синода (с 1836) —
186, 204
Пугачев Емельян Иванович (1740/1742—
1775), донской казак, предводитель кре-
стьянского восстания 1773—1775, каз-
нен — 76, НО, 152,436
Пуришкевич Владимир Митрофанович
(1870—1920), один из лидеров «Союза
русского народа», депутат II—IV Госу-
дарственных дум — 334, 335, 343, 397,
413,470, 474
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837),
поэт и прозаик — 182,222,223,236,266,
297, 314, 390, 391,401, 405, 422, 428
Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671),
донской казак, предводитель казацко-
крестьянского восстания 1670—1671,
казнен — 76, 95, 110, 152, 286, 436
Рамишвили Исидор Иванович (1859—?), учи-
тель, депутат I Государственной думы —
101, 102, 292, 461,470, 479
Расин Жан (1639—1699), французский дра-
матург, поэт — 436
Рачинский Сергей Александрович (1833—
1902), ученый-ботаник, деятель народ-
ного образования, организатор сельских
школ — 119, 452
Редигер Александр Федорович (1853—1920),
член Государственного совета — 174
Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892), француз-
ский филолог, историк, писатель — 404
Рише Шарль (1850—1935), французский фи-
зиолог — 131
Родичев Федор Измайлович (1853, по др. дан-
ным 1854—1933), один из создателей
партии кадетов, депутат I—IV Государ-
ственных дум — 55, 108, 166, 279, 331,
419, 480
Рождественский (Рожественский) Зино-
вий Петрович (1848—1909), вице-ад-
мирал, участник русско-японской вой-
ны — 290
Ponn (Poon) Эдуард Юльевич (1851—1939),
епископ Виленский (с 1903), депутат
I Государственной думы — 144, 145
Рунич Дмитрий Павлович (1778—1860), по-
печитель Санкт-Петербургского учебно-
го округа (с 1821) — 141, 182, 183, 316
Руссо Жан Жак (1712—1778), французский
писатель и философ — 404
Рюрик (ум. ок. 879), согласно летописному
преданию, предводитель варяжских дру-
жин, обосновавшихся в Новгороде, осно-
ватель династии Рюриковичей—177,179
Саблер Владимир Карлович (1847, по др. дан-
ным 1845—1929), религиозный публи-
цист, обер-прокурор Синода (1911 —
1915) —69
Сабуров Андрей Александрович (1837/1838—
1916), статс-секретарь, член Государ-
ственного совета — 350, 351
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (наст,
фам. Салтыков, псевд. Н. Щедрин)
(1826—1889), писатель и публицист —
134, 158, 163,310, 348, 359, 481
Самарин Федор Дмитриевич (1858—1916),
религиозный писатель, общественно-по-
литический и церковный деятель — 351
Самарин Юрий Федорович (1819—1876),
философ, историк, публицист, обще-
ственный деятель — 17, 34, 97, 99, 348,
373
Светлов Павел Я ковлевич (1861—1941), про-
тоиерей, богослов, религиозный писа-
тель — 438, 440
Седельников Тимофей Иванович (1871 —
1930), землемер, публицист, депутат I Го-
сударственной думы — 93, 94, 132, 292
Сен-Жюст Луи (1767—1794), французский
политический и военный деятель, сто-
ронник М. Робеспьера — 108
Серафим Саровский (Прохор Сидорович
(Исидорович) Мошнин) (1754, по др.
данным 1759—1833), православный под-
вижник — 138, 221,484
Сергеевич Василий Иванович (1832—1910),
юрист — 485
Сергий (Иван Николаевич Страгородский)
(1867—1944), ректор Петербургской ду-
ховной академии (нач. 900-х), патриарх
Московский и всея Руси (с 1943) — 367
Сергий Радонежский (Варфоломей Кирилло-
вич) (1314/1321—1392), православный
подвижник, основатель и игумен Трои-
це-Сергиева монастыря — 95, 175, 258
Синадино Пантелеймон Викторович (1875—
?), депутат II—IV Государственных дум
— 474
Синеус, брат Рюрика, правивший, согласно
преданию, в Белоозере — 177
Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853—1902),
министр внутренних дел (с 1900)— 199,
359
Скарятин Николай Яковлевич (1821—1894),
курский губернский предводитель дво-
рянства, казанский губернатор (1867—
1880) —392
Скотт Вальтер (1771 —1832), английский
писатель — 324
Смит Адам (1723—1790), английский эконо-
мист и философ — 125
Собеский Ян (1629—1696), король Речи По-
сполитой (с 1674), полководец — 358
Соколов Дмитрий Павлович, религиозный
публицист — 159, 462
Сократ (ок. 470—399 до н. э.), древнегречес-
кий философ — 232, 370
Соллертинский Иван Иванович (1851—?), ад-
министративный деятель — 300
Соловьев Александр Константинович (1846—
1879), народник, совершил покушение
на Александра II (1879) — 478
Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900),
философ, поэт, публицист — 28, 44, 90,
99, 189, 425
Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879),
историк — 181, 244
Сопоцко Михаил, паломник по святым мес-
там, автор нравственно-назидательных
сочинений — 44
Софокл (ок. 496—406 до н. э.), древнегречес-
кий драматург — 137
Спенсер Герберт (1820—1903), английский
философ и социолог — 286, 319
Сперанский Михаил Михайлович (1772, по др.
данным 1771 — 1839), ближайший совет-
ник Александра I (1808—1812), генерал-
губернатор Сибири (1819—1821), руко-
водил работой по законодательству
(с 1826) —392
Способный Иван Васильевич (1864—?), при-
сяжный поверенный, депутат I Государ-
ственной думы — 101
Станевич, профессор Политехнического ин-
ститута в Петербурге — 317
Станкевич Николай Владимирович (1813—
1840), философ, поэт, общественный
деятель — 58, 317
Стахович Михаил Александрович (1861 —
1923), общественный деятель, депутат
I и II Государственных дум, публицист —
100, 101, 107, 108, 166, 342
Степняк-Кравчинский (наст. фам. Кравчинс-
кий) Сергей Михайлович (1851—1895),
народник, писатель — 76
520
Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911),
председатель Совета министров (с 1906),
проводил разработанную им аграрную
реформу — 112, 140, 329—332, 335, 336,
408—410,412, 426, 464
Стоюнина (урожд. Тимхменева) Мария Ни-
колаевна (1846—1940), деятельница на-
родного просвещения — 206, 207
Струве Петр Бернгардович (1870—1944), эко-
номист, философ, историк, публицист,
один из лидеров партии кадетов — 69,
310, 429, 430
Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912),
журналист и издатель, с 1876 выпускал
газету «Новое время», в которой сотруд-
ничал Розанов — 133
Суворов Николай Семенович (1848—?), автор
книг по церковному (каноническому)
праву — 211
Сумароков Александр Петрович (1717—
1777), писатель — 170
Сусанин Иван Осипович (ум. 1613), костром-
ской крестьянин, заведший интервентов
в непроходимые болота — 221, 405
Сухово-Кобылин Александр Васильевич
(1817—1903), драматург — 39
Таганцев Николай Степанович (1843—1923),
юрист — 485
Тернавцев Валентин Александрович (1866—
1940), религиозный писатель, богослов
— 371
Тецелъ Иоганн (ок. 1455—1519), немецкий
доминиканский монах, торговавший ин-
дульгенциями — 128
Тигран II Великий (95—56 до н. э.), царь Ве-
ликой Армении — 102
Тихвинский Федор Васильевич (1861 —?), свя-
щенник, депутат II Государственной
думы — 412
Тихон Задонский (Тимофей Савельевич Соко-
лов) (1724—1783), епископ, православ-
ный подвижник, богослов — 224, 444
Тихонравов Николай Саввич (1832—1893),
литературовед и археограф — 218
Толстой Алексей Константинович (1817—
1875), писатель — 364, 366, 466
Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889),
обер-прокурор Синода (1864—1889), ми-
нистр народного просвещения (1865—
1880) —80,318, 351,378, 446
Толстой Лев Николаевич (1828—1910), пи-
сатель и мыслитель — 31,65, 85, 89, 99,
146, 162—164, 190, 260, 324, 330, 391,
428, 452
Торквемада Томас (ок. 1420—1498), глава ис-
панской инквизиции — 34
Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920),
философ, правовед, общественный дея-
тель— 155, 156, 166,313, 351,435
Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905),
философ, публицист, общественный де-
ятель — 76, 168
Трувор, брат Рюрика, правивший, согласно
преданию, в Изборске — 177
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883), писа-
тель—40, 106, 134,401
Тютчев Федор Иванович (1803—1873), поэт,
публицист, дипломат — 31, 99, 457
Урусов Сергей Дмитриевич (1862—?), быв-
ший товарищ министра внутренних дел,
депутат I Государственной думы — 97
Успенский Глеб Иванович (1843—1902), пи-
сатель — 106, 134
Фенеюн Франсуа (1651—1715), французский
писатель — 436
Феодора (ум. 548), византийская императри-
ца (с 527), жена императора Юстиниана I
— 137
Феодосий I Вечикий (ок. 346—395), римский
император (с 379) — 138
Феодосий Печерский (ок. 1036—1074), игумен
Киево-Печерского монастыря (с 1062) —
258,276
Феофан (Василий Быстров) (1873—1943),
архимандрит, инспектор, затем ректор
Петербургской духовной академии,
епископ Ямбургский (1908—1910) —
367—372, 374—377
Феофан Затворник (Георгий Васильевич Го-
воров) (1815—1894), религиозный писа-
тель, епископ Тамбовский (с 1859), Суз-
дальский и Владимирский (с 1863), с
1872 — отшельник — 368, 371
Феофан Прокопович (1681 —1736), полити-
ческий и церковный деятель, богослов,
религиозный писатель— 192
Филарет (Василий Михайлович Дроздов)
(1783, по др. данным 1782—1867), мит-
рополит Московский (с 1826), богослов,
религиозный философ, проповедник —
186, 204, 259, 266, 321,456
Филевский Иоанн Иоаннович (1865—?), бо-
гослов, религиозный писатель, профес-
сор Харьковского университета — 143
Филипп /7(1527—1598), испанский король
(с 1556) из династии Габсбургов — 104
Филипп Эгалите Луи Филипп Жозеф (1747—
1793) — герцог Орлеанский, казнен —
156
Филон Александрийский (ок. 25 до н. э. — ок.
50 н. э.) — религиозный философ — 377
521
Флавиан, митрополит Киевский — 360, 374,
375
Флобер Гюстав (1821 —1880), французский
писатель — 368
Фотий (ок. 810/ ок. 820—890-е), патриарх
Константинопольский (858—867, 877—
886) —31
Фохт (Фогт) Карл (1817—1895), немецкий
философ и естествоиспытатель — 204
Фредерикс Владимир Борисович (Адольф Ан-
тон Владимир) (1838—1927), министр
императорского двора — 75
Фридрих II Великий (1712—1786), прусский
король (с 1740) из династии Гогенцол-
лернов, полководец — 389
Фурье Шарль (1772—1837), французский
мыслитель, сторонник социалистическо-
го переустройства общества — 70
Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807),
писатель — 170
Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайло-
вич (ок. 1595—1657), гетман Украины
(с 1648) — 97
Хомяков Алексей Степанович (1804—1860),
философ, писатель, публицист, обще-
ственный деятель — 17, 34, 99, 197,255,
313, 348, 373,451
Христина (Кристина) Августа (1626—1689),
шведская королева (1632—1654) из ди-
настии Ваза — 57
Хрусталев (наст. фам. Носарь) Георгий Сте-
панович (1877—1918), адвокат, в 1906
был осужден по делу о Петербургском
совете рабочих депутатов — 478
Цезарь Гай Юлий (102/100—44 до н. э.), рим-
ский диктатор и полководец — 104, 137
Церетели Ираклий Георгиевич (1881 —
1959), депутат II Государственной
думы, председатель ее социал-демокра-
тической фракции — 329, 331—333,
336, 337, 398
Чертков Михаил Иванович (1829—1905), ге-
нерал-адъютант, варшавский губернатор
(с 1901) — 193
Чичерин Борис Николаевич (1828—1904),
правовед, историк, философ, публицист
— 155
Шаховской Михаил Львович (1846—1912),
земский деятель, председатель «Русско-
го собрания» (1906—1912) — 473^75
Шекспир Уильям (1564—1616), английский
драматург и поэт — 31, 122
Шипов Дмитрий Николаевич (1851—?), зем-
ский деятель, член Государственного
совета — 108
Ширинский-Шихматов Алексей Александро-
вич (1862—1930), обер-прокурор Сино-
да (1906)—67, 68
Шмидт Петр Петрович (1867—1906), воен-
ный моряк, руководил восстанием в Се-
вастополе в 1905, расстрелян — 110
Шопенгауэр Артур (1788—1860), немецкий
философ — 374
Шувалов Иван Иванович (1727—1797), гене-
рал-адъютант, президент Академии ху-
дожеств, меценат — 57
Шувалов Павел Андреевич (1830—1908), ге-
нерал от инфантерии, варшавский губер-
натор (1894—1896) — 193
Щедрин — см. Салтыков-Щедрин М. Е.
Щепкин Евгений Николаевич (1860—1920),
историк, депутат I Государственной
думы — 166, 325
Щербак (Щербаков) Антон Петрович (1863—
1930), деятель революционного движе-
ния среди крестьян (1905—1906) — 478
Элоиза (1101 —1164), возлюбленная П. Абе-
ляра, с которым она была насильно раз-
лучена, умерла, будучи настоятельницей
монастыря, переписывалась с Абеляром
— 57
Энгельс Фридрих (1820—1895), немецкий те-
оретик и политический деятель, сорат-
ник К. Маркса — 24, 112
Эпиктет (ок. 50 — ок. 140), древнегреческий
философ-стоик — 80
Эсхил (ок. 525—456 до н. э.), древнегречес-
кий драматург — 137
Юзефович Борис Михайлович (1843—1911),
публицист — 217, 222
Якубсон Владимир Романович (1861—?), при-
сяжный поверенный, депутат I Государ-
ственной думы — 134, 166
Янышев Иоанн (Иван) Леонтьевич (1826—
1910), церковный деятель, богослов, ре-
лигиозный писатель, духовник импера-
торов Александра III и Николая II — 412
Ярослав Мудрый (ок. 978—1054), великий
князь Киевский (с 1019) — 102, 242
СОДЕРЖАНИЕ
От СОСТАВИТЕЛЯ................................................... 5
1906 г.
Общество и правительство......................................... 9
Состав русского поместного собора................................10
Чиновничество и политические партии..............................12
Безнадежное и безнадежные........................................14
Организация общественных сил.....................................18
Земство перед новыми задачами....................................19
Волокита с денежными выдачами вдовам убитых воинов...............21
К разгрому Владивостока..........................................22
Саморазвитие рабочих и ремесленников.............................23
Странствующее христианство.......................................25
О «немотивированных» арестах и высылках..........................32
Движение в русско-польском католицизме...........................33
Голос церкви.....................................................34
К вопросу о вознаграждении запасных..............................36
Национальное и юридическое значение указа о Думе.................37
Русские втягиваются в политическую жизнь.........................38
Бойкот...........................................................40
Закон о веротерпимости в его осуществлении.......................41
Ялтинская история................................................44
Духовенство на выборах...........................................46
Промышленные и торговые люди в будущем представительстве.........49
Значение столичных выборов.......................................51
Расслоения в партиях.............................................53
Что сделает Дума?................................................54
Женский университет в Москве.....................................57
«Усиленные оклады и пенсии» в основных законах...................59
Государственное участие в высшем женском образовании.............60
Работы в тюремном ведомстве......................................61
Государь и Государственная Дума..................................63
Государственная Дума.............................................66
Виды на будущее в «В. П. И.».....................................67
Жизненные трения в политике......................................69
Дармоеды или не дармоеды?........................................70
Пробужденный Левиафан............................................72
Наши церковные дела..............................................77
Корреспондирующие и некорреспондирующие..........................82
Евреи и неевреи..................................................84
Самообладание и распущенность....................................88
Начало папства в России..........................................90
Воскресшие покойники.............................................92
Темная Дума......................................................94
523
Хозяин страны.................................................... %
Нехристианский собор............................................. 97
Молчащие силы.................................................... 99
Поляки в Думе....................................................Ю1
Вчера и завтра...................................................192
Нравственная сторона экономических вопросов......................104
Несколько воспоминаний из недавнего прошлого.....................106
Преходящие величины..............................................НО
Люди нашего времени..............................................112
Надвигающаяся жакерия............................................113
Темные дни.......................................................Н5
В великом терпении...............................................116
Явочная система открытия частных учебных заведений...............118
Что же нам делать?...............................................120
Правильная конституционная работа................................121
Одно из выпавших оружий революции................................123
Славянство и «греческая церковь».................................126
Большая власть...................................................129
Левым рептилиям..................................................132
Церковь эстетическая и церковь совестливая.......................134
Политика и «мероприятия».........................................138
Гугеноты — «освободители»........................................141
Младокатолическое движение.......................................143
К правительственному сообщению...................................147
Обязательные выезды за границу...................................148
О «заявлениях» и заявителях......................................150
Русская карамазовщина............................................152
Остроумие среди крови............................................155
«Сии» и «оные»...................................................157
Возвращение к науке..............................................160
Нравственная смута как причина политической......................162
«Старо»-католики и просто католики...............................164
Думские перепевы в печати........................................166
Московские профессора и студенчество.............................167
О предметной системе экзаменов в высших учебных заведениях.......170
Христианская свобода и политическая свобода......................172
Судебная обструкция..............................................174
Новый закон о старообрядцах......................................175
Монашество и семья, церковь и нация..............................177
Судьба сельского священника......................................184
Программа церковных реформ.......................................188
Положение духовенства в государстве..............................191
Об административном выделении Холмщины...........................193
Среди людей «чисто русского направления».........................195
Выборные епископы в русской церкви...............................202
Вести из учебного мира...........................................205
Берегите Западную Русь...........................................209
«Автономный» духовный суд и наши маленькие дела..................210
524
Еще об «истинно русских» людях...................................217
Где и как основывать университеты................................222
Народное смущение................................................224
Больное общество.................................................230
Лукавые слова....................................................232
В предрождественскую ночь........................................234
В ночь перед Рождеством..........................................236
1907 г.
На Новый год.....................................................241
Архимандрит Михаил...............................................245
Осторожнее, поляки!..............................................249
Семья и церковь..................................................252
В темном и несчастном сословии (К «делу» свящ. Г. С. Петрова)....256
Влияние формы заключения брака на нравы..........................259
Русская государственность и общество.............................262
Внешние и внутренние отношения церкви............................264
Еще о внутреннем и внешнем положении церкви......................267
К законопроекту о разводе........................................270
Юридическая терминология.........................................276
Новые кандидаты от к.-д. в Госуд. Думу...........................277
Кого они выбирали???.............................................280
Виды на будущее в Г. Думе........................................283
Границы парламентаризма и партий.................................285
О «снятии сана» со священников...................................287
Советы «осторожности» в левом лагере.............................290
Проводили........................................................292
В первый день новой парламентской сессии.........................296
Слова Думы и дела Думы...........................................299
Всемирные дни России.............................................301
Встреча парламента...............................................303
Эс-деки и эс-эры в Г. Думе.......................................305
Представитель рабочих от Петербурга..............................309
Начинающие парламентаристы.......................................314
Отчего все это произошло?........................................317
Связь частной и народной нравственности..........................320
Рост и культура взаимного доверия................................325
Речи из «Речи»...................................................327
Живые штрихи.....................................................329
Богоумилительное «буль-буль-буль»................................344
Активное выступление Государственного Совета.....................347
Судьба первого запроса в Г Совете................................350
Разочарования и надежды..........................................352
Общественность как показатель политики...........................355
Испуг парламентариев.............................................357
Здоровье потомства как народно-государственная задача............360
Из монастырского затвора.........................................362
525
Где узел «возможного» или «невозможного» церковного обновления?..366
«Классовая борьба» в Г. Думе....................................378
Настоящее слово.................................................381
Безработная учебная республика..................................383
Крупное и мелкое обновление.....................................386
Армия и парламент...............................................388
Политические суеверия...........................................391
Перед возобновлением Думы.......................................394
Два съезда......................................................399
Судьбы русского консерватизма...................................402
Думские идеологи................................................405
Кадетская критика речи председателя Совета Министров............407
«Присяжные» священники и «присяжный» митрополит.................410
Как мы встретили свящ. Г. С. Петрова............................414
Претензия Г. Думы на социальные перевороты......................422
«Товарищ» о локаутах............................................425
Новые потуги кадетской партии...................................427
Историческое чувство и наша выборная система....................430
Немилость Св. Синода к мелкому кредиту..........................433
Об «источнике сил и идеализма» кадетов..........................435
В ожидании Собора Русской Церкви................................437
Завершившийся опыт..............................................440
К оздоровлению церковной школы..................................441
Воспитываются ли семинаристы?...................................445
В духовных семинариях...........................................448
Церковный Собор в Москве........................................450
Чрезвычайный Собор русской церкви и ее будущность...............453
Как разрешается недоумение......................................457
Люди «своего ума» на выборах....................................459
Перед избирательными урнами.....................................463
О чем говорят выборы............................................464
На выборах в Петербурге.........................................466
Частный и общий интерес в Г. Думе...............................468
Предупредительная роль третьей Думы.............................471
Среди «симптомов»...............................................473
Успокоение как система..........................................476
«Петрушка» в Думе...............................................478
Безгосударственная партия.......................................480
Возмутительное дело.............................................481
День Рождества Христова.........................................486
Комментарии.....................................................488
Указатель имен..................................................512
Василий
Васильевич
Розанов
Собрание сочинений
Русская государственность
и общество. Статьи 1906—1907 гг.
Заведующий редакцией
Л/. Л/. Беляев
Ведущий редактор
П. П. Апрышко
Редакторы
Т В. Исакова и Ж. П. Крючкова
Художественный редактор
О. Н. Зайцева
Технический редактор
А. Ю. Ефимова
Корректор
Е. Н. Горбунова
ЛР№ 010273 от 10.12.97.
Сдано в набор 09.09.02.
Подписано в печать 24.12.02.
Формат 60x84’/i6.
Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 30,69. Уч.-изд. л. 37,5.
Тираж 3000 экз. Заказ № 534.
Электронный оригинал-макет
подготовлен в издательстве.
Издательство «Республика»
Министерства Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
ГП издательство «Республика».
Миусская пл., 7,
Москва. А-47, ГСП-3 125993.
Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий».
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕСПУБЛИКА»
Выпускает
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В. В. РОЗАНОВА
В 1994—2003 гг.
вышли следующие тома:
Т. 1 — Среди художников
Т. 2 — Мимолетное
Т. 3 — В темных религиозных лучах
Т. 4 — О писательстве и писателях
Т. 5 — Около церковных стен
Т. 6 — В мире неясного и нерешенного
Т. 7 — Легенда о Великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского
Т. 8 — Когда начальство ушло...
Т. 9 — Сахарна
Т. 10 — Во дворе язычников
Т. 11— Последние листья
Т. 12 —Апокалипсис нашего времени
Т. 13 — Литературные изгнанники.
Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев
Т. 14 — Возрождающийся Египет
Т. 15 — Русская государственность и общество
Подготовлен к выпуску
следующий том:
Т. 16 — Около народной души
L Uo-
В.В. Розанов